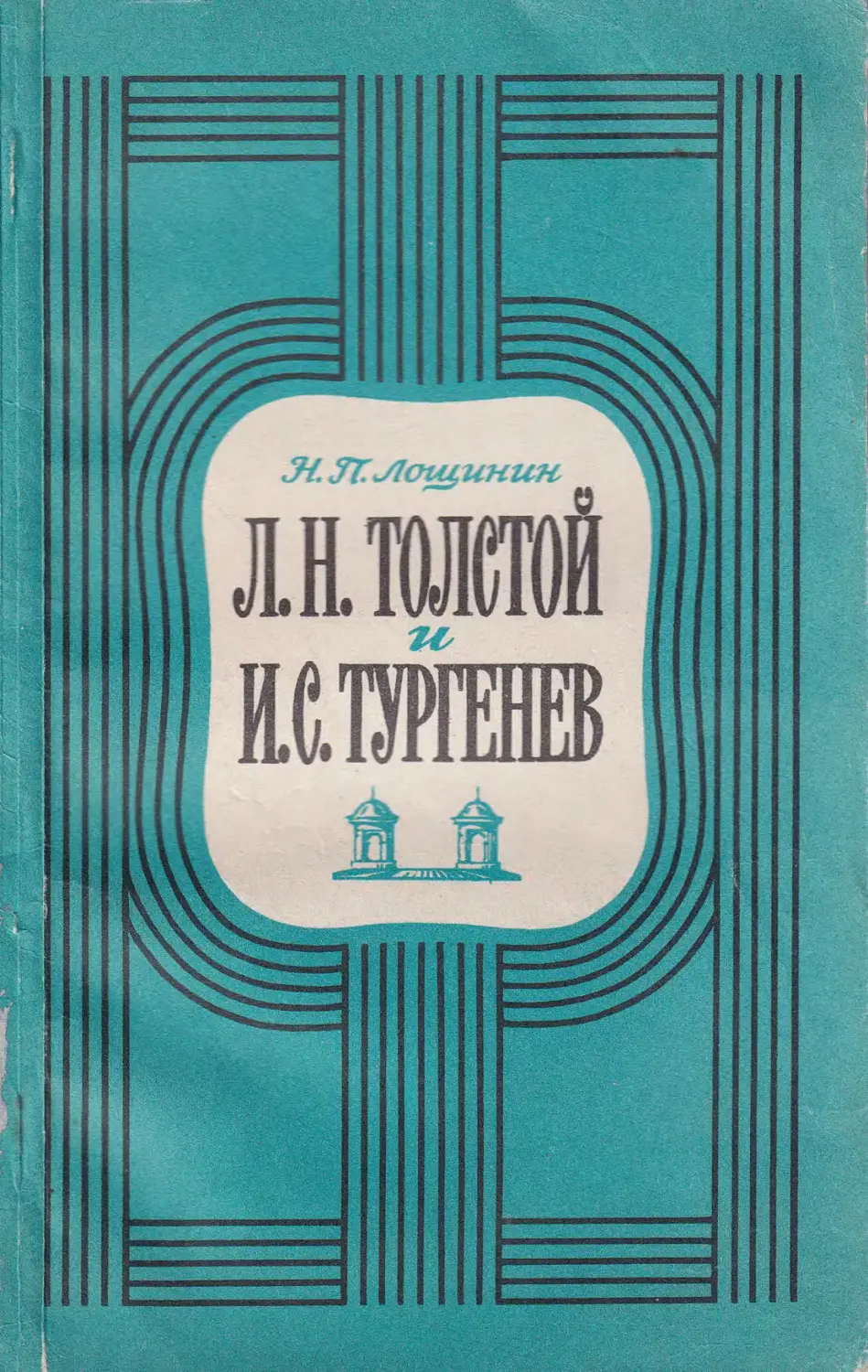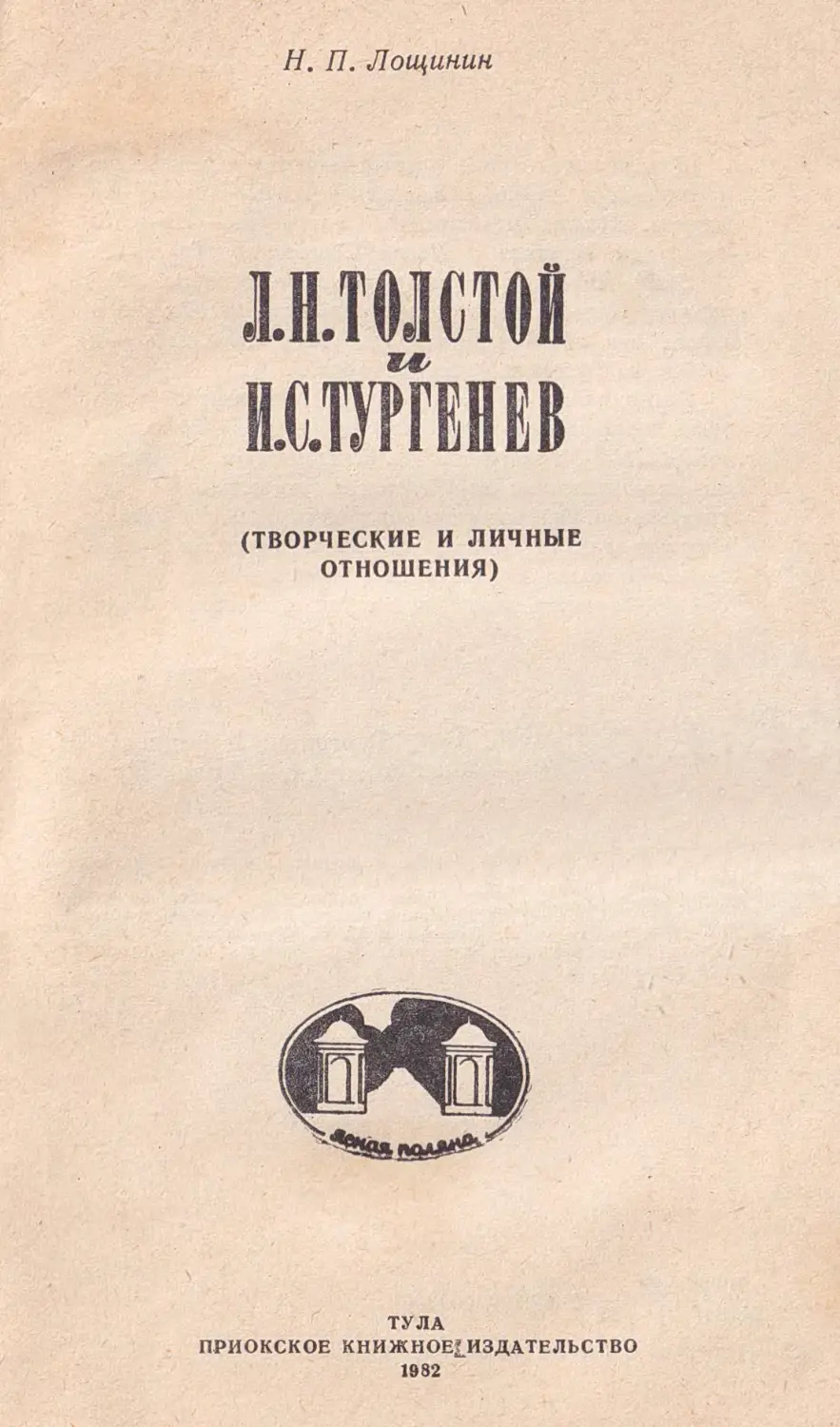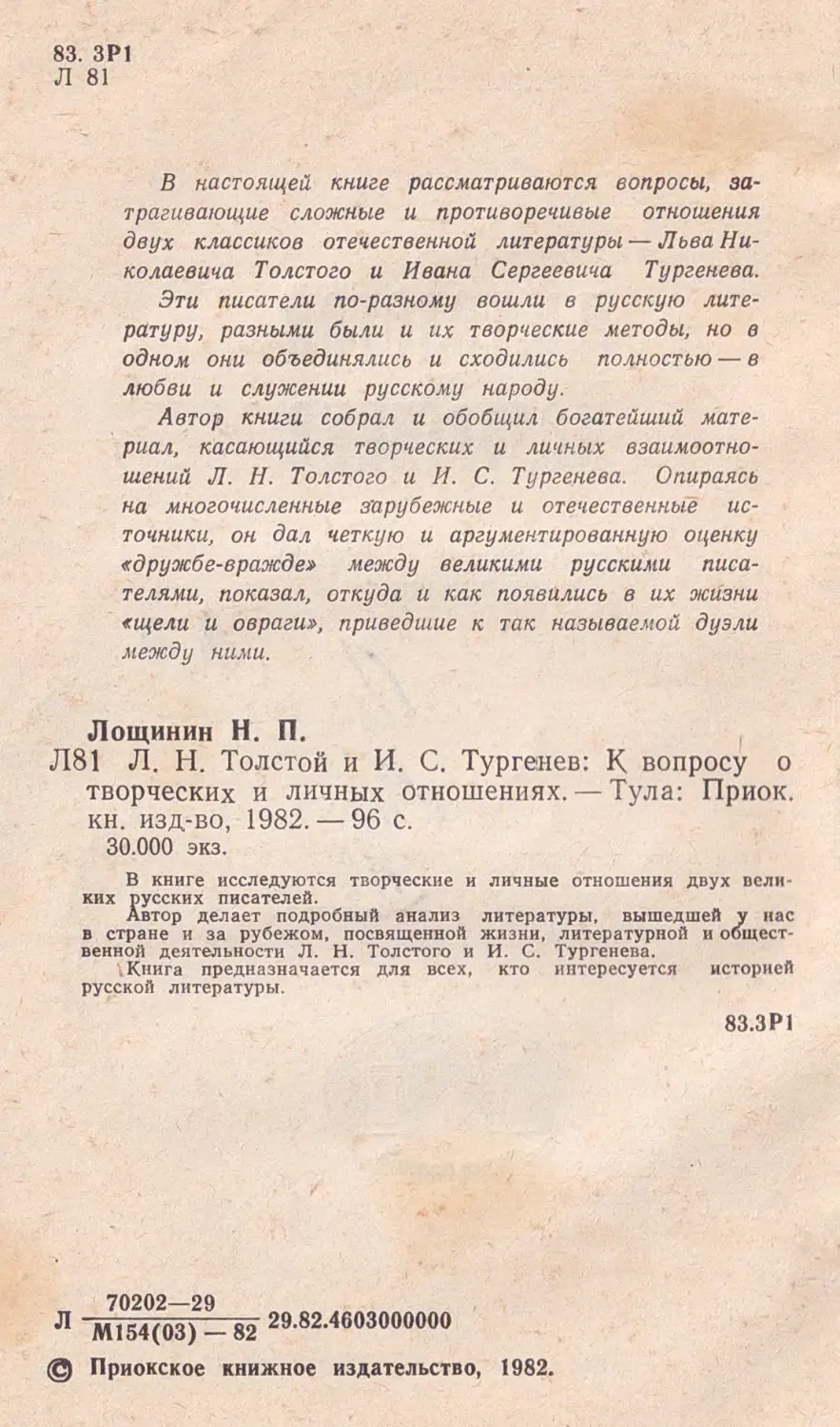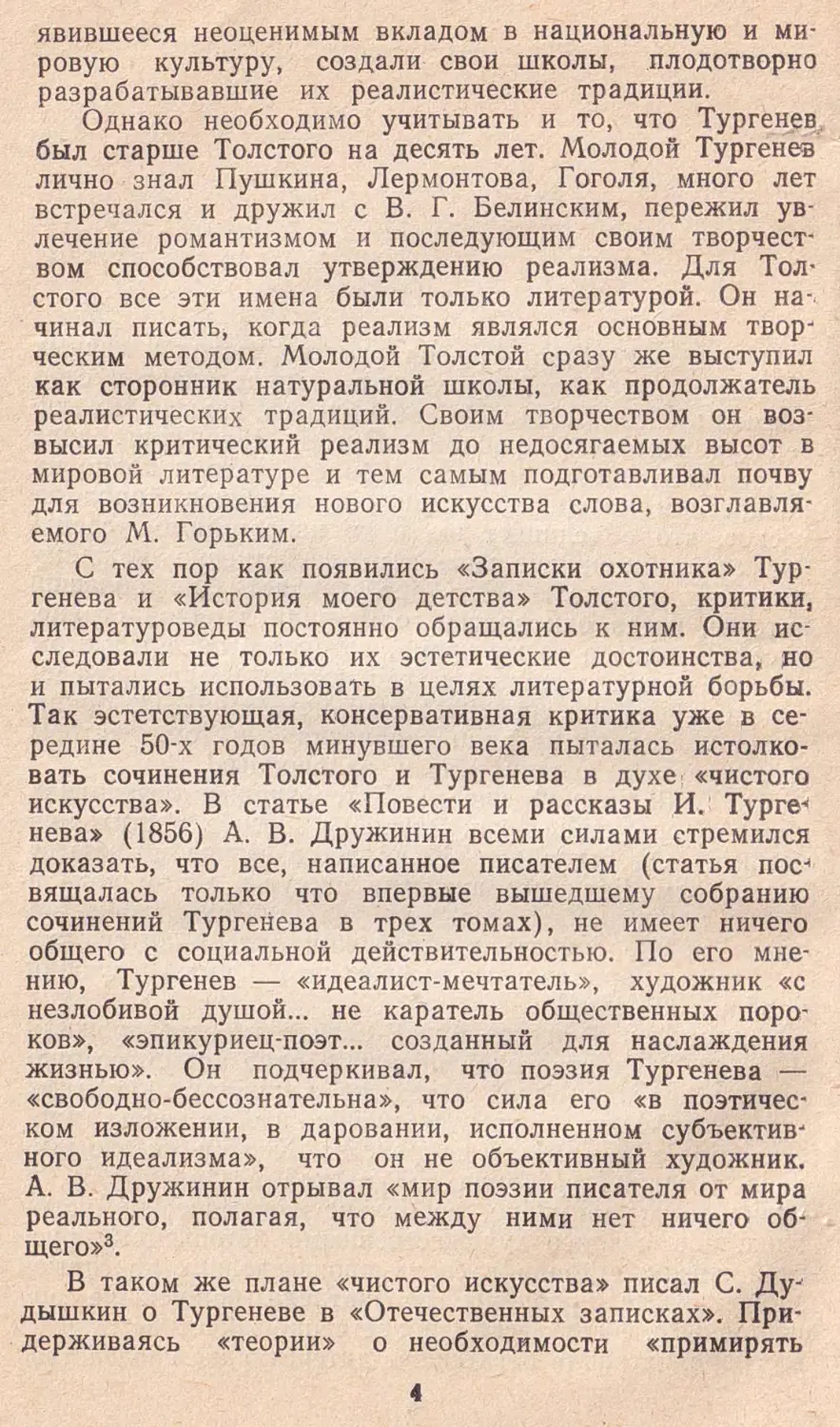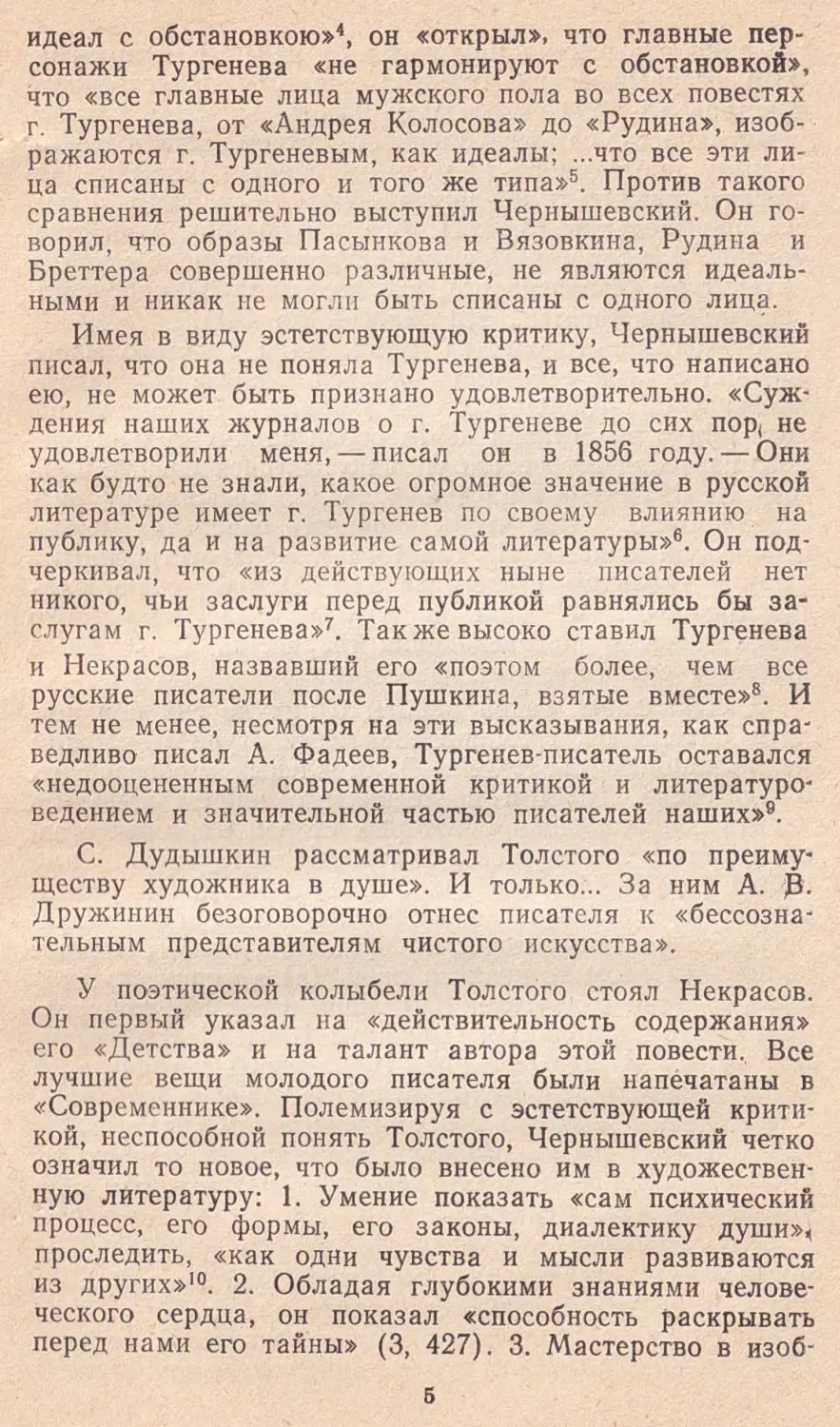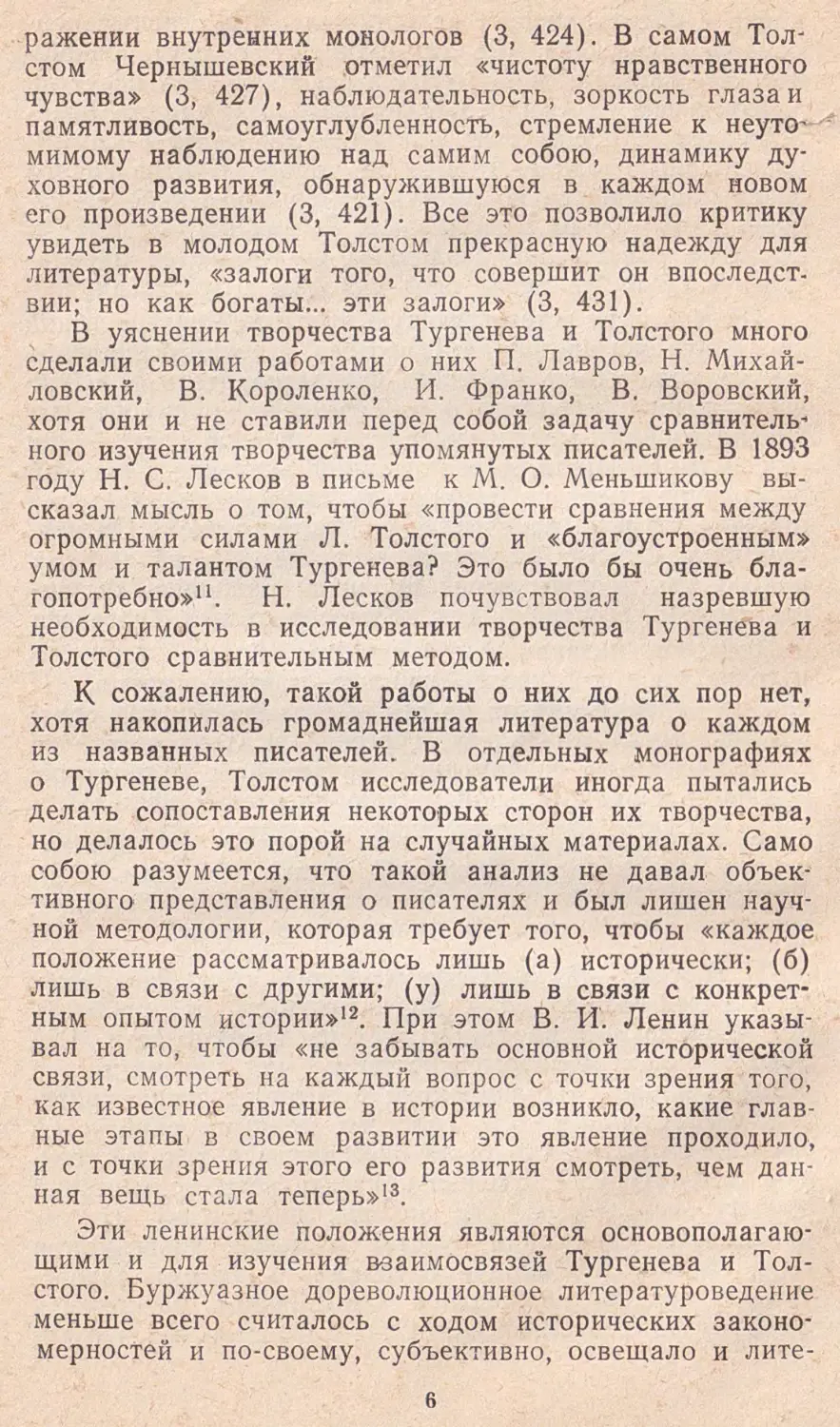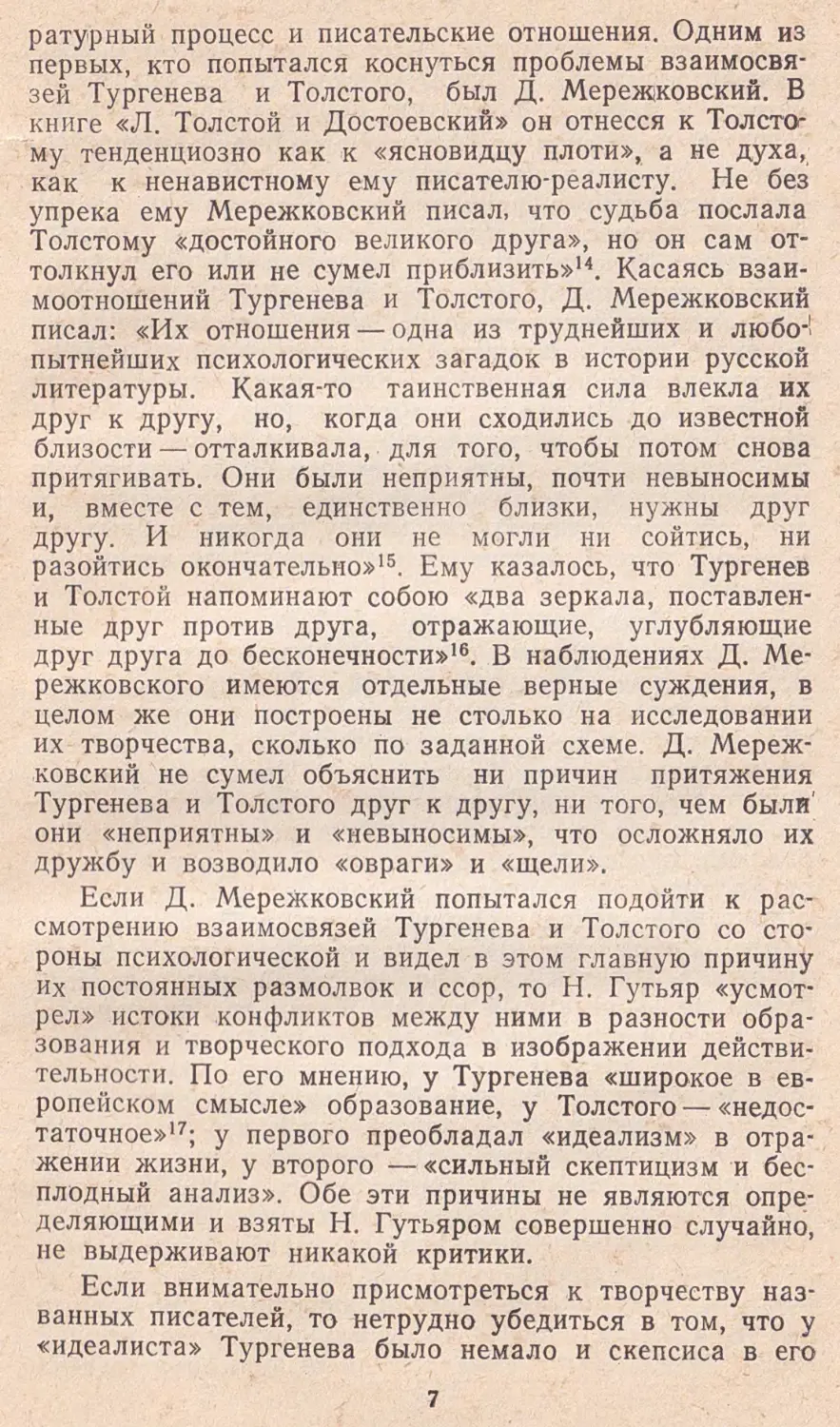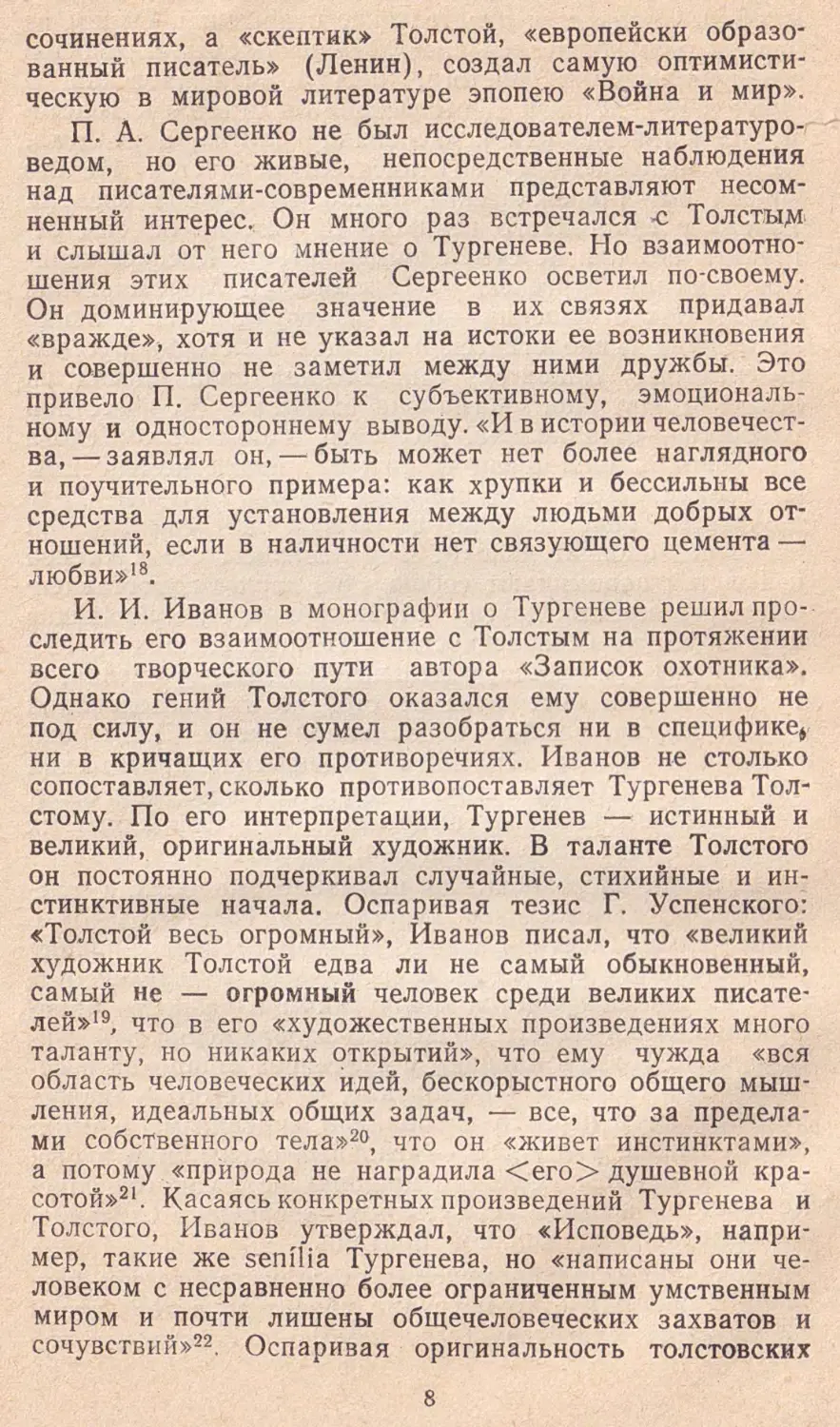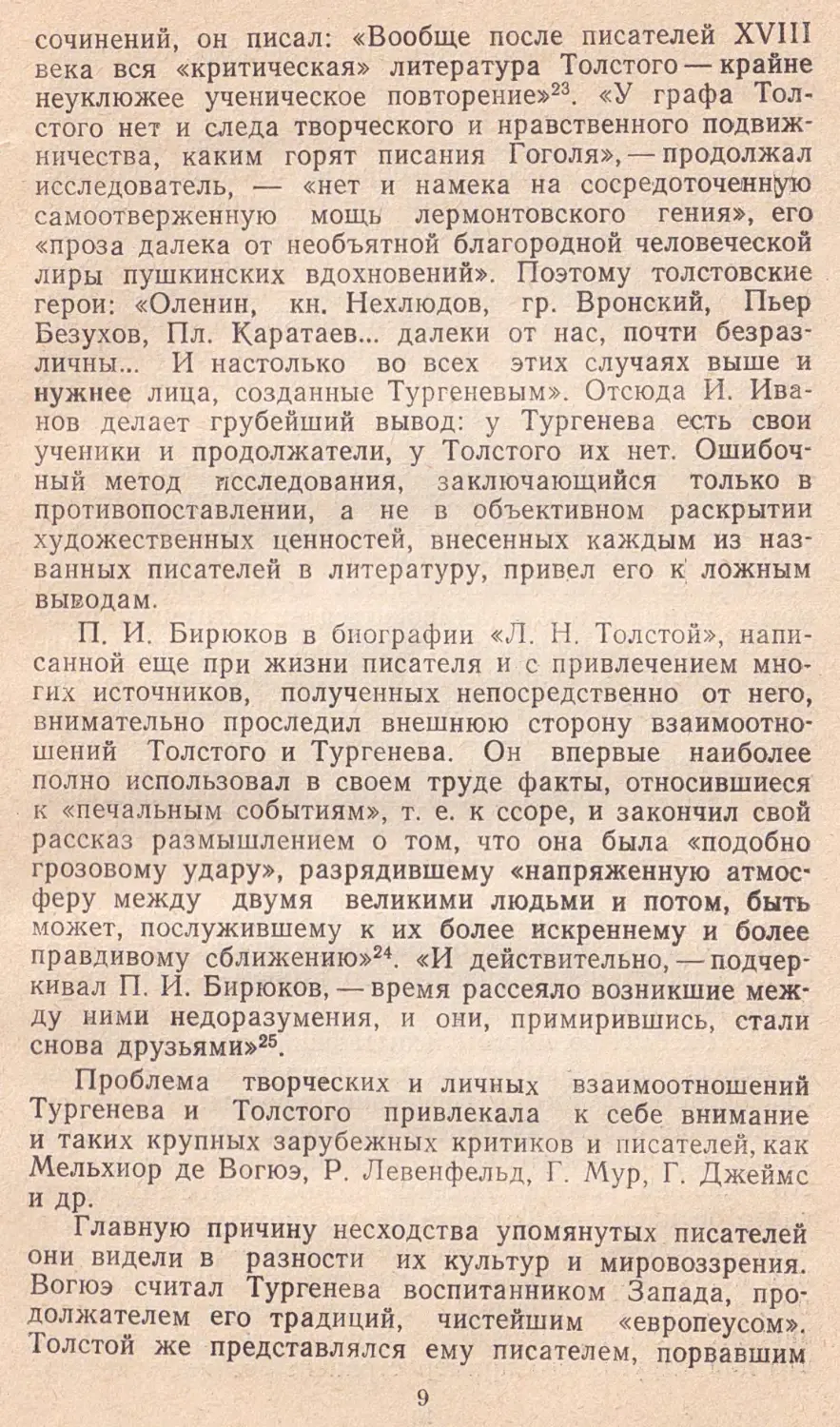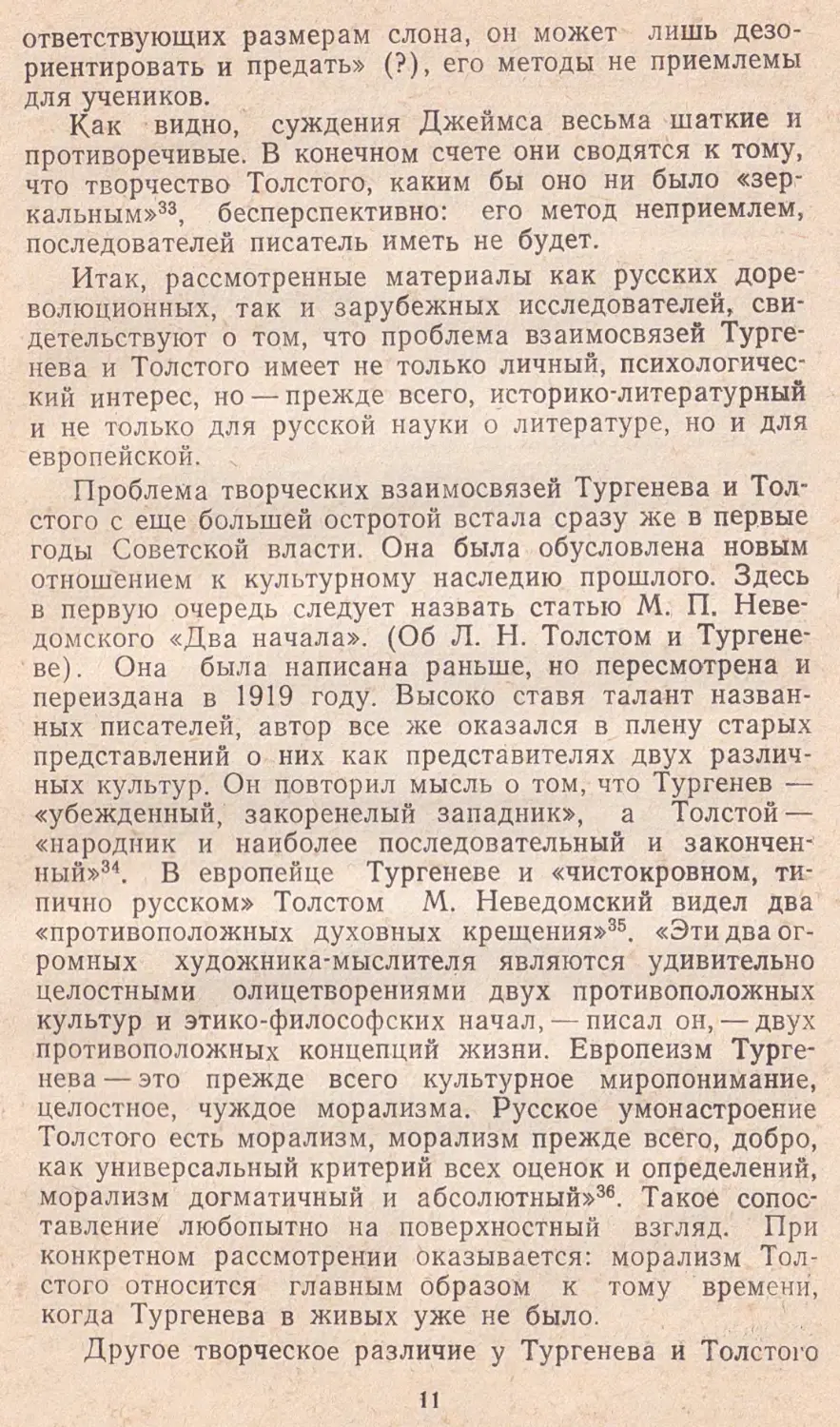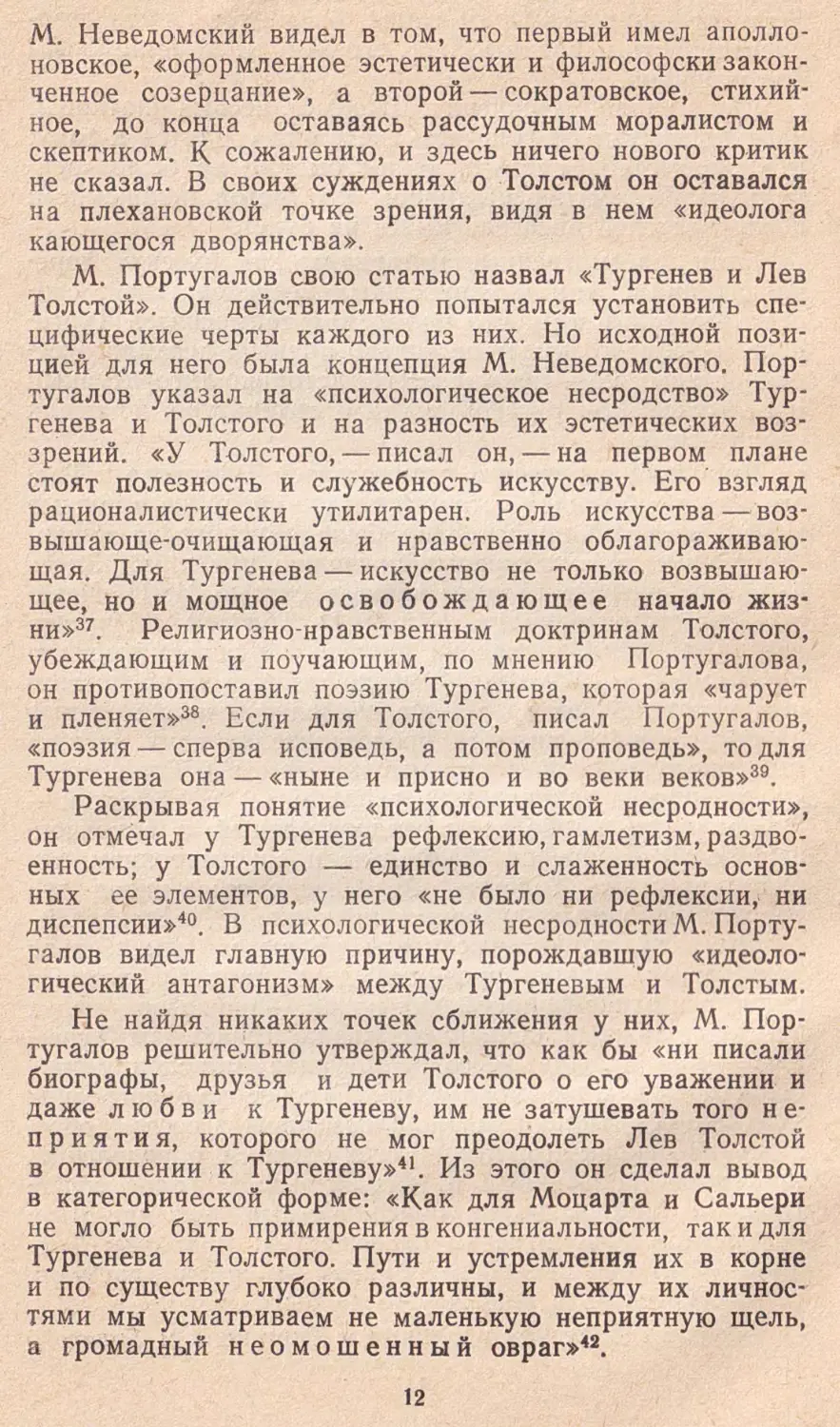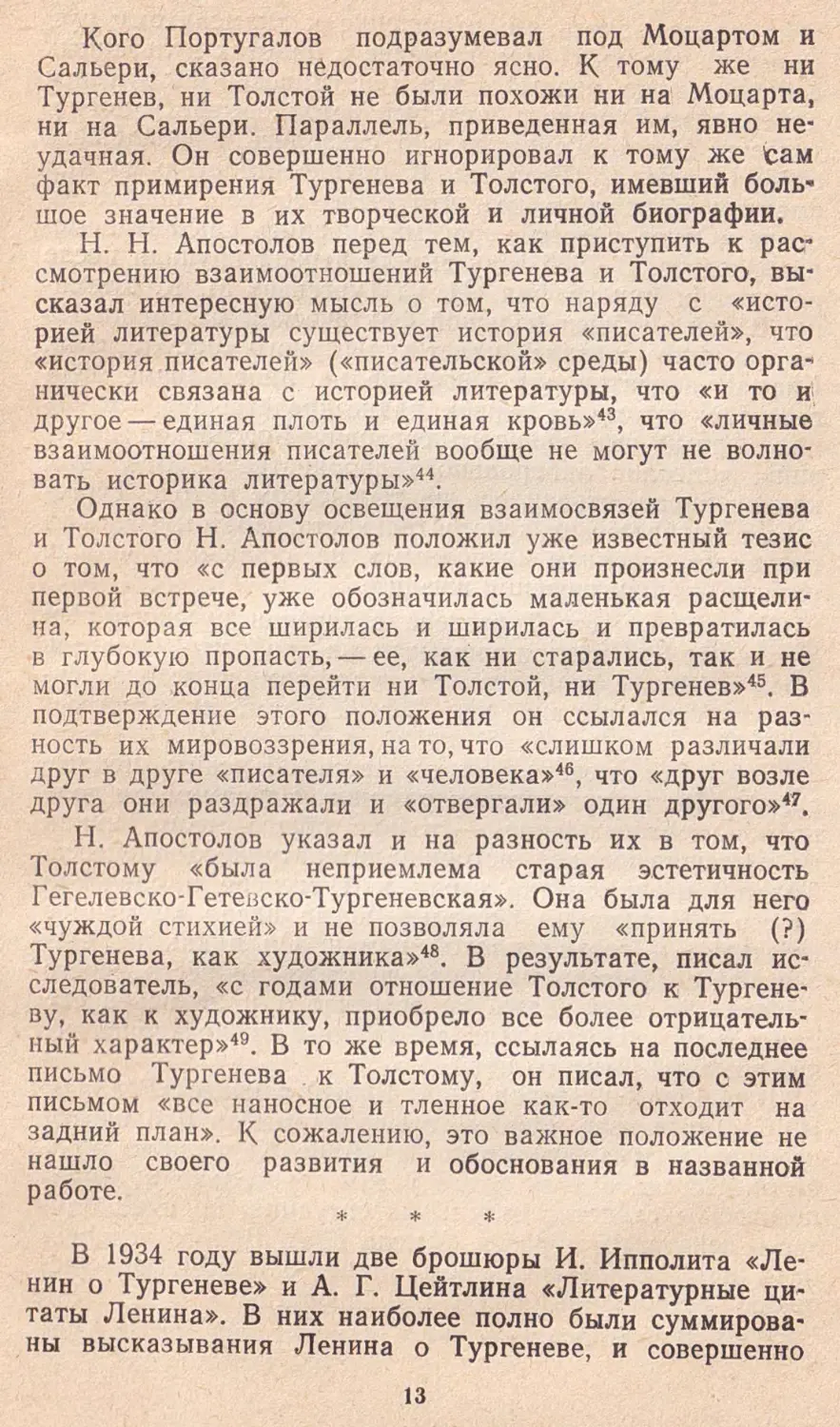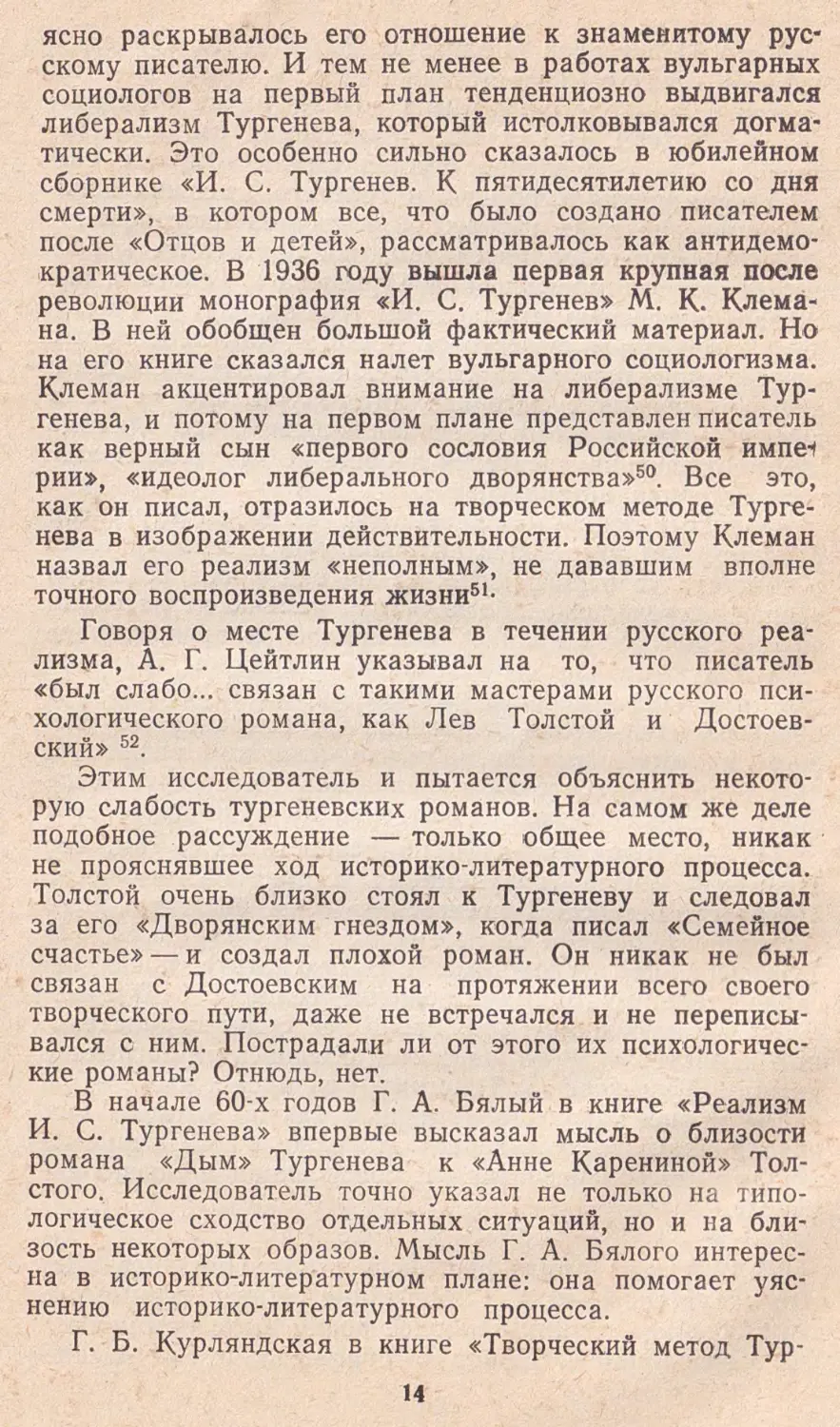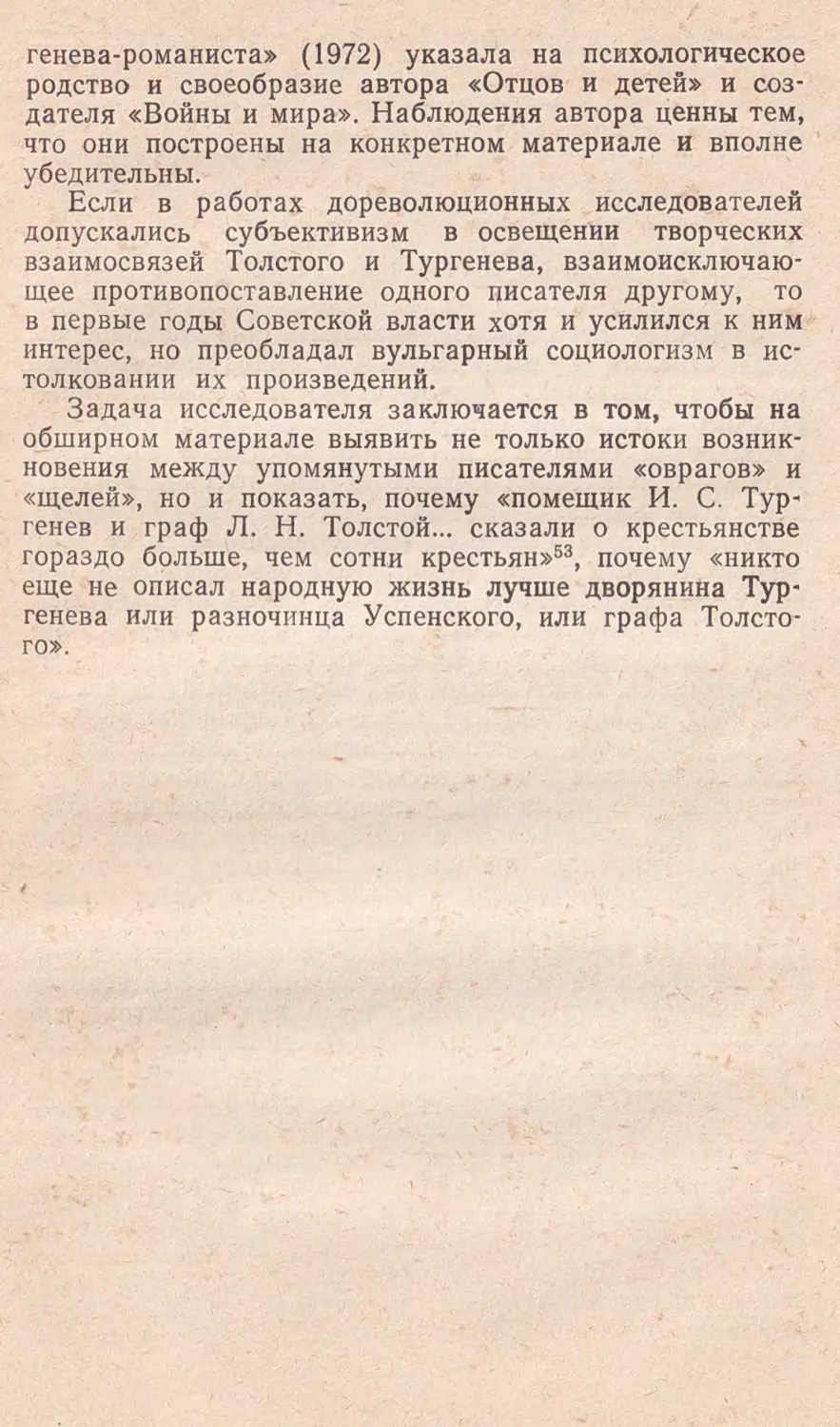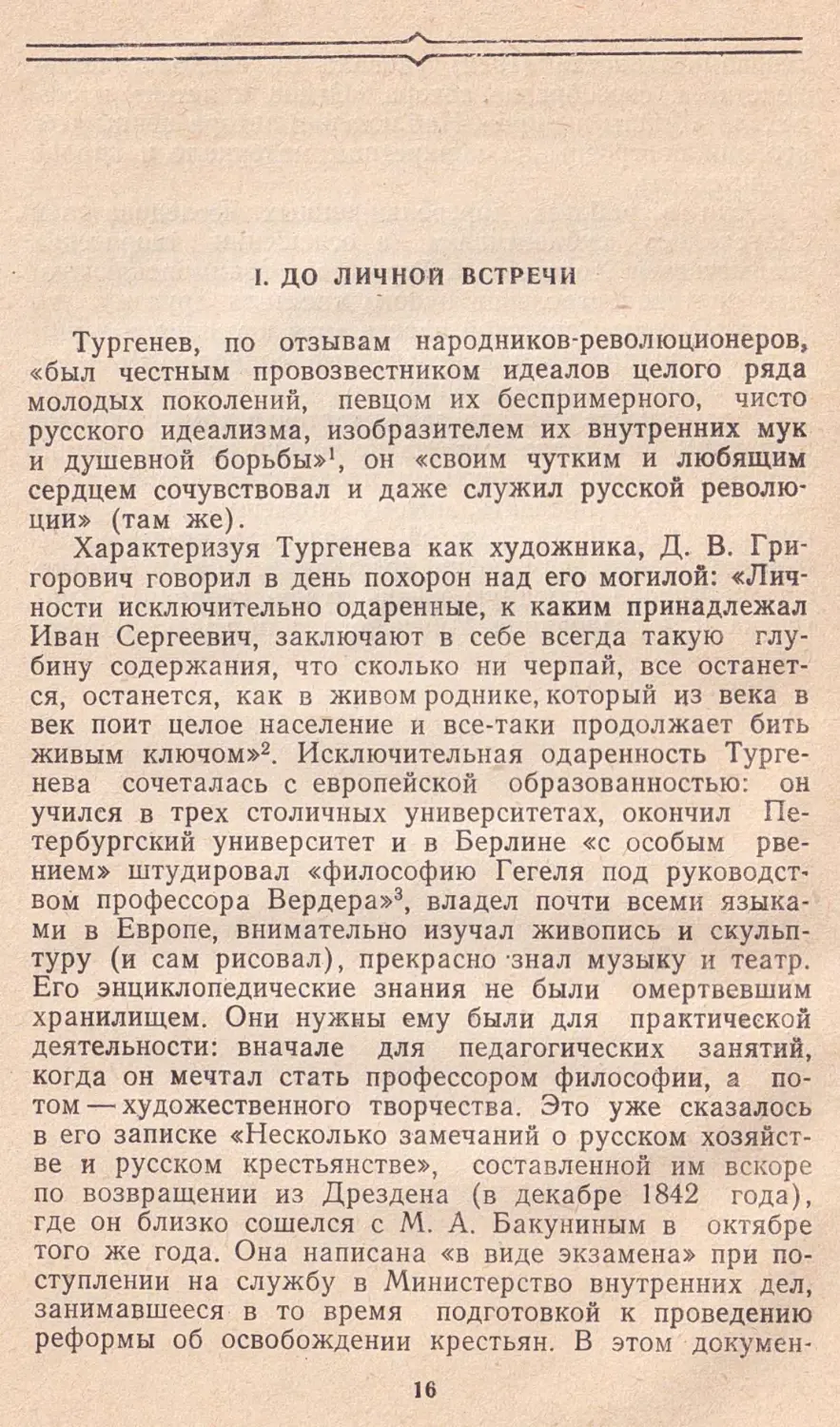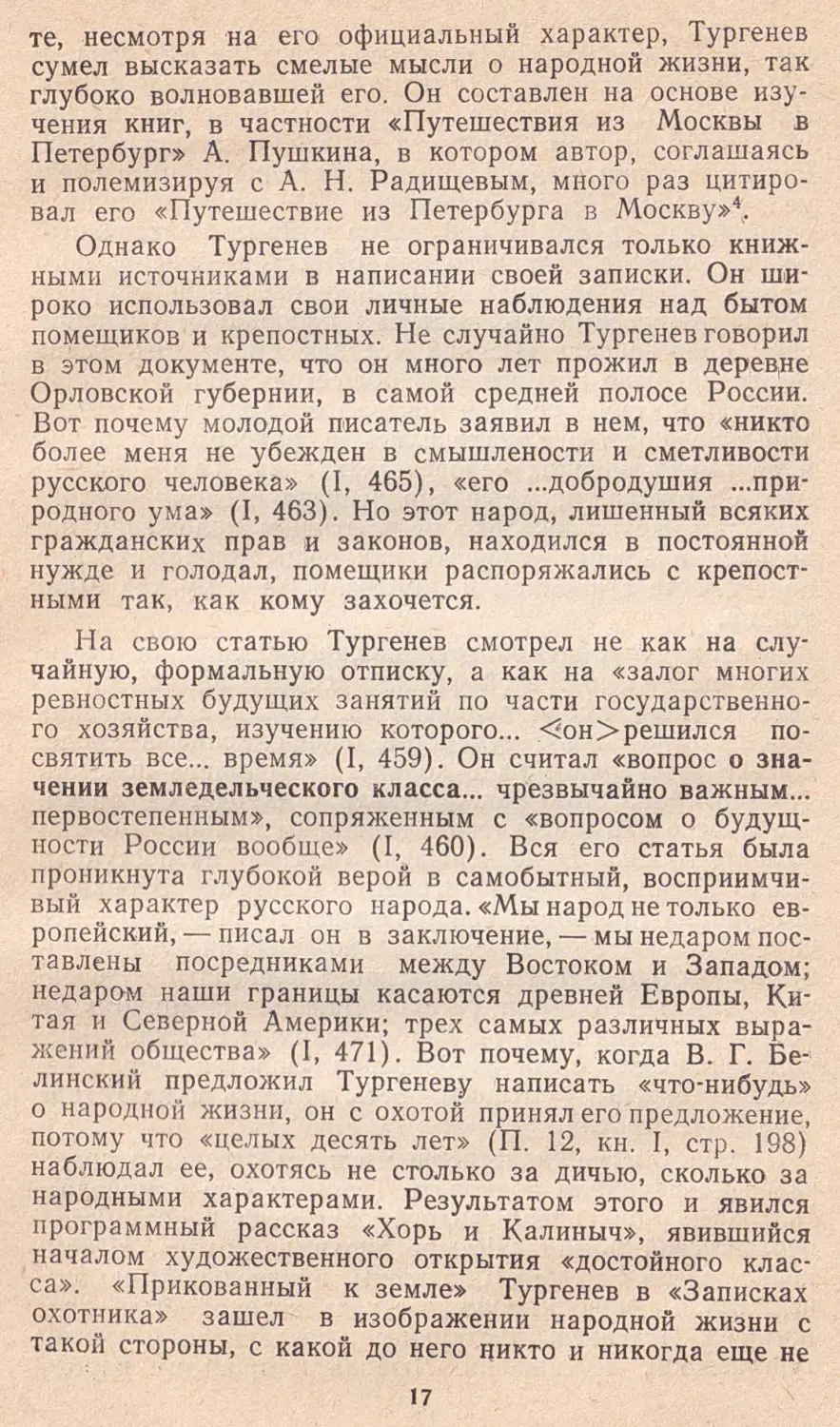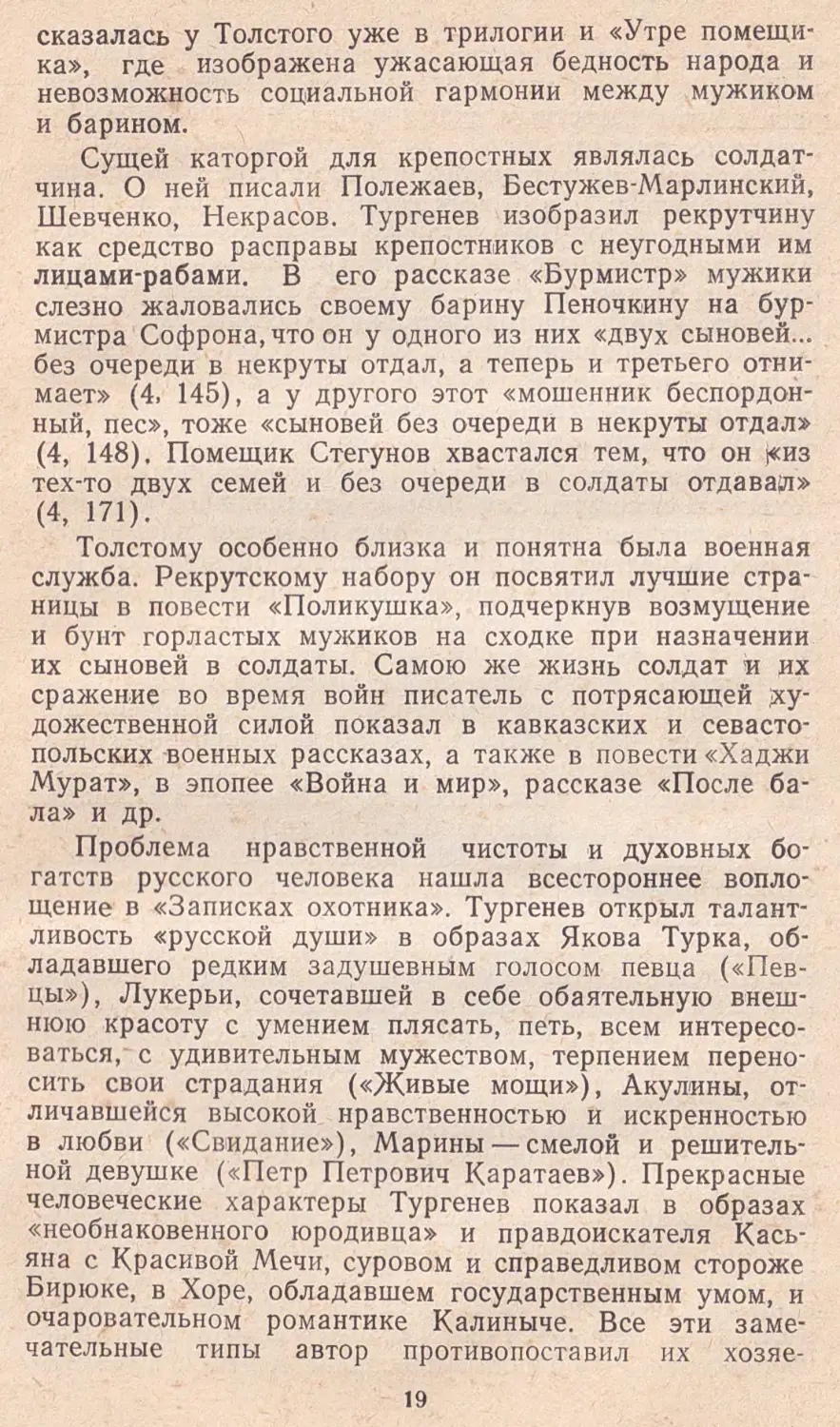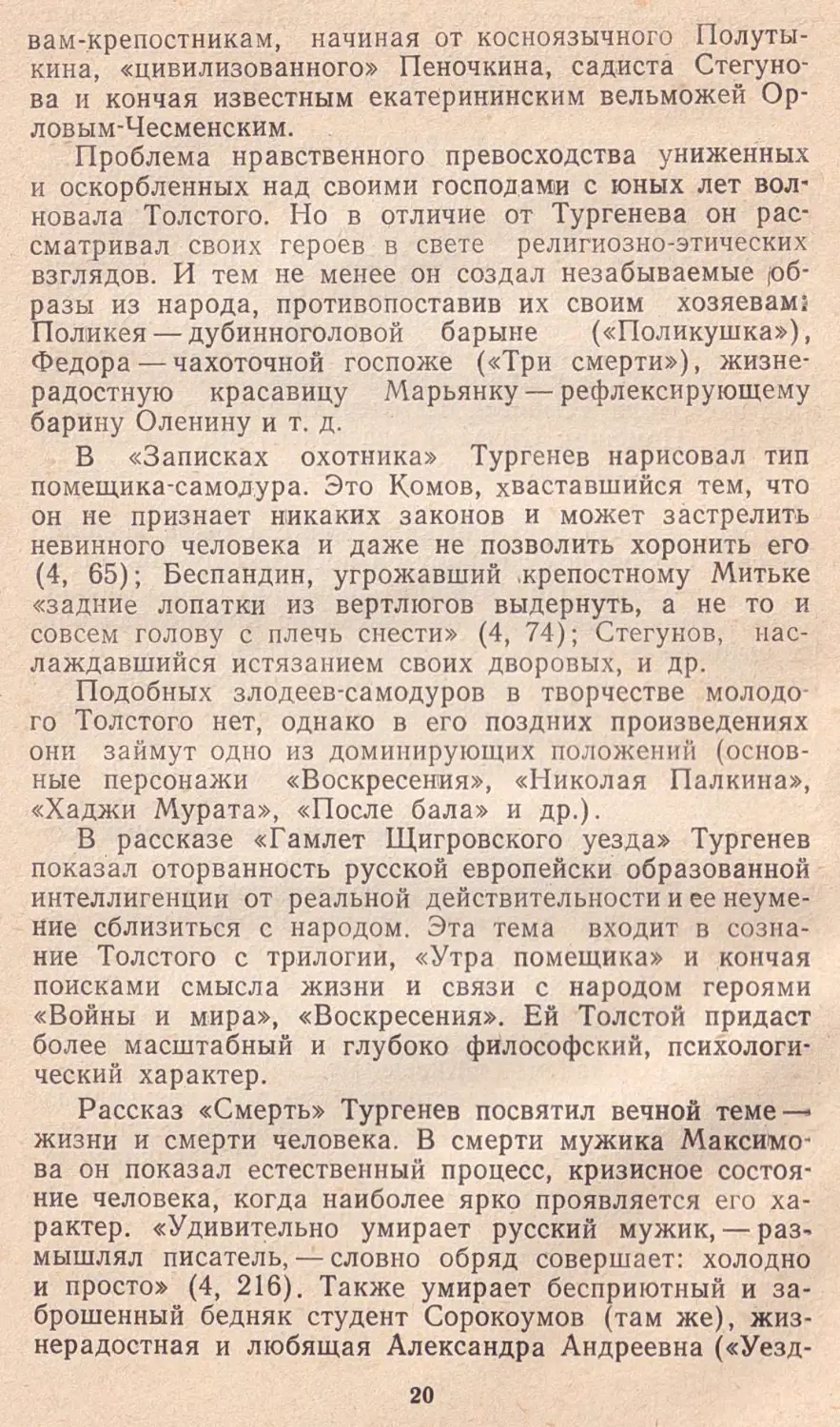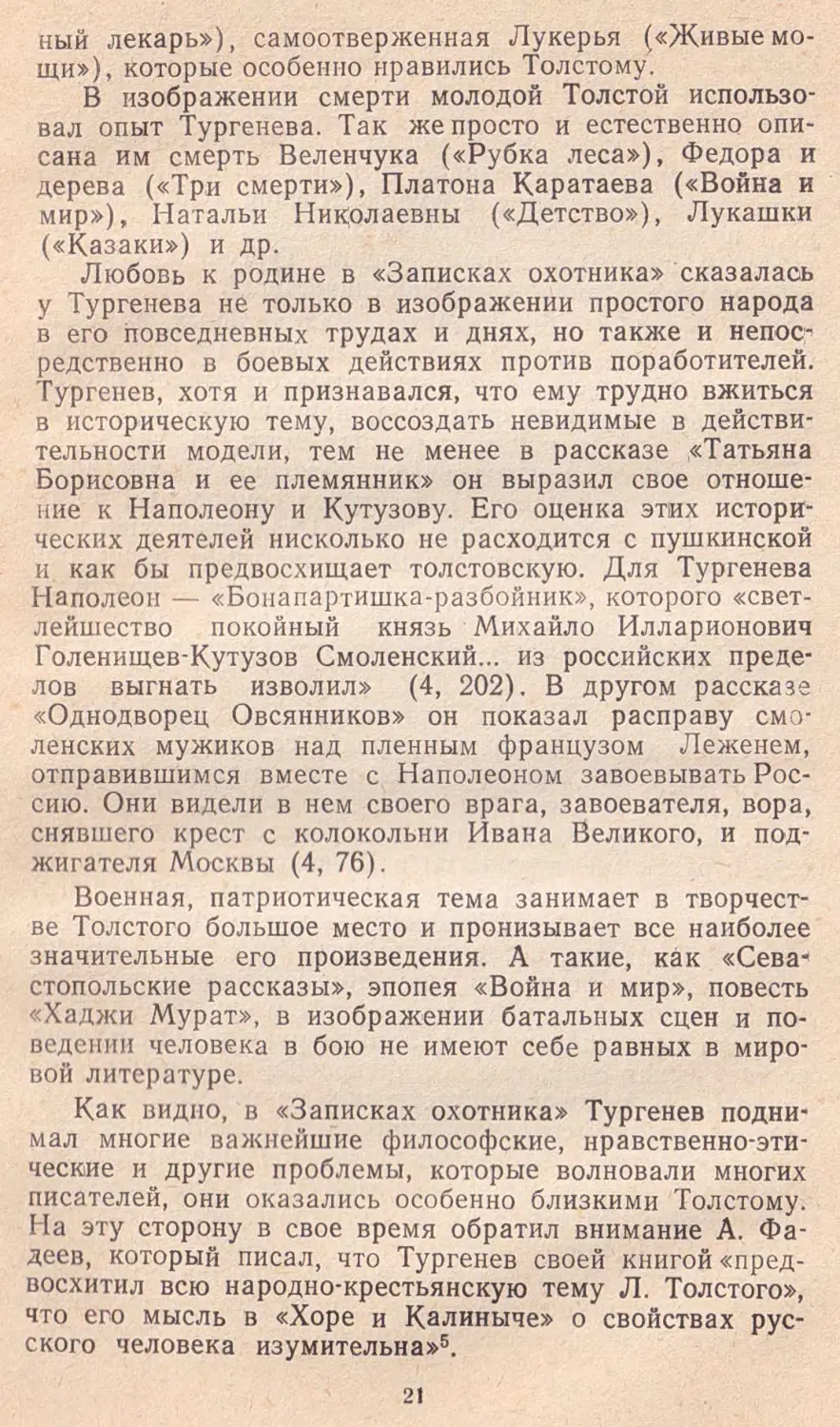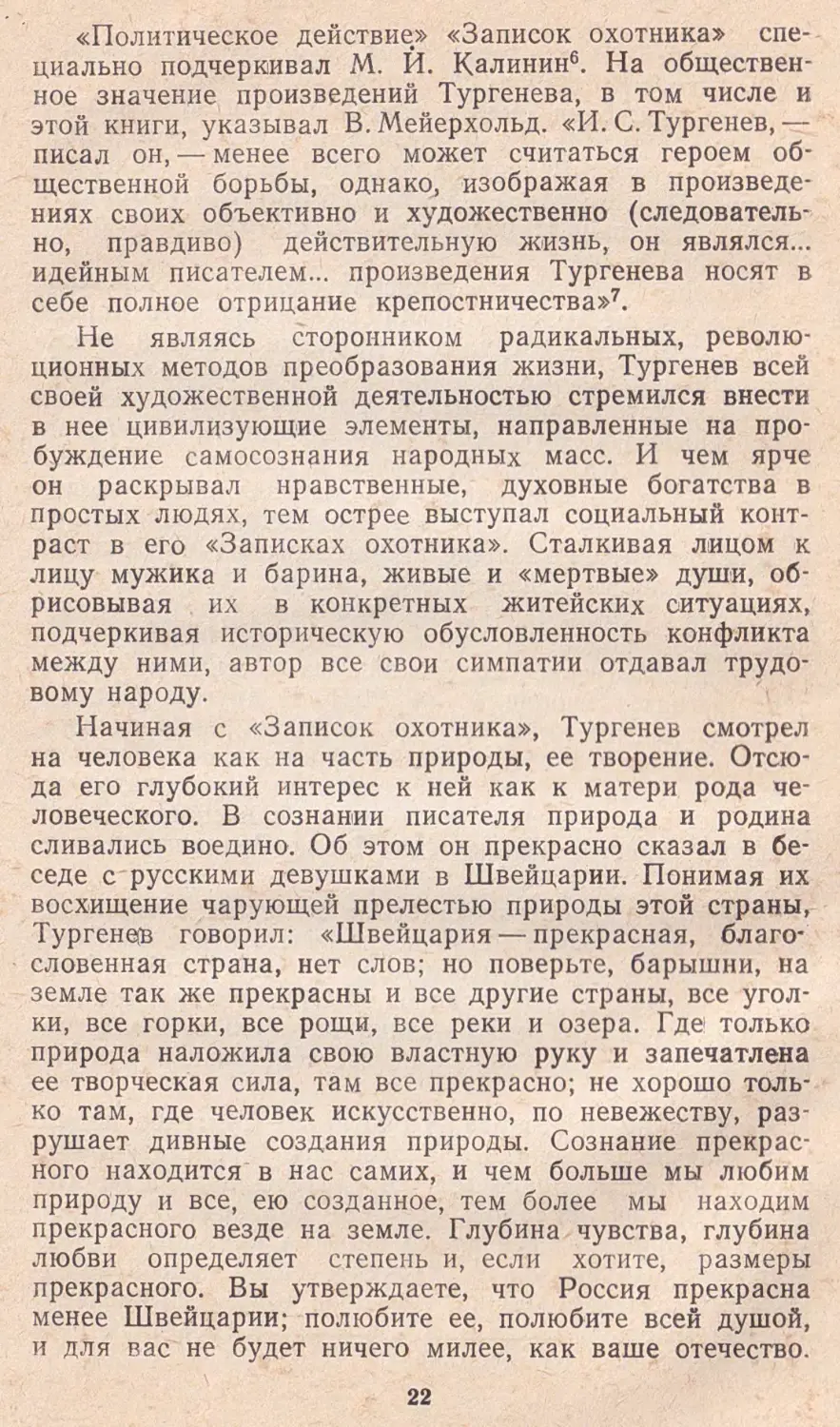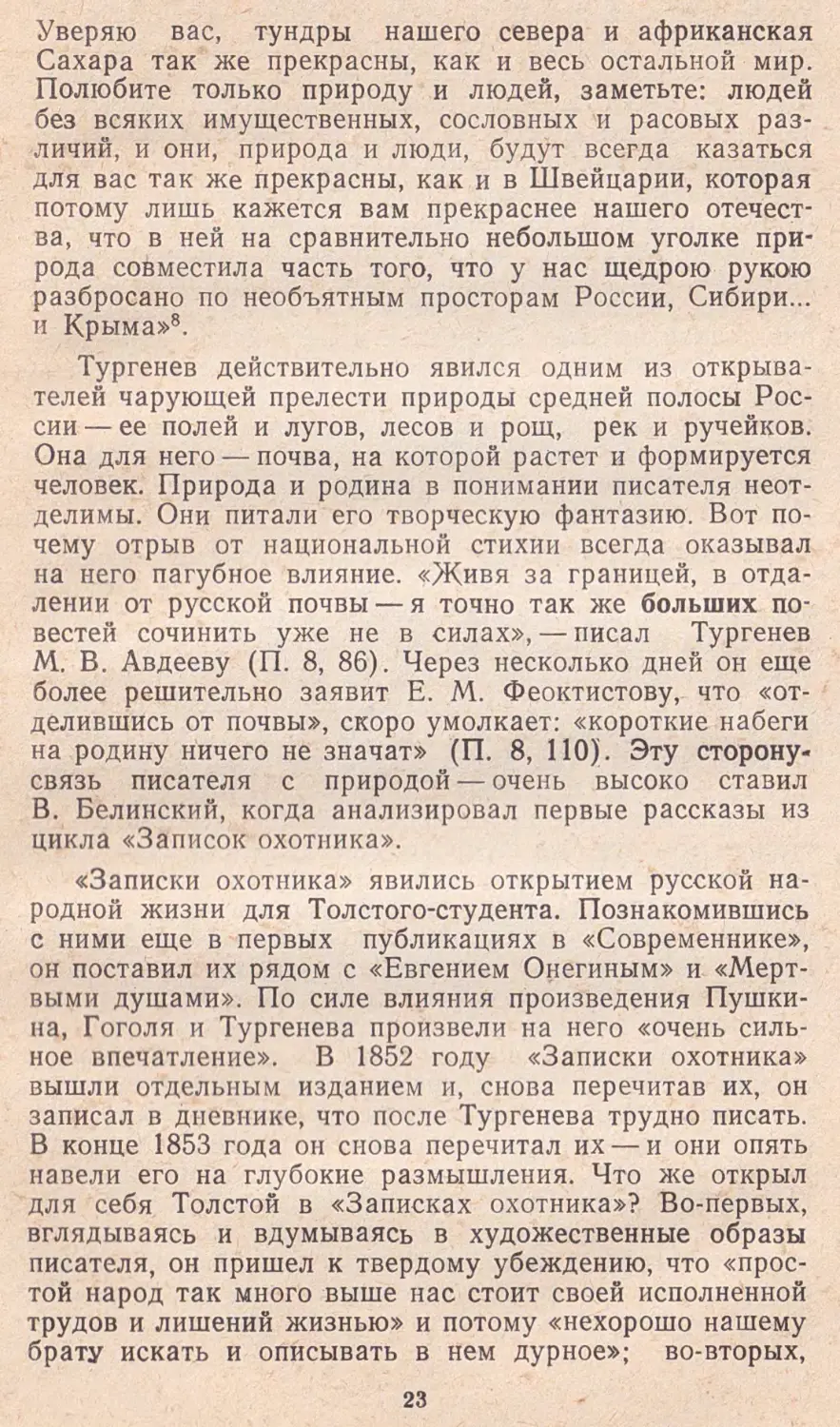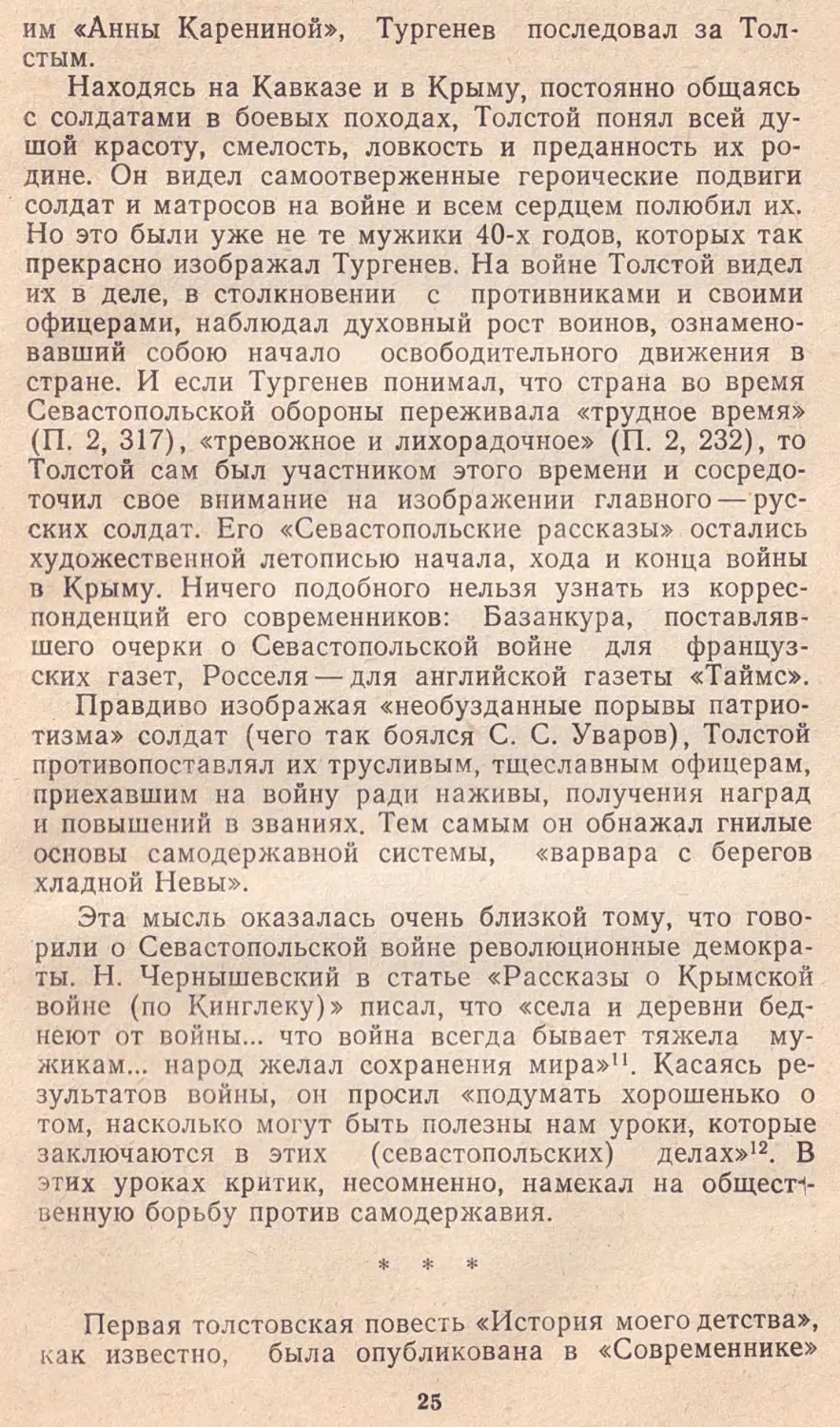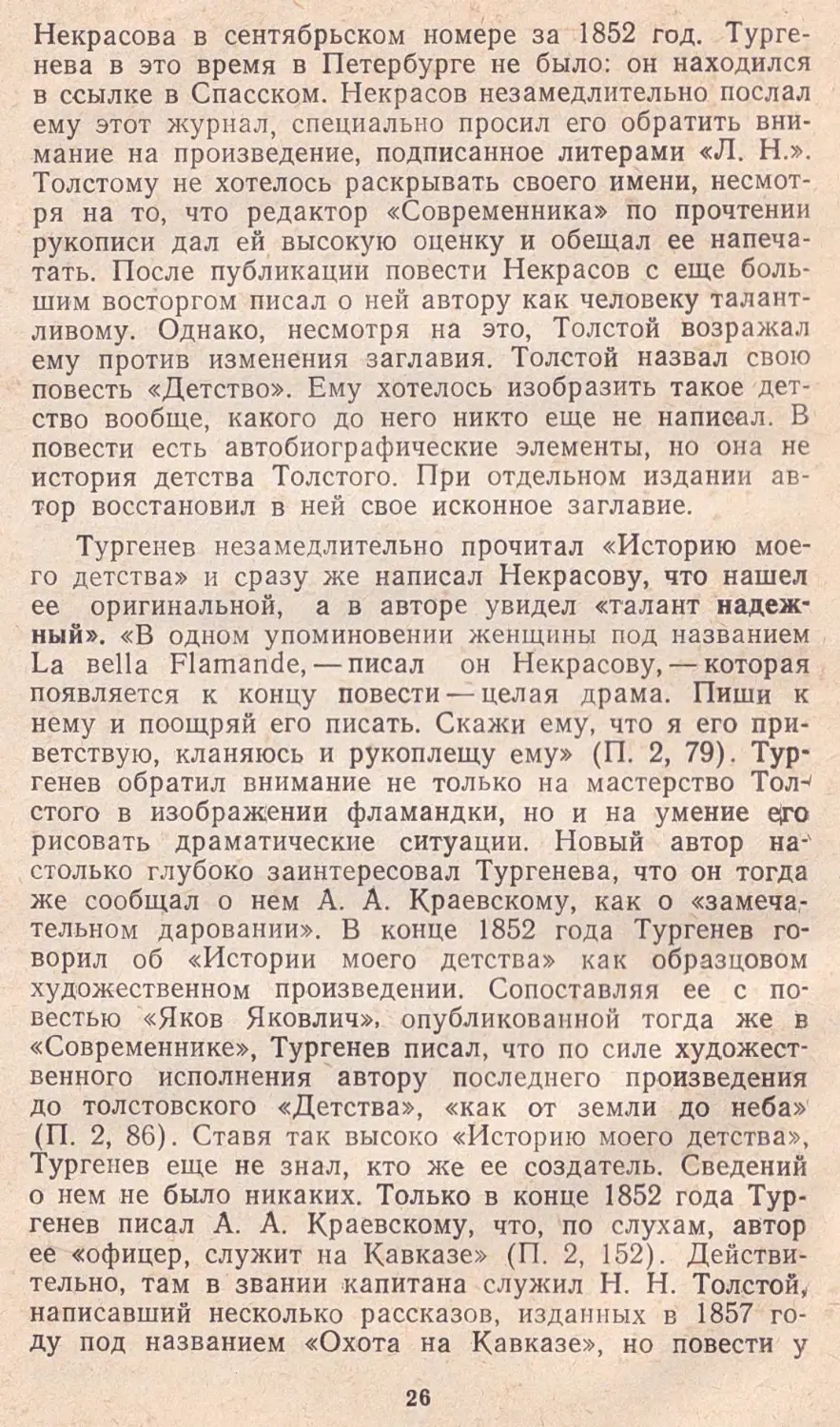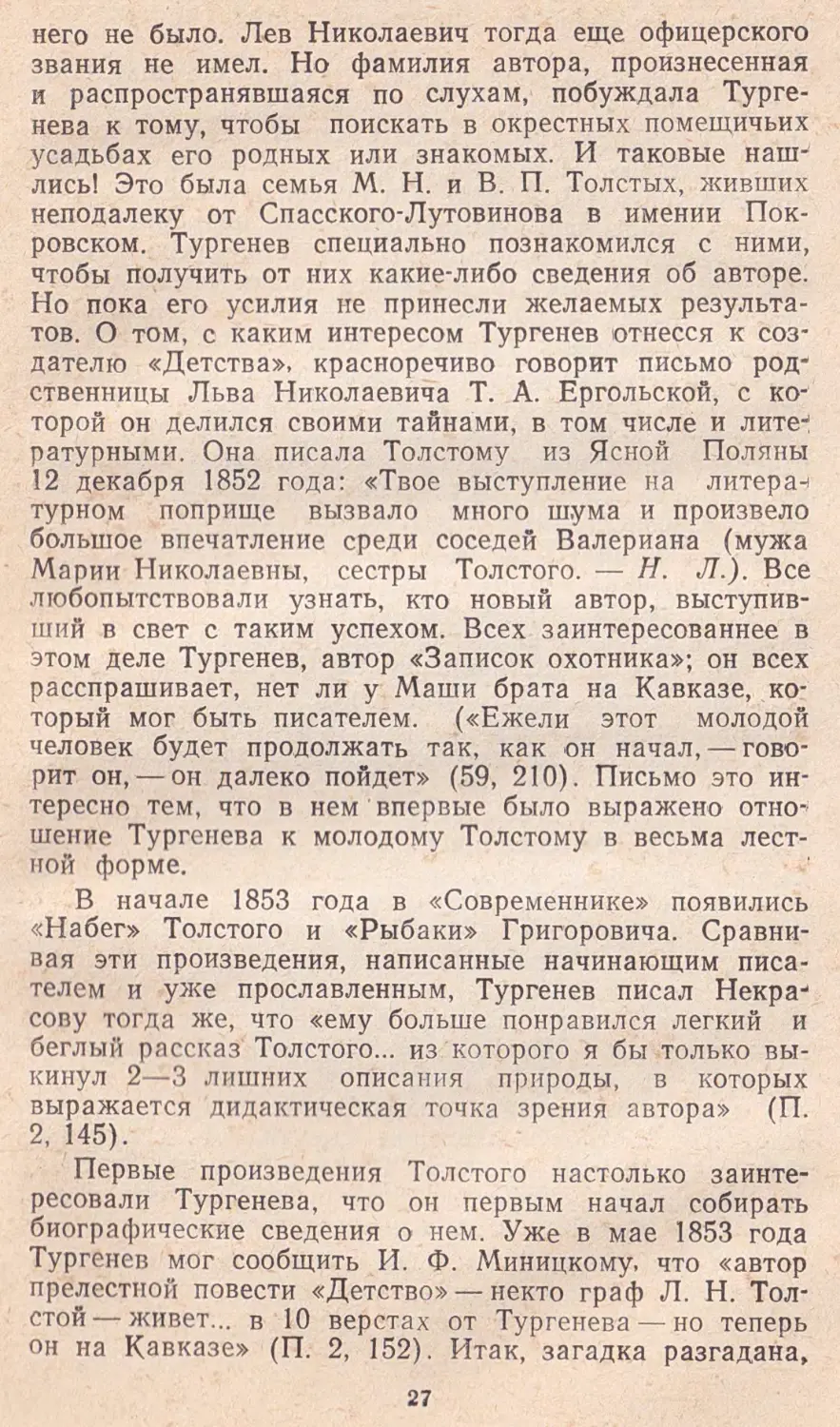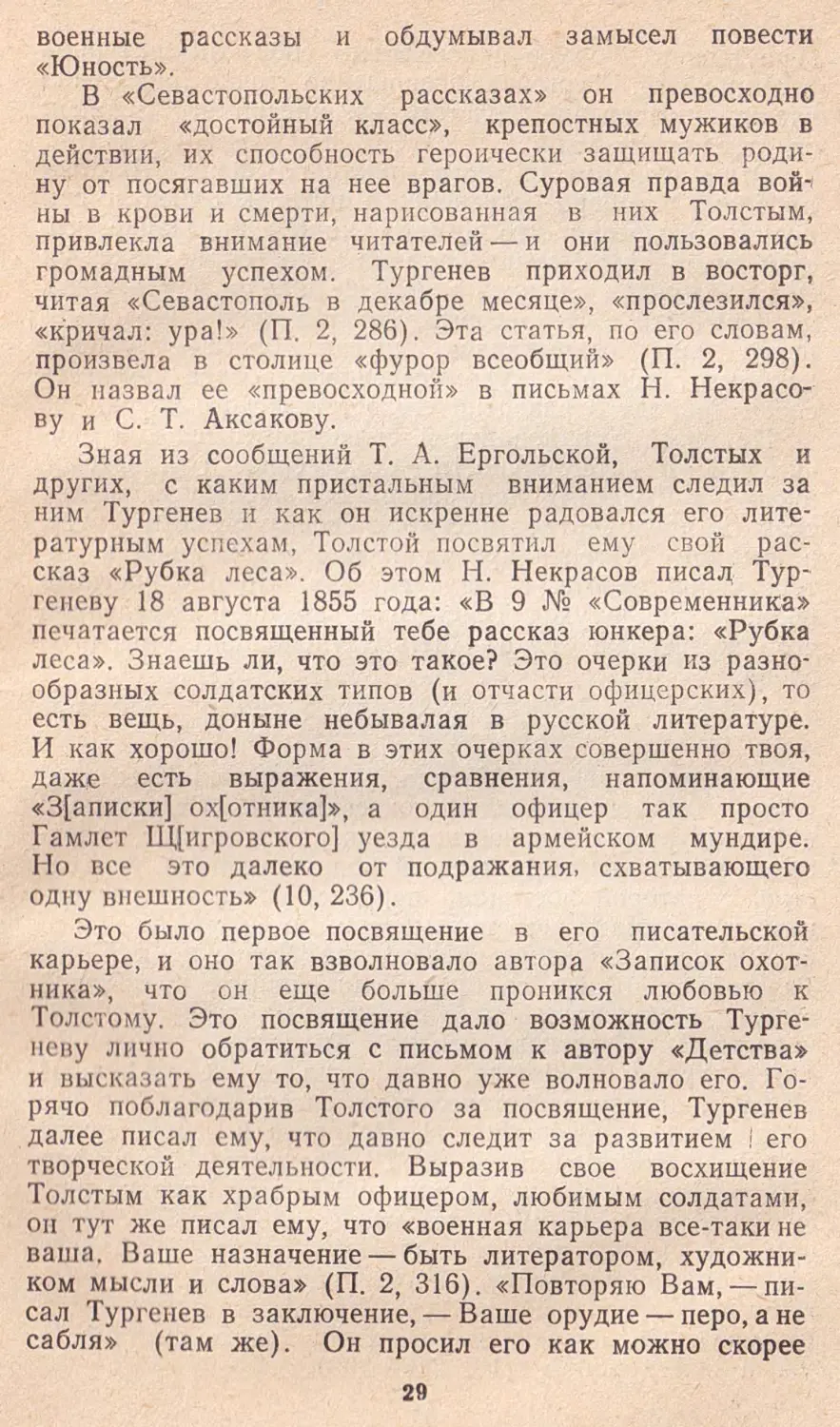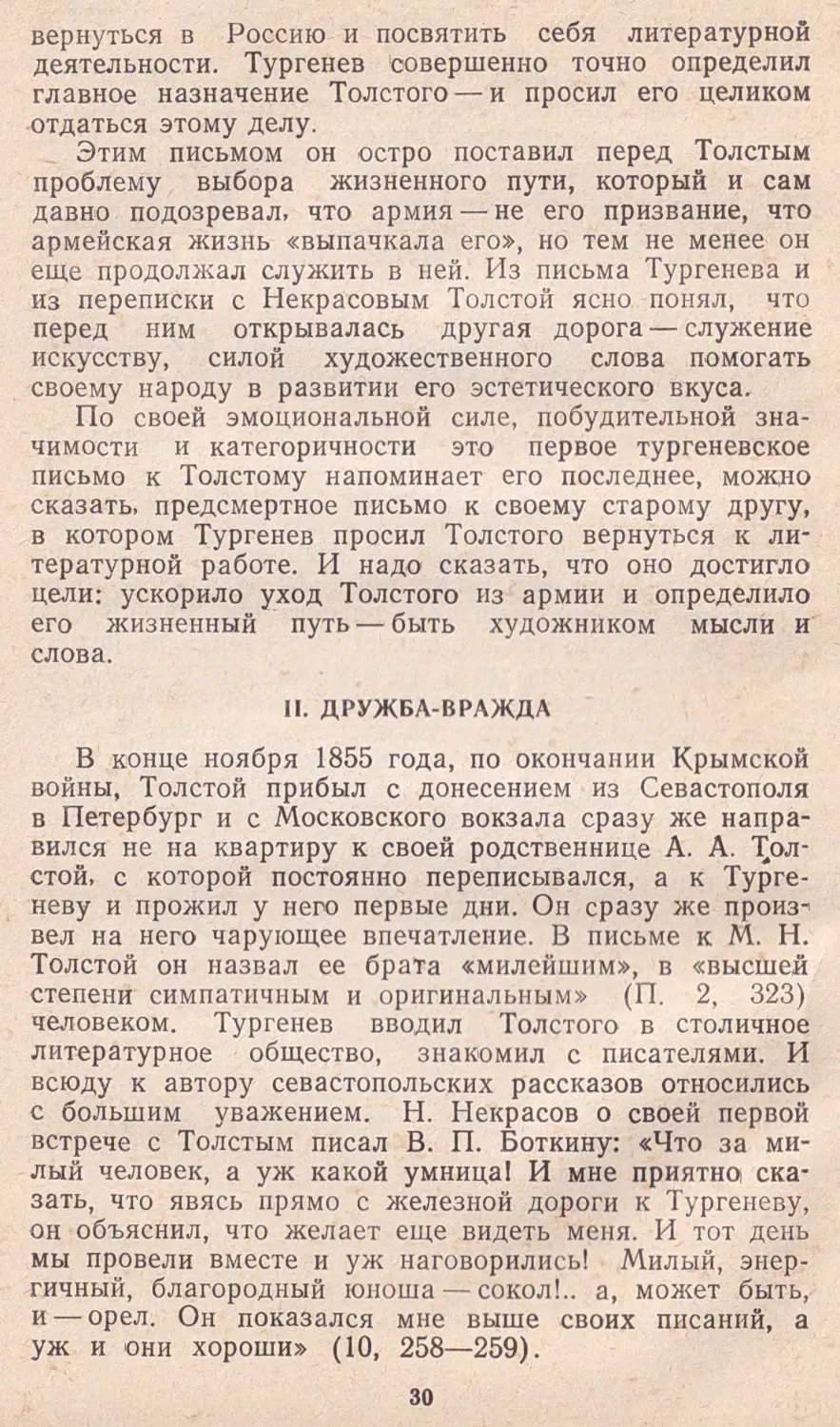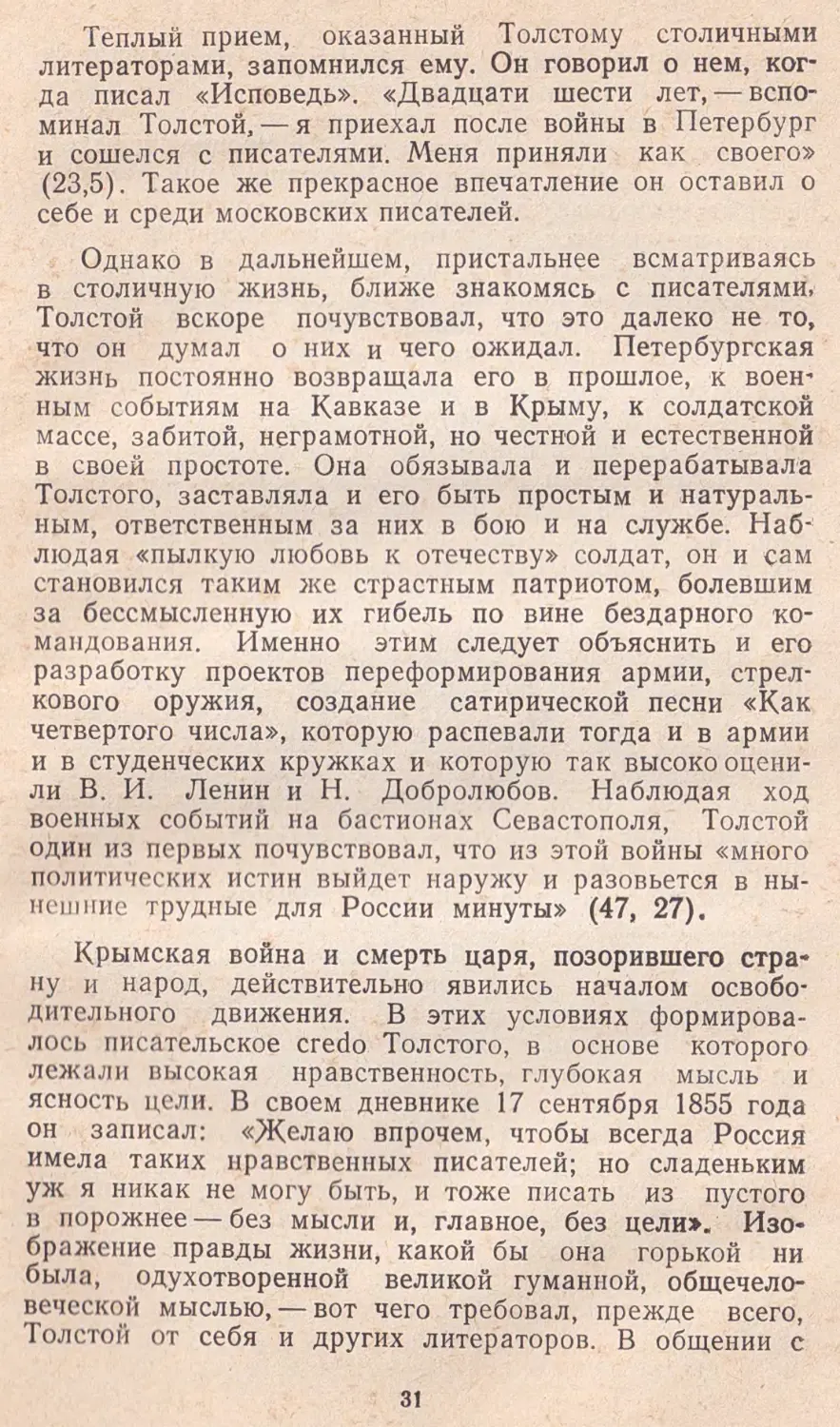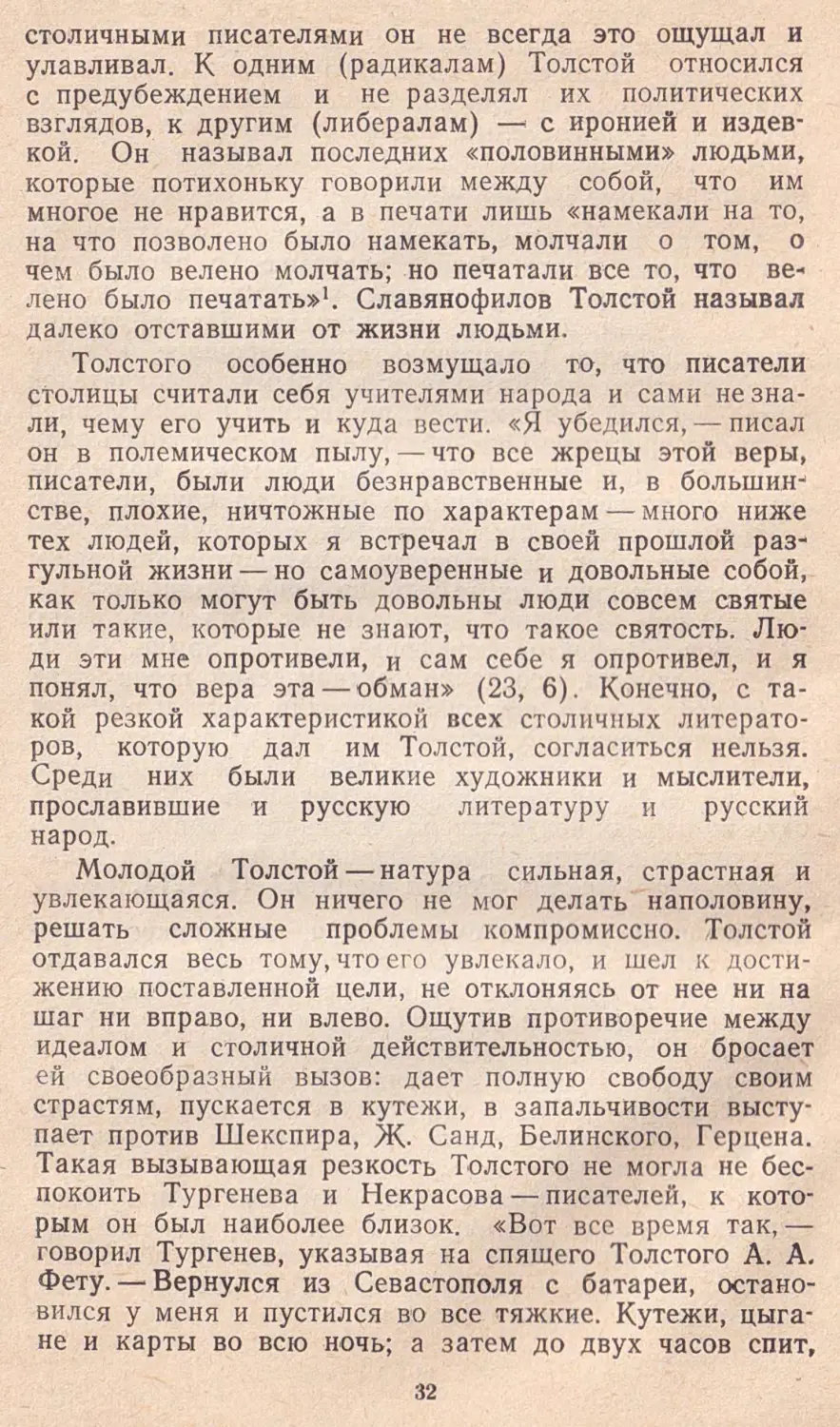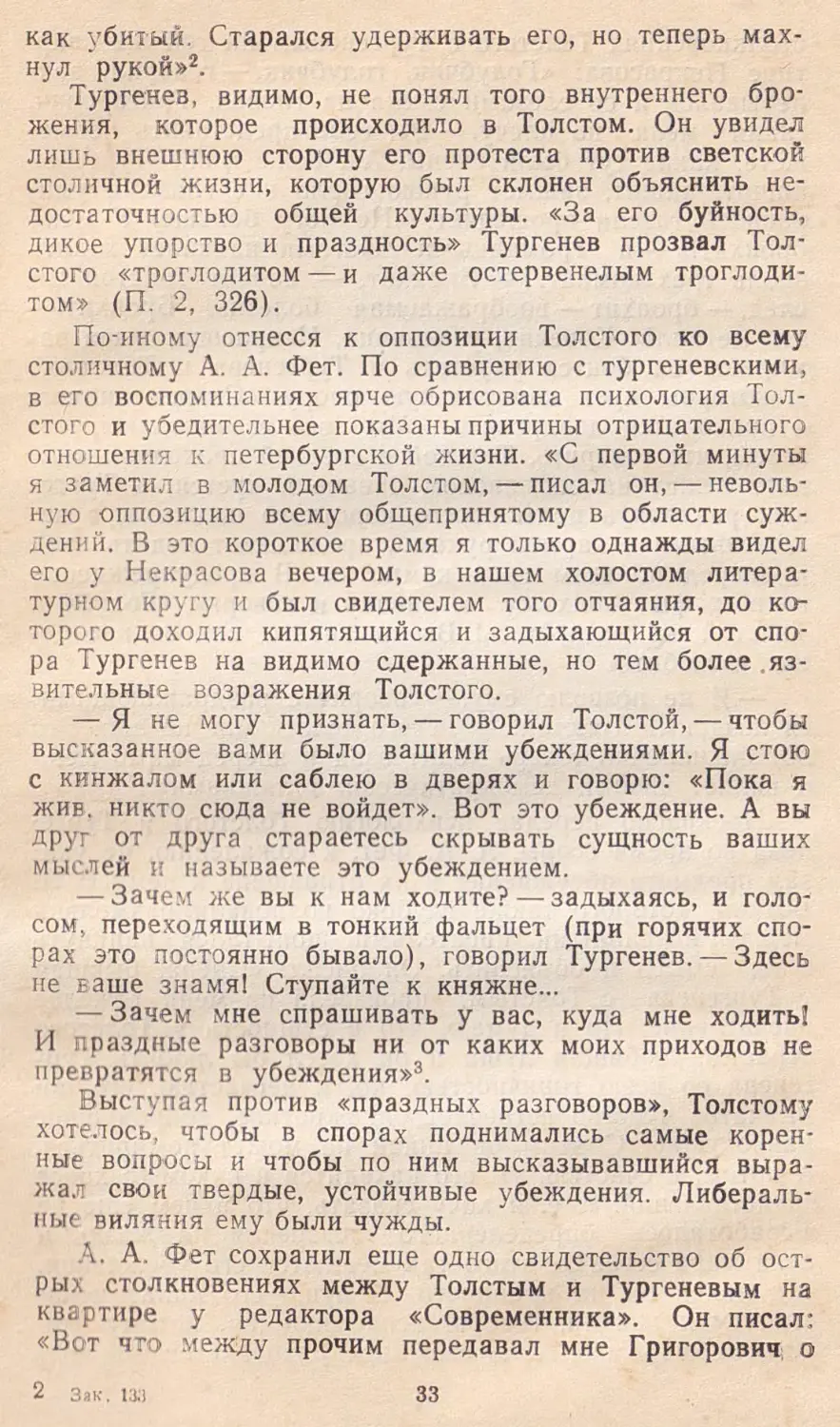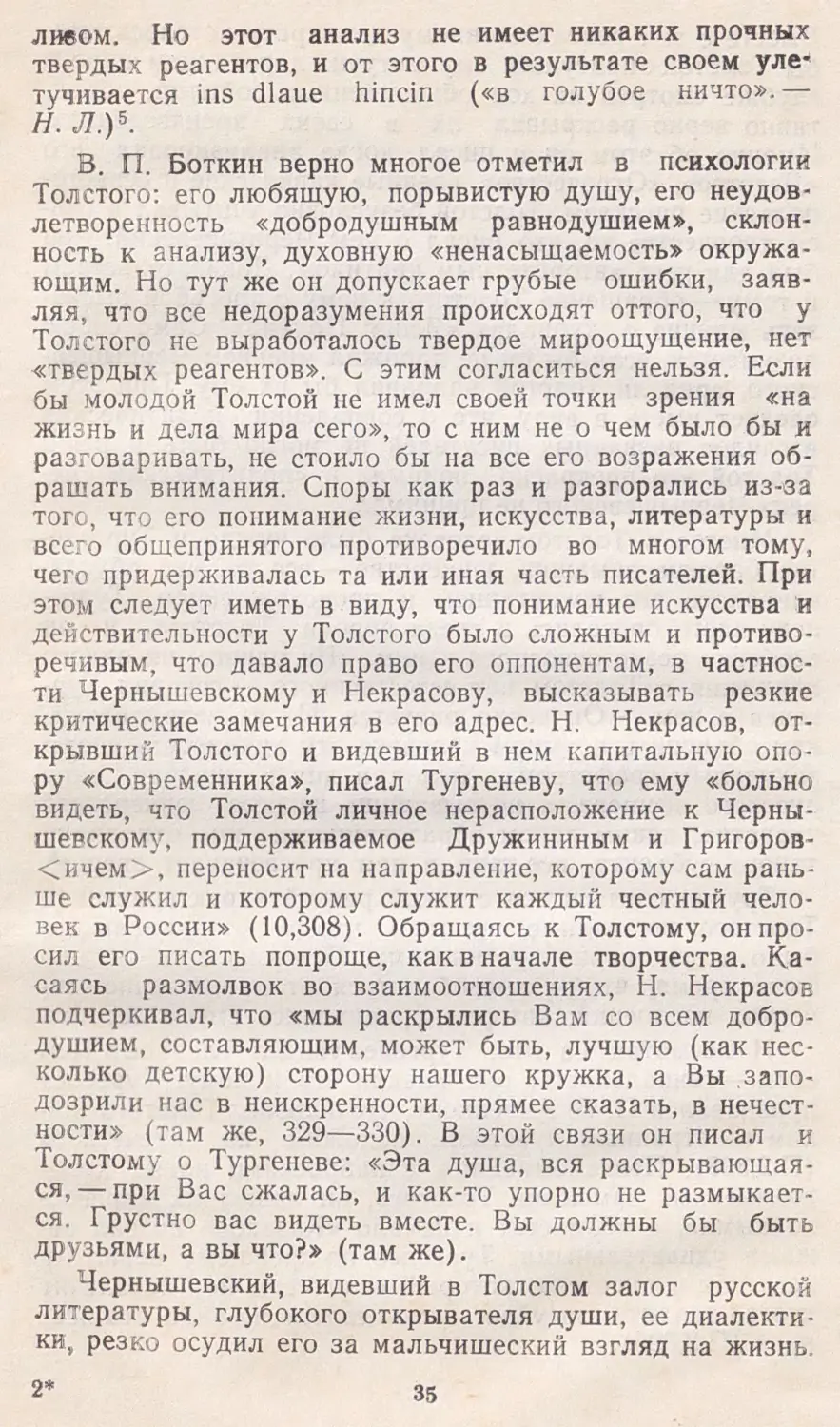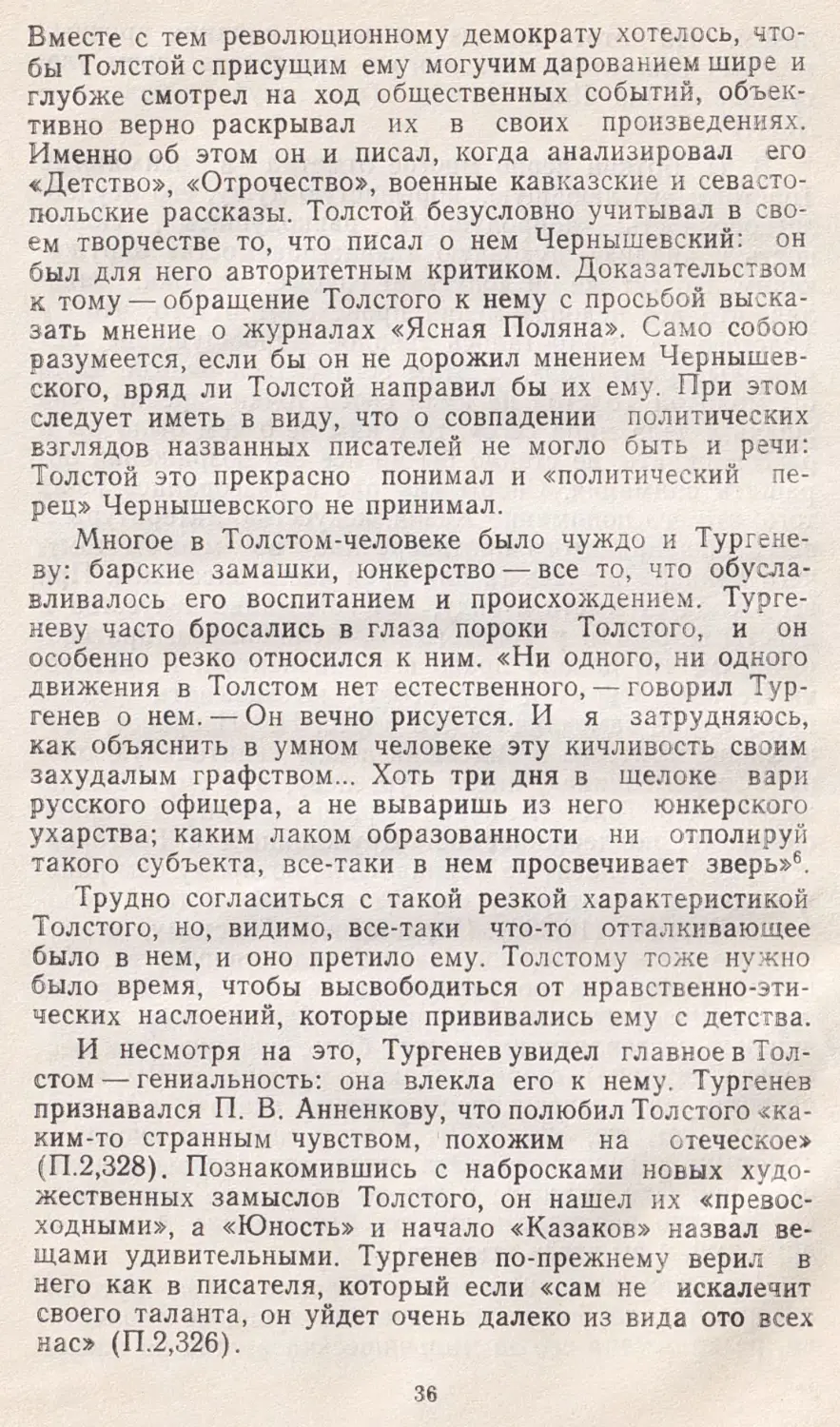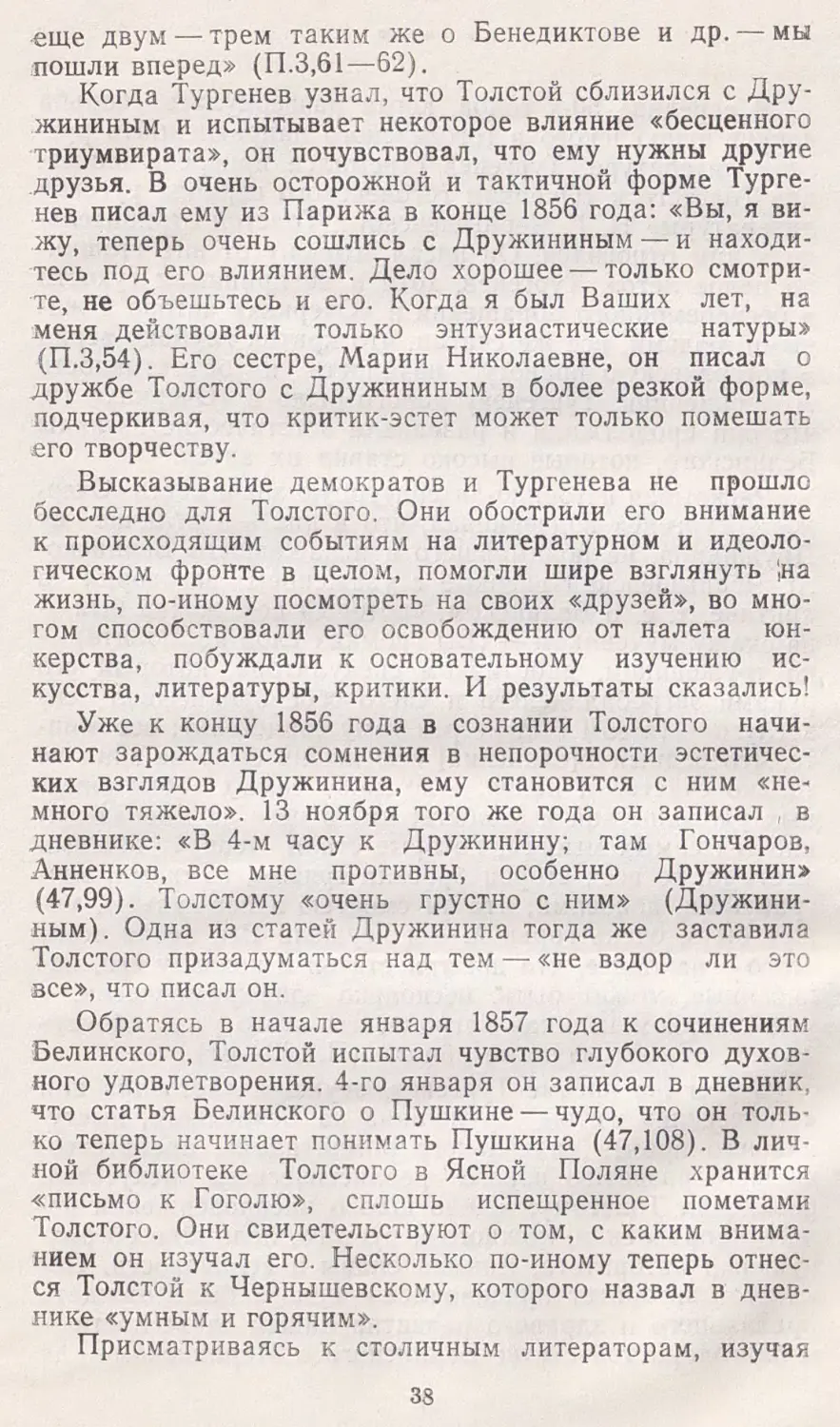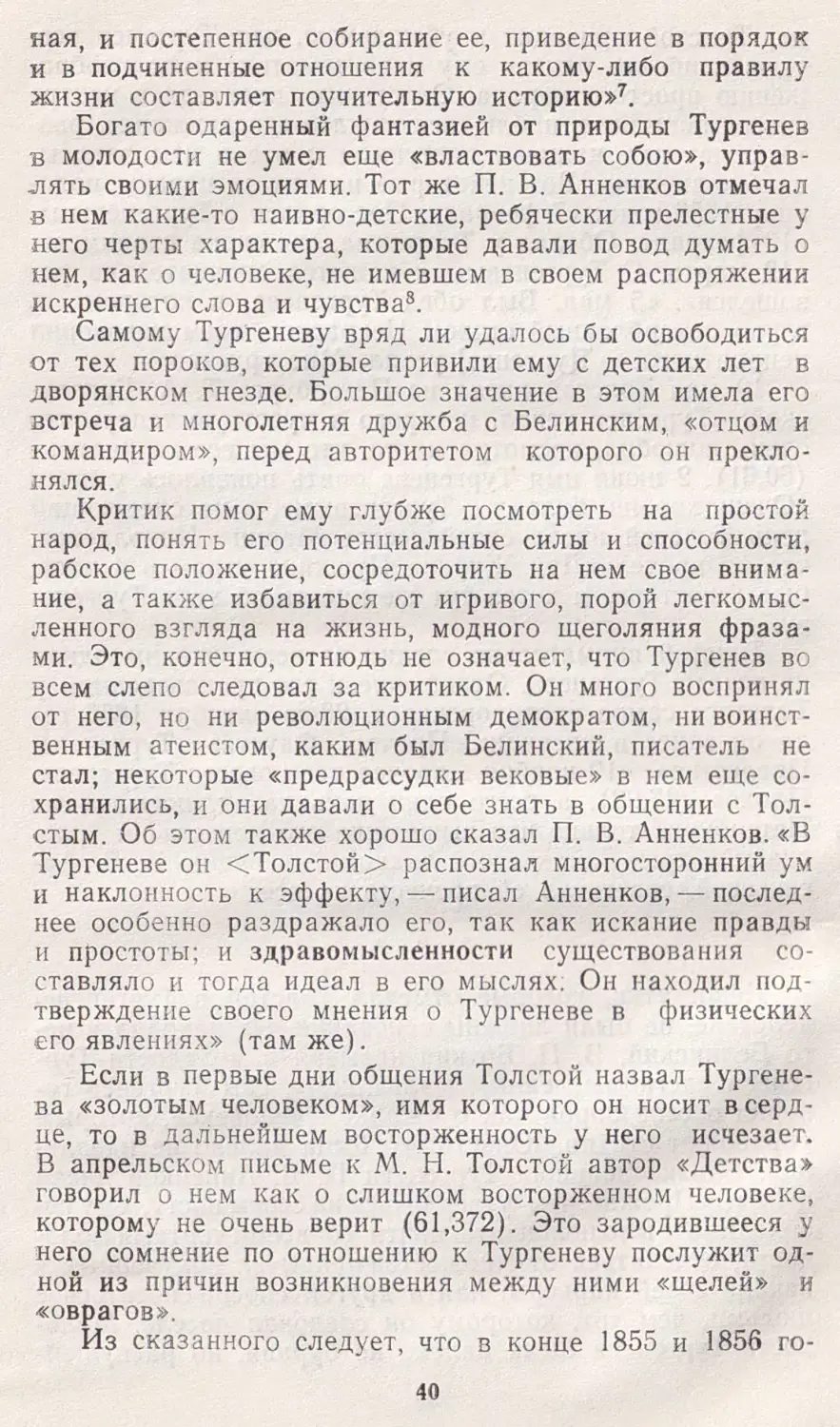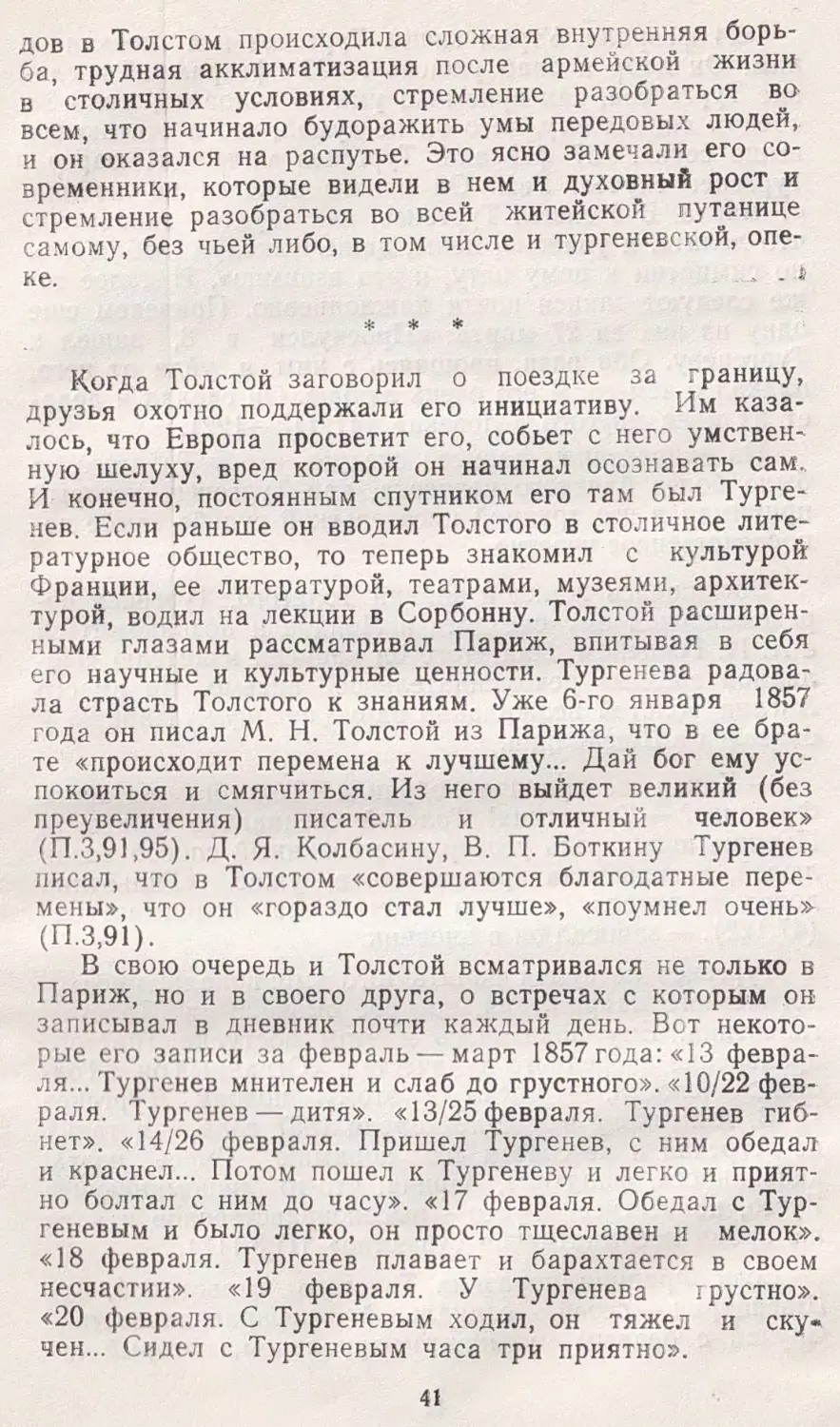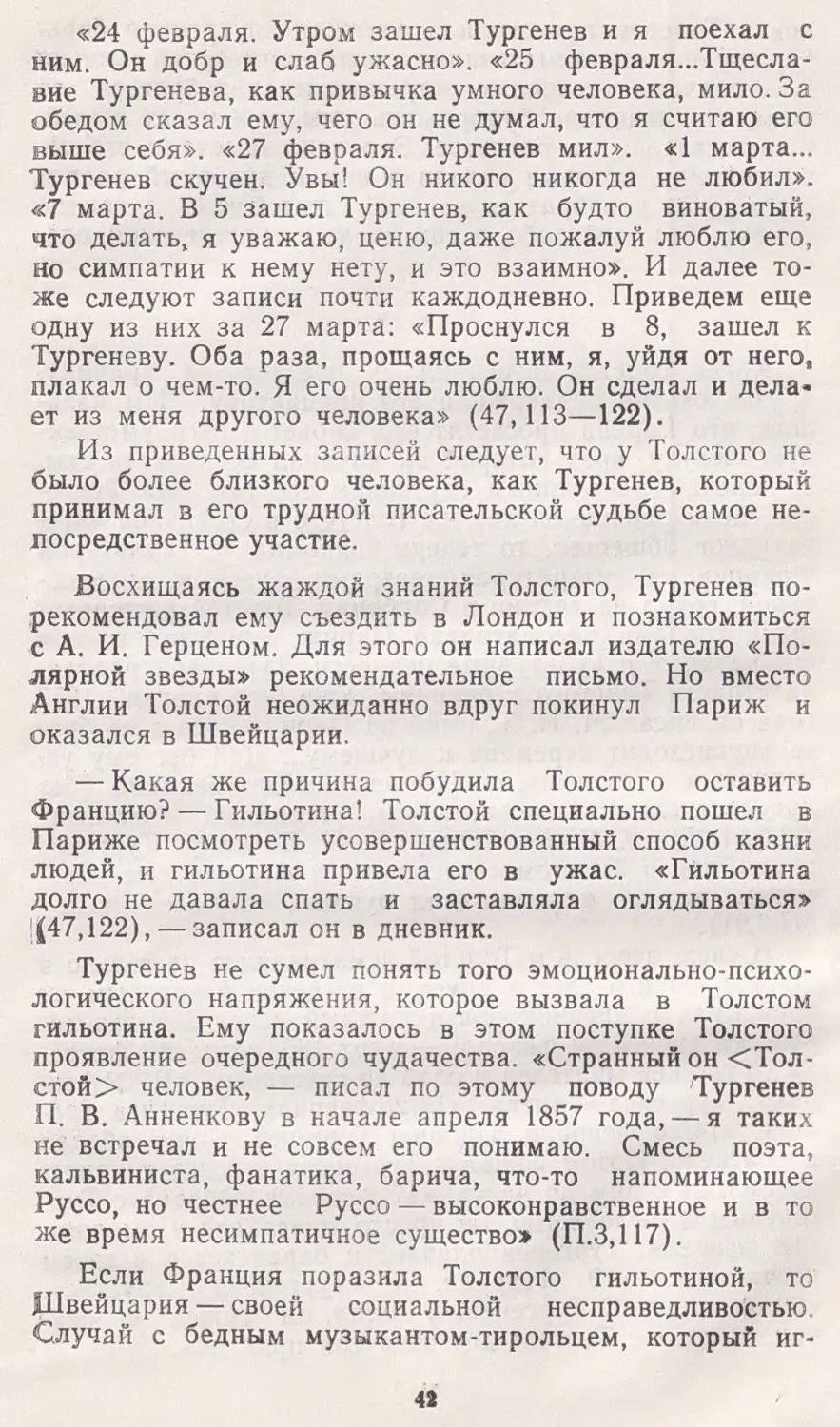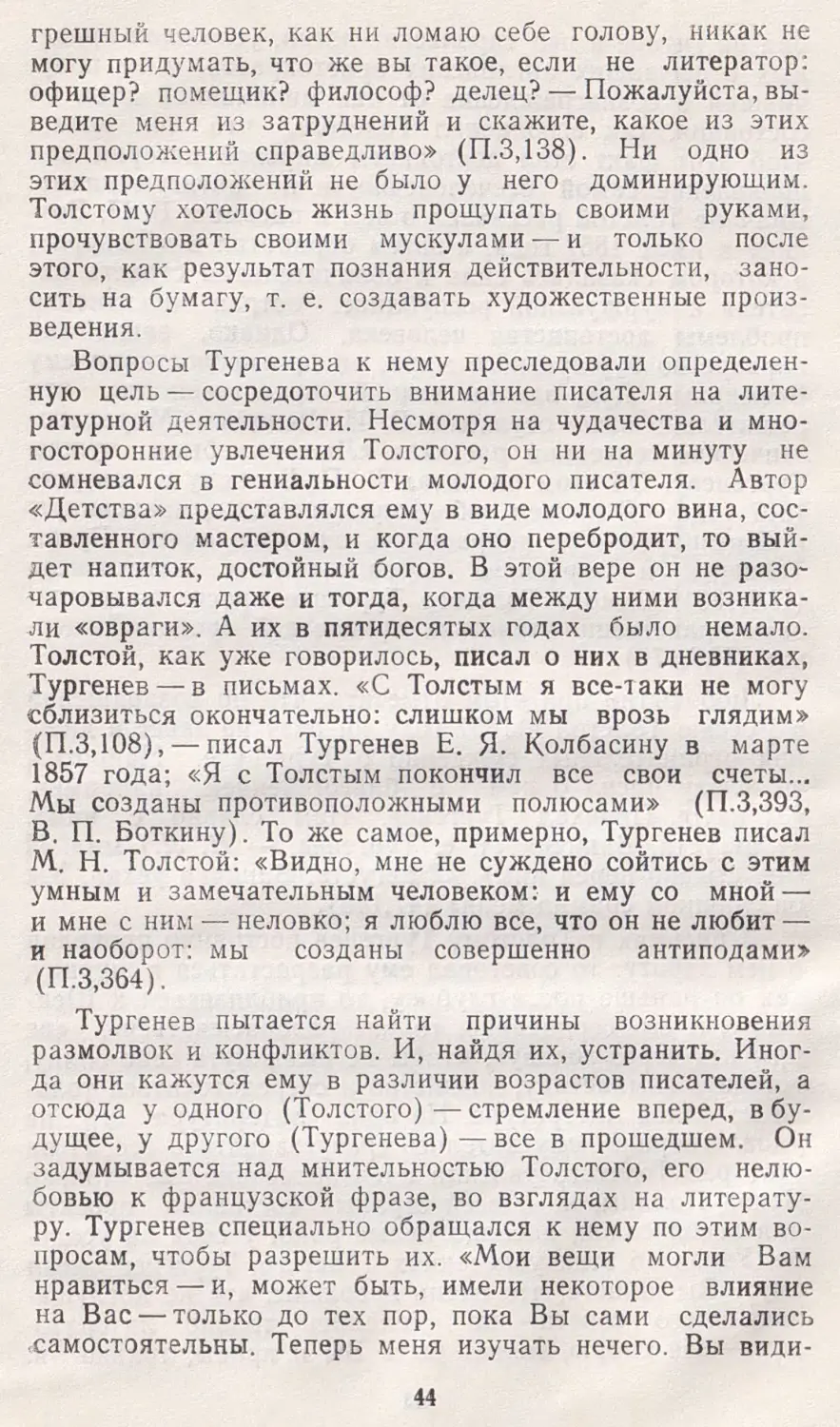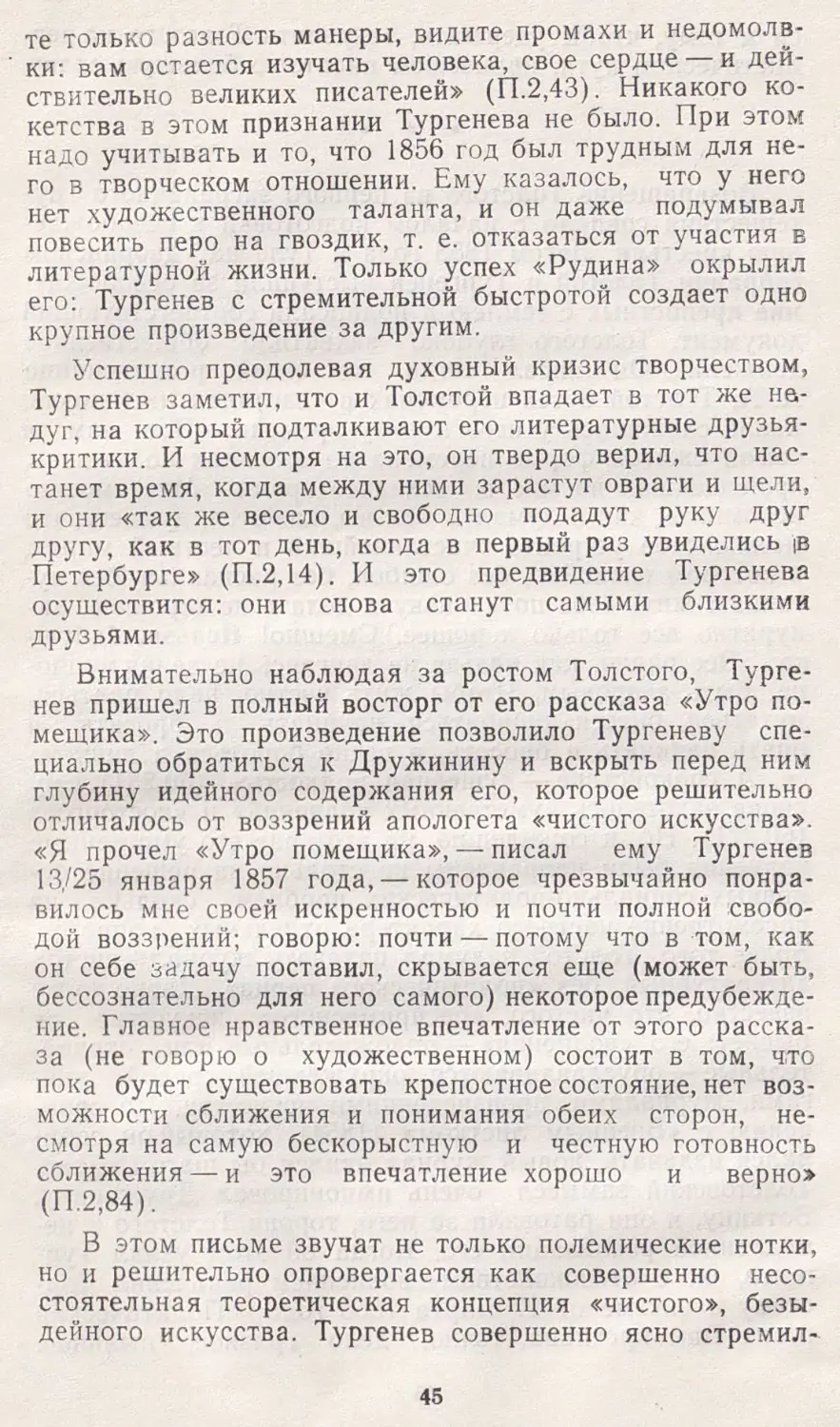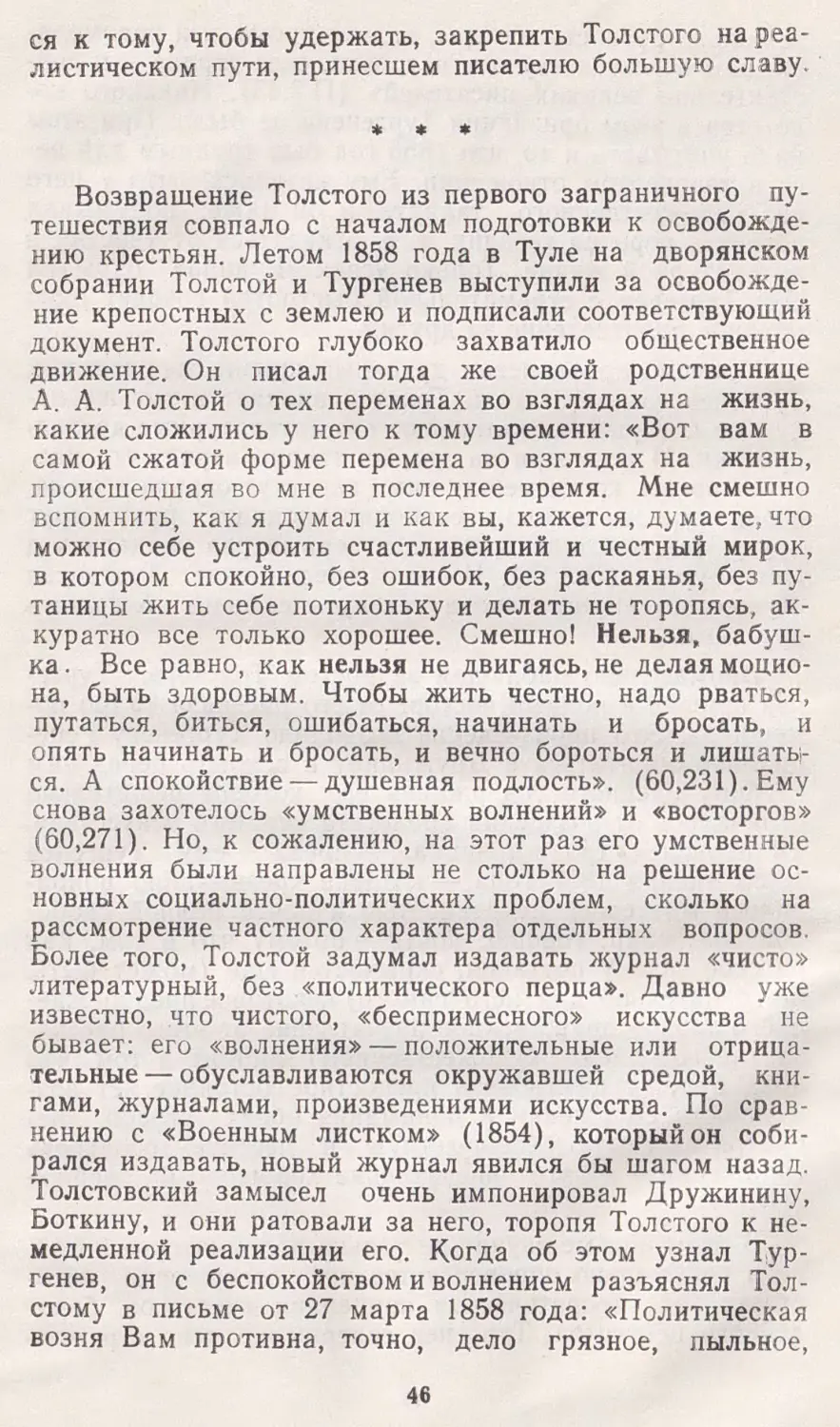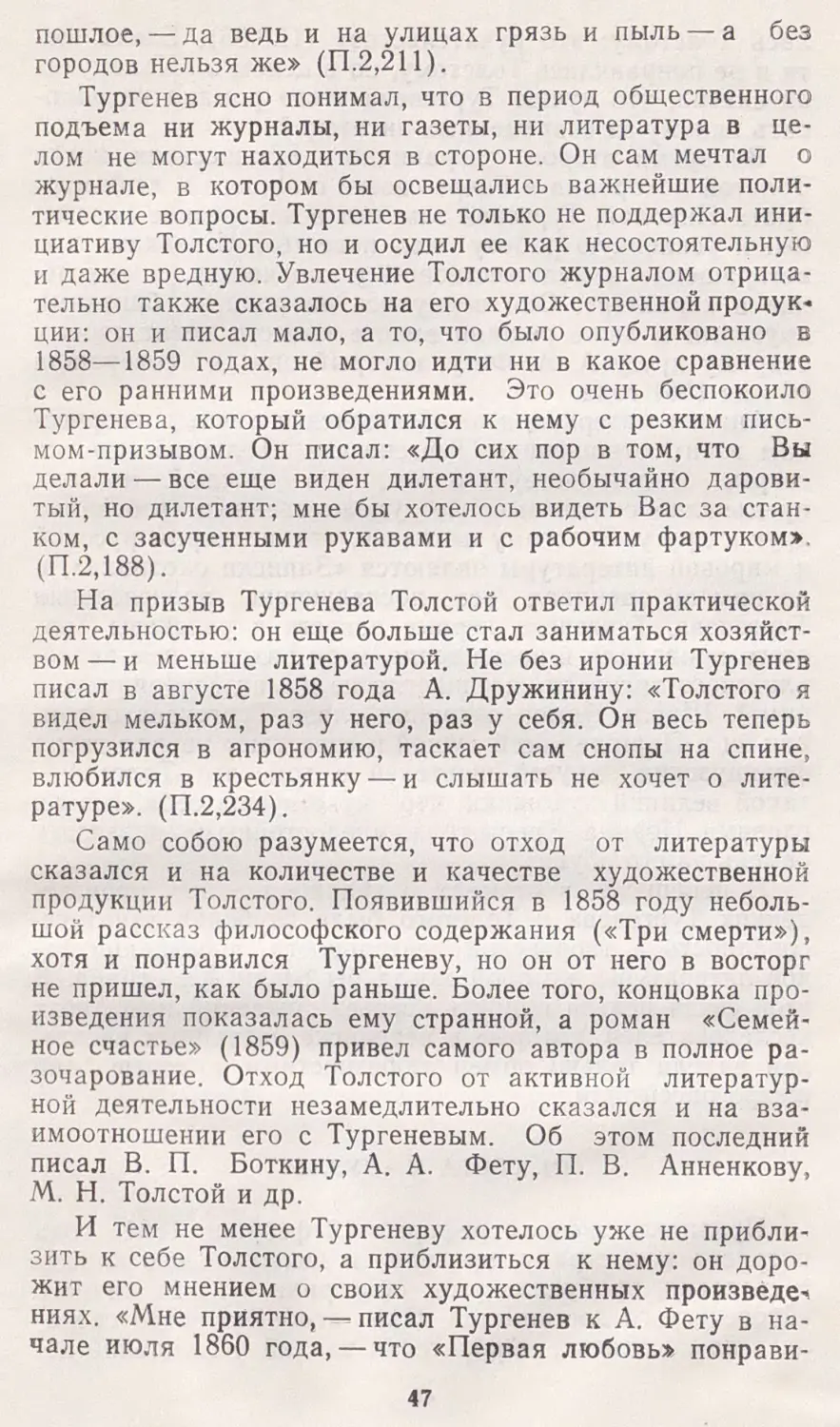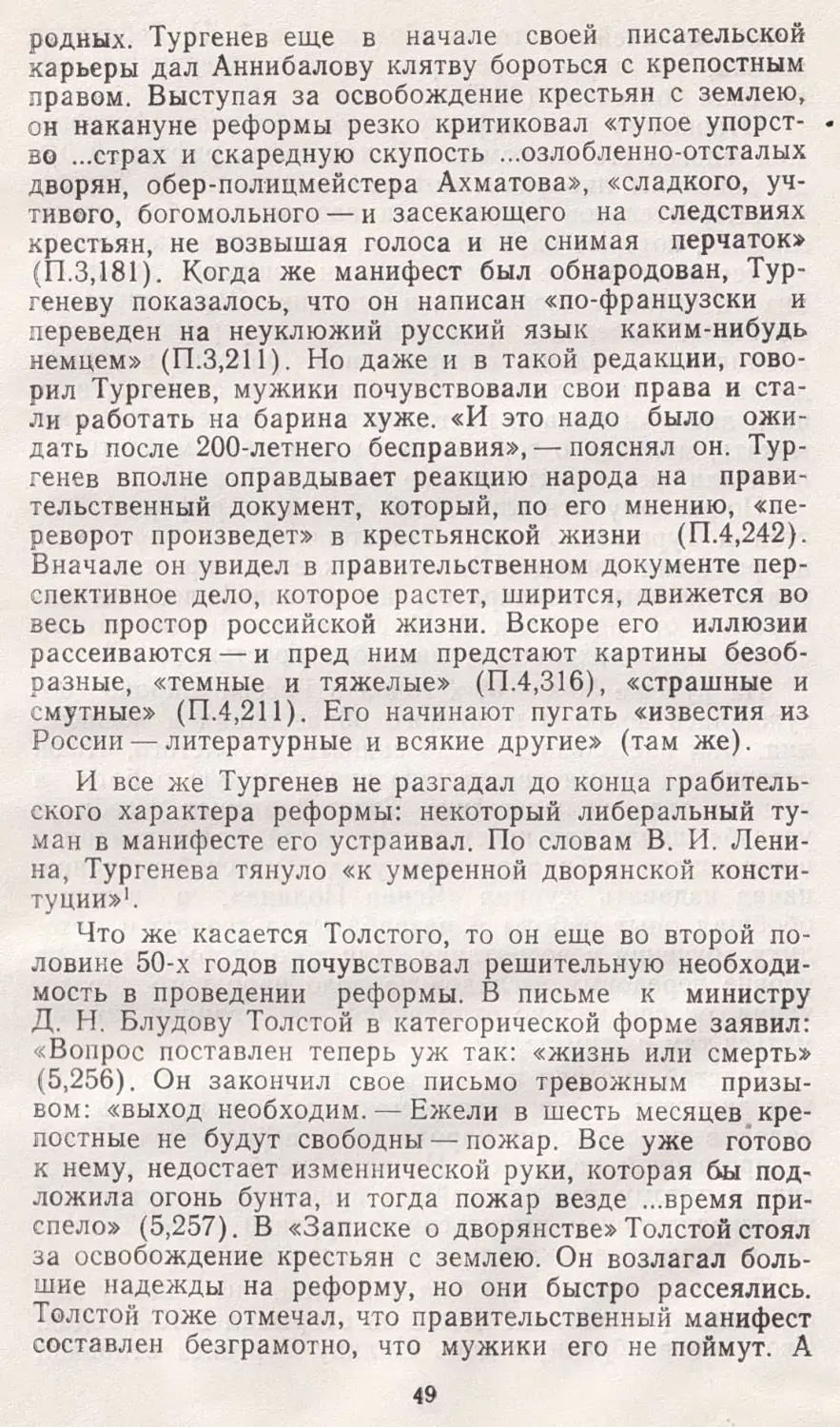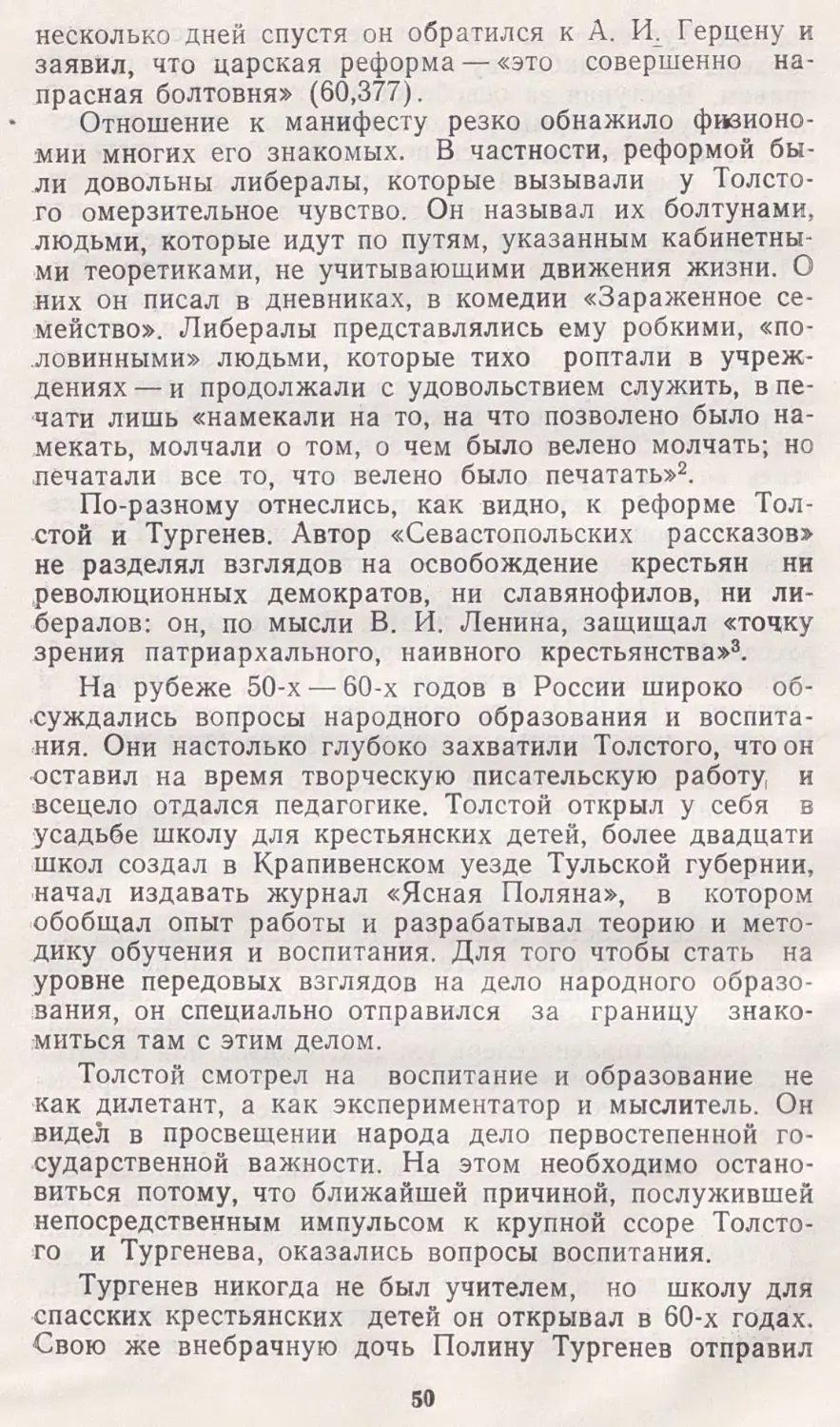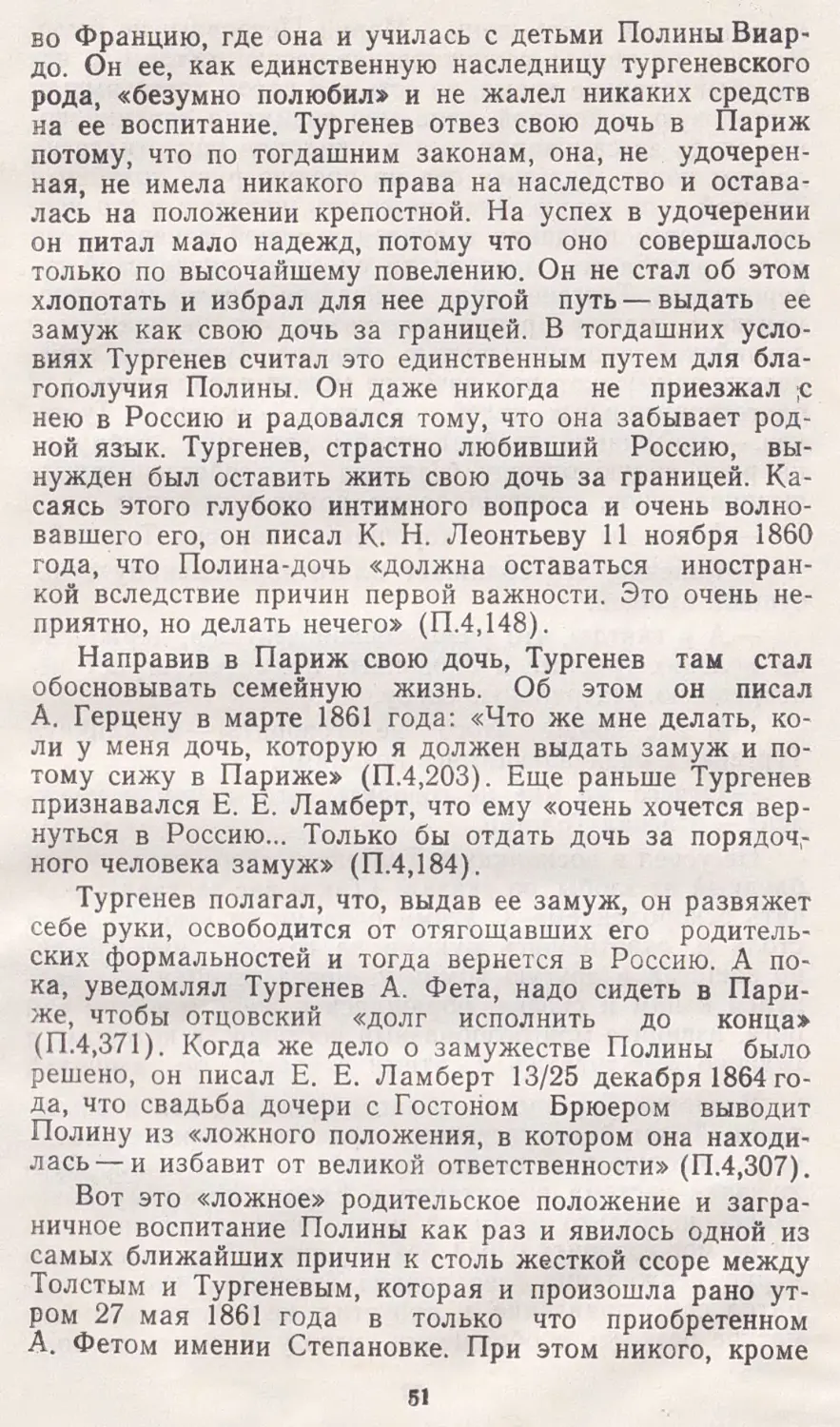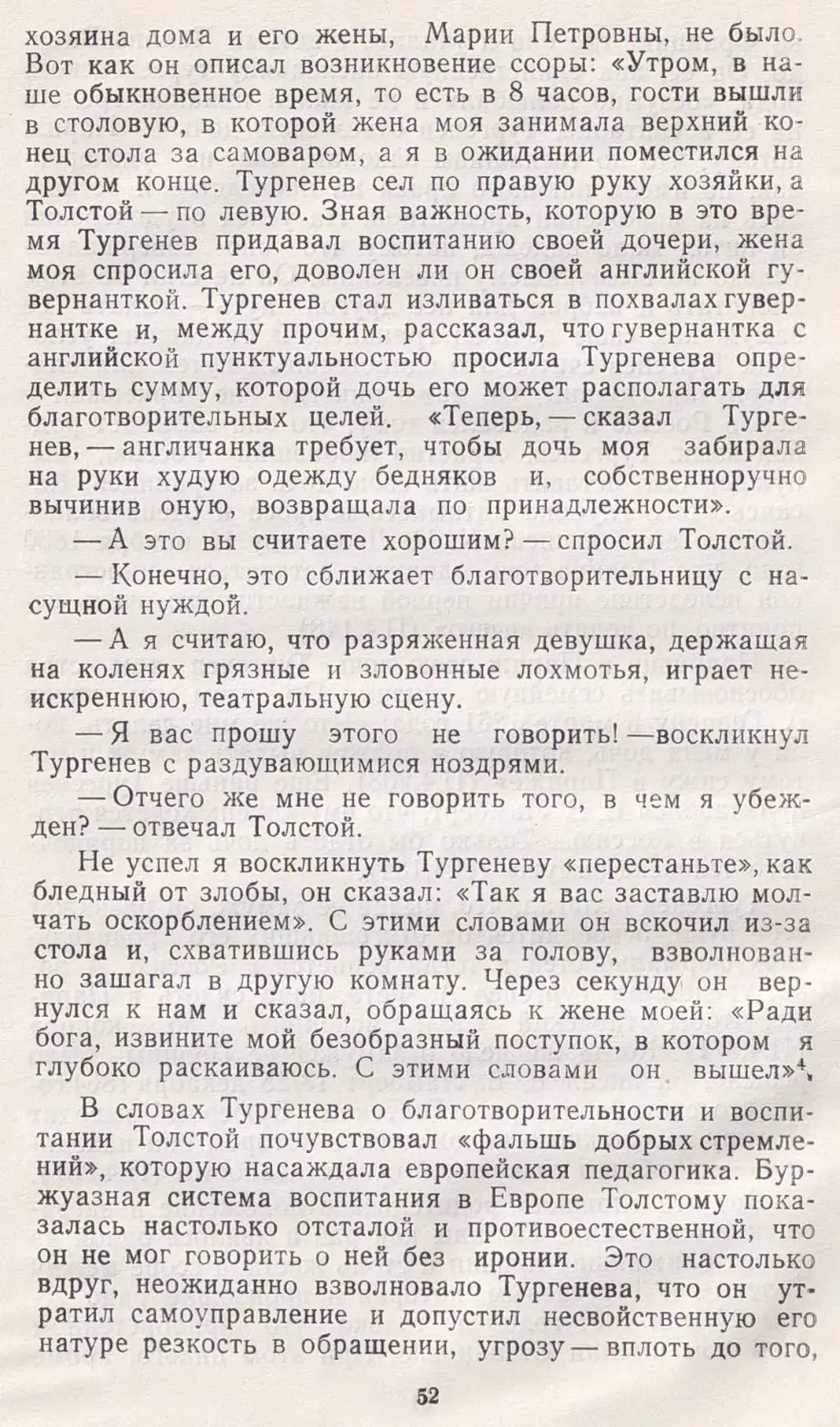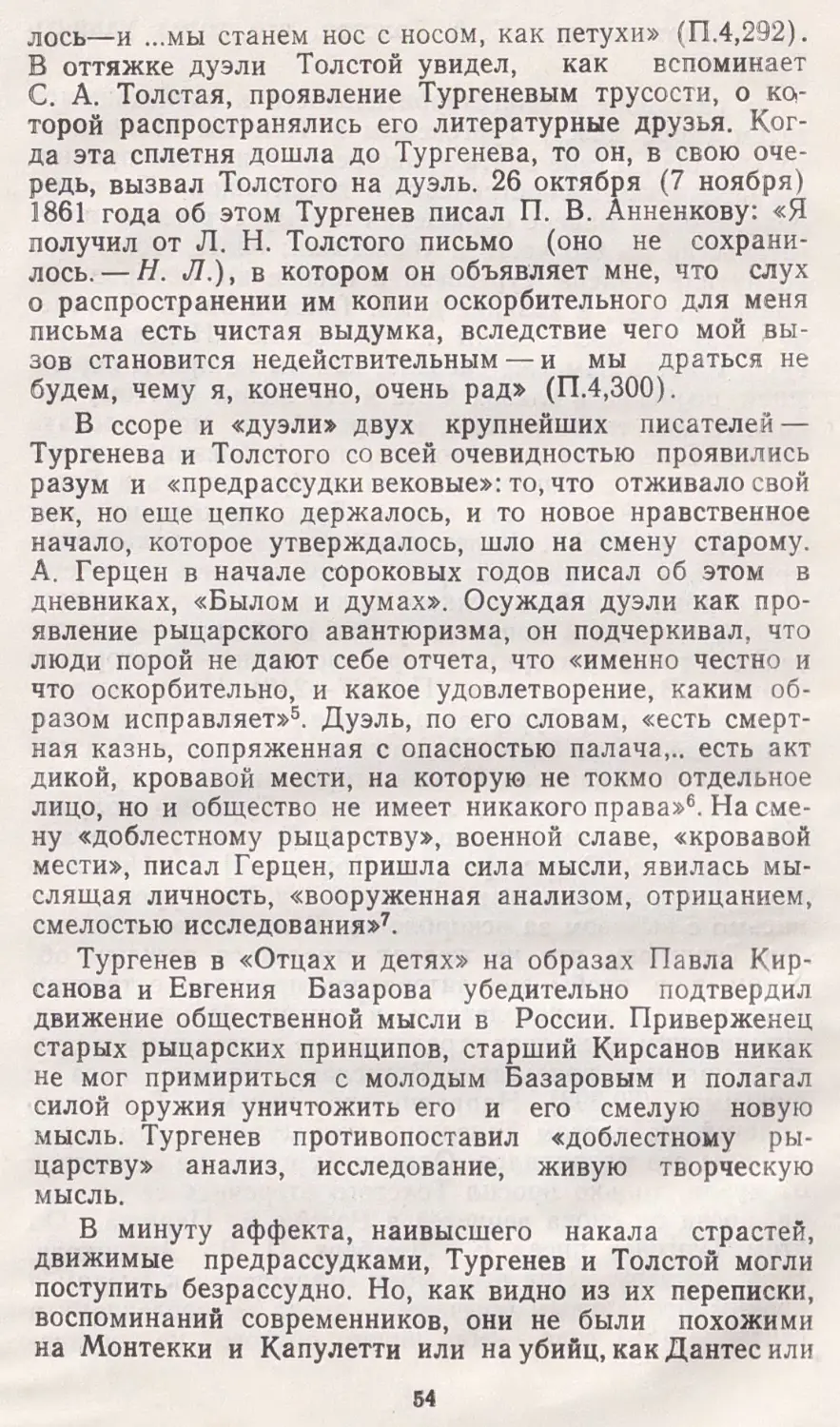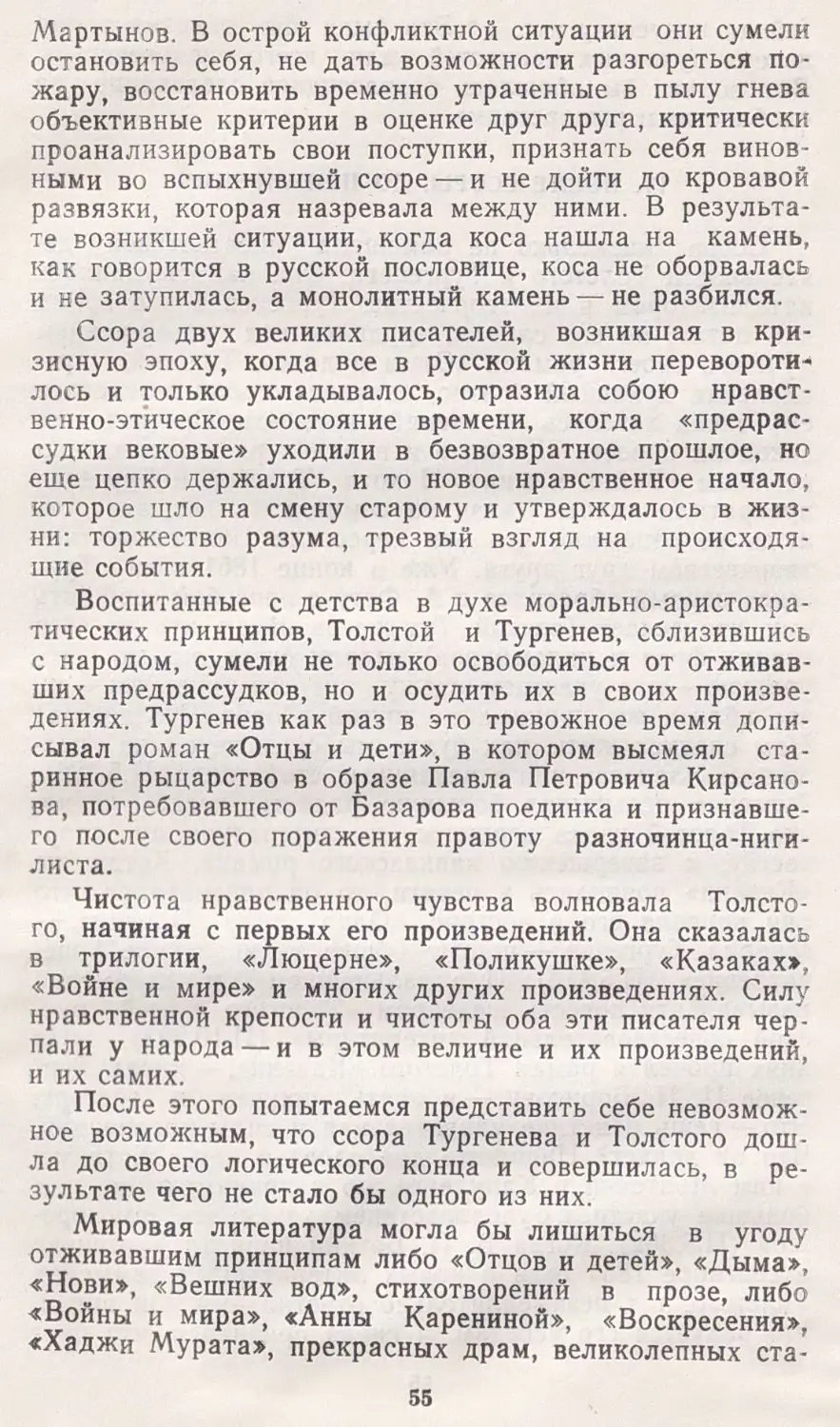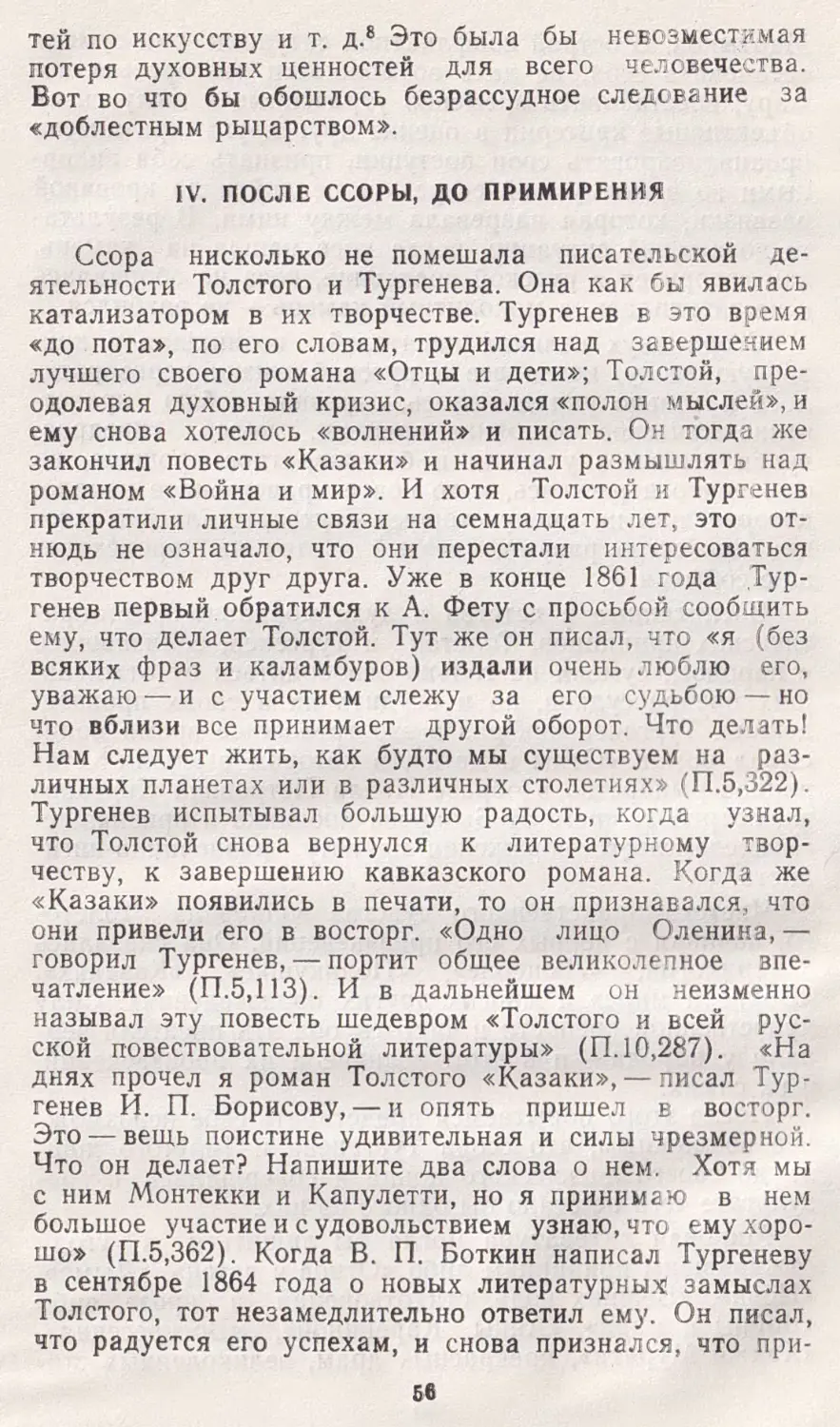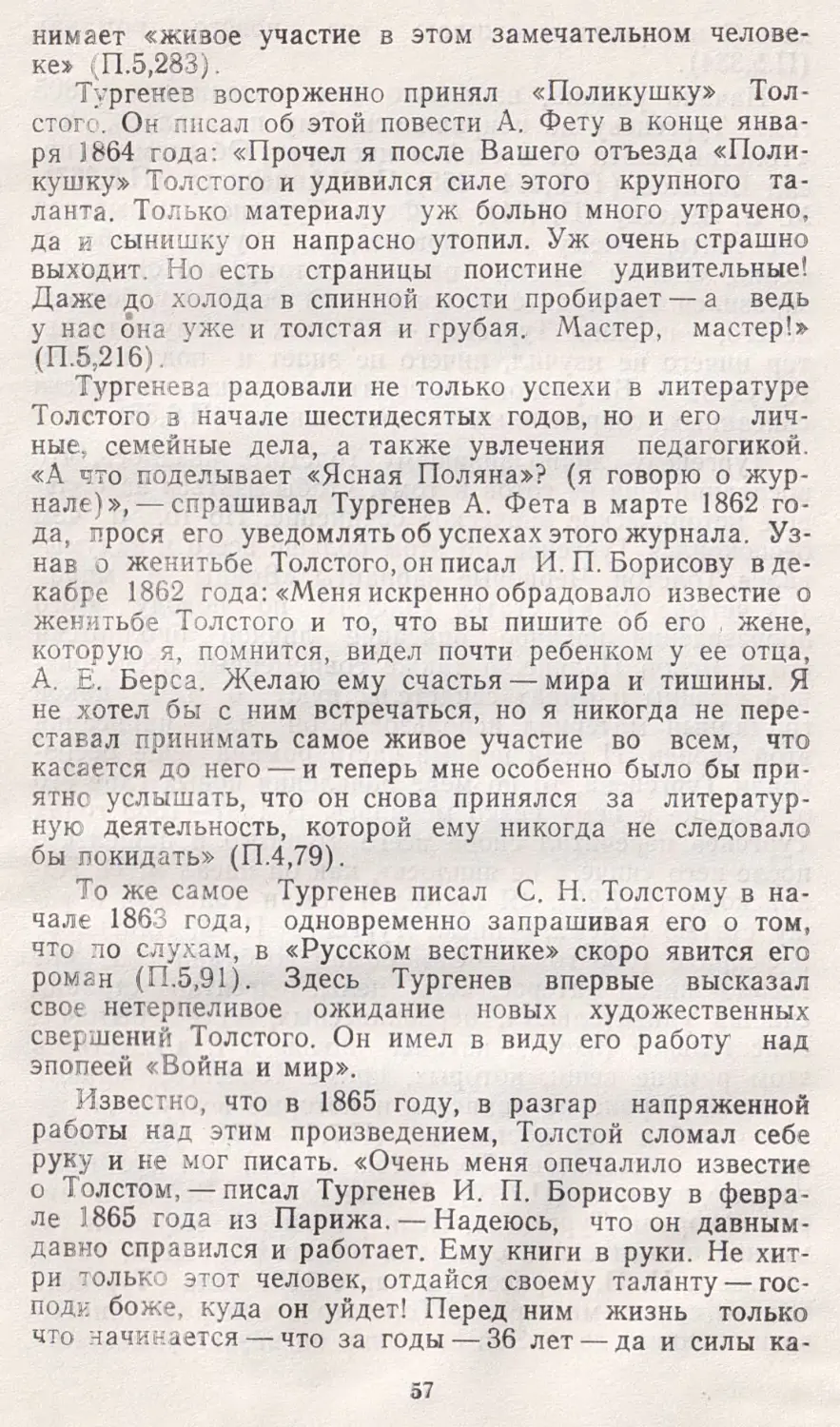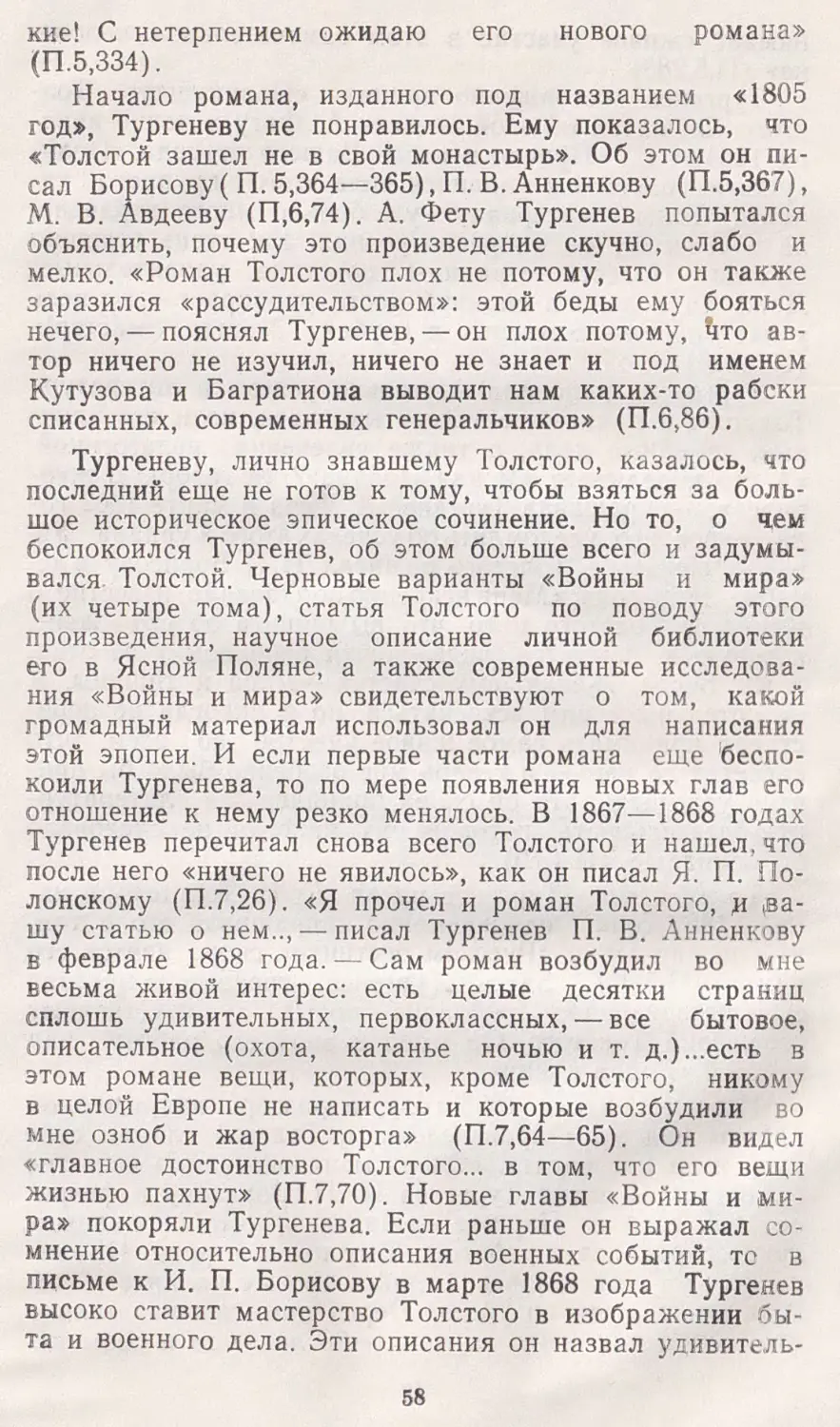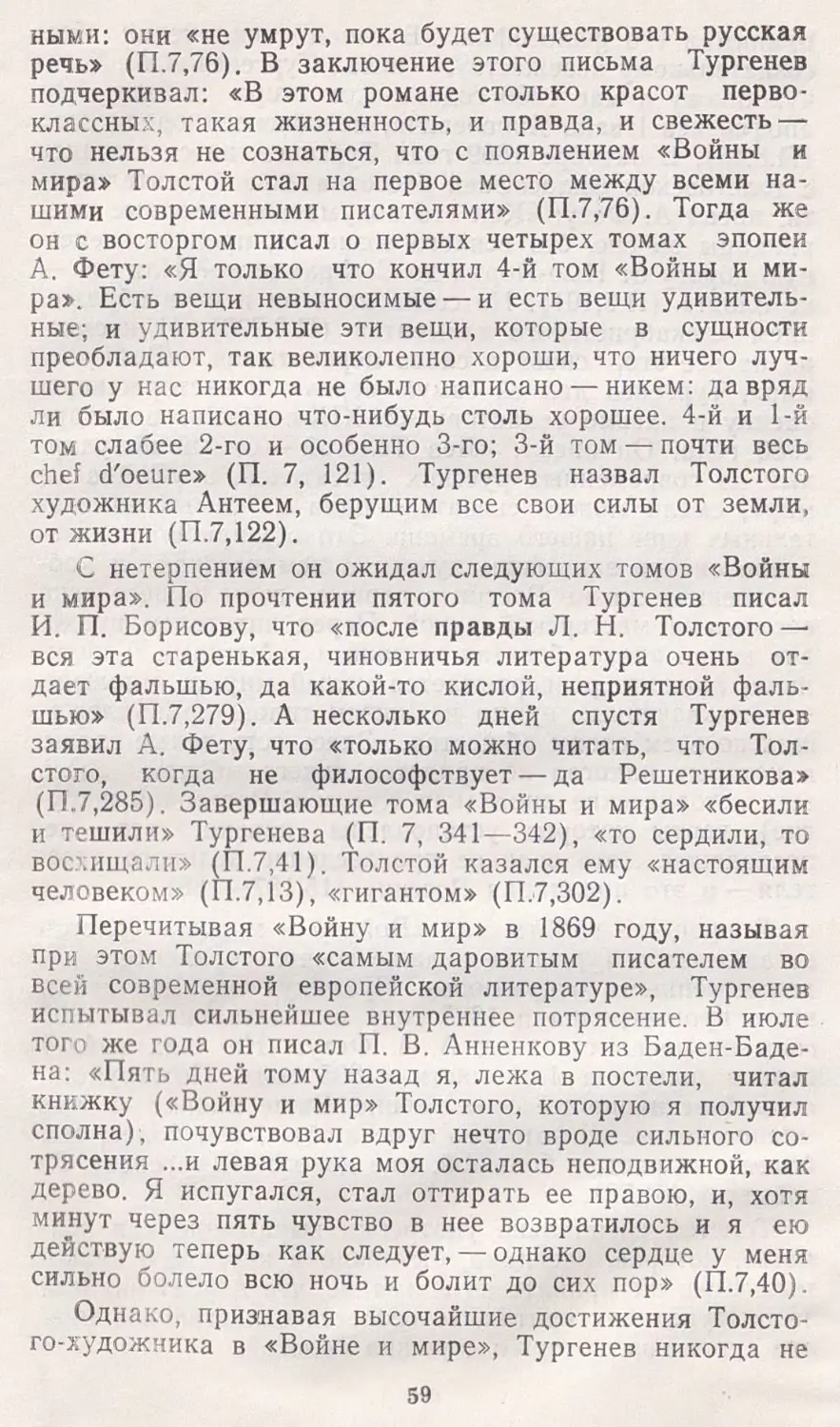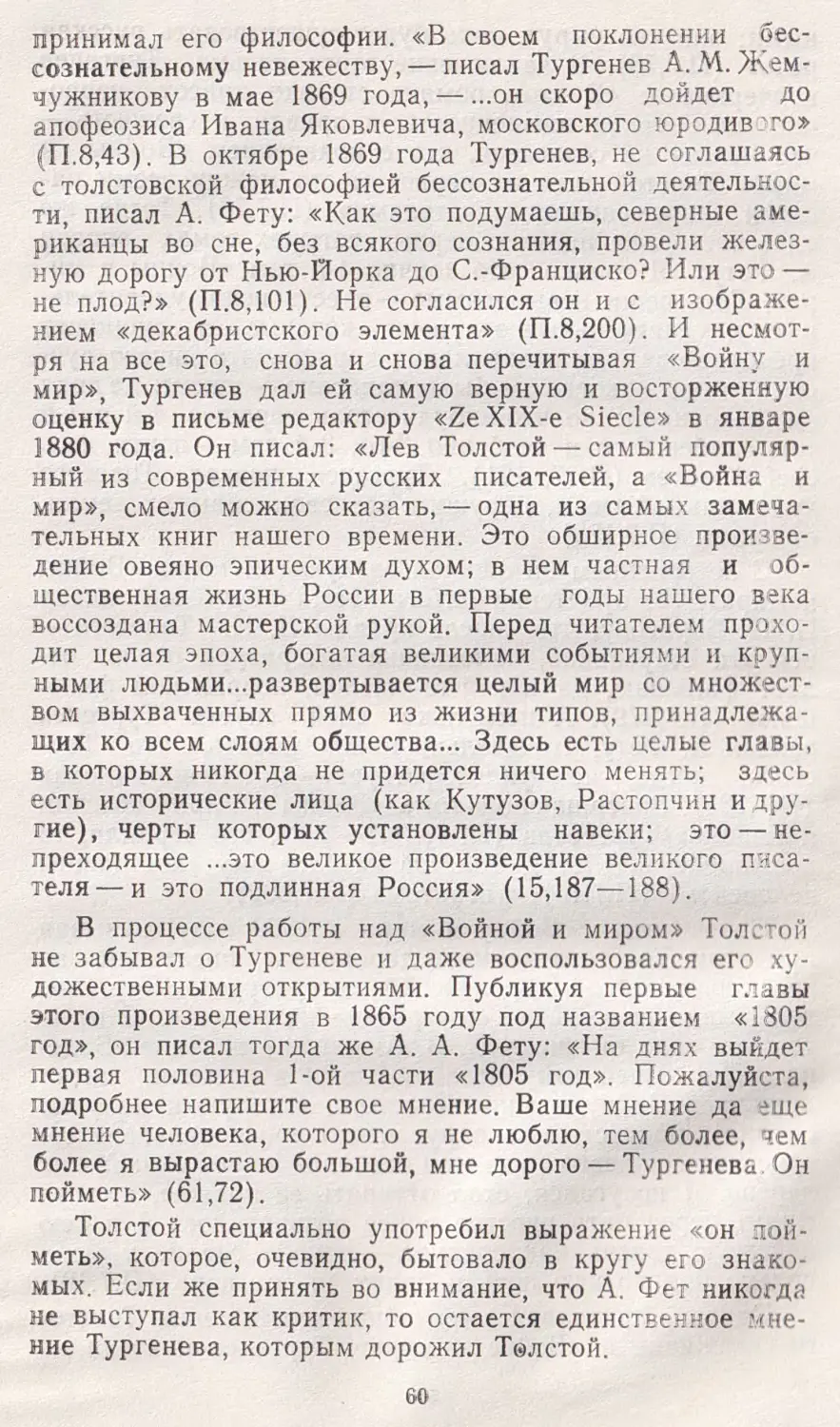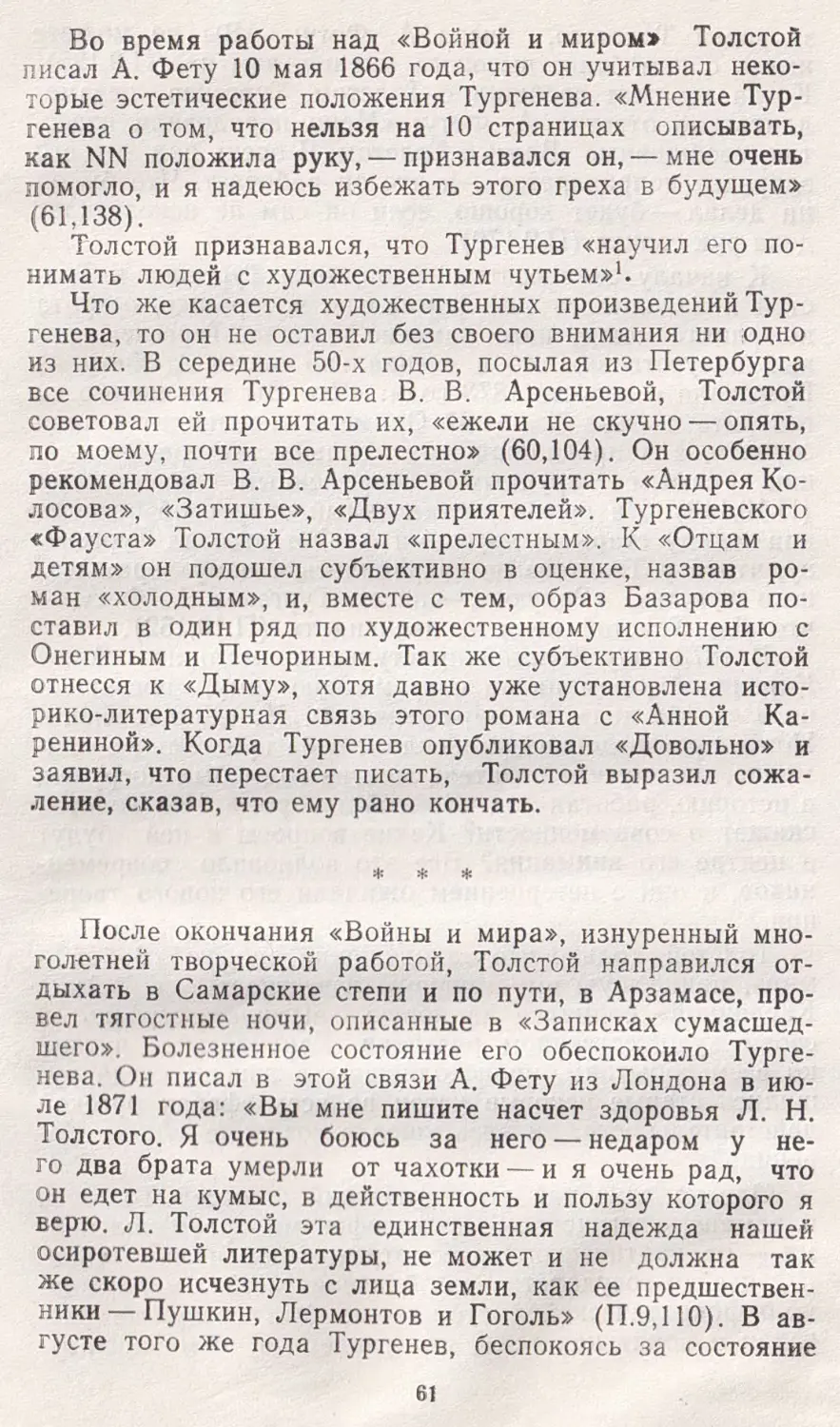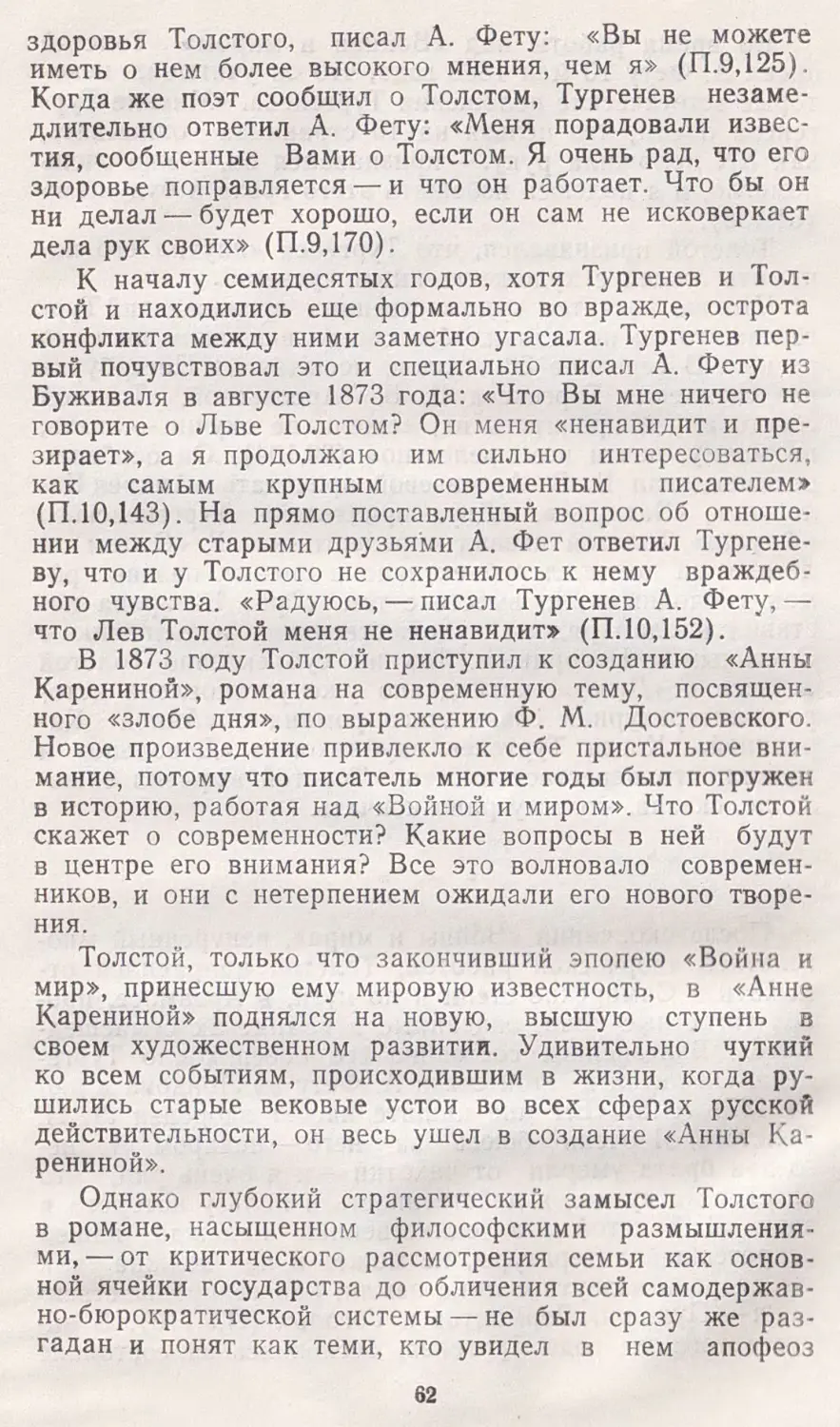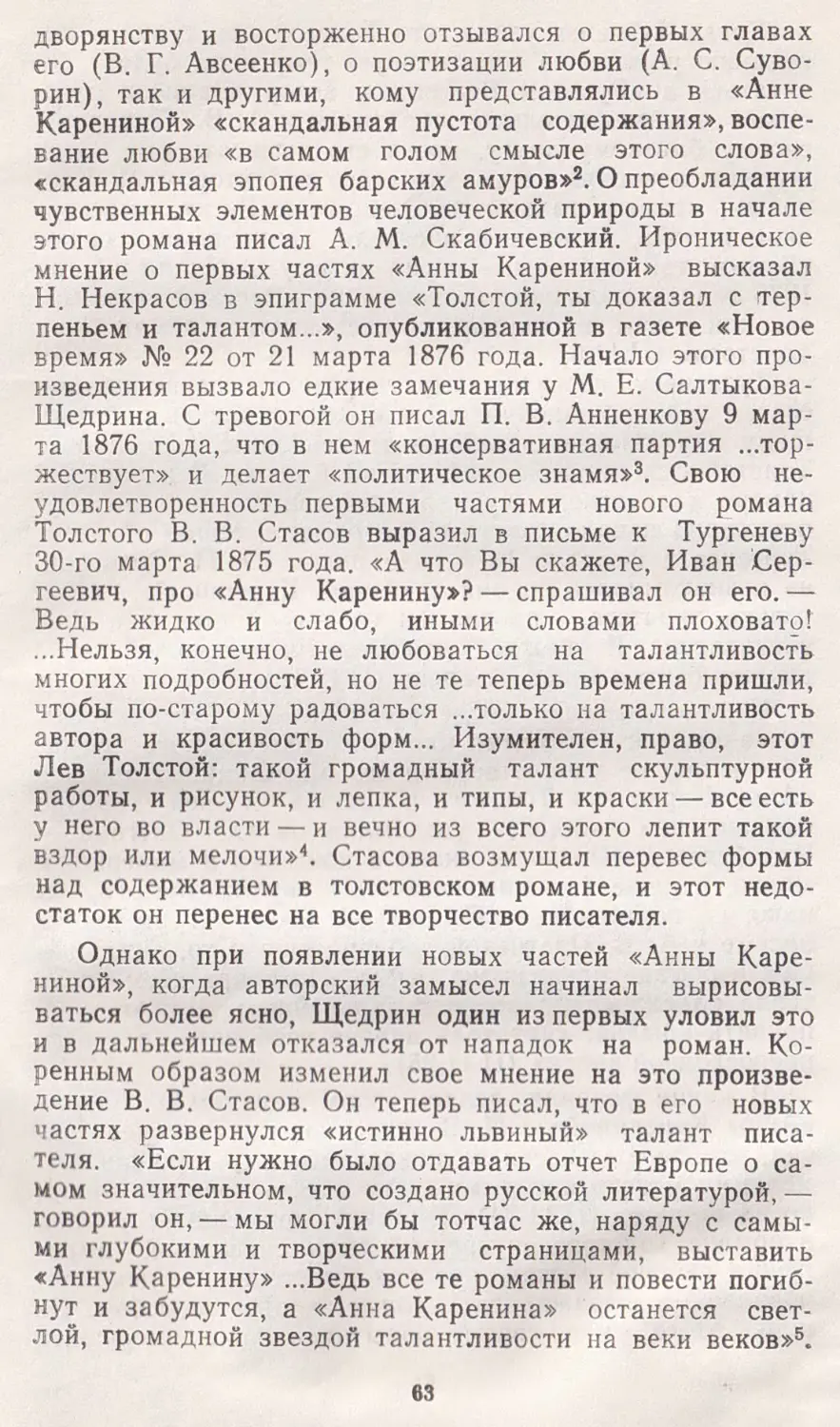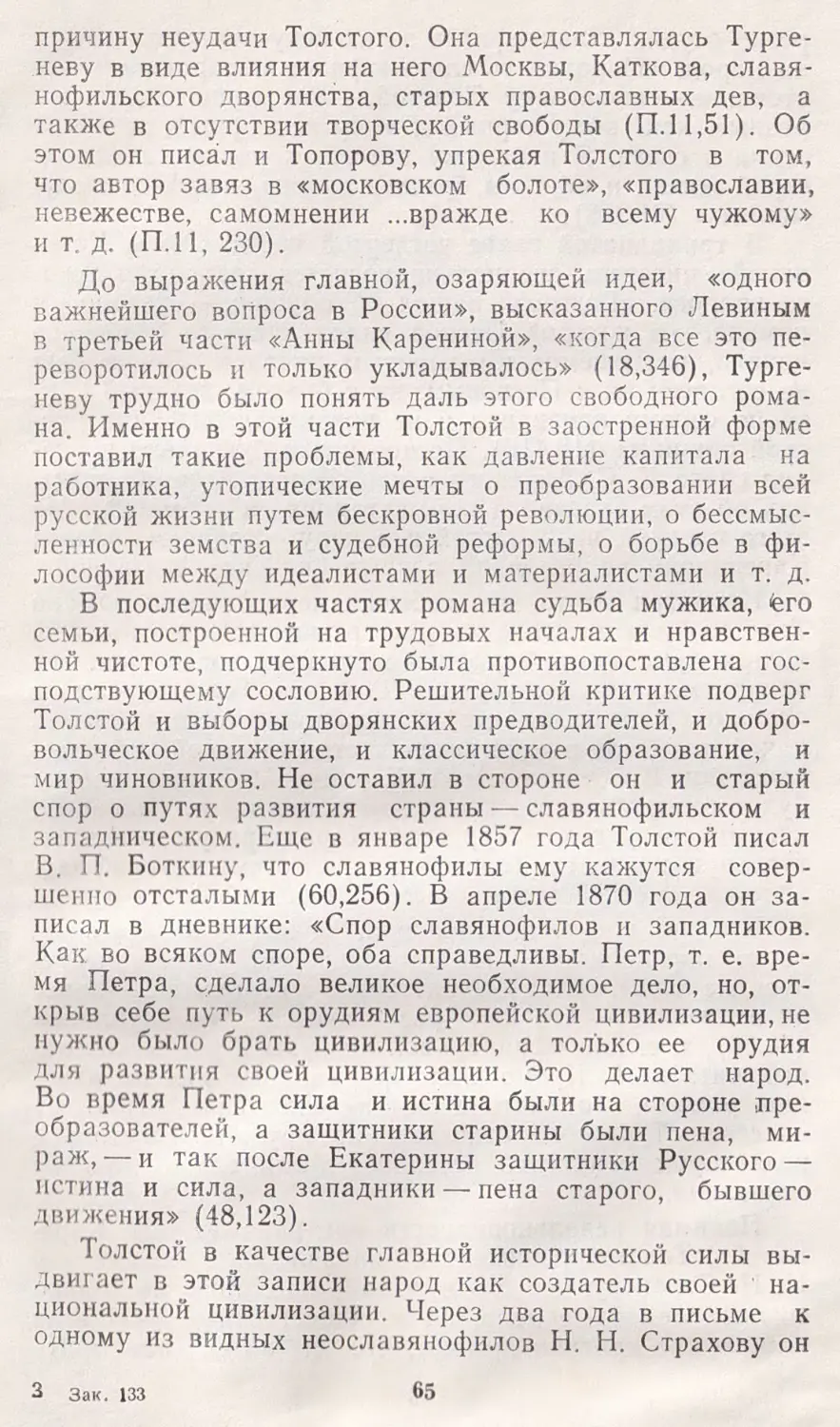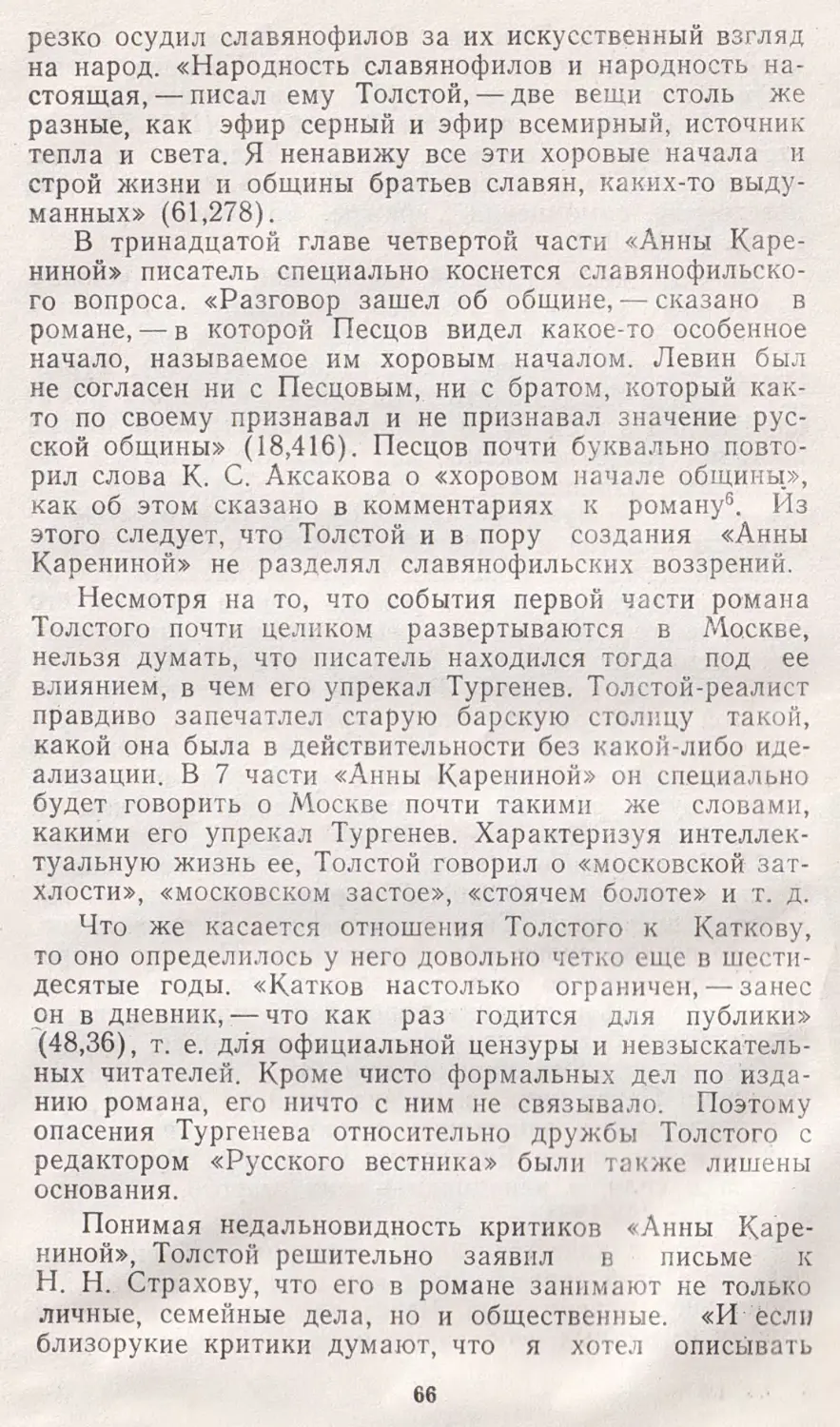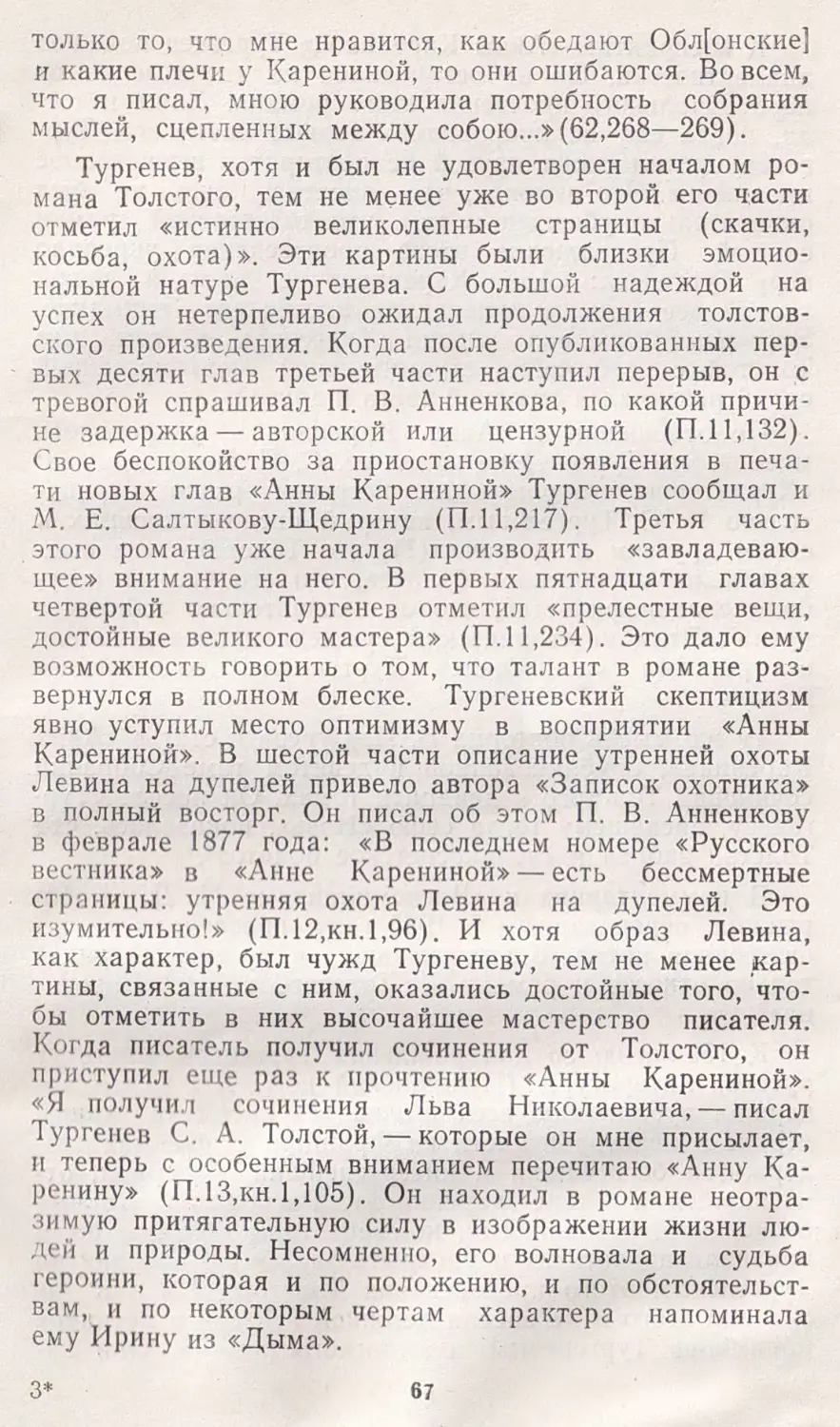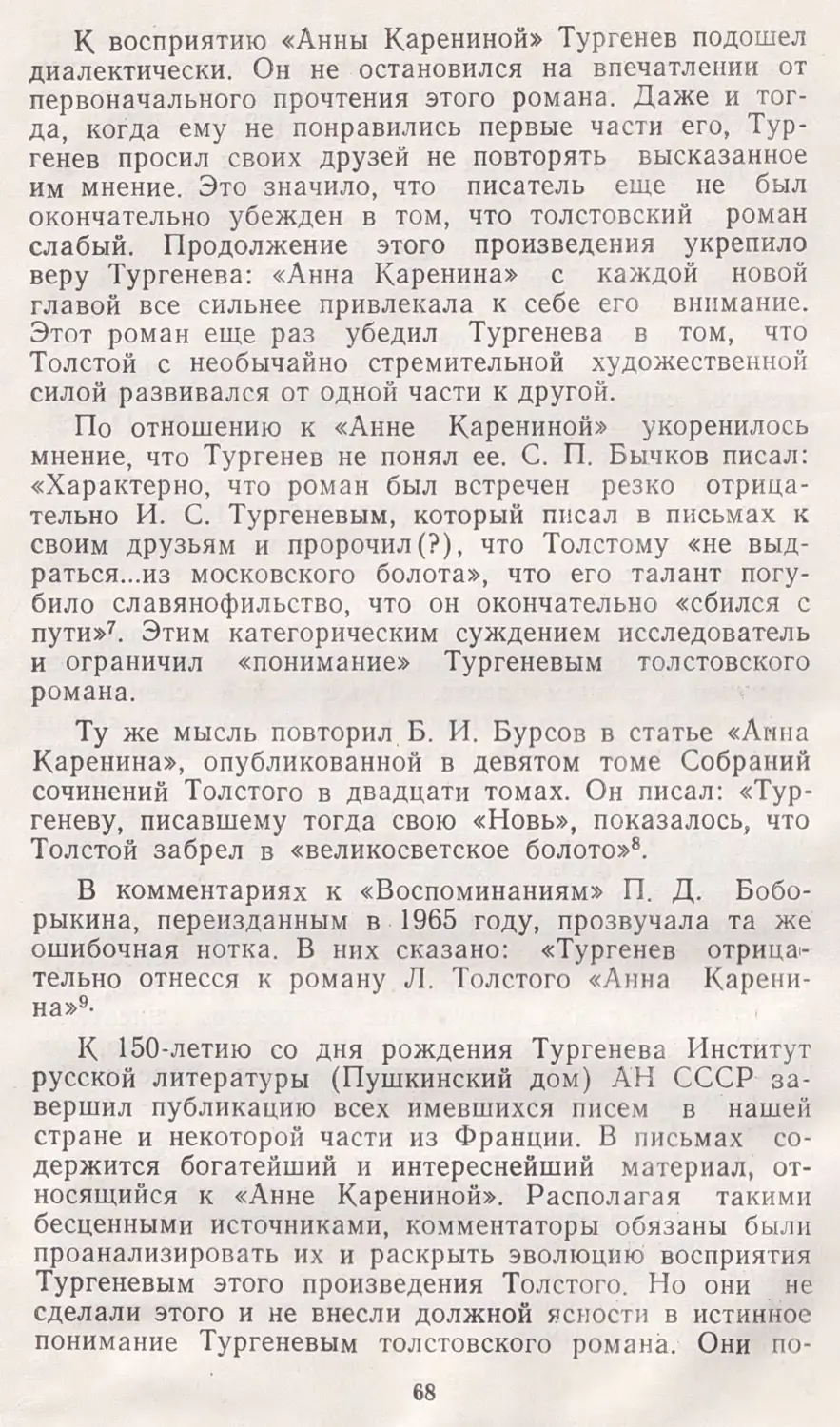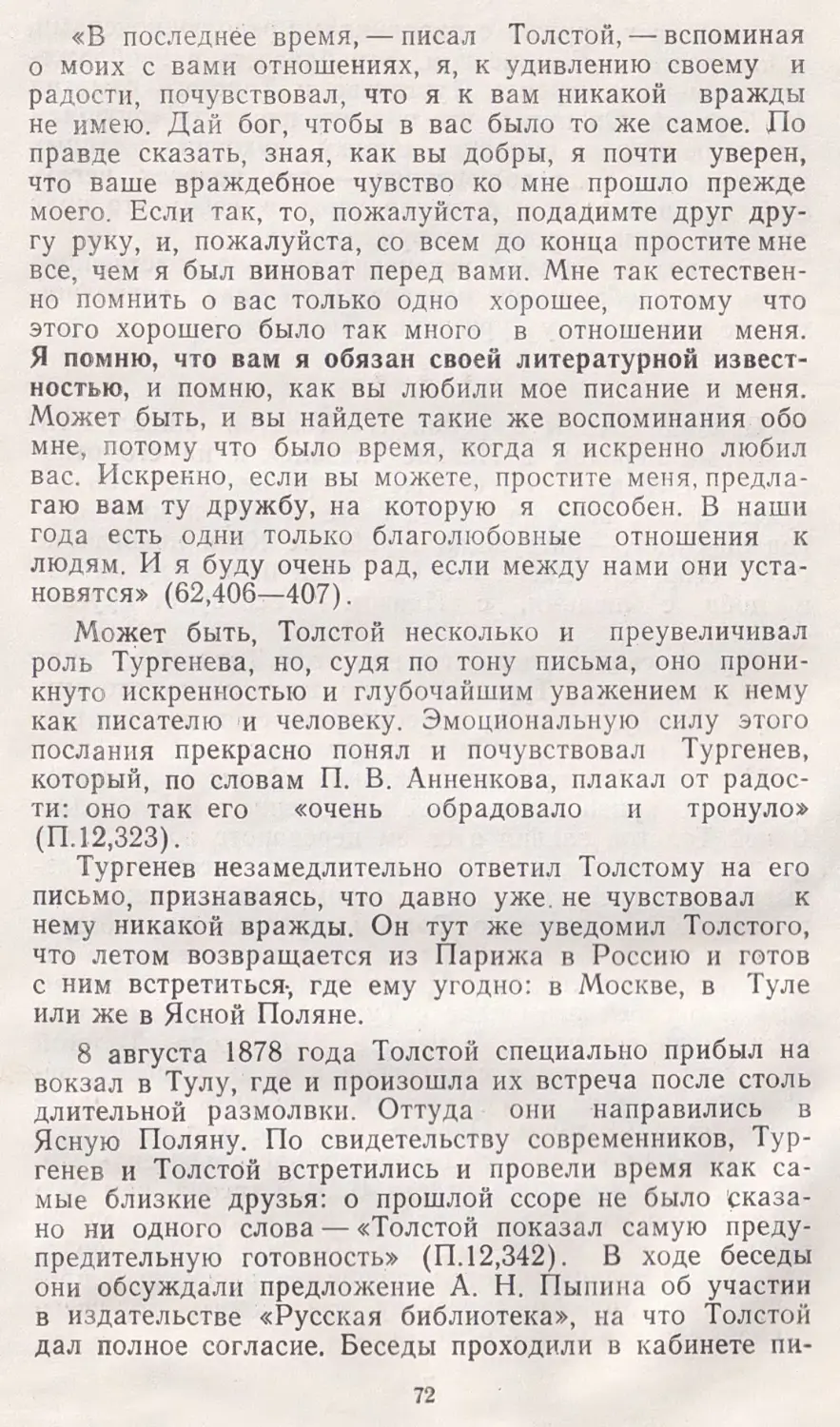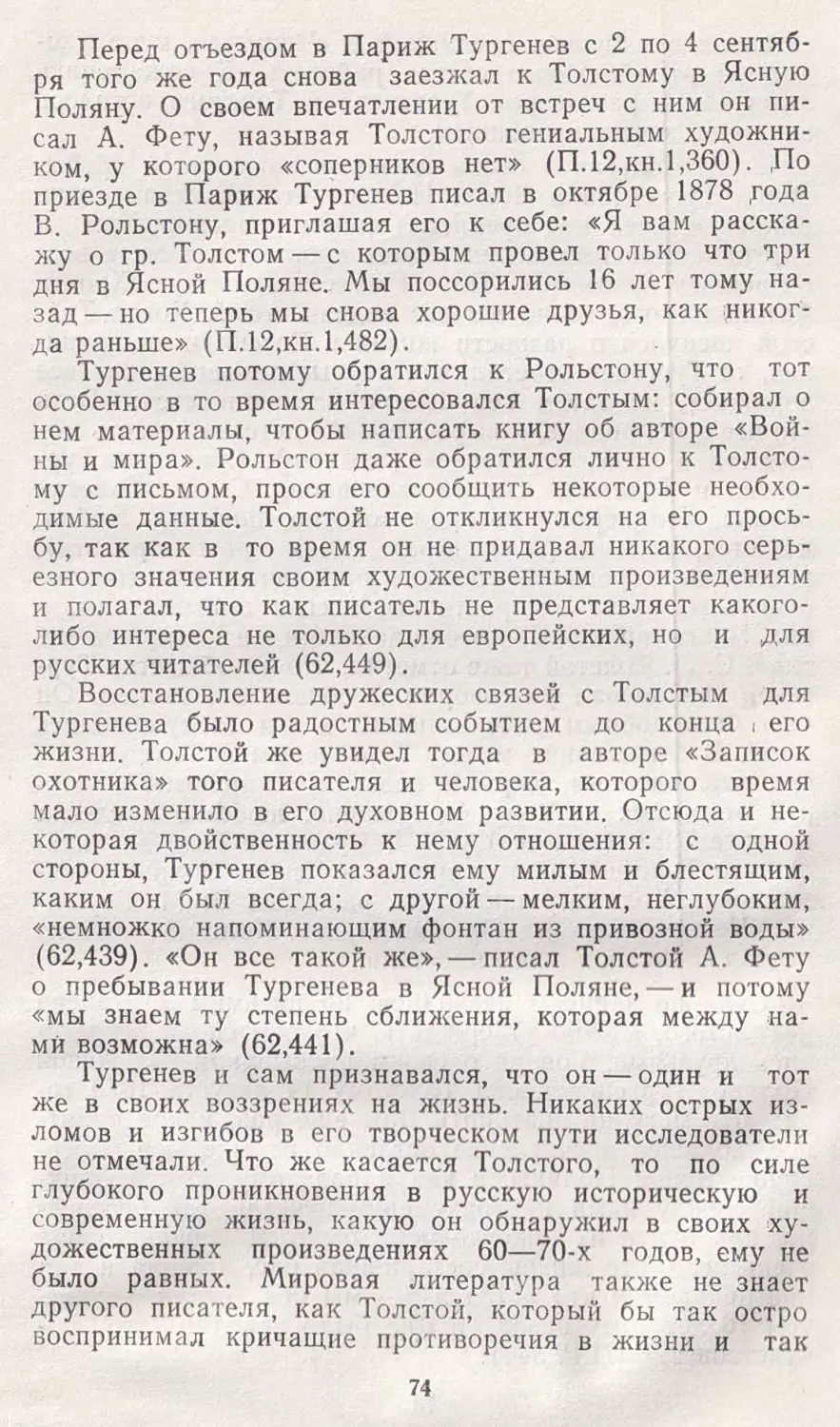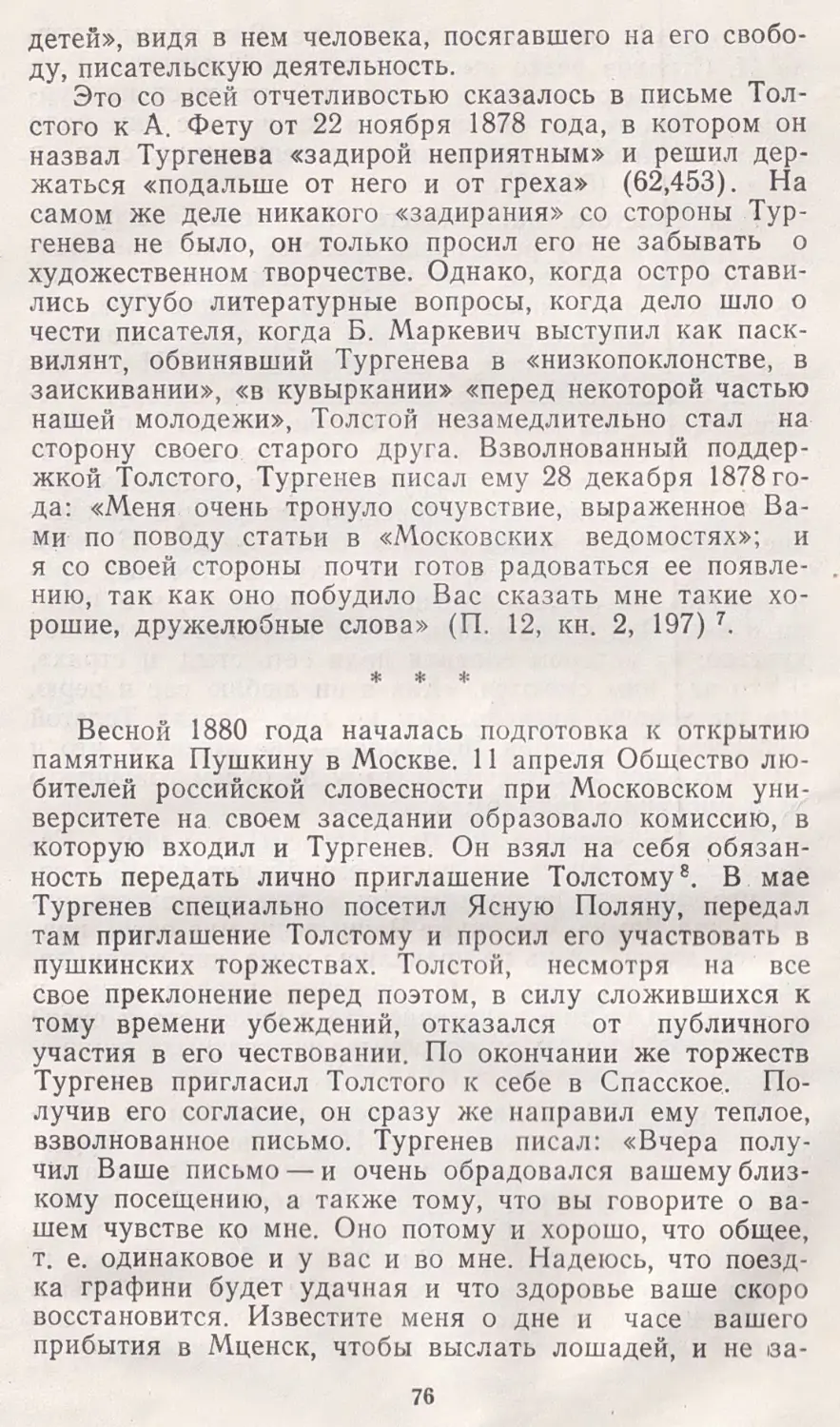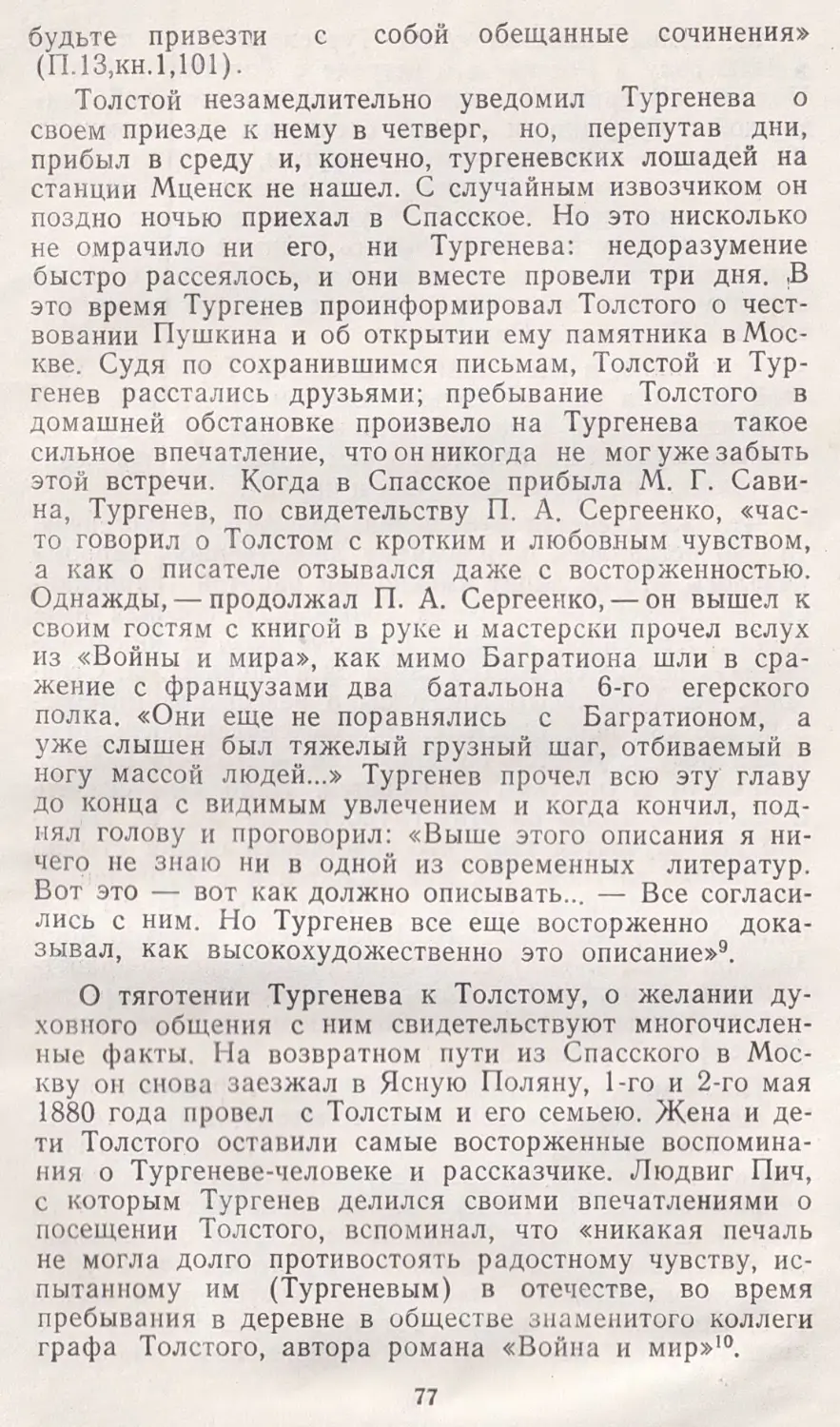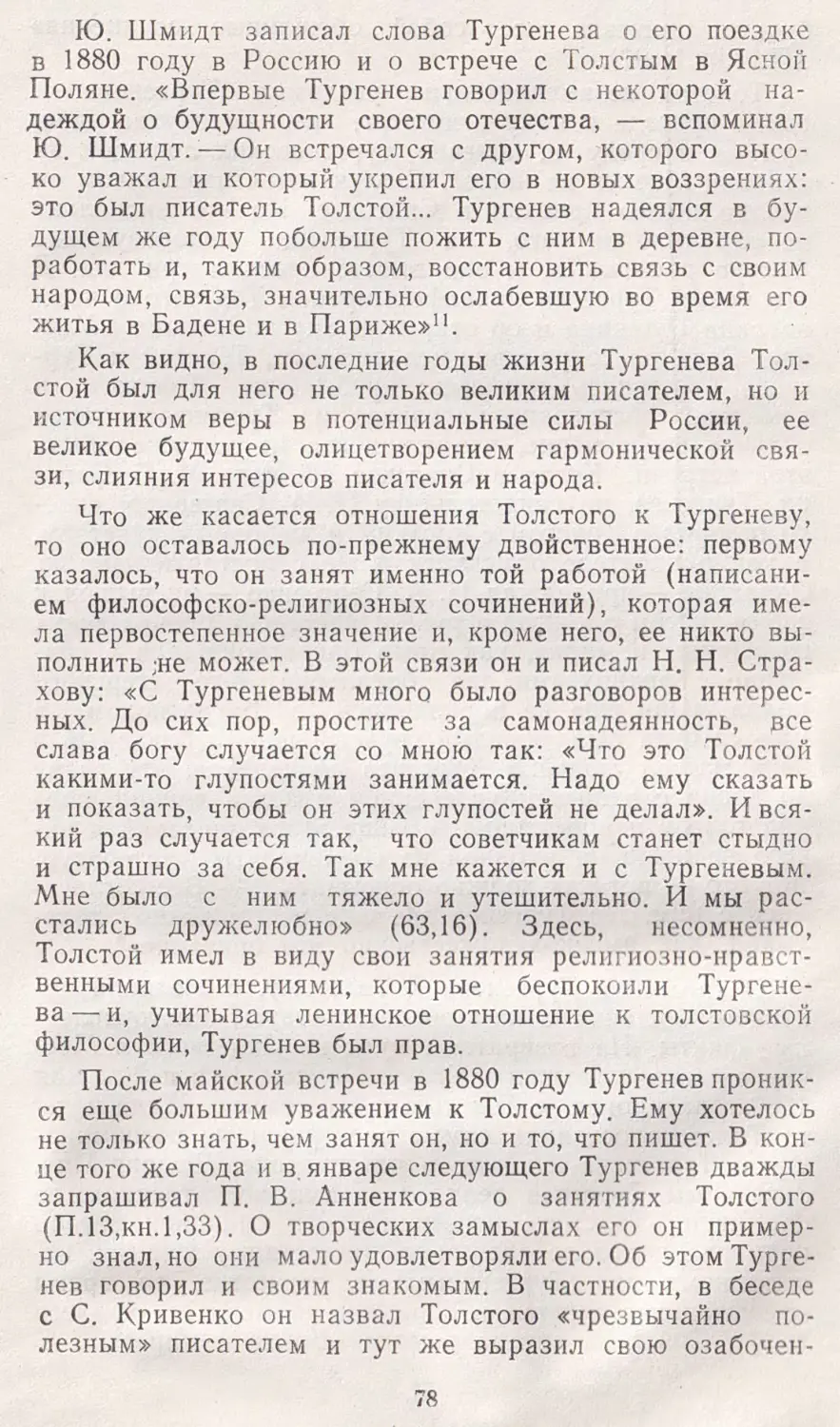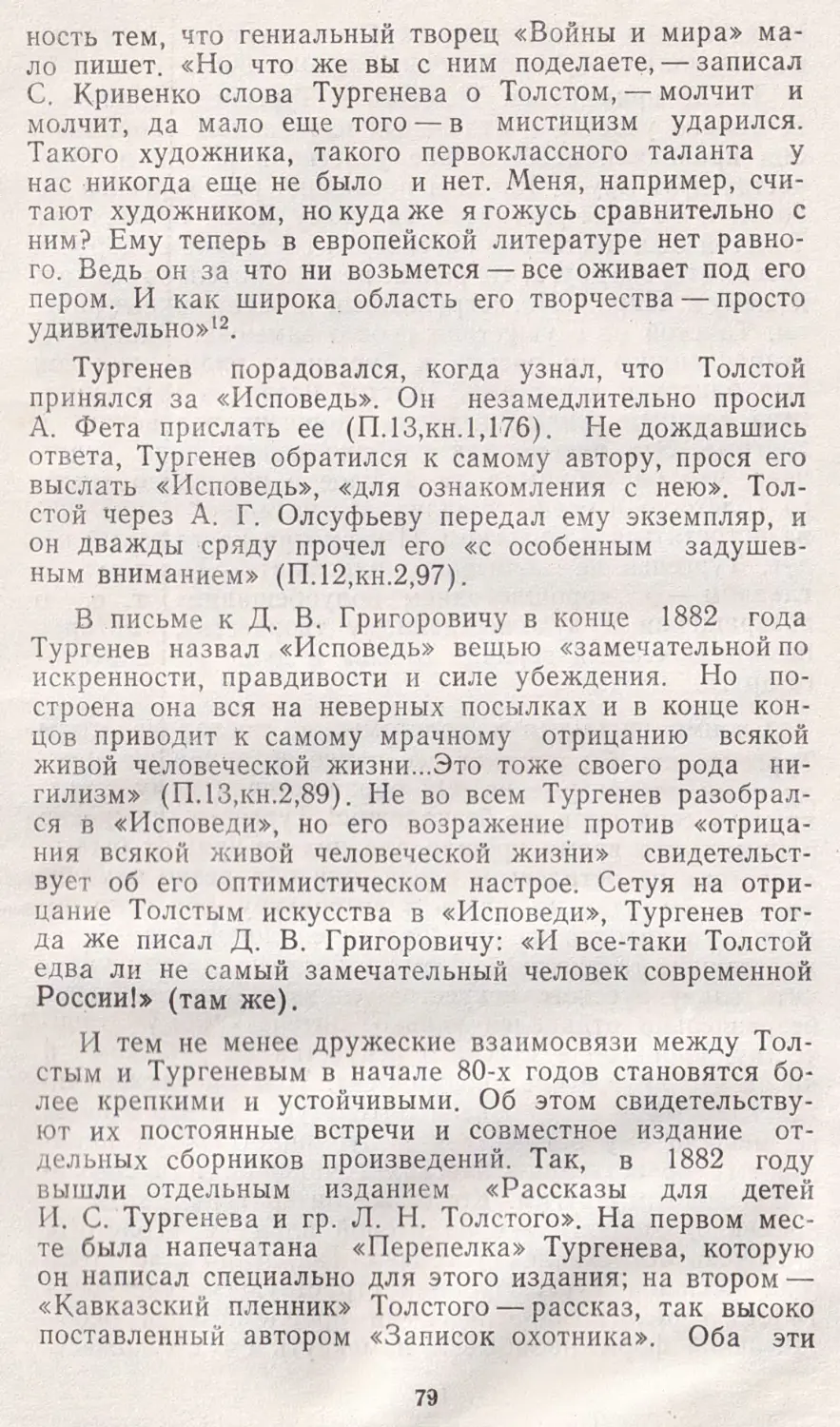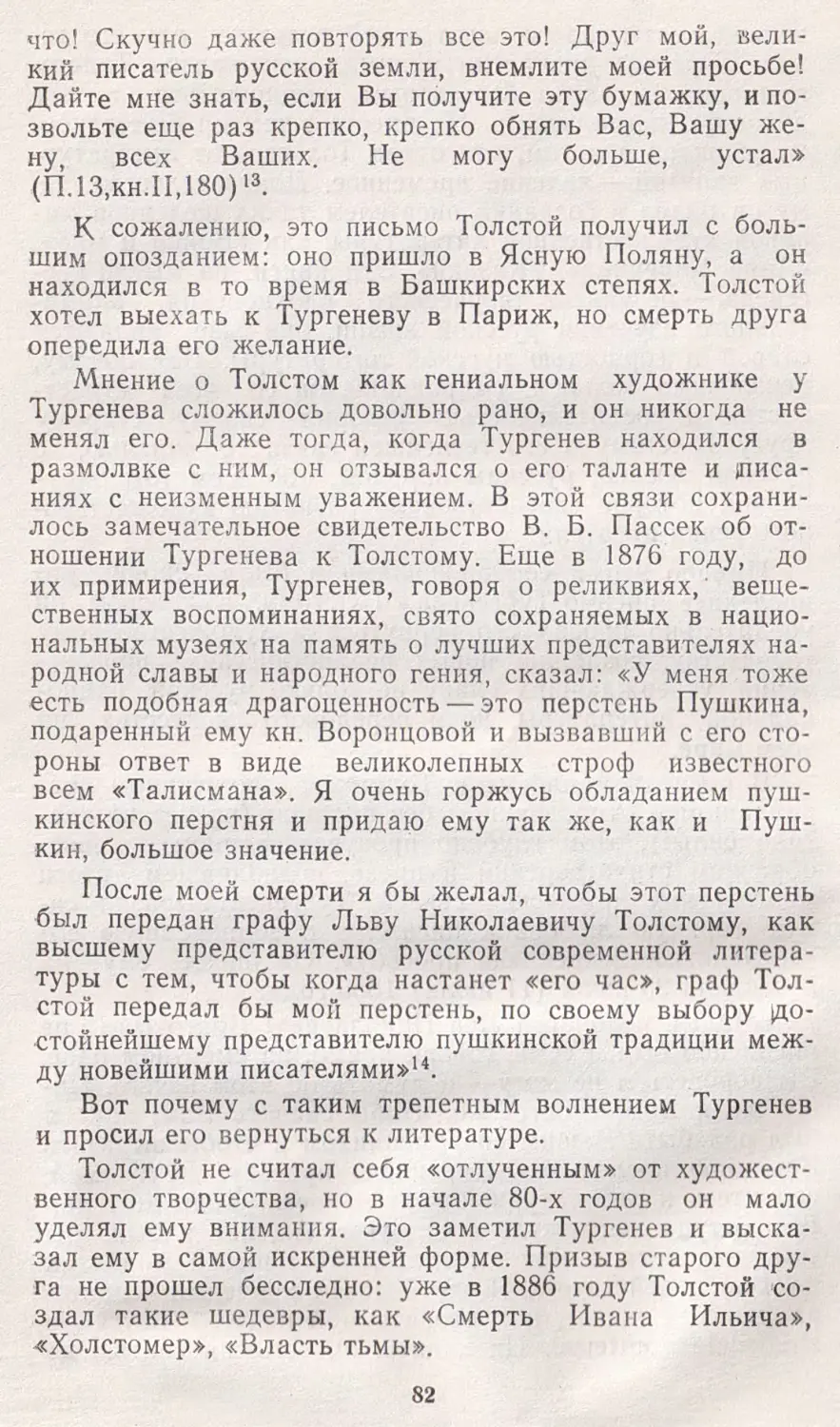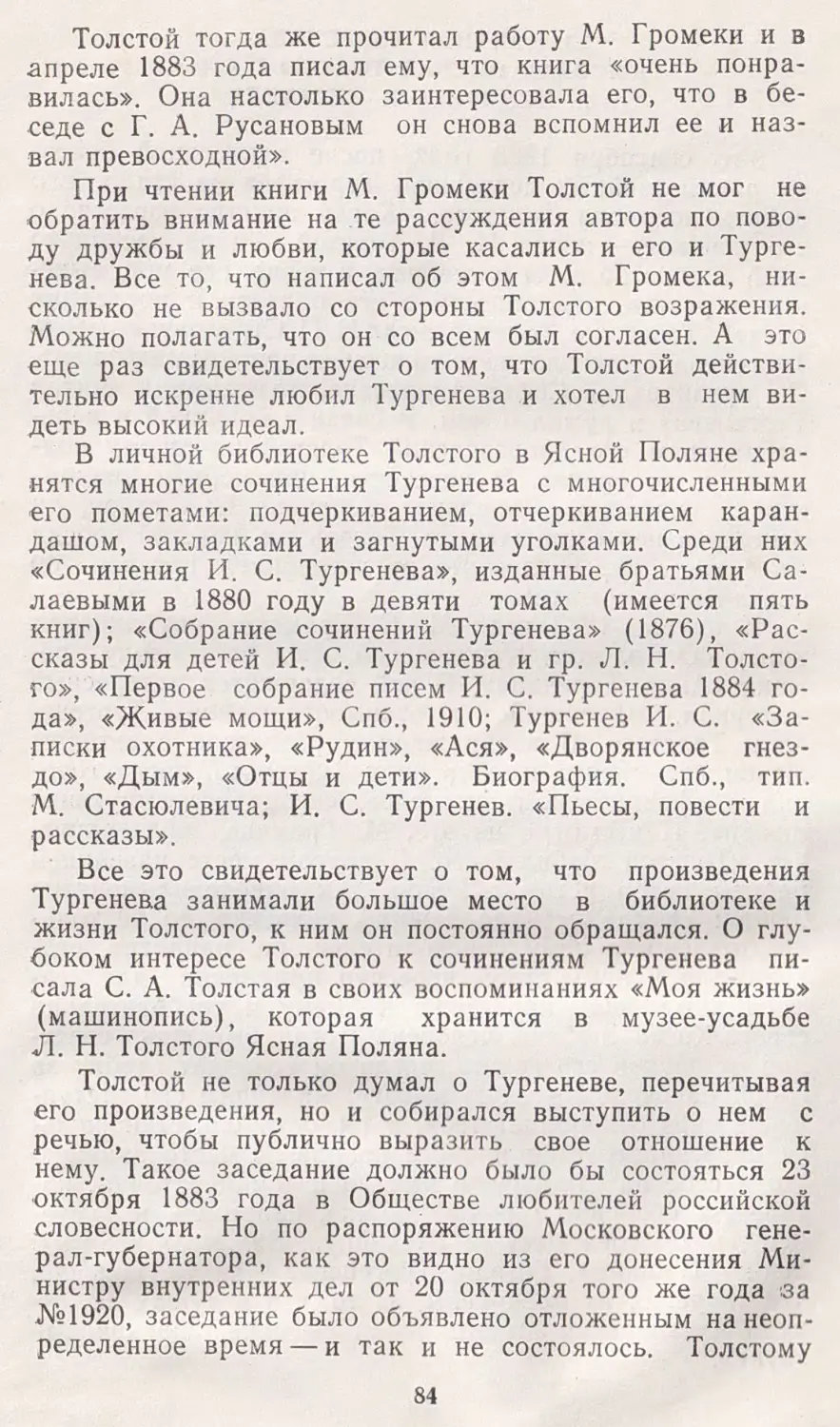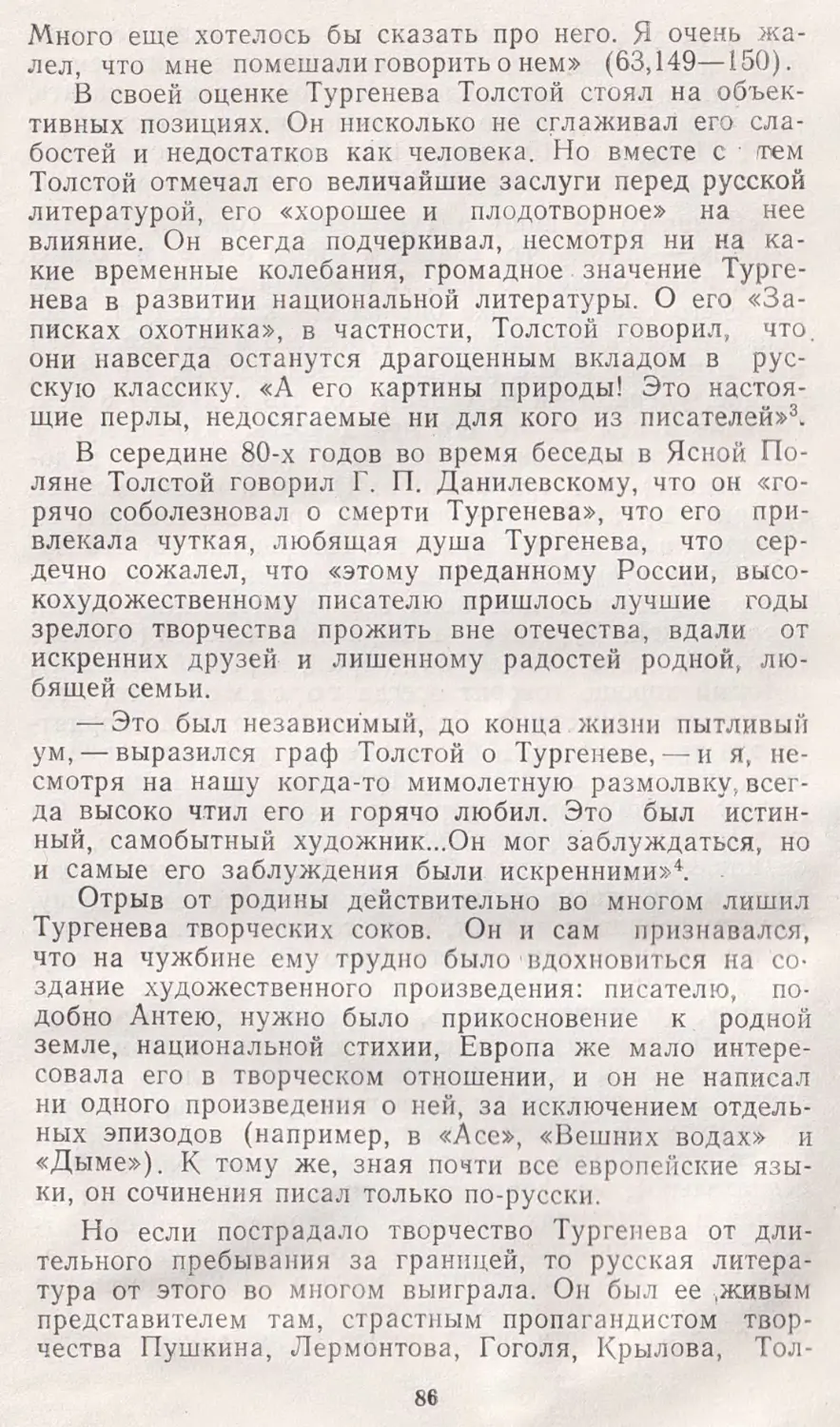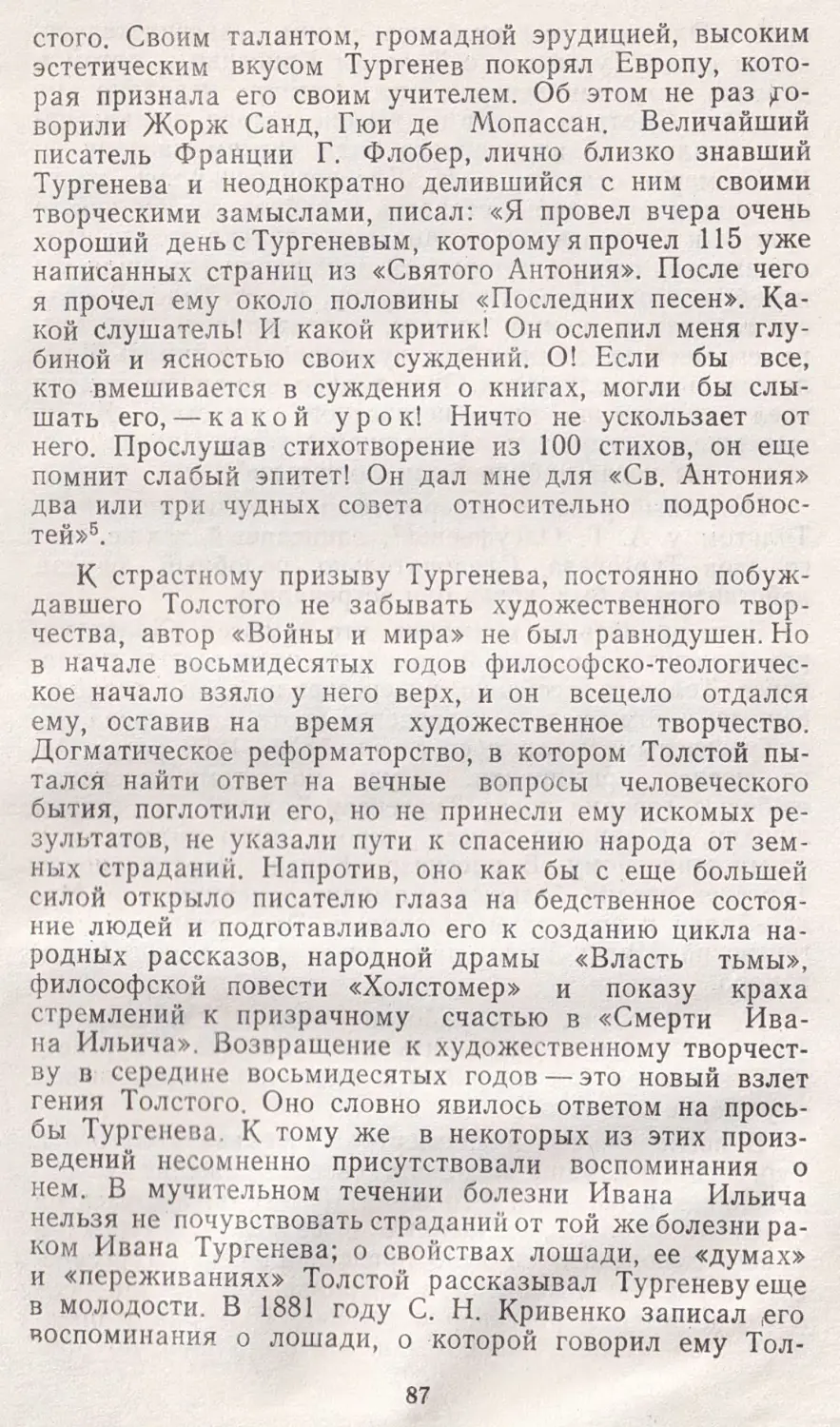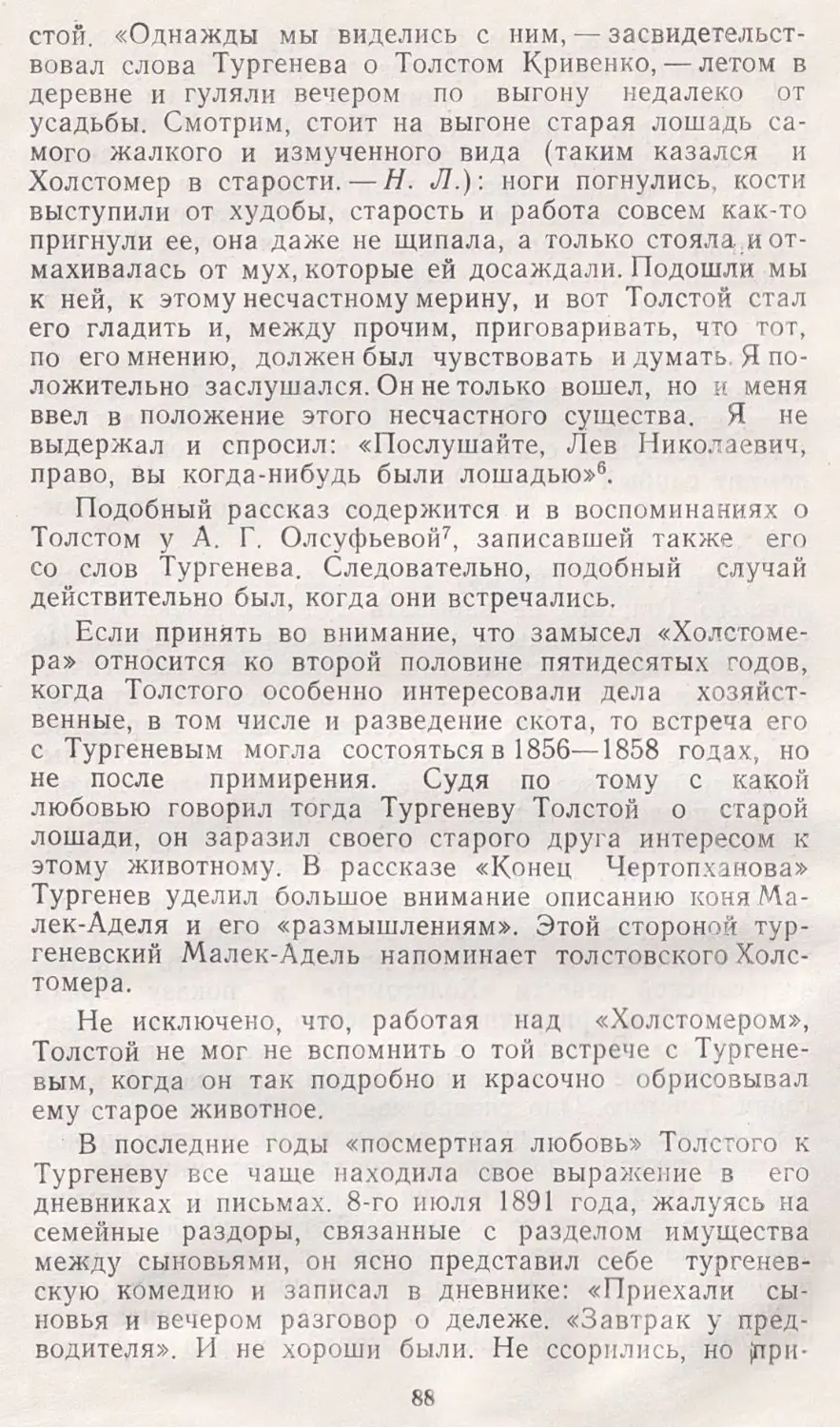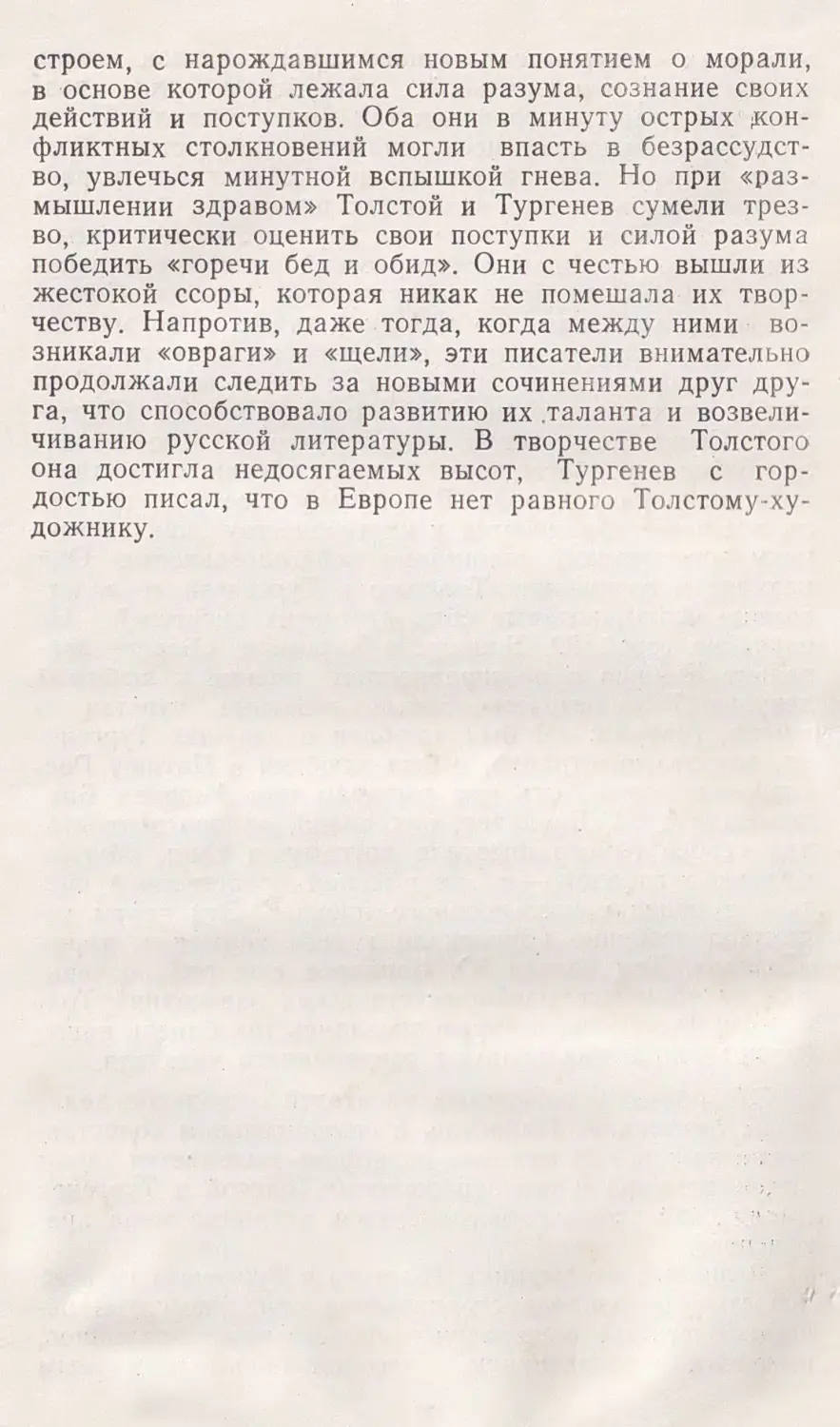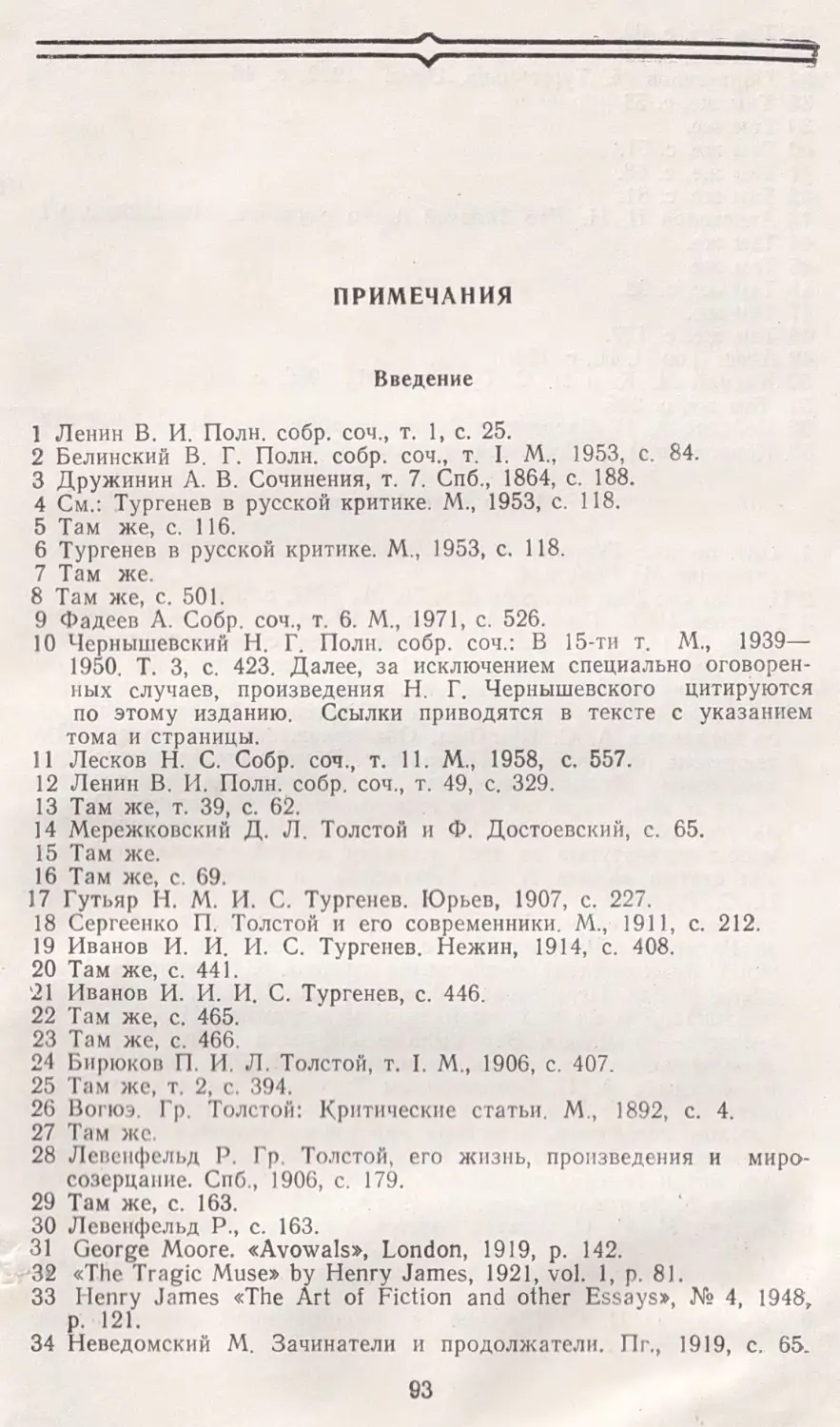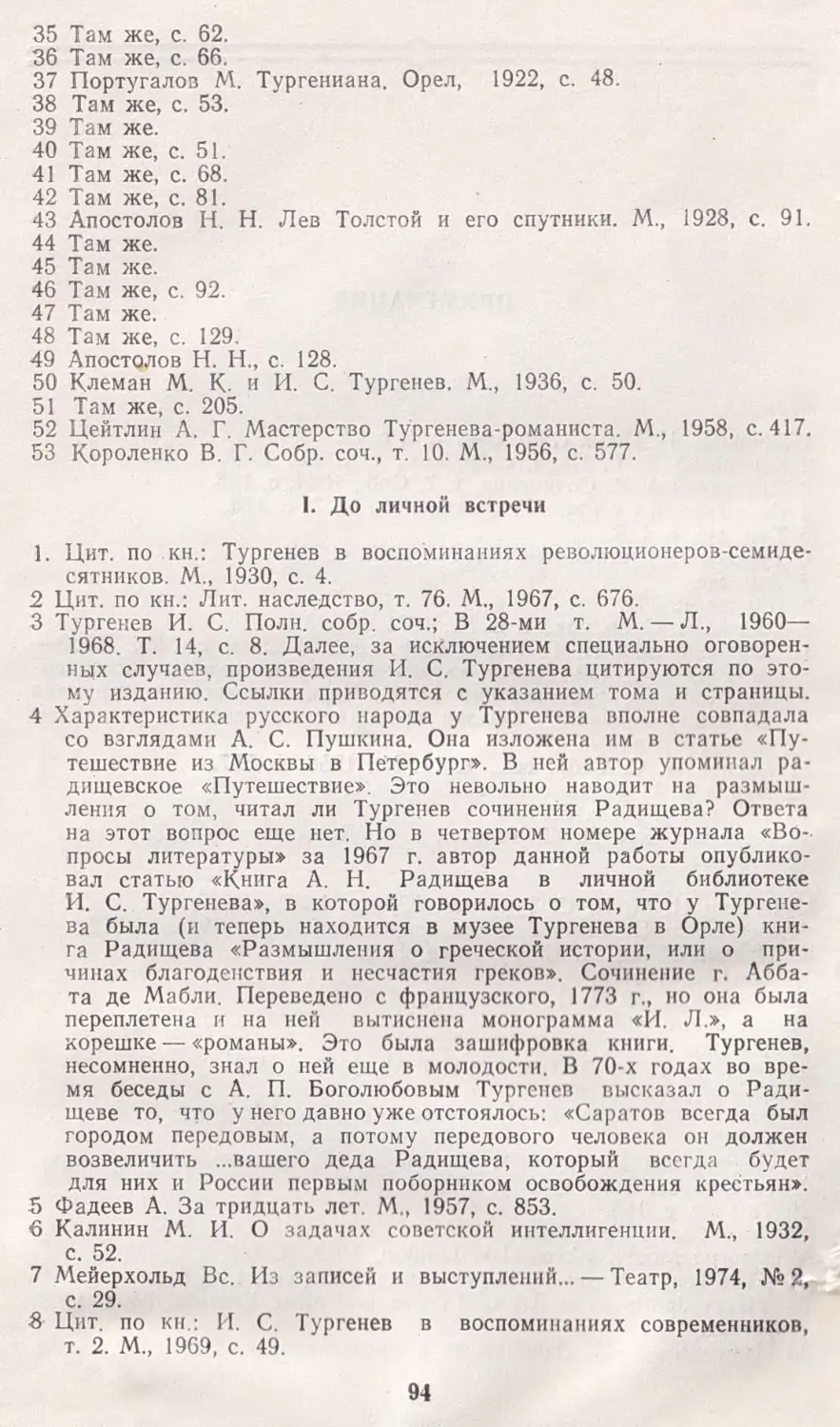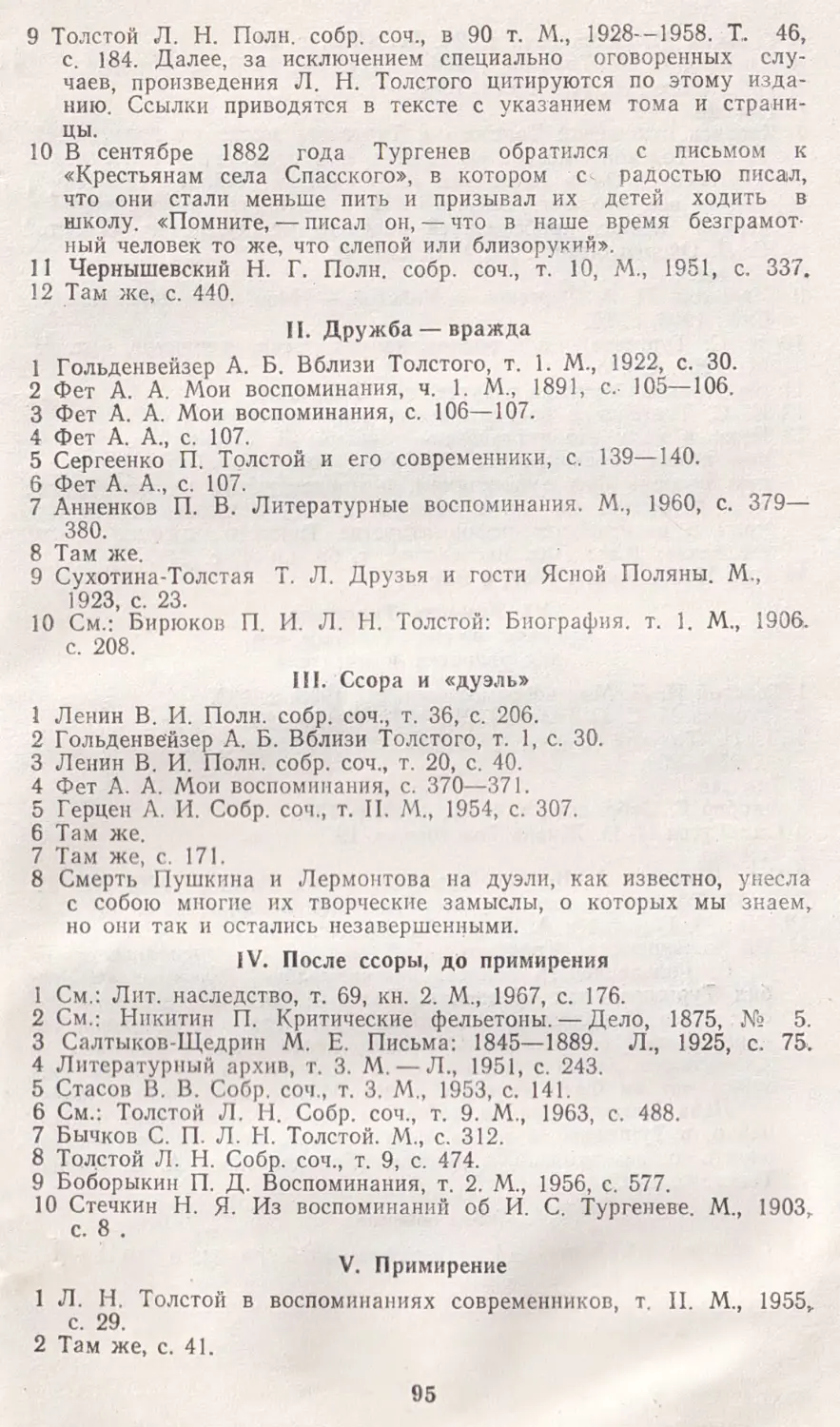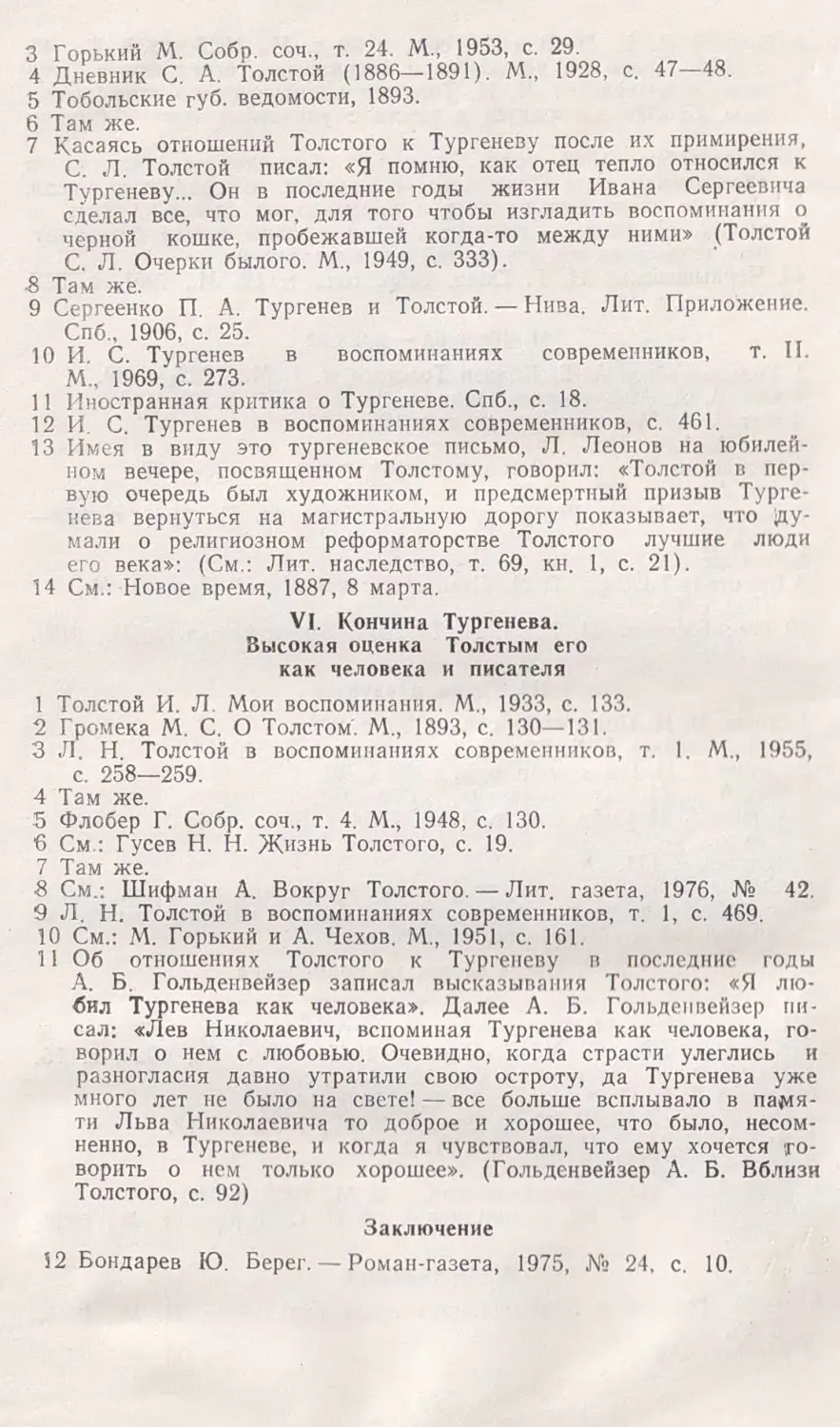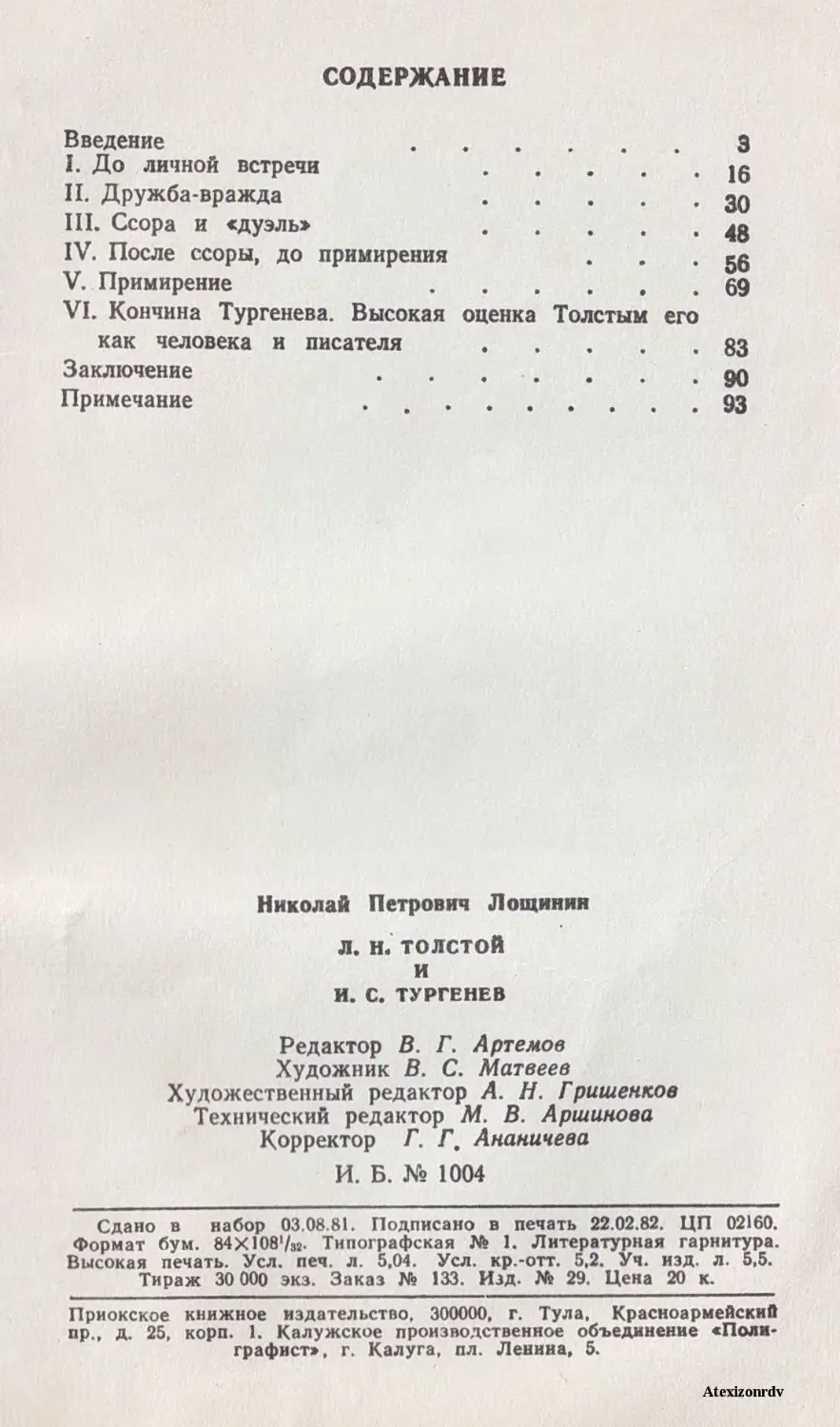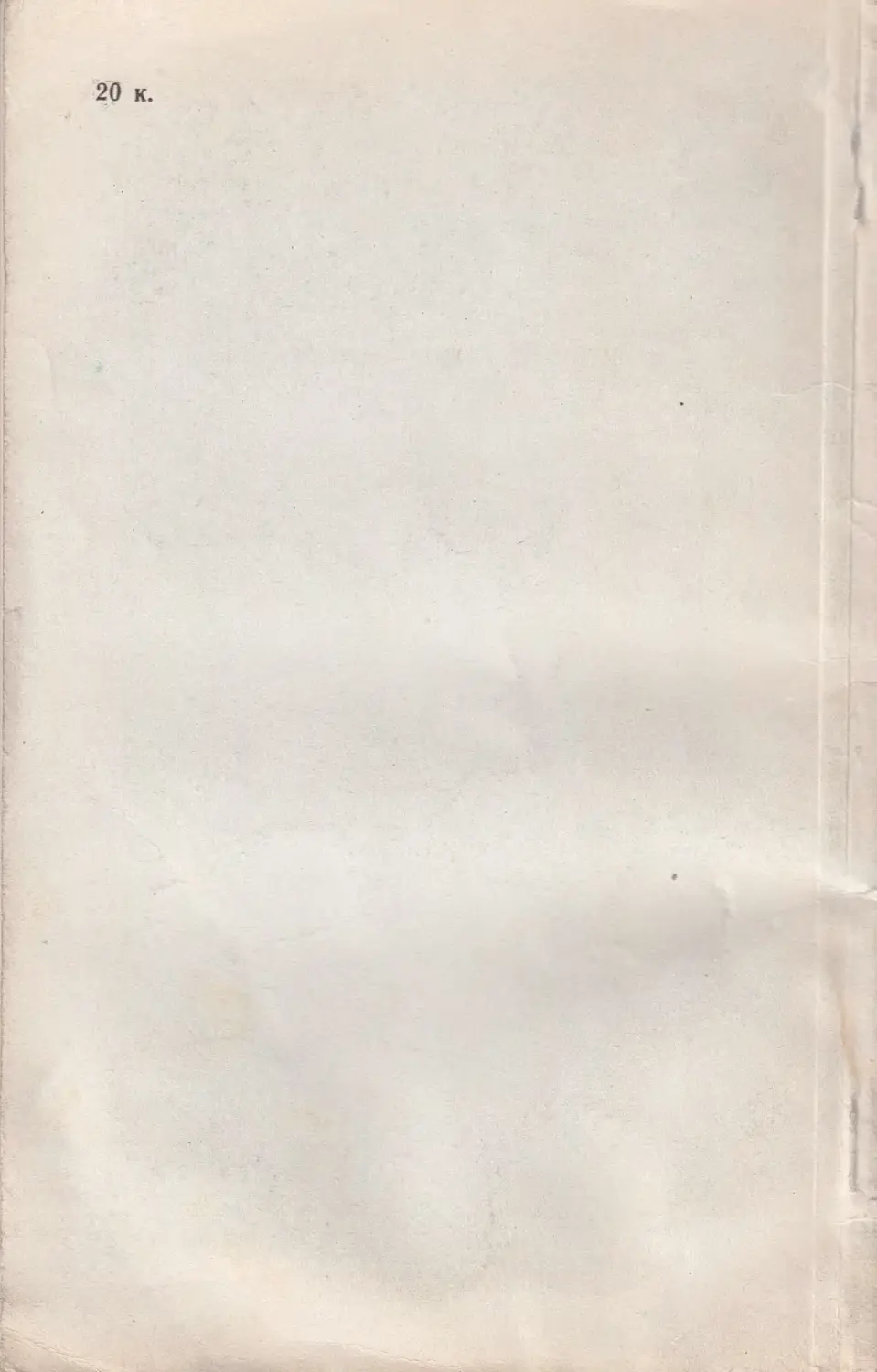Текст
Л. JT.J1'спцинин 1 ший zz_______
ИИ
Н. П. Лощинин
.1.11.10.111(10
ИХ.ТУРГЕНЕВ
(ТВОРЧЕСКИЕ И ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ)
ТУЛА ПРИОКСКОЕ КНИЖНОЕ^ИЗДАТЕЛЬСТВО 1982
83. ЗР1 Л 81
В настоящей книге рассматриваются вопросы, затрагивающие сложные и противоречивые отношения двух классиков отечественной литературы — Льва Николаевича Толстого и Ивана Сергеевича Тургенева.
Эти писатели по-разному вошли в русскую литературу, разными были и их творческие методы, но в одном они объединялись и сходились полностью — в любви и служении русскому народу.
Автор книги собрал и обобщил богатейший материал, касающийся творческих и личных взаимоотношений Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева. Опираясь на многочисленные зарубежные и отечественные источники, он дал четкую и аргументированную оценку «дружб е-вражде» между великими русскими писателями, показал, откуда и как появились в их жизни «щели и овраги», приведшие к так называемой дуэли между ними.
Лощинин Н. П.
Л81 Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев: К вопросу о творческих и личных отношениях. — Тула: Приок. кн. изд-во, 1982. — 96 с.
30.000 экз.
В книге исследуются творческие и личные отношения двух великих русских писателей.
Автор делает подробный анализ литературы, вышедшей у нас в стране и за рубежом, посвященной жизни, литературной и общественной деятельности Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева.
Книга предназначается для всех, кто интересуется историей русской литературы.
83.3Р1
_ 70202—29
Л М154(03) — 82 29-82-4603000000
© Приокское книжное издательство, 1982.
ВВЕДЕНИЕ
В мировой литературе история творческих и личных отношений писателей привлекала и привлекает к себе внимание исследователей как одна из важнейших ли-тературоведческих проблем. Путем сравнения двух художников слова можно наиболее ярко и полно на конкретном материале выявить и то общее, типологи-ческое, что объединяет их, и то неповторимое, специ-фическое, индивидуальное, что свойственно каждому великому писателю. Это представляет еще больший интерес, когда они долгие годы жили в одной стране, писали в одно и то же время, которое было предметом их творческих раздумий и вдохновения. При проведении исследования сравнительным методом В. И. Ленин видел «основное правило сравнения» в том, «чтобы сравниваемые явления были однородны»1.
В. Г. Белинский еще в «Литературных мечтаниях» писал о сравнении как лучшем способе постижения1 истины. Он говорил: «Вещи всего лучше познаются сравнением. Если два писателя пишут в одном роде и имеют между собой какое-нибудь сходство, то их не иначе можно оценить в отношении друг к другу, как выставив параллельные места: это самый лучший пробный камень»2.
Толстой и Тургенев более пятидесяти лет прожили и свыше тридцати годов писали в одно время, сотрудничали порой в одних и тех же журналах, посвятили свое творчество преимущественно изображению крестьянства и поместного дворянства. К тому же они жили в соседних губерниях (Тульской и Орловской), в одинаковых, примерно, социально-экономических условиях, оба явились художественными летописцами русской жизни, ставили в своих произведениях коренные, злободневные проблемы, запечатлели важнейшие общественные, философские, нравственно-этические сдвиги в стране, оставили богатейшее литературное наследство,
явившееся неоценимым вкладом в национальную и мировую культуру, создали свои школы, плодотворно разрабатывавшие их реалистические традиции.
Однако необходимо учитывать и то, что Тургенев был старше Толстого на десять лет. Молодой Тургенев лично знал Пушкина, Лермонтова, Гоголя, много лет встречался и дружил с В. Г. Белинским, пережил увлечение романтизмом и последующим своим творчеством способствовал утверждению реализма. Для Толстого все эти имена были только литературой. Он начинал писать, когда реализм являлся основным творческим методом. Молодой Толстой сразу же выступил как сторонник натуральной школы, как продолжатель реалистических традиций. Своим творчеством он возвысил критический реализм до недосягаемых высот в мировой литературе и тем самым подготавливал почву для возникновения нового искусства слова, возглавляемого М. Горьким.
С тех пор как появились «Записки охотника» Тургенева и «История моего детства» Толстого, критики, литературоведы постоянно обращались к ним. Они исследовали не только их эстетические достоинства, но и пытались использовать в целях литературной борьбы. Так эстетствующая, консервативная критика уже в середине 50-х годов минувшего века пыталась истолковать сочинения Толстого и Тургенева в духе «чистого искусства». В статье «Повести и рассказы И. Турге-нева» (1856) А. В. Дружинин всеми силами стремился доказать, что все, написанное писателем (статья пос4 вящалась только что впервые вышедшему собранию сочинений Тургенева в трех томах), не имеет ничего общего с социальной действительностью. По его мнению, Тургенев — «идеалист-мечтатель», художник «с незлобивой душой... не каратель общественных пороков», «эпикуриец-поэт... созданный для наслаждения жизнью». Он подчеркивал, что поэзия Тургенева — «свободно-бессознательна», что сила его «в поэтическом изложении, в даровании, исполненном субъективного идеализма», что он не объективный художник. А. В. Дружинин отрывал «мир поэзии писателя от мира реального, полагая, что между ними нет ничего общего»3.
В таком же плане «чистого искусства» писал С. Ду-дышкин о Тургеневе в «Отечественных записках». Придерживаясь «теории» о необходимости «примирять
идеал с обстановкою»4, он «открыл», что главные персонажи Тургенева «не гармонируют с обстановкой», что «все главные лица мужского пола во всех повестях г. Тургенева, от «Андрея Колосова» до «Рудина», изображаются г. Тургеневым, как идеалы; ...что все эти лица списаны с одного и того же типа»5. Против такого сравнения решительно выступил Чернышевский. Он говорил, что образы Пасынкова и Вязовкина, Рудина и Бреттера совершенно различные, не являются идеальными и никак не могли быть списаны с одного лица.
Имея в виду эстетствующую критику, Чернышевский писал, что она не поняла Тургенева, и все, что написано ею, не может быть признано удовлетворительно. «Суждения наших журналов о г. Тургеневе до сих пор( не удовлетворили меня, — писал он в 1856 году. — Они как будто не знали, какое огромное значение в русской литературе имеет г. Тургенев по своему влиянию на публику, да и на развитие самой литературы»6. Он подчеркивал, что «из действующих ныне писателей нет никого, чьи заслуги перед публикой равнялись бы заслугам г. Тургенева»7. Также высоко ставил Тургенева и Некрасов, назвавший его «поэтом более, чем все русские писатели после Пушкина, взятые вместе»8. И тем не менее, несмотря на эти высказывания, как справедливо писал А. Фадеев, Тургенев-писатель оставался «недооцененным современной критикой и литературоведением и значительной частью писателей наших»9.
С. Дудышкин рассматривал Толстого «по преимуществу художника в душе». И только... За ним A. J3. Дружинин безоговорочно отнес писателя к «бессознательным представителям чистого искусства».
У поэтической колыбели Толстого стоял Некрасов. Он первый указал на «действительность содержания» его «Детства» и на талант автора этой повести. Все лучшие вещи молодого писателя были напечатаны в «Современнике». Полемизируя с эстетствующей критикой, неспособной понять Толстого, Чернышевский четко означил то новое, что было внесено им в художественную литературу; 1. Умение показать «сам психический процесс, его формы, его законы, диалектику души», проследить, «как одни чувства и мысли развиваются из других»10. 2. Обладая глубокими знаниями человеческого сердца, он показал «способность раскрывать перед нами его тайны» (3, 427). 3. Мастерство в изоб
ражении внутренних монологов (3, 424). В самом Толстом Чернышевский отметил «чистоту нравственного чувства» (3, 427), наблюдательность, зоркость глаза и памятливость, самоуглубленность, стремление к неутомимому наблюдению над самим собою, динамику духовного развития, обнаружившуюся в каждом новом его произведении (3, 421). Все это позволило критику увидеть в молодом Толстом прекрасную надежду для литературы, «залоги того, что совершит он впоследст. вии; но как богаты... эти залоги» (3, 431).
В уяснении творчества Тургенева и Толстого много сделали своими работами о них П. Лавров, Н. Михайловский, В. Короленко, И. Франко, В. Воровский, хотя они и не ставили перед собой задачу сравнительного изучения творчества упомянутых писателей. В 1893 году Н. С. Лесков в письме к М. О. Меньшикову высказал мысль о том, чтобы «провести сравнения между огромными силами Л. Толстого и «благоустроенным» умом и талантом Тургенева? Это было бы очень благопотребно»11. Н. Лесков почувствовал назревшую необходимость в исследовании творчества Тургенева и Толстого сравнительным методом.
К сожалению, такой работы о них до сих пор нет, хотя накопилась громаднейшая литература о каждом из названных писателей. В отдельных монографиях о Тургеневе, Толстом исследователи иногда пытались делать сопоставления некоторых сторон их творчества, но делалось это порой на случайных материалах. Само собою разумеется, что такой анализ не давал объективного представления о писателях и был лишен научной методологии, которая требует того, чтобы «каждое положение рассматривалось лишь (а) исторически; (б) лишь в связи с другими; (у) лишь в связи с конкретным опытом истории»12. При этом В. И. Ленин указывал на то, чтобы «не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»13.
Эти ленинские положения являются основополагающими и для изучения взаимосвязей Тургенева и Толстого. Буржуазное дореволюционное литературоведение меньше всего считалось с ходом исторических закономерностей и по-своему, субъективно, освещало и лите
ратурный процесс и писательские отношения. Одним из первых, кто попытался коснуться проблемы взаимосвязей Тургенева и Толстого, был Д. Мережковский. В книге «Л. Толстой и Достоевский» он отнесся к Толсто-му тенденциозно как к «ясновидцу плоти», а не духа, как к ненавистному ему писателю-реалисту. Не без упрека ему Мережковский писал, что судьба послала Толстому «достойного великого друга», но он сам оттолкнул его или не сумел приблизить»14. Касаясь взаимоотношений Тургенева и Толстого, Д. Мережковский писал: «Их отношения — одна из труднейших и любо-1 пытнейших психологических загадок в истории русской литературы. Какая-то таинственная сила влекла их друг к другу, но, когда они сходились до известной близости — отталкивала, для того, чтобы потом снова притягивать. Они были неприятны, почти невыносимы и, вместе с тем, единственно близки, нужны друг другу. И никогда они не могли ни сойтись, ни разойтись окончательно»15. Ему казалось, что Тургенев и Толстой напоминают собою «два зеркала, поставленные друг против друга, отражающие, углубляющие друг друга до бесконечности»16. В наблюдениях Д. Мережковского имеются отдельные верные суждения, в целом же они построены не столько на исследовании их творчества, сколько по заданной схеме. Д. Мережковский не сумел объяснить ни причин притяжения Тургенева и Толстого друг к другу, ни того, чем были' они «неприятны» и «невыносимы», что осложняло их дружбу и возводило «овраги» и «щели».
Если Д. Мережковский попытался подойти к рассмотрению взаимосвязей Тургенева и Толстого со стороны психологической и видел в этом главную причину их постоянных размолвок и ссор, то И. Гутьяр «усмотрел» истоки конфликтов между ними в разности образования и творческого подхода в изображении действительности. По его мнению, у Тургенева «широкое в европейском смысле» образование, у Толстого—«недостаточное»17; у первого преобладал «идеализм» в отражении жизни, у второго — «сильный скептицизм и бесплодный анализ». Обе эти причины не являются определяющими и взяты Н. Гутьяром совершенно случайно, не выдерживают никакой критики.
Если внимательно присмотреться к творчеству названных писателей, то нетрудно убедиться в том, что у «идеалиста» Тургенева было немало и скепсиса в его
сочинениях, а «скептик» Толстой, «европейски образо-ванный писатель» (Ленин), создал самую оптимистическую в мировой литературе эпопею «Война и мир».
П. А. Сергеенко не был исследователем-литературоведом, но его живые, непосредственные наблюдения над писателями-современниками представляют несомненный интерес. Он много раз встречался -с Толстым и слышал от него мнение о Тургеневе. Но взаимоотношения этих писателей Сергеенко осветил по-своему. Он доминирующее значение в их связях придавал «вражде», хотя и не указал на истоки ее возникновения и совершенно не заметил между ними дружбы. Это привело П. Сергеенко к субъективному, эмоциональному и одностороннему выводу. «И в истории человечества,— заявлял он, — быть может нет более наглядного и поучительного примера: как хрупки и бессильны все средства для установления между людьми добрых отношений, если в наличности нет связующего цемента — любви»18.
И. И. Иванов в монографии о Тургеневе решил проследить его взаимоотношение с Толстым на протяжении всего творческого пути автора «Записок охотника». Однако гений Толстого оказался ему совершенно не под силу, и он не сумел разобраться ни в специфике^ ни в кричащих его противоречиях. Иванов не столько сопоставляет, сколько противопоставляет Тургенева Толстому. По его интерпретации, Тургенев — истинный и великий, оригинальный художник. В таланте Толстого он постоянно подчеркивал случайные, стихийные и инстинктивные начала. Оспаривая тезис Г. Успенского: «Толстой весь огромный», Иванов писал, что «великий художник Толстой едва ли не самый обыкновенный, самый не — огромный человек среди великих писателей»19, что в его «художественных произведениях много таланту, но никаких открытий», что ему чужда «вся область человеческих идей, бескорыстного общего мышления, идеальных общих задач, — все, что за пределами собственного тела»20, что он «живет инстинктами», а потому «природа не наградила <его> душевной красотой»21. Касаясь конкретных произведений Тургенева и Толстого, Иванов утверждал, что «Исповедь», например, такие же senflia Тургенева, но «написаны они человеком с несравненно более ограниченным умственным миром и почти лишены общечеловеческих захватов и сочувствий»22. Оспаривая оригинальность толстовских
сочинений, он писал: «Вообще после писателей XVIII века вся «критическая» литература Толстого—крайне неуклюжее ученическое повторение»23. «У графа Толстого нет и следа творческого и нравственного подвижничества, каким горят писания Гоголя», — продолжал исследователь, — «нет и намека на сосредоточенную самоотверженную мощь лермонтовского гения», его «проза далека от необъятной благородной человеческой лиры пушкинских вдохновений». Поэтому толстовские герои: «Оленин, кн. Нехлюдов, гр. Вронский, Пьер Безухов, Пл. Каратаев... далеки от нас, почти безразличны... И настолько во всех этих случаях выше и нужнее лица, созданные Тургеневым». Отсюда И. Иванов делает грубейший вывод: у Тургенева есть свои ученики и продолжатели, у Толстого их нет. Ошибочный метод исследования, заключающийся только в противопоставлении, а не в объективном раскрытии художественных ценностей, внесенных каждым из названных писателей в литературу, привел его к ложным выводам.
П. И. Бирюков в биографии «Л. Н. Толстой», написанной еще при жизни писателя и с привлечением многих источников, полученных непосредственно от него, внимательно проследил внешнюю сторону взаимоотношений Толстого и Тургенева. Он впервые наиболее полно использовал в своем труде факты, относившиеся к «печальным событиям», т. е. к ссоре, и закончил свой рассказ размышлением о том, что она была «подобно грозовому удару», разрядившему «напряженную атмосферу между двумя великими людьми и потом, быть может, послужившему к их более искреннему и более правдивому сближению»24. «И действительно, — подчеркивал П. И. Бирюков, — время рассеяло возникшие между ними недоразумения, и они, примирившись, стали снова друзьями»25.
Проблема творческих и личных взаимоотношений Тургенева и Толстого привлекала к себе внимание и таких крупных зарубежных критиков и писателей, как Мельхиор де Вогюэ, Р. Левенфельд, Г. Мур, Г. Джеймс и др.
Главную причину несходства упомянутых писателей они видели в разности их культур и мировоззрения. Вогюэ считал Тургенева воспитанником Запада, продолжателем его традиций, чистейшим «европеусом». Толстой же представлялся ему писателем, порвавшим
«связь с прошлым и чужеземным рабством», олицетворявшим «новую Россию... непонятную»26 иностранцам. Отсюда естественный вывод критика, что они — поляр-ны по своим общественным и художественным взглядам, и потому их разделяют не «овраги» а «целые пропасти»27. То же самое противопоставление «европейца Тургенева-западника» «русскому Толстому» положено в основу освещения взаимосвязей названных писателей в книге Р. Левенфельда. «Тургенев, — писал он, — примкнул без всяких сомнений и колебаний к великому обществу европейских культурных людей, усвоил себе его обычаи и привычки»28. Русский Толстой, по его мнению, «стоял... вне влияния, оставаясь философствующим мыслителем, который считает необходимым всякое даже самое незначительное жизненное явление приводить в связь с целым своим миросозерцанием»29. На основании этого он пришел к тому заключению, что Толстой и Тургенев, несмотря на постоянные контакты, никогда не могли вполне сойтись друг с другом, что между ними не могло установиться ни интимной дружбы, ни столь обычного в отношениях между выдающимися людьми жизнерадостного обмена мыслей и чувств. В дружбе-вражде Тургенева и Толстого Левенфельд не заметил взаимовлияния, а увидел лишь «великий... ущерб, причиненный этими недоразумениями... и им самим и литературе»30. В силу этого он противопоставил этим русским писателям дружбу Гете и Шиллера, оказавшую благотворное влияние на развитие их поэтического творчества.
Г. Мур усматривал коренное различие Тургенева и Толстого в разности их отношения к искусству: в первом он видел певца красоты, во втором — «моралиста и доктринера»31.
Г. Джеймс, во многом испытавший сильное влияние Тургенева, на первый план выдвигал в его творчестве совершенство формы и воспевание красоты. Художественное мастерство Тургенева он противопоставил Толстому, «пренебрежительно относившемуся к форме», по его мнению. Здесь Джеймс сближается с Муром, а далее он называет Толстого не творцом-художником, а «отражателем» жизни, его же романы — не произведения искусства, а «сырые ломти, посоленные состраданием»32. Джеймс называет Толстого «зеркалом», отразившим «всю человеческую жизнь», и тут же заявляет, что для «других его пример странен: учеников, не со
ответствующих размерам слона, он может лишь дезориентировать и предать» (?.), его методы не приемлемы для учеников.
Как видно, суждения Джеймса весьма шаткие и противоречивые. В конечном счете они сводятся к тому, что творчество Толстого, каким бы оно ни было «зеркальным»33, бесперспективно: его метод неприемлем, последователей писатель иметь не будет.
Итак, рассмотренные материалы как русских дореволюционных, так и зарубежных исследователей, свидетельствуют о том, что проблема взаимосвязей Тургенева и Толстого имеет не только личный, психологический интерес, но —прежде всего, историко-литературный и не только для русской науки о литературе, но и для европейской.
Проблема творческих взаимосвязей Тургенева и Толстого с еще большей остротой встала сразу же в первые годы Советской власти. Она была обусловлена новым отношением к культурному наследию прошлого. Здесь в первую очередь следует назвать статью М. П. Неве-домского «Два начала». (Об Л. Н. Толстом и Тургеневе). Она была написана раньше, но пересмотрена и переиздана в 1919 году. Высоко ставя талант названных писателей, автор все же оказался в плену старых представлений о них как представителях двух различных культур. Он повторил мысль о том, что Тургенев — «убежденный, закоренелый западник», а Толстой — «народник и наиболее последовательный и законченный»34. В европейце Тургеневе и «чистокровном, типично русском» Толстом М. Неведомский видел два «противоположных духовных крещения»35. «Эти два огромных художника-мыслителя являются удивительно целостными олицетворениями двух противоположных культур и этико-философских начал, — писал он,-—двух противоположных концепций жизни. Европеизм Тургенева — это прежде всего культурное миропонимание, целостное, чуждое морализма. Русское умонастроение Толстого есть морализм, морализм прежде всего, добро, как универсальный критерий всех оценок и определений, морализм догматичный и абсолютный»36. Такое сопоставление любопытно на поверхностный взгляд. При конкретном рассмотрении оказывается: морализм Толстого относится главным образом к тому времени, когда Тургенева в живых уже не было.
Другое творческое различие у Тургенева и Толстого
М. Неведомский видел в том, что первый имел аполло-новское, «оформленное эстетически и философски законченное созерцание», а второй — сократовское, стихийное, до конца оставаясь рассудочным моралистом и скептиком. К сожалению, и здесь ничего нового критик не сказал. В своих суждениях о Толстом он оставался на плехановской точке зрения, видя в нем «идеолога кающегося дворянства».
М. Португалов свою статью назвал «Тургенев и Лев Толстой». Он действительно попытался установить специфические черты каждого из них. Но исходной позицией для него была концепция М. Неведомского. Португалов указал на «психологическое несродство» Тургенева и Толстого и на разность их эстетических воззрений. «У Толстого, — писал он, — на первом плане стоят полезность и служебность искусству. Его взгляд рационалистически утилитарен. Роль искусства — воз-вышающе-очищающая и нравственно облагораживающая. Для Тургенева-—искусство не только возвышающее, но и мощное освобождающее начало жизни»37. Религиозно-нравственным доктринам Толстого, убеждающим и поучающим, по мнению Португалова, он противопоставил поэзию Тургенева, которая «чарует и пленяет»38. Если для Толстого, писал Португалов, «поэзия — сперва исповедь, а потом проповедь», то для Тургенева она — «ныне и присно и во веки веков»39.
Раскрывая понятие «психологической несродности», он отмечал у Тургенева рефлексию, гамлетизм, раздвоенность; у Толстого — единство и слаженность основных ее элементов, у него «не было ни рефлексии, ни диспепсии»40. В психологической несродности М. Португалов видел главную причину, порождавшую «идеологический антагонизм» между Тургеневым и Толстым.
Не найдя никаких точек сближения у них, М. Португалов решительно утверждал, что как бы «ни писали биографы, друзья и дети Толстого о его уважении и даже любви к Тургеневу, им не затушевать того неприятия, которого не мог преодолеть Лев Толстой в отношении к Тургеневу»41. Из этого он сделал вывод в категорической форме: «Как для Моцарта и Сальери не могло быть примирения в конгениальности, так и для Тургенева и Толстого. Пути и устремления их в корне и по существу глубоко различны, и между их личностями мы усматриваем не маленькую неприятную щель, а громадный неомошенный овраг»42.
Кого Португалов подразумевал под Моцартом и Сальери, сказано недостаточно ясно. К тому же ни Тургенев, ни Толстой не были похожи ни на Моцарта, ни на Сальери. Параллель, приведенная им, явно неудачная. Он совершенно игнорировал к тому же taM факт примирения Тургенева и Толстого, имевший большое значение в их творческой и личной биографии.
Н. Н. Апостолов перед тем, как приступить к рассмотрению взаимоотношений Тургенева и Толстого, высказал интересную мысль о том, что наряду с «историей литературы существует история «писателей», что «история писателей» («писательской» среды) часто органически связана с историей литературы, что «и то и другое — единая плоть и единая кровь»43, что «личные взаимоотношения писателей вообще не могут не волновать историка литературы»44.
Однако в основу освещения взаимосвязей Тургенева и Толстого Н. Апостолов положил уже известный тезис о том, что «с первых слов, какие они произнесли при первой встрече, уже обозначилась маленькая расщелина, которая все ширилась и ширилась и превратилась в глубокую пропасть, — ее, как ни старались, так и не могли до конца перейти ни Толстой, ни Тургенев»45. В подтверждение этого положения он ссылался на разность их мировоззрения, на то, что «слишком различали друг в друге «писателя» и «человека»46, что «друг возле друга они раздражали и «отвергали» один другого»47.
Н. Апостолов указал и на разность их в том, что Толстому «была неприемлема старая эстетичность Гегелевско-Гетевско-Тургеневская». Она была для него «чуждой стихией» и не позволяла ему «принять (?) Тургенева, как художника»48. В результате, писал исследователь, «с годами отношение Толстого к Тургеневу, как к художнику, приобрело все более отрицательный характер»49. В то же время, ссылаясь на последнее письмо Тургенева к Толстому, он писал, что с этим письмом «все наносное и тленное как-то отходит на задний план». К сожалению, это важное положение не нашло своего развития и обоснования в названной работе.
* * *
В 1934 году вышли две брошюры И. Ипполита «Ленин о Тургеневе» и А. Г. Цейтлина «Литературные цитаты Ленина». В них наиболее полно были суммированы высказывания Ленина о Тургеневе, и совершенно
ясно раскрывалось его отношение к знаменитому русскому писателю. И тем не менее в работах вульгарных социологов на первый план тенденциозно выдвигался либерализм Тургенева, который истолковывался догматически. Это особенно сильно сказалось в юбилейном сборнике «И. С. Тургенев. К пятидесятилетию со дня смерти», в котором все, что было создано писателем после «Отцов и детей», рассматривалось как антидемократическое. В 1936 году вышла первая крупная после революции монография «И. С. Тургенев» М. К. Клемана. В ней обобщен большой фактический материал. Но на его книге сказался налет вульгарного социологизма. Клеман акцентировал внимание на либерализме Тургенева, и потому на первом плане представлен писатель как верный сын «первого сословия Российской импе-1 рии», «идеолог либерального дворянства»50. Все это, как он писал, отразилось на творческом методе Тургенева в изображении действительности. Поэтому Клеман назвал его реализм «неполным», не дававшим вполне точного воспроизведения жизни51-
Говоря о месте Тургенева в течении русского реализма, А. Г. Цейтлин указывал на то, что писатель «был слабо... связан с такими мастерами русского психологического романа, как Лев Толстой и Достоевский» 52.
Этим исследователь и пытается объяснить некоторую слабость тургеневских романов. На самом же деле подобное рассуждение — только общее место, никак не прояснявшее ход историко-литературного процесса. Толстой очень близко стоял к Тургеневу и следовал за его «Дворянским гнездом», когда писал «Семейное счастье» — и создал плохой роман. Он никак не был связан с Достоевским на протяжении всего своего творческого пути, даже не встречался и не переписывался с ним. Пострадали ли от этого их психологические романы? Отнюдь, нет.
В начале 60-х годов Г. А. Вялый в книге «Реализм И. С. Тургенева» впервые высказал мысль о близости романа «Дым» Тургенева к «Анне Карениной» Толстого, Исследователь точно указал не только на типологическое сходство отдельных ситуаций, но и на близость некоторых образов. Мысль Г. А. Вялого интересна в историко-литературном плане: она помогает уяснению историко-литературного процесса.
Г. Б. Курляндская в книге «Творческий метод Тур
генева-романиста» (1972) указала на психологическое родство и своеобразие автора «Отцов и детей» и создателя «Войны и мира». Наблюдения автора ценны тем, что они построены на конкретном материале и вполне убедительны.
Если в работах дореволюционных исследователей допускались субъективизм в освещении творческих взаимосвязей Толстого и Тургенева, взаимоисключающее противопоставление одного писателя другому, то в первые годы Советской власти хотя и усилился к ним интерес, но преобладал вульгарный социологизм в истолковании их произведений.
Задача исследователя заключается в том, чтобы на обширном материале выявить не только истоки возникновения между упомянутыми писателями «оврагов» и «щелей», но и показать, почему «помещик И. С. Тургенев и граф Л. Н. Толстой... сказали о крестьянстве гораздо больше, чем сотни крестьян»53, почему «никто еще не описал народную жизнь лучше дворянина Тургенева или разночинца Успенского, или графа Толстого».
1. ДО ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧИ
Тургенев, по отзывам народников-революционеров, «был честным провозвестником идеалов целого ряда молодых поколений, певцом их беспримерного, чисто русского идеализма, изобразителем их внутренних мук и душевной борьбы»1, он «своим чутким и любящим сердцем сочувствовал и даже служил русской революции» (там же).
Характеризуя Тургенева как художника, Д. В. Григорович говорил в день похорон над его могилой: «Личности исключительно одаренные, к каким принадлежал Иван Сергеевич, заключают в себе всегда такую глубину содержания, что сколько ни черпай, все останется, останется, как в живом роднике, который из века в век поит целое население и все-таки продолжает бить живым ключом»2. Исключительная одаренность Тургенева сочеталась с европейской образованностью: он учился в трех столичных университетах, окончил Петербургский университет и в Берлине «с особым рвением» штудировал «философию Гегеля под руководством профессора Вердера»3, владел почти всеми языками в Европе, внимательно изучал живопись и скульптуру (и сам рисовал), прекрасно-знал музыку и театр. Его энциклопедические знания не были омертвевшим хранилищем. Они нужны ему были для практической деятельности: вначале для педагогических занятий, когда он мечтал стать профессором философии, а потом— художественного творчества. Это уже сказалось в его записке «Несколько замечаний о русском хозяйстве и русском крестьянстве», составленной им вскоре по возвращении из Дрездена (в декабре 1842 года), где он близко сошелся с М. А. Бакуниным в октябре того же года. Она написана «в виде экзамена» при поступлении на службу в Министерство внутренних дел, занимавшееся в то время подготовкой к проведению реформы об освобождении крестьян. В этом докумен
те, несмотря на его официальный характер, Тургенев сумел высказать смелые мысли о народной жизни, так глубоко волновавшей его. Он составлен на основе изучения книг, в частности «Путешествия из Москвы в Петербург» А. Пушкина, в котором автор, соглашаясь и полемизируя с А. Н. Радищевым, много раз цитировал его «Путешествие из Петербурга в Москву»4,.
Однако Тургенев не ограничивался только книжными источниками в написании своей записки. Он широко использовал свои личные наблюдения над бытом помещиков и крепостных. Не случайно Тургенев говорил в этом документе, что он много лет прожил в деревде Орловской губернии, в самой средней полосе России. Вот почему молодой писатель заявил в нем, что «никто более меня не убежден в смышлености и сметливости русского человека» (I, 465), «его ...добродушия ...природного ума» (I, 463). Но этот народ, лишенный всяких гражданских прав и законов, находился в постоянной нужде и голодал, помещики распоряжались с крепостными так, как кому захочется.
На свою статью Тургенев смотрел не как на случайную, формальную отписку, а как на «залог многих ревностных будущих занятий по части государственного хозяйства, изучению которого... <он>решился посвятить все... время» (I, 459). Он считал «вопрос о значении земледельческого класса... чрезвычайно важным... первостепенным», сопряженным с «вопросом о будущности России вообще» (I, 460). Вся его статья была проникнута глубокой верой в самобытный, восприимчивый характер русского народа. «Мы народ не только европейский, — писал он в заключение, — мы недаром поставлены посредниками между Востоком и Западом; недаром наши границы касаются древней Европы, Китая и Северной Америки; трех самых различных выражений общества» (I, 471). Вот почему, когда В. Г. Белинский предложил Тургеневу написать «что-нибудь» о народной жизни, он с охотой принял его предложение, потому что «целых десять лет» (П. 12, кн. I, стр. 198) наблюдал ее, охотясь не столько за дичыо, сколько за народными характерами. Результатом этого и явился программный рассказ «Хорь и Калиныч», явившийся началом художественного открытия «достойного класса». «Прикованный к земле» Тургенев в «Записках охотника» зашел в изображении народной жизни с такой стороны, с какой до него никто и никогда еще не
заходил: писатель показал крепостных не как фон, а как субъект истории, ее творца, создателя духовных и материальных ценностей. Глядя на мир ясным, проницательным взором, Тургенев в этой «зажигательной книге», подлинной энциклопедии народной жизни средней полосы России, нарисовал 519 типов различных социальных групп. В ней автор открыл «батарейный огонь» против главного зла общества — крепостного права как строя, враждебного человеческой природе. Тургенев-просветитель, выступая поборником гражданских прав, писал: «Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе» (4, 35). В крепостной России Тургенев показал в «Записках охотника», что крестьяне находились в рабском состоянии и не имели никаких человеческих прав. Таков, например, Степушка: он даже «по ревизии едва ли Числился» (там же); нисколько не в лучшем положении находился и Сучок, которого, как вещь, продавали господа вместе с имением и помыкали им кому как было угодно.
Рядом с проблемой гражданского бесправия Тургенев в еще более острой форме рассматривал проблему естественного права человека на создание семьи как основной ячейки в государстве, на продление его рода. Писатель на целом ряде конкретных образов показал, что это право было также отнято у народа. Он писал, что многие барыни считали домашним правилом — «замужних горничных не держать» (4, 29). Так поступала жена крупного петербургского чиновника Зверкова, которая на просьбу своей служанки Арины разрешить ей выйти замуж, незамедлительно распорядилась девушку «остричь, отдать в затрапез и сослать в деревню» (там же). Барыня Татьяна Васильевна «никому не позволяла жениться» (4, 83) и выходить замуж. «Господской волей» была изуродована «золотая душа» девицы Матрены, умевшей петь, плясать и на гитаре играть (4, стр. 51).
Проблемы гражданственности и естественного права человека начинали волновать Толстого еще в молодости, когда он писал философские речи и обдумывал первый свой роман «Четыре эпохи развития». Несомненно, образ Натальи Саввишны, обаятельной, самоотверженной девушки, личная жизнь которой была надломлена Иртеньевыми-старшими, создавался с учетом тургеневских достижений. Любовь к простому народу
сказалась у Толстого уже в трилогии и «Утре помещика», где изображена ужасающая бедность народа и невозможность социальной гармонии между мужиком и барином.
Сущей каторгой для крепостных являлась солдатчина. О ней писали Полежаев, Бестужев-Марлинский, Шевченко, Некрасов. Тургенев изобразил рекрутчину как средство расправы крепостников с неугодными им лицами-рабами. В его рассказе «Бурмистр» мужики слезно жаловались своему барину Леночкину на бурмистра Софрона.что он у одного из них «двух сыновей... без очереди в некруты отдал, а теперь и третьего отнимает» (4, 145), а у другого этот «мошенник беспордон-ный, пес», тоже «сыновей без очереди в некруты отдал» (4, 148). Помещик Стегунов хвастался тем, что он («из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал» (4, 171).
Толстому особенно близка и понятна была военная служба. Рекрутскому набору он посвятил лучшие страницы в повести «Поликушка», подчеркнув возмущение и бунт горластых мужиков на сходке при назначении их сыновей в солдаты. Самою же жизнь солдат и их сражение во время войн писатель с потрясающей художественной силой показал в кавказских и севастопольских военных рассказах, а также в повести «Хаджи Мурат», в эпопее «Война и мир», рассказе «После бала» и др.
Проблема нравственной чистоты и духовных богатств русского человека нашла всестороннее воплощение в «Записках охотника». Тургенев открыл талантливость «русской души» в образах Якова Турка, обладавшего редким задушевным голосом певца («Певцы»), Лукерьи, сочетавшей в себе обаятельную внешнюю красоту с умением плясать, петь, всем интересоваться, с удивительным мужеством, терпением переносить свои страдания («Живые мощи»), Акулины, отличавшейся высокой нравственностью и искренностью в любви («Свидание»), Марины — смелой и решительной девушке («Петр Петрович Каратаев»), Прекрасные человеческие характеры Тургенев показал в образах «необнаковенного юродивца» и правдоискателя Касьяна с Красивой Мечи, суровом и справедливом стороже Бирюке, в Хоре, обладавшем государственным умом, и очаровательном романтике Калиныче. Все эти замечательные типы автор противопоставил их хозяе
вам-крепостникам, начиная от косноязычного Полуты-кина, «цивилизованного» Пеночкина, садиста Стегуно-ва и кончая известным екатерининским вельможей Ор-ловым-Чесменским.
Проблема нравственного превосходства униженных и оскорбленных над своими господами с юных лет вол-новала Толстого. Но в отличие от Тургенева он рассматривал своих героев в свете религиозно-этических взглядов. И тем не менее он создал незабываемые (образы из народа, противопоставив их своим хозяевам: Поликея— дубинноголовой барыне («Поликушка»), Федора — чахоточной госпоже («Три смерти»), жизнерадостную красавицу Марьянку — рефлексирующему барину Оленину и т. д.
В «Записках охотника» Тургенев нарисовал тип помещика-самодура. Это Комов, хваставшийся тем, что он не признает никаких законов и может застрелить невинного человека и даже не позволить хоронить его (4, 65); Беспандин, угрожавший .крепостному Митьке «задние лопатки из вертлюгов выдернуть, а не то и совсем голову с плечь снести» (4, 74); Стегунов, наслаждавшийся истязанием своих дворовых, и др.
Подобных злодеев-самодуров в творчестве молодого Толстого нет, однако в его поздних произведениях они займут одно из доминирующих положений (основные персонажи «Воскресения», «Николая Палкина», «Хаджи Мурата», «После бала» и др.).
В рассказе «Гамлет Щигровского уезда» Тургенев показал оторванность русской европейски образованной интеллигенции от реальной действительности и ее неумение сблизиться с народом. Эта тема входит в сознание Толстого с трилогии, «Утра помещика» и кончая поисками смысла жизни и связи с народом героями «Войны и мира», «Воскресения». Ей Толстой придаст более масштабный и глубоко философский, психологический характер.
Рассказ «Смерть» Тургенев посвятил вечной теме — жизни и смерти человека. В смерти мужика Максимова он показал естественный процесс, кризисное состояние человека, когда наиболее ярко проявляется его характер. «Удивительно умирает русский мужик, — размышлял писатель, — словно обряд совершает: холодно и просто» (4, 216). Также умирает бесприютный и заброшенный бедняк студент Сорокоумов (там же), жизнерадостная и любящая Александра Андреевна («Уезд
ный лекарь»), самоотверженная Лукерья («Живыемощи»), которые особенно нравились Толстому.
В изображении смерти молодой Толстой использовал опыт Тургенева. Так же просто и естественно описана им смерть Веленчука («Рубка леса»), Федора и дерева («Три смерти»), Платона Каратаева («Война и мир»), Натальи Николаевны («Детство»), Лукашки («Казаки») и др.
Любовь к родине в «Записках охотника» сказалась у Тургенева не только в изображении простого народа в его повседневных трудах и днях, но также и непос-редственно в боевых действиях против поработителей. Тургенев, хотя и признавался, что ему трудно вжиться в историческую тему, воссоздать невидимые в действительности модели, тем не менее в рассказе «Татьяна Борисовна и ее племянник» он выразил свое отношение к Наполеону и Кутузову. Его оценка этих исторических деятелей нисколько не расходится с пушкинской и как бы предвосхищает толстовскую. Для Тургенева Наполеон — «Боиапартишка-разбойник», которого «свет-лейшество покойный князь Михайло Илларионович Голенищев-Кутузов Смоленский... из российских пределов выгнать изволил» (4, 202). В другом рассказе «Однодворец Овсянников» он показал расправу смоленских мужиков над пленным французом Леженем, отправившимся вместе с Наполеоном завоевывать Россию. Они видели в нем своего врага, завоевателя, вора, сиявшего крест с колокольни Ивана Великого, и поджигателя Москвы (4, 76).
Военная, патриотическая тема занимает в творчестве Толстого большое место и пронизывает все наиболее значительные его произведения. А такие, как «Севастопольские рассказы», эпопея «Война и мир», повесть «Хаджи Мурат», в изображении батальных сцен и поведении человека в бою не имеют себе равных в мировой литературе.
Как видно, в «Записках охотника» Тургенев поднимал многие важнейшие философские, нравственно-этические и другие проблемы, которые волновали многих писателей, они оказались особенно близкими Толстому. На эту сторону в свое время обратил внимание А. Фадеев, который писал, что Тургенев своей книгой «предвосхитил всю народно-крестьянскую тему Л. Толстого», что его мысль в «Хоре и Калиныче» о свойствах русского человека изумительна»5.
«Политическое действие» «Записок охотника» специально подчеркивал М. Й. Калинин6. На общественное значение произведений Тургенева, в том числе и этой книги, указывал В. Мейерхольд. «И. С. Тургенев,— писал он, — менее всего может считаться героем общественной борьбы, однако, изображая в произведениях своих объективно и художественно (следовательно, правдиво) действительную жизнь, он являлся... идейным писателем... произведения Тургенева носят в себе полное отрицание крепостничества»7.
Не являясь сторонником радикальных, революционных методов преобразования жизни, Тургенев всей своей художественной деятельностью стремился внести в нее цивилизующие элементы, направленные на пробуждение самосознания народных масс. И чем ярче он раскрывал нравственные, духовные богатства в простых людях, тем острее выступал социальный контраст в его «Записках охотника». Сталкивая лицом к лицу мужика и барина, живые и «мертвые» души, обрисовывая их в конкретных житейских ситуациях, подчеркивая историческую обусловленность конфликта между ними, автор все свои симпатии отдавал трудовому народу.
Начиная с «Записок охотника», Тургенев смотрел на человека как на часть природы, ее творение. Отсюда его глубокий интерес к ней как к матери рода человеческого. В сознании писателя природа и родина сливались воедино. Об этом он прекрасно сказал в беседе с русскими девушками в Швейцарии. Понимая их восхищение чарующей прелестью природы этой страны, Тургенев говорил: «Швейцария — прекрасная, благословенная страна, нет слов; но поверьте, барышни, на земле так же прекрасны и все другие страны, все уголки, все горки, все рощи, все реки и озера. Где только природа наложила свою властную руку и запечатлена ее творческая сила, там все прекрасно; не хорошо только там, где человек искусственно, по невежеству, разрушает дивные создания природы. Сознание прекрасного находится в нас самих, и чем больше мы любим природу и все, ею созданное, тем более мы находим прекрасного везде на земле. Глубина чувства, глубина любви определяет степень и, если хотите, размеры прекрасного. Вы утверждаете, что Россия прекрасна менее Швейцарии; полюбите ее, полюбите всей душой, и для вас не будет ничего милее, как ваше отечество.
Уверяю вас, тундры нашего севера и африканская Сахара так же прекрасны, как и весь остальной мир. Полюбите только природу и людей, заметьте: людей без всяких имущественных, сословных и расовых различий, и они, природа и люди, будут всегда казаться для вас так же прекрасны, как и в Швейцарии, которая потому лишь кажется вам прекраснее нашего отечества, что в ней на сравнительно небольшом уголке природа совместила часть того, что у нас щедрою рукою разбросано по необъятным просторам России, Сибири... и Крыма»8.
Тургенев действительно явился одним из открывателей чарующей прелести природы средней полосы России — ее полей и лугов, лесов и рощ, рек и ручейков. Она для него — почва, на которой растет и формируется человек. Природа и родина в понимании писателя неотделимы. Они питали его творческую фантазию. Вот почему отрыв от национальной стихии всегда оказывал на него пагубное влияние. «Живя за границей, в отдалении от русской почвы — я точно так же больших повестей сочинить уже не в силах», — писал Тургенев М. В. Авдееву (П. 8, 86). Через несколько дней он еще более решительно заявит Е. М. Феоктистову, что «отделившись от почвы», скоро умолкает: «короткие набеги на родину ничего не значат» (П. 8, ПО). Эту сторону-связь писателя с природой —очень высоко ставил В. Белинский, когда анализировал первые рассказы из цикла «Записок охотника».
«Записки охотника» явились открытием русской народной жизни для Толстого-студента. Познакомившись с ними еще в первых публикациях в «Современнике», он поставил их рядом с «Евгением Онегиным» и «Мертвыми душами». По силе влияния произведения Пушкина, Гоголя и Тургенева произвели на него «очень сильное впечатление». В 1852 году «Записки охотника» вышли отдельным изданием и, снова перечитав их, он записал в дневнике, что после Тургенева трудно писать. В конце 1853 года он снова перечитал их — и они опять навели его на глубокие размышления. Что же открыл для себя Толстой в «Записках охотника»? Во-первых, вглядываясь и вдумываясь в художественные образы писателя, он пришел к твердому убеждению, что «простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью» и потому «нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное»; во-вторых,
лучше говорить про него «одно хорошее»; в-третьих, «в нем больше доброго, чем дурного; поэтому естественнее и благороднее искать причины первого, чем второго»; в-четвертых,'—это главное — трудовой народ — «это достойный класс»9. В этой дневниковой записи — целая творческая программа Толстого.
Проблемы гуманизма, гражданственности, всестороннего изображения «достойного класса» в «Записках охотника» произвели на Толстого такое сильное впечатление, что он сохранил об этой книге, как шедевре, до конца своей жизни самые восторженные воспоминания. Такая высокая оценка ее и постоянное сотрудничество Тургенева в «Современнике» наводит на размышления о том, не явилось ли это притягательной силой для Толстого, чтобы свою первую повесть направить в этот журнал? Пока еще нельзя дать положительный ответ на этот вопрос, но он заслуживает серьезного изучения.
Во взаимоотношениях Толстого и Тургенева нельзя не отметить удивительную преемственную связь. Открыв чарующий мир духовных богатств в русском народе и так прекрасно изобразив его в «Записках охотника», Тургенев сразу же по выходе их отдельным изданием писал П. В. Анненкову, что «мужики совсем одолели нас в литературе. Оно бы ничего, но я начинаю подозревать, что мы, так много возившиеся с ними, все-таки ничего в них не смыслим» (П. 2, 160). И в своих «подозрениях» писатель не ошибся: мужик действительно стал не тот, что был в сороковые годы, и его надо было изучать снова. К тому же в наметившемся пробуждении общественного движения в пятидесятых годах Тургеневу казалось, что руководящая роль в нем должна принадлежать людям «культурного слоя», видя в них ускорителей этого подъема. В своих романах «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Дым» на первом плане у него стояли интеллигенты из дворянской и разночинной среды, хотя и крестьянство он не обходит молчанием. В семидесятые годы в романе «Новь», трех рассказах к «Запискам охотника», во многих «Стихотворениях в прозе» и, особенно, в письмах спасско-луто-виновским крестьянам10 Тургенев снова с большой теплотой говорил о народе. Не исключено, что если в пятидесятых годах Толстой подхватил тургеневский взгляд на крестьянство, сделав его главной темой своего раннего творчества, то в семидесятые годы, после написания
им «Анны Карениной», Тургенев последовал за Толстым.
Находясь на Кавказе и в Крыму, постоянно общаясь с солдатами в боевых походах, Толстой понял всей душой красоту, смелость, ловкость и преданность их родине. Он видел самоотверженные героические подвиги солдат и матросов на войне и всем сердцем полюбил их. Но это были уже не те мужики 40-х годов, которых так прекрасно изображал Тургенев. На войне Толстой видел их в деле, в столкновении с противниками и своими офицерами, наблюдал духовный рост воинов, ознаменовавший собою начало освободительного движения в стране. И если Тургенев понимал, что страна во время Севастопольской обороны переживала «трудное время» (П. 2, 317), «тревожное и лихорадочное» (П. 2, 232), то Толстой сам был участником этого времени и сосредоточил свое внимание на изображении главного — русских солдат. Его «Севастопольские рассказы» остались художественной летописью начала, хода и конца войны в Крыму. Ничего подобного нельзя узнать из корреспонденций его современников: Базанкура, поставлявшего очерки о Севастопольской войне для французских газет, Росселя —для английской газеты «Таймс».
Правдиво изображая «необузданные порывы патриотизма» солдат (чего так боялся С. С. Уваров), Толстой противопоставлял их трусливым, тщеславным офицерам, приехавшим на войну ради наживы, получения наград и повышений в званиях. Тем самым он обнажал гнилые основы самодержавной системы, «варвара с берегов хладной Невы».
Эта мысль оказалась очень близкой тому, что говорили о Севастопольской войне революционные демократы. Н. Чернышевский в статье «Рассказы о Крымской войне (по Кинглеку)» писал, что «села и деревни беднеют от войны... что война всегда бывает тяжела мужикам... народ желал сохранения мира»11. Касаясь результатов войны, он просил «подумать хорошенько о том, насколько могут быть полезны нам уроки, которые заключаются в этих (севастопольских) делах»12. В этих уроках критик, несомненно, намекал на общест-|-венную борьбу против самодержавия.
* * *
Первая толстовская повесть «История моего детства», как известно, была опубликована в «Современнике»
Некрасова в сентябрьском номере за 1852 год. Тургенева в это время в Петербурге не было: он находился в ссылке в Спасском. Некрасов незамедлительно послал ему этот журнал, специально просил его обратить внимание на произведение, подписанное литерами «Л. Н.». Толстому не хотелось раскрывать своего имени, несмотря на то, что редактор «Современника» по прочтении рукописи дал ей высокую оценку и обещал ее напечатать. После публикации повести Некрасов с еще большим восторгом писал о ней автору как человеку талантливому. Однако, несмотря на это, Толстой возражал ему против изменения заглавия. Толстой назвал свою повесть «Детство». Ему хотелось изобразить такое детство вообще, какого до него никто еще не написал. В повести есть автобиографические элементы, но она не история детства Толстого. При отдельном издании автор восстановил в ней свое исконное заглавие.
Тургенев незамедлительно прочитал «Историю моего детства» и сразу же написал Некрасову, что нашел ее оригинальной, а в авторе увидел «талант надежный». «В одном упоминовении женщины под названием La Bella Flamande, — писал он Некрасову, — которая появляется к концу повести — целая драма. Пиши к нему и поощряй его писать. Скажи ему, что я его приветствую, кланяюсь и рукоплещу ему» (П. 2, 79). Тургенев обратил внимание не только на мастерство Тол-стого в изображении фламандки, но и на умение его рисовать драматические ситуации. Новый автор на-' столько глубоко заинтересовал Тургенева, что он тогда же сообщал о нем А. А. Краевскому, как о «замечательном даровании». В конце 1852 года Тургенев говорил об «Истории моего детства» как образцовом художественном произведении. Сопоставляя ее с повестью «Яков Яковлич», опубликованной тогда же в «Современнике», Тургенев писал, что по силе художественного исполнения автору последнего произведения до толстовского «Детства», «как от земли до неба» (П. 2, 86). Ставя так высоко «Историю моего детства», Тургенев еще не знал, кто же ее создатель. Сведений о нем не было никаких. Только в конце 1852 года Тургенев писал А. А. Краевскому, что, по слухам, автор ее «офицер, служит на Кавказе» (П. 2, 152). Действительно, там в звании капитана служил Н. Н. Толстой* написавший несколько рассказов, изданных в 1857 году под названием «Охота на Кавказе», но повести у
него не было. Лев Николаевич тогда еще офицерского звания не имел. Но фамилия автора, произнесенная и распространявшаяся по слухам, побуждала Тургенева к тому, чтобы поискать в окрестных помещичьих усадьбах его родных или знакомых. И таковые нашлись! Это была семья М. Н. и В. П. Толстых, живших неподалеку от Спасского-Лутовинова в имении Покровском. Тургенев специально познакомился с ними, чтобы получить от них какие-либо сведения об авторе. Но пока его усилия не принесли желаемых результатов. О том, с каким интересом Тургенев отнесся к создателю «Детства», красноречиво говорит письмо родственницы Льва Николаевича Т. А. Ергольской, с которой он делился своими тайнами, в том числе и литературными. Она писала Толстому из Ясной Поляны 12 декабря 1852 года: «Твое выступление на литера-i турном поприще вызвало много шума и произвело большое впечатление среди соседей Валериана (мужа Марии Николаевны, сестры Толстого. — И. Л.). Все любопытствовали узнать, кто новый автор, выступивший в свет с таким успехом. Всех заинтересованнее в этом деле Тургенев, автор «Записок охотника»; он всех расспрашивает, нет ли у Маши брата на Кавказе, который мог быть писателем. («Ежели этот молодой человек будет продолжать так, как он начал, — говорит он, — он далеко пойдет» (59, 210). Письмо это интересно тем, что в нем впервые было выражено отношение Тургенева к молодому Толстому в весьма лестной форме.
В начале 1853 года в «Современнике» появились «Набег» Толстого и «Рыбаки» Григоровича. Сравнивая эти произведения, написанные начинающим писателем и уже прославленным, Тургенев писал Некрасову тогда же, что «ему больше понравился легкий и беглый рассказ Толстого... из которого я бы только выкинул 2—3 лишних описания природы, в которых выражается дидактическая точка зрения автора» (П. 2, 145).
Первые произведения Толстого настолько заинтересовали Тургенева, что он первым начал собирать биографические сведения о нем. Уже в мае 1853 года Тургенев мог сообщить И. Ф. Миницкому, что «автор прелестной повести «Детство» — некто граф Л. Н. Толстой— живет... в 10 верстах от Тургенева — но теперь он на Кавказе» (П. 2, 152). Итак, загадка разгадана,
авторство установлено, определено место, где он живет.
В начале 1854 года, когда Тургенев еще находился в Спасском, он писал С. Т. Аксакову, что в «Современник» пришла рукопись «Отрочество» как продолжение «Детства». И тут же Тургенев добавил: «говорят превосходная» (П. 2, 222). Он просил его и А. А. Кра-евского, чтобы они, узнав какие-либо подробности об «Отрочестве», незамедлительно известили его (П. 2, 228, 230). Эта повесть оказалась долгое время в цензурных тисках и потому не появлялась в печати. В связи с ее выходом Тургенев писал в октябре 1854 года В. П. Толстому: «Я чрезвычайно высоко ценю талант Льва Николаевича и весьма бы желал знать о нем, где он и что с ним» (П. 2, 232). Даже и в таком изуродованном цензурой виде «Отрочество» произвело на него сильнейшее впечатление. Он писал тогда же П. В. Анненкову, что скоро «одного Толстого и будут знать в России» (П. 2, 232). В Толстом Тургенев увидел «преемника Гоголя» (П. 2, 234), как он говорил И. Ф. Вакселю. Эту же мысль Тургенев повторил в письме к И. Ф. Миницкому в ноябре 1854 года. Он писал: «В 10-м № «Современника» Вы найдете повесть Толстого, автора «Детства», перед которой все наши попытки кажутся вздором. Вот наконец преемник Гоголя— нисколько на него не похожий, как оно и следовало» (П. 2, 234). Об «Отрочестве» как произведении, принадлежавшем перу таланта первоклассного (П. 2, 237), Тургенев писал Е. Я- Колбасину. «Отрочество» произвело здесь глубокое впечатление, — уведомлял он в декабре 1854 года М. Н. и В. П. Толстых из Петербурга. — Лев Николаевич стал во мнении всех в ряду наших лучших писателей — и теперь остается ему написать еще такую же вещь, чтобы За' нять первое место, которое принадлежит ему и по праву— ждет его» (П. 2, 247). Тургенев так полюбил! Толстого, что носит его в сердце (П. 2, 250). Но узнав, что автор «Отрочества» находится в Севастополе, на четвертом бастионе—бастионе смерти, как его называли, он приходит в ужас. Тургенев просил Толстых как можно чаще информировать о Толстом, его жизни и боевых действиях в Крыму.
Сам же Толстой меньше всего боялся смерти и страха на войне: он мужественно нес службу, храбро сражался, по горячим следам боевых событий писал
военные рассказы и обдумывал замысел повести «Юность».
В «Севастопольских рассказах» он превосходно показал «достойный класс», крепостных мужиков в действии, их способность героически защищать родину от посягавших на нее врагов. Суровая правда вой-' ны в крови и смерти, нарисованная в них Толстым, привлекла внимание читателей — и они пользовались громадным успехом. Тургенев приходил в восторг, читая «Севастополь в декабре месяце», «прослезился», «кричал: ура!» (П. 2, 286). Эта статья, по его словам, произвела в столице «фурор всеобщий» (П. 2, 298). Он назвал ее «превосходной» в письмах Н. Некрасову и С. Т. Аксакову.
Зная из сообщений Т. А. Ергольской, Толстых и других, с каким пристальным вниманием следил за ним Тургенев и как он искренне радовался его литературным успехам, Толстой посвятил ему свой рассказ «Рубка леса». Об этом Н. Некрасов писал; Тургеневу 18 августа 1855 года: «В 9 № «Современника» печатается посвященный тебе рассказ юнкера: «Рубка леса». Знаешь ли, что это такое? Это очерки из разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских), то есть вещь, доныне небывалая в русской литературе. И как хорошо! Форма в этих очерках совершенно твоя, даже есть выражения, сравнения, напоминающие «3[аписки] ох[отника]», а один офицер так просто Гамлет Щ[игровского] уезда в армейском мундире. Но все это далеко от подражания, схватывающего одну внешность» (10, 236).
Это было первое посвящение в его писательской карьере, и оно так взволновало автора «Записок охотника», что он еще больше проникся любовью к Толстому. Это посвящение дало возможность Тургеневу лично обратиться с письмом к автору «Детства» и высказать ему то, что давно уже волновало его. Горячо поблагодарив Толстого за посвящение, Тургенев далее писал ему, что давно следит за развитием I его творческой деятельности. Выразив свое восхищение Толстым как храбрым офицером, любимым солдатами, он тут же писал ему, что «военная карьера все-таки не ваша. Ваше назначение — быть литератором, художником мысли и слова» (П. 2, 316). «Повторяю Вам,—писал Тургенев в заключение, — Ваше орудие — перо, а не сабля» (там же). Он просил его как можно скорее
вернуться в Россию и посвятить себя литературной деятельности. Тургенев совершенно точно определил главное назначение Толстого — и просил его целиком отдаться этому делу.
Этим письмом он остро поставил перед Толстым проблему выбора жизненного пути, который и сам давно подозревал, что армия — не его призвание, что армейская жизнь «выпачкала его», но тем не менее он еще продолжал служить в ней. Из письма Тургенева и из переписки с Некрасовым Толстой ясно понял, что перед ним открывалась другая дорога — служение искусству, силой художественного слова помогать своему народу в развитии его эстетического вкуса.
По своей эмоциональной силе, побудительной значимости и категоричности это первое тургеневское письмо к Толстому напоминает его последнее, можно сказать, предсмертное письмо к своему старому другу, в котором Тургенев просил Толстого вернуться к литературной работе. И надо сказать, что оно достигло цели: ускорило уход Толстого из армии и определило его жизненный путь — быть художником мысли и слова.
II. ДРУЖБА-ВРАЖДА
В конце ноября 1855 года, по окончании Крымской войны, Толстой прибыл с донесением из Севастополя в Петербург и с Московского вокзала сразу же направился не на квартиру к своей родственнице А. А. Толстой, с которой постоянно переписывался, а к Тургеневу и прожил у него первые дни. Он сразу же произ-' вел на него чарующее впечатление. В письме к М. Н. Толстой он назвал ее брата «милейшим», в «высшей степени симпатичным и оригинальным» (П. 2, 323) человеком. Тургенев вводил Толстого в столичное литературное общество, знакомил с писателями. И всюду к автору севастопольских рассказов относились с большим уважением. Н. Некрасов о своей первой встрече с Толстым писал В. П. Боткину: «Что за милый человек, а уж какой умница! И мне приятно, сказать, что явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объяснил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милый, энергичный, благородный юноша — сокол!., а, может быть, и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши» (10, 258—259).
Теплый прием, оказанный Толстому столичными литераторами, запомнился ему. Он говорил о нем, когда писал «Исповедь». «Двадцати шести лет, — вспоминал Толстой, — я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего» (23,5). Такое же прекрасное впечатление он оставил о себе и среди московских писателей.
Однако в дальнейшем, пристальнее всматриваясь в столичную жизнь, ближе знакомясь с писателями, Толстой вскоре почувствовал, что это далеко не то, что он думал о них и чего ожидал. Петербургская жизнь постоянно возвращала его в прошлое, к военным событиям на Кавказе и в Крыму, к солдатской массе, забитой, неграмотной, но честной и естественной в своей простоте. Она обязывала и перерабатывала Толстого, заставляла и его быть простым и натуральным, ответственным за них в бою и на службе. Наблюдая «пылкую любовь к отечеству» солдат, он и сам становился таким же страстным патриотом, болевшим за бессмысленную их гибель по вине бездарного командования. Именно этим следует объяснить и его разработку проектов переформирования армии, стрелкового оружия, создание сатирической песни «Как четвертого числа», которую распевали тогда и в армии и в студенческих кружках и которую так высоко оценили В. И. Ленин и Н. Добролюбов. Наблюдая ход военных событий на бастионах Севастополя, Толстой один из первых почувствовал, что из этой войны «много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты» (47, 27),
Крымская война и смерть царя, позорившего страну и народ, действительно явились началом освободительного движения. В этих условиях формировалось писательское credo Толстого, в основе которого лежали высокая нравственность, глубокая мысль и ясность цели. В своем дневнике 17 сентября 1855 года он записал: «Желаю впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким уж я никак не могу быть, и тоже писать из пустого в порожнее—без мысли и, главное, без цели». Изображение правды жизни, какой бы она горькой ни была, одухотворенной великой гуманной, общечеловеческой мыслью, — вот чего требовал, прежде всего, Толстой от себя и других литераторов. В общении с
столичными писателями он не всегда это ощущал и улавливал. К одним (радикалам) Толстой относился с предубеждением и не разделял их политических взглядов, к другим (либералам) — с иронией и издевкой. Он называл последних «половинными» людьми, которые потихоньку говорили между собой, что им многое не нравится, а в печати лишь «намекали на то, на что позволено было намекать, молчали о том, о чем было велено молчать; но печатали все то, что велено было печатать»1. Славянофилов Толстой называл далеко отставшими от жизни людьми.
Толстого особенно возмущало то, что писатели столицы считали себя учителями народа и сами не знали, чему его учить и куда вести. «Я убедился, — писал он в полемическом пылу, — что все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, плохие, ничтожные по характерам — много ниже тех людей, которых я встречал в своей прошлой разгульной жизни — но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые не знают, что такое святость. Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта — обман» (23, 6). Конечно, с такой резкой характеристикой всех столичных литераторов, которую дал им Толстой, согласиться нельзя. Среди них были великие художники и мыслители, прославившие и русскую литературу и русский народ.
Молодой Толстой — натура сильная, страстная и увлекающаяся. Он ничего не мог делать наполовину, решать сложные проблемы компромиссно. Толстой отдавался весь тому, что его увлекало, и шел к достижению поставленной цели, не отклоняясь от нее ни на шаг ни вправо, ни влево. Ощутив противоречие между идеалом и столичной действительностью, он бросает ей своеобразный вызов: дает полную свободу своим страстям, пускается в кутежи, в запальчивости выступает против Шекспира, Ж. Санд, Белинского, Герцена. Такая вызывающая резкость Толстого не могла не беспокоить Тургенева и Некрасова — писателей, к которым он был наиболее близок. «Вот все время так,— говорил Тургенев, указывая на спящего Толстого А. А. Фету. — Вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит,
как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой»2.
Тургенев, видимо, не понял того внутреннего брожения, которое происходило в Толстом. Он увидел лишь внешнюю сторону его протеста против светской столичной жизни, которую был склонен объяснить недостаточностью общей культуры. «За его буйность, дикое упорство и праздность» Тургенев прозвал Толстого «троглодитом — и даже остервенелым троглодитом» (П. 2, 326).
По-иному отнесся к оппозиции Толстого ко всему столичному А. А. Фет. По сравнению с тургеневскими, в его воспоминаниях ярче обрисована психология Толстого и убедительнее показаны причины отрицательного отношения к петербургской жизни. «С первой минуты я заметил в молодом Толстом, — писал он, — невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений. В это короткое время я только однажды видел его у Некрасова вечером, в нашем холостом литературном кругу и был свидетелем того отчаяния, до которого доходил кипятящийся и задыхающийся от спора Тургенев на видимо сдержанные, но тем более язвительные возражения Толстого.
— Я не могу признать, — говорил Толстой, — чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «Пока я жив. никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением.
— Зачем же вы к нам ходите? — задыхаясь, и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев. — Здесь не ваше знамя! Ступайте к княжне...
— Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения»3.
Выступая против «праздных разговоров», Толстому хотелось, чтобы в спорах поднимались самые коренные вопросы и чтобы по ним высказывавшийся выражал свои твердые, устойчивые убеждения. Либеральные виляния ему были чужды.
А. А. Фет сохранил еще одно свидетельство об острых столкновениях между Толстым и Тургеневым на квартире у редактора «Современника». Он писал: «Вот что между прочим передавал мне Григорович о
столкновениях Толстого с Тургеневым на той же квартире Некрасова: «Голубчик, голубчик, — говорил, захлебываясь и со слезами смеха на глазах, Григорович, гладя меня по плечу. — Вы себе представить не можете, какие тут были сцены. Ах, боже мой! Тургенев пищит, пищит, зажмет рукою горло и с глазами умирающей газели прошепчет: «Не могу больше! У меня бронхит!» — и громадными шагами начинает ходить вдоль трех комнат. — Бронхит, — ворчит Толстой вослед, — бронхит — воображаемая болезнь. Бронхит — это металл!» Конечно, у хозяина, Некрасова, душа замирает: он боится упустить и Тургенева и Толстого, в котором чует капитальную опору «Современника», и приходится лавировать. Мы все взволнованы, не знаем, что говорить. Толстой в средней проходной комнате лежит на сафьяновом диване и дуется, а Тургенев, раздвинув полы своего короткого пиджака, с заложенными в карман руками, продолжает ходить взад и вперед по всем трем комнатам. В предупреждение катастрофы подхожу к дивану и говорю: «Голубчик Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, как он вас ценит и любит!»
— Я не позволю ему, — говорит с раздражающимися ноздрями Толстой, — нечего делать мне на зло. Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляшками»4.
Прекрасно передав психологию Толстого и Тургенева во время ссоры, А. А. Фет, к сожалению, не указал предмета обсуждения и их отношение к нему. В . П. Боткин, которого также глубоко волновали размолвки между названными писателями, попытался вникнуть в их смысл и объяснить. Он писал: «Сцена, бывшая у Тургенева с Толстым, произвела на меня тяжелое впечатление. Но я думаю, что в сущности у Толстого страстно любящая душа и он хотел бы любить Тургенева со всею горячностью, но, к несчастью, его порывчатое чувство встречает одно кроткое, добродушное равнодушие. С этим он никак не может помириться. А потом, к счастью, ум его находится в каком-то хаосе представлений, г. е. я хочу сказать, что в нем еще не выработалось определенного воззрения на жизнь и дела мира сего. От этого так меняются его убеждения, так падок он на крайности. В душе его кипит ненасыщаемая жажда, говорю ненасыщаемая, потому что то, что вчера насытило его, ныне разбивается его ана-
лнвом. Но этот анализ не имеет никаких прочных твердых реагентов, и от этого в результате своем уле-тучнвается ins dlaue hincin («в голубое ничто».— И. Л. )5.
В. П. Боткин верно многое отметил в психологии Толстого: его любящую, порывистую душу, его неудовлетворенность «добродушным равнодушием», склонность к анализу, духовную «ненасыщаемость» окружающим. Но тут же он допускает грубые ошибки, заявляя, что все недоразумения происходят оттого, что у Толстого не выработалось твердое мироощущение, нет «твердых реагентов». С этим согласиться нельзя. Если бы молодой Толстой не имел своей точки зрения «на жизнь и дела мира сего», то с ним не о чем было бы и разговаривать, не стоило бы на все его возражения обращать внимания. Споры как раз и разгорались из-за того, что его понимание жизни, искусства, литературы и всего общепринятого противоречило во многом тому, чего придерживалась та или иная часть писателей. При этом следует иметь в виду, что понимание искусства и действительности у Толстого было сложньш и противоречивым, что давало право его оппонентам, в частности Чернышевскому и Некрасову, высказывать резкие критические замечания в его адрес. Н. Некрасов, открывший Толстого и видевший в нем капитальную опору «Современника», писал Тургеневу, что ему «больно видеть, что Толстой личное нерасположение к Чернышевскому, поддерживаемое Дружининым и Григоров-<ичем>, переносит на направление, которому сам раньше служил и которому служит каждый честный человек в России» (10,308). Обращаясь к Толстому, он просил его писать попроще, как в начале творчества. Касаясь размолвок во взаимоотношениях, Н. Некрасов подчеркивал, что «мы раскрылись Вам со всем добродушием, составляющим, может быть, лучшую (как несколько детскую) сторону нашего кружка, а Вы заподозрили нас в неискренности, прямее сказать, в нечестности» (там же, 329—330). В этой связи он писал и Толстому о Тургеневе: «Эта душа, вся раскрывающаяся,— при Вас сжалась, и как-то упорно не размыкается. Грустно вас видеть вместе. Вы должны бы быть друзьями, а вы что?» (там же).
Чернышевский, видевший в Толстом залог русской литературы, глубокого открывателя души, ее диалектики, резко осудил его за мальчишеский взгляд на жизнь.
Вместе с тем революционному демократу хотелось, чтобы Толстой с присущим ему могучим дарованием шире и глубже смотрел на ход общественных событий, объективно верно раскрывал их в своих произведениях. Именно об этом он и писал, когда анализировал его «Детство», «Отрочество», военные кавказские и севастопольские рассказы. Толстой безусловно учитывал в своем творчестве то, что писал о нем Чернышевский: он был для него авторитетным критиком. Доказательством к тому — обращение Толстого к нему с просьбой высказать мнение о журналах «Ясная Поляна». Само собою разумеется, если бы он не дорожил мнением Чернышевского, вряд ли Толстой направил бы их ему. При этом следует иметь в виду, что о совпадении политических взглядов названных писателей не могло быть и речи: Толстой это прекрасно понимал и «политический перец» Чернышевского не принимал.
Многое в Толстом-человеке было чуждо и Тургеневу: барские замашки, юнкерство — все то, что обуславливалось его воспитанием и происхождением. Тургеневу часто бросались в глаза пороки Толстого, и он особенно резко относился к ним. «Ни одного, ни одного движения в Толстом нет естественного, — говорил Тургенев о нем. — Он вечно рисуется. И я затрудняюсь, как объяснить в умном человеке эту кичливость своим захудалым графством... Хоть три дня в щелоке вари русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства; каким лаком образованности ни отполируй такого субъекта, все-таки в нем просвечивает зверь»6.
Трудно согласиться с такой резкой характеристикой Толстого, но, видимо, все-таки что-то отталкивающее было в нем, и оно претило ему. Толстому тоже нужно было время, чтобы высвободиться от нравственно-этических наслоений, которые прививались ему с детства.
И несмотря на это, Тургенев увидел главное в Толстом— гениальность: она влекла его к нему. Тургенев признавался П. В. Анненкову, что полюбил Толстого «каким-то странным чувством, похожим на отеческое» (П.2,328). Познакомившись с набросками новых художественных замыслов Толстого, он нашел их «превосходными», а «Юность» и начало «Казаков» назвал вещами удивительными. Тургенев по-прежнему верил в него как в писателя, который если «сам не искалечит своего таланта, он уйдет очень далеко из вида ото всех нас» (П.2,326).
В середине 50-х годов, когда развернулась борьба вокруг пушкинского и гоголевского направлений в русской литературе, Тургенев стремился привлечь внимание Толстого к «Очеркам гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского. Толстой отрицательно к ним относился. Он писал, что ему от них «тошнило целое лето». Тургенев, хотя и не принимал сухости и бесцеремонного обращения в «Очерках» автора с живыми людьми, все же считал, что критик глубоко верил в историческую правоту, научность и объективность его концепции. Тургеневу дорого было в «Очерках» то, что они продолжали и развивали эстетические взгляды Белинского, которые высоко ставил их автор.
Раскрывая историко-литературную значимость «Очерков», Тургенев подчеркивал, что в них — в отличие от Дружинина, не понимавшего и искажавшего Белинского, Чернышевский впервые с уважением заговорил о критике, т. е. о Белинском, «который всю жизнь был — не скажу мучеником— (Вы громких слов не любите) — но тружеником, работником спекулятора, который его руками загребал деньги и часто себе приписывал его заслуги— (я сам был не раз тому свидетель); вспомните, что бедный Б[елинский] всю жизнь свою не знал не только счастья и покоя, — но даже самых обыкновенных удовольствий и удобств; что в него за высказывание тех самых мыслей, которые стали теперь общими местами, со всех сторон бросали грязью, камнями, эпиграммами, доносами; что он смертью избег судьбы, может быть, очень горькой, — и неужели Вы, после всего этого — находите, что две-три статьи в похвал)’ его, написанные, может быть, несколько дифирамбически,— уже слишком великая награда, что этого уже сносить нельзя, что это «тухлые яйца»? (П.3,60—6i).
В том же письме Тургенев, осуждая «детский» или «старческий» взгляд Дружинина на Белинского, выступившего против «идеального романтизма», препятствовавшего развитию нового реалистического искусства, разъяснял Толстому: «Дело шло о ниспровержении целого направления, ложного и пустого, дело шло об разрушении авторитета, мнимой славы и величавости. Пока этот авторитет признавался — нельзя было ожидать правильного и здравого развития нашей словесности — и благодаря той статье Белинского о Марливском — да
еще двум — трем таким же о Бенедиктове и др. — мы пошли вперед» (П.3,61—62).
Когда Тургенев узнал, что Толстой сблизился с Дружининым и испытывает некоторое влияние «бесценного триумвирата», он почувствовал, что ему нужны другие друзья. В очень осторожной и тактичной форме Тургенев писал ему из Парижа в конце 1856 года: «Вы, я вижу, теперь очень сошлись с Дружининым — и находитесь под его влиянием. Дело хорошее — только смотрите, не объешьтесь и его. Когда я был Ваших лет, на меня действовали только энтузиастические натуры» (П.3,54). Его сестре, Марии Николаевне, он писал о дружбе Толстого с Дружининым в более резкой форме, подчеркивая, что критик-эстет может только помешать его творчеству.
Высказывание демократов и Тургенева не прошло бесследно для Толстого. Они обострили его внимание к происходящим событиям на литературном и идеологическом фронте в целом, помогли шире взглянуть 'ла жизнь, по-иному посмотреть на своих «друзей», во многом способствовали его освобождению от налета юнкерства, побуждали к основательному изучению искусства, литературы, критики. И результаты сказались!
Уже к концу 1856 года в сознании Толстого начинают зарождаться сомнения в непорочности эстетических взглядов Дружинина, ему становится с ним «немного тяжело». 13 ноября того же года он записал в дневнике: «В 4-м часу к Дружинину; там Гончаров, Анненков, все мне противны, особенно Дружинин» (47,99). Толстому «очень грустно с ним» (Дружининым). Одна из статей Дружинина тогда же заставила Толстого призадуматься над тем — «не вздор ли это все», что писал он.
Обратясь в начале января 1857 года к сочинениям Белинского, Толстой испытал чувство глубокого духовного удовлетворения. 4-го января он записал в дневник, что статья Белинского о Пушкине — чудо, что он только теперь начинает понимать Пушкина (47,108). В личной библиотеке Толстого в Ясной Поляне хранится «письмо к Гоголю», сплошь испещренное пометами Толстого. Они свидетельствуют о том, с каким вниманием он изучал его. Несколько по-иному теперь отнесся Толстой к Чернышевскому, которого назвал в дневнике «умным и горячим».
Присматриваясь к столичным литераторам, изучая
их, Толстой приходит к убеждению, что Тургенев все-таки наиболее близок ему и по тематике и по изображению простого народа. Он ставит писателя в центре своего внимания, наблюдает каждое его движение, размышляет над каждым поступком и все о нем записывает в дневник. Вот некоторые из них за первую половину 1856 года: «7 февраля. Поссорился с Тургеневым». «10 февраля. Обедал у Тургенева, мы снова сходимся». «12 марта. С Тургеневым я кажется окончательно, разошелся». «5 мая. Был обед Тургенева, в котором я, глупо оскорбленный стихом Некрасова, всем наговорил неприятного. — Тургенев] уехал. Мне грустно».
10 мая Толстой писал из Петербурга Т. А. Ерголь-ской: «Тургенев уехал, которого я чувствую теперь, что-очень полюбил, несмотря на то, что мы все ссорились» (60,61). 2 июня имя Тургенева опять появилось у него: «Очень хорошо болтал с Тургеневым», а на следующий день Толстой писал своей сестре Марии Николаевне, что он прочел «Дон Жуана» Пушкина утром в 4 часа, был в восторге и хотел тут же писать об этом Тургеневу.
Толстой внимательно следил за всем, что выходило из печати Тургенева. Отношение к его произведениям у Толстого самое противоречивое. 28-го октября 1856 года он занес в дневник: «Прочел «Фауста» Тургенева. Прелестно». «10 ноября ...прочел все повести Тургенева. Плохо» (47,99), а всего один день назад, посылая 4тз Петербурга только что вышедшие его повести и рассказы в трех томах своей знакомой девушке В. В. Арсеньевой, советовал ей прочесть их все.
* * *
Недостатки, которые отмечал Толстой в Тургеневе-человеке, не были лишены основания. Их находил у него Белинский, В. П. Боткин называл в молодости Тургенева «легкомысленным мальчиком», сам Тургенев говорил о себе порой как о «жалком человеке», которым управляют стихии. Юность его была далеко не идеальной. Близко знавший Тургенева П. В. Анненков писал о нем: «Прежде чем утвердиться на своем посту, ему необходимо было покончить почти со всеми чертами молодости, отделаться от множества привычек, полученных в начале своей карьеры, найти другой способ сноситься с людьми, чем тот, которому он следовал доселе. Молодость Тургенева была далеко не бурная, но распущен
ная, и постепенное собирание ее, приведение в порядок и в подчиненные отношения к какому-либо правилу жизни составляет поучительную историю»7.
Богато одаренный фантазией от природы Тургенев в молодости не умел еще «властвовать собою», управлять своими эмоциями. Тот же П. В. Анненков отмечал в нем какие-то наивно-детские, ребячески прелестные у него черты характера, которые давали повод думать о нем, как о человеке, не имевшем в своем распоряжении искреннего слова и чувства8.
Самому Тургеневу вряд ли удалось бы освободиться от тех пороков, которые привили ему с детских лет в дворянском гнезде. Большое значение в этом имела его встреча и многолетняя дружба с Белинским, «отцом и командиром», перед авторитетом которого он преклонялся.
Критик помог ему глубже посмотреть на простой народ, понять его потенциальные силы и способности, рабское положение, сосредоточить на нем свое внимание, а также избавиться от игривого, порой легкомысленного взгляда на жизнь, модного щеголяния фразами. Это, конечно, отнюдь не означает, что Тургенев во всем слепо следовал за критиком. Он много воспринял от него, но ни революционным демократом, ни воинственным атеистом, каким был Белинский, писатель не стал; некоторые «предрассудки вековые» в нем еще сохранились, и они давали о себе знать в общении с Толстым. Об этом также хорошо сказал П. В. Анненков. «В Тургеневе он <Толстой> распознал многосторонний ум и наклонность к эффекту, — писал Анненков, — последнее особенно раздражало его, так как искание правды и простоты; и здравомысленности существования составляло и тогда идеал в его мыслях: Он находил подтверждение своего мнения о Тургеневе в физических его явлениях» (там же).
Если в первые дни общения Толстой назвал Тургенева «золотым человеком», имя которого он носит в сердце, то в дальнейшем восторженность у него исчезает. В апрельском письме к М. Н. Толстой автор «Детства» говорил о нем как о слишком восторженном человеке, которому не очень верит (61,372). Это зародившееся у него сомнение по отношению к Тургеневу послужит одной из причин возникновения между ними «щелей» и «оврагов».
Из сказанного следует, что в конце 1855 и 1856 го-
дов в Толстом происходила сложная внутренняя борьба, трудная акклиматизация после армейской жизни в столичных условиях, стремление разобраться во всем, что начинало будоражить умы передовых людей, и он оказался на распутье. Это ясно замечали его современники, которые видели в нем и духовный рост и стремление разобраться во всей житейской путанице самому, без чьей либо, в том числе и тургеневской, опеке. . . 4
* * *
Когда Толстой заговорил о поездке за границу, друзья охотно поддержали его инициативу. Им казалось, что Европа просветит его, собьет с него умственную шелуху, вред которой он начинал осознавать сам. И конечно, постоянным спутником его там был Тургенев. Если раньше он вводил Толстого в столичное литературное общество, то теперь знакомил с культурой Франции, ее литературой, театрами, музеями, архитектурой, водил на лекции в Сорбонну. Толстой расширенными глазами рассматривал Париж, впитывая в себя его научные и культурные ценности. Тургенева радовала страсть Толстого к знаниям. Уже 6-го января 1857 года он писал М. Н. Толстой из Парижа, что в ее брате «происходит перемена к лучшему... Дай бог ему успокоиться и смягчиться. Из него выйдет великий (без преувеличения) писатель и отличный человек» (П.3,91,95). Д. Я. Колбасину, В. П. Боткину Тургенев писал, что в Толстом «совершаются благодатные перемены», что он «гораздо стал лучше», «поумнел очень» (П.3,91).
В свою очередь и Толстой всматривался не только в Париж, но и в своего друга, о встречах с которым он записывал в дневник почти каждый день. Вот некоторые его записи за февраль —март 1857 года: «13 февраля... Тургенев мнителен и слаб до грустного». «10/22 февраля. Тургенев — дитя». «13/25 февраля. Тургенев гибнет». «14/26 февраля. Пришел Тургенев, с ним обедал и краснел... Потом пошел к Тургеневу и легко и приятно болтал с ним до часу». «17 февраля. Обедал с Тургеневым и было легко, он просто тщеславен и мелок». «18 февраля. Тургенев плавает и барахтается в своем несчастии». «19 февраля. У Тургенева трустно». «20 февраля. С Тургеневым ходил, он тяжел и ску-чен... Сидел с Тургеневым часа три приятно».
«24 февраля. Утром зашел Тургенев и я поехал с ним. Он добр и слаб ужасно». «25 февраля...Тщеславие Тургенева, как привычка умного человека, мило. За обедом сказал ему, чего он не думал, что я считаю его выше себя». «27 февраля. Тургенев мил». «1 марта... Тургенев скучен. Увы! Он никого никогда не любил». «7 марта. В 5 зашел Тургенев, как будто виноватый, что делать, я уважаю, ценю, даже пожалуй люблю его, но симпатии к нему нету, и это взаимно». И далее тоже следуют записи почти каждодневно. Приведем еще одну из них за 27 марта: «Проснулся в 8, зашел к Тургеневу. Оба раза, прощаясь с ним, я, уйдя от него, плакал о чем-то. Я его очень люблю. Он сделал и дела« ет из меня другого человека» (47,113—122).
Из приведенных записей следует, что у Толстого не было более близкого человека, как Тургенев, который принимал в его трудной писательской судьбе самое непосредственное участие.
Восхищаясь жаждой знаний Толстого, Тургенев порекомендовал ему съездить в Лондон и познакомиться с А. И. Герценом. Для этого он написал издателю «Полярной звезды» рекомендательное письмо. Но вместо Англии Толстой неожиданно вдруг покинул Париж и оказался в Швейцарии.
—Какая же причина побудила Толстого оставить Францию? — Гильотина! Толстой специально пошел в Париже посмотреть усовершенствованный способ казни людей, и гильотина привела его в ужас. «Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться» 1(47,122), — записал он в дневник.
Тургенев не сумел понять того эмоционально-психологического напряжения, которое вызвала в Толстом гильотина. Ему показалось в этом поступке Толстого проявление очередного чудачества. «Странный он <Тол-стой> человек, — писал по этому поводу Тургенев П. В. Анненкову в начале апреля 1857 года,— я таких не встречал и не совсем его понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича, что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо — высоконравственное и в то же время несимпатичное существо» (П.3,117).
Если Франция поразила Толстого гильотиной, то Швейцария — своей социальной несправедливостью. Случай с бедным музыкантом-тирольцем, который иг
рал на гитаре и пел тирольские песни, услаждая праздных отдыхавших английских аристократов, и не получивший в вознаграждение от них миллионной доли их состояния, так взволновал Толстого, что он хотел, чтоб этот факт стал достоянием мировой истории как проявление самой бесчеловечности и антигуманизма. Вначале Толстой рассказал о нем в письме к В. П. Боткину в июле 1857 года, а затем обработал в «Люцерн», в котором сказалась сила и обличительная страсть писателя к буржуазной республике, острая постановка проблемы достоинства человека. Однако, заклеймив варварство буржуазного мира, он противопоставил ему Всемирный Дух, законы вечной нравственности, что решительно было осуждено В. И. Лениным. Морально-этические сентенции рассказа «Люцерн» были чужды Тургеневу. Об этом он писал В. П. Боткину в августе 1857 года: «Я прочел небольшую его вещь, написанную в Швейцарии — не понравилась она мне: смесь Руссо,. Теккерея и краткого православного катехизиса» (П.3,138). Самого Толстого Тургенев просил не создавать нравственно-этических проповедей вроде «Люцерна» (П.3,170).
Любопытно при этом отметить, что по возвращении в Россию Толстой в 1857 году ни разу не занес в дневник отрицательных суждений о Тургеневе. Напротив, он всюду писал о нем с благоговением, например, «31 июля. Приехал Тургенев. Нам славно с ним». «1 августа. Ваничка (т. е. Тургенев. — //. Л.) мил. И мне стыдно перед ним». «2 августа. Ваничка уехал. Уж он слишком срамил меня» (47,148).
В письмах к Толстому Тургенев постоянно проявлял о нем заботу: то советовал ему разрастаться в ширину, как он раньше рос в глубину, то приблизиться к Шекспиру, к его сердцевине, то «не разбрасываться», «не-прыгать через голову», чтобы не вывихнуть себе спину, оставить гимнастику, хозяйство и сосредоточиться только на одной литературе. Но одна литература его не удовлетворяла: ему хотелось сразу захватить все. И на этот раз Толстого увлекла идея облесения не только Ясной Поляны, но и всей страны, составлял проекты для лесопосадок, насадил целые рощи у себя на усадьбе. Узнав об этих увлечениях Толстого, Тургенев писал ему: «Вы пишете, что очень довольны, что не послушались моего совета — не сделались только литератором. — Не спорю, может быть Вы и правы, только я.,
грешный человек, как ни ломаю себе голову, никак не могу придумать, что же вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? делец? — Пожалуйста, выведите меня из затруднений и скажите, какое из этих предположений справедливо» (П.3,138). Ни одно из этих предположений не было у него доминирующим. Толстому хотелось жизнь прощупать своими руками, прочувствовать своими мускулами — и только после этого, как результат познания действительности, заносить на бумагу, т. е. создавать художественные произведения.
Вопросы Тургенева к нему преследовали определенную цель — сосредоточить внимание писателя на литературной деятельности. Несмотря на чудачества и многосторонние увлечения Толстого, он ни на минуту не сомневался в гениальности молодого писателя. Автор «Детства» представлялся ему в виде молодого вина, составленного мастером, и когда оно перебродит, то выйдет напиток, достойный богов. В этой вере он не разочаровывался даже и тогда, когда между ними возникали «овраги». А их в пятидесятых годах было немало. Толстой, как уже говорилось, писал о них в дневниках, Тургенев — в письмах. «С Толстым я все-таки не могу сблизиться окончательно: слишком мы врозь глядим» (П.3,108), — писал Тургенев Е. Я. Колбасину в марте 1857 года; «Я с Толстым покончил все свои счеты... Мы созданы противоположными полюсами» (П.3,393, В. П. Боткину). То же самое, примерно, Тургенев писал М. Н. Толстой: «Видно, мне не суждено сойтись с этим умным и замечательным человеком: и ему со мной — и мне с ним — неловко; я люблю все, что он не любит — и наоборот: мы созданы совершенно антиподами» (П.3,364).
Тургенев пытается найти причины возникновения размолвок и конфликтов. И, найдя их, устранить. Иногда они кажутся ему в различии возрастов писателей, а отсюда у одного (Толстого) — стремление вперед, в будущее, у другого (Тургенева)—все в прошедшем. Он задумывается над мнительностью Толстого, его нелюбовью к французской фразе, во взглядах на литературу. Тургенев специально обращался к нему по этим вопросам, чтобы разрешить их. «Мои вещи могли Вам нравиться — и, может быть, имели некоторое влияние на Вас — только до тех пор, пока Вы сами сделались самостоятельны. Теперь меня изучать нечего. Вы види
те только разность манеры, видите промахи и недомолвки: вам остается изучать человека, свое сердце — и действительно великих писателей» (П.2,43). Никакого кокетства в этом признании Тургенева не было. При этом надо учитывать и то, что 1856 год был трудным для него в творческом отношении. Ему казалось, что у него нет художественного таланта, и он даже подумывал повесить перо на гвоздик, т. е. отказаться от участия в литературной жизни. Только успех «Рудина» окрылил его: Тургенев с стремительной быстротой создает одно крупное произведение за другим.
Успешно преодолевая духовный кризис творчеством, Тургенев заметил, что и Толстой впадает в тот же недуг, на который подталкивают его литературные друзья-критики. И несмотря на это, он твердо верил, что настанет время, когда между ними зарастут овраги и щели, и они «так же весело и свободно подадут руку друг другу, как в тот день, когда в первый раз увиделись да Петербурге» (П.2,14). И это предвидение Тургенева осуществится: они снова станут самыми близкими друзьями.
Внимательно наблюдая за ростом Толстого, Тургенев пришел в полный восторг от его рассказа «Утро помещика». Это произведение позволило Тургеневу специально обратиться к Дружинину и вскрыть перед ним глубину идейного содержания его, которое решительно отличалось от воззрений апологета «чистого искусства». «Я прочел «Утро помещика», — писал ему Тургенев 13/25 января 1857 года,— которое чрезвычайно понравилось мне своей искренностью и почти полной свободой воззрений; говорю: почти — потому что в том, как он себе задачу поставил, скрывается еще (может быть, бессознательно для него самого) некоторое предубеждение. Главное нравственное впечатление от этого рассказа (не говорю о художественном) состоит в том, что пока будет существовать крепостное состояние, нет возможности сближения и понимания обеих сторон, несмотря на самую бескорыстную и честную готовность сближения — и это впечатление хорошо и верно» (П.2,84).
В этом письме звучат не только полемические нотки, но и решительно опровергается как совершенно несостоятельная теоретическая концепция «чистого», безыдейного искусства. Тургенев совершенно ясно стремил
ся к тому, чтобы удержать, закрепить Толстого на реалистическом пути, принесшем писателю большую славу.
* * *
Возвращение Толстого из первого заграничного путешествия совпало с началом подготовки к освобождению крестьян. Летом 1858 года в Туле на дворянском собрании Толстой и Тургенев выступили за освобождение крепостных с землею и подписали соответствующий документ. Толстого глубоко захватило общественное движение. Он писал тогда же своей родственнице А. А. Толстой о тех переменах во взглядах на жизнь, какие сложились у него к тому времени: «Вот вам в самой сжатой форме перемена во взглядах на жизнь, происшедшая во мне в последнее время. Мне смешно вспомнить, как я думал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливейший и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! Нельзя, бабушка . Все равно, как нельзя не двигаясь, не делая моциона, быть здоровым. Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость». (60,231). Ему снова захотелось «умственных волнений» и «восторгов» (60,271). Но, к сожалению, на этот раз его умственные волнения были направлены не столько на решение основных социально-политических проблем, сколько на рассмотрение частного характера отдельных вопросов. Более того, Толстой задумал издавать журнал «чисто» литературный, без «политического перца». Давно уже известно, что чистого, «беспримесного» искусства не бывает: его «волнения» — положительные или отрицательные— обуславливаются окружавшей средой, книгами, журналами, произведениями искусства. По сравнению с «Военным листком» (1854), который он собирался издавать, новый журнал явился бы шагом назад. Толстовский замысел очень импонировал Дружинину, Боткину, и они ратовали за него, торопя Толстого к немедленной реализации его. Когда об этом узнал Тургенев, он с беспокойством и волнением разъяснял Толстому в письме от 27 марта 1858 года: «Политическая возня Вам противна, точно, дело грязное, пыльное,
пошлое, — да ведь и на улицах грязь и пыль — а без городов нельзя же» (П.2,211).
Тургенев ясно понимал, что в период общественного подъема ни журналы, ни газеты, ни литература в целом не могут находиться в стороне. Он сам мечтал о журнале, в котором бы освещались важнейшие политические вопросы. Тургенев не только не поддержал инициативу Толстого, но и осудил ее как несостоятельную и даже вредную. Увлечение Толстого журналом отрицательно также сказалось на его художественной продукции: он и писал мало, а то, что было опубликовано в 1858—1859 годах, не могло идти ни в какое сравнение с его ранними произведениями. Это очень беспокоило Тургенева, который обратился к нему с резким письмом-призывом. Он писал: «До сих пор в том, что Вы делали — все еще виден дилетант, необычайно даровитый, но дилетант; мне бы хотелось видеть Вас за станком, с засученными рукавами и с рабочим фартуком». (П.2,188).
На призыв Тургенева Толстой ответил практической деятельностью: он еще больше стал заниматься хозяйством — и меньше литературой. Не без иронии Тургенев писал в августе 1858 года А. Дружинину: «Толстого я видел мельком, раз у него, раз у себя. Он весь теперь погрузился в агрономию, таскает сам снопы на спине, влюбился в крестьянку — и слышать не хочет о литературе». (П.2,234).
Само собою разумеется, что отход от литературы сказался и на количестве и качестве художественной продукции Толстого. Появившийся в 1858 году небольшой рассказ философского содержания («Три смерти»), хотя и понравился Тургеневу, но он от него в восторг не пришел, как было раньше. Более того, концовка произведения показалась ему странной, а роман «Семейное счастье» (1859) привел самого автора в полное разочарование. Отход Толстого от активной литературной деятельности незамедлительно сказался и на взаимоотношении его с Тургеневым. Об этом последний писал В. П. Боткину, А. А. Фету, П. В. Анненкову, М. Н. Толстой и др.
И тем не менее Тургеневу хотелось уже не приблизить к себе Толстого, а приблизиться к нему: он дорожит его мнением о своих художественных произведениях. «Мне приятно, — писал Тургенев к А. Фету в начале июля 1860 года, — что «Первая любовь» понрави
лась Толстому: это ручательство» (П.3,86). Елена, хотя и не понравилась Толстому, но в целом о «Накануне» он сказал, что лучше Тургенева этого романа не написать никому из современных писателей.
Во время второго заграничного путешествия, когда Толстой похоронил в Гиере своего старшего и любимого брата Николая, Тургенев заметил в нем резкие перемены: и усиленную работу над повестью «Казаки», т. е. возвращение к художественному творчеству, и смягчение в характере. Они вернулись на родину близкими друзьями и даже решили вместе нанести визит своему старому другу А. А. Фету, который они и совершили 26 мая 1861 года.
Анализ материалов, относящихся к личным творческим взаимоотношениям Тургенева и Толстого до их ссоры, свидетельствует о том, что каждый из них предъявлял самые высокие художественные требования друг к другу. Толстому казалось, что шедевром русской и мировой литературы являются «Записки охотника», и по ним он оценивал все последующие произведения Тургенева. Тургенева первые повести и рассказы Толстого приводили в восхищение, и он видел в нем первоклассного писателя и «никогда не думал соперничать с ним»9. Шарль Эдмон сохранил слова Тургенева о том, как он в Париже «всей душой и совестью» уверял своих французских друзей-писателей в том, что Толстой — такой великий художник, что чувствуешь себя, говоря словами Иоанна Крестителя, «недостойным развязать ремень на его обуви» 10.
В переписке, в отзывах о художественных произведениях Тургенева и Толстого была глубокая заинтересованность в творческой деятельности, в создании такой литературы, которой могла бы гордиться страна. В этой связи нельзя принять всерьез суждений некоторых исследователей, которые в переписке названных писателей видели только обмен любезностями, которые они щедро рассыпали.
III. ССОРА И «ДУЭЛЬ»
Правительственная реформа 19 февраля 1861 года потрясла всю страну, привела в движение все классы и сословия, пробудила умы, обострила чувства личного человеческого достоинства. Она особенно остро сказалась на писателях, выразителях чаяний и ожиданий на
родных. Тургенев еще в начале своей писательской карьеры дал Аннибалову клятву бороться с крепостным правом. Выступая за освобождение крестьян с землею, он накануне реформы резко критиковал «тупое упорет- -во ...страх и скаредную скупость ...озлобленно-отсталых дворян, обер-полицмейстера Ахматова», «сладкого, учтивого, богомольного — и засекающего на следствиях крестьян, не возвышая голоса и не снимая перчаток» (П.3,181). Когда же манифест был обнародован, Тургеневу показалось, что он написан «по-французски и переведен на неуклюжий русский язык каким-нибудь немцем» (П.3,211). Но даже и в такой редакции, говорил Тургенев, мужики почувствовали свои права и стали работать на барина хуже. «И это надо было ожидать после 200-летнего бесправия», — пояснял он. Тургенев вполне оправдывает реакцию народа на правительственный документ, который, по его мнению, «переворот произведет» в крестьянской жизни (П.4,242). Вначале он увидел в правительственном документе перспективное дело, которое растет, ширится, движется во весь простор российской жизни. Вскоре его иллюзии рассеиваются — и пред ним предстают картины безобразные, «темные и тяжелые» (П.4,316), «страшные и смутные» (П.4,211). Его начинают пугать «известия из России — литературные и всякие другие» (там же).
И все же Тургенев не разгадал до конца грабительского характера реформы: некоторый либеральный туман в манифесте его устраивал. По словам В. И. Ленина, Тургенева тянуло «к умеренной дворянской конституции»1.
Что же касается Толстого, то он еще во второй половине 50-х годов почувствовал решительную необходимость в проведении реформы. В письме к министру Д. Н. Блудову Толстой в категорической форме заявил: «Вопрос поставлен теперь уж так: «жизнь или смерть» (5,256). Он закончил свое письмо тревожным призывом: «выход необходим. — Ежели в шесть месяцев крепостные не будут свободны — пожар. Все уже готово к нему, недостает изменнической руки, которая бы подложила огонь бунта, и тогда пожар везде ...время приспело» (5,257). В «Записке о дворянстве» Толстой стоял за освобождение крестьян с землею. Он возлагал большие надежды на реформу, но они быстро рассеялись. Толстой тоже отмечал, что правительственный манифест составлен безграмотно, что мужики его не поймут. А
несколько дней спустя он обратился к А. И. Герцену и заявил, что царская реформа — «это совершенно напрасная болтовня» (60,377).
Отношение к манифесту резко обнажило физиономии многих его знакомых. В частности, реформой были довольны либералы, которые вызывали у Толстого омерзительное чувство. Он называл их болтунами, людьми, которые идут по путям, указанным кабинетными теоретиками, не учитывающими движения жизни. О них он писал в дневниках, в комедии «Зараженное семейство». Либералы представлялись ему робкими, «половинными» людьми, которые тихо роптали в учреждениях — и продолжали с удовольствием служить, в печати лишь «намекали на то, на что позволено было намекать, молчали о том, о чем было велено молчать; но печатали все то, что велено было печатать»2.
По-разному отнеслись, как видно, к реформе Толстой и Тургенев. Автор «Севастопольских рассказов» не разделял взглядов на освобождение крестьян ни революционных демократов, ни славянофилов, ни либералов: он, по мысли В. И. Ленина, защищал «точку зрения патриархального, наивного крестьянства»3.
На рубеже 50-х — 60-х годов в России широко обсуждались вопросы народного образования и воспитания. Они настолько глубоко захватили Толстого, что он оставил на время творческую писательскую работу и всецело отдался педагогике. Толстой открыл у себя в усадьбе школу для крестьянских детей, более двадцати школ создал в Крапивенском уезде Тульской губернии, начал издавать журнал «Ясная Поляна», в котором обобщал опыт работы и разрабатывал теорию и методику обучения и воспитания. Для того чтобы стать на уровне передовых взглядов на дело народного образования, он специально отправился за границу знакомиться там с этим делом.
Толстой смотрел на воспитание и образование не как дилетант, а как экспериментатор и мыслитель. Он видел в просвещении народа дело первостепенной государственной важности. На этом необходимо остановиться потому, что ближайшей причиной, послужившей непосредственным импульсом к крупной ссоре Толстого и Тургенева, оказались вопросы воспитания.
Тургенев никогда не был учителем, но школу для спасских крестьянских детей он открывал в 60-х годах. Свою же внебрачную дочь Полину Тургенев отправил
во Францию, где она и училась с детьми Полины Биар-до. Он ее, как единственную наследницу тургеневского рода, «безумно полюбил» и не жалел никаких средств на ее воспитание. Тургенев отвез свою дочь в Париж потому, что по тогдашним законам, она, не удочеренная, не имела никакого права на наследство и оставалась на положении крепостной. На успех в удочерении он питал мало надежд, потому что оно совершалось только по высочайшему повелению. Он не стал об этом хлопотать и избрал для нее другой путь—выдать ее замуж как свою дочь за границей. В тогдашних условиях Тургенев считал это единственным путем для благополучия Полины. Он даже никогда не приезжал >с нею в Россию и радовался тому, что она забывает родной язык. Тургенев, страстно любивший Россию, вынужден был оставить жить свою дочь за границей. Касаясь этого глубоко интимного вопроса и очень волновавшего его, он писал К. Н. Леонтьеву 11 ноября 1860 года, что Полина-дочь «должна оставаться иностранкой вследствие причин первой важности. Это очень неприятно, но делать нечего» (П.4,148).
Направив в Париж свою дочь, Тургенев там стал обосновывать семейную жизнь. Об этом он писал А. Герцену в марте 1861 года: «Что же мне делать, коли у меня дочь, которую я должен выдать замуж и потому сижу в Париже» (П.4,203). Еще раньше Тургенев признавался Е. Е. Ламберт, что ему «очень хочется вернуться в Россию... Только бы отдать дочь за порядоч,-ного человека замуж» (П.4,184).
Тургенев полагал, что, выдав ее замуж, он развяжет себе руки, освободится от отягощавших его родительских формальностей и тогда вернется в Россию. А пока, уведомлял Тургенев А. Фета, надо сидеть в Париже, чтобы отцовский «долг исполнить до конца» (П.4,371). Когда же дело о замужестве Полины было решено, он писал Е. Е. Ламберт 13/25 декабря 1864 года, что свадьба дочери с Гостоном Брюером выводит Полину из «ложного положения, в котором она находилась— и избавит от великой ответственности» (П.4,307).
Вот это «ложное» родительское положение и заграничное воспитание Полины как раз и явилось одной из самых ближайших причин к столь жесткой ссоре между Толстым и Тургеневым, которая и произошла рано утром 27 мая 1861 года в только что приобретенном А. Фетом имении Степановке. При этом никого, кроме
хозяина дома и его жены, Марии Петровны, не было. Вот как он описал возникновение ссоры: «Утром, в наше обыкновенное время, то есть в 8 часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я в ожидании поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой — по левую. Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своей английской гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английской пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которой дочь его может располагать для благотворительных целей. «Теперь, — сказал Тургенев,— англичанка требует, чтобы дочь моя забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности».
— А это вы считаете хорошим? — спросил Толстой.
— Конечно, это сближает благотворительницу с насущной нуждой.
— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.
— Я вас прошу этого не говорить!—воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.
— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден? — отвечал Толстой.
Не успел я воскликнуть Тургеневу «перестаньте», как бледный от злобы, он сказал: «Так я вас заставлю молчать оскорблением». С этими словами он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей: «Ради бога, извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь. С этими словами он вышел»4,
В словах Тургенева о благотворительности и воспитании Толстой почувствовал «фальшь добрых стремлений», которую насаждала европейская педагогика. Буржуазная система воспитания в Европе Толстому показалась настолько отсталой и противоестественной, что он не мог говорить о ней без иронии. Это настолько вдруг, неожиданно взволновало Тургенева, что он утратил самоуправление и допустил несвойственную его натуре резкость в обращении, угрозу — вплоть до того,
как свидетельствует С. А. Толстая, что хотел ударить Толстого.
В разговоре о благотворительности и завязавшемся затем споре между Тургеневым и Толстым незамедлительно дали о себе знать нравственно-этические принципы феодально-крепостнического воспитания. Толстому показалось в манере обращения к нему Тургенева посягательство на его честь и убеждения; более того, его возмутила манера Тургенева в извинении, которое он принес не ему, а хозяйке дома. Толстой писал Тургеневу сразу же после ссоры из Новоселок: «Надеюсь, что ваша совесть вам уже сказала, как вы не правы передо мной, особенно в глазах Фета и его жены. Поэтому напишите мне такое письмо, которое бы я мог послать Фетам. Ежели же вы находите, что требование мое несправедливо, то известите меня. Я буду ждать в Бого-славе» (60,391). На это письмо Тургенев ответил ему 27 мая. Он писал: «Увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой теперь входить не место, я оскорбил Вас безо всякого положительного повода с Вашей стороны и попросил у Вас извинения. — Это же самое я готов повторить теперь письменно — и вторично прошу у Вас извинения» (П.4,247—248). Но, к сожалению, это письмо Тургенев адресовал Толстому в Новоселки, где его не было. Не дождавшись ответа, Толстой из Богослава написал 28 мая второе письмо к Тургеневу, «довольно жестокое, с вызовом». Тургенев получил его, но до нас оно не дошло. С. А. Толстая рассказала об этом так: «Оттуда [т. е. из Богослава] Лев Николаевич послал за ружьями и пулями, а к Тургеневу — письмо с вызовом за оскорбление. В письме этом он писал Тургеневу, что не желает стреляться пошлым образом, т. е. чтобы два литератора приехали с третьим литератором, с пистолетами, и дуэль бы кончилась шампанским, а желает стреляться по-настоящему и просит Тургенева приехать в Богослав к опушке леса с ружьями» (60,393). Направив это письмо Тургеневу, Толстой, по словам Тенеромо, почувствовал, что заряд вражды его разрядился. Однако Тургенев не отказался от дуэли, только просил Толстого отсрочить ее до осени, когда он снова вернется в Россию из Парижа. Об этом Тургенев писал Е. Ламберт, П. В. Анненкову, Н, X. Кетчеру: «При всем моем отвращении к дуэлям и прочим феодальным обычаям, — писал он последнему в сентябре 1861 года,—мне ничего другого не остава
лось—и ...мы станем нос с носом, как петухи» (П.4,292). В оттяжке дуэли Толстой увидел, как вспоминает С. А. Толстая, проявление Тургеневым трусости, о которой распространялись его литературные друзья. Когда эта сплетня дошла до Тургенева, то он, в свою очередь, вызвал Толстого на дуэль. 26 октября (7 ноября) 1861 года об этом Тургенев писал П. В. Анненкову: «Я получил от Л. Н. Толстого письмо (оно не сохранилось.— Н. Л.), в котором он объявляет мне, что слух о распространении им копии оскорбительного для меня письма есть чистая выдумка, вследствие чего мой вызов становится недействительным — и мы драться не будем, чему я, конечно, очень рад» (П.4,300).
В ссоре и «дуэли» двух крупнейших писателей — Тургенева и Толстого со всей очевидностью проявились разум и «предрассудки вековые»: то, что отживало свой век, но еще цепко держалось, и то новое нравственное начало, которое утверждалось, шло на смену старому. А. Герцен в начале сороковых годов писал об этом в дневниках, «Былом и думах». Осуждая дуэли как проявление рыцарского авантюризма, он подчеркивал, что люди порой не дают себе отчета, что «именно честно и что оскорбительно, и какое удовлетворение, каким образом исправляет»5. Дуэль, по его словам, «есть смертная казнь, сопряженная с опасностью палача,., есть акт дикой, кровавой мести, на которую не токмо отдельное лицо, но и общество не имеет никакого права»6. На смену «доблестному рыцарству», военной славе, «кровавой мести», писал Герцен, пришла сила мысли, явилась мыслящая личность, «вооруженная анализом, отрицанием, смелостью исследования»7.
Тургенев в «Отцах и детях» на образах Павла Кирсанова и Евгения Базарова убедительно подтвердил движение общественной мысли в России. Приверженец старых рыцарских принципов, старший Кирсанов никак не мог примириться с молодым Базаровым и полагал силой оружия уничтожить его и его смелую новую мысль. Тургенев противопоставил «доблестному рыцарству» анализ, исследование, живую творческую мысль.
В минуту аффекта, наивысшего накала страстей, движимые предрассудками, Тургенев и Толстой могли поступить безрассудно. Но, как видно из их переписки, воспоминаний современников, они не были похожими на Монтекки и Капулетти или на убийц, как Дантес или
Мартынов. В острой конфликтной ситуации они сумели остановить себя, не дать возможности разгореться пожару, восстановить временно утраченные в пылу гнева объективные критерии в оценке друг друга, критически проанализировать свои поступки, признать себя виновными во вспыхнувшей ссоре — и не дойти до кровавой развязки, которая назревала между ними. В результате возникшей ситуации, когда коса нашла на камень, как говорится в русской пословице, коса не оборвалась и не затупилась, а монолитный камень — не разбился.
Ссора двух великих писателей, возникшая в кризисную эпоху, когда все в русской жизни переворотилось и только укладывалось, отразила собою нравственно-этическое состояние времени, когда «предрассудки вековые» уходили в безвозвратное прошлое, но еше цепко держались, и то новое нравственное начало, которое шло на смену старому и утверждалось в жизни: торжество разума, трезвый взгляд на происходящие события.
Воспитанные с детства в духе морально-аристократических принципов, Толстой и Тургенев, сблизившись с народом, сумели не только освободиться от отживавших предрассудков, но и осудить их в своих произведениях. Тургенев как раз в это тревожное время дописывал роман «Отцы и дети», в котором высмеял старинное рыцарство в образе Павла Петровича Кирсанова, потребовавшего от Базарова поединка и признавшего после своего поражения правоту разночинца-нигилиста.
Чистота нравственного чувства волновала Толстого, начиная с первых его произведений. Она сказалась в трилогии, «Люцерне», «Поликушке», «Казаках», «Войне и мире» и многих других произведениях. Силу нравственной крепости и чистоты оба эти писателя черпали у народа — ив этом величие и их произведений, и их самих.
После этого попытаемся представить себе невозможное возможным, что ссора Тургенева и Толстого дошла до своего логического конца и совершилась, в результате чего не стало бы одного из них.
Мировая литература могла бы лишиться в угоду отживавшим принципам либо «Отцов и детей», «Дыма», «Нови», «Вешних вод», стихотворений в прозе, либо «Войны и мира», «Анны Карениной», «Воскресения», «Хаджи Мурата», прекрасных драм, великолепных ста
тей по искусству и т. д.8 Это была бы невозместимая потеря духовных ценностей для всего человечества. Вот во что бы обошлось безрассудное следование за «доблестным рыцарством».
IV. ПОСЛЕ ССОРЫ, ДО ПРИМИРЕНИЯ
Ссора нисколько не помешала писательской деятельности Толстого и Тургенева. Она как бы явилась катализатором в их творчестве. Тургенев в это время «до пота», по его словам, трудился над завершением лучшего своего романа «Отцы и дети»; Толстой, преодолевая духовный кризис, оказался «полон мыслей», и ему снова хотелось «волнений» и писать. Он тогда же закончил повесть «Казаки» и начинал размышлять над романом «Война и мир». И хотя Толстой и Тургенев прекратили личные связи на семнадцать лет, это отнюдь не означало, что они перестали интересоваться творчеством друг друга. Уже в конце 1861 года Тургенев первый обратился к А. Фету с просьбой сообщить ему, что делает Толстой. Тут же он писал, что «я (без всяких фраз и каламбуров) издали очень люблю его, уважаю — и с участием слежу за его судьбою — но что вблизи все принимает другой оборот. Что делать! Нам следует жить, как будто мы существуем на различных планетах или в различных столетиях» (П.5,322). Тургенев испытывал большую радость, когда узнал, что Толстой снова вернулся к литературному творчеству, к завершению кавказского романа. Когда же «Казаки» появились в печати, то он признавался, что они привели его в восторг. «Одно лицо Оленина, — говорил Тургенев, — портит общее великолепное впечатление» (П.5,113). И в дальнейшем он неизменно называл эту повесть шедевром «Толстого и всей русской повествовательной литературы» (П.10,287). «На днях прочел я роман Толстого «Казаки», — писал Тургенев Й. П. Борисову, — и опять пришел в восторг. Это — вещь поистине удивительная и силы чрезмерной. Что он делает? Напишите два слова о нем. Хотя мы с ним Монтекки и Капулетти, но я принимаю в нем большое участие и с удовольствием узнаю, что ему хорошо» (П.5,362). Когда В. П. Боткин написал Тургеневу в сентябре 1864 года о новых литературных! замыслах Толстого, тот незамедлительно ответил ему. Он писал, что радуется его успехам, и снова признался, что при
нимает «живое участие в этом замечательном человеке» (П.5,283).
Тургенев восторженно принял «Поликушку» Толстого. Он писал об этой повести А. Фету в конце января 1864 года: «Прочел я после Вашего отъезда «Поликушку» Толстого и удивился силе этого крупного таланта. Только материалу уж больно много утрачено, да и сынишку он напрасно утопил. Уж очень страшно выходит. Но есть страницы поистине удивительные! Даже до холода в спинной кости пробирает — а ведь у нас она уже и толстая и грубая. Мастер, мастер!» (П.5,216).
Тургенева радовали не только успехи в литературе Толстого в начале шестидесятых годов, но и его личные, семейные дела, а также увлечения педагогикой. «А что поделывает «Ясная Поляна»? (я говорю о журнале)»,— спрашивал Тургенев А. Фета в марте 1862 года, прося его уведомлять об успехах этого журнала. Узнав о женитьбе Толстого, он писал И. П. Борисову в декабре 1862 года: «Меня искренно обрадовало известие о женитьбе Толстого и то, что вы пишите об его . жене, которую я, помнится, видел почти ребенком у ее отца, А. Е. Берса. Желаю ему счастья — мира и тишины. Я не хотел бы с ним встречаться, но я никогда не переставал принимать самое живое участие во всем, что касается до него-—и теперь мне особенно было бы приятно услышать, что он снова принялся за литературную деятельность, которой ему никогда не следовало бы покидать» (П.4,79).
То же самое Тургенев писал С. Н. Толстому в начале 1863 года, одновременно запрашивая его о том, что по слухам, в «Русском вестнике» скоро явится его роман (П.5,91). Здесь Тургенев впервые высказал свое нетерпеливое ожидание новых художественных свершений Толстого. Он имел в виду его работу над эпопеей «Война и мир».
Известно, что в 1865 году, в разгар напряженной работы над этим произведением, Толстой сломал себе руку и не мог писать. «Очень меня опечалило известие о Толстом, — писал Тургенев И. П. Борисову в феврале 1865 года из Парижа. — Надеюсь, что он давным-давно справился и работает. Ему книги в руки. Не хитри только этот человек, отдайся своему таланту — господи боже, куда он уйдет! Перед ним жизнь только что начинается — что за годы-—36 лет — да и силы ка
кие! С нетерпением ожидаю его нового романа» (П.5,334).
Начало романа, изданного под названием «1805 год», Тургеневу не понравилось. Ему показалось, что «Толстой зашел не в свой монастырь». Об этом он писал Борисову (П. 5,364—365), П. В. Анненкову (П.5,367), М. В. Авдееву (П,6,74). А. Фету Тургенев попытался объяснить, почему это произведение скучно, слабо и мелко. «Роман Толстого плох не потому, что он также заразился «рассудительством»: этой беды ему бояться нечего, — пояснял Тургенев, — он плох потому, что автор ничего не изучил, ничего не знает и под именем Кутузова и Багратиона выводит нам каких-то рабски списанных, современных генеральчиков» (П.6,86).
Тургеневу, лично знавшему Толстого, казалось, что последний еще не готов к тому, чтобы взяться за большое историческое эпическое сочинение. Но то, о чем беспокоился Тургенев, об этом больше всего и задумывался Толстой. Черновые варианты «Войны и мира» (их четыре тома), статья Толстого по поводу этого произведения, научное описание личной библиотеки его в Ясной Поляне, а также современные исследования «Войны и мира» свидетельствуют о том, какой громадный материал использовал он для написания этой эпопеи. И если первые части романа еще беспокоили Тургенева, то по мере появления новых глав его отношение к нему резко менялось. В 1867—1868 годах Тургенев перечитал снова всего Толстого и нашел, что после него «ничего не явилось», как он писал Я. П. Полонскому (П.7,26). «Я прочел и роман Толстого, и да-шу статью о нем.., — писал Тургенев П. В. Анненкову в феврале 1868 года. — Сам роман возбудил во мне весьма живой интерес: есть целые десятки страниц сплошь удивительных, первоклассных, — все бытовое, описательное (охота, катанье ночью и т. д.)...есть в этом романе вещи, которых, кроме Толстого, никому в целой Европе не написать и которые возбудили во мне озноб и жар восторга» (П.7,64—65). Он видел «главное достоинство Толстого... в том, что его вещи жизнью пахнут» (П.7,70). Новые главы «Войны и мира» покоряли Тургенева. Если раньше он выражал сомнение относительно описания военных событий, тс в письме к И. П. Борисову в марте 1868 года Тургенев высоко ставит мастерство Толстого в изображении быта и военного дела. Эти описания он назвал удивитель
ными: они «не умрут, пока будет существовать русская речь» (П.7,76). В заключение этого письма Тургенев подчеркивал: «В этом романе столько красот первоклассных, такая жизненность, и правда, и свежесть — что нельзя не сознаться, что с появлением «Войны и мира» Толстой стал на первое место между всеми нашими современными писателями» (П.7,76). Тогда же он с восторгом писал о первых четырех томах эпопеи А. Фету: «Я только что кончил 4-й том «Войны и мира». Есть вещи невыносимые — и есть вещи удивительные; и удивительные эти вещи, которые в сущности преобладают, так великолепно хороши, что ничего лучшего у нас никогда не было написано — никем: да вряд ли было написано что-нибудь столь хорошее. 4-й и 1-й том слабее 2-го и особенно 3-го; 3-й том — почти весь chef d'oeure» (П. 7, 121). Тургенев назвал Толстого художника Антеем, берущим все свои силы от земли, от жизни (П.7,122).
С нетерпением он ожидал следующих томов «Войны и мира». По прочтении пятого тома Тургенев писал И. П. Борисову, что «после правды Л. Н. Толстого—• вся эта старенькая, чиновничья литература очень отдает фальшью, да какой-то кислой, неприятной фальшью» (П.7,279). А несколько дней спустя Тургенев заявил А. Фету, что «только можно читать, что Толстого, когда не философствует — да Решетникова» (П.7,285). Завершающие тома «Войны и мира» «бесили и тешили» Тургенева (П. 7, 341—342), «то сердили, то восхищали» (П.7,41). Толстой казался ему «настоящим человеком» (П.7,13), «гигантом» (П.7,302).
Перечитывая «Войну и мир» в 1869 году, называя при этом Толстого «самым даровитым писателем во всей современной европейской литературе», Тургенев испытывал сильнейшее внутреннее потрясение. В июле того же года он писал П. В. Анненкову из Баден-Бадена: «Пять дней тому назад я, лежа в постели, читал книжку («Войну и мир» Толстого, которую я получил сполна), почувствовал вдруг нечто вроде сильного сотрясения ...и левая рука моя осталась неподвижной, как дерево. Я испугался, стал оттирать ее правою, и, хотя минут через пять чувство в нее возвратилось и я ею действую теперь как следует, — однако сердце у меня сильно болело всю ночь и болит до сих пор» (П.7,40).
Однако, признавая высочайшие достижения Толстого-художника в «Войне и мире», Тургенев никогда не
принимал его философии. «В своем поклонении бессознательному невежеству, — писал Тургенев А. М. Жемчужникову в мае 1869 года,—-...он скоро дойдет до апофеозиса Ивана Яковлевича, московского юродив го» (П.8,43). В октябре 1869 года Тургенев, не соглашаясь с толстовской философией бессознательной деятельности, писал А. Фету: «Как это подумаешь, северные американцы во сне, без всякого сознания, провели железную дорогу от Нью-Йорка до С.-Франциско? Или это — не плод?» (П.8,101). Не согласился он и с изображением «декабристского элемента» (П.8,200). И несмотря на все это, снова и снова перечитывая «Войну и мир», Тургенев дал ей самую верную и восторженную оценку в письме редактору «ZeXIX-е Siecle» в январе 1880 года. Он писал: «Лев Толстой — самый популярный из современных русских писателей, а «Война и мир», смело можно сказать, — одна из самых замечательных книг нашего времени. Это обширное произведение овеяно эпическим духом; в нем частная и общественная жизнь России в первые годы нашего века воссоздана мастерской рукой. Перед читателем проходит целая эпоха, богатая великими событиями и крупными людьми...развертывается целый мир со множеством выхваченных прямо из жизни типов, принадлежащих ко всем слоям общества... Здесь есть целые главы, в которых никогда не придется ничего менять; здесь есть исторические лица (как Кутузов, Растопчин и другие), черты которых установлены навеки; это — непреходящее ...это великое произведение великого писателя—и это подлинная Россия» (15,187—188).
В процессе работы над «Войной и миром» Толстой не забывал о Тургеневе и даже воспользовался его художественными открытиями. Публикуя первые главы этого произведения в 1865 году под названием «1805 год», он писал тогда же А. А. Фету: «На днях выйдет первая половина 1-ой части «1805 год». Пожалуйста, подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение да еще мнение человека, которого я не люблю, тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого — Тургенева Он пойметь» (61,72).
Толстой специально употребил выражение «он пойметь», которое, очевидно, бытовало в кругу его знакомых. Если же принять во внимание, что А. Фет никогда не выступал как критик, то остается единственное мнение Тургенева, которым дорожил Толстой.
Во время работы над «Войной и миром» Толстой писал А. Фету 10 мая 1866 года, что он учитывал некоторые эстетические положения Тургенева. «Мнение Тургенева о том, что нельзя на 10 страницах описывать, как NN положила руку, — признавался он,— мне очень помогло, и я надеюсь избежать этого греха в будущем» (61.138).
Толстой признавался, что Тургенев «научил его понимать людей с художественным чутьем»1.
Что же касается художественных произведений Тургенева, то он не оставил без своего внимания ни одно из них. В середине 50-х годов, посылая из Петербурга все сочинения Тургенева В. В. Арсеньевой, Толстой советовал ей прочитать их, «ежели не скучно — опять, по моему, почти все прелестно» (60,104). Он особенно рекомендовал В. В. Арсеньевой прочитать «Андрея Колосова», «Затишье», «Двух приятелей». Тургеневского «Фауста» Толстой назвал «прелестным». К «Отцам и детям» он подошел субъективно в оценке, назвав роман «холодным», и, вместе с тем, образ Базарова поставил в один ряд по художественному исполнению с Онегиным и Печориным. Так же субъективно Толстой отнесся к «Дыму», хотя давно уже установлена историко-литературная связь этого романа с «Анной Карениной». Когда Тургенев опубликовал «Довольно» и заявил, что перестает писать, Толстой выразил сожаление, сказав, что ему рано кончать.
* * *
После окончания «Войны и мира», изнуренный многолетней творческой работой, Толстой направился отдыхать в Самарские степи и по пути, в Арзамасе, провел тягостные ночи, описанные в «Записках сумасшедшего». Болезненное состояние его обеспокоило Тургенева. Он писал в этой связи А. Фету из Лондона в июле 1871 года: «Вы мне пишите насчет здоровья Л. Н. Толстого. Я очень боюсь за него — недаром у него два брата умерли от чахотки — и я очень рад, что он едет на кумыс, в действенность и пользу которого я верю. Л. Толстой эта единственная надежда нашей осиротевшей литературы, не может и не должна так же скоро исчезнуть с лица земли, как ее предшественники— Пушкин, Лермонтов и Гоголь» (П.9,110). В августе того же года Тургенев, беспокоясь за состояние
здоровья Толстого, писал А. Фету: «Вы не можете иметь о нем более высокого мнения, чем я» (П.9,125). Когда же поэт сообщил о Толстом, Тургенев незамедлительно ответил А. Фету: «Меня порадовали известия, сообщенные Вами о Толстом. Я очень рад, что его здоровье поправляется — и что он работает. Что бы он ни делал — будет хорошо, если он сам не исковеркает дела рук своих» (П.9,170).
К началу семидесятых годов, хотя Тургенев и Толстой и находились еще формально во вражде, острота конфликта между ними заметно угасала. Тургенев первый почувствовал это и специально писал А. Фету из Буживаля в августе 1873 года: «Что Вы мне ничего не говорите о Льве Толстом? Он меня «ненавидит и презирает», а я продолжаю им сильно интересоваться, как самым крупным современным писателем» (П.10,143). На прямо поставленный вопрос об отношении между старыми друзьями А. Фет ответил Тургеневу, что и у Толстого не сохранилось к нему враждебного чувства. «Радуюсь, — писал Тургенев А. Фету, — что Лев Толстой меня не ненавидит» (П.10,152).
В 1873 году Толстой приступил к созданию «Анны Карениной», романа на современную тему, посвященного «злобе дня», по выражению Ф. М. Достоевского. Новое произведение привлекло к себе пристальное внимание, потому что писатель многие годы был погружен в историю, работая над «Войной и миром». Что Толстой скажет о современности? Какие вопросы в ней будут в центре его внимания? Все это волновало современников, и они с нетерпением ожидали его нового творения.
Толстой, только что закончивший эпопею «Война и мир», принесшую ему мировую известность, в «Анне Карениной» поднялся на новую, высшую ступень в своем художественном развитии. Удивительно чуткий ко всем событиям, происходившим в жизни, когда рушились старые вековые устои во всех сферах русской действительности, он весь ушел в создание «Анны Карениной».
Однако глубокий стратегический замысел Толстого в романе, насыщенном философскими размышлениями,— от критического рассмотрения семьи как основной ячейки государства до обличения всей самодержавно-бюрократической системы — не был сразу же разгадан и понят как теми, кто увидел в нем апофеоз
дворянству и восторженно отзывался о первых главах его (В. Г. Авсеенко), о поэтизации любви (А. С. Суворин), так и другими, кому представлялись в «Анне Карениной» «скандальная пустота содержания», воспевание любви «в самом голом смысле этого слова», «скандальная эпопея барских амуров»2. О преобладании чувственных элементов человеческой природы в начале этого романа писал А. М. Скабичевский. Ироническое мнение о первых частях «Анны Карениной» высказал Н. Некрасов в эпиграмме «Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом...», опубликованной в газете «Новое время» № 22 от 21 марта 1876 года. Начало этого произведения вызвало едкие замечания у М. Е. Салтыкова-Щедрина. С тревогой он писал П. В. Анненкову 9 марта 1876 года, что в нем «консервативная партия ...торжествует» и делает «политическое знамя»3. Свою неудовлетворенность первыми частями нового романа Толстого В. В. Стасов выразил в письме к Тургеневу 30-го марта 1875 года. «А что Вы скажете, Иван Сергеевич, про «Анну Каренину»? — спрашивал он его. — Ведь жидко и слабо, иными словами плоховато! ...Нельзя, конечно, не любоваться на талантливость многих подробностей, но не те теперь времена пришли, чтобы по-старому радоваться ...только на талантливость автора и красивость форм... Изумителен, право, этот Лев Толстой: такой громадный талант скульптурной работы, и рисунок, и лепка, и типы, и краски — все есть у него во власти — и вечно из всего этого лепит такой вздор или мелочи»4. Стасова возмущал перевес формы над содержанием в толстовском романе, и этот недостаток он перенес на все творчество писателя.
Однако при появлении новых частей «Анны Карениной», когда авторский замысел начинал вырисовываться более ясно, Щедрин один из первых уловил это и в дальнейшем отказался от нападок на роман. Коренным образом изменил свое мнение на это произведение В. В. Стасов. Он теперь писал, что в его новых частях развернулся «истинно львиный» талант писателя. «Если нужно было отдавать отчет Европе о самом значительном, что создано русской литературой,— говорил он,— мы могли бы тотчас же, наряду с самыми глубокими и творческими страницами, выставить «Анну Каренину» ...Ведь все те романы и повести погибнут и забудутся, а «Анна Каренина» останется светлой, громадной звездой талантливости на веки веков»5.
Когда Тургенев узнал, что Толстой приступил к написанию романа на современную тему и он будет печататься в «Русском Вестнике», автор «Записок охотника» незамедлительно обратился к А. В. Топорову, своему близкому другу, прося его выписать ему этот журнал, несмотря на то, что с его редактором М. Катковым, «самым гадким человеком на Руси», «московском папой», по словам писателя, давно порвал связь «Будьте так любезны, — писал он ему в начале января 1875 года, — подпишитесь также на «Русский вестник», так как в нем, по слухам, должен явиться роман Льва Толстого» (П.11,6).
Тургеневу, посвятившему творчество современности, совсем недавно закончившему «Дым» и теперь работавшему над «Новью», очень хотелось знать, что скажет Толстой-художник о пореформенной эпохе. В январском номере катковского журнала действительно было опубликовано начало толстовского романа. Узнав об этом. Тургенев в феврале 1875 года писал Ю. П. Вревской, не познакомилась ли она с «Анной Карениной». «Как только прочтете, — просил он ее, — сообщите мне свое впечатление. Я убежден, что Ваш литературный вкус должен быть и тонок и верен» (П. 11,18).
Через полмесяца после этого письма Тургенев сам познакомился с первыми частями толстовского романа— и они не удовлетворили его ожиданий. «Прочел я «Анну Каренину» Толстого и нашел в ней гораздо меньше, чем ожидал, — уведомлял он О. Онегина.— Что будет дальше — не знаю; а пока это и манерно, р мелко, и даже (страшно сказать!) скучно. Вы это, однако, не повторяйте» (П.11,24). К этому Тургенев 1 в письме к А. В. Плетневой добавил еще и то, что нашел в романе предвзятую мысль. Но и при этом он не терял надежды, что автор в дальнейшем может расправить крылья: «читатель вправе требовать от него превосходной книги» (П.11,25).
В конце февраля, делясь своим мнением о начале «Анны Карениной» с П. В. Анненковым, Тургенев писал, что первые части ее показались ему манерными, мелкими и неинтересными, хотя и есть хорошие места, но их немного (П.11,34). Тургенев пока еще не уловил в романе Толстого внутренней силы сцепления, выражения главной мысли, которая писателем не декларировалась, а выражалась художественным способом. Не поняв этого, он по-своему попытался даже объяснить
причину неудачи Толстого. Она представлялась Тургеневу в виде влияния на него Москвы, Каткова, славянофильского дворянства, старых православных дев, а также в отсутствии творческой свободы (П.11,51). Об этом он писал и Топорову, упрекая Толстого в том, что автор завяз в «московском болоте», «православии, невежестве, самомнении ...вражде ко всему чужому» и т. д. (П.11, 230).
До выражения главной, озаряющей идеи, «одного важнейшего вопроса в России», высказанного Левиным в третьей части «Анны Карениной», «когда все это переворотилось и только укладывалось» (18,346), Тургеневу трудно было понять даль этого свободного романа. Именно в этой части Толстой в заостренной форме поставил такие проблемы, как давление капитала на работника, утопические мечты о преобразовании всей русской жизни путем бескровной революции, о бессмысленности земства и судебной реформы, о борьбе в философии между идеалистами и материалистами и т. д.
В последующих частях романа судьба мужика, его семьи, построенной на трудовых началах и нравственной чистоте, подчеркнуто была противопоставлена господствующему сословию. Решительной критике подверг Толстой и выборы дворянских предводителей, и добровольческое движение, и классическое образование, и мир чиновников. Не оставил в стороне он и старый спор о путях развития страны — славянофильском и западническом. Еще в январе 1857 года Толстой писал В. П. Боткину, что славянофилы ему кажутся совершенно отсталыми (60,256). В апреле 1870 года он записал в дневнике: «Спор славянофилов и западников. Как во всяком споре, оба справедливы. Петр, т. е. время Петра, сделало великое необходимое дело, но, открыв себе путь к орудиям европейской цивилизации,не нужно было брать цивилизацию, а только ее орудия для развития своей цивилизации. Это делает народ. Во время Петра сила и истина были на стороне преобразователей, а защитники старины были пена, мираж,—и так после Екатерины защитники Русского — истина и сила, а западники — пена старого, бывшего движения» (48,123).
Толстой в качестве главной исторической силы выдвигает в этой записи народ как создатель своей национальной цивилизации. Через два года в письме к одному из видных неославянофплов Н. Н. Страхову он
резко осудил славянофилов за их искусственный взгляд на народ. «Народность славянофилов и народность настоящая,— писал ему Толстой, — две вещи столь же разные, как эфир серный и эфир всемирный, источник тепла и света. Я ненавижу все эти хоровые начала и строй жизни и общины братьев славян, каких-то выдуманных» (61,278).
В тринадцатой главе четвертой части «Анны Карениной» писатель специально коснется славянофильского вопроса. «Разговор зашел об общине, — сказано в романе, — в которой Песцов видел какое-то особенное начало, называемое им хоровым началом. Левин был не согласен ни с Песцовым, ни с братом, который как-то по своему признавал и не признавал значение русской общины» (18,416). Песцов почти буквально повторил слова К. С. Аксакова о «хоровом начале общины», как об этом сказано в комментариях к роману6. Из этого следует, что Толстой и в пору создания «Анны Карениной» не разделял славянофильских воззрений.
Несмотря на то, что события первой части романа Толстого почти целиком развертываются в Москве, нельзя думать, что писатель находился тогда под ее влиянием, в чем его упрекал Тургенев. Толстой-реалист правдиво запечатлел старую барскую столицу такой, какой она была в действительности без какой-либо идеализации. В 7 части «Анны Карениной» он специально будет говорить о Москве почти такими же словами, какими его упрекал Тургенев. Характеризуя интеллектуальную жизнь ее, Толстой говорил о «московской затхлости», «московском застое», «стоячем болоте» и т. д.
Что же касается отношения Толстого к Каткову, то оно определилось у него довольно четко еще в шестидесятые годы. «Катков настолько ограничен, — занес он в дневник, — что как раз годится для публики» (48,36), т. е. для официальной цензуры и невзыскательных читателей. Кроме чисто формальных дел по изданию романа, его ничто с ним не связывало. Поэтому опасения Тургенева относительно дружбы Толстого с редактором «Русского вестника» были также лишены основания.
Понимая недальновидность критиков «Анны Карениной», Толстой решительно заявил в письме к Н. Н. Страхову, что его в романе занимают не только личные, семейные дела, но и общественные. «И если близорукие критики думают, что я хотел описывать
только то, что мне нравится, как обедают Обл[онские] и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою...» (62,268—269).
Тургенев, хотя и был не удовлетворен началом романа Толстого, тем не менее уже во второй его части отметил «истинно великолепные страницы (скачки, косьба, охота)». Эти картины были близки эмоциональной натуре Тургенева. С большой надеждой на успех он нетерпеливо ожидал продолжения толстовского произведения. Когда после опубликованных первых десяти глав третьей части наступил перерыв, он с тревогой спрашивал П. В. Анненкова, по какой причине задержка — авторской или цензурной (П.11,132). Свое беспокойство за приостановку появления в печати новых глав «Анны Карениной» Тургенев сообщал и М. Е. Салтыкову-Щедрину (П.11,217). Третья часть этого романа уже начала производить «завладевающее» внимание на него. В первых пятнадцати главах четвертой части Тургенев отметил «прелестные вещи, достойные великого мастера» (П. 11,234). Это дало ему возможность говорить о том, что талант в романе развернулся в полном блеске. Тургеневский скептицизм явно уступил место оптимизму в восприятии «Анны Карениной». В шестой части описание утренней охоты Левина на дупелей привело автора «Записок охотника» в полный восторг. Он писал об этом П. В. Анненкову в феврале 1877 года: «В последнем номере «Русского вестника» в «Анне Карениной» — есть бессмертные страницы: утренняя охота Левина на дупелей. Это изумительно!» (П.12,кн.1,96). И хотя образ Левина, как характер, был чужд Тургеневу, тем не менее картины, связанные с ним, оказались достойные того, чтобы отметить в них высочайшее мастерство писателя. Когда писатель получил сочинения от Толстого, он приступил еще раз к прочтению «Анны Карениной». «Я получил сочинения Льва Николаевича, — писал Тургенев С. А. Толстой, — которые он мне присылает, и теперь с особенным вниманием перечитаю «Анну Каренину» (П. 13,кн. 1,105). Он находил в романе неотразимую притягательную силу в изображении жизни людей и природы. Несомненно, его волновала и судьба героини, которая и по положению, и по обстоятельствам, и по некоторым чертам характера напоминала ему Ирину из «Дыма».
К восприятию «Анны Карениной» Тургенев подошел диалектически. Он не остановился на впечатлении от первоначального прочтения этого романа. Даже и тогда, когда ему не понравились первые части его, Тургенев просил своих друзей не повторять высказанное им мнение. Это значило, что писатель еще не был окончательно убежден в том, что толстовский роман слабый. Продолжение этого произведения укрепило веру Тургенева: «Анна Каренина» с каждой новой главой все сильнее привлекала к себе его внимание. Этот роман еще раз убедил Тургенева в том, что Толстой с необычайно стремительной художественной силой развивался от одной части к другой.
По отношению к «Анне Карениной» укоренилось мнение, что Тургенев не понял ее. С. П. Бычков писал: «Характерно, что роман был встречен резко отрицательно И. С. Тургеневым, который писал в письмах к своим друзьям и пророчил (?), что Толстому «не выдраться...из московского болота», что его талант погубило славянофильство, что он окончательно «сбился с пути»7. Этим категорическим суждением исследователь и ограничил «понимание» Тургеневым толстовского романа.
Ту же мысль повторил Б. И. Бурсов в статье «Анна Каренина», опубликованной в девятом томе Собраний сочинений Толстого в двадцати томах. Он писал: «Тургеневу, писавшему тогда свою «Новь», показалось, что Толстой забрел в «великосветское болото»8.
В комментариях к «Воспоминаниям» П. Д. Боборыкина, переизданным в 1965 году, прозвучала та же ошибочная нотка. В них сказано: «Тургенев отрица'-тельно отнесся к роману Л. Толстого «Анна Каренина»9-
К 150-летию со дня рождения Тургенева Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР завершил публикацию всех имевшихся писем в нашей стране и некоторой части из Франции. В письмах содержится богатейший и интереснейший материал, относящийся к «Анне Карениной». Располагая такими бесценными источниками, комментаторы обязаны были проанализировать их и раскрыть эволюцию восприятия Тургеневым этого произведения Толстого. Но они не сделали этого и не внесли должной ясности в истинное понимание Тургеневым толстовского романа. Они по
шли по проторенной дорожке. «Роман Толстого «Анна Каренина», — сказано в комментариях, — в целом(?) вызвал отрицательное отношение Тургенева» (П. 11,448). При этом комментаторы ссылаются лишь на письма № 3560, 3561, 3594, 3647, относившиеся к оценке первых двух частей романа. Многочисленные последующие высказывания его в письмах не были учтены. Так, в январе 1879 года, в письме к Л. Я. Стечкину Тургенев назвал «Анну Каренину» «капитальной вещью» и поставил ее в один ряд с «Евгением Онегиным», «Оливером Твистом» и «Адамом Видом» (П.12,кн.2,26). В следующем году он назвал «Анну Каренину» в письме к Г. Флоберу лучшим произведением русской литературы, в которой «много действительно первоклассных страниц» (П.12,кн.2,33). В предисловии к очерку А. Бадена «Роман графа Толстого» (1881) Тургенев поставил рядом «Анну Каренину» с «Войной и миром» и назвал их «наиболее значительными его произведениями» (15,122).
Во время беседы с Л. Стечкиным Тургенев сказал: «Некоторые страницы, например, свидание Анны с сыном (пятая часть романа. — Н. Л.)—какое совершенство! Когда я прочитал эту сцену, у меня книга из рук выпала. Да неужели, — говорил я мысленно,— можно так хорошо писать?»10 Как видно, Тургенев прекрасно понял и этот роман.
V. ПРИМИРЕНИЕ
В середине 70-х годов личные отношения между Тургеневым и Толстым были еще неприязненными, хотя от остатков ссоры не оставалось и следа. Каждому из них давно хотелось протянуть руку дружбы и навсегда забыть то, что случилось в Степановке. Оба они были заняты напряженной творческой работой и не переставали следить за успехами на литературном поприще друг друга. Так, даже при чтении «Последнего из идеалистов» Н. Н. Страхова, произведения, близкого по мотивам к рассказам Тургенева, Толстой сразу же вспомнил «Записки охотника» и под свежим впечатлением написал первому: «И как вы правы, что Гамлет Щигровского уезда и лишние люди не произошли от того, что Николай Павлович любил маршировку, как внушают Анненковы, и что это есть плачевная слабость одного периода русской жизни или даже вообще
русского человека, а это есть громадная, новая, непонятная Европе, понятная индейцу сила. Признаюсь вам, я всегда чувствовал то, что чувствовал ваш герой и Гамлет, но никогда не жаловался на это, а гордился и радовался, и теперь, чем ближе к смерти, тем больше радуюсь» (62,196). «Дневник лишнего человека», «Гамлет Щигровского уезда» помогли Толстому объяснить целый исторический период в духовном развитии России. Не оставил без внимания Толстой и такие произведения Тургенева последних лет, как «Перепелка», «Часы», «Пунин и Бабурин», «Клара Милич», «Новь» и др. Отношение к ним Толстого было разное, но оно прекрасно характеризовало его идейно-эстетические позиции. Это хорошо можно проследить на его отзывах о «Нови». И «по слухам» и при первом прочтении он отнесся к этому роману отрицательно. И это понятно: Толстому, находившемуся в то время в самом разгаре духовной перестройки и проповедовавшему непротивление злу насилием, всякое хождение в народ, всякая пропаганда революционных идей, а также активной роли женщины в общественном движении было совершенно чуждо, и он, естественно, не мог принять того, что составляло основу тургеневского романа. В то же время Толстой не мог не заметить изумительного мастерства писателя в изображении природы, которое он оценил самым высоким баллом. «Одно, в чем он мастер такой, что руки отнимаются после него касаться этого предмета — это природа, — писал Толстой А. Фету в марте 1877 года по прочтении «Нови».— Две-три черты, и пахнет» (62,315). Ту же мысль он высказал и в беседе с В. Ф. Лазурским: «Описания природы у Тургенева» удивительны, ничего лучшего ни в одной литературе не знаю»1. В связи с «Новью» Толстой назвал все творчество Тургенева — «ключом чистой и прозрачной воды» (62,308).
Во время работы над «Воскресением», где немалую роль играли народники-революционеры и женщины, он пересмотрел свое отношение к последнему тургеневскому роману и назвал его «лучшей вещью Тургенева», отличавшейся «цельностью, верно рисующей время и верно изображающей типы»2. Более того, размышляя о своей героине, Толстой указал ей единственный путь к воскресению, который связан не с поисками материального благополучия, что мог ей предоставить князь Нехлюдов, а с духовными интересами, которые
она нашла в дружбе с народниками-революционерами, в частности, с Симонсоном. Эту близость в изображении революционеров у Тургенева и Толстого отметил М. Горький. Он писал, что оба эти писателя «внушили читателю весьма высокую оценку духовных данных революционера ...революционер — это человек неглупый, сильной воли и большой веры в себя; это враг опасный, враг хорошо вооруженный»3.
Как видно, Горький установил прямую родственную связь в изображении исторического типа революционного народника у Тургенева и Толстого.
* * *
В конце «Анны Карениной» Толстой писал, что духовный перелом в Левине сказался и на его отношениях с людьми. «С братом теперь не будет той отчужденности, которая всегда была между нами, — споров не будет, — рассуждал герой, — с Кити никогда не будет ссор, с гостями, кто бы он ни был, буду ласков и добр с людьми, с Иваном — все будет другое» (19,382).
Трудно сказать, имел ли при этом Толстой в виду свою размолвку с Тургеневым, но, несомненно, что ему, как и Левину, хотелось пересмотреть свои взаимоотношения с близкими, знакомыми, друзьями.
Назревший в процессе создания «Анны Карениной» духовный кризис нашел свое выражение в «Исповеди». В ней Толстой заявил о своем перевороте во взглядах на жизнь, собственность, литературу, искусство, о разрыве с тем сословием, к которому принадлежал по рождению и воспитанию. В этом переломе мировоззрения его также беспокоили проблемы нравственного отношения между людьми. Поэтому он- не мог не вспомнить и о своей размолвке с Тургеневым, происшедшей семнадцать лет назад. В начале 1878 года Толстой специально обратился с просьбой к В. В, Стасову, переписывавшемуся с Тургеневым, сообщить ему адрес своего старого друга. Однако желание к примирению с Тургеневым у Толстого оказалось настолько сильным, что он, не дождавшись ответа В. В. Стасова, сам 2-го апреля того же года послал ему по почте письмо в Париж на «до востребование». Толстой первый поборол в себе сословные отживавшие предрассудки п протянул руку дружбы Тургеневу, так много хорошего сделавшего для него в молодости.
«В последнее время, —писал Толстой,—-вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло прежде моего. Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руку, и, пожалуйста, со всем до конца простите мне все, чем я был виноват перед вами. Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как вы любили мое писание и меня. Может быть, и вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренно любил вас. Искренно, если вы можете, простите меня, предлагаю вам ту дружбу, на которую я способен. В наши года есть одни только благолюбовные отношения к людям. И я буду очень рад, если между нами они установятся» (62,406—407).
Может быть, Толстой несколько и преувеличивал роль Тургенева, но, судя по тону письма, оно проникнуто искренностью и глубочайшим уважением к нему как писателю и человеку. Эмоциональную силу этого послания прекрасно понял и почувствовал Тургенев, который, по словам П. В. Анненкова, плакал от радости: оно так его «очень обрадовало и тронуло» (И. 12,323).
Тургенев незамедлительно ответил Толстому на его письмо, признаваясь, что давно уже. не чувствовал к нему никакой вражды. Он тут же уведомил Толстого, что летом возвращается из Парижа в Россию и готов с ним встретиться-, где ему угодно: в Москве, в Туле или же в Ясной Поляне.
8 августа 1878 года Толстой специально прибыл на вокзал в Тулу, где и произошла их встреча после столь длительной размолвки. Оттуда они направились в Ясную Поляну. По свидетельству современников, Тургенев и Толстой встретились и провели время как самые близкие друзья: о прошлой ссоре не было сказано ни одного слова — «Толстой показал самую предупредительную готовность» (П.12,342). В ходе беседы они обсуждали предложение А. Н. Пыпина об участии в издательстве «Русская библиотека», на что Толстой дал полное согласие. Беседы проходили в кабинете пи
сателя и в избушке, сделанной в «Чепыже», куда уходил он от «большого света» работать. К сожалению, содержание разговоров Тургенева и Толстого осталось никем не зафиксированным.
С. А. Толстая в своем дневнике записала о пребывании Тургенева в Ясной Поляне, что он стал «очень смиренен, всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе .возвышенных предметов. Так он описывал статую Христа Антокольского, точно мы все видели его» 4. Когда Толстой коснулся о разности жизни в России и за границей, то Тургенев ответил, что первые дни его точно все поражает, но затем все быстро изглаживается: «Ведь это все свре, родное, я вырос, провел детство и часть молодости в этой обстановке» (там же). Сравнивая Тургенева и Толстого как рассказчиков, С. А. Толстая писала, чро первый говорил «охотно, плавно, любил, кажется, больше рассказывать, чем разговаривать», рассказы второго ей «больше нравились: они сильнее очерчены, часто юмористичны, всегда оригинальны, в них многс? простоты, неожиданности и задушевности» 5. С. JJ. Толстой тоже отметил, что «в обществе Тургенев завладевал разговором и общим вниманием. Он был беспрдобным рассказчиком, и мы заслушивались его»6. В отношениях между Тургеневым и Толстым, по его наблюдениям, первый казался «старшим», а второй относился к нему «сдержанно, любезно и слегка почтительно» (там же). Т. Л. Сухотина-Толстая писала, что Тургенев в этот приезд в Ясную Поляну рекомендовал Толстому прочитать рассказы В. М. Гаршина «Четыре дня» и «Происшествие». Толстой высоко ставил сочинения этого писателя.
Судя ро записям очевидцев, по письмам Тургенева и Толстого, можно утверждать, что они снова встретились друзьями. Говоря о своем пребывании в Ясной Поляне, Тургенев писал Толстому 14 августа 1878 года: «Не могу не повторить Вам еще раз, какое приятное, хорошее впечатление оставило во мне мое посещение Ясной Поляны, и как я рад тому, что возникшие между нами недоразумения исчезли так бесследно, как будто их никогда и не было. Я почувствовал очень ясно, что жизнь, состарившая нас, прошла и для нас недаром и что и Вы и я — мы оба стали лучше, чем 16 лет тому назад, и мне было приятно это почувствовать» (П. 12,344).
Перед отъездом в Париж Тургенев с 2 по 4 сентября того же года снова заезжал к Толстому в Ясную Поляну. О своем впечатлении от встреч с ним он писал А. Фету, называя Толстого гениальным художником, у которого «соперников нет» (П.12,кн.1,360). ,По приезде в Париж Тургенев писал в октябре 1878 .года В. Рольстону, приглашая его к себе: «Я вам расскажу о гр. Толстом — с которым провел только что три дня в Ясной Поляне. Мы поссорились 16 лет тому назад— но теперь мы снова хорошие друзья, как никогда раньше» (П.12,кн.1,482).
Тургенев потому обратился к Рольстону, что тот особенно в то время интересовался Толстым: собирал о нем материалы, чтобы написать книгу об авторе «Войны и мира». Рольстон даже обратился лично к Толстому с письмом, прося его сообщить некоторые необходимые данные. Толстой не откликнулся на его просьбу, так как в то время он не придавал никакого серьезного значения своим художественным произведениям и полагал, что как писатель не представляет какого-либо интереса не только для европейских, но и для русских читателей (62,449).
Восстановление дружеских связей с Толстым для Тургенева было радостным событием до конца > его жизни. Толстой же увидел тогда в авторе «Записок охотника» того писателя и человека, которого время мало изменило в его духовном развитии. Отсюда и некоторая двойственность к нему отношения: с одной стороны, Тургенев показался ему милым и блестящим, каким он был всегда; с другой — мелким, неглубоким, «немножко напоминающим фонтан из привозной воды» (62,439). «Он все такой же», — писал Толстой А. Фету о пребывании Тургенева в Ясной Поляне, — и потому «мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна» (62,441).
Тургенев и сам признавался, что он — один и тот же в своих воззрениях на жизнь. Никаких острых изломов и изгибов в его творческом пути исследователи не отмечали. Что же касается Толстого, то по силе глубокого проникновения в русскую историческую и современную жизнь, какую он обнаружил в своих художественных произведениях 60—70-х годов, ему не было равных. Мировая литература также не знает другого писателя, как Толстой, который бы так остро воспринимал кричащие противоречия в жизни и так
ярко отразил их в своем творчестве. Вот почему, когда Н. Страхов резко выступил против Тургенева. Толстой не поддержал его и просил не сердиться на Тургенева, потому что он «играет в жизнь, и с ним надо играть. И игра его невинная и не неприятная, если в малых дозах» (62,445).
Для Толстого, написавшего «Исповедь», погруженного в разработку религиозно-нравственных, нравственно-этических проблем, литература, как беллетристика, не представляла никакого интереса в конце 70-х, начале 80-х годов. С этой стороны Тургенев оставался для него не союзником, а скорее антиподом. И его писания, милые, блестящие, представлялись автору. «Исповеди», «В чем моя вера», «Исследования догматического богословия» не тем, на что следовало бы тратить жизнь. Толстому, погруженному в написание философско-нравственных сочинений, литература как легкое чтение, а не «дело жизни» была чужда. В этой связи он отказывался и от своих художественных произведений, не любил перечитывать их и то, что писали о них. Они производили в нем неприятное, сложное чувство, «в котором главная доля есть стыд и страх», и что над ним смеются. «Как я ни люблю вас и верю, что вы хорошо расположены ко мне, — писал Толстой Тургеневу 27 октября 1878 года, —мне кажется, что и вы надо мной смеетесь. Поэтому не будем говорить о моих писаниях» (62,446).
Тургенев, конечно, не мог согласиться с ним. Касаясь этого вопроса, он писал ему 15 ноября 1878 года, что «никогда не приходилось «даже немножко» смеяться над Вами», что «иные Ваши вещи мне очень нравились, другие очень не нравились; иные, как например, «Казаки», доставляли мне большое удовольствие и возбуждали во мне удивление. Но с какой стати смех? Я полагаю, что Вы от подобных «возвратных» ощущений давно отделались...» (П. 12,383).
Но и это признание Тургенева произвело на Толстого неприятное впечатление. И тем не менее Тургенев был твердо убежден, что, несмотря на временный отход от литературы, Толстой, «как большой и живой талант, выскочит из болота, куда он залез — и с пользой для литературы» (П.12,кн.2,133). Но чем больше Тургенев беспокоился о том, чтобы Толстой больше уделял внимания художественному творчеству, тем подозрительнее относился последний к автору «Отцов и
детей», видя в нем человека, посягавшего на его свободу, писательскую деятельность.
Это со всей отчетливостью сказалось в письме Толстого к А. Фету от 22 ноября 1878 года, в котором он назвал Тургенева «задирой неприятным» и решил держаться «подальше от него и от греха» (62,453). На самом же деле никакого «задирания» со стороны Тургенева не было, он только просил его не забывать о художественном творчестве. Однако, когда остро ставились сугубо литературные вопросы, когда дело шло о чести писателя, когда Б. Маркевич выступил как пасквилянт, обвинявший Тургенева в «низкопоклонстве, в заискивании», «в кувыркании» «перед некоторой частью нашей молодежи», Толстой незамедлительно стал на сторону своего старого друга. Взволнованный поддержкой Толстого, Тургенев писал ему 28 декабря 1878 года: «Меня очень тронуло сочувствие, выраженное Вами по поводу статьи в «Московских ведомостях»; и я со своей стороны почти готов радоваться ее появлению, так как оно побудило Вас сказать мне такие хорошие, дружелюбные слова» (П. 12, кн. 2, 197) 7.
* * *
Весной 1880 года началась подготовка к открытию памятника Пушкину в Москве. 11 апреля Общество любителей российской словесности при Московском университете на своем заседании образовало комиссию, в которую входил и Тургенев. Он взял на себя обязанность передать лично приглашение Толстому8. В мае Тургенев специально посетил Ясную Поляну, передал там приглашение Толстому и просил его участвовать в пушкинских торжествах. Толстой, несмотря на все свое преклонение перед поэтом, в силу сложившихся к тому времени убеждений, отказался от публичного участия в его чествовании. По окончании же торжеств Тургенев пригласил Толстого к себе в Спасское. Получив его согласие, он сразу же направил ему теплое, взволнованное письмо. Тургенев писал: «Вчера получил Ваше письмо — и очень обрадовался вашему близкому посещению, а также тому, что вы говорите о вашем чувстве ко мне. Оно потому и хорошо, что общее, т. е. одинаковое и у вас и во мне. Надеюсь, что поездка графини будет удачная и что здоровье ваше скоро восстановится. Известите меня о дне и часе вашего прибытия в Мценск, чтобы выслать лошадей, и не sa-
будьте привезти с собой обещанные сочинения» (П.13,кн.1,101).
Толстой незамедлительно уведомил Тургенева о своем приезде к нему в четверг, но, перепутав дни, прибыл в среду и, конечно, тургеневских лошадей на станции Мценск не нашел. С случайным извозчиком он поздно ночью приехал в Спасское. Но это нисколько не омрачило ни его, ни Тургенева: недоразумение быстро рассеялось, и они вместе провели три дня. .В это время Тургенев проинформировал Толстого о чествовании Пушкина и об открытии ему памятника в Москве. Судя по сохранившимся письмам, Толстой и Тургенев расстались друзьями; пребывание Толстого в домашней обстановке произвело на Тургенева такое сильное впечатление, что он никогда не мог уже забыть этой встречи. Когда в Спасское прибыла М. Г. Савина, Тургенев, по свидетельству П. А. Сергеенко, «часто говорил о Толстом с кротким и любовным чувством, а как о писателе отзывался даже с восторженностью. Однажды, — продолжал П. А. Сергеенко, — он вышел к своим гостям с книгой в руке и мастерски прочел вслух из «Войны и мира», как мимо Багратиона шли в сражение с французами два батальона 6-го егерского полка. «Они еще не поравнялись с Багратионом, а уже слышен был тяжелый грузный шаг, отбиваемый в ногу массой людей...» Тургенев прочел всю эту главу до конца с видимым увлечением и когда кончил, поднял голову и проговорил: «Выше этого описания я ничего не знаю ни в одной из современных литератур. Вот это — вот как должно описывать... — Все согласились с ним. Но Тургенев все еще восторженно доказывал, как высокохудожественно это описание»9.
О тяготении Тургенева к Толстому, о желании духовного общения с ним свидетельствуют многочисленные факты. На возвратном пути из Спасского в Москву он снова заезжал в Ясную Поляну, 1-го и 2-го мая 1880 года провел с Толстым и его семьею. Жена и дети Толстого оставили самые восторженные воспоминания о Тургеневе-человеке и рассказчике. Людвиг Пич, с которым Тургенев делился своими впечатлениями о посещении Толстого, вспоминал, что «никакая печаль не могла долго противостоять радостному чувству, испытанному им (Тургеневым) в отечестве, во время пребывания в деревне в обществе знаменитого коллеги графа Толстого, автора романа «Война и мир»10.
Ю. Шмидт записал слова Тургенева о его поездке в 1880 году в Россию и о встрече с Толстым в Ясной Поляне. «Впервые Тургенев говорил с некоторой надеждой о будущности своего отечества, — вспоминал Ю. Шмидт. — Он встречался с другом, которого высоко уважал и который укрепил его в новых воззрениях: это был писатель Толстой... Тургенев надеялся в будущем же году побольше пожить с ним в деревне, поработать и, таким образом, восстановить связь с своим народом, связь, значительно ослабевшую во время его житья в Бадене и в Париже»11.
Как видно, в последние годы жизни Тургенева Толстой был для него не только великим писателем, но и источником веры в потенциальные силы России, ее великое будущее, олицетворением гармонической связи, слияния интересов писателя и народа.
Что же касается отношения Толстого к Тургеневу, то оно оставалось по-прежнему двойственное: первому казалось, что он занят именно той работой (написанием философско-религиозных сочинений), которая имела первостепенное значение и, кроме него, ее никто выполнить ,не может. В этой связи он и писал Н. Н. Страхову: «С Тургеневым много было разговоров интересных. До сих пор, простите за самонадеянность, рее слава богу случается со мною так: «Что это Толстой какими-то глупостями занимается. Надо ему сказать и показать, чтобы он этих глупостей не делал». И всякий раз случается так, что советчикам станет стыдно и страшно за себя. Так мне кажется и с Тургеневым. Мне было с ним тяжело и утешительно. И мы расстались дружелюбно» (63,16). Здесь, несомненно, Толстой имел в виду свои занятия религиозно-нравственными сочинениями, которые беспокоили Тургенева— и, учитывая ленинское отношение к толстовской философии, Тургенев был прав.
После майской встречи в 1880 году Тургенев проникся еще большим уважением к Толстому. Ему хотелось не только знать, чем занят он, но и то, что пишет. В конце того же года и в январе следующего Тургенев дважды запрашивал П. В. Анненкова о занятиях Толстого (ПЛЗ,кн.1,33). О творческих замыслах его он примерно знал, но они мало удовлетворяли его. Об этом Тургенев говорил и своим знакомым. В частности, в беседе с С. Кривенко он назвал Толстого «чрезвычайно полезным» писателем и тут же выразил свою озабочен
ность тем, что гениальный творец «Войны и мира» мало пишет. «Но что же вы с ним поделаете, — записал С. Кривенко слова Тургенева о Толстом, — молчит и молчит, да мало еще того — в мистицизм ударился. Такого художника, такого первоклассного таланта у нас никогда еще не было и нет. Меня, например, считают художником, но куда же я гожусь сравнительно с ним? Ему теперь в европейской литературе нет равного. Ведь он за что ни возьмется — все оживает под его пером. И как широка область его творчества — просто удивительно»12.
Тургенев порадовался, когда узнал, что Толстой принялся за «Исповедь». Он незамедлительно просил А. Фета прислать ее (П.13,кн.1,176). Не дождавшись ответа, Тургенев обратился к самому автору, прося его выслать «Исповедь», «для ознакомления с нею». Толстой через А. Г. Олсуфьеву передал ему экземпляр, и он дважды сряду прочел его «с особенным задушевным вниманием» (П.12,кн.2,97).
В письме к Д. В. Григоровичу в конце 1882 года Тургенев назвал «Исповедь» вещью «замечательной по искренности, правдивости и силе убеждения. Но построена она вся на неверных посылках и в конце концов приводит к самому мрачному отрицанию всякой живой человеческой жизни...Это тоже своего рода нигилизм» (П.13,кн.2,89). Не во всем Тургенев разобрался в «Исповеди», но его возражение против «отрицания всякой живой человеческой жизни» свидетельствует об его оптимистическом настрое. Сетуя на отрицание Толстым искусства в «Исповеди», Тургенев тогда же писал Д. В. Григоровичу: «И все-таки Толстой едва ли не самый замечательный человек современной России!» (там же).
И тем не менее дружеские взаимосвязи между Толстым и Тургеневым в начале 80-х годов становятся более крепкими и устойчивыми. Об этом свидетельствуют их постоянные встречи и совместное издание отдельных сборников произведений. Так, в 1882 году вышли отдельным изданием «Рассказы для детей И. С. Тургенева и гр. Л. Н. Толстого». На первом месте была напечатана «Перепелка» Тургенева, которую он написал специально для этого издания; на втором — «Кавказский пленник» Толстого — рассказ, так высоко поставленный автором «Записок охотника». Оба эти
произведения объединяло глубокое чувство гуманизма. Их иллюстрировали лучшие художники.
После примирения Толстого и Тургенева сближало не только участие в отдельных издаваемых сборниках: они проявляли необычайное участие в жизни и творчестве друг друга. Когда в последний раз Тургенев заболел и об этом рассказал Толстому Д. В. Григорович, Толстой был настолько обеспокоен состоянием здоровья своего старого друга, что решил незамедлительно выехать к нему в Париж. Но, погруженный в неотложные работы, Толстой не осуществил своего замысла. Однако из отправленного им письма к Тургеневу видно, как он был близок и дорог ему. Толстой назвал в нем Тургенева «старым, милым и очень дорогим...человеком и другом». Это письмо так глубоко взволновало Тургенева, что он «обнимал...за каждое в нем слово...милого Толстого» и очень сожалел, что не может с ним снова встретиться в Спасском. И несмотря на тяжелый недуг, Тургенев не забывает напомнить Толстому о главном — о «прошлогоднем полуобещанни», т. е. о возвращении к художественному творчеству, которое находило «самый горячий отзыв» в душе его спасскр-го друга.
Своими письмами к Толстому в последние годы Тургенев как бы снимает все ранее возникавшие между ними недоразумения. Он обращается к нему с открытым сердцем и не безнадежно! Тургенев прекрасно понимал, что время прошло для них не зря: от былых «оврагов» не осталось и следа, они оба резко изменит1 лись во взглядах на жизнь и литературу, оба ясно поняли, что каждый из них шел своей дорогой в художественном творчестве, стремясь по возможности упрочить славу русского искусства слова. Тургенев весь безраздельно отдавался только литературному творчеству, пропаганде русского искусства за рубежом и ни на что другое «не распылялся». Толстой также считал главным в своей жизни литературу, но это отнюдь не мешало ему заниматься и публицистикой, и написанием нравственно-этических сочинений, и педагогикой и многим другим. Когда же литература, хотя и временно, отодвигалась на второй план у Толстого, это очень беспокоило Тургенева. Так, в начале 1883 года больной Тургенев, зная страстную увлеченность Толстого религиозно-этическими проблемами, в очень тактичной форме не забывал намекнуть ему о художест
венной деятельности, видя в ней главную силу его ге-ния. Тургенев прекрасно понимал психологию Толстого-творца и считал бестактным вмешиваться в его духовную деятельность. Но вместе с тем он был глубоко убежден и в том, что отход Толстого от литературных занятий — явление временное. Доказательство тому он видел в создании писателем таких шедевров мировой художественной литературы, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Казаки». Эти книги, по мысли Тургенева, — результат творческого вдохновения, внимательного изучения русской жизни, они же являются славой и гордостью русской литературы. Вот почему, неизлечимо больной, умирающий, он со всей страстностью и убедительностью говорил своему старому другу Толстому о его теснейшей связи с жизнью, с русской землей, русским народом, обо всем том окружении, которое способствовало развитию художественного гения писателя.
Именно этими соображениями и было проникнуто последнее письмо Тургенева к Толстому, в котором он убедительно просил его вернуться к художественному, творчеству, созданию новых реалистических произведений, утверждавщих славу не только русской, национальной литературы, но и передового искусства во всем мире.
В последнем письме к Толстому, написанном карандашом и отправленном без подписи (на нее не хватило силы!), этом глубоко прочувствованном и своеобразном стихотворении в прозе, подводившем итоги многолетних дружеских связей, Тургенев выразил самую горячую любовь к писателю и волновавшую его «последнюю, искреннюю просьбу». Он писал ему из Буживаля 29 июня (11 июля) 1883 года:
«Милый и дорогой Лев Николаевич! Долго Вам не писал ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу — и думать об этом нечего. Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!! Я же человек конченый — доктора даже не знают, как назвать мой недуг, nevralgie stomacale goutteuse. Ни ходить, ни есть, ни спать, да
что! Скучно даже повторять все это! Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко, крепко обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших. Не могу больше, устал» (П.13,кн.П,180)|3.
К сожалению, это письмо Толстой получил с большим опозданием: оно пришло в Ясную Поляну, а он находился в то время в Башкирских степях. Толстой хотел выехать к Тургеневу в Париж, но смерть друга опередила его желание.
Мнение о Толстом как гениальном художнике у Тургенева сложилось довольно рано, и он никогда не менял его. Даже тогда, когда Тургенев находился в размолвке с ним, он отзывался о его таланте и писаниях с неизменным уважением. В этой связи сохранилось замечательное свидетельство В. Б. Пассек об отношении Тургенева к Толстому. Еще в 1876 году, до их примирения, Тургенев, говоря о реликвиях, вещественных воспоминаниях, свято сохраняемых в национальных музеях на память о лучших представителях народной славы и народного гения, сказал: «У меня тоже есть подобная драгоценность — это перстень Пушкина, подаренный ему кн. Воронцовой и вызвавший с его стороны ответ в виде великолепных строф известного всем «Талисмана». Я очень горжусь обладанием пушкинского перстня и придаю ему так же, как и Пушкин, большое значение.
После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому, как высшему представителю русской современной литературы с тем, чтобы когда настанет «его час», граф Толстой передал бы мой перстень, по своему выбору достойнейшему представителю пушкинской традиции между новейшими писателями»14.
Вот почему с таким трепетным волнением Тургенев и просил его вернуться к литературе.
Толстой не считал себя «отлученным» от художественного творчества, но в начале 80-х годов он мало уделял ему внимания. Это заметил Тургенев и высказал ему в самой искренней форме. Призыв старого друга не прошел бесследно: уже в 1886 году Толстой создал такие шедевры, как «Смерть Ивана Ильича», «Холстомер», «Власть тьмы».
VI. КОНЧИНА ТУРГЕНЕВА.
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ТОЛСТЫМ ЕГО КАК ЧЕЛОВЕКА И ПИСАТЕЛЯ
3-го сентября 1883 года, после длительной болезни раком шейных позвонков, Тургенева не стало. Его смерть потрясла Толстого. «Когда пришло известие о его кончине, — писал И. Л. Толстой, — папа несколько дней только об этом и говорил, и везде, где мог, выискивал разные подробности о его болезни и последних днях»1. Тогда же Толстой писал Н. И. Страхову: «Смерть Тургенева я ожидал, а все-таки очень часто думаю о нем». Он признавался Софье Андреевне, что все время «читал Тургенева» и думал о нем. В связи с кончиной и перечитыванием его произведений Толстой по-новому подходил к их оценке. В частности, при первом знакомстве с повестью «Довольно» в начале 60-х годов, он отнесся к ней отрицательно. Теперь же Толстой просил свою жену перечитать это произведение, которое он назвал «прелестным».
В начале 1883 года М. С. Громека опубликовал книгу «О Толстом. Критический этюд по поводу романа «Анна Каренина». В ней содержится интересный материал, относящийся к взаимоотношениям Тургенева и Толстого. В воображаемом разговоре с автором Левин несомненно имел в виду Тургенева, когда говорил о «французском писателе», «певце торжествующей любви». И несмотря на это, М. Громека подчеркнул, что «Толстой любил»2 его. В другом месте названной работы автор устами Левина так определил понятие любви: «Когда истинно любишь человека, то не только бываешь к нему снисходителен, но, напротив, становишься к нему строг, чересчур придирчив для самого даже себя, придирчив к нему и требовательно строг. Когда любишь человека, тогда бываешь счастлив от звуков его голоса, тогда он возводит тебя за собой на очень высокую высоту, малейшее его отступление вниз оскорбляет тебя, и ты, осуждая, становишься небеспристрастен и часто неправ. Я часто замечаю это в себе по отношению именно к тем писателям, которых я особенно горячо люблю, например, к Тургеневу, к Достоевскому, к Щедрину... За что все мы любим Пушкина, Гоголя, Тургенева? — за то, конечно, что творения их прекрасны, за то, что в душах их, откуда их творения вышли, жили высокие, прекрасные звуки».
Толстой тогда же прочитал работу М. Громеки и в апреле 1883 года писал ему, что книга «очень понравилась». Она настолько заинтересовала его, что в беседе с Г. А. Русановым он снова вспомнил ее и назвал превосходной».
При чтении книги М. Громеки Толстой не мог не обратить внимание на те рассуждения автора по поводу дружбы и любви, которые касались и его и Тургенева. Все то, что написал об этом М. Громека, нисколько не вызвало со стороны Толстого возражения. Можно полагать, что он со всем был согласен. А это еще раз свидетельствует о том, что Толстой действительно искренне любил Тургенева и хотел в нем видеть высокий идеал.
В личной библиотеке Толстого в Ясной Поляне хранятся многие сочинения Тургенева с многочисленными его пометами: подчеркиванием, отчеркиванием карандашом, закладками и загнутыми уголками. Среди них «Сочинения И. С. Тургенева», изданные братьями Силаевыми в 1880 году в девяти томах (имеется пять книг); «Собрание сочинений Тургенева» (1876), «Рассказы для детей И. С. Тургенева и гр. Л. Н. Толстого», «Первое собрание писем И. С. Тургенева 1884 года», «Живые мощи», Спб., 1910; Тургенев И. С. «Записки охотника», «Рудин», «Ася», «Дворянское гнездо», «Дым», «Отцы и дети». Биография. Спб., тип. М. Стасюлевича; И. С. Тургенев. «Пьесы, повести и рассказы».
Все это свидетельствует о том, что произведения Тургенева занимали большое место в библиотеке и жизни Толстого, к ним он постоянно обращался. О глубоком интересе Толстого к сочинениям Тургенева писала С. А. Толстая в своих воспоминаниях «Моя жизнь» (машинопись), которая хранится в музее-усадьбе Л. Н. Толстого Ясная Поляна.
Толстой не только думал о Тургеневе, перечитывая его произведения, но и собирался выступить о нем с речью, чтобы публично выразить свое отношение к нему. Такое заседание должно было бы состояться 23 октября 1883 года в Обществе любителей российской словесности. Но по распоряжению Московского генерал-губернатора, как это видно из его донесения Министру внутренних дел от 20 октября того же года за №1920, заседание было объявлено отложенным на неопределенное время — и так и не состоялось. Толстому
так и не удалось рассказать о своем современнике, друге и великом писателе, текста его предполагаемого выступления не сохранилось. Что он хотел сказать, нам не известно, но до нас дошло письмо Толстого к А. Н. Пыпину от 10 января 1884 года, из котороговидно, что он хотел говорить о нем только одно хорошее.
«Я ничего не пишу о Тургеневе, — говорил Толстой Пыпину, — потому что слишком много и все в одной связи имею сказать о нем. Я и всегда любил его; ! но после его смерти только оценил его как следует. Уверен, что вы видите значение Тургенева в том же, в чем и я, и потому очень радуюсь вашей работе. Не могу, однако, удержаться не сказать то, что я думаю о нем. Главное в нем — это его правдивость. По-моему, в каждом произведении словесности (включая и художественное) есть три фактора: 1) кто и какой человек говорит? 2) как? — хорошо или дурно он говорит, 3) говорит ли он то, что думает и совершенно то, что думает и чувствует. Различные сочетания этих 3-х факторов определяют для меня все произведения мысли человеческой. Тургенев — прекрасный человек (не очень глубокий, очень слабый, но добрый, хороший человек), который хорошо говорит всегда то самое, то, что он думает и чувствует. Редко сходятся так благоприятно эти три фактора, и больше нельзя требовать от человека, и потому воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное. Он жил, искал и в произведениях своих высказал то, что он нашел. Он не употреблял свой талант (умение хорошо изображать) на то, чтобы скрывать свою душу, как это делали и делают, а на то, чтобы всю ее выворотить наружу. Ему нечего было бояться. По-моему, в его жизни и произведениях есть три фазиса: вера р красоту, (женскую любовь, искусство, это выражено во многих и многих его вещах), сомнение в этом и сомнение во всем (и это выражено и трогательно, и прелестно в «Довольно») и не формулированная, как будто нарочно из боязни захватать ее (он сам говорил где-то, что сильно и действительно в нем только бессознательно), не формулированная двигавшая им в жизни и в писаниях, вера в добро-любовь и самоотвержение, выраженная всеми его типами самоотверженных и ярче, и прелестнее всего в «Дон-Кихоте», где парадоксальность и особенность формы освобождала его от стыдливости перед ролью проповедника добра.
Много еще хотелось бы сказать про него. Я очень жалел, что мне помешали говорить о нем» (63,149—150).
В своей оценке Тургенева Толстой стоял на объективных позициях. Он нисколько не сглаживал его слабостей и недостатков как человека. Но вместе с тем Толстой отмечал его величайшие заслуги перед русской литературой, его «хорошее и плодотворное» на нее влияние. Он всегда подчеркивал, несмотря ни на какие временные колебания, громадное значение Тургенева в развитии национальной литературы. О его «Записках охотника», в частности, Толстой говорил, что. они навсегда останутся драгоценным вкладом в русскую классику. «А его картины природы! Это настоящие перлы, недосягаемые ни для кого из писателей»3.
В середине 80-х годов во время беседы в Ясной Поляне Толстой говорил Г. П. Данилевскому, что он «горячо соболезновал о смерти Тургенева», что его привлекала чуткая, любящая душа Тургенева, что сердечно сожалел, что «этому преданному России, высокохудожественному писателю пришлось лучшие годы зрелого творчества прожить вне отечества, вдали от искренних друзей и лишенному радостей родной, любящей семьи.
— Это был независимый, до конца жизни пытливый ум, — выразился граф Толстой о Тургеневе, — и я, несмотря на нашу когда-то мимолетную размолвку, всегда высоко чтил его и горячо любил. Это был истинный, самобытный художник...Он мог заблуждаться, но и самые его заблуждения были искренними»4.
Отрыв от родины действительно во многом лишил Тургенева творческих соков. Он и сам признавался, что на чужбине ему трудно было вдохновиться на создание художественного произведения: писателю, подобно Антею, нужно было прикосновение к родной земле, национальной стихии, Европа же мало интересовала его в творческом отношении, и он не написал ни одного произведения о ней, за исключением отдельных эпизодов (например, в «Асе», «Вешних водах» и «Дыме»), К тому же, зная почти все европейские языки, он сочинения писал только по-русски.
Но если пострадало творчество Тургенева от длительного пребывания за границей, то русская литература от этого во многом выиграла. Он был ее .живым представителем там, страстным пропагандистом творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Крылова, Тол
стого. Своим талантом, громадной эрудицией, высоким эстетическим вкусом Тургенев покорял Европу, которая признала его своим учителем. Об этом не раз говорили Жорж Санд, Гюи де Мопассан. Величайший писатель Франции Г. Флобер, лично близко знавший Тургенева и неоднократно делившийся с ним своими творческими замыслами, писал: «Я провел вчера очень хороший день с Тургеневым, которому я прочел 115 уже написанных страниц из «Святого Антония». После чего я прочел ему около половины «Последних песен». Какой Слушатель! И какой критик! Он ослепил меня глубиной и ясностью своих суждений. О! Если бы все, кто вмешивается в суждения о книгах, могли бы слышать его, — какой урок! Ничто не ускользает от него. Прослушав стихотворение из 100 стихов, он еще помнит слабый эпитет! Он дал мне для «Св. Антония» два или три чудных совета относительно подробностей»6.
К страстному призыву Тургенева, постоянно побуждавшего Толстого не забывать художественного творчества, автор «Войны и мира» не был равнодушен. Но в начале восьмидесятых годов философско-теологическое начало взяло у него верх, и он всецело отдался ему, оставив на время художественное творчество. Догматическое реформаторство, в котором Толстой пытался найти ответ на вечные вопросы человеческого бытия, поглотили его, по не принесли ему искомых результатов, не указали пути к спасению народа от земных страданий. Напротив, оно как бы с еще большей силой открыло писателю глаза на бедственное состояние людей и подготавливало его к созданию цикла народных рассказов, народной драмы «Власть тьмы», философской повести «Холстомер» и показу краха стремлений к призрачному счастью в «Смерти Ивана Ильича». Возвращение к художественному творчеству в середине восьмидесятых годов —это новый взлет гения Толстого. Оно словно явилось ответом на просьбы 1ургенева К тому же в некоторых из этих произведений несомненно присутствовали воспоминания о нем. В мучительном течении болезни Ивана Ильича нельзя не почувствовать страданий от той же болезни раком Ивана Тургенева; о свойствах лошади, ее «думах» и «переживаниях» Толстой рассказывал Тургеневу еще в молодости. В 1881 году С. Н. Кривенко записал его воспоминания о лошади, о которой говорил ему Тол
стой. «Однажды мы виделись с ним, — засвидетельствовал слова Тургенева о Толстом Кривенко, — летом в деревне и гуляли вечером по выгону недалеко от усадьбы. Смотрим, стоит на выгоне старая лошадь самого жалкого и измученного вида (таким казался и Холстомер в старости.'—И. Л.): ноги погнулись, кости выступили от худобы, старость и работа совсем как-то пригнули ее, она даже не щипала, а только стояла и отмахивалась от мух, которые ей досаждали. Подошли мы к ней, к этому несчастному мерину, и вот Толстой стал его гладить и, между прочим, приговаривать, что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать Я положительно заслушался. Он не только вошел, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и спросил: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью»6.
Подобный рассказ содержится и в воспоминаниях о Толстом у А. Г. Олсуфьевой7, записавшей также его со слов Тургенева. Следовательно, подобный случай действительно был, когда они встречались.
Если принять во внимание, что замысел «Холстоме-ра» относится ко второй половине пятидесятых годов, когда Толстого особенно интересовали дела хозяйственные, в том числе и разведение скота, то встреча его с Тургеневым могла состояться в 1856—1858 годах, но не после примирения. Судя по тому с какой любовью говорил тогда Тургеневу Толстой о старой лошади, он заразил своего старого друга интересом к этому животному. В рассказе «Конец Чертопханова» Тургенев уделил большое внимание описанию коняМа-лек-Аделя и его «размышлениям». Этой стороной тургеневский Малек-Адель напоминает толстовского Холс-томера.
Не исключено, что, работая над «Холстомером», Толстой не мог не вспомнить о той встрече с Тургеневым, когда он так подробно и красочно обрисовывал ему старое животное.
В последние годы «посмертная любовь» Толстого к Тургеневу все чаще находила свое выражение в его дневниках и письмах. 8-го июля 1891 года, жалуясь на семейные раздоры, связанные с разделом имущества между сыновьями, он ясно представил себе тургеневскую комедию и записал в дневнике: «Приехали сыновья и вечером разговор о дележе. «Завтрак у предводителя». И не хороши были. Не ссорились, но (при
писывают важность столь пустому» (52,38). 27-го октября 1893 года в приветственном письме к Д. В. Григоровичу Толстой вспомнил пору молодости, когда «Записки охотника» и «Антон Горемыка» оказали на него «незабываемое впечатление» (66,409). Находясь на голоде в Мценском уезде, недалеко от Спасского-Лу-товинова, он писал в 1898 году Я. П. Полонскому: «Очень приятно было узнать, что крестьяне в имении нашего друга были так хорошо наделены землей, в особенности в сравнении с окружающими, что нужды там нет. Проехал я через сад, посмотрел на кособокий милый дом, в котором я видался с вами в последний раз, и очень живо вспомнил Тургенева и пожалел, что его нет. Я уже на пять лет пережил его» (70—71,366). Живо представился Толстому Тургенев и при чтении им произведений В. Вересаева. Оценив повесть В. Вересаева «Конец Андрея Ивановича» в дневнике «очень хорошо», он так же высоко ставил и другие вещи этого писателя, находя в них «тургеневский стиль»8.
Толстой, по словам П, А. Сергеенко, «всегда считал» Тургенева «человеком передовым, хорошо образованным и очень талантливым», ставил его по силе влияния на общество вслед за Пушкиным и Гоголем9. В последние годы он пересмотрел многие свои оценки произведений Тургенева: «Довольно», «Накануне», «Новь» и др. Если в год издания «Накануне» Толстой в пцсьме к А. А. Фету героиню этого романа, Елену Стахову, назвал «девицей из рук вон плохой», то во время работы над «Воскресением» он коренным образом изменил свое мнение о тургеневских девушках. В этом романе Толстой показал героиню из народа обаятельной и высоконравственной. Она читала Тургенева (55,252) и Достоевского. Но ранняя молодость Катюши Масловой была изуродована князем Нехлюдовым и его тетушкой, в результате чего она оказалась на дне. П только встреча на каторге с народником-революционером Владимиром Симонсоном возвращает ее снова к жизни. Реальная жизнь победила предрассудки Толстого. В беседе с А. П. Чеховым в 1901 году, видимо, вспоминая только что законченную свою работу над «Воскресением» и в этой связи думая о своем старом друге, он сказал: «Тургенев сделал великое дело тем, что написал удивительные портреты женщин. Может быть таких, как он писал, и не было, но когда он написал их, они появились. Это — верно: я сам наблюдал
тургеневских женщин в жизни...»10 Здесь Толстой не только повторил слова Добролюбова о Елене Стаховой, но и сам, своим личным опытом подтвердил, что таких женщин наблюдал в действительности.
Во время создания «Воскресения» он из «Затишья» Тургенева взял слова, которые произносит адвокат Фанарин в разговоре с Нехлюдовым. «Ну-с, о вашем деле.., — обратился Фанарин к последнему. — Я его прочитал внимательно и «содержание оной не одобрил», как говорится у Тургенева, т. е. адвокатишко был дрянной и все поводы кассации упустил» (32,155).
В 1903 году Толстой дважды сослался в «Воспоминаниях» на Тургенева, когда рассказывал о своем старшем брате Николае. «Тургенев говорил про него очень верно, — писал Толстой, — что он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем» (35,386).
Сила любви, изображенная Тургеневым в стихотворении в прозе «Воробей», наполненная решительной борьбой за свое существование и за жизнь птенцов, восхищала Толстого, несмотря на его проповедь непротивления злу насилием: живая жизнь, отстаивание своих естественных прав брало у него верх. В неменьшей степени привлекало его внимание мужественное перенесение недуга Лукерьей из рассказа «Живые мощи».
Постоянное обращение Толстого в конце своей жизни к произведениям Тургенева и включение некоторых из них в «Круг чтения» свидетельствует о том, что он видел в нем одного из самых замечательных художников, чьи сочинения должны быть достоянием народа, его настольными книгами, доставлявшими читателям большое эстетическое наслаждение. Кроме того, Толстой постоянно вспоминал Тургенева и любил говорить о нем. Из его уст М. Горький не раз слышал взволнованные воспоминания о своем старом друге. В очерке «Лев Толстой» он писал: «Толстой изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе»11.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Творческие и личные взаимосвязи Толстого и Тургенева, двух величайших художников слова, представляют собой одно из редких явлений в истории не только русской, но и мировой литературы. В их взаимоот
ношениях ощущается тесная преемственная связь в развитии национальной литературы, для возвышения славы которой они так много сделали. И если дореволюционные исследователи творчества Толстого и Тургенева стремились не к объективному рассмотрению творчества названных писателей, а к противопоставлению одного из них другому, то тем самым они только обедняли их творческий диапазон и искажали в целом историко-литературный процесс. Совершенно оригинальные по методу и стилю и во многом по своему мировоззрению, они сходились в главном'—: в понимании роли литературы как «дела жизни» (Толстой), «как сосредоточенного отражения» ее (Тургенев). Своим пониманием литературы они способствовали духовному обогащению и пробуждению общественного сознания у народа. Вот почему советские писатели все чаще обращаются к их творчеству как источнику эстетического понимания действительности. Они находят в сочинениях Толстого и Тургенева те родственные черты, которые сближают этих писателей. Не случайно герой Ю. Бондарева в романе «Берег» лейтенант Княжко в неотправленном письме к любимой девушке Гале, выражая самые заветные чувства и мысли, говорил: «Я был влюблен в девушек Тургенева, как это ни странно, и был влюблен в Наташу Ростову,— и хотел быть или рыцарем или Андреем Болконским»’2. Ю. Бондарев, как видно, не противопоставил героев одного писателя другому, а слил, объединил их в главном — в их высокой нравственной чистоте и поисках возвышенного идеала. Эти черты характера особенно привлекали к себе внимание героя «Берега». Тем самым Ю. Бондарев еще раз подчеркнул ту общность идейно-эстетических завоеваний Толстого и Тургенева, которые оказались так близки нашему времени и так волнуют современного читателя.
Это общее у названных писателей отнюдь не делает их безликими. Напротив, в сравнительном сопоставлении каждый из них еще рельефнее выделяется своим видением мира и его отражением: Толстой и Тургенев имели свой творческий голос, свое открытие мира прекрасного.
В личных отношениях Толстого и Тургенева со всей ясностью отразилось столкновение «предрассудков вековых», старых отживавших нравственных принципов, привитых воспитанием, феодально-самодержавным
строем, с нарождавшимся новым понятием о морали, в основе которой лежала сила разума, сознание своих действий и поступков. Оба они в минуту острых дон-фликтных столкновений могли впасть в безрассудство, увлечься минутной вспышкой гнева. Но при «размышлении здравом» Толстой и Тургенев сумели трезво, критически оценить свои поступки и силой разума победить «горечи бед и обид». Они с честью вышли из жестокой ссоры, которая никак не помешала их творчеству. Напротив, даже тогда, когда между ними возникали «овраги» и «щели», эти писатели внимательно продолжали следить за новыми сочинениями друг друга, что способствовало развитию их .таланта и возвеличиванию русской литературы. В творчестве Толстого она достигла недосягаемых высот, Тургенев с гордостью писал, что в Европе нет равного Толстому-художнику.
ПРИМЕЧАНИЯ
Введение
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 25.
2 Белинский В. Г. Поли. собр. соч., т. I. М., 1953, с. 84.
3 Дружинин А. В. Сочинения, т. 7. Спб., 1864, с. 188.
4 См.: Тургенев в русской критике. М., 1953, с. 118.
5 Там же, с. 116.
6 Тургенев в русской критике. М., 1953, с. 118.
7 Там же.
8 Там же, с. 501.
9 Фадеев А. Собр. соч., т. 6. М„ 1971, с. 526.
10 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.: В 15-ти т. М., 1939— 1950. Т. 3, с. 423. Далее, за исключением специально оговоренных случаев, произведения Н. Г. Чернышевского цитируются по этому изданию. Ссылки приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
11 Лесков Н. С. Собр. соч., т. И. М., 1958, с. 557.
12 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 329.
13 Там же, т. 39, с. 62.
14 Мережковский Д. Л. Толстой и Ф. Достоевский, с. 65.
15 Там же.
16 Там же, с. 69.
17 Гутьяр Н. М. И. С. Тургенев. Юрьев, 1907, с. 227.
18 Сергеенко П. Толстой и его современники. М., 1911, с. 212.
19 Иванов И. И. И. С. Тургенев. Нежин, 1914, с. 408.
20 Там же, с. 441.
21 Иванов И. И. И. С. Тургенев, с. 446.
22 Там же, с. 465.
23 Там же, с. 466.
24 Бирюков П. И. Л. Толстой, т. I. М., 1906, с. 407.
25 Там же, т. 2, с. 394.
26 Вогюэ. Гр. Толстой: Критические статьи. М., 1892, с. 4.
27 Там же.
28 Левенфельд Р. Гр. Толстой, его жизнь, произведения и миросозерцание. Спб., 1906, с. 179.
29 Там же, с. 163.
30 Левенфельд Р., с. 163.
31 George Moore. «Avowals», London, 1919, p. 142.
32 «The Tragic Muse» by Henry James, 1921, vol. 1, p. 81.
33 Henry James «The Art of Fiction and other Essays», № 4, 1948, p. 121.
34 Неведомский M. Зачинатели и продолжатели. Пг., 1919, с. 65.
35 Там же, с. 62.
36 Там же, с. 66.
37 Португалов М. Тургениаиа. Орел, 1922, с. 48.
38 Там же, с. 53.
39 Там же.
40 Там же, с. 51.
41 Там же, с. 68.
42 Там же, с. 81.
43 Апостолов Н. Н. Лев Толстой и его спутники. М., 1928, с. 91. 44 Там же.
45 Там же.
46 Там же, с. 92.
47 Там же.
48 Там же, с. 129.
49 Апостолов Н. Н., с. 128.
50 Клеман М. К. и И. С. Тургенев. М., 1936, с. 50.
51 Там же, с. 205.
52 Цейтлин А. Г. Мастерство Тургенева-романиста. М., 1958, с. 417. 53 Короленко В. Г. Собр. соч., т. 10. М., 1956, с. 577.
I. До личной встречи
1 . Цит. по кн.: Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников. М., 1930, с. 4.
2 Цит. по кн.: Лит. наследство, т. 76. М., 1967, с. 676.
3 Тургенев И. С. Поли. собр. соч.; В 28-ми т. М. — Л., 1960— 1968. Т. 14, с. 8. Далее, за исключением специально оговоренных случаев, произведения И. С. Тургенева цитируются по этому изданию. Ссылки приводятся с указанием тома и страницы.
4 Характеристика русского парода у Тургенева вполне совпадала со взглядами А. С. Пушкина. Она изложена им в статье «Путешествие из Москвы в Петербург». В ней автор упоминал радищевское «Путешествие». Это невольно наводит на размышления о том, читал ли Тургенев сочинения Радищева? Ответа на этот вопрос еще нет. Но в четвертом номере журнала «Вопросы литературы» за 1967 г. автор данной работы опубликовал статью «Книга А. Н. Радищева в личной библиотеке И. С. Тургенева», в которой говорилось о том, что у Тургенева была (и теперь находится в музее Тургенева в Орле) книга Радищева «Размышления о греческой истории, или о причинах благоденствия и несчастия греков». Сочинение г. Аббата де Мабли. Переведено с французского, 1773 г., но она была переплетена и на ней вытиснена монограмма «И. Л.», а на корешке — «романы». Это была зашифровка книги. Тургенев, несомненно, знал о ней еще в молодости. В 70-х годах во время беседы с А. П. Боголюбовым Тургенев высказал о Радищеве то, что у него давно уже отстоялось: «Саратов всегда был городом передовым, а потому передового человека он должен возвеличить ...вашего деда Радищева, который всегда будет для них и России первым поборником освобождения крестьян».
5 Фадеев А. За тридцать лет. М„ 1957, с. 853.
6 Калинин М. И. О задачах советской интеллигенции. М., 1932, с. 52.
7 Мейерхольд Вс. Из записей и выступлений... — Театр, 1974, №2, с. 29.
8 Цит. по кн.: И. С. Тургенев в воспоминаниях современников, т. 2. М„ 1969, с. 49.
9 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч., в 90 т. М., 1928--1958. Т. 46, с. 184. Далее, за исключением специально оговоренных случаев, произведения Л. Н. Толстого цитируются по этому изданию. Ссылки приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
10 В сентябре 1882 года Тургенев обратился с письмом к «Крестьянам села Спасского», в котором с радостью писал, что они стали меньше пить и призывал их детей ходить в школу. «Помните, — писал он, — что в наше время безграмотный человек то же, что слепой или близорукий».
11 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч., т. 10, М., 1951, с. 337. 12 Там же, с. 440.
II. Дружба — вражда
1 Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого, т. 1. М., 1922, с. 30.
2 Фет А. А. Мои воспоминания, ч. 1. М., 1891, с. 105—106.
3 Фет А. А. Мои воспоминания, с. 106—107.
4 Фет А. А., с. 107.
5 Сергеенко П. Толстой и его современники, с. 139—140.
6 Фет А. А., с. 107.
7 Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 379— 380.
8 Там же.
9 Сухотина-Толстая Т. Л. Друзья и гости Ясной Поляны. М., 1923, с. 23.
10 См.: Бирюков П. И. Л. Н. Толстой: Биография, т. 1. М., 1906. с. 208.
III . Ссора и «дуэль»
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 206.
2 Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого, т. 1, с. 30.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 40.
4 Фет А. А. Мои воспоминания, с. 370—371.
5 Герцен А. И. Собр. соч., т. II. М., 1954, с. 307.
6 Там же.
7 Там же, с. 171.
8 Смерть Пушкина и Лермонтова на дуэли, как известно, унесла с собою многие их творческие замыслы, о которых мы знаем, но они так и остались незавершенными.
IV . После ссоры, до примирения
1 См.: Лит. наследство, т. 69, кн. 2. М„ 1967, с. 176.
2 См.: Никитин П. Критические фельетоны. — Дело, 1875, № 5.
3 Салтыков-Щедрин М. Е. Письма: 1845—1889. Л., 1925, с. 75.
4 Литературный архив, т. 3. М. — Л., 1951, с. 243.
5 Стасов В. В. Собр. соч., т. 3. М„ 1953, с. 141.
6 См.: Толстой Л. Н. Собр. соч., т. 9. М., 1963, с. 488.
7 Бычков С. П. Л. Н. Толстой. М., с. 312.
8 Толстой Л. Н. Собр. соч., т. 9, с. 474.
9 Боборыкин П. Д. Воспоминания, т. 2. М., 1956, с. 577.
10 Стечкин Н. Я. Из воспоминаний об И. С. Тургеневе. М., 1903, с. 8 .
V. Примирение
1 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. II. М., 1955, с. 29.
2 Там же, с. 41.
3 Горький М. Собр. соч., т. 24. М., 1953, с. 29.
4 Дневник С. А. Толстой (1886—1891). М„ 1928, с. 47—48.
5 Тобольские губ. ведомости, 1893.
6 Там же.
7 Касаясь отношений Толстого к Тургеневу после их примирения, С. Л. Толстой писал: «Я помню, как отец тепло относился к Тургеневу... Он в последние годы жизни Ивана Сергеевича сделал все, что мог, для того чтобы изгладить воспоминания о черной кошке, пробежавшей когда-то между ними» (Толстой С. Л. Очерки былого. М., 1949, с. 333).
8 Там же.
9 Сергеенко П. А. Тургенев и Толстой. — Нива. Лит. Приложение. Спб., 1906, с. 25.
10 И С. Тургенев в воспоминаниях современников, т. II. М„ 1969, с. 273.
11 Иностранная критика о Тургеневе. Спб., с. 18.
12 И. С. Тургенев в воспоминаниях современников, с. 461.
13 Имея в виду это тургеневское письмо, Л. Леонов на юбилейном вечере, посвященном Толстому, говорил: «Толстой в первую очередь был художником, и предсмертный призыв Тургенева вернуться на магистральную дорогу показывает, что (Думали о религиозном реформаторстве Толстого лучшие люди его века»: (См.: Лит. наследство, т. 69, кн. I, с. 21).
14 См.: Новое время, 1887, 8 марта.
VI. Кончина Тургенева.
Высокая оценка Толстым его
как человека и писателя
1 Толстой И. Л. Мои воспоминания. М„ 1933, с. 133.
2 Громека М. С. О Толстом". М„ 1893, с. 130—131.
3 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1955, с. 258—259.
4 Там же.
5 Флобер Г. Собр. соч., т. 4. М., 1948, с. 130.
6 См.: Гусев Н. Н. Жизнь Толстого, с. 19.
7 Там же.
8 См.: Шифман А. Вокруг Толстого. — Лит. газета, 1976, № 42.
9 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 1, с. 469.
10 См.: М. Горький и А. Чехов. М., 1951, с. 161.
11 Об отношениях Толстого к Тургеневу в последние годы А. Б. Гольденвейзер записал высказывания Толстого: «Я любил Тургенева как человека». Далее А. Б. Гольденвейзер писал: «Лев Николаевич, вспоминая Тургенева как человека, говорил о нем с любовью. Очевидно, когда страсти улеглись и разногласия давно утратили свою остроту, да Тургенева уже много лет не было на свете! — все больше всплывало в памяти Льва Николаевича то доброе и хорошее, что было, несомненно, в Тургеневе, и когда я чувствовал, что ему хочется говорить о нем только хорошее». (Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого, с. 92)
Заключение
52 Бондарев Ю. Берег. — Роман-газета, 1975, № 24, с. 10.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ....................... 3
I. До личной встречи .................
II. Дружба-вражда .................
III. Ссора и «дуэль» .................4g
IV. После ссоры, до примирения . . .56
V. Примирение 69
VI. Кончина Тургенева. Высокая оценка Толстым его как человека и писателя .......................83
Заключение 90
Примечание . ....................93
Николай Петрович Лощинин
Л. Н. ТОЛСТОЙ и И. С. ТУРГЕНЕВ
Редактор В. Г. Артемов
Художник В. С. Матвеев
Художественный редактор А. Н. Гришенков Технический редактор М. В. Аршинова Корректор Г. Г, Ананичева
И. Б. № 1004
Сдано в набор 03.08.81. Подписано в печать 22.02.82. ЦП 02160.
Формат бум. 84X108'/». Типографская № 1. Литературная гарнитура.
Высокая печать. Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.-отт. 5,2. Уч. изд. л. 5,5.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 133. Изд. № 29. Цена 20 к.
Приокское книжное издательство. 300000, г. Тула, Красноармейский пр., д. 25, корп. 1. Калужское производственное объединение «Полиграфист». г. Калуга, пл. Левина, 5.
Atexizonrdv