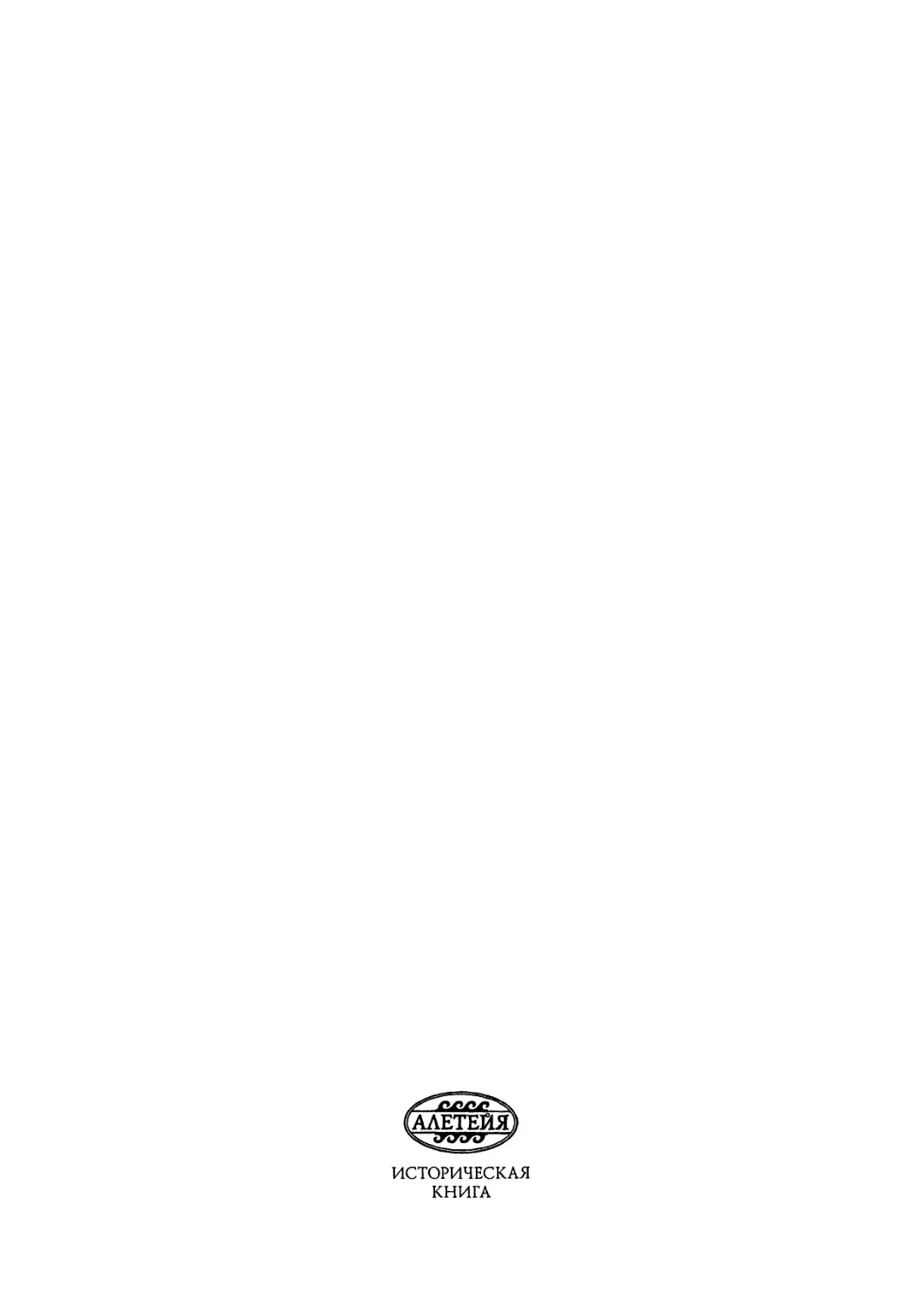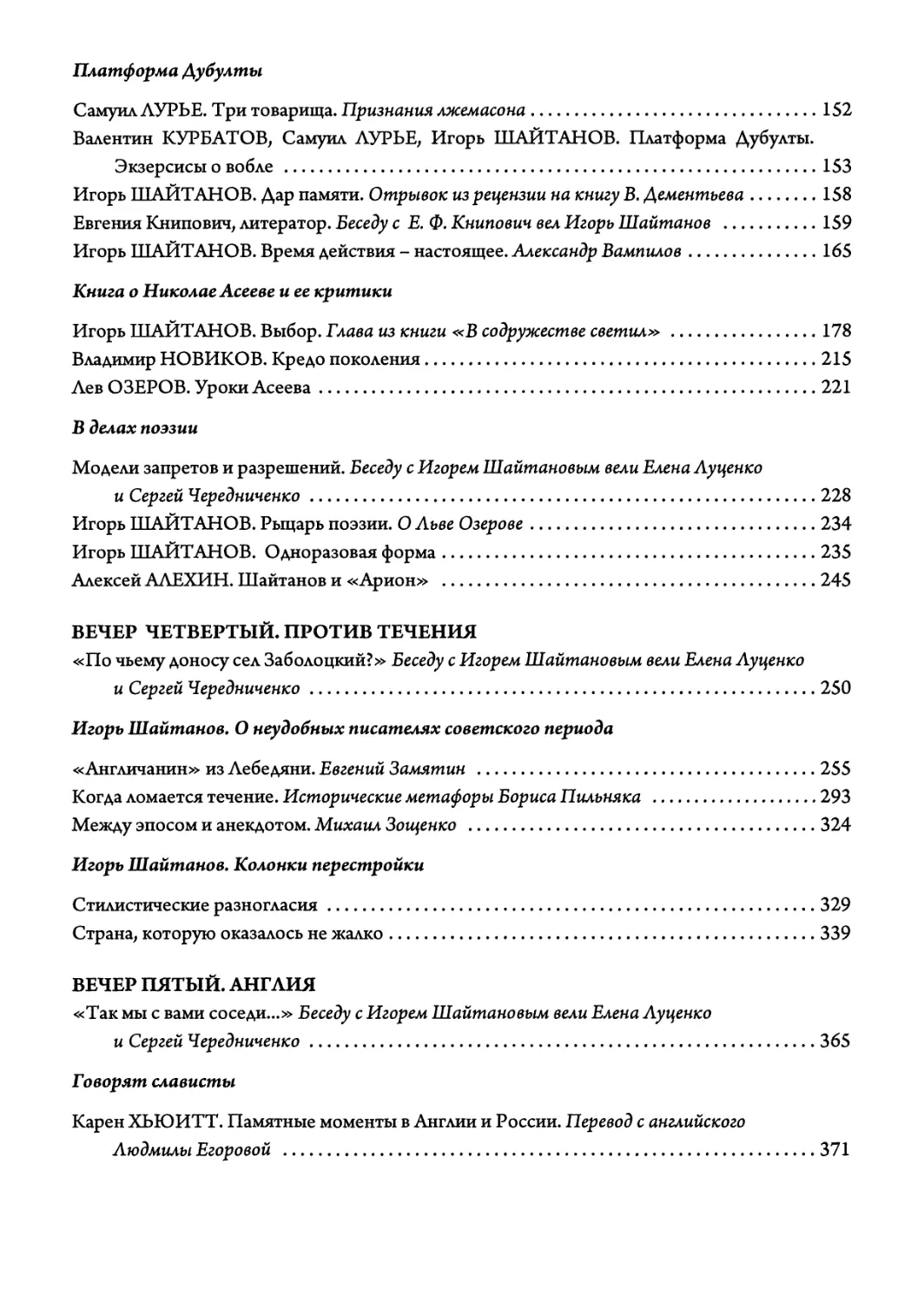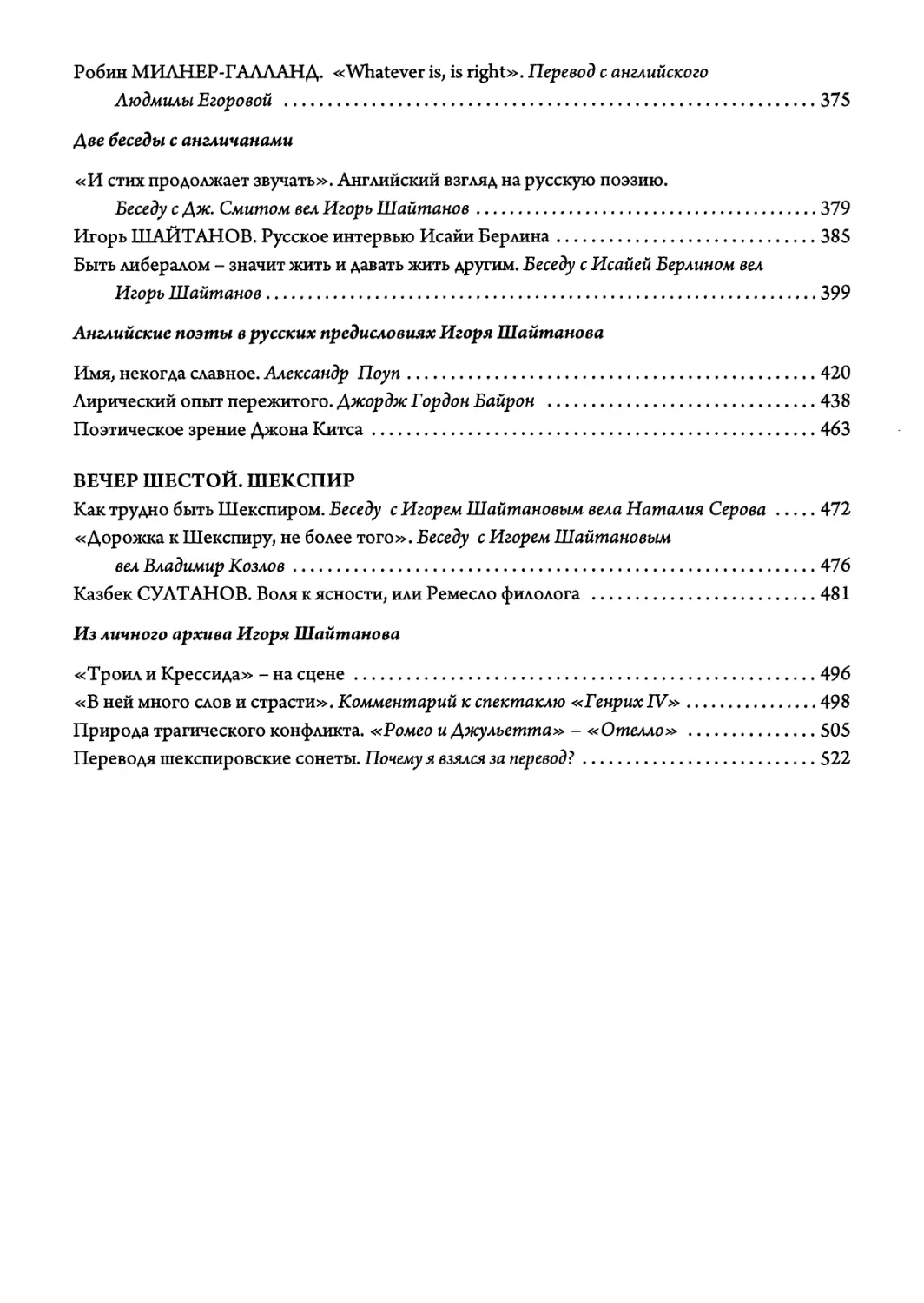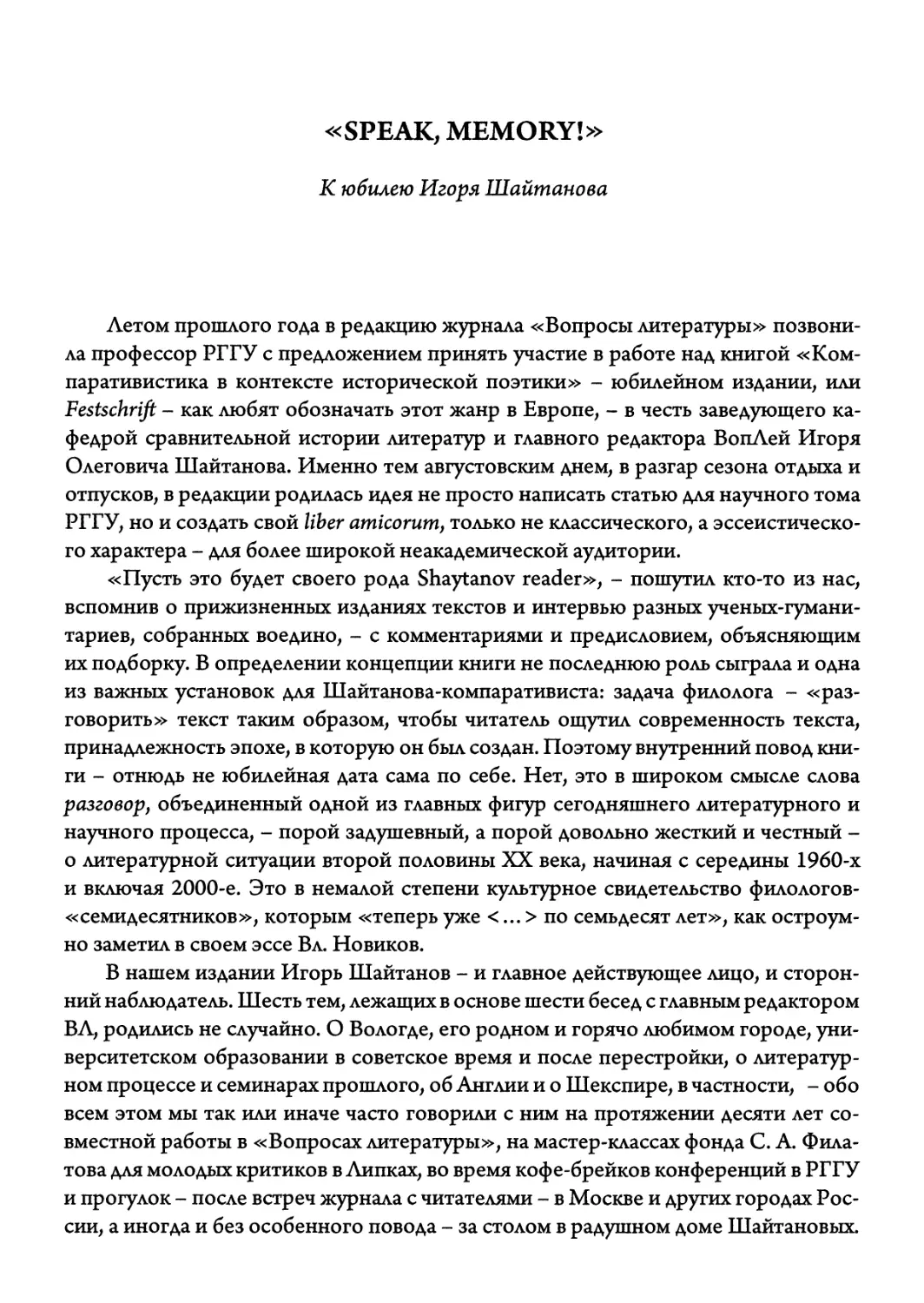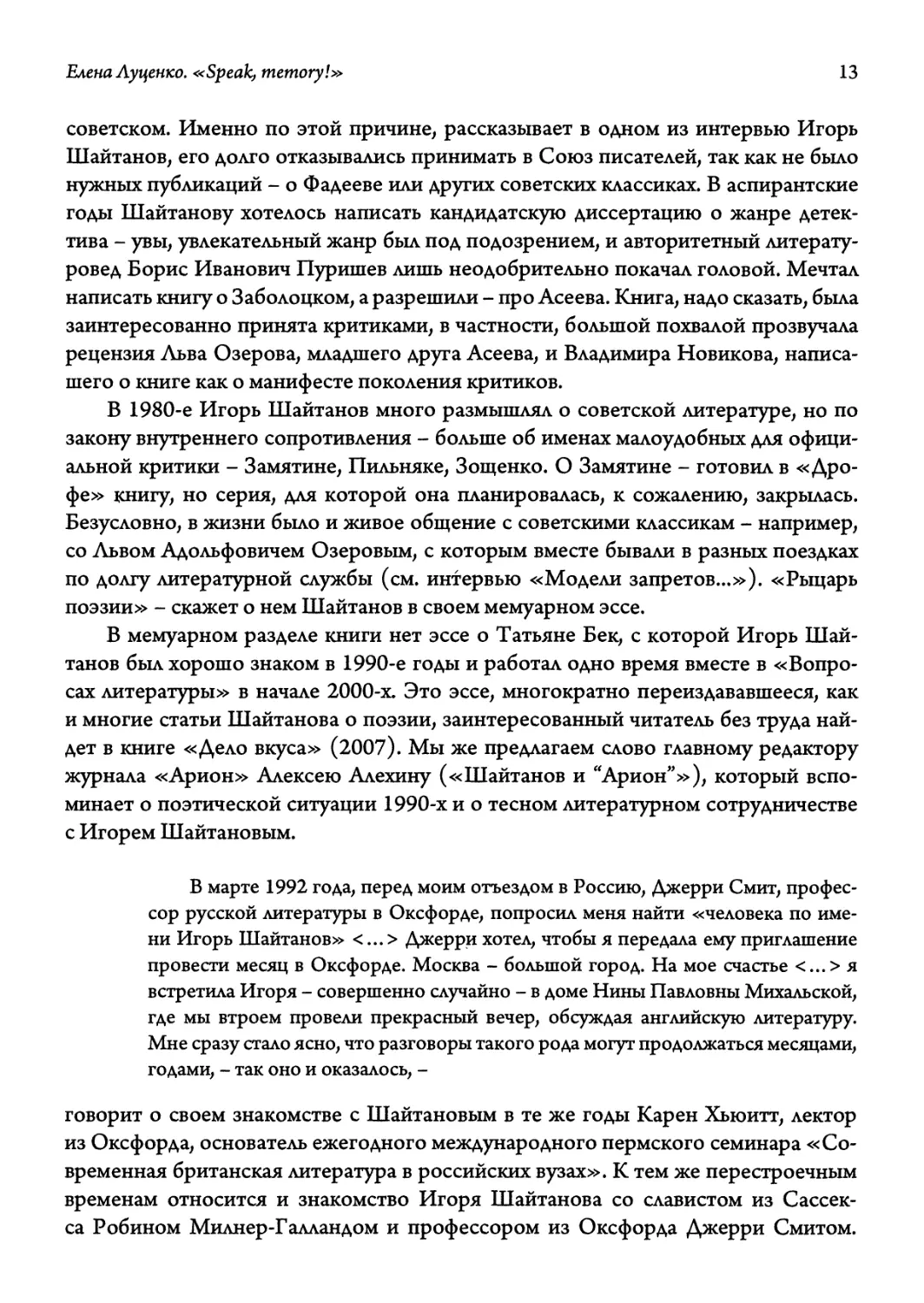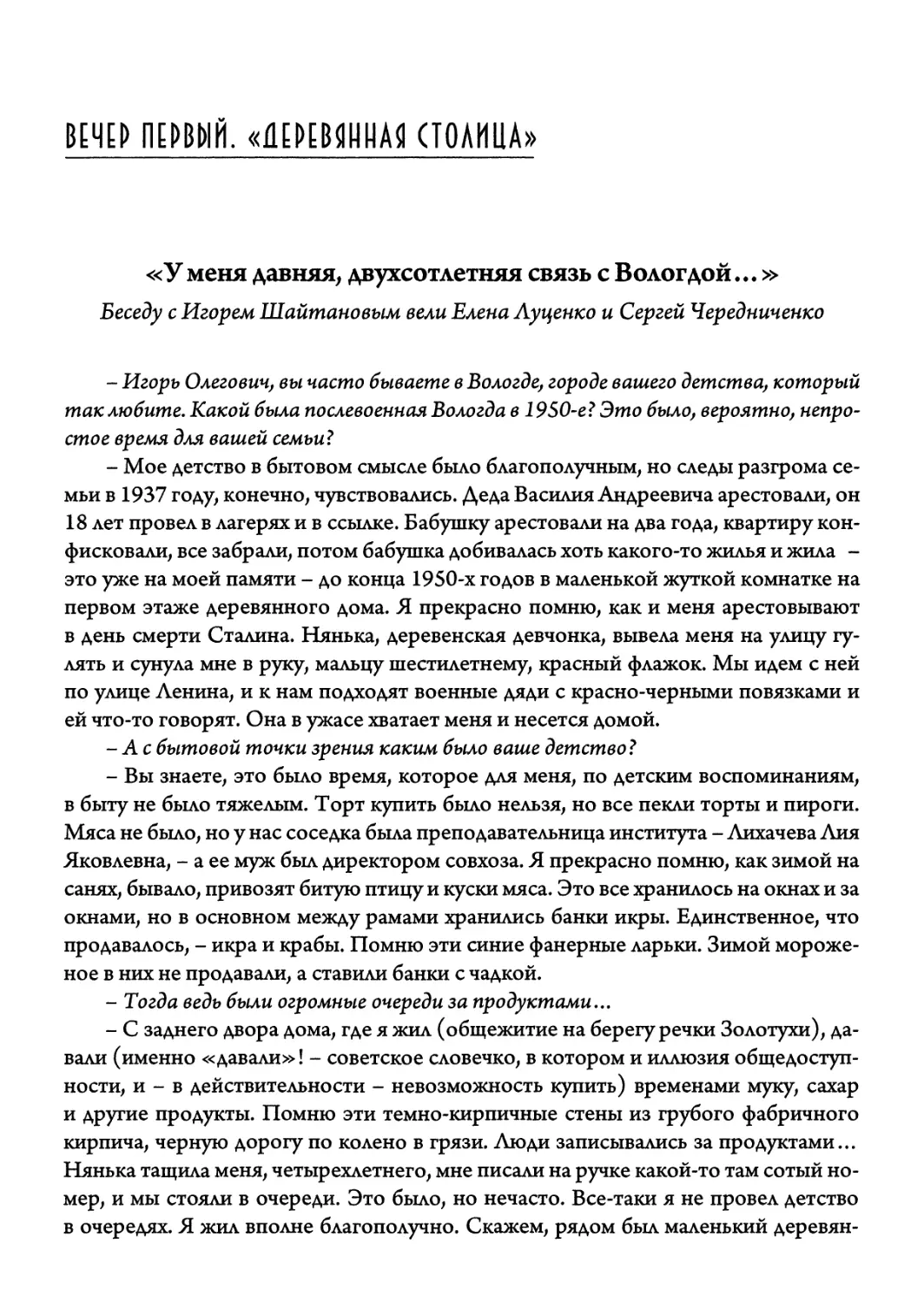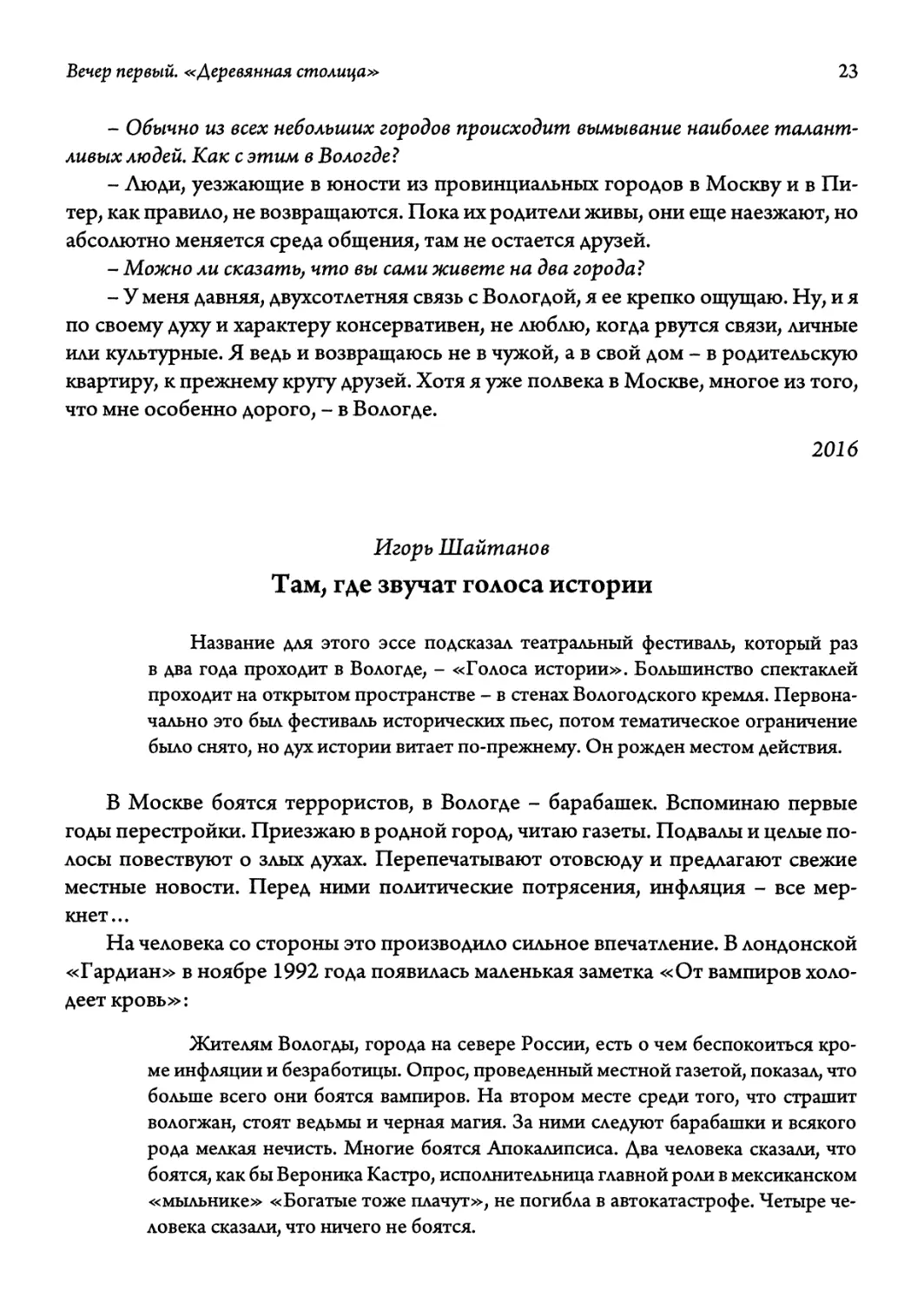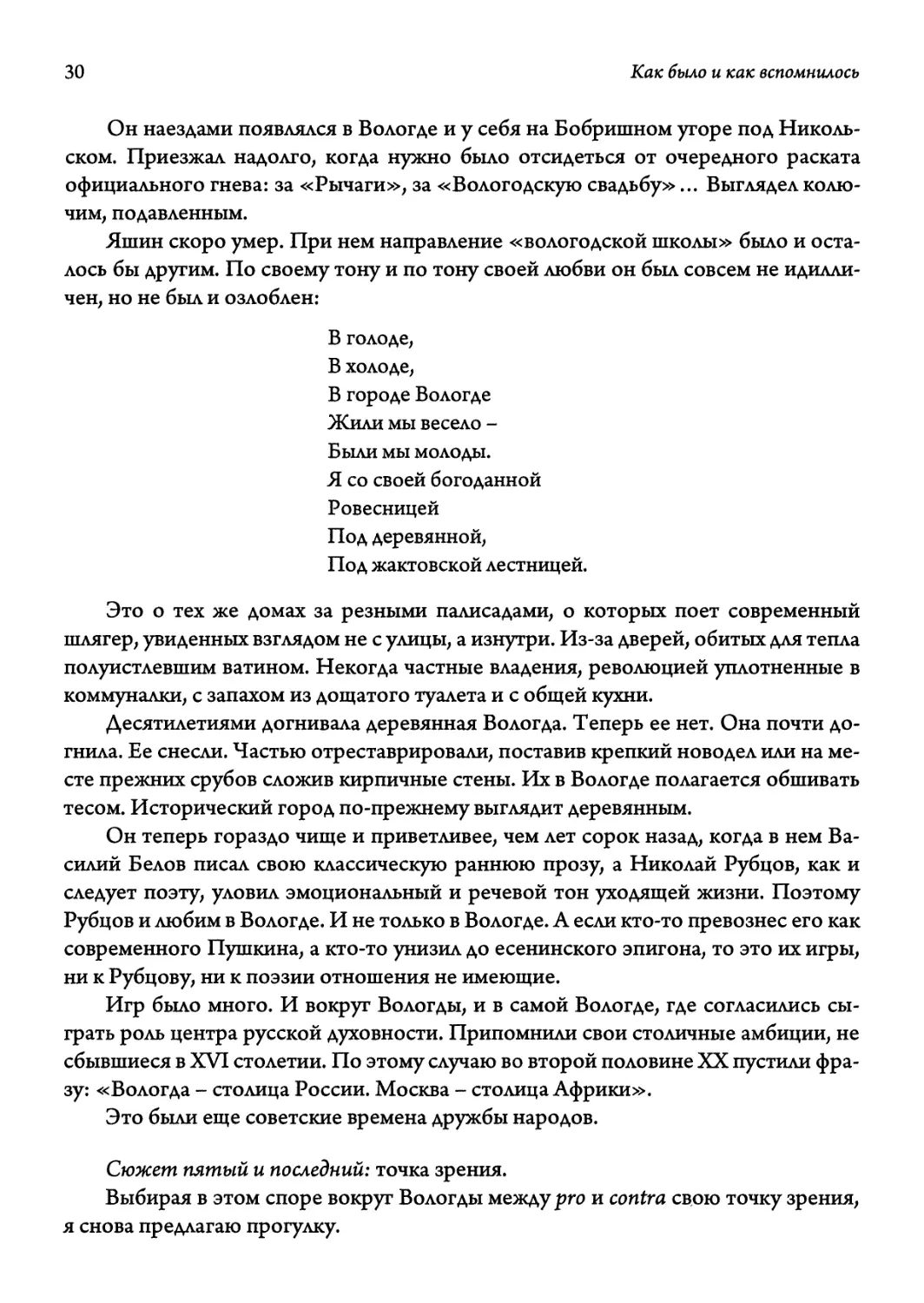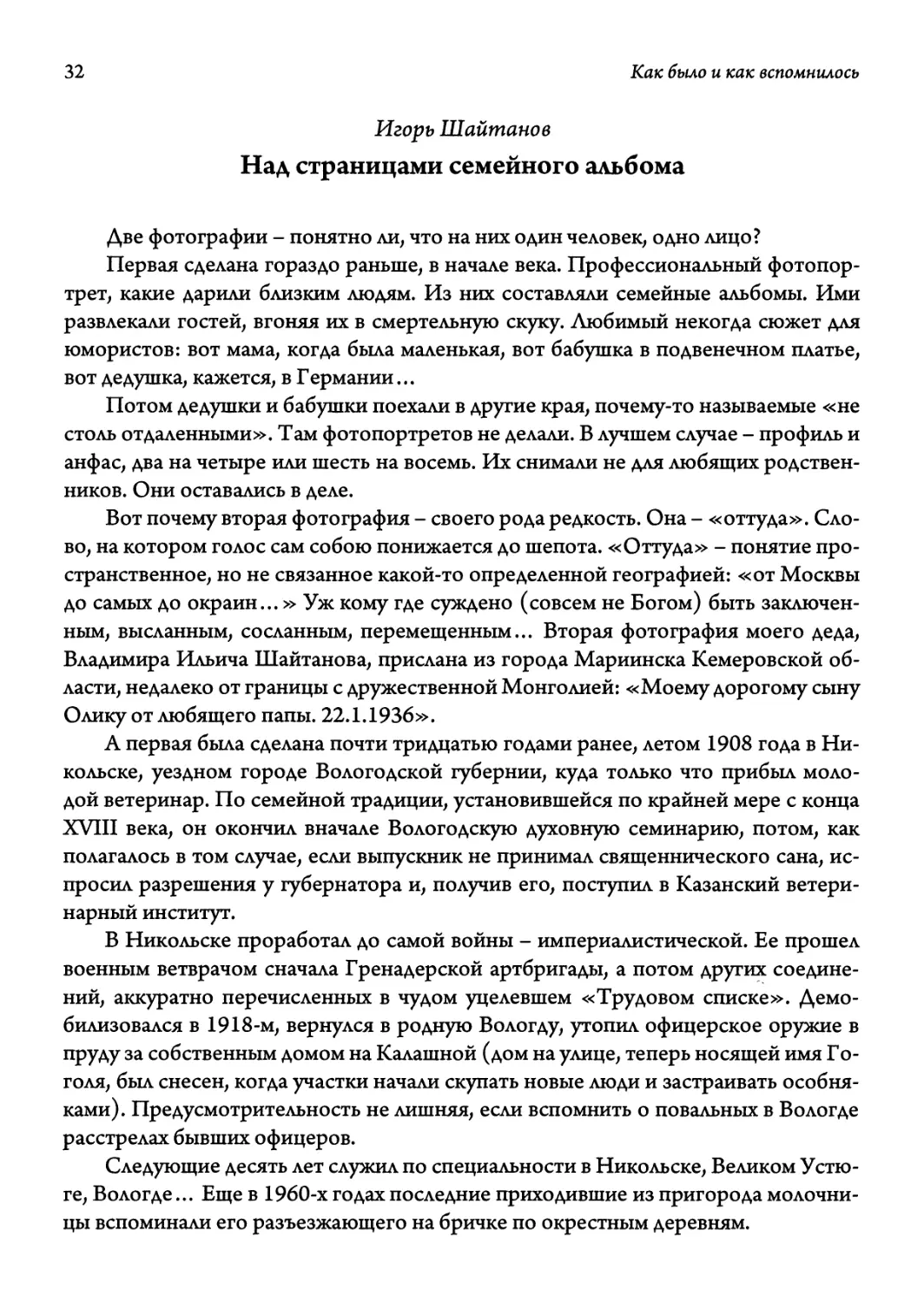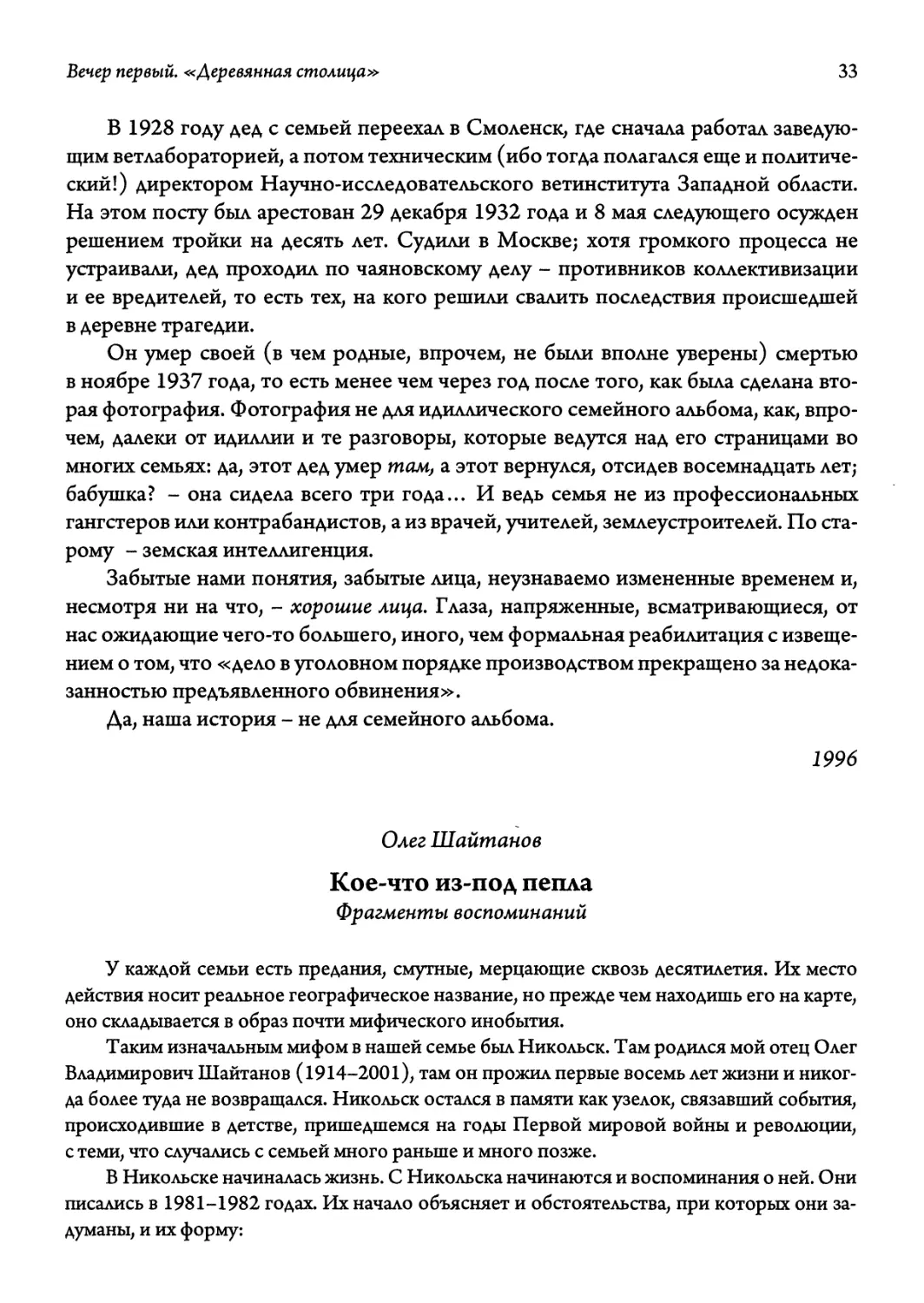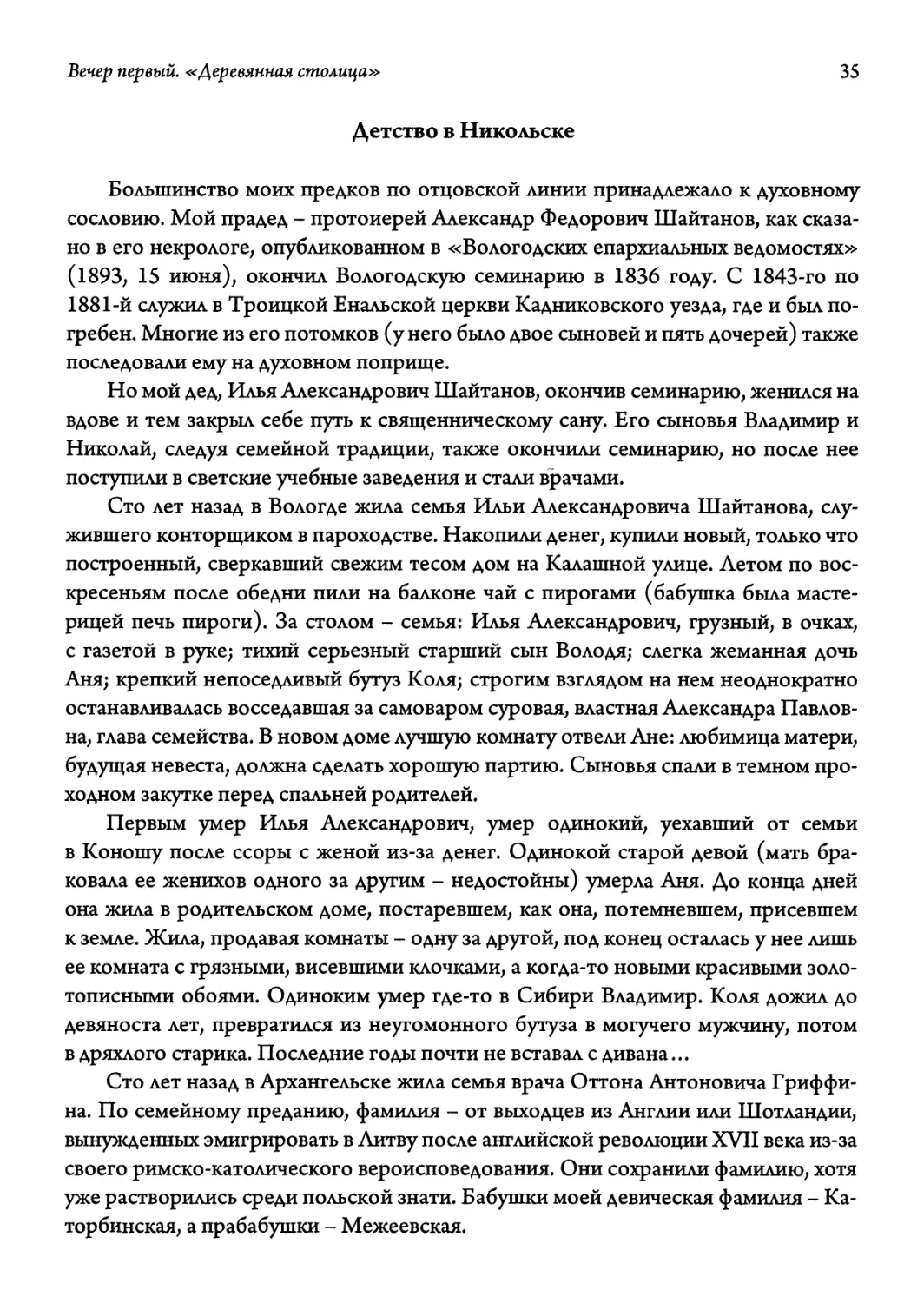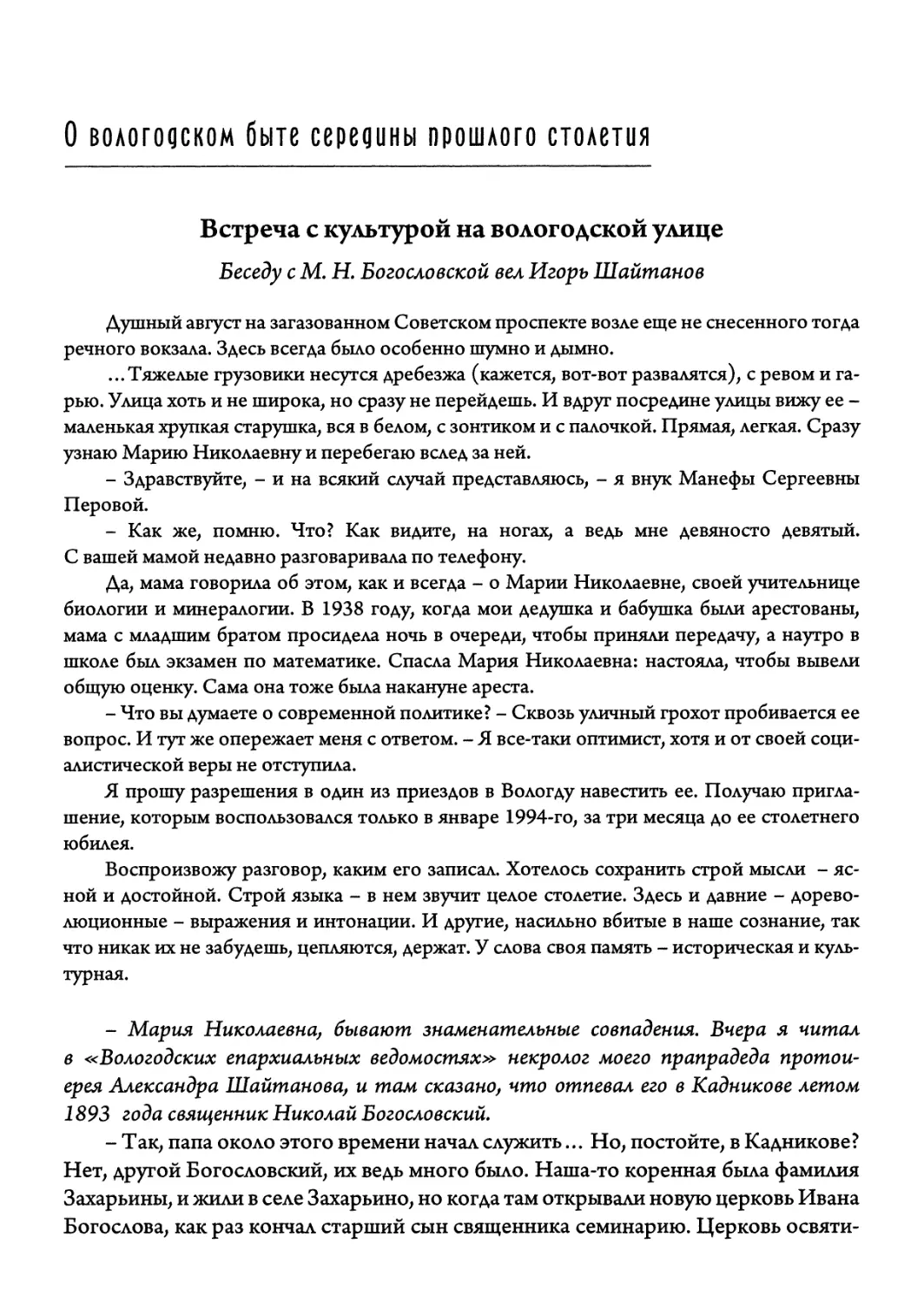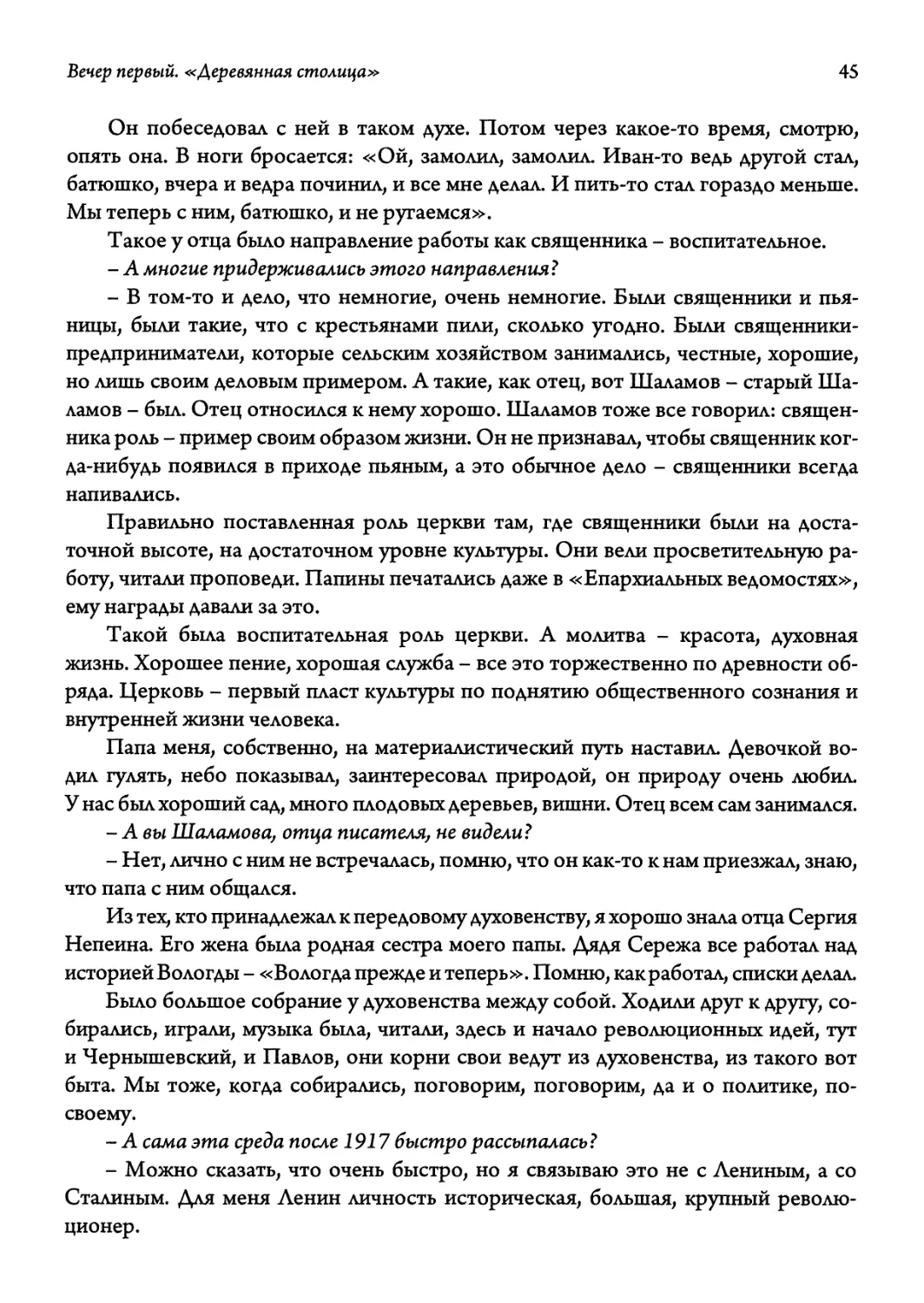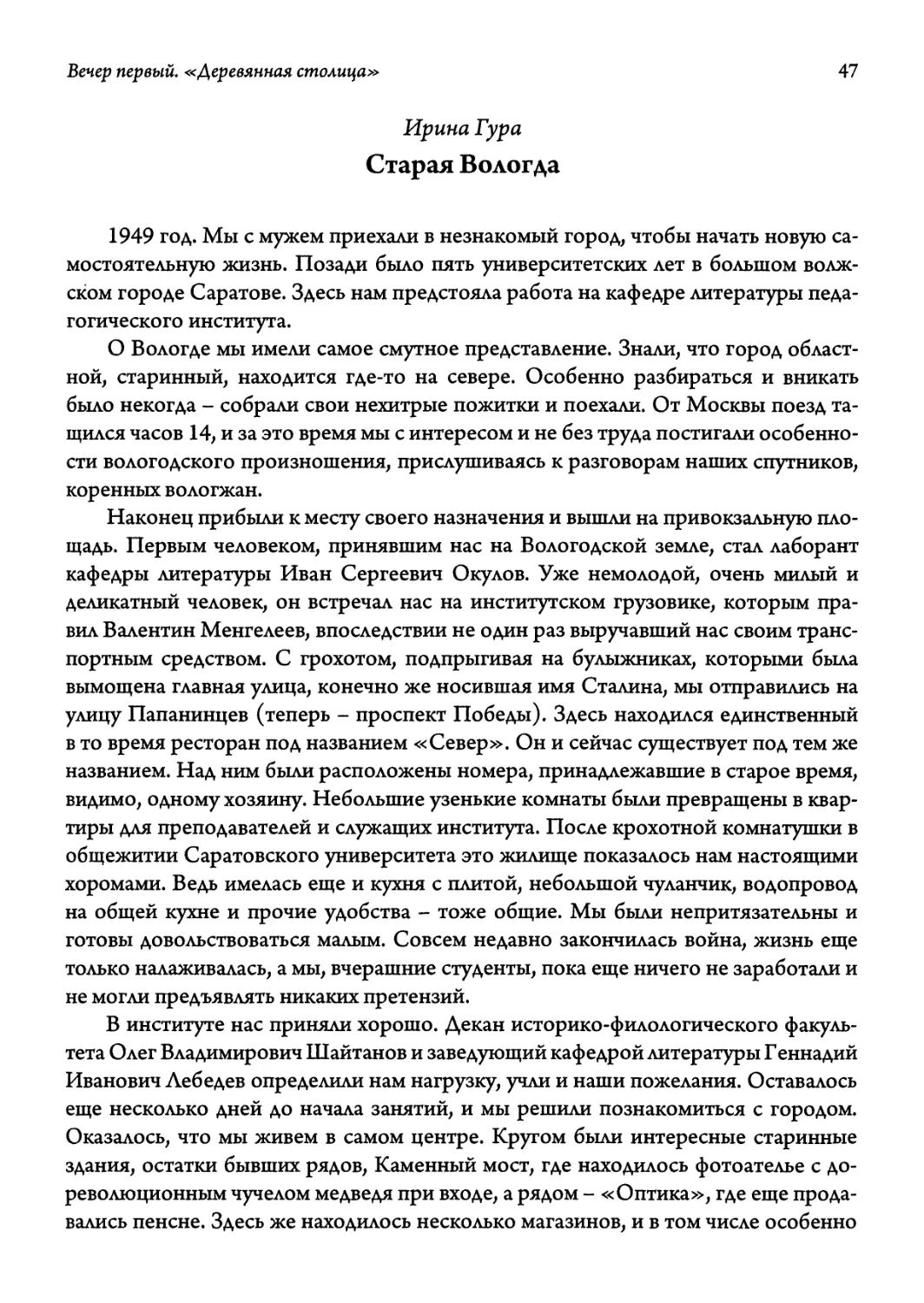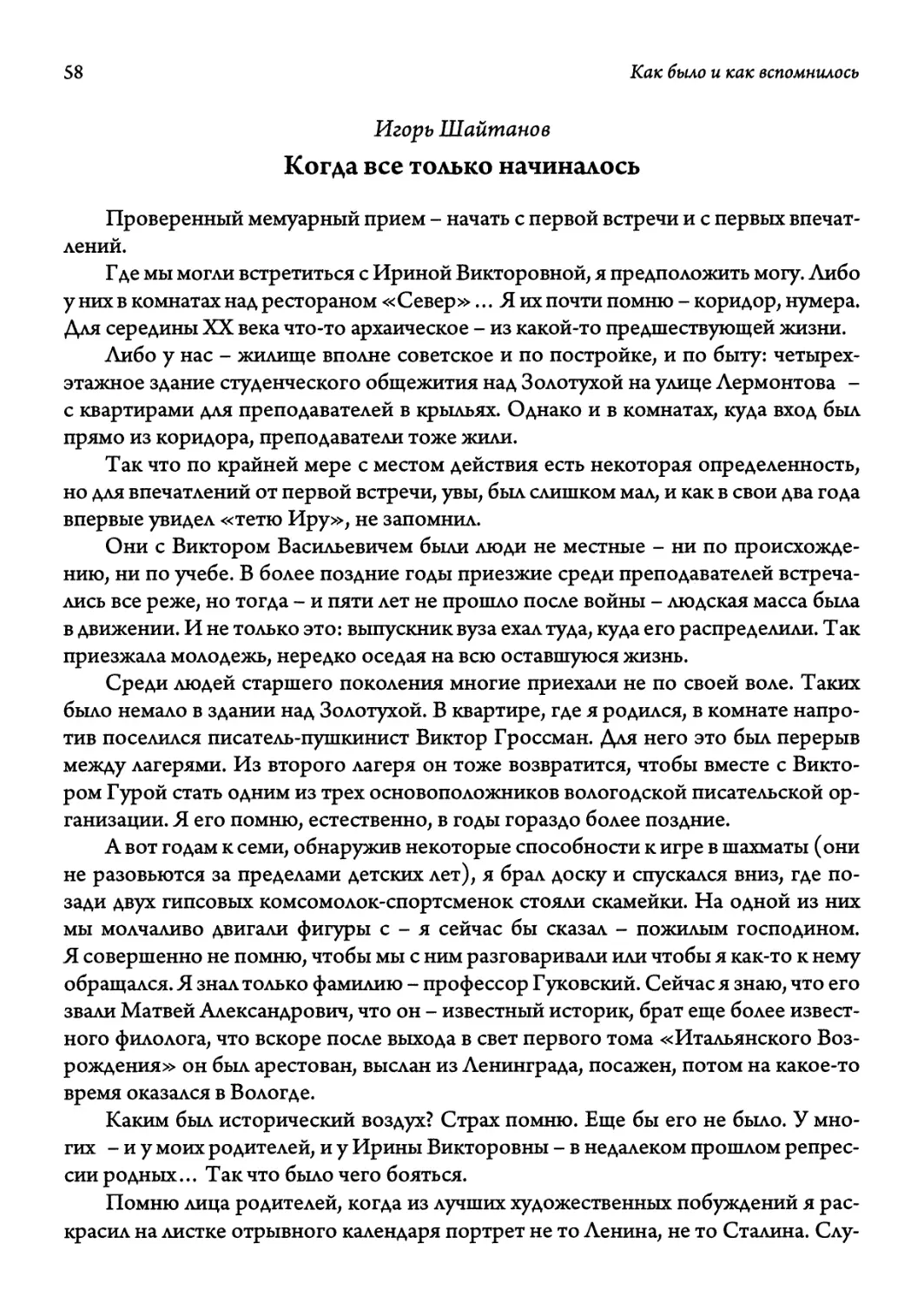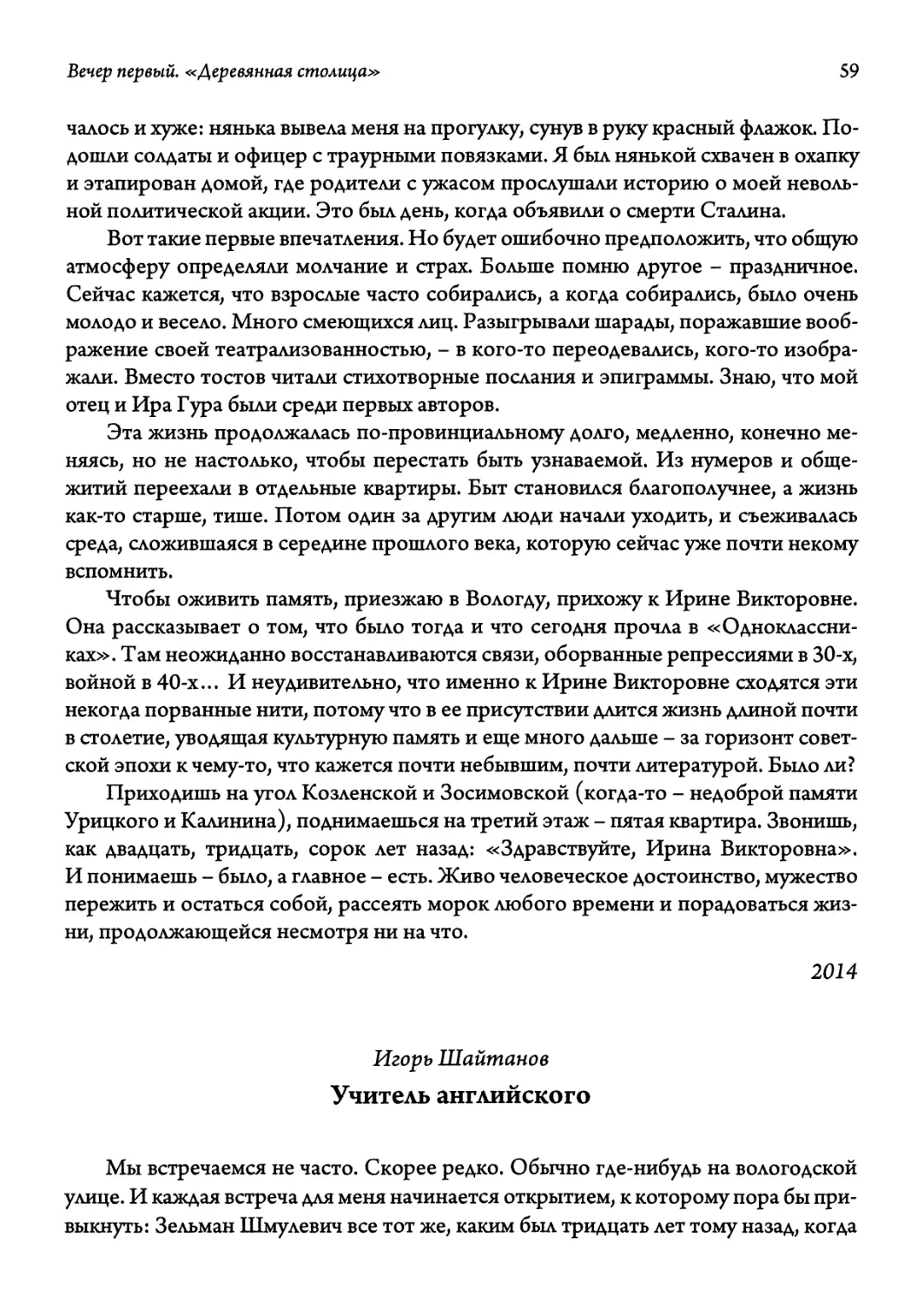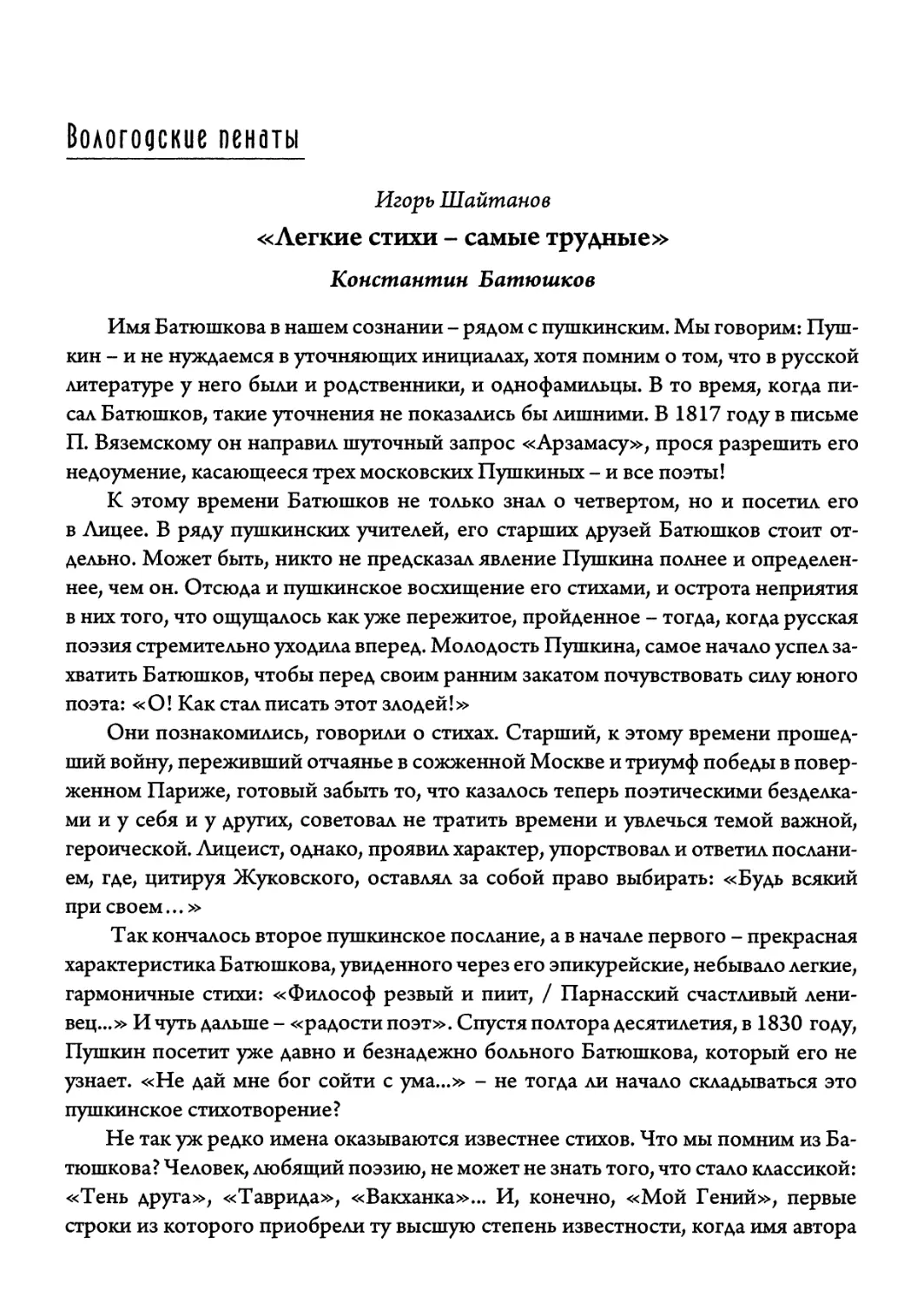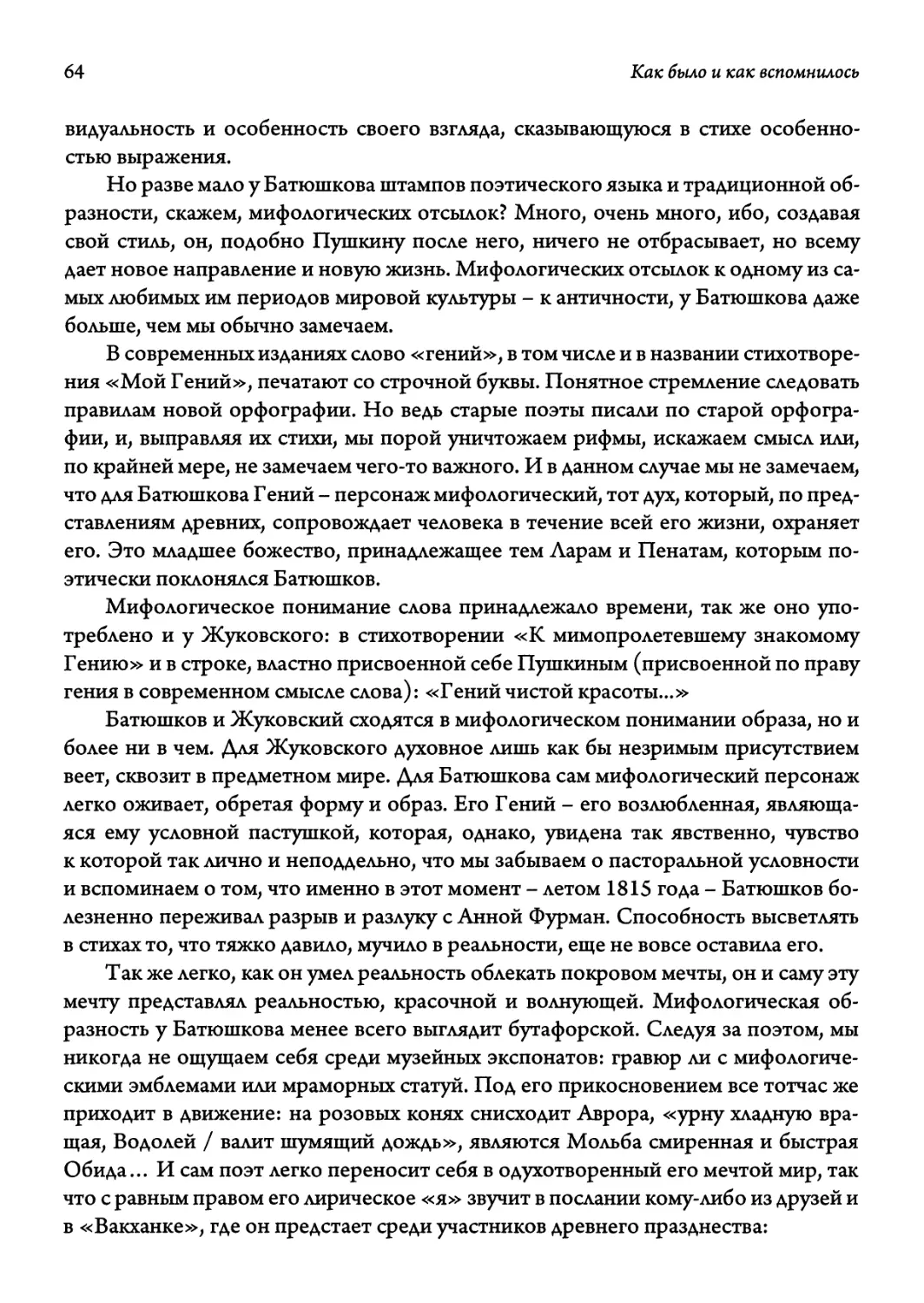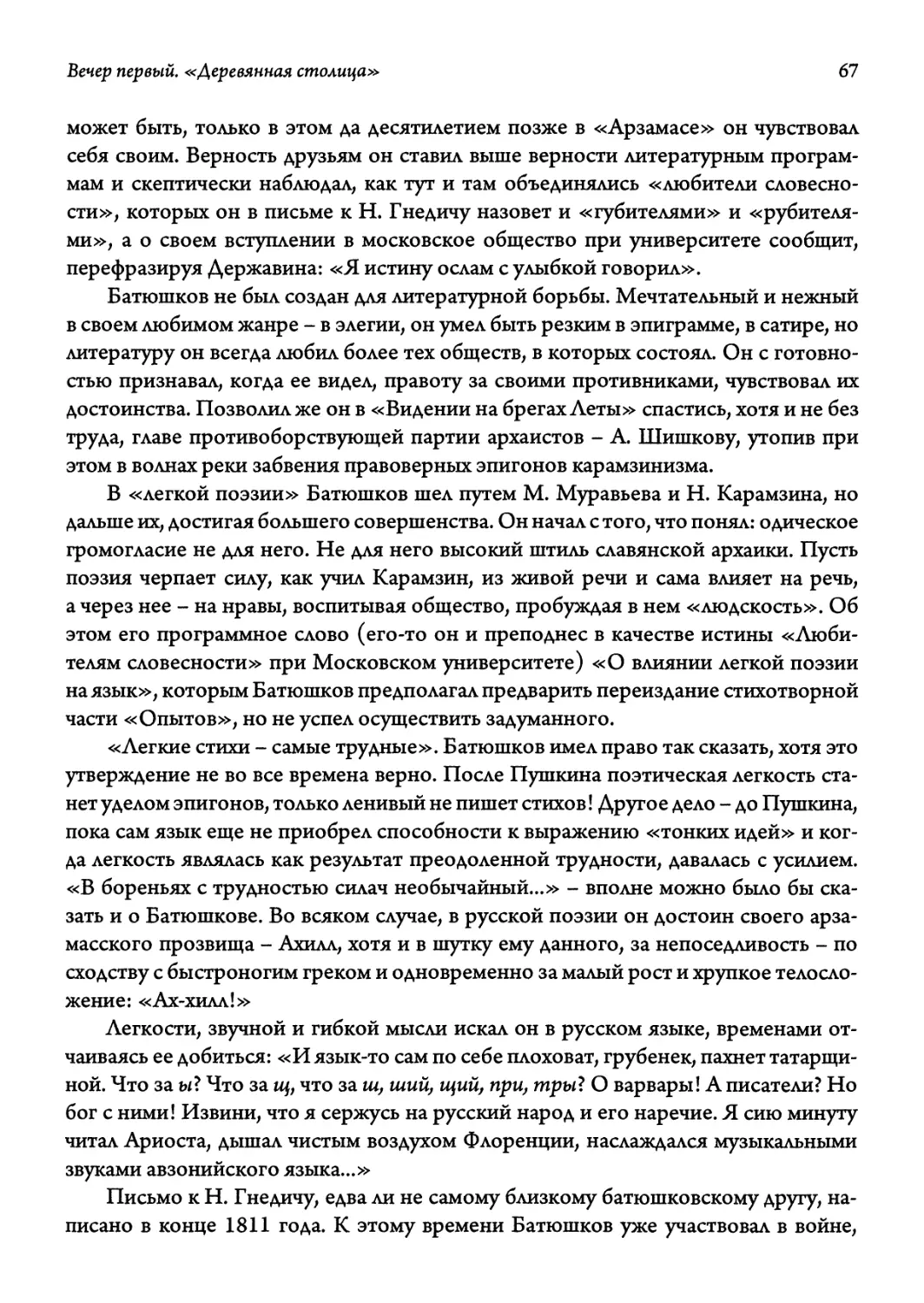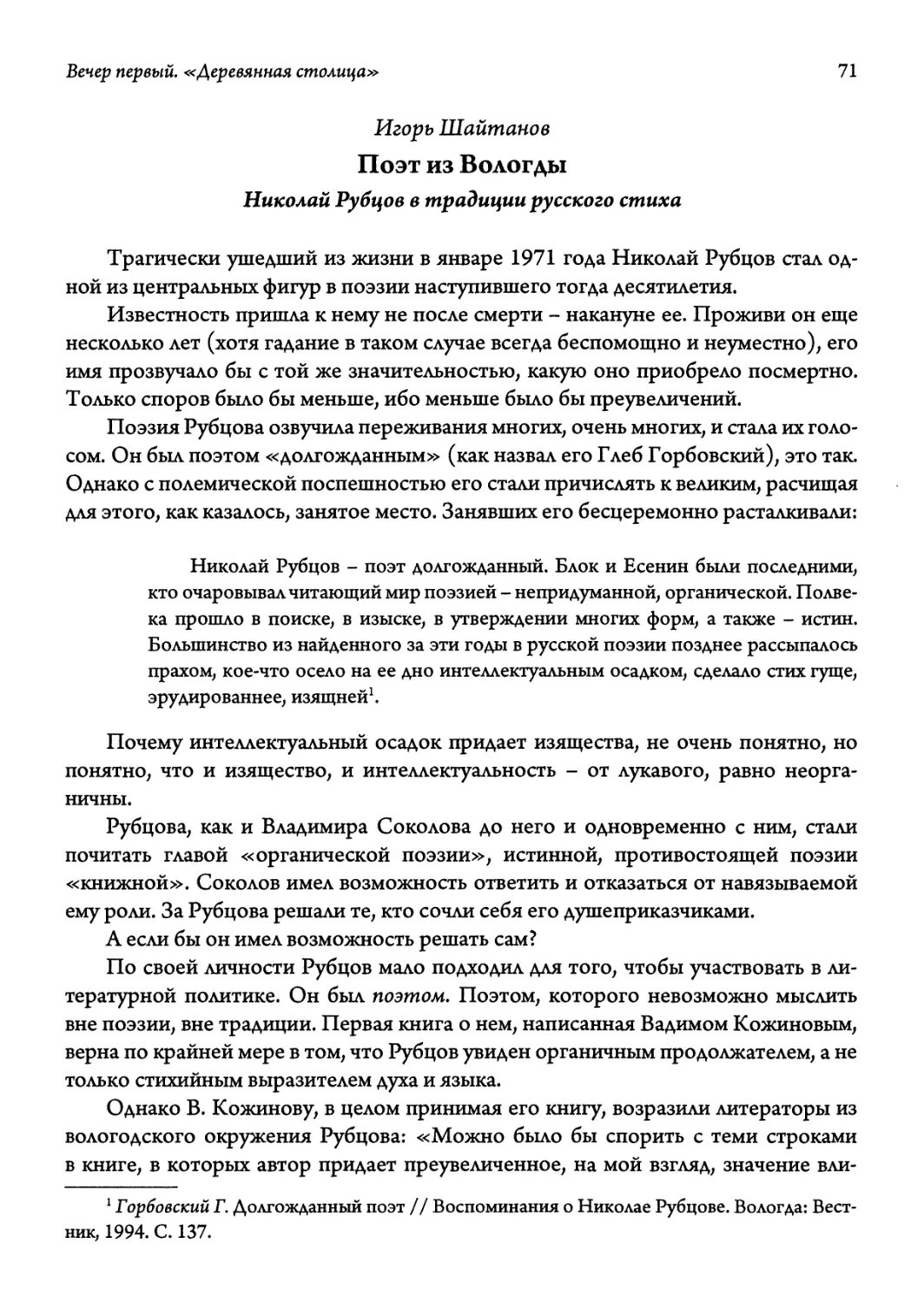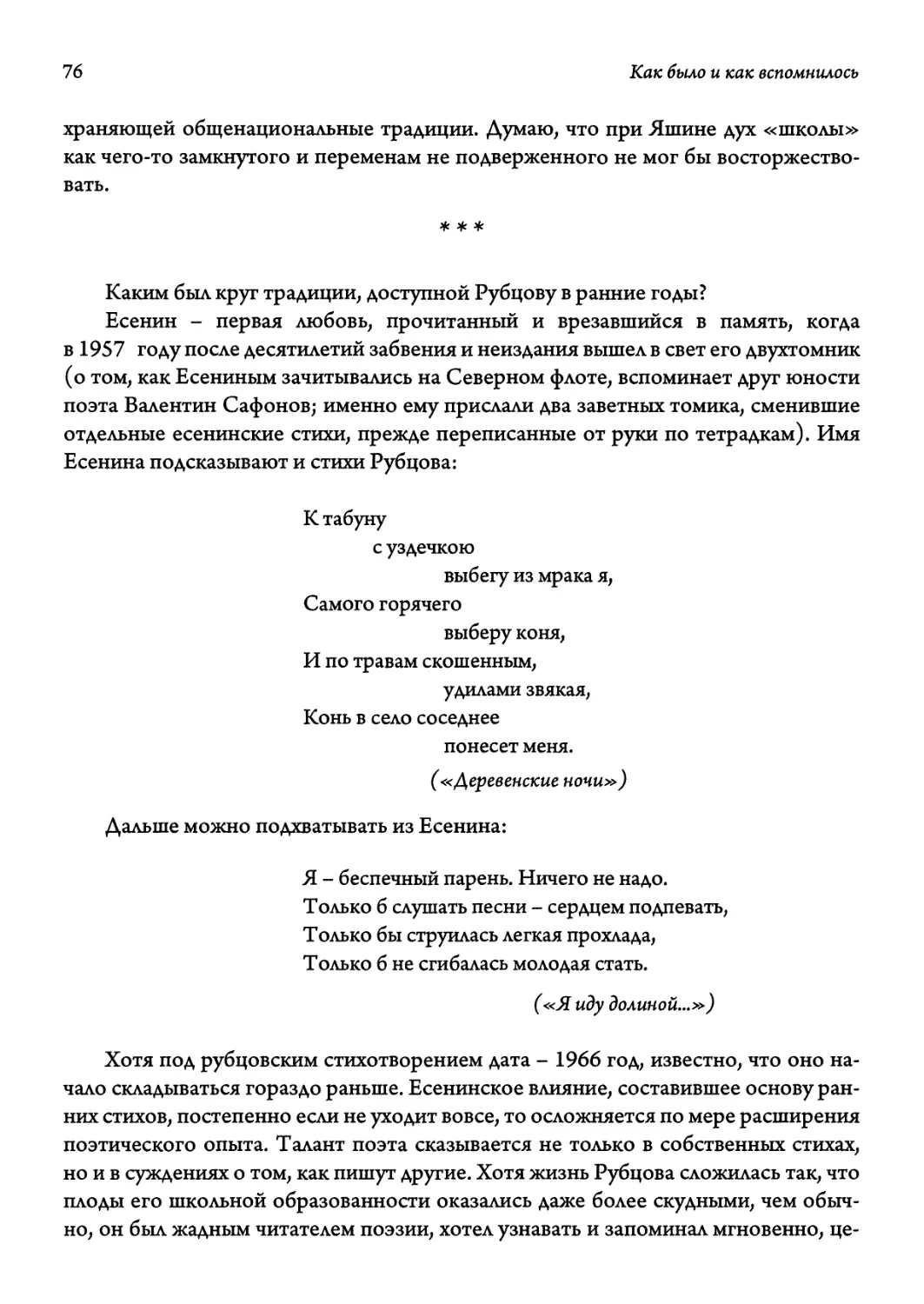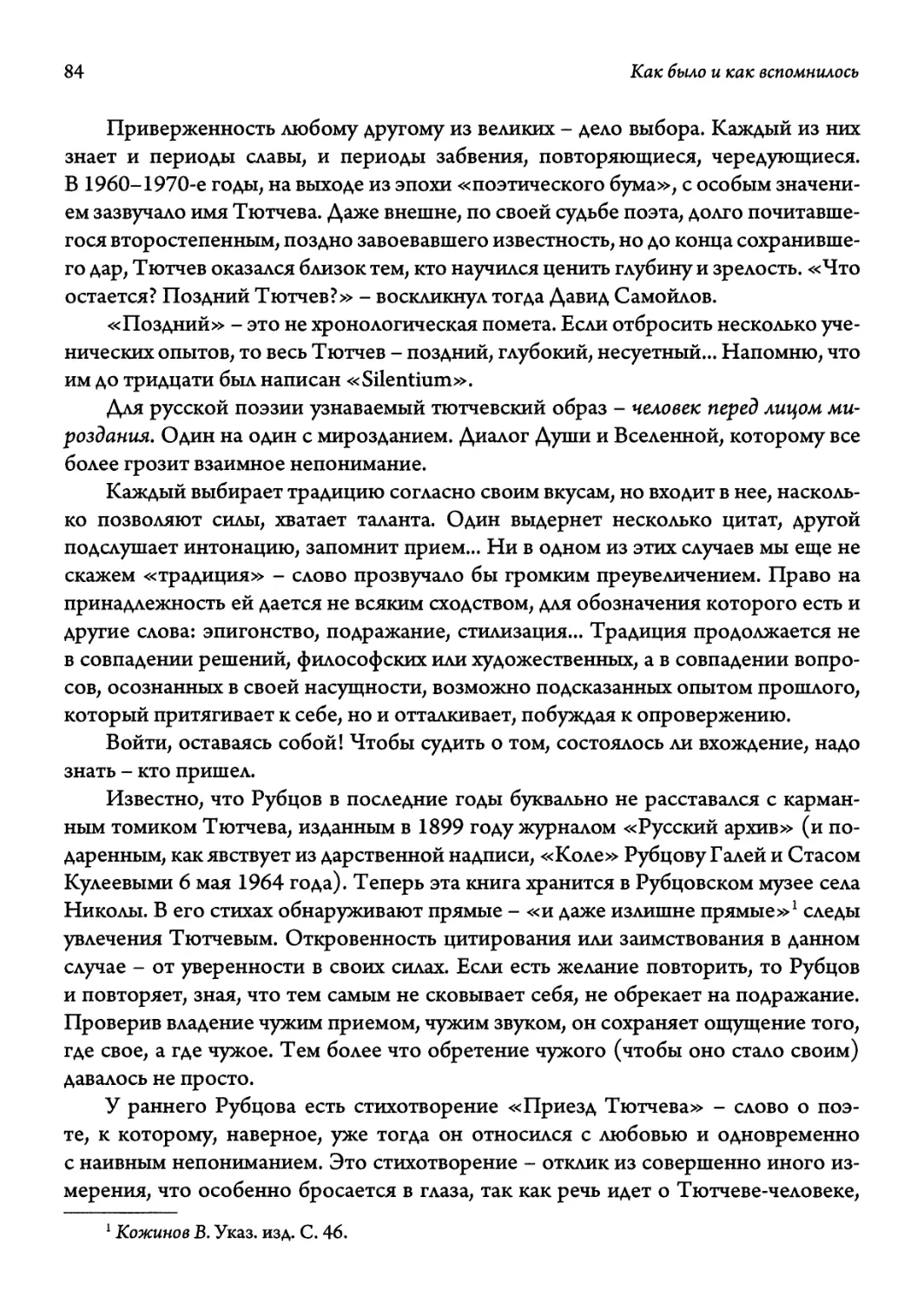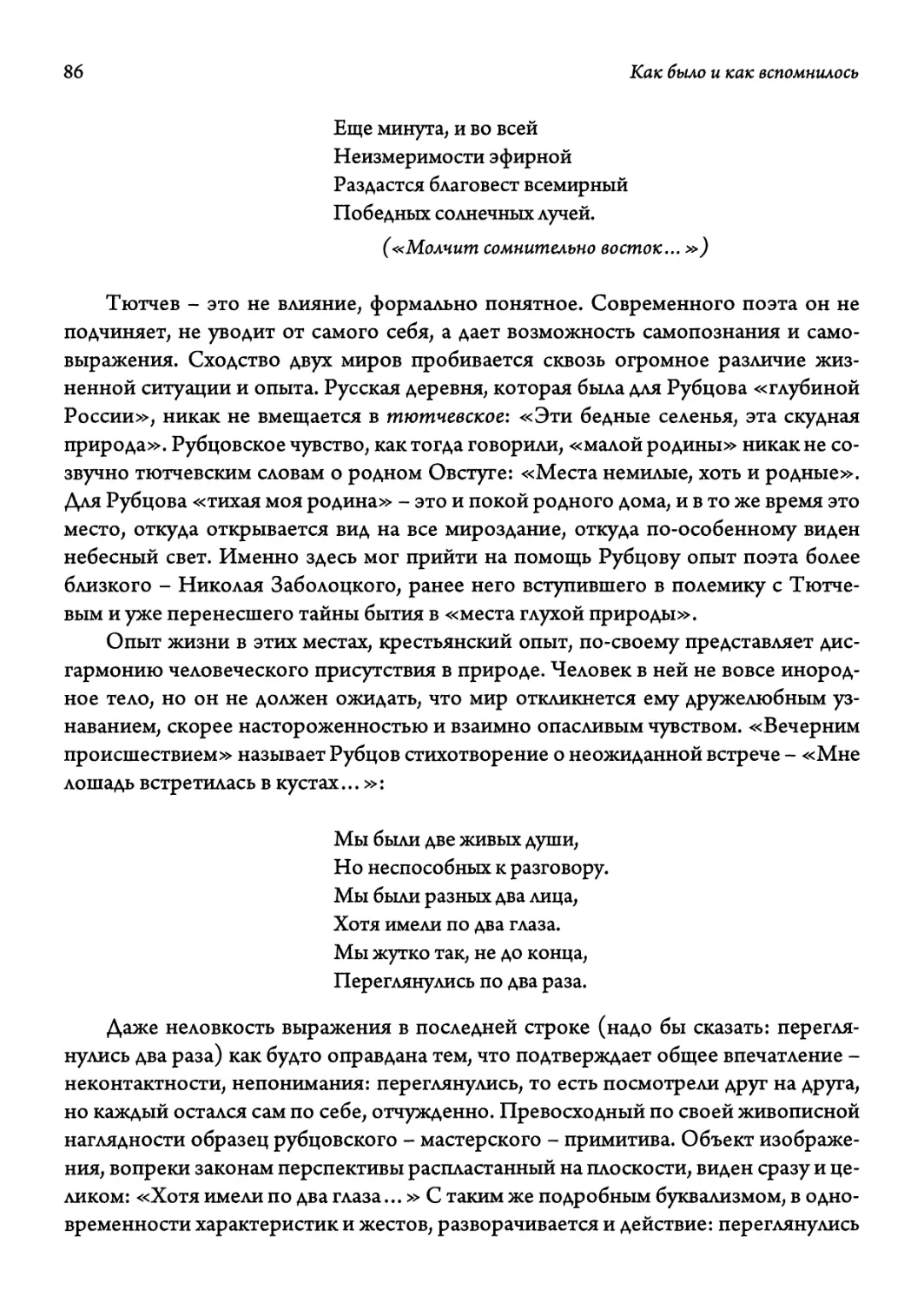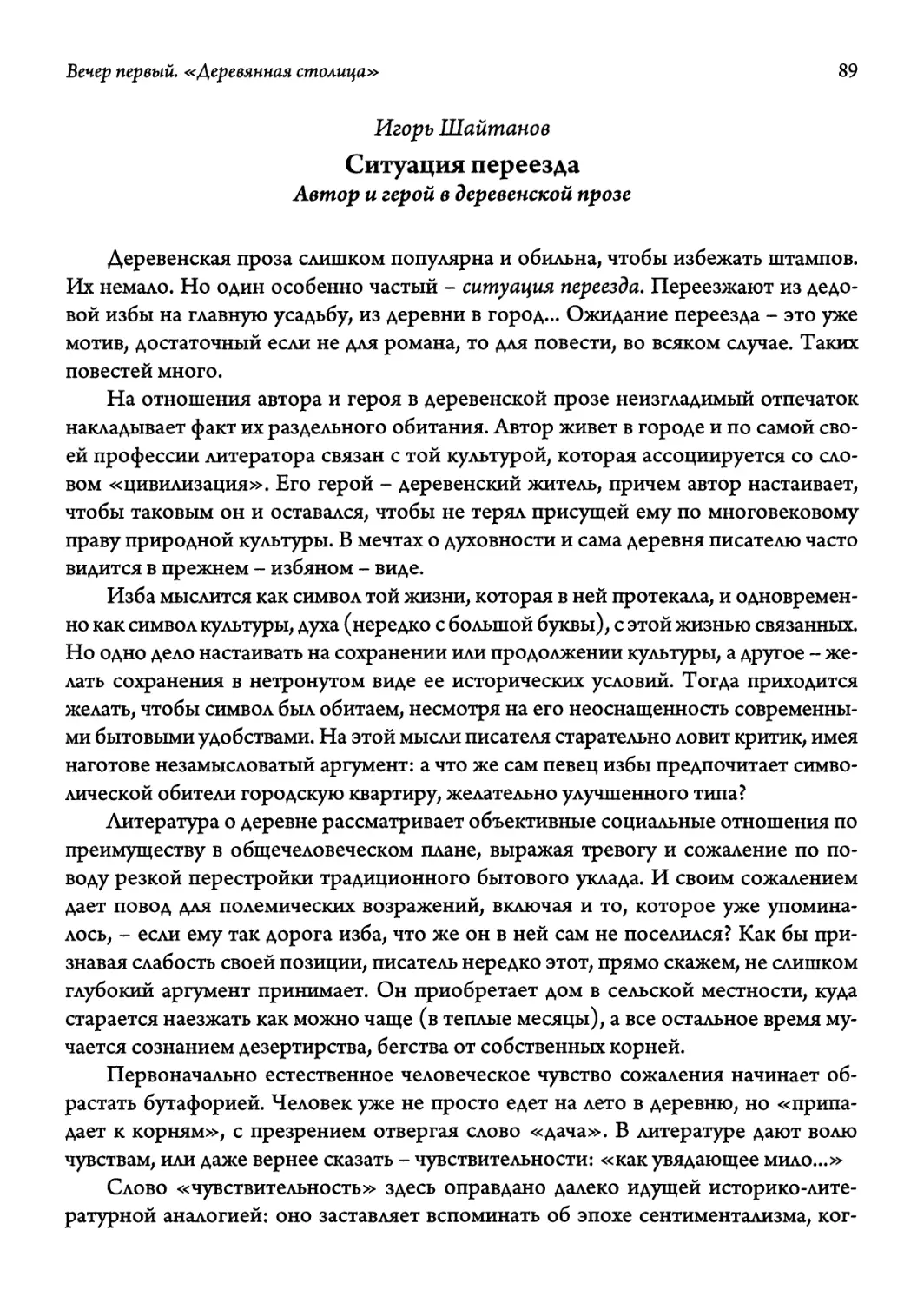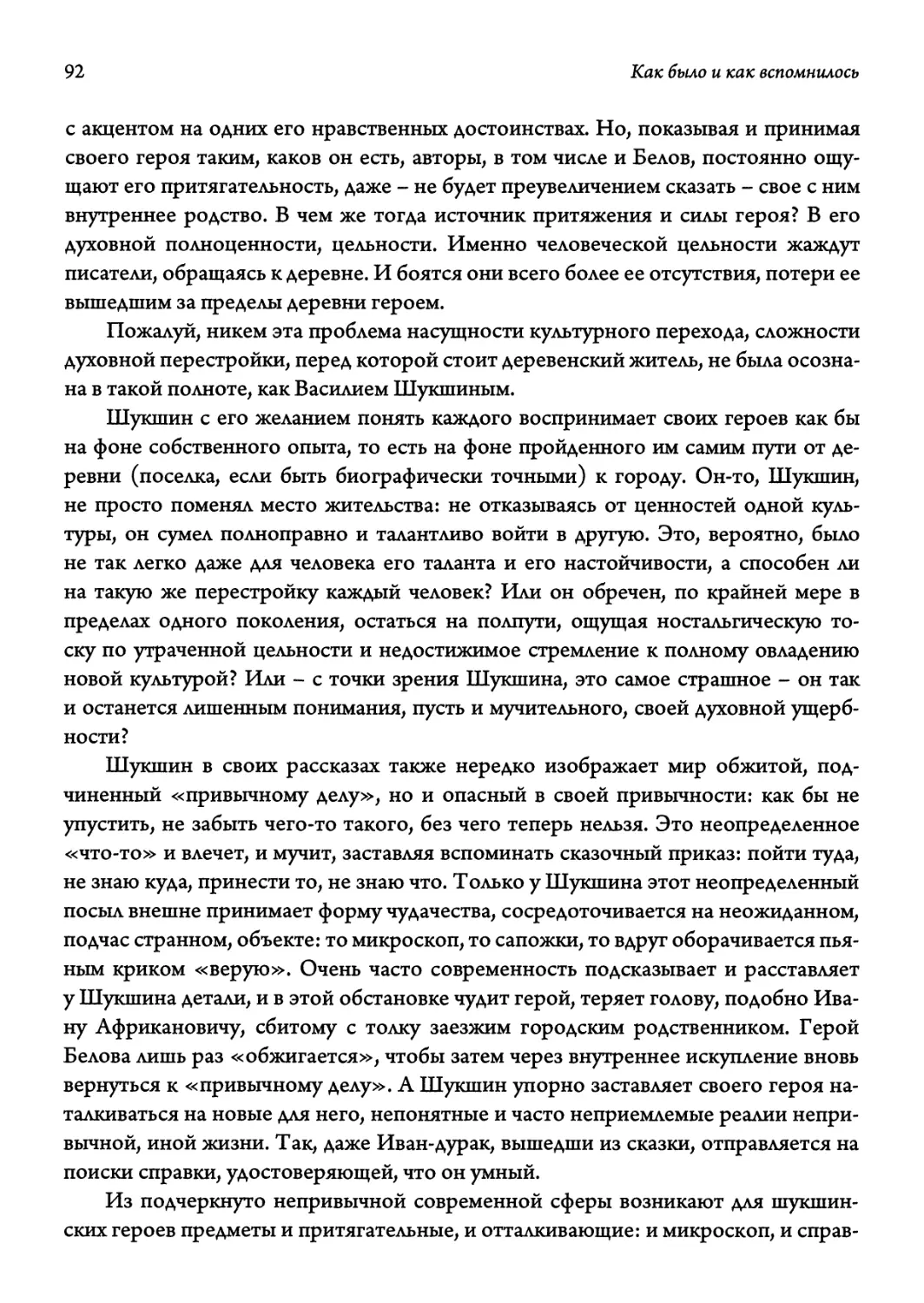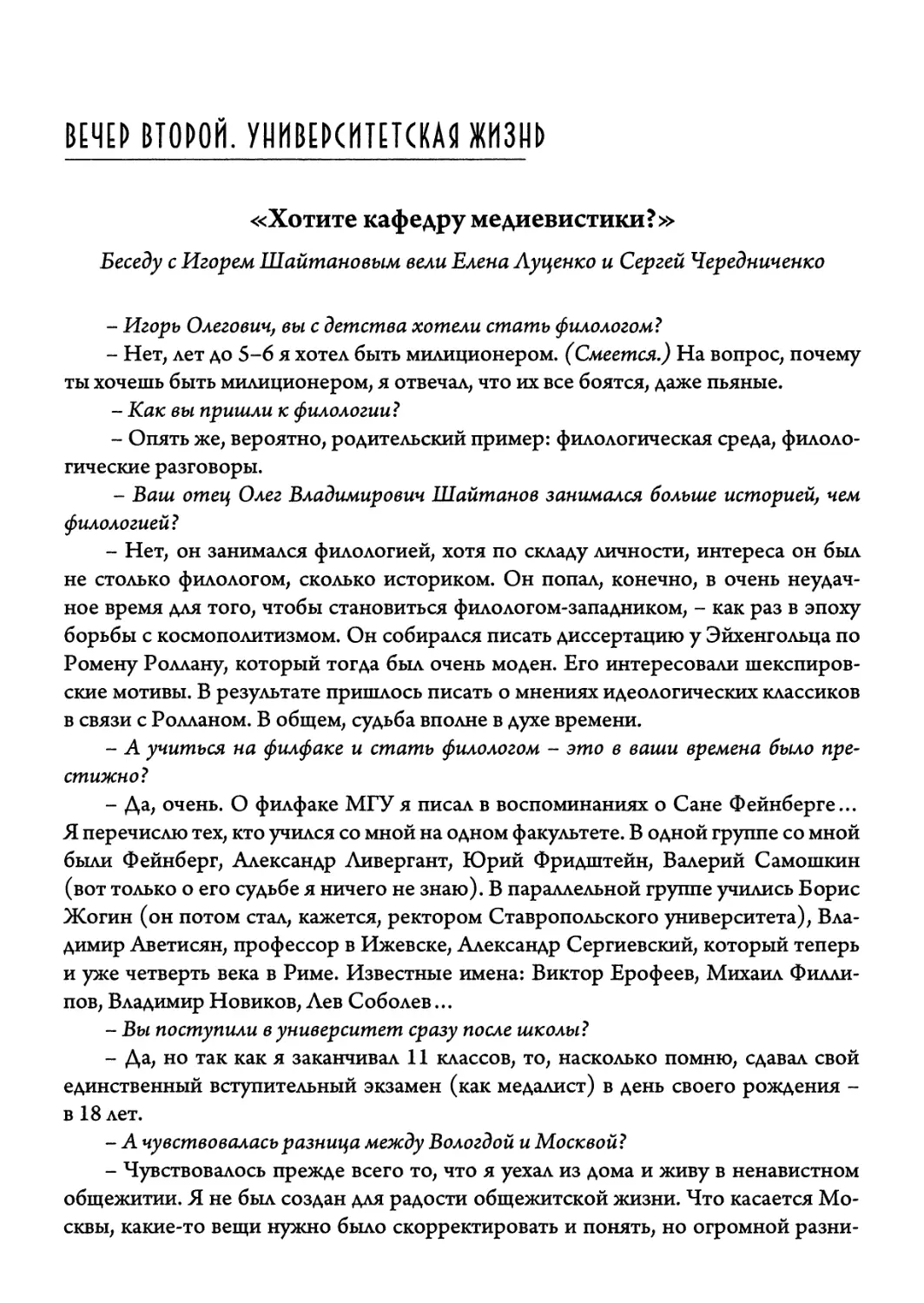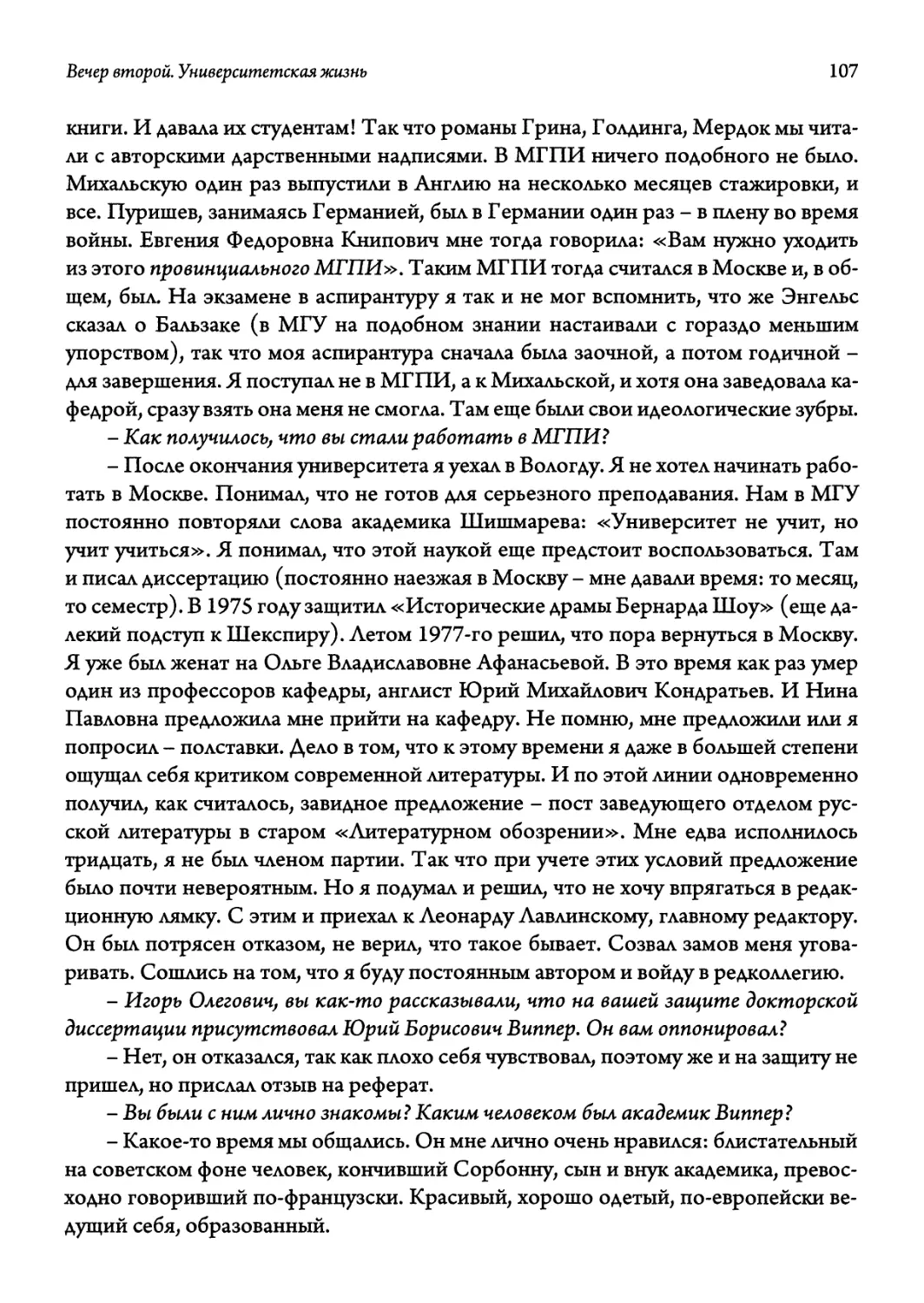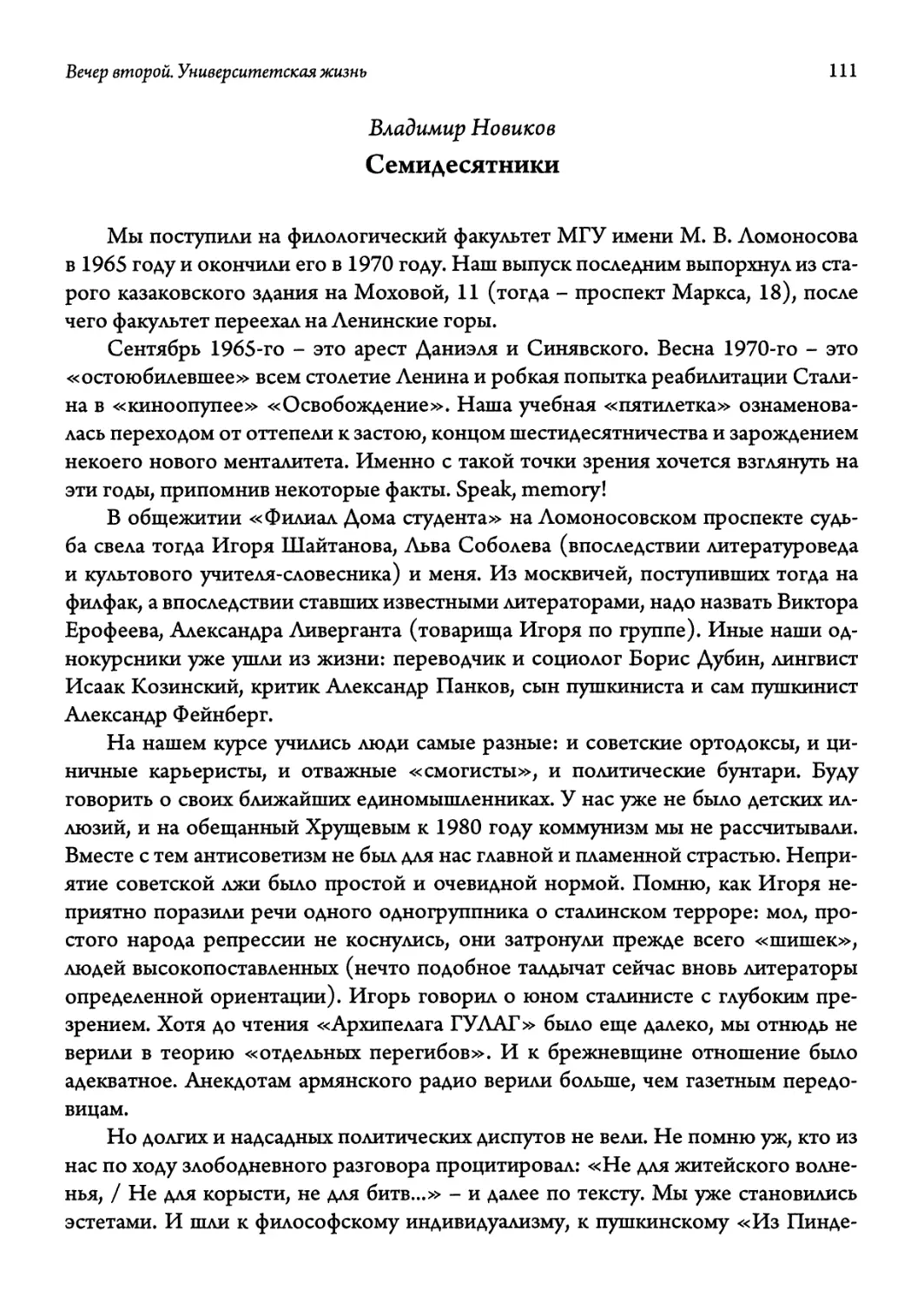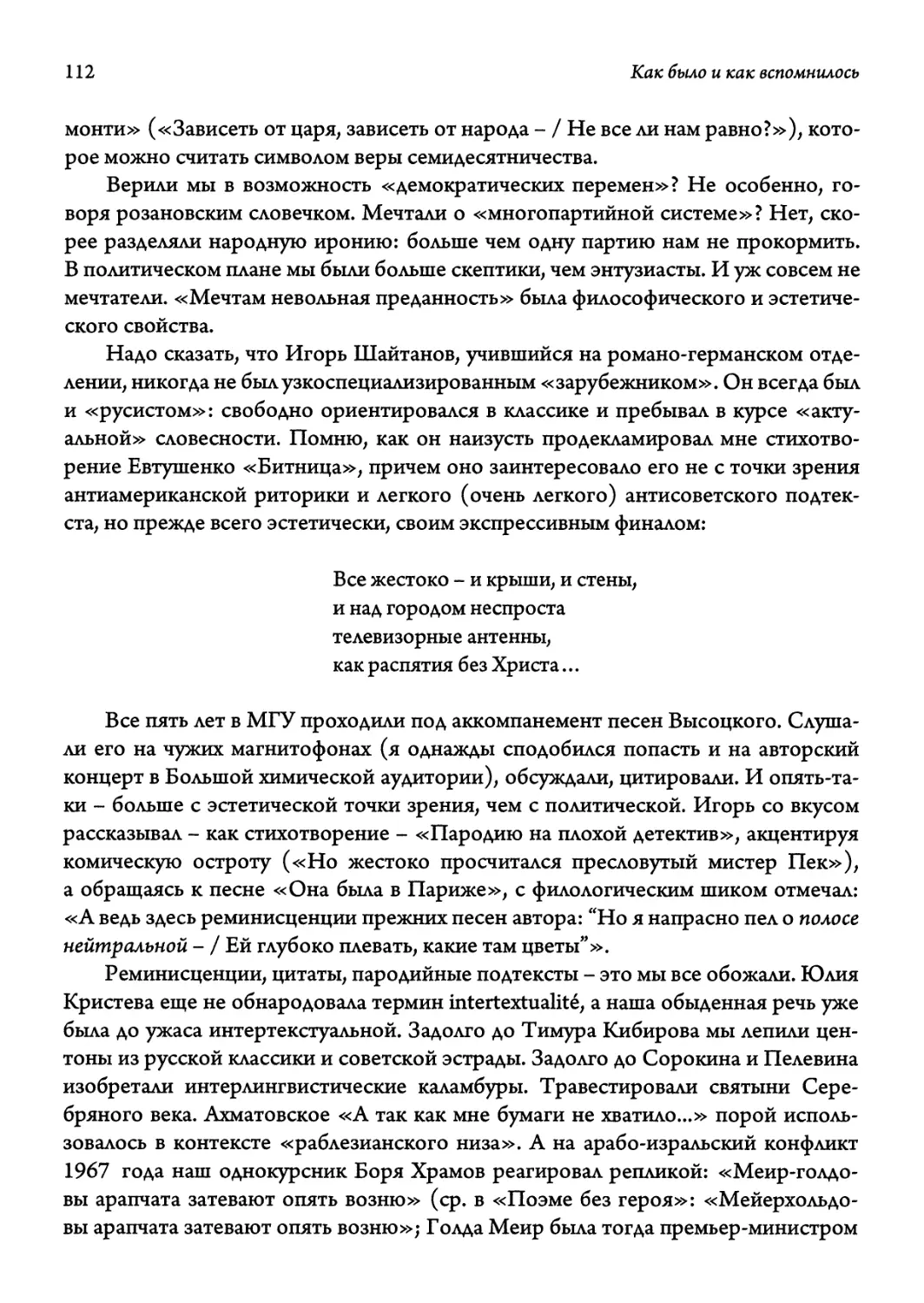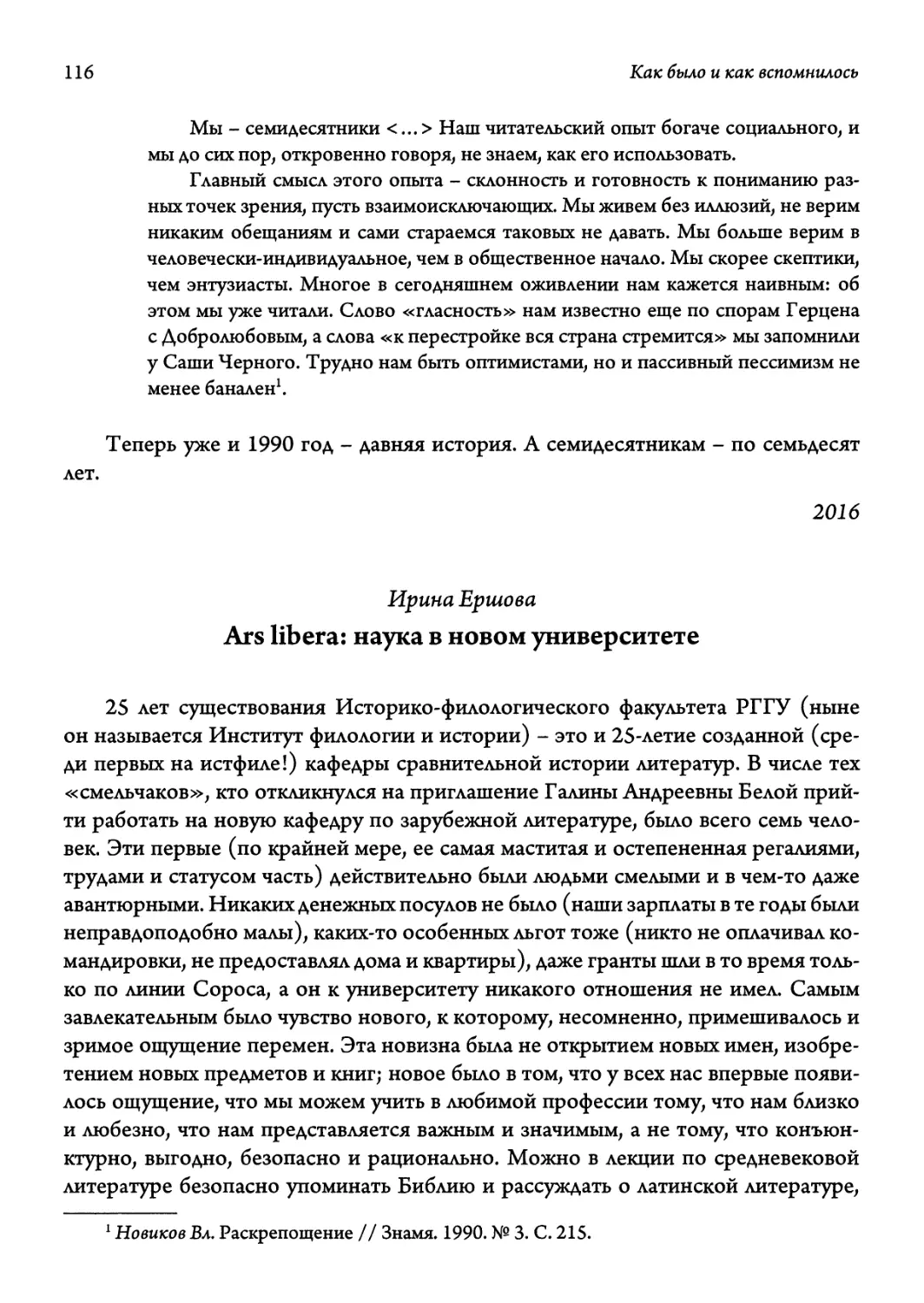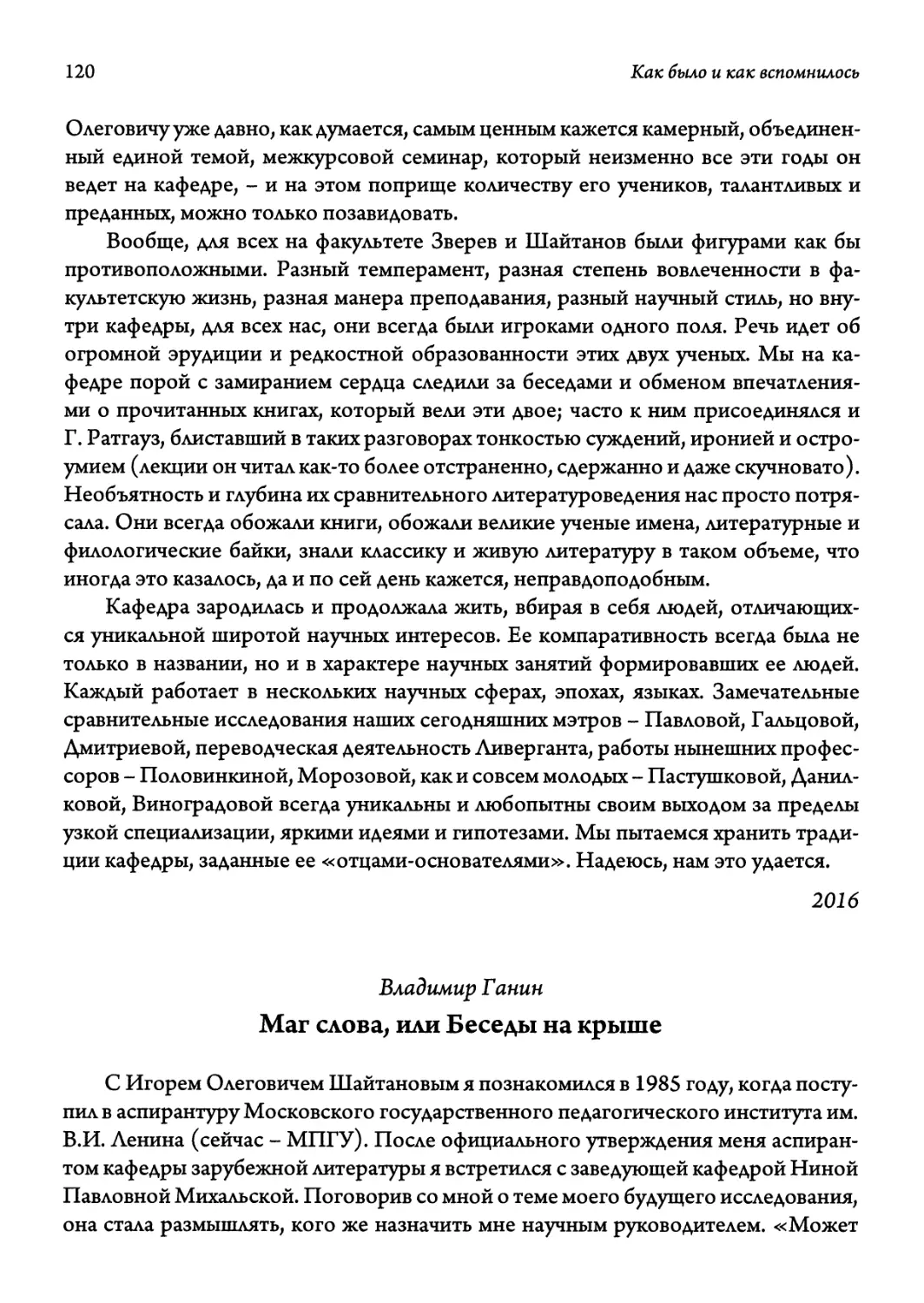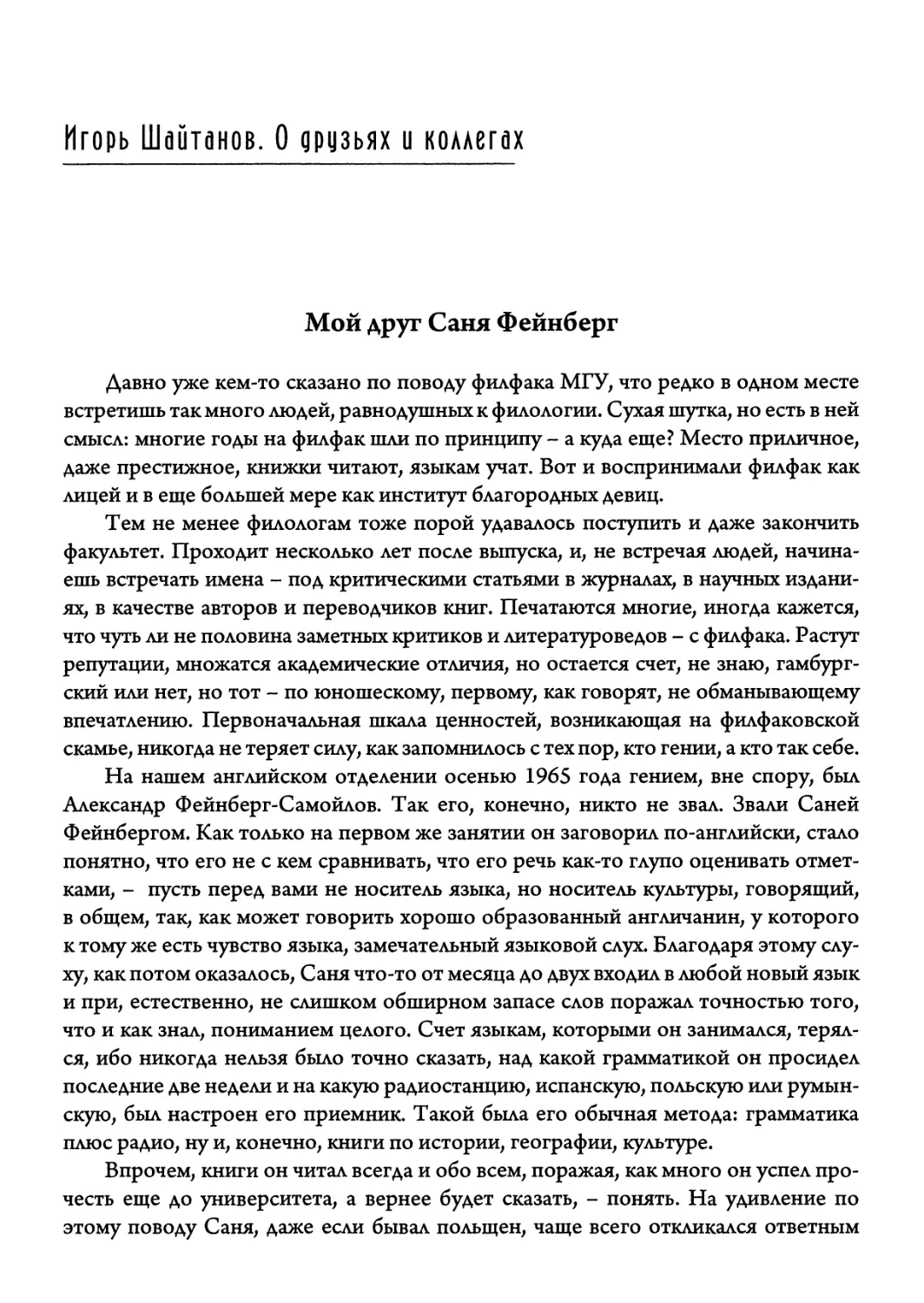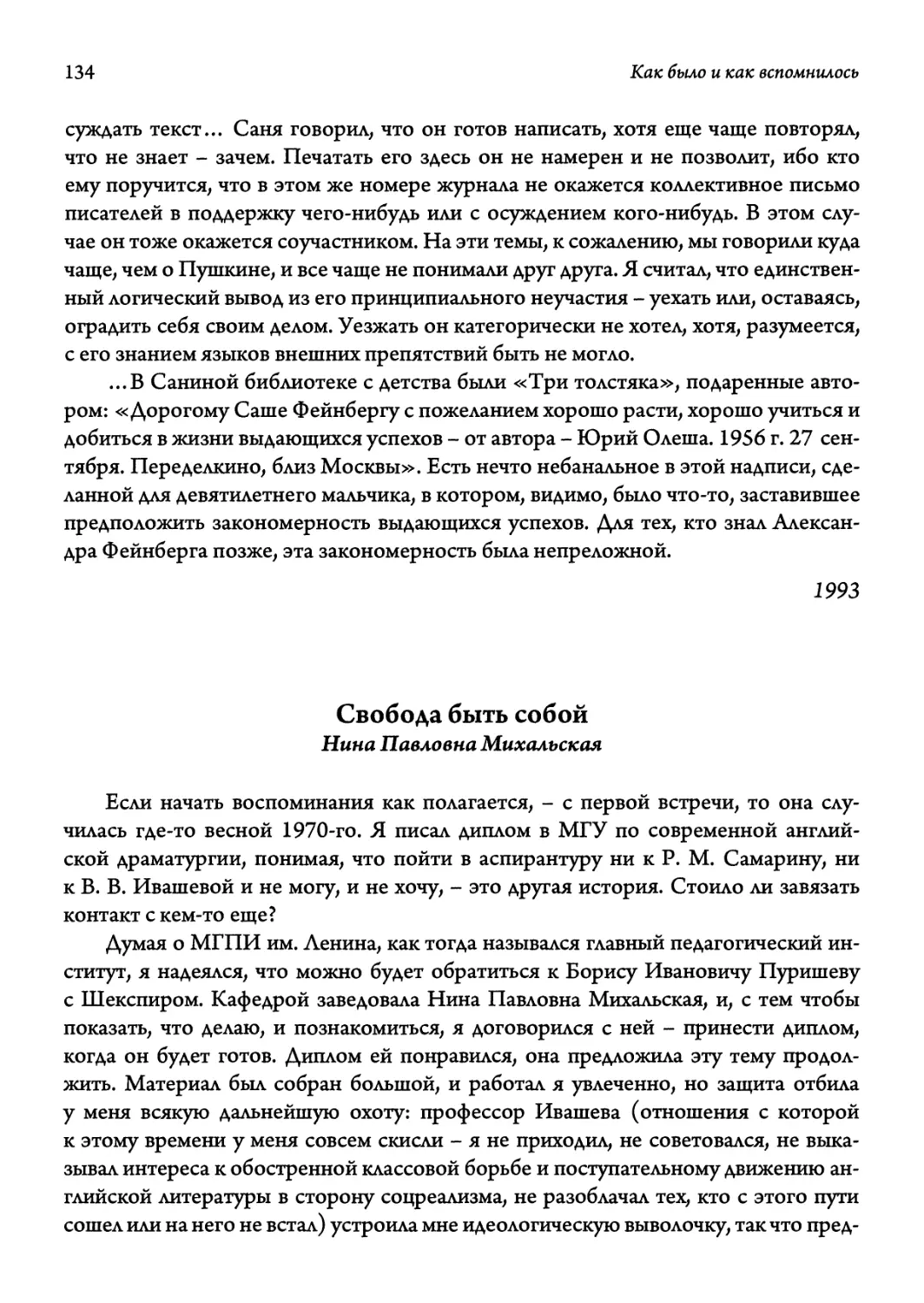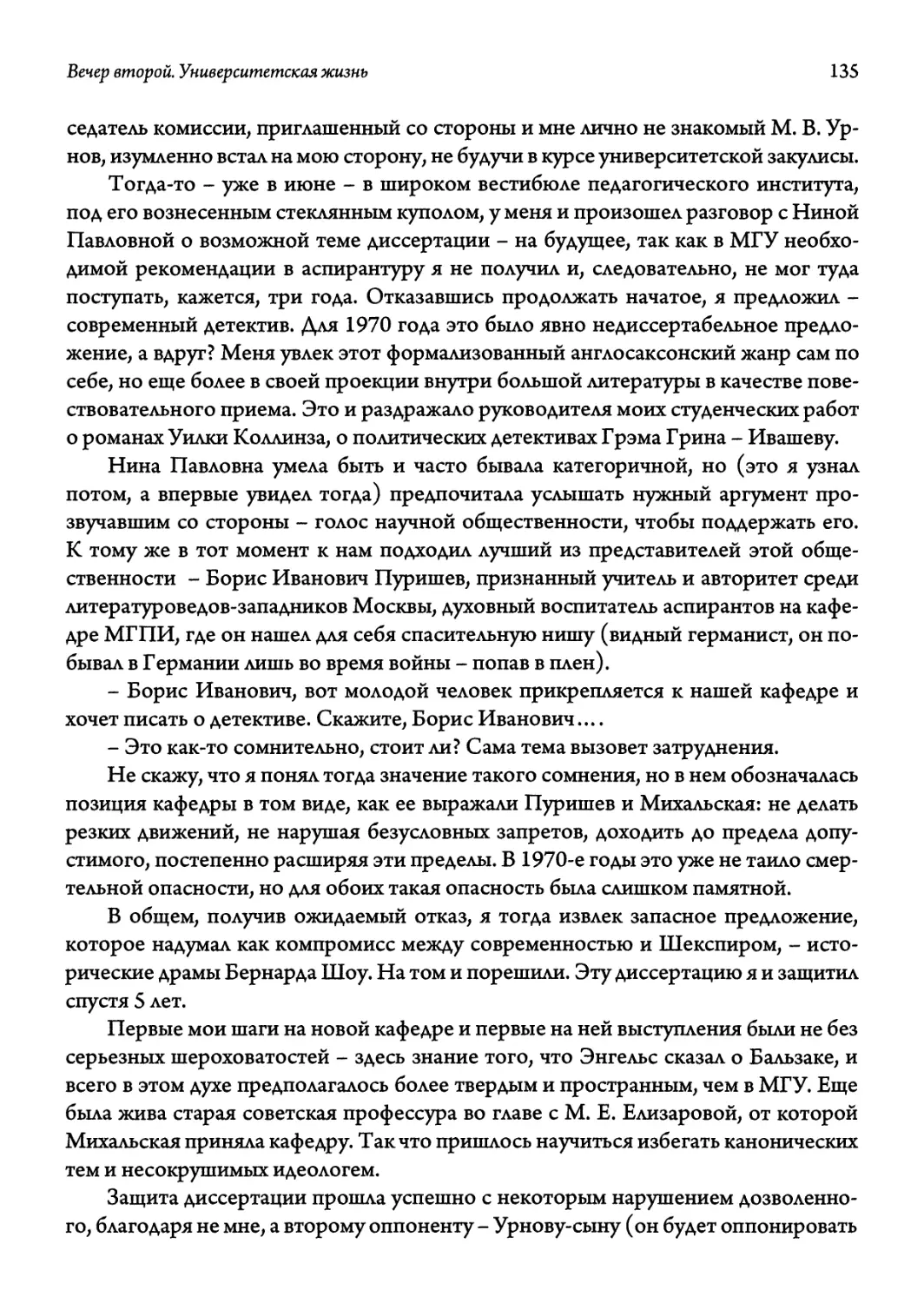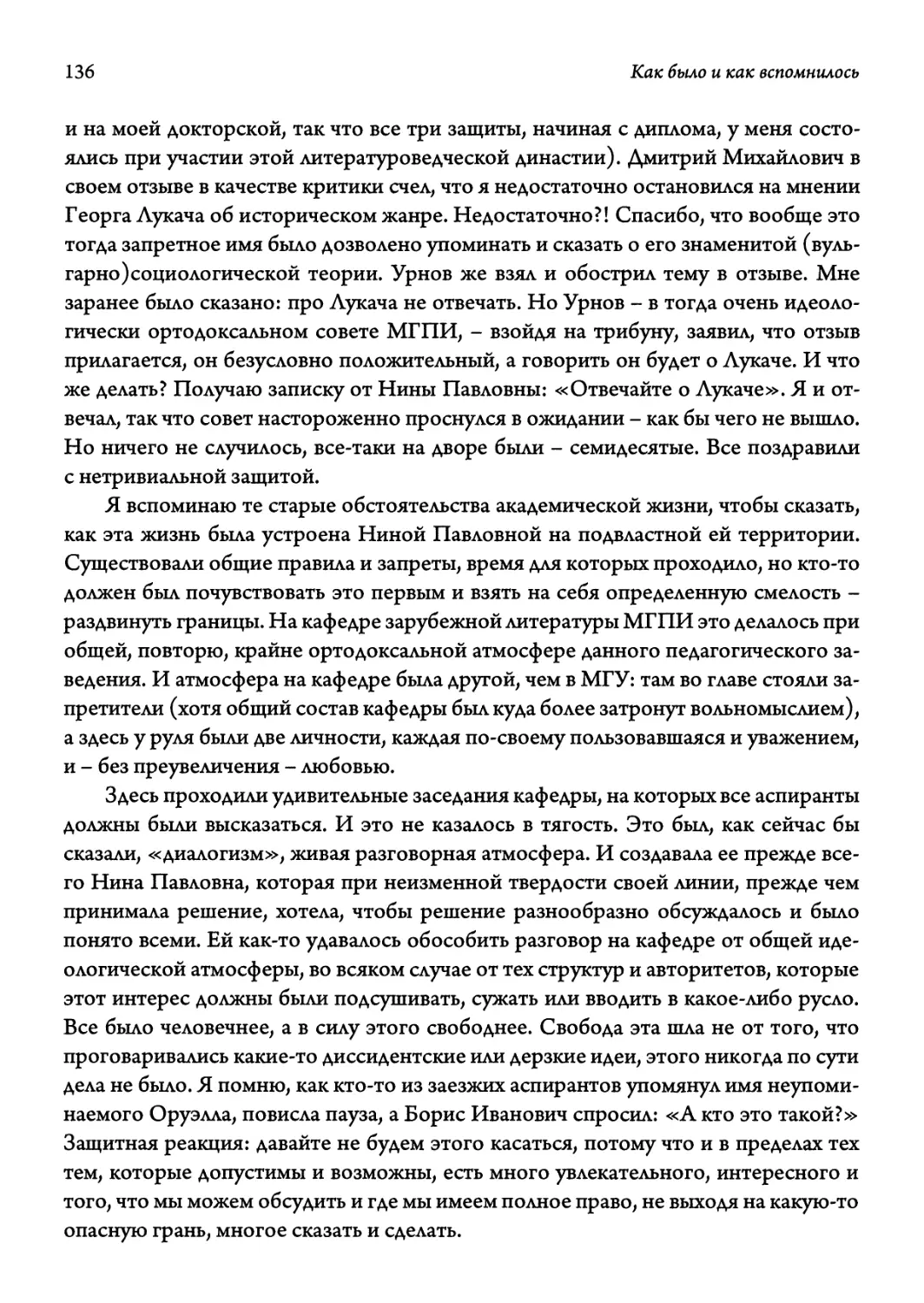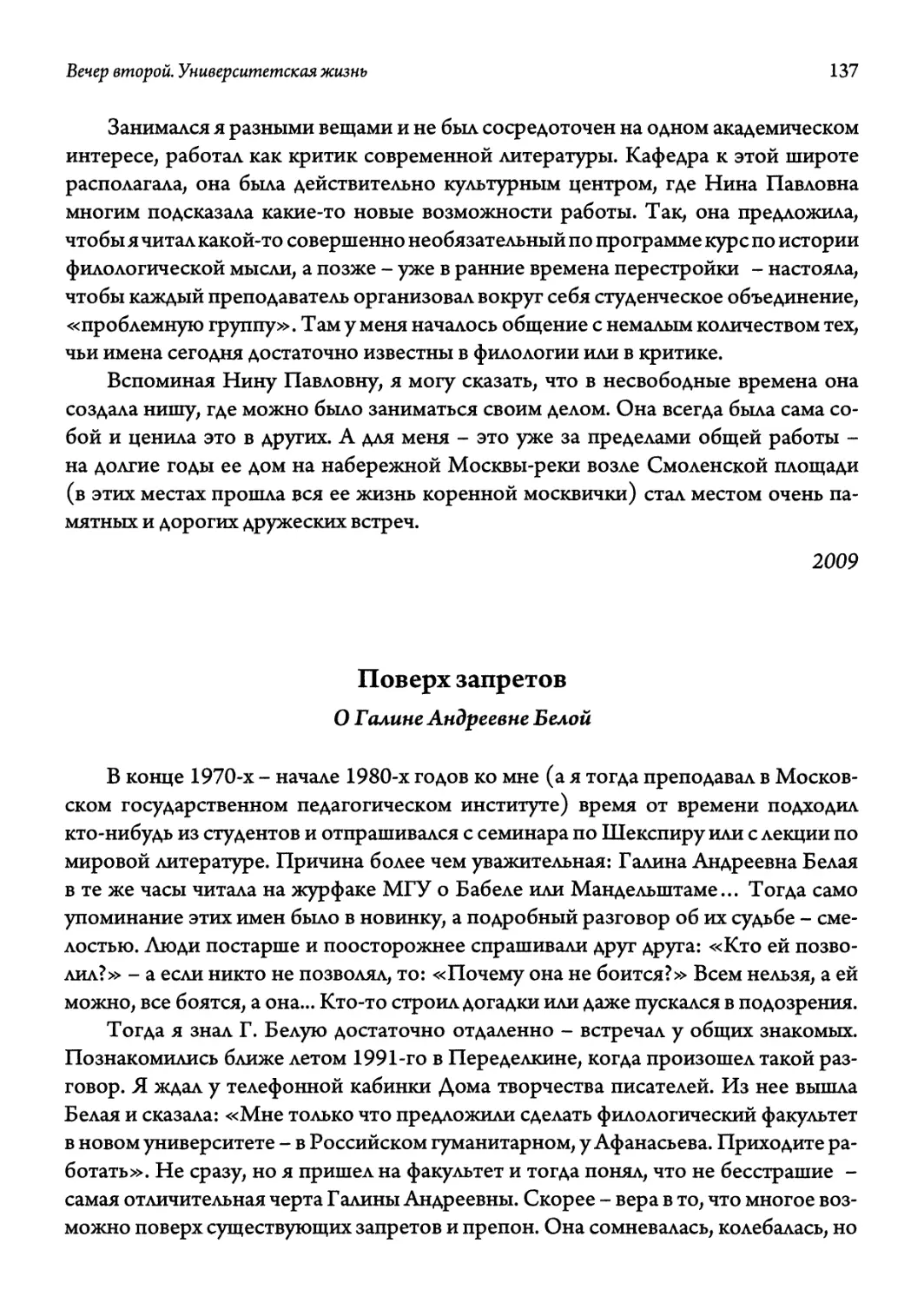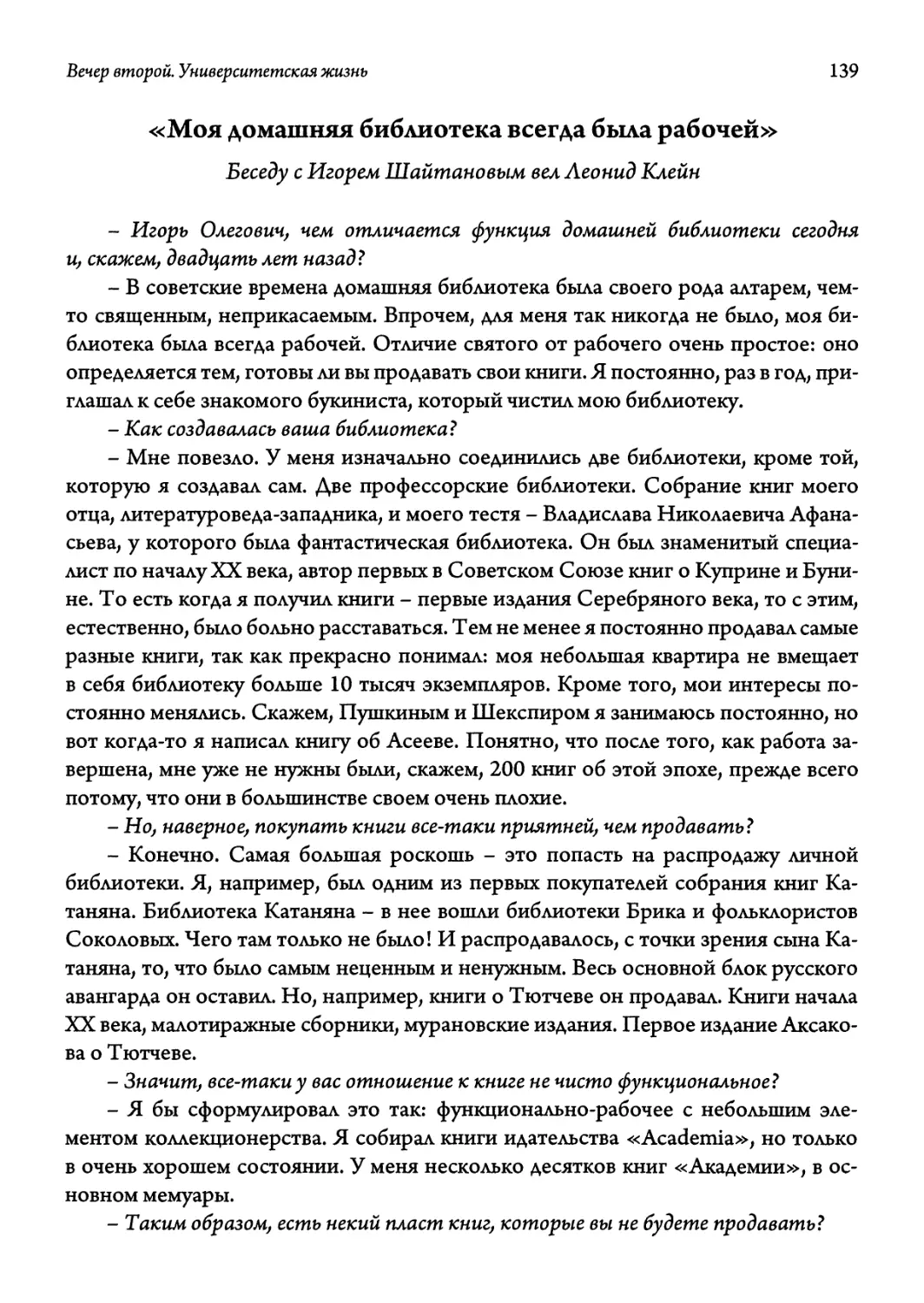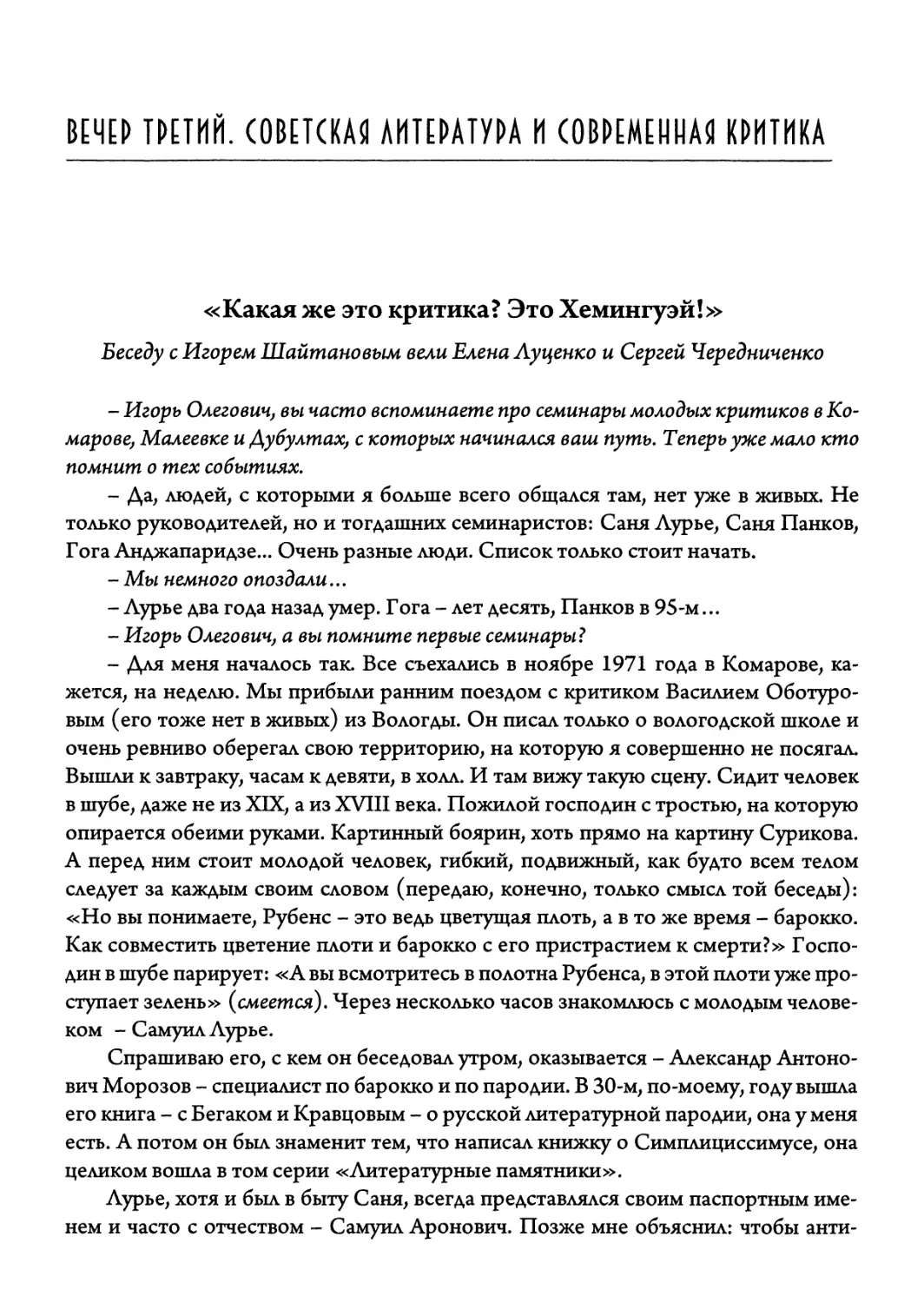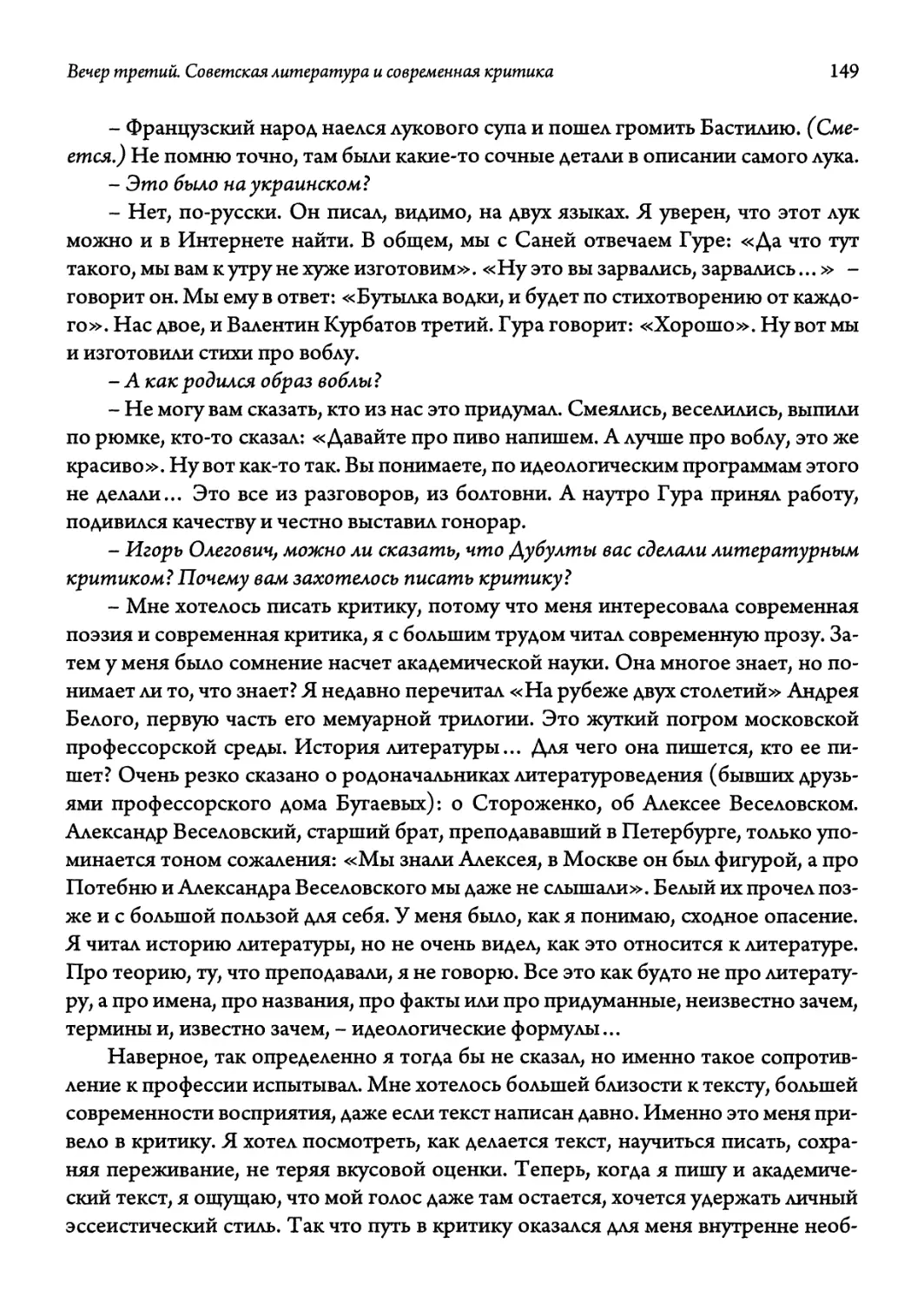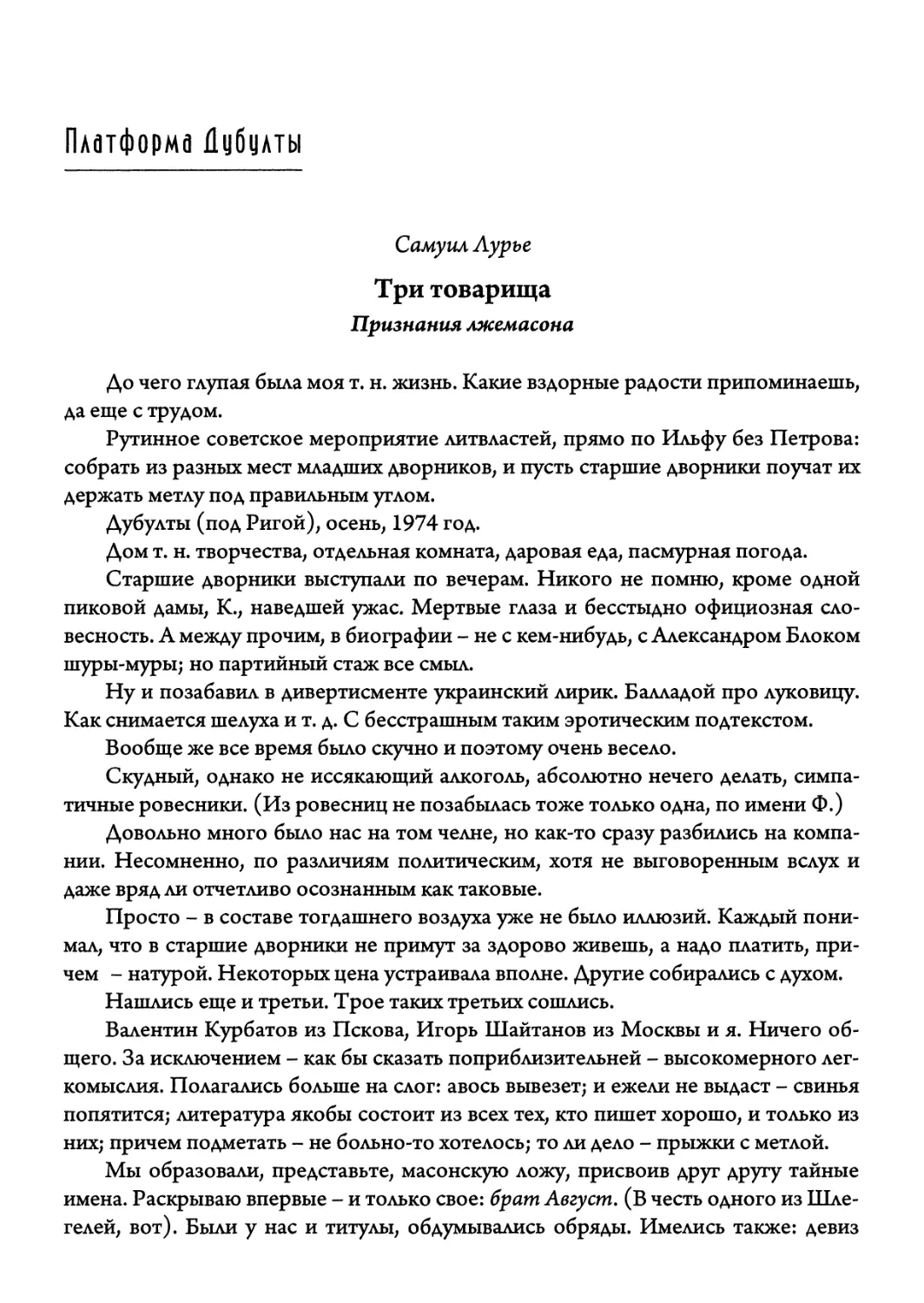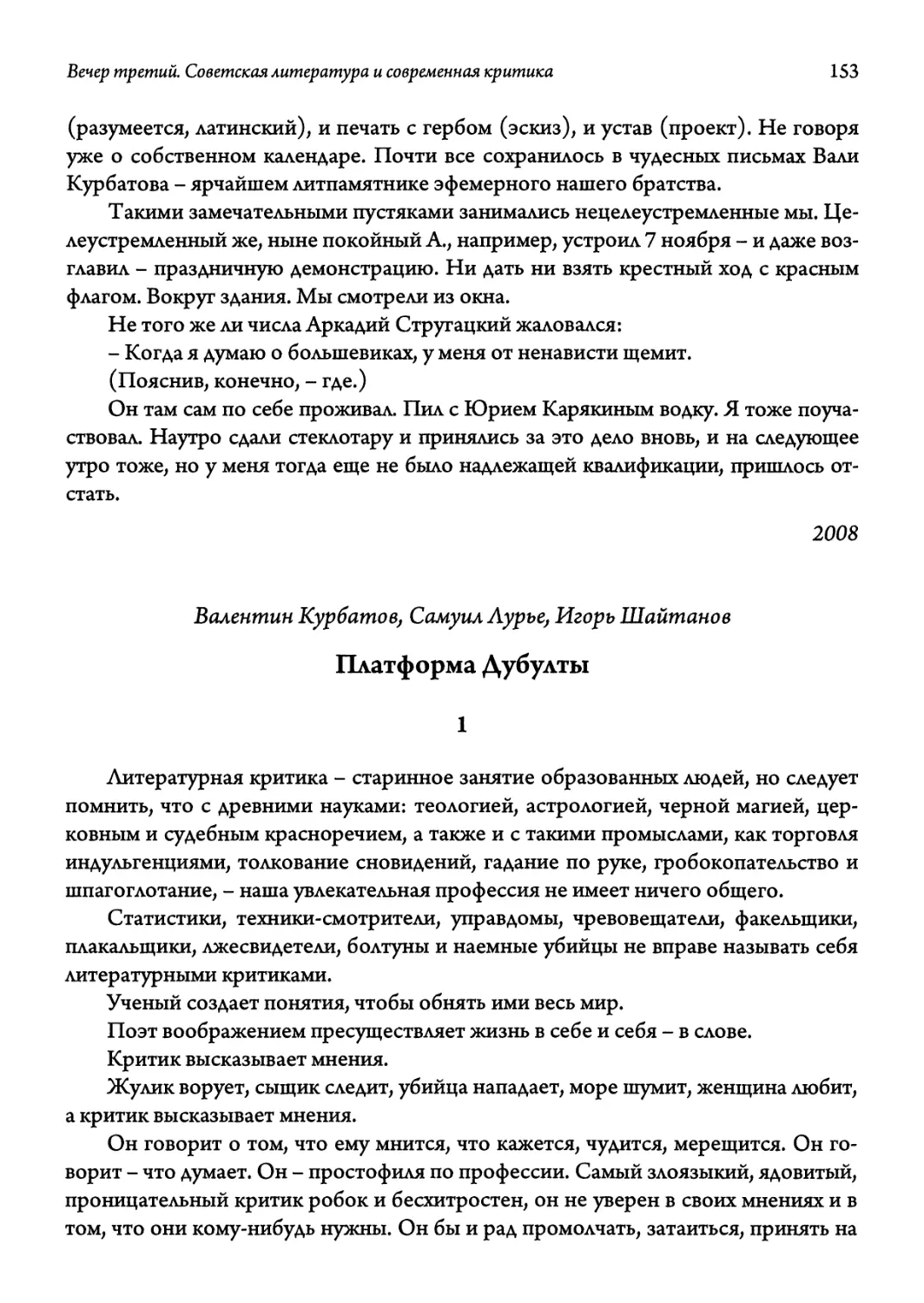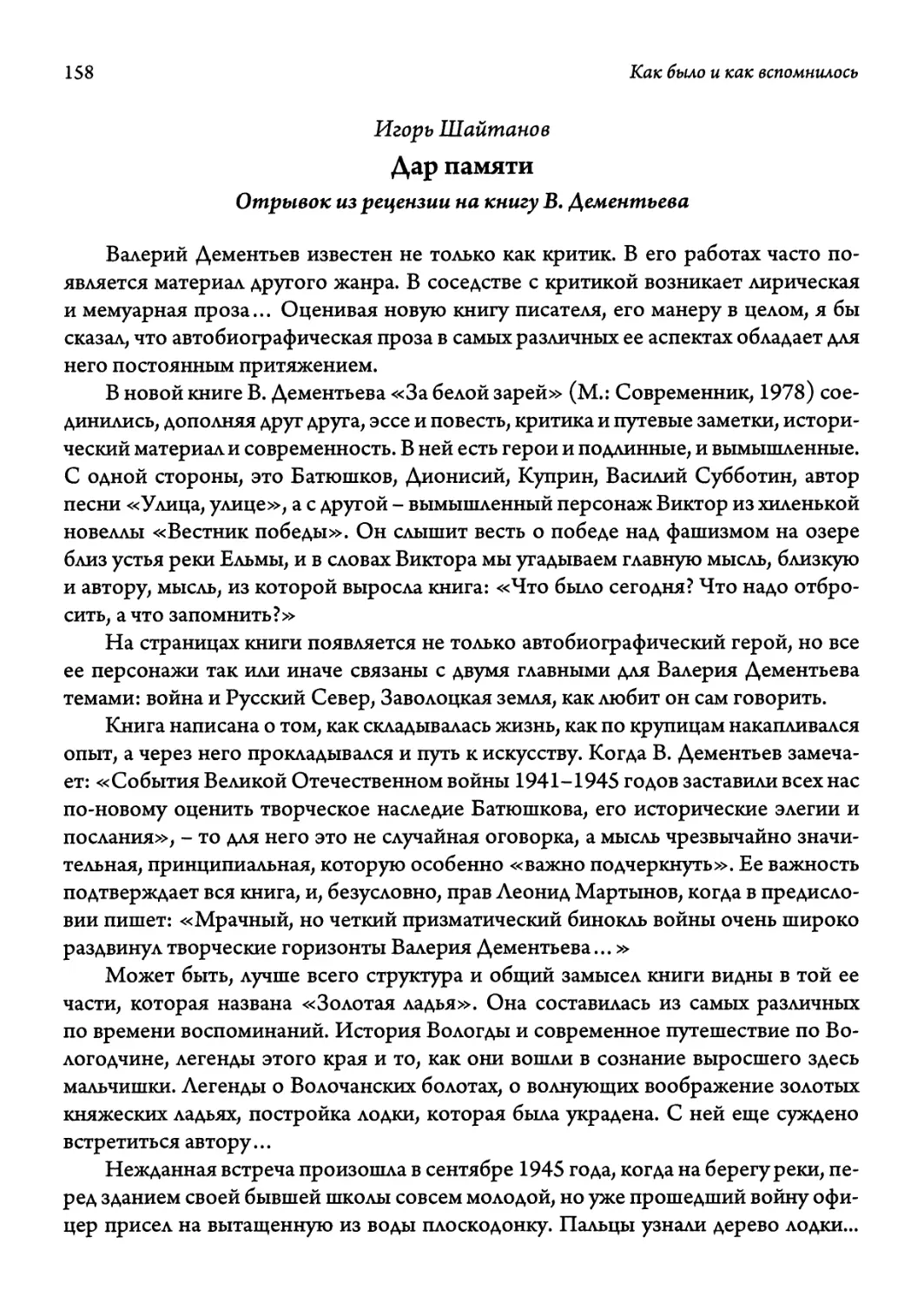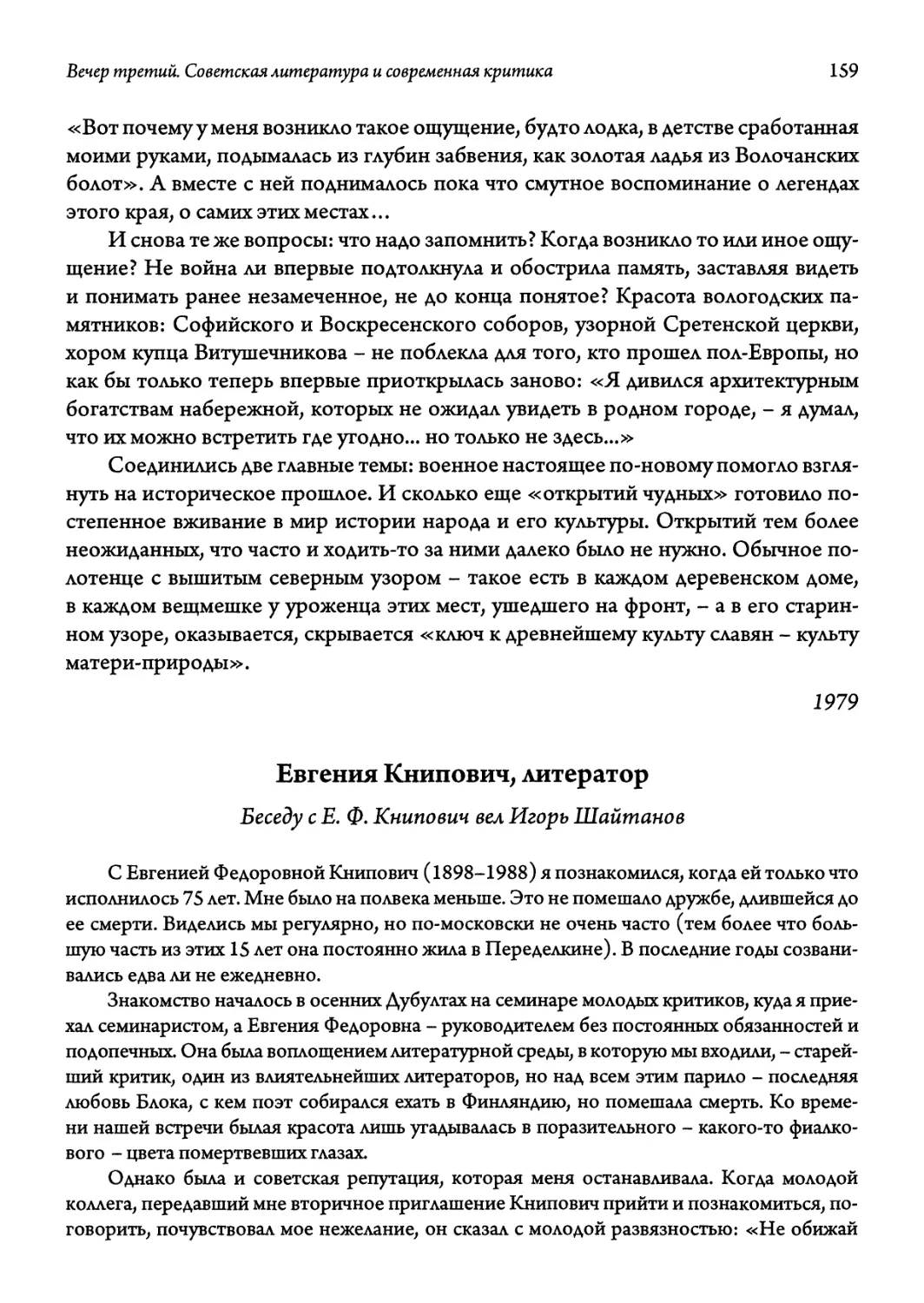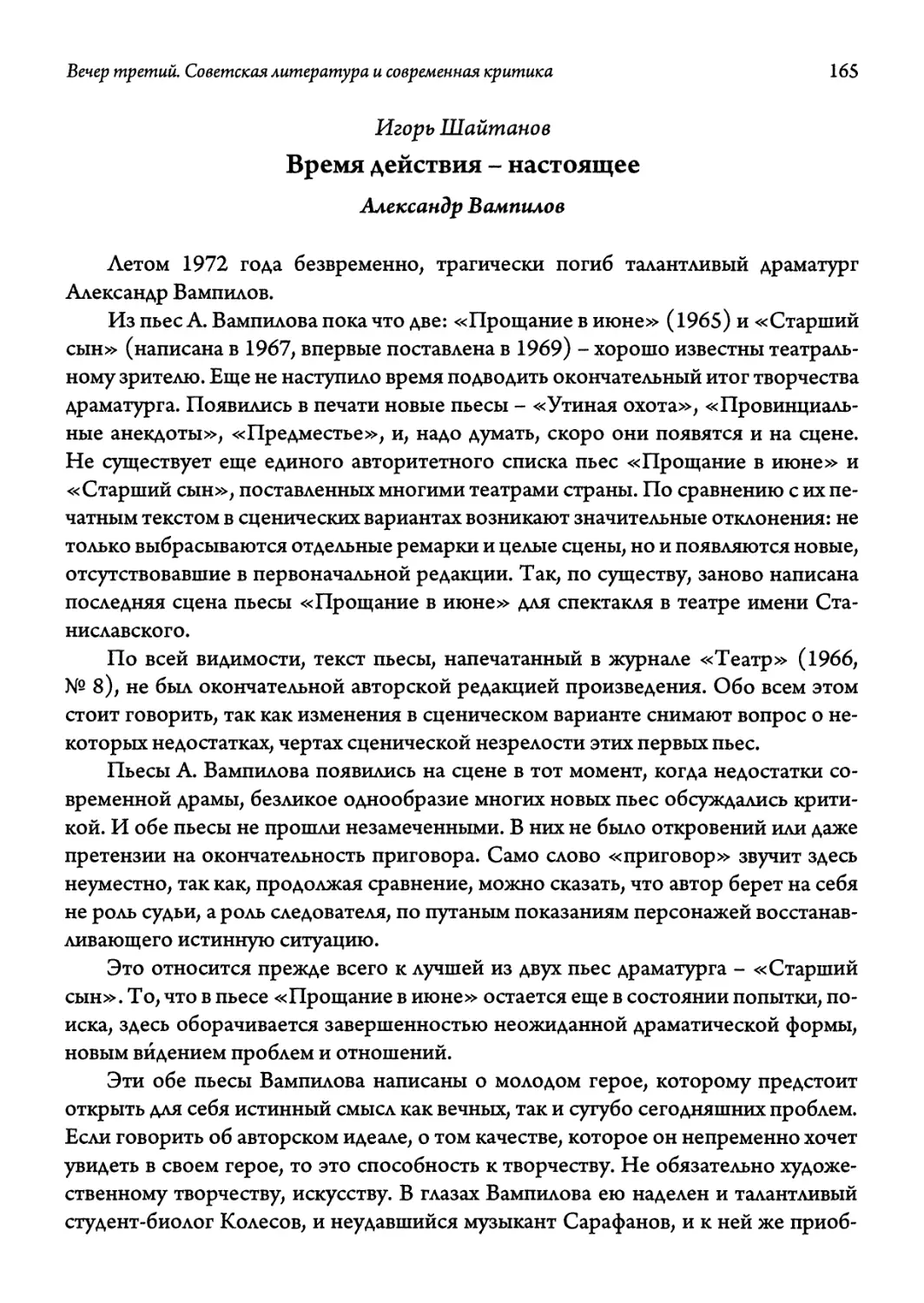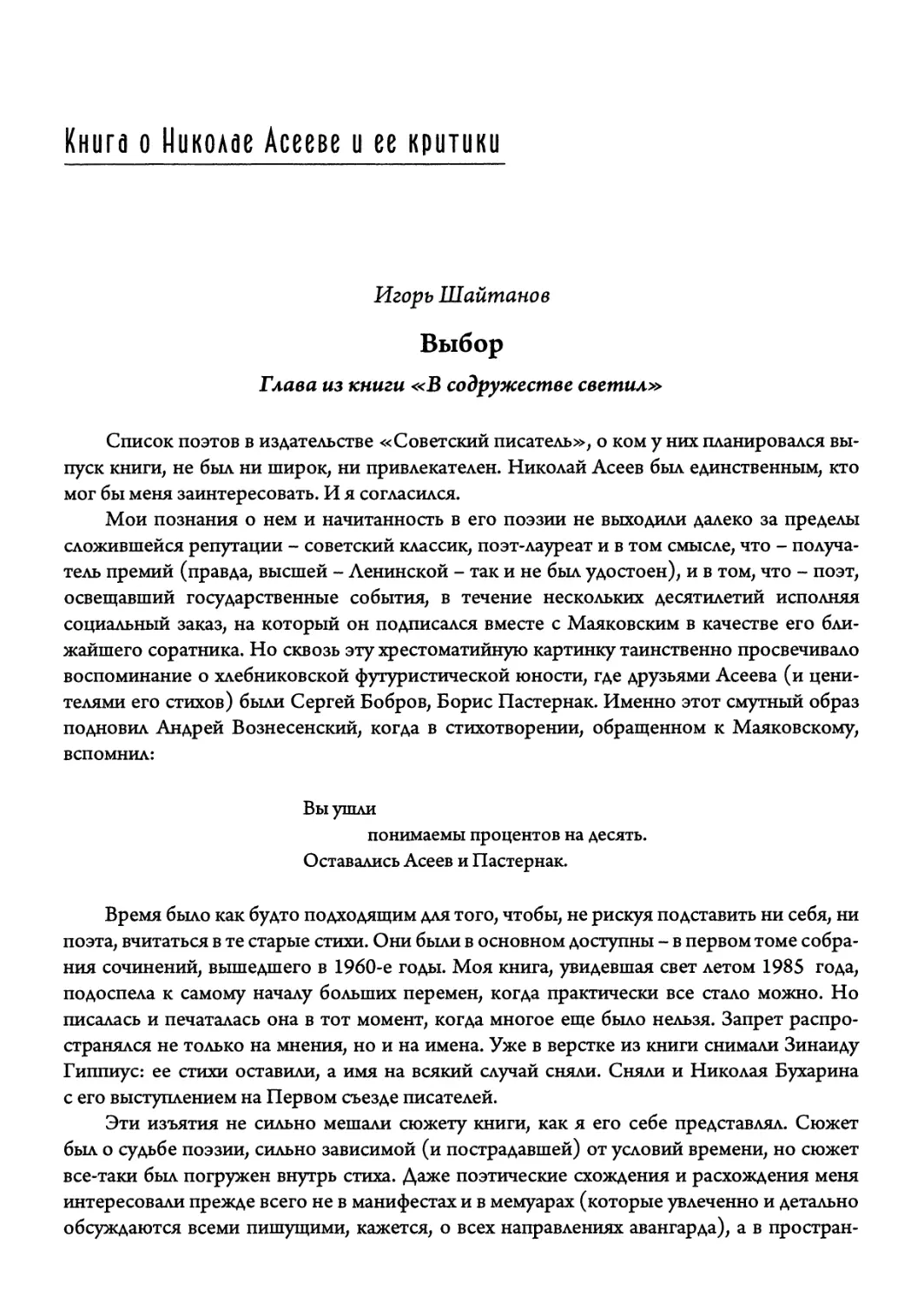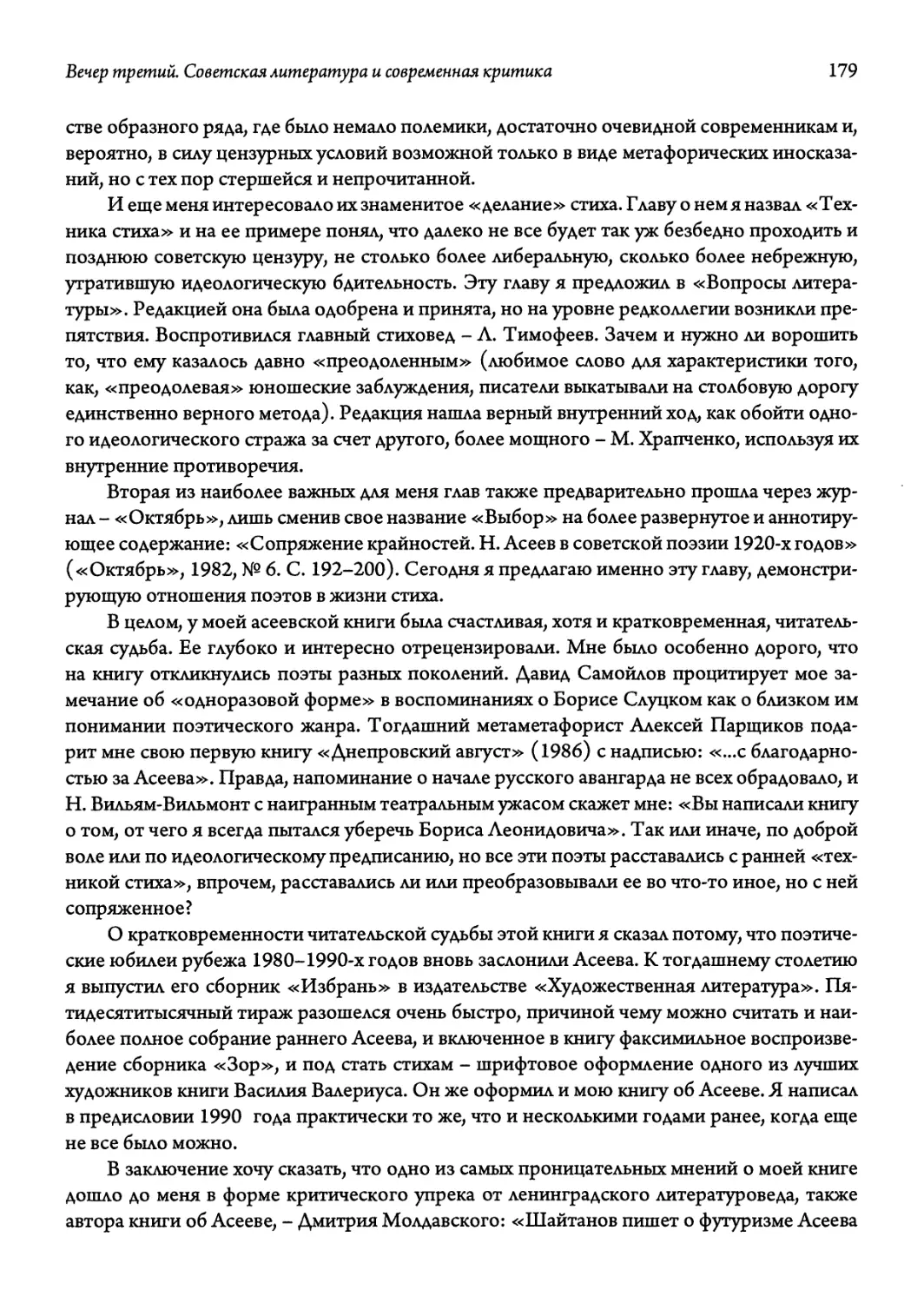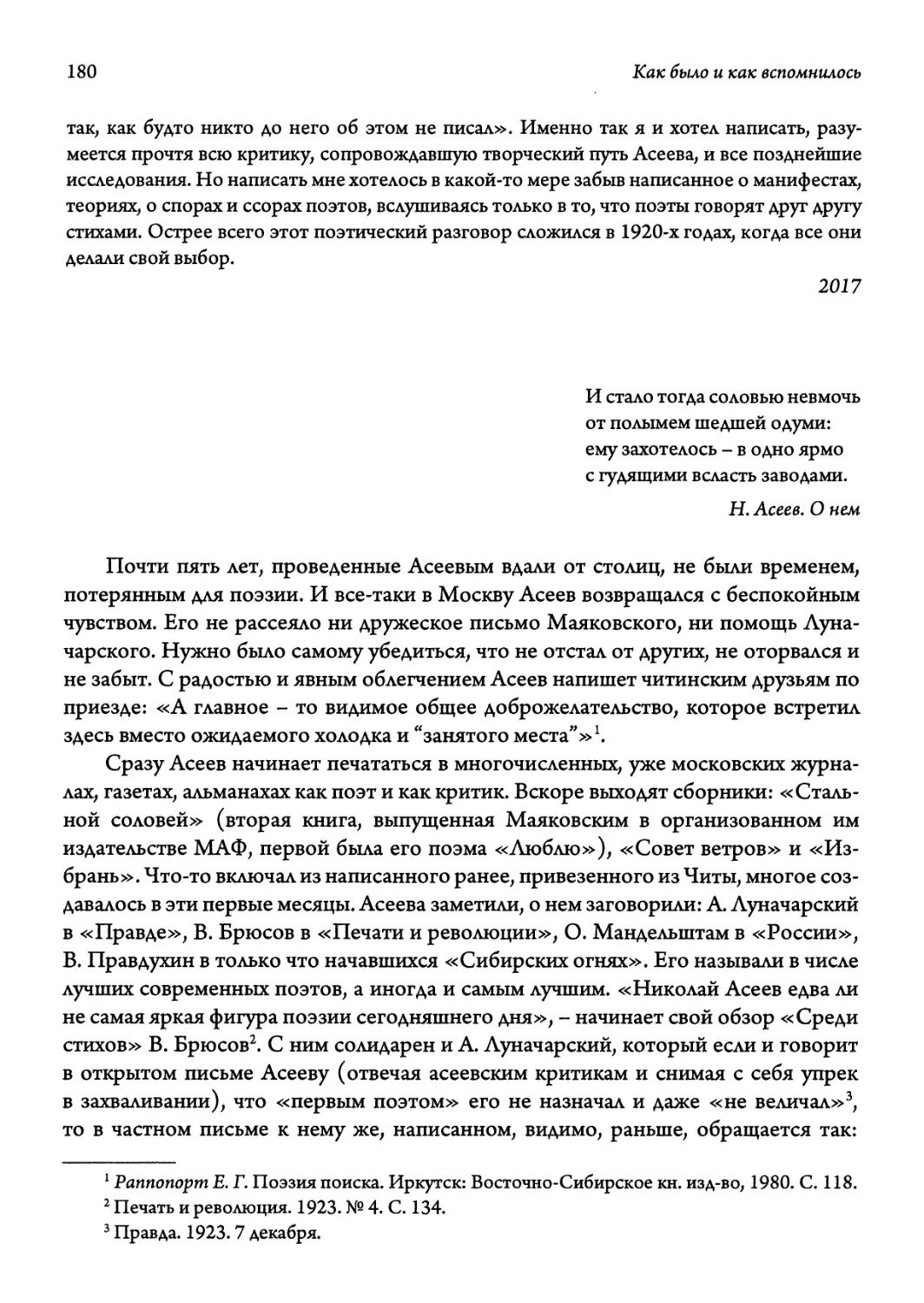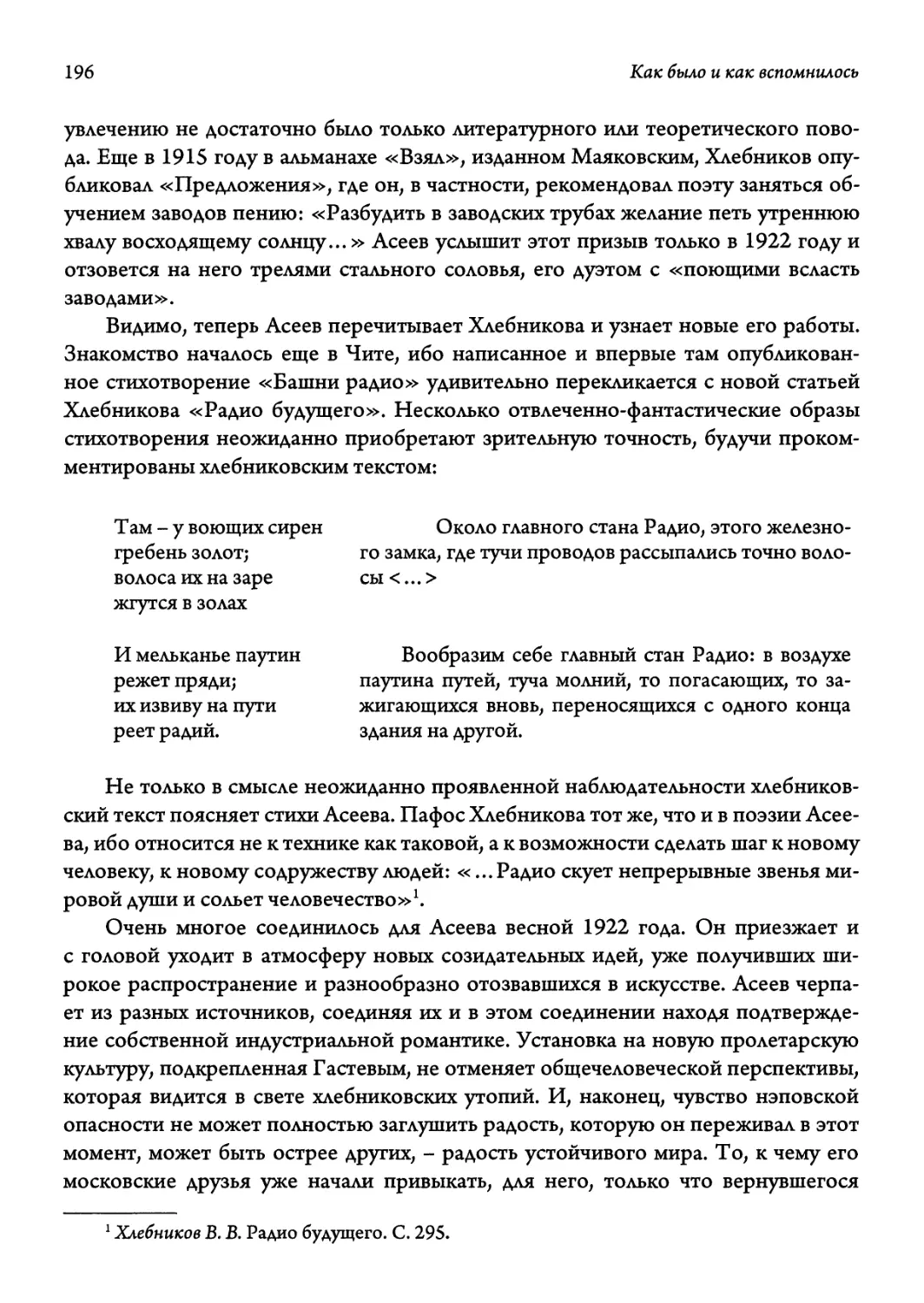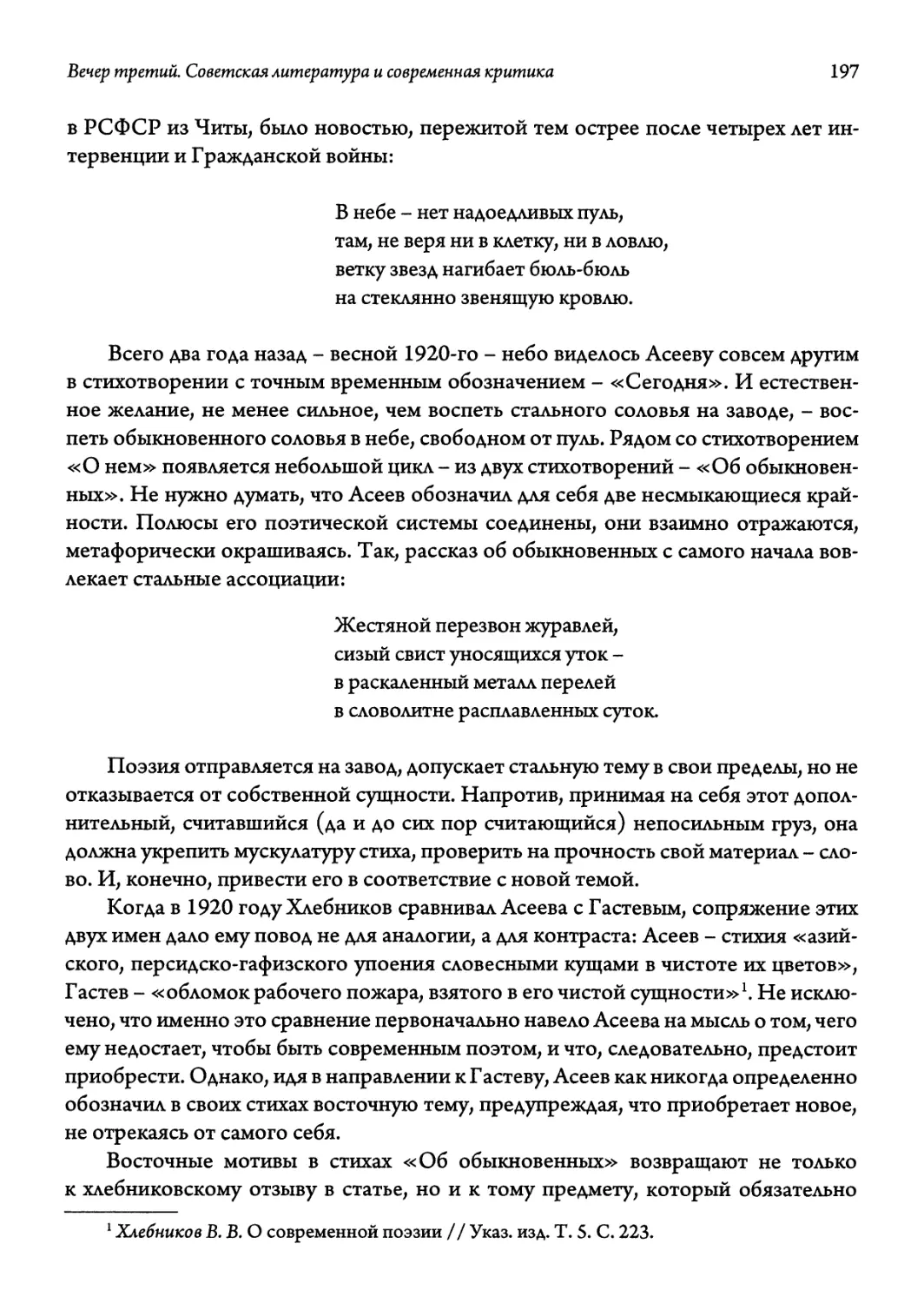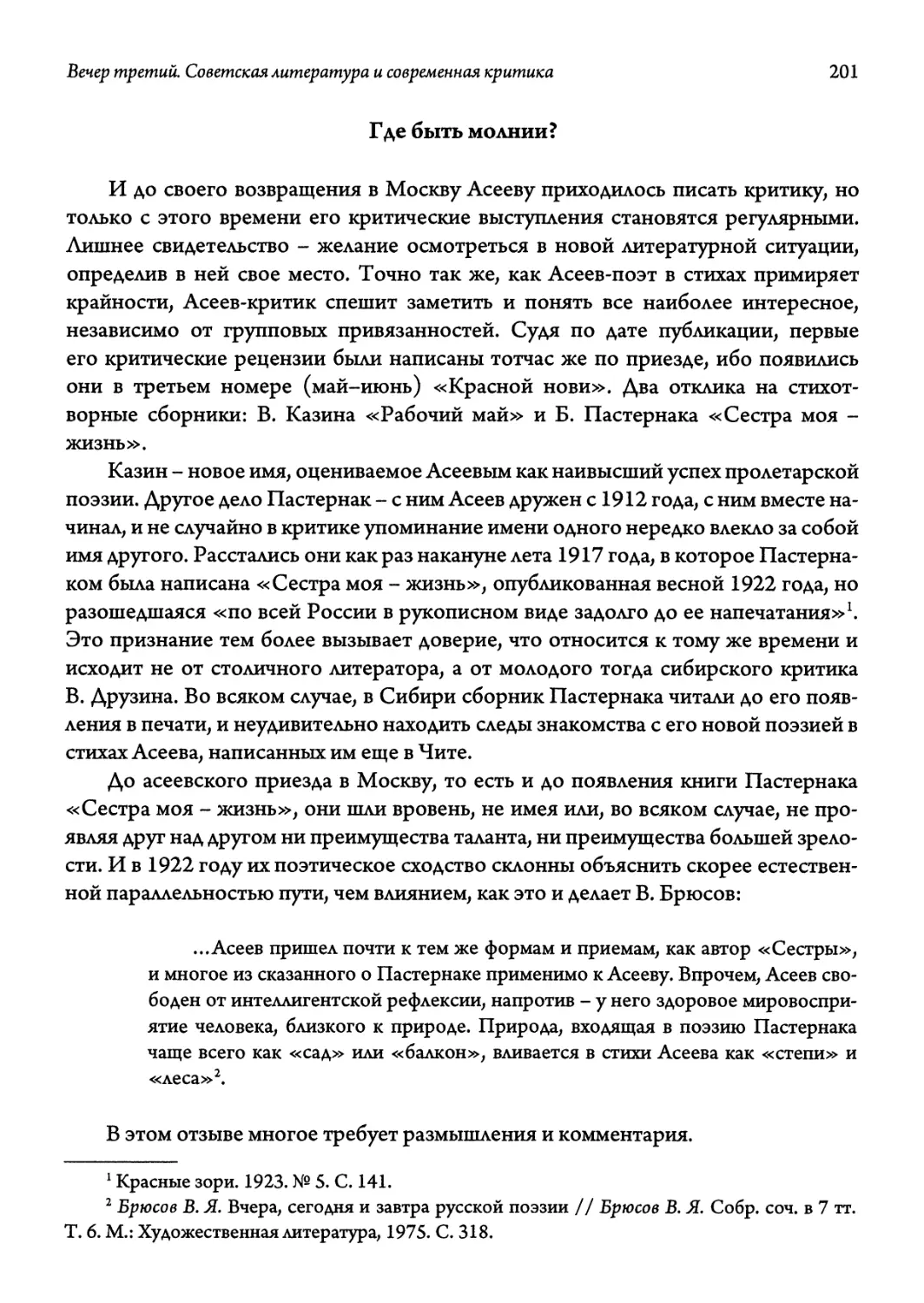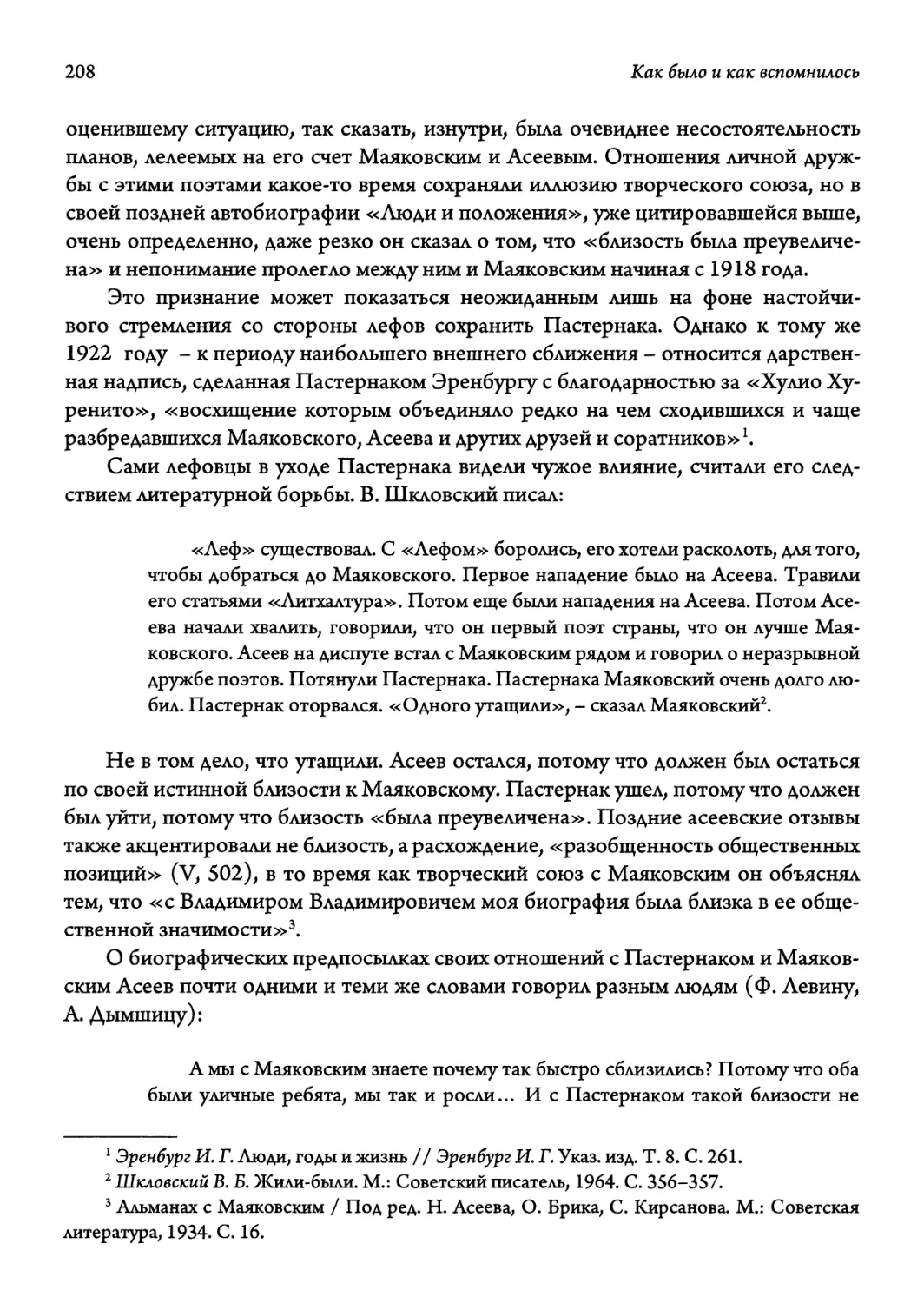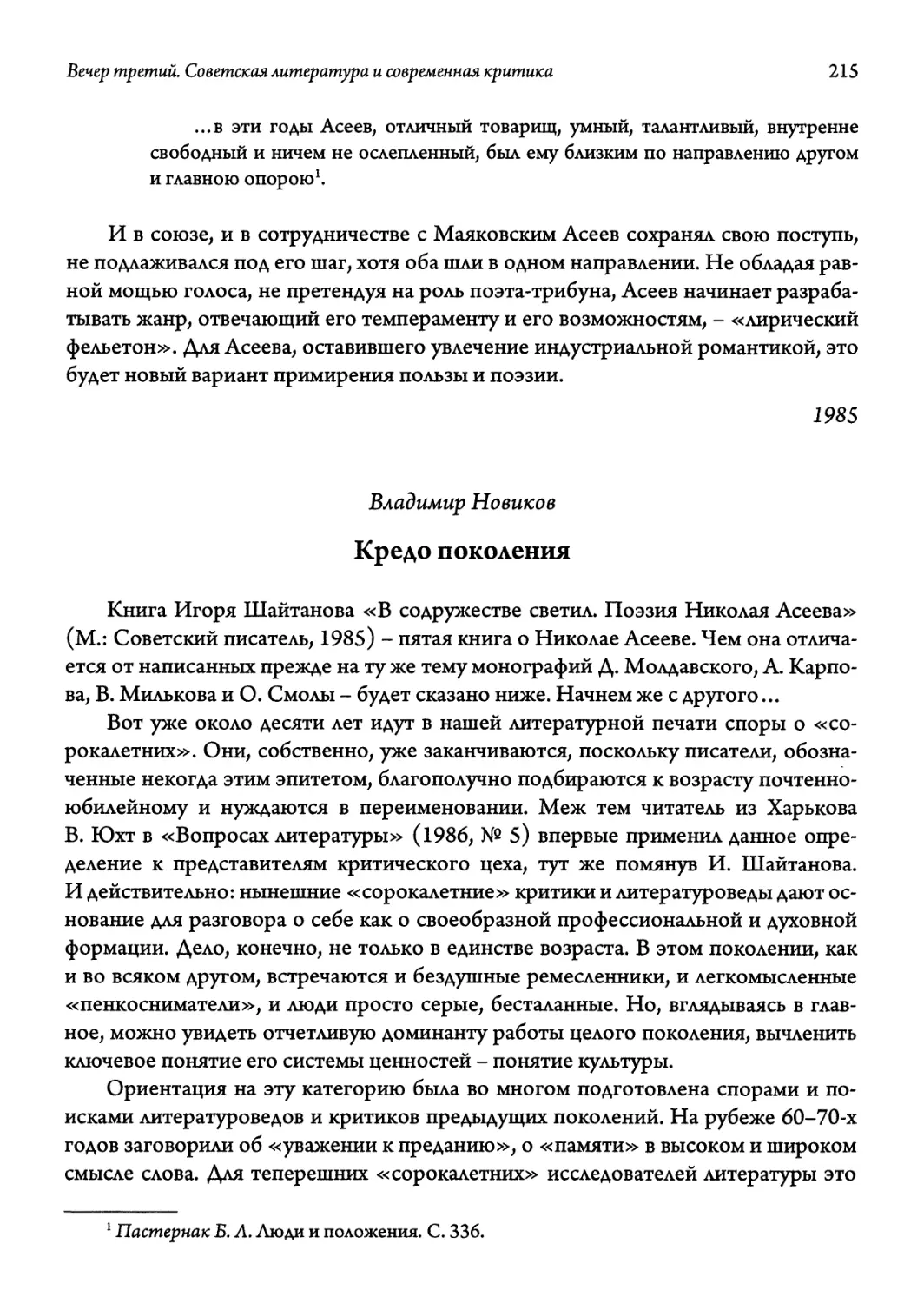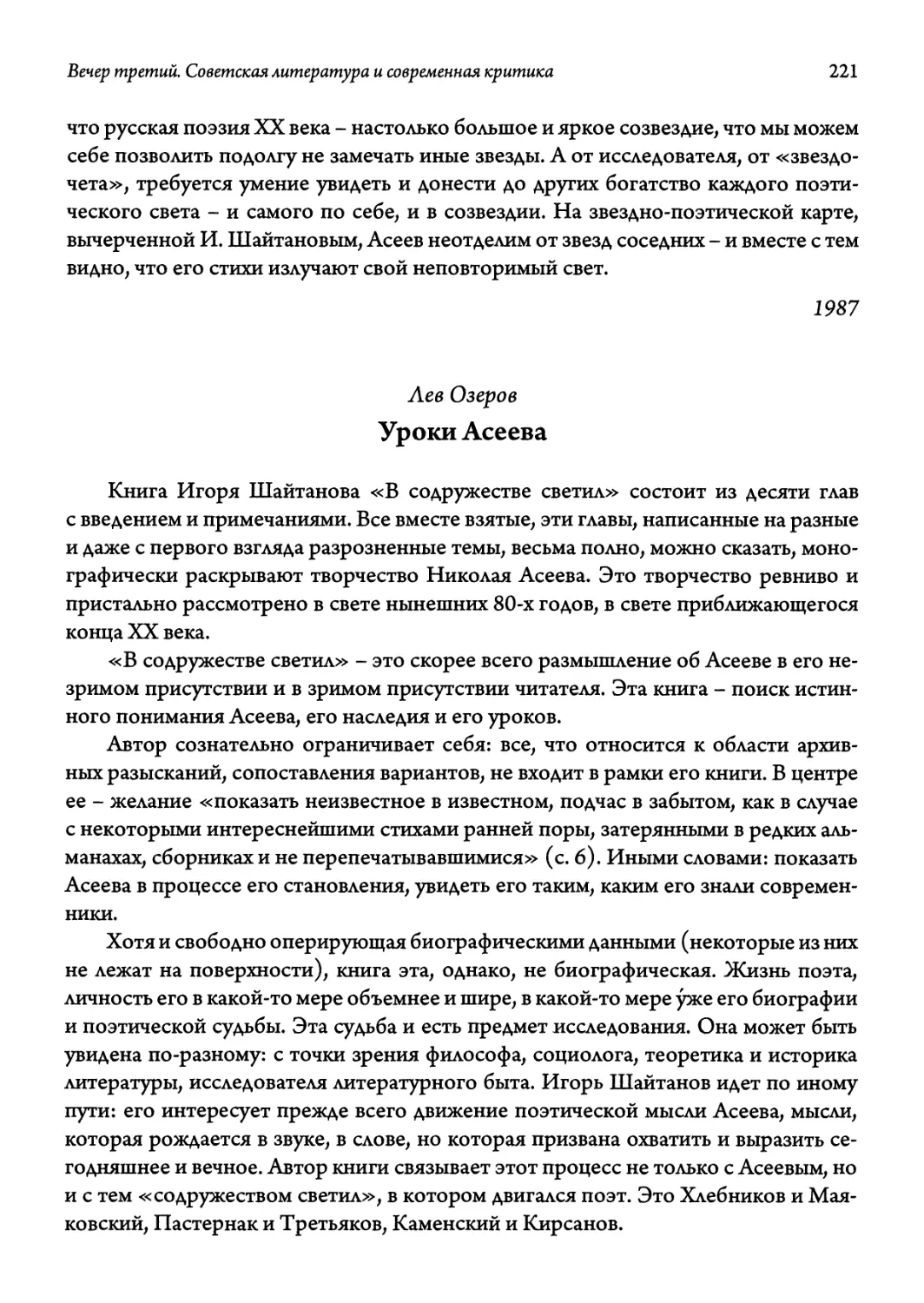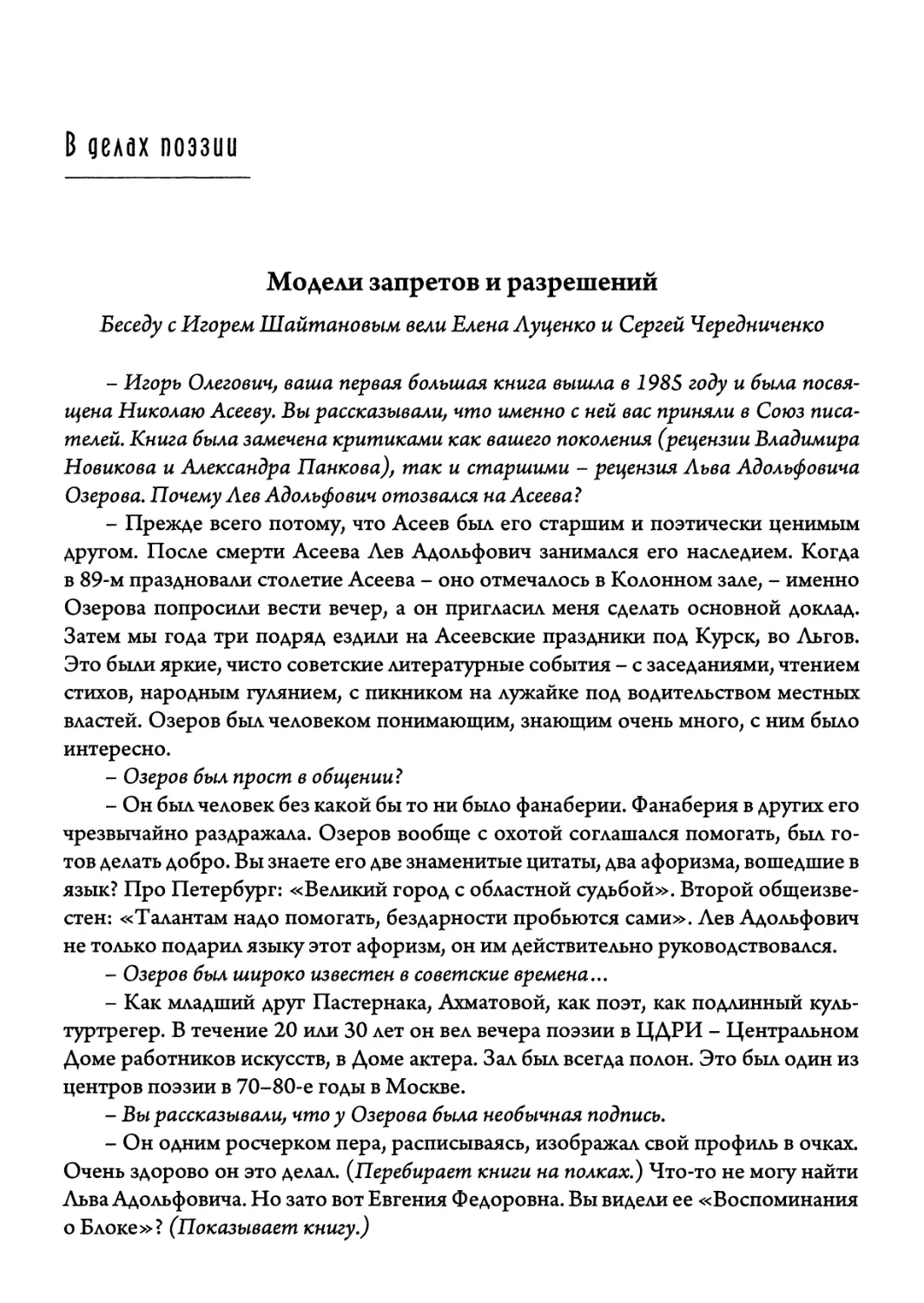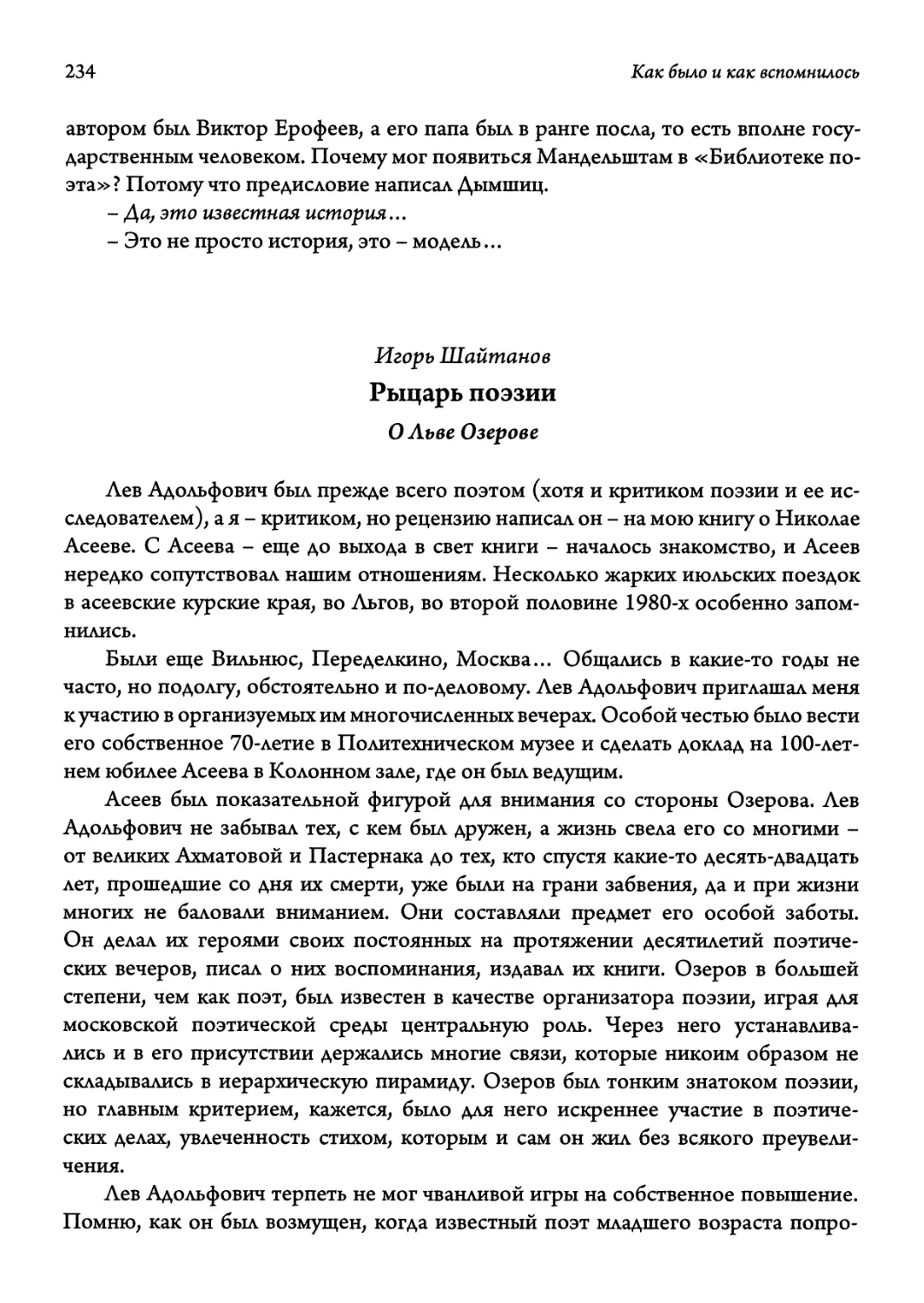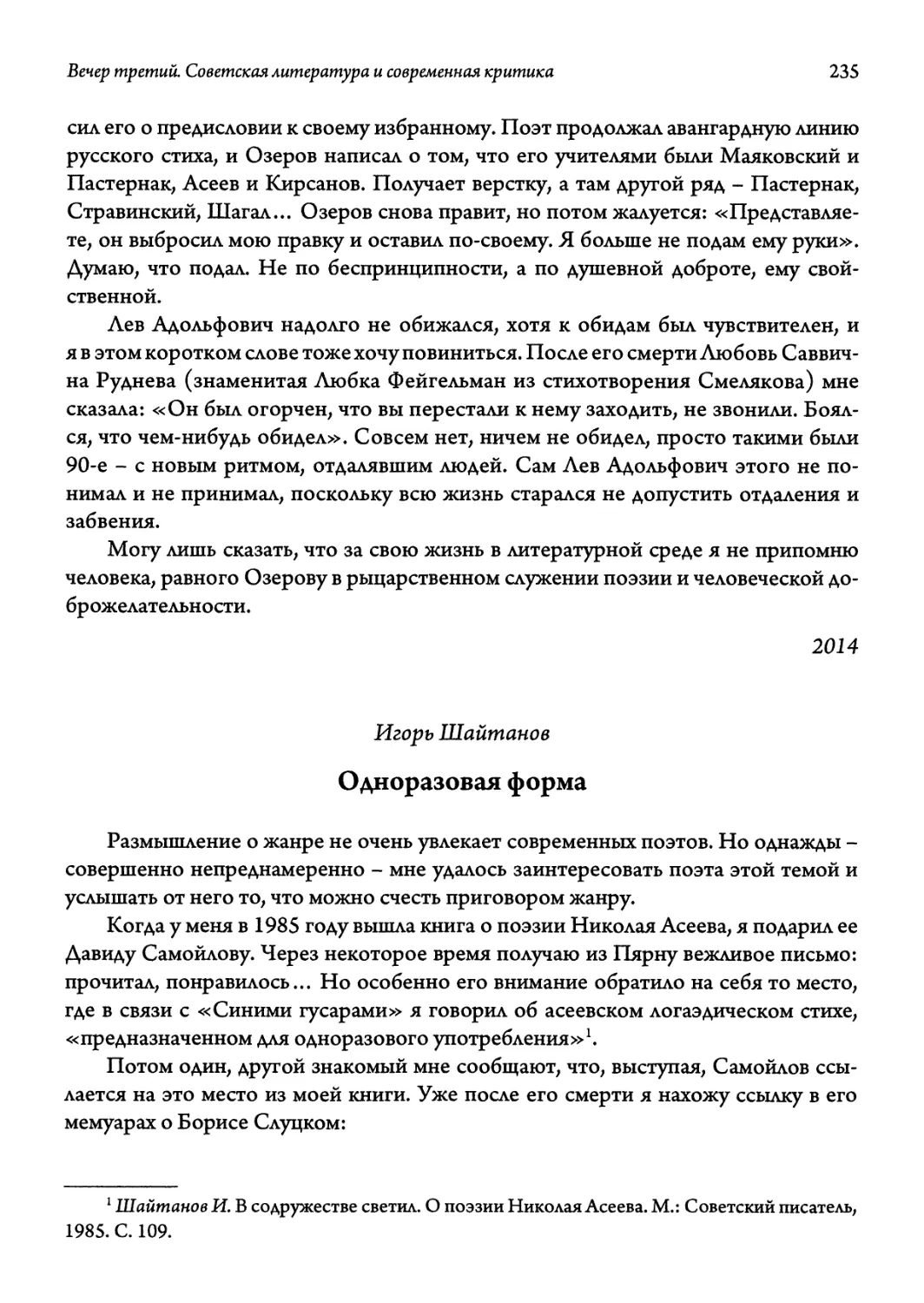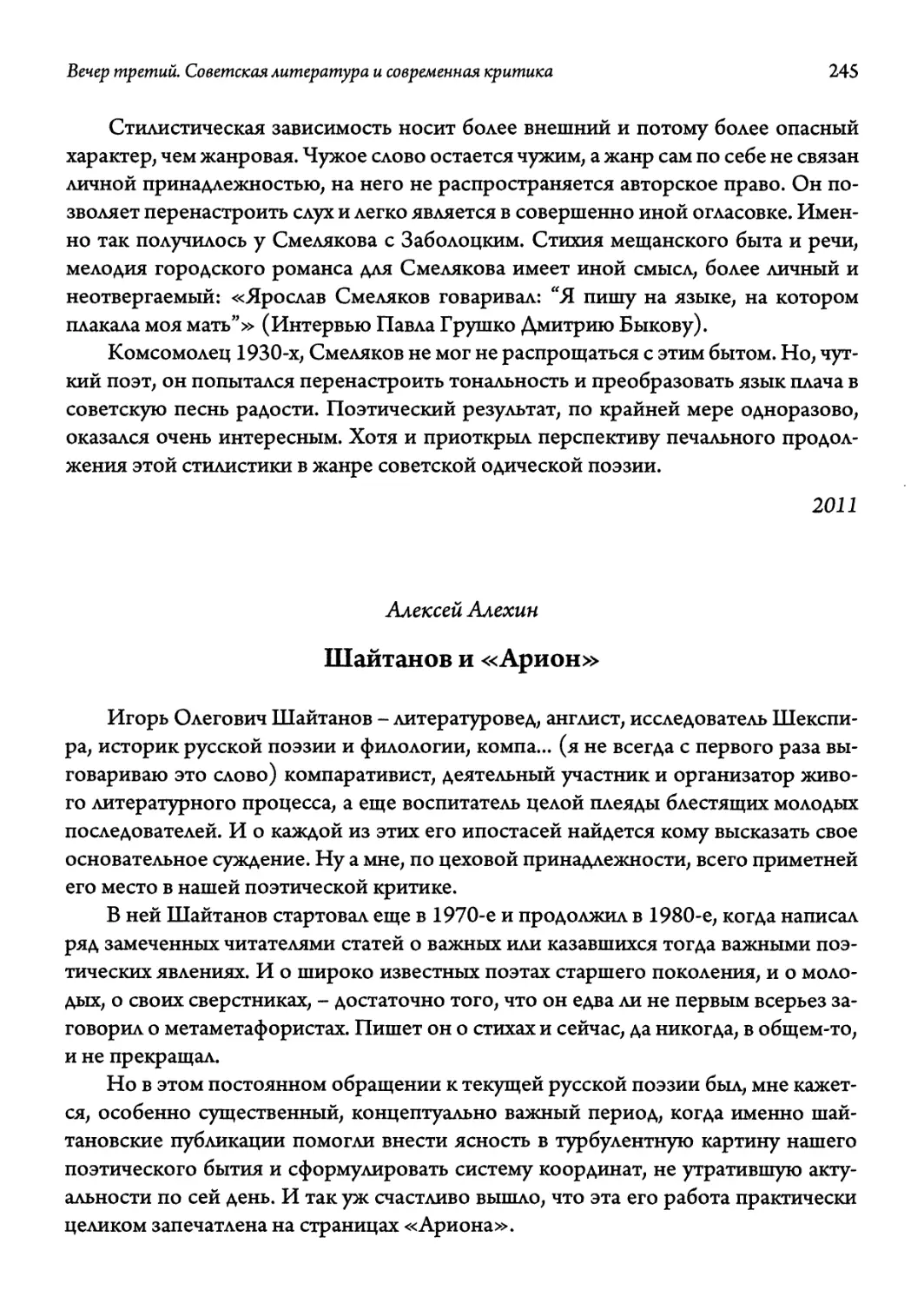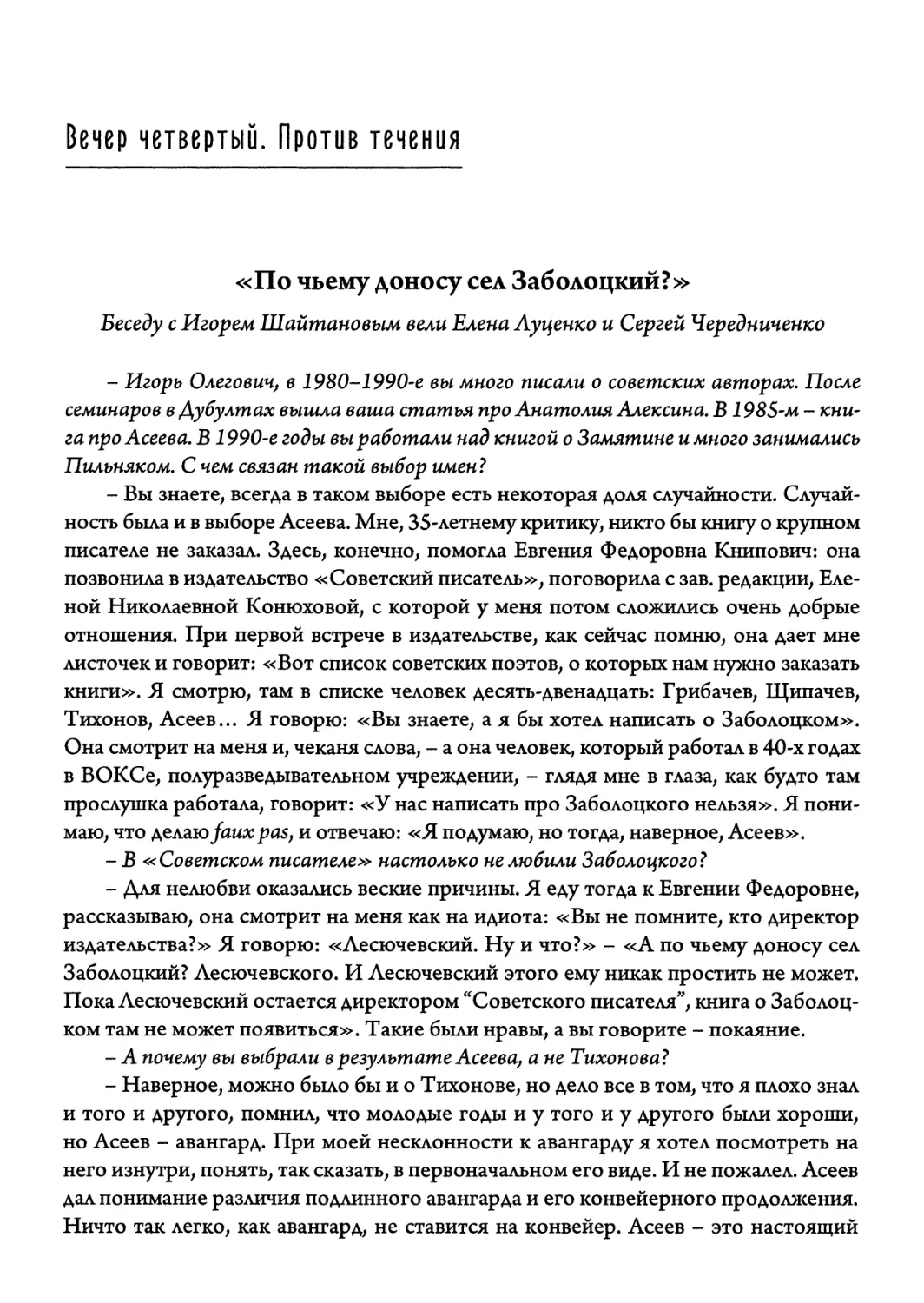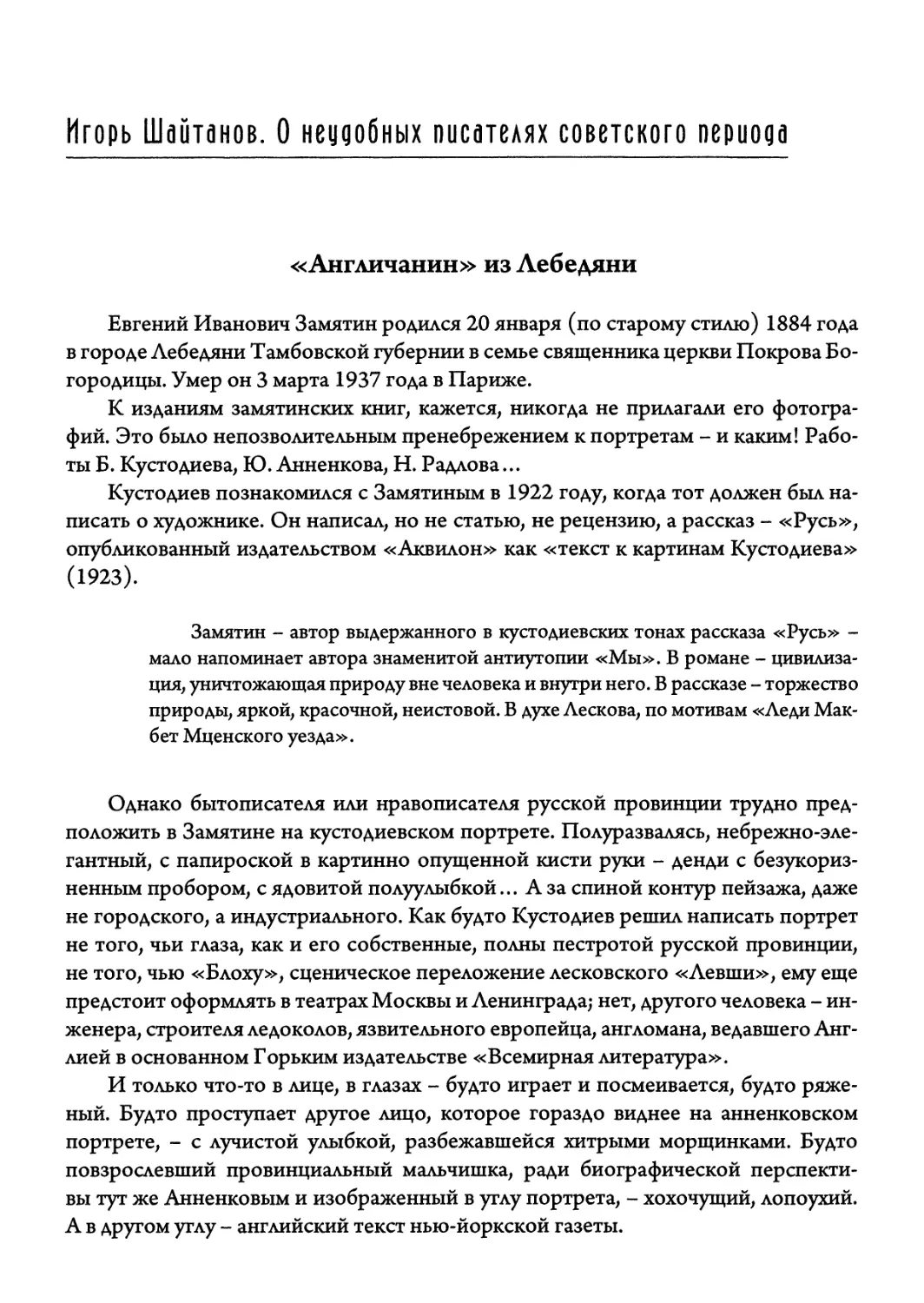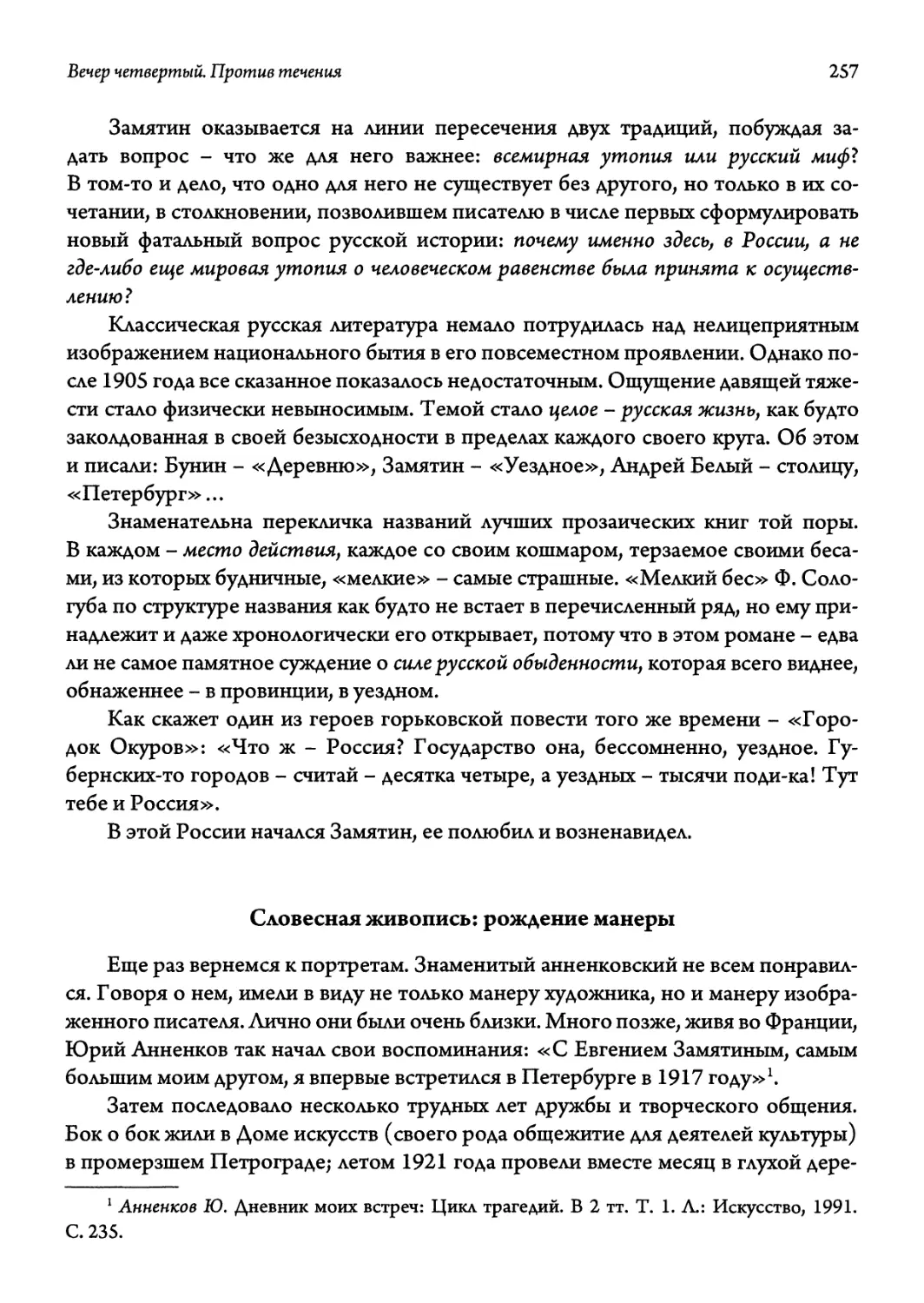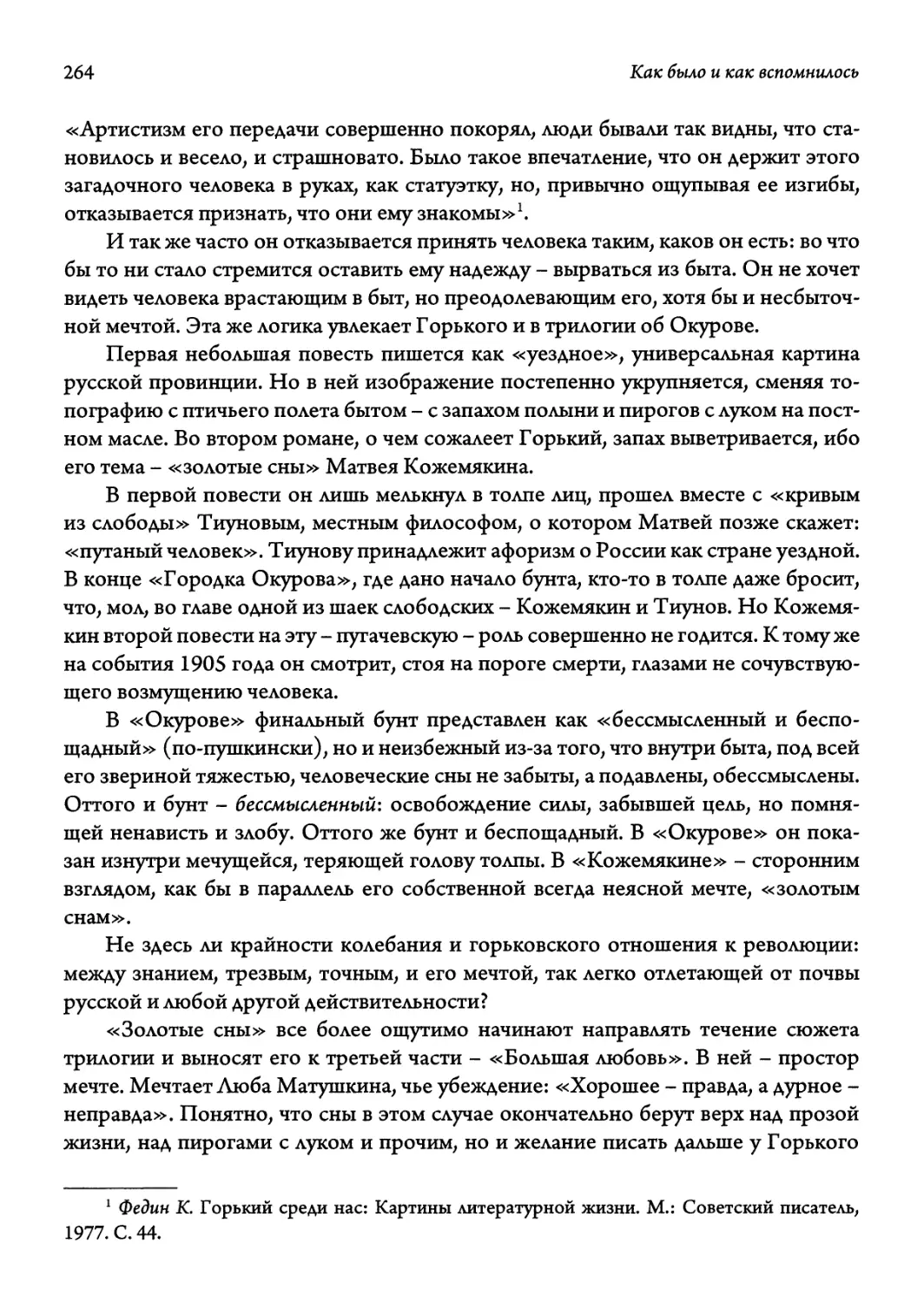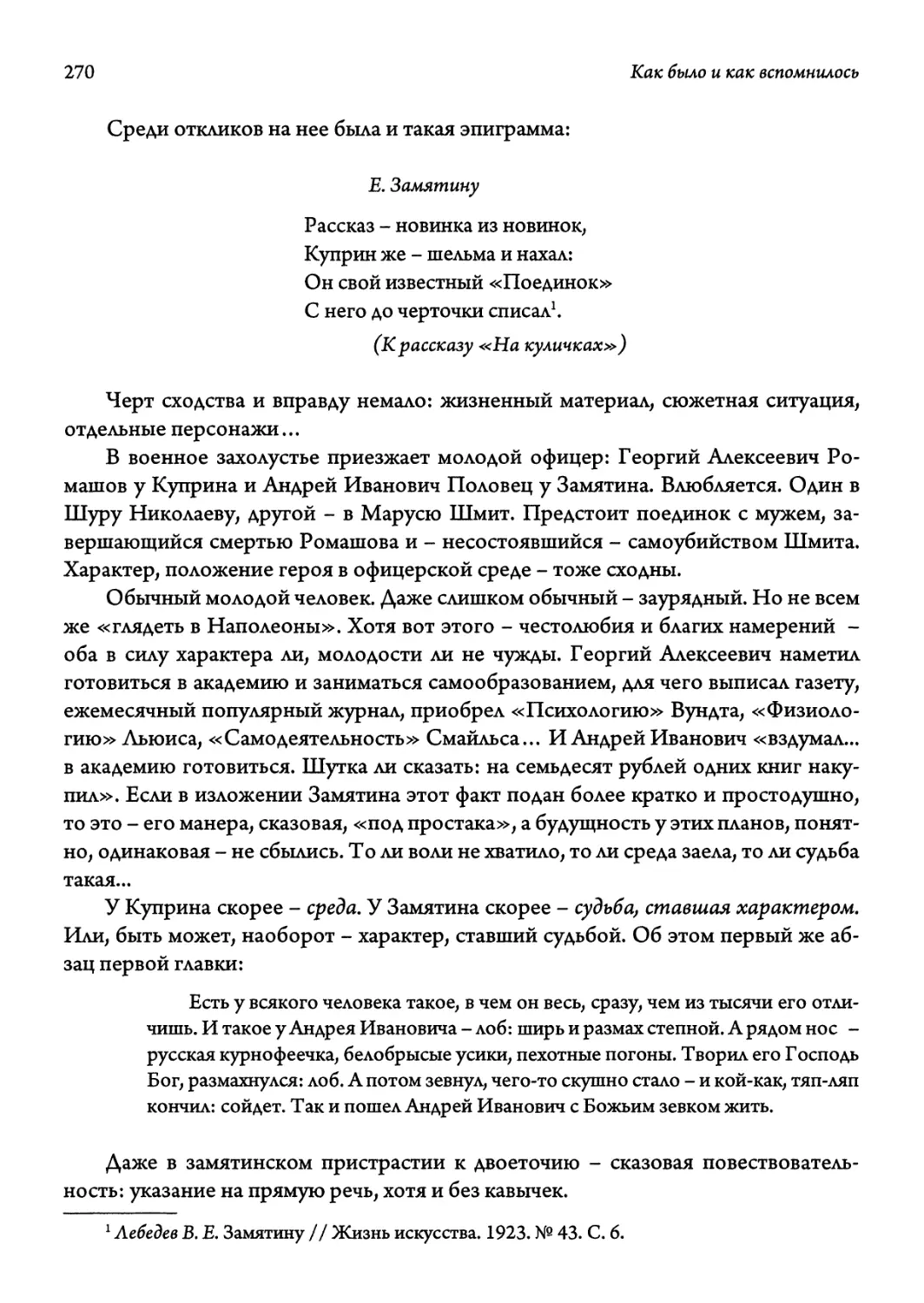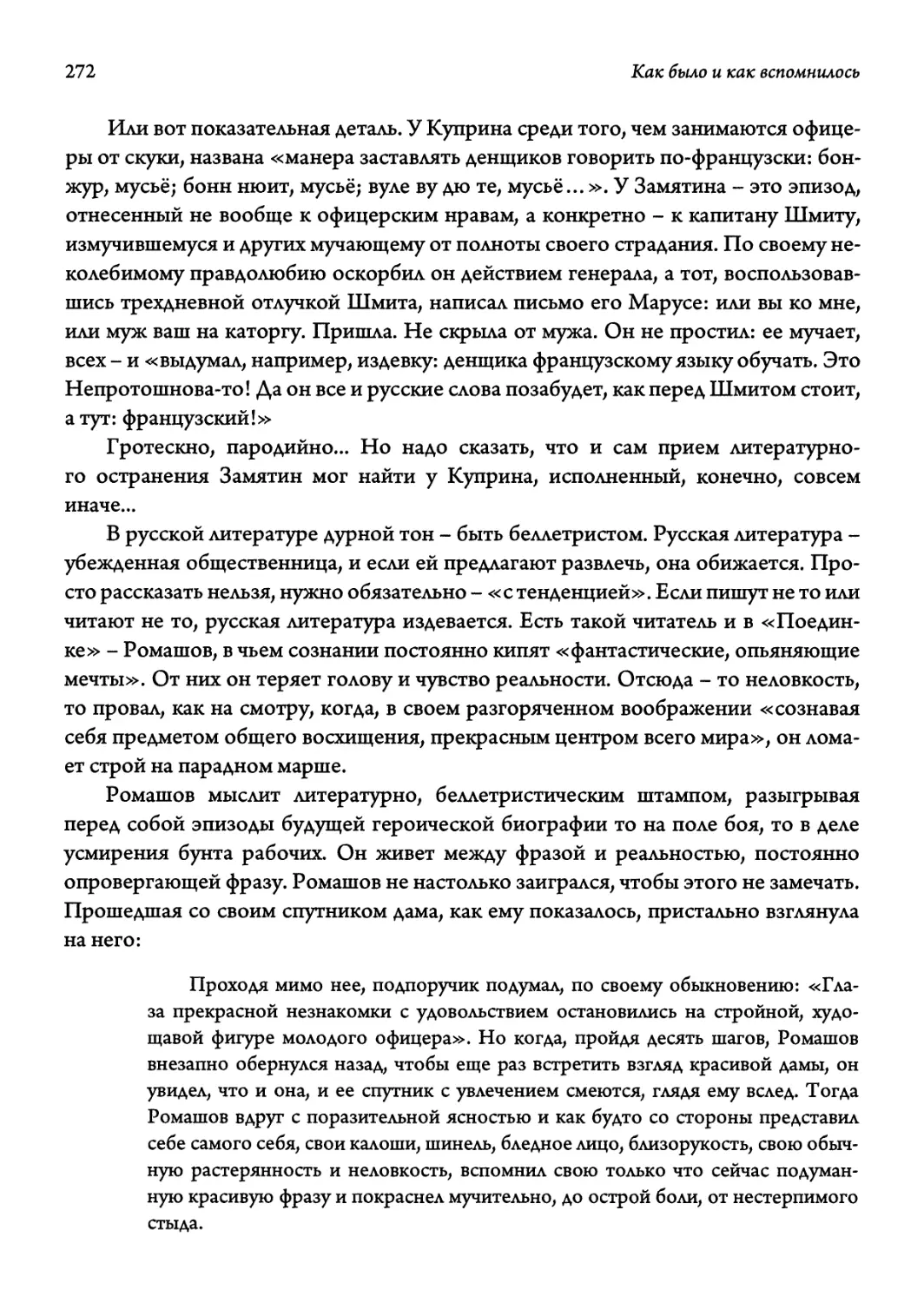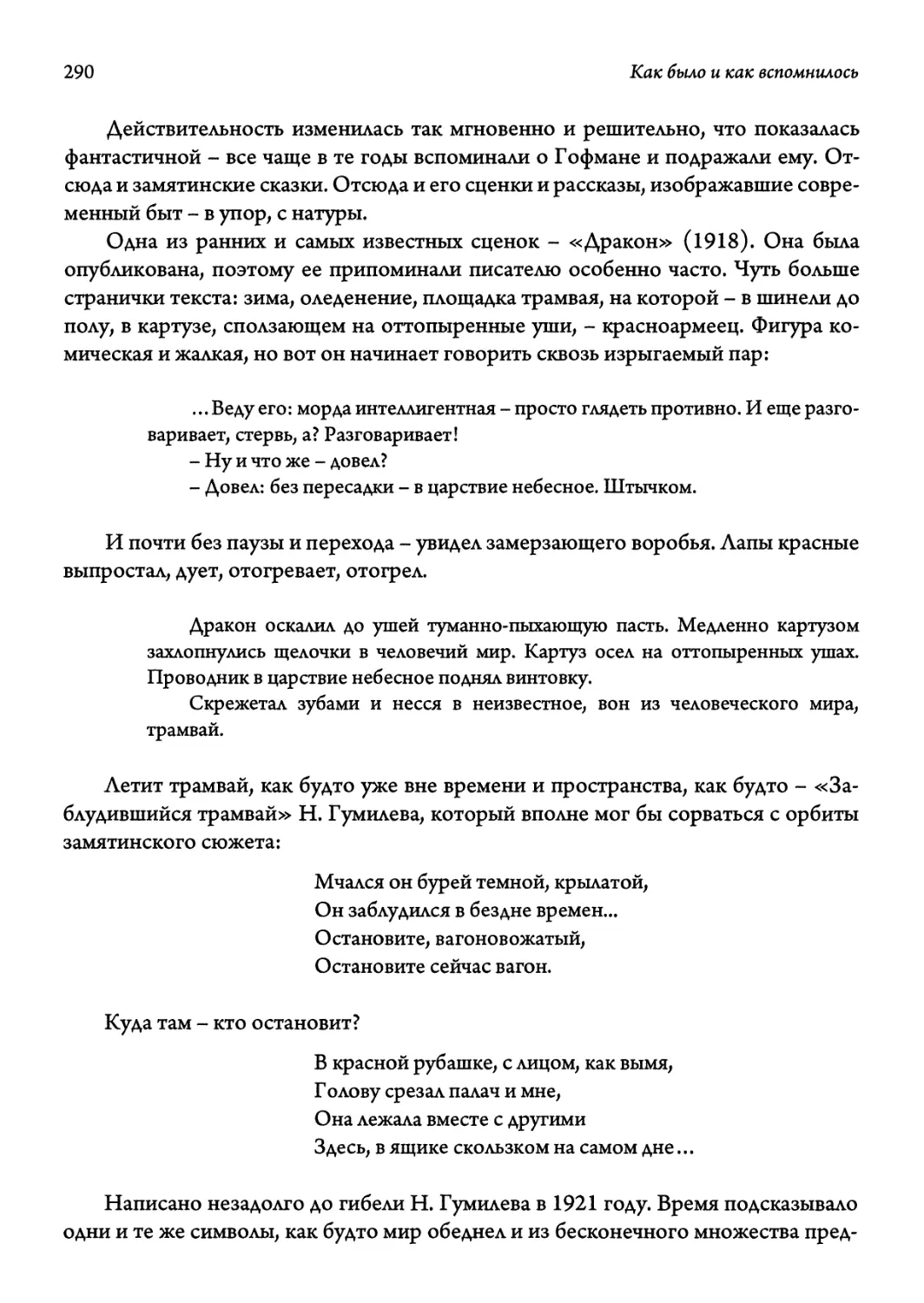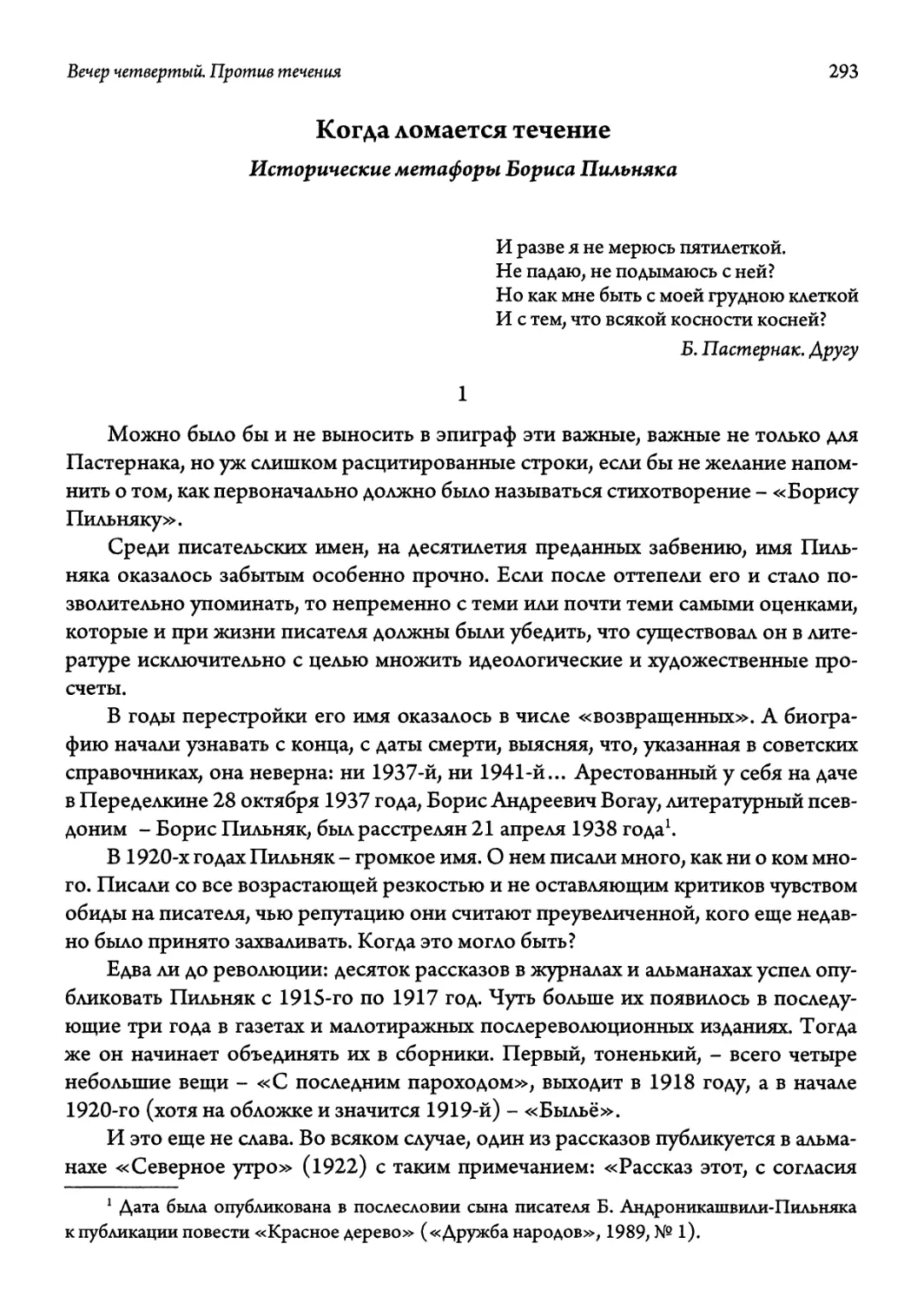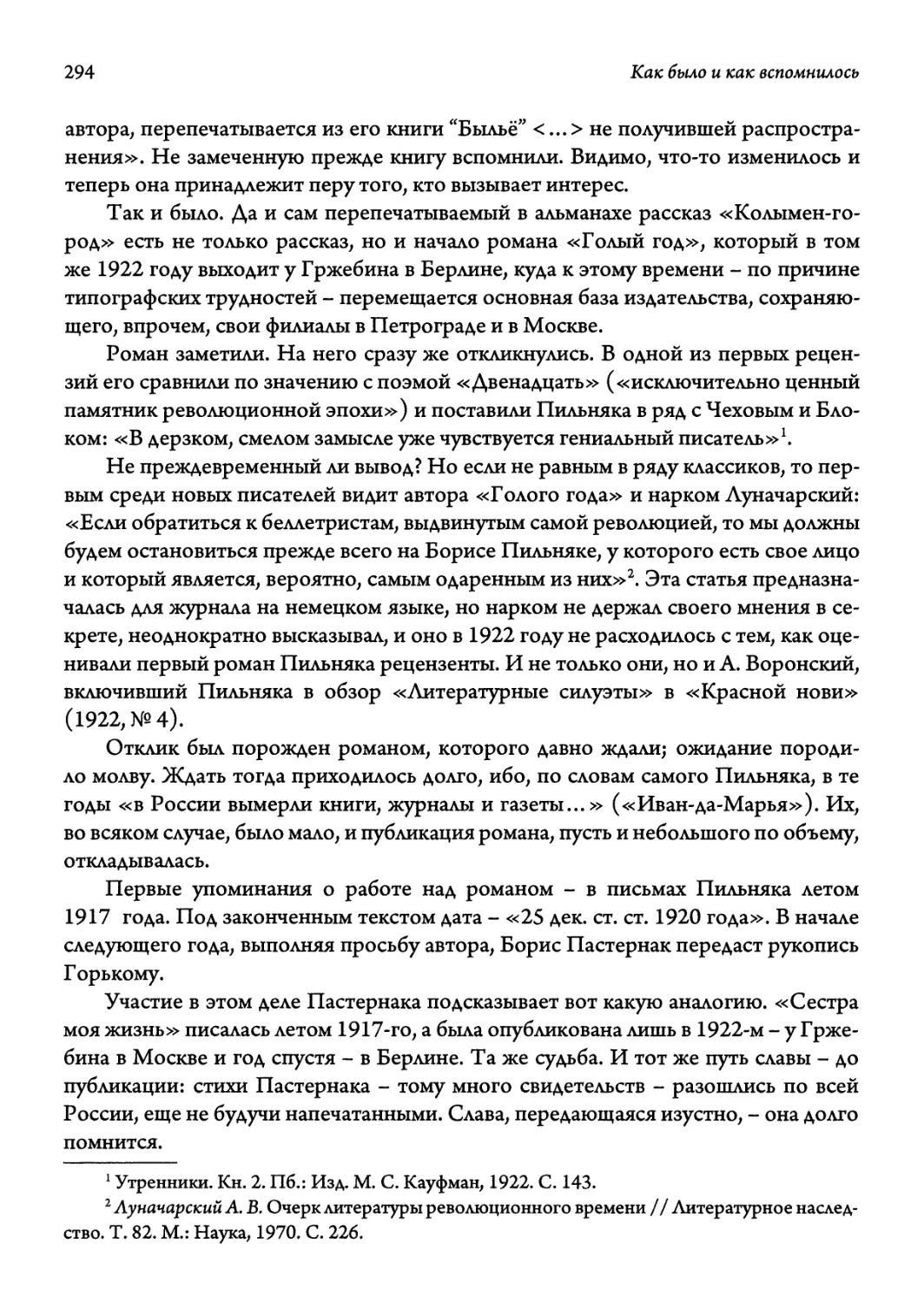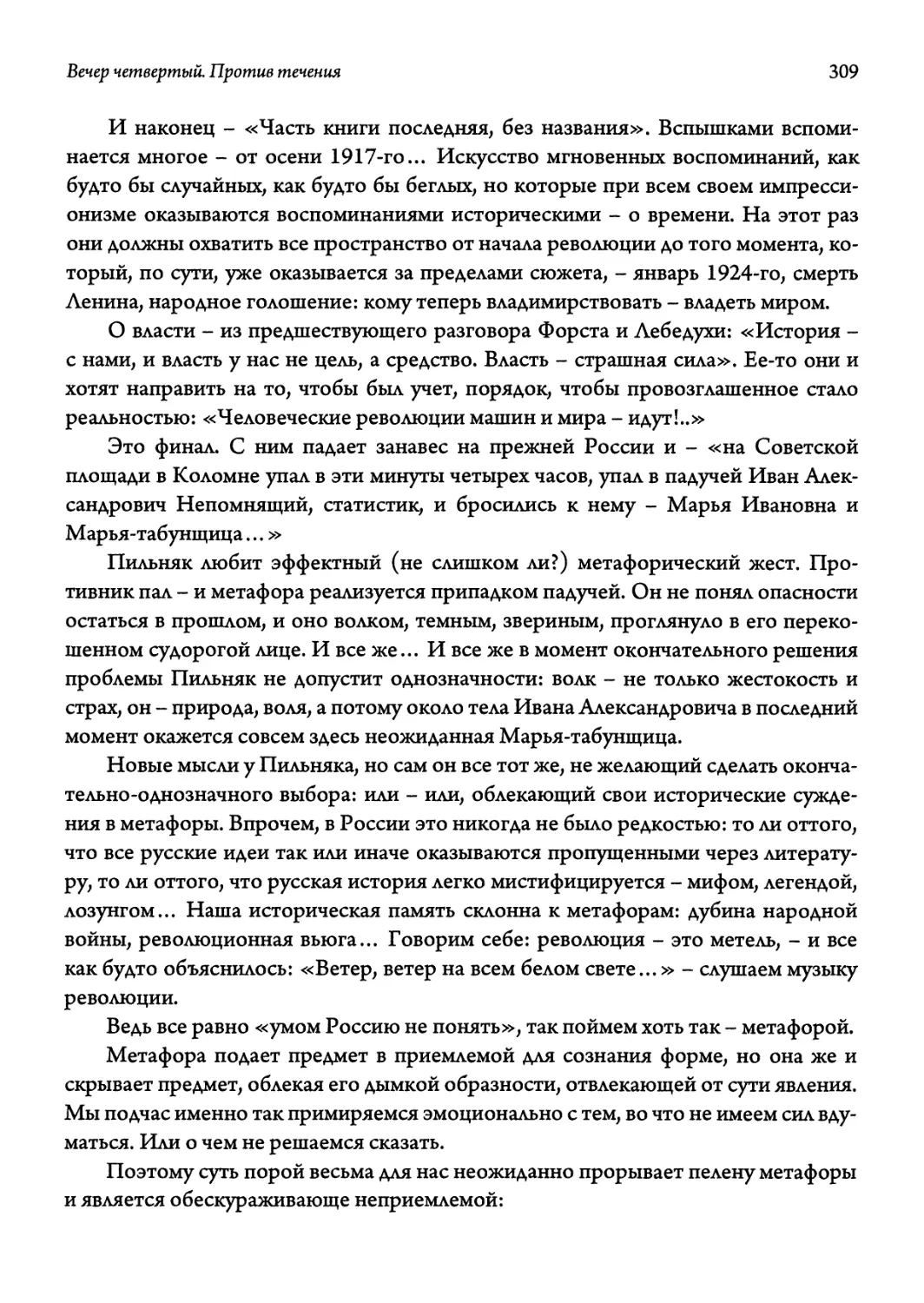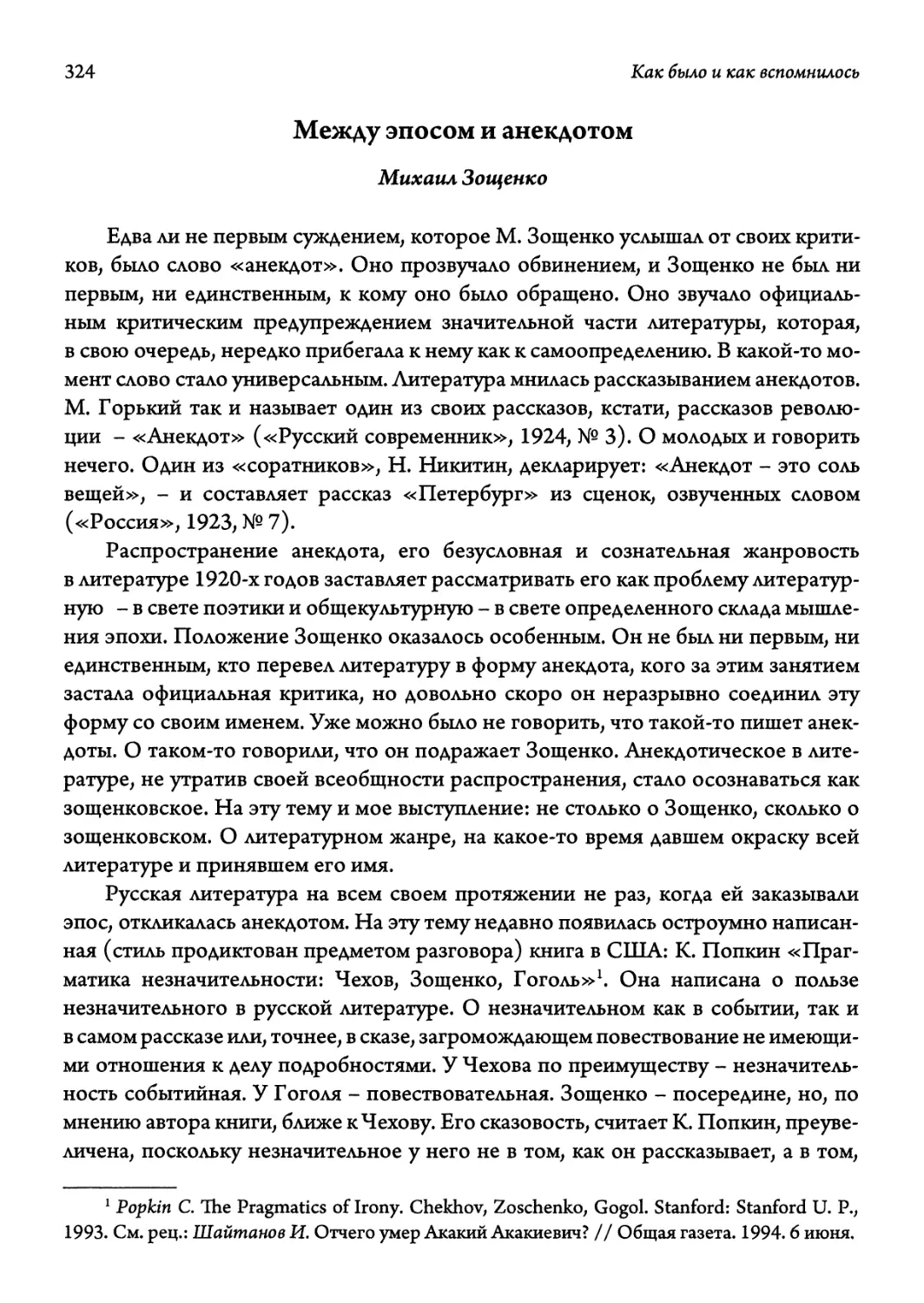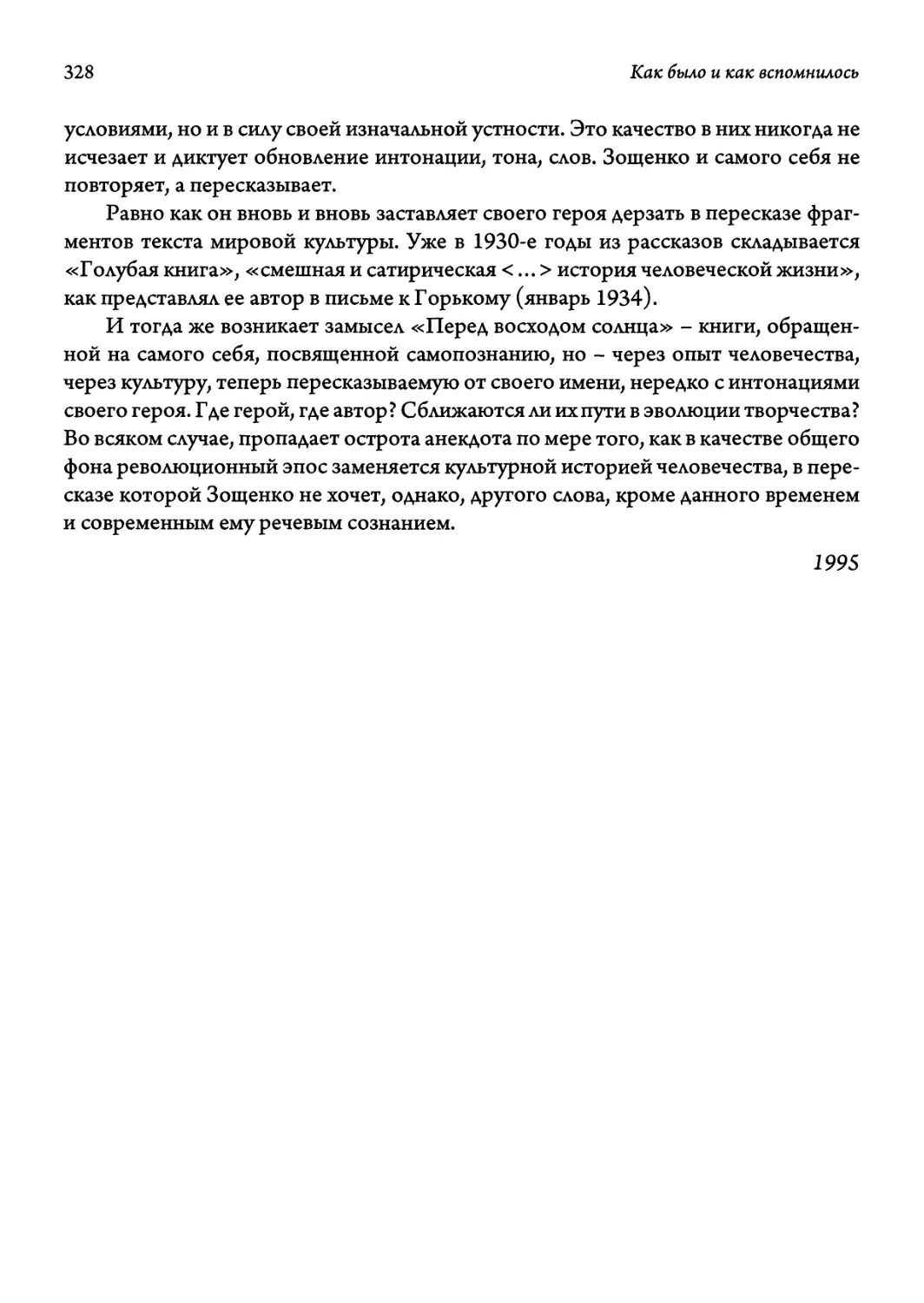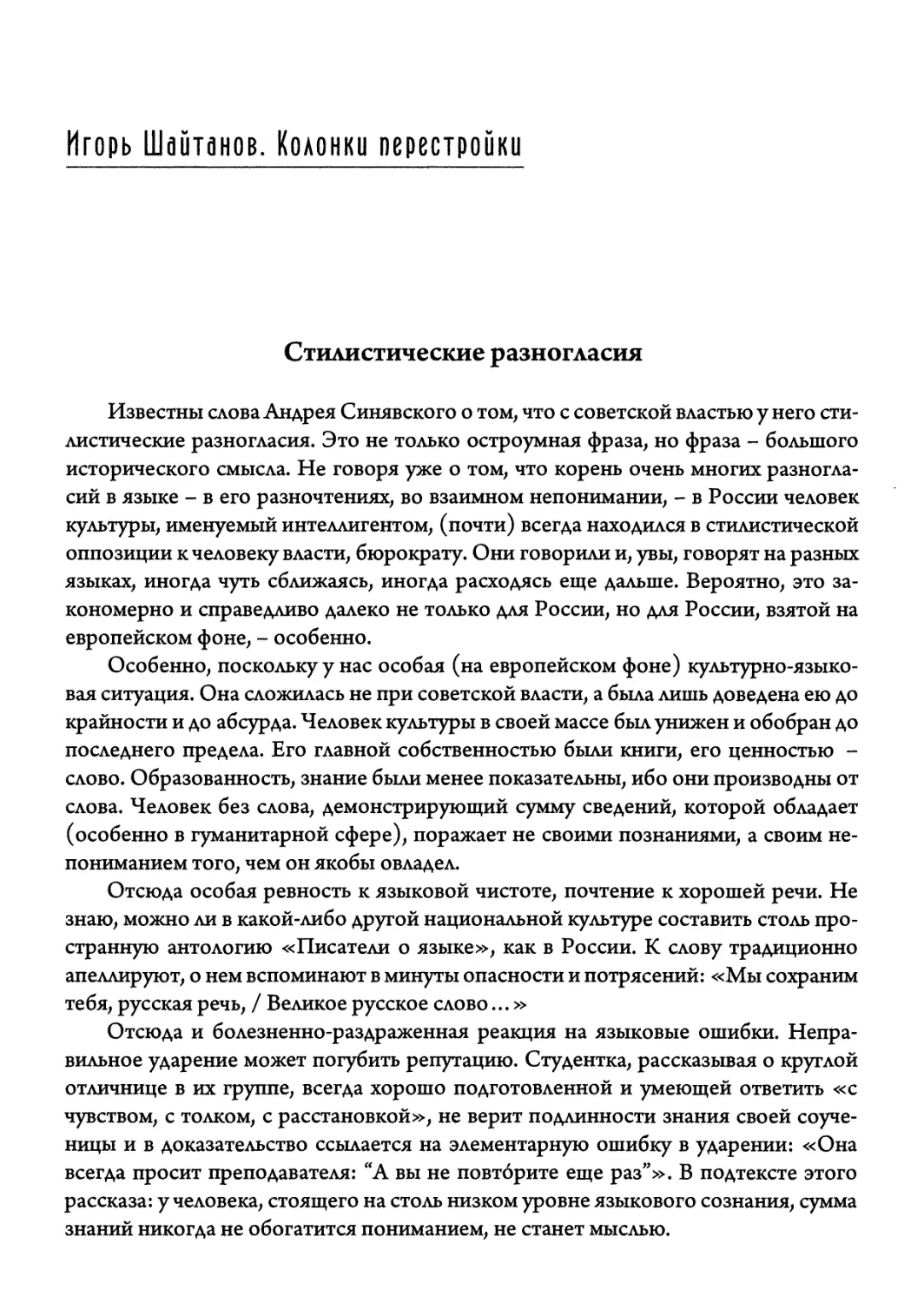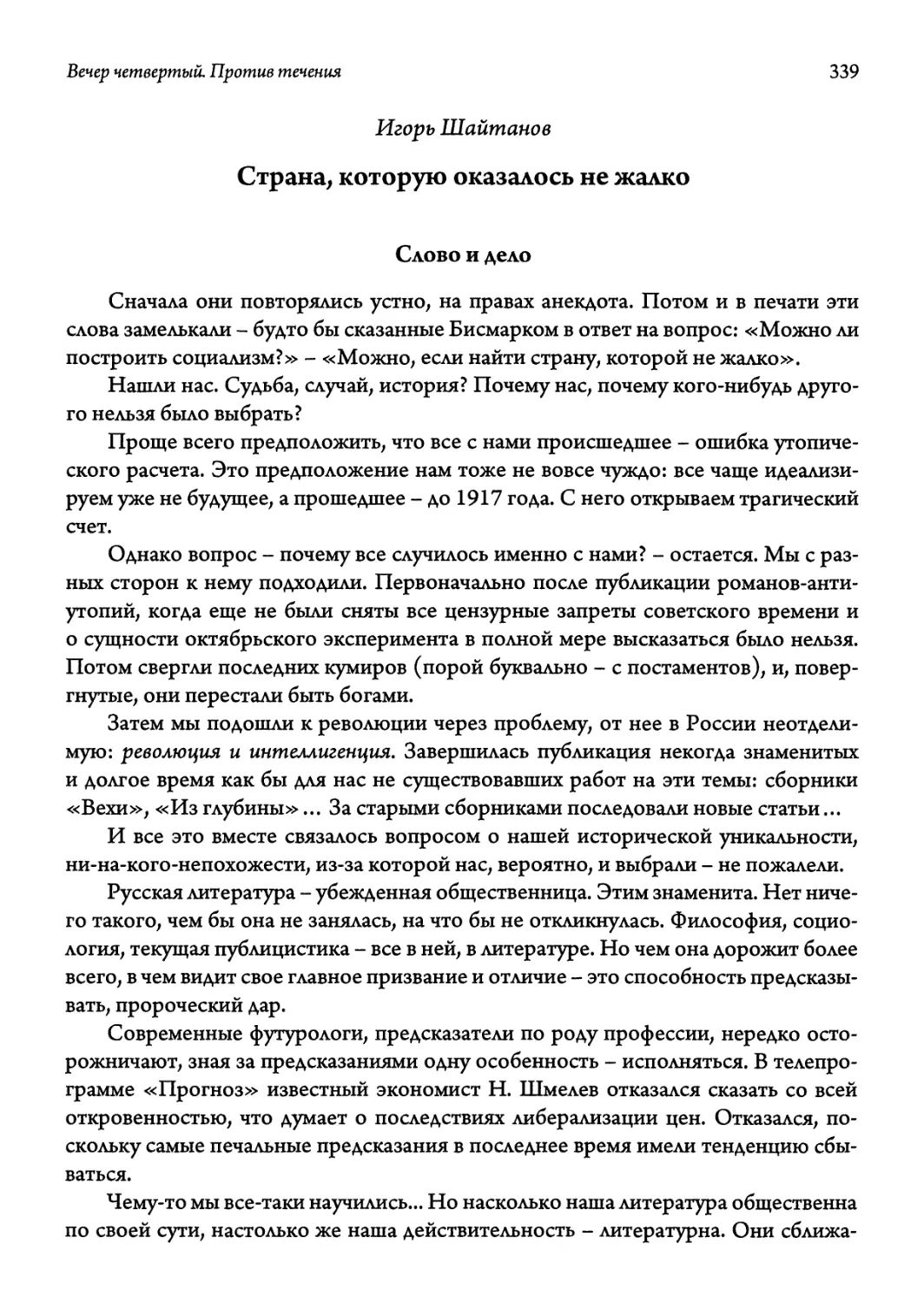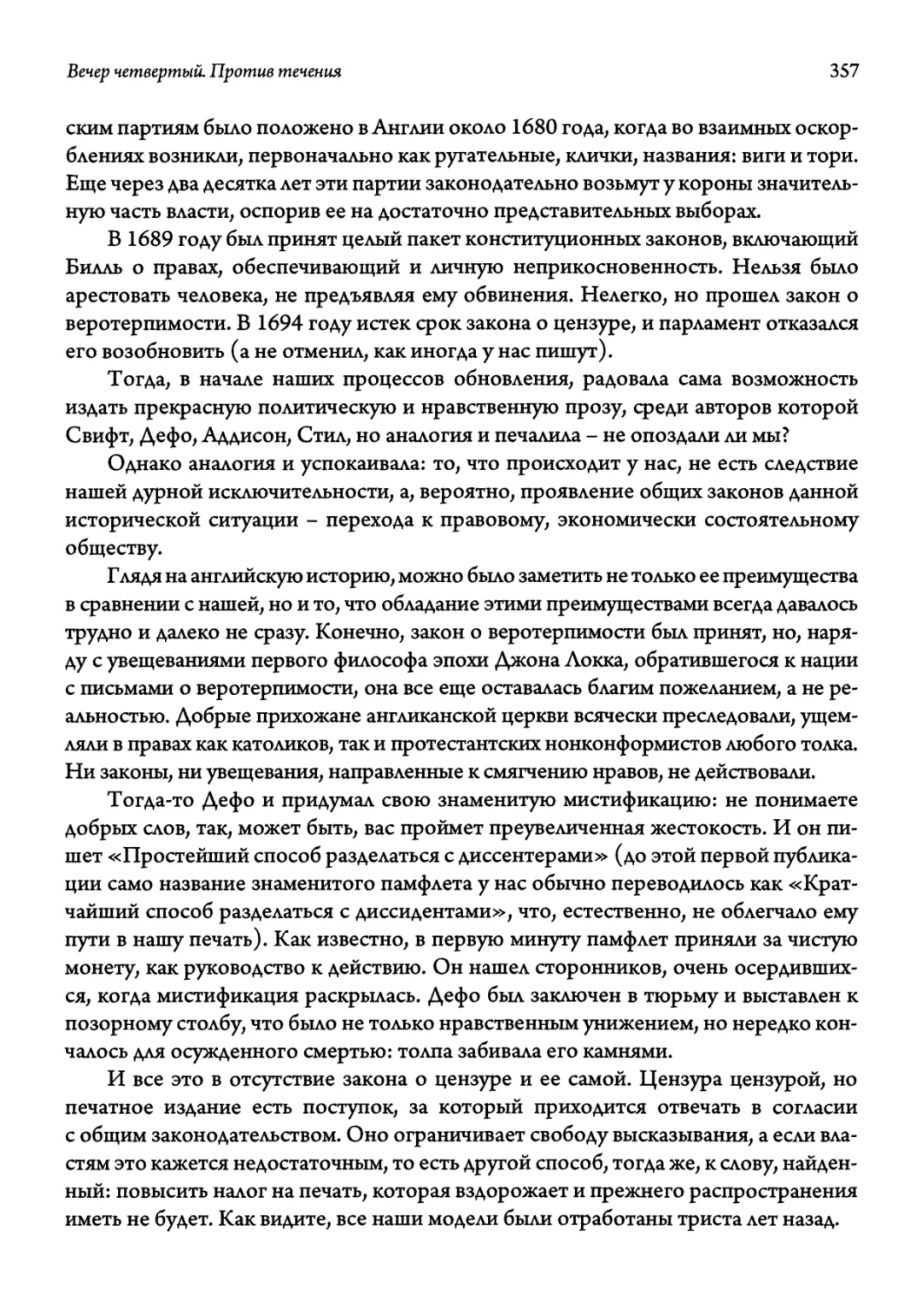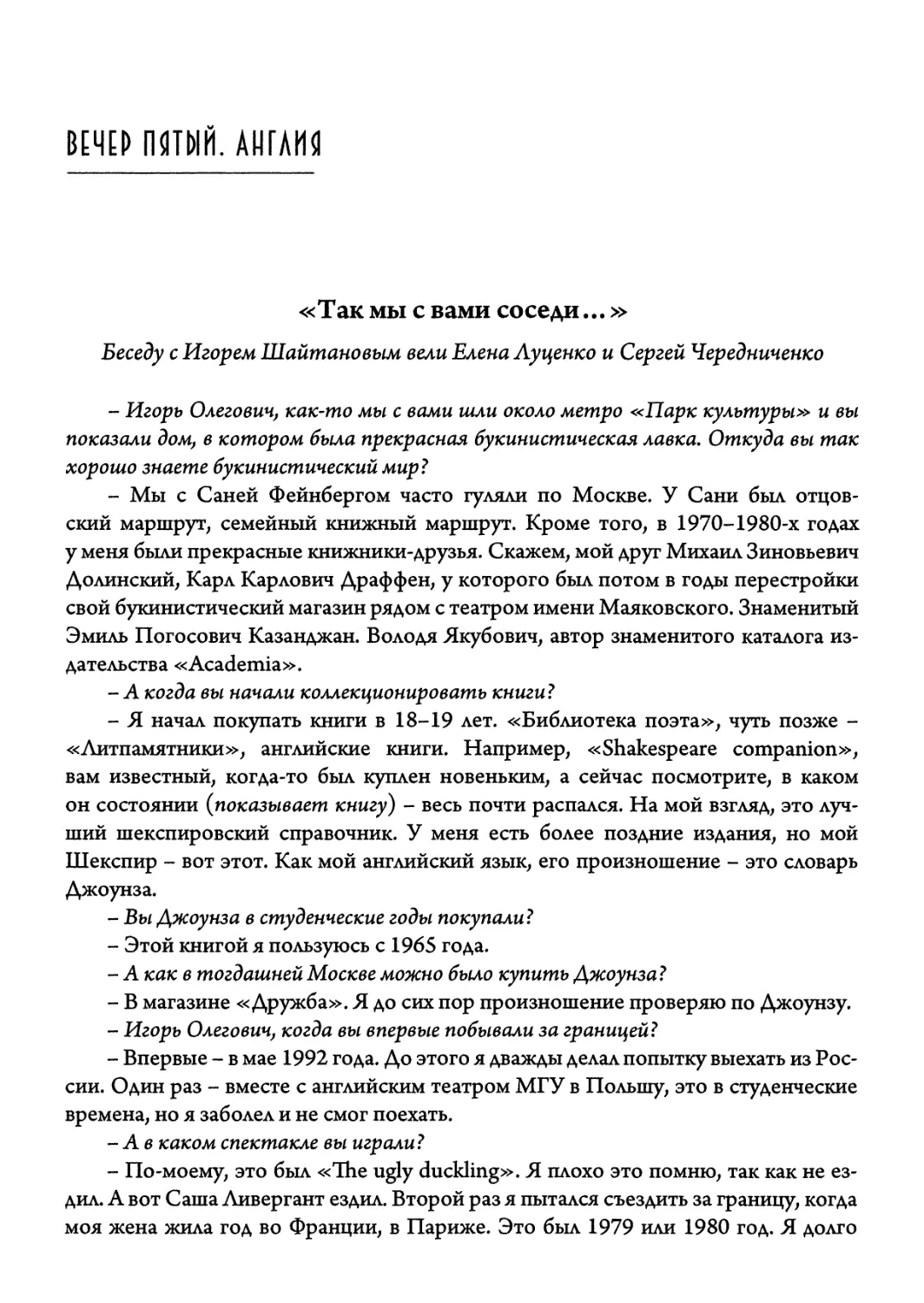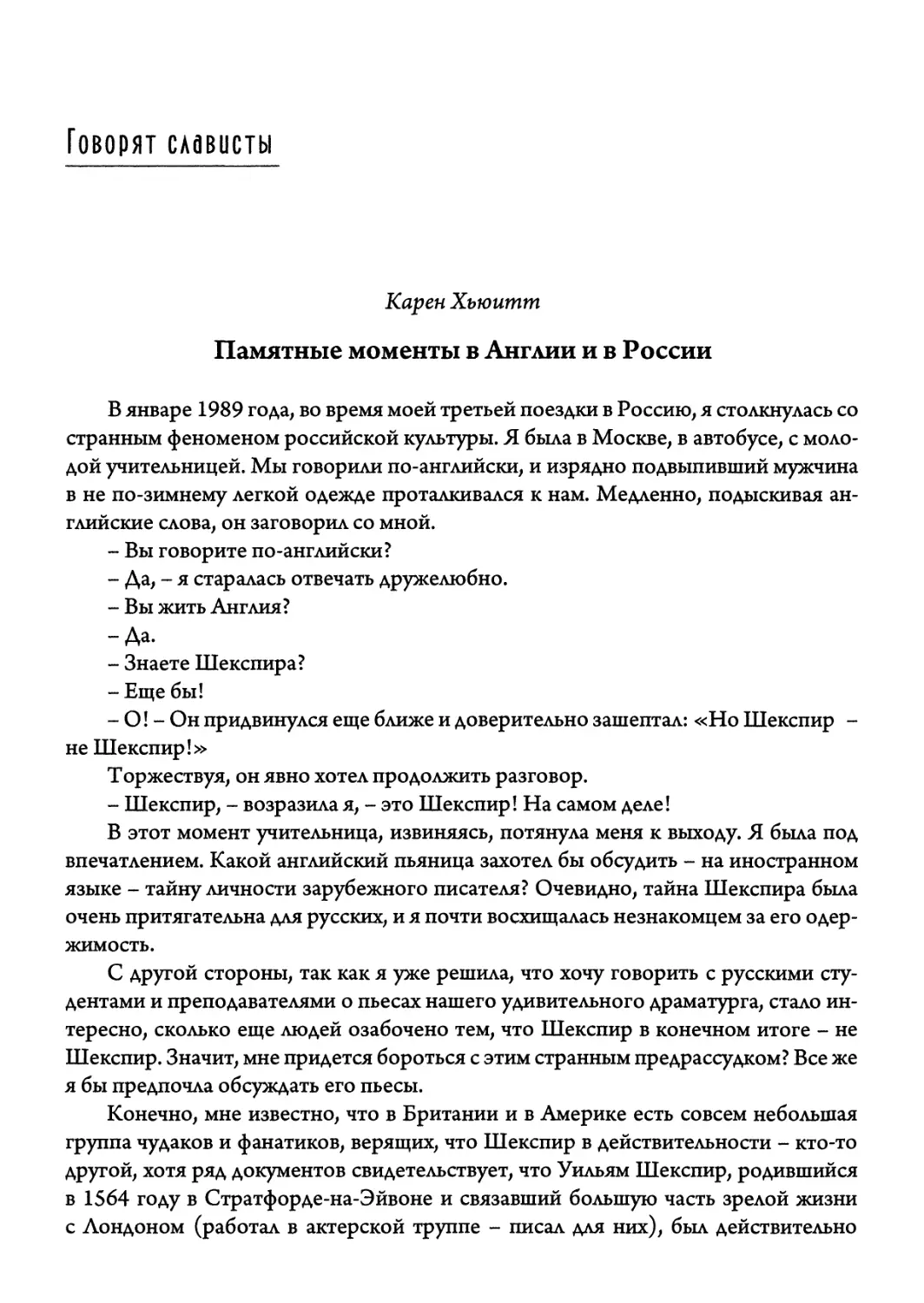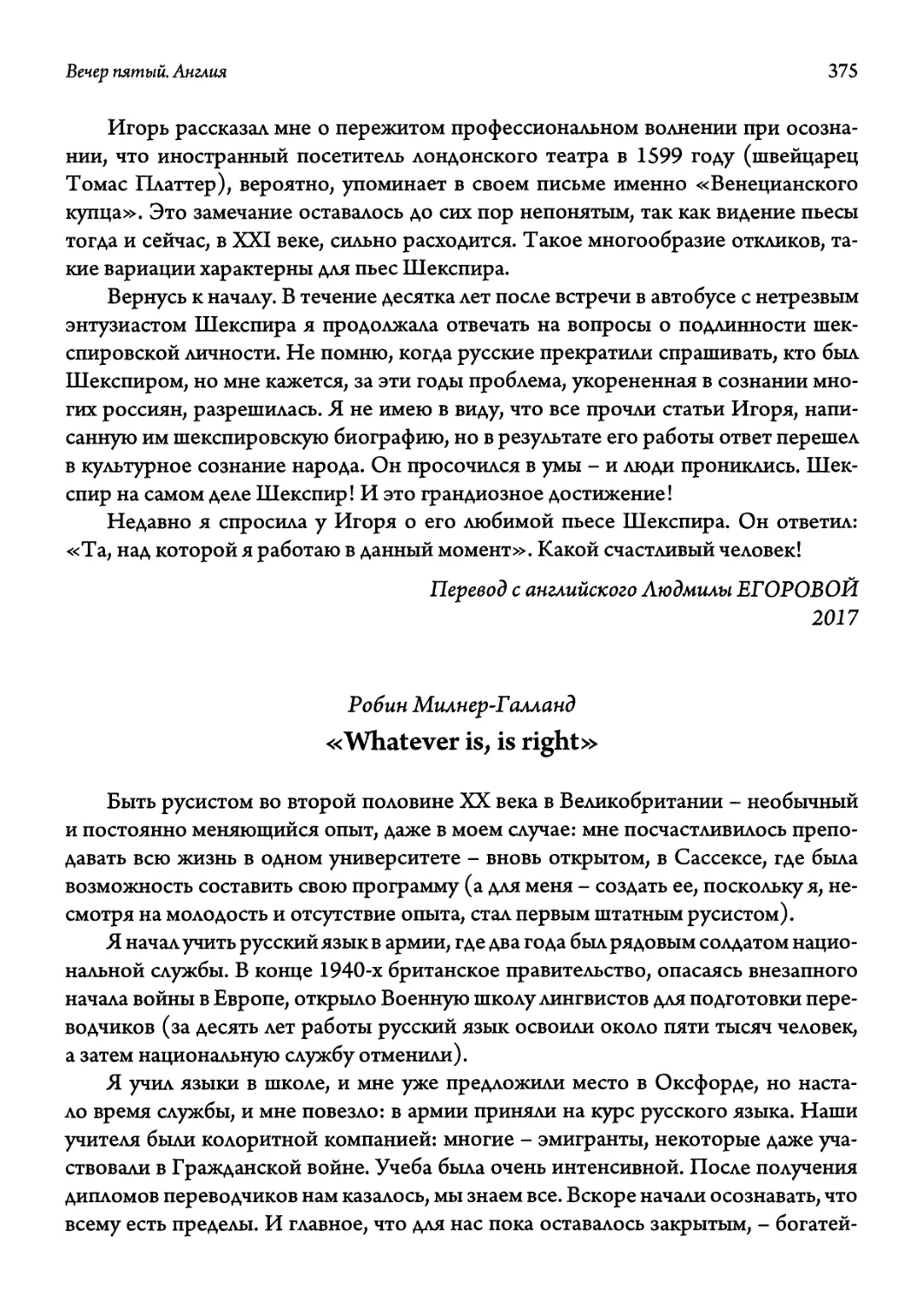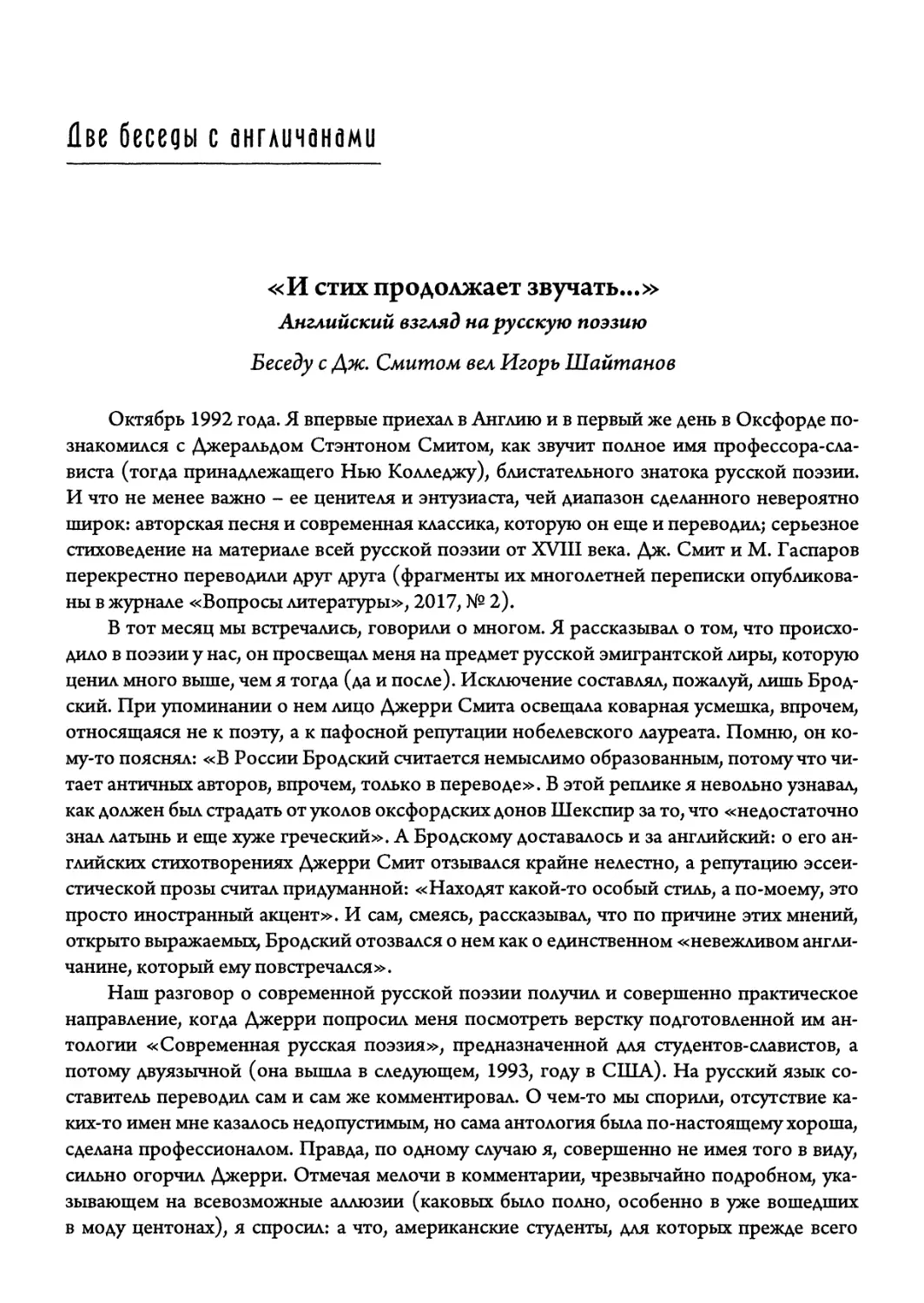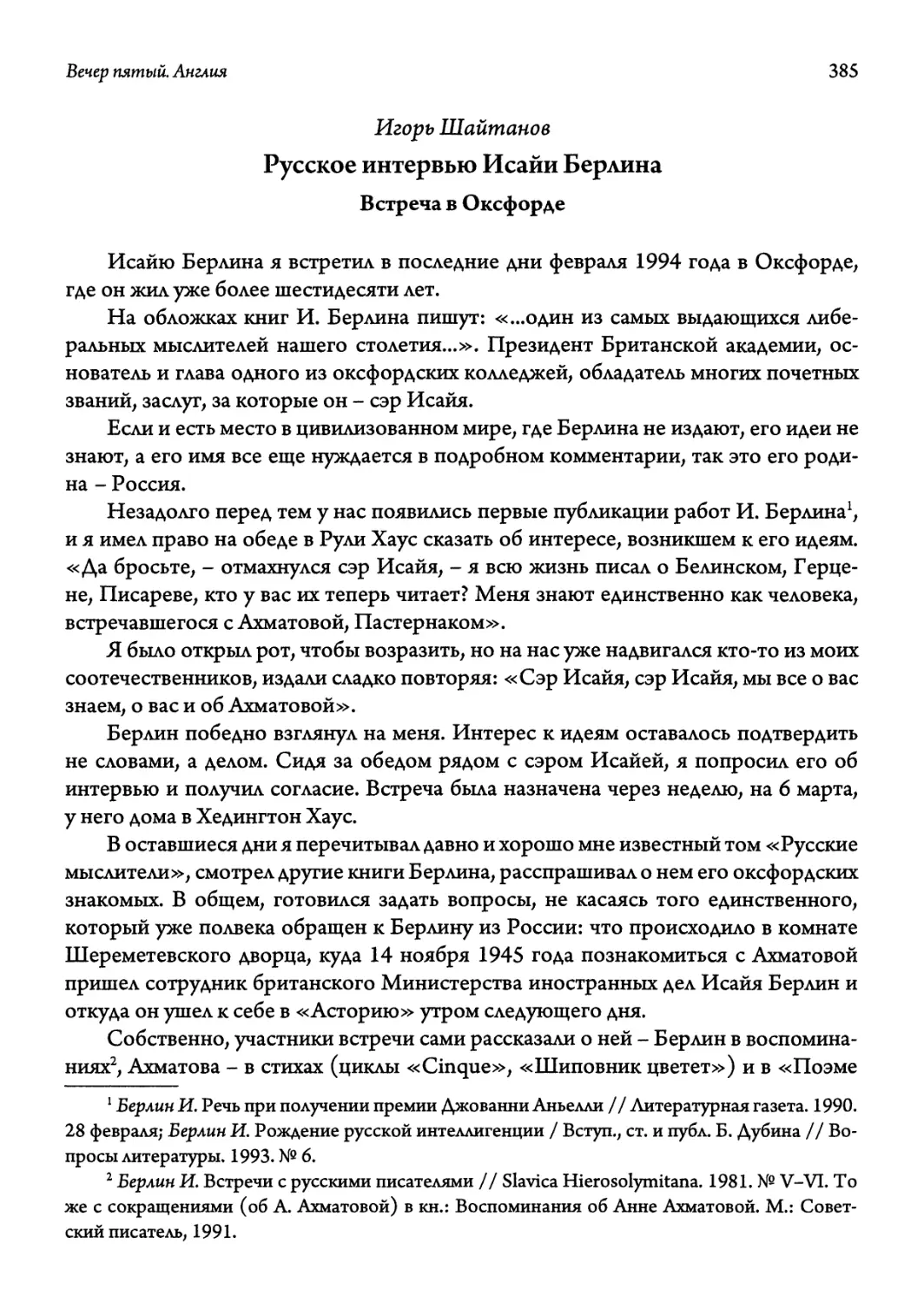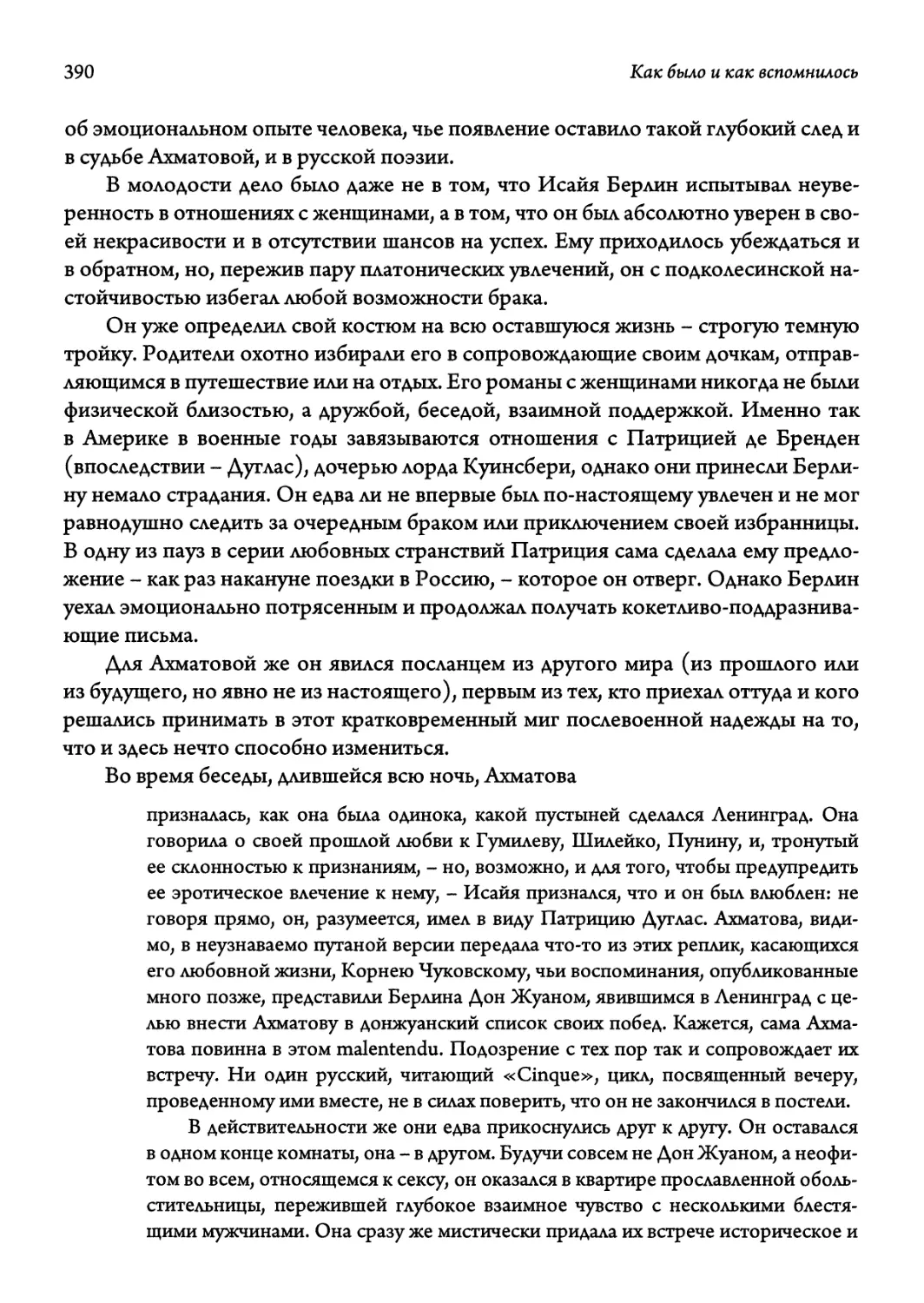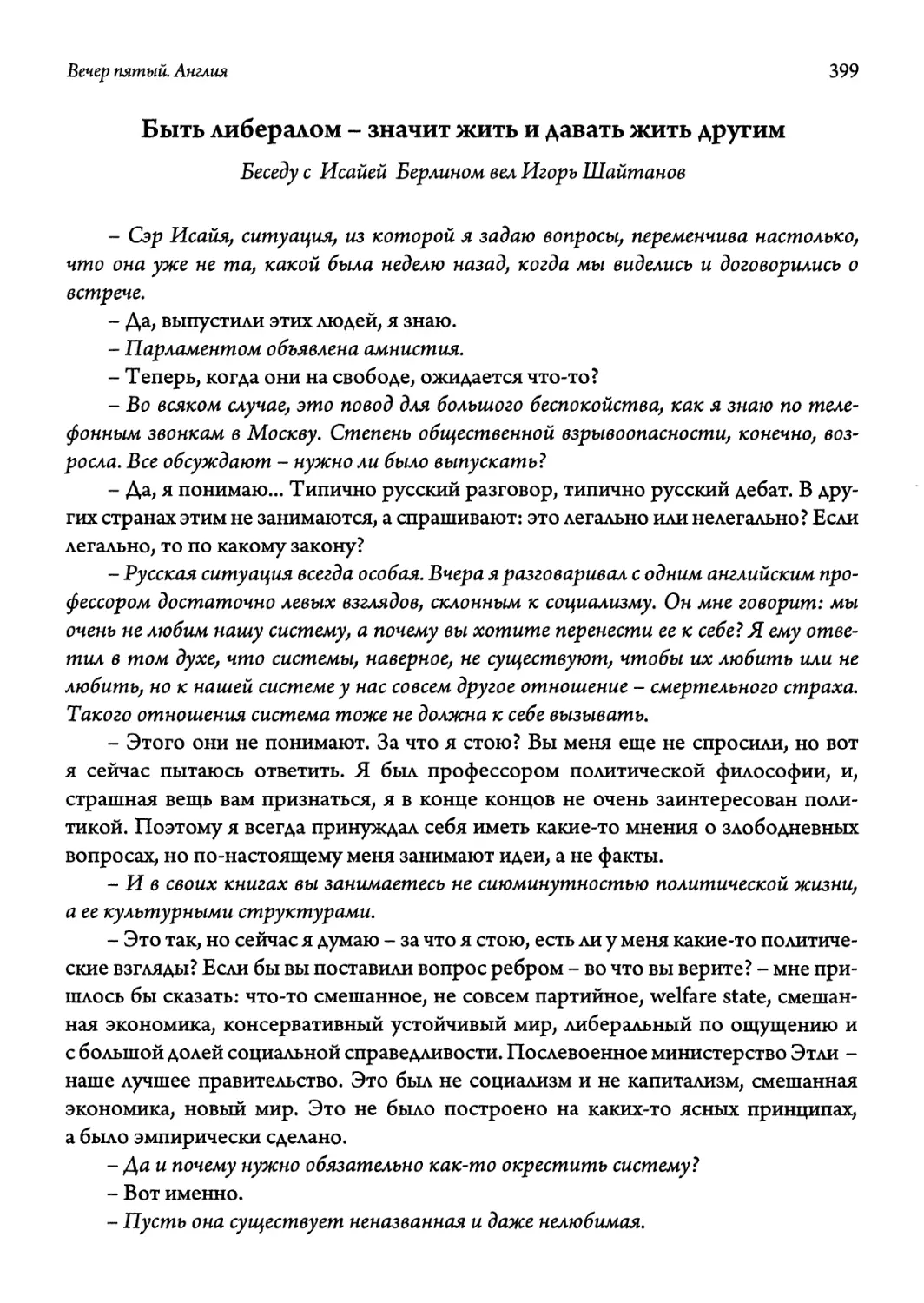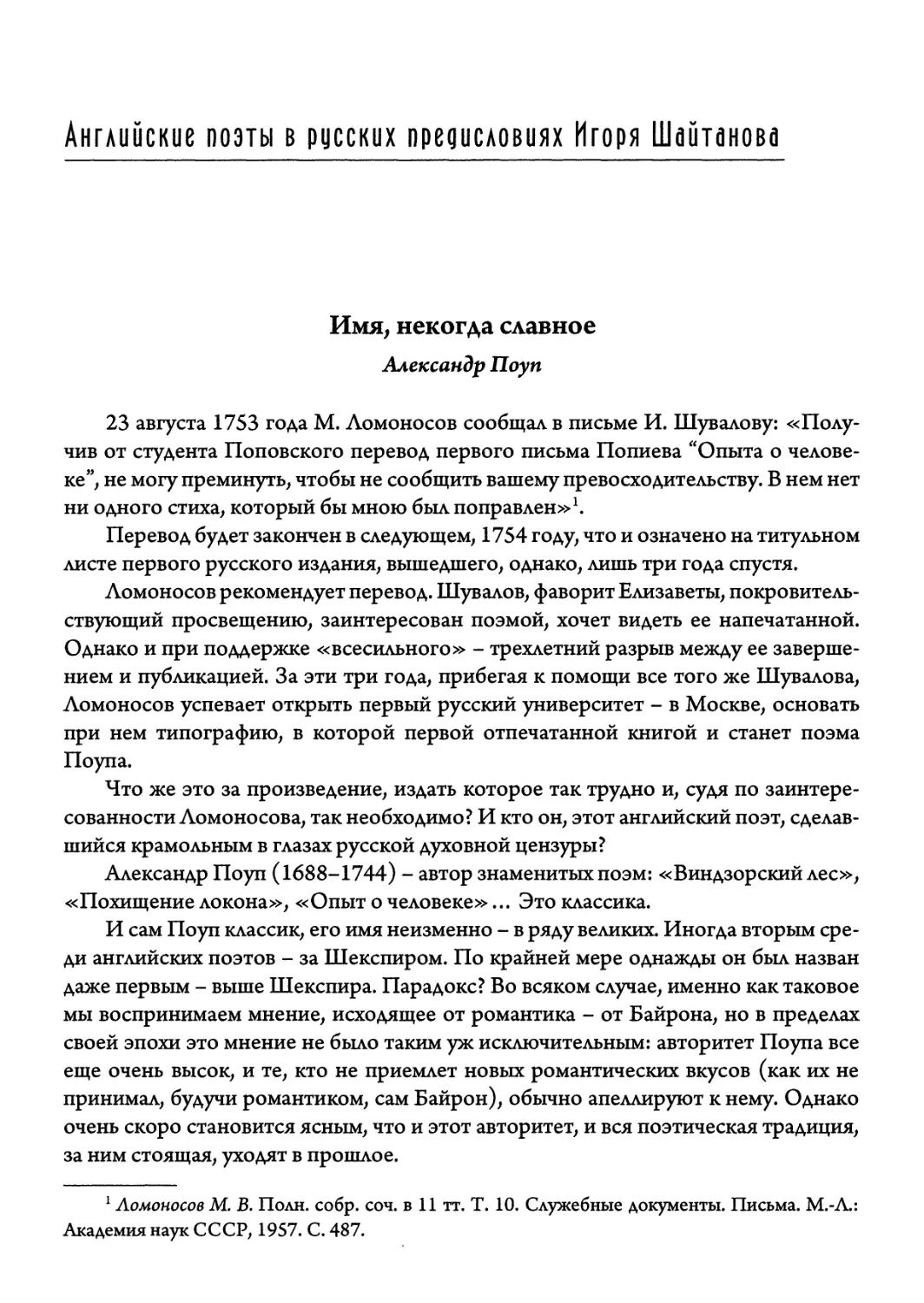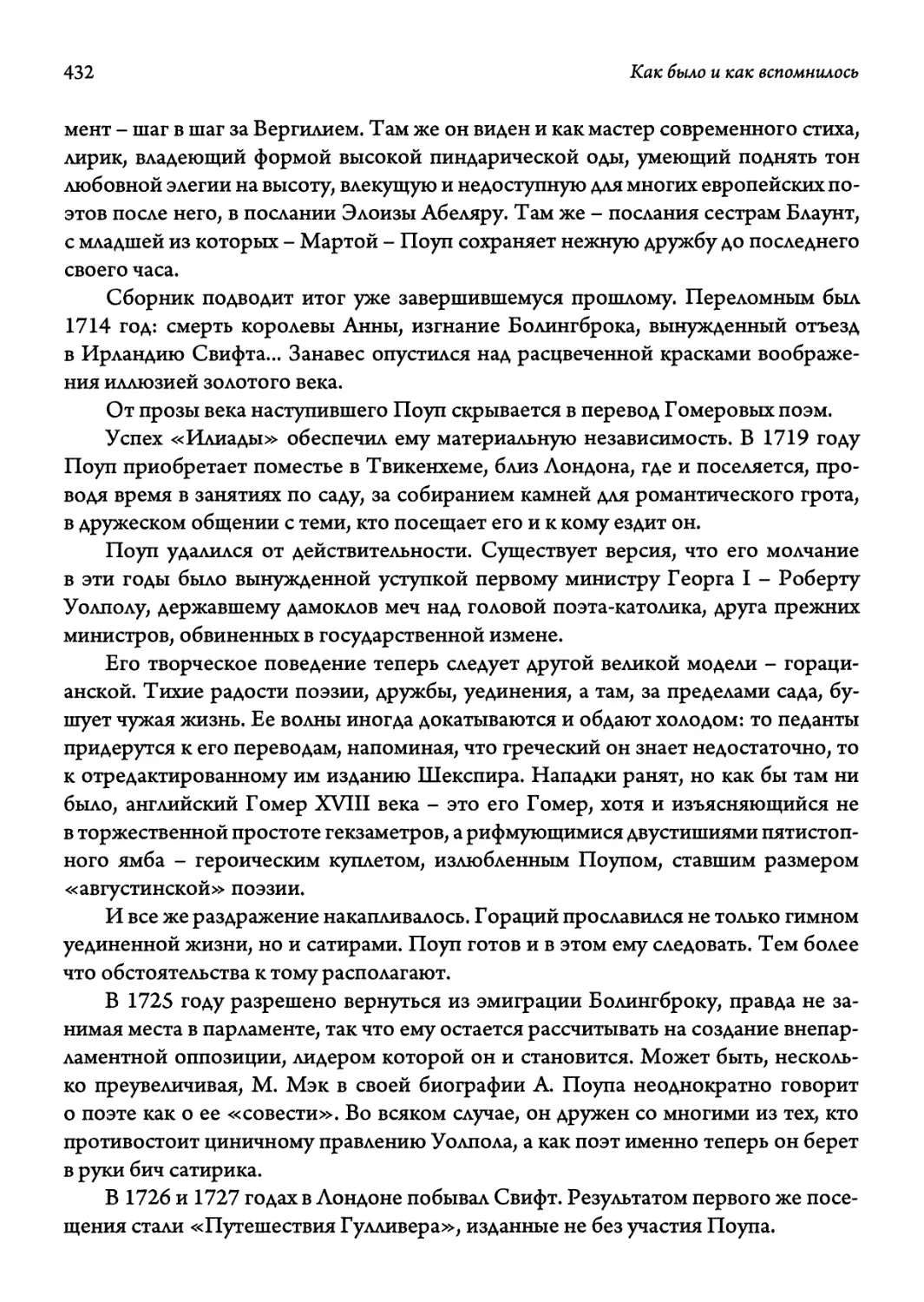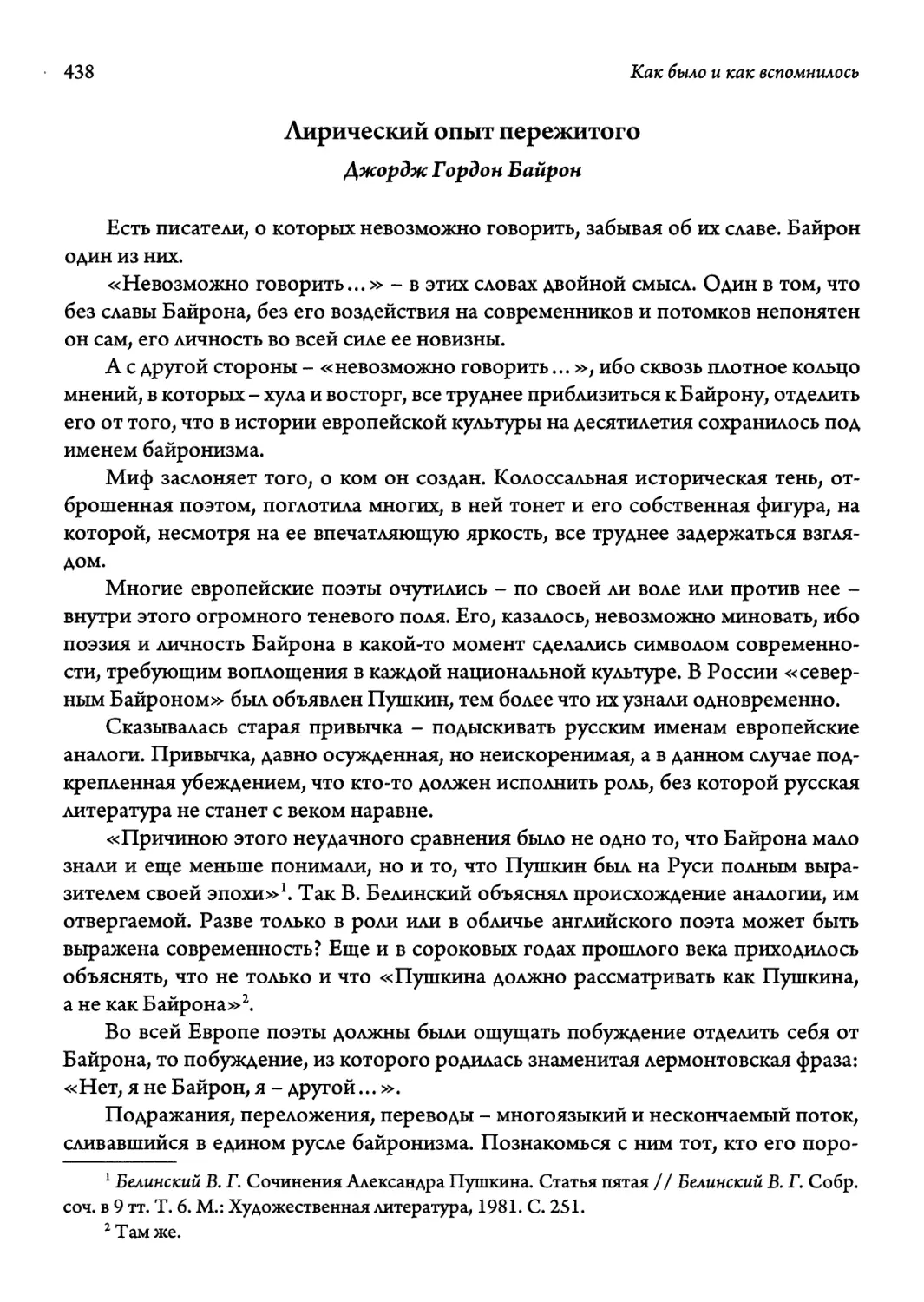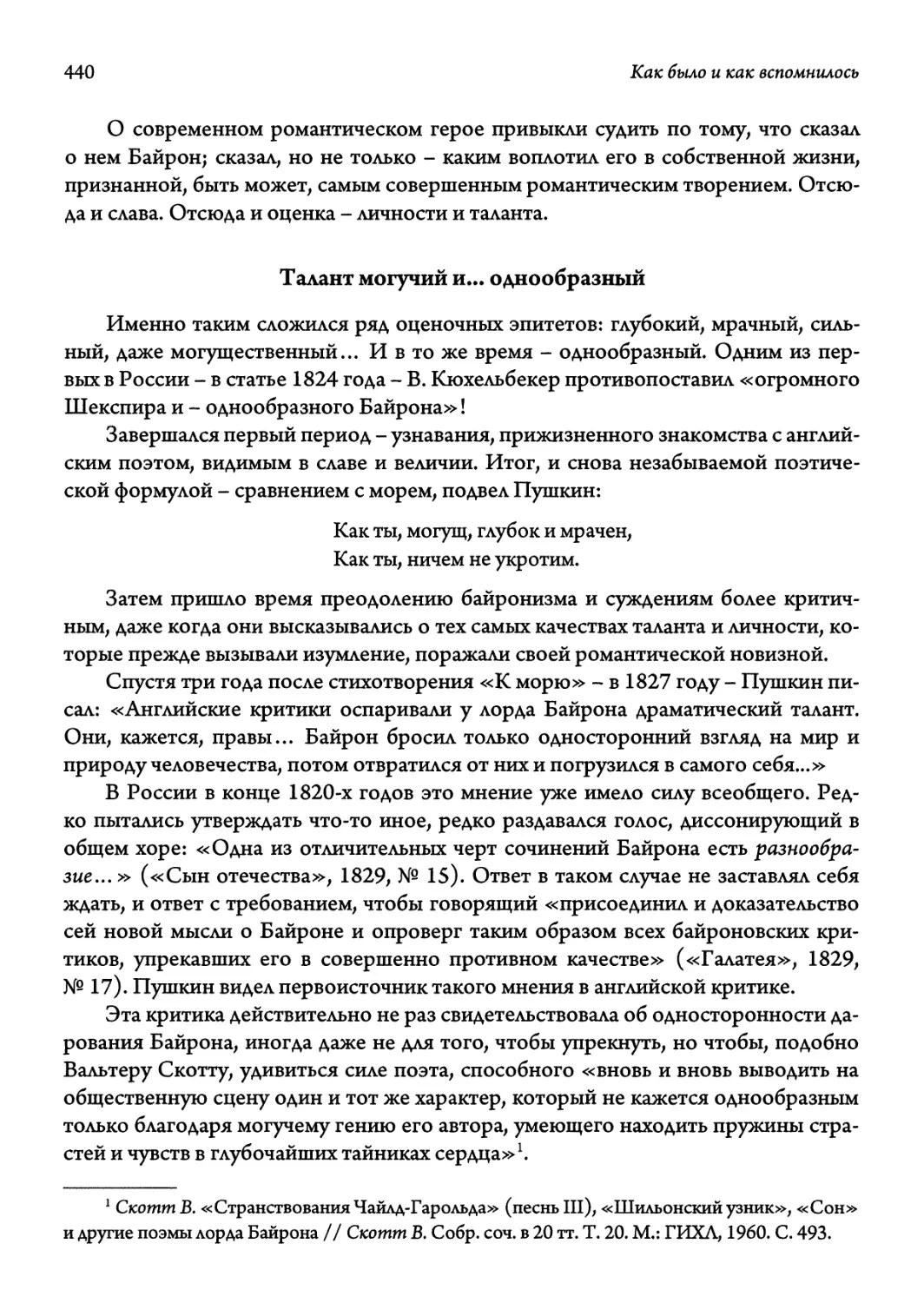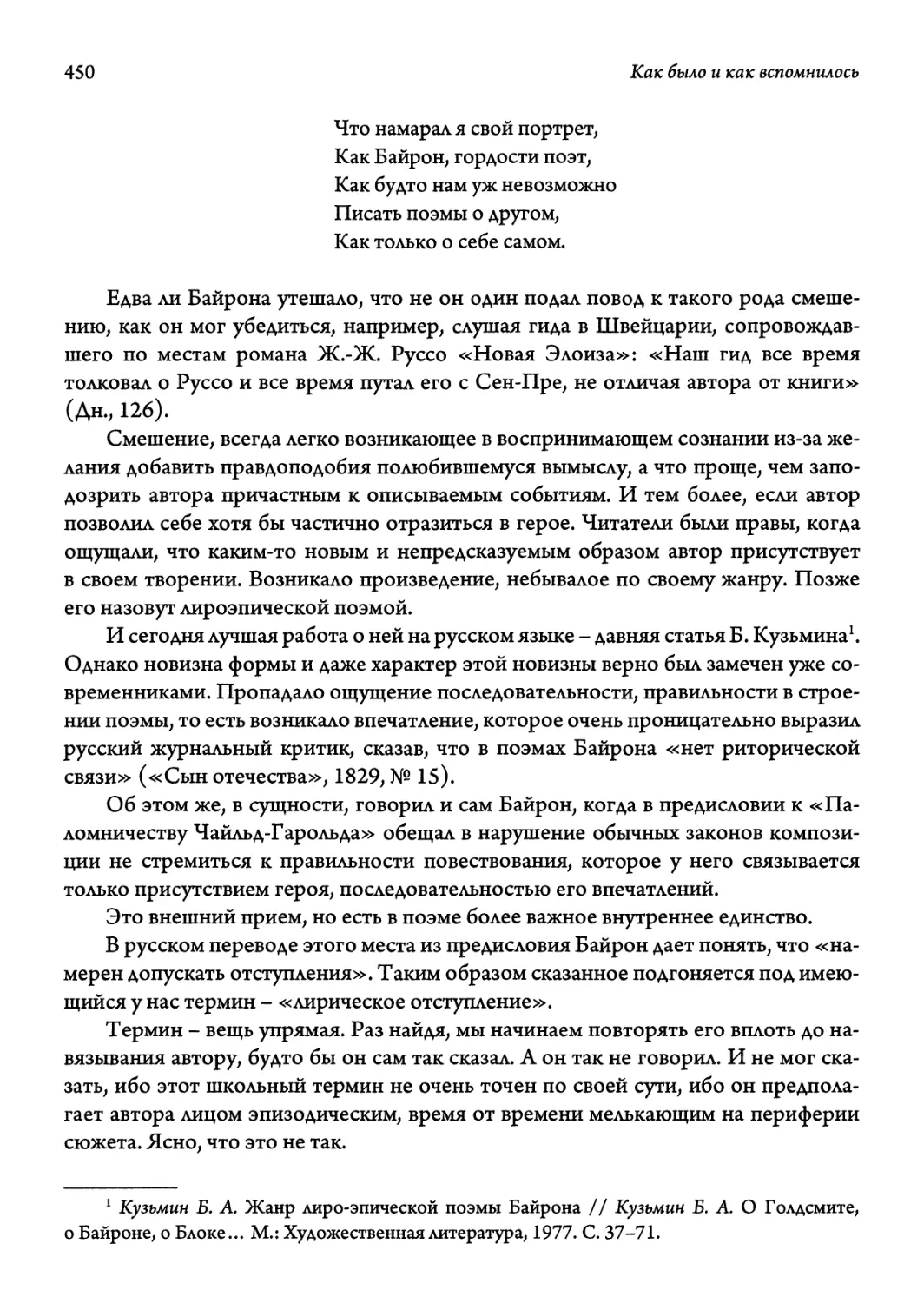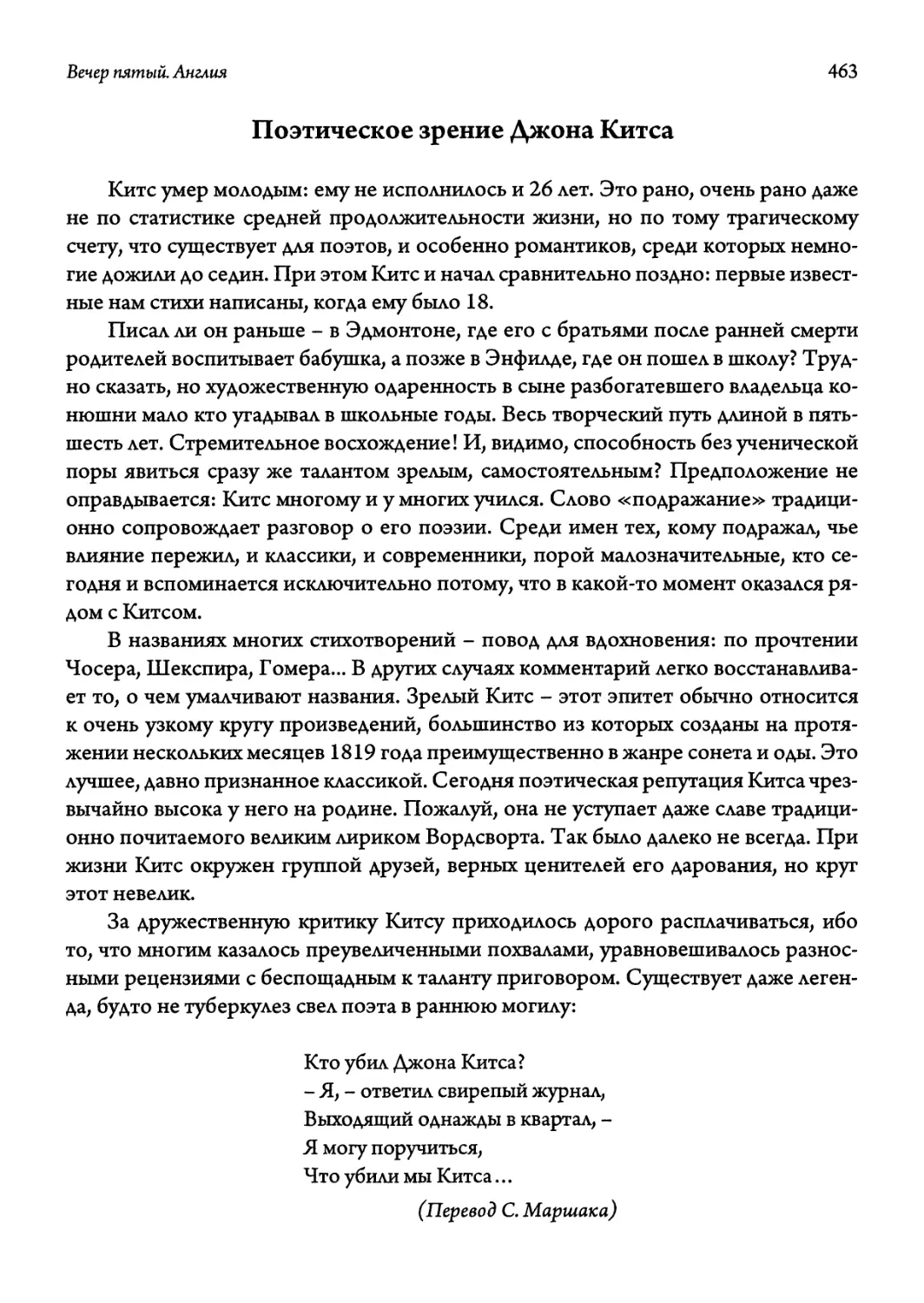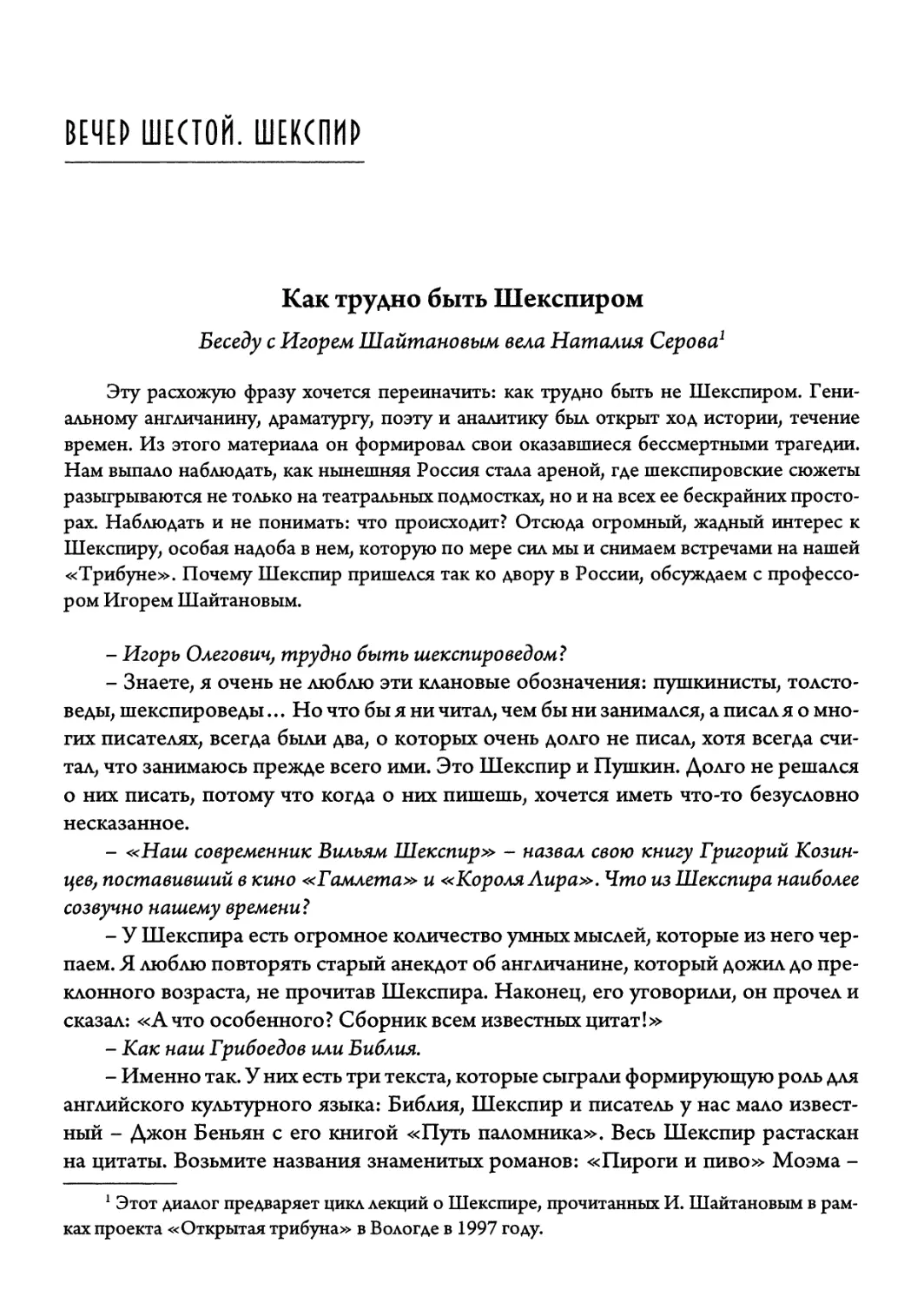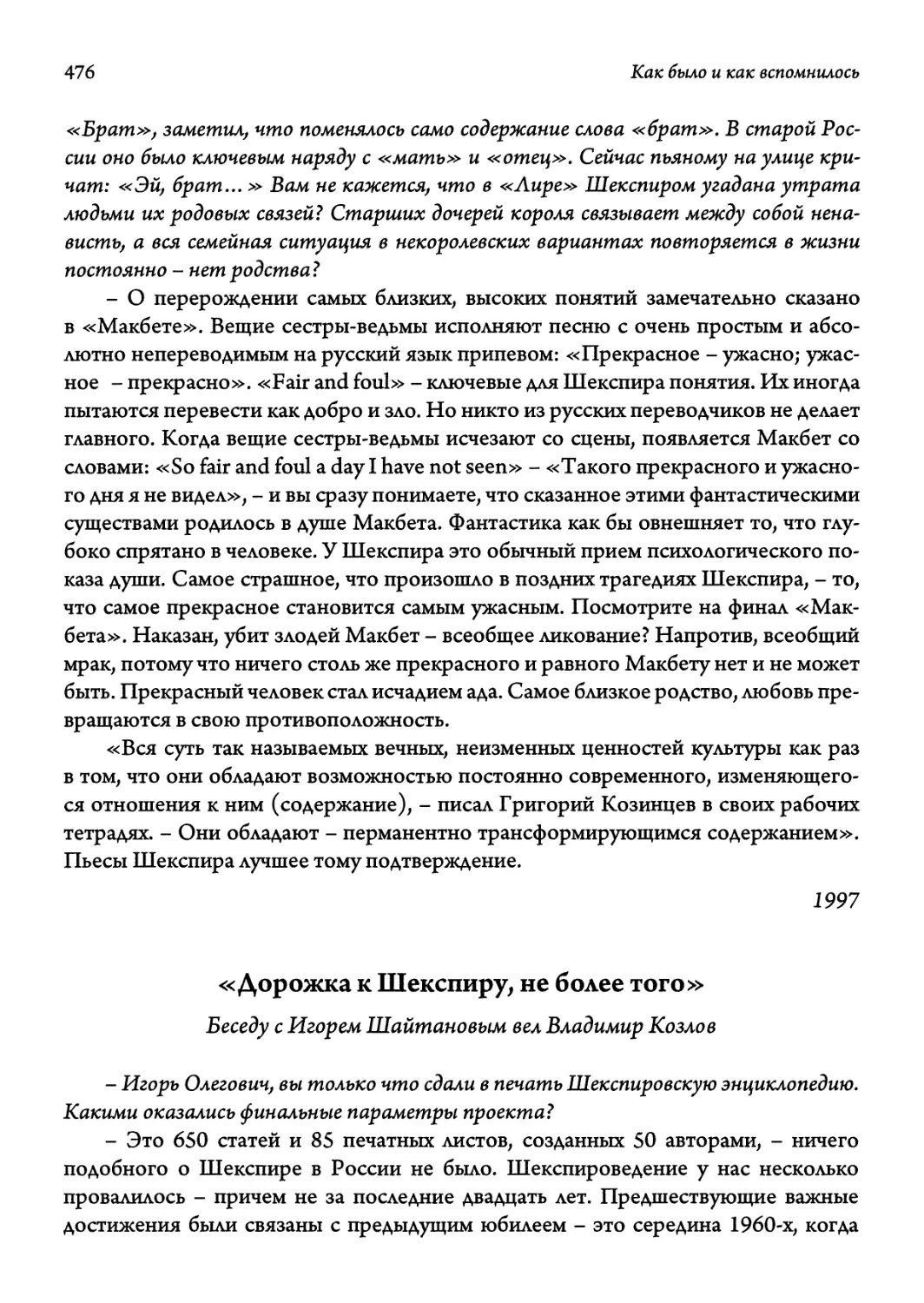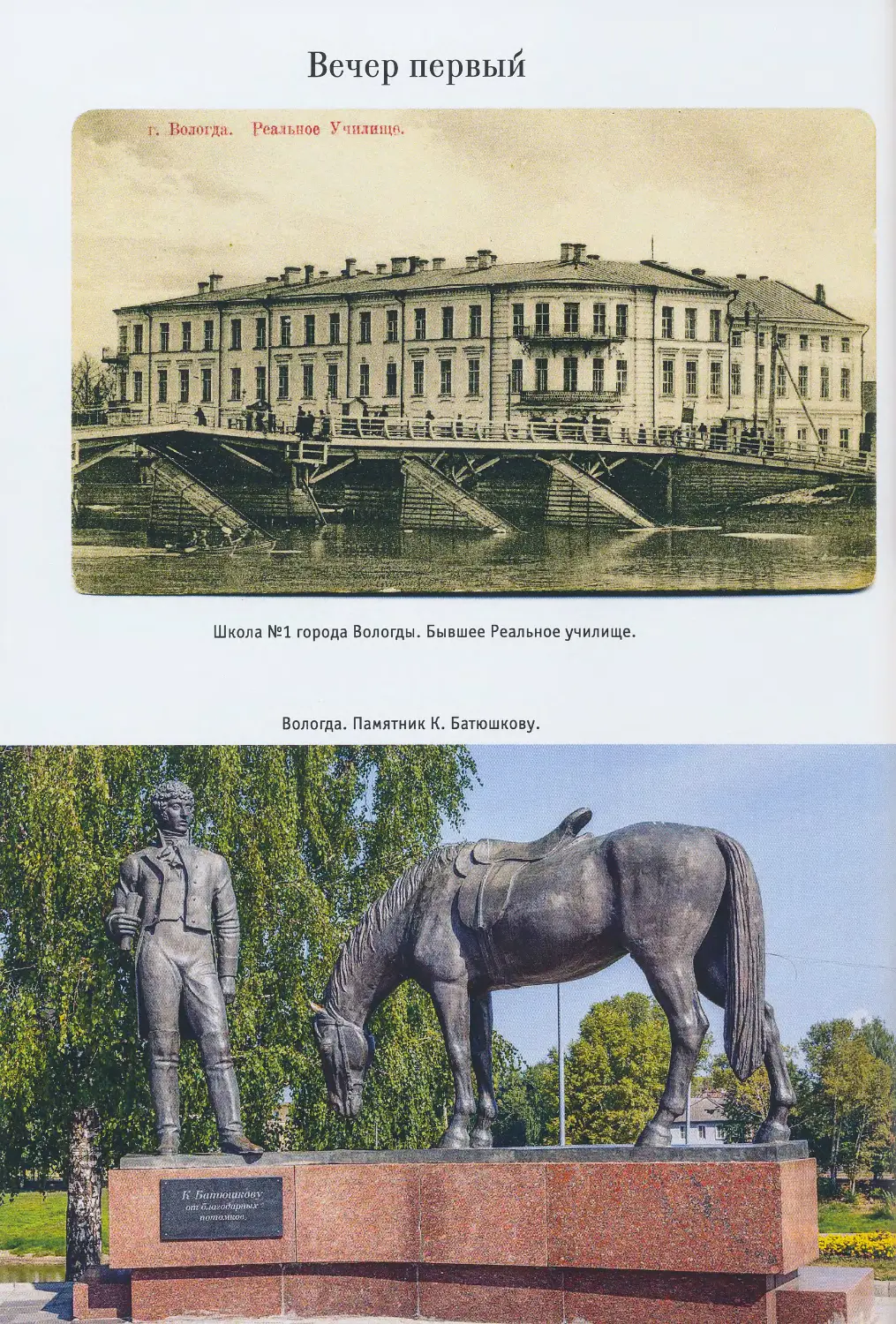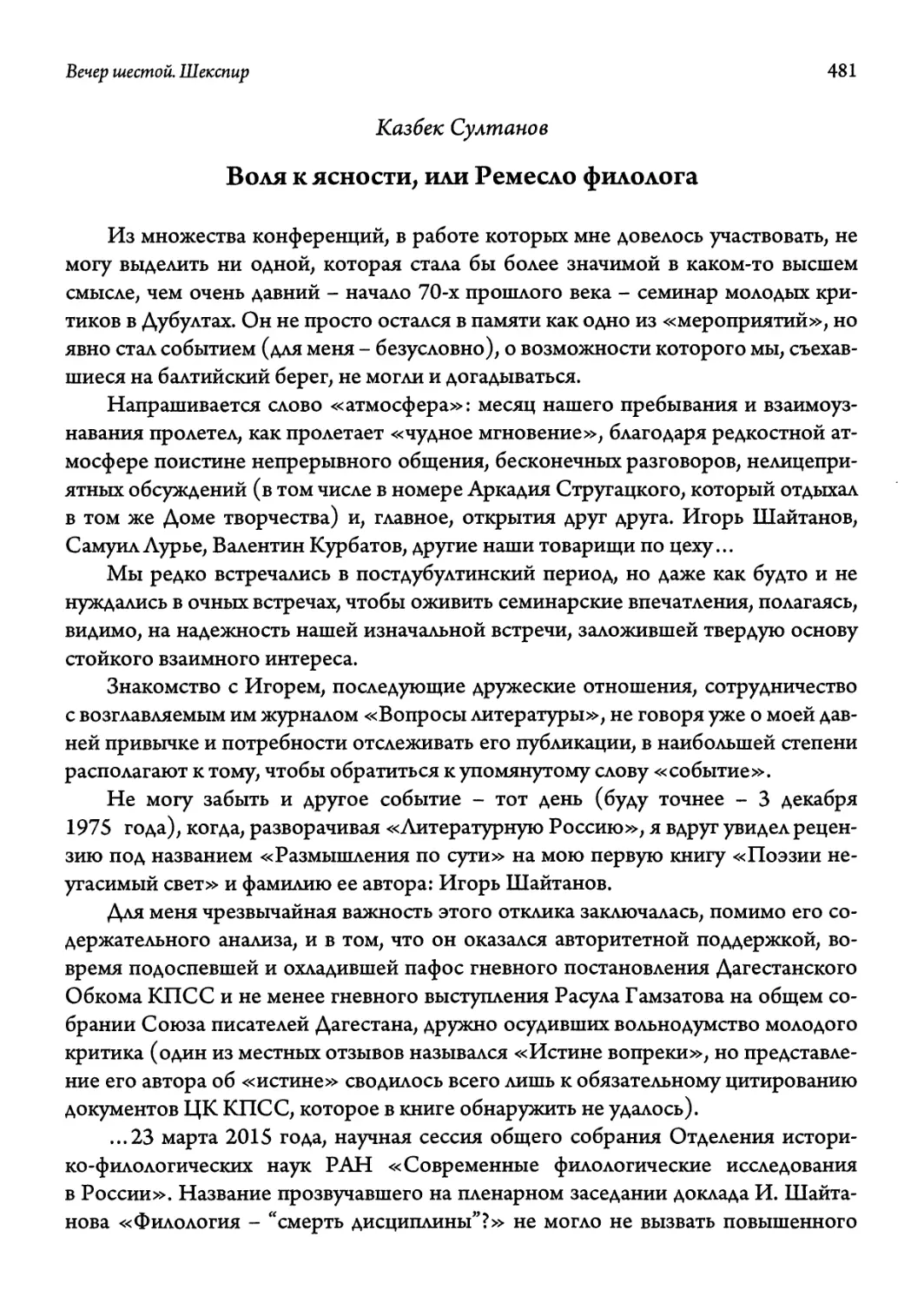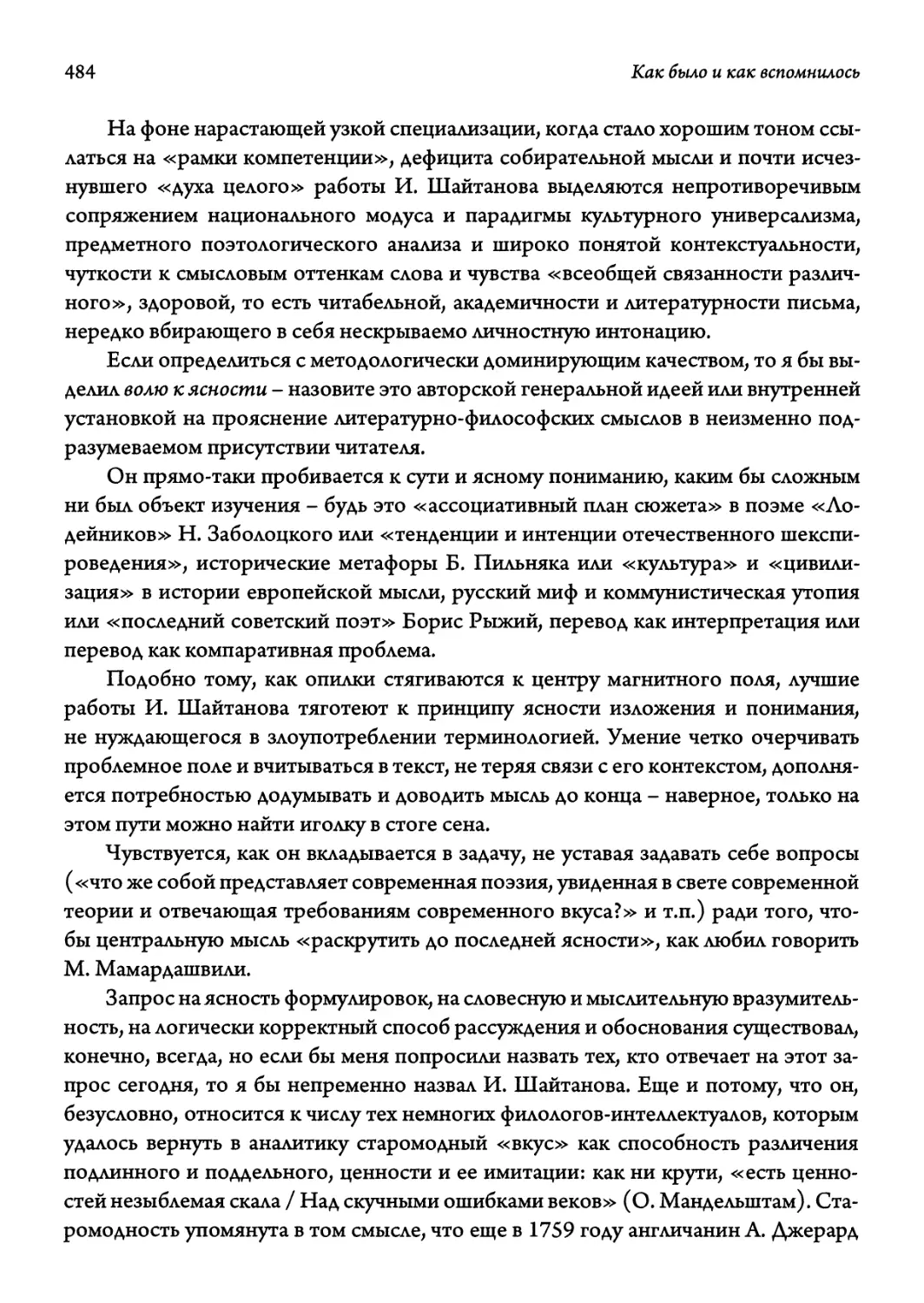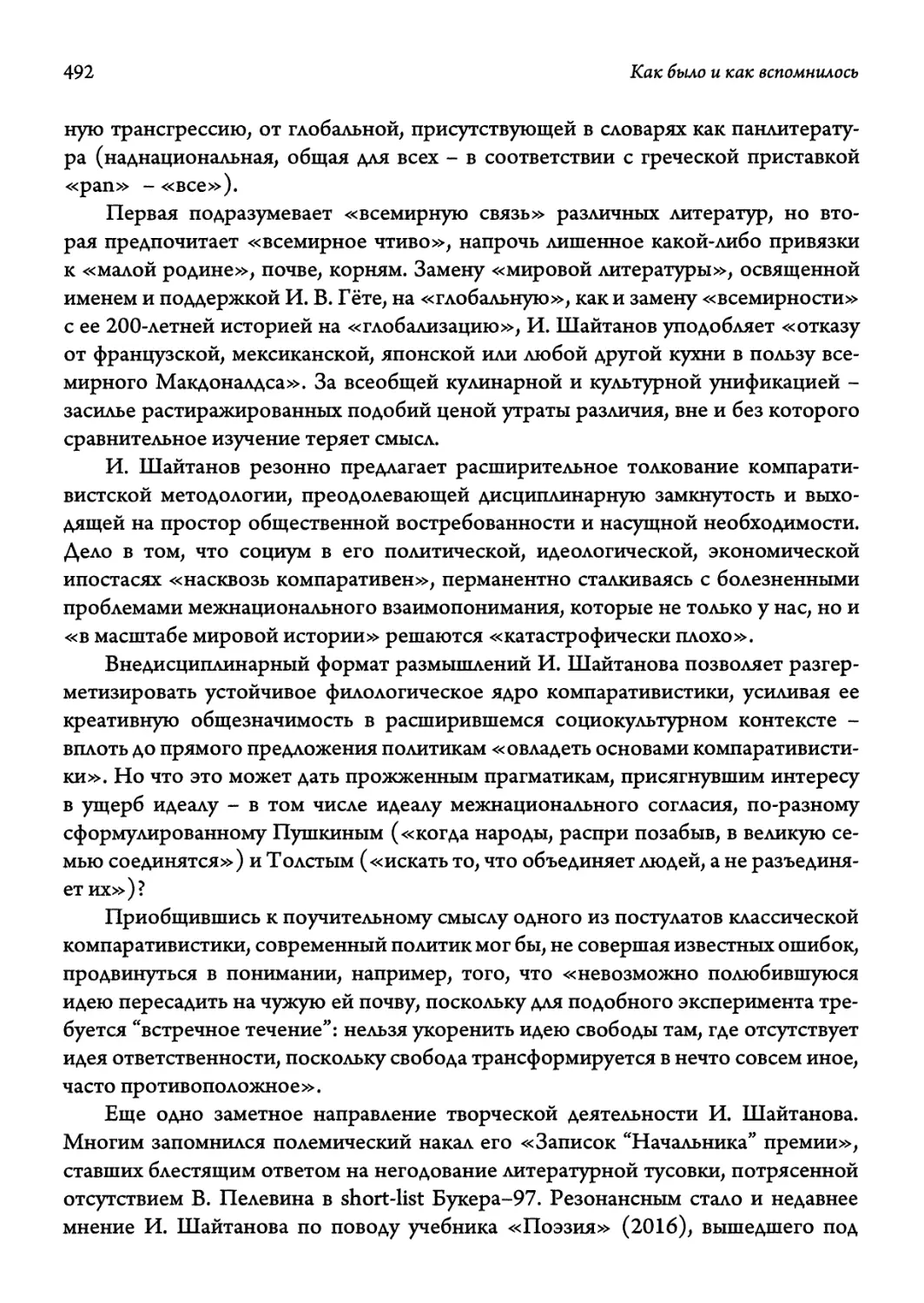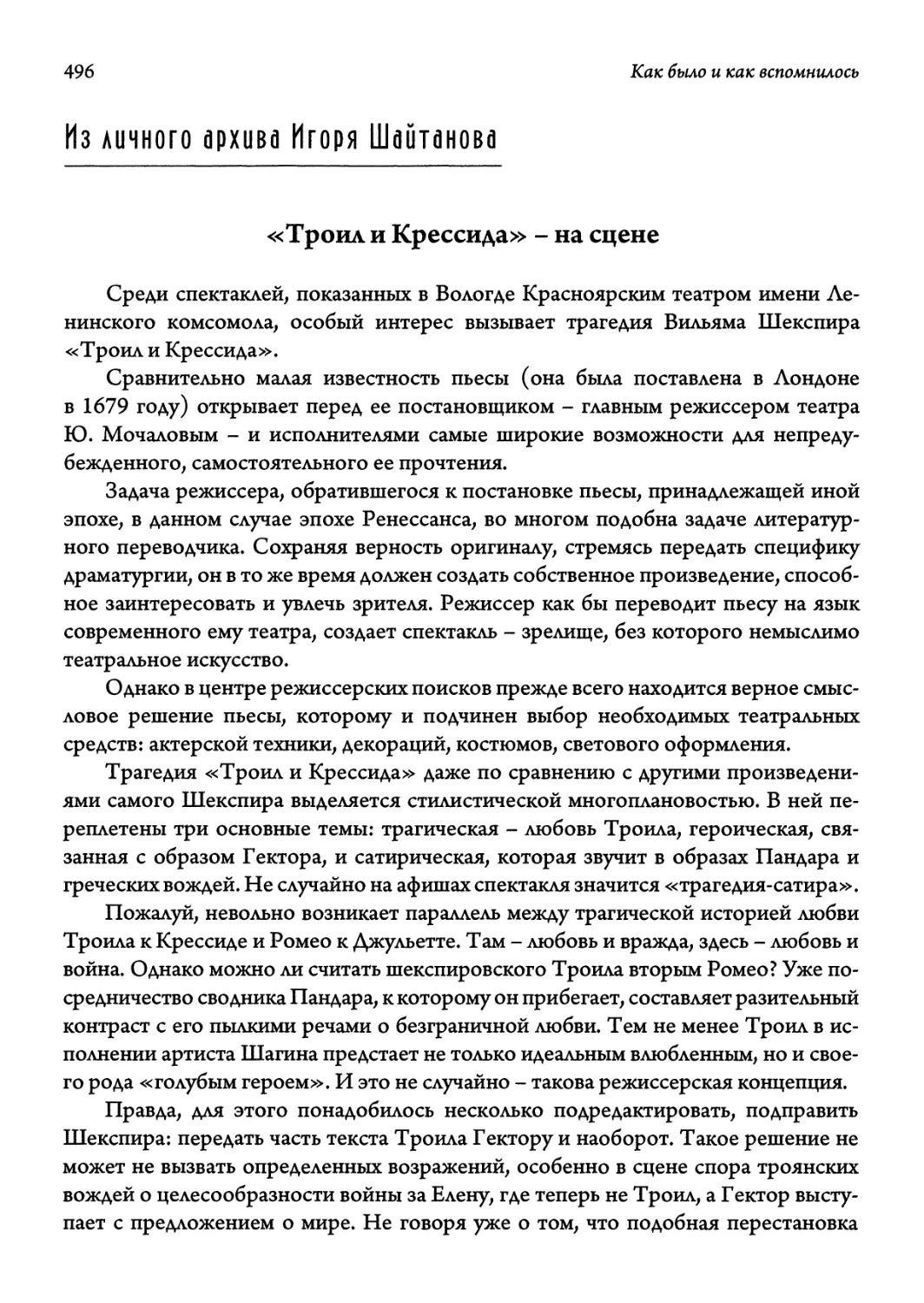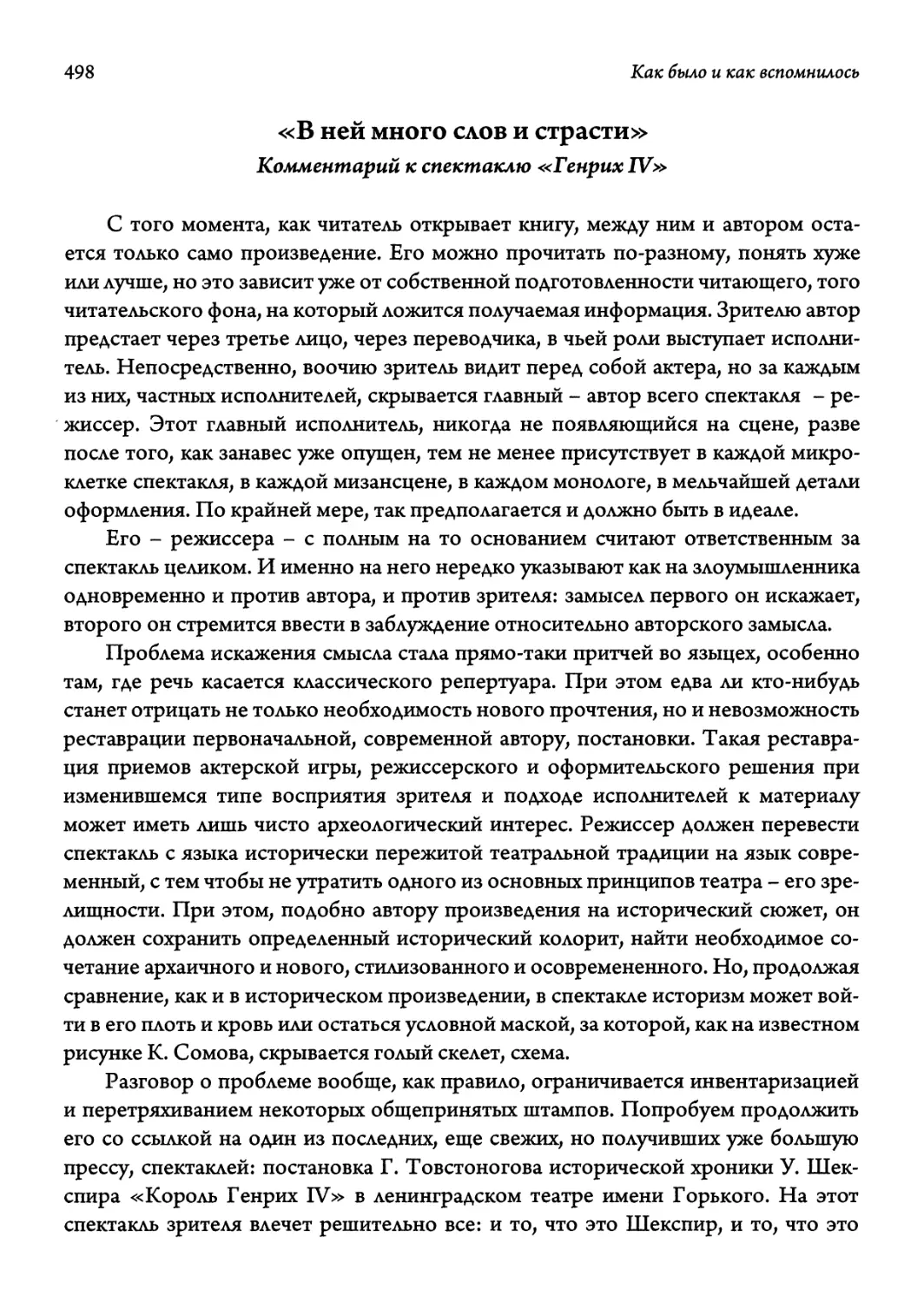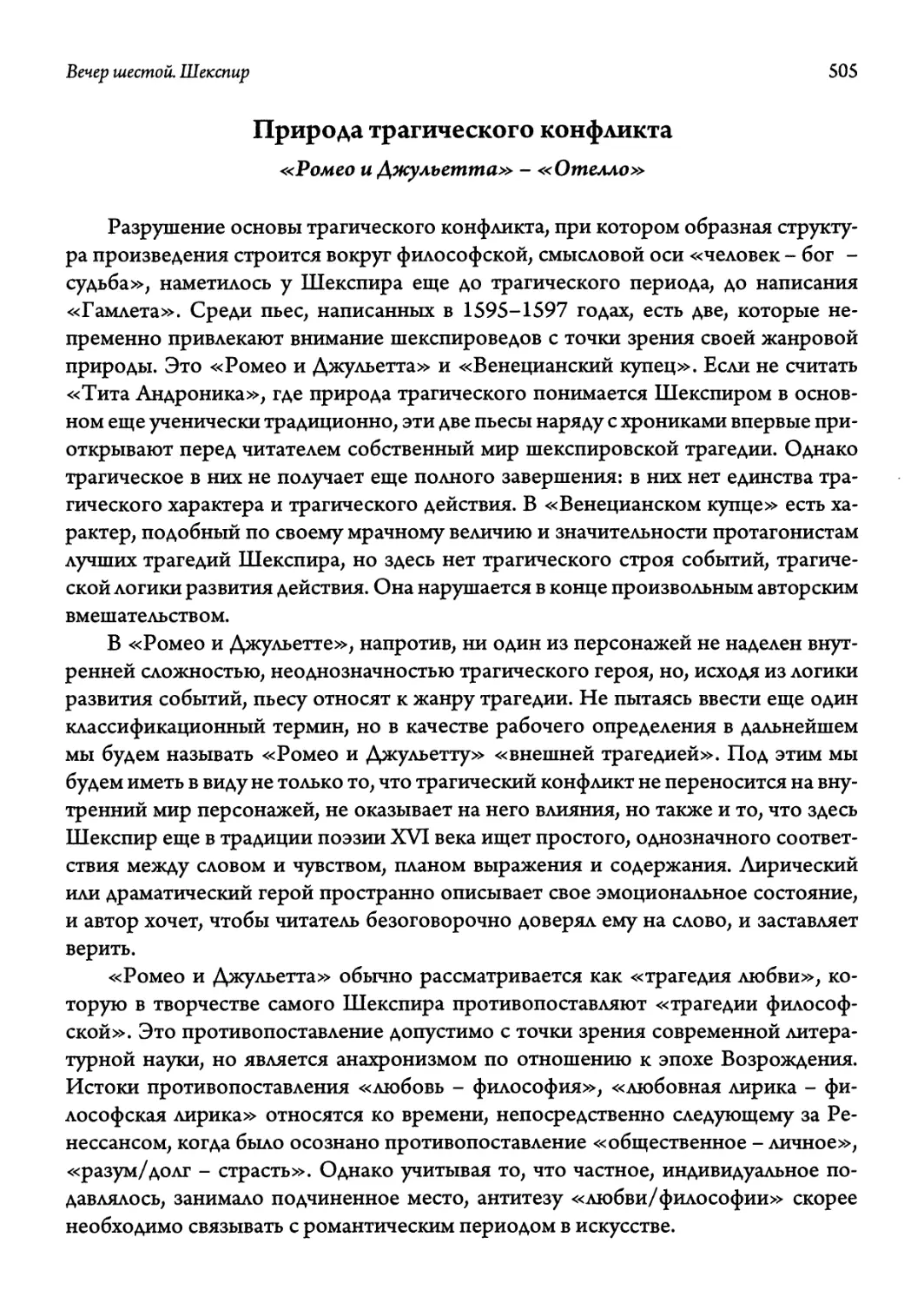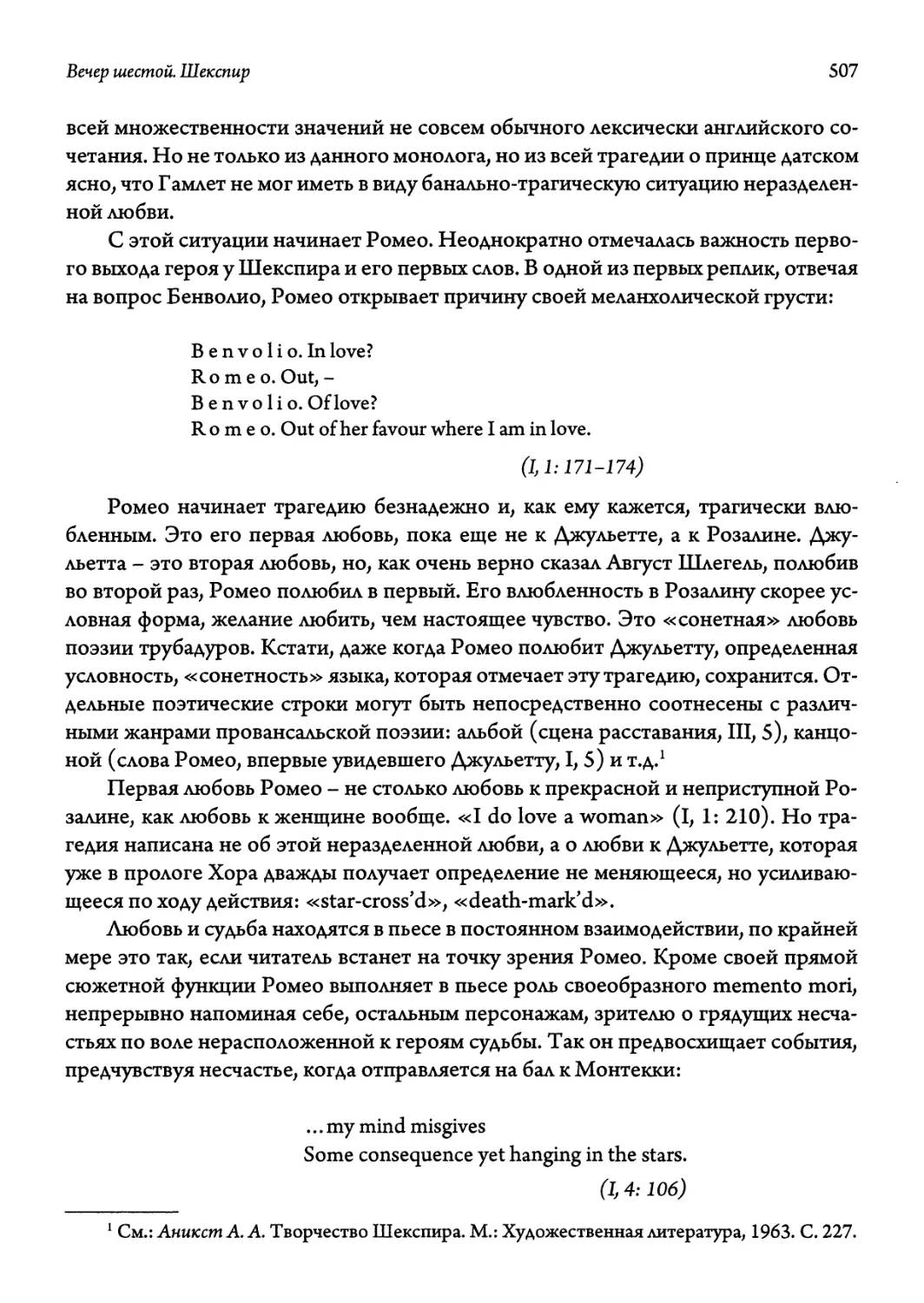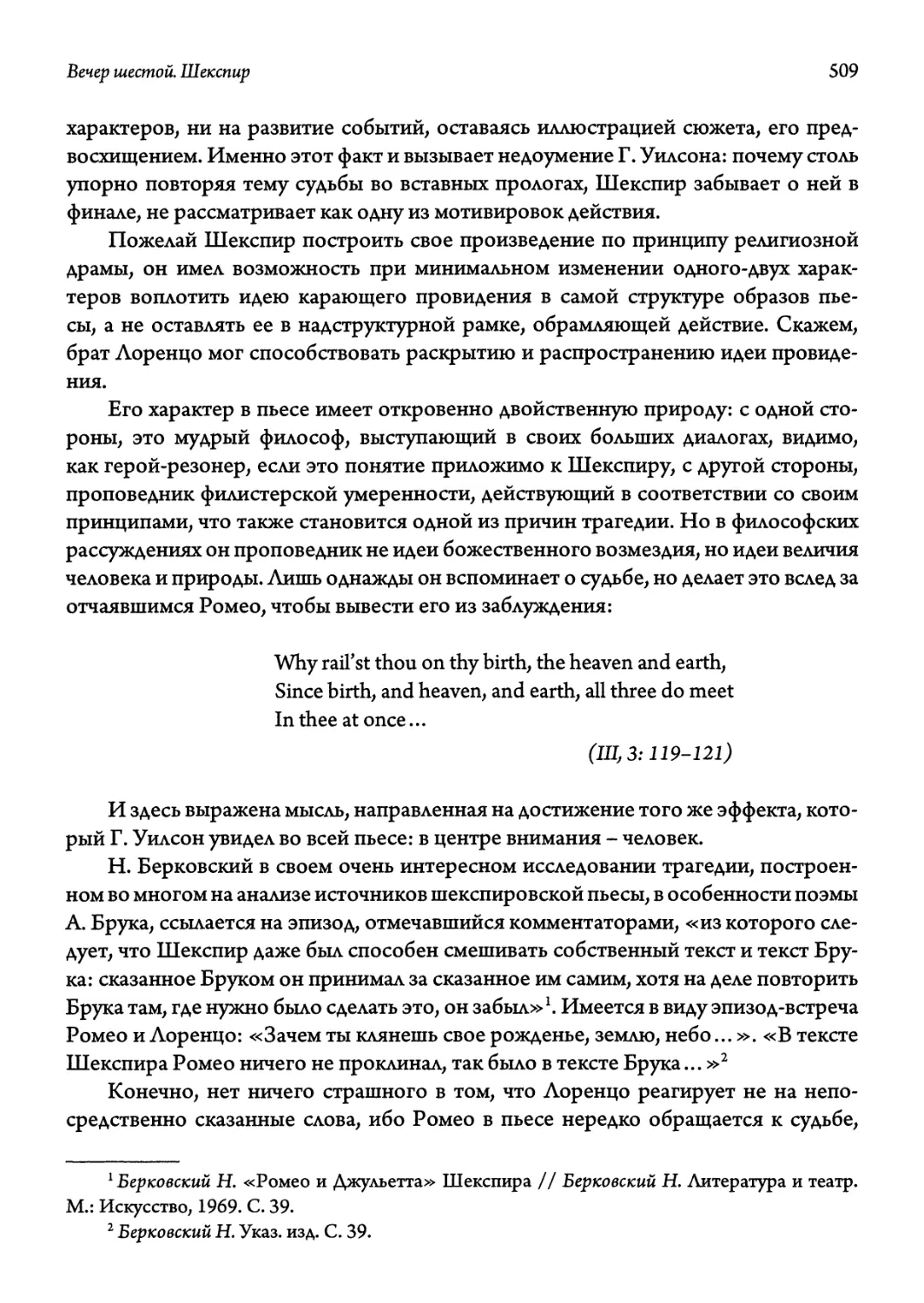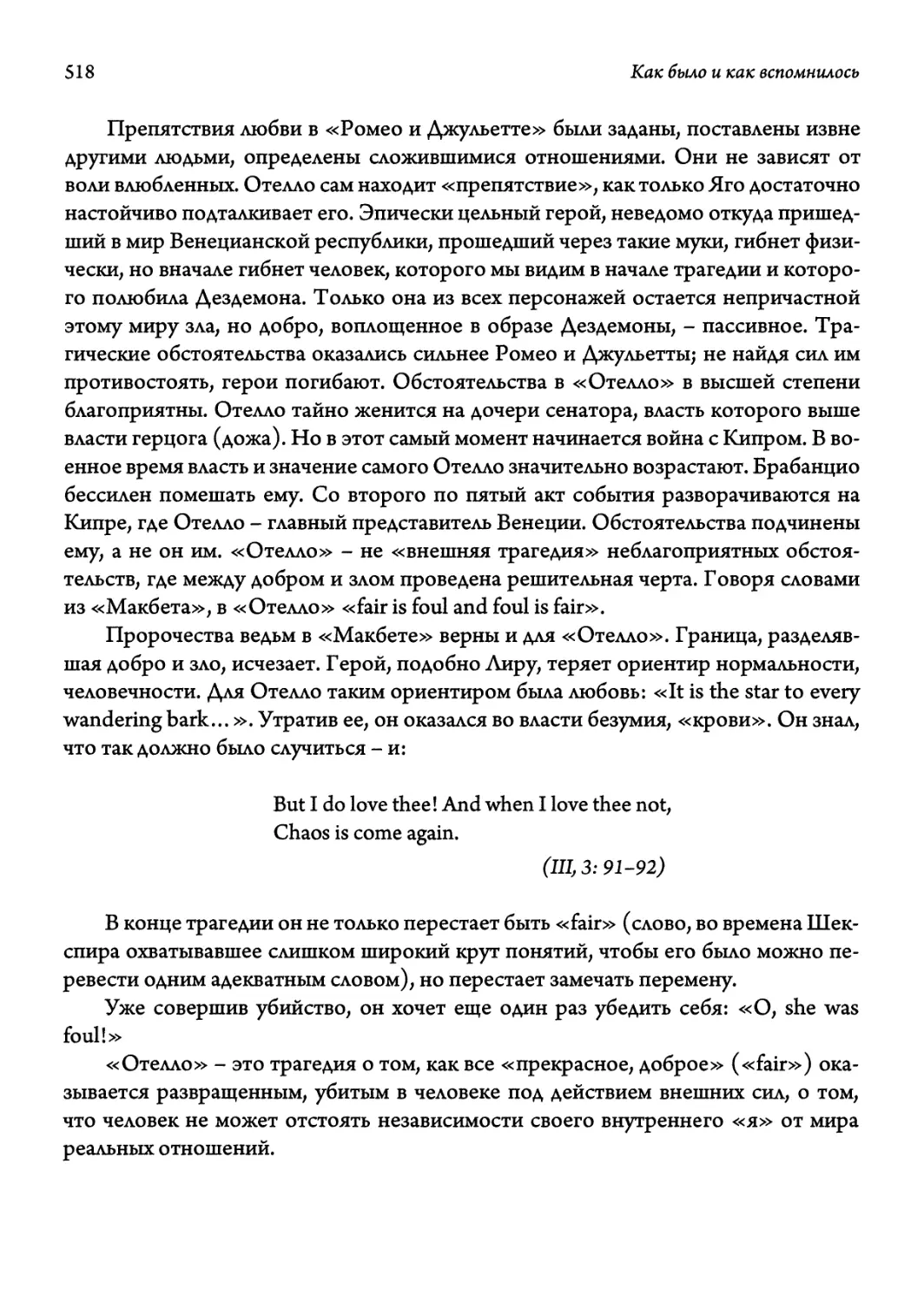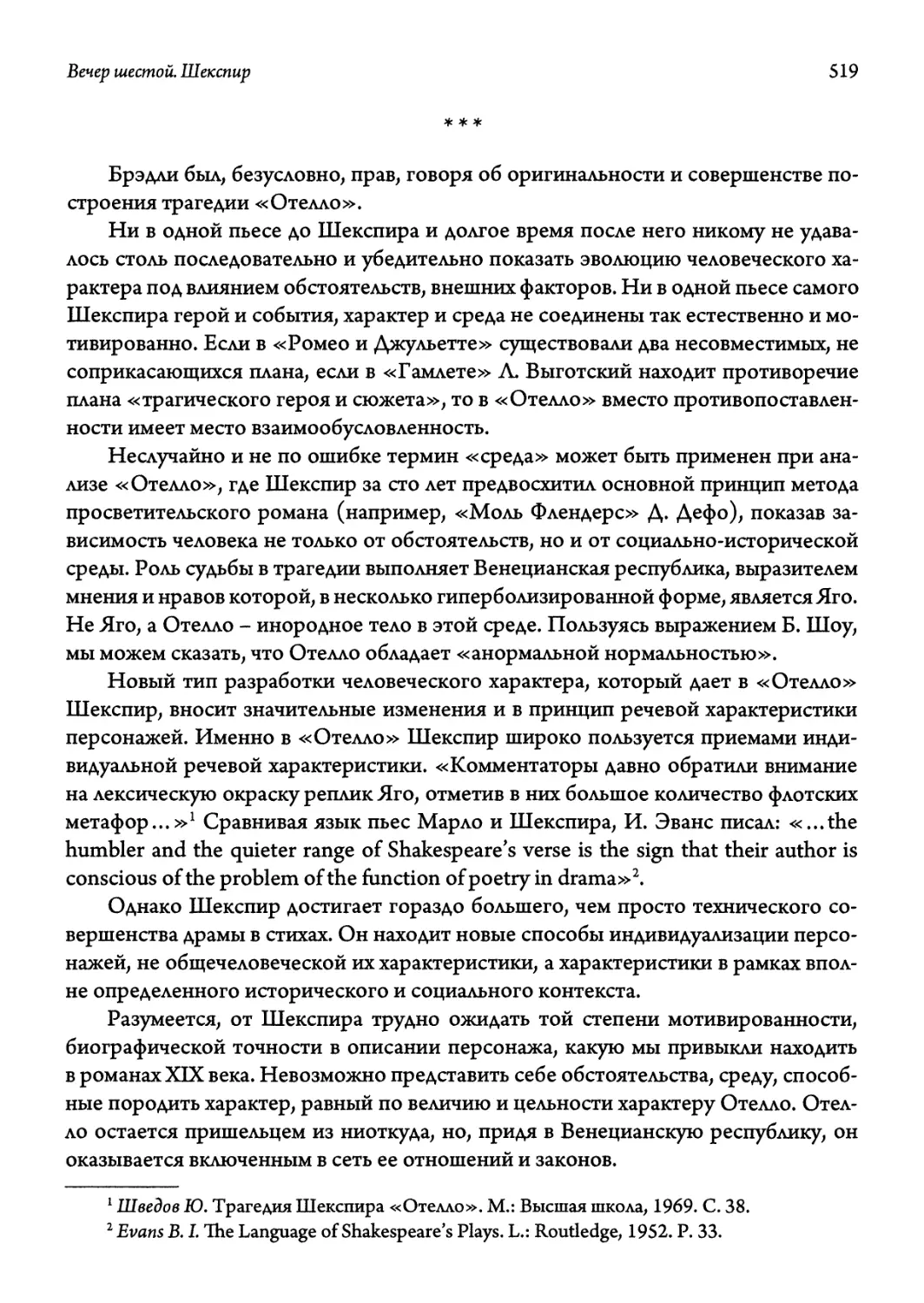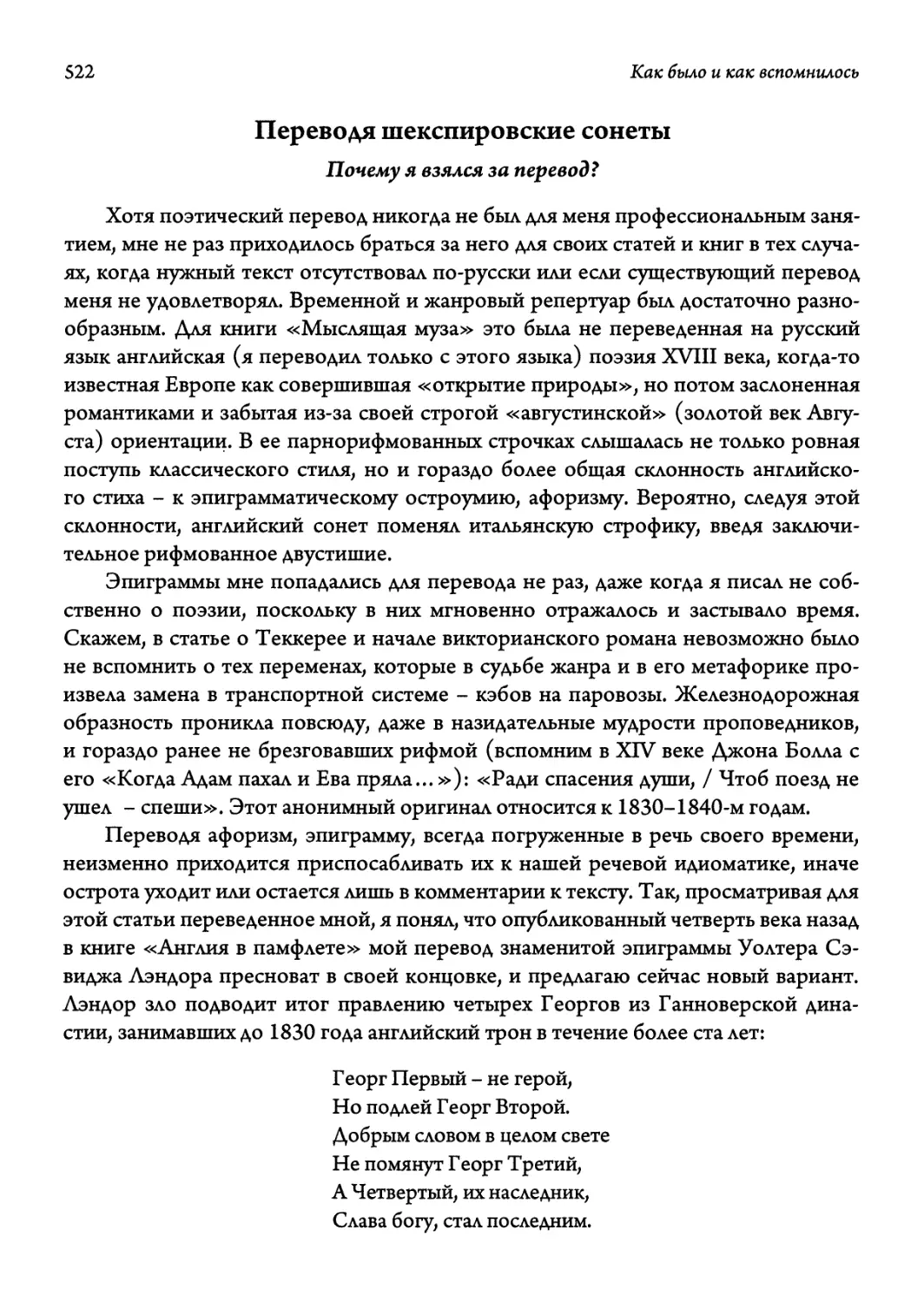Автор: Луценко Е.М.
Теги: русская литература художественная литература историческая литература
ISBN: 978-5-906980-67-0
Год: 2017
Текст
ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА
КАК
БЫЛО
И КАК ВСПОМНИЛОСЬ
ШЕСТЬ ВЕЧЕРОВ
С ИГОРЕМ ШАЙТАНОВЫМ
Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2017
УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6
К 161
К 161 Как было и как вспомнилось. Шесть вечеров с Игорем
Шайтановым / ред.-сост. Е.М. Луценко, С. А. Чередниченко. -
СПб.: Алетейя, 2017. - 542, [20] с.: цв. ил.
КВЫ 978-5-906980-67-0
В книге «Как было и как вспомнилось...» собраны тексты разных
жанров. Это и мемуарные свидетельства советского и постсоветского
периодов, и литературоведческие статьи, и общественно-политические
эссе, и переводы с английского, и шуточные экспромты. Объединяющее
начало для этих разных текстов - личность Игоря Олеговича Шайтанова.
Шесть глав книги - шесть вечеров - это беседы о литературном
процессе и филологии середины 1960-х - начала 2000-х в тех аспектах,
которые особенно важны для И. О. Шайтанова. Темы бесед и материалов:
«вологодский текст» русской литературы, русская поэзия и проза XX века,
Шекспир и эпоха Возрождения, российский и западный университет
вчера и сегодня, литературный быт прошлого и настоящего, самостояние
личности в потоке истории.
Книга приурочена к юбилею И. О. Шайтанова и рассчитана на широкий
круг читателей, интересующихся развитием отечественной гуманитарной
мысли во второй половине XX века.
УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6
ISBN 978-5-906980-67-0
785906 980670
© Коллектив авторов, 2017
© Е.М. Луценко, С. А. Чередниченко,
составление, 2017
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017
9
ОГЛАВЛЕНИЕ
Елена ЛУЦЕНКО. «Speak, memory!». К юбилею Игоря Шайтанова 8
ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ. «ДЕРЕВЯННАЯ СТОЛИЦА»
«У меня давняя, двухсотлетняя связь с Вологдой...». Беседу с Игорем Шайтановым
вели Елена Луценко и Сергей Чередниченко 16
Игорь ШАЙТАНОВ. Там, где звучат голоса истории 23
Игорь ШАЙТАНОВ. Над страницами семейного альбома 32
Олег ШАЙТАНОВ. Кое-что из-под пепла. Фрагменты воспоминаний 33
О вологодском быте середины прошлого столетия
Встреча с культурой на вологодской улице. Беседу сМ. Н. Богословской
вел Игорь Шайтанов 42
Ирина ГУРА Старая Вологда 47
Игорь ШАЙТАНОВ. Когда все только начиналось 58
Игорь ШАЙТАНОВ. Учитель английского 59
Вологодские пенаты
«Легкие стихи - самые трудные». Константин Батюшков 61
Поэт из Вологды. Николай Рубцов в традиции русского стиха 71
Ситуация переезда. Автор и герой в деревенской прозе 89
ВЕЧЕР ВТОРОЙ. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
«Хотите кафедру медиевистики?» Беседу с Игорем Шайтановым вели Елена Луценко
и Сергей Чередниченко 104
Владимир НОВИКОВ. Семидесятники 111
Ирина ЕРШОВА. Ars libera: новая наука в новом университете 116
Владимир ГАНИН. Маг слова, или Беседы на крыше 120
Игорь Шайтанов. О друзьях и коллегах
Мой друг Саня Фейнберг 126
Свобода быть собой. Нина Павловна Михальская 134
Поверх запретов. О Галине Андреевне Белой 137
«Моя домашняя библиотека всегда была рабочей». Беседу с Игорем Шайтановым вел
Леонид Клейн 139
ВЕЧЕР ТРЕТИЙ. СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И СОВРЕМЕННАЯ КРИТИКА
«Какая же это критика? Это Хемингуэй!» Беседу с Игорем Шайтановым вели Елена
Луценко и Сергей Чередниченко 143
Платформа Дубулты
Самуил ЛУРЬЕ. Три товарища. Признания лжемасона 152
Валентин КУРБАТОВ, Самуил ЛУРЬЕ, Игорь ШАЙТАНОВ. Платформа Дубулты.
Экзерсисы о вобле 153
Игорь ШАЙТАНОВ. Дар памяти. Отрывок из рецензии на книгу В. Дементьева 158
Евгения Книпович, литератор. Беседу с Е. Ф. Книпович вел Игорь Шайтанов 159
Игорь ШАЙТАНОВ. Время действия - настоящее. Александр Вампилов 165
Книга о Николае Асееве и ее критики
Игорь ШАЙТАНОВ. Выбор. Глава из книги «В содружестве светил» 178
Владимир НОВИКОВ. Кредо поколения 215
Лев ОЗЕРОВ. Уроки Асеева 221
В делах поэзии
Модели запретов и разрешений. Беседу с Игорем Шайтановым вели Елена Ауценко
и Сергей Чередниченко 228
Игорь ШАЙТАНОВ. Рыцарь поэзии. О Льве Озерове 234
Игорь ШАЙТАНОВ. Одноразовая форма 235
Алексей АЛЕХИН. Шайтанов и «Арион» 245
ВЕЧЕР ЧЕТВЕРТЫЙ. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
«По чьему доносу сел Заболоцкий?» Беседу с Игорем Шайтановым вели Елена Ауценко
и Сергей Чередниченко 250
Игорь Шайтанов. О неудобных писателях советского периода
«Англичанин» из Лебедяни. Евгений Замятин 255
Когда ломается течение. Исторические метафоры Бориса Пильняка 293
Между эпосом и анекдотом. Михаил Зощенко 324
Игорь Шайтанов. Колонки перестройки
Стилистические разногласия 329
Страна, которую оказалось не жалко 339
ВЕЧЕР ПЯТЫЙ. АНГЛИЯ
«Так мы с вами соседи...» Беседу с Игорем Шайтановым вели Елена Ауценко
и Сергей Чередниченко 365
Говорят слависты
Карен ХЬЮИТТ. Памятные моменты в Англии и России. Перевод с английского
Аюдмилы Егоровой 371
Робин МИЛНЕР-ГАЛЛАНД. «Whatever is, is right». Перевод с английского
Людмилы Егоровой 375
Дее беседы с англичанами
«И стих продолжает звучать». Английский взгляд на русскую поэзию.
Беседу с Дж. Смитом вел Игорь Шайтанов 379
Игорь ШАЙТАНОВ. Русское интервью Исайи Берлина 385
Быть либералом - значит жить и давать жить другим. Беседу с Исайей Берлином вел
Игорь Шайтанов 399
Английские поэты в русских предисловиях Игоря Шайтанова
Имя, некогда славное. Александр Поуп 420
Лирический опыт пережитого. Джордж Гордон Байрон 438
Поэтическое зрение Джона Китса 463
ВЕЧЕР ШЕСТОЙ. ШЕКСПИР
Как трудно быть Шекспиром. Беседу с Игорем Шайтановым вела Наталия Серова 472
«Дорожка к Шекспиру, не более того». Беседу с Игорем Шайтановым
вел Владимир Козлов 476
Казбек СУЛТАНОВ. Воля к ясности, или Ремесло филолога 481
Из личного архива Игоря Шайтанова
«Троил и Крессида» - на сцене 496
«В ней много слов и страсти». Комментарий к спектаклю «Генрих IV» 498
Природа трагического конфликта. «Ромео и Джульетта» - «Отелло» 505
Переводя шекспировские сонеты. Почему я взялся за перевод? 522
«SPEAK, MEMORY!»
К юбилею Игоря Шайтанова
Летом прошлого года в редакцию журнала «Вопросы литературы» позвони¬
ла профессор РГГУ с предложением принять участие в работе над книгой «Ком¬
паративистика в контексте исторической поэтики» - юбилейном издании, или
Festschrift - как любят обозначать этот жанр в Европе, - в честь заведующего ка¬
федрой сравнительной истории литератур и главного редактора ВопЛей Игоря
Олеговича Шайтанова. Именно тем августовским днем, в разгар сезона отдыха и
отпусков, в редакции родилась идея не просто написать статью для научного тома
РГГУ, но и создать свой liber amicorum, только не классического, а эссеистическо-
го характера - для более широкой неакадемической аудитории.
«Пусть это будет своего рода Shaytanov reader», - пошутил кто-то из нас,
вспомнив о прижизненных изданиях текстов и интервью разных ученых-гумани-
тариев, собранных воедино, - с комментариями и предисловием, объясняющим
их подборку. В определении концепции книги не последнюю роль сыграла и одна
из важных установок для Шайтанова-компаративиста: задача филолога - «раз¬
говорить» текст таким образом, чтобы читатель ощутил современность текста,
принадлежность эпохе, в которую он был создан. Поэтому внутренний повод кни¬
ги - отнюдь не юбилейная дата сама по себе. Нет, это в широком смысле слова
разговор, объединенный одной из главных фигур сегодняшнего литературного и
научного процесса, - порой задушевный, а порой довольно жесткий и честный -
о литературной ситуации второй половины XX века, начиная с середины 1960-х
и включая 2000-е. Это в немалой степени культурное свидетельство филологов-
«семидесятников», которым «теперь уже <... > по семьдесят лет», как остроум¬
но заметил в своем эссе Вл. Новиков.
В нашем издании Игорь Шайтанов - и главное действующее лицо, и сторон¬
ний наблюдатель. Шесть тем, лежащих в основе шести бесед с главным редактором
ВЛ, родились не случайно. О Вологде, его родном и горячо любимом городе, уни¬
верситетском образовании в советское время и после перестройки, о литератур¬
ном процессе и семинарах прошлого, об Англии и о Шекспире, в частности, - обо
всем этом мы так или иначе часто говорили с ним на протяжении десяти лет со¬
вместной работы в «Вопросах литературы», на мастер-классах фонда С. А. Фила¬
това для молодых критиков в Липках, во время кофе-брейков конференций в РГГУ
и прогулок - после встреч журнала с читателями - в Москве и других городах Рос¬
сии, а иногда и без особенного повода - за столом в радушном доме Шайтановых.
Елена Луценко. «Speak, memory!»
9
Некоторые вечера навсегда останутся в памяти - стол, заботливо и изящно накры¬
тый хозяйкой дома, звук бокалов красного вина «Менар», неторопливая беседа,
перемежаемая шутками и байками прошлого, которых в арсенале хозяина дома не¬
истощимое количество. Шесть вечеров - мемориальное свидетельство, в котором
листает страницы прошлого сама жизнь, раскрывая бережно хранимый памятью
литературный быт. Одним словом, «Время действия - настоящее», - уверенно
скажет И. Шайтанов в своей статье 1974 года о современной драматургии: пьесах
Вампилова и их кино- и театральных переложениях.
Подзаголовок книги, современник ушедшей эпохи, косвенным образом отсы¬
лает к прогремевшей в конце 1970-х пьесе Володина, ставшей не только киноше¬
девром благодаря актерской работе Ст. Любшина и Л. Гурченко, но и символом
советского времени наряду с «Покровскими воротами» и «Иронией судьбы».
Такой запомнилась Михалкову, Козакову и Рязанову эпоха: будучи частью своего
времени, они не переставали творить его в своих фильмах. Эта же модель - в осно¬
ве нашей книги.
Фундамент каждого раздела книги - интервью, жанр сиюминутный, разговор¬
ный. На слух и даже при прочтении порой сложно уловить все смыслы, события,
имена, названия, о которых говорит такой эрудированный собеседник, как Игорь
Олегович Шайтанов. Многое остается за кадром, и потому - для полноты картины
в нашей книге мы предоставляем слово... текстам филолога, на которые он прямо
или завуалированно ссылается в интервью. Эссе и статьи были собраны нами по
крупицам из разных источников - вступительных текстов к книгам, которые автор
готовил к печати в разные годы, воспоминаний об ушедших друзьях, ровесниках и
старших современниках, политических газетных колонок 1990-х; кое-какие мате¬
риалы - из личного архива ИШ (его традиционная подпись в деловых и-мейлах) -
были старательно набраны нами на компьютере, ибо существовали только в маши¬
нописи. Так, для раздела о Вологде 1950-х годов, о детстве мальчика, встречавшего
по недосмотру няньки смерть Сталина с красным флажком в руках и запомнивше¬
го «синие фанерные ларьки» с икрой, а вовсе не со сладким мороженым, были
оцифрованы воспоминания декана исторического факультета Вологодского ин¬
ститута Олега Владимировича Шайтанова, озаглавленные скромно, но с большим
достоинством - «Кое-что из-под пепла».
«Как было и как вспомнилось» - название не случайное. Именно так была
озаглавлена ранняя тоненькая книжечка Игоря Шайтанова о мемуарной прозе,
увидевшая свет в начале 1980-х, когда поколение филологов, родившихся в далекие
1940-е, после окончания Великой Отечественной войны, лишь обретало творче¬
скую зрелость. Удивительно, какую россыпь имен дал тогдашний филологический
факультет МГУ - на одном курсе с Игорем Шайтановым учились Александр Фейн-
берг, Александр Ливергант, Владимир Новиков, Юрий Фридштейн, Александр
Сергиевский, Лев Соболев, Борис Дубин, Виктор Ерофеев, Михаил Филиппов;
10
Как было и как вспомнилось
несколькими курсами старше была Екатерина Гениева, несколькими младше -
Денис Драгунский... На русском отделении преподавали Сергей Михайлович
Бонди и Николай Иванович Либан, среди зарубежников - любимый студентами
Владимир Владимирович Рогов. То было время, когда Литпамятники «в теплое
время выкладывали на столиках вдоль улицы Горького» и «за копейки была до¬
ступна любая книга» (из эссе «Мой друг Саня Фейнберг»).
Студенческие годы, о которых вспоминают на страницах книги филологи-се¬
мидесятники, поразительны калейдоскопичностью университетской и - шире -
литературной атмосферы, двойственностью мировосприятия. С одной сторо¬
ны, - дело Синявского, с другой - семинары Поспелова, душевное общение со
старшими наставниками. В одной из бесед И. Шайтанов рассказывает любопыт¬
ный эпизод о своем общении с Вл. Роговым:
Помню, я выхожу из Иностранки, которая тогда уже въехала в современное
здание на Котельнической, а напротив был такой старорежимный пивной ларек
с мокрыми столиками и огромными бочками, поставленными на попа. Встречаю
Рогова, он меня манит в ларек (не помню даже, пили ли мы пиво), но помню, что
он сообщил о последнем своем переводческом деле: «Перевел сонеты Милтона
для тома в БВЛ». И тут же, на бочках, прочитал мне их, дав оригинал для сравне¬
ния (из интервью «Хотите кафедру медиевистики?»).
Но это лишь одна сторона медали, лишь маленький глоток воздуха. На самом
деле занятия английским Возрождением и Шекспиром, начатые в студенческие
годы на семинарах Рогова, Шайтанову в скором времени пришлось оставить, так
как Рогов не мог прижиться на кафедре Самарина и ушел из университета. В силу
тогдашнего расклада сил на кафедре зарубежной литературы МГУ осмысление
английского Возрождения уступило место занятиям по английской драматургии
XX века, изучение которой переросло для Игоря Шайтанова в сюжет кандидат¬
ской диссертации в МПГУ, так как рекомендации в аспирантуру МГУ после защи¬
ты диплома получить было нельзя:
...работал я увлеченно, но защита отбила у меня всякую дальнейшую охо¬
ту: профессор Ивашева (отношения с которой к этому времени у меня совсем
скисли - я не приходил, не советовался, не выказывал интереса к обостренной
классовой борьбе и поступательному движению английской литературы в сто¬
рону соцреализма, не разоблачал тех, кто с этого пути сошел или на него не
встал) устроила мне идеологическую выволочку, так что председатель комиссии,
приглашенный со стороны и мне лично незнакомый М. В. Урнов, изумленно
встал на мою сторону, не будучи в курсе университетской закулисы (из эссе о
Н. П. Михальской «Свобода быть собой...»).
Елена Луценко. «Speak, memory!»
11
На этом примере хорошо просматривается политическое настроение конца
1960-х годов - желанная свобода была близка, но все еще не вступила в свои права.
Еще один показательный творческий жест в осмыслении столкновения ста¬
рой идеологии и новомыслия - знаменитый спектакль Георгия Товстоногова по
хронике Шекспира «Генрих IV» (1972), на который Игорь Шайтанов откликнул¬
ся рецензией «В ней много слов и страсти». Спектакль, поразивший современни¬
ков величием замысла и актерским составом - С. Юрский, О. Борисов, Е. Лебедев,
В. Стрижельчик, Е. Копелян... Это один из самых знаменитых шекспировских
спектаклей в России во второй половине XX века, в котором режиссер Б ДТ увидел
рождение Нового времени с его страстным и жизнеутверждающим ренессансным
мироощущением, переданным драматургом в образе Фальстафа - «эпикурейца,
богохульника, пьяницы и - в то же время - человека, который всем своим суще¬
ством восстает против фанатизма средневекового, [выступая] за все то, что несла
с собой новая эпоха и что раньше других предвидел и почувствовал великий драма¬
тург Шекспир» (цитата из видеоинтервью с Г. Товстоноговым, передача «Новое
в театрах»). О Фальстафе двадцать лет спустя, в 1990-е и 2000-е, опытный лектор
будет рассказывать на занятиях по эпохе Возрождения в РГГУ, всегда собирав¬
ших полные аудитории. В 1972-м же - взыскательный критик, с детства читавший
Шекспира в оригинале, будет не во всем согласен с Товстоноговым и скажет об
этом прямо, хотя текст опубликовать так и не удастся: «Никаких театральных свя¬
зей у меня не было: написал и послал в журнал “Театр”. Ответили, что рецензия
уже не то заказана, не то напечатана. Потом ее легко можно было бы напечатать,
но почему-то не хотелось» (из переписки с ИШ).
В разговоре с Игорем Шайтановым редко услышишь одобрительные сло¬
ва о театральных постановках Шекспира на современной сцене, если только это
не сцена «Глобуса» или лужайка колледжа св. Магдалены в Оксфорде. Но тогда,
в 1970-е, он охотно отзовется на призыв времени еще одной рецензией на Шек¬
спира, посмотрев «Троила и Крессиду» в постановке Красноярского молодежно¬
го театра, а позднее напишет большую работу об историзме шекспировских пьес.
Эти тексты - в шестом разделе нашей книги.
К началу 1970-х относится еще одно важное творческое начинание, о кото¬
ром теперь помнят, должно быть, лишь участники процесса. Постановлением
ЦК КПСС 1971 года «О литературно-художественной критике» было решено
регулярно проводить семинары молодых критиков. Руководитель и организатор
проекта Валерий Дементьев так вспоминал о начале работы семинаров во вступи¬
тельной статье к одному из сборников «Молодые о молодых», издававшихся по
результатам работы творческих мастерских:
Осенью 1971 года состоялось зональное совещание молодых критиков
в Комарове, весной 1972 года был проведен республиканский семинар в
12
Как выло и как вспомнилось
Дубултах <... > в марте 1973 года Совет по критике и литературоведению Сою¬
за писателей РСФСР совместно с ЦК ВЛКСМ провел Всероссийский семинар
молодых критиков в Переделкине <... > Индивидуальные занятия, беседы с эсте¬
тиками и литературоведами, встречи с писателями - Мариэттой Шагинян, Ни¬
колаем Тихоновым, Валентином Катаевым, Вадимом Кожевниковым, Виталием
Озеровым, Сергеем Залыгиным, Андреем Вознесенским, - все вместе взятое
создавало неповторимую атмосферу переделкинского семинара1.
Среди участников проекта, принимавших в разные годы участие в семинарах
в Комарове, Дубултах, Малеевке и Переделкине, - такие известные впоследствии
критики и филологи, как Сергей Чупринин, Сергей Боровиков, Самуил Лурье,
Георгий Анджапаридзе, Валентин Курбатов и др. Среди руководителей ма¬
стер-классов - Иосиф Львович Гринберг, Валерий Васильевич Дементьев, Инна
Ивановна Ростовцева; почетной гостьей была приглашена Евгения Федоровна
Книпович, много времени отдававшая общению с семинаристами. О ней - много
лет спустя - Игорь Шайтанов напишет так:
Она была воплощением литературной среды, в которую мы входили, - ста¬
рейший критик, один из влиятельнейших литераторов, но над всем этим па¬
рило - последняя любовь Блока, с кем поэт собирался ехать в Финляндию, но
помешала смерть. Ко времени нашей встречи былая красота лишь угадывалась
в поразительного - какого-то фиалкового цвета - помертвевших глазах (из пре¬
дисловия к интервью с Евгенией Книпович).
«Маленького роста, очень полный, он вечно топорщился свернутыми
в трубочку журналами, которые торчали из всех карманов. Он нес литературу
в себе», - таким запомнился семинаристам Гринберг (из интервью третьего ве¬
чера «Какая же это критика...»).
Мало кто знает, что в 1974 году в Дубултах родился шутливый союз трех
молодых критиков - Самуила Лурье, Валентина Курбатова и Игоря Шайтано-
ва, сочинивших совместный манифест «Платформа Дубулты», который со¬
всем не вызвал восторга Дементьева - опять же политическая осторожность все
еще давала о себе знать. Другой шутливый экзерсис трех масонов (выражение
Лурье) - три разножанровых опуса о... вобле (предмете весьма не поэтическом и
довольно бытовом), написанных на спор после творческого вечера украинского
поэта Ивана Драча. Эти тексты впервые обретут своего читателя.
В своих опасениях Дементьев был отчасти прав - в 1970-е нужно было уметь
хорошо писать не только о том, что нравилось, но и - прежде всего - о насущном,
1 Дементьев В. Критика - это наука // Молодые о молодых / Сост. и общая редакция
В. Дементьева. М.: Молодая гвардия, 1974. С. 6-7.
Елена Луценко. «Speak, memory!»
13
советском. Именно по этой причине, рассказывает в одном из интервью Игорь
Шайтанов, его долго отказывались принимать в Союз писателей, так как не было
нужных публикаций - о Фадееве или других советских классиках. В аспирантские
годы Шайтанову хотелось написать кандидатскую диссертацию о жанре детек¬
тива - увы, увлекательный жанр был под подозрением, и авторитетный литерату¬
ровед Борис Иванович Пуришев лишь неодобрительно покачал головой. Мечтал
написать книгу о Заболоцком, а разрешили - про Асеева. Книга, надо сказать, была
заинтересованно принята критиками, в частности, большой похвалой прозвучала
рецензия Льва Озерова, младшего друга Асеева, и Владимира Новикова, написа-
шего о книге как о манифесте поколения критиков.
В 1980-е Игорь Шайтанов много размышлял о советской литературе, но по
закону внутреннего сопротивления - больше об именах малоудобных для офици¬
альной критики - Замятине, Пильняке, Зощенко. О Замятине - готовил в «Дро¬
фе» книгу, но серия, для которой она планировалась, к сожалению, закрылась.
Безусловно, в жизни было и живое общение с советскими классикам - например,
со Львом Адольфовичем Озеровым, с которым вместе бывали в разных поездках
по долгу литературной службы (см. интервью «Модели запретов...»). «Рыцарь
поэзии» - скажет о нем Шайтанов в своем мемуарном эссе.
В мемуарном разделе книги нет эссе о Татьяне Бек, с которой Игорь Шай¬
танов был хорошо знаком в 1990-е годы и работал одно время вместе в «Вопро¬
сах литературы» в начале 2000-х. Это эссе, многократно переиздававшееся, как
и многие статьи Шайтанова о поэзии, заинтересованный читатель без труда най¬
дет в книге «Дело вкуса» (2007). Мы же предлагаем слово главному редактору
журнала «Арион» Алексею Алехину («Шайтанов и “Арион”»), который вспо¬
минает о поэтической ситуации 1990-х и о тесном литературном сотрудничестве
с Игорем Шайтановым.
В марте 1992 года, перед моим отъездом в Россию, Джерри Смит, профес-
сор русской литературы в Оксфорде, попросил меня найти «человека по име¬
ни Игорь Шайтанов» <... > Джерри хотел, чтобы я передала ему приглашение
провести месяц в Оксфорде. Москва - большой город. На мое счастье <...> я
встретила Игоря - совершенно случайно - в доме Нины Павловны Михальской,
где мы втроем провели прекрасный вечер, обсуждая английскую литературу.
Мне сразу стало ясно, что разговоры такого рода могут продолжаться месяцами,
годами, - так оно и оказалось, -
говорит о своем знакомстве с Шайтановым в те же годы Карен Хьюитт, лектор
из Оксфорда, основатель ежегодного международного пермского семинара «Со¬
временная британская литература в российских вузах». К тем же перестроечным
временам относится и знакомство Игоря Шайтанова со славистом из Сассек-
са Робином Милнер-Галландом и профессором из Оксфорда Джерри Смитом.
14
Как было и как вспомнилось
Милнер-Галланд, любезно согласившийся написать эссе для нашей книги, вспо¬
минает маленький занятный эпизод, очень точно характеризующий московского
коллегу:
...Игорь обыкновенно шел к центру города тихой пригородной улочкой,
но мысли его были далеки от повседневности. Это обнаружилось в последний
день визита, когда сын обратил внимание Игоря на необычность одного дома:
его украшала скульптура большой акулы, будто пробившей крышу, над которой
возвышался ее хвост. Игорь каждый день проходил мимо, но знаменитой скуль¬
птуры не замечал (из эссе Р. Милнер-Галланда «Whatever is, is right»).
Речь идет о Хедингтоне, отдаленном районе Оксфорда: акула, ныряющая
в крышу малоэтажного дома, настолько крупная по размеру, что ее видно издалека,
даже из окна автомобиля или автобуса. Говоря по справедливости, Хедингтон при¬
влекал литературоведа совсем другим - здесь в 1994 году состоялась беседа Игоря
Шайтанова с сэром Исайей Берлином, опубликованная в журнале «Вопросы ли¬
тературы». В это время произведения Берлина только начинали входить в моду
в России, а история ночной беседы с Анной Ахматовой в Ленинграде 1945 года
подогревала интерес общественности к его фигуре. Разумеется, совсем не пикант¬
ные подробности интересовали русского интервьюера: концептуальный разговор
касался школы истории идей и теории либерализма, разработанной Берлином, по¬
нятия свободы и ее понимании в современном мире и в историческом прошлом.
Другое интервью, публикуемое pendant к беседе с Исайей Берлином, - было взято
Игорем Шайтановым у упомянутого выше слависта Джеральда Смита, специали¬
ста по русской поэзии, в начале 1990-х работавшего над составлением антологии
по современной русской поэзии. Речь шла и о феномене Бродского - тогда его
поэзия на русском и английском языках вызывала большие споры.
В 1990-е годы занятия английской литературой становятся приоритетными
для Шайтанова-литературоведа. Растет интерес к комментированным издани¬
ям английских классиков - и один за другим выходят книги с комментарием и
предисловием Игоря Шайтанова - «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея (1986),
«Англия в памфлете» (1987), «Лирика» Байрона (1988), «Поэмы» А. Поупа
(1988), «Стихотворения» Дж. Китса (1989) и др. Три поэтических предисловия
по нашей просьбе были заново подготовлены для книги - эссе о Поупе, Китсе и
Байроне.
Удивительно, что в смутном постперестроечном времени издательству «Ин-
тербрук» удается выпустить шекспировский восьмитомник, к которому Игорь
Шайтанов написал предисловие («О Шекспире, драматурге и поэте»). Эта ста¬
тья восходит в своих основных постулатах к ранней работе, написанной для аспи¬
рантского экзамена в МПГУ, - «Историзм трагического конфликта в хрониках
Шекспира».
Елена Луценко. «Speak, memory!»
15
Шекспир «Интербрука» не просто «пришелся ко двору», но разлетелся не¬
вероятными тиражами (1994, 1997), став своего рода примером перестроечного
постмодернизма: «Открываешь, скажем, комедию "Сон в летнюю ночь", чита¬
ешь все по тексту, но вдруг: "Входит Лаэрт”. Это страничка из "Гамлета” залете¬
ла», - вспоминает сам шекспировед на страницах «Иностранки» (2014, № 5).
В те же годы на полках книжных магазинов появятся учебники Игоря Шайтанова
по эпохе Возрождения (первое изд. - 1997) и «Шекспир для ученика и учителя»
(1997) - книги, рассчитанные не только на узкого специалиста, но и на широкую
аудиторию, так как внутренняя установка автора - постоянный диалог с читате¬
лем, популяризация (в хорошем смысле этого слова) английского Возрождения.
В 2000-е - в коллективных шекспировских изданиях, в работе с магистрами и аспи¬
рантами, на ежегодном шекспировском семинаре в РГГУ - ученым будет пред¬
принята попытка создать новый шекспировский круг - общими усилиями под об¬
щей редакцией И. О. Шайтанова выйдут в свет «Шекспировская энциклопедия»
(2015), шекспировский шеститомник «Великие трагедии в русских переводах»
(2014-2016), «Римские трагедии» (2017). Выйдет и «Шекспир» Шайтанова
вЖЗЛ (2013).
О шекспировских трудах Игоря Олеговича Шайтанова, как и о его рабо¬
тах в области компаративистики, в нашей книге сказано не так уж много. Пусть
об этом расскажут читателю его книги - решила редакция ВЛ. И тут же внесла
уточнение - пусть под занавес наших вечеров в Большом Гнездниковском про¬
звучит эссе Казбека Султанова, в котором он с точностью компаративиста
восстанавливает распавшуюся связь советских и постсоветских десятилетий,
вправляет «вывихнутое время», ведя свой рассказ от литературных Дубултов,
где он впервые встретился с Игорем Шайтановым, через отшумевшие 1980-
1990-е - к вечным Шекспиру и Пушкину, подтверждая простую мысль: написан¬
ные легко и изящно, эссе и статьи Игоря Шайтанова переносят читателя в дру¬
гие века и тем самым, раздвинув границы сознания, позволяют ощутить советское
время с его амбивалентностью лишь частью большого литературного процесса,
помогают нам стать современниками разных эпох, оказавшись поверх запретов.
Елена Луценко
ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ. «ДЕРЕВЯННАЯ (ЮДИНА»
«У меня давняя, двухсотлетняя связь с Вологдой...»
Беседу с Игорем Шайтановым вели Елена Луценко и Сергей Чередниченко
- Игорь Олегович, вы часто бываете в Вологде, городе вашего детства, который
так любите. Какой была послевоенная Вологда в 1950-е? Это было, вероятно, непро¬
стое время для вашей семьи?
- Мое детство в бытовом смысле было благополучным, но следы разгрома се¬
мьи в 1937 году, конечно, чувствовались. Деда Василия Андреевича арестовали, он
18 лет провел в лагерях и в ссылке. Бабушку арестовали на два года, квартиру кон¬
фисковали, все забрали, потом бабушка добивалась хоть какого-то жилья и жила -
это уже на моей памяти - до конца 1950-х годов в маленькой жуткой комнатке на
первом этаже деревянного дома. Я прекрасно помню, как и меня арестовывают
в день смерти Сталина. Нянька, деревенская девчонка, вывела меня на улицу гу¬
лять и сунула мне в руку, мальцу шестилетнему, красный флажок. Мы идем с ней
по улице Ленина, и к нам подходят военные дяди с красно-черными повязками и
ей что-то говорят. Она в ужасе хватает меня и несется домой.
-Ас бытовой точки зрения каким было ваше детство?
- Вы знаете, это было время, которое для меня, по детским воспоминаниям,
в быту не было тяжелым. Торт купить было нельзя, но все пекли торты и пироги.
Мяса не было, но у нас соседка была преподавательница института - Лихачева Лия
Яковлевна, - а ее муж был директором совхоза. Я прекрасно помню, как зимой на
санях, бывало, привозят битую птицу и куски мяса. Это все хранилось на окнах и за
окнами, но в основном между рамами хранились банки икры. Единственное, что
продавалось, - икра и крабы. Помню эти синие фанерные ларьки. Зимой мороже¬
ное в них не продавали, а ставили банки с чадкой.
- Тогда ведь были огромные очереди за продуктами,,,
- С заднего двора дома, где я жил (общежитие на берегу речки Золотухи), да¬
вали (именно «давали»! - советское словечко, в котором и иллюзия общедоступ¬
ности, и - в действительности - невозможность купить) временами муку, сахар
и другие продукты. Помню эти темно-кирпичные стены из грубого фабричного
кирпича, черную дорогу по колено в грязи. Люди записывались за продуктами...
Нянька тащила меня, четырехлетнего, мне писали на ручке какой-то там сотый но¬
мер, и мы стояли в очереди. Это было, но нечасто. Все-таки я не провел детство
в очередях. Я жил вполне благополучно. Скажем, рядом был маленький деревян-
Вечер первый. «Деревянная столица»
17
ный домик, в котором жил мальчик меня на год старше (потом он станет чинов¬
ным начальником). Я изумлялся, попадая к ним в комнатку: там ничего не было.
Когда он приходил к нам, то мама его тут же кормила, усаживала обедать.
- А у вас в юности в Вологде были любимые места, где вы собирались с друзьями,
чтобы посидеть, выпить чашку кофе ?
- Какая чашка кофе, вы смеетесь? Когда я учился в старших классах, начали
открываться маленькие пельменные и кафе (их было два-три в городе), которые
напоминали что-то ресторанное (хотя несколько ресторанов, конечно, тоже
было). Еда там была ниже среднего, но иногда мы с приятелями туда захаживали.
Было такое кафе, «Нептун», по-моему, оно называлось, где можно было что-то
выпить, чем-то закусить. За небольшие деньги, которые у нас водились, мы это
делали. А первое кафе, где подавали кофе, сваренный из кофе, а не сотворенный
в оцинкованных ведрах из чего-то условно называемого кофе, и молочный кок¬
тейль, который был совершенно немыслимым изобретением, открылось на улице
Мира. Там продавали блины, молочный коктейль, кофе, сухие пирожные... всегда
стояла очередь. Это случилось году в 1964-м.
- А в какой школе выучились?
- Она помещалась в здании бывшего реального училища, построенного в на¬
чале второй половины XIX века на фундаменте средневековых складов Соловец¬
кого монастыря. Вы знаете площадь в Вологде, где теперь Воскресенский сквер?
В годы моего детства и юности он назывался «садик с красными дорожками», по¬
тому что они были посыпаны битым кирпичом. На площади когда-то были муж¬
ская гимназия, духовная семинария - там учились все мои предки... По традиции,
как во всех городах, они терпеть не могли друг друга и на этой грязной площади
сходились для мордобоя... (Смеется.)
- В 1950-е годы ваша школа тоже называлась гимназией?
- Нет, школа № 1 города Вологды. Она всегда считалась привилегированной.
В ней училась моя мама, в ней работала моя бабушка Манефа Сергеевна и так да¬
лее. Я с этой школой был связан давно, но учился в ней только с пятого класса.
Дело в том, что, когда мне надо было идти в первый класс, родители разузнали по
всему городу, где лучшая учительница начальной школы. И они нашли Клавдию
Павловну Попову, которая в это время должна была уходить на пенсию (ей испол¬
нилось 55 лет) в 1954 году, значит, ей было 18 в 1917-м.
- Ровесница века...
- Да, ровесница века, она была типичной дореволюционной провинциальной
интеллигенткой, всю жизнь прожила с сестрой в деревянном доме. Всегда в на¬
крахмаленной блузке, строгой юбке. Гладко причесанные седые волосы, выправка,
как у гвардейского офицера. Вежливая, тихая, по-своему красивая, действительно
замечательная учительница. Она была учительницей начальной школы номер 18
по улице Чернышевского, где я и начал учиться.
18
Как было и как вспомнилось
- Это деревянный особнячок?
- Да, деревянный одноэтажный особняк, дом графов Зубовых, и в нем я учил¬
ся всю начальную школу. Я учился в исторических зданиях. Увы, это здание лет 15
назад снесли.
- Были ли в школе учителя, которые вам особенно памятны?
- Учитель английского языка был замечательный - Зельман Шмулевич Щер-
цовский. О нем я написал маленькое эссе к его 75-летию в газете «Красный Се¬
вер». Он всегда входил в класс резким шагом. Просторные комнаты реального
училища, высота потолков, как у нас в «Вопросах литературы», за рядами парт
всегда оставалось приблизительно еще такое же - без парт... Учительские сто¬
лы были фанерными, на них чернильница-непроливашка... Он подходит к сто¬
лу, все орут, и так спокойно бьет кулаком по столу: «РазгильдАи!» Черниль¬
ница подлетает на пару метров, все затихают. Он эмигрировал во время войны
из Польши, поэтому по-английски и по-немецки, по-польски и на идише он го¬
ворил, может быть, и лучше, чем по-русски. По-русски он говорил с сильным
акцентом.
- А как Зелъман Шмулевич оказался в СССР?
- Тогда многие оказались, когда поляки бежали от немцев, потому что те
расстреливали евреев. И польские евреи в довольно большом количестве бежали
в Россию.
- Это с ним вы выучили английский язык?
- Отчасти и с ним, но первой меня учила Татьяна Ивановна Блинова (поз¬
же - Соколова). Когда я был в третьем классе, меня отвела к ней мама. Она жила в
огромном деревянном доме за церковью Иоанна Предтечи (в которой, разумеет¬
ся, были какие-то подсобные помещения садика). Ей было тогда лет 26. Крошеч¬
ная деревянная комнатка, учебника найти не могли, нашли какой-то годов 1940-х.
Английский язык тогда не учили, учили немецкий и французский. И первые два
слова, которые я выучил, почему-то были «демонстрация» и «гнездо». А потом
меня начал учить Вениамин Маркович Каплан. Очень пожилой господин, созда¬
тель вологодского Инфака сразу после войны. Английский он выучил в Англии,
где жил с 1906-го по 1914 год. Его выслали из Англии, когда началась война. И как
он сам говорил, англичане в нем признавали ирландца, говорили, что у него легкий
ирландский акцент.
- Необычный человек для Вологды того времени...
- Для Вологды конца 1950-х годов найти такого учителя было абсолютно
немыслимо. Он был старый интеллигент. В его крошечной комнате - они с же¬
ной жили в коммуналке - стоял пюпитр, и на нем лежал Вебстеровский словарь,
гигантский. Это все в то время воспринималось не как сейчас: было уникально,
как у Робинзона Крузо, - каждая вещь в единственном числе и неповторима. Мы
с ним начали читать адаптированную книжечку Майн Рида, но на второе или
Венер первый. «Деревянная столица»
19
третье занятие он мне дал наизусть учить монолог Марка Антония «Friends,
Romans, countrymen, lend me your ears!». С этого началось мое знакомство с Шек¬
спиром. Но это уже был класс шестой.
- В Вологде тогда было много иностранцев?
- Были поляки, например Юрий Юрьевич Пшепюрко, самый главный порт¬
ной Вологды. Он шил на Каменном мосту, где у него была мастерская. Купить
ничего было нельзя. Он шил отцу, шил мне - от пижамы до выходного костюма.
Я помню, когда я был школьником, мне решили сшить зимнее пальто и материал
на пальто купили, а воротник купить нельзя - нет. Приходим к Юрию Юрьевичу -
а он говорил гораздо хуже по-русски, чем Зельман Шмулевич, - делает знак: найду.
Поднимается куда-то на второй этаж, несет какую-то цигейку, гладит ее и пригова¬
ривает с удовольствием: «Аблизьяна!» Высшая похвала этой шкурке. (Смеется.)
- Очень колоритный господин! А ваши родители знали иностранные языки?
- Мать отца - полька, она со своей матерью говорила по-польски, когда хоте¬
ла, чтобы дети не понимали, поэтому отец польский понимал и читал по-польски,
но не говорил. Он свободно читал по-французски, поскольку занимался фран¬
цузской литературой, но говорить также не мог. Обычная ситуация с советски¬
ми специалистами по зарубежной литературе. Во время войны, эвакуированный
с семьей после их буквально бегства из горящего Смоленска в Пензенскую об¬
ласть, он в сельской школе преподавал немецкий язык, но я никогда не слышал от
него ни одной немецкой фразы или чтобы он читал на этом языке. А вот среди трех
книг, вынесенных из Смоленска, был томик французского Беранже. Еще одна -
Блок в малой серии «Библиотеки поэта». Я их храню. Отец не был на фронте, так
как у него открылся тяжелый туберкулез.
- Ваша бабушка жила в Вологде?
- Бабушка по отцу - Мария Оттоновна? Сначала в Архангельске, потом в
Петербурге, семья Межеевских была в XIX веке в основном петербургской. Ее
старшая сестра Елена, студентка Бестужевских женских курсов, приняла участие
в каких-то студенческих волнениях в 1906 году и была выслана в город Никольск
Вологодской губернии. А бабушка, окончив те же самые курсы, последовала за ней.
По семейной биографии я интеллигент с середины XIX века: мой прадед Гриффин
окончил Московский университет в 1855 году, около этого же времени мой пра¬
прадед Шайтанов, архимандрит, стал членом Императорского географического
общества - собирал и посылал в столицу вологодский фольклор.
- А ваш дед по линии отца тоже жил в Николъске?
- Мой дед, Владимир Ильич Шайтанов, окончив Казанский сельскохозяй¬
ственный институт, приехал в Никольск, получив распределение, и был главным
ветеринарным врачом, там и женился на бабушке Гриффин. Но в 1914 году (мой
отец родился в августе 1914-го) его, естественно, призвали в армию, и когда в на¬
чале 1918 года он вернулся из армии штабс-капитаном медицинской службы, то
20
Как было и как вспомнилось
утопил в пруду позади родительского дома в Вологде свое офицерское оружие.
Тогда Кедров, отец академика Кедрова, проводил на Вологодчине повальные рас¬
стрелы царских офицеров. И дедушка срочно уехал из Вологды в Никольск, где -
у меня сохранился этот документ - ему выдали удостоверение главного ветери¬
нарного врача Никольского уезда в 1918 году.
- Игорь Олегович, а почему после окончания Московского университета вы при¬
ехали жить в Вологду? Вы тогда хотели остаться в Вологде насовсем?
- Наверное, по нескольким причинам. Я очень скучал по Вологде, но глав¬
ное - в это время я не чувствовал себя готовым начать преподавать в столичном
вузе. Хотелось попробовать себя и лучше подготовиться.
- В 1970-е годы помимо преподавания в Вологодском пединституте вы писали
рецензии на театральные спектакли вместе с вашим близким другом, музыковедом
Морисом Бонфельдом. Как это получилось?
- С Морисом мы познакомились в тот первый год, когда я вернулся из универ¬
ситета. А он незадолго до этого приехал из Ленинградской консерватории, успев
поработать в Великом Новгороде в музыкальном училище два-три года. Он был
меня старше лет на восемь. Мы писали вместе только на один жанр - на оперетту.
Поскольку летом приезжали гастрольные театры, чтобы не покупать билет, я шел
в газету и говорил, что хочу писать рецензии, так как я уже писал для них (первые
рецензии я написал еще в университете). Я получал контрамарки на все спектакли,
и мы с Морисом встречались пораньше. Во-первых, театр был единственным ме¬
стом, где в буфете продавали сухое вино. Мы шли, пили грузинское вино, смотрели
спектакль. После шли к нему или ко мне и иногда до утра играли в эту литератур¬
ную игру: напиши рецензию. Откровенно ерничали: оперетта в июле, оперетта
в августе и так далее. У нас был общий псевдоним - Бонтанов.
- А помимо Вонфельда каким был дружеский круг вашего общения в 1970-е годы
в Вологде?
- После университета я по-настоящему, и уже не семейно, а самостоятельно,
вошел в вологодскую культурную среду. Там все большую роль играли мои свер¬
стники, друзья моего детства - музыканты: Лев Трайнин - скрипач, теперь (и уже
более 20 лет) директор Вологодского музыкального колледжа, Виктор Кочнев -
пианист, теперь руководитель и дирижер Вологодского духового оркестра. Наша
дружба продолжается, перевалив за полвека. А Морис Бонфельд был для меня, да
и для Вологды тогда, новым персонажем. Через него возник еще один круг мое¬
го очень близкого общения - врач-психолог Григорий Гиндин, реставратор икон
Валерий Митрофанов, Клим Файнбер... Увы, их никого нет в живых. Клим умер
несколько недель назад в Бостоне, куда он в 1990-е переехал с семьей. Он был на¬
стоящей звездой на вологодском небосклоне. По складу личности он должен был
верховодить, по своей начитанности и острому уму - мог это делать. Проработав¬
ший всю жизнь журналистом (в последние годы - заместителем главного редак-
Вечер первый. «Деревянная столица»
21
тора «Красного Севера»), он был настоящим филологом - с интересом, с пони¬
манием. Его кабинет являл место встреч, разговоров. Литература и, может быть,
более всего - поэзия были его постоянным чтением и предметом размышления.
Когда сходились вместе, он добавлял в любой разговор соль и перец, мы с ним
любили пикироваться, разница в возрасте (он был на полтора десятка лет старше,
настоящий шестидесятник, при начале дружбы мне - двадцать пять, ему - под со¬
рок) быстро стерлась.
- Вологда в большей мере город литературный, чем театральный. Кто из со¬
ветских писателей, живших в Вологде, был вам интересен ?
- Личностью был Александр Яшин. Его я видел пару раз в жизни, он первый
человек, с которым я играл в карты на интерес. Когда его в очередной раз начина¬
ли травить в Москве, он сбегал в Вологду. А там года с 1960-го первым секретарем
обкома - хозяином области - больше двадцати лет был Анатолий Дрыгин. Человек
властный, тяжелый, но уважавший культуру, прежде всего - литературу и театр.
На все премьеры в Вологде ходил. А раз первый в зале, то и весь партийно-хозяй¬
ственный бомонд сидит в первых рядах.
Под его покровительством и расцвела так называемая вологодская школа ли¬
тературы. Яшин же стал ее творческим авторитетом и наставником. Он был близ¬
ким знакомым Виктора Гуры, профессора литературы, шолоховеда, автора книги
«Как написан "Тихий Дон”», заходил к нему. Гура пригласил его как-то обедать -
кажется, как раз после скандала с «Вологодской свадьбой». Гуры были ближай¬
шими друзьями нашей семьи, и мы были приглашены, отчасти и потому, что хо¬
тели как-то развлечь Яшина, бывшего в подавленном состоянии. Яшин вообще не
произодил впечатление легкого человека. Обед кончился, разговор не особенно
клеился. Хотя я не помню, чтобы кто-то раньше играл в карты, тут составилась де¬
вятка. За отсутствием партнеров и меня обучили, а я возьми и всех обыграй. Яшин
играл азартно, завелся.
- А что за скандалы были с Яшиным?
- Хотя он и был вполне признанным и одобренным властью поэтом, но по¬
стоянно переступал черту дозволенного. Первый раз - в знаменитом альманахе
«Литературная Москва». Он написал очерк «Рычаги». Была даже пародия:
Прошли былые времена,
Была Алена Фомина.
Встал поэт с другой ноги
И нажал на рычаги.
«Алена Фомина» - его чисто сталинская, как «Кубанские казаки», поэма
о деревне. А «Рычаги» - про бюрократический способ управления деревней.
22
Как было и как вспомнилось
Произошел большой скандал. Но самый большой скандал случился в 1963 году
с «Вологодской свадьбой». Яшина в очередной раз обвиняли в очернении, иска¬
жении, причем его родной вологодской деревни.
-Ас другими вологодскими писателями вы были знакомы? С Николаем Рубцо¬
вым, например?
- Я приехал в Вологду после университета, а Рубцов зимой этого года погиб.
Рубцова я один только раз видел мельком перед его выступлением в областной
библиотеке.
- Долгие годы вы вели в Вологде вместе с Натальей Серовой знаменитый проект
«Открытая трибуна». Как он возник?
- Возник он довольно просто. Я приехал в Вологду году в 1993-м. Наташа
Серова сказала, что она очень хочет меня познакомить с тогдашним начальником
департамента культуры, поэтом Владимиром Кудрявцевым. У них возникла идея:
в новой действительности необходимо сохранить присущую Вологде культур¬
ную среду. С этой целью зимой 1994-го они провели в Вологде семинар журна¬
листов северо-запада, пишущих о культуре. В качестве выступающих со стороны
пригласили меня и знаменитого польского критика, деятеля культуры (он был
министром, кажется, телевидения в правительстве Бальцеровича) Анджея Дра-
вича. На этом семинаре у меня состоялся разговор с тогдашним вице-губернато¬
ром, курирующим культуру, Евгением Анатольевичем Поромоновым. Так начался
проект, получивший название «Открытая трибуна». Мое первое выступление на
следующий год было с лекциями о Шекспире в Русском Доме (я потом их не раз
продолжал).
Увы, вскоре Поромонов погиб в автокатастрофе. Но с пришедшим на его
место Иваном Анатольевичем Поздняковым у меня сложились еще более тесные
отношения - мы стали очень близкими друзьями. При нем и благодаря ему очень
многое происходило в вологодской культуре. Он умеет не только руководить, но
объединять, сближать, заводить людей. И именно благодаря ему наш проект рас¬
крутился. Кто только не приезжал! По моей части - литераторы, по линии Ната¬
льи Серовой, она профессиональный кинокритик, киношники, и не только: Чу¬
хонцев и Кушнер, Рейн и журнал «Арион», Татьяна Бек и Вера Павлова... Вадим
Абдрашитов, Антонино Гуэрра, Рене Герра...
- Насколько этот проект был результативен?
- Я не уверен, что проект решил задачу, которая ставилась, - воссоздать куль¬
турную среду, но во всяком случае он позволил что-то сохранить, дал возможность
тем людям, которые хотели слышать и видеть, получить желаемое. Народ прихо¬
дил. Сейчас снова просят продолжения. Наталья Серова стала воссоздавать про¬
ект в Кириллове, потому что Кирилло-Белозерский музей - федерального управ¬
ления, это другие деньги, и его директор проектом заинтересовался.
Вечер первый. «Деревянная столица»
23
- Обычно из всех небольших городов происходит вымывание наиболее талант¬
ливых людей. Как с этим в Вологде?
- Люди, уезжающие в юности из провинциальных городов в Москву и в Пи¬
тер, как правило, не возвращаются. Пока их родители живы, они еще наезжают, но
абсолютно меняется среда общения, там не остается друзей.
- Можно ли сказать, что вы сами живете на два города?
- У меня давняя, двухсотлетняя связь с Вологдой, я ее крепко ощущаю. Ну, и я
по своему духу и характеру консервативен, не люблю, когда рвутся связи, личные
или культурные. Я ведь и возвращаюсь не в чужой, а в свой дом - в родительскую
квартиру, к прежнему кругу друзей. Хотя я уже полвека в Москве, многое из того,
что мне особенно дорого, - в Вологде.
2016
Игорь Шайтанов
Там, где звучат голоса истории
Название для этого эссе подсказал театральный фестиваль, который раз
в два года проходит в Вологде, - «Голоса истории». Большинство спектаклей
проходит на открытом пространстве - в стенах Вологодского кремля. Первона¬
чально это был фестиваль исторических пьес, потом тематическое ограничение
было снято, но дух истории витает по-прежнему. Он рожден местом действия.
В Москве боятся террористов, в Вологде - барабашек. Вспоминаю первые
годы перестройки. Приезжаю в родной город, читаю газеты. Подвалы и целые по¬
лосы повествуют о злых духах. Перепечатывают отовсюду и предлагают свежие
местные новости. Перед ними политические потрясения, инфляция - все мер¬
кнет...
На человека со стороны это производило сильное впечатление. В лондонской
«Гардиан» в ноябре 1992 года появилась маленькая заметка «От вампиров холо¬
деет кровь»:
Жителям Вологды, города на севере России, есть о чем беспокоиться кро¬
ме инфляции и безработицы. Опрос, проведенный местной газетой, показал, что
больше всего они боятся вампиров. На втором месте среди того, что страшит
вологжан, стоят ведьмы и черная магия. За ними следуют барабашки и всякого
рода мелкая нечисть. Многие боятся Апокалипсиса. Два человека сказали, что
боятся, как бы Вероника Кастро, исполнительница главной роли в мексиканском
«мыльнике» «Богатые тоже плачут», не погибла в автокатастрофе. Четыре че¬
ловека сказали, что ничего не боятся.
24
Как было и как вспомнилось
Мне эту заметку показали в Оксфорде. И сказали, что мой город, видимо,
мало изменился с тех пор, как полтора века назад туда вместе с родителями был
сослан шестилетний Джозеф Конрад. Настоящее имя английского писателя -
Конрад Коженевский. Колония польских ссыльных в Вологде всегда была много¬
численной. На первых страницах английских биографий Конрада говорится, что
более года он провел в глуши, в тайге на далеком севере России. Чуть ли не вблизи
полюса.
Отец писателя через две недели после приезда в Вологду, в июне 1862 года,
писал: «Вологда - это огромное болото, которое тянется на три версты <...>
Здесь всего лишь два времени года: белая зима и зеленая зима. Белая длится девять
с половиной месяцев, зеленая - два с половиной. Сейчас только что началась зеле¬
ная, и дождь льет уже двадцать один день. И так будет до конца...»
Что же касается англичан, то они могли бы и лучше представлять местопо¬
ложение Вологды: через нее лежал путь из Лондона в Москву, которым прошел в
1553-1554 годах Ричард Ченслор и многие англичане после него. Так продолжа¬
лось до тех пор, пока Петр не основал новую столицу.
Среди англичан, побывавших в Вологде в средине XVII века, был - вероятно,
первая посетившая город литературная знаменитость - поэт-метафизик, друг ве¬
ликого Милтона, Эндрю Марвел.
Плыли морем до Архангельска. Потом зимой на санях до Вологды и дальше на
Ярославль. Отмечали, что в городе много церквей, что «тамошние товары - сало,
воск и лен».
Из Вологды был родом и первый посланник государства Московского к ан¬
глийскому двору, от Ивана Грозного к Елизавете Великой - Осип Непея.
Здесь кончается первый сюжет моего очерка - английский.
Второй сюжет: о вологодских древностях.
Летом, кажется, 1976 года я пошел знакомиться к Борису Сергеевичу Непеи-
ну. Семья священников и краеведов, потомки Непеи.
Имя Непеина я знал хорошо, иногда встречал его в газете «Красный Север».
А тут понадобилось о чем-то спросить. Меня интересовал Леонид Мартынов. Не
встречался ли Непеин с ним в средине 1930-х годов? И вообще, что происходило
тогда в литературной Вологде?
Если вдоль реки пройти пару сотен метров от Софийского собора и повер¬
нуть налево, там будет церковь Варлаама Хугынского, причудливая своим итальян¬
ско-барочным акцентом. Самый тихий и самый вологодский уголок города.
Маленький деревянный дом. Палисад. Огородик. Старая женщина разгибает
спину от прополки. На мой вопрос о Непеине спрашивает, кто я. Называюсь. Она
откликается узнаванием, но неожиданным: «У нас в гимназии Шайтанова пре¬
подавала географию». Говорю, что, наверное, родственница, но я о ней не знаю.
Венер первый. «Деревянная столица»
25
Семья была разветвленной. «Епархиальные ведомости», державшие горожан
в курсе успехов и неуспехов в учебе семинаристов и епархиалок, буквально пестре¬
ли этой неправославной фамилией.
Прохожу в дом. Скромно, чисто. Невысокий сухощавый человек встречает
меня. Он стар и болен, почти не выходит. Показывает поэтические сборники и
альманахи. То, что осталось в Вологде от молодого кипения 1920-х годов.
Тогда здесь бывал рапповский критикА. Селивановский. Все группы искали и
выдвигали «молодняк». Селивановский нашел Непеина. Пригласил на совещание
РАППа. В Москве приехавшим поставили койки рядами в номерах «Националя».
Непеин познакомился с соседом. Тот достал из-под матраса только что вышедшую
в Смоленске книжечку своих стихов - «Провода в соломе». Михаил Исаковский.
Я больше не встречался с Непеиным. Он вскоре умер. А я сейчас сближаю ту
свою встречу с другой, происшедшей на сто тридцать лет раньше.
В 1841 году Вологду посетил Михаил Погодин. Известный литератор, исто¬
рик, профессор Московского университета. В Вологде он искал и находил рукопи¬
си, причем в местах самых неожиданных, сваленными в груды: «... во всяком мо¬
настыре есть так называемая кладовая или амбар, куда сваливаются старые вещи.
Там еще можно найти многие древности...»
Встречался Погодин и с людьми, прямо скажем, историческими:
Был у меня потомок и последний представитель рода Пятышевых, «остаток
горестный Приамова семейства».
Это уже дряхлый старик, которому идет на седьмой десяток! Грустно смо¬
треть на него, оканчивающего собою семисотлетний род! Ему тяжело говорить
по причине одышки. «Нет ли каких преданий в вашем роде?» - «Нет, ника¬
ких». - «По крайней мере ведется память, что ваш род происходит от того Пя-
тышева, который спорил с св. Герасимом?» - «Бог знает. Это было уж очень
давно!»1
Согласно летописному свидетельству, Герасим основал Вологду в том же году,
когда была основана Москва. Впрочем, место не было совсем пусто. Пришедший
с Киевских гор монах нашел на полюбившемся ему берегу селенье и малый Торжок.
Так что место под церковь он откупил и имел спор о том с купцом Пятышевым, ко¬
торому за его неуступчивость предсказал, что его род ни богат, ни беден не будет.
Для купца это дурное предсказание.
Погодин рассказал о своей встрече с последним потомком купеческого рода,
сожалея о забвении и вымирании. Другой литератор того же времени - Степан
1 Вологда в воспоминаниях и путевых записках. Конец XVIII - начало XX века / Сост.
М. Г. Илюшина. Вологда: Вологодская областная универсальная библиотека им. И. В. Бабуш¬
кина, 1997. С. 59-60.
26
Как было и как вспомнилось
Шевырев, также посетивший Вологду, увидел в долгожительстве семейства Пя-
тышевых иной смысл: «Вот одно из многих доказательств тому, как сохраняются
у нас роды».
И то, и другое мнение верно. История здесь хранится безымянно, не в славе
и на виду, а ушедшая на глубину, в почву, притаившаяся за хрупкими резными па¬
лисадами.
Сюжет третий: литературный маршрут.
Вернемся от Варлаама Хутынского обратно к реке Вологде. Налево вверх по
течению виднеется стела, установленная в честь восьмисотлетия на том самом ме¬
сте, где некогда св. Герасим спорил с торговым человеком Пятышевым.
Повернем направо к Софийскому собору. На этих нескольких сотнях метров
вдоль реки - от стелы до собора - начиналась история города. Здесь она дышит.
Собор - сердце Вологды. Он прекрасен. К нему глаз не привыкает. Мемуарист
прошлого (уже позапрошлого - XIX) века выразил это впечатление, сочетающее
легкость с величием: «... грандиозный Софийский собор, большие главы которого,
видимо, не подавляют его, а составляют величественное украшение» (А. Попов).
Собор строили по приказу Ивана Грозного, якобы замыслившего перенести
в Вологду столицу. Отсюда столичный размах и стиль.
Но собор и погубил этот план (если он когда-либо существовал). В народной
песне по этому поводу сказано: «Упадала плинфа красная... / В мудру голову,
во царскую...» Обломок кирпича свалился со свода под ноги царю и спугнул его
прихотливую мысль. Вологда не стала столицей, но память об этой возможности
ревниво затаила.
В Вологде любят вспомнить, что пусть на короткий момент, но в 1918 году
Вологда становилась «дипломатической столицей» России. Сюда переехали по¬
слы основных держав, и здесь зрел антибольшевистский их заговор.
Много позже, уже во времена нам совсем близкие, можно сказать, наши, эта
память о столичности выплеснется в литературных мечтаниях.
А литература тоже здесь - около собора. Два самых громких имени: Констан¬
тин Батюшков и Варлам Шаламов.
Памятник Батюшкову стоит на самом берегу реки. Памятник поэту-воину,
только что спешившемуся, держащему коня под уздцы. Конь тоже здесь. Только
без стремян. Их украли.
Если поворотиться к реке с памятником задом, то передом как раз окажешься
повернут на «дом Батюшкова». Он виднеется чуть в отдалении, левее кремлев¬
ской стены. Здесь у своего родственника Гревенса поэт прожил последние двад¬
цать два года до самой смерти от тифа летом 1855-го.
До своего последнего и печального возвращения Батюшков в Вологде бывал
нечасто, наездами. Отношения с отцом, вновь женившимся, складывались тяжело.
Вечер первый. «Деревянная столица»
27
Свой вологодский круг Батюшков, судя по всему, не слишком жаловал: «Хочешь ли
новостей? - писал он в январе 1811 года из Вологды Н. Гнедичу. - Межаков женит¬
ся на племяннице Брянчанинова!.. Впрочем, здесь нет людей, и я умираю от скуки
и говорю тихонько себе: не приведи Бог честному человеку жить в провинции...»
Межаков - это Павел Межаков, наследник одного из лучших вологодских по¬
местий, поэт. Брянчаниновы - едва ли не самое известное вологодское семейство,
разбросанное по нескольким имениям. Из него происходил святитель Игнатий
Брянчанинов, деятель церкви, епископ, недавно канонизированный.
Может быть, в этом батюшковском письме - признаки ипохондрии, обернув¬
шейся душевной болезнью, из-за которой Батюшков в последние годы вовсе избе¬
гал людей?
Сохранилось несколько его поздних изображений. Вот рисунок средины
прошлого века, сделанный в доме Гревенса. Спиной к зрителю, повернувшись
к открытому окну, стоит невысокий человек в долгополом сюртуке. Седые волосы
коротко стрижены. Все неподвижно, скованно, как всегда на любительских рисун¬
ках. Как будто время остановилось, замерло в видимых из окна куполах Софии.
Мы не видим глаз Батюшкова. Его взгляд устремлен на тех, кто смотрит с ули¬
цы: от стен Кремля с площади, от памятника поэту...
Справа от памятника, буквально у стены собора - шаламовский домик. Отец
писателя был соборным священником. Здесь прошло детство и отрочество Шала¬
мова. Варламом он был назван в честь святого Варлаама Хутынского, того самого,
от чьего храма мы начали свою прогулку. Веру в Бога, как признавался, потерял
в шесть лет.
Шаламов уехал из Вологды, чтобы в нее не возвращаться. Вспомнил о ней
в книге не-любви - «Четвертая Вологда». В ней даже собор, рядом с которым про¬
шло детство, - «угрюмый храм, хоть и красивый - нет в нем душевной теплоты».
Духовно близкой Шаламов ощущал лишь третью Вологду - пришлую, ссыль¬
ную. Ту самую, которая подарила городу прозвание - «северные Афины».
Сюжет четвертый: о культурной среде.
Есть несколько фраз и мнений, которые в Вологде любят. О Вологодчине
в целом - Северная Фиваида.
Так когда-то сказал известный церковный писатель и небольшой поэт (впро¬
чем, знакомец Пушкина и Тютчева) Александр Муравьев. Он имел в виду, что, как
некогда в фиванскую пустыню, так начиная с XIV века на Русский Север устреми¬
лись те, кто устал от мира, искал отшельничества. Их направлял Сергий Радонеж¬
ский. Там встали знаменитые монастыри - Кирилло-Белозерский и Ферапонтов.
Там трудился великий Дионисий. Там свершило свой подвиг большинство святых,
«в земле русской просиявших».
Вот почему в Вологде еще одна любимая фраза приобретает сокровенный
смысл: «Россия спасется провинцией». Здесь такие просто думают, здесь в это верят.
28
Как было и как вспомнилось
Северные Афины - это тоже нравится, хотя остается неприятный осадок, так
как сказано это было не про то, что принадлежит Вологде, а про то, что в нее при¬
несли.
В ноябре 1901 года Валерий Брюсов записал в дневнике: «... виделся с Реми¬
зовым, моим поклонником из Вологды... Говорил интересно о Н. Бердяеве, Бул¬
гакове и др. своего Вологодского кружка».
Тогда в вологодской ссылке побывали все: от Николая Бердяева до Сергея
Булгакова, от Алексея Ремизова до Иосифа Сталина. Одни учились, проходили
свои университеты. Другие учили и продолжали учиться. Одно слово - Афины,
только северные.
Шаламов признает, что этот дух основательности, учительства, моральной
идеи легко обрел здесь свою почву, поскольку она всегда была таковой. И от воло¬
годской ссылки он переходит к театру:
В Вологде всегда подвизались профессиональные учителя жизни. Со сцены:
Мамонт Дальский, Павел Орленев, Николай Россов. Антреприза городского те¬
атра держала курс именно на этих проповедников, пророков, носителей добра,
а не красоты - передовых, прогрессивных гастролеров, а не на моду - вроде
Художественного театра... То обстоятельство, что в «Лесе» Островского Не¬
счастливцев путешествует из Керчи в Вологду - было самим документом. Ибо
именно в Вологде такой гастролер мог встретить и помощь и поддержку...
Ни Ярославль, ни Архангельск, ни Самара, ни Саратов, ни Сибирь - Восточ¬
ная и Западная - не имели такого особенного нравственного акцента.
Это относится не только к театру.
Несчастливцев, конечно, стремится в Вологду. Только Счастливцев его дол¬
жен огорчить: «...там теперь и труппы нет». Но была. И издавна. Начало театра
в Вологде ведут с конца XVIII века. Великих свершений он не имеет. Однако бывал
любим и играл большую роль в городе.
Не будем больше углубляться в историю. Приблизимся к сегодняшнему дню и
нынешнему состоянию культуры.
Многое было предсказано и начиналось в театре. В конце 1950-х годов едва
ли не самым заметным в городе деятелем культуры был главный режиссер област¬
ной драмы Александр Васильевич Шубин. Выпускник студии Мейерхольда, до
войны - режиссер ленинградского Б ДТ. Женат на Марине Владимировне Щуко,
дочери известного архитектора и художника театра. По своему амплуа и темпера¬
менту она бы показалась московскому зрителю родственной Пельтцер.
Не один десяток лет в Вологде ходили на Щуко. Потом на доме, где они жили
(прямо напротив нового здания театра), была установлена мемориальная доска.
Ее выдрали с куском кирпича. Потом восстановили. Варварство - преходяще.
Культура - долговечнее.
Венер первый. «Деревянная столица
29
К началу 1960-х Шубин заболел и отошел от дел. В этом время Питер прислал
в Вологду другого деятеля театра. На сей раз - мецената, первого секретаря обко¬
ма А. Дрыгина. Его эпоха продолжалась четверть века. При его поддержке сложи¬
лась «вологодская школа» в литературе.
Каждая театральная премьера при Дрыгине становилась городским собы¬
тием. Поскольку на ней присутствовал «первый», то приходили и «второй», и
«третий», и все остальные. У театра был официальный статус и поддержка.
Еще в большей мере и то и другое было у писателей. Вот простой, но вер¬
ный для советского времени показатель: писателям давали квартиры. Тем, кого
особенно уважали, давали квартиру, освобождаемую секретарем обкома. Такую
получил свой, местный, - Василий Белов. На такую же был приглашен и приехал
Виктор Астафьев.
Литература в последние десятилетия создала Вологде культурную репутацию,
а потом сильно подпортила ее.
Начиналось все так. Во второй половине 1950-х два тогда молодых человека
стали членами Союза писателей: поэт Сергей Викулов и литературовед Виктор
Гура. Создание любой первичной организации предполагает третьего. Им оказал¬
ся Виктор Гроссман.
Юрист по образованию, одно время работавший - по основной специально¬
сти - в Большом театре, в 1920-х годах он занялся пушкинистикой. С юридиче¬
ской точки зрения написал книгу о деле Сухово-Кобылина: убил тот или не убивал
любовницу-француженку. Мнение Виктора Гроссмана разошлось с мнением его
дальнего родственника, кажется троюродного брата, - Леонида. Завязалась дис¬
куссия, и ходили стихи на известную мелодию: «Гроссман к Гроссману летит, /
Гроссман Гроссману кричит: / “В чистом поле под ракитой / Труп француженки
убитой...”»
В 1937-м Виктор Азриэлевич «улетел» в края не столь отдаленные. Выжил.
После войны смог вернуться, но не в Москву, а в Вологду, где женился. Снова был
посажен. И снова выжил, осев в Вологде окончательно.
Восстановленный в СП, он стал одним из отцов-основателей Вологодской
писательской организации. К чему, впрочем, не стремился. Помню, уже девяно¬
столетний, перемежая рассказы об одесской гимназии, где он учился с Корнеем
Чуковским (Колей Корнейчуковым), и о том, как принес свой первый рассказ
Короленко, Гроссман жаловался: «Открепили меня от Москвы, даже не спросив,
хочу ли я этого. Сначала ко мне все ходили. А потом перестали».
До конца у Гроссмана собиралась интеллигентная молодежь, а вот в новой
вологодской литературе старик не пришелся ко двору.
Литературную молодежь поддержали вологжане, живущие в столицах: Кон¬
стантин Коничев, Сергей Орлов, Валерий Дементьев... Главной фигурой был и
остался Александр Яшин.
30
Как выло и как вспомнилось
Он наездами появлялся в Вологде и у себя на Бобришном угоре под Николь¬
ском. Приезжал надолго, когда нужно было отсидеться от очередного раската
официального гнева: за «Рычаги», за «Вологодскую свадьбу»... Выглядел колю¬
чим, подавленным.
Яшин скоро умер. При нем направление «вологодской школы» было и оста¬
лось бы другим. По своему тону и по тону своей любви он был совсем не идилли¬
чен, но не был и озлоблен:
В голоде,
В холоде,
В городе Вологде
Жили мы весело -
Были мы молоды.
Я со своей богоданной
Ровесницей
Под деревянной,
Под жактовской лестницей.
Это о тех же домах за резными палисадами, о которых поет современный
шлягер, увиденных взглядом не с улицы, а изнутри. Из-за дверей, обитых для тепла
полуистлевшим ватином. Некогда частные владения, революцией уплотненные в
коммуналки, с запахом из дощатого туалета и с общей кухни.
Десятилетиями догнивала деревянная Вологда. Теперь ее нет. Она почти до¬
гнила. Ее снесли. Частью отреставрировали, поставив крепкий новодел или на ме¬
сте прежних срубов сложив кирпичные стены. Их в Вологде полагается обшивать
тесом. Исторический город по-прежнему выглядит деревянным.
Он теперь гораздо чище и приветливее, чем лет сорок назад, когда в нем Ва¬
силий Белов писал свою классическую раннюю прозу, а Николай Рубцов, как и
следует поэту, уловил эмоциональный и речевой тон уходящей жизни. Поэтому
Рубцов и любим в Вологде. И не только в Вологде. А если кто-то превознес его как
современного Пушкина, а кто-то унизил до есенинского эпигона, то это их игры,
ни к Рубцову, ни к поэзии отношения не имеющие.
Игр было много. И вокруг Вологды, и в самой Вологде, где согласились сы¬
грать роль центра русской духовности. Припомнили свои столичные амбиции, не
сбывшиеся в XVI столетии. По этому случаю во второй половине XX пустили фра¬
зу: «Вологда - столица России. Москва - столица Африки».
Это были еще советские времена дружбы народов.
Сюжет пятый и последний: точка зрения.
Выбирая в этом споре вокруг Вологды между pro и contra свою точку зрения,
я снова предлагаю прогулку.
Венер первый. «Деревянная столица»
31
Если в том месте, которое считается центром, повернуться спиной к главно¬
му памятнику Ленина, то перед вами будет почти неразличимый, стиснутый дома¬
ми Каменный мост через Золотуху. В течение всех десятилетий советской власти
здесь висел старый указатель с ятем на конце. А где он теперь? В музее или в част¬
ном собрании?
Пройдите по мосту и поверните налево - на улицу Ленина (б. Кирилловская).
По ней выйдете к скверу и небольшой площади. Когда-то она была огромной и
грязной. На ней сходились драться семинаристы, гимназисты и реалисты. Все три
учебных заведения располагались здесь же.
В здании реального училища теперь - школа № 1. Ее гулкие железные лестни¬
цы - от училища, фундамент - от средневековых складов Соловецкого монастыря,
от Зосимовского подворья.
Мимо школы поднимитесь на мало примечательный железобетонный мостик.
Еще тридцать лет назад он был деревянным. Его официальное название - Крас¬
ный. Но обычно говорили - Деревянный. Каждый апрель перед ним взрывали лед,
чтобы напором ледохода не снесло его обветшавшие опорные быки.
Зимой и летом под ним полоскали белье. Зимой все выглядело именно так, как
в 1933 году увидел Леонид Мартынов:
На заре розовела от холода
Крутобокая белая Вологда.
Гулом колокола веселого
Уверяла белая Вологда:
Сладок запах ржаных краюх!
(«Вологда»)
Поэт скоро убедится, что жизнь не так уж тут сладка. Но с этой точки город
виделся и видится именно таким.
Здесь короткий прямой отрезок между двумя излучинами реки. От бывшего
Деревянного моста перспектива открывается вверх по течению к старому Камен¬
ному мосту через Вологду. А за ним еще выше - мимо собора к памятнику восьми¬
сотлетия.
Короткая дистанция в пространстве, пройденная Вологдой во времени за во¬
семьсот пятьдесят лет.
Сквозь зелень летом и поверх заиндевевших веток зимой золотится купол ко¬
локольни. Чуть ниже его видны серые мощные - величественные, но не подавляю¬
щие - купола Софии.
Это место любят фотографировать. Даже на любительских фотографиях ви¬
ден воздух, и в нем, как сгустки времени, - купола.
2002
32
Как было и как вспомнилось
Игорь Шайтанов
Над страницами семейного альбома
Две фотографии - понятно ли, что на них один человек, одно лицо?
Первая сделана гораздо раньше, в начале века. Профессиональный фотопор¬
трет, какие дарили близким людям. Из них составляли семейные альбомы. Ими
развлекали гостей, вгоняя их в смертельную скуку. Любимый некогда сюжет для
юмористов: вот мама, когда была маленькая, вот бабушка в подвенечном платье,
вот дедушка, кажется, в Германии...
Потом дедушки и бабушки поехали в другие края, почему-то называемые «не
столь отдаленными». Там фотопортретов не делали. В лучшем случае - профиль и
анфас, два на четыре или шесть на восемь. Их снимали не для любящих родствен¬
ников. Они оставались в деле.
Вот почему вторая фотография - своего рода редкость. Она - «оттуда». Сло¬
во, на котором голос сам собою понижается до шепота. «Оттуда» - понятие про¬
странственное, но не связанное какой-то определенной географией: «от Москвы
до самых до окраин...» Уж кому где суждено (совсем не Богом) быть заключен¬
ным, высланным, сосланным, перемещенным... Вторая фотография моего деда,
Владимира Ильича Шайтанова, прислана из города Мариинска Кемеровской об¬
ласти, недалеко от границы с дружественной Монголией: «Моему дорогому сыну
Олику от любящего папы. 22.1.1936».
А первая была сделана почти тридцатью годами ранее, летом 1908 года в Ни-
кольске, уездном городе Вологодской губернии, куда только что прибыл моло¬
дой ветеринар. По семейной традиции, установившейся по крайней мере с конца
XVIII века, он окончил вначале Вологодскую духовную семинарию, потом, как
полагалось в том случае, если выпускник не принимал священнического сана, ис¬
просил разрешения у губернатора и, получив его, поступил в Казанский ветери¬
нарный институт.
В Никольске проработал до самой войны - империалистической. Ее прошел
военным ветврачом сначала Гренадерской артбригады, а потом других соедине¬
ний, аккуратно перечисленных в чудом уцелевшем «Трудовом списке». Демо¬
билизовался в 1918-м, вернулся в родную Вологду, утопил офицерское оружие в
пруду за собственным домом на Калашной (дом на улице, теперь носящей имя Го-
голя, был снесен, когда участки начали скупать новые люди и застраивать особня¬
ками). Предусмотрительность не лишняя, если вспомнить о повальных в Вологде
расстрелах бывших офицеров.
Следующие десять лет служил по специальности в Никольске, Великом Устю¬
ге, Вологде... Еще в 1960-х годах последние приходившие из пригорода молочни¬
цы вспоминали его разъезжающего на бричке по окрестным деревням.
Венер первый. «Деревянная столица»
33
В 1928 году дед с семьей переехал в Смоленск; где сначала работал заведую¬
щим ветлабораторией, а потом техническим (ибо тогда полагался еще и политиче¬
ский!) директором Научно-исследовательского ветинститута Западной области.
На этом посту был арестован 29 декабря 1932 года и 8 мая следующего осужден
решением тройки на десять лет. Судили в Москве; хотя громкого процесса не
устраивали, дед проходил по чаяновскому делу - противников коллективизации
и ее вредителей, то есть тех, на кого решили свалить последствия происшедшей
в деревне трагедии.
Он умер своей (в чем родные, впрочем, не были вполне уверены) смертью
в ноябре 1937 года, то есть менее чем через год после того, как была сделана вто¬
рая фотография. Фотография не для идиллического семейного альбома, как, впро¬
чем, далеки от идиллии и те разговоры, которые ведутся над его страницами во
многих семьях: да, этот дед умер там, а этот вернулся, отсидев восемнадцать лет;
бабушка? - она сидела всего три года... И ведь семья не из профессиональных
гангстеров или контрабандистов, а из врачей, учителей, землеустроителей. По ста¬
рому - земская интеллигенция.
Забытые нами понятия, забытые лица, неузнаваемо измененные временем и,
несмотря ни на что, - хорошие лица. Глаза, напряженные, всматривающиеся, от
нас ожидающие чего-то большего, иного, чем формальная реабилитация с извеще¬
нием о том, что «дело в уголовном порядке производством прекращено за недока¬
занностью предъявленного обвинения».
Да, наша история - не для семейного альбома.
1996
Олег Шайтанов
Кое-что из-под пепла
Фрагменты воспоминаний
У каждой семьи есть предания, смутные, мерцающие сквозь десятилетия. Их место
действия носит реальное географическое название, но прежде чем находишь его на карте,
оно складывается в образ почти мифического инобытия.
Таким изначальным мифом в нашей семье был Никольск. Там родился мой отец Олег
Владимирович Шайтанов (1914-2001), там он прожил первые восемь лет жизни и никог¬
да более туда не возвращался. Никольск остался в памяти как узелок, связавший события,
происходившие в детстве, пришедшемся на годы Первой мировой войны и революции,
с теми, что случались с семьей много раньше и много позже.
В Никольске начиналась жизнь. С Никольска начинаются и воспоминания о ней. Они
писались в 1981-1982 годах. Их начало объясняет и обстоятельства, при которых они за¬
думаны, и их форму:
34
Как было и как вспомнилось
Я стал пенсионером... Что делать дальше... Размышлять, вспоминать, под¬
водить итоги... С чего начиналось? Чем кончается? Что осуществилось? Что
осталось в проектах, в мечтах?
Пусть не будет ничего стройно последовательного. Пусть будет лишь поток
мыслей, настроений, возникающих непроизвольно, вызванных соприкосновени¬
ем с чем-либо внешним... В промежутки между работами в саду и другими хо¬
зяйственными делами буду заносить их на бумагу - это поможет мне побеждать
время, неумолимо быстрое и томительно тягучее.
О. Шайтанов вернулся в Вологду после семнадцатилетнего отсутствия летом
1945 года. Его отец, репрессированный еще в 1931 году, умер где-то на границе с Мон¬
голией в 1937-м. Дом в Смоленске сгорел в войну. Оставался семейный дом - в Вологде.
С этого момента вплоть до выхода на пенсию он работал в Вологодском педагогическом
институте. Более тридцати лет - деканом историко-филологического факультета (факуль¬
тет менял свое название).
За воспоминания принимаются, когда сделать это позволяет время... Эта фраза име¬
ет двойной смысл. Мемуары - жанр для человека, многое сделавшего и, скорее, удалив¬
шегося от дел. Тогда-то и остается время, чтобы вспомнить. Но для людей, проживших
в России XX век, очевиден еще и буквальный смысл: время не позволяло помнить то, что
было. Помнить было опасно и страшно. Только где-то в начале 1990-х отец как-то сказал
мне: «За нашим домом на Калашной (ул. Гоголя. - И. Ш.) когда-то был луг. Бабушка про¬
давала с него траву и жила этим. Посреди луга был пруд. Там мой отец в 1918 году утопил
свое офицерское оружие, так как по городу ловили и расстреливали царских офицеров».
Как и обещал, отец не написал больших связных воспоминаний, но лишь обрывоч¬
ные впечатления и мысли о прожитом и сохранившемся в памяти - «из-под пепла». Они
писались не для печати, но один фрагмент из них, включающий и некоторые Никольские
страницы, появился при жизни отца в газете «Красный Север» к его 85-летию 28 августа
1999 года.
Рукописный текст, записанный в обычных школьных тетрадях, я набирал на компью¬
тере и дополнял его по более ранней магнитофонной записи воспоминаний отца и по его
рассказам, которые сопровождали чтение того, что я успевал подготовить. Отец дополнял
и правил на слух.
В основу данных воспоминаний положен рукописный текст, дополненный магнито¬
фонными и устными вставками. Фрагменты расположены в хронологической последова¬
тельности.
Игорь Шайтанов
Вечер первый. «Деревянная столица»
35
Детство в Никольске
Большинство моих предков по отцовской линии принадлежало к духовному
сословию. Мой прадед - протоиерей Александр Федорович Шайтанов, как сказа¬
но в его некрологе, опубликованном в «Вологодских епархиальных ведомостях»
(1893, 15 июня), окончил Вологодскую семинарию в 1836 году. С 1843-го по
1881-й служил в Троицкой Енальской церкви Кадниковского уезда, где и был по¬
гребен. Многие из его потомков (у него было двое сыновей и пять дочерей) также
последовали ему на духовном поприще.
Но мой дед, Илья Александрович Шайтанов, окончив семинарию, женился на
вдове и тем закрыл себе путь к священническому сану. Его сыновья Владимир и
Николай, следуя семейной традиции, также окончили семинарию, но после нее
поступили в светские учебные заведения и стали врачами.
Сто лет назад в Вологде жила семья Ильи Александровича Шайтанова, слу¬
жившего конторщиком в пароходстве. Накопили денег, купили новый, только что
построенный, сверкавший свежим тесом дом на Калашной улице. Летом по вос¬
кресеньям после обедни пили на балконе чай с пирогами (бабушка была масте¬
рицей печь пироги). За столом - семья: Илья Александрович, грузный, в очках,
с газетой в руке; тихий серьезный старший сын Володя; слегка жеманная дочь
Аня; крепкий непоседливый бутуз Коля; строгим взглядом на нем неоднократно
останавливалась восседавшая за самоваром суровая, властная Александра Павлов¬
на, глава семейства. В новом доме лучшую комнату отвели Ане: любимица матери,
будущая невеста, должна сделать хорошую партию. Сыновья спали в темном про¬
ходном закутке перед спальней родителей.
Первым умер Илья Александрович, умер одинокий, уехавший от семьи
в Коношу после ссоры с женой из-за денег. Одинокой старой девой (мать бра¬
ковала ее женихов одного за другим - недостойны) умерла Аня. До конца дней
она жила в родительском доме, постаревшем, как она, потемневшем, присевшем
к земле. Жила, продавая комнаты - одну за другой, под конец осталась у нее лишь
ее комната с грязными, висевшими клочками, а когда-то новыми красивыми золо-
тописными обоями. Одиноким умер где-то в Сибири Владимир. Коля дожил до
девяноста лет, превратился из неугомонного бутуза в могучего мужчину, потом
в дряхлого старика. Последние годы почти не вставал с дивана...
Сто лет назад в Архангельске жила семья врача Оттона Антоновича Гриффи¬
на. По семейному преданию, фамилия - от выходцев из Англии или Шотландии,
вынужденных эмигрировать в Литву после английской революции XVII века из-за
своего римско-католического вероисповедования. Они сохранили фамилию, хотя
уже растворились среди польской знати. Бабушки моей девическая фамилия - Ка-
торбинская, а прабабушки - Межеевская.
36
Как было и как вспомнилось
Оттон Антонович Гриффин - мой дед. Он окончил Московский университет,
уехал на Север, участвовал в проведении крестьянской реформы 1861 года. Дед
умер скоропостижно: лечил больных в холерном бараке и заразился сам. В память
о нем в Архангельске в конце прошлого века была выпущена брошюра (она сохра¬
нилась в семейном архиве)*, а красивый мраморный памятник стоял на его могиле
вплоть до шестидесятых годов, когда пришло письмо от неизвестной женщины из
Архангельска: кто-то опрокинул и разбил памятник.
После смерти дедушки вся семья - восемь детей - переехала в Петербург
в 1898 году. Тетя Елена участвовала в студенческой демонстрации у Казанского
собора и вспоминала, как ей пришлось прыгать с высокой паперти, спасаясь от
казачьих нагаек. Она была выслана в Кунгур, позже ей разрешили переехать в Ни-
кольск, куда после окончания Бестужевских курсов за ней последовала ее сестра,
моя мама - Мария Оттоновна. Там она встретила моего отца Владимира Ильича
Шайтанова, окончившего Казанский сельскохозяйственный институт и приехав¬
шего в Никольск в качестве ветеринарного врача.
В июне 1912-го (не помню числа) в Никольске состоялась свадьба моих ро¬
дителей. Все начиналось и для меня... Как это было? Где? Знаю только, что в пра¬
вославной церкви. С мамы взяли подписку, что дети будут воспитываться в духе
православия, а не католицизма. Было ли застолье? Наверное, было. Как выглядели
отец и мама? В чем одеты? Кто был за столом? Кто и какие тосты произносил? На¬
верное, главным оратором был заведующий аптекой Прозоровский. Я его не пом¬
ню, но слышал о нем от старших как о жизнерадостном весельчаке и говоруне. Кто
присутствовал еще? Православный священник? Конечно, были жена и свояченица
Прозоровского - подруги мамы и тети Елены, тоже польки. Кто еще? Учителя гим¬
назии, в которой преподавали мама и тетя? А со стороны отца? Не представляю -
все это давно отшумевшая жизнь.
Кто окружал меня в детстве? Чье влияние было решающим при формиро¬
вании личности ребенка в первые пять лет жизни? Мама, бабушка, тетя Елена...
Отца не было, он на войне, вернулся, когда мне было уже около пяти.
Больше всех со мною бывала бабушка. Мама и тетя заняты на уроках в гимна¬
зии. Бабушка рассказывала, что ее предки упоминаются в поэме великого польско¬
го поэта Мицкевича «Пан Тадеуш» в связи с событиями 1812 года. Бабушка гово¬
рила о своем детстве где-то в Литве, недалеко от Вильно, в крошечном шляхетском
имении, об аистах, которые жили на крыше... Аисты... Когда слышу по радио пес¬
ню о Полесье, в памяти всплывают бабушкины рассказы.
Рассказывала, как шестнадцати лет вышла замуж за дедушку (ему было уже
тридцать пять), вместе с ним поехала в... Архангельск, где он служил врачом. Мо¬
розы (вороны замерзали на лету), самоеды на оленях, семга - все это было для
1 Точнее, это не брошюра, а оттиск из «Губернских ведомостей».
Вечер первый. «Деревянная столица»
37
нее необычным, странным. Иного выбора у нее, однако, не было. Мать умерла
от туберкулеза, когда ей было десять лет (значит, в 1865 году). От матери, моей
прабабки, сохранились ложечки с ее инициалами - Идалия, в девичестве Межеев-
ская.
Отец бабушки куда-то исчез. Предполагаю, что причиной были события
1863-1864 годов1; бабушка говорила как-то загадочно, что-то умалчивала. Воспи¬
тывалась у родных теток, полунищих шляхеток. Хлеб намазывали тонким-тонким
слоем масла. Бабушка за столом показывала наглядно, как он был тонок.
Жизнь проходила в бурную эпоху. События ее отражались на моей судьбе и
откладывались в памяти. Я родился менее чем через месяц после начала Первой
мировой войны. Отца уже не было дома. Он уехал на фронт. Из рассказов мамы
знаю, как это было.
Стояли теплые, но не жаркие дни недолгого северного лета. Цвели в садике
около дома розы. Жизнь казалась безмятежной. Ждали ребенка. Выписали но¬
вую мебель. Были молодые, счастливые. Я представляю папу и маму тех лет лишь
по фотографиям и рассказам. Папа - большой модник с пышной шевелюрой,
с модными усиками, в белом стоячем крахмальном воротничке. В нем он ездил
даже к больным коровам. Мама - элегантная, поражавшая необычной для рус¬
ского севера красотой - черноглазая, черноволосая, тонкий нос с небольшой гор¬
бинкой.
И вдруг грянули вести из Сараево... Мобилизация... Все радостные надежды
на будущее померкли. Атмосферу тех дней начала войны представляю, читая стихи
Блока:
Петроградское небо мутилось дождем,
на войну уходил эшелон.
Без конца - взвод за взводом и штык за штыком
наполнял за вагоном вагон.
В этом поезде тысячью жизней цвели
боль разлуки, тревоги любви,
сила, юность, надежда... В закатной дали
были дымные тучи в крови.
Особенно отзывается в душе строфа:
1 Неизвестно, принимал ли кто-либо из наших предков участие в Польском восстании
1863-1864 годов. Об этом нет семейных преданий, в отличие от более раннего восстания -
1830-1831 годов: Идалия Межеевская вышла замуж за Людвига Каторбинского в Париже
в 1836 году, где обе семьи жили в качестве эмигрантов.
38
Как было и как вспомнилось
Эта жизнь - ее заглушает пожар,
гром орудий и топот коней,
Грусть - ее застилает отравленный пар
с галицийских кровавых полей...1
Именно в Галиции оказался мой отец. Помню фотографии, снятые во Львове:
он в военной форме с погонами, с офицерской саблей, в военной фуражке с круг¬
лой кокардой. Фотографии эти, к сожалению, не сохранились - погибли в Смолен¬
ске в 1941 году.
Мама осталась одна. Вызвала из Петрограда бабушку, чтобы помочь ей уха¬
живать за ребенком, появившимся на свет в эти грозные дни. Бабушка доехала
поездом до станции Шарья (навстречу шли эшелоны с солдатами), потом до Ни-
кольска сотню верст на лошадях. Поразила ямщика своим басом и монументаль¬
ностью: «Ну и тещу я тебе, барин, привез», - рассказывал ямщик отцу, которого
вез тоже от Шарьи во время отпуска из части. С тех пор бабушка оставалась у нас
больше десяти лет. Это способствовало, пока папа отсутствовал, созданию в се¬
мье такой же атмосферы, которая царила в доме, когда росли мама и тетя Елена.
Теперь все они снова были вместе и, конечно, восстановили привычные нормы
домашнего порядка.
В 1915 году мама ездила к отцу в Варшаву, куда он был переведен из Г алиции.
В Варшаве отец купил часы «Омега», которые служили ему до конца его пребы¬
вания дома, а потом мне до 1970-х годов; ни разу не ремонтировались за пятьдесят
лет, если не считать, что я раздавил циферблат уже во время Второй мировой вой¬
ны, запрягая лошадь. Из Варшавы мама уехала одним из последних поездов перед
взятием ее немцами. Уже слышалась артиллерийская канонада.
Были и другие опасные для моих близких моменты. Отец чуть не утонул в ка¬
кой-то речке в Г алиции, переправляясь через нее со своей артиллерийской частью,
но лошадь вынесла его на берег. Думал при этом, что так и не увидит родившегося
сына.
На фронте отец случайно встретился с братом - дядей Колей, чудом уцелев¬
шим при разгроме армии Самсонова в Восточной Пруссии2. Несколько суток дядя
полз по кустам, по болотам, выходил из окружения, полз под свист пуль и гром
снарядов.
С Первой мировой войной связаны еще мои воспоминания о картинках из
журналов: немцы в остроконечных касках, казаки с пиками, портрет генерала Бру¬
силова.
1 Стихотворение «Петроградское небо мутилось дождем...» написано 1 сентября 1914 года.
2 Александр Васильевич Самсонов (1859-1914) - генерал от кавалерии, командующий
2-й армией Северо-Западного фронта. После провала операции в Восточной Пруссии летом
1914 года погиб при невыясненных обстоятельствах, возможно, застрелился.
Венер первый. «Деревянная столица»
39
Дом в Никольске, где прошли мои дошкольные годы, стоял на улице, которая
после революции носила имя Троцкого. Она шла параллельно главной, ведшей
к собору. Мы занимали весь нижний этаж. На верхнем этаже жили хозяева. Дет¬
ская, столовая, большой зал, кухня... Не помню, где была комната родителей. В
детской - кровати моя и сестры, печка с лежанкой, на которой грелся отец, при¬
ходя с мороза, большой стол, заваленный игрушками.
Первые картины, впечатления, всплывающие в памяти. Душная летняя ночь...
Окно открыто, через него вливается теплый воздух и какие-то мелодичные зву¬
ки... Когда я прочел «Слепого музыканта», там обнаружил картину такой же
ночи. Знойный день, пахнет дымом (вокруг города, говорят, горят леса), на столе,
вынесенном в тень за домом, мы с сестрой раскладываем кубики - на них цветы;
нарядные, как цветы, дети; какая-то другая заманчиво красивая жизнь... Опять
летний день. Я лежу на траве в огороде около бани. Ее крыша покрыта мхом, кото¬
рый кажется мне необыкновенно прекрасным зеленым бархатом.
Тетя преподавала в гимназии историю. Приносила картины, на которых были
мечи, шлемы, кольчуги - они будили воображение, интерес к далекому прошлому.
Не отсюда ли мой интерес к истории, который никогда не покидал меня? Читали
мне много стихов, рассказывали о Пушкине, о Мицкевиче. Особенно мне нрави¬
лись «На берегу пустынных волн», «Полтавский бой», «Бородино». Я их про¬
сил читать мне вновь и вновь, запомнил, любил декламировать. Вот и начало вле¬
чения к литературе.
В рассказах о детстве Пушкина больше всего запомнились проявления стран¬
ности, необычности. Деды его предков были африканцы. А у Некрасова и Коро¬
ленко матери - польки, как у меня...
Мать - полька. Это определило невозможность в моем сознании чего-ли¬
бо похожего на шовинизм. В 1920 году я услышал о войне с поляками, выбежал
во двор, размахивая деревяной саблей с криком «Бей поляков». Мать сказала:
«И меня ты будешь бить?» Я растерялся.
Отца я помню хуже, чем маму и бабушку, - его долго не было, а вернувшись
с войны, он мало бывал дома - все на работе, а потом его совсем не стало в
семье - мне исполнилось лишь восемнадцать лет. Худощавый, седой не по годам,
с одним лишь зубом (потерял зубы на войне), отец уходил или уезжал в любое
время суток, в любую погоду по вызовам к больным животным. Лютая стужа, он
садится в крестьянские сани (я вижу из окна), закутывается в тулуп. В свободное
время что-нибудь мастерил. Починил и обил два кресла, изготовил для меня из де¬
ревянных планок и бумаги макет корабля под парусами, другой - современный для
тех лет дредноут, как на картинке, больше полуметра длиной...
У отца был хороший музыкальный слух. Он играл на скрипке, любил петь.
В последний вечер, когда за ним пришли, он пел арию Ленского. Мать уже пошла
открывать, а он пел. Не могу слышать эту арию без чувства скорби и горечи.
40
Как было и как вспомнилось
Отец много читал, любимый его писатель - Достоевский, особенно «Братья
Карамазовы» (я спросил его в последний год). Мне он прочел вслух всю «Одис¬
сею» в переводе Жуковского.
Когда мне было восемнадцать лет, отца арестовали по так называемому чая-
новскому делу: нужно было на кого-то взвалить вину за неудачи коллективизации
деревни. Это случилось в Смоленске, куда отец переехал в 1928-м из Вологды, что¬
бы занять место директора ветеринарного бактериологического института.
О революции и Гражданской войне в те годы я ничего не слышал. Но некото¬
рые впечатления тех лет связаны с этими событиями. Однажды ночью проснулся
от яркого света ручного фонаря, в комнате были чужие люди, много позже мама
сказала, что кого-то искали, проверяли все дома. Помню поразившую меня карти¬
ну: по середине улицы идет десятка два мужчин, а по бокам и сзади солдаты с ружь¬
ями наперевес. Я спросил, что это было: «Вели дезертиров». Один из сыновей ап¬
текаря Прозоровского помешался после того, как, выйдя на заднее крыльцо, стал
невольным свидетелем расстрела дезертиров. Это было уже после революции.
В нашу квартиру вселилось целое учреждение - ветеринарный отдел уездного
совета (отец стал его заведующим - сохранилось удостоверение тех лет). Заняли
зал, поставили столы, сидело человек десять мужчин и женщин. Кровать отца сто¬
яла в этом же зале, за ширмой.
На обед подавали суп из конины и ячменную кашу, иногда жаркое из жеребя¬
тины. Отец, как ветеринар, доставал ее, когда приходилось почему-либо закалы¬
вать лошадь или жеребенка. Жаркое казалось очень вкусным. Ели ячменные ле¬
пешки, пекли ячменное печенье. Потом мама рассказывала, что она успела до того,
как ничего не осталось в продаже, купить большое количество ячменной муки, ко¬
торую спрятали в подвале под детской комнатой. Крышка подвала была прикрыта
ковриком, а на нем стояла моя кровать. Ячменная мука и конина избавили нас от
голода в те трудные дни.
Из Никольска мы уехали в 1922 году в Великий Устюг, где прожили всего
лишь год. Там я пошел в школу.
По Вологде
Прошел мимо старого дома на углу улиц Кирова и Мальцева, в котором мы
жили в 1923-1928 годах. Он одряхлел, стал ниже, как бы сгорбился, но еще сто¬
ит, хотя кругом выросли новые высокие дома. Вот крыльцо - на нем часто сиде¬
ла бабушка Бронислава Людвиговна. Вижу ее: в широкой серой или коричневой
блузе, очень полная, с расплывшимся широким добродушным лицом, с тройным,
опускающимся на ворот блузы подбородком. Глаза у нее и в семьдесят лет были
хорошие, и она любила читать. Читала польских писателей, исторические романы
Сенкевича, Крашевского...
Венер первый. «Деревянная столица»
41
Бродил по городу. Пришел на Соборную горку. Сюда приходил много раз в
разные годы, в разные минуты жизни, веселые и печальные, тревожные и спокой¬
ные. Вспомню некоторые из них.
1926 или 1927 год. Лето. Вечер. Солнце уже садится, последние его лучи среди
серых облаков. Я с отцом. Сидим, молчим, изредка о чем-то говорим, смотрим на
вечернюю рябь. Направо, в стороне моста, белеет чайка на сером фоне неба. Сей¬
час чайки нет, и отца давно нет ...
1963 год. Я прошел по конкурсу преподавать в Липецкий институт. Жена
Муза - в Сочи. Я один должен решить, ехать или не ехать. Мучаюсь сомнениями.
Опять пришел на Соборную горку. Ко мне подсел старик - знал еще моего деда.
Другой старик, позже - через несколько лет, остановил на улице, спросил: «Кто
такой И. Шайтанов, чья статья появилась в "Красном Севере”? Не Илья ли Шай¬
танов?» Илья, мой дед, оказывается, в качестве крестного отца присутствовал при
его крещении. Я ответил, что Ильи нет в живых уже полвека, а статью написал
Игорь, мой сын.
Дед, наверное, тоже приходил на Соборную горку. Может быть, и прадед, и
прапрадед. Рядом собор, в котором они, конечно, бывали. Наши корни в Вологде.
Как от них оторваться?
Подготовка текста к печати
И. Шайтанова
О вологодском быте середины прошлого столетия
Встреча с культурой на вологодской улице
Беседу с М. Н. Богословской вел Игорь Шайтанов
Душный август на загазованном Советском проспекте возле еще не снесенного тогда
речного вокзала. Здесь всегда было особенно шумно и дымно.
...Тяжелые грузовики несутся дребезжа (кажется, вот-вот развалятся), с ревом и га¬
рью. Улица хоть и не широка, но сразу не перейдешь. И вдруг посредине улицы вижу ее -
маленькая хрупкая старушка, вся в белом, с зонтиком и с палочкой. Прямая, легкая. Сразу
узнаю Марию Николаевну и перебегаю вслед за ней.
- Здравствуйте, - и на всякий случай представляюсь, - я внук Манефы Сергеевны
Перовой.
- Как же, помню. Что? Как видите, на ногах, а ведь мне девяносто девятый.
С вашей мамой недавно разговаривала по телефону.
Да, мама говорила об этом, как и всегда - о Марии Николаевне, своей учительнице
биологии и минералогии. В 1938 году, когда мои дедушка и бабушка были арестованы,
мама с младшим братом просидела ночь в очереди, чтобы приняли передачу, а наутро в
школе был экзамен по математике. Спасла Мария Николаевна: настояла, чтобы вывели
общую оценку. Сама она тоже была накануне ареста.
- Что вы думаете о современной политике? - Сквозь уличный грохот пробивается ее
вопрос. И тут же опережает меня с ответом. - Я все-таки оптимист, хотя и от своей соци¬
алистической веры не отступила.
Я прошу разрешения в один из приездов в Вологду навестить ее. Получаю пригла¬
шение, которым воспользовался только в январе 1994-го, за три месяца до ее столетнего
юбилея.
Воспроизвожу разговор, каким его записал. Хотелось сохранить строй мысли - яс¬
ной и достойной. Строй языка - в нем звучит целое столетие. Здесь и давние - дорево¬
люционные - выражения и интонации. И другие, насильно вбитые в наше сознание, так
что никак их не забудешь, цепляются, держат. У слова своя память - историческая и куль¬
турная.
- Мария Николаевна, бывают знаменательные совпадения. Вчера я читал
в «Вологодских епархиальных ведомостях» некролог моего прапрадеда протои¬
ерея Александра Шайтанова, и там сказано, что отпевал его в Кадникове летом
1893 года священник Николай Богословский.
- Так, папа около этого времени начал служить... Но, постойте, в Кадникове?
Нет, другой Богословский, их ведь много было. Наша-то коренная была фамилия
Захарьины, и жили в селе Захарьино, но когда там открывали новую церковь Ивана
Богослова, как раз кончал старший сын священника семинарию. Церковь освяти-
Венер первый. «Деревянная столица;
43
ли, его назначили священником и дали фамилию Богословский. Пять поколений
все по линии священников. Мои дедушка и бабушка жили в Кубенском.
- А вот автор статьи в тех же «Ведомостях» об открытии в Кубенском
в 1894 году библиотеки...
- Это мой папа. Его книгу о Кубенском сейчас переиздают - подарок, гово¬
рят, к вашему столетию. Папа всю жизнь прожил в Кубенском. В нашем доме от¬
крыт краеведческий уголок. И я оттуда уехала в 1917 году учиться в Вологодский
педагогический институт. Первые года дома не бывала, потому что связь с роди¬
телями считалась потерянной, хотя я связь, конечно, имела, но ездить туда к отцу-
священнику не могла. Меня и так исключали из института, потом восстанавливали.
Я окончила, работала, затем была арестована, сидела в одиночке, в конце концов
оправдали. А папу расстреляли. Фамильный путь Богословских очень, очень длин¬
ный. Много было страданий, все тяжело, все пережито. Как у Ахматовой: «Звезды
смерти сияли над нами, и безвинная корчилась Русь...»
- Мария Николаевна, вы всю жизнь прожили здесь, в Вологде, в провинции. Как
вы относитесь к этому понятию и к самому слову «провинциал». Оно было в ходу ?
- Так как же.
-Ас каким отношением его произносили?
- С отношением добродушного снисхождения. У столичных - манера гово¬
рить, манера держаться, а в провинции все это было гораздо проще. Считалось,
что провинциалы, быть может, не имеют правильного литературного языка... Но,
знаете, провинциалы часто культурно росли очень быстро. Мне кажется, что про¬
винция никогда не спала, и культурная работа там велась внутренне очень боль¬
шая.
- В июле этого года в Вологде задумали провести «круглый стол» по культуре
русской провинции...
- Очень интересно, ведь сколько помещиков здесь было.
- А почему только о помещиках речь?
- Конечно, все это общий корень. Дворянство с земством. Затем духовен¬
ство - округа благочиннические. Потом купечество как таковое, ведь наша Во¬
логда тоже купеческая, и мое Кубенское, его росту способствовала много купчиха
Буракова. Купечество делилось как бы на две части: коммерческое и такое уже
с духом, как - здесь недавно вспоминали - Леденцов, отдававший много сил и
средств на поднятие общей культуры. Это все постепенно формировало обще¬
ство, духовный мир нашего вологодского края. А перед Первой империалисти¬
ческой войной, если взять наше общество, - большие культурные силы работали:
народные чтения устраивались, земство открывало школы, способствовало про¬
свещению. Из партий особенно революционно, энергично работали эсеры - сре¬
ди крестьянства, помогали земству.
44
Как было и как вспомнилось
- А вам не кажется, что великая русская литература не вполне справедлива
к провинции, даже Чехов. Глубина провинции, ее внутренняя жизнь остались не до
конца увиденными ?
- Чехов, конечно, бытовую сторону подмечал. И другие тоже: Помяловский,
Г арин-Михайловский...
- А вам сейчас кажется, что духовной жизни там было недостаточно?
- Вот если конкретно брать, - я учительница в начальной школе, окончила
гимназию. Что мы вели, кроме занятий с учащимися? Обязательно работу по про¬
свещению крестьянства. Грамоте учили, во время войны письма писали, беседы
проводили. Ко мне ездил представитель земства, привозил исторические картины,
изображавшие Александра Невского, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского,
Николая Угодника - кому что нравилось. Показывали их с волшебным фонарем,
который был как теперь - телевизор. У меня каждый четверг в деревне Настасьино
беседы с крестьянами, и это велось по всем округам.
-А роль священника?
- Папа очень любил проповеди. Он был священником немного нового толка,
считал, что его роль - в первую очередь нравственно поднимать население. Он не
очень верил в простое моление. Расскажу конкретный случай.
Я была в своей комнате. Приходит папа, а я молюсь. Он говорит: «Маня, ты
что делаешь?» - «Молюсь, папа». - «Так ты о чем молишься-то?» - «Чтоб все
было хорошо». - «Слушай, ты помнишь, вчера пришла с учительского собрания и
опять, говоришь, тетради не проверила, а завтра надо будет проверять другие. Вот
ты остановись на этом: ты молишься, а если бы высидела ночь, все проверила, тог¬
да бы и сделала большое дело, нравственное, сильное дело. Если хочешь, это было
бы угодно Богу, чтоб ты над собой работала, а не то, чтоб ты кланялась, просила
у Него помощи. Надо не просить, а на себя обращать внимание, на свои поступки.
Собой займись, за собой следи, пусть это будет твоей верой».
У него и в духовной жизни села направление было такое же. Приходит как-то
женщина, бросается папе в ноги: «Батюшко, спаси, ведь Иван-то мне жизни не
дает, измучил всю, избил, мне и жить невозможно. Помолись за меня». - «Садись,
Елизавета, скажи, как вы живете». - «Вот он приходит, батюшко, пьяной, орет, а
я его брошу, последний раз даже из ковша водой облила». - «Слушай, давай-ко
порассуждаем. Вот пришел он пьяный, так ты его не ругай, а возьми в чулан све¬
ди, скажи, мол, - ляг на диван, выспись. Если голоден, так дай ему поесть что-ни¬
будь. Пусть он бурчит, ты его накорми и оставь. Понаблюдай за собой. Не ругайся,
спокойно делай свое дело. Станет-то трезвый, не будет ведь тогда тебя бить?» -
«Нет, не будет». - «Зачем же ты его сердишь-то. Ты изменись, а не Ивана ругай.
Что я буду молиться об Иване, дело-то в тебе, в том, как ты к нему относишься».
Она все равно просит: замоли. Отец отвечает: «Я-то буду молиться, а ты-то за
собой последи. Измени свое отношение к Ивану».
Венер первый. «Деревянная столица»
45
Он побеседовал с ней в таком духе. Потом через какое-то время, смотрю,
опять она. В ноги бросается: «Ой, замолил, замолил. Иван-то ведь другой стал,
батюшко, вчера и ведра починил, и все мне делал. И пить-то стал гораздо меньше.
Мы теперь с ним, батюшко, и не ругаемся».
Такое у отца было направление работы как священника - воспитательное.
- А многие придерживались этого направления?
- В том-то и дело, что немногие, очень немногие. Были священники и пья¬
ницы, были такие, что с крестьянами пили, сколько угодно. Были священники-
предприниматели, которые сельским хозяйством занимались, честные, хорошие,
но лишь своим деловым примером. А такие, как отец, вот Шаламов - старый Ша¬
ламов - был. Отец относился к нему хорошо. Шаламов тоже все говорил: священ¬
ника роль - пример своим образом жизни. Он не признавал, чтобы священник ког¬
да-нибудь появился в приходе пьяным, а это обычное дело - священники всегда
напивались.
Правильно поставленная роль церкви там, где священники были на доста¬
точной высоте, на достаточном уровне культуры. Они вели просветительную ра¬
боту, читали проповеди. Папины печатались даже в «Епархиальных ведомостях»,
ему награды давали за это.
Такой была воспитательная роль церкви. А молитва - красота, духовная
жизнь. Хорошее пение, хорошая служба - все это торжественно по древности об¬
ряда. Церковь - первый пласт культуры по поднятию общественного сознания и
внутренней жизни человека.
Папа меня, собственно, на материалистический путь наставил. Девочкой во¬
дил гулять, небо показывал, заинтересовал природой, он природу очень любил.
У нас был хороший сад, много плодовых деревьев, вишни. Отец всем сам занимался.
- А вы Шаламова, отца писателя, не видели?
- Нет, лично с ним не встречалась, помню, что он как-то к нам приезжал, знаю,
что папа с ним общался.
Из тех, кто принадлежал к передовому духовенству, я хорошо знала отца Сергия
Непеина. Его жена была родная сестра моего папы. Дядя Сережа все работал над
историей Вологды - «Вологда прежде и теперь». Помню, как работал, списки делал.
Было большое собрание у духовенства между собой. Ходили друг к другу, со¬
бирались, играли, музыка была, читали, здесь и начало революционных идей, тут
и Чернышевский, и Павлов, они корни свои ведут из духовенства, из такого вот
быта. Мы тоже, когда собирались, поговорим, поговорим, да и о политике, по-
своему.
- А сама эта среда после 1917 быстро рассыпалась?
- Можно сказать, что очень быстро, но я связываю это не с Лениным, а со
Сталиным. Для меня Ленин личность историческая, большая, крупный револю¬
ционер.
46
Как было и как вспомнилось
Взять сам 1917 год, с революцией сначала вся интеллигенция шла. Питирима
Сорокина помню; чудеснейший оратор был, уехал в Америку. Я его не один раз
слышала в бывшем страховом обществе. Интересный человек, широкий. Даже Ле¬
нин так устроил, что его в Америку выпустили, сказал: это достойный человек и
с правильным мышлением. Спас его.
Тут были первые съезды, выборы в Учредительное собрание, общий подъем
интеллигенции, резкая партийная борьба между меньшевиками, большевиками,
эсерами. Я была участницей второго выборного собрания в деревне Каншино.
Я выступала там за меньшевиков, и вот встал молодой матрос: «Ой, барышня, ба¬
рышня, ничего вы не знаете о большевиках, как вы мало всего знаете». И у меня на
всю жизнь осталось, что я неграмотный человек, что мне надо учиться.
- Мария Николаевна, но ведь и после 1917-го, и после 1924-го люди прежней сре¬
ды, прежней культуры оставались и остаются - вы одна из них.
- Я всю жизнь была «я», всегда по жизни шла со своим «я», и вот теперь -
конец борьбы. Знаете, у Киплинга:
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело,
И только воля говорит: «Иди!»
Я этой волей и живу. Это воля к жизни и еще некоторая доля интереса ко все¬
му окружающему остались. Они меня держат. Так что жизнь - штука сложная, не
просто она проходит. Надо жить до конца. Мне сейчас очень трудно жить чисто
физически - ничего не вижу. Мне, конечно, все покупают, но варить-то, делать
приходится самой. И уже - предел. Я решилась на операцию глаз, на седьмое
февраля назначили. Я им прямо скажу: я всю жизнь экспериментировала, столько
опытов разных провела, черных куриц делала белыми, так что экспериментируйте
со мной. Вот вам экземпляр для медицинского опыта.
Я единственно, что хочу, - видеть лица. Я хочу уйти из жизни, чтобы в послед¬
ний момент я все-таки видела лица. Вот мое желание.
Р. Б. Операция на глаза прошла удачно. В свое столетие в апреле 1994 года Ма¬
рия Николаевна видела лица людей, пришедших поздравить ее. Умерла она спустя
три года - 1 мая 1997-го.
2008
Вечер первый. «Деревянная столица»
Ирина Гура
Старая Вологда
47
1949 год. Мы с мужем приехали в незнакомый город, чтобы начать новую са¬
мостоятельную жизнь. Позади было пять университетских лет в большом волж¬
ском городе Саратове. Здесь нам предстояла работа на кафедре литературы педа¬
гогического института.
О Вологде мы имели самое смутное представление. Знали, что город област¬
ной, старинный, находится где-то на севере. Особенно разбираться и вникать
было некогда - собрали свои нехитрые пожитки и поехали. От Москвы поезд та¬
щился часов 14, и за это время мы с интересом и не без труда постигали особенно¬
сти вологодского произношения, прислушиваясь к разговорам наших спутников,
коренных вологжан.
Наконец прибыли к месту своего назначения и вышли на привокзальную пло¬
щадь. Первым человеком, принявшим нас на Вологодской земле, стал лаборант
кафедры литературы Иван Сергеевич Окулов. Уже немолодой, очень милый и
деликатный человек, он встречал нас на институтском грузовике, которым пра¬
вил Валентин Менгелеев, впоследствии не один раз выручавший нас своим транс¬
портным средством. С грохотом, подпрыгивая на булыжниках, которыми была
вымощена главная улица, конечно же носившая имя Сталина, мы отправились на
улицу Папанинцев (теперь - проспект Победы). Здесь находился единственный
в то время ресторан под названием «Север». Он и сейчас существует под тем же
названием. Над ним были расположены номера, принадлежавшие в старое время,
видимо, одному хозяину. Небольшие узенькие комнаты были превращены в квар¬
тиры для преподавателей и служащих института. После крохотной комнатушки в
общежитии Саратовского университета это жилище показалось нам настоящими
хоромами. Ведь имелась еще и кухня с плитой, небольшой чуланчик, водопровод
на общей кухне и прочие удобства - тоже общие. Мы были непритязательны и
готовы довольствоваться малым. Совсем недавно закончилась война, жизнь еще
только налаживалась, а мы, вчерашние студенты, пока еще ничего не заработали и
не могли предъявлять никаких претензий.
В институте нас приняли хорошо. Декан историко-филологического факуль¬
тета Олег Владимирович Шайтанов и заведующий кафедрой литературы Геннадий
Иванович Лебедев определили нам нагрузку, учли и наши пожелания. Оставалось
еще несколько дней до начала занятий, и мы решили познакомиться с городом.
Оказалось, что мы живем в самом центре. Кругом были интересные старинные
здания, остатки бывших рядов, Каменный мост, где находилось фотоателье с до¬
революционным чучелом медведя при входе, а рядом - «Оптика», где еще прода¬
вались пенсне. Здесь же находилось несколько магазинов, и в том числе особенно
48
Как было и как вспомнилось
привлекательный для меня - кондитерский. Правда, и в бывших рядах продавали
вкуснейшую вещь - маринованные белые грибы. Их доставали из больших бочек.
Красивые, желто-коричневые, скользкие от маринада, они были восхитительного
вкуса.
Как ни странно, в первые годы пребывания в Вологде мы могли лакомиться
такими вещами, которые теперь попали в разряд почти недоступных. Это была
черная икра, которая стояла в больших емкостях и ее продавали на вес, и крабы.
Последние не пользовались особым спросом у населения, и потому банки с этим
деликатесом красивыми пирамидами возвышались на полупустых полках продо¬
вольственных магазинов.
По городу ходили три автобуса. Маршрут первого номера начинался на Льно¬
комбинате и заканчивался в Ковырине (теперь - Октябрьский поселок). Номер
третий шел от Прилук до вокзала, и так оставалось многие годы. Как ходил номер
второй, не помню. В конце 1950-х годов появилось несколько такси.
Одной из примет Вологды были деревянные тротуары. Константин Симонов,
проезжавший через Вологду на Карельский фронт в октябре 1941 года, написал
здесь стихотворение «В домотканом деревянном городке»:
В домотканом деревянном городке,
Где гармоникой по улицам мостки,
Где мы, с летчиком сойдясь накоротке,
Пили спирт от непогоды и тоски...
Деревянные мостки еще держались на улице Урицкого до конца 1950-х годов,
когда мы переехали в новый дом и когда постепенно вообще менялся облик улицы,
появлялись каменные дома. А тогда прямо в центре, рядом со зданием института,
на берегу, возле Соборной горки находилось деревянное здание институтского
общежития, а дальше - величественная громада Софийского собора. Это место
стало навсегда самым любимым в городе.
В общежитии мы часто бывали у своих коллег, вскоре ставших друзьями. Это
были Тамара Алексеевна Беседина и ее муж Юрий Дмитриевич Дмитревский,
приехавшие из Ленинграда. Тамара Алексеевна работала на нашей кафедре, она
окончила Ленинградский университет, и у нас нашлись общие знакомые, а глав¬
ное - общие учителя, как, например, профессор Гуковский, который во время
эвакуации работал в Саратове. Дмитревский был географом, но филологические
проблемы и интересы были ему не чужды. Мы подружились и с Анной Михайлов¬
ной Гольдиной, человеком большой души, преподававшей педагогику.
Из нашего дома перебрался в это общежитие еще один наш приятель, замеча¬
тельный человек, специалист по русскому языку Борис Николаевич Головин, впо¬
следствии профессор Горьковского университета. Вскоре на кафедре русского
Вечер первый. «Деревянная столица»
49
языка появилась пара молодых преподавателей - Татьяна Георгиевна Паникаров-
ская и Вячеслав Александрович Шитов. Они жили в другом общежитии, на ули¬
це Лермонтова, но это не помешало им примкнуть к нашему дружескому кружку.
В том же 1949 году после окончания московской аспирантуры на кафедре эконом¬
географии появилась Валентина Ивановна Веселовская, с которой я была знакома
еще со школьных лет во Владимире. Наш декан, которого мы немножко побаи¬
вались на работе, оказался веселым и остроумным человеком, а его жена Муза
Васильевна была первой красавицей Вологды.
Все вместе мы отмечали праздники, дни рождения, привнося в эти традици¬
онные сборища много выдумки и молодого задора. Загадывали шарады, играли
в литературных героев, писали смешные телеграммы, пожелания и шаржи, выпу¬
скали подходящие к случаю газеты. Дмитревский играл на пианино, и мы пели пес¬
ню про Вологду. Музыка принадлежала ему, а слова - мне. И хоть Вологда была
мне не родная, я писала с полной искренностью о ее очаровании, потому что это
было близко к моей ленинградской природе:
Неказистая, суровая, простая -
Березняк, рябинка да сосна...
В целом свете ближе нету, нету края,
Вологодская родная сторона!
Белой ночи сумрак нежный
И осенних красок жар,
Колдовство метели снежной
Ты приносишь людям в дар.
Вместе с Б. Головиным Дмитревский сочинил еще «Гимн вологодских сту¬
дентов». Там был такой припев:
Нас воспитает и научит,
Путевку даст и в жизнь и в труд
Родной для нас и самый лучший
Наш Вологодский институт!
Танцевали под «Брызги шампанского», новости слушали по черному репро¬
дуктору, оставшемуся с довоенных времен, «вражеские голоса» ловили по лампо¬
вому приемнику. Однажды он почему-то замолчал. Пришедший мастер обнару¬
жил в нем мышиное гнездо. Был еще один повод посмеяться.
Чувства дружбы, взаимной близости, участия, доверия сохранились у нас до
сегодняшнего дня. Иных уж нет на этой земле, но память о них в сердце навсегда.
Они неотделимы от нашей молодости.
50
Как было и как вспомнилось
Мы умели развлекаться, но умели и работать, хотя на первых порах приходи¬
лось нелегко.
В студенческих аудиториях еще много было бывших фронтовиков, которые
казались мне более взрослыми и умудренными жизнью, чем я, да так оно и было.
На заочном отделении занимались вообще взрослые люди, многие уже работали
в школе. Я смущалась и не ощущала себя настоящим преподавателем, но чувствова¬
ла поддержку и симпатию студентов. Это немного успокаивало и придавало силы.
Приходилось читать не те курсы, к которым я была более подготовлена. Мне до¬
сталась зарубежная литература, а я писала диплом по Алексею Толстому. Однако
деваться было некуда, и приходилось много готовиться, чтобы не ударить в грязь
лицом. Мужу было проще - он получил свою любимую советскую литературу, да и
отношения со студентами, прошедшими войну, как и он, у него быстро наладились.
Это было время, когда у нас учились Сергей Викулов, тогда уже писавший
стихи, Валерий Дементьев, впоследствии известный литературовед, Павел Булин
и Владимир Пудожгорский, будущие доценты нашего факультета, Юрий Герт, те¬
перь известный писатель, живущий в США, и много других талантливых людей,
проявивших себя в филологии и в педагогике. Бывшим фронтовикам приходилось
трудновато во всех отношениях, и мы, совсем недавно покинувшие студенческую
скамью, хорошо их понимали.
На факультете было три преподавателя, что называется, старой закалки. Это
были Вера Дмитриевна Андреевская, методист кафедры литературы, Александр
Михайлович Ремизов, доцент этой же кафедры, и Василий Сергеевич Третьяков,
доцент кафедры русского языка. Они нас подбадривали и не оставляли своим вни¬
манием. Первая в Вологде новогодняя встреча прошла в доме Василия Сергеевича
на Октябрьской улице. Мороз доходил до 40 градусов, и в деревянном доме, ко¬
торый в свое время был, вероятно, добротным, а теперь обветшал, было довольно
холодно. Согревала теплота человеческих отношений.
Вера Дмитриевна, получившая педагогическое образование до револю¬
ции, преподавала русскую словесность еще в гимназии. Она приглашала к себе
в гости, делилась методическим опытом, что было для меня очень важно, потому
что в университете методике почти не уделялось внимания. В ее маленькой квар¬
тире было так уютно и всегда находилось что-нибудь вкусное. Когда Виктор Ва¬
сильевич защитил диссертацию, она подарила ему красивый бокал, по ее словам
когда-то принадлежавший кому-то из князей Вяземских.
У А. Ремизова была большая библиотека, которой он разрешал нам пользо¬
ваться. До сих пор я нахожу на своих полках подаренные Александром Михайло¬
вичем книги с инвентарным номером, написанным его рукой. Так с помощью этих
добрых людей и собственных усилий мы постепенно становились на ноги. Мне,
новичку в зарубежной литературе, еще очень помогали лекции Олега Владимиро¬
вича, которые он разрешил мне посещать.
Вечер первый. «Деревянная столица»
51
Отличную обстановку на кафедре создавал ее заведующий, Геннадий Ивано¬
вич Лебедев, который с большой семьей жил рядом с нами над рестораном «Се¬
вер». Это у него я всегда перехватывала трешку или пятерку до получки.
Одним из неприятных воспоминаний первых лет нашей жизни в Вологде было
обсуждение на кафедре изданной моим мужем, Виктором Васильевичем Гурой,
книги «Русские писатели в Вологодской области», ставшей теперь почти биб¬
лиографической редкостью. Она вышла в 1951 году. В ней, несомненно, были и
ошибки, и пропуски, но не было никаких политических огрехов. Однако суровая и
бдительная критика того времени их нашла. Автору строго указали на то, что в его
книге не нашлось места для Сталина, в свое время побывавшего в Вологде в ссылке
и что-то здесь написавшего. Тогда такое обвинение было довольно опасным. Но
во время обсуждения на кафедре Геннадий Иванович не дал разгуляться страстям
и никаких «оргвыводов» не последовало. Мы работали в спокойной доброжела¬
тельной атмосфере, в постоянном контакте с кафедрой русского языка, во главе
которой стоял Б. Головин.
В 1950-е годы на разных кафедрах работали крупные специалисты. Игорь Кон,
имеющий сейчас широкую известность как психолог, начинал работать на кафедре
всеобщей истории. Артур Владимирович Петровский два года читал вологодским
студентам психологию, затем уехал в Москву и через некоторое время стал акаде-
миком-секретарем, а затем и президентом Российской академии образования. Но
не все попадали в Вологду добровольно. Кандидат химических наук Софья Соло¬
моновна Норкина, бывшая доцентом МГУ и парторгом естественных факультетов
университета, накануне защиты докторской диссертации была выслана сначала в
Казахстан, а затем отбывала ссылку в Вологде и работала в ВГПИ. Такова же была
судьба и профессора Гольдмана, одного из крупных физиков страны. Профессор
Дягилев читал студентам естественно-географического факультета ботанику, про¬
фессор Чулков - анатомию. Павел Викторович Терентьев, бывший проректор
Ленинградского университета, доктор биологических и кандидат физико-матема¬
тических наук, читал зоологию. Профессор Гуковский - историю. Для провинци¬
ального вуза это была редкая удача. Многие, правда, уехали после 1953 года.
Все торжественные мероприятия по праздникам проходили в КОРе, как он
назывался раньше (Клуб октябрьской революции), или Дворце культуры желез¬
нодорожников, как его именовали уже при нас. Там же приезжие знаменитости
давали концерты или спектакли. Часто приезжал Ярославский симфонический
оркестр, которым дирижировал Юрий Аранович, теперь давно уже находящийся
в Израиле. Мы имели счастливую возможность слушать величайших пианистов на¬
шего времени Святослава Рихтера и Эмиля Гилельса, знаменитого Мстислава Ро¬
строповича, еще одного известного виолончелиста Даниила Шафрана. На сцене
Дворца культуры железнодорожников играл ансамбль скрипачей Большого теа¬
тра под управлением Юлия Реентовича и знаменитый джаз Олега Лундстрема. На
52
Как выло и как вспомнилось
ней танцевал Махмуд Эсамбаев и ставил балеты Макс Миксер, в которых блистали
вологодские девочки и мальчики.
Привозили свои спектакли московские и ленинградские театры. В том же зале
мы смотрели мхатовских «Мещан» и «Беспокойную старость» с Ольгой Андров-
ской. Алла Константиновна Тарасова играла Раневскую в «Вишневом саде». Вме¬
сте с ней в спектакле были заняты Степанова, Яншин, Грибов, Масальский, так
называемые мхатовские старики. «Последнюю жертву» с Тарасовой мы видели
в постановке Московского областного драматического театра. Из Ленинграда
театр имени Ленсовета привозил ибсеновскую «Нору» или «Кукольный дом».
Каждое такое событие было праздником, его нельзя было пропустить. Мы хоть
в чем-то становились причастными к столичной жизни.
Надо сказать, что и Вологодский драматический театр в 1950-е и 1960-е годы
радовал своих поклонников отличными спектаклями. Художественным руководи¬
телем театра с 1954-го по 1965 год был Александр Васильевич Шубин, заслужен¬
ный деятель искусств РСФСР. Человек большой культуры, окончивший студию
Мейерхольда в 1916 году, он был отличным режиссером и педагогом. Мы не про¬
пускали ни одной премьеры, знали всех артистов, «Красный Север» заказывал
нам рецензии на спектакли, и мы писали, хоть и не были театральными критика¬
ми. Любимцами публики были Марина Владимировна Щуко и Василий Василье¬
вич Сафонов, оба заслуженные артисты РСФСР. При театре был филиал студии
МХАТа, которым руководил А. Шубин, и я даже читала молодым актерам зару¬
бежную литературу, что мне было очень интересно.
Само помещение театра на бывшей Дворянской улице как бы хранило память
XIX века. Мне представлялось, что именно в таких провинциальных театрах впер¬
вые ставились пьесы Островского, Тургенева, Гоголя. Действительно, Вологда
знала замечательные времена. Здесь начинали свой путь Орленев и Корчагина-
Александровская. На вологодской сцене в разное время выступали Андреев-Бур-
лак, Варламов, Давыдов, Мамонт Дальский, Блюменталь-Тамарина, представите¬
ли театральной династии Садовских.
Первый деревянный театр сгорел. Новый каменный был небольшой, но впол¬
не достаточный для такого города, каким в 1950-1960-е годы была Вологда. Зал
почти всегда был полон, особенно на премьерах. Вологда, обладавшая давними те¬
атральными традициями, сохранила их и в новые времена.
Из тогдашних спектаклей запомнились «Живой труп», «Фома Гордеев»,
«Обрыв», «Такая любовь» Когоута, «Кремлевские куранты», «Вишневый
сад». Марина Владимировна Щуко поражала многогранностью своего таланта
в «Госпоже министерше» Нушича, в итальянской пьесе «Деревья умирают
стоя». Ей одинаково был доступен и трагический, и комический репертуар.
Филармония в те времена располагалась в том здании, где сейчас находится
кукольный театр «Теремок». Там мы слушали Зару Долуханову, Михаила Алек-
Венер первый. «Деревянная столица»
53
сандровича, Александра Вертинского и других известных певцов, а еще раньше, до
нашего приезда, там выступал Вадим Козин. Ленинградская консерватория при¬
сылала своих артистов, которые представляли сцены из разных опер.
В центре города был большой кинотеатр. Он был назван именем Горького и
оборудован в бывшей церкви, через некоторое время разрушенной. Старая проч¬
ная кладка долго не поддавалась, но в конце концов сдалась. Кроме того, работали
«Спутник» за вокзалом, «Искра» на улице Ленина, позже - «Родина» в зареч¬
ной части города. Фильмы показывали и во Дворце культуры железнодорожников.
Картин тогда снималось немного, шли они подолгу, и мы успевали все посмотреть,
иногда и по два раза, благо билеты стоили копейки, не так, как теперь.
Что мы смотрели в 1950-е годы? «Весна на Заречной улице» и «Высота»
с самым популярным и любимым Николаем Рыбниковым. «Сорок первый», не¬
обыкновенно смелый по тем временам, с Изольдой Извицкой и Олегом Стрижено¬
вым, «Дело Румянцева» с Алексеем Баталовым и Инной Макаровой, «Убийство
на улице Данте» с Михаилом Козаковым. В марте 1961 года во Дворце культуры
железнодорожников проходил кинофестиваль, приехали артисты, раздавали авто¬
графы. Мы с Музой Васильевной Шайтановой получили фотографию Валентина
Зубкова («Коммунист», «Солнце светит всем») с его автографом и несколько
слов от Людмилы Шагаловой в память о фестивале. Фильмы тех лет не устарели.
Они были сделаны с разной степенью талантливости, но добротно, неторопливо.
В отличие от тех поделок, которые теперь лепят как блины и называют сериалами.
В 1950-е годы все мы увлекались итальянскими фильмами. Это было время
расцвета неореализма. Выходили на экраны и французские ленты так называемой
новой волны, и английские с Вивьен Ли в главных ролях. Долго мы не подозревали,
что все они проходят придирчивую советскую цензуру, которая вырезала из них
кадры, способные нарушить высокую мораль наших граждан. Но все же мы по¬
знакомились с искусством Жана Маре, Жерара Филиппа, Жана Габена, Симоны
Синьоре, Даниель Дарье, Николь Курсель, Джульетты Мазины, Рафа Валлоне и
других актеров. Обаятельная Лолита Торрес заразила нас задорными песнями из
фильма «Возраст любви», снятого в Аргентине. Песни почему-то были о порту¬
гальском городе Коимбра.
В бывшем Дворянском собрании находилась областная библиотека, в кото¬
рой мы постепенно осваивались с помощью опытных работников библиографиче¬
ского отдела. Из них с особой благодарностью хочется вспомнить Елену Алексан¬
дровну Кондратьеву, отличного знатока и своего дела, и библиотечных фондов.
Работа библиотекаря в те годы была очень кропотливой, не было никаких компью¬
теров, и содержание всего книжного богатства в надлежащем порядке требовало
больших усилий.
Читальный зал был уютный и красивый, в нем было приятно заниматься. За¬
казы выполнялись быстро. Помню очень любезную Рахиль Давыдовну Пелевину,
54
Как было и как вспомнилось
которая работала в читальном зале и одновременно училась заочно на нашем фа¬
культете. Вера Вениаминовна Печенская, Надежда Константиновна Карушкина,
здравствующая и поныне, - это были люди, которые помогали нам в наших заняти¬
ях. Работал межбиблиотечный абонемент. Это тоже было очень важно и для меня,
и особенно для мужа, который рано начал собирать материал для кандидатской
диссертации и вообще много писал и печатался.
Постепенно и у нас дома накапливались книги, главным образом по литерату¬
роведению. За текущей литературой следили по журналам, которые стали выписы¬
вать с первого же месяца пребывания в Вологде. И сейчас большой стеллаж в моей
квартире занят годовыми комплектами «Нового мира» с 1950-го по 1992 год.
Это был лучший журнал на продолжении четырех десятилетий. Выбросить его
считаю кощунством, а отдать некому. Получали мы также «Октябрь», «Зна¬
мя», «Иностранную литературу», «Дружбу народов». В отдельные годы даже
«Дон», «Звезду», «Юность», «Вокруг света». Теперь они доживают свой век в
проданном деревенском доме и их читают новые хозяева. А почитать там есть что.
Нагрузки в институте были немалые. В первый же год я должна была про¬
читать 400 часов одних лекций, а еще - практические занятия, экзамены, зачеты,
консультации. Получалось часов 800. Однако этим дело не ограничивалось. Необ¬
ходимо было выполнять общественную работу. Партбюро назначило меня редак¬
тором институтской стенгазеты. Не приняли во внимание ни необходимость раз¬
рабатывать курсы, ни то, что я ждала ребенка. Отказаться было невозможно, ведь
я была членом партии. Но, между прочим, никто не возражал, когда я отказалась
от декретного отпуска и продолжала работать до самых родов.
И в дальнейшем какую только работу не приходилось выполнять! Но инте¬
реснее всего было отвечать за так называемую художественную самодеятельность
(теперь это словосочетание как-то ушло в прошлое). Накануне смотров между
факультетами, а их тогда было немного, разгоралась настоящая борьба. Каждый
старался выступить как можно лучше и завоевать первое место. Занятые в смотре
студенты на время забывали об учебе, и преподаватели старались этого не заме¬
чать. Во время концертов ревниво следили за успехами друг друга. Подозревали
членов жюри в пристрастности.
Концерты получались интересные, остроумные, выявляли неожиданные та¬
ланты. Но каких это стоило усилий и даже нервов! И все же это было намного
интереснее, чем, например, посещать студенческие общежития или высиживать
часы на партийных или профсоюзных собраниях.
Была у меня и еще одна работа - я курировала институтское радио, когда наш
факультет перебрался на улицу Мальцева. Наш студент Юрий Богатурия, впослед¬
ствии корреспондент Всесоюзного радио, а позже и телевидения по Вологодской
области, начинал свою карьеру с маленького радиоузла на филологическом фа¬
культете. Отсюда передавались последние новости, у микрофона выступали наши
Венер первый. «Деревянная столица»
55
поэты, в том числе уже покойные Виктор Коротаев и Леня Беляев. На всю мощ¬
ность Юра включил динамик 12 апреля 1961 года, когда передавали сообщение о
полете Юрия Гагарина. Распахнулись двери всех аудиторий, студенты и препода¬
ватели высыпали в зал и с восторгом слушали эту неожиданную новость. В такие
моменты сердцем человека овладевает гордость за свою страну!
Но бывало и наоборот. Каждую осень студенты ездили «на картошку». За¬
помнилась одна такая поездка в деревню Непотягово. Была уже поздняя осень,
шли затяжные дожди, поля раскисли. А бедные студенты, не имеющие соответ¬
ствующей экипировки, в грязи и холоде выкапывали мокрые скользкие клубни.
Я поинтересовалась, почему колхозники не принимают в этом участия. Мне от¬
ветили, что они не дураки работать в такую погоду. Обиднее всего было то, что
выкопанная с таким трудом картошка не была вовремя убрана и замерзла в поле.
Такие факты не прибавляли ни энтузиазма, ни гордости за свою страну.
Между тем городская жизнь становилась все интереснее и разнообразнее.
В 1961 году было создано Вологодское отделение Союза писателей. Оно объеди¬
нило пишущую братию области, в которой уже давно были известны такие про¬
заики, как Гарновский, Угловский, но недавно появились и новые, как, например,
Василий Иванович Белов, входивший в литературу замечательными рассказами и
вскоре покоривший всех своим «Привычным делом». В Вологде поселился прие¬
хавший из Архангельска Иван Дмитриевич Полуянов, большой знаток природы и
обычаев Севера. Много лет работал в Вологде старейший писатель Виктор Азри-
элевич Гроссман. В прошлом - историк русской литературы, исследователь-Пуш-
кинист, он со временем стал пробовать свои силы в художественном творчестве.
Свидетельством этого может быть хотя бы роман о Пушкине «Арион», изданный
в Москве в 1960-е годы. Среди вологодской писательской молодежи он выделялся
как старейшина и многим помогал добрым советом.
Не порывали связи с родной землей Александр Яшин, Сергей Орлов, Кон¬
стантин Коничев, с которым мы особенно подружились.
Между тем набирала силу вологодская поэзия, представленная Сергеем Вику¬
ловым, Александром Романовым, Ольгой Фокиной, Виктором Коротаевым.
Успехи наших писателей дали повод современной критике говорить о появ¬
лении «вологодской школы». На творческих встречах читатели обсуждали новые
произведения, интересовались планами авторов. Приезжали в гости писатели
из Архангельской области, из Коми АССР, из Москвы и Ленинграда. Вот пере¬
до мной билет во Дворец культуры железнодорожников на литературный вечер
«У нас в гостях писатели-земляки». Вечер состоялся 6 декабря 1964 года. В нем
приняли участие родившиеся на Вологодчине Ю. Арбат, В. Дементьев, Ю. До¬
бряков, Ф. Кузнецов, К. Ломунов из Москвы, К. Коничев, Н. Кутов, П. Кустов из
Ленинграда, П. Макшанихин из Свердловска, В. Соколов из Новгорода, И. Тара-
букин (город не указан). Были заявлены еще С. Орлов, Ю. Пиляр, В. Тендряков,
56
Как было и как вспомнилось
А. Яшин, но по разным причинам не смогли приехать. Конечно, выступали и
наши - В. Белов, В. Гроссман, В. Гура, И. Полуянов, А. Романов, О. Фокина.
В киоске продавались книги, писатели раздавали автографы.
7 октября следующего года на творческой встрече с читателями Василий Бе¬
лов читал отрывки из новой повести «Речные излуки», а Сергей Викулов - новые
стихи и отрывки из поэмы «Хлеб да соль». В вечере принимали участие артисты
драматического театра, вел вечер Виктор Гура.
Большой переполох наделал в 1966 году Александр Яшин своим очерком «Во¬
логодская свадьба». Ортодоксальная критика приняла его в штыки, объявила па¬
сквилем на жизнь современной деревни. Обком партии организовал обсуждение
новой вещи нашего земляка. Из студентов филологического факультета был вы¬
бран один, родом из Никольска, которому предложили опровергнуть написанное,
что он послушно и исполнил, за что был подвергнут остракизму в студенческой
среде. Между тем очерк не содержал никакого очернительства, а просто правдиво
воссоздавал особенности бытового уклада и обычаев современной деревни. Ко¬
нечно, это было далеко не так безоблачно, как в романах Бабаевского. Но Яшин
ничего не хотел приукрашивать. Подобные сцены он не раз наблюдал в родной
деревне Блудново Никольского района.
Интересной жизнью жили наши художники. В картинной галерее проходили
персональные выставки Корбакова, Баскакова, Тутунджан, Ларичева, Шваркова,
Хрусталевой и других, издавались небольшие каталоги. Главную роль в органи¬
зации этих дел играл директор картинной галереи Семен Георгиевич Ивенский,
поощрявший развитие графики и с самого начала поддержавший талантливых
Генриетту и Николая Бурмагиных и Владислава Сергеева. Вологодская графика
стала известна далеко за пределами области и даже страны. К сожалению, супруги
Бурмагины рано ушли из жизни, и мы многого лишились в искусстве графики.
Люди творческие - писатели, художники, артисты - организовали что-то вро¬
де клуба. Собираясь, устраивали капустники, придумывали пародии, комические
сценки, дружеские шаржи. Кто-то сочинял, кто-то рисовал, кто-то разыгрывал на
сцене, а кто-то, сидя в зале, весело смеялся, узнавая себя или своих товарищей. Ду¬
шой всего была Джанна Тутунджан. До поздней ночи порой засиживались мы на
нашей кухне, втроем придумывая программу очередного сборища.
К сожалению, все это сейчас утрачено, а как интересно было бы вспомнить
некоторые придумки. Например, пародию на запись в книге отзывов картинной
галереи: «Выставка очень хорошая. Особенно понравились стулья и девушка-экс¬
курсовод». В сценке, представлявшей заезжего столичного критика, последний
обращался с претензиями к известной художнице и, желая подсластить пилюлю,
умильно называл ее через каждые два слова «голубчик». Весь комизм этой сцены
передать сейчас словами невозможно. Важна интонация, важны непосредствен¬
ные реалии того времени и сами люди. Но получалось смешно, а иногда и остро.
Венер первый. «Деревянная столица»
57
Встречи происходили в зале сегодняшней филармонии и были интересны как
участникам, так и гостям.
В 1950-е годы стали появляться в городе люди, которых разоблачение культа
личности вызволило из лагерей. В нашем доме поселилась супружеская пара Ива¬
новых - Порфирий Дмитриевич и Вера Павловна. Отбыв 10 лет лагерей, Порфи-
рий Дмитриевич был оставлен на поселении в Норильске, куда к нему приехала
жена, и только в середине 1950-х годов им разрешили вернуться в Вологду. Он
был инженером-строителем и сразу получил работу, а через некоторое время и
отдельную квартиру неподалеку.
Его жена прожила удивительную жизнь. Она происходила из семьи Золоти-
ловых, людей состоятельных, имевших большой дом на теперешней улице Гоголя.
Рано осиротела и была отдана дядей в московский институт благородных девиц,
кажется, Мариинский. Рассказывала много интересного о том, как девочек там
воспитывали, и на всю жизнь усвоила понятия долга, чести и правила достойного
поведения. После окончания института вернулась в Вологду. В годы революции
и Гражданской войны нашла какую-то работу, и тут повстречала своего первого
мужа. Он был назначен торговым атташе в Стамбул, и она несколько лет прожила
в Турции. Затем вернулась с мужем в Ленинград и через некоторое время овдове¬
ла. Нашла работу секретаря-машинистки в Академии наук, кое-как перебивалась.
В это время ее и нашел П. Иванов, который был к ней неравнодушен еще с детских
вологодских времен.
Они приехали в Вологду во второй половине 1930-х годов, а в 1937 году
П. Иванов был арестован. Веру Павловну долго не хотели брать ни на какую ра¬
боту. Жила продажей некоторых ценных вещей, которые у нее еще сохранились.
Наконец удалось устроиться судомойкой в вокзальный ресторан, а затем и полу¬
чить повышение - ее назначили кастеляншей. Началась война, из осажденного
Ленинграда поступали изголодавшиеся люди, которых прежде всего кормили на
вокзале, и Вера Павловна принимала в них самое горячее участие, сопровождала в
госпитали, иногда присутствовала при последнем вздохе. Вскоре после войны ее
муж был освобожден из лагерей, и она смогла к нему поехать. Жизнь в Норильске
была не из легких, но она считала необходимым делить ее со своим мужем.
Пережив обоих мужей, пережив сына и внука, Вера Павловна скончалась
в возрасте 91 года в доме для престарелых в Молочном. Для меня она навсегда оста¬
лась примером стойкости, умения переносить трудности, верности своему долгу и
просто красивой во всех отношениях женщиной. Такие люди не забываются.
Да, что-то было лучше, но многое было и хуже. Хорошо, что память удержи¬
вает больше положительных моментов и издали все рисуется в розовом свете. На¬
верное, это еще и потому, что «молоды мы были», что «искренно любили», что
«верили в себя», как поется в одной замечательной песне.
2006
58
Как было и как вспомнилось
Игорь Шайтанов
Когда все только начиналось
Проверенный мемуарный прием - начать с первой встречи и с первых впечат¬
лений.
Где мы могли встретиться с Ириной Викторовной, я предположить могу. Либо
у них в комнатах над рестораном «Север»... Я их почти помню - коридор, нумера.
Для середины XX века что-то архаическое - из какой-то предшествующей жизни.
Либо у нас - жилище вполне советское и по постройке, и по быту: четырех¬
этажное здание студенческого общежития над Золотухой на улице Лермонтова -
с квартирами для преподавателей в крыльях. Однако и в комнатах, куда вход был
прямо из коридора, преподаватели тоже жили.
Так что по крайней мере с местом действия есть некоторая определенность,
но для впечатлений от первой встречи, увы, был слишком мал, и как в свои два года
впервые увидел «тетю Иру», не запомнил.
Они с Виктором Васильевичем были люди не местные - ни по происхожде¬
нию, ни по учебе. В более поздние годы приезжие среди преподавателей встреча¬
лись все реже, но тогда - и пяти лет не прошло после войны - людская масса была
в движении. И не только это: выпускник вуза ехал туда, куда его распределили. Так
приезжала молодежь, нередко оседая на всю оставшуюся жизнь.
Среди людей старшего поколения многие приехали не по своей воле. Таких
было немало в здании над Золотухой. В квартире, где я родился, в комнате напро¬
тив поселился писатель-пушкинист Виктор Гроссман. Для него это был перерыв
между лагерями. Из второго лагеря он тоже возвратится, чтобы вместе с Викто¬
ром Гурой стать одним из трех основоположников вологодской писательской ор¬
ганизации. Я его помню, естественно, в годы гораздо более поздние.
А вот годам к семи, обнаружив некоторые способности к игре в шахматы (они
не разовьются за пределами детских лет), я брал доску и спускался вниз, где по¬
зади двух гипсовых комсомолок-спортсменок стояли скамейки. На одной из них
мы молчаливо двигали фигуры с - я сейчас бы сказал - пожилым господином.
Я совершенно не помню, чтобы мы с ним разговаривали или чтобы я как-то к нему
обращался. Я знал только фамилию - профессор Гуковский. Сейчас я знаю, что его
звали Матвей Александрович, что он - известный историк, брат еще более извест¬
ного филолога, что вскоре после выхода в свет первого тома «Итальянского Воз¬
рождения» он был арестован, выслан из Ленинграда, посажен, потом на какое-то
время оказался в Вологде.
Каким был исторический воздух? Страх помню. Еще бы его не было. У мно¬
гих - и у моих родителей, и у Ирины Викторовны - в недалеком прошлом репрес¬
сии родных... Так что было чего бояться.
Помню лица родителей, когда из лучших художественных побуждений я рас¬
красил на листке отрывного календаря портрет не то Ленина, не то Сталина. Слу-
Венер первый. «Деревянная столица»
59
чалось и хуже: нянька вывела меня на прогулку, сунув в руку красный флажок. По¬
дошли солдаты и офицер с траурными повязками. Я был нянькой схвачен в охапку
и этапирован домой, где родители с ужасом прослушали историю о моей неволь¬
ной политической акции. Это был день, когда объявили о смерти Сталина.
Вот такие первые впечатления. Но будет ошибочно предположить, что общую
атмосферу определяли молчание и страх. Больше помню другое - праздничное.
Сейчас кажется, что взрослые часто собирались, а когда собирались, было очень
молодо и весело. Много смеющихся лиц. Разыгрывали шарады, поражавшие вооб¬
ражение своей театрализованностью, - в кого-то переодевались, кого-то изобра¬
жали. Вместо тостов читали стихотворные послания и эпиграммы. Знаю, что мой
отец и Ира Гура были среди первых авторов.
Эта жизнь продолжалась по-провинциальному долго, медленно, конечно ме¬
няясь, но не настолько, чтобы перестать быть узнаваемой. Из нумеров и обще¬
житий переехали в отдельные квартиры. Быт становился благополучнее, а жизнь
как-то старше, тише. Потом один за другим люди начали уходить, и съеживалась
среда, сложившаяся в середине прошлого века, которую сейчас уже почти некому
вспомнить.
Чтобы оживить память, приезжаю в Вологду, прихожу к Ирине Викторовне.
Она рассказывает о том, что было тогда и что сегодня прочла в «Одноклассни¬
ках». Там неожиданно восстанавливаются связи, оборванные репрессиями в 30-х,
войной в 40-х... И неудивительно, что именно к Ирине Викторовне сходятся эти
некогда порванные нити, потому что в ее присутствии длится жизнь длиной почти
в столетие, уводящая культурную память и еще много дальше - за горизонт совет¬
ской эпохи к чему-то, что кажется почти небывшим, почти литературой. Было ли?
Приходишь на угол Козленской и Зосимовской (когда-то - недоброй памяти
Урицкого и Калинина), поднимаешься на третий этаж - пятая квартира. Звонишь,
как двадцать, тридцать, сорок лет назад: «Здравствуйте, Ирина Викторовна».
И понимаешь - было, а главное - есть. Живо человеческое достоинство, мужество
пережить и остаться собой, рассеять морок любого времени и порадоваться жиз¬
ни, продолжающейся несмотря ни на что.
2014
Игорь Шайтанов
Учитель английского
Мы встречаемся не часто. Скорее редко. Обычно где-нибудь на вологодской
улице. И каждая встреча для меня начинается открытием, к которому пора бы при¬
выкнуть: Зельман Шмулевич все тот же, каким был тридцать лет тому назад, когда
60
Как было и как вспомнилось
классным руководителем выпускал нас из первой школы, и каким восемью годами
ранее вошел в наш класс - учить английскому языку.
В вологодских вузах, техникумах и училищах для тех, кто на вопрос о препода¬
вателе иностранного языка может ответить: «Щерцовский», - экзамен фактиче¬
ски заканчивается. С ними все ясно. Щерцовский - имя, гарантирующее качество.
Качество, как будто бы даже независимое от способностей и желания ученика ра¬
зобраться в хитросплетениях английских времен и выпутаться из немецкой фразы.
Одни знают лучше, другие хуже (порой много хуже), но для всех иностранный
язык перестает быть непреодолимым и пугающим барьером. Проходят школу, в
которой если и не выучивают язык (из-за самих себя), то все равно (помимо себя)
видят, как это делается, и при необходимости в будущем с неожиданной легкостью
овладевают им.
Я думаю, что с этим умением от Зельмана Шмулевича уходят все, включая и
тех, кому на его уроках неизменно выпадала роль героев-злодеев. Впрочем, кому
она не выпадала? Стремительной, упругой походкой явление - не учитель, гро¬
мовержец. Черной молнией взгляд - в класс. Застыли. Рука резко брошена на хлип¬
кий учительский столик - вниз. Все, что на нем, летит к потолку - вверх. Гробовая
тишина и сквозь нее: «РазгильдАи».
Незабываемый спектакль урока. Всегда завораживающий, в какой-то момент
заставляющий оцепенеть от ужаса перед этим взрывом темперамента, но никогда
не унижающий. Прежде всего потому, что не только обращение к ученику было
на «вы» - нечастое в те годы, но и отношение к нему было на «вы», с внутрен¬
ним достоинством и уважением. А урок был спектаклем, действом, без которо¬
го невозможно заинтриговать и, следовательно, вовлечь, делая каждого в классе
участником происходящего. В те годы едва ли школьная методика предполагала
создание атмосферы, путем погружения в которую нужно было учить языку. На
уроках Зельмана Шмулевича была и атмосфера, и погружение в нее, столь необ¬
ходимое тем, кто никогда не видели живого иностранца, не слышали живой речи.
Это происходило благодаря великолепному знанию учителя, его таланту и дове¬
рию к нему: он знает, он ведь бывал там, для него языки не мертвый учебник.
... В начале этого лета мы снова встретились. Для меня все тот же поразитель¬
но моложавый, бодрый, он рассказывал, что в школе не работает, ушел в институт,
но полная ставка уже слишком для него много. Не верилось. И хочется, чтобы как
можно дольше продолжалось почти пять десятилетий совершаемое им дело, что¬
бы пролегал из Вологды в большой мир путь не только языка, но путь культуры, им
открытый для многих из нас.
1997
Вологодские пенаты
Игорь Шайтанов
«Легкие стихи - самые трудные»
Константин Батюшков
Имя Батюшкова в нашем сознании - рядом с пушкинским. Мы говорим: Пуш¬
кин - и не нуждаемся в уточняющих инициалах, хотя помним о том, что в русской
литературе у него были и родственники, и однофамильцы. В то время, когда пи¬
сал Батюшков, такие уточнения не показались бы лишними. В 1817 году в письме
П. Вяземскому он направил шуточный запрос «Арзамасу», прося разрешить его
недоумение, касающееся трех московских Пушкиных - и все поэты!
К этому времени Батюшков не только знал о четвертом, но и посетил его
в Лицее. В ряду пушкинских учителей, его старших друзей Батюшков стоит от¬
дельно. Может быть, никто не предсказал явление Пушкина полнее и определен¬
нее, чем он. Отсюда и пушкинское восхищение его стихами, и острота неприятия
в них того, что ощущалось как уже пережитое, пройденное - тогда, когда русская
поэзия стремительно уходила вперед. Молодость Пушкина, самое начало успел за¬
хватить Батюшков, чтобы перед своим ранним закатом почувствовать силу юного
поэта: «О! Как стал писать этот злодей!»
Они познакомились, говорили о стихах. Старший, к этому времени прошед¬
ший войну, переживший отчаянье в сожженной Москве и триумф победы в повер¬
женном Париже, готовый забыть то, что казалось теперь поэтическими безделка¬
ми и у себя и у других, советовал не тратить времени и увлечься темой важной,
героической. Лицеист, однако, проявил характер, упорствовал и ответил послани¬
ем, где, цитируя Жуковского, оставлял за собой право выбирать: «Будь всякий
при своем...»
Так кончалось второе пушкинское послание, а в начале первого - прекрасная
характеристика Батюшкова, увиденного через его эпикурейские, небывало легкие,
гармоничные стихи: «Философ резвый и пиит, / Парнасский счастливый лени¬
вец...» И чуть дальше - «радости поэт». Спустя полтора десятилетия, в 1830 году,
Пушкин посетит уже давно и безнадежно больного Батюшкова, который его не
узнает. «Не дай мне бог сойти с ума...» - не тогда ли начало складываться это
пушкинское стихотворение?
Не так уж редко имена оказываются известнее стихов. Что мы помним из Ба¬
тюшкова? Человек, любящий поэзию, не может не знать того, что стало классикой:
«Тень друга», «Таврида», «Вакханка»... И, конечно, «Мой Гений», первые
строки из которого приобрели ту высшую степень известности, когда имя автора
62
Как было и как вспомнилось
может быть забыто, а стихи помнятся, принадлежащие то ли литературе, то ли уже
самому языку:
О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной...
До сих пор исследователи разгадывают странную оценку этих строк, остав¬
ленную Пушкиным. Вероятно, в 1824-1825 годах в Михайловском, когда Пуш¬
кин готовил свой первый поэтический сборник, он внимательно, с карандашом и
пером в руке перечитал второй - стихотворный - том батюшковских «Опытов
в стихах и прозе», вышедших в 1817 году и ставших настоящим событием. Востор¬
женные оценки на полях чередовались с критическими, подчас резкими. Напротив
стихотворения «Мой Гений» Пушкин написал: «Прелесть, кроме первых 4».
То есть кроме тех строк, которые помнятся прежде всего. Почему? Почему
Пушкин не оценил то, что станет любимым и известным?
Предполагают разное. Пытаются объяснять в пользу Батюшкова, защищая
любимые строки от пушкинской несправедливости. Быть может, говорят, Пуш¬
кин в силу его молодости не ощутил в них глубины психологической. Едва ли.
Скорее, дело в другом - в особом пушкинском чувстве индивидуального стиля,
стиля личности. В том чувстве, следуя которому он многократно правил соб¬
ственные стихи, добиваясь, чтобы не просто хорошо было сказано, но сказано -
свое.
Пушкин критически расценивал не только те или иные строчки Батюшкова,
но те или иные стороны его таланта: «Как неудачно почти всегда шутит Батюш¬
ков!» Еще по его пометам складывается впечатление, что он мог бы сказать: «Как
неудачно рассуждает Батюшков». И тот бы, наверное, согласился, потому что и
сам так думал: «Рассуждать несколько раз пробовал, но мне что-то все не удает¬
ся...»
Во всяком случае, программных батюшковских стихов Пушкин не принял. Не
принял «Мечту», которую Батюшков переписывал полтора десятилетия, пыта¬
ясь создать оду воображению, вслед Карамзину доказать, что лишь «мечтание -
душа поэтов и стихов», только в мечте - счастье. Холодно отнесся Пушкин и
к «Умирающему Тассу». Этой элегией Батюшков предполагал открыть переизда¬
ние «Опытов», считая ее своим лучшим стихотворением. Многие современники
были с этим согласны, но не Пушкин, находивший Тассо в изображении Батюш¬
кова лишенным своей страстной натуры.
Страсть и поэзию в батюшковских стихах он видел не там, где шло рассуж¬
дение, каким быть поэту, как мечтать, что помнить, но там, где мечта без лишних
слов одухотворялась памятью, подсказавшей первый звук, за которым - почти как
в сказке, за волшебной музыкой, - пораженному взору является играющая краска-
Вечер первый. «Деревянная столица»
63
ми картина. Так ведь и в «Моем Гении», где после первых четырех строк память
рисует образ несравненной пастушки:
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Какое быстрое и, как бы в то время сказали, роскошное воображение! Как
мало слов - и как много мы видим. Именно видим - в цвете, в движении, усиленном
троекратным повтором: «помню», - и струящимся звуком, и легкой интонацией.
Легкой называл свою поэзию и сам Батюшков. Изначально этот эпитет при¬
менительно к поэзии имел терминологическую силу - обозначал определенный
жанр, хотя и не строгий, к которому могли быть отнесены самые разнообразные
стихи, написанные по случаю, вслед беглому чувству или впечатлению. Однако
именно в батюшковской поэзии легкость стала свойством ее самой, всего ее стиля,
проникнутого присутствием автора, который представляет нам не то, что можно
увидеть везде и всегда, но что он сам и именно сейчас видит, переживает.
Зримость - отчетливое качество пластических батюшковских образов, отлича¬
ющее его от очень близкого ему поэта-современника В. Жуковского. Их реально
существующую близость иногда преувеличивали, представляя неким тождеством
манеры, движением по одному пути - к Пушкину. Пути были параллельные, но
все же разные. И если их продолжать уже за пределами пушкинской эпохи, можно
сказать, что Жуковский с его погоней за Невыразимым, ускользающим от грубо¬
го чувственного прикосновения, предвосхищает Фета, Батюшков же - Тютчева,
тоже пережившего романтическое сомнение в силе слова, в его способности со¬
хранить глубину душевных впечатлений и все же ведущего в своих стихах нескон¬
чаемый диалог души и природы, в котором духовное, незримое опредмечивается,
расцветает и получает чувственное выражение.
К этому слову прибегнул и Батюшков, когда в одном из последних писем, уже
подводя окончательный итог сделанному в поэзии, сказал о себе как об авторе,
«который в стихах, может быть, имеет одно достоинство - в выражении...».
Понимать сказанное можно по-разному. Можно сузить смысл высказывания
до оценки поэтического стиля, которому Батюшков придал необычайную гиб¬
кость и совершенную гармонию. Можно говорить также о небывалой до него
полноте самовыражения: «И жил так точно, как писал...», можно подразумевать
живописную изобразительность образа... Однако вернее всего будет не останав¬
ливать выбор на чем-то одном, тем более что каждое из названных свойств его
поэтической выразительности продолжается в другом и без него невозможно.
Острота зрения возрастает по мере того, как наблюдающий осознает свою инди-
64
Как было и как вспомнилось
видуальность и особенность своего взгляда, сказывающуюся в стихе особенно¬
стью выражения.
Но разве мало у Батюшкова штампов поэтического языка и традиционной об¬
разности, скажем, мифологических отсылок? Много, очень много, ибо, создавая
свой стиль, он, подобно Пушкину после него, ничего не отбрасывает, но всему
дает новое направление и новую жизнь. Мифологических отсылок к одному из са¬
мых любимых им периодов мировой культуры - к античности, у Батюшкова даже
больше, чем мы обычно замечаем.
В современных изданиях слово «гений», в том числе и в названии стихотворе¬
ния «Мой Гений», печатают со строчной буквы. Понятное стремление следовать
правилам новой орфографии. Но ведь старые поэты писали по старой орфогра¬
фии, и, выправляя их стихи, мы порой уничтожаем рифмы, искажаем смысл или,
по крайней мере, не замечаем чего-то важного. И в данном случае мы не замечаем,
что для Батюшкова Гений - персонаж мифологический, тот дух, который, по пред¬
ставлениям древних, сопровождает человека в течение всей его жизни, охраняет
его. Это младшее божество, принадлежащее тем Ларам и Пенатам, которым по¬
этически поклонялся Батюшков.
Мифологическое понимание слова принадлежало времени, так же оно упо¬
треблено и у Жуковского: в стихотворении «К мимопролетевшему знакомому
Гению» и в строке, властно присвоенной себе Пушкиным (присвоенной по праву
гения в современном смысле слова): «Гений чистой красоты...»
Батюшков и Жуковский сходятся в мифологическом понимании образа, но и
более ни в чем. Для Жуковского духовное лишь как бы незримым присутствием
веет, сквозит в предметном мире. Для Батюшкова сам мифологический персонаж
легко оживает, обретая форму и образ. Его Г ений - его возлюбленная, являюща¬
яся ему условной пастушкой, которая, однако, увидена так явственно, чувство
к которой так лично и неподдельно, что мы забываем о пасторальной условности
и вспоминаем о том, что именно в этот момент - летом 1815 года - Батюшков бо¬
лезненно переживал разрыв и разлуку с Анной Фурман. Способность высветлять
в стихах то, что тяжко давило, мучило в реальности, еще не вовсе оставила его.
Так же легко, как он умел реальность облекать покровом мечты, он и саму эту
мечту представлял реальностью, красочной и волнующей. Мифологическая об¬
разность у Батюшкова менее всего выглядит бутафорской. Следуя за поэтом, мы
никогда не ощущаем себя среди музейных экспонатов: гравюр ли с мифологиче¬
скими эмблемами или мраморных статуй. Под его прикосновением все тотчас же
приходит в движение: на розовых конях снисходит Аврора, «урну хладную вра¬
щая, Водолей / валит шумящий дождь», являются Мольба смиренная и быстрая
Обида... И сам поэт легко переносит себя в одухотворенный его мечтой мир, так
что с равным правом его лирическое «я» звучит в послании кому-либо из друзей и
в «Вакханке», где он предстает среди участников древнего празднества:
Венер первый. «Деревянная столица»
65
Я за ней... она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг - она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Стихотворение даже для Батюшкова - ведь мы, читатели, скоро привыкаем
к достоинствам - поразительно пластикой: все зримо, все слышимо... Первый же
звук - как бы издалека донесшийся многоголосый, неистовый крик вакханок - бу¬
дит воображение, и до конца последней строфы, кольцом замыкающей всю ком¬
позицию, нас не отпускает ощущение уводящего за собой стремительного бега.
Погоня, в которой мы то ли свидетели, то ли участники, ибо подчинились ритму,
заданному поэтом:
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом...
Взвевали - перевитые - свивали - обвитый... Созвучные глаголы вьются, как
в воронку затягивают, кружат голову - так что едва успеваешь различать мелька¬
нье летящих, на бегу брошенных цветовых пятен:
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград...
«Вакханка» - один из многочисленных у Батюшкова переводов Парни, лег¬
кого, изящного французского поэта. В переводах, точнее - в переложениях, изя¬
щества не меньше, чем в оригинале, но гораздо более силы, более жизни. Это и
понятно: Парни как бы иллюстрировал, подсвечивал миф игрой воображения,
Батюшков же переносился в этот вымышленный мир, оживляя его своим «я», ко¬
торого даже номинально в тексте Парни не было: вакханку преследовал пастушок
Миртис.
66
Как было и как вспомнилось
«Смело и счастливо»; - пометил на полях «Вакханки» Пушкин; и эта по¬
мета может быть отнесена ко всему стихотворению. Пушкин вообще был готов
в большей мере оценить те стихи Батюшкова, в которых поэт вступал в круг об¬
разов условных, своим присутствием давая им новую жизнь, и в меньшей - те,
в которых условное нарочито соседствует с реальным. «Моим Пенатам», стихо¬
творению прославленному, вызвавшему многие подражания (в том числе и пуш¬
кинское - «Городок»), Пушкин делает упрек: «Главный порок в сем прелестном
послании - есть слишком явное смешение обычаев мифологических с обычаями
подмосковной деревни». Да, подмосковной или вологодской деревни, ведь Ба¬
тюшков родился в Вологде, детство провел в Даниловском, в нескольких верстах
от Устюжны. Позже он ежегодно и надолго приезжал в доставшееся им с сестрами
по разделу имение рано умершей матери Хантоново под Череповцом. Там напи¬
саны многие стихи, в том числе и «Мои Пенаты».
Поместная жизнь на Русском Севере была тише, беднее, чем в центре. Все
же вокруг Вологды в ту пору можно было насчитать несколько фамилий, пусть не
громко, но прозвучавших в литературе: Олешевы, Брянчаниновы, Межаковы...
XVIII век был временем, когда провинциальные дворянские гнезда превраща¬
лись в один из центров новой культуры. После того, как в первой четверти столе¬
тия прошумела гроза петровских преобразований, все как будто снова улеглось,
успокоилось, и дворянское сословие вырвало у преемников Петра признание сво¬
ей вольности, состоявшей в праве выбирать между государственной службой (при
Петре обязательной) и привольным житьем на покое в своих вотчинных владе¬
ньях. Многие тогда выбрали покой, не обремененный лишними заботами и лиш¬
ними знаниями. Культура же, по острому слову В. Ключевского, приставала к ним,
«как пыль к колесу».
Однако постепенно вслед выписным модам потянулись в провинцию и книги
выписные, зашелестели страницы коричневых томиков в кожаных переплетах. Об¬
разованность требует досуга, которого более чем достаточно в деревенском уеди¬
нении, не раз воспетом Батюшковым.
Впрочем, воспитание Константина не было деревенским. В десять лет он уже
в Петербурге, во французском, потом в итальянском частном пансионе и под над¬
зором своего родственника М. Муравьева, поэта, которому он многим обязан,
человека широко образованного и влиятельного - бывшего воспитателем цесаре¬
вича Константина, а позже попечителем Московского университета, сенатором.
Литературный дебют Батюшкова пришелся на «дней Александровых пре¬
красное начало». Каждый год - новые литературные журналы, салоны, общества.
Сначала в доме Муравьевых Батюшков завязывает первые знакомства, потом -
в 1805 году - делается членом «Общества любителей российской словесности,
наук и художеств», где силен дух радищевских идей. За свою недолгую жизнь
в литературе Батюшков был приглашаем и вступил во многие общества, но,
Вечер первый. «Деревянная столица»
67
может быть, только в этом да десятилетием позже в «Арзамасе» он чувствовал
себя своим. Верность друзьям он ставил выше верности литературным програм¬
мам и скептически наблюдал, как тут и там объединялись «любители словесно¬
сти», которых он в письме к Н. Гнедичу назовет и «губителями» и «рубителя-
ми», а о своем вступлении в московское общество при университете сообщит,
перефразируя Державина: «Я истину ослам с улыбкой говорил».
Батюшков не был создан для литературной борьбы. Мечтательный и нежный
в своем любимом жанре - в элегии, он умел быть резким в эпиграмме, в сатире, но
литературу он всегда любил более тех обществ, в которых состоял. Он с готовно¬
стью признавал, когда ее видел, правоту за своими противниками, чувствовал их
достоинства. Позволил же он в «Видении на брегах Леты» спастись, хотя и не без
труда, главе противоборствующей партии архаистов - А. Шишкову, утопив при
этом в волнах реки забвения правоверных эпигонов карамзинизма.
В «легкой поэзии» Батюшков шел путем М. Муравьева и Н. Карамзина, но
дальше их, достигая большего совершенства. Он начал с того, что понял: одическое
громогласие не для него. Не для него высокий штиль славянской архаики. Пусть
поэзия черпает силу, как учил Карамзин, из живой речи и сама влияет на речь,
а через нее - на нравы, воспитывая общество, пробуждая в нем «людскость». Об
этом его программное слово (его-то он и преподнес в качестве истины «Люби¬
телям словесности» при Московском университете) «О влиянии легкой поэзии
на язык», которым Батюшков предполагал предварить переиздание стихотворной
части «Опытов», но не успел осуществить задуманного.
«Легкие стихи - самые трудные». Батюшков имел право так сказать, хотя это
утверждение не во все времена верно. После Пушкина поэтическая легкость ста¬
нет уделом эпигонов, только ленивый не пишет стихов! Другое дело - до Пушкина,
пока сам язык еще не приобрел способности к выражению «тонких идей» и ког¬
да легкость являлась как результат преодоленной трудности, давалась с усилием.
«В бореньях с трудностью силач необычайный...» - вполне можно было бы ска¬
зать и о Батюшкове. Во всяком случае, в русской поэзии он достоин своего арза¬
масского прозвища - Ахилл, хотя и в шутку ему данного, за непоседливость - по
сходству с быстроногим греком и одновременно за малый рост и хрупкое телосло¬
жение: «Ах-хилл!»
Легкости, звучной и гибкой мысли искал он в русском языке, временами от¬
чаиваясь ее добиться: «И язык-то сам по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщи¬
ной. Что за ш? Что за щ, что за ш, ший, щий, при, тры1 О варвары! А писатели? Но
бог с ними! Извини, что я сержусь на русский народ и его наречие. Я сию минуту
читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными
звуками авзонийского языка...»
Письмо к Н. Гнедичу, едва ли не самому близкому батюшковскому другу, на¬
писано в конце 1811 года. К этому времени Батюшков уже участвовал в войне,
68
Как было и как вспомнилось
получил ранение, но еще впереди для него и для всей русской армии - победонос¬
ный поход по Европе, закончившийся в Париже. Важный для русского самосозна¬
ния исторический опыт, приобретя который Батюшков и о языке скажет иначе:
«Каждый язык имеет свое словосочетание, свою гармонию, и странно было бы
русскому, или италианцу, или англичанину писать для французского уха, и наобо¬
рот. Гармония, мужественная гармония не всегда прибегает к плавности».
Мужественнее и совершеннее зазвучит и гармония батюшковского стиха,
в котором отзовется гордость победителя, заговорившего в тишине после битвы,
заговорившего с уверенностью, что его слово, спокойное и торжественное, будет
услышано:
И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы с свободой и громами!..
Стеклись с морей, покрытых льдами.
От струй полуденных, от Каспия валов.
От волн Улей и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..
Стеклись, нагрянули за честь твоих граждан.
За честь твердынь, и сел, и нив опустошенных,
И берегов благословенных,
Где расцвело в тиши блаженство россиян...
Какая поэзия в перечислении географических имен, поэзия, рождающаяся от
того, что география на наших глазах одухотворяется историей, и Россия, бывшая
до тех пор для Европы чужим и странным именем, за которым скрылись безгра¬
ничные дикие пространства, вдруг явилась в самом сердце цивилизованного мира
победителем, гордым и великодушным. Исторически - сбывалось то, что начал
Петр. Поэтически - завершалось то, что предсказал восторг ломоносовских од,
одухотворенный верой в будущее России, впервые наполнивший ее имя поэзией.
Если же перевести взгляд с прошлого в будущее, уже готовое наступить, то впол¬
не уместно вспомнить слова Белинского о Батюшкове: «Это еще не пушкинские
стихи; но после них уже надо было ожидать не других каких-нибудь, а пушкин¬
ских... » И даже более того - зрелого Пушкина, автора «Полтавы» и «Медного
всадника».
Каково же место Батюшкова в русской литературе, кто он в терминах истори¬
ко-литературных? Сентименталист, романтик или кто-то еще? И не то, и не дру¬
гое, и не третье, хотя и то, и другое... Дело здесь даже не в самом Батюшкове, не
только в его сложности, присущей каждому крупному писателю и выходящей за
Вечер первый. «Деревянная столица»
69
рамки любых однозначных определений. Дело прежде всего - в судьбе русской
литературы, которая за несколько десятилетий ускоренно проходила тот «курс»,
который для литературы английской или французской растянулся на несколько
веков. Вот почему в творчестве каждого значительного русского писателя - от Ло¬
моносова до Пушкина - есть черта и Возрождения, и Просвещения... Постепенно
выравнивался исторический шаг с современными европейскими литературами, но
попутно доделывалось то, что было некогда пропущено: формировался язык на¬
циональной культуры, которая овладевала просвещенной мыслью, в том числе и
центральным для нее понятием - о достоинстве и величии человека.
Трудно сказать, пережил ли кто-либо из русских поэтов столь же восторжен¬
но и вдохновенно, как Батюшков, чувство участия в европейской культуре, при¬
надлежности всему, что есть в ней лучшего, достойного, прекрасного. Это было
чувство полноты и полноправности обладания, что Батюшков и выразил в загла¬
вии, данном мыслям из записной книжки - «Чужое: мое сокровище». То, что
прежде было чужим, понятое и пережитое, становилось своим, не повторялось,
а создавалось заново и по-своему. Батюшков еще и потому насмешливо, несе¬
рьезно смотрел на борьбу литературных обществ, что самого себя и своих друзей-
единомышленников ощущал состоящими в том обществе, где сочленами - Гомер,
Тибулл, Петрарка, Тассо, Парни, Шиллер, то есть все, кого он переводил, пере¬
лагал, в ком ловил отражение собственных чувств, кто для него были домашними
богами-покровителями, его Пенатами.
И еще одно имя - Байрон. Батюшков в числе первых начал переводить в
России его, своего сверстника, ставшего символом нового искусства - роман¬
тического. Принадлежал ли этому искусству и сам Батюшков? В его творчестве
перед нами не готовое, но как бы становящееся романтическое сознание. Созна¬
ние, которое вначале еще слишком погружено в открывшийся ему чудесный мир
красоты, поэзии, чтобы глубоко задуматься о том - достижима ли эта красота, до¬
ступна ли мечта. Вначале достаточно того, что она, возвышающая мечта, есть, -
в ее присутствии легко проходят первые приступы меланхолии. Батюшков еще во
многом классичен в своих эстетических привычках: он творит, оглядываясь назад,
подкрепляя себя лучшими образцами, которые, правда, он выбирает свободно, по
своему усмотрению, и которыми собственного выражения нимало не сковывает.
Скорее он их заставляет приспосабливаться к себе, чем себя к ним, значительно
усиливая в них то, что сам хотел бы сказать.
Высший момент одушевления, радости в его жизни и творчестве будет и нача¬
лом болезненного разочарования. Прекрасно чувствовать себя победителем в цен¬
тре Европы, но тяжким предчувствием томило возвращение. В «Судьбе Одиссея»
Батюшков готов объяснить себя в образе гомеровского героя: «... Проснулся он,
и что ж? Отчизны не познал». Аналогия едва ли верная. Скорее, батюшковское
чувство при возвращении совпало с тем, что пережили многие русские офицеры:
70
Как было и как вспомнилось
слишком хорошо они узнавали все то, что оставили, находя неизменным. Это было
страшным, заставляя одних помышлять о тайных союзах, повергая в уныние дру¬
гих:
Числа по совести не знаю.
Здесь время скованно стоит...
Многое соединилось в эти годы в судьбе Батюшкова: и личная драма, и лич¬
ная неустроенность человека необеспеченного, для службы не созданного, беспо¬
койного. Что же, так и оставаться «господином поэтом»? Ни славы, ни денег это
не сулило. В таких обстоятельствах особенно тяжко ощущаются оковы времени и
особенно безысходно:
Премудро создан я, могу на Вас сослаться:
Могу чихнуть, могу зевнуть;
Я просыпаюся, чтобы заснуть,
И сплю, чтоб снова просыпаться.
Стихи сбивающиеся, неправильные, во время болезни написанные...
Рисунок середины прошлого века: спиной к зрителю перед открытым окном
стоит невысокий, коротко стриженный человек в долгополом сюртуке и в ермол¬
ке. Батюшков в вологодском доме своего родственника Гревенса, где он и прожил
последние двадцать два года. Все неподвижно, скованно, как всегда на любитель¬
ских рисунках, - как будто время остановилось. Как будто оно замерло для Батюш¬
кова в видимых из окна куполах Софийского собора. Для него, кто так явственно
умел слышать шум времени, ощущать его полет, обдающий холодком неизбежной
смерти и обостряющий чувство красоты, ускользающей прелести бытия. И еще -
при виде этих застывших куполов вспоминается, каким живым историческим чув¬
ством обладал Батюшков: его поэтического прикосновения было достаточно, что¬
бы прошлое зазвучало, пришло в движение, чтобы древние башни, стены, перестав
казаться мертвым камнем, предстали как «свидетели протекшей славы и новой
славы наших дней».
Эти строчки в числе многих других отозвались у Пушкина - он повторил их
в своих стихах, - напоминая, как много батюшковского отзывается и остается
в русской поэзии.
1987
Венер первый. «Деревянная столица»
71
Игорь Шайтанов
Поэт из Вологды
Николай Рубцов в традиции русского стиха
Трагически ушедший из жизни в январе 1971 года Николай Рубцов стал од¬
ной из центральных фигур в поэзии наступившего тогда десятилетия.
Известность пришла к нему не после смерти - накануне ее. Проживи он еще
несколько лет (хотя гадание в таком случае всегда беспомощно и неуместно), его
имя прозвучало бы с той же значительностью, какую оно приобрело посмертно.
Только споров было бы меньше, ибо меньше было бы преувеличений.
Поэзия Рубцова озвучила переживания многих, очень многих, и стала их голо¬
сом. Он был поэтом «долгожданным» (как назвал его Глеб Горбовский), это так.
Однако с полемической поспешностью его стали причислять к великим, расчищая
для этого, как казалось, занятое место. Занявших его бесцеремонно расталкивали:
Николай Рубцов - поэт долгожданный. Блок и Есенин были последними,
кто очаровывал читающий мир поэзией - непридуманной, органической. Полве¬
ка прошло в поиске, в изыске, в утверждении многих форм, а также - истин.
Большинство из найденного за эти годы в русской поэзии позднее рассыпалось
прахом, кое-что осело на ее дно интеллектуальным осадком, сделало стих гуще,
эрудированнее, изящней1.
Почему интеллектуальный осадок придает изящества, не очень понятно, но
понятно, что и изящество, и интеллектуальность - от лукавого, равно неорга¬
ничны.
Рубцова, как и Владимира Соколова до него и одновременно с ним, стали
почитать главой «органической поэзии», истинной, противостоящей поэзии
«книжной». Соколов имел возможность ответить и отказаться от навязываемой
ему роли. За Рубцова решали те, кто сочли себя его душеприказчиками.
А если бы он имел возможность решать сам?
По своей личности Рубцов мало подходил для того, чтобы участвовать в ли¬
тературной политике. Он был поэтом. Поэтом, которого невозможно мыслить
вне поэзии, вне традиции. Первая книга о нем, написанная Вадимом Кожиновым,
верна по крайней мере в том, что Рубцов увиден органичным продолжателем, а не
только стихийным выразителем духа и языка.
Однако В. Кожинову, в целом принимая его книгу, возразили литераторы из
вологодского окружения Рубцова: «Можно было бы спорить с теми строками
в книге, в которых автор придает преувеличенное, на мой взгляд, значение вли-
1 Горбовский Г. Долгожданный поэт // Воспоминания о Николае Рубцове. Вологда: Вест¬
ник, 1994. С. 137.
72
Как было и как вспомнилось
янию классического наследия на формирование рубцовской поэтики, и с теми,
в которых он отрицает влияние на Рубцова северорусского фольклора, но это был
бы спор по частным вопросам». Так писал В. Елесин в газете «Красный Север»
(1976, 27 августа).
Спор назван расхождением по частным вопросам, но такая оценка, думаю,
определена жанром рецензии - мол, недостатки частные, в главном же - удача. На
самом деле, весьма принципиально - на какой традиции сделать акцент.
Кожинов знал Рубцова по Москве, в годы учения поэта в Литинституте, и свои
воспоминания озаглавил: «В кругу московских поэтов». Елесин - в Вологде, где
Рубцов оказался достаточно поздно - в 1964 году, хотя со своего сиротского, дет¬
домовского детства был связан с Вологодчиной. Местные литераторы ни в коей
мере не хотели бы сузить значение Рубцова, представив его иконой местного чина,
но увидеть в его манере больше признаков местного письма, школы им хотелось.
А значение поэта, конечно же, утверждается с общенациональным размахом.
Как показывают стихи, двадцативосьмилетний Рубцов приехал в Вологду сло¬
жившимся поэтом: 1963-1964 годы были временем, когда приходит творческая
зрелость. В это время пишутся многие лучшие стихотворения, иногда в первом ва¬
рианте, который еще будет перерабатываться. Окончательный выбор предстояло
утвердить. В характере Рубцова была упрямая убежденность одаренного человека.
Он знал, к чему шел, и шел, пренебрегая обстоятельствами своей трудной жизни.
В то время, когда поэзия все более развивала исповедальную склонность - рас¬
сказывай автобиографию в стихах, веди поэтический дневник, - он, переживший
так много, мог бы легче, чем кто-либо, зарифмовывать факты биографии. Среди
них отыскалась бы героическая экзотика - семь лет на Северном флоте; и цени¬
мая в периодической печати (куда Рубцов пробивался так тяжело) трудовая тема¬
тика - три года работы на Кировском заводе... А сельское детство, а вся жизнь,
дающая повод сложить стих и в драматической, и в чувствительной тональности...
Рубцов всему отдал дань, но ни на чем не остановился. Он не остановился на
поэзии внешних обстоятельств, на писании поэтической автобиографии.
Он знал противоречие между жизнью и поэзией: «Пока не требует поэта...»
И даже не только в этом, пушкинском, смысле - малодушной повседневности.
Каждый пишет о том, что дано и известно ему, но не все данное в опыте может
перейти в поэзию. Об этом у Рубцова - в стихотворении «Поэзия»:
Железный путь зовет меня гудками,
И я бегу... Но мне не по себе,
Когда она за дымными веками
Избой в снегах, лугами, ветряками
Мелькнет порой, покорная судьбе...
Вечер первый. «Деревянная столица»
73
Сначала в Москве, а затем в Вологде Рубцов оказывается в кругу поэтов, чей
поиск схож с его собственным. Деревня и природа - их первая тема. Через нее
видится и воспринимается все остальное. Кто-то спешит обособить свой опыт и
порой агрессивно, враждебно противопоставить его любому другому кругу жиз¬
ненных впечатлений. Рубцов в этом смысле не категоричен. Он настаивает на сво¬
ем, но непреодолимости границ предпочитает множественность связей, оставляя
свое за собой и не перечеркивая чужого.
Открытость его мышления отчетливее всего видится в том, как широко и за¬
интересованно он принял традицию русской поэзии, хотя многое узнавал поздно.
Становление поэта - это всегда и узнавание поэтического в собственных пе¬
реживаниях, и поиск языка - как передать то, что считаешь достойным поэзии.
Самобытность и глубина видения не всегда сохраняются в слове. Василий Суббо¬
тин вспоминает о Маршаке, говорившем, «что мир ребенка, выросшего в дерев¬
не, другой, свой собственный... Человек видит мир сразу весь, он у него с самого
начала весь перед глазами. Потому и связь деревенского жителя с миром перво¬
роднее». Преимущество? Да, но далеко не всегда им удается воспользоваться, и
Маршак тут же сожалел, «что стихи поэтов, вышедших из деревни, чаще всего
страдают ритмическим однообразием и даже некоторой однотонностью»1.
Не хватает смелости, свободы ощущения себя в культуре, чтобы почувство¬
вать свое внутреннее право войти в нее, оставаясь самим собой. Учитесь у класси¬
ки - гораздо легче советовать, чем следовать совету.
Если совет давал Рубцов, то потому, что успел почувствовать пользу такой
учебы и уже воспользоваться классическими уроками, зная их трудность и их опас¬
ность. Об этом он писал в 1966 году в рецензии на сборник стихов Ольги Фокиной:
Кажется, это Ольга сказала, что мы нередко бежим от желания выразить то
или иное настроение, боясь показаться неоригинальными, боясь напомнить ко¬
го-либо из классиков. А получается так, что бежим от поэзии.
С этим нельзя не согласиться. Суть, очевидно, в том, чтобы все средства,
весь опыт предыдущей литературы использовать для того, чтобы с наибольшей
полнотой выразить самого себя и тем самым создать нечто новое в поэзии. Было
бы что стоящего выражать2.
Кому-то сказанное покажется настолько хорошо известным, что и не заслу¬
живает повторения. В качестве общего положения это, безусловно, банальность,
но Рубцов преподносит не общеэстетический тезис, а трудно добытое, выстра¬
данное поэтическое убеждение, принять которое на словах и следовать которому
в творчестве - не одно и то же. Поэзия Ольги Фокиной, с его точки зрения, - при¬
мер такого следования.
1 Субботин В. Силуэты. М.: Советский писатель, 1973. С. 149.
2 Красный Север. 1966. 2 февраля.
74
Как было и как вспомнилось
Рубцов находит, что ею уже осуществлено «слияние двух традиций - фоль¬
клорной и классической». В подтверждение цитирует одно из лучших стихотво¬
рений поэтессы:
Простые звуки родины моей:
Реки неугомонной бормотанье
Да гулкое лесное кукование
Под шорох созревающих полей.
Простые краски северных широт:
Румяный клевер, лен голубоватый,
И солнца блеск, немного виноватый,
И облака, плывущие вразброд...
Все, о чем пишет Фокина, уже неоднократно становилось в поэтическую стро¬
ку, но даже если взять только изображение - разве оно банально? Если ему и со¬
путствует узнавание, то сопровождающееся не раздраженным чувством - опять
одно и то же повторяют, - а радостью для всякого, кому знаком северный пейзаж
и дорого ощущение, им вызываемое. Простота стиха соответствует простоте кра¬
сок «северных широт», но это простота высокого искусства. Каждый эпитет не
просто наблюдателен, а - проникновенен, ибо схватывает внутреннюю суть явле¬
ния: «И солнца блеск немного виноватый...» Неотразимо обаяние интонации,
принадлежащей поэзии Фокиной, - негромкой, по-человечески застенчивой, а по¬
этически - принадлежащей традиции русского классического стиха.
Не знаю, удалось ли где-нибудь еще О. Фокиной так точно передать ощуще¬
ние цельности мира, той первоначальной цельности, которая открывается прежде
всего и естественнее всего деревенскому жителю. Но ведь именно в этом стихо¬
творении поэтесса противопоставила тому первоначальному ощущению новое,
дарованное поэзией:
... И облака, плывущие вразброд.
Плывут неторопливо, словно ждут,
Что я рванусь за ними, как когда-то,
Но мне теперь, не меньше их крылатой,
Мне все равно, куда они плывут.
Процитировав только первые четыре строки, Рубцов писал: «По внешней и
внутренней организации это четверостишье сильно напоминает лермонтовское
“ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье". Все равно напо-
Вечер первый. «Деревянная столица»
75
минает, хотя оно гораздо интимней по интонации. Это было бы плохо, если бы
стих был просто сконструирован по лермонтовскому образцу. Это хорошо пото¬
му, что стих не сконструирован, а искренне и трепетно передает такое подлинное
состояние души, которое родственно лермонтовскому».
Когда о стихах пишет поэт, он невольно соотносит их с собственными, часто
преувеличивает черты сходства. Так и Рубцов был готов увидеть у Фокиной сли¬
яние классики с фольклором, которого добивался для себя. В классике видел вы¬
соту уже выраженного человеческого духа. В фольклоре - наследование не менее
высокой, не менее цельной, но уходящей культуре, связью с которой гордился:
«...до меня все же докатились последние волны старинной русской самобытно¬
сти, в которой было много прекрасного, поэтического» («Коротко о себе», око¬
ло 1963 года)1.
Мне тоже казалось когда-то, что стихотворение «Простые звуки родины
моей...» - знак перемен в поэзии Фокиной. Я об этом и писал в самом начале
70-х годов (не зная тогда рецензии Рубцова, напечатанной первоначально в га¬
зете «Вологодский комсомолец» и перепечатанной лишь в 1983 году в сборнике
«Воспоминания о Рубцове»).
Сменилось место жительства поэтессы - на Вологду, но дом остался по-преж¬
нему на реке Содонге. И каждое возвращение - радость узнавания, отъезд - тоска
человека, оставляющего родной дом для скучной неприветливости общежитских
стен. Чувство искреннее и понятное, но, поскольку переживается поэтессой, воз¬
буждает вопрос - что же дальше? Новый жизненный опыт оказался поэтически
мало продуктивным. Есть у Ольги Фокиной стихотворение «В магазине». О грам¬
пластинках, о «звуках музыки вихлястой», о стриженом мальчике (заметьте, как
меняется мода: тогда стриженый - городской, длинноволосый - деревенский),
любящем эту музыку и не помнящем, откуда он родом. Это город. И тема города -
тема вихлястых ритмов, людей, не помнящих родства.
Нельзя писать о звуках, которых не слышишь, не понимаешь, но нельзя счи¬
тать, что существуют только твои звуки, тревожащие твое сердце, а все осталь¬
ное - от лукавого. Ольга Фокина отстраняется от чужого, но у других в подобной
ситуации все чаще сквозит агрессия.
Именно тогда - на рубеже 1960-х и 1970-х - душевная неподвижность, не¬
подверженность переменам начинает возводиться в литературе в достоинство.
Для молодых вологодских литераторов большой потерей стала смерть в 1968 году
Александра Яшина, их общего учителя, человека, давно в Вологде не жившего,
но постоянно там бывавшего. Благодаря его поддержке формировался круг пи¬
сателей, который позже назовут «школой» - школой местного колорита, со-
1 Рубцов Н. Русский огонек. Стихи. Переводы. Воспоминания. Проза. Письма. Вологда:
Вестник, 1994. С. 414.
76
Как было и как вспомнилось
храняющей общенациональные традиции. Думаю, что при Яшине дух «школы»
как чего-то замкнутого и переменам не подверженного не мог бы восторжество¬
вать.
* * *
Каким был круг традиции, доступной Рубцову в ранние годы?
Есенин - первая любовь, прочитанный и врезавшийся в память, когда
в 1957 году после десятилетий забвения и неиздания вышел в свет его двухтомник
(о том, как Есениным зачитывались на Северном флоте, вспоминает друг юности
поэта Валентин Сафонов; именно ему прислали два заветных томика, сменившие
отдельные есенинские стихи, прежде переписанные от руки по тетрадкам). Имя
Есенина подсказывают и стихи Рубцова:
К табуну
с уздечкою
выбегу из мрака я,
Самого горячего
выберу коня,
И по травам скошенным,
удилами звякая,
Конь в село соседнее
понесет меня.
(«Деревенские ночи»)
Дальше можно подхватывать из Есенина:
Я - беспечный парень. Ничего не надо.
Только б слушать песни - сердцем подпевать,
Только бы струилась легкая прохлада,
Только б не сгибалась молодая стать.
(«Я иду долиной...»)
Хотя под рубцовским стихотворением дата - 1966 год, известно, что оно на¬
чало складываться гораздо раньше. Есенинское влияние, составившее основу ран¬
них стихов, постепенно если не уходит вовсе, то осложняется по мере расширения
поэтического опыта. Талант поэта сказывается не только в собственных стихах,
но и в суждениях о том, как пишут другие. Хотя жизнь Рубцова сложилась так, что
плоды его школьной образованности оказались даже более скудными, чем обыч¬
но, он был жадным читателем поэзии, хотел узнавать и запоминал мгновенно, це-
Вечер первый. «Деревянная столица»
77
лыми днями был готов говорить о стихах и только о стихах, бесконечно цитируя
по памяти. Память для поэта - одно из условий дарования. У Рубцова - об этом
вспоминают знавшие его, об этом же говорил он сам - память была превосходной.
Подтверждением тому и его поэзия.
Она же свидетельствует о том, что Рубцов стремится не только запомнить,
проверить чужие стихи на слух, но и понять. Пишутся стихи на литературные
темы. В 1962-м - «Сергей Есенин», в 1964-м - цикл «Приезд Тютчева», « Ау-
эль» - о Лермонтове, «Пушкин»... К числу удач того времени эти стихи не от¬
носятся. Совсем нет, подчас поражают и наивностью и неловкостью выражения:
Напрасно дуло пистолета
Враждебно целилось в него:
Лицо великого поэта
Не выражало ничего!
Это - беспомощно, и беспомощность тем более удивительна, что рядом -
«Тихая моя родина», «Сапоги мои - скрип да скрип...», «Осенняя песня».
Талант побеждает трудности, но это не значит, что трудностей и вовсе не
было. Только в самые последние годы Рубцов как будто переходит на иной уро¬
вень отношения с поэтической традицией: чуткий от природы поэтический слух
обогащается разнообразным знанием, свободой суждения и точностью даже
мгновенных оценок:
Вот Есенин - на ветру!
Блок стоит чуть-чуть в тумане.
Словно лишний на пиру
Скромно Хлебников шаманит.
(«Ялюблю судьбу свою...»)
Хорошо - о Хлебникове. Как будто бы скромно шаманить - вопиющая не¬
точность, взаимоисключающее сочетание слов. Так и есть, пока это сочетание не
применено к Хлебникову, не превращается в индивидуальную метафору его твор¬
чества. Тогда оксюморон оправдан.
Сейчас опубликованы ранние варианты некоторых лучших стихотворений
Рубцова. Они позволяют судить, как проходила работа над стихом - от чего поэт
уходил, к чему стремился. Одно из самых известных и самых рубцовских стихотво¬
рений «Горница» первоначально было написано в июле 1963 года и называлось
«В звездную ночь». Первая строфа та же, что и в окончательном тексте (различие
лишь в некоторых знаках препинания):
78
Как было и как вспомнилось
В горнице моей светло, -
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды.
Затем между первой и второй строфами окончательного текста стоит четве¬
ростишие, позже удаленное:
- Матушка, - который час?
Что же ты уходишь прочь?
Помнишь ли, в который раз
Светит нам земная ночь?
Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.
А две заключительные строфы раннего и позднего вариантов совершенно раз¬
ные. В раннем - прорыв в мистическое видение, обращенное в прошлое:
Сколько же в моей дали
Радостей пропало, бед?
Словно бы при мне прошли
Тысячи безвестных лет.
Словно бы я слышу звон
Вымерших пасхальных сел...
Сон, сон, сон
Тихо затуманит все.
В первом варианте была прямо названа ситуация - сон. И все происходящее
предстало со всей безусловностью - ночным видением. Во втором ситуация та
же, но она гораздо более сдержанно, неявно обозначена - сон или явь? Нечуткий
читатель легко принимает стихотворение за бытовую зарисовку, не ощущая его
зыбкого мерцающего колорита. И тогда удивленно или ернически вопрошает (как
это уже кто-то и сделал): что это молодой человек не поможет матери ведро воды
принести? Да потому что нет дороги в собственный сон, нет и матери, а есть тоска
и боль раннего сиротства. Есть лишь сон, но в окончательном тексте стихотворе¬
ния не перерастающий в патетическое видение, а все более обретающий безус¬
ловность яви - в настоящем и обещающий исполнение мечты в близком будущем:
Вечер первый. «Деревянная столица»
79
Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!
Буду поливать цветы.
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе.
Несколько отвлеченная риторика первого варианта сменилась предметной
воплощенностью мечты («лодку мастерить себе») и простодушием интонации.
В этом сочетании - предметности и простодушия, - как мне кажется, созданы
лучшие рубцовские стихи. Это его узнаваемая нота, прозвучавшая с классической
ясностью; результат и предел им достигнутого мастерства.
Порой с удивлением ловишь себя на том, как далеко и неожиданно уводят ас¬
социации при чтении рубцовских стихов. Имел ли он это в виду, знал ли? Дело
ведь не только в знании и в памяти. Классическая соразмерность не списывается
с образца, а воссоздается по слуху, откликается на чувство формы у современного
поэта. Можно сказать, что Рубцов временами, как многие писавшие о деревне и
питающиеся воспоминаниями, звучал идиллически. А можно заметить, что идил¬
лия у него подточена не только иронией, но и трагическим чувством своего неиз¬
бежно близкого конца. Этот поворот идиллического сюжета особенно наглядно
воплощен в живописи Возрождения: гробница посреди цветущего южного пол¬
дня и часто надпись по латыни «И в Аркадии», то есть и в счастливой Аркадии
поселилась смерть.
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
- Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. -
Тихо ответили жители:
- Это на том берегу.
Воспоминание о тихой родине детства открывается мотивом сиротства, а за¬
вершается неизбежностью ухода, расставания, но и признанием в неразрывности
связи:
80
Как было и как вспомнилось
Школа моя деревянная!
Время придет уезжать -
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
В данном случае предметность рубцовского стиля являет себя в умении за¬
печатлеть каждый предмет мифологически единственным, так что это уже и не
предмет, а безусловная примета пейзажа, в котором все явственно, подробно, ве¬
ско - навсегда. Изба и туча - явления одного порядка, связанные овеществлен¬
ным («готовым упасть») громом. Прежде чем звучит финальная декларация свой
смертной - до конца, навсегда - связи с этим миром, сам этот мир восстанавлива¬
ется в своем единстве, развернутый по вертикали - от земли до неба. Единственная
движущаяся точка этого пейзажа - сам наблюдатель. Он здесь минутен, преходящ,
а чтобы вписаться в пейзаж, должен перевоплотиться, принять обличье какого-то
иного существа (мифологический оборотень), хотя бы вороны:
Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
Точно так же, как классическая модель идиллии проступает в тексте «Тихая
моя родина», жанр стихотворения на смерть поэта узнаваем в «Последнем паро¬
ходе» - на смерть Александра Яшина. Повторы строк, переходящих из строфы в
строфу, звучат поминальной перекличкой, вспоминанием и причитанием: «В леса
глухие, в самый древний град / Плыл пароход, разбрызгивая воду...», «А он, боль¬
ной, скрывая свой недуг, - / Он, написавший столько мудрых книжек...»
В согласии с классической традицией жанра о смерти поэта скорбят поэзия и
природа, в данном случае - родные места Яшина:
... Мы сразу стали тише и взрослей.
Одно поют своим согласным хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над тем Бобришным дремлющим угором...
Вечер первый. «Деревянная столица»
81
Журавли в данном случае - вечная примета пейзажа, поминального для поэ¬
та: Ивиковы журавли, некогда изобличившие убийц древнегреческого лирика и
оставшиеся в поэтической памяти.
Иногда трудно решить, то ли на слух были подхвачены Рубцовым ноты, иду¬
щие от поэтов, чьи имена как будто бы не упоминаются, не входят в круг его чте¬
ния и увлечения, то ли он обрел высшее интуитивное чувство музыки русского
стиха, позволяющее ему угадывать неслышанное, по какой-то внутренней зако¬
номерности подхватывая и переосмысляя мелодию. Так случайно ли в параллель
к строчкам из стихотворения памяти Александра Яшина слышатся ахматовские
строки - памяти Бориса Пильняка (хотя до последнего времени стихотворение
печаталось без указания адресата): «Но хвойный лес и камыши в пруду / Ответ¬
ствуют каким-то странным эхом»?
На языке стиховедческой науки это называется семантической окрашенно¬
стью приема или мотива: например, определенному размеру или строфической
форме в культуре русского стиха сопутствует свой ряд тематических, эмоциональ¬
ных ассоциаций. Этот ряд способен меняться, расширяясь, но он все-таки суще¬
ствует и даже помимо сознания диктует поэтический выбор:
Меж болотных стволов красовался восток огнеликий...
Вот наступит октябрь - и покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...
(«Журавли»)
Об этом одном из самых известных рубцовских стихотворений В. Кожинов
говорит в самом начале книги о поэте: «...трудно представить себе, что еще лет
десять назад эти строки не существовали, что на их месте в русской поэзии была
пустота»1.
По отношению к культуре понятие «пустота» не очень удачно: как будто
существует некое заданное пространство, подлежащее заполнению, или какая-то
система - как периодическая система Менделеева? - которую можно дополнять
еще не открытыми элементами. Не думаю, что для неизменного поборника орга¬
ничности в искусстве - роль, утвержденная за собой В. Кожиновым, - такое пред¬
ставление приемлемо. Скорее, оно плод оговорки, проистекшей от желания сразу
же утвердить первостепенное значение Рубцова, без которого культура была не¬
полной.
1 Кожинов В. Николай Рубцов. Заметки о жизни и творчестве поэта. М.: Советская Россия,
1976. С. 3.
82
Как было и как вспомнилось
Очень часто - по естественной ограниченности памяти и знания - мы спешим
объявить о рождении новых значений (и заполнении пустот) там, где происходит
лишь естественное продолжение. Продолжение в развитии.
Вероятно, с первого прочтения «Журавлей» у меня было ощущение, что за
этими стихами, действительно сильными, мне что-то слышится... Не это ли:
Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском.
Не сегодня ли с дачи съезжать нам пора?
За плетнем перекликнулось эхо с подпаском
И в лесу различило удар топора.
Этой ночью за парком знобило трясину.
Только солнце взошло и опять - наутек...
«Спасское» Пастернака написано на полвека раньше, чем рубцовские
«Журавли».
Конечно, сказывается метрическая близость. Однако близок не только раз¬
мер, но интонация, настроение - осенний пейзаж с пугающим, знобящим болотом
и тоскливым чувством одиночества в пустеющем мире природы. Перекликающе¬
еся начало только отчетливее подчеркивает несходное продолжение. Когда-то
Валерий Брюсов, сравнивая стихи двух начинающих поэтов, писал: «Природа,
входящая в поэзию Пастернака чаще всего как “сад” или “балкон”, вливается в сти¬
хи Асеева как “степи” и “леса”». Оценка, оправданная и этим ранним стихотворе¬
нием Пастернака, где Природа, прирученная человеком, но главное - служащая
лишь развернутой метафорой его ощущения, хотя и в очень точных наблюдатель¬
ных подробностях.
От иного образа и понимания природы идет Рубцов. Для него природа рас¬
пахнута, необозрима, одухотворена. Во многом это тютчевская природа...
В отношении с этой линией русской лирики определился поэтический взгляд
Рубцова. Опираясь на нее, Рубцов входит в современную поэзию.
* * *
Два имени - одно из прошлого, другое из настоящего, - поставленные рядом,
нередко вызывают ревнивое сомнение: по чину ли такое сближение нашему совре¬
меннику? Начинает казаться, что поставить рядом, установить наследственность и
преемственность - значит уравнять в поэтических правах. Признаюсь, что такого
рода возражения мне не раз приходилось слышать после статей о тютчевской тра¬
диции в современной поэзии.
Вечер первый. «Деревянная столица»
83
Традиция не имеет ничего общего с наследованием доходного места или вы¬
сокой должности. Влияние - это ее частное и первоначальное, что ли, проявле¬
ние, когда один говорит, а второй почтительно внимает и усваивает. Когда вто¬
рой заговорит, тогда традиция обнаружит себя как процесс двусторонний, как
диалог, в котором по-новому выглядит и тот, кто оказывает влияние, и тот, кто его
воспринимает. От его восприимчивости зависит многое, и прежде всего равно¬
правие.
Сходство по хронологической вертикали показывает глубину традиции - ху¬
дожественный язык в движении, в развертывании. Ощущение этой глубины, этой
дистанции, имеющей не только временное, но и ценностное выражение, обяза¬
тельно для воспринимающего поэта. Продуктивность традиции как диалога не
только в чувстве сходства или в желании быть похожим (прямой путь к эпигон¬
ству), но в ощущении своего отличия и трудности, почти невозможности сближе¬
ния, каким бы желанным и важным оно ни казалось. В чувстве этой разделяющей
дистанции - динамизм традиции, импульс движения и самобытности.
Каждый, вначале как читатель, может почувствовать притяжение того или
иного имени. Важно, в какой мере выбор сделан сознательно и воспринимается ли
воздействие от первоисточника непосредственно, или понравившееся доходит из
вторых, из третьих рук. Опасность повториться может быть как следствием слиш¬
ком сильного увлечения, так и следствием незнания, когда велосипед изобретают
заново.
В русской поэтической традиции, видимо, есть только один центр, от которо¬
го ведут все пути, - Пушкин. Удивительна его способность все объять, и не менее
удивительно его умение отобрать среди бесконечных, уже видимых, намеченных
им возможностей только то, что считал своим. Остальное - в черновиках, о кото¬
рых рассказывает замечательная по тонкости, по совершенству поэтического слу¬
ха, различающего оттенки традиции, статья И. Фейнберга1. Пушкин намного опе¬
режал свою эпоху, оставляя среди отвергнутых им вариантов и стих, отмеченный
лермонтовской интонацией, и образность Блока, и архаизм в духе то ли Хлебнико¬
ва, то ли Заболоцкого: «Ив темноте, как призрак безобразный, / Стоит вельблюд,
вкушая отдых праздный»2.
Думаю, что если внимательно проанализировать все случаи бунта против
Пушкина на протяжении полутора веков, то можно показать - бунт этот был не
против Пушкина, а против той или иной его интерпретации, возобладавшей и по¬
давляющей. Бунтарь не нашел своего у Пушкина только потому, что не искал само¬
стоятельно, но удовлетворился тем, что получил от других.
Это относится только к Пушкину. Только он - «наше все»!
1 Фейнберг И. Л. По черновикам Пушкина // Фейнберг И. А. Читая тетради Пушкина. М.:
Советский писатель, 1985. С. 462-477.
2 Там же. С. 477.
84
Как было и как вспомнилось
Приверженность любому другому из великих - дело выбора. Каждый из них
знает и периоды славы, и периоды забвения, повторяющиеся, чередующиеся.
В 1960-1970-е годы, на выходе из эпохи «поэтического бума», с особым значени¬
ем зазвучало имя Тютчева. Даже внешне, по своей судьбе поэта, долго почитавше¬
гося второстепенным, поздно завоевавшего известность, но до конца сохранивше¬
го дар, Тютчев оказался близок тем, кто научился ценить глубину и зрелость. «Что
остается? Поздний Тютчев?» - воскликнул тогда Давид Самойлов.
«Поздний» - это не хронологическая помета. Если отбросить несколько уче¬
нических опытов, то весь Тютчев - поздний, глубокий, несуетный... Напомню, что
им до тридцати был написан «Silentium».
Для русской поэзии узнаваемый тютчевский образ - человек перед лицом ми¬
роздания. Один на один с мирозданием. Диалог Души и Вселенной, которому все
более грозит взаимное непонимание.
Каждый выбирает традицию согласно своим вкусам, но входит в нее, насколь¬
ко позволяют силы, хватает таланта. Один выдернет несколько цитат, другой
подслушает интонацию, запомнит прием... Ни в одном из этих случаев мы еще не
скажем «традиция» - слово прозвучало бы громким преувеличением. Право на
принадлежность ей дается не всяким сходством, для обозначения которого есть и
другие слова: эпигонство, подражание, стилизация... Традиция продолжается не
в совпадении решений, философских или художественных, а в совпадении вопро¬
сов, осознанных в своей насущности, возможно подсказанных опытом прошлого,
который притягивает к себе, но и отталкивает, побуждая к опровержению.
Войти, оставаясь собой! Чтобы судить о том, состоялось ли вхождение, надо
знать - кто пришел.
Известно, что Рубцов в последние годы буквально не расставался с карман¬
ным томиком Тютчева, изданным в 1899 году журналом «Русский архив» (и по¬
даренным, как явствует из дарственной надписи, «Коле» Рубцову Галей и Стасом
Кулеевыми 6 мая 1964 года). Теперь эта книга хранится в Рубцовском музее села
Николы. В его стихах обнаруживают прямые - «и даже излишне прямые»1 следы
увлечения Тютчевым. Откровенность цитирования или заимствования в данном
случае - от уверенности в своих силах. Если есть желание повторить, то Рубцов
и повторяет, зная, что тем самым не сковывает себя, не обрекает на подражание.
Проверив владение чужим приемом, чужим звуком, он сохраняет ощущение того,
где свое, а где чужое. Тем более что обретение чужого (чтобы оно стало своим)
давалось не просто.
У раннего Рубцова есть стихотворение «Приезд Тютчева» - слово о поэ¬
те, к которому, наверное, уже тогда он относился с любовью и одновременно
с наивным непониманием. Это стихотворение - отклик из совершенно иного из¬
мерения, что особенно бросается в глаза, так как речь идет о Тютчеве-человеке,
1 Кожинов В. Указ. изд. С. 46.
Венер первый. «Деревянная столица.
85
о котором у Рубцова «дамы всей столицы <...> шептались по ночам» (совсем как
на посиделках) и в котором все «поражало высший свет». Во всем еще школьная
наивность, сквозь которую нужно пройти, чтобы возникло созвучное ощущение.
Иногда в стихах Рубцова мы видим не только результат, но как бы сам процесс
вживания в эту традицию:
Уже деревня вся в тени.
В тени сады ее и крыши.
Но ты взгляни чуть-чуть повыше -
Как ярко там горят огни!
Одна у нас в деревне мглистой
Соседка древняя жива,
И на лице ее землистом
Растет какая-то трава.
И все ж прекрасен образ мира,
Когда в ночи равнинных мест
Вдруг вспыхнут все огни эфира,
И льется в душу свет с небес.
Когда деревня вся в тени,
И бабка спит, и над прудами
Шевелит ветер лопухами,
И мы с тобой совсем одни.
Есть в этом стихотворении стилистическая неровность, как будто между пер¬
вым и третьим четверостишием с их поэтической приподнятостью, риторикой
вклинились строки, по недоразумению сюда вписанные: «И на лице ее земли¬
стом / Растет какая-то трава...»
Но нет, недоразумения не случилось, и в последних четырех строках Руб¬
цов делает лирический ход, который должен примирить обе линии. В этом сти¬
листическом выравнивании ощутимо усилие соединить жизненные впечатления
с поэтическими. Поэту внятна опасность приукрасить, заслоняя традиционной
поэтичностью то, что знает по опыту, - отсюда и неожиданно выпяченный нату¬
рализм в портретном описании. Поэт не отстраняется от того, что он видит, чем
живет, но грубость земного не препятствует «эфирным» лучам, которые, кажет¬
ся, проникли к Рубцову непосредственно из тютчевского стихотворения:
Чуть-чуть белеет темя гор,
Еще в тумане лес и долы,
Спят города и дремлют селы.
Но к небу подымите взор...
86
Как было и как вспомнилось
Еще минута, и во всей
Неизмеримости эфирной
Раздастся благовест всемирный
Победных солнечных лучей.
(«Молчит сомнительно восток...»)
Тютчев - это не влияние, формально понятное. Современного поэта он не
подчиняет, не уводит от самого себя, а дает возможность самопознания и само¬
выражения. Сходство двух миров пробивается сквозь огромное различие жиз¬
ненной ситуации и опыта. Русская деревня, которая была для Рубцова «глубиной
России», никак не вмещается в тютчевское: «Эти бедные селенья, эта скудная
природа». Рубцовское чувство, как тогда говорили, «малой родины» никак не со¬
звучно тютчевским словам о родном Овстуге: «Места немилые, хоть и родные».
Для Рубцова «тихая моя родина» - это и покой родного дома, и в то же время это
место, откуда открывается вид на все мироздание, откуда по-особенному виден
небесный свет. Именно здесь мог прийти на помощь Рубцову опыт поэта более
близкого - Николая Заболоцкого, ранее него вступившего в полемику с Тютче¬
вым и уже перенесшего тайны бытия в «места глухой природы».
Опыт жизни в этих местах, крестьянский опыт, по-своему представляет дис¬
гармонию человеческого присутствия в природе. Человек в ней не вовсе инород¬
ное тело, но он не должен ожидать, что мир откликнется ему дружелюбным уз¬
наванием, скорее настороженностью и взаимно опасливым чувством. «Вечерним
происшествием» называет Рубцов стихотворение о неожиданной встрече - «Мне
лошадь встретилась в кустах...»:
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца,
Переглянулись по два раза.
Даже неловкость выражения в последней строке (надо бы сказать: перегля¬
нулись два раза) как будто оправдана тем, что подтверждает общее впечатление -
неконтактности, непонимания: переглянулись, то есть посмотрели друг на друга,
но каждый остался сам по себе, отчужденно. Превосходный по своей живописной
наглядности образец рубцовского - мастерского - примитива. Объект изображе¬
ния, вопреки законам перспективы распластанный на плоскости, виден сразу и це¬
ликом: «Хотя имели по два глаза...» С таким же подробным буквализмом, в одно¬
временности характеристик и жестов, разворачивается и действие: переглянулись
Венер первый. «Деревянная столица»
87
жутко - не до конца - по два раза. Это зрение человека, видящего мир природы
еще не со стороны, не в перспективе, а изнутри этого мира, ощущая одновременно
свою связь с ним и свою чужеродность в нем.
Если этот мир и гармоничен, то он не идилличен. С Тютчевым Рубцова род¬
нит желание заглянуть в звездное небо, пережив чувство ликующей причастности
не только мирозданию, но и «темному корню бытия». От Тютчева в русском
стихе - мир ночного отчуждения, ужаса, и после него едва ли не всякий, кто ощу¬
щает притяжение ночи, вольно или невольно входит в круг тютчевских ассоциа¬
ций и стилистики:
Когда стою во мгле,
душе покоя нет, -
И омуты страшней,
И резче дух болотный,
Миры глядят с небес,
Свой излучая свет,
Свой открывая лик,
Прекрасный, но холодный.
Рубцовское стихотворение так и называется - «Ночное ощущение». Оно не
раз еще мелькнет в стихах Рубцова, рождая тревогу, беспокойство. Высокая лекси¬
ка: небеса, лик... Но почти никогда Рубцов не начинает с этой приподнятой ноты,
она возникает и крепнет постепенно. Вот и здесь сначала разговорная, обыденная
фраза: «Когда стою во мгле...» А в сочетании с ней и само лирическое признание:
«Душе покоя нет...» - звучит не только незащищено, но как-то наивно. Обыден¬
ны и приметы пейзажа - северная деревенька, болотный край. А затем уже вступа¬
ет в силу возвышающе торжественная, по-тютчевски приподымающая одическая
интонация.
У рубцовской поэзии необычный, не всеми принимаемый колорит, сочетаю¬
щий наивность и торжественность. В этом сочетании звучит искренность поэта,
которого влечет высокая тема, но он не хочет войти в нее, отвергая свой опыт, за¬
бывая, что его окружает, где он вырос. В том же «Ночном ощущении» сам Рубцов
сказал кратко и точно: «Я чуток как поэт, / Бессилен как философ». Не только,
впрочем, объяснил, но и подтвердил стихом, за которым - человек, чутко прислу¬
шивающийся к миру, недоумевающий, менее всего выдающий себя за философа и
даже как бы махнувший рукой на эти вечные вопросы:
Вот коростеля крик
Послышался опять...
Зачем стою во мгле?
Зачем не сплю в постели?
88
Как было и как вспомнилось
Скорее спать!
Ночами надо спать!
Настойчиво кричат
Об этом коростели...
В лучших стихах Рубцова эта наивная искренность сказывается не отчаянием
философа, а мастерством поэта. Он работает почти на грани примитива, который
не условный прием, а естественный способ зрения: «Добрый Филя», «В горни¬
це», «Утро», «Окошко. Стол. Половики...», «Я люблю судьбу свою...». При
этом Рубцов не был бы современным поэтом, если бы он не пережил того, что
Тютчева еще не могло тревожить, - опасения за природу. Человек, научившийся
брать у природы, не полагаясь на ее милости, вдруг растерянно признается, что
перестал слышать ее голос.
Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом...
(«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны... »)
Рубцовское сочетание высоты с глубиной, взаимно сопряженных, соразмер¬
ных. И ему же свойственная резкость поэтического хода от «таинственной силы»
к делам повседневным, которые утрачивают смысл лишь только в том случае, если
они отлучены от какого-то несиюминутного высшего порядка. Этот тютчевский
страх и наряду с ним тютчевское тяготение к загадке бытия - в котором властвует
гармония или хаос? - пережили тогда многие. Николай Рубцов был одним из них,
по его собственному слову, - поэтически чутким и философски наивным.
Рубцов был поэтом... Это слово мы любим обставлять дозирующими масштаб
эпитетами: великий, большой, крупный... В эпитетах - наше восприятие, но суть -
в самом определяемом слове. Поэт - явление редкое и потому уже замечательное.
2006
Венер первый. «Деревянная столица»
89
Игорь Шайтанов
Ситуация переезда
Автор и герой в деревенской прозе
Деревенская проза слишком популярна и обильна, чтобы избежать штампов.
Их немало. Но один особенно частый - ситуация переезда. Переезжают из дедо¬
вой избы на главную усадьбу, из деревни в город... Ожидание переезда - это уже
мотив, достаточный если не для романа, то для повести, во всяком случае. Таких
повестей много.
На отношения автора и героя в деревенской прозе неизгладимый отпечаток
накладывает факт их раздельного обитания. Автор живет в городе и по самой сво¬
ей профессии литератора связан с той культурой, которая ассоциируется со сло¬
вом «цивилизация». Его герой - деревенский житель, причем автор настаивает,
чтобы таковым он и оставался, чтобы не терял присущей ему по многовековому
праву природной культуры. В мечтах о духовности и сама деревня писателю часто
видится в прежнем - избяном - виде.
Изба мыслится как символ той жизни, которая в ней протекала, и одновремен¬
но как символ культуры, духа (нередко с большой буквы), с этой жизнью связанных.
Но одно дело настаивать на сохранении или продолжении культуры, а другое - же¬
лать сохранения в нетронутом виде ее исторических условий. Тогда приходится
желать, чтобы символ был обитаем, несмотря на его неоснащенность современны¬
ми бытовыми удобствами. На этой мысли писателя старательно ловит критик, имея
наготове незамысловатый аргумент: а что же сам певец избы предпочитает симво¬
лической обители городскую квартиру, желательно улучшенного типа?
Литература о деревне рассматривает объективные социальные отношения по
преимуществу в общечеловеческом плане, выражая тревогу и сожаление по по¬
воду резкой перестройки традиционного бытового уклада. И своим сожалением
дает повод для полемических возражений, включая и то, которое уже упомина¬
лось, - если ему так дорога изба, что же он в ней сам не поселился? Как бы при¬
знавая слабость своей позиции, писатель нередко этот, прямо скажем, не слишком
глубокий аргумент принимает. Он приобретает дом в сельской местности, куда
старается наезжать как можно чаще (в теплые месяцы), а все остальное время му¬
чается сознанием дезертирства, бегства от собственных корней.
Первоначально естественное человеческое чувство сожаления начинает об¬
растать бутафорией. Человек уже не просто едет на лето в деревню, но «припа¬
дает к корням», с презрением отвергая слово «дача». В литературе дают волю
чувствам, или даже вернее сказать - чувствительности: «какувядающее мило...»
Слово «чувствительность» здесь оправдано далеко идущей историко-лите¬
ратурной аналогией: оно заставляет вспоминать об эпохе сентиментализма, ког-
90
Как было и как вспомнилось
да широко распространилась в литературе не только идиллическая природа, но и
идиллическая деревня. Начиная с конца XVIII века во всех европейских литерату¬
рах - особенно показателен пример английской - прокатывались волны сожале¬
ния об исчезающей деревне. «Покинутая деревня» - как уже совсем в современ¬
ном духе назвал свою поэму О. Голдсмит или как озаглавил роман французский
современник Голдсмита - «Развращенный крестьянин, или Опасности города».
Каждый удар промышленной цивилизации по патриархальной деревенской жизни
порождал новую литературную реакцию - вплоть до романов Т. Гарди.
Ясно, что возникшее в современной литературе сожаление не исключитель¬
но, оно многократно повторялось. У британского писателя и социолога Раймонда
Уильямса есть книга «The Country and the City» (1973). Она о том, как едва ли не
с позднего Средневековья английская литература зафиксировала вздох сожаленья,
звучащий приблизительно каждые тридцать лет о том, какой замечательно со-при-
родной была деревня еще на памяти старших и теперь уходящих. И все пошло пра¬
хом под давлением то огораживания, то города с его тлетворным влиянием.
Сожаление порождало нравственную идеализацию, когда казалось, что с па¬
дением деревни произойдет и полное падение нравов. Оно порождало и неиз¬
менное опасение за традиции национальной жизни и национального характера.
Старая добрая Англия... Формула сожаления была в каждой литературе своя, но
нередко сопровождалась чрезмерным нажимом на собственную историческую ис¬
ключительность.
Однако неужели настолько коротка современная литературная память, что
после всего написанного о деревне Л. Толстым, Чеховым, Буниным вновь писа¬
тель способен подпасть под обаяние идиллической деревенской картины, воспе¬
вающей нравственную чистоту?
Нет, современные писатели даже склонны к жестокому реализму, во всяком
случае, никакой жестокостью их не запутать и не отпугнуть от избранных героев.
Уже на первых страницах книги В. Солоухина «Капля росы», бывшей одной из
первых в литературном движении к деревне, есть такое замечание: «Мужики во¬
обще очень охочи ударить и убить все дикое, лесное». Немало жестокости было
впоследствии увидено и показано не только по отношению к «лесному», но и
человеческому. Нравственной идиллии в прежнем - сентиментальном - смысле
у серьезных писателей нет.
Если и пытались ее создать, то не столько сами писатели, сколько сопутство¬
вавшие им критики. Однако это также тема достаточно разработанная - сошлюсь
на статьи И. Дедкова, который и десять лет назад в журнале «Новый мир» отде¬
лял Василия Белова от тех, кто хотел бы воспеть в Иване Африкановиче «глубины
и масштабы человеческой духовности»1. Повесть же Белова, по мнению критика,
1 Дедков И. Страницы деревенской жизни // Новый мир. 1969. № 3. С. 243.
Вечер первый. «Деревянная столица»
91
«возвращает нас к земле надежнее, чем все обещания возвращения у иных писа¬
телей. Она не зовет "спасать” или "спасаться”, она учит видеть и помнить то, что
есть»1.
Этому взгляду, замечающему «то, что есть», не противоречит отношение Бе¬
лова к «привычному делу», то есть к уходящей в прошлое жизни деревни. Право
писателя на сочувствие уходящему и тем более на желание, чтобы лучшее в нем
не исчезло бесследно. Не нужно только навязывать образец для подражания, чего
В. Белов, как правило, и не делает.
Противоположность медленного, неизменного ритма деревенской жизни
резкому эпизоду вторжения извне - мотив, обязательный в деревенской прозе.
Он есть и у Белова в «Привычном деле» - приезд из Мурманска родственника,
а затем - временный отъезд по его стопам соблазненного им Ивана Африканови-
ча. Причем для Ивана Африкановича эта недолгая отлучка из села становится едва
ли не главным нравственным преступлением. Во всяком случае, именно в момент
его отсутствия, надорвавшись на мужской работе, умирает его жена. Так или ина¬
че, но отнюдь не случайным по своему значению эпизодом этот мотив мелькает и
в других произведениях. В пьесе же «Над светлой водой» он и вовсе главенствует.
Ситуация ожидаемого отъезда для деревенских жителей, прежде всего для дере¬
венских стариков, усугубляется вторжением в их жизнь горожан.
Есть у Белова и произведения иного рода, написанные в последние годы, -
о деревенских жителях в городе или даже просто о горожанах, без акцента на их
социальном происхождении: «Моя жизнь», «Воспитание по доктору Споку»,
«Целуются зори». Последнее произведение - киноповесть - сразу же по выхо¬
де в свет уличили в несвойственном Белову комиковании. Заметили, что он под¬
дался комической инерции: крестьянин в городе. Сразу скажу, что это ситуация,
с точки зрения современного писателя имеющая не столько комический, сколько
драматический характер. Все зависит от того, какими глазами на нее посмотреть,
как оценить несоответствие героя обстоятельствам. Одно дело, если деревенский
житель на несколько дней эпизодически перенесен в эти незнакомые и чуждые
для него условия. А если на всю жизнь? Что его ожидает, куда он пойдет, чтобы
возместить издержки духа, чтобы искупить свою нравственную вину перед по¬
кинутой деревней? Ту силу, которую возвращает Ивану Африкановичу приро¬
да, естественный для него круг простых жизненных дел, ему ничто не возместит
в притягательном, пока он видится издали, городе. Вывод особенно неизбежный,
если рядом с «Привычным делом» поставить городские повести Белова.
Впрочем, природа, как и нравственность, изображается не идиллически. Со¬
временному писателю не нужна идиллия, он ее не ищет, на ней не настаивает. Прав
был И. Дедков в том, что Белов не стремился показать человека без недостатков,
1 Дедков И. Указ. изд. С. 245.
92
Как было и как вспомнилось
с акцентом на одних его нравственных достоинствах. Но, показывая и принимая
своего героя таким, каков он есть, авторы, в том числе и Белов, постоянно ощу¬
щают его притягательность, даже - не будет преувеличением сказать - свое с ним
внутреннее родство. В чем же тогда источник притяжения и силы героя? В его
духовной полноценности, цельности. Именно человеческой цельности жаждут
писатели, обращаясь к деревне. И боятся они всего более ее отсутствия, потери ее
вышедшим за пределы деревни героем.
Пожалуй, никем эта проблема насущности культурного перехода, сложности
духовной перестройки, перед которой стоит деревенский житель, не была осозна¬
на в такой полноте, как Василием Шукшиным.
Шукшин с его желанием понять каждого воспринимает своих героев как бы
на фоне собственного опыта, то есть на фоне пройденного им самим пути от де¬
ревни (поселка, если быть биографически точными) к городу. Он-то, Шукшин,
не просто поменял место жительства: не отказываясь от ценностей одной куль¬
туры, он сумел полноправно и талантливо войти в другую. Это, вероятно, было
не так легко даже для человека его таланта и его настойчивости, а способен ли
на такую же перестройку каждый человек? Или он обречен, по крайней мере в
пределах одного поколения, остаться на полпути, ощущая ностальгическую то¬
ску по утраченной цельности и недостижимое стремление к полному овладению
новой культурой? Или - с точки зрения Шукшина, это самое страшное - он так
и останется лишенным понимания, пусть и мучительного, своей духовной ущерб¬
ности?
Шукшин в своих рассказах также нередко изображает мир обжитой, под¬
чиненный «привычному делу», но и опасный в своей привычности: как бы не
упустить, не забыть чего-то такого, без чего теперь нельзя. Это неопределенное
«что-то» и влечет, и мучит, заставляя вспоминать сказочный приказ: пойти туда,
не знаю куда, принести то, не знаю что. Только у Шукшина этот неопределенный
посыл внешне принимает форму чудачества, сосредоточивается на неожиданном,
подчас странном, объекте: то микроскоп, то сапожки, то вдруг оборачивается пья¬
ным криком «верую». Очень часто современность подсказывает и расставляет
у Шукшина детали, и в этой обстановке чудит герой, теряет голову, подобно Ива¬
ну Африкановичу, сбитому с толку заезжим городским родственником. Герой
Белова лишь раз «обжигается», чтобы затем через внутреннее искупление вновь
вернуться к «привычному делу». А Шукшин упорно заставляет своего героя на¬
талкиваться на новые для него, непонятные и часто неприемлемые реалии непри¬
вычной, иной жизни. Так, даже Иван-дурак, вышедши из сказки, отправляется на
поиски справки, удостоверяющей, что он умный.
Из подчеркнуто непривычной современной сферы возникают для шукшин¬
ских героев предметы и притягательные, и отталкивающие: и микроскоп, и справ-
Венер первый. «Деревянная столица»
93
ка. Герой Шукшина очень часто ощущает дефицит современности, что, может
быть, странно по отношению к писателю, долго ходившему в «деревенщиках»,
но это именно так. Герой рассказов мучительно переживает свою ущемленность
рядом с горожанином, потому-то и испытывает особое, ни с чем не сравнимое
удовольствие, если может «срезать» заезжего кандидата наук, как считает, его же
оружием - с помощью современной информации.
Позиция Шукшина замечательна не снисходительным сочувствием автора
к своему герою. Шукшин исполнен сочувствия к сложнейшей исторической
судьбе деревенского жителя, к его пути, на котором огромное число трудностей,
отодвигающих достижения новой духовности, обретение новой культуры. Шук¬
шин готов вместе со своим героем страдать и заново преодолевать трудности, но
он не согласен обмануть его, объявив, что все уже позади и теперь деревенский
житель взошел на горизонте современной цивилизации как ее новый духовный
светоч. Отнюдь не светоч, даже не наставник, а ученик, далеко не всегда умеющий
верно понять необходимый урок.
Настойчивое возвращение вспять к «мужику», требование проявить к нему
побольше уважения в устах некоторых современных писателей и критиков мо¬
жет быть воспринято как требование большего уважения к ним самим в качестве
единственных полноправных в литературе представителей этого самого мужика.
Я уж не говорю о том, что и само понятие «мужик» в теперешней ситуации, когда,
как показывают те же писатели, от прежней деревни мало что осталось, выглядит
анахронизмом, который невозможно подновить. Тот или иной человеческий тип
сохраняется, лишь пока существует его среда обитания, консервировать же соци¬
альную среду невозможно, и нужны ли здесь экологические заповедники?
А вот культурные, духовные ценности сохранить можно и совершенно необ¬
ходимо. Кто им наследует? Культуре наследует культура, воплощенная не только
в памятниках, текстах, но и в людях.
Достаточно вспомнить произведения деревенской прозы, чтобы убедиться
в стремлении авторов показать судьбу и сознание деревни не в застывшем, неиз¬
менном, а в историческом времени. Имена хорошо известны: Белов, Астафьев,
Носов, Абрамов... Говоря о судьбе деревни, они далеки от того, чтобы изобра¬
жать ее в тонах преимущественно радужных, напротив, даже процессы, направ¬
ленные на благо деревни, видятся им не только в свете конечной цели - далеко
не всё готовы они оправдать или признать неизбежным на пути к ней. Их самый
сильный аргумент - человек деревни, показанный изнутри, с точки зрения его
восприятия, переживания и его меняющегося мышления. Традиция изобра¬
жения по отношению именно к этому человеческому типу сравнительно недав¬
няя, так, в 1930-х годах, оценивая новаторство М. Шолохова, В. Шкловский
писал:
94
Как было и как вспомнилось
Столетиями писатели от Сервантеса до Бальзака и Толстого изображали
неподвижность крестьянской психологии.
Шолохову удалось показать реального крестьянина-казака во всей его слож¬
ности семейных отношений1.
Из этого не следует, что классики сознательно игнорировали фактор истори¬
ческих перемен. Просто сами перемены, не только затронувшие, но взорвавшие
крестьянскую психологию и деревенский быт, относятся к нашему времени.
Понять своего героя изнутри, то есть разделить с ним его внутренний мир,
а одновременно понять его место, значение и его сложности в мире историче¬
ском - вот та задача, которую поставила деревенская проза по отношению к свое¬
му герою. Учитывая особенности материала, все же нельзя не заметить, что совре¬
менная литература в целом видит своего героя на пересечении этих двух планов:
истории и психологии.
Но всякий раз заново встает необходимость обнаружить художественную
соразмерность изображения, одновременно увиденного глазами героя и вклю¬
чающего его самого в общую картину уже в качестве объекта чужого видения и
оценки. Во всяком случае, обязательным моментом этой общей соразмерности
в произведении будет точная соотнесенность авторской точки зрения и точки
зрения героя, когда талант перевоплощения должен быть не меньшим, чем талант
остранения, дающий возможность сделать необходимый шаг в сторону. Сразу ска¬
жу, что вторая способность в меньшей степени проявлена в деревенской прозе.
Вот на этом и задержусь подробнее.
Понятна поглощенность писателей новым, ранее небывалым, не увиденным
в литературе. В данном случае это деревенский житель, живущий в собственном
доме, говорящий только ему присущим языком, показанный не со стороны, а из¬
нутри. Языком писатели увлечены особенно сильно и в точности его воспроизве¬
дения видят одно из своих главных достоинств. В чем они правы. Однако главным
достоинствам сопутствуют и главные недостатки.
Время от времени по частному поводу или в общих спорах о литературном
языке возникает вопрос о правомерности широко использовать местные и про¬
сторечные слова, выражения - диалект. Для прозы о деревне это вопрос принци¬
пиальный не только в отношении стиля, а прежде всего в отношении авторской
позиции: от чьего лица говорит и имеет право говорить писатель. Одним из наи¬
более убежденных и горячих сторонников диалектного слова сейчас выступает
В. Астафьев. Неоднократно, отвечая на вопросы по поводу языка его произведений
и участвуя в различных дискуссиях, он отстаивал свое право на «полузабытые» или
сибирские слова тем, что «герои и повествователь говорят так, как говорят по сию
1 Шкловский В. Дневник. М.: Советский писатель, 1939. С. 119.
Вечер первый. «Деревянная столица»
95
пору в Сибири», а теперь, когда считается неудобным не знать хоть одного ино¬
странного языка, тем более стыдно не знать языка этой огромной страны1.
Во-первых, проведенная здесь аналогия очень уязвима: невозможно при всем
желании знать все диалекты русского языка, а в его культурном значении диалект
никак нельзя ставить в один ряд с иностранным языком, то есть языком целого
народа и его культуры.
А во-вторых, в этом споре уравнены герои и повествователь, но ведь не хочет
же Астафьев нас уверить в том, что его герои из сибирской или какой-либо другой
деревни мыслят точно так же, как он - писатель, литератор? Дело не в том, хуже
или лучше, умнее или ограниченнее. Спорить надо не о том, имеет ли автор право
вообще пользоваться диалектным словом (конечно, имеет!), а о том, насколько
оно функционально уместно, входит ли оно в произведение столь же естественно,
как оно входит в речь его носителей. Иначе же вместо впечатления речевой есте¬
ственности - ее-то и добиваются - выходит неуклюжая и чрезвычайно литератур¬
ная стилизация.
Одно дело - устная и совсем другое - письменная, литературная речь, осо¬
бенно как раз у авторов деревенской прозы, склонных к эпической, медленно
разворачивающейся фразе. Очень странное впечатление оставляет такая фраза в
сочетании с набором просторечных, диалектных слов. Не нужно искать примеров,
обращаясь к произведениям мало известным, появившимся в местных издатель¬
ствах и тиражирующим широко проявленные в современной литературе склонно¬
сти. Возьмем произведение известное, получившее признание: «Усвятские шле-
моносцы» Е. Носова.
Открывается оно таким образом: «Солнце едва только выстоялось по-над
лесом, а Касьян уже успел навихлять плечо щедрой тяжестью». Ясно, какое ощу¬
щение хотел бы передать автор, но просторечное «навихлять» плохо уживается
со «щедрой тяжестью» - выражением, которое воспринимается не только как
книжное, но как литературно-трафаретное.
В таких фразах несоответствие не сводится только к стилю. Оно продолжа¬
ется (или начинается) в неточности мышления, когда автор то подменяет своим
выражением восприятие персонажа, то начинает сам говорить с его голоса. При¬
чем даже в произведениях, где эта подмена совершенно ни к чему писателю, где
есть стремление без снисходительности, требовательно отнестись к своему ге¬
рою, продолжается эта стилевая инерция. Когда на ум одному из героев романа
Ф. Абрамова «Дом» при виде старого деревенского дома приходят такие слова:
«Какую душу надо иметь, какую широту натуры, какое безошибочное чувство
красоты!» - то читателю тоже должно прийти на ум, что слова эти имеют отно¬
шение только к самому Абрамову, а не к Петру Пряслину. В данном случае я пред-
См.: Литературное обозрение. 1976. № 10. С. 57.
96
Как выло и как вспомнилось
чувствую возможную попытку объяснения: Петр сам уже горожанин, человек
с инженерным дипломом и мыслящий по-городскому (но ведь не литературны¬
ми штампами?). Однако как тогда объяснить фразу, прямо к нему относящуюся
и следующую тотчас за его патетическим размышлением: «Петр дивился себе»?
Если она не отражает речи персонажа, то от кого идет претенциозно-эпическое
просторечие - от автора? Тем хуже.
Смещенность, неточность точек зрения в системе романа часто ощущается не
только в стиле речи, но и в стиле, характере восприятия. Вот еще распространен¬
ная сцена в деревенской прозе - герой, залюбовавшийся природой. Причем любо¬
вание это относится не только к стосковавшемуся по природной естественности
горожанину, но и к постоянному деревенскому жителю. Явная ошибка, смещение
восприятия. Автор передоверяет гимн природе и деревенской жизни, который
ему хочется исполнить, своему герою, - для него же эта жизнь повседневна, у него
ослаблена острота эстетического отношения, потому что он видит не замечатель¬
ную декорацию, а свое рабочее, привычное место. Для того чтобы он заметил при¬
роду, должно пропасть ощущение привычности, но и тогда он едва ли скажет о ней
теми речистыми словами, которые ему навязывают писатели. Вероятно, он просто
увидит едва ли не впервые «звездочку, и небо, и лес», как их впервые увидел заблу¬
дившийся и охваченный смертельным страхом Иван Африканович.
Уверен, что многое из того, что сейчас в критических спорах стоит в одном
ряду с повестью «Привычное дело», в перспективе литературной истории будет
выглядеть лишь как фон, на котором она возникла и, оттолкнувшись от которого,
превратилась в своего рода классику. Она погружена в суть явления, самим назва¬
нием давая главное понятие, если не сказать символ, для истолкования современ¬
ной литературы о деревне, характера человека, его отношения к жизни, - «при¬
вычное дело».
Как, пожалуй, никто другой, Белов умеет быть глубоким и точным по отно¬
шению к своему герою, от которого в то же время он в состоянии себя отделить,
делая необходимый для оценки и такой трудный шаг в сторону. Напомню, как на¬
чинается «Привычное дело» - с монолога героя, который, подвыпивши и остав¬
шись один на один с лошадью, ведет с ней задушевный разговор. Здесь - воспри¬
нимаемая слухом, не только по слову, но по интонации достоверная, слышимая
вологодская речь.
Огромный - в несколько страниц - монолог героя рассекают краткие, про¬
тивостоящие ему стилистически авторские реплики. Персонаж ничего не объяс¬
няет - он живет и говорит так, как он привык, не ощущая на себе постороннего,
наблюдающего взгляда и не работая на предполагаемого зрителя, как нередко слу¬
чается. Автор тоже не вмешивается в эту жизнь, не перебивает рассказ излишним
комментарием, но лишь дополняет его таким образом, чтобы взгляд изнутри соче¬
тался с изображением, увиденным глазами объективного повествователя.
Вечер первый. «Деревянная столица»
97
С первой же авторской реплики устанавливаются именно такие отношения
его с героем. Сумбурная, неизвестно когда начавшаяся и едва ли рассчитанная
на скорое завершение колоритная речь Ивана Африкановича, обращенная к ка¬
кому-то неизвестному нам Пармену (кличка лошади), приводит в полное недоу¬
мение раскрывшего книгу читателя. Белов позволяет ей длиться ровно столько,
чтобы читатель успел в полной мере проникнуться чувством собственного недоу¬
мения и ощущением необычности встретившегося ему человека, а затем прерыва¬
ет ее всего лишь несколькими словами: «Иван Африканович еле развязал замерз¬
шие вожжи».
После этих слов монолог возобновится и уже долго будет продолжаться, не
прерываясь ни малейшим авторским вмешательством. Оно пока что не нужно.
Пусть только что начавшееся знакомство читателя с персонажем состоится без
посредников, а свою задачу автор исполнил: всего пять-шесть слов понадобилось
ему, чтобы разъяснить ситуацию и определить на дальнейшее свою роль в этой
истории. Первой же, такой простой, стилистически не окрашенной фразой, в са¬
мой простоте которой - резкий контраст к речевой экзотике Ивана Африканови-
ча, автор предупредил, что он не только не вмешивается в поступки и слова героя,
но и не смешивает себя с ним. На редкость определенная по своей объективной
остраненности позиция в деревенской прозе, где автор часто так и не может ре¬
шиться на окончательный выбор между эпическим, безличным повествованием и
сказовой формой, подстраивающейся под речь героя.
В своих лучших, больших вещах Белов последовательно идет путем эпическо¬
го повествования. Эпос, в котором повествователь не передает события собствен¬
ными словами, а лишь организует рассказ о них. В роли же непосредственного рас¬
сказчика в разных эпизодах могут выступать и выступают сами персонажи. Такой
закон построения задается Беловым с самого начала, с первой же сцены.
Я уже говорил о «Привычном деле», то же можно сказать и о «Канунах».
Там также вначале погружение в мир персонажа, ибо читатель не сможет
верно оценить и понять происходящее, если его не ввести в сознание, мышление
героев, отличное по своему складу от его собственного. В «Привычном деле»
знакомство началось на уровне языка, бытовых представлений и отношений.
В «Канунах» Белов сразу же идет к фантастическим, мифологическим по сути,
представлениям, сохранившим значение для человека деревни. Начало тем более
верное, что «Кануны» - роман исторический, хотя историческая дистанция срав¬
нительно невелика - полвека, но это полвека, поменявшие характер деревни и ее
жителя. Не на отвлеченно-собирательном бедняке или середняке, а на историче¬
ски конкретном по своему мышлению человеке проверяет Белов смысл соверша¬
ющихся перемен.
То, что эпическое изображение в самой природе беловского таланта, под¬
твердила попытка писателя обратиться к иному литературному роду - к дра-
98
Как было и как вспомнилось
ме. Первая же пьеса Белова убедила лишний раз в его умении слышать речь с ее
особенностями и индивидуальными оттенками - очень важное для драматурга
свойство - и одновременно показала, что способ организации событийного мате¬
риала, естественный в прозе, неприемлем в произведении, предназначенном для
сцены.
Много недоуменных вопросов возбудила пьеса «Над светлой водой». Мно¬
гое в ней представлялось странным, необъяснимым или недостаточно объяснен¬
ным. Вот милая неискушенная Даша, которая провожает в армию своего Ивана,
обещает ждать и едва ли не на следующий день уезжает с городским - с Георгием.
Потом новое действие - через два года, - когда возвращается из армии Иван и
одновременно приезжают проведать Дашиного отца молодые. Начинается калей¬
доскоп событий, за которыми зритель едва успевает следить, - какие уж там моти¬
вировки! А в театре, напомню, резкие, немотивированные события всегда были
сюжетом для мелодрамы. Когда же пьесу венчает самоубийство героини, как пер¬
воначально задумал Белов, то сомнения в мелодраматических намерениях и вовсе
не остается.
На такое восприятие Белов, разумеется, не рассчитывал, просто он насыщал
пьесу по закону не драматического, а прозаического развития. Мелодрама в прин¬
ципе неприемлема для человека, эпизодически воспринимающего события, живу¬
щего ощущением размеренного жизненного ритма, рассчитанного по календарю
природы. Событие, сколь бы трагическим оно ни было, поглощается этим неумо¬
лимым движением, не переживается как исключительное. Если в мелодраме такое
событие - зачастую конец, обрыв жизни, то здесь иначе - сама жизнь увлекает че¬
ловека дальше, заставляя его продолжать жить.
Вторгающееся, эпизодическое событие не редкость в прозе о деревне. До¬
статочно сравнить сюжет пьесы Белова с его же повестью «Деревня Бердяйка»,
с которой в пьесе совпадают и место действия, и отдельные события, и персонажи.
Проходной, случайный мотив повести: не успела девушка проводить своего пар¬
ня в армию, как почти тотчас же по какому-то необъяснимому стечению обстоя¬
тельств вышла замуж за человека, приехавшего на пару дней из города. В общем
событийном потоке этот эпизод, даже вот так вскользь упомянутый, не вызывает
вопросов, не требует дальнейших мотивировок, так как мотивирован тем эпиче¬
ским ощущением нерасчленимой жизненной сложности, которое пронизывает
прозу Белова. Иное дело, когда это же событие перенесено на сцену, восприни¬
мается отдельно, вне этого единого потока событий, и требует уже гораздо более
подробного объяснения.
Белов доказал своими произведениями оправданность эпического взгляда
в деревенской прозе, так как этот взгляд сам по себе соответствует ощущению со¬
бытий.
Венер первый. «Деревянная столица»
99
Однако это не значит, что существует возможность только такого приближе¬
ния к материалу. Важно лишь, чтобы другой подход был столь же определенным,
точным по отношению к изображаемому, чтобы он не смешивал различных точек
зрения.
В том, что право на литературное существование разговорного живого слова,
отзывающегося местом своего употребления - местным диалектом, обеспечивает¬
ся только уместностью его использования, лишний раз убеждает книга В. Астафье¬
ва «Последний поклон».
Заключительные ее главы были опубликованы в 1978 году журналом «Наш
современник». В том же году книга вышла отдельным изданием. Произведение
как будто закончено, но Астафьев признается, что книга владеет им, и, уже не раз
ставя точку, он вновь возвращается к ней и к своим воспоминаниям:
Шло время. Я терял близких людей и, всякий раз, оставаясь жить на земле
дальше, чувствовал не только Вину перед ними, но и желание рассказать о том,
что это были за люди и как печально, что их не стало.
Писатель возвращается не только с тем, чтобы дописать новые главы, но и -
переработать первоначальный текст. Он уточняет стиль, главным образом избав¬
ляясь от всего, что угрожает ненужной книжностью или красивостью. Одной из
самых опасных в этом отношении была первая новелла «Далекая и близкая сказ¬
ка», несколько отличная от других и по языку, и по событиям. В ней речь идет о
необычном жителе сибирской деревни Овсянка - о Васе-поляке. Собственно, его
настоящее имя Станислав, но, родившийся на подводе, на которой его ссыльные
родители направлялись из Польши в Сибирь, он был переименован на русский
лад. Вася успел состариться, похоронил родителей, но постоянно тосковал по ни¬
когда им не виденной родине. Иногда он брал скрипку...
Не просто рассказать такую историю, избегая излишней чувствительности и
красивости. А это лишь только начало. Надо еще передать, как музыка полонеза,
который играет, тоскуя по родине, ослепший поляк, воспринимается одиннадца¬
тилетним деревенским мальчиком, как он, охваченный внезапным желанием уме¬
реть, бежит на кладбище к могиле матери... А потом, много позже, уже в конце
войны, туже мелодию в маленьком польском городке, пропахшем «гарью, трупа¬
ми, пылью», слушает молодой офицер: «...музыка разбередила воспоминание...».
Это одна из тех фраз, от которых освобождается Астафьев, отдавая предпочтение
не литературному, а звучащему, живому слову.
Эта первая новелла дает ключ к замыслу книги. Восстановить память о про¬
шлом, необратимом, но навсегда осевшем в человеке и сохраняющем над ним
власть. Уходят люди, и с ними уходит их время, задерживаясь в памяти тех, кто еще
остается на земле.
100
Как было и как вспомнилось
Лишь слово удержит прошлое, и ему доверяет Астафьев свою благодарную
память. Однако это не значит, что она избирательна и способна различать только
доброе, забывая о злом. Бывало всякое, и равно оставило след в душе, прорываясь
далеко не только музыкальными ассоциациями, но и необъяснимым для окружаю¬
щих взрывом, когда голодный бездомный мальчишка набрасывается на придирчи¬
вую и такую неправдоподобно опрятную учительницу:
Ничего в жизни даром не дается и не проходит. Ронжа не видела, как за¬
живо палят крыс, как топчут на базаре карманников сапогами, как в бараке иль
жилище, подобном старому театру, пинают в живот беременных жен мужья,
как протыкают брюхо ножом друг дружке картежники, как пропивает послед¬
нюю копейку отец и ребенок, его ребенок сгорает на казенном топчане от бо¬
лезни...
За голод. За одиночество, за страх, за Кольку, за мачеху, за Тишку Шломо-
ва! - за все, полосовал я не Ронжу, нет, а всех бездушных, несправедливых людей
на свете.
Это тоже было в прошлом, значит, живо в памяти, живо в человеке. И тем до¬
роже воспоминание о другом - о тех людях, благодаря кому возникло желание и
умение отделить от себя зло, не подчиниться ему. По словам В. Астафьева, память
о близких - повод для этой книги, и он прекрасно исполнил задуманное, рассказав,
что это были за люди. Прежде всего, бабушка - традиционный персонаж повестей
о детстве и в то же время столь нетрадиционный в этой книге. Она главный герой
значительной части повествования, увиденный одновременно и детскими глазами,
и глазами писателя.
Не только на большом пространстве, в подробном рассказе умеет Астафьев
дать портрет. Всего несколько деталей, которые своим немногословием соответ¬
ствуют характеру деда. Сибиряк, человек замкнутый, невозмутимый, но упаси бог,
если кто-то вовремя не заметит, как заходила вверх и вниз его по-пугачевски под¬
стриженная борода.
И деревенский голод, и семейный праздник - именины бабушки, которыми
заканчивается часть повествования, относящаяся к далеко не безмятежному, но
счастливому детству в деревне Овсянке на берегу Енисея. А если праздник в семье,
то и музыка, которая теперь подчиняет себе рассказ, не требуя слишком красивых,
литературно-банальных слов:
И вот пошла она, музыка! Мишка Коршунов широко развел гармонику и туг
же загнул ее немыслимым кренделем. Оттуда, из затратного этого кренделя, чуть
гнусавая, ушибленная, потому как Мишка не раз уже разрывал гармонь пополам,
вынеслась мелодия, на что-то похожая, но узнать ее и тонкому уху не просто.
Мишка дал направление... И все радостно подхватили...
Вечер первый. «Деревянная столица»
101
В «Последнем поклоне» местное слово не кажется стилизованным; идущим
от авторской тенденции, потому что оно оправдано формой книги, ее замыслом.
Оно принадлежит не автору, с остраненной эпичностью повествующему о собы¬
тиях, разворачивающему многопериодную фразу, а употреблено рассказчиком,
вспоминающим о том, как жили, как говорили. Читателю эта книга показывает та¬
лант В. Астафьева с самой его привлекательной стороны - талант рассказчика, чья
творческая память обострена поэзией услышанного слова.
Думается, что на сегодняшний день автобиографический, то есть очень лич¬
ный и субъективный по своей природе, жанр часто дает наиболее объективную
и верную картину деревни в меняющемся времени. Под знаком сожаления о не¬
обратимости того, что было, пишется вся деревенская проза, автобиографическая
в том числе. Однако в рассказе от первого лица это сожаление выглядит как есте¬
ственная человеческая реакция и не претендует на создание далеко идущей фило¬
софской или нравственной программы, подсказанной избирательной памятью об
уходящей деревне.
Параллель: природа - цивилизация, деревня - город, - рассекающая едва ли
не каждое произведение деревенской прозы, в автобиографии ослаблена. Это по¬
нятно - обычно автор печется о судьбе своего деревенского героя, оберегая его
от города, где тот непременно пропадет, но в данном случае он говорит о самом
себе, проделавшем уже этот путь к новой культуре, которую кто как не он, писа¬
тель, имеет право представлять. Значит, не так уж непреодолима пропасть, какой
ее иногда пытаются изобразить.
Не только литература о деревне, но вся современная проза склонна к жанрам,
восходящим к субъективному документу и автобиографии. Поколение, достигшее
возраста писания мемуаров (хотя таких поколений сейчас несколько, учитывая,
что ценз на право вспоминать резко снизился), ощущает, что на его веку смени¬
лось несколько исторических эпох, совершились перемены, которых в более мед¬
ленном прошлом хватило бы на несколько поколений. Отсюда особенно настой¬
чивое желание вспомнить и сохранить пережитое в литературном слове, отсюда
же и острота переживания того, что, казалось бы, существовало совсем недавно,
еще свежо в памяти, но уже безвозвратно отодвинулось в прошлое, ушло вместе
с людьми. В деревенской прозе добавляется своя острота от того, что уходят не
просто отдельные люди, но определенный человеческий тип вместе со свойствен¬
ным ему жизненным укладом. Тем более настойчиво стремление сохранить в ли¬
тературе, то есть передать, традиции культурной памяти.
Естественна настойчивость памяти, естественно сожаление, которым чело¬
век сопровождает необратимое движение времени, однако естественностью этих
чувств нельзя оправдать не только желания вывести из своего сожаления филосо¬
фию истории и нравственный идеал, но и излишнюю снисходительность к своему
герою. Сожалея о деревенском жителе, каким он теперь видится по воспоминаниям
102
Как было и как вспомнилось
детства, писатель подчас склонен дать ее теперешнему обитателю совет - как мож¬
но больше сохранить в себе неизменным, не поддаваться на перемены. Хотя совет
должен был бы касаться другого - того, как в эти неизбежные перемены включиться.
Когда лет 15-20 назад литературе предстояло заново открыть для себя де¬
ревню, оправданным был подход к ней по контрасту с городской жизнью. Важно
было увидеть ее как мир непохожий и особенный. Не идеальный, но устроенный
по своим человеческим законам. Когда эти законы показались непревзойденным
и едва ли достижимым образцом, то именно на этот образец в большей мере, чем
на реальность, было ориентировано литературное изображение. Тогда-то и дове¬
рились памяти, занялись припоминанием некогда слышанных слов, добавляя к ним
уже в качестве современной оценки новые или, точнее, извлеченные из хорошо
забытого старого понятия, с помощью которых оформилась нравственно-фило¬
софская программа.
Если писателя хотели от нее отделить, о нем говорили: он не идеализирует, он
показывает, как жили. Это было достаточной гарантией литературной новизны,
а значит, художественного уровня. Теперь этого недостаточно.
Литература о деревне слишком задержалась на изображении по контрасту:
цельный мир уходящей деревни перед лицом надвигающихся перемен. Переме¬
ны во многом осуществлены, а прежняя цельность теперь - воспоминание. Оно
и породило множество произведений автобиографического характера. Часто
удачных, ибо предложивших новый взгляд, но теперь уже в значительной мере
утративших первоначальную новизну. Мы сейчас свидетели того, как жанр де¬
ревенской автобиографии становится слишком частым, а явление, им представ¬
ляемое, исчерпанным. В этом жанре уже трудно написать вовсе плохо, ибо все
приемы накатаны, но почти невозможно не повториться. Все, что можно было
вспомнить, вспомнили. Меняются только названия деревень и имена родствен¬
ников.
Теперь нужно, чтобы в литературу вошли материал и впечатления другого до¬
кументального жанра - очерка. В нем подчас те же самые писатели умеют быть
объективнее и строже к своему герою. Точка зрения, принятая в этом жанре, на¬
рушает тенденцию давнего отношения к жителю деревни в художественной про¬
зе. Изображению крестьянской души сопутствовало восхищение ее природными
качествами или сочувствие ее страданиям. Зло чаще было привнесенным, во вся¬
ком случае ответственность за него возлагалась не на самого крестьянина. У кого
нет прав, с того нечего спросить.
Так было, начиная с классики, но теперь такое отношение не соответствует
столь ценимой писателями нравственной справедливости. Сочувствие деревне по
поводу утраченной ею цельности, освященной многовековой традицией жизни,
было высказано и пережито. На волне этого сочувствия, как раз благодаря дере¬
венской прозе росло понимание деревни, а вместе с ним - стремление оценить
Венер первый. «Деревянная столица»
103
и сохранить культуру, ею созданную. Воздав должное прошлому, нельзя, однако,
заслонять им сегодняшний день. Теперь деревня вошла в новый круг отношений,
и ее житель оказался во власти тех обязательств и требований, которые могут быть
предъявлены к любому человеку, независимо от места его проживания. Пора пе¬
рестать мерить достоинство человека только тем, чем он некогда обладал, и со¬
средоточиться на его теперешнем состоянии, в котором ему и предстоит делать
жизненный выбор.
То же самое можно повторить и в отношении философии природы, которая
не исчерпывается мечтой об утраченной сельской гармонии: человеку в XX веке
предстоит обрести новую. Это обязательное условие продолжения жизни, постав¬
ленной под угрозу техническим прогрессом или, лучше сказать, несовершенством
этого прогресса. Воспоминание о том, как было, способно возбудить сожаление
и даже побудить к поиску, но то, что нам сейчас предстоит найти, не совпадает
с тем, от чего мы ушли. Судить все равно нужно не по прошлому, а по настоящему.
И отдельное произведение, и целое творчество могут пройти под знаком
своей темы, но ее знание и оценку изнутри как чего-то самоценного и исключи¬
тельного необходимо соединить с внешним, объективным взглядом, способным
учесть интересы всех сторон, соотнести разные ценности.
1981
ВЕЧЕР ВТОРОЙ. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
«Хотите кафедру медиевистики?»
Беседу с Игорем Шайтановым вели Елена Луценко и Сергей Чередниченко
- Игорь Олегович, вы с детства хотели стать филологом?
- Нет, лет до 5-6 я хотел быть милиционером. (Смеется.) На вопрос, почему
ты хочешь быть милиционером, я отвечал, что их все боятся, даже пьяные.
- Как вы пришли к филологии ?
- Опять же, вероятно, родительский пример: филологическая среда, филоло¬
гические разговоры.
- Ваш отец Олег Владимирович Шайтанов занимался больше историей, чем
филологией?
- Нет, он занимался филологией, хотя по складу личности, интереса он был
не столько филологом, сколько историком. Он попал, конечно, в очень неудач¬
ное время для того, чтобы становиться филологом-западником, - как раз в эпоху
борьбы с космополитизмом. Он собирался писать диссертацию у Эйхенгольца по
Ромену Роллану, который тогда был очень моден. Его интересовали шекспиров¬
ские мотивы. В результате пришлось писать о мнениях идеологических классиков
в связи с Ролланом. В общем, судьба вполне в духе времени.
- А учиться на филфаке и стать филологом - это в ваши времена было пре¬
стижно?
- Да, очень. О филфаке МГУ я писал в воспоминаниях о Сане Фейнберге...
Я перечислю тех, кто учился со мной на одном факультете. В одной группе со мной
были Фейнберг, Александр Ливергант, Юрий Фридштейн, Валерий Самошкин
(вот только о его судьбе я ничего не знаю). В параллельной группе учились Борис
Жогин (он потом стал, кажется, ректором Ставропольского университета), Вла¬
димир Аветисян, профессор в Ижевске, Александр Сергиевский, который теперь
и уже четверть века в Риме. Известные имена: Виктор Ерофеев, Михаил Филли¬
пов, Владимир Новиков, Лев Соболев...
- Вы поступили в университет сразу после школы?
- Да, но так как я заканчивал 11 классов, то, насколько помню, сдавал свой
единственный вступительный экзамен (как медалист) в день своего рождения -
в 18 лет.
- А чувствовалась разница между Вологдой и Москвой?
- Чувствовалось прежде всего то, что я уехал из дома и живу в ненавистном
общежитии. Я не был создан для радости общежитской жизни. Что касается Мо¬
сквы, какие-то вещи нужно было скорректировать и понять, но огромной разни-
Вечер второй. Университетская жизнь
105
цы я не почувствовал. К тому же я как-то очень быстро сошелся с людьми старше
себя, благодаря которым вошел в литературную среду. В начале второго курса это
был Владимир Владимирович Рогов, который стал не просто преподавателем, но
другом, мы много общались. До этого я постоянно бывал у Сани Фейнберга дома
и иногда по нескольку дней жил у него. В высшей степени литературная семья!
- Какой была в годы вашей учебы кафедра зарубежной литературы в МГУ?
- Это грустная история...
- Вы имеет в виду Самарина?
- Да, и его тоже... Самой большой неудачей профессиональной для меня
было то, что у меня не было учителя. Вернее, у меня были учителя, но это не учи¬
теля профессии. Вот тот же Рогов - это учитель общения, понимания литерату¬
ры, вхождения в литературный круг, но профессионального филолога-учителя не
было. Рогов ушел, когда я учился на третьем курсе, поругавшись с Самариным.
-Аза что Рогова выгнали?
- Его не выгнали, он ушел сам. Ушел, после того как устроили разгромное об¬
суждение проекта его кандидатской диссертации по Китсу. А я был слушателем
его семинара по Шекспиру, который постепенно превратился в разговор обо всем
на свете. Тогда остались всего два семинариста - я и Саша Ливергант. Мы прихо¬
дили к нему уже домой (вначале на съемную квартиру), Владимир Владимирович
(или, как его звали в литературной среде, - Воля Рогов) что-то рассказывал, по¬
том мы шли куда-нибудь на литературный вечер или пить пиво, а то и приезжали
к нему на ночь, где пили уже разное... Он читал иногда ночь напролет стихи, рас¬
сказывал. Помню, я выхожу из Иностранки, которая тогда уже въехала в совре¬
менное здание на Котельнической, а напротив был такой старорежимный пив¬
ной ларек с мокрыми столиками и огромными бочками, поставленными на попа.
Встречаю Рогова, он меня манит в ларек (не помню даже, пили ли мы пиво), но
помню, что он сообщил о последнем своем переводческом деле: «Перевел сонеты
Милтона для тома в БВЛ». И тут же, на бочках, прочитал мне их, дав оригинал для
сравнения. Были ли удивлены завсегдатаи такому перформансу? Мы как-то их не
заметили, может быть, и они нас.
- А Рогов был молод тогда?
- Помню, когда я уже заканчивал университет, мы праздновали его сорока¬
летие. Когда он начал нас учить, ему было лет 35. Но выглядел он... (Смеется.)
У него не было зубов, при этом у него были замашки аристократа в нищете и
в изгнании. Как-то он нас привел слушать знаменитого чтеца Кочаряна, он лю¬
бил очень его как армянина (Рогов был армянофил). Тот читал в зале Ленинской
библиотеки. Мы стоим в фойе, курим, что-то обсуждаем, и в это время подходит
некто и вмешивается, вероятно, полемической репликой в наш разговор (или того
хуже - в монолог Рогова). Рогов оборачивается и с характерной интонацией тра¬
гического актера, исполняющего роль Ричарда III, произносит: «По морозцу, по
106
Как выло и как вспомнилось
морозцу, как говаривал князь Болконский!» Вот его замашки были приблизитель¬
но таковы. Он был резкий, вспыльчивый человек. Конечно, он очень много нам
дал. Какое-то время общение было близким. Но под конец уже трудно было об¬
щаться, у него был рак горла. Он не мог говорить, писал на салфеточках.
- Рогов умер в конце 1990-х ?
- В 2000-м. Ему было 70 лет, когда он умер. Но последние годы общения не
было, и от этого у меня осталось чувство вины.
- А после того, как Рогов ушел из университета, были ли англисты, с которыми
вы общались?
- Я писал диплом у Натальи Александровны Соловьевой, это было очень фор¬
мально. Талантливые люди на кафедре водились, но не они определяли общую
обстановку. Я не случайно после пошел в МПГУ к Нине Павловне Михальской.
Какое-то время у меня мелькала дикая мысль, не поехать ли в Питер - к Нине
Яковлевне Дьяконовой либо к Ирине Владимировне Арнольд на лингвистику.
Я написал диплом в МГУ и, окончательно поссорившись с руководителем семи¬
нара по английской литературе Валентиной Васильевной Ивашевой (тоже любо¬
пытный персонаж: из бывших, но с советской идеологией до мозга костей), пошел
в МПГУ.
- О нем был ваш диплом?
- Про современную английскую драму. От Осборна до Стоппарда, который
только что тогда написал «Розенкранца и Гильденстерна...». Как-то так получа¬
лось, что я все время с университетской скамьи и семинара Рогова хотел писать
про Шекспира, но никто не соглашался (да и не мог бы) руководить такой рабо¬
той. Вот и получалось что-то по английской драме, то есть на ближних (Рогову я
писал про «Рыцаря Пламенеющего Пестика» Ф. Бомонта) или дальних подступах
к Шекспиру.
- Когда вы пришли в МПГУ в аспирантуру, чувствовалась разница в атмо¬
сфере?
- Тогда это еще не был университет, а Московский государственный педаго¬
гический институт имени Ленина (кажется, он и до сих пор этого имени). Так что
я пришел в МГПИ. Разница чувствовалась прежде всего в одном, но она-то все и
определяла: на кафедре в педе было два человека, с которыми хотелось общать¬
ся. Если в МГУ верховодили Ивашева и Самарин, то здесь были Нина Павловна
Михальская и Борис Иванович Пуришев. И это была колоссальная человеческая
разница.
- А свободы в МПГУ было больше?
- Нет, скорее даже это было с большим ощущением тех границ, в которых
можно работать. В МГУ существовало, вопреки воле руководителей кафедры, не¬
кое фрондерство - да и разрешено там было больше, чем другим. Ивашева, какой
бы она ни была, ездила в Англию, привозила сведения из первых рук, привозила
Вечер второй. Университетская жизнь
107
книги. И давала их студентам! Так что романы Грина, Голдинга, Мердок мы чита¬
ли с авторскими дарственными надписями. В МГПИ ничего подобного не было.
Михальскую один раз выпустили в Англию на несколько месяцев стажировки, и
все. Пуришев, занимаясь Германией, был в Германии один раз - в плену во время
войны. Евгения Федоровна Книпович мне тогда говорила: «Вам нужно уходить
из этого провинциального МГПИ». Таким МГПИ тогда считался в Москве и, в об¬
щем, был. На экзамене в аспирантуру я так и не мог вспомнить, что же Энгельс
сказал о Бальзаке (в МГУ на подобном знании настаивали с гораздо меньшим
упорством), так что моя аспирантура сначала была заочной, а потом годичной -
для завершения. Я поступал не в МГПИ, а к Михальской, и хотя она заведовала ка¬
федрой, сразу взять она меня не смогла. Там еще были свои идеологические зубры.
- Как получилось, что вы стали работать в МГПИ?
- После окончания университета я уехал в Вологду. Я не хотел начинать рабо¬
тать в Москве. Понимал, что не готов для серьезного преподавания. Нам в МГУ
постоянно повторяли слова академика Шишмарева: «Университет не учит, но
учит учиться». Я понимал, что этой наукой еще предстоит воспользоваться. Там
и писал диссертацию (постоянно наезжая в Москву - мне давали время: то месяц,
то семестр). В 1975 году защитил «Исторические драмы Бернарда Шоу» (еще да¬
лекий подступ к Шекспиру). Летом 1977-го решил, что пора вернуться в Москву.
Я уже был женат на Ольге Владиславовне Афанасьевой. В это время как раз умер
один из профессоров кафедры, англист Юрий Михайлович Кондратьев. И Нина
Павловна предложила мне прийти на кафедру. Не помню, мне предложили или я
попросил - полставки. Дело в том, что к этому времени я даже в большей степени
ощущал себя критиком современной литературы. И по этой линии одновременно
получил, как считалось, завидное предложение - пост заведующего отделом рус¬
ской литературы в старом «Литературном обозрении». Мне едва исполнилось
тридцать, я не был членом партии. Так что при учете этих условий предложение
было почти невероятным. Но я подумал и решил, что не хочу впрягаться в редак¬
ционную лямку. С этим и приехал к Леонарду Лавлинскому, главному редактору.
Он был потрясен отказом, не верил, что такое бывает. Созвал замов меня угова¬
ривать. Сошлись на том, что я буду постоянным автором и войду в редколлегию.
- Игорь Олегович, вы как-то рассказывали, что на вашей защите докторской
диссертации присутствовал Юрий Борисович Виппер. Он вам оппонировал?
- Нет, он отказался, так как плохо себя чувствовал, поэтому же и на защиту не
пришел, но прислал отзыв на реферат.
- Вы были с ним лично знакомы? Каким человеком был академик Виппер?
- Какое-то время мы общались. Он мне лично очень нравился: блистательный
на советском фоне человек, кончивший Сорбонну, сын и внук академика, превос¬
ходно говоривший по-французски. Красивый, хорошо одетый, по-европейски ве¬
дущий себя, образованный.
108
Как было и как вспомнилось
- А как ему удавалось в советское время вести такой образ жизни?
- Он был одним из немногих, кого можно было показывать людям. С одной
стороны, за границей он не опозорил бы государство, а с другой, он был абсолют¬
но дисциплинированным: никогда не скажет никакой антисоветской вещи, будет
ходить по абсолютно правильным дорожкам. Я помню, как мы с Пуришевым, ког¬
да я был аспирантом (Борис Иванович любил водить аспирантов по Москве, ко¬
торую знал как старый москвич великолепно, и по художественным выставкам),
пришли в Пушкинский музей смотреть французские шпалеры, которые привезли
тогда в Москву, - гигантские вышитые панно XIV-XV веков, средневековые ков¬
ры... Тогда я впервые увидел Виппера, который, подойдя, заговорил так, будто пи¬
шет учебник для советского Политиздата: «Да, Борис Иванович, эта шпалера уже
не так хороша, ощущается дух буржуазности». Пуришев в таких случаях как-то
умел прибегать к фигуре умолчания: как будто то ли его здесь нет, то ли не к нему
сказанное относится.
- А Пуришеву удавалось в своих работать избежать советской идеологично¬
сти?
- Что делали те, кто хотели избежать? Они занимались фактографией - из¬
лагали факты, очень богато, разнообразно, вставляя время от времени неизбеж¬
ные фразы. Когда я написал свою докторскую диссертацию и готовил книгу, мне
Нина Павловна сказала: «Ваша докторская не пройдет, если вы не сошлетесь хотя
бы один раз на Ленина и один раз на Маркса». Я нашел у Ленина фразу про то,
что историзм - это хорошо, а у Энгельса - фразу, которую я и теперь цитирую:
«Hard and fast lines не связаны с теорией развития». Я жил в так называемые ве¬
гетарианские времена советской эпохи, когда уже можно было стоять в стороне
от идеологического мейнстрима и заниматься своим делом, разумеется, если это
дело не угрожало мейнстриму. Не скажу, что в этом не было самоограничения.
Разумеется, было.
- В МПГУ, насколько я знаю, было студенческое объединение, которым вы руко¬
водили?
- Да, когда я вернулся из докторантуры, времена начали меняться. Михаль-
ская, нужно отдать ей должное, очень точно реагировала на ветер перемен. Раз
можно, давайте воспользуемся и сделаем что-то полезное. Пусть каждый препода¬
ватель соберет вокруг группу студентов, занимающихся тем, что интересует его.
Такая группа назвалась «проблемная». Моя просуществовала лет 5-6, даже после
того, как я перешел из МПГУ (уже переименованного в университет) в РГГУ. Со¬
брались тогда разные люди, с разными в дальнейшем судьбами и интересами. Как
я уже выработал формулу: от будущего комментатора Библии до будущего фут¬
больного комментатора Василия Уткина (он занимался обэриутами, и в первые
годы его карьеры в репортажах могло проскочить имя Бахтина, дань филологиче¬
скому прошлому). Собрались очень разные, но заинтересованные литературой и
Вечер второй. Университетская жизнь
109
филологией люди. Разные не только по судьбам, но и по позициям в литературе,
что нередко и тогда сказывалось взаимной ревностью и неприязнью. Но тем не
менее все как-то уживались: Олег Лекманов, Дмитрий Кузьмин, Илья Винницкий
(теперь профессорствующий, кажется, в Принстоне), Аня Дорошина (профессор
в Чикаго), Михаил Свердлов, Женя Воробьева (теперь - Вежлян)...
- Проблемная группа существовала как некий спецсеминар?
- Да, регулярно: раз в неделю, иногда раз в две недели. Обсуждались теоре¬
тические проблемы, делались доклады, главное - спорили, были заинтересованы
происходящим.
- Почему вырешили в начале 1990-х перейти работать в РГГУ?
- Эту историю я уже неоднократно рассказывал... Живу в Доме творчества
в Переделкине. После завтрака стою и жду позвонить в Москву из будки, что
в старом корпусе (мобильников еще не было - это лето, видимо, 1992-го). Из
кабинки выходит Галина Андреевна Белая и говорит: «Игорь, я приглашаю вас
в новый университет». Я отнекивался, поскольку не очень понимал, что и где мне
предлагают.
- Вы сразу начали работать на кафедре сравнительного изучения литератур?
- Нет. Кафедра была уже, но я пришел на должность директора издательства.
Я попытался создать издательство. Вернее, Галина Андреевна решила создать
его моими руками, и поначалу это выглядело успешно. Я пригласил очень про¬
фессиональных людей: производственник, экономист из издательства «Наука».
Опытного главного редактора, великолепного художника... Но оказалось, что
в университете на издательство какие-то свои виды - скорее, как на производство
канцтоваров. Начали ставить палки в колеса, в основном - финансовые. Нагова¬
ривали ректору Афанасьеву, он ярился. Когда в одном из первых разговоров по
делу он попытался повысить (по обыкновению) на меня свой либеральный голос,
я предупредил: «Так у нас с вами, Юрий Николаевич, разговор не получится».
Он понял, но после каждой встречи я уходил от него с некоторой опаской: он так
багровел, сдерживаясь, что я не хотел стать причиной инсульта, постигшего наше¬
го великого демократа. В общем, к концу учебного года я пришел к нему и сказал:
«Юрий Николаевич, я вижу, что у нас с вами ничего не получается...» Он отреа¬
гировал даже как-то по-доброму: «Да, понимаю... давайте я вам кафедру сделаю?
Хотите кафедру медиевистики?» Все бы хорошо, но я не медиевист, в чем и при¬
знался. Я сказал ему, что Галина Андреевна Белая предлагает мне работу профес¬
сором на кафедре сравнительного изучения литератур, где я уже числился. Там и
остался. Ею тогда заведовала Нина Сергеевна Павлова.
- Что особенного было в РГГУ, когда вуз только создавался?
- С одной стороны, было, конечно, замечательно после жестко дисциплини¬
рованных советских заведений прийти в вуз, где - делайте что хотите, чувствуйте
себя свободным. Туда пришло много людей, ранее не преподававших, из ИМЛИ,
no
Как было и как вспомнилось
еще откуда-то. Они были страшно этим увлечены, им просто хотелось говорить,
общаться со студентами, и они это получали сполна. Но я, как человек уже до это¬
го 20 лет проработавший в вузе, опасался, что мы никого ничему не научим: это не
обучение, это общение. Студенты приходили к кафедральному самовару в пере¬
менку, забегали выпить чашечку чая...
- Этот подход не требовал системности?
- Даже система была понятием слишком жестким. Афанасьев ездил по уни¬
верситетам мира, из каждого университета он привозил какую-то новую свободо¬
мысленную задумку. Я прекрасно помню, как он приехал и сказал: «Экзаменов не
надо! Все должно решаться в течение семестра». На факультете также была масса
фонтанирующих идей... С трудом отстояли лекции: на радикальные предложения
их отменить от более молодых преподавателей с зарубежным опытом ответил на
одном из Советов Алексей Матвеевич Зверев. Рассказал, как он, читая лекцию по
современной американской литературе в каком-то звездном университете - Берк¬
ли или Стэнфорд, - упомянул Вольтера. Тут же любознательный американский
юноша поднял руку: «Who is this French guy?»
- Галину Андреевну Белую, декана факультета, очень любили студенты...
- Да, в РГГУ дверь к Галине Андреевне была всегда открыта... Толпа валила
к ней. Я человек гораздо более иерархичный. Я полагаю, что должен быть порядок,
порядок в отношениях. Довольно скоро, в одной из наших привычных бесед с Га¬
линой Андреевной, я не мог не предупредить: «Скоро у нас будет первый выпуск,
и вы будете огорчены. Это будут плохие дипломы, это буду плохие ответы на экза¬
менах». Она изумилась: «Быть не может! У нас такая свобода, такой либерализм!
У нас лучшие в мире студенты!» Вы понимаете, когда эти лучшие в мире студен¬
ты выступили с дипломами и с ответами на экзаменах, оказалось все чрезвычайно
печально, и она должна была это признать, сильно огорчаясь. Мы их ничему не
научили, или, точнее, они ничему не научились. Потому что они не учились, они
приходили слушать публичные лекции. Потому что по сравнению с выпускниками
провинциальных вузов, у которых знания обязательной программы от зубов от¬
скакивали, эти получали эклер, не научившись есть черный хлеб. Они не получили
необходимые знания, но к ним приходили и рассказывали про Бахтина, про Дер¬
рида... Посмотрите, много ли наших выпускников 1990-х сейчас преподают или
сделали себе имя в науке? В журналистике, на телевидении, да, работают. Тогда
идеи носились в воздухе. Это была атмосфера свободы, как ее тогда поняли и ка¬
кой попытались воплотить в жизнь...
2016
Вечер второй. Университетская жизнь
Владимир Новиков
Семидесятники
ill
Мы поступили на филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова
в 1965 году и окончили его в 1970 году. Наш выпуск последним выпорхнул из ста¬
рого казаковского здания на Моховой, 11 (тогда - проспект Маркса, 18), после
чего факультет переехал на Ленинские горы.
Сентябрь 1965-го - это арест Даниэля и Синявского. Весна 1970-го - это
«остоюбилевшее» всем столетие Ленина и робкая попытка реабилитации Стали¬
на в «киноопупее» «Освобождение». Наша учебная «пятилетка» ознаменова¬
лась переходом от оттепели к застою, концом шестидесятничества и зарождением
некоего нового менталитета. Именно с такой точки зрения хочется взглянуть на
эти годы, припомнив некоторые факты. Speak, memory!
В общежитии «Филиал Дома студента» на Ломоносовском проспекте судь¬
ба свела тогда Игоря Шайтанова, Льва Соболева (впоследствии литературоведа
и культового учителя-словесника) и меня. Из москвичей, поступивших тогда на
филфак, а впоследствии ставших известными литераторами, надо назвать Виктора
Ерофеева, Александра Ливерганта (товарища Игоря по группе). Иные наши од¬
нокурсники уже ушли из жизни: переводчик и социолог Борис Дубин, лингвист
Исаак Козинский, критик Александр Панков, сын пушкиниста и сам пушкинист
Александр Фейнберг.
На нашем курсе учились люди самые разные: и советские ортодоксы, и ци¬
ничные карьеристы, и отважные «смогисты», и политические бунтари. Буду
говорить о своих ближайших единомышленниках. У нас уже не было детских ил¬
люзий, и на обещанный Хрущевым к 1980 году коммунизм мы не рассчитывали.
Вместе с тем антисоветизм не был для нас главной и пламенной страстью. Непри¬
ятие советской лжи было простой и очевидной нормой. Помню, как Игоря не¬
приятно поразили речи одного одногруппника о сталинском терроре: мол, про¬
стого народа репрессии не коснулись, они затронули прежде всего «шишек»,
людей высокопоставленных (нечто подобное талдычат сейчас вновь литераторы
определенной ориентации). Игорь говорил о юном сталинисте с глубоким пре¬
зрением. Хотя до чтения «Архипелага ГУЛАГ» было еще далеко, мы отнюдь не
верили в теорию «отдельных перегибов». И к брежневщине отношение было
адекватное. Анекдотам армянского радио верили больше, чем газетным передо¬
вицам.
Но долгих и надсадных политических диспутов не вели. Не помню уж, кто из
нас по ходу злободневного разговора процитировал: «Не для житейского волне¬
нья, / Не для корысти, не для битв...» - и далее по тексту. Мы уже становились
эстетами. И шли к философскому индивидуализму, к пушкинскому «Из Линде-
112
Как было и как вспомнилось
монти» («Зависеть от царя, зависеть от народа - / Не все ли нам равно?»), кото¬
рое можно считать символом веры семидесятничества.
Верили мы в возможность «демократических перемен»? Не особенно, го¬
воря розановским словечком. Мечтали о «многопартийной системе»? Нет, ско¬
рее разделяли народную иронию: больше чем одну партию нам не прокормить.
В политическом плане мы были больше скептики, чем энтузиасты. И уж совсем не
мечтатели. «Мечтам невольная преданность» была философического и эстетиче¬
ского свойства.
Надо сказать, что Игорь Шайтанов, учившийся на романо-германском отде¬
лении, никогда не был узкоспециализированным «зарубежником». Он всегда был
и «русистом»: свободно ориентировался в классике и пребывал в курсе «акту¬
альной» словесности. Помню, как он наизусть продекламировал мне стихотво¬
рение Евтушенко «Битница», причем оно заинтересовало его не с точки зрения
антиамериканской риторики и легкого (очень легкого) антисоветского подтек¬
ста, но прежде всего эстетически, своим экспрессивным финалом:
Все жестоко - и крыши, и стены,
и над городом неспроста
телевизорные антенны,
как распятия без Христа...
Все пять лет в МГУ проходили под аккомпанемент песен Высоцкого. Слуша¬
ли его на чужих магнитофонах (я однажды сподобился попасть и на авторский
концерт в Большой химической аудитории), обсуждали, цитировали. И опять-та¬
ки - больше с эстетической точки зрения, чем с политической. Игорь со вкусом
рассказывал - как стихотворение - «Пародию на плохой детектив», акцентируя
комическую остроту («Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек»),
а обращаясь к песне «Она была в Париже», с филологическим шиком отмечал:
«А ведь здесь реминисценции прежних песен автора: “Но я напрасно пел о полосе
нейтральной - / Ей глубоко плевать, какие там цветы”».
Реминисценции, цитаты, пародийные подтексты - это мы все обожали. Юлия
Кристева еще не обнародовала термин intertextualité, а наша обыденная речь уже
была до ужаса интертекстуальной. Задолго до Тимура Кибирова мы лепили цен-
тоны из русской классики и советской эстрады. Задолго до Сорокина и Пелевина
изобретали интерлингвистические каламбуры. Травестировали святыни Сере¬
бряного века. Ахматовское «А так как мне бумаги не хватило...» порой исполь¬
зовалось в контексте «раблезианского низа». А на арабо-изральский конфликт
1967 года наш однокурсник Боря Храмов реагировал репликой: «Меир-голдо-
вы арапчата затевают опять возню» (ср. в «Поэме без героя»: «Мейерхольдо-
вы арапчата затевают опять возню»; Голда Меир была тогда премьер-министром
Вечер второй. Университетская жизнь
113
Израиля). Вот такое было изощренное филологическое балагурство, и не догады¬
вались мы, что подобные игры можно было продать как «постмодернистские прак¬
тики».
Недооценили мы и наше филологическое новаторство в исследовании обс-
ценной речи. На втором курсе у нас сложился кружок по изучению мата, оформ¬
ленный как пародийный институт под названием НИИХМАТЬ (предложено
учившимся тогда на филфаке будущим актером Михаилом Филипповым, который
сам в работе не участвовал). Состоялось по крайней мере одно научное заседание,
его вел «директор» Лев Соболев, а Борис Храмов докладывал о результатах сво¬
его изучения надписей на стенах туалетов. Его работу оценивали и Шайтанов, и
Козинский. Потом я описал этот эпизод в «Романе с языком», отдав его вымыш¬
ленному герою, а реальных однокурсников назвал по именам, но без фамилий. До
сих пор страшно признаваться в такой крамольной деятельности: ведь Дмитрия
Быкова с приятелем за выпуск юмористической газеты «Мать» (по сути - фило¬
логической первоапрельской шутки) арестовали аж в 1995 году! Почему нам тогда
это сошло с рук - не знаю.
Пора уже перейти к учебному процессу на филологическом факультете.
Игорь учился на английском отделении, которое курировала довольно одиозная
Ольга Сергеевна Ахманова. Впоследствии Вячеслав Всеволодович Иванов оха¬
рактеризует ее как авантюристку и конъюнктурщицу. Игорь в свое время отме¬
чал ее непомерную амбициозность и склонность к самодурству, к беспричинному
преследованию студентов. Литературоведческим семинаром, в котором молодой
Шайтанов начал заниматься английским Возрождением, руководил Владимир
Владимирович Рогов. Хотя он некоторое время был ахмановским зятем, это был
человек совсем другого разлива - чистого и честного. Талантливый переводчик,
мастер стихотворного экспромта. Игорь цитировал нам сочиненную Роговым (по
пушкинской модели) эпиграмму на заведующего кафедрой зарубежной литерату¬
ры, душителя научной мысли Романа Михайловича Самарина:
Не то беда, Роман Самарин,
Что ты в воззрениях вульгарен,
Что ты в науке интриган,
Что в свете ты Фаддей Булгарин...
Беда, что видом ты кабан.
Потом Шайтанов процитирует это в одной из научных статей, рассказывая
о судьбе шекспироведения. А тогда, насколько я помню, это была в буквальном
смысле «надпись», подпись под карандашным портретом Самарина, выполнен¬
ным Ольгой Александровной Смирницкой, дочерью Ахмановой (портрет этот
Рогов повесил в туалете).
114
Как было и как вспомнилось
Рогова вскоре с факультета выжили, но свои шекспировские штудии Шайта¬
нов успешно продолжил.
А что на русском отделении? Там были два блестящих лектора - легендарный
пушкинист и стиховед Сергей Михайлович Бонди и известный в более узких кру¬
гах доцент по древнерусской литературе Николай Иванович Либан. Кстати, хочу
к слову заметить: эти педагоги-корифеи, живи они сейчас, не смогли бы работать
в вузах. Они бы не прошли аттестацию, им не хватило бы публикаций. Мало писа¬
ли. У Бонди за всю жизнь написаны две книги, у Ливана первая вышла к девяноста
годам. Ценили их за уникальные лекторские таланты. А сейчас вузовских препода¬
вателей зачем-то принуждают в больших количествах «сдавать тексты», изготов¬
лять пустые «монографии» и бессмысленные статьи. Хотя педагогический талант
отнюдь не всегда сочетается с исследовательским, а тем более с литературным.
В результате сейчас иной тридцатипятилетний доцент имеет список трудов более
длинный, чем у академика Лихачева сложился за всю жизнь. Но качество... К тому
же озабоченные этой публикаторской гонкой преподаватели не успевают читать
чужие работы, следить за современной литературой...
Ладно, вернемся на наш второй курс. Лекции Бонди и Либана мы слушали, но
сообразно учебному плану в спецсеминар должны были идти к кому-то другому.
Присматривались к двум фигурам.
Первая - Владимир Николаевич Турбин, его называли «самый правый из
самых левых», то есть, будучи сторонником левого искусства, он держался в со¬
ветских рамках. Организовал сбор подписей под коллективным письмом, осужда¬
ющим Синявского. Из хитрости собственную подпись не поставил, но в «Литера¬
турной газете» ее, конечно, добавили. Считал себя последователем Бахтина. Вел
экстравагантный семинар по «экспериментальной поэтике», где поражал влю¬
бленных в него девиц трактовками вроде той, что в «Станционном смотрителе»
Самсон Вырин состоит в инцестуальной связи с дочерью Дуней. В конце жизни
пробовал эстетически оправдать свои политические компромиссы, написав роман
под названием «Exegi шопишепШт». Однако никто из бывших пылких «турби-
нисток» не воздвиг ему не только монумента, но и даже статьи в «Википедии».
Забыли.
Вторая фигура - Геннадий Николаевич Поспелов, «самый левый из самых
правых». Беспартийный марксист, ученик Переверзева. Жесткий социолог в под¬
ходе к литературе. Письмо против Синявского подписывать отказался.
Мы с Левой Соболевым выбрали Поспелова. И не пожалели. Начали с «Брать¬
ев Карамазовых» и четыре года занимались Достоевским. Поспелов спорил с Бах¬
тиным, но был научно честен. Сам атеист, требовал читать Евангелие, а Библию в
Научной библиотеке тогда выдавали. Мы начали и литературу, и жизнь познавать
философски, а не социологически и не моралистически. Достоевский был нашим
Вечер второй. Университетская жизнь
115
языком, нашим тезаурусом. Скажем, вопрос о человеческом равенстве мы ставили
в такой редакции: есть ли среди людей «вельфильки» и «мовешки»? И понимали
друг друга - под знаком Достоевского.
Философический тренд присутствовалу такого лектора-зарубежника, как Ана¬
толий Алексеевич Федоров (у него был старший брат-латинист). Федоров-млад-
ший высокомерно относился к «пантеистическому» реализму (ремарковского
типа), превозносил «феноменальный реализм» (Томас Манн) и поощрял экзи¬
стенциализм. Тогда умение выговорить без запинки слово «экзистенциализм»
было шибболетом истинной интеллигентности. А Федоров еще и «экзистанс»
произносил так, как будто это привычное слово русского языка.
В 1969 году в нашу жизнь вошел Камю. Даже целых два. Первый - это фран¬
цузский коньяк за девять рублей бутылка (реально можно было купить только
в ресторане и в полтора раза дороже). Но за этим мы не гонялись - дороже ценил¬
ся избранный Альбер Камю, впервые вышедший тогда в СССР. Синий томик я
купил у спекулянта на Кузнецком мосту за пятнадцать рублей. Много тогда гово¬
рили о проблеме выбора, о должном и недолжном существовании.
На пятом курсе пришел роман Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Бра¬
ли номера «Иностранки» с ним в читальном зале Горьковской библиотеки. Эта
книга тоже вошла в литературный бэкграунд семидесятничества.
О современной литературе никто из нас тогда писать не собирался. И пра¬
вильно: литературная критика - занятие очень взрослое, здесь вундеркиндов не
бывает. Специализироваться по кафедре советской литературы (а тогда ей при¬
надлежал и Серебряный век) было просто немыслимо. Но «в теме» мы очень
даже были. Все имена тогдашних «живых классиков» нам были ведомы, много
текстов было читано. Следили за борьбой «Нового мира» с «Октябрем», ощу¬
щали трагедию Твардовского как финал шестидесятничества.
Эстетика. Философия. Личность.
Таковы три кита нашего тогдашнего миропонимания.
После 1970 года Игорь Шайтанов жил и работал в Вологде. Когда мы встрети¬
лись в Москве в середине 1970-х годов, он уже был автором диссертации о драма¬
тургии Бернарда Шоу, но более широкую известность приобрел как критик совре¬
менной русской словесности - и прежде всего как интерпретатор пьес Александра
Вампилова. Вампилов же, ушедший из жизни в 1972 году, конечно, классический
семидесятник. Его доминанта не социально-моралистическая, как у шестидесят¬
ников, а онтологическая, экзистенциальная...
Вот такой приключился в то время paradigm shift, и мы оказались к нему при¬
частны.
Через двадцать лет я напишу в журнальной статье:
116
Как было и как вспомнилось
Мы - семидесятники <... > Наш читательский опыт богаче социального, и
мы до сих пор, откровенно говоря, не знаем, как его использовать.
Главный смысл этого опыта - склонность и готовность к пониманию раз¬
ных точек зрения, пусть взаимоисключающих. Мы живем без иллюзий, не верим
никаким обещаниям и сами стараемся таковых не давать. Мы больше верим в
человечески-индивидуальное, чем в общественное начало. Мы скорее скептики,
чем энтузиасты. Многое в сегодняшнем оживлении нам кажется наивным: об
этом мы уже читали. Слово «гласность» нам известно еще по спорам Герцена
с Добролюбовым, а слова «к перестройке вся страна стремится» мы запомнили
у Саши Черного. Трудно нам быть оптимистами, но и пассивный пессимизм не
менее банален1.
Теперь уже и 1990 год - давняя история. А семидесятникам - по семьдесят
лет.
2016
Ирина Ершова
Ars libera: наука в новом университете
25 лет существования Историко-филологического факультета РГГУ (ныне
он называется Институт филологии и истории) - это и 25-летие созданной (сре¬
ди первых на истфиле!) кафедры сравнительной истории литератур. В числе тех
«смельчаков», кто откликнулся на приглашение Галины Андреевны Белой прий¬
ти работать на новую кафедру по зарубежной литературе, было всего семь чело¬
век. Эти первые (по крайней мере, ее самая маститая и остепененная регалиями,
трудами и статусом часть) действительно были людьми смелыми и в чем-то даже
авантюрными. Никаких денежных посулов не было (наши зарплаты в те годы были
неправдоподобно малы), каких-то особенных льгот тоже (никто не оплачивал ко¬
мандировки, не предоставлял дома и квартиры), даже гранты шли в то время толь¬
ко по линии Сороса, а он к университету никакого отношения не имел. Самым
завлекательным было чувство нового, к которому, несомненно, примешивалось и
зримое ощущение перемен. Эта новизна была не открытием новых имен, изобре¬
тением новых предметов и книг; новое было в том, что у всех нас впервые появи¬
лось ощущение, что мы можем учить в любимой профессии тому, что нам близко
и любезно, что нам представляется важным и значимым, а не тому, что конъюн¬
ктурно, выгодно, безопасно и рационально. Можно в лекции по средневековой
литературе безопасно упоминать Библию и рассуждать о латинской литературе,
1 Новиков Вл, Раскрепощение // Знамя. 1990. № 3. С. 215.
Вечер второй. Университетская жизнь
117
читать на семинаре Августина и обсуждать жития и загробные видения. А Алек¬
сей Матвеевич Зверев первым делом дал тему диплома, а потом и диссертации, по
В. Набокову, открыв шлюзы для исследований по персоналиям русского зарубе¬
жья.
В одно небольшое пространство (коридор с десятью комнатами, оставшийся
после ВПШ, на штампованной бумаге которого мы писали еще 20 лет - типограф¬
ский тираж был рассчитан на долгие годы процветания) набилось такое количе¬
ство ярких, талантливых и вместе с тем маргинальных - каждый по-своему - по
отношению к официальному советскому мейнстриму людей, что нас, молодых, это
завораживало. Я отчетливо помню свое ощущение неправдоподобности происхо¬
дящего - множество моих книжных (в научном смысле) героев вдруг оказались
вместе со мной в одном месте и пространстве.
Возвращаясь к кафедре, замечу, что первый состав кафедры и его ядро вообще
был по преимуществу мужским - Алексей Матвеевич Зверев, Грейнем Израилевич
Ратгауз, Игорь Олегович Шайтанов и Сергей Леонидович Козлов. Сравнитель¬
ная идеологема, вытекающая из концепции ИФИ, - история и литература, Запад
и Восток в одном учебном плане, применительно к кафедре (слово это войдет и
в название кафедры) была выстроена Павловой, Зверевым и Шайтановым. Не
знаю, кто предложил название, но мы стали первой компаративной кафедрой на
постсоветском пространстве. Главой кафедры стала известный германист Нина
Сергеевна Павлова, из института культуры пришла Джульетта Леоновна Чавчани-
дзе и - почти сразу после защиты диссертации - испанист Маргарита Борисовна
Смирнова.
Из всей команды самым опытным по педагогической части был Игорь Оле¬
гович Шайтанов. За его плечами, тогда еще достаточно молодого человека, было
двадцать два года преподавания - коротко в Вологодском педагогическом инсти¬
туте, двадцать с лишним лет на кафедре всемирной литературы МПГУ, главного
педвуза страны. В сравнении, с одной стороны, с начинающими преподавате¬
лями - С. Козловым, М. Смирновой и мною (через год меня взяли на кафедру
в качестве медиевиста), а с другой - с кабинетными академическими персонами -
А. Зверевым, Н. Павловой и Г. Ратгаузом, Игорь Олегович нам казался умудрен¬
ным университетским профессором, хотя обликом этой умудренности не очень
соответствовал. Знаю, что Галина Андреевна Белая предложила ему при создании
факультета возглавить - на выбор - любую из создававшихся кафедр; он отка¬
зался от всего. Отказался не потому, что опасался сложности задачи, и не в силу
несклонности характера и способностей к руководству, а, по собственному его
признанию, из вполне «корыстных», личных побуждений - не тратить зрелое и
ключевое в творческом смысле время на администрирование.
Надо сказать, что первое десятилетие существования историко-филологиче¬
ского факультета (это одновременно отсылающее к традиции дореволюционного
118
Как было и как вспомнилось
образования и в то же время новомодное по отношению к советскому обычаю на¬
звание, как и концепция нового факультета, были очень притягательны и обаятель¬
ны для филологической среды) в истории самой кафедры стало временем долгого
становления, роста, постоянного изменения в силу разных и зачастую печальных
(очень рано, в начале 2000-х умер Зверев, тяжело заболел и ушел от нас Ратгауз).
Вместе с тем в первые же годы пришли на совместительство и задержались на чет¬
верть века Александр Яковлевич Ливергант (он почти все 25 лет совмещает нас со
своей переводческой работой, а позднее и с руководством «Иностранной литера¬
турой»), затем пришли Екатерина Евгеньевна Дмитриева, потом Елена Дмитри¬
евна Гальцова - обе теперь уже доктора наук.
В первые годы курсы по кафедре читали Александр Викторович Михайлов,
Арон Яковлевич Гуревич, Елеазар Моисеевич Мелетинский, Ольга Борисовна
Вайнштейн, Михаил Леонидович Андреев. Кто-то уходил, кто-то оставался и при¬
рос к кафедре. Тогда кафедры, конечно, жили своей жизнью, но все же главным
объединяющим пространством, стараниями Галины Андреевны, был факультет.
Задним числом кажется, что все основное общение и дискуссии проходили на
общефакультетском поле. Хотя наши заседания кафедры мне всегда доставляли
огромное удовольствие - формальных дел мало, зато бесед обо всем на свете мож¬
но было наслушаться от души. Конечно, тогда на факультете преподавало гораз¬
до меньше народу. Белая и ее ближайшие помощники, Дмитрий Петрович Бак и
Ольга Витольдовна Сидорович, настойчиво стремились и на заседаниях Ученого
совета (где мог сидеть каждый и сами заседания проходили с завидной частотой и
регулярностью), и вне его создать единое пространство мысли и собеседования.
Там говорили, обсуждали до изнеможения, спорили до хрипоты, а порой и непри¬
миримо сражались все профессора факультета. Была в этом даже некоторая избы¬
точность, тем более что страсти и дискуссии вовлекали даже студентов. Первые
наборы студентов были скромны цифрами, но зато каждый был обласкан, опекаем,
обучаем почти индивидуально. Сами они ощущали себя в некотором смысле из¬
бранными (что всегда, как мы знаем, имеет две стороны), да у них и в самом деле
для этого было достаточно оснований. Ведь им читал лекции весь тогдашний цвет
филологической науки.
Факультетское филологическое сообщество соседствовало, дополнялось в пе¬
дагогическом плане и отчасти соперничало с Институтом высших гуманитарных
исследований (ИВГИ), созданным Юрием Николаевичем Афанасьевым. Выше
авторитетов людей, собравшихся там, в филологии советской и постсоветской,
пожалуй, не было. Почти все они в той или иной мере поначалу преподавали на
факультете, на разных его кафедрах. Восторг от такого соседства охватывал не
только студентов, но и нас - молодых преподавателей факультета. Люди постарше
были чуть сдержаннее - может, предвидя, что энтузиазм преподавания у ивгиш-
ных неминуемо начнет гаснуть (пожалуй, за исключением преданных педагогиче-
Вечер второй. Университетская жизнь
119
скому делу фольклористов Е. Новик и С. Неклюдова и классика Н. Брагинской,
для которых это было также способом создания и развития своей научной школы),
а может быть, в силу инерции традиционно существующего в последние советские
годы предубеждения «чистых» ученых: наука живет в академических институтах,
а преподаватели высшей школы выполняют поточную, рутинную учительскую ра¬
боту. Надо сказать, сейчас эта ситуация, к счастью, меняется, и это, быть может,
одно из важнейших завоеваний постсоветской университетской жизни.
Из наших менее всего, как мне кажется, «трепету» были подвержены Игорь
Олегович и Алексей Матвеевич. Игорь Олегович вообще первые годы казался не¬
сколько отстраненным от царящей вокруг атмосферы всеобщего восторга и бра¬
тания, что совершенно не отменяло его почтения к отечественной филологиче¬
ской мысли; западник по образованию и главной научной специальности, он как
раз всегда был особенно озабочен популяризацией и престижем отечественной
науки - отсюда его многолетняя работа в «Вопросах литературы». Причина этой
отстраненности лежала, как мне думается, в двух вещах - с одной стороны, он дей¬
ствительно был чрезвычайно поглощен многими своими научными занятиями и
преподаванием, к которому всегда относился серьезно, а с другой - в некотором
предубеждении к атмосфере не единомыслия, но общения «без границ» студентов
и преподавателей. Это, кстати, отразилось и в студенческой «репутации». Если,
скажем, Зверев, яркий, темпераментный, обожавший студентов, был для первых на¬
боров безусловным кумиром, то Шайтанов был уважаем и ценим как бы на расстоя¬
нии, хотя преданные ученики и почитатели находились всегда. Через несколько лет
они вдруг - по неведомой нам, но, очевидно, существующей причине - поменяют¬
ся местами. Пост кумира перейдет на какое-то время к Шайтанову (студенческие
пристрастия вообще штука тонкая и едва уловимая). Принадлежа к потомственной
профессорской интеллигенции, он всегда несколько старомодно, вопреки тогдаш¬
ним веяниям, «держал дистанцию» и со студентами, и с коллегами.
Сознательно дистанцируясь от всего, что окружало педагогический процесс,
Шайтанов, по мнению студентов блистательный лектор, вместе с тем был целиком
сконцентрирован на самом предмете своих занятий. Риторически его публичные
речи всегда изящны и безукоризненны. Иногда его укоряли в том, что он не читал
планомерный и всеохватный курс, скажем, той же литературы эпохи Возрожде¬
ния, а выбирал только любимые темы: концепция гуманизма, Петрарка и Боккач-
чо, Шекспир; им было отведено куда больше времени, чем изложению фактиче¬
ской стороны литературного процесса и освещению всех значимых фигур (там,
правда, иных нет). Будучи ученым и университетским профессором с огромным
стажем, он полагал уже тогда, что учить надо не столько набору сведений, сколь¬
ко способу филологической мысли, а это можно делать на любой отдельно взя¬
той теме. Трудно спорить, что через Шекспира и в самом деле можно рассказать
все Возрождение. От «больших» лекций рано или поздно устают все, и Игорю
120
Как выло и как вспомнилось
Олеговичу уже давно, как думается, самым ценным кажется камерный, объединен¬
ный единой темой, межкурсовой семинар, который неизменно все эти годы он
ведет на кафедре, - и на этом поприще количеству его учеников, талантливых и
преданных, можно только позавидовать.
Вообще, для всех на факультете Зверев и Шайтанов были фигурами как бы
противоположными. Разный темперамент, разная степень вовлеченности в фа¬
культетскую жизнь, разная манера преподавания, разный научный стиль, но вну¬
три кафедры, для всех нас, они всегда были игроками одного поля. Речь идет об
огромной эрудиции и редкостной образованности этих двух ученых. Мы на ка¬
федре порой с замиранием сердца следили за беседами и обменом впечатления¬
ми о прочитанных книгах, который вели эти двое; часто к ним присоединялся и
Г. Ратгауз, блиставший в таких разговорах тонкостью суждений, иронией и остро¬
умием (лекции он читал как-то более отстраненно, сдержанно и даже скучновато).
Необъятность и глубина их сравнительного литературоведения нас просто потря¬
сала. Они всегда обожали книги, обожали великие ученые имена, литературные и
филологические байки, знали классику и живую литературу в таком объеме, что
иногда это казалось, да и по сей день кажется, неправдоподобным.
Кафедра зародилась и продолжала жить, вбирая в себя людей, отличающих¬
ся уникальной широтой научных интересов. Ее компаративность всегда была не
только в названии, но и в характере научных занятий формировавших ее людей.
Каждый работает в нескольких научных сферах, эпохах, языках. Замечательные
сравнительные исследования наших сегодняшних мэтров - Павловой, Гальцовой,
Дмитриевой, переводческая деятельность Ливерганта, работы нынешних профес¬
соров - Половинкиной, Морозовой, как и совсем молодых - Пастушковой, Данил-
ковой, Виноградовой всегда уникальны и любопытны своим выходом за пределы
узкой специализации, яркими идеями и гипотезами. Мы пытаемся хранить тради¬
ции кафедры, заданные ее «отцами-основателями». Надеюсь, нам это удается.
2016
Владимир Ганин
Маг слова, или Беседы на крыше
С Игорем Олеговичем Шайтановым я познакомился в 1985 году, когда посту¬
пил в аспирантуру Московского государственного педагогического института им.
В.И. Ленина (сейчас - МПГУ). После официального утверждения меня аспиран¬
том кафедры зарубежной литературы я встретился с заведующей кафедрой Ниной
Павловной Михальской. Поговорив со мной о теме моего будущего исследования,
она стала размышлять, кого же назначить мне научным руководителем. «Может
Венер второй. Университетская жизнь
121
быть, Игоря Олеговича Шайтанова? - предложила она. - У него еще не было аспи¬
рантов, а уже пора и ему обзавестись учениками». Об Игоре Олеговиче я, к стыду
своему, совершенно ничего не знал, поэтому после беседы с Ниной Павловной
я попытался получить информацию о потенциальном руководителе у лаборанта
кафедры Наташи. «Шайтанов?» - изумилась она и закатила глаза. В выражении
ее лица читалось и презрение к моему невежеству, и восхищение неведомым мне
человеком.
Однако в этот раз Игорю Олеговичу не суждено было стать моим научным ру¬
ководителем: какие-то обстоятельства, связанные с учебной нагрузкой препода¬
вателей, заставили Нину Павловну изменить решение. Я получил в руководители
Бориса Ивановича Пуришева, о чем никогда не жалел. Однако реакция лаборанта
Наташи пробудила во мне острое любопытство: мне хотелось увидеть личность,
которая даже лаборантов приводила в состояние священного трепета. Я с нетер¬
пением ждал ближайшего заседания кафедры. В день заседания, заняв место за од¬
ним из последних столов, я спрашивал у соседа, аспиранта второго курса, всякий
раз, когда в аудитории появлялось новое лицо мужского пола: «Это Шайтанов?»
Наконец он толкнул меня локтем и указал на высокого молодого мужчину:
«Вот он». Я всмотрелся. Умный взгляд. Сразу же стали подходить преподаватели,
аспиранты с какими-то вопросами. Он отвечал всем, улыбаясь и кивая головой.
Я знал, что Игорь Олегович заканчивает докторскую диссертацию об англий¬
ской поэзии XVIII века. Об этом периоде собирался писать и я, потому у меня
был повод обратиться к нему и попытаться получить консультацию. Я еще смутно
представлял, как пишутся кандидатские диссертации. И все-таки после заседания
кафедры я осмелился подойти к нему и объяснил, кто я и чем собираюсь занимать¬
ся. Так как «умных вопросов» у меня не было, я просто поинтересовался, с чего
мне следует начать. Игорь Олегович, не выказав удивления столь банальному во¬
просу, посоветовал составить список работ, близких по материалу той теме, кото¬
рую я выбрал для диссертации, а также указал имена исследователей, на чьи книги
я должен был обратить особое внимание. Он сообщил мне также, что после со¬
ставления библиографии я могу вновь обратиться к нему, если возникнут какие-то
вопросы.
Среди аспирантов кафедры зарубежной литературы в ту пору было принято
посещать лекции известных ученых, причем среди избранных были не только лите¬
ратуроведы, но и философы, историки, искусствоведы. Старшекурсники сообщи¬
ли мне, в каких вузах обитают знаменитости, а также настойчиво порекомендовали
побывать на лекциях Шайтанова. Я последовал совету и при первой же возмож¬
ности пришел на его лекцию. Большая аудитория, вмещавшая около двух сотен
человек, была переполнена. Кроме студентов на скамьях можно было увидеть
серьезных дам, которые еще до начала лекции что-то старательно писали в своих
блокнотах; мужчин провинциального вида с помятыми лицами, очевидно приехав-
122
Как было и как вспомнилось
ших на курсы повышения квалификации; богемную молодежь, явно не имевшую
никакого отношения к педагогическому образованию. Вся эта разношерстная пу¬
блика мгновенно замолкла, когда за трибуной появился лектор. Игорь Олегович
объявил тему лекции, познакомил с ее общим планом и после небольшой паузы
начал свой монолог, который иногда переходил в диалог со слушателями. Все про¬
исходящее мало чем напоминало традиционную лекцию или по крайней мере та¬
кую, к какой привык я в годы своего студенчества. Хотя перед выступавшим были
разложены какие-то листочки, он в них почти не заглядывал. Лишь иногда, когда
нужно было привести какую-то длинную цитату, он вспоминал про них. Содер¬
жание лекции словно бы рождалось на наших глазах и вызывало впечатление им¬
провизации на заданную тему. Позднее я узнал, что каждую лекцию предваряла
тщательная подготовка. Речь лектора, интонационно богатая и разнообразная по
ритму, завораживала публику, и даже сложные научные проблемы (Игорь Олего¬
вич никогда не пытался упрощать материал своих лекций для среднего студента),
которых он касался, казалось, легко проникали через препоны и блоки даже в го¬
ловы студентов-тугодумов.
По окончании лекции его обступила толпа студентов, суровые дамы с блок¬
нотами терпеливо ждали своей очереди. Студенты оживленно гомонили, задавали
вопросы, делились впечатлениями о прочитанном, сообщали, где и что они слыша¬
ли о лекторе последний раз: «Игорь Олегович, о вас говорили на радио “Свобо¬
да”», «Игорь Олегович, о вас упоминали в статье...» и т.п.
Выступления Игоря Олеговича на заседаниях кафедры были не менее яркими.
Отзывы о докладах других членов кафедры были подробными и аргументирован¬
ными. Аспиранты, которым приходилось представлять какие-то части своей дис¬
сертации, с тревогой ожидали его оценки. Если «Шайтанов давал добро», аспи¬
рант облегченно вздыхал и считал, что половина пути к защите уже пройдена.
Закончив аспирантуру, я остался работать на кафедре и стал вести семинары в
группах, которым читал лекции Игорь Олегович. Он старался помогать мне, объ¬
яснял, какие вопросы мы должны разобрать со студентами, на каких аспектах изу¬
чаемого произведения нужно остановиться поподробнее. Так как до аспирантуры
у меня не было опыта работы в вузе, советы старшего коллеги заметно облегчили
мое вхождение в профессию. Во время сессии я помогал ему принимать экзамены
у студентов. Он бывал достаточно суров со студентами, которые плохо подгото¬
вились. А тех, кто пытался, лихорадочно извиваясь, достать заветную шпаргалку из
потайного места, окидывал таким взглядом, что даже у меня появлялось желание
забраться под парту. Однако, если при ответе студент показывал, что он проявляет
подлинный интерес к предмету и у него есть то, что обычно называют филологи¬
ческой культурой, Игорь Олегович оживал, активно включался в беседу, и по ее
окончании студент уходил с оценкой «отлично» в зачетке, даже если на вопросы
из экзаменационного билета он отвечал без особого блеска. Способные студенты
Вечер второй. Университетская жизнъ
123
всегда тянулись к Шайтанову, и для них он организовал спецсеминар, где обсужда¬
лись не только произведения зарубежной литературы, но и различные проблемы,
имевшие отношение к отечественной литературе и критике. Немало студентов,
которые посещали этот спецсеминар, впоследствии сами стали преподавателями
вузов, литературоведами, критиками, журналистами.
Случались во время экзаменов и забавные ситуации. Однажды студент, чья
очередь была отвечать, стал просить дать ему еще немного времени для подготов¬
ки. Игорь Олегович, не любивший подобное затягивание времени, добавил метал¬
ла в голос. Студент жалобно заканючил: «Олег Иванович, ну хотя бы еще пару
минут». Шайтанов смягчился: «Я не могу отказать, когда меня так называют».
Я всегда поражался его необыкновенному чувству юмора и быстроте реакции. Он
не относился к числу людей, которым нужная острота приходит только на лест¬
нице или которые запасаются ими заранее. Он мгновенно оценивал ситуацию,
видел ее комичную сторону и молниеносно наносил укол. Как-то на заседании
кафедры, которая длилась необычайно долго и неизвестно было, когда она за¬
кончится, всеми овладело уныние. В какой-то момент в дверь заглянула молодая
женщина и с тоской в голосе спросила: «Простите, а Чертов не здесь?» По ее
измотанному виду было ясно, что она уже давно разыскивает Виктора Федоровича
Чертова и после бесполезных расспросов людей в коридорах решилась обойти все
аудитории в поисках нужного преподавателя. Игорь Олегович откликнулся сразу:
«А может быть, Шайтанов сгодится?» Раздался дружный хохот, заулыбалась и де¬
вушка. Атмосфера сразу же стала менее тягостной.
Иногда после экзаменов мы отправлялись прогуляться. Добирались до Дома
литераторов и заходили туда выпить кофе. Игорь Олегович проходил как член Со¬
юза писателей, где он числился критиком, а я проходил как его гость. Мы сиде¬
ли в кафе и наслаждались ароматным напитком. В разгар перестройки с хорошим
кофе в Москве случались проблемы, но в Доме литераторов он был великолепным.
Мимо сновали узнаваемые личности: телевизионщики, журналисты, актеры, и по¬
рой возникали даже писатели. Некоторые из них кивали головой Игорю Олегови¬
чу, некоторые подходили и заводили разговор.
А иногда целью нашего путешествия был книжный магазин на Кузнецком мо¬
сту, который назывался «Лавка писателя». В этом магазине было два отдела: один
для простых смертных, а во второй пускали опять же только членов Союза писате¬
лей, и выбор там был несравненно богаче. Игорь Олегович скрывался за дверью,
ведущей в заветный отдел, а я оставался с простыми смертными. Спустя какое-то
время он возвращался с охапкой книг в руках, а затем делился частью своих трофе¬
ев. Это было очень щедро с его стороны. С хорошими книгами было в это время
не менее трудно, чем с хорошим кофе. Однажды я простоял три с половиной часа в
очереди в Доме книги на Новом Арбате, чтобы купить «Божественную комедию»
Данте. Когда Шайтанов пригласил меня в гости, я был поражен количеством книг
124
Как было и как вспомнилось
в его доме. Уже в прихожей я увидел полки с книгами, в кабинете стояли высокие
стеллажи, в других комнатах я также заметил книжные шкафы. Игорь Олегович
с гордостью доставал с книжных полок редкие экземпляры, в основном это были
первые издания советских писателей в 1920-1930-е годы. Охотно рассказывал об
интересных книгах зарубежных издательств и даже разрешал мне какие-то книги
взять с собой, если они нужны мне были для работы над диссертацией или новой
статьей.
Приглашал Игорь Олегович меня к себе и на дачу, которая находилась в на¬
правлении Ярославской железной дороги, - тихий дачный поселок в окружении
сосен и елей. Такая мирная атмосфера располагала к спокойным и долгим разгово¬
рам, а однажды мне даже довелось принять посильное участие в ремонте веранды
на даче Шайтановых. Приехав очередной раз в гости, я обнаружил Игоря Олего¬
вича и его жену Ольгу Владиславовну перед невысоким сухоньким стариком, ко¬
торый, устремив взгляд в потолок веранды, отпускал какие-то едкие комментарии.
Спустя какое-то время я понял, что комментарии относятся к пожеланиям заказ¬
чиков сделать что-то такое с потолком веранды. Позднее я узнал, что повышенная
раздраженность при работе - обычное состояние Сергея Сергеевича (вроде так
его звали, хотя могу и ошибаться). В дачном поселке было достаточно профессо¬
ров и других авторитетных личностей, но Сергей Сергеевич - мастер с золотыми
руками - был один, и он не упускал возможности дать окружающим почувство¬
вать это. Через несколько недель я вновь увидел потолок веранды и убедился, что
Сергей Сергеевич действительно мастер от бога. Но это было позже, а пока он
загнал нас с Игорем Олеговичем на крышу, где что-то нужно было приколотить.
Мы с готовностью ухватились за возможность убраться с глаз ворчливого мастера,
а он остался с Ольгой Владиславовной, продолжая высказывать нелестное мнение
по поводу фантазий дачников, ничего не смыслящих в столярном деле.
На крыше было хорошо, голоса мастера почти не было слышно, мы пытались
забить гвозди и разговаривали на самые разные темы. Игорь Олегович рассказы¬
вал о Вологде, где прошли его детство и юность, о студенческих годах, о недав¬
нем набеге на расположенную неподалеку базу стройматериалов. Он так поразил
работников базы своей речью, что они решили, что он секретный проверяющий,
посланный к ним из самых высших эшелонов власти, и покорно повытаскивали для
него из своих тайников дефицитные стройматериалы.
Игорь Олегович всегда умел производить впечатление на людей самой разной
образованности и социального положения. Обычно после заседания кафедры мы,
молодые преподаватели, вместе направлялись к метро, обсуждая какие-то вопро¬
сы, связанные с работой или с тем, что происходило в стране. Очень часто к нам
присоединялся и Игорь Олегович. Однажды за нашей компанией увязался бой¬
кий молодой человек. Таких людей в начале перестройки появилось немало. Они
искренне верили, что наступающие времена позволят им в одночасье разбога-
Вечер второй. Университетская жизнь
125
теть, - главное проявить побольше напора и энергии. Молодой человек оживлен¬
но что-то рассказывал о своей фирме. Чем занималась фирма, мы так и не поняли,
но главная мысль заключалась в том, что дельные идеи могут приносить большие
деньги. Он даже привел в пример уборщицу, которая работала на фирме и в ка¬
кой-то момент сумела нетривиально взглянуть на ситуацию, дать дельный совет,
чем и принесла фирме колоссальный доход. Что это была за ситуация и какой со¬
вет дала уборщица, осталось без пояснений. Мы посмеивались и отпускали в адрес
молодого человека ироничные комментарии. Перед входом в метро наш спутник
решил покинуть нас, но на прощание он окинул всех взглядом и остановил его на
Игоре Олеговиче. «А вот вас, мужчина, - заметил молодой человек, - мы бы взяли
к себе на работу. Подумайте». Чем Шайтанов привлек внимание начинающего
капиталиста, было неясно. За всю дорогу он вроде бы не высказывал никаких гени¬
альных идей - вроде той, что прославила уборщицу и озолотила фирму.
В компании с Игорем Олеговичем всегда было легко и весело. Нина Павловна
Михальская, будучи хлебосольной хозяйкой, любила собирать у себя дома членов
кафедры по самым разным поводам. Игорь Олегович неизменно присутствовал
на таких собраниях, и именно он определял атмосферу застолья. Он рассказывал
о том, что происходило на тот момент в литературе, обсуждал последние поли¬
тические события, пересказывал забавные истории, которые случились с ним или
его знакомыми, или свежие анекдоты. Всегда это было весело и остроумно. Вместе
с тем происходящее за столом не превращалось в «театр одного актера». Игорь
Олегович не подавлял присутствующих, а, напротив, пробуждал желание вклю¬
читься в разговор, рассказать свою историю, вспомнить похожий анекдот. Все,
кому довелось побывать на этих встречах, до сих пор с ностальгией вспоминают
о них.
2016
Игорь Шайтанов. О друзьях и коллегах
Мой друг Саня Фейнберг
Давно уже кем-то сказано по поводу филфака МГУ, что редко в одном месте
встретишь так много людей, равнодушных к филологии. Сухая шутка, но есть в ней
смысл: многие годы на филфак шли по принципу - а куда еще? Место приличное,
даже престижное, книжки читают, языкам учат. Вот и воспринимали филфак как
лицей и в еще большей мере как институт благородных девиц.
Тем не менее филологам тоже порой удавалось поступить и даже закончить
факультет. Проходит несколько лет после выпуска, и, не встречая людей, начина¬
ешь встречать имена - под критическими статьями в журналах, в научных издани¬
ях, в качестве авторов и переводчиков книг. Печатаются многие, иногда кажется,
что чуть ли не половина заметных критиков и литературоведов - с филфака. Растут
репутации, множатся академические отличия, но остается счет, не знаю, гамбург¬
ский или нет, но тот - по юношескому, первому, как говорят, не обманывающему
впечатлению. Первоначальная шкала ценностей, возникающая на филфаковской
скамье, никогда не теряет силу, как запомнилось с тех пор, кто гении, а кто так себе.
На нашем английском отделении осенью 1965 года гением, вне спору, был
Александр Фейнберг-Самойлов. Так его, конечно, никто не звал. Звали Саней
Фейнбергом. Как только на первом же занятии он заговорил по-английски, стало
понятно, что его не с кем сравнивать, что его речь как-то глупо оценивать отмет¬
ками, - пусть перед вами не носитель языка, но носитель культуры, говорящий,
в общем, так, как может говорить хорошо образованный англичанин, у которого
к тому же есть чувство языка, замечательный языковой слух. Благодаря этому слу¬
ху, как потом оказалось, Саня что-то от месяца до двух входил в любой новый язык
и при, естественно, не слишком обширном запасе слов поражал точностью того,
что и как знал, пониманием целого. Счет языкам, которыми он занимался, терял¬
ся, ибо никогда нельзя было точно сказать, над какой грамматикой он просидел
последние две недели и на какую радиостанцию, испанскую, польскую или румын¬
скую, был настроен его приемник. Такой была его обычная метода: грамматика
плюс радио, ну и, конечно, книги по истории, географии, культуре.
Впрочем, книги он читал всегда и обо всем, поражая, как много он успел про¬
честь еще до университета, а вернее будет сказать, - понять. На удивление по
этому поводу Саня, даже если бывал польщен, чаще всего откликался ответным
Вечер второй. Университетская жизнь
127
удивлением. «Ты читал Ключевского?» - изумлялась очередная девочка, а он не
понимал, как Ключевского можно было не прочесть или не почитать, поступая на
филфак.
Я помню, на первом курсе он, смеясь, рассказывал о собственных утраченных
иллюзиях. Саня догадывался, по его словам, что и на самом престижном филоло¬
гическом факультете страны не будет последним учеником. Тогда ведь крестовый
поход в культуру не был объявлен, информационный взрыв не произошел и книж¬
ного бума не было. За копейки была доступна любая книга. «Литературные памят¬
ники» в теплое время выкладывали на столиках вдоль улицы Горького, надев на
них недавно отпечатанные яркие суперобложки, полагая, видимо, что не раскупа¬
ются они из-за невидных лягушачьих переплетов. Ключевский и Соловьев за бес¬
ценок предлагались оптом и в розницу. Да что говорить об этих недавних собрани¬
ях сочинений, если тома старых издании Карамзина или Голикова можно было по
случаю приобрести за какой-нибудь рубль. Мы на них натыкались, проходя обыч¬
ным книжным маршрутом. Сане они не были нужны, ибо стояли на полках домаш¬
ней рабочей библиотеки его отца - пушкиниста Ильи Фейнберга, автора широко
известной книги «Незавершенные работы Пушкина». По убеждению Ильи Льво¬
вича, унаследованному Саней, литература, в том числе и филологическая, хороша
в той мере, в какой она оправдана, напитана жизнью автора. В данном случае, увы,
это также оправдалось, «незавершенность работы» стала не только темой иссле¬
довательской, но и проблемой жизненной. Основным предметом чтения, разгово¬
ров, атмосферой этого удивительного дома была русская поэзия.
С порога вас спрашивали о ваших пристрастиях, о том, что читаете, что хоте¬
ли бы прочесть. Тут же предлагали книги. Помню, едва ли не в первый же визит
у меня в руках оказался пятитомник Хлебникова, первое издание «Опытов» Ба¬
тюшкова. От Ильи Львовича и Маэли Исаевны, также литератора, знатока поэзии,
было у Сани это врожденное и развитое чувство слова. Саня прекрасно понимал,
какую фору в виде семейной традиции получил по сравнению со своими сверстни-
ками-филологами. Сказать, что он никогда не кичился превосходством своего зна¬
ния, недостаточно. Это было не в его характере. Обладая знаниями, поражавшими
даже не своей огромностью, а своей точностью, своей оперативностью, он всегда
был рад сделать их полезными. На мгновение опешив от наивности вопроса, он
тут же давал любое ликбезовское разъяснение или - с тем большей радостью -
сложный совет, раздаривая то, что знал, нашел или, как он говорил, «придумал».
Он все время и всем рассказывал. Часами, вечерами, ночами напролет. Его невоз¬
можно было не слушать, ибо любой предмет становился увлекательным1. Наслу-
1 ЗинаидаЛуфт вспоминает: «Саня рассказывал нам с мамой, Нинель МихайловнойЛуфт,
в присутствии своего приятеля Л. Ильина-Томича о своих наблюдениях и открытиях в пуш¬
кинских текстах: о "потаенной любви Пушкина”, о "Евгении Онегине” (помню этюд о "Сне
Татьяны”), о математической выстроенности пушкинской композиции в целом ряде лириче-
128
Как было и как вспомнилось
шавшись, ему говорили: «Саня, запиши». Он смеялся, возмущался, что его хотят
впрячь в работу, будто то, что он уже сделал, и не было тяжелой, законченной и
потому столь легкой в его рассказе работой. Отнекиваясь, объяснял, что страдает
комплексом перфекционизма и хотел бы сразу писать хорошо. Ссылался на отца,
напечатавшего главную книгу к пятидесяти, пережив первый инфаркт, испугав¬
шись, что не успеет.
Саня трагически погиб в тридцать три. Большой работой, которую он писал -
по необходимости, оказался диплом о стилистической функции иноязычия в худо¬
жественном тексте. И за него никак не мог сесть, хотя задолго до того рассказывал
кусками - о Толстом, Джойсе, Т. С. Элиоте, Хемингуэе. Переводчица романа «По
ком звонит колокол», опытнейшая Н. Волжина, познакомившись с этим текстом,
сказала, что теперь перевела бы иначе. Эта работа пять лет спустя после Саниной
смерти вошла в сборник «Мастерство перевода». Н. Волжина и известный аме¬
риканист А. Старцев в небольшом вступлении писали: «Публикуемая статья, на¬
писанная в 24 года, - на стыке литературоведческих и лингвистических интересов
А. И. Фейнберга <... > имеет бесспорное значение для теоретических и практиче¬
ских проблем художественного перевода»1.
Эти проблемы Саня знал профессионально и изнутри. Он не хотел заниматься
переводом на русский язык, но на английский переводил: «Пиковую даму» для
себя, художественные тексты для журнала «Советская литература», научные -
для Восточной редакции издательства «Наука». Он долго готовился к тому, чтобы
начать писать. Обсуждал - как, рассуждал, почему откладывает, смеясь, повторял,
что его сравнивают с героем рассказа Моруа, якобы писавшим всю жизнь гениаль¬
ную книгу, но так ничего и не написавшим. В последние годы Саня начал спешить,
торопя к завершению сразу все замыслы, и Джойса, и Мандельштама, и несколько
пушкинских. Работал с карточками, на которых были не только выписки, но и на¬
броски текста, фрагменты.
Осталась большая картотека, но - по несчастью - в разных руках. Именно по¬
этому за него пытались уже дописывать: так появилась статья «Каменноостров-
ский миф» о Мандельштаме («Литературное обозрение», 1991, № 1). В ней -
замечательный материал по мысли, по догадкам, на который тут же обратили
внимание, широко ссылаясь. Мысли - с авторских карточек, но связующий текст
написан за А. Фейнберга после него. Даже введены сведения о работе, увидевшей
свет спустя несколько лет, после его смерти.
ских творений (в частности, "Пора, мой друг, пора!.."). О "Медном всаднике", о топографии
Петербурга в русской литературе. И еще о многом другом... Мне не раз доводилось слышать,
как Саня делился своими идеями и открытиями по Пушкину и в беседах по телефону с Ильи-
ным-Томичем, как, впрочем, не только с ним одним. Щедрый и доверчивый, он вообще не де¬
лал из своих работ секретов и с радостью делился с собеседником всем, что знал».
1 Мастерство перевода. Вып. 13. М.: Советский писатель, 1990. С. 249-250.
Вечер второй. Университетская жизнь
129
Критические красоты и уродства в дописанном тексте принадлежат тому сти¬
лю, который Саня любил пародировать: «...сочными красками живописует...»,
«...цепляет внимание костел Кваренги...», «Мандельштам - объективный лирик
и в прозе внепартиен и широк...». Многие так и пишут, но Саня ужаснулся бы,
увидев этот текст под своей фамилией. Тем более настоятельна публикация его
подлинных работ. В увидевшей свет посмертно небольшой книжечке «Заметки
о "Медном всаднике”» (блестяще изданной в 1994 году усилиями М. Фейнберг) -
часть оставшегося. Это два блока материалов. В основе одного - университет¬
ский диплом с добавлением двух не вошедших в окончательный текст фрагментов
о Джойсе и Набокове. Второй блок - пушкинский.
Прекрасно видно, насколько закончен, отработан в слове и прояснен до ма¬
лейших деталей бывал его текст. Саня любил кинематографическую метафору,
применяя ее к способности словесного образа давать изображение в динамиче¬
ской зримости. Статья о «Медном всаднике» строится на том, что в ней угады¬
вается голиковский подтекст, связующий государственную, петровскую Россию
с личной судьбой. Кто-то, быть может, скажет: давно известно, что конфликт
«Медного всадника» лежит в сфере столкновения личности с государством, и
остается решать лишь, к какому из двух полюсов смещает изображение и оцен¬
ку авторская точка зрения. Это так, если полагать делом исследователя редукцию
произведения к некой общей идее, перетягивая канат смысла от одной отвлечен¬
ности - «государства» - к другой - «личности». А. Фейнберг мыслил задачу ина¬
че: показать, как отвлеченности наполняются смыслом в кругу пушкинских ассо¬
циаций, его исторических размышлений, какими были точки соприкосновения
пушкинского опыта с сюжетом поэмы.
А. Фейнберга оставляли совершенно равнодушным отвлеченно идейные
изыскания, независимо от их идейной установки - марксистской, экзистенциа¬
листской или любой другой. Впрочем, не увлек его и порыв тогдашних архивных
юношей с их целью - во что бы то ни стало первыми найти и опубликовать. Это¬
го азарта он был лишен и любую находку считал пустой, пока она не поставлена
на свое место, не начала работать на смысл. Поэтому же так долго он оттачивал
каждый свой замысел, не довольствуясь яркостью догадок, пока они не стали не¬
обходимой деталью, оживляющей целое. Он начинал архивный поиск лишь после
того, как точно знал, что нужно искать. Невозможно сказать, когда он начал за¬
ниматься Пушкиным, поскольку вырос в атмосфере этих занятий, ежедневного
обсуждения того, что делал отец, что вообще делалось в пушкинистике. Записи их
разговоров на разные темы сохранились в архиве И. Фейнберга. Но он ссылался
на Саню и публично. Так, в 1969 году, выступая в Актовом зале МГУ и говоря
о проблеме реконструкции не дошедших до нас текстов, в частности - Гераклита, он
сказал:
130
Как было и как вспомнилось
Мой сын; студент-филолог, когда я с ним делился этими мыслями, верно
сказал, что не только дошли до нас мысли Гераклита, но можно надеяться, что
сохранилось самое главное и яркое, потому что то, что дошло, сохранилось, глав¬
ным образом, в цитатах у последующих писателей или в произведениях против¬
ников, которые полемизировали и при этом давали трибуну своему противнику,
скажем, тому же Гераклиту, цитировали с целью или превознести или с целью
опровергнуть его, приводя из него наиболее важное, наиболее яркое1.
Во время одной из наших первых встреч с А. Фейнбергом я услышал, что
у него есть идеи по поводу «Песен западных славян». Потом он оставил на вре¬
мя эту работу, поскольку его идеей воспользовался С. Бобров, в юности - поэт,
основатель вместе с Н. Асеевым и Б. Пастернаком футуристических групп, а в те
годы - известный стиховед, близкий знакомый семьи Фейнбергов. В его статье
о русском тоническом стихе есть такая сноска: «В заключение я хочу с благо¬
дарностью отметить, что на духовные стихи как на возможный источник литера¬
турного вольного стиха мне было указано М. Л. Гаспаровым, а также студентом
МГУ А. И. Фейнбергом»2. Саню огорчило, что идея - хотя и с благодарностью
ему - ушла. Впрочем, оставалось много других. Пушкинская лирика продолжала
его интересовать именно как единое целое, во всяком случае, как художественное
единство с общим для нее законом. По его мнению, творчески, и прежде всего
в лирических стихах, Пушкин компенсировал невозможность для себя вести от¬
кровенные личные записки. Несколько раз начинал их, уничтожал, - реконструк¬
ции их судьбы и сохранившихся частей посвящена одна из самых известных работ
Фейнберга-старшего.
Жизнь записывалась лирическим шифром. Сама по себе эта мысль не нова.
Понимаемая с прямолинейной последовательностью, она не раз бывала поводом
для неверных или курьезных биографических проекций в пушкинское творчество.
Получалось это всякий раз, когда пренебрегали сложностью пушкинского языка,
забывали, что главная загадка - сам этот язык. Если отнестись к пушкинскому об¬
разу как к досадному препятствию на пути к биографической тайне, то остается
одно - разбить образ, чтобы завладеть тайной. Разбить - удавалось, но и тайна
ускользала.
Саня любил пушкинскую метафору «магического кристалла» как образа ху¬
дожественного произведения. Он говорил, что, как и многое у Пушкина, ее нужно
понимать почти буквально, ибо образ у Пушкина всегда кристаллически струк¬
турен, и лишь вглядываясь в него, сквозь него, на его глубине можно различить
1 Стенограмма выступления в Актовом зале МГУ 8 июня 1969 г. // Фейнберг И. Читая
тетради Пушкина. М.: Советский писатель, 1985. С. 619.
2 Бобров С. П. Русский тонический стих с ритмом неопределенной четности и варьирую¬
щей силлабикой // Русская литература. 1968. № 2. С. 87.
Вечер второй. Университетская жизнь
131
подлинный проблеск документальной основы. Лет за пять до своей гибели Саня,
кажется, впервые сказал, привычно занижая важность дела сниженностью слова,
что «"раскатал” лирику Пушкина, но этого не расскажешь, нужно записать» и что
скоро он это сделает. Тогда покажет. В бумагах его отца сохранился листок, на
котором зафиксированы обсуждавшиеся ими Санины замыслы:
Саня. Цепочки
1) «Пора, мой друг, пора»
(Ы.В. Восп. вдовы Нащокина)
«Новоселье» («Домик малый»)
2) Д-Жуанский список.
Зизи и «Нина»
(«Зимняя дорога») Считалось, что к ней только то-то
3) Когда и почему П-н уничтожил т. наз. УШ-ю главу
«Е.О.» после восстания военных поселений.
4) Откуда взялся стих «Песен западных славян»
Духовные стихи. П-н и слепцы на ярмарке
в Святогорском монастыре.
5) Онегин о себе читает в «Евг. Онегине»
Цепочки! Я сразу вспомнил это Санино слово, говорившееся как раз в отно¬
шении лирики: возвращающиеся пушкинские темы, циклы стихотворений к не¬
скольким близким людям, разрушаемые нами из-за традиционно неверных атрибу¬
ций. Предстояло провести работу переатрибутирования. Пример ее - небольшая
статья о стихотворении «Пора, мой друг, пора!..», обращенном совсем не к жене,
а к П. Нащокину. Это фрагмент от общего исследования пушкинской лирики.
В его бумагах сохранился список стихотворений Пушкина, которыми он занимал¬
ся, собираясь охватить единым исследованием.
Он полагал, что существовала «потаенная любовь», хотя тыняновской, как и
никакой другой, версии не разделял. Считал, что это была какая-то близкая Пуш¬
кину женщина, которую он знал еще до ссылки, по Петербургу, и которая умерла
в его отсутствие. У А. Фейнберга были какие-то весьма смутные, насколько по¬
нимаю, догадки. В связи с одной из них он еще году в 1972-м просил меня посмо¬
треть, что есть в Вологодском архиве о вологодском, архангельском и олонецком
генерал-губернаторе А. Клокачеве. Наш последний и самый подробный разговор
по всему кругу его пушкинских занятий произошел зимой в начале 1978 года. Речь
шла о лирике, но особенно подробно о «Маленьких трагедиях» и «Онегине».
И в том, и в другом случае его занимала объединительная идея и способ ее вопло¬
щения, то есть не концептуальный тезис, существующий над текстом и отдельно
от него, а тот принцип единства, который позволил бы войти в текст, «раскатать»
132
Как выло и как вспомнилось
его. Поэтому его собственная речь практически невоспроизводима по памяти.
Это был многочасовой монолог-реконструкция, прерываемый моими вопросами
или сомнениями.
В связи с «Маленькими трагедиями» он развивал фактически одну мысль,
подробно иллюстрируя ее текстом, - о выборе Пушкиным эпох, представляющих
историю человечества в Новое время. Смена типов и ситуации. Звучало, как всегда
в его исполнении, красиво и убедительно. Я усомнился в новизне мысли. Саня го¬
ворил, что самым важным будет ее доказательство, применение и что сама работа
еще далека от завершения, не вполне продумана1.
Более всего речь в тот вечер шла об «Онегине». Ключом к нему А. Фейнберг
считал пушкинскую фразу о том, что «единый план “Ада* есть уже плод высокого
гения».
«Онегин», он утверждал, задуман по преднамеренно аналогичному плану,
организован по законам числовой символики, одно из проявлений которой - рас¬
чет времени по календарю. Первоначально сходство должно было быть еще боль¬
шим: в частности, число глав романа девять - кратное трем. Когда, по цензурным
причинам, этот первый цикл был разрушен, роман оказался обреченным на неза¬
вершенность. Сюжетная незавершенность не входила в замысел. Была нарушена
и структура «магического кристалла», а она подразумевалась. Саня даже графи¬
чески пытался проиллюстрировать это рисунком кристаллической композиции
«Онегина». Сходное тому, что слышал я, слышали и другие, есть свидетельство,
зафиксированное печатно - в книге Сергея Иванова «Утро вечера мудренее»:
Пушкин тяготел к математической точности, к архитектурной стройно¬
сти композиции и приемов, к изящной и неожиданной симметрии. Недаром он
считал гениальным один лишь план Дантова «Ада». Покойный друг мой Саня
Фейнберг, талантливый исследователь Пушкина, указал мне однажды на то, что
сон Татьяны содержит в себе не отрывочные предсказания, а все развитие собы¬
тий, связанных с судьбой героини, только развернутое в обратном порядке, в по¬
рядке зеркальной симметрии. Все начинается с замужества, с медведя-генерала,
и кончается трагической гибелью Ленского, которая в действительности проис¬
ходит первой. Пир же чудищ - это поминки по Ленскому, устроенные, согласно
плану сна, перед его гибелью2.
Это полностью соответствует тому, что слышал я. Добавлю лишь, что особен¬
но А. Фейнберг подчеркивал двойной смысл медведя - и генерал, и жених, срав-
1 Статья, подробно разрабатьюающая сходную идею, появилась лишь спустя 20 лет после
того, как эта мысль была высказана А. Фейнбергом. См.: Беляк Н. В., Виролайнен М. И. «Ма¬
ленькие трагедии» как культурный эпос новоевропейской истории (судьба личности - судьба
культуры) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIV. Л.: Наука, 1991.
2 Иванов С. Утро вечера мудренее. М.: Детгиз, 1983. С. 155.
Вечер второй. Университетская жизнь
133
нивал с некрасовским «Генералом Топтыгиным», которому хотел посвятить от¬
дельную работу.
Существующие вслед пушкинскому указанию попытки рассчитать время
«Онегина» по календарю А. Фейнберг считал неудовлетворительными. Говорил,
что они целиком состоят из натяжек и неточностей или исходят из какой-либо
ложной посылки. Отвергал мнение, что пушкинское указание нельзя понимать
буквально, будто он далеко не абсолютно точен.
Мысль о пушкинской неточности была для него совершенно неприемлемой.
Если праздничные дни не совпадают с датами, значит, мы берем не тот год, кото¬
рый в данном случае подразумевается действием. В отличие, скажем, от позднее
появившегося комментария Ю. Лотмана, где как раз пятая глава дает повод усо¬
мниться в точности календаря, А. Фейнберг полагал, что именно эта глава - клю¬
чевая для всей хронологии. Был и свой план разработки и истолкования маршрута
онегинского путешествия, включающего и военные поселения, и заграницу. Это
было путешествие, которое сам Пушкин мог совершить лишь мысленно, он его
передал герою. Вообще в романе, по мысли А. Фейнберга, необычайно важен и
далеко не во всей его структурной новизне понят параллелизм героя и автора, их
зеркальность и зазеркальность, возможность их существования внутри романа и
вне его.
В записях Фейнберга-старшего по этому поводу есть одна строчка: «Онегин
о себе читает в “Евг. Онегине"». Это конспект мысли о том, что Онегин, возвра¬
щающийся в Петербург, может прочесть первые главы романа о себе, в то время
как последующие еще пишутся.
Такое переглядывание автора и героя предполагается структурой магическо¬
го кристалла. А. Фейнберг не раз говорил о «сюрреалистичности» «Онегина»,
подразумевая способность проникать в иную реальность, творить ее и сквозь нее
прозревать документальную основу исторического или биографического матери¬
ала. Для сравнения возникало имя Джойса, который начинал мифологизировать
всегда в очень узком и локализованном пространстве и времени сюжетного собы¬
тия.
На вопрос, не преувеличивает ли он, А. Фейнберг убежденно говорил, что
Пушкин очень далеко забежал в наш век. Многие его вещи написаны по закону
закрытой смысловой структуры и не допускают далее своей поверхности. К се¬
редине 1830-х годов Пушкин понял, что переоценил способность читателя к де¬
шифровке и, как бы в опровержение самого себя, написал плоскостную, открытую
вещь - «Капитанскую дочку».
Понимаю, что хочется слышать более развернутую аргументацию к этим
интригующим наблюдениям, но что делать, если единственный жанр, в котором
многое может быть представлено, - воспоминание о ненаписанном, о слышанном
более десяти лет назад. Ведь тогда была убежденность, что вот-вот мы будем об-
134
Как было и как вспомнилось
суждать текст... Саня говорил, что он готов написать, хотя еще чаще повторял,
что не знает - зачем. Печатать его здесь он не намерен и не позволит, ибо кто
ему поручится, что в этом же номере журнала не окажется коллективное письмо
писателей в поддержку чего-нибудь или с осуждением кого-нибудь. В этом слу¬
чае он тоже окажется соучастником. На эти темы, к сожалению, мы говорили куда
чаще, чем о Пушкине, и все чаще не понимали друг друга. Я считал, что единствен¬
ный логический вывод из его принципиального неучастия - уехать или, оставаясь,
оградить себя своим делом. Уезжать он категорически не хотел, хотя, разумеется,
с его знанием языков внешних препятствий быть не могло.
...В Саниной библиотеке с детства были «Три толстяка», подаренные авто¬
ром: «Дорогому Саше Фейнбергу с пожеланием хорошо расти, хорошо учиться и
добиться в жизни выдающихся успехов - от автора - Юрий Олеша. 1956 г. 27 сен¬
тября. Переделкино, близ Москвы». Есть нечто небанальное в этой надписи, сде¬
ланной для девятилетнего мальчика, в котором, видимо, было что-то, заставившее
предположить закономерность выдающихся успехов. Для тех, кто знал Алексан¬
дра Фейнберга позже, эта закономерность была непреложной.
1993
Свобода быть собой
Нина Павловна Михальская
Если начать воспоминания как полагается, - с первой встречи, то она слу¬
чилась где-то весной 1970-го. Я писал диплом в МГУ по современной англий¬
ской драматургии, понимая, что пойти в аспирантуру ни к Р. М. Самарину, ни
к В. В. Ивашевой и не могу, и не хочу, - это другая история. Стоило ли завязать
контакт с кем-то еще?
Думая о МГПИ им. Ленина, как тогда назывался главный педагогический ин¬
ститут, я надеялся, что можно будет обратиться к Борису Ивановичу Пуришеву
с Шекспиром. Кафедрой заведовала Нина Павловна Михальская, и, с тем чтобы
показать, что делаю, и познакомиться, я договорился с ней - принести диплом,
когда он будет готов. Диплом ей понравился, она предложила эту тему продол¬
жить. Материал был собран большой, и работал я увлеченно, но защита отбила
у меня всякую дальнейшую охоту: профессор Ивашева (отношения с которой
к этому времени у меня совсем скисли - я не приходил, не советовался, не выка¬
зывал интереса к обостренной классовой борьбе и поступательному движению ан¬
глийской литературы в сторону соцреализма, не разоблачал тех, кто с этого пути
сошел или на него не встал) устроила мне идеологическую выволочку, так что пред-
Вечер второй. Университетская жизнь
135
седатель комиссии, приглашенный со стороны и мне лично не знакомый М. В. Ур¬
нов, изумленно встал на мою сторону, не будучи в курсе университетской закулисы.
Тогда-то - уже в июне - в широком вестибюле педагогического института,
под его вознесенным стеклянным куполом, у меня и произошел разговор с Ниной
Павловной о возможной теме диссертации - на будущее, так как в МГУ необхо¬
димой рекомендации в аспирантуру я не получил и, следовательно, не мог туда
поступать, кажется, три года. Отказавшись продолжать начатое, я предложил -
современный детектив. Для 1970 года это было явно недиссертабельное предло¬
жение, а вдруг? Меня увлек этот формализованный англосаксонский жанр сам по
себе, но еще более в своей проекции внутри большой литературы в качестве пове¬
ствовательного приема. Это и раздражало руководителя моих студенческих работ
о романах Уилки Коллинза, о политических детективах Грэма Грина - Ивашеву.
Нина Павловна умела быть и часто бывала категоричной, но (это я узнал
потом, а впервые увидел тогда) предпочитала услышать нужный аргумент про¬
звучавшим со стороны - голос научной общественности, чтобы поддержать его.
К тому же в тот момент к нам подходил лучший из представителей этой обще¬
ственности - Борис Иванович Пуришев, признанный учитель и авторитет среди
литературоведов-западников Москвы, духовный воспитатель аспирантов на кафе¬
дре МГПИ, где он нашел для себя спасительную нишу (видный германист, он по¬
бывал в Германии лишь во время войны - попав в плен).
- Борис Иванович, вот молодой человек прикрепляется к нашей кафедре и
хочет писать о детективе. Скажите, Борис Иванович....
- Это как-то сомнительно, стоит ли? Сама тема вызовет затруднения.
Не скажу, что я понял тогда значение такого сомнения, но в нем обозначалась
позиция кафедры в том виде, как ее выражали Пуришев и Михальская: не делать
резких движений, не нарушая безусловных запретов, доходить до предела допу¬
стимого, постепенно расширяя эти пределы. В 1970-е годы это уже не таило смер¬
тельной опасности, но для обоих такая опасность была слишком памятной.
В общем, получив ожидаемый отказ, я тогда извлек запасное предложение,
которое надумал как компромисс между современностью и Шекспиром, - исто¬
рические драмы Бернарда Шоу. На том и порешили. Эту диссертацию я и защитил
спустя 5 лет.
Первые мои шаги на новой кафедре и первые на ней выступления были не без
серьезных шероховатостей - здесь знание того, что Энгельс сказал о Бальзаке, и
всего в этом духе предполагалось более твердым и пространным, чем в МГУ. Еще
была жива старая советская профессура во главе с М. Е. Елизаровой, от которой
Михальская приняла кафедру. Так что пришлось научиться избегать канонических
тем и несокрушимых идеологем.
Защита диссертации прошла успешно с некоторым нарушением дозволенно¬
го, благодаря не мне, а второму оппоненту - Урнову-сыну (он будет оппонировать
136
Как было и как вспомнилось
и на моей докторской, так что все три защиты, начиная с диплома, у меня состо¬
ялись при участии этой литературоведческой династии). Дмитрий Михайлович в
своем отзыве в качестве критики счел, что я недостаточно остановился на мнении
Георга Лукача об историческом жанре. Недостаточно?! Спасибо, что вообще это
тогда запретное имя было дозволено упоминать и сказать о его знаменитой (вуль¬
гарно) социологической теории. Урнов же взял и обострил тему в отзыве. Мне
заранее было сказано: про Лукача не отвечать. Но Урнов - в тогда очень идеоло¬
гически ортодоксальном совете МГПИ, - взойдя на трибуну, заявил, что отзыв
прилагается, он безусловно положительный, а говорить он будет о Лукаче. И что
же делать? Получаю записку от Нины Павловны: «Отвечайте о Лукаче». Я и от¬
вечал, так что совет настороженно проснулся в ожидании - как бы чего не вышло.
Но ничего не случилось, все-таки на дворе были - семидесятые. Все поздравили
с нетривиальной защитой.
Я вспоминаю те старые обстоятельства академической жизни, чтобы сказать,
как эта жизнь была устроена Ниной Павловной на подвластной ей территории.
Существовали общие правила и запреты, время для которых проходило, но кто-то
должен был почувствовать это первым и взять на себя определенную смелость -
раздвинуть границы. На кафедре зарубежной литературы МГПИ это делалось при
общей, повторю, крайне ортодоксальной атмосфере данного педагогического за¬
ведения. И атмосфера на кафедре была другой, чем в МГУ: там во главе стояли за-
претители (хотя общий состав кафедры был куда более затронут вольномыслием),
а здесь у руля были две личности, каждая по-своему пользовавшаяся и уважением,
и - без преувеличения - любовью.
Здесь проходили удивительные заседания кафедры, на которых все аспиранты
должны были высказаться. И это не казалось в тягость. Это был, как сейчас бы
сказали, «диалогизм», живая разговорная атмосфера. И создавала ее прежде все¬
го Нина Павловна, которая при неизменной твердости своей линии, прежде чем
принимала решение, хотела, чтобы решение разнообразно обсуждалось и было
понято всеми. Ей как-то удавалось обособить разговор на кафедре от общей иде¬
ологической атмосферы, во всяком случае от тех структур и авторитетов, которые
этот интерес должны были подсушивать, сужать или вводить в какое-либо русло.
Все было человечнее, а в силу этого свободнее. Свобода эта шла не от того, что
проговаривались какие-то диссидентские или дерзкие идеи, этого никогда по сути
дела не было. Я помню, как кто-то из заезжих аспирантов упомянул имя неупоми-
наемого Оруэлла, повисла пауза, а Борис Иванович спросил: «А кто это такой?»
Защитная реакция: давайте не будем этого касаться, потому что и в пределах тех
тем, которые допустимы и возможны, есть много увлекательного, интересного и
того, что мы можем обсудить и где мы имеем полное право, не выходя на какую-то
опасную грань, многое сказать и сделать.
Вечер второй. Университетская жизнь
137
Занимался я разными вещами и не был сосредоточен на одном академическом
интересе, работал как критик современной литературы. Кафедра к этой широте
располагала, она была действительно культурным центром, где Нина Павловна
многим подсказала какие-то новые возможности работы. Так, она предложила,
чтобы я читал какой-то совершенно необязательный по программе курс по истории
филологической мысли, а позже - уже в ранние времена перестройки - настояла,
чтобы каждый преподаватель организовал вокруг себя студенческое объединение,
«проблемную группу». Там у меня началось общение с немалым количеством тех,
чьи имена сегодня достаточно известны в филологии или в критике.
Вспоминая Нину Павловну, я могу сказать, что в несвободные времена она
создала нишу, где можно было заниматься своим делом. Она всегда была сама со¬
бой и ценила это в других. А для меня - это уже за пределами общей работы -
на долгие годы ее дом на набережной Москвы-реки возле Смоленской площади
(в этих местах прошла вся ее жизнь коренной москвички) стал местом очень па¬
мятных и дорогих дружеских встреч.
2009
Поверх запретов
О Галине Андреевне Белой
В конце 1970-х - начале 1980-х годов ко мне (а я тогда преподавал в Москов¬
ском государственном педагогическом институте) время от времени подходил
кто-нибудь из студентов и отпрашивался с семинара по Шекспиру или с лекции по
мировой литературе. Причина более чем уважительная: Галина Андреевна Белая
в те же часы читала на журфаке МГУ о Бабеле или Мандельштаме... Тогда само
упоминание этих имен было в новинку, а подробный разговор об их судьбе - сме¬
лостью. Люди постарше и поосторожнее спрашивали друг друга: «Кто ей позво¬
лил?» - а если никто не позволял, то: «Почему она не боится?» Всем нельзя, а ей
можно, все боятся, а она... Кто-то строил догадки или даже пускался в подозрения.
Тогда я знал Г. Белую достаточно отдаленно - встречал у общих знакомых.
Познакомились ближе летом 1991-го в Переделкине, когда произошел такой раз¬
говор. Я ждал у телефонной кабинки Дома творчества писателей. Из нее вышла
Белая и сказала: «Мне только что предложили сделать филологический факультет
в новом университете - в Российском гуманитарном, у Афанасьева. Приходите ра¬
ботать». Не сразу, но я пришел на факультет и тогда понял, что не бесстрашие -
самая отличительная черта Галины Андреевны. Скорее - вера в то, что многое воз¬
можно поверх существующих запретов и препон. Она сомневалась, колебалась, но
138
Как было и как вспомнилось
лишь до того момента, как решение бывало ею принято. Перед ее убежденностью
и обаянием открывались кабинетные двери, подписывались документы, на кото¬
рых она настаивала.
РГГУ был задуман как образец демократического порядка в сфере образова¬
ния. В этом смысле трудно вообразить более показательное место, чем кабинет
Белой. Дверь из него на протяжении многих лет открывалась прямо в коридор. Он
всегда был полон людей и идей.
Студенты здесь были столь же желанны, как слависты со всего мира, как уче¬
ные и писатели. Факультет отвечал взаимной любовью. День рождения декана
(совпадающий с лицейской годовщиной -19 октября) праздновался как день фа¬
культета.
Факультет рос на глазах, прирастая все новыми отделениями, пока не сделался
автономным внутри РГГУ Институтом истории и филологии во главе с Галиной
Белой. Она - первый декан и первый директор. Десятки новых специальностей,
проектов, конференций, на которые съезжались - и теперь по уже установившей¬
ся традиции съезжаются - филологи со всего мира, были обязаны ее созидатель¬
ной силе. К ней тянулись, за ней шли.
Было непонятно лишь, когда писались многочисленные статьи и книги, со¬
ставлялись антологии по культуре XX века и по 1920-м годам, которые были сфе¬
рой узкой специализации Г. Белой. Она продолжала писать в последние месяцы
тяжелейшей болезни, между больницей и приездами в университет буквально из-
под капельницы.
Все, чем она занималась, в особенности в последние годы, было обращено
к пониманию того, что с нами происходит сегодня, каким образом и какие родо¬
вые пороки нашей истории мы изживаем. Причину сегодняшнего противостоя¬
ния Белая видела в том, что едва ли не при начале русской культуры ее расколола
все углубляющаяся пропасть между культурой дворянства и крестьянства. Плоды
просвещения оказались оторванными от национальной почвы (и недоступными
ей). Так или иначе трансформированным, этот конфликт сопутствует истории
России.
Более всего Белую интересовала личность, потому что ее увлекали люди. Раз¬
ные люди, которым она не спешила выносить приговор, так как была убеждена,
что приговор в конечном итоге каждый выносит себе сам, определяя свою судьбу.
2004
Вечер второй. Университетская жизнь
139
«Моя домашняя библиотека всегда была рабочей»
Беседу с Игорем Шайтановым вел Леонид Клейн
- Игорь Олегович, чем отличается функция домашней библиотеки сегодня
и, скажем, двадцать лет назад?
- В советские времена домашняя библиотека была своего рода алтарем, чем-
то священным, неприкасаемым. Впрочем, для меня так никогда не было, моя би¬
блиотека была всегда рабочей. Отличие святого от рабочего очень простое: оно
определяется тем, готовы ли вы продавать свои книги. Я постоянно, раз в год, при¬
глашал к себе знакомого букиниста, который чистил мою библиотеку.
- Как создавалась ваша библиотека?
- Мне повезло. У меня изначально соединились две библиотеки, кроме той,
которую я создавал сам. Две профессорские библиотеки. Собрание книг моего
отца, литературоведа-западника, и моего тестя - Владислава Николаевича Афана¬
сьева, у которого была фантастическая библиотека. Он был знаменитый специа¬
лист по началу XX века, автор первых в Советском Союзе книг о Куприне и Буни¬
не. То есть когда я получил книги - первые издания Серебряного века, то с этим,
естественно, было больно расставаться. Тем не менее я постоянно продавал самые
разные книги, так как прекрасно понимал: моя небольшая квартира не вмещает
в себя библиотеку больше 10 тысяч экземпляров. Кроме того, мои интересы по¬
стоянно менялись. Скажем, Пушкиным и Шекспиром я занимаюсь постоянно, но
вот когда-то я написал книгу об Асееве. Понятно, что после того, как работа за¬
вершена, мне уже не нужны были, скажем, 200 книг об этой эпохе, прежде всего
потому, что они в большинстве своем очень плохие.
- Но, наверное, покупать книги все-таки приятней, чем продавать?
- Конечно. Самая большая роскошь - это попасть на распродажу личной
библиотеки. Я, например, был одним из первых покупателей собрания книг Ка¬
таняна. Библиотека Катаняна - в нее вошли библиотеки Брика и фольклористов
Соколовых. Чего там только не было! И распродавалось, с точки зрения сына Ка¬
таняна, то, что было самым неценным и ненужным. Весь основной блок русского
авангарда он оставил. Но, например, книги о Тютчеве он продавал. Книги начала
XX века, малотиражные сборники, мурановские издания. Первое издание Аксако¬
ва о Тютчеве.
- Значит, все-таки у вас отношение к книге не чисто функциональное?
- Я бы сформулировал это так: функционально-рабочее с небольшим эле¬
ментом коллекционерства. Я собирал книги идательства «Academia», но только
в очень хорошем состоянии. У меня несколько десятков книг «Академии», в ос¬
новном мемуары.
- Таким образом, есть некий пласт книг, которые вы не будете продавать?
140
Как было и как вспомнилось
- Да. Есть элемент коллекционирования. Скажем, серию «Литературные
памятники» я перестал покупать сплошняком. Это перестало быть интересным
после советских времен. Ну, если только что-то редкое или в сказочном состоя¬
нии, в суперобложке, в нетронутом виде. Это оборачивается в кальку, это не да¬
ется на вынос. Или у меня остались в хорошем виде все сборники Зинаиды Гип¬
пиус до 1918 года. Редкие книги. Я не большой поклонник Зинаиды Гиппиус,
но с поэтическими сборниками в хорошем виде у меня не подымается рука рас¬
статься.
- Если мы говорим о продаже и покупке, давайте коснемся денежной стороны
этого процесса. Мы можем вспомнить финансовую ситуацию советского времени?
Сколько стоили книги?
- У меня был все время оборот книг, поэтому небольшая часть денег шла на
покупку. Библиотека - и это один из принципов настоящего, даже полупрофесси¬
онального собирателя книг - библиотека должна себя кормить.
- Давайте назовем конкретные цифры, цены.
- Дорогой «Литпамятник» начинался с 20-25 рублей. «Академию» в безу¬
пречном состоянии в букинистическом магазине купить было невозможно. Я при¬
обрел это все в частных библиотеках. Это стоило приблизительно 25-30 рублей.
То есть цены были странные. Потому что, например, за «Литпамятником», ска¬
жем, за томом Эдгара По, гонялись все - он стоил 25 рублей...
- Его в принципе можно было купить в магазине?
- Нет. В магазине можно было купить книгу только за те деньги, которые
были на ней написаны, например, за 1 рубль 70 копеек. Поэтому их туда не сда¬
вали. Книги приобретались в букинистических, по знакомству или у «холодных
букинистов».
- «Холодный букинист» - это термин?
- Да, конечно. Это термин того времени: человек, который продает книги
около магазина. Но я знал асов букинистического дела. Это были не просто про¬
давцы, это были книжники, настоящие знатоки книги.
- Если говорить о ценах, то в последние советские годы возникли «обменники»
и коммерческая торговля, когда вы, сдавая книгу, ставили свою цену. Но это уже
середина - конец 80-х...
- С ценами вообще была очень странная ситуация. Модные книги, которые все
хотели иметь, чтобы поставить на полку, - Пастернак и Цветаева (в серии «Биб¬
лиотека поэта», синее издание) - стоили по 100 рублей. Булгаков стоил 50 руб¬
лей. А «Академия», где тираж был от 3 до 5 тысяч, причем они были зачитаны до
дыр и хороших экземпляров сохранились единицы, так вот, они стоили дешевле
примерно в два раза. И можно было прижизненные сборники Пастернака поку¬
пать в «Доме Книги» на Арбате. И это стоило дешевле, чем «Библиотека поэта».
- А какая была ситуация с иностранными книгами?
Вечер второй. Университетская жизнь
141
- Иностранные книги продавались только на Качалова (специальный мага¬
зин зарубежной книги), там был очень маленький выбор. Были какие-то хиты, ка¬
кой-нибудь современный модный роман. Его все хотели. Но когда распродавалась
личная библиотека, то часто продавец говорил, указывая на иностранные книги:
«Господи, сколько непродажных книг». Продать их было практически нельзя
просто потому, что не было покупателей. Я помню, что викторианские книги сто¬
или копейки - 3-4 рубля. Я помню, один раз 10 рублей стоила английская книга
конца XVII века! Причем ее никто не брал - просто не было покупателя.
- Сегодня вы покупаете меньше книг?
- Да. Я не приобретаю больше коллекционных русских книг. Если только слу¬
чайно у меня не было какого-нибудь первого издания. Например, «Архаисты и
новаторы» Тынянова - я ее недавно купил. Книга стоила 300-400 рублей, то есть
сопоставимо с ценами на современные издания. Тексты у меня есть, но мне прият¬
но, что книга стоит у меня на полке, хотя бы во втором ряду.
- В советское время если человек покупал книгу - он знал, что в ближайшие 5-10
лет она переиздана не будет, и поэтому в том числе ее необходимо иметь дома?
- И да, и нет. Я помню, что когда впервые вышел Тынянов («Пушкин и его
современники») в 1968 году, то не менее 5 лет он продавался во всех магазинах.
Конечно, Бахтина уже расхватывали, потому что это стало очень модным. Эйдель¬
мана вообще купить было невозможно. Но в целом вы правы - книги раскупали,
потому что понятно, что потом их купить будет негде - только у букиниста. Если
человек на свои деньги должен покупать книги у букиниста, то это оказывалось
очень дорого. Зарплата доцента, кстати, была очень приличная по тем временам -
320 рублей. Купить за 1 рубль 70 копеек - это одно, а за десять рублей - это уже
дорого. Дорогая книга начиналась с 20 рублей.
- Библиотека ведь была еще и способом вложения денег, то есть ее в случае необ¬
ходимости можно было продать.
- Такая идея, конечно, витала, и люди продавали свои библиотеки. Но все пре¬
красно понимали, что если ты начинаешь продавать в тот момент, когда тебе нуж¬
ны деньги, то ты продаешь за одну пятую реальной цены. Продавать нужно тогда,
когда возникает покупатель.
- В любой интеллигентской библиотеке того времени был еще всегда политиче¬
ский подтекст.
- Разумеется. Вообще, читать запрещенные книги - это была такая приманка.
К каждому интеллигентному человеку в тот или иной момент подходили люди из
КГБ и делали какое-нибудь предложение. Помню, это был год 1979-й или 1980-й.
Очень вежливый человек меня пригласил в гостиницу «Россия». И со мной очень
корректно беседовали и говорили, что иногда нужно написать письмо от литера¬
тора к литератору и что «мы тоже можем вам быть полезны - например, у нас есть
много книг, которые нельзя читать, но вам будет можно». На что я тогда ответил:
142
Как выло и как вспомнилось
«Вы знаете, я положил себе за правило читать только книги, выпущенные изда¬
тельствами "Художественная литература” и "Советский писатель”».
- Они отстали?
- Да. Мне пару раз делались подобные предложения, но у меня никаких пре¬
тензий к ним нет. Со мной были вежливы и ненастойчивы: не за что было заце¬
питься, я не был замечен ни в какой подозрительной деятельности.
- А у вас были запрещенные книги?
- Дома всегда были тексты, которые ты берешь читать у кого-то. Солжени¬
цын, Пильняк, Зиновьев. Но я их специально не держал.
- Появление Интернета не обрушило идею домашней библиотеки, не девальви¬
ровало ее?
- Интернет изменил отношение к книге. Но он изменил, не уничтожив ее.
Когда я впервые, в 1994 году, стал работать постоянно с компьютером, то пару
лет я книжек не читал, а потом все вернулось на свои места. На днях мне расска¬
зали историю, что дети 8-9 лет не умеют переворачивать страницы книг, то есть,
возможно, на наших глазах вырастает компьютерное поколение. Конечно, что-то
изменилось. Хорошо, что больше не надо на машинке набирать студентам шекспи¬
ровские тексты. Но сам я художественные тексты с экрана не читаю никогда. Для
меня это дико. Я пользуюсь компьютером, но читаю - книгу.
- Назовите, пожалуйста, самые дорогие, самые ценные книги вашей библио¬
теки.
- Например, первый сборник стихотворений Бальмонта, изданный в Ярослав¬
ле в 1890 году, это и страшно редкая, и довольно дорогая книга. Или вот, напри¬
мер. Однажды я зашел в книжный магазин на Калининском проспекте. Было это
в 1983 году. Я увидел сборник Николая Асеева «Бомба», изданный в 1921 году во
Владивостоке и полностью уничтоженный в типографии. Известно 7 или 8 книг
с автографами Асеева, все остальное было уничтожено по политическим причинам.
Книга стоила 17 рублей 50 копеек. Между прочим, когда я покупал этот сборник,
рядом со мной человек покупал «Стихотворения» Анны Ахматовой 1946 года.
Весь тираж, как известно, ушел под нож после ждановского постановления. Цена
была 25 рублей. Эта книга у меня тоже есть дома. Можно назвать еще «Опыты»
Батюшкова 1817 года, кое-что еще...
- И последний вопрос. Существуют ли сейчас люди, которые занимаются соби¬
ранием книг?
- Те, кого я знал, либо состарились, либо обеднели. И многие вынуждены не
собирать, а продавать книги. Мне говорили, что есть новые коллекционеры, но,
возможно, к ним можно отнести следующее выражение: «Покупать профессор¬
скую библиотеку на погонные метры». Это уже совсем другой подход к книге.
2005
ВЕЧЕР ТРЕТИЙ. СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И СОВРЕМЕННАЯ КРИТИКА
«Какая же это критика? Это Хемингуэй!»
Беседу с Игорем Шайтановым вели Елена Луценко и Сергей Чередниченко
- Игорь Олегович, вы часто вспоминаете про семинары молодых критиков в Ко¬
марове, Малеевке и Дубултах, с которых начинался ваш путь. Теперь уже мало кто
помнит о тех событиях.
- Да, людей, с которыми я больше всего общался там, нет уже в живых. Не
только руководителей, но и тогдашних семинаристов: Саня Лурье, Саня Панков,
Гога Анджапаридзе... Очень разные люди. Список только стоит начать.
- Мы немного опоздали...
- Лурье два года назад умер. Г ога - лет десять, Панков в 95-м...
- Игорь Олегович, а вы помните первые семинары ?
- Для меня началось так. Все съехались в ноябре 1971 года в Комарове, ка¬
жется, на неделю. Мы прибыли ранним поездом с критиком Василием Оботуро-
вым (его тоже нет в живых) из Вологды. Он писал только о вологодской школе и
очень ревниво оберегал свою территорию, на которую я совершенно не посягал.
Вышли к завтраку, часам к девяти, в холл. И там вижу такую сцену. Сидит человек
в шубе, даже не из XIX, а из XVTII века. Пожилой господин с тростью, на которую
опирается обеими руками. Картинный боярин, хоть прямо на картину Сурикова.
А перед ним стоит молодой человек, гибкий, подвижный, как будто всем телом
следует за каждым своим словом (передаю, конечно, только смысл той беседы):
«Но вы понимаете, Рубенс - это ведь цветущая плоть, а в то же время - барокко.
Как совместить цветение плоти и барокко с его пристрастием к смерти?» Госпо¬
дин в шубе парирует: «А вы всмотритесь в полотна Рубенса, в этой плоти уже про¬
ступает зелень» (смеется). Через несколько часов знакомлюсь с молодым челове¬
ком - Самуил Лурье.
Спрашиваю его, с кем он беседовал утром, оказывается - Александр Антоно¬
вич Морозов - специалист по барокко и по пародии. В 30-м, по-моему, году вышла
его книга - с Бегаком и Кравцовым - о русской литературной пародии, она у меня
есть. А потом он был знаменит тем, что написал книжку о Симплициссимусе, она
целиком вошла в том серии «Литературные памятники».
Лурье, хотя и был в быту Саня, всегда представлялся своим паспортным име¬
нем и часто с отчеством - Самуил Аронович. Позже мне объяснил: чтобы анти-
144
Как было и как вспомнилось
семитов не сбивать с толку. А вообще-то на тех по-молодому вольных семинарах
мы трое - Лурье, я и Валентин Курбатов, - хотя и составляли тесную дружескую
компанию, обращались друг к другу подчеркнуто на «вы» и часто по имени-отче¬
ству. С Лурье мы перешли на «ты» много лет спустя. Он сказал: «Слушайте, мы
столько лет дружим... »Ас Курбатовым и до сих пор всегда «вы» и преимуще¬
ственно - Валентин Яковлевич.
-Ano какому принципу вас поделили в разные семинары?
- Жесткого принципа не было. Летом вышло постановление ЦК КПСС
о критике. Союз писателей РСФСР решил откликнуться сразу. Кинули клич при¬
слать молодых критиков. Поэтому мы и приехали... Среди «молодых» из Вологды
прибыли Оботуров, которому тогда было за тридцать (казался старше), и я в свои
24 года. Такой был разброс по летам и по опыту. У кого-то, как у меня, - первые
газетные рецензии, у кого-то - книги и если еще не докторские степени, то кан¬
дидатские. По стечению обстоятельств по крайней мере двое оказались специа¬
листами по Асееву (по кому я тогда и в мыслях не имел писать книгу - возьмусь
за нее спустя десять лет): Анатолий Карпов уже написал об Асееве свою книгу, а
Леонид Таганов - кандидатскую диссертацию. Леонид Николаевич - из Иванова и
в начале перестройки издавал стихи Анны Барковой, многолетней узницы ГУЛАГ а.
Кто-то по возрасту довольно быстро выпал из обоймы «молодых критиков»,
кто-то просто исчез или уехал, как Владимир Соловьев. Это персонаж любопыт¬
ный, диссидент с сомнительной репутацией (то есть с подозрением на его связи
с КГБ). Писал тогда бесконечно много. Говорили, что, когда ему заказывают ста¬
тью, она у него скорее всего уже написана. Сейчас если его и помнят, то по па¬
сквильным книгам типа «Три еврея» - о себе любимом, о менее любимом Брод¬
ском и совсем нелюбимом Кушнере.
- А кто был с вами вместе в семинаре?
- В общем, очень разные люди собрались... Я помню, что на обсуждениях,
в которых я участвовал, были Иосиф Львович Гринберг, старейшина цеха, Инна
Ростовцева, Дмитрий Стариков, тогда фигура тоже известная, завотделом крити¬
ки в «Знамени» (он через несколько лет умер, но тогда был как-то косо воспри¬
нимаем новомировским либеральным крылом - как интеллигент-ренегат), и ранее
заведовавший критикой в «Октябре», противостоявшем «Новому миру», ну,
разумеется, и руководитель всего семинара в качестве секретаря Союза писателей
РСФСР по критике - Валерий Васильевич Дементьев.
- Игорь Олегович, а как вы попали на семинары и в принципе в литератур¬
но-критическую среду?
- Все началось с Валерия Дементьева. Он в свое время учился или проходил
практику в школе у моей бабушки в Вологде. Когда Дементьев был студентом
в Вологодском пединституте, мой отец был деканом филфака. По Вологде у нас
еще какие-то семейные связи водились. И он приезжал в Вологду все время, еще
Вечер третий. Советская литература и современная критика
145
была жива его мать. Приезжая, читал газету «Красный Север». Там обнаружил
несколько моих театральных рецензий и по ним меня пригласил на семинар. Кро¬
ме этих рецензий я тогда ничего еще не написал, разве что свою первую статью,
которую послал тогда наобум в журнал «Русская речь».
- Это была статья о вологодских писателях?
- В какой-то мере, поскольку - о батюшковском стихотворении «Вакханка».
«Все на праздник Эригоны / Жрицы Вакховы текли...» Я очень люблю это сти¬
хотворение, действительно блистательное. У Батюшкова много гениального, но
почти ни одного стихотворения без помарок. Пушкинские пометы на страницах
сборника Батюшкова «Опыты» именно об этом свидетельствуют. Кстати, эта ста¬
тья появилась в 1973 году в «Русской речи» одновременно с моей первой статьей
о современной поэзии в журнале «Север», написанной вслед моему приобщению
к цеху критиков в Комарове. Я ее назвал «Поэтическая традиция и традиционная
поэзия». Всегда важная тема. Но в журнале эпитеты редуцировали и осталось до¬
вольно бессмысленное - «Поэзия и традиция». А в «Русской речи» статья еще
более пострадала: из почти печатного листа они взяли маленький кусочек. Всю
лотмановскую теорию, которую я вдохновенно излагал, они выкинули и остави¬
ли лишь анализ текста, демонстрирующий эту теорию, а тексту предпослали свою
иллюстрацию - дебелую девку, видимо, такой им представлялась вакханка. Сейчас
я вам продемонстрирую. (Достает журнал из шкафа.) Насколько помню, к рецен¬
зиям я приложил что-то еще ненапечатанное - как раз эту батюшковскую статью
(до напечатания), смутив на обсуждении жанровым контрастом - академическая
статья и беглые рецензюшки, как всегда в газете, сильно порезанные.
- А отбор на семинары проходил по публикациям? И по членству в Союзе писа¬
телей?
- Членом Союза писателей никто из нас не был. Как раз по результатам семи¬
наров и совещаний принимали в Союз писателей, после съездов молодых писате¬
лей принимали целым гуртом. Меня не приняли и не принимали еще несколько
лет, так как - мне передавал кто-то из членов приемной комиссии - каждый раз
поднимался великий горьковед и идеологический надсмотрщик Овчаренко с во¬
просом: «Да, он много печатается, но где статьи о Фадееве, Федине, Шолохове?»
Поэтому мое дело несколько раз откладывали, вплоть до выхода в свет книги об
Асееве.
- Ваша книга об Асееве вышла в середине 80-х, да? Долго вас мучили...
- Особого мучения не было, но ходить в «Лавку писателей» и иногда пользо¬
ваться Домом творчества хотелось.
- А что можно было купить особенного в «Аавке писателей» ?
- Книги стоили очень дешево, но их невозможно было достать. А в «Лавку пи¬
сателей» приходишь, и они есть. Самое удивительное воспоминание про «Лавку
писателей» - это когда вышла первым изданием энциклопедия «Мифы народов
146
Как было и как вспомнилось
мира» - 1988 год. Роскошное издание. В переиздании эта книга много скромнее.
Сказали, надо приехать к открытию, а лучше - за час до открытия. Я приехал
к восьми утра и был, наверное, 150-м, то есть я стоял уже на Кузнецком мосту. Но
все, кто приехали, купили, хотя очень волновались, а вдруг не хватит.
- Этот магазин существовал только в советские времена?
- Нет, «Лавка писателей» как книжный магазин и сейчас сохранилась - на
Кузнецком мосту, на втором этаже. Рядом с Домом моделей на той же стороне
улицы.
- Говорят, там была дама, которой все носили подарки...
- Да, помню, чтобы поощрить благодарностью, так как были книги особенно
дефицитные, которых и там на всех не хватало. Мой старший друг Юрий Макси¬
милианович Овсянников привозил из-за границы пластинки, кто-то из деятелей
«Лавки» был меломаном. Овсянников - это отдельная история и круг моего об¬
щения, особенно близкий в 80-е, люди старше и много старше меня. Юрий Мак¬
симилианович - сын Максимилиана Шика, младшего друга Брюсова, из москов¬
ского круга символистов. Искусствовед, автор книг об итальянских строителях
Петербурга, и издатель, родоначальник нескольких серий: «Жизнь в искусстве»,
«Панорама искусств»... За высшую награду и официальную благодарность
считал выговоры от начальства за идеологические ошибки. Он был не пуглив -
в 16 лет, приписав себе годы, ушел на фронт, попал в разведку и прошел всю вой¬
ну, задержавшись еще и на японском фронте. В нашу последнюю встречу летом
2000 года (через несколько месяцев Юрий Максимилианович умер), помню, он
был как-то особенно откровенен. Рассказывал о семье. Отец - австрийский еврей,
сын если не банкира, то богатого человека. В советские времена преуспевал, пере¬
водил всех советских классиков на немецкий язык. В 30-е годы купил двухкомнат¬
ную кооперативную квартиру - по тому времени неслыханная роскошь. Так вот,
когда единственный сын вернулся с войны - радость, семейный обед. После обеда
отец приглашает его в кабинет и говорит: «Юра, мы счастливы тебя видеть, ты
всегда - желанный гость, но ты уже взрослый человек. Тебе нужно завести свое
жилье, устроиться на работу». Юрий Максимиллианович сказал, что тогда ужасно
обиделся, но квартиру снял, работу нашел, в университет поступил и его окончил.
Потом был очень благодарен отцу за этот жизненный урок.
- Да, необычный подход для советского времени. Вероятно, авторитет отца
все-таки имел для него значение. А кто для вас был авторитетом в те годы, особенно
на семинарах?
- Это было очень важное общение и личное, и как вхождение в среду, но не
скажу, что кого-то могу назвать своим учителем. Первым руководителем семинара
был милейший, по-человечески щедрый Иосиф Львович Гринберг. Он проходил
мимо любой литературной распри, печатался и у патриотов, и у либералов. Он ко
всем был доброжелателен, любил литературу, читал, по-моему, все, что печаталось.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
147
Маленького роста, очень полный, он вечно топорщился свернутыми в трубочку
журналами, которые торчали из всех карманов. Он нес литературу в себе. Когда
вышла его итоговая книга «Три грани лирики», я был просто обязан как критик
поэзии и младший друг написать о ней рецензию. В названии - замечательная фор¬
мула трех основных лирических жанров: ода, баллада, элегия, но название, увы, -
лучшее в этой книге. Он попытался разложить поэзию 60-70-х годов по этим
граням - интересная идея. Но филологом Иосиф Львович не был. Получилось
достаточно поверхностное описание «чистых» и «нечистых» - без их различе¬
ния - с точки зрения пафоса и тематики. Рецензию я все-таки написал. Гринберг,
надо сказать, научил меня каким-то практическим вещам в критике, которые мне
после моего академического опыта были полезны.
- Каким, например?
- Вот я прекрасно помню, это уже был не первый даже семинар... Малеев¬
ка, где-то 1978 год... Он, прочтя мою статью, которую я там писал, - о повестях
Анатолия Алексина, сказал: «Вы понимаете, у вас все очень выстроенно, логично,
но для журнальной работы надо сломать правильность, надо начать неожиданно
и надо как-то неожиданно завершить». Это важно для того, чтобы сделать крити¬
ческую статью, чтобы ею можно было и хотелось увлечься (я по сей день не уве¬
рен, что в достаточной мере думаю о читателе, мне всегда было важнее понять и
сказать - увы, явный недостаток для критика). Однако в тогдашней критике было
слишком много банального по мысли, общих слов, которыми никакая сделанность
не спасалась. И все же «сделать» статью нужно уметь. Это важно - вплоть до тех¬
нических вещей: как начать и как закончить. Что такое жанр? Способ завершения.
- А если мы посмотрим на семинары с другой стороны. В 1970-е годы все еще
чувствовались идеологические запреты? У семинаров была идеологическая по¬
доплека?
- На самом семинаре могло говориться то, что не могло быть напечатано, на¬
зывались практически любые имена. Но когда люди входили в эту среду, им до¬
вольно быстро давали понять, где красные флажки, через которые прыгать не сто¬
ит. Вплоть до мелочей. Вот пример одной из них. В начале 80-х у меня идет статья
в «Литературном обозрении» (разумеется, «старом», а не НЛО, которого не су¬
ществовало). Мне звонит редактор, по-моему Татьяна Михайловская, и говорит:
«Вас просит приехать главный, поговорить о вашей статье».
- Аавлинский был главным редактором?
- Да, Леонард Илларионович... Немногословный, медленная речь, даже
как будто затрудненная... Он был инструктором ЦК партии, невысокий чин, но
в высшем заведении. Чтобы получить пост главного редактора, как правило, чело¬
век должен был пройти через эти структуры или быть литературным классиком.
Лавлинский получил новый журнал, который был создан после постановления
о критике. Бывший цэковский работник, сам - поэт, во всяком случае, писал стихи.
148
Как было и как вспомнилось
Независимо от собственной одаренности, эти люди любили поэзию, литературу
так, как теперь это, по-моему, не водится. Литература была святым делом, «наше
всё». Лавлинский искренне этим жил. У нас были добрые с ним отношения. Я при¬
езжаю, мы вдвоем в кабинете. Лавлинский говорит очень похвально, но вижу, что-
то предстоит, отчего-то он чувствует неудобство: «Игорь Олегович, смотрите, вы
здесь цитируете Мандельштама... На этой странице опять цитируете Мандель¬
штама. Ведь два раза не будем цитировать Мандельштама». Времена вегетарин-
ские, и Мандельштама, которого издали в «Библиотеке поэта», процитировать
не возбраняется, но... не нужно и преувеличивать. Вот такой флажок, как бы и не
вовсе красный, а напомнить о нем - не лишнее.
Сопротивлялся ли я в таких случаях? Если это не меняло сути того, что я хо¬
тел сказать, но противоречило их правилам игры, то нет. Во мне никогда не было
интеллигентского протестного драйва, и я всегда пытался различать (важное раз¬
личие, как много лет спустя мне объяснял Исайя Берлин) компромисс и конфор¬
мизм. Второго избегал, к первому был склонен.
- А как появилась «Платформа Дубулты»} ваш совместный с Лурье и Курба¬
товым полушутливый манифест?
- Мы ее сочинили. Ну, ходили, гуляли по побережью полузамерзшего Балтий¬
ского моря, разговаривали о том о сем. Кто-то, я уже не помню, как это было, по¬
шутил, кто-то сказал, что у нас складывается манифест. «А почему бы не назвать
его "Платформа Дубулты”?» Слово за слово, кто и что сказал, уже не важно. Об¬
щая шутка, а почему бы и нет? Мысль вырастает из речевого потока, а не из злокоз¬
ненного намерения. Мы напечатали именно столько экземпляров, сколько берет
«Эрика», четыре-пять, раздали, кто-то кому-то передавал, читали...
- А как была воспринята «Платформа Дубулты» ?
- Дементьев отреагировал так: «Вы этого не писали, я этого не читал. Чтобы
больше этого не было: "Платформа Дубулты”... Да упаси Бог». «Платформа» -
путающее слово из старых партийных дискуссий, которые известно чем кончились.
- В Дубултах помимо семинаров проходили и творческие вечера?
- Да, Валерий Васильевич старался, чтоб была культурно-литературная про¬
грамма. Однажды приехал Иван Драч, знаменитый украинский поэт. В 90-е он
был одним из лидеров украинского национализма. И вот творческий вечер, Драч
читает стихи, ему задают вопросы. После окончания мы с Саней Лурье выходим
из зала, за нами - Виктор Васильевич Гура, который говорит: «Вот это стихи! Как
он пишет! Какое стихотворение про лук!» Было у Драча такое лихое для чтения
на публику стихотворение: лук, луковый суп - народная еда, революция. Такая
ловкая мифологема: с одной стороны - мифотворчество, а с другой - правильная
идеологическая программа.
- А как связаны луковый суп и революция?
Вечер третий. Советская литература и современная критика
149
- Французский народ наелся лукового супа и пошел громить Бастилию. (Сме¬
ется.) Не помню точно, там были какие-то сочные детали в описании самого лука.
- Это было на украинском?
- Нет, по-русски. Он писал, видимо, на двух языках. Я уверен, что этот лук
можно и в Интернете найти. В общем, мы с Саней отвечаем Гуре: «Да что тут
такого, мы вам к утру не хуже изготовим». «Ну это вы зарвались, зарвались...» -
говорит он. Мы ему в ответ: «Бутылка водки, и будет по стихотворению от каждо¬
го». Нас двое, и Валентин Курбатов третий. Гура говорит: «Хорошо». Ну вот мы
и изготовили стихи про воблу.
- А как родился образ воблы?
- Не могу вам сказать, кто из нас это придумал. Смеялись, веселились, выпили
по рюмке, кто-то сказал: «Давайте про пиво напишем. А лучше про воблу, это же
красиво». Ну вот как-то так. Вы понимаете, по идеологическим программам этого
не делали... Это все из разговоров, из болтовни. А наутро Гура принял работу,
подивился качеству и честно выставил гонорар.
- Игорь Олегович, можно ли сказать, что Дубулты вас сделали литературным
критиком? Почему вам захотелось писать критику?
- Мне хотелось писать критику, потому что меня интересовала современная
поэзия и современная критика, я с большим трудом читал современную прозу. За¬
тем у меня было сомнение насчет академической науки. Она многое знает, но по¬
нимает ли то, что знает? Я недавно перечитал «На рубеже двух столетий» Андрея
Белого, первую часть его мемуарной трилогии. Это жуткий погром московской
профессорской среды. История литературы... Для чего она пишется, кто ее пи¬
шет? Очень резко сказано о родоначальниках литературоведения (бывших друзь¬
ями профессорского дома Бугаевых): о Стороженко, об Алексее Веселовском.
Александр Веселовский, старший брат, преподававший в Петербурге, только упо¬
минается тоном сожаления: «Мы знали Алексея, в Москве он был фигурой, а про
Потебню и Александра Веселовского мы даже не слышали». Белый их прочел поз¬
же и с большой пользой для себя. У меня было, как я понимаю, сходное опасение.
Я читал историю литературы, но не очень видел, как это относится к литературе.
Про теорию, ту, что преподавали, я не говорю. Все это как будто не про литерату¬
ру, а про имена, про названия, про факты или про придуманные, неизвестно зачем,
термины и, известно зачем, - идеологические формулы...
Наверное, так определенно я тогда бы не сказал, но именно такое сопротив¬
ление к профессии испытывал. Мне хотелось большей близости к тексту, большей
современности восприятия, даже если текст написан давно. Именно это меня при¬
вело в критику. Я хотел посмотреть, как делается текст, научиться писать, сохра¬
няя переживание, не теряя вкусовой оценки. Теперь, когда я пишу и академиче¬
ский текст, я ощущаю, что мой голос даже там остается, хочется удержать личный
эссеистический стиль. Так что путь в критику оказался для меня внутренне необ-
150
Как выло и как вспомнилось
ходимым. Было трудно, скорее, найти предметы для критического разговора. Вна¬
чале - от недостаточного знания и ощущения современности. Ведь я так и не стал
критиком в том смысле, что не научился «отслеживать литературный процесс».
Я плохой читатель - не могу прочесть то, что кажется посредственным. Помню,
когда я начал заниматься и критикой, да и литературоведением, крут вопросов,
вопросов литературы, который было принято обращать к текстам, казался бедным
и неинтересным. А когда неинтересны вопросы, то как искать ответы! Медленно
обретал ощущение, о чем писать.
- А почему вы не стали театральным критиком?
- Почему не стал? Театральная среда мне не понравилась еще больше, чем
литературная. Это во-первых, а затем... Любите ли вы театр? Оказалось, что я его
не люблю, по крайней мере в современном варианте.
- Но ведь были спектакли - вот шекспировский в театре Товстоногова, на ко¬
торый вы отозвались рецензией, например.
- Увы, это были редкие удачи. Удачи театра. Когда я попадал на такой спек¬
такль, мне снова казалось: надо бы о театре писать. Но в основном был поток, даже
если модный... Нет, были, конечно, и имена, и спектакли, но нельзя писать об од¬
них удачах. Это то же, что я сказал о себе как о критике (или о том, почему так и не
стал критиком): я недостаточно усидчивый читатель. И зритель.
- Это время было для вас стилистическим поиском? Или все же поиском темы?
- И то и другое. Это был, я бы сказал, жанровый поиск, если попытаться зад¬
ним числом его объяснить... Это была попытка найти для себя эссеистический
свободный жанр - или, как сказал мне Станислав Лесневский, прочтя «Дело вку¬
са»: «Какая же это критика? Это Хемингуэй!» Речь о самом себе все время. Впер¬
вые этот (лестный для меня) упрек я услышал, наверное, в 1986 году, на юбилее
Белинского. Вместе с Валерием Дементьевым, в компании критиков, я ездил на
юбилей Белинского в Чембар, там была большая конференция. За мной было сло¬
во о том, чем Белинский важен и насколько важен в современной литературной те¬
ории и критике. Я говорил, и зал остро слушал, потом ко мне подходили какие-то
люди. Среди них был профессор МПГУ, фольклорист Кир дан. Он как-то с обидой,
ревностно, сказал: «Ну вы и сделали доклад. Ваш доклад был на тему “Я и Белин¬
ский”». А я подумал: «Именно это я и хотел сделать» (смеется).
- Игорь Олегович, вы говорили, что у вас сохранилось интервью с Книпович к ее
90-летию...
- Не знаю, где это может быть... Давайте посмотрим... (открываетразные
папки). Вот эту стопку попробуйте... Я должен надеть очки. Здесь копии писем
к Книпович от Серафимы Павловны Довгелло, жены Ремизова, с его приписками.
Письма из Берлина, я после ее смерти хотел сделать публикацию, но потом для
племянницы Евгении Федоровны продал в Шахматовский музей вместе со всем,
что касалось Блока.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
151
- А они опубликованы?
- По-моему, нет. Но теперь это чужая собственность.
- Наверняка здесь где-то в папке и ваше интервью с Книпович.
- Вы чувствуете, что горячо. (Листает страницы.) А вот Панков пишет
о сборнике «Молодые о молодых».
- И еще рецензия, на один из этих сборников... «Литературная Россия», март
1985 года... Тут и о вас пишет Владимир Огнев: «И. Шайтанов холодноват, изби¬
рателен, закрыт, в его суждениях о поэзии, безусловно выверенных и взвешенных, нет
намека на пристрастность»...
- Да, такой была моя ранняя манера, не то чтобы сознательно избранная, но
как-то так получалось. Помню, когда я принес уже на рубеже нового века в «Во¬
просы литературы» свою с кем-то полемическую статью, мне говорит Олег Са¬
лынский (он и Татьяна Бек были попеременно моими редакторами в журнале на
протяжении многих лет - увы, обоих нет в живых, а они - мои ровесники): «Как
сильно вы изменились. Раньше вы анализировали-анализировали, но как будто
стремились не сказать своего мнения. А почему теперь такая пристрастность?»
Это не совсем так, но так порой случалось, когда я не хотел высказаться или, еще
чаще, - когда понимал, что свое мнение должен буду урезать под допустимое вы¬
сказывание. Стиль «фиги в кармане» я, действительно, как говаривал в подобных
случаях Николай Николаевич Вильям-Вильмонт, «недооценивал» (это если ему
кто-то или что-то определенно не нравилось: «Я его недооцениваю»). Лучше я
оставлю свое мнение при себе, объективно открыв перед читателем ту картину,
которую нужно оценить и понять. Как раньше называлась телепрограмма: «Сде¬
лай сам».
- Л вот и «Известия», ваше интервью с Книпович...
- Либо здесь, либо нигде. Видимо, здесь. Слушайте, невероятно! Фантастика!
- Какой же это номер?
- 1987 год, июнь...
- Удивительный текст! В Дубултах Книпович тоже руководила семинаром?
- Нет, но лучше я об этом скажу подробнее, предваряя новым текстом мое
старое интервью с ней.
2016
Платформа Дубудты
Самуил Лурье
Три товарища
Признания лжемасона
До чего глупая была моя т. н. жизнь. Какие вздорные радости припоминаешь,
да еще с трудом.
Рутинное советское мероприятие литвластей, прямо по Ильфу без Петрова:
собрать из разных мест младших дворников, и пусть старшие дворники поучат их
держать метлу под правильным утлом.
Дубулты (под Ригой), осень, 1974 год.
Дом т. н. творчества, отдельная комната, даровая еда, пасмурная погода.
Старшие дворники выступали по вечерам. Никого не помню, кроме одной
пиковой дамы, К., наведшей ужас. Мертвые глаза и бесстыдно официозная сло¬
весность. А между прочим, в биографии - не с кем-нибудь, с Александром Блоком
шуры-муры; но партийный стаж все смыл.
Ну и позабавил в дивертисменте украинский лирик. Балладой про луковицу.
Как снимается шелуха и т. д. С бесстрашным таким эротическим подтекстом.
Вообще же все время было скучно и поэтому очень весело.
Скудный, однако не иссякающий алкоголь, абсолютно нечего делать, симпа¬
тичные ровесники. (Из ровесниц не позабылась тоже только одна, по имени Ф.)
Довольно много было нас на том челне, но как-то сразу разбились на компа¬
нии. Несомненно, по различиям политическим, хотя не выговоренным вслух и
даже вряд ли отчетливо осознанным как таковые.
Просто - в составе тогдашнего воздуха уже не было иллюзий. Каждый пони¬
мал, что в старшие дворники не примут за здорово живешь, а надо платить, при¬
чем - натурой. Некоторых цена устраивала вполне. Другие собирались с духом.
Нашлись еще и третьи. Трое таких третьих сошлись.
Валентин Курбатов из Пскова, Игорь Шайтанов из Москвы и я. Ничего об¬
щего. За исключением - как бы сказать поприблизительней - высокомерного лег¬
комыслия. Полагались больше на слог: авось вывезет; и ежели не выдаст - свинья
попятится; литература якобы состоит из всех тех, кто пишет хорошо, и только из
них; причем подметать - не больно-то хотелось; то ли дело - прыжки с метлой.
Мы образовали, представьте, масонскую ложу, присвоив друг другу тайные
имена. Раскрываю впервые - и только свое: брат Август. (В честь одного из Шле-
гелей, вот). Были у нас и титулы, обдумывались обряды. Имелись также: девиз
Вечер третий. Советская литература и современная критика
153
(разумеется, латинский), и печать с гербом (эскиз), и устав (проект). Не говоря
уже о собственном календаре. Почти все сохранилось в чудесных письмах Вали
Курбатова - ярчайшем литпамятнике эфемерного нашего братства.
Такими замечательными пустяками занимались нецелеустремленные мы. Це¬
леустремленный же, ныне покойный А., например, устроил 7 ноября - и даже воз¬
главил - праздничную демонстрацию. Ни дать ни взять крестный ход с красным
флагом. Вокруг здания. Мы смотрели из окна.
Не того же ли числа Аркадий Стругацкий жаловался:
- Когда я думаю о большевиках, у меня от ненависти щемит.
(Пояснив, конечно, - где.)
Он там сам по себе проживал. Пил с Юрием Карякиным водку. Я тоже поуча¬
ствовал. Наутро сдали стеклотару и принялись за это дело вновь, и на следующее
утро тоже, но у меня тогда еще не было надлежащей квалификации, пришлось от¬
стать.
2008
Валентин Курбатов, Самуил Лурье, Игорь Шайтанов
Платформа Дубулты
1
Литературная критика - старинное занятие образованных людей, но следует
помнить, что с древними науками: теологией, астрологией, черной магией, цер¬
ковным и судебным красноречием, а также и с такими промыслами, как торговля
индульгенциями, толкование сновидений, гадание по руке, гробокопательство и
шпагоглотание, - наша увлекательная профессия не имеет ничего общего.
Статистики, техники-смотрители, управдомы, чревовещатели, факельщики,
плакальщики, лжесвидетели, болтуны и наемные убийцы не вправе называть себя
литературными критиками.
Ученый создает понятия, чтобы обнять ими весь мир.
Поэт воображением пресуществляет жизнь в себе и себя - в слове.
Критик высказывает мнения.
Жулик ворует, сыщик следит, убийца нападает, море шумит, женщина любит,
а критик высказывает мнения.
Он говорит о том, что ему мнится, что кажется, чудится, мерещится. Он го¬
ворит - что думает. Он - простофиля по профессии. Самый злоязыкий, ядовитый,
проницательный критик робок и бесхитростен, он не уверен в своих мнениях и в
том, что они кому-нибудь нужны. Он бы и рад промолчать, затаиться, принять на
154
Как было и как вспомнилось
веру чужие слова. Но какая-то сила безжалостно и коварно понуждает его видеть
вещи не так, как их видят другие, и без конца проговариваться об этом.
Единственное право, единственный долг, единственная судьба критика -
иметь собственное мнение и уважать его.
Таким образом, литературная критика есть самостоятельное размышление о
предметах, относящихся к литературе, и высказывание самостоятельных мнений,
облеченных в литературную форму.
2
Литературной критике надоело рядиться в глухие проповеднические сюрту¬
ки, ханжеские двубортные костюмы и циничные замшевые тужурки.
Оглядываясь на суровых озорников прошлого, на язвительные тени Рабле,
Вольтера, Пушкина, она ищет новых одежд, которые не стесняли бы ее шага и ды¬
хания.
Отчего и на молодом лице должна лежать каинова печать вечного старчества,
брюзгливой укоризны, почтительной скуки?
Сегодня литературная критика прощается с бесполым жанром статьи, чтобы
вознести любимца одой, поразить негодяя эпиграммой, передразнить сатиру гро¬
теском.
Критику грустно, и он плачет, радостно - и он озорует.
«Литературная критика - есть род литературы». Какое прекрасное общее
место! Отныне критика намеревается превратить эту риторическую фигуру в жи¬
вую плоть журнального выступления.
Читатель соскучился искать на последних страницах изданий простые чело¬
веческие лица, отчаялся услышать смех, сдерживаемые слезы, ехидное гмыканье,
веселое ругательство.
Молодая литературная критика без злости прощается с прошлым и протяги¬
вает читателю дружеский фиал, склянку яду, ложку дегтю или бочку меду - в зави¬
симости от того, в чьем произведении она черпает вдохновение.
Золушка, она решается явиться на бал, чтобы в блестящем зале высокомерных
глупцов пробудить зависть и негодование, а в отзывчивом сердце - нежность и
волнение. Она уходит, когда вокруг опускается ночь, но она оставляет туфельку,
которая никому, кроме нее, не по ноге.
3
А пока мы сумерничаем вместе со всеми. И пишем вместе со всеми. Не хуже,
не лучше. С трудом и горечью. От рецензии - к статье. Триста рублей за лист -
предел желаний, именины сердца. Все, что говорим о критике, говорим о себе.
Венер третий. Советская литература и современная критика
155
Стиль чванливый и скудный. Его невозможно сломать, расщепить. Безнадеж¬
но забиваем клинья вводных слов и инверсий в слабой надежде разорвать его на¬
сильственные узы. Пробить малюсенькую щель, в которую смогла бы просочиться
мысль. Тщетно.
Оптовый стиль обручами штампов стягивает мысль. Фразы ложатся правиль¬
ные и бодрые. Пишем, как велит монотонный лязг стиля, как пишут все. Бледные
царапины, которые удается нанести на его безобразно гладкую поверхность,
можно отыскать лишь с превеликим трудом. Вскоре их перестает различать сам
автор.
Наш стиль - это не человек. Стиль - это его отсутствие. Безотрадная равнина
унылого трюизма. Остается радоваться только тому, что плетемся по ней не в оди¬
ночку, а в общей толпе. Неразличимые, ненужные.
Но в этом-то все и горе.
И.-В.-С. КЛИШЕ
Побережье ОКАЯНИИ
Осень 7482-я
Валентин Курбатов
Эклога о вобле
Вобла - луковица морей.
Из украинского поэта
Серебряная, ты свободна в своих изумрудных глубинах, пока снедаемые лю¬
бовью к тебе тебя не венчают на царство, вынимая из вод, как сверкающий клинок
из ножен.
Когда Кориолан отвергал низкую любовь черни, он знал, что он отрицает. Те¬
перь и тебе предстояло изведать горестный вкус привязанности.
Твое платье темнело от жадных объятий.
Узница трюмов, ты забывала латинские одежды таинственной ихтиологии и
умела носить платье простолюдинки.
Счастливые соперницы недолго блистали на пиршествах мира, а ты, огнепо¬
клонница, жрица сурового храма Весты, пылая в жертвенном дыме, узнавала соле¬
ную сладость страдания.
Несчастья иссушили твое юное тело, и ты сменила нежные серебряные шелка
на тусклую латунь воительницы.
Мария Стюарт - в глухом Тауэре ящиков ты готовилась к мученическому вен¬
цу, которым народ наделяет любимцев.
156
Как было и как вспомнилось
Ликованье палачей уже не ранило тебе слуха, когда, обезглавленную, они еще
били тебя о плаху и срывали одежды, раздергивая молнии плавников, чтобы тер¬
зать твою розовую от предсмертного стыда плоть.
Когда тонкие царские кости смели с эшафота, они провожали тебя с печалью,
как всегда провожает народ казненных, и с грустью восклицали, прощаясь: «Она
была прекрасна!» - и каждый в душе носил несбыточную мечту о твоем воскресе¬
нии!
Самуил Лурье
Баллада о вобле
Никто не знает имени ее,
Когда во тьме холодной и подводной
Она сребристым лучиком скользит -
О, безымянная русалкина подруга,
Пучин пичуга бедная...
Но вот,
Бальзамирована поваренною солью,
Принявши тесный, плоский, черствый образ -
Сухая тень вчерашней милой рыбки, -
Окаменела Золушка морей...
Не надо было, ах, не надо было
Выныривать из пышной белой пены,
Не надо было в свите Афродиты
Сиять глазком завистливым и круглым,
Идти в мелкоячеистую сеть...
Ей нить суровую в глаза проденут:
Меж небом и землей пляши, ты, вобла!
Была ты нимфой, но нимфеткой стала,
Ты по рукам пойдешь, по кабакам...
А там безглавым трупиком твоим
Натешится веселый алкоголик,
И пальцы в бурых пятнах никотина
Сорвут с тебя стыдливый жесткий панцирь
И блеклую ненужную плеву...
И плоть твоя впервые обнажится,
И ты отдашь всю соль свою и горечь...
Вечер третий. Советская литература и современная критика
157
Он лишь наутро вспомнит о тебе,
Скелетик обесчещенный увидев,
И, может быть, всплакнет...
Игорь Шайтанов
Ода вобле
Прелюдией к пиву возникло виденье:
Она - Афродита, рожденная в пене;
Из пенных глубин в пыл кабацкого блуда
Прекрасная подана вобла на блюде.
Утрачен на солнце отлив серебристый -
Чешуйчатым золотом сыплют мониста,
В блистательной робе провяленной плоти
Врывается в мир, где вы мирно живете.
Живете, жуете, гастрит наживая,
Она вас тревожит, надменно живая,
Мгновенно окутает облаком пенным,
Погубит вас взглядом безгласной сирены.
Прелюдия к пиву, прелюдия к взрыву,
Она обольстительно-дерзко красива.
Плывет в аромате нетленного духа
Святая глубин - в миру потаскуха.
Она с вас срывает обличье овечье,
Кабак на глазах превращается в вече,
И вечно великая жажда свободы
Бедою грозит вышибале у входа.
Пропала безгласность. Вам вобла глаголет,
Похитив ваш разум в чаду алкоголя.
В смешном алкаше - пробужденье Моцарта,
И тень оживает шотландского барда.
Да будет всегда к нам с тобой благосклонна
Сестра и закуска Ячменного Джона!
Дубулты, 15 ноября 1974 года
158
Как было и как вспомнилось
Игорь Шайтанов
Дар памяти
Отрывок из рецензии на книгу В. Дементьева
Валерий Дементьев известен не только как критик. В его работах часто по¬
является материал другого жанра. В соседстве с критикой возникает лирическая
и мемуарная проза... Оценивая новую книгу писателя, его манеру в целом, я бы
сказал, что автобиографическая проза в самых различных ее аспектах обладает для
него постоянным притяжением.
В новой книге В. Дементьева «За белой зарей» (М.: Современник, 1978) сое¬
динились, дополняя друг друга, эссе и повесть, критика и путевые заметки, истори¬
ческий материал и современность. В ней есть герои и подлинные, и вымышленные.
С одной стороны, это Батюшков, Дионисий, Куприн, Василий Субботин, автор
песни «Улица, улице», а с другой - вымышленный персонаж Виктор из хиленькой
новеллы «Вестник победы». Он слышит весть о победе над фашизмом на озере
близ устья реки Ельмы, и в словах Виктора мы угадываем главную мысль, близкую
и автору, мысль, из которой выросла книга: «Что было сегодня? Что надо отбро¬
сить, а что запомнить?»
На страницах книги появляется не только автобиографический герой, но все
ее персонажи так или иначе связаны с двумя главными для Валерия Дементьева
темами: война и Русский Север, Заволоцкая земля, как любит он сам говорить.
Книга написана о том, как складывалась жизнь, как по крупицам накапливался
опыт, а через него прокладывался и путь к искусству. Когда В. Дементьев замеча¬
ет: «События Великой Отечественном войны 1941-1945 годов заставили всех нас
по-новому оценить творческое наследие Батюшкова, его исторические элегии и
послания», - то для него это не случайная оговорка, а мысль чрезвычайно значи¬
тельная, принципиальная, которую особенно «важно подчеркнуть». Ее важность
подтверждает вся книга, и, безусловно, прав Леонид Мартынов, когда в предисло¬
вии пишет: «Мрачный, но четкий призматический бинокль войны очень широко
раздвинул творческие горизонты Валерия Дементьева...»
Может быть, лучше всего структура и общий замысел книги видны в той ее
части, которая названа «Золотая ладья». Она составилась из самых различных
по времени воспоминаний. История Вологды и современное путешествие по Во¬
логодчине, легенды этого края и то, как они вошли в сознание выросшего здесь
мальчишки. Легенды о Волочанских болотах, о волнующих воображение золотых
княжеских ладьях, постройка лодки, которая была украдена. С ней еще суждено
встретиться автору...
Нежданная встреча произошла в сентябре 1945 года, когда на берегу реки, пе¬
ред зданием своей бывшей школы совсем молодой, но уже прошедший войну офи¬
цер присел на вытащенную из воды плоскодонку. Пальцы узнали дерево лодки...
Вечер третий. Советская литература и современная критика
159
«Вот почему у меня возникло такое ощущение, будто лодка, в детстве сработанная
моими руками, подымалась из глубин забвения, как золотая ладья из Волочанских
болот». А вместе с ней поднималось пока что смутное воспоминание о легендах
этого края, о самих этих местах...
И снова те же вопросы: что надо запомнить? Когда возникло то или иное ощу¬
щение? Не война ли впервые подтолкнула и обострила память, заставляя видеть
и понимать ранее незамеченное, не до конца понятое? Красота вологодских па¬
мятников: Софийского и Воскресенского соборов, узорной Сретенской церкви,
хором купца Витушечникова - не поблекла для того, кто прошел пол-Европы, но
как бы только теперь впервые приоткрылась заново: «Я дивился архитектурным
богатствам набережной, которых не ожидал увидеть в родном городе, - я думал,
что их можно встретить где угодно... но только не здесь...»
Соединились две главные темы: военное настоящее по-новому помогло взгля¬
нуть на историческое прошлое. И сколько еще «открытий чудных» готовило по¬
степенное вживание в мир истории народа и его культуры. Открытий тем более
неожиданных, что часто и ходить-то за ними далеко было не нужно. Обычное по¬
лотенце с вышитым северным узором - такое есть в каждом деревенском доме,
в каждом вещмешке у уроженца этих мест, ушедшего на фронт, - а в его старин¬
ном узоре, оказывается, скрывается «ключ к древнейшему культу славян - культу
матери-природы».
1979
Евгения Книпович, литератор
Беседу с Е. Ф. Книповин вел Игорь Шайтанов
С Евгенией Федоровной Книпович (1898-1988) я познакомился, когда ей только что
исполнилось 75 лет. Мне было на полвека меньше. Это не помешало дружбе, длившейся до
ее смерти. Виделись мы регулярно, но по-московски не очень часто (тем более что боль¬
шую часть из этих 15 лет она постоянно жила в Переделкине). В последние годы созвани¬
вались едва ли не ежедневно.
Знакомство началось в осенних Дубултах на семинаре молодых критиков, куда я прие¬
хал семинаристом, а Евгения Федоровна - руководителем без постоянных обязанностей и
подопечных. Она была воплощением литературной среды, в которую мы входили, - старей¬
ший критик, один из влиятельнейших литераторов, но над всем этим парило - последняя
любовь Блока, с кем поэт собирался ехать в Финляндию, но помешала смерть. Ко време¬
ни нашей встречи былая красота лишь угадывалась в поразительного - какого-то фиалко¬
вого - цвета помертвевших глазах.
Однако была и советская репутация, которая меня останавливала. Когда молодой
коллега, передавший мне вторичное приглашение Книпович прийти и познакомиться, по¬
говорить, почувствовал мое нежелание, он сказал с молодой развязностью: «Не обижай
160
Как было и как вспомнилось
старуху». Дело было не в возрасте, а в репутации - одного из самых советских критиков,
стоящих на страже идеологии, во славу которой ей предлагали в издательстве «Советский
писатель» самые спорные книги. Она не боялась взять на себя ответственность - и отка¬
зать или неожиданно заступиться (как было, скажем, с первой книгой Льва Аннинского
«Ядро ореха», а потом и с моей книгой об Асееве).
Евгения Федоровна происходила из старой петербургской дворянской интелли¬
генции, сочувствовавшей революции, а до революции - молодым бомбометателям. Как
вспоминал свои впечатления от России вернувшийся из университетской Германии
в 1906 году Ф. Степун, «в каждой русской семье, не исключая царской, обязательно имел¬
ся какой-нибудь более или менее радикальный родственник, свой собственный домашний
революционер». У либеральных Книповичей таких родственников набралось довольно
много. Евгения Федоровна до конца дней - несмотря на прожитые десятилетия, на поне¬
сенные трагические потери - хранила юношескую привязанность к большевикам и ВКПб
(но любопытно, что членом партии она никогда не была). При цельности характера это
была даже не раздвоенность, а два разных человека, живших в одном и, при равно искрен¬
них в своей противоположности вкусах и привязанностях, как будто не замечавших друг
друга. Один человек был более внешним и убежденно ортодоксальным, второй появлялся
в присутствии немногих. Ему было позволено заговорить лишь с началом того момента,
который назвали «гласностью» и «перестройкой», произошла та внутренняя встреча,
о которой Книпович написала в своих поздних воспоминаниях о Блоке (ее буквально при¬
нудил к написанию Илья Самойлович Зильберштейн, создатель и один из многолетних
руководителей «Литературного наследства»): «Эту книгу писали два человека - одному
было чуть больше двадцати лет, другому - за восемьдесят...»
Именно тогда друзья Евгении Федоровны попросили меня («с вами она будет разго¬
варивать») сделать интервью для популярнейшего приложения к газете «Известия» -
«Неделя», чтобы вспомнить имена и людей, о которых теперь стало возможным вспоми¬
нать без оглядки на цензуру. Так появилась эта беседа, занявшая обычную в издании 13-ю
гостевую полосу.
- Евгения Федоровна, расскажите о своей семье, о первых художественных впе¬
чатлениях, круге чтения...
- Первые книги? Наверное, сказки. Самые разные: и народные, и Пушкин, и
Андерсен, и «Калевала». Да, Пушкин и Гоголь, у которого раньше всего «Вий»,
так что имя и название слились в одно - Гоголий. Шекспир был также прочитан
очень рано. Родители уходили в театр, а я забиралась в библиотеку и рассматрива¬
ла брокгаузовского Шекспира. Более всего поразил Макбет, поэтому сразу и узна¬
ла его в «Песне Судьбы» у Блока - видение Германа: «... идет герой - в крылатом
шлеме с мечом на плече...»
Из воспоминаний о Блоке: «"Как вы догадались?” - удивился он. И я объ¬
яснила, что "мой Шекспир” - тоже "русский Шекспир” и почерпнут он из тех же
тяжелых серых томов, в которых я сначала смотрела картинки, а затем - очень
рано - перешла к текстам».
Вечер третий. Советская литература и современная критика
161
- Родители - в театр, вы - в библиотеку... А когда и с чего театр начался для
вас?
- Когда? И не скажу точно. Но вначале - концерты и опера. Зимой Мариинка,
весной итальянская труппа. Музыкальное мое воспитание оттуда и на всю жизнь:
очень отчетливо запомнилось. Семьдесят лет прошло, а до сих пор перед глазами
Анна Павлова в «Пахите». Видела ее в Гельсингфорсе, накануне ее отъезда за гра¬
ницу.
- Каков был круг вашей семьи - литературный, художественный?
- Вовсе нет. Отец - присяжный поверенный, по духу дворянский нигилист.
И среди знакомых преимущественно либеральная интеллигенция. У нашей семьи
и по линии отца, и по линии матери были сильны революционные связи, идущие
от «Народной воли». Меня несколько лет назад спрашивали, не помню ли я под¬
робностей того, как моя мама с Надеждой Константиновной Крупской прятали
рукописи Владимира Ильича. Я говорю: «Во-первых, не мама, а ее сестра Лидия
Христофоровна Лимаренко, во-вторых, когда это было? Около 1896 года? Значит,
все-таки до моего рождения...»
По-настоящему же дружна с Надеждой Константиновной и Владимиром
Ильичом была моя другая тетка - по отцу, Лидия Михайловна Книпович, делегат
II съезда РСДРП. Владимир Ильич ценил и ее племянника - моего двоюродного
брата Бориса Николаевича Книповича. Об этом мне, в частности, рассказывала
гораздо позже Мария Константиновна Неслуховская, жена Николая Тихонова.
В доме ее отца Ленин иногда работал, для него там была комната, и Таня, ее стар¬
шая сестра, однажды вошла к нему и спросила, как готовить себя для революцион¬
ной работы. Владимир Ильич рекомендовал кружок Бориса Книповича.
- Где выучились?
- В петербургской гимназии Шаффе. Знаменитая гимназия! В ее атмосфере
была определенная независимость. Годами десятью раньше меня окончила ее Лю¬
бовь Дмитриевна Блок.
Из воспоминаний: «Когда я училась в гимназии Э. П. Шаффе (ныне шко¬
ла имени Е. Д. Стасовой), там еще бытовало предание, как лет десять или две¬
надцать тому назад ученица Любовь Менделеева во время урока пустила в стену
класса чернильницей. Когда я спросила Любовь Дмитриевну Блок, имел ли место
такой лютеровский демарш и что его вызвало, она подтвердила, что она действи¬
тельно это сделала, потому что уж очень было скучно».
Учителя там были хорошие, особенно по литературе: уже тогда известные
пушкинисты Гофман и Слонимский.
- Евгения Федоровна, у вас в воспоминаниях об Александре Фадееве говорится
о горьком чувстве, с которым он всегда думал о том, что в ближайшие десять лет
начнут уходить старшие, которые «почти помнят Чехова и могли в детстве ви-
162
Как было и как вспомнилось
деть Толстого, и помнят его смерть и всенародный траур по поводу этой смерти,
те, кто непосредственно общался с Горьким...» Сегодня тоже обострено чувство
этой живой - по памяти - связи с прошлым. Насколько у вас глубоко это чувство
непосредственного родства с традицией русской культуры?
- Во всяком случае, оно уходит корнями в прошлый век, и достаточно далеко.
Моя мама была на похоронах Федора Михайловича Достоевского, которого ее по¬
коление интеллигенции воспринимало в некрасовской традиции: певец унижен¬
ных и оскорбленных. Кстати, возвращаясь к разговору о чтении, о поэзии, - Не¬
красов и поэты «Искры», среди них Курочкин, были прочитаны и запомнились
особенно рано.
- А более новая поэзия?
- Гораздо позднее. Первым, пожалуй, Брюсов, который поразил меня вну¬
тренней собранностью и суровым историзмом.
- Еще о чувстве, возбуждаемом классической традицией. Сегодня в литературе
есть опасения, как бы не прервалась связь с классикой. Как предупреждение Самойло¬
вым сказано: «Вот и все, смежили очи гении... » У иных писателей возникает торо¬
пливое желание занять освободившееся место, при жизни утвердить себя в класси¬
ках. Отчего это происходит?
- От внутренней некультурности, от неуверенности в себе, ощущения сво¬
ей несостоятельности по высокому счету. Отсюда же и нетерпимость к критике.
Обидеться на критику, счесть ее несправедливой, остро переживать несправедли¬
вость - это понятно. Но объявить себя (или кого-то) выше критики, допустить
к ней пренебрежение - такого не позволил бы себе ни один подлинный писатель.
Чванливость и высокопарность, тем более в суждении о самом себе, - черты, не¬
возможные в русском интеллигенте. Его всегда отличало другое: умение работать
и быть веселым, несмотря ни на что.
- Почему вы, человек, знающий цену памяти и культурной традиции, так долго
откладывали то, чего от вас давно ожидали, - книгу о Блоке? Предубеждение против
мемуарного жанра?
- Нет у меня такого предубеждения. Воспоминания о друзьях писала, считая
это своим долгом: о Дмитрии Гачеве, о Фадееве, Федине, Тихонове, Ауэзове...
Вот начала называть имена, а за ними просятся другие - моих зарубежных друзей:
Антала Гидаша, Жан-Ришара Блока, Радована Зоговича...
О Блоке же так много писали! Я далеко не все знаю, что написано. Кое-что
люблю: дневник милейшего Евгения Павловича Иванова, воспоминания Алянско-
го, Вл. Гиппиуса, из женских - Веригиной... Знаете, в писании мемуаров, особен¬
но до определенного возраста и особенно женских, есть что-то смешное. Сейчас,
думая о друзьях, вижу - никого нет, почти никого. И теперь вспоминать уже не
смешно... У Блока так часто смешивают главное и второстепенное... Об этом я
и писала.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
163
Из воспоминаний: «...стихи о России, "Ямбы”, "На поле Куликовом” -
цикл, пронизанный волей к подвигу, огненной любовью к Родине, огненной
верой в ее великое будущее. Вот это главное, языками пламени прорывавшееся
даже в самое страшное время, и стало основным после Октября. Но "второсте¬
пенное”, то, что рождало в предреволюционные годы трагическую противоре¬
чивость мировосприятия, - тоже продолжало жить в сознании художника...»
- Ваши воспоминания о Блоке написаны недавно; но ведь изучение блоков¬
ского творчества для вас давняя тема?
- Да, со времен Блоковской ассоциации, которая существовала в 1920-е годы
как научно-литературное объединение при Академии художественных наук. Пе¬
реехав к этому времени из Петрограда в Москву, я стала председателем Ассоци¬
ации. Собирались постоянно, для обсуждения докладов. Все было вполне акаде¬
мично, выпустили сборник трудов, но и шутили. Помню, написала я (в 1927 году)
стихотворное приглашение известному историку Поршневу; вот начальные стро¬
фы с именами ученых, посещавших особняк на Пречистенке (теперь улице Кро¬
поткина):
Под звон московского трамвая
Он спит, пока закат румян.
Из черной пасти выпуская
Гуманистический туман.
Чулковским миром он помазан.
Брадой Сакулина повит
И Шпетовым пропойным глазом
Из тьмы пречистенской глядит.
И мирным сном его растроган
И возведя усы горе,
Приходит Петр Семеныч Коган,
Поговорить об Октябре.
Тут Лидочка ему в ответ,
Его единая отрада,
Ты опоздал на десять лет,
Но все-таки тебе я рада.
Но нынче в Шпетову берлогу,
В идеализма главный штаб,
164
Узнают торную дорогу
Бес РАНИОН и демон РАПП.
Как было и как вспомнилось
Приди взглянуть на распрю эту.
Мой дорогой, мой верный друг,
Стихи же продолжать поэту
И ни к чему, и недосуг.
- С кем из литераторов, близких Блоку, вы подружились?
- Несмотря на разницу лет - с Ремизовым Алексеем Михайловичем, чей дар
прозаика очень ценю. Но об этом подробно - в воспоминаниях.
- Сейчас делается немало, чтобы восстановить литературную картину
предреволюционных и революционных лет во всей полноте, без пропусков. Как к это-
му относитесь?
- Положительно. Но не надо забывать, что те люди были в очень разной мере
одаренными, не нужно всех смешивать. Разрушая культуру, причиняют огромный
вред и творят безобразия, но, когда берутся восстанавливать, забывают, что это
дело тонкое. Нельзя допускать пошлости.
Что касается меня, то я не одинаково и далеко не всех ценю из тех, кого теперь
вспомнили. Гумилев, безусловно, заслуживает отдельного тома в «Библиотеке по¬
эта», обязательно с умной статьей. Но я его поэзию не любила и почти не помню
наизусть, кроме - «Он стоит пред раскаленным горном, / Невысокий, старый че¬
ловек...» И «Заблудившийся трамвай» - неожиданно вырвавшееся у него гени¬
альное стихотворение...
Из дневника - Блок о Гумилеве: «Все люди в шляпах - он в цилиндре. Все
едут во Францию, в Италию - он в Африку. И стихи такие, по-моему... в ци¬
линдре».
Ходасевич - другое дело. Поэт безупречного вкуса, большого ума. И злой, по¬
этому наше знакомство не могло перерасти в общение: я тоже была колючая.
- В течение нескольких десятилетий вы - один из самых острых критиков со¬
временной литературы. Что заинтересовало вас в последнее время?
- Из недавнего - «Пожар» Распутина, продиктованный чувством боли и
ответственности. Если же отойти чуть дальше, то «Знак беды» Василя Быкова.
Этого писателя ценю чрезвычайно, а в этой вещи - особенно. Самая страшная
вина - устраниться и не исполнить долга. И сейчас, по-моему, главное - делать
дело и помнить об ответственности каждого шага. Мы часто отчитываемся, но это
другое. Не хватает ответственности перед Временем. И перед собой.
1987
Вечер третий. Советская литература и современная критика
165
Игорь Шайтанов
Время действия - настоящее
Александр Вампилов
Летом 1972 года безвременно, трагически погиб талантливый драматург
Александр Вампилов.
Из пьес А. Вампилова пока что две: «Прощание в июне» (1965) и «Старший
сын» (написана в 1967, впервые поставлена в 1969) - хорошо известны театраль¬
ному зрителю. Еще не наступило время подводить окончательный итог творчества
драматурга. Появились в печати новые пьесы - «Утиная охота», «Провинциаль¬
ные анекдоты», «Предместье», и, надо думать, скоро они появятся и на сцене.
Не существует еще единого авторитетного списка пьес «Прощание в июне» и
«Старший сын», поставленных многими театрами страны. По сравнению с их пе¬
чатным текстом в сценических вариантах возникают значительные отклонения: не
только выбрасываются отдельные ремарки и целые сцены, но и появляются новые,
отсутствовавшие в первоначальной редакции. Так, по существу, заново написана
последняя сцена пьесы «Прощание в июне» для спектакля в театре имени Ста¬
ниславского.
По всей видимости, текст пьесы, напечатанный в журнале «Театр» (1966,
№ 8), не был окончательной авторской редакцией произведения. Обо всем этом
стоит говорить, так как изменения в сценическом варианте снимают вопрос о не¬
которых недостатках, чертах сценической незрелости этих первых пьес.
Пьесы А. Вампилова появились на сцене в тот момент, когда недостатки со¬
временной драмы, безликое однообразие многих новых пьес обсуждались крити¬
кой. И обе пьесы не прошли незамеченными. В них не было откровений или даже
претензии на окончательность приговора. Само слово «приговор» звучит здесь
неуместно, так как, продолжая сравнение, можно сказать, что автор берет на себя
не роль судьи, а роль следователя, по путаным показаниям персонажей восстанав¬
ливающего истинную ситуацию.
Это относится прежде всего к лучшей из двух пьес драматурга - «Старший
сын». То, что в пьесе «Прощание в июне» остается еще в состоянии попытки, по¬
иска, здесь оборачивается завершенностью неожиданной драматической формы,
новым видением проблем и отношений.
Эти обе пьесы Вампилова написаны о молодом герое, которому предстоит
открыть для себя истинный смысл как вечных, так и сугубо сегодняшних проблем.
Если говорить об авторском идеале, о том качестве, которое он непременно хочет
увидеть в своем герое, то это способность к творчеству. Не обязательно художе¬
ственному творчеству, искусству. В глазах Вампилова ею наделен и талантливый
студент-биолог Колесов, и неудавшийся музыкант Сарафанов, и к ней же приоб-
166
Как было и как вспомнилось
щается студент-медик Бусыгин, когда ему удается рассмотреть за бытовыми от¬
ношениями человеческие. Творческая способность воспринимается как гарантия
порядочности, честности, человеческой оригинальности.
Каталогизируя мысли писателей, определяя назывными предложениями их
кредо, систему взглядов, мы еще очень мало что объясняем. Вампилов далеко не
первый писатель, для героев которого талант, понимание прекрасного в самых
различных вещах становилось охранной грамотой против пошлости и зла. «Тот,
у кого нет музыки в душе, кого не тронут сладкие созвучья, способен на грабеж,
измену, хитрость...» - так писал Шекспир в «Венецианском купце». Видимо, эта
мысль звучала и до него и наверняка после. Представление о писателе не может
складываться из одних его ответов на вопросы, но предполагает анализ ситуации,
в которой эти вопросы возникают, а ответы даются.
Отличительной чертой обеих пьес, привлекшей к ним внимание, была их под¬
черкнуто современная настроенность. Автор ищет вечных человеческих качеств,
истин, но не вопреки современному материалу, а угадывая их в новых временных
масках. Ситуация художественного произведения, порождающая конфликт, - это
своеобразный срез жизненных отношений, проба, по которой определяют их ха¬
рактер и смысл. Меняются отношения, устаревают данные, и возникает необходи¬
мость в новой пробе. Или же прежняя ситуация становится чересчур привычной,
переходит в область литературного штампа, незаметно для писателя подчиняя
себе, формализуя реальные проблемы и конфликты. Если в пьесе «Старший сын»
Вампилов целиком освободится от системы шаблонных положений и результатов,
то в пьесе «Прощание в июне» степень успеха зависит от степени преодоления
традиционного штампа.
А. Вампилов не ищет героя «без страха и упрека». Но в самом этом факте
нет еще большого новаторства: литературная эпоха идеальных героев отошла в
прошлое. Решения принимаются героем не по заранее намеченному плану, а как
результат развития ситуации, ее закономерный итог. Однако в этих двух пьесах
итог в различной мере оказывается неожиданным, значимым для зрителя. Степень
предсказуемости в пьесе «Прощание в июне» больше, так как выбор решений
ограничен жесткой схемой характеров персонажей и их взаимоотношений. Опре¬
деленность конфликта может быть результатом точности, принципиальности про¬
тивопоставления, но также и его однозначности. Хотя в пьесе нет непогрешимо
«добрых», в ней есть абсолютно «злые». Это способствует мелодраматическому
упрощению конфликта.
«Прощание в июне» - последние экзамены в институте, распределение со
всеми вытекающими отсюда проблемами. Все это осложняется параллельным сю¬
жетом несостоявшейся свадьбы, на которой талантливый, но строптивый студент
Колесов, не рассмотрев в темноте, с кем имеет дело, «помял» самого ректора и
воротничок ректорской рубашки. Этот инцидент стал последней каплей, пере-
Вечер третий. Советская литература и современная критика
167
полнившей чашу ректорского терпения и начавшей течение основного сюжета.
Корень зла, конечно же, в самом ректоре, от которого страдают жена, дочь, сту¬
дент Колесов, деканат и многие другие лица и организации. Он не скупится ни
на злодейские речи, ни на злодейские поступки, с упорством мелодраматического
злодея отстаивая право на свою отрицательность. Даже к воспитанию дочери он
подходит с макиавеллистской меркой: «Мы желаем ей только добра, а в этом слу¬
чае все средства хороши».
Власть штампа особенно ощутима в образе ректора Репникова. Если разве¬
ять мелодраматический туман, то непосредственная литературная генеалогия это¬
го персонажа довольно очевидна. Это амплуа неудавшегося, но преуспевающего
ученого, писателя, музыканта. Тип, к которому относится еще чеховский Сере¬
бряков и который в современном виде определяется традиционной формулой,
у Вампилова ее находит жена ректора: «Да ведь ты не ученый, в том-то и дело. Ты
администратор и немного ученый. Для авторитета». Он оказывается Серебряко¬
вым в отношении к жене и почти Сальери в отношении к талантливому Колесо¬
ву. Разумеется, чисто типологически. А рядом, если смотреть с другой точки зре¬
ния, еще один сюжет: счастливая в глазах окружающих семья («Ты лучший муж,
а я хорошая жена»), размеренный ритм отношений в которой нарушается с не¬
ожиданным и нежелательным для ее главы появлением постороннего человека.
Наступившее вследствие этого прозрение жены ректора простирается так далеко,
что она говорит о возможном уходе. Жена ректора, правда, не ибсеновская Нора.
Она только предупреждает. Обвинения, нелюбовь, разочарования. И до смеш¬
ного наивно однозначное объяснение ее горестей (оно отсутствует в печатном
тексте, но звучит в спектакле в театре Станиславского): «Хоть бы ты открыл или
написал чего-нибудь».
Ректор, как он сообщает в своей исповеди Колесову, между судьбой которо¬
го и своей собственной видит большое сходство, совершил в молодости ошибку,
предал свои способности ради успеха. В дальнейшем он пожинал последствия
этой ошибки. Все происходит с ним, как и должно произойти по плану морально¬
го наказания, как произошло бы со злым мальчиком из нравоучительной книжки
для воскресной школы. Мы только не знаем, насколько он чувствует свое одино¬
чество, нелюбовь окружающих. Субъективный фактор здесь также немаловажен.
Таня, его дочь, снисходит до жалости, но только чтобы добавить: «Он всегда ви¬
новат». Колесов, по своему амплуа ищущего молодого человека наименее уважи¬
тельно относящийся к готовым истинам, своим ответом нарушает однозначность
приговора: «Все правильно. Виноват всегда тот, кого не любят. Это я понимаю».
Но это, к сожалению, случайный штрих, реплика.
Штамп в первой пьесе Вампилова заметнее, резче, чем во многих гладких,
«хорошо сделанных» пьесах. Но в этом и ее достоинство. Штамп в ней уже осоз¬
нан, он употреблен и одновременно утрирован до пародии, а местами нарушен.
168
Как выло и как вспомнилось
Драматург еще не умеет обойтись без него и одновременно им тяготится; отде¬
ляет то, что он хочет сказать, от того, что принято говорить в подобной ситуации.
И в то же время автор не перестает соотносить мысли и образы своих персона¬
жей с трафаретными, однозначными ситуациями. Он привлекает их постоянно
как иллюстрацию, как ключ к пониманию возникшего конфликта. История Ко¬
лесова, его ошибки отражаются еще в двух судьбах: самого ректора и в притче
о честном ревизоре, которая окажется реальным фактом. В обоих случаях человек
стоял перед выбором, подвергался моральному искушению. Ревизор отказался от
взятки, даже когда она выражалась суммой, произносимой благоговейным шепо¬
том, а ректор не устоял, разменяв свои способности на безликую угодливость ради
карьеры.
Колесов совершает ошибку, чтобы затем ее исправить. Мотив морально¬
го искушения не случайно повторен в пьесе трижды под разным углом зрения,
с различным исходом. Каждый раз аналогичная ситуация создается при различных
обстоятельствах. Для Колесова моральная проблема не возникла бы в том виде,
в каком с ней столкнулся в молодости Репников; Колесов независим, самостояте¬
лен и отказывается поклоняться ректорскому авторитету, что и стало отправной
точкой всего конфликта. Смысл притчи и ее ситуация также достаточно очевидны.
Брать или не брать взятку? Такой проблемы для героя, каким его создает автор,
не могло существовать независимо от размеров суммы. В пьесе он отказывается
от этих же самых денег, даже когда их предлагают под гораздо более невинным
предлогом, чем взятка. Но как отказаться от диплома, который принадлежит ему
по праву и который он не получит, не согласившись на предложение ректора:
в обмен на диплом «оставить в покое» его дочь. Колесов и видел-то ее два или
три раза в жизни. Правда, на том же самом месте, где он сейчас торгуется с ректо¬
ром, совсем незадолго до того у них произошло объяснение... В отличие от двух
других ситуаций искушения в пьесе здесь возможна ссылка на ее неочевидность
для героя: Колесов совершает ошибку именно потому, что он не видит достаточно
ясно моральной проблемы. Отношения с дочерью человека, с которым он сейчас
говорит, для него все еще представляются случайными, он не принимает их серьез¬
но. Настолько серьезно, чтобы за отказом от них он сразу смог почувствовать под¬
лость. Молодой герой еще недостаточно понял смысл отношений - такого героя
Вампилов покажет в следующей пьесе - «Старший сын». Здесь же мелодрамати¬
ческая отрицательность ректора, цинизм слов, в которых заключается договор, -
и все это слишком определенно, очевидно, чтобы не пришло на ум точное слово
«сделка».
Автор подошел к новой и сложной ситуации, но упростил ее благодаря со¬
седству однозначных штампов. Новизна ситуации в том, что, прежде чем решать
проблемы, делать выбор, герой должен увидеть, осознать эти проблемы, различить
их в житейском потоке. Это тоже трудно.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
169
Драма, где действие предельно сжато и законченно, обычно имеет дело с кри¬
тическими ситуациями, которые должны резко изменить жизнь героя, перевести
его в новое качество. Вот удобный случай, чтобы бросить взгляд со стороны на
уже завершившийся отрезок жизненного пути и подумать о новом: человек кон¬
чает школу, институт, женится и т. д. Соответственно, существует не очень об¬
ширный и многократно апробированный ассортимент «критических ситуаций»:
школьный или институтский выпускной вечер, свадьба... Это обычные жизненные
факты, и было бы абсурдным накладывать на них табу только потому, что о них
говорили слишком часто и сказано слишком много. «Слишком много» еще не
значит все. Однако привычная сюжетная ситуация начинает диктовать и свои за¬
коны, заставляет следовать не изменчивости человеческих отношений, а стабиль¬
ности художественного стереотипа. Характеры при этом превращаются в маски
с определенной сюжетной функцией, но в отличие от театра масок не имеют права
на импровизацию, непосредственность сценической реакции. Результат: человек
распадается на «качества», характеристики, которые именуются, регистриру¬
ются, но не живут в сценическом жесте. Маска хочет казаться человеком, а это
ей, естественно, не удается. Художественный итог возникает как сумма, точнее
разность, отвлеченных и достаточно банальных высказываний, речений, которые
существуют вне действия в качестве назывных определений поступков и характе¬
ристик персонажей.
Уже в пьесе «Прощание в июне» Вампилов отходит от общепринятых ком¬
позиционных решений, нарушает грамматику художественного языка, но не нахо¬
дит еще нового организующего принципа. Это произойдет в следующей пьесе -
«Старший сын». Если подойти к пьесе с традиционной меркой, то снова можно
обнаружить схему самых различных драматических конфликтов: неразделенная
любовь Васи Сарафанова, несбывшаяся мечта его отца об артистическом успехе,
неудовлетворенность Нины сделанным выбором, наметившийся любовный тре¬
угольник. При этом автор не будет стремиться довести каждый сюжет до конца:
вполне достаточно, если удастся понять не схему, а смысл отношений. Сам жанр
произведения, хотя автор и поставил слово «комедия», можно условно опреде¬
лить как «драму отношений». Люди перестают видеть вокруг. Как форма изобра¬
жения в искусстве, застывая, подчиняет реальность отношений и характеров, так
и сама форма человеческих отношений, быт формализуют человеческое содержа¬
ние. Утрачивается ощущение связи между поверхностным и существенным в ха¬
рактере людей, между ролью, которую они играют, их функцией и субъективным
стремлением.
Строго говоря, в этом нет ничего нового, необычного. В любом произведе¬
нии конфликт неизменно связан с противоречием между субъективными желани¬
ями человека и его местом в жизни; между желаемым и достигнутым. Констата¬
ция этого факта еще мало что или ничего не проясняет. Характер произведения
170
Как было и как вспомнилось
зависит от широты обобщения этого несоответствия и от его оценки, от точки
зрения. Она может оказаться комической или трагической (ситуация во многих
комедиях и трагедиях Шекспира одна и та же), может обернуться горьким сетова¬
нием: «Мы столько убили в себе не родивши» - или героическим прославлением
тех, «кто вынес огонь сквозь потраву». В пьесах Вампилова есть два персонажа,
в ком это несоответствие определяет смысл характера, да, пожалуй, и всей пьесы:
ректор Репников и музыкант Сарафанов. Первый - человек, которому успех не
принес ни счастья, ни удовлетворения, второй - счастливый неудачник. «Нет-нет,
меня не назовешь неудачником. У меня замечательные дети...» У Сарафанова не¬
соответствие между разговорами о Глинке и Берлиозе, о сочинении музыки, об
игре в симфоническом оркестре - и истинным положением: играет на танцах и
похоронах - даже более глубоко, чем у «администратора, а не ученого» Репнико-
ва. У ректора это чисто ретроспективное противопоставление того, чем он мог и
хотел стать, и того, чем он стал. У Сарафанова «блаженность» - выражение ушед¬
шей от него жены - в его субъективной неизменности, независимости от событий
и фактов. У первого - растворение в настоящем, у второго - его преодоление ради
идеала, хотя и неосуществимого. Всегда говорящий правду Кудимов возвращает
Сарафанова к фактам, вырывает у него признание: «Да... серьезного музыканта из
меня не получилось, и я должен в этом сознаться...»
Но здесь оказывается, что субъективный, человеческий фактор заставля¬
ет по-новому, иначе разобраться в схеме традиционного противопоставления:
успех - не успех. Сарафанова не назовешь неудачником.
Новое искусство не обязательно связано с открытием новых экзотических
тем, а часто связано с открытием того, что воспринимается как само собой ра¬
зумеющееся. На новом толковании самых простых, а потому самых существенных
отношений. Сарафанов говорит: «Зачерстветь, покрыться плесенью, растворить¬
ся в суете - нет, нет, никогда». Но события повторяются, повторяются мелкие,
повседневные дела, они автоматизируют отношения между людьми. Делают их
настолько само собой разумеющимися, что никто больше не задумывается о них,
и отношения теряют смысл, превращаются в обязательный, заученный ритуал.
Что может нарушить эту размеренность? Только изменение самих отношений,
в пьесе - сценического бытия персонажей. И в пьесе «Старший сын» Вампилов
прибегает к резкому искусственному приему, который приведет к смене ритма су¬
ществующих отношений, к созданию критической ситуации.
Пьеса строится как своеобразный психологический эксперимент. Автор
как будто задается вопросом: «А что произойдет, если...» Если незнакомый мо¬
лодой человек придет, или, точнее, случайно попадет в чужую семью и по стече¬
нию обстоятельств выдаст себя за старшего сына. Бусыгин и Семен Севостьянов
по кличке Сильва - те два персонажа, которые неожиданно вторгаются в семью
Венер третий. Советская литература и современная критика
171
Сарафановых, совершают это неожиданно и для самих себя. Они провожали де¬
вушек, познакомившись с ними и между собой в кафе. Оказались в двадцати кило¬
метрах от дома в тот момент, когда последняя электричка уже ушла. Ранняя весна.
Холодно.
Ситуация, с которой начинается действие, - результат случайности, но слу¬
чайности драматически подготовленной. Мотивированность здесь заключается
в том, что зритель подготовлен к восприятию случайности в момент, когда она
происходит, не сознавая того, ожидает ее. Ожидание и подготовка складывают¬
ся из нескольких нейтральных, также случайных фактов и совпадений. Смысл их
остается скрытым от персонажей, для которых они играют роль неосознанной
психологической мотивировки, но воспринимается зрителем как обоснование ло¬
гики драматического развития. Зритель, читатель в непосредственном восприятии
признает правдоподобным то, что естественно включается в имеющуюся ситуа¬
цию, не разрушая ее, а, напротив, в соответствии с ее законами.
Вначале зритель еще не знает, как будут развиваться действие и логика сюже¬
та, связь между отдельными фактами, скрытая от него, понимается лишь с высоты
конечного результата, задним числом. Первым эпизодом в цепи мотивировок ста¬
новится рассказ Сильвы о своем отце. Сильва говорит о своем «почтенном роди¬
теле», а затем обращается к Бусыгину, с которым они только что познакомились:
«А у тебя?»
Бусыгин. Что - у меня?
Сильва. Ну с отцом. То же самое разногласия?
Бусыгин. Никаких разногласий.
Сильва. Серьезно? Как это у тебя получается?
Бусыгин. Очень просто. У меня нет отца.
Дальше они случайно подслушивают разговор старшего Сарафанова с Макар-
ской и видят, как он зашел к ней в дом. Это истолковывается ими по-своему. Они
заметили, откуда вышел Сарафанов и что в освещенном окне квартиры была еще
чья-то фигура.
Сильва. Вроде там парень еще маячил.
Бусыгин (задумчиво). Парень, говоришь?..
С и л ь в а. С виду вроде молоденький.
Бусыгин. Сын...
С и л ь в а. Я думаю, у него их много.
Им нужно всего лишь где-то провести ночь, согреться, но кто же пустит в дом
двух незнакомых парней, если не «соврать как следует». Они не против того, что¬
бы соврать, но что? Плана еще нет, и все получается спонтанно.
172
Как было и как вспомнилось
Бусыгин выдает себя за Андрея, старшего сына Сарафанова. Ситуация уже во
многом оправданна, так как зритель знает два важных обстоятельства. Во-первых,
у Бусыгина нет отца. Бусыгин сам напомнит об этом, отвечая на вопрос Сильвы,
как он до этого додумался.
Бусыгин (насмешливо). Случайно. Совершенно случайно. Я рос на али¬
ментах, об этом нет-нет да и вспомнишь. Во мне проснулись сыновние чувства.
Но и в первый раз, когда он сообщает факт, он не мог остаться незамеченным,
затеряться. Это была не случайно оброненная фраза, а целый яркий эпизод, кото¬
рый подводит к сообщению факта. Внимание зрителя активизируется на занятном
рассказе Сильвы о своем родителе, который завершается совсем уже неожиданно.
Сильва. На, говорит, тебе последние двадцать рублей, иди в кабак, напейся,
устрой дебош, но такой дебош, чтобы я тебя год-два не видел!.. Ничего, а?
Зритель ждет, что же дальше, каков выход. Может быть, аналогичная история
у Бусыгина? Следует интригующая внимание серия вопросов, и лишь на третий
Бусыгин отвечает: «У меня нет отца». Драматически очень тонко построенный
эпизод: то, что должно запомниться, не затеряться в памяти, подается по принци¬
пу обманутого ожидания, как антикульминация.
Второе обстоятельство, которое знает зритель, - визит Сарафанова-старшего
к Макарской - окажется в дальнейшем ложной мотивировкой, но пока что это не¬
важно. Бусыгин уже произнес слово «сын». Сильва оценил его: «Я думаю, у него
их много». И тут же они начинают жонглировать этим словом, пока что навязывая
зрителю саму идею.
Бусыгин. Пошли-ка с ним познакомимся.
С и л ь в а. С кем?
Б у с ы г и н. Да вот с сыночком.
С и л ь в а. С каким сыночком?
Б у с ы г и н. С этим. С сыном Сарафанова. Андрея Григорьевича. Но как же
сообщить Васеньке Сарафанову о новоявленном братце?
Васенька в предыдущей краткой сцене, пока приятели поднимались в их квар¬
тиру, имел неприятный разговор с сестрой о том, кто должен подумать об отце.
И вдруг приходит взрослый человек, Бусыгин, и заявляет: «Все дело в том, что
Андрей Григорьевич Сарафанов - мой отец».
В отдельно вышедшем издании пьесы («Искусство», 1970) текст звучит
именно так. В спектакле московского Театра имени М. Н. Ермоловой (постановка
Г. Косюкова) эпизод сделан более неожиданно, как еще одна комбинация случай-
Вечер третий. Советская литература и современная критика
173
ностей, простое недоразумение. Приятели, обидевшись на негостеприимность
Васеньки и немного согревшись, собираются уходить. Бусыгин напоследок броса¬
ет высокопарную фразу о страждущем и замерзающем брате, которая в безалабер¬
ной голове Сильвы материализуется, лишается метафоричности и преподносится
им в буквальном значении ошеломленному Васеньке. Позже Сильва и Бусыгин так
и не могут решить, кто же так здорово придумал.
Теперь остается последнее, но самое сложное - как устроить их встречу
с Сарафановым-старшим. До сих пор автор избегал малейшей драматической
резкости. Обоснование мотивированности, оправданности случайного в драме
проводилось так скрупулезно и замедленно, что зритель не только не ощущал ка¬
кой-либо натяжки, но и опережал события в подготовленности к их восприятию.
Когда ситуация возникла, она уже не поразила зрителя своей неестественностью.
Напротив, даже старый, как театр, прием подслушивания - Сильва и Бусыгин уз¬
нали недостающие факты из разговора Сарафанова и Васеньки - не показался не¬
правдоподобным. Драматическое правдоподобие было соблюдено. Искусствен¬
ность условного приема была замаскирована, удачно скрыта за сетью случайных,
но взаимосвязанных фактов. Первое действие пьесы - вживание Сильвы и Бусыги¬
на в ситуацию, которое завершается удачно, и Сильва исполняет под занавес свой
частушечный зонг:
Эх, да в Черемхове на вокзале
Двух подкидышей нашли,
Одному лет восемнадцать,
А другому - двадцать три!
Бусыгин и Сильва неожиданно превращаются в свидетелей, наблюдателей чу¬
жой жизни, присутствуют при создании «сцены на сцене». Они случайно стол¬
кнулись с незнакомым миром отношений, конфликтов, но если Бусыгин постепен¬
но становится его жителем, то функция второго персонажа в развитии действия
иная. Сильва так до конца и остается вне семейных отношений, а когда пробует
«подыграть» Бусыгину, то находит лишь шаблонные, фальшивые фразы. Он ис¬
полняет роль своего рода барометра искусственности, придуманности ситуации,
заставляя зрителя постоянно ощущать грань между миром действительных и дра¬
матически искусственных отношений. Само появление этих двух персонажей не
создает конфликта, но становится условным приемом, позволяющим им вместе со
зрителем стать свидетелями происходящего. Этот формальный прием не опреде¬
ляет смысл пьесы, а только помогает понять его.
Создается критическая ситуация. Она достаточно критична и сама по себе:
Нина выходит замуж и собирается уезжать в Хабаровск, влюбленный Васенька со¬
вершает глупости и почти бросает школу и дом. Кто-то должен остаться с отцом.
174
Как было и как вспомнилось
Здесь-то как раз и подвернулся старший брат. Он выполняет в их отношениях роль
катализатора - ускорителя реакции. Новый человек, которому излагают свои вер¬
сии и поддержки которого добиваются. Так поступают и Нина, и отец, по просьбе
которого Бусыгин ведет разговоры с Васенькой.
По мере того как Бусыгин перестает быть чужим в этой семье, вживается
в ткань их отношений, на месте прежней общности его с Сильвой обнаружива¬
ется противопоставление. На поверхностном, внешнем уровне между ними нет
принципиальной разницы. Сильва развязней, Бусыгин мрачнее и недоверчивее.
Именно ему принадлежит афоризм: «У людей толстая кожа, и пробить ее не так-
то просто. Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют».
И, следуя этому афоризму, в печатном варианте пьесы именно Бусыгин придумы¬
вает историю со старшим сыном. Сильва в финале пьесы предупреждает Сарафа-
новых, что они имеют дело с рецидивистом. Сам он в это почти верит. Еще в пер¬
вом действии, не понимая, что затевает Бусыгин, он интересовался, не воровство
ли? И тут же скромно оговаривался, что воровство не его жанр. Разница между
ними в более глубоких человеческих качествах, которые находит в себе Бусыгин и
не находит Сильва.
Сильве в пьесе, где нет деления на «чистых» и «нечистых», нет человека, ко¬
торого можно объявить корнем зла и, перевоспитав, искоренить зло, принадле¬
жит слишком заметное место, чтобы можно было так просто отделаться от него,
выставив в прогоревших штанах. Зритель легко принимает комическое снижение
этого образа, но на протяжении всей пьесы симпатизирует ему, аплодируя испол¬
нителю, но распространяя свое приязненное отношение и на улично-разговор¬
ное остроумие самого персонажа. В Сильве зритель находит обаяние современ¬
ности, сегодняшнего дня и с удовольствием улавливает знакомые разговорные
нотки.
Апофеоза привлекательности Сильва достигает в сцене с Кудимовым. Он бе¬
рет на себя роль антагониста этого правильного и не очень умного, по собствен¬
ному признанию Нины, человека. В этой сцене каждая реплика воспринимается
как его победа и унижение несимпатичного Кудимова. Сильва и Кудимов - край¬
ности, но одного жизненного принципа, которому не подчиняются Сарафановы и
вошедший в их семью Бусыгин. Это крайности, которые смыкаются в некоторых
существенных чертах, может быть самых неожиданных. И рассудительный Ку¬
димов, и безалаберный Сильва живут без мысли, без естественной человечности,
с той только разницей, что один это делает по часам, а второй вопреки им. Сильва
и Кудимов - люди, никогда не соприкасавшиеся с областью творчества не только
в сфере искусства, но и в сфере элементарной мысли. Способность к творчеству
уже в стремлении что-либо создавать, думать, делать.
Она не заверяется членским билетом одного из творческих союзов. Она есть
в Сарафанове, который только один раз перешел на вторую страницу сочиняемой
Вечер третий. Советская литература и современная критика
175
им и нескончаемой кантаты. Результат творчества важен для искусства, для других.
Способность, желание творить важно для самого человека и поэтому для других.
У Сильвы и Кудимова показатель человеческой оригинальности равен нулю, а
творческие способности безвозвратно атрофированы. Такие люди существуют как
игра природы, неповторимое сочетание атомов, но как человеческая личность, на¬
деленная даром соображения, они растворились в «суете» без малейшего остатка и
сожаления. Или, может быть, для них есть путь назад к человечности, которым про¬
шел в пьесе Кудимов? Какая для них нужна критическая ситуация?
Не оправдались предсказания Сильвы, когда в самом начале он говорил Бусы¬
гину: «Мы будем друзьями, ты увидишь». С Бусыгиным происходят изменения,
возможность которых трудно предположить по первому знакомству. А впрочем,
изменения ли? Скорее проявление скрытых качеств, которые не нужны в «суете»,
но раскрываются в критических условиях. Если снова вернуться к первой сцене,
то слова Бусыгина прозвучат теперь в иной тональности. То, что принималось за
цинизм в условиях первоначальной ситуации, воспринимается теперь как разо¬
чарованность не нашедшего себя молодого человека перед лицом «суеты». Это
также попытка «не раствориться», недоступная пониманию Сильвы. Разочаро¬
вание предполагает столкновение в сознании человека наличного существования
и более или менее осознанного идеала. Толчком к его осознанию для Бусыгина
послужила встреча с Сарафановым.
Интересная черта: Бусыгин легко и несколько свысока бросает Сильве тезисы
своей теории разочарования в начале пьесы. По мере того как к нему приходит
понимание фактов и отношений, он теряет голос. Он начинает действовать по-но¬
вому, но думать и говорить по-новому он еще не научился, не привык. «Бусыгин
в полной растерянности» - одна из авторских ремарок, передающая его новое
состояние. Он еще чувствует себя неуверенно в этом новом положительном каче¬
стве. Отсюда и его пассивность в сцене с Кудимовым, где достигает своей кульми¬
нации Сильва, чтобы в следующей сцене совершить этот почти незаметный шаг,
отделявший его от смешного, от пародии.
Последовательный в своем непонимании и суетливости, Сильва внешне вы¬
глядит теперь более уверенным и самостоятельным, чем растерявшийся, еще не
пришедший в себя Бусыгин, над которым Сильва уже старается подсмеиваться.
Истине, в которую верит Сильва, необходимо противопоставить убежденность
в существовании иных, недоступных его пониманию принципов. Так возникает
новая поляризация: Сильва - Сарафанов. Сильва и Сарафанов почти не сталки¬
ваются непосредственно, и в тех сценах, где участвуют оба, чаще всего возника¬
ет комический эффект: настолько сильна их несовместимость, различие языка, на
котором они говорят, их поведение. В комедии, как определил автор жанр этой
пьесы, столкновение между ними возможно только на внешнем уровне комиче¬
ского непонимания. Существенное различие между ними гораздо драматичней,
176
Как было и как вспомнилось
и возможность такого конфликта сохраняется лишь в подтексте. Но в пьесе есть
возможности сценической реализации.
Для выражения этого отношения очень верную музыкальную метафору нахо¬
дит постановщик спектакля в Таллинском государственном русском драматиче¬
ском театре А. Поламишев: появлению Сарафанова сопутствует ненавязчивое, но
определенное по сценическому замыслу музыкальное сопровождение из музыки
Вебера и Стравинского, которое сталкивается, контрастирует с песенно-гитар¬
ным репертуаром Сильвы. Каждый из персонажей получает свою визитную кар¬
точку, по которой его нельзя не узнать. Смысл метафоры очевиден: искусство как
выражение непреходящего человеческого начала и шлягеры, которые интересны
и забавны сегодня, но едва ли доживут до завтрашнего дня.
* * *
Каким же предстает в пьесе настоящее? Наиболее легко, естественно узнают¬
ся черты настоящего в Сильве, в его языке, в его шуточках... Именно он, особенно
в первом акте, заставляет зрителя ощутить точность современного речевого коло¬
рита. Сильва становится символом настоящего, но лишь того настоящего, которо¬
му в лексиконе Сарафанова соответствует слово «суета»:
Сарафанов. <...> Если ты думаешь, что твой отец полностью отказался от
идеалов своей юности, то ты ошибаешься. Зачерстветь, покрыться плесенью,
раствориться в суете - нет, нет, никогда. (Привстав, наклоняется к Бусыгину,
значительным шепотом.) Я сочиняю. (Садится.) Каждый человек родится
творцом, каждый в своем деле, каждый по мере сил и возможностей должен
творить, чтобы самое лучшее, что было в нем, осталось после него. Поэтому
я сочиняю.
В соответствии с выбранным жанром источник конфликта представлен в ко¬
мическом свете. Может показаться, что Сарафанов преувеличивает опасность
«суеты». Кто ее представляет? Сильва. Таков закон жанра: зло изгоняется с по¬
зором и подвергается осмеянию. Но кроме Сильвы еще есть Бусыгин с его цини¬
ческими сентенциями в первой сцене, есть, наконец, и семейство Сарафановых,
заблудившееся в собственных отношениях: отец, стыдящийся своего настоящего,
скрывающий его; Нина, которая уже почти готова войти в круг размеренной суе¬
ты - единственное, что ей может предложить «сильный и добрый» Кудимов.
Ни Кудимов, ни Сильва не могут служить моделью для портрета современ¬
ного молодого человека. И в том и в другом отсутствует индивидуальность, их
собственная физиономия ничем не примечательна. Они могут быть интересны
Вечер третий. Советская литература и современная критика
177
как представители определенного социологического типа, могут появиться для
полноты картины как фигуры фона, но не в качестве персонажей первого плана.
В пьесе «Старший сын» Бусыгин делает шаг из неразличимости «суеты» к аван¬
сцене настоящего.
Вампилову удается добиться портретного сходства, уловить точные черты
в портрете молодого человека 60-х годов. Но сам портрет остается еще в эскизах,
беглых набросках, когда главное только угадывается. Вампилов в пьесе «Старший
сын» не отправляет своего героя на разрешение глобальных проблем, а заставляет
его вначале найти эти проблемы. Люди по отношению к тому или иному вопросу
делятся на тех, кто отвечает «да», и тех, кто отвечает «нет». Но и те и другие
отличаются от третьих, для кого этот вопрос вообще не существует. Автор уже
в пьесе «Прощание в июне» показал, как ошибка совершается героем не в резуль¬
тате сознательного аморализма, а из-за недостаточно развитого морального чутья,
отсутствия сложившегося морального критерия.
В пьесе «Старший сын» герой - Бусыгин - появляется перед зрителем в маске
циника. Но это маска. Не совсем верно говорить, что характер этого персонажа
дается в развитии. В развитии дается не его характер, а самосознание: то, что было
им спрятано под маской не только от глаз окружающих, но и от себя, обнаружи¬
вается, когда герой отказался от маскарада. С этого момента его сопротивление
«суете» не замыкается в негативизме, но получает внутреннее положительное
обоснование. Он преодолел власть «суеты», заглянув в сущность человеческих
отношений, заметив разницу между планом выражения и планом содержания. Что
же дальше? Ответ на этот вопрос уже за рамками сюжета пьесы.
В рассмотренных пьесах А. Вампилова сделан первый шаг художественного
новаторства - открытие настоящего в его непосредственном ощущении. Насто¬
ящего, свободного как от власти литературного штампа, так и от того внешнего,
случайного, что приносит с собой Сильва. Новизна драматической ситуации и
языка позволяет автору, отбросив установившиеся штампы, еще мешавшие ему
в пьесе «Прощание в июне», найти современную, реальную форму существова¬
ния вечных человеческих проблем. В этой камерной пьесе нет еще вопросов на
уровне времени, но есть сегодня, которое необходимо не только запротоколиро¬
вать в современных выражениях, но и понять с точки зрения человеческих, а не
условно литературных отношений.
1974
Книге о Николае Асееве и ее критики
Игорь Шайтанов
Выбор
Глава из книги «В содружестве светил»
Список поэтов в издательстве «Советский писатель», о ком у них планировался вы¬
пуск книги, не был ни широк, ни привлекателен. Николай Асеев был единственным, кто
мог бы меня заинтересовать. И я согласился.
Мои познания о нем и начитанность в его поэзии не выходили далеко за пределы
сложившейся репутации - советский классик, поэт-лауреат и в том смысле, что - получа¬
тель премий (правда, высшей - Ленинской - так и не был удостоен), и в том, что - поэт,
освещавший государственные события, в течение нескольких десятилетий исполняя
социальный заказ, на который он подписался вместе с Маяковским в качестве его бли¬
жайшего соратника. Но сквозь эту хрестоматийную картинку таинственно просвечивало
воспоминание о хлебниковской футуристической юности, где друзьями Асеева (и цени¬
телями его стихов) были Сергей Бобров, Борис Пастернак. Именно этот смутный образ
подновил Андрей Вознесенский, когда в стихотворении, обращенном к Маяковскому,
вспомнил:
Вы ушли
понимаемы процентов на десять.
Оставались Асеев и Пастернак.
Время было как будто подходящим для того, чтобы, не рискуя подставить ни себя, ни
поэта, вчитаться в те старые стихи. Они были в основном доступны - в первом томе собра¬
ния сочинений, вышедшего в 1960-е годы. Моя книга, увидевшая свет летом 1985 года,
подоспела к самому началу больших перемен, когда практически все стало можно. Но
писалась и печаталась она в тот момент, когда многое еще было нельзя. Запрет распро¬
странялся не только на мнения, но и на имена. Уже в верстке из книги снимали Зинаиду
Гиппиус: ее стихи оставили, а имя на всякий случай сняли. Сняли и Николая Бухарина
с его выступлением на Первом съезде писателей.
Эти изъятия не сильно мешали сюжету книги, как я его себе представлял. Сюжет
был о судьбе поэзии, сильно зависимой (и пострадавшей) от условий времени, но сюжет
все-таки был погружен внутрь стиха. Даже поэтические схождения и расхождения меня
интересовали прежде всего не в манифестах и в мемуарах (которые увлеченно и детально
обсуждаются всеми пишущими, кажется, о всех направлениях авангарда), а в простран-
Вечер третий. Советская литература и современная критика
179
стве образного ряда, где было немало полемики, достаточно очевидной современникам и,
вероятно, в силу цензурных условий возможной только в виде метафорических иносказа¬
ний, но с тех пор стершейся и непрочитанной.
И еще меня интересовало их знаменитое «делание» стиха. Главу о нем я назвал «Тех¬
ника стиха» и на ее примере понял, что далеко не все будет так уж безбедно проходить и
позднюю советскую цензуру, не столько более либеральную, сколько более небрежную,
утратившую идеологическую бдительность. Эту главу я предложил в «Вопросы литера¬
туры». Редакцией она была одобрена и принята, но на уровне редколлегии возникли пре¬
пятствия. Воспротивился главный стиховед - Л. Тимофеев. Зачем и нужно ли ворошить
то, что ему казалось давно «преодоленным» (любимое слово для характеристики того,
как, «преодолевая» юношеские заблуждения, писатели выкатывали на столбовую дорогу
единственно верного метода). Редакция нашла верный внутренний ход, как обойти одно¬
го идеологического стража за счет другого, более мощного - М. Храпченко, используя их
внутренние противоречия.
Вторая из наиболее важных для меня глав также предварительно прошла через жур¬
нал - «Октябрь», лишь сменив свое название «Выбор» на более развернутое и аннотиру¬
ющее содержание: «Сопряжение крайностей. Н. Асеев в советской поэзии 1920-хгодов»
(«Октябрь», 1982, № 6. С. 192-200). Сегодня я предлагаю именно эту главу, демонстри¬
рующую отношения поэтов в жизни стиха.
В целом, у моей асеевской книги была счастливая, хотя и кратковременная, читатель¬
ская судьба. Ее глубоко и интересно отрецензировали. Мне было особенно дорого, что
на книгу откликнулись поэты разных поколений. Давид Самойлов процитирует мое за¬
мечание об «одноразовой форме» в воспоминаниях о Борисе Слуцком как о близком им
понимании поэтического жанра. Тогдашний метаметафорист Алексей Парщиков пода¬
рит мне свою первую книгу «Днепровский август» (1986) с надписью: «...с благодарно¬
стью за Асеева». Правда, напоминание о начале русского авангарда не всех обрадовало, и
Н. Вильям-Вильмонт с наигранным театральным ужасом скажет мне: «Вы написали книгу
о том, от чего я всегда пытался уберечь Бориса Леонидовича». Так или иначе, по доброй
воле или по идеологическому предписанию, но все эти поэты расставались с ранней «тех¬
никой стиха», впрочем, расставались ли или преобразовывали ее во что-то иное, но с ней
сопряженное?
О кратковременности читательской судьбы этой книги я сказал потому, что поэтиче¬
ские юбилеи рубежа 1980-1990-х годов вновь заслонили Асеева. К тогдашнему столетию
я выпустил его сборник «Избрань» в издательстве «Художественная литература». Пя-
тидесятитысячный тираж разошелся очень быстро, причиной чему можно считать и наи¬
более полное собрание раннего Асеева, и включенное в книгу факсимильное воспроизве¬
дение сборника «Зор», и под стать стихам - шрифтовое оформление одного из лучших
художников книги Василия Валериуса. Он же оформил и мою книгу об Асееве. Я написал
в предисловии 1990 года практически то же, что и несколькими годами ранее, когда еще
не все было можно.
В заключение хочу сказать, что одно из самых проницательных мнений о моей книге
дошло до меня в форме критического упрека от ленинградского литературоведа, также
автора книги об Асееве, - Дмитрия Молдавского: «Шайтанов пишет о футуризме Асеева
180
Как было и как вспомнилось
так, как будто никто до него об этом не писал». Именно так я и хотел написать, разу¬
меется прочтя всю критику, сопровождавшую творческий путь Асеева, и все позднейшие
исследования. Но написать мне хотелось в какой-то мере забыв написанное о манифестах,
теориях, о спорах и ссорах поэтов, вслушиваясь только в то, что поэты говорят друг другу
стихами. Острее всего этот поэтический разговор сложился в 1920-х годах, когда все они
делали свой выбор.
2017
И стало тогда соловью невмочь
от полымем шедшей одуми:
ему захотелось - в одно ярмо
с гудящими всласть заводами.
Н. Асеев. О нем
Почти пять лет, проведенные Асеевым вдали от столиц, не были временем,
потерянным для поэзии. И все-таки в Москву Асеев возвращался с беспокойным
чувством. Его не рассеяло ни дружеское письмо Маяковского, ни помощь Луна¬
чарского. Нужно было самому убедиться, что не отстал от других, не оторвался и
не забыт. С радостью и явным облегчением Асеев напишет читинским друзьям по
приезде: «А главное - то видимое общее доброжелательство, которое встретил
здесь вместо ожидаемого холодка и "занятого места”»1.
Сразу Асеев начинает печататься в многочисленных, уже московских журна¬
лах, газетах, альманахах как поэт и как критик. Вскоре выходят сборники: «Сталь¬
ной соловей» (вторая книга, выпущенная Маяковским в организованном им
издательстве МАФ, первой была его поэма «Люблю»), «Совет ветров» и «Из-
брань». Что-то включал из написанного ранее, привезенного из Читы, многое соз¬
давалось в эти первые месяцы. Асеева заметили, о нем заговорили: А. Луначарский
в «Правде», В. Брюсов в «Печати и революции», О. Мандельштам в «России»,
В. Правдухин в только что начавшихся «Сибирских огнях». Его называли в числе
лучших современных поэтов, а иногда и самым лучшим. «Николай Асеев едва ли
не самая яркая фигура поэзии сегодняшнего дня», - начинает свой обзор «Среди
стихов» В. Брюсов2. С ним солидарен и А. Луначарский, который если и говорит
в открытом письме Асееву (отвечая асеевским критикам и снимая с себя упрек
в захваливании), что «первым поэтом» его не назначал и даже «не величал»3,
то в частном письме к нему же, написанном, видимо, раньше, обращается так:
1 Раппопорт Е. Г. Поэзия поиска. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1980. С. 118.
2 Печать и революция. 1923. № 4. С. 134.
3 Правда. 1923.7 декабря.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
181
«...поговорим лучше о поэтах и прежде всего о самом, по моему мнению, круп¬
ном, которого мы сейчас в России имеем, о Вас»1.
Были и упреки, но заметнее их на первых порах - предостережения. Предо¬
стерегали от опасности потерять себя в «бриковщине», «маяковщине», в непо¬
мерном восхвалении Пастернака, «импресарио» которого один критик назвал
Асеева2. Во всяком случае, его хотели видеть вне групп, самого по себе: «Совер¬
шенно в стороне от Маяковского стоит Асеев...» (О. Мандельштам)3.
Не значит, что вовсе не критиковали. Появлялись и резкие выпады, подобные
статье Л. Сосновского «Литхалтура» по поводу поэмы «Буденный», и уже тогда
раздались первые возражения против преувеличенной техники стиха, а заодно и
против чрезмерного увлечения техникой машинной, индустриальной. Упреки это¬
го рода оказались наиболее устойчивыми, повторяемыми и теперь.
Особенно легко избыточное «звукостроение» находят в стихах индустриаль¬
ных, скажем, в первой строфе стихотворения «О нем» - о «стальном соловье»:
Со сталелитейного стали лететь
крики кровью окрашенные,
стекало в стекольных, и падали те,
слезой поскользнувшись страшною.
Справедливости ради нужно напомнить, что манера Асеева не меняется и за
пределами «стальной темы». В стихах «Об обыкновенных» - об обыкновенных
соловьях - сделанности ничуть не меньше, столь же явно и нарастание звуковой
волны:
Розовея озерами зорь,
замирая в размерных рассказах,
сколько дней на сквозную лазурь
вынимало сердца из-за пазух!
То же сопряжение родственных созвучий, но здесь к нему то ли относятся
благосклоннее, то ли снисходительно не замечают. Так что причина критических
упреков не просто в излишествах стихотворной техники, но в теме, которая нра¬
вится или не нравится критикам. И в соответствии со своим вкусом они то со¬
гласны принять звуковое напряжение как соответствующее силе эмоционального
разряда, то полностью отвергают его, считая за знак профессиональной изощрен¬
ности, прикрывающей недостаток чувства.
1 Урал. 1965. № 11. С. 167-168.
2 Правдухин В. П. В борьбе за новое искусство // Сибирские огни. 1922. № 5. С. 177.
3 Русское искусство. 1923. № 1. С. 82.
182
Как было и как вспомнилось
Этот недостаток неизменно видят там, где соловьиные трели заглушены
«стонами стали, шепотом шкива, свистом ремня», не вдохновляющими критиков,
которые отказываются верить, что поэтический энтузиазм Асеева был вполне ис¬
кренним. В этом главная и столь распространенная ошибка - своим восприятием
мы подменяем восприятие поэта.
Вкусы бывают разными: одному нравится Фет, другому - Маяковский. Но ис¬
следователь поэзии если и не обязан любить обоих, то обязан обоих понять. Гово-
ря о бесцельном экспериментировании, Асееву отказывают именно в понимании.
Как и в том случае, когда полагают, будто стихи «Об обыкновенных» продиктова¬
ны искренним вдохновением, а о стальных соловьях - ложной теорией. И то и дру¬
гое было одинаково искренним! Соловьиная песнь получала право звучать толь¬
ко в дуэте с «поющими всласть заводами». Эти два голоса уравновешивали друг
друга и, по мысли автора, создавали гармонию. Обо всем этом нельзя не сказать,
ибо часто торопятся с выводом: получилось - не получилось, не успевая задумать¬
ся над тем, а что должно было получиться. Эта торопливость во многом вызвана
предубеждением. В стихах 1920-х годов на индустриальную тему обычно слышат
только отзвуки теорий и манифестов, появлявшихся тогда в бесконечном множе¬
стве.
Теперь хорошо известны и изучены преувеличения той или иной группы.
О них обычно говорится во вводных разделах, а там, где речь идет об отдельных
писателях, чаще всего звучит слово «преодолевал». Все преодолевали групповую
инерцию, так что даже не всегда понятно, кем она создавалась. И тем не менее это
естественно, и оправдывание идет не только от желания каждого исследователя
обелить своего героя. Дело в другом - в сопротивлении таланта любым жестким
предписаниям. Чем сильнее талант, тем значительнее преодоление. У одних все
творчество умещается на минимальном пространстве, оставшемся между про¬
граммными тезисами. У других эти тезисы - лишь рекламный плакат, который,
даже если и выставляют с упрямой настойчивостью, все равно воспринимается
только как необязательная и часто дезориентирующая вывеска.
Реклама есть реклама. Она рассчитана на запоминание, и она помнится под¬
час тверже самих произведений. Как только слышим - «стальной соловей», сразу
в памяти - «железные цветы», обильно распускавшиеся на пролеткультовской
почве. Все же несправедливо, что следы ложных теорий мы видим куда отчетли¬
вее, чем те верные и необходимые цели, на пути движения к которым эти теории
возникали и преувеличения были допущены.
Очень часто самые резкие столкновения происходят не между противниками,
а между союзниками по поводу того, что считать целью и как к ней приблизиться.
Это верно и в отношении полемики между пролетарскими поэтами лефовцами,
конструктивистами - теми группами, которыми в 1920-х годах руководил созида¬
тельный максимализм. В основе их разнообразных программ лежало одно убежде-
Венер третий. Советская литература и современная критика
183
ние: небывалой эпохе - небывалое искусство. Общей была и уверенность в том,
что промедление преступно. Никто не хотел ждать, когда еще это новое искус¬
ство появится естественным путем, все занимались его ускоренным выведением,
но каждый по своему рецепту. Для одних его гарантией казалась естественная, по
факту происхождения определяемая принадлежность к пролетарской идеологии.
В качестве ее обязательного условия подразумевалась выраженная в искусстве
точка зрения коллектива, взятого в мировом и даже космическом масштабе, но
обязательно сохранившего ощущение своего рабочего бытия - завода. Отсюда и
приверженность к «железной» тематике.
Для других групп отношение искусства к действительности не было столь
жестко и однозначно фиксировано, и главные дебаты разворачивались вокруг
вопроса, каким ему должно быть. И каково значение художника в современном
мире? То ли оно как никогда велико, то ли стремится к нулю, а искусство под¬
лежит упразднению. Ведь можно было сказать, что сейчас, когда творчество ста¬
ло всеобщим законом, кому, как не художнику, поэту взять на себя роль учителя,
дающего уроки творческой организованности и гармонии. Но можно было ска¬
зать и иначе: раз стихия творчества особенно сильна в самой жизни, то художник
должен отправиться на выучку к носителю передовой идеологии и самого совре¬
менного мастерства - рабочему. Все эти варианты возникали, дебатировались,
давая бесконечные поводы для групповой полемики и для разногласий внутри
групп.
Тем не менее весной 1922 года разногласия, хотя и были достаточно сильны,
все же отступали перед привлекательностью самой идеи творческого слияния ис¬
кусства с жизнью. Тогда еще, по словам К. Зелинского, одного из вождей литера¬
турного центра конструктивистов, «Конструктивизм, как флаг, маячил на многих
крепостях»1. Преобладало свободное высказывание, а не групповая полемика.
Б. Арватов, будущий лефовский теоретик, выступал с программной статьей «На
путях к пролетарскому искусству» в «Печати и революции» (1922, № 1), что че¬
рез год-полтора было бы невозможно. Сам способ выражения в этой статье еще
характерен для раннего этапа, когда тезис дается открытым текстом, без дымовой
завесы демагогических фраз и без оглушительного фейерверка полемики. Все на
виду: и достоинство всеобщей тяги к созиданию нового, и передержки, возника¬
ющие оттого, что созидание видится немедленным, не терпящим никаких отла¬
гательств, а его результаты - ни на что однажды бывшее не похожими. Фантазия
мешается с фантазерством.
Пусть не совсем ясно, как и с каким результатом, но несомненно: искусство
должно перерасти в жизнь. Это декларируется всеми левыми и пролетарскими
1 Госплан литературы. Сборник литературного центра конструктивистов (ЛЦК). М.-
А, б. г. С. 14.
184
Как было и как вспомнилось
группами, Хлебниковым, который в статье, открывающей журнал «Маковец»
(1922, № 1), утверждал: «Самым значительным из результатов, достойным че¬
ловеческой деятельности, является объективное художественное созидание». Ар-
ватовым, который точно так же, курсивом, акцентировал не художественную, а
производственную идею: «Искусство органически совпадает с производительным
трудом». А значит, результат творчества совпадает с вещью. Именно так, этим
словом, вобравшим в себя навязчивую конструктивистскую идею делания, и на¬
зывалось «международное обозрение современного искусства», издававшееся
весной все того же 1922 года в Берлине под редакцией Эля Лисицкого и И. Эрен-
бурга, - «Вещь»: «Мы назвали наше обозрение "Вещь", ибо для нас искусство -
созидание новых вещей».
В первом же номере этого недолговечного издания был замечен Н. Асеев
(в следующем и последнем он выступил как автор). В обзоре «Русская поэзия»
Илья Эренбург под французским псевдонимом Жан Сало высказывает суждение
о сборнике «Бомба», сожалея, что стихи Асеева, «несмотря на изумительные
строки скорей культурное напоминание о том, как надо делать вещь, нежели вещь
в себе». Для критика асеевские стихи недостаточно сделаны, недостаточно кон¬
структивны. Но разве саму идею делания Асеев не переносил буквально на твор¬
ческий процесс?
Если горло стало горном,
лень - расплавленным глотком,
надо выть огнеупорным,
мир тревожащим гудком.
Или строчки о рядах рифм, «стоящих за станками»? Как будто бы искусство
отдано во власть производству. Однако обратите внимание - за станки у Асеева
становятся рифмы, а отнюдь не сам поэт, обуянный пафосом производственного
созидания, отправляется на завод, забыв собственное ремесло.
Маяковский смеялся над теми конструктивистами, кто шли на завод, где что-то
сваривали, так в творческом отношении ничего и не наварив. Но он же постоянно
говорил о поэтическом производстве, перерабатывающем «тысячи тонн словес¬
ной руды», он же любил прямое сравнение: «Отношение поэта к своему матери¬
алу должно быть таким же добросовестным, как отношение слесаря к стали»1. Эта
аналогия давала Маяковскому ощущение «в своем плече точек соприкосновения
с плечом молотобойца»2. Поэт, приравненный социологической анкетой к куста-
1 Маяковский В. В. Выступление по докладу В. Я. Брюсова «Поэзия и революция» // Ма¬
яковский В. В. Поли. собр. соч. в 13 тт. Т. 12. М.: ГИХЛ, 1959. С. 454.
2 Маяковский В. В. Выступление на диспуте по докладу А В. Луначарского «Первые кам¬
ни новой культуры» // Маяковский В. В. Указ. изд. Т. 12. С. 290.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
185
рю, числившийся попутчиком, утверждал себя как пролетария. Производственная
метафора у Маяковского никого не смущает, мы понимаем - это только метафора.
Но когда Асеев ведет в стихах дуэт соловья с заводом, это обычно насторажива¬
ет. Либо образ читается буквально и в воображении рисуется опасность того, что
поэт, чего доброго, устроится на завод регулировать сирены. Либо, напротив, об¬
раз кажется слишком абстрактным - в духе времени: как реально можно предста¬
вить поэта, подпевающего заводским гудкам?
Что если попробовать раскрыть этот образ по аналогии с Маяковским - ведь
его желание, чтобы улица заговорила «безъязыкая», заговорила его стихами, - не
кажется нам странным. А у Маяковского это устойчивая метафора, идущая от ран¬
них стихов и продолжающаяся в 1920-е годы:
Скажите -
а с домом спеться
можете?
Язык трамвайский вы понимаете?
Строки из поэмы «Люблю», написанной почти одновременно с тем, как Асе¬
ев призывал поэта на спевку с заводом. Очень близко, очень похоже, и если есть
различие, то оно не в структуре образа и не в зависимости поэта от каких-то тео¬
рий, а в выборе темы.
Крут «вечных» тем расширяется медленно, но он все-таки расширяется. Мы
сейчас с усилием припоминаем, что главная тема современной поэзии - приро¬
да - стала объектом лирического переживания каких-нибудь двести лет назад. До
этого она была поводом для поэтической эмблематики - метафорических укра¬
шений стиля. Мы уже осознали, что XX век утвердил новую вечную тему - город,
поэтому метафоры Маяковского не вызывают возражений. Другое дело - завод.
Современное поэтическое чувство сопротивляется индустриальной тематике.
Даже увлечение производственностью в литературе никого не навело на мысль
о возможности «производственной» поэзии. Она молча признается невозмож¬
ной. Лес, поле и даже город - гораздо более привычный поэтический повод, чем
мартеновский цех. И нельзя приказать поэту, чтобы было иначе. Но почему не ве¬
рить тому, кто без приказа и не по теории, а по духу времени оказался увлеченным
вместо прозрачной голубизны речного потока потоком расплавленной стали или
отлитыми из этой стали конструкциями радиобашен.
Метафора не только опредмечивает впечатление, делая смутное, неясное на¬
глядным и доступным восприятию. Метафора одухотворяет предметный мир, и
ее прикосновением отмечено все, что входит в круг поэзии. Человек способен по¬
этически переживать только те явления внешнего мира, за которыми он призна-
186
Как выло и как вспомнилось
ет самостоятельность бытия, одухотворяя их в своем воображении. Так, природа
показалась поэтической, когда человек признал за ней право на жизнь, на «само¬
достаточность». Любопытно, что возможность натурфилософской аналогии по¬
нималась и самими лефовцами. Один из их хотя и временных союзников И. Грос¬
сман-Рощин защищал асеевского «стального соловья», ссылаясь на знаменитый
манифест тютчевского пантеизма:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...1
Именно таким, не механически составленным из вещей, а населенным организ¬
мами, предстает индустриальный мир в свете асеевских метафор. Процесс жизни,
процесс создания вещи - вот что хотел запечатлеть Асеев и к чему он побуждал
молодого тогда пролетарского поэта В. Казина, давая ему в 1922 году такой
совет:
Не только считать и регистрировать мировые склады вещей, но и создавать
самые вещи. Что же, скажет мне Казин, разве стих - вещь? Не надо смешивать
понятий. Вещь вещает о себе не только формальностью своего существования.
Она имеет биографию процесса своего создания2.
Поэт видит себя не столько создателем вещей, сколько их биографом - он со¬
храняет ритм трудового процесса и память о нем. Так неожиданно в поэзии Асее¬
ва вновь проявилась необходимая для него связь с народной поэтической традици¬
ей, и на таком, казалось бы, неподходящем материале. Асеев в индустриальный век
создавал трудовую песню. Один из самых ранних фольклорных жанров. Неверно
было бы сказать, что поэт выбрал жанр, да и осознавал ли он свой выбор? Это было
невольное и очень точное попадание в жанр, в котором общепризнанная песен-
ность асеевского стиха реализовалась в строгой организованности индустриаль¬
ного ритма:
Ай, дабль, даблью3.
Блеск домн. Стоп! Лью!
Дан кран - блеск, шип,
1 Леф. 1924. №4. С. 122.
2 Асеев Н. Н. Собр. соч. в 5 тт. Т. 5. М.: Изд-во художественной литературы, 1964. С. 577.
Далее ссылки на это издание даются в тексте в круглых скобках с указанием тома и страницы.
3 Первые латинские буквы, которыми обозначается профсоюзная ассоциация США -
«Индустриальные рабочие мира».
Вечер третий. Советская литература и современная критика
187
пар, вверх пляши!
Глуши котлы,
к стене отхлынь.
Формовщик, день, -
консервы где?
Тень. Стан. Ремень,
устань греметь.
Пот - кап, кап с плеч,
к воде б прилечь.
Когда в стихах слышат звон колокольчиков или угадывают какое-либо анало¬
гичное звукоподражание, то говорят о большом мастерстве их автора. Это хоро¬
шо, потому что поэтично. К перебору вагонных и прочих колес тоже привыкли.
А вот работа человека в горячем цеху - предмет, запретный для поэзии, и потому
сами стихи расцениваются как неудача:
Слово, которое должно выразить энергию и мощь технических процессов,
ломается от непосильной тяжести. В перечне машин, деталей, движений, физи¬
ческих ощущений рабочего не возникает поэтических связей1.
Во-первых, в стихах нет «перечня», как нет и изображения застывших кон¬
струкций. Во-вторых, Асеева интересуют прежде всего не «технические процес¬
сы», а участие в них человека. И поэтически эти новые ощущения переданы очень
точно: Асеев дает волю своему безукоризненному владению звуковым ритмом,
в нескольких строках от полного - до изнеможения - мускульного и нервного
напряжения переводя его к расслабленной усталости отдыха, чтобы затем снова
взвинтить до впечатления предельного человеческого усилия в раскаленном мар¬
теновском цеху:
Медь - мельк в глазах.
Гремит гроза:
Стоп! Сталь! Стоп! Лью!
Ай, дабль, даблью!!
Последняя строка, опоясывающая стихотворение, припевом подчеркивает
песенность, своим расчетом на множество слушателей и исполнителей превра¬
щая по замыслу «Работу» в песню всех «индустриальных рабочих мира». Что
же касается «поэтических связей», будто бы в стихе не возникающих, то с этой
1 Урбан А. А. Поэзия Николая Асеева // Асеев Н. Н. Стихотворения и поэмы. Л.: Совет¬
ский писатель, 1967. С. 20.
188
Как было и как вспомнилось
мыслью сложно спорить ввиду ее неопределенности. По-моему, в чем-в чем,
а в непрочности стиха Асеева нельзя обвинить. Ритм очень уверенный, многократ¬
но усиленный в звуковых перекличках. Что же касается соответствия формы стиха
его теме, то оно доведено до той полноты взаимопроникновения, которую сам
Асеев называл звукообразом. Это соответствие было тем более важным, что по его
поводу Асеев полемизировал с пролетарскими поэтами, о которых писал в пись¬
ме читинским друзьям: «... надежды мои на пролет-поэтов лопнули целиком: они
подпали под влияние Белого и занимаются... антропософией».
Иногда удивляются, почему Асеев, достигший именно в эти годы своей наи¬
высшей лирической силы, не остановился в поисках, скажем, на таких уже взятых
им поэтических высотах:
Соловей! Россиньоль! Нахтигалль!
Выше, выше! О, выше! выше!
Улетай, догоняй, настигай
ту, которой душа твоя дышит!
Им - навек заблудиться впотьмах,
только к нам, только к нам это ближе,
к нам ладонями тянет Фатьма
и счастливыми росами брызжет.
Здесь действительно - полнота сознания лирической силы и совершенство
владения ею. Однако этого недостаточно самому Асееву: оправдание силы -
в ее применении, раздвигающем рамки поэзии благодаря способности поэта най¬
ти тему, выражающую современность, и поэтически утвердить ее. Именно ут¬
вердить - не на словах, а реально - стихами, в которых стальной соловей звучит
в ином ключе, чем обыкновенный, но не уступая ему ни в чистоте, ни в искренно¬
сти звучания:
Мир ясного свиста, льни,
мир мощного треска, льни,
звени и бей без умолку!
Он стал соловьем стальным!
Он стал соловьем стальным!..
А чучела - ставьте на полку.
Соловей в качестве поэтического символа остается, но не как заимствование
из арсенала традиционной образности. В стихотворении «О нем» Асеев натура¬
листически подробно задерживается на тех операциях, которым будет подвергнут
обыкновенный соловей, прежде чем вступит в дуэт с «поющими всласть завода-
Вечер третий. Советская литература и современная критика
189
ми». Он это делает для того, чтобы метафорически снять ощущение легкости,
с которой будто бы можно брать у предшественников, - на этом-то и обману¬
лись пролетарские поэты. Резко обозначенной в своей новизне теме должен со¬
ответствовать столь же резко обозначенный и специально для нее найденный
прием.
Это была вера во всеобщее обновление, которое непременно должно быть обнов¬
лением и художественным.
Вера, полемически противопоставленная тем, кто полагал, будто эпохи исто¬
рических потрясений не могут быть эпохами великих свершений в искусстве. Ко¬
нечно, случалось, что в этой полемике молодые поэты, художники, режиссеры
увлекались формой настолько, что теряли из виду цель, ради которой был начат
поиск. Однако из-за того, что кто-то однажды нарушил правила художественного
движения, не следует его вовсе останавливать. Бок о бок с заблуждениями распо¬
лагаются открытия.
Для Асеева в эти годы прежде всего свойственно стремление к гармонии,
к равновесию. В стихах очевидно желание уравновесить традиционную образ¬
ность с новыми темами. Оно же движет Асеевым и в отношениях с другими поэта¬
ми, в тех связях, которые он для себя устанавливает, сопрягая очень разные имена
и настаивая на их примирении.
Сопряжение крайностей
Среди тех, кого особенно надеялся встретить в Москве Асеев, - его старые
друзья: Маяковский, Пастернак, Хлебников. Они и сами ожидали встречи, радова¬
лись ей. Маяковский в своей автобиографии отмечает приезд Асеева, Третьякова
«и других товарищей по дракам» как важнейшее событие года. Пастернак пишет
в письме: «Асеев весной приехал с Дальнего Востока, и я ожил - это лучший мой
друг»1.
Однако в разговоре о стихах и сборниках 1922-1923 годов всех их заслоняет
новое имя - Гастев. Оно стоит в названии не только очень важного - программ¬
ного - асеевского стихотворения, но и в названии первого раздела книги «Совет
ветров».
По характеру своей литературной деятельности Алексей Капитонович Га¬
стев был одним из теоретиков пролеткульта и поэтом. Вот как будто бы и най¬
дено доказательство пролеткультовского влияния на Асеева с прямым указанием
на источник. И все-таки подождем с выводами, ибо у Гастева в литературе было
особое положение, не исчерпывающееся групповой привязанностью. Да и Асеев
1 Пастернак Б. А. Письмо Ю. И. Юркуну. 14 июня 1922 г. // Вопросы литературы. 1981.
№7. С. 230-231.
190
Как было и как вспомнилось
обращался к нему не с тем, чтобы напроситься в ученики и подражатели, а с тем,
чтобы прийти к соглашению, в чем-то склонив Гастева на свою сторону:
Я хочу тебя увидеть, Гастев,
длинным, свежим, звонким и стальным,
чтобы мне - при всех стихов богатстве -
не хотелось верить остальным...
Чтобы ты сновал не снов основой
у машины в яростном плену;
чтоб ты шел, как в вихре лес сосновый,
землю с небом струнами стянув!..
Если Г астев и был поэтом, то в высшей степени необычным, нетрадицион¬
ным, что и привлекало к нему Асеева, с сожалением взиравшего на пролеткультов¬
ские обветшалые формы. Произведения Гастева стоят где-то между верлибром и
стихотворением в прозе, а лучшее определение для них нашел он сам - «слова под
прессом».
Слово, отягченное «железными ритмами» заводской жизни, а под конец -
в «Пачке ордеров» - доведенное до лаконичности приказа, отдаваемого всему
миру как одному огромному оркестру:
Азия - вся на ноте ре.
Америка - аккордом выше.
Африка - си-бемоль.
Радиокапельмейстер.
Цикловиолончель - соло.
По сорока башням смычком.
Оркестр по экватору...
Отзвуки этих спрессованных слов есть и в стихах Асеева, однако едва ли пока¬
жется удивительным, что автор этого произведения решил окончательно оставить
искусство. В тот момент, когда Асеев обратился к нему, Гастев уже осуществил
свое намерение. Впрочем, свой личный уход из поэзии Гастев не сделал поводом
для ниспровержения искусства в целом, и в 1925 году на первом Московском со¬
вещании работников Левого фронта искусств он будет выступать против теорети¬
ков производственничества в союзе с Маяковским, говорившим о Гастеве с неиз¬
менным уважением.
Признание искусства, вдохновения уживалось у Г астева с характерно пролет¬
культовским представлением о новой эпохе, не допускающей «ничего интимного
Вечер третий. Советская литература и современная критика
191
и лирического»1, с утверждением: «Нам нужна культура, которую можно выра¬
зить кратко одним словом: сноровка»2. Объяснить сосуществование этих проти¬
воречивых идей у Гастева можно только тем, что в своих теоретических статьях
и брошюрах, имевших в 1920-е годы большой успех, Гастев говорил не о художе¬
ственном творчестве, а конкретно о деятельности современного рабочего, не ста¬
вя между ними знака равенства. Свой же отказ от поэзии он обосновывал тем, что
никогда не был профессионалом-литератором, а был профессионалом-революци-
онером:
Повторяю, что я не из тех, которые занимались художественной литерату¬
рой, потому что предначертали себе определенные художественные пути жизни,
а наоборот, - эти пути жизни нельзя было реализовать и пришлось потому за¬
няться художественной литературой3.
В том же предисловии к шестому изданию «Поэзии рабочего удара» (сбор¬
ник, включивший все его художественные произведения) Гастев говорит и о сво¬
ем главном деле после революции - об организованном и возглавляемом им Цен¬
тральном институте труда (ЦИТ):
...на этой стадии Центральный Институт Труда, над которым приходится
работать, - в одно и то же время есть научная конструкция и высшая художе¬
ственная легенда, для которой пришлось пожертвовать всем, что пришлось де¬
лать до него.
Пожалуй, самая популярная, выдержавшая несколько изданий брошюра Га-
стева «Как надо работать» самим своим названием лучше всего раскрывает смысл
его деятельности: обучение русского рабочего принципам научной организации
труда - НОТу. То есть выработка сноровки, которая и есть пролетарская культу¬
ра. Реальное дело было неизмеримо важнее пролеткультовского теоретизирова¬
ния, и оно привлекало внимание к Гастеву. ЦИТом заинтересовался Ленин, при¬
гласивший Гастева для беседы и обещавший ему всяческую поддержку.
Вместе с брошюрой Гастева «Снаряжение современной культуры» печата¬
лась статья А. Луначарского «Новый русский человек», содержавшая очень рез¬
кую критику пролеткультовских тезисов, но своим названием определившая цель,
ради которой работал Г астев.
1 Гастев А. К. Индустриальный мир // Литературные манифесты: от символизма к Ок¬
тябрю: сборник материалов / Приготовили к печати Н. Л. Бродский, В. Л. Львов-Рогачевский,
Н. П. Сидоров. М.: Федерация, 1929. С. 136.
2 Гастев А. К. Снаряжение современной культуры. Б. м.: Государственное издательство
Украины, 1923. С. 7.
3 Гастев А. К. Поэзия рабочего удара. М.: ВЦСПС, 1925. С. 15.
192
Как было и как вспомнилось
Идея обновления человека через организацию его труда, а значит, коренной
перестройки личности, безусловно, и была тем поводом, который возбудил внима¬
ние Асеева.
Ведь не ради машины, а ради человека устремляется Асеев в индустриальную
романтику. Сам он писал в письме Д. Молдавскому уже в последние годы жизни:
Зачем плодить сотни раз пересказанное об урбанизме и футуризме, когда
урбанизм был понятием близким к индустриальным мечтам о городах будуще¬
го, когда стальной соловей противопоставлялся деревенской избяной Руси, где
соловьями заслушивались только те, у кого было время гулять по летним ночам,
тогда, в те именно времена, город был на первом плане поэтического мышле¬
ния. России после разрухи нужны были машины, заводы, шахты. А вместо этого
воспевалась избяная, кондовая, толстозадая бабища Россия. Тогда и только тог¬
да нужен был разговор не о библейски «железном Мессии», а о реве заводских
труб и грохоте станков будущего. А тишина, безмашинье, безручье - были врага¬
ми будущего. Как же это не понять и смешивать «железных Мессий» с мечтой
о стальном соловье...1
Асеев продолжает свои споры с мистикой пролетпоэтов («Железный мес¬
сия» - стихотворение В. Кириллова), с «избяным обозом», в который он зачис¬
ляет Есенина, Клычкова, Клюева, Орешина, однако в письме Асеев не упоминает
еще один чрезвычайно важный повод обращения к «стальной» теме - НЭП. Ор¬
ганизованный труд противопоставляет ему Асеев. Труд коллективный, к которому
поэт, как будто по самой природе творчества обреченный на индивидуализм, тем
более желает приобщиться. Старый романтический антагонизм: я - художник,
они - мещане - снимается у Асеева новой формулой, за разрешением которой он
и обращается к Гастеву:
Мы - мещане. Стоит ли стараться
из подвалов наших, из мансард
мукой бесконечных операций
нарезать эпоху на сердца?
Из этого четверостишия с его заключительным вопросом можно вывести
тему лирических поэм самого Асеева («Лирическое отступление») и Маяковско¬
го («Про это»), где все время мучительно присутствует сомнение относительно
лирики: что она - отступление перед бытом или же, напротив, самое могуществен¬
ное в руках поэта средство борьбы с мещанской - нэповской - пошлостью? В сти¬
хотворении, обращенном к Г астеву, Асеев пока что уходит от этого - лирическо¬
го - решения и обращается за помощью со стороны:
1 Воспоминания о Николае Асееве. М.: Советский писатель, 1980. С. 224-225.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
193
Ты чего ж перед лицом врага стих?
Разве мы безмолвием больны?
Я хочу тебя услышать, Гастев,
больше, чем кого из остальных!
Имя Гастева много значит для Асеева: это революционное, пролетарское ми¬
ровоззрение, не отвлеченное, а практически действенное. Перед лицом непосред¬
ственной опасности нужны немедленные реальные средства, на которых как раз и
настаивал Г астев:
...надо стать людьми, которые в ожидании этой электрификации, всемогу¬
щей техники, не складывали бы руки, а брали инструмент, который есть у каждого
в комнате, и научились им ловко владеть. Надо стать артистами удара и нажима.
Надо великолепно знать конструкцию ножа и молотка, дьявольски полюбить их1.
Гастев близок и понятен Асееву своей целью - завоевать сознание. Только
каждый из них намерен совершить это завоевание по-своему: один - организован¬
ностью и ритмом труда, другой - поэзии. Но чтобы поэзия могла диктовать ритм
индустриальному рабочему, она должна проникнуться ощущением его деятельно¬
сти, его работы, поэтому Асеев так настойчиво ведет ее к открытию новых тем, а
обработку тем традиционных приспосабливает к новому значению.
Пожалуй, никто не оценил это качество асеевской поэзии так точно, как поэт,
далекий от индустриальной романтики и ее поисков, - О. Мандельштам. Его
оценка сложилась не сразу. Сначала, в сентябре 1922 года, в журнале «Россия»
(№ 1), обозревая поэзию столицы, Мандельштам начал говорить об Асееве вполне
благожелательно. И вдруг резкий, немотивированно резкий поворот. Как будто
писалось под влиянием одного впечатления, а затем набежало другое, противо¬
положное, и отменило первоначальную оценку. Остался безрадостный вывод:
«...рационалистическая поэзия Асеева не рациональна, бесплодна и беспола».
Однако, выговорившись по поводу лично ему чуждой манеры, в другой раз
Мандельштам был объективнее: Асеев
... создал словарь квалифицированного техника. Это поэт - инженер, специалист,
организатор труда. На Западе таковые, т. е. инженеры, радиотехники, изобрета¬
тели машин поэтически безмолвствуют или читают Франсуа Коппе (бульварную
литературу. - И. Ш.). Для Асеева характерно, что машина, как целесообразный
снаряд, кладется им в основу стиха, вовсе не говорящего о машине. Смыкание и
размыкание лирического тока дает впечатление быстрого перегорания и сильно¬
го эмоционального разряда. Асеев исключительно лиричен и трезв в отношении
1 Гастев А. К. Снаряжение современной культуры. С. 10.
194
Как выло и как вспомнилось
к слову. Он никогда не поэтизирует, а просто прокладывает лирический ток, как
хороший монтер, пользуясь нужным материалом1.
Характерное определение - «организатор труда», уже прямо ставящее Асе¬
ева рядом с Гастевым, который интересен ему как практик. И Асеева в стихах
вдохновляет прежде всего не далекий взгляд в будущее, а та часть утопии, которая
доступна скорейшему осуществлению. Можно было мечтать о будущем раньше,
когда оно представлялось далеким и почти несбыточным, а теперь надо делать
дело. Самая развернутая утопия у Асеева появляется не в стихах, а в прозе, свя¬
занной с Дальним Востоком и Гражданской войной, - очерк «Они не уступят».
Вспоминая о самой мощной рабочей силе - грузчиках порта, перед которыми он
читал стихи, приведенный на их митинг Сергеем Лазо, вспоминая о бессмыслен¬
ной гибели многих из них, предательски вовлеченных в мятеж, Асеев думает о том,
что все равно они не уступят, а значит, будет иное время:
На эти сопки взлетят устои арок воздушных путей. Через залив протянет¬
ся кружево радиобашен. В небо полетят спирали стекла и стали наших жилищ.
Океанские плечи двинут по нашей воле волны света и звука, куда мы прикажем.
Бесшумные стрекозы аэро запоют звучнейшими голосами струнных сирен...
(V, 112)
Иногда предполагают, что этот взгляд в будущее был навеян Асееву Гасте¬
вым2. У Гастева есть картины в таком духе, не совпадающие, но созвучные своей
индустриальной мечтой. И все-таки сопоставление в данном случае не только не
убеждает, но наводит на мысль, что мы слишком сосредоточены на Гастеве, теряя
фон, теряя перспективу иных связей Асеева, более давних и глубоких.
Достаточная популярность Гастева в те годы делает, кажется, излишним во¬
прос, как Асееву стало известно его имя до ихличной встречи («я тебя и никогда не
видел...»), заочное знакомство не обошлось без посредников. Их имена - Асеева
и Гастева - поставлены рядом в статье В. Хлебникова «О современной поэзии»,
которая вначале печаталась в харьковском журнале «Пути творчества» (1920,
№ 6-7), а затем была перепечатана в «Дальневосточном телеграфе» (1922), вы¬
ходившем в Чите. Знаменательная география публикаций: и Харьков, и Владиво¬
сток - места творчески важные для Асеева.
Ясно, что в Читу хлебниковский материал не мог попасть без посредства Асе¬
ева. Что же касается Харькова, то там в 1919-1920 годах Хлебников жил, где и мог
1 Мандельштам О. Буря и натиск // Русское искусство. 1923. № 1. С. 82.
2 См.: Никитин Д. И. О соловье стальном и соловье обыкновенном (Индустриальные мо¬
тивы в лирике Н. Асеева) // Учен. зап. Ленинградского пед. ин-та. 1971. Т. 419. Советская
поэзия двадцатых годов. С. 103.
Венер третий. Советская литература и современная критика
195
познакомиться с Гастевым, возглавлявшим на Украине Совет искусств. Во всяком
случае^ его имя постоянно встречается на страницах журнала «Пути творчества»;
издававшегося старым асеевским другом Г. Петниковым. Почему имеет значение;
что Гастев был прочитан Асеевым при посредничестве Хлебникова? То, что могло
показаться и выглядело едва ли не случайным, прихотливым увлечением чужими
теориями, приобретает глубокие корни и расширяет круг поэтических ассоциа¬
ций. Г астев важен для Асеева, но он не должен заслонять других. А он заслоняет,
иначе чем объяснить, что приведенный выше отрывок никого не заставил вспом¬
нить о Хлебникове, о его ранних утопиях, давно известных Асееву.
Хлебников заранее знал о предполагавшемся приезде Асеева и ждал его:
«Скоро приедет Асеев», - писал он 14 марта 1922 года Митуричу1. На встречу
он откликнулся одной из своих последних поэм - «Синие оковы», название кото¬
рой произведено от фамилии сестер Синяковых, одной из которых была асеевская
жена и муза - Оксана. В разговоре об Асееве имя Хлебникова обычно всплывает
в связи с « самовитым словом», но ведь сам поэт указал на другое, когда в 1936 году
написал статью-воспоминание о своем друге. Ее главный герой - Хлебников, за¬
мыслы которого если еще и «не могут служить непосредственно в практике на¬
ших дней, то все же они являются неисчерпаемым кладезем ряда замечательней¬
ших прозрений, предвосхищений» (V, 549). И под конец жизни Асеев советовал
знакомиться с изобретательскими идеями Хлебникова2.
Были у Хлебникова и опережения времени, была и поэзия, которая едва ли
подтвердится техническим прогрессом, но были прозрения и в совсем близкое
будущее:
Железный рот самогласа пойманную и переданную ему зыбь молнии пре¬
вратил в громкую разговорную речь, в пение и человеческое слово. Все село со¬
бралось слушать. Из уст железной трубы громко несутся новости дня, дела вла¬
сти, вести о погоде, вести из бурной жизни столиц3.
Хлебников назвал эту статью «Радио будущего» (1921), однако он говорил
почти о настоящем. В стране через два года после смерти Хлебникова, в 1924 году,
начнется регулярное радиовещание, и через несколько лет его фантазия могла бы
стать репортажем для районной газеты.
До революции Асеев прошел мимо футуристического урбанизма, как и мимо
первых утопий Хлебникова, что лишний раз доказывает: его индустриальному
1 Хлебников В. В. Собр. соч. в 5 тт. Т. 5. Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма,
дневник / Под общ. ред. Ю. Тынянова и Н. Степанова. Л.: Издательство писателей в Ленин¬
граде, 1933. С. 325.
2 Воспоминания о Николае Асееве. С. 289. Именно с этой точки зрения увиден Хлебников
в статье о нем А. Урбана «Философская утопия» (Вопросы литературы. 1979. № 3).
3 Хлебников В. В. Радио будущего // Хлебников В. В. Указ. изд. Т. 4. С. 292.
196
Как было и как вспомнилось
увлечению не достаточно было только литературного или теоретического пово¬
да. Еще в 1915 году в альманахе «Взял», изданном Маяковским, Хлебников опу¬
бликовал «Предложения», где он, в частности, рекомендовал поэту заняться об¬
учением заводов пению: «Разбудить в заводских трубах желание петь утреннюю
хвалу восходящему солнцу...» Асеев услышит этот призыв только в 1922 году и
отзовется на него трелями стального соловья, его дуэтом с «поющими всласть
заводами».
Видимо, теперь Асеев перечитывает Хлебникова и узнает новые его работы.
Знакомство началось еще в Чите, ибо написанное и впервые там опубликован¬
ное стихотворение «Башни радио» удивительно перекликается с новой статьей
Хлебникова «Радио будущего». Несколько отвлеченно-фантастические образы
стихотворения неожиданно приобретают зрительную точность, будучи проком¬
ментированы хлебниковским текстом:
Там - у воющих сирен Около главного стана Радио, этого железно-
гребень золот; го замка, где тучи проводов рассыпались точно воло-
волоса их на заре сы <... >
жгутся в золах
И мельканье паутин
режет пряди;
их извиву на пути
реет радий.
Вообразим себе главный стан Радио: в воздухе
паутина путей, туча молний, то погасающих, то за¬
жигающихся вновь, переносящихся с одного конца
здания на другой.
Не только в смысле неожиданно проявленной наблюдательности хлебников¬
ский текст поясняет стихи Асеева. Пафос Хлебникова тот же, что и в поэзии Асее¬
ва, ибо относится не к технике как таковой, а к возможности сделать шаг к новому
человеку, к новому содружеству людей: «... Радио скует непрерывные звенья ми¬
ровой души и сольет человечество»1.
Очень многое соединилось для Асеева весной 1922 года. Он приезжает и
с головой уходит в атмосферу новых созидательных идей, уже получивших ши¬
рокое распространение и разнообразно отозвавшихся в искусстве. Асеев черпа¬
ет из разных источников, соединяя их и в этом соединении находя подтвержде¬
ние собственной индустриальной романтике. Установка на новую пролетарскую
культуру, подкрепленная Гастевым, не отменяет общечеловеческой перспективы,
которая видится в свете хлебниковских утопий. И, наконец, чувство нэповской
опасности не может полностью заглушить радость, которую он переживал в этот
момент, может быть острее других, - радость устойчивого мира. То, к чему его
московские друзья уже начали привыкать, для него, только что вернувшегося
1 Хлебников В. В. Радио будущего. С. 295.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
197
в РСФСР из Читы, было новостью, пережитой тем острее после четырех лет ин¬
тервенции и Гражданской войны:
В небе - нет надоедливых пуль,
там, не веря ни в клетку, ни в ловлю,
ветку звезд нагибает бюль-бюль
на стеклянно звенящую кровлю.
Всего два года назад - весной 1920-го - небо виделось Асееву совсем другим
в стихотворении с точным временным обозначением - «Сегодня». И естествен¬
ное желание, не менее сильное, чем воспеть стального соловья на заводе, - вос¬
петь обыкновенного соловья в небе, свободном от пуль. Рядом со стихотворением
«О нем» появляется небольшой цикл - из двух стихотворений - «Об обыкновен¬
ных». Не нужно думать, что Асеев обозначил для себя две несмыкающиеся край¬
ности. Полюсы его поэтической системы соединены, они взаимно отражаются,
метафорически окрашиваясь. Так, рассказ об обыкновенных с самого начала вов¬
лекает стальные ассоциации:
Жестяной перезвон журавлей,
сизый свист уносящихся уток -
в раскаленный металл перелей
в словолитне расплавленных суток.
Поэзия отправляется на завод, допускает стальную тему в свои пределы, но не
отказывается от собственной сущности. Напротив, принимая на себя этот допол¬
нительный, считавшийся (да и до сих пор считающийся) непосильным груз, она
должна укрепить мускулатуру стиха, проверить на прочность свой материал - сло¬
во. И, конечно, привести его в соответствие с новой темой.
Когда в 1920 году Хлебников сравнивал Асеева с Гастевым, сопряжение этих
двух имен дало ему повод не для аналогии, а для контраста: Асеев - стихия «азий-
ского, персидско-гафизского упоения словесными кущами в чистоте их цветов»,
Гастев - «обломок рабочего пожара, взятого в его чистой сущности»1. Не исклю¬
чено, что именно это сравнение первоначально навело Асеева на мысль о том, чего
ему недостает, чтобы быть современным поэтом, и что, следовательно, предстоит
приобрести. Однако, идя в направлении к Гастеву, Асеев как никогда определенно
обозначил в своих стихах восточную тему, предупреждая, что приобретает новое,
не отрекаясь от самого себя.
Восточные мотивы в стихах «Об обыкновенных» возвращают не только
к хлебниковскому отзыву в статье, но и к тому предмету, который обязательно
1 Хлебников В. В. О современной поэзии // Указ. изд. Т. 5. С. 223.
198
Как было и как вспомнилось
должен был присутствовать в его беседах с Асеевым весной 1922 года, - к Пер¬
сии. Азия всегда влекла к себе Хлебникова: страна чистого лиризма, страна удиви¬
тельных тайн. Лето и осень 1921 года Хлебников вместе с частями Красной Армии
провел в Персии. Судя по его собственным стихам, поэмам, это было сильное впе¬
чатление, которым он не мог не поделиться с Асеевым, видя в нем самого восточ¬
ного, самого «гафизского» из русских лириков. Вероятно, подобная оценка Хлеб¬
никова относится к характеру таланта Асеева - чисто лирического, по его мнению.
Присутствие Хлебникова, следовательно, совсем неслучайно ощущается в
цикле «Об обыкновенных», и не исключено, что стихи написаны уже и в память
о нем. Присутствие это проявляет себя не только темой, но и целым рядом част¬
ностей. Поэтическая реминисценция, поясняющая стеклянный звон кровли под
веткой звезд в стихах Асеева, - у Хлебникова: «...из звездных глыб построишь
кровлю» (ср. также «звездный камень» в более позднем стихотворении Асее¬
ва «Машина времени»). А кроме поэтических намеков есть и такие, которые на
фоне этой хлебниковской темы воспринимаются как личные воспоминания о нем.
Здесь мы вступаем в область чрезвычайно опасную, неизбежно связанную с до¬
гадками, но обойти которую в разговоре об Асееве невозможно. Поэзия всегда, и
в XX веке особенно, порождает сложную вязь ассоциаций, в большей или меньшей
степени неявных без знания обстоятельств жизни поэта и даже тех интимных, ми¬
молетных впечатлений, которые отложились в образе. Они могут быть книжными,
и мы пытаемся раскрыть их, восстанавливая круг чтения. Они могут быть личны¬
ми, тогда особенно трудно доступными, но и к ним мы пытаемся приблизиться
с помощью разного рода исторических, мемуарных свидетельств.
Хотя в стихах начиная именно с 1920-х годов Асеев значительно ограничивает
ассоциативный произвол, некогда грозивший ему «лирической неосновательно¬
стью», в это самое время у него впервые проявляется впоследствии знаменитая
склонность к поэтической мемуаристике. Совершенно особая форма, которая по¬
тому и даст повод к столь разным суждениям о жанре такого произведения, как
«Маяковский начинается». Оно будет написано через полтора десятилетия, но
уже сейчас в асеевской поэзии начинают многократно мелькать имена современ¬
ников, и с учетом этой мемуарной направленности целый ряд деталей в его лирике
приобретает характер личных намеков.
Когда в стихах «Об обыкновенных» Асеев, прежде чем произнести слово
«соловей» по-русски, произносит его по-персидски - «бюль-бюль», то невольно
вспоминается, что на Дальнем Востоке это был его псевдоним, чем усиливается
личный оттенок всего стихотворения.
Он не отменяется и тем, что этот псевдоним обьино ставился под фельетона¬
ми, написанными вместе с С. Третьяковым, очень далеким от какой-либо лирики.
Когда в первом стихотворении цикла Асеев говорит о наборщике звездного шриф¬
та «как мулла, он угрюм и уныл», - то приходит на память прозвище Хлебникова,
Вечер третий. Советская литература и современная критика
199
полученное им в Персии, - Гюль-мулла. В этот же ассоциативный ряд встает и сле¬
дующая строфа:
Он забыл, что на плечи легло,
он - как надвое хочет сломаться:
он согнулся, ослеп и оглох
над петитом своих прокламаций.
Уж очень явно перекликаются эти стихи с воспоминаниями о Хлебникове,
скажем, теми, которые были написаны Дм. Петровским и опубликованы в первом
номере «Лефа»:
Сидел Хлебников всегда скрючившись на кровати с ногами, поперек ее и
писал на своих лоскуточках каким-то невероятно мелким и убедительным почер¬
ком. Так же, клюнув носом в колени, и засыпал он.
Приходит на память и то, как Д. Бурлюк определял хлебниковские чернови¬
ки - «микрография»1. Да и слово «прокламация» в стихотворении Асеева отве¬
чает смыслу хлебниковских манифестов.
Догадки эти, повторяю, опасны, сами по себе мало стоят, но они подкреплены
другим - поэтическим рядом и, что не менее важно, всем складом поэтического
мышления автора стихов. В тот период, когда Асееву важно было осмотреться в
поэзии, заново подтвердить свое право на место в ряду «сильнейших», он пользу¬
ется именами как символами поэтических склонностей, к которым ему предстоит
определить отношение. Имена не всегда называются, иногда уже названные сни¬
маются в другом варианте, как будто поэт не вполне уверен, насколько оправдан¬
но, допустимо прямое литературное высказывание в стихах.
Так, в журнале «Красная новь» стихотворение «Гастев» печатается с упо¬
минанием еще трех имен: Маяковского, Нарбута, Пастернака, - они есть и в «Из¬
брани», а в чуть раньше вышедшем сборнике «Совет ветров» отсутствуют, как и
в большинстве последующих публикаций.
Может быть, Асееву показалось, что имена возникают недостаточно опре¬
деленно по его к ним отношению. Действительно, несколько туманным оказался
совет Гастеву в связи с Маяковским, но зато другой звучит очень ясно, недвусмыс¬
ленно:
Чтоб была строка твоя верна, как
сплющенная пуля Пастернака...
1 Хлебников В. В. Неизданные произведения. М.: Государственное издательство художе¬
ственной литературы, 1940. С. 13.
200
Как было и как вспомнилось
Вероятно; намек на раннее стихотворение Пастернака: «Как в пулю сажают
вторую пулю...»
Имена Гастева и Пастернака, взятые вместе, продолжают тот двойной ряд,
в котором сопрягаются крайности.
Пастернак - мастер чистого лирического тока, «электрификации воли». Га¬
стев - практик, умеющий найти применение любому виду человеческой энергии.
Есть перед глазами Асеева и пример, примиряющий крайности, - Хлебников. На
него оборачивается Асеев, увлеченный индустриальными идеями, но по его же мо¬
тивам развивает восточную тему.
В этой связи возможна следующая догадка. Она относится к финалу первого
стихотворения, в котором Асеев соединяет восточный образный ряд с производ¬
ственным:
У араба - беру табуны,
у наборщика - лаву металла...
Ночь! Меня до твоей глубины
никогда еще так не взметало!
Слово «араб» повторено уже не в первый раз. То это - первоначально - на¬
борщик, то это - в приведенной выше строфе - какой-то новый, самостоятель¬
ный персонаж, противопоставленный наборщику... А до этого араб появляется
в сложной метафоре, где не так-то просто понять, что в качестве сравнения к нему
поставлено слово «прошедшее»:
... как араба - висков его проседь,
отливая мерцаньем луны,
не умеет прошедшего сбросить.
Расшифруем метафору: «проседь висков» - то есть человек так же не уме¬
ет сбросить груз прошедшего, как лошадь не может сбросить искусного наезд¬
ника - араба. Человек, таким образом, уподоблен не названному, но подразуме¬
ваемому скакуну. Тут же невольно вспоминаются знаменитые слова Ахматовой,
сказавшей, что Пастернак одновременно похож и на араба, и на его лошадь. Впе¬
чатление, по общему признанию, зрительно точное, подтвержденное и Эренбур-
гом, вспоминавшим о Пастернаке как раз начала 1920-х годов: «Молодой, весе¬
лый, красивый, похожий на вдохновенного араба... »*
Хлебниковская восточная тема продолжается как тема пастернаковская. Нет,
конечно, одна лишь догадка, оттолкнувшаяся от слова «араб», - слабое основание
для такого вывода, если бы он не был также подтвержден стихами и отношениями
поэтов.
1 Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь // Эренбург И. Г. Собр. соч. в 9 тт. Т. 8. М.: Художе¬
ственная литература, 1966. С. 263.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
201
Где быть молнии?
И до своего возвращения в Москву Асееву приходилось писать критику, но
только с этого времени его критические выступления становятся регулярными.
Лишнее свидетельство - желание осмотреться в новой литературной ситуации,
определив в ней свое место. Точно так же, как Асеев-поэт в стихах примиряет
крайности, Асеев-критик спешит заметить и понять все наиболее интересное,
независимо от групповых привязанностей. Судя по дате публикации, первые
его критические рецензии были написаны тотчас же по приезде, ибо появились
они в третьем номере (май-июнь) «Красной нови». Два отклика на стихот¬
ворные сборники: В. Казина «Рабочий май» и Б. Пастернака «Сестра моя -
жизнь».
Казин - новое имя, оцениваемое Асеевым как наивысший успех пролетарской
поэзии. Другое дело Пастернак - с ним Асеев дружен с 1912 года, с ним вместе на¬
чинал, и не случайно в критике упоминание имени одного нередко влекло за собой
имя другого. Расстались они как раз накануне лета 1917 года, в которое Пастерна¬
ком была написана «Сестра моя - жизнь», опубликованная весной 1922 года, но
разошедшаяся «по всей России в рукописном виде задолго до ее напечатания»1.
Это признание тем более вызывает доверие, что относится к тому же времени и
исходит не от столичного литератора, а от молодого тогда сибирского критика
В. Друзина. Во всяком случае, в Сибири сборник Пастернака читали до его появ¬
ления в печати, и неудивительно находить следы знакомства с его новой поэзией в
стихах Асеева, написанных им еще в Чите.
До асеевского приезда в Москву, то есть и до появления книги Пастернака
«Сестра моя - жизнь», они шли вровень, не имея или, во всяком случае, не про¬
являя друг над другом ни преимущества таланта, ни преимущества большей зрело¬
сти. И в 1922 году их поэтическое сходство склонны объяснить скорее естествен¬
ной параллельностью пути, чем влиянием, как это и делает В. Брюсов:
...Асеев пришел почти к тем же формам и приемам, как автор «Сестры»,
и многое из сказанного о Пастернаке применимо к Асееву. Впрочем, Асеев сво¬
боден от интеллигентской рефлексии, напротив - у него здоровое мировоспри¬
ятие человека, близкого к природе. Природа, входящая в поэзию Пастернака
чаще всего как «сад» или «балкон», вливается в стихи Асеева как «степи» и
«леса»2.
В этом отзыве многое требует размышления и комментария.
1 Красные зори. 1923. № 5. С. 141.
2 Брюсов В. Я. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии // Брюсов В. Я. Собр. соч. в 7 тт.
Т. 6. М.: Художественная литература, 1975. С. 318.
202
Как было и как вспомнилось
Насколько прав Брюсов, отрицая пастернаковское влияние на Асеева именно
в это время? Ведь рецензируя сборник, сам же Брюсов говорил о его необычай¬
ной влиятельности, и именно на это его мнение ссылался разделявший его Асеев:
«Как правильно отметил В. Брюсов - ни один поэт не был со времен Пушкина
так внимательно воспринят всеми, работающими со стихом, современниками»1.
И себя Асеев едва ли бы исключил из общего числа, не считая тогда зазорным вос¬
принять что-то от своего старого друга и поэтического единомышленника, кото¬
рому в прошлом и ему случалось подсказывать, помогать в поиске.
В поэтическом словаре, в интонации, в образе мы сталкиваемся в асеевских
стихах этого времени с чем-то таким, что уже закрепилось как пастернаковское.
Асеев иногда даже отступает от столь ему свойственной четкой, мерной интона¬
ции, допуская эмоциональные придыхания, напоминающие взволнованность Па¬
стернака, его характерное «косноязычие». Такие отзвуки чужой манеры слышат¬
ся в перебивающих течение стиха вопросах: «Слушай тишь: не свежа ль, не сыра
ль?» Распространенная у Пастернака форма полувопроса, полусомнения, стоя¬
щая даже в заглавии одного из разделов сборника: «Не время ль птицам петь...»
И затем слово, торопливое, едва поспевающее в погоне за мыслью, за эмоциональ¬
ным разрядом:
Погоня? Но сколько ж погонь?!
Ведь звездами, сразу, всем скопом
Открыт перекрестный огонь
И в гром горизонт перекопан.
Стихотворение «Бомба», напечатанное в «Лефе» (1923, № 3), никогда боль¬
ше не перепечатывалось Асеевым по ряду причин, но одна из них, видимо, та, что
по характеру стиха ему более пристало появиться в сборнике Пастернака.
Но главное все же не в том, как, в каких частностях проявляет себя воздей¬
ствие Пастернака, а в том, почему Асеев, очень неподатливый по отношению
к чисто литературным поводам и влияниям, в данном случае поддался?
Известно, что именно в эти годы не просто увлечение Пастернаком, а настоя¬
щую влюбленность в его поэзию переживал Маяковский, знавший книгу «Сестра
моя - жизнь» наизусть, беспрестанно из нее цитировавший. И для него, и для Асе¬
ева она явилась «новым трамплином песен, новым поводом отыскивать, как будто
уже найденное, сокровище общения людского через слово». Так писал в своей
рецензии Асеев.
В сборнике «Стальной соловей» появляется стихотворение, посвященное
Пастернаку, - «Птичья песнь». Самим названием оно входит в двойной метафо-
1 Асеев Н. Н. Дневник поэта. Л.: Прибой, 1929. С. 139.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
203
рический ряд, в котором естественно дополняет не стального, а обыкновенного
соловья. «Птичья» метафора не остается только в названии, но неоднократно воз¬
никает в стихе: «... мы вместе плясали на хатах безудержный танец щегла», «... ты
иволгой вымелькал степь». Кстати говоря, это упоминание степи перекликается
с названием одного из разделов пастернаковского сборника - «Книга степи» - и
с оценкой Брюсова, оставившего «степь» за Асеевым и отводившего Пастернаку
«сад» и «балкон».
Видимо, опять не прав Брюсов, идущий вразрез с обоими поэтами? Как будто
бы так, но если судить не по прямому высказыванию Асеева о Пастернаке, а по их
отношениям, объективно соотнося смысл сходных образов, то мы увидим - Брю¬
сов оценил верно.
Об отношениях поэтов мы всегда более склонны судить по их взаимным вы¬
сказываниям, по мемуарным свидетельствам, недооценивая свидетельства самих
стихов. Не нужно ждать открытого спора с называнием имен. Достаточно посмо¬
треть, а нет ли сходных тем или образов, взятых с различным отношением. Ведь
ассоциативность поэтического мышления предполагает, что, говоря о своем, поэт
имеет в виду, что и как уже было до него сказано. Тем более если с говорившим
связан близким, едва ли не ежедневным общением. Стихи свидетельствуют об
истинных отношениях, взятых вне личных симпатий-антипатий, и они свидетель¬
ствуют о том, что скрыто от самого внимательного мемуариста.
Основной сюжет отношений Пастернака с поэтами «Лефа» достаточно в об¬
щих чертах известен. Вначале близость, стремление лефов использовать высокое
лирическое напряжение, которое они особенно ценили: «Пастернак. Примене-
нье динамического синтаксиса к революционному заданью ». Так охарактеризова¬
но участие Пастернака в первом номере журнала «Леф». Пастернак откликнулся
встречным движением: под руководством О. Брика работал над историческим ма¬
териалом для своих поэм.
И все-таки прочного союза не получилось. В январе 1925 года Маяковский
просил не смешивать лефов с Пастернаком, с его «лирическими излияниями»1,
хотя и через два года, уже в обстановке обострившихся отношений, предупре¬
ждал: не нужно противопоставлять2. За Пастернака боролись, ибо его участием
дорожили. Поэтому так долго не обнаруживали всех противоречий, которые были
несомненными для обеих сторон. Противоречия, скрытые от посторонних глаз,
сохранились в глубине стиха.
В «Птичьей песне» Асеев оценивает Пастернака так же, как он оценивал Га¬
стева: с поправкой на то, каким бы хотел его видеть, приближая к самому себе.
1 Маяковский В. В. Выступление на первом Московского совещании работников левого
фронта искусств // Маяковский В. В. Указ изд. Т. 12. С. 281.
2 Маяковский В. В. Выступление на диспуте «Леф или блеф?» // Маяковский В. В. Указ изд.
Т. 12. С. 336.
204
Как было и как вспомнилось
Поэтому Асеев, хотя и очень осторожно, предупреждает, советует. Об опасности
он говорит, включаясь во все тот же «птичий» образный ряд:
И мне моя жизнь не по нраву:
в сороку, в синицу, в дрозда. -
но впутаться в птичью ораву
и - навеки вон из гнезда!
Это предупреждение обыкновенным соловьям, которые не хотят подхватить
стальную песню. В этой мысли убеждает и заключительный совет, относящийся
к тому, в каком направлении использовать свой естественный «птичий» дар:
Ударь же звончей из-за лесу,
изведавши все западни,
чтоб снова рассвет тот белесый
окрасился в красные дни.
Позже Асеев сочтет, что его совет не был услышан, и, взяв тему одного из
пастернаковских стихотворений, продемонстрирует, чего он ожидал, давая совет.
Пока же Асеев предпочитает не углублять расхождения, хотя и знает о них.
Пожалуй, первое стихотворение этого времени, насыщенное образами, имею¬
щими аналогию в поэзии Пастернака, - «Жар-птица в городе», написанное еще
в Чите. Асеев прислушивался к издалека доносившимся до него голосам москов¬
ских друзей и подхватывал услышанное.
В сборнике «Избрань» (1923) это стихотворение помещено между ранним
посланием Пастернаку - «Сорвавшийся с цепей» - и обращением к Гастеву,
которое здесь напечатано с той всего лишь несколько раз включенной Асеевым
в текст строфой, где упомянуто имя Пастернака. Но и вне этого пастернаковско-
го окружения «Жар-птица» вызывает впечатление сознательной и полемической
образной переклички:
Ветка в стакане горячим следом
прямо из комнат в поля вела
с громом и с градом, с пролитым летом,
с песней ночною вокруг села.
Запах заспорил с книгой и с другом,
свежесть изрезала разум и дом;
тщетно гремела улицы ругань -
вечер был связан и в чащу ведом.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
205
Какой друг и что за спор с ним имеется в виду, мы не знаем. Однако мане¬
ра Асеева не такова, чтобы подобный намек возник из ничего, на пустом месте.
Обстоятельства спора - «запах заспорил с книгой», «свежесть изрезала разум и
дом» - указывают и на суть разногласия, которое еще точнее обозначено ниже
в обращении молнии к поэту. «Миленький, вырвись из-под подушек, / комнат и
споров, строчек и ран». Природа, опровергающая камерность - в первоначаль¬
ном значении этого слова, то есть комнатность поэзии и жизни.
Спор с другом (причем спор заочный - по книге) заставляет вспомнить от¬
зыв С. Третьякова о Пастернаке в первом же номере журнала «Леф». Третья¬
ков представляет противоположное - производственническое - крыло и даже в
момент наибольшего сближения с Пастернаком и надежд на него позволяет себе
ироническое замечание о его поэзии: «...комнатное воздухоплавание на фокке-
ре синтаксиса». Когда писалась «Жар-птица», С. Третьяков был рядом с Асее¬
вым - в Чите.
Повод для спора Пастернак подавал всем строем своего поэтического ощуще¬
ния, но Асеев при этом отталкивается и от вполне конкретных образных ситуаций:
«Из сада, с качелей, с бухты-барахты / Вбегает ветка в трюмо...»
Так у Пастернака начинается стихотворение «Девочка». Ветка, затем по¬
ставленная в рюмку, прирученная, отраженная в трюмо, в котором виден и весь
сад, - это образы, циклически объединяющие несколько стихотворений: кроме
уже названной «Девочки» «Зеркало», «Ты в ветре, веткой пробующем...».
И везде полная противоположность той решительности, уверенности, с ко¬
торой Асеев отправляет своего лирического героя следом за веткой в чащу, в гро¬
зу. Для Пастернака естественнее опасливая игра перебеганием от сада к комнате,
игра двойничеством, способностью взаимно отражаться. То: «Дорожкою в сад,
в бурелом и хаос / К качелям бежит трюмо», то: «Огромный сад тормошится
в зале, / Подносит к трюмо кулак».
Непрекращающиеся пятнашки сада с трюмо. Поэт - в стороне, наблюдате¬
лем. Он допускает природу как метафору души, доходя нередко до полного их упо¬
добления, в котором поэтическое «я» сливается с «плачущим садом». Но есть и
другое - менее замеченное - ощущение опасности разом ухнуть, как провалиться,
в бездну все той же внешней и теперь уже недружелюбной природы:
... Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!
Я чувствовал, он будет вечен.
Ужасный, говорящий сад.
Еще я с улицы за речью
Кустов и ставней - не замечен.
206
Как было и как вспомнилось
Заметят - некуда назад:
Навек, навек заговорят.
(«Душная ночь»)
У Асеева природа не просто расположеннее, дружелюбнее к человеку, но она
требует от него ответного сближения, настаивает на их взаимном союзе:
Молния молча, в тучах мелькая,
к окнам манила, к себе звала:
«Миленький, выйди! Не высока я.
Хочешь, ударюсь о край стола?!»
Почти одновременно и там же, в Чите, писалось Асеевым и стихотворение
«Башни радио» с его хлебниковскими мотивами, с молнией, прекрасной и отда¬
ющей свою энергию человеку. Очень возможно, что истоки асеевских восторжен¬
ных стихов о молнии - в любви к ней Хлебникова: «Молния и молодец...» - созву¬
чие слов, доказывающее их внутреннее родство. Слова из хлебниковского письма
В. Каменскому (май 1914 года), в котором автор с радостью находит «хвалу мол¬
нии» в ранних стихах Маяковского и в его первой трагедии1. Башни для «скру¬
ченной в катушки молнии» в утопии Хлебникова «Утес из будущего» - символ
прирученной человеком энергии2. Но даже Хлебников, при всем его стремлении
примирить человека с природой не перестает видеть торжество человека как наси¬
лие: «... и будет молния рыдать, / что вечно носится слугой» («Ладомир»).
У Асеева же, события революции принимавшего за начало вселенской буду¬
щей гармонии, сама природа, сама молния побуждает человека заключить созида¬
тельный союз, которым и завершается «Жар-птица в городе»:
Я изловчился: ремень на привод,
пар из сирены... Сказка проста:
в громе и граде прянула криво,
в пальцах шипит - перо от хвоста!
Красота становится полезной, не переставая быть красотой. Асеев убеждает
не только тезисами, но всем пафосом стиха, вобравшего в себя живое и востор¬
женное переживание природы как таковой и как нового источника энергии. Это
новое качество не отчуждает человека от природы, но, напротив, сближает их.
Важный момент в цепи поэтического доказательства - заключительная метафора.
Ею примиряется идея производственная с идеей творческой, которая ассоциатив-
1 Хлебников В. В. Неизданные произведения. С. 370.
2 Хлебников В. В. Радио будущего // Хлебников В. В. Соб. соч. в 5 тт. Т. 4. С. 296.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
207
но подсказана традиционным образом писательского пера, добытого у самой мол¬
нии: «... в пальцах шипит - перо от хвоста!»
То, что в поэзии издавна было предметом поэтического поклонения и пере¬
живания, должно быть воспето теперь и как источник пользы. Этому воспроти¬
вился Пастернак. Он сам рассказывает в своей поздней автобиографии «Люди и
положения» об окончательном объяснении с Маяковским:
Однажды во время обострения наших разногласий, у Асеева, где мы с ним
объяснялись, он с обычным мрачным юмором так определил наше несходство:
«Ну что же. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я - в элек¬
трическом утюге»*.
Едва ли не впервые эта молния раздора мелькнула в стихотворении Асеева! Да
и Маяковский откликнулся впервые гораздо раньше, до той, уже подводящей итог
отношениям, остроты. Еще в 1923 году, обращаясь к рабочим Курска по поводу
добычи первой руды, он писал:
И при каждой топке,
каждом кране,
наступивши
молниям на хвост,
выверенные куряне
направляли
весь
с цепей сорвавшийся хаос.
Слишком много на таком малом пространстве текста совпадений с Асеевым,
чтобы они были случайными. Во-первых, этот хвост молнии, незадолго до того
прошипевший в асеевском стихотворении. Во-вторых, при любви Маяковского
к тому, чтобы слово отзывалось разнообразно нацеленным смыслом, вовлекая лич¬
ные ассоциации (здесь они с Асеевым также совпадали), едва ли он не вспомнил
о том, что и Асеев родом из Курска. А ему это было прекрасно известно: «Маяков¬
ский ценил во мне этот интерес к словам, считал меня за знатока языка, спрашивал,
каку меня там по-курски?» (V, 656). Наконец, стихотворение Асеева Пастернаку,
только что перепечатанное в «Избрани», называлось - «Сорвавшийся с цепей».
Так в стихе накапливались противоречия задолго до того, как, по требованию
Пастернака, начиная с шестого номера «Нового Лефа» за 1927 год его фамилия
перестанет печататься в числе постоянных сотрудников журнала. Пастернаку,
1 Пастернак Б. А. Люди и положения // Пастернак Б. А. Поли. собр. соч. в 11 тт. Т. 3. М.:
Слово / 81оуо, 2004. С. 335.
208
Как выло и как вспомнилось
оценившему ситуацию; так сказать, изнутри, была очевиднее несостоятельность
планов, лелеемых на его счет Маяковским и Асеевым. Отношения личной друж¬
бы с этими поэтами какое-то время сохраняли иллюзию творческого союза, но в
своей поздней автобиографии «Люди и положения», уже цитировавшейся выше,
очень определенно, даже резко он сказал о том, что «близость была преувеличе¬
на» и непонимание пролегло между ним и Маяковским начиная с 1918 года.
Это признание может показаться неожиданным лишь на фоне настойчи¬
вого стремления со стороны лефов сохранить Пастернака. Однако к тому же
1922 году - к периоду наибольшего внешнего сближения - относится дарствен¬
ная надпись, сделанная Пастернаком Оренбургу с благодарностью за «Хулио Ху-
ренито», «восхищение которым объединяло редко на чем сходившихся и чаще
разбредавшихся Маяковского, Асеева и других друзей и соратников»1.
Сами лефовцы в уходе Пастернака видели чужое влияние, считали его след¬
ствием литературной борьбы. В. Шкловский писал:
«Леф» существовал. С «Лефом» боролись, его хотели расколоть, для того,
чтобы добраться до Маяковского. Первое нападение было на Асеева. Травили
его статьями «Литхалтура». Потом еще были нападения на Асеева. Потом Асе¬
ева начали хвалить, говорили, что он первый поэт страны, что он лучше Мая¬
ковского. Асеев на диспуте встал с Маяковским рядом и говорил о неразрывной
дружбе поэтов. Потянули Пастернака. Пастернака Маяковский очень долго лю¬
бил. Пастернак оторвался. «Одного утащили», - сказал Маяковский2.
Не в том дело, что утащили. Асеев остался, потому что должен был остаться
по своей истинной близости к Маяковскому. Пастернак ушел, потому что должен
был уйти, потому что близость «была преувеличена». Поздние асеевские отзывы
также акцентировали не близость, а расхождение, «разобщенность общественных
позиций» (V, 502), в то время как творческий союз с Маяковским он объяснял
тем, что «с Владимиром Владимировичем моя биография была близка в ее обще¬
ственной значимости»3.
О биографических предпосылках своих отношений с Пастернаком и Маяков¬
ским Асеев почти одними и теми же словами говорил разным людям (Ф. Левину,
А. Дымшицу):
А мы с Маяковским знаете почему так быстро сблизились? Потому что оба
были уличные ребята, мы так и росли... И с Пастернаком такой близости не
1 Эренбург И. Г. Люди, годы и жизнь // Эренбург И. Г. Указ. изд. Т. 8. С. 261.
2 Шкловский В. Б. Жили-были. М.: Советский писатель, 1964. С. 356-357.
3 Альманах с Маяковским / Под ред. Н. Асеева, О. Брика, С. Кирсанова. М.: Советская
литература, 1934. С. 16.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
209
могло у меня быть, как с Маяковским. Пастернак ведь вырастал совсем в другой
среде, вы знаете, отец - художник, академик, в доме бывали художники, музыкан¬
ты, писатели. Лев Толстой. Пастернак учился в Германии. Совсем иное1.
Говоря о своем «уличном» детстве, Асеев преувеличивал, как это делал и Ма¬
яковский, особенно в дореволюционные годы, начиная биографию бездомностью.
Образ не был документальным, но зато удобным тем, что шел вразрез и с бур¬
жуазной благопристойностью, и с традиционной поэтичностью, а одновременно
мог быть метафорой демократических убеждений. Во всяком случае, «уличная»
тема не случайно привлекается Асеевым к объяснению своей непохожести на Па¬
стернака. На почве этой темы гораздо раньше возникли поэтические расхождения.
Даже не улица вообще, а вполне определенная московская улица - Мяс¬
ницкая. На ней в разное время пришлось жить и Пастернаку, и Асееву, и Мая¬
ковскому. Двое последних и тогда были ее обитателями. Неоднократно она была
упомянута в стихах в разные годы, вызывая различные ассоциации. В 1921 году
«Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе» было требо¬
ванием Маяковского перейти от отвлеченно-всемирных разговоров к вопросам,
которые столь же очевидны всякому, как грязные ямы на разъезженной мостовой
Мясницкой. Через два года в поэме «Про это» Мясницкая - снова место дей¬
ствия. Она та ниточка, которая связала поэта с любимой (они жили на разных ее
концах), и одновременно она символ, лишенный локальной конкретности: «через
вселенную легла Мясницкая».
Деловой, торговый центр Москвы - «лавки Мясницкой», о которых вспо¬
минает Маяковский в одном из вариантов поэмы, - особенно легко воспринял
и наглядно проявил нэп. Улица снова, как и в прошлом веке, вернула себе облик
благополучия и сытой жизни: «...по Мясницкой разъезжать...» Вот почему, го¬
воря о нэпе, к ней же возвращается еще один ее житель - Асеев - в стихотворении
«Интервенциявеков» («Леф», 1923, № 1):
Витрина Мясницкой приколота к синему,
застыла, затлела - три века назад.
Мы требуем ветра прожиточный минимум,
и свежесть, и верность у весен в глазах.
Не нам у безмолвия милости снискивать,
пища фистулой королев и пажей, -
и ваши мечты, как и ваши Мясницкие,
мы скроем под лавой двухсот этажей.
В том же 1923 году стихи о Мясницкой пишет Пастернак - «Бабочка-буря»,
начиная их откровенно полемическим жестом:
1 Воспоминания о Николае Асееве. С. 140.
210
Как выло и как вспомнилось
Бывалый гул былой Мясницкой
Вращаться стал в моем кругу,
И как вы на него не цыцкай,
Он пальцем вам - и ни гуту.
Для него «былая Мясницкая» - это детство. Впервые поэзия, живопись, му¬
зыка - Скрябин: «О, куда мне бежать от шагов моего божества!» И о нем же в
ранней автобиографии: «Я без шубы с непокрытой головой скатываюсь вниз по
лестнице и бегу по ночной Мясницкой, чтобы его воротить или еще раз увидеть»1.
Для Пастернака все это и есть «ваши мечты и ваши Мясницкие», которые
Асеев грозится залить асфальтом.
Асеевская мечта для Пастернака - угроза:
Как призрак порчи и починки,
Объевший веточки мечтам,
Асфальта алчного личинкой
Смолу котлами пьет почтамт.
Нет, индустриальное совершенство, новая асфальтовая гладь старых улиц не
вызывают у Пастернака поэтического вдохновения. Его стихи, исполненные ожи¬
дания грозы, завершаются образом, который уже утилизировал Асеев и через ко¬
торый Маяковский подведет итог расхождению, - молния. Для Пастернака она
прекрасна не потому, что полезна, как асеевская - рвущаяся в антенну. Она - ба¬
бочка, вспорхнувшая на телеграфные провода отнюдь не для того, чтобы проде¬
монстрировать свой трудовой энтузиазм. Она демонстрирует только себя, свою
красоту:
Сейчас ты выпорхнешь, инфанта,
И, сев на телеграфный столб,
Расправишь водяные банты
Над топотом промокших толп.
На этом можно было бы поставить точку на неоправданных Пастернаком ле-
фовских надеждах, но Асеев сам подвел итог расхождению в этот момент. Напом¬
ню совет, данный им в 1922 году: запеть так, чтобы «рассвет тот белесый окра¬
сился в красные дни». Слово «тот» подразумевает нечто конкретное, имеющееся
в виду, вероятно, и у самого Пастернака, раз к нему обращено стихотворение.
1 Пастернак Б. А. Охранная грамота // Пастернак Б. А. Воздушные пути. Проза разных
лет. М.: Советский писатель, 1982. С. 194.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
211
В сборнике «Сестра моя - жизнь» немало душных и серых рассветов:
Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов...
Есть и стихи, где серый рассвет не просто пейзажное наблюдение, но атмо¬
сфера, а с учетом темы, не только лирическая - «Свистки милиционеров». Ноч¬
ные происшествия, сереющий «север злодейств», тревожные трели свистков -
сигнал опасности и серый рассвет - свидетель ночного преступления:
И там, где тускнеет восток
Чахоткою летнего Тиволи,
Валяется дохлый свисток,
В пыли агонической вывалян.
Это стихотворение, благодаря неожиданной лично для Пастернака и вообще
для поэзии теме, было особенно замечено. Его цитировал Асеев, о нем же писал
А. Луначарский в письме Асееву.
Тиволи у Пастернака - символ легкой жизни, развлечений, окрашенных пре¬
ступлением. Это в какой-то мере его аналогия Мясницкой, как ее воспринимают
Маяковский и Асеев, - «интервенция веков», только без твердой веры в ее пора¬
жение. Асеев, советуя, ожидал от Пастернака больше надежды, бодрости и актив¬
ного участия стихом в борьбе с интервенцией всего отжившего. Судя по всему,
Асеев не счел свой совет, данный в 1922-м, услышанным, ибо в 1927-м, в момент
окончательного разрыва Пастернака с группой «Лефа», он сам напишет на ту же
тему - «Мильтон».
Если у Пастернака нет подробного изображения ночной схватки - лишь до¬
гадливо-ассоциативное впечатление, Асеев не жалеет натуралистических деталей,
рисуя картину ночной Тверской и ее обитателей. (Тверская, между прочим, - его
новое место жительства.) Океан водочной мути, мелькающие динозаврьи глаза,
над которыми «только созвездье - клинок и кастет - сверкает в запястьях ни¬
кем не любимых». На это дно сходит милиционер. Асеев сохраняет его уличную
блатную кличку, чтобы, оттолкнувшись от нее, опровергая, дать контрастный
образ:
Он в тесный и липкий становится круг,
туда, где - предательство и увечье,
во мглу хулиганов и сиплых старух -
восходит, как месяц, лицо человечье.
212
Как было и как вспомнилось
И тьма расступается. Город спасен.
Бульвары немеют. Прохожие реже.
Косматый кошмар превращается в сон.
И свет спозаранный по улице брезжит.
Асеев окрасил свой рассвет пафосом новой действительности и веры в нее. По
времени написания это стихотворение совпадает не только с уходом Пастернака
из «Лефа», но и с поэмой Маяковского «Хорошо!», где тот же образ, но переве¬
денный в изображение прямо плакатное и торжествующее:
Розовые лица.
Револьвер
желт.
Моя
милиция
меня
бережет.
Эта тональность в последующие годы преобладает в стихах Асеева.
* * *
Период творчества, последовавший за возвращением Асеева в Москву, не
был продолжительным: скоро поменяются темы, изменится манера. Может ли в
данном случае кратковременность служить доказательством неудачи? Ни в коей
мере. В эти полтора-два года Асеевым создавались стихи из числа лучших, или, его
собственными словами, «самые мои стихи». У поэзии Асеева в будущем появятся
новые черты и новые достоинства, но никогда впредь она не обретет такой не¬
посредственной и воодушевленной лирической силы. Поразительный энтузиазм,
который никак не согласуется с представлением об асеевской сдержанности и хо-
лодноватости.
Лирический взрыв был настолько силен, что он заставил заколебаться мощные
пласты не освоенной тогда, да и до сих пор, «стальной темы». Не вина Асеева, что
этот прорыв оказался преждевременным, но не сомневаюсь, когда мир техники
сумеет гармоничнее вписаться в живую природу, не калеча ее, когда поэзия начнет
решительнее осваивать этот мир как часть человеческого бытия, она не может не
вспомнить о начатых Асеевым и оставленных им до времени разработках.
Начало восстановления, начало индустриализации в первый момент открыли
всю перспективу будущего строительства. Она предстала грандиозной, но близ¬
кой и осуществимой. Скоро заметнее станут трудности, а производственный вое-
Вечер третий. Советская литература и современная критика
213
торг покажется пока что неуместным. Об этом и писал в 1926 году Маяковский
в стихотворном послании Горькому:
Нет нигде цемента,
а Гладков
написал
благодарственный молебен о цементе.
И Асеев, воспаряя, все чаще одергивает себя напоминанием не о том, что бу¬
дет завтра, а о том, что нужно делать сегодня:
Бровь рассекши о земную сферу,
воротимся к РСФСРу.
Так завершает он стихотворение «Машина времени» (1923).
Уходя от утопий, Асеев отказывается и от метафорических гипербол, которы¬
ми увлекался, гоняясь за молниями в надежде у них почерпнуть творческое напря¬
жение:
Удар в сто сорок тысяч вольт,
какую может вызвать боль?
Нет, не предмет такого ты удара!..
Земле - и той рванет кушак,
земле - и той звенит в ушах,
земле - и той не сходит это даром!
Впрочем, не всегда поэту так легко - иронией или благоразумным размыш¬
лением - удается разделаться с романтической мечтой, которая пока что - не
ко времени. Отказ от нее иногда да окрашивается в тона трагедии, как это было
в поэме «Электриада» (1924). В ней прорыв в будущее не удался, очередная «ма¬
шина времени» была перехвачена «эскадрой старичья». Что делать - вернуться?
Никогда. Лучше взрыв, гибель:
Разве мало
в трюме динамиту,
чтобы
сразу дыбом все поднять?!
Взрыв уничтожает «Электриаду», но им же сорваны со своего места рейд,
город, которые «стали также плыть». Есть что-то общее в теме «Электриады» и
214
Как было и как вспомнилось
«Летающего пролетария» - поэмы Маяковского, написанной в 1925 году. У Ма¬
яковского тоже - и сраженье со старьем (только старье предстает гораздо более
политически конкретно - империалистическая Америка), и утопия, восходящая
к мечте Хлебникова о домах будущего, о летающих домах:
Теперь
приставил
крыло и колеса
да вместе с домом
взял
и понесся.
Маяковский отличается от Асеева тоном оптимистической уверенности - по¬
следний бой будет трудным, но победным; и тем, что его город, населенный лета¬
ющими пролетариями, так же как и окончательное сражение с врагом, отодвинут
в далекое будущее, в XXX век. Чем же сейчас, в настоящем, предсказано исполне¬
ние мечты?
Ответ Маяковского - людьми. Будучи свидетелем первых достижений инду¬
стриализации, он говорил не о промышленных чудесах, а непременно о тех, кем
они созданы: «Рабочим Курска, добывшим первую руду...»,«... о Кузнецкстрое
и о людях Кузнецка». По аналогии с ними поэт мыслил свой труд.
Но аналогия для Маяковского не предполагала необходимости бросить свое
дело и взяться за чужое, каким бы полезным оно ни было. Включаясь в начатый
Асеевым ряд «птичьих» метафор, Маяковский в стихотворении «Пернатые», на¬
писанном в 1923 году с подзаголовком, устанавливающим личный план, - «Нам
посвящается», отправляет рифмы не за станки, а на газетные полосы.
Там они более к месту, ибо «мы действующая армия журналов и газет», раз¬
летающаяся по утрам, о победе тараторя:
- Враг разбит петитом и корпусом
на полях газетно-журнальных
территорий.
На этих полях и был заключен творческий союз Маяковского с Николаем Асе¬
евым.
Выбор Асеевым был сделан. Выбор не случайный и не скоропалительный:
Асеев широко осмотрелся в литературе, многое для себя попробовал и встал ря¬
дом с Маяковским. Вспоминая 1920-е годы в своей автобиографии «Люди и поло¬
жения», Пастернак, менее всего склонный перехваливать кого-либо из прежних
соратников, писал о Маяковском:
Вечер третий. Советская литература и современная критика
215
...в эти годы Асеев, отличный товарищ, умный, талантливый, внутренне
свободный и ничем не ослепленный, был ему близким по направлению другом
и главною опорою1.
И в союзе, и в сотрудничестве с Маяковским Асеев сохранял свою поступь,
не подлаживался под его шаг, хотя оба шли в одном направлении. Не обладая рав¬
ной мощью голоса, не претендуя на роль поэта-трибуна, Асеев начинает разраба¬
тывать жанр, отвечающий его темпераменту и его возможностям, - «лирический
фельетон». Для Асеева, оставившего увлечение индустриальной романтикой, это
будет новый вариант примирения пользы и поэзии.
1985
Владимир Новиков
Кредо поколения
Книга Игоря Шайтанова «В содружестве светил. Поэзия Николая Асеева»
(М.: Советский писатель, 1985) - пятая книга о Николае Асееве. Чем она отлича¬
ется от написанных прежде на ту же тему монографий Д. Молдавского, А. Карпо¬
ва, В. Милькова и О. Смолы - будет сказано ниже. Начнем же с другого...
Вот уже около десяти лет идут в нашей литературной печати споры о «со¬
рокалетних». Они, собственно, уже заканчиваются, поскольку писатели, обозна¬
ченные некогда этим эпитетом, благополучно подбираются к возрасту почтенно¬
юбилейному и нуждаются в переименовании. Меж тем читатель из Харькова
В. Юхт в «Вопросах литературы» (1986, № 5) впервые применил данное опре¬
деление к представителям критического цеха, тут же помянув И. Шайтанова.
И действительно: нынешние «сорокалетние» критики и литературоведы дают ос¬
нование для разговора о себе как о своеобразной профессиональной и духовной
формации. Дело, конечно, не только в единстве возраста. В этом поколении, как
и во всяком другом, встречаются и бездушные ремесленники, и легкомысленные
«пенкосниматели», и люди просто серые, бесталанные. Но, вглядываясь в глав¬
ное, можно увидеть отчетливую доминанту работы целого поколения, вычленить
ключевое понятие его системы ценностей - понятие культуры.
Ориентация на эту категорию была во многом подготовлена спорами и по¬
исками литературоведов и критиков предыдущих поколений. На рубеже 60-70-х
годов заговорили об «уважении к преданию», о «памяти» в высоком и широком
смысле слова. Для теперешних «сорокалетних» исследователей литературы это
1 Пастернак Б. Л. Люди и положения. С. 336.
216
Как было и как вспомнилось
была пора дебютов. Они прямо начинали с того, к чему многие старшие коллеги
приходили после долгих сомнений и ошибок. Для них сразу было бесспорным то,
что прежде приходилось отстаивать и защищать в спорах. И, надо сказать, этим
своим преимуществом новое поколение филологов сумело воспользоваться. Они
уверенно обогащали свою память знанием истинных, а не мнимых богатств. В их
среде негласно возрождался характерный для старого академического литерату¬
роведения максимализм знания: в первую очередь знать литературу, а лишь во
вторую - писать о ней что-то свое. Уважение к факту стало первейшей этической
заповедью, добывание новых фактов, обнародование неизвестных текстов, точное
их комментирование - делом чести и доблести. Отсюда и недоверие ко всякого
рода скоропалительным концепциям и непомерно глобальным обобщениям. По¬
коление сразу было не по годам осмотрительно и осторожно, что явилось свое¬
образной реакцией на повышенную концептуальность и «личность» многих их
предшественников. Дело в том, что культуре нужны не только активные творцы и
страстные защитники, но и просто подлинные ее носители. Культурная традиция
нуждается в определенном, хотя бы экологически минимальном количестве пони¬
мающих и знающих читателей - независимо от того, публикуются они регулярно
или, пользуясь пушкинской формулой, остаются Декартами, не напечатавшими ни
одной строчки в «Московском телеграфе».
Принцип «культуроцентризма» объединяет совершенно непохожих «со¬
рокалетних» - от активных участников текущего литературного процесса
С. Чупринина и Н. Ивановой до предельно академичных ленинградцев А. Лавро¬
ва и Г. Левинтона, рижан Р. Тименчика и Е. Тоддеса. И принцип этот отнюдь не
приводит к эстетическому герметизму: в самой широте культурных ассоциаций,
в напряженной жизни художественного слова критики и литературоведы нового
поколения обнаруживают реальную (а не притянутую за уши) связь литературы
с действительностью. Об этом можно судить, к примеру, по выступлениям универ¬
сальных литературных «комментаторов» В. Ерофеева и М. Эпштейна, по статьям
и рецензиям Г. Гордеевой, уверенно вплетающей сюжеты и образы современной
словесности в сеть вечных мотивов литературы.
«Сорокалетние» не склонны к узкой специализации, они считают своим
долгом видеть отечественную литературу в масштабе не менее двух столетий, а
иные из них одновременно занимаются и литературой зарубежной (И. Шайтанов,
в частности, - английской). Вместе с тем можно заметить одну закономерность
в их пристрастиях. При наличии здесь ряда авторов, пишущих о поэзии, прозе и
критике XIX столетия (А. Осповат, В. Кантор, В. Гуминский, Л. Соболев), доми¬
нантным признаком поколения я все же назвал бы повышенный интерес к художе¬
ственным открытиям русской литературы XX века, стремление осознать не только
сходство ее с классикой минувшего столетия, но и ее неповторимую специфику,
определенную как эпохой, так и путями художественного слова.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
217
«Время и слово - разве не в их напряженном взаимодействии родится поэ¬
зия?» - такими словами заканчивается рецензируемая книга. Они относятся
не только к Асееву и формулируют кредо не одного И. Шайтанова. Литература
XX века сама по себе огромный контекст, требующий описания и изучения, нуж¬
дающийся в своих знатоках и летописцах. (Вспомним тут еще одного «типично¬
го представителя» нового поколения - Н. Богомолова, вступившего в борьбу за
точность работ по истории советской литературы, следуя примеру многолетней
деятельности И. Ямпольского по защите от ошибок истории русской литературы
XIX века.)
И, когда идет речь о поэтах, формировавшихся в 1900-1910-е годы, нельзя
обойтись без основательного соотнесения их индивидуальных путей с такими кон¬
текстами, как «символизм», «акмеизм» и «футуризм». Долгие годы существовал
в литературоведении весьма необременительный способ решения проблемы «ли¬
тературного фона»: дескать, поэт имярек в юные годы по неопытности оказался
в дурной компании символистов (акмеистов, футуристов), но потом исправился
и полностью преодолел заблуждения молодости. Школа, из которой вышел поэт,
рисуется исключительно черной краской (прием удобный: он не требует ни из¬
учения, ни прорисовки конкретных деталей и обстоятельств), а потом читателю
адресуется неизменный и почти риторический вопрос: да и был ли хороший поэт
имярек символистом (акмеистом, футуристом!)? Дисциплинированный читатель
вместе с автором должен с готовностью ответить: не был, конечно. Вариант удоб¬
ный, но его обязательность и стандартность, серьезно говоря, вызывают сомнение
в истинности подобных построений. Здесь возникает опасность того априорно¬
го подхода, который Д. Лихачев метко окрестил «абстрактным историзмом» -
в противовес историзму конкретному, подлинному.
Надо признать, что в предыдущих книгах об Асееве эта опасность в той или
иной мере сказалась. Проблема «Асеев и футуризм» рассматривалась там черес¬
чур бегло, к тому же футуризм представал скорее как совокупность полемических
лозунгов, а ведь это еще и реальная художественная система, нуждающаяся в диа¬
лектичном на нее взгляде, в трезвой и спокойной оценке, основанной на полноте
понимания предмета. Книга И. Шайтанова начинается с основательного разгово¬
ра об этой системе, поскольку с ней прочно связаны такие доминантные прин¬
ципы поэтики Асеева, как установка на звучащую речь, как «словообраз». Автор
стойко держится принципа содержательности формы, не утомляя читателя лекси¬
ческими перечнями и стиховедческими схемами, но постоянно ощущая смысло¬
вую значимость всех уровней стиха. Процесс формирования неповторимой инди¬
видуальности Асеева тщательно выписывается в ходе конкретного сопоставления
его с другими футуристами, с футуризмом в целом.
Есть поэты, которых можно полюбить за темы, сюжеты, отдельные стихо¬
творные высказывания. С Асеевым - другой, особый случай. Он вроде бы весь
218
Как было и как вспомнилось
в эмоциональном порыве, весь обращен к собеседнику, но от собеседника непре¬
менно требуется определенная настройка на эту, и только эту, поэтическую волну.
Помогая читателю на нее настроиться, И. Шайтанов дает интересное и смелое
по своей прямоте объяснение этой скрытой трудности вхождения в мир Асеева,
усматривая ее корни в своеобразии начального пути поэта: «Смысл формы от¬
крылся Асееву раньше, чем смысл того, чему она должна служить <...> Время
определит темы. А тема оправдает владение поэтической техникой. Когда придет
уверенность в том, что надо сказать, Асееву не придется отрекаться от приобре¬
тенного ранее - ему пригодится все его умение говорить на языке поэзии».
Да, поиски молодого Асеева были не просто ученичеством или лабораторны¬
ми опытами, тем более они не были «грехами молодости», это было возведение
поэтического фундамента, на котором в дальнейшем выстраивались тематические
и сюжетные этажи поэм и стихотворений. И то, что в самой кладке этого фунда¬
мента сказались принципы поэтической школы, в русле которой начал Асеев свой
путь, - факт непреложный и вовсе не нуждающийся в маскировке. Так и в книге
И. Шайтанова рассказ о раннем Асееве стал своеобразным научным фундамен¬
том дальнейшего повествования. Когда анализ «художественных особенностей»
оставляют «на потом», сам этот анализ грозит стать бесплатным приложением, а
все, что идет до него, - чисто волевым, бездоказательным прочтением. И. Шайта¬
нов, начав с трудного разговора о поэтике, вырабатывает для себя и для читателя
единый ключ к прочтению зрелого и позднего Асеева. Построение книги как бы
отражает творческую эволюцию поэта: он идет к «овладению темой», к отчетли¬
вости стихотворного высказывания - и речь автора книги становится все менее
строгой и терминологичной, от литературоведческого анализа он переходит к бо¬
лее свободным критическим разборам.
Но важно заметить, что в разборах этих не теряется историческая нить, ана¬
лизируется не просто набор произведений, а продолжающийся путь поэта. Асе¬
ев движется, по мысли автора, как бы постепенно приумножая свой творческий
капитал, осваивая новые, прежде не свойственные ему возможности: расширя¬
ется тематическая и жанровая палитра, достигается зримость и внешняя досто¬
верность стихотворных картин. Путь Асеева, если воспользоваться знаменитым
пастернаковским эпитетом, адресованным Маяковскому, был в высшей степени
неподделен. И исследователь избегает соблазна привести поэта в соответствие с
нашими позднейшими представлениями. Заходит, скажем, речь о производствен¬
ной теме, о ключевом для Асеева в 20-е годы образе «стального соловья». В наше
время экологических забот и тревог, конечно же, у этого индустриального соловья
мало шансов на успех. Так, может быть, списать это на дань поэта злобе давнего
дня? Удобный способ, тем более что и у самого Асеева можно найти надлежащую
цитатку: ведь говорил же он в 1959 году, обращаясь к Л. Мартынову: «Я сам писал
про соловья стального, пока не услыхал в ночи живого». Отрекся, значит, - и дело
Вечер третий. Советская литература и современная критика
219
с концом. Но в том-то и дело, что художнику свойственно отталкиваться от прой¬
денных ранее этапов, порой преувеличенно и несправедливо их оценивать - это
мера творческого максимализма. А мера исследовательского (и читательского)
максимализма - понять внутреннюю логику всего творчества в его исторической
определенности, не перечеркивая ничего из сделанного поэтом. И. Шайтанов
вступает в спор с облегченными взглядами на Асеева: «Полагают, будто стихи “об
обыкновенных” продиктованы искренним вдохновением, а о стальных соловьях -
ложной теорией. И то и другое было одинаково искренним!» Здесь, как и во мно¬
гих других случаях, критик имеет в виду единую духовно-творческую цель поэта,
единый, разворачивающийся во времени смысл поэзии Асеева.
При этом И. Шайтанов отнюдь не скрывает от читателя противоречий твор¬
ческого развития поэта, его слабостей, сказавшихся даже в лучших произведени¬
ях, - например, в поэме «Маяковский начинается». Важно, что критик отличает
противоречия-недостатки от необходимых диалектических противоречий жизни,
без которых судьба большого поэта просто не может состояться. Как способ твор¬
ческого «сопряжения крайностей» трактует И. Шайтанов специфический асе-
евский жанр «лирического фельетона». Это не малодушный компромисс лири¬
ческой натуры с требованиями извне, а способ художественного взаимодействия
с временем, способ укоренения поэтического слова в почве обыденности. И. Шай¬
танов показывает и доказывает это на множестве примеров, спокойно, аналитиче¬
ски, отдавая себе отчет в том, чтб в асеевских стихах может вызывать читательское
неприятие или непонимание. В этом еще одно существенное отличие рецензиру¬
емой книги от предшествовавших ей работ о поэте. Их авторы, искренно любя
своего общего героя, как-то не задумывались о читательском к нему отношении.
А оно, честно говоря, отнюдь не совпадало и до сих пор не совпадает с издатель¬
ской ситуацией, при которой как стопроцентный «верняк» выходили и про¬
изведения поэта, и книги о нем (шутка ли сказать: уже пятая - это при том, что
о Пастернаке, Мандельштаме, А Белом ни одной нет). Асеев мало популярен - и
в массовых кругах, и среди знатоков. О нем редко говорят, трудно встретить чело¬
века, для которого этот поэт был бы любимым.
И это ужасно несправедливо! Но для того, чтобы эту несправедливость по¬
бедить, надо ее осознать, разобраться в ее причинах. Надо переспорить скепти¬
чески настроенного читателя. А для этого необходимо отказаться от волевого
риторического нажима, от благодушно-лирического тона в анализе лирики. Так
и действует И. Шайтанов. Его тон внешне хладнокровен, но нацелен на то, что¬
бы преодолеть читательское хладнокровие. Недооценка и недопонимание Асеева
в основном связаны с двумя причинами. Первая - его внешне неэффектная био¬
графия, лишенная той драматической или трагической окраски, которая повыша¬
ет читательский интерес к стихам, а то и сама по себе становится единственным
предметом интереса. С учетом этого обстоятельства И. Шайтанов и сосредото-
220
Как было и как вспомнилось
чился на Асееве как поэте, стремясь убедить читателя, что именно в стихах, а не за
их пределами личность Асеева нашла свое подлинное выражение. Вторая причина
невостребованности стихов Асеева в нынешней культурной ситуации - это отсут¬
ствие в них, так сказать, афористического начала. У Асеева не найдешь логически
интересных суждений, отточенных формул. Это принципиально «нецитатный»
поэт. С его именем не связаны какие-то общеизвестные строки. Самая его попу¬
лярная вещь - это, наверное, «Синие гусары», но, заметьте, популярна она имен¬
но как целое стихотворение. Такую особенность восприятия постоянно учиты¬
вает автор книги, не силясь воздействовать на читателя подбором впечатляющих
цитат, а показывая, что Асеев «не тот, кто умеет убедить одной репликой. У его
образов - широкое дыхание, требующее пространства в стихе». Передать ощуще¬
ние этого пространства, пропустить через читательскую душу тот «лирический
ток», в котором О. Мандельштам видел главное своеобразие асеевской поэзии, -
вот главная внутренняя цель автора на протяжении всей книги. Она, думается, до¬
стигнута, потому что первое, что хочется сделать по прочтении монографии, - это
достать с полки давно не открывавшийся том стихов и просто читать.
В начале книги приводятся слова В. Шкловского о том, что Асеева «пора по¬
нять, назвав великим поэтом». Но, честно говоря, эпитет «великий» мне кажет¬
ся каким-то не идущим к Асееву. Вовсе не потому, что поэт его не заслуживает,
а потому, что подобное определение предполагает наличие какой-то многосту¬
пенчатой иерархии, наверху которой эти «великие» размещаются. Понять Асее¬
ва, думается, можно, увидев его в более простой системе оценки, когда все поэты
делятся на настоящих и ненастоящих. Каждая эпоха по-своему «назначает» вели¬
ких, но понимают и любят поэтов не за их место в табели о рангах, а за то бесспор¬
но настоящее, что в них есть.
Вопрос о художественной подлинности или мнимости литературных яв¬
лений для современной критики во многом остается вопросом убеждения, а не
доказательства: верю - не верю, принимаю - не принимаю. Конечно, без такого
личностно-субъективного подхода критика не существует. Но бывают времена,
когда возрастает потребность в укреплении начала объективного. Это, думается,
характерно для поколения «сорокалетних», пишущих о литературе и тяготею¬
щих к перенесению в критику приемов научного исследования. Отсюда извест¬
ная доля эмоционального самоограничения, стилевого аскетизма, характерная для
большей части поколения. Порою этот аскетизм бывает чрезмерным, что можно
сказать и о рецензируемой книге. Ее автор, думается, мог больше позволить себе
и в смысле полемической остроты, и в смысле активных «педагогических» прие¬
мов воздействия на читательское сознание. И то и другое в спектре его творческих
возможностей присутствует.
Название книги И. Шайтанова - из асеевских строк «И ты внезапно ощутил
себя в содружестве светил». Отталкиваясь от этой метафоры, можно заметить,
Вечер третий. Советская литература и современная критика
221
что русская поэзия XX века - настолько большое и яркое созвездие, что мы можем
себе позволить подолгу не замечать иные звезды. А от исследователя, от «звездо¬
чета», требуется умение увидеть и донести до других богатство каждого поэти¬
ческого света - и самого по себе, и в созвездии. На звездно-поэтической карте,
вычерченной И. Шайтановым, Асеев неотделим от звезд соседних - и вместе с тем
видно, что его стихи излучают свой неповторимый свет.
1987
Лев Озеров
Уроки Асеева
Книга Игоря Шайтанова «В содружестве светил» состоит из десяти глав
с введением и примечаниями. Все вместе взятые, эти главы, написанные на разные
и даже с первого взгляда разрозненные темы, весьма полно, можно сказать, моно¬
графически раскрывают творчество Николая Асеева. Это творчество ревниво и
пристально рассмотрено в свете нынешних 80-х годов, в свете приближающегося
конца XX века.
«В содружестве светил» - это скорее всего размышление об Асееве в его не¬
зримом присутствии и в зримом присутствии читателя. Эта книга - поиск истин¬
ного понимания Асеева, его наследия и его уроков.
Автор сознательно ограничивает себя: все, что относится к области архив¬
ных разысканий, сопоставления вариантов, не входит в рамки его книги. В центре
ее - желание «показать неизвестное в известном, подчас в забытом, как в случае
с некоторыми интереснейшими стихами ранней поры, затерянными в редких аль¬
манахах, сборниках и не перепечатывавшимися» (с. 6). Иными словами: показать
Асеева в процессе его становления, увидеть его таким, каким его знали современ¬
ники.
Хотя и свободно оперирующая биографическими данными (некоторые из них
не лежат на поверхности), книга эта, однако, не биографическая. Жизнь поэта,
личность его в какой-то мере объемнее и шире, в какой-то мере уже его биографии
и поэтической судьбы. Эта судьба и есть предмет исследования. Она может быть
увидена по-разному: с точки зрения философа, социолога, теоретика и историка
литературы, исследователя литературного быта. Игорь Шайтанов идет по иному
пути: его интересует прежде всего движение поэтической мысли Асеева, мысли,
которая рождается в звуке, в слове, но которая призвана охватить и выразить се¬
годняшнее и вечное. Автор книги связывает этот процесс не только с Асеевым, но
и с тем «содружеством светил», в котором двигался поэт. Это Хлебников и Мая¬
ковский, Пастернак и Третьяков, Каменский и Кирсанов.
222
Как было и как вспомнилось
Развитие поэтической мысли у представителей этой плеяды не было отдель¬
ной и отдаленной от самой поэзии задачей. Новая мысль о мире рождалась в шуме
словаря, сильно взвихренного революцией, в мелодике стиха, вышедшего из ком¬
наты на площадь, в речевом потоке, не повторяющем, но выражающем средства¬
ми искусства поток самой жизни. Автор не ставит знака равенства, но доказывает
закономерность движения от так называемой техники стиха к овладению темой
современности. В существовании такой закономерности были убеждены сами по¬
эты. Достоинство книги именно в том, что она показывает, как в решении задач
речевых и стиховых и открывался путь к возможности сказать новое слово о вре¬
мени, вернее «о времени и о себе».
Проблематика книги вырастает из желания, с одной стороны, объективно ре¬
конструировать те споры и дискуссии, которые сопровождали развитие поэзии,
с другой же стороны, автор, не включаясь в те споры и дискуссии (поздно!), пыта¬
ется оценить самую суть тех споров с точки зрения наших дней. Это важно, и это
делает стереоскопическим наш взгляд на поэта и его наследие. Последовательность
этих проблем помогает читателю восстановить последовательность всего того, что
приходилось решать самому Асееву на протяжении его полувекового творческо¬
го пути. По существу, в ходе этого разговора вырисовывается портрет Асеева - от
первых футуристических сборников до сборников зрелых и поздних. Такой способ
портретирования представляется уместным и весьма перспективным.
Зная все, что написано об Асееве в разные годы и десятилетия, в том чис¬
ле и работы С. Трегуба, С. Лесневского, О. Смолы, В. Милькова, А. Крюковой,
Д. Молдавского, А. Карпова и других, Игорь Шайтанов не полемизирует с ними,
не поправляет их, а излагает свою точку зрения. В отличие от предшественников,
автор книги не помещает Асеева в прокрустово ложе школ и течений, лефов, по¬
путчиков, рапповцев и т. д. Для автора книги всего важнее определить творческую
индивидуальность Асеева и то, как он вписывается в современность.
Часто у нас излагают историю жизни писателя и отдельно от нее историю его
творчества. К особенностям книги, к ее безусловным достоинствам я бы отнес
умение вести одновременный, как бы синхронный разговор о жизни и творчестве
как о процессе цельном и неделимом. Курское реальное училище, Коммерческий
институт, «Весна», издаваемая Н. Шебуевым, - «странное место», первая публи¬
кация - 1911 год, В. Лидин, Н. Огнев, Ю. Анисимов, С. Бобров, а далее В. Брю¬
сов и «единомышленники». Так завязывается крепкий узел жизни и творчества.
Так возникает первое грозное предупреждение - не кого-нибудь, а Блока (1916
год). От имени издательства «Лирень» Асеев предлагал Блоку сотрудничество,
именуемое «союзом сильнейших». Блок остался равнодушным к асеевской книге
«Леторей» и не принял самовлюбленного названия нового предлагаемого союза:
«... Вы как-то торжественно называете себя "сильнейшим”. Ну, скажите, кто же это
так о себе думает, разве - в полемической брошюре, а в письме зачем? - Это не
Венер третий. Советская литература и современная критика
223
по-русски. Александр Блок» (с. 21). Не ведал Блок, что ему еще не менее пяти лет
(до смерти в 1921 году) придется выслушивать автопризнания и саморекламы по¬
хлеще и понаглей. Но Асеев от такого рода «методов» отошел. Урок Блока был
полезен.
Особенность Игоря Шайтанова: он никогда не повышает тона, хотя в некото¬
рых случаях это было бы и желательно. Интеллигентен, обходителен, хотя и строг,
не хочет обидеть, но замечает теневое.
Когда разговор заходит о гражданственности, о позиции поэта, возникает
вопрос о сотрудничестве его с газетой. В беседах с Асеевым эта тема возникала
часто. «Социальный заказ», «веление времени» - так обычно объясняют кри¬
тики газетные выступления поэта. Скажу: поверхностно объясняют. Всё прячут
под крыло - «веление времени». А в действительности же это далеко не так. Был
свободный выбор пути и цели.
В одном довольно бурном нашем разговоре Асеев вспыхнул и сердито сказал
мне: «Мы не крикуны, мы обрадованные революцией люди. Мы по-другому не
хотели и не умели». Это о Маяковском и о себе.
Асеев и его соратники хотели установить новые отношения поэта и общества,
новое место в «рабочем строю», в мире, среди людей. Были в истории поэты-про-
роки, поэты - страстотерпцы, песнопевцы, звездочеты, придворные, бродяги-дер¬
виши, деятели - защитники угнетенных, висельники, борцы. Надо было утвердить
новую, небывалую тональность.
Тон Асеева - духоподъемный, молодой, спортивный: «Что же мы, что же
мы, неужто ж размоложены»... или во «Времени лучших»: «Умираем? Нет, не
умираем, порохом идем в тебя, земля!» - тон лыжника на трассе, тон летящего на
глиссере по водной глади, тон верхолаза и высокогорника.
Есть поэты, о которых пишут, но которых не читают. Есть такие, которых чи¬
тают, но о которых не пишут. Асеева в последние годы не читают. Пишут о нем
мало, второпях, часто без знания материала. Асеев не вошел в программы школ и
институтов, как Маяковский («был и остается»). Асеев разделил участь Лугов-
ского, Светлова, Сельвинского, Кирсанова, Антокольского, Тихонова. В разной
степени их мало читают и мало пишут о них (разве что в связи с юбилеями). Игорь
Шайтанов чувствует это, знает это. Ему больно, но он, видимо, верит в то, что ин¬
терес к Асееву возродится. Для того, собственно, и создавалась его книга.
Подчас говаривали об Асееве как о детали памятника Маяковскому. Автор
книги не поддерживает эти разговоры. Он выясняет, в каких случаях эта дружба
помогла Асееву, в каких (это сделано скромнее, под сурдинку, с опаской) была
противопоказана ему. Были годы, когда Асеев, желая сделать своему кумиру при¬
ятное, становился на горло собственной лирической песне, соловьиному курскому
щелку и грому, и заставлял себя давать прессе далеко не всегда удачные фельето¬
ны, писать вещи однодневного лозунгового наполнения. Он это делал увлеченно
224
Как выло и как вспомнилось
и убежденно, но момент допинга, накручивания, подтягивания имел место в этом
сложном процессе. Поздний Асеев, лирик «по складу своей души, по самой стро¬
чечной сути», взял верх над подтекстовщиком-моссельпромщиком. Два соловья -
стальной и живой - долго боролись в нем, пока наконец не победил живой. Мое
многолетнее общение с Николаем Николаевичем говорит о том, как он, хотя и с
большим опозданием, вернулся к своим истокам и снова заговорил со всей есте¬
ственностью и распахнутостью. Конечно, нельзя этот процесс изображать одно¬
линейно: было - так, а стало - вот этак. И в «так» подчас проступало «вот этак»,
и в «вот этак» проступало «так». Живое дело, и автор книги понимает это посто¬
янное борение, о котором другой поэт - Борис Пастернак - сказал:
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим
Собой...
В асеевских лирических фельетонах, стихах на случай, агитках иногда не ви¬
дишь поэта, пропадает его живая интонация, их нелегко сейчас читать и перечиты¬
вать, во всяком случае, подряд. Но их нельзя обходить - в них, пусть однозначно,
но порой мощно, просматривается и прослушивается эпоха. Можно принимать
или не принимать синюю блузу, кепки, рабфаковцев, марши ударных бригад, но
это - эпоха, история, наше прошлое. В этом смысле у Асеева бездна материала.
Игорь Шайтанов избежал напасти нашей критики и нашего литературоведения:
выводы делают до изучения, а обобщения даже до знакомства. Это дурная тра¬
диция! Мы от нее отходим, должны отойти. Мне удавалось видеть Асеева дома
(болезнь держала его с молодых лет взаперти), на заседаниях (редко), на литера¬
турных вечерах, на катке (Петровка), на Николиной горе, в санатории, в кафе, в
машине. Всюду он оставался поэтом. Не только когда читал стихи. В любом самом
малом поступке. В жесте. Видел его золотоволосым, седеющим, седым. Серо-го¬
лубые, большие, широко раскрытые глаза, иногда пристально-ласковые, иногда
гневные. Говорил крупно, чаще нараспев, весомо, вдумчиво. Знал я его, слышавше¬
го все шорохи и шелесты, все гулы и громы русской речи (хлебниковское «и море
речи и ты далече»), читавшего летописи, Кирпгу Данилова, «Слово о полку...»,
Достоевского, Аввакума, Хлебникова. Увлеченного и увлекающего: пришел - под¬
ставляй уши и слушай очередные пятьсот строк Сосноры (в нем Асеев вспомнил
свою юность) или другого молодого. Сказитель, сказочник, затейник, остро реа¬
гировавший на все новое в жизни и литературе. Артистичен, порой лукав, легко
раскрывающий душу навстречу другой душевности.
Юность сближает, зрелость разводит. Левые были в юности вместе. Когда же
пришел юбилей левых - 20 лет - и Маяковский задумал свою выставку, все они
захотели праздника и для себя. Роковым образом расстались. Расставались и има¬
жинисты, и конструктивисты, и акмеисты. На старости Асеев был одинок. День
Вечер третий. Советская литература и современная критика
225
его 70-летия мы провели с ним на Николиной горе вдвоем. Вечером из города при¬
ехала Ксения Михайловна с ворохом писем и телеграмм. И все. Один!
В книге мало материала о таком реальном, энергичном, вспыльчивом, бесконеч¬
но трудолюбивом поэте. Автор книги и не ставил перед собою такой задачи: он писал
не биографию, а книгу о его поэзии. И взыскательная, и взыскующая мысль исследо¬
вателя всецело занята миром его поэзии, находящейся «в содружестве светил», а не
в проезде МХАТа, на верхотуре, откуда открывается вид на центр Москвы.
Исследователя живо интересует поэтика Асеева и ее частности (главы «Во¬
круг слова», «Техника стиха» и др.). Слово в стихе, значение и звучание, рифма,
мелодика - на этом автор книги останавливается подробно,
О музыкальном начале у Асеева есть смысл говорить, показывая, как на про¬
тяжении жизни у него менялись воззрения на роль мелодики и интонации в искус¬
стве слова. Знания, вкус и система доказательств, столь явные у Игоря Шайтанова
качества, здесь сослужили бы ему самую добрую службу.
Книга Игоря Шайтанова вновь возвращает нас к давним спорам о природе
поэтического слова, о ритме, о рифме.
Был ли Асеев заумником? Автор книги предостерегает нас от занесения
имени Асеева в число заумников. И дает нам убедительное пояснение: заумники
орудовали в области языка, а Асеев ориентирован на стих. Да, стих, интонация,
мелодика - вот сфера Асеева, и здесь происходили его главные баталии. Я не упо¬
мянул ритмики. Она занимает у Асеева главенствующее место. Здесь он гениально
изобретателен, его пассажи, каденции, его прелюдии и фуги не были прежде из¬
вестны. Именно в этой связи можно, правда с оговорками, принять шайтановское
определение ритма как понятия прежде всего звукового. Да, это годится для Мая¬
ковского и Асеева. Но не может служить объяснением для более широкого круга
поэтов, формула хромает.
Левые, футуристы, лефы, при всех их оттенках, схожи в том, что бросались из
крайности в крайность. От зауми и самовитого слова, что далеко не одно и то же
(это убедительно показывает Игорь Шайтанов), от культа фонемы как таковой
молодые авангардисты бросались к чисто функциональному отношению и к фо¬
неме и к слову, используя их в интересах площади, зала, газеты, заказчика, плаката.
И Асеев от «Тулумбасы, бей, бей» и «Тронь струн винтики» с головой ушел в
иногда певучие, а иногда и трескучие газетные стихи. Это было веление времени.
Рыцарь русской рифмы - так бы назвал я Асеева. Мы все учились у него.
Странно, что нынешние поэты проходят мимо его опыта. У него абсолютный слух
на рифму. Весь словарь русского языка звучит для него, ему, в нем. Все богатство
зрительных и слуховых процессов в строке и строфе, в цельном стихотворении ос¬
воено Асеевым и приведено в гармоническое сочетание. Каким надо было обла¬
дать слухом, чтобы поставить на рифму оружие (родительный падеж) «палаша»
и глагол «положа» («Синие гусары»). Или глагол «обмирало» и «адмирала».
Я получаю острое удовольствие от таких рифм.
226
Как было и как вспомнилось
Рифма для Асеева - это не только звук, венчающий строку и аукающийся че¬
рез строку с другим звуком. Поэт прошивает звучанием рифмы всю строку, и эти
звуки, льющиеся по строке, как по проводу, как бы готовят появление рифмы.
В своих статьях об Асееве я еще три с лишним десятилетия назад указал на это
явление, и мне приятно, что в главе «Техника стиха» (подраздел «Звукострое-
ние») Игорь Шайтанов поддержал мою мысль и мои доводы и успешно развил их
на новом материале.
Спокойно и убедительно показывает Игорь Шайтанов не столько заблужде¬
ния сторонников тех или иных школ и теорий, сколько последовательную работу
времени, работу по разрушению догм.
В 1811 году Батюшков: «Что за ы? Что за щ, что за ш, щий, ьиий, при, тры?»
В 1918 году Маяковский: «...есть еще хорошие буквы Эр, П1а, Ща».
И еще. Футуристы считали, что гармонический строй, мелодика гласных, до¬
стигшие совершенства у Батюшкова, Пушкина, завершаются Блоком. Казалось,
эпоха завершена. Пришли, как казалось Маяковскому, Эр, Ша, Ща, как казалось
Крученых, «Дыр бул щыл». Пришли навсегда. Ан нет. Гармонический строй от
Пушкина до Блока вернулся в нашу поэзию. Вернулся навсегда? Не хочу повто¬
рять ошибки футуристов. Время покажет. Но пока, за малым, может быть, исклю¬
чением, основы гармонического строя держатся уверенно. Во всяком случае, если
не в стихах и поэмах наших сочинителей, то во вкусах и пристрастиях любителей
поэзии.
Иногда Игорь Шайтанов как бы вскользь высказывает мнение, решительно
расходящееся с традиционным. Например: многие поэты мечтали приблизиться
к музыке, добиться ее всеобщности, неограниченной образности (Чайковский
славил Фета за то, что тот сумел сделать решительный шаг в сферу музыки). Са¬
мый примат музыки не ставился под сомнение. Говоря о том, что поэзия пользует¬
ся средствами «другого искусства - музыки, чьи возможности в этом отношении
(достижение осязаемого, зрительного впечатления. - Л. О.) более ограниченны,
чем возможности слова», Игорь Шайтанов примат видит все же в поэзии. Он го¬
ворит: «Зрительная определенность ассоциаций, которые может вызывать музы¬
кальный образ, значительно меньше, - они гораздо субъективнее, произвольнее»
(с. 123). Это по меньшей мере спорно. А как быть с программной музыкой? Неу¬
жели же «Кикимора» Лядова менее зрительно определенная, чем «Тронь струн
винтики» Асеева, неужели же «Петрушка» Стравинского более субъективен и
размыт, чем «Русская сказка» того же Асеева?
Низвергая и высмеивая работу Асеева, враги его низвергали и высмеивали его
газетные стихи. Его «лирический фельетон» как новый жанр был перечеркнут.
Казалось, возврата к нему не будет. Но время распорядилось по-другому.
В дни войны асеевский жанр был подхвачен газетами, отдававшими четвертую
полосу под боевые стихи, в которых рассказывались отдельные эпизоды фронто¬
вой жизни. Сперва «Василий Теркин» печатался отдельными главами (понача-
Вечер третий. Советская литература и современная критика
227
лу это были даже не главы, а эпизоды, связанные друг с другом единым героем).
Твардовский после выхода первого издания «Василия Теркина» говорил автору
этих строк, что до поэмы был «регулярный фельетон» (помню, он сказал именно
эти слова - не «лирический», а «регулярный», что по существу дела не меняет).
В ту пору имя Асеева автор «Книги про бойца» не упоминал, но историк литера¬
туры вправе соотнести начинания Асеева с этой поэмой.
В наши дни лирический фельетон возник у Вознесенского (к Асееву он ближе
других), у Евтушенко, у Рождественского - личный, хлесткий, сиюминутный, на¬
сущный. Можно по-разному судить о чисто стихотворных качествах его, об эклек¬
тичности образов, о системе рифмовки, но никто не будет возражать против того,
что он есть и нужен людям. Евтушенко, например, лирический фельетон довел до
размеров огромной поэмы (как показывает его «Фуку!»). Есть смысл вспомнить
того, кто стоял у истоков жанра.
Именно Асееву принадлежит еще одна инициатива: статьи о поэзии, в кото¬
рых проблема и портрет совмещены, несут двойную службу. По этому пути пошли
многие пишущие о поэзии (в том числе и Игорь Шайтанов), но исток забыт.
«Если весело речка мчится, значит, где-то грустит исток», - писал Светлов. Не
надо, чтобы исток грустил. Вспомним Асеева.
Почему у нас такая короткая память?! Это я не столько спрашиваю, сколько
восклицаю.
В глубокой, рассудительной, хорошо аргументированной книге Игоря Шай-
танова мне не хватает этого разговора о судьбе наследия Асеева, о том, что про¬
должает его жизнь в нашей поэзии, и о том, что в нее от Асеева не перешло.
К сожалению, еще не показана роль Асеева в воспитании поэтов предвоен¬
ного, военного и послевоенного времени. Это Кульчицкий и Луконин, Яшин и
Некрасова, Глазков и Белинский, Наровчатов и Бауков, Слуцкий и Вознесенский,
здесь названы далеко не все. Со своей стороны, скажу: рад, что прошел долгую и
суровую школу Асеева, знал его нежность и строгость. Горжусь тем, что в трудные
для поэта годы я был с ним и отстаивал честь его имени (на одной из книг, по¬
сле выхода с годовым опозданием моей статьи «Асеев начинается», он написал:
«Льву, который сражался за меня, как... Лев»). Асеевские статьи, составившие
книгу «Зачем и кому нужна поэзия?», были для моих друзей и для меня ценней¬
шим пособием в работе. Это тема особая. Игорь Шайтанов ее не коснулся, хотя
подошел к ней вплотную в разговоре о живом асеевском наследии.
Я написал это, остановился, перечитал - и вижу: мною предъявляемые требо¬
вания обращены к критику и публицисту, а в этой книге Игорь Шайтанов пожелал
быть только литературоведом, еще точнее - стиховедом. В этой области он сделал
шаг вперед в познании Асеева. Новое поколение литературоведов осваивает его
опыт. О, этот опыт еще пригодится!
1986
В делах поэзии
Модели запретов и разрешений
Беседу с Игорем Шайтановым вели Елена Луценко и Сергей Чередниченко
- Игорь Олегович, ваша первая большая книга вышла в 1985 году и была посвя¬
щена Николаю Асееву. Вы рассказывали, что именно с ней вас приняли в Союз писа¬
телей. Книга была замечена критиками как вашего поколения (рецензии Владимира
Новикова и Александра Панкова), так и старшими - рецензия Льва Адольфовича
Озерова. Почему Лев Адольфович отозвался на Асеева?
- Прежде всего потому, что Асеев был его старшим и поэтически ценимым
другом. После смерти Асеева Лев Адольфович занимался его наследием. Когда
в 89-м праздновали столетие Асеева - оно отмечалось в Колонном зале, - именно
Озерова попросили вести вечер, а он пригласил меня сделать основной доклад.
Затем мы года три подряд ездили на Асеевские праздники под Курск, во Льгов.
Это были яркие, чисто советские литературные события - с заседаниями, чтением
стихов, народным гулянием, с пикником на лужайке под водительством местных
властей. Озеров был человеком понимающим, знающим очень много, с ним было
интересно.
- Озеров был прост в общении?
- Он был человек без какой бы то ни было фанаберии. Фанаберия в других его
чрезвычайно раздражала. Озеров вообще с охотой соглашался помогать, был го¬
тов делать добро. Вы знаете его две знаменитые цитаты, два афоризма, вошедшие в
язык? Про Петербург: «Великий город с областной судьбой». Второй общеизве¬
стен: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». Лев Адольфович
не только подарил языку этот афоризм, он им действительно руководствовался.
- Озеров был широко известен в советские времена...
- Как младший друг Пастернака, Ахматовой, как поэт, как подлинный куль¬
туртрегер. В течение 20 или 30 лет он вел вечера поэзии в ЦДРИ - Центральном
Доме работников искусств, в Доме актера. Зал был всегда полон. Это был один из
центров поэзии в 70-80-е годы в Москве.
- Вы рассказывали, что у Озерова была необычная подпись.
- Он одним росчерком пера, расписываясь, изображал свой профиль в очках.
Очень здорово он это делал. (Перебирает книги на полках.) Что-то не могу найти
Льва Адольфовича. Но зато вот Евгения Федоровна. Вы видели ее «Воспоминания
о Блоке»? (Показывает книгу.)
Вечер третий. Советская литература и современная критика
229
- Тут есть дарственная надпись.
- Должна быть. Что она написала?
- «Моим друзьям, Шайтановым, которых люблю. Радуюсь, что они есть на
свете».
- Вернемся к Озерову. У нас была забавная и памятная поездка в Вильнюс.
В ней еще участвовали Станислав Лесневский и Борщаговский, знаете такого?
Александр Михайлович Борщаговский - последний, в 80-х годах оставшийся в жи¬
вых, критик-космополит. Его громили как театрального критика. Он работал для
«Нового мира». Когда в 1949-м его перестали печатать, Симонов сказал: «Я буду
вам платить, а вы садитесь и пишите роман». Он сел и написал роман, который я
читал в детстве. Роман о «матче смерти», как киевское «Динамо» играло против
фашистов в оккупированном городе. Знаменитая история, по этому сюжету был
фильм.
- А с какой целью вы ездили в Вильнюс? Проводились творческие вечера?
- Дни литературы. Мы целый день колесили по совхозам и фабрикам, высту¬
пали. Хотя был конец апреля, выпал снег, ветер чудовищный. Так что после каж¬
дого выступления нас завозили в деревянный домик, хорошо по-литовски сру¬
бленный... Большая комната, в ней - могучий стол, на нем - скатерть-самобранка:
водка, балык, гренки литовские с чесночком или с салом, соленья... По тем вре¬
менам - невиданное пиршество, хотя главное - ждало вечером в богатом совхозе.
Длинные столы ломятся от простых явств местного производства, чудесно вкус¬
ных. А потом начинается народное празднество, танцуют все. Я и вообще-то не
танцор, а тут после трудового литературного дня, проведенного то на ледяном
ветру, то в натопленных домиках с рюмкой водки, с ног валюсь. Говорю Озерову,
что прошу машину и еду в гостиницу, а он в свои 75 подхватывает даму и уносится
в танце. Такой человек был Лев Адольфович.
- А в Москве у вас были совместные выступления?
- Первое в 1984-м году, в августе ему - он родился в августе 1914-го, как и
мой отец, - исполнилось 70 лет, и Лев Адольфович попросил меня вести его
большой вечер в Политехническом музее. Для меня это был первый опыт такого
выступления, а Озеров - его стиль - не хотел, как это было принято, звать сва¬
дебного генерала (роль, в которой ему самому не раз приходилось выступать).
В последующие годы мы достаточно тесно общались, а потом - перестройка, но¬
вое течение жизни, множество новых дел, и меня куда-то унесло. Чувствую себя
очень виноватым.
- Игорь Олегович, среди ваших старших коллег и друзей помимо Озерова Дми¬
трий Дмитриевич Благой. Ваше близкое общение началось после того, как вы напи¬
сали рецензию на его книгу о Пушкине?
- Да, тогда я, в общем, начинал быть критиком, в основном - с рецензий. Зака¬
зывали разные журналы. В том числе я две рецензии написал для «Нашего совре-
230
Как было и как вспомнилось
менника». Одну - на книгу Инны Ростовцевой о Заболоцком, а вторую - на книгу
Благого «Душа в заветной лире».
- Дмитрий Дмитриевич был человеком своей эпохи? Советским человеком?
- Советским, и даже в этом плане несколько одиозным, хотя он - «из быв¬
ших», то есть из старой дворянской семьи Благово. Мандельштам очень нелестно
высказался о нем в «Четвертой прозе»... Но и в более поздних литературных де¬
лах Благой был человеком официоза. Мрачноватый пушкинский юбилей 1949 года
называли «юбилеем Благого». Однако история с книгой, которую я рецензиро¬
вал, показательна и в том, насколько неоднозначными были люди того поколения.
У Благого в его переделкинском кабинете висел портрет-шарж, под которым было
записано: «Нигде, кроме как в третьем томе». Он в это время дописывал третий
том «Творчества Пушкина». Один раз третий том был уже написан и сдан в «Со¬
ветский писатель». Благой получил верстку, прочитал ее и понял, что она ему не
нравится. Он оплатил верстку и изъял ее. Как он мне потом рассказывал, он понял,
что должен писать о Пушкине иначе, осмыслив его в ряду подобных ему мировых
гигантов. Тогда он и задумал книгу «Душа в заветной лире», на которой мы с ним
и познакомились. Он позвонил мне после выхода рецензии и пригласил в Передел-
кино. Началось нерегулярное общение, но продолжавшееся вплоть до его смер¬
ти. Я ему позвонил поздравить с днем рождения, кажется, ему исполнился 91 год.
И он мне говорит: «Игорь Олегович, если вы хотите еще раз со мной повидаться,
поторопитесь. У меня ощущение, что мне недолго осталось». Раньше я от него
ничего в этом духе не слышал. У нас был долгий разговор, и Дим Димыч (так его
звали) говорит: «А главное я сделал - закончил третий том». Начинает высказы¬
вать разного рода опасения, как бы ему не закрыл дорогу Храпченко. Вы, конечно,
знаете, кто такой Храпченко?
- Он тогда был председателем Совета по делам искусства...
- Это было раньше, когда Храпченко летал сталинским соколом в сфере куль¬
туры, в последнее время он сосредоточился на руководстве литературным делом.
Дим Димыч частенько жаловался на него, опасливо при этом оглядываясь по сто¬
ронам. Но главное сделано - третий том завершен: «Я понял в Пушкине главное,
это пока моя тайна, но, если вы никому не расскажете, то я вам сейчас ее открою.
Знаете, что главное в Пушкине? Пушкин - народный поэт». Сначала я воспринял
это как почти анекдот. Сейчас я думаю, что здесь сказалась сила общего места, в
котором может скрываться что угодно, а может оно быть (как чаще всего случа¬
ется) и пустым местом. Что именно Благой имел в виду, говоря «Пушкин - на¬
родный поэт» ? Звучит смешно в силу заштампованности выражения, но он что-то
понял, я в этом абсолютно уверен.
- Жаль, что он не объяснил...
- Буквально через несколько дней он умер. А затем умерла его жена - Берта
Брайнина. Когда пришло время посмотреть, что есть в архиве Благого, то там не
Вечер третий. Советская литература и современная критика
231
оказалось ни третьего тома, ни целого ряда ценностей, которые были в квартире и
библиотеке, например томов пушкинского «Современника»... У него было мно¬
го ценных книг, но самое главное - там был портрет работы Рокотова.
-Как же так?
- Вот это загадка. Я понимаю, что могли украсть портрет Рокотова, но кому
нужен третий том? Жуткая история... А статья о Благом была моя последняя пу¬
бликация в журнале «Наш современник». Более я там не печатался.
- А как вы попали в «Наш современник» ?
- На втором или на третьем семинаре молодых критиков я познакомился
с невысоким могучим человеком с русыми кудрями, который был меня в два раза
шире в плечах. Звали его Володя Коробов, и был он тогда литсотрудником в отделе
критики «Нашего современника». Впоследствии он напишет книги о Шукшине,
Бондареве. Это был 1971-1972-й год. «Наш современник» тогда находился на
улице Писемского, прежде и теперь опять - Борисоглебский переулок.
-А в каких журналах тогда было престижно печататься? Ваши друзья по семи¬
нарам в Дубултах тоже начинали в «Нашем современнике» ?
- Нет, в основном - в «Знамени», «Октябре», «Новом мире»... Много пе¬
чатались и в немосковских изданиях. Моими основными журналами скоро стали
«Литературное обозрение» и «Вопросы литературы», хотя довольно часто я пе¬
чатался в «Знамени». Кто-то, конечно, сотрудничал и в «Нашем современнике».
Из тех, с кем я близко общался, - Александр Панков. В конце 1970-х Вадим Кожев¬
ников сделал его своим замом в «Знамени». Для тридцатилетнего человека это
была немыслимая карьера, но недолгая. То ли Саня слишком серьезно воспринял
свое начальственное положение, то ли Кожевникову наговаривали, но шеф взбе¬
ленился, сочтя, что молодой зам слишком много берет на себя, и убрал его. После
ухода из журнала он стал преподавать в Институте имени Пушкина. Там защитил
докторскую, стал профессором. А его отец, уже покойный Панков-старший, был
профессором Литинститута и секретарем Союза писателей РСФСР по критике,
то есть он был главный критик РСФСР, так что Саня продолжал дело отца. Он
даже свою критическую деятельность мыслил продолжением семейного дела, под¬
хватывая названия отцовских книг.
- Александр Панков, как и Александр Фейнберг, ваш университетский друг,
также рано умер...
- Увы, да, и обе смерти похожи. В 1995-м Саня Панков покончил с собой, вы¬
прыгнув из окна Института имени Пушкина. Как написала газета «Московский
комсомолец» со свойственным ей черным юмором: «Профессор читает лекцию,
поднимается на 20-й этаж и выпрыгивает из окна», что было правдой. Он не до¬
жил до своего 50-летия два года. Был сильным, спортивным и абсолютно здоровым
человеком. У нас были очень разные литературные вкусы, но мы дружили. Саня по
232
Как было и как вспомнилось
типу был разночинцем XIX века - искал путь к правде и по этой причине ходил
в методологический семинар Щедровицкого...
- А чем был знаменит этот семинар?
- Сам я там никогда не был, поэтому знаю лишь из вторых рук или из случай¬
ных впечатлений. Из этого семинара вышли очень многие. Саня посещал семинар,
чтобы привести мысль в систему, очистить от мифов и предрассудков. Я присут¬
ствовал один раз при забавной сцене на философском трехдневном семинаре под
Москвой, куда попал совершенно случайно. Утром выступления, а вечером - об¬
щение, споры. В тот вечер собрались на Баткина.
- Вы имеете в виду Леонида Ефимовича Баткина?
- Да. Он был историком и сделал себе имя в середине 1960-х книгой о Дан¬
те, маленькая такая книжечка, знаменитая. В те времена книжка, даже маленькая,
могла сделать имя. Теперь это невозможно. Или почти невозможно. Так что Бат¬
кин был интеллектуалом с именем и диссидентской репутацией. На том семина¬
ре он должен был делать доклад о Макиавелли. Я уехал утром того дня, когда он
вечером делал доклад, но помню его опасения, что добром этот доклад для него
не кончится. Потом, спустя лет десять, когда мы встретились в РГГУ, он сказал,
что его опасения подтвердились - КГБ от него уже не отставало. Так вот, в его
лице на семинаре интеллектуал-гуманист шестидесятнического толка столкнулся
с правой рукой Щедровицкого, философом Генисарецким. Это было фантасти¬
ческое противостояние двух систем мышления - эссеист-гуманист и мыслитель-
логик.
- В чем же заключалось это противостояние?
- Баткин говорил красивыми фразами, окрашивая достаточно общие слова
личным тоном. А Генисарецкий его все время перебивал, настаивая на логических
обоснованиях: «Вы мне объясните, какая связь между этим понятием и этим».
Баткин не привык к такому разговору... Это я вспомнил в связи с Саней Панко¬
вым, который очень хотел научиться системе Щедровицкого, логике. Саня, кста¬
ти, написал книжечку о Бахтине. Он терпеть не мог бахтинистику, полагая, что
в ней много красивых фраз, но мало смысла. И он написал, как ему казалось, логи¬
ческий трактат о Бахтине. Его никто не оценил, никто просто не заметил. Панков
надеялся, что после этой книжечки все изменится: мол, написал о Бахтине, закрыл
тему. Но этого не получилось... И это для него было большим потрясением, слу¬
чившимся незадолго до гибели.
- Игорь Олегович, а Бахтин в 1970-х уже считался авторитетом, на него ссы¬
лались? К кому в те времена в принципе было принято апеллировать?
- Бахтин стал источником цитат и особенно терминов (увы, в большей мере,
чем мыслей) сразу после книги о Рабле и переиздания книги о Достоевском под
названием «Поэтика Достоевского». Но текущая критика больше варилась в соб¬
ственном соку, со своими авторитетами. Для одних - Сарнов, для других - Лакшин,
Вечер третий. Советская литература и современная критика
233
для третьих - Кожинов. За каждым таким именем - своя группа, иногда - свой
журнал. Противостояние с концом «Нового мира» Твардовского не прекрати¬
лось, хотя, конечно, измельчало идейно, поскольку очень многое выговаривалось
полушепотом. И вот в этих обстоятельствах публицистической недозволенности
критика стала набирать в филологическом плане, больше апеллировать к культу¬
ре, к традиции, о которой начали спорить - нужна ли и какая традиция. Здесь и
бахтинский набор: карнавал, амбивалентность, полифония - пригодился, и фор¬
малисты были переизданы: Тынянов, Эйхенбаум, - вышли новые книги Шклов¬
ского.
Ну и затем авторитетность писательского высказывания... Для одних - Воз¬
несенский или Трифонов, для других - Василий Белов.
- А в какой мере в критике и филологии ощущались идеологические запреты или
требования?
- Разумеется, все знали, а кто не знал, тому объясняли, где проходят красные
линии запретов. Впрочем, они не были проведены раз и навсегда и не были для
всех одинаковыми. Скажем, в 1970-х годах в Тарту лотмановский сборник - по¬
жалуйста, но в московских издательствах если и можно, то очень маленьким ти¬
ражом. «Структурализм», который вышел в издательстве «Искусство», просто
было невозможно достать. Правда, потом лотмановский «Анализ поэтического
текста» в «Просвещении» вышел чуть ли не на правах школьного учебника, во
всяком случае, для многих сделался таковым. То, что допустимо в качестве практи¬
ческого пособия, запретно в качестве метода, поскольку метод один - марксист¬
ско-ленинский. Или как в советские времена становились известны зарубежные
теории? В основном они являлись в критическом обрамлении, а то и в разоблачи¬
тельном жанре. Если в «Литгазете» печаталось разоблачение американского ки¬
нематографа, эту газету расхватывали как источник знания, а уж с оценкой каждый
разбирался своим умом.
- Тогда уже были сняты запреты на неудобных советскому времени писателей?
- Да, в это время уже начали почитывать прежде запретное, а потом и изда¬
вать... Как иронически писал Александр Межиров в поэме «Проза в стихах»
(вначале ее печатали отрывочками - слишком казалась резкой):
Культурой озаботилися вдруг,
Леонтьева читая понаслышке
И Розанова из десятых рук...
Путь постепенного разрешения всегда был мотивирован. Первым должен
был пробить цензурный запрет тот, кому почему-то было можно. Почему, скажем,
могла появиться статья о маркизе де Саде или о Федоре Сологубе? Потому что
234
Как было и как вспомнилось
автором был Виктор Ерофеев, а его папа был в ранге посла, то есть вполне госу¬
дарственным человеком. Почему мог появиться Мандельштам в «Библиотеке по¬
эта»? Потому что предисловие написал Дымшиц.
- Да, это известная история...
- Это не просто история, это - модель...
Игорь Шайтанов
Рыцарь поэзии
О Льве Озерове
Лев Адольфович был прежде всего поэтом (хотя и критиком поэзии и ее ис¬
следователем), а я - критиком, но рецензию написал он - на мою книгу о Николае
Асееве. С Асеева - еще до выхода в свет книги - началось знакомство, и Асеев
нередко сопутствовал нашим отношениям. Несколько жарких июльских поездок
в асеевские курские края, во Льгов, во второй половине 1980-х особенно запом¬
нились.
Были еще Вильнюс, Переделкино, Москва... Общались в какие-то годы не
часто, но подолгу, обстоятельно и по-деловому. Лев Адольфович приглашал меня
к участию в организуемых им многочисленных вечерах. Особой честью было вести
его собственное 70-летие в Политехническом музее и сделать доклад на 100-лет-
нем юбилее Асеева в Колонном зале, где он был ведущим.
Асеев был показательной фигурой для внимания со стороны Озерова. Лев
Адольфович не забывал тех, с кем был дружен, а жизнь свела его со многими -
от великих Ахматовой и Пастернака до тех, кто спустя какие-то десять-двадцать
лет, прошедшие со дня их смерти, уже были на грани забвения, да и при жизни
многих не баловали вниманием. Они составляли предмет его особой заботы.
Он делал их героями своих постоянных на протяжении десятилетий поэтиче¬
ских вечеров, писал о них воспоминания, издавал их книги. Озеров в большей
степени, чем как поэт, был известен в качестве организатора поэзии, играя для
московской поэтической среды центральную роль. Через него устанавлива¬
лись и в его присутствии держались многие связи, которые никоим образом не
складывались в иерархическую пирамиду. Озеров был тонким знатоком поэзии,
но главным критерием, кажется, было для него искреннее участие в поэтиче¬
ских делах, увлеченность стихом, которым и сам он жил без всякого преувели¬
чения.
Лев Адольфович терпеть не мог чванливой игры на собственное повышение.
Помню, как он был возмущен, когда известный поэт младшего возраста попро-
Вечер третий. Советская литература и современная критика
235
сил его о предисловии к своему избранному. Поэт продолжал авангардную линию
русского стиха, и Озеров написал о том, что его учителями были Маяковский и
Пастернак, Асеев и Кирсанов. Получает верстку, а там другой ряд - Пастернак,
Стравинский, Шагал... Озеров снова правит, но потом жалуется: «Представляе¬
те, он выбросил мою правку и оставил по-своему. Я больше не подам ему руки».
Думаю, что подал. Не по беспринципности, а по душевной доброте, ему свой¬
ственной.
Лев Адольфович надолго не обижался, хотя к обидам был чувствителен, и
я в этом коротком слове тоже хочу повиниться. После его смерти Любовь Саввич¬
на Руднева (знаменитая Любка Фейгельман из стихотворения Смелякова) мне
сказала: «Он был огорчен, что вы перестали к нему заходить, не звонили. Боял¬
ся, что чем-нибудь обидел». Совсем нет, ничем не обидел, просто такими были
90-е - с новым ритмом, отдалявшим людей. Сам Лев Адольфович этого не по¬
нимал и не принимал, поскольку всю жизнь старался не допустить отдаления и
забвения.
Могу лишь сказать, что за свою жизнь в литературной среде я не припомню
человека, равного Озерову в рыцарственном служении поэзии и человеческой до¬
брожелательности.
2014
Игорь Шайтанов
Одноразовая форма
Размышление о жанре не очень увлекает современных поэтов. Но однажды -
совершенно непреднамеренно - мне удалось заинтересовать поэта этой темой и
услышать от него то, что можно счесть приговором жанру.
Когда у меня в 1985 году вышла книга о поэзии Николая Асеева, я подарил ее
Давиду Самойлову. Через некоторое время получаю из Пярну вежливое письмо:
прочитал, понравилось... Но особенно его внимание обратило на себя то место,
где в связи с «Синими гусарами» я говорил об асеевском логаэдическом стихе,
«предназначенном для одноразового употребления»1.
Потом один, другой знакомый мне сообщают, что, выступая, Самойлов ссы¬
лается на это место из моей книги. Уже после его смерти я нахожу ссылку в его
мемуарах о Борисе Слуцком:
1 Шайтанов И. В содружестве светил. О поэзии Николая Асеева. М.: Советский писатель,
1985. С. 109.
236
Как было и как вспомнилось
Он хотел писать нетрадиционно. Он был сторонником стиха, который
И. Шайтанов удачно назвал «одноразовым», то есть неповторимым. Воспроиз¬
вести вторично его нельзя, ибо сразу обнаружится эпигонство1.
Я вспомнил устное признание Самойлова в нашем разговоре: «Именно так
мы все и хотели бы писать - одноразово». Сказанному мною по конкретному по¬
воду он придал расширительный смысл.
Писать одноразово - желание, которое может показаться несовместимым
с репутацией Самойлова: поэта-пушкинианца, в высшей степени погруженного
в культуру (это - если хотят похвалить), или «книжного» (если хотят выразить
порицание). И для разговора о современном жанровом мышлении это признание
выглядит убийственным, закрывающим тему.
В установке на «одноразовость», в такого рода сознательной ориентации
жанру как будто бы нет места. Современные поэты не станут ломать копья по по¬
воду того, писать оду или балладу. Времена «многоразовых» форм прошли?
Однако если говорить о творческой установке современного творца на пол¬
ную свободу, то нужно признать его свободу и от любых установок, в том числе
и собственных. Творческий результат, впрочем, ни в какие времена не совпадал
с намерением, во всяком случае, талант всегда был готов на опровержение замысла.
Жанр работает изнутри, прокладывает себе дорогу, которая очень часто ока¬
зывается извилистой, с поворотами и развилками, предполагающими выбор уже
внутри текста. В качестве примера я сошлюсь на стихотворение поэта, от кото¬
рого не ожидаешь повышенной рефлексии или постоянной оглядки на предше¬
ственников. Тем более что стихотворение писалось в тот момент, когда весь мир
представлялся творимым заново, в том числе и в поэзии.
Ярослав Смеляков - советский поэт. Это не идеологический упрек, а конста¬
тация факта. «Классик советской поэзии» - по словам Е. Евтушенко. А то и про¬
сто классик или даже «великий поэт», каким считал его А. Межиров, и в Передел¬
кине, и потом в Нью-Йорке державший его портрет на стене своей комнаты2.
Смеляков был одним из тех, кто в комсомольской юности принял и воспел
новый идеал, пронеся его через всю жизнь, включающую два тюремных срока, рас¬
стрел друзей-поэтов - Бориса Корнилова и Павла Васильева:
Мы вместе шли с рогатиной на слово
и вместе слезли с тройки удалой,
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя бильярдной и пивной.
(«Три витязя», 1967)
1 Самойлов Д. Друг и соперник // Борис Слуцкий: воспоминания современников. СПб.:
Журнал Нева, 2005. С. 82.
2 По поводу Нью-Йорка - свидетельство Е. Рейна, посетившего там Межирова.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
237
Комсомольская романтика 1930-х... Впрочем, конечно, неофициальная и
официально осужденная. Даже в томе «Библиотеки поэта» (1979) стихотворе¬
ние отсутствует, хотя к этому времени Евгений Евтушенко уже извлек его «из ар¬
хива» в статье «Смеляков - классик советской поэзии» (1977). Комсомольская
удаль удачно вписывалась в бильярдную и картежную метафорику: «С ЧОНа оте¬
чество идет как с туза» («Открытое письмо моим приятелям», 1931), - писал ста¬
рый чоновец (боец отряда особого назначения) Борис Корнилов.
Не советской классикой, нередко срывавшейся у него с орбиты дозволенного
то в буйную романтику, то в жесткое описание быта, Смеляков остался в поэтиче¬
ской памяти, а двумя песенными текстами. Один, бывший хитом 30-х годов, стал
результатом нередкой прививки к «советскому дичку» уголовной романтики. Он
написан на мотив «Мурки»:
... И в кафе на Трубной
золотые трубы, -
только мы входили, -
обращались к нам:
« Здравствуйте,
пожалуйста,
заходите, Люба!
Оставайтесь с нами,
Любка Фейгельман!»
Второй текст стал шлягером, стоящим у истоков авторской песни, и безымян¬
но поется до сих пор: «Если я заболею / К врачам обращаться не стану...» Сти¬
хотворение было написано между двумя арестами - в 1940 году: «Смеляков од¬
нажды с мрачной ухмылкой сказал, что единственное его всенародно известное
стихотворение "Если я заболею...”, да и то благодаря гитарам современных мене¬
стрелей»1.
Песенность - один из наиболее распространенных жанровых вариантов со¬
ветского стихотворства (независимо от того, писали на текст музыку или нет).
Это было следствием установки на массовость в разных ее вариантах - от патети¬
ческого до задушевного. В сущности, значительная часть стихов советской эпохи
принадлежит не истории поэзии, а истории массового вкуса, каковой она обслу¬
живала с большим успехом.
Раздражение Смелякова по поводу своей песенной популярности понятно -
это был не его жанр. Во всяком случае, не тот жанр, в котором он хотел остаться, -
1 Евтушенко Е. Смеляков - классик советской поэзии // Евтушенко Е. Талант есть чудо
неслучайное. М.: Советский писатель, 1980. С. 100.
238
Как было и как вспомнилось
но остался, вопреки желанию. Парадокс тоже объяснимый в отношении таланта,
который искренне пытался откликнуться на правильные установки, но проявлял
себя в основном в тех случаях, когда невольно сбивался с пути.
У раннего Смелякова есть поразительное стихотворение - о том, как этот путь
в жизни и в поэзии выбирался. Оно не слишком известно. Не приходится видеть
ссылок на него или слышать цитирования. А тем не менее оно кажется мне не про¬
сто лучшим у Смелякова, но необходимым в истории советской поэзии - «Рассказ
о том, как одна старуха умирала в доме № 31 по Молчановке». Стихотворение
было напечатано в десятом номере «Красной нови» в 1933 году (Смелякову все¬
го двадцать!).
Стихотворение большое. Процитируем и разберем его по легко вычленяемым
композиционным эпизодам:
В переулке доживая
дни, ты думаешь о том,
как бы туча дождевая
не ударила дождем.
Как бы лампу не задуло.
Лучше двери на засов,
чтобы смерть не заглянула
до двенадцати часов.
Смерть стоит
на поворотах.
Дождь приходит за тобой.
Дождь качается в воротах
и летит над головой.
Я уйду.
А то мне страшно.
Звери дохнут,
птицы мрут.
День сегодняшний вчерашним,
вероятно, назовут.
Стихи неожиданные для того, кто знает Смелякова. И просто неожиданные,
начиная с названия. Практика развернутых названий воспринимается как нечто
архаическое. Чаще всего в русской традиции она сопутствовала одам (хотя не ис¬
ключает никакой формы - от сонета до послания), которые писались на случай -
на рождение, на смерть, на победу... Здесь - на смерть.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
239
Если одическая ассоциация - вслед названию - подспудно и мелькнула, то раз¬
мер должен ее опровергнуть: 4-стопным хореем писались лишь духовные оды и
подражания псалмам. Одического ожидания ничто в первых строфах не подкре¬
пляет. Тема, лексический ряд и метр указывают в направлении другого жанра -
баллады.
Традиционно для русского стиха 4-стопный хорей - песенный жанр, у ко¬
торого обнаруживается «дополнительная опора в традиции - балладный стих.
Немецкие поэты в балладах предпочитали хорей ямбу - отчасти вслед немецким
народным песням, отчасти вслед силлабо-тонической интерпретации испанских
романсов. За ними пошли и русские поэты...» - Жуковский, Катенин, Пушкин1.
В другом месте М. Гаспаров подчеркнул, что у 4-стопного хорея есть и проч¬
ная тематическая ассоциация - народная2. Она здесь вполне уместна, подкреплен¬
ная традиционным балладным колоритом: смерть - гроза - задутая лампа - и
опять смерть («Звери дохнут...»). В общем - «страшно», как и признается ли¬
рический герой, обнаруживая себя, что не принято в жанре баллады.
Завершается этот балладный зачин очень тонким установлением времени:
«День сегодняшний вчерашним, / вероятно, назовут». У трех великих жанров
европейской лирики: оды, баллады, элегии - свои отношения со временем, своя
«жанровая грамматика». Событие во всех трех отнесено к прошлому, но времен¬
ная перспектива устанавливается по-разному. Баллада (не случайно по жанровой
классификации это жанр лиро-эпический) наиболее предана прошлому, посколь¬
ку безлично-коллективная точка зрения не приближает событие, не размыкает его
завершенный круг, располагаясь если не внутри него, то - безлично и вне време¬
ни - над ним. В литературной балладе, в отличие от народной, появляется рассказ¬
чик, знаменуя перерождение жанра, его движение в сторону исторической элегии
или, возможно, оды. Задача оды - связать все три временные пласта: героическое
событие в прошлом становится объектом восторга в настоящем, чтобы сохранить
себя для будущего («слава в веках»).
У Смелякова событие смерти происходит сегодня, но, едва успевая произой¬
ти, торопит мысль о прошлом, в которое и погружается буквально у нас на глазах, в
нашем присутствии, если не при нашем участии - «вероятно, назовут...». Эффект
как бы присутствия при событии, пребывания в одном с ним времени характерен
прежде всего для баллады, так как и для элегии и для оды необходимо ощущение
дистанции, чтобы оплакивать или прославлять.
Какой позиции будет придерживаться лирический герой у Смелякова? Он
уже однажды мелькнул («мне страшно»), чтобы потом затеряться в пестрой тол¬
пе персонажей городского романса, изменившего тон повествования, его атмо-
1 Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М.:
Наука, 1984. С. 115.
2 Гаспаров М. А. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М.: Наука, 1974. С. 60.
240
Как было и как вспомнилось
сферу, его предметный ряд. В этой толпе повествователь неразличим, но вместе
с толпой дистанцирован от умирающей «героини», тем самым отдаляя себя от
прошлого с его сумеречным колоритом. В этом «другом» настоящем - без про¬
шлого - приближение грозы не ощущается вовсе, оно не способно спугнуть даже
птицы:
Птичка вежливо присела.
Девка вымыла лицо.
Девка тапочки надела
и выходит на крыльцо.
Перед ней гуляет старый
беспартийный инвалид.
При содействии гитары
он о страсти говорит:
мол, дозвольте
к вам несмело
обратиться. Потому
девка кофточку надела,
с девки кофточку сниму.
И она уйдет под звезды
за мечтателем,
за ним,
недостаточно серьезным
и сравнительно седым.
Зададим себе вопрос, как должны были воспринимать этот текст в 1933 году
его первые читатели в «Красной нови»? Кстати, текст назывался иначе - «Дом
№31 », так что архаизирующей подсказки в названии не было. Напротив, название
звучало крайне актуально - как адрес, по которому действительно в то время про¬
живал поэт с матерью, старшим братом и сестрой. Развернутое название появится
при повторной публикации в том же году в «Литературной газете», где спустя
три недели (1 декабря) стихотворению будет дана критическая отповедь1.
Связь текста Смелякова, которую отмечает современный комментатор, ясно
видели и рапповский критик (Е. Усиевич), и читатели поэзии - со «Столбцами»
(1929) Николая Заболоцкого. Со стихотворением «Меркнут знаки Зодиака» су¬
ществует перекличка интонационная и образная:
1 См. комментарий В. Ланиной: СмеляковЯ. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1979
(БП). С. 691.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
241
Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей.
Спит животное собака.
Дремлет птица воробей...
Современного исследователя и читателя этого текста Заболоцкого увлекает
его богатая родословная: от Вальпургиевой ночи до «бесовских» стихов Пушки¬
на и романтической колыбельной1. Смеляков реагирует на этот крут ассоциаций и
интерпретирует их как балладные.
Если не читатель, то критик-современник воспринимал прежде всего не ро¬
дословную, а актуальность текста - отношение к современности - и не затруд¬
нился с идеологическим приговором: очернение действительности. Для Е. Усие¬
вич сходство Смелякова с Заболоцким - достаточное основание для осуждения.
Вчиталась ли она в текст? Едва ли, поскольку, вчитавшись (или хотя бы прочтя),
должна была бы заметить, что Смеляков входит в пространство Заболоцкого для
полемики с ним, увлеченный в данном случае его поэтикой, но не принявший ее
послания. На поэтическом уровне текста эта полемика развертывается как борьба
жанров.
В описании советского быта от баллады первого эпизода ничего не остается.
Но бытовое у Смелякова подано не так, как в «Столбцах». Бытовое у него не вы¬
глядит абсурдным, скорее простодушным, как в частушке или в городском роман¬
се. И с важной идеологической поправкой: быт не тянет в прошлое, у быта есть
будущее («под звезды»), в которое и отправляются (или собираются) бытовые
персонажи. Смеляков не закрывает для них этой возможности. Быт разлагается
на старое и новое, на уходящее в прошлое и в будущее. Старое умирает - это ос¬
новной сюжет стихотворения, продолжающийся в третьем эпизоде, где быт уже
наглядно обнаруживает свою двойственность, преломляясь в глазах умирающей:
Ты глядишь в окно. И еле
Принимаешь этот мир.
Техник тащится с портфелем,
спит усталый командир.
Мальчик бегает за кошкой.
И, не принимая мер,
над разваренной картошкой
дремлет милиционер.
Ветер дует от Ростова.
Дни над городом идут...
1 См.: Жолковский А. Загадки «знаков Зодиака» // Звезда. 2010. № 10.
242
Как было и как вспомнилось
Листья падают -
и снова
неожиданно растут.
Бытовое непротиворечиво предваряет природное, легко в него перетекает.
Переход подготовлен чуть иронической, но изящно интонированной тремя пир-
рихиями фразой: «И, не принимая мер / над разваренной картошкой / дремлет
милиционер...» После бодрой - частушечной? - дроби предшествующих строк
пропуск ударений с меняющимся в каждой строке ритмическим рисунком выгля¬
дит паузой, готовящей смысловое движение в сторону природы: «Ветер дует от
Ростова...»
Ожидание и боязнь грозы оказались имеющими природное продолжение, а
не просто пейзажной зарисовкой для вступления в тему. Ход событий родствен
природному круговороту, всегда неожиданному: в «неожиданно растут» есть
наивность прозрения и неопровержимость исторического аргумента - своей силы
и правоты. Такая логика была характерна для советской поэзии 1920-х и начала
1930-х годов (Николай Асеев): гроза как символ обновления пугает тех, кого она
смоет, но приводит в восторг тех, кто предполагают жить в обновленном мире:
Что ты скажешь, умирая,
и кого ты позовешь?
Будет дождь в начале мая,
в середине мая дождь.
Будто смерть,
подходит дрема.
Первосортного литья
голубые ядра грома
над республикой летят.
Смерть.
В глазах твоих раскосых
желтые тела собак,
птицы,
девочка,
колеса,
дым,
весна.
И папироса
Вечер третий. Советская литература и современная критика
243
у шарманщика в зубах.
И рука твоя темнеет.
И ужасен синий лик.
Жизнь окончена.
Над нею
управдом и гробовщик.
Блистательная концовка этого эпизода, соединившая быт и смерть в одновре¬
менном явлении зощенковского управдома и гробовщика - представителя про¬
фессии с богатой романтической предысторией. Этим заканчивается баллада, но
не само стихотворение. Сюжет теперь окончательно вырывается из прошлого - из
баллады, - он одически устремлен в будущее, причем с героем во множественном
числе: советская ода - от имени «мы»! Местоимение иногда раскладывается на
составляющие, но чтобы затем быть вернее собранным и в своем победном марше
получить должный оркестровый аккомпанемент:
А у нас иные виды
и другой порядок дней -
у меня,
у инвалида
и у девочки моей.
Мы несем любовь и злобу,
строим, ладим и идем.
Выйдет срок — и от хворобы
на цветах и на сугробах,
на строительстве умрем.
И холодной песни вместо
перед нами проплывут
тихие шаги оркестра
имени ОГПУ.
Загремят о счастье трубы.
Критик речь произнесет.
У девчонки дрогнут губы,
но девчонка не умрет.
Ода - жанр ораторский по слову и государственный по теме. Природное
предсказание новой жизни сбывается у Смелякова явлением ОГПУ (Главное по-
244
Как было и как вспомнилось
литическое управление наследовало ЧК и предшествовало НКВД, КГБ...). Что
касается ораторского слога, очень скоро утвердившегося в советской поэзии, то у
Смелякова победившая ода лишь бросит короткий взгляд из будущего на героиче¬
ское деяние в настоящем:
И останутся в поверьях
люди славы и труда,
понимавшие деревья,
строившие города...
Цивилизационная деятельность поставлена рядом и оправдана со-природно-
стью, которая утверждена в финале-апофеозе возвращением к дождевой теме:
Только мы пока живые
и работаем пока.
И над нами дождевые
пролетают облака.
И над крышами Арбата,
над могилою твоей
перманентные квадраты
снега,
града
и дождей.
Стиль и жанр советской поэзии здесь явлен в процессе своего рождения, мо¬
тивированный стопроцентной искренностью, которую впоследствии десятиле¬
тиями будут имитировать или старательно возгонять. Ода еще не окостенела, не
превратилась (по Тынянову) в «шинельные стихи». Она даже не отделилась от
романтической баллады и существует в рамках текста то ли в процессе борьбы, то
ли в динамическом союзе с нею.
Одноразовость формы обеспечивается, как здесь видно, не забвением о тра¬
диции стиха, не замкнутым слухом, а его разнонаправленностью. Близкое вызыва¬
ет на спор, а поэтические аргументы в этом споре звучат тем убедительнее, чем на
большую глубину стиха способен опускаться поэт за этими аргументами. Ими еще
нужно суметь воспользоваться.
В поздние годы Смеляков любил обозначить свое преклонение перед Пуш¬
киным, вспоминая и Дениса Давыдова, и Лермонтова, посвящая им стихи. Когда
же поэт пытался подхватить классический стиль, то прививал его не очень удачно.
В тех же «Трех витязях»: «Уже тогда предчувствия и думы / избороздили юное
чело» - пушкинский плащ наброшен поверх комсомольской косоворотки.
Вечер третий. Советская литература и современная критика
245
Стилистическая зависимость носит более внешний и потому более опасный
характер, чем жанровая. Чужое слово остается чужим, а жанр сам по себе не связан
личной принадлежностью, на него не распространяется авторское право. Он по¬
зволяет перенастроить слух и легко является в совершенно иной огласовке. Имен¬
но так получилось у Смелякова с Заболоцким. Стихия мещанского быта и речи,
мелодия городского романса для Смелякова имеет иной смысл, более личный и
неотвергаемый: «Ярослав Смеляков говаривал: "Я пишу на языке, на котором
плакала моя мать”» (Интервью Павла Грушко Дмитрию Быкову).
Комсомолец 1930-х, Смеляков не мог не распрощаться с этим бытом. Но, чут¬
кий поэт, он попытался перенастроить тональность и преобразовать язык плача в
советскую песнь радости. Поэтический результат, по крайней мере одноразово,
оказался очень интересным. Хотя и приоткрыл перспективу печального продол¬
жения этой стилистики в жанре советской одической поэзии.
2011
Алексей Алехин
Шайтанов и «Арион»
Игорь Олегович Шайтанов - литературовед, англист, исследователь Шекспи¬
ра, историк русской поэзии и филологии, компа... (я не всегда с первого раза вы¬
говариваю это слово) компаративист, деятельный участник и организатор живо¬
го литературного процесса, а еще воспитатель целой плеяды блестящих молодых
последователей. И о каждой из этих его ипостасей найдется кому высказать свое
основательное суждение. Ну а мне, по цеховой принадлежности, всего приметней
его место в нашей поэтической критике.
В ней Шайтанов стартовал еще в 1970-е и продолжил в 1980-е, когда написал
ряд замеченных читателями статей о важных или казавшихся тогда важными поэ¬
тических явлениях. И о широко известных поэтах старшего поколения, и о моло¬
дых, о своих сверстниках, - достаточно того, что он едва ли не первым всерьез за¬
говорил о метаметафористах. Пишет он о стихах и сейчас, да никогда, в общем-то,
и не прекращал.
Но в этом постоянном обращении к текущей русской поэзии был, мне кажет¬
ся, особенно существенный, концептуально важный период, когда именно шай-
тановские публикации помогли внести ясность в турбулентную картину нашего
поэтического бытия и сформулировать систему координат, не утратившую акту¬
альности по сей день. И так уж счастливо вышло, что эта его работа практически
целиком запечатлена на страницах «Ариона».
246
Как было и как вспомнилось
Сотрудничество наше началось еще на заре журнала - первый раз имя Шайта-
нова появилось в его 3-м номере (1994) - и не собирается прерываться. Но я веду
речь о примерно десятке статей во временном промежутке со второй половины
1990-х до середины 2000-х. Это были действительно фундаментальные высказы¬
вания, и не случайно именно они впоследствии составили (отчасти в перерабо¬
танном, отчасти в дополненном виде) смысловое ядро известной всем, кто занят
стихами, шайтановской книги «Дело вкуса».
Почему они оказались столь важны? Напомню ситуацию.
За десятилетие с конца 1980-х в печати, в старых и новых журналах, включая
«Арион», и отдельными сборниками и книгами, на публику вышло практически
все дотоле скрытое в наших поэтических амбарах и подполах - и андеграунд, и
приберегаемое до поры содержимое дальних ящиков «официальных» поэтов
(и не только таких как Чухонцев, к которому советский печатный станок был мало
дружелюбен, - даже у изданного-переизданного Вознесенского оказалось в за¬
кромах три стихотворения для тяжеловесного томища «Самиздат века», 1997),
и хлынули прежде пробивавшиеся струйками творения трех волн русской эмигра¬
ции. Иронисты, метаметафористы, «барачные» лианозовцы, концептуалисты,
конкретисты... - картина и вправду оказалась, не в пример советской серости, яр¬
кая, праздничная, оглушающая.
И тут обозначилась проблема. Атмосфера-то была премьерной, а вот выве¬
денное на сцену на девять десятых - прошлым. «Прошлым» не значит «исчез¬
нувшим»: все лучшее (его всегда немного) стало достоянием русской поэзии,
прибавилось в ее золотой запас. Но это уже не был ее сегодняшний день, хотя по
объяснимой аберрации зрения и в глазах публики, которая только что окунулась
во все это многообразие, и в амбициях самих этих авторов, только что явившихся
из своего многолетнего подполья на публичный яркий свет, многим казалось, что
выставленное теперь и есть начало, даже еще обещание, - при том, что на деле по
большей части уже отцвело, а частью оказалось и пустоцветом.
Но это сейчас, через два десятилетия, и в немалой мере именно потому, что
после тех шайтановских статей, все так зримо и понятно. А тогда, чтобы двигаться
дальше, надо было увидеть реальность непредвзятым взглядом, опирающимся на
основательные, несиюминутные культурные ориентиры. Таким отрезвляющим и
одновременно внимательным взглядом и оказались статьи Шайтанова, ставшего
на том этапе, без преувеличения, ведущим критиком журнала.
Речь прежде всего о его публикациях 1998 года. Но начало было положено
раньше.
В № 4 за 1995 год Шайтанов напечатал первую свою большую теоретическую
статью с говорящим названием «В жанре эпилога». Это был эпилог и к последнему
советскому периоду поэтических исканий 1970-1980-х, в частности громко про¬
звучавших тогда иронистов и метаметафористов, но и эпилог к шумному действу
Вечер третий. Советская литература и современная критика
247
явившихся следом под обобщенным лейблом «постмодерн»: «Те, кто пришли,
тоже были людьми из прошлого: пост-модерн, а не аван-гард. Они завершают,
а не начинают». Пожалуй, именно здесь он впервые в нашей критике высказал серь¬
езные сомнения относительно вошедшей в моду тотальной «карнавализации»
в поэзии и вокруг поэзии с неизменными ссылками на однобоко трактуемого Бах¬
тина, напомнив, что тот был еще и «нравственным философом, теоретиком от¬
ветственного поступка». По поводу царившей легкомысленной эйфории Шайта¬
нов тогда обронил жесткую формулу: «карнавальные поминки».
Картина поэтического сегодня в статьях 1998 года вырисовывалась не одномо¬
ментно. Это была не априорная схема, а поиск ответов, продолжавшийся от статьи
к статье - в тот год публикации Шайтанова шли в каждом номере.
Все статьи посвящены конкретным авторам, представителям разных поколе¬
ний, и конкретным книгам; в них много имен и цитат. Но из этой-то конкретики и
складывалась картина.
В первой из них, «О бывшем и несбывшемся» (1998, № 1), критик поставил
целью разобраться, почему столь много обещавшие при своем явлении миру ан¬
деграунд и наследовавшая ему «новая волна» 1980-1990-х, во-первых, оказались
куда менее продуктивны, чем это мнилось, а главное, не обнаружили никакого
дальнейшего движения. Когда все гнетущие оковы пали и вчерашние отвержен¬
ные триумфально вышли из своего подполья на свет, публике они смогли предло¬
жить главным образом плоды прежних лет, нового урожая не последовало. И ав¬
тор, анализируя свои впечатления - от «сильных и острых» в миг первой встречи
к куда более скромным в последующем, - ставит диагноз: «Сейчас я бы сказал, что
причиной провала "новой волны" был принцип отрицания, абсолютизированный,
возведенный в безусловную и единственную добродетель» (с. 20).
Больше того, он имел смелость задать «вопрос, который все настоятельнее
требует ответа, чтобы понять литературную судьбу последних десятилетий: в ка¬
кой мере спасительным и в какой - губительным было самоизгнание тех, кто, веро¬
ятно, и могли бы стать лучшими и новыми в нашей литературе последних тридцати
лет?» И пришел к неутешительному итогу: «Андеграунд был вынужденным ме¬
стом их обитания, но он не был благодатным оазисом духа» (с. 22).
В следующей статье, «Поэт в России...», как понятно из названия, речь на¬
чинается с обращения к итогам последнего по времени поэтического бума 60-х,
затем, как и во всех статьях, критик переходит к творчеству интересных ему реаль¬
ных поэтических величин 1980-1990-х, в данной статье - Кенжеева и Жданова,
но стержневая мысль - о месте поэта вообще. О размывании его роли в новей¬
шей поэзии, когда «начал цениться языковой автоматизм, в отношении которого
поэт» оказывается «то ли медиумом, то ли маской» (с. 25). Отчасти подмену эту
Шайтанов объясняет побочным следствием непримиримой борьбы с советской
системой литературных ценностей, в том числе и «шестидесятнической» (чему и
впрямь давали повод «номенклатурные "диссиденты"»): «поэта сочли непозво-
248
Как было и как вспомнилось
лительно вовлеченным в существующую иерархию ценностей» и «поспешили из¬
бавиться и от мысли о поэте вообще, и от любой иерархии» (с. 25).
В 3-м номере Шайтанов опубликовал не статью, а свой перевод речи
Т. С. Элиота «Кто такой классик?», произнесенной в 1944 году, но имеющей
непосредственное отношение к развиваемой теме. В предисловии он прямо увя¬
зывает ее с современностью: в условиях, когда «излюбленным перформансом»
«новой поэзии» стало затянувшееся на десять лет «публично-ерническое расста¬
вание с прошлым», «остро возникло ощущение дефицита ценностей: серьезно¬
сти, зрелости, памяти».
Завершающая цикл статья «Графоман, брат эпигона», хотя и посвящена в зна¬
чительной мере историческому осмыслению и «эволюционному значению» (по
Тынянову) заявленных в названии явлений, еще более обращена к сегодняшнему
дню: «Современный статус графомании зиждется на основе постструктурализ¬
ма, провозгласившего смерть автора, после которой единственной реальностью
словесного творчества остался процесс автоматического письма» (с. 17). Именно
под этим углом зрения критик оценивает последнее по времени появления и к мо¬
менту написания статьи все еще претендующее на лидерство ответвление «новой
волны» - московский концептуализм, прежде всего в лице его лидера Д. А. Приго-
ва. Вот его эпикриз: «В механизме перехода, смены эпох значение и дилетантизма
и графомании порой велико. Однако при переходе важно не засидеться...» (с. 17).
Ибо «эволюционное значение» графомании «либо подтверждается открытием
нового зрения, либо становится ясно, что король - голый. Графомания - стиль
короткой выдержки. Долгожительство в ней литературной смерти подобно». Что
и стало очевидным после широкого издания творений Пригова со товарищи...
Статьи 1998 года развеяли многие мифы и сделали поэтическую сцену обо¬
зримой. Но поняв, что ушло в прошлое, важно понять, а что же есть. И тут суще¬
ственны еще две статьи (вторая - с последующим продолжением в виде развер¬
нутой реплики в диалоге) - все они позднее не случайно были включены автором
в том «Дело вкуса».
Прежде всего это «Метафизики и лирики» в завершающем не только
2000 год, но и столетие 4-м номере «Ариона». В ней представлен широкий обзор
status quo в русской поэзии - того, что в ней реально существует и воспринимает¬
ся путями выхода из обычного кризиса «конца века». Много имен и разные пути.
Тут и преодоление тупика через обращение к мировой культуре, пронизанное
«ощущением культурной традиции как ценности более высокого порядка, чем
индивидуальное самовыражение» (с. 19), - характерное, например, для «петер¬
бургской школы». Тут и активное возвращение «разговоров с Богом» в широком
смысле: «Богу уже не стало отбоя от русских рифм» (с. 22), - не без сарказма кон¬
статирует Шайтанов. Но наряду с «молитвенными стилизациями и библейской
риторикой», в которых «поэзия захлебнулась», есть действительно глубокие об¬
ращения к этой теме (Чухонцев, Русаков). И, разумеется, вынесенная в заглавие и
Вечер третий. Советская литература и современная критика
249
на самом деле пронизывающая едва ли не все перечисленные выше статьи мысль
о перспективах русской метафизической поэзии - причем не в противопоставле¬
нии ее эмоциональной «лирике», а в некоем симбиозе: «метафизики-лирики»,
И наконец, своеобразным завершением корпуса статей стала публикация,
посвященная двум коллективным сборникам 2001 и 2002 годов, главным обра¬
зом молодой поэзии этого периода, - «Подмалевок» (2002, № 3). Важнейшим
ее выводом стало: «Поэзия сейчас находится не в конце периода, а в его начале»
(с. 23). Вот только необходимо помнить, что и молодая поэзия должна быть на¬
целена на взрослость. И ничто так не сбивает с толку, как раскручиваемая мода
на поэтическое «тинейджерство». Последний тезис вызвал резкое неприятие
в кругу претендовавшего в ту пору на законодательство молодежной моды «Ва¬
вилона» и вызвал отклики, в том числе и на страницах «Ариона» (2003, № 3) в
статье Д. Давыдова «Инфантилизм как поэтическое кредо», на что Шайтанов там
же ответил убийственной репликой «Инфантильные и пубертатные», наглядно
проиллюстрировав свой любимый тезис: «Обычная беда теоретиков и авторов
манифестов - необходимость цитировать» (с. 96).
Никакой критик не в силах объять необъятное, исчерпать тему, но серия шай-
тановских публикаций внесла действительно убедительную, хотя для кого-то и
обидную, ясность в нашу поэтическую панораму.
Можно спросить: а предугадал ли он последующее? Предугадывать не дело
критика, да и сам Шайтанов относится к этому трезво: предсказывать «в отноше¬
нии поэзии - дело безнадежное», напоминает он.
Будущее поэзии определяют не критики, а поэты, да и те «не ведая, что творят».
Не сбылся «неомодернизм», о котором мы с Шайтановым немало говори¬
ли в 1990-е годы: и это казавшееся заманчивым направление движения оказалось
на деле уже отплодоносившей ветвью. А вот «метафизическая лирика», которую
он ждал, мне кажется, состоялась, хотя и не в том исходном «барочном» облике,
какой ее привнес в нашу поэзию Бродский и какой ожидал увидеть ее развитие
И. Шайтанов. Но вот что интересно. Наблюдательный критик охватывает своим
полем зрения шире, чем ему самому кажется. Так Тынянов едва ли не на полях
своего «Промежутка» зацепил и обозначил фигуру как раз входившего тогда
в силу Ходасевича. В последней главке статьи 2000 года Шайтанов вводит понятие
«метафизического жеста» для описания метафизических по сути, но необычно,
не по-барочному лаконических стихов, например, Веры Павловой, Владимира Бу-
рича. Именно такая поэзия метафизического жеста стала одним из самых ярких
явлений 2000-х и первой половины 2010-х - в творчестве Владимира Салимона,
в целом корпусе стихов Олега Чухонцева, в поэзии Юрия Казарина и многих более
молодых. Сейчас, возможно, и этот всплеск уже сменяется чем-то новым. Но жаль,
что когда он был на пике и требовал осмысления, никому не припомнился, не ока¬
зался под рукой этот шайтановский термин - глубокий и многое объясняющий.
2016
Венер четвертый. Против течения
«По чьему доносу сел Заболоцкий?»
Беседу с Игорем Шайтановым вели Елена Луценко и Сергей Чередниченко
- Игорь Олегович, в 1980-1990-е вы много писали о советских авторах. После
семинаров в Дубултах вышла ваша статья про Анатолия Алексина. В1985-м - кни¬
га про Асеева. В 1990-е годы вы работали над книгой о Замятине и много занимались
Пильняком. С чем связан такой выбор имен ?
- Вы знаете; всегда в таком выборе есть некоторая доля случайности. Случай¬
ность была и в выборе Асеева. Мне; 35-летнему критику, никто бы книгу о крупном
писателе не заказал. Здесь, конечно, помогла Евгения Федоровна Книпович: она
позвонила в издательство «Советский писатель», поговорила с зав. редакции, Еле¬
ной Николаевной Конюховой, с которой у меня потом сложились очень добрые
отношения. При первой встрече в издательстве, как сейчас помню, она дает мне
листочек и говорит: «Вот список советских поэтов, о которых нам нужно заказать
книги». Я смотрю, там в списке человек десять-двенадцать: Грибачев, Щипачев,
Тихонов, Асеев... Я говорю: «Вы знаете, а я бы хотел написать о Заболоцком».
Она смотрит на меня и, чеканя слова, - а она человек, который работал в 40-х годах
в ВОКСе, полуразведывательном учреждении, - глядя мне в глаза, как будто там
прослушка работала, говорит: «У нас написать про Заболоцкого нельзя». Я пони¬
маю, что делаю faux pas, и отвечаю: «Я подумаю, но тогда, наверное, Асеев».
- В «Советском писателе» настолько не любили Заболоцкого?
- Для нелюбви оказались веские причины. Я еду тогда к Евгении Федоровне,
рассказываю, она смотрит на меня как на идиота: «Вы не помните, кто директор
издательства?» Я говорю: «Лесючевский. Ну и что?» - «А по чьему доносу сел
Заболоцкий? Лесючевского. И Лесючевский этого ему никак простить не может.
Пока Лесючевский остается директором “Советского писателя", книга о Заболоц¬
ком там не может появиться». Такие были нравы, а вы говорите - покаяние.
- А почему вы выбрали в результате Асеева, а не Тихонова?
- Наверное, можно было бы и о Тихонове, но дело все в том, что я плохо знал
и того и другого, помнил, что молодые годы и у того и у другого были хороши,
но Асеев - авангард. При моей несклонности к авангарду я хотел посмотреть на
него изнутри, понять, так сказать, в первоначальном его виде. И не пожалел. Асеев
дал понимание различия подлинного авангарда и его конвейерного продолжения.
Ничто так легко, как авангард, не ставится на конвейер. Асеев - это настоящий
Вечер четвертый. Против течения
251
поэт. Асеев с 1914-го где-то по 1921-й очень значителен; многое открыл. Так что я
с удовольствием писал эту книгу.
- Работая над Асеевым, вы заразились авангардом и стали заниматься прозой,
в которой велика роль эмблематического, сказового. Это проза с открытым внят¬
ным приемом...
- Очень справедливое предположение. Действительно, мне это понравилось,
хотя я больше люблю естественную, простую прозу. И Пильняк, и Замятин - это
проза приема, где автор обещает, что в силу того, что сейчас все затерто и заезже¬
но, потребуется прием, чтобы открыть естественное. Об этом замечательно на¬
писал в свое время Блок вслед Веселовскому. Я имею в виду его статью «Поэзия
заговоров и заклинаний». Он сказал о том, что в зрелой литературе для открытия
естественного и природного необходимо идти сложным путем приемов. Нужно
«взломать» затертость, чтобы обрести заново естественность. Я думаю, что и
Пильняк, и Замятин меня этим привлекали, они это умели делать, именно ради
того, чтобы вернуть ощущение простоты.
- А что вам особенно дорого у Пильняка и Замятина?
- У Пильняка есть поразительные рассказы. У Замятина моя любимая повесть
называется «Алатырь». Вещь, которую почти не замечают, проходят мимо, а
это гениальная вещь. Написанная до Томаса Стернза Элиота, до его «Бесплод¬
ной земли». Фантастическая по мифотворчеству, по остроумию. Алатырь - даже
само слово теперь непонятно. Это уездный город где-то в удмуртской республике.
А в русском духовном стихе (смотрите у Веселовского) алатырь-камень - это свя¬
той камень. Производное - «алабор», знак святости, порядка, порядочности. В
русском языке этот корень остался только в одном слове и с отрицательным зна¬
чением - безалаберность. Это очень характерно для русской истории и культуры,
что слова святости остаются только с отрицательным значением.
- А когда вы впервые прочитали «Мы» Замятина?
- Я прочитал роман в конце 1980-х, но мог прочитать гораздо раньше. Я не
скажу, что меня он потряс сам по себе, так как я знал и Хаксли, и Оруэлла, но я
понял, в какой ряд он встает. Хотя вернее было бы сказать - какой ряд открыва¬
ет. Меня потом уже заинтриговало то, что Замятин, писатель лесковской, реми-
зовской манеры, казалось бы, менее всего должен был быть склонен к описанию
«бесплодной земли», но именно он через свою близость звучащему слову ощутил
наступающую безъязыкость, насильственную немоту.
- И Пильняк, и Замятин печатались за границей. Можно сказать, что и тот
и другой не хотели быть советскими писателями?
- Пильняк в определенные годы, конечно, всячески этого хотел, в отличие от
Замятина. И, конечно, парадокс состоит в том, что они попали одновременно под
трактор советской цензуры. На самом деле - я и писал о том, что формула «Пиль¬
няк - Замятин» была гениально срежиссирована.
252
Как выло и как вспомнилось
- Что вы имеете в виду?
- Когда под приговор попадают столь разные по своей манере и по своему иде¬
ологическому типу писатели, то между ними кто угодно мог рассмотреть местечко,
ему приготовленное. Это был приговор не им, а всей литературе на 60 лет вперед.
- Пильняк тогда был отстранен от руководства Союзом писателей...
- Да, обоих обличили осенью 1929 года как тех, кто печатается за границей.
Причем Замятин говорил: «Я не печатаюсь за границей, они меня перевели, сде¬
лали обратный перевод на русский язык и опубликовали отдельные главы. Разве
я печатаюсь за границей? Я против этой публикации». А Пильняк действительно
«Красное дерево» опубликовал за границей. Это был повод - опустить «желез¬
ный занавес». До этого советские писатели могли печататься за границей - Лео¬
нов, Федин - и имели своего читателя среди огромной русской диаспоры. А по¬
сле этого - всё. Печататься за границей стало государственным преступлением.
Пильняк тогда переписал «Красное дерево» и опубликовал здесь. Он этот текст
инкорпорировал в новый большой роман «Волга впадает в Каспийское море...».
Я с большим удовольствием занимался Пильняком и Замятиным, особенно из¬
дательскими проектами. Когда начались издания времен перестройки, в первые
годы это было и коммерческое предприятие, потому что все еще за книги платили
большие деньги. На издание Замятина я отремонтировал дачу.
- А о каком именно издании Замятина вы говорите?
- Я сделал одного из первых Замятиных в издательстве «Современник»
в 1989 году, потом его еще где-то перепечатали (уже пиратски). Предисловие,
комментарий, но главное, за что платили деньги, - составление. Казалось бы, это
самое простое (достает книгу с полки), но потом, я видел, состав тома не раз по¬
вторяли другие издательства. И томом малой прозы Пильняка я горжусь. Тогда
о нем писали как о лучшем по составу. (Показывает книгу.) Но издано, конечно,
отвратительно - на желтой бумаге; тогда главное было издать, такой был голод, но
утолили его довольно быстро.
- Да, бумага 1990-х годов...
- Начала 1990-х... Тоже, как и Замятин, в «Современнике». Пильняк, конеч¬
но, во многом головной писатель, у которого прием часто уже ничего не взламы¬
вает, через свою сложность никакой простоты не открывает, но иногда случалось.
Да и приемы подхватывали. Не случайно Пильняк, да и Асеев тоже, обижались, что
пальму первенства в монтаже отдают Дос Пассосу. Асеев говорил: «Да какой Дос
Пассос, я это делал в "Семене Проскакове” до всяких Дос Пассосов». Действи¬
тельно, он монтировал документальный материал с художественным.
- А другие проекты у вас с «Современником» тогда были?
- Да, после Замятина и одновременно с работой над Пильняком (предпо¬
лагался трехтомник, вышли два ненумерованных тома) они меня спросили, кого
бы я хотел издать. Я как раз в это время думал об издании Ходасевича, причем
Вечер четвертый. Против течения
253
о трехтомнике мемуарного Ходасевича. Это не вышло, но это одна из лучших книг,
которые я делал. Она погибла. Мы ее делали с Михаилом Зиновьевичем Долин¬
ским (а потом с ним поссорились, и это уже окончательно погубило, как бы теперь
сказали, готовый проект). Это был «Некрополь», дополнения к нему и воспоми¬
нания, не вошедшие в книгу, оставшиеся на страницах эмигрантских газет с раз¬
ными вариантами текста. Был готов огромный комментарий. Что-то отдельными
кусками появлялось, и больше всего в «Литературной газете», которая издавалась
несколько месяцев в Уфе. Я теперь и названия не припомню, что-то с эпитетом
«белое». Все было сдано в «Современник», но к этому времени (1991-1992) они
уже издавали детективы, зарабатывали деньги, и Ходасевич был им ни к чему.
- После 1985 года пошел поток литературы и публикаций того, что было под за¬
претом. Как ваше поколение и вы лично реагировали на это возвращение в конце 1980-х ?
- Для меня лично - при моем консерватизме и отталкивании, а не притяжении
к предметам общей моды - все было не так, как для поколения в целом. Скажем,
в свое время я несколько лет не мог себя заставить прочитать «Мастера и Мар¬
гариту», потому что все читали. Я не хотел этого читать на этой волне. Ну вот не
лежало сердце. Этот поток сокрытого и запрещенного для меня не обладал такой
степенью притяжения по нескольким причинам. Я кое-что читал задолго до, вра¬
щаясь в кругу книжников, у которых всегда можно было достать книги. Скажем,
был такой букинист Карл Карлович Драффен. Это был знаток политической лите¬
ратуры - и продавец, и приобретатель. Хочу я прочесть Солженицына, Пильняка
или Замятина - пожалуйста, возьмите и прочитайте. Я очень любил мемуары Ан¬
ненкова задолго до того, как они стали широко известны.
Что касается того, что когда-то здесь было опубликовано, а потом попало под
запрет или просто не печаталось, многое было у меня на полках - стихи Ходасеви¬
ча, проза Андрея Белого, а чего не было у меня, не составляло проблемы достать
в библиотеках моих знакомых или друзей.
Новой была эмигрантская литература, преимущественно второй и третьей
волны. Увы, она скорее разочаровала. Во всяком случае, ожидания были куда выше.
Но это был поток, который на какое-то время не поднял, а отменил современную
литературу. Читали «возвращенную».
- А в филологии был поток возвращенного?
- Этот шлюз открылся намного раньше. Возьмите, к примеру, Тынянова:
в 1965-м - «Проблема стихотворного языка», в 1969-м - «Пушкин и его совре¬
менники», в 1975-м - «Поэтика. История литературы. Кино» с блестящим по
точности и полноте комментарием Чудаковых. И параллельно Эйхенбаум, Бах¬
тин... Потребовалось гораздо больше времени, чтобы прочитать по-настояще¬
му, понять, различить, не считать, как произошло вначале на Западе, Бахтина еще
одним формалистом, хотя, как мне давно уже кажется, понять их родство во вре¬
мени и в проблематике труднее и более важно, чем внешние расхождения. Да, но
254
Как было и как вспомнилось
и ранние - 1920-х годов - книги «золотого периода» русской филологии у буки¬
нистов встречались, и в библиотеках их никто не запрещал. Идеи были под запре¬
том для продолжения, разработки, но не книги.
- На рубеже 1980-х - в начале 1990-х многое менялось в восприятии того, какой
должна быть литература. В 1990-м году была опубликована знаменитая статья
Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе», где он говорил, что на¬
конец-то литература может быть просто литературой, а поэт - просто поэтом,
а не «больше, чем поэтом». В 1990-е в «Литературной газете» выходили ваши
политические колонки, где вы говорите, что русская литература - это всегда об¬
щественное явление. Все писатели, о которых вы писали, это люди с общественным
лицом. Асеев, Замятин... Какова общественная роль писателя?
- В начале 90-х годов я действительно несколько раз повторял, что русская ли¬
тература - убежденная общественница, но это отчасти было в кавычках, как чужое
слово, как нечто остраненное. С тем, что говорил Ерофеев, тогда я был эмоцио¬
нально, во всяком случае, глубоко не согласен, потому что я не люблю, когда начи¬
нают подталкивать и торопить с исторической сцены. Что-то кончается, поэтому
давайте скорее скинем. Скидывать ничего не надо, потому что от того, что кончает¬
ся, всегда что-то должно остаться. Это мое убеждение. Если современная культура
перестает быть логоцентричной, то нужно ли торопиться с поминками по литера¬
туре и устраивать пляски на гробах. Такой канкан называется постмодернизмом.
- Тут возникает еще один вопрос. А кто такой, с вашей точки зрения, насто¬
ящий писатель?
- Это большой разговор. Литература - это не только умение складывать сло¬
ва, не только умение поймать интерес публики, писатель - это личность. Когда
есть писатель, который производит на вас впечатление и своим письмом, и в своем
устном разговоре.
- Каковы критерии, опираясь на которые, вы можете определить, что писа¬
тель - личность?
- Вот простой пример. Один из моих любимых героев, о которых мы сегодня
уже говорили, - Николай Асеев. Бывают музыканты с абсолютным врожденным
слухом. Асеев был человеком с врожденной техникой, техникой на грани гениаль¬
ности. Его ведь не раз в те ранние годы называли чуть ли не лучшим и крупнейшим
поэтом современности - от Луначарского и Мандельштама до друга его юности
Пастернака. Но нет, не стал он крупнейшим. Не хватило личности. Не случайно он
остался вторым при Маяковском, вторым при государстве. Сейчас, к сожалению,
не время, когда появляются личности. Сейчас время стертых индивидуальностей,
сейчас время конвейера, а не штучного продукта, и в мире, и в литературе. Я знаю
десятки писателей лично, но лишь немногие поражают силой индивидуальности,
независимости. Скажем, Олег Чухонцев. А в целом поэзии и литературе сейчас не
хватает не техники, не проблем, а человеческого измерения.
2017
Игорь Шайтанов. О неудобных писателях советского периода
«Англичанин» из Лебедяни
Евгений Иванович Замятин родился 20 января (по старому стилю) 1884 года
в городе Лебедяни Тамбовской губернии в семье священника церкви Покрова Бо¬
городицы. Умер он 3 марта 1937 года в Париже.
К изданиям замятинских книг, кажется, никогда не прилагали его фотогра¬
фий. Это было непозволительным пренебрежением к портретам - и каким! Рабо¬
ты Б. Кустодиева, Ю. Анненкова, Н. Радлова...
Кустодиев познакомился с Замятиным в 1922 году, когда тот должен был на¬
писать о художнике. Он написал, но не статью, не рецензию, а рассказ - «Русь»,
опубликованный издательством «Аквилон» как «текст к картинам Кустодиева»
(1923).
Замятин - автор выдержанного в кустодиевских тонах рассказа «Русь» -
мало напоминает автора знаменитой антиутопии «Мы». В романе - цивилиза¬
ция, уничтожающая природу вне человека и внутри него. В рассказе - торжество
природы, яркой, красочной, неистовой. В духе Лескова, по мотивам «Леди Мак¬
бет Мценского уезда».
Однако бытописателя или нравописателя русской провинции трудно пред¬
положить в Замятине на кустодиевском портрете. Полуразвалясь, небрежно-эле¬
гантный, с папироской в картинно опущенной кисти руки - денди с безукориз¬
ненным пробором, с ядовитой полуулыбкой... А за спиной контур пейзажа, даже
не городского, а индустриального. Как будто Кустодиев решил написать портрет
не того, чьи глаза, как и его собственные, полны пестротой русской провинции,
не того, чью «Блоху», сценическое переложение лесковского «Левши», ему еще
предстоит оформлять в театрах Москвы и Ленинграда, нет, другого человека - ин¬
женера, строителя ледоколов, язвительного европейца, англомана, ведавшего Анг¬
лией в основанном Горысим издательстве «Всемирная литература».
И только что-то в лице, в глазах - будто играет и посмеивается, будто ряже¬
ный. Будто проступает другое лицо, которое гораздо виднее на анненковском
портрете, - с лучистой улыбкой, разбежавшейся хитрыми морщинками. Будто
повзрослевший провинциальный мальчишка, ради биографической перспекти¬
вы тут же Анненковым и изображенный в углу портрета, - хохочущий, лопоухий.
А в другом углу - английский текст нью-йоркской газеты.
256
Как было и как вспомнилось
Снова двойное напоминание: русский писатель, как редко кто знающий и
слышащий Русь, а с другой стороны - «англичанин», прозвище Замятина в лите¬
ратурной среде.
Что в нем сильнее, что в нем значительнее?
А. Ремизов возмущался - что тут выбирать:
Замятин из Лебедяни, тамбовский, чего русее, и стихия его слов отборно
русская. Прозвище «англичанин». Как будто он и сам поверил, - а это тоже
очень русское. Внешне было «прилично» и до Англии, где он прожил всего пол¬
тора года (1916-1917. - И. Ш.), и никакое это не английское, а просто под инже¬
нерскую гребенку, а разойдется - смотрите: лебедянский молодец с пробором!
И читал он свои рассказы под «простака»1.
А Корней Чуковский, часто встречавшийся с Замятиным по делам издатель¬
ства «Всемирная литература», записывает в дневник - с натуры: «Он изображает
из себя англичанина, но по-английски не говорит, и вообще знает поразительно
мало из англ, литературы и жизни. Но - и это в нем мило, потому что в сущности
он милый малый...» (19 марта 1922 года)2.
В «англичанина» играет; читает «под простака»... От такого игрового че¬
ловека было естественно ожидать, что он отдаст дань театру. Это будет позже -
в 1920-х. Гораздо раньше Замятин ищет речевую маску - в прозе. И находит ее.
Мнение Ремизова особенно важно - по его школе числился Замятин. А в да¬
лекой перспективе, как традиция, для того и для другого - Гоголь, Лесков. Она
уводит на глубину языкового сознания, национальной памяти, русского мифа.
Действительно - чего «русее» ? Но за Замятиным и другая традиция - европей¬
ской классики. Прежде всего, самый любимый (кстати, как и Ремизовым) - Свифт.
Из современных - Анатоль Франс. Впрочем, так ли уж странно, что будущий созда¬
тель романа «Мы» ощущает близость к тому, в чьем воображении родились йэху, и
к тому, кем написаны «Остров пингвинов» и «Восстание ангелов»?
По линии жанра, по общей для них всех линии сатирической фантастики,
их родство не возбуждает удивления. Но есть и другая линия - стиля, словесного
мышления. И здесь, казалось бы, что может быть дальше от Замятина, чем фран¬
цузский роман, никогда не позволяющий забывать о многовековой деятельности
Академии, вычистившей литературный язык, который с такой неохотой отклика¬
ется на речевое разноречие.
Странные контрасты - в личности Замятина, в его вкусе. Была ли эта раздво¬
енность преодолена в творчестве или же игра противоположностями составила
сущность его писательской манеры?
1 Ремизов А. Стоять - негасимую свечу. Памяти Евгения Ивановича Замятина. 1884-
1937 // Современные записки. 1937. № 64. С. 426.
2 Чуковский К. Дневник 1901-1929. М.: Советский писатель, 1991. С. 196.
Вечер четвертый. Против течения
257
Замятин оказывается на линии пересечения двух традиций, побуждая за¬
дать вопрос - что же для него важнее: всемирная утопия ши русский миф?
В том-то и дело, что одно для него не существует без другого, но только в их со¬
четании, в столкновении, позволившем писателю в числе первых сформулировать
новый фатальный вопрос русской истории: почему именно здесь, в России, а не
где-либо еще мировая утопия о человеческом равенстве была принята к осуществ¬
лению?
Классическая русская литература немало потрудилась над нелицеприятным
изображением национального бытия в его повсеместном проявлении. Однако по¬
сле 1905 года все сказанное показалось недостаточным. Ощущение давящей тяже¬
сти стало физически невыносимым. Темой стало целое - русская жизнь, как будто
заколдованная в своей безысходности в пределах каждого своего круга. Об этом
и писали: Бунин - «Деревню», Замятин - «Уездное», Андрей Белый - столицу,
«Петербург»...
Знаменательна перекличка названий лучших прозаических книг той поры.
В каждом - место действия, каждое со своим кошмаром, терзаемое своими беса¬
ми, из которых будничные, «мелкие» - самые страшные. «Мелкий бес» Ф. Соло¬
губа по структуре названия как будто не встает в перечисленный ряд, но ему при¬
надлежит и даже хронологически его открывает, потому что в этом романе - едва
ли не самое памятное суждение о сше русской обыденности, которая всего виднее,
обнаженнее - в провинции, в уездном.
Как скажет один из героев горьковской повести того же времени - «Горо¬
док Окуров»: «Что ж - Россия? Государство она, бессомненно, уездное. Гу-
бернских-то городов - считай - десятка четыре, а уездных - тысячи поди-ка! Тут
тебе и Россия».
В этой России начался Замятин, ее полюбил и возненавидел.
Словесная живопись: рождение манеры
Еще раз вернемся к портретам. Знаменитый анненковский не всем понравил¬
ся. Говоря о нем, имели в виду не только манеру художника, но и манеру изобра¬
женного писателя. Лично они были очень близки. Много позже, живя во Франции,
Юрий Анненков так начал свои воспоминания: «С Евгением Замятиным, самым
большим моим другом, я впервые встретился в Петербурге в 1917 году»1.
Затем последовало несколько трудных лет дружбы и творческого общения.
Бок о бок жили в Доме искусств (своего рода общежитие для деятелей культуры)
в промерзшем Петрограде; летом 1921 года провели вместе месяц в глухой дере-
1 Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. В 2 тт. Т. 1. А: Искусство, 1991.
С. 235.
258
Как было и как вспомнилось
веньке на берегу Шексны - Анненков с альбомом, Замятин с рукописью романа
«Мы», которую окончательно «подчищал», из которой читал главы1.
В следующем 1922 году в свет выйдет знаменитый анненковский альбом -
«Портреты». Там и замятинский. В числе материалов, сопровождающих аль¬
бом, - статья Замятина «О синтетизме». Это его писательский манифест той
поры. О нем критики писали едва ли не меньше, чем о портретах, с которыми
сопоставляли теоретические идеи: иногда противопоставляли, иногда угадывали
аналогию.
«Для чего, например, - задается вопросом М. Шагинян, - было неподвижную
маску Замятина сажать на “Таймс”? Для того, чтобы охарактеризовать английские
вкусы писателя? Но истинный портрет, схватив натуру, передал бы ее “англоду-
шие” органически, а не наружно-вывесочным образом. А сейчас получился лишь
остроумный фокус с неподвижной (хотя и очень “похожей”) маской на фоне выве¬
ски»2. Тема Шагинян в данном очерке - Анненков, а не Замятин. Однако изобра¬
зительные приемы у художника и писателя были сходными, так что, быть может,
и внешний по своей природе анненковский прием в данном случае изнутри пред¬
ставлял манеру Замятина.
Оба строили образ так, чтобы суть его была обнажена - до зримости, до ге¬
ометрической отчетливости форм. Не боясь упрощений, даже если упрощается
лицо - до маски (очень «похожей» - это нельзя не признать). Сложность не пря¬
чется, ибо она не внутри; ее источник не в психологии, а вовне - в отношениях,
в структуре мира, которая для всех едина и для каждого индивидуальна, что уста¬
навливается различной перспективой монтажных планов.
Это единственный прием и способ видения, который в силах отразить тогдаш¬
нюю реальность: «Смещение планов для изображения сегодняшней, фантасти¬
ческой реальности - такой же логически необходимый метод, как в классической
начертательной геометрии - проектирование на плоскости Х-ов, У-ов, Ъ-оъ»ъ.
Это из статьи «О синтетизме», о которой Замятин позже скажет: «Это я писал
не об Анненкове, а о нас, о себе, о том, каким, по-моему, должен быть словесный
рисунок»4.
Отношение к творчеству у Замятина всегда сознательное, профессиональное.
Кто он - учитель жизни? властитель дум? Обычная для писателя роль в России.
Как будто бы ни то и ни другое. Он - Мастер, мэтр, знаток литературного ре¬
месла. В этом обычно звучит уважительное признание, но и сдержанность оценки.
1 Анненков Ю. Указ. изд. С. 238.
2 Шагинян М. «Мир искусства» // Шагинян М. Литературный дневник. М., Пг.: Круг,
1923. С. 180.
3 Замятин Е. О синтетизме // Замятин Е. Сочинения. М.: Книга, 1988. С. 417.
4 Замятин Е. Закулисы // Замятин Е. Указ. изд. С. 470.
Вечер четвертый. Против течения
259
Именно так его воспринимали. И он не пытался противостоять такому восприя¬
тию. Охотно учил ремеслу, рассказывал о том, как пишет.
В 1920-х годах, имея в виду воспитание новой пролетарской литературы, луч¬
ших писателей нередко приглашали высказаться на тему «Как мы пишем». Имен¬
но так назывался сборник, вышедший в 1930 году в Ленинграде. В нем - велико¬
лепное замятинское эссе «Закулисы».
Впервые, рассказывает писатель, задуматься о том, как он пишет, его заста¬
вил курс лекций по «технике художественной прозы», который по предложению
Горького он начал читать в 1920 году в Доме искусств. С тех пор за многими из
слушателей закрепилось - «замятинцы». В первую очередь за группой «Серапи-
оновы братья», куда входили лучшие молодые прозаики: М. Зощенко, Вс. Иванов,
К. Федин, В. Каверин...
Для самого же Замятина чтение курса стало поводом «заглянуть к самому
себе за кулисы - и несколько месяцев после этого я не мог писать» («Закулисы»).
Законы мастерства в 1920-х годах понимали прежде всего как характерный
для писателя способ преломления (нередко вслед формалистам говорили - де¬
формации) документального материала. Замятин также припоминает кое-что из
жизненной предыстории своих произведений. В частности, случай с Чеботарихой
из повести «Уездное», в портретной узнаваемости которой Замятину пришлось
убедиться при первой же его встрече с М. Пришвиным: «А-а, так это вы и есть?
Покорно вас благодарю. Тетушку-то мою, вы как измордовали!» - «Какую те¬
тушку? Где?» - «Чеботариху, в "Уездном” - вот где!..»
Правда, Замятин тут же предупреждает, что для него подобный случай прямо¬
го перенесения натуры в произведение - исключительный: «Случай с пришвин-
ской теткой - единственный; обычно я пишу без натурщиков и натурщиц». Поло¬
жим, не единственный, ведь еще о нескольких поведал Замятин там же - в очерке
«Закулисы», но, видимо, не это для него главное - не письмо с натуры в погоне за
узнаваемостью и буквальным правдоподобием.
Художественное пространство у Замятина не записывается в равной мере
подробно, с сохранением всех реальных соответствий. Масштаб зачастую нару¬
шен, что-то укрупнено, гипертрофировано. Замятин не описывает лицо, а схва¬
тывает отличительную черту и уже о ней не забывает, как, положим, в английской
повести, созданной накануне революции, - «Островитяне»: «...основной зри¬
тельный образ Кембла - трактор, леди Кембл - черви (губы); миссис Дьюли -
пенсне...» ( «Закулисы» ).
Всегда есть лейтмотив, преимущественно зрительный, вещный. Иногда воз¬
никающий по закону метафорического уподобления (Кембл - трактор), еще чаще
по закону синекдохи - через деталь, замещающую целое. Деталь педалируется, на¬
вязывается, и чем она неприятнее, тем настойчивее, чтобы в самом повторе рож¬
далось впечатление.
260
Как было и как вспомнилось
В общем, читателю предоставляется произвести ту же работу, которой занят
автор, по части восстанавливающий - синтезирующий! - всю картину: «Сегод¬
няшний читатель и зритель сумеет договорить картину, дорисовать слова - и им
самим договоренное, дорисованное будет врезано в него неизмеримо ярче, проч¬
нее, врастет в него органически. Так синтетизм открывает путь к совместному
творчеству художника - и читателя или зрителя; в этом - его сила»1.
Это уже попытка осмысления приема в теории - свидетельство тому, что при¬
ем созрел. А ведь Замятин не сразу пришел к нему и не сразу его понял. Творче¬
ство опережало осмысление.
Первые замятинские рассказы (1906-1910) были попыткой литературного
психологизма. Они были написаны потрясенным человеком. Студент Петербург¬
ского политехнического института Замятин был арестован осенью 1905 года как
член боевой дружины Выборгского района. Последовали несколько месяцев в
одиночке и в 1906-м высылка на родину в Лебедянь. Вскоре высылка была отме¬
нена, но еще несколько лет сохранялось запрещение жить в столице, пренебрегая
которым, в 1908 году Замятин закончил институт. Вскоре в печати появились его
первые рассказы: «Один» («Образование», 1908, № 11) и «Девушка» («Новый
журнал для всех», 1910, № 25).
«Один» - о последствиях 1905 года, об ужасе одиночки, о поманившей и об¬
манувшей любви, о самоубийстве. «Девушка» - о провинциальной барышне, о
страхе одиночества, о тщетном ожидании любви, сказавшейся грезами, сантимен¬
тами, но и голосом крови, биологией, неожиданной и агрессивной.
Нельзя сказать, что эти рассказы вовсе не в духе Замятина, будто он блуждает
в совсем чуждой для себя области. Он - впоследствии автор таких замечательных
повестей, как «Север» (1918), «Наводнение» (1929); в обеих - история любви,
но не тонких переживаний, а страсти - цельной, которой не умеет сопротивляться
само существо человека, его природа.
В ранних рассказах такая страсть лишь намечена. Дело не в том, что ее изо¬
бражение еще не под силу автору, а в том, что она не под силу его тогдашним пер¬
сонажам, нервическим, в духе декаданса 1900-х годов. Их внутреннее состояние
таково, что, явленное внешним действием, поступком, отзывается мелодрамой.
Отнюдь не трагедией с катарсисом и освобождением, а мучительной безысход¬
ностью. В них нет другого развития, кроме как возрастания безысходности после
тщетных попыток преодолеть ее, вырваться. Вся надежда сливается в предмете
любви, случайном и единственном, ибо выбора нет, другого не дано. В «Девуш¬
ке» сказочный принц (в действительности - молодой человек, выдающий книги
в библиотеке) опознаваем - даже без имени - по нескольким внешним подробно¬
стям: «...золотые волосики на бороде...».
1 Замятин Е. О синтетизме. С. 418-419.
Вечер четвертый. Против течения
261
Не это ли первый эскиз будущей словесной живописи, укрупняющей деталь,
делающей ее значимой, предполагающей синтетическую способность восприятия
в читателе? Внешнее сходство приемов всегда обманчиво, ибо их подлинное сход¬
ство или различие функционально, зависит от их мотивированности, от их роли
в пределах художественного целого.
Маниакально сосредоточенное, поглощенное своей внутренней жизнью со¬
знание выхватывает в окружающем случайные черты. Они легко приобретают
гипнотическое свойство; небольшой нажим - и они перерастут в образ-символ,
заслоняющий мир. Нечто, подобное красному цветку у Г аршина или красному
смеху у Леонида Андреева. Иной смыслу деталей в прозе зрелого Замятина.
Первый знак перемен - меняющийся характер названий. В ранних рассказах
название указывает на героя, и даже конкретнее - на его состояние одиночества,
иногда со всей откровенностью («Один»), иногда подразумевая его («Девуш¬
ка»). В названии же последовавших вскоре за первыми рассказами повестей
с последовательной настойчивостью устанавливается место действия: «Уездное»,
«На куличках», «Алатырь»...
Горький и Замятин: бытописание и сказ
В литературу Замятин вошел, опубликовав повесть «Уездное» («Заветы»,
1913, № 5). О нем заговорили «все и сразу»1. Позднее мнение В. Шкловского
подтверждается многими другими, в том числе и отзывами в прессе, непосред¬
ственно последовавшими за журнальной публикацией повести. И все-таки не бу¬
дем преувеличивать ее успех.
В архиве Замятина2 есть ряд документов, касающихся расторжения его до¬
говора с издательством Н. Столяра «Современные проблемы»: 28 сентября
1915 года автор выкупает все экземпляры «Уездного», остающиеся на складе, -
1190 при общем тираже - 1600, и обязуется выкупить экземпляры, поступающие
из провинции. Все они подлежат уничтожению.
Лишь 16 февраля следующего 1916 года Замятин заключает «домашнее усло¬
вие» с книгоиздательством М. Попова (владелец М. Ясный) на издание сборника
«Уездное», куда кроме повести войдет ряд рассказов3. В марте Замятин уезжает
в Англию, чтобы вернуться лишь с началом революции - в сентябре 1917-го.
Какими бы ни были отношения у Замятина с критикой, если не всегда благо¬
желательной, то всегда заинтересованной, о большом читательском успехе «Уезд-
1 Шкловский В. О рукописи «Избранное» Евгения Замятина // Замятин Е. Избранные
произведения. Повести. Рассказы. Сказки. Роман. Пьесы. М.: Советский писатель, 1989. С. 6.
2 ИМАИ. Ф. 47. Оп. 2. Ед. хр. 43.
3 Там же.
262
Как было и как вспомнилось
ного» едва ли возможно говорить. Повесть выдвинула Замятина в первый ряд
современных писателей, но его литературная репутация тогда и, пожалуй, на про¬
тяжении всей жизни была выше его широкой известности. Он оставался класси¬
ком для достаточно избранного круга, мастером, которым восхищались собратья
по перу, которому завидовали и которого осуждали за преобладание мастерства
над жизнью. По этой схеме сложились и его отношения с Горьким.
Их личные отношения были близкими и трудными. Но как бы ни менял Горь-
кий своего мнения об авторе «Уездного», насчет этой повести оно оставалось не¬
изменным: она сразу же вызвала его восхищение. И формула горьковской похвалы
установилась раз и навсегда: «...не написал ничего лучше “Уездного”, а этот “Го¬
родок Окуров” - вещь, написанная по-русски, с тоскою, с криком, с подавляющим
преобладанием содержания над формой»1.
0 повести «Городок Окуров» стоит сказать подробнее, ибо непосредствен¬
но вслед ей писалось «Уездное» и едва ли не с полемическим заданием - оттал¬
кивания от горьковской манеры. К ведению такого рода литературной полемики
Замятин был склонен.
Горький ставил «Уездное» чрезвычайно высоко и неизменно рядом со своим
«Городком Окуровым», как будто бы давая повод улыбнуться авторскому тщес¬
лавию. Но как раз Горький страдал им в гораздо меньшей степени, чем многие,
чем, скажем, среднеарифметический автор. К тому же своей незавершенной оку-
ровской трилогией Горький, хотя и очень дорожил, доволен не был. Недовольство
росло по мере работы над ней и печатания. Так что еще вопрос: Замятина ли он
возвеличивал сравнением или избавлялся от чувства собственной неудовлетворен¬
ности, находя у другого именно то, что хотел бы сделать сам и не вполне преуспел.
Трилогия об уездной России писалась Горьким в Италии - на Капри. О рабо¬
те над ней сообщал в письмах, неоднократно А. Амфитеатрову: «“Окуров” в пер¬
вой части совершенно не удался мне. Вторая - Кожемякин. Это коротенькая вещь.
Третья - Большая любовь. Я могу написать о городе Окурове 10 томов» (1910,
4 или 5 января)2.
Амфитеатров одобрил само намерение - посмотреть на Россию издалека:
«...прав был Чехов, когда писал Батюшкову, что писать надо не по непосредствен¬
ным впечатлениям, а по воспоминаниям. Только историческая перспектива дает
синтез...» (1910, 7 января). Однако Горький ни ради исторической перспективы,
ни ради синтеза удаляться от своего материала не хотел и сожалел, если удаление
происходило: «В “Кожемякине” - отсутствует полынь и нет мух. Не пахнет пиро¬
гами с луком на постном масле» (1910, июнь).
1 Архив А М. Горького. Т. XIII. М.: Наука, 1969. С. 218.
2 Горький и русская журналистика XX века. Неизданная переписка // Литературное
наследство. Т. 95. М.: Наука, 1988. С. 179. Далее переписка о трилогии цитируется по этому
изданию.
Вечер четвертый. Против течения
263
Амфитеатров же сыплет похвалами: «многозначительнейший исторический
роман "уездной России”», «эпопея народности <... > опыт русского национализ¬
ма в самом благородном, живом и нужном смысле слова <... > пропитана духом
былинной свободы...» (1910,14 июня).
Для Горького чужие похвалы не в счет, и растет ощущение неудачи: «Кон¬
чил "Кожемякина” и - не удался мне он» (1911, 9 или 10 октября). И о нем же
Е. Пешковой: «...вышло, конечно, не то, что хотелось. Следовало бы подождать
печатать, но - нельзя: нужно же, чтоб выходили сборники "Знания”» (1911, 5 ок¬
тября).
Вторая часть трилогии завершена. Для третьей будет написан лишь неболь¬
шой отрывок. Первые две печатаются на протяжении 1909-1911 годов.
В самом конце 1911 года Замятин принимается за «Уездное». При этой хро¬
нологической близости особенно заметно сходство темы, но в то же время при
сходстве темы - разность повествовательной манеры.
Горький открывает общим планом. Он - в названии, в эпиграфе из Достоев¬
ского: «...уездная, звериная глушь», - и в широком топографическом обзоре,
которым начинается повесть: «Волнистая равнина вся исхлестана серыми доро¬
гами, и пестрый городок Окуров посреди нее - как затейливая игрушка на ши¬
рокой сморщенной ладони...» Топография переходит в описание самого города,
его обитателей с их нравами и отношениями, расколотыми вечной враждой двух
его частей: благодушного, более обеспеченного Шихана и нищего, воинственного
Заречья. Картиной вторжения зареченских на Шихан в пятом году обрывается эта
короткая повесть.
Уездное Горький дает как бытописатель. Русский быт он знал редкостно и, по
словам В. Ходасевича, смотрел «на литературу отчасти как на нечто вроде спра¬
вочника по бытовым вопросам, приходил в настоящую ярость, когда усматривал
погрешность против бытовых фактов» («Горький»)1.
Но, помимо этого взгляда, у Горького - и об этом тоже пишет Ходасевич -
была страсть возвысить человека над бытом, вырвать из «свинцовых мерзостей»,
даже вопреки самой действительности и наперекор человеку. Если в картине быта
он неукоснительно придерживался фактов, то в отношении человека сплошь и ря¬
дом отступал от правды, предаваясь «золотым снам»2.
И это отнюдь не от того, что Горький знал русского человека, чувствовал
его хуже, чем русский быт. Возможно, долее всего останется от Г орького в лите¬
ратуре его галерея русских типов. В книгах о жизни он был блистательным рас¬
сказчиком - о человеке, отчего самая мастерская его проза - поздняя, мемуар¬
ная, автобиографическая, замешанная на документальных впечатлениях памяти:
1 Ходасевич В. Колеблемый треножник. Избранное. М.: Советский писатель, 1991. С. 357.
2 Там же. С. 362.
264
Как было и как вспомнилось
«Артистизм его передачи совершенно покорял, люди бывали так видны, что ста¬
новилось и весело, и страшновато. Было такое впечатление, что он держит этого
загадочного человека в руках, как статуэтку, но, привычно ощупывая ее изгибы,
отказывается признать, что они ему знакомы»1.
И так же часто он отказывается принять человека таким, каков он есть: во что
бы то ни стало стремится оставить ему надежду - вырваться из быта. Он не хочет
видеть человека врастающим в быт, но преодолевающим его, хотя бы и несбыточ¬
ной мечтой. Эта же логика увлекает Горького и в трилогии об Окурове.
Первая небольшая повесть пишется как «уездное», универсальная картина
русской провинции. Но в ней изображение постепенно укрупняется, сменяя то¬
пографию с птичьего полета бытом - с запахом полыни и пирогов с луком на пост¬
ном масле. Во втором романе, о чем сожалеет Горький, запах выветривается, ибо
его тема - «золотые сны» Матвея Кожемякина.
В первой повести он лишь мелькнул в толпе лиц, прошел вместе с «кривым
из слободы» Тиуновым, местным философом, о котором Матвей позже скажет:
«путаный человек». Тиунову принадлежит афоризм о России как стране уездной.
В конце «Городка Окурова», где дано начало бунта, кто-то в толпе даже бросит,
что, мол, во главе одной из шаек слободских - Кожемякин и Тиунов. Но Кожемя¬
кин второй повести на эту - пугачевскую - роль совершенно не годится. К тому же
на события 1905 года он смотрит, стоя на пороге смерти, глазами не сочувствую¬
щего возмущению человека.
В «Окурове» финальный бунт представлен как «бессмысленный и беспо¬
щадный» (по-пушкински), но и неизбежный из-за того, что внутри быта, под всей
его звериной тяжестью, человеческие сны не забыты, а подавлены, обессмыслены.
Оттого и бунт - бессмысленный: освобождение силы, забывшей цель, но помня¬
щей ненависть и злобу. Оттого же бунт и беспощадный. В «Окурове» он пока¬
зан изнутри мечущейся, теряющей голову толпы. В «Кожемякине» - сторонним
взглядом, как бы в параллель его собственной всегда неясной мечте, «золотым
снам».
Не здесь ли крайности колебания и горьковского отношения к революции:
между знанием, трезвым, точным, и его мечтой, так легко отлетающей от почвы
русской и любой другой действительности?
«Золотые сны» все более ощутимо начинают направлять течение сюжета
трилогии и выносят его к третьей части - «Большая любовь». В ней - простор
мечте. Мечтает Люба Матушкина, чье убеждение: «Хорошее - правда, а дурное -
неправда». Понятно, что сны в этом случае окончательно берут верх над прозой
жизни, над пирогами с луком и прочим, но и желание писать дальше у Г орького
1 Федин К. Горький среди нас: Картины литературной жизни. М.: Советский писатель,
1977. С. 44.
Вечер четвертый. Против течения
265
пропадает. Он до слез любит этих своих мечтающих героев, но сам он слишком
умен, трезв и талантлив, чтобы уподобиться им и пустить десять томов окуровской
эпопеи под нравственную утопию, пусть и прекрасную. Третья повесть оборва¬
лась при самом своем начале.
Горький, вероятно, любил «Уездное» именно потому, что написано оно
жестче, осязаемее, чем сам он смог написать. Сам он продолжал описывать, а здесь
была потребна другая манера, способная разговорить быт - из самой его глубины,
человеческой глубины.
У Горького повествовательная точка зрения так окончательно и не опреде¬
лилась. Она безлична вначале. При первой публикации в сборниках «Знания»
«Городок Окуров» имел жанровый подзаголовок - «хроника». Но во второй по¬
вести - «Жизнь Матвея Кожемякина, рассказанная им самим». Так заявлено, но
выдержано весьма условно. Время от времени возникает фигура пишущего в кро¬
вати Кожемякина, а незадолго до его смерти речь заходит о судьбе его тетрадей.
В целом же - это по-прежнему хроника, в которой рукой повествователя отчетли¬
во водит автор.
У Замятина повествователя-персонажа нет; нет повествователя-личности. Ав¬
тор же выступает не как «рассказчик», а как - «сказитель». Так оценил «Уезд¬
ное» один из первых его рецензентов - Б. Эйхенбаум («Русская молва», 1913,
17 июля).
В автобиографии, написанной для собрания сочинений, Замятин рассказал
о том, как в 1911 году впервые почувствовал, что наконец пишет «то», что и хотел
бы писать:
В этом году были удивительные белые ночи, было много очень белого и
очень темного. И в этом году - высылка, тяжелая болезнь, нервы перетерлись,
оборвались. Жил сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом, зимою, - в Лахте.
Здесь - в снегу, одиночестве, тишине - «Уездное»1.
«Высылка» была одним из последствий участия его в событиях первой рево¬
люции, Тогда он был социал-демократом. Так что утопию и увлечение ею знал не
понаслышке, а по своему опыту. Об этом и написаны ранние замятинские расска¬
зы, его не удовлетворявшие. «Уездное» о другом - по воспоминаниям детства и
отрочества, проведенных в родной Лебедяни, откуда его знание России, его уди¬
вительный русский язык. Однако в первой повести тургеневские места, глубина
России были увидены совсем не идиллически.
1 Замятин Е. Автобиография // Замятин Е. Собр. соч. в 4 тт. Т. 1. М.: Федерация, 1929.
С. 16.
266
Как было и как вспомнилось
Подобно Горькому, Замятин как будто бы также заявляет названием общий
план - «Уездное», но если и так, то свое намерение он не спешит осуществить.
Текст повести разбит на коротенькие главки, первая из которых - «Четырех¬
угольный». Она имеет самое непосредственное отношение к тому первоначаль¬
ному впечатлению, из которого родилась вся повесть: в очерке «Закулисы» За¬
мятин рассказал, что некогда в окне поезда перед ним промелькнуло название
станции - Барыбино, а рядом - лоб, челюсть, квадратное обличье станционного
жандарма. От них пошло имя героя повести - Анфим Барыба и кубистическая жи¬
вопись его портрета:
Уж и правда: углы. Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжелые
железные челюсти, широченный четырехугольный рот и узенький лоб: как есть
утюг, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, гро¬
мыхающий, весь из жестких прямых углов. Но так одно к одному пригнано, что
из нескладных кусков как будто и лад какой-то выходит; может, и дикий, может,
и страшный, а все же лад.
Особый, замятинский психологизм. Необычный, мастерский. Хотя по перво¬
му впечатлению - грубоватый, прямолинейный, «непсихологичный». В основе
не авторское всеведение, а - всевидение: мир известен в той мере, в какой он зрим,
предметен. Внутренний мир героев также открывается, лишь поскольку он имеет
внешнее выражение. Действию, поступку предшествует предметное, простран¬
ственное обозначение характера. Первое впечатление не обманывает - зритель¬
ное или слуховое (звук имени). Оно получает в дальнейшем подтверждение и раз¬
витие.
Тяжелая тупая леность с рождения сопутствует Барыбе в его четырехуголь¬
ном облике, закреплена в его имени. Внешность почти фатально предопределяет
судьбу. Барыба нелюбим и презираем задолго до того, как он украл, предал друга,
продал себя - за мундир урядника. Характер, рожденный «свинцовыми мерзо¬
стями», как будто бы не затрудняет дать ему нравственную оценку, но не следует
спешить. Характер героя имеет такое развитие, что уже не позволяет толковать
его как индивидуальную личность. Изначально заданный внешне - зримо и слы¬
шимо, - характер и развивается вовне, теряя принадлежность отдельному лицу,
становясь наваждением, мелким бесом всего пространства. Если перед нами судь¬
ба - то не частная, если сознание - то не индивидуальное. Придя в мир, Барыба
заполняет его до последнего предела, до потаеннейшего уголка. Он сам - воля и
сознание этого мира.
В той же мере, в какой эпически безличен герой, безличен и способ повество¬
вания о нем, потребовавший, по выражению Б. Эйхенбаума, сказителя. А саму но¬
вую манеру повествования обозначая словом сказ.
Вечер четвертый. Против течения
267
Впрочем, само слово уже было в ходу и закрепилось за определенным кругом
современных явлений, ориентированных в повествовании на устное, колоритно
речевое слово. Образцом его в начале века считалась проза Ремизова, что отметил
и Замятин, рецензируя сборники издательства «Сирин»: «У Ремизова - не суть
только, но и внешность его сказов - русская, коренная»1.
Так что сказовость первой замятинской повести сразу же воспринималась со¬
отнесенной с определенной традицией. У истоков ее - Гоголь, Лесков, ближайший
Ремизов, который через четверть века в парижском некрологе Замятину вспомнит
о реакции на «Уездное»:
Почему вы взяли себе псевдоним Замятин? - педагогически выговаривая
все буквы, спросил меня Сологуб.
Отзыв Сологуба был общим литературным мнением, называли «Неуемный
бубен», как образец2.
Ремизов - современный образец сказового повествования, но окончатель¬
но теория сложилась при обращении к классическим истокам формы. Статьи
Б. Эйхенбаума «Иллюзия сказа» и «Как сделана "Шинель”» относятся к 1918-
1919 годам. Во второй из них сказ классифицирован по двум основным типам:
«Первый производит впечатление ровной речи; за вторым часто как бы скрывает¬
ся актер, так что сказ приобретает характер игры... »3. Г оголь отнесен ко второму.
А замятинский сказ - какого он типа?
В нем, конечно, тоже есть игровое начало, есть маска. О ней хорошо сказал
А. Ремизов, сердито опровергая «английскую» часть замятинской роли: «... и чи¬
тал он свои рассказы под "простака”».
Под «простака»...
У Замятина игровое начало допускается в целом не более, чем может позво¬
лить себе хороший рассказчик. Его язык колоритен, по-разговорному, по-провин-
циальному волен; окрашенность же этой речи - не за счет индивидуальности рас¬
сказчика и тем более авторского своеволия, а за счет речевого склада, какого еще
недавно придерживались в русском быту, который сам по себе есть голос этого
быта. В нем - и колорит, и картинность, и звуковая изобразительность. В слове
еще дышит, живет предмет, человек. Слово неотделимо от них.
Еще раз вспомним о замятинском очерке «Закулисы»: о Чеботарихе, ока¬
завшейся пришвинской теткой. В квашню ее душных объятий попадает Барыба,
из училища выгнанный, из дому выгнанный, наскитавшийся, голодный. Богатая,
богомольная, блудливая баба.
1 Ежемесячный журнал. 1914. № 4. С. 158.
2 Ремизов А. Стоять - негасимую свечу... С. 427.
3 Эйхенбаум Б. М. О прозе: Сб. ст. А: Художественная литература, 1969. С. 307.
268
Как было и как вспомнилось
Списав с натуры внешность, Замятин не изменил еще одной подлинной де¬
тали - имени: «...сколько я ни пробовал, я не мог ее назвать иначе - так же как
Пришвина не могу назвать иначе, чем Михаил Михалыч. Кстати сказать - это пра¬
вило: фамилии, имена пристают к действующим лицам так же крепко, как к живым
людям. И это понятно: если имя прочувствовано, выбрано верно - в нем непре¬
менно есть звуковая характеристика действующего лица»1.
Признание, свидетельствующее более, чем об остроте слуха, - о внимании к
«звуковой характеристике», об озвученности смысла. Проза Замятина по своей
природе подходит под то, что называли (от Потебни до формалистов) поэтиче¬
ской речью: вместо слова, стертого от употребления, лишь молчаливо подразуме¬
вающего предмет, эта речь сохраняет слово звучащим, а в его звучании - чувствен¬
но ощутимый образ обозначаемого.
Имена персонажей, как, впрочем, вообще имена собственные, - пробный ка¬
мень, ибо имя есть только имя, способ условного называния, если не вслушиваться
в него, если в самом звуке не предположить присутствия значения. Вот почему
Эйхенбаум так много внимания уделил гоголевским именам и показал, что для
автора, Гоголя, это был всегда процесс словесного, то есть поэтического, выбо¬
ра. Прежде чем остановиться на имени Акакий, он испробовал многие варианты:
Варадат, Барух, Трифилий, Варахасий...
У Замятина вкус к именам менее экзотический, но в не меньшей степени имя
для него - речевой жест в сторону называемого предмета, заставляющий почув¬
ствовать его присутствие и увидеть его. От звука - прямой ход к осязанию, зре¬
нию, замятинскому психологическому всевидению. Оно - в языке. Своего рода сказ
без рассказчика, чья маска поглощена текстом, растворена в речевой стихии, но
обнаруживается при воспроизведении: «...читал под “простака”»...
Простак-рассказчик, хронист, повествующий историю города, пусть это все¬
го лишь уездная история, имеет длинную родословную, уходящую - как литера¬
турный прием - по крайней мере в европейское Просвещение. В XIX столетии ее
можно вести по основным жанровым вехам от «Истории Нью-Йорка» В. Ирвин¬
га к пушкинской «Истории села Горюхина», а там - к Салтыкову-Щедрину, чье
имя Замятин и непосредственно заставляет вспоминать: «Старую дореволюцион¬
ную Россию писатель увидел открытыми глазами, какими смотрели на нее Гоголь
и Салтыков-Щедрин»2.
Однако есть и разница. Традиционный хронист видел не замечая, нам давая
возможность увидеть то, о чем он в своей простоте пробалтывался и о чем умнее
было бы помолчать. Замятинское всевидение не от наивности ничего не умеющего
скрыть рассказчика, а от самого сказового слова - эпически надличного. Язык пове-
1 Замятин Е. Закулисы. С. 466.
2 Шкловский В. О рукописи «Избранное» Евгения Замятина. С. 6.
Вечер четвертый. Против течения
269
ствует. В этом повествовании второстепенного нет, изображение укрупняется -
только основное, достаточное для узнавания существенного в предмете, событии,
человеке.
Хроника при этом сгущается в притчу. Нет единичной судьбы и единичного
события. Есть только безусловно значимое, повествующее и свидетельствующее
о целом, каковое в данном случае - уездная судьба России.
В этом новизна замятинской повести, которую, с одной стороны, все почув¬
ствовали и признали, а с другой - как бы сразу и сняли, приписав повесть к тради¬
ции сказа, к ремизовской мастерской. В отношении самого речевого приема - все
верно: он и лесковский, и ремизовский... Он сказовый, но дан в таком развитии
у Замятина, что захватил сами основы повествовательной формы, сдвинул их, сде¬
лавшись «явлением жанрового порядка»1.
Рассказчик отступил в тень кулисы; повествование потеряло в подробности,
освободилось от описательной детальности, необычайно укрупнив изобразитель¬
ный рельеф. Происходит небывалая концентрация стиля, возникает письмо резко
прочерченных линий, что особенно очевидно на фоне бытописательного пове¬
ствования.
Горький сравнивал «Городок Окуров» и «Уездное» по сходству. Оно в обе¬
спеченности сюжетным материалом. Что же касается его повествовательного
освещения - надо сравнивать по контрасту. Скорее всего, Замятин сознательно
отталкивался от горьковской манеры. Это было вполне в его духе: в духе его в выс¬
шей степени сознательного отношения к вопросам мастерства. Не случайно слово
«мастер» - и как похвала его умению, и как упрек его творческому рационализ¬
му - закрепилось за ним. Не случайно Замятин не только блестящий прозаик, но
и блестящий критик, преподаватель мастерства, оказавший влияние на первое по¬
коление послереволюционных прозаиков.
Он любил приближаться к чужой манере, чтобы иногда ее проверить само¬
му, чтобы иногда ее опровергнуть. Его пытались ловить на «подражании», порой
чуть ли не на плагиате, как произошло с повестью «На куличках».
Куприн и Замятин: беллетристика и притча
История публикации «На куличках», второй замятинской повести (закон¬
ченной в 1913 году), растянулась на десять лет. Как и «Уездное», она появляется
в «Заветах» (1914, № 3), но, признанная оскорбительной для чести русской ар¬
мии - тем более что выход ее совпал с началом мировой войны, - попадает под
цензурный запрет. Номер конфискуется. Окончательно она увидела свет лишь
в первом выпуске альманаха «Круг» (М.-Л., 1923).
1 Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литера¬
туры. Кино. М.: Наука, 1977. С. 275.
270
Как было и как вспомнилось
Среди откликов на нее была и такая эпиграмма:
Е. Замятину
Рассказ - новинка из новинок,
Куприн же - шельма и нахал:
Он свой известный «Поединок»
С него до черточки списал1.
(Крассказу «На куличках»)
Черт сходства и вправду немало: жизненный материал, сюжетная ситуация,
отдельные персонажи...
В военное захолустье приезжает молодой офицер: Георгий Алексеевич Ро¬
машов у Куприна и Андрей Иванович Половец у Замятина. Влюбляется. Один в
Шуру Николаеву, другой - в Марусю Шмит. Предстоит поединок с мужем, за¬
вершающийся смертью Ромашова и - несостоявшийся - самоубийством Шмита.
Характер, положение героя в офицерской среде - тоже сходны.
Обьиный молодой человек. Даже слишком обычный - заурядный. Но не всем
же «глядеть в Наполеоны». Хотя вот этого - честолюбия и благих намерений -
оба в силу характера ли, молодости ли не чужды. Георгий Алексеевич наметил
готовиться в академию и заниматься самообразованием, для чего выписал газету,
ежемесячный популярный журнал, приобрел «Психологию» Вундта, «Физиоло¬
гию» Льюиса, «Самодеятельность» Смайльса... И Андрей Иванович «вздумал...
в академию готовиться. Шутка ли сказать: на семьдесят рублей одних книг наку¬
пил». Если в изложении Замятина этот факт подан более кратко и простодушно,
то это - его манера, сказовая, «под простака», а будущность у этих планов, понят¬
но, одинаковая - не сбылись. То ли воли не хватило, то ли среда заела, то ли судьба
такая...
У Куприна скорее - среда. У Замятина скорее - судьба, ставшая характером.
Или, быть может, наоборот - характер, ставший судьбой. Об этом первый же аб¬
зац первой главки:
Есть у всякого человека такое, в чем он весь, сразу, чем из тысячи его отли¬
чишь. И такое у Андрея Ивановича - лоб: ширь и размах степной. А рядом нос -
русская курнофеечка, белобрысые усики, пехотные погоны. Творил его Господь
Бог, размахнулся: лоб. А потом зевнул, чего-то скушно стало - и кой-как, тяп-ляп
кончил: сойдет. Так и пошел Андрей Иванович с Божьим зевком жить.
Даже в замятинском пристрастии к двоеточию - сказовая повествователь-
ность: указание на прямую речь, хотя и без кавычек.
1 Лебедев В. Е. Замятину // Жизнь искусства. 1923. № 43. С. 6.
Вечер четвертый. Против течения
271
А главка названа: «Божий зевок».
Каждая из двадцати четырех главок имеет заголовок. Иногда это как бы дра¬
матическое обозначение эпизода: «Петяшку крестят», «Пир на весь мир», «По¬
минки».
Иногда - ключ к характеру: «Картофельный Рафаэль», «Два Тихменя».
Еще чаще - предметное название, укрупняющее то, вокруг чего будет разы¬
гран эпизод или в чем воплощен характер: «Лошадиный корм», «Человечьи ку¬
сочки», «Соната», «Кладь тяжелая», «Снежный узор», «Пружинка», «Галчо¬
нок»...
Когда-то Чехов критерием мастерства полагал умение описать лунную ночь,
обратив внимание лишь на осколок бутылки, блестящий на плотине. Можно поду¬
мать, что этот прием Замятин возвел в свой закон, в свой метод. То, о чем Куприн
рассказывает, Замятин разыгрывает - сценкой, воплощает - зримой, отчетливой,
преувеличенно прочерченной подробностью. У него нет описаний, кроме пред-
метно-эмблематичных.
«Мастерство Замятина - очень тонкое, очень выразительное, но суженное
в гротескно-пародийном аспекте...» - замечает один из первых рецензентов по¬
вести1.
Пародийно и гротескно это мастерство не в отношении только повести Ку¬
прина, а в гораздо более общем и широком смысле. Если это и пародия, то сти¬
левая, отзывающаяся преувеличением на фоне более традиционной, неспешной
манеры бытописания или любого другого описания. Но и к «Поединку» свою по¬
весть Замятин так явно приблизил не случайно: дать почувствовать свое отличие,
свою повествовательную новизну. Главное у него - как рассказано.
Замятин доверяет лишь говорящим подробностям, нередко обнаруживая их в
процессе развертывания метафоры. Уж если назвал свою повесть «На куличках»,
то пусть герой отправляется на край света, не в какую-то заурядную глухомань,
а на берег Тихого океана.
Куприн, давая представление о нравах офицерской среды, предварил любовь
Ромашова к Шуре его связью с Раисой Александровной Петерсон, через чью по¬
стель прошли многие из вновь прибывающих молодых офицеров. Но в этой семей¬
ственности не все так просто, и месть Раисы подготовляет трагическую развязку.
У Замятина аналогичный эпизод разыгран гораздо грубее и еще непосредственно
трагичней, вернее, трагикомичней. К началу повести полненькая жена капитана
Нечесы разрешилась девятеньким и остается решить - кто на этот раз отец. Объ¬
являют Тихменя, который, не вынеся мучительной неизвестности - его Петяша
или не его, - спьяну бросается вниз головой с вышки офицерского клуба.
1 РашковсаяА. [Рец. на альманах «Круг». М., 1923. Вып. I и И] // Записки передвижного
театра П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской. 1923.19 июня.
272
Как было и как вспомнилось
Или вот показательная деталь. У Куприна среди того, чем занимаются офице¬
ры от скуки, названа «манера заставлять денщиков говорить по-французски: бон-
жур, мусьё; бонн нюит, мусьё; вуле ву дю те, мусьё...». У Замятина - это эпизод,
отнесенный не вообще к офицерским нравам, а конкретно - к капитану Шмиту,
измучившемуся и других мучающему от полноты своего страдания. По своему не¬
колебимому правдолюбию оскорбил он действием генерала, а тот, воспользовав¬
шись трехдневной отлучкой Шмита, написал письмо его Марусе: или вы ко мне,
или муж ваш на каторгу. Пришла. Не скрыла от мужа. Он не простил: ее мучает,
всех - и «выдумал, например, издевку: денщика французскому языку обучать. Это
Непротошнова-то! Да он все и русские слова позабудет, как перед Шмитом стоит,
а тут: французский!»
Гротескно, пародийно... Но надо сказать, что и сам прием литературно¬
го остранения Замятин мог найти у Куприна, исполненный, конечно, совсем
иначе...
В русской литературе дурной тон - быть беллетристом. Русская литература -
убежденная общественница, и если ей предлагают развлечь, она обижается. Про¬
сто рассказать нельзя, нужно обязательно - «с тенденцией». Если пишут не то или
читают не то, русская литература издевается. Есть такой читатель и в «Поедин¬
ке» - Ромашов, в чьем сознании постоянно кипят «фантастические, опьяняющие
мечты». От них он теряет голову и чувство реальности. Отсюда - то неловкость,
то провал, как на смотру, когда, в своем разгоряченном воображении «сознавая
себя предметом общего восхищения, прекрасным центром всего мира», он лома¬
ет строй на парадном марше.
Ромашов мыслит литературно, беллетристическим штампом, разыгрывая
перед собой эпизоды будущей героической биографии то на поле боя, то в деле
усмирения бунта рабочих. Он живет между фразой и реальностью, постоянно
опровергающей фразу. Ромашов не настолько заигрался, чтобы этого не замечать.
Прошедшая со своим спутником дама, как ему показалось, пристально взглянула
на него:
Проходя мимо нее, подпоручик подумал, по своему обыкновению: «Гла¬
за прекрасной незнакомки с удовольствием остановились на стройной, худо¬
щавой фигуре молодого офицера». Но когда, пройдя десять шагов, Ромашов
внезапно обернулся назад, чтобы еще раз встретить взгляд красивой дамы, он
увидел, что и она, и ее спутник с увлечением смеются, глядя ему вслед. Тогда
Ромашов вдруг с поразительной ясностью и как будто со стороны представил
себе самого себя, свои калоши, шинель, бледное лицо, близорукость, свою обыч¬
ную растерянность и неловкость, вспомнил свою только что сейчас подуман-
ную красивую фразу и покраснел мучительно, до острой боли, от нестерпимого
стыда.
Венер четвертый. Против течения
273
Но привычка сильнее его, он не оставит ее до конца и в дальнейшем:
И сейчас же, по своей привычке, прибавил мысленно:
«Его выразительные черные глаза сверкали решимостью и презрением!»
Хотя глаза у него были вовсе не черные, а самые обыкновенные - желтова¬
тые, с зеленым ободком.
Такова русская жизнь: между литературой и бытом. Литература требует:
будь лучше, но в обыденном сознании от этого нравственного императива остает¬
ся «пьянящая мечта» и красивая фраза. Литература бросается опровергать фразу,
стыдит, поворачивает читателя лицом к реальности. Обязывает получше ее разгля¬
деть, какова она есть, и, разглядев, не отвернуться.
Ну что же, Замятин вполне следует этому обычаю. Он отстраняется от той
литературной традиции, которая, на его вкус, уже недостаточно проницательна,
откровенна, и настаивает на собственном всевидении.
Захолустье - так у черта на куличках. Опровергать героический офицерский
миф - так до конца: «...Андрей Иванович у нас один-единственный, агнчик невин¬
ный. А то все на подбор. Я? Меня сюда - за оскорбление действием. Молочку - за
публичное непотребство. Нечесу - за губошлепство. Косинского - за карты... Бе¬
регитесь, агнчик: сгинете, сопьетесь, застрелитесь».
Застрелится, однако, сам Шмит. Андрей Иванович закончит повесть после его
похорон пьяными коленцами - «пьяным, пропащим весельем, тем самым послед¬
ним весельем, каким нынче веселится загнанная на кулички Русь».
Шмит же как будто исполнит роль, обещанную ему Козьмой Прутковым:
Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится.
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.
Даже драматическое не переживается как драма «на этом фоне, почти анек¬
дотическом» (А. Рашковская). Важное слово: анекдот. К этому жанру вскоре ра¬
зовьет большой интерес русская литература - оценка как раз и прозвучала из того
времени, когда интерес уже возник, когда читателю предстал со своими первыми
рассказами М. Зощенко.
Замятин был одним из первых, кто в литературе этого времени почувствовал
вкус к анекдоту, подталкиваемый к нему чувством трагедии абсурдного бытия и
сказовостью своей манеры.
Самое, казалось бы, абсурдное как раз легче всего и признавали за подлинное,
с натуры списанное. Замятин рассказывал:
С этой повестью вышла странная вещь. После ее напечатания раза два-три
мне случалось встречать бывших дальневосточных офицеров, которые уверяли
меня, что знают живых людей, изображенных в повести, и что настоящие их фа-
274
Как выло и как вспомнилось
милии - такие-то и такие-то, и что действие происходило там-то и там-то. А меж¬
ду тем дальше Урала на наш Восток я не ездил, все эти «живые люди» (кроме
1/10 Азанчеева) жили только в моей фантазии, и из всей повести только одна
глава о «клубе ланцепупов» построена на слышанном мною от кого-то расска¬
зе. «А в каком полку вы служили?» - Я: «Ни в каком. Вообще - не служил». -
«Ладно! Втирайте очки!» («Закулисы»).
Выходит, чем абсурднее, тем документальнее, но верно и обратное - оттолк¬
нувшись от подлинной подробности, фантазия залетает далее всего, как в случае с
«картофельным Рафаэлем», генералом Азанчеевым. Он посвятил себя гастроно¬
мическому сладострастию, во имя которого проедает и кормовые деньги, отпуска¬
емые на лошадей, и солдатские трехрублевки, - на чем и вышла ссора с неподкуп¬
ным Шмитом, закончившаяся пощечиной генералу.
Необорима страсть Азанчеева к приготовлению и пожиранию еды:
Душа генеральская хочет паштета, а брюхо уже до сих пор полно. Да генерал
хитер: знает, как бренное тело заставить за духом идти.
- Ларька, вазу мне! - квакнул генерал.
Покатился самоварный Ларька, мигом притащил генералу большую, узкую
и длинную вазу китайского расписного фарфора. Отвернулся в сторонку генерал
и облегчился на древнеримский манер.
- Ф-фу! - вздохнул затем - и положил себе на тарелку паштета кусок.
У Куприна было скучно, тягостно, безысходно. У Замятина, как говорит Ма¬
руся: «...тут скучно. А может, даже и страшно».
Она еще не знает своей судьбы и судьбы мужа, но перед глазами - семь кре¬
стов: «Семь офицеров молоденьких - сами себя...» Не один крест - семь! Ко¬
нечно, Замятин все должен укрупнить, умножить. Семь - магическое число, знак
судьбы. Андрей Иванович хочет было спросить: «Что ж они...» - но чувствует,
что в его голове ответом вьется привязавшаяся песня, которую недавно провыл,
как волчий хор, - хор офицеров в собрании: «... у попа была собака...»
Страшно, абсурдно. И венцом этого жестокого абсурда становится ситуация
поединка, совсем недавно (указом 13 мая 1894 года), спустя почти два века после
петровского запрета на дуэли, введенного в русской армии для случаев разбира¬
тельства офицерских ссор. Введенного, чтобы повысить рыцарский дух армии,
возродить чувство чести - как свидетельствует литература, полностью изжитое,
утраченное.
У Куприна среда давит, уничтожает, не дает подняться. У Замятина как будто
бы тоже самое, еще для чеховских героев ставшее банальным, - «среда заела».
Замятин готов принять банальное объяснение лишь в том случае, если он может
его утрировать до абсурда: не заела, а одних, как у Куприна убила, а других сделала
Вечер четвертый. Против течения
275
частью себя, активной частью, воспроизводящей. Внешнее уходит внутрь челове¬
ка, чтобы в нем сказать предметно, зримо: говорящей чертой лица, жестом, пьяны¬
ми коленцами...
Что-нибудь встанет ли на пути всеобщей пошлости?
У Куприна противостояние это весьма призрачно, ибо дано глазами героя как
часть его «опьяняющей мечты». Другой мир - из которого скучающие на плацу
во время смотра надменные адъютанты, свита старого боевого генерала, героя ту¬
рецкой кампании. Вход туда - через академию, до которой, как до звезды, далеко
из серых армейских будней. По отношению к ним даже дом полкового командира
Шульговича - нечто культурно иное, повергающее в смущение и заставляющее,
как позже на смотру, ломать строй чинного обеда: «Подпоручик! Извольте отло¬
жить ножик в сторону. Рыбу и котлеты едят исключительно вилкой. Нехорошо-с!
Офицер должен уметь есть».
У Замятина субординационное различие не имеет культурного значения. Се¬
мейный обед у Азанчеева с фарфоровой вазой, с финалом в древнеримском духе
пародиен - по отношению к старой и уже отошедшей в прошлое традиции за сто¬
лом отца-командира, главы единой офицерской семьи.
Если кто у Замятина противостоит, бросает вызов, то это Шмит.
Замятинские фамилии, как мы уже знаем, случайно не выбираются. Возмож¬
ность сыграть на хрестоматийном четверостишии Козьмы Пруткова заманчива и
уместна для того, кто, десятилетиями опережая сегодняшний «постмодерн», де¬
монстрирует склонность к цитатному мышлению, к постоянному выяснению от¬
ношений с традицией. Чаще цитирует, чтобы обнаружить собственное отличие,
но Козьма Прутков единомышленник по абсурду. У него можно взять, чтобы раз¬
вить, развернуть мотив в сюжетном пространстве повести.
Замятину, конечно, важно, что фамилия персонажа с трагической судьбой полу¬
чена им из рук Козьмы Пруткова. И ему важно также, что фамилия эта - немецкая.
Немецкая в русском захолустье. А с нею - ум, огромная воля, те самые каче¬
ства, отсутствием которых у героев русской литературы мы привычно объясняем
их неудачи. У Шмита они есть, но и при их наличии - катастрофа.
Воля Шмита сомнений не вызывает, как и то, что она гротескно утрирована
в характере. Гротеск - прием короткой выдержки. Чуть передержанный, он теряет
отчетливость, остроту. Атам, где он является приемом перевода внутреннего, пси¬
хологического во внешний жест, возникает дополнительная опасность - сосколь¬
знуть в мелодраму, всегда перелагающую сильные страсти на скрежет зубовный.
Не без этого и в замятинской повести: слишком утрирована сила Шмита, слишком
подчеркнута слабость и хрупкость противостоящей ему Маруси.
Ремизов в свое время вспоминал, что первый рассказ Замятин напечатал
в журнале «Образование», где беллетристический отдел вел Арцыбашев, и это на¬
ложило отпечаток.
276
Как было и как вспомнилось
Однако Замятин, соприкасаясь с чем угодно, умеет остаться свободным,
обозначить свое остранение - в том числе и от арцыбашевской физиологии.
В отношении ее обычное всевидение осуществляется «через Гусляйкина» (по
заголовку одной из главок), через денщика, имеющего обыкновение прильнуть
к замочной скважине, увидеть, а потом сообщить, что происходит в спальне у Шми¬
тов... Только скромность Андрея Ивановича служит мотивировкой недосказан¬
ности постельных историй. Но мы знаем, что после жертвенного визита Маруси
к Азанчееву любовь в их собственном доме сменяется жестокой любовью-нена¬
вистью.
Шмитова воля в своем реальном действии оказывается отчасти злой, отча¬
сти бесполезной, как и его ум. Немецкое, даже и лучшее, плохо приживается на
русской почве. Помните Штольца из «Обломова»? Успеха он достичь может, но
что-нибудь изменить здесь - едва ли. Не случайно из глубины России чужим ви¬
дится столичный Петербург, окном в Европу, неметчиной. А эта самая глубина -
Азией, по слову другого гончаровского героя - старшего Адуева.
«Дистанция огромного размера» разделяет их. Вся она - географически -
подразумевается названием замятинской повести «На куличках». Безмерное
пространство, захваченное стихией национального бытия, неизменно опровер¬
гающего усилие европейски просвещенного разума и подтверждающего: «Умом
Россию не понять».
А понять хочется. И еще больше, чем понять, - исправить, переделать по евро¬
пейской мерке. Об этом у Замятина следующая повесть - «Алатырь».
Грибная история
Только в 1913 году всеобщая амнистия принесла Замятину окончательное
оправдание и сняла запрет проживать в столице. Но в 1915 году он снова выслан -
на север, в Кемь, после публикации повести «На куличках». С новым опытом
связаны несколько рассказов, появляющихся на протяжении последующих лет:
«Африка» (1916), «Север» (1918), «Ёла» (1928). Там природа, там характеры,
первое впечатление от которых в одном из ранних рассказов этого цикла - «Кря¬
жи» (1916).
Открывает путь к северным рассказам повесть «Алатырь» ( «Русская мысль»,
1915, № 9), где прежнее для Замятина уездное прорастает какой-то доисториче¬
ской древностью, сознательно мифологизируется. «На первой же странице тек¬
ста приходится определить основу всей музыкальной ткани, услышать ритм всей
вещи» («Закулисы»). Вот почему важна первая фраза. О поиске ее часто говорят
писатели. Об этом же свидетельствует Замятин. Начало «Алатыря» переписыва¬
лось им шесть раз, пока не приняло такой вид:
Вечер четвертый. Против течения
277
На том самом месте, где раньше грибы несчетно сидели кругом алаты¬
ря-камня, тут нынче город осел.
И у жителей тех, видимо, дело - от грибов принаследно, пошло плодоро¬
дие прямо буйное. Крестили ребят оптом, дюжинами. Проезжая осталась только
одна улица: вышел указ - по прочим не ездить, не подавить бы младенцев, в изо¬
билии ползающих по травке.
Как будто бы по-щедрински получилось - глуповская история, начало кото¬
рой затерялось в грибных местах. Можно и так прочитать... но это будет часть
смысла и часть правды, если счесть грибы неуместно снижающей исторический
тон деталью. Однако грибы - подробность мифологическая.
Быстрота размножения и обилие их стали одним из символов плодородия
в разных мифологиях. Плодородие - земля, но грибы одновременно - и небо в силу
того, что некоторые из них издревле использовались для приготовления пьяняще¬
го, одурманивающего зелья. Вот почему грибы «включаются в триаду: "жизнь -
смерть - плодородие”, которая дублируется пространственными перемещениями
основного объекта мифа: небо (божьи дети до грехопадения) - земля (грибы, на¬
секомые и т. п. как "превращенные” дети после наказания за грехопадение) - небо
(вкусившие напиток бессмертия, в частности приготовленный из мухомора)»1.
В свете такого прочтения грибные места - места благословенные. В них на¬
чалась счастливая, природой обласканная история Алатыря, пока не приключился
сглаз и не иссякло плодородие. Обесплодела земля...
Видимо, не зря Замятина называли «англичанином». Об Англии он пишет по¬
вести; в тех произведениях, где Англии нет, нередко угадывается память об англий¬
ских писателях: Свифте, Уэллсе... Порой же Англия подсказывает неожиданные,
непредусмотренные ассоциации. Бесплодие, которым начинается «Алатырь»,
заставляет вспомнить, что одно из первых произведений литературы XX века, на¬
стойчиво возвращающее кмифу, - поэма Т. С. Элиота «Бесплодная земля» («The
Waste Land»). «Алатырь» - 1914 год; «Бесплодная земля» - 1921-й. Повесть на¬
писана в год начала Первой мировой войны, поэма - сразу по ее завершении. Они
далеки по стилистике, питаются разной мифологической памятью, но у них общий
опыт современности - катастрофических событий, подсказавших один и тот же
мифологический образ - бесплодия, прекращения жизни.
Грибная история в «Алатыре» предполагает логику мифа: сначала - плодо¬
родие, потом - наказание бесплодием. Причем и то и другое состояние мифологи¬
чески всеобщее. Погоня уездных барышень за вдруг пропавшими женихами чита¬
ется как знак грядущих потрясений. Силу этой всеобщности, распространяющей
единый закон на природное, человеческое, государственное, так формулирует
1 Топоров В. Н. Грибы // Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 тт. Т. 1. М.: Советская
энциклопедия, 1987. С. 336.
278
Как было и как вспомнилось
О. Фрейденберг, комментируя восьмую книгу «Государства» Платона: «Дело
в том, что все на земле то возникает, то уничтожается; социальная гибель совпа¬
дает с периодом бесплодия всей земли, которое охватывает всех животных, расте¬
ния, тело и психику людей»1.
Такой круг значений произрос в замятинской повести вкупе с комическими
на первый взгляд грибами. Миф в силу своей универсальности, всеобщности об¬
наруживает свой смысл самым непредсказуемым образом. Тем более непредска¬
зуемым, что его предметное выражение никак не регулируется ценностной иерар¬
хией, которую устанавливает историческое сознание. И каждый предмет может
бесконечно менять свои роли, поражая множественностью значений.
Проиллюстрировать лучше всего, начав с названия. Его можно комментиро¬
вать, опираясь на различные справочники, словари и получая совершенно разный
результат.
Согласно географическому словарю, Алатырь - город, районный центр Чува¬
шии, пристань на реки Суре, при впадении реки Алатырь...
Самое что ни на есть - уездное.
Другие сведения дадут словари лингвистические, мифологические.
Алатырь -
в рус. средневековых легендах и фольклоре камень, «всем камням отец», пуп
земли... Легенды об Алатыре восходят к представлениям о янтаре как апотропее
(ср. назв. Балтийского моря - Алатырское море). В стихе о Голубиной книге и
русских заговорах Алатырь («белгорюч камень») ассоциируется с алтарем, рас¬
положенным в центре мира, посреди океана, на о-ве Буяне. На нем стоит ми¬
ровое древо, или трон, святители, сидит девица, исцеляющая раны; из-под него
растекаются по всему миру целебные реки...2
М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» (со ссылкой на
А. Веселовского3, Академический словарь и другие источники) добавляет: «...чу¬
десный камень, который был положен Спасителем в основание Сионского храма.
Он был принесен с Синая и поставлен там как алтарь».
Таким образом, Алатырь - воплощение высшей святости; через Голубиную
книгу он вошел в мистические глубины русского духовного знания; он, как маги¬
ческий залог, положен в основание Божеского миропорядка. Как бы продолжая и
подтверждая эту идею, В. Даль связывает его со словом «алабор», означающим
«устройство, распорядок, порядок...». Устаревшее слово, по одной из этимоло-
1 Фрейденберг О. Утопия // Вопросы философии. 1990. № 5. С. 149.
2 Мифологический словарь. М.: Советская Энциклопедия, 1991. С. 28-29.
3 А. Веселовский интересовался легендой об Алатыре в связи с преданием о Граале: Весе¬
ловский А. Н. Алатырь в местных преданиях Палестины и легенда о Граале // Веселовский А. Н.
Народные представления славян. М.: ACT, 2006. С. 141-173.
Вечер четвертый. Против течения
279
гических гипотез сохранившееся лишь с противоположным себе, отрицательным
смыслом - «безалаберность».
Да, как-то так получилось, что от символа высшей святости наш язык сохранил
только смыслы, обратные исходному. Они же, по Далю, в словах «алатырец» -
«бранное, неопределенное знач. пройдоха?»; «алахарь» - «вор, дармоед, мироед,
лежебок».
Именно так это последнее слово и мелькает в замятинской повести: «Мишка,
бывший столяр, а нынче просто алахарь...».
Такое вот понятие выбрал Замятин названием и обозначением места действия.
Высота святости соседствует в нем с полнотой падения - об этом ведь, в сущно¬
сти, алатырская история: от грибного изобилия к бесплодию и вырождению. Если
и не примиренные, сошлись в нем противоположности русского мифа: и святая
Русь здесь, и захолустность уездного; и величие прошлого, и нищета настоящего.
С мифологической именно нерасторжимостью, двойничеством противоположно¬
стей - одно в другом, одно сквозь другое прорастает, просвечивает. Все перепле¬
лось, перепуталось то ли в мифе, то ли в абсурде.
Князь Вадбольский, внесший окончательную сумятицу в умы и отношения
алатырцев, прибывает, чтобы скромно трудиться на телеграфе. Князь-телегра-
фист! А под его началом - Костя Едыткин, местный поэт; кстати, от него или, точ¬
нее, от его реального прототипа и пошла вся повесть:
В Лебедяни, помню, мне сделал визит некий местный собрат по перу - поч¬
товый чиновник. Он заявил, что дома у него лежит 8 фунтов стихов, а пока он
прочел мне на пробу одно. Это стихотворение начинается так:
Гулять люблю я лунною порой
При цвете запахов герани
И в то же время одной рукой
Играть с красавицей младой,
Прибывшей к нам из города Сызрани.
Пять строк эти не давали мне покоя до тех пор, пока из них не вышла повесть
«Алатырь» - с центральной фигурой поэта Кости Едыткина («Закулисы»).
Впечатления уездные, но вполне современные. Слова же, и просто что ни
на есть новомодные долетели до Алатыря, правда, ввиду дальности пути расте¬
ряв свой смысл. Как говорили местные девицы, пришедшие в восторг от князя:
«- Семь одеколонов, и на всякий день - свой... Уж видать: настоящий декадент
(произносится: дъкадънт)».
Но сквозь новомодные словечки и одеколоны светится еще такая древность,
незапамятная, языческая. Соборный протопоп спешит поскорее кончить службу,
280
Как выло и как вспомнилось
дабы - поскорее домой, где ему обязательно явится какая-нибудь нечисть - потол¬
ковать. Тут как-то заходил коземордый - наговорились всласть, и о том, «между
прочим, что у них уже начинает распространяться истинная вера и уж он, коземор¬
дый, по истинной вере пошел.
Тут протопоп обрадовался - просто нету и слов...».
Замятин так и не понял, угадал ли себя в протопопе, собеседнике нечистой
силы, в авторе книги «О житии и пропитании дьяволов», - Алексей Ремизов.
С него было писано, ибо он всех глубже старался заглянуть в корень русского язы¬
ка и русской веры.
Время в «Алатыре», как и следует мифологическому времени, остановилось,
зациклилось, слилось в неразличимости прошлого, настоящего и утопического по¬
рыва в будущее. Впрочем, порыв этот уже не от мифа, а от утопии. Впервые имен¬
но в этой повести Замятин высказался по ее поводу.
Первый утопист, нам здесь встретившийся, - доморощенный. Это исправник.
Он спешит укрыться от досадливой назойливости городских и домашних неуря¬
диц в своем кабинете:
Уж если по правде - так только в кабинете у Ивана Макарыча и была настоя¬
щая жизнь. Незабвенные часы тут проводил Иван Макарыч, здесь возникали все
великие и многочисленные его изобретения: состав для полнейшей замены дров
в безлесных местах; тайна приготовлять не уступающий настоящему искусствен¬
ный мрамор; особливый способ домашним путем производить отменные стек¬
ла для зрительных труб. И, наконец, это многообещающее открытие последних
дней: секрет печь хлебы не на дрожжах, как все, а на помете голубином, отчего
хлебы будут вкуснейшие и дешевые гораздо. В какой-то книжке старинной отко¬
пал исправник этот секрет - и взялся за дело.
Заметьте: книжка старинная, секрет голубиного помета, а об Алатыре весть со¬
хранена в Голубиной книге русского потаенного мистического знания. Мифологи¬
ческие глубины отверзаются в местах самых неожиданных, и тут же мысль устрем¬
ляется вперед - к чудесам просвещенного века. «Просвещение» - слово здесь и
исторически оправданное, поскольку к самым его началам уходит родословная ис-
правниковых открытий: линзы изготовляет он подобно Спинозе, прожектерству¬
ет подобно свифтовским академикам из Лагадо, извлекавшим солнечную энергию
из огурцов, мечтавших строить дом не с основания, а с крыши...
Если исправник здесь как бы от раннего Просвещения, потрясенного возмож¬
ностью естественнонаучных открытий, то исторический путь продолжен и гораз¬
до далее - к всемирности нравственной утопии. Ее представляет князь, учитель ве¬
ликого языка эсперанто, открывающего эру всемирного счастья, всеобщей любви
и свободы. В общем: «Свобода, равенство и братство!»
И все это - в Алатыре, устремленном к новой жизни. Нью-Алатырь!
Вечер четвертый. Против течения
281
Князь для русской литературы - нечто большее, чем титул. Это отсылка
к истокам национальной истории, напоминание о ней. И одновременно - возмож¬
ность сказать о том, как далеко от этих истоков ушли, показав одиночество, непо-
нятость, даже гибель князя. Если сам Ремизов, по признанию Замятина, сказался
в протопопе, то не он ли подсказал и князя своим за десять лет до того написанным
рассказом «Эмалиоль» - о князе, попавшем в тюрьму и гибнущем от рук уголов¬
ников. Но, конечно, начало - у Достоевского: князь Мышкин. Там княжеский об¬
раз исполняется нравственности, почти святости.
С нравственной целью идет на лингвистический эксперимент и князь Вад-
больский. Собрал он алатырцев и начал с ними вечерние занятия всемирным язы¬
ком эсперанто: «Счастливым светом сиял его странный, бесподбородочный лик:
князь святое дело творил, князь сейчас был первосвященником. Вот еще немнож¬
ко, лет десяток-другой, и наступит всеобщая любовь».
Наступит ли? Но верит князь, живет этой верой: «После уроков усталый рас¬
хаживал князь по почте...»
Почта - место его службы, где он и собирает алатырцев, выглядит продолже¬
нием известной пушкинской метафоры: «Переводчики - почтовые лошади про¬
свещения».
Без устали погоняет себя князь: «Трудно, ох как трудно! Но все-таки на один
день ближе к празднику, к той светлой Пасхе, когда кликнут все на одном языке,
запоют и обымут друг друга, и кончится старая жизнь».
Запоют, непременно запоют что-нибудь вроде шиллеровской оды «К ра¬
дости» на музыку Бетховена. А почему бы князю или кому-либо еще не перело¬
жить ее на эсперанто? Впрочем, она и по-немецки звучала на всю Европу гим¬
ном всеобщей надежды. Звучала, устремляясь и увлекая к небу. Гораздо позже,
в наш век, уже переживший трагедию воплощенных утопий, она прозвучит нотой
надмирного ужаса в фильме «Покаяние», когда жена старого революционера
с неистовым утопическим упорством ею пытается заговорить уже начавшиеся
аресты:
Alle Menschen werden Brüder <...>
Seid umschlungen, Millionen.
Вот и князь попытался эсперантистской мечтой о всемирном братстве загово¬
рить русский миф. Как всегда у Замятина (или как всегда в русском мифе?), самое
абсурдное сбывалось - через десять лет Советская Россия станет страной, изуча¬
ющей эсперанто, язык мировой революции. Делу будет придан государственный
размах, оно завладеет романтическим сознанием молодежи, плодя в нем «пред¬
ставления о единстве человеческого рода, которые возникли, - вспоминает Л. Ко¬
пелев, - еще в пионерском детстве, в пору эсперантистских фантазий».
282
Как было и как вспомнилось
Логику фантазирования Замятин понимал настолько, что предугадал и исход.
Потихоньку разбегаются ученики князя, пока не остаются лишь самые верные,
твердо решившие через муки эсперанто выйти в княгини: исправникова Глафира
да Протопопова Варвара-Собачея, оборотень. Эсперанто они выучили - от зубов
отскакивало, но любовь, всеобщая любовь, не овладела их сознанием. Постепенно
между собой и вовсе разговаривать перестали, не могли больше, только злобно
шипели при встрече, пока не сцепились: «Клубком завились, по катку покатились,
ну, срамота-а! Варька, Собачея-то, в кровь искусала исправникову. Вот он - князь
мира-то сего, дьявол-то!»
Этим и кончилось. Дьявольским наваждением, вместо обещанной любви -
ненавистью. Вышло даже хуже, чем можно было ожидать от «бесподбородочно-
го» князя. Обычная для Замятина внешняя подробность, за которой - характер.
Вместо волевого подбородка, как пристало бы преобразователю мира, у князя -
ничего:
А и верно: в подбородке - вся соль. Так - лицо как лицо. Скуластое, желтое,
с зализами на лоб, но подбородок...
Очень, конечно, странно - но подбородка у князя нет и в завете: губы, усы,
а потом прямо - юрк под галстук, как будто оно так и надо.
Где ему, бесподбородочному, заговорить бешеную злобу Собачеи-Варвары,
только растравил ее, только разворошил он своими фантазиями русский миф.
Обещал утопию, получилась - антиутопия, ненависть вместо всемирного брат¬
ства: «Вот он - князь мира-то сего, дьявол-то!»
Первые же проницательные читатели замятинских повестей различили в них
новизну, особенно - на фоне бытописательной реалистической манеры: «Ала¬
тырь - жутко реален, Окуров - красочно натуралистичен <... > Алатырь страшнее,
он внутри нас» .
Автор рецензии - Иванов-Разумник. Он прав, хотя и несколько односторон¬
не: Алатырь по закону мифологического мышления и внутри, и вовне. Он исчерпы¬
вающе вездесущ. Для Горького Россия - страна уездная, ибо городов уездных в
ней много больше, чем каких-либо других. Для Замятина такого рода количествен¬
ная справка не нужна, ибо, опять же по закону мифа, любая часть может предста¬
вительствовать за целое, замещать его. В данном случае эта часть - уезд, малая еди¬
ница административного деления империи, - становится ее цельным и неделимым
образом.
Все спроецировано в быт, просвечивает сквозь него. До быта был миф. Ми¬
фическое течение жизни пресеклось сглазом, но не забылось. Вся жизнь - усилие
вернуться к нему, превозмочь бесплодие, иначе не будет жизни. Вся бытовая ре¬
альность обращена к мифу и странным образом преломлена по его законам. Так,
бессобытийность уездной жизни в мифе выступает как грандиозное укрупнение
Вечер четвертый. Против течения
283
незначительного. Взять хотя бы рождение котят у Милки, ставшее вызовом при¬
роды, неподвластной сглазу, человеческой жизни, пораженной бесплодием, -
и невыносимым напоминанием Глафире: у Милки четыре котенка, а «опять без
свадеб кончался мясоед».
Языческое и православное легко уживаются в этом мифологизированном
быту, как они уживались в старой русской действительности. И тем легче - на
фоне мифа, всему предшествующего, все в себе соединяющего, не только языче¬
ское с христианским, но и Божеское с бесовским. Уж как обрадовался отец Петр
сообщению коземордого, что и у них «истинная вера пошла». Недалеко и до все¬
общего примирения.
На уровне мифа предваряется мечта о всеобщем мировом братстве, обещан¬
ном князем. Сам князь вписывается в миф, поглощается им, является на уготован¬
ную им мифологическую роль - избавителя, жениха. Его собственное намерение
тем самым ложно интерпретируется, его цель остается непонятой. Она и не могла
быть понята в Алатыре, где пласт культурно-исторических значений, относящих¬
ся к цивилизации, не имеет самостоятельной силы. Ему принадлежащие факты,
слова, понятия вступают в самые произвольно-фантастические сочетания, отзы¬
ваются абсурдом. Быт и миф - установленная здесь система отношений. Цивили¬
зация - набор разрозненных, случайно заброшенных сюда явлений, связанных
между собой столь же случайными ассоциациями: если пользуется одеколоном, то
непременно декадент. Родство по созвучию?
Самыми дикими фантазиями выглядят здесь цивилизаторские устремления.
Первый просветитель-утопист - исправник. Он профессиональный просветитель,
по должности призванный исправлять мир и нравы. Его-то и сменит князь, ко¬
торый не по бюрократическому расписанию, а по своему титулу, закрепленному
в исторической памяти, - духовный водитель, «наш князь».
Он возбуждает множество надежд и мечтаний. Для большинства он - жених,
буквально воспринятый. Для Кости Едыткина - обещание духовного соединения,
провозвестник новой религии, может быть, того самого символа веры, согласно
которому «...Бог-то, оказывается, - женского рода... ».Так проповедует Костя
в сочинении «Внутренний женский догмат Божества».
Если Ремизов мог узнавать себя в протопопе, то в Костином трактате мог уз¬
нать вечную женственность Блок, а в самой ситуации услышать отзвук своего ран¬
него стихотворения: «Мой любимый, мой князь, мой жених...».
Костя Едыткин в Алатыре - писатель, а в силу мифологической единственно¬
сти явлений - Писатель. Ему выпало духовно увлечься князем: «Глафира - супруга
моей жизни, это уж нерушимо. А после нее первый человек - господин почтмей¬
стер, в связи его международного языка». И ему предстоит горько разочароваться
и прозреть, а прозрев, бросить вызов обманувшему наваждению.
284
Как было и как вспомнилось
Костя пародиен. Происшедший от графомана, принесшего Замятину стихот¬
ворение, он по литературной сути - потомок капитанаЛебядкина из «Бесов». И в
то же время он здесь Писатель, и через него литература входит в миф, соучаствует
в нем.
Соучастием русской литературы в русском мифе особенно заинтересовались
после того, как в 1917 году произошло то, что произошло. Откуда они, «духи
русской революции», сразу же вопрошал Н. Бердяев, давая понять, что, конеч¬
но, литература предупреждала, но не предотвратила, а кое в чем и прямо готовила
случившееся: « ...попробуйте проникнуть за поверхностные покровы революци¬
онной России в глубину. Там узнаете вы старую Россию, встретите старые, знако¬
мые лица. Бессмертные образы Хлестакова, Петра Верховенского и Смердякова
на каждом шагу встречаются в революционной России и играют в ней немалую
роль, они подобрались к самым вершинам власти. Метафизическая диалектика
Достоевского и моральная рефлексия Толстого определяют внутренний ход ре¬
волюции»1.
Замятин дал почувствовать связь литературы с русским мифом в числе первых.
Он многое предсказал, ибо острее других увидел сам механизм мифологического
сознания, зная который этим сознанием вполне можно манипулировать2.
Один из разделов проницательной статьи Брета Кука «Рукопись в “Мы”
Е. Замятина» назван «Роман как сознание», что подводит к «онтологическому
сомнению»3, которое постепенно читатель начинает переживать вместе с ге¬
роем, - существует ли весь этот мир или он есть только в романе, в рукописи,
в слове?
Странная историческая реальность - изменчивая, неуловимая, не ведающая
границы между словом и делом. Только миф знает подобную протеичность. Рус¬
ская литература, безусловно, - соучастница русского мифа и сама - его продолже¬
ние. Не случайно наше общественное сознание по преимуществу литературно и
синкретично: не философия, не наука, не религия, а именно литература вплоть до
самого последнего времени наиболее полно воплощала его и руководила им. Не
всегда понятно, откуда и куда являются герои: из действительности в литературу
или из литературы в действительность. Где родился Базаров, где - «бесы»?
Замятинское предсказание, всемирно известное по роману «Мы», было им
подготовлено тщательно, проверено наблюдением и экспериментом. Роману
предшествовали сначала повести, а затем короткие эскизы, сделанные прямо с на¬
туры - с новой послереволюционной реальности.
1 Бердяев Н. Духи русской революции // Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991. С. 251.
2 Подробнее о магической доверчивости русского сознания к слову, об исторических по¬
следствиях этой доверчивости и в этой связи о Е. Замятине мне приходилось писать в статье
«Страна, которую было не жалко». - И. Ш.
3 Cooke L. В. The Manuscript in Zamjatin's «We». Russian Literature. 1985. Vol. XVII. P. 374.
Венер четвертый. Против течения
285
Сказка; ставшая былью
«Мы» - самое известное произведение Замятина, всемирно известное. Оно
на многих повлияло. Оно необычайно широко прочитано и все еще читается,
включенное в программы университетов всего мира.
«Мы» - безусловное свершение, по отношению к которому все остальное -
контекст, способный пролить свет на то, откуда и как возникло это главное про¬
изведение Замятина. Возможно, такая иерархия творческих ценностей будет су¬
ществовать не всегда, но пока что судьба писателя видится под знаком всемирной
судьбы его романа. К этому нужно отнестись как к данности, впрочем не отказы¬
вая себе в праве оценить - вполне автономно - у него что-то иное. Не будем забы¬
вать, что в русской литературе с 1910-х годов и на протяжении 20 лет Замятин -
ключевая фигура и до того, как роман «Мы» написан, и после того, как его нельзя
было ни прочесть, ни даже упомянуть в России.
Нельзя отрицать, что контекст всегда важен. Роман «Мы» не был, как мы уже
видели, первым предупреждением Замятина о том, что будет, если поднести к рус¬
ской действительности факел мировой утопии. Впрочем, опыт писателя, предше¬
ствующий созданию романа, не был целиком русским. В числе ближайших к нему
произведений - его «английские повести», созданные по возвращении Замятина
в Россию из Англии в сентябре 1917-го. Там впервые Замятин сказал об обезличи¬
вающей цивилизации: «Как известно, человек культурный должен, по возможно¬
сти, не иметь лица» («Островитяне»).
Это и есть тема «английских повестей» - о людях, теряющих лицо> теряющих
себя. Тема оказалась трудной в осуществлении, и не только потому, что внешне
лица цивилизованных островитян столь же непохожи друг на друга, как лица жи¬
телей Лебедяни, а глаз писателя как всегда остро подмечал, подчеркивал это нес¬
ходство. Главное было в другом: человек вырывался из регламента цивилизации,
хорошего тона и сюжетной схемы.
Получилось так, что один и тот же сюжетный план Замятину пришлось испол¬
нить дважды: в «Островитянах» и в «Ловце человеков». В первом случае история
о человеке, на лондонских улицах и в парках выслеживающего влюбленных и взи¬
мающего с них мзду - за нарушение благопристойности, была перечеркнута свое¬
волием главного героя Кембла, доказавшего, что у него есть лицо, и заставившего
Замятина написать совсем иную повесть, чем та, что он первоначально задумал.
В романе «Мы» человеческое также будет бунтовать, но безропотно подчинит¬
ся - воле всеобщего Благодетеля и авторской воле.
Подчиняя персонажа, Замятин все резче и гротескнее прочерчивает линию
его характера. Вместе с этим выпрямляется и линия его судьбы, чтобы лишь под
занавес сюжета совершить поворот, ничего не меняющий по сути характера, но
позволяющий увидеть его в резком фокусе непредусмотренных героем обстоя-
286
Как было и как вспомнилось
тельств. Сюжет приобретает оттенок анекдотичности. Свои ранние анекдоты За¬
мятин предпочитал называть сказками.
Первая попытка написать сказку предпринята давно - в начале 1910-х годов,
когда Замятин еще не решил, как обозначить жанр: в рукописях мелькают «по¬
баски», «бабушкины старины»... Однако остановился на сказках. Маленькие -
в одну-две странички. Всегда случай, но рассказанный со значением: «сказкаложь,
да в ней намек...»
Замятинская сказка - между анекдотом и притчей. Однажды, мол, а когда -
бог ведает, в некоем царстве-государстве... В государстве? В каком-таком госу¬
дарстве?! И начинали угадывать, расшифровывать. Часто промахивались, на что
и будет сетовать Замятин, когда сказку «Бог», еще в 1916 году напечатанную
в горьковском журнале «Летопись», в 1921 году сочтут клеветой на нэп.
Разгадывая, ошибались, но Замятин сам давал повод искать скрытый смысл.
Сказки нередко писались им к случаю - к политическому случаю. По возращении в
Россию в 1917 году Замятин продолжил этот жанр, сделав его публицистическим,
газетным. Печатался в горьковской («меньшевистской») «Новой жизни», в эсе¬
ровском «Деле народа» или в достаточно случайных однодневках.
Первый цикл, «Сказки», был начат еще до революции, завершен - после.
Второй цикл, «Большим детям сказки», появится целиком в 1922 году в Берлине,
а у нас много позже - в сборнике Е. Замятина «Мы» («Современник», 1989). Не
все тогда было напечатано, а то, что было, порой носило следы цензурного вмеша¬
тельства, раньше или позже настигавшего тексты. Вот пример со сказкой из пер¬
вого цикла - «Херувимы». Первая полная публикация - в газете «Дело народа»
(14 декабря 1917). В собрании сочинений Замятина 1929 года (М.: Федерация),
куда этот цикл был включен, она выглядит как-то таинственно. Вся тайна в том,
что концовка у сказки отрезана цензурными ножницами. Летают под потолком
херувимы, вьются неустанно, жалеет их бабушка:
- Да ты бы, батюшка, присел бы, отдохнул. Уморился поди летать-то.
А херувим ей сверху жа-алостно:
- И рад бы, бабушка, посидеть, да не на чем!
И верно: головка да крылышки - все существо ихнее...
Такая, выходит, у них, херувимов, проблема - посидеть не на чем. А у сказки
было продолжение, из которого ясно - куда же они, святые существа, присядут,
когда снизу летят крики:
- Пытать на дыбе. Сечь кнутом. Рвать ноздри.
Жалко херувимов. Такая их судьба несчастная: в нелепом сне трепыхаться
без отдыху, потолок головой прошибать, покуда не отмотают себе крылышки, не
загремят вниз торчмя головой.
А внизу - штыки.
Вечер четвертый. Против течения
287
Подцензурный вариант и спустя сорок лет был перепечатан в первом томе
мюнхенского четырехтомника (1970); исправились лишь в третьем томе (1986).
Под сказкой год написания - 1917-й. В том же году по горячим следам револю¬
ционных событий написан цикл из четырех сказок про Фиту («Большим детям
сказки»)
Завелся Фита самопроизвольно в подполье полицейского правления. Чер¬
нильная душа: изо рта у Фиты - чернила самые настоящие, как во всем поли¬
цейском правлении. И все этот Фита разные рапорты, отношения, предписания
строчит и в углу у себя развешивает.
- Ну, Фита, - околоточный говорит, отец-то названый, быть тебе, Фита, гу¬
бернатором.
Исполнилось предсказание. Правит Фита: чего придумает, тут же указом осу¬
ществит. А в последней сказке про Фиту аптекарь дает ему премудрый совет, как
сделать, чтобы народ не ходил во внеслужебное время скучный: «Надо, чтоб все
одинаковое. Вообще».
Город по этому случаю спалили, к утру - «готово: барак, вроде холерного,
длиной семь верст и три четверти, и по бокам - закуточки с номерками. И каждому
жителю - бляху с номерком и с иголочки - серого сукна униформу».
Все вроде бы счастливы. Но первым пострадал аптекарь. Явились к Фите депу¬
таты от лысых: «Это, стало быть, аптекарь кучерявый ходит, а которые под поль¬
ку, мы - лысые? Не-ет, никак невозможна...»
По кучерявым равнять немыслимо. «Налетели - набежали с четырех сторон:
всех наголо, и мужеский пол, и женский: все - как колено. А аптекарь премудрый -
чудной стал, облизанный, как кот из-под дождичка».
Следующая депутация к самому Фите пожаловала - от петых, мокроносых, от
дураков то есть:
- Э-э, брат, нет, не проведешь! Мы хоть и петые, а тоже знычть, понимаем!
Ты, брат, тоже, дурей. А то ишь ты... Не-ет, брат.
Куда денешься? «Некуда деться». Поплакал Фита, и к утру - готов,
ходит - и: гы-ы!
И зажили счастливо. Нет на свете счастливее петых.
Вот оно, полное счастье осуществленной утопии. Спустя три года, следуя ре¬
альному опыту революции, Замятин покажет дальнейшую перспективу счастья
«петых». Пока его путала возможность действительного осуществления всеобще¬
го равенства. Не учитывал тогда одного обстоятельства, что из всей утопической
программы будет в полной мере реализована лишь ее политическая теория - воля
к власти: «Есть такая партия». Они возьмут власть не для того, чтобы ею делиться,
тем более со всеми.
288
Как было и как вспомнилось
Политическая теория революции творилась в одно время со сказочками про
Фиту и в полном с ними созвучии:
Когда большинство народа начнет производить самостоятельно и повсе¬
местно такой учет, такой контроль за капиталистами (превращенными теперь
в служащих) и за господами интеллигентками, сохранившими капиталистиче¬
ские замашки, тогда этот контроль станет действительно универсальным, всеоб¬
щим, всенародным, тогда от него нельзя будет никак уклониться, «некуда будет
деться»1.
Написано летом 1917 года в Разливе, в шалаше. Вся книга «Государство и
революция» написана (не дописана - ввиду начавшихся октябрьских событий и
необходимости перейти от теории к практике), чтобы обосновать право захва¬
та власти, от которой «некуда будет деться», что мотивировано очень просто:
«...необходимость соблюдать несложные, основные правила человеческого обще¬
жития очень скоро станет привычкой»2.
Очень просто, но так ли уж гениально? «Станет привычкой» - и все тут, а
привычка, известно, - «замена счастию она». Но привычки ни через год, ни через
два, ни даже через семьдесят не выработалось. Старые привычки к нормальной
жизни, к соблюдению ее человеческих норм постепенно были изжиты, а новые,
вопреки теоретическому обещанию, нет, не выработались.
А вот от новой власти «деться», действительно, стало некуда. Всеобщий на¬
родный контроль, как и мечтал о том Ленин, обернется всеобщностью слежки и
доноса, все будут исполнять «функции контроля и надзора, чтобы все на время
становились “бюрократами” и чтобы поэтому никто не смог стать бюрократом»3.
Сказки про Фиту в 1917 году если и не были списаны с действительности, ко¬
торую опережали, то вполне могли быть списаны с революционной теории. Над¬
зирать теперь должны все, прекрасно. Вместо будочников в форме пусть повсюду
за порядком следят обыватели, кто в чем, а лучше всего в простонародной чуйке
(уличная длиннополая одежда из грубого сукна):
Жители вели себя отменно хорошо - и в пять часов пополудни Фита объя¬
вил волю, а будочников упразднил навсегда. С пяти часов пополудни у полицей¬
ского правления, и на всех перекрестках, и у будок - везде стояли вольные.
Жители осенили себя крестным знамением:
- Мать пресвятая, дожили-таки. Глянь-ка: в чуйке стоит! Заместо будоч¬
ника - в чуйке, а?
1 Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. Поли. соб. соч. 4 изд. Т. 38. М.:
Политиздат, 1967. С. 101.
2 Там же. С. 101.
3 Там же. С. 109.
Вечер четвертый. Против течения
289
И ведь главное что: вольные в чуйках свое дело знали - чисто будочниками
родились. В участок тащили, в участке - и в хрюкалку, и под микитки - ну все как
надобно. Жители от радости навзрыд плакали:
- Слава тебе, Господи! Довелось: не кто-нибудь, свои бьют - вольные.
Стой, братцы, армяк скину: вам этак по спине будет сподручней. Вали, братцы!
(«Третья сказка про Фиту»)
Если всеобщее равенство и было обещано, то по мере прояснения историче¬
ской ситуации становилось ясно, что всеобщность ее в одном - в непримиримости
противостояния. Замятинские сказки вполне узнаваемо напоминают, где прохо¬
дят линии раздела, и шаржируют принципы разделения: между большевиками и
меньшевиками, белыми и красными...
Вот, скажем, сказка «Четверг». Ошибся болыненький брат и решил в Чет¬
верг, что уже Светлое Воскресенье. Младшенький, книгочей, поправил. Осерчал
большенький и за топор... Дальше - хуже. Остается добавить, что место первой
публикации - однодневная «Газета - протест Союза русских писателей» (26 ноя¬
бря 1917), изданная в защиту свободы печати.
Или «Арапы» - также из цикла «Большим детям сказки»: «На острове на Бу¬
яне - речка. На этом берегу - наши, краснокожие, а на том - ихние живут, арапы».
Ихнего изловили («весь - филейный»), блюд наготовили из него - пальчи¬
ки оближешь. Это дело гастрономическое.
Но не успели после обеда отдохнуть - они нашего жарят. Это дело другое -
нравственное: «Да на вас что - креста, что ли, нету? Нашего краснокожего ло¬
паете. И не совестно?»
Это одна из двух сказок (вторая - «Церковь Божия»), увидевших свет тогда
в «Петербургском сборнике», на появление которого партийный критик П. Ле¬
бедев-Полянский незамедлительно откликнется идеологическим окриком: «Ев¬
гений Замятин издевается над пролетариатом...» («Московский понедельник»,
1922, 28 августа).
Таков был общий глас - здесь. В критике зарубежья писали иначе: «Сказки
Замятина - живые свидетели его писательской независимости, которую так труд¬
но сохранить в наше время»1.
Да, издевается, только причем здесь пролетариат? Сказка написана в 1920
году - во время военного коммунизма и Гражданской войны, когда показалось,
что есть идеологическое право - убивать. Замятин был одним из тех, кто не согла¬
сился, и не раз пытался высказать свои несвоевременные мысли. Тем более уместное
для них определение, что замятинские сказки не раз перекликаются с фельетонами
Горького, составившими в 1918 году книгу «Несвоевременные мысли».
1 Голенищев-Кутузов И. Евгений Замятин // Возрождение. 1932.18 февраля.
290
Как было и как вспомнилось
Действительность изменилась так мгновенно и решительно, что показалась
фантастичной - все чаще в те годы вспоминали о Гофмане и подражали ему. От¬
сюда и замятинские сказки. Отсюда и его сценки и рассказы, изображавшие совре¬
менный быт - в упор, с натуры.
Одна из ранних и самых известных сценок - «Дракон» (1918). Она была
опубликована, поэтому ее припоминали писателю особенно часто. Чуть больше
странички текста: зима, оледенение, площадка трамвая, на которой - в шинели до
полу, в картузе, сползающем на оттопыренные уши, - красноармеец. Фигура ко¬
мическая и жалкая, но вот он начинает говорить сквозь изрыгаемый пар:
... Веду его: морда интеллигентная - просто глядеть противно. И еще разго¬
варивает, стервь, а? Разговаривает!
- Ну и что же - довел?
- Довел: без пересадки - в царствие небесное. Штычком.
И почти без паузы и перехода - увидел замерзающего воробья. Лапы красные
выпростал, дует, отогревает, отогрел.
Дракон оскалил до ушей туманно-пыхающую пасть. Медленно картузом
захлопнулись щелочки в человечий мир. Картуз осел на оттопыренных ушах.
Проводник в царствие небесное поднял винтовку.
Скрежетал зубами и несся в неизвестное, вон из человеческого мира,
трамвай.
Летит трамвай, как будто уже вне времени и пространства, как будто - «За¬
блудившийся трамвай» Н. Гумилева, который вполне мог бы сорваться с орбиты
замятинского сюжета:
Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.
Куда там - кто остановит?
В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Г олову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком на самом дне...
Написано незадолго до гибели Н. Гумилева в 1921 году. Время подсказывало
одни и те же символы, как будто мир обеднел и из бесконечного множества пред-
Вечер четвертый. Против течения
291
метов оставил лишь те, что были безусловно значимы. Среди них, переходящих от
одного автора к другому, из прозы в поэзию, из поэзии снова возвращаясь в про¬
зу, символы безудержного и безумного движения, бесприютности: заблудившийся
трамвай, сумасшедший корабль... Так Ольга Форш назовет свой роман-воспомина¬
ние о жизни в Доме искусств, где жил и Замятин, где им написан рассказ, начина¬
ющийся такой фразой: «По вечерам и по ночам - домов в Петербурге больше нет:
есть шестиэтажные каменные корабли. Одиноким шестиэтажным миром несется
корабль по каменным волнам...»
Эта метафора сохраняется в рассказе «Мамай» (1920) на всем протяжении
сюжета. Плыть, но куда? Название подсказывает направление взятого курса -
вглубь истории. Рассказ об одичании обывателя. Сдвинулась громада и обнажила
глубину - пещерную глубину сознания и быта... «Пещера» (1920) - название
еще одного рассказа. Рухнувший быт благополучного, столичного дома. Прежние
соседи воруют друг у друга дрова, не в силах перенести холод. Несколько поле¬
ньев не возвращают тепла и не восстанавливают желания жить. Люди цепляются
за жизнь и, устав от своего цеплянья, добровольно с ней расстаются. Им вслед слы¬
шится «огромная, ровная поступь какого-то мамонтнейшего мамонта», - послед¬
няя фраза рассказа.
Об этом рассказе осталось удивительно много документальных отзывов - не
в критике, а в дневниках, мемуарах, спустя десятилетия о нем продолжали вспо¬
минать те, кто пережил сходное. Соглашались с тем, что жизнь была такой. Не со¬
глашались с тем, что быт мог довести до смертельного отчаяния. Вот дневниковая
запись К. Чуковского:
У Замятина есть рассказ «Пещера» - о страшной гибели интеллигентов
в Петербурге. Рассказ сгущенный, с фальшивым концом и, как всегда, подмиги¬
вающий - но все же хороший. Рассказ был напечатан в «Записках Мечтателей»
в январе сего года. Замятин выпускает теперь у Гржебина книжку своих расска¬
зов, включил туда и «Пещеру» - вдруг в типографию является «наряд» и рассы¬
пает набор. Рассказ запрещен цензурой... (18 марта 1922 года)1.
Далее следует история о том, как Замятину удалось восстановить рассказ, но
дело не в этом...
Любопытна раскачивающаяся, как на качелях, оценка Чуковского: рассказ
о страшной гибели - сгущенный - с фальшивым концом - подмигивающий - все
же хороший. Эта оценочная раскачка может иметь причиной и чисто вкусовое не¬
согласие с эмоциональным нагнетанием ситуации - в мелодраму. Однако нельзя
исключить и другого: были готовы признаться в тяжести новой жизни, но не в ее
невыносимости - мысль, которую, не пряча и не боясь впасть в мелодраму, нагне¬
тал Замятин.
1 Чуковский К. Дневник... С. 195.
292
Как выло и как вспомнилось
Эти рассказы с натуры были столь страшны, что хотелось сказать себе и дру¬
гим, будто Замятин преувеличил то, что В. Шкловский назвал надуманностью смер¬
тельного конфликта в «Пещере», хотя сам несколькими годами ранее - в «Сен¬
тиментальном путешествии» (1923) - свидетельствовалто же самое: «Вымерзали
квартирами».
И не он один подтверждает документальность замятинских «анекдотов» о
быте эпохи военного коммунизма. С ними перекликаются многие мемуары, напи¬
санные даже и теми, кто не хотел бы помнить. Так, М. Шагинян (всегда боровша¬
яся со своей ранней близорукостью с помощью розовых очков) пишет о крысах,
объевших руку литератору В. Чудовскому, лежавшему в тифозном беспамятстве,
и труп его матери. Иногда кажется, что мемуаристы восстанавливают события, не
будучи в силах отделаться от впечатлений, оставленных Замятиным, даже если пы¬
таются его опровергнуть: «Черным бесконечным пещерам подобен был город по
ночам <... > Но эта холодная ледяная крепость жила неумирающей верой в свое
фантастическое завтра», - писал К. Федин в книге «Горький среди нас».
Пещера - как будто цитата из замятинского рассказа; что касается светлого
будущего - эти слова в данном контексте выглядят попыткой опровергнуть того,
кто отказался поверить в возможность вырастить что-либо светлое из пещерного
мрака настоящего. Рассказы писались Замятиным одновременно с его романом
«Мы».
Сказка, ставшая былью, зазвучала скверным анекдотом. Быль, сконструиро¬
ванная по законам утопии, обернулась антиутопией.
1988-2004
Вечер четвертый. Против течения
293
Когда ломается течение
Исторические метафоры Бориса Пильняка
И разве я не мерюсь пятилеткой.
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?
Б. Пастернак. Другу
1
Можно было бы и не выносить в эпиграф эти важные, важные не только для
Пастернака, но уж слишком расцитированные строки, если бы не желание напом¬
нить о том, как первоначально должно было называться стихотворение - «Борису
Пильняку».
Среди писательских имен, на десятилетия преданных забвению, имя Пиль¬
няка оказалось забытым особенно прочно. Если после оттепели его и стало по¬
зволительно упоминать, то непременно с теми или почти теми самыми оценками,
которые и при жизни писателя должны были убедить, что существовал он в лите¬
ратуре исключительно с целью множить идеологические и художественные про¬
счеты.
В годы перестройки его имя оказалось в числе «возвращенных». А биогра¬
фию начали узнавать с конца, с даты смерти, выясняя, что, указанная в советских
справочниках, она неверна: ни 1937-й, ни 1941-й... Арестованный у себя на даче
в Переделкине 28 октября 1937 года, Борис Андреевич Вогау, литературный псев¬
доним - Борис Пильняк, был расстрелян 21 апреля 1938 года1.
В 1920-х годах Пильняк - громкое имя. О нем писали много, как ни о ком мно¬
го. Писали со все возрастающей резкостью и не оставляющим критиков чувством
обиды на писателя, чью репутацию они считают преувеличенной, кого еще недав¬
но было принято захваливать. Когда это могло быть?
Едва ли до революции: десяток рассказов в журналах и альманахах успел опу¬
бликовать Пильняк с 1915-го по 1917 год. Чуть больше их появилось в последу¬
ющие три года в газетах и малотиражных послереволюционных изданиях. Тогда
же он начинает объединять их в сборники. Первый, тоненький, - всего четыре
небольшие вещи - «С последним пароходом», выходит в 1918 году, а в начале
1920-го (хотя на обложке и значится 1919-й) - «Быльё».
И это еще не слава. Во всяком случае, один из рассказов публикуется в альма¬
нахе «Северное утро» (1922) с таким примечанием: «Рассказ этот, с согласия
1 Дата была опубликована в послесловии сына писателя Б. Андроникашвили-Пильняка
к публикации повести «Красное дерево» («Дружба народов», 1989, № 1).
294
Как было и как вспомнилось
автора^ перепечатывается из его книги "Быльё” <... > не получившей распростра¬
нения». Не замеченную прежде книгу вспомнили. Видимо, что-то изменилось и
теперь она принадлежит перу того, кто вызывает интерес.
Так и было. Да и сам перепечатываемый в альманахе рассказ «Колымен-го-
род» есть не только рассказ, но и начало романа «Голый год», который в том
же 1922 году выходит у Гржебина в Берлине, куда к этому времени - по причине
типографских трудностей - перемещается основная база издательства, сохраняю¬
щего, впрочем, свои филиалы в Петрограде и в Москве.
Роман заметили. На него сразу же откликнулись. В одной из первых рецен¬
зий его сравнили по значению с поэмой «Двенадцать» («исключительно ценный
памятник революционной эпохи») и поставили Пильняка в ряд с Чеховым и Бло¬
ком: «В дерзком, смелом замысле уже чувствуется гениальный писатель»1.
Не преждевременный ли вывод? Но если не равным в ряду классиков, то пер¬
вым среди новых писателей видит автора «Голого года» и нарком Луначарский:
«Если обратиться к беллетристам, выдвинутым самой революцией, то мы должны
будем остановиться прежде всего на Борисе Пильняке, у которого есть свое лицо
и который является, вероятно, самым одаренным из них»2. Эта статья предназна¬
чалась для журнала на немецком языке, но нарком не держал своего мнения в се¬
крете, неоднократно высказывал, и оно в 1922 году не расходилось с тем, как оце¬
нивали первый роман Пильняка рецензенты. И не только они, но и А. Воронский,
включивший Пильняка в обзор «Литературные силуэты» в «Красной нови»
(1922, №4).
Отклик был порожден романом, которого давно ждали; ожидание породи¬
ло молву. Ждать тогда приходилось долго, ибо, по словам самого Пильняка, в те
годы «в России вымерли книги, журналы и газеты...» («Иван-да-Марья»). Их,
во всяком случае, было мало, и публикация романа, пусть и небольшого по объему,
откладывалась.
Первые упоминания о работе над романом - в письмах Пильняка летом
1917 года. Под законченным текстом дата - «25 дек. ст. ст. 1920 года». В начале
следующего года, выполняя просьбу автора, Борис Пастернак передаст рукопись
Г орькому.
Участие в этом деле Пастернака подсказывает вот какую аналогию. «Сестра
моя жизнь» писалась летом 1917-го, а была опубликована лишь в 1922-м - у Грже¬
бина в Москве и год спустя - в Берлине. Та же судьба. И тот же путь славы - до
публикации: стихи Пастернака - тому много свидетельств - разошлись по всей
России, еще не будучи напечатанными. Слава, передающаяся изустно, - она долго
помнится.
1 Утренники. Кн. 2. Пб.: Изд. М. С. Кауфман, 1922. С. 143.
2 Луначарский А. В. Очерк литературы революционного времени // Литературное наслед¬
ство. Т. 82. М.: Наука, 1970. С. 226.
Венер четвертый. Против течения
295
Конечно, проза - к тому же роман! - не разбежится переписанными от руки
листочками. В литературных кругах читали рукопись, но роман знали и помимо
рукописи - в публикациях отдельных частей под видом рассказов, из которых он
как бы и складывался. Его сюжет держится не жесткой повествовательной связью,
а как-то более вольно...
И еще раз вспомним имя Пастернака. Оно дает верную поэтическую ассоциа¬
цию. И проза Пильняка, и он сам нередко оказывались близкими поэтам. Пастер¬
наку, дружившему с автором, писавшему о нем в 1929 году Николаю Тихонову:
«Знаешь, с кем еще мне так просто, радостно (и ясно), как с тобой? С Пильняком.
Это единственный, пожалуй, человек, с которым встречался эту зиму»1.
Но и помимо личных отношений поэты порой лучше собратьев по цеху, лучше
критиков чувствовали Пильняка и сочувствовали ему:
У нас очень много писалось о Пильняке. Одно время страшно хвалили, чуть
ли не до небес превозносили, но потом вдруг ни с того, ни с сего стало очень
модным ругать его. «Помилуйте, - слышится из уст доморощенных критиков, -
да какой же это писатель, если он в революции ничего не увидел, кроме половых
органов?»
Этот страшно глупый и безграмотный подход говорит только о невежестве
нашей критики или о том, что они Пильняка не читали. Пильняк изумительно та¬
лантливый писатель, быть может, немного лишенный дара фабульной фантазии,
но зато владеющий самым тонким мастерством слова и походкой настроений2.
Так думает о Пильняке Сергей Есенин, особенно отмечая «мастерство слова».
Достоинство тем более ценное, что признано придирчивым поэтом у прозаика.
Пильняк работал выделенным, акцентированным словом, привлекая внима¬
ние и к его звуковой стороне, и к его смыслу. Сразу после революции, разнообраз¬
но экспериментируя, Пильняк нередко подчеркивает эту словесную выделенность
внешним приемом: то графически - шрифтом, то доходящим до навязчивости
повтором. Критика пеняла ему за это, называла художником, «неумеренно за¬
тирающим один и тот же эпитет»3. Впрочем, «затирает» он не только эпитеты.
Он вообще склонен повторять и повторять слово, пока его вещественность не
отступает и мы не начинаем понимать: нас приглашают расширить значение. До
символа?
1 Литературное наследство. Т. 93.1983. С. 678.
2 Есенин С. О советских писателях // Есенин С. Собр. соч. в 5 тт. Т. 5. М.: Гослитиздат,
1962. С. 75.
3 Полонский В. П. Шахматы без короля (О Пильняке) // Полонский Б. П. О литературе.
М.: Советский писатель, 1988. С. 141.
296
Как было и как вспомнилось
Что касается повторов, то стилистический поиск Пильняка - независимо и
одновременно - совпадает с тем, что делают в эти годы разные писатели на многих
языках. Особенно памятно - Хемингуэй, не будучи, однако, ни первым, ни един¬
ственным. Магический повтор слова увлекает многих.
Свой мир, одновременно замкнутый и моделирующий историю, который
Пильняк расстраивает вокруг Коломны, вырастает в нечто подобное фолкнеров¬
ской Йокнапатофе. Пильняковские символы, сгущенные в притчу, уже сравнива¬
ют с Кафкой, а широкомасштабное использование документального монтажа не
может не навести на аналогию с романами Дос Пассоса.
Это последнее имя подсказывает вот какое замечание, сделанное современ¬
ником Пильняка по 1920-м годам - Н. Асеевым, обиженно откликающимся на по¬
спешное желание всюду видеть заимствование:
...хроникальные вставки в романы, хотя бы того же Дос Пассоса, были значи¬
тельно раньше применены в «Семене Проскакове» как подлинный дневник
шахтера-партизана. Я не хочу приписать себе приоритет такого использования
материала, но, видно, в воздухе была эта необходимость обновления средств ли¬
тературного воздействия...1
Пильняк по своей природе был переимчив: умел замечать и подхватывать но¬
вое. Но он умел и открывать. Рядом с теми, кто признан классиками литературы
XX века, ему не может быть отведена роль лишь способного ученика. Сравнивая
даты, мы видим: он работал одновременно с ними, а иногда и опережая. Отсюда
и интерес к его произведениям, переводившимся уже с середины 1920-х годов на
многие языки.
Мы слишком привычно соотносим все экспериментальное (или кажущееся
таким) с аналогичными явлениями мировой традиции, отказывая себе в праве от¬
крывать, оставаясь в традиции русской классики, не теряя связи с нею. Пильняк
был одним из тех, кто убеждает в такой возможности.
2
В 1935 году Борис Пильняк выпускает сборник «Избранные рассказы» - за
двадцать лет работы. Хотя точнее сказать, что он только лишь отметил двадцатиле¬
тие с начала серьезного писательства, оборвав состав сборника 1928 годом. Тому
были свои причины, о которых - позже.
Из ранних, дореволюционных, вещей Пильняк включил две, обе с характерной
для него скрупулезностью помеченные не только местом написания - деревня Кри-
вяхино, годом - 1915-й, но и месяцем: «Целая жизнь» - июль, «Смерти» - август.
1 Асеев Н. Н. Воспоминания о Маяковском// Асеев Н. Н. Собр. соч. в 5 тт. Т. 5. М.: Гослит-
издат, 1964. С. 675.
Вечер четвертый. Против течения
297
Жизнь и смерть - это не лучшие ключевые слова, чтобы судить об индивиду¬
альности. Но если они вынесены в заглавие? Если с них начинается творчество?
Впрочем, если оно с них начинается, то еще большой вопрос: принадлежат ли они
осознанно начинающему или подхвачены им, заимствованы из литературного сло¬
варя эпохи?
«Жизнь человека» - это название вполне в духе начала столетия, и Леонид
Андреев, нашедший его, отстаивал именно такое мистериально-обобщенное зву¬
чание:
Что было бы, например, если бы я вместо «Жизнь человека» брякнул: «Че¬
ловеческая жизнь» ?
Ерунда была бы. Пошлость. А я написал: «Жизнь человека»1.
Так вспоминал И. Бунин, который сам едва ли бы остановился на подобном
названии из-за его символической нарочитости, глубокомысленности, но, по сути,
Бунина тоже занимала не только человеческая жизнь, единичная и неповторимая,
но общий закон жизни человека, закон, назначенный ему от природы. И если закон
забыт, то остается тупая тяжесть повседневности, бремя жизни, а ее сладость про¬
падает. Та сладость, которая подсказала Бунину название, долго обдумываемое,
для его рассказа «Чаша жизни». Рассказ о провинциальной любви, пронесенной
через всю жизнь, но изъеденной ревностью, местью, не принесшей радости.
Бунин - имя важное для Пильняка, указывающее на то, какая литературная
линия восходит к нему. За Буниным его учитель - Толстой, чем далее, тем настой¬
чивее требовавший увидеть и в малом жизнь полно, от начала до конца, не под
знаком смерти, нет, но ввиду ее неизбежности и неотвратимости последнего во¬
проса: зачем жил? День смерти как генеральная репетиция Судного дня. Слово
«смерть» - неоднократно в названии толстовских произведений.
Рассказ Пильняка «Смерти» читается вариацией на тему «Трех смертей»:
умирает человек, умирает природа... Он навсегда, она - для новой жизни. Мысль
проходит - даже образно - так близко к толстовской, что обращают на себя внима¬
ние и незначительные отклонения. У Пильняка умирает без году столетний старик
Ипполит Ипполитович, некогда соученик Лермонтова по университету, потом
шестидесятник, зачитывавшийся Писаревым, а теперь - живой труп, без памяти,
без желаний ждущий конца. На приезд в усадьбу сына он откликается вопросом:
«Это ты приехал меня посмотреть? - Умру скоро!..»
Он не страшится неизбежного, потому что - неизбежное и потому что он
устал, изжил свое. Прошло его время. Кончилась его эпоха. Исторические штри¬
хи не случайно добавлены Пильняком к биографии: если у Толстого природному
1 Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. 1870-1906. Париж, 1958. С. 139.
298
Как было и как вспомнилось
противостоит нравственное в человеке, у Пильняка - историческое. Его вопросы
к человеку: какой он по своей природе? каков он по своему времени? Природа и
История сходятся для спора, вечное с быстротечным, но ищущим для себя воз¬
можности - остаться, продолжиться.
О природном в этом рассказе говорится кратко, в том числе и последней фра¬
зой: «"Бабье лето" умерло, но народилась другая земная радость - первая, белая
пороша, когда так весело бродить с ружьем по свежим звериным следам».
Краткость не оттого, что природа Пильняку неинтересна. Просто звери¬
ные следы уводят к другим рассказам, в которых она торжествует, где - ее закон.
«Пильняк - писатель физиологический» - будет сказано о нем в 1920-х годах
А. Воронским. «Это метко, - согласится с ним Вяч. Полонский. - Но все же
в Пильняке больше зоологии, чем физиологии... »1. Оба Пильняка ценили, но обо¬
их, как и многих, смущала трактовка им природного, выпячивание биологии.
Пильняк природу чувствовал. Внутреннее в ней интересовало его больше,
чем то, что можно увидеть, назвать пейзажем и от чего прийти в восторг. Хотя и
восхититься он умел, и сохранить в слове то, что восхитило, - увиденное. Именно
в такие моменты острее всего проступает бунинское: его умение придать карти¬
нам среднерусской полосы вид античной, строгой законченности. Его, бунинские,
«тонко и ярко» светящиеся краски сохранились у Пильняка и после того, как он
прошел искус разнообразнейшим экспериментом. И уж конечно, Бунин впрямую
вспомнился Пильняку, когда в конце 1927 года, путешествуя по Малой Азии, ни¬
щей, забывшей свое античное прошлое, он вдруг через века лицом к лицу «видел
подлинную Элладу», которая отозвалась еще более неожиданным напоминани¬
ем: «Солнце и ветер. Ноябрь, и потому прохладно, как в России около второго,
Яблочного Спаса, - и солнце и ветер тогда крепки и благоуханны, как антоновское
русское яблоко» («Мальчик из Тралл»).
Созвучная нам природа, готовящая дары к нашим праздникам, а мы в ответ
признаем за ней справедливость, красоту и многое другое, что в ней есть, однако
лишь в нашем присутствии, под нашим присмотром. А какова она без нас? Это
трудный вопрос, поскольку обычно, когда мы думаем, что рассматриваем приро¬
ду, мы лишь смотримся в нее.
Пильнякхочет не собственное изображение ловить, а ее, саму Природу, почув¬
ствовать изнутри, понять ее в жизни. Он ценил тех, кто умел это делать, в особен¬
ности Льва Толстого: «...хорошо писал старик, - бытие чувствовал, кровь...» -
фраза, лейтмотивом проходящая через «Повесть непогашенной луны».
Природа, не обремененная нашим опытом, не названная нами данными име¬
нами, способна предложить нам, считает Пильняк, единственный урок - жизни.
«Целая жизнь» - рассказ о птицах. О двух больших птицах, живущих над ов¬
рагом. Какие птицы? Неизвестно и неважно. У них нет названия, ибо в рассказе
1 Полонский Б. П. Указ соч. С. 129.
Вечер четвертый. Против течения
299
нет человека. В его завязке - рождение, в развязке - смерть. Такова событийность
природной жизни, ничего другого не ведающей.
У раннего Пильняка есть несколько рассказов: «Снега», «Смертельное ма¬
нит» и «Лесная дача», где герой-интеллигент ищет путь к природе, на круги своя.
Именно так - на круги, в круговорот природного цикла. И ведом герой природ¬
ным влечением - любовью.
Очередной виток руссоизма? По видимости как будто бы да, но по сути далеко
от руссоизма и множества других вариантов возвращения к природе, ибо она сама
мыслится не отражением наших идеалов, утраченных и вновь искомых, но берет¬
ся в собственной, от нас независимой сущности, со своим внутренним законом.
Принять его можно, но не рассуждая, не теоретизируя, ибо он не писан и не фор¬
мулирован. Он задан как программа. «Природа как код» - дословное название
монографии о раннем творчестве Пильняка (до 1924 года), написанной датским
исследователем П. Йенсеном. Природу для Пильняка он определяет слишком
привычным и потому требующим пояснения словом - миф: «Под мифом здесь я
понимаю то содержание, которое должно было быть содержанием первоначаль¬
ных мифов... »*. То есть родство не по ассоциации с существующими мифами, не
по линии мифотворчества, а через сходство самой мысли о природе.
К ней-то и возвращает Пильняк человека в ранних рассказах, выводя за пре¬
делы исторического бытия, которое лишь по видимости обладает способностью к
движению: это мы в своем сознании конструируем вектор, касательный к поверх¬
ности природного круга. Это нам кажется, что мы свободно и разумно направляем
свою деятельность, а она - лишь вспышка сознания, ограниченная мгновенностью
нашего бытия, действительно - мгновенного, даже если почти небывало длящего¬
ся целое столетие. Итог один: старение тела, затухание разума - смерть. Послед¬
нее, что умирает, - инстинкты, природное, какое-то время ими человек цепляется
за жизнь, пока не побеждает последний - к природе. «Смертельное манит», как
назван один из рассказов.
И если так, то стоит ли ждать, пока неизбежный природный закон будет нам
навязан в опровержение тщетных усилий, не принять ли его как закон своей жиз¬
ни? В рассказах накануне революции Пильняк склоняет своего героя к положи¬
тельному ответу. Революция изменяет для него соотношение природы и истории,
которые покажутся теперь более родственными, чем он полагал прежде.
3
В начале 1920-х годов у прозаиков шел спор между «сюжетниками» и «ор-
наменталистами». Первые настаивали на жесткой событийной организованности
1 Jensen Р. A. Nature as Code. The Achievement of Boris Pilnjak 1915-1924. Copenhagen:
Rosenkilde & Bagger, 1979. P. 340.
300
Как было и как вспомнилось
материала: строгость, не отменяющая неожиданных ходов, узнаваний, резких по¬
воротов интриги. Зато вторые к увлекательности интриги выказывали полное рав¬
нодушие. В их произведениях, как будто воплотивших принцип - «чем случайней,
тем вернее», главным действующим лицом становился стиль, слово.
Пильняка числили среди вторых. И не просто числили, а признавали тем,
кто - как всегда у него - дошел до крайности, до непозволительного предела...
Только оставалось не очень понятным - что за пределом, ибо одни критики нахо¬
дили сюжет у Пильняка хаотичным, на грани распада, другие - корили за чрезмер¬
ную жесткость, за организованность, обилие скреп-приемов.
В «Голом годе» сюжет не дан в свободном и естественном развитии собы¬
тий, а расчленен и своевольно сверстан заново, по авторской воле. И озвучен он
также разноголосо, словом, доносящимся из живой речи. Именно озвучен, ибо у
Пильняка в звуке все начинается - и мысль, и концепция. Если он полагает, что
революция взвихрила старую Русь, сметя наносное, европейски поверхностное, и
обнажила допетровские глубины народного бытия, если он так считает, то мы не
должны удивляться, в голошении метели различая то ли крик лешего, то ли наино¬
вейшие словечки, рожденные новой действительностью: «- Гвииуу, гаауу, гвии-
иууу, гвииииуууу, гааауу». И:
- Гла-вбумм!
Гла-вбумм!
Гу-вуз! Гуу-вууз!
Шоооя, гвииуу, гаааууу...
Гла-вбумм!!
Метельная заумь у Пильняка требует исторического комментария. Вот хотя
бы Главбум, напоминающий о том, что постановлением Совнаркома от 27 мая
1919 года была введена издательская монополия и ввиду недостатка бумаги все ее
запасы сосредоточены в руках главного управления - Главбума. Тот самый 1919-й,
голодный год, о нем пишется роман, который из-за издательских трудностей, из-за
Главбума, не сразу увидит свет.
Новый язык - из метели. Метель - символ революции, не Пильняком найден¬
ный. Непосредственная поэтическая родословная образа: от «Кубка метелей»
Андрея Белого до - уже впрямую, своим историческим смыслом совпадающего, -
в блоковских «Двенадцати». Потом образ становится расхожим.
Пильняка здесь, и почти всегда, легко уличить в «заимствованиях», но все им
взятое, как раз в силу способности брать у многих, попадает в новый ряд. Само
слово «символ» заставляет усомниться - уместно ли? Пусть в метельном вое до
нас долетают словечки новой действительности, но метель у Пильняка - природ¬
ное, стихийное, в красках, в звуках, чувственно данное. Одновременно с первым
Вечер четвертый. Против течения
301
романом он пишет повесть «Метель»: время действия то же, тема та же, образ
тот же, но предметное, живописное - отчетливее. Он должен написать метель как
метель, чтобы признать за собой право переносить значение, его метафорически
развертывать.
Так что само слово «символ» (хотя пильняковские метели и закружились
впервые на страницах тех, кто тогда были символистами) настраивает на неточ¬
ное, образное впечатление.
Для символистов метель есть знак того, что почти неуловимо, невоплотимо,
что можно предугадывать и прозревать и ради чего предметность остается лишь
самым общим ощущением, направляющим мысль. Для Пильняка природное и
историческое - две родственные стихии, равно реальные (теперь уже так!), но
одна - история - воплощает изменчивость, другая - природа - неизменную по¬
вторяемость. Величина переменная устанавливается в отношении к постоянной:
историческое через природное.
Идея внутреннего родства, подобия подтверждена в метафорическом равно¬
правии, равновесии. Почти стерта грань между обозначающим и обозначаемым,
всегда ощутимая в символе, почему это слово по отношению к Пильняку и кажет¬
ся неточным. Как едва ли применимо и другое - бунинское, некогда найденное как
характеристика обобщающего смысла в знаменитом «Сапсане»:
Он умерщвлен. Но он - эмблема
Той дикой жизни, тех степей...
Эмблема - отчетливее, графичнее, объективнее, чем символ, без многозначи¬
тельно мистического подразумевания, но и такое обозначение своего образа Бу¬
нина не устроило: он снял эту последнюю строфу, ее нет в окончательном тексте.
Перста указующего по отношению к читателю он не допускает. Его дело - изобра¬
зить, дело читателя - соотнести изображенное с той или иной реальностью.
Эту школу объективной изобразительности прошел и Пильняк. Но скоро от
учителя он отдаляется в главном, поскольку для Бунина неприемлемым делается
не только символический способ выражения мысли, но сама мысль, символически
выраженная, - мысль об истории.
Именно в послереволюционные месяцы 1917-1918 годов Пильняк непосред¬
ственно соприкоснулся с бунинским литературным кругом: он бывает на «сре¬
дах», где председательствует Юлий Бунин, читает там. Однако он соприкоснулся,
чтобы разойтись, отдавшись воспеванию вьюг и метелей. Для И. Бунина же это
дни, отнюдь не побуждающие к гимнам, - «окаянные дни», в которые, помимо
всего прочего, окончательно обнаружилась разрушительность тех идей и симво¬
лов, коими кружила себе голову русская интеллигенция. Они просили бури, вьюги,
метели... В более поздних воспоминаниях «Гегель, фрак, метель» Бунин выска-
302
Как было и как вспомнилось
жется о метельных предчувствованиях, сопоставив их с реальностью, с судьбой
своих оставшихся в России братьев - Евгения и Юлия:
Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себе эту сгнившую,
с провалившейся крышей избу, в которой жил Евгений Алексеевич, в щели кото¬
рой несло в метель снегом, вспомнил я и перламутр и аметист столь великолеп¬
ной в своей поэтичности блоковской «метели». За гораздо более простую ефре¬
мовскую метель <... > Евгений Алексеевич поплатился жизнью: пошел однажды
за чем-то <... > в город, в Ефремов, упал по дороге и отдал душу Богу. А другой
мой старший брат, Юлий Алексеевич, умер в Москве: нищий, изголодавшийся,
едва живой телесно и душевно от «цвета и запаха нового шквала» (блоковская
цитата. - И. Ш.)1.
Для Бунина этот цвет и запах - цвет и запах крови, льющейся с бессмысленной
жестокостью. Пильняк не считает, что с бессмысленной, хотя знает жестокость
и не отвергает ее. Приняв метельную метафору как объяснение происходящего,
он тогда принял и само происходящее, с его запахом и цветом, которые передает
как никто, подробно, физиологично, так что всеобщее впечатление от его манеры
Троцкий суммирует таким каламбуром: пишет «черным по... Белому».
Здесь указание и на колорит творчества Пильняка, и на его литературный
источник.
Андрей Белый выступил преобразователем русской прозы как раз в те годы,
когда Пильняк проходил свою первую, «бунинскую», школу. Для Пильняка, как и
для многих, более старших, как, например, для Е. Замятина, значение эксперимен¬
тального, ломающего повествовательную логику стиля Андрея Белого откроется в
ходе исторических потрясений. «Революцию взять сюжетом почти невозможно в
эпоху течения ее...» - декларирует Белый в 1917 году. И там же:
Революция - проявление творческих сил; в оформлениях жизни тем силам
нет места, содержание жизни текуче; оно утекло из-под форм, формы ссохлись
давно; в них бесформенность бьет из подполья2.
Это первая реакция на происходящее - по метельному сценарию. Не столько
осмысление, сколько переживание. Его начерно, конспективно фиксирует Андрей
Белый. Из него вырастает «Голый год» Пильняка. Первый роман о революции.
Историческая правота аргументируется у Пильняка природной силой. Для
него это означало - не отказаться от своей первоначальной веры, но распростра¬
нить ее на область истории. Такая логика, однако, смутила многих, ибо получалось,
что природное в конце концов важнее всего, что природа ищет и находит для себя
1 Литературное обозрение. 1989. № 7. С. 111.
2 Белый А. Революция и культура. М.: Изд. Г. А Лемана и С. И. Сахарова, 1917. С. 9,11.
Вечер четвертый. Против течения
303
наилучшую форму воплощения. Наилучшую, то есть позволяющую ей продолжать
себя. От ее имени действуют новые люди.
Уже названный выше датский исследователь П. Йенсен проделал важную ра¬
боту по сопоставлению текста первых двух романов Пильняка с сюжетно предва¬
ряющими их рассказами. Результат в некоторых моментах оказался неожиданным,
особенно в отношении Архипа Архипова из «Голого года» - большевика, при¬
званного в романе революционно действовать, или, как он сам говорит, «энегрич-
но фукцироватъ». Фраза, ставшая знаменитой.
«К счастью для Пильняка, кажется, никто не знал о существовании шестого
номера журнала "Путь” за 1918 год с текстом рассказа "Смерть старика Архипова"
<... > В семь проснулся сын, Архип Иванович. В черном смокинге и в крахмальном
белье, тщательно выбритый, вышел он к отцу... »*.
Трудно поверить, но именно этого джентльмена, переодев его предваритель¬
но в кожаную куртку, Пильняк усадит в романе за изучение словаря иностранных
слов, составленного Гавкиным. Он-то и будет «энегрично фукцировать». А пер¬
воначально он в совсем ином социальном образе - экономиста, земского деятеля,
разумного преобразователя жизни, каким он еще в духе Февраля, а не Октября ри¬
совался писателю. Пугачевская борода и революционный наряд появляются поз¬
же: «В рассвет же проснулся на чистой своей половине и сын Архип, в кожаной
куртке пришел он бодро на кухню...» Так в романе.
Знали или нет о существовании рассказа в журнале «Путь», но «особого дове¬
рия» эти «кожаные люди» в изображении Пильняка, например, у Вяч. Полонско¬
го не вызывали, а тем более «просто ряженые, подставные лица, вроде Архипова»2.
Подобного рода маскарад мог быть сочтен - в духе времени - за политиче¬
скую неискренность, хотя ее-то не было. Пильняк искренне отдает революции то,
что считает лучшим человеческим материалом. Если возникает оправданное недо¬
умение, то другого рода: старший современник и друг Пильняка Евгений Замятин
говорил, что даже имени персонажа, раз найденного, изменить не в силах, настоль¬
ко оно срастается с человеческой сущностью. У Пильняка же имена, бывает, не раз
поменяются, пока герой дойдет от рассказа к роману. Бывает и иначе - под тем
же именем другое лицо. Иногда одно имя вызывающе дается нескольким персо¬
нажам, так что они почти путаются: когда среди погибших в ночной перестрелке
мелькает имя Натальи, анархистки, мы вздрагиваем - Ордынина? Нет, другая, хотя
могла бы быть и она (в следующем романе чередой пройдут персонажи с именем
Андрей).
Очень мало ценит Пильняк индивидуальное в человеке, так получается. И все
же не совсем так. Индивидуальное для него не в нюансах психологии: оно мыс-
1 Jensen Р.А. Op. cit. Р. 171-172.
2 Полонский В. П. Указ. соч. С. 136.
304
Как было и как вспомнилось
лится как исторический вариант судьбы одного типа, как вариация природного
начала.
«Фукцирует» Архипов, потому что за ним - не мудрость словаря иностран¬
ных слов, а спокойное понимание жизни, ее целого, ее течения - от рождения до
смерти. Он - сын своего отца, который, узнав, что смертельно болен, приходит
к сыну с трудным вопросом:
- То есть, что лучше умереть - самому позаботиться?
- Да, - сказал глухо.
-Ия тоже думаю так. Ведь умрешь - и ничего не будет, все кончится. Ничто
будет!
- Только, отец, - слово «отец» дрогнуло больно. - Ты ведь отец мне, - всю
жизнь с тобой прожил, от тебя прожил, - понимаешь, тошно!
Со смертью, но без боязни смерти входит он в роман. С обещанием новой
жизни завершает его: новая жизнь - это не только в смысле светлого будущего, но
и в смысле реального продолжения рода. К Архипову приходит Наталья, послед¬
ний физически и нравственно не выродившийся потомок князей Ордыниных.
Природное - стержень личности; к нему добавляется биография, которая с
ним срастается или иногда остается скорее внешним атрибутом. В том, как изо¬
бражен Архипов, неискренности нет. Но нет и достаточного понимания «кожа¬
ных курток». Пильняк фантазирует на тему революционной героики, ибо то, что
он подлинно знает в революции, - ее быт.
Он не скрывал в автобиографиях, что в революции не участвовал: жил в Ко¬
ломне, занимался писательством и вынужденно мешочничал, то есть несколько
раз ездил на юг за хлебом. Скажут, что он увидел революцию из окна теплушки,
пропитанную смрадом, грязью и мелочностью. В общем, то, что он рассказал о
разъезде Мар и о поезде номер 57. Это он знал.
Он знал и многое другое, что может быть документировано в «Голом годе»
личным опытом. Давно установлено, что семейство Ордыниных-Попковых списа¬
но - вплоть до портретного сходства - с саратовского семейства купцов Савино¬
вых, родственного по материнской линии. И даже коммуна анархистов не приду¬
мана: Пильняк состоял в подобной коммуне летом 1918 года, «пока анархисты не
перестрелялись».
Опыт жизни подобен самой жизни, на небывалую глубину обнажившейся,
прорезанной пластами. И где же она теперь, подлинная, ищущая себя Россия?
Была ли она собой торгующая, деловая, европейская? Или это только дневное,
внешнее, а суть проглядывает ночью, от стен Китай-города пялится оловянными
пуговицами азиатских глаз? Это один из повторяющихся в романе образов-лейт¬
мотивов. И все же не в нем суть, не в городе Русь - она ушла от татарской орды
(город не случайно - Ордынин), от петровской государственности и залегла,
Вечер четвертый. Против течения
305
скрылась в скитах старообрядческих, в росных полях, живет природой, ее помнит,
из нее черпает силу.
А называется роман «Голый год». Он мог бы называться - «Голодный год»,
тогда в лоб выдавая смертельную правду о 1919-м. Она и теперь звучит, но кроме
нее, дополняя ее, - ощущение бедности, разора и воли, пространства, в котором -
метель.
Все дается в метафоре. Метафора - ощущение, метафора - мысль, метафора -
прием композиционного единства, сшивающий разрозненные фрагменты.
Романами, особенно вначале, Пильняк неохотно именовал свои большие про¬
изведения. В чем в чем, а в этом критика была с ним согласна: конечно, не роман,
а картины провинциальной жизни, художественный дневник автора или даже не
художественный - публицистический материал... Пильняк же говорил: сборник
рассказов, уравнивая окончательный результат с тем, что ему предшествовало.
Все разъято: нет общей связи событий, единства действия. Нет и единства по¬
вествования - единого рассказчика. Пильняк это и композиционно подчеркива¬
ет, вынося в названия разделов уточняющее: «Глазами Андрея», «Глазами Ири¬
ны» ... А его авторский голос, его точка зрения? Мы то вовсе теряем чувство связи
с автором, то вдруг он предстает с обескураживающей прямотой, как бы выходя из
текста, о чем Ю. Тынянов остроумно заметил: «Пильняк вынужден иногда гово¬
рить по телефону читателю: “Говорю я, Пильняк”»1.
И все-таки целого он из виду не теряет: «Принцип “единства места действия”
и ассоциации параллелей и антитез неминуемо будут играть роль хорошего режис¬
сера», - сказано во втором романе - «Машины и волки».
Вышедший отдельным изданием в 1925 году, он начинает складываться - эпи¬
зодами, рассказами - одновременно с «Голым годом», связанный с ним един¬
ством места и продолжающий его хронологически - в 1920-й, в 1921-й, в 1922-й...
Другое время и другая для него метафора.
4
Место действия в «Голом годе» - небольшой волжский городок Ордынин.
В романе «Машины и волки» - также волжский Ростиславль. Как уже было сказа¬
но, один из рассказов, предварявших «Голый год», назывался «Колымен-город».
Один из вариантов названия второго романа - «На Коломенских землях». Под
обоими значится место, где они написаны, - Коломна, Никола-на-Посадьях.
Как бы ни назывались города в ранних романах Пильняка, за ними - Коломна.
Но назвать каждый по-своему - важно. Свое название дает право на материал, на
его связанность с происходящим, с героями.
1 Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы.
Кино. М.: Наука, 1977. С. 163.
306
Как было и как вспомнилось
В первом романе - история семьи Ордыниных: «И неизвестно; кто по кому:
князья ли Ордынины прозвались по городу; или город Ордынин прозвался по кня¬
зьям?..»
Во втором романе - князья Росчиславские. За год до отдельной публикации
Пильняк дал в журнале «Красная новь» «Материалы к роману». Сюжет тот же,
но князей Росчиславских еще не было. Вместо них - семейство Ерликсовых, и
только к концу второго выпуска «Материалов» (1924, № 2) одна из них - Еле¬
на - неожиданно именуется Ерликсовой-Росчиславской. Публикация материалов
на этом обрывается, хотя продолжение обещано: надо произвести переименова¬
ния, замкнуть связи. Так Пильняком пишется роман. Точнее - так строится, мон¬
тируется.
«Машины и волки» - самый сложный по построению роман, поэтому его
легче всего анализировать. Сюжетные ходы многочисленны, но выведены наружу.
Смысловые линии прочерчены резко - следи и замечай. Впрочем, с метафорой все
не так просто: она ведет из глубины, ее второй, символический, смысл рождается
наблюдением и знанием первого, предметного, значения.
Волк - символ, вынесенный в заглавие. Но это не только символ - страш¬
ного и таинственно-родственного человеку в природе. Волк - это волк, за годы
революции вновь расплодившийся в лесах и вышедший из лесов, вызывая ужас и
ненависть. Описание охоты на волков превосходно. Это самостоятельная сцена,
а потом уже - источник второго смысла, когда в отношении к волку виден человек:
Теперь же каждая деревня всей своей нищетой, всем своим людом от мала до
стара сбегалась посмотреть на волков и послать волкам - кто как может - свое
проклятье - мертвым, бессильным, бесстрашным волкам. Здесь была вся русская
деревенская злоба, нищета и тупость, - и надо было защищать волков - мерт¬
вых волков - от пинков, от плевков, от дрекольев, от оскаленных зубов, от нена¬
видящих глаз, - ненавидящих уже не человеческой, а звериной, страшной нена¬
вистью.
Кончилась охота. Начинается метафора. У Пильняка текст - со значением -
пущен разрядкой (здесь - курсивом). И значение это сложно, ибо те, кто неделями
преследовали волков, убивали их, охотники, они перед лицом этой звериной нена¬
висти вдруг почувствовали себя вместе с волками. Человеку в романе не раз дано
ощутить себя волком.
Бесстрашным волком - тогда это воля, природная воля, пробужденная рево¬
люцией: «Вся наша революция стихийна, как волк». Над Пильняком посмеива¬
лись (или корили его): герой Октября - волк!
Волк и воля родственны по звуку, а значит, по смыслу. Но бесстрашный волк -
страшен. Это дикая воля. Губительным зверем способная очнуться в человеке: так
Вечер четвертый. Против течения
307
погибает - в сумасшедшем доме - Юрий Росчиславский, приехавший в Москву
понять новую жизнь. Он страшен и жалок, но и беззащитно человечен.
Беззащитна природа. Страшна вырвавшаяся стихия. Жалка природа, усмирен¬
ная клеткой; жалка, как волк в зоопарке Васильямса: «... он кружился в ней, след
в след, шаг в шаг, движение в движение, не как живое существо, но как машина».
Так продолжается встреча смыслов, заявленных в названии. Встреча и столк¬
новение. Которому отдать предпочтение, за которым признать победу?
... За волком в клетке наблюдает еще один из братьев Росчиславских - Андрей.
Он инженер, но завод для него та же клетка, где то же мерное гипнотическое дви¬
жение - ход маховика. Спасение он ищет в ночных полях, с Марьей-табунщицей
(она кажется ему ожившей каменной бабой из скифского кургана), у ведуна Еле-
пеня. Однако спасения ему нет, ибо так же, как дикая природа завладела сознани¬
ем его брата, его сознание заворожила машина: смертельное манит (по названию
раннего рассказа), и он гибнет под маховиком.
Что же тогда спасительно? Где разрешение метафорического силлогизма, все
более усложняющегося и уже, кажется, без надежды на разрешение? Машины или
волки?
Машина убивает, если ей не подчиниться. Но если ей подчиниться, убивает
и природа. Побежденная природа-волк в клетке, бездушный, как машина. Полу¬
чается замкнутый круг. Его не разомкнуть без Кузьмы Козаурова, который «знал
тайну рождения машины».
Таких, как он, на заводе называли кукушками. Заупрямится машина - и ни ма¬
стер, ни инженер над нею не вольны. Остается звать кукушку, заводского ведуна;
он на заводе, что Елепень в полях. Он слышит машину. «Конечно, машина - мета¬
физика, и, конечно, машина больше бога строит мир».
Новая вера. Вынужденная вера, которой - всей своей разрухой - потребовал
мир, ожидающий строителя. Иначе - назад: в голый год, в тот год, в который гибли
и люди, и машины. С тех пор стоят заводы, обращенные к разворовывающим желе¬
зо крестьянам жалким и беспомощным лозунгом: «Строго воспрещается запекать
картошку в горновых печах».
Мертвая машина не накормит, не поддержит жизнь. Ее саму нужно оживить,
понять ее жизнь. Это дело многих усилий. В нем должен быть и Кузьма Козауров;
и его сын Андрей, по партийной кличке Лебедуха, пробившийся в инженеры, «ко¬
жаная куртка»; и Форет, инженер в высшем смысле, деловой ум, неожиданно -
волей обстоятельств - выброшенный на трибуну (впервые в жизни) и произнося¬
щий речь в защиту нэпа.
Роман держится на повторах, лейтмотивах. Для темы завода - Коломзавода -
такой: «Эти места имели все, чтобы не быть поэзией...» И добавление: «... какую
считали подлинной столетьями». Возможна ли другая? И останется ли та, кото¬
рую считали подлинной?
308
Как было и как вспомнилось
«Но тогда будут васильки?» - так этот вопрос звучит в тексте романа, мно¬
гократно повторенный или даже неповторенный отзывается в спорах, поскольку
через весь роман накапливаются полемические реплики. Неважно, встречаются ли
на его страницах те, кому эти реплики принадлежат. Люди могут не встречаться, но
они и не слыша друг друга ведут общий разговор. Он длится во весь роман, кото¬
рый самой своей формой - ее фрагментарностью, раздробленностью - вырастает
в целое, связанное единством участия всех персонажей этого романа-дискуссии.
Люди могут не встречаться, поскольку встречаются идеи, рожденные стол¬
кновением двух стихий: природа и цивилизация, машины и волки...
Как всегда у Пильняка, чтобы угадать будущее, надо знать направление дви¬
жения, из прошлого - на достаточную глубину, хотя бы в XVII век. Опять в допет¬
ровскую Русь? На сей раз другая ассоциация: «И вот - помнишь, в XVII веке, в Ев¬
ропе, в Англии и Франции, были изобретены - ткацкий станок и паровая машина,
и они перестроили мир, они сделали Европу гегемоном мира...»
Роман пишется Пильняком под впечатлением поездки в Англию в 1923 году.
Об этом - краткое предисловие, по сути - страничка из дневника. И новые свои
мысли он передает старым персонажам, от лица которых они звучат особенно не¬
ожиданно. Андрей Волкович - это персонаж из «Голого года»; это он ускольза¬
ет от чекиста Лайтиса, потом оказывается в коммуне анархистов, женится там на
Анне... На Анне, которая уводит нас еще далее - к одному из ранних рассказов
«Ветер перед мартом», где она оставляет мужа-инженера... Обычный для Пиль¬
няка прием установления связей. И особенно важный для него прием - здесь,
в финале романа «Машины и волки», где он бросает в спор и собственные преж¬
ние идеи, и свою новую веру.
«Так будут ли васильки в грядущем машинном царстве?» - спрашивает Ан¬
дрея Анна. Он думает, что будут. С ним согласны и все собравшиеся у Ивана Алек¬
сандровича Непомнящего для решительного разговора. Все, кроме хозяина, с ко¬
торым споря ждут ответа: «Но Иван Александрович не ответил, - увидели: там
у книг вдруг задергался рот Ивана Александровича, оскалились зубы, исчезли над
поднятой губою усики, - от книг смотрел волк...»
Казалось бы, все: разрешилось противостояние метафор, доказана победа
или, во всяком случае, необходимость машины. Но Пильняк не торопится победу
провозгласить. Еще немало всего произойдет в калейдоскопе последующих собы¬
тий. По пути домой Форет и Лебедуха продолжают прерванный разговор, дого¬
варивая недосказанное: «Есть только реальный учет, есть то, когда государство
поняло, что ноги не могут расти из-под мышек, как говорит Росчиславский».
Как говорил, ибо в этот самый момент Дмитрий, только что расставшийся
с ними, гибнет - жестоко, нелепо, случайно. И фоном к этому разговору проходит
немало случайного, ибо - такова жизнь, раскрутившаяся метелью, которую уже
пора прибрать к рукам.
Вечер четвертый. Против течения
309
И наконец - «Часть книги последняя, без названия». Вспышками вспоми¬
нается многое - от осени 1917-го... Искусство мгновенных воспоминаний, как
будто бы случайных, как будто бы беглых, но которые при всем своем импресси¬
онизме оказываются воспоминаниями историческими - о времени. На этот раз
они должны охватить все пространство от начала революции до того момента, ко¬
торый, по сути, уже оказывается за пределами сюжета, - январь 1924-го, смерть
Ленина, народное голошение: кому теперь владимирствовать - владеть миром.
О власти - из предшествующего разговора Форета и Лебедухи: «История -
с нами, и власть у нас не цель, а средство. Власть - страшная сила». Ее-то они и
хотят направить на то, чтобы был учет, порядок, чтобы провозглашенное стало
реальностью: «Человеческие революции машин и мира - идут!..»
Это финал. С ним падает занавес на прежней России и - «на Советской
площади в Коломне упал в эти минуты четырех часов, упал в падучей Иван Алек¬
сандрович Непомнящий, статистик, и бросились к нему - Марья Ивановна и
Марья-табунщица...»
Пильняк любит эффектный (не слишком ли?) метафорический жест. Про¬
тивник пал - и метафора реализуется припадком падучей. Он не понял опасности
остаться в прошлом, и оно волком, темным, звериным, проглянуло в его переко¬
шенном судорогой лице. И все же... И все же в момент окончательного решения
проблемы Пильняк не допустит однозначности: волк - не только жестокость и
страх, он - природа, воля, а потому около тела Ивана Александровича в последний
момент окажется совсем здесь неожиданная Марья-табунщица.
Новые мысли у Пильняка, но сам он все тот же, не желающий сделать оконча¬
тельно-однозначного выбора: или - или, облекающий свои исторические сужде¬
ния в метафоры. Впрочем, в России это никогда не было редкостью: то ли оттого,
что все русские идеи так или иначе оказываются пропущенными через литерату¬
ру, то ли оттого, что русская история легко мистифицируется - мифом, легендой,
лозунгом... Наша историческая память склонна к метафорам: дубина народной
войны, революционная вьюга... Говорим себе: революция - это метель, - и все
как будто объяснилось: «Ветер, ветер на всем белом свете...» - слушаем музыку
революции.
Ведь все равно «умом Россию не понять», так поймем хоть так - метафорой.
Метафора подает предмет в приемлемой для сознания форме, но она же и
скрывает предмет, облекая его дымкой образности, отвлекающей от сути явления.
Мы подчас именно так примиряемся эмоционально с тем, во что не имеем сил вду¬
маться. Или о чем не решаемся сказать.
Поэтому суть порой весьма для нас неожиданно прорывает пелену метафоры
и является обескураживающе неприемлемой:
310
Как было и как вспомнилось
Слышишь? слышишь в вихревую эту метель, в корявую, кровяную, полыха¬
ющую заревами, удалую, разбойничью, безгосударственную, - вмешалась, впле¬
лась черная чья-то рука, жесткая, стальная, как машина, государственная, - пять
судорожно сжатых пальцев, черных, в копоти, сжимающих все до судороги, - она
взяла под микитки и Россию, и русскую метелицу, и мужика, - сжала до хрипо¬
ты, - это она захотела строить, - строить, - слышишь, - строить!..
Чья же это рука, государственная и строительная? «Пролетария, - говорит
Пильняк, - машинной России». Так ему казалось. И он был готов отдать Россию
под власть этой руки. Тогда - в 1924 году - ему так казалось: будто вмешатель¬
ством этой руки, присвоившей власть, не нарушено, а лишь направлено естествен¬
ное течение событий.
5
Под «Повестью непогашенной луны» Пильняк по обыкновению поставил
дату - дату ее окончания: 9 января 1926 года. Вещь была написана быстро, ибо
начата не ранее 31 октября - дня смерти Фрунзе. Хотя краткое авторское преди¬
словие как будто бы должно разорвать такую ассоциативную связь:
Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию его
и материалом послужила смерть М. В. Фрунзе. Лично я Фрунзе почти не знал,
едва был знаком с ним, видел его раза два. Действительных подробностей его
смерти я не знаю, - и они для меня не очень существенны, ибо целью моего рас¬
сказа никак не являлся репортаж о смерти наркомвоена. - Все это я нахожу необ¬
ходимым сообщить читателю, чтобы читатель не искал в нем подлинных фактов
и живых лиц.
По видимости все верно, произведение художественное - не репортаж и пря¬
мых аналогий не допускает. Но на деле: проницательного читателя оно не собьет,
а недогадливому подскажет... А если подскажет, что командарм Гаврилов - Фрун¬
зе, то кто же тогда тот, с маленькой буквы именуемый негорбящимся человеком, кто
имеет право приказать военкому, вопреки его желанию, лечь на операционный
стол - и устроить так, чтобы с этого стола он уже не поднялся? Тот, в чей тихий
кабинет идут сводки из Наркоминдела, Полит- и Экономотделов ОГПУ, Нарком-
фина, Наркомвнешторга, Наркомтруда, чья будущая речь касается СССР, Амери¬
ки, Англии, всего земного шара, - кто он? Узнавая, не решались себе признаться.
Но Пильняк не обещал репортажа, и репортажа он не пишет. Уже закрепив¬
ший за собой стиль документального повествования, монтажного сближения са¬
мих за себя говорящих фактов, здесь он как будто попадает на волну, именно в те
годы высоко поднявшуюся, русской гофманианы. В безымянный город прибывает
Венер четвертый. Против течения
311
экстренный поезд с юга, в конце которого поблескивает салон-вагон командарма
«с часовыми на подножках, с опущенными портьерами за зеркальными стеклами
окон».
Уже не ночь, но еще не утро. Уже не осень, но еще не зима. Нереальный свет.
Призрачный город.
И кажется, что реально в нем только предчувствие командарма, тем более
реально, что отдает так хорошо знакомым ему запахом крови. Отовсюду этот за¬
пах - даже со страниц Толстого; его читает Гаврилов и о нем говорит единствен¬
ному встречающему его другу - Попову:
Т олстого читаю, старика, «Детство и отрочество», - хорошо писал старик, -
бытие чувствовал, кровь... Крови я много видел, а... а операции боюсь, как маль¬
чишка, не хочу, зарежут... Хорошо старик про кровь человеческую понимал
И потом еще раз и еще раз повторит: «"Хорошо старик кровь чувствовал!” -
это были последние слова перед смертью, которые слышал от Гаврилова Попов».
С толстовским лейтмотивом пишется рассказ и нередко с толстовским при¬
емом - остранения. В чужой город приезжает Гаврилов, во вражеский стан. Все
здесь чужое и, даже если не его взглядом увиденное, в самой объективности опи¬
сания предстает дикой фантасмагорией, попирающей законы природы и разума:
Вечером тогда в кино, в театры, в варьете, на открытые сцены, в кабаки и
пивные - пошли десятки тысяч людей. Там, в местах зрелищ, показывали все, что
угодно, спутав время, пространство и страны, греков, таких, какими они никогда
не были, ассиров, такими, какими они никогда не были, - никогда не бывалых
евреев, американцев, англичан, немцев - угнетенных, никогда не бывалых китай¬
цев, русских рабочих, Аракчеева, Пугачева, Николая Первого, Стеньку Разина;
кроме того, показывали умение хорошо или плохо говорить, хорошие или пло¬
хие ноги, руки, спины и груди, хорошо или плохо танцевать и петь; кроме того,
показывали все виды любви и разные любовные случаи, такие, которых почти не
случается в обыденной жизни. Люди, принарядившись, сидели рядами, смотре¬
ли, слушали, хлопали в ладоши...
Условность городской жизни, условность театрального искусства, увиден¬
ные глазами человека, не желающего вникать в смысл этой условности и тем ее от
себя отторгающего, - это уже было у Толстого1 и бывало после него, например,
1 См., например, знаменитое описание вагнеровского спектакля в трактате «Что такое
искусство?»: «На сцене, среди декорации, долженствующей изображать <...> кузнечное
устройство, сидел наряженный в трико и в плаще из шкур, в парике, с накладной бородой, ак¬
тер, с белыми, слабыми, нерабочими руками (по развязным движениям, главное - по животу и
отсутствию мускулов видно актера), и бил молотом, каких никогда не бывает, по мечу, которых
совсем не может быть, и бил так, как никогда не бьют молотками, и при этом, странно раскры¬
вая рот, пел что-то, чего нельзя было понять...»
312
Как было и как вспомнилось
у Бунина, цитатно, по-толстовски, когда в след его взгляду приходила непремен¬
но потребность припомнить его речевую манеру1. Она же вспомнилась Пильня¬
ку, когда он писал городской пейзаж, над которым восходит «не нужная городу
луна».
В лунном свете пейзаж утрачивает свой литературно-толстовский отблеск и
переходит во владение Пильняка, то ли напоминающего нам восходом луны о не¬
нужной городу и забытой человеком природе, то ли не случайно придающего этой
природе образ ночной, потусторонний, издавна ассоциирующийся со смертью.
Взойдя в этой повести, луна все чаще будет освещать прозу Пильняка, превра¬
тившись в одну из устойчивых метафор, связующих природное и историческое,
в один из тех повторяемых образов, которые легко «затираются», по мнению Вяч.
Полонского, и тем легче, что попадают к Пильняку, уже побывав в широком об¬
ращении: «Нельзя после Маринетти и Маяковского писать: "Дом привешен за
трубу к небесной тверди”» («Метель»)2. А тут еще и «дохлая луна», она тоже
реанимирована Пильняком!
Поразительно, насколько Пильняк не боится кого-либо повторить, быть пой¬
манным (а его-таки и ловят постоянно) на заимствованиях. На каждом шагу он
«заимствует», причем у писателей разных до взаимоисключения, так что каждый
шаг Пильняка - значительное колебание точки зрения, видения. Основной его
прием - монтаж разнородного материала.
Это свойство его манеры, но не только его. Как и монтаж, она принадлежит
эпохе, в которую Пильняк рождается как писатель, - 1920-м годам. Образы и мыс¬
ли передаются из рук в руки, прокатываются по многим произведениям, резко - до
полного неприятия - меняя свой смысл, но претендуя на силу всеобщего, для всех
1 «Когда в непроглядных полях, по смрадным избам, укладывались спать бабы, старики,
дети и овцы, а в далекой столице шло истинно разливанное море веселия: в богатых рестора¬
нах притворялись богатые гости, делая вид, что им очень нравится пить из кувшинов ханжу с
апельсинами и платить за каждый такой кувшин семьдесят пять рублей; в подвальных кабаках,
называемых кабаре, нюхали кокаин и порою, ради вящей популярности, чем попадя били друг
друга по раскрашенным физиономиям молодые люди, притворяющиеся футуристами, то есть
людьми будущего; в одной аудитории притворялся поэтом лакей, певший свои стихи о лифтах,
графинях, автомобилях и ананасах; в одном театре лез куда-то вверх по картонным гранитам
некто с совершенно голым черепом, настойчиво у кого-то требовавший отворить ему какие-
то врата; в другом выезжал на сцену, верхом на старой белой лошади, гремевшей по полу ко¬
пытами, и, прикладывая руку к бумажным латам, целых пятнадцать минут пел великий мастер
притворяться старинными русскими князьями, меж тем как пятьсот мужчин с зеркальными
лысинами пристально глядели в бинокли на женский хор, громким пением провожавший это¬
го князя в поход...» («Старуха»). Цитату приходится оборвать, ибо фраза растягивается
на полторы страницы, не по-бунински, но по-толстовски, с гротескным преувеличением его
стиля.
2 Полонский В. П. Указ. соч. С. 143.
Вечер четвертый. Против течения
313
обязательного высказывания. Пильняк лишь, как всегда с ним, обостряет, экспе¬
риментируя, доводит до крайности.
С очень многими он перекликается, и с прозаиками, и с поэтами. Всего лишь
за год до «Повести непогашенной луны» написано Сергеем Есениным стихотво¬
рение «Весна».
А ночью
Выплывет луна -
Ее не слопали собаки:
Она была лишь не видна
Из-за людской
Кровавой драки.
У Пильняка она тоже восходит напоминанием о вечности природы, но, взой¬
дя, освещает продолжение «кровавой драки».
Кровавая луна. Лунный свет - мертвый свет. Смерть Фрунзе. Смерть Есени¬
на, с которым Пильняк последнее время близок, - она пришлась на дни работы
над повестью. А спустя год Пильняк сделает запись в альбоме своего знакомого
(И. Репина), дважды повторив одну фразу: «Теперь мы часто умираем». И все-та¬
ки заключит: «Надо жить!»1
Надо жить... И луна ведет его дальше: Пильняк переводит время на лунный
календарь накануне своего первого путешествия на Восток, в Китай, Японию,
произведшую на него впечатление особенно сильное, где он подслушает немало
«лунных» фраз. Одной из них, образом луны, он откроет и рассказ «Олений го¬
род Нара», написанный в ноябре 1926 года, сразу же по возвращении из первого
восточного путешествия.
Именно оно явилось причиной тому, что Пильняк последним узнал о сканда¬
ле, последовавшем за публикацией «Повести непогашенной луны».
Повесть подвергли осуждению в самой зловещей форме - забвения. Едва
начавшая поступать к подписчикам майская книжка «Нового мира» за 1926 год
срочно изымается и заменяется новой, перепечатанной, где Пильняка просто нет.
Так что мало кто успел прочитать повесть, от посвящения которой ему лично от¬
кажется в следующем номере А. Воронский и за которую извиняется редакция,
состоящая из А. Луначарского, В. Полонского и И. Скворцова-Степанова.
0 повести нет упоминания ни в библиографии, приложенной к сборнику ста¬
тей о Пильняке, вышедшему в издательстве «Academia» в 1928 году, ни в статье
о нем в «Литературной энциклопедии» (1934). Повести как бы не было. Но она,
1 Коршунова В. П. Живое дыхание времени (О литературных альбомах 1920-х - 1940-х
годов) //Встречи с прошлым. Вып. 5. М.: Советская Россия, 1984. С. 365.
314
Как было и как вспомнилось
конечно, была, хотя о ней вспомнят и заговорят лишь в преддверии кровавой раз¬
вязки - в 1936-1937 годах.
Безотносительно к Пильняку Шкловский вывел в то время формулу распро¬
страненной литературной репутации: «...начинают ругать человека на чем свет
стоит, причем обычно кричат: "талантлив, но вреден”, начало фразы обычно запо¬
минается»1.
Может быть, так и было в начале, даже в середине 1920-х годов, но к концу де¬
сятилетия - если вреден, то уже не имеет значения, насколько талантлив. Или даже
так: если вреден, то не может быть талантлив.
В талантливости Пильняка начинают сомневаться довольно рано. Хотя после
«Голого года» Луначарский предлагал определить руку Пильняка по пяти строч¬
кам, ему все чаще начинают отказывать в самостоятельности. Он же подражатель,
эпигон - Ремизова, Андрея Белого... Эту ходячую мысль закрепил своим афориз¬
мом Троцкий.
На ту же тему еще один афоризм - Горького, предупреждавшего опекаемую
им литературную молодежь, «Серапионовых братьев», от «пачканья под Пиль¬
няка»: «Пильняк из тех, кто подражает, а не из тех, кому подражают» (письмо
М. Слонимскому, 10 октября 1922-го)2. Горький не любил Пильняка - ни писате¬
ля, ни человека, - что не помешало ему хотя бы сделать попытку остановить трав¬
лю писателя, принявшую в 1929 году целенаправленный характер.
Воистину - двусмысленная слава! Такой она и была у Пильняка в 1920-е годы,
даже помимо его политической репутации. «Помимо», если что-либо могло тогда
быть помимо: вреден, следовательно... Логический ход, который совершался вот
уж действительно помимо сознания, направлял как будто бы сугубо литературную
оценку. Лучшее издательство тех лет - «Academia» - в серии «Мастера современ¬
ной литературы» выпускает сборник материалов о Пильняке, но такое впечатле¬
ние - с одной целью: ниспровергнуть его. Мастерство Пильняка заимствованное,
«многопланность <...> мнимая» (В. Гофман); центральное место в литературе
и даже популярность он потерял (Г. Горбачев); и вообще - «огромная ошибка
нашей критики была в том, что она сразу приняла Пильняка как серьезного писа¬
теля» (Н. Коварский).
Если мнение Горбачева, по его формальной принадлежности, можно счесть
голосом рапповской критики, то Гофман, Коварский - молодые ученые, хорошей
академической школы, не захваченные групповой борьбой. Что в их мнении - ре¬
альная сложность и реальная неоднозначность Пильняка как писателя или же -
гипноз идеологической оценки?
Как бы то ни было, но Пильняк все еще популярен: он по-прежнему один из
самых издаваемых. И место свое в литературе, влияние он не утратил: в апреле
1 Шкловский В. Б. Гамбургский счет. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1928. С. 88.
2 Литературное наследство. Т. 70.1963. С. 383.
Вечер четвертый. Против течения
315
1929 года он избирается председателем Московского отделения Всероссийского
Союза писателей. Правда, ненадолго. Осенью того же года начинается хорошо
срежиссированная кампания против Пильняка и Замятина, опубликовавших свои
произведения за границей: «Красное дерево» и «Мы». В результате Пильняк по¬
даст (совместно с Пастернаком) заявление о выходе из Союза, во время кампании
знаменательно меняющего свое название - Всероссийский Союз советских писа¬
телей (ВССП).
6
Из статьи о Пильняке в «Литературной энциклопедии» -1934 год: «В 1929 г.
в белоэмигрантской печати Пильняк опубликовал роман “Красное дерево”, по су¬
ществу пасквиль на советскую действительность. Советская общественность осу¬
дила этот поступок писателя. Романом “Волга впадает в Каспийское море” [1929]
П. возвращается к теме о революционной советской действительности».
Во-первых, «Красное дерево» опубликовано в издательстве «Петрополис»,
которое до тех пор белоэмигрантским и запретным не считалось. В издательском
проспекте того самого года - имена многих советских писателей. Одновременно
с «Красным деревом» там печатаются первые книги «Тихого Дона», что, впро¬
чем, попытались обратить против его автора, подверстав его к «пильняковскому
делу» (как оно названо самим Шолоховым в тогдашнем личном письме, опубли¬
кованном много позже, - «Советская культура», 25 мая 1989 года).
Во-вторых, «Красное дерево» не роман. По объему это скорее повесть, поз¬
же отдельными главами вошедшая в роман «о революционной действительности»
«Волга впадает в Каспийское море», который в 1930 году печатается в сборнике
«Недра» (книга 19-я). Создается впечатление, что автор статьи в энциклопедии
(С. Гинзбург), как и большая часть писательской общественности, призванная
осудить и таки осудившая «Красное дерево», с текстом был знаком понаслышке.
И, в-третьих, «Красному дереву» предшествовали другие крамольные вещи
(«Нижегородский откос», «Че-че-о»), среди которых, и в первую очередь,
«Повесть непогашенной луны». Не в ней ли - непубликуемой, неупоминаемой -
все дело? Иначе как объяснить, что «пасквиль» «Красное дерево», уже осужден¬
ный, лишь с небольшими (хотя немаловажными) купюрами появляется в совет¬
ской печати в составе романа?
В повести нет главного - нет строительства канала Москва-Волга, ради ко¬
торого в небольшой городок (в повести - Углич, в романе - Коломна) не столько
живущих, сколько доживающих свой век людей, еще придерживающих остатки
былой роскоши или - больше ничего не остается - приторговывающих последни¬
ми предметами семейных гарнитуров красного дерева (отсюда название), - в этот
городок прибывают инженеры, рабочие - строители канала.
316
Как было и как вспомнилось
Это главное в романе. Этого нет в повести. Более того: действие романа на¬
чинается в Москве и в Москве закончится. Начинается с того, что «профессор
Пимен Сергеевич Полетика ехал из Ленинграда на строительство новой реки...».
«Ученый с европейским именем, строитель, большой практик и большой теоре¬
тик», профессор Полетика, еще проезжая через Москву, обратил внимание на то,
что он называет «повторностью явлений». Ею держится сюжет.
Характер повторов теперь иной, чем в предшествующих романах. Там - лейт¬
мотив, фраза, слово... Здесь - совпадения, случайности, встречи... Много встреч
и пересечений судеб. Энергия сюжетного развития поступает из прошлого, из уз¬
наваемой нами предыстории героев.
Профессор Полетика едет в Коломну, где, он знает, трудится инженер Ласло,
его бывший студент, с которым четырнадцать лет назад ушла жена профессора,
уведя его детей - сына и дочь. Профессор не встретит Ласло, но он встретит пока
что ему неизвестного инженера Садыкова, у которого не четырнадцать лет назад,
а совсем недавно ушла жена - к тому же Ласло, оставившему при этом свою преж¬
нюю (ту самую) семью. К любовным отношениям, опутывающим сюжет, немало
добавит и инженер Полторак...
Вместо прежнего монтажа - беллетризм. Пильняк отказывается от приема,
отличавшего его манеру романиста. Прием могли принимать или нет, но по нему
узнавали руку Пильняка и вели счет открытиям автора, в ком видели едва ли не
первосоздателя определенного типа романной прозы XX века, не до него, а позже
представленной особенно памятно американцем Дос Пассосом.
Пильняк был раньше. Он был одним из первых и у нас, где монтаж в какой-то
момент распространяется во всех видах искусства и связан с пристрастием к фак¬
ту: «Воспаленной губой припади и попей из реки по имени - факт». За высшую
правду принимают правду документа, который не способен охватить всего пове¬
ствовательного пространства; каждый факт фиксируется крупным планом, а связи
между ними ослаблены. Так было уже в «Голом годе», хотя там непосредственно
документальное начало притушено, ибо подлинное в нем - пережитое, автобио¬
графическое.
Иное дело «Машины и волки», где прием обнажен. Много вставок чужого
текста, стилизованного под документ или подлинно документального, много ком¬
ментирующих сносок. Текстуальная разносоставность подчеркивается и типо¬
графски - шрифтовой игрой.
Ничего этого нет в третьем романе. От пристрастия к документальности,
пожалуй, лишь вклеенная газета, многотиражка стройки, впрямую с текстом не
связанная (кроме маленькой заметки о бунте работниц) и потому опускаемая
в современных изданиях по причине технических трудностей ее воспроизведения.
Что безусловно остается прежним, так это способ выражения идеи - метафо¬
рой. И область ее действия прежняя - история; ею связаны прошлое с настоящим.
Венер четвертый. Против течения
317
Есть и повторяющийся - из более ранних романов перешедший - образ: скифская
каменная баба, из кургана, из небытия воспрянувшая древняя и подлинная Русь.
В числе романных эпизодов у Пильняка обязательно - археологические раскопки.
Путь в будущее у него пролегает через прошлое, через его возрождение. Но у
прошлого свой срок, своя давность, оно может быть разным. Оно заставляет выби¬
рать: принимать его или порывать с ним.
Строительство канала, изменение русла реки - для Пильняка это погружение
в эпоху, когда «земля из астрономического состояния переходила в геологиче¬
ское». И нельзя, он полагает, вести великую стройку, не укрепив природного ос¬
нования. Знакомый голос - Пильняк, к природе обращенный, стихийный.
Но это голос из эпохи, захваченной пафосом преобразования, не собираю¬
щейся ждать милостей от природы. Ум ученого-большевика Полетики (личные
письма Ленина сданы им в партархив), помноженный на энтузиазм масс, и - «Вре¬
мя, вперед!». Тогда лозунг увлекал и радовал. Сегодня мы склонны откликнуться
на него тревожно-опасливым: да знаем ли, что делаем?
Свое увлечение Пильняк разделял со своим временем, хотя его понимание
великой стройки не было ни в полной мере ортодоксальным, ни в полной мере
отвечающим обретающей стройность теории. Еще четыре года остается до зна¬
менитой поездки десятков писателей накануне своего первого съезда в 1934 году
на Беломорканал. Тридцать шесть из них составят коллектив авторов, отразивший
«атмосферу целесообразной, великой работы». Целесообразной ее называет
Горький в предисловии к сборнику, поскольку созидательный труд способен пе¬
ревоспитать и закоренелого вредителя, превращенного в каналармейца.
У Пильняка перевоспитания еще нет, но вредители уже есть. Есть у него и
другое - свидетельство о страшных условиях труда, об унизительной - особенно
для женщин - жизни на стройке. Прежде чем писать, Пильняк несколько месяцев
проводит на Днепрострое.
Пильняк хочет побеждать трудности, но и помнить о них. Подобная памят¬
ливость не поощрялась. И врагов, если уж Пильняк решил их показать, можно и
нужно было бы написать проще. Иначе обязательно скажут (и говорили) о сма¬
ковании, о том, что он сам не готов расстаться с прошлым. Из быта, из красного
дерева, с ним сросшиеся, выступают фигуры Якова Скудрина, мастеров-красно-
деревщиков братьев Бездетовых. По-пильняковски грубовато, рублено. И убе¬
дительно: скорее всего, оттого, что не прошлое убивает в них человека, а то, что
это самое прошлое, жалкие его остатки, вырывают они из рук потерянных людей:
павловские кресла, печные изразцы, миниатюры, бронзу и хозяйскую дочку в при¬
дачу... «Бездетовы чувствовали себя покупателями, они умели только покупать».
И гораздо слабее другое - инженер Полторак. Он из них же, из врагов, из про¬
шлого. Но он не бытовая фигура. Поклонник Владимира Соловьева, он воплощает
духовную связь с уходящим и зловредно сопротивляющимся. Соловьевские Вера,
318
Как было и как вспомнилось
Надежда, Любовь и венчающая их Мудрость - Софья - имена четырех женщин, из
которых сплетает интригу этот любитель философии, прибывший на строитель¬
ство, чтобы взорвать (с помощью Скудрина и Бездетовых) плотину.
У этой художественной неудачи несколько причин. Не в сфере духовного и
психологического, а в сфере природного и бытового материала писательская сила
Пильняка. Это с одной стороны, а с другой: здесь властвует схема, которой - ни
переступить, ни оживить. Трагикомический злодей никак не убеждает в неизбеж¬
ности перерождения русского интеллигента, инженера, поклонника Соловьева
в советского спеца-обывателя, развратника и вредителя. Проще всего предполо¬
жить, что Пильняка снова ведет его отзывчивость духу времени, ставшего эпохой
«обострения классовой борьбы», уничтожения классового врага.
И все-таки странное чувство не покидает: так буквально, так до гротеска пре¬
увеличенно следует Пильняк предписанной политической схеме, что невольно
насчет инженера Полторака закрадывается мысль: уж не пародия ли он? Имен¬
но такую версию отстаивает в последнее время американский исследователь
К. Бростром, тем самым отступая от более ранней, сложившейся еще в 1930-е годы.
В известной книге «Художники в мундирах. Исследование по литературе и бю¬
рократии» (первое издание - 1934) Макс Истмен, ссылаясь на устные свидетель¬
ства двух, естественно, безымянных друзей Пильняка, писал, что И. Гронский, тог¬
дашний главный редактор «Известий» (и в скором будущем один из родителей
«социалистического реализма»), «рассказал Пильняку всю историю профессора
Полетики и побудил его переписать “Красное дерево" в духе пропаганды за со¬
циалистическое строительство и пятилетний план»1. Могло ли так быть? Будем
полагаться только на сопоставление двух текстов: повести и романа. Роман те¬
матически актуальнее, ближе злобе дня и в целом идеологически выдержаннее.
Выигрывая в идеологии, он художественно уступает. Но в то же время сам прием
последующего расширения текста, включения его на правах эпизода в отсутствую¬
щую первоначально сюжетную раму - это все вполне в манере Пильняка от самого
ее рождения. Именно это он проделывал с первыми же опубликованными вещами.
В журнале «Млечный путь» - рассказ «Юра» (1915, № 5). Назван он по име¬
ни мальчика, которому няня читает сказку о богатырях, побуждая к мечте быть
таким же сильным. Затем время спать, Юра идет попрощаться с матерью, и ему
неприятно видеть ее на коленях у незнакомого дяди. Мечта нарушена вторжением
«злой жизни»; атмосфера и стиль - в тогдашнем духе прозы Федора Сологуба.
И в том же году в альманахе «Жатва» (кн. 6-7) другой рассказ - «О Севке».
Другое имя, но тот же мальчик. О няне, о богатырях - в прежнем объеме, но зато
кроме мамы является папа, чтобы отбыть на фронт. Мама сходится с учителем и
1 Eastman M. Artists in Uniform. A Study of Literature and Bureacratism. N.Y.: Octagon
Books, 1972. P. 121.
Вечер четвертый. Против течения
319
мучит мальчика, папа приезжает... Вместо почтительной литературной ассоциа¬
ции приходит мысль: уж не пародия ли он? Нет, просто Пильняк, когда торопится
взять актуальную тему (военную в данном случае) и пытается сделать это не очень
дающимся ему беллетристическим сюжетом, невольно становится пародийным,
обозначая глубину на мелком месте.
Думаю, что это верно и для некоторых сцен романа «Волга впадает в Каспий¬
ское море». Он очень неровен. И совсем не обязательно оттого, что явился в ре¬
зультате поспешно-конъюнктурного пересказа с чужих слов. Как внутреннее по¬
буждение в нем ощущается нечто более сложное, чем просто желание оправдаться
и заслужить начальственное прощение.
Нечто более сложное и страшное. Если бы дело было только в том, что пи¬
сатель решился обменять талант на благополучие и возможность по-прежнему
беспрепятственно разъезжать по свету! Мы тогда, пусть и не с легкой душой, но
могли бы попрощаться с ним: путешествия богатого туриста - за пределами лите¬
ратуры. Тут же другое. Воистину адская смесь из искренности, страха, в котором
еще пытаются себе не признаваться, лукавства - дескать, и с вами соглашусь, и
себе не изменю (тут, быть может, и пародийность проскользнет).
С прошлым приказано разделаться - ради будущего. И Пильняк рвет с про¬
шлым, оставляя при этом ощущение, что каждый разрыв для него - по живому,
дается с трудом. Чтобы облегчить задачу, он придумывает нечто небывалое, невоз¬
можное и над ним празднует громкую победу, будто полагая, что этим выговорит
себе право что-то сохранить или по крайней мере о чем-то пожалеть.
Сожаление распространяется и на совсем недавнее прошлое, из которого
в романе «охламоны»: Огнев, Пожаров, Ожогов... Не фамилии, а псевдонимы
с отблеском на них мирового пожара. «Истинные коммунисты» до 1921 года, те¬
перь - полуспившиеся, полусумасшедшие обитатели подвала на кирпичном заво¬
де. Этот подвал вместе с их предводителем Ожоговым будет ранее всего затоплен
с пуском плотины.
Им тоже нет хода в будущее. Они - в прошлом, в котором Ожогов, младший
брат Якова Скудрина, был первым председателем исполкома. Он спрашивает при¬
ехавшего из столицы племянника Акима, не выгнали ли того из партии, и, узнав,
что нет, обещает: «...ну, не сейчас, так потом выгонят, всех ленинцев и троцки¬
стов выгонят!»
Эта фраза - из повести «Красное дерево». Ее не было в тексте романа, опу¬
бликованном в «Недрах»: весь эпизод с троцкистом Акимом оказался в числе
цензурных сокращений. Повесть завершена 15 января 1929 года. Троцкий высы¬
лается за пределы СССР в феврале. Предрешено это событие было много раньше:
«К поезду, как и к поезду времени, троцкист Аким опоздал».
Пильняк пытается принять логику происходящего. И все-таки не в силах
скрыть или не хочет скрыть сожаления, когда приходится прощаться с тем, что для
320
Как было и как вспомнилось
него - из романтического, метельного периода революции. Это сожаление ему
будет дорого стоить. Когда придет время, ему вспомнят и связь с «троцкистом»
А. Воронским, и материальную помощь сосланному Карлу Радеку, и написанные
«по прямым заданиям троцкистов» крамольные повести.
Если Пильняк нет-нет и бросит взгляд в метельный голый год, то все-таки он
с ним расстался давно. Теперь он хочет верить в правоту, добытую им во втором
романе - «Машины и волки».
7
Под текстом романа «Волга впадает в Каспийское море» дата: февраль - ав¬
густ 1929 года. Пильняк особенно подчеркивал, что закончил работу над «Вол¬
гой» до начала кампании против «Красного дерева», а значит, характер измене¬
ний от повести к роману не был конъюнктурной правкой.
Ему не поверили. Особенно за рубежом, где его репутации осенними собы¬
тиями 1929 года был нанесен долгое время не восполняемый урон1. Его сравнили
с Замятиным, который ничем не поступился, не изменил убеждениям, не покаялся,
а в результате вынужден был покинуть пределы СССР: он был едва ли не послед¬
ним, кому разрешили уехать.
Пильняк не уезжает и не собирается уезжать. Он, как никто из писателей,
свободно и широко ездит по миру. Почти ежегодно до 1933 года проводя в пути
по несколько месяцев: Западная Европа, США, Япония, Китай... Отчитывается
документальными книгами, которые, как и все остальные, разносит критика. Од¬
нако до поры до времени репутация крамольного писателя не мешает внешнему
благополучию.
Пильняк неизменно подчеркивает, что смотрит на мир глазами советского
человека. Каждой документальной книгой, каждым новым романом он будет пы¬
таться рассеять трагическое недоразумение, объясниться, оправдаться и в то же
время объяснить себе, что же происходит. Он совсем не еретик, каковым себя на¬
зывал Замятин. Пильняк считает дело революции своим и не хочет от него отойти,
опасается, что это он чего-то не понял, и в то же время не хочет молчать, если
считает, что ошибаются другие. Но все чаще ему приходится признаваться в соб¬
ственных ошибках.
Гронский. В этой связи мне хотелось бы сказать несколько слов
о Б. А. Пильняке. Тов. Пильняк хорошо сделал, что выступил здесь с речью,
в которой он определяет и выявляет свое отношение к троцкистско-зиновьев-
ской сволочи. Это хорошо, но это слишком поздно. Если я не ошибаюсь, это пер¬
вое выступление, в котором т. Пильняк говорит о своем отношении к троцкизму
и зиновьевщине. Другого выступления, более раннего, я лично не знаю.
1 Browning G. Scythan at a Typewriter. Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1985.
Вечер четвертый. Против течения
321
Пильня к. Я приехал только 27-го.
Гронский. В твоем распоряжении было больше десяти лет, и за эти десять
лет ты, Борис Андреевич, мог определить и выявить свое отношение к троцкиз¬
му и зиновьевщине.
Пильняк. Моими книгами.
Г р о н с к и й. И ты этого, Борис Андреевич, не сделал... Ты бросил репли¬
ку, что ты отмежевался от этих врагов народа в своих произведениях. В каких?
В «Повести непогашенной луны» или в «Красном дереве»? Эти произведения
написаны по прямым заданиям троцкистов. Сознательно или несознательно ты
направлял их против революции, - это другой вопрос1.
Отрывок из отчета с расширенного заседания редакции и актива журнала
«Новый мир», состоявшегося 1 сентября 1936 года. Главный редактор И. Грон¬
ский пытается спасти Пильняка.
Гронский. Это тяжелым камнем висит на твоей биографии, и ты, по¬
скольку сейчас называешь себя непартийным большевиком, этот камень должен
снять: если ты его не снимешь, он будет тебе мешать двигаться вперед.
Пильняк. Могу снять только рукописью.
Гронский. Да, своими художественными произведениями... Повторяю,
твое выступление есть шаг вперед, но шаг этот надо признать недостаточным.
Надо в этом направлении идти дальше.
Времени для того, чтобы идти дальше - в «этом направлении» или в каком-то
другом, не было. И формально обвинявшим в этот вечер Гронскому, Бруно Ясен-
скому и уже почти подсудимому - Пильняку оно было отпущено лишь до следу¬
ющего, 1937 года. Но Пильняк продолжает повторять, что ответит - рукописью,
книгами. Повторяет, как будто боится, что снова заставят ответить - покаянием
или того хуже - обличением других.
Книги, пишущиеся под грузом прежних ошибок и боязни совершения но¬
вых, не могут быть лучшими. Знаменательно, что сборник избранных рассказов
1935 года (тот, который открывался рассказами «Целая жизнь» и «Смерти»)
обрывается на 1928-м: «Штосс в жизнь» - последняя по времени вещь, в него
включенная. Вскоре после нее Пильняк и начинает работу над романом «Волга
впадает в Каспийское море».
Это его развернутая попытка объясниться с меняющейся действительностью.
Попытка, которая никого не удовлетворила. Там, на Западе, сочли, что он поплыл
по течению. Здесь, что по-прежнему - против. Или же если по течению, то куда
оно сносит:
1 Новый мир. 1936. № 9.
322
Как было и как вспомнилось
«Волга» творчества Пильняка все еще впадает в «Каспий» необуржуазных
настроений, писательского верхоглядства и самоповторения интеллигентского
чванства и лощеной пошлости и бульварщины, лишь на поверхности покрытой
лаком - очень сомнительной «культуры»1.
Метафора авторская - Пильняку принадлежащая. Однако Пильняк мыслил
себя не пловцом - вверх или вниз по течению, - совсем нет: «Инженеры-гидрав¬
лики знают силу воды, и они знают, что с этими силами можно бороться, никак не
нарушая, никак не противореча им, но координируя их».
Он убеждает нас не бояться разумного вторжения в природу, веря, что маши¬
на (помните - у нее своя жизнь, своя метафизика?) не нарушит природного тече¬
ния, не сломает его. Ломает другое - то, от чего сходит с ума Василий Васильевич,
лицо эпизодическое, в 1920-м получивший десятину земли, в 1923-м - золотую
медаль на всероссийской сельскохозяйственной выставке, в 1926-м создавший об¬
разцовое хозяйство из семнадцати коров и разоренный как кулак в 1927-м.
Этот эпизод будет вырублен из текста романа в 1930 году. Нет там и всту¬
пления о районном начальстве, овладевшем нехитрыми - их власть! - способами
обогащаться, о чем, впрочем, сказано было мимоходом, ибо «ввиду замкнутости
своих интересов и жизни, протекающей тайно от остального населения, никакого
интереса для повести начальство не представляет».
Кое-что из сказанного Пильняком о районном начальстве В. Киршон проци¬
тировал в своем выступлении на XVI съезде партии летом 1930 года, предлагая де¬
легатам угадать - кто бы это мог так исказить «громадную роль в деле индустриа¬
лизации страны, в деле социалистического переустройства сельского хозяйства»,
которую «сыграли наши низовые партийные организации, в частности районные
комитеты, которые сейчас становятся узловыми пунктами руководства партией»?
Цитируемых Киршоном слов в тексте романа также не будет. Там появится
другое вступление - о реке, о ее течении, имеющем свои законы. Им управляют
инженеры-гидравлики, не нарушая течения, не ломая его. Его ломает - бессмыс¬
ленное, случайное вторжение:
Под городом Саратовом на Волге, которая тысячи лет тому назад называ¬
лась рекою Ра, семьдесят лет тому назад затонула барка с кирпичом, сломала те¬
чение за собою и народила целый остров песков против Саратова, десятки кило¬
метров, раздвоивших Волгу на два рукава.
Пильняк гордился своей способностью замечать меняющийся ход событий,
отзываться увиденному. Первый роман о революции написан им, как и первый о
1 Артюхин Н. Волга впадает в Каспийское море // На литературном посту. 1930. № 13-
14. С. 108.
Вечер четвертый. Против течения
323
нэпе, о необходимости индустриализации. Теперь - новый поворот, «год велико¬
го перелома». В начале романа о нем - рассказ о барке, затонувшей и сломавшей
течение.
Случайных созвучий и случайных эпизодов в столь явной близости от цен¬
тральной для всего романа метафоры у Пильняка не бывает. Метафора - его спо¬
соб исторически мыслить, улавливать сложность происходящего. Но сейчас его
влечет желание сказать о сложном со всей если не простотой, то доходчивостью,
убедительностью: как дважды два - четыре, как - Волга впадает в Каспийское
море. Он хочет убедить в возможности разумно направлять течение, взяв его госу¬
дарственной рукой, подчинив машине и железному расчету.
Пильняк хочет верить, что это возможно. И не может не замечать, как, несмо¬
тря на все более жестко направляющую события государственную руку, обманы¬
вая расчет - казалось бы, такой верный и прекрасный! - ломается течение.
1990
324
Как было и как вспомнилось
Между эпосом и анекдотом
Михаил Зощенко
Едва ли не первым суждением, которое М. Зощенко услышал от своих крити¬
ков, было слово «анекдот». Оно прозвучало обвинением, и Зощенко не был ни
первым, ни единственным, к кому оно было обращено. Оно звучало официаль¬
ным критическим предупреждением значительной части литературы, которая,
в свою очередь, нередко прибегала к нему как к самоопределению. В какой-то мо¬
мент слово стало универсальным. Литература мнилась рассказыванием анекдотов.
М. Горький так и называет один из своих рассказов, кстати, рассказов револю¬
ции - «Анекдот» («Русский современник», 1924, № 3). О молодых и говорить
нечего. Один из «соратников», Н. Никитин, декларирует: «Анекдот - это соль
вещей», - и составляет рассказ «Петербург» из сценок, озвученных словом
(«Россия», 1923, № 7).
Распространение анекдота, его безусловная и сознательная жанровость
в литературе 1920-х годов заставляет рассматривать его как проблему литератур¬
ную - в свете поэтики и общекультурную - в свете определенного склада мышле¬
ния эпохи. Положение Зощенко оказалось особенным. Он не был ни первым, ни
единственным, кто перевел литературу в форму анекдота, кого за этим занятием
застала официальная критика, но довольно скоро он неразрывно соединил эту
форму со своим именем. Уже можно было не говорить, что такой-то пишет анек¬
доты. О таком-то говорили, что он подражает Зощенко. Анекдотическое в лите¬
ратуре, не утратив своей всеобщности распространения, стало осознаваться как
зощенковское. На эту тему и мое выступление: не столько о Зощенко, сколько о
зощенковском. О литературном жанре, на какое-то время давшем окраску всей
литературе и принявшем его имя.
Русская литература на всем своем протяжении не раз, когда ей заказывали
эпос, откликалась анекдотом. На эту тему недавно появилась остроумно написан¬
ная (стиль продиктован предметом разговора) книга в США: К. Попкин «Праг¬
матика незначительности: Чехов, Зощенко, Гоголь»1. Она написана о пользе
незначительного в русской литературе. О незначительном как в событии, так и
в самом рассказе или, точнее, в сказе, загромождающем повествование не имеющи¬
ми отношения к делу подробностями. У Чехова по преимуществу - незначитель¬
ность событийная. У Гоголя - повествовательная. Зощенко - посередине, но, по
мнению автора книги, ближе к Чехову. Его сказовость, считает К. Попкин, преуве¬
личена, поскольку незначительное у него не в том, как он рассказывает, а в том,
1 Popkin С. The Pragmatics of Irony. Chekhov, Zoschenko, Gogol. Stanford: Stanford U. P.,
1993. См. рец.: Шайтанов И. Отчего умер Акакий Акакиевич? // Общая газета. 1994. 6 июня.
Вечер четвертый. Против течения
325
о чем. Разве одно отделимо от другого и разве сосредоточенность на бытовых ме¬
лочах не есть повествовательный выбор в эпоху революционных потрясений?
Кстати, прежде всего стилистически, повествовательно рассказчику никогда
не удается целиком сосредоточиться на незначительном, он все время проговари¬
вается исторической памятью: «Которая беднота, может, и получила дворцы, а
Ивану Савичу дворца не досталось. Рылом не вышел...» («Матренища»). Зазву¬
чал Шамфор: «Мир - хижинам, война - дворцам», - развернулась панорама рево¬
люционной мысли от нашей революции к Великой французской.
Глуповатые, неграмотные фразы зощенковского рассказчика постоянно при¬
глашают к исторической разверстке и культурной памяти: «Бедность, конечно,
ну да ничего. Пройдет не более года - и у каждого честного телеграфиста будет
свой стул, своя ручка, и по праздникам - в супе курица» («Не все сразу»). Об¬
раз социального благоденствия, данный некогда Людовиком XIV, соединяется с
большевистской склонностью к точному историческому мышлению, обнаружива¬
ющему себя «громадьем планов», призванных убедить неукоснительностью хро¬
нологического расчета - через год, через пять, через семь, через двадцать. А все
вместе - впечатление обновленной потемкинской деревни, а если не деревни, то
пусть стула, ручки...
Историческая память по жанровой природе свойственна анекдоту. Некогда
слово обрело свой смысл, вынесенное в заглавие посмертного труда византийско¬
го историка Прокопия, официального хронографа императора Юстиниана, но
параллельно писавшего и тайную историю эпохи - «анекдоты». История тем на¬
стойчивее прорывается в анекдот, чем жестче, по тем или иным причинам, редак¬
тируется ее официальная версия. Именно об этом свидетельствует исследователь
итальянского Возрождения Э. Гарэн:
Если «история, согласно метафизическому мировоззрению, есть не что
иное, как развитие божественного замысла», то неизбежно постоянное колеба¬
ние между теологией и анекдотами, между логикой абсолютного и теми «блоха¬
ми», которые, как отмечал фра Салимбене, чрезвычайно досаждали человечеству
в марте 1285 года. Там, где торжествует теологическая логика, есть место лишь
для вечной идеальной истории и нет ни места человеку, ни интереса к его делам...1
Можно перефразировать: там, где оставляют место для идеальной истории,
неизменно пишется ей параллельная. Или - чем настойчивее заказывают эпос, тем
вероятнее появление анекдотов.
Анекдот противоположен эпосу по своей исторической точке зрения. Он
противоположен ему и повествовательному принципу. Эпический сюжет пред¬
полагает развертывание, длительность, а значит - время. Если перспектива неяс¬
на, если за каждым данным моментом - неопределенность следующего шага, то
1 Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М.: Прогресс, 1986. С. 359.
326
Как было и как вспомнилось
сюжет либо приобретает авантюрное ускорение, устремленный в неизвестность,
либо распадается. Наступает пора малой формы. После революции 1917 года исто¬
рический взрыв смешал все жизненные карты, вложил неожиданные слова в уста
самых для этого неподходящих людей и вовсе анекдотически спутал все обстоя¬
тельства.
Едва ли не прежде всего это смешение было зафиксировано на уровне языка.
В марте 1918 года Б. Пильняк записывает услышанное в альбом своего знакомо¬
го: «Сейчас на улице кричали: "Вооружение поголовных большевиков"»1. Затем
он памятно, в первом эпосе революции, романе «Голый год», даст анекдотиче¬
скую речевую характеристику своему историческому герою, настаивающему на
том, что сейчас время «энегрично фукцировать».
И одновременно с Пильняком начинает свой нескончаемый фрагментарный
эпос «Россия, кровью умытая» Артем Веселый. Начав его рассказами, повестя¬
ми-эпизодами революции, писатель пытается собрать его. Не озвученный голосом
массы, он распадается на голоса, на речевые эпизоды. Увидеть революцию из ее
глубины, из гущи ее быта - это установка фрагментарного видения, настраиваю¬
щего не на эпическую протяженность, а на анекдотическую разорванность.
Именно как подготовительное оценил состояние новой русской прозы в
1922 году О. Мандельштам. Состояние перехода от устного слова, от фольклора
к первой попытке развертывания повествования в фабулу:
Прислушайся к фольклору и услышишь, как шевелится в нем тематическая
жизнь, как дышит фабула и во всякой фольклорной записи фабула присутству¬
ет утробно - здесь начинается интерес, здесь чревато фабулой, все заигрывает,
интригует и грезит ею <...> Милый анекдот, первое свободное и радостное пор¬
хание фабулы, освобождение духа из мрачного траурного куколя психологии2.
Мандельштам формулирует закон прозы, приступая к ее написанию. В том
же 1922 году - трехстраничный рассказ «Шуба». Он анекдотичен по противопо¬
ложности двух событий - начального и заключительного. Автор, никогда ранее не
обременявший себя собственностью, обзаводится шубой, а у соседки-старушки из
багажа выкрали «весь ее жалкий скарб, все, буквально, все, заработанное за всю
жизнь». Скверный анекдот. Обычный для революционной эпохи. Эмблематич-
ный для времени всеобщих утрат и неожиданного эпически распахнутого виде¬
ния. «Стало видно во все концы...»
В общем, об этом видении и написан рассказ. Неуместная в жизни автора и
среди революционного разбоя шуба - вещь, сдвинутая со своего места, анекдо-
1 Встречи с прошлым. Вып. V. М.: Советская Россия, 1984. С. 367.
2 Мандельштам О. Литературная Москва. Рождение фибулы // Мандельштам О. Слово и
культура. М.: Советский писатель, 1987. С. 202.
Вечер четвертый. Против течения
327
тически извлеченная из привычных жизненных соответствий и заставляющая их
припоминать, восстанавливать, догоняя памятью уже утраченное время.
Анекдот противоположен эпосу, но он ему родственен. Их родство в их исто¬
ричности, о чем тогда же, в самом начале 1920-х, напомнил Л. Гроссман, изучая
жанр анекдота в пушкинскую эпоху. Их родство и в их изначальной устности, про¬
тивоположной книжной культуре. В революционные годы книжность отвергается
взорванным состоянием форм жизни, речи, культуры. Она отвергается собственно
литературным бытом - его безбумажностью. Литература вытесняется в фольклор
и еще долго тяготеет к устному слову и жанру. И эпос, и анекдот - у ее истоков.
В анекдотических рассказах Зощенко постоянно звучит эпическая интонация,
творится иллюзия эпоса, срывающегося в анекдот. В общем, его анекдоты - на
историческую тему, которая сквозит в незначительности быта. Нередко рассказ¬
чик вполне в духе времени соотносит себя с событиями историческими, при этом
нередко же ошибаясь и проговариваясь: «Я тоже старый революционер, с пятого
года у Михаила Архангела» ( «Брак по расчету» ).
Чаще всего Зощенко строит свой сюжет на грани этого несовпадения пла¬
нов - исторического, которому официальная идеология предписывает приобре¬
сти достоинство эпоса, и бытового, который при попытке обрести предписанное
достоинство срывается в анекдот. Хотя Зощенко не только играет на противоре¬
чии. На нашей конференции прозвучал доклад Л. Милн по поводу рассказов о Ле¬
нине, трактуемых как попытка деидеологизировать материал и дать детям возмож¬
ность вечных притчевых повествований о добром человеке. Имя же по сути дела
неважно для Зощенко. А может быть, напротив - очень важно, и путем деидеоло¬
гизации он выходит на грань цензурного допустимого несогласия с официозом,
его опровержения. Такая точка зрения была высказана при обсуждении.
Думаю, что Зощенко ни в коей мере не мыслил написать идеологическую
пародию, но и не стирал исторический образ в притчу. Ленин для него оставал¬
ся Лениным, лицом историческим, но взятым в обыденности повседневного. Ил¬
люстрировалась одна из граней официально утвержденного образа - «самый че¬
ловечный... ». Если же воспользоваться идеологическим штампом гораздо более
позднего времени, то это был этюд на тему «истории с человеческим лицом». Дея¬
тель исторический оказывался человеком. Чаще Зощенко писал о том, как челове¬
ку, обычному человеку, не удавалось сколько-нибудь убедительно исполнить роль
не то что деятеля, а участника истории. Герою никак не удается правильно понять
и проговорить лозунг дня. Тем более - мировую культуру, на принадлежность
к которой у него есть претензия. Он ошибается, путает и тем не менее вновь и
вновь пытается выговорить, пересказать.
Пересказ - одно из ключевых слов для понимания Зощенко. Применительно
к текстологии его вещей оно способно объяснить неустойчивость его текстов,
постоянно меняемых, вероятно, не только в связи с меняющимися цензурными
328
Как выло и как вспомнилось
условиями, но и в силу своей изначальной устности. Это качество в них никогда не
исчезает и диктует обновление интонации, тона, слов. Зощенко и самого себя не
повторяет, а пересказывает.
Равно как он вновь и вновь заставляет своего героя дерзать в пересказе фраг¬
ментов текста мировой культуры. Уже в 1930-е годы из рассказов складывается
«Голубая книга», «смешная и сатирическая <... > история человеческой жизни»,
как представлял ее автор в письме к Горькому (январь 1934).
И тогда же возникает замысел «Перед восходом солнца» - книги, обращен¬
ной на самого себя, посвященной самопознанию, но - через опыт человечества,
через культуру, теперь пересказываемую от своего имени, нередко с интонациями
своего героя. Где герой, где автор? Сближаются ли их пути в эволюции творчества?
Во всяком случае, пропадает острота анекдота по мере того, как в качестве общего
фона революционный эпос заменяется культурной историей человечества, в пере¬
сказе которой Зощенко не хочет, однако, другого слова, кроме данного временем
и современным ему речевым сознанием.
1995
Игорь Шайшов. Колонки перестройки
Стилистические разногласия
Известны слова Андрея Синявского о том, что с советской властью у него сти¬
листические разногласия. Это не только остроумная фраза, но фраза - большого
исторического смысла. Не говоря уже о том, что корень очень многих разногла¬
сий в языке - в его разночтениях, во взаимном непонимании, - в России человек
культуры, именуемый интеллигентом, (почти) всегда находился в стилистической
оппозиции к человеку власти, бюрократу. Они говорили и, увы, говорят на разных
языках, иногда чуть сближаясь, иногда расходясь еще дальше. Вероятно, это за¬
кономерно и справедливо далеко не только для России, но для России, взятой на
европейском фоне, - особенно.
Особенно, поскольку у нас особая (на европейском фоне) культурно-языко¬
вая ситуация. Она сложилась не при советской власти, а была лишь доведена ею до
крайности и до абсурда. Человек культуры в своей массе был унижен и обобран до
последнего предела. Его главной собственностью были книги, его ценностью -
слово. Образованность, знание были менее показательны, ибо они производим от
слова. Человек без слова, демонстрирующий сумму сведений, которой обладает
(особенно в гуманитарной сфере), поражает не своими познаниями, а своим не¬
пониманием того, чем он якобы овладел.
Отсюда особая ревность к языковой чистоте, почтение к хорошей речи. Не
знаю, можно ли в какой-либо другой национальной культуре составить столь про¬
странную антологию «Писатели о языке», как в России. К слову традиционно
апеллируют, о нем вспоминают в минуты опасности и потрясений: «Мы сохраним
тебя, русская речь, / Великое русское слово...»
Отсюда и болезненно-раздраженная реакция на языковые ошибки. Непра¬
вильное ударение может погубить репутацию. Студентка, рассказывая о круглой
отличнице в их группе, всегда хорошо подготовленной и умеющей ответить «с
чувством, с толком, с расстановкой», не верит подлинности знания своей соуче¬
ницы и в доказательство ссылается на элементарную ошибку в ударении: «Она
всегда просит преподавателя: "А вы не повторите еще раз”». В подтексте этого
рассказа: у человека, стоящего на столь низком уровне языкового сознания, сумма
знаний никогда не обогатится пониманием, не станет мыслью.
330
Как было и как вспомнилось
Мне не раз в первые годы перестройки приходилось отвечать на удивленные
вопросы иностранцев, не понимающих, почему Горбачев, свершивший немыс¬
лимое и заслуживший, казалось бы, нашу вечную благодарность, не так любим
русской интеллигенцией, как он любим на Западе. Среди других причин, я объ¬
яснял, - языковая. И рассказывал тогдашний англо-русский анекдот о том, как,
пытаясь беседовать с кем-то из западных лидеров по-английски, Михаил Сергее¬
вич спрашивет переводчика, с обычным для себя и знаковым для малокультурного
человека ударением: «Как по-английски начать?» На что переводчик отвечает,
точно так же смещая ударение в английском слове на первый слог: «То bëgin».
Слушатели смеялись, но, кажется, так и не очень понимали, почему это забав¬
ное произношение способно повлиять на репутацию великого человека.
В России - способно. Слово - смысловой и деятельный центр ее культуры.
Гетевский Фауст, задумывась над тем, как точнее перевести начало Книги Бытия,
предлагает такой вариант: «В начале было Дело». Для России это немыслимый
перевод, поскольку, конечно, в начале было слово, и слово было делом, поскольку
чаще всего оно не доходило до дела, оставаясь лишь словом. Сказать - это почти то
же самое, что сделать. Вот почему центром нашей культуры так долго оставалась
литература.
В редкие моменты русской истории вдруг бывало объявлено освобождение,
и среди других дарованных свобод - свобода слова. С небывалой прежде широ¬
той - в ранние годы перестройки. Однако дар свободы оказывался не только вре¬
менным, но и фактически не востребованным обществом. Свободное слово как-то
странно вело себя в российских условиях, норовя то заново омертветь в лозунге,
то сорваться на крик, поскольку - свобода и все дозволено. Как-то уж очень раз¬
нузданно реализовала себя либеральная идея в русской речи. Этого было много
в СМИ 1990-х годов, потом поубавилось, а сейчас вновь небывало расцвело со
всех сторон, но меня, как бывшего слушателя «Эха Москвы», особенно оскор¬
бляет их тон. С этим либеральным строем речи у меня не меньшие стилистические
разногласия, чем у Синявского с советской властью. Я имею сейчас в виду медий¬
ное хамство под знаком «свободы слова».
Мы заговорили либерально, но как эта идея звучит по-русски, не слишком ли
искажается акцентом и временем? Имея в виду именно этот вопрос, я согласился в
1990 году писать ежемесячную колонку для «Литгазеты». Название моей колон¬
ки было «Стиль - это...». И каждый раз я рассуждал о том, что это такое. Стиль
был неустойчивым, как и само время. На крышах и стенах зданий все еще здесь и
там красовались советские лозунги, а с экрана неслись новые слова, складывающи¬
еся в новые формулы и не готовые ли обернуться новыми лозунгами?
Я, почти ничего не меняя, перепечатываю несколько своих литгазетовских ко¬
лонок 1990 года, чтобы вернуть для разговора «либерально по-русски» его пер¬
воначальную атмосферу. А быть может, и убедиться, что те стилистические разно¬
гласия все еще сохраняют силу.
Вечер четвертый. Против течения
331
Поэтика лозунга
В один из первых перестроечных годов я побывал в ТОмске...
Красивый город, особенно там, где не слишком стремительно молодеет древ¬
ний Томск, где видно, как крепко он был срублен из негниющего сибирского леса,
как высоко поставлен на каменные фундаменты. Со всей России приезжали сюда
торговать и учиться в университете, старейшем за Уралом. При нем - библиотека,
уникальная, имеющая статус научной, которого, однако, никак не получат ее со¬
трудники, работающие просто библиотекарями. Но им обещают, и ремонт в уни¬
верситете обещают закончить. Купцы его строили не то шесть, не то восемь лет,
ремонтируем - уже двадцать.
Хорошо строили купцы - из дерева, из камня, так что десятилетиями простоя¬
ли дома без должного ухода, и, Бог даст, наш ремонт тоже их не доконает. Вообще,
если говорить о Томске, то он выглядит сохранным и разрушающимся в меру -
в меру областного центра. Районные разрушаются быстрее и реставрируются еще
медленнее. Здесь же, это видно, что-то строят, что-то приводят в порядок, что-то
прикрывают, умело размещая средства наглядной агитации и пропаганды. Одно
из первых впечатлений - в Томске много лозунгов...
Сейчас, когда у нас пробуждается вкус к статистической точности, я не возьму
смелость утверждать, что на душу каждого томича, безусловно, приходится боль¬
ше агитационного материала, чем на душу жителя какого-то другого города. Но
впечатление такое возникает. Может быть, оттого, что ждешь особой идеологи¬
ческой подтянутости от города, где первым секретарем обкома не один и не два
года был Егор Кузьмич Лигачев1. О нем слышишь, как только тебе демонстрируют
парадную площадь города, застроенную далеко не в худшем современном стиле -
обком, концертный комплекс, театр.
0 театре говорят, что и в прежние, застойные годы здесь ставились пьесы, с
трудом проходившие в столице. Для объяснения существует фольклорная байка.
Вызвал тогдашний Первый тогдашнего Главрежа и молвил ему таковы слова: дай
мне два ярких идеологических спектакля, а там делай что хочешь. В общем: будь
свободен, но поднови вывеску.
Так или этак, но в Томске ждешь лозунгов и сразу же обращаешь внима¬
ние, что не какие-то обрывки бесхвостые, а, как строка песни, как сура Корана,
бегут они по фасадам домов, растянувшись порой на целый квартал: «Комму¬
нистическую идейность, активную жизненную позицию - каждому советскому
человеку».
1 Этот член последнего советского Политбюро ЦК КПСС особенно прославился как оп¬
понент Б. Ельцина при начале перестройки, которого, кстати сказать, именно он и доставил из
Екатеринбурга. А потом горестно сетовал: «Борис, ты неправ».
332
Как выло и как вспомнилось
Веско, основательно, так что не знаешь - то ли лозунг вывешен на дом, то ли
дом пристроен к лозунгу. И обречены они быть до конца вместе: дом с лозунгом.
Может быть, так и говорят о нем жители или соседи по улице Кирова, но лично я
замечал другое: лозунги, как бы долго они ни оставались на одном месте, не пре¬
вращаются в опознавательные приметы городского пейзажа. Люди назначают
свидания у памятника, под часами, даже под вывеской, запоминая ее, поскольку -
функциональна, но встречаться под лозунгом - странно.
Странно не от избытка почтительности или какого-либо другого чувства, но
лозунг, чем дольше он висит, тем менее запоминается. Такой парадокс: призван¬
ный овладевать сознанием, лозунг проходит не задевая сознания, заметный толь¬
ко свежему взгляду. Мне в этом как-то раз пришлось вполне убедиться. Проезжая
мимо Ярославского шинного завода, из окна вагона видишь аршинные буквы на
его, видимо, административном здании. Однако поезд, которым мне случается
здесь ездить, обычно проходит глубокой ночью, и несколько лет я не встречал зна¬
комого лозунга. Г оды бурные, перестроечные - на месте ли он, при первой же воз¬
можности интересуюсь я у тамошнего жителя. В ответ недоумение: какой лозунг?
Ну как же - на шинном: что-то про «добротные шины»! Ни малейшего узна¬
вания.
Тогда я решаю проверить самолично. В очередную поездку по Северной до¬
роге просыпаюсь в четыре утра и жду. Великая русская река еще течет. Индустри¬
альный гигант - куда же он денется. И лозунг на месте. Перечитываю его слова
и понимаю свою беспомощность перед этим жанром, поэтикой которого, ока¬
зывается, не владею. В моем воспоминании он выродился в банальную памятку
изготовителю об очевидном - о том, что шины, им производимые, должны быть
приличного качества. Лозунг тоже, конечно, напоминает об очевидном, но как это
делает: «Родине долговечные шины». Интонация, возвышающая душу, подхватыва¬
ющая мысль о долговечности, о великой цели твоего будничного деяния... «Если
вы отдадите механику чинить свой велосипед или газовую плиту, то потребуете от
него не любви к человечеству или веры в величие Германии, а толковой работы, по
ней вы будете судить о нем и обо всех прочих - и правильно сделаете»1.
Это сказано Германом Гессе в предвоенные годы в нацистской Германии.
И им же: «...когда почитают священными отечество, церковь или партию, но
плохо и неряшливо исполняют ежедневную работу - тогда начинается корруп¬
ция»2.
В жизни народа бывают моменты, когда каждый должен знать конечную цель
и значение своего труда, когда важно помнить, что шины, гвоздь и буханка хле-
1 Гессе Г. Читая роман / Перевод Н. А. Темчиной, А. Н. Темчина // Гессе Г. Письма по
кругу. Художественная публицистика. М.: Прогресс, 1987. С. 234.
2 Там же.
Вечер четвертый. Против течения
333
ба - для родины. Но исключительные моменты не могут быть повседневностью
и длиться вечно. Нельзя требовать, чтобы каждый день становился подвигом, как
бессмысленна и другая крайность: «Трудовые будни - праздники для нас». Эта
фраза обречена на то, чтобы рано или поздно сделаться комически двусмыслен¬
ной.
Работа есть работа... Шины делают не для родины, а для автомобиля и его
владельца, а если ты их делаешь, то они должны быть долговечными - без допол¬
нительных обещаний.
Тем, кто создает лозунги, а еще точнее - тем, кто их заказывает, вероятно,
кажется, что жанр помогает держать в уме цели и, следовательно, приближаться
к ним. В действительности же иначе. Лозунг - жанр компенсирующий. Как от¬
дельный человек нередко ищет успокоения, повествуя о несуществующих успехах,
так и общество в лозунгах помогает себе принимать желаемое за действительное.
Провозглашаем: догоним и перегоним, будем жить... И кажется, что почти догна¬
ли, что уже живем... Постоянно слышишь, как, перечисляя факторы, со всей несо¬
мненностью обеспечивающие нам грядущие успехи, наряду с богатством ресурсов
и потенциала называют желание советского народа жить лучше. Как будто это же¬
лание есть нечто особенное, редкостное, как будто само по себе оно - огромная
ценность.
Пожелать - почти что иметь. Такова логика лозунгового мышления. Повто¬
ряйте чаще, что у нас лучшее в мире и то, и это... Не забывайте гордиться и, быть
может, убедите себя... или убеждение уже не действует? И мы все более склоня¬
емся к тому, что единственное безусловно лучшее в мире, чем мы владеем, - наши
лозунги. Первенство, в котором нам ничто не угрожает, поскольку на него никто
не претендует.
Прошу прозы!
На днях мне пожаловался знакомый литератор:
- Совсем заработался, простого не вспомню. Целый день мучился - чье: «Го¬
спода! Если к правде святой мир дороги найти не умеет...»
- Вспомнили?
- Не успел. Подсказали. И вы знаете - в неожиданном месте. Включаю вече¬
ром телевизор Верховный Совет слушать, и вдруг депутат начинает: «Как говорил
Беранже...»
Я тоже заметил, что чем дальше, тем чаще с депутатской трибуны цитируют.
Разное и по-разному. Один сыплет: Чаадаев, Бердяев... Другой трудно припоми¬
нает хорошо забытое из школьной программы, из дедушки Крылова. Или, наобо¬
рот, силится произнести непривычное, долго примериваясь ударением к незнако¬
мому слову, например - «Евангелие».
334
Как было и как вспомнилось
Часто ударение все-таки приходится не туда, где ему быть следует, и в более
простых словах. Но не в том дело. Драгоценно, что нынешние парламентарии счи¬
тают нелишним и вспоминать забытое, и обременять память дотоле неизвестным.
Объяснений может быть несколько. Первое, наименее лестное - прежняя
несамостоятельность, цитатность мышления: «Как говорил...». Но ведь за этим
теперь следует не какое-нибудь канонизированное или властью облеченное имя,
а Беранже, дедушка Крылов. С них какой прок? Конечно, классики; и если не
власть, то авторитет. Культурный первоисточник. Отсюда второе объяснение,
уже более радующее, даже более радужное: культура становится авторитетом.
Чур-чур, не сглазить бы.
Тем не менее, чтобы не слишком увлечься преждевременной радостью, пред¬
ложу третье объяснение все возрастающей страсти к цитированию с парламент¬
ской трибуны. Цитаты - это дорожные указатели к еще не проложенной дороге
в сторону культуры. Мы по ней хотим идти, собираемся, но пока движемся мед¬
ленно; а потому подкрепляем себя цитатами, ими компенсируя то, что не звучит
в тексте.
Именно не звучит! Мысль проговаривается как будто новая, как будто пра¬
вильная и долгожданная, но нет полета, ибо нет для нее слова, способного ее
поднять и вывести. Новый вариант старой проблемы - журденовской: герой Мо¬
льера был потрясен тем, что говорит прозой, мы же все никак прозой не загово¬
рим. Хотим не талдычить по бумажке, не мямлить заученное, не рапортовать и не
отчитываться, а говорить. Не штампом, не лозунгом и даже не цитатой - а про¬
зой, публицистической, исторической, философской... И вы знаете, нет-нет она
уже и промелькнет в речи с той же парламентской трибуны, с журнальной стра¬
ницы.
Прежде ее не было, десятилетиями не было. И откуда бы ей быть там, где всем
велено считать так и только так, а кто так не считает, того мы сочтем клеветником
на нашу действительность. И точка. Я не придумываю - почти цитирую.
Самому изощренному стилисту в той публицистике и философии не удалось
бы обнаружить индивидуального стиля. Вот почему вспоминаю, как удивлялись
мы, выпускники филологического факультета МГУ конца 1960-х, когда в списке
предлагаемых нам для распределения мест прочитали: стилист в КГБ. А чему
удивляться? Только там и был к месту стилист, ибо не красоты же напечатанных
текстов ему предстояло выискивать, а опознавать руку в ненапечатанном или
в не-у-нас-напечатанном. Там-то и пробивался узнаваемый, личностью окрашен¬
ный голос.
К нашей речи и сегодня со стилистической экспертизой сложно подойти.
Попробовал это сделать Рой Медведев, докладывая о деле Гдляна и Иванова1:
1 Адвокаты, игравшие яркую роль в первых перестроечных парламентах.
Вечер четвертый. Против течения
335
покаянные признания их подследственных пестрят повторяющимися фразами.
Надиктованы следователями? А кто тогда надиктовал отказ от показаний? Не чи¬
тая, уверен, что повторов там нисколько не меньше, ибо что у нас свободно от
штампов? Свои штампы для торжественной речи, свои для покаянной исповеди.
Жанр торжествует над личностью, как в средневековой литературе.
Если подвергнуть стилистической экспертизе все дело Гдляна и Иванова, то
обескуражит сходство мышления и языка у подследственных, следователей и те¬
перь - у их преследователей. Система держит всех и даже в борьбе с собой под¬
совывает свои же средства. Иных не дано. В языковом поведении сторон это оче¬
видно, когда, не внемля призыву: «Давайте порассуждаем», - не рассуждают, не
говорят, а выкрикивают, оскорбляют, злорадствуют, припечатывают: «Гдлянщи-
на, гдлянщина...» Пока продуктивна эта модель для создания неологизмов, сомне¬
ваешься, будет ли нынешнее поколение жить с новым мышлением.
Мы все - из прошлого. Новое мышление не может начаться с такого-то дня,
в который оно объявлено. Можно выпустить словарь нового мышления - он
уже есть. Можно обогатить словарь всех языков мира словами «перестройка» и
«гласность», но для подлинной гласности разрешение говорить есть лишь усло¬
вие начала - чтобы реанимировать свой язык во всем богатстве и во всей свободе
его словаря.
Язык органичен, его нельзя придумывать и сочинять. Сочиненными выра¬
жениями мы не говорим, но проговариваемся, обнаруживая, что еще не мыслим
по-новому, что еще просто не мыслим, что в нашем сознании «судьбоносные под¬
вижки» еще не совершились.
Господи помилуй, какие слова для обозначения едва начавшихся перемен:
«судьбоносная подвижка». Все в них как будто предусмотрено, все есть. В торже¬
ственной двусоставности первого сквозит (должен сквозить!) гомеровский эпос.
Второе - из нашей речи, от него должно якобы веять жизнью. Оно должно наме¬
кать, что эпос-то эпос, но с человеческим лицом...
И все-таки область прозы расширяется. Как недавно сильно расширилась
у нас область поэзии: оказалось, что гонимая авторская песня, иронический капуст¬
ник и многое другое уличное (если не сказать - заборное) тоже поэзия, потому
что - жизнь слова, потому что мы так говорим. Вначале мы обрадовались, что нам
разрешили быть самими собой, заговорить так, как мы привыкли говорить. Однако
волны первой радости схлынули, оставив сомнение - хорошо ли мы говорим?
Наше пристрастие к слову ерническому, оскорбительному, передергивающе¬
му не случайно. Оно от сопротивления другому слову - нам навязанному, офици¬
альному, торжественно-пустому, не допускающему мысли. Но если прорезается
новая мысль, если она ищет слова, то хочется верить - найдет. И находит. Пар¬
ламентская речь начинает прилепляться к литературной цитате, но, быть может,
следующий для нее шаг - самой явиться литературным событием. Недавно извест-
336
Как было и как вспомнилось
ный кинорежиссер сказал, что лучшее наше кино сегодня - заседания Верховного
Совета. А слово, там звучащее, - не станет ли оно нашей сегодняшней прозой?
Должно стать, иначе не будет ни нового мышления, ни новой литературы.
Тише, обыкновеннее
Ничему мы сейчас так не радуемся и ничем так не гордимся, как «возвращен¬
ной литературой». Непечатаемые, принудительно забытые, неупоминаемые, они
возвращаются к нам. Они - к нам. Это не то же, что мы - к ним, это будет потруд¬
нее. Преодолевая бумажный кризис, книгу можно издать. В борьбе с книжным
дефицитом ее можно достать, поставить на полку, просмотреть и даже прочесть.
Однако для того, чтобы ее пережить, сделать своей и сделаться своим для ею зна¬
менуемой культуры, требуется время и время.
Десятилетиями наша культура была унижена и запрещена. Но десятилетиями
же, униженная и запрещенная, она существовала. Все еще была. Теперь ее разре¬
шили. Разрешение есть, но культуры нет. Уже нет. Исключениями из правила она
не создается.
Грустное напоминание, омрачающее одну из немногих наших радостей, но
необходимое - чтобы у нас не было иллюзий, чтобы мы не принимали нашу ско¬
роспелую причастность за принадлежность. Мы пока что увидели то, чего были
лишены и чем все еще не умеем овладеть. Да и момент сейчас не самый удобный
для овладения. Вот какой выходит парадокс: ждали, читали, тайком переписыва¬
ли, передавали из рук в руки, наконец, дождались... Возвращенное оказалось как
бы не ко времени. Интереснейшие номера журналов откладываются на потом,
а проглатываются газеты, телевизор гоняется по программам - от одного съезда
к другому. Так что даже сегодняшнее литературное слово, к нам обращенное, рас¬
слышать невозможно.
Иногда лишь спохватываемся: а что в литературе, есть ли новенькое, чьи стихи
прочесть? И если чьи-то стихи все же прочитываются и помнятся, то это наводит
на мысль, что помимо дарования есть в них нечто такое, в общем, заставляющее на
время приглушить звук телевизора.
Среди немногих расслышанных нами - Борис Чичибабин, еще до новых книг
(сейчас уже появляющихся) по журнальным подборкам представленный на Го¬
сударственную премию. Знак официального, а теперь, можно сказать, - обще¬
ственного признания. И еще важнее: поэт, замеченный теми, кто за поэзией вни¬
мательно не следит, случайно наталкивается на одно-два стихотворения и потом
расспрашивает: кто это такой - Чичибабин?
Он из тех, кто сказал о прошлом так, как сейчас говорим все; однако сказал,
когда прошлое было настоящим. Тогда его, естественно, не печатали. Но он гово¬
рил - чтобы не промолчать. Обличал, пророчествовал, по собственному призна-
Вечер четвертый. Против течения
337
нию, пренебрег «мастерством», которое в прежние годы повсеместного падения
нравов и профессионализма (профессиональной за это время у нас сделалась толь¬
ко преступность) стало чем-то большим, нежели простое умение, - нравственной
доблестью: я не могу сделать то-то и то-то, не могу славословить, писать по заказу,
потому что я - мастер. В этом было свое благородство, но и своя уклончивость,
право на умолчание.
Чичибабин не умалчивал, он говорил, возвращая поэзии пафос и достоинство
высокого предназначения, божественного глагола. Его непримиримость, его гнев,
уникальные тогда, широко подхвачены сейчас - когда можно. Но и сейчас его
слово звучит уникально: когда все столь непримиримо убеждены в своей правоте
и в своем праве сказать, он не убежден. Так ли говорю? Мне ли дано выразить?
Смогу ли - ведь я не Мастер: «Гениальным графоманом Межиров меня назвал» ?
За моментом вдохновения и гнева - смятение, почти детская растерянность,
сомнение. Чувства, ныне редкие и тем более драгоценные. Поэт подсказывает нам
интонацию, которой мы не владеем, определяет тон для разговора о самом важ¬
ном: «Все тише, все обыкновеннее я разговариваю с Богом».
«Тише и обыкновеннее» - среди общего гвалта, крика, нередко срывающе¬
гося на кликушество, вопреки распространившейся моде на слова новые, необык¬
новенные и плохо понимаемые. Вопреки тому, что другой поэт, Иосиф Бродский,
как-то назвал «отвратительным неофитством». Жестокий диагноз состояния
нашей сегодняшней культуры, но - точный. Вынутые из-под спуда, из-под запрета
ценности многим показались легкодоступными.
Бездумно-бодрый атеизм сменился столь же бездумной, ибо столь же не заде¬
вающей сознания, религиозностью. Прежде не было трагедии безверия, не скор¬
бели (по тютчевскому слову) «перед замкнутой дверью», - как и сейчас, отворяя
ее, не ощущаем трудности шага при вступлении в новое пространство, отчего и
ведем себя в нем согласно другой тютчевской строке: «Толпа вошла, толпа вло¬
милась...»
Посещение храма - непременно чтобы действующего! - сделалось ударным
пунктом туристической программы. Подъехал автобус, высыпали люди. Не меняя
своего обычая и жизненного ритма, вошли, слились в очередь, купили свечки, раз¬
бежались по храму, драматическим шепотом выясняя: где тут за здравие, где за
упокой? Картина бытовая, обычная и символическая: «Целый год муссировали
отечественные мыслители слово "духовность”: они жевали его до тех пор, пока
не договорились аж до "коммунистической духовности”. Теперь - когда с "духов¬
ностью” покончено - принялись за "соборность”: похоже, скоро у нас и съезды
КПСС будут проходить в "духе соборности”».
Автор статьи «О национальной гордыне великороссов» («Книжное обозре¬
ние», 1990, 15 июня) Ольга Газизова напоминает о простом - о том, что у слов,
вдруг нам приглянувшихся, есть смысл и традиция. Ими нельзя насильственно
338
Как выло и как вспомнилось
овладеть, их нельзя присвоить. Журнальные поборники «духовности» и «собор¬
ности» (болтающие, правда, о них уже не один год) - неофиты. Ударными тем¬
пами они конструируют свою «духовную» традицию, придумывают себе благо¬
родных предков, выписывают культурную родословную и попадаются при встрече
со знатоком, профессионалом (О. Газизова заведует отделом церковной жизни в
«Московском церковном вестнике»).
Все у них недавнее, по случаю, понаслышке приобретенное. Стоит обладатель
культурных ценностей, довольный, но уже очень усталый: многие с непривычки
притомились, снова повели речь о «причудах “образованщины”», как назвал свой
очередной очерк литературных нравов В. Бондаренко («Московский литера¬
тор», 1990,15 июня). «Образованщина»-слово-де, пущенное двадцать лет назад
А. Солженицыным. Может быть. Не знаю, о ком, о чем и по какому поводу го¬
ворил А. Солженицын, однако сегодня, уверен, беда другая: полуобразованщина,
недообразованщина. Блаженное неведение, порождающее легкость в мыслях и
в аргументах необыкновенную: у меня есть мысль, и я ее думаю, не допуская воз¬
можности существования какой-либо еще мысли, от моей отличающейся.
Полуобразованщина всегда категорична и императивна. Недостаток знания
она восполняет гордостью за то немногое, что имеет. Отсюда легко выводима
формула: чем меньше знания, тем больше гонору. Полуобразованщина не умеет
слушать других и не слышит себя, чтобы допустить хоть тень сомнения в возмож¬
ности своей неправоты.
«Тише и обыкновеннее» - это то, что у нас пока не идет, то, чего мы не уме¬
ем. А от крика устали. Когда в очередной раз поднимается крик, мне кажется, пе¬
рестаешь слушать раньше, чем выясняешь, откуда кричат: справа или слева.
Я понимаю, трудно сдержаться, говоря о кричащих фактах, они же у нас все
таковы. Чуть зазеваешься, промедлишь - и, глядь, все едва начатое, задуманное -
на волосок от гибели, на полозок от обрыва (на тот самый полозок, который при
удобном случае обуется танковой гусеницей).
И тем не менее... Быстрыми должны быть решения, эффективными - законы,
принимаемые в нашем парламенте, но законы, надеясь на быстроту исполнения,
предполагают долгосрочное действие. Только укорененное в культуре становится
необратимым, а она - дело, требующее времени, неспешное и каждодневное. Воз¬
вращаться к ней радостно, но и бесконечно трудно.
1990
Венер четвертый. Против течения
339
Игорь Шайтанов
Страна, которую оказалось не жалко
Слово и дело
Сначала они повторялись устно, на правах анекдота. Потом и в печати эти
слова замелькали - будто бы сказанные Бисмарком в ответ на вопрос: «Можно ли
построить социализм?» - «Можно, если найти страну, которой не жалко».
Нашли нас. Судьба, случай, история? Почему нас, почему кого-нибудь друго¬
го нельзя было выбрать?
Проще всего предположить, что все с нами происшедшее - ошибка утопиче¬
ского расчета. Это предположение нам тоже не вовсе чуждо: все чаще идеализи¬
руем уже не будущее, а прошедшее - до 1917 года. С него открываем трагический
счет.
Однако вопрос - почему все случилось именно с нами? - остается. Мы с раз¬
ных сторон к нему подходили. Первоначально после публикации романов-анти-
утопий, когда еще не были сняты все цензурные запреты советского времени и
о сущности октябрьского эксперимента в полной мере высказаться было нельзя.
Потом свергли последних кумиров (порой буквально - с постаментов), и, повер¬
гнутые, они перестали быть богами.
Затем мы подошли к революции через проблему, от нее в России неотдели¬
мую: революция и интеллигенция. Завершилась публикация некогда знаменитых
и долгое время как бы для нас не существовавших работ на эти темы: сборники
«Вехи», «Из глубины»... За старыми сборниками последовали новые статьи...
И все это вместе связалось вопросом о нашей исторической уникальности,
ни-на-кого-непохожести, из-за которой нас, вероятно, и выбрали - не пожалели.
Русская литература - убежденная общественница. Этим знаменита. Нет ниче¬
го такого, чем бы она не занялась, на что бы не откликнулась. Философия, социо¬
логия, текущая публицистика - все в ней, в литературе. Но чем она дорожит более
всего, в чем видит свое главное призвание и отличие - это способность предсказы¬
вать, пророческий дар.
Современные футурологи, предсказатели по роду профессии, нередко осто¬
рожничают, зная за предсказаниями одну особенность - исполняться. В телепро¬
грамме «Прогноз» известный экономист Н. Шмелев отказался сказать со всей
откровенностью, что думает о последствиях либерализации цен. Отказался, по¬
скольку самые печальные предсказания в последнее время имели тенденцию сбы¬
ваться.
Чему-то мы все-таки научились... Но насколько наша литература общественна
по своей сути, настолько же наша действительность - литературна. Они сближа-
340
Как было и как вспомнилось
ютея порой до неразличимости: то ли Тургенев подсмотрел Базарова, то ли Ба¬
заровы, как в садке, расплодились в тургеневском романе. А «Бесы»? Но о них
позже...
Мы живем по литературным заветам, с цитатой на устах. Случись в Англии
что-либо, отдаленно напоминающее октябрь 1917-го, до стихов ли Колрид-
жа им было бы? А в России и Колриджа вспомнили - из него выписал С. Франк
эпиграф для статьи «Бе ргоБтсВз», название которой в русском переводе стало
названием сборника «Из глубины», составленного по горячим следам событий,
в 1918 году, теми, кто десятью годами ранее предупреждал и пророчествовал в
«Вехах».
Без поэтических эпиграфов и цитат никто не обошелся: Пушкин и Досто¬
евский, Тютчев и Блок... Есть и отдельная работа об отношении русской лите¬
ратуры к русской революции: Николай Бердяев, «Духи русской революции».
Замечательная статья, колеблющаяся между восхищением пророческим даром
литературы и вызовом-обвинением ей же. Все было известно, угадано и объясне¬
но заранее - Гоголем, Достоевским... Но угадав, не предотвратили, не увели от
бездны, а то еще к ней и подталкивали. Вина едва ли не на каждом: «Достоевский
видел дальше и глубже всех. Но сам он не был свободен от русских народнических
иллюзий».
«Виновней» всех - Лев Толстой:
Уж Толстого-то вы лучше не поминайте. Если был в России роковой для нее
человек, который огромное свое дарование посвятил делу разрушения России,
так это старый нигилист, духовный предтеча большевиков теперешних. Вот кто
у нас интернационал-то насаждал. Думать о нем не могу спокойно1, -
говорит персонаж диалогов Сергия Булгакова.
Толстой сумел привить русской интеллигенции ненависть ко всему истори-
чески-индивидуальному и исторически-разностному. Он был выразителем той
стороны русской природы, которая питала отвращение к исторической силе и
исторической славе. Это он приучал элементарно и упрощенно морализовать
над историей и переносить на историческую жизнь моральные категории жизни
индивидуальной. Этим он морально подрывал возможность для русского наро¬
да жить исторической жизнью, исполнять свою историческую судьбу и истори¬
ческую миссию. Он морально уготовлял историческое самоубийство русского
народа...2
1 Булгаков С. На пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги //Из глубины. Сборник
статей о русской революции. М.: МГУ, 1990. С. 315.
2 Бердяев Н. Духи русской революции // Вехи. Из глубины. М.: Правда. 1991. С. 281-282.
Вечер четвертый. Против течения
341
Как ни кинь, а все Толстой - «зеркало русской революции», хотя и видят
в этом зеркале разное. Одним кажется - он ей мешал; другие считают - он ее
накликал. В начале перестройки были опубликованы размышления Варлама Ша¬
ламова об ответственности русской классики с ее нравственным идеализмом за то,
что случилось в России. Здесь Толстой в компании с Горьким - «горлопан».
Мы за последние годы не раз потрясались неожиданностью открытий, кото¬
рые - справедливые или нет - при ближайшем рассмотрении оказывались старыми
новинками, едва ли не повтором того, что уже говорилось: сразу после революции
здесь, пока говорить было можно, или там - в эмиграции. И о Толстом персональ¬
но говорилось, и о русской литературе, о ее непростой роли в революции. Подо¬
зревали и порой выговаривались со всей непримиримостью, как Бунин о Блоке
(своими метелями и аметистами, своим желанием «слушать музыку революции»
вызвал-де бесов, повинен в крови).
Поспоришь ли с этим? Литература русская - общественница, и мы необычай¬
но, мифологически доверчивы к слову...
Сказать же всегда было трудно, слово звучало из-под запрета, «из-под глыб»,
потаенно и поэтому с большим значением. Начинало казаться: только бы сказать,
лишь бы вымолвить, и все чудесным образом изменится: по щучьему веленью, по
моему хотенью... Так казалось и тем, кто запрещал, и тем, кому запрещали. Тем
большим бывало разочарование, когда сказать удавалось, а печь ни с места. В яро¬
сти тогда набрасывались на недавно священные слова, растаптывая их, обманув¬
ших, и искали новые, которыми можно было бы извести морок.
Мы и сейчас все переименовываем: города, улицы, учреждения... У одного из
деятелей бывшего Совета экономической взаимопомощи (существовавшего для
социалистических стран) спрашивают - а как теперь будет называться ваш Совет.
Не знаю, говорит, «мы все сейчас испытываем проблемы со словами».
Старым словам, хотя все еще ими проговариваемся, мы не доверяем. Новым
же на какое-то время поверили, ибо магическое отношение к слову - в традиции
русской культуры. Решили, во всяком случае, посмотреть: а вдруг они, новые, по
крайней мере, перестанут превращать уборку урожая в «битву за хлеб»; вдруг
со словом «перестройка» все и перестроится; или переименуем город Горький
в Нижний Новгород, и вернется туда изобилие макарьевскихярмарок...
А пока оно было - изобилие, его как будто не замечали то ли от темноты
в глазах из-за «свинцовых мерзостей», то ли из-за слепящего света упоительной
мечты. Помечтать любили. Поговорить о мечте. Сказать же - почти что сделать...
И тут произошло неожиданное - сделали, воплотили. «Русская револю¬
ция оказалась национальным банкротством и мировым позором...» - написал
в 1918 году П. Струве. Да, национальное банкротство - оно наше. А позор - ми¬
ровой... Правда, в каком смысле? Оттого ли, что мы обанкротились перед лицом
342
Как было и как вспомнилось
всего мира, или оттого, что мы обанкротились на всемирной мечте, мировой уто¬
пии - о всеобщем братстве, равенстве?
Не мы ее создали. Мы ее нашли. Или она - нас, страну, которой оказалось не
жалко: «Среди тех высоких зрелищ, которым мы оказались причастными в нашу
эпоху, быть может, одним из самых величественных является совершившееся на
наших глазах крушение утопизма»1.
Эта мысль тоже из числа наших запоздалых открытий: после появления
у нас романов Замятина, Хаксли, Оруэлла... Откровение, которое одновременно
выплеснулось на страницы разных журналов: XX век - век утопий или, точнее, ан¬
тиутопий.
Утопия или антиутопия?
В советские времена тонкости различения между утопией и антиутопией нас
мало интересовали.
Утопия? Это - Мор, Кампанелла и череда социалистов-утопистов, на чье бла¬
городно-наивное учение нас приучили смотреть с чувством превосходства наслед¬
ники единственно истинной и научной теории.
Антиутопия? Для читателя, ограниченного кругом официально дозволенной
печатной продукции, это было нечто несуществующее, поскольку - запретное,
вплоть до неупоминаемости. Особенно плотной завесой молчания было окруже¬
но имя Джорджа Оруэлла из-за его «Скотного двора», где в форме «животного»
эпоса он посягал на самые-самые святыни, и из-за романа «1984».
каково же было удивление тех, кто, зная это имя и привыкнув его не упоми¬
нать, вдруг слышат добрые слова о писателе - и где? В официальной телепрограмме
«Время»! Случилось это в год, им предсказанный, - 1984-й. По случаю предсказа¬
ния и вспомнили автора, который за три с лишним десятка лет до этого переставил
последние две цифры года, когда писался роман, предсказавший судьбу...
Чью судьбу? В программе «Время» отметили прозорливость Оруэлла, так
точно описавшего современную западную цивилизацию, скатывающуюся к тота¬
литаризму, милитаризму, антидемократии и прочая, и прочая.
В воздухе, правда, повис вопрос, который, увы, некому было задать: зачем же
было скрывать предостерегающее пророчество? Оставалось предположить, что
Оруэлла не издавали и не упоминали исключительно за ненадобностью - не о нас
писано, не нам и читать.
О причудах советской идеологической интерпретации можно бы сейчас и не
вспоминать, если бы не оказалось, что она существует, и на правах вполне акаде¬
мической версии, обсуждавшейся на разного рода конференциях и семинарах,
прошедших на Западе в связи с датой оруэлловского предсказания. Там, невзирая
1 Гессен С. Крушение утопии // Современные записки. 1924. № 19.
Вечер четвертый. Против течения
343
на протесты людей более политизированных, профессора продолжали бесстраст¬
но выяснять исторический адрес романа: западная цивилизация? человечество в
целом?
В общем, получалось так, что слушатель программы «Время» в 1984 году, еще
не ведая об антиутопиях, не задумываясь о жанровых различиях, столкнулся с едва
ли не главной проблемой понимания и интерпретации этой формы, имеющей дело
с исторической реальностью, которая проецируется в будущее.
В свое время Е. Замятин, объясняя, в чем новизна романов Уэллса, заметил:
Авторы утопий дают в них кажущееся им идеальным строение общества или,
если это перевести на язык математический, утопия имеет знак + <...> Социаль¬
но-фантастические романы Уэллса от утопий отличаются настолько же, насколь¬
ко + а отличается от -а. Это не утопии, это в большинстве случаев - социальные
памфлеты, облеченные в художественную форму фантастического романа1.
Мнение обоих - и Замятина, и Уэллса - о том, что происходило в России,
вставшей на путь осуществления утопии, нам еще предстоит выслушать.
Замятин думает об Уэллсе, когда пишет собственную не-утопию - роман
«Мы». Слово «антиутопия» он не произносит, но, по сути, его подразумевает,
говоря о полярной замене знака, плюса на минус: «Уэллсовская фантастика - это
фантастика, может быть, только для сегодня, а завтра она уже станет бытом. Мы
можем сказать это с тем большим основанием, что многие фантазии Уэллса уже
воплотились, потому что у Уэллса есть странный дар видеть будущее сквозь непро¬
зрачную завесу нынешнего дня» («Герберт Уэллс»).
Замятин восхищен даром Уэллса, остротой его зрения, предвидящего будущее
в настоящем. Он сам разовьет эту способность в еще большей мере благодаря со¬
знательному отношению к жанру, глазами которого смотрит на действительность:
не-утопия. И благодаря самой действительности.
«Крушение утопизма» свершится в тот момент, когда утопия попытается
стать исторической реальностью. Самым убедительным и проницательным вы¬
сказыванием о результате этого намерения сочтут роман «Мы» (как известно, по¬
явившийся в Англии в 1924 году, у нас же - в журнале «Знамя» - лишь в 1988-м).
В нем увидят новый жанр - антиутопию, хотя предшественники у Замятина
были, а на уроки Уэллса он указал сам. У всякого явления есть источники и со¬
ставные части, но на главные литературные роли антиутопия выдвинута опытом и
сознанием нашего века, когда «утопии оказались гораздо более осуществимыми,
чем казалось раньше...»
Эти слова Н. Бердяева («Новое средневековье») сделал всемирно извест¬
ными Олдос Хаксли, поставив их эпиграфом (в наших изданиях, к сожалению,
1 Замятин Е. Герберт Уэллс. Пб.: Эпоха, 1922.
344
Как было и как вспомнилось
нередко опускаемым) к роману «О дивный новый мир» (1932). Критика сразу
же поставила его в ряд с замятинским, усмотрев прямое влияние, которое Хаксли
отрицал. Но русский опыт он признал - ссылкой на Бердяева.
Хаксли мог бы сослаться и на его более раннюю работу - заключительную
главу книги «Судьба России». Написанная в 1918 году, эта глава имеет название
«Трагедия человеческого существования и утопия. Сфера мистики». Там уже
выведен закон крушения утопизма: «Утопии осуществимы, но под обязательным
условием их искажения».
Искажение неизбежно, потому что утопия не может осуществить себя пол¬
ностью:
Социализм есть социальная утопия, и он опирается на мессианский миф.
В этом смысле он никогда не будет осуществлен в пределах этого мира, в царстве
Кесаря. Но, с другой стороны, социализм есть суровая прозаическая реальность,
есть необходимость в известный час истории. В этом смысле социализм, вне
утопии и мифа, есть очень элементарная и маленькая вещь - устранение безо¬
бразной эксплуатации и непереносимых классовых неравенств. Поэтому можно
сказать, что миф вступает в социальную эпоху. Это должны признать и те, кото¬
рые не верят в утопию и миф, столь необходимые для борьбы. Социалистическое
общество, которое в результате образуется, не будет ни совершенным, ни гармо¬
ничным, ни лишенным противоречий. Трагизм человеческой жизни в нем еще
возрастет, но станет более внутренним, углубленным...1
Прервемся. Прервемся на том месте, в котором невольно вспоминаешь, что
начинал Бердяев как марксист, за что и в тюрьме, и в ссылке побывал. Отошел от
марксизма, но, видимо, от себя, бывшего, совсем уйти нельзя.
Марксист, даже бывший, - всегда марксист, даже когда он становится мисти¬
ком и рассуждает о царстве духа.
Однако историософские прозрения Бердяева замечательны, а если сам он в
1918 году останавливается у определенного предела, то это его счастье: XX век
только начинался, и нормальный человек не мог еще представить себе меру нече¬
ловеческого в человеке, чтобы одновременно с кризисом утопизма пережить кри¬
зис гуманизма. Он впереди.
Бердяев еще придет к нему, когда осознает явление тоталитаризма, о котором
он заговорил одним из первых, еще в 1918 году связав с утопией:
Человек живет в раздробленном мире и мечтает о мире целостном. Целост¬
ность есть главный признак утопии. Утопия должна преодолеть раздробленность,
осуществить целостность. Утопия всегда тоталитарна, и тоталитаризм всегда
1 Бердяев Н. Царство Духа и царство Кесаря. Париж: Утса-Ргезв, 1949.
Вечер четвертый. Против течения
345
утопичен в условиях нашего мира. С этим связан главный вопрос - вопрос свобо¬
ды. В сущности, утопия враждебна свободе1.
Поэтому утопия и неосуществима без искажения: она воплощает мечту о рав¬
носвободном человеке, делая его равно-не-свободным (так же, как достигает -
мы это знаем на своем опыте - равенства не в богатстве, а в бедности). Однако
именно поэтому искаженно осуществленная утопия для Бердяева необходима в
контексте его мистического замысла образца 1918 года - как плацдарм борьбы за
будущую духовную свободу. Ведь не только утопия тоталитарна, но и тоталита¬
ризм - утопичен...
Утверждение, которое может быть истолковано по крайней мере двояко.
В том смысле, что тоталитаризм всегда склонен к утопии, ею держится. Но и в том,
что сам тоталитаризм несбыточен, неосуществим! Он точка последнего падения
несвободного человека, от которой нет другого пути, как вверх - к свободе духа.
Так Бердяеву тогда казалось. И не только ему. Тоталитаризм представлялся
осуществленным равенством с понижением всеобщего уровня до уровня низше¬
го: в бедность, в идиотизм...
Замятин спустя три года предложит другую перспективу - в романе «Мы».
«И некуда деваться, кроме них...»
Итак, Бердяевым сформулирован исторический закон - осуществления уто¬
пии с неизбежностью искажений. Искажения он приписал тому факту, что неосу¬
ществленным всегда останется миф о светлом будущем, о всеобщности свободы;
осуществится лишь социальная программа всеобщего равенства, но с материаль¬
ным достатком.
Здесь он явно преувеличил: равенство тоже не всеобщее, как и благососто¬
яние: не только духовный миф остается вне реальности, но и самое малое и не¬
обходимое, в осуществимость чего Бердяев верил, - социальная программа. Без
всяких вопросов и сомнений, попросту не допуская их, из всей утопии реализует
себя только политическая теория - воля к власти: «Есть такая партия».
Когда большинство народа начнет производить самостоятельно и повсе¬
местно такой учет, такой контроль за капиталистами (превращенными теперь
в служащих) и за господами интеллигентками, сохранившими капиталистиче¬
ски е замашки, тогда этот контроль станет действительно универсальным, всеоб¬
щим, всенародным, тогда от него нельзя будет никак уклониться, «некуда будет
деться».
1 Бердяев Н. Царство Духа и царство Кесаря.
346
Как было и как вспомнилось
Написано летом 1917 года в Разливе, в шалаше. Вся книга «Государство и
революция» написана (не дописана - ввиду начавшихся октябрьских событий и
необходимости перейти от теории к практике), чтобы обосновать право захва¬
та власти, от которой «некуда будет деться», что мотивировано очень просто:
«...необходимость соблюдать несложные, основные правила всякого человече¬
ского общежития очень скоро станет привычкой»1.
Современный английский историк, упоминая ленинскую книгу, не забывает
всякий раз добавить к ней эпитет - «утопическая»2. Эпитет, разумеется, расхо¬
дится с представлениями автора книги. Какая утопия? Не утопия, а тактика рево-т
люции! К тому же революции победившей, следовательно, по определению, пере¬
ставшей быть утопической, не имеющей топоса, места, не существующей.
И в то же время, конечно, утопия, осуществленная лишь частично - полити¬
чески, поскольку, пришедшая к власти, она надеется, что к ней в качестве власти
одни привыкнут, другим некуда будет деться, ибо всеобщий, всенародный кон¬
троль обернется всеобщностью слежки и доноса. Все, как и мечтал о том Ленин,
будут исполнять «функции контроля и надзора, чтобы все на время становились
"бюрократами" и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом»3.
Если замятинские сказочки про Фиту4 и не были списаны с действительности,
то они вполне могли быть списаны с революционной теории: все как один - бюро¬
краты, чтобы никто не был бюрократом.
Когда осенью 1920 года знаток утопии и фантастики Герберт Уэллс приехал
в Россию посмотреть - что же там осуществили, то не равенство поразило его, а не¬
компетентность первого в мире большевистского правительства и гадательность
политического учения (которое «всесильно, ибо оно верно», и уж во всяком слу¬
чае - тут никто не усомнится - которое всесильно, потому что оно у власти):
Марксистский коммунизм всегда являлся теорией подготовки революции,
теорией, не только лишенной созидательных творческих идей, но прямо враж¬
дебной им. Каждый коммунистический агитатор презирает «утопизм» и отно¬
сится с пренебрежением к разумному планированию. Даже английские бизнес¬
мены старого типа не верили так слепо, что все само по себе «образуется», как
эти марксисты5.
Уэллс ехал, чтобы посмотреть на все непредвзято, чтобы понять, и, как видим,
логику замысла оценил очень проницательно: все «образуется», потому что «не-
1 Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. Поли. собр. соч. в 55 тт. Т. 33. М.:
Политиздат, 1969. С. 101.
2 Карр Э. X. Русская революция от Ленина до Сталина: 1917-1929. М.: Интер-Версо,
1990. С. 12 и др.
3 Ленин В. И. Указ. соч. С. 109.
4 Подробнее о сказках см. в статье «Англичанин из Лебедяни» (Вечер четвертый).
5 Уэллс Г. Россия во мгле // Уэллс Г. Собр. соч. в 15 тт. Т. 15. М.: Правда, 1964. С. 332.
Вечер четвертый. Против течения
347
куда будет деться». Уэллс боялся одного - что его будут обманывать. По старин¬
ной российской привычке к потемкинским деревням и потому, что у «советских
собственная гордость», его действительно попытались обмануть, но достаточно
робко, ибо, как он свидетельствует на первых же страницах «России во мгле», -
«подлинное положение настолько тяжело и ужасно, что не поддается никакой ма¬
скировке».
Но если даже на потемкинские деревни средств нет, то можно предложить
иностранному гостю воздушные замки и даже электрифицировать их:
Дело в том, что Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех
«утопистов», в конце концов сам впал в утопию, утопию электрификации. Он
делает все, что от него зависит, чтобы создать в России крупные электростанции,
которые будут давать целым губерниям энергию для освещения, транспорта и
пр омышленно сти1.
В эту возможность Уэллс не поверил и назвал всю главу «Кремлевский меч¬
татель»:
Такие проекты электрификации осуществляются сейчас в Голландии, они
обсуждаются в Англии, и можно легко представить себе, что в этих густонасе¬
ленных странах с высокоразвитой промышленностью электрификация окажется
успешной, рентабельной и вообще благотворной. Но осуществление таких про¬
ектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. В ка¬
кое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего,
но невысокий человек в Кремле обладает таким даром1.
Уэллс не верил и все же заколебался - а вдруг это у него не хватает воображе¬
ния, «сверхфантазии»?
Уэллс заколебался - такова сила утопических аргументов, хотя он все знал об
утопии и многое о тех, кто ее осуществлял. Но он, хотевший понять, был готов
допустить, что чего-то не знает. Да, у него, английского либерала, никогда не до¬
стало бы фантазии лишь на то, чтобы представить себе, какие силы готова пустить
в ход утопия, пришедшая к власти, чтобы у власти удержаться, какие жертвы готов
принести тоталитаризм. Фита может быть таким же глупым, «петым», как все, но
быть таким же, как все, в отношении власти - на это он никогда не согласится. Не
за тем власть берут, чтобы ее делить.
Замятин учился мыслить у Уэллса, пошедшего дальше любых утопистов, -
в XX век. Дальше, ибо он умел не только угадывать, каким придет будущее, но и то,
что от настоящего останется в наследство будущему:
1 Там же. С. 367.
2 Там же. С. 367-368.
348
Как было и как вспомнилось
«Спящий» (Замятин имеет в виду роман «Спящий пробуждается», или
в другом переводе - «Когда спящий проснется». - И. Ш.) проспал двести лет,
проснулся - и что же? Опять все тот же, сегодняшний город, сегодняшний об¬
щественный строй, только в десятки раз глубже пропасть между белыми и чер¬
ными...1
Каким будет будущее, если настоящее, меняясь лишь внешне, материально, за¬
хочет им стать?
Этим вопросом Уэллс не раз задается в своих романах, труднее поставить
этот вопрос в публицистической книге о России. Негативная утопия, по словам
польского исследователя Е. Шацкого, требует лишь зоркого видения нынешней
ситуации. Для такого видения пребывание Уэллса было слишком кратким. Уэллс
смотрел вокруг и видел «Россию во мгле». Ему же предлагали посмотреть вперед
и заглянуть в электрифицированный рай. Он сомневался, но допускал... Допускал,
что в сфере технических достижений что-то изменится. Он был технократом и бо¬
лее верил в силу цивилизации, чем русские писатели. Но не всем лампочка Ильича
слепила глаза до такой степени. В Берлине в 1923 году Алексей Ремизов, уже на¬
всегда уехавший из России, тоже вспомнил об «электрофикации» (это его напи¬
сание):
В эти годы в России возникло много больших мировых (планетарных) за¬
дач - ведь никогда так ярко не горела мечта человека о свободном царстве на
земле, как в России в эти годы.
А мечты были подлинно головокружительные - до «электрофикации ада»:
«Электрофицировать преисподнюю, тьму кромешную, вы понимаете?2
Со многим из того, что уже сказано и процитировано, это перекликается.
«Мировые задачи» с «мировым позором», о котором писал П. Струве. Утопия
«свободного царства на земле» со всеобщим царством несвободы, тоталитариз¬
ма, которое с неизбежностью утверждает утопия, - по Бердяеву. А электрифика¬
ция - это осуществление той мечты, которой искушали, заставляя поверить в нее
как в залог всеобщего счастья, не одного Уэллса.
Ремизов не поверил и ужаснулся. Он не поверил не в план ГОЭЛРО, а в то,
что при электрическом свете люди в Стране Советов станут лучше и счастливее.
В свете электрической лампочки в его воображении вспыхнул образ, который ско¬
рее должен был вспомниться Уэллсу. Ремизову - едва ли известный, а ему-то -
обязательно, ибо классический, хрестоматийный в английской поэзии. Из поэмы
Милтона «Потерянный рай» - когда Сатана, сброшенный в преисподнюю, взи¬
рает на мрачную необозримость с ее вечной тьмой, с ее адским пламенем. Как это
1 Замятин Е. Герберт Уэллс. С. 17.
2 Ремизов А. Автобиографическая заметка // Новая русская книга. 1923. № 7.
Вечер четвертый. Против течения
349
зрительно примирить: тьма и пламень? «Но от этого пламени не было света, а ско¬
рее - тьма зримая...»
Света не было и быть не могло, поскольку свет - божественное. Ему здесь нет ме¬
ста. Адский пламень ничего не может высветить, кроме мрака, кроме - зримой тьмы.
«Слепящая тьма» - роман еще одного английского писателя - Артура Кест-
лера. Роман о сталинских застенках. Кестлер (близкий друг Оруэлла, одно время
увлеченный марксизмом, участник войны в Испании), конечно, понимал, от како¬
го образного источника он идет: всеобщность зла, слепящего не светом - тьмой.
К адской метафоре Ремизов пришел путями русской образности, сделавшейся
мифологией ее общественной мысли: от пушкинских бесов к Достоевскому.
После того как на Западе появился по-русски (с опозданием в три десятиле¬
тия) замятинский роман, Глеб Струве откликнулся на него статьей, подводящей
итог уже существующему жанру: «Новые варианты шигалевщины: о романах За¬
мятина, Хаксли, Орвелла» («Новый журнал», 1952, № 30).
Русское понятие было употреблено с широким значением, но все-таки оста¬
лось русским. Его вспоминали по разным поводам, например на смерть Дзержин¬
ского:
Это был Верховенский, осуществлявший в русской действительности горя¬
чечный бред Шигалева. Приход Дзержинского был предсказан нашим русским
провидцем, великим писателем земли русской Достоевским.
Помните в «Бесах»?
«- У него (Шигалева) это хорошо, у него шпионство, - заговорил Верхо¬
венский, - у него каждый член общества смотрит один за другим и обязательно
доносит. Каждый принадлежит всем и все каждому. Все рабы и в рабстве рав¬
ны. В крайнем случае клеветы и убийство, но главное равенство... Рабы должны
быть равны: без деспотизма еще не было ни свободы, ни равенства, но в стаде
должно быть равенство... Выходя из безграничной свободы, я заключаю безгра¬
ничным деспотизмом»...1
Все — «бюрократы», и всем друг от друга «некуда деться»?..
Слово «шигалевщина» в статьях сборника «Из глубины» также не редкость:
«В России все должно быть <...> массовым, безличным. Русский революцион¬
ный мессианизм есть шигалевщина. Шигалевщина движет и правит революцией»
(Н. Бердяев).
«Шигалевщина» - слово ключевое при взгляде на революцию из России.
Ключевое, ибо в нем не только революция, но и те, кем она вдохновлена, - интел¬
лигенция. Понятия эти неразрывны в русском историческом сознании, связаны
единством цели - осуществлением утопии, единством неудачи и вытекающим из
него вопросом: кто виноват?
1 Варшавский С. Палач // Возрождение. 1926.27 июля.
350
Как было и как вспомнилось
Интеллигенция - гордость или предубеждение российской истории?
Семь авторов «Вех» в 1909 году выступили фактически с пророчеством о
будущей революции, характер которой они попытались представить, вглядываясь
в лицо интеллигенции. Что прочли они на этом лице и что читаем мы сейчас, снова
получив в руки тот сборник и другие, за ним последовавшие?
Что провидели в революции и чего не принимали у интеллигенции авторы
«Вех» ?
«Легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, не¬
терпимость без благоговения - словом, тут была и есть налицо вся форма религи¬
озности без ее содержания». В этих формулах П. Струве - как бы свод тезисов, по
которым, в сущности, и написаны статьи сборника. Н. Бердяев писал о том, что
интеллигенция живет без философии, без идейной глубины; С. Булгаков о том,
что - без веры, без подлинно религиозного чувства; М. Гершензон о том, что - вне
творчества; Б. Кистяковский назвал свою статью «В защиту права», попираемого
интеллигенцией, а С. Франк подвел общий итог: «Этика нигилизма».
И за всем этим - вывод: «Интеллигенция погубит Россию». С этим выводом
и вообще с «Вехами» тогда не согласились многие. Появилось не менее двухсот
опровержений. Но разве пророчество не сбылось? И разве Россия не погибла
в революции? Однако прежней неопределенностью томящий вопрос: по вине ли
интеллигенции ?
Интеллигенция, как к ней ни относись, - знаменательный, символический
факт русской истории. Через него многое может быть объяснено, поскольку тут
многое сошлось. Родовое качество интеллигенции - отчуждение, ставшее след¬
ствием нескольких мучительных разрывов. Хотя начиналось все как будто бы с об¬
ратного - с нового опыта, с новых связей. По образному выражению С. Булгако¬
ва (в его статье - «Героизм и подвижничество. Из размышлений о религиозной
природе русской интеллигенции»), она и есть «то прорубленное Петром окно в
Европу...»
Это верно в том смысле, что с рубки окна, с проблеска просветительской мыс¬
ли для русского ума все и началось. Но только началось, ибо, строго говоря, ин¬
теллигенция появится лишь спустя полтора столетия. Даже ее народолюбие, раз¬
горевшееся от искры европейского Просвещения, вспыхнет несколько позже, со
времен Екатерины, как полагал Блок.
Народолюбие и явится поводом к первому отчуждению, точнее, оно само,
развившись из осознания своей отчужденности от массы «непросвещенного на¬
рода», стало, по слову историка русской общественной мысли Р. Иванова-Разум-
ника, «идеологией кающихся дворян».
Правда, на волне все той же полемики с «Вехами» Иванов-Разумник дает
понять, что взгляд на интеллигенцию как на общественный слой, безнадежно от-
Вечер четвертый. Против течения
351
сеченный по горизонтали своей образованностью, не единственно возможный.
В его статье «Народ и интеллигенция» (1910) этому традиционному взгляду
диалогически противопоставлено мнение, что интеллигенция - это и «безгра¬
мотный мужик-искатель», и Белинский; полуграмотный рабочий, напряженно
работающий мыслью, и Лев Толстой; ищущий «настоящей веры» начетчик и До¬
стоевский; крестьянин - «политик и социолог», каких много теперь в деревне,
и Михайловский; все они, творцы и искатели, жаждущие правды-истины и прав¬
ды-справедливости, все они - интеллигенция страны.
Быть может, когда это писалось, все естественным ходом событий и шло
к тому, чтобы интеллигенция наконец перестала существовать в собственно рус¬
ском - отчужденном - качестве. (Именно и только отчуждение - ее родовая и
специфическая черта, по отношению к которой все остальное производно.) Рас¬
творения в национальном бытии не произошло. А скоро жесткая социальная схема
окончательно отсечет интеллигенцию от трудящегося народа, сделав предметом
государственных гонений и народной неприязни: гнилая интеллигенция, которая
быстро вшивеет.
Итак, интеллигенция русская родилась, когда русский образованный ум глаза¬
ми европейской просвещенности посмотрел окрест себя и ужаснулся как рабско¬
му состоянию народа, так и собственной вине перед ним. Сознание интеллиген¬
ции было изначально поражено этим комплексом. Все дальнейшее явилось лишь
следствием.
Народолюбие сделалось верой и навязчивой идеей. Свой идеальный характер
оно приобрело уже в 1830-1840-х годах прошлого века, в последний раз оплодот¬
воренное западной мыслью, теперь немецкой, преимущественно романтической.
Тогда-то студент или барчук начали забредать в Сокольники, чтобы, как рассказы¬
вает Герцен, полюбоваться при встрече с бабой - субстанцией народности.
Не отказываясь от собственной вины (без нее он невозможен), русский ин¬
теллигент начал искать главных виновников и увидел их в деспотической власти
и в темноте мысли, одурманенной религией. И та и другая были противны про¬
светительскому идеалу. Здесь пролегли линии двух новых и окончательных разры¬
вов - с властью и верой, произошло отчуждение интеллигента от государства и от
церкви. Второму обстоятельству, принципиальной безрелигиозности в ортодок¬
сальном ее значении русской интеллигенции, и посвящены прежде всего «Вехи»,
настаивающие на повороте к идеализму: «В безрелигиозном отщепенстве от госу¬
дарства русской интеллигенции - ключ к пониманию пережитой и переживаемой
нами революции». И если бы П. Струве в 1909 году знал, какой будет революция
будущая, то он бы и ее включил сюда.
Знаменитая уваровская формула: «Православие - самодержавие - народ¬
ность» - была, по сути дела, официозным ответом только что оформившемуся ин¬
теллигентскому сознанию и связала воедино то, что это сознание силилось разъять.
352
Как было и как вспомнилось
И тогда же произошел последний разрыв, довершивший отчуждение интелли¬
генции во всей полноте, а значит, свидетельствовавший о ее рождении. Кающий¬
ся, страдающий, готовый (ради своего народолюбия) пострадать еще больше или
перевернуть мир, разрушить его до основанья, - интеллигент с чувством превос¬
ходства взглянул на Запад, возмутился его благополучием и отрекся от него. Бур¬
жуазность и мещанство - худшие из пороков в глазах русского интеллигента, а «ме¬
щанство - окончательная форма западной цивилизации, ее совершеннолетие»1.
Закомплексованное сознание оказалось внутри себя идеально уравновешен¬
ным: чувство родовой вины компенсировалось проистекающим из него ощущени¬
ем исключительной духовности, причем уже не западной, просветительской или
романтической, в чем ее можно было бы заподозрить, зная источники, - а высшей,
много превосходящей самодовольный Запад.
Все довершили европейские события 1848 года, во время которых Запад за¬
глянул лишь в бездну возможной революции, ужаснулся и предпочел путь более
медленный, верный, либеральный. И тогда же, в результате тех же самых событий,
когда известный призрак забродил по Европе, «русские радикалы усвоили ту точ¬
ку зрения, что идеи, распространение которых не подкреплено реальной силой,
были обречены на бездействие; они приняли эту истину и отреклись от сентимен¬
тального либерализма, не заплатив за свое знание ни крушением личных иллюзий,
ни тем острым разочарованием, через которое не смогли переступить очень мно¬
гие идеалистически настроенные западные радикалы. Русские радикалы получили
урок с чужих слов и на чужом примере, то есть косвенно, не подорвав своих соб¬
ственных сил. Тот опыт, который усвоили в течение этих смутных лет обе сторо¬
ны, стал решающим фактором, определившим в дальнейшем бескомпромиссный
характер русского революционного движения». Такими словами заключил свою
работу «Россия и 1848 год» Исайя Берлин, оксфордский профессор, знаток рус¬
ской истории.
Так момент окончательного рождения интеллигенции стал той точкой, из
которой исторический вектор был направлен к событиям 1917 года, как февраль¬
ским, так и октябрьским.
Значит - виновна? И что же теперь? Повинимся, покаемся? «Если он (интел¬
лигент. - И. Ш.) не ощущает сегодня больше своей вины перед народом, то ведь и,
слава Богу, - они квиты на пятьдесят втором году Советской власти, народу само¬
му неплохо было бы ощутить свою вину перед интеллигенцией»2. Как явствует из
содержания, слова эти прозвучали в 1969 году в статье В. Кормера, написанной к
шестидесятилетию со дня выхода в свет «Вех», но увидевшей свет только в наше
время после смерти ее автора.
1 Герцен А. И. Концы и начала. Письмо седьмое // Колокол. 1863.15 января.
2 Кормер В. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура // Вопросы философии.
1989. № 9.
Вечер четвертый. Против течения
353
Однако в этой статье если и отменяется традиционно-интеллигентское чув¬
ство вины перед народом, то лишь ради яростного, экстатического утверждения
экзистенциальной (как условие sine qua non) виновности ее: не исполнившей, не
соответствовавшей, обманувшей... Статья блистательна - по проницательности
саморефлексии. Это интеллигентское сознание на вершине его самовыражения,
там, где совсем нет потребности подкрепить себя чьей-то любовью или самолю-
бовью, самоуважением, нет потребности, обычно столь настойчивой в советском
интеллигенте, - самоутвердиться «словом об интеллигенции» или «словом о
культуре» (проповедническое сладкоголосие этих «слов» - стилистический ана¬
лог патриотическому кликушеству, с которым истинные патриоты декламируют
«слово о народе» или «слово к народу»).
Ничего этого, разумеется, у Кормера нет, а есть только экстракт интеллигент¬
ского сознания, его чистая сущность, когда проклятый вопрос русской истории
утрачивает свою вопросительность, ибо не предполагает ответа - за что виноват,
перед кем. Равно как не предполагает и тех полувопросов, которые робко пред¬
ложены в сопроводительной редакционной врезке: «Одна ли интеллигенция
виновна? Вся ли интеллигенция виновна? И в какой степени? Самопокаяние ин¬
теллигенции, выраженное В. Кормером, заставляет задуматься об общей вине за
случившееся, о вине попустительства».
Это хорошие вопросы. Они сродни тем, какие оппоненты бессчетно обраща¬
ли авторам «Вех». Но эти вопросы ни к чему не ведут или, точнее, ниоткуда не
выводят. На пути вопроса: кто виноват? - как ни усложняй, ни дроби его, выхо¬
да нет. Вот почему продуктивней позиция «Вех» и продолжившего их Кормера.
Хотя эта позиция - внутри все того же интеллигентского комплекса, пораженного
ощущением вины. А ведь дело не в вине интеллигенции, а в беде той исторической
ситуации, которая ее, интеллигенцию, породила. Интеллигенция - это знак исто¬
рической аномалии, неблагополучия, при котором образованность оборачивается
«образованщиной», не будучи в силах пробиться сквозь толщу бытия, отторгаю¬
щего просвещенный ум, не дающего ему развиться в действии.
Рожденная отчуждением и в отчуждении, интеллигенция свидетельствует на
своем примере, что русская мысль почти неизбежно обособляется в крайность
и, предоставленная самой себе, рано или поздно вырождается в радикализм, как
интеллигенция в «шигалевщину». И только выродившись, став по сути обратной
своему первоначальному значению, идея начинает осуществляться.
Русское горе, как известно, - «горе от ума». А что есть русский ум, как не
интеллигенция? Она - «ум нации». Тогда не о ней ли сказано:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
354
Как было и как вспомнилось
Этот непонятливый ум, так памятно мифологизированный Тютчевым, за
полвека и очень похоже предваряет веховскую модель интеллигентского созна¬
ния: ум, противоположный вере. Так что тютчевская мифологема вызывает узна¬
вание, обращенное не только на полвека вперед, но и на три четверти века назад,
несмотря на то, что сходство как будто специально, как будто с иронической ус¬
мешкой затуманено разговорной сниженностью тютчевского суждения:
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, -
Тебе числа и меры нет!
(Г. Державин. «Бог»)
Вместе с мечтой о просвещении народа интеллигенция приняла на себя эту
отчужденность, закрепила ее фактом собственного существования, катастрофиче¬
скую отдаленность которого от бытия народного она надеялась преодолеть уже
только путем средств экстраординарных - потрясения, взрыва, приближающийся
гул которого приучала себя слушать как «музыку революции».
Взрыв прозвучал, и интеллигенция оказалась не нужна. Ее место не было
упразднено, оно было занято, ибо теперь другая сила претендовала на то, чтобы
возглавлять, направлять, чтобы стать «умом, честью и совестью» новой эпохи.
Коммунистическая утопия вписалась в русский миф, структурно его почти не из¬
менив. Это очень важно понять: семнадцатый год не создал проклятых вопросов
русской истории. Он их просто не разрешил, невероятно, разрушительно раскру¬
тив колесо национальной судьбы. Раскрутив - на том же самом месте.
Структура продолжала работать на поляризацию, на то, чтобы все умеренное
оказалось нежизненным, невозможным и только крайний радикализм имел силу
овладеть ситуацией. Казалось, сама русская действительность способна порож¬
дать какие-то чистые сущности, экстракты, а порождая, отторгать.
Сначала была интеллигенция, воплощающая «ум нации», мало способный к
постижению своего бытия и еще менее - к его изменению. Тогда недовольный со¬
бой, этот ум вырабатывает внутри себя экстракт чистой силы, воли к власти, «ши-
галевщину», ее цепная реакция порождает революцию.
Правда, придя к власти, эта политическая утопия должна была надеть маску
некоего общего блага - «ум, честь и совесть», и не важно, что ни ума, а тем паче ни
чести, ни совести явлено не было. Зато чувство национальной исключительности
привычно откликнулось на лозунг и было им удовлетворено: «нигде кроме...».
Кроме, как у нас - в России, всем готовой поступиться, но только не чувством сво¬
ей исключительности, своего духовного превосходства. Одно слово: авангард че¬
ловечества...
Вечер четвертый. Против течения
355
Английская аналогия, или Уникальна ли российская история?
«Уникальна в русской истории обратимость ее перестроек», - пишет
А. Янов1.
Что уникально, то уникально!
«Нынешняя перестройка - четырнадцатая по моему счету <... > От момента,
когда Россия стала национальным государством - 1480 год».
Не у всех такая эрудиция, как у Александра Янова, историка, специализирую¬
щегося на изучении кризисных моментов «русского пути» и давно уже живущего
в Америке, но несколько каждый вспомнит. Причем двух типов: когда перестрой¬
ка осуществлялась явно негодными средствами, когда ни сил, ни даже энтузиазма
у реформаторов не хватало, и - когда силы были вложены с избытком, с превы¬
шением, когда вместо того, чтобы вскочить в седло, через коня перескакивали.
В первом случае бывало достаточно, чтобы Анна Иоанновна разобиделась, разо¬
драла кондиции верховников и пресекла первую конституционную попытку в са¬
мом зародыше; или екатерининский «Наказ», так и оставшийся фактом изящной
словесности; или «дней александровых прекрасное начало», не дожившее до по¬
лудня, померкшее от окрика фамусовской Москвы...
Есть и противоположные примеры, хотя их меньше: петровские реформы, а
также те революционные события, 74-летнее празднование которых мы заменили
траурным днем поминовения... И ведь не в том было дело (еще раз соглашусь с
А. Яновым), что реформы, нерешительные или экстремистские по средствам ис¬
полнения, шли вразрез с ходом русской истории. Отнюдь, они были попыткой раз¬
решения реальных проблем, требовавших лишь изменения темпа, в который никак
не попадали.
По сути дела, Петр не выбрал и не изменил направления; оно было избрано
для него. После изоляционистского XVII века уже отец преобразователя, Алек¬
сей Михайлович, повернул к Европе (подробнее об этом можно прочесть в книге
А. Панченко «Русская культура в канун петровских реформ»), однако отец был
«тишайшим», а сын - нетерпеливейшим. Русскую телегу он погнал по русским
ухабам с европейской скоростью. И загнал. Не удалось тогда стать «в просве¬
щенье с веком наравне», а век этот, кстати напомнить, и для всей Европы толь¬
ко-только начинался, так что правильнее говорить, что петровская Россия попы¬
талась вступить в него не вслед Европе, а вслед первым просветившимся странам,
на которые в первую очередь и попытался сориентироваться Петр, - на Англию,
Голландию. Наши просветительские проблемы начинались вместе с европейским
Просвещением.
Напоминание важное, но утешение слабое, поскольку их тогдашняя «пере¬
стройка» удалась, наша же в очередной - и не в последний раз - нет. Почему?
1 Книжное обозрение. 1990.29 июня.
356
Как выло и как вспомнилось
Слишком ли долго мы были заняты тем, что «держали щит между монголов и Ев¬
ропы»? То ли наша беда - беда пространства, которого мы так все и не охватим
стройной формой государственности; утекает из-под нее жизнь, рассредоточива¬
ется в беглой вольнице, и только острогами да зверствами удается власти дости¬
гать до самой отдаленнейшей точки разбежавшегося пространства? То ли, напро¬
тив, беда наша не на окраинах, а в самой сердцевине, придающей устойчивость.
В российских условиях она не сформировалась: мизерным для нашей великости
был у нас класс собственников, людей владеющих и готовых постоять за свое вла¬
дение.
Их и сейчас очень мало, как подсчитала статистика. А откуда им быть - при на¬
шей жизни и при нашем отношении к мещанству, буржуазности, собственности?
Мы ведь, не успев научиться владеть, очень хорошо постигли науку ненависти,
клеймя собственность с точки зрения равенства, которое она нарушает, с точки
зрения духовности, которую она убивает.
В ответ приведу лишь название интервью Александра Янова «Книжному обо¬
зрению», из которого я и цитировал: «Нужно сперва выжить...». Интервью дано
почти два года назад (написано в 1991 году. - И. Ш.), а актуальность тезиса стала
еще острее.
Сейчас именно такой момент - выжить, а не горделиво или с отчаянием пре¬
даваться размышлениям о русской исключительности. Успокаивать нас пытаются
иностранцы, убеждая, что свою исключительность мы сильно преувеличиваем:
«Вы что, всерьез полагаете, будто СССР - первая в истории человечества страна,
переживающая экономический кризис?» - удивляется французский предприни¬
матель1.
И даже наши политические проблемы не кажутся им уникальными: «Бюрокра¬
тия - явление универсальное <... > Основные черты крупной организации, массо¬
вого бюрократического аппарата одинаковы для всех систем и для всех культур»2.
Получается, что проблемы не уникальны... И это так. Мы их лишь накопили,
оставляя неразрешенными, за долгое время. За какое?
Позволю в качестве ответа одну подробную историческую аналогию. Она
приобрела для меня особую наглядность, поскольку в первые перестроечные годы
я готовил для издательства «Прогресс» сборник английской публицистической
прозы начала XVIII века «Англия в памфлете». То, что годы были уже перестроеч¬
ными, упомянуть немаловажно, ибо иначе многое едва ли бы заинтересовало нас
в тех давних событиях.
Сами посудите. Это было время, когда мы только начинали отвыкать от обя¬
зательного ответа на вопрос об однопартийной системе: «У нас так исторически
сложилось». А как сложилось в цивилизованном мире и когда? Начало парламент-
1 Известия. 1990.26 января.
2 Известия. 1990. 31 января.
Вечер четвертый. Против течения
357
ским партиям было положено в Англии около 1680 года, когда во взаимных оскор¬
блениях возникли, первоначально как ругательные, клички, названия: виги и тори.
Еще через два десятка лет эти партии законодательно возьмут у короны значитель¬
ную часть власти, оспорив ее на достаточно представительных выборах.
В 1689 году был принят целый пакет конституционных законов, включающий
Билль о правах, обеспечивающий и личную неприкосновенность. Нельзя было
арестовать человека, не предъявляя ему обвинения. Нелегко, но прошел закон о
веротерпимости. В 1694 году истек срок закона о цензуре, и парламент отказался
его возобновить (а не отменил, как иногда у нас пишут).
Тогда, в начале наших процессов обновления, радовала сама возможность
издать прекрасную политическую и нравственную прозу, среди авторов которой
Свифт, Дефо, Аддисон, Стил, но аналогия и печалила - не опоздали ли мы?
Однако аналогия и успокаивала: то, что происходит у нас, не есть следствие
нашей дурной исключительности, а, вероятно, проявление общих законов данной
исторической ситуации - перехода к правовому, экономически состоятельному
обществу.
Глядя на английскую историю, можно было заметить не только ее преимущества
в сравнении с нашей, но и то, что обладание этими преимуществами всегда давалось
трудно и далеко не сразу. Конечно, закон о веротерпимости был принят, но, наря¬
ду с увещеваниями первого философа эпохи Джона Локка, обратившегося к нации
с письмами о веротерпимости, она все еще оставалась благим пожеланием, а не ре¬
альностью. Добрые прихожане англиканской церкви всячески преследовали, ущем¬
ляли в правах как католиков, так и протестантских нонконформистов любого толка.
Ни законы, ни увещевания, направленные к смягчению нравов, не действовали.
Тогда-то Дефо и придумал свою знаменитую мистификацию: не понимаете
добрых слов, так, может быть, вас проймет преувеличенная жестокость. И он пи¬
шет «Простейший способ разделаться с диссентерами» (до этой первой публика¬
ции само название знаменитого памфлета у нас обычно переводилось как «Крат¬
чайший способ разделаться с диссидентами», что, естественно, не облегчало ему
пути в нашу печать). Как известно, в первую минуту памфлет приняли за чистую
монету, как руководство к действию. Он нашел сторонников, очень осердивших¬
ся, когда мистификация раскрылась. Дефо был заключен в тюрьму и выставлен к
позорному столбу, что было не только нравственным унижением, но нередко кон¬
чалось для осужденного смертью: толпа забивала его камнями.
И все это в отсутствие закона о цензуре и ее самой. Цензура цензурой, но
печатное издание есть поступок, за который приходится отвечать в согласии
с общим законодательством. Оно ограничивает свободу высказывания, а если вла¬
стям это кажется недостаточным, то есть другой способ, тогда же, к слову, найден¬
ный: повысить налог на печать, которая вздорожает и прежнего распространения
иметь не будет. Как видите, все наши модели были отработаны триста лет назад.
358
Как было и как вспомнилось
Так что поначалу был закон, но не было веротерпимости. А что уж говорить
о политической непримиримости - она становится прямо-таки притчей во языцех.
То, что позже назовут многопартийной системой и залогом демократического
устройства, воспринимается как кара Божья, как нестерпимое зло:
Нет худшей напасти для страны, чем страшный дух раздора, обращающий ее
в два особых народа, более чужих, более враждебных друг другу, нежели разные
нации. Последствия подобных делений губительны в высшей степени не только
потому, что они благоприятствуют общему врагу, но и потому, что они сеют зло
почти в каждом сердце. Дух сей оказывается роковым и для народов, и для разу¬
ма; люди становятся все хуже, мало того - все глупее.
Яростная непримиримость партий, выраженная открыто, ведет к междо¬
усобице и кровопролитию; будучи же сдерживаема, естественно, порождает
ложь, клевету, злословие и лицеприятство, заражает нацию хандрой и злобой и
губит все зачатки доброты, сострадания и милости1.
Не наш ли диагноз? Знакомое сетование на множество партий и - по разным
признакам - враждующих общественных групп; сетующий всегда предпочитает,
чтобы партия и группа была одна - та, к которой он принадлежит.
Партийные раздоры Аддисон сравнивает с национальными, которые также
вспыхнули или обострились. Воевали с Францией, и среди англичан было нема¬
ло таких, кто полагал, что один англичанин при всех обстоятельствах стоит двух
французов. С Голландией были союзниками, но королю Вильгельму III, голланд¬
цу по происхождению (при нем и совершились основные реформы) истинные
патриоты не уставали колоть глаза, величая инородцем. Им ответил Дефо своим
«Чистокровным англичанином».
Он набросал очерк истории Англии (по тону напоминающий «Историю го¬
сударства Российского» Алексея Константиновича Толстого), напомнил, когда и
чьи крови здесь смешивались, укорил тем, что уж скорее арабскому скакуну при¬
стало гордиться своей чистокровностью, ибо
Как результат смешенья всякой рвани
И мы возникли, то бишь - Англичане.
(Перевод И. Кутика)
Английские писатели, надо отдать им должное (в отличие от многих наших),
издавна умели мыслить на темы национальной исключительности с той долей кри¬
тической трезвости и иронии, что в другой стране (мы знаем, в какой) их обяза-
1 Аддисон Дж. Эссе из журнала «Зритель». 1711.24 июля / Перевод Н. Трауберг // Англия
в памфлете. Английская публицистическая проза начала XVIII века. М.: Прогресс, 1987. С. 151.
Вечер четвертый. Против течения
359
тельно заклеймили бы как англофобов. Умение посмеяться над собой - свидетель¬
ство не слабости, а силы, в данном случае - национального здоровья.
А ведь Дефо пишет свой памфлет на волне патриотического подъема, в пред¬
дверии новой войны, всеевропейской, если не мировой, как иногда называют вой¬
ну за испанское наследство, ибо поля ее сражений - на трех континентах. Нацио¬
нальная ситуация очень сложна и дома, на Британских островах, где в это самое
время на грани нового военного столкновения противостоят друг другу два госу¬
дарства, разделенные как национально, так и по вере: Англия и Шотландия.
Все удается решить миром, привести к окончательному объединению двух су¬
веренных государств. У каждого свой парламент, под общей властью центра - ан¬
глийской короны, что и было закреплено Унией 1707 года, своего рода союзным
договором, поныне действующим.
Что помогло объединиться?
Во-первых, боязнь новой смуты, новой гражданской войны, потрясшей стра¬
ну несколькими десятилетиями ранее. Хорошо, когда уроки помнятся.
Во-вторых, объединяет чувство своей и взаимной пользы, желание торговать,
делать деньги, а не разоряться. Самой популярной книгой Дефо на протяжении
XVIII века был в Англии не «Робинзон Крузо», а «Совершенный английский тор¬
говец», своего рода учебник бизнеса, выдержавший множество изданий.
Еще в 1694 году, по совету экономистов партии вигов, король Вильгельм по¬
шел на шаг, сохранивший ему корону, а стране мир: он создал Английский банк.
Правительство получило деньги не путем насильственных налогообложений
(как когда-то поступал Карл I, потерявший на этом и трон, и голову), не путем
займов у иностранных банкиров; оно вошло в долг к своему народу, связав теперь
политическую стабильность экономическими гарантиями. Цепная реакция деся¬
тилетиями нараставших политических, религиозных, национальных конфликтов
была разорвана в сфере экономики.
Нация предпочла торговать, заняться делом. Это новое ее состояние воспели
поэты, и Джозеф Аддисон, посетив в Лондоне Королевскую торговую биржу, раз¬
разился гимном в ее честь:
Арена торговых сделок приносит мне самые разнообразные и существенные
наслаждения. Я очень люблю людей, и при виде счастливых, преуспевающих со¬
обществ сердце мое настолько преисполняется радости, что я не могу сдержать
слез. Именно потому я несказанно счастлив, когда столько народу умножает лич¬
ное свое благосостояние, преумножая в то же время общественный капитал; или,
другими словами, обогащает свою семью, привозя в страну все, что ей нужно, и
увозя излишнее1.
Возмутительно на русский вкус, не правда ли? Такой бесстыдный материа¬
лизм, буржуазность, мещанство...
1 Аддисон Дж. Эссе из журнала «Зритель». С. 135.
360
Как было и как вспомнилось
Или мы готовы примириться?
Конечно, страшно за духовность - каково ей среди такой неприкрытой де¬
ловитости? Но, вы знаете, выжила. Менее чем через десять лет будет написан не
менее деловитый (но разве бездуховный?) «Робинзон Крузо», через полтора де¬
сятка лет - «Путешествия Гулливера», и начнется великая, нравственно великая,
традиция английского романа. Эссе Аддисона ей не противоречили, но ее подго¬
товили. Эти эссе, может быть, первый великий памятник литературы европейского
Просвещения. В них закон о веротерпимости начал обретать голос и человеческую
плоть.
Не случайно, что самый прославленный журнал Аддисона и Стила называет¬
ся «Зритель»: все видеть, все понимать (умом понимать), не возмущая страсти,
а смиряя и воспитывая нравы. Эссе Аддисона читала буквально вся грамотная
Англия, десятки тысяч людей. Том за томом переиздаваемые, они переводились
на все европейские языки. Русский один из немногих, на котором по сию пору
нет полного «Зрителя», хотя отдельные переводы относятся еще к петровскому
времени.
Может быть, не случайно? Мы не научились ценить веротерпимость, эту ос¬
нову светской духовности, способной признать равноправие и чужого мнения, и
чужой веры, готовой создавать царство Духа, не сметая при этом - до основанья -
царство Кесаря, поскольку (или - пока) другого у нас нет на земле.
Конечно, со всем этим английским опытом можно легко разделаться, как ге¬
рой Искандера с козлотуром: «Хорошее начинание, но не для нашего климата».
Да отчего же не для нашего? Только если оттого, что мы не как все, исключи¬
тельные?
«Едва ли не самая излюбленная мысль участников дискуссии, - заметил
И. Клямкин, завершая дискуссию «Нужна "железная рука”?», - об уникальности
нашей истории и наших сегодняшних проблем»1.
Не уникальны наши проблемы. Они общечеловечны и общеисторичны. Уни¬
кально упорство, с каким мы настаиваем на их уникальной неразрешимости, на
невозможности умом понять, а значит, разумно в них разобраться.
Мы как будто и не хотим ничего разрешить, где-то в глубине национального
сознания полагая, что с неразрешимостью проблем утратим свою исключительную
духовность, расколдуем миф «темной славянской души». Мы так много говорим
о своей духовности, так мучительно оберегаем свою исключительность, что начи¬
наешь сомневаться: так ли уж она сильна и безусловна, если требует стольких охра¬
нительных усилий, если расцветает только в особо для нее создаваемых условиях?
Комплекс превосходства очень часто произрастает из чувства неполноценно¬
сти. Это верно не только в отношении отдельной личности, но и отдельной нации,
1 Литературная газета. 1989. 27 декабря.
Венер четвертый. Против течения
361
государства. Так, мы все никак не можем пережить даже «варягов», воспринима¬
ем их едва ли не как первородный грех нашей истории, с тех самых пор и лишив¬
шейся самостоятельности. Но разве в этом мы уникальны?
Накал полемики вокруг легенды о «призвании» удивителен на фоне пол¬
нейшего равнодушия окрестных народов к влиянию заезжих «варягов». Евро¬
пейское средневековье полно рассказов о приглашениях иностранцев на кня¬
жение в разные страны. Ирландская и английская история, например, содержит
упоминания о добровольном призвании тех же варягов <...> Только в России
«варяжский» мотив интерпретируется как уничижительный для национальной
гордости, а сам термин «варяг» становится нарицательным, причем исключи¬
тельно в негативном плане1.
Где-то мирно, где-то путем военного вторжения пришествие варягов в IX-
XI веках, распространившихся с севера Европы по всему свету (вплоть до Аме¬
рики), нигде не поразило национальной памяти так, как у нас. Оплакиваем свою
исключительность, но в чем она? «Она не в крепости священных и нерушимых
границ, - продолжает тот же автор, - она прежде всего - в нищете. Духовной.
Политической. Наконец, финансовой. Нищете, побуждающей протискиваться в
Европу в прорубленное еще Петром I окошко, обдирая локти и рискуя застрять
в самый критический момент, вместо того, чтобы спокойно войти в отворенные
двери».
Мы создали миф о духовной России и о бездуховном Западе. Мы в присту¬
пе самопрозрения повторяем, с полным на то основанием, что десятилетиями
занимались «раскультуриванием», «расчеловечиванием»... И давайте не будем
настаивать на том, что это было отклонением от нашей национальной истории:
когда отклонения случаются с такой последовательностью и неизбежностью, они
становятся законом.
* * *
Западная мысль не вспышками и взлетами, а постоянным напряженным уси¬
лием осознавала то, что в ней самой было прагматично-деловым. Она училась при¬
нимать мир в трагической неустранимости противоречий, не поддаваясь иллюзии
внешнего благополучия:
Конечно, социальные и политические противоречия исчезнуть не могут,
они неизбежны хотя бы в силу конфликтов между позитивными ценностями.
Однако противоречия эти, как мне кажется, можно свести к минимуму, если мы
(хоть это и не просто) создадим и будем поддерживать определенный баланс,
1 Разуваев В. Призвание варягов, или Почему бояре в баню редко ходили // Новое время.
1990. № 43.
362
Как было и как вспомнилось
который, конечно, постоянно будет находиться под угрозой и требовать усилий.
Таково, повторяю, необходимое условие, без которого невозможны ни нормаль¬
ное общество, ни морально приемлемые поступки. Условие, без которого мы
сразу собьемся с пути1.
Об авторе этих слов, Исайе Берлине, мы первоначально слышали как об од¬
ном из собеседников Ахматовой, как о специалисте по русской истории. В Англии
и не только в Англии о нем говорят как об одном из выдающихся либеральных
мыслителей нашего столетия. Приведенный выше отрывок - из его выступления
при получении международной премии Джованни Аньелли.
Современный либерализм ужесточил многие понятия, которыми мы только
учимся овладевать после десятилетий несвободы:
Плюрализм, в том смысле, как И. Берлин употребляет это слово, не следу¬
ет смешивать с точкой зрения, обычно представляемой в качестве либеральной,
согласно которой все крайности являются извращением истинных ценностей,
а ключ к социальной гармонии и нравственной жизни можно найти лишь в уме¬
ренности и золотой середине. Истинный плюрализм, в понимании Берлина,
в гораздо большей мере предполагает духовную стойкость и интеллектуальную
смелость: он отвергает мнение, что всякий конфликт ценностей может быть раз
и навсегда разрешен их синтезом и все желаемые результаты примирены. Берлин
признает, что человеческой природе присущи ценности, хотя и равно священ¬
ные, равно всеобщие, которые исключают друг друга вплоть до невозможности
их объективно-иерархического соотнесения <...> Этой постоянной возмож¬
ностью того, что нравственный выбор оказывается неопределенным, человече¬
ство расплачивается за признание истинной сущности своей свободы...
Вступая в область свободы, мы платим сейчас первую цену - трагическими
последствиями неумения этой свободой воспользоваться. Но хочется верить, что
этот опыт свободного существования не окажется для нас кратким и последним.
Овладевая понятиями нового мышления, мы должны видеть перспективу их ус¬
ложнения. Мы должны быть готовы воспользоваться уроками чужого ума, прав¬
да неожиданно открывая, что наш собственный опыт уже присутствует в новых
для нас ценностях. Так, автор только что процитированного предисловия к книге
И. Берлина «Русские мыслители» А. Келли полагает, что последние достижения
либеральной мысли не случайно открылись тому, кто идет от русской традиции,
кто восходит к либерализму Тургенева и Герцена, «отчетливо иному, чем евро¬
пейский либерализм того времени, гораздо менее самоуверенному и оптимисти¬
ческому, но более современному».
Это признание нам важно услышать со стороны именно сегодня, когда прихо¬
дит сомнение в последнем и главном, чем мы владеем, - в нашей духовности, в на-
1 Литературная газета. 1990. 28 февраля.
Вечер четвертый. Против течения
363
шей классической литературе, быть может обманувшей, увлекшей в 1917 год. Это
тяжелое сомнение, посетившее нас сейчас, как уже было сказано, - из числа наших
запоздалых открытий, повторяющих многое из того, что приходило на ум сразу же
после революции. Но если мы опять засомневались, то вспомним, что тогда же, на
страницах порой тех же самых сборников, где сомневались, верили в возрождение
через «благочестие Сергия Радонежского, дерзновение митрополита Филиппа,
патриотизм Петра Великого, геройство Суворова, поэзию Пушкина, Гоголя и Тол-
стого, самоотвержение Нахимова, Корнилова и миллионов русских людей... »*.
Эти слова своей статьи П. Струве спустя несколько лет повторит близко
к тексту в редакционной статье первого номера газеты «Возрождение», одного
из важнейших печатных органов русского зарубежья.
Когда-то великий филологА. Веселовский сказал, что утопии строятся «за отсут¬
ствием предания». Когда ослабевает культурная память, рождается необузданный
порыв в счастливое будущее. Этот порыв все сметает, все ему приносится в жертву.
Так у нас и произошло, но почему у нас, где как будто бы предание всегда было так
сильно, национальный миф через литературу так властно владел сознанием?
Но что победило в русском мифе? Чувство своей исключительности, предна¬
значенности для нравственного совершенствования, никому другому не доступ¬
ного. Само по себе, надо сказать, - провинциальное чувство, легко развивающееся
по причине незнания чужого и нежелания его понять, опровергающее нашу «все¬
мирную отзывчивость». Для нас же самих оно обернулось страшной трагедией:
все несовершенное было разрушено до основанья ради будущего совершенства...
Политическая утопия подменила цели, но воспользовалась моделью национально¬
го мифа.
Нравственный идеализм, которым мы и до сих пор иногда способны удивить
окрестные народы, - сила огромная, прекрасная и - разрушительная. Это действи¬
тельно - сила и, как всякая сила, может быть употреблена во зло. Какой бы благой
ни была цель, если к ней подтолкнуть - рвутся связи, уходит из-под ног историче¬
ское бытие, происходит крушение.
Оно и произошло.
Нельзя жить без утопии, однако нельзя жить по законам утопизма. Соглас¬
но названию работы современного немецкого исследователя Э. Блоха, утопия -
«принцип надежды», сохраняющийся на горизонте любой реальности. Гори¬
зонт - всегда вдали, и не нужно пытаться обрушить небо на землю.
У наших сегодняшних проблем общеевропейский возраст - им под триста как
минимум. Нам их предстоит решать быстро, много быстрее, чем это делали дру¬
гие. Не потому, что мы лучше, способнее других, а потому, что мы задержались.
1 Струве П. Б. Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Из
глубины. Сборник статей о русской революции. М.: МГУ, 1990. С. 467.
364
Как было и как вспомнилось
Наверное, мы можем их решить именно потому, что наши проблемы - не толь¬
ко наши, потому что ими много и хорошо занимались до нас. Мы лишь не должны
настаивать на их исключительности. Если в этот раз нам их удастся разрешить, это
будет исключительным в нашей истории.
Удастся, если не победит старая страсть - влечение к неразрешимости, ком¬
плекс своего духовного превосходства и желание пострадать во имя него. Это са¬
мое легкое решение, потому что возможность пострадать русская история предо¬
ставляет без всяких ограничений, в любой момент, в том числе и в настоящий.
В этом мы вполне преуспеем - соборно, как братья в нашем нескончаемом
страдании. Но, быть может, на этот раз попробуем другой вариант и потрудимся
для него сообща, хотя и не соборно, принимая не только братьев по духу, но и тех,
кто верит иначе, кто хочет быть сам по себе. Признаем равноправие даже взаимо¬
исключающих ценностей, духовных и материальных, - это современный плюра¬
лизм, у которого, как полагают на Западе, есть и русские корни.
1991
ВЕЧЕР ПЯТЫЙ. АНГЛИЯ
«Так мы с вами соседи...»
Беседу с Игорем Шайтановым вели Елена Луценко и Сергей Чередниченко
- Игорь Олегович, как-то мы с вами шли около метро «Парк культуры» и вы
показали дом, в котором была прекрасная букинистическая лавка. Откуда вы так
хорошо знаете букинистический мир?
- Мы с Саней Фейнбергом часто гуляли по Москве. У Сани был отцов¬
ский маршрут, семейный книжный маршрут. Кроме того, в 1970-1980-х годах
у меня были прекрасные книжники-друзья. Скажем, мой друг Михаил Зиновьевич
Долинский, Карл Карлович Драффен, у которого был потом в годы перестройки
свой букинистический магазин рядом с театром имени Маяковского. Знаменитый
Эмиль Погосович Казанджан. Володя Якубович, автор знаменитого каталога из¬
дательства «Academia».
- А когда вы начали коллекционировать книги?
- Я начал покупать книги в 18-19 лет. «Библиотека поэта», чуть позже -
«Литпамятники», английские книги. Например, «Shakespeare companion»,
вам известный, когда-то был куплен новеньким, а сейчас посмотрите, в каком
он состоянии (показывает книгу) - весь почти распался. На мой взгляд, это луч¬
ший шекспировский справочник. У меня есть более поздние издания, но мой
Шекспир - вот этот. Как мой английский язык, его произношение - это словарь
Джоунза.
- Вы Джоунза в студенческие годы покупали?
- Этой книгой я пользуюсь с 1965 года.
- А как в тогдашней Москве можно было купить Джоунза?
- В магазине «Дружба». Я до сих пор произношение проверяю по Джоунзу.
- Игорь Олегович, когда вы впервые побывали за границей?
- Впервые - в мае 1992 года. До этого я дважды делал попытку выехать из Рос¬
сии. Один раз - вместе с английским театром МГУ в Польшу, это в студенческие
времена, но я заболел и не смог поехать.
- А в каком спектакле вы играли?
- По-моему, это был «The ugly duckling». Я плохо это помню, так как не ез¬
дил. А вот Саша Ливергант ездил. Второй раз я пытался съездить за границу, когда
моя жена жила год во Франции, в Париже. Это был 1979 или 1980 год. Я долго
366
Как было и как вспомнилось
оформлял документы. Я прошел все местные инстанции, получил все бумаги, кото¬
рых было огромное количество, и пришел на комиссию старых большевиков. Надо
сказать, это было удивительное зрелище. Передо мной какой-то человек оформ¬
лялся на работу в Африку. На него накричал некий старикан лет за восемьдесят,
спрашивая, знает ли он какого-то африканского правителя (смеется), бывшего
коммуниста, который изменил делу социализма. Потом вдруг начал кричать, об¬
виняя африканского царька в предательстве: «Вот был Малиновский, предатель
(как вы понимаете, это дореволюционное дело. - И. Ш.). Он нас предал и сбежал
за границу. Мы велели ему вернуться. Он вернулся. Мы его расстреляли. Вот это
настоящий коммунист!»
- А где собирались эти комиссии ?
- Я был на Кропоткинской, в подвале, в ЖЭКе, вероятно. Я прошел комис¬
сию, но, когда все закончилось, ко мне подошел секретарь не то парторганизации,
не то профогранизации МПГУ и сказал: «Какая жалость, какая жалость... Мы за¬
были вам поставить одну печать. Вам придется комиссию еще раз проходить». На
что я ему сказал: «Я понимаю вас. Вы хотите издеваться над людьми. Надо мной
издеваться вы больше не будете! А я поеду за границу, когда мне домой принесут
билеты. До свидания». Как это ни смешно, но в 1992 году мне домой принесли и
билеты, и визу. Американцы.
- Вы ездили по приглашению от американского университета?
- По приглашению Элиота Мосмена, американского слависта. Он особенно
известен тем, что именно он вывез архив Мандельштама в чемоданчике. Он в тот
момент женился на моей американской знакомой Марго Баррингер, и они жили в
Филадельфии. Они меня пригласили на какой-то грант в мае 1992 года. Я никогда
до этого за границей не был. Они летели на самолете параллельно со мной. Они
летели через Франкфурт, я летел через Ирландию, через Дублин. И перед тем, как
мне лететь, Мосмен достал бумажник, дал мне сто долларов и сказал: «Когда вы
прилетите в Штаты, я вам выдам по гранту еще 900 долларов». Это был первый
раз в жизни, когда я увидел доллары. Он добавил: «Когда будете заказывать маши¬
ну, вызовите долларовое такси, потому что рублевое может подвести. Долларовое
такси будет стоить вам 23 доллара». Немыслимые по тем времена деньги...
- Какими были ваши первые ощущения за границей?
- Когда мы сели в Канаде, я решил, что должен научиться тратить доллары.
Я подошел к кофейной стойке и попросил чашку кофе. Мне дали какую-то ме¬
лочь, я сгреб ее в карман, выпил кофе, прилетел в Нью-Йорк, вышел из самолета
со своим чемоданом и в аэропорту услышал объявление: «Самолет из Москвы,
летящий через Франкфурт, опаздывает на четыре часа». Я ничего не знаю, у меня
есть только телефон еще одной моей нью-йоркской знакомой - переводчицы, ко¬
торая работала в университете Нью-Йорка. Я понимаю, что надо ей позвонить и
спросить, что делать. Я подхожу к телефону и вижу, что написано «25 центов».
Вечер пятый. Англия
367
Я лезу в карман и с радостью вижу, что у меня есть 25 центов. Я сую их в автомат,
а он мне их обратно выбрасывает. Рядом стоит негр и говорит мне: «You are wrong.
Show me your coins! They are Canadian». Он лезет в карман, достает 25 центов,
дает мне. Я ему даю 25 канадских центов и говорю: «As a souvenir». Он смеется.
Это был мой первый диалог за границей. На следующий день после приезда у меня
лекция в университете Нью-Йорка, лекция по creative writing. Два часа я учу аме¬
риканцев, как нужно быть писателем. Через три дня я учу в каком-то маленьком
городке Потсвилле юристов и зубных врачей, как писать стихи по-английски. Бот
такая была моя первая поездка, я читал лекции в разных университетах...
- А когда вы впервые побывали в Англии ?
- Тоже в 1992 году, но осенью.
- И тоже читали лекции?
- Нет. Это был своеобразный грант, приглашение, инициатором которого
был сэр Исайя Берлин, с которым я тогда не был знаком. Распорядителем этого
проекта был Джерри Смит. Джерри как человек, интересующийся современной
поэзией, знал меня как критика современной поэзии. Он меня фактически пригла¬
сил. Я жил у Карен.
- Вы имеете в виду Карен Хьюитт?
- Да, я с ней я познакомился незадолго до этого у Нины Павловны Михаль-
ской. Были приглашены несколько человек... Это было, вероятно, самое начало
1992 года. И осенью 1992 года я приехал в Оксфорд первый раз.
- В Оксфорде, вспоминает Карен, у вас было несколько встреч с Кэтрин Дан¬
кан-Джоунз. Это она вас познакомила?
- Это был семинар в университете, где Карен работает. Они занимаются
прежде всего continuing education, продолжением образования для взрослых.
И был обед, на котором присутствовали, помимо нас, Данкан-Джоунз и сэр
Исайя Берлин. Я с ними познакомился тогда впервые. Слева от меня за обедом
сидела Кэтрин Данкан-Джоунз, справа - сэр Исайя Берлин. Я разрывался, желая
поговорить и с тем, и с другой. И время от времени я говорил с Кэтрин, время
от времени - с сэром Исайей. Он выяснил, что я живу в Хедингтоне. «Так мы
с вами соседи, - сказал он таким низким, несоответствующим его щуплой фигур¬
ке басом, гудящий причем такой голос. - Я вас могу подвезти». Он меня довез
до моей улицы и на мой вопрос, что я бы хотел взять у него интервью, сказал:
«Да, пожалуйста, вот мой телефон, давайте созвонимся». В другой приезд в Окс¬
форд я по инициативе Карен остановился у Данкан-Джоунз. В тот момент она
делала книгу сонетов для Ардена. Ну я не скажу, что мы много говорили, она не
была расположена к беседам, она была действительно глубоко поглощена своей
работой.
- А каким вам видится образ английского джентльмена второй половины
XX века?
368
Как выло и как вспомнилось
- Я вам, наверное, рассказывал, как я задал в первый же свой приезд вопрос
одной английской даме, существуют ли английские джентльмены, существует ли
национальный характер. Это был 1992 год. Она подумала и сказала: «Yes, but over
sixty». Вы знаете, из все моих довольно многочисленных близких знакомых я мог
бы назвать, пожалуй, имена тех, кто сознательно играет против образа английско¬
го джентльмена. А из воплощающих этот образ, пожалуй, Робин Милнер-Галланд.
- А сам Исайя Берлин ?
- Нет, ну что вы. Он был скорее человеком мира. Что понимать под образом
английского джентльмена? У меня даже есть книжечка «Английский джентль¬
мен», написанная в 1960-х годах, в начале которой автор говорит, что он специ¬
ально начал писать эту книжку, потому что он сам ни в коей мере не являлся ан¬
глийским джентльменом. Английский джентльмен - это не просто воспитанность,
не только внешний облик, стиль в одежде. В одежде, кстати, сэр Майкл Кейн был
типичным джентльменом, но он был гораздо свободнее, он был бизнесменом.
В одежде это твидовый пиджак, вельветовые брюки, мягкие ботинки, абсолютная
свобода в движениях.
- Англия, на ваш взгляд, консервативная страна?
- Вы знаете, я ведь общаюсь только в университетском кругу, чуть-чуть разбав¬
ленном благодаря баронессе Николсон чиновно-аристократическим. Вот, скажем,
в этом году одна из встреч, на которой присутствовали баронесса, Аластер Нивен,
Саймон Диксон, проходила в одном из закрытых английских клубов - Overseas
League. Этот клуб был создан после Первой мировой войны в память о погибших
на войне. Теперь это небольшой клуб в 50 метрах от Пикадилли. Вы заходите и
попадаете в совершенно особую атмосферу. Я несколько раз бывал в таких клу¬
бах. Вас встречает очень вежливый швейцар, он же привратник, он же охранник.
В гостиной разбросаны газеты, журналы. На стенах - картины, на полумягкие ков¬
ры. Все это чуть старомодное. Вы проходите в ресторан. Это необычный ресторан
с оттенком домашности. Всему этому придается ощущение своего крута. Я бы¬
вал благодаря баронессе в знаменитом Reform Club, куда, как мне объяснили мои
оксфордские друзья, ни один профессор ногой не ступал, потому что это высший
политический клуб, созданный в 20-х годах XIX века. Я бывал в Garrick Club, это
высший театральный клуб. Это всегда как в фильмах о Шерлоке Холмсе - тишина,
молчание. Сидит очень немного людей. Читают газеты. Никто ни с кем не разго¬
варивает.
- Игорь Олегович, а вы видели другую, непарадную, не столь официальную
Англию?
- Да, пожалуй... Я вам не рассказывал историю про мой визит на ферму Милне-
ра-Галланда? В первыйраз это было в 1992 году. Онмне объяснил, как добираться до
него. Нужно было доехать до Брайтона, пересесть на совершенно фантастический
поезд, в котором сам открываешь двери, выходя из вагона. XIX век совершенно.
Вечер пятый. Англия
369
Маленькая, по-моему, узкоколейка, знаете, которую строил Павка Корчагин.
И вот, значит, надо доехать до какой-то станции, на которой людей нет, она аб¬
солютно покинутая, и там стоит только один Милнер-Галланд. Он меня переса¬
живает в свою машину и везет по удивительным местам... Английский пейзаж:
луга, дороги, кусты, овцы пасущиеся. Но это довольно далеко, не знаю сколько
миль, 10-15, не меньше. И мы едем посреди зеленых лугов, полей огороженных,
вот эта ферма. Изначально ферма XV или XVI века, то есть ее стены... Рядом с ней
конюшня. Там стоит старая лошадь, на которой ездит жена Милнера-Галланда,
Элисон, художница. Элисон всегда очень гостеприимна.
- В вашу честь был устроен торжественный обед?
- Да... Г орел свет XX века, но все в рембрандтовских тонах: полутени, слепые
кошки, которым одной - 18, другой 20 лет. В конюшне стоит лошадь, полусле¬
пая, рядом с ней ее друг баран, который спит у ее ног, они очень дружат. Ощуще¬
ние нереальности. Утром после завтрака Робин сказал, что он хочет мне показать
книги, журналы. Пошли в его кабинет. Такое впечатление, что это кабинет ниже
уровня моря: окна как иллюминаторы на полтора метра выше, чем место, где ты
сидишь. Вот я увлекся, читаю и вдруг у меня ощущение возникает, что на меня
кто-то смотрит. Я поднимаю глаза и вижу, что в этих иллюминаторах справа, слева
и по центру - двадцать овечьих морд, и они очень внимательно смотрят на меня.
Потому что Робин Милнер-Г алланд не просто профессор, а профессор-фермер,
как он обычно рекомендовался. Такой был мой первый визит...
- Очень любопытная история с точки зрения английского быта... А англий¬
ская культура? Вы смотрели много спектаклей в Оксфорде и Лондоне. Ваши впечат¬
ления от английского театра?
- Я не скажу, что это было так много. Десять, может быть, чуть больше спек¬
таклей шекспировских. Почти все спектакли, которые были в Оксфорде, поражали
естественностью. Я всегда показываю своим студентам этот вид Оксфорда. (До¬
стает фотографию из папки.) Вот как выглядит Оксфорд. Такое впечатление, что
это средневековый город, но в нем, наверное, три-четыре средневековых здания.
Он весь построен в XVIII веке, в основном. Под готику. И вы знаете, когда на га¬
зоне в окружении этих башен играется Шекспир и когда, как в шекспировском
театре, аутентичный, и то не всегда, костюм, это поражает.
- А что самое важное, самое особенное в их исполнении?
- Они играют язык. Это главное, что есть. И с таким вкусом это читают, игра¬
ют, они так вовлечены в эту разговорную игру! Поэтому те несколько спектаклей,
что я видел, они прежде всего речевое впечатление производят. Вот, например,
спектакль «Сон в летнюю ночь», который играется около Колледжа Святой Маг¬
далены на берегу реки Темзы. Когда на небольшом лугу во время наступающих
сумерек играется этот фантастический спектакль, он приобретает поразительное
правдоподобие. Или «Доктор Фауст» Марло... Когда постепенно с этой дьяволь-
370
Как было и как вспомнилось
щиной начинают падать тени от зубчатых стен, башен, - это действительно жут¬
кое впечатление. Особенно любопытно, когда появляются семь смертных грехов.
Один из них, как вы помните, Gluttony - Обжорство. Так вот, он подскакивает
к зрителям, вырывает у них из рук стаканчик с вином, который все держат, потому
что холодно в конце июля сидеть на открытом воздухе... Вырывает - и у кого-то
отпивает вино... Зрители в полном восторге, они приобщились... Знаете, с одной
стороны, это ощущение бытовой игры, а с другой - дьявольщины, которая здесь
совершается...
2017
Говорят слависты
Карен Хьюитт
Памятные моменты в Англии и в России
В январе 1989 года, во время моей третьей поездки в Россию, я столкнулась со
странным феноменом российской культуры. Я была в Москве, в автобусе, с моло¬
дой учительницей. Мы говорили по-английски, и изрядно подвыпивший мужчина
в не по-зимнему легкой одежде проталкивался к нам. Медленно, подыскивая ан¬
глийские слова, он заговорил со мной.
- Вы говорите по-английски?
- Да, - я старалась отвечать дружелюбно.
- Вы жить Англия?
-Да.
- Знаете Шекспира?
-Еще бы!
- О! - Он придвинулся еще ближе и доверительно зашептал: «Но Шекспир -
не Шекспир!»
Торжествуя, он явно хотел продолжить разговор.
- Шекспир, - возразила я, - это Шекспир! На самом деле!
В этот момент учительница, извиняясь, потянула меня к выходу. Я была под
впечатлением. Какой английский пьяница захотел бы обсудить - на иностранном
языке - тайну личности зарубежного писателя? Очевидно, тайна Шекспира была
очень притягательна для русских, и я почти восхищалась незнакомцем за его одер¬
жимость.
С другой стороны, так как я уже решила, что хочу говорить с русскими сту¬
дентами и преподавателями о пьесах нашего удивительного драматурга, стало ин¬
тересно, сколько еще людей озабочено тем, что Шекспир в конечном итоге - не
Шекспир. Значит, мне придется бороться с этим странным предрассудком? Все же
я бы предпочла обсуждать его пьесы.
Конечно, мне известно, что в Британии и в Америке есть совсем небольшая
группа чудаков и фанатиков, верящих, что Шекспир в действительности - кто-то
другой, хотя ряд документов свидетельствует, что Уильям Шекспир, родившийся
в 1564 году в Стратфорде-на-Эйвоне и связавший большую часть зрелой жизни
с Лондоном (работал в актерской труппе - писал для них), был действительно
372
Как было и как вспомнилось
автором своих пьес. В Британии я не встретила никого, кто бы считал иначе. Дру¬
гое дело в России.
После каждого занятия по «Ромео и Джульетте» мы переходили к вопросам,
и кто-нибудь непременно хотел обсудить идентичность Шекспира. Преподава¬
тели озабоченно спрашивали, уверена ли я, что Шекспир - это Шекспир. (Они
не читали большинства его пьес, видели пару постановок или экранизаций, но по¬
чему-то были уверены, что я ошибаюсь.) Позднее я встречала литературных кри¬
тиков и «экспертов», увлеченных долгими дебатами о подлинной личности Шек¬
спира. Должна сказать, меня эти дискуссии раздражали.
- Представьте иностранца, который устраивает большую конференцию с це¬
лью обсудить, был ли Пушкин Пушкиным, - что бы вы сказали?
Мысль была столь нелепа, что учителя просто пожимали плечами. Русские
давно считают Шекспира своим. Где я могла найти серьезную академическую под¬
держку?
Ответ, хоть и пришел не сразу, оказался в работах Игоря Шайтанова. От увле¬
кательных разговоров о Шекспире он перешел к лекциям, статьям, эссе и затем -
к поразительно обстоятельной биографии Шекспира. Однако задолго до того, как
я увидела в Игоре защитника здравого смысла в отношении к нашему знаменито¬
му драматургу, я знала его как литературного критика с самыми широкими инте¬
ресами, не сводимыми к английской литературе.
В марте 1992 года, перед моим отъездом в Россию, Джерри Смит, профессор
русской литературы в Оксфорде, попросил меня найти «человека по имени Игорь
Шайтанов»: он был «где-то в Москве, возможно, в ИМЛИ». Джерри хотел, что¬
бы я передала ему приглашение провести месяц в Оксфорде. Москва - большой
город. На мое счастье, прежде чем начать поиски в ИМЛИ (они были бы напрас¬
ны), я встретила Игоря - совершенно случайно - в доме Нины Павловны Михаль-
ской, где мы втроем провели прекрасный вечер, обсуждая английскую литературу.
Мне сразу стало ясно, что разговоры такого рода могут продолжаться месяцами,
годами, - так оно и оказалось.
Когда в октябре 1992 года Игорь приехал в Оксфорд, я пригласила его в со¬
седний городок на занятие с группой взрослых людей, захотевших продолжить
свое образование. Раз в неделю у нас было занятие по литературе. В тот вечер,
помнится, говорили о романе Томаса Гарди. В разговоре принимали участие все,
и, несмотря на литературные разногласия, атмосфера была дружеской. По дороге
домой (я вела машину по окрестностям Оксфорда, где Шекспир в свое время, воз¬
можно, проходил по дороге в Лондон) мы с Игорем разговаривали об образова¬
нии для взрослых. Его заинтриговало увиденное, но он усомнился в возможности
такого рода занятий в России.
Игорь несколько раз возвращался в Оксфорд в 1990-х. Иногда останавливал¬
ся в моем доме. Один-два раза жил у Кэтрин Данкан-Джоунз, знаменитого шек-
Вечер пятый. Англия
373
спироведа, - дискуссии с ней могли быть особенно плодотворными. В 1994-м он
приехал на организованный мной семинар, который был профинансирован Бри¬
танской академией. Там он познакомился с еще одним уважаемым шекспиров¬
ским критиком Лоренсом Лернером, кроме того ярко писавшем о прозе XIX века,
и с Седриком Уоттсом, исследователем Конрада. Тем для разговоров и обсужде¬
ний было более, чем достаточно.
Когда Игорь перешел работать в РГГУ, он пригласил меня провести цикл за¬
нятий по «Потерянному раю» Джона Милтона. Интеллектуально насыщенная
работа с интересными студентами мне очень понравилась. В это время Игоря ув¬
лекала разработка некоторых Ключевых Понятий как подхода к литературе, спо¬
собного быть теоретической базой, но при этом не слишком сковывать. Также
он писал учебники для школьников, что было важным вкладом в образование на
постсоветском пространстве. Идей было много, но в тот период я не ощущала,
насколько важен был для него Шекспир.
С началом нового века я почувствовала, что Шекспир становится для Игоря
центральной фигурой. Число тщательно проанализированных им пьес возрастало.
Игорь читал лучшие работы научного шекспироведения. Много путешествуя по
миру, он собрал замечательную библиотеку критической и научной литературы
западных специалистов.
В Оксфорд он приезжает обычно летом, в последние недели семестра или с на¬
чалом каникул. В Оксфорде существует великая традиция исполнения Шекспира
на свежем воздухе. Студенты ставят пьесы на зеленых газонах разных колледжей.
Не всегда Шекспира, но достаточно часто - именно его. Когда студенты разъез¬
жаются, актерские труппы (не только профессионалы, но и любители) играют для
десятков тысяч туристов, которые посещают летом наш маленький город. По по¬
пулярности Шекспиру нет равных.
Как только Игорь приезжает ко мне, он хочет знать обо всем репертуаре -
не для того, чтобы выбрать лучшее, а понять, как постараться увидеть все - или
почти все. Это непросто. В Англии часто идет дождь. Если не идет, то собирает¬
ся. Что делать ищущим лицедейства? Иногда в колледжах можно найти закрытую
запасную площадку, иногда приходится отменять спектакль. Представьте, актеры
готовятся, репетируют, настроены на выступление в течение трех недель, и - не¬
ожиданно недели на две в их планы вмешивается непогода. Разочарование и для
исполнителей, и для зрителей. Деньги потеряны, ожидания тщетны.
В результате начинаешь ценить каждый ясный или более-менее ясный вечер.
Пьеса выбрана - мы берем подушки, если нужно, пледы и отправляемся в универ¬
ситетские сады. Большие деревья - каштаны, буки, сикоморы - обрамляют лужай¬
ку, служащую сценой. Кустарники становятся кулисами. Перед сценой - ряды
стульев. Зрители могут сидеть на поднимающихся ярусами ступенях, но обычно
374
Как было и как вспомнилось
стулья ставят прямо на траву, с трех сторон сцены, как и в шекспировском театре,
где каждый вовлечен в спектакль. Прожекторы установлены на деревьях.
С приходом зрителей - еще засветло - спектакль начинается. Постепенно
темнеет - включают прожекторы: сначала едва подсвечивают, затем все сильнее.
Тем временем свежеет - в ход идут теплые вещи и пледы. Зрители начинают по¬
тягивать подогретое вино с пряностями, купленное во время перерыва. В ясный
вечер, особенно при луне, финал пьесы волшебен: прекрасны мягко освещенные
силуэты высоких деревьев. Под ними разноцветные прожекторы озаряют акте¬
ров - смеющихся, поющих, танцующих на траве.
Так заканчиваются «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится»,
с меланхоличными нотами - «Двенадцатая ночь» и «Зимняя сказка». Я не всегда
могла составить компанию Игорю, жаждавшему Шекспира, но мне запомнились
несколько постановок этих пьес, а также «Двух веронцев», «Много шума из ни¬
чего», блестящее исполнение «Доктора Фауста» Кристофера Марло. Обычно на
свежем воздухе ставят комедии, но можно увидеть и «Гамлета», «Генриха V».
Иногда из-за плохой погоды режиссеру приходится обсуждать с публикой,
как поступить: отменить спектакль или начинать. Если это не проливной дождь,
аудитория обычно голосует за представление. Погода может проявить милосер¬
дие или дождь лишь поморосит, но может и зарядить тяжелыми каплями по рас¬
крытым зонтам и макинтошам. Единственное, что могу сказать: когда спектакль
уже начался, даже ливень едва ли сможет остановить его. Все уже вовлечены в дей¬
ство, очарованы пьесой. Важный момент относительно «Шекспира в Оксфорде»,
который отметил Игорь: местные жители и туристы, школьники и пенсионеры, те,
кто никогда не видел Шекспира, и кто смотрел много раз, хотят наслаждаться им
снова и снова. Шекспир очаровывает.
Мне представляется, что неподдельное внимание Игоря к реакции аудитории
обусловлено его интересом к «жанру». Как он мне разъяснил, если размышлять
о жанре применительно к Шекспиру, следует подумать об ожиданиях зрителей;
как важно было для них, пьесу какого рода они смотрели; насколько Шекспир мог
экспериментировать и раздвигать границы жанра, чтобы не разочаровать публи¬
ку. Чувство жанра определяло его взаимоотношения со зрителями. (Поскольку
мне всегда была близка мысль о взаимодействии писателя и понимающего читате¬
ля как о сокровенной, умной, гармоничной связи, эти идеи мне очень созвучны.)
Надеюсь, что эти неформальные дружеские постановки помогли Игорю, ког¬
да он писал биографию Шекспира. Обыкновенно в труппе есть один-два отличных
актера, но труппа работает так слаженно, что в общем энтузиазме и преданности
своему делу индивидуальные актерские несовершенства прощаются. Такие поста¬
новки способны подчеркнуть, насколько шекспировские пьесы для всех знакомы
и в то же время - всегда удивительно новы.
Вечер пятый. Англия
375
Игорь рассказал мне о пережитом профессиональном волнении при осозна¬
нии, что иностранный посетитель лондонского театра в 1599 году (швейцарец
Томас Платтер), вероятно, упоминает в своем письме именно «Венецианского
купца». Это замечание оставалось до сих пор непонятым, так как видение пьесы
тогда и сейчас, в XXI веке, сильно расходится. Такое многообразие откликов, та¬
кие вариации характерны для пьес Шекспира.
Вернусь к началу. В течение десятка лет после встречи в автобусе с нетрезвым
энтузиастом Шекспира я продолжала отвечать на вопросы о подлинности шек¬
спировской личности. Не помню, когда русские прекратили спрашивать, кто был
Шекспиром, но мне кажется, за эти годы проблема, укорененная в сознании мно¬
гих россиян, разрешилась. Я не имею в виду, что все прочли статьи Игоря, напи¬
санную им шекспировскую биографию, но в результате его работы ответ перешел
в культурное сознание народа. Он просочился в умы - и люди прониклись. Шек¬
спир на самом деле Шекспир! И это грандиозное достижение!
Недавно я спросила у Игоря о его любимой пьесе Шекспира. Он ответил:
«Та, над которой я работаю в данный момент». Какой счастливый человек!
Перевод с английского Людмилы ЕГОРОВОЙ
2017
Робин Милнер-Галланд
«Whatever is, is right»
Быть русистом во второй половине XX века в Великобритании - необычный
и постоянно меняющийся опыт, даже в моем случае: мне посчастливилось препо¬
давать всю жизнь в одном университете - вновь открытом, в Сассексе, где была
возможность составить свою программу (а для меня - создать ее, поскольку я, не¬
смотря на молодость и отсутствие опыта, стал первым штатным русистом).
Я начал учить русский язык в армии, где два года был рядовым солдатом нацио¬
нальной службы. В конце 1940-х британское правительство, опасаясь внезапного
начала войны в Европе, открыло Военную школу лингвистов для подготовки пере¬
водчиков (за десять лет работы русский язык освоили около пяти тысяч человек,
а затем национальную службу отменили).
Я учил языки в школе, и мне уже предложили место в Оксфорде, но наста¬
ло время службы, и мне повезло: в армии приняли на курс русского языка. Наши
учителя были колоритной компанией: многие - эмигранты, некоторые даже уча¬
ствовали в Гражданской войне. Учеба была очень интенсивной. После получения
дипломов переводчиков нам казалось, мы знаем все. Вскоре начали осознавать, что
всему есть пределы. И главное, что для нас пока оставалось закрытым, - богатей-
376
Как выло и как вспомнилось
шие ресурсы русской литературы. Во время службы мы, конечно, читали и учили
каждое слово, но это были советские романы. Попытку изучить «Преступление и
наказание» мгновенно пресек начальник курсов (он стал заслуженным академи¬
ком и позже писал о Достоевском). Нашей задачей было овладение разговорным
языком, не говоря уже о таких армейских вещах, как устройство автомата и т.п.
Во время учебы мне и в голову не приходило, что я смогу оказаться в Совет¬
ском Союзе. Отправиться туда туристом означало не только попасть под разного
рода ограничения, но еще и дороговизну. Возможность появилась неожиданно -
в конце первого (и удивительно раскрепощающего) года обучения в Оксфорде.
Москва тогда устраивала Международный фестиваль молодежи и студентов. Это
оказался двухнедельный карнавал: прекрасная погода, замечательное дружелюбие
и гостеприимство, ощущение послесталинской оттепели. Пока мы трое суток та¬
щились поездом по европейской части Союза, нас встречали толпы на станциях.
На одной из них какой-то человек сунул мне в руки почтовую карточку. Позже я
смог прочесть его почерк: «Народ против Хрущева. Долой!» Я так никогда и не
понял, был ли он ярым сталинистом или антисоветчиком.
В аспирантуре я занимался Средневековьем; мне хотелось осваивать культур¬
ное пространство, необходимое для понимания и литературы, и искусства. Мне
посчастливилось: моим научным руководителем стал знаменитый историк князь
Дмитрий Оболенский. Мы, его ученики, звали его просто Обо (он знал обо всем,
понимаете?). Как-то мы с ним долго разговаривали по телефону о русской исто¬
рии, и я заметил, что ведь настоящей аристократии в России не было. Он выдер¬
жал паузу: «Право, не знаю». И тут я вспомнил, с кем разговариваю...
Еще одним результатом оттепели стала возможность обмена молодыми уче¬
ными. Я провел незабываемый год в Москве, в МГУ, и проникся русским худо¬
жественным и литературным модернизмом и современным творчеством. Я встре¬
тил Евтушенко и переводил его, редактировал «Русскую литературу сегодня»
(«Russian Writing Today») для издательства «Penguin Books». Благодаря Обо¬
ленскому (он редактировал поэтическую антологию для того же издательства -
«Penguin Book of Russian Verse») я увлекся Николаем Заболоцким, отсюда - ин¬
терес к повлиявшим на него Хармсу, Олейникову, харизматичному художнику
Филонову. Благодаря связям (а завести их было непросто) можно было найти по¬
блекшие листы машинописи или увидеть картины, открывавшие новые миры. Как
с горечью заметил ведущий советский ученый: «Мы работаем, а они публикуют и
присваивают себе успех».
Это было прекрасное время для русистики в Британии. От Советского Со¬
юза, казалось, уже не исходило угрозы, память о военном сотрудничестве жила,
у британцев снова проснулся интерес к русским. Кроме того, университеты рас¬
ширялись, в них и в школах открывались ставки. Практически сразу после возвра¬
щения из МГУ я получил направление в Сассекс, вскоре число русистов возросло
Вечер пятый. Англия
377
до пяти, мы смогли организовать обмен студентами с издательством «Прогресс».
С академической точки зрения момент был волнующим: открывалось все больше
интересных тем, полузакрытых сталинской цензурой.
Однако ситуация постепенно менялась; частично - но не только - в силу но¬
вой политической реальности оттепель не имела продолжения, а международная
напряженность росла. Кроме того, финансовые трудности 1970-х негативно ска¬
зывались на британском образовании. Школы урезали языковое обучение, и ко¬
личество сильных учеников сокращалось. Университеты значительно увеличивали
нагрузку для преподавателей, и число специалистов по русскому языку и литерату¬
ре, выпускаемых вузами, оказалось избыточным. К счастью, в Школе европейских
исследований в университете Сассекса предлагались темы европейской культуро¬
логии, привлекательные для всех студентов, например «Модернизм в искусстве».
К концу университетской карьеры это стало моей основной нагрузкой. Но мое
призвание было связано с Россией, что к середине 1980-х не могло не разочаро¬
вывать.
Приехать в Советский Союз было непросто и недешево, а потому я восполь¬
зовался возможностью - присоединился к группе британских славистов, поездка
которых официально спонсировалась, и отправился в Москву на небольшую кон¬
ференцию преподавателей. Здесь произошла встреча, оживившая мой интерес
к русским исследованиям. Группа советских ученых состояла в основном из моло¬
дых людей, среди которых больше всего мне запомнился один: он выделялся остро¬
той ума, культурной открытостью, всесторонностью знаний и ясностью речи. Это
был Игорь Шайтанов. Он делал доклад о русских переводах «Опыта о человеке»
А. Поупа, и эту, казалось бы, не самую многообещающую тему ему удалось осветить
поразительно интересно. Помню последующую дискуссию, мой, казалось, каверз¬
ный вопрос: как переводчики на раннем этапе переводили «Whatever is, is right»
(«Все существующее добро/правильно»; в переводе Н. Поповского «Что в свете
все добро»). Игорь ответил, и мы обсудили неоднозначность английского глагола.
Мы обменялись адресами. Это было время перестройки. Игорь все чаще при¬
езжал в Англию, три раза был в Сассексе, убедительно выступал перед универси¬
тетским обществом русистов. Мы подружились семьями. Когда в 1993 году ему
представился шанс поработать в Оксфорде, он остановился в доме нашей дочери
и ее мужа (они тоже университетские ученые и в то время были в отпуске). Игорь
остался вдвоем с нашим сыном - к взаимному удовольствию обоих. Чтобы сесть
на автобус, Игорь обыкновенно шел к центру города тихой пригородной улоч¬
кой, но мысли его были далеки от повседневности. Это обнаружилось в последний
день визита, когда сын обратил внимание Игоря на необычность одного дома: его
украшала скульптура большой акулы, будто пробившей крышу, над которой воз¬
вышался ее хвост. Игорь каждый день проходил мимо, но знаменитой скульптуры
не замечал.
378
Как было и как вспомнилось
Роль Игоря не сводится только к семейной дружбе. Он влиятельный читае¬
мый автор, причем пишет не только статьи о литературе. Помню его журналисти¬
ку: рассказ о визите в Шотландию, интервью с легендарным Исайей Берлиным.
Недавно он очень успешно справился с практически невозможной задачей - био¬
графией Шекспира.
Не все знают о его любви к провинциальной России и в особенности - к род¬
ной для него Вологде. Когда я впервые поехал туда в 1990 году (это был исследова¬
тельский визит с искусствоведческой целью), Игорь любезно рекомендовал меня
своему старому Другу - реставратору икон Валерию Митрофанову (с его семьей
мы тоже с тех пор дружим). В 1994 году я принял участие в организованной Иго¬
рем конференции о культуре российской провинции, проходившей в Вологде и
в Белозерске. Я был счастлив написать об этом для книги «Вологодские пенаты»,
которую он составил (2008). Именно к этому времени восходит мой интерес
к русской провинции, особенно к ее Северу.
И, наконец, о самой известной и публичной роли Игоря - в качестве редак¬
тора и литературного критика. Горжусь, что в последние годы мне удалось публи¬
коваться в «Вопросах литературы», и я на собственном опыте убедился, что при
всей его доброжелательности у Игоря острый редакторский глаз, не пропускаю¬
щий ни неточной формулировки, ни туманной мысли.
С момента моей активной преподавательской деятельности в британских
школах и университетах неуклонно снижается не только уровень русистики, но
и современных языков в целом. В настоящее время изучение языка видится не
только трудным, но и нерациональным. Все хуже дела обстоят с литературными
исследованиями, важными в дни нашей молодости. Надежда остается на выда¬
ющихся студентов из России и Восточной Европы, которые приезжают учиться
в Британию.
Перевод с английского Людмилы ЕГОРОВОЙ
2017
Две беседы с англичанами
«И стих продолжает звучать...»
Английский взгляд на русскую поэзию
Беседу с Дж. Смитом вел Игорь Шайтанов
Октябрь 1992 года. Я впервые приехал в Англию и в первый же день в Оксфорде по¬
знакомился с Джеральдом Стэнтоном Смитом, как звучит полное имя профессора-сла¬
виста (тогда принадлежащего Нью Колледжу), блистательного знатока русской поэзии.
И что не менее важно - ее ценителя и энтузиаста, чей диапазон сделанного невероятно
широк: авторская песня и современная классика, которую он еще и переводил; серьезное
стиховедение на материале всей русской поэзии от XVIII века. Дж. Смит и М. Гаспаров
перекрестно переводили друг друга (фрагменты их многолетней переписки опубликова¬
ны в журнале «Вопросы литературы», 2017, № 2).
В тот месяц мы встречались, говорили о многом. Я рассказывал о том, что происхо¬
дило в поэзии у нас, он просвещал меня на предмет русской эмигрантской лиры, которую
ценил много выше, чем я тогда (да и после). Исключение составлял, пожалуй, лишь Брод¬
ский. При упоминании о нем лицо Джерри Смита освещала коварная усмешка, впрочем,
относящаяся не к поэту, а к пафосной репутации нобелевского лауреата. Помню, он ко¬
му-то пояснял: «В России Бродский считается немыслимо образованным, потому что чи¬
тает античных авторов, впрочем, только в переводе». В этой реплике я невольно узнавал,
как должен был страдать от уколов оксфордских донов Шекспир за то, что «недостаточно
знал латынь и еще хуже греческий». А Бродскому доставалось и за английский: о его ан¬
глийских стихотворениях Джерри Смит отзывался крайне нелестно, а репутацию эссеи-
стической прозы считал придуманной: «Находят какой-то особый стиль, а по-моему, это
просто иностранный акцент». И сам, смеясь, рассказывал, что по причине этих мнений,
открыто выражаемых, Бродский отозвался о нем как о единственном «невежливом англи¬
чанине, который ему повстречался».
Наш разговор о современной русской поэзии получил и совершенно практическое
направление, когда Джерри попросил меня посмотреть верстку подготовленной им ан¬
тологии «Современная русская поэзия», предназначенной для студентов-славистов, а
потому двуязычной (она вышла в следующем, 1993, году в США). На русский язык со¬
ставитель переводил сам и сам же комментировал. О чем-то мы спорили, отсутствие ка¬
ких-то имен мне казалось недопустимым, но сама антология была по-настоящему хороша,
сделана профессионалом. Правда, по одному случаю я, совершенно не имея того в виду,
сильно огорчил Джерри. Отмечая мелочи в комментарии, чрезвычайно подробном, ука¬
зывающем на всевозможные аллюзии (каковых было полно, особенно в уже вошедших
в моду центонах), я спросил: а что, американские студенты, для которых прежде всего
380
Как было и как вспомнилось
была подготовлена антология, знают, кто такая «рыбачка Соня...»? Джерри удивился:
«А что, это цитата?» Я объяснил, чем поверг собеседника в неподдельное горе: «Всю
жизнь занимаешься, а вот на таких мелочах все равно попадешься. Их нельзя знать, не
живя в стране».
Но я о другом - о том, как важен профессиональный и заинтересованный взгляд на
свою поэзию со стороны.
- Джерри, вы один из тех западных славистов, кто еще не печатался в России ?
- Не печатался, хотя недавно принял непосредственное участие в ваших ли¬
тературных делах в качестве члена оргкомитета Букеровской премии. Раньше я
занимался стиховедением. Шел и до сих пор иду по стопам Михаила Леоновича
Гаспарова - главы всего стиховедческого клана. Но, кроме академического инте¬
реса, рано возникло увлечение и вовсе не академическое. Я увлекался тем, что вы
называете авторской песней, а мы - гитарной поэзией. Так что, с одной стороны,
исследования по строфике и метру, а с другой - книга «Песня под семь струн»
о Галиче, Окуджаве, Высоцком. Александра Галича к тому же я перевел на англий¬
ский. Это была неимоверно трудная работа.
-Так что вы дошли до предела современной речевой раскованности в поэзии,
которую знали изнутри, часто бывая в России?
- До определенного времени. В моих поездках был большой перерыв с се¬
редины 1970-х вплоть до перестройки. Я знал, что для любого человека в Союзе
контакт с иностранцем может обернуться самым непредсказуемым образом. Даже
если не произойдет ничего страшного, просто вызовут куда надо и выяснят, что
беседовали лишь о дольнике или Тредиаковском. Зачем это людям? Я перестал
ездить.
- И тогда вы сочли, как писали в статьях, что «практически невозможно напе¬
чатать настоящую поэзию в пределах СССР». И сразу же обратились к тому, что
печаталось за пределами?
- Эмигрантской поэзией я занялся довольно давно, мечтал сделать для нее то,
что для русской поэзии в целом делал Гаспаров, - описать ее метрический репер¬
туар. Но, помимо этой академической задачи, меня интересовала поэзия, кото¬
рую в самой России не печатали и не знали. На нее, конечно, особенно обратили
внимание в 1972 году, после переезда на Запад Иосифа Бродского. Это событие
сместило акцент: стало ясно, что русских поэтов для мирового читателя искали
не там. Бродский отодвинул и Вознесенского, и Евтушенко, заявив о себе как
о единственном современном русском поэте, находящемся на пути к мировой
славе.
- А кроме Бродского, каков ваш выбор среди поэтов эмиграции?
- Для меня наиболее значительны пять имен: Дмитрий Бобышев, Наталья
Горбаневская, Юрий Кублановский, Лев Лосев и Алексей Цветков. Хотя можно
Вечер пятый. Англия
381
добавить и других, например Константина Кузьминского. Как видите, они не под¬
даются объединению в какую-то группу или под знаком «диссидентского стиля».
Правда, у уехавших есть биографическая общность, становящаяся общей темой, -
реакция на отъезд. Совсем не обязательно ностальгическая. Это уже зависит от
человека, от темперамента. Если буквально переводить с английского, то я опре¬
деляю для себя два преобладающих эмоциональных стиля: «влажный» и «сухой».
Они имеют традицию в классической русской поэзии и лишь продолжены здесь.
Сух, предельно ироничен ко всему, и прежде всего к самому себе, Иосиф Брод¬
ский. Не менее ироничен Лев Лосев, всегда пропускающий впечатление сквозь
едкую интеллектуальную среду и никогда не позволяющий интеллектуальной ат¬
мосфере стиха разогреться...
- Его первая же публикация в «Знамени» (1989, №11) обратила на себя вни¬
мание. Впрочем, это слишком мягко сказано, поскольку одно стихотворение имело
шокирующий эффект - о том, как к нему, когда-то работавшему в пионерском жур¬
нале «Костер», несли свои творения выученики тартуской школы:
Прикрытые немыслимым рваньем,
они о тексте, как учил их Лотман,
судили как о чем-то очень плотном,
как о бетоне с арматурой в нем.
Все это были рыбки на меху
Бессмыслицы, помноженной на вялость,
Но мне порою эту чепуху
и вправду напечатать удавалось...
Таку нас не принято говорить о тартуской школе: предмет требует приды¬
хания и восхищения, а тут... насмешка? По отношению к ученическим текстам
школы - да, но стихотворение написано ведь не по поводу филологических споров, а
по поводу принятой жизненной программы. Можно ли спастись от власти за арма¬
турой текста? Ответ в последнем четверостишии:
Те в лагерном бараке чифирят,
Те в Бронксе с тараканами воюют,
Те в психбольнице кычат и кукуют
и с обшлага сгоняют чертенят.
«Сухая шутка», как сказано у Пушкина...
- И вполне в духе «сухого стиля», который это стихотворение и представля¬
ет в моей антологии. Лосев великолепно ироничен. Насколько на него непохожи
382
Как было и как вспомнилось
Горбаневская и самый эмоциональный - в своей православной вере и в своем чув¬
стве - Бобышев! Я должен признаться, что в своих поэтических вкусах достаточно
консервативен и, вероятно, поэтому люблю русскую поэзию, консервативную на
взгляд Запада. Ведь русские поэты все еще пишут традиционными размерами и
в рифму, хотя и демонстрируя при этом блистательное пренебрежение к любой
эмоциональной условности, поражая своей открытостью и своей верой в спаси¬
тельную силу поэзии. Вот почему «сухой стиль» в целом понятнее западному чи¬
тателю, откликнувшемуся на поэзию Бродского, ощутившему ее как шаг в сторону
сближения с Западом.
- Вслед ему этот шаг делают сейчас многие и там, и здесь. Да, еще раз хочу
вернуться к вашему мнению насчет того, что происходило здесь. Значит, подлинные
стихи не могли появиться в пределах СССР в так называемые годы застоя, а писа¬
лись ли они ? Это два отдельных вопроса.
- Что касается второго, то, конечно, писались. Мы это в полной мере оценили
за последние пять лет, когда многое было опубликовано. По первомуже...
- Позвольте перебить вас цитатой из вашего предисловия к антологии, где
в одной фразе вы говорите о КГБ и о Союзе писателей как о равно репрессивных
силах. Для вас членство в СП, возможность печататься до 1985-го или даже до
1987 года - свидетельство конформизма?
- Сейчас я так не думаю. Работая над антологией, я почувствовал недостаточ¬
ность своего знания печатавшейся в СССР русской поэзии: ведь я почти за нею не
следил. В результате слишком поздно заметил Чухонцева, пропустил Самойлова...
- Которого, замечу, нет в вашей антологии, и это чувствительный пропуск,
так как вы стремились к картине объективной, разностильной.
- Это так, но я не хочу скрывать своих пристрастий. Тем более что выступаю
и как переводчик. Мне несколько специалистов в России, с которыми я обсуждал
идею книги и ее состав, говорили, что я не могу обойтись без Юрия Кузнецова,
но я так и не смог заставить себя переводить его стихи. Я ценю в русской поэзии
контактность с читателем. В последнее время для меня радостным было узнавание
Германа Плисецкого и Евгения Рейна - достаточно ли у вас их знают? Я оценил
Ольгу Седакову и особенно Елену Шварц - с них началось для меня знакомство
с новой поэтической волной. В 1985 году я прочел Ивана Жданова, затем Еремен¬
ко, Парщикова, Пригова...
- Им-то, вероятно, и предстоит пережить то, что вы предсказываете под
занавес в своем предисловии: «Русские поэты столкнулись с той самой маргинали¬
зацией, что переживают поэты в других современных культурах. Историческая
роль и убийственный груз для поэзии - быть совестью нации - может оказаться
излишним в свободном гражданском обществе. Поэты могут быть просто поглоще¬
ны массовыми средствами электронной информации или вытолкнуты в коммерциа-
лизованную индустрию развлечений». Реальные опасности новой культурной среды,
Вечер пятый. Англия
383
в которой, как мне представляется, уже захлебнулась наша новая волна. Помню свое
первое впечатление от нее - ожидание, будто бы наконец что-то началось. В дей¬
ствительности же то, что показалось началом, было завершением. Что-то кончи¬
лось, пришедшие из андеграунда там и сказали свое слово, написав свои лучшие вещи,
пока их не печатали.
- Это относится ко всем?
- К подавляющему большинству. Кончилось время групп, тусовок с их взаимной
поддержкой и столь же взаимным возвеличиванием. Началось время индивидуально¬
стей. В литературу часто приходят группой, но выживают всегда в одиночку.
- Я готов с этим согласиться. Прекрасный сборник есть у Алексея Цветкова -
«Эдем», его третья книга (1985). Эдем - потерянный рай лирического героя, ма¬
ленький городок в провинциальной России. На фоне обычно скупо оформленных
эмигрантских книг она бросается в глаза уже своей обложкой: по кумачовому фону
шрифтом советских лозунгов и плакатов дано библейское название. Лозунг -
это поверхностный слой жизни, почти не затронувший ее глубины, оставшей¬
ся в доиндустриальной эпохе, в XIX веке, то ли в тургеневском романе, то ли
в чеховской новелле. Поэзия возвращается к метафоре сгущенного времени:
отверни гидрант и вода тверда
ни умыть лица ни набрать ведра
и насос перегрыз ремни
затупился лом не берет кирка
потому что как смерть вода крепка
хоть совсем ее отмени
- Мне слышится сходство по ощущению с тем, что писали молодые поэты
начала 1980-х. Я имею в виду тех, кто печатался здесь и начинал с воспоминаний.
Кстати, все они поразительно быстро выговорились - хватило одной-двух книг. По¬
эзия требует глубокой памяти...
- Как у Слуцкого. Вот кто действительно велик и поразителен. Летом прошед¬
шего, 1992 года, рецензируя для литературного приложения «Таймс» его трех¬
томник, я назвал статью «Эпитафия советскому опыту». Это история утраченных
идеологических иллюзий, обернувшаяся не опустошением, а духовным взлетом
к обретению христианского чувства милосердия.
- Вероятно, поэзия сегодня не могла бы быть иной, чем поэзия завершения. В гло¬
бальном смысле что-то кончилось в русской истории, в культуре. С чем-то мы рас¬
стаемся радостно - «проклятое прошлое», но, расставшись, замечаем, как «про¬
клятое» тянет за собой то, чего отдать не хотим, что дорого. Только ощущение
этой неразрывности глубоко. «Сквозь прощальные слезы» назвал свою поэму Тимур
Кибиров.
384
Как было и как вспомнилось
- У меня его нет. Не все успеваешь заметить, глядя со стороны.
- Однако у такого взгляда свой обзор, свои преимущества.
- Их, замечу с сожалением, у вас не всегда готовы признать. Это касается об¬
щего отношения к западной славистике. Все-таки мы более двадцати лет занима¬
лись тем, что у вас оставалось под запретом, и немало сделано. Раньше, понимаю,
это нельзя было замечать, но и сейчас многие продолжают делать вид, будто ниче¬
го не существует. Кто-то действительно не знает, а кто-то переписывает без ссыл¬
ки на источники. Скажем, когда Виктор Ерофеев справляет поминки по советской
литературе, то он не может не знать, что в качестве сенсации преподносит азы,
с которых у нас начинает славист-первокурсник.
-Я неуверен к тому же, что любые азы хороши в качестве последней истины...
Но это уже другая тема. Мы и так слишком о многом не успели сказать - хотя бы
о переводе. То, что вы даете как английский перевод, у нас считается подстрочни¬
ком...
- Нет, это не подстрочник.
- Я говорю о том, как бы это воспринималось в нашей традиции: ритмизован¬
ный, озвученный, но подстрочник, поскольку рифмованные в оригинале стихи вы пе¬
реводите вне точного ритма и без рифмы.
- У нас давно только так и переводят. Рифмованный перевод всегда оказыва¬
ется на самом деле не переводом, а вольной вариацией на тему.
- Давайте лучше здесь и остановимся, ибо это проблема не для краткой репли¬
ки под занавес, а для начала нового разговора, очень трудного и назревшего. Я-то со¬
вершенно согласен с вами и убежден, что километры рифмованной переводной поэзии
- настоящее бедствие русского стиха, оглушающий его обвал.
- Еще одно бедствие... Тем удивительнее, что и слух не убит, и стих продол¬
жает звучать.
1993
Венер пятый. Англия
385
Игорь Шайтанов
Русское интервью Исайи Берлина
Встреча в Оксфорде
Исайю Берлина я встретил в последние дни февраля 1994 года в Оксфорде,
где он жил уже более шестидесяти лет.
На обложках книг И. Берлина пишут: «...один из самых выдающихся либе¬
ральных мыслителей нашего столетия...». Президент Британской академии, ос¬
нователь и глава одного из оксфордских колледжей, обладатель многих почетных
званий, заслуг, за которые он - сэр Исайя.
Если и есть место в цивилизованном мире, где Берлина не издают, его идеи не
знают, а его имя все еще нуждается в подробном комментарии, так это его роди¬
на - Россия.
Незадолго перед тем у нас появились первые публикации работ И. Берлина1,
и я имел право на обеде в Рули Хаус сказать об интересе, возникшем к его идеям.
«Да бросьте, - отмахнулся сэр Исайя, - я всю жизнь писал о Белинском, Герце¬
не, Писареве, кто у вас их теперь читает? Меня знают единственно как человека,
встречавшегося с Ахматовой, Пастернаком».
Я было открыл рот, чтобы возразить, но на нас уже надвигался кто-то из моих
соотечественников, издали сладко повторяя: «Сэр Исайя, сэр Исайя, мы все о вас
знаем, о вас и об Ахматовой».
Берлин победно взглянул на меня. Интерес к идеям оставалось подтвердить
не словами, а делом. Сидя за обедом рядом с сэром Исайей, я попросил его об
интервью и получил согласие. Встреча была назначена через неделю, на 6 марта,
у него дома в Хедингтон Хаус.
В оставшиеся дни я перечитывал давно и хорошо мне известный том «Русские
мыслители», смотрел другие книги Берлина, расспрашивал о нем его оксфордских
знакомых. В общем, готовился задать вопросы, не касаясь того единственного,
который уже полвека обращен к Берлину из России: что происходило в комнате
Шереметевского дворца, куда 14 ноября 1945 года познакомиться с Ахматовой
пришел сотрудник британского Министерства иностранных дел Исайя Берлин и
откуда он ушел к себе в «Асторию» утром следующего дня.
Собственно, участники встречи сами рассказали о ней - Берлин в воспомина¬
ниях2, Ахматова - в стихах (циклы «Cinque», «Шиповник цветет») и в «Поэме
1 Берлин И. Речь при получении премии Джованни Аньелли // Литературная газета. 1990.
28 февраля; Берлин И. Рождение русской интеллигенции / Вступ., ст. и публ. Б. Дубина // Во¬
просы литературы. 1993. № 6.
2 Берлин И. Встречи с русскими писателями // Slavica Hierosolymitana. 1981. № V-VI. То
же с сокращениями (об А. Ахматовой) в кн.: Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Совет¬
ский писатель, 1991.
386
Как было и как вспомнилось
без героя», где в Берлине видят жизненного прототипа для Гостя из будущего,
а также адресата третьего посвящения к поэме:
Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха,
А за ней войдет человек...
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый век.
И заключительное трехстишие этого посвящения:
Но не первую ветвь сирени,
Не кольцо, не сладость молений -
Он погибель мне принесет.
Ахматова была убеждена, что ее встреча с Берлиным послужила, во всяком
случае, поводом к партийному постановлению 1946 года о журналах «Звезда» и
«Ленинград», на десять лет вычеркнувшему ее из литературы, положившему ко¬
нец надеждам на послевоенное духовное возрождение здесь и на установление но¬
вого климата в международных отношениях.
Говорят, что Сталин был взбешен: монашенка принимает американских шпи¬
онов. Шпион в официальном мнении, согласно литературной молве, Берлин явил¬
ся скорее не Гостем из будущего, а Дон Жуаном.
Кем он был на самом деле? Сейчас об этом легче судить, ибо спустя несколько
месяцев после смерти Исайи Берлина, случившейся 4 ноября 1997 года, вышло в
свет его жизнеописание1. Автор - Майкл Игнатьефф - в течение последних десяти
лет жизни был постоянным собеседником Берлина. В книге звучит голос ее героя:
жизнь Берлина рассказана с его слов.
С кем познакомилась Анна Ахматова?
В Риге 6 июня 1909 года в семье купца первой гильдии Менделя Берлина ро¬
дился единственный ребенок. При родах у него была повреждена левая рука (на
многих фотографиях видно, как бережно она прижимается к боку).
Дед-раввин в Витебске - Цукерман. Фамилия Берлин была принята, когда
Менделя усыновил богатый торговец лесом, его двоюродный дед Исайя Берлин.
В его честь будет дано имя его приемному правнуку (Мендель был усыновлен вме¬
сте со своим отцом в качестве внука). Предки по линии матери - Волынонки, а по
1 ^паЫе^М. Ьа1аЬ ВегНп. А Ыбе. Ь.: СЬаЙ:о & \Утс1и$, 1998.
Вечер пятый. Англия
387
линии двоюродной прабабки - Шнеерсоны, происходившие из тех самых Шнеер-
сонов, что и Шнеер Залман Шнеерсон, раввин, около 1780 года основавший одну
из самых известных хасидских сект, именуемую обычно по местечку в Польше, где
она возникла, - Любавичи.
Хотя по своему отношению к религии Берлин был, во всяком случае внеш¬
не, философским скептиком, он всегда отмечал еврейские праздники, оставался
убежденным сторонником основания еврейского государства и остро ощущал
свое происхождение. Столкнуться с антисемитизмом ему пришлось еще в дет¬
стве - в Латвии, неоднократно в Англии и даже довольно поздно, когда, напри¬
мер, Берлин вышел из сообщества выпускников школы при соборе Святого Павла,
узнав, что в школе существует квота приема для евреев (15 %).
С началом войны семья перебралась поближе к лесу, которым торговал Мен¬
дель, и поселилась на какое-то время в поселке лесорубов Андреаполе (недалеко
от Пскова). Там Исайя начал учиться в еврейской школе, там он услышал и за¬
помнил, что каждая буква еврейского алфавита пропитана кровью, и с волнением
рассказывал об этом в старости.
В 1916 году Берлины переехали в Петроград. Здесь для Исайи начинается чте¬
ние: сначала Жюль Верн, а затем русская классика в кожаных переплетах.
Летом 1919 года принято решение об отъезде из России. Сначала в Ригу, но
это не конечный пункт. У отца есть дела в Лондоне и там, в банке, довольно круп¬
ная сумма денег. Это предопределило выбор.
В английской школе возникли трудности: с языком, хотя Исайя и начал учить
его еще в России, с еврейским именем, которое мальчику предложат поменять на
Роберт или Джеймс. В первые месяцы родилось ощущение изгнанничества, кото¬
рое никогда не покидало Исайю Берлина.
Но постепенно все устроилось. Язык стал родным. Семья перебралась в бо¬
лее престижный район, а Исайя пошел в школу при соборе Святого Павла, после
окончания которой в 1928 году поступил в оксфордский колледж Корпус Кристи.
Там появились друзья на всю жизнь. Среди них поэт Стивен Спендер. Вместе
с ним в 1930 году Берлин впервые посетил Зальцбургский музыкальный фести¬
валь, на который будет ездить до конца жизни. Фестиваль был основан в 1920 году
Максом Рейнхардтом и Гуго фон Гофмансталем в противовес Вагнеровскому фе¬
стивалю в Байрете. В Зальцбурге царили Моцарт и Бетховен.
В Оксфорде Берлин редактирует студенческий журнал «Оксфордский
взгляд» («The Oxford Outlook») и выступает в нем как музыкальный критик. Му¬
зыка навсегда остается одним из самых сильных его увлечений.
После окончания Корпус Кристи Берлин подыскивает себе работу преподава¬
теля философии в старейшем оксфордском Нью Колледж, но здесь - неожиданная
удача: его (первого еврея) избирают членом колледжа Ол Соулз, единственного
в Оксфорде освобождающего от преподавательских обязанностей и открываю-
388
Как было и как вспомнилось
щего возможность для самостоятельной работы. Членами этого колледжа были
многие известные журналисты, отставные и действующие политики. Здесь впер¬
вые проявился разговорный талант Берлина, принесший ему славу блестящего со¬
беседника, мастера устного жанра, в котором он приобрел репутацию задолго до
того, как написал что-либо значительное.
Да, Берлин был прав, когда в старости признавался, что ему неловко от того,
что в этот трагический век он прожил благополучно и счастливо. Ему везло. Хотя
начало его творчества было медленным и далеко не гладким.
В годы между двумя войнами интеллектуальная жизнь Оксфорда оставалась
достаточно традиционной, как и программа философских наук. Единственным
значительным влиянием был марксизм, приведший немало знакомых Берлина
в коммунистическую партию. Сам он, с детства запомнивший ужас революции,
никогда не поддавался этому влиянию, но его интересовали истоки революцион¬
ных идей. Это заставило Берлина принять заказ - написать для университетской
библиотеки биографию Карла Маркса. Она выйдет в свет накануне войны (1939),
получит в целом хорошие отзывы, будет впоследствии неоднократно переиздана и
переведена на многие языки.
Для самого Берлина это был первый опыт интеллектуального возвращения
в Россию, ибо именно для этой книги он познакомился с русской публицистиче¬
ской мыслью, с трудами В. Белинского и А. Герцена: они будут сопровождать его
в течение дальнейших лет, - с романами И. Тургенева, которого он будет впослед¬
ствии переводить, о ком будет писать и у которого многому научится. Берлин бу¬
дет признаваться, что когда он прочел «Накануне», то почувствовал себя разобла¬
ченным болтливым идеалистом.
В ходе занятий Марксом для Берлина сложился немецко-русско-еврейский
контекст, питающий его мысль. С современной английской философией Берлин
находил мало общего. Его оставлял равнодушным логический позитивизм ок¬
сфордского кружка, возникший под влиянием Л. Витгенштейна, в присутствии
которого в Кембридже он читал свой доклад 12 июня 1940 года на тему «Чужое
сознание» («Other Minds»). Последовавшая дискуссия окончательно убедила
Берлина, что его попытка выработать принципы реконструкции иного сознания,
кроме своего собственного, не увлекает его оппонентов в той же мере, как его
самого не интересуют их логические построения.
К началу войны Берлину - тридцать. С одной стороны, он прекрасно устроен:
членство в колледже Ол Соулз пожизненное. С другой - он начинает тяготиться
репутацией светского говоруна, так и не сумевшего создать что-либо значитель¬
ное в своей профессии - в философии. Возникает желание вырваться из жизнен¬
ного круга, ставшего тягостно привычным. К тому же Берлин не чувствует себя в
безопасности в Англии, слыша об уничтожении Гитлером евреев. С первой воз-
Вечер пятый. Англия
389
можностью, довольно безрассудно, он бросается в США, где неожиданно находит
для себя дело, получив место британского сотрудника Министерства информа¬
ции, откомандированного в Штаты: «Его задачей было заставить Америку всту¬
пить в войну»1.
Здесь Берлин знакомится и завязывает личную дружбу с будущим первым пре¬
зидентом Израиля Хаимом Вейцманом. Отсюда посылает регулярные донесения
(которыми, говорят, зачитывался Уинстон Черчилль, позже присылавший Берли¬
ну свои мемуары для прочтения в рукописи).
После окончания войны, в сентябре 1945-го, как человек, говорящий по-рус¬
ски, Берлин направлен в Россию с целью оценить общественное мнение и намере¬
ния властей относительно мирного сосуществования с Западом.
Визит в Россию
Берлин отправился в Россию, захватив, кроме пары обуви для Пастернака (по
просьбе его английских родственников), зимнюю одежду и запас маленьких швей¬
царских сигар для себя. Сигары обессмерчены в ахматовских стихах: «...И сигары
синий дымок...» («Наяву»).
В Москве Берлин официально и полуофициально общается с русскими ли¬
тераторами, о чем оставит воспоминания, и с семьей брата отца Лео, профессо¬
ра-диетолога. Родственную квартиру он посещал, ускользая от слежки: покинув
зал посредине балета. Это впоследствии не спасло Лео от ареста, пыток и скоро¬
постижной смерти при встрече на улице - вскоре после освобождения - с одним
из тех, кто пытал его.
12 ноября 1945 года Берлин отправляется в Ленинград, где в день приезда,
случайно разговорившись в букинистическом магазине с литературоведом В. Ор¬
ловым, по его звонку попадает в гости к Ахматовой. Внешние обстоятельства это¬
го визита, описанные Берлиным, хорошо известны: его приход в огромную ком¬
мунальную квартиру, начало разговора с Ахматовой, неожиданно услышанный
с улицы крик - кто-то зовет его по имени. Этот кто-то оказывается сыном Чер¬
чилля Рэндолфом, также приехавшим в Ленинград и в «Астории» узнавшим о том,
куда отправился Берлин. После этого встреча Берлина с Ахматовой уже не могла
быть секретом, ибо за Рэндолфом не могли не следить, а он и не делал попытки из¬
бежать слежки, находясь в самом беспечном расположении духа после обильного
завтрака с икрой и водкой.
Отделавшись от Черчилля, Берлин все-таки снова возвращается к Ахматовой
и остается в ее комнате до утра следующего дня... Прежде чем привести свиде¬
тельство (по книге М. Игнатьеффа, но, несомненно, имеющее источником рассказ
самого Берлина) о том, как и что он ощущал тогда, нужно сказать несколько слов
11%раЫе^М. Ор. ей. Р. 101. Здесь и далее цитируется в переводе И. Шайтанова.
390
Как было и как вспомнилось
об эмоциональном опыте человека, чье появление оставило такой глубокий след и
в судьбе Ахматовой, и в русской поэзии.
В молодости дело было даже не в том, что Исайя Берлин испытывал неуве¬
ренность в отношениях с женщинами, а в том, что он был абсолютно уверен в сво¬
ей некрасивости и в отсутствии шансов на успех. Ему приходилось убеждаться и
в обратном, но, пережив пару платонических увлечений, он с подколесинской на¬
стойчивостью избегал любой возможности брака.
Он уже определил свой костюм на всю оставшуюся жизнь - строгую темную
тройку. Родители охотно избирали его в сопровождающие своим дочкам, отправ¬
ляющимся в путешествие или на отдых. Его романы с женщинами никогда не были
физической близостью, а дружбой, беседой, взаимной поддержкой. Именно так
в Америке в военные годы завязываются отношения с Патрицией де Бренден
(впоследствии - Дуглас), дочерью лорда Куинсбери, однако они принесли Берли¬
ну немало страдания. Он едва ли не впервые был по-настоящему увлечен и не мог
равнодушно следить за очередным браком или приключением своей избранницы.
В одну из пауз в серии любовных странствий Патриция сама сделала ему предло¬
жение - как раз накануне поездки в Россию, - которое он отверг. Однако Берлин
уехал эмоционально потрясенным и продолжал получать кокетливо-поддразнива-
ющие письма.
Для Ахматовой же он явился посланцем из другого мира (из прошлого или
из будущего, но явно не из настоящего), первым из тех, кто приехал оттуда и кого
решались принимать в этот кратковременный миг послевоенной надежды на то,
что и здесь нечто способно измениться.
Во время беседы, длившейся всю ночь, Ахматова
призналась, как она была одинока, какой пустыней сделался Ленинград. Она
говорила о своей прошлой любви к Гумилеву, Шилейко, Пунину, и, тронутый
ее склонностью к признаниям, - но, возможно, и для того, чтобы предупредить
ее эротическое влечение к нему, - Исайя признался, что и он был влюблен: не
говоря прямо, он, разумеется, имел в виду Патрицию Дуглас. Ахматова, види¬
мо, в неузнаваемо путаной версии передала что-то из этих реплик, касающихся
его любовной жизни, Корнею Чуковскому, чьи воспоминания, опубликованные
много позже, представили Берлина Дон Жуаном, явившимся в Ленинград с це¬
лью внести Ахматову в донжуанский список своих побед. Кажется, сама Ахма¬
това повинна в этом malentendu. Подозрение с тех пор так и сопровождает их
встречу. Ни один русский, читающий «Cinque», цикл, посвященный вечеру,
проведенному ими вместе, не в силах поверить, что он не закончился в постели.
В действительности же они едва прикоснулись друг к другу. Он оставался
в одном конце комнаты, она - в другом. Будучи совсем не Дон Жуаном, а неофи¬
том во всем, относящемся к сексу, он оказался в квартире прославленной оболь¬
стительницы, пережившей глубокое взаимное чувство с несколькими блестя¬
щими мужчинами. Она сразу же мистически придала их встрече историческое и
Вечер пятый. Англия
391
эротическое значение, в то время как он робко сопротивлялся этому подтексту
и держался на безопасно-интеллектуальной дистанции. К тому же он оказался и
перед более прозаическими проблемами. Прошло уже шесть часов, и ему нуж¬
но было пойти в туалет. Но это разрушило бы атмосферу, а к тому же общий
туалет был в глубине темного коридора. Так что он не двигался с места и курил
одну за другой свои швейцарские сигары. Внимая истории ее любовной жизни,
он сравнивал ее с Донной Анной из «Don Giovanni» и рукой, в которой была
сигара, - жест, сохраненный в стихах, - воспроизводил в воздухе моцартовскую
мелодию <...>
Стало совсем светло, и с Фонтанки слышался звук ледяного дождя. Он под¬
нялся, поцеловал ей руку и вернулся в «Асторию» ошеломленный, потрясен¬
ный, с чувствами, напряженными до предела. Он взглянул на часы и увидел, что
было уже одиннадцать утра. Бренда Трипп [сопровождавшая Берлина сотруд¬
ница Британского совета] ясно помнит, как, бросившись на постель, он повто¬
рял: «Я влюблен, я влюблен» <... >
Свидетельством тому, как глубоко он был потрясен Ахматовой, служит тот
факт, что вместо записки по поводу советской международной политики, ради
которой он и был отправлен в Москву, Берлин проводит весь декабрь, сочиняя
«Замечания о литературе и искусстве в РСФСР в последние месяцы 1945 года».
За скромным названием скрывается амбициозная цель: написать ни более ни ме¬
нее как историю русской культуры первой половины XX века, хронику ахматов-
ского поколения, которому выпала тяжелая судьба. Вероятно, это было первое
сообщение для Запада об уничтожении Сталиным русской культуры. На каждой
странице - следы того, что Ахматова, а также Пастернак и Чуковский поведали
Берлину о годах преследования1.
Чтобы закончить разговор о личной жизни Исайи Берлина, нужно сказать, что
лишь на пятом десятке он завязал первый настоящий роман (длившийся несколь¬
ко лет - тайные отношения с женой своего коллеги по Оксфорду). Сам Берлин
шутил, что если бы он писал автобиографию, то назвал бы ее «Позднее пробуж¬
дение». Первый роман был прерван, когда Берлин полюбил Алину Гальбан, дочь
известного русско-еврейского банкира барона Ганцбурга. Она потеряла первого
мужа в начале войны, вышла замуж за физика Ганса Гальбана. От первого брака
у нее был один сын, два от второго. Возможность ее брака с признанно непри¬
годным для семейной жизни Берлиным была сенсацией. На известие, полученное
о браке от Берлина по телефону в 1956 году, Ахматова отозвалась ледяным молча¬
нием, восприняв его как измену.
1 IgnatieffM. Op. cit. Р. 160-161.
392
Как выло и как вспомнилось
Историк идей
Визит в Россию обращает Берлина к необходимости осознания ее судьбы.
В 1948 году, к столетию даты революционных потрясений в Европе, он пишет
статью «Россия и 1848», обосновывая свое видение этого события как исходной
точки нового, революционного разрыва между Западом, где с этого момента возо¬
бладал умеренный либерализм, и Россией, где политические радикалы с презрени¬
ем отвергли трусливую «мещанскую» Европу и пошли «другим путем», ведшим
прямиком в семнадцатый год.
Занимаясь русскими темами, Берлин вырабатывает свой подход к материалу,
перекликающийся с методом существующей в США школы истории идей. Это
сходство будет подтверждено им в подзаголовках двух основных сборников работ:
«Против течения. Эссе по истории идей» (1980) и «Кривая древесина человеч¬
ности. Главы из истории идей» (1991).
Может быть, в годы, проведенные в Америке, Берлин столкнулся с этой новой
школой изучения интеллектуальной истории? Именно в это время она становит¬
ся особенно заметной. В 1940 году начинает выходить «Журнал истории идей»,
а четырьмя годами ранее свет увидела классическая работа основоположника
школы Артура О. Лавджоя, посвященная Великой цепи существ (иначе - Великой
цепи бытия). История этого образа прослеживается от одной фразы у Платона до
эпохи романтизма в качестве воплощения идеи полноты и цельности мироздания,
простирающегося от червя до Бога. (К этой идее восходит, разумеется, и знамени¬
тая державинская строка: «Я царь - я раб - я червь - я Бог».)
У истоков школы истории идей стояли философы, ищущие контакта с учеными
разных, и не только гуманитарных, профессий, чтобы проследить движение основ¬
ных понятий в широкой сфере истории культуры, чтобы истории философии как
последовательности разного рода «измов» и разрозненных великих имен противо¬
поставить изучение ментальности, укореняя идеи в широком интеллектуальном кон¬
тексте. Отвергая гегелевскую «философему», историки идей изначально занима¬
ются тем, что впоследствии М. Фуко назовет «эпистемой», идеей, не оторванной от
ее корней, от ее непосредственного повода, от процесса ее познания и восприятия,
от ее образного и языкового воплощения. Среди предтеч истории идей - В. Кузен
с его понятием «культурной среды», В. Дильтей с его представлением о единстве
и специфичности духовного бытия личности. Среди источников истории идей -
убеждение, возникшее в XVIII веке (И. Г. Гер дер, Ж. Кондорсе), что философия
более, чем принято считать, зависима от языка (хотя среди тех, кто предупреждал
против излишнего доверия к языку как пути познания идей, был основоположник
истории идей Лавджой, вступивший по этому поводу в полемику с Л. Шпицером)х.
1 См.: Kelley Donald R. What is Happening to the History of Ideas? / / Journal of the History of
Ideas. 1990. V. 51. №3.P. 8.
Вечер пятый. Англия
393
Языковой подход к идеям - это то, что в природе мышления Берлина, челове¬
ка по преимуществу устного слова, готового принести в жертву афоризму глубину
логического построения. Таким он, во всяком случае, воспринимался на гребне
своих светских успехов в послевоенные годы. По его поводу даже высказывалось
сожаление, что тот, кто мог бы стать мудрецом, превращается в краснобая. Бер¬
лин парирует тем, что именно в разговоре у него рождаются лучшие идеи. Или он
подхватывает их у других. Так, от лорда Оксфорда он услышал строчку греческого
поэта Архилоха, поразившую его изяществом и таинственностью, напоминающи¬
ми японское хокку: «Лиса обладает знанием многих истин. Еж знает одну великую
истину». После чего Берлин начал распределять всех великих людей по этим двум
категориям. Гете и Пушкин - лисы. Достоевский и Толстой - ежи1.
Впрочем, Толстой - скорее лиса, хотевшая прожить жизнь ежа. На этой ме¬
тафоре построена работа Берлина об историческом скептицизме Льва Толстого,
в окончательном варианте ею и названная - «Еж и лиса» (1951,1953).
Такого рода реконструкции образных, метафорических матриц были лишь
эпизодом для Берлина. Предметом своего исследования он делает историю поли¬
тических идей, в особенности тех, что определили судьбу XX века. С точки зрения
Берлина, Россия не породила собственных социальных учений, но, заимствуя, дала
пример их небывалого испытания на истинность, сосредоточив свой опыт в одном
слове - «интеллигенция»: «"Интеллигенция” - русское слово, оно придумано
в XIX веке и обрело с тех пор общемировое значение. Сам же феномен со всеми
его историческими, в полном смысле слова - революционными последствиями,
по-моему, представляет собой наиболее значительный и ни с чьим другим не срав¬
нимый вклад России в социальную динамику»2.
Русский исторический пример был в числе факторов, побудивших Берлина
внести существенные коррективы в создаваемую им теорию либерализма, изло¬
женную первоначально в лекции «Два понятия свободы» (Оксфорд, 31 октября
1958 года). С нее начинается его известность как политического мыслителя, под¬
нявшего либеральную идею на уровень сложности современных политических
проблем.
Первое понятие - «негативной» свободы - получило свое классическое вы¬
ражение у Дж. С. Милля. В центре его - представление о том, что никто не имеет
права принуждать человека, делать за него выбор, ибо должна существовать сфера
частной жизни, недоступная для вторжения любых внешних влияний и факторов.
Крайнее жизненное проявление такой свободы - самоограничение, уход от мира.
«Позитивная» свобода, напротив, предполагает возможность наиболее
полной самореализации личности. За этим понятием обычно стоит, высказанное
1 ^паЫе$М. Ор. ей. Р. 173.
2 Берлин И. Рождение русской интеллигенции. С. 193.
394
Как было и как вспомнилось
или невысказанное, убеждение в том, что за внешним несовершенством человека
скрывается некая совершенная возможность, требующая выявления, очень часто
достижимая лишь в том случае, если человек будет реализовать ее не в одиночку,
а отстаивая права группы себе подобных людей. Такого рода утопический план
нередко становится программой революционных событий.
Эти два понятия, хотя и одухотворенные общим желанием свободы, расхо¬
дятся вплоть до противоположности в отношении жизненных целей. Задача для
современного сторонника либерализма состоит в том, чтобы осознать, что люди,
выбирающие самые разные пути, могут быть равно движимы стремлением к выс¬
шим ценностям. Истинный плюрализм для Берлина связан с возможностью при¬
знания не множества взглядов или точек зрения, а множественности ценностей,
конфликтующих, в какой-то момент взаимоисключающих, но от этого не утрачи¬
вающих своего значения и жизненной необходимости.
Берлин полагал, что в традиции западной мысли, восходящей к Платону, опас¬
но преувеличено значение идеала, а следовательно, в нравственной и политиче¬
ской практике - необходимость стремления к нему. Подводя итог своему убежде¬
нию, Берлин говорил об этом в программной речи при вручении ему 15 февраля
1988 года в Турине премии Джованни Аньелли («В погоне за идеалом»). Понятие
«идеал» предполагает возможность существования и обнаружения некой общей,
обязательной для всех истины, доступной рациональному постижению. Берлин не
подвергал сомнению объективное существование ценностей, но настаивал на том,
что они конфликтуют, часто оказываясь несовместимыми, а это и влечет за собой
противостояние не только людей, но цивилизаций, культур, если они не умеют до¬
стигать компромиссных решений.
В аньелльской речи Берлин наметил краткий очерк собственной интеллекту¬
альной биографии, важной вехой в которой было знакомство с трудами мысли¬
телей, умевших плыть «против течения», а потому при всем своем несходстве
представляющих для Берлина плеяду его предшественников. Первым в этом ряду
он называл Н. Макиавелли, осознавшего принцип несовместимости ценностей.
Особенно интересовали Берлина неортодоксальные фигуры внутри эпохи Про¬
свещения, противостоящие ее доминирующему рационализму. В разное время он
посвящал работы Дж. Б. Вико, чье понимание истории не укладывалось в пред¬
ставление о просветительском прогрессе, И. Г. Гаману, для кого разум не был
единственной и даже высшей формой познания, доступной человеку, и Жозефу
де Местру, которого высоко ценил за понимание человеческих слабостей, хотя
и видел, какую политическую идею тот невольно предварял («Жозеф де Местр
и происхождение фашизма»).
Вечер пятый. Англия
395
Либеральная идея, звучащая по-русски
Вот каким был круг основных идей, который я, беседуя с сэром Исайей Берли-
ным 6 марта 1994 года, хотел применить для понимания тогдашней вполне конкрет¬
ной и как всегда совершенно неясной в своей изменчивости российской ситуации.
Мой собеседник был готов пойти на это, ибо происходящее в России вос¬
принимал близко и лично. Однако он сомневался в практической полезности его
возможного высказывания по нескольким причинам. Во-первых, он не политик,
а историк политических идей. Во-вторых, непосредственного знания современ¬
ной России, ее деятелей и проблем у него нет. И в-третьих, он не был уверен, как
по-русски прозвучат его мысли. По словам сэра Исайи, это был один из очень ред¬
ких случаев, когда по существу своей исторической концепции он высказывался
на русском языке.
Во время знакомства и в присутствии кого-то из англичан мы говорили по-ан¬
глийски, но, оставаясь вдвоем, по инициативе сэра Исайи переходили на русский
язык, на котором он и хотел (используя, как оказалось, уникальную для него воз¬
можность) обратиться к русской аудитории.
О своем русском языке мой собеседник отзывался как о примитивном, хотя и
говорил на нем совершенно свободно без малейшего акцента. Он пояснял: «Рус¬
ский никогда не был моим рабочим языком, я не читал на нем лекции». Поэтому
какие-то слова иногда ускользали, и он спрашивал - как по-русски?..
Прослушав запись беседы, я увидел, что ускользавшие слова выстраиваются в
определенный ряд: веротерпимость, умеренность, безопасность, суд присяжных...
Это слова, ускользнувшие из русской истории и поэтому из русскоязычной части
сознания моего собеседника, уже в конце разговора сказавшего: «Мои идеи на
русском языке не совсем похожи на мои идеи, звучащие по-английски. Когда я го¬
ворю по-русски, у меня какое-то другое впечатление о жизни. Я смотрю на мир
через другие окна».
Что ж, тем любопытнее, какой открывается вид из окна западного либера¬
лизма в русскую культурную ситуацию. Однако для самого И. Берлина это не¬
сходство звучания идей на разных языках стало поводом для немалого огорчения,
когда он прочел текст газетного интервью, который, как мы договорились с ним,
а затем с редактором «Общей газеты» И. Мамаладзе, был предварительно пере¬
дан ему по факсу. Также по факсу 24 апреля пришел ответ - «Редактору "Общей
газеты”»:
Пожалуйста, поблагодарите г-на Шайтанова за его почти дословную пере¬
дачу моих слов, виноват только я сам. Все это необдуманная, довольно неясная
болтовня. Ничего не поделаешь - я, вероятно, все это наговорил <... > По-мое¬
му, лучше было бы интервью не публиковать - надеюсь, что мои опубликованные
396
Как было и как вспомнилось
труды более ясны и оформленны, но quod dixi, dixi. Полагаюсь на Ваш милосерд¬
ный суд, Исайя Берлин1.
Главным поводом для огорчения послужило И. Берлину его высказывание
в ответ на мой вопрос - совершенно второстепенный в ходе нашего разговора -
о том, кто такой Дуглас Рид. Тогда этот английский журналист 1930-1940-х годов
широко переводился в нашей националистической периодике в качестве знатока
и теоретика еврейской темы. Его книга лежала на прилавках. В тот свой приезд
я расспрашивал не только филологов, но и историков в Оксфорде, в Кембридже,
в Сассексе о том, что это за человек. Никто не помнил его имени. Берлин был пер¬
вым, кто вспомнил и откликнулся мгновенно - резко, эмоционально. Прочтя свои
слова в тексте интервью, он сожалел о сказанном, полагая, что не имел права на
оскорбительность отзыва, тем более что, как признавался в том же факсе:
Я еле помню это имя. Мне кажется, что был такой публицист - его книги
или статьи как будто были антисионистскими или антисемитскими, о чем вооб¬
ще он писал, не помню - его никогда не читал, - у меня смутное впечатление, что
он был каким-то странным фанатиком, но я его так мало помню, что, может быть,
ошибаюсь. Мне кажется, что в Великобритании его имя очень мало известно.
После этого я спросил разных людей - никто не помнит. Ради Бога, вычеркните
мои слова о Риде - что он известен стал в России, меня глубоко удивляет. На¬
деюсь, что Вы мое предложение благосклонно примите: полагаюсь на Ваше и
Шайтанова милосердие. Простите, пожалуйста, за все это: но мой текст меня
беспокоит.
С извинением и наилучшим Вам и журналу пожеланием.
Ваш Исайя Берлин.
Увы, но в милосердии было отказано: пока сэр Исайя разбирал русский текст
факса, пока готовил возможные поправки к нему, в газете не смогли долее ждать -
набранный номер ушелв печать («Общая газета», № 16,22-26 апреля 1994 года).
Без поправок, без добавлений, которые также по факсу были получены на следую¬
щий день - 25 апреля:
Многоуважаемый г-н Редактор!
Присылаю текст г-на Шайтанова и мои (диктованные) «поправки» и при¬
мечания. Г-н Шайтанов нисколько не обязан дословно включить все, что я при¬
бавил, - только прошу его (и Вас) пополнить мои заметки с его текстом: так,
1 Особенности орфографии и пунктуации подлинника не сохраняются, поскольку они
вызваны отчасти небрежностью, характерной для быстрого письма, отправляемого по факсу,
а отчасти тем фактом, что для И. Берлина русский язык не был постоянным средством пись¬
менного выражения мысли.
Вечер пятый. Англия
397
чтобы мои идеи не совсем пропали: я уверен, что г-н Шайтанов сумеет прекрас¬
но включить все нужное. Оставляю все это, полагаясь на Вашу и его тактичность
и понимание моих вариантов.
Ваш Исайя Берлин.
Хотя я и сделал все от меня зависящее - заручился обещанием редактора, что
текст не появится до того, как он будет завизирован И. Берлиным, я чувствовал,
что разделяю вину вместе с газетой. Самым неприятным во всей этой истории
было то, что И. Берлин искренне огорчился. Обычно он предпочитал не касаться
темы, знают ли его в России, никак не обнаруживал своего желания быть там услы¬
шанным. Но даже настойчивость, с какой он избегал этого разговора, и отдельные
его реплики давали понять, что он бы хотел быть узнанным в России не только в
качестве собеседника великих поэтов, но и в том качестве, в каком его знали во
всем мире.
И вот первое непосредственное явление - и неудача. Вернее, то, что ему пока¬
залось неудачей, которую, однако, можно было бы исправить. С просьбой об этом
в газету посылается еще один факс:
Г-же Ирме Мамаладзе.
В тексте, Вами опубликованном, есть определенные ошибки и глубоко не¬
правильные формулировки, мною сделанные, которые я попробовал исправить.
Так как г-н Шайтанов в своем факсе дал мне знать, что ожидается мое согласие
до публикации текста, то меня глубоко огорчило (и огорчает), что Вы не дожда¬
лись моей реакции и что опубликован неправильный текст. Все это, конечно, от¬
части моя вина, но меня это расстраивает. Был бы Вам очень благодарен, если бы
Вы в следующем номере [нрзб] исправленный текст был напечатан.
С наилучшими пожеланиями, Исайя Берлин.
В газете были вполне удовлетворены опубликованным текстом. Считали его
своевременным и удачным. Что же касается нюансов и поправок, то это сочли не
газетным делом, поскольку речь шла не об исправлении фактов, а об уточнении
мнений. Перед И. Берлиным извинились за торопливость, но от повторной публи¬
кации отказались.
Я от себя извинился в письме, в котором послал также номера газеты и пере¬
дал слышанные мною устные отклики на интервью, заинтересованные и лестные.
Реакция читателей не была безразлична сэру Исайе. Во всяком случае, он с интере¬
сом слушал о ней и два года спустя, когда мы снова смогли встретиться в его доме
в Оксфорде. Но об этом позже - после интервью.
Текст газетной публикации далеко не был полным. Помимо естественных
в разговоре проходных фраз, что-то важное и интересное опускалось мной по со¬
ображениям объема. Теперь это нужно восстановить. Однако как быть с поправ-
398
Как было и как вспомнилось
ками? Все они сделаны на английском языке. В сознании И. Берлина он точнее
передавал строй его мысли. Хотя точнее ли? Скорее привычнее. Оформленная
по-русски мысль приобретала какую-то новую незавершенность, порой не вполне
совершенную идиоматичность. Эту мысль, явленную как процесс, не хочется при¬
нести в жертву более отточенным и завершенным формулировкам.
Нередко видно, как мысль продумывается заново, трудно приспосабливаясь
к конкретике политических проблем. Российская история, которая так часто счи¬
талась (и считается) несовместимой с либеральной идеей, принята И. Берлиным
как повод для проверки либерализма в экстремальных условиях. Он не боится
в какой-то момент развести руками, почти с безнадежностью в голосе восклик¬
нуть: «Ну как я могу на это ответить!» - и все-таки пытается найти ответ, совер¬
шенно не претендуя на то, чтобы раз и навсегда снять все вопросы. Он не боится
обнаружить слабость либерализма (или либерального мыслителя), ибо отсутствие
всеобъемлющих и долгосрочных решений предлагается им как необходимое усло¬
вие существования самой теории. Теории, которая стала возможна благодаря
тому, что русский опыт был предложен для испытания европейской идеи челове¬
ком, равно принадлежащим обеим культурам, говорящим о нескольких веках их
существования с непосредственным знанием и заинтересованностью. Что же ка¬
сается классической русской литературы, ее споров, ее сомнений, то речь о них
ведется в тоне если не очевидца, то того, кто не по академической обязанности,
а по своей жизненной причастности был вовлечен в их обсуждение и разрешение.
То интервью осталось едва ли не единственным подробным высказыванием
Берлина, сделанным для России, по поводу российской ситуации и на русском
языке. Его идеи проходили проверку в русскоязычной части его сознания и опыта.
Вот почему в тексте интервью я оставляю все формулировки в их первоначальном
виде, а перевод англоязычных поправок дается следом под соответствующими но¬
мерами. Единственное место, которое я, следуя желанию И. Берлина, опускаю, -
его оценка Дугласа Рида.
Необходимое пояснение к началу диалога: за ту неделю, которую мы не виде¬
лись с И. Берлиным, в Москве из Лефортовской тюрьмы были освобождены все
арестованные в связи с событиями октября 1993 года. С этого мы и начали разго¬
вор.
Венер пятый. Англия
399
Быть либералом - значит жить и давать жить другим
Беседу с Исайей Берлином вел Игорь Шайтанов
- Сэр Исайя, ситуация, из которой я задаю вопросы, переменчива настолько,
что она уже не та, какой была неделю назад, когда мы виделись и договорились о
встрече.
- Да, выпустили этих людей, я знаю.
- Парламентом объявлена амнистия.
- Теперь, когда они на свободе, ожидается что-то?
- Во всяком случае, это повод для большого беспокойства, как я знаю по теле¬
фонным звонкам в Москву. Степень общественной взрывоопасности, конечно, воз¬
росла. Все обсуждают - нужно ли было выпускать?
- Да, я понимаю... Типично русский разговор, типично русский дебат. В дру¬
гих странах этим не занимаются, а спрашивают: это легально или нелегально? Если
легально, то по какому закону?
- Русская ситуация всегда особая. Вчера я разговаривал с одним английским про¬
фессором достаточно левых взглядов, склонным к социализму. Он мне говорит: мы
очень не любим нашу систему, а почему вы хотите перенести ее к себе? Я ему отве¬
тил в том духе, что системы, наверное, не существуют, чтобы их любить ши не
любить, но к нашей системе у нас совсем другое отношение - смертельного страха.
Такого отношения система тоже не должна к себе вызывать.
- Этого они не понимают. За что я стою? Вы меня еще не спросили, но вот
я сейчас пытаюсь ответить. Я был профессором политической философии, и,
страшная вещь вам признаться, я в конце концов не очень заинтересован поли¬
тикой. Поэтому я всегда принуждал себя иметь какие-то мнения о злободневных
вопросах, но по-настоящему меня занимают идеи, а не факты.
-Ив своих книгах вы занимаетесь не сиюминутностью политической жизни,
а ее культурными структурами.
- Это так, но сейчас я думаю - за что я стою, есть ли у меня какие-то политиче¬
ские взгляды? Если бы вы поставили вопрос ребром - во что вы верите? - мне при¬
шлось бы сказать: что-то смешанное, не совсем партийное, welfare state, смешан¬
ная экономика, консервативный устойчивый мир, либеральный по ощущению и
с большой долей социальной справедливости. Послевоенное министерство Этли -
наше лучшее правительство. Это был не социализм и не капитализм, смешанная
экономика, новый мир. Это не было построено на каких-то ясных принципах,
а было эмпирически сделано.
- Да и почему нужно обязательно как-то окрестить систему?
- Вот именно.
- Пусть она существует неназванная и даже нелюбимая.
400
Как было и как вспомнилось
- Нужно делать то, что можно.
-То, что в последние годы происходит в России, называют либерализацией.
В какой мере это соотносимо с вашим представлением о либеральной государствен¬
ности?
-Я не совсем понимаю: либерализация - это значит отмена того, что было?
Хорошо. Против тоталитаризма, против тирании, что была раньше. А в каком на¬
правлении? Значит ли это laisser faire, чистый индивидуализм старого либерально¬
го типа, или это предполагает долю социализма и общественной благотворитель¬
ности?
-То есть происходящее в России вам кажется определенным только по принци¬
пу отрицания - мы знаем, против чего мы...
- И все. И довольно. Это, конечно, большое облегчение, это больше не ад.
- Ну хорошо, мы ушли, разрушая, от старой системы, а то, к чему мы в данный
момент пришли?
- Не ясно. Тут и нашим и вашим каким-то странным образом. Я просто не
знаю, чего Ельцин хочет, чего хотят его враги. Например, возьмите людей, ко¬
торых теперь выпустили, какого типа государство они бы хотели иметь? Смесь,
говорят, национализма с каким-то старым коммунизмом. Я понимаю, что нацио¬
нал-коммунизм может существовать, как теперь в Китае, где экономика стала сво¬
боднее, но политика остается завинченной, как и раньше. Полный деспотизм пар¬
тии и главарей партии.
Я не знаю, чего хотят эти люди. Я понимаю, те, кто делал первый путч, просто
хотели идти назад. Когда покончил самоубийством генерал Ахромеев, это было
понятно: всю жизнь был коммунист, жить при другой системе не хочу, до свида¬
нья, прощайте. Это я понимаю. А чего желает Руцкой? Есть ли какая-нибудь идея,
какой-нибудь план? Или просто так - пережить с минуты на минуту?
- А как вы думаете, либеральная идея воплотима в России, в русском сознании,
культуре?
- Боже мой, как мне на это ответить! Во-первых, что такое либерализм? Тоже
не такое уж ясное понятие. Главный принцип либерализма - это неприкосновен¬
ность личности. Старый лозунг кадетов, социалистов, всех антицаристов старого
времени. Из этого вытекают другие права.
На меня в свое время сильное впечатление произвел протокол партийного
заседания, где произошел раскол между меньшевиками и большевиками. Стоял
вопрос о том, как делать революцию. Плеханов, блестящий из старых болыпеви-
ков-социалистов, сказал, что для революции либеральные принципы не годятся.
Если парламент будет нам нужен, будем его держать, если нет - выгоним. Как де¬
лал Кромвель со своим парламентом. И тогда какой-то дантист из Сибири, не пом¬
ню его имени, у него, как у всех тогда, было два имени: настоящее и боевое, - ска¬
зал: «А неприкосновенность личности тоже отменить?» Плеханов ответил: «Да.
Вечер пятый. Англия
401
Salus revolutii suprema, lex esto» [Благо революции пусть будет высшим законом].
«Revolutionis» надо бы сказать. «Revolutii» это не латынь, но он так сказал. Дан¬
тист был в шоке. На Ленина изречение Плеханова произвело глубокое впечатле¬
ние, и он пошел по этому пути. А Плеханов потом каялся.
- Но если следовать высшему закону либерализма, закону неприкосновенности
личности, все-таки прикоснулись к личности, арестовав тех, кто составлял парла¬
мент в октябре 1993 года?
- Конечно, конечно, конечно. Неприкосновенность личности предполагает,
что должны быть законы, которые обороняют индивидуумов, но это не значит,
что государство должно быть скомкано во что-то минимальное. Были либералы
в XIX столетии, которые этого требовали: чтобы был открытый рынок, были бы
законы, останавливающие людей от убийства, грабежа, но, в общем, чтобы госу¬
дарство не мешало. Это значит laisser faire, laisser passer, что было сказано во Фран¬
ции в XVIII столетии. Я не в это верю. Я думаю, что у государства есть долг ответ¬
ственности перед людьми. Бедных нельзя оставить на произвол рынка. Известные
меры должны быть приняты, чтобы поддерживать слабых. Если не будет никакого
принуждения, а полная свобода каждому человеку действовать, как он хочет, тогда
волки заедят овец, акулы сведут всех других рыб. Государству приходится оборо¬
нять слабых от сильных, чтобы они были до известной степени неприкосновенны,
а для этого нужно вмешиваться.
Потому-то я и не могу сказать, что такое либерализм. Либерализм - это та¬
кое государство, где есть максимальная свобода для индивидуумов, совместимая
с максимальной свободой для других индивидуумов, и чтобы не было притесне¬
ния. Чтобы имелись известные вещи, которые людям нужны, как кров, пища, без¬
опасность, справедливость, минимальный доход, чтобы не было бедности, чтобы
люди не страдали, не голодали. Не только голых одеть и голодным дать пищу, как
говорил Писарев в старые времена в России, этого недостаточно. Либерализм зна¬
чит, чтобы была достаточная свобода каждому человеку делать то, что ему хочется,
чтобы было достаточно дорог, по которым он может идти, чтобы абсолютно нуж¬
ные вещи были гарантированы. Это может сделать только государство.
- А как быть в России, где государство не гарантирует, не оберегает, а, наобо¬
рот, подавляет, где нет личной неприкосновенности и свободы?
- Был момент... Люди иногда отрицают, что в России мог бы быть либера¬
лизм. Официальная история, не только советская, но и западная, говорит, что вот
прежде было самодержавие, произвол, а после произвола - революция, советская
революция. Это не совсем так. Были другие моменты в русской истории, была ин¬
теллигенция не только в XIX, но и в XX столетии. Были разные юристы, доктора,
агрономы, ученые люди, всех типов либералы, которые были либералами в полном
западном смысле слова. Их было не так уж и мало. Их раздавили, но они существо¬
вали.
402
Как было и как вспомнилось
Возьмите Россию 1880-1890-х годов. Там была оппозиция правительству.
Она не была эффективна: у правительства была армия, полиция, что они могли
делать? Но эти люди были, и революция пятого года была сделана этими людьми
куда более, чем какими-либо большевиками. В официальной истории большевики
сделали революцию пятого года тоже. Это, конечно, не так. Так же, как они не
сделали революции февраля семнадцатого года. Так что эти люди были: культур¬
ные люди с моральной точкой зрения, которые верили в человеческую свободу,
в умеренность, в то, что умеренность - это качество, которому нужно следовать,
в то, что люди могут иметь минимум личной свободы в рамках демократического
государства, которое соблюдает права человека.
- А если парламент посягнул на основы государства?
- Большинство парламента не может делать то, что ему угодно (1). Полная
демократия - опасная вещь, потому что большинство может быть очень опасным
и злым (2).
Уточнения, предложенные И. Берлиным
1. Разумеется, демократия - наилучшая, обычно наименее склонная к по¬
давлению государственная форма. Но и большинство может быть склонным к
угнетению и тирании, в этом отношении руссоистская «общая воля» - недо¬
статочная гарантия прав личности. Под правами личности я понимаю права,
принадлежащие человеку как человеку, а не потому, что он относится к нации,
классу, профессии или иному сообществу. Даже парламентскому большинству
нельзя позволить поступать вразрез с правом личности. В этом ценность Бил¬
ля о правах - такого, как в американской конституции. Британский парламент
теоретически совершенно суверенен и может делать все, что хочет, однако на
практике он признает незыблемость основных прав личности.
2. Я не думаю, что Оливер Кромвель был серьезно неправ, когда он распу¬
стил один из парламентов: существуют ситуации, когда большинству следует
оказывать сопротивление как по нравственным, так и по политическим причи¬
нам. Либеральное общество не идеально. Идеальное общество невозможно, по¬
скольку люди несовершенны. Что же касается либерализма, то я бы хотел как
можно яснее изложить мою позицию.
Во-первых, я не верю в существование окончательных решений социаль¬
ных, политических или каких-либо человеческих проблем. Давайте возьмем одну
из них, скажем - неравенство, бедность, несправедливость или угнетение (все
равно - беззаконное или исходящее от законно существующих инстанций и на¬
значенных чиновников). Давайте также предположим, что некоторые из этих
проблем имеют решение. Однако почти неизбежно само это решение порожда¬
ет новые проблемы, и так далее до бесконечности. Рабочий класс в Великобри¬
тании и в США был сравнительно куда лучше обеспечен после Второй мировой
войны: с приходом лейбористского правительства Этли в одном случае, с дости-
Вечер пятый. Англия
403
жением Нового согласия (New Deal) - в другом. И тем не менее эти реформы
неизбежно порождали свои проблемы, создавшие напряжение, даже негодова¬
ние, что нередко в демократическом государстве ведет к смене правительства.
Это само по себе служит аргументом в пользу гибких форм социальной жизни,
внутри которых никакие решения не рассматриваются как окончательные, а из¬
менения всегда происходят в рамках законности, в то время как любые формы
абсолютизма, установленные даже с самыми благими намерениями, рано или
поздно превращаются в формы закрепощения.
Во-вторых, я уверен - и не знаю, приходилось ли кому-нибудь прежде это
высказывать, хотя трудно поверить, будто мне довелось открыть столь очевид¬
ную истину, - что те цели, те высшие человеческие ценности, составлявшие
основу жизни, веры и человеческой деятельности если не везде и всегда, то по
крайней мере очень долгое время во многих местах для множества мужчин и
женщин, что эти цели и ценности не всегда совместимы между собой, то есть им
нередко приходится вступать друг с другом в конфликт. Люди устремляются на
поиск правды, знания, справедливости, свободы, счастья, красоты. Все это более
или менее вечные человеческие идеалы. Тем не менее их не удается воплощать
одновременно. Полнота свободы несовместима с полнотой равенства, хотя и та
и другая благородны и принадлежат к числу древнейших человеческих потреб¬
ностей. Если люди достигают максимальной свободы, то они угнетают слабых,
волки поедают овец. Это ведет к несправедливости. Однако если жестко испол¬
няется принцип равенства - как, например, того хотел Бакунин, - тогда люди
теряют свободу конкуренции, они несвободны в обладании источниками богат¬
ства, несвободны в использовании своих больших, чем у других, творческих спо¬
собностей и одаренности. Определенные свободы должны быть урезаны, чтобы
люди не враждовали, уничтожая друг друга, а государства не вступали в войну,
когда им это угодно. Точно так же знание не всегда совместимо со счастьем. Мне
говорят, что знание всегда делает свободным, но так ли это? Как будто бы когда
я знаю, что делать, я перестаю быть отданным на милость природы или иных ир¬
рациональных сил. Я оказываюсь перед выбором, и какую бы ценность я ни вы¬
брал, это повлечет за собой потерю другой, что подчас оказывается трагичным.
Если людям, чтобы следовать различным идеалам, требуется свобода, если идеа¬
лы одних групп, партий, культур могут быть отличными от других, не будучи при
этом менее ценными, тогда слишком жестко устроенное, дисциплинированное
общество неизбежно уничтожит некоторые из совершенно законных идеалов,
ценностей и форм жизни. И это, с моей точки зрения, служит доводом в пользу
общественного устройства, в котором разнообразие мнений допускается, как и
разнообразие форм поведения, столь широко, насколько это совместимо с вы¬
живанием общества, в котором преследование одной цели Иксом слишком ре¬
шительно не исключает и не препятствует осуществлению иной цели Игреком.
Это и есть веротерпимость - либеральное общество, где определенная степень
в различии мнений, форм жизни не только дозволена, но служит предметом вое-
404
Как было и как вспомнилось
хищения. Политическая мысль довольно поздно пришла к этому убеждению.
Позвольте мне объяснить - почему.
В течение многих столетий человек верил в то, что на все вопросы существу¬
ет лишь один правильный ответ, а все остальные - ложны. Если нам известен пра¬
вильный ответ на нравственный или политический вопрос, мы уверены, что все
остальные разумные существа должны прийти к тому же заключению, а если они
к нему не приходят, то, значит, они неразумны и их не следует в этом поощрять.
Кем бы ни был этот обладатель верного ответа: монархом, главой церкви, в демо¬
кратии - большинством, партией, учеными того или иного склада или, как пола¬
гал Руссо, неиспорченными крестьянами, детьми, - как только истина известна,
ее следует воплотить во всех формах данного общества, ибо это единственно
верный способ жизни. Даже наиболее просвещенные мыслители, скажем, фран¬
цузского XVIII века верили в существование подобных ответов, противостоящих
бессмыслице, исходящей от тиранов и служителей церкви, злодеев и глупцов, а
также в то, что счастье, добродетель, справедливость, свобода и т. д. и т. п. обя¬
зательно совместимы друг с другом, ибо одна истина не может противоречить
другой. Истинная же система должна быть поддержана законодательством, об¬
разованием, нравственным убеждением, а если ей сопротивляются, то принуж¬
дением и силой. Я не думаю, что ШшптаВ XVIII столетия уповали на силу, но их
ученики в XIX и XX столетиях - сторонники научного планирования, социали¬
сты, коммунисты, религиозные фанатики - безусловно. И это вело к угнетению,
нередко оборачиваясь, как мы все знаем, гибелью невинных людей.
Как только возникает убеждение, что существует далеко не единственный
ответ на каждый общественный или нравственный вопрос (в отличие, скажем, от
ситуации в математике или физике), тогда подобная рационалистская тирания
становится неприемлемой, а если является, то встречает сопротивление. Свобо¬
да мысли, слова, собраний, знаменитое право неприкосновенности личности -
все это довольно поздние принципы, но от этого не ставшие хуже. Вплоть до
XVIII века деспотизм повсеместно рассматривался и, естественно, был принят
как источник истины и знания, поддержанный религией, традицией, апелляцией
к интуиции и разуму. Права человека сводились к единственному праву - сле¬
довать по верному жизненному пути. Однако с тех пор либеральные принципы,
о которых я говорил, широко распространяются, по крайней мере на Западе.
И это, повторяю, происходит с отказом считать, что на все нравственные, соци¬
альные и политические вопросы существует единственно правильный ответ, во
имя которого допустимо требовать от людей соблюдения жесткой дисциплины;
«живи и давай жить другим» - идея сравнительно новая.
Вместе с ней возникает и другая - идея искренности. До недавнего време¬
ни только истина и истинное убеждение вызывали восхищение, подражание, на¬
сильственно внедрялись. Мученичество почиталось, но лишь за истинную веру,
а не за ложную. Христиан провозглашали святыми, когда они умирали за хри¬
стианскую веру, но мусульманами отнюдь не восхищались за то, что они не от¬
ступили от ислама. Католики не почитали протестантов за искренность их веры.
Вечер пятый. Англия
405
Ни один католик в XVI веке не сказал: «Эти протестанты обрекают свои души
на вечное проклятие. Их следует остановить любыми средствами, если нужно -
вплоть до уничтожения. Но нельзя не признать, что эти порочные люди распро¬
страняют свое ложное учение не потому, что им заплатили, не из тщеславия или
желания подчинить себе других людей. Ими движет не корысть, страх или са¬
момнение, но они искренне верят в то, во что они верят, пусть это и безумие:
нельзя не признать искренности и чистоты их веры, которая, будучи опасной, ис¬
полнена достоинства, заслуживающего уважения». Ни один крестоносец не по¬
читал мусульманина за искренность его приверженности, пусть безумной, вере,
за которую тот был готов сложить голову. Искренность - недавняя добродетель.
Она также зависит от уважения к разности мнений, возможности существования
различных идеалов, возможно, несовместимых друг с другом. Мне кажется, что
только либеральные общества способны признать ее, избегая преследования,
принуждения во имя идеологии, призывающей бороться за превосходство од¬
ной общественной группы над другими в силу того только, что ей будто бы из¬
вестны цели человеческой жизни. Здесь коренится моя вера в либерализм.
Конечно, идеалы сталкиваются: отдельные люди, группы людей, нации,
классы стремятся к разным вещам. Все они не могут быть удовлетворены без
принесения в жертву одних идеалов ради осуществления других. Отсюда следу¬
ет необходимость компромисса. Задача правительства и цель компромисса - не
ставить людей перед отсутствием альтернатив, убеждать их частично потеснить¬
ся, дабы дать место другим, однако не настолько, чтобы это стало для них не¬
выносимо, не подвергая их деспотическому притеснению. Между хаотическим
беспорядком, с одной стороны, и деспотией - с другой, нужно искать средний
путь, и он существует. Слово «компромисс» не вдохновит молодежь, оно не по¬
служит призывом, увлекающим юных, чистосердечных идеалистов, мечтающих
создать достойную, справедливую и благополучную жизнь для всех и каждого.
И тем не менее я должен сказать, что либеральное общество - это общество, спо¬
собное находить компромиссы, часто неустойчивые, между разными ответами
на разные вопросы. Они могут быть неустойчивыми и могут нарушаться, но тог¬
да следует стремиться к новой договоренности, новому, для всех приемлемому,
компромиссному решению, которое никого не ущемляет. Вот во что, я полагаю,
верят либералы, и это - моя вера.
- У людей есть права, не абсолютные права, ибо всегда может наступить тя¬
желый, критический момент, где даже эти права нужно отменить. Никогда нельзя
гарантировать. Но, в общем, мы говорим, что нужны человеческие права, которых
нельзя нарушить, и чтобы цель государства была снабдить население минимумом
необходимого: свобода мысли, личная безопасность, питание, вероисповедание...
- Гарантия материально и духовно необходимого?
- Да. В вопросе, что необходимо, люди могут разойтись во мнениях, но либе¬
ралы знают, и в России тоже знают, старая интеллигенция понимала. Я их уважаю
за это. Герцен знал, что нужно иметь.
406
Как было и как вспомнилось
- Но русские интеллигенты, тот же Герцен, в какой мере они могут быть на¬
званы этим западным словом «либералы» ?
- Могут. Главное желание Герцена было - свобода. То, что он ненавидел, это
был произвол и деспотизм, хотя он также ненавидел буржуазию Франции. Он го¬
ворил, что когда-то был Фигаро в ливрее, которую можно было снять, а теперь
ливрея вошла в их кожу. Это он сказал про французскую буржуазию 1840-х годов.
Они все делали с невероятным холопством и пошлостью. Чего хотел Герцен, так
это свободных людей, умеющих свободно мыслить, образованных, имеющих пра¬
ва, в которые верила революция 1848 года, которая не удалась.
- Вы знаете, несколько месяцев тому назад я разговаривал о Герцене с амери¬
канскими студентами-славистами, которые читали что-то из его статей, письма
к Тургеневу, «Концы и начала». Когда я сказал, что Герцен - наш крупнейший либе¬
рал XIX века, то американские студенты все как один подняли на меня изумленные
глаза: «Вот этот человек, который все это говорит, - либерал? Разве это либера¬
лизм?»
- Не помню, что Герцен там говорил Тургеневу.
- Он говорил о том, что теперь наступает эра посредственности, кончилась
эра духовной аристократии, он выступает защитником аристократизма.
- В духовном отношении аристократизм может существовать, он совместим
с либерализмом, в социальном - нет. Г ерцен не хотел иметь людей в подчинении.
Но, я должен сказать, он был дворянин. Есть у него такой момент, как он входит
в дом в Паддингтоне, в Лондоне, где он снимает квартиру: да, тут я могу жить, тут
жил какой-то барин. Квартира хорошо обставленная. Тут поселиться я могу. Так
что снобизм известный был, конечно. Но несмотря на это он - либерал, главным
образом потому, что ненавидел гнет, ненавидел произвол. Какая разница между
ним и Белинским? Настоящей разницы нет. Белинский не был никаким социали¬
стом, хотя потом говорили, как будто был.
- Но вы же писали о том, что в 1848 году Европа пошла к либерализму, через
десять лет явится Джон Стюарт Милль со своим эссе «О свободе», а Россия как
раз получила толчок к 1917 году?
- Да, это правда, потому что Герцену показалось, что 1848 год лопнул и что
убили его буржуа, что они не хотели дать свободу рабочим, крестьянству и потому
1848-1849-й год не удался. Дал толчок, веря, что не таким путем нужно идти, по¬
тому что на официальных либералов полагаться нельзя, они не сделают того, что
нужно. В этом была вся теория Герцена. Тургенев говорил Герцену, что он верит
в тулуп. Герцен был обижен этим, но он верил в мужицкий тулуп. Это была тоже
утопия. Они оба были либералы. Тургенев был мягкотелый...
- Иван Сергеевич, значит, был мягкотелый, а Александр Иванович был
гораздо...
Вечер пятый. Англия
407
- Не гораздо. На него тоже смотрели с укором люди 1860-х годов как на passe,
на мягкотелого либерала, а он их по-своему тоже ненавидел, считал, что они наха¬
лы, что они тираны. Он Чернышевского не любил, Писарева не любил.
- Но они-то ведь не либералы?
- Никакие. Никакие. Герцену было уютно с Мишле, ему было уютно с Мад-
зини, уютно с западными либералами, которые просто верили в умеренную демо¬
кратию.
- Но какая странная роль у Герцена: ему уютно с западными либералами в их
звездный час, и сам он, дав толчок русской интеллигенции в ее наиболее радикальном
развитии, остается в либерализме.
- Конечно, дал толчок после 1848 года, поняв, что по этому пути идти нель¬
зя. Чернышевский тоже реагировал на 1848-й год в этом смысле. Поражение
1848 года произвело огромное впечатление на либералов России, на социалистов.
Вопрос был - что нужно делать? Если нельзя себя вести так, как вели либералы
в Германии, в Италии, во Франции, то остаются заговоры против правительства,
нелегальная активность. Вот этим он дал толчок.
- Мне в свое время показалась очень значительной ваша мысль о 1848 годе,
что этот год не только окончательно развел пути Запада и России, но и пути
западного либерализма и русской интеллигенции, которая отпадает от либера¬
лизма...
- Не совсем. Были русские либералы. Милюков был русский, но абсолютно
западный по типу либерал. Между либерализмом какого-нибудь профессора Ми¬
люкова и какого-нибудь английского либерала в парламенте большой разницы не
было.
- То есть, как сейчас порой делают в России, нельзя срисовывать портрет рус¬
ской интеллигенции только с Чернышевского со товарищи.
- Это неверно. Есть люди, так пишущие русскую историю, например профес¬
сор Пайпс. У него есть эссе об интеллигенции: они все левые, все экстремисты и
все не понимают, в чем дело. Я слышал недавно, кто-то приехавший из Советского
Союза читал в Лондоне лекцию. Из публики встал старый белый офицер и сказал:
интеллигенты - люди без всякого здравого смысла, они не знают, как вещи дела¬
ются, у них есть идеи, но они не ведают о последствиях, они без всякого чувства
ответственности пускают в мир идеи, как воздушные шарики, а то, что выходит,
это им нипочем, неинтересно. Это карикатура.
- То есть русская интеллигенция в значительной мере была аналогом западного
либерализма?
- Я считаю, что во второй половине XIX столетия такие люди, даже как Ми¬
хайловский, да, были либералами западного толка. Он не был острым социали¬
стом, совсем нет. Наверное, также кадеты и те, из кого вышли кадеты. Тургенев
был либералом. Тургенев предпочитал левых правым, но сам он боялся левых.
408
Как было и как вспомнилось
Он ненавидел правых и боялся левых. Каткова он терпеть не мог. Когда у него бо¬
лела рука, он называл это катковит.
- Что же принципиально отличает либерала западного типа, каковой был и
в России, от интеллигента-радикала?
- Скажите вы мне, чего хотели интеллигенты-радикалы? Тогда я вам отвечу.
- Интеллигенты-радикалы хотели всеобщего равенства, это прежде всего.
И ведь замечательная идея: всеобщее равенство, за которым следует всеобщее
счастье.
- Да, об этом спор Герцена с Бакуниным. Не только «Письма старого това¬
рища», которые есть укор либерала анархисту. Бакунин говорил, что нужно отме¬
нить университеты, потому что они создают неравенство; вышедшие из универ¬
ситетов, напыщенные, более культурные интеллигенты смотрят на народ сверху
вниз. Это нельзя позволить. Нужно разбить все, что есть, а потом построить. Г ер-
цен считал, что невозможно остановить ход мысли: наука может создавать какие-
то орудия, с помощью которых, вы говорите, буржуазия управляет народом, это,
может быть, и правда, но вопрос в том, как управлять? Не наука виновата. Он то
же самое сказал бы сегодня по поводу ядерного реактора - вопрос в том, как им
управлять? Нельзя остановить ход ума. Ум идет вперед и делает то, что ему нужно.
Изобретение остановить нельзя.
Пусть люди принадлежат к разным категориям, единственно, чтобы у всех
были права и одна часть не разорвала другую. Ленин когда-то сказал: «Кто
кого», - вот этого и не должно быть. Должен быть общий порядок, внутри кото¬
рого у каждого - своя область, пусть не очень большая, где он может делать все
что угодно, стоять на голове, подражать птицам, сумасшествовать по-своему, но
чтобы это не затрагивало других людей. Нужно оборонять людей в этих пределах
друг от друга.
Это идея, противная славянофилам. Они всегда атаковали Запад и обе его
религии. Одна - это католицизм, что-то отжившее, окаменевшее, с их точки зре¬
ния, тираническое. Окаменевшая иерархия. Протестантизм - это индивидуализм,
значит, люди имеют права. Права - это значит строить стены между людьми, что
запрещено. Люди должны быть как семья: любить друг друга, между отцом и сы¬
ном не должно быть прав, любви достаточно. Нужно иметь органическую жизнь,
где все всех любят, но это неправильно, потому что семья может быть такой, но
государство таким быть не может, поэтому нужно гарантировать законом людям
свободы и права.
Каждый тиран говорил, Сталин тоже: вы дети, вы не понимаете, что вам нуж¬
но. Я знаю. Вы не хотите, потому что вы не понимаете. Я заставлю вас понять,
заставлю сделать силой, а потом вы узнаете, что я был прав. Это как дети - не хотят
идти в школу. Я, их отец, и мать заставляем. Это насилие, но вы заставляете, пото¬
му что они не знают, что хорошо для них, а потом будут благодарны вам. Когда они
Вечер пятый. Англия
409
начинают действовать как родители; а весь народ - дети, тогда и выходит чистый
деспотизм.
Либеральное общество не идеально. Идеального общества нет; ибо люди не¬
совершенны. В отношении либерализма я вам скажу о двух идеях, которые считаю
своими, на них основываю свое понимание либерализма.
Первая - идея искренности. Это новая ценность, потому что никто в Средние
века, в древнем мире не говорил о ней. Говорили о правде, но это совсем другое.
Быть искренним и размножать неправду - это не считалось благим делом. Ника¬
кой католик в XVI веке не сказал бы о протестанте: этот человек губит души чело¬
веческие, его нужно остановить всеми силами, но нужно признать, что он делает
это не из корысти, не из тщеславия, он делает так потому, что на самом деле ве¬
рит этому, и ему нужно позволить верить. Никто бы так не сказал, ибо чем более
искренен, тем более опасен. Человек искренно верит, что 2 х 2 = 7, от этого он
не становится более прав, вероятно, он не в себе, однако у каждого может быть
свое убеждение. Искренность - это мотив, который следует принимать во внима¬
ние, ибо нужно уметь быть веротерпимым. Люди могут верить во что угодно, если
только не мешают другим.
Искренность - новая идея. Может быть, у греков, у Перикла в речах есть намек
на нее, но не больше. Главным считалось - знать правду и насаждать ее. Муче¬
ником становились не за взгляды, а за правду. Христиане не уважали мусульман,
когда те умирали за свою, как им казалось, поганую религию. Искренность - это
очень поздняя идея. Она появилась в самом конце XVII - в начале XVIII столетия,
когда идея, что можно иметь абсолютный ответ на самый важный вопрос, это от¬
пало. И люди начали верить в разнообразность. До этого никто в разнообразие
мнений не верил. Все мыслители: Платон, Аристотель, Средние века, христиане,
евреи, Ренессанс, Спиноза, материалисты XVIII столетия - верили, что одно - это
хорошо, а множество - плохо. Правда одна, а все другое - это ошибка. На все во¬
просы есть только один правильный ответ, а другие неправильны.
Уважать человека за то, что он верит, за то, что он абсолютно искренен в своей
вере, живот за нее положит, - это новая идея. Она лежит в основе веротерпимости
и того, что я называю свободным либеральным обществом. И в это я верю.
Коммунизм верит как раз в обратное, беря начало от честных добрых теоре¬
тичных французских мыслителей середины XVIII столетия, энциклопедистов, ко¬
торые полагали, что на все есть определенный ответ, его нужно найти и так жить.
Несогласных перевоспитать, а если нельзя, то заставить молчать. Например, мона¬
хи хотят самобичеваться, а это себе во вред, значит, они не верят в удовольствие,
не верят в жизнь, не верят в материализм, а это преступление. Запретить людям
быть несчастными - отсюда их гуманизм идет.
- Да, искренность - это безусловно важная и новая идея, но в том же XVIII веке,
может быть, вразрез с философией поэты, особенно часто Александр Поуп, вспоми¬
нали латинское выражение concordia discors...
410
Как было и как вспомнилось
- Несогласное согласие. Я думаю, немногие верили в это. Кто сказал это?
В XVIII столетии все это начинается, потому что люди начинают скептически от¬
носиться к догматическим ответам. Самая большая атака на это - романтизм, ко¬
торый считает: у каждого человека - своя идея. Может быть, я прав, может быть,
вы правы, может быть, оба не правы, но у каждого из нас своя идея. Между нами
может быть компромисс. Нет, компромисс они презирают, и отсюда начинает¬
ся фашизм. Между беспорядочностью хаоса с одной стороны и деспотизмом -
с другой, нужно найти какие-то компромиссы. Слово «компромисс» не вдохнов¬
ляет молодость, оно не является одним из лозунгов, за которым молодые идеали¬
сты пойдут, но в конце концов я скажу, что такое либеральное общество - это
общество, умеющее между различными ответами на одни и те же вопросы нахо¬
дить неустойчивые компромиссы. Они неустойчивы, они ломаются, и тогда нуж¬
но находить новые. Это не та идея, которая воодушевляет молодых людей, но это
правда.
-Я боюсь, что слово «компромисс» вообще не то, которым воодушевлялось рус¬
ское культурное и политическое сознание, но сейчас, кажется, мы к нему пришли.
Нас к нему привела сама логика действующих на разрыв событий. А так ведь рань¬
ше оно неизменно стояло в одном ряду с молчалинскими добродетелями, отзывалось
конформизмом.
- Вот против этого я всегда бушую. Конформизм означает повиновение, иду¬
щее не от того, что так нужно. Нужно, вы считаете, может быть, потому что эти
люди мудрее меня или потому что они будут бить меня по голове, если я не буду
конформистом. Может быть, вы думаете, что так жизнь будет для вас спокойнее,
найдется, что есть и пить. Каков бы ни был мотив, конформизм всегда ведет к ду¬
ховной смерти.
-То есть это не договор, а подчинение.
- Именно так. Я не могу представить, что даже люди, способные собраться
в одной комнате, верят все в одно и то же. Все люди не похожи друг на друга.
И точно так же ценности, высшие ценности, далеко не всегда друг с другом вяжутся.
И это есть вторая идея современного либерализма в добавление к искренности,
которую я считаю своей, которой я не нашел ни у кого другого. То, что мы называ¬
ем абсолютными ценностями: свобода, справедливость, равенство, любовь, красо¬
та, - то, во что люди верят, на чем они жизнь строят, эти высшие ценности не всег¬
да друг с другом уживаются. Полная свобода несовместима с полным равенством,
логически несовместима, не говоря уже о том, что это практически невозможно.
Если вы каждому человеку дадите свободу, то волки пожрут овец. Если есть пол¬
ное равенство, тогда нет полной свободы, потому что, если кто-то становится не¬
множко неравным, его нужно прихлопнуть. Все это чудные ценности, но между
ними также необходим компромисс. Или, скажем, счастье и знание...
- Во многой мудрости многие печали...
Вечер пятый. Англия
411
- Вот именно. И даже вполне практически: если я знаю, что у меня рак, это
не делает меня счастливым. Хотя само по себе знание - ценность, что может быть
лучше? Мне могут возразить: вы не рационалист, ибо, когда вы знаете, вы можете
помочь. Иногда нет. К тому же если бы Фрейд начал лечить психоанализом До¬
стоевского, не было бы романов. Вероятно, болезнь Достоевского можно было
вылечить. Когда Расин сделался верующим католиком, его пьесы стали хуже. Я не
говорю, что вера выше литературы или наоборот, я просто говорю о том, что не
всегда ценности совместимы. Приходится выбирать. Выбирать всегда болезнен¬
но: выбирая одно, вы теряете другое. Невозможно гарантировать гармонии жиз¬
ни, если сами ценности являются противоречивыми (3).
3. Позвольте мне повторить: знание, истина - не единственные ценности,
наука - не единственный способ их достижения.
- А есть право сомневаться в абсолютных ценностях?
- Конечно, оно есть.
- Это не подрывает ценностное состояние мира?
- Как далеко это идет? Скептицизм - вещь полезная. Он подрывает догма¬
тизм, но мир не может состоять из скептических интеллигентов. Скептические
интеллигенты общество строить не могут. Во что-то приходится верить. Идеалы
нужно иметь. Сомневаться во всем - ложный путь, делающий человека несчаст¬
ным. Монтень всю жизнь сомневался, но в конце концов он сказал: нужно идти
за большинством. Поскольку мы не знаем правду ни с той, ни с другой стороны,
то лучше следовать обычаям. Как люди жили, так и нужно продолжать жить. Ког¬
да мы не можем доказать, что правильно или что неправильно, нельзя шататься
между одним и другим, делаясь неврастеником. Следует устраивать жизнь как
можно и самым мирным образом, не настаивая на абсолютных ценностях. Это -
Монтень. Я думаю, что Эразм так же бы сказал. Монтескье до некоторой степени
в XVIII столетии. Вероятно, Герцен так думал.
- Вольтер?
- Вольтер был более догматичен, он думал, что знает, где правда лежит. Он
понимал, что счастье очень важно, но даже Бога он допускал только для того, что¬
бы держать людей в ежовых рукавицах: без Бога люди распустятся и он нужен как
утилитарное орудие. Это уже не Бог, не тот, в которого люди верят. Вольтер был
глубокий циник. И Г ерцен его обожал за то, что он все поднимал на смех, а это
одно из самых крепких орудий, которые существуют. Без смеха все распадается,
это чудная вещь. Никакая догматика не может держаться перед ним. Он был прав.
- Русская мысль, по-моему, не очень доверяет смеху. Бернард Шоу как-то при¬
слал Льву Толстому свою пьесу «Человек и Сверхчеловек». Толстой ответил в том
смысле, что не обо всем же можно говорить смеясь. Шоу это было непонятно.
412
Как было и как вспомнилось
- Шоу, однако, очень уважал Толстого. Полный скептицизм - это подрывать
все. И в конце концов нету людей, которые ни во что не верят. Они верят в еду,
питье, в то, что завтра проснутся. Ни во что не верить - это несерьезно. Правда то,
что абсолютные ценности, как бы абсолютны они ни были, не все и не всегда могут
жить друг с другом. Отсюда выходит, что иметь полную гармонию, идеал счаст¬
ливого, свободного, справедливого, добродетельного общества, ту гармонию,
о которой говорил Кондорсе в ХУШ веке, невозможно. Это ведет в конце концов
к Сталину.
- Как писал маркиз де Кюстин, неприязненный, но проницательный наблюда¬
тель России в прошлом столетии, «деспотизм никогда не бывает столь страшен,
как тогда, когда он хочет сделать благо... ». Сэр Исайя, принято говорить, что
в России, среди другого дефицита, едва ли не более всего не хватает либерализма,
но мне показалась очень важной мысль, высказанная автором предисловия к вашей
книге «Русские мыслители» Эйлин Келли, что ваш вклад в развитие либеральной
западной мысли состоит в том опыте, который вы почерпнули в русской литера¬
туре, в ее уроках, - «либерализм Тургенева, гораздо менее уверенный в себе и опти¬
мистичный, чем европейский либерализм в XIX веке, и именно поэтому гораздо более
современный».
- Был бумеранг. Я об этом тоже писал. В России в XIX столетии из-за цензу¬
ры в политических, социальных, экономических вопросах свободно писать нельзя
было. Все это пошло в литературу. Литература в России социального типа. Все
великие русские писатели не эстеты, хотя их считают эстетами: ни Гоголь, ни
Пушкин, ни Тургенев, который гордился тем, что написал «Записки охотника»,
подтолкнувшие решение вопроса об освобождении крестьян. Все они занимают¬
ся социальными вопросами, и все считают себя до известной степени пророками,
обязанными говорить миру правду. Убеждение Белинского состояло в том, что
у писателя есть долг. Идея, что писатель должен быть ангажированным, служить
обществу, - это довольно новая идея. И она пошла из России. Идея, что писатель
должен учить людей, быть ответственным за то, что он говорит, ибо его будут слу¬
шать, что нельзя шутить святыми вещами, - это идея писательской ответственно¬
сти, родившаяся в XIX веке в России. Конечно, и здесь были писатели, писавшие,
чтобы продавать свои книги, но писателю в России пришлось принять на себя эту
роль, и в конце XIX века она произвела впечатление на Запад.
- Сегодня как раз идет речь о том, что русская литература в прежнем своем
качестве кончилась.
- Вероятно, так. Я просто не знаю.
- Именно потому, что ей, литературе, не нужно более исполнять эту потаен¬
ную и в тоже время универсальную роль, будучи одновременно социологией, филосо¬
фией, учебником нравственности.
Вечер пятый. Англия
413
- Это не нужно делать искусственно, если писатель больше не горит этим. Го¬
ворить просто для того, чтобы вразумить людей, - это не идет, это дидактика, ко¬
торая мало на что годится. Белинского всегда выставляли как дидактика, но он ни¬
каким дидактиком не был. Он верил в Пушкина, хотя и выцедил из Пушкина некий
морализм, которого в том не было. Дидактик - Чернышевский. От него все пошло.
- В России всегда трудно и достаточно опасно быть либералом, но иногда за¬
давались вопросом, который и сейчас раздается снова: а нужно ли в России быть
либералом? Может быть, это страна, не нуждающаяся в либеральной идее?
- Всем нужно быть либералами. Это общечеловеческое, - я говорю, конечно,
только от себя, даже если это звучит догматически. Быть либералом - значит жить
и давать жить другим. Быть либералом - значит иметь человеческие отношения.
- Это универсальная идея, идея любой культуры?
-Я не говорю - любой. Вероятно, в исламе этого нет. Я не могу сказать, что
римляне в это верили или даже греки. Я не настаиваю на универсальности, хотя и
считаю, что лучшее общество то, где это есть.
- Вам очень много приходилось писать об Иване Сергеевиче Тургеневе, кото¬
рого вы называете типичнейшим русским либералом западного типа, добавляя при
этом - он не был борцом...
- Не был. Но между ним и Герценом большой разницы нет. Тургенев не ве¬
рил в мужиков, но писал их лучше, чем кто-либо. Я думаю, ему завидовал Толстой,
у которого все мужики сделаны из бумаги, картонные, идеальные. И с другой сто¬
роны, Тургенев не верил в спасение через деревню, в которое несчастный Герцен,
которому нужно было во что-нибудь верить, верил. Но что Г ерцен действитель¬
но имел против Тургенева - это то, что он ему оказался не товарищ. Знаменитая
история, когда Тургенев отвечал перед Сенатским комитетом и на вопрос, знает
ли он этих людей, Бакунина, Герцена: да-да, конечно, знаю, эти «красные» про¬
тив меня ужасные вещи пишут. Посмотрите, что они говорят против «Отцов и
детей», я совсем не их мнений. Поэтому Герцен и написал в «Колоколе»: есть
какая-то старая Магдалина, беззубая, седая Магдалина, которая спать не может от
мысли, что о ней думает царь (4).
4. Тургенев и Герцен оба были либералами, Тургенев - правым, Герцен -
левым, но они оба верили в необходимость личной свободы и ненавидели деспо¬
тизм в любом его проявлении. Они оба тяготились царским режимом, оба наде¬
ялись и верили в свободное, веротерпимое, либеральное общество. Так же, как
и Белинский. Все они презирали несправедливость, вульгарность, трусливость
буржуазного общества в Западной Европе, при этом Герцен верил, что кре¬
стьянская община в России сможет спасти мир, Тургенев в это не верил. Однако
их идеалы в целом были сходны. Однажды они поссорились, когда Сенатский
комитет задал Тургеневу вопрос о том, знает ли он таких людей, как Бакунин,
Г ерцен, и других им подобных радикалов. Тургенев ответил, что, конечно, он их
414
Как было и как вспомнилось
знает - когда-то они были его друзьями, но их взглядов он не разделяет, и Коми¬
тету должно быть известно, каким нападкам он подвергался со стороны «крас¬
ных», в особенности за «Отцов и детей». Он сказал, что провел резкую черту
между собой и злобными парижскими радикалами. Вот почему Герцен писал
в «Колоколе»: «Есть старая, беззубая, седая Магдалина, которая не может
спать, беспокоясь, что царь подумает о ней». Тургенев был искренним, но не
отличался смелостью. Герцену было свойственно и то и другое.
- Человек, не любящий либералов, сразу бы и сказал: вот она - природа либера¬
лизма.
- Практически есть известная правда в этом. Доля правды есть. Мы спраши¬
ваем себя: почему не удался 1905 год? Почему февраль в 1917 году лопнул? Из-за
этого. Керенский - карикатура либерала.
- Так что же, неспособность к действию, нестойкость - родовое проклятие
либерализма?
- Либералы не любят насилия, они могут жить только в либеральном обществе,
строить общество они не способны. Люди, которые умеют строить, всегда имеют
твердость, силу, которой либералы вообще не имеют и не должны иметь (5).
5. Либералы не терпят принуждения, они сторонники свободных сооб¬
ществ. Но по своей природе они критически относятся к установленным цен¬
ностям. Критическая способность необходима и очень полезна, без нее едва ли
могли бы происходить конструктивные реформы. Однако недостаточно быть
критичным. Критически настроенная интеллигенция не слишком хорошо умеет
заниматься общественным строительством. Чтобы создавать общество, нужно
способствовать его нормальному, здоровому развитию, устанавливать выгодные
международные отношения, предоставлять наилучшие возможности власти для
созидания, если нужно, то и путем компромиссов, столь нелюбимых интеллиген¬
цией. Ельцин не либерал, но без Ельциных общество не может быть возведено на
прочном основании. Однако в конце концов именно либералы должны уберечь
от крайностей, свойственных практическим политикам, нередко лишенным кру¬
гозора, преданным одной идее и не любящим критики.
- Но построят ли эти твердые люди то, что нужно для либеральной идеи?
- Строители должны строить, а либералы должны уметь жить в этом обще¬
стве. Ельцин, конечно, не либерал, но без Ельциных строительство невозможно.
Когда общество построено, тогда возможно быть либералом.
- В этой связи не напрашивается ли вот какая мысль, уже не отрицающая ли¬
берализма по той причине, что Россия - страна другого пути и он ей ни к чему? Да,
либерализм, может быть, и хорош, но он хорош и уместен, когда все сделано, а беда
России в том, что здесь опять и опять приходится начинать как бы заново, чуть
ли не с нуля, проникаясь ощущением, что если чего и не хватает здесь, то в первую
Вечер пятый. Англия
415
очередь действенной и благородной традиции, на которую можно было бы опереть¬
ся,. Главный дефицит русской истории в этом случае оказывается не в либеральной
идее, а в консервативной традиции?
- То есть в способности держать вещи таковыми, каковы они есть, не слиш¬
ком менять. Понимаю. Что я вам отвечу на это? Что я могу ответить? Известная
доля консерватизма должна быть, чтобы люди не менялись слишком быстро, что¬
бы идеалисты не слишком рушили то, что есть. Но так ли уж не было консерватиз¬
ма в России? Такие вот - Чичерины... Карамзин был консерватором. Пушкин был
консерватором. Пушкин был умеренно правый человек, очень умеренно правый
либерал, то есть консерватор. Жуковский был известного рода консерватор, Клю¬
чевский... Были такие люди (6).
6. Разумеется, должны существовать пути сохранения существующего по¬
рядка вещей, следования традиции, а не подрывания ее революционными сред¬
ствами. Должно существовать то, что называется «гражданским обществом»,
предполагающее у людей определенные привычки поведения, наличие установ¬
лений, отвечающих их естественным потребностям и не зависящих от своеволия
правительства, а также преемственность культуры и форм жизни. Иногда это
называют консерватизмом, и, может, это правильно. Русское общество только
выиграло от влияния на него таких людей, как Карамзин, как враг Герцена - Чи¬
черин, как, наконец, Пушкин, который не занимался политикой, но в целом по
своим политическим взглядам склонялся вправо от центра, был правым либе¬
ралом или либеральным консерватором, если хотите, подобным Жуковскому,
Ключевскому. Таким же был Грановский. Влияние таких либеральных консерва¬
торов мне представляется плодотворным, в отличие от радикалов шестидесятых
годов и, с другой стороны, прямых сторонников царизма и церкви.
-То есть наличие людей, вы думаете, уже достаточно оформилось в политиче¬
скую традицию?
- Люди, которые освобождали крестьян, комитет Александра II не был состав¬
лен из либералов, это были умеренные консерваторы. Все эти сенаторы, деятели,
создатели суда присяжных были консерваторы. Их ненавидели настоящие мрако¬
бесы.
- Мы говорим сейчас, что выжившая русская интеллигенция сохранила духовно
русскую либеральную традицию, а что с консервативной?
- Вероятно, нет. Я думаю, их убили всех. Советский режим истребил всех этих
либеральных аристократов, которые были консерваторами, профессоров консер¬
вативного типа. Или они уехали, например, в Англию: великий историк Древнего
Рима Михаил Ростовцев, знаменитый историк Павел Виноградов... Они не могли
жить здесь, задыхались.
416
Как было и как вспомнилось
- Да, Виноградов уехал еще до революции. Но каким образом может быть сейчас
возрождена традиция?
- Возрождать традицию, изобретать традицию невозможно. Когда я сделался
главой нового оксфордского колледжа - Вулфсон Колледж, нам нужно было со¬
здать традиции, ибо таковых не было. Мы изобрели их, это была шутка, имитация.
- У вас есть доверие к Ельцину как к политику?
- Я понятия не имею о нем. Понятия не имею. Не могу вам сказать, что из него
выйдет, что он за человек. Надежда есть. Вот и все. Я думаю, что Россия еще будет
кататься по довольно опасным местам, во всяком случае спокойствия не будет -
вверх и вниз...
- Еще достаточно долго?
- Кто знает, кто знает? В России в принципе недостаточно государственно¬
сти. Мой старый друг доктор Вейцман, глава сионизма, один из тех, кто построил
Израиль, без него Израиля бы не было, - он когда-то сказал: «Евреи - народ не по¬
литический, в конце концов они разорвут друг друга на клочки». Это происходит
и в России. Людей передержали в ежовых рукавицах сначала царь, потом Ленин.
Когда эти рукавицы спадают, остается анархия. Так что придется жить в довольно
неспокойное время. В конце концов перемелется - мука будет.
* * *
Интервью закончилось. Я поблагодарил сэра Исайю. Он, как, наверное, вся¬
кий ответственный человек, которого в течение двух часов принуждали высказы¬
ваться по важным поводам, чувствовал неудовлетворенность: что-то я вам неясное
наговорил. Однако я и не ожидал готовых формулировок и мнений, тем более что
мы сразу договорились не об интервью, а о беседе, свободной, размышляющей.
Такую форму предполагал предмет разговора - либерализм, в понимании
И. Берлина представляющий собой неустойчивый компромисс, ежемоментно пе¬
резаключаемый между отдельными людьми, между человеком и обществом, между
словом и жизненной практикой. То, что могло казаться окончательно обдуман¬
ным и решенным вчера, сегодня вновь требует обсуждения.
К тому же как ожидать совершенной ясности от мысли, занятой не противо¬
положностью далеких понятий, а различением близкого, расщеплением смысла,
играющего трудноуловимыми оттенками? Между ними нет видимой грани, но
худшая ошибка - предположить, будто она вовсе стерта, не существует, и спутать
необходимый компромисс с недопустимым конформизмом. Или, приняв искрен¬
ность как достаточный аргумент чужой правоты, допустить ее как оправдание уже
не права верить, а права навязывать свою веру, совершая насилие.
Политика всегда была областью, где торжествовали простые идеи. Настолько
простые, чтобы они выражались лозунгами. Так было в нашем недавнем прошлом.
Вечер пятый. Англия
417
Если так и останется, то наше прошлое скоро будет нашим будущим. Возможность
перемен в том, чтобы установить договорные отношения не только в экономике,
но и в нравственной сфере, в области идей. Договорные идеи не могут выражаться
лозунгами, ибо они живут смысловыми оттенками.
... Мы прощались с сэром Исайей, и уже в прихожей он спросил:
- Вы, я надеюсь, либерал?
- Скорее консерватор, - запоздало признался я. - Во всяком случае, не либерал
в том сентиментально-вседозволенном смысле, как это слово употребляется на¬
шей интеллигенцией. Но если по-вашему, как вы сказали о Пушкине, то, пожалуй,
очень умеренно правый либерал, полагающий, что сейчас в России - время стро¬
ить, строить государство.
Сэр Исайя подумал, значительно кивнул. Ведь и он говорил об этом. Пусть
либералы не строители, но все же им незачем ждать, пока строительство будет за¬
кончено. Сейчас нужно проявить свое искусство - жить, чтобы строители не забы¬
вали, что они возводят жилой дом, а не казенное здание. И в него лучше заселяться
сразу, немедля, а не растаскивать из него камни.
Последняя встреча
Приехав в мае 1996 года в Оксфорд, я не сразу позвонил Исайе Берлину. Нуж¬
но было собраться с духом: как-то он отнесется к моему появлению после той га¬
зетной истории?
На мой звонок ответила его секретарь миссис Пэт Утехин. Сэра Исайи нет
в городе, но она известит его о моем приезде. Я оставил телефон и адрес, по кото¬
рому 13 мая получил письменное приглашение: сэр Исайя будет рад видеть меня
19 мая в 17.30. Но именно этот день у меня был безнадежно занят. Позвонил,
чтобы вынужденно отказаться, и неожиданно услышал в трубке голос, памятный
каждому слышавшему его, - гудящий, хрипловатый. Сэр Исайя просил меня пере¬
дать его секретарю, какие дни мне удобны. Следующим звонком Пэт Утехин со¬
общила, что меня будут ждать 20 мая1 в 17.30 и ради этого сэр Исайя перенес срок
своего отъезда в Лондон. Любезность, на которую я не мог надеяться.
Не рассчитав, что это время - самый час пик, я пытался за полчаса до назначен¬
ного срока сесть в автобус на Хайстрит невдалеке от входа в Ол Соулз, колледжа,
с которым Исайя Берлин был связан более шестидесяти лет. Автобусов не было.
Была пробка. В ней ловко крутились такси. Я запрыгнул в одно из них: «Хединг-
тон Хаус. Знаете?» Водитель обернулся с улыбкой, выражавшей нечто большее,
чем профессиональную вежливость: «К Исайе Берлину?»
Я все-таки опоздал. Сэр Исайя, как и в мой первый визит, сам открыл дверь.
Спокойно отнесся и к опозданию, и к извинениям, провел на второй этаж в ка-
1 В некрологе И. Берлина (Пушкин. 1997. № 4. С. 51) я ошибочно назвал датой встречи
6 июня.
418
Как было и как вспомнилось
бинет. Прежде всего я заговорил об истории с интервью. Он прервал: «Вашей
вины в этом нет». Судя по тому, что в надписи, сделанной мне на книге, значится
«с благодарностью», он на меня действительно не был обижен, ибо, кроме как за
интервью, благодарить меня было ему не за что.
Хотя я и знал, что он почти не читает, в продолжение нашей беседы о России
я привез ему номер «Вопросов литературы» со своей статьей о Пушкине и Чаа¬
даеве, России и всемирное™, тем более что в этом номере было нечто, касающее¬
ся и его лично, - полемическая статья об Ахматовой и прототипах ее творчества1.
Берлин живо откликается при виде рыжей обложки: а, это где доказывают, что я
в заговоре с несколькими другими придумал, будто я Гость из будущего. С одной
стороны, пусть и такие статьи появляются; с другой - журнал должен быть более
ответственным.
Чтобы оправдать журнал, я напоминаю, что он в числе первых в России напе¬
чатал его работу (публикация Б. Дубина). Говорит, что не помнит, должно быть,
не присылали, но потом, перебирая на полке его книги, я нахожу тот номер «Во¬
просов литературы» и предъявляю его удивленному владельцу: «Я очень, очень
стар». Он действительно по ходу разговора что-то забывает, вдруг выпадает из
памяти фамилия его издателя. И я понимаю, когда на предложение записать какие-
то его ответы на магнитофон он отвечает: «Не нужно, я уже ничего не пишу и
не могу сказать. Могу лишь смешное...» Так что в этот раз записи не было. Есть
лишь небольшие заметки, которые я сделал, вернувшись домой.
Сэр Исайя больше расспрашивал меня - о ситуации в России. С недоверием
выслушивал мои критические слова об интеллигенции, возражал: «Но она ведь
есть. Вот вы, например...» Я говорю, что действительно не то в четвертом, не то
в пятом поколении принадлежу к интеллигенции, но для меня она не символ рус¬
ской культуры, а знак русской трагедии. Почему это «ум, честь и совесть» нации
должны быть заключены в рамки одной партии или одной группы и отделены тем
самым от остального тела нации?
Я порываюсь уйти, но сэр Исайя останавливает, так что беседа опять растяну¬
лась на два часа. В каждой его едва ли не второй фразе звучит имя Герцена. Это его
главный авторитет в русских делах.
Говорю в заключение, что хотел бы сначала для журнала, потом и для книжно¬
го издания перевести его работы, они сейчас должны прозвучать веско. В ответ:
«Даю вам разрешение на перевод любой». Он открыл шкаф с изданиями своих
книг и предложил: «Берите, чего у вас нет».
Не скрою, я взял. Но перевод довелось сделать лишь по печальному поводу:
сопровождая некролог Исайи Берлина, я перевел фрагменты его незавершенной
1 См.: Есипов В. «Как времена Веспасиана...» К проблеме героя в творчестве Анны Ахма¬
товой 40-60-х годов // Вопросы литературы. 1995. № 6.
Вечер пятый. Англия
419
(и тем не менее одной из самых блистательных) работы «Жозеф де Местр и про¬
исхождение фашизма».
Закончу свой рассказ об интервью с Исайей Берлином, приведя последнее из
примечаний, сделанных им к газетному тексту. Это, собственно, не поправка, не
уточнение, а короткое письмо к российскому читателю, касающееся сегодняшней
и будущей России:
Русские - великий народ. Их созидательные возможности мне представ¬
ляются огромными. Сейчас вам предстоит сложный период, смутное время, но
я твердо уверен, что сегодня в России достаточно ума, любви к жизни, стремле¬
ния к свободе, гуманности (той, что проявила старая русская интеллигенция),
- я встречаюсь с людьми, которым все это свойственно, - чтобы положить ко¬
нец как тенденции к хаосу, с одной стороны, так и новой деспотии - с другой.
Я верю, что память о тяжести прошлой тирании, как царской, так и коммуни¬
стической, слишком свежа, чтобы допустить новое окостенение общества; что
в России достаточно строительного материала, чтобы из него возвести здание
для жизни свободных людей, а не новую тюрьму. Все великие русские писатели
верили в это, пусть и по-разному. Герцен когда-то сказал, что русская литература
служит обвинением царскому режиму. Я думаю, что это так. Рано или поздно та
или иная форма свободного существования наступит, не при моей жизни, но,
быть может, при вашей.
2000
Английские поэты в русских предисловиях Игоря Шайтанова
Имя, некогда славное
Александр Поуп
23 августа 1753 года М. Ломоносов сообщал в письме И. Шувалову: «Полу¬
чив от студента Поповского перевод первого письма Попиева "Опыта о челове¬
ке”, не могу преминуть, чтобы не сообщить вашему превосходительству. В нем нет
ни одного стиха, который бы мною был поправлен»1.
Перевод будет закончен в следующем, 1754 году, что и означено на титульном
листе первого русского издания, вышедшего, однако, лишь три года спустя.
Ломоносов рекомендует перевод. Шувалов, фаворит Елизаветы, покровитель¬
ствующий просвещению, заинтересован поэмой, хочет видеть ее напечатанной.
Однако и при поддержке «всесильного» - трехлетний разрыв между ее заверше¬
нием и публикацией. За эти три года, прибегая к помощи все того же Шувалова,
Ломоносов успевает открыть первый русский университет - в Москве, основать
при нем типографию, в которой первой отпечатанной книгой и станет поэма
Поупа.
Что же это за произведение, издать которое так трудно и, судя по заинтере¬
сованности Ломоносова, так необходимо? И кто он, этот английский поэт, сделав¬
шийся крамольным в глазах русской духовной цензуры?
Александр Поуп (1688-1744) - автор знаменитых поэм: «Виндзорский лес»,
«Похищение локона», «Опыт о человеке»... Это классика.
И сам Поуп классик, его имя неизменно - в ряду великих. Иногда вторым сре¬
ди английских поэтов - за Шекспиром. По крайней мере однажды он был назван
даже первым - выше Шекспира. Парадокс? Во всяком случае, именно как таковое
мы воспринимаем мнение, исходящее от романтика - от Байрона, но в пределах
своей эпохи это мнение не было таким уж исключительным: авторитет Поупа все
еще очень высок, и те, кто не приемлет новых романтических вкусов (как их не
принимал, будучи романтиком, сам Байрон), обычно апеллируют к нему. Однако
очень скоро становится ясным, что и этот авторитет, и вся поэтическая традиция,
за ним стоящая, уходят в прошлое.
1 Ломоносов М. В. Поли. собр. соч. в 11 тт. Т. 10. Служебные документы. Письма. М.-Л.:
Академия наук СССР, 1957. С. 487.
Вечер пятый. Англия
421
Образованный англичанин, узнав, что готовится новое издание Поупа, ско¬
рее всего спросит, удалось ли сохранить в переводе знаменитые афоризмы. Ими,
запомнившимися со школьной скамьи, да рядом классических названий присут¬
ствует Поуп в широком читательском сознании своих соотечественников. Не то
чтобы мысль в афоризмах поражала новизной, но выражена она как-то особенно
легко, с ненатужным разговорным остроумием, которое, по одному из знамени¬
тых и так трудно переводимых речений Поупа, равнозначно самой природе, лишь
слегка приодетой и выигрывающей от своего словесного наряда.
А русский читатель, что помнит он?
Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
Это Поуп? Английская эпиграмма XVIII века в переводе Маршака, а чтобы
выяснить авторство, нужно найти издание с комментарием и заглянуть в него.
Обычно же эпиграмма печатается без имени автора, которое мало что скажет,
быть может, лишь вызовет недоумение - кто такой Поуп? Он же - Поп, как его
имя произносили в течение двух веков, пока совсем недавно не решили прибли¬
зить к английскому произношению и сделать более благозвучным. И еще иначе
звучало это имя в момент первого знакомства с ним в России - господин Попий
или господин Попе. Но, как бы его ни называли, тогда - в XVIII веке - его хоро¬
шо знали в России и во всей Европе. Русский перевод «Опыта о человеке», вы¬
полненный Николаем Поповским, выдержал пять изданий, одно из них - в ставке
светлейшего князя Потемкина в Яссах. А кроме того, три прозаических перело¬
жения, одно из которых (сделанное еще одним ломоносовским учеником - Ива¬
ном Федоровским) до сих пор остается в рукописи, а два других были напечатаны
в самом начале XIX века.
Больше отдельных изданий Поупа по-русски не было. Изредка что-то появ¬
лялось в составе хрестоматий, антологий, в авторских сборниках тех поэтов, кто
переводил его: Хераскова, Озерова, Дмитриева, Карамзина, Жуковского... Что
же произошло, почему писатель, имевший и славу и влияние, сохранил только имя
на страницах истории литературы?
Отношение к Поупу - отношение к поэзии Века Разума. Высоко стоявшая
во мнении современников - во всяком случае, значительно выше заслонившего
ее впоследствии романа, - она не пережила своего времени. Суровый приговор
ей вынесли романтики. Мэтью Арнольд, поэт и критик, подвел итог, сказав, что по
сути, великие поэты предшествующего века были прозаиками. В их творениях не
находили вдохновения, восторга, раскованности языка и воображения.
С началом XX столетия начинается медленное возрождение «августинцев»,
как называют в Англии тех, кто в первой половине XVIII века творили, взяв за
422
Как было и как вспомнилось
образец творчество Горация и Вергилия, римских поэтов эпохи Августа. Попытки
специалистов вернуть им если не популярность, то интерес читателей наталкива¬
лись на стойкое предубеждение. Вкусы менялись, подчас становились противо¬
положными, но приговор, произнесенный «августинской» поэзии, оставался не
менее суровым, даже если теперь ее отказывались принимать совсем по другим
соображениям, чем прежде. Теперь ее уличали, как, например, еще один влиятель¬
нейший поэт и критик - Т. С. Элиот, - не в излишней прозаичности, а в нарочитой
поэтичности, сквозь которую в стих не могло пробиться ни живое слово, ни живая
реальность. Слишком зависимыми от требований и условностей хорошего вкуса
были ее создатели, слишком дорожившими безупречностью формы, а среди них
самым безупречным - Александр Поуп, снискавший славу первого «правильно¬
го» английского поэта.
Для своей эпохи и для «августинской» традиции он - истинный поэт и в каж¬
дой своей строке, и во всей творческой биографии, начавшейся так рано и так бли¬
стательно.
Поуп любил подчеркивать свое раннее начало. Не каждому его свидетельству
о себе можно верить, ибо свою судьбу поэта Поуп откровенно воспринимал как
явление художественное, законченное, а поэтому, как и любое свое произведение,
неоднократно правил, редактировал. В зрелые годы он займется изданием соб¬
ственной переписки, печатные варианты очень сильно порой расходятся с ориги¬
налом.
Он любил подсказывать черты будущей идеальной биографии. В двадцать лет
он посылает в письме другу «Оду одиночеству», якобы созданную им в двенадца¬
тилетнем возрасте. Трудно сказать, достоверен ли этот факт, но он очень удачен,
ибо одиночество, еще не омраченное трагическим чувством, каким оно наполнит¬
ся у романтиков, предстает как поэтическое уединение - состояние, сопутству¬
ющее творчеству. Влечение к нему - знак пробуждения поэта. Вот отчего важ¬
но указание на возраст, поражающий воображение. В первом русском переводе
С. Боброва («Беседующий гражданин», 1789) название читается так: «Ода две¬
надцатилетнего Попа»1.
Однако если Поуп и творил легенду, то имевшую под собой реальное основа¬
ние: он рано поражал окружающих своими способностями, развившимися в сель¬
ском уединении, хотя и невдалеке от Лондона. Уединение было вынужденным.
Отец Александра, состоятельный купец, торговавший с Испанией и Порту¬
галией, во время одной из деловых поездок перешел в католичество. Хотя веро¬
терпимость и была не только знамением времени, но и принятым в Англии (1689)
государственным законом, исполнение его связывалось многими ограничениями.
1 Библиография ранних русских переводов А Поупа опубликована Ю. Левиным в сб.: От
классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. А: Наука,
1970.
Вечер пятый. Англия
423
Особенно в отношении католиков, со стороны которых опасались государствен¬
ной измены - поддержки изгнанным из страны Стюартам. Католическое веро¬
исповедание закрывало путь к государственной службе, в обычную школу, в уни¬
верситет.
Образование Поупа было преимущественно домашним. Дополнительным
к тому поводом стала и ранняя болезнь - туберкулез позвоночника, сделавший его
инвалидом: маленьким горбуном, вечно мерзнувшим даже в жаркий день или воз¬
ле камина, кутающимся в плед, надевающим несколько пар чулок, чтобы согреть¬
ся и одновременно скрыть невероятную худобу почти бесплотного тела. Только
глаза, смотрящие с портретов (никого, даже монархов, не писали так много!), не
согласуются с тем, что мы знаем о человеке, о его физической немощи.
Прекрасные, мудрые глаза поэта, бывшего душой своего века - Века Разума,
века, отмеченного культом дружбы, возведшего общение в род искусства.
В дружеском общении рождались многие замыслы, в том числе и произведе¬
ния, принесшего первую славу, - «Пасторалей».
Как часто великие писатели с усмешкой вспоминают первые опыты! Поуп же
и в конце жизни признавал за «Пасторалями» не превзойденное им достоинство
стиха, гармонии или того, что сам он будет называть «звуковым стилем». Звук,
поражающий мелодичностью, красотой и одновременно - оттеняющий ясность
смысла.
Нам, глядя на «Пасторали» из XX века и сквозь русскую поэтическую тради¬
цию, внутри которой этот жанр никогда не играл важной роли, а с другой сторо¬
ны - остается недостаточно оцененным даже в том значении, которое он реально
имел, - так вот, нам трудно понять пусть и быстро проходящее, но отметившее
всю европейскую поэзию увлечение пасторальностью в XVIII столетии. Это была
условность, игра, не ограниченная одной литературой и шире - искусством. Па¬
мятны пастушеские игры венценосных особ: Марии-Антуанетты, заказавшей фар¬
форовое ведерко для своей «фермы» в Ромильи; Павла I, которому в Гатчине был
построен простой с виду, но изящно изукрашенный внутри «березовый домик».
Подобной этому домику обманкой, иллюзией простоты была и сама пасто¬
раль, быстро развивавшаяся - или деградировавшая - в прециозную форму.
Падение жанра - факт более устойчивый в культурной памяти, чем его взлет,
кажущийся странной прихотью вкуса. Как в кратком увлечении пасторальностью,
так и в быстром разочаровании, сопровождавшем жанр, был свой смысл. Смысл,
являющий эпоху в ее существенных чертах, в разноречивости ее художественных
стремлений и даже в ее эстетической парадоксальности.
Культ Природы - без него невозможно представить себе эпоху Просвещения.
Часть его - желание быть естественным, подражать природе, которая как будто
только теперь и открывается сознанию европейца, потрясенного ее красотой.
Природа - источник самого сильного эстетического переживания, так может ли
424
Как было и как вспомнилось
мимо нее пройти поэзия? Здесь-то, однако, и рождается парадокс, обнажающий
самую глубину поэтического мышления эпохи, позволяющий предсказать судьбу
поэзии - ее последующее осуждение критикой.
Поэт уверен, что он может вместить новое вино в старые мехи, и, следуя этому
убеждению, пытается историю нового времени представлять в жанре эпической
поэмы, а небывало отмеченное печатью воспринимающей личности чувство при¬
роды - в жанре пасторали.
Новое сознание, пробуждающееся в это время, как будто не хотело замечать
своей новизны, спешило подкреплять каждую мысль аналогиями, прецедентами.
Если нельзя было не увидеть революции, перевернувшей науку и создавшей новую
картину мира, то тем с большей убежденностью пытались доказать, что сам чело¬
век неизменен в своих нравственных правилах, в своих эстетических пристрастиях.
Странная эпоха - гораздо более решительная в осуществлении перемен, чем в
признании их совершившимися. Эпоха, в сознание которой входит идея прогрес¬
са, и вместе с тем - эпоха, опасающаяся, что в этих переменах будет утрачено нечто
очень важное, прервется традиция культуры, разрушатся нравственные законы.
В области искусства консерватизм оказался наиболее устойчивым: новые
просветительские идеи еще долго сосуществуют со старыми классицистически¬
ми правилами. Легче всего, конечно, упрекнуть, как это обычно и делают, как это
сделал и Т. С. Элиот, нашедший очень точную формулировку для упрека поэтам
XVIII века, которым не хватило «остроты и глубины восприятия, чтобы осознать,
что они чувствуют отлично от предшествующего поколения и, следовательно,
должны иначе пользоваться языком».
В этих словах - большая доля справедливости, но не вся правда о поэтическом
мышлении эпохи рационализма. Следуя этим словам, придем к пониманию ограни¬
ченности, но не достоинств, которые есть, как есть и своя новизна, свои открытия:
новизна доведенной до совершенства, до предела возможной выразительности и
способности передать душевный мир европейца в XVIII столетии классической
формы. Едва ли кто-нибудь из поэтов того времени лучше, чем Поуп, умел быть
столь оригинальным при минимуме формальных перемен, сохраняя убеждение,
что ничего и не нужно менять, а лишь добиться полного владения существующим
языком поэзии.
«Пасторали» явились первым опытом проверки уже достаточно сложивше¬
гося убеждения. Они же дали повод отстаивать его в ходе полемики.
Законченные к 1704 году «Пасторали» появляются в печати - первое опу¬
бликованное произведение поэта - в 1709 году в шестом выпуске сборника, уже
более двух десятилетий издаваемого Джейкобом Тонсоном. Они заключают том,
который открывается еще одним пасторальным циклом - Э. Филипса. К его имени
обычно прибавляют эпитет «пасторальный», ибо на какое-то время он первен¬
ствует в жанре. На него-то и напишет, спустя пять лет, издевательски хвалебную
Вечер пятый. Англия
425
рецензию Поуп, положив начало событиям, вошедшим в историю английской ли¬
тературы под именем «пасторальной войны».
Поуп преувеличенно хвалит Филипса за то, что считалось его открытием и что
для него - Поупа - неприемлемо. Филипс попытался привить жанру националь¬
ный колорит и говорить не об условных пастушках, а об английских крестьянах
с их разговорным наречием, сохраняя черты английской природы.
Хорошо или плохо намерение, но результат выходит достаточно неловким,
что и подчеркивает Поуп: для него в том, что в пасторали упомянуты волки (уже
несколько веков в Англии вымершие), нет ничего национального, а в грубом про¬
сторечии, вкрапливаемом в обычный стиль, - ничего поэтического.
Сегодня, читая пасторали Филипса, мы соглашаемся с Поупом в том, что они
комичны. Но, может быть, у каждого из поэтов свое преимущество: у Филипса
более смелости, у Поупа - таланта?
В искусстве талант и есть единственная мера смелости, разумной, оправдан¬
ной. Если кто-то из них двоих и обновил жанр, то не Филипс, а Поуп, создав, ве¬
роятно, самый высокий, мастерский образец пасторальной поэзии накануне того,
как старая жанровая условность была готова отойти в прошлое.
Достоинства «звукового стиля», новизна замысла, придающая циклу цель¬
ность и делающая его не только рассказом о временах года, но аллегорией чело¬
веческой жизни, и даже ощущение чисто английского пейзажа в ненавязчивых
деталях - все это есть в «Пасторалях» Поупа, подкрепленное силой лирического
выражения, почти оправдывающей применительно к ним слово «чувствитель¬
ность».
Но пока что это слово - из будущего. Пока что поэзия стремится говорить
не от имени личности, а находить всеобщее выражение вечным идеям, тому, что
переживается везде и всегда. И все-таки эстетический вкус меняется.
При жизни Поупа слово «вкус» употребляется все чаще, звучит все более ве¬
ско и постепенно меняет свое значение.
Первоначально оно предполагало наличие некоего общего критерия, откло¬
няясь от которого любое мнение грешило произвольностью или изобличало неве¬
жество, то есть превращалось во «вкусовщину» или в «безвкусие». Все же, что
соответствовало вкусу, закреплялось сводом правил, которые, будучи собранными
вместе, складывались в нормативный трактат - в поэтику.
Постепенно, однако, крепло убеждение, что и в области эстетической должна
осуществиться веротерпимость и что вкус всегда отмечен печатью индивидуаль¬
ности. В разумных пределах, конечно. В пределах разумного суждения, на которое
опирается хороший вкус.
Разработка понятия «вкус» в области теории рождала то, что скоро назовут
эстетикой. Столкновение различных вкусов в литературной практике расширяло
426
Как было и как вспомнилось
ту область литературной деятельности, имя для которой уже было найдено Джо¬
ном Драйденом, - критику. И та и другая пришли сменить нормативную поэтику,
знаменуя новую литературную ситуацию и новое художественное мышление.
В своем «Опыте о критике» Поуп стал одним из первых теоретиков толь¬
ко-только зарождающегося типа литературной деятельности.
Едва ли сам Поуп сознавал всю меру своей новизны и менее всего стремился
быть новым. Своим «Опытом» он включился в уже два десятилетия кипевшую
распрю между «древними» и «новыми», первые из которых отстаивали автори¬
тет античности во всей его непререкаемости, вторые - достоинство современных
писателей.
Время наибольшей остроты суждений, подобных, скажем, «Битве книг»
Свифта, уже миновало, и Поуп не столько ищет противопоставления двух точек
зрения, сколько их примирения. Чтить древних, чей авторитет поддержан веками
восхищения перед ними, но быть снисходительным к новым, спешить поддержать
достойных, ибо «стихи живут недолго в наши дни, / Пусть будут своевременны
они...».
Поуп не спешил расстаться с убеждением, что писать следует придержива¬
ясь образцов и выведенных из этих образцов правил. Для него, как и для многих
его современников, требования подражать древним и подражать природе были,
по сути, разной формулировкой одной мысли. Величие древних - в их верности
природе, только уже приведенной в систему, освещенной светом разума. Зачем
же пренебрегать указанным путем, даже если мы и собираемся следовать по нему
далее предшественников?
И Поуп подражал. Подражал, оставляя за собой свободу выбирать себе об¬
разцы, не ограничиваться античностью. Английская литература едва ли не первой
решилась на то, чтобы уравнять своих национальных классиков в правах с «древ¬
ними». Поуп перелагал на современный язык Чосера, редактировал и издавал
Шекспира, чтил Спенсера, Милтона, а также тех, кто непосредственно предше¬
ствовали ему в деле создания традиции «августинского» стиха: Денема, Уоллера,
Каули, Драйдена. Подражал он и неожиданным поэтам, которые должны были как
будто бы шокировать его хороший вкус, а он тем не менее писал сатиру в духе «ме¬
тафизика» Джона Донна.
Величие Поупа сказалось в его широте, в том, что он не укладывается в про¬
крустово ложе стиля, которому он придал блеск и законченность. Поуп поэт раз¬
нообразный, меняющийся на всем протяжении своего творчества.
Начинать следовало, сообразуясь с образцом самого искусного (по мнению
«августинцев») из древних поэтов - Вергилия. Его «Буколикам», незамыслова¬
тому, простейшему подражанию природе, соответствуют «Пасторали» Поупа.
Затем тема усложняется: желание развлечь, доставить наслаждение уступает место
целям полезным, дидактике. Вергилий в четырех книгах «Георгик» всесторонне
Вечер пятый. Англия
427
изложил труд земледельца; сам Поуп и его читатели полагали, что в этом же духе
выдержан «Виндзорский лес».
А между тем это сходство совсем не так уж и очевидно, не так уж велико. Если
автор «Виндзорского леса» на нем настаивал, то для нас сегодня это лишнее до¬
казательство того, что, даже меняя язык поэзии, «августинцы» не любили при¬
влекать к этому внимание. Оригинальность не была в числе достоинств, которыми
они особенно дорожили.
Человек, осведомленный в истории английской поэзии, минуя античные ана¬
логии, признает «Виндзорский лес» важным звеном в развитии описательного
стиля, отмеченного подробностью наблюдения природы. Его истоки - в «то¬
пографических» поэмах XVII века (одна из самых ранних и известных - «Холм
Купера» Джона Денема), его кульминация - «Времена года» (1726-1730)
Джеймса Томсона, младшего современника Поупа, воспринявшего многочислен¬
ные его уроки.
Первые наброски поэмы сделаны Поупом очень рано, одновременно с «Пас¬
торалями». Его отрочество прошло в Виндзоре, бывшем местом постоянных про¬
гулок. Однако долгое время наброски не становились поэмой, не получали завер¬
шения, ибо восхититься природой и ее описать - цель недостаточная для высокой
поэзии, с точки зрения Поупа. Его классический вкус противился излишней под¬
робности, которая, как учил Гораций, вредит поэзии. И Поуп, ценивший живопис¬
ность, зримость образа, стремился пробудить их, избегая распространившегося
в его время обычая петь все то, что видишь.
Его стих метафоричен, по крайней мере, на фоне всей «августинской» тра¬
диции. Отношение к метафоре было настороженным, ибо ее считали наследием
темной «метафизической» поэзии предшествующего века или присущего ему
же остроумия, которое теперь все чаще порицается как ненужное затемнение
смысла. Сопряжению далековатых идей в метафоре предпочитали характерные
метонимические перифразы, сделавшиеся штампами «августинского» стиля.
В стихотворении говорили не о птицах, но о «пернатом племени», говорили не об
овцах, но о «шерстяном богатстве». Так, считалось, грубая реальность должным
образом облагораживалась и отвечала требованиям хорошего вкуса; а одновре¬
менно и объяснялась, представала в свете разума.
Такого рода перифраз немало и у Поупа, как немало у него традиционных
эпитетов, не менее традиционных отвлеченных образов, требовавших написания
слов с заглавной буквы (пропадающей в современных изданиях), чтобы подчер¬
кнуть необходимость понимания сказанного в некоем обобщающем, почти алле¬
горическом смысле. Все это черты стиля, присущего Поупу, в значительной мере
им созданного. Однако он владеет стилем, а не стиль диктует ему.
Обобщая, Поуп умеет оставаться индивидуальным в выражении и конкрет¬
ным в образе; выражая вечные идеи, он умеет делать их своими, возвращать им
428
Как было и как вспомнилось
жизнь. «Рощи Эдема, давно исчезнувшие, живут в описании и зеленеют в песне»,
как сказано в начале «Виндзорского леса».
Обычная для него метафора, изящная и настолько легкая, что она с трудом
удерживается в переводе, а исчезая, делает стих более риторичным, воображение
более тяжелым, чем они были в действительности.
Нередко Поупа, указывая на «Опыт о человеке», порицают за то, что его
философичность сводится к зарифмовыванию чужих мыслей и тезисов. Тогда ему
в пример, уже подчеркивая не сходство, а разность, ставят «метафизиков» или
романтиков, для которых идеи - повод развить образ.
Соглашаясь с тем, что Поуп ценит силу просто и прямо выраженной мысли, -
иначе он не был бы «августинцем» по традиции, к которой принадлежал, и при¬
знанным по своему таланту мастером афоризма, - мы не должны терять из виду
разбросанные в его стихах блестки поэтического воображения, подхватившего
мысль и облекшего ее зримо, предметно:
Жизнь жаворонка в воздухе - навек,
Лишь тельце подбирает человек.
В образе - отзвук популярного неоплатонизма, приписывавшего обладание
душой всему живому. Картина же являет не фиксирующее факты и наблюдения
описание охоты, а ее «метафизическое» осмысление, в котором главное - устано¬
вить отношение человека к природе, а в ней самой - духовного к материальному.
И наконец, Поуп, не раз порицавший излишества остроумия, знал и его под¬
линную силу, владел ею не только в афористической отточенности выражения, но
и в развернутой метафоре, достаточно трудной и для читателя, и для переводчика.
Вот, скажем, обращение к художнику в начале «Послания к леди»: поэт предла¬
гает приготовить холст, загрунтовать его; слово «грунт», в английском языке со¬
впадающее со словом «земля», рождает метафору - краски предлагается брать
у неба, у радуги, а переносить их на облако... Только тогда есть какая-то надежда
передать женский облик во всей его прелести и изменчивости. Нигде более, чем
в «Виндзорском лесе», Поуп не проявит свое восхищение природой, умение со¬
хранить свое чувство и ее образ в стихе.
Подсчитано, что в поэме цветовое слово приходится на каждые семь строк
текста - необычайная колористическая насыщенность; для сравнения - в «Опы¬
те о человеке» окрашена лишь каждая семьдесят шестая строка. Буйство красок,
торжество зрения, но даже здесь Поуп не отдается во власть описательности, ко¬
торая в его время все чаще начинает сопутствовать любви к природе в поэзии.
Поуп предпочитает метафорическую иносказательность, даже старые и сделав¬
шиеся штампами поэтические формулы, которые в его исполнении почти неулови¬
мо подсказывают предметно точное, физически ощутимое присутствие предмета.
Вечер пятый. Англия
429
И на уровне жанра он противник чистой описательности. Виндзорские впе¬
чатления оставались для него разрозненными зарисовками, не складывались в це¬
лое до тех пор, пока их не объединила значительная тема, высказыванием по пово¬
ду которой и становится поэма.
Вышедший в начале 1713 года «Виндзорский лес» имел прямую политиче¬
скую цель - подготовить общественное мнение к окончанию войны за испанское
наследство и заключению Утрехтского мира, подписание которого состоялось
в марте.
Мы хорошо помним, что пастораль - условная форма, но гораздо хуже пом¬
ним, как часто эта форма идеологизировалась, становилась способом высказыва¬
ния политических идей. Изображению природы и патриархальной сельской жизни
сопутствовал идеал покоя, благополучия, процветания, нравственных достоинств.
Чаще они виделись в прошлом, рождали вздох сожаления. Но они могли перено¬
ситься и в будущее, предсказывая наступление нового золотого века, новой эры.
Не случайно именно в эклоге Вергилия усматривали предсказание Христа: Поуп
подражал ей в «Мессии», одном из самых популярных стихотворений, переведен¬
ном на все европейские языки, в том числе неоднократно и на русский.
И в отношении современности мечту о золотом веке могли припоминать не
только ей в укор, но и для ее восхваления, полагая золотой век возрожденным под
мудрым правлением Августа или Анны, воспетых Вергилием и Поупом.
Просветительская мысль раздвинула земные пределы и в то же время открыла
для себя единство мира, процветание в котором не может быть полным, пока оно
не станет всеобщим, пока справедливость не воцарится повсюду.
Картиной этого всеобщего благополучия и венчает Поуп поэму, основывая
просветительскую утопию близкого золотого века на разумной деятельности че¬
ловека, осознавшего, что мир един, независимо от того, живет ли он в Лондоне или
в Новом Свете, носит ли он пудреный парик или пучок перьев.
Единство интересов вначале явило себя конкуренцией, враждой, войнами, по¬
лем битвы в которых стали едва ли не все континенты. Однако Поуп верит, что
с окончанием войны это единство может сказаться иначе - взаимной свободой об¬
щения, взаимными выгодами торговли.
Торжественным, ликующим гимном завершается поэма, выражающим веру
прекрасную, но утопическую. Мечта о всеобщем процветании, о мире остается
мечтой; о мире даже не всеобщем, но хотя бы в Англии, самой просвещенной стра¬
не, где, казалось бы, и следовало прежде всего ждать победы Разума.
Вместо этого перспектива мира с Францией стала поводом для острейшей
политической розни между двумя партиями: вигами и тори. Существующие под
этими именами партии уже около трех десятилетий, как полагали тогда многие,
угрожали единству нации и мощи государства. Почти всегда, прежде чем осудить
неразумие противников, произносили слова осуждения самой партийной борьбе.
430
Как было и как вспомнилось
Всеобщим мыслям; как всегда, Поуп находил незабываемо афористическое
выражение:
Умеренность в любом ценю я споре.
Для тори - виг, у вигов числюсь тори.
Однако при всей ее желанности умеренная, разумная позиция - иллюзия.
Вот и «Виндзорский лес» был воспринят как аргумент в пользу ратующих за
прекращение войны тори. Поэма стала для ее автора поводом к сближению с веду¬
щим памфлетистом партии - Джонатаном Свифтом и лидером ее воинствующего
крыла - виконтом Болингброком, в ту пору государственным секретарем, направ¬
лявшим иностранную политику.
За Болингброком - сельские сквайры, «охотники за лисицами», разоряю¬
щиеся под гнетом военного налога и люто ненавидящие новых деловых людей
Сити - опору вигов. Конечно, не для того, чтобы удовлетворить их политическим
и эстетическим вкусам, писал Поуп. И все-таки объективно поэма приобретала
силу политического памфлета, не достигая своей главной цели, - положить конец
и войне и вражде. Для Поупа она ускорила разрыв с прежними друзьями - круж¬
ком Аддисона - и способствовала приобретению новых.
Самый авторитетный современный биограф и знаток Поупа Мейнард Мэк
находит у него «талант дружбы», который не оставлял его, независимо от того,
возносило ли колесо Фортуны или, напротив, повергало в бездну людей, ему близ¬
ких. Поуп оставался им верен, опровергая прижизненные сплетни, переросшие в
посмертную легенду о его злобном, завистливом и низком нраве.
Ровностью или мягкостью характера Поуп не отличался, но источник легенды
скорее в другом, в том, что он умел быть как другом, так и врагом, непримиримым,
беспощадным.
Именно теперь начинается для него дружеское общение, перерастающее в ли¬
тературное общество или, во всяком случае, в кружок, члены которого, а среди них
главные - Свифт, Гей, Поуп, Арбетнот, - подписываются общим псевдонимом:
Мартин Скриблерус, то есть Мартин Писака.
У Поупа в этом кружке особая роль. Вместе с другими он нападает, насмеш¬
ничает, но время для его сатиры еще не пришло. Пока что его присутствие более
важно как напоминание о тех ценностях, ради которых и обличаются бездарность,
педантизм, незнание. Поуп - лучший современный поэт, а значит, ближе других
стоящий к великой культуре прошлого.
Снова как будто бы возникает требующая выбора альтернатива: древние или
новые? В теории она преодолена, но на практике сохраняется ощущение того, что
необходимо огромное усилие, чтобы вступить в культурное пространство, где веч¬
ными ориентирами - творения великих. Как рядом с ними не ощутить своей мало-
Венер пятый. Англия
431
сти, незначительности сегодняшних людей и событий! И все-таки Поуп пытается
совместить в одном масштабе изображение современности и прошлого.
В 1712 году появляется первое, а два года спустя второе, значительно расши¬
ренное издание поэмы «Похищение локона».
Жанр - ироикомическая поэма, пародийно применяющая стиль поэмы эпиче¬
ской к рассказу о светском происшествии, реально имевшем место. Эпос предпо¬
лагает развитие событий в двух планах: земном и небесном, - и в «Похищении ло¬
кона» вокруг сценической площадки, представляющей то будуар светской дамы,
то гостиную во дворце, парит сонм духов, фей, гномов. Вот главный из них - Ари¬
ель - держит речь, с явным авторским умыслом заставляя читателей припоминать
обращение поверженного Сатаны к своему воинству в «Потерянном рае» Мил¬
тона. Милтоновские и гомеровские ассоциации сопутствуют и сражениям, хотя
одно из них ведут духи с губительными для охраняемого ими локона ножницами,
а другое происходит на зеленом поле ломберного стола.
Стиль комически укрупняет события, ибо не снимает впечатления их незначи¬
тельности, а, напротив, подчеркивает его. Однако, если присмотреться вниматель¬
нее, и сама современная жизнь неоднородна, не ограничена светской сплетней и
будуарными потрясениями. Во дворце происходит похищение локона, но там же
восседает великая Анна, внимающая совету и вкушающая чай; там же рушатся ре¬
путации местных нимф и планы иноземных правителей. Так что разновеликость
событий ощущается не только при столкновении истории с современностью, но
и внутри самой современности, где есть и государственный масштаб, и частная
жизнь.
Есть и то и другое, но частная жизнь, интересы отдельного человека, малень¬
кие и сиюминутные, виднее: они диктуют смысл и закон всему, что совершается.
«Эпос частной жизни» - это будет сказано позже и о новом жанре, о романе.
Попытка же представить эту жизнь в старом эпосе удается лишь в том случае, если
жанр обеспечен достаточным запасом иронии и остроумия: ироикомическая поэ¬
ма... А в общем - шутка, остроумная, блистательная, в сравнении с которой понят¬
нее, что приобретает литература с развитием романа и чего ранее она не имела.
«Похищение локона» - это первая законченная попытка Поупа совершить
следующий шаг в своем становлении поэта: от дидактической поэмы к эпической.
Вновь по примеру Вергилия, теперь уже автора «Энеиды». Попыток будет
еще несколько, но так или иначе все они убеждают в невозможности современной
эпической поэмы, хотя и желанной и мыслимой по-прежнему как вершина литера¬
турной иерархии. Сначала Поуп создает комический эпос, потом сатирический -
«Дунсиаду»... А между ними - десять лет, посвященные переводу Гомеровых
поэм.
Этот перевод стоит уже за пределами первого этапа творчества, итог которо¬
му подведет сборник 1717 года. Там представлено все развитие поэта на этот мо-
432
Как было и как вспомнилось
мент - шаг в шаг за Вергилием. Там же он виден и как мастер современного стиха,
лирик, владеющий формой высокой пиндарической оды, умеющий поднять тон
любовной элегии на высоту, влекущую и недоступную для многих европейских по¬
этов после него, в послании Элоизы Абеляру. Там же - послания сестрам Блаунт,
с младшей из которых - Мартой - Поуп сохраняет нежную дружбу до последнего
своего часа.
Сборник подводит итог уже завершившемуся прошлому. Переломным был
1714 год: смерть королевы Анны, изгнание Болингброка, вынужденный отъезд
в Ирландию Свифта... Занавес опустился над расцвеченной красками воображе¬
ния иллюзией золотого века.
От прозы века наступившего Поуп скрывается в перевод Гомеровых поэм.
Успех «Илиады» обеспечил ему материальную независимость. В 1719 году
Поуп приобретает поместье в Твикенхеме, близ Лондона, где и поселяется, про¬
водя время в занятиях по саду, за собиранием камней для романтического грота,
в дружеском общении с теми, кто посещает его и к кому ездит он.
Поуп удалился от действительности. Существует версия, что его молчание
в эти годы было вынужденной уступкой первому министру Георга I - Роберту
Уолполу, державшему дамоклов меч над головой поэта-католика, друга прежних
министров, обвиненных в государственной измене.
Его творческое поведение теперь следует другой великой модели - гораци-
анской. Тихие радости поэзии, дружбы, уединения, а там, за пределами сада, бу¬
шует чужая жизнь. Ее волны иногда докатываются и обдают холодом: то педанты
придерутся к его переводам, напоминая, что греческий он знает недостаточно, то
к отредактированному им изданию Шекспира. Нападки ранят, но как бы там ни
было, английский Гомер XVIII века - это его Гомер, хотя и изъясняющийся не
в торжественной простоте гекзаметров, а рифмующимися двустишиями пятистоп¬
ного ямба - героическим куплетом, излюбленным Поупом, ставшим размером
«августинской» поэзии.
И все же раздражение накапливалось. Гораций прославился не только гимном
уединенной жизни, но и сатирами. Поуп готов и в этом ему следовать. Тем более
что обстоятельства к тому располагают.
В 1725 году разрешено вернуться из эмиграции Болингброку, правда не за¬
нимая места в парламенте, так что ему остается рассчитывать на создание внепар-
ламентной оппозиции, лидером которой он и становится. Может быть, несколь¬
ко преувеличивая, М. Мэк в своей биографии А. Поупа неоднократно говорит
о поэте как о ее «совести». Во всяком случае, он дружен со многими из тех, кто
противостоит циничному правлению Уолпола, а как поэт именно теперь он берет
в руки бич сатирика.
В 1726 и 1727 годах в Лондоне побывал Свифт. Результатом первого же посе¬
щения стали «Путешествия Гулливера», изданные не без участия Поупа.
Вечер пятый. Англия
433
Затем в четырех томах печатаются творения Мартина Скриблеруса,
а в 1728 году - первый вариант «Дунсиады». По-русски название этого сатири¬
ческого эпоса значит «Тупициада». Позже она будет дополнена четвертой ча¬
стью и полностью напечатана за год до смерти писателя.
В обрамлении этой поэмы знаменательно протекает последний этап жизни
Поупа, выступающего теперь в роли нравописателя: сатиры в подражание Гора¬
цию, Донну, сатирические послания1. И как кульминация - «Опыт о человеке».
Если более ранние его произведения были связаны единством развития, по¬
следовательностью восхождения к целям возрастающей сложности и значитель¬
ности, то теперь - единством замысла. Поуп говорил, что «Опыт о человеке»
в том виде, как он существует, это лишь первая часть произведения того же на¬
звания, но предполагавшегося в четырех частях или книгах. Этот план исполнен
не был, но все равно Поуп писал Свифту (16.11.1733): «Мои творения в одном
отношении могут быть уподоблены Природе: они будут гораздо лучше поняты и
оценены рассмотренные в той связи, которая существует между ними, чем взятые
по отдельности... »2
От «Опыта о человеке» и в том виде, как он был завершен поэтом, тянутся
многообразнейшие связи, но первый необходимый шаг к его пониманию - уяс¬
нить для себя смысл того момента в биографии и творчестве Поупа, когда «Опыт»
возник.
Время утрат и разочарований. Вновь собирается покинуть Англию Бо-
лингброк, чьим честолюбивым намерениям не суждено осуществиться. Ясно, что
уже не приедет тяжело больной Свифт. Умирает Гей, сочтены часы Арбетнота.
Летом 1734 года, когда дописывается последнее, четвертое письмо «Опыта»,
умирает мать Поупа.
Время злобной клеветы, нападок на Поупа. Каждое его слово искажается и
перетолковывается, как было в 1732 году с посланием к Берлингтону (ставшем
впоследствии одной из пяти частей «Моральных опытов»). Даже его физические
недостатки - повод для карикатуристов, представляющих Поупа в виде обезьяны,
жалкой пародии на человека.
Тогда-то Поуп и решает ответить. Не кому-то в отдельности, но всем сразу,
сказать, каким он представляет себе человека.
Он сейчас хочет только одного - быть выслушанным непредвзято, а потому
не ставит своего имени ни под одной из частей, публикующихся отдельно, ни на
титульном листе всей поэмы в 1734 году.
1 Именно в качестве поэта-сатирика Поуп рассмотрен в первой русской монографии, ему
посвященной: Васильева T. Н. Александр Поп и его политические сатиры (поэмы 20- 40-х гг.
XVIII в.). Кишинев: Штиинца, 1979.
2 Письма А Поупа цитируются по изданию: Pope A. Correspondence. Vols. 1-5 / Ed. by
G. Sherburn. Oxford: Clarendon Press, 1956.
434
Как было и как вспомнилось
Два значимых, в полном смысле эпохальных слова - в названии поэмы. За
каждым - важнейшее философское убеждение. Первое - «опыт». Здесь прежде
всего оно подразумевает жанр, то есть форму, в которой произведение написано,
но форму важную, содержательную, что станет яснее, если слово не переводить,
а оставить в первоначальном английском, точнее, французском его звучании -
«эссе». На современном языке этот термин обозначает род очерка, жанра более
привычного русскому читателю. Эссе субъективнее: интерес в нем сосредоточен
не столько на том, что я, автор, вижу, а - как я воспринимаю увиденное, что я ис¬
пытываю. Эссе ведь и значит по-французски - «опыт».
Этот жанр необычайно распространяется в начале XVIII века, и именно
в английской литературе, бывшей тогда провозвестницей перемен. А перемены
открывались благодаря новому взгляду на мир, на место в нем человека - вот и
второе слово из названия поэмы. Человек, испытующе всматривающийся в дей¬
ствительность, в самого себя и по мере испытания убеждающийся в силе своего
разума. Таким в философии его утвердил Локк, в поэзии - Поуп.
Прекраснодушный оптимизм никогда не отличал Поупа, что и странно было
бы ожидать от друга доктора Свифта! Ни современная эпоха с ее научными от¬
крытиями, ни современный человек, деловой и здравомыслящий, не приводили его
в восхищение. Его острый взгляд различал не радужные перспективы обещанного
прогресса, а вечные и сегодняшние заблуждения, не позволяющие человечеству
устремиться к совершенству.
Тем неожиданнее было узнать, что именно он автор «Опыта о человеке»,
ставшего гимном человеческому величию, утверждаемому вопреки слабостям,
вопреки всем темным сторонам человеческой природы, на которые Поуп не за¬
крывал глаза. Он просто решился доказать, что человек велик - несмотря ни на
что.
«Опыт» был принят восторженно, в том числе и многими литературными
врагами Поупа. Прием сработал: те, что превознесли произведение анонима, не
могли пойти на попятный, установив авторство Поупа. Однако были и такие, что
не успели высказаться в первый момент. За ними возможность критического су¬
ждения.
Осудили несамостоятельность поэмы. Во-первых, ее сочли плодом филосо¬
фических бесед с Болингброком, рукой которого был якобы написан ее полный
прозаический план. Во-вторых, и это не вызывает сомнения, поэма вобрала в себя
нравственно-этическую мысль от античности до новейшего времени.
Что касается Болингброка, то Поуп не скрыл его участия, создав поэму в фор¬
ме писем к нему. Однако существовало ли между автором и адресатом полное еди¬
номыслие?
Болингброк известен своим девизом, принесшим ему крамольную славу без¬
божника. Поуп гораздо осторожнее. Он ничего не отвергает и, даже рискуя впасть
Вечер пятый. Англия
435
в противоречия, в которых его впоследствии и будут уличать, стремится к системе
мысли, способной все вместить, все синтезировать.
Отсюда и широта цитирования разнообразных источников: от Лукреция
до Фомы Аквинского, от Аристотеля до Монтеня. Это последнее имя особенно
важно, ибо оно поддержано собственно английской традицией - от Бэкона до
Локка, - к которой восходит сам метод мышления Поупа, заявленный в жанре
поэмы - опыт. Опытное познание, все проверяющее в свете рационального кри¬
тического суждения.
Поуп довел развитие мысли до современности, суммируя первые итоги про¬
светительской эпохи. Да, в Англии уже пришло время для итогов, которые для
остальной Европы явились в этот момент открытием новой философии, одним
из важнейших пособий по которой стала и поэма Поупа, приобретшая силу фи¬
лософской антологии. Вот почему ее оценил Вольтер, вот почему на ее переводе
настаивал Ломоносов! И вот почему этот перевод было так трудно напечатать,
ибо слишком многое не утратило еще пугающей новизны: и еретическая мысль о
множественности миров, и смелое утверждение достоинства человека и его права
мыслить свободно, в том числе и о предметах важных, священных.
Последующее падение интереса к поэме - следствие разочарования в просве¬
тительской мысли, ранней, еще убежденной в том, что разногласия, как бы они ни
были велики, можно примирить, как должно примирить человека с разумностью
того плана, по которому для него начертан и создан земной мир.
Усилием к синтезу, к единству проникнута поэма. Ради этого Поуп возрожда¬
ет известную с поздней античности метафору цепи существ, в которой у всего су¬
щего, у всего живого - свое назначение. Вынь единое звено, и распадется цепь: все
необходимо, все предусмотрено стройным замыслом.
Согласно ему, у человека самое важное и самое трудное место в мироздании -
срединное, все собой сопрягающее, откуда открывается полная перспектива бы¬
тия: вверх - к богу и вниз - к червю.
Но в чем, собственно, поэтическое достоинство «Опыта»? В напряженно¬
сти и в разнообразии мысли, афористически выраженной? В этом безусловно, но
не только в этом. Единство мира, представляющее собой порядок, наблюдаемый
в разнообразии, утверждается как интеллектуальное убеждение и переживается
поэтически - как новое ощущение Природы, зримой в большом и малом.
Цензуровавший «Опыт» в России архиепископ Амвросий кратко и опреде¬
ленно сформулировал, что напечатать поэму будет возможно, только если «ни¬
чего о множестве миров, коперниканской системы и натурализму склонного не
останется...». Последнее в ней, пожалуй, наиболее трудно устранимо, ибо нату¬
рализмом она пронизана, даже вопреки намерению автора, изобразившего живую
творящую Природу даже в большей мере, чем он согласился бы признать.
В «Опыте» - напоминание современникам об идеальном плане бытия.
436
Как было и как вспомнилось
Параллельно с ним в сатирах - уроки практической нравственности. Ими за¬
вершается творчество Поупа: полным изданием «Дунсиады», которому предше¬
ствует полное издание сатир. Антиуолполовский эпилог к ним вместо названия
имеет дату - 1738, время, когда Поуп прощается с далеко идущими планами по¬
литического и нравственного преобразования современности, о которой он не
изменил своего мнения, как не изменил представления о своем идеале. Только
теперь он окончательно убежден в невозможности связать желаемое с действи¬
тельным.
Время заставляет замолчать. И не одного Поупа. В 1737 году парламентский
акт о цензуре изгоняет из театра драматургов-сатириков, в том числе и молодого
Генри Филдинга, который обретет голос лишь пять лет спустя и в ином жанре -
в романе. Филдинг часто цитирует самого Поупа и тех же, что и он, античных ав¬
торов. Тех же, но иначе: Поуп современность переводил на язык вечных образов,
Филдинг включает античность в состав новой культуры, обладающей своим зако¬
ном и системой ценностей.
Мы легко понимаем и запоминаем, что огромный талант Поупа оказался
обуженным условностью форм, нормативностью мышления. Опубликовавший
в массовой серии его избранные стихи современный английский поэт Питер Леви
нашел остроумную формулу для этого распространенного мнения: представьте
себе, что Бах писал бы только для флейты.
Но все-таки Бах!
Признаем ли мы сближение этих имен допустимым, заново открывая русско¬
го Поупа?
Знакомство возобновилось: опубликованы первые монографии об англий¬
ском поэте1, читатель получает первые новые переводы. Однако не будем забы¬
вать, что мы входим в культуру стиха, долгое время остававшуюся нам неизвестной
и сегодня непривычную. Искусство сложное и значительное, а тем более на столь
долгий срок преданное забвению, едва ли раскроет себя, как только мы пожелаем
к нему приблизиться.
Но сделаем усилие и переступим через непривычность манеры, попробуем
расслышать и понять голоса, доносящиеся из эпохи, отдаленной от нас более чем
двумя столетиями. Разве не поразит нас сходство тогда бытовавших мыслей с на¬
шими, просветительских проблем с теми, которые решает XX век? Даже эстети¬
ческий консерватизм «августинской» поэзии - не созвучен ли он нашим спорам
о традиции, нашей все более ясно сознаваемой опасности, что в век стремитель¬
ных перемен (Век Разума был по-своему не менее стремительным!) мы утратим
важные ценности, что прервется связь культурная и нравственная?
1 Первая на русском языке творческая биография писателя: Сидорненко А. В. Александр
Поуп: в поисках идеала. Л.: ЛГУ, 1987.
Вечер пятый. Англия
437
И еще одно просветительское убеждение не может не поразить нас сегодняш¬
ней актуальностью: мысль о единстве мира и стремление повторить его в един¬
стве человеческого сознания, не отменяющего права на индивидуальность ни для
каждого человека, ни для каждой нации. Единство в разнообразии. И чем может
прежде всего явить свою разумность человек, как не умением договориться с себе
подобными, допуская различие мнений, нравов, обычаев?
Иначе распадется Великая Цепь Бытия, певцом которой и запомнился в своем
веке Александр Поуп.
1988
438
Как было и как вспомнилось
Лирический опыт пережитого
Джордж Гордон Байрон
Есть писатели, о которых невозможно говорить, забывая об их славе. Байрон
один из них.
«Невозможно говорить...» - в этих словах двойной смысл. Один в том, что
без славы Байрона, без его воздействия на современников и потомков непонятен
он сам, его личность во всей силе ее новизны.
А с другой стороны - «невозможно говорить...», ибо сквозь плотное кольцо
мнений, в которых - хула и восторг, все труднее приблизиться к Байрону, отделить
его от того, что в истории европейской культуры на десятилетия сохранилось под
именем байронизма.
Миф заслоняет того, о ком он создан. Колоссальная историческая тень, от¬
брошенная поэтом, поглотила многих, в ней тонет и его собственная фигура, на
которой, несмотря на ее впечатляющую яркость, все труднее задержаться взгля¬
дом.
Многие европейские поэты очутились - по своей ли воле или против нее -
внутри этого огромного теневого поля. Его, казалось, невозможно миновать, ибо
поэзия и личность Байрона в какой-то момент сделались символом современно¬
сти, требующим воплощения в каждой национальной культуре. В России «север¬
ным Байроном» был объявлен Пушкин, тем более что их узнали одновременно.
Сказывалась старая привычка - подыскивать русским именам европейские
аналоги. Привычка, давно осужденная, но неискоренимая, а в данном случае под¬
крепленная убеждением, что кто-то должен исполнить роль, без которой русская
литература не станет с веком наравне.
«Причиною этого неудачного сравнения было не одно то, что Байрона мало
знали и еще меньше понимали, но и то, что Пушкин был на Руси полным выра¬
зителем своей эпохи»1. Так В. Белинский объяснял происхождение аналогии, им
отвергаемой. Разве только в роли или в обличье английского поэта может быть
выражена современность? Еще и в сороковых годах прошлого века приходилось
объяснять, что не только и что «Пушкина должно рассматривать как Пушкина,
а не как Байрона»2.
Во всей Европе поэты должны были ощущать побуждение отделить себя от
Байрона, то побуждение, из которого родилась знаменитая лермонтовская фраза:
«Нет, я не Байрон, я - другой...».
Подражания, переложения, переводы - многоязыкий и нескончаемый поток,
сливавшийся в едином русле байронизма. Познакомься с ним тот, кто его поро-
1 Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая // Белинский В. Г. Собр.
соч. в 9 тт. Т. 6. М.: Художественная литература, 1981. С. 251.
2 Там же.
Вечер пятый. Англия
439
дил, он первым должен был согласиться: нет, не Байрон! Даже у лучших, самых
талантливых последователей тени наносились гуще, темнее, черты поэтического
облика проступали резче обобщеннее: «Душа моя мрачна...»
Мы безусловно доверяемся искренности этого признания, подкрепленного
для русского читателя совершенством лермонтовского стиха, дословно совпада¬
ющего тут с байроновским оригиналом в первой строфе, но все более и более рас¬
ходящегося с ним к финалу:
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.
Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал - теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.
(«Душа моя мрачна...», перевод М. Лермонтова)
«Кубок смерти», «яд», переполняющий душу, - от переводчика, от байро¬
низма. У Байрона в стихотворении есть и мрачная душа, и желание песни, дикой,
глубокой, которой только и способно внять исстрадавшееся сердце, именно внять,
чтобы рассеялся душевный мрак, высветлилась печаль. У Лермонтова, напротив,
мрак сгущается до безысходности, до непроницаемости1.
«Нет, я не Байрон...» И в то же время - Байрон, вырастающий до значения
символа - символа современного человека. Его портрет привыкли вычитывать со
страниц байроновских книг,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.
Эти пушкинские слова сопровождают Байрона в России, приобретая силу по¬
стоянной оценки: что пользы подыскивать формулу выражения, когда она найде¬
на, и точнее, лучше - не выразишь.
1 О лермонтовском переводе этого стихотворения см.: Финкелъ А. Лермонтов и другие
переводчики «Еврейской мелодии» Байрона // Мастерство перевода: Сб. шестой. М.: Со¬
ветский писатель, 1970. С. 169-200; Демурова Н. М. О переводах Байрона в России // Бай¬
рон Дж. Г. Избранное. 2-е изд. М.: Прогресс, 1979 (на англ. яз.).
440
Как было и как вспомнилось
0 современном романтическом герое привыкли судить по тому, что сказал
о нем Байрон; сказал, но не только - каким воплотил его в собственной жизни,
признанной, быть может, самым совершенным романтическим творением. Отсю¬
да и слава. Отсюда и оценка - личности и таланта.
Талант могучий и... однообразный
Именно таким сложился ряд оценочных эпитетов: глубокий, мрачный, силь¬
ный, даже могущественный... И в то же время - однообразный. Одним из пер¬
вых в России - в статье 1824 года - В. Кюхельбекер противопоставил «огромного
Шекспира и - однообразного Байрона»!
Завершался первый период - узнавания, прижизненного знакомства с англий¬
ским поэтом, видимым в славе и величии. Итог, и снова незабываемой поэтиче¬
ской формулой - сравнением с морем, подвел Пушкин:
Как ты, могущ, глубок и мрачен.
Как ты, ничем не укротим.
Затем пришло время преодолению байронизма и суждениям более критич¬
ным, даже когда они высказывались о тех самых качествах таланта и личности, ко¬
торые прежде вызывали изумление, поражали своей романтической новизной.
Спустя три года после стихотворения «К морю» - в 1827 году - Пушкин пи¬
сал: «Английские критики оспаривали у лорда Байрона драматический талант.
Они, кажется, правы... Байрон бросил только односторонний взгляд на мир и
природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя...»
В России в конце 1820-х годов это мнение уже имело силу всеобщего. Ред¬
ко пытались утверждать что-то иное, редко раздавался голос, диссонирующий в
общем хоре: «Одна из отличительных черт сочинений Байрона есть разнообра¬
зие... » («Сын отечества», 1829, № 15). Ответ в таком случае не заставлял себя
ждать, и ответ с требованием, чтобы говорящий «присоединил и доказательство
сей новой мысли о Байроне и опроверг таким образом всех байроновских кри¬
тиков, упрекавших его в совершенно противном качестве» («Галатея», 1829,
№17). Пушкин видел первоисточник такого мнения в английской критике.
Эта критика действительно не раз свидетельствовала об односторонности да¬
рования Байрона, иногда даже не для того, чтобы упрекнуть, но чтобы, подобно
Вальтеру Скотту, удивиться силе поэта, способного «вновь и вновь выводить на
общественную сцену один и тот же характер, который не кажется однообразным
только благодаря могучему гению его автора, умеющего находить пружины стра¬
стей и чувств в глубочайших тайниках сердца»1.
1 Скотт В. «Странствования Чайлд-Гарольда» (песнь III), «Шильонский узник», «Сон»
и другие поэмы лорда Байрона // Скотт В. Собр. соч. в 20 тт. Т. 20. М.: ГИХЛ, 1960. С. 493.
Венер пятый. Англия
441
Итак, мнение об однообразном Байроне подкреплено высокими авторите¬
тами, самой своей распространенностью. Однако не противоречит ли ему также
хорошо известная нелогичность, странность, многократно поражающая в образе
поэта? Не будем касаться тайн психологии и секретов личной жизни, ограничим
себя обликом литературным. И он далеко не прост, не однозначен у Байрона, кому
выпало представительствовать за новое искусство, быть символом романтизма.
Не странно ли слышать от поэта-романтика, что он поэтов не читает, «раз¬
ве иногда классиков: Поупа, Драйдена, Джонсона, Грея... »*? Причем среди них
высоко ценимый и всю жизнь самый почитаемый - Поуп. Современных же и
в основном романтичных он не любит, за редкими исключениями.
Как не любит и всего сентиментального, аффектированного, романтическо¬
го! Не любит в литературе, не любит в других, но более всего - в самом себе:
Байрону, казалось, доставляло особое удовольствие высмеивать сентимен¬
тальные и романтические чувства; а тем не менее день спустя он проявлял и те и
другие с силой, в искренность которой невозможно было поверить слышавшему
его предшествующие сарказмы. А он был искренен, что выдавали глаза, напол¬
нявшиеся слезами, начинавший дрожать голос и весь его вид, подтверждавший,
что он говорит и чувствует одно.
Свидетельство графини Блессингтон, знавшей Байрона в последний год его
жизни2.
Закутаться в чайльд-гарольдовый плащ, замкнуться в своем разочаровании -
подражателям это давалось много легче, чем самому Байрону; легче отрекаться от
страстей, которых нет, легче уходить от мира, когда ничто сильно не манит, не вле¬
чет в нем остаться. Однообразно мрачным и разочарованным был не Байрон, а его
подражатель-байронист, иногда - его герой, от которого автор отделен лирически
прямым и искренним признанием о своей жизни.
Вот отчего это признание особенно важно расслышать; и слова, и тон, кото¬
рым слова произнесены.
1 Байрон. Дневники. Письма. М.: Наука, 1963. С. 221. (Литературные памятники). В даль¬
нейшем сноски на это издание - в тексте: Дн., с указанием страницы.
2 Conversations of Lord Byron with the Countess of Blessington. L.: Published for Henry
Colburn, 1834. P. 45.
442
Как было и как вспомнилось
«... И жить торопится...»
Страсть проснулась во мне очень рано - так рано,
что немногие поверят мне, если я назову тогдашний
свой возраст и тогдашние ощущения. В этом, может
быть, кроется одна из причин моей ранней меланхо¬
лии - я и жить начал чересчур рано.
Байрон. Дневники
Настолько рано, что если первые отчетливые переживания и являлись в стихах,
то много позже как воспоминания. Однако и писать Байрон начал рано, и начал со
стихотворений лирических: «Мой первый опыт в поэзии относится к 1800 году.
Он был внушен мне любовью к моей кузине Маргарет Паркер <... > Она умерла
два года спустя» (Дн., 26).
Стихи о первой любви не сохранились; стихотворением на смерть кузины
обычно открывается полное собрание стихотворений поэта. В избранном же, как
и многими юношескими опытами, им легко пожертвовать.
Первая влюбленность, за которой - первые стихи... Как будто бы обычное на¬
чало. Однако в предшествовавшем романтической эпохе XVIII столетии начинали
иначе: с переводов римской классики, с пасторали, с оды, а то и с дерзкой попытки
замахнуться на эпическую поэму.
Со своими предшественниками романтики расходились самым решительном
образом, нарушая принятые поэтические приличия то излишней откровенностью
эмоционального жеста, то слишком громким, по-разговорному непринужденным
словом.
Между Байроном и XVIII веком - пусть недолгий, но уже ощутимый опыт
первого поколения английских романтиков, явившихся в литературе сразу за по¬
трясшими Европу и сознание европейцев событиями Великой французской рево¬
люции.
Вордсворт, Колридж, Мур, Вальтер Скотт - в течение каких-то пяти-семи
лет они выступили со сборниками, тесня архаистов и друг друга. Каждая новая
книга - открытие и претензия на поэтическое первенство. Однако усилия были
общими, как и направление, в котором шли, хотя каждый спешил выбрать свой
путь и закрепить его за собой.
Каждый хотел быть особенным и узнаваемым в своей особенности.
Мур избрал анакреонтику, которую вначале переводил и которой потом под¬
ражал. Теперь трудно поверить, что его стихи казались непозволительно, шокиру¬
юще откровенными.
Вальтер Скотт вначале собирал и публиковал народные баллады, затем и сам
стал писать в этом жанре, пленяя воображение колоритом прошлых веков.
Вечер пятый. Англия
443
Что же касается Вордсворта и Колриджа - они-то и были первыми, недолгое
время (вместе с Р. Саути) составляя литературную группу, известную как «озер¬
ная школа». Вордсворт оставил за собой в поэзии «припоминание эмоций» и
выражение их языком простым, соответствующим речи и опыту селянина, только
слегка подсвеченным воображением. Свободный полет фантазии в область таин¬
ственного и сверхъестественного демонстрировал Колридж.
Все были непохожи друг на друга. Это их и роднило. Они настаивали на своем
праве оставаться непохожими, чувствовать по-своему, писать об этом от первого
лица, не утаивая своего голоса, своей личности. Черта истинно романтическая! -
ведь и само слово «романтический» первоначально означало все странное, при¬
чудливое.
В момент своего явления перед читателем Байрон проигрывал своим старшим
современникам именно в этом, романтическом, качестве: он не закрепил за собой
никакой значительной роли, не создал запоминающейся оригинальностью маски
и в предисловии к сборнику «Часы досуга» честно признавался, что, не подражая
никому в отдельности, следовал многим.
«Часы досуга», напечатанные летом 1807 года, третья книга начинающего
автора, но первая - под своим именем. Предшествующие (все три вышли на про¬
тяжении полутода) были анонимными. Именно анонимность маски навлекла на
себя гнев авторитетнейшего литературного журнала - «Эдинбургского обозре¬
ния», к романтикам вообще не расположенного.
В начале 1808 года на его страницах появилась рецензия, не подписанная, по
обычаю того времени, но, как принято считать, принадлежащая перу одного из
основателей журнала, литератору, впоследствии известному общественному де¬
ятелю лорду Бруму. Рецензия была разгромной. В немалой мере она оказалась
спровоцированной предисловием.
В нем, обращаясь к читателю, автор сборника просит о снисхождении к его
незрелым опытам, просит как будто бы смиренно, но это смирение паче гордости.
Снисходительным, видите ли, читателю следует быть потому, что для автора (не¬
однократно напоминающего о своем аристократическом титуле) поэзия не есть
дело жизни, но плод часов досуга (чем и объясняется название его стихотворной
книги).
Ознакомившись со стихами, критик согласился, что они соответствуют пред¬
упреждению - действительно незрелы, неоригинальны. Однако в снисхождении
отказал и тем более, что автор не считает поэзию за важное дело: зачем в таком
случае обременять читателя, сохраните ваши писания для узкого крута благосклон¬
ных (о том, что они именно таковы, мы знаем из того же предисловия) друзей.
Критика была резкой, но во многом справедливой. Она не была проницатель¬
ной. Байрон сделал первую и самую неудачную свою попытку создать по примеру
444
Как было и как вспомнилось
других романтиков образ-маску: юноши-поэта, поэта-аристократа. Образ выпи¬
сывался с использованием новейших романтических мотивов: в приверженности
родовому замку было нечто от вальтерскоттовского средневековья, в пристрастии
к воспоминаниям - от присущей Вордсворту мечтательной самопогруженности...
В стихах желаемый образ еще намечен слабо, поэтому он заострен в предисло¬
вии. Маска получилась уязвимой и несколько комичной, по ее слабостям и при¬
шелся удар критика.
Он не захотел увидеть, что содержание книги все-таки серьезнее того, что
обещано в предисловии, не все стихи так уж мало оригинальны. Сегодня тем более
мы не можем считать рецензию объективной по отношению к таланту Байрона,
взятому не только в его зрелом развитии, но и на тот момент, когда вышли «Часы
досуга», ибо не все уже написанное они вместили в себя.
В 1807 году Байрону девятнадцать. И, как мы можем судить по его стихам,
письмам, именно теперь он перерастает юношескую несамостоятельность. Завер¬
шается начальная пора. Может быть, поэтому-то он и выпускает поспешно, один
за другим, поэтические сборники. Первый вышел и по совету старшего друга -
уничтожен. Вслед ему появляются второй, третий... И каждый все равно не по¬
спевает за внутренним развитием, не снимает мучительного ощущения невыгово-
ренности.
Почти одновременно с выходом «Часов досуга» Байрон пишет рецензию на
сборник Вордсворта.
Признавая поэтический дар, Байрон сожалеет о незначительности тем, на ко¬
торые этот дар растрачивается, укоряет старшего поэта в «ребячестве». И тут же
сам является со сборником «детскихвоспоминаний»!
Конечно, возраст поэтов разный, и Байрон может еще чувствовать собствен¬
ное право ребячиться, не признавая его за почти что сорокалетним человеком.
И все же не возраст главное. Байрон иначе пишет свои воспоминания: для него
вспоминать не означает перевоплощаться в ребенка, тем более подделываться под
его тон, в чем он не раз упрекает и еще упрекнет Вордсворта.
Его собственный поэтический взор, обращаясь в прошлое, не размывает
воспоминаний избытком эмоции и чувствительности. Эмоциональная несдер¬
жанность претит Байрону. Он может быть и чувствительным, и ироничным, но
в любом случае его память точна и предметна, ею владеет не отвлеченный идеал
детскости, а реальное - собственное детство, отрочество, юность: родовое по¬
местье в Ньюстеде, подвиги предков, друзья по школе в Гарроу, по университету
в Кембридже...
И очень рано - первые влюбленности. Любовь, которую впоследствии сочтет
единственной, - к Мэри Чаворт. Стихи, к ней обращенные, проходят через все
творчество. Первые из них - «Отрывок», «Воспоминание» - помечены 1805 и
1806 годами, но в «Часы досуга» они не попадают, печатаются после смерти поэта.
Вечер пятый. Англия
445
Подлинное чувство - не для чужих глаз. Это убеждение нередко и впослед¬
ствии заставляет Байрона воздерживаться от публикации, а тем самым скрывать от
читателя черту, отличительную для его поэзии, для его дара. Байрон не умел при¬
думывать чувство, даже воображать его. Вероятно, это было бы серьезным недо¬
статком для другого поэта, но не для Байрона: ему, успевшему так много пережить,
перечувствовать, - вымысел становился ненужным. Это он и сам не сразу понял.
Не сразу пришел к убеждению, что стихи как бы любовные, а по сути - альбом¬
ные, ни к чему не обязывающие, скрывающие простые светские знакомства или
легкие увлечения под условно-вымышленными именами Эммы, Каролины, - не
для него. Стихи такого рода преобладают в первых сборниках.
Начальная пора, какой мы ее сегодня имеем возможность представить, отлича¬
ется от того, что знали первые читатели. Мы отбираем лучшее, опуская множество
безделок, мастером на которые Байрон не был, хотя и увлекался ими в юности не
без влияния изящной и именно тогда бывшей в моде анакреонтики Томаса Мура.
Пожалуй, Байрон был более удачливым последователем не анакреонтическо¬
го Мура, а элегического Грея. Его влияние очевидно. Оно сказывается и сюжетно:
прощание со школой, созерцаемой в отдалении, размышление на кладбище, - и
формально, выбором так называемой элегической строфы (четыре строки пя¬
тистопного ямба с перекрестной рифмовкой), которая на несколько десятилетий
соединилась с жанром элегического размышления над бренностью жизни - в духе
Томаса Грея. Правда, в собственных элегиях Байрон все чаще отказывается от
обязательного в поэзии XVIII века ямба ради трехсложных размеров, возможно,
в них видя более точное соответствие форме античной элегии.
Певец Эммы, «философ в осьмнадцать лет», а одновременно - подражатель
античных поэтов (следы классического образования) и поэтов новых (знак увле¬
чения романтизмом) - таков Байрон в «Часах досуга», в этом «собрании полиг¬
лота»1. Литературное многоязычие на лицо, одно неясно, какой язык родной для
начинающего поэта, что он выбрал для себя: традиционного Горация, сравнитель¬
но недавно вошедшего в моду Катулла или все еще не переставшего казаться по¬
следним словом в поэзии - таинственного Оссиана?
От XVIII века - против которого и бунтовали так яростно именно потому,
что он сделался чужим, но не перестал быть живым противником, - в невольное
наследство перешла привычка мыслить литературными образцами: жанр, тема,
настроение - все вызывало конкретную ассоциацию. Привычка не утратила сво¬
ей силы, и если что-то менялось, то прежде всего набор основных образцов для
подражания. Выбор превращался в дело индивидуальное, и тем самым совершался
первый шаг из-под власти обязательных авторитетов.
1 Calvert W. /. Byron: Romantic Paradox. N.Y.: The University of North Carolina Press, 1962.
P. 76.
446
Как было и как вспомнилось
Среди английских романтиков Байрон едва ли не единственный, кого не толь¬
ко не тяготит наследие предшествующей эпохи, но кто ощущает его как «сладост¬
ное бремя» традиции, с готовностью признает величие Александра Поупа. Урок
классической образованности был усвоен особенно твердо, что вначале не могло
не обернуться подражательностью, склонностью варьировать известные литера¬
турные мотивы.
И в зрелые годы Байрон не изменит Поупу, но тогда он будет иметь доста¬
точно силы и самостоятельности, чтобы следовать, не подражая. К тому време¬
ни Байрон поймет, что не только жанр литературных вариаций не для него, но и
сами строгие классические формы, сколь бы они ни были прекрасны, вызывают у
него раздражение. В дневнике за 1813 год есть признание: «Читал кое-что по-ита¬
льянски и сочинял два сонета о **. До сих пор я написал всего один сонет, и то не
всерьез, много лет назад, в виде упражнения - и больше не напишу. Это - самые
плоские, писклявые, идиотски платонические писания» (Дн., 78-79).
А еще через три года он ответит на просьбу Мура откликнуться стихами на
смерть девушки: «Но как писать о ком-то, кого я никогда не видел и не знал?
К тому же вы сами можете сделать это гораздо лучше. Я не способен писать без
какого-то личного опыта...» (Дн-,110).
«Лорд Байрон не в меру эмпиричен»1 - одна из многих оценок его таланта
Гете. Гете высоко ставил Байрона и особенно его знание «людей и света», но для
него, завершавшего вторую часть «Фауста», где перспектива человеческой исто¬
рии - с высоты птичьего полета, не казался ли Байрон слишком сиюминутным,
слишком поспешно откликающимся эпиграммой, одой, сатирой на происходя¬
щее?
Байрон же не мог и не хотел иначе: без этой непосредственности отклика сло¬
во теряло для него смысл. «Все прочее - литература», то есть то, что он не просто
не любил, но ненавидел.
В «Часах досуга», если судить Байрона по законам, им же самим над собой (но
несколько позже) признанным, слишком много «литературы». Однако уже угады¬
вается и источник будущей поэтической силы. Жизненный факт не тяжелит стиха.
Напротив, только там, где есть подлинное в переживании, начинается и подлинная
поэзия. И именно в это время Байрон начинает понимать себя, свой талант. «Часы
досуга» не успевают за этим пониманием, за развитием молодого поэта.
Тем самым месяцем - июнем 1807 года, когда появляется сборник, помечено
оставшееся за его пределами стихотворение, название которого непросто пере¬
вести на русский язык, - «То romance». У Брюсова - «К Музе вымысла», что
перефразирует оригинал, но делает это достаточно точно.
1 Эккерман И. 17. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М.: Художественная ли¬
тература, 1981. С. 181.
Вечер пятый. Англия
447
Однако более чем перевод, смысл названия прояснит контекст, в который не¬
обходимо вписать это стихотворение и в котором оно возникло. Ему родственно
многое: от «Богов Греции» Шиллера до тютчевского «Нет веры вымыслам чу¬
десным... ». Быть может, Брюсов - знаток Тютчева - как раз и пошел за первой
строкой его стихотворения, переводя название у Байрона? Всех роднит сожале¬
ние о том, что мир утратил идеальное состояние, при котором «жизнь и поэзия -
одно».
Поэта томит прозаичность современного мира и рассудочность человека. Для
романтика свойственно ощущать себя, по выражению В. Скотта, «последним ме¬
нестрелем», по выражению Баратынского - «последним поэтом». Он отвращает
взор от реальности вокруг него и ловит хотя бы отблеск иной жизни, прекрасной,
одухотворенной и отошедшей в область сновидений.
Это, собственно, и есть ситуация романтического конфликта, под знаком ко¬
торого сущее неприемлемо, идеал несбыточен. И Байрон - в этой традиции мыш¬
ления, но, как часто с ним бывает, - особняком. От романтика как будто бы есте¬
ственно ожидать, что утраченное в реальности он попытается компенсировать
фантазией, предпочитая подлинному - вымышленное, гнетущему опыту - «нас
возвышающий обман». В этом смысле необычным получилось прощание Байрона
с Музой вымысла:
Я чужд твоих очарований,
Я цепи юности разбил,
Страну волшебную мечтаний
На царство Истины сменил.
(Перевод В. Брюсова)
Прощание в его устах не прозвучало трагически вынужденным, уступкой не¬
избежному. Здесь-то и вспоминаются слова, сказанные Гете: « ...не в меру эмпи¬
ричен». Когда же современный исследователь говорит о «стремлении Байрона
к истине»1 как о черте таланта, то он практически цитирует самого поэта из выше
приведенного стихотворения, сделавшегося программным.
Уход, а то и бегство от действительности - привычное выражение; именно так
мы и представляем жизненную позицию романтика. Куда угодно: в мир мечты,
в прошлое, на край света, - но только - подальше от того, что есть. Вот и Бай¬
рон засобирался на Восток, к экзотике Средиземноморья. Маршрут уже при¬
вычный в романтической литературе, только, в отличие от Байрона, его обычно
проделывают, не выходя за порог своего дома, путешествуют на крыльях фан¬
тазии.
1 Marchand L. A. Byron's poetry: A Critical Introduction. Boston: Houghton Mifflin, 1965.
P. 16.
448
Как было и как вспомнилось
И цель, обозначенная Байроном, необычна: незадолго до отъезда он опове¬
щает своего поверенного, что едет не затем, чтобы забыться и отвлечься, а узна¬
вать - новый для себя мир, его нравы, его политику. Ведь не поэтом видит себя
Байрон в будущем (дело, с его точки зрения, и малопочтенное, и малополезное),
но оратором и политиком.
Можно, конечно, предположить, что юный лорд просто подыскивает благо¬
видные и основательные аргументы в пользу путешествия, однако уже сам факт,
что он в него действительно собирается и отправляется, тоже незауряден! То, что
другие воображали, Байрон совершал. В этом его пленительное отличие: он сделал
невозможное - прожил романтическую жизнь, это во-первых, а поэзия, литерату¬
ра - это для него во-вторых.
Отсюда и редкая возможность в творчестве - следовать как будто бы неро¬
мантическому принципу: писать по опыту, предпочитая его воображению.
Итак, путешествие! Но прежде - одно литературное событие.
В предисловии к «Часам досуга» Байрон обещал принять любую критику
со смирением. В таком случае - он плохо знал себя. Уже несколько месяцев он
работал над поэмой о современной поэзии, которая на дрожжах враждебной
критики превратилась в сатиру - «Английские барды и шотландские обозрева¬
тели».
Если, предваряя сборник, начинающий стихотворец сетовал на то, как трудно
быть оригинальным в век столь богатый талантами, то в сатире об этом ни полсло¬
ва. На удар, нанесенный юношескому честолюбию, - удар современной литерату¬
ре. Досталось всем.
Скандал, к счастью, не застал Байрона в Англии (как и вызов на дуэль, послан¬
ный ему оскорбленным Томасом Муром) - поэт отбыл в двухгодичное путеше¬
ствие. Вернувшись, он признает, что сатира вышла из-под пера очень рассержен¬
ного молодого человека, и принесет извинения.
Узнаваемый заново
Каким бы обширным ни был приобретенный Байроном опыт, сначала, навер¬
ное, казалось, что его литературный вкус совершенно не изменился. Вернулся он
с прежней неприязнью к современной литературе и литераторам, с той же почти¬
тельной любовью к Поупу.
Это по меньшей мере странно на фоне романтического преклонения перед
Шекспиром, по отношению к которому Байрон сохранял дистанцию, боясь под¬
пасть под его влияние и разделить всеобщую участь. Он отдавал предпочтение
строгой классичности и как плод двухлетних трудов предъявил друзьям стихот¬
ворное рассуждение - «Из Горация», чем немало их разочаровал. К счастью, этот
Вечер пятый. Англия
449
плод не был единственным - две первые песни «Паломничества Чайльд-Гароль-
да» вызовут восторг друзей и прославят имя Байрона как первого по значению
романтического поэта.
Байрона узнавали заново, и знакомство было для многих неожиданным.
Все-таки он романтик, вопреки неприязни к романтизму, вопреки своим вку¬
сам и любви к Поупу! Но как примирить одно с другим?
Родство Байрона с предшествующим веком яснее в принципах собственно
поэтических, чем в его часто предполагаемом родстве с просветительским рацио¬
нализмом. Прямым его продолжателем Байрон не был, безусловной веры в разум¬
ность человека, якобы способную сделать его счастливым, не разделял: древо зна¬
ния для него не есть древо жизни (о чем и сказано в начале драматической поэмы
«Манфред»). Вот в значение поэзии, в то, что ей надлежит иметь общественную
роль или не существовать вовсе, - в это он верил безусловно и без этой веры не
стал бы предаваться стихотворству.
Романтик ищет самовыражения, настаивает на своей индивидуальности. Сила
и особенность личности Байрона такова, что на ней и настаивать не нужно, ее не
приходилось подчеркивать - она и без того поражала. Романтик в жизни, Байрон
мог себе позволить пренебречь романтизмом в поэзии, может быть, именно пото¬
му сумев выразить новый строй ощущений с такой небывалой силой всеобщности.
Сказался урок, усвоенный у Поупа, считавшего делом поэта сказать то, что знают
и чувствуют все, но никто не умеет сказать так хорошо, как он.
В «Чайльд-Гарольде» романтическое мироощущение, являвшееся у предше¬
ственников и современников различными гранями, почти неуловимо веявшее на¬
строением, фантазией, обрело зримость, наглядность, ибо вошло в плоть и кровь
героя-персонажа. Чайльд-Гарольд цельно и законченно вобрал в себя рассеян¬
ные до того романтические черты, которые замкнулись в нем единством биогра¬
фии. В биографии героя читатели увидели сходство с жизнью автора и отождест¬
вили их.
Это было заблуждение, но уничтожить его не могли никакие авторские воз¬
ражения и протесты. Разве замок Чайльд-Гарольда, некогда бывший монастырем,
разве его рассеянный образ жизни в этом замке не напоминают Байрона в Нью-
стеде? Разве путь паломничества героя не совпадает с маршрутом восточного пу¬
тешествия автора, а поэма в таком случае разве не превращается в слегка беллетри-
зованный, облаченный в стихотворную форму дневник путешествия?
Байрон отрицал автопортретность героя, хотя, угадываемая читателями, она
способствовала популярности Чайльд-Гарольда и лишний раз подтверждала его
право явиться в роли современного человека.
Байроновское отрицание пришлось повторять едва ли не всем поэтам, подо¬
зреваемым в том,
450
Как было и как вспомнилось
Что намарал я свой портрет.
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.
Едва ли Байрона утешало, что не он один подал повод к такого рода смеше¬
нию, как он мог убедиться, например, слушая гида в Швейцарии, сопровождав¬
шего по местам романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза»: «Наш гид все время
толковал о Руссо и все время путал его с Сен-Пре, не отличая автора от книги»
(Дн., 126).
Смешение, всегда легко возникающее в воспринимающем сознании из-за же¬
лания добавить правдоподобия полюбившемуся вымыслу, а что проще, чем запо¬
дозрить автора причастным к описываемым событиям. И тем более, если автор
позволил себе хотя бы частично отразиться в герое. Читатели были правы, когда
ощущали, что каким-то новым и непредсказуемым образом автор присутствует
в своем творении. Возникало произведение, небывалое по своему жанру. Позже
его назовут лироэпической поэмой.
И сегодня лучшая работа о ней на русском языке - давняя статья Б. Кузьмина1.
Однако новизна формы и даже характер этой новизны верно был замечен уже со¬
временниками. Пропадало ощущение последовательности, правильности в строе¬
нии поэмы, то есть возникало впечатление, которое очень проницательно выразил
русский журнальный критик, сказав, что в поэмах Байрона «нет риторической
связи» («Сын отечества», 1829, № 15).
Об этом же, в сущности, говорил и сам Байрон, когда в предисловии к «Па¬
ломничеству Чайльд-Гарольда» обещал в нарушение обычных законов компози¬
ции не стремиться к правильности повествования, которое у него связывается
только присутствием героя, последовательностью его впечатлений.
Это внешний прием, но есть в поэме более важное внутреннее единство.
В русском переводе этого места из предисловия Байрон дает понять, что «на¬
мерен допускать отступления». Таким образом сказанное подгоняется под имею¬
щийся у нас термин - «лирическое отступление».
Термин - вещь упрямая. Раз найдя, мы начинаем повторять его вплоть до на¬
вязывания автору, будто бы он сам так сказал. А он так не говорил. И не мог ска¬
зать, ибо этот школьный термин не очень точен по своей сути, ибо он предпола¬
гает автора лицом эпизодическим, время от времени мелькающим на периферии
сюжета. Ясно, что это не так.
1 Кузьмин Б. А. Жанр лиро-эпической поэмы Байрона // Кузьмин Б. А. О Голдсмите,
о Байроне, о Блоке... М.: Художественная литература, 1977. С. 37-71.
Вечер пятый. Англия
451
Эпизодичен (и чем далее, тем более) герой, а не автор, присутствием кото¬
рого (и опять же - в гораздо большей мере, чем присутствием героя) создается
внутреннее единство произведения. «Риторическая связь» была бы обязательной
в строгом жанре эпической поэмы, но Байрон изменил жанр, и лирика у него не
отступление, а новый тип связи.
Отождествлением автора с героем откликаются на новизну жанра, не умея его
понять и воспринять. В глаза бросается, что автор присутствует в поэме, что он
отразился в герое, от которого - мимо этого и проходят! - он отделяет себя оцен¬
кой со стороны, не признавая в нем полного единомышленника, не говоря уже
о своем идеальном автопортрете. Да, автор отразился в герое, но и герой отражен,
отрефлектирован им.
Первая песнь «Чайльд-Гарольда» обрамлена двумя вставными лирическими
фрагментами, отличными от остального текста, написанного строгой спенсеро¬
вой строфой1. Это «Прощание Чайльд-Гарольда» и «Инесе». Первоначально
в качестве второй вставки предполагалось одно из лучших стихотворений этого
времени - «Девушке из Кадикса», но потом Байрон его снял, и оно печатается
отдельно.
Смысл замены понятен: «Инесе» - унылый глас разочарованной чайльд-га-
рольдовой души; «Девушке из Кадикса» - стихотворение в приподнятом герои¬
ческом тоне, который никак не в характере героя.
Но в характере самого Байрона! И именно на этой ноте, диссонирующей с об¬
ращением к «Инесе», написаны последние строфы песни - с лирической прямо¬
той обращения от автора, от Байрона. Сильный героический финал - обращение
к городу Кадиксу, воплощающему дух несломленной, продолжающей сопротив¬
ление французскому нашествию Испании: «Напрасно враг грозил высоким сте¬
нам... » (перевод В. Левика).
Обрамлением лирических фрагментов Байрон поддерживает иллюзию того,
что все описываемое проходит сквозь разочарованное сознание героя. Иллюзия
создается и тут же опровергается - постоянным присутствием Байрона, но не под
видом героя, а отдельно от него.
Лирика - стихия поэмы, ее смысловой тон, постоянно действующая оценка,
в луче которой и возникает иногда, действительно эпизодически, тот чьим име¬
нем она названа. В предисловии к четвертой песне Байрон предупредит о почти
полном исчезновении героя в ней, ибо «я устал проводить разделительную черту
между нами, которой все, кажется, решили не замечать».
Поэма пропитана лирикой. Первые две ее песни печатаются весной 1812 года
вместе со стихами, под которыми точные даты, в названиях - события, имена
1 Строфа, впервые введенная поэтом Возрождения Эдмундом Спенсером, состоит из де¬
вяти строк (восемь - пятистопный, последняя - шестистопный ямб) при следующем характере
рифмовки: абаббсбсс.
452
Как было и как вспомнилось
встреченных людей. Можно было бы говорить о лирическом дневнике, если бы
стихов не было так мало - около двух десятков, считая мелочи. Слишком разроз¬
ненные дневниковые странички, если судить только по лирическим стихам. Но это
ненужное ограничение: не будем отделять лирику от поэмы. Тогда впечатление о
лирическом голосе будет полным и значительным.
В России Байрона-лирика даже прежде, чем по стихам, узнавали по фрагмен¬
там из «Чайльд-Гарольда». Были эпизоды особенно любимые, переводившиеся
русскими поэтами на протяжении всего XIX века многократно: строфы о море,
о смерти гладиатора, прощание героя...
Значит, лирическая природа поэмы не осталась незамеченной, неоцененной.
Труднее давалось другое: понимание целого, понимание отношений автора и
героя. Вот почему первоначальное знакомство с поэмами Байрона нередко про¬
исходило по частям: лирика отдельно, сюжет отдельно. Именно так случилось
в России, где наряду с лирическими фрагментами из «Чайльд-Гарольда» являлись
прозаические пересказы восточных поэм.
Такие пересказы на русский язык печатались, на французский - оставались
в рукописи. Первая публикация из «Байрона» в России - прозаическое изложе¬
ние эпизодов из «Корсара» в «Российском музеуме» (1815, № 1 - напомню, что
и года не прошло со времени журнального дебюта Пушкина!).
К числу самых ранних фактов знакомства с Байроном в России - к тому же на
языке оригинала - принадлежит оставшийся в рукописи прозаический дословный
(mot à mot - значится в названии) перевод из «Гяура», список которого, сделан¬
ный в 1818 году рукой Н. Раевского-младшего, сохранился в бумагах Пушкина.
И сам Пушкин начал перелагать ту же поэму французской прозой и русскими сти¬
хами1 - вероятно, результат его занятий английским языком под руководством все
того же Раевского в Петербурге, до южной ссылки поэта.
Это все свидетельства растущей славы Байрона, но одновременно и того, что
первое прочтение не было самым верным. В слепящем свете славы первые чита¬
тели не различали деталей, хотя бы и важных, полутонов, в которых - авторская
оценка. Для упустивших ее образ Байрона начал сливаться с портретом романти¬
ческого героя. Однако сам портрет настолько привлек внимание, спрос на него
был так велик, что его спешили копировать, не замечая обрамляющей его оценки.
А когда через несколько лет романтическая эпоха начала клониться к своему за¬
кату, когда созерцанием портрета вполне насытились, то к автору же и обратили
упрек в однообразности, в том, что он вывел один характер, списав его с самого
себя.
1 Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты / Подгот. к печати и ком-
мент. М. А Цявловский, А Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.; A: Academia, 1935. С. 27-29.
Вечер пятый. Англия
453
Трудно сказать, о чем более говорит это заключение: о том, каким был создан
характер романтического героя у Байрона, или о том, как он был прочитан совре¬
менниками.
В поэмах Байрон оказался понятнее: легче воспринимался герой в повество¬
вательном сюжете, чем в лирическом монологе. Об этом в свое время очень точ¬
но писал Ю. Тынянов: «Литературная эволюция связана со сменою установки и
сменою "поэта”, "лирического героя” - "монологиста”, от имени которого ведется
лирическая речь и который затем переходит в поэзию как тематический материал,
как литературная личность»1.
Вырванные в цитату тыняновские термины нуждаются в некотором раскры¬
тии: речь как раз и идет о том, что, первоначально выраженное от лица автора,
в его лирическом монологе романтическое мировоззрение обладало всей полно¬
той литературной новизны. Следующим шагом развития было отделение этого
мировоззрения от авторского, передача его герою, в чьем выражении оно под¬
тверждается биографией, поступком. Теряется новизна впечатления, но приоб¬
ретается понятность, и вначале доступное немногим становится гораздо более
широким литературным достоянием - путь открыт для подражателей, эпигонов:
«...неминуемо, когда "герой-монологист” становится тематическим материалом,
он приобретает условные черты, а условность эта используется стилизаторами и
приводит, рано или поздно, к гибели "героя”, к смене его другим»2.
Романтик
Тиражирование байронического героя создало байронизм, от которого и те¬
перь еще так трудно отделить Байрона. Герой заслонил автора. По отношению к
творчеству ту же формулу можно выразить так: поэма заслонила лирику. А внутри
жанра поэмы: повествовательное, фабульное начало возобладало над лирической
оценкой.
Все это произошло еще при жизни Байрона, в восприятии его первых чита¬
телей, инерция которого сохраняется и по сей день. Увиденный таким образом
Байрон выглядит однообразным. И, по крайней мере, более однообразным, чем
он и его поэзия были в действительности.
Заново прочитать Байрона сегодня в значительной мере означает увидеть его
лириком.
Сейчас даже в специальных работах встречаются характерные неточности:
«Как и в восточных поэмах, в стихах к Тирзе потеря возлюбленной воспринимает¬
ся одиноким героем как утрата единственного утешения... »3.
1 Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М.: Наука, 1968. С. 125.
2 Там же.
3 Дьяконова Н. Я. Лирическая поэзия Байрона. М.: Наука, 1975. С. 96.
454
Как было и как вспомнилось
Все сказанное верно, но почему в такой последовательности? Лирический
цикл «К Тирзе» на год опережает начало работы над восточными поэмами, и сле¬
довало бы сравнивать в таком порядке: «В восточных поэмах, как и в цикле сти¬
хотворений “К Т ирзе”...»
Мелочь? Да, но мелочь эта - осколок убеждения очень устойчивого, убежде¬
ния в том, что лирика важна, но она как бы комментарий к главному, «лирическое
отступление».
«Лирика Байрона - спутник и провожатый его больших поэм и трагедий»1.
Прекрасное начало одной из лучших на русском языке работ о поэзии Байрона.
Провожатый - значит, ведущий, указывающий. И все-таки даже Н. Берков¬
ский в гораздо большей мере говорит о лирике как о ведомом, о том, как «дра¬
мы его и трагедии осенили собой и лирику, приобщили ее к замыслам, в них вло¬
женным...»2. Все в этом отношении очень верно, как, например, мысль о том,
что «фрагмент эпоса» становится для романтиков одной из самых действенных
разновидностей лирики: наблюдение восходит к Тынянову, но толкуется широко
и на ином материале.
Однако для романтического мышления очень важно понимание и другой за¬
кономерности, направленности движения: от лирики, от эмоциональной реакции
на мир. Лирика как провожатый.
С цикла «К Тирзе» начинается для Байрона новый период, лондонский, -
время славы, наступившее с публикацией первых песен «Паломничества Чайльд-
Гарольда». В этом цикле, в начале лирически, Байрон дает выход романтическо¬
му пониманию любви. Потом, уже в поэмах, возникает обязательный сюжетный
ход, неразрывно соединивший любовь и смерть. Рвется последняя связь героя с
миром, гаснет последняя надежда - призрак счастья. Любовь обречена. Против
нее злая воля людей, зависть богов. И, быть может, всего безнадежнее она обре¬
чена в самом герое: «О, как убийственно мы любим...» Этим тютчевским словам
у Байрона есть немало соответствий.
В стихах «К Тирзе» последний мотив еще не проявлен, но смерть и любовь
соединились. Был ли к тому реальный повод?
Мы его ожидаем от поэта, именно теперь в дневниках, в письмах свидетель¬
ствующего, что не может писать без личного опыта, а еще ранее, в начале своего
пути, подтвердившего, что самый для него сильный повод поэтического вдохно¬
вения - случившееся в реальности, пережитое. Казалось бы, в этом случае путь
к поэтическому совершенству - путь к себе, а ее развитие - рост личности.
Это в целом так, но не столь прямолинейно. Для Байрона особый смысл при¬
обретает возможность оценить себя, выразить и оценить, увидев со стороны (он
1 Берковский Н. Я. Лирика Байрона // Байрон Дж. Лирика. М.; Л.: Художественная лите¬
ратура, 1967. С. 5. (Сокровища лирической поэзии).
2 Там же. С. 12.
Вечер пятый. Англия
455
не раз говорит о своих недостатках, которые единственно чем искупаются отча¬
сти, так это тем, что он их все знает). Так уже было в «Чайльд-Гарольде», где в
герое узнается автор, но далеко не до конца, не зеркально отраженный. Великий
романтик и убежденный противник всего романтического, Байрон не удовлетво¬
ряется тем, чтобы дать выражение романтическому строю чувств. Он этот строй
объективирует: в поэмах - в образе героя, в поэтических циклах - в самой ситуа¬
ции, развившейся из его опыта, из его ощущения, но не обязательно имеющего
прямое биографическое соответствие.
Чем более он романтик в своих поэтических высказываниях, тем менее он
лично, биографически узнаваем. С его нелюбовью к аффектации, эмоционально¬
му самообнажению - всему тому, что нарушает тон сдержанности даже для силь¬
ных и глубоких чувств, Байрон должен был отдалить от себя сказанное настолько,
чтобы оно становилось принадлежащим ему и в то же время не ему, чтобы между
его биографическим «я» и звучащим словом обозначилась условная фигура го¬
ворящего - «лирического героя». Этот термин в данном случае полезен, чтобы
представить процесс лирического остранения. Думается, это именно то, что про¬
исходит в стихах, обращенных к Тирзе. Иногда пытаются угадать прототип, за ус¬
ловным именем (по указанию поэта - восходящим к Библии) - «безымянную»
или «утаенную» любовь. Ситуация, знакомая русскому читателю - по Пушкину,
и не аналогичная ли байроновской?
Связь между жизнью и поэзией здесь существует, но не прямая, опосредован¬
ная вымышленным образом, за которым - настроение и атмосфера первых меся¬
цев после возвращения Байрона в Англию.
1 августа 1811 года умирает мать поэта; затем в августе - сентябре он получа¬
ет одно за другим три известия о смерти друзей по Гарроу и Кембриджу, а в начале
октября пишет матери одного из умерших: «Это шестой друг или близкий, кого я
потерял за четыре последних месяца...»
«Тыуже знаешь, что мое жилище - обитель скорби... - из письма к Дж. К. Хоб-
хаузу от 10 августа. - В смерти для меня есть что-то непостижимое, так что я не
могу ни говорить, ни думать о ней». Цикл, обращенный к Тирзе, - едва ли не пер¬
вое нарушение этого обета, когда в поэзии Байрона возникает романтический об¬
раз обреченной, гибнущей любви, многократно повторенный впоследствии в его
«восточных поэмах», в «Манфреде». Романтическая любовь - всегда несбыточ¬
ная, всегда под знаком обреченности и смерти. Чувство лишается остроты, если
ему не сопутствует утрата любимого или если сам любящий не подойдет к бездне,
а иногда - в своем воображении - и не ринется в нее.
Так или иначе - для себя ли, для героя ли - эта модель претворяется в произ¬
ведениях многих романтиков, часто возбуждая преувеличенное доверие к ее био¬
графичности.
456
Как выло и как вспомнилось
«То, что для Гете был Вертер, для Пушкина была утаенная любовь»1. Очень
точно сформулировал Г. Винокур. И можно добавить: для Байрона сначала - цикл
«К Тирзе», а затем - ряд поэм.
Обманывает тон искренности, подлинность как будто бы пережитого. Но это
и есть пережитое, пусть не в тех самых обстоятельствах. Подлинно чувство, ибо
такой и ощущается любовь.
Пересоздание, переписывание жизни в поэзии, чтобы пережить еще раз, толь¬
ко острее, полнее, чем в реальности, - черта романтическая. Для лирики Байрона
в целом, где опыт обычно сказывается с большей непосредственностью, - несвой¬
ственная. Скорее всего, ею отмечена лирика и все творчество Байрона именно в
лондонский период жизни поэта - трудное для него время романтической славы.
Г оды успеха, который оказался трудным испытанием. Остаться собой, жить
своей жизнью - в полной мере это не удалось. Было несколько важных выступле¬
ний в парламенте, однако быстро «надоела парламентская комедия. Я выступил
там три раза, но не думаю, что из меня получится оратор» (Дн., 48). Если призва¬
ние общественного деятеля казалось трудно соединимым с делом поэта, то еще
более ему препятствовала жизнь лондонского денди.
Было несколько острых политических стихотворений - отклик на происходя¬
щее, но в целом поэзия тех лет наводит на мысль, что неудовлетворенность соб¬
ственным бездействием заставляла все более яростно бросать героя на столкнове¬
ние с миром, на бунт против него.
И в лирике именно теперь особенно остро переживается Байроном роман¬
тическая разорванность идеала и действительности. Поэт как будто оберегает
область поэзии от непосредственных впечатлений собственной жизни, в которые
он «малодушно погружен». Во всяком случае, ни история сложных отношений с
будущей женой, ни самый бурный роман лондонского периода с леди Каролиной
Лэм почти не отзываются в стихах.
Стихи же наполняются духом музыки, завораживающим, навевающим пе¬
чаль' - несколько стихотворений с одинаковым названием «Стансы для музыки».
Как тексты для романсов создавался и лучший, самый прославленный цикл -
«Еврейские мелодии». В нем и в другом цикле, завершающем лондонский пе¬
риод, - наполеоновском - предсказаны две линии дальнейшего развития поэзии
Байрона.
Байрон не был потрясен падением Наполеона весной 1814 года, но как буд¬
то пробудился, сбросил душевное оцепенение. Накануне известия из Фонтенбло
в очередной раз собравшийся оставить поэзию Байрон тотчас берется за перо.
Большая «Ода» написана поэтом необычайно быстро, всего за один день! Ее тон
1 Винокур Г. О. Биография и культура // Труды государственной академии художествен¬
ных наук. Философское отд. Вып. 11. М.: ГАХН, 1927. С. 54.
Вечер пятый. Англия
457
мог быть и иным, если бы сам исторический герой доиграл то, что тогда казалось
последним актом его трагедии, по всем правилам жанра. Трагическому финалу
Наполеон предпочел компромисс и жизнь.
Какая банальная история! Кумир всеобщей романтической мечты развенчал
себя, а заодно и саму мечту. Отречение Наполеона Байрон воспринял как финал
всей современной трагедии с участием героя-романтика, трагедии, скорее обер¬
нувшейся драмой, не лишенной и фарсового оттенка.
Байрон все более отдаляет от себя личность романтического героя, посматри¬
вает на него с нескрываемой иронией, которой и даст выход в «Дон Жуане». Но
он не хочет, чтобы так и только так завершились его долгие и трудные отношения
со своим героем. Байрон еще предоставляет ему несколько возможностей явить
себя пусть не в современных, а в исторических костюмах; сохраняет его как фигу¬
ру условно-поэтическую - миф о свободолюбивом одиноком бунтаре, миф, разы¬
грываемый во вселенских декорациях.
Образность философских драм: «Манфред», «Каин» - предсказана в «Ев¬
рейских мелодиях». Снова мы видим, что первое решение темы у Байрона - ре¬
шение лирическое.
Библейские сюжеты в цикле отобраны таким образом, что представляют не¬
большую, числом 23, но исчерпывающую антологию романтических мотивов: об¬
реченность тирана, величие героя, красота самоотречения, страдание народа...
И все это объединено лирически - присутствием певца, в его душе, знающей отча¬
яние, но готовой пробудиться к жизни, к действию.
От Библии - в стихах - высокая значительность образов. От современного
романтического сознания - потрясенность и волнение: потрясенность величи¬
ем, волнение в присутствии красоты. Предчувствием прекрасного открывается
цикл - стихотворением, написанным позже других, в котором как будто бы нет
ничего от Библии, от мифа, кроме колорита, кроме того, что в первой же строке,
следуя за героиней, мы вступаем в новый мир:
Она идет во всей красе -
Светла, как ночь ее страны.
Вся глубь небес и звезды все
В ее очах заключены...
Перевод С. Маршака - красивый, звучный, переходящий из одного издания
в другое, но тем более жаль, что цикл открывается (в этот момент самое важное -
колорит, атмосфера!) колористической ошибкой. «Светлая ночь» - какой стран¬
ный образ в преддверии библейской темы! У Байрона сказано иначе, и сказанное
с буквальной точностью повторено в старом переводе Д. Михаловского:
458
Как выло и как вспомнилось
Она идет в красе своей;
Как ночь, горящая звездами...
Век переводной поэзии, за редкими исключениями, недолог. Меняется поэти¬
ческий вкус, уточняются требования к переводу, и все это побуждает переводить
заново.
Почти каждое поколение читает новые переводы иноязычной классики.
Именно так - пластами - снимаются и уходят в прошлое старые. Оптовое мышле¬
ние в искусстве всегда опасно - ибо неизбирательно.
Знакомство давнее и предстоящее
Каким и когда сотворенным является сегодняшнему читателю русский Бай¬
рон?
С одной стороны - в переводах русских поэтов, которые навсегда вошли
в нашу поэзию. С другой - в усилиях современной школы профессиональных пе¬
реводчиков. Здесь - свои удачи, но очень редко ощущение, что они окончатель¬
ны. Именно в этих случаях накапливаются приблизительно равноправные тексты,
в каждом свои достоинства и просчеты, - из них трудно выбирать. Нередко пред¬
почтение отдается тому, что привычнее, ближе сегодняшней условности.
Недостатки старых переводов для нас очевиднее их достоинств. Тем более
внимательными следует быть. Вот и среди десятков переводов, выполненных
из Байрона Д. Михаловским, Н. Холодковским, Н. Брянским, не все безуслов¬
но устарело хотя бы потому, что не все безусловно превзойдено в последующих
попытках.
Это имена переводчиков из числа тех, кто работали или начинали работать
в последней трети прошлого века, когда потолок переводной поэзии очень явно
ограничен уровнем поэзии оригинальной, некоторыми ее принципами. Об этом,
как раз в связи с оценкой одного из названных поэтов, точно пишет знаток исто¬
рии перевода Ю. Левин: «Свойственный гражданской лирике 80-х гг. упор на
развитие логической мысли, рассудочность, дидактизм, пренебрежение музыкаль¬
ной стороной стиха отличают и переводную поэзию Михаловского, которая от¬
разила кризис русского поэтического перевода, характерный для последней трети
XIX века»1.
На эти годы пришлась первая попытка дать полного русского Байрона:
сначала в издании под редакцией Н. Гербеля (завершено первым выпуском
в 1877 году), а спустя четверть века в серии «Библиотека великих писателей» под
общей редакцией С. Венгерова в известном издательстве Брокгауза и Ефрона.
1 Левин Ю. Д. Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода.
Л: Наука, 1985. С. 261.
Вечер пятый. Англия
459
Основной корпус тех собраний на сегодняшний день безнадежно и очевид¬
но устарел. И все же нельзя ни упускать из виду того факта, ни пренебрегать им,
что создавались они усилиями литераторов, в своей юности переживших живое,
как бы первоначальное увлечение английским поэтом, и гражданская муза 1970-
1980-х годов не забывала своего юношеского увлечения.
Именно так, как завершение какого-то единого периода в отношении к Бай¬
рону, было воспринято в 1877 году гербелевское издание. Значение его как куль¬
турного факта признает даже строгий рецензент, считающий, что в этих четырех
томах «перед читателем пройдет, на протяжении 50 лет, неяркая, так сказать, ре¬
месленная история русского байронизма...».
Рецензия появилась в газете «Северный вестник» (издаваемой литератором
Е. Коршем), занимала два подвала и подписана была инициалами - А. В. (1877,
24 мая). Согласно словарю псевдонимов И. Масанова, так в этой газете подписы¬
вался Александр Веселовский, будущий академик, один из создателей русской ли¬
тературной науки - исторической поэтики. Его статья не только серьезное слово о
Байроне в России, но одно из самых ранних, развернутых высказываний о задачах
и принципах стихотворного перевода.
Автор готов признать за поэтом право на вольность, допустить то, что он на¬
зывает «элементом подражания» (как у Лермонтова в «Еврейской мелодии»),
но не «ремесленность», под которой он подразумевает элементарную небреж¬
ность, неоправданное и объяснимое лишь дурным пониманием или невниматель¬
ным чтением искажение оригинала. Все это плоды того, что перевод уже уходит из
рук великих поэтов, умеющих передать дух и в свободном подражании, но еще не
стал делом профессиональным, о чем и свидетельствует полное заглавие издания:
«Сочинения лорда Байрона в переводах русских поэтов...». Следует добавить:
в основном второстепенных.
Брокгаузовское издание стоит много выше по своему уровню. Прежде все¬
го по двум причинам. Во-первых, жестче и точнее определились к этому времени
принципы переводческого дела. Во-вторых, изменилось положение самой поэ¬
зии, и целый ряд тех, кто были виновниками перемен, приняли участие в издании,
специально для него работали: Блок, Брюсов, Вячеслав Иванов...
На основе классической традиции, идущей от Батюшкова, И. Козлова, Лермон¬
това, начал складываться современный Байрон. Но что-то в нем пропадает, если мы
вовсе опустим переводы «неудачного» периода. С их несовершенным поэтическим
языком, иногда косноязычным, иногда преувеличенным до безвкусия, они порой
оказываются ближе к Байрону, чем те, в которых позже он представлен с академиче¬
ской почтительностью оберегаемым классиком, чье каждое слово, каждый элемент
формы должны быть переданы с безукоризненной точностью.
В чем она? Всегда ли следует повторить размер, характер рифмовки? Одному
приему в разных языковых традициях сопутствуют разные ассоциации.
460
Как было и как вспомнилось
Так, для поэм Байрона в русском языке делается традиционное исключение:
они переводятся так, как и написаны, - сплошными мужскими рифмами, чуждыми
русскому стиху, его огрубляющими. Иногда пытаются распространить это исклю¬
чение и на лирику Байрона, в частности на некоторые из «Еврейских мелодий»,
и едва ли удачно:
О, плачь о тех, в чьем прахе Вавилон,
Чьи храмы пусты, чья отчизна - сон!
О смолкшей арфе Иудеи плачь:
Там, где жил бог, теперь живет палач.
(ПереводИ. Озеровой)
Стих энергичный, но жесткий, утративший торжественную печаль подлинни¬
ка, к которому ближе Д. Михаловский, хотя и изменивший характер рифмовки и
даже размер: «О, плачьте о тех, что у рек вавилонских рыдали...»
Байрон не принадлежит к тем поэтам, кого считают особенно сложными для
перевода (если только не полагать, вполне справедливо, что любая настоящая поэ¬
зия - особенно сложна для передачи на другом языке). Нет у него изощренной ме¬
тафорики. Нет изысканного звукового движения: лишь изредка он позволяет себе
струящийся музыкальный стих, чаще ограничиваясь кратким звуковым повтором
внутри строки, напоминающим, что у истоков английского стихосложения - древ¬
негерманский аллитерационный стих.
Его достоинство и трудность для переводчика, особенно в зрелых стихах, -
прямота непринужденной речи. Непринужденной, но точной настолько, что она
все время идет по грани непридуманного разговорного афоризма, возникающего
оттого, что более кратко и лучше не скажешь. Вспоминается А. Поуп, искренне
Байроном любимый, - его уроки.
Кажется, трудно ли повторить за Байроном («Стансы, написанные по дороге
между Флоренцией и Пизой») мысль о ненужности поздней славы, которая не
украсится любовью: «Что мне до венков, дарующих славу и только»? Оказывает¬
ся, трудно. У Б. Лейтина переведено не очень ловко и не очень понятно:
Что гирлянды (?) сединам? Пустая забава.
Что мне значат (?) венки, раз под ними (?) лишь слава.
У И. Озеровой гораздо точнее:
Венки уберите оттуда, где иней.
В них слава - и только - с пустою гордыней.
Вечер пятый. Англия
461
Нужно сказать ровно столько, сколько сказано, а получается то больше, то
меньше: о гордыне у Байрона ни слова. Назидательность размывает стиль афоризма.
Среди русских переводов из Байрона не так уж мало таких, после которых но¬
вый кажется ненужным или даже дерзким. Иногда трудно выбрать лучший - на¬
столько высок поэтический уровень нескольких: «Неспящих солнце» переводили
И. Козлов, А. Толстой, Фет, Маршак...
Однако большинство безусловных удач ограничены ранними стихами, самое
позднее - «Еврейскими мелодиями». Затем возможность выбора сужается. Все
снова и снова берутся за перевод последнего байроновского шедевра - «В день,
когда мне исполнилось тридцать шесть лет». Накапливаются неплохие переводы,
но значение этого стихотворения таково, что уровень простой переводческой уда¬
чи кажется недостаточным. Стихотворение должно войти в русскую поэзию так
же, как Б. Пастернак ввел в нее «Стансы к Августе».
Точно ли он перевел? Вот четыре заключительных строки:
Есть в пустыне родник, чтоб напиться,
Деревцо есть на лысом горбе,
В одиночестве певчая птица
Целый день мне поет о тебе.
Не надо заглядывать в оригинал, чтобы сказать: «лысый горб» у Байрона от¬
сутствует, у него просто - пустошь. Пастернаковская стилистика. Допустимая ли
в своей бросающейся в глаза очевидности?
Вот как то же место перевел В. Левик (различие между двумя переводами -
разность текста, принадлежащего опытному мастеру-переводчику и гениальному
поэту):
И в песках еще ключ серебрится,
И звезда еще в небе горит,
А в пустыне поет еще птица
И душе о тебе говорит.
А звезда у Байрона есть? Нет, она от переводчика. У Байрона (как и у Пастер¬
нака) предметный ряд: родник - дерево - птица. У Левика: ключ - звезда - птица.
Кто дальше отступил от подлинника? Левик не нарушил его стилистики, во
всяком случае той стилистики, какой мы можем ожидать от поэта-романтика,
к какой мы привыкли. Но он совершенно изменил, введя звезду, панораму пей¬
зажа, распахнул пространство. Байрон же его сознательно ограничивал, сделал
интимно замкнутым: весь мир против меня, но ты рядом, и у меня есть мое малое
место в мире, как у родника в пустыне, как у деревца посреди пустоши.
462
Как было и как вспомнилось
Пастернак эту интимность почувствовал и усилил, пусть чисто по-пастерна-
ковски. «Деревцо на лысом горбе» - это его стилистическая подпись, клеймо по¬
эта, оставленное на выполненной им переводческой работе.
Такого рода очевидные нарушения скрадывают оригинал куда менее, чем не¬
очевидные и непредусмотренные, но невозможные в подлиннике черты. Невоз¬
можно, чтобы в послании к сестре Байрон написал: «Ты любила, не требуя пла¬
ты» (В. Левик). И вдвойне невозможно, памятуя о сплетнях, потянувшихся за их
отношениями.
И еще одно. Деревцо из пастернаковского перевода до него привилось к сти¬
листике русского Байрона. Оно уже было у А. Плещеева в другом стихотворении
того же названия - «Стансы к Августе»: «Как деревцо стояла ты, / Что уцелело
под грозою...». Родственная попытка - приблизить Байрона, снять с него обя¬
зательный в переводе налет риторичности, дать ему возможность заговорить, не
декламируя.
Так он и говорил, по крайней мере в зрелой лирике. Путь к ней в переводе
прокладывается медленно. Плещеев дал один из первых замечательных вариантов.
Потом был Блок - гениально в отрывке «Из дневника в Кефалонии». Потом Па¬
стернак...
Мы начинаем видеть иного Байрона - вне байронизма. От Байрона, романти¬
ческого, могущественного и однообразного, идем к Байрону, об одной из своих
драм сказавшему так: «...я стремился показывать сдерживаемую страсть, в отли¬
чие от принятых ныне тирад» (Дн., 288).
Таким мы его еще недостаточно знаем. Скорее по прозе: по дневникам, пись¬
мам ... В крупных произведениях все еще смешиваем автора с героем, не чувствуем
значения и природы его лиризма. Лиризма, который у него повсюду, но в стихах -
полным голосом.
Вслушайтесь, разве он однообразен?
1988
Вечер пятый. Англия
463
Поэтическое зрение Джона Китса
Ките умер молодым: ему не исполнилось и 26 лет. Это рано, очень рано даже
не по статистике средней продолжительности жизни, но по тому трагическому
счету, что существует для поэтов, и особенно романтиков, среди которых немно¬
гие дожили до седин. При этом Ките и начал сравнительно поздно: первые извест¬
ные нам стихи написаны, когда ему было 18.
Писал ли он раньше - в Эдмонтоне, где его с братьями после ранней смерти
родителей воспитывает бабушка, а позже в Энфилде, где он пошел в школу? Труд¬
но сказать, но художественную одаренность в сыне разбогатевшего владельца ко¬
нюшни мало кто угадывал в школьные годы. Весь творческий путь длиной в пять-
шесть лет. Стремительное восхождение! И, видимо, способность без ученической
поры явиться сразу же талантом зрелым, самостоятельным? Предположение не
оправдывается: Ките многому и у многих учился. Слово «подражание» традици¬
онно сопровождает разговор о его поэзии. Среди имен тех, кому подражал, чье
влияние пережил, и классики, и современники, порой малозначительные, кто се¬
годня и вспоминается исключительно потому, что в какой-то момент оказался ря¬
дом с Китсом.
В названиях многих стихотворений - повод для вдохновения: по прочтении
Чосера, Шекспира, Гомера... В других случаях комментарий легко восстанавлива¬
ет то, о чем умалчивают названия. Зрелый Ките - этот эпитет обычно относится
к очень узкому кругу произведений, большинство из которых созданы на протя¬
жении нескольких месяцев 1819 года преимущественно в жанре сонета и оды. Это
лучшее, давно признанное классикой. Сегодня поэтическая репутация Китса чрез¬
вычайно высока у него на родине. Пожалуй, она не уступает даже славе традици¬
онно почитаемого великим лириком Вордсворта. Так было далеко не всегда. При
жизни Ките окружен группой друзей, верных ценителей его дарования, но круг
этот невелик.
За дружественную критику Китсу приходилось дорого расплачиваться, ибо
то, что многим казалось преувеличенными похвалами, уравновешивалось разнос¬
ными рецензиями с беспощадным к таланту приговором. Существует даже леген¬
да, будто не туберкулез свел поэта в раннюю могилу:
Кто убил Джона Китса?
- Я, - ответил свирепый журнал.
Выходящий однажды в квартал, -
Я могу поручиться,
Что убили мы Китса...
(Перевод С. Маршака)
464
Как выло и как вспомнилось
Байрон в эпиграмме повторяет то, о чем ему горячо писал Шелли, убежден¬
ный, что смерть Китса - на совести критиков. Байрон по этому поводу не упустил
случая еще раз посчитаться с английскими журналами, но все же недоумевал -
неужели отзыв рецензента, пусть несправедливый и жестокий, может оказаться
смертельным? Он может привести в бешенство, заставить ответить ударом на
удар - это в характере Байрона. У Китса был иной характер и иной склад таланта.
Настолько иной, что Байрон не ценил его совершенно, в переписке с друзьями
не стеснял себя в выражениях и, лишь узнав о смерти Китса, дал указание своему
издателю не допускать этих отзывов в печать. Отношение Китса к тому, кто тогда
царил на английском романтическом Парнасе, было более благожелательным, по
крайней мере вначале. А если судить по раннему сонету, к Байрону обращенному,
то в какой-то момент даже восторженным. Однако имя Байрона не слишком бро¬
сается в глаза, ибо является в окружении стихов, посвященных или обращенных к
другим поэтам. Среди них есть имена, обладавшие для Китса куда более устойчи¬
вой притягательностью. Прежде всего имя Спенсера.
Давно и прочно считающийся классиком, поэт XVI века Эдмунд Спенсер
в романтическую эпоху особенно популярен. Свое подражание ему (первое из¬
вестное нам стихотворение) Ките пишет знаменитой спенсеровой строфой,
которой незадолго до него воспользовался Роберт Бёрнс («Субботний вечер
поселянина» ) и - с таким громадным успехом - Байрон в «Паломничестве Чайльд-
Гарольда».
Строфическая форма с течением времени стала вместилищем всех ассоциа¬
ций, связанных с именем ее создателя, который более всего запомнился как мастер
поэтической стилизации: куртуазно-рыцарской в аллегорической поэме «Коро¬
лева фей» и архаизирующе-просторечной в пасторальном «Календаре пастуха».
Ките тоже любит отраженный свет в слове. Видимый или воображаемый предмет
всегда будит в нем поэтические воспоминания, окутывается в них. Природа и По¬
эзия для него - равновеликие реальности, и он не умеет писать о первой, забывая
о том, как она уже отражена во второй.
Английский читатель Китса ощущает эту его склонность иначе, чем читатель
переводов: в оригинале зависимость очевиднее, конкретнее, как очевиднее и тот
факт, что Ките, в отличие от робкого подражателя, не боится быть пойманным на
заимствованиях. Он заимствует открыто, ибо чувствует в себе силу рядом с чужим
поставить свое слово, отзывающееся, вступающее в перекличку. В «Подражании
Спенсеру», естественно, повторяются его стилистические приемы, «спенсериз-
мы», с которыми что поделать переводчику? Разве что передать их неким услов¬
ным, ничьим персонально, налетом языковой архаики.
Подражательность ощущается, но изящество уходит, изящество сознатель¬
ной и мастерской стилизации, стремящейся воспроизвести колорит средневеко¬
вой иллюминированной миниатюры.
Венер пятый. Англия
465
Поэтически - в слове, в образе - Ките всегда зависим. Это его мышление, его
видение, все время улавливающее блики поэтических ассоциаций. Ките, как не¬
многие, глубоко погружен в традицию, в материю поэтического слова. От этого
он так трудно переводим.
В России его долго и не переводили. Сейчас более всего изучают - почему
не переводили. Заслонил ли его Байрон? Мог заслонить, учитывая его популяр¬
ность, но ведь не все потерялись в его тени? Поэт близкого Китсу лондонского
круга Барри Корнуолл был замечен Пушкиным, в чьей библиотеке имелся том,
включавший и стихотворения Китса, им, однако, не замеченного, не упомянутого.
Предполагают, что в России Ките должен был показаться чрезмерным эстетом,
поэтом «чистого искусства». Мог, ибо, когда его начали узнавать, такое сужде¬
ние держалось довольно долго, в литературной науке вплоть до появления книги
А. Елистратовой «Наследие английского романтизма и современность» (1960).
Там впервые было сказано о том, что представление о Китсе, замкнувшемся в мире
прекрасного, неверно, что оно легко опровергается и даже не столько отдельными
вольнолюбивыми стихами, высказываниями поэта, но всем строем его поэзии, его
пониманием того, что есть Красота.
Главное для Китса - эстетическая идея; обдумывая ее, он отвечает на вопрос,
как писать и для чего стоит быть поэтом. Китсу не свойственна торжественная
маска жреца или пророка. У него немало стихов на случай, когда он просто - почти
по привычке - зарифмовывает впечатления, в чем шутливо и винится перед адре¬
сатами тех писем, в которые включает свои стихотворные безделки. Чувство вины
не от того, что поэзия коснулась чего-то для себя запретного, неподобающего.
Запретного для нее не существует, но ее прикосновение не должно терять своей
волшебной силы - преображать мир словом.
Поэт-романтик часто мыслит себя творцом, подобно богу, созидающим свой
мир, ибо старый его не устраивает. У Китса слишком сильна любовь к творенью,
чтобы он посягал на него. Он и не посягает, этим отличаясь от многих своих совре¬
менников. Ни в поэтическом образе Китса, ни в его личности нет романтического
максимализма. Ките восприимчив, внимателен, он всегда готов выслушать. Не от¬
сюда ли столь длинный список «оказавших на него влияние»? Часто его советчи¬
ки - люди, отнюдь не прославленные: сын его школьного учителя Кларк или его
коллега по медицинским занятиям в Лондоне Мэтью... В пространных стихотвор¬
ных посланиях к ним - первые размышления Китса о творчестве.
И так же легко, как он выслушивал советы, он их отвергал, ни в чьем присут¬
ствии не теряя творческой независимости. Ките как будто давал повод играть
с ним роль мэтра: на эту роль довольно многие претендовали, но никто в ней не
удерживался. Это было невозможно, в чем убедился и тот, кто на нее более все¬
го претендовал, - Ли Хант. Либеральный журналист, поэт, критик, он по своему
темпераменту склонен был учительствовать, объединять; он и считался главой
466
Как было и как вспомнилось
школы лондонских романтиков, презрительно прозванной противниками кок¬
ни (по названию лондонского разговорного диалекта). В эту школу вовлечен
Ките и, поднимаемый ею на щит, вынужден отвечать перед критиками за нее
в целом.
Сначала вольномыслие Ли Ханта привлекло к нему Китса. Затем - сходство
вкусов: Хант тоже ценит в поэзии богатство памяти, колористическое воссозда¬
ние прошлого, о котором, впрочем, повествует языком легким, разговорным, «се¬
годняшним». Так что прозвище кокни оправдывалось: классические сюжеты (на¬
пример, из Данте) Хант рассказывает на новый лад.
Эти уроки были полезными для Китса. Понять право на свой язык особенно
важно, когда ты любишь откликаться на чужие. Но по мере того, как в нем росло
чувство свободы, Ките освобождался и от воздействия Ли Ханта, скоро уже сожа¬
лея, что слывет его учеником; в 1818 году в связи с публикацией поэмы «Эндими¬
он» произошло охлаждение, которое Ките объяснял тем, «что я не слишком-то
навязываюсь »...
Ките привлекал к себе людей и был счастлив в дружбе. Общаясь, он воспол¬
нял пробелы своего литературного образования; познакомившись в Лондоне
с блестящим критиком, эссеистом У. Хэзлиттом, он посещает его лекции о поэзии.
Хэзлитт - знаток Шекспира, который именно теперь открывается Китсу.
В этом пристрастии Ките не одинок. В глазах романтиков никто не выступает
так часто в роли идеального поэта, как Шекспир, но идеал толкуется по-разному.
Ките ценит его «полноту отзывчивости, за умение все познать, во все проникнуть,
все вместить в себя и одновременно - отречься от своего "я"». Он называет это
«негативной способностью»:
Поэт - самое непоэтическое существо на свете, ибо у него нет своего «я»:
он постоянно заполняет собой самые разные оболочки. Солнце, луна, море,
мужчины и женщины, повинующиеся порывам души, поэтичны и обладают не¬
изменными свойствами - у поэта нет никаких, нет своего «я» и он, без сомне¬
ния, самое непоэтичное творение Господа1.
У Китса обычное для романтика желание свободы оборачивается требовани¬
ем свободы не для себя, а от себя. Естественно, что многие современники должны
были казаться ему излишне поглощенными своим «я», на нем сосредоточенны¬
ми, и даже наиболее из них ценимого Вордсворта он находит «величественно¬
эгоистическим» (ЛП, с. 242).
1 Ките Дяс. Стихотворения. Л.: Наука, 1986. С. 242-243. (Литературные памятники.)
В дальнейшем при ссылке на это издание указываются аббревиатура ЛП и страницы.
Венер пятый. Англия
467
С готовностью подчиняя себя высшей цели - поэзии, Ките гораздо более
сдержан и осторожен, когда речь заходит о подчинении самой поэзии каким бы
то ни было целям. Он не разделяет энтузиазма, с которым Шелли провозглашает
поэзию общественно значимой - через приобщение людей к красоте. Для Китса
(совсем по-пушкински) цель поэзии - поэзия. Но разве это не тезис «чистого ис¬
кусства»?
Говоря об одном из своих приятелей, Ките заметил, что тот никогда не до¬
стигнет истины, потому что всю жизнь ее ищет. Находить то, о чем как будто бы
не помнишь, достигать целей, к которым как будто бы не стремишься, желая лишь
одного - исполнить свое дело, дело поэта. Открыть красоту, пережить ее и дать
пережить другим, а что дальше, к чему это поведет, будет ли польза... О прямой по¬
лезности поэзии Ките не думал, но лишь о том, чтобы создать истинную поэзию:
может ли быть полезным то, чего нет? А все подлинное не может быть бесполез¬
ным:
В прекрасном - правда, в правде - красота.
Вот все, что знать вам на земле дано.
(«Ода греческой вазе». Перевод Г. Кружкова)
Одно входит в другое и не существует иначе, чем в этом взаимопроникнове¬
нии. Перефразируя философа, можно сказать, что для Китса действительно лишь
то, что прекрасно; существование всего, лишенного красоты, - случайно, прехо¬
дяще.
У Китса удивительно пластическое чувство слова. Он ощущает образ как про¬
странство, которое предстоит замкнуть совершенной формой... И в то же время
замкнутое - оно беспредельно. Море остается морем, когда его волны бьют в от¬
точенные грани сонетной формы:
Шепча про вечность, спит оно у шхер,
И вдруг, расколыхавшись, входит в гроты,
И топит их без жалости и счета,
И что-то шепчет, выйдя из пещер.
(«Море». Перевод Б. Пастернака)
Ките должен был прийти к сонету. К жанру, который был в ту пору заново
открыт английской поэзией. Всего лишь в 1811 году Вордсворт написал сонет о
сонете: «Не презирай сонета, критик...» (строка, в качестве эпиграфа повторен¬
ная Пушкиным). Но и критик, и нередко поэт относились к жанру с презрением,
как к безделице. «До сих пор я написал всего один сонет, - признается в дневнике
1813 года (17,18 декабря) Байрон, - и то не всерьез, в виде упражнения - и боль-
468
Как было и как вспомнилось
ше не напишу. Это - самые плоские, писклявые, идиотски платонические писа¬
ния»1. Приблизительно то же самое он говорил и о поэзии Китса в целом.
Ките, безусловно, не заслужил такой оценки. У Байрона она продиктована
предубеждением, нежеланием вчитаться в формы, в язык, иные, чем его собствен¬
ные. А ложную аффектацию Ките и сам не выносил в любом жанре, включая сонет:
высокопарное перечисление красот Вордсвортом побуждает его к пародийному
отклику - «"Обитель Скорби” (автор - мистер Скотт)...».
В своих лучших сонетах Ките прост не только по языку - по тону, он есте¬
ственен, ибо для него прекрасное повсюду: и в летнем стрекоте кузнечика, и в за¬
печной песне сверчка, и в мгновенной потрясенности человека, переживающего
минутность своего бытия на берегу океана вечности. Его волны подхватывают,
уносят - брошен последний взгляд на то, что некогда было жизнью с ее мечтой
о любви, о славе... («Когда страшусь, что смерть прервет мой труд...»)
Мечты уходят с человеком, прекрасное же остается. Красота нетленна и по¬
тому спасительна для причастившегося ей. Такую эстетическую веру исповедует
Ките.
В его сонеты вы входите легко - вслед за фразой раздумья или даже разгово¬
ра, долетевшей до слуха. Войдя, тут же оказываетесь во власти ритма, во власти
формы, в которых чувствуете замысел, волю и узнаете в вашем собеседнике Поэта.
Ките рано, буквально с первых шагов нашел свой жанр - сонет. Но только
этим жанром он не мог удовлетвориться. Овладев искусством вмещать безмер¬
ность пространства в строгую ограниченность малой формы, он столь же рано
ощутил и иную потребность - дав волю воображению, живописать мир, только
графической моделью которого мог быть сонет. Живопись требовала другой фор¬
мы - поэмы.
Кажется, в отношении никакого другого жанра Ките не бывал так настойчив,
упорен и в то же время так часто недоволен собой. Не успев дописать очередную
поэму (или даже бросая ее на полпути), он уже чувствовал - не то. Стиль не най¬
ден, приемы повествования наивны, в лучшем случае удаются отдельные строки.
Ранние наброски так и остались набросками, вступлением в поэму.
Потом возникает замысел «Эндимиона». Ли Хант отговаривает от большой
поэмы, но Ките упорствует: «На это я должен ответить: разве поклонникам поэзии
не более по душе некий уголок, где они могут бродить и выбирать местечки себе по
вкусу...» (ЛП, с. 206). «Эндимион» опубликован в апреле 1818 года, а к этому вре¬
мени уже завершена новая поэма - «Изабелла, или Горшок с базиликом».
От мифологической аллегории, изображающей путь восхождения к прекрас¬
ному, Ките переходит к сюжету историческому, заимствованному у Боккаччо.
1 Байрон Дж. Г. Дневники. Письма. М.: Академия наук СССР, 1963. (Литературные па¬
мятники.) С. 78-79.
Венер пятый. Англия
469
Рассказ о трагической любви Изабеллы - это возможность проверить себя в пове¬
ствовательном сюжете, требующем прорисовки характеров, колорита, энергично¬
го стиля. Результатом Ките совершенно разочарован: изображение страсти требу¬
ет опыта, а его, признается автор, нет. Нет знания жизни.
В целях воспитания чувств Ките отправляется в путешествие - к природе. Ле¬
том 1818 года он совершает паломничество по романтическим местам: Озерный
край, Шотландия, Ирландия... Горный пейзаж этих мест будит воображение, от¬
вечает новому эстетическому идеалу - Живописного и Возвышенного. Путеше¬
ствие, однако, было прервано известием о тяжелой болезни брата.
Пусть и совсем не так, как предполагалось, но этот год стал временем воспи¬
тания чувств. Свидание с природой сменилось месяцами, проведенными у посте¬
ли умирающего Тома. И в эти же месяцы - встреча с будущей невестой, с Фанни
Брон.
Ките работает: много, напряженно, несмотря ни на что.
Снова поэма и снова на мифологический сюжет - «Гиперион». В предше¬
ствовавшем «Эндимионе» - миф любви и красоты, теперь - миф борьбы: Апол¬
лон приходит занять место последнего из титанов - Гипериона, являющего фигу¬
ру мрачную и трагическую. Прекрасное рождается из духа трагедии.
Работа над поэмой уже далеко продвинулась, но к началу следующего года,
после смерти брата, Ките оставляет ее. Потом он еще раз возвратится к этому сю¬
жету: второй вариант называется «Падение Гипериона», и он останется незавер¬
шенным. В этой новой попытке возникает важный сюжетный ход, подсказываю¬
щий, в каком направлении идет поиск.
Теперь мифологические события излагаются не с безличной эпической объ¬
ективностью; появляется рассказчик - Монета, дочь богини Мнемозины, и слуша¬
тель - человек, для которого все услышанное звучит вещим сном. Так обозначено
намерение сдвинуть акцент с изложения событий на их восприятие, представить
пространство мифа возникающим в воображении.
«Он описывает то, что видит; я описываю то, что воображаю». Он - это Бай¬
рон, между которым и собою устанавливает различие Ките. Ценя опыт, знание
жизни, Ките не считает достаточным для поэта полагаться только на то, что уви¬
дено и осмыслено. Избыток описательности, как и избыток рассудочности, губи¬
телен для поэзии. Об этом, вступая в прямой спор с поэтическими принципами
предшествующего столетия, Ките прямо говорит в «Ламии»:
От прикосновенья
Холодной философии - виденья
Волшебные не распадутся ль в прах?
Дивились радуге на небесах
Когда-то все, а ныне - что нам в ней,
470
Как было и как вспомнилось
Разложенной на тысячу частей?
Подрезал разум ангела крыла.
Над тайнами линейка верх взяла...
(Перевод С. Сухарева)
Радуга нередко вспыхивала в поэзии XVIII века как символ вновь увиденной
красоты природы; Ньютон понял законы разложения светового луча, он научил
людей верному зрению, и вслед ему пошел поэт. Ките считает, что поэт пошел
ложным путем. Его строки о радуге прозвучали в поэме, написанной в трудном
сомнении, что же предпочесть: прекрасный, но, быть может, губительный призрак
или самоуверенный разум, разрушающий иллюзию, а вместе с нею отнимающий
жизнь?
В сюжете «Ламии» замысел Китса более всего сказался в тех изменениях, ко¬
торые были внесены поэтом. В нарушение легенды в его поэме действуют не злая
волшебница-оборотень и мудрый философ, а жестокий моралист и существо таин¬
ственно-прекрасное ... Влекущее к гибели через обещание неземного блаженства?
Быть может, и так. Считают, что в «Ламии», как и в балладе «La Belle Dame sans
Merci», отразилось переживание Китсом своей любви - к Фанни Брон.
Несмотря ни на что, Ките предпочитает оставаться на опасной грани двух ми¬
ров, ибо только отсюда и возможен взгляд, проникающий в прекрасное. Зыбкая
грань - между сном и явью, между днем и ночью, бытием и небытием. Здесь опыт
жизни встречается с воображением; здесь место действия сумеречных по колориту
поздних поэм: «Канун Святой Агнессы», «Канун Святого Марка». Обе - поэмы
вещего видения, предугадывания. В обеих сквозь дрему, темноту ночи в небыва¬
лой живописной яркости проступает реальность, расцвеченная воображением.
Эти поэмы одновременны и родственны великим одам 1819 года.
Шесть од. Между ними заметили ту тесноту связи, которая позволяет гово¬
рить о них как о цикле. В них как бы одна мысль, играющая противоречиями, об¬
ращенная к нам то одной, то другой стороной. Их предмет: праздность и меланхо¬
лия, греческая ваза и Психея, соловей и осень. Что общего?
Традиционные темы поэзии или поэтические состояния, сопутствующие
творчеству.
О чем эти оды? О том, что лучше всего обозначить китсовской строкой-во¬
просом: «Где же он и с кем - поэт?»
Эти оды о смысле и о достоинстве прекрасного, рукотворного и существую¬
щего в природе. Это оды о состоянии и о способности, позволяющей приблизить¬
ся к Красоте, а значит, и о том, кому в высшей степени даровано это приближе¬
ние, - о поэте. О человеке, обладающем двойным зрением: видеть и воображать.
Когда в «Оде соловью» нисходит ночь и отступает в темноту внешний мир,
когда более «нет света», то хочется продолжать вслед одному из великих учителей
Вечер пятый. Англия
471
Китса (чье присутствие столь ощутимо в этой оде) - вслед Милтону: «No light but
rather darkness visible» («Нет света, но лишь зримая тьма»).
Меркнет земное, отступает чувственное. Теперь лишь фантазия ведет по¬
эта: все выше, дальше за поющей птицей... Улетать, чтобы - возвращаться. Сам
Ките уподоблял воображение сну библейского праотца Адама, когда тому приви¬
делось сотворение Евы: «Он пробудился и увидел, что все это - правда» (ЛП,
с. 207).
Когда-то, в ранних вещах, Ките начал с аллегорических обобщений: «Поки¬
нул день восточный свой дворец». Затем уже на общий план накладывались зри¬
тельные подробности.
В поздних стихах он все чаще начинает с предметных деталей, напрягает зре¬
ние - до темноты в глазах, пока не прольется внутренний свет и сама сущность
вещей не обретет форму. Некогда следовавший чужому воображению, он искал
себя в мифе; теперь он сам творит миф. Сквозь первоначально бедные, чувствен¬
ные впечатления проступает контур - отвлеченное, мысленное является зримым
образом. Одна фигура, другая, застывшие в значительной позе, в символическом
жесте... Как будто неподвижные, даже неясные в очертаниях, но если всмотреть¬
ся в них, как некогда умел всматриваться Ките в рисунок на греческой вазе, если
внимательно проследить внутренним взором, то мы и не заметим, как родится дви¬
жение, как в застывшем контуре очнется жизнь.
Прозрение правды сквозь реальность. Но это не значит - не замечая реаль¬
ности: видеть, чтобы изображать, и воображать, чтобы понять смысл увиденно¬
го. Одно невозможно без другого. Лишь тому, кто способен заметить «яблоками
отягченный ствол», вспученную тыкву, напыженные шейки лесных орехов, лишь
ему, чей взор не погнушался малым, предстанет то, что незримо, - сама Осень,
вступающая в мир: «Кто не видел тебя в воротах риг?»
Обращение к Осени хронологически завершает цикл од, написанных весной;
эта последняя ода, как ей и подобает, создана в сентябре все того же 1819 года.
После нее Ките почти не пишет лирических стихотворений. Он очень болен.
А год спустя становится ясно, что еще одну зиму в Англии он просто не пережи¬
вет. Путешествие в Италию, давно желанное, увы, становится вынужденным и по¬
следним.
Утром 23 февраля 1821 года в Риме умирает молодой англичанин - Джон
Ките. Он сам позаботился о своей эпитафии: «Здесь лежит тот, чье имя начертано
на воде». О чем хотел сказать поэт? О мимолетности бытия, которую он лишь и
успел узнать в своей краткой жизни? Или в последний раз напомнить о том, что и
в мимолетном сквозит вечность - вечность Прекрасного?
1989
ВЕЧЕР ШЕСТОЙ. ШЕКСПИР
Как трудно быть Шекспиром
Беседу с Игорем Шайтановым вела Наталия Серова1
Эту расхожую фразу хочется переиначить: как трудно быть не Шекспиром. Гени¬
альному англичанину, драматургу, поэту и аналитику был открыт ход истории, течение
времен. Из этого материала он формировал свои оказавшиеся бессмертными трагедии.
Нам выпало наблюдать, как нынешняя Россия стала ареной, где шекспировские сюжеты
разыгрываются не только на театральных подмостках, но и на всех ее бескрайних просто¬
рах. Наблюдать и не понимать: что происходит? Отсюда огромный, жадный интерес к
Шекспиру, особая надоба в нем, которую по мере сил мы и снимаем встречами на нашей
«Трибуне». Почему Шекспир пришелся так ко двору в России, обсуждаем с профессо¬
ром Игорем Шайтановым.
- Игорь Олегович, трудно быть шекспироведом?
- Знаете, я очень не люблю эти клановые обозначения: пушкинисты, толсто-
веды, шекспироведы... Но что бы я ни читал, чем бы ни занимался, а писал я о мно¬
гих писателях, всегда были два, о которых очень долго не писал, хотя всегда счи¬
тал, что занимаюсь прежде всего ими. Это Шекспир и Пушкин. Долго не решался
о них писать, потому что когда о них пишешь, хочется иметь что-то безусловно
несказанное.
- «Наш современник Вильям Шекспир» - назвал свою книгу Григорий Козин¬
цеву поставивший в кино «Гамлета» и «Короля Лира». Что из Шекспира наиболее
созвучно нашему времени?
- У Шекспира есть огромное количество умных мыслей, которые из него чер¬
паем. Я люблю повторять старый анекдот об англичанине, который дожил до пре¬
клонного возраста, не прочитав Шекспира. Наконец, его уговорили, он прочел и
сказал: «А что особенного? Сборник всем известных цитат!»
- Как наш Грибоедов или Библия.
- Именно так. У них есть три текста, которые сыграли формирующую роль для
английского культурного языка: Библия, Шекспир и писатель у нас мало извест¬
ный - Джон Беньян с его книгой «Путь паломника». Весь Шекспир растаскан
на цитаты. Возьмите названия знаменитых романов: «Пироги и пиво» Моэма -
1 Этот диалог предваряет цикл лекций о Шекспире, прочитанных И. Шайтановым в рам¬
ках проекта «Открытая трибуна» в Вологде в 1997 году.
Вечер шестой. Шекспир
473
цитата из «Двенадцатой ночи», «Шум и ярость» Фолкнера - из «Макбета»,
«Зима тревоги нашей» Стейнбека - из «Ричарда III».
- А самая ходовая сейчас цитата «Весь мир театр и люди в нем актеры».
- Эта фраза ключевая не только для Шекспира, но и для всей эпохи. Они дей¬
ствительно ощущали историю как выход на сцену облеченных властью сил и жела¬
ющих властвовать героев, которые начинают бороться за власть.
Все мы играем. Об этом есть замечательный монолог у Жака-меланхолика
в «Как вам это понравится». Мы все играем несколько возрастов: сначала роль
ребенка, взрослея - солдата, умудренного мужа, потом - снова ребенка. И этим
кончается наше пребывание на земле.
- Вы упомянули о чувстве истории, об особом контакте с ней. Почему мы про¬
должаем жить по манделыитамовской формуле «под собою не чуя страны» ? Такое
ощущение, что в XX веке у России украли историю, восстановить которую не могут
даже специалисты. Что с нами случилось?
- Здесь несколько очень важных вещей. В концовке первого акта «Гамлета»
в самом знаменитом русском переводе звучит: «Распалась связь времен». У Шек¬
спира сказано точнее: «The time is out of joint» - «Время вышло из пазов», «Вре¬
мя вышло из суставов». Либо плотницкая, либо медицинская метафора.
Бывают моменты, когда время выходит из пазов. Но самое ужасное для Гам-
лета не это, а то, что он ощущает себя рожденным вправить вывихнутое время.
Гамлет уже человек нашего сознания, когда ясно, что в одиночку этого сделать
совершенно невозможно. Каждый ответственен, но даже великий человек в оди¬
ночку вывихнутое время не вправит.
Есть и вторая проблема. Один человек не может. Что же может человеческая
масса? Шекспир гениально действует с полным ощущением опасности массы, ее
величия и того, что все, что делается великими людьми в истории, в конце концов
проверяется на массе. И в то же время он очень боится тех моментов, когда масса
непосредственно вовлечена в историю, потому что знает, как легко масса стано¬
вится орудием в руках опытного демагога. Гениальна в политическом отношении
самая проницательная сцена в «Юлии Цезаре». Когда Марк Антоний приходит
проститься с телом убитого Цезаря, толпа готова растерзать его. Когда он конча¬
ет свой монолог, она бросается громить дома заговорщиков. Опытный демагог за
один монолог переиграл массу.
Когда у нас только начались чеченские события, я что-то записывал на радио
«Эхо Москвы». Вдруг подходит редактор и просит: «Скажите несколько слов
о Шекспире, о его хрониках, в связи с чеченскими событиями». Запись, наушники,
четыре минуты. Я начал говорить о финале «Генриха IV», о том, почему принц,
ставший королем Генрихом V, изгоняет Фальстафа, друга юности и воплощение
народного фона. У Шекспира всегда было ощущение, насколько важно охватить
народную жизнь формой государственности. И насколько трудно это сделать, так
474
Как было и как вспомнилось
как народная жизнь сопротивляется этой форме государственности. Это трудно,
но надо сделать, хотя безболезненно сделать нельзя. Нужно найти, создать эту
органическую форму государственности, которая бы соединилась с формой на¬
родности. Шекспир видел это в возможности найти идеального монарха, который
бы предварительно прошел через народный фон, как принц Генрих через дружбу
с Фальстафом, но, став королем, отставил его: «Поди исправься».
- Вы считаете, что чеченской стихии нашими государственниками не найдена
была адекватная форма?
- Совершенно верно. Если мы хотим существовать в рамках этого огромного
государства, надо не избивать и уничтожать кого-то, а искать необычайно гибкую
форму государственной жизни. Иначе вне ее, повторяю об этом вслед за Шекспи¬
ром, будет страшная трагедия народного бунта.
- Шекспир стал самым репертуарным автором в нынешней России и оттого,
что угадывал, предчувствовал эти вечные сюжеты и коллизии?
- Он стал основой европейского репертуара двести лет назад и сейчас его ста¬
вят не больше, чем в конце XIX века. Он просто стоит у истоков нашего времени
и как бы зафиксировал все человеческие ситуации, которые мы продолжаем про¬
игрывать. Я не знаю, есть ли у нас в культуре, в политике ситуации, которые им не
зафиксированы. Шекспир смоделировал все.
- Реальная жизнь и безжалостное телевидение приучили нас к восприятию чудо¬
вищных преступлений, злодеяний, для которых нет и не пытаются найти юридиче¬
ского исхода: найти, судить, наказать. Мы привыкли к существованию тотально¬
го, неукротимого зла. Что «Ричард III» сможет привнести в эту ситуацию?
- Для Шекспира Ричард - доказательство того, что зло не прагматично. Делая
зло, политик не достигает результата. Шекспир в это верил, в отличие от Нико¬
ло Макиавелли, с «Государем» которого спорил. Макиавелли полагал, что цель
оправдывает средства и что великая цель достигается только любыми средствами;
если они дурные, надо пройти и через это. Зато цель будет замечательна.
А Шекспир полагал и «Ричардом» пытался это доказать, что если средства
плохи, то цели политику просто не достичь. Он до власти, может быть, и доберет¬
ся, но все равно не удержится. В этом смысле очень интересен спектакль вахтан¬
говского театра с Михаилом Ульяновым в главной роли. Они сместили акценты и
сделали Ричарда доказательством другого тезиса, доказательством того, что вели¬
кое зло не делает человека великим. Можно творить много зла и оставаться при
этом мелким негодяем. У Шекспира это совсем не так. У него Ричард - фигура
крупная, великая.
- «Ромео и Джульетта» дважды за последнее время ставились в Вологде.
В традиционной манере - в драматическом театре; в авангардном духе - в ТЮЗе.
Последняя версия показалась мне скорее спектаклем о неспособности любить. Такой
Вечер шестой. Шекспир
475
смысловой перевертыш - спектакль о нелюбви - заложен в пьесу или вычитан интер¬
претаторами?
- Очень жалею, что не видел вологодских шекспировских спектаклей. Но то,
о чем вы говорите, о нелюбви, Шекспир просто написал другую пьесу - «Троил
и Крессида». В ней та же ситуация: молодые, прекрасные люди среди двух враж¬
дующих лагерей троянской войны. Он написал о том, как все оказалось не любо¬
вью, а ее противоположностью. Шекспир проигрывал ситуации со знаком плюс
и тут же делал ситуацию со знаком минус. Один пример не из этой пьесы. У Шек¬
спира четыре великие трагедии, три из которых называют тронными: «Гамлет»,
«Король Аир», «Макбет». Шекспир разыграл три разных отношения к власти,
к трону. Гамлет - принц, имеющий право на власть, которое ему как бы закрыли,
пресекли, и который не хочет внутренне занять трон. Король Лир - правитель на
троне не хочет больше оставаться королем. Макбет - великий человек по размаху
личности, имеющий право на трон, - не имеет права законного и захватывает его
незаконно. Дальше идет проверка: а что тогда произойдет с личностью? Если она
преступает через все человеческие запреты?
-Лее Толстой не принимал «КороляЛира», считал его неправдоподобным...
- Это гениально откомментировал один из лучших Аиров XX века Соломон
Михоэлс, заметив: «А сам-то что сделал? На старости лет, бросив дом, семью, ушел
в степь и умер где-то на полустанке. Совершенно, как король Лир». Несколько
раз повторял: так не бывает - и повторил судьбу. Естественно, что Толстой с его
диалектикой души не мог принять других принципов психологизма, вывернутых
в метафору, в сценический жест. У Шекспира просто все другое. Но жизненный
шекспировский психологизм как понимание человека оказался необычайно устой¬
чивым и себя оправдал.
- «Король Аир» по-своему востребован нашим временем, в котором тоже
«слепых ведут безумцы». Что откристаллизовывается через эту пьесу для нас, ны¬
нешних?
- В последних трагедиях Шекспира - «Лире» и «Гамлете» - мрачные и тяже¬
лые финалы отчаяния остаются внутри возможностей своего времени. Трагедия
безвыходна в данных условиях. Но это не безвыходность человеческая вообще,
а безвыходность данной человеческой ситуации, в которой хода нет. Не случайно,
что Шекспир завершает не бурей в «Лире», а пьесой «Буря». Это очень показа¬
тельно для него. Он не мог остановиться на ноте демонстрации того, что случи¬
лось с человеком, он должен был показать, что человеческое продолжает себя осу¬
ществлять и смертью Лира и Корделии мир не кончился. Лир хотел быть просто
человеком - мы знаем, что с ним произошло. Просперо из «Бури» настаивает, что
надо быть человеком. В человеке есть свое величие, непреходящее, на все времена.
- В одном из недавних выпусков телевизионного «Взгляда» талантливый пи¬
терский режиссер Алексей Балабанов, рассказывая о работе над новым фильмом
476
Как было и как вспомнилось
«Брат», заметил, что поменялось само содержание слова «брат». В старой Рос¬
сии оно было ключевым наряду с «мать» и «отец». Сейчас пьяному на улице кри¬
чат: «Эй, брат... » Вам не кажется, что в «Аире» Шекспиром угадана утрата
людьми их родовых связей? Старших дочерей короля связывает между собой нена¬
висть, а вся семейная ситуация в некоролевских вариантах повторяется в жизни
постоянно - нет родства?
- О перерождении самых близких, высоких понятий замечательно сказано
в «Макбете». Вещие сестры-ведьмы исполняют песню с очень простым и абсо¬
лютно непереводимым на русский язык припевом: «Прекрасное - ужасно; ужас¬
ное - прекрасно». «Fair and foul» - ключевые для Шекспира понятия. Их иногда
пытаются перевести как добро и зло. Но никто из русских переводчиков не делает
главного. Когда вещие сестры-ведьмы исчезают со сцены, появляется Макбет со
словами: «So fair and foul a day I have not seen» - «Такого прекрасного и ужасно¬
го дня я не видел», - и вы сразу понимаете, что сказанное этими фантастическими
существами родилось в душе Макбета. Фантастика как бы овнешняет то, что глу¬
боко спрятано в человеке. У Шекспира это обычный прием психологического по¬
каза души. Самое страшное, что произошло в поздних трагедиях Шекспира, - то,
что самое прекрасное становится самым ужасным. Посмотрите на финал «Мак¬
бета». Наказан, убит злодей Макбет - всеобщее ликование? Напротив, всеобщий
мрак, потому что ничего столь же прекрасного и равного Макбету нет и не может
быть. Прекрасный человек стал исчадием ада. Самое близкое родство, любовь пре¬
вращаются в свою противоположность.
«Вся суть так называемых вечных, неизменных ценностей культуры как раз
в том, что они обладают возможностью постоянно современного, изменяющего¬
ся отношения к ним (содержание), - писал Григорий Козинцев в своих рабочих
тетрадях. - Они обладают - перманентно трансформирующимся содержанием».
Пьесы Шекспира лучшее тому подтверждение.
1997
«Дорожка к Шекспиру, не более того»
Беседу с Игорем Шайтановым вел Владимир Козлов
- Игорь Олегович, вы только что сдали в печать Шекспировскую энциклопедию.
Какими оказались финальные параметры проекта?
- Это 650 статей и 85 печатных листов, созданных 50 авторами, - ничего
подобного о Шекспире в России не было. Шекспироведение у нас несколько
провалилось - причем не за последние двадцать лет. Предшествующие важные
достижения были связаны с предыдущим юбилеем - это середина 1960-х, когда
Венер шестой. Шекспир
477
вышли книги А. Аникста о творчестве Шекспира и биография в серии «Жизнь
замечательных людей», а позднее - книга о началах шекспировской драматургии
Л. Пинского, которая и сегодня входит в филологическую классику. Предваряя
их, увидело свет собрание сочинений Шекспира, которое и по сей день остается
основным русским изданием. С тех пор прошло более сорока лет. Даже в книж¬
ной серии «Литературные памятники», в которой за 60 лет вышло более тысячи
томов, напечатана лишь одна шекспировская пьеса - «Троил и Крессида», да и
та - в составе тома о Чосере. Только сейчас к юбилею - 450 лет со дня рождения
Шекспира - был подготовлен «Король Лир» (как подготовлен - это отдельный,
увы, нерадостный разговор).
Такие фигуры, как Пушкин, Шекспир, востребованы в культуре не только как
объект филологических исследований - на них вырабатываются методики рабо¬
ты переводческих школ, принципы театрального искусства. Мне хотелось в связи
с этим юбилеем перезапустить академическое отечественное шекспироведение.
Это вполне реальная задача, к тому же при РГГУ уже несколько лет существует
шекспировский научный семинар, в рамках которого сложилось определенное
профессиональное сообщество. Проект сильно расширил масштабы деятельно¬
сти - привлекались студенты, аспиранты, ученые, профессора. Один, скажем,
занимается Сервантесом, другой - итальянской драмой. А фигура Шекспира
стала основанием, которое позволяло объединять специалистов самого разного
профиля.
- Энциклопедий посвященных определенным авторам, у нас очень немного. По¬
чему?
- За последние годы ряд изданий о русских писателях появился, но очень раз¬
ного качества. В свое время я был у Ираклия Андроникова, когда ему прислали
верстку первой нашей авторской энциклопедии - Лермонтовской. Видя, с каким
выражением лица он листает эту верстку, я спрашиваю его: «Почему так печаль¬
но?» А он отвечает: «Понимаете, в моем поколении, чтобы это все знать, нужно
было прочесть всего Лермонтова и все лермонтоведение, а теперь человек возьмет
эту энциклопедию и будет думать, что он стал специалистом». Вот и я не хотел бы,
чтобы так думали люди, прочитавшие Шекспировскую энциклопедию. Нет, это
только дорожка к Шекспиру, не более того.
- Но все-таки энциклопедия предполагает, с одной стороны, что знание выво¬
дится на некий новый уровень, с другой-работа адресуется читателю за пределами
узкого круга специалистов. Аудитория энциклопедии - это ведь широкие культур¬
ные круги, верно?
- Конечно. Она выходит в издательстве «Просвещение» и рассчитана прежде
всего на учителя, студента, ученика. Но даже я, сорок лет занимаясь Шекспиром,
получая некоторые статьи, был потрясен новой фактографией. Например, по шек¬
спировским обществам в Москве и Петербурге Сергей Сапожков дает архивный
478
Как было и как вспомнилось
материал. Такой же материал идет по Шпету, который работал над Шекспиром в
период, когда он был отлучен от философии. Именно он готовил первое академи¬
ческое собрание Шекспира, и не его вина в том, что не успел этого сделать. Через
интерес к Шекспиру в период от пушкинской эпохи до современности русская
мысль перепроверяла свою состоятельность.
- Учитывая, что вы изучали рецепцию Шекспира, получается, что вам, по сути,
нужно было написать историю развития мировой культуры за последние 450 лет.
- В общем, да. В энциклопедии есть очень глубокие статьи по Ариосто, Каль¬
дерону, Сервантесу, Боккаччо, по немецкой, французской, итальянской рецеп¬
ции... Я уже не говорю о том, что английская литература вся создавалась в при¬
сутствии Шекспира.
- Как возник этот проект - вы его предложили издательству ?
- Десять лет я предлагал его издательствам. И были такие, кому идея очень
нравилась. Но я помню, один из совладельцев издательства ACT лет восемь на¬
зад подсчитал: чтобы проект окупился, он должен платить авторам - и назвал со¬
вершенно копеечную сумму. Я сказал, что на таких условиях не смогу привлекать
авторов. Нельзя сказать, что у «Просвещения» были принципиально другие ус¬
ловия, но в проект вошел также РГГУ - мы выиграли грант на разработку шек¬
спировской темы. Конечно, такие проекты могут существовать только на гранты.
Эта огромная работа во многом выполнена на профессиональном энтузиазме, но
хочется, чтобы она - поскольку профессиональная - и оплачивалась.
- Мне хотелось бы задать вам несколько простых вопросов, которыми может
задаваться всякий читающий Шекспира в России. Например, почему именно в нашей
культуре ему довелось сыграть настолько значительную роль? Это романтики ви¬
новаты в том, что они подсадили на Шекспира всю последующую русскую культуру?
- Действительно, бывший посол Англии в России Энтони Брентон написал
для «Вопросов литературы» эссе, которое называлось «Шекспир - русский». Он
признал, что ни для одной культуры Шекспир не значит так много, как для рус¬
ской.
Как выразился Гете: «Шекспир - и несть ему конца». Это тот масштаб гения,
когда прийти к нему может каждый. В отличие от элитарных писателей, к которым
простой читатель даже если и придет, то недалеко продвинется. А в Шекспире
каждый возьмет по мере своего разумения, сколько сможет.
Для всей европейской литературы XVIII-XIX веков встреча с ним была по¬
трясением. Романтики, которых вы упомянули, действительно, увидели, что их
мечты о свободе творчества, всемирности бытия в истории уже воплощены задол¬
го до появления их самих. А Россия в этот момент вместе с Пушкиным входит в
круг европейского знания. Пушкин, который до 1824 года думает, что современ¬
ность воплощена Байроном, получает том Шекспира, начинает его читать сначала
по-французски, потом, ради Шекспира, учит английский... И Пушкин потрясенно
Вечер шестой. Шекспир
479
понимает, что современность воплощена не романтиками, а Шекспиром. В этот
момент настоящий, подлинный, а не переделанный и обрывочный Шекспир вхо¬
дит в русское сознание. У Пушкина в диалоге с Шекспиром написаны и «Борис
Годунов», и «Граф Нулин», и заметки о его пьесах... А шекспировская «Мера
за меру» - якобы неудавшаяся пьеса, которую никто в Европе не читает! Пушкин
начинает ее переводить, затем пишет поэму на ее сюжет «Анджело» - о природе
власти, о которой сам он скажет, что «ничего лучше не написал».
- Откуда взялась проблема авторства Шекспира? Даже уточню: почему ока¬
залось столь мощным желание этот вопрос проблематизировать? Может быть,
вопрос о природе гения? Обязательно ли он выходит из аристократической среды
или, бывает, гений приходит из самых низов?Я пытаюсь понять сердцевину этого
спора, которая заставляет постоянно к нему возвращаться.
- В случае с Шекспиром есть несколько моментов. Во-первых, доказать, что
автор не Шекспир - это увлекающая воображение детективная задача. Во-вто¬
рых - усредненное сознание не умеет объяснить несовпадение между бытовым
стилем шекспировского завещания и высоким смыслом его поэзии, его заурядным
происхождением и всемирностью мысли. Об этом Пастернак написал в «Охран¬
ной грамоте»: почему посредственность, пытаясь понять законы гениальности,
навязывает гениям свои собственные представления о вещах? Он имел в виду как
раз антистрэтфордианцев, которые доказывали, что не Шекспир является автором
корпуса произведений, известных под этим именем. Сомнений в том, что Уильям
Шекспир существовал, нет. Мы имеем достаточно документальных данных о чело¬
веке, который родился в Стрэтфорде. Мы знаем даты его крещения и погребения.
Сомнение, известное теперь как «шекспировский вопрос», состоит в том, этот ли
человек, родившийся в апреле 1564 года в Стрэтфорде, написал все поэмы, сонеты
и пьесы, которые всемирно известны. Не буду вдаваться в фактические подроб¬
ности (они есть в моей биографии Шекспира, вышедшей в серии «ЖЗЛ»), но,
поверьте, - немало сохранилось свидетельств от людей, знавших, что лондонский
драматург и уроженец Стрэтфорда - одно лицо.
Это не отменяет проблемы авторства, но она не там, где ее видят антистрэт-
фордианцы. Если сегодня расхожим для нас стало выражение «автор умер», то
в шекспировскую эпоху - и особенно в театре - он еще не вполне родился. Нет
сомнений в том, что Шекспир начинает работать над драмами в соавторстве и
безымянно. Очень редко кому в те времена - как, например, Кристоферу Марло -
удавалось начать с именных произведений. Шекспир постепенно обретает силу и
начинает переписывать вещи, которые он поначалу, видимо, писал в соавторстве.
И речь не о славе, а о деньгах: кто получает гонорар? Видимо, бывшим соавторам
трудно было смириться с тем, что летом 1592 года успех приходит уже к одному
Шекспиру. Но тогда это был недолгий успех, поскольку лондонские театры за¬
крылись на время чумы. Пауза затянулась на два года. А когда Шекспир вернул-
480
Как было и как вспомнилось
ся в театр, там многое поменялось: Марло убит, Грин, автор ревнивого отзыва
о Шекспире, и Кид умерли, Лили отошел от театра. И оказывается, что на этом
еще недавно очень плотном фоне лондонской драматургии есть только одна круп¬
ная фигура - Шекспир. Летом 1594 года он становится драматургом труппы лорда
камергера, а спустя девять лет - по сути, придворным драматургом.
- Почему вы взялись заново переводить сонеты Шекспира?Я прочел вашу ста¬
тью об одном из сонетов в журнале «Литература в школе». Ведь есть целые ресур¬
сы, посвященные даже переводам одного сонета. Какие задачи в этой сфере реали¬
стично ставить?
- Тут несколько линий ответа, которые я только обозначу. Первое - мне было
важно рассказать о том, какое значение для русского восприятия Шекспира имели
переводы Маршака. Они начали публиковаться во время Второй мировой войны
и впервые были полностью напечатаны сразу после - в «страшное восьмилетие»
(по словам Давида Самойлова), когда лирика фактически была под запретом. То
есть сонеты заполнили огромную поэтическую лакуну и поэтому вошли в память
русского стиха. Но затем уже полвека Маршаку бросают вызов. Совершенно оче¬
видно, что Маршак не просто перевел сонеты Шекспира в романтический стиль
(как о том еще 50 лет назад написали Н. Автономова и М. Гаспаров). Он их ин¬
терпретировал в другой жанровой традиции. Проблема жанра - филологическая
проблема, о которой вот уже четыре года мы с вами говорим на научном семинаре
в Ростове-на-Дону. Жанр еще не стал категорией прикладной поэтики в духе бах¬
тинско-тыняновского понимания жанра как речевого слова.
Так вот, Маршак перевел сонеты Шекспира на язык русского жестокого ро¬
манса. Слово ренессансного сонета - рефлективное, размышляющее, а не поюще¬
еся и драматически надрывное, как у Маршака. Я перевел всего четыре сонета - и
читал их довольно много на разных площадках. Когда мне говорили о том, что со¬
неты мной «переведены в другой звук», я был рад это услышать, поскольку имен¬
но этого и хотел: перевести в другой звук, сменить интонацию, поставив вопрос о
том, как переводить жанр. Мы сегодня очень многое осовремениваем, поспешно
приближая к себе, присваивая. Между тем осовременить - это значит понять чу¬
жую современность, чтобы соотнести с сегодняшней.
- Удивительно, что вы понесли эти переводы в школу - кажется, она последняя
сегодня в очереди на понимание другого Шекспира.
- Шекспировские тексты входят в школьную программу. Пусть там услышат
другое звучание.
2015
Вологда. Соборная горка.
Вечер первый
г. Вологда, Реальное Училище.
Школа №1 города Вологды. Бывшее Реальное училище.
Вологда. Памятник К. Батюшкову,
ШМ
Мария Оттоновна Гриффин. Никольск,
ок. 1912 года. Фото из архива
И.О. Шайтанова.
Владимир Ильич Шайтанов. Последняя
фотография с надписью на обороте:
«Моему дорогому сыну Олику от любящего
папы. 26.1.1936». Сделано в городе Мариинске
Кемеровской области. Фото из архива
И.О. Шайтанова.
Удостоверение главного ветеринарного врача Никольского уезда
Вологодской губернии, 1918 год. Фото из архива И.О. Шайтанова.
Й.иШШШТ ¿ЛЬИЬг** КО¡р!Т-а а .Ц
УД.ООТОЬ'вР й и й ш
Предъявитель сего есть действительно
лаввдуюпз^ в ар-яьш отделом а©* цжхоль-
■ -е«оЯе-:''^уогст^'':ПГхГсг;1^СьЩ в зтерп нарны,Г врач"
Владимир нльич р аЛ т а н о в,что подписью
с приложением печати и удостоверяется.-
В этом доме с 1957 río 2001 год
жил видный ученый и педагог
декан филологического факультета
Вологодского
педагогического института
Олег Владимирович /
Шайтанов r^rjí
Олег Владимирович Шайтанов.
Вологда, 1970-е годы.
Фото из архива И.О. Шайтанова.
Муза Васильевна Шайтанова. Вологда, квартира на ул. Зосимовской
(бывшая Калинина), около 2000 года. Фото Н. Серовой из архива И.О. Шайтанова.
Зельман Шмулевич Щерцовский на уроке иностранного языка
в школе №1 г. Вологды. Фото с сайта Isrageo.com.
Семинар по культуре русской провинции (г. Вологда, ноябрь 1993 года),
послуживший началом проекту «Открытая трибуна». Слева направо: Морис Бонфельд,
Игорь Шайтанов, Анджей Дравич, один из спонсоров проекта, Наталья Серова,
Владимир Кудрявцев. Фото из архива И.О. Шайтанова.
Вечер второй
Игорь Шайтанов и Александр Фейнберг. Вологда, ноябрь 1972 года.
Фото из архива И.О. Шайтанова. Фото Михаила Кубенского.
И. 0. Шайтанов и Нина Павловна Михальская на заседании ученого
совета МГПИ, конец 1980-х. Фото из архива И.О. Шайтанова.
Владимир Владимирович Рогов,
первая половина 1960-х гг.
Фото из архива Ю.Г. Фридштейна.
И.О. Шайтанов. Начало 1990-х годов
Фото из архива И.О. Шайтанова.
Владимир Николаевич Ганин и Нина Павловна Михальская на кухне в квартире
Михальской на Ростовской набережной. Фото из архива В.Н. Ганина.
Галина Андреевна Белая и Мария Васильевна Розанова, жена
Андрея Синявского. Фото из архива П.П. Шкаренкова.
Выступает Владимир Новиков. За столом Татьяна Бек и Евгений Рейн.
Ирина Викторовна Ершова и Нина Сергеевна Павлова на кафедре
сравнительного изучения литератур РГГУ. Конец 1990-х гг.
Фото из архива И.В. Ершовой.
Игорь Шайтанов с женой Ольгой Афанасьевой
на вручении премии журнала «Арион», 18 марта 2004 года.
В первом ряду слева Олег Чухонцев и Наталья Иванова.
цЦ Ш
р!
щЩшЛ
Вечер третий и четвертый
Е.Ф. Книпович в молодости.
Фото из книги Книпович о Блоке.
Иосиф Львович Гринберг на совещании
молодых писателей, конец 1970-х годов.
Фото из архива И.О. Шайтанова.
Игорь Шайтанов и Валерий Васильевич Дементьев.
Поездка в Чембар на 175-летие В.Г. Белинского, июль 1986 года.
Фото из архива И.О. Шайтанова.
Е. КНИПОВИЧ
Е. КНИПОВИЧ
ОБ АЛЕКСАНДРЕ
БЛОКЕ
Воспоминания Дневники Коммен тари и
ОБ АЛЕКСАНДРЕ
БЛОКЕ
Воспоминания Дневники Комментарии
Обложка и титульный лист воспоминаний Е.Ф. Книпович о Блоке с дарственной
надписью семье Шайтановых. Фото из архива И.О. Шайтанова.
Евгения Федоровна Книпович, фотография для интервью в газете «Неделя».
Фото из газеты «Неделя». 1987 год.
Самуил Лурье, 1990 год. Фото из архива М.С. Лурье.
Валентин Курбатов. Пригласительный билет на встречу
в рамках проекта «Вологодские пенаты».
Знирпмскт ■сригчр* Вояолмово* о&штх
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 1
ФИЛАРМОНИЯ
мам» Зд.
Зал филармонии
Дарственная надпись Д. Самойлова
на книге «Линии руки».
линии
РУНИ
ч
у I
тихотворения
Ц?
V о
.о?
Дарственная надпись и быстрый
автопортрет Льва Озерова на книге
«Необходимость прекрасного».
^Лл£тФ<ье^гР
НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРЕКРАСНОГО
КНИГА СТАТЕЙ
о
обо
о
ЗЬ.
гЬ)<3 &-4иУО—
МОСКВА
советский писатель ф-зеС
Игорь Шайтанов, Алексей Парщиков, Аллен Гинзберг, Илья Кутик.
14 декабря 1985 года, дома у И. Кутика. Фото Е. Радова.
Алексей Алехин, поэт, главный редактор журнала «Арион». 1997 год.
Фото из архива А.Д. Алехина.
б июня 1999 года, Санкт-Петербург.
Алексей Алехин, Андрей Василевский, Игорь Шайтанов, Алла Латынина,
Олеся Николаева, Наталья Иванова.
Вечер пятый и шестой
Исайя Берлин.
Элисон и Робин Милнер-Галланд в
Вологде, 1994 год. Фото из архива
И.О. Шайтанова.
с jknttC\
**уТ>ыс?ь и
0^\ fijbj
к üZ{ ¡жц
■>jb-
OV-(Л
I
тЧу
к пн
THE CROOKED
TIMBER OF
HUMANITY
Chapters in the History of Ideas
ISAIAH BERLIN
Edited by
Henry Hardy
ynet
ALFRED A. KNOPF NEW YORK
Дарственная
надпись
Исайи
Берлина.
Джеральд Смит и Барбара Хельдт, Игорь Шайтанов.
1990-е годы, Москва. Фото из архива И.О. Шайтанова.
Карен Хьюитт и Игорь Шайтанов в Москве в компании петухов.
Ок. 2000 года. Фото из архива И.О. Шайтанова.
\
«Ваше здоровье, Игорь Олегович!» Почтовая открытка
от Валентина Курбатова, представившего себя в образе Сальери.
Из архива И.О. Шайтанова.
£ Ахо
(Kim ¡y Й kjUtuujJZhL ^4
bs&otoi (fCshtr^tAu
3-Г1^
9-246
Ц. 5 к.
7
/Tvr
¿W. aw ^ j^/7, *???*„
C*fr О няг
Л*
~ l? Щ o'"// f ' /
%л^1м/<и^*Я ** Г***4Л
¡iCf*n«Si< силе)C
ль (1856—1910)
Л
«"Х¿z
U&SC£W"~; ~ уф~~РЦ}3£
(¿'¿се _ XUM)tcuS ^?W
Сальери всыпает ял в бокал Моцарта.
Иллюстрация к драме А. С. Пушкина •
«Моцарт и Сальери». 1884 г.
Карандаш $С~Ыт ^ -. - • - -
Частное собрание. Ленинград ^ с abut, >о* Т**ля^/ ^лги U^LneesC/luo >Ь/ВС*' Г, 2)М*
М. A. Vrubel (1856—1910) / У 0 - , г-
Salieri Pours Poison into Mozart's Goblet._ Аясфиг *“в^
Illustration to A. S. Pushkin’s drama „ , t ftJULrCUjt It l~, n 5g
«Mozart and Salieri». 1884
V*7
- _
^ ^ ¿W*-.
Private collection. Leningrad
74* <r^-- ^ ~Л1-0Ы/ r
C ^?*-C ! ixyplT*- CtteSjr-
/ЛГ'/П ' / U AluS%tuMl yf f
•AZJb t д
ЛС/
Шекспировская энциклопедия, вышедшая в издательстве «Просвещение» под
общей редакцией И. 0. Шайтанова, который выступил также составителем и
основным автором. Удостоенная Национальной премии как лучший книжный
проект 2015 года, книга была выпущена мизерным тиражом и остается
фактически недоступной читателю.
Передача экземпляра
Шекспировской энциклопедии
Ричарду Овендену, хранителю
одной из лучших библиотек мира —
Бодлианской (Оксфорд).
Фото баронессы Эммы Николсон.
2015 год.
Вечер шестой. Шекспир
481
Казбек Султанов
Воля к ясности, или Ремесло филолога
Из множества конференций, в работе которых мне довелось участвовать, не
могу выделить ни одной, которая стала бы более значимой в каком-то высшем
смысле, чем очень давний - начало 70-х прошлого века - семинар молодых кри¬
тиков в Дубултах. Он не просто остался в памяти как одно из «мероприятий», но
явно стал событием (для меня - безусловно), о возможности которого мы, съехав¬
шиеся на балтийский берег, не могли и догадываться.
Напрашивается слово «атмосфера»: месяц нашего пребывания и взаимоуз-
навания пролетел, как пролетает «чудное мгновение», благодаря редкостной ат¬
мосфере поистине непрерывного общения, бесконечных разговоров, нелицепри¬
ятных обсуждений (в том числе в номере Аркадия Стругацкого, который отдыхал
в том же Доме творчества) и, главное, открытия друг друга. Игорь Шайтанов,
Самуил Лурье, Валентин Курбатов, другие наши товарищи по цеху...
Мы редко встречались в постдубултинский период, но даже как будто и не
нуждались в очных встречах, чтобы оживить семинарские впечатления, полагаясь,
видимо, на надежность нашей изначальной встречи, заложившей твердую основу
стойкого взаимного интереса.
Знакомство с Игорем, последующие дружеские отношения, сотрудничество
с возглавляемым им журналом «Вопросы литературы», не говоря уже о моей дав¬
ней привычке и потребности отслеживать его публикации, в наибольшей степени
располагают к тому, чтобы обратиться к упомянутому слову «событие».
Не могу забыть и другое событие - тот день (буду точнее - 3 декабря
1975 года), когда, разворачивая «Литературную Россию», я вдруг увидел рецен¬
зию под названием «Размышления по сути» на мою первую книгу «Поэзии не¬
угасимый свет» и фамилию ее автора: Игорь Шайтанов.
Для меня чрезвычайная важность этого отклика заключалась, помимо его со¬
держательного анализа, и в том, что он оказался авторитетной поддержкой, во¬
время подоспевшей и охладившей пафос гневного постановления Дагестанского
Обкома КПСС и не менее гневного выступления Расула Гамзатова на общем со¬
брании Союза писателей Дагестана, дружно осудивших вольнодумство молодого
критика (один из местных отзывов назывался «Истине вопреки», но представле¬
ние его автора об «истине» сводилось всего лишь к обязательному цитированию
документов ЦК КПСС, которое в книге обнаружить не удалось).
...23 марта 2015 года, научная сессия общего собрания Отделения истори¬
ко-филологических наук РАН «Современные филологические исследования
в России». Название прозвучавшего на пленарном заседании доклада И. Шайта-
нова «Филология - "смерть дисциплины"?» не могло не вызвать повышенного
482
Как было и как вспомнилось
интереса. Вопросительный знак отменял категоричность подобного рода утверж¬
дений, но трезвый взгляд на «текущее состояние теоретической рефлексии в фи¬
лологии» выявил тревожные тенденции.
Одна из них - «наша забывчивость», побуждающая «заново освоить соб¬
ственное наследие». Для докладчика «примером печального неведения нами
о том, чем обладаем», стала история идей и трудов А. Веселовского в России
в XX веке: всего три издания легендарной «Исторической поэтики» - и неуди¬
вительно, что «современному теоретику в принципе непонятно, почему к своему
знаменитому термину "историческая поэтика” Веселовский шел 30 лет и принял
его, лишь мотивировав для себя его возможность, оторвав от старой нормативной
"пиитики”».
Этот пример неслучаен - именно благодаря И. Шайтанову> взвалившему на
себя труд составителя, комментатора, автора вступительной статьи, впервые и,
что особенно важно, согласно авторскому плану в 2006 году появилась «Исто¬
рическая поэтика», а спустя четыре года - и тоже впервые - увидел свет почти
700-страничный том «На пути к исторической поэтике», вобравший в себя пред¬
варяющие «Историческую поэтику» работы. Два этих внушительных фолианта и
гигантский труд, стоящий за ними, не могли не получить признание: И. Шайтанов
стал лауреатом премии РАН им. А. Н. Веселовского.
Вернемся к термину, к которому пришлось идти 30 лет... Сегодня, когда про¬
фессионализм становится раритетом при обилии носителей ученых степеней, этот
растянувшийся на три десятилетия поиск адекватного понятия может быть вос¬
принят и в нравственном значении: этическая составляющая использования того
или иного термина для И. Шайтанова не пустой звук. Поэтому он нескрываемо
полемичен по отношению к тому, что назвал в докладе «легкостью порождения
терминов», которая стала «бедой не только литературной теории, но современ¬
ного мышления». Сказано было и о «бездумности терминотворчества», о бойко¬
сти воспроизведения «языка современной науки», которая «слишком часто не
является залогом самостоятельной мысли и нового подхода».
Доклад запомнился не менее острой постановкой вопроса о «текстуальности
истории», когда не только все тексты «равно значимы, а потому - якобы равно¬
ценны», но всё и вся объявляется текстом: «Шекспир такой же текст, как счет
из прачечной, и счет даже предпочтительнее, поскольку дает неожиданный взгляд
на литературу; поэтому занялись грязным бельем, графоманией, Пушкину пред¬
почли Булгарина. И объявили "смерть филологии”, а поэтика стала "бранным”
словом...». На ставшие назойливыми ярлыки докладчик достойно, на мой взгляд,
отреагировал напоминанием о неординарности и неповторимости фундаменталь¬
ного филологического знания, о способности филологии «оттачивать свой ин¬
струментарий, обострять понимание своей специфичности»: «Традиция чтения
текста - традиция филологическая!»
Вечер шестой. Шекспир
483
Проблема профессиональной специализации, тесно связанная с желаемой
востребованностью филологии, затронута во многих работах И. Шайтанова. Пом¬
ню его давнюю статью о критике как профессии, в которой переход критика в тот
или иной художественный жанр оценивался, позволю себе тавтологию, критиче¬
ски по той причине, что для критика, утратившего «чувство собственного лите¬
ратурного дела», неизбежен риск графомании, подтвержденный, кстати, вполне
конкретным примером.
Другой род утраты профессионального самоощущения - увлеченность фи-
лологизмом, гарантирующим нечитабельность критической статьи. И. Шайтанов
с его чутьем на несодержательные крайности - или самодовлеющий филологизм,
или дилетантская освобожденность от него - не мог не внести необходимое уточ¬
нение: «Критика должна быть филологически основательной, но далеко не вся¬
кий критик - филолог. Это тоже - другая профессия».
Он как-то заметил, что «существует не только путь опровержения крайно¬
сти крайностью». Этот вектор был знаком и Гамлету, предложившему свое опре¬
деление: «...перевес какого-нибудь свойства, / Сносящий прочь все крепости
рассудка». И. Шайтанову удается избегать подобного «перевеса» или перекоса,
подталкивающего мысль к рубежу крайности, выстраивая стратегию понимания
по другому маршруту - по пути продления профессиональной этики, образчиком
которой для И. Шайтанова стали дело и высочайшая научная репутация А. Весе¬
ловского, не утратившие и в XXI веке свой эвристический потенциал.
Впечатляет тематический диапазон научных интересов И. Шайтанова - шек¬
спироведение и поэзия Ф. Тютчева и К. Батюшкова, XVII век английских поэ-
тов-метафизиков и книга о творчестве Н. Асеева, реконструкция спора Чаадаева
и Пушкина о всемирности и «английское море в русской поэзии», переоткры-
тие Александра Поупа, «центральной фигуры в литературе своего времени»
(XVIII в.) и наболевшие вопросы современной компаративистики, фундамен¬
тально подготовленные издания А. Веселовского и «Дело вкуса. Книга о совре¬
менной поэзии», критико-аналитические отклики на творчество Д. Самойлова,
Б. Слуцкого, О. Чухонцева, Б. Рыжего и собственные переводы шекспировских
сонетов (прекрасную подборку в пятом номере «Иностранной литературы» за
2016 год предваряет его статья «Перевод как интерпретация»).
Добавлю в качестве не менее показательного примера творческой активности
и продуктивности напряженную работу по составлению антологий и сборников,
каждый из которых открывается однотипными выходными данными: вступитель¬
ная статья, составление, комментарии И. Шайтанова. Достаточно сослаться, по¬
мимо книгА. Веселовского, на такие издания, как «Англия в памфлете: Английская
публицистическая проза начала XVIII века», «Лирика» Д. Байрона, «Стихотво¬
рения и поэмы» Д. Китса.
484
Как было и как вспомнилось
На фоне нарастающей узкой специализации, когда стало хорошим тоном ссы¬
латься на «рамки компетенции», дефицита собирательной мысли и почти исчез¬
нувшего «духа целого» работы И. Шайтанова выделяются непротиворечивым
сопряжением национального модуса и парадигмы культурного универсализма,
предметного поэтологического анализа и широко понятой контекстуальное™,
чуткости к смысловым оттенкам слова и чувства «всеобщей связанности различ¬
ного», здоровой, то есть читабельной, академичности и литературности письма,
нередко вбирающего в себя нескрываемо личностную интонацию.
Если определиться с методологически доминирующим качеством, то я бы вы¬
делил волю к ясности - назовите это авторской генеральной идеей или внутренней
установкой на прояснение литературно-философских смыслов в неизменно под¬
разумеваемом присутствии читателя.
Он прямо-таки пробивается к сути и ясному пониманию, каким бы сложным
ни был объект изучения - будь это «ассоциативный план сюжета» в поэме «Ло-
дейников» Н. Заболоцкого или «тенденции и интенции отечественного шекспи¬
роведения», исторические метафоры Б. Пильняка или «культура» и «цивили¬
зация» в истории европейской мысли, русский миф и коммунистическая утопия
или «последний советский поэт» Борис Рыжий, перевод как интерпретация или
перевод как компаративная проблема.
Подобно тому, как опилки стягиваются к центру магнитного поля, лучшие
работы И. Шайтанова тяготеют к принципу ясности изложения и понимания,
не нуждающегося в злоупотреблении терминологией. Умение четко очерчивать
проблемное поле и вчитываться в текст, не теряя связи с его контекстом, дополня¬
ется потребностью додумывать и доводить мысль до конца - наверное, только на
этом пути можно найти иголку в стоге сена.
Чувствуется, как он вкладывается в задачу, не уставая задавать себе вопросы
(«что же собой представляет современная поэзия, увиденная в свете современной
теории и отвечающая требованиям современного вкуса?» и т.п.) ради того, что¬
бы центральную мысль «раскрутить до последней ясности», как любил говорить
М. Мамардашвили.
Запрос на ясность формулировок, на словесную и мыслительную вразумитель¬
ность, на логически корректный способ рассуждения и обоснования существовал,
конечно, всегда, но если бы меня попросили назвать тех, кто отвечает на этот за¬
прос сегодня, то я бы непременно назвал И. Шайтанова. Еще и потому, что он,
безусловно, относится к числу тех немногих филологов-интеллектуалов, которым
удалось вернуть в аналитику старомодный «вкус» как способность различения
подлинного и поддельного, ценности и ее имитации: как ни крути, «есть ценно¬
стей незыблемая скала / Над скучными ошибками веков» (О. Мандельштам). Ста¬
ромодность упомянута в том смысле, что еще в 1759 году англичанин А. Джерард
Вечер шестой. Шекспир
485
публикует «Опыт о вкусе», а спустя 49 лет С. Колридж прочитает лекцию на тему
«Определение вкуса» - имена, разумеется, хорошо известные И. Шайтанову.
Стоит выделить прозрачность его стилевой манеры (вот статья, а все понят¬
но, всё на русском языке - позволю себе слегка переиначить известные строки
из «Василия Теркина»), вовлекающей заинтересованного читателя в простран¬
ство авторской рефлексии. Притягательный импульс содержится уже в названиях
публикаций, обещая нетривиальную трактовку. «Две "неудачи”»: закавыченное
слово отсылает к чему-то более значительному и сложному, чем банальный про¬
вал, - ведь речь пойдет о шекспировской комедии «Мера за меру» и пушкинской
поэме «Анджело». «Уравнение с двумя неизвестными»: известные Джон Донн
и Иосиф Бродский в ранге поэтов-метафизиков обнаруживают глубинную взаи¬
модополняемость, безмерно усложняющую задачу исследователя. «Зачем сравни¬
вать?»: вопрос, кардинальный для компаративистики; не «что-то» с «чем-то» со¬
поставлять по случайному совпадению каких-то признаков, а зачем в принципе это
делать. «Эффект целого»: удачно найденная архимедова точка опоры в анализе
поэзии О. Чухонцева. «Географические трудности русской истории»: поначалу
приходит мысль о том, что В. Ключевский называл зудом колонизации, но подза¬
головок мгновенно проясняет квинтэссенцию непреходящей дискуссии в русской
культуре: «Чаадаев и Пушкин в споре о всемирности». «Была ли завершена
"Историческая поэтика?”», «Двадцатый или двадцать первый?» (статья, откры¬
вающая дискуссию «Современность современной поэзии»), «"Поэты-кавалеры”
в традиции английского стиха и русского перевода», «Профессия - критик»,
«Триада современной компаративистики: глобализация - интертекст - диалог
культур» - каждый из заголовков содержит четкий смысловой посыл, которому
предстоит развернуться в тексте.
Решил провести эксперимент: перечитал работы И. Шайтанова в поисках
псевдоакадемического усложнения языка. Безуспешное занятие... Оказалось,
что он сам неукоснительно следует тому принципу инструментальности теорети¬
ческих выкладок, о котором писал в связи с книгой И. Подгаецкой «Избранные
статьи», когда «любая проблема доводится до уровня слова и на нем проверяет¬
ся». Он осознанно отвергает умозрительную теорию, предпочитая прикладную,
погруженную в текст, избегая «тяжелого топота» терминологии, создающего,
как он пишет, «иллюзию причастности говорящего к научному сообществу». Ему
ближе нацеленность на пульсацию слова и его смысловых обертонов, на внутрен¬
нее равновесие литературного факта и его интерпретации, на материю текста, из¬
нутри которой восходит теоретически значимое наблюдение. Это тот приоритет,
о котором сказано в «Похвальном слове филологии» С. Аверинцева: «Слово и
текст должны быть для настоящей филологии существенней, чем самая блиста¬
тельная "концепция” <... > Как часто мы встречаем "интерпретаторов”, которые
486
Как было и как вспомнилось
умеют слушать только самих себя, для которых их “концепции” важнее того, что
они интерпретируют!».
Подспудно присутствующая, то есть непоказная, эрудированность дает о себе
знать не столько в обилии умных цитат, сколько в движении и разворотах прояс¬
няющей и сопрягающей мысли. Это не та эрудиция, которая, по словам самого
И. Шайтанова, опережает «развитие мысли и впечатлений потоком буйной фак¬
тографии», - скорее приобретенные им серьезные знания работают на сохране¬
ние, независимо от темы, общего плана культурной семиосферы, стимулирующего
масштаб видения проблем современной филологии и, с другой стороны, сосредо¬
точенность на архитектонике произведения.
Вот запомнившийся пример особого рода концентрированности на явных и
неявных смысловых сдвигах. И. Шайтанов приглашает вдуматься в монолог Гам¬
лета, точнее - в перевод М. Лозинским знаменитого вопроса принца датского:
«Что благородней духом - покоряться / Пращам и стрелам яростной судьбы /
Иль, ополчась на море смут...» И. Шайтанов делает шаг как бы в сторону: пере¬
водчик «создает стиль условной архаики, никогда не бывшей в русском языке».
Затем возвращается к отрывку во всеоружии угаданного факта, чтобы приобщить
нас к своей зоркости и к желанию «передвинуть тире, поставив его не после “ду¬
хом”, а перед». Почему? Да потому, что в этом передвижении больше «соответ¬
ствия и со смыслом, и с оригиналом, где страданию в душе противопоставлено -
“взяться за оружие” (to take arms). Но так как у Лозинского вместо этого простого
действия и простой фразы стоит велеречиво туманное “ополчась на море смут”,
то и читатель довольствуется общим смутным впечатлением какого-то грозного
эпического действа и... мирится с бессмыслицей».
В научном творчестве И. Шайтанова культурно-историческая память обна¬
руживает проективный потенциал, а новейшие литературные и интеллектуальные
интенции - укорененность в традиции, воспринимаемой в ее многозначности и
непрерывности. Эта укорененность имеет и прочный семейный замер: «Вернув¬
шийся после восемнадцати лет на Колыме, мой родной дед - Василий Андреевич
Перов - не утратил доставшегося ему от предков-крестьян ни физического, ни
психического здоровья. Многое было страшным: тюрьма, допрос, пытка, кора¬
бельный трюм, лагерь, тайга, урки... Дед ничего не подписал из того, что ему вме¬
нялось в вину, чем, видимо, спас себе жизнь, он получил от нее все, что полагается
в таких случаях по лагерному сюжету».
Вопреки постмодернистской склонности к поспешному удостоверению
распада «связи времен» и межпоколенческой преемственности И. Шайтанов
принципиально не спешит в своих работах с констатацией разрывов, надломов,
«смерти автора» там, где при большей сосредоточенности и отзывчивости мож¬
но уловить необорвавшуюся нить большой культурной традиции и радикально из¬
менившийся тип авторства (Шекспир, Пушкин).
Вечер шестой. Шекспир
487
Структурно-семантический анализ обретает необходимую полноту благодаря
контекстуализации проблемы или произведения, которые формируются в опре¬
деленных временных и историко-культурных параметрах, иначе говоря, в контек¬
сте, взятом во всей полноте его составляющих - от дотошных хронологических
уточнений и детализированных событий до ментальных тонкостей и имманентно
вызревающей перестройки общественного сознания.
В названии опубликованной в «Вестнике Европы» статьи «Шекспир. Об¬
стоятельства и проблемы творческой биографии» артикуляция «обстоятельств»
предваряет «проблемы», но именно обстоятельно воссоздаваемый контекст ста¬
новится тем заветным ключом, который открывает возможность перечитывания
как необходимого условия переосмысления, минуя соблазн осовременивания.
При всей известной непроясненности некоторых перипетий в биографии
Шекспира И. Шайтанову удалось реконструировать такое множество реалий, что
каждое обобщение и каждый поворот мысли поддерживаются безоговорочной
достоверностью факта: «В частный театр пришел другой зритель. Сцена предло¬
жила новые постановочные возможности. Играли не днем при солнечном свете,
как это было в общедоступных театрах, а вечером, при искусственном освещении.
Канделябры использовались для небывалых световых эффектов, но со свечей нуж¬
но было снимать нагар. Антракты стали необходимостью, а деление пьес на пять
актов - реальностью. В антрактах играла музыка, присутствие которой расшири¬
лось и во время спектакля. Появляются декорации и повод для более широкого
использования машинерии».
Чем дальше прошлое, тем результативнее действуют воссозданные бытовые,
ментальные, топографические детали и уточненные данные - вплоть до указания
дня и месяца. Такого рода одушевляющая детализация, необычайно притяга¬
тельная для читателя, в полной мере представлена в почти 500-страничной книге
И. Шайтанова «Шекспир», изданной в серии «ЖЗЛ».
В работе «Две "неудачи”: "Мера за меру” и "Анджело”» та же плотность кон¬
текстуализации и, если хотите, одомашнивания некогда существовавшей жизни,
воссоздаваемой в живых подробностях спустя четыре столетия: «"Мера за меру”
была поставлена при дворе 26 декабря 1604 года. В предшествующем марте умерла
королева Елизавета и на трон взошел Яков I, родоначальник династии Стюартов.
В его коронации приняла участие и шекспировская труппа, которая с тех пор из-
под покровительства лорда-камергера переходит под покровительство самого ко¬
роля и именуется его слугами (king’s men). Больше при дворе пьесу не ставили».
Своевременно всплывающие детали восстанавливают ткань отшумевшей
эпохи, свидетельствуя о конкретном знании, которое озабочено по возможности
адекватным прочтением истории, освобождающем читателя от скольжения по по¬
верхности, от приблизительности общих мест и представлений.
488
Как выло и как вспомнилось
Неоднократно и по разным поводам И. Шайтанов прибегает к двум поняти¬
ям, явно полюбившимся и возведенным в ранг ключевых: «далековатые» идеи,
к сопряжению которых призывал еще Ломоносов в «Кратком руководстве к крас¬
норечию», и «встречное течение», введенное А. Веселовским и ставшее методо¬
логически базовым в сравнительном изучении литератур. Объединенные смыс¬
ловой установкой на трансгрессию, они отсылают к жизненно важным аспектам
межкультурного общения и межличностной сообщительности поверх националь¬
но или темпорально отмеренных пределов.
По большому счету работы И. Шайтанова выразительно свидетельствуют
о мощных «встречных течениях» двух великих литератур и культур - русской и
английской, которые не вчера сошлись в диалоге и продолжали его вопреки поли¬
тическим разногласиям и периодам взаимонепонимания. Нет, разумеется, нужды
распространяться о том, чем стали для русского литературного сознания Шекспир
и Байрон, Шелли и Вальтер Скотт и какое место в английской культуре отводится
Толстому, Достоевскому, Чехову...
Изданная в позднесоветское время монография «Мыслящая муза. "Открытие
природы” в поэзии XVIII века» (1989) и постсоветский солидный том «Компара¬
тивистика и/или поэтика. Английские сюжеты глазами исторической поэтики»
(2011) продемонстрировали на конкретном материале, как и в силу каких пред¬
посылок происходит схождение «далековатых» идей, резонирующее и в нацио¬
нальном культурном пространстве, и в состоявшемся межкультурном диалоге. На¬
рочито акцентирую бинарную оппозицию «советское - постсоветское», чтобы
отказать ей в идеологической весомости там, где расположился профессионализм,
остающийся верным себе при любой политической погоде.
Многоаспектно развернутый в трудах И. Шайтанова дискурс этой проблема¬
тики и, если брать шире, устойчивый приоритетный интерес к сопоставительной
поэтике закономерно располагают к тому, чтобы назвать его одним из виднейших
представителей отечественной компаративистики. Уместно напомнить не только
о том, что возглавляемая им кафедра в РГГУ именуется кафедрой сравнительной
истории литератур, но и об издательском проекте журнала «Вопросы литерату¬
ры» - сборнике «Проблемы современной компаративистики» в серии «Универ¬
ситетская библиотека», которая выходит под общей редакцией И. Шайтанова.
К компаративистике лучше не приближаться, если отсутствуют стремление
и умение оттенить своеобразие через сопоставление творческих индивидуально¬
стей. Выверенные логика и техника компаративистского анализа, за интригующей
динамичностью которого следишь с неослабевающим интересом, отличают рабо¬
ту И. Шайтанова «Две "неудачи”: "Мера за меру” и "Анджело”».
В 1833 году, во вторую Болдинскую осень, Пушкин переделывает шекспиров¬
скую пьесу «Мера за меру» в поэму «Анджело», хотя первоначально его посети¬
ла мысль о переводе. Переделывать - значит и кое-что заимствовать, но И. Шай-
Венер шестой. Шекспир
489
танов пишет о «смысле, угаданном в пьесе» Пушкиным, и, более того, о только
недавнем приближении современных шекспироведов к этому смыслу. Еще один
сюрприз ждет неискушенного читателя - «Анджело» в самооценке Пушкина,
которая прозвучала в устах творца «Евгения Онегина» и «Медного всадника»:
«ничего лучше я не написал».
За пьесой Шекспира закрепилось с 1623 года жанровое определение «коме¬
дия», но и здесь интригующая нота: «Но комедия ли это? В ней так много мрака,
греха, смертельной опасности...» Кроме того, пьеса «не вписывается в наше по¬
нимание комедии». Если Д. Найт находит исток «Меры за меру» в средневеко¬
вом жанре моралите, то И. Шайтанов не без оговорки принимает этот подход:
«...можно принять, лишь помня о совершенно иной мере человечности у Шекс¬
пира в сравнении со средневековым жанром. Ведь в качестве одного из самых
"вольных и широких" характеров у Шекспира Пушкин приводит Анджело: "... ка¬
кая глубина в этом характере!"».
Исследователь все пристальнее вглядывается в жанровую природу пьесы,
обнаруживая не столько монополию одной жанровой разновидности, сколько
«борьбу жанров», обусловленную тем, что основные события «совершаются не в
каком-то одном измерении, пусть самом чреватом смыслом и глубинном, но меж¬
ду уровнями». Серьезный семантический сдвиг в понимании пьесы стимулирует
найденная И. Шайтановым формула: «экспериментальный опыт, возникший на
грани разложения эпического мира».
Вот с чем имел дело Пушкин, который не мог не обратить внимание на со¬
существование жанровых кодов в границах одного произведения! Тут возникает
сакраментальное слово «романность», взятое в соответствии с М. Бахтиным не
в амплуа жанровой категории, а как «характеристика состояния современной
культуры». «Мыслить романно, - продолжает И. Шайтанов, - значит мыслить
современно и предоставлять свободу жанровому многоголосию в каждом произ¬
ведении».
Шекспировский текст оказался настолько значительным «поводом для пуш¬
кинского осмысления современности», что в «Анджело» отразился «процесс
рождения романности одновременно с обществом и человеком, которым это
многоголосие присуще». Доказательно выявляя это наиважнейшее место поэмы
в творчестве Пушкина, И. Шайтанов в финальных строках статьи призвал читателя
к доверию поэту, который совсем неслучайно признался в том, что «ничего лучше
я не написал».
Отработанная техника сопоставлений стилевых систем позволяет И. Шайта-
нову находить точные формулировки, конкретизирующие отличимость одного
художественного мира при его сближении с другим. Сверяя, например, француз¬
скую и русскую модификации жанра басни, он фиксирует несхожесть, предопре¬
деленную не в последнюю очередь национальным своеобразием, но делает это на
490
Как было и как вспомнилось
уровне стилевой характерности Лафонтена и Крылова, по-своему принадлежащих
к одной жанровой традиции. Если Лафонтен «индивидуален в пределах системы
классического стиля» и «завершитель», то Крылов - «родоначальник принципи¬
ально новой литературной системы, где индивидуальность задана изначально...».
Если Крылова отличает «предельная речевая индивидуализация», то Лафонтен
«индивидуален в изложении вечных истин и, если позволяет себе быть простона¬
родным, то изысканно простонародным».
И. Шайтанов умеет вовремя и к месту ввести компаративистский сюжет,
высвечивая с большей ясностью крупный план, ранее не угаданный другими кри¬
тиками. В статье «Эффект целого» о поэзии О. Чухонцева непредсказуемо, но
многообещающе появляется оксюморонная параллель с И. Бродским, совмеща¬
ющая, казалось бы, несовместимые состояния: «...противоположен Бродскому
и в силу этого дополнителен к нему в русской поэзии».
Если Бродский - это Петербург, то первоистоки Чухонцева уходят в русскую
провинцию и Москву. Тем не менее И. Шайтанов прибегает к понятию «двухго-
лосие», осмысляя его как «основной тон русской культуры». Твердые мысль и
рука компаративиста заявляют о себе, когда автор выходит на соотнесенность ху¬
дожественных почерков: «Бродский бросил вызов лиризму, а в сущности чему-то
гораздо большему - тому, что есть то ли мягкость и женственность русской души,
то ли ее склонность перемежать слезливую истерику приступами буйства. Чухон¬
цев сделал то, что многим кажется невозможным: он остался лирическим поэтом
в момент, когда лирика была скомпрометирована многословием, самоповторе-
нием и предана ерническому надругательству. Чухонцев побеждает недоверие
искренностью и глубиной, сопрягая в своем чувстве простое и высокое. Здесь
и коренится возможность аналогии с метафизической поэзией».
В статье «Уравнение с двумя неизвестными (Поэты-метафизики Джон Донн
и Иосиф Бродский)» И. Шайтанов находит «почти буквальное совпадение» опы¬
та русской поэзии XVIII века с поэзией «европейского барокко, большей частью
для них неизвестной», а державинскую оду «Бог» трактует как «самую близкую
параллель метафизическому стилю Бродского». Но ход мысли ориентирован не
на обнаружение реально существовавшего русскоязычного аналога Джона Дон¬
на, а на укрупнение формата проблематики и поиск ответа на заданные вопросы:
«Можно ли в каком-нибудь смысле говорить о русской “метафизической поэзии",
нужно ли это делать и почему европейская поэзия, принадлежащая этой традиции,
так долго не задевала русского сознания?» Следы присутствия в русской литера¬
туре метафизической функции выявляются уже в ХУШ веке, но для И. Шайтанова
осознание феномена метафизической поэзии невозможно, минуя опыт русской
поэзии XX века: «Ломоносов и Державин указывают в направлении именно ме¬
тафизической поэзии, но в их стиле еще нет необходимой личной свободы. Она
придет много позже - с Цветаевой и ее современниками. Державин и Цветаева -
Вечер шестой. Шекспир
491
вот, пожалуй, сочетание крайностей, необходимое для русского поэта-метафизи-
ка. Сочетание, которое показалось бы фантастически невозможным... но лишь до
явления Бродского».
Современная компаративистика, не устает напоминать И. Шайтанов, ну¬
ждается в обновленческом импульсе и перспективных идеях, генерирующих рас¬
ширение ее традиционных границ. Одна из них - перевод как компаративная
проблема - развернута в его работе «Переводим ли Пушкин?». В центре вни¬
мания - смещение центра тяжести в сферу переводимости/непереводимости,
инспирированное статьей В. Беньямина «Задача переводчика» почти столетней
давности.
Ответственность переводчика становится приоритетной, предполагая в пер¬
вую очередь его обязательство перед своим языком вместо лицензии на «верность
оригиналу». Новизну интерпретации перевода как компаративной проблемы
И. Шайтанов связывает с повышением интереса к «разности языковых и культур¬
ных ситуаций: той, откуда пришел текст, и той, в которую он пришел».
Не откажешь ему в проницательности, когда он демистифицирует самый по¬
пулярный, если иметь в виду перевод на русский язык, упрек в русификации как
форме расхождения с оригиналом. С одной стороны, «она действительно бывает
комичной и избыточной», но с другой - куда большим и ущербным для «друж¬
бы народов» является перевод на язык переводной литературы под видом «пе¬
ревода» на русский язык. Явление «языка переводной литературы», на который
переводили с национальных языков, - находка И. Шайтанова, если помнить о не¬
давнем прошлом, когда перевод работал как обслуживающий «литературы наро¬
дов СССР» конвейер, а изобилие расхожих клише, общих мест и штампованных
метафор, кочующих из одного перевода в другой, не утруждало себя хотя бы кос¬
венным приобщением к национальной специфике.
Еще наблюдение, подтверждающее туже проницательность. Почему все-таки
Пушкин не поддается или, вернее, с непреодолеваемыми трудностями поддается
переводу на нерусский язык? И. Шайтанов объясняет ставшую привычной ситуа¬
цию, ставя во главу угла культурно-функциональную усложненность пушкинской
поэтики: «В пушкинской поэтике были компенсированы все предшествующие
этапы, не пройденные, не пережитые в русской национальной культуре: в первую
очередь - Ренессанс и отношение к античности. Все это делает пушкинский стиль
русской национальной классикой и одновременно объясняет классические черты в
его поэтике».
Много делая для преодоления синдрома «мелочности» («описание вы¬
рванных из контекста связей, перекличек, влияний») традиционной компарати¬
вистики и восстановления ее профессионального статуса, И. Шайтанов всерьез
обеспокоен судьбой дисциплины, имплицитно связанной с существенным отли¬
чием «мировой литературы», поощряющей компаративистски ориентирован-
492
Как было и как вспомнилось
ную трансгрессию, от глобальной, присутствующей в словарях как панлитерату¬
ра (наднациональная, общая для всех - в соответствии с греческой приставкой
«рап» - «все»).
Первая подразумевает «всемирную связь» различных литератур, но вто¬
рая предпочитает «всемирное чтиво», напрочь лишенное какой-либо привязки
к «малой родине», почве, корням. Замену «мировой литературы», освященной
именем и поддержкой И. В. Гёте, на «глобальную», как и замену «всемирности»
с ее 200-летней историей на «глобализацию», И. Шайтанов уподобляет «отказу
от французской, мексиканской, японской или любой другой кухни в пользу все¬
мирного Макдоналдса». За всеобщей кулинарной и культурной унификацией -
засилье растиражированных подобий ценой утраты различия, вне и без которого
сравнительное изучение теряет смысл.
И. Шайтанов резонно предлагает расширительное толкование компарати¬
вистской методологии, преодолевающей дисциплинарную замкнутость и выхо¬
дящей на простор общественной востребованности и насущной необходимости.
Дело в том, что социум в его политической, идеологической, экономической
ипостасях «насквозь компаративен», перманентно сталкиваясь с болезненными
проблемами межнационального взаимопонимания, которые не только у нас, но и
«в масштабе мировой истории» решаются «катастрофически плохо».
Внедисциплинарный формат размышлений И. Шайтанова позволяет разгер¬
метизировать устойчивое филологическое ядро компаративистики, усиливая ее
креативную общезначимость в расширившемся социокультурном контексте -
вплоть до прямого предложения политикам «овладеть основами компаративисти¬
ки». Но что это может дать прожженным прагматикам, присягнувшим интересу
в ущерб идеалу - в том числе идеалу межнационального согласия, по-разному
сформулированному Пушкиным («когда народы, распри позабыв, в великую се¬
мью соединятся») и Толстым («искать то, что объединяет людей, а не разъединя¬
ет их»)?
Приобщившись к поучительному смыслу одного из постулатов классической
компаративистики, современный политик мог бы, не совершая известных ошибок,
продвинуться в понимании, например, того, что «невозможно полюбившуюся
идею пересадить на чужую ей почву, поскольку для подобного эксперимента тре¬
буется "встречное течение”: нельзя укоренить идею свободы там, где отсутствует
идея ответственности, поскольку свобода трансформируется в нечто совсем иное,
часто противоположное».
Еще одно заметное направление творческой деятельности И. Шайтанова.
Многим запомнился полемический накал его «Записок "Начальника” премии»,
ставших блестящим ответом на негодование литературной тусовки, потрясенной
отсутствием В. Пелевина в short-list Букера-97. Резонансным стало и недавнее
мнение И. Шайтанова по поводу учебника «Поэзия» (2016), вышедшего под
Вечер шестой. Шекспир
493
грифом Института языкознания РАН. Этот гриф-гарант никак не мог противосто¬
ять прозвучавшей содержательной оценке: «пренебрежение к лингвистической
природе современной поэтики» и «разрыв между яростно декларируемой совре¬
менностью поэзии и по своему существу устаревшим разговором о ней». Не без
иронии, вполне уместной, цитируется первая фраза первой главы книги: «Как и
многие другие важные вещи в жизни - воздух, например, или любовь, - поэзия не
совсем то, чем она кажется». Ну как не согласиться с И. Шайтановым: «популяри¬
зация нередко оборачивается пошлостью»? Увы, ажиотаж вокруг «Поэзии» полу¬
чил, как нередко у нас бывает, парадоксальную развязку: книга оказалась награж¬
денной в номинации «Учебник XXI века» на книжной ярмарке-2016 (ВДНХ).
В продолжение темы полемизирования следует особо выделить позицию
И. Шайтанова по отношению к постмодернизму. Сегодня И. Шайтанов один из
немногих последовательных и критически настроенных оппонентов постмодер¬
низма как инициатора тотального эстетического релятивизма, восстания против
ценностей и всего того, что нарекалось «классическим», апологета самодов¬
леющей фрагментации в пику целому и целостному, которое приговаривалось
к распаду, как вообще любой метанарратив. Ему как автору цикла работ, объеди¬
ненных «идеей всемирности в меняющихся контекстах», было не по пути с пост¬
модернистской идеологией «культурной уравниловки», порывающей с идеей
ценности и одержимой идеей относительности всего и вся.
Вот характеристика, точно схватывающая суть проблемы: «Постмодерн -
явление не элитарного сознания, а элитарной рефлексии по поводу неизбежного
прихода масс, каковой нужно оправдать теоретически и к которому следует под¬
готовиться на практике. Одним из следствий неизбежного торжества массового
вкуса в литературе должно быть полное равнодушие к литературе как искусству
слова».
Даже «шекспировский вопрос» (кто же подлинный автор?), считает он,
«расцвел на почве постмодерна, когда означающее разошлось с означаемым и под
каждым означающим начали подозревать какую-то иную таящуюся реальность.
Хорошим тоном стало подозревать все, даже очевидное».
Не покидая как исследователь межкультурный перекресток, И. Шайтанов одо¬
левает постмодернистскую парадигму глубоко осознанной верностью большой
культурной традиции, взятой в ее непрерывности (ни один «-изм» не в состоя¬
нии «отменить» Шекспира и Пушкина, все-таки обреченных на бессмертие, пока
живо человечество). Добавьте к этому его неизменно мотивированное обращение
к регулятивным универсальным идеям всемирности, отзывчивости, единства миро¬
вой культуры, ничего общего, конечно, не имеющим с «прямолинейным глобализ¬
мом» и тем более с «принесением ему в жертву национальных культур».
Эти идеи в анализе «Медного всадника» становятся первостепенными.
И. Шайтанов напоминает о том, что «дело всемирности требует установления
494
Как было и как вспомнилось
связей, и пушкинское между (между Петром и Евгением. - К. С.) выступает зна¬
ком этой всеобщей связанности различного, concordia discors». Но какова россий¬
ская судьба «всемирной идеи» ? Особую весомость ответу И. Шайтанова придает
заключительный глагол: «Первая задача всемирности для России - обжить свое
пространство, наполнить его историей, одухотворить, очеловечить».
Глобализация, по И. Шайтанову, отрицает индивидуальность культуры, с чем
он не может согласиться, артикулируя свою сопричастность и неравнодушное
отношение подлинного русского интеллигента к судьбе и выживанию локальных
литературных и культурных миров с их болезненным предчувствием угрозы по¬
ражения в правах, отмирания суверенности и непохожести. Апелляция к апро¬
бированному в истории высокому статусу русского интеллигента подсказана
размышлениями самого И. Шайтанова, безошибочно опознающего «характер
русской культуры, в силу своей истории вынужденной издавна определять свою
особенность в отношении других культур и, более того, с первых шагов научной
рефлексии поставить вопрос о продуктивности взаимодействия “своего” и “чу¬
жого”». При этом И. Шайтанов не мог не уточнить, что «у истоков этого рас¬
суждения в русской компаративистике стоит А. Н. Веселовский, для которого во
встрече сюжетов и литератур всегда подразумевалась “встреча разных культур”»
(цитата внутри процитированных слов И. Шайтанова - наблюдение М. Азадов-
ского).
В «Записках “Начальника” премии» он назвал литературу постмодерна вто¬
ричной «по отношению к тому, что происходит в нашей жизни. В желании пой¬
ти дальше действительности наш постмодернизм умеет лишь удвоить и утроить
“свинцовые мерзости”». Он пишет о «чернушных текстах, составленных из отхо¬
дов языка и культуры», о «доморощенных постмодернистах», увлеченных «об¬
ломками и обмылками», остро реагирует на симптомы «сознания, загипнотизи¬
рованного пустотой», определившего тональность романов «Ермо» Ю. Буйды и
«Чапаев и Пустота» В. Пелевина.
Позднее во вступительном слове «Проект Pelevin», предваряющем посвя¬
щенный Пелевину раздел «Книги, о которых спорят» в «Вопросах литературы»
(2003, № 4), И. Шайтанов назовет его «слагателем текстов, речевых, но лишенных
языка. Он работает интонацией, разговорным блоком, идиомой, конструкцией
<...> образами компьютерной графики и ее приемами. И неплохо это делает, соз¬
давая не очень сложные, но действующие модели сознания». Романы Ю. Буйды
и В. Пелевина разножанровые, но их объединяет «готовность авторов принять
представление о культуре как о большой свалке, где можно сыграть в игру “сделай
сам” и сложить забавную мозаичную картинку из разбросанных осколков».
И. Шайтанов договаривает до конца, раскрывая сущность своего принципи¬
ального несогласия с претензиями постмодернистов: «... меня в культуре интере¬
суют линии связи, их - линии разрывов. Я бы хотел устанавливать связь неслучай-
Венер шестой, Шекспир
495
ных совпадений, они полагают, что "чем случайней, тем вернее”, во всяком случае,
тем интересней слагается подобие целого».
Линии связи слагаются в силу притяжения большой традиции, уходящей в глу¬
бины русской и европейской культур и неотрывно связанной с мыслью об «одной
цепи культуры». Эту метафору И. Г. Гердера И. Шайтанов называет великой, не
теряет из виду и с неослабевающим постоянством держится обозначенного ею
горизонта: «цепь, связующая (но не сковывающая) и удерживающая в единстве
исторического бытия, а не обрывки гнилой бечевки».
Отсутствие несковывающей связности различного, как известно, мучило Ни¬
колая Степановича из «Скучной истории» А. Чехова: он сетовал на то, что в по¬
сещающих его мыслях и чувствах «нет чего-то главного, чего-то очень важного...
нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и ка¬
ждая мысль живут во мне особняком...».
За девять лет до чеховской повести увидели свет «Братья Карамазовы» (1880),
вторая часть которых завершалась главой «Из бесед и поучений старца Зосимы».
Одно из поучений содержало в себе искомую формулу, за вневременной фило¬
софской насыщенностью которой распознается не только злободневный смысл,
но и компаративистская интонация, столь близкая Игорю Олеговичу Шайтанову:
«... ибо все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь - в дру¬
гом конце мира отдается... Все, как океан, говорю вам».
Всё течет, но и соприкасается...
2016
496
Как было и как вспомнилось
Из личного архива Игоря Шайтанова
«Троил и Крессида» - на сцене
Среди спектаклей, показанных в Вологде Красноярским театром имени Ле¬
нинского комсомола, особый интерес вызывает трагедия Вильяма Шекспира
«Троил и Крессида».
Сравнительно малая известность пьесы (она была поставлена в Лондоне
в 1679 году) открывает перед ее постановщиком - главным режиссером театра
Ю. Мочаловым - и исполнителями самые широкие возможности для непреду¬
бежденного, самостоятельного ее прочтения.
Задача режиссера, обратившегося к постановке пьесы, принадлежащей иной
эпохе, в данном случае эпохе Ренессанса, во многом подобна задаче литератур¬
ного переводчика. Сохраняя верность оригиналу, стремясь передать специфику
драматургии, он в то же время должен создать собственное произведение, способ¬
ное заинтересовать и увлечь зрителя. Режиссер как бы переводит пьесу на язык
современного ему театра, создает спектакль - зрелище, без которого немыслимо
театральное искусство.
Однако в центре режиссерских поисков прежде всего находится верное смыс¬
ловое решение пьесы, которому и подчинен выбор необходимых театральных
средств: актерской техники, декораций, костюмов, светового оформления.
Трагедия «Троил и Крессида» даже по сравнению с другими произведени¬
ями самого Шекспира выделяется стилистической многоплановостью. В ней пе¬
реплетены три основные темы: трагическая - любовь Троила, героическая, свя¬
занная с образом Гектора, и сатирическая, которая звучит в образах Пандара и
греческих вождей. Не случайно на афишах спектакля значится «трагедия-сатира».
Пожалуй, невольно возникает параллель между трагической историей любви
Троила к Крессиде и Ромео к Джульетте. Там - любовь и вражда, здесь - любовь и
война. Однако можно ли считать шекспировского Троила вторым Ромео? Уже по¬
средничество сводника Пандара, к которому он прибегает, составляет разительный
контраст с его пылкими речами о безграничной любви. Тем не менее Троил в ис¬
полнении артиста Шагина предстает не только идеальным влюбленным, но и свое¬
го рода «голубым героем». И это не случайно - такова режиссерская концепция.
Правда, для этого понадобилось несколько подредактировать, подправить
Шекспира: передать часть текста Троила Гектору и наоборот. Такое решение не
может не вызвать определенных возражений, особенно в сцене спора троянских
вождей о целесообразности войны за Елену, где теперь не Троил, а Гектор высту¬
пает с предложением о мире. Не говоря уже о том, что подобная перестановка
Вечер шестой. Шекспир
497
порождает ряд противоречий, она снижает остроту конфликта первой части спек¬
такля, где эпическая простота, мудрость Гектора должна оттенять ослепленного
страстью Троила. При всей искренности чувства Троила нельзя не заметить опре¬
деленной аффектации его проявления.
Нам кажется, что стоило бы подчеркнуть нарочитость, выспренность языка
обоих влюбленных. «Пышными сравнениями», против которых Шекспир пишет
знаменитый 130-й сонет («Ее глаза на звезды непохожи»), обильно пересыпа¬
на речь Троила (например, первый монолог). Ведь истинным героем трагедии
у Шекспира является не влюбленный, красноречивый Троил, а Троил, пережив¬
ший жестокое разочарование и лишь в конце, подобно Гектору, постигший дей¬
ствительную суть войны. Именно в трагической второй части с блеском раскрыва¬
ют себя актеры Шагин (Троил) и Петров-Саввич (Гектор).
Удачное решение сатирической темы в образах Пандара (артист Головин,
кстати, он же исполняет роль Ахилла!) и греческих вождей способствует успеху
всего спектакля. Как одну из лучших актерских работ нужно назвать роль Терсита
в исполнении артиста Колпакова. «Безобразный и непристойный грек» стано¬
вится мудрым, подлинно шекспировским шутом.
Все исполнители ролей, хотя, конечно, в разной степени, достойны похвалы.
Возможно, представленными в более гротескном плане хотелось бы видеть не
только Аякса (артист Шемряков) и Ахилла, но и других греков: Улисса, Нестора.
Актерская удача в шекспировском спектакле тем более ценна, что исполни¬
тели имеют дело со стихотворным текстом, работа с которым создает дополни¬
тельные трудности. Но в целом и эта задача была решена, что лишний раз актеры
продемонстрировали завершающим спектакль чтением сонетов Шекспира.
Нельзя не отметить удачно сочетающегося с текстом музыкального аккомпа¬
немента. Очень тщательно продумано и художественное оформление спектакля.
Режиссер Ю. Мочалов создал подлинно современную постановку шекспиров¬
ской трагедии. И если у зрителя возникают отдельные несогласия, то это и не уди¬
вительно: ведь каждый зритель видит и любит своего Шекспира.
1970
498
Как было и как вспомнилось
«В ней много слов и страсти»
Комментарий к спектаклю «Генрих IV»
С того момента, как читатель открывает книгу, между ним и автором оста¬
ется только само произведение. Его можно прочитать по-разному, понять хуже
или лучше, но это зависит уже от собственной подготовленности читающего, того
читательского фона, на который ложится получаемая информация. Зрителю автор
предстает через третье лицо, через переводчика, в чьей роли выступает исполни¬
тель. Непосредственно, воочию зритель видит перед собой актера, но за каждым
из них, частных исполнителей, скрывается главный - автор всего спектакля - ре¬
жиссер. Этот главный исполнитель, никогда не появляющийся на сцене, разве
после того, как занавес уже опущен, тем не менее присутствует в каждой микро¬
клетке спектакля, в каждой мизансцене, в каждом монологе, в мельчайшей детали
оформления. По крайней мере, так предполагается и должно быть в идеале.
Его - режиссера - с полным на то основанием считают ответственным за
спектакль целиком. И именно на него нередко указывают как на злоумышленника
одновременно и против автора, и против зрителя: замысел первого он искажает,
второго он стремится ввести в заблуждение относительно авторского замысла.
Проблема искажения смысла стала прямо-таки притчей во языцех, особенно
там, где речь касается классического репертуара. При этом едва ли кто-нибудь
станет отрицать не только необходимость нового прочтения, но и невозможность
реставрации первоначальной, современной автору, постановки. Такая реставра¬
ция приемов актерской игры, режиссерского и оформительского решения при
изменившемся типе восприятия зрителя и подходе исполнителей к материалу
может иметь лишь чисто археологический интерес. Режиссер должен перевести
спектакль с языка исторически пережитой театральной традиции на язык совре¬
менный, с тем чтобы не утратить одного из основных принципов театра - его зре¬
лищности. При этом, подобно автору произведения на исторический сюжет, он
должен сохранить определенный исторический колорит, найти необходимое со¬
четание архаичного и нового, стилизованного и осовремененного. Но, продолжая
сравнение, как и в историческом произведении, в спектакле историзм может вой¬
ти в его плоть и кровь или остаться условной маской, за которой, как на известном
рисунке К. Сомова, скрывается голый скелет, схема.
Разговор о проблеме вообще, как правило, ограничивается инвентаризацией
и перетряхиванием некоторых общепринятых штампов. Попробуем продолжить
его со ссылкой на один из последних, еще свежих, но получивших уже большую
прессу, спектаклей: постановка Г. Товстоногова исторической хроники У. Шек¬
спира «Король Генрих IV» в ленинградском театре имени Горького. На этот
спектакль зрителя влечет решительно все: и то, что это Шекспир, и то, что это
Вечер шестой. Шекспир
499
Товстоногов, и то, что это историческая хроника (они не так часто появляются на
сцене!), и то, что в спектакле заняты актеры не только с громкими титулами, но и
с громкими именами.
* * *
Многоугольная или - в некоторых из лондонских публичных театров эпохи
Шекспира - овальная сцена была частью зрительного зала, оставалась в его пре¬
делах. Вклиниваясь полуостровом, она оттесняла зрителей и одновременно с трех
сторон была окружена ими. Занавеса, этого материального воплощения «чет¬
вертой стены» между актером и публикой, не существовало. Игровая площадка
не ограничивалась размерами современной «сценической коробки» - это была
только внутренняя сцена, - а выходила прямо в зал.
Театр все еще не покинул лоно средневековой карнавальной, праздничной
традиции и во многом продолжал быть зрелищем на площади. Зритель выступал
как один из соавторов спектакля: спектакль актера был также и его спектаклем.
Его присутствие предполагалось, и зрителю не нужно было подсматривать за про¬
исходящим в замочную скважину, сделанную с этой целью в кладке «четвертой
стены».
Актер в свою очередь не играл героя, методично вживаясь в образ, но показы¬
вал его, лицедействовал. Хотя последние исполнители некогда популярных интер¬
медий к концу XVI века благополучно вымерли, традиция средневекового театра
нашла ход не только в елизаветинскую драматургию, но повлияла и на манеру сце¬
нического исполнения. Правда, Кристофер Слай, перекочевавший из интермедии
в «Укрощение строптивой», не пришелся ко двору - о нем просто забывают по
ходу действия, - но непосредственное обращение к публике, реакция на ее репли¬
ки, сама манера игры были, несомненно, усвоены популярными комиками Тарль-
тоном и Кемпом. Всецело зависящие от устоявшихся, довольно инертных вкусов
зрителей, принципы театральности едва ли во всем поспевали за стремительным
развитием новой драматургии.
Планировка сцены, предполагавшая ее приближенность зрительному залу, не
была прихотью, формальным фокусом, но определялась законами самой театраль¬
ной техники исполнения. Комик импровизировал, парировал шутки из зала, но
трагический актер наверняка быллишен права на подобные вольности. Об актерах
шекспировского театра, их игре известно крайне мало: несколько фраз современ¬
ников, несколько режиссерских указаний, разбросанных в различных пьесах. Наи¬
более склонным к режиссуре из персонажей Шекспира оказался Гамлет. По край¬
ней мере дважды он говорит о том, как играют актеры и как нужно это делать. Он
просит актера «не переступать природы», «не слишком пилить воздух руками» и
«в смерче страсти усвоить и соблюдать меру». Кажется, Гамлет недвусмысленно
500
Как было и как вспомнилось
выражает свое мнение. Да, остается узнать всего лишь мелочь: а что все-таки было
в представлении Гамлета «мерой». Иной зритель, иная драма, каких теперь не пи¬
шут. Видимо, и актер с пониманием «меры», какое едва ли способно привести
в восторг современного режиссера. Гамлет сам впрочем и объясняет, что для него
является идеалом актерского исполнения:
...вот актер
В воображенье, в вымышленной страсти
Так поднял дух свой до своей мечты.
Что от его работы стал весь бледен;
Увлажнен взор, отчаянье в лице,
Надломлен голос и весь облик вторят
Его мечте...
(II, 2) (Перевод М. Лозинского)
Это актер, который, «залив слезами сцену»,
Общий слух рассек бы грозной речью,
В безумье вверг бы грешных, чистых в ужас,
Незнающих - в смятенье и сразил бы
Бессилием и уши, и глаза.
(11,2)
Почти гипнотическим талантом должен был обладать актер. Талантом, сила
которого не столько в тонком последовательном поиске логики развития образа,
но в умении добиться мгновенного эффекта, сыграть сцену. Одной чистоты ис¬
полнения, актерской техники здесь, конечно, недостаточно. Неслучайно об одном
из актеров, прославившемся в истории мирового театра исполнением ролей шек¬
спировского репертуара, Генри Ирвинге, Сара Бернар сказала, что он был «по¬
средственным актером, но великим артистом».
Составление сценического образа из мозаики отдельных, не всегда последо¬
вательных, но всегда ярких сцен не противоречит тому, как сам Шекспир создает
свои образы, в особенности трагические. Льву Толстому с его биографической
обстоятельностью, абсолютной мотивированностью поступков и чувств персона¬
жей, калейдоскопические, составленные из черт, за которыми скорее угадывается,
чем видится взаимная обусловленность, характеры Шекспира представлялись не¬
существующими.
Великий романист не мог допустить, чтобы героиня, подобно леди Макбет,
в одной из сцен говорила о вскормленном ею ребенке, хотя из всего сюжета траге¬
дии ясно, что детей у нее не было и нет. Немало также бились комментаторы Шек-
Вечер шестой. Шекспир
501
спира над тем, как объяснить, почему Гамлет или Яго приводят различные мотивы
своих действий, о которых сразу же и навсегда забывают. У Шекспира примеров
подобной «немотивированное™» много.
С какой же мерой исполнитель должен подходить к историческим хроникам?
В «Генрихе IV», возможно, лишь сам Генрих да Генрих Перси временами могут
позволить себе трагическую ноту. Тон пьесы другой, но приемы игры в шекспи¬
ровском театре были, разумеется, те же самые, что при исполнении комедий или
трагедий. XVI век в Англии едва ли знал сложные мизансцены. Двигались по сцене
сравнительно мало. Как можно больше старались передать при помощи голоса и
жеста. О театре той эпохи говорят как о театре «слуховой иллюзии, а не иллюзии
сценической». Однако этими средствами актер должен был владеть в совершен¬
стве и разнообразии.
Техника жеста в ленинградском спектакле не претендует на возрождение
тех приемов, которыми могли пользоваться Ричард Бербедж и исполнители его
труппы. В то же время она предельно условна. Жест намеренно театрален и фик¬
сирован. По ходу действия возникают застывшие мизансцены, превратившиеся
в «живые картины».
Ссутулившийся, усталый король Генрих, каким его играет С. Юрский. Король
устал, но не обессилел. Вокруг короля несколько лордов, младший сын. Это его
постоянное окружение, его свита. Здесь он дирижер - каждый его жест вызывает
ответное, почти синхронное движение.
Иной ритм. Сын короля принц Генрих - О. Борисов. Движение, но уже не
по-военному однообразное и затренированное. Шалопай и повеса, принц акро¬
батически изящен. Прыжок. Он перелетает половину сцены. Второй... Нет, он
сначала успевает отнюдь не по-королевски наградить пинком своего положитель¬
ного брата. Шутка. Второй прыжок, и он на колене перед королем. Все замерли.
Начинается следующая мизансцена.
Спектакль задерживается только на главном. Действие перескакивает через
отдельные связующие сцены и детали. Им нет места: сценарий охватывает обе
части шекспировской хроники. Только самое главное. На сцене три личности и
стоящие за ними три группы персонажей. Протагонисты: король, Генрих Перси,
Фальстаф. Здесь две плоскости столкновения: король - Перси, король - Фальстаф.
Каждый из них лидер по сути, по спектаклю - предводитель хора. Именно хора.
Даже фальстафовский фон превращается в фальстафовский хор. Эта беспутная,
орущая братия уже не состоит из по-шекспировски разных - пусть у каждого по
одной-две реплики - человеческих фигурок. Они однородные частицы, молекулы
целого; похожие друг на друга, но непохожие на людей короля или людей Перси.
Творимый ими беспорядок упорядочен, он в порядке вещей.
Эффект неразличимости усиливает сцена боя, когда Дуглас по очереди уби¬
вает воинов, принимая их за короля. Иногда, правда, иллюзия безличности может
502
Как было и как вспомнилось
нарушаться. На общем фоне на одну сцену на одну минуту появляется контур от¬
дельной фигуры: Пойнс, Бардольф, Вустер. Затем его очертания снова размыва¬
ются, лицо скрывается за маской.
В литературе оригинал всегда предпочтут переводу. Но в театре оригинал
спектакля безвозвратно утрачен, и следует ли принимать первоначальную поста¬
новку за оригинал? Режиссер переводит с языка автора, с языка драматургии. Как
и всякий переводчик, режиссер пытается конденсировать особенности оригинала
иными средствами.
Жест, манера декламации были другими, но... Король взбешен. Сын, наслед¬
ник позорит его. При случае променяет (да уже променял!) на своих приятелей
по пьянству и кутежам. Измена! Удар... Принц падает к ногам отца. Лорды не
должны видеть унижение наследника престола... Король отсылает их. Он опять
лицом к лицу с сыном. Это его, короля, сын и наследник. Рука короля протягивает¬
ся, поправляет одежду принца. Готова обнять. Но... Он позорит короля. Он поч¬
ти изменник. Хуже. Рука снова судорожно мнет ворот, сжимает горло принца...
Два мгновенных перехода. Два противоположных движения в одном. Также
в трагедиях самого Шекспира. Также проклинает и превозносит Дездемону
оскорбленный Отелло, также сетует на свою судьбу и все еще не перестает наде¬
яться обманутый Брабанцио:
Она ушла. Мне больше не житье. -
Итак, где девочка моя, Родриго?
Несчастная! - У мавра, говоришь? -
Считайтесь после этого отцами!
Ты видел сам ее? - Каков обман! -
Что говорит она? - Непостижимо!
(Перевод Б. Пастернака)
Шекспировская сцена и отнюдь не шекспировский хор; условный жест и
флажки с обозначением места действия. Подобными табличками пользовались
в английском театре XVI века, хотя, возможно, и не так широко, как принято ду¬
мать. Вавилонское смешение! А почему бы и нет? Можно обвинить режиссера из¬
ящным словом «эклектизм», а можно приветствовать «смелость, с которой он
черпает приемы из сокровищницы мирового театра». Все зависит от меры, кото¬
рую нельзя предписать, а можно только почувствовать. С ней можно согласиться
или не согласиться. В данном случае - скорее первое.
Спектакль открывается и все время идет в сопровождении оркестра различ¬
ных ударных инструментов. Другой музыки нет. Первой на сцене появляется целая
толпа актеров в масках. Стоя за экраном, они по очереди выкрикивают в круглые
прорези, открывающиеся под красными клапанами-языками, фразы из пролога
Венер шестой. Шекспир
503
ко второй части «Генриха». Это фигуры, символизирующие многоголосую молву.
Выкрики, гром и треск ударных во главе с большим барабаном. Не скажу, что не¬
вольно - они вспомнились мне позже, после спектакля, который не был «тихой
обителью», располагающей к воспоминаньям, - но все-таки приходят на память
слова Макбета о том, что в жизни «много слов и страсти».
Не черно-белое или черно-серое условное Средневековье, а «слова и стра¬
сти» составляют материю шекспировских ренессансных трагедий. Так звучит эта
фраза в переводе, но в оригинале, по-английски, стоит не «слова», а «звук», и не
«страсти», а «ярость». «Звук и ярость» - вот дословный перевод. И он точнее,
в большей степени применим к спектаклю, поставленному Г. Товстоноговым.
«Звук и ярость» шекспировской пьесы остались, но они неравномерно ком¬
пенсированы и распределены в спектакле. Скорее в плане оформления, чем ис¬
полнения, а если брать второе, то скорее в движении и жесте, чем в декламации и
голосе. Скорее в «звуке», чем в «словах».
«Мера» исполнения в шекспировском театре в большей степени, чем теперь,
была театрально условной. Мысль, прошедшая через все искусство Возрождения:
мир - театр, мы - его актеры. В театре должно было постоянно присутствовать
ощущение совершающегося действа, игры, а отсюда и излюбленный прием «сце¬
ны на сцене». Как в том эпизоде, где принц Генрих и Фальстаф представляют ста¬
рого короля. Они, подобно любому человеку, изображающему кого-то, пытаются
показать человека, утрируя то, что в нем есть собственного, непохожего на дру¬
гих. Они очень пристрастно относятся к изображаемому герою, ни на секунду не
отождествляют себя с ним.
Это вернее по отношению к Шекспиру. И что особенно важно, по отноше¬
нию к стилю спектакля. Приемы, каждый в отдельности, могут принадлежать
различным эпохам, манерам исполнения, но после того, как они собраны в одном
спектакле, должен родиться стиль, но не разностилевость.
Сэр Джон Фальстаф. Как ни одна другая роль в хрониках Шекспира, за ис¬
ключением, может быть, Ричарда III, роль Фальстафа написана для «великого
артиста». Эта гора жира и мяса, наделенная склонностью к обжорству, лени и
острословию, являет собой скопище всех мыслимых и немыслимых пороков, кро¬
ме одного - умеренности. Можно представить сэра Джона вознесенным его соб¬
ственным хвастовством на вершины доблести и величия, можно представить его
низким льстецом или хныкающим попрошайкой, но невозможно представить это
чудовище вопрошающим с застенчивостью кисейной барышни: «Ты не предашь
меня, Джек?» Из этой туши трудно извлечь искреннюю ноту и излишне делать та¬
кую попытку. Фальстафа необходимо играть так, чтобы за голосом актера зритель
переставал разбирать грохот большого барабана.
В данном спектакле фальстафовская тема определяется не столько сценой
в таверне, сколько сценой у судьи Шеллоу. При общей сжатости и ритмичности
504
Как было и как вспомнилось
спектакля этот эпизод, несмотря на его возможные сценические достоинства, за¬
тянут. Сцена с Шеллоу - это уже снижение образа сэра Джона, который лишается
здесь своей раблезианской несокрушимости, эпичности и превращается в более-
менее заурядного, правда, неимоверно толстого, пьяницу и жулика. Слишком
мало мы успели увидеть от Фальстафа первой части «Генриха IV» и слишком бы¬
стро пришли к Фальстафу из «Виндзорских насмешниц».
* * *
Рецензенты часто чересчур добросовестно относятся к своему делу. Жажда
трудностей приводит к тому, что они пытаются разглядеть удачное в откровенно
плохом спектакле и ищут погрешности в хорошем. Излишняя либеральность и ще¬
петильность переводит рецензию из жанра критического в жанр панегирический,
придирчивость же едва ли бывает излишней.
Однако в любом случае, соглашаясь или не соглашаясь с автором, критик, в от¬
личие от большинства зрителей, обязан ответить на вопрос «почему?». Обычная
формула оценки: «Ну как? - Ничего» - здесь явно недостаточна. Чтобы узнать
ответ на все «почему?», от критика ждут анализа. Но всегда ли анализ возможен?
И. Выготский справедливо писал, что, анализируя, мы тем самым предполагаем,
что имеем дело с настоящим искусством. Только интуиция и вкус могут подска¬
зать нам, где кончается искусство и начинается ремесленничество. Приступая к
анализу, критик берет на себя ответственность утверждать, что перед ним про¬
изведение искусства. Степень риска бывает большей или меньшей. Анализируя
спектакль «Генрих IV», поставленный Г. Товстоноговым, можно взять на себя
эту ответственность, не подвергаясь риску.
1972
Вечер шестой. Шекспир
505
Природа трагического конфликта
«Ромео и Джульетта» - «Отелло»
Разрушение основы трагического конфликта, при котором образная структу¬
ра произведения строится вокруг философской, смысловой оси «человек - бог -
судьба», наметилось у Шекспира еще до трагического периода, до написания
«Гамлета». Среди пьес, написанных в 1595-1597 годах, есть две, которые не¬
пременно привлекают внимание шекспироведов с точки зрения своей жанровой
природы. Это «Ромео и Джульетта» и «Венецианский купец». Если не считать
«Тита Андроника», где природа трагического понимается Шекспиром в основ¬
ном еще ученически традиционно, эти две пьесы наряду с хрониками впервые при¬
открывают перед читателем собственный мир шекспировской трагедии. Однако
трагическое в них не получает еще полного завершения: в них нет единства тра¬
гического характера и трагического действия. В «Венецианском купце» есть ха¬
рактер, подобный по своему мрачному величию и значительности протагонистам
лучших трагедий Шекспира, но здесь нет трагического строя событий, трагиче¬
ской логики развития действия. Она нарушается в конце произвольным авторским
вмешательством.
В «Ромео и Джульетте», напротив, ни один из персонажей не наделен внут¬
ренней сложностью, неоднозначностью трагического героя, но, исходя из логики
развития событий, пьесу относят к жанру трагедии. Не пытаясь ввести еще один
классификационный термин, но в качестве рабочего определения в дальнейшем
мы будем называть «Ромео и Джульетту» «внешней трагедией». Под этим мы
будем иметь в виду не только то, что трагический конфликт не переносится на вну¬
тренний мир персонажей, не оказывает на него влияния, но также и то, что здесь
Шекспир еще в традиции поэзии XVI века ищет простого, однозначного соответ¬
ствия между словом и чувством, планом выражения и содержания. Лирический
или драматический герой пространно описывает свое эмоциональное состояние,
и автор хочет, чтобы читатель безоговорочно доверял ему на слово, и заставляет
верить.
«Ромео и Джульетта» обычно рассматривается как «трагедия любви», ко¬
торую в творчестве самого Шекспира противопоставляют «трагедии философ¬
ской». Это противопоставление допустимо с точки зрения современной литера¬
турной науки, но является анахронизмом по отношению к эпохе Возрождения.
Истоки противопоставления «любовь - философия», «любовная лирика - фи¬
лософская лирика» относятся ко времени, непосредственно следующему за Ре¬
нессансом, когда было осознано противопоставление «общественное - личное»,
«разум/долг - страсть». Однако учитывая то, что частное, индивидуальное по¬
давлялось, занимало подчиненное место, антитезу «любви/философии» скорее
необходимо связывать с романтическим периодом в искусстве.
506
Как было и как вспомнилось
Такое разделение во времена Шекспира, так же как и во времена Петрарки,
не могло существовать. Гармоничный образ человека, мыслимого в единстве всех
многообразных сторон своей деятельности, равноправно объединял мир мысли и
чувства. Философия Ренессанса, начиная с Данте, возникает именно по мере того,
как средневековый человек обнаруживает в себе новую, пока еще почти пугающую,
как в «La Vita Nuova», способность любить. В искусстве Ренессанса «любовь»
была темой философской, а «трагедия любви» в период позднего Ренессанса ста¬
ла одним из наиболее ярких сигналов, оповещающих о крушении гуманистических
идеалов, гибели универсального, гармоничного человека. Так, наиболее исчерпы¬
вающая трагедия, написанная на рубеже двух эпох, - «Гамлет» - создана в свое¬
образном обрамлении двух примыкающих и неразрывно связанных с ней по теме
пьес: «Юлий Цезарь» и «Троил и Крессида». «Гамлет» представляет синтез
всех тем, поэтому он становится более понятным, осязаемым в контексте близких
к нему, предвосхищающих или продолжающих его произведений. Если в «Юлии
Цезаре» в образе Брута мы уже находим гамлетовскую проблему «действовать
или бездействовать», так как действие, направленное на благие цели, обречено,
то в «Троиле и Крессиде» Шекспир обращается к «трагедии любви». Герои, эти
«постаревшие» на 6-7 лет Ромео и Джульетта, не властны над своим чувством,
символ которого теперь - Пандар, имя ставшее нарицательным в английском язы¬
ке для обозначения сводника. Враждой теперь охвачен не один город, а весь мир.
Джон Уэйн так определил смысл пьесы: «“Troilus and Cressida” is the first work of
literature by an Englishman which really captures the atmosphere of a world split by
one hideous quarrel»1.
Новый мир создает новых людей, не умеющих любить, которые в свою оче¬
редь создают мир без любви, мир Тимона Афинского.
Даже если в шекспировских сонетах наряду с самыми лирическими, интимны¬
ми строчками то и дело возникает образ действительного мира, естественно, что
в трагедиях единство чувства и существования может быть гораздо более завер¬
шенным.
Одновременно с тем, как в лирике трубадуров впервые возникает тема люб¬
ви, возникает и образ страдающего влюбленного. Любовное страдание, сомне¬
ние героя трубадуров или лирических сонетов не имеет ничего общего со стра¬
данием трагического героя. Лирический герой в своих мучениях нередко видит
высшее наслаждение. Такова, например, традиция во многих сонетах со времен
Данте вплоть до Филипа Сидни. Для них «трагическая любовь» означает «нераз¬
деленная любовь». Видимо, нечто другое имеет в виду Гамлет, когда в одном ряду
с «глумлением века» он говорит о боли «презренной любви». Русский перевод
этой фразы, к сожалению, не очень удачен. Устаревшее слово не может передать
1 Wain J. The Living World of Shakespeare. L.: Macmillan, 1964. P. 108.
Вечер шестой. Шекспир
507
всей множественности значений не совсем обычного лексически английского со¬
четания. Но не только из данного монолога, но из всей трагедии о принце датском
ясно, что Гамлет не мог иметь в виду банально-трагическую ситуацию неразделен¬
ной любви.
С этой ситуации начинает Ромео. Неоднократно отмечалась важность перво¬
го выхода героя у Шекспира и его первых слов. В одной из первых реплик, отвечая
на вопрос Бенволио, Ромео открывает причину своей меланхолической грусти:
В е n V о 1 i о. In love?
Romeo. Out, -
В e n v о 1 i о. Of love?
Romeo. Out of her favour where I am in love.
(1,1:171-174)
Ромео начинает трагедию безнадежно и, как ему кажется, трагически влю¬
бленным. Это его первая любовь, пока еще не к Джульетте, а к Розалине. Джу¬
льетта - это вторая любовь, но, как очень верно сказал Август Шлегель, полюбив
во второй раз, Ромео полюбил в первый. Его влюбленность в Розалину скорее ус¬
ловная форма, желание любить, чем настоящее чувство. Это «сонетная» любовь
поэзии трубадуров. Кстати, даже когда Ромео полюбит Джульетту, определенная
условность, «сонетность» языка, которая отмечает эту трагедию, сохранится. От¬
дельные поэтические строки могут быть непосредственно соотнесены с различ¬
ными жанрами провансальской поэзии: альбой (сцена расставания, III, 5), канцо¬
ной (слова Ромео, впервые увидевшего Джульетту, I, 5) и т.д.1
Первая любовь Ромео - не столько любовь к прекрасной и неприступной Ро¬
залине, как любовь к женщине вообще. «I do love a woman» (I, 1: 210). Но тра¬
гедия написана не об этой неразделенной любви, а о любви к Джульетте, которая
уже в прологе Хора дважды получает определение не меняющееся, но усиливаю¬
щееся по ходу действия: «star-cross’d», «death-mark’d».
Любовь и судьба находятся в пьесе в постоянном взаимодействии, по крайней
мере это так, если читатель встанет на точку зрения Ромео. Кроме своей прямой
сюжетной функции Ромео выполняет в пьесе роль своеобразного memento morí,
непрерывно напоминая себе, остальным персонажам, зрителю о грядущих несча¬
стьях по воле нерасположенной к героям судьбы. Так он предвосхищает события,
предчувствуя несчастье, когда отправляется на бал к Монтекки:
... my mind misgives
Some consequence yet hanging in the stars.
(1,4:106)
1 См.: АникстА.А. Творчество Шекспира. M.: Художественная литература, 1963. С. 227.
508
Как выло и как вспомнилось
Или непосредственно перед смертельной схваткой с Тибальтом:
This day's black fate on more days doth depend,
This but begins the woe others must end.
(Ill, 1:124-125)
Столь настойчивое повторение, напоминание о судьбе наводит некоторых ис¬
следователей на мысль о религиозном характере трагедии. Очень обстоятельно и
последовательно, именно с точки зрения христианского содержания пьесы, «Ро¬
мео и Джульетта» рассматривается в книге Г. Уилсона о шекспировской траге¬
дии. Автор, действительно, очень точно и объективно анализирует произведение,
исходя из ложной посылки, что неизбежно должно привести его к противоречию.
Однако в последний момент Г. Уилсон делает вывод, что к противоречию пришел
не он, а Шекспир (!), который очень хотел написать религиозную драму, но не
сумел. Стоит привести пространную цитату, в которой автор сожалеет о неудаче
драматурга. Особенно интересен не сам момент сожаления, а тонкие наблюдения
исследователя, однако, перечеркнутые ложными выводами:
Yet despite the dramatist's efforts to direct our attention to this larger significance
of the action (concept of Providence) through the prologue and the structural
foreshadowing of his whole scheme; through the chain of unlucky coincidences and
arbitrary motives; through the reiteration of the theme of fortune and ill chance and
fate-our feelings remain linked with the story of the lovers throughout the play; and
audiences and actors alike notoriously feel that with the deaths of Romeo and Juliet
the interest of the play is at an end, that the subsequent explanations are prolix and
anticlimactic and may well be abridged. The feeling is manifestly contrary to what the
dramatist aimed at, but he himself is chiefly responsible for our feelings, in having
made his young lovers the center of our regard1.
Что касается «неудачных совпадений», то из трех движущих сил трагедии:
судьбы, случая и выбора2 - они относятся к области случая. Тема судьбы, обозна¬
чившись в прологе, реализуется не в авторской мотивировке действия, а только
в словах одного из героев - Ромео. Краткие, в несколько строк, предчувствия,
выполняют роль промежуточных прологов, предваряющих наиболее значитель¬
ные события пьесы. В то же время они ни в коей мере не влияют ни на развитие
1 Wilson H. S. On the Design of Shakespearean Tragedy. L., Toronto: University of Toronto
Press, 1957. P. 29-30.
2 Auden W. H. Commentary on the Poetry and Tragedy of «Romeo and Juliet» //
Shakespeare W. Romeo and Juliet. The Laurel Shakespeare / Ed. Francis Fergusson. N. Y.: Dell,
1958. P. 27.
Вечер шестой. Шекспир
509
характеров, ни на развитие событий, оставаясь иллюстрацией сюжета, его пред¬
восхищением. Именно этот факт и вызывает недоумение Г. Уилсона: почему столь
упорно повторяя тему судьбы во вставных прологах, Шекспир забывает о ней в
финале, не рассматривает как одну из мотивировок действия.
Пожелай Шекспир построить свое произведение по принципу религиозной
драмы, он имел возможность при минимальном изменении одного-двух харак¬
теров воплотить идею карающего провидения в самой структуре образов пье¬
сы, а не оставлять ее в надструктурной рамке, обрамляющей действие. Скажем,
брат Лоренцо мог способствовать раскрытию и распространению идеи провиде¬
ния.
Его характер в пьесе имеет откровенно двойственную природу: с одной сто¬
роны, это мудрый философ, выступающий в своих больших диалогах, видимо,
как герой-резонер, если это понятие приложимо к Шекспиру, с другой стороны,
проповедник филистерской умеренности, действующий в соответствии со своим
принципами, что также становится одной из причин трагедии. Но в философских
рассуждениях он проповедник не идеи божественного возмездия, но идеи величия
человека и природы. Лишь однажды он вспоминает о судьбе, но делает это вслед за
отчаявшимся Ромео, чтобы вывести его из заблуждения:
Why raiTst thou on thy birth, the heaven and earth.
Since birth, and heaven, and earth, all three do meet
In thee at once...
(111,3:119-121)
И здесь выражена мысль, направленная на достижение того же эффекта, кото¬
рый Г. Уилсон увидел во всей пьесе: в центре внимания - человек.
Н. Берковский в своем очень интересном исследовании трагедии, построен¬
ном во многом на анализе источников шекспировской пьесы, в особенности поэмы
А. Брука, ссылается на эпизод, отмечавшийся комментаторами, «из которого сле¬
дует, что Шекспир даже был способен смешивать собственный текст и текст Бру¬
ка: сказанное Бруком он принимал за сказанное им самим, хотя на деле повторить
Брука там, где нужно было сделать это, он забыл»1. Имеется в виду эпизод-встреча
Ромео и Лоренцо: «Зачем ты клянешь свое рожденье, землю, небо...». «В тексте
Шекспира Ромео ничего не проклинал, так было в тексте Брука... »2
Конечно, нет ничего страшного в том, что Лоренцо реагирует не на непо¬
средственно сказанные слова, ибо Ромео в пьесе нередко обращается к судьбе,
1 Берковский Н. «Ромео и Джульетта» Шекспира // Берковский Н. Литература и театр.
М.: Искусство, 1969. С. 39.
2 Берковский Н. Указ. изд. С. 39.
510
Как было и как вспомнилось
а у Шекспира герой часто откликается на слова, которых даже не слышит (ср. пер¬
вую фразу Макбета и слова ведьм в их песне-прологе), но в этом замечании содер¬
жится, как нам кажется, решение проблемы «Шекспир - источники, традиция», и
применительно не только к «Ромео и Джульетте».
«Гений берет свое там, где он его находит». Наверное, никто не пользовался
источниками так часто и так широко, как Шекспир. Анализ его источников дает
очень многое. Н. Берковский частично объясняет наличие идеи судьбы в траге¬
дии тем, что А. Брук, прямой предшественник Шекспира по фабуле «Ромео и
Джульетты», в поэме своей постоянно взывает к Фортуне, она же высший судья
в делах человеческих1. Источники могут объяснить многое, но еще более важно
понимание литературной жанровой традиции.
В «Тите Андронике» Шекспир усваивает закон трагедии, в «Ромео и Джу¬
льетте» он частично повторяет, частично пересоздает его. При этом ряд приемов,
имевших живое, содержательное значение у предшественников Шекспира, утра¬
чивают его, превращаются в штампы со стершимся номинативным значением.
В дошекспировской драме, где герой осознавал себя агентом высшей силы, про¬
видения, роль судьбы была вполне определенной. Судьба доминировала над всем
происходящим, была основной движущей силой конфликта. Она могла появиться
на сцене в виде аллегорической фигуры, подобно тому как в «Испанской траге¬
дии» действует Месть. В более поздних трагедиях, том же «Тите Андронике»,
где влияние моралите сильно ослабевает, аллегория заменяется обращениями ге¬
роев к небу в духе трагедий Сенеки. Но и здесь идея судьбы продолжает сохранять
определенное функциональное значение в конфликте. Она нужна для того, чтобы
в последнем акте покарать виновных и чтобы один из героев над горой трупов мог
пообещать установить наконец порядок.
В «Ромео и Джульетте» сущность конфликта совершенно иная, столкнове¬
ние происходит без вмешательства божественных сил, но на формальном уровне
в виде традиционного жанрового штампа промежуточные Прологи продолжают
существовать. Формальное построение трагедии еще довольно архаично: нали¬
чие Хора, Прологов напоминает драму до прихода К. Марло. Кстати сказать, если
Шекспир очень скоро откажется от идеи хора, то идея Прологов перед наиболее
важными эпизодами в очень сильно измененной форме остается даже в «Гам¬
лете». Монологи Гамлета по своему месту в пьесе сродни пантомимам старой
трагедии или предчувствиям Ромео. Монологи Гамлета, что всегда смущало ис¬
следователей, комментируют пьесу, но очень мало влияют на ее ход. Ромео с его
Прологами, пусть на самом примитивном уровне, лишь функционально, но все-та-
ки предвосхищает и отчасти объясняет «загадку» монологов Гамлета.
В «Ромео и Джульетте» более, чем в любой другой трагедии, ощутима жанро¬
вая связь Шекспира с его предшественниками. В «Ромео и Джульетте» Шекспир
1 Берковский Н. Указ. изд. С, 25.
Вечер шестой. Шекспир
511
воплощает новый, неизвестный его предшественникам комплекс идей, не всегда
успевая полностью подчинить формальный язык искусства новым задачам, остав¬
ляя кой-где обломки лишенной прежнего содержания, отжившей формальной
структуры. Идея судьбы продолжает внешне существовать в трагедии, но она ни¬
чего не объясняет, ничего не обуславливает. Шекспир увидел и показал причины
трагического столкновения, которые до него не использовались драматургами,
но, следуя традиции, постарался скрыть их за привычными, теперь уже лишенны¬
ми реального смысла мотивировками старой трагедии.
В «Ромео и Джульетте» предчувствие всего один раз обманывает героя, ког¬
да он ожидает добра и счастья, а получает известие о смерти Джульетты. С этого
момента он начинает действовать, чем и вызывает трагическую развязку. Внешне
кажется, что Фортуна, по словам Лоренцо, благосклонная к возлюбленным, по¬
сле дерзкого вызова переменилась. Этот вызов бросает Ромео: «I defy you, stars»
(V, 1: 24). Тема судьбы довольно логично развивается в монологах Ромео вплоть
до момента, когда он бросил ей вызов. После этого к ней больше не возвраща¬
ются, и финал трагедии разыгрывается без ее участия, на что сетовал Г. Уилсон.
Финал решен в рамках реальных, земных отношений, где совершенно очевидно,
что истинная причина гибели влюбленных - не враждебная судьба, а вражда двух
семей - Монтекки и Капулетти. Хотя развязка, может показаться, была чисто слу¬
чайной, происшедшей лишь благодаря несчастному стечению обстоятельств, это
обманчивое впечатление. Соотношение случайного и закономерного, необходи¬
мого в трагедии, как и в жизни, таково, что случайный эпизод, предшествовавший
непосредственно важным, решающим событиям, может быть принят за их перво¬
причину. Тот факт, что Дездемона потеряла платок, стал поводом, но не объяс¬
нением событий трагедии. Закономерное всегда скрыто за последовательностью
случайных событий, совпадений. В «Ромео и Джульетте» скорее можно говорить
о том, что благодаря случайностям, благоприятным обстоятельствам влюбленным
удивительно долго удавалось оттягивать закономерную развязку.
Нельзя не учитывать, что для современников Шекспира все уловки с идеей
судьбы не могли пройти незамеченными, особенно в силу их традиционной по¬
нятности. Но, как часто отмечалось, трагедии Шекспира допускают прочтение на
нескольких уровнях. Для исторического, с точки зрения зрителей шекспировской
эпохи, понимания трагедии идея судьбы имеет немаловажное значение. Более
того, по замечанию У. X. Одена (в комментарии к «Ромео и Джульетте»):
It is impossible to feel the full tragic import of the play unless one can entertain at
least in imagination, the Christian belief held by everybody in Elisabethan audience
that suicide is a mortal sin, and suicides go to Hell for ail eternity1.
1 Auden W. H. Op. cit.
512
Как было и как вспомнилось
Стихийное представление о судьбе, боге, вечном проклятии и т.д. не могло не
быть понятным и не могло не воздействовать на восприятие зрителя. Фантасти¬
ка, сверхъестественное продолжает присутствовать в пьесах Шекспира, религи¬
озные идеи могут быть обсуждаемы даже с философской точки зрения, например
в «Гамлете», но идея судьбы перестает существовать в качестве пружины траги¬
ческого конфликта. Коллизия разрешается без вмешательства потусторонних сил.
Они, как тень отца Гамлета, ведьмы в «Макбете», помогают создать яркую на¬
чальную ситуацию, но не влияют на ход развития событий. Утверждение Д. Уэйна,
что «"Romeo and Juliet” is a medieval fate-tragedy»1, означает только, что, разгля¬
дев несколько традиционных линий рисунка, он не заметил оригинальной живо¬
писи всей картины.
Шекспир был, конечно, далеко не первым в мировой литературе, кто соединил
эти две темы (любовь и судьба), но он был во всяком случае одним из первых, кто
увидел за этим отношением конфликт человечески и исторически достоверный.
Еще в течение нескольких десятилетий после Шекспира создавались различные
вариации на тему обреченной любви в подражание ренессансной традиции. Как
одно из наиболее известных можно привести стихотворение Э. Марвелла «Опре¬
деление любви» («The Definition of Love»), написанное уже в середине XVII века:
Therefore the love which us doth bind,
But Fate so enviously debars
Is the conjunction of the mind
And opposition of the stars.
Художественный метод, уже очевидный в «Ромео и Джульетте» и получив¬
ший развитие в более поздних трагедиях Шекспира, принципы мотивировки ха¬
рактера и конфликта вплоть до XVIII века оставались непонятыми и неиспользо¬
ванными.
При анализе «Ромео и Джульетты» мы старались прежде всего определить
отношение Шекспира к традиции с тем, чтобы в дальнейшем более контрастно по¬
казать его собственные принципы. Мы неслучайно предложили определить «Ро¬
мео и Джульетту» как «внешнюю трагедию». Все персонажи делятся здесь на две
группы: влюбленные - с одной стороны, весь город - с другой, с той только разни¬
цей, что одни горожане иногда согласны помочь героям, другие - препятствуют
их любви. Сами герои не знают ни гамлетовского сомнения, ни озарения Лира.
Их внутренний мир остается эпически невозмутимым, неизменным.
Принципы средневековой вражды, а не провидение определяют неизбеж¬
ность гибели героев, воплощающих гуманистический идеал любви. Абсолютность
противопоставления, полярность добра и зла, когда даже гибель героев не озна¬
чает их поражения, не заставляет их приобщиться атмосфере вражды и ненави-
1 Wain /. Op. cit. Р. 106.
Вечер шестой. Шекспир
513
сти, делает эту трагедию наиболее оптимистическим произведением Шекспира.
Добро торжествует над злом, так как граница между ними к концу трагедии не
исчезает, а еще более углубляется.
В последующих трагедиях герой не противопоставлен типичным отношениям
или не только противопоставлен им, но также и причастен миру большинства, раз¬
деляет его предрассудки. Путь героя великих трагедий - это путь познания мира:
герой приобщается миру зла, как Макбет, или прозревает, как король Лир. Гамлет
ищет путь отомстить за отца, восстановить справедливость. Акт убийства Клавдия
имеет в его глазах не единичное, но философское значение. Но пока он занят поис¬
ками философского камня, он должен защищаться единственными имеющимися
у него средствами, должен быть как все: притворяться, хитрить, убивать. Отсюда
разница между Гамлетом монологов и Гамлетом действия.
Анализ трагедий любви не может быть полным без разбора «Гамлета», «Тро¬
ила и Крессиды», «Антония и Клеопатры». Мы же ограничимся сопоставитель¬
ным анализом двух из них: «Ромео и Джульетты» и «Отелло». Необходимо пом¬
нить о пьесах, написанных в промежутке между ними, чтобы оценить всю степень
их различия. Наиболее интересной для нашего анализа могла бы быть одна из са¬
мых «неприятных» шекспировских пьес - «Троил и Крессида».
Говоря об этой пьесе, современный критик приходит к следующему выводу:
In «Troilus and Cressida» the lovers do not struggle against their historical
context <...> Conversely, when events interfere with the relationship they do not
struggle against them and the love, not significantly contrasting with its context, is
engulfed, while the lovers are left meaninglessly alive1.
«Ромео и Джульетта» и «Троили Крессида» представляют две крайние точ¬
ки отсчета шекспировской трагедии любви, между которыми колеблется стрелка
действия в «Отелло».
Начиная анализ «Отелло», целесообразно вспомнить классическое мнение
А. Брэдли, оставившего шекспироведам много точных наблюдений: «“Othello” is
not only the most masterly of the tragedies in point of construction, but its method
of construction is unusual»2. Под необычностью Брэдли имеет в виду то, что кон¬
фликт возникает сравнительно поздно, но после этого трагедия со все возрастаю¬
щей внутренней напряженностью неумолимо движется к развязке.
Человеческие отношения в «Отелло» берутся на несколько ином уровне,
чем в остальных трагедиях. Здесь нет привычных коронованных особ. В отличие
от большинства «трагедий любви» действие происходит не до, а после свадьбы.
Все это иногда наводило исследователей на мысль, что «Отелло» - это мещан-
1 Stockholder K. Power and Pleasure in «Troilus and Cressida» or Rhetoric and Structure of
the Antitragic // College English. Vol. 30.1969. P. 552.
2 Bradley A. C. Shakespearean Tragedy. L.: Macmillan: 1965. P. 143-144.
514
Как было и как вспомнилось
ская драма, появившаяся за сто лет до возникновения жанра. Мы не будем вникать
в сущность бесконечных споров о том, почему Отелло мавр, каково его положение
в Венецианской республике, каков его возраст. Важно уже то, что вопросы нацио¬
нальности, положения, определяемого должностью персонажа, даже его биогра¬
фия приобретают в «Отелло» совсем иное значение, чем в остальных трагедиях.
Никому не приходит в голову интересоваться национальностью или положением
в обществе Гамлета - здесь и без того все ясно.
«Тронная» трагедия говорит об отношении к власти, ставит проблему «че¬
ловек - общество» с исключительной точки зрения. Вопрос о должности предпо¬
лагает взгляд на человека внутри общественной иерархии. Возникают иные ценно¬
сти, иные добродетели. Гамлет - принц, Лир - король, Макбет - узурпатор трона.
Для начала XVII века проблема королевской власти - проблема вечная, неогра¬
ниченная временными рамками, решаемая одинаково на историческом материале
как XII, так и XVI века.
Отелло - итальянский кондотьер. Исторические рамки сразу же неизмеримо
сужаются. О роли и месте Отелло в Венецианской республике этим также сказано
достаточно. Кондотьер - полководец, фигура в средневековой Италии при непре-
кращающихся междоусобных распрях, войнах очень заметная. Любой правитель
постарается жить с ним в мире, тем более тот, кому он служит. И в то же время
будет держать его на некотором расстоянии. В 1450 году знаменитый кондотьер
Ф. Сфорца стал герцогом Миланским - случай беспрецедентный и более не по¬
вторявшийся. Кондотьер - человек, защищающий страну, но чужой в ней. Таким
чужим человеком в Венеции был Отелло. Шекспир во всем - в его цвете кожи,
должности, характере - постарался всячески усилить эффект инородности.
Таково место действия трагедии, таков ее главный герой. Но что необычного
в ее построении, кроме поздней завязки конфликта?
Трагический герой обречен. Таков непреложный закон жанра. В пятом акте
он должен погибнуть, но каждый драматург в праве заставить своего героя жить
и умереть, как это ему нужно. «The tragic effect is to be one of anticipation and its
realization»1. Исполнение трагического закона может идти различными путями,
так же как по-разному создается эффект напряженного ожидания трагической
развязки. Идея неумолимой судьбы, к которой постоянно возвращает читателя
Ромео, отсутствует в «Отелло». Однако эффект трагического ожидания остает¬
ся. Первая нота, предвещающая будущее несчастье, может сначала пройти почти
незамеченной. Она вспоминается позднее - если не сами слова, то аналогичность
ситуации. Последние слова отца Дездемоны Брабанцио содержат предсказание:
Look to her, Moor, if thou hast eyes to see:
She has deceived her father and may thee.
(1,3:12-13)
Wilson H. S. Op. cit. P. 19.
Вечер шестой. Шекспир
515
Брабанцио больше не появляется на сцене, но о нем еще вспоминают. Ана¬
логия между Отелло и Брабанцио возникает и в дальнейшем. Ее осознают сами
герои.
Роль главного прорицателя принадлежит Яго. В данном случае он выступает
как рупор идей здравого смысла. Под его житейскими мудростями могли бы под¬
писаться многие герои трагедии. Он заставляет Отелло поверить им. Он сопостав¬
ляет обстоятельства, высчитывает все по среднему стандарту и выдает результат.
«Происхождение, раса, возраст - вот три причины недоверия Отелло к Дездемо¬
не, внушенные ему Яго»1.
Яго нельзя отказать в практическом уме. Его расчет, его мерка безупречна для
любого героя трагедии, кроме Дездемоны и Отелло, каким он предстает перед
нами вначале. Яго постепенно внушает Отелло мысль о том, что по всей логике
событий Дездемона должна изменить ему. Факты вымышленной измены он сеет
уже на приготовленную почву. Отелло действительно не ревнив, но он не очень
и доверчив. Яго потратил немало сил и прибегнул ко многим уловкам, чтобы за¬
ронить в душу Отелло зерно сомнения. «Действуя умом», Яго сумел пробудить в
Отелло «голос крови», которого тот так боялся. Сам процесс искушения Отелло
был многократно проанализирован. Здесь трудно что-либо прибавить.
Хотя шекспировские пьесы были рассчитаны отнюдь не на многократное ка¬
бинетное чтение, в большинстве из них имеется несколько уровней образности,
многие из которых, безусловно, неуловимы при первом чтении, а тем более пер¬
вом прослушивании. Отдельные фразы иррадиируют, по смыслу или ассоциативно
оказываются связанными, хотя эта связь может быть неуловима на первый взгляд.
Иногда невозможно сказать, насколько сознательно драматург создавал эти вза¬
имно отражающиеся образы. Мы можем найти несколько таких ситуационных
параллелей между образами Отелло и Брабанцио. Во-первых, это слова герцога,
обращенные к Брабанцио:
The robb’d that smiles steals something from the thief
He robs himself that spends a bootless grief.
(111,3:341)
И слова самого Отелло, когда он также считает себя обманутым Дездемоной:
Не that is robb'd, not wanting what is stol’n
Let him not know't, and he's not robb’d at all.
(Ill, 3: 341-342)
1 Динамов С. Характеры трагедии «Отелло». Зарубежная литература. М.: Художествен¬
ная литература, 1960. С. 60.
516
Как было и как вспомнилось
Видимо, можно найти немалое число совпадений, если принимать во внима¬
ние фразы, представляющие собой более менее традиционные формулы выраже¬
ния горя, например:
«В г a b a n t i о. I had rather to adopt a child than get it» (I, 3: 211);
«О t h e 11 o. ... wouldst thou hadst ne'er been born» (IV, 2: 69).
Более интересно и значительно совпадение психологическое, как одним и тем
же приемом Шекспир изображает отчаяние Брабанцио, а позже Отелло, узнаю¬
щих об «измене» Дездемоны (1,1 и IV, 1). И тот, и другой перемежают проклятия
вновь вспыхивающими остатками надежд или любви. Два противоречивых движе¬
ния души как бы замыкаются в одном, одновременно ищут выражения.
Но эта цепь аналогий существует не только в подтексте, в виде трудно уло¬
вимых ассоциаций. Сначала, как мы видели, Брабанцио говорит о существующей
связи, а затем на нее же указывает Яго:
She had deceived her father, marrying you;
She that so young could give out such a seeming,
To seel her fathers eyes up close as oak -
He thought't was witchcraft...
(Ill, 3: 210-212)
To скрываясь, то вновь возникая, аналогия Отелло - Брабанцио все время жи¬
вет в пьесе, сначала усилиями Брабанцио и Яго, а затем и Отелло начинает верить
в нее. Именно в это время его речь и поведение иногда напоминают Брабанцио.
Такова цепь трагических предвидений в «Отелло», но она осложняется еще
одним моментом: возникновением трагической иронии. Предсказатели ошиба¬
ются, как ошибается и поверивший им Отелло. Дездемона не совершала измены.
Прологи Ромео играют в пьесе иллюстративную, эмоционально комментирующую
роль, предсказания в «Отелло» играют центральную роль, ибо непосредственно
подготавливают трагическую развязку, влияют на ход событий и характер героя.
И там, и там предсказатели ошибаются, но Ромео ошибается только в определении
причины своей гибели: не судьба, а человеческая вражда. Он был в равной степени
бессилен что-либо изменить. Ошибаясь в определении виновного, Отелло совер¬
шает трагическую ошибку. Отношения добра и зла в «Отелло», их разграничение
не столь абсолютно и определенно, как это было в «Ромео и Джульетте».
Яго переключает Отелло из области возвышенных, недоступных грубо-мате¬
риалистическому пониманию чувств в область понятных ему, банальных отноше¬
ний. Он заставляет поверить в них Отелло, заставляет его причаститься миру зла.
Это теперь не тот Отелло, которого мы видели в начале трагедии. В одном месте
Яго говорит о Кассио:
Вечер шестой. Шекспир
517
Не hath a daily beauty in his life
That makes me ugly...
(V, 1:19-20)
Слова, кажется, попали не по адресу. Они должны были быть сказаны Яго об
Отелло и могли служить объяснением его ненависти. Не многочисленные моти¬
вы, которые запоминает Яго, не «беспричинная злоба» («motiveless malignity»),
крылатое выражение, пущенное Колриджем, а именно «daily beauty», которой
обладал Отелло в начале пьесы.
Чего же не может понять Яго в отношениях Отелло и Дездемоны? Он, на¬
верное, смог бы понять, логически вычислить возможность любви Ромео к Джу¬
льетте, отчего она не стала бы менее прекрасной. Там сочетание любви, красоты,
юности. Выполнены все внешние условия. Здесь же стареющий мавр и молодая
красавица венецианка. Это не укладывалось в голове здравомыслящего Яго. Мно¬
гому из того, что он сообщал Отелло, он верил сам. То, чего не было, по его мне¬
нию, могло, должно было случиться.
Яго не мог обратить внимания на ответ Дездемоны в сенате: «I saw Othello’s
visage in his mind...» (I, 3: 271). Это для него высшие материи. Насколько мно¬
гословны Ромео и Джульетта, рассказывая о своей любви, настолько же немно¬
гословны Отелло и Дездемона. Ромео впервые видит Джульетту, и он уже готов
собрать самые красивые, самые яркие эпитеты, чтобы рассказать о ней: «О she
doth teach the torches to burn bright» (1,5:46).
И опять мы можем сказать: «сонетная» любовь1. При этом более яркая, кра¬
сочная, чем это позволялось в сонетах самого Шекспира (см. сонет 130). По коли¬
честву богатых сравнений и метафор, вообще выражению чувства, любовь, более
напоминающая строки сэра Филипа Сидни. «Му true love hath my heart and I have
his...» Знаменитый поэтический отрывок из романа «Аркадия». Эти слова мог¬
ла бы произнести Джульетта, в устах Дездемоны они прозвучали бы психологиче¬
ским диссонансом.
Для Отелло, каким он был вначале, более подошли бы слова шекспировского
сонета: «Let me not to the marriage of true minds admit impediments...», и в этом
же сонете есть слова, прямо обращенные к трагедии:
...Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove <... >
Love’s not Time’s fool...
(Сонет 116)
1 Использование сонетов в «Ромео и Джульетте» и в «Троиле и Крессиде» могло бы
послужить темой для отдельного сравнительного исследования.
518
Как было и как вспомнилось
Препятствия любви в «Ромео и Джульетте» были заданы, поставлены извне
другими людьми, определены сложившимися отношениями. Они не зависят от
воли влюбленных. Отелло сам находит «препятствие», как только Яго достаточно
настойчиво подталкивает его. Эпически цельный герой, неведомо откуда пришед¬
ший в мир Венецианской республики, прошедший через такие муки, гибнет физи¬
чески, но вначале гибнет человек, которого мы видим в начале трагедии и которо¬
го полюбила Дездемона. Только она из всех персонажей остается непричастной
этому миру зла, но добро, воплощенное в образе Дездемоны, - пассивное. Тра¬
гические обстоятельства оказались сильнее Ромео и Джульетты; не найдя сил им
противостоять, герои погибают. Обстоятельства в «Отелло» в высшей степени
благоприятны. Отелло тайно женится на дочери сенатора, власть которого выше
власти герцога (дожа). Но в этот самый момент начинается война с Кипром. В во¬
енное время власть и значение самого Отелло значительно возрастают. Брабанцио
бессилен помешать ему. Со второго по пятый акт события разворачиваются на
Кипре, где Отелло - главный представитель Венеции. Обстоятельства подчинены
ему, а не он им. «Отелло» - не «внешняя трагедия» неблагоприятных обстоя¬
тельств, где между добром и злом проведена решительная черта. Говоря словами
из «Макбета», в «Отелло» «fair is foul and foul is fair».
Пророчества ведьм в «Макбете» верны и для «Отелло». Граница, разделяв¬
шая добро и зло, исчезает. Герой, подобно Лиру, теряет ориентир нормальности,
человечности. Для Отелло таким ориентиром была любовь: «It is the star to every
wandering bark... ». Утратив ее, он оказался во власти безумия, «крови». Он знал,
что так должно было случиться - и:
But I do love thee! And when I love thee not,
Chaos is come again.
(Ill, 3:91-92)
В конце трагедии он не только перестает быть «fair» (слово, во времена Шек¬
спира охватывавшее слишком широкий крут понятий, чтобы его было можно пе¬
ревести одним адекватным словом), но перестает замечать перемену.
Уже совершив убийство, он хочет еще один раз убедить себя: «О, she was
foui!»
«Отелло» - это трагедия о том, как все «прекрасное, доброе» («fair») ока¬
зывается развращенным, убитым в человеке под действием внешних сил, о том,
что человек не может отстоять независимости своего внутреннего «я» от мира
реальных отношений.
Вечер шестой. Шекспир
519
* * *
Брэдли был, безусловно, прав, говоря об оригинальности и совершенстве по¬
строения трагедии «Отелло».
Ни в одной пьесе до Шекспира и долгое время после него никому не удава¬
лось столь последовательно и убедительно показать эволюцию человеческого ха¬
рактера под влиянием обстоятельств, внешних факторов. Ни в одной пьесе самого
Шекспира герой и события, характер и среда не соединены так естественно и мо¬
тивированно. Если в «Ромео и Джульетте» существовали два несовместимых, не
соприкасающихся плана, если в «Гамлете» Л. Выготский находит противоречие
плана «трагического героя и сюжета», то в «Отелло» вместо противопоставлен¬
ности имеет место взаимообусловленность.
Неслучайно и не по ошибке термин «среда» может быть применен при ана¬
лизе «Отелло», где Шекспир за сто лет предвосхитил основной принцип метода
просветительского романа (например, «Моль Флендерс» Д. Дефо), показав за¬
висимость человека не только от обстоятельств, но и от социально-исторической
среды. Роль судьбы в трагедии выполняет Венецианская республика, выразителем
мнения и нравов которой, в несколько гиперболизированной форме, является Яго.
Не Яго, а Отелло - инородное тело в этой среде. Пользуясь выражением Б. Шоу,
мы можем сказать, что Отелло обладает «анормальной нормальностью».
Новый тип разработки человеческого характера, который дает в «Отелло»
Шекспир, вносит значительные изменения и в принцип речевой характеристики
персонажей. Именно в «Отелло» Шекспир широко пользуется приемами инди¬
видуальной речевой характеристики. «Комментаторы давно обратили внимание
на лексическую окраску реплик Яго, отметив в них большое количество флотских
метафор... »* Сравнивая язык пьес Марло и Шекспира, И. Эванс писал: « ...the
humbler and the quieter range of Shakespeare's verse is the sign that their author is
conscious of the problem of the function of poetry in drama»2.
Однако Шекспир достигает гораздо большего, чем просто технического со¬
вершенства драмы в стихах. Он находит новые способы индивидуализации персо¬
нажей, не общечеловеческой их характеристики, а характеристики в рамках впол¬
не определенного исторического и социального контекста.
Разумеется, от Шекспира трудно ожидать той степени мотивированности,
биографической точности в описании персонажа, какую мы привыкли находить
в романах XIX века. Невозможно представить себе обстоятельства, среду, способ¬
ные породить характер, равный по величию и цельности характеру Отелло. Отел¬
ло остается пришельцем из ниоткуда, но, придя в Венецианскую республику, он
оказывается включенным в сеть ее отношений и законов.
1 Шведов Ю. Трагедия Шекспира «Отелло». М.: Высшая школа, 1969. С. 38.
2 Evans В. I. Ihe Language of Shakespeare's Plays. L.: Routledge, 1952. P. 33.
520
Как было и как вспомнилось
Шекспир в своем творчестве в зрелые годы «трагического периода» зна¬
чительно реконструировал драматическую технику. Так, если в «Ричарде III»
экспозиции отводится всего лишь вступительный монолог самого Ричарда, если
в «Ромео и Джульетте» еще легко ощутима система прологов, возвращающая нас
к традиции хора и пантомимы, то в зрелых трагедиях экспозиция занимает весь
первый акт. Шекспир с большой тщательностью разрабатывает начальную ситуа¬
цию, из которой развиваются события.
Шекспир, по сравнению с романистами поздних эпох, менее точен, часто во¬
обще пренебрегает данными, которые предшествуют действию. В предбиографии
он не стремится к анкетной достоверности и последовательности, но зато следит
за тем, чтобы характеры развивались не согласно своему внутреннему императи¬
ву, как это было в пьесах Марло или в «Ричарде III», а подчинялись воздействию
среды и обстоятельств. В «Отелло» этот принцип реализуется гораздо полнее,
чем где-либо еще.
При отсутствии противопоставления в эпоху Ренессанса «личное - обще¬
ственное» трагедия любви получает столь же широкий философский смысл, что
и трагедия, рассказывающая о «вывихнутом времени», трагедия философская.
Любовь подчинена не судьбе, а Времени, эпохе, поэтому гибель любви, смерть
Дездемоны - протест не против воли судьбы, а против воли людей. Время, эпоха
присутствуют во всех поздних произведениях Шекспира, олицетворяют трагиче¬
скую необходимость. В великих трагедиях: «Гамлете», «Короле Лире», «Мак¬
бете» - герой пытается победить время, подчинить его себе. В «Отелло» Время
становится активной силой; оно уже не только опровергает человеческие наме¬
рения, но и диктует свои законы, доказывая невозможность духовного отшельни¬
чества в начале XVII века. В «Отелло» Время выступает с наибольшей историче¬
ской определенностью. Во-первых, это трагедия, действие которой происходит за
тридцать лет до ее написания; во-вторых, смысл эпохи определен здесь наиболее
точно, исходя уже из самих особенностей сюжета, данных о персонажах. Об этом
уже говорилось выше.
Судьба, которая еще номинально присутствует как движущая сила трагиче¬
ского конфликта в «Ромео и Джульетте», в «Отелло» полностью исключена.
Даже функция создания трагического ожидания выполняется персонажами без
ссылок на сверхъестественные силы. Роль общества, окружения, бывшая причи¬
ной гибели Ромео и Джульетты, в «Отелло» становится гораздо более сложной
и зловещей. Венецианцы не только умеют разрушить любовь, но они умеют это
сделать руками самого Отелло.
Трагедия «Отелло» в значительной степени отмечена исторической опреде¬
ленностью, но в то же время, оставаясь ренессансной трагедией, она сохраняет
эпическую глобальность человеческого образа. Трагический герой Шекспира,
например, в традиции эпического стиля легко и естественно отождествляет собы-
Вечер шестой. Шекспир
521
тия своей частной жизни с явлениями вселенского характера. Правда, в отличие
от эгоцентризма Д. Донна, у Шекспира такие аналогии возникают лишь в минуты
наибольшего душевного напряжения героя, в самые критические моменты. Так,
совершив убийство, Отелло обращается к вселенной:
О, insupportable! О, heavy hour!
Methinks it should be now a huge eclipse
Of sun and moon, and that the affrighted globe
Should yawn at alteration
(V, 2: 98-101)
«Отелло» по своей жанровой принадлежности остается трагедией, и нельзя
сделать большей ошибки, чем поставить это произведение в один ряд с многочис¬
ленными семейными драмами. «Отелло» - не мещанская драма, а философская
трагедия любви, трагедия вполне определенной исторической эпохи и в то же вре¬
мя общечеловеческая трагедия, так как она повествует о крушении универсально¬
го человеческого идеала эпохи Возрождения.
1972-1973
522
Как было и как вспомнилось
Переводя шекспировские сонеты
Почему я взялся за перевод?
Хотя поэтический перевод никогда не был для меня профессиональным заня¬
тием, мне не раз приходилось браться за него для своих статей и книг в тех случа¬
ях, когда нужный текст отсутствовал по-русски или если существующий перевод
меня не удовлетворял. Временной и жанровый репертуар был достаточно разно¬
образным. Для книги «Мыслящая муза» это была не переведенная на русский
язык английская (я переводил только с этого языка) поэзия XVIII века, когда-то
известная Европе как совершившая «открытие природы», но потом заслоненная
романтиками и забытая из-за своей строгой «августинской» (золотой век Авгу¬
ста) ориентации. В ее парнорифмованных строчках слышалась не только ровная
поступь классического стиля, но и гораздо более общая склонность английско¬
го стиха - к эпиграмматическому остроумию, афоризму. Вероятно, следуя этой
склонности, английский сонет поменял итальянскую строфику, введя заключи¬
тельное рифмованное двустишие.
Эпиграммы мне попадались для перевода не раз, даже когда я писал не соб¬
ственно о поэзии, поскольку в них мгновенно отражалось и застывало время.
Скажем, в статье о Теккерее и начале викторианского романа невозможно было
не вспомнить о тех переменах, которые в судьбе жанра и в его метафорике про¬
извела замена в транспортной системе - кэбов на паровозы. Железнодорожная
образность проникла повсюду, даже в назидательные мудрости проповедников,
и гораздо ранее не брезговавших рифмой (вспомним в XIV веке Джона Болла с
его «Когда Адам пахал и Ева пряла...»): «Ради спасения души, / Чтоб поезд не
ушел - спеши». Этот анонимный оригинал относится к 1830-1840-м годам.
Переводя афоризм, эпиграмму, всегда погруженные в речь своего времени,
неизменно приходится приспосабливать их к нашей речевой идиоматике, иначе
острота уходит или остается лишь в комментарии к тексту. Так, просматривая для
этой статьи переведенное мной, я понял, что опубликованный четверть века назад
в книге «Англия в памфлете» мой перевод знаменитой эпиграммы Уолтера Сэ¬
виджа Лэндора пресноват в своей концовке, и предлагаю сейчас новый вариант.
Лэндор зло подводит итог правлению четырех Георгов из Ганноверской дина¬
стии, занимавших до 1830 года английский трон в течение более ста лет:
Георг Первый - не герой,
Но подлей Г еорг Второй.
Добрым словом в целом свете
Не помянут Г еорг Третий,
А Четвертый, их наследник,
Слава богу, стал последним.
Вечер шестой. Шекспир
523
Афоризм живет не только в стиле английской эпиграммы, но в самых разных
жанрах. Переводя «метафизиков», и в первую очередь Джона Донна, все время
придется наталкиваться на афоризм то в разбеге речевой интонации, то в дви¬
жении песенного ритма. Эта техническая сложность ритмического совмещения
в свое время увлекла меня в одном из метафизических определений любви, предло¬
женных Донном в «Лекции о Тени»:
Постой, прошу, - тебе тогда
Теорию любви я преподам.
Все три часа, что здесь мы провели,
Прогуливаясь, две тени шли
За нами следом - наше порожденье.
Но солнце поднялось, в зените день;
Свою мы топчем тень,
И мир открылся в блеске дерзновенном.
Любовь в младенчестве росла
В тени и от докучных глаз,
И от забот, но вот - пора прошла.
И финальный афоризм:
Любовь - рост дня и света полнота,
Но шаг лишь за полдень, и сразу - темнота.
Это заключительное двустишие как будто пришло из английского сонета,
что очень вероятно, поскольку Донн не только писал сонеты, но постоянно играл
с петраркистской условностью.
Один из секретов С. Маршака в переводе шекспировских сонетов заключает¬
ся в его эпиграмматическом мастерстве. Эпиграмма - излюбленный им жанр, а по¬
тому столь безошибочно нацелены его рифмованные концовки: «Все мерзостно,
что вижу я вокруг, / Но как тебя покинуть, милый друг!» (сонет 66).
Обычно по ходу сонета романсовый стиль все далее сносит перевод Маршака
от шекспировского оригинала, но концовка, как правило, восстанавливает мысль,
даже если Маршак находит для нее иную, чем в оригинале, метафору. Именно так
в сонете 15: «Но пусть мой стих, как острый нож садовый, / Твой век возобновит
прививкой новой».
«Прививка» как символ вечного обновления у Шекспира есть, «ножа» нет.
Маршак его додумал, чтобы закрепить мысль в ее земной предметности. Полу¬
чилось хорошо. Тем не менее именно этот сонет стал для меня первым опытом
полемики с Маршаком. Я никогда не мог предположить, что пущусь по столь
524
Как было и как вспомнилось
исхоженной тропе, как переводы шекспировских сонетов. Однако мне захотелось
скорректировать филологическую задачу, полагая, что это само по себе должно
иметь поэтические последствия.
Переводить шекспировские сонеты я начал с 15-го («When I consider every
thing that grows» ), который едва ли не первым в цикле отмечен личностью чувства,
с чисто поэтическим обещанием Юному Другу - сохранить вечность его красоты
в своих стихах. Здесь Шекспир овладевает петраркистским каноном в его метафо¬
рической риторике, когда каждая метафора - новый аргумент в процессе развер¬
тывания мысли. Необходимо сохранить этот метафорический ряд в его очевидной
и последовательной доказательности, как он и задуман поэтом.
Гораздо позже, однако, я заметил, что если в сонете 15 мотив поэзии, спо¬
собной даровать вечность, действительно возникает впервые, то первоначальный
перебор метафор в доказательство того, что молодому человеку пора бы жениться
и продолжить себя в потомстве, перестает быть поэтической формальностью не¬
сколько раньше. В сонеты постепенно входит, помимо героя-адресата, и герой-по¬
эт, напоминающий своему адресату, что хорошо бы подумать и о других, заметить
их любовь. Впервые эта мысль передана парадоксальной метафорой «мир - вдо¬
ва», которую молодой человек может оставить ни с чем (сонет 9). Ироническая
серьезность этого переломного сонета мне показалась потерянной русскими пе¬
реводчиками.
Задолго до того, как предпринять попытку перевода, стиль переводов Марша¬
ка, осуществленный им образный сдвиг я демонстрировал на примере сонета 129
(«ИГ expence of spirit in a waste of shame») - из второй части сборника, посвящен¬
ной уже не Юному Другу, а Смуглой Даме. В нем преобладают антипетраркизм и
иное понимание любви, которое потребовало другого определяющего слова вме¬
сто слова «любовь». Вот как начинается английский оригинал: «ИГ expence of
spirit in a waste of shame / Is lust in action...». Маршак перевел так: «Издержки
духа и стыда растрата - / Вот сладострастье в действии», - произведя две знако¬
вые трансформации.
Произведена замена ключевого понятия. Кульминация антипетраркизма
у Шекспира отмечена переходом от небесной любви к похоти (lust), которую
Маршак не решился передать буквально соответствующим русским словом, а кур¬
туазно упаковал в понятие «сладострастие».
Кроме того, у Маршака появляется перечислительное «и», которого нет
в оригинале. У Шекспира связка понятий осуществляется более тесным обра¬
зом - предлогом: «Издержки духа в...». Но в чем? Конечно, «waste» может
быть и растратой. Издержки - в растрате, если от перечислительной конструкции
у Маршака (понятно, почему она возникла) вернуться к синтаксису оригинала.
Смысл теряется. Он будет обретен, если взять другое значение слова «waste»,
в англоязычной поэзии особенно памятное по названию поэмы Т. С. Элиота -
Вечер шестой. Шекспир
525
«The Waste Land». По-русски - «Бесплодная земля». «Waste» может иметь это
значение и само по себе как существительное - пустошь.
Именно это значение как первое дает OED (а уж потом - процесс и результат
растраты): uninhabited (or sparsely inhabited) and uncultivated country; a wild and
desolate region, a desert, wilderness.
«Растрата духа / души в пустоши стыда» - вот что сказано у Шекспира. Что
значит «пустошь стыда»? Стыд как переживание опустошающее, выжигающее
душу. Такова похоть.
А дальше весь сонет - развернутое ее определение. Оно разворачивается по
законам совсем иной риторики, далекой от стройности, продемонстрированной
в сонете 15. Не случайно о сонете 129 говорят как о драматическом монологе
(вполне вообразимом в устах Гамлета). Если, став профессиональным поэтом
в качестве автора поэм и сонетов, Шекспир вернулся в театр, чтобы создать драма¬
тическую речь, небывалую по динамике и индивидуальности, то в жанре сонета он
произвел не меньшие перемены, привнеся в него опыт драматической речи.
Механизм поэтической мысли здесь лучше всего обозначить английским сло¬
вом - afterthought. У этой речи нет предварительного плана. Слова и фразы, опреде¬
ляющие похоть, складываются в перечислительный ряд, где последующее нередко
подсказано предыдущим, подхватывает его звук или смысл; а иногда повторяется
и само слово, чтобы договорить, догнать, дополнить.
Первое перечисление на одном дыхании - 9 слов, как пулеметная очередь.
Вновь хочется сказать - звукообраз, когда ярость похоти, ее необузданность не
только названы, но и слышимы в звуке, интонации.
Затем - попытка организовать мысль, направив ее путем антитез: enjoyed по
sooner - dispised straight; past reason hunted - past reason hated... Однако говоря¬
щий срывается на слове «mad», подхваченном в следующей строфе и продолжен¬
ном в стремительности троекратного повторения глагола «to have».
И только выдохнув, выговорившись, как будто после паузы, автор готов произ¬
нести парнорифмованную мораль, свидетельствуя, что ничего нового он не сказал,
всем это известно, однако не мешает в поисках рая попадать в ад.
Сонет 29 («When, in disgrace with fortune and men's eyes») - блистательная
демонстрация рефлективной сути ренессансного сонета, первой со времени ан¬
тичности лирической формы, не предполагавшей музыкального сопровождения.
Сначала поэт, а потом его читатель оставались один на один с листом бумаги и
записанным на нем текстом, имея возможность погрузиться в него, пережить как
стенограмму размышления и чувства.
До этого момента я переводил лишь отдельные сонеты, чей русский перевод
меня не устраивал своей изначальной установкой, в которой терялась рефлектив¬
ная метафорическая природа ренессансного сонета. А потом почувствовал необ¬
ходимость исправить ряд мест, совершенно непонятых русскими переводчиками
526
Как было и как вспомнилось
и вызывающих большие затруднения у английских комментаторов. Я согласился
с тем, что в сборнике можно выделить цикл, который хронологически явился в нем
последним и только биографические обстоятельства написания которого позво¬
ляют расшифровать некоторые из ключевых метафор.
Мои переводы возникали каждый раз по конкретному поводу - когда я стал¬
кивался в своей филологической или составительской работе с откровенным не¬
пониманием, укоренившимся в русской переводческой практике. Результат этой
практики с небывалым размахом показало издание шекспировских «Сонетов»
в серии «Литературные памятники» (2016). Девятисотстраничный том включил
пять полных сводов плюс избранные переводы, выполненные разными переводчи¬
ками. Все вместе явило собой не «наши достижения», а памятник переводческой
неудаче, в последние десятилетия во многом проистекающей от того, что боролись
не с Шекспиром, а с Маршаком, пытаясь превзойти его и фактически не сходя с его
пути. Это издание изжило традицию русских изданий «Сонетов», установившу¬
юся на рубеже 1980-х, когда важно было показать, что не один Маршак в России
переводил их. Теперь же важнее подвести некоторый итог - хватает ли в этом мно¬
жестве материала на то, чтобы составить том лучших русских переводов, найти по
одному переводу каждого сонета, способному представить оригинал по принципу:
переведено то, чего нельзя было в каждом тексте не перевести.
Скажем, в переводе целого ряда сонетов первоначального цикла («сонеты
о продолжении рода») незамеченым остается смыслообразующий прием. В со¬
нете 9 никто не попытался сохранить навязчиво плачущий звук (widow - world -
weep - wail), создающий звуковую метафору, в зеркале которой сонетная форма
отражается с пародийным остроумием. А в сонете 13 все прошли мимо навязчиво¬
го местоименного повтора, с которым впервые сонет уходит на душевную глуби¬
ну от формального перебора метафорической клавиатуры, которым открывается
сборник. Так что первоначальный цикл имеет более сложное внутреннее развитие.
И совсем иные значения обретают метафоры в «сонетах 1603 года» - в ци¬
кле, которым хронологически Шекспир завершает свое обращение к сонетному
жанру.
Шекспировские «сонеты 1603 года»
В последние годы мысль о том, что Шекспир не ограничил писание сонетов
небольшим отрезком времени (будто бы выступил в модном жанре и «закрыл
тему»), высказывается все более настойчиво1. Предполагать возможно, посколь-
1 Ключевыми называют две работы Макдональда П. Джексона, см.: Jackson М. Р. Rhymes
in Shakespeare's Sonnets: Evidence of Date of Composition // Notes and Querries. 1999. June.
P. 219-222; Dating Shakespeare Sonnets: Some Old Evidence Revisited // Notes and Querries.
2002. June. P. 237-241.
Вечер шестой. Шекспир
527
ку безусловно известно лишь то, что шекспировские сонеты целиком при жизни
автора были изданы всего один раз - в 1609 году, а написаны (все или часть из
них?) гораздо раньше.
Первое упоминание о «сладостных» (sugar'd) шекспировских сонетах, из¬
вестных среди его друзей, - 1598 год. Входил ли в число друзей Фрэнсис Мерее,
читал ли он сонеты, которые счел «сладостными»? Едва ли, поскольку не к «сла¬
достному» впечатлению, кажется, стремился автор, в равной мере следующий пе-
траркизму и антипетраркизму.
Год спустя - в 1599-м - плагиат засвидетельствовал не только наличие соне¬
тов, но и популярность шекспировского имени, под которым был опубликован
сборник «Страстный пилигрим». В действительности к Шекспиру в нем име¬
ли отношение лишь пять сонетов: два из второй части его будущего сборника
(сонеты 138 и 144), а еще три - созданные персонажами комедии «Бесплодные
усилия любви». Эта комедия из числа ранних - вероятное свидетельство тому, что
Шекспир начал писать комедии не прежде, чем получил заказ для их постановки
в богатых домах. В Тичфилде, поместье графа Саутгемптона?
Это уже предположение, поскольку факты, относящиеся к сонетам, кончи¬
лись. Впрочем, предположения, освещенные веками, порой кажутся даже досто¬
вернее фактов. К ним относится и общеизвестный сюжет сборника, якобы состоя¬
щего из двух частей - первая обращена к Юному Другу, вторая - к Смуглой Даме.
Теперь все чаще вспоминают о том, что этот сюжет установил в XVIII веке первый
комментатор сонетов, великий шекспировед Эдмунд Мэлоун. Основательность
разделения и адресации частей все чаще подвергается сомнению: было показано,
что в большинстве сонетов отсутствуют местоимения, позволяющие определить
род адресата - мужской или женский. И даже предположить трудно, какая часть
была написана раньше, какая позже: раз в 1599-м в печать попали сонеты имен¬
но из второй части, то значит ли это, что весь сборник к тому времени был за¬
вершен?
Первоначальная попытка датировки зависит от того, кого считать адресатом
сборника 1609 года, то есть кто скрывается за инициалами посвящения от издате¬
ля - W. Н.
Кандидатов много, но реально достоверных два - Генри Ризли (Henry
Wriothesley; если адресатом был он, то инициалы в посвящении почему-то ока¬
зываются переставленными - чтобы еще более запутать дело?), третий граф Са¬
утгемптон, и Уильям Герберт (William Herbert), третий граф Пембрук. Главный
если не аргумент, то повод рассматривать их в качестве кандидатов - наличие дру¬
гих посвящений, связывающих их с Шекспиром. Саутгемптону он сам посвятил
поэмы «Венера и Адонис» и «Лукреция» в изданиях 1593 и 1594 годов, а с посвя¬
щением братьям Гербертам вышло Великое Фолио (1623), посмертное собрание
шекспировских пьес (сонетов и поэм там не было).
528
Как было и как вспомнилось
Естественно, что личное посвящение - аргумент более веский, чем посмерт¬
ное подношение, однако в последнее время шансы Пембрука все повышаются,
хотя едва ли оправданно. Главное препятствие - его возраст, диктующий хро¬
нологию создания сонетов. Пембрук родился в 1580 году и не мог появиться в
Лондоне, познакомиться с Шекспиром ранее семнадцати лет. Знакомство с Саут¬
гемптоном подтверждено посвящением поэм и относится к началу 1590-х: концу
1591-го - началу 1592-го.
Петраркистская любовь - предмет изображения и пародирования в пьесах
первой половины 1590-х - от «Бесплодных усилий» до «Ромео и Джульетты».
Именно эти годы в Англии - пик увлечения сонетом (age of sonneteering), по¬
следовавший за посмертной публикацией в 1591 году сборника Филипа Сидни
«Астрофил и Стелла».
Почему же нужно предполагать, что, когда все писали сонеты, включая шек¬
спировских персонажей, он сам воздерживался, поджидая, когда войдет в возраст
Пембрук?
Однако сейчас, не повторяя аргументов в пользу Саутгемптона, относящихся
к началу 1590-х, обратимся к более позднему времени: Шекспир мог вернуться
к сонетному жанру через десяток лет после того, как начал в нем работать. По¬
вод для этого также подсказывает биография Саутгемптона, ибо без соотнесения
с некоторыми ее фактами ряд шекспировских сонетов оказывается совершенно
непонятным. Именно это демонстрирует традиция их русского перевода.
Если не единственным привязанным к реальным событиям, то крайне редким
у Шекспира считается сонет 107, где в строке о «смертной луне» («The mortal
moon hath her eclipse endured») небезосновательно видят аллюзию на смерть ко¬
ролевы Елизаветы в марте 1603 года. Тогда первые 8 строк представляют собой
пейзаж исторических обстоятельств. Только эта трактовка, как мне кажется, и
позволяет прорваться сквозь хитросплетение метафорических намеков. Иначе же
выходит что-то глубокомысленное, но мало внятное, как в большинстве русских
переводов.
Обратимся к классике - к С. Маршаку:
Ни собственный мой страх, ни вещий взор
Вселенной всей, глядящей вдаль прилежно.
Не знают, до каких дана мне пор
Аюбовь, чья смерть казалась неизбежной.
Свое затменье смертная луна
Пережила назло пророкам лживым.
Надежда вновь на трон возведена,
И долгий мир сулит расцвет оливам.
Вечер шестой. Шекспир
529
В первом катрене недостаточное понимание того, о чем идет речь, компенси¬
руется поэтической риторикой, звучащей двусмысленно в силу того, что перевод¬
чик, кажется, так и не сделал выбор в пользу того или другого значения английско¬
го «ту true love». В английской ренессансной поэзии это выражение обозначает
«верного влюбленного/любящего». По-русски «до каких дана мне пор» в отно¬
шении любви предполагает чувство, а «чья смерть» - человека.
Однако самое темное место касается главного: чего же ни я, ни весь мир (wide
world) в своих пророчествах не могли знать? У Маршака получается, что скрыт
срок жизни/продолжительности любви; в оригинале - срок заточения. Хотя, это
нужно признать, о заточении сказано с метафорической уклончивостью: «...the
lease of my true love... / Supposed as forfeit to a confined doom». Дословно: «Вре¬
менный срок, на который моя любовь... / Предполагается жертвой стесненной
судьбе...»
Значения ряда слов явно скользящие, метафорически двусмысленные, но лю¬
бопытно, что это скольжение происходит вокруг понятий, всего более употреби-
мых в юридическом языке.
Среди многих значений слова «lease» основная смысловая связка историче¬
ских значений (по Оксфордскому словарю - OED) выстраивается так: невозде¬
ланная земля - земля, отданная во временное пользование, - аренда.
Еще разнообразнее и сложнее круг значений вокруг слова «forfeit»: наруше¬
ние закона - что-то утраченное по закону - штраф, наложенный за нарушение за¬
кона, - утрата чего-то по закону.
Метафорический ряд у Шекспира очень часто вовлекает юридические анало¬
гии (чаще, пожалуй, лишь природные). Но здесь, кажется, есть прямой повод для
подобного иносказания - освобождение Саутгемптона и грядущая встреча с ним
поэта. Почему об этом не сказать прямо? Во-первых, такое напоминание едва ли
было бы приятно бывшему сидельцу Тауэра, а теперь обласканному и осыпанному
милостями нового монарха Саутгемптону, удостоенному высшего ордена - Под¬
вязки. Прямо из Тауэра он призван в свиту короля Якова, находящегося на пути
из Эдинбурга в Лондон.
Там, где речь идет о смертной луне, смысловая неточность (соотнесенная
с историческим смыслом) вполне очевидна. Английский глагол «endured» в отно¬
шении затмения может быть передан русским глаголом «пережить», но здесь - не
в смысле продолжающейся жизни, а в смысле того, что это испытание выпало на
долю смертной луны, для которой, в отличие от ее небесного эпонима, затмение -
знак смерти. Именно так и произошло с той, чьим эмблематическим образом была
девственная луна-Диана - с королевой Елизаветой.
Все проясняется, если предположить, что первый катрен - о прерванном
с восхождением на трон короля Якова I Стюарта заключении в Тауэре графа Саут¬
гемптона, который попал туда за участие в восстании своего друга и родственника
530
Как было и как вспомнилось
графа Эссекса в феврале 1601 года. Второй катрен - смерть Елизаветы и смутное
ожидание нового короля, чья мать Мария Стюарт была казнена в период пред¬
шествующего правления. Как-то он поведет себя, не захочет ли мстить? Были и
другие сомнения и предсказания, но все разрешилось, по крайней мере, в первый
момент - ко всеобщему облегчению.
Если следовать этим историческим обстоятельствам, то текст заметно прояс¬
няется, что я и попытался показать в собственном переводе:
Мой вечный страх и вещий хор пророчеств -
Что станется, любовь моя, с тобой, -
Теряют силу, как только просрочен
Твой договор с затворницей-судьбой.
Затмился смертный лик луны-богини;
Авгуры оказались в дураках;
Тревоги нет - мир воцарился, ныне
Он шествует с оливою в руках.
Так распутывается то, что касается биографии, но не противится ли такой
расшифровке поэзия? Ренессансный сонет отнюдь не жанр прямого высказыва¬
ния, напротив, его речевая установка - метафорическое слово. В сонете прежде
всего ведут речь о любви; впрочем, о чем бы ни шла речь, она остается метафори¬
чески уклончивой, шифрующей. Такова часть жанровой игры и условие не менее
важное, чем 14 строк.
Ренессансный сонетист владеет искусством поэтического иносказания, не
менее сложным и не менее конкретным, чем поэт-символист из рассказа Карела
Чапека «Поэт». Напомню: следователь отправлен на место убийства пьяной ста¬
рухи, которую сбила машина. Свидетелей нет, кроме одного, от которого ожида¬
ется мало толку, поскольку он - новомодный поэт. Впрочем, потрясенный проис¬
шедшим, он написал стихотворение:
... Повержен в пыль надломленный тюльпан.
Умолкла страсть. Безволие... Забвенье.
О шея лебедя!
О грудь!
О барабан и эти палочки -
Трагедии знаменье.
Окажется, что о столь точном свидетельстве следователь и мечтать не мог:
здесь все, включая номер машины «235».
Вечер шестой. Шекспир
531
Не будем преувеличивать собственные ожидания (оставим многотомные
шифровки для антистрэтфордианцев), но дату сонет иногда может подсказать, как
видим - с точностью до года, а порой едва ли не до числа...
Когда пытаются увидеть более поздний цикл, я его условно называю «сонеты
1603 года», то начинают его не с сонета 107, а чуть раньше - с сонета 104. От¬
сылка к реальным событиям, которую в нем подозревают, связана с навязчивым
повтором одного и того же числа - «3». Оно повторено пять раз! Если перевести
арифметику в хронологию, то именно такой могла быть разлука с Саутгемптоном,
чье заключение в Тауэр тянулось именно три...
Хочется сказать: три года, - что комментаторы и делают. Автор самого об¬
стоятельного (с точки зрения возможных источников, аналогий и всей суммы уже
собранных сведений) комментария к сонетам в «New Variorum Shakespeare»
X. Э. Роллинс, ничтоже сумняшеся, отмечает, что «три года» - часто повторяю¬
щийся в ренессансной лирике срок разлуки, и приводит примеры.
Однако в данном случае «три года» не требуют кавычек, если они предпо¬
лагаются как знак цитатности из шекспировского сонета, поскольку эта единица
времени ни разу не упомянута! Случайно ли? Шекспир мерит время на сезоны и
месяцы: три зимы, три лета, три весны, сменившиеся осенней желтизной (но пря¬
мо о трех осенях не сказано!), три апреля, три июня.
В существующих переводах чаще всего опускаются названия месяцев и сокра¬
щается употребление числа 3, а они - важны:
Нет, ты не стар - прекрасен, как тогда,
Как я взглянул в твои глаза впервые;
Все тот же ты. Пусть трех зим холода
Стряхнули трижды летнюю листву, и
Наряд трех весен, тронут желтизной,
Трижды явил времен круговращенье;
И три апреля сжег июньский зной,
А ты как был - не знаешь превращенья.
Сезоны, повторяющиеся в сонете с цифрой три, - это то время, когда дли¬
лась разлука. Третьей осени не было, не было и трех лет. А что касается двух на¬
званных месяцев, то они оба значимы: апрель - время освобождения графа, июнь
1603 года - вероятное время их встречи. Кстати, именно июнь, названный как
месяц, выжигающий своей жарой, символизирующий лето, наводит на мысль, что
он здесь упомянут с дополнительной смысловой нагрузкой, поскольку июль или
август были бы более уместны в качестве символов изнуряющей жары.
Итак, первые два катрена - календарное описание разлуки с точным указани¬
ем ее срока и упоминанием двух важнейших месяцев, обозначающих ее заверше¬
ние. Сквозная мысль - а ты не состарился и не изменился.
532
Как было и как вспомнилось
Третий катрен - сомнение (ибо как это возможно - не меняться с течением
времени) и введение метафоры, которая может продемонстрировать перемены в
их последовательном, но незаметном глазу движении, подобном ходу стрелки на
циферблате:
Или, как стрелка движется в часах,
Меняется, пусть неприметным ходом,
И красота твоя, в моих глазах
Цветущая в любое время года?
С разной степенью точности и подробности русские переводчики справляют¬
ся с катренами, но когда дело доходит до рифмованного двустишия, происходит
полный провал:
For fear of which, hear this, thou age unbred;
Ere you were born was beauty’s summer dead.
Подстрочный перевод в несколько проясняющем текст виде должен звучать
приблизительно так: «Чтобы избавить [тебя] от этого страха [то есть подозрения,
что перемены в тебе остаются незамеченными], выслушай следующее - ты с воз¬
растом покончил: До того, как ты родился, красота лета умерла».
Что сей «возраст», с которым покончено, значит? В оригинале стоит
«unbred», форма отрицания в прошедшем времени от глагола «to breed», здесь -
порождать. То есть «unbred» - положил чему-то конец, а именно - возрасту
(age). По смыслу иначе - скорее: ты родился без возраста, а значит, ты не можешь
стареть. Почему?
Это как раз тот случай, когда комментаторы оригинала предпочитают не
объяснять ничего, предполагая, видимо, что все и так понятно (Довер Уилсон);
толковать значения по отдельности (Стивен Бут); либо в самом общем смысле:
«...Тема того, насколько преходящи смертные формы» (Хелен Вендлер). Рус¬
ские комментаторы (А. Аникст, С. Радлов) в этом месте молчат, так что от ком¬
ментаторов переводчику мало помощи.
Ясно, что первая строчка двустишия примыкает ко второй и без нее не может
быть интерпретирована. Вместе они должны подвести итог всему сонету. Каким
этот итог видится переводчикам? Первое, что бросается в глаза, - это полное не¬
совпадение результатов их прочтения. Как будто они переводили разный текст,
впрочем, нередко трудно понять, что они сказали.
С. Маршак произнес нечто то ли таинственное, то ли невнятное: «И если уж
закат необходим, - / Он был перед рождением твоим»?! Перевод с косноязычно¬
поэтического на прозаический: если смерть неизбежна, то она случилась до твоего
Венер шестой. Шекспир
533
рождения, то есть ты не умрешь. С Маршаком согласен и Финкель, его обычно
уточняющий, но здесь скорее еще более запутывающий дело: «Так знай: от мно¬
гих отлетел их цвет, / Когда и не являлся ты на свет». Оставлю без комментария
поэтические «достоинства» обоих переводов.
Более распространена иная смысловая версия, согласно которой мысль об¬
ращена не к Другу с сообщением о навсегда минувшей его смерти, а в неопре¬
деленное (как его определишь, если о нем ни слова в оригинале!) будущее, ко¬
торому говорят о том, что красота осталась в прошлом, вероятно, имея в виду
красоту уже ушедшего Друга. Этот путь открыл Модест Чайковский, чей перевод
в начале XX века во всем, кроме этого заключительного и злополучного двусти¬
шия, едва ли не наиболее удачный: «Так знайте же, грядущие творенья, / Краса
прошла до вашего рожденья». Понятно, что к раздаче красоты не успели гряду¬
щие творенья (кто это?), или, как у В. Шаракшанэ, «века»: «Услышьте же, гряду¬
щие века: / Была краса когда-то велика». Ни единое слово не имеет соответствия
в оригинале!
Кажется, все современные переводы колеблются между этими двумя вер¬
сиями - обращения к Другу: «Пусть было лето красоты мертво, / Но только до
рожденья твоего» (В. Микушевич) или в будущее: «Все, кто родятся позже твое¬
го, / Поймут, что лето красоты мертво» (Ю. Лифшиц).
И все это имеет очень мало отношения к тому, что сказано в оригинале (не
говоря о поэзии): ты уничтожил возраст, родившись после того, как красота лета
умерла... Когда же Юный Друг родился? Если прочесть текст совсем буквально:
ты уничтожил возраст, родившись...
Сделаю предположение биографического порядка, которого мне не приходи¬
лось встречать ранее (что не значит, что оно никем не было высказано, учитывая
необозримость шекспировской индустрии, но во всяком случае - ни в одном из
основных на сегодняшний день изданий сонетов).
Что если последнюю строку следует читать не метафорически, не иносказа¬
тельно, а буквально: ты родился, когда кончилось лето, то есть ОСЕНЬЮ?.. И, сле¬
довательно, я поздравляю тебя с днем рождения - у Саутгемптона он приходится
на 6 октября. В 1603-м ему исполнилось тридцать лет. Срок серьезный, когда, по
меркам той эпохи, ощущается дыхание если не старости, то возраста. Поздравляя,
есть прямой смысл сказать, что ты все еще тот, каков и был, возраст над тобой не
властен, тем более - сказать после разлуки.
Это поэт и говорит, облекая поздравление в форму метафорического (он все
же - поэт) комплимента, остроумно подхватывающего и итожащего предшеству¬
ющие подсчеты времени разлуки и опасение, что все-таки изменения незримо
подкрадываются. Настойчиво утвержденный срок календарного течения време¬
ни и подлежит опровержению в отношении юбиляра. Саутгемптон не подвластен
календарю по той простой причине, что родился вопреки правилу возрождения
534
Как было и как вспомнилось
и умирания жизни: не весной, а - осенью. Раз так, то и возраста бояться нечего:
возраст/календарь не властен над тем, кто выпадает из природного циклического
круговорота.
Можно возразить, что по этой логике вне возраста каждый, рожденный осе¬
нью, зимой и даже летом. Но о каждом здесь речи нет. Есть поздравление конкрет¬
ному лицу по конкретному поводу, оформленное как остроумный комплимент:
Отвергнув календарь, родился ты
При увяданье летней красоты.
Поздними сонетами - в моем определении «сонетами 1603 года» - призна¬
ются два десятка (или некоторые из них), помещенные как заключительный цикл
в первой части сборника - 104-126. Насколько все они могут быть сочтены обра¬
зующими этот поздний цикл, входящими в него?
Это повод для исследования в каждом отдельном случае - отчасти я посвя¬
щаю этому параллельную статью в журнале «Вопросы литературы» (2016, № 2),
рассматривая, в частности, как сонеты собираются вокруг нового для шекспиров¬
ских сонетов ключевого слова - mind. На языке той эпохи оно означает не столько
интеллектуальную, сколько душевную способность, или их обе в совокупности -
«мыслящая душа». В таком случае кульминацией цикла стал бы сонет 116: «Let
me not to the marriage of true minds / Admit impediments...»
Однако переводить его заново не хочется, поскольку мне кажется, что здесь
Маршак дал один из тех переводов, которые вошли в память русской поэзии: «Ме¬
шать соединенью двух сердец / Я не намерен...» - и должны остаться в составе
русского канона шекспировских сонетов.
Слово «mind» обратило вектор поэтической мысли вовнутрь, поставив ряд
новых проблем и ту, что особенно напряженно обсуждается в этих сонетах, - вну¬
треннего и внешнего достоинства, возможности довериться глазам, наслаждаю¬
щимся видом красоты, или внутреннему зренью. А эти проблемы сообщают стилю
ту откровенную рефлективность, которую трудно передать с романсовой интона¬
цией, что утвердил в своем варианте шекспировских сонетов С. Маршак.
2015-2017
Вечер шестой. Шекспир
535
Уильям Шекспир
Сонеты в переводе Игоря Шайтанова
9
Чтобы не видеть слезы у вдовы.
Путь одинокий избран был тобой?
Уйдешь бездетным, целый мир, увы,
Увы, уход твой сделает вдовой.
Но мир - его покинешь ты едва, -
Увы, утратив черт твоих печать,
Не сможет в утешенье, как вдова,
Отцовский облик в сыне различать.
Уж лучше будь транжирой из транжир:
Все в мире то же с переменой мест, -
Но не востребуй красоту, и мир
На красоте поставить должен крест.
Любовь к другим не ведома тому,
К себе кто беспощаден самому.
13
Самим собой, любимый, можешь быть,
Пока ты здесь себе себя являешь,
Но следует до времени решить,
Кого себе подобным оставляешь.
Пусть срок в аренду взятой красоты
Не знает истеченья; по кончине
Самим собой опять предстал бы ты,
Еще милей собою в милом сыне.
Кем будет тот, чей рухнет славный дом,
Что мог он укрепить своею властью,
Отринув бурю с ледяным дождем
И голый холод смертного ненастья?
Транжирой, милый, - здесь ответ один!
Ты знал отца, и твой пусть знает сын.
536
Как было и как вспомнилось
15
Помыслю только, что цвести - мгновенье
Всему, что на земле стремится в рост;
Что мир - театр, где кратко представленье
Под комментарий вечно скрытных звезд.
Тогда пойму: под небом тем же самым
Цветут и вянут люди и трава.
Лишь брызнул сок, из памяти упрямо
Уж изжита минута торжества.
Закончить этот бренный ряд сравнений -
Ты мне явился в блеске юных сил.
Где Тлен и Время в непрестанном пренье:
Как мрак сгустить, чтоб свет твой погасил?
Я за тебя пред Временем стою:
Оно засушит, но я вновь привью.
29
Когда мне нет удачи, не в чести,
Скорблю в сердцах, оставлен не у дел,
Тщусь в небесах подмогу обрести,
Смотрюсь в себя и свой кляну удел.
Ревную я ко всем, кто впереди:
Как тот - красив, другой - в друзьях богат;
Чужой успех мне душу бередит,
Тому ж, чем счастлив, я совсем не рад.
К себе почти презрением дыша,
Вдруг вспомню о тебе, и ввысь отвесно,
Как жаворонок, воспарит душа,
Чтобы исполнить гимн у врат небесных.
Лишь мыслью о тебе так счастлив я,
Что не польщусь на жребий короля.
129
Души растрата в пустоши стыда -
Вот похоть в деле; а пока не в деле,
Похоть груба, коварна и всегда -
Срам на уме и ярость на пределе.
Едва вкусив, презрением казнят;
Вечер шестой. Шекспир
537
И как любили, так же ненавидят -
Безумно, скрытый проклиная яд
В приманке, где его не вдруг увидят.
Безумная в погоне и уже
Имев, имея и иметь мечтая;
Г орчит на вкус тому, кто был блажен;
Мечтой влечет и сновиденьем тает.
Все это знают и всегда твердят,
Но путь на небо их приводит в ад.
ИЗ «СОНЕТОВ 1603 ГОДА»
104
Нет, ты не стар - прекрасен, как тогда,
Как я взглянул в твои глаза впервые;
Все тот же ты. Пусть трех зим холода
Стряхнули трижды летнюю листву, и
Наряд трех весен, тронут желтизной,
Трижды явил времен круговращенье;
И три апреля сжег июньский зной,
А ты, как был, - не знаешь превращенья.
Или, как стрелка движется в часах,
Меняется, пусть неприметным ходом,
И красота твоя, в моих глазах
Цветущая в любое время года?
Отвергнув календарь, родился ты
При увяданье летней красоты.
105
В моей любви нет идолопоклонства,
И разве идол тот, кто мной любим,
Хотя все песни и хвалы под солнцем
О нем и для него, и вечно с ним.
Душой он добр сегодня и навеки,
Раз верность - среди совершенств его,
И у него мой стих берет уроки
Одним дышать - другого никого.
«Добр, верен и красив» - я это знаю,
538
Как было и как вспомнилось
«Добр, верен и красив» - нет слов иных,
В трех этих качествах я постигаю,
Как много смысла в сочетанье их:
«Добр, верен и красив» - бывали, да,
В отдельности, но вместе - никогда.
106
Когда я на страницах прошлых лет
Прочту, как воспевали юных дев,
Дам, рыцарей, которых больше нет,
Чьей красотой украсился напев,
То в самом блеске этой красоты
И ног, и рук, и губ, и лиц, и глаз,
Мне видится, каким предстал бы ты,
Как красота твоя б им удалась.
Но их хвалы - пророчество одно
О времени, ты явишься когда,
И им уменье не было дано
Достоинства твои предугадать.
В наш век, что лицезреть тебя привык,
Восторг - в глазах, но беден наш язык.
107
Мой вечный страх и вещий хор пророчеств -
Что станется, любовь моя, с тобой, -
Теряют силу, как только просрочен
Твой договор с затворницей-судьбой.
Затмился смертный лик луны-богини;
Авгуры оказались в дураках;
Тревоги нет - мир воцарился, ныне
Он шествует с оливою в руках.
Так благодать, разлитая над нами.
Свежит любовь, а смерть теперь вольна,
Невластная на этими строками,
Глумиться в безглагольных племенах.
В моих стихах переживешь ты впредь
И блеск владык, и памятников медь.
Вечер шестой. Шекспир
539
108
Таит ли мозг, что передать чернила
Еще не в силах - скрытое во мне,
Чтобы любовь или твой образ милый
Явились в небывалой новизне?
Мой мальчик, нет, но, как в святой молитве,
Один закон твержу я день за днем:
Ты - я, я - ты - звучит навеки слитно, -
Он свят как прежде в имени твоем.
Любовь свежа, хоть и зовется вечной.
Ее веков не давит груз и прах,
В морщинах ходит то, что быстротечно,
А у нее же прошлое - в пажах:
Вот где она - метафора любви,
И времени ее не погубить.
110
Немало я шатался бездорожьем,
И правда - шутовской имея вид,
Проматывал, что мне всего дороже,
И страстью новой множил ряд обид.
Да, правда, что на правду я, бывало,
Косился, ей чужой; такой ценой
Опять мне сердце юность добывало,
Чтобы я вспомнил: ты один лишь - мой.
Окончен страсти пир: я, бесконечно
От опытов устав, принадлежу
Тебе, мой друг, отныне и навечно
Ты - бог любви, которому служу.
И будто к небу открывая путь,
Позволь к груди мне любящей прильнуть.
111
Фортуну пристыдил бы за меня
И за дела, что подлыми слывут, -
Она решает. Мне ль за то пенять,
Что с публикой - публично я живу?
Не от природы было мне дано
540
Как было и как вспомнилось
Клеймо такое, но к судьбе моей
Пристало, как пятно на полотно;
Так обнови меня и пожалей.
Твой пациент, я в ожиданье мер
Приму все, что заразу поразит,
В раскаянье не буду лицемер,
Питье горчит пусть, но не огорчит.
Тебе, мой друг, лишь стоит пожалеть -
Поможет жалость мне переболеть.
112
С моей судьбы след низкой клеветы
Способны смыть твоя любовь и жалость:
Когда в мою невинность веришь ты,
Мне все равно, как там у них считалось.
В тебе - мой мир, лишь от тебя хочу
Дождаться похвалы иль приговора;
Другим - никто, и я о них молчу,
Но прям ли путь мой иль покрыт позором?
В такую бездну я швырнуть готов
Мысль о других, что затворить сумею
И от хулителей, и от льстецов,
Свой слух, хоть он и чуток, как у змея.
Тебя я слышу только одного,
Как будто и нет в мире никого.
113
Расстались мы, и то, что было зримо,
Живет в очах души вдали от глаз;
Так тот, кто полуслеп, влечется мимо,
Не видя, смотрит будто напоказ;
Цветок иль птицу, или что иное
Глаза надежно в сердце не замкнут;
Не знавшие ни образа, ни строя,
В них беглые виденья промелькнут;
Ведь что бы в их не отразилось взоре:
Уродства облик или красоты,
Вечер шестой. Шекспир
541
День или ночь, вершины или море, -
Во всем я узнаю твои черты.
Одним тобой моя душа полна:
Глаза пусть лгут, была б она верна.
114
Лесть ли вкушает - всех монархов яд -
Моя душа, увенчана тобою?
Или, напротив, мой правдивый взгляд,
Алхимию любви себе усвоив,
Из монстров и неведомых существ
Творит тебе подобных херувимов,
И с ними мир несовершенств исчез,
В сиянье глаз утрачивая зримость?
Все ж первое - во взоре скрыта лесть:
Душа поверит, что ее нет краше, -
И ведомо глазам, какой поднесть
На вкус напиток в королевской чаше.
Коль он отравлен, - грех не так велик,
Раз прежде взором я к нему приник.
КАК БЫЛО И КАК ВСПОМНИЛОСЬ
Шесть вечеров с Игорем Шайтановым
Главный редактор издательства И. А. Савкин
Дизайн обложки И.Н. Граве
Оригинал-макет Л. Г. Иванова
Корректоры Т.В. Еремеева, М.В. Нагришко, Е.А. Погорелая
ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,
тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru
Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99
www.aletheia.spb.ru
Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
«Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2. Тел. (495) 915-27-97
«Фаланстер», М. Гнездниковский пер., 12/27. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
«Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16
в Киеве:
«Книжный бум», книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8.
Тел. +38 067 273-50-10, gronllll@mail.ru
в Минске:
«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by
в Варшаве:
«Centrum Nauczania J^zyka Rosyjskiego»,
ul. Ptasia 4. Tel. (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl
в Риге:
«Intelektuala gramata»
Riga, Kr.Barona iela 45/47. Tel. 67315727, info@merion.lv
Интернет-магазин: www.ozon.ru
Формат 70x100 !/i6. Уел. печ. л. 43,91. Печать офсетная.
Заказ №121373