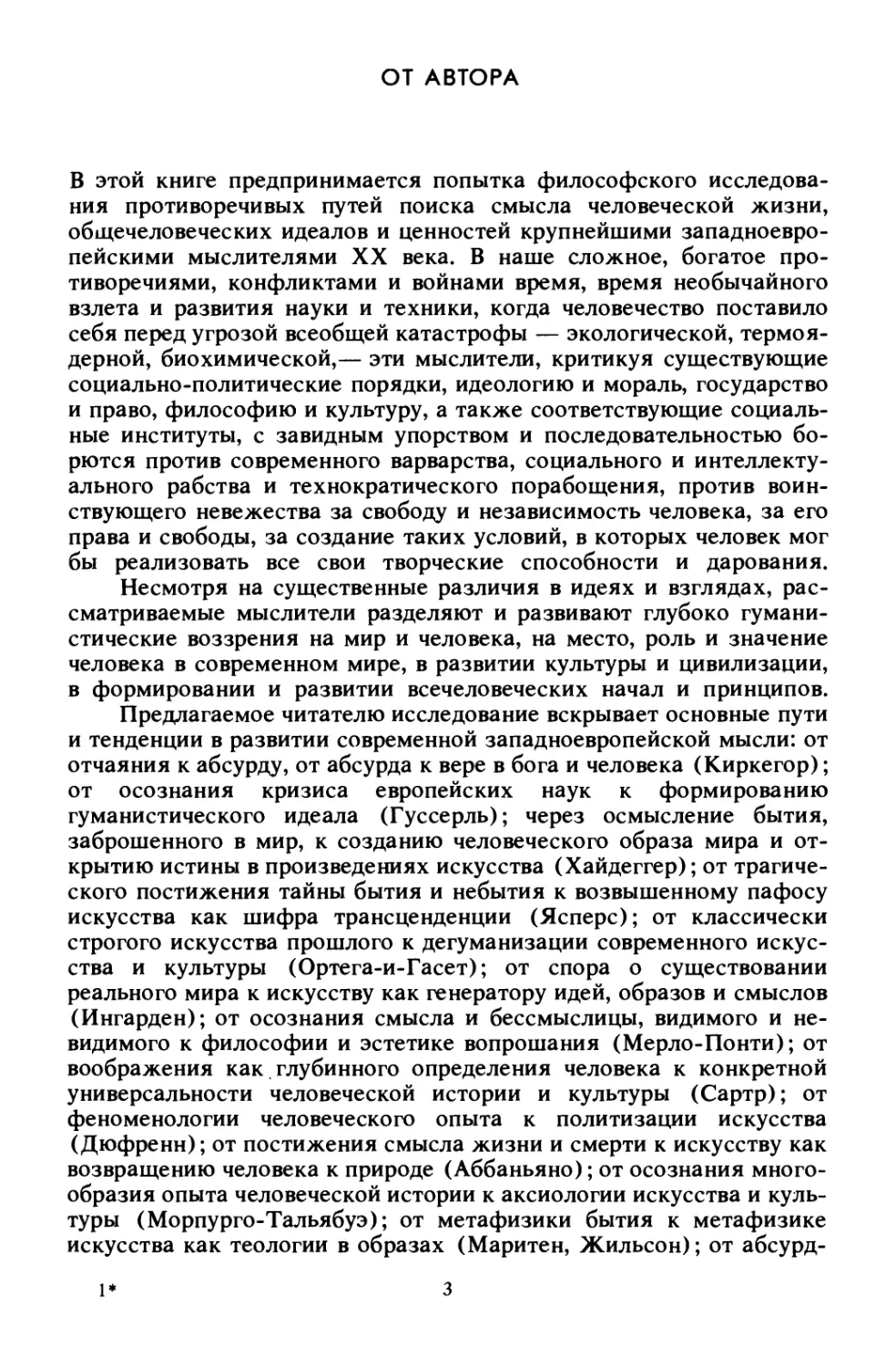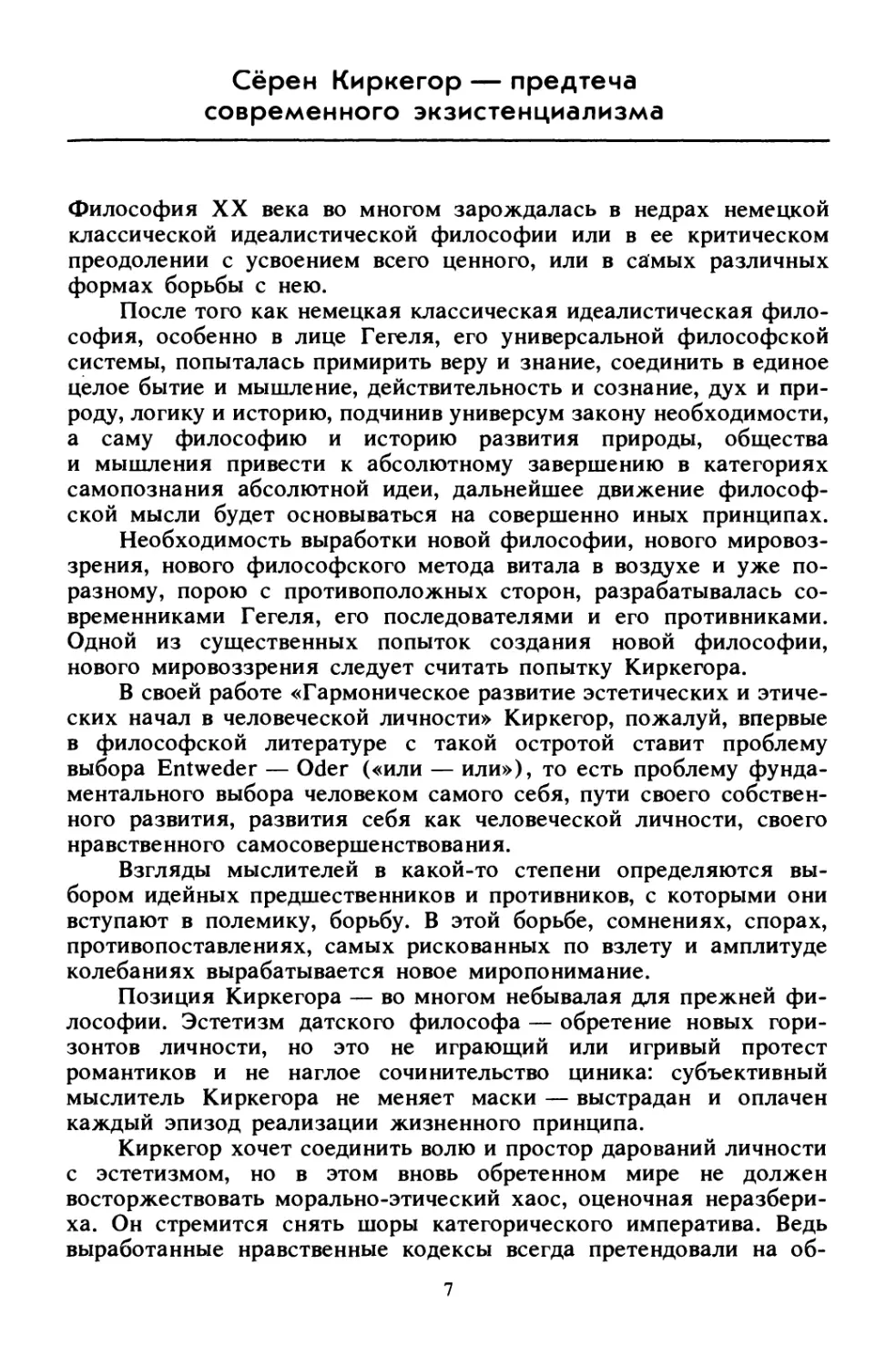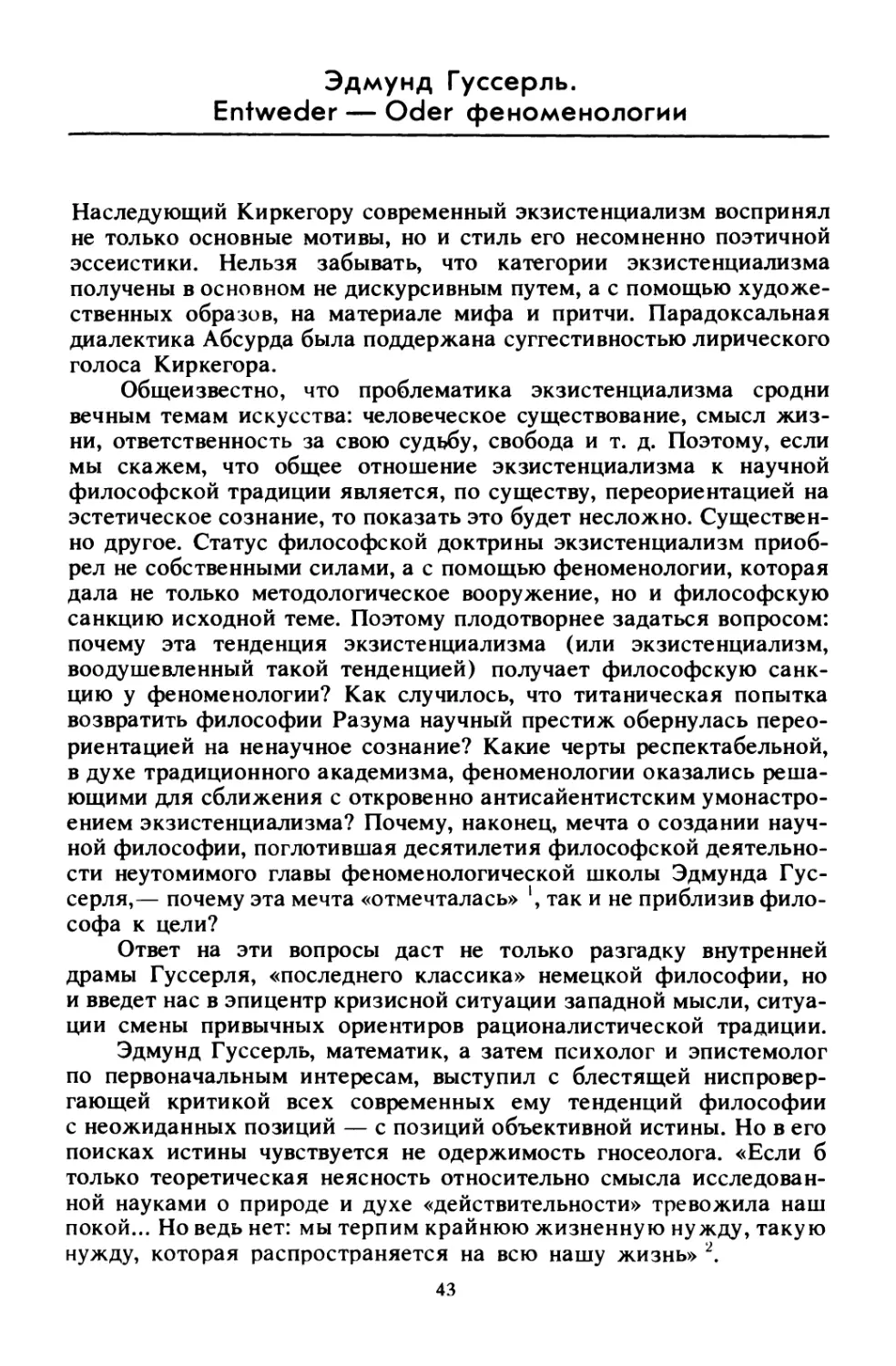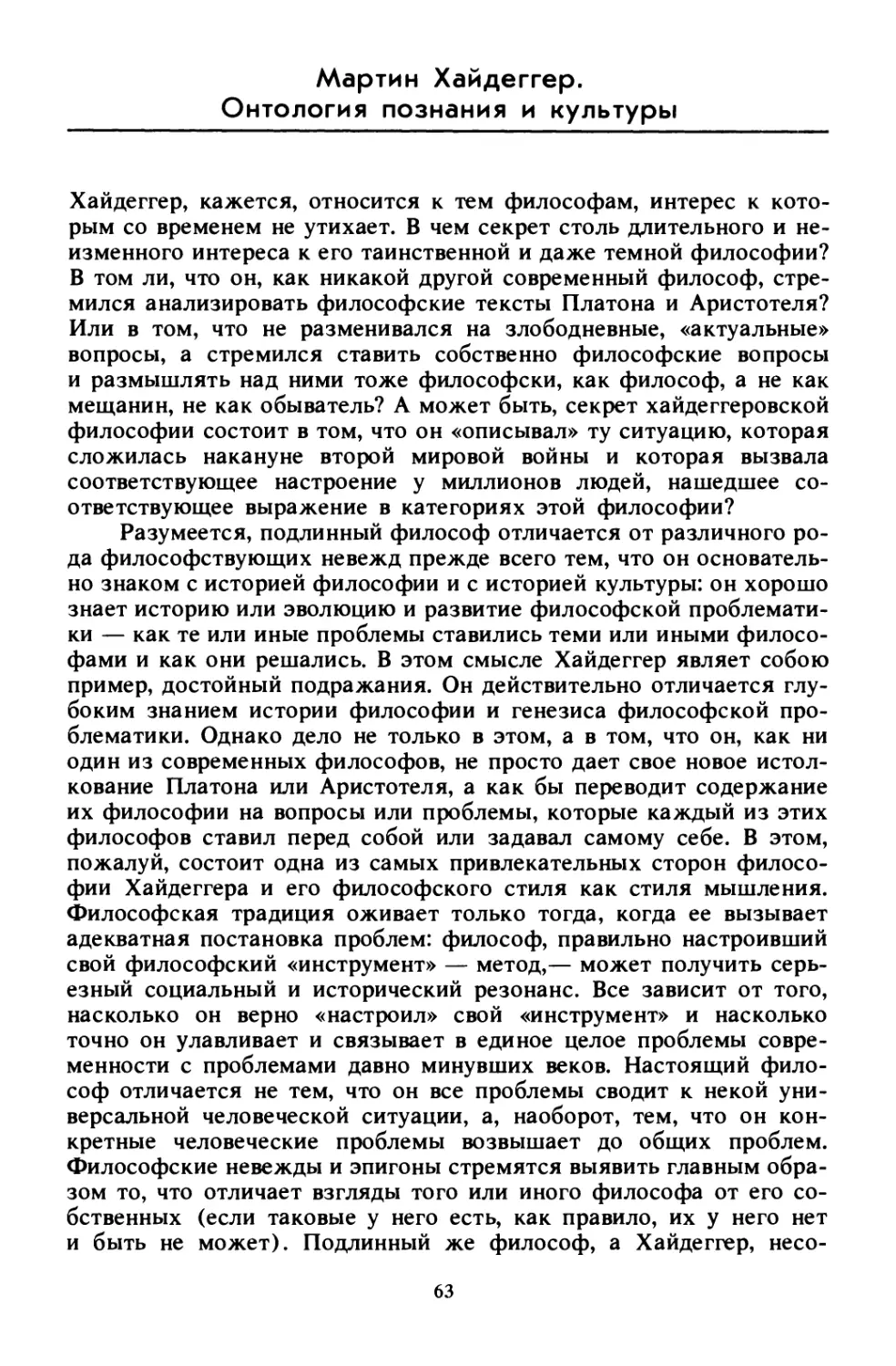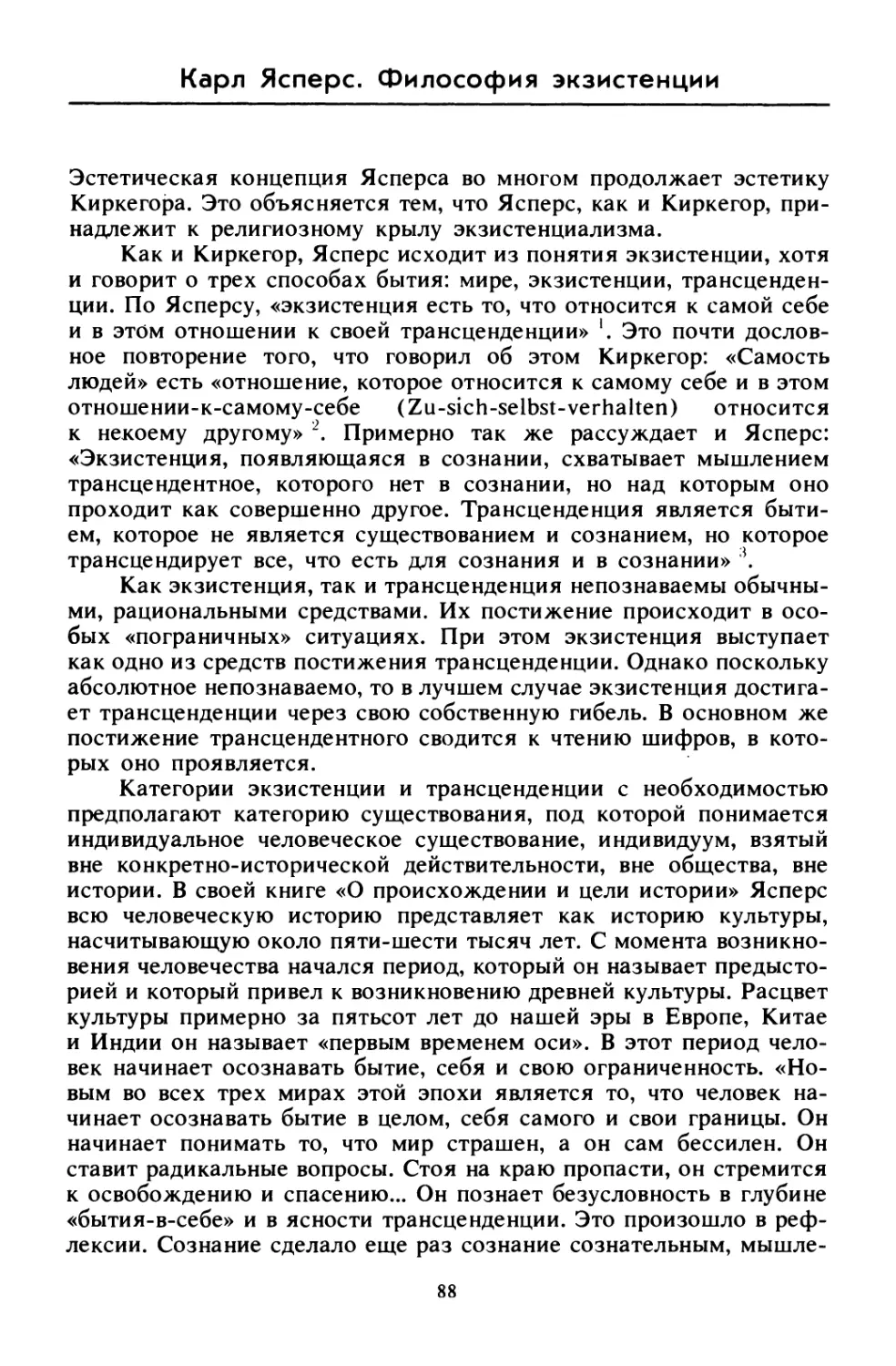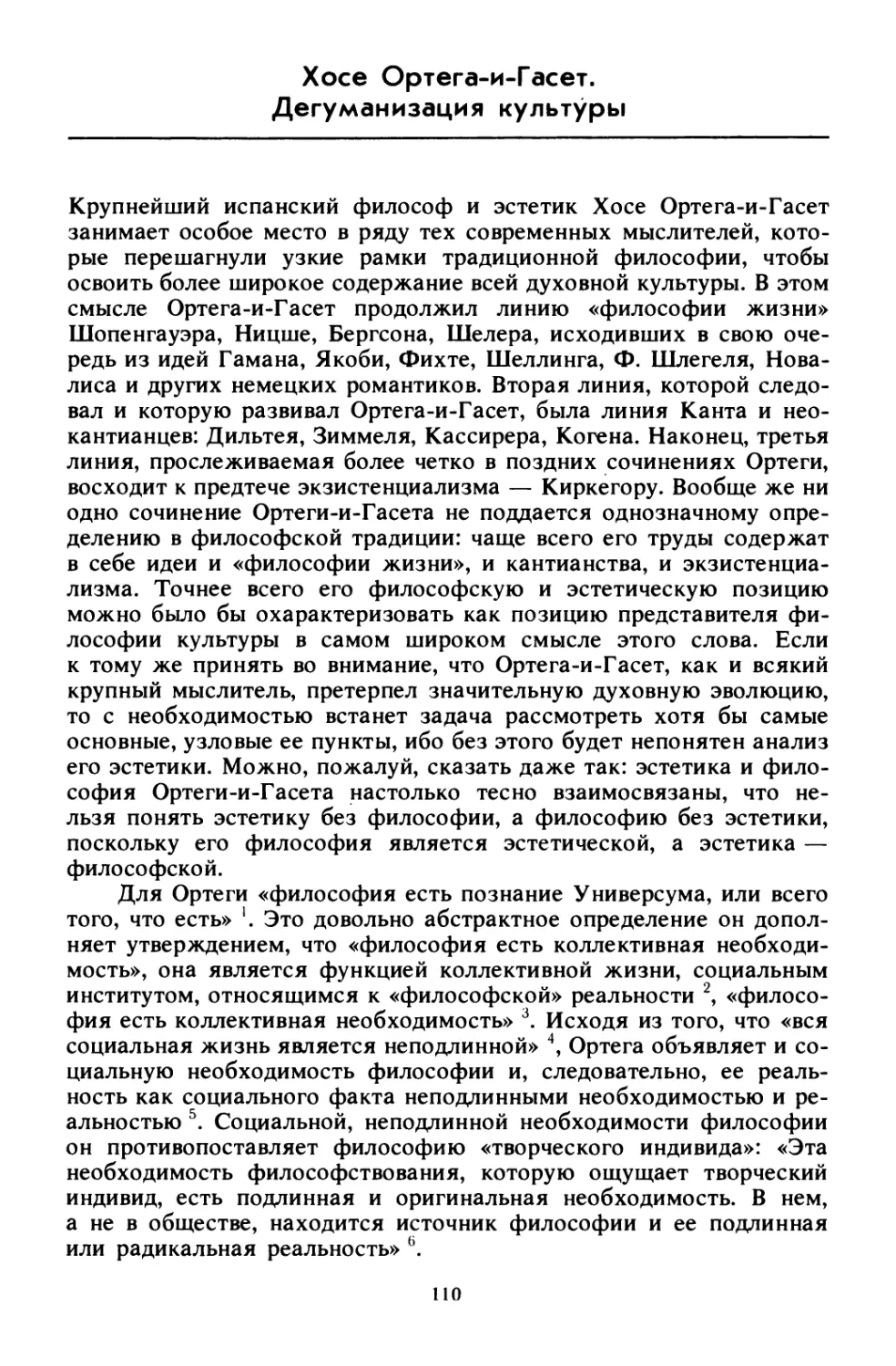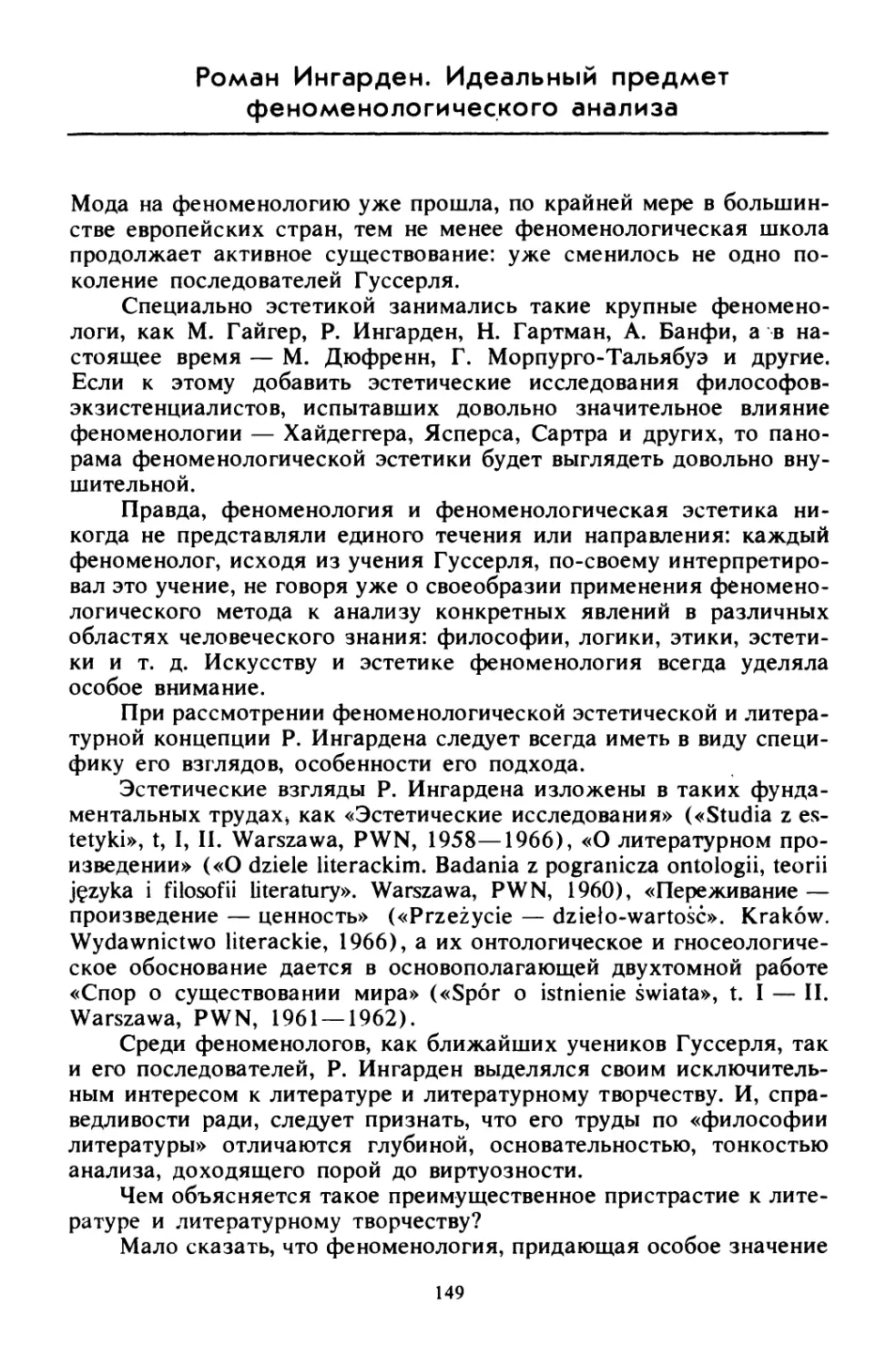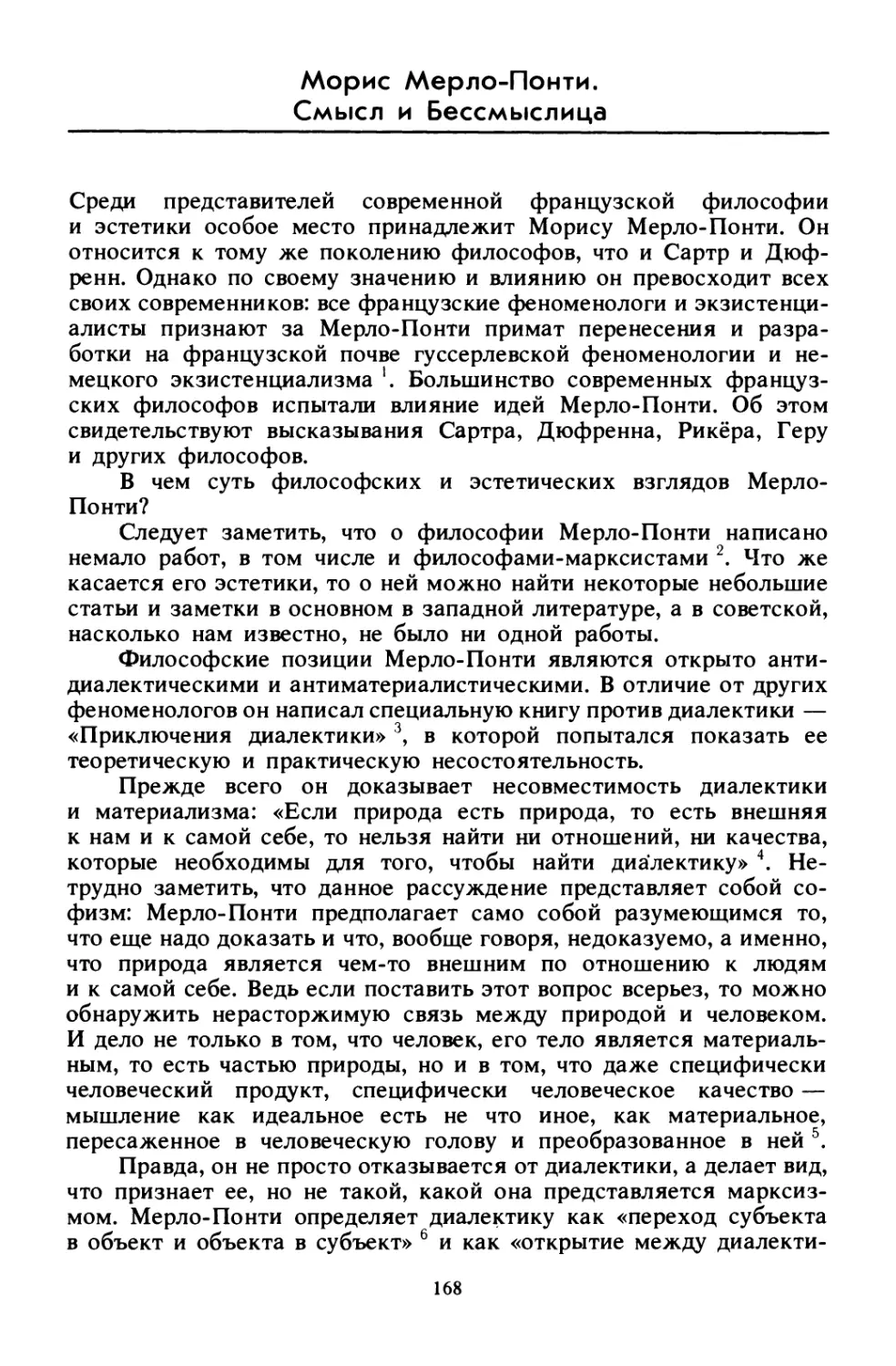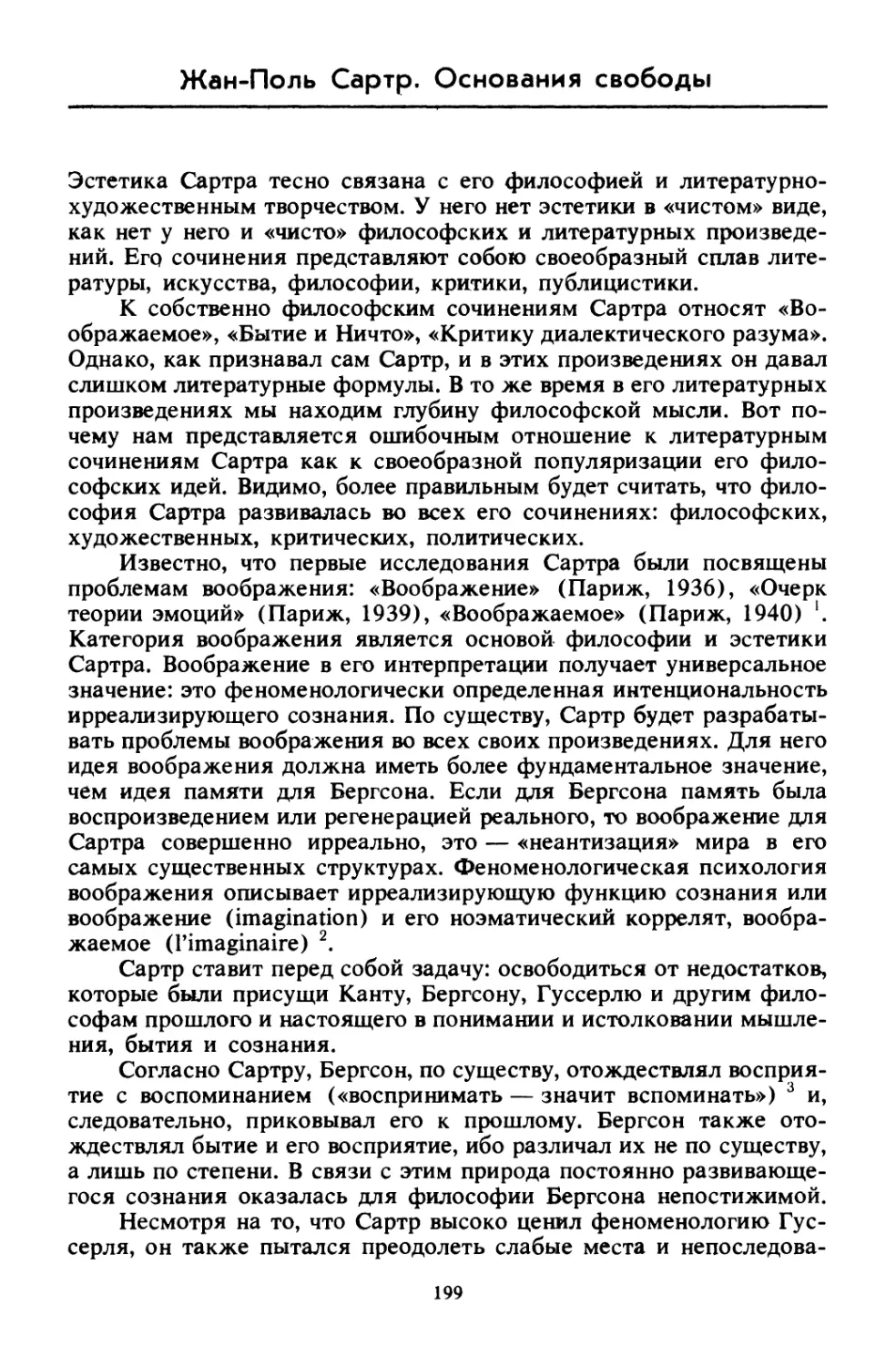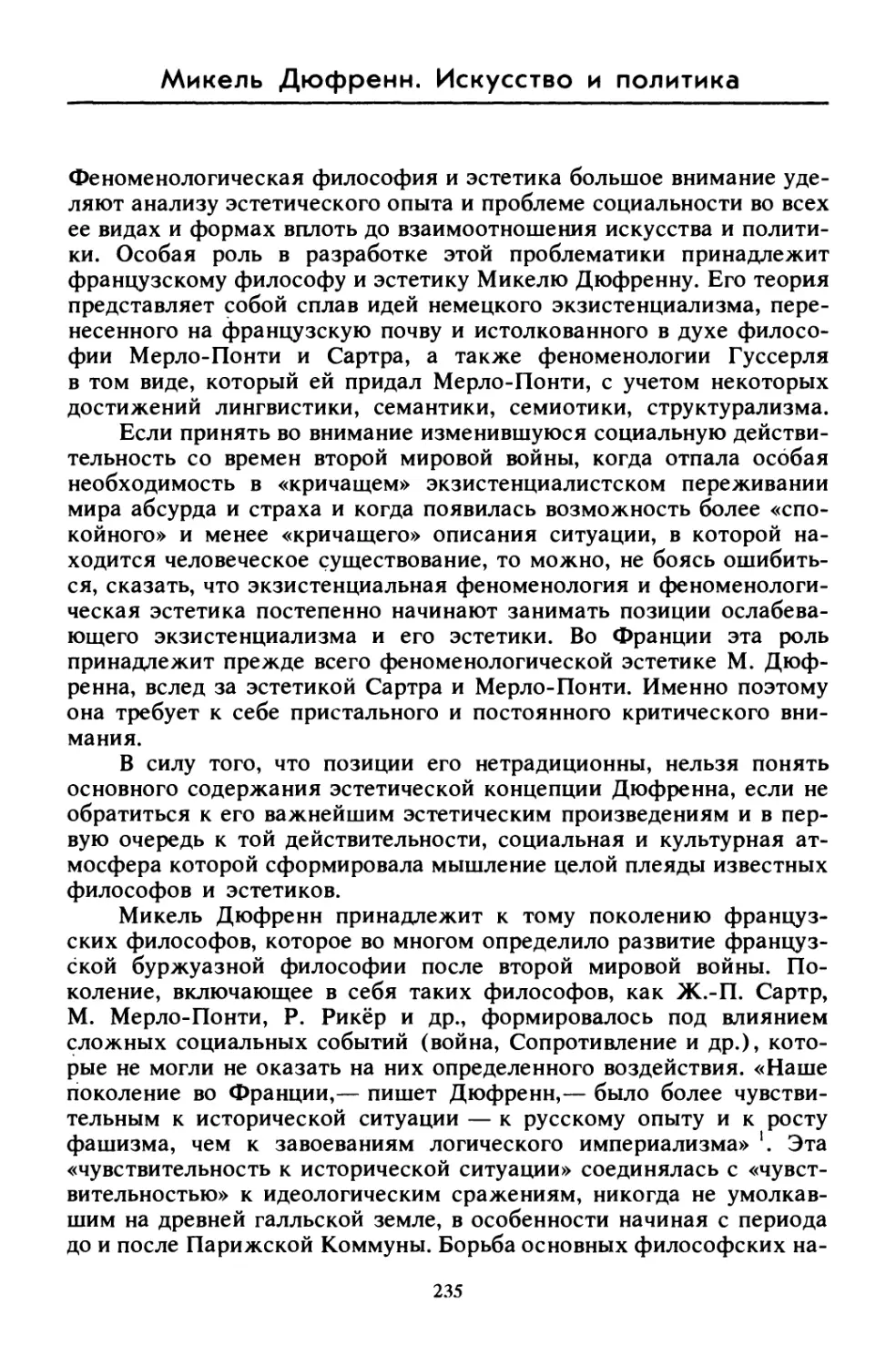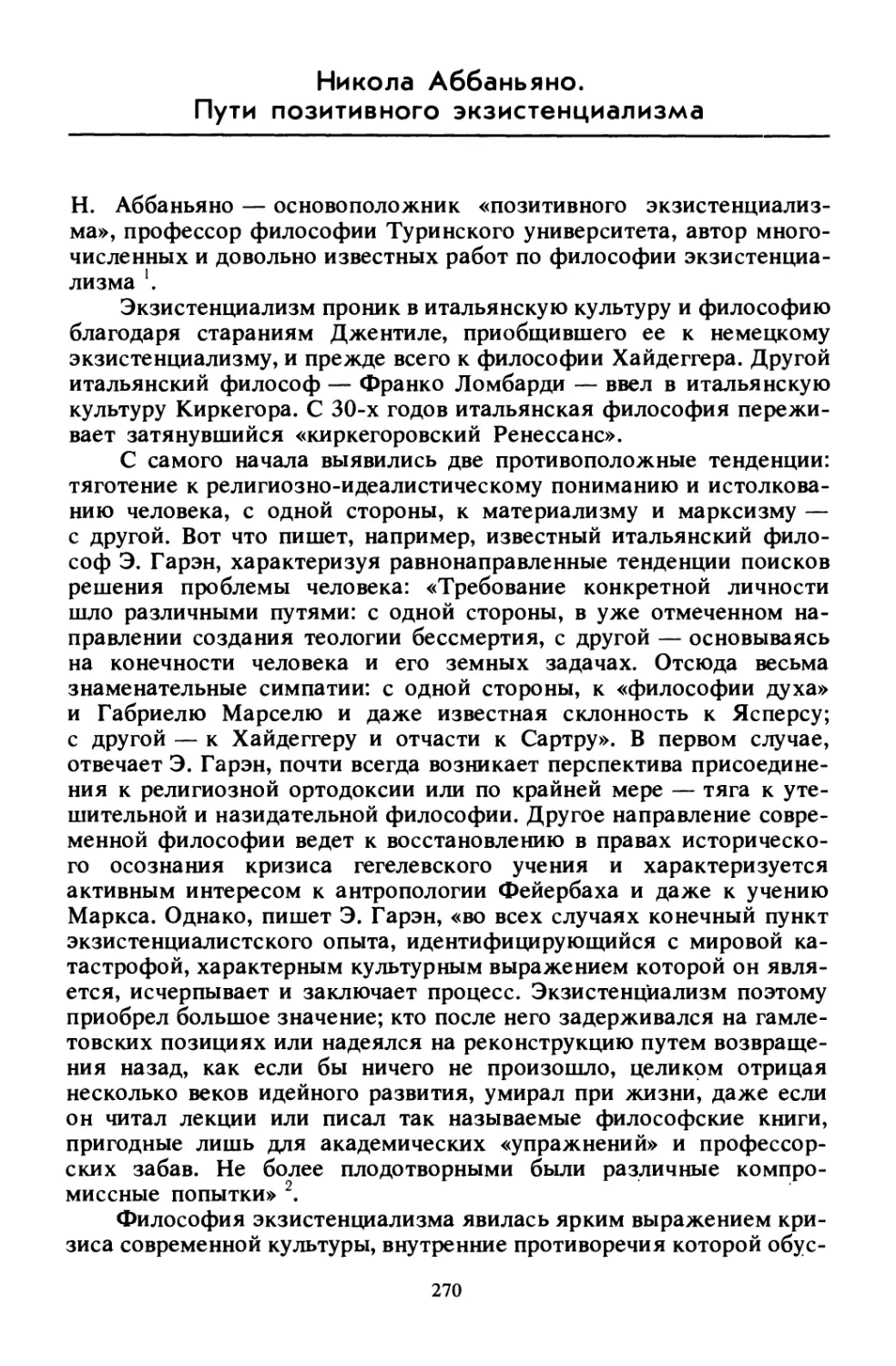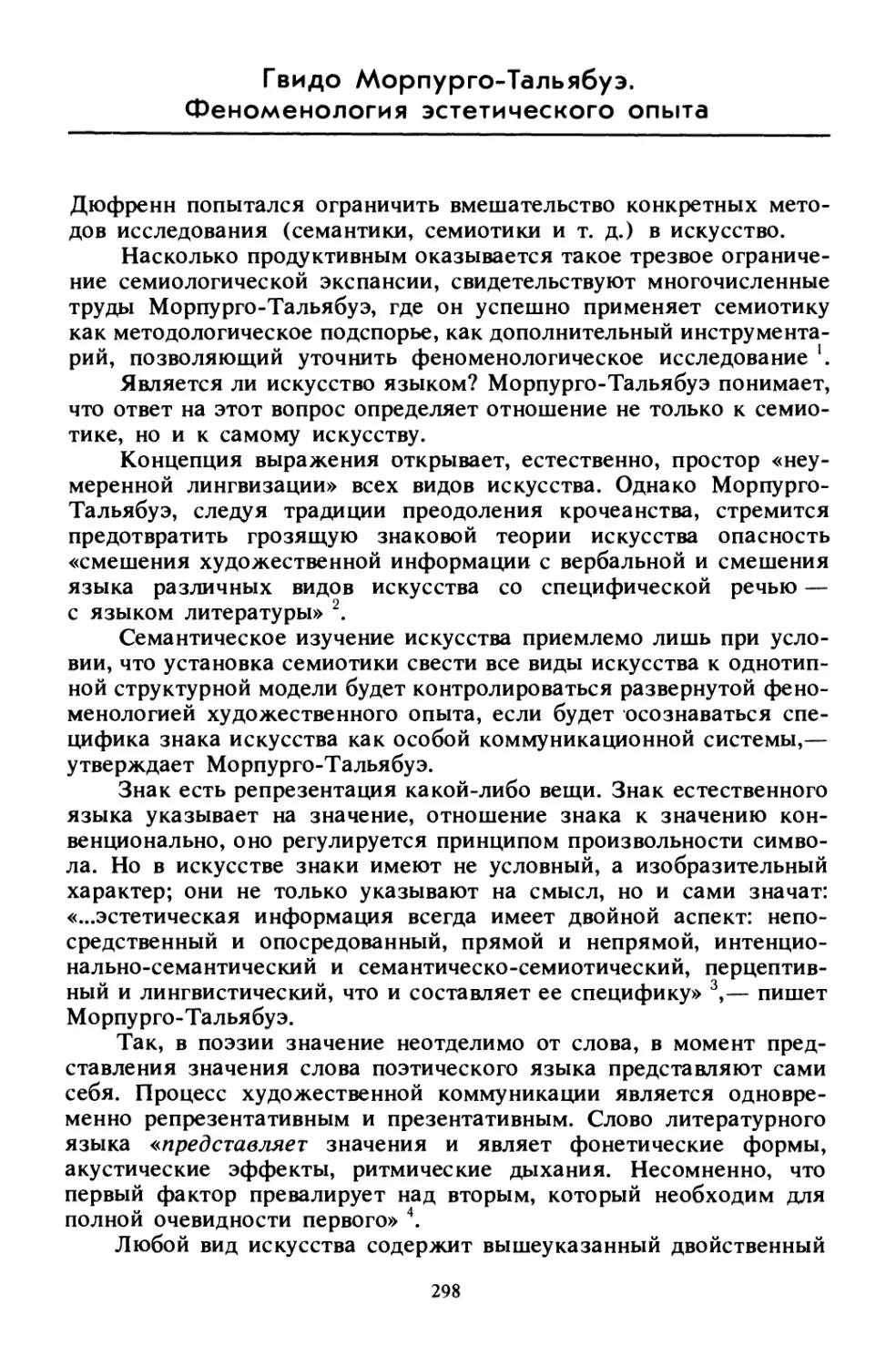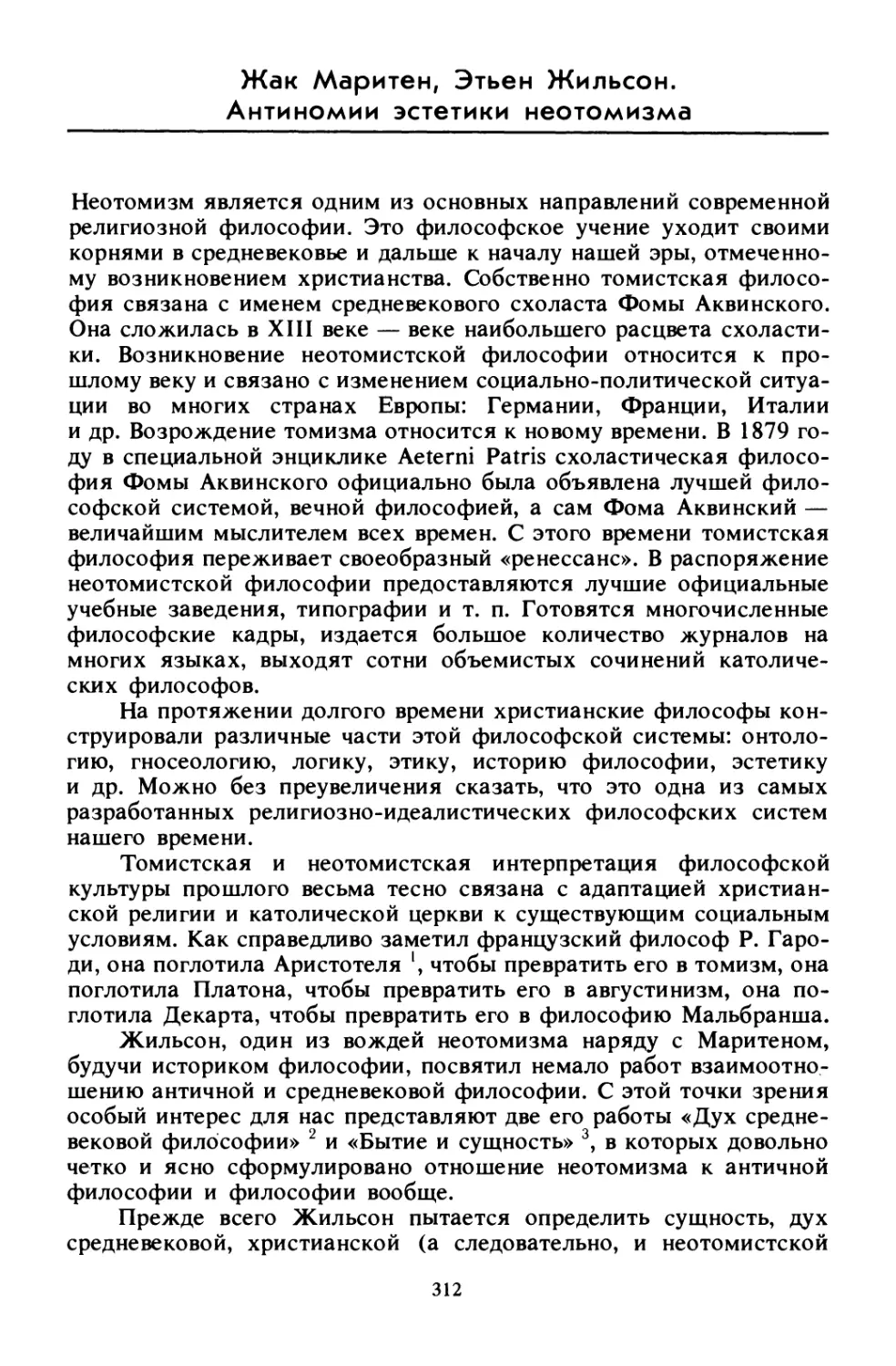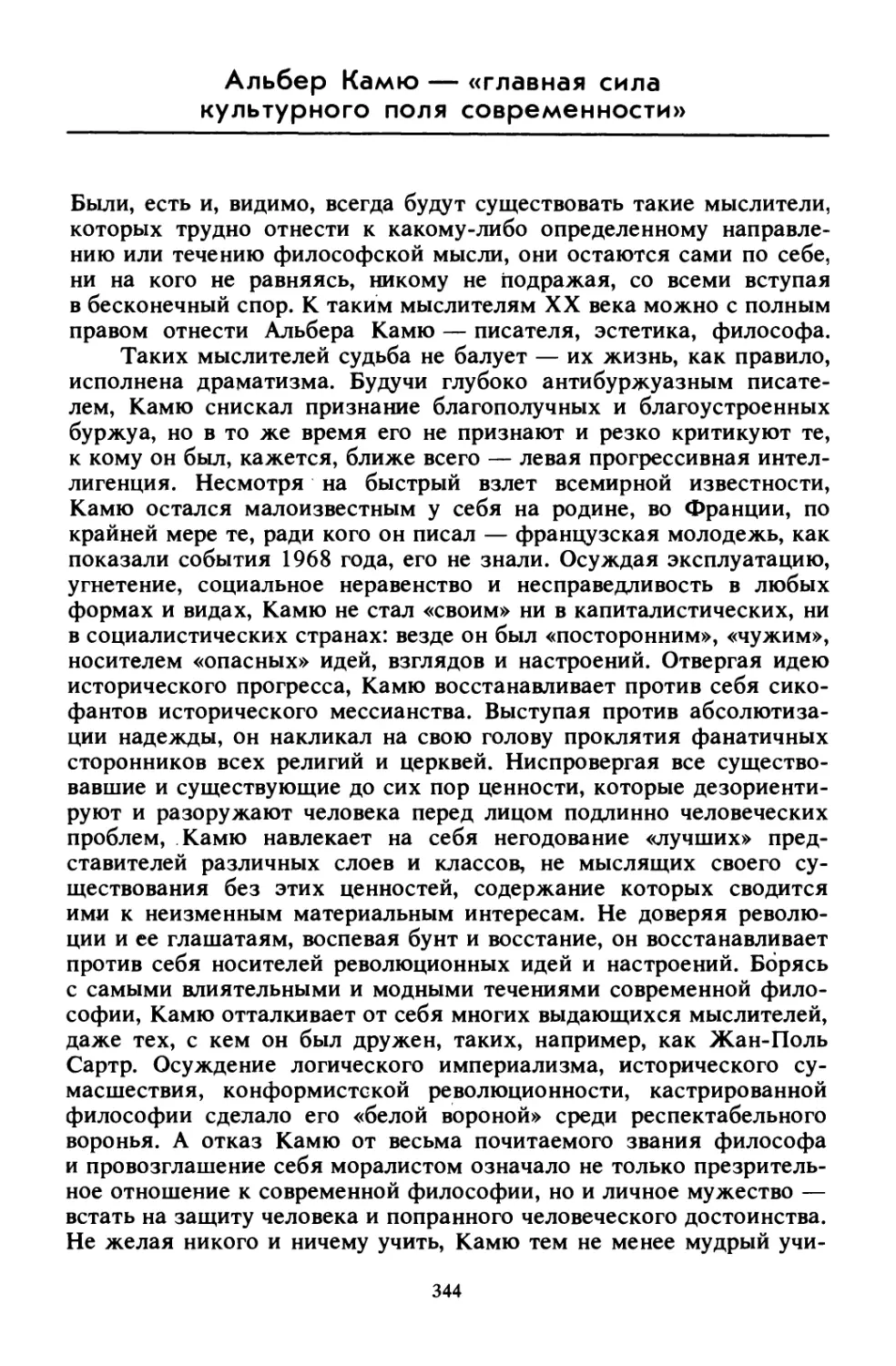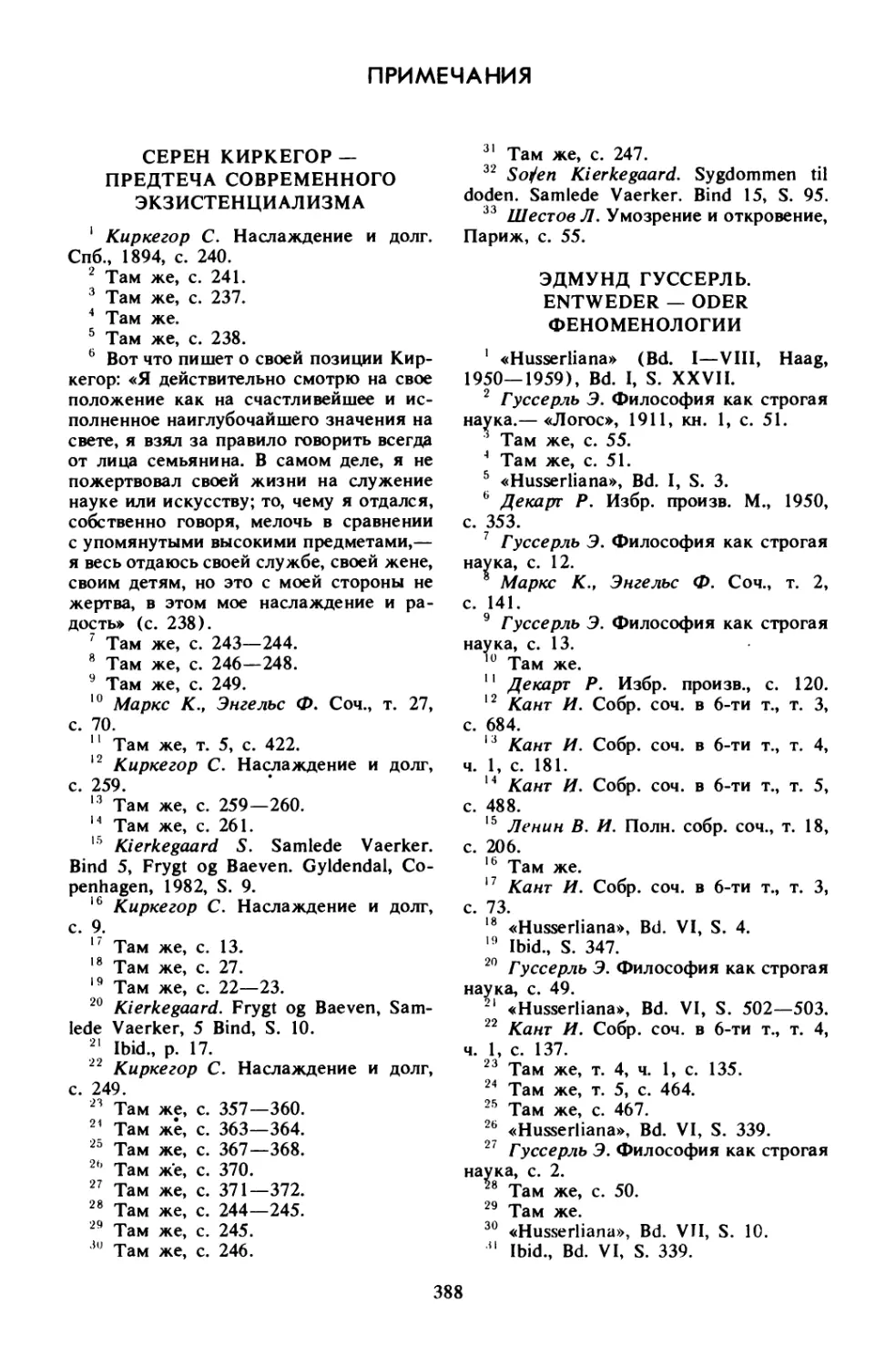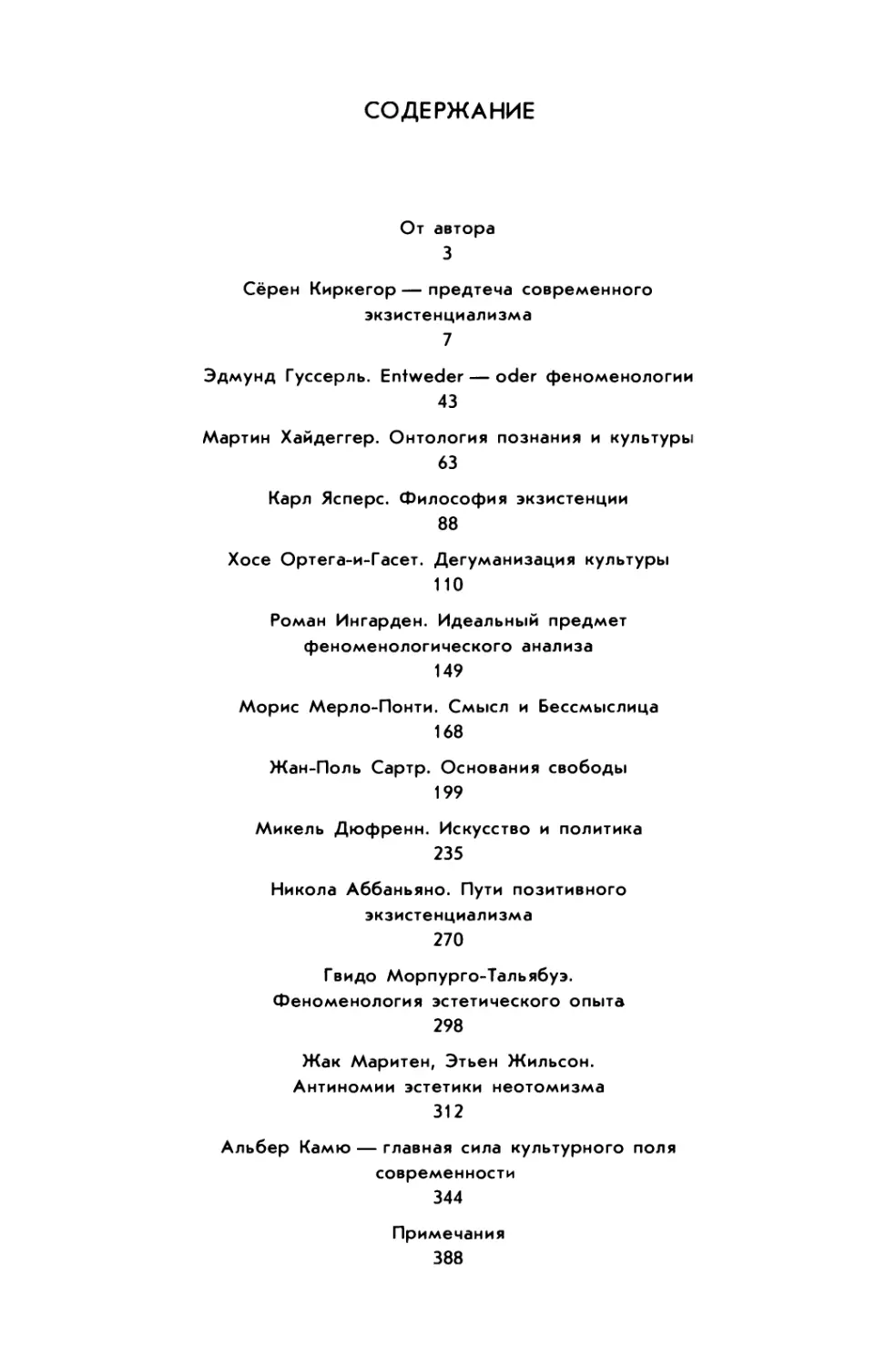Автор: Долгов К.М.
Теги: эстетика философия культура смысл жизни издательство искусство философско-эстетическая мысль
ISBN: 5-210-00104-0
Год: 1991
Похожие
Текст
КМ Долгов
От Киркегора
до Камю
Философия
Эстетика
Культура
Москва
«Искусство»
1991
ББК 87.8
Д64
Рецензент
доктор философских наук
И. С. Нарский
0301080000-147
А 025(01)-90
ISBN 5-210-00104-0 © Долгов К. М., 1990 г.
ОТ АВТОРА
В этой книге предпринимается попытка философского
исследования противоречивых путей поиска смысла человеческой жизни,
общечеловеческих идеалов и ценностей крупнейшими
западноевропейскими мыслителями XX века. В наше сложное, богатое
противоречиями, конфликтами и войнами время, время необычайного
взлета и развития науки и техники, когда человечество поставило
себя перед угрозой всеобщей катастрофы — экологической,
термоядерной, биохимической,— эти мыслители, критикуя существующие
социально-политические порядки, идеологию и мораль, государство
и право, философию и культуру, а также соответствующие
социальные институты, с завидным упорством и последовательностью
борются против современного варварства, социального и
интеллектуального рабства и технократического порабощения, против
воинствующего невежества за свободу и независимость человека, за его
права и свободы, за создание таких условий, в которых человек мог
бы реализовать все свои творческие способности и дарования.
Несмотря на существенные различия в идеях и взглядах,
рассматриваемые мыслители разделяют и развивают глубоко
гуманистические воззрения на мир и человека, на место, роль и значение
человека в современном мире, в развитии культуры и цивилизации,
в формировании и развитии всечеловеческих начал и принципов.
Предлагаемое читателю исследование вскрывает основные пути
и тенденции в развитии современной западноевропейской мысли: от
отчаяния к абсурду, от абсурда к вере в бога и человека (Киркегор) ;
от осознания кризиса европейских наук к формированию
гуманистического идеала (Гуссерль) ; через осмысление бытия,
заброшенного в мир, к созданию человеческого образа мира и
открытию истины в произведениях искусства (Хайдеггер) ; от
трагического постижения тайны бытия и небытия к возвышенному пафосу
искусства как шифра трансценденции (Ясперс); от классически
строгого искусства прошлого к дегуманизации современного
искусства и культуры (Ортега-и-Гасет); от спора о существовании
реального мира к искусству как генератору идей, образов и смыслов
(Ингарден); от осознания смысла и бессмыслицы, видимого и
невидимого к философии и эстетике вопрошания ( Мерло - По нти); от
воображения как глубинного определения человека к конкретной
универсальности человеческой истории и культуры (Сартр); от
феноменологии человеческого опыта к политизации искусства
(Дюфренн) ; от постижения смысла жизни и смерти к искусству как
возвращению человека к природе (Аббаньяно) ; от осознания
многообразия опыта человеческой истории к аксиологии искусства и
культуры (Морпурго-Тальябуэ); от метафизики бытия к метафизике
искусства как теологии в образах (Маритен, Жильсон); от абсурд-
1*
3
ного мира, абсурдного мышления и творчества к трагическому
героизму бунтующего человека (Камю).
В этих разнообразных интеллектуальных построениях главной
и основополагающей проблемой оказывается проблема человека,
которая, естественно, понимается и решается каждым философом
по-своему, оригинально. Столь же оригинально трактуются и
проблемы, связанные с проблемой человека: проблемы бога, смысла
и бессмыслицы, бытия и небытия, отчаяния и абсурда, страха
и смерти, свободы, выбора, ответственности, творчества и т. д. и т. п.
Важно отметить, что категориальная система европейских
мыслителей настолько богата и разнообразна, что она выходит
далеко за пределы чисто философского содержания и охватывает
сферы этики, эстетики, антропологии, этнографии, педагогики,
психологии и других наук, а также сферу литературы и искусства.
Можно сказать, что эта категориальная система является не
столько категориальной системой философии, сколько категориальной
системой современной духовной культуры. В связи с этим
критический анализ любого современного мыслителя должен вестись в
самом широком контексте современной культуры.
Классическая философия отличалась строгой
приверженностью традиционной проблематике, рассматриваемой с
универсалистских позиций. Метафизика занималась исследованием сущего,
исследованием истины и бытия. Ее мало волновало прикладное
значение метафизических принципов и исследований.
Современная философия, наоборот, поставила проблему
человека в тесной связи с его повседневной жизнью, которая,
разумеется, охватывает все сферы человеческой жизнедеятельности.
Поэтому современная философия «вышла из берегов» философии на
широкое поле современной культуры, и прежде всего такой важной
и необходимой для жизни и деятельности человека сферы, какой
является сфера ценностей. Вот почему современные философы
уделяют столь серьезное внимание изучению этики, эстетики, права
и государства, религии и науки, антропологии, этнографии,
психологии, педагогики, литературы и искусства.
Неудивительно, что философы, особенно
экзистенциально-феноменологической ориентации, вырабатывают свой стиль
исследования и изложения, по которому легко отличить любого из них:
Хайдеггера от Гуссерля, Ясперса от Сартра, Сартра от Камю,
Ингардена от Ортеги-и-Гасета и т. д. Некоторые из современных
философов являются писателями, драматургами, эссеистами,
поэтому стиль философствования и мышления каждого из них имеет
свои, присущие особенности: свой тон, свою глубину, какой-то
мыслительный и художественный «аромат». Словом, современные
европейские мыслители, подобно художникам, имеют свой стиль.
Может возникнуть вопрос: почему мы, рассматривая учения
экзистенциально и феноменологически ориентированных
мыслителей, обращаемся и к анализу религиозных философов — Жака
4
Маритена и Этьена Жильсона? Дело в том, что философы
неотомисты придавали огромное значение вопросам культуры и эстетики,
тесно связывая развитие человеческой личности с развитием
современной культуры, включающей в себя в концентрированном виде
всю культуру прошлого. Маритен написал специальное
произведение, в котором рассматривает сходство неотомизма с
экзистенциализмом. И действительно, при всех расхождениях между этими
доктринами у них немало общего.
Что касается философии Хосе Ортеги-и-Гасета, то некоторые
проблемы, связанные с проблемой человека, он поставил и пытался
по-своему решить гораздо раньше Хайдеггера, Ясперса и других
экзистенциалистов. То же самое можно сказать и о его
исследованиях, посвященных вопросам
литературно-художественного творчества, эстетики, духовной ситуации эпохи и т. д.
В целом все рассматриваемые философы дают более или менее
верную картину духовной жизни Европы XX века. В этом ценность
их философских, эстетических и культурологических концепций,
а также в том, что их объединяет переключение с классической
философской проблематики на широкую проблематику философии
культуры.
Современные европейские философы — люди культуры в
самом высоком значении этого слова. Богатая и утонченная
европейская и мировая культура присуща им органически: она их почва,
среда, воздух, в ней они росли, воспитывались, жили и умирали, она
пронизывала всю их жизнь и все их творчество. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что вопросы культуры находились в центре их
внимания: на культуру они возлагали свои надежды и упования,
с ней они связывали судьбы человечества. Ценности культуры для
них всегда были и оставались высшими ценностями. Этим
объясняется их пристальное внимание к культурному наследству: они
хорошо понимали, что из ретроспективы рождается перспектива, из
истории — теория, из традиции — подлинное новаторство.
Европейские мыслители самоотверженно трудились над
поиском истины и красоты, добра и справедливости, свободы и
человечности. Знакомство с их идеями и взглядами, с их философией
и культурой обогащает каждого, особенно в наше время, когда так
не хватает ни общей, ни философской, ни духовной культуры.
Философия всегда жила в царстве истины и свободы, она всегда
занималась поиском истины и связанных с ней высших
человеческих ценностей. Если мы вместе с некоторыми европейскими
мыслителями пройдем трудными путями поиска истины, мы не будем
об этом жалеть: их опыт не только обогатит нас духовно, но и
поможет нам более правильно ориентироваться в духовной и
культурной ситуации нашего времени, вселит в нас веру в наш разум и
наши чувства, вызовет доверие к самим себе и веру в самих себя.
В конце концов от каждого человека зависит решение всех
человеческих проблем. Справедливо писал Гегель: «Дерзновение искания
5
истины, вера в могущество разума есть первое условие
философских занятий. Человек должен уважать самого себя и признать
достойным наивысочайшего. Какого высокого мнения мы ни были
бы о величии и могуществе духа, оно все же будет недостаточно
высоким. Скрытая сущность вселенной не обладает в себе такой
силой, которая была бы в состоянии оказать сопротивление
дерзновению познания, она должна перед ним открыться, разверзнуть
перед его глазами богатства и глубины своей природы и дать ему
наслаждаться ими».
Серен Киркегор — предтеча
современного экзистенциализма
Философия XX века во многом зарождалась в недрах немецкой
классической идеалистической философии или в ее критическом
преодолении с усвоением всего ценного, или в самых различных
формах борьбы с нею.
После того как немецкая классическая идеалистическая
философия, особенно в лице Гегеля, его универсальной философской
системы, попыталась примирить веру и знание, соединить в единое
целое бытие и мышление, действительность и сознание, дух и
природу, логику и историю, подчинив универсум закону необходимости,
а саму философию и историю развития природы, общества
и мышления привести к абсолютному завершению в категориях
самопознания абсолютной идеи, дальнейшее движение
философской мысли будет основываться на совершенно иных принципах.
Необходимость выработки новой философии, нового
мировоззрения, нового философского метода витала в воздухе и уже по-
разному, порою с противоположных сторон, разрабатывалась
современниками Гегеля, его последователями и его противниками.
Одной из существенных попыток создания новой философии,
нового мировоззрения следует считать попытку Киркегора.
В своей работе «Гармоническое развитие эстетических и
этических начал в человеческой личности» Киркегор, пожалуй, впервые
в философской литературе с такой остротой ставит проблему
выбора Entweder — Oder («или — или»), то есть проблему
фундаментального выбора человеком самого себя, пути своего
собственного развития, развития себя как человеческой личности, своего
нравственного самосовершенствования.
Взгляды мыслителей в какой-то степени определяются
выбором идейных предшественников и противников, с которыми они
вступают в полемику, борьбу. В этой борьбе, сомнениях, спорах,
противопоставлениях, самых рискованных по взлету и амплитуде
колебаниях вырабатывается новое миропонимание.
Позиция Киркегора — во многом небывалая для прежней
философии. Эстетизм датского философа — обретение новых
горизонтов личности, но это не играющий или игривый протест
романтиков и не наглое сочинительство циника: субъективный
мыслитель Киркегора не меняет маски — выстрадан и оплачен
каждый эпизод реализации жизненного принципа.
Киркегор хочет соединить волю и простор дарований личности
с эстетизмом, но в этом вновь обретенном мире не должен
восторжествовать морально-этический хаос, оценочная
неразбериха. Он стремится снять шоры категорического императива. Ведь
выработанные нравственные кодексы всегда претендовали на об-
7
щезначимость, ибо они создавались как универсальные,
абсолютные, рассчитанные на все времена и на всех людей. Чем настойчивее
подчеркивался их абсолютный, универсальный, общечеловеческий
характер, тем с большим вниманием люди стали прислушиваться
к мыслителям, уверявшим, что пути человека неисповедимы, что
в себе самом он несет свой суд, свое рождение как личности и свою
судьбу.
Не стоит удивляться тому, что Киркегор сводит счеты с Гегелем
и философией объективного идеализма вообще, основное внимание
которой было поглощено всемирными проблемами, и совсем
незначительное место уделялось человеку, человеческой личности.
Он обрушивается на гегелевскую философию, прежде всего за
обесценение принципа противоположности, за попытку примирить
в высшем единстве противоположности каждого данного момента.
«Для философов всемирная история закончена и подлежит
примирению. Оттого-то в наше время и стало заурядным грустное
явление встречи молодых людей, способных примирять христианство
с язычеством, шутить с титаническими силами истории и в то же
время не только не способных ответить простому человеку на вопрос,
что ему делать, но и не знающих, что им делать самим» '. Самое
поразительное состоит в том, что на вопрос: что делать человеку, как
жить? — эта философия не дает ответа. На этом основании
Киркегор замечает, что «молчание философии является в данном случае
уничтожающим доводом против нее самой. Разве ход жизни
приостановился? Разве современное поколение может жить одним
созерцанием прошлого? Что же в таком случае будет делать
следующее поколение? Тоже созерцать прошедшее? Да ведь
предшествующее (т. е. наше) поколение, занимаясь также одним созерцанием
прошлого, не произвело ничего, не оставило по себе ничего
подлежащего созерцанию и примирению» 2. Может быть, поэтому
Киркегор вынужден был так часто повторять: «я ведь не философ», давая
тем самым понять, что ни он, ни его взгляды не имеют ничего общего
с господствующими философскими системами.
Киркегор довольно точно улавливает уязвимые места
гегелевской философии: ее чрезвычайно абстрактный, отвлеченный
от реальности характер, схематизм, логицизм, абстрактный
историзм, апологетику существующего, обращенность в прошлое,
метафизичность, господство тотальности, всеобщего над
индивидуальным и т. д.
Против подобных систем, построенных на
«великодушно-геройской объективности»3, Киркегор выдвигает свой принцип
субъективности, принцип, делающий человека человеком,
личностью: Entweder — Oder. Он отвергает как несостоятельную и
вредную для человека христианскую концепцию добра и зла, равно как
и различные объективно-идеалистические концепции этих
категорий, поскольку все эти концепции ориентировали человека на выбор
между добром и злом. «Мое «или — или» обозначает главным
8
образом не выбор между добром и злом, но акт выбора, благодаря
которому выбираются или отвергаются добро и зло вместе. Суть
дела ведь не в самом выборе между добром и злом, а в доброй воле,
в желании выбрать, чем само собой закладывается основание добру
и злу» 4. Он стремится найти основу, на которой покоятся и которой
определяются все категории, весь категориальный синтез, вся
категориальная система философии. Путь к этому Киркегор видит
не в рассмотрении предметов выбора, а «в духовном крещении воли
человека в купели этики» 5.
Не возрождает ли Киркегор «добрую волю» Канта?
Если принять во внимание отказ Киркегора от принадлежности
к цеху философов и к существующей философии, а также позицию,
с которой он ведет полемику,— позицию счастливого семьянина 6,
то можно прийти к выводу, что речь идет о моральной проблематике
и о моральной философии; поскольку же главным предметом этой
философии он стремится сделать человека, то речь идет о создании
антропологической философии, философии человека.
Известно, что примерно в это же время в борьбе с
идеалистической философией, в частности в борьбе с философией Гегеля,
создавал свою антропологическую философию Людвиг Фейербах (его
«Сущность христианства» была опубликована в 1841 году, а «Или —
Или» Киркегора на два года позже — в 1843 году).
Почему Киркегора не устраивает гегелевское примирение
противоположностей и шеллингианское их тождество? Главным
образом потому, что в этом случае уничтожается не только возможность
человеческого выбора, возможность «или — или», но и исчезает
смысл человеческой активности, поскольку подобное примирение
противоположностей и подобное их тождество кладет конец
дальнейшему движению, развитию, лишает действительность и человека
будущего.
Согласно Киркегору, философия и философ должны
заниматься не примирением противоположностей, а будущим, поскольку же
любое время есть лишь момент вечности, то бессмысленно говорить
об абсолюте и абсолютном примирении.
Датский философ здесь верно схватывает одно из слабых мест
философии Гегеля: ведь абсолютное примирение
противоположностей означает конец истории, мысли, логики, конец диалектического
самодвижения, саморазвития абсолютной идеи, конец развития
вообще. Эта философия оказывается повернутой в прошлое, из
которого она пытается вывести настоящее, чтобы примирить в нем
противоположности и утопить какие бы то ни было надежды
человека, связанные с его будущим.
Полагая, что трудность решения этого вопроса во многом
зависит от смешения различных сфер — мышления и воли, Киркегор
обрушивается на ходячий предрассудок, согласно которому
необходимость якобы господствует в сфере мышления (логики) и
природы, а свобода — в сфере истории. «История не создается исклю-
9
чительно свободными действиями свободных индивидуумов.
Индивидуум действует, но это действие подчинено общему порядку
вещей во вселенной; последствий данного действия не может с
точностью предвидеть и сам действующий индивидуум. Этот же общий
порядок вещей, который, так сказать, перерабатывает в себе
свободные деяния людей и подводит их под вечные законы вселенной, есть
необходимость и составляющая импульс всемирной истории. Вот
почему философия, если и имеет вообще право применить к
области истории принцип примирения, то лишь относительно, а не
абсолютно» 7. Объект рассуждений существующей философии, по
мнению Киркегора, составляют деяния, воспринятые и
переработанные общим историческим процессом. При этом все
рассматривается с точки зрения необходимости. Внутренние же деяния
человека, которыми в сущности и ограничивается область свободы в
истории, к сожалению, не интересуют философов.
Однако Киркегор вовсе не намерен отвергать необходимость
как таковую и ее значение в историческом процессе. Его замысел
и проще и сложнее: признавая роль и значение необходимости во
всемирной истории, Киркегор понимает, что в ней нет места для
какого бы то ни было «или — или», выбора, который всегда
существовал и существует для каждого индивидуума только как
личный вопрос. Многие неудачи предшествующей философии
объясняются тем, что она рассматривала историю, жизнь и деяния ее героев
с точки зрения необходимости, совершенно не затрагивая
внутреннюю душевную жизнь — сферу господства абсолютного «или —
или». Этим Киркегор объясняет и неспособность философии
пробудить жизненные силы человека, вдохновить его на плодотворную
деятельность, имеющую своей целью общее благо. Напротив, своей
оторванностью от человека, своими абстрактными рассуждениями
философия лишь замедляла, тормозила ход жизни.
Чтобы стать действенной, философия должна быть не
абстрактной, не схоластической, а живой, личностной, основанной
на свободе индивидуума. Вместо примирения противоположностей
Киркегор выдвигает раскаяние, вместо необходимости — свободу
воли. Диалектику необходимости и свободы он не признает — одно
исключает другое. «Борясь за свободу... я борюсь за будущее, за
выбор «или — или». Вот сокровище, которое я намерен оставить
в наследство дорогим мне существам на свете... Это сокровище
скрыто в тебе, это свобода воли, выбор, «или — или»; обладание им
может возвеличить человека превыше ангелов... Эту минуту можно
сравнить с торжественной минутой посвящения оруженосца в
рыцари,— душа человека как бы получает удар свыше,
облагораживается и делается достойной вечности. И удар этот не изменяет
человека, не превращает его в другое существо, но лишь пробуждает
и конденсирует его сознание и этим заставляет человека стать
самим собою» 8.
Следовательно, сделав «или — или» краеугольным камнем
10
своего миросозерцания, Киркегор ломает тысячелетнюю традицию
западноевропейской философии — философия отныне должна
заниматься не поиском истины, не поиском сущности, не
исследованием бытия — нет, онтологические, логические, гносеологические
проблемы уступают место проблемам этическим, моральным,
а главная задача философии — сделать все от нее зависящее, чтобы
человек мог стать самим собою.
Выбирая свободу воли в противовес абсолютной необходимости,
в противовес всякого рода схоластическим конструкциям абсолюта
(абсолютная идея, абсолютный дух, абсолютное тождество,
абсолютный разум и т. п.), Киркегор, как мы видим, во многом следует по
руслу, проложенному Кантом, хотя и не без постоянных аберраций,
обусловленных спецификой его субъективно-идеалистического и
религиозного мировоззрения. Правда, Киркегор противопоставляет
себя и Канту,, заявляя, что он не принадлежит к числу этиков-риго-
ристов (опять ходячее обвинение Канта.— К, Д.), требующих
формальной абстрактной свободы, поскольку выбор «единственное
средство сделать жизнь действительно прекрасной, единственное
средство спасти самого себя и свою душу, обрести весь мир и пользоваться
его благами без злоупотребления» 9.
Как видим, весьма многообещающее начало: выбор устремлен
в будущее, вселяющее надежду, таящую в себе бесконечность
возможностей, случайностей и невозможных чудес. Откажись от
прошлого, возвысься над настоящим, решись, наконец, на выбор,
который поможет тебе стать самим собой, и тогда откроется перед
тобою сокрытый в повседневности и будничности, в чередовании
работы и праздности, здравия и немощи, высшего напряжения
и покоя смысл жизни человеческой, смысл твоего собственного
существования.
Кант, которого Киркегор обвиняет в ригоризме, много сил
своего гения потратил на то, чтобы опровергнуть принимавшиеся за
очевидную истину вековые доказательства существования бога не
для того, чтобы низвергнуть веру, а для того, чтобы убедить мир
в том, что душа человеческая имеет столь же строгие законы, как
и вселенная, что микрокосмос столь же велик и бесконечен, как
и макрокосмос, чтобы показать все богатство, скрывающееся за
категориями бога, свободы воли и бессмертия души, то есть все
богатство действительного мира.
Но Киркегор не столько отзывался на проблемы, поставленные
философами прошлого и его времени, сколько стремился решить те
вопросы, которые ставила перед ним сама жизнь.
Мы знаем, что Серен Киркегор жил в те годы, когда Дания
представляла собой более отсталую и убогую страну, чем даже
Германия, характеристику социально-экономической и
общественно-политической жизни которой мы находим у Маркса и Энгельса.
Что касается Дании, то Энгельс писал: «Такой степени
нравственного убожества, цеховой и сословной узости больше нигде
π
не существует» ш. В этой лаконичной, точной и глубокой
характеристике Энгельса — ключ к разгадке истоков творческого пафоса
Киркегора. Из этой характеристики становится понятным, почему
датский философ занимается преимущественно нравственной
проблематикой, почему он борется против различных форм и видов
сословного (церковного, чиновничьего, профессионального,
интеллектуального и т. д.) консерватизма, почему вопросы человека,
человеческой личности находились в центре его внимания.
Творчество Киркегора началось еще до революционного
движения 1848 года, когда «Германия переживала революцию, и
Дания, как всегда, повторяла ее на провинциальный манер» п.
Необычайно отсталые социально-экономические и политические
отношения, существовавшие в Дании, обусловливали резкую реакцию на
любое проявление свободомыслия, не говоря уж о
революционности, в самых различных сферах: политической, философской,
нравственной, эстетической, научной, религиозной.
Известно, что в предреволюционные ситуации, а в
революционные периоды особенно, огромные массы людей вовлекаются в
активную экономическую, идеологическую, политическую борьбу,
выдвигая тем самым на первый план проблемы человеческой личности.
Специфика творчества Киркегора, проблематика его
философии объясняется главным образом социально-экономическими
и классовыми, политическими отношениями Дании того времени,
а не только складом его личности: болезненностью,
необщительностью, замкнутостью и т. п., хотя эти черты характера, несомненно,
сказались на личностном облике его философствования, на стиле
исследования и изложения.
Нередко приходится встречаться с мнением, что
необщительность, замкнутость того или иного мыслителя (Канта, Киркегора
и других) обусловливала мрачный, ригористический и даже
мистический характер их философии. Согласно подобным мнениям,
творческий успех сопутствует тем творческим личностям, которые
находятся в постоянном общении с людьми, улицей, публикой и т. д.
Изучение жизни в одинаковой мере предполагает и активное
в ней участие и время на ее теоретическое или художественное
осмысление. Эта труднейшая работа по осмыслению жизни
выглядит часто как «уход от жизни», как «замкнутость», «изоляция»
от общества. На самом деле в этот период происходит, может быть,
наибольшее ее постижение; во всяком случае, этот период
представляет собой важнейшее звено в познании жизни.
История философии, история науки, история литературы
и искусства свидетельствуют о том, что гениальные открытия и
произведения достигались в ходе гигантской работы ума и сердца, что,
естественно, требовало «отказа от жизни», сосредоточения на
исследовании проблем, поставленных самой жизнью, как говорится,
ухода в работу с головой, отказа от многих прелестей обычной,
размеренной жизни. И напротив, когда человек постоянно включен
12
в процесс повседневной быстротекущей жизни и не хочет или не
имеет возможности сосредоточиться на ее осмыслении, то какой бы
интенсивной ни была его деятельность и желание познать жизнь, он
никогда не будет в состоянии постигнуть ее основных
закономерностей и смысла. Результат подобной «теоретической»
деятельности — это нескончаемый, монотонный поток слов, выражающий
лишь видимость познания действительности, видимость теории, а на
самом деле представляющий плоскую эмпирию, отъявленную
схоластику, отгораживающую человека от полнокровной жизни и
действительности стеной отчуждения и непонимания.
Понятно, почему Киркегор пытается определить типы людей
по их отношению к жизни: какая жизнь отвечает их идеалам, какую
жизнь они отвергают и к какой стремятся, в чем вообще они видят
смысл жизни, смысл своего собственного существования?
Прежде всего Киркегор выделяет эстетический тип людей,
отличительной чертой которых является «не сознательное
умственное или душевное развитие человеческой личности, а
непосредственность». Непосредственность человеческой личности коренится
не в духовной красоте, а в красоте физической, поэтому здоровье
оценивается как высшее благо в жизни. Близок к этому взгляд,
ставящий физическую красоту человека выше всего на свете. В
конечном счете оба взгляда сходятся в том, что «жизнью нужно
наслаждаться».
Спокойный и уравновешенный Кант негодовал, встречаясь
с подобным отношением к жизни. А Киркегор раскрывает
психологические механизмы гедонистического жизнеотношения,
предлагает типологию соответствующих характеров и демонстрирует их
парадоксальную обреченность на примере судьбы римского
императора Нерона.
Киркегор показывает, что цезарь-сластолюбец, испытавший все
возможные и невозможные наслаждения и пресытившийся ими,
остался незрелым. «Сознание его не может пробиться сквозь броню
непосредственности, и он тщетно старается уяснить себе более
высокую форму земного бытия. Уясни себе это Нерон, и блеск
трона, власти, могущества — все померкло бы в его глазах. Для
этого, однако, у него недостает нравственных сил, и он в отчаянии
хватается за наслаждение» 12. Наслаждение, согласно Киркегору,
играет здесь роковую роль: душа Нерона отдыхает только купаясь
в наслаждении; стоит наслаждению прекратиться, как император
опять задыхается от истомы. Сознание его омрачается, гнев
переполняет душу и переходит в трепет, не смолкающий даже в минуты
наслаждения,— взор Нерона становится зловещим. Перед этим
взором все трепещут, но в душе цезаря такой же трепет.
Пристальный взгляд ребенка, случайный взгляд любого человека — и Нерон
уже трепещет, как бы чувствуя, что каждый человек, в сущности,
сильнее его. «Сознание рвется на свободу, требует от Нерона
работы мысли и душевного просветления, но душа цезаря уже бессиль-
13
на, и новый приступ гнева овладевает ею. Нерон не уверен в самом
себе и успокаивается лишь тогда, когда весь свет лежит перед ним
во прахе и он не видит, не читает ни в одном взоре желания
посягнуть на его свободу. Вот чем объясняется человекобоязнь
Нерона и всех подобных ему. Он, как одержимый бесом, лишен
внутренней свободы и в каждом человеческом взоре видит стремление
поработить его. Повелитель Рима страшится поэтому взора
последнего раба... Одни лишь наслаждения доставляют ему минутный
отдых и забвение. В погоне за ними он сжигает пол-Рима, но душа
его по-прежнему терзается муками страха. Скоро для него остается
лишь один род высшего наслаждения — вселять страх в других.
Сам себе загадка, полный непреодолимого внутреннего трепета, он
хочет быть загадкой и для всех, хочет наслаждаться всеобщим
трепетом перед собой. Вот откуда эта непостижимая улыбка
цезаря... И этот страх радует его: он не хочет, чтобы его уважали, он
хочет, чтобы его боялись!.. Его душа расслаблена, только соль
остроумия и игра слов могут еще на минуту оживить его. Но вот
все, что в состоянии дать ему мир, исчерпано; чем же ему жить
теперь?» ,,J
На этот вопрос Киркегор отвечает: не будь Нерон повелителем
Рима, он, пожалуй, кончил бы жизнь самоубийством —
осуществление в иной форме желания Калигулы отрубить голову всему
человечеству. Но он вынужден жить, требовать от мира новых
наслаждений, новых жертв, вселять в людей еще больший страх и ужас.
Какой вывод делает Киркегор из своего психологического
анализа личности Нерона?
«Личность Нерона дает нам, таким образом, понятие о странной
причинной связи между непосредственностью и меланхолией: в то
время как все сокровища вселенной не в состоянии доставить его
пресыщенной душе ни малейшего наслаждения, какое-нибудь самое
ничтожное обстоятельство, слово, наружность человека, и т. п.
может привести его в неописуемый восторг,— он радуется как дитя.
И всех подобных Нерону людей можно сравнить с детьми: они
именно дети по нетронутой, непроясненной мыслью
непосредственности своей натуры. Сознательно развившаяся личность не может
уже радоваться таким образом; она перестала быть ребенком, хотя,
может быть, и сохранила некоторые душевные черты ребенка. В
общем, Нерон — отживший старик, в отдельных же случаях —
дитя» 14. Нерон-император возвышается над всеми гражданами Рима,
но Нерон-человек остается на уровне обыкновенного смертного, ибо
он, как любой другой, живет обыденной жизнью, привязан к ней
всем своим существом и нет никаких признаков, что он может
вырваться из объятий этой повседневности. Единственное его отличие
от обычного человека состоит в том, что Нерону-императору все
доступно — все наслаждения мира, все позволено — уничтожение
сотен тысяч людей, все возможно — все, кроме того, чтобы
вырваться из того состояния (в котором он находится) меланхо-
14
лии — этой истерии духа, в которой он заживо погребен. Истерия
обрекает человека на вечный страх: он боится самого себя, других
людей и всего, что его окружает. Чтобы найти хоть какое-нибудь
душевное равновесие, такой человек должен видеть, что и
окружающие его люди испытывают чувство страха. Вот почему Нерон делает
все от него зависящее, чтобы все люди, встречающиеся на его пути,
трепетали перед ним, чтобы они боялись его. Это, пожалуй,
единственно возможный способ утверждения его как человека и как
личности, если можно в данном случае говорить о личности. Сфера
духа, духовная жизнь оказывается для Нерона совершенно
недоступной. Может быть, поэтому он больше всего ненавидит именно
таких людей, которые живут жизнью духа, духовной жизнью, о
которой он не может даже мечтать. Правда, в этом Нерон не одинок:
кажется, все тираны, все власть имущие боялись и ненавидели
высокоодаренных, мудрых людей духа, одно существование которых
делало очевидным всю пустоту, глупость и ничтожество властителей.
Одну из своих лучших книг — «Страх и трепет» — Киркегор
начинает словами, которые таят в себе многозначный смысл:
отношение к современности, к прошлому, к философской традиции
и к тем, кто занимается философией или думает, что занимается
ею, к методу философствования и философскому сомнению, к
исходному и конечному пункту исследования, к вере и знанию
и т. д. «Не только в мире торговли, но также и в мире идеи наше
время устраивает настоящую распродажу. Однако все стоит
настолько смехотворно мало, что возникает вопрос, найдется ли
в конце концов покупатель. Каждый спекулятивный оценщик,
который старательно отмечает этапы серьезно развивающейся
философии, каждый приват-доцент, репетитор, студент, каждый, кто
только возился с философией или даже погружался в философию, не
задерживается ни на минуту, чтобы выразить сомнение» 15.
Нетрудно догадаться, что речь идет прежде всего о методологии или
о методе решения философских проблем.
Для поверхностно мыслящих, а точнее, для нефилософски
мыслящих людей действительно все просто: на любой, даже самый
трудный вопрос они готовы тут же дать ответ, а то и несколько
ответов, не отвечающих на самом деле ни на один вопрос.
Высмеивая свою эпоху, свое время и свое общество, Киркегор
просто издевается над теми, кто создает видимость занятия наукой,
кто и не подумал всерьез изучать предмет, избранный как дело всей
жизни, кто в силу этого не смог сказать ни одного своего слова по
проблемам, касающимся этого предмета, но зато легко и свободно
торгует направо и налево любыми идеями, взятыми напрокат.
Подобные «спекулятивные оценщики» имеют при этом
наглость судить обо всем, все на свете подвергать сомнению, кроме
самих себя и своей собственной правоты. Если же их припирают
к стенке и просят, чтобы они сказали, каким образом они
разрешают свои универсальные сомнения, то они в лучшем случае ссыла-
15
ются на известные авторитеты как на последний и решающий
аргумент.
Так, на вопросы, связанные с сомнением, обычно отсылают
к Декарту, к его учению о методе, забывая при этом, что Декарт не
раз повторял, что он хотел лишь представить такой метод, который
он сам использовал, и что этот метод имеет значение только для
него самого. Такая скромность может быть присуща лишь великим
мыслителям, идеальный образ подобного мыслителя дала Древняя
Греция в лице Сократа, имевшего мужество признаться, что он
знает только то, что ничего не знает. Те же греки понимали, что
сомнение — это своеобразная способность, а способности не
приобретаются за короткий промежуток времени — они являются
задачей всей жизни.
Совсем не то — эпигоны: они знают то, что они все знают, все
могут объяснить и на все вопросы дать ответы. Повседневность
возводится ими на уровень вечных и мировых проблем, а
действительно универсальные мировые проблемы низводятся ими на
уровень повседневности. Все созданное до них они объявляют
ненаучным, устаревшим, не заслуживающим особого внимания и идут
не останавливаясь дальше. Но куда?
Принимая все это во внимание, Киркегор пишет в
«Предисловии» к своей книге, что он нисколько не является философом, что
он просто является писателем-любителем, который не создает ни
систем, ни даже очерков систем, не записывается в систему и не
дописывает к системе.
Инвектива Киркегора против философии Гегеля станет
понятной, если принять во внимание ее господствующее положение в
интеллектуальной жизни не только Германии того времени, но и
Дании и других европейских стран. Попытка Гегеля примирить знание
и веру особенно возмущала Киркегора. Однако он боролся не
только с философией Гегеля, но и со всеми видами философских
систем, в той или иной мере основывающихся на признании
объективных законов исторического развития. Киркегору эти системы
представлялись абстрактными, ибо они игнорировали, по его
мнению, жизнь конкретного индивидуума, обезоруживали его перед
лицом жизненных проблем.
Известно, что Киркегор был не одинок в критике гегелевской
философии. Если он критиковал Гегеля с позиций субъективного
идеализма религиозного толка, то Фейербах критиковал Гегеля
с позиций механистического материализма, пытаясь создать новую
религию и новую мораль, которые способствовали бы созданию
нового общества, основывающегося на отношениях всеобщей любви
между всеми индивидами.
Однако наиболее радикальной и всесторонней, научной критике
философия Гегеля и вся идеалистическая философия вообще была
подвергнута лишь в трудах Маркса и Энгельса. Эта критика в
известной мере сохранила свое значение и в отношении философии Кирке-
16
гора, как и некоторых других философских учений прошлого
и настоящего. Но об этом речь впереди.
Есть мыслители, творчество которых напоминает свет
падающей звезды: от ее поражающей воображение траектории, как бы
стремящейся осветить всю темень мироздания и одновременно
заронить в душе застывшего в изумлении перед чудом самосожжения
человека искру надежды на какое-то мгновение смещаются
пространственно-временные координаты всего существующего:
мгновение становится вечностью, вечность — мгновением, мир —
сгорающей в какие-то доли секунды звездой, а сгорающая в ярком
свечении звезда — всем миром, сокровенные мысли человека —
мыслями всего мира, а мысль мира — мыслями одного. Может быть,
поэтому с падающими звездами связано народное поверье о
человеческом счастье. И возможно, этим объясняются минуты молчания
после «чудесного видения» гибели бесконечно далеких звезд, с
которыми связываются бесконечно близкие человеческие мечты и
надежды?
К таким мыслителям и писателям, пожалуй, можно с полным
основанием отнести Серена Киркегора еще и потому, что как свет
от падающей звезды доходит до нас лишь много-много лет спустя
после ее гибели, так и воздействие мышления этого писателя и
философа начало сказываться только в конце прошлого и особенно
в начале нынешнего века, порождая в душах людей разочарования
и надежды, радости и тревоги, воспоминания и прозрения. Да
и сами его размышления, мысли и идеи, подобно огненным
траекториям, быстро вспыхивают и сгорают, оставляя лишь ментальный
след в необозримом и неохватном небосводе человеческого
мышления, человеческих чувств и переживаний. Его философия слишком
субъективна, чтобы быть холодной и бесстрастной, слишком
человечна, чтобы быть мистической, слишком личностна, чтобы быть
иррациональной.
Об этом свидетельствуют все его основные произведения,
которые, кстати, создавались им также в относительно краткие
временные промежутки. Достаточно сказать, что только в 1843 году он
пишет и издает такие произведения, как «Или — или», «Страх и
трепет», «Повторения» и др. Да и вся его внешне ничем не
примечательная и довольно краткая жизнь (1813—1855) была исключительно
интенсивной и богатой в духовном, творческом отношении.
Среди немногих событий, определивших жизненный и
творческий путь Киркегора, исследователи выделяют его
взаимоотношения с отцом, с невестой — Региной Ольсен, с епископами Мюнсте-
ром и Мартенсеном и в какой-то степени с неким пасквилянтом —
Гольдшмидтом. Однако следует видеть прежде всего
неравноценность и неравнозначность этих факторов и их воздействия на
творчество этого мыслителя, а также, что, может быть, еще важнее,
взаимосвязь этих факторов с социально-политическими и
культурными событиями Дании и Европы того времени. Пожалуй,
17
только в этом случае можно будет объяснить специфическое
содержание, направленность и исторические судьбы учения Киркего-
ра и его воздействие на современную культуру.
Следует заметить, что хотя и не без большого труда, но все-
таки Киркегор достаточно быстро нашел свой язык, свой голос,
свой стиль мышления и творчества, а следовательно, и свое
уникальное и неповторимое место в литературе, философии и культуре.
Читая произведения Киркегора, незаметно подпадаешь под
настроение, которым буквально «дышит» каждое его сочинение. То
ли от того, что его стиль исследования и изложения проблем носит
слишком субъективный, личностный характер, то ли от того, что
«философичность» и «диалогичность» стиля Киркегора редко лежит
на поверхности, а скрыта глубоко внутри самой мысли и структуры
исследования и изложения, то ли от того, что он с небывалой силой
ставит собственно человеческие проблемы, волнующие каждого
отдельного человека, а значит, и всех людей вообще,— его
произведения никого не оставляют равнодушными.
Правда, в силу особого склада личности Киркегора, его
мироощущения, миросозерцания и мировоззрения, носящих глубоко
пессимистический характер, в конечном счете независимо от
разрешения исследуемых и обсуждаемых вопросов его сочинения скорее
разочаровывают, чем вдохновляют, скорее обезоруживают, чем
вооружают, обессиливают необычайной силой своего воздействия.
Уже «Афоризмы Эстетика» дают некоторое представление
о характере и основных особенностях философии Киркегора.
Прежде всего читатель узнает, что Киркегор называл себя
поэтом или писателем, но никогда — философом. Сказалось ли
в этом его недолгое увлечение романтиками или его довольно
негативное отношение к властвовавшей тогда над умами философии
Гегеля — скорее всего, и то и другое,— Киркегор постоянно
возвращается к вопросу взаимоотношения поэта и людей, поэта и
призвания, поэта и окружающей его действительности. «Что такое
поэт? Несчастный, переживающий тяжкие душевные муки, вопли
и стоны которого превращаются на его устах в дивную музыку.
Участь его можно сравнить с участью людей, которых сжигали
заживо на медленном огне в медном быке Фалариса: жертвы не
могли потрясти слуха тирана своими воплями, звучавшими для него
дивной музыкой. И люди толпятся вокруг поэта, повторяя: «Пой,
пой еще!» — иначе говоря,— пусть душа твоя терзается муками,
лишь бы вопль, исходящий из твоих уст, по-прежнему волновал
и услаждал нас своей дивной гармонией. Требование толпы
поддерживают и критики: это верно, так и должно быть по законам
эстетики! Критик, впрочем, тот же поэт, только в сердце его нет
таких страданий, а на устах музыки. Оттого, по-моему, лучше быть
пастухом, понятым своим стадом, чем поэтом, ложно понятым
людьми!» 16
Несомненно, Киркегор был поэтом, поэтом в своем творчестве,
18
которое насквозь пронизано высокой художественностью,—
поэтичности его произведений трудно найти аналог даже среди
величайших творений мировой философии и литературы. В этом
отношении его сочинения напоминают рефлексию Сократа в
изложении Платона — этот непревзойденный синтез философской
мысли, художественного воображения, гуманистического пафоса в их
глубоко диалектической взаимосвязи и взаимообусловленности.
Видимо, Киркегор имел основания считать себя Сократом своего
времени. Сократический характер киркегоровского мышления
и творчества несомненен, как несомненна и его связь со всей
культурной традицией — от Ветхого завета до Шекспира, Гёте, Канта,
Фихте, Шеллинга, Гегеля, хотя эта связь проявляется не всегда
достаточно ясно и отчетливо.
* * *
Киркегор восхищался народной поэзией. «Громадная
неувядаемая мощь древней народной поэзии в том и состоит, что в ней есть
сила желаний. Желания же нашего времени только греховны и
пошлы,— у нас все сводится к желанию поживиться на счет ближнего.
Народная поэзия превосходно сознает, что у ближнего нет того,
чего она жаждет, и поэтому если иной раз и предъявляет какое-
нибудь грешное желание, то оно до того величественно, до того
вопиет к небу, что заставляет содрогнуться. Эта поэзия не торгуется
в своих требованиях с холодными соображениями трезвого
рассудка. До сих пор, например, Дон Жуан проходит перед нами на сцене
со своими «1003 любовницами», и никто не осмелится улыбнуться,
уже из одного уважения к преданию. А вздумай поэт создать что-
либо подобное в наше время, его наверное осмеют» 17.
Как видно уже из этих высказываний, поэтичность
киркегоровского творчества многозначна и многопланова. Высокая патетика не
исключает проницательной и остроумной критики современного ему
общества. В этом он близок Ибсену, для которого любой
материал — будь то поэтичная северная сага или современная
мелодрама — определялся в значительной степени факторами социально-
политической, общественной и культурной жизни того времени.
Киркегор хорошо знал реальную жизнь различных слоев
буржуазного общества своей страны, да и других стран Европы: крестьян,
рабочего люда, моряков, ремесленников, купечества, духовенства,
мелкой и крупной буржуазии, журналистов, литераторов, артистов.
Это проявляется, быть может, не столько в метких характеристиках
их образа жизни, их взаимоотношений в обществе, сколько в
основательном знании их образа мысли, их духовного бытия.
Во всех своих произведениях Киркегор последовательно и
беспощадно критикует свое время, свою эпоху, свое общество. «Пусть
другие жалуются, что наше время дурно, я недоволен им за то, что
оно ничтожно, совершенно лишено страсти. Мысли современного
человека жидки и непрочны, как кружева, а сами люди жалки, как
19
кружевницы. Людские помыслы слишком ничтожны даже для того,
чтобы называться греховными. Червяку еще пожалуй можно бы
вменить в грех такие помыслы, но человеку, созданному по образу
Бога?!.. Желания людские степенны и вялы, страсти спят; люди
только «исполняют свои обязанности», и то, как торгаши-евреи,
позволяющие себе немножко поурезать червонец. Они думают, что
как бы Всевидящее Око ни следило за ними, авось все-таки им
удастся урвать малую толику. Гадко! Вот почему душа моя
постоянно обращается к Ветхому завету и Шекспиру. Там по крайней
мере чувствуется, что говорят дюдиу там ненавидят, там любят,
убивают своего врага, проклинают его потомство во всех
поколениях, там — грешат!» 18
Видимо, не случайно основные произведения Киркегора так
или иначе связаны с Ветхим заветом, с ветхозаветной идеологией,
с ветхозаветной моралью, мифами, сюжетами, сказаниями,
преданиями. Например, «Страх и трепет» — Киркегор считал его своим
лучшим произведением — целиком строится на рассмотрении
ветхозаветного сказания об Аврааме и его сыне Исааке, а
«Смертельная болезнь» посвящена анализу основных проблем новозаветной,
христианской идеологии.
Что касается отношения Киркегора к культурным традициям
прошлого и настоящего, то оно далеко не однозначно: будучи
глубоко верующим человеком, Киркегор с этих позиций подвергает
резкой критике современное христианство и особенно
существующие институты церкви, церковную иерархию, которую он считает
ответственной за упадок религиозности и распространение неверия;
в то же время он постоянно и демонстративно берет под защиту
язычество и языческую идеологию, с которой христианство уже на
протяжении двух тысяч лет ведет борьбу не на жизнь, а на смерть.
Внимательное чтение произведений Киркегора показывает, что
он хорошо знал основные факты, события культуры прошлого и
современности, сочинения писателей, поэтов и философов всех
времен. На одних он ссылается в подкрепление своих позиций (Гомер,
Эсхил, Еврипид, Гераклит, Пифагор, Платон, Аристотель), с
другими он ведет серьезную полемику, как, например, с Кантом или
Гегелем, хотя, по существу, ведет полемику с традицией всей культуры
прошлого и настоящего, чтобы выработать свое новое
миросозерцание, тесно связанное с реальной жизнью, с конкретным
человеком, с его многообразными запросами и интересами, с его
богатыми чувственными и интеллектуальными дарованиями.
Может быть, поэтому в своих произведениях Киркегор
предстает перед нами и как лирик, и как аналитик, и как ироник, и как
мудрец, и как влюбленный, и как ненавидящий, и как ученый, и как
поэт, и как мизантроп, и как гуманист, и как проповедник, и как
пророк. Трудно перечислить все его творческие ипостаси, зато во
всех своих духовных обличьях он демонстрирует необычайную
волю, потрясающую по силе страсть, удивительную проницатель-
20
ность ума, позволившие ему создать высокохудожественные,
философско-психологические произведения, которым суждена
долгая и интенсивная идейно-этическая жизнь. И все же, читая
сочинения Киркегора, чувствуешь какие-то незримые, невидимые
пределы, ограничивающие горизонты его мышления и творчества,
налагающие на его рассуждения налет провинциализма, узости,
когда лиричность и искренность сливаются с нравственным
убожеством и односторонностью, а поиск истины и свободы
ведется с опустошающими душу уничижениями, сомнениями
и колебаниями относительно мелких и пустых вопросов, с
постоянными оглядками на ничтожное окружение, с
уничтожающими личность бесконечными самоистязаниями, с парализующими
ум, волю и чувства парадоксами.
В самом начале своего 7ворческого пути Киркегор страдал от
несовершенства своего языка и стиля, своего мышления и голоса.
«Моя душа, моя мысль бесплодны, и все же их терзают
беспрерывные бессмысленные, полные желания родовые муки. Неужели же
мне никогда не сообщится дар духа, который бы развязал мой
язык, неужели я на век осужден только лепетать? Мне нужен голос
пронзительный, как взор Линцея,— поражающий ужасом, как
вздох гигантов,— неистощимый, как звуки природы, насмешливый,
как порыв внезапно хлестнувшего в лицо дождем ветра, злой, как
бездушное глумление эхо, с диапазоном от basso profundo до самых
нежных, чарующих грудных звуков, со всеми переходами от
благоговейного шепота до дикого вопля отчаяния. Вот что нужно
мне, чтобы облегчить душу и высказать все, что томит ее, потрясти
диафрагму и любви и злобы. Но голос мой хрипл, как крик чайки,
и беззвучен, как благословение на устах немого» 19.
Тонкие, блестящие, глубокие афоризмы Киркегора вызывают
немедленную реакцию читателей: нельзя оставаться равнодушным
ни к их содержанию, ни к их удивительному
художественно-эстетическому воплощению. Каждая мысль отлита в совершенную форму.
Язык его мысли музыкален, хотя далось ему это не без труда. Его
сочинения напоминают фуги Баха по полифонии основных тем
и мотивов. Если человек — это стиль, а стиль — это человек, то
о Киркегоре можно с полным основанием сказать, что его личность
находит адекватное выражение в творчестве, а его творения
достаточно адекватно выражают его личность, жизнь и мышление.
С особой остротой Киркегор ставит вопрос о вере. «В наши
времена никто не остается при вере; каждый хочет идти дальше.
Вопрос, куда так идут, может считаться глупым, но, по всей
вероятности, он, будет признаком вежливости и хорошего воспитания,
если примем за аксиому, что каждый из них имеет веру, иначе
выражение «идти дальше» было бы странным. Когда-то дело обстояло
иначе, вера была тогда задачей всей жизни, так как думали, что
способности к верованию не приобретаются в течение дней или
недель: когда испытанный старец приближался к концу жизни,
21
после правой борьбы и сохранения веры, то он имел еще достаточно
молодое сердце, чтобы помнить эти боязнь и трепет, которые
формировали его молодость, которые муж преодолел, но от которых ни
один человек не освобождается полностью, если ему не
посчастливится как можно раньше пойти дальше. Пункт, к которому
приближались эти уважаемые лица, теперь становится исходным
пунктом» 20. Утрату веры Киркегор считает самым большим несчастьем
и злом современной ему эпохи, ибо без веры, как он полагает, не
может быть не только ничего святого, но и ничего собственно
человеческого, не может быть ни самого человека, ни человеческих
ценностей. Без веры, по его мнению, нельзя идти никуда: ни назад,
ни тем более вперед. Без веры нельзя даже топтаться на месте. Без
веры можно только погибнуть.
Испытующая, тревожная мысль Киркегора обращается вглубь
веков, чтобы найти такое учение, которое могло бы стать точкой
опоры для современного человека. Путь, равный тысячам лет, он
проходит за считанные годы, но его мысль скользит, почти не
останавливаясь, по бесчисленным философским, теологическим,
научным и эстетическим системам. И только одна личность на какое-то
время привлекла к себе его внимание — Сократ, учение которого
при любой, даже случайной встрече оставляет в умах и сердцах
людей неизгладимый след.
Но мысль Киркегора наталкивается здесь на нечто
непреодолимое: оказывается, учение Сократа невозможно использовать для
формирования, и уж тем более для укрепления веры, поскольку
суть сократического метода — маёвтики — состоит именно в том,
чтобы разрушать какую бы то ни было веру, не основанную на
разуме и не выдерживающую проверки сократической диалектики.
Мысль Киркегора движется дальше вглубь веков и наконец
доходит до Ветхого завета. Ему импонирует альтернативный
характер ветхозаветной идеологии и морали, исключавший какие бы
то ни было колебания, предельная ясность ее требований,
жесткость, с которой подавлялось любое их невыполнение. И
может быть, больше всего ему импонировала вера в таинство чуда —
вера в абсурд. Именно в абсурде ветхозаветной идеологии Киркегор
находит искомую точку опоры, с помощью которой он хочет
перевернуть мир человека и обесчеловеченный мир.
Название книги «Страх и трепет» взято из Ветхого завета не
случайно — она вся посвящена рассмотрению философско-нрав-
ственных проблем на материале сказания об Аврааме и сыне его
Исааке.
«Если у человека не существует никакого вечного сознания,
если на дне всего скрывается дико действующая сила, которая,
клубясь в зарослях страсти, породила все то, что было великого,
и то, что не имело никакого значения, если под всем скрывается
бездонная и никогда не насыщаемая пустота, чем же иным
становится жизнь, если не отчаянием? Если это так, если нет никаких
22
святых уз, связывающих человечество, если поколение за
поколением появляются, как листья в пуще, если одно поколение приходит
на смену другому так, как следуют сами собою песни птиц в лесу,
если поколения людей проходят по жизни, как корабль по морю,
как вихрь по пустыне, как бессмысленное и бесплодное действие,
если вечное забвение всегда подстерегает свою добычу и нет вещи,
которая была бы достаточно сильна, чтобы освободить от этого,—
то какой же пустой и безнадежной представляется жизнь!» 21 —
такими полными скорби и ужаса словами начинается «Похвала
Авраама». Это высказывание Киркегора не требует
комментариев — оно говорит само за себя. Следует лишь заметить, что в этой
мрачной, беспредельно пессимистической картине, являющейся
Киркегору всякий раз, когда он задумывался о смысле
человеческой жизни, довольно ясно и четко выражены основные
характеристики реальной действительности, реального общества, реальных
людей того времени, когда жил Киркегор, хотя эта картина может
быть вполне экстраполирована и на современную эпоху.
Где и в чем искал выход из этой ситуации датский мыслитель?
Вспомним удивительно тонкий и поразительный по
проникновению в душевные глубины человека анализ,
предпринятый в «Дневнике обольстителя», где влюбленный эстетик, как бы
учась у любимой девушки (может быть, это своеобразная киркего-
ровская форма сократического метода — маёвтики?), постепенно
формирует, а точнее, развивает основные ее задатки и дарования,
доводя их до совершенства, а ее до той высшей зрелости чувств,
страстей и переживаний, когда она уже не представляет своей
жизни без любимого и готова отдаться ему и связать свою жизнь
с его жизнью навеки,—вдруг он, действительно влюбленный в свою
Корделию, наслаждавшийся одним ее видом, жестом, словом,
взглядом, всем ее существом, он, помолвленный с нею, ее жених,
накануне самой свадьбы вдруг порывает с нею всякие отношения,
порывает раз и навсегда.
Киркегор вводит читателя в сферу извечных, интимных, но
всегда сокровенно чистых отношений между влюбленными, в сферу
впервые пробуждающихся, а затем и естественно развивающихся
чувств, не пропуская малейшего оттенка в изменении их
отношений, их привязанности и любви — первой любви от ее зарождения
до трагического конца. Он намеренно оттеняет одну сторону —
активность мужчины по отношению к женщине: влюбленный, как
скульптор, лепит, ваяет из любимой свой идеал. Процесс этого
«творчества» доставляет «обольстителю» высшее эстетическое
наслаждение, и он же, получивший все, чего желал, вдруг порывает
отношения с любимой девушкой. Высший духовный взлет
влюбленных заканчивается для Киркегора трагическим разрывом,
определившим во многом его дальнейшую жизнь и определившим почти
полностью направленность и характер творчества этого
выдающегося мыслителя.
23
Комментаторы творчества Киркегора видят суть этого
произведения Киркегора в том, что он хотел показать попытки эстетика
жить исключительно эстетической жизнью, чтобы затем в других
сочинениях показать полную несостоятельность эстетического
подхода к жизни и эстетической формы бытия и существования.
Действительно, совершенно противоположную концепцию
подхода к жизни Киркегор развивает в других своих работах, и
особенно в работе «Гармоническое развитие в человеческой личности
эстетических и этических начал», в которой миросозерцание
эстетика подвергается беспощадной критике и нравственной проверке.
Киркегор борется против духовного и нравственного
опустошения людей, против потери личностью своего я, против разлада
человека с самим собой, против всеобщей отчужденности. Он хорошо
видел, что накопление знаний и материальных благ еще ничего не
значит — личность это не спасает, и даже, напротив, ускоряет
разрушительный процесс и распад личности. Поэтому главную задачу
человека Киркегор видит не в материальном и духовном
обогащении (ведь духовное обогащение очень часто является таким же
потребительством, как и материальное, если человек лишь
потребляет, ничего не давая другим людям и обществу,— в этом одна из
основных черт мещанства вообще), а в воспитании и
совершенствовании своей личности, в серьезной душевной работе, основанной на
труде как призвании человека.
Необходимо, чтобы человек понял, осознал свое
предназначение, определил себя и свое место в мире, среди других людей,
осознал то, что есть в нем общечеловеческого, то, что придает
человеческой жизни смысл. Человек может стать человеком, если
он освободится от разлада с самим собой, от безразличия ко всему
окружающему, от обезличения своей личности, если он решится на
выбор «или — или»: или эстетический путь жизни, который с
необходимостью ведет к самоуничтожению человеческой личности,
или этический путь, на котором человек обретает себя.
У Киркегора внутренне полемично понимание этического
и эстетического: «Эстетическим началом может называться то,
благодаря чему человек является непосредственно тем, что он есть,
этическое же то, благодаря чему он становится тем, чем
становится» 22. Киркегор отвергает понимание эстетического как учения
о прекрасном и не довольствуется осуждением гедонистической
позиции. Разоблачительная критика эстетического начала обретает
у Киркегора неожиданную глубину, когда разбросанности
праздного эстетика противополагается альтернатива: труд. Большинство
приверженцев эстетизма, замечает Киркегор, сетуют на то, что они
подавлены прозой жизни, что, в сущности, является
замаскированным желанием сбросить с себя регулирующее их страсти ярмо
жизни и прежде всего освободиться от трудовой деятельности, от
повседневного труда, который, как они считают, чуть ли не унижает
их, мешает им жить нормальной человеческой жизнью.
24
Философ резко критикует подобное отношение к труду,
улавливая в этом прежде всего высокомерие власть имущих,
богатых и праздных, стремящихся жить за счет других и быть всегда
исключением во всем: «...быть же исключением... унизительно для
человека. Поэтому и богатство, если посмотреть на дело с этической
точки зрения, является унижением для человека,— всякое особое
преимущество низводит человека в разряд исключений или унижает
его. Держась этической точки зрения, человек не станет, таким
образом, завидовать преимуществам других, ни гордиться своими
собственными, ни, наконец, стыдиться их, так как будет видеть в них
лишь выражение возложенной на него свыше ответственности... ведь
причиной того, что так часто слышатся эти громкие презренные речи
о всемогуществе и мировом значении денег, является до некоторой
степени недостаток этического мужества у людей трудолюбивых,
но стесняющихся громко указывать на великое значение труда,
а также недостаток у них этического убеждения в этом значении...
Вопрос о том, можно ли представить себе такой порядок вещей,
при котором люди были бы избавлены от необходимости
зарабатывать себе средства к жизни трудом, есть, в сущности, вопрос
праздный, так как он касается воображаемой, а не данной
действительности. Тем не менее он является попыткой умалить значение
этического воззрения на жизнь.
Если бы совершенство жизни выражалось отсутствием
необходимости труда, тогда, разумеется, наиболее совершенною
считалась бы жизнь избавленного от этой необходимости праздного
человека; тогда долг человека трудиться был бы лишь печальной
необходимостью, а вследствие этого и «долг» лишился бы своего
«общечеловеческого» совершенного значения, сохраняя лишь одно
обыденное, частное. Поэтому-то я с такой уверенностью и говорю,
что отсутствие необходимости трудиться свидетельствует, напротив,
о несовершенстве жизни: ведь чем ниже та ступень развития, на
которой стоит человек, тем меньше для него необходимости
трудиться, наоборот, чем выше — тем сильнее выступает и эта
необходимость. Долг человека зарабатывать себе средства к жизни трудом
именно служит выражением общечеловеческого: с одной стороны,
выражением общечеловеческой обязанности, а с другой — свободы.
Ведь именно труд освобождает человека, делает его господином
природы; благодаря труду человек становится выше природы...
Прекрасное зрелище представляют полевые лилии, которые не
трудятся, не прядут, а одеваются так, как не одевался и Соломон во
всей славе своей. Прекрасное зрелище представляют и птицы
небесные, которые не сеют, не жнут, а сыты бывают, и Адам с Евою
в раю, но еще более прекрасное зрелище представляет человек,
добывающий себе все необходимое своим трудом. Хорошо, если
Провидение милосердно питает все живущее и заботится о нем, но
еще лучше, если человек сам является как бы своим собственным
Провидением. Тем-то ведь человек и велик, тем-то он и возвышает-
25
ся над всем остальным творением, что он может сам заботиться
о себе. Итак способность человека трудиться является выражением
его совершенства в ряду других творений; высшим же выражением
этого совершенства является то, что труд вменен человеку в долг.
И вот, если герой наш усвоит себе вышеприведенное воззрение, он
не станет желать себе нежданного, негаданного богатства, которое
бы свалилось на него с неба, не будет заблуждаться относительно
цели и значения жизни, поймет, как прекрасно зарабатывать себе
средства к жизни трудом, увидит в труде свидетельство
человеческого достоинства, поймет, что вечная праздность растения,
которое не может трудиться, не совершенство, а недостаток. Он не будет
также искать дружбы упомянутого богача эстетика,— он будет
трезво смотреть на жизнь, будет ясно понимать, в чем именно
заключается величие жизни и человека, и не позволит
высокомерным денежным мешкам запугать себя мнимым значением богат-
ства» .
Здесь и критика образа жизни «денежных мешков», а значит,
и буржуазии, буржуазного общества в целом и вместе с тем не
только констатация необходимости трудиться, что присуще
христианской религии вообще, но и подчеркивание того, что только труд
возвеличивает человека, делает его свободным, благородным и
независимым. Киркегор понимает — и это особенно важно — огромное,
решающее значение труда для воспитания человека. Этот момент
позволяет ему перевернуть установившиеся в течение столетий
и даже тысячелетий воззрения на героев и обыкновенных людей.
Начиная с древнегреческой мифологии героями были или люди
необыкновенные по своим, главным образом физическим,
качествам, или полубоги, рожденные от богов и людей, или боги. Все
остальные в лучшем случае представляли фон, лишь оттенявший
великие деяния героев. Эти воззрения прошли через века почти
неизменными, если не считать того, что они постепенно теряли
мифологический характер. Однако главное деление на героев
и обыкновенных людей оставалось, больше того — оно стало
приобретать более резкие формы. Особенно это стало заметно у
романтиков, которые довели культ героев до крайности: герой, как
бог, противостоит у них толпе, как чему-то низменному, тупому,
варварскому.
Против этой прочно укоренившейся в истории человеческого
общества традиции Киркегор выступил, пожалуй, так решительно,
как никто до него. Опираясь на свои положения о труде, имеющем
огромное облагораживающее и воспитательное значение для
человека, Киркегор опрокидывает взгляды, согласно которым
героем может быть лишь человек, совершающий какой-то из ряда вон
выходящий, нечеловеческий или сверхчеловеческий подвиг.
Напротив, говорит Киркегор, героем следует признать самого
обыкновенного человека, который добросовестно выполняет свое
призвание: «...хотя человек, по-видимому, и борется в данном случае толь-
26
ко из-за куска хлеба, он борется, в сущности, и ради того, чтобы
обрести себя самого, свое «я»; мы же все, кто не испытал подобной
борьбы, но способен оценить ее истинное величие, будем, с
позволения этого борца, почтительными зрителями, будем смотреть на него
как на самого почетного члена общества... Да, какая другая борьба
имеет такое высокое воспитательное значение!» 24
Киркегор добавляет к этому, что отрицать существование
и смысл заботы о хлебе насущном — безумно, забыть о ней потому
только, что она минует нас,— бессмысленно, если же человек
ссылается вдобавок на свое мировоззрение — бессердечно и
недобросовестно.
Нетрудно видеть, что Киркегор не задается вопросом о
сущности самого труда. Его интересует не столько сущность труда или
характер общественных отношений, характер форм собственности,
характер производственных отношений, сколько отношение самого
человека к труду и роль труда в самоопределении человека, его
сознания и поведения.
Киркегору важно было опровергнуть элитарные, романтические
воззрения на труд как на нечто отрицательное, как на то, что мешает
человеку жить, наслаждаться жизнью, что мешает человеку быть
человеком. Киркегор убедительно доказывает, что дело обстоит как
раз наоборот: человек становится человеком именно посредством
своей трудовой деятельности, посредством труда, через борьбу за
хлеб насущный. Ему удается показать облагораживающее
воздействие труда на формирование человека, его взглядов и его поступков,
доказать величие труда простого человека, героический характер
человека труда, что подлинным героем является не какой-то
сверхчеловек, а именно самый обыкновенный человек, самый простой
труженик, мечтающий не о том, чтобы прославиться, и не о наградах,
а о том, чтобы честно и добросовестно выполнять свой долг.
Этого простого человека — настоящего героя — Киркегор
противопоставляет герою-сверхчеловеку, герою-гению, которых он
вовсе не считает героями, а считает лжегероями, лжевеликими, ибо
подвиги, которые они совершают, являются на самом деле мнимыми
и сомнительными, да и движимы они сомнительными силами:
честолюбием, тщеславием, гордыней и столь же сомнительными целями —
стать героями, исключениями, великими людьми, не говоря уж
о средствах достижения этих целей. Всем этим
героям-сверхчеловекам Киркегор противопоставляет героя — обыкновенного человека
труда: «герой наш готов трудиться и не потому только, что это
является для него dura nécessitas, но добровольно, потому что он видит
в этом высшую красоту и совершенство жизни. Но именно потому,
что его готовность трудиться проистекает из его доброй воли, он
и желает, чтобы его дело или занятие было трудом, а не рабством.
Он требует для себя высшей формы труда, которую последний
может принять как в смысле отношения к самому трудящемуся, так
и к другим людям, а именно — желает, чтобы труд этот доставлял
27
ему личное удовлетворение и в то же время сохранял все свое
серьезное значение» 25.
В этом положении Киркегора мы видим уже открытый протест
против рабского характера труда, унижающего, опустошающего
и обесчеловечивающего человека, и требование, чтобы труд носил
человеческий характер, чтобы он приносил человеку удовлетворение
и был бы трудом, полезным другим людям, полезным обществу.
Киркегор провозглашает труд высшим мерилом человечности,
высшим критерием жизни и деятельности, высшим смыслом
человеческой жизни. Можно смотреть на эти взгляды и требования как на
утопию, но можно видеть в них и в известной мере революционно-
демократический протест, правда, выраженный в абстрактной
форме и не носящий доказательного, научного характера. И все-таки по
сравнению с существовавшими тогда воззрениями это было
значительным шагом вперед в понимании проблемы человека.
Киркегор стремится до конца развенчать романтическое
противопоставление гения, таланта, исключительной личности
простому человеку. Против этих концепций он выставляет простое, но
весьма серьезное положение, звучащее как категорический
императив: «У каждого человека должно быть призвание» 26, положение,
меняющее коренным образом взгляды на талант и дарования
людей, а также на соотношение труда, таланта и призвания. Это
положение, по существу, кладет конец воззрению на талант как на что-
то исключительное, возвышающее талантливого человека над всеми
остальными и делающего из него такое исключение, перед которым
все должны преклоняться, как перед богом. «Жизненное воззрение
эстетика основывается исключительно на различиях: у некоторых
людей, дескать, есть талант, у других нет; на самом же деле вся
разница между людьми в том, что у одного больше, у другого
меньше талантов, т. е. разница только количественная, а не
качественная.
Воззрение эстетика вносит в жизнь разлад, которого нельзя
устранить одним легкомысленным и бессердечным отношением
к жизни. Этик, напротив, примиряет человека с жизнью, говоря, что
у каждого есть свое призвание. Он не уничтожает упомянутых
различий, но лишь указывает на то, что, несмотря на все различия,
все люди имеют нечто общее, делающее их равными друг другу,—
призвание... Благодаря этому воззрению радость перестает быть
случайным уделом одних только случайных избранников (как это
доказывает эстетик) и становится общим достоянием, открывает
врата в блаженную олимпийскую обитель всем и каждому!» 2?
Таким образом, Киркегор противопоставляет элитарной
теории романтиков свою демократическую теорию таланта как
призвания, основывающуюся на труде — источнике существования
каждого человека. Индивидуалистическому и эгоистическому
пониманию таланта романтиками Киркегор противопоставляет свою
теорию таланта как призвания, присущего каждому человеку.
28
Тесно связывая талант, призвание и труд, Киркегор
вырабатывает демократическую концепцию трудовой деятельности человека.
Все, чем занимается философия, Киркегор считает
относительным: время, в которое живет тот или иной философ, есть лишь
момент вечности, а вовсе не абсолютное время. Жизнь самого
философа тоже лишь момент времени. Любое время есть лишь момент ддя
будущего, поэтому абсолютное примирение возможно не ранее, как
история закончит свой ход.
Нетрудно видеть, что Киркегор подмечает слабые, уязвимые
места объективно-идеалистической философии Гегеля, которую он
и называет не иначе, как философией примирения, за ее попытки
примирить диалектику с действительностью, за ее оправдание
существующих порядков, за ее отказ от принципа борьбы
противоположностей, за -ее направленность в прошлое, за ее панлогизм, за
смешение мышления и свободы воли, за то, что она рассматривает
историю с точки зрения необходимости, а не свободы, занимается
внешними, да и то уже воспринятыми и переработанными общим
историческим процессом человеческими деяниями, за то, что она
отвергает умозрения, допускающие возможность иного порядка,
чем существующий, и за многое другое.
И все-таки главный упрек, который Киркегор бросает
гегелевской философии, состоит в том, что она игнорирует конкретного
человека, его духовный, внутренний мир, его трудовую деятельность
и его таланты и дарования. И надо сказать, что в какой-то мере,
особенно в этом отношении, Киркегор прав. Он вменяет гегелевской
философии в вину, что она «рассматривает историю с точки зрения
необходимости, а не свободы, поэтому если и принято называть
общеисторический процесс свободным, то лишь в том смысле, как
и органические процессы природы. Для исторического процесса
действительно не существует вопроса о каком-либо «или — или»,
и тем не менее никому из философов не придет, я думаю, в голову
отрицать, что вопрос этот всегда существовал и существует как
личный вопрос для каждого отдельного индивида. Беспечное же
и миролюбивое отношение философии к истории и ее героям тем
и объясняется, что философы рассматривают жизнь и деяния
последних именно с точки зрения необходимости. Тем же самым
объясняется и неспособность философии пробудить жизненные
силы человека, заставить его действовать, и склонность ея
замедлять, тормозить ход жизни отвлеченными рассуждениями. Одним
словом, философия требует, в сущности, чтобы мы действовали
только в силу необходимости, что само по себе уже есть
противоречие» 28.
За критикой гегелевской философии у Киркегора стоит
требование низвести философию с небес на землю, чтобы она не витала
в мире абстракций, а занималась бы теми проблемами, которые
ставит жизнь и которые волнуют каждого человека.
В противоположность оторванным от человека, общества
29
и действительности абстрактным философским системам Киркегор
хочет создать совершенно новое учение, которое исходило бы из
самой человеческой души и отвечало бы на самые насущные вопросы
живого, конкретного человека. «Внутренняя, душевная жизнь
индивидуума принадлежит ему одному, и никакая история в частности,
никакая всемирная история вообще, не должна касаться этой
области, составляющей на радость или на горе его вечную и
неотъемлемую собственность. В этой-то именно области и царствует
абсолютное «или — или», но ею-то как раз философия и не занимается» 29.
Если предшествующие философские системы превыше всего
ставили жизнь философа, то Киркегор стремится доказать, что
выше всего — жизнь обыкновенного человека, живущего всей
полнотой человеческой жизни, жизнью свободного человека: «чья
жизнь выше: философа или свободного человека? Если философ —
только философ, всецело погружен в свою философию, связан ею
по рукам и ногам и совершенно не знает блаженства душевной
свободы, то он лишен самого высшего в жизни, он, может быть,
обретет весь мир, но потеряет себя самого, повредит душе своей,
чего никогда не случится с человеком, живущим во имя свободы,
сколько бы этот последний ни терял в других отношениях. Борясь
за свободу (отчасти в этом письме, главным же образом внутренне,
в душе своей), я борюсь за будущее, за выбор: «или — или»... это
сокровище скрыто в тебе самом, это — свобода воли, выбор: «или —
или»» 30.
Киркегор стремится обратить внимание человека не на
внешние, пусть даже и в какой-то степени важные и знаменательные
события, а на самого себя, на свой внутренний мир, на то, что
определяет его как личность — на внутренний выбор самого себя, своей
собственно человеческой сущности, чтобы быть и всегда оставаться
самим собою.
Еще никто до Киркегора не ставил с такой остротой и
откровенностью проблему выбора человеком самого себя. В этом выборе,
в этом «или — или» Киркегор видел и исходную, отправную точку
человеческой жизни, и одновременно исходную, отправную точку
настоящей философии — исходный пункт подлинно человеческой
жизни и подлинно человеческой философии, согласно Киркегору,
состоит именно в выборе, в абсолютном выборе «или — или»:
«выбор высоко подымает душу человека, сообщает ей тихое внутреннее
довольство, сознание собственного достоинства, которые также
никогда не покинут ея всецело. Есть люди, считающие для себя
величайшим счастьем встречу лицом к лицу с какой-нибудь
исторической личностью и навсегда сохраняющие впечатление этой встречи;
историческая личность остается жить в их душе как высокий,
идеальный, облагораживающий душу образ. Как, однако, ни
знаменательна минута подобной встречи, она ничто в сравнении с минутой
истинного выбора. В эту минуту кругом воцаряется тишина,
подобная величавому безмолвию звездной ночи, душа остается наедине
30
сама с собой, уединяется от всего мира и созерцает в отверстых
небесах — не великий человеческий образ, но нечто высшее,
недоступное обыкновенному взору смертного, созерцает самое Вечную
Силу, животворящую все и вся, личность же в эту минуту выбирает
или, вернее, определяет себя» 31. Эти возвышенные слова Киркегора
о выборе напоминают стиль высказываний Канта о долге. И это не
случайно: ведь Киркегор, как нам представляется, не приемлет
кантовского учения о долге не столько за его строгий ригоризм,
сколько за его абстрактный и формальный характер, не
позволяющий проникнуть в душевные глубины человека.
Своим абсолютным выбором «или — или» Киркегор тоже
вводит человека в область должного, в сферу долга, в сферу этики, но
он стремится идти дальше — к внутреннему преображению
человека в акте самого выбора.
Киркегор, в отличие от Гегеля, переносит центр мироздания
в человека, в человеческую душу, делая ее ареной всех самых
жестоких и самых беспощадных сражений. Он как бы
перевертывает существовавшие до сих пор взгляды на вселенную: макрокосмос
становится микрокосмосом, а микрокосмос — макрокосмосом.
Отныне душевная жизнь человека становится центром мироздания
и ареной человеческих деяний. Киркегор стремится к тому, чтобы
не внешняя действительность определяла человеческую жизнь, а,
наоборот, чтобы внутренняя духовная жизнь и интенсивная
душевная работа определяла жизнь человека и человеческого общества.
В противовес различного рода философским концепциям,
низведшим человека к простому винтику в игре всемирных
естественных и исторических сил, в противовес религии, признававшей и
признающей в человеке — «венце творения» — лишь «раба божьего»,
Киркегор говорит о величии каждого человека. Если философия
веками славила великих мыслителей, если религия тысячелетиями
насаждала культ величия бога, то Киркегор своим возвеличением
человека бросил вызов как философской, так и религиозной
традициям: велик не мудрец, не философ и не бог — велик лишь человек,
и велик он своею мудростью и глупостью, силою и бессилием,
надеждою и разочарованием, борьбою с миром и с самим собою,
любовью и ненавистью, жестокостью и милосердием, грехом
и раскаянием, знанием и невежеством и т. д.— словом, всем, чем
жил, жив и будет жить человек. Соединение несоединимого,
средоточие противоположностей, переплетение противоречивого в
парадоксальное единство — вот в чем искал Киркегор завораживающую
силу притяжения человеческой личности.
Философия Гегеля, стремившегося постигнуть наиболее общие
законы, согласно которым развивается все существующее, не
уделяла соответствующего внимания человеку и человеческой личности,
субъективности, внутренней духовной жизни человека.
Рассмотрение и воспроизведение всемирно-исторического развития
абсолютной идеи или абсолютного духа — от самых низших форм до самых
31
высших — не оставляло места человеческой личности. В победном
шествии мирового духа Гегель видел также становление
и утверждение человеческой свободы. Киркегор, напротив,
усматривал в этом победном шествии развенчивание человеческой
субъективности, разрушение внутреннего мира человека, его духовной
жизни. Для Киркегора философия Гегеля представляла собой
пышную декорацию несостоявшегося спектакля. Ее высокий, но
ложный пафос лишний раз подчеркивал кризисное состояние всей
жизни современного общества. Даже язык гегелевской философии
представлялся пустой игрой в понятия, не имеющие никакого
отношения к человеческой жизни и человеческому существованию.
Такими же излишними и чуждыми человеческому индивиду
представлялись Киркегору выродившаяся и обветшалая
христианская религия и церковь, которые давно превратились в препятствие
на пути формирования и развития человеческой личности,
человеческого сознания и самосознания. Они давно уже превратились
в «слепок» социальной иерархии и господствующей идеологии,
которые были больше направлены против человеческой личности,
чем на то, чтобы как-то способствовать ее формированию и
развитию, стимулировать внутреннюю духовную жизнь.
Вот почему Киркегор выступил с резкой критикой гегелевской
философии и существующей христианской религии и церкви. Не
случайно Киркегор упрекал Гегеля за его медиацию,
опосредование, называя его химерой, поскольку медиация ничего на самом
деле не объясняла, в то время как «радостный прыжок в вечность»
рождается из страсти, которой как раз и недостает нашей эпохе: не
мысли, а именно страсти.
Обычным людям недоступна концентрация страсти и
сознательность энергии, присущие трагическому герою и рыцарю веры.
Но трагический герой отказывается от самого себя во имя общего,
а рыцарь веры — от общего для того, чтобы стать личностью.
Трагический герой опирается на общество, а рыцарь веры —
только на самого себя: он абсолютно одинок. Он свидетель, а не
учитель, и в этом его глубочайшая человечность. Если трагический
герой исполняет высший долг, то рыцарь веры — абсолютный долг
перед богом.
Можно ли усматривать в этих рассуждениях Киркегора
осуждение нравов общества того времени, его религии, морали,
процесса отчуждения и дегуманизации? В определенной мере —
безусловно. Киркегор не просто осуждает процессы обесчеловечи-
вания и дегуманизации общества и общественных отношений, он
стремится противопоставить обществу индивида, обладающего
тайной противоядия — глубокой внутренней верой, делающей его
неуязвимым со стороны разлагающихся и враждебных ему
общественных отношений. Киркегор хорошо понимал, что это исключительно
трудная задача, более трудная, чем судьба трагического героя,
жертвующего своей жизнью ради общего блага. Судьба рыцаря
32
веры во сто крат тяжелее судьбы трагического героя, который
опирается на общество, находит в нем понимание своих задач
и устремлений и знает, что его собственная гибель будет означать
победу и торжество того дела, ради которого он идет на смерть.
Рыцарь веры от начала до конца одинок, его никто не понимает,
даже с богом он не имеет общего языка, ему не на кого и не на что
рассчитывать, кроме как на самого себя. Но зато если он обретает
веру, то его не может ни покорить, ни сломать никакая сила в мире.
Если даже весь мир ополчится против него, он выстоит и в конце
концов выйдет из этой смертельной борьбы победителем. Его
поведение, его действия не укладываются ни в какие моральные или
нравственные, этические нормы: они носят абсурдный,
парадоксальный характер. Но именно силой абсурда он преодолевает
непреодолимые трудности и неразрешимые проблемы.
Киркегор неоднократно подчеркивает, что рыцарь веры всегда
молчит. В его молчании сокрыта тревога и беспокойство парадокса.
И понять его можно только с помощью парадоксальной диалектики.
Следует отметить два момента, на которые обращает внимание
и сам Киркегор. Во-первых, справедливо полагая, что каждое
поколение многому может научиться у предыдущего поколения,
Киркегор замечает, что собственно человеческим вещам и позициям ни
одно поколение не может научиться у предшествующих поколений.
В этом смысле каждое поколение все начинает с самого начала.
А речь идет о такой подлинно человеческой позиции, как страсть,
благодаря которой поколение может понять само себя и другие
поколения. Например, в любви каждое поколение начинает все
заново. Что же касается веры, то, поскольку она является высшей
страстью, каждое поколение начинает верить не от другого
исходного пункта, чем предыдущие поколения, а сызнова, с самого
начала. И во-вторых, в вере нельзя идти дальше предыдущих
поколений. Этот термин здесь не имеет смысла. В вере можно верить
или не верить. Поколения людей могут отличаться друг от друга
верой: во что они верят, как они верят и какова сила их веры.
Может быть, ни в чем поколения не отличаются так друг от друга, как
именно по своей вере. Какова вера, таково и общество, каково
общество, такова и вера.
Киркегор не только критиковал церковь, но и пытался
выстроить положительную концепцию христианства.
Прежде всего он стремился связать христианство с жизнью.
Все содержание христианской религии и науки должно служить
построению человека, человека, который должен всегда быть и
оставаться самим собой. Любое познание сопровождается заботой,
являющейся своеобразной связью с жизнью, с действительностью
личного существования, то есть со значением, которое поучительно
или благотворно.
Радикальное переосмысление основных положений
христианской, религии Киркегор осуществляет в своей работе «Болезнь на
2 К. М. Долгов
33
смерть», или «Смертельная болезнь», в которой он дает
своеобразную феноменологию души, или феноменологию субъективного
духа, субъективности как бы в противоположность гегелевской
«Феноменологии духа» как объективного или абсолютного духа.
Не случайно исходный пункт Киркегора — человек: человек
есть дух, а дух есть личность, а личность есть отношение, которое
относится к самому себе. Человек есть синтез бесконечности и
конечности, бренности и вечности, свободы и необходимости.
Киркегор отмечает, что христианство научило людей мыслить
о всех земных и мировых вещах в связи со смертью. Христианство
же открыло зло, которое было до этого неизвестно: болезнь на
смерть, или смертельная болезнь, каковой является отчаяние.
Феноменология отчаяния и есть та конструктивная позиция,
которую Киркегор противопоставил Гегелю и обветшавшему и
окостеневшему в догматизме и схоластике христианству.
Киркегор утверждает, что не было и нет человека, который не
находился бы в состоянии отчаяния. Все дело только в том, что не
все и не всегда осознают это. Считается, что если человек живет
более или менее нормально, то у него нет никакого отчаяния. А на
самом деле, как полагает Киркегор, каждый человек, счастлив он
или несчастлив, болен или здоров, благополучен или
неблагополучен, несет в себе отчаяние, ибо человек, как существо духовное,
постоянно находится в критическом состоянии: критическое
состояние духа — естественное состояние.
Отчаяние выводится Киркегором из самых сокровенных глубин
человеческого духа. Даже у самого счастливого человека в глубине
его счастья гнездится боязнь, страх перед ничто. Человек сам не
знает, чего он боится, что его тревожит, да еще в состоянии
безмятежного и безоблачного счастья. Самая очевидная причина
человеческого страха — это опасность утратить самого себя. Эта
опасность подстерегает каждого человека и на каждом шагу. Можно
сказать, что большинство людей не выдерживают тяжести этих
испытаний и, как правило, действительно теряют самих себя. Чтобы
противостоять всем соблазнам мира и сохранить самого себя,
остаться самим собой, нужно обладать глубочайшей рефлексией,
великой верой, которая — и она одна — способна аннигилировать
рефлексию, основанную на ничто.
Киркегор описывает образы отчаяния как смертельной
болезни. Личность человека складывается из бесконечности и
конечности.
Этот синтез означает свободу. Личность есть свобода. А
свобода является диалектическим моментом в пределах возможности
и необходимости. Кажется, Киркегор отступает здесь от своих
позиций и сближается с Гегелем, когда настаивает на том, чтобы
отчаяние рассматривалось в категориях сознания, поскольку,
согласно Киркегору, отчаяние принципиально сознательно. Поэтому
для понимания отчаяния сознание играет решающую роль. А со-
34
знание — это самосознание. Чем больше сознания, тем больше
личности; чем больше сознания, тем больше воли, чем больше воли,
тем больше личности. Человек, не обладающий волей, не может
быть личностью; а чем сильнее его воля, тем глубже самосознание.
Диалектика личности, которая описывается Киркегором,
может увести в сферу фантазии, которая мешает человеку вернуться
к самому себе, отрывает его от его личности. В чувственной сфере
появляется тогда абстрактный сентиментализм, в сфере
познания — абстрактное познание, в сфере воли — исчезновение
личности.
Фантастический характер чувств, знания и воли делает
фантастической и саму личность. Вот почему Киркегор призывает к
реалистическому видению проблем и к их реальному разрешению.
Ответственность моральную за это несет сам человек, ибо именно
от него зависит, сохранит ли он себя как личность или утратит.
Киркегор напоминает, что много существует известных людей,
занимающих высокое положение в обществе, имеющих, кажется,
все, что можно и нужно иметь, но как личности они не существуют.
Поэтому когда меняется ситуация и они оказываются не у дел, то
исчезают так, как будто их никогда и не существовало. Вот почему
риск — это не добывание земных благ, а добывание благ духовных,
осознавать себя как личность, создавать из себя личность,
оставаться личностью в любых условиях и ситуациях.
Чтобы стать самим собой, в равной мере необходима и
возможность и необходимость. Отсутствие той или другой категории
обусловливает впадение личности в отчаяние. При этом не
необходимость есть единство возможности и действительности,
а действительность состоит из возможности и необходимости.
Киркегор придает возможности положительный смысл и
значение. Для возможности все возможно. Но следует быть осторожным,
поскольку существуют два одинаково опасных пути: путь желания
и стремления и меланхолически-фантастический путь (надежда —
страх), которые в равной мере мешают человеку найти дорогу к
самому себе, отдаляют его от самого себя, а не приближают к самому
себе. И тем не менее для Киркегора возможность — это та точка
опоры, с помощью которой можно перевернуть мир: возможность
есть единственная сила, которая может спасти человека от гибели.
Стремиться найти возможность — это стремиться найти веру. Но
вера — это утрата смысла, чтобы найти бога. Бог вытесняет смысл,
чтобы самому стать смыслом. А утрата бога, следовательно, это
обретение смысла. Тогда поиск утраченного бога превращается
в поиск утраченного смысла? Во всяком случае, поскольку бог
включает в себя или содержит в себе все возможности, то поиск
бога и поиск веры — это стремление найти бесконечное количество
возможностей, чтобы человек реализовал себя, стал человеком,
личностью, но не богом, как об этом будут говорить Достоевский,
Ницше и другие философы.
2*
35
В связи с этим Киркегор подвергает резкой критике
мелкобуржуазность, банальную повседневность, где так не хватает
существенных возможностей. Мелкобуржуазность — это, согласно
Киркегору, бездуховность, детерминизм и фатализм, это духовное
отчаяние. Мелкая буржуазия не имеет никаких духовных
определений. И кем бы ни был мелкий буржуа — пивоваром, лавочником
или министром, он лишен какой бы то ни было фантазии и не
выходит за пределы банальной повседневности, банального языка,
банального мышления и банального поведения. Его триумф в
бездуховности.
Вопреки Гегелю, Киркегор показывает, что существование,
находящееся в составе какого-то социального организма
(государства, народа и т. п.) и не осознающее себя как дух, есть лишь
отчаяние, и ничего больше. На это указывали еще отцы церкви, когда они
говорили, что языческие добродетели являются великолепными
грехами. Язычникам не хватало духовного определения личности.
Степень отчаяния зависит от степени сознания: чем глубже
сознание, тем глубже отчаяние. Но противоположностью отчаяния
может быть только вера: ведь отчаиваться — это утрачивать
вечность, а обретать веру — это обретать вечность. «Ничто так не вечно,
как личность» — вот почему Киркегор пытается всю христианскую
религию направить на путь созидания человеческой личности.
Жизнь духовная — это жизнь высокого качества. Напротив,
непосредственная жизнь — это жизнь количественного порядка,
количественного мышления, протекающая в категориях
приятного — неприятного, счастья — несчастья, судьбы и т. д. Бездуховная
жизнь есть жизнь бессознательная. Если непосредственный человек
и впадает в отчаяние, то его отчаяние есть слабость, пассивное
страдание, нечто противоположное самоутверждению. Простота
непосредственного человека есть как раз то, что противостоит
духовной жизни. Человеку многое дается просто, кроме веры и
знания. Но без них человек будет пребывать в вечном обмане, формами
которого являются: образ надежды и образ воспоминания.
Все ступени отчаяния — от осознания своего я до последней
ступени, когда отчаявшийся осознает, почему он не хочет быть
собой, и когда изнутри его самого рождается бунт, чтобы все
изменить,— все это направлено именно на то, чтобы показать пути
становления человека, личности.
Человек, конструирующий сам себя,— вот что важно для Кир-
кегора. Эту позицию, полагает он, можно было бы назвать
стоицизмом, с той лишь разницей, что стоицизм характеризовался
пассивностью, в то время как позиция, о которой говорит Киркегор,
является весьма активной. Кроме того, эта позиция не признает
никакой стоящей над нею сверхприродной силы.
Эта позиция, согласно Киркегору, скорее напоминает позицию
Прометея, с той лишь разницей, что он в данном случае похищает
не огонь, а мысль.
36
Диалектика личности такова, что она никогда не
останавливается в своем движении и развитии: ее постоянство —
в непостоянстве. Личность стремится к автономии. Как только что-
то ей начинает мешать, она стремится к освобождению: ее
постоянный бунт узаконен. Чем выше сознание личности, которая
стремится быть сама собой, тем большим становится ее отчаяние — оно
становится в конце концов чем-то демоническим, демоническим
сумасшествием или демоническим бешенством. Личность бунтует
против той силы, которая ее основала, и вообще против всего бытия
и мысли, против всего существования. Тотальное отчаяние приводит
к тотальному бунту, а тотальный бунт может привести к спасению.
Одной из важнейших заслуг Киркегора является пересмотр
христианского догмата о греховности отчаяния. Отчаяние
становится у него конститутивным атрибутом личности.
Киркегор предваряет грядущие пути развития западной
философии. Его попытки выстроить ступени индивидуального сознания
и самосознания представляли собой стремление постигнуть глубину
человеческой личности. Для него есть «человеческое я», мерой
которого является сам человек. И есть человеческое я, стоящее
перед богом, которое можно назвать «теологическим я» и мерой
которого является бог. Подобное различение Киркегор делает для
того, чтобы показать ошибочность всей церковной догматики,
которая основывалась на том, что бог есть нечто внешнее, откуда
следовало, что грешить можно лишь иногда или временами. Киркегор
считает подобные позиции глубоко ошибочными.
Для него грех — это определение духа. А самым
универсальным, общим и вместе с тем конкретным определением духа
является отчаяние. Опять-таки официальная догматика
противопоставляла греху добродетель. Киркегор полагает, что добродетель не может
противостоять греху как его противоположность. Такой
противоположностью греху он считает веру, когда личность стремится быть
собой и является таковой. Противоположность грех — вера
получает свой смысл лишь при условии, что она имеет место «перед лицом
бога». Тогда, что бы человек ни делал, о чем бы он ни думал, где бы
он ни находился, он всегда с богом, бог всегда с ним. В этом смысле
мир человека — это и мир бога, а мир бога — это мир человека. Не
тождество бытия и мышления, а «человек перед лицом бога» — вот
истинная картина мира, источник всего существующего — всего
духовного и культурного богатства человеческого универсума, под
которым понимается прежде всего христианский мир.
Такие категории, как абсурд, парадокс, обретают смысл лишь
в том случае, если человек предстает перед лицом бога, если он
вступает в непосредственный контакт с ним, в личные отношения.
В этом случае любые философские спекуляции теряют свой смысл.
В то же время обычные человеческие свойства получают иное
качество. Например, удивление — это счастливое самозагубление,
а зависть — несчастливое самоутверждение. Но то, что в отношени-
37
ях между людьми, то есть между человеком и человеком, есть
удивление — зависть, то между богом и человеком есть обожание —
испорченность. Собственно, с этой испорченности и начинается
христианство. Таким образом, христианство возникло не как чистое
и благостное учение, а как учение, взращенное и взлелеянное
всеобщей человеческой испорченностью. Следовательно, дело вовсе не
в первородном грехе, а в постоянной возможности испорченности
и извращения, искушения и развращения, падения и воскресения.
Вот почему противоположностью греха, повторяет Киркегор,
является не добродетель, а вера, которая и должна предохранять
человека от испорченности, извращения и падения.
По этой же причине Киркегор отказывается от сократовского
понимания и истолкования греха как незнания: если грех есть
незнание, то он не существует, поскольку грех есть сознание. Если
грех есть незнание истины, а незнание является причиной греха, то
грех не существует. Сократу не хватает, как полагает Киркегор,
понятия воли, непослушной, строптивой воли. Древнегреческий
мыслитель был слишком счастлив, слишком наивен, слишком
эстетичен, слишком ироничен, слишком остроумен, слишком грешен,
чтобы допустить, что кто-то, имея знание, может делать зло либо,
обладая знанием о правильных вещах, может поступать
неправильно. Греческая мысль, греческая культура устанавливает такой ител-
лектуальный категорический императив, который совершенно
отсутствует в современную эпоху. Вот почему Киркегор резонно
замечает, что нашему миру, взбудораженному слишком большим
количеством знания, необходим новый Сократ. Нам, может быть,
как никогда раньше, недостает ироническо-этической коррекции
действительности, этической интерпретации повседневной жизни.
Недостает нам, полагал Киркегор, и диалектического определения
самого перехода от факта понимания к факту действия;
современная философия, сетует Киркегор, полностью несократична: она
утратила глубокомыслие и высоконравственный дух
древнегреческой мысли, и особенно философии Сократа.
Внимательно изучая историю человеческой мысли, Киркегор
прекрасно отдавал себе отчет в силе рационального мышления,
в силе очевидных истин, в их воздействии на людей, но, как никто
другой, он сознавал, что разум, если он не осенен величайшей
нравственной силой, может натворить больше бед и принести
гораздо больше зла, чем любое неразумие. Поэтому, не отрицая в
принципе значимости человеческого разума, значимости
рационалистической традиции вообще, Киркегор выступил против апологии
рационализма.
В отличие от Гегеля и рационалистической философской
традиции он акцентирует внимание на категории возможности, а не
на категории необходимости. Именно возможность открывает
перед человеком неограниченное поле самопроявления.
Возможность — это единственная сила, способная спасти человека. Ведь
38
возможность, противостоящая необходимости, расширяет свободу
человека, возможность выбора. Возможность возводится в
экзистенциальной философии, например, в позитивном
экзистенциализме Аббаньяно, по существу, в трансцендентальную категорию —
в трансцендентальную возможность: «возможность возможности
возможности». Эта категория, в отличие от категорий
существования, абсурда, страха, заботы, которые у Ясперса, Хайдеггера,
Сартра и других философов как бы сковывают творческий потенциал
личности, раскрывает творческие силы человека, позволяет ему
пробить брешь в глухой стене необходимости, создать поле свободы
в царстве необходимости. Возможность — это горизонт свободных
актов человека, горизонт культуры, позволяющий человеку стать
самим собой и оставаться человеком, ибо она предоставляет, ему
выбирать между бесконечностью и конечностью, вечностью и
бренностью, свободой и необходимостью, жизнью и смертью и т. д.
Через возможность и посредством возможности человек может найти
спасение.
Как известно, Достоевский искал спасение через красоту —
красота спасет мир. Ницше возлагал свои надежды на искусство
как противоядие против всеобщего декаданса. Хайдеггер полагал,
что спасение грядет от истины, творящейся и хранимой в
произведении искусства. Камю, как и Достоевский, надеялся на красоту.
Всем этим проектам предшествует киркегоровская категория
возможности, выражающая творческие способности и творческий
потенциал человеческой личности.
В экзистенциальной философий Киркегора предвосхищены
основные мотивы современной философии, по крайней мере его не
обходят вниманием те основные ее течения и направления, в центре
внимания которых проблема человека.
Человек, согласно Киркегору, это синтез бесконечности и
конечности, вечности и бренности, свободы и необходимости. Он
считает, что все сферы человеческого духа должны быть
направлены на построение человека, на формирование и развитие
человеческой личности.
В связи с этим весь категориальный анализ и синтез Киркегор
преобразует в соответствии с решением проблемы человека. Такие
категории, как абсурд, страх, тревога, отчаяние, ничто, вера, дух,
смерть и т. д., обретают в экзистенциальной философии Киркегора
конститутивный характер.
Все они тесно связываются с жизнью отдельного человеческого
существования и направляются на то, чтобы формировать сознание
и самосознание личности каждого.
Если Гегель создал феноменологию духа, то Киркегор создает
феноменологию духа как феноменологию отчаяния, ибо дух по-
настоящему можно понять только как отчаяние, а отчаяние — как
дух. Человек как дух постоянно находится в состоянии отчаяния.
Такие фундаментальные категории, как бесконечность и конеч-
39
ность, вечность и бренность, возможность и необходимость,— все
они концентрируются вокруг категории отчаяния и вопрошают об
отчаянии. Страх человека перед ничто заставляет его сознание
лихорадочно и напряженно искать выход. Отчаяние у Киркегора
носит в высшей степени сознательный характер — это высшая
ступень сознания и самосознания. Чем выше сознание, тем выше,
глубже, разностороннее и содержательнее личность, и, наоборот,
чем содержательнее, глубже и разностороннее личность, тем выше
ее сознание и самосознание. Такая личность, естественно, обладает
развитой и сильной волей, которая объединяет все основные
способности личности, ее характеристики, свойства и дарования в
нечто целое и цельное, что придает личности неповторимый колорит,
неповторимые особенности, свое лицо, свой образ, свою
архитектонику.
Именно благодаря этой неповторимости личность обретает
устойчивость, поэтому Киркегор считает, что в силу своей
неповторимости, особенности, ничто не вечно так, как личность.
Киркегор со всей остротой ставит проблему веры. Для него
вера означает утрату смысла ради того, чтобы найти бога. Но
именно бог вытеснил смысл жизни, поскольку сам стал смыслом. В
связи с этим утрата бога или смерть бога есть нахождение и обретение
утраченного смысла жизни 32.
Если, например, для Достоевского и для Ницше смерть бога
будет означать вседозволенность, то для Киркегора именно вера
могла спасти от этого крайнего релятивизма социальной жизни.
Перед лицом бога человек хочет оставаться самим собой, то есть
человеком, следовательно, он не берет на себя бремя забот и
ответственности бога, как об этом будут говорить Достоевский и Ницше.
Человек у Киркегора, утрачивая бога и обретая смысл, берет на
себя ответственность за то, чтобы быть и оставаться человеком во
всех ситуациях и во всех отношениях — мотив, который будет
пронизывать, по крайней мере как стремление, философские
концепции Гуссерля, Ясперса, Хайдеггера, Сартра, Камю и многих
других мыслителей XX века.
Киркегор заложил основы критики мелкобуржуазного
сознания. Основными категориями этого сознания он считал
бездуховность, детерминизм и фатализм. Все эти категории, согласно
Киркегору, противостоят духу, следовательно, человеку как духу
и как личности. Или дух как личность, или бездуховность как
современное варварство и дикость. С этим связана проницательная
и острая критика Киркегором «непосредственного» и «простого»
человека. Человеку многое дается «просто», кроме веры и знания,
но ведь это и есть для человека самое главное. И если человек
привыкает к «простоте», то он отвыкает от подлинной жизни, ибо
«простота» — это антипод духовной жизни, как и
«непосредственный» человек — антипод человека как личности, человека,
живущего богатой и многообразной духовной жизнью. Киркегор предуга-
40
дывает наступление современных варваров, современных гуннов —
«человека-массы», проникающего во все сферы жизни и
деятельности современного общества, как об этом напишет в своем
«Восстании масс» Ортега-и-Гасет. Вот почему Киркегор с такой силой
обрушивается против идеологии, психологии, морали и эстетики
мелких буржуа, мещан, современных варваров.
С такой же беспощадностью Киркегор обрушивается против
господства современных «призраков», современных иллюзий:
образа надежды и образа воспоминаний. Именно они вводят человека
в заблуждение, дезориентируют его, усыпляют его сознание,
расслабляют его волю, парализуют его действия, обрекают его на
растительную и животную жизнь, на жалкое прозябание.
Современные философы подхватят и эту критику Киркегора. Например,
и Ясперс, и Хайдеггер, и Сартр, и особенно Камю будут
развенчивать надежду как одно из роковых заблуждений и иллюзий
истории, как то, что принесло неисчислимые мучения, страдания и
бедствия миллионам и миллионам людей, бесчисленным поколениям,
надеявшимся на лучшее будущее, которое так никогда и не
наступило. А если учесть то, что надежду насаждали различные
«миссионеры», обещавшие людям райскую жизнь или на земле, или на
небе, и беспощадно уничтожавшие тех, кто был не согласен с их
учениями, то можно себе представить, сколько зла принесла людям
подобного рода «надежда». Не случайно древние греки из ящика
Пандоры последней выпустили надежду — они справедливо
опасались того, что она очарует людей и принесет им неисчислимые беды.
Развивая свою феноменологию отчаяния как феноменологию
греха, Киркегор приходит к выводу, что желание человека быть
самим собой порождает бунт: отчаяние порождает бунт, а бунт
выражает отчаяние. Эту идею наиболее последовательно, с учетом
опыта европейских движений, особенно революционных движений
в России за последние два столетия, будет развивать Камю в своем
«Бунтующем человеке». Здесь важно отметить, что Камю исходит
из учения Киркегора, хотя, обобщая исторический опыт движений
бунта, он развивает свое понимание и толкование бунта
и бунтующего человека.
Киркегор наметил основные линии развития экзистенциальной
в известной мере феноменологической философии и их основные
проблемы и категории: человека, веры, греха, отчаяния, выбора,
возможности, абсурда, кризиса, смерти, одиночества, всечеловечно-
сти, любви, ненависти, возродил интерес к мифологии и положил
начало переоценке ценностей рационалистической традиции.
И все же не следует забывать, что философско-художествен-
ная эссеистика Киркегора выражала не отказ от философии
и мышления, а переход мышления в иное измерение.
Противопоставляя самоочевидностям разума веру силой Абсурда, Киркегор
преодолевает границы рационалистической мысли. Значение
философского вклада Киркегора, его гениальной попытки «взлететь над
41
разумом» определил Шестов: «Там, где философия спекулятивная
видит конец всяких возможностей и безвольно складывает руки,
там философия экзистенциальная начинает великую и последнюю
борьбу. Философия экзистенциальная не есть рефлексия
(Besinnung) , «допрашивающая» действительность и ищущая истины в
непосредственных данных сознания, она есть преодоление того, что
кажется нашему разумению непреодолимым» 33.
Эдмунд Гуссерль.
Entweder — Oder феноменологии
Наследующий Киркегору современный экзистенциализм воспринял
не только основные мотивы, но и стиль его несомненно поэтичной
эссеистики. Нельзя забывать, что категории экзистенциализма
получены в основном не дискурсивным путем, а с помощью
художественных образов, на материале мифа и притчи. Парадоксальная
диалектика Абсурда была поддержана суггестивностью лирического
голоса Киркегора.
Общеизвестно, что проблематика экзистенциализма сродни
вечным темам искусства: человеческое существование, смысл
жизни, ответственность за свою судьбу, свобода и т. д. Поэтому, если
мы скажем, что общее отношение экзистенциализма к научной
философской традиции является, по существу, переориентацией на
эстетическое сознание, то показать это будет несложно.
Существенно другое. Статус философской доктрины экзистенциализм
приобрел не собственными силами, а с помощью феноменологии, которая
дала не только методологическое вооружение, но и философскую
санкцию исходной теме. Поэтому плодотворнее задаться вопросом:
почему эта тенденция экзистенциализма (или экзистенциализм,
воодушевленный такой тенденцией) получает философскую
санкцию у феноменологии? Как случилось, что титаническая попытка
возвратить философии Разума научный престиж обернулась
переориентацией на ненаучное сознание? Какие черты респектабельной,
в духе традиционного академизма, феноменологии оказались
решающими для сближения с откровенно антисайентистским
умонастроением экзистенциализма? Почему, наконец, мечта о создании
научной философии, поглотившая десятилетия философской
деятельности неутомимого главы феноменологической школы Эдмунда
Гуссерля,— почему эта мечта «отмечталась» ', так и не приблизив
философа к цели?
Ответ на эти вопросы даст не только разгадку внутренней
драмы Гуссерля, «последнего классика» немецкой философии, но
и введет нас в эпицентр кризисной ситуации западной мысли,
ситуации смены привычных ориентиров рационалистической традиции.
Эдмунд Гуссерль, математик, а затем психолог и эпистемолог
по первоначальным интересам, выступил с блестящей
ниспровергающей критикой всех современных ему тенденций философии
с неожиданных позиций — с позиций объективной истины. Но в его
поисках истины чувствуется не одержимость гносеолога. «Если б
только теоретическая неясность относительно смысла
исследованной науками о природе и духе «действительности» тревожила наш
покой... Но ведь нет: мы терпим крайнюю жизненную нужду, такую
нужду, которая распространяется на всю нашу жизнь» 2.
43
В атмосфере философского безвременья, когда позитивизм
с наивным воодушевлением экстраполирует на область духа свои
частно научные результаты, психологизм и эмпириокритицизм
релятивизирует опытное познание, а «миросозерцательные»
философии предлагают человечеству в качестве руководящих идей
произвольные и носящие временной характер системы, Гуссерль
выдвигает задачу построения подлинно научной философии, такой,
научность которой будет состоять не в заемной учености,
привнесенной из чужой области естественнонаучного «физикалистского»
знания, не в уподоблении псевдонаучным образцам, обманывающим
своей формой нестойкие умы. Подлинно научная философия,
способная разрешить «загадку мира и жизни», сделать возможной
«жизнь, управляемую чистыми нормами разума» 3, должна
самостоятельно сформулировать свою проблематику, осознать вытекающую
из существа этих проблем специфическую методологию. Такова
феноменология — «наука об истинных началах», об истоках; ее
метод — феноменологическое постижение сущности,
освобожденное от догматизма метафизического всезнания, от косвенно
символизирующих и математизирующих методов, от аппарата
умозаключений и доказательств. Двигаясь «от самого низшего слоя ясно
данных вещей», она призвана раскрыть необъятные горизонты
развития человечества, уяснив смысл этих самых «начал»,
положенных в структуре познающего сознания, давать директивы истории.
Гуссерль пронес неизменной веру в исключительную миссию
феноменологической философии сквозь все идеологические и
социальные катаклизмы первой трети XX века, наивно полагая, что
промедление в области его теоретической деятельности
способствовало взрыву исторической катастрофы, которая виделась Гуссерлю
«кризисом заблудшего рационализма». Достаточно сопоставить две
«программные» работы, где подводится итог предварительным кри-
тико-методологическим изысканиям и дается выход в историко-
культурную проблематику. Это, во-первых, «Философия как строгая
наука»— своеобразный манифест феноменологии, в котором
формулируются результаты «логических исследований» и в то же время
раскрывается пафос вдохновившего их жизненно насущного
поиска, и, во-вторых, мировоззренческий итог гуссерлианы —
«Кризис европейских наук», демонстрирующий несломленную
трагическими коллизиями века упорную веру в возможность «вразумления»
заблудшего человечества, если только феноменологическая
философия выработает и убедительно представит перед его умственным
взором его подлинную суть и вытекающую отсюда линию
исторического развития.
Воздвигая здание феноменологии в обстановке осознанного
кризиса буржуазной культуры, Гуссерль активизирует идейный
запас, накопленный в многовековом развитии западноевропейской
гуманистической мысли.
Феноменология, по замыслу его основоположника, является
44
развитием основных тем античной и картезианской философии,
распавшихся в процессе долгой эволюции в рационализме и
эмпиризме. Вновь поставленные Кантом и немецким классическим
идеализмом, эти темы вдохновили на выработку универсальной
философской науки — феноменологии, над созданием которой всю свою
жизнь работал Гуссерль.
Заветной целью главы феноменологической школы было
создание «вечной философии» — philosophia perennis. Обращаясь
к истории философии, Гуссерль с особым вниманием штудировал
философские системы Платона, Лейбница, Декарта, Канта,
усваивая «живительные мотивы», пробуждающие собственное
философское творчество.
Но не ограничивая себя в выборе предшественников, Гуссерль
оговаривает право феноменологии на полную независимость от
философских систем: «Толчок к исследованию должен исходить не
от философии, а от вещей и проблем» 4.
И все же по внутреннему заданию, по самому духу
философствования он, несмотря на самые широкие интересы, предан идеям
двух великих умов: Декарта и Канта, и его собственная
философская «вера», так же как и методология, складывается на базе
преимущественного усвоения пересекающихся элементов картезианства
и кантовского трансцендентального идеализма.
Сам Гуссерль отдавал предпочтение Декарту. «Ни один
философ прошлого не содействовал смыслу феноменологии столь
решающим образом, как великий французский мыслитель Рене
Декарт. В его лице она должна почитать своего подлинного
прародителя» 5,— пишет Гуссерль.
Не будем оспаривать несомненное проблемное и
методологическое родство картезианства и феноменологии. Оно заметно в
поисках единых надежных и ясных оснований философского знания,
положенных в разуме. Картезианское радикальное
методологическое сомнение мы узнаем в феноменологической редукции, в
операции «эпохе», обеспечивающей беспредпосылочность философского
усмотрения. Принцип очевидности — тоже извлечение из Декарта,
утверждавшего, что «вещи, постигаемые нами вполне ясно и
отчетливо,— истинны»ь. Все содержание сознания Гуссерль берет
в совокупности как «данное» — в этом смысле он, бесспорно, ближе
к созерцательному докантовскому рационализму. Вместе с
Декартом Гуссерль признает единственной достоверностью содержание
нашего сознания.
Но если в наличном содержании сознания картезианский
всесильный разум получает прообраз реального мира и очевидности
ума становятся как бы рычагами, с помощью которых разум
овладевает реальной действительностью, то Гуссерль отсекает реальный
предикат мыслительных операций. «Как игра сознания может
давать объективную значимость, относящуюся к вещам, которые
существуют сами по себе; почему правила игры сознания не безраз-
45
личны для вещей?..» 7 — спрашивает Гуссерль, предрешая
однозначный ответ.
«Метафизика XVII века,— отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс,—
еще заключала в себе положительное, земное содержание
(вспомним Декарта, Лейбница и других). Она делала открытия
в математике, физике и других точных науках, которые казались
неразрывно связанными с нею. Но уже в начале XVIII века эта
мнимая связь была уничтожена. Положительные науки отделились
от метафизики и отмежевали себе самостоятельные области. Все
богатство метафизики ограничивалось теперь только мысленными
сущностями и божественными предметами, и это как раз в такое
время, когда реальные сущности и земные вещи начали
сосредоточивать на себе весь интерес» и.
Не проявляя интереса к божественным предметам, Гуссерль
сводит тем не менее содержание картезианства к мысленным
сущностям. Обосновывая интенциональность сознания, его
направленность на предмет, он ищет основы истинного философствования
в самих мыслительных актах, принципиально исключая всякую
мысль о действительности, о бытии. «Только бытие как коррелят
сознания, как то, что нами «обмыслено» сообразно со свойствами
сознания: как воспринятое, вспомянутое, ожидавшееся, образно
представленное, сфантазированное, идентифицированное,
различенное, взятое на веру, предположенное, оцененное и т. д.» 9, иначе
говоря, только отражение в сознании бытия, доступное
непосредственному постижению, входит в компетенцию философского
рассмотрения. А эти образования сознания представляют интерес не
сами по себе, а как его продукты, позволяющие заключить «по
плодам» о его конструкции. «Исследование должно быть
направлено на научное познание сущности сознания, на то, что есть
сознание во всех своих различных образованиях само по своему
существу... и в то же время на то, что оно «означает», равно как и на
различные способы, какими оно — сообразно с сущностью этих
образований, то ясно, то неясно, то доводя до наглядности, то,
наоборот, устраняя ее, то мысленно посредствуя, то в том или
другом аттенциальном модусе, то в бесчисленных других формах —
мыслит «предметное» и «выявляет» его как «значимо»,
«действительно» существующее» lü.
Нет нужды в последовательном сопоставлении трудов Гуссерля
с «Метафизическими размышлениями» Декарта, чтобы подтвердить
и без того очевидный результат гуссерлианской обработки
классического рационализма.
Несомненная связь феноменологии с классическим
рационализмом выявилась в данном случае как формальное
усвоение и абсолютизация в качестве эпистемологических принципов
некоторых моментов рефлексивной деятельности сознания, как
узкая субъективно-идеалистическая интерпретация картезианства.
Картезианская аналитика сознания является как бы артикуля-
46
цией, предваряющей беспредельную гносеологическую работу:
«Чтобы достичь познания вещей, нужно рассмотреть... два рода
объектов, а именно: нас, познающих, и сами подлежащие познанию
вещи» п,—заявляет Декарт. «Мыслящая вещь» сомневается,
понимает, утверждает, отрицает, желает, не желает, представляет и
чувствует, торжественно свидетельствуя наступление эпохи великих
открытий, в то время как Гуссерль замыкает горизонты сознания.
Философия классического рационализма устремлена к
действительности; в поисках незыблемой истинной основы философии, единого
фундамента, гарантирующего научность, Гуссерль повернул зрачок
человеческого сознания внутрь, к «чистому сознанию», к голой
субъективности.
Отдавая должное картезианским мотивам Эдмунда Гуссерля,
вдохновившим оформление его проблематики наряду, впрочем, со
множеством других философских источников, мы должны учесть,
что только на пути анализа преемственной связи феноменологии
с Кантом можно обрести разгадку свершившихся в ней
преобразований классического рационализма.
Если Декарт сопутствует поискам единого основания познания
вплоть до выявления этого основания в содержании сознания, то
телеологическая структура познающего сознания
трансцендентального субъекта заимствована у Канта. От Канта же идет установка
на гуманистическую ориентацию познавательно-практической
деятельности. Гуссерль унаследовал и высокий дух кантовской
философии — этический пафос, пафос ответственности за судьбу
человечества. Но при этом Гуссерль пренебрегает ценнейшим
вкладом кантовских «Критик», определяющим новый исторический
рационализм. Повторяя опыт субъективно-идеалистической
переработки, которая в случае Декарта оставляет неприкосновенной
типику рефлексивной деятельности сознания, Гуссерль достигает
полной аннигиляции рационалистического аспекта кантианства,
отрицает существо «коперниковского переворота».
Напомним, что смысл его в том и состоял, чтобы, поменяв
точку зрения, приостановить безудержный «метафизический»
разбег путем трезвой, вполне реалистичной самооценки
гносеологического идеализма, отнестись к деятельности сознания и
выработанным в ней принципам как к эвристике, способствующей познанию
действительности, но отнюдь не идентичной по конструкции
познаваемому бытию. Воля к строгой научности, научная
добросовестность Канта побуждает его признать, что рассудочные
познавательные схемы не обладают онтологическим весом. Не пригодны
они и для постижения сущностного смысла человека, которого Кант
в противовес Декарту выключает из «вещного», природного ряда.
Выработанные применительно к естественнонаучным
познавательным задачам, они демонстрируют полное свое бессилие при
соприкосновении с содержательной областью, подлежащей компетенции
разума. Разум задает цели рассудочной деятельности с позиции
47
высших гуманистических ценностей, и научная задача философии
в том и состоит, чтобы прояснять собственно человеческие цели
и смысл всех познавательных предметных областей: «Философия
есть наука об отношении всякого знания к существенным целям
человеческого разума (teleologia rationes humanae)» 12.
Однако законодательство разума у Канта обладает только
субъективной практической реальностью: «только через наши
поступки», через жизненное поведение высокоморального субъекта
укореняется в мире высокий строй человеческого разума.
Объективно телеологическая структура бытия мыслится лишь
гипотетически, лишь при теологическом допущении: «Когда я
говорю: мы вынуждены смотреть на мир так, как если бы он был
творением некоего высшего разума и высшей воли, я действительно
говорю только следующее: так же как часы относятся к мастеру,
корабль — к строителю, правление — к властителю, так чувственно
воспринимаемый мир (или все то, что составляет основу этой
совокупности явлений) относится к неизвестному, которое я хотя и не
познаю таким, каково оно есть само по себе, но познаю таким,
каково оно для меня... Такое познание есть познание по аналогии,
что не означает, как обычно понимают это слово, несовершенного
сходства двух вещей, а означает совершенное сходство двух
отношений между совершенно несходными вещами» |3.
Таким образом, причинно-следственное и телеологическое
объяснения лишь регулируют познавательную деятельность
сознания, это как бы «рабочие гипотезы» познающего сознания.
Кант решительно отвергает тезу о соответствии между
порядком идей и порядком вещей. Только «грезящий идеализм»
выдает представления за вещи, пишет Кант в «Пролегоменах»,
трезво реалистически оценивая силы идеалистической спекуляции.
Разумеется, не критическое самоограничение рационализма
вдохновляло Канта. В его лице Гуссерль имеет в этом смысле
провозвестника самых заветных своих чаяний: выработать подлинную
философию и с ее помощью преобразовать мир — такова конечная
цель философа.
Из духа кантовской философии можно заключить, что Кант не
отказывается, а воздерживается от построения онтологии.
Вспомним его знание реального исторического человека, «делающего все,
чтобы погубить свой род», его наблюдения над жизнью,
безжалостно третирующей достойных счастья людей, «пока их... не поглотит
широкая могила и снова не бросит тех, кто мог считать себя
конечной целью творения, в бездну бесцельного хаоса материи...» м.
Горькие эти слова дают разгадку предусмотрительной
осторожности и мудрой самодисциплины, с которой Кант поостерегся
объединить в цельной онтологической конструкции никак не
согласующиеся между собой гуманистические упования, неутешительный
житейский опыт и этико-познавательные императивы.
И между тем кантовские «Критики» пронизаны бытийной инту-
48
ицией, или, точнее, устремлены к бытийности,— об этом веско
свидетельствует хотя бы особое положение практического разума.
Отнести к Канту и его традиции какую бы то ни было
онтологическую форму — весьма рискованная операция. Кант
обычно заражает исследователей своего рода методологической
инерцией, вынуждающей волей-неволей воспроизводить
проделанное им движение в русле критики сознания. Но если эту инерцию
побороть и, воспользовавшись всей совокупностью неявных
свидетельств, косвенных отсылок и боковых ходов, которые мы находим
у Канта, реконструировать вырастающую отсюда картину и снять ее
онтологическую проекцию, то мы увидим, что Канта не
удовлетворяла «негативная онтология» вещи в себе. Критической рефлексии
сопутствует опережающая ее онтологическая модель.
Взятое не в отношении к способности души, а в его бытийной
ипостаси искусство и является у Канта той единственной
онтологической областью, где смоделировано рационалистическое
миропонимание. Телеологическое и причинно-следственное объяснение мира,
обладающие лишь регулятивным смыслом познавательной
активности субъекта, в искусстве обретают значение конститутивных
принципов, то есть реальных онтологических характеристик.
В искусстве мысль о цели определяет каузальность,
гуманистическое измерение задано как идеал. В творении прочитывается
разумная воля творца. Ликвидируются «пропасти» и «провалы»,
разъединяющие мир свободы и природы, исчезает пресловутое: «как
если бы» (als ob), сопутствующее узнаванию закономерностей
природы. При восприятии произведения искусства моральное чувство
нравственного субъекта не нуждается в теологической поддержке,
разумная воля художника гарантирует свободу от произвола
слепого случая. Искусство излучает свет проясненного разума и обладает
действенной достоверностью природы.
Искусство — это идеальный случай развернутого в мире
телеологического представления. Однако мыслить по аналогии с ним
мироздание можно лишь предположительно, при допущении
творца. Но аналогия, как бы она ни была соблазнительна,— не
доказательство, и дальше развернутого образа Кант не идет: на то «воля
к строгой науке». Казалось бы, заданная им альтернатива в XX веке
могла быть прочитана однозначно: телеологическая структура
бытия требует теологического обоснования. Искусство — прообраз
идеальной онтологии, где телеологическая структура сознания
действительно укоренена, служит как бы негативным тому
подтверждением. Там, где не удостоверено наличие самодеятельного творца,
телеологическая структура проходит под модусом «квази».
* * *
Недопонятый современниками, Кант не более удачлив и в
своих позднейших последователях. То, что писал В. И. Ленин о
махистах, демонстрировавших «поистине бездонную пропасть самой
49
безбожной путаницы, самого чудовищного непонимания и Канта
и всего хода развития немецкой классической философии» |5,
полностью относится и к неокантианцам и ко всем течениям
современной буржуазной философии, возродившим и снова поставившим на
повестку дня лозунг «возврат к Канту».
С позиций марксистско-ленинской философии оказалось
возможным дать реальную оценку сущности и характера
философии Канта. В. И. Ленин, глубоко изучавший историю
философии, и в частности философию Канта, вскрывает главные
противоречия философии кенигсбергского мыслителя: «Основная черта
философии Канта есть примирение материализма с идеализмом,
компромисс между тем и другим, сочетание в одной системе
разнородных, противоположных философских направлений. Когда Кант
допускает, что нашим представлениям соответствует нечто вне нас,
какая-то вещь в себе,— то тут Кант материалист. Когда он
объявляет эту вещь в себе непознаваемой, трансцендентной,
потусторонней — Кант выступает как идеалист» 16.
Правоверные неокантианцы проявили странную глухоту
к исключительно широкому диапазону философии Канта, усваивая
лишь то частное задание, которое было отчетливо сформулировано
как доступное теоретическому осознанию: это познавательная
деятельность сознания в отношении к «способностям души». Там, где
марксистско-ленинская критика видит у Канта ограниченные
возможности идеалистической спекуляции, самопризнание ее границы,
буржуазная философия усматривает запрет, принципиальную
невозможность философского научного решения.
Многочисленные эпигоны опасливо сторонятся разверстых
бездн кантовской критической философии: смысла жизни и сути
бытия, человеческого «разума» и «вещи в себе».
В «Предисловии к первому изданию «Критики чистого разума»
Кант недвусмысленно предрекает участь глубинных проблем,
которые будут сняты осторожными его преемниками: «На долю
человеческого разума в одном из видов его познания выпала странная
судьба; его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться,
так как они навязаны ему его собственной природой; но в то же
время он не может ответить на них, так как они превосходят
возможности человеческого разума» |7.
Внимательный ретроспективный взгляд вынуждает нас связать
вытеснение в классической философии проблемы смысла
человеческой жизни с именем Канта. Ни до ни после него с такой
решимостью не было заявлено, что смысл человеческой жизни, самое
существо этого смысла рациональному исследованию не подлежат.
Идеи разума не входят в компетенцию рассудка. В масштабе
времени, отделяющем нас от Канта, мы можем определить его идеи
разума: бог, свобода и бессмертие души как символическое выражение
или исторически оправданную свернутую формулу смысла
человеческой жизни.
50
Послекантовская субъективно-идеалистическая философия
застревает в средних поясах бытия, осуществляя вырождение
классической философии через школы неокантианства в психологизм
и позитивизм.
Буржуазное сознание обретает форму, обрисованную
Гуссерлем. Складывается философия, «которая ничего не может сказать
нам в нашей жизненной нужде. Она принципиально исключает как
раз вопросы самые жгучие для человека, оставленного на произвол
судьбы в наши злосчастные времена роковых переворотов: вопросы
о смысле или бессмысленности всего человеческого бытия» 18
(курсив мой.— К. Д.).
Гуссерль связал свою мечту о строго научной философии с
восстановлением в правах этой темы. Его возврат к Канту
осуществляется под знаком гуманистического обоснования науки и культуры.
Нельзя забывать, что именно Кант, оградивший сущностную
человеческую проблематику от неадекватного постижения силами
рассудка, в то же время провозглашает диктат разума во всякой
рассудочной познавательной деятельности, непременное
соотнесение всякого познания с существенными целями человеческого
разума. Иначе говоря — гуманистический критерий в гносеологии и
философии обретает у Канта непререкаемую глубину.
Если неокантианцы послушно следуют букве и направляют
свои поиски по пути гносеологического формализма, то
феноменологи, начиная с самого Гуссерля, прошли по запретным темам,
чтобы осветить неданные посылки критической философии.
Игнорируя «вещь в себе» как попавшую в идеалистическую систему по
недосмотру, они усваивают кантовскую идею гуманистического
контролирования и регуляции познавательной деятельности, стремясь
на базе кантовского трансцендентализма сделать предметом
философского осознания последние основания человеческой
деятельности — сущность человека и смысл существования,— вопросы,
которые Кант предусмотрительно оставил открытыми.
* * *
Отметая как анахронизм «запутывающие мифические понятия»
рассудка и разума, столь тщательно выведенные и разграниченные
Кантом, Гуссерль воспроизводит общую схему трансцендентального
субъекта. Мы узнаем ее в индивидуальном сознании каждого
человека (любой психологический субъект несет в себе «чистую
форму» трансцендентального субъекта), согласно этой схеме
протекает каждый акт сознания, конституируются все области
социальной общественной практики, более того, сама история оказывается
реализацией императива трансцендентального сознания.
Итак, найдена первооснова, незыблемый фундамент «истинной,
строго научной» философии.
Гуссерль с удовлетворением констатировал, что
феноменология вырастает в универсальную онтологию, в некое единство всех
51
априорно мыслимых наук, реализованное и усовершенствованное на
основе феноменологического метода. Он называет феноменологию
«универсальной эйдетической онтологией», охватывающей все
сферы человеческого познания. Феноменология выявляет взаимосвязи
трансцендентального «источника» или трансцендентальной основы
с любыми объектами. В пределах возможностей феноменологии
находятся метафизические, телеологические, этические,
логические, историко-философские, то есть, по существу, всевозможные
проблемы.
В ней коренятся и по ее прообразу строятся все духовные
образования, и понять их «подлинно рационально, истинно и по
существу научно» можно лишь в ключе трансцендентального «эго».
Будучи целиком связанной с человеческим «я», феноменология
охватывает собою любое человеческое познание. Интуитивно
постигая абсолютные нормы жизни, феноменология раскрывает
присущие жизни телеологию или телеологическую структуру. Стойкую
основу — априорное сущностное строение трансцендентального
сознания — феноменология потому и обнаруживает во всех
предметных областях, что оно им предпослано.
Гуссерль первого периода обращается к структуре
трансцендентального сознания, чтобы обеспечить научность
философии, предотвратить ее позитивистское и релятивистское
вырождение. Поздний Гуссерль апеллирует к ней как к неизменному
основанию «исторической судьбы человечества», последнему
вразумляющему доводу, который поборник рациональной культуры
может противопоставить реальному кризису буржуазного мира.
В занимающемся зареве мировой катастрофы старый Просперо
заклинает бурю, упорно взывая к заблудшему «разуму»: «Кризис
европейского бытия» является не таинственной судьбой, не
непроницаемым роком, но становится понятным и проницаемым на фоне
философски раскрывающейся телеологии европейской истории...
Чтобы постичь всю нелепость современного «кризиса», надлежит
выработать понятие Европы как исторической телеологии
бесконечных целей разума. «Кризис» мог бы быть понят как мнимое
крушение рационализма. Основа отказа от рациональной культуры... не
в сути рационализма как такового, а только в его отчужденности,
в его запутанности в сетях «натурализма» и «объективизма» 19.
С каким негодованием обрушился в свое время Гуссерль на
«миросозерцательные философии»! Порожденные исторически
преходящей ситуацией, скованные относительно весомыми успехами
современной науки, занятые лжепроблемами, они, тормозя
понимание действительности, препятствуют разумному к ней
отношению. «Угнетающие дух бессмысленности» миросозерцательные
философии, смущая души легковерных адептов, препятствуют
прогрессу подлинной научной философии. Их вредоносная роль не
исчерпывается теоретико-познавательными заблуждениями.
Миросозерцательные философии повинны в дезориентации человечества,
52
которому навязывается объективистское самосознание, внушаются
ложные представления о его жизненных целях и задачах.
Эти системы принадлежат своему времени — двухтысячелет-
няя история человечества потеряла им счет. Подлинно научная
философия обращена к вечности, ее вдохновляет задача развития
культуры, «постепенно прогрессирующей реализации единой идеи
человечества» 2(). Гуссерль берется ее проследить. В замечании
о «ступенях историчности» он выделяет три этапа, решающих для
самоосуществления «духовного образа», «телоса» европейского
человечества. Первая ступень — познание мира, пробуждение новой
отдельной точки зрения на окружающий мир. Вторая ступень —
познание человека. Третья ступень историчности — это
«превращение философии в феноменологию с научным осознанием
человечества в его историчности и функции» 21. Третья ступень знаменует столь
высокий уровень самосознания человечества, что оно обретает
способность свободно формировать свою историческую жизнь в
соответствии с научно выявленными феноменологией
характеристиками подлинного бытия, соответствующими духовному облику
человечества. Гуссерль раскрывает нам тайну исторических рекомендаций
феноменологии: человечество должно строить свою историческую
жизнь, «исходя из идей разума как бесконечных задач».
Итак, на смену мировоззренческим псевдорешениям прежних
философских систем, не владевших секретом подлинной
философской научности, приходит феноменология, которая якобы снимает
в себе затяжной конфликт двух теснящих одна другую тенденций
в развитии философии: «миросозерцательной» и научной. В ней
обе линии счастливо совпадают, потребность в мировоззрении
находит наконец «адекватное разрешение». Феноменология — это
постоянное имманентное осмысление человеческого существования
в свете «телоса» — бесконечной идеи, раскрывающей смысл
существования человека и человечества. И в ее, пользуясь словами
Гуссерля, «сущностной и закономерной типике» сквозит стойкое
телеологическое представление, пронизывающее весь проблемный
массив феноменологии.
Это одна из многих предпосылок, вкравшаяся в «беспредпосы-
лочную философию» из исторического источника. Другая —
отметить ее вынуждают интересы анализа — вошла из современного
Гуссерлю естествознания и облегчила задачи сведения морфологии
общественного сознания, всех сложно опосредованных его связей,
специфики процессов к структуре индивидуального сознания. И то
и другое мыслится в однотипном единстве и развитии, свойственных
организму, без всякого усложнения и изменения при переходе от
«особи» к «популяции». Впрочем, проследить источники Гуссерля —
задача нелегкая, если учесть беспредельно широкую эрудицию
философа и, главное, принципиальную установку феноменологии на
неограниченно широкие связи и свободное «сотрудничество» со всеми
без исключения именами и теориями, своеобразное духовное со-
53
держание которых одаряет ее живительными импульсами. Правда,
Гуссерлю не удается выдержать постулируемый при этом характер
идейного освоения, не отягощенного исторически
детерминированным оформлением мыслительного материала. Наоборот, весьма
вольно обращаясь с содержательным смыслом (предваряя в этом
отношении откровенно произвольное толкование традиции Хайдег-
гером, который берет философов в их «неосуществленных
возможностях»), Гуссерль усиленно воспроизводит как раз
принадлежащую времени технику и методику интеллектуальной отработки
философских интуиции. Его прямо-таки завораживает философски-
исторический реквизит. И мы, наверное, не найдем такого
дремлющего в анналах отжившего мифического понятия, которое не ввело
бы Гуссерля в соблазн гальванизировать его и включить в актив
феноменологической философии. Платоновский эйдетизм, лейбни-
цевская монадология, неограниченные реминисценции из Канта
и Декарта, методика «эпохе», идущая от средневековой схоластики,
«живительные интенции» логистики, мистики, интуитивизма,
«философии жизни» (исповедующему преемственную связь с
рационалистической традицией Гуссерлю случилось заявить:
«подлинные бергсонианцы — это мы») — все это индуцирует проблемно-
методологическое поле феноменологии.
В интерпретации Гуссерля, возникают меняющиеся обличия
ratio. В зависимости от того, «ведутся ли переговоры с Аристотелем,
Платоном, Декартом, Кантом», он приближается то к Аристотелеву
перводвигателю — «нусу», то к cogito нового времени. Неизменно
выдерживается один принцип: последовательное разрушение
реалистической интенции рационализма.
Если бы, например, Кант, обреченный безмолвствовать в над-
временном идейном сотрудничестве с Гуссерлем (именно такое,
осуществляемое в горизонте времени непосредственное постижение
живого смысла философских систем постулирует Гуссерль),— если
бы Кант обрел возможность методологического обсуждения
учиненных феноменологией преобразований, он от имени
критической философии воззвал бы к «замечтавшемуся рассудку» ее
основоположника. («Воображению, пожалуй, можно простить, если оно
иногда замечтается, то есть неосмотрительно выйдет за пределы
опыта; ведь таким свободным взлетом оно по крайней мере
оживляется и укрепляется, и всегда легче бывает сдерживать его смелость,
чем превозмочь его вялость. Но когда рассудок, вместо того чтобы
мыслить, мечтает, этого нельзя простить уже потому, что от него
одного зависят все средства для ограничения, где нужно,
мечтательности воображения» 22.)
И действительно, какими судьбами телеологическая структура
трансцендентального субъекта превратилась в конституирующее
начало онтологии? Раздраженный непониманием «Критики чистого
разума», Кант вернулся к его проблематике в «Критике
способности суждения», а в «Пролегоменах» буквально скандирует смысл
54
произведенного им «коперниковского переворота». С помощью чуть
ли не «аргументов от топора», наглядных живых иллюстраций,
сопровождающих каждую тезу, он постарался сделать внятной
и для непривычного к размышлению сознания идею границы
телеологических представлений, обладающих безоговорочной
онтологической весомостью только в произведениях искусства, рождению
которых предшествует целевое задание. В искусстве не
оспаривается правомочность отнесения объекта к представлению,
переживанию, чувству, мнению субъекта, поскольку в этом исключительном
случае объект выводится из субъективности. Но «основоположения
эстетики не простираются на все вещи (курсив мой.— К. Д.),—
иначе все превратилось бы только в явления» 23.
Гуссерль не внемлет разъяснениям Канта. Его интерпретация
оказывается решительным искажением миропонимания кенигсберг-
ского мыслителя. Усваивая телеологическую структуру
трансцендентального субъекта, Гуссерль не принимает в расчет
онтологическую посылку и изменяет модальность этой схемы в отношении
к реальности. Предположительное соответствие сознания бытию
(исключение составляет, как было отмечено, искусство)
превращается в идентификацию структуры бытия и сознания. Тем самым
в конститутивный принцип онтологии возводятся основоположения
эстетики.
Таким образом, фундаментальная онтология обретает
платформу для построения мифической картины
культурно-исторического процесса, которая вполне может соперничать с
аналогичными воззрениями романтической философии (кстати, Гуссерль
адресует романтикам и Гегелю, повинным в бездоказательном
историософском конструировании, резкие упреки в «ненаучности»).
Какая фантастическая логика подсказала Гуссерлю
экстраполяцию кантовской модели субъективности на историю? К абсурду
и суеверию отнес бы Кант идею «врожденной телеологии»
человечества, учитывая его нетерпимость к «грезящему» и «мечтающему»
идеализму.
Не надо обманываться терминологическим сходством
«врожденной телеологии человечества» с положением Канта о
человечестве, заключающем в себе способность целеполагания как
осуществления последней цели природы. По сути, Гуссерль не
принимает во внимание социально-культурные представления
Канта. Культура применительно к индивиду у Канта — это
«приобретение» «разумным существом способности ставить любые цели
вообще» . Но если в отдельном субъекте культура развязывает
свободу целеполагающего творчества, то социально-культурный
процесс ускользает из-под контроля свободно полагающего цели
субъекта, здесь включаются «слепо действующие силы» социальной
механики. У Канта намечена диалектика социально-культурного
процесса: разделение труда, неравенство и угнетение обеспечивают
развитие культуры индивида, поляризация умственного и физиче-
55
ского труда обеспечивает развитие наук и искусств. В свою очередь
«изящные искусства и науки... подготавливают человека к такому
устройству, при котором властвовать должен только разум» 25. Им
отведена воспитательная функция, функция воздействия на
отдельного субъекта, усилиями которого только и может укорениться
в реальной истории разумное целеполагание.
Упорно наделяя субъективность такой общезначимостью,
какой она обладает только в искусстве, где наши представления о
должном беспрепятственно реализуются в структуре сущего, Гуссерль
самой истории навязывает целеполагающий разум, радикально
искажая и расшатывая рационалистическую традицию.
Что же вынуждает эти разрушительные санкции
феноменологии? «Наивный объективизм, проявляющийся в разных типах
натурализма, натурализации духа. Старая и новая философия были
и остаются наивно объективистскими» 26,— утверждает Гуссерль.
Выведенные ими онтологические константы не имеют никакого
отношения к человеческой сущности. Мертвые результаты
познавательной деятельности абсолютизируются и противостоят живой
жизни сознания. Гуссерля обескураживает мощное обратное
влияние изучаемого объекта на познающее сознание, в результате
которого «дух» перенимает непригодную методику для
самооформления. В перспективе это грозит натурализацией, обессмысливанием
разума, «натурализацией идей, а с ними вместе и всех абсолютных
идеалов и норм» 27, порождает ложный идеал культуры, в принципе
чуждый человеку, и как следствие — кризис самого существования
человека.
В ситуации духовного кризиса (Гуссерль поднимается до
высокой патетики в его описании) философия — «признанная
учительница вечного дела для человечности (Humanität) — оказывается
вообще не в состоянии учить» 28. Виной тому — ее объективистская
выучка, саморазрушение в тяге к превратно понятой «научности» по
образцу точных наук, хотя «естественные науки не разгадали для
нас ни в одном отдельном пункте загадочности актуальной
действительности, в которой мы живем, действуем и существуем» 29,
объективистски-позитивистское миропонимание бессильно в чужой ему
области человеческой жизни.
Абсолютизация однажды найденных методик ведет к забвению
породивших их жизненных интенций. Символизирующие и
математизирующие методы, формально-логический аппарат
умозаключений и доказательств демонстрируют разрыв формального с
действительным, самодвижение методологического формализма,
вырождение в пустой конвенциализм, в игру по установленным правилам.
Взаимоисключающие образы мира лишь дезориентируют
человека, оставленного, как мы помним, философией на произвол
судьбы. Его обступают призраки потерянности, бессмысленности бытия.
«Не сходим ли с ума мы в смене пестрой
Придуманных причин, пространств, времен...».
56
Эти строки Александра Блока, помеченные 1912 годом, то есть
годом позже написания «феноменологического манифеста», на
редкость созвучны его тревожно-критическому пафосу, не
изжитому, впрочем, на протяжении всей исследовательской деятельности
Гуссерля. Надо отдать должное стойкому мужеству философа,
восславившего гуманистический идеал разума в «злосчастные
времена» инфляции духовных ценностей, когда у философии оставалась
альтернатива: сциентизм или иррационализм.
Изощренные методологические нововведения Гуссерля
создавали известные трудности в усвоении его идей, но академизму
феноменологических исследований сопутствует прямо-таки
пропагандистски-проповеднический энтузиазм воззваний к разуму.
«Неразумность, слепобездумная жизнь в неясности, леность,
вследствие которой пренебрегают уяснением подлинно прекрасного и
доброго,— это и есть причина того, что люди становятся
несчастными
ми, гонятся за пустыми целями» .
Не поддаваться соблазну привычных, заприходованных
сознанием готовых форм, преодолевать инерцию интеллектуальных
штампов, не оставлять «темных углов», не учтенных разумом
интенций, которые грозят превратиться в «слепо действующие силы»,
бесконтрольно вторгающиеся в культурный процесс,— эти
назидания обращены к каждому человеку. Они же составляют
специальную задачу феноменологической рефлексии. Философ должен
«осилить истинный и исчерпывающий смысл философии, весь ее
бесконечный горизонт» 31, высветлить непроясненные жизненные
закоулки, учесть и ввести в поле зрения всю глубинную предысторию
настоящего, чтоб передать в будущее неискаженный лик истинно
человеческого смысла, потому что «развитие будущего есть дело
живущего, оно является его дальнейшим развитием, создающим
будущее» 32.
Грозные симптомы кризиса буржуазной культуры вынуждают
Гуссерля к пересмотру ее основы, то есть, согласно онтологической
модели феноменологии, философской мысли, утратившей в
результате ориентации на объект гуманистическое измерение.
Все исторические экскурсы Гуссерля сопровождает установка
на уяснение границы рефлексии, явленной в чистоте, не
затемненной поступающими от объекта импульсами. Он стремится
обнаружить изначальную жизнь сознания, выявить тем самым «подлинно
научную» основу философии (феноменология в этом смысле
названа им философской археологией).
Результаты «археологических изысканий» Гуссерля известны.
Их неявный для него самого смысл проступил в будто бы нарочно
спародированной форме у Хайдеггера. Повторяя путь учителя с
такой же дразняще разоблачительной точностью, с какой дьявольские
силы вторят ангельским хорам у Адриана Леверкюна, Хайдеггер
возгласил разрушение философии, переориентацию на донаучную
мысль, на искусство.
57
Гуссерль не желал признать, что это движение вглубь времен
подчинено невыполнимому заданию: философия в той мере, в
какой она выдерживает свою проблемную определенность, пребывает
«наивно-объективистской», не исключая линии субъективного
идеализма.
В погоне за ускользающим горизонтом чистой человеческой
сущности Гуссерль незаметно для себя перешел ту грань, которая
отделяет философию от нефилософского мышления. И хотя его
исторические анализы идут под знаком углубления научной
основательности философии, в них проглядывает иная логика, далеко
отстоящая от заявленной цели.
В самом деле, в каком модусе устанавливает Гуссерль связь
с избранными истоками традиции? Не обращается ли он к
философиям, стремящимся к «научной строгости» как... к «человеческим
документам», непосредственно свидетельствующим о живых
интенциях сознания, тем более ценных, что принадлежат они
выдающимся мыслителям? Предположение превращается в уверенность в
результате повторяющегося наблюдения над характером усвоения
и полемики, возникающей всякий раз в одном и том же пункте.
Речь идет о моменте переключения интереса от субъекта к объекту.
В сущности, история философии поставляет Гуссерлю материал
для исследования самодеятельности человеческого духа. И в
творческом диалоге с ее великими представителями он сохраняет за
ними «право голоса» в той мере, в какой они помогают
вышеозначенным извлечениям. Гуссерль следует философиям лишь
постольку, поскольку они отвечают его исследовательской установке,
предпочитая, естественно, идеализм как благодатный источник
наблюдения над сознанием и самосознанием, по возможности «не
замутненный» обратным воздействием объекта.
Добытые таким путем данные о человеческой сущности
получают оформление в принципиально иной системе:
феноменология осуществляет радикальный поворот от «наивного
объективизма» традиционной философии к «трансцендентальному
субъективизму», иначе говоря — Гуссерль «переигрывает» кантовский «ко-
перниковский переворот».
Поскольку феноменологическая проблематика центрирована
вокруг понятия субъективности, посмотрим, какие изменения
претерпевает «трансцендентальная субъективность»,
телеологическая схема которой получила столь широкое применение в
феноменологии.
Прежде всего Гуссерль избавляет трансцендентальный субъект
от «наивного объективизма».
Кантовский субъект вводится как бы на двойной поддержке:
эмпирическая реальность, несмотря на непознаваемый остаток,
снабжает содержанием чувственность и рассудок. Посредством
разума он постигает высшее человеческое назначение — «не забывает
о боге».
58
Трансцендентальный субъект Гуссерля избавлен от
архаических черт, но вместе с тем он лишился и связей с
действительностью. Феноменологические «процедуры» образуют невосполнимые
пустоты; субъект феноменологии — это онтологический
гомункулус, условиями рождения отъединенный от реальности и замкнутый
в интеллигебельном времени и пространстве, координаты которого
не соотнесены с реальным пространством и историческим временем.
Категория интенциональности, с помощью которой Гуссерль
стремится нейтрализовать обратное воздействие объекта на
устремленное к нему сознание, вносит разлад в само сознание, зато
снимает угрозу «искажения» субъективности. Являясь по своей природе
всегда «сознанием о» — направленность сознания Гуссерль не
отрицает,— оно оказывается как бы отвлеченным на себя,
поглощенным в акте сознания собственной техникой, техникой сознава-
ния. Если у Канта к априорной структуре сознания относится лишь
формальный момент: понятия — это логические функции,
оформляющие эмпирию, то у Гуссерля и оформление содержания и сама
содержательная сторона имманентны структуре сознания.
Трансцендентальный субъект Гуссерля ни по строению, ни по
характеру своей активности не имеет аналогов в философской
традиции.
Его деятельность — точнее сказать, интенциональная жизнь
сознания — не сводится к категориальному выведению и не
поддается определению в понятиях. «Особенность сознания состоит
в том, что оно является протекающей на разных уровнях
флуктуацией, так что необходимо исключить всякую мысль о понятийно-
экзактной фиксации, будь то эйдетические или конституирующие
их моменты» 33,— утверждает Гуссерль.
Не прибегая к «понятийно-экзактной фиксации», мы видим,
что Гуссерль воспроизводит кантовское описание того живого
движения душевных сил, которое сопутствует переживанию
эстетической идеи — представления воображения; последнее «дает повод
много думать, причем, однако, никакая определенная мысль, то есть
никакое понятие, не может быть адекватной ему и, следовательно,
никакой язык не в состоянии полностью достигнуть его и сделать
его понятным» 34.
Гуссерль видит задачу феноменологии в высвобождении
творческого потенциала сознания из-под влияния
гносеологического формализма. Но логика отталкивания от
объективно-детерминированной познавательной активности относит его к пределам
эстетической рефлексии, вместо новообретенной формы философии он
заново открывает уже известную, тщательно разработанную
Кантом характерную типику эстетического суждения, когда «имеется
в виду определение не объекта, а субъекта и его чувства» зг\
Гуссерль выступил против традиционного сведения
человеческого познания к научному, объективному познанию,
исключающему богатую палитру чувственного познания, непосредственно
59
субъективного восприятия. Для соотнесения деятельности
сознания с человеческой сущностью Гуссерль выбирает совсем
неожиданный путь. Чтобы задать (если говорить в терминах Канта)
высшие цели рассудочной деятельности, не допустить ее
позитивистской интенции, Гуссерль предпринимает попытку воссоединить
чувственность и рассудок, субъективное переживание и понятие
в единой смыслообразующей целостности.
Катастрофическая дегуманизация буржуазной культуры и
науки, кризис «мозгового центра» — философии, ее
неподготовленность к решению проблем, поставленных всеобщим кризисом,
запутанность и бессилие «современного рационализма», как его
называет Гуссерль,— эта реальная, действительно угрожающая
ситуация порождает у основоположника феноменологии страх перед
всяким абстрагированием, перед любым, даже необходимым в
теории разделением. Он стремится удержать целостный человеческий
смысл, схватить его в конкретности субъективного переживания.
Чтобы обеспечить гуманистический масштаб философии и
философствования, Гуссерль втягивает в познавательный акт
эмоционально-волевые характеристики как гарантию истинности
философского усмотрения.
В результате феноменология густо обрастает лесами понятий,
не переводимых на язык традиционной философии.
Подобно тому как «интенциональная жизнь сознания» не
находит понятийного эквивалента, проецируемые ею в
«горизонтальном полагании» «предметы» — тоже нечто беспрецедентное в
философской традиции.
Предметы феноменологии не сопоставимы ни с понятиями
рассудка, ни с идеями разума. Гуссерль наделяет их достоинством
высшей самодостаточной ценности; каждый предмет в себе самом
содержит ценностный регулятив, интеллектуальную конституцию
и при этом — полагание в чувственности субъекта, разумеется, в
самом себе несущего высшие ценности. Он как бы из себя их
генерирует и из себя же производит многообразную вязь
предметного мира, обладающую тем не менее достоинством
общезначимых истин, истин, вознесенных над реальностью, над эмпирией
и теоретическим знанием. Это качество предметов
феноменологического усмотрения наводит на мысль об «эйдосах» Платона.
Действительно, они схожи по онтологическому статусу, есть сходство
и во множественности оригинальных по конституции моделей,
самостоятельных смыслообразований.
И хотя эйдосы Платона и предметы Гуссерля разнятся и по
генезису и по функции, их роднит ускользающий из поля зрения
как Гуссерля, так и его интерпретаторов эстетический аспект.
Только в эйдос Платона художественный, эстетический принцип
введен как материальное конструктивное оформление идеи (ведь
идея — это «парадигма», «образец» вещи, как бы архитектурный
проект творца), а в предметах Гуссерля тот же принцип предста-
60
ет — вполне в духе кантовской эстетики — как полагание идеи
в чувственности субъекта. Эйдос у Гуссерля — результат «идеирую-
щей абстракции» и «конституирующей» предмет интенции; его
источник — имманентная активность сознания, и его эстетический
характер обусловлен не материально-художественной реализацией,
а смыслообразующей функцией целостного
интеллектуально-эмоционального акта.
Эйдосы Гуссерля имплицируют субъективное переживание,
целостный смысл предмета, который содержательно и конституитивно
определяет предмет, неотъемлем от идеи предмета. Следовательно,
Гуссерль, в отличие от Платона, «онтологизирует» не просто идеи,
а субъективное переживание идеи.
Чтобы иметь возможность отчетливее выявить существо
преобразований, посредством которых Гуссерль стремится удержать от
окончательного крушения здание буржуазной «научной»
философии, мы намеренно выбрали эти точки соприкосновения Гуссерля
с традицией. Действительно, нечто небывалое в научной
философии — включение в предмет философского усмотрения
эмоциональных характеристик, «условий переживания мыслимого
в момент, когда мы мыслим»,— целостного
интеллектуально-эмоционального акта. Ведь это традиционная прерогатива
художественной мысли, исторически определенная область художественного
сознания, находящая теоретическое обоснование в эстетике.
Воссоединяя субъективное переживание и понятие, чувственное и
рациональное, Гуссерль сближает предметы философского
усмотрения с образами искусства, действительно наделенными
общезначимостью понятия и целостной структурой субъективного
переживания. Значит, неосознанный идеал «философского усмотрения», по
Гуссерлю,— это художественная мысль. Именно в этом состоит
внутренний мотив пиетета по отношению к обыденному сознанию,
к сфере непосредственно очевидного, которое у позднего Гуссерля
постулируется как высшее, несущее в себе подлинно
гуманистические ценности.
Гуссерль наделяет субъективность такой общезначимостью,
какой она обладает только в искусстве. Да, таков был итог
многолетних подвижнических усилий дать строго научное философское
обоснование смысла человеческой жизни: «Жизненный мир», «я»,
каков я есть, вместе со всей моей действительной и возможной
жизнью сознания, в том числе и моей конкретной жизнью 36,— это
и есть истинная почва «подлинно научной» философии, призванной
спасти от гибели рушащийся мир.
Этот кульминационный пункт гуссерлианы выявляет
глубинную внутреннюю связь феноменологии с экзистенциальным
мыслителем Киркегором. Найденное Гуссерлем единое основание
культуры, призванное устранить противоречие распадающихся звеньев
гуманитарного и естественнонаучного знания, основание, которое
должно стать фокусом всей совокупности духовно-культурных цен-
61
ностей, имеет аналог только в одной философской традиции —
в экзистенциализме, оно приближается к центральной категории
Киркегора — экзистенции, которая граничит с
художественно-эстетической концепцией существования субъекта.
Итак, решающие этапы нового «коперниковского переворота»
таковы: первый эпизод «субъективизации» состоял в уподоблении
субъекту эстетического отношения; второй — в сближении с
характерной субъективностью в искусстве, с принципом
художественной типизации. И в том и в другом случае обнаруживает себя связь
Гуссерля с Киркегором, хотя «первый покоряется нудящей истине
и видит откровение в самоочевидностях разума, второй, с душой,
переполненной «страхом и трепетом», идет за откровением туда, где
для разума начинается область вечного ничто» 3/.
Оба мыслителя преодолевают традиционные рамки
Рационализма, расширяют поле зрения Разума, включая в него все
чувственное и духовное содержание сознания. Их сближает
гуманистический пафос, понимание духовного безвременья, великой
миссии философа и даже апокалипсический тревожный язык
воззвания и пророчества.
Полувековое развитие феноменологии и экзистенциализма
подтвердило, что внушительные феноменологические штудии и
нарочито «нетрадиционные» опусы экзистенциалистов реализуют
единый замысел и максималистские Entweder — Oder Гуссерля —
Киркегора вывели из оцепенения философскую мысль XX
столетия. Взаимовлияние феноменологии и экзистенциализма вызвало
к жизни мощное духовное движение в защиту гуманистических
ценностей философии и культуры.
Мартин Хайдеггер.
Онтология познания и культуры
Хайдеггер, кажется, относится к тем философам, интерес к
которым со временем не утихает. В чем секрет столь длительного и
неизменного интереса к его таинственной и даже темной философии?
В том ли, что он, как никакой другой современный философ,
стремился анализировать философские тексты Платона и Аристотеля?
Или в том, что не разменивался на злободневные, «актуальные»
вопросы, а стремился ставить собственно философские вопросы
и размышлять над ними тоже философски, как философ, а не как
мещанин, не как обыватель? А может быть, секрет хайдеггеровской
философии состоит в том, что он «описывал» ту ситуацию, которая
сложилась накануне второй мировой войны и которая вызвала
соответствующее настроение у миллионов людей, нашедшее
соответствующее выражение в категориях этой философии?
Разумеется, подлинный философ отличается от различного
рода философствующих невежд прежде всего тем, что он
основательно знаком с историей философии и с историей культуры: он хорошо
знает историю или эволюцию и развитие философской
проблематики — как те или иные проблемы ставились теми или иными
философами и как они решались. В этом смысле Хайдеггер являет собою
пример, достойный подражания. Он действительно отличается
глубоким знанием истории философии и генезиса философской
проблематики. Однако дело не только в этом, а в том, что он, как ни
один из современных философов, не просто дает свое новое
истолкование Платона или Аристотеля, а как бы переводит содержание
их философии на вопросы или проблемы, которые каждый из этих
философов ставил перед собой или задавал самому себе. В этом,
пожалуй, состоит одна из самых привлекательных сторон
философии Хайдеггера и его философского стиля как стиля мышления.
Философская традиция оживает только тогда, когда ее вызывает
адекватная постановка проблем: философ, правильно настроивший
свой философский «инструмент» — метод,— может получить
серьезный социальный и исторический резонанс. Все зависит от того,
насколько он верно «настроил» свой «инструмент» и насколько
точно он улавливает и связывает в единое целое проблемы
современности с проблемами давно минувших веков. Настоящий
философ отличается не тем, что он все проблемы сводит к некой
универсальной человеческой ситуации, а, наоборот, тем, что он
конкретные человеческие проблемы возвышает до общих проблем.
Философские невежды и эпигоны стремятся выявить главным
образом то, что отличает взгляды того или иного философа от его
собственных (если таковые у него есть, как правило, их у него нет
и быть не может). Подлинный же философ, а Хайдеггер, несо-
63
мненно, является одним из самых крупных современных
философов, стремится из диалога со взглядами древних и современных
философов выявить то, что является общим и для него и для них,
то есть диалог с другими философами служит ему больше для того,
чтобы яснее, определеннее, точнее сформулировать свои
собственные взгляды. Ведь не случайно диалог со времен Сократа и Платона
был и, пожалуй, остается до сих пор основным методом
философствования. В диалоге с философской и культурной традицией наше
сознание и самосознание становятся более адекватными, способ
мышления — более гибким, более диалектическим, более глубоким
и универсальным, а наши многочисленные предрассудки, если и не
преодолеваются (преодолеть или избавиться от них не только
трудно, но просто невозможно, ибо с углублением и расширением
нашего знания, количество предрассудков не уменьшается, а
увеличивается), то по крайней мере переводятся в вопросы: мы ставим
наши собственные предрассудки и предрассудки других под вопрос.
В этом смысле восхождение к философской традиции означает
движение вперед, а не назад. К тому же совершенно ясно, что когда
под исторической ипостасью философской традиции мы открываем
те же самые «вечные вопросы», которые волновали
предшествующие поколения и волнуют в такой же мере и нас, то философская
традиция становится весьма современной, а современная
философия возвышается до глубин философской традиции.
Однако философские проблемы нельзя ставить и
рассматривать абстрактно, вне связи с конкретно-историческим и социальным
контекстом. Именно тогда, когда так называемые вечные проблемы
«резонируют» с самыми фундаментальными проблемами
человеческого бытия, с жизнью индивидов, с их жизненным опытом, они
становятся жизненно острыми, захватывающими и актуальными.
Идет ли речь о таком «вечном вопросе», как истина, или
о том, что есть человек, или о смысле человеческой жизни — во
всех случаях конкретно-исторический контекст важен и необходим.
История философии — это, по существу, история философских
проблем. Сама же философия — это не столько умение решать
проблемы, сколько умение их правильно ставить. Поэтому когда
речь идет о прогрессе в философии, то под этим следует понимать
прежде всего и главным образом историю философской
проблематики, но историю проблематики, тесно связанную с жизнью
конкретного общества и тех людей, которые в нем живут.
В отличие от философских невежд и эпигонов,
пробавляющихся «свежими примерчиками», а то и просто анекдотами, которыми
они «оживляют» свой никчемные статьи и книги, стремящимися
чуть ли не каждый день выдавать «новые идеи» и «новые
концепции», Хайдеггер ведет диалог со всей западной философской
традицией, в которой и благодаря которой он вскрывает и открывает
проблемы, присущие современности. Как правило, там, где другие
философы «дают ответы», Хайдеггер «ставит вопросы». Философия
64
Хайдеггера — это философия вопрошания, или вопрошающая
философия, философия не ответов, а вопросов, это — вопрошающая
мысль, мысль, вопрошающая о самых фундаментальных вопросах
бытия. Но когда вместо ответов появляются вопросы, тогда
начинают говорить о «кризисе основ». Возникающие вопросы
касаются различных способов бытия, следовательно, все эти вопросы
относятся к сфере онтологии.
Самым важным для человека вопросом, согласно Хайдеггеру,
становится вопрос о бытии — ведь человек не только есть, но он
еще и соответствующим образом относится к своему бытию.
Именно вот это специфическое отношение человека к своему
собственному бытию отличает его от других видов бытия. Хайдеггер считает,
что вопрос о бытии является самым фундаментальным вопросом
философии. Между тем вся история западной философии
представляла собою историю забвения бытия. Хайдеггер заново ставит
этот почти забытый философской традицией вопрос.
Человек, как существо смертное, всегда охвачен тревогой,
которая свидетельствует о том, что он лишился какой бы то ни было
опоры. Человек становится одиноким, ибо связи с другими людьми,
столь важные и необходимые в обыденном существовании, теряют
смысл. Важным становится лишь бытие. Только в этом случае
человек обретает подлинное существование. Человеческая мысль,
вопрошающая, что такое бытие, с необходимостью обращается
к одинокому человеческому существованию, которое становится ее
главной темой.
Нет ничего удивительного в том, что «Бытие и время»
Хайдеггера, несмотря на свою языковую и смысловую философскую
сложность, получило довольно широкую известность и признание:
ведь оно довольно адекватно описывало ситуацию, в которой
находились миллионы людей в Веймарской республике. Именно тогда
людей охватывало сомнение: сомнение в мировоззрениях, в
существующих порядках, в существующих ценностях. Люди потеряли
веру во все существующее, они остались как бы один на один с
самими собой, ибо существовавшие направления академической
философии — неогегельянство, неокантианство, философия жизни
и т. д.— ничем не могли помочь этим людям, ибо они совершенно
не занимались конкретной ситуацией людей, с их конкретными
жизненными вопросами, которые они переживали и которыми они
страдали. А Хайдеггер обращался как бы к каждому индивиду,
к его интеллекту и чувству, заставляя его задуматься о смысле
своего бытия. И хотя он не занимался собственно политическими
вопросами, однако, раскрывая перед индивидами глубину и
значение проблематики бытия, он показывал, что в сфере государства,
общества и культуры, социально-экономической и технической
сферах люди не найдут смысла своей жизни, что они могут его найти
только в сфере свободы, в сфере собственного риска. Может быть,
поэтому он становится в глазах европейцев и не только европейцев
3 К. М. Долгов
65
одним из основоположников экзистенциалистской философии,
хотя, кажется, он не был ни экзистенциалистом, ни феноменологом, а,
скорее, философом, попытавшимся возродить учение о бытии или
обосновать современную онтологию. И все-таки поскольку вопросы,
связанные с экзистенцией, на какое-то время заслонили вопросы
бытия, философия Хайдеггера была отнесена к философии
экзистенциализма. Этому содействовал его еще во многом
традиционный язык, а также то, что вопросы о бытии тесно связывались
с вопросами субъективности, с вопросами об основах бытия, то есть
с вопросами обоснования философии и науки. Достаточно
вспомнить, что, согласно Гуссерлю, феноменология была как бы
затаенной тоской всей современной философии, а главной проблемой
философии он считал проблему субъективности. Вот почему
феноменология Гуссерля полностью укладывалась в лоно современной
философии, в центре которой стояла проблема субъективности.
Хайдеггер как бы «выламывается» из этой философской
традиции современной философии: он ищет сущность вещей не в
субъективности, а в бытии, о котором философия давно перестала
вопрошать. Несмотря на то, что «Бытие и время» Хайдеггера так же
ставило проблему субъективности, как и вся современная
философия, вопрошая о человеческой жизни, о человеческом
существовании, заброшенном в этот чуждый мир, одновременно ставило
«вопрос о смысле бытия» как главный вопрос философии, о котором
современная и не только современная философия, а вся традиция
классической философии перестала вопрошать и предала его
забвению. Хайдеггера совершенно не интересовал вопрос о
существовании мира, поскольку само бытие человека и мира нисколько не
зависит от нас — человек застает его уже готовым. Что касается
человека, то современная философия, продолжая линию
философской традиции, то возвышала его достоинства, творческую мощь
и силу до чего-то божественного, абсолютного, то низводила его до
уровня жалкой твари, недостойной того, чтобы существовать, а не
то что жить. Хайдеггер хорошо видит все недостатки и
несовершенства человека: его слабости, ограниченность, изъяны, но именно
в них он находит и достоинства человека — без них человек не был
бы человеком, не был бы тем, что он есть. Вот почему Хайдеггер
решается на анализ смысла самого бытия, который в «Бытии и
времени» поставил под вопрос всю современную философию, да и всю
философскую традицию, поскольку ее главной проблемой была
проблема субъективности. Вот почему Хайдеггер всю свою
философию построил как непрерывный диалог с древнегреческой мыслью,
с древнегреческой философией. Он убежден в том, что именно
греки наметили и раскрыли все параметры и все основные
проблемы современной философской мысли и того, что ее
определяет — опыт бытия как присутствие настоящего.
Согласно Хайдеггеру, современная философия представляет
собою всего-навсего лишь последовательное развитие греческого
66
опыта. Правда, на этом пути философия претерпела различные
изменения. Так, начиная с Декарта, наряду с объектом стал
признаваться субъект, который стал рассматриваться как основа
и центр соотнесения, благодаря чему нечто могло стать бытием.
Соотнесение любой вещи с субъектом есть такое отношение, когда
человек становится субъектом, а бытие — объектом.
Следовательно, отношение человека с бытием современная философия
истолковывала как представление, которое как таковое всегда несомненно.
А несомненное представление это и есть истина. Значит, следует
только знать, каким образом человек может овладевать вещами,
точнее, как субъект может овладевать объектом. Вот тогда-то
главной задачей современной философии и становится проблема
метода. Мысль озабочена тем, чтобы представить мир таким, каким
он мог бы стать пригодным для использования его человеком.
Когда основа того, что есть, находится в субъективности, тогда
человек как субъект становится господином бытия, а его отношение
к этому бытию есть овладение этим событием. Речь идет у Хай-
деггера о современной технической цивилизации. При этом к
сущности техники он относит в равной мере машинную технику,
современную науку и современное отношение к искусству. Чтобы
понять смысл современной философии и современной цивилизации
вообще, необходимо опять-таки обратиться к бытию: что есть
бытие?
Важнейшей характеристикой бытия оказывается забвение,
поэтому следует «помнить о забвении бытия». Но тогда наше
мышление становится проблематичным: мы мыслим лишь тогда, когда не
забываем о том, что значит мыслить. Мыслить — это значит
встречаться с совершенно иным опытом бытия, чем наше. Для Хайдегге-
ра такой «встречей» является диалог с древнегреческой
философией, которая представляется ему таким мышлением, которое
применимо ко всей современности. От встречи с древнегреческой
мыслью изменились предпосылки хайдеггеровской философии —
они становятся проблемой, а поскольку они являются
предпосылками всей современной и всей европейской философии вообще, то под
вопросом оказалась вся европейская мысль как целое. Хайдеггер
приходит к выводу, что человеческая мысль может жить и живет
только в вопросах и прежде всего в вопросах о бытии, поэтому
философия всегда была и останется только «любовью к мудрости»,
то есть философией в том смысле, который придавали ей древние
греки. Задача философии состоит не в том, чтобы давать ответы на
все вопросы, а чтобы связывать человека посредством диалога со
всем сущим, со всеми самыми фундаментальными вопросами
бытия, диалог, в котором все становится проблемой, диалог, которым
являются сами люди, их способ бытия и их метод мышления. Такая
философия учит вопрошать и постоянно находиться в этом вопро-
шании.
Эстетическая концепция Хайдеггера базируется на его обще-
з*
67
философской концепции. По мнению Хайдеггера, современная
философия является философией метафизической, философией,
которая переживает глубокий кризис начиная со времен Платона. Из
этого кризиса нет другого выхода, кроме гибели. Для Хайдеггера
вся европейская культура является отрицательной,
нигилистической. Этот нигилизм является якобы прямым результатом
метафизической философии.
Хайдеггер не случайно обратил свой взор к Ницше, который
резко выступал против метафизической философии. Согласно
Ницше, человечество впало в декаданс, что прежде всего проявляется
в потере воли к власти. Люди стали слабыми, либеральными,
демократичными, а следовательно, они потеряли то, что является
самым существенным для человеческой жизни и человеческого
существования: жизненную энергию, волю к жизни, которая есть не
что иное, как воля к власти. Ницше именно потому выступил против
существующих форм религии, философии и морали, что они, по его
мнению, не только не противостояли усиливающемуся декадансу, но
даже, наоборот, представляли собой формы этого декаданса.
«Противоядие (Gegenbewegung),— писал Ницше,— искусство» '.
Искусство рассматривалось им как универсальное антихристианское,
антибуддистское, антинигилистическое средство, как самое
действенное и универсальное средство против всякого снижения жизненной
энергии, жизненной силы. Искусство является для Ницше самым
прозрачным и самым известным образом воли к власти. Оно идет от
художника, стимулирует жизнь и поэтому имеет большую ценность,
чем истина.
Хайдеггер тщательнейшим образом анализирует философию
Ницше, во многом солидаризируясь с ним в оценке прошлой и
современной философии, а также в оценке искусства 2. Как и Ницше,
Хайдеггер говорит о кризисе философии искусства. Однако если
Ницше полагает, что кризис этот начался сравнительно недавно,
с момента возрождения платоновской философии и платоновского
миросозерцания вообще, то для Хайдеггера этот кризис начался
с самой философии Платона, с момента возникновения философии
как метафизики, а кризис искусства начался еще раньше — с V—
IV веков до н. э.
Если для Ницше выражением декаданса и кризиса
современной культуры является нигилизм как переоценка высших
ценностей 3, то для Хайдеггера нигилизм — выражение всеобщего
кризиса культуры: «Нигилизм является историческим движением, а не
каким-то и кем-то представленным воззрением или учением.
Нигилизм приводит в действие историю в виде едва заметных
основных процессов в судьбе западных народов. Нигилизм поэтому не
только историческое явление среди других явлений, не только
духовное течение наряду с другими течениями, которое встречается
наряду с христианством, гуманизмом и просвещением внутри
европейской истории. Нигилизм, в сущности, является, скорее, основным
68
движением истории Запада. Это движение являет собой такой
глубокий процесс (Tiefgang), что его развитие может иметь своим
следствием только лишь мировую катастрофу. Нигилизм —
всемирно-историческое (weltgeschichtliche) движение народов земли,
втянутых в сферу власти нового времени. Поэтому он не только
явление настоящего века и не только продукт XIX столетия... Нигилизм
ни в коей мере не является продуктом отдельной нации, чьи
мыслители и писатели говорят именно о нигилизме» 4.
Таким образом, в отличие от Ницше Хаидеггер вкладывает
в понятие «нигилизм» более широкое содержание. Для него это
мировая история европейских народов, начавшаяся еще до нашей
эры и неминуемо идущая к катастрофе. Ницше по сравнению с Хай-
деггером был «оптимистом», поскольку считал искусство верным
и универсальным средством от нигилизма. Хаидеггер же само
искусство относит к декадансу, к разложению. По его мнению,
искусство впало в кризис раньше других сфер духовной
жизнедеятельности людей. Оно находится в кризисе уже с того момента,
когда в центр внимания был поставлен человек, то есть уже в
период начала и расцвета древнегреческого искусства. Именно поэтому
Хаидеггер, в противоположность Ницше, не только не усматривает
в искусстве спасительного средства, но даже полагает, что
искусство лишь способствует нигилизму и декадансу. В подтверждение он
приводит слова Гегеля о том, что нет никакой необходимости
выражать содержание в форме искусства \
Уже из этого видна основная направленность эстетической
концепции Хайдеггера.
В чем же состоит конкретное содержание хайдеггеровского
толкования искусства? Свое понимание искусства Хаидеггер
изложил в работе «Происхождение произведений искусства», а также
в ряде других работ, как, например, о Гёльдерлине, Ницше, о
поэзии 6. Здесь нужно заметить, что хайдеггеровские произведения об
искусстве в основном относятся к последнему периоду его
деятельности и как бы завершают его философские построения.
В своей статье «Образ мира и его время» Хаидеггер
формулирует основные моменты собственной философии культуры.
Прежде всего он отмечает наиболее характерные черты новой
эпохи, или нового времени. К существенным явлениям нового
времени Хаидеггер относит: науку; машинную технику; искусство,
входящее в сферу эстетики, становящееся переживанием и
рассматривающееся как выражение человеческой жизни; культуру,
воплощающую в действительность высшие ценности и становящуюся
культурной политикой, или политикой культуры; десакрализацию,
или обезбоживание (предполагающее подведение под основу мира
бесконечное, безусловное, абсолютное), а также такое
истолкование христианства, когда оно превращается в мировоззрение.
В этой работе Хаидеггер развивает свои взгляды,
представляющие собой острую критику позитивистской, неопозитивистской
69
и прагматической философии. Он как бы стремится вернуть
философии утраченный ею, а точнее, растоптанный ее противниками
собственно философский статус. Философия должна быть
философией, и философствование является ее неотъемлемым качеством
и свойством. Мышление должно мыслить, а мыслить — это значит
ставить вопросы, вопрошать. Мыслящее вопрошание размышляет
о самых существенных проблемах своего времени, о действии
и взаимодействии субстанциальных, или сущностных, сил эпохи.
Поскольку самым важным вопросом Хайдеггеру представляется
вопрос о бытии, то философия образует собственную сферу
проблем, концентрирующихся вокруг категории бытия. Именно
поэтому философия, согласно Хайдеггеру, должна быть метафизикой, то
есть учением о бытии.
Эта позиция Хайдеггера заслуживает внимания, поскольку она
действительно направлена против односторонних и ошибочных
взглядов представителей позитивизма, неопозитивизма,
прагматизма и других направлений современной буржуазной философии,
стремящихся развенчать философию, лишить ее собственно
философского характера, уничтожить ее как мировоззрение.
Хайдеггер, напротив, не только хочет восстановить философию
как таковую, но и придать ей такие качества и характеристики,
которые отличали бы ее от любого другого вида знания и познания,
то есть от любых других наук, и в то же время сделали бы
очевидным фундаментальный характер философии, ее абсолютную
необходимость для человека и человечества, а также ее
оригинальность, незаменимость и неизбежность для человеческого бытия
и познания.
Рассматривая вопросы, связанные с наукой, философ полагает,
что «наука» существенно отличается от доктринального знания
(doctrina) и науки (scientia) средневековья и от греческой «эписте-
ме». Греческая наука, отмечает Хайдеггер, никогда не была точной
наукой, да и не нуждалась в этом. Но бессмысленно думать, что
наука нового времени точнее античной науки, так же как нельзя
считать, что творчество Шекспира более прогрессивно по
сравнению с творчеством Эсхила. Вообще, как полагает философ, науку
нельзя оценивать с точки зрения количественной, в соответствии
с ее поступательным прогрессивным развитием. Оценка науки
может быть только качественной, то есть тесно связанной с
основными, характеристиками бытия.
Опровергая установившееся мнение о том, что эксперимент
превращает естественные науки в исследование, Хайдеггер
показывает, что дело обстоит как раз наоборот: эксперимент становится
возможным только там и тогда, где и когда познание природы
превратилось в исследование, ибо эксперимент основывается на
определенных законах. Вот почему Роджера Бэкона философ считает
лишь последователем Аристотеля, а не предтечей современного
исследователя-экспериментатора.
70
По-своему толкует Хайдеггер и проблему специализации и
интеграции наук. Специализацию он считает не неизбежным злом,
а причиной исследования и основой развития. В новое время наука
обладает характером производства. В принципиально новом
инструменте исследования, например ускорителе, сконцентрирована,
спрессована вся физика прошлого. Вместе с тем можно сказать, что
каждое великое открытие изменяет и сам характер научного
исследования. Так, наука нового времени ориентируется главным образом
на свои же собственные результаты и открываемые ими новые
возможности. В этом суть производственного характера научного
исследования, обосновывающего неизбежность его институализации.
По существу, Хайдеггер формулирует примат практического
действия, практики над теорией, или теоретическим знанием.
Институциональный характер исследования обеспечивает
преимущественное положение метода над сущим, то есть над природой
и историей, которые опредмечиваются в исследовании. Благодаря
производственному характеру достигается необходимая
взаимосвязь между науками и соответствующее их единство, словом,
устанавливается необходимое единство многообразия. И чем свободнее
и динамичнее каждая из наук сосредотачивается на разработке
самых важных для поля их деятельности задач, тем полнее
развивают они свой исследовательский потенциал, тем ощутимее их
социально-практическая отдача.
Основные качества науки нового времени — проект, строгость,
методика, производство — превращают науку в исследование.
Меняется и сам тип ученого, точнее, место ученого занимает
исследователь, который вовлечен в активную предпринимательскую
деятельность. Романтика науки и университета скудеет и
выхолащивается. Наука достаточно активно развивается издателями,
различными институтами, которые хорошо знают общественные
потребности и в своей деятельности стремятся к их наиболее полному
удовлетворению.
В современной науке и природа и история становятся
предметом представления. Наука как исследование начинается тогда,
когда бытие сущего начинают искать и находить в предметности.
Сущее определяется как предметность представления, а истина —
как достоверность уже в метафизике Декарта. Вся последующая
метафизика, включая Ницше, примыкает к этому толкованию
сущего и истины, создающего предпосылки для возникновения
гносеологии или метафизики познания. Декарт же намечает завершение
западной метафизики, ибо его понимание человека как субъекта
(subiectum) создает метафизическую предпосылку для
антропологии самых различных видов и направлений. Восхождение и
развитие антропологии означает одновременно закат метафизической
философии. Как показывает Хайдеггер, «Философия философии»
Дильтея представляла собой попытку антропологического
преодоления философии как таковой. Это замечание Хайдеггера достаточ-
71
но важно, поскольку до сих пор предпринимаются попытки
ликвидировать философию с помощью антропологии, пусть даже и
философской: ведь антропология считает философию излишней. Что
касается национал-социалистической философии, то Хайдеггер
полагает, что она способна внести лишь путаницу и сумятицу.
Хайдеггер не отвергает утверждения, что новое время
характеризуется освобождением человека от средневековых связей и пут,
чтобы стать самим собою. Однако эту характеристику он считает
поверхностной, мешающей понять суть нового времени. Нельзя
отрицать, что освобождение человека породило субъективизм и
индивидуализм. Но самое важное философ видит в том, что ни одна
эпоха не создала такого объективизма, какой был создан новым
временем, и никогда, ни в какую другую эпоху индивидуальное не
существовало в виде коллективного, никогда не было столь тесной
взаимосвязи между субъективизмом и объективизмом. Для Хай-
деггера дело не столько в том, что человек освобождается от
прежних стеснений и ограничений, сколько в том, что преобразуется
сама сущность человека и он впервые становится субъектом, то есть
он становится таким сущим, на котором по способу своего бытия
и по виду своей истины основывается все сущее. Человек
становится своеобразным центром всех связей сущего. Но это возможно
лишь тогда, когда меняется полностью само понимание сущего.
Хайдеггер пытается выяснить, в чем состоит это изменение
и как оно соотносится с существом нового времени. Все ли эпохи
имеют свою картину, или образ мира, или это присуще только
новому времени?
Картину, или образ мира, согласно Хайдеггеру, нельзя
понимать буквально — как изображение мира. Мир — это обозначение
сущего, которое включает в себя космос, природу, историю, а также
основу мира. Картина, или образ мира, означает не картину,
изображающую мир, а мир, понятый как образ. Существо нового
времени Хайдеггер усматривает в том, что мир становится образом.
К сути картины мира, или образа, философ относит также систему,
под которой он понимает не какую-то искусственную формальную
классификацию, а органическое структурное единство,
развертывающееся из самого проекта опредмечивания сущего. Подобная
система в средние века была невозможна — тогда была лишь
иерархия сущего как божественного творения. Еще более это было
чуждо древнегреческой эпохе. Только в новое время, когда мир
становится картиной, или образом, система пронизывает как
материальное, так и духовное производство.
В господстве системы или системности Хайдеггер видит
противоречивые тенденции. В системах Лейбница, Канта, Фихте,
Гегеля, Шеллинга он находит величие, обусловленное генезисом каждой
из этих систем. В то же время господство системы таит в себе почти
неизбежную возможность вырождения.
Столь же существенным для истолкования сущего в новое
72
время является представление о ценности. Как только сущее
становится предметом представления, так оно сразу же лишается бытия.
Ценности объявляются целью человеческой деятельности. Как
ценности культуры, они выражают высшие цели творчества, служащие
самосохранению человека как субъекта. Отсюда недалеко до
превращения ценностей и в самодовлеющие предметы. Начинает
казаться, будто занятие ценностями является самым ценным для
человека, хотя на самом деле ценность — самое слабое прикрытие
предметности сущего, ставшей формальной, плоской,
выхолощенной. За такие ценности, как отмечает Хайдеггер, никто не пойдет
умирать. Вот почему философу, кажется, импонирует призыв
Ницше к «переоценке всех ценностей».
Далекую предпосылку того, что миру суждено стать картиной,
или образом, Хайдеггер находит в эйдосе Платона, понятом как
существо сущего. Сущее захватывало и поглощало человека,
вовлекало его в противоречия, откладывало на него печать своей
двойственности — в этом состояло существо древнегреческого человека.
Он прислушивался к сущему, чтобы быть.
В новое время человек представляет себе наличное, которое
противостоит ему и соотносится с ним. Таким образом, человек
составляет картину, или образ сущего. Сущее представляется
человеку, а человек становится представителем сущего. Положение,
занимаемое человеком, становится основой для развития его
человечности и развития человечности всего человечества. Столь
высокое положение человека позволяет всю сферу человеческих
способностей направить на овладение сущим.
Превращение мира в картину, или образ, переплетается с
превращением человека в сфере сущего в субъект.
По существу, Хайдеггер возвращается к протагоровскому
принципу, что человек есть мера всех вещей, сущих, что они суть, не
сущих, что они не суть. Однако этот тезис философ вовсе не
считает субъективизмом, поскольку человек в те времена не мог быть
и не был субъектом. Радикальное преобразование в истолковании
сущего и человека, как полагает Хайдеггер, было осуществлено
Платоном и Аристотелем, которое означало, по существу, конец
эллинизма и подготовку нового времени. Платон понимал под
бытием сущего созерцаемое или идею, а для Аристотеля
соотношение с сущим было чистым созерцанием, или теорией. Если не
смотреть на Грецию сквозь призму гуманистического истолкования
нового времени, то станет ясной разница между метафизическими
подходами Протагора и Декарта: по способу человека быть
человеком, по сущностному истолкованию бытия сущего, по сущностному
проекту истины, по смыслу, в соответствии с которым человек
оказывается мерой. Диалектика этих моментов ведет к
преодолению метафизики.
Хайдеггер ставит проблему субъекта в тесную взаимосвязь
с проблемой освобождения человека, с проблемой его свободы,
73
а также проблемой человеческого познания и сознания, то есть
с проблемой истины.
Хайдеггер полагает, что господство субъекта, который
кладется в основу всего существующего, проистекает из претензий
человека на обладание абсолютной непоколебимой основы истины.
Человек, освобождаясь от сковывавших его истин христианского
откровения и учения церкви, начинает сам себе устанавливать законы. Он
как бы движется в сфере своей свободы, решая для себя, что ему
надлежит исполнять обязательно, а от чего следует раз и навсегда
освободиться. Человек освобождается от достоверности ради
спасения достоверности собственного разума. Подведена
метафизическая основа под освобождение человека, обретающего свободу как
самодостоверное самоопределение: именно субъект должен быть
основанием этой свободы. Хайдеггер приводит формулу этой
достоверности: ego cogito (ergo) sum. Представлять — значит
постигать. Представление есть cogitatio. Как подчеркивает Хайдеггер, те
cogitare=me esse (деятельность моего сознания равна моему
бытию— формула субъекта как основополагающей достоверности).
Отныне быть субъектом — это привилегия человека, это его самая
важная характеристика как мыслящего и представляющего
существа. Человек отныне не просто мера всех вещей, а человек как
субъект есть cogitatio, то есть он сам делает себя тем, кто задает
меру для всех мер, кто определяет, что считать достоверным, то
есть истинным или сущим. Новая свобода — это свобода субъекта.
Сознание человека как субъекта придает всему существующему
смысл. Субъективность сознания как субъект cogitatio определяет
бытие сущего. После того как человек стал субъектом,
субъективность, согласно Хайдеггеру, начинает усиливаться и достигает
своего апогея в империализме технически организованного
человека. А организованное единообразие становится самым надежным
инструментом полного технического господства над землей. Свобода
субъективности нового времени полностью растворится в
сообразной ей объективности.
Как только человек становится субъектом, то, как полагает
Хайдеггер, перед ним с необходимостью встает вопрос о том, в
каком качестве он будет пребывать: как случайное «я» или как
социальное «мы», как некий индивид или человеческая общность, как
личность или как член какой-то группы, как государство и нация
и как народ или как общечеловеческий тип. Если человек
существует как субъект, то возникает опасность впасть в субъективизм, то
есть в индивидуализм. Вот тогда-то и появляется смысл бороться
против индивидуализма за общность людей.
Хайдеггер нащупывает ахиллесову пяту западной
философии: чем полнее и глубже человек осваивает мир, чем более
объективным становится объект и чем более субъективным оказывается
субъект, тем быстрее наблюдение мира и учение о мире
преобразуются в науку о человеке, то есть в антропологию. Вот почему там,
74
где мир становится картиной, или образом, возникает гуманизм.
В узком историческом смысле Хайдеггер считает гуманизм
морально-эстетической антропологией. Под этим философ понимает не
естественно-историческое изучение человека и не догматическое
учение христианской теологии о сотворенном, падшем и
искупленном человеке, а такое философское истолкование человека, которое
объясняет сущее, исходя из человека и в направлении человека.
Поэтому Хайдеггер полагает, что антропологическая
интерпретация не задается вопросом, что такое человек, поскольку это
подорвало бы ее устои, ибо она уже наперед знает то, что представляет
собою человек.
Начиная с XVIII века истолкование мира все больше и больше
укореняется в антропологии. В связи с этим основополагающее
отношение человека к сущему начинает слагаться как
мировоззрение. Как только мир становится картиной или образом, так
отношение человека к сущему понимается как мировоззрение. Под этим
понимается не бездеятельное созерцание мира, а созерцание жизни,
определенное отношение к жизни. Мир становится картиной, или
образом, тогда, когда человек, став субъектом, возвышает свою
жизнь до средоточия всего сущего: сущее становится таковым
тогда, когда оно переживается, то есть когда оно становится чем-то
внутренним для человеческой жизни и соотносится с ней.
Становится понятным, почему гуманизм не мог возникнуть в Древней
Греции, мировоззрение — в средние века. Согласно Хайдеггеру, где нет
переживания, там не может быть и мировоззрения.
Хайдеггер отмечает, что только Новое время характеризуется
завоеванием мира, ставшего картиной, или образом. В процессе
творения картины, или образа, человек как сущее стремится задавать
всему сущему свою меру, предписывая ему соответствующий путь.
Поскольку подобное отношение к сущему выступает как
мировоззрение, то его развертывание переходит в борьбу мировоззрений.
Ради этой борьбы и в соответствии с нею человек применяет всю
безграничную силу расчета, планирования и организации всего
существующего. С помощью науки, исследования, человек утверждает
себя в мире и с невероятной быстротой стремится к
самоосуществлению. Новое время вместе с борьбой мировоззрений вступает
в решающую, наиболее долгую и жизнедеятельную стадию своей
истории. Только теперь образуется основа для вопрошания бытия,
следовательно, для выбора, решающего вопрос о том, сможет ли
бытие снова ввести бога, а сущность человека — более
основательно отвечать истине бытия. Если завершение нового времени
доходит до присущего ему величия, то, несомненно, готовится
историческая реализация грядущего.
Проявление этого процесса Хайдеггер усматривает в самых
разных формах и видах колоссального или гигантского, благодаря
которому количественное приходит к своему качеству, обретая свое
величие.
75
Исторические эпохи отличаются одна от другой не только
количественными величинами, но и качеством — величием. Однако
как только количество переходит в качество, то есть как только
основные количественные параметры — планирование, расчет,
устройства или организации, обеспечения — обретают свое
качество, то все, что могло свободно измеряться количественно,
становится неподвластным подобному измерению. Как только человек
становится субъектом, а мир — картиной или образом, так становится
невозможным что-либо рассчитывать. Так достоинства нашей
эпохи превращаются в ее недостатки. Многое начинает выходить из-
под контроля человека.
Чтобы постичь этот процесс, человеку вовсе нет необходимости
сетовать на свою эпоху или отрицать ее — ведь бегство в традицию
не спасает, а, скорее, лишь ослепляет. Все, что не подлежит расчету
и исчислению, человек сможет познать в процессе творческого
вопрошания и творческого созидания образов.
Самый тяжелый упрек Хайдеггер бросает метафизике (под
которой он понимает всю философию от Платона до наших дней),
которая мыслит человека посредством animalitas и не проникает
мыслью в его humanitas.
У Платона сущность определяла существование.
Средневековая философия понимала existentia как actualitas. Кант представил
existentia как действительность в смысле объективности опыта.
Гегель определяет ее как самопознающую идею абсолютной
субъективности. Ницше понимает existentia как вечный круговорот
того же самого.
Все эти разнообразные различения между сущностью и
существованием, согласно Хайдеггеру, господствуют над судьбами
Запада и всей европейской истории, и все они безосновны.
В своем основополагающем философском произведении
«Бытие и время» («Sein und Zeit») Хайдеггер дает свое определение
и понимание сущности и существования, а также их соотношения:
«Сущность» бытия лежит в его существовании» 7. С этим понятием
существования, или экзистенции, связано и понятие субстанции:
«Субстанция человека есть экзистенция» («Die Substanz des
Menschen ist die Existenz») 8.
Эти метафизические определения сущности и существования
Хайдеггер считает несостоятельными, поскольку они еще не
содержат опыта того, что имманентно присуще человеку. На этом
основании Хайдеггер объявляет их недостаточно
гуманистическими, а свою философию, изложенную в «Бытии и времени», считает
по этой причине направленной против гуманизма всей
предшествующей метафизики, поскольку она недостаточно высоко несла
humanitas. Всякий гуманизм, согласно Хайдеггеру, либо опирается на
метафизику, либо делает сам себя основой какой-то метафизики.
В силу этого всякая метафизика оказывается «гуманистической»,
а всякий гуманизм — метафизическим. Такой гуманизм, определяя
76
человечность человека, не только не вопрошает о связи бытия
с сущностью человека, но даже мешает подобному вопрошанию.
От метафизики скрыто самое главное — истина бытия. А что
такое бытие? Во «Введении» к «Бытию и времени» Хайдеггер очень
просто определяет бытие: «Бытие есть просто трансценденция» 9.
Бытие дано в той мере, в какой есть существование. Вместе с тем
бытие тесно связано с истиной: «Бытие... имеется только постольку,
поскольку есть истина. И она есть только постольку, поскольку
и пока есть существование. Бытие и истина «являются» одинаково
первоначальными» |0.
Пытаясь связать бытие, истину и существование в единое
целое, Хайдеггер стремится преодолеть ахиллесову пяту
метафизики, которая отъединила человека от бытия, оторвала познание от
действительности, привела язык к вырождению или к упадку.
Хайдеггер нащупывает слабые места всей идеалистической
метафизики и вместе с тем, как это ни странно, высоко оценивает
философию Маркса. Маркс, отмечает Хайдеггер, настолько глубоко
шагнул в сущностный мир истории, что его видение истории
превосходит другие взгляды на историю. Ни Гуссерль, ни Сартр не
распознали сущности того, что является историческим в бытии. Отсюда ни
феноменология, ни экзистенциализм не достигают того уровня, на
котором был бы возможен творческий диалог с марксизмом.
Хайдеггер констатирует также якобы полное непонимание его
философии со стороны других современных философов и
философских направлений.
Поскольку его философия направлена против традиционного
метафизического «гуманизма», то ее объявляют античеловеческой,
варварской, антигуманистической:
— поскольку Хайдеггер выступил против традиционной
метафизической «логики», то его причислили к «иррационализму»;
— поскольку он выступил против традиционных
метафизических «ценностей», то его обвинили в том, что он все обесценивает;
— поскольку Хайдеггер объявил, что бытие человека
основывается на «бытии-в-мире», то ему вменили в вину отрицание какой
бы то ни было трансценденции;
— поскольку Хайдеггер ссылается на слова Ницше о «смерти
бога», то в этом усмотрели атеизм, безбожие;
— наконец, поскольку Хайдеггер выступил против всего того,
что в современном обществе считается возвышенным и святым,
то его обвинили в том, что он учит безответственному и
деструктивному «нигилизму».
Хайдеггер в такой же последовательности опровергает эти
обвинения:
— противопоставление традиционному «гуманизму» не влечет
за собой защиту того, что является нечеловеческим или
бесчеловечным, но открывает иные перспективы;
— «логика» понимает мышление как представление бытия
77
в его бытии. Представление помещает бытие в общности понятия.
Но что делается с мышлением, которое мыслит истину бытия? Уже
творцы «логики» — Платон и Аристотель — утратили сущность
логоса. Поэтому мышление против «логики» не означает ломать копья
о то, что нелогично, а значит,— мыслить логос и его сущность
в самом мышлении. Иррационализм как таковой гнездится в той
«логике», которая верит, что в состоянии уйти от размышления над
логосом и над сущностью рацио, имея в нем свою основу;
— мышление, направленное против «ценностей», не
утверждает, что все, что определяется как «ценность» — «культура»,
«искусство», «наука», «достоинство человека», «мир» и «Бог»,— не имеет
ценности. Напротив, речь идет о том, чтобы показать, что все, что
«оценивается» как «ценность», лишается какого бы то ни было
достоинства, ибо всякое оценивание, даже позитивное, является
субъективизацией, которая не позволяет бытию быть. Поэтому
мыслить против ценностей — это выступать против субъективиза-
ции бытия, которая делает из него только предмет, не позволяя
мышлению постигать истину бытия;
— указание на «бытие-в-мире» как на основную черту humani-
tas hominis humani не означает, что человек есть сущность
исключительно «из этого мира» в христианском смысле, следовательно,
отторгнут от бога и оторван от «трансценденции». Онтологическая
интерпретация Dasein как «бытия-в-мире» не решает вопрос ни
негативно, ни позитивно о возможном бытии бога. Современная
философия не занимается проблемой существования или
несуществования бога,— она индифферентна к этой проблеме. Мыслить
истину бытия — значит мыслить humanitas hominis humani.
Однако если humanitas так существенна для мышления бытия,
то, может быть, следует «онтологию» дополнить «этикой»?
Задаваясь вопросом о происхождении произведений искусства,
Хайдеггер приходит к своеобразной диалектике: в художнике он
находит источник происхождения произведения искусства, а в
произведении искусства — источник происхождения художника".
Произведение искусства и художник неразрывно связаны между
собой. Что же является источником происхождения художника
и его произведений? Хайдеггер считает их источником само
искусство |2. А искусство, как известно, вне произведений не существует.
Получается замкнутый круг. Однако Хайдеггера это не смущает,
наоборот, он полагает, что в этом проявляется сила мысли, ибо
философское мышление движется кругами.
Чтобы выйти из круга, мысль должна конкретизировать
предмет своего исследования, то есть мышление должно обрести
конкретно-исторический характер. Можно сказать, что Хайдеггер в
поисках источника художественных произведений или произведений
искусства ищет историческую основу своего мышления, историзм
своей философской концепции. Видимо, совсем не случайно он
берется исследовать искусство, содержание которого всегда про-
78
низано историчностью — историчность присуща искусству
имманентно. Пытаясь подвести под свою онтологическую концепцию
историческую основу, Хайдеггер формулирует проблему вещи
и произведения. Однако совершенно ясно, что никакая онтология
не в состоянии элиминировать гносеологический аспект, без
которого она будет лишать себя какого бы то ни было смысла. Вот
почему следующую проблему Хайдеггер определяет как проблему
произведения и истины: каждое произведение, если это подлинное
произведение искусства, всегда есть открытие истины. Наконец,
произведения искусства составляют само искусство.
Взаимоотношение истины и искусства представляется Хайдеггеру третьей
важной проблемой.
Опираясь на кантовское понимание вещи, Хайдеггер
подчеркивает универсальность, или универсальный характер понятия вещи:
все может называться вещью — от простых камней, земли, куска
дерева до самолетов, смерти, и даже бога. Только человек не может
быть вещью |3.
Хайдеггер убежден, что традиционное истолкование вещей
и оперирование с вещами настолько далеко отошло от сущности
вещей, что можно говорить об искажении и извращении как самой
сути вещей, так и их взаимоотношений друг с другом и с человеком.
Философ считает, что это искажение началось с переводом
древнегреческой терминологии на латинский язык 14, в ходе которого была
утрачена сама суть вещей, само их бытие. Однако искаженное
истолкование вещей стало настолько привычным и естественным,
что даже не возникало вопроса о правильности или неправильности
подобного истолкования вещей.
Хайдеггер задается вопросом о том, является ли строение
суждения зеркальным отражением строения вещи или, наоборот,
строение вещи отражает строение суждения? Философ полагает,
что вопрос о том, что первично и что задает меру — строение
суждения или строение вещи,— до сих пор еще не решен. И
нерешенность этого вопроса объясняется тем, что ни строение суждений, ни
строение вещей не могут быть самообоснованы — необходимо еще
найти тот источник, из которого они проистекают и которым они
питаются.
Ложное истолкование сути вещей означает, согласно
Хайдеггеру, насилие над вещами, не улавливающее вещности вещей. В силу
того что мышление совершает насилие над вещностью вещей,
искажая их бытийную, онтологическую сущность, люди часто
отказываются от самого мышления, вместо того чтобы делать мысль и
мышление все более глубоким и рефлексивным.
Чтобы избежать слишком рационального и иррационального
лжеистолкования, необходимо, полагает Хайдеггер, отказаться от
ненужного давления на вещи — надо оставить им необходимое
свободное пространство, в котором они могли бы свободно проявлять
свою вещность. Следует также избавиться от всего того, что стоит
79
между вещью и человеком — все способы постижения и все
суждения о вещах. В философской традиции существовало мнение, что
непосредственное постижение вещей осуществляется при помощи
ощущений. Хайдеггер не приемлет подобного способа постижения
вещей или подобной взаимосвязи между человеком и вещами,
полагая, что органы чувств и ощущения не дают нам необходимой
адекватности в постижении сути вещей, поскольку вещи сами по себе
гораздо ближе к нам, чем посредством ощущений. Следовательно,
согласно Хайдеггеру, ни суждения, ни ощущения не сближают нас
с вещами — в обоих случаях вещь как таковая исчезает.
Третий способ истолкования, согласно Хайдеггеру, связан с
категориями материи и формы, формы и содержания. Эти категории
Хайдеггер считает понятийной схемой всякой теории искусства
и всякой эстетики. Он отмечает злоупотребление этими расхожими
понятиями, под которые можно подвести все что угодно, особенно
тогда, когда форма соотносится с рациональным, а материя —
с иррациональным, при этом рациональное выдается за логическое,
а иррациональное — за алогическое. Если к тому же категории
материя — форма соотносятся с категориями объект — субъект,
тогда этой понятийной схеме уже ничто не может противостоять |5.
Подобное неоправданное применение этих категорий к чему попало
ведет с неизбежностью к их опустошению. Чтобы избежать этого,
Хайдеггер предлагает отказаться от слишком расширительного
и неоправданного применения этих категорий. Хотя эти категории
имеют универсальное значение, но нет никакого смысла применять
их к чему угодно.
Не отрицая важное значение категорий формы и материи
в развитии человеческого познания, Хайдеггер обрушивается с
резкой критикой против абсолютизации этих категорий. Например, он
справедливо критикует томистскую философию, восходящую
к Аристотелю, правда, схоластически понятому и обработанному,
и к Фоме Аквинскому, которая рассматривает мир как
божественное творение, как сотворенное бытие, мыслимое на основе единства
материи и формы. Вот эта основанная на вере идея сотворения
мира преобразуется в теологическое истолкование всего сущего,
рассмотрение его с точки зрения категорий материи и формы. По
существу, эта позиция присуща не только средневековью, но и в
несколько измененном виде и метафизике нового времени.
Третий способ истолкования вещи, основанный на единстве
материи и формы, так же как и первые два способа, понимает вещь
как носитель признаков и свойств, как единство многообразия
ощущений, как сформированную материю или материализованную
форму. Несмотря на активную роль формы как внутренней структуры
материи, распределяющей и упорядочивающей материю,
предписывающей соответствующий род и вид материи, выбор материала
в зависимости от функциональности предмета (глина для сосудов,
сталь для топора, кожа для башмаков и т. д.) и несмотря на извест-
80
ную тесную диалектическую взаимосвязь материи и формы, этот
способ рассмотрения также не способен раскрыть вещность вещи,
ее внутренний онтологический смысл, творческую сущность
произведения.
Хайдеггер ищет и находит выход из этой почти тупиковой
ситуации в своеобразно понятой и истолкованной им историчности,
которая предполагает оставить вещь в покое такой, какою она есть.
Вещность вещи не терпит никакого насилия над собою, поэтому она
лучше всего может проявляться, если вещь просто описывают или
изображают, отвлекаясь от всякой философии.
Хайдеггер демонстрирует свои рассуждения феноменологиче-
ско-экзистенциальным описанием картины Ван Гога, на которой
изображены башмаки. Философ отдает себе отчет в том, что и это
описание не является совершенным, но все-таки оно дает
возможность изведать, что есть произведение искусства, в котором
творится и свершается истина, как в художественном произведении
рождается, развивается и раскрывается сущее бытия или бытие сущего.
Бытийная или онтологическая сущность искусства и есть истина
сущего, творящаяся в произведении и обитающая в нем.
Как видно, Хайдеггер отбрасывает традиционную точку зрения,
согласно которой искусство прекрасно потому, что производит
прекрасное и занимается прекрасным, а истиной занимается не
искусство, а логика. Что касается красоты, то она относится к сфере
эстетики. Философ убежден в том, что не столько логика, сколько
искусство порождает прекрасное, именно порождает, а не отражает
и не подражает. Значение картины Ван Гога вовсе не в том, что она
изображает пару крестьянских башмаков, и не в том, что она
отображает действительно существующие башмаки и переносит это
отображение в художественное произведение. Речь идет не о
подражании, отображении или воспроизведении какого-то отдельно
существующего предмета, а о воспроизведении всеобщей сущности
бытия вещей. Однако с какой сущностью бытия соотносится
греческий храм и может ли быть этот храм воплощением идеи храма
вообще? Между действительностью и искусством, согласно Хай-
деггеру, не может быть отношений отражения или отображения,
которой придерживалась традиционная эстетика. Только тогда
можно будет понять сущность произведений искусства и
художественного творчества, когда к ним будут подходить с точки зрения
бытия сущего. Тогда станет ясно, что художественное произведение
раскрывает бытие сущего, что в нем покоится истина сущего, что
искусство есть полагание истины в произведении. (Die Kunst ist
Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit l6.)
Анализируя состояние современного искусства, место и роль
произведений искусства в современном мире, Хайдеггер отмечает,
что искусство становится анонимным, а художник — безразличным
по отношению к своему произведению. Сами же произведения
искусства вырываются из их органического контекста, для которого
81
они были предназначены и в котором они только и могут жить и
существовать как подлинные творения художника. «Суета» вокруг
произведений искусства (беспорядочное нагромождение картин
и скульптур в музеях, на выставках, в частных собраниях,
магазинах и т. д., превращение произведений искусства в предмет науки —
искусствознания и критики и т. п.), предпринимаемая с целью их
изучения, оценки, популяризации, на деле приводит к превращению
этих произведений в такие же вещи и предметы, как и все
остальные, то есть к тому, что они перестают быть произведениями
искусства, в которых творится и хранится истина.
На примере такого произведения искусства, как греческий
храм, Хайдеггер демонстрирует необычайно могучую силу
искусства, его постоянное воздействие на всю действительность. Казалось
бы, греческий храм «ничего не отображает», ничего не делает,
а просто стоит себе в долине, пересеченной оврагами и ущельями.
Но в том-то и дело, что его покойное стояние лишь кажущееся.
Храм как бы имманентно содержит в себе облик бога и всего, что
с этим связано — божественного и святого. Храм — это то святое
место, куда входят и откуда исходят и где пересекаются в некоем
единстве пути и отношения, содержащие рождение и смерть,
проклятие и благословение, победу и позор, терпение и упадок,
обретающие облик человека в уготованной ему судьбе: господствующий
простор этих открытых отношений и есть история этого народа. Из
них и в них народ возвращается к самому себе, чтобы осуществить
свое предназначение 1/.
Покойное стояние храма является одновременно
противостоянием силам природы — дождю, ветрам, бурям и грозам, а его камни
отражают дневной свет, темноту ночи, широту небес, делают
зримыми огромные воздушные пространства. То, благодаря чему все
существующее (растения, насекомые, животные) остаются тем, чем
они есть, Хайдеггер называет землей. Она проявляет и просветляет
то, на чем и внутри чего человек основывает свое житие. В то время
как произведение формирует мир, оно создает и землю. Создавать
означает здесь в строгом смысле слова мыслить 18. Земля — это не
почва и не планета, а то, что существует во всем, сохраняя и
оберегая целое.
Храм как произведение искусства как бы придает вещам их
исконный вид, а людям — предоставляет возможность смотреть на
самих себя. Но произведение искусства — не отражение и не
отображение существующей действительности. В нем бытийно
присутствует то, что должно быть. Например, древнегреческая трагедия
вовсе не повествует о борьбе богов. Она как бы являет собою глас
народа, сказание народа, поэтому каждое ее слово живет этой
борьбой и ставит перед выбором: что свято, а что осквернительно, что
велико, а что ничтожно, что доблестно, а что малодушно, что
благородно, а что нет, кто господин, а кто слуга.
Произведение искусства живет не тогда, когда его выставляют
82
на выставке или в музее,— оно живет своей жизнью именно
произведения искусства, раскрывая и растворяя глубины сущего,
глубины бытия. Из этих глубин проступает, воздвигается, освящается
мир. Само бытие произведения искусства ведет к раскрытию
правды как правила и меры — ведь все сущее задает свое правило.
Произведение раскрывает свой мир, который не есть ни скопление
наличных вещей, ни их воображаемый предел, а есть та
беспредметность, которая благодаря своей бытийности, властвует над людьми.
Там, где свершаются исторические деяния людей, там всюду мир.
У человека есть свой мир, ибо он пребывает в сфере сущего. У
камня, у растения и у животного нет мира.
Художник или поэт, создавая свои произведения, творит то,
чего еще не было, хотя это новое он создает из красок, которые
существовали, из слов, которые употреблялись. Но в том-то и дело,
что произведение — это не просто существование вещества или
слов или их инобытие, нет, это нечто совершенно отличное от того,
благодаря чему возникает произведение искусства. Произведение
искусства, выставляя или восставляя мир и составляя землю, в себе
самом творит истину, свершает истину. При этом истина
понимается не только и не столько как суждение, сколько как
действительно существующее, то, что истинно существует. Хайдеггер
определяет эту истину древнегреческим термином αλήθεια, то есть как
несокрытость или раскрытость сущего (die Unverborgenheit des
Seienden) l9.
Подобное понимание и истолкование истины было утрачено
еще в древнегреческой философии, а в последующие времена ее
истолкование было сведено к истине как правильности или
достоверности. Хайдеггер стремится возродить подлинный смысл
и содержание истины, от которой зависит сущность человека, все
его познание, все его представления, направление всей его
деятельности. Поскольку философ считает, что суть всего существующего
состоит в бытии, то его истолкование истины можно назвать
онтологическим. Правда, Хайдеггер тесно связывает бытие с ничто,
поскольку человек овладевает слишком немногим из того, что
находится в сфере сущего, да и это овладение довольно
приблизительно и непрочно. Что касается ничто, то оно почти неизвестно
человеку. Бытие определяется ничто, ничто — бытием. Точно так
же истина в своей бытийной сущности есть не-истина, то есть
истина всегда соотносится со своей противоположностью —
неистиной — и предполагает ее 20. Истина осуществляется или
свершается в художественном произведении, в творческом бытии.
Истина свершается в храме, или в картине, или в скульптуре. Истина
творится в произведении. Она как бы сияет, излучает свет изнутри
самого произведения. Может быть, можно сказать так, что истина
произведения раскрывает себя как его красота, ибо «красота есть
способ, каким бытийствует истина» 21, то есть красота есть способ
существования (онтологического) истины.
83
Такое понимание и истолкование истины и произведения и их
взаимоотношения не столько решает вопросы, касающиеся
художественного произведения и истины, сколько ставит новые: вопросы
о творчестве и творении, созданности и созидании, бытийной
сущности произведения, бытийной сущности истины и т. д. Все эти
вопросы подводят к более существенному вопросу — о
соотношении истины и искусства.
Хайдеггер напоминает, что искусство является истоком
художественного произведения и художника, а исток —
происхождением бытийной сущности.
Созидание произведений искусства требует ручного труда, но
не ремесла, ибо ремесло не создает произведений искусства.
Совершенное владение техникой или ремеслом есть лишь
предпосылка художественного творчества, а не само художественное
творчество. Вникая в этимологию греческого слова «технэ» (τέχνη),
Хайдеггер показывает, что этот термин вовсе не обозначает ни
ремесла, ни искусства, ни тем более ничего технического в
современном значении этого слова и вообще ничего такого, что связано
с достижением практических результатов. Этот термин означает то,
что обычно понимают под словом «видеть» — видение. А видение
Хайдеггер связывает с истиной, с усмотрением, узрением истины.
Творение произведения искусства является одновременно
способом становления и свершения истины, в бытийной сущности
которой заключено все: и стремление к творению, то есть к
произведению, и к художественной деятельности, и к раскрытию истины.
Творческую деятельность человека, связанную с истиной, с αλήθεια,
Хайдеггер отличает от ремесленного изготовления и даже
противопоставляет одно другому. Создание художественных произведений
определяется бытийной сущностью созидания. Творческая
деятельность пронизана насквозь творческим созиданием и навсегда
погружена в это созидание. Возникновение, становление,
формирование произведения искусства есть одновременно возникновение,
становление, формирование истины. В своем собственном становлении
истина конституирует, как бы строит саму себя. Сущность
свершающейся истины свершается разными способами: полагание себя
в произведении, деяние, основывающее государства, близость
такого сущего, которое как бы заставляет истину светиться, излучаться,
приношение существенного в жертву, наконец, вопрошающее
мышление, мыслящее бытие и дающее вопрошающему бытию имя. Что
касается науки, то Хайдеггер не считает ее изначальным
свершением истины, а разработкой через постижение и обоснование
правильного как правильного возможного и правильного необходимого.
Только в случае выхода за пределы правильного к истине и
раскрытию сущего наука становится философией.
Истина, согласно Хайдеггеру, существует или является
«спором мира и земли». «Мир» — это то, что предоставляет
человечеству осуществить свой выбор: человечество, погруженное в историче-
84
ское свершение, может выбрать победу или поражение,
благословение или проклятие, господство или рабство. «Мир» выставляет все
безмерное и нерешенное. «Мир» пронизывается «землей» 22 — все-
несущей, вседержащей, всетворящей. «Земля» дает «миру» свою
решительность, закон и меру. В «споре» «мира» и «земли», то есть
в их глубинной взаимной проникновенности и взаимной
принадлежности, в единстве противоположных сил, рождается истина,
утверждается истина, разумеется, в создаваемом произведении
искусства 2Л.
Хайдеггер настаивает на действительности произведения: если
оно создано, то оно есть и будет. Уже ничто не может помешать
произведению быть. Гарантией бытия произведения искусства как
такового является само произведение, в котором свершается
истина. Даже забвение произведения, по существу, выполняет функции
сберегания и охранения произведения искусства. Данная функция
представляет собою как бы подлинное толкование произведения
искусства, исключающее чисто вкусовые, формальные критерии
и оценки красот и качеств произведения искусства. Функция
хранения и оберегания произведения направлена на его глубинное
постижение и познание, она объединяет людей вокруг истины,
содержащейся в произведении, создает основу для их совместного
бытия друг с другом и друг для друга в исторически свершающемся
бытии. Произведение искусства следует оберегать прежде всего от
«суеты» художественной жизни, способной лишь затемнить
бытийную сущность произведения. Действительность произведения
только тогда становится по-настоящему творческой, когда произведение
хранится и оберегается в его истине, в сущности его творческого
бытия. Хайдеггер приходит к выводу, что искусство есть
созидающее сохранение истины в произведении, то есть «искусство есть
становление и осуществление истины» 24.
Все искусство философ рассматривает как некую поэзию.
Правда, он замечает, что нельзя другие виды искусства —
зодчество, живопись, музыку — сводить к искусству слова, ибо это был бы
чистейший произвол. И все-таки поэзия, согласно Хайдеггеру,
занимает выдающееся место в системе искусств. Это место
определяется уже тем, что поэзия использует язык, дающий имя сущему
и направляющий его к его бытию. Следовательно, сам язык есть
поэзия, к тому же поэзия в самом существенном смысле. Однако
язык не потому является слагающей и сочиняющей поэзией, что он
есть первозданная и первоначальная поэзия, а поэзия потому
бытует в языке, что язык хранит в себе изначальную бытийную
сущность поэзии как слагающую и сочиняющую. Язык во многом
определяет и другие виды искусства, ибо созидание образов — это
тоже своеобразная поэзия.
Хайдеггер выступает резко против всякого рода
субъективистского истолкования искусства как гениального создания
самовольного и самовластного субъекта. Философ считает искусство учреж-
85
дением (Stiftung) истины: учреждение как дарение (Schenkung),
учреждение как основание (Gründung), учреждение как начало
(Anfangs). Искусство в этом смысле является глубоко
историческим — и не потому, что оно меняется вместе со временем и
предлагает истории меняющиеся воззрения, но потому, что искусство
и есть сама история, ибо оно обосновывает и основывает
историю 25. Истина, которую учреждает искусство, есть нечто
совершенно новое, невиданное ранее, ее никогда поэтому нельзя вывести из
того, что было ранее. Произведение искусства изливает или
источает истину сущего. Исток или происхождение произведения
искусства есть одновременно исток и происхождения самого искусства,
а искусство есть выдающийся способ становления истины,
становящейся благодаря искусству сущей, а потому исторической.
Искусство, обладая подлинным началом, предвосхищает
грядущее, оно уже таит в себе все то, что будет развертываться в
будущем как его сокровенное, следовательно, оно содержит в себе
и конец. Искусство, одной из основных характеристик которого
является историчность, приходит к этой историчности как нечто
основополагающее, то есть как то, что дает всему существующему
основу, меру, сущее. Подобное основополагание характеризует
различные эпохи: Античность, Средневековье, Новое время. Вместе
с началом начинается история, которая не означает наследования.
История есть отход народа от отброшенного как вступление в
унаследованное им 2Ь.
Хайдеггер разъясняет, что его рассуждения касаются загадки
искусства, загадки, которую представляет само искусство.
Традиционное рассмотрение искусства и художника с
эстетической точки зрения, когда художественное произведение берется
как предмет чувственного восприятия, чувственного переживания,
совершенно не удовлетворяло Хайдеггера. Понимание искусства,
пользование и наслаждение искусством, сущность искусства — все
сводилось традиционной эстетикой к переживанию. Однако
Хайдеггер, скорее, убежден в обратном: переживание есть та стихия,
в которой искусство гибнет. Гибель искусства — процесс
медленный, он занял несколько столетий.
В такой же мере его не удовлетворяют речи о бессмертных
произведениях искусства и о вечной ценности искусства, поскольку
на самом деле великое искусство уклонилось от людей. Не случайно
Гегель еще в 30-х годах XIX века, несмотря на возникновение
новых художественных произведений и направлений,
констатировал, что искусство перестало быть одним из способов познания
и выражения божественного, глубочайших человеческих интересов,
всеобъемлющих истин духа. Конечно, искусство всегда будет
развиваться и совершенствоваться, но его форма уже перестала быть
наивысшей потребностью духа. Видимо, не случайно Гегель пришел
к выводу, что во всех отношениях искусство со стороны
величайшего своего предназначения остается для нас чем-то пройденным.
86
Гегелевский вопрос о том, продолжает ли искусство быть
существенным и необходимым способом осуществления истины или
оно уже перестало быть таковым, согласно Хайдеггеру, остается
не решенным до сих пор. За этим вопросом стоит судьба всего
западного мышления и западного искусства.
Хайдеггер ведет речь не о той истине, которую обычно имеют
в виду, когда говорят о познании и науке, и от которой отличают
прекрасное и доброе, а об истине как истине бытия. Прекрасное
находится не рядом с этой истиной и не вне ее. Эта истина
находится внутри произведения и как бытие истины произведения
есть красота. В этом смысле прекрасное принадлежит истине в ее
самоосуществлении в художественном произведении. В сущем
и благодаря сущему устанавливается и существует неразрывная
связь между развитием истины и развитием красоты. На этом
основании Хайдеггер рассматривает всю историю западного
искусства в соответствии с сущностным преобразованием истины.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что вопрос об искусстве у Хай-
деггера полностью определяется вопросом о бытии, ибо искусство
в его понимании не является ни сферой достижений культуры, ни
явлением духа,— оно принадлежит той сфере, где определяется
смысл бытия. А бытие неразрывно связано с человеком и обращено
к человеку, следовательно, необходимым образом предполагается
соотносительная связь бытия и человека. Может быть, также
поэтому вопрос о происхождении произведений искусства никак не
отвечает на вопрос о том, что такое искусство.
Карл Ясперс. Философия экзистенции
Эстетическая концепция Ясперса во многом продолжает эстетику
Киркегора. Это объясняется тем, что Ясперс, как и Киркегор,
принадлежит к религиозному крылу экзистенциализма.
Как и Киркегор, Ясперс исходит из понятия экзистенции, хотя
и говорит о трех способах бытия: мире, экзистенции,
трансценденции. По Ясперсу, «экзистенция есть то, что относится к самой себе
и в этом отношении к своей трансценденции» '. Это почти
дословное повторение того, что говорил об этом Киркегор: «Самость
людей» есть «отношение, которое относится к самому себе и в этом
отношении-к-самому-себе (Zu-sich-selbst-verhalten) относится
к некоему другому» 2. Примерно так же рассуждает и Ясперс:
«Экзистенция, появляющаяся в сознании, схватывает мышлением
трансцендентное, которого нет в сознании, но над которым оно
проходит как совершенно другое. Трансценденция является
бытием, которое не является существованием и сознанием, но которое
трансцендирует все, что есть для сознания и в сознании» \
Как экзистенция, так и трансценденция непознаваемы
обычными, рациональными средствами. Их постижение происходит в
особых «пограничных» ситуациях. При этом экзистенция выступает
как одно из средств постижения трансценденции. Однако поскольку
абсолютное непознаваемо, то в лучшем случае экзистенция
достигает трансценденции через свою собственную гибель. В основном же
постижение трансцендентного сводится к чтению шифров, в
которых оно проявляется.
Категории экзистенции и трансценденции с необходимостью
предполагают категорию существования, под которой понимается
индивидуальное человеческое существование, индивидуум, взятый
вне конкретно-исторической действительности, вне общества, вне
истории. В своей книге «О происхождении и цели истории» Ясперс
всю человеческую историю представляет как историю культуры,
насчитывающую около пяти-шести тысяч лет. С момента
возникновения человечества начался период, который он называет
предысторией и который привел к возникновению древней культуры. Расцвет
культуры примерно за пятьсот лет до нашей эры в Европе, Китае
и Индии он называет «первым временем оси». В этот период
человек начинает осознавать бытие, себя и свою ограниченность.
«Новым во всех трех мирах этой эпохи является то, что человек
начинает осознавать бытие в целом, себя самого и свои границы. Он
начинает понимать то, что мир страшен, а он сам бессилен. Он
ставит радикальные вопросы. Стоя на краю пропасти, он стремится
к освобождению и спасению... Он познает безусловность в глубине
«бытия-в-себе» и в ясности трансценденции. Это произошло в
рефлексии. Сознание сделало еще раз сознание сознательным, мышле-
88
ние направлялось на мышление... В этот период возникли основные
категории, которыми мы мыслим вплоть до сегодняшнего дня, и
были созданы начала мировых религий, которыми люди вплоть до
сегодняшнего дня все еще продолжают жить» 4. Это был, по Ясперсу,
поворотный пункт в мировой истории. С этого момента, с этой
«осевой эпохи» (Achsenzeit) началась настоящая история человечества.
Ясперс конструирует эту схему для того, чтобы доказать
правомерность экзистенции, которая должна якобы найти свое полное
воплощение и реализацию во втором «времени оси», которое еще не
наступило, но которое непременно наступит.
Вся человеческая история представляется ему историей идей,
историей религии, философии, искусства. Эта культура, полагает
Ясперс, безусловно, развивалась. Однако прогресс он находит в
знании, в технике, но не в человеке, «не в субстанции человеческого
бытия» 5. Какой бы прогресс ни наблюдался, какие бы открытия ни
совершала наука — все это будет лишь ростом различных областей
человеческого знания или человеческой деятельности, но не
прогрессом человека как такового. Субстанция человека остается
неизменной. А человек, согласно Ясперсу, является «духовной
сущностью истории» 6. Из этого следует: раз не меняется субстанция
«исторического индивидуума», как именует Ясперс человека, то не
меняется и история, в ней также нет и не может быть никакого
прогресса.
История, говорит Ясперс, ограничена во времени и
пространстве: во времени она есть вечное настоящее, в пространстве
ограниченность истории совпадает с ограниченностью индивида, земли, на
которой он живет, планеты, космоса. Как только человек начинает
исследовать историю, он сразу же исключается из истории, а сама
история исчезает. «История сама становится путем к надысториче-
скому... Рассмотрение истории в целом ведет к выходу за историю.
Единство истории само не является больше историей» 7. Вся
история человеческой культуры слагается как отношение между
экзистенцией и трансценденцией, которое по самой своей природе не
может быть историческим в подлинном смысле этого слова и делает
историю неисторической. Поэтому у Ясперса термины «история»
и «исторический» означают нечто совершенно противоположное
действительной истории и историческому.
«Точка зрения становится только эстетическим
рассмотрением истории» . Он связывает это с тем, что «великие историки,
начиная с древности, всеобщие историко-философские воззрения,
искусство и поэзия наполняли нашу историческую фантазию» 9.
Теперь историческое рассмотрение стало невозможным без
искусства и поэзии. Именно поэтому Ясперс придает столь большое
значение рассмотрению искусства и эстетики.
Что понимает Ясперс под искусством? «По своему
происхождению,— пишет он,— искусство является озарением
экзистенции...» 10. А экзистенция представляет собой то, что относится к са-
89
мому себе и в этом отношении к трансценденции, то есть сознание
индивида, направленное на рассмотрение самого себя, благодаря
чему оно соотносится с трансценденцией, в конечном счете —
с богом.
Во все времена, на протяжении тысячелетий, течет поток
произведений искусства. Где этот неиссякаемый источник искусства,
что питает искусство на всем протяжении его развития? Ясперс
находит этот источник искусства в его связи с религией: «В то
время как изначальное вопрошание философии коррелятивно
религиозному существованию (Dasein), искусство по содержанию и
сознанию долгое время идентично религиозному действию; художник
служит религии, он не только исторически анонимен, но как
художник не имеет личной самобытности (Eigenständigkeit); он создает
высший мир, опираясь на всеобщее трансцендентное сознание.
Искусство может быть на высоте, не являясь философией» м.
Искусство, в отличие от философии, не противопоставляется
религии, а тождественно ей по своему сознанию и содержанию, оно
долгое время как бы движется в одной сфере с религией. Здесь речь
идет не о мифологическом периоде в развитии человеческого
сознания и человеческой культуры, когда искусство и религиозное
сознание находились как бы на одном уровне и тесно переплетались
друг с другом, так что трудно было отличить одно от другого,
а о том «трансцендентном сознании», которое, по Ясперсу, лежит
в основе и религии и искусства. Именно этим «трансцендентным
сознанием», которое лежит в основе религии и искусства, они
отличаются от философии, представляющей собой «цельный»,
завершенный мир с личностью «великого философа» в эпицентре.
Вся философия и ее история представляют собой философию
и историю «великих». Под «величием» Ясперс понимает отнюдь не
силу, героизм или впечатление, производимое произведениями
искусства,— нет. «Величие,— пишет он,— есть всеобщее в
незаменимости исторически единственного образа... Одна незаменимость
имеет величие» 12. В этой незаменимости, оригинальности,
самобытности Ясперс видит подлинное величие философов. Напротив,
в искусстве художник является исторически «анонимным»,
«безымянным», не имеющим «личной самобытности», поскольку вся его
деятельность, все его творчество основывается на
«трансцендентном сознании». Художник, как и святой, не может быть
самобытным и оригинальным уже в силу того, что он исходит из
«трансцендентного сознания» и стремится к «трансценденции». Его
значение не в том, что он чем-то отличается от той основы, из которой
исходит, а в том, что он, исходя из нее, возвращается к ней же,
чтобы слиться с ней и стать анонимом, то есть значение художника
состоит в его «неоригинальности», «несамобытности», в его
«исторической анонимности».
, Подобное воззрение на философию и искусство возникает там
и тогда, где и когда имеются развитые индивидуалистические отно-
90
шения, разобщенность, замкнутость и изоляция индивидуумов,
каждый из которых выступает лишь как ничтожная часть целого.
Отсюда настойчивые поиски «целостности», «единства», которые
Ясперс находит для философии в личности философа, в личности
«великого», в «величии», а для религии и искусства в
«трансцендентном сознании», в «трансцендентности». Поскольку же подобное
«единство» и «целостность», а также «трансцендентное сознание»
были уделом более ранних эпох и культур, то Ясперс постоянно
обращает свои взгляды к прошлому, в котором он видит подлинные
идеалы и философии, и религии, и искусства. При этом он довольно
своеобразно различает искусство и философию.
Так, отвергая понимание философии как случайного
многообразия, лишенного истины, как игры более или менее удавшихся
образов, Ясперс пишет: «Философские сочинения не являются, по
существу, поэмами или произведениями искусства, творцы которых
создают целый ряд таковых в течение всей своей жизни. Они
взыскуют истины в мышлении, которое получено через единство.
Это единство у великих философов, когда мы его у них постигаем,
все же не поддается никаким различающим определениям, что
толкает нас от философа к философу и к вопросу, образуют ли они
единство в центре действительности и истины? Подобный вопрос не
находит никакого ответа. Однако в нем заключается движущая
сила к этому единому» [Л. Хотя Ясперсу данное различение между
философией и искусством и представляется довольно
существенным и значительным, все же нетрудно заметить, что и философия
и искусство имеют у него одну и ту же основу, которая в одном
случае называется им «трансцендентным сознанием», а в другом —
«единством» и которая в конечном счете представляет собой
абсолютизацию социальных отношений, социальной природы
деятельности и сознания, определяющую как формы этой деятельности
и сознания, так и способы их усвоения, реализации, существования
и передачи другим поколениям.
Здесь нет места раскрывать подробнейшим образом весь
механизм данной абсолютизации, важно понять, что в основе этой
абсолютизации лежат отношения самой буржуазной действительности,
которые постоянно производят и воспроизводят различные формы
отчужденного сознания как отражения данной действительности.
Философские и эстетические концепции Ясперса представляют
одну из форм этого отчужденного сознания.
Ясперс, однако, не только пытается различить и
противопоставить философию и искусство, он находит между ними и общее,
проявляющееся как в способах усвоения, так и в способах
реализации и существования. «Искусство проявляется, как философия,
в усвоении (Aneignen), в создании (Hervorbringen), в
существующих произведениях (Werk)» |4. Этим Ясперс хочет сказать, что
искусство как таковое существует не как отражение
действительности, а прежде всего как нечто принадлежащее духовной реальности.
91
Ясперс пытается установить более глубокие различия между
философией и искусством и дать им свое истолкование.
Мыслительную работу философа Ясперс называет
философствованием, подчеркивая его незавершенность, открытость:
«Философствование является мышлением в жизни, которое в этом
мышлении вырывается из лжи; оно ищет в нем подъема из слепоты
к зрению, из рассеянности к своему единству, из существования
к бытию» |5. В философствовании поиск истины, которая не
существует как что-то раз навсегда данное, а является некоторого
рода направлением. «Истина как направление... есть движение от
потерянности к самосознанию» Ιϋ. И именно как «направление»
и «движение» она всегда неполна, поскольку основывается на
промежуточном бытии.
Философское знание и познание всегда недостаточное, а
усвоение в философии является усвоением того, что было выработано
раньше великими философами. Поскольку же это «усвоение»
состоит в «приобщении» к великой личности философа и поскольку
это «приобщение» в принципе вещь до конца неосуществимая, то
философия не является познанием в собственном смысле слова,
а своеобразным «перемещением» прошлого философского знания
или философских систем в мысленные действия субъекта,
пытающегося «усвоить» это прошлое знание. Подобная ситуация
повергает субъекта в уныние, поскольку он достаточно хорошо
осознает безрезультатность своих попыток. Субъект может лишь читать
«шифры», но никогда не достигнет сущности, скрывающейся за
этими шифрами.
Историко-философская концепция Ясперса основывается на
понятии «великого» или «величия». Само «величие» в философии
понимается по-разному: как сила, как героизм, как впечатление,
производимое произведениями искусства, как божественные силы
и т. д. Однако Ясперс не отождествляет величие с силой и проводит
между ними определенное различие: «Где есть величие, там есть
сила, но сила еще не есть величие...» ". Таким образом, хотя
величие можно встретить в самых различных проявлениях, тем не менее
под истинным величием Ясперс понимает «всеобщее в
незаменимости исторически единственного образа», «незаменимость»,
неповторимость, исключительную оригинальность.
В чем состоит величие философов? Каких философов можно
считать великими? Ясперс выделяет ряд критериев, соответственно
которым определяются великие философы. Прежде всего он
указывает на два внешних, но необходимых критерия: наличие
произведений этих философов и влияние, оказываемое этими философами на
мышление последующих философов i8. Здесь Ясперс прав, когда
относит наличие произведений к внешним условиям, внешним
критериям, ибо, например, Сократ и Будда хотя и не оставили сочинений,
тем не менее считаются великими. Правда, надо иметь в виду, что
их мысли передавались все-таки в сочинениях их последователей,
92
то есть произведения великих философов имеются всегда, хотя
и не всегда принадлежат им самим. И все-таки это условие или
критерий можно считать внешним. Что касается второго критерия,
то его следовало бы, скорее, отнести к внутренним критериям,
поскольку влияние философа на последующее мышление, на
последующих философов следует считать одним из важнейших и
существеннейших критериев «величия» философа, ибо именно
будущее показывает, насколько значителен был его вклад.
Ясперс выделяет «внутренние критерии» величия философов,
относящиеся непосредственно к «субъекту», то есть к философу.
Таких критериев три. Первый критерий заключается в том, что
каждый, даже великий мыслитель, имеет свое определенное
«историческое одеяние», как говорит Ясперс. То есть все, даже великие
философы, подчинены времени. Правда, великие философы не
только подчинены времени, но одновременно стоят над этим
временем: «Они действуют во времени и вместе с тем вне времени» 19.
Какой бы ни был философ и какими бы ни были его философские
взгляды — в любом случае он имеет то «историческое одеяние»,
которое дает ему его эпоха, его время. И это, бесспорно, верная
мысль. Что касается его утверждения о том, что философы
находятся «над временем», то под этим надо понимать не только то,
что великие философы переживают свое время, что их взгляды
продолжают существовать и оказывать влияние после их смерти, но
и то, что великие философы «пробивают брешь» в оболочке
исторически определенного времени, они как бы предвосхищают будущее
в настоящем, а свое настоящее как бы переносят в будущее.
Второй внутренний критерий Ясперс видит в том, что каждый
великий философ является «самобытным», оригинальным:
«Великий мыслитель является оригинальным в своей самобытности. То
есть он говорит миру то, что до сих пор ему было неизвестно» 20.
Великий философ приносит в мир нечто совершенно новое. Здесь
у Ясперса имеется противоречие, которого он не замечает.
Оригинальность философа заключается в его «самобытности», а
«самобытность» состоит в привнесении в мир новых ценностей, того, чего
еще не было. В то же время Ясперс говорит о том, что
оригинальность не состоит в выставлении и создании чего-то нового, а в
духовной позиции, с помощью которой связывается и
перерабатывается уже известное. Оригинальность заключается не в новизне
вклада, а в духе, из которого мыслитель исходит и который его
связывает со многими другими 2|.
Великий философ все же должен вносить в мир нечто
совершенно новое, ибо помимо других качеств, великий философ должен
обладать, по Ясперсу, еще и «проницательностью», которая
возвеличивает не только его как философа, но и мир, в котором он
живет 22. С каждым новым мыслителем все как бы обновляется
и выглядит в новом свете.
Третий внутренний критерий Ясперс усматривает в независи-
93
мости: «Великий философ достигает внутренней
независимости...» ~м. Под «независимостью» здесь понимается не какое-то
своеволие, а такая непредубежденная широта взгляда, которая
предполагает «открытость» по отношению к другим философским
учениям 24. Таковы три внутренних критерия величия философа.
Кроме этого Ясперс выделяет еще три критерия, относящихся
к качеству произведений мысли, к качествам произведений
философов. Во-первых, таковым является характер научности. Со времени
античных софистов и прежде всего в последние два столетия,
особое значение приобрел характер науки как философии логических
форм и как системы2Б. Отходом от этой «научности» Ясперс
считает, с одной стороны, философствующих писателей, различного
рода эссеистов, поэтов и т. п., с другой стороны, позитивистскую
и логическую научность, отрицающую различные собственно
метафизические построения. Эти противоположные друг другу
тенденции не допускали создания подлинно великой философии, поэтому
критерий «научности» можно считать, говорит Ясперс, критерием
подлинного метода великой философии.
Вторым критерием качества великих произведений великих
философов Ясперс считает «универсальность». Великие философы,
говорит он, всегда приводили нас к осознанию нашего бытия, мира
и божественности, то есть самых фундаментальных проблем,
в осознании которых заинтересован человек. Великие философы
всегда возвышались над особенными, частными целями и
показывали жизненный путь в его сути, универсальности. «Их сущность есть
универсальность» 2(). Великих философов отличает то, что все
явления и события они показывают через целое. Целостность и
«универсальность» являются вторым критерием качества произведений
великих философов.
Третьим критерием качества произведении Ясперс считает
присущие каждому великому философу свои, определенные
«нормативы»: великий философ придерживается только тех правил и максим,
которые он устанавливает сам 2/.
Последний критерий имеет прямое отношение к самому Яспер-
су, который, например, отбрасывает все существовавшие и
существующие периодизации истории философии и создает свою
собственную, на основании выдвинутых им «внешних» и
«внутренних» критериев.
Всю историю философии Ясперс укладывает в три группы.
К первой группе он относит «людей, служащих мерилом» для всех.
Такими он считает Сократа, Будду, Конфуция, Иисуса. По
существу, в эту группу попадают только два философа — Сократ и
Конфуций. Будда и Иисус являются основоположниками мировых
религий: буддизма, христианства. Правда, конфуцианство
рассматривается как философское учение, однако в той форме, в которой
оно существовало и существует, оно является по преимуществу
религиозным учением, хотя, может быть, его и нельзя относить
94
к мировым религиям, поскольку таковыми считаются лишь
буддизм, христианство и ислам.
Во вторую, довольно большую, группу Ясперс включает
основоположников философствования (Платон, Августин, Кант),
метафизиков по происхождению (Анаксимандр, Гераклит, Парменид,
Плотин, Ансельм, Спиноза, Лао-цзы, Нагарьюна), затем
«проектирующих (entwerfenden) метафизиков», среди которых он различает
имеющих «полезные воззрения» (Ксенофан, Эмпедокл, Демокрит,
Посидоний, Бруно и др.) и «гностических носителей истины» (Ори-
гена, Бёме, Шеллинг), а также «конструктивные головы» (Гоббс,
Лейбниц, Фихте). Кроме этих двух подгрупп Ясперс включает во
вторую группу еще две подгруппы: «разрыхляющих» (Die
Auflockernden), среди которых он различает «негативно сверлящих»
(Абеляр, Декарт, Юм), и «великих будителей» (Паскаль, Лессинг,
Киркегор, Ницше), и строящих «здание творческого порядка»
(Аристотель, Фома, Гегель и др.).
К третьей группе Ясперс относит мыслителей различных
областей человеческого знания, не входящих в собственно
философскую сферу. Это:
1. В поэзии: греческие трагики, Данте, Шекспир, Гете, Гель-
дерлин, Достоевский.
2. В исследовании:
естествоиспытатели: Кеплер, Галилей, Дарвин, фон Бэр,
Эйнштейн;
историки: Ранке, Буркхард, Макс Вебер.
3. В политическом мышлении: Макиавелли, Мор, Локк,
Монтескье, Бурке, Токвиль;
в политической критике как основе некритической утопии:
Руссо, Маркс.
4. В литературной критике:
гуманисты: Цицерон, Эразм, Вольтер,
в стремлении к образованию:
просвещенцы (Bildungswille) по происхождению: Шефт-
сбери, Вико, Гаман,
представители идеи немецкого гуманизма: Гердер, Шиллер,
Гумбольдт,
критики: Бэкон, Бейль, Шопенгауэр, Гейне.
5. В житейской мудрости: трансцендирующее спасение: Эпик-
тет, Боэций,
литературная мудрость: Сенека, Чанг-цзе,
нетрансцендентный покой: Эпикур, Лукреций,
скептическая независимость: Монтегю.
6. В практике:
государственные деятели: Эхнатон, Асока, Марк Аврелий,
Фридрих Великий,
монахи: Франциск Ассизский,
профессионалы: Гиппократ, Парацельс.
95
7. В теологии: Ме-ти, Менций, Павел, Тертуллиан, Маль-
бранш, Беркли.
8. В философском учении: Прокл, Скот Эриугена, Вольф,
Эрдман.
Такова периодизация истории философии Карла Ясперса,
которую он выводит на основании внешних и внутренних
(выдвинутых им же самим) критериев определения великих философов.
Бросается в глаза прежде всего та особенность этой
периодизации, что она составлена на основании чисто внешних форм
философствования того или иного мыслителя. То есть если мыслитель
писал или говорил больше о политике (например, Макиавелли), то
он автоматически зачисляется в политические философы. Но если
это верно по отношению к Макиавелли, то это неверно по
отношению, скажем, к Локку, ибо он не столько занимался политикой
и развивал политические взгляды, сколько собственно
философские. При таком способе периодизации нарушается не только
хронологическая последовательность (это было бы полбеды,
поскольку не обязательно строго придерживаться хронологии, хотя
история и исторический способ рассмотрения всегда предполагает,
а не отрицает известную хронологическую последовательность), но
нарушается и отбрасывается исторический способ рассмотрения.
Философские системы группируются не соответственно тому
объективному содержанию, которое каждая из них содержит как
определенная форма отражения действительности своего времени, а
соответственно духовному настрою того мыслителя, которому она
принадлежит, соответственно его склонности к политическому
мышлению, поэзии, критике и т. п. Философия и ее история
рассматриваются лишь как неповторимые, «оригинальные» и
«самобытные» идеи мыслителя, замыкаются в личности философа.
Превалирующее значение получает не то, что объединяет различных
философов, не то, что есть общего между ними, а то, что их
разъединяет, что является уникальным, единственным и
неповторимым. Но как быть тогда с влиянием, воздействием учения того или
другого философа на последующие поколения философов? Каким
образом может тот или иной философ воздействовать на других
людей?
Конечно, нельзя отказать Ясперсу в том, что он видит
некоторые реальные общие черты, объединяющие некоторых философов,
как, например, группу «основоположников философствования»,
к которой он относит Платона, Августина и Канта. Действительно,
эти философы в известной мере могут быть названы
основоположниками философствования. Но, во-первых, не только они одни,
а во-вторых, само определение «основоположники
философствования» настолько неопределенно и расплывчато, что к нему можно
отнести чуть ли не любого сколько-нибудь оригинального
философа. Сюда можно было бы отнести и Демокрита, и Шопенгауэра,
и Киркегора, и Ницше и т. д. А что, например, понимается под
96
«полезными воззрениями» таких философов, как Ксенофан, Эмпе-
докл, Посидоний, Бруно? На какой основе Ясперс объединяет
Руссо и Маркса под рубрикой «политической критики как основе
некритической утопии»?
Чтобы уяснить сущность экзистенциалистской методологии
историко-философских исследований, необходимо разобраться
в содержании категорий изложения (Darstelling), усвоения
(Aneignung), понимания (Verstehen) и интерпретации (Interpretation).
Что понимает Ясперс под целью историко-философского
исследования? Чтобы выяснить это, мы должны рассмотреть
категории усвоения и понимания. Каким образом происходит усвоение
или освоение материала философствования в виде философских
систем прошлого и настоящего? Что значит понять ту или иную
философскую систему, в особенности философскую систему
прошлого? Значит ли это просто усвоить основные ее положения или
понимание означает освоение основного содержания данной
философской системы и воспроизведение ее в определенной объективно-
логической структуре? Есть ли какая-нибудь разница между
усвоением и пониманием помимо их генетической связи в интерпретации
и адаптации философского знания в целом?
Под изложением (Darstellung) Ясперс понимает следующее:
«Мое изложение стремится отвергнуть понимание философии как
игры более или менее удавшихся образов. Философские сочинения
не являются по своей сути поэмами или произведениями искусства,
творцы которых создают целый ряд таковых в течение всей своей
жизни. Они взыскуют истины в мышлении, которое ведет к
единству» 28. Это единство, которое мы постигаем, обращаясь к великим
философам, все же не поддается никаким определениям, но толкает
нас от философа к философу и далее к вопросу об отношении
философствования к действительности и истине. Подобный вопрос
не находит ответа. Однако «в нем заключается движущая сила»
к единению усилий философов. Как видно, Ясперс указывает на то,
что условием нахождения истины является единство, связывающее
великих философов, соотнесенность их экзистенций в акте
«коммуникации», то есть личностного взаимопонимания.
«Усвоение» понимается Ясперсом таким образом, что оно не
сводится ни к простому восприятию явлений, ни к той
«уничтожающей» критике, которая отвергает какие бы то ни было позитивные
элементы критикуемой доктрины. Он исходит из того, что любая
философская система содержит в себе положительные элементы,
которые нужно воспринимать, усваивать и сохранять. Усвоение «не
является полемической борьбой с целью уничтожения, но
критической борьбой в коммуникации с целью почувствовать некое
единство, всеобщую взаимосвязь»29. Поэтому, говорит Ясперс, мы не
имеем никакого абсолютного критического масштаба, с помощью
которого мы могли бы оценивать все существующие и
существовавшие философские системы. Все философские системы составляют
4 К. М. Долгов
97
в истории философии необходимые моменты, и отсутствие любого
из них не может быть ничем восполнено. Историческое знание как
таковое, согласно Ясперсу, может быть осознано только
посредством усвоения его экзистенции М). Здесь есть известное указание на
то, что в философии нет лучшего метода выработки философского
метода мышления, помимо изучения самой истории философии.
Именно изучение и исследование истории философии вырабатывает
наиболее правильный и адекватный философский метод мышления.
Только Ясперс выражает эту правильную мысль в такой форме,
которая, по существу, абстрагируется от реального содержания
исторического знания. Различные философские системы, из
которых состоит история философии, являются лишь отражением
реальной жизни, реальных общественных отношений, то есть
определенными формами отражения действительности, выступающей
содержанием по отношению к этим формам. Поэтому, чтобы «усвоить»
ту или другую философскую систему, необходимо постоянно иметь
в виду это «реальное содержание», которое выражается в различных,
иногда даже противоположных философских системах. В связи
с этим ясперсовское «усвоение экзистенции» должно означать
именно усвоение того реального содержания, которое выражено в той или
другой философской системе. Задача историка философии
заключается в воссоздании этого «реального содержания», в его
«воспроизведении», ибо только через это он может по-настоящему «усвоить»
исследуемую философскую систему.
Всякое «усвоение» связано прямо и непосредственно с
«пониманием» (Verstehen) и «интерпретацией» (Interpretation).
Ясперс выделяет ряд «исторических пунктов», которые, по его
мнению, являются непременными условиями любого
историко-философского исследования. Во-первых, «Изложение должно
пользоваться «отражением» образов мышления, как история искусства —
репродукциями... История философии сама является моментом
философии, в то время как история искусства не является моментом
искусства...»31. Действительно, философское изложение
философской проблематики невозможно без использования средств
отражения, каковыми являются прежде всего научные понятия и
категории самой философии, а не «образы мышления», как говорит
Ясперс. Выражение «образы мышления» можно употреблять в
переносном смысле, понимая под этим всеобщие средства отражения.
Образы же в собственном смысле слова относятся прежде всего
к искусству.
Конечно, можно рассматривать историю философии как
момент философии, точно так же как философию можно
рассматривать моментом истории философии. Чтобы исключить подобное
релятивное отношение между философией и ее историей,
необходимо исходить из понимания философии как формы общественного
сознания. В этом случае история философии будет представлять
собой историю философии как формы общественного сознания.
98
Именно поэтому исследование и изучение истории философии
является одновременно выработкой подлинно философского
метода, то есть метода философии. Этим история философии
отличается от истории искусства, поскольку метод истории искусства не
становится методом самого искусства.
Историко-философское исследование, по Ясперсу, должно
выявлять и бережно доносить до современности идеи мыслителей
прошлого. «Задача состоит в том, чтобы великие философские
мировоззрения проявляли себя сами, насколько можно просто
и впечатляюще, при сохранении содержания и заложенных в них
жизненных импульсов» 3 . Историческое воспроизведение не может
быть сведено к самому присутствию (Dabeisein). В то же время
различные построения рационального порядка, так сказать,
исторические конструкции и схемы не могут дать подлинного
исторического воспроизведения, поскольку они не охватывают собой полноту
исторической картины. Именно поэтому Ясперс говорит о том, что
историческое воспроизведение должно сохранять баланс между
самим присутствием (Dabeisein) и «рациональным
схематизированием». Великие философские сочинения должны сами по себе
являть свое достоинство и свое историческое содержание без
какого-либо внешнего вмешательства и помощи. Они являются как бы
сами по себе настолько достаточно великими, что представляются
очевидными без всякого напряжения и стремления к их
пониманию. Их величие проявляется в их очевидной величественности: они
говорят сами за себя.
При всем том, что есть здесь положительного, действительно,
великие произведения не нуждаются в том, чтобы их расхваливали
и рекламировали, речь идет здесь не столько о ценности,
заключенной в великих произведениях, сколько о том, каким образом
воссоздать, воспроизвести эту историческую ценность великих
философских произведений. А это далеко не одно и то же.
Воспроизведение той или иной философской системы или подлинного
содержания того или другого философского произведения означает
не буквальное его воссоздание, а воссоздание его наиболее
существенных элементов в их логической и исторической
последовательности, то есть в конечном счете целью исторического
воспроизведения является воссоздание конкретного «образа» той или
иной философской системы. В этом состоит задача историка
философии и истории философии.
Ясперс стремится сделать философию доступной всем. «От
читателя, я надеюсь, не ускользнут глубочайшие мысли философии.
Однако я попытаюсь, насколько это возможно, сделать их смысл
осязаемым» 33,— пишет он. Короче говоря, Ясперс ставит одним из
условий изложения его простоту и доступность, понимая под этим
не какую-то избыточную полноту описания или реферативный,
состоящий из сплошных дефиниций доклад, а изложение, которое
выявляло бы основные, наиболее существенные мысли философ-
4*
99
ских систем в доступной читателю форме. «Подробное изложение
мыслей необходимо, так чтобы через него читатель мог
действительно достигнуть присутствия. В то время как голый доклад в
дефинитивной простоте не в состоянии этого сделать» п.
Требование простоты, доступности изложения философского
материала является вполне закономерным и необходимым во всяком
философском исследовании и, может быть, в
историко-философском в особенности. И Ясперс указывает пути достижения этой
«простоты» и «доступности» изложения, касаясь встречающихся при
этом трудностей. Так обращение к истокам приводит ко множеству
интерпретаций, грозящих подменить собой оригинальный текст.
Одним из существенных средств философского изложения
являются цитаты. «Философ сам должен выступать. Однако метод
цитирования требует объективного подхода и навыка. Нетрудно
собрать бесконечное изобилие великолепных высказываний. Из-за
этого работа быстро превращается в антологию. В итоге следовало
бы перепечатать сам оригинал. Или иногда случайно и произвольно
вырывают несколько прекрасных отрывков. Правильное
цитирование, напротив, должно (из возможно бесконечного количества)
выбранные высказывания расположить в той взаимосвязи, какую
избрал автор, поставить их на соответствующее им место, чтобы
засияло содержание... Они должны подчеркивать высший пункт
мыслей или должны раскрывать неожиданные мысли... они только
тогда оправданы, когда берутся во взаимосвязи воспроизводящего
изложения» } \ То есть Ясперс выражает здесь простую мысль
о методе цитирования: он должен адекватно передавать содержание
первоисточника, цитаты должны быть связаны единством
изложения, каждая из них должна выражать соответствующий смысл.
С этим нельзя не согласиться. Однако надо иметь в виду, что
интерпретация одних и тех же цитат может быть совершенно разной
и даже противоположной. Это в огромной мере зависит именно от
того, в какую концепцию они включаются. Содержание той или
другой концепции определяет содержание цитируемых источников
или в худшем случае просто искажает их содержание. Поэтому
метод цитирования нужно ставить в прямую связь с методом
изложения, а метод изложения с методом исследования. Это приводит
к тому, что в конечном счете интерпретация первоисточников
зависит от мировоззрения историка философии, от его позиции.
Историческое изложение, говорит Ясперс, неотъемлемо
связано с философским обобщением, поэтому изложение как бы
возвышается над излагаемым и не отражает его адекватно. В связи
с этим философы чаще всего выражают самих себя, а не то, что они
должны были бы выразить и изложить. Но сама излагаемая вещь
имеет собственную жизнь и возвышается над границами, в которые
ее втискивают философы. «Однако мы должны, если хотим, с
исторической точки зрения остаться правдивыми, отличать от нашего
толкования высказанную автором мысль, которая должна быть
100
доказана посредством других мест и посредством привлечения
всего контекста его произведения» 36.
Ясперс отстаивает подлинность изложения взглядов
рассматриваемых философов как гарантию исторической объективности
изложения. При этом вопрос о том, насколько данное произведение
адекватно отражает действительность, вопрос о необходимости
соотнесения данного произведения с тем реальным содержанием,
которое оно отражает, у Ясперса не возникает.
Ясперс отстаивает активный, созидающий характер
изложения, глубинную причастность к идеям философа. По его мнению,
лучшее воссоздание философских систем дополняется тем, что
творит и создает исследователь. Все подобные конструкции должны
взаимодополнять, выражать «всеохватывающую идею». Однако,
каким бы ни было изложение философских систем великих
философов, оно не в силах дать адекватное воспроизведение
«неповторимости», того «отдельного», «индивидуального», что представляет, по
Ясперсу, сущность философской системы любого великого
мыслителя. По его мнению, эта задача «остается недостижимой для
познания» 3/.
Что философствующий философ-историк делает с помощью
присущих исследователю средств — это и есть сама философия.
Перед лицом величественности и бесконечности философских
образов наша работа предстает столь слабой и незаконченной,
возникает желание отказаться от нее. Однако радость познавательной
деятельности подтвердила годами смысл наших попыток подобного
исследования.
Никакое изложение не может заменить первоисточников. Но
историко-философское изложение преследует более высокую цель,
нежели цели простого ориентирования. Согласно Ясперсу, то, что
делает историк философии,— это и есть сама философия. Таковы
те основные «исторические пункты», которые Ясперс считает
наиболее существенными принципами философского изложения и
которые должны быть методологической основой любого
историко-философского исследования.
Исследование истории философии действительно представляет
собой философствование или философию как таковую. В связи
с этим, Энгельс указывал, что лучшим средством создания
философского метода является изучение и исследование истории
философии. Этого ничем другим заменить нельзя, ибо именно
размышление над основными философскими проблемами и попытка их
решения вырабатывает собственно философский метод. Но
постоянное размышление над этими проблемами и постоянные
попытки их решения мы находим как раз в истории философии.
Поэтому она и является самым лучшим средством и способом
выработки философского метода и философского мышления.
Человеческое познание имеет довольно сложную и
противоречивую природу. История философии как один из видов человеческо-
101
го познания и отражения действительности пытается решить
противоречие между современным уровнем философского знания,
которое постоянно развивается, углубляется и расширяется, и
совокупностью философского знания прошлого. Это противоречие на
первый взгляд и не является противоречием, поскольку
представляется естественным, что современное знание с необходимостью
вытекает из знания прошлого. Но именно здесь, в этой
необходимости, в необходимой связи настоящего философского знания с
прошлым мы встречаемся с трудностью.
В самом деле, каждая крупная философская система нередко
начинает с осмысления и переосмысления всей предшествующей
философии или по крайней мере самых крупных и выдающихся
философских систем прошлого. При этом осмысление и
переосмысление прошлого знания происходит не в какой-то общей,
абстрактной форме, а в прямой связи с основными проблемами данной
эпохи. Прошлое знание усваивается и осмысливается не просто как
«прошлое знание», а как становление нового знания, как
формирование современного знания. Однако когда современное знание
достигает определенной степени своего развития, когда оно
«созревает» в более или менее развитую систему, то оно начинает
соотноситься с прошлым знанием уже не только для того, чтобы
«стать», «сформироваться», но и для того, чтобы извлечь из
прошлого знания определенные ответы на современные проблемы.
Соотнесение настоящего знания с прошлым производится
постоянно и выступает как развитие науки в самом общем смысле. Научное
знание должно соотноситься с уже достигнутым знанием, чтобы
иметь возможность развиваться дальше. Это объясняется также
тем, что развитие науки и научного знания требует постоянного
«сокращения» опыта человеческого знания. И оно как таковое
развивается через постоянное соотнесение и проверку прошлого
знания, через усвоение его положительного опыта и изъятия и
отстранения, исключения того, что в данное время не нужно, что не
служит в той или иной мере решению актуальных проблем.
В настоящее время научное знание достигло такого объема, что
встает необходимость в постоянном исключении громадной части
этого объема в виде различных, уже отживших, теорий. Но если
в собственно научном знании эта проблема разрешима, то в
философском знании ее решение усложняется.
В чем здесь трудность? Прежде всего в том, что современное
знание есть прямое и непосредственное продолжение и развитие
всего предшествующего знания: все то, что представляет собой
современное знание, есть не что иное, как результат развития
предшествующего знания, результат развития всей истории знания.
Сама же история знания может выступать и как определенный
процесс развития и формирования знания, то есть как
исторический процесс, и как определенная традиция, которую надо понимать
тоже не как нечто раз и навсегда ставшее и застывшее, а как то, что
102
в свою очередь развивается, уточняется, углубляется. Как писал
еще Гегель: «Традиция не есть лишь домоправительница, которая
верно оберегает полученное ею и, таким образом, сохраняет его цдя
потомков и передает им его не умаленным, подобно тому, как
течение природы, в вечном изменении и движении ее образов и форм,
остается навсегда верным своим первоначальным законам и совсем
не прогрессирует. Нет, традиция не есть неподвижная статуя:
она — живая и растет подобно могучему потоку, который тем
больше расширяется, чем дальше он отходит от своего истока» *8.
Только Гегель полагал, что содержанием этой традиции является
то, что создано духовным миром, который как всеобщий дух
находится в постоянном развитии и движении.
Если отбросить гегелевский идеализм, то традицию можно
понимать как систему ставшего знания, которое хотя уже и
приобрело определенные формы своего существования, тем не менее
находится в постоянном развитии.
Каждое человеческое поколение создает определенный объем
материальных и культурных ценностей, делает то или иное
количество достижений и открытий в различных областях и сферах своей
жизнедеятельности. Но эти достижения, эти открытия и вообще
весь уровень материальной и духовной жизни того или другого
поколения возможны только на базе результатов труда всех
предшествующих поколений, на базе всей предшествующей культуры.
Мы хотим привести еще одно очень интересное место из Гегеля,
которое довольно точно схватывает соотношение современной
и прошлой культуры: «Созданное каждым поколением в области
науки и духовной деятельности есть наследие, рост которого
является результатом сбережений всех предшествовавших поколений,
святилище, в котором все человеческие поколения благодарно и
радостно поместили все то, что им помогло пройти жизненный путь,
что они обрели в глубинах природы и духа. Это наследование есть
одновременно и получение наследства, и вступление во владение
этим наследством. Оно является душой каждого последующего
поколения, его духовной субстанцией, ставшей чем-то привычным,
его принципами, предрассудками и богатствами; и вместе с тем это
полученное наследство низводится получившим его поколением на
степень предлежащего материала, видоизменяемого духом.
Полученное таким образом изменяется, и обработанный материал
именно потому, что он подвергается обработке, обогащается и вместе
с тем сохраняется.
Такова также наша позиция и деятельность нашей и всякой
другой эпохи: мы постигаем уже существующую науку, усваиваем
ее, приспособляемся к ней, и тем самым мы ее развиваем дальше
и поднимаем ее на более высокий уровень; усваивая ее себе, мы
делаем из нее нечто свое в противоположность тому, чем она была
раньше. От этой природы творчества, заключающейся в том, что оно
имеет своей предпосылкой наличный духовный мир и что, усваивая
103
его себе, оно вместе с тем и преобразовывает его,— от этой
природы творчества и зависит то, что наша философия может обрести
существование лишь в связи с предшествующей и с
необходимостью из нее вытекает; ход истории показывает нам не становление
чуждых нам вещей, а наше становление, становление нашей
науки» i9. Мы специально привели это длинное высказывание Гегеля,
поскольку оно содержит весьма верные мысли. Действительно,
каждое человеческое поколение наследует определенную
материальную и духовную культуру от всех предшествовавших поколений.
Но это не просто «получение наследства», когда автоматически, по
закону наследства наследник получает то, что ему завещано, а
трудный и длительный процесс усвоения или освоения предшествующей
культуры, в результате которого данное поколение не только
получает это «наследство», но и как бы включается в беспрерывный
процесс создания материальных и духовных ценностей, то есть
продолжает непрерывно не только осваивать и усваивать всю
предшествующую материальную и духовную культуру, но и создавать
новые ценности в этих сферах.
При этом важно обратить внимание на следующие
обстоятельства. С одной стороны, вся предшествующая материальная и
духовная культура выступает в данном поколении как его «сущность»,
как его «подлинная» природа. Это поколение наследует все
основные, а иногда и второстепенные признаки предшествующих
поколений. В этом случае «степень родства» не всегда определяется
хронологией, а, скорее, теми потребностями эпохи, в которую
живет данное поколение: проблемы и потребности данной эпохи
вызывают к жизни те или другие философские системы, наиболее
адекватно отвечающие разработке современных проблем в их
позитивной или негативной постановке и развитии. То есть
предшествующая материальная и духовная культура выступает в
каждом данном поколении как его «истинная сущность», как его
«подлинная природа», без которой его не может быть и с которой оно
есть то, что оно есть. Эта «природа», эта «сущность» выступает не
на поверхности, а как бы в самой душе этого поколения: ее трудно
заметить и определить, но вместе с тем без нее не было бы этого
поколения. С другой стороны, эта «природа», эта «сущность»
выступает как нечто почти банальное, само собой разумеющееся:
в форме определенных правил, привычек, обычаев. И эта
«банальность» достигает иногда таких форм и размеров, что «старое»
поколение возмущается столь бесцеремонным обращением с их
«святынями»: «Как вы можете обращаться так с тем, что добыто
нами кровью и потом, что является для нас священным!» — говорят
они молодому поколению. И в этом упреке есть доля истины: все то,
что добыто предшествующими поколениями, отдается без остатка
последующему поколению, ибо в могилу никто и ничто с собой
взять не может. И вдруг это поколение начинает обращаться с
переданным ему «наследством» как с каким-то обычным «материалом»,
104
который требует обработки и иногда — коренной, существенной.
И оно начинает эту «обработку» с усвоения, познания, ассимиляции
этого «наследства». Есть ли это оскорбление достоинства
предшествующих поколений? Ни в коем случае. Это естественный
закономерный процесс «получения наследства», который возможен
только через это усвоение, когда реальные потребности данной
эпохи, когда данная эпоха отсеивает все отжившее и не имеющее
отношения к современности. Именно поэтому прошлое знание
выступает в современном знании иногда в совершенно
противоположной форме (в смысле и формы и содержания). Прошлое является
для знания современной эпохи не только необходимой
предпосылкой, не только необходимым материалом, но и необходимым
процессом, в котором формируется и созревает современное
философское знание. «Ход истории показывает нам не становление
чуждых нам вещей, а наше становление»,— повторяем мы еще раз
вместе с Гегелем.
Из того, что было сказано, можно сделать определенные
выводы относительно соотношения философии и истории философии.
Каждая философская система имеет ценность лишь постольку,
поскольку она является отражением своей эпохи. А под
«отражением» нужно понимать не простое описание жизни и деятельности
людей этого времени, не описание мышления данной эпохи и не
просто какую-то картину эпохи — все это дело конкретных наук,
а не философии,— под «отражением» нужно понимать выявление
действительно философских проблем той или иной эпохи и их
решение. Только та философская система, которая «нащупала»,
выявила подлинные философские проблемы своей эпохи и дала им
какое-то свое решение, может входить и должна входить в историю
философии.
По нашему мнению, историю философии можно рассматривать
как часть философии только тогда, когда сама философия
рассматривается как форма общественного сознания. В этом случае,
действительно, история философии выступает как часть содержания
философии вообще. С другой стороны, можно также считать и саму
философию частью истории философии, ибо любая философская
система, какой бы истинной она ни была, является результатом
развития всей предшествующей философии и составляет как бы ее
поздний период развития, ее самую позднюю, но не последнюю
часть. То есть любая философская система, любая философская
доктрина как философия своего времени, своей эпохи есть лишь
одна из частей истории философии как философии прошлого,
настоящего и будущего. Наконец, философия совпадает в известной
мере в своих узловых пунктах с историей философии также и в том
смысле, что любая философия прежде, чем стать таковой, как бы
повторяет в сокращенном виде исторический путь развития всей
предшествующей философии. Только это «повторение» всегда
носит в философии критический характер. Поэтому лучше рассматри-
105
вать всю историю философии как великую спираль развития
человеческого познания, со все более увеличивающимися кругами или
сферами, где каждая из последующих сфер как бы «снимает» все
предшествующие диалектически, то есть критически
перерабатывает и переосмысливает все предшествующие, но не отбрасывает
их. Здесь философия выступает как органическая часть этой
необычной спирали: она не равна и не тождественна по своему
содержанию всей предшествующей философии, но в то же время ее
содержание связано невидимыми нитями со всем содержанием
философских систем прошлого. В свою очередь история философии
не есть какая-то прошлая часть философии, а такая ее часть или
содержание, которая выступает также и в этой последней сфере,
которая именуется философией, но именно в «снятом» виде, как ее
органическая часть. Это органическое переплетение и
взаимопроникновение, взаимопронизывание философии и истории философии
лишний раз говорит о том, что ни философия невозможна без
истории философии, ни история философии невозможна без
философии. ТолЬко их органическое единство даст возможность
подлинного отражения действительности, мысленного схватывания
прошлого, настоящего и в известной степени будущего.
Другое дело в искусстве, в котором «усвоение» равнозначно
наслаждению произведениями искусства. «Усвоение искусства в
наслаждении его произведением приносит потрясение, расслабление,
веселье, бодрость... Отвлекаясь от повседневности, забывая
реальность наличного бытия, человек испытывает чувство, перед
которым, кажется, исчезают на миг все заботы, радости и страдания» 4<).
Наслаждение искусством Ясперс понимает как нечто близкое к
религиозному экстазу, просветлению, когда верующий человек
забывает о всех своих невзгодах и неудачах, забывает о самом себе
и всем существующем. Это наслаждение искусством является
своеобразным созерцанием. «Созерцание искусства (Kunstschauen) не
является промежуточным бытием (Zwischensein) но бытием
иным» 4|.
Подобное понимание искусства предполагает изоляцию его от
действительности, их противопоставление. Произведения искусства
будут тем значительнее, чем сильнее они воздействуют на чувства
индивидуума, чем больше уводят его от действительности, от
реальной жизни. Это понимание обусловливается также тем, что
«повседневная» жизнь истолковывается экзистенциалистами как что-
то низменное и ужасное, где люди не могут чувствовать себя
людьми. Только тогда, когда человеку удается избежать этой
«повседневности», «обыденности», только тогда он может чувствовать
себя «у себя дома». Искусство Ясперс и представляет таким
средством ухода от этого «повседневного существования» к «подлинному
бытию», к «трансценденции».
Разрыв между действительностью и искусством является
неизбежным. «В то время как цель философствования есть мышление
106
о действительности самой жизни, смысл овладения искусством как
раз составляет это разделение между действительностью и
созерцательным погружением... Разрыв между действительностью
собственной жизни и глубоким удовлетворением через искусство
проявляется тем решительнее там, где искусство достигает
величайших глубин» 42. Здесь действительность понимается в двояком
смысле: действительность как реальность и действительность
собственной жизни. Искусство, по Ясперсу, уводит как от
действительности вообще, так и от действительности нашей собственной
жизни. Разрыв с обыденной действительностью, с «повседневным
существованием» скрашивает жизнь человека, доставляя ему
наслаждение и забвение. Разрыв же с действительностью собственной
жизни приносит человеку страдания, мучения и в конечном счете
«погружает» его в трагическую ситуацию.
Ясперс говорит ö двух формах трагического: эпической и
собственно трагедийной, из которых возникают два способа
преодоления трагического: философия и религия. Хотя религия и является,
согласно Ясперсу, более высоким типом преодоления трагического
по сравнению с философией, тем не менее христианство таким
образом противопоставляется трагедии, что исключает всякую
трагическую безысходность. Именно поэтому не существует подлинно
христианской трагедии 4\ А поскольку трагическое соприкасается
с трансцендентным, то Ясперс ставит трагедию выше религиозного
сознания, которое способно достигнуть лишь чтения шифра
трансцендентного. Ясперс подчеркивает значение действия для трагедии.
Для него настоящее осознание трагического представляет собой не
только сознание страдания, смерти, конечности и бренности
существования. Чтобы это сознание стало трагическим, человек
должен действовать 44.
Ясперс отличается от Киркегора не только тем, что он не
признает за христианством трагический характер, но и тем, что он
заостряет, подчеркивает действенное начало в трагедии, а также
несколько смягчает киркегоровскую альтернативу «или — или»
в отношении к добру и злу. Правда, Киркегор говорил не только об
этой альтернативе «или — или», но также и о том, что добро есть
одновременно зло, а зло — добро, однако у него это носило
парадоксальный характер. Ясперс же развивает взгляды Киркегора
таким образом, что подлинно трагическое мышление не то, которое
устанавливает альтернативу «или — или», а то, которое
усматривает, скажем, в самом добре зло.
Подлинно трагическое предполагает, по Ясперсу,
универсальное крушение как характеристику человеческого существования,
а разрушение и гибель усматриваются в самом благом и истинном.
Все, что есть в мире хорошего, доброго, прекрасного,
неосуществимо, не может быть реализовано, поскольку все эти прекрасные
идеалы несут в самих себе свою собственную гибель и крушение.
Вся история человечества — это история гибели и разрушения
107
всего доброго, благого и прекрасного, всех самых лучших идеалов.
Категория трагического возводится в абсолют и выступает как
у Ясперса, так и во всей экзистенциалистской философии как
трагичность мира, трагичность мироощущения и мировоззрения.
Философия и искусство рассматриваются Ясперсом также
и как существующие в созданиях (Hervorbringen). Человек,
говорит он, является философом или художником в зависимости от
того, что ему больше нравится, подходит: мысленно переживать
свой собственный подъем в философствовании или наслаждаться
удовлетворением наличного бытия в образе. Содержание этих видов
«деятельности» определяется экзистенцией, которая позволяет
сообщить нечто при помощи творческой способности. У художников
эта способность проявляется как гениальность, создающая новое
понимание существующего.
Этот тезис Ясперс заимствовал у Канта, который полагал, что
«гений — это талант (природное дарование), который дает правило
искусству» 1;>. И если гений не мог, по Канту, объяснить, как он
создает свои произведения, то по крайней мере он не
противопоставлялся своим произведениям, ни его произведения не
противопоставлялись ему. У Ясперса же «художник противостоит своим
собственным произведениям... как загадка» П). Это положение
перекликается также с известным высказыванием Киркегора, который
считал, что надо быть загадкой не только для других, но и для
самого себя.
В дальнейшем это очень ярко проявится в творчестве Кафки,
Камю и многих других современных писателей, произведения
которых представляют собой своеобразный «шифр», «загадку» не только
для читателей, но и для них самих. И дело здесь не только в том,
что они сознательно стремились «зашифровать» действительность,
превратить ее в «загадку» без «разгадки», а в том, что сама
объективная действительность таким образом влияла на их сознание и на
мироощущение в целом, что это отчужденное сознание не могло
отражать данную действительность в другой форме. Отчужденная
действительность порождала отчужденное же сознание, которое
может отражать и изображать эту действительность только языком
отчужденного сознания, то есть в своеобразной мифологической,
сказочной, зашифрованной форме. Достаточно указать на
некоторые произведения Кафки, такие, как, например, «Замок»,
«Процесс», «Превращение» и др.
Создание философских произведений и произведений
искусства сходно в том, что и «художник и философ стремятся достичь
единого» А'. Только философ сознательно ставит достижение
целого своей целью, в то время как художник бессознательно реализует
это целое в соответствующем произведении. По мнению Ясперса,
«художник достигает порой своей цели, философ никогда» 1\
Ясперс анализирует связь философии и искусства и находит,
что между ними существуют отношения борьбы и союза. Однако
108
Ясперс подчеркивает больше их союз, единство, которое существует
между ними, чем борьбу, ибо «философия может видеть в искусстве
образ присутствия трансценденции, которая для нее самой
представляет одновременно источник и исполнение» 49. Борьба, имевшая
место в истории философии против искусства, не была, говорит
Ясперс, борьбой «против возможности самого искусства» °и.
Напротив, философия по своему существу предполагает существование
искусства, ибо ее границы определяются ее языком, ее
рациональными средствами, в то время как искусство, лишенное, по Ясперсу,
этих рациональных средств, помогает философии лучше познать
самое себя и свою истину. Когда философия исчерпывает свои
возможности, «тогда открывается мир искусства как
превосходящее откровение, которое философия понимает лучше, чем
искусство поняло само себя» 0|. Философия приводит к «усвоению
искусства», которое позволяет философу достигать того, чего он не
может достигнуть как философ: «С искусством и как художник он
хочет делать то, чего он не может как философ» 52.
Ясперс приходит к выводу, что «метафизическая спекуляция
как попытка рационального чтения секретного шифра является
аналогом искусства» 53. В конечном счете и философия и искусство
представляют собой различные способы чтения шифра
трансценденции.
Хосе Ортега-и-Гасет.
Дегуманизация культуры
Крупнейший испанский философ и эстетик Хосе Ортега-и-Гасет
занимает особое место в ряду тех современных мыслителей,
которые перешагнули узкие рамки традиционной философии, чтобы
освоить более широкое содержание всей духовной культуры. В этом
смысле Ортега-и-Гасет продолжил линию «философии жизни»
Шопенгауэра, Ницше, Бергсона, Шелера, исходивших в свою
очередь из идей Гамана, Якоби, Фихте, Шеллинга, Ф. Шлегеля, Нова-
лиса и других немецких романтиков. Вторая линия, которой
следовал и которую развивал Ортега-и-Гасет, была линия Канта и
неокантианцев: Дильтея, Зиммеля, Кассирера, Когена. Наконец, третья
линия, прослеживаемая более четко в поздних сочинениях Ортеги,
восходит к предтече экзистенциализма — Киркегору. Вообще же ни
одно сочинение Ортеги-и-Гасета не поддается однозначному
определению в философской традиции: чаще всего его труды содержат
в себе идеи и «философии жизни», и кантианства, и
экзистенциализма. Точнее всего его философскую и эстетическую позицию
можно было бы охарактеризовать как позицию представителя
философии культуры в самом широком смысле этого слова. Если
к тому же принять во внимание, что Ортега-и-Гасет, как и всякий
крупный мыслитель, претерпел значительную духовную эволюцию,
то с необходимостью встанет задача рассмотреть хотя бы самые
основные, узловые ее пункты, ибо без этого будет непонятен анализ
его эстетики. Можно, пожалуй, сказать даже так: эстетика и
философия Ортеги-и-Гасета настолько тесно взаимосвязаны, что
нельзя понять эстетику без философии, а философию без эстетики,
поскольку его философия является эстетической, а эстетика —
философской.
Для Ортеги «философия есть познание Универсума, или всего
того, что есть» '. Это довольно абстрактное определение он
дополняет утверждением, что «философия есть коллективная
необходимость», она является функцией коллективной жизни, социальным
институтом, относящимся к «философской» реальности 2,
«философия есть коллективная необходимость» 3. Исходя из того, что «вся
социальная жизнь является неподлинной» 4, Ортега объявляет и
социальную необходимость философии и, следовательно, ее
реальность как социального факта неподлинными необходимостью и
реальностью 5. Социальной, неподлинной необходимости философии
он противопоставляет философию «творческого индивида»: «Эта
необходимость философствования, которую ощущает творческий
индивид, есть подлинная и оригинальная необходимость. В нем,
а не в обществе, находится источник философии и ее подлинная
или радикальная реальность» ь.
по
Таким образом, философия понимается Ортегой как
философия индивида, а не как социальная необходимость и уж тем более
не как форма общественного сознания.
В своей работе «История как система» 7 Ортега-и-Гасет
развивает проблему специфики познания общественных явлений,
проблему, актуальную для самых различных направлений
философии — от феноменологии до экзистенциализма.
Еще неокантианцы Риккерт и Наторп резко выступали против
психологизма в познании, отстаивая объективный характер
логических форм, логического познания. Более резкой критике
подвергается психологизм в ранних сочинениях Гуссерля, который считал
психологизм равнозначным субъективизму и релятивизму. Правда,
одновременно Гуссерль критиковал и «европейский рационализм»,
который, по его мнению, не соответствовал «подлинному
рационализму» современной эпохи.
Ортега-и-Гасет продолжает эту критическую линию. Он
сетует на то, что современная наука, и прежде всего естествознание —
математика, физика, биология и другие конкретные науки,
достигшие необычайно больших результатов в познании природы,—
не может сказать ничего определенного относительно человека
и человеческого общества. Применение естественнонаучных
методов исследования приводило в лучшем случае к тому, что
устанавливались какие-то сходные признаки между человеком и
неживой природой и человеком и животным миром, но суть человека
и человеческого оставалась за семью печатями.
Так как в средние века попытка объяснить сложнейшие
отношения человека с миром божественным откровением не дала
никаких положительных результатов, то начиная с XV и XVI веков
человечество повернулось лицом к науке: вооружась различного
рода рационалистическими теориями, оно поверило во всеразреша-
ющую мощь естественнонаучного метода. Начиная с Декарта
считалось само собой разумеющимся, что реальный мир имеет структуру
и организацию, которая совпадает с такой формой человеческого
интеллекта, как «математический разум», или «физический разум».
Однако «физический разум,— пишет Ортега,— не мог сказать нам
ничего ясного о человеке» 8, так же как и все естествознание в
целом, поскольку к познанию человека и человеческого общества
нельзя механически применять категории естественных наук. Люди
слишком поверили в науку, в научное познание, которое на самом
деле оказалось бессильным в познании человеческой сущности
и сущности человеческого вообще. Ортега-и-Гасет прав в своей
критике в том отношении, что вся домарксистская философия
(в том числе и материализм) и наука оказались бессильными
выявить и определить сущность человека и законы развития
человеческого общества. Больше того, представители основных направлений
современной философии предлагали отказаться от попытки
предвидеть будущее человечества, предвидеть дальнейший ход событий 9.
111
Что же предлагает Ортега-и-Гасет вместо оказавшегося
бессильным в познании социальных явлений естественнонаучного
подхода? Во-первых, рассматривать человека как духовное существо,
а не как природу, во-вторых, рассматривать историю как систему
человеческого опыта, в-третьих, считать разум новой формой
«откровения». «Человек,— пишет Ортега,— является не какой-то
вещью, а драмой, его жизнь — универсальное событие, которое
случается с каждым...» |(). Единственное, чем детерминирован
человек,— это обстоятельства, но, находясь в определенных
обстоятельствах, человек может выбирать то или другое, выбирать какую-либо
из возможностей. «В каждый момент моя жизнь открывает передо
мной различные возможности: могу сделать то или другое» и. Здесь
Ортега-и-Гасет начинает говорить экзистенциалистским языком,
употребляя экзистенциалистскую терминологию и категории.
Однако он идет дальше, рассматривая историю как систему
человеческого опыта и считая, что она может быть познана только
«историческим разумом».
Чтобы познать человека и человеческое, необходимо
применить специфический вид познания или разума — разум
исторический: «Чтобы понять что-нибудь человеческое, личное или
коллективное, необходимо иметь в виду историю. Жизнь становится
немного прозрачнее только перед историческим разумом» 12.
Почему? Потому что человек имеет лишь незначительное
отношение к природе. «Человек не имеет природы, то, что он
имеет... история» ,,J. Это высказывание можно понимать в двойном
смысле: в смысле отрицания какой бы то ни было «природы»,
заложенной в человеке раз и навсегда, и в смысле отрицания природы
как таковой. Видимо, Ортега имел в виду оба этих аспекта. В
отрицании изначальной, «метафизической», трансцендентной «природы»
Ортега был совершенно прав — он прекрасно понимал, что
человека формируют конкретно-исторические обстоятельства. Вместе
с тем Ортега не признавал значения природы для человека,
значения «физического тела», «физической природы», отрывая тем
самым историю и природу друг от друга. Это вело к тому, что человек
понимался им как чисто духовное существо, а его деятельность —
как чисто абстрактная, духовная, интеллектуальная деятельность.
Основу человека и истории следует искать, утверждает Ортега,
в «трансцендентальной реальности», которая только и остается с
человеком, живет с ним, срывает с жизни все и всякие иллюзии |4.
При помощи «трансцендентальной реальности» Ортега пытается
объяснить историю, а при помощи истории — преодолеть
неизбежное отчуждение человека. «Человек, отчужденный от самого себя,
встречается с самим собой как реальность, как история... история
восстанавливается как исторический разум» |5. Таким образом,
Ортега стремится снять неизбежное отчуждение человека, которое
происходит в процессе его деятельности, понимая, что человек
может «встретиться с самим собой» в продуктах своей собственной
112
деятельности. Однако, как мы уже отмечали, сама человеческая
деятельность понимается им как чисто духовная, интеллектуальная
деятельность. Поэтому человек может встретиться с самим собой
не просто в «истории», а в истории, восстановленной в виде
«исторического разума».
С помощью «исторического разума» Ортега пытается
соединить в единое целое историю и разум, которые, по его мнению, были
оторваны друг от друга и противоположены со времен античности,
и применить этот «исторический разум» к исследованию феноменов
человеческого общества, ибо «исторический разум является еще
более рациональным, чем физика, более точным, более
требовательным, чем она» |(). Действительно, Ортега пытается понять и
объяснить многие социальные явления при помощи этого «исторического
разума».
Рассматривая историческую науку, Ортега замечает, что она,
как и другие науки о реальности, состоит из четырех элементов:
ядра a priori, системы гипотез, связывающих это ядро с
наблюдаемыми фактами, сферы «индукции», управляемых этими гипотезами,
широкой строго эмпирической периферии — описания чистых
фактов и дат. Правда, при этом Ортега не объясняет сути связи
априорного ядра и фактов — он просто постулирует эту связь. Не
раскрывает Ортега и механизм «индукции», что имеет особо важное
значение для исторического исследования. Что касается описания
фактов и дат, то ему Ортега придает мало значения, поскольку, по
его мнению, сами по себе даты являются лишь проявлениями или
симптомами реальности, данными одним для другого. «Этим одним
в этом случае является подлинный историк — не филолог, не
архивариус,— а этим другим является историческая реальность» ''.
Сама историческая реальность, согласно Ортеге, в каждый
данный момент составляется из некоторого числа изменчивых
и некоторого числа постоянных ингредиентов. «Эти постоянные
ингредиенты факта, или исторической реальности, являются его
радикальной, исторической структурой a priori. И поскольку они
даны a priori, то не зависят в принципе от изменений исторических
дат» |8. В то время как историк или архивариус только и делают, что
хронологически реконструируют историю, Ортега выступает против
сведения истории к голой хронологии, плоскому эмпиризму, а ищет
в истории некие «постоянные» величины, которые бы не зависели от
бесконечного количества изменений и колебаний. Он улавливает
некую «постоянную» исторического процесса, но не знает, как ее
понять, что она собой представляет.
Действительная история лежит, безусловно, гораздо глубже
своих внешних проявлений — дат; действительная история лежит
как бы под хронологией, хотя ее нельзя отрывать и от хронологии,
как это делает Ортега. Ортега чувствует «постоянные» величины,
лежащие в основе хронологической последовательности, но он
в силу исходных взглядов, согласно которым определяющим мо-
113
ментом выступает индивидуальная человеческая жизнь, спектр
и угол зрения индивидуума, личности, не может согласиться с тем,
что эти «постоянные» «есть не что иное, как законы истории,
независимые от человеческого сознания. Он чувствует, что эти
«постоянные» должны быть предметом изучения историологии, но не
может определить, что собою эти «постоянные величины»
представляют.
Его не удовлетворяет понимание истории у неокантианцев
и у Гегеля: первые сводят философию истории к историографии 1J,
второй делает из философии истории метафизику истории. И то
и другое Ортега считает неправильным: «Историология не есть
поэтому методологическая рефлексия об historia rerum gestarum,
или историография, но непосредственный анализ, res gesta,
исторической реальности» 20. Только «онтология исторической
реальности» способна превратить историю в науку, говорит Ортега. И это
было бы правильно, если бы под «онтологией» он понимал
действительную историческую реальность, а не проекцию или перспективу
историка, а под «постоянными» величинами — не априорно данное
ядро, а объективные исторические законы, соответственно которым
и развивается эта историческая реальность. Подобное понимание
истории лежит в основе его методологии историко-философских
исследований; Ортега-и-Гасет написал ряд работ о философах
прошлого — Галилее, Декарте, Канте, Гегеле и других.
Важное методологическое значение имеет его работа о Канте,
написанная в 1924 году и дополненная в 1928 году. В этой работе
Ортега-и-Гасет подчеркивает, что главное внимание уделяется им
не философии Канта как таковой, а «отношениям между Кантом
и его философией» 2 '. Это положение Ортега считает ключевым для
истории философии. «Этот метод трактовать философию, говоря не
о ней самой, а о ее отношениях (articulation) с человеком, который
ее создает, не является ни капризом, ни избыточным
любопытством. Я считаю, что именно в нем состоит подлинная субстанция
истории философии» 22. Действительно, Ортега-и-Гасет все свои
историко-философские работы пишет в духе этого принципа,
исследуя не столько собственно философские взгляды того или другого
мыслителя, сколько связи и отношения той или иной философии
с ее творцом. Исследованию подлежит не действительность и не
философия, которая ее отражает, а взаимоотношения философии
с ее творцом, создателем — вот основной принцип
историко-философских исследований, согласно Ортеге-и-Гасету.
Результаты такого анализа могут быть весьма своеобразными.
В этой же работе о Канте Ортега связывает кантовскую философию
с капитализмом. Делает он это довольно своеобразно — через
характер человека, характер буржуа. Ортега глубоко убежден, что
характер человека той или иной эпохи играет определяющую роль
в создании той или иной философской теории. По его мнению,
в Греции, Риме и в Европе был рожден и поставлен в центр
coin
циальной жизни общества «человек войны» z\ Однако теперь эта
ведущая фигура исторического действия начинает вытесняться.
Возобладали другие черты, присущие человеку буржуазного
общества. Характер буржуа, по Ортеге, порождает соответствующую
философию, а философия — соответствующий характер буржуа.
«Современная философия, продукт подозрительности и
осторожности, рождает буржуа. Это новый тип человека, который идет к
потере военного темперамента и к тому, чтобы стать образцовым
гражданином. Это происходит потому, что буржуа является таким
типом человека, который не верит в себя, который не чувствует
уверенности в самом себе... Буржуа является промышленником
и адвокатом. Экономика и право являются двумя дисциплинами
осторожности. В кантовском критицизме мы созерцаем гигантскую
проекцию буржуазной души, которая управляла судьбами Европы
с возрастающей энергией начиная с эпохи Возрождения. Этапы
капитализма были стадиями критической эволюции» 24. Как видно,
Ортега очень тесно связывает философию Канта с развитием
капитализма, с появлением нового человека. Это связывание
внешне напоминает материалистическую точку зрения, точку зрения
исторического материализма. Однако именно внешне, и не больше,
ибо сам Ортега-и-Гасет прямо пишет о том, что его позиция не
имеет ничего общего с историческим материализмом. «Это
отношение, которое отмечается между философией Канта и буржуазным
капитализмом, не подразумевает присоединения к доктринам
исторического материализма» 25. Исторический материализм Ортега
считает ошибочной теорией и отмечает лишь чисто внешнее
сходство своей теории с историческим материализмом: «Я не говорю,
конечно, что критическая философия является результатом
капитализма, но обе вещи являются параллельными созданиями типа
человека, в котором подозрительность доминирует» 26. С одной
стороны, он утверждает, что философия создает человека
нового типа — буржуа, с другой — что философия и капитализм
являются, по его мнению, продуктом этого нового типа человека,
этого буржуа, суть которого он усматривает в
«подозрительности».
На первый взгляд кажется, что здесь — противоречивые
утверждения. На самом же деле это одна и та же позиция, согласно
которой и философия и капитализм являются производными от
типа человека. Если раньше мы видели, что Ортега считает
общество лишь совокупностью индивидуумов, то сейчас обнаружили, что
он полагает общество продуктом индивида. Какие бы широкие
исторические категории Ортега ни затрагивал, уступок
материалистической диалектике он не делает. Поэтому, хотя Ортега и говорит
в одном случае о зависимости человека от философии и даже
капитализма от типа человека,— эти утверждения сводятся к одному:
и философия, и общественный строй определяются типом человека.
Ортега различает тип человека не только соответственно исто-
115
рическому периоду, но и в соответствии с местом, страной или даже
расой, национальностью. Так, он различает немецкую и испанскую
или итальянскую философию соответственно характеру немца
и представителя романской группы, то есть вводит «этнологическую
классификацию».
Современный человек, буржуа,— это социологический факт,
говорит Ортега. Однако для понимания характера той или иной
философии этого недостаточно, ибо современный человек является
европейцем, западным человеком, более или менее германским
человеком. Кант, например, является чистым немцем, говорит
Ортега. У него нельзя найти ни одного симптома проявления славизма.
Это дает, по его мнению, довольно точную характеристику
кантианской философии.
«Немецкая душа» и «южная душа» (испанцы, итальянцы и
другие) имеют противоположные характеристики. «Немецкая душа»
характеризуется интеллектуальной ясностью, замкнутостью в
самой себе, очевидностью и самодостаточностью своего собственного
существования, в то время как «южная душа» отличается
общительностью, «социальностью», рассматривает самое себя в связи с
другими предметами (деревья, море, звезды и т. д.). Поэтому, если
немецкая философия, говорит Ортега, «немецкая душа» пытается
основать философию на человеческом Я, на идее, то «южная душа»,
южная философия основывает философию на внешнем мире.
«Принимая это во внимание, «Я» означает образец реальности,
понимание немца в философии как попытку интеллектуального
конструирования мира, который был бы похож, насколько это
возможно, на «Я». В «южной философии», напротив, конструирование
Я происходит в тесной связи с телом. При сравнении философии
древних греков и немцев Ортега замечает, что греческая философия
имела представление о движении, но она не знала, что движется.
Немецкая философия ставит в центр своего рассмотрения
мышление как таковое и его познание, то есть сознание, самопознание
мышления, самосознание. «Немецкое Я не есть душа, не есть
реальность в теле или связанное с телом, но сознание самого себя,
самосознание — Selbstbewußtsein» 2'. И когда Сократ выставлял перед
греками свой императив: «Познай самого себя», то под этим
подразумевалось не столько познание как чистое самосознание,
сколько познание, связанное с познанием других. «Немец,— говорит
Ортега,— проектирует свое Я на ближнего (projimo) и делает из
него фальшивое Ты, alter ego» 28. Немец всегда истолковывал и
понимал Я как Innerlichkeit. Эти черты Ортега относит ко всей
немецкой философии вообще. И поскольку этнологические и
психолого-антропологические характеристики превращаются в
методологические принципы исследования истории философии у одного из
крупнейших философов XX века, следует рассмотреть, откуда
возникают подобные взгляды и к каким последствиям они приводят.
Рассматривая немецкую философию, Ортега прежде всего
116
встретился с такими великими философами, как Лейбниц, Фихте,
Шеллинг, Кант и Гегель, то есть с классической философией
немецкого идеализма, развивавшего принципы активности
человеческого мышления и познания как в форме развития различных
категорий самого человеческого мышления, так и в форме развития
категорий и законов «абсолютной идеи» и т. п. Как бы там ни было,
в любом случае исходным пунктом служило само человеческое
мышление, гипертрофированное, гипостазированное или
возведенное в абсолют. Рассматривалось ли оно как некий объект, или
«не-Я», или как отчуждение абсолютной идеи, во всех случаях
источник оставался одним и тем же — человеческое сознание или
самосознание. Поэтому создавалась иллюзия, что вся немецкая
философия сводится к исследованию и утверждению самосознания.
При этом Ортега совершенно не принимал во внимание
материалистическую философию, которую он не считал философией.
Давая высокую оценку немецкому идеализму, Ортега полагал,
что «вся современная философия является идеализмом», если не
принимать во внимание два исключения: «Спинозу, который не был
европейцем, и материализм, который не был философией» 29. На
самом деле, если исключить из философии материализм (Спиноза,
как известно, был тоже материалистом), тогда действительно вся
философия, точнее, вся история философии, будет казаться
историей идеализма. Но подобное исключение может быть проделано
только в голове философа, а не в реальной истории философии.
Но дело не только в том, что немецкая классическая
философия акцентировала внимание на гносеологической проблематике,
на активном характере человеческого познания. Это как бы
«объективная» предпосылка создавшейся у Ортеги иллюзии.
«Субъективной» же предпосылкой является собственная точка зрения Орте-
ги-и-Гасета, состоящая в том, что он рассматривает
действительность как «проекцию», как «перспективу» человека, как некий
«спектр» личности, ее продолжение. При этом в «действительность»
включается все существующее. В связи с этим и история
философии рассматривается как «проекция», «перспектива», «спектр»
личности философа, непосредственное продолжение этой личности.
Вся история философии представляется в виде громадной
панорамы «спектров» различной величины, глубины, ясности и т. д.
При таком понимании мира и философии вся реальность
сводится к существованию ряда личностей, к существованию
отдельных индивидуальных миров, обладающих психологическо-ан-
тропологической природой. Это не есть миры «чистого
самосознания», как у некоторых представителей немецкого идеализма, но это
также и не реальные, конкретные люди с их осознанным
отношением к действительности, возникающим на основе сложившегося
в течение долгого исторического периода времени общественного
сознания, а некий интеграл живого, действующего человека с
самосознанием человека, для которого весь мир представляется миром
117
лишь в той степени, до какой простирается и распространяется его
самосознание. От реального мира остаются лишь небольшие
островки, с которыми индивидуум имеет какие-то отношения (по
большей части отношения осмысления и познания) и которые
в связи с этим антропологизируются, а в некоторых случаях
обладают лишь биологическими или физиологическими
характеристиками. Данные отношения носят односторонний характер и
направленность, а именно от субъекта к объекту, поскольку сам объект
представляется в виде части субъекта, или, точнее, как продолжение
субъекта: его субстанция в форме субъективности.
Это — несколько видоизмененное понимание сознания и
самосознания, которое мы встречаем в философии Фихте.
Видоизменение заключается в наделении этого самосознания биологическими
характеристиками, жизненной активностью, жизнью в ее
биологически-антропологическом понимании.
Поэтому, с одной стороны, отрицание объективной реальности
и ее воздействия на субъект ведет к дальнейшей субъективизации
(биологическому психологизму) содержания человеческого
мышления и познания; с другой стороны, процесс субъективизации
содержания человеческого сознания и познания приводит к еще более
радикальному отрицанию и исключению действительности из
сферы познания и деятельности индивидуума. В конечном счете Ортега
приходит к личности, к человеку как радикальной данности всего
существующего и как к исходному пункту человеческой
жизнедеятельности вообще.
Ортега ставит вопрос о смысле истории: в чем смысл истории
и имеет ли история какой-либо смысл? По его мнению, только наша
человеческая жизнь имеет смысл: «Только наша жизнь имеет сама
по себе «смысл» и поэтому является интеллигибельной... Наша
жизнь — универсальный интерпретатор. И история как
интеллектуальная дисциплина является методическим усилием для того, чтобы
сделать из любого другого человеческого бытия (ser) alter ego, где
оба термина — ego и alter — берутся в полной мере. Это
противоречиво и поэтому составляет проблему для разума» 3ü. То есть только
человеческая жизнь представляет какой-то интерес для
исторического исследования и размышления. Сама же история является
методическим усилием исторического разума, который постоянно
пытается превратить человеческое бытие в другое Я, в другое
человеческое бытие. Иными словами, исторический разум пытается
воспроизвести прошлое через настоящее и в настоящем. Этот
процесс означает постоянное превращение человеческого бытия,
существующего в настоящем, в человеческое бытие,
существовавшее в прошлом, и, наоборот, человеческого бытия, существовавшего
в прошлом,—в настоящее человеческое бытие. В этом Ортега видит
противоречие и проблему человеческого разума.
Действительно, если брать историю, то она имеет смысл только
как человеческая история, только как дело рук человеческих. Для
118
Ортеги история начинается с отчуждения человека. Это неверно,
поскольку само отчуждение является результатом или явлением
той сущности, той субстанции, которая называется трудом.
Отчуждение есть прежде всего отчуждение труда, отчуждение продукта
труда от производителя, затем самоотчуждение, отчужденное
сознание и т. д. При этом надо иметь в виду, что отчуждение
появляется лишь с вполне определенной исторической формой способа
производства — с началом развития товарных отношений, с
появлением частной собственности на средства производства. А
действительная история человека и человеческого общества начинается
гораздо раньше, с первобытнообщинного способа производства.
Для Ортеги же движение нашей жизни, а значит, и истории есть
«движение нашей жизни к другим», которое резюмируется в
«четырех великих шагах».
1. Только мне дана и очевидна моя жизнь. Жизнь других
«обменивается» с моею. «Причиной этого является то, что все
другие еще не знают исключительности моей жизни, то есть что эта
жизнь только моя жизнь, которую я наивно проецирую на все
остальные жизни» 3|. Другие думают и чувствуют так же, как и Я,
поэтому существует только одна форма жизни, одинаковая во всех
людях.
2. Жизнь «ближнего» не является настоящей и ощутимой, она
доходит до меня только как «симптом». Эти «симптомы» проявляют
некоторые схожие абстрактные черты моей жизни, поэтому
«близкий» предстает передо мной как нечто чуждое, как бытие, которое
я создаю по своему подобию. Поэтому «жизнь не всегда является
явной, ощутимой, интеллигибельной, еще есть жизнь скрытая,
непроницаемая и другая: в целом — чужая жизнь. Эта первая
частная жизнь, которая открывает себя,— есть Ты, перед которой
и в столкновении с отчужденностью которой я осознаю, что я есть
не что иное, чем Я. Я рождается после того, как рождается Ты,
и как его противоположность, словно внезапный сильный удар
приносит нам открытие Ты, то есть открытие ближнего как
такового, который имеет дерзость быть Другим» Л2.
3. Отчуждение «ближнего» от меня позволяет «конструировать
ближнего как Я, который является Другим Я — alter ego: нечто
одновременно близкое и отдаленное. Это — великое и всегда
проблематичное дело: понимание ближнего» 33.
4. «Настоящий ближний, который был чуждым, остается
частично ассимилированным или уподобленным мне. На самом деле
я всегда надеюсь, что современник, которым является ближний,
с которым я сосуществую, в конечном счете такой же, как и я.
Другими словами: ближний, Ты это Другой, но он мне не
представляется таким, кто непременно должен быть Другим: я всегда думаю, что
в принципе он мог бы быть Я».
Дружба, любовь являются крайними формами ассимиляции
между Ты и Я. Тем не менее «последняя ассимиляция невозмож-
119
на», говорит Ортега, ибо тогда нужно было бы создать другого
Цезаря или Клеопатру, что совершенно исключено. «Техника этого
интеллектуального трюизма есть историческая наука» й.
Эти «четыре великих шага» «движения нашей жизни к другим»
есть гипертрофированное описание социальных отношений.
Положив в основу индивидуальную человеческую жизнь как
«радикальную реальность», как смысл и содержание истории, Ортега пытается
установить отношения, которые бы связывали ее с другими людьми,
с другими человеческими жизнями. Нетрудно видеть, что при таком
исходном пункте это невозможно. Если «моя жизнь»
рассматривается как нечто совершенно уникальное, исключительное и
неповторимое, то каждый из существующих людей вправе рассматривать
свою жизнь точно таким же образом, ибо все думают и чувствуют
примерно одинаково в тех пределах, в которых они остаются
людьми. Поэтому первый шаг, о котором говорит Ортега, является
ошибочным: им можно кончать путь движения к другим, когда другие
уже найдены, познаны и открыты, а не начинать с него.
Второй шаг описывает Другого как некий намек, «симптом»
«моей жизни», как отрицание ее небытия. Ортега пренебрегает
глубоко социальной сутью характера человека, человеческого Я,
поэтому каждый Другой, хотя и выступает как Близкий, тем не
менее он всегда остается «чужим», «скрытым», «непроницаемым».
Другой, Близкий представляется чуждым потому, что все Другие
Люди при определенных социальных обстоятельствах, которые
Ортега не учитывает, поражены взаимной враждой, корни которой
требуют конкретно-исторического, социологического выявления.
На уровне психологическом она необъяснима.
Третий шаг должен означать «понимание Близкого», поскольку
Близкий рассматривается лишь как некое «инобытие» Я, как
некоторое другое Я, одновременно близкое и далекое.
Это напоминает отчуждение гегелевской «абсолютной идеи»,
когда весь процесс развития представляет собою путь, в результате
которого «абсолютная идея» приходит к своему самопознанию,
с той только разницей, что вместо идеи выступает индивидуальная
человеческая жизнь — «моя жизнь», мое Я, подобно штирнеровско-
му «Единственному». Можно в известной мере сказать, что Орте-
га-и-Гасет пытается через категории Я, Ты, Другой, Близкий
объяснить всю совокупность отношений, существующих в обществе.
Однако результатом этого объяснения является радикальное
одиночество Я, поскольку каждый Другой, как говорит Ортега об этом
в «четвертом шаге», лишь в принципе может быть моим Я, но
таковым никогда не становится, ибо Я есть Я, а Ты есть Ты, так же как
Он есть Он, Другие есть Другие. Данную позицию можно поэтому
охарактеризовать как персоналистский плюрализм, напоминающий
лейбницевскую монадологию, поскольку каждый человек, каждая
человеческая жизнь остается замкнутой, самодовлеющей, наедине
со своим миром и своей собственной жизнью.
120
В результате этого феноменологического анализа Ортега
приходит к выводу, что историческое чувство является видением
дистанции: «Историческое чувство есть на самом деле чувство-
фикция и орган видения дистанции как таковой» *5. То есть
историческое чувство расстояния, на котором находится от нас, точнее, от
моего Я, то или иное событие, тот или иной исторический факт.
Человеческое Я ставится в центр исторического исследования,
а конкретность исследования, связанная с открытием
объективных законов развития исторических событий, подменяется
нахождением дистанции того или иного события от историка, то есть
абстрактной временной «проекцией» историка, опрокинутой в
прошлое.
Субъективистский пафос присутствует у Ортеги-и-Гасета не
только в историческом исследовании, но и при рассмотрении
проблем современности.
В своей нашумевшей работе «Восстание масс» (1930) Хосе
Ортега-и-Гасет критически описывает состояние современной
эпохи. По его мнению, Европа переживает самый глубокий кризис,
который когда-либо выпадал на долю народов, наций и культур.
Подобные кризисы уже случались в истории, только, может быть,
они были не такими тяжелыми, как сейчас. Этот кризис он
определяет как «восстание масс» 3(3. В чем видит он проявления этого
кризиса?
Прежде всего — во всеобщем нивелировании: «Мы живем
в эпоху нивелирования: нивелируются судьбы, нивелируется
культура различных социальных классов, нивелируются половые различия
(los sexos). Больше того: нивелируются даже континенты» 37.
Наступает господство «среднего человека», господство
«человека-массы», господство «масс». «Восстание масс может быть переходом
к новой организации человечества; но также может быть
катастрофой в судьбе человечества» 38. По мнению Ортеги, достаточно
тридцати лет господства «человека-массы», чтобы вернуть
человечество к эпохе варварства.
Социальный анализ эпохи Ортега проводит с элитарных
позиций. Он не скрывает своих политических убеждений и взглядов:
всю историю человечества он рассматривает как историю
аристократии. Общество, говорит Ортега, не должно быть
аристократическим, ибо оно всегда было аристократическим. Все самые большие
достижения человеческого общества, человеческой культуры
являются делом аристократического меньшинства, «избранных».
«Общество всегда является динамическим единством двух факторов:
меньшинства и большинства»,— пишет Ортега. При этом именно
меньшинство делает историю, науку, культуру, а большинство не
имело и не имеет к этому никакого отношения.
Однако в настоящее время, по его мнению, положение резко
изменилось: все то, что раньше было доступно только избранному
меньшинству, становится теперь доступным почти всем. Во все
121
сферы деятельности, которые раньше были привилегией
аристократии, проникает «средний человек», «человек-масса».
В нашей литературе принято считать, что под это понятие
Ортега-и-Гасет подводит народ, народные массы, рабочий класс
и крестьянство. Но это не совсем так.
Классовые позиции того или иного философа небезразличны
для метода его исследования и его системы ценностей. Однако
нельзя прямо и непосредственно из классовых позиций философа
или идеолога выводить содержание тех или других категорий его
философии, ибо классовые позиции, классовые симпатии и
антипатии отнюдь не всегда совпадают с конкретным содержанием тех
или других категорий его философской системы и тем более не
могут заменить их конкретное содержание.
В вышеуказанной трактовке категории «человек-масса»
произошло именно отождествление политической и классовой позиции
Ортеги-и-Гасета с конкретным содержанием данной категории. Сам
Ортега-и-Гасет неоднократно оговаривал, что его деление общества
на массы и избранное меньшинство представляет собой не деление
на социальные классы, а деление на группы людей, которое не
совпадает с иерархией высших и низших классов. Действительно,
Ортега-и-Гасет находит «человека-массу» прежде всего среди групп
и слоев самой буржуазии.
«Кто сегодня владеет социальной властью? Кто вносит
структуру своего духа в эпоху? Несомненно, буржуазия. Кто внутри этой
буржуазии рассматривался как высшая группа, как современная
аристократия? Несомненно, люди техники: инженеры, врачи,
финансисты, профессора и т. д. Кто внутри группы техников
представляет ее лучше и ярче всего? Несомненно, человек науки...
человек науки фактически является прототипом «человека-массы». И не
по причине собственных недостатков каждого человека науки, но
потому, что сама наука — корень цивилизации — превращает его
автоматически в «человека-массу», то есть делает из него
первобытного человека, современного варвара» 39. Из этого высказывания
Ортеги видно, что под «человеком-массой» он понимает отнюдь не
«народ» в обычном понимании, а тот своеобразный слой людей,
который появляется в эпоху цивилизации, точнее, при капитализме.
Вслед за Шпенглером Ортега различает культуру и
цивилизацию. С развитием современной техники, технического прогресса
возникает и развивается цивилизация. Растет специализация
людей, каждый занимается какой-то узкой операцией, узкой сферой
деятельности. Это в значительной мере упрощает характер труда.
Человек теряет цельность своего характера и личности,
обезличивается. С ростом уровня цивилизации снижается общий уровень
культуры, говорит Ортега. Современная наука имеет дело по
большей части с посредственным и даже более чем посредственным
человеком. И этот уровень общей культуры все больше и больше
снижается. «Средний человек», «человек-масса» начинает прони-
122
кать во все сферы жизни и господствовать в них. Ортега еще раз
поясняет, что нужно понимать под массой: «Под «массой» —
я предупреждаю принципиально — не понимается специально
рабочий; это не означает здесь также и социального класса, но класс
или тип человеческого существа, который имеется сегодня во всех
социальных классах, который собой представляет наше время, над
коим он господствует и управляет...» 4). Ортега отмечает не только
падение общего уровня культуры современного общества, его
бесчеловечный, дегуманистический характер, но и стремление «нового
человека» — «человека-массы», посредственного человека —
к власти, к тоталитарному господству.
Давая здесь резкую критику капиталистического общества,
Ортега в какой-то мере предугадывает приход к власти фашизма,
фашистских молодчиков, этих «средних людей», со «средними
способностями», но с необычно сильной «волей к власти». Не случайно
Ортега пишет о буржуазной цивилизации, что она означает
«попытку сделать силу последним разумом (ultima ratio)...
прокламировать насилие как первый разум (prima ratio)... Это Charta magna
варварства» 41. Однако, как и всякому либеральному идеологу,
развитие капиталистического общества, его основные тенденции
представляются Ортеге картиной всего мира, всего человеческого
общества. Для него везде и всюду происходит процесс тотального
нивелирования, процесс упадка общей культуры, период кризиса
и деморализации человеческого общества. Больше того, как и
многие другие современные идеологи, Ортега приходит к
отождествлению фашизма и большевизма: «Тот и другой — большевизм и
фашизм — являются двумя псевдорассветами... примитивизмом» 42.
Отождествление фашизма и большевизма обусловлено, в частности,
его специфическим пониманием государства. Рассматривая
государство как продукт цивилизации, Ортега видит в
«огосударствлении жизни» большую опасность: «Общество будет стремиться к
тому, чтобы жить для Государства, а человек — для
правительственной машины» 43. Он рассматривает «государство вообще», точнее,
буржуазное государство, считая его характеристики всеобщими для
всех видов и форм государства. В таких условиях, по мнению Орте-
ги, «вся жизнь бюрократизируется». А это может привести только
к тоталитарному режиму, к режиму фашистскому, поскольку
фашизм начал как раз с подчинения жизни индивидуума государству.
В свое время не кто иной, как Муссолини, выдвинул лозунг: «Все
для Государства, ничто вне Государства, ничего против
Государства» 44. В этом отождествлении государственности с жизнью людей
Ортега-и-Гасет видит насилие над природой человека, истоки
«неподлинности» существования — «неподлинную» жизнь.
Действительно, и Муссолини и Гитлер стремились отождествить жизнь
человека с жизнью государства, преследуя этим тройную цель:
превратить каждого человека в послушный механизм-автомат,
беспрекословно выполняющий волю и приказы «государства», само
123
«государство» превратить в своеобразное средство осуществления
замыслов фюрера, а замыслы фюрера превратить в выражение
«высших государственных интересов», «интересов народа и нации»,
выполнение которых каждый человек должен был рассматривать
как свой самый высший и святой долг. Человечество убедилось на
собственном опыте в открыто бесчеловечном и
антигуманистическом характере фашистского государства, фашизма вообще,
пытавшегося поработить народы мира, поставив их на службу
«избранному народу» — «арийцам», нацистам,— либо подвергнуть
геноциду. Выступая против такого понимания «огосударствления
человеческой жизни», Ортега-и-Гасет предостерегал против
наступления господства «человека-массы», в котором он видел
«современного варвара», «разрушителя культуры». Что же касается
наступления эпохи господства народных масс, народа, то
народовластие Ортега в принципе считал немыслимым. Он не мог представить
себе, каким образом простой народ может создать высокую
материальную и духовную культуру, которая, по его мнению, всегда была
уделом и продуктом избранного меньшинства.
Правда, в критике «огосударствления человеческой жизни»
следует видеть и другой аспект — критику бюрократизма как
непосредственного продукта государственности и процесса
«огосударствления человеческой жизни». «Массы» не могут обойтись без
государства, ибо сами по себе они ничего не представляют. Именно
поэтому им импонирует «огосударствление» — возможность
выступать от имени государства, быть представителями государства и
государственной власти; они рады возможности выступать от имени
силы, стоящей надо всеми, ибо сильны чужой силой и чужой
слабостью. Ортега как истинный философ лишь указывает на факт
бюрократизации, но не говорит о средствах борьбы с нею. Бюрократ
как таковой — это самый трусливый и безответственный человек.
Он боится взять на себя даже малейшую ответственность. Он ждет
указаний сверху. После этого он начинает «смело» действовать, ибо
теперь ни за что не отвечает. Поэтому трусость и подлость
бюрократа превращаются в бессердечность, грубость и жестокость. Он
никогда не говорит от себя, поскольку это опасно, а всегда
выступает от имени государства или от чьего-либо другого имени —
только не от своего собственного. Бюрократы поэтому — серые,
обезличенные индивидуумы, это «люди-масса», каждый из которых
боится и презирает другого, но каждый из них знает, что он без
других — ничто. Отсюда эта цепкость и взаимосвязанность между
бюрократами: они держатся друг за друга и друг друга
поддерживают. Поэтому так трудно бывает с ними бороться.
При всей односторонности методологических посылок Орте-
га-и-Гасет улавливает определенные тенденции развития
государственной машины тоталитаризма. Она подавляет не только народ,
для чего она, собственно, и существует, но и буквально всех,
включая и функционеров, приводящих в действие эту государственную
124
машину. Она превращает их в такие «винтики», которые сами по
себе не имеют абсолютно никакой ценности, и поэтому каждый из
них может быть в любой момент выброшен из этой машины и
заменен другим. Даже люди так называемых «свободных» профессий:
художники, писатели, некоторые ученые и т. п.— испытывают на
себе гнет этого Левиафана, как прямой, так и косвенный. Прямое
давление на них оказывают исполнители государственной власти,
которые повелевают делать им то или другое. Косвенное же
давление заключается в том, что эти люди «свободных» профессий
начинают мыслить так, как угодно этому Левиафану, с редкими
отступлениями и отклонениями, которые тут же осуждаются и
«выправляются».
Ортега, таким образом, нарисовал безотрадную картину
современной цивилизации, гибельную не только для «избранных»,
которые постепенно и со все увеличивающейся скоростью
вымирают. Речь идет не исключительно о судьбах элиты, но о судьбах
современной Европы и современного мира вообще. И, нужно
сказать, Ортега не видит перспектив. Будущее представляется ему
безнадежным: господство «человека-массы», господство
бюрократии, господство тоталитарного фашистского режима, уничтожение
культуры, превращение людей в технических роботов.
Социальный анализ этого явления у Ортеги сведен до
минимума. Тем не менее впечатляет нарисованный им зловещий
психологический портрет человека-массы.
«Новый социальный акт, который здесь анализируется,
является следующим: европейская история, кажется, впервые отдана на
волю вульгарного человека как такового. Я говорю об этом в
полный голос: вульгарный человек, которым раньше управляли, решил
управлять миром. Это решение продвинуться на первый социальный
план произошло в нем автоматически, едва только достиг зрелости
новый тип человека, которого он представляет.
Если принять во внимание явления общественной жизни и
изучить психологическую структуру этого нового типа
«человека-массы», то увидим следующее: 1 ) естественное и радикальное
впечатление того, что жизнь является легкой и обильной, без трагических
ограничений; поэтому каждый средний индивидуум обнаруживает
в себе чувство господства и триумфа, которое 2) призывает его
утвердить самого себя таким, каков он есть, утвердить охотно
и полно свое моральное и интеллектуальное достоинство. Это
удовлетворение собой изолирует его от всего внешнего, чтобы ничего не
слышать, ничего не подвергать сомнению и не считаться с
остальными. Его внутреннее чувство господства побуждает его постоянно
осуществлять это господство. Действовать затем так, как если бы
в мире существовал только он один и ему подобные, и поэтому, 3)
выступая, он будет вносить повсюду свое вульгарное мнение, не
рассматривая, не созерцая, то есть действуя согласно режиму
«прямого действия» |;\ Здесь дается довольно точная характеристи-
125
ка «среднего человека», «человека-массы», жаждущего власти
потребителя, начиненного сказками и мифами о своем превосходстве.
Он уверен, что ему от рождения положено господствовать над
другими, и он даже не задумывается над вопросом, как подготовить
себя к этому, как совершенствоваться, ибо полагает, что и так
достаточно хорош. Он пытается утвердить свое моральное и
интеллектуальное превосходство, которое на самом деле является
крайней степенью разложения и деградации, интеллектуальным и
моральным кретинизмом и убожеством. Однако ничтоже сумняшеся
он пытается постоянно утверждать себя везде и всюду таким, каков
он есть, насаждая свое невежество и вульгарность, не зная
сомнений. Его единственный метод — это метод силы, метод «прямого
действия». Это, пожалуй, единственное, что он признает и с чем он
считается. Это и есть образчик тех типов, с которыми Гитлер
пытался завоевать весь мир и поставить его на колени.
Ортега дает нам образ человека, довольно похожий на портрет,
который мы находим у Хайдеггера. Отношение индивида и
государства, отношение личности и «Man», отношение этой личности к
другим, себе подобным, во многом совпадает у Ортеги и Хайдеггера.
И это не случайно. И тот и другой писали об одном и том же
обществе — о капиталистическом обществе предфашистского и
фашистского периода. Ортега предостерегал от этого страшного
общества, а Хайдеггер живописал его. Именно поэтому так много
общего в их социальном анализе, в их социальных полотнах.
Правда, нужно еще раз отметить, что Ортега-и-Гасет, так же
как и Хайдеггер, вовсе не был сторонником более прогрессивного
общества, хотя и говорил о «либеральной демократии». Его
«либеральная демократия» — это опять-таки власть «избранных», власть
имущих.
Проблемы, поставленные в таких работах, как «История как
система», «Восстание масс», и других Ортега-и-Гасет рассматривает
более конкретно и обстоятельно в одном из последних своих
сочинений — «Человек и люди». Ближайший ученик и последователь
Ортеги, Хулиан Мариас, назвал это произведение «теорией
человеческой жизни». Ортега-и-Гасет исследует в этом произведении
самые различные аспекты, касающиеся человека и человеческой
жизни. Больше того, в этой работе так или иначе Ортега-и-Гасет
снова и снова воспроизводит и как бы проверяет свои основные
идеи. В этом смысле данная работа представляет собой
концентрированное выражение взглядов Ортеги и своеобразный итог его
философской деятельности.
Хосе Ортега-и-Гасет исходит из анализа окружающей
действительности — капиталистического, буржуазного общества. Даже
при беглом, поверхностном взгляде на эту действительность можно
заметить, что она выступает как нечто чуждое и враждебное
человеку. Ортега довольно верно описывает опасности, угрожающие
человеку. Прежде всего он говорит о состоянии отчуждения, в котором
126
находится современный человек. Главные опасности, которые ему
угрожают,— это: не быть человеком и не быть самим собой. Ортега
не просто описывает или констатирует факт отчуждения человека
от мира и от самого себя, а, отправляясь от реальной жизни,
доказывает логически, теоретически неизбежность отчуждения в
современном буржуазном обществе. Какое значение Ортега-и-Гасет
придает категориям отчуждения и погружению в свои
размышления, можно видеть из следующих слов: «Есть три различных
момента, которые циклически повторяются в ходе человеческой
истории, каждый раз во все более сложных и неясных формах: 1 )
человек чувствует себя потерянным, потерпевшим крушение в вещах;
это отчуждение (la alteracion); 2) человек энергично погружается
в свою внутреннюю духовную жизнь, чтобы прояснить свое
миросозерцание и обдумать свое возможное господство; это погружение
в размышления, созерцательная жизнь, о которой говорилось в
романах, «теоретикос биос» греков, теория; 3) человек возвращается
к погружению в мир, чтобы действовать в нем соответственно
заранее составленному плану; это — действие, активная жизнь,
практика. Поэтому нельзя говорить о действии без его измерения, в
котором оно должно стать руководящим принципом для
предварительного созерцания; и, наоборот, нет погружения в свои
размышления без проецирования будущего действия. Итак, судьба
человека есть прежде всего действие. Мы живем не для того, чтобы
думать, а, наоборот, думаем для того, чтобы достигнуть подлинной
жизни» 4().
Здесь Ортега набрасывает основные пути развития
человеческого познания. Отчуждение человека, потеря им собственной
человеческой сущности заставляет его отвернуться от вещей, в которых
он растворяется и теряет себя, и обратиться к самому себе, к своей
внутренней, интимной жизни, к внутреннему созерцанию, благодаря
которому он формулирует основные понятия, категориальную
систему, упорядочивающую мир вещей. После этого человек снова
«погружается в действительность», в вещный мир, не боясь
раствориться и потеряться в нем, поскольку он действует уже по заранее
выработанному плану. Замысел Ортеги понятен: он хочет соединить
теорию и практику, чтобы вырвать человека из состояния
отчуждения, сделать человека теоретически и практически действующим
существом.
В противовес различным концепциям иррационализма Орте-
га-и-Гасет считает, что человек — это действующий субъект,
способный понять и осознать свои действия и, следовательно, нести за
свои действия определенную ответственность. Однако, по мнению
Ортеги, ситуация человека безнадежна: с кем и с чем бы он ни имел
дел и отношений — везде и всюду он встречается со своим
собственным одиночеством и погруженностью в самого себя (ensi-
mismamiento), с отчужденностью от внешнего мира. «Быть в мире»
ser en el mundo — и быть с самим собой и своими обстоятельства-
127
ми — ser si mismo y su circustancia — это означает быть одиноким
и отчужденным от самого себя, других и от мира. Любопытно, что
Ортега говорит не просто о мире, в котором живут люди, а о мире
«гуманизированном», объективированном, интерпретированном, то
есть о мире, так или иначе преобразованном человеком, о
человеческом мире, мире человеческой культуры. Если бы природа
существовала сама по себе, без человека, то никогда не возникло бы
никакой проблемы. Проблемы, даже относящиеся к природе,
возникают только с появлением человека и человеческого общества.
К нашему «непереводимому» или «непередаваемому»
существованию (intrasferible existencia) мы пригвождены как к некой Голгофе,
нашей уникальной позиции обзора, с которой созерцается и
оценивается мир.
Ортега-и-Гасет пытается дать онтологическое доказательство
или обоснование субъекта. Ортега различает мир «вещей для меня»
(«cosas para mi»), мир «вещей для себя» («cosas para si») и мир «для
него» («para el»). Социальное отношение открывает субъекту или
человеку возможность теоретического постижения объективного
мира и одновременно открывает ему множественность миров или
«перспектив», которые соответствуют каждому отдельному
индивиду. (Именно поэтому философию Ортеги-и-Гасета, точнее,
определенный период в его философии, называли «перспективизмом».)
Каждый индивид представляет собой некий замкнутый мир, некую
монаду, существующую среди других таких же монад, которые
составляют вместе «гуманизированный» мир. Индивид можно
сравнить с прожектором, лучи которого и составляют его мир, его
«перспективу».
Если бы человек существовал в единственном числе, то ему
ничто бы не угрожало: его мир был бы таким же чистым, как и луч
прожектора, направленный в бесконечность. Однако эта чистота
была бы настолько чистой, что ее не с чем было бы сравнить: луч
света, направленный в бесконечность, был бы слепым, поскольку
ничего бы не видел. Только луч света, встречающий другие
предметы, позволяет что-то увидеть, сравнить, познать. Так обстоит
дело и с индивидуальной человеческой жизнью: чтобы она не была
слепой и «невинной», нужно включить ее в социальную жизнь,
в коллективную жизнь, только тогда можно получить какое-то
представление о ее содержании, специфике и т. д. Подлинным
субъектом может быть только такой индивид, который включается
в коллективную жизнь, то есть тот, который как бы отказывается от
своей собственной жизни, от своего Я и подчиняется определенным
законам и требованиям коллективной жизни, выполняя все ее
правила и предписания, становясь анонимным механическим
исполнителем данного общества, его правил, традиций, максим и норм.
С этого момента он становится «социализированным» субъектом,
субъектом, который делает, говорит, думает так, как делает, говорит
и думает общество, коллектив, или «люди». Чтобы стать обществен-
128
ным человеком, субъект должен отказаться от того, чтобы быть
человеком; чтобы существовать, человек должен отказаться от
собственно человеческого существования; чтобы сохранить себя,
человек должен потерять себя. Словом, Ортега как и Хайдеггер,
считает общественную, социальную жизнь «неподлинной» жизнью,
жизнью, в которой отчуждается собственно человеческая сущность.
Социальная жизнь, общественная жизнь и поведение — один из
типов или видов отчуждения, отчужденной жизни.
Ортега называет социальное — один из видов отчуждения —
«псевдодеятельностью субъекта», потому что подлинная
деятельность, согласно его пониманию, предполагает разум, который
является полной противоположностью межиндивидуальной
деятельности. Факт обезличения, деперсонализации человека Ортега выводит
из «коллективного мышления», он говорит о господстве «духа
массы»: каждый человек начинает думать и делать то, что делают
другие. Не остается места для личности — всюду господствуют
настроения, чувства, мысли и действия «людей партии»:
политических партий, обществ культуры, различных религиозных и
спортивных организаций, семьи, кварталов, районов, рас и т. д. К тому же
общество не только теоретически думает,— его мышление находит
практическое или реальное воплощение в таких институтах, как
пресса, радио, кино и другие средства информации и
распространения массовой культуры — культуры для широких масс, культуры,
которая в свою очередь формирует определенные вкусы, запросы,
потребности и оценки. Распространение культуры вширь, ее «омас-
совление» — яркий показатель ее вырождения. Чтобы спасти
культуру, нужно позаботиться о человеке, о личности, а также о тех
условиях, которые ее окружают. Поэтому Ортега обращается к
анализу структуры человеческой жизни, структуры индивида,
утверждая, что жизнь каждого индивида является «фундаментальной
реальностью». Философ выделяет четыре существенных момента
человеческой жизни:
1. «Человеческая жизнь, в подлинном и первоначальном
смысле,—это жизнь, рассмотренная из самой себя, это всегда есть моя
жизнь — личная жизнь.
2. Жизнь заключается в том, что человек вынужден, не зная
как и почему, под угрозой погибели, делать всегда что-нибудь
в определенных обстоятельствах, что мы назовем обусловленностью
обстоятельствами.
3. Обстоятельства представляют нам всегда различные
возможности деятельности, следовательно, бытия. Это заставляет нас
осуществлять, хотим мы этого или нет, нашу свободу. Мы
вынуждены быть свободными. Благодаря этому жизнь есть вечное
перекрещивание и сомнение. Мы должны в каждое мгновение выбирать,
будем ли мы в ближайшее или более отдаленное мгновение теми,
кто делает то или это; следовательно, каждый постоянно выбирает
свой род деятельности, свое бытие непрерывно.
5 К. М. Долгов
129
4. Жизнь непередоверяема. Никто не может заменить меня
в деле решения моего рода деятельности, а это включает в себя мою
личную муку, ибо страдание, которое приходит ко мне извне,
я должен принять, моя жизнь является поэтому постоянной и
неизбежной ответственностью перед самим собой. Необходимо, чтобы
то, что я делаю, что я думаю, чувствую, желаю, имело смысл,
и здравый смысл, для меня. Если мы резюмируем эти атрибуты... то
получается, что жизнь является всегда личной жизнью, жизнью
в обстоятельствах, жизнью непередоверяемой и ответственной» 4/.
Другой важной категорией Ортеги представляется категория
«социального факта», или «опыта»: «Основные социальные факты
являются опытами (los usos)» 48. Эти «опыты» (или «потребления»,
или «применения») имеют, согласно Ортеге, огромное значение
для индивида благодаря выполнению ряда весьма существенных
функций:
1. Являются правилами поведения, позволяющими нам
предвидеть поведение индивидов, которых мы не знаем и которые
поэтому не являются для нас определенными индивидами. Только
межиндивидуальное отношение возможно с индивидом, которого мы
знаем индивидуально; это есть отношение с ближним (proximo).
Опыты позволяют нам сосуществовать с неизвестным, с почти
чуждым.
2. Оказывают влияние на определенный репертуар действий —
идеи, нормы, технику,— обязывают индивида жить на высоте
времени, внедряют в него время, хочет он того или нет; это —
наследство, аккумулированное в прошлом. Благодаря обществу человек
несет в себе прогресс и историю.
3. Осуществляют автоматизацию большей части поведения
личности и дают ей программу решения почти всего того, что
требует действия; позволяют концентрировать личную творческую и
действительно человеческую жизнь4J. Благодаря обществу индивид
может создавать новое, рациональное и более совершенное.
Наконец, третьей важной категорией у Ортеги является
категория социального. Понимая общество как сумму индивидов, Ортега
и социальное сводит к той же исходной категории, утверждая, что
оно «заключается в человеческих действиях и поведении.
Совокупность этих деяний, действий или поведений и есть наша
жизнь» 50.
Ортега пытается при этом преодолеть крайний субъективизм
в понимании общества и социальных явлений, вырваться за
пределы представления общества как простой суммы индивидов и
специально оговаривает, что «социальное есть факт, но не
человеческой жизни, а другого, которое появляется в человеческом
сосуществовании. Под человеческим сосуществованием мы понимаем
отношения между двумя индивидуальными жизнями... Факты
сосуществования не являются, конечно, сами по себе социальными
фактами. Они образуют то, что следует назвать «обществом или
130
связью» (compania о comunicacion) — миром межиндивидуальных
отношений» 5|.
Ортега-и-Гасет не случайно назвал данное произведение
«Человек и люди», поскольку он исходит из того, что общество
представляет собой если не сумму индивидов, то в лучшем случае лишь
ассоциацию людей. Он выставляет в качестве исходного пункта
социологии такую «фундаментальную реальность», как жизнь
каждого индивида как такового. Это было своеобразным выражением
протеста против философских систем типа гегелевской,
уделявших незначительное место индивиду в историческом развитии,
рассматриваемом как проявление абсолютной идеи, так и
противопоставлением историческому материализму, изучавшему
деятельность людей, индивидов через деятельность и борьбу классов,
больших групп людей и вскрывавшему объективные законы,
соответственно которым развивается та или другая общественно-
экономическая формация. Философское творчество Ортеги-и-Гасе-
та симптоматично для нашего времени, в нем проявилась известная
закономерность: чем больше становился объем масс, вовлекаемых
в революционную борьбу, освободительные движения и т. д., тем
больше интереса проявляло буржуазное сознание к отдельно
взятому индивиду, а не к обществу, классу, классовой борьбе, борьбе
политических партий, мировоззрений и т. д. Правда, в этом нашел
свое выражение и естественный, стихийный протест против
обезличивания человека, против его отчуждения.
Ортега-и-Гасет, как мы видели, не отрицает значения общества
для индивида: хотя общественная жизнь является «неподлинным»
его существованием, все же индивид должен с необходимостью
вовлекаться в нее, ибо только благодаря обществу и посредством
общества он может подключиться к истории и историческому
прогрессу. Вместе с тем общество, коллектив порождает «окостенение»
человеческого.
Однако социальное — не факт человеческой жизни, а лишь
некое условие сосуществования людей, так же как факт
сосуществования не является социальным фактом. Социальными,
конститутивными фактами являются для Ортеги «опыты», то есть
действия, обусловленные социальным давлением, давлением,
оказываемым обществом на индивиды. Они — внеиндивидуальные или
безличные реальности, благодаря которым человек усваивает
культуру прошлого и может развивать или вырабатывать культуру
настоящего и будущего.
Таким образом, Ортега-и-Гасет показывает «радикальное
одиночество» человека в современном буржуазном мире, тотальное
отчуждение, которому тот постоянно подвергается. Больше того,
Ортега показывает, что виной всему социальные отношения этого
общества, которые враждебны человеку, человеческому, личности.
Однако преодоление отчуждения Ортега видит не в коренном
преобразовании современного общества, а в возвращении к средневеко-
5*
131
вой социальной иерархии, когда большинство безропотно работало
и обслуживало элиту, меньшинство, аристократию, создававшую
и развивавшую человеческую культуру. Возлагавший было свои
надежды на либерализм, Ортега быстро увидел, что это — иллюзия
и что выход, пожалуй, состоит в отказе от либерализма.
Основные моменты социальной теории Ортеги-и-Гасета
являются своеобразным ключом к пониманию его эстетики. Вместе
с тем можно утверждать и обратное: критическое рассмотрение
эстетики поможет полнее и глубже выявить содержание его
социальной теории.
Хосе Ортега-и-Гасет начинает свою работу о дегуманизации
искусства с утверждения, что искусство следует изучать с
социологической точки зрения. Это, разумеется, справедливо: чтобы понять
искусство или эстетическую теорию, необходимо проанализировать
их социальные корни, социальное содержание, условия, благодаря
которым они возникли и распространились. Попытаемся с этой
точки зрения взглянуть на саму эстетическую концепцию Хосе
Ортеги-и-Гасета.
Капиталистический способ производства враждебен искусству
и человеческому творчеству вообще. Этот факт не мог не вызвать
определенного, порой очень резкого сопротивления со стороны
художественной интеллигенции. Так возникла теория «искусства
для искусства», которая пыталась спасти искусство от
разлагающего влияния буржуазной действительности, изолировав его от этой
действительности и замкнув в самом себе. Это был своеобразный
протест художников против голой буржуазной утилитарности,
против превращения произведений искусства в заурядный товар, а
самих художников — в обычных ремесленников. Как известно, этот
протест не увенчался и не мог увенчаться успехом. Больше того,
попытка изоляции искусства от действительности несла искусству
не спасение, а в конечном счете гибель.
В обществе рыночной экономики, где произведения искусства
становятся предметом наживы и спекуляций, неизбежно
измельчание искусства, появление произведений, потворствующих
мещанским вкусам, вкусам среднего потребителя, снижение общего
уровня культуры художников вообще. Эта ситуация порождает
эстетические теории, провозглашающие конец искусства, его неизбежную
гибель. Однако подобные теории неспособны объяснить
особенности современного искусства, и в частности его все более
проявляющуюся антигуманистическую направленность. Между тем это
совершенно реальное явление нашего века.
Кризис буржуазного общества, начавшийся во второй половине
XIX века, охватил все стороны и все сферы общественной жизни.
Философы пытались по-своему объяснить причины и последствия
данного кризиса и наметить какие-то пути его преодоления. Так,
например, Фридрих Ницше видел проявление кризиса в том, что
люди утратили «волю к власти». Под влиянием христианской рели-
132
гии и различного рода либеральных и социалистических учений они
стали «мягкими» и слишком «демократичными», вместо того чтобы
воспитывать в себе качества «белокурой бестии», «сверхчеловека»,
стоящего по ту сторону добра и зла. В связи с этим он требовал
«переоценки всех ценностей». Самое важное противоядие против
нарастающего кризиса он видел в искусстве, но не в
существовавшем искусстве, которое, по его мнению, было слишком
романтическим и сентиментальным (включая искусство Вагнера), а в
искусстве, которое еще надо было создать,— искусстве «гения»,
направленном на становление и воспитание «сверхчеловека». Это искусство,
по замыслу Ницше, должно исключить из себя «человеческие»
элементы. Оно должно быть «надчеловеческим», или
«сверхчеловеческим», чтобы противостоять всеобщему кризису и декадансу.
Теория Ортеги-и-Гасета, по существу, представляла
дальнейшее развитие и конкретизацию эстетики Ницше, эстетики
философии жизни.
Ортега-и-Гасет описывает и исследует действительность и
факты искусства. Прежде всего он выявляет утилитаризм современного
человека по отношению к искусству: людям нравится только такое
искусство, которое связано с человеческими судьбами, с
человеческим существованием: «Искусством они назовут совокупность
средств, с помощью которых они соответственно вступают в
контакт с человечески интересными вещами» 52. Такое понимание
искусства Ортега-и-Гасет считает естественным, поскольку
большинство людей не знает другого отношения к объектам, кроме
«практического» (причем «практическое» понимается прежде всего
как утилитарное и практически-утилитарное отношение).
Однако имеется различие в отношении к буржуазному
утилитаризму со стороны сторонников «искусства для искусства» и Орте-
ги-и-Гасета: первые отвергали утилитаризм, сугубо деляческий
подход к искусству; второй считает его неизбежным как точку зрения
«толпы», «массы», которая неспособна подняться выше
примитивного, обыденно-практического отношения к действительности,
включая и искусство.
Хосе Ортега-и-Гасет неправомерно отождествляет здесь
практическое отношение людей к действительности с грубо
утилитарным отношением, столь распространенным и неизбежным в
потребительском обществе. Практическое отношение к
действительности является определяющим среди других отношений человека
к окружающему миру, и в нем полнее всего проявляется
человеческая сущность, в то время как утилитаризм развивается в
определенной социально-экономической ситуации и носит исторически
преходящий характер.
Постулировав, однако, такое отождествление, Ортега-и-Гасет
показывает, что подобного рода практическое отношение к
искусству (когда человек радуется или страдает, переживая все перипетии
человеческих судеб в искусстве) не имеет ничего общего с подлинно
133
эстетическим переживанием и эстетическими чувствами:
«Радоваться или сострадать человеческим судьбам, которые, может быть,
повествуют или показывают нам произведения искусства, есть вещь
совершенно отличная от подлинно художественного наслаждения.
Больше того, это внимание к человеческому элементу в
произведении искусства в принципе несовместимо со строго эстетическим
удовольствием» 5J. В сущности, Ортега пребывает в русле
традиционной кантианской формулы эстетического как
незаинтересованного удовольствия. Но если Канта интересовала структура
воспринимающего субъекта, то Ортега считает необходимым обеспечить
неутилитарное отношение, изменив параметры произведения
искусства. Согласно Ортеге, художественность и действительность
являются совершенно противоположными: реальность,
действительность не может быть художественной, а художественность не
может быть реальной: «...художественный объект является
художественным лишь постольку, поскольку он нереален» 54. А поэтому по-
настоящему понимать и воспринимать произведения искусства
может лишь тот, кто выработает у себя способность видеть
произведения искусства такими, каковы они есть на самом деле,—
нереальными. Большинство людей сделать этого не в состоянии,
говорит Ортега-и-Гасет, они никогда не испытывают подлинно
эстетического наслаждения, ибо погружены в собственно
человеческую реальность, им застит небо человеческий элемент.
Весь XIX век, по его мнению, был веком строго
реалистического искусства; художники сводили до минимума художественный
элемент своих произведений, начиняя их различными рассказами
о реальной человеческой жизни. Такое искусство было рассчитано
на людей, которые не в состоянии понять подлинные произведения
искусства и которым доступны лишь произведения, обладающие
художественным элементом в самой незначительной степени.
Именно поэтому реалистическое искусство было столь популярным:
«...оно предназначалось для массы, дифференцированной в той
мере, в какой искусство уже было не искусством, а сгустком жизни.
Помнится, что во все эпохи, когда существовало два различных
типа искусства, одно для меньшинства и другое для большинства,
последнее всегда было реалистическим» 55.
Как пример Ортега-и-Гасет приводит средневековое искусство,
в котором существовали два вида искусства: цдя знатных —
благородное, «условное» и «идеалистическое»; для плебеев — народное,
реалистическое и сатирическое. Искусство реалистическое,
народное, по его мнению, является искусством грубым и примитивным,
в нем лишь ничтожная доля может быть отнесена к настоящему
искусству.
В свою очередь Ортега-и-Гасет не называет рафинированное
искусство «чистым искусством», потому что хорошо знает, что
теория «искусства для искусства» давно себя скомпрометировала,
больше того, он согласен даже отрицать возможность существова-
134
ния «чистого искусства» и ратует только за очищение искусства от
некоторых нежелательных элементов, вроде элемента
«человечности».
«Мы не собираемся спорить о том, возможно ли чистое
искусство. Может быть, и невозможно, но причины, ведущие к этому
отрицанию, трудные и долгие. Может быть, лучше не касаться этой
темы. Тем более что это не имеет большого значения для того,
о чем мы сейчас говорим. Даже если чистое искусство невозможно,
то нет никакого сомнения в том, что возможна тенденция к
очищению искусства. Эта тенденция приводит к прогрессирующему
исключению человеческих элементов, всех слишком человеческих
элементов, которые преобладают в романтической и
натуралистической художественной продукции. В ходе этого процесса будет
достигнута такая точка, когда человеческое содержание
произведения искусства будет таким ничтожно малым, что его едва ли можно
будет заметить. Тогда мы будем иметь объект, который смогут
воспринять только те, кто обладает своеобразным даром
художественной восприимчивости. Это будет искусство для художников,
а не для массы людей; это будет искусство касты, а не демоса.
Вот почему новое искусство разделяет публику на два класса
индивидов: тех, кто понимает его, и тех, кто не понимает, то есть
художников и нехудожников. Новое искусство есть искусство для
художников» 56.
За этими высказываниями скрыт также положительный
момент критики массовой культуры технократического общества.
Еще Гегель указывал на враждебность буржуазного общества
искусству и культуре. Он показал, что человек в буржуазном
обществе опутан сетью зависимостей от других людей и поэтому теряет
самостоятельность. Продукт его собственного труда не
принадлежит ему либо принадлежит в очень незначительной степени. Сам
труд становится машинообразным, механическим. В таком
обществе воцаряется ужасная нищета и ни один человек не может
почувствовать себя свободным. Отношения запутываются и
мистифицируются. Такое состояние общества враждебно искусству и таит
в себе его гибель5'.
Подлинные причины кризиса буржуазного общества были
вскрыты Марксом. Он установил, что «капиталистическое
производство враждебно известным отраслям духовного производства,
например искусству и поэзии» . Эта враждебность
капиталистического производства человеку и искусству носит необходимый и
всеобщий характер — она составляет суть самого капиталистического
способа производства и выражается прежде всего в отчужденном
характере труда и самоотчуждении человека.
«В прямом соответствии с ростом стоимости мира вещей растет
обесценение человеческого мира».59.
Инфляция человеческих ценностей в современном мире —
очевидный факт для мыслителей, подобно Ортеге-и-Гасету, пони-
135
мающих его важность и значение для всех сфер общественной
жизни. Современное искусство, с точки зрения Ортеги-и-Гасета,
характеризуется следующим. «Если проанализировать новый стиль,—
пишет он,— то в нем обнаружится ряд связанных между собой по
содержанию тенденций. А именно: к дегуманизации искусства;
к отрицанию живых форм; к пониманию произведения искусства
как только произведения искусства; к рассмотрению искусства
как игры и ничего больше; к вездесущей иронии; к уклонению
от любой фальши и в равной мере к скрупулезной детализации.
Наконец, искусство, согласно молодым художникам, есть «вещь,
лишенная всякой трансцендентности» 60. Рассмотрим подробнее
суть этих тенденций.
В основе всего для Ортеги-и-Гасета лежит «дегуманизация
искусства». Что он имеет в виду? Прежде всего философ
устанавливает наличие «нового эстетического чувства» как у творцов
художественных произведений, так и у публики. Оно состоит в стремлении
уйти от человека и всего человеческого: «Важным является то, что
в мире существует как несомненный факт новая эстетическая
чувственность. Стараясь отыскать наиболее общую родовую и
характерную черту новой художественной продукции, я нашел ее
в тенденции к дегуманизации искусства»61.
Здесь он ссылается на новую живопись. Если раньше живопись
пыталась представить действительность такой, какая она есть,
естественной, или человечной, очеловеченной («естественное» у Ор-
теги равнозначно «человеческому», «очеловеченному»), то новая
живопись пытается исключить этот человеческий элемент из
искусства. При помощи традиционной живописи человек мог
сосуществовать с ее иллюзорными или иллюзорно-реальными предметами.
Теперь это исключено: «В вещах, представленных в новом
произведении, сосуществование невозможно: художник, искоренив аспект
живой реальности, разрушил мосты и сжег корабли, с помощью
которых мы могли бы перенестись в наш обычный мир. Мы уже
заперты в темном мире, художник заставляет нас общаться
с объектами, человеческое обращение с которыми невозможно.
Поэтому мы вынуждены импровизировать другую форму связи,
совершенно отличную от обычной, позволяющей нам
сосуществовать с вещами; мы должны создавать и изобретать необычные
действия, которые были бы адекватны этим небывалым фигурам.
Эта новая жизнь, эта жизнь, придуманная после ликвидации
стихийности, является подлинным пониманием и художественным
наслаждением. Она не лишена чувств и страстей, но, очевидно, эти
чувства и страсти относятся к психической флоре, отличной от той,
которая покрывает пейзажи нашей исходной человеческой жизни.
Эти ультраобъекты пробуждают вторичные эмоции в том
художнике, который живет внутри нас. Эти чувства являются специфически
эстетическими» 62. Ортега допускает и совершенное исключение
человеческого элемента и человеческих форм из искусства, но это,
136
по его мнению, прежде всего «непрактично», ибо в конечном счете
даже в самых абстрактных линиях орнаментального порядка
содержится «реминисценция некоторых «природных» форм» ы.
Но искусство движется к дегуманизации не столько потому,
что избавляется от человеческого элемента, но и потому, что
состоит по преимуществу из этого дегуманизирующего действия.
«Дело не в том, чтобы нарисовать что-либо совершенно отличное от
человека, дома или горы, но в том, чтобы нарисовать человека
меньше всего похожего на человека» б4. То есть подлинное
искусство, согласно Ортеге, должно бы совершенно освободиться от
человеческого элемента, но в этом случае было бы непонятно то, от чего
данное произведение «освободилось». Поэтому художник должен
оставлять тот минимум «человеческого», который необходим для
того, чтобы видно было, над чем одержана победа, чтобы «показать
удушенную жертву» и тем самым еще сильнее и рельефнее
подчеркнуть победу над «человеческим». По этой причине Хосе Орте-
га-и-Гасет отрицает дадаизм как нечто совершенно бессмысленное:
совсем нетрудно написать бессмысленную картину, «но чтобы
удалось сконструировать нечто, что не было бы копией
«естественного»... нужна самая возвышенная одаренность» G). Он говорит, что
природа постоянно устраивает засады художнику, пленяя его
своими «естественными» формами. И только тот является настоящим
художником, кто преодолевает все препятствия бегства от
действительности, чтобы, сведя элементы человеческого в своем
произведении до минимума и исключив «естественные» формы, возвыситься
над природой как над своей жертвой, «удушенной» в тяжелой
и трудной схватке.
Таким образом, Хосе Ортега-и-Гасет пытается исключить из
искусства две вещи: природу с ее формами и человека с его
чувствами. Природу — потому, что она постоянно сковывает действия
и горизонт художника, а человека — потому, что человечность
искусства возвращает художника к природе, «неорганическому телу
человека» 60.
Человек связан с природой физически, как и животное,
поскольку он живет неорганической природой. Правда, его
физическая связь с природой гораздо богаче и универсальнее, чем связь
животного. Человек связан с природой практически, потому что она
выступает как средство его жизни и как материя, предмет и орудие
его жизнедеятельности. В этом смысле чем больше природа
соотносится с человеком, тем более универсальным является сам
человек. Наконец, человек связан с природой теоретически: природа
выступает в виде объектов науки и в виде объектов искусства.
Именно поэтому невозможно ни оторвать человека от природы, ни изгнать
«естественные» природные формы и человеческий элемент из
искусства, поскольку искусство есть одна из фундаментальных связей
человека и природы, а природа и человек являются соответственно
объектом и субъектом искусства. Не случайно Ортега-и-Гасет гово-
137
рит о «засадах», которые природа устраивает художнику,— эти
«засады» как раз и показывают те бесчисленные нити, которыми
человек связан с природой; одной из таких фундаментальных
«засад» и является искусство.
Ортега-и-Гасет иллюстрирует характер подлинного, с его точки
зрения, искусства на одном весьма примечательном примере.
Умирает знаменитый человек, около постели которого собрались его
жена, врач, журналист и художник. Все они присутствуют и
наблюдают один и тот же факт — смерть человека. Однако, говорит
Ортега, каждый из них воспринимает и переживает это событие
совершенно по-разному, хотя воспринимают они одну и ту же
реальность, одно и то же событие. Все эти реальности —
эквивалентны, каждая из них является подлинной для соответствующей
точки зрения. Мы можем только предпочитать ту или другую из
точек зрения. При этом существует только одно средство определения
этих точек зрения — «духовная дистанция, на которой каждый из
них находится по отношению к общему факту, к агонии» ü7. В этом
отношении ближе всех смерть воспринимает жена умирающего
человека. Она настолько сильно переживает смерть своего мужа,
что, по сути дела, целиком включена в это событие и поэтому не
существует никакой «духовной дистанции», отделяющей ее от
факта смерти; она не может взглянуть на смерть со стороны, не может
ее созерцать.
Врач уже находится на некотором расстоянии от этого
события. Для него это прежде всего профессиональный случай. Он не
может оставаться равнодушным к этому событию, потому что несет
определенную ответственность за такой исход — это вопрос его
престижа. Однако его волнения и переживания не доходят до
глубины его сердца, а находятся лишь на «профессиональной
периферии».
Журналист также присутствует при этом событии по
должности, однако если врач должен вмешаться в это событие, то репортер
является лишь наблюдателем: он должен сообщить об этом в
газету. Он лишь созерцает, хотя, безусловно, озабочен тем, чтобы как
можно лучше составить сообщение.
Наконец, художник, который индифферентен и находится как
бы за кулисами, потому что он только созерцает это событие,
точнее, свет и тени, краски и т. д., то есть то, что относится к
художественным ценностям независимо от самого события или объекта.
Художник, говорит Ортега-и-Гасет, находится на максимальном
удалении от самого события и осуществляет минимальное
«сентиментальное вмешательство» ()8. Из этого примера Ортега-и-Гасет
делает следующий вывод: если человек включен в какое-то событие
и переживает его, то он не может свободно созерцать его, не
способен подняться до созерцания и наслаждения собственно
художественными ценностями данного события, и, наоборот, если человек
не переживает это событие как человек, он начинает видеть художе-
138
ственные ценности события; лишь в этом случае он по-настоящему
созерцает событие и наслаждается им как художник.
Художественная или эстетическая ценность всегда противоположна
человеческому элементу, человеческому как таковому.
Именно поэтому искусство, чтобы быть настоящим искусством,
должно очищать себя от всего человеческого, от всего «слишком
человеческого». Таково основное требование, предъявляемое Орте-
гой-и-Гасетом к современному искусству, и таков симптом его
неуклонной эволюции.
Собственно, Ортега не выступает тут первооткрывателем.
Заметные следы влияния Гюисманса и Гонкуров сквозят далее и в
характере подобранных Ортегой примеров. Но если художник
неизменно преодолевает постулаты своей школы в практике
искусства, то теоретик Ортега возводит концептуальную башню,
основываясь на отдельных эпизодах художественного процесса.
«Я уже указал раньше, что восприятие живой реальности и
восприятие ее художественной формы принципиально несовместимы,
потому что требуют различной аккомодации нашего перцепторного
аппарата. Искусство, которое дало бы нам возможность такого
двойного зрения, было бы косоглазым искусством. Искусство XIX
века было чрезмерно косоглазым; поэтому его художественные
произведения, далекие от того, чтобы представлять нормальный тип
искусства, являются, быть может, величайшей аномалией в истории
вкуса. Все великие эпохи искусства избегали того, чтобы делать
человеческое центром тяжести произведения. И этот императив
исключительного реализма, который доминировал над
чувственностью прошлого столетия, означает прежде всего чудовищную
аномалию в эстетической эволюции. Отсюда следует, что новое
вдохновение, столь экстравагантное по виду, возвращается, хоть в одном
пункте, на действительный путь искусства. Поэтому этот путь
называется «волей к стилю». Таким образом, стилизовать — это
деформировать реальное, дереализовывать. Стилизация включает
в себя дегуманизацию. И, наоборот, нет другого способа
дегуманизации, кроме стилизации. Реализм вместо этого призывал
художника следовать форме вещей; он зовет к отказу от стиля» 69.
Верный своему постулату, Ортега снова и снова повторяет идею
противопоставления человеческого и художественного, реализма
и подлинного искусства. Однако по крайней мере спорным является
его утверждение о том, что все великие эпохи искусства избегали
делать человеческое центром тяжести произведения. Если даже
рассматривать искусство с точки зрения развития и
совершенствования форм выражения и изображения, то и в этом случае в центре
тяжести «всех великих эпох искусства» было все-таки человеческое.
Это обусловливается не только тем, что искусство является формой
общественного сознания и как таковое отражает прежде всего
человеческое, но и тем, что главным и основным предметом
искусства является сам человек. Человеческое в искусстве — это отраже-
139
ние всей действительности через человека, посредством человека
и для человека.
Ортега-и-Гасет очень тесно связывает стилизацию с
дегуманизацией: одно предполагает другое. Это верно лишь по отношению
к наблюдаемому Ортегой абстрактному искусству, где стилизация
не только связана с дегуманизацией, но и является ее
инструментом. Хотя многое из того, что относят к абстрактному искусству
(например, полотна Пикассо), не только не является дегуманизиро-
ванным, а, напротив, преисполнено гуманистического пафоса, боли
за поруганную человечность. Ортега в известной мере
абсолютизирует дегуманизацию и ее средство — стилизацию. Его «воля к
стилю» — парафраз известной формулы Ригля «воля к форме»,
пришедшей в современное искусствоведение от отцов церкви (nisus
forinativus — выражение творческой формирующей воли).
Следствие дегуманизации Хосе Ортега-и-Гасет видит в
углубляющемся индивидуализме и субъективизме искусства. «Новые
люди,—пишет он,— объявили табу всякому вмешательству
человеческого в искусство. И вот человеческое, основной репертуар
которого составляет наш повседневный мир, располагается в тройной
иерархии. Имеется, прежде всего, порядок личностей, затем,
порядок живых существ, имеется, наконец, порядок неорганических
вещей. Так вот: вето нового искусства практикуется с энергией,
пропорциональной иерархической высоте объекта» /0. То есть
природное как таковое исключается из искусства в виде
«естественных», «природных» форм вещей. Мир живых существ изымается из
искусства также лишь частично, в виде деформации объектов, хотя
и в большей степени, чем мир природы неорганической.
Наибольшему отрицанию подвергается человеческий мир.
Ярче всего это, говорит Ортега, проявляется в музыке и поэзии.
«От Бетховена до Вагнера тема музыки была выражением личных
чувств. Лирический художник компонует величественные здания
звуков, чтобы выразить в них автобиографию. В большей или
меньшей степени музыка была искусством исповеди... «В музыке,—
сказал еще Ницше,— страсти наслаждаются сами собой»... Вся
музыка, от Бетховена до Вагнера, является мелодрамой» ''.
Ортега-и-Гасет выступает против романтического понимания
искусства, против его «персонализации», потому что романтическое
искусство было «слишком человеческим». Оно смеялось и плакало,
любило и ненавидело и всегда тосковало о несбывшихся мечтах,
неутоленных желаниях и никогда не достижимом идеале. Оно было
таким, каким не должно быть настоящее искусство, говорит
Ортега-и-Гасет. И как бы в противоположность толстовскому
пониманию искусства Ортега пишет: «Искусство не может состоять из
психического заражения, потому что последнее является
бессознательным феноменом, а искусство имеет совершенно полную
ясность, это полдень интеллекта. Плач и смех эстетически чужды ему.
Жест красоты не выносит меланхолии или улыбки» 2.
140
Таким образом, мы видим, что в основе художественных
пристрастий Ортеги — эстетический кодекс парнасцев. И
разоблачительная критика сентиментализма, мелодраматизма не означает
у него требования могучих характеров социальной драмы.
Мелодрама отрицается не за измельчание страстей и интересов, а за
очевидное присутствие несублимированного человеческого элемента.
В романтическом искусстве Ортега не приемлет гипертрофию
субъективности. Поэтому он называет подвигом поворот к
объективному, который был осуществлен в музыке Дебюсси: личные
чувства были вырваны из музыки с корнем, она была
объективирована. «Это был подвиг Дебюсси... Дебюсси дегуманизировал
музыку, и с этого времени благодаря ему начинается новая эра искусства
звука» 73.
То же самое он говорит о поэзии: из поэзии нужно исключить
человеческое, и прежде всего — человека-героя, человека-личность,
ибо жизнь есть одно, а поэзия — нечто совершенно другое, человек
есть человек, а поэт есть поэт. «Поэт начинается там, где человек
исчезает. Судьба последнего — жить своей человеческой жизнью,
миссия поэта — создавать то, что не существует» 74. И чем дальше
отстоит создаваемое поэтом от действительности, тем оно ценнее по
сравнению с самой действительностью. Чем дальше создаваемые
поэтом художественные ценности отстоят от человеческого, тем
они лучше, выше. Исходя из этого, Ортега считает Малларме
первым человеком прошлого века, которого можно назвать поэтом,
потому что он, по его же собственным словам, «отрицал
естественные материалы» в поэзии. Его поэзия не была «чувственной»,
потому что в ней не было ничего человеческого, ничего патетического:
если говорить о матери, то не о какой-то конкретной матери,
а о «ничьей матери»; если о часе, то не о конкретном часе, а о «часе
отсутствующих часов». Абстрагирование от чего бы то ни было
конкретного — вот одна из первых задач всякого действительного
и подлинного искусства, утверждает испанский мыслитель.
Что должен делать поэт, если его повсюду окружает живая
действительность и живые люди? «Только одну вещь: скрываться,
улетучиваться и продолжать превращать в чисто анонимный голос
то, что поддерживало бы в воздухе слова истинных героев
лирического замысла. Этот чисто анонимный голос, подлинный
акустический субстрат стихотворения, есть голос поэта, который умеет
изолироваться от окружающего» 75. Поэт не только не должен
вступать в тесную связь с жизнью, с действительностью, с другими
людьми, но, наоборот, должен все больше и больше удаляться и
изолироваться от них, чтобы стать настоящим, подлинным поэтом.
Здесь Ортега абсолютизирует феномен художественного
преображения реальности, многократно отмеченный и творцами и
теоретиками искусства. Киркегор в свое время подчеркнул трагический
аспект коллизии творчества: его поэт — несчастный человек,
носящий в душе тяжкие муки, с устами, так созданными, что крики
141
и стоны, прорываясь через них, звучат дивной музыкой. Поэт Кир-
кегора — прозорлив. Поднимаясь над обыденной жизнью, он
проникает в сокровенные тайны бытия. Познав эти тайны, страдает от
бессилия своих пророчеств. Поэтому его чело омрачено мировой
скорбью.
Ортега освобождает поэта и художника вообще от всякого
страдания и переживания, так как искусство по определению
вознесено над реальностью, а художник изолирован от людей и всего
человеческого. В этом проявляется его избранничество.
Самым радикальным средством изоляции от действительности
Ортега-и-Гасет считает метафору. «Метафора является, возможно,
гораздо большей силой, чем это представляет человек. Ее
способность доходить до границ чудодействия кажется игрушкой
созидания, которую оставил бог, забыв внутри одного из своих созданий
во время его творения, как рассеянный хирург оставил инструмент
в животе оперируемого» /6. Все другие средства выражения и
изображения, говорит Ортега, как бы вписывают человека в реальное
и оставляют его жить и существовать в этом реальном. «Только
метафора облегчает нам бегство и создает среди реальных вещей
воображаемые рифы, цветение невесомых островов» ". В другом
своем сочинении, посвященном специально роли и значению
метафоры, Ортега-и-Гасет считает метафору основным средством
человеческого познания, как научного, так и художественного:
«Метафора является крайне необходимым мыслительным инструментом,
является одной из форм научного познания... Поэзия есть
метафора; наука использует ее и ничего больше. Также можно было бы
сказать: и ничего меньше» '8.
Происхождение метафоры Ортега связывает с эпохой
«космического террора», когда человек в силу определенных обстоятельств
(неразвитости социальных отношений, науки и производства)
освящал все существующие вне его предметы. «Это освящение приносит
с собой идею того, что их нельзя трогать руками» '9. То есть
освящение связано непосредственно с запрещением, с табу. Известно,
что законы табу появились и существовали на ранних ступенях
развития человеческого общества, когда люди были неспособны
дать правильное, научное объяснение действительности и ее
явлениям и многое объявляли священным, запретным — все то, что
представлялось им особенно невероятным и непонятным. В это
время и зародились различные символические формы отражения
действительности, которые Гегель считал «предысторией
искусства», поскольку сущность тех или иных явлений выражалась
в неадекватной, смутной и неясной форме.
И в начале XX века Ортега-и-Гасет считает метафору самым
лучшим и самым совершенным средством человеческого познания.
Она, по его мнению, объединяет в себе самые сильные стороны
того, что есть в интеллекте, чувстве и человеческом сознании
вообще. Посредством метафоры мы овладеваем тем, что недоступно
142
понятийному мышлению. «Метафора является дополнением к нашей
интеллектуальной силе и представляет, в логике, удочку или
ружье» 80. Существование такого средства кажется Ортеге
удивительным и странным: «Поистине странно существование в человеке
этой мыслительной способности, которая состоит в замене одной
вещи другою, но не настолько, чтобы стремиться скрыть одной
другую. Метафора ловко маскирует один объект другим» 8|.
Хотя метафора и является самым радикальным средством
дегуманизации, все же, заявляет Ортега-и-Гасет, нельзя сказать,
что она представляет единственное средство. Помимо нее
существует бесчисленное множество других средств дегуманизации, самое
простое из которых «состоит в простом изменении обычной
перспективы» 82. Человеческая точка зрения обычно упорядочивает
вещи: одни являются очень важными, другие — менее важными,
третьи — совсем не имеющими значения. Чтобы дегуманизировать,
достаточно изменить существующий порядок вещей, достаточно
перевернуть перспективу: «Достаточно перевернуть иерархию и
получить искусство, где на первом плане окажутся выдающиеся своим
монументальным видом минимальные проявления жизни...
Лучшими примерами того, каким образом нужно преувеличить реализм,
чтобы его превзойти — не более чем перейти от внимательного
рассмотрения с лупой в руках к микроскопу жизни,— являются
Пруст, Рамон Гомес де ла Серна, Джойс» 8,\ Раньше художник как
бы соревновался с реальностью, пытался создать вторую такую же
или превосходящую реальность. Если он и выражал какие-то
идеи — эти идеи были прямо и непосредственно связаны с
действительностью, исходили из нее как из своего основного источника.
В новом искусстве положение коренным образом меняется. Идеи
теряют свою связь с действительностью, они становятся «чистыми»
идеями, схемами: «Если мы предлагаем сознательно реализовать
идеи, то мы должны дегуманизировать, дереализовывать их, потому
что они являются действительно ирреальностью. Схватывание их
как реальности есть идеализация, наивная фальсификация.
Заставить их жить в самой их ирреальности — это значит, скажем
так, реализовать ирреальное как ирреальное. Здесь мы будем идти
от сознания к миру и, наоборот, дадим пластичность,
объективируем, обмирщим (mundificamos) схемы внутреннего и
субъективного» й4. Таким образом, Ортега перевертывает отношения: он
предлагает художникам идти не от природы и не от реальности, а,
наоборот, от идей. Поскольку же идеи всегда отражают
действительность, то Ортега предлагает предварительно «дереализовать» их,
очистить от всего человеческого, «дегуманизировать», чтобы в
результате получить «чистые идеи», идеи «ирреальные», ибо
реальность и реальное отражение представляются ему фальсификацией.
Если раньше художник шел от мира к сознанию, то теперь он
должен идти по прямо противоположному пути — от сознания
к миру.
143
Если традиционный художник пытался сделать портрет
реальным, то современный художник и современная живопись, по Орте-
ге, преследует прямо противоположные цели: «Картина,
отказывающаяся соревноваться с реальностью, превращается в то, что
является подлинным: картина — ирреальность»85. Конечно, человек,
изображенный на портрете, никогда не сможет ожить. Но
реалистическое искусство вовсе и не требует, чтобы его образы принимали
за действительность в ее онтологическом, реальном, материальном
значении. Оно требует лишь того, чтобы его образы были более или
менее точным отражением этой действительности, помогали
человеку познавать эту действительность, осваивать и преобразовывать ее
соответственно законам красоты.
Ортега же требует от искусства порвать все связи и отношения
с действительностью, требует, чтобы искусство перешло от
изображения вещей к изображению идей. «Экспрессионизм, кубизм
и т. д. были в различной мере попытками верифицировать это
решение в радикальном направлении искусства. От изображения вещей
живопись перешла к изображению идей: художник ослеп для
внешнего мира и повернул зрачок к внутренним и субъективным
пейзажам» 86.
Если раньше художник интересовался персонажами как
реальными, живыми людьми, то теперь он интересуется персонажами
лишь «как идеями и чистыми схемами».
Дегуманизацию искусства Ортега находит также в том, что
современное искусство, в особенности пластические его виды,
«избегают живых форм или живых существ». Ортега пытается
объяснить этот факт природой самого искусства, полагая, что оно с
самого начала старалось избегать живых форм. Он находит это в
стилизации, присущей раннему искусству, которая якобы позволяла
избегать живой реальности. «Змея стилизуется в меандр, солнце —
в свастику» 8/.
Отвращение к живым формам, согласно Ортеге, является
инстинктивным эстетическим чувством человека, чувством
врожденным. Ортега начинает искать причины «иконокласии» не в
специфике средневековья, не в общественных отношениях того времени,
а в «чувстве иконокласии» как отвращения ко всякому живому телу.
«Было бы интересно исследовать со всем вниманием проявления
иконокласии, которая иногда проявляется в религии и в искусстве.
В новом искусстве действует, очевидно, это странное чувство
иконокласии, и его девиз мог бы быть заповедью Порфирия, которая
была принята манихейцами и против которой так яростно боролся
св. Августин: («Всякого тела должно избегать»). И ясно, что это
относится к живому телу. Любопытная инверсия греческой
культуры, которая в период своего наивысшего расцвета была таким
другом живых форм» 88. Интересно, что Ортега признает за
греческим искусством и культурой определенное мастерство в
воспроизведении живой природы и человека в формах самой действитель-
144
ности, хотя он считает это не достоинством греческого искусства,
а его существенным недостатком.
Обращаясь к истории, Ортега уходит от того факта, что
первобытная «стилизация» была не отвращением к «живым формам»,
а показателем неразвитости человека, его способностей, чувств
и сознания. Уже общественные отношения греческого общества
были достаточно развиты для того, чтобы перейти от примитивных
форм отражения действительности к реалистическим, хотя между
реализмом древних греков и реализмом, скажем, XV—XVIII
веков — огромная разница.
С гибелью рабовладельческого строя, на основе которого
развивалось греческое искусство, с появлением нового, феодального
строя и соответствующих ему общественных отношений
складывается новая культура, где доминирующее место и роль занимает
религия. Под влиянием религии искусство начинает отходить от
реалистических форм в сторону иконокласии, в сторону отрицания
«живых форм», ибо под красотой стала пониматься не красота
человеческого тела, а красота духа, красота души.
Ортега-и-Гасет своеобразно трактует вопросы традиции в
истории искусства. Так, по его мнению, искусство, если оно не
претерпевает каких-то сильных потрясений и исторических катастроф,
которые бы прерывали его многовековую эволюцию, складывается
«в плотную, тяжелую прогрессирующую традицию», которая
возвышается над «вдохновением дня». Между художником, который
творит, и миром каждый раз встает большое количество томов
традиционных стилей, прерывая прямую и первоначальную связь
между ними. Тогда одно из двух: «или традиция уничтожает все
оригинальные потенции — как это было в Египте, Византии,
вообще на Востоке,—или прошлое тяготеет над настоящим; и то и
другое в итоге приводит к наступлению продолжительной эпохи, когда
новое искусство постепенно освобождается от старого, которое его
душило» 89. Ортега считает давление всякой традиции губительным
для творческих импульсов современности.
Здесь он приближается к экзистенциалистскому диагнозу
кризиса культуры. Но если экзистенциалистские панацеи, как правило,
ориентированы на «возвраты» — к природе, к изначальному
времени, и т. п.,— то Ортега возлагает надежды на победу
«футуристического инстинкта» европейцев, который преодолеет
«традиционализм» и «восточное прошлое» современной культуры. Одним из
радикальнейших средств данного освобождения Ортега и считает
«дегуманизацию искусства», которая позволяет наладить связи
искусства с настоящим, как в те блаженные времена, когда «человек
был у себя дома», а искусство совершенно не знало традиций, то
есть во времена первобытности человека и искусства: «Большая
часть из того, что было названо «дегуманизацией» и отвращением
к живым формам, происходит из этой антипатии к традиционной
интерпретации реальности»; «то, что доставляет удовольствие
145
в этих первобытных произведениях искусства... это отсутствие
традиции, которая не могла еще сформироваться»90.
Это стремящееся быть историчным объяснение на самом деле
принадлежит традиции уже отжившей. Ортега воспроизводит
мыслительные ходы эстетики XVIII века, когда сведение сложного
художественного процесса к простым коллизиям
взаимопритяжения и отталкивания художественных эпох казалось достаточным
для научного построения концепции развития искусства. При этом
Ортега выводит некую закономерность отталкивания от традиции:
чем сильнее было то или иное искусство в прошлом, тем сильнее
реакция его отрицания в настоящем; чем более развитым было
отвергаемое искусство, тем к более далеким временам взывает
отрицающая его реакция. Большая часть из того, что было названо
«дегуманизацией» и отвращением к живым формам, происходит из
этой антипатии к традиционной интерпретации реальности»,
т. е. к наиболее близкой по времени и значительной традиции
реализма XIX века.
Исключение из искусства «человеческого», «слишком
человеческого» таит в себе, говорит Ортега, великий резерв для подъема
искусства 9|. Однако современное искусство не является
однородным, оно, согласно Ортеге, носит двойственный характер, ибо
наряду с чисто художественным в новом искусстве можно встретить
и то, что имеет характер неприязни, презрения.
Может быть, именно поэтому оно является одновременно и
комическим, чтобы найти спасение от «слишком человеческого» и от
тех последствий, которые вызываются «человечным» характером
традиционного искусства. «Думают,— пишет Ортега,— что
живопись и музыка новых есть чистый «фарс» в плохом значении этого
слова,—и не допускают возможности того, что иногда именно
в фарсе заключается радикальная миссия искусства и его
благодетельная необходимость» <J2. Искусство было бы фарсом в плохом
смысле слова, продолжает Ортега, если бы художник пытался
соперничать с «серьезным» искусством прошлого и если бы картина
какого-нибудь кубиста добивалась такого же патетического
восхищения, которое вызывают статуи Микеланджело. Однако
современный художник не делает этого и не хочет делать. Художник
настоящего времени приглашает нас, чтобы мы созерцали
искусство, понимая, что оно является, по существу, насмешкой над самим
собой. «Вместо того чтобы смеяться над чем-нибудь или над кем-
нибудь определенным — без жертвы нет комедии,— новое
искусство делает смешным само искусство... Никогда еще искусство не
обнаруживало так хорошо свой магический дар, как в этой
насмешке над самим собой. Потому что намерение уничтожаться
в своем собственном движении создает искусство и, согласно
блестящей диалектике, его отрицание есть его утверждение и
триумф» 9,\
Насмешка над самим собой всегда говорит о зрелости искусст-
146
ва, о том, что оно может рассматривать себя со стороны и видеть
свои слабые и сильные стороны.
Ортега выявляет действительные характеристики, присущие
современному искусству. Его следует упрекать не за то, что он
понял насмешку искусства над самим собой как одну из
существеннейших особенностей современного искусства, а за то, что он видит
в ней подлинный триумф этого искусства.
«Быть художником — это значит не принимать человека
всерьез, настолько, насколько серьезно мы являемся людьми, когда не
являемся художниками» У4. Скорее, наоборот, художник относится
к человеку гораздо серьезнее, чем другие, именно потому, что он
художник. Его отношение к человеку измеряется степенью
художественной ценности создаваемых им произведений и, следовательно,
силой воздействия этой ценности на людей.
Примитивизация искусства объясняет и то, что Ортега-и-Гасет
называет «нетрансцендентным» характером современного
искусства. «Для новейшего поколения искусство есть вещь, лишенная
трансценденции» <>г\ Так прежде, говорит Ортега, поэзия или
музыка представляли собой важные для человека сферы деятельности:
люди надеялись с их помощью чуть ли не спасти род человеческий
от развала религии и неизбежного релятивизма науки. «Искусство
было трансцендентным в двойном смысле. Оно было таковым
благодаря своей теме, которая обычно заключалась в самых тяжелых
проблемах человечества, и оно было трансцендентным благодаря
самому себе, как человеческая потенция, которая давала
оправдание и заслугу роду» ÎM). Новое искусство отказывается как от
решения сложнейших, жизненно важных цдя человечества проблем, так
и от того, чтобы быть могучей потенциальной силой человечества.
От первого оно отказывается потому, что не в силах изменить
существующее положение вещей, а от второго — потому, что
отказывается от первого.
Действительно, здесь улавливается бессилие искусства в
условиях современного общества. Тем не менее даже в таких условиях
нельзя отказывать искусству в громадной силе воздействия, а
значит, и в его определенном влиянии на ход изменения
действительности. И Ортега прекрасно знает эту силу искусства, хотя и
настаивает на том, чтобы искусство отказалось от решения
человеческих проблем и превратилось в простую игру и развлечение. «Новый
стиль, напротив, заботится о том, чтобы приблизиться к триумфу
развлечений и игр. И то и другое дело — одного происхождения» '.
Искусству надоело размышлять и решать сложные социальные
проблемы. Оно хочет развлечься, повеселиться. Как говорит Ортега,
наступил «культ тела», который является вечным симптомом
молодого вдохновения в противоположность «культу духа», «культу
разума» — показателю старения: «Триумф развлечения означает
победу ценностей юности над ценностями старческого возраста».
«Нет сомнения: Европа вступила в этап ребячества» 98. Интеллект
147
заменяется инстинктом, разум — подсознательными волевыми
актами, серьезное отношение искусства к человеческим проблемам —
игрой и развлечением. Это и есть то, что Ортега называет
«нетрансцендентностью» нового искусства. Всем характерным чертам нового
искусства подведен итог в его нетрансцендентности. Это искусство
заняло иное положение в иерархии человеческих забот и интересов
в отличие от прежнего, которое по-своему значению соперничало
с наукой и политикой, поддерживая личность. Вдохновение чистого
искусства не является, как можно было бы предположить,
высокомерием, но, наоборот, великой скромностью. Очищая искусство
от гуманистической патетики, оно остается без всякой трансценден-
ции — как только искусство, без какой бы то ни было претензии» ".
Таким образом, Ортега-и-Гасет, описывая и анализируя
эстетические параметры современности, близко подошел к пониманию
основных тенденций в развитии культуры и искусства XX века. Он
был в известной мере летописцем эпохи. И хотя ему и не удалось
вскрыть подлинные причины социального и духовного кризиса
современности, его философско-эстетические работы получили
большое распространение, потому что он указывал на реальные
процессы и пытался их объяснить. Вот почему Ортега-и-Гасет был
и остается одним из самых влиятельных философов
культуры XX века.
Роман Ингарден. Идеальный предмет
феноменологического анализа
Мода на феноменологию уже прошла, по крайней мере в
большинстве европейских стран, тем не менее феноменологическая школа
продолжает активное существование: уже сменилось не одно
поколение последователей Гуссерля.
Специально эстетикой занимались такие крупные
феноменологи, как М. Гайгер, Р. Ингарден, Н. Гартман, А. Банфи, а в
настоящее время — М. Дюфренн, Г. Морпурго-Тальябуэ и другие.
Если к этому добавить эстетические исследования философов-
экзистенциалистов, испытавших довольно значительное влияние
феноменологии — Хайдеггера, Ясперса, Сартра и других, то
панорама феноменологической эстетики будет выглядеть довольно
внушительной.
Правда, феноменология и феноменологическая эстетика
никогда не представляли единого течения или направления: каждый
феноменолог, исходя из учения Гуссерля, по-своему
интерпретировал это учение, не говоря уже о своеобразии применения
феноменологического метода к анализу конкретных явлений в различных
областях человеческого знания: философии, логики, этики,
эстетики и т. д. Искусству и эстетике феноменология всегда уделяла
особое внимание.
При рассмотрении феноменологической эстетической и
литературной концепции Р. Ингардена следует всегда иметь в виду
специфику его взглядов, особенности его подхода.
Эстетические взгляды Р. Ингардена изложены в таких
фундаментальных трудах* как «Эстетические исследования» («Studia ζ es-
tetyki», t, I, II. Warszawa, PWN, 1958—1966), «О литературном
произведении» («О dziele literackim. Badania ζ pogranicza ontologii, teorii
jçzyka i filosofii literatury». Warszawa, PWN, 1960), «Переживание —
произведение — ценность» («Przezycie — dzielo-wartosc». Krakow.
Wydawnictwo literackie, 1966), а их онтологическое и
гносеологическое обоснование дается в основополагающей двухтомной работе
«Спор о существовании мира» («Spor о istnienie swiata», t. I — II.
Warszawa, PWN, 1961 — 1962).
Среди феноменологов, как ближайших учеников Гуссерля, так
и его последователей, Р. Ингарден выделялся своим
исключительным интересом к литературе и литературному творчеству. И,
справедливости ради, следует признать, что его труды по «философии
литературы» отличаются глубиной, основательностью, тонкостью
анализа, доходящего порой до виртуозности.
Чем объясняется такое преимущественное пристрастие к
литературе и литературному творчеству?
Мало сказать, что феноменология, придающая особое значение
149
исследованию феноменов сознания, не существует и не может
существовать вне конкретного анализа — анализа феноменов; и вне
этого анализа, как бы демонстрирующего своим описанием все
богатство явлений мира, нельзя говорить ни о феноменологии, ни
о феноменологическом методе '. Можно, пожалуй, назвать еще
одну причину, обусловившую особый интерес феноменологии
к искусству и художественному творчеству,— необходимость
в «идеальном» предмете, чтобы феноменологический метод мог
постепенно «развертываться», «раскрываться» в описываемых им
феноменах сознания, порождать самого себя в процессе этого
исследования, подобно фильму, возникающему перед глазами
зрителя из «прокручивания» киноленты.
В предисловии к своей фундаментальной двухтомной работе
«Спор о существовании мира» Ингарден излагает краткую
эволюцию своих взглядов и своего творчества. Так, например, он
указывает, что уже в 1918 году пришел к убеждению, что не может
согласиться с идеалистической позицией Гуссерля в вопросе
существования реального мира, с позицией трансцендентального
идеализма, которая вырисовывалась по меньшей мере в некоторых
утверждениях Гуссерля в «Ideen zu einer reine Phänomenologie».
Но одно дело не соглашаться со взглядами или позицией, и совсем
другое — найти новое решение узловым проблемам. Первоначально
Ингарден пытался искать решение проблем по тому пути, который
был указан Гуссерлем и который представлялся естественным в
европейской философии второй половины XIX века вплоть до начала
мировой войны 1914 года. Вначале ему показалось, что Гуссерль,
исследуя восприятие (spostrzezenie), совершил определенные
ошибки, а именно что, не закончив своего анализа, он принял
преждевременное решение, что, следовательно, нужно лишь исправить гуссер-
левский анализ, а затем двинуть его соответственно дальше. Но
постепенно Ингарден осознает, что прежде всего «необходимо
признать существование реального мира независимо от чистого
сознания». Причем вскоре, в 1921 году, Ингарден уясняет себе, что
одного субъективного намерения не достаточно: нужен
феноменологический анализ формы и способа существования реального
мира, существование которого составляет предмет спора. В
особенности же требовалось уяснить смысл ведущих понятий и
основных структур, которые Кант считал субъективными формами
чувственности и рассудка. После ряда исследований вопросов
восприятия (spostrzezenia) Ингарден приступает к анализу основных
категориальных структур, в особенности занимается исследованием
проблемы тождества субъективного предмета. При этом были
затронуты основополагающие онтологические и гносеологические
проблемы. В связи с этим Ингарден пишет работу «Существенные
вопросы» («Essentiale Fragen», 1925), которая имела целью
определить понятие единичного, положенного в субъективности предмета
в его отнесении к идее, и одновременно осуществить попытку опре-
150
деления его сущности. В 1925 г. Ингарден пишет специальную
работу о теории познания — «Место теории познания в системе
философских наук» («Stanowisko teorii poznania w systemie nauk
filozoficznych»), которая, по его мнению, открыла иной путь
решения спора между идеализмом и реализмом. Но окончательно этот
путь был обозначен в исследовании «Замечания к проблеме
идеализм — реализм» («Bemerkungen zum Problem Idealismus —
Realismus»), посвященном основным философским теориям
литературного произведения. Свою книгу «Das literarische Kunstwerk» Ингарден
рассматривает как первый шаг к противопоставлению предметов
реальных и предметов чисто интенциональных (в гуссерлевском
смысле) на основе принципиального различия их построения.
Проблематика спора о существовании мира развивалась Ингарденом
дальше в таких работах, как: «О формальном построении предметов
субъективного сознания» («Von formalen Aufbau des individuellen
Gegenstandes». Lwow, 1935), «Некоторые предпосылки идеализма
Беркли» («Niektore zatozenia idealizmu Berkeleya», 1931), и в еще
не опубликованной работе «Введение в теорию познания» («Wstçp do
teorii poznania»), где заложены основы для осуществления
давнишнего замысла Ингардена — написания основополагающего
исследования онтологической проблематики. Однако приступит он к этому
труду лишь в самые суровые годы войны — с 1941 по 1945 гг. Это
фундаментальное произведение окажется во многом итоговым:
здесь Ингарден сводит счеты со всеми неприемлемыми точками
зрения, начиная с некоторых идей самого Гуссерля и кончая
неопозитивизмом, экзистенциализмом и другими направлениями
современной буржуазной философии; и здесь же он подведет
онтологическую и гносеологическую основу под свои эстетические взгляды,
без чего эстетика казалась ему незаконченной, незавершенной.
Почему же все-таки Р. Ингарден избрал литературу главным
объектом своих исследований?
В свете всего вышесказанного нам представляется, что он
сделал это по ряду причин. Во-первых, потому, что литература почти во
все времена представляла собой самое живое выражение
социального опыта, выражение основных тенденций в развитии общества, его
культуры, сознания и самосознания. Во-вторых, литература всегда
была «идеальным» предметом (в прямом и переносном смысле)
исследования, в особенности для феноменологии, которая
раскрывается в эмпирическом анализе, в-третьих, область литературы
оставалась, как это ни парадоксально, еще довольно мало исследованной,
особенно с точки зрения структуры и сущности литературного
произведения, его отношений с автором, читателем, миром и т. д.
Задачи, поставленные Ингарденом, были не столько задачами
феноменологической эстетики, сколько задачей создания новой
поэтики, задачей, над которой уже билось не одно поколение
философов, эстетиков, литературоведов во многих странах, задача,
которую ни они, ни Ингарден так и не решили. Но его философеко-
151
эстетическая концепция была своеобразным мостом от
феноменологии Гуссерля к современным структуралистским концепциям
литературы и искусства, хотя между ними не было прямой связи
и зависимости, так как они развивались параллельно. Кроме того,
на возникновение и формирование структурализма большое
влияние оказали позитивизм и неопозитивизм.
Между прочим, Ингарден отдает себе отчет о влиянии его
концепции литературного произведения на широкий круг авторов из
многих стран. Из польских ученых, развивавших его взгляды, он
называет Л. Блауштейна и С. Скварчиньску. Из зарубежных
исследователей — М. Дюфренна, первый том фундаментальной работы
которого («Феноменология эстетического восприятия», 1953), по
мнению Ингардена, не только в общей структуре, но и в частностях
исходит из его концепции, а там, где он отступает от нее,
исследование теряет утонченность, динамику, интуитивность; Н. Гартмана,
который в своих работах связал проблему способа существования
литературного произведения и других произведений культуры со
всей проблематикой духовного существования; Сартра,
поставившего проблему «воображаемого» и исследовавшего ее на примере
произведений живописи; Э. Жильсона, идущего к идее реальности
через противопоставление «воображаемому», и других авторов.
В свою очередь многие ученые, занимавшиеся исследованием
проблематики литературного произведения, поэтики, независимо от
того, ссылаются ли они на труды Ингардена или нет, несомненно,
испытали на себе или прямое, или косвенное влияние его идей. Это
влияние ощущается в эстетике и литературоведении и по сей день.
Основная работа Р. Ингардена, посвященная
феноменологическому анализу произведений литературы, точнее, литературного
произведения, так и называется «О литературном произведении».
В предисловии к этой работе Ингарден подчеркивает, что он во всех
своих рассуждениях старается показать «многослойную структуру
литературного произведения и связанную с этим полифонию как
нечто существенное для него» 2. И хотя он в своих исследованиях
занимается главным образом литературным произведением, но
окончательные мотивы, склонившие его к этому, носят, как он
говорит, чисто философский характер. А именно: спор между
реализмом и идеализмом предполагает решение множества сложных
проблем, после которых только и можно приступить к решению
собственно «метафизических», то есть философских проблем.
Различными путями можно подходить к решению этих
проблем. Один из них связан с попыткой трансцендентального
идеализма Гуссерля понять реальный мир и его элементы как чисто
интенциональный предмет, имеющий свою бытийную основу и
основу своего определения в глубине конституирующего его сознания.
Феноменология Гуссерля, между прочим, показала способ
существования чисто интенционального предмета \ Тогда встал
вопрос: могут ли реальные предметы обладать такой структурой
152
и таким способом существования, какими обладает чисто интенцио-
нальный предмет?
На этот вопрос Ингарден отвечает следующим образом:
«С этой целью я искал предмет, чистая интенциональность которого
была бы несомненной и на котором можно было бы проштудировать
действительную структуру и способ существования чисто интен-
ционального предмета, не подвергаясь влияниям,
навязывающимся при рассмотрении предметов реальных. И как раз литературное
произведение представилось мне объектом исследования, особенно
подходящим для этой цели» 4. Действительно, литературное
произведение — идеальный предмет для феноменологического
анализа, так как, будучи «предметом воображения», литературное
произведение соответствует «матрице» интенционального предмета, его
структуре и способу существования. Оно, так сказать, родственно
по своей идеальной природе интенциональному предмету как
продукту феноменологической редукции. Сложная и полифоническая
природа литературного произведения позволяет феноменологам
конструировать соответствующую «идеальную» структуру
произведения, вычленяя различные его свойства и качества и выстраивая из
них нечто единое и целостное. Процесс построения идеальной
модели литературного произведения есть одновременно процесс
«построения» феноменологического метода: здесь, пожалуй,
особенно ярко проявляется совпадение, если не тождество, процесса
описания, изложения и процесса исследования. В этом смысле
анализ феноменологической концепции с необходимостью
предполагает ее концентрированное «изложение», иначе трудно будет
понять ее суть, состоящую, применяя термин самого Ингардена,
в «конкретизации», то есть в применении или «развертывании»
феноменологического метода к конкретным явлениям.
Категория интенционального, или интенциональности, является
одной из главных в феноменологии и феноменологической
эстетике. Большое значение отводит ей и Ингарден, посвящая детальному
и всестороннему рассмотрению интенциональности много места \
По существу, эта категория представляет собой краеугольный
камень феноменологии и феноменологической эстетики, поэтому
следует хотя бы кратко рассмотреть ее и попытаться установить ее
смысл и функции в эстетике Ингардена, а также выявить, какие
реальные связи и отношения она выражает.
Посмотрим, что пишет об этом сам Ингарден. Прежде всего он
указывает, что в современной философии очень часто встречается
термин «интенциональный», но в самых разных значениях. Иногда
интенциональным называется то, что содержит в себе какую-то
«интенцию». В этом смысле акты сознания являются «интенцио-
нальными». Чтобы не было недоразумения, иногда вместо
«интенциональный» употребляют термин «интенционный», например «ин-
тенционный акт». В некоторых случаях «интенциональным»
называется предмет, на который направляется какая-то интенция,
153
например, предположение, содержащееся в акте представления или
в мыслительном акте. В этом случае, чтобы избежать
недоразумений, следует различать «чисто интенциональные» предметы от
предметов «интенциональных». Наконец, среди чисто интенциональных
предметов следует различать «первично интенциональные» и
«вторично интенциональные» предметы. Первые имеют источник своего
бытия и оформления прямо в конкретных актах сознания,
осуществляемых каким-то «я», вторые обязаны своим бытием и
оформлением произведениям, содержащим в себе «заданную» (nadana)
интенциональность в особенности значимым (языковым) единицам
разного ряда. Так как произведения этого рода обращаются к
первичной интенциональности акта сознания, то можно сказать, что
и вторичные чисто интенциональные предметы имеют, в конце
концов, источник бытия в актах сознания ().
Ингарден признает, что как понятие самой интенциональности,
так и понятие чисто интенциональных предметов — не его
открытия. Без исследований Э. Гуссерля, А. Пфендера и, наконец,
Фр. Брентано и К. Твардовского, не говоря уж о средневековых
концепциях, он не пришел бы к этому понятию. Свою заслугу
Ингарден видит в более подробном раскрытии сущности чисто
интенциональных предметов и в снятии с них некоторого налета,
искажающего их суть '.
Что же понимает Р. Ингарден под чисто интенциональными
предметами? «Предмет, в нашем понимании, тогда является чисто
интенциональным, когда создается непосредственно или
опосредованно через акт сознания или через множество таких актов
исключительно благодаря имманентной им интенциональности, так, будто
бы в этих актах имеет источник своего бытия и всего своего
оформления... К чисто интенциональным предметам относятся в
особенности интенциональные произведения, источник бытия и
оформления которых заключается в интенциональности, данной (nada-
nej) языковым образованиям (tworom) — как, например, значение
слова или суждения — через соответственно построенные
мыслительные акты» й. Данное предварительное определение должно
служить отличию чисто интенционального предмета в его всеобщем
понимании от предмета бытийно автономного по отношению к
сознанию.
Вообще в книге «О литературном произведении» Ингарден
вместо термина «интенциональный» вводит термин «интенционный
момент» с той целью, чтобы термин «интенциональный» сохранить
только для обозначения предметов актов, содержащих в себе
момент интенции. «Интенционный» же должен означать только то
в акте, содержащем интенцию, что составляет «интенционность»
этой интенции !).
Уже из вышеизложенного видно, что Ингарден стремится
к максимальной точности в определении понятия чисто
интенционального предмета. Это не случайно. Дело в том, что от соответ-
154
ствующего понятия интенциональности зависит суть и содержание
феноменологической философской и эстетической концепции.
Ингарден подчеркивает, что он везде употребляет понятия
чистого сознания и чисто интенционального предмета, которые
необходимы ему не только для построения строгой эстетической
теории, но и для решения проблемы спора между идеализмом
и реализмом. Сама проблема этого спора формулируется так:
реален ли мир, существующие в нем предметы являются чисто интен-
циональными предметами или чем-то другим? Чтобы решить эту
проблему, нужно ясно осознать — можно ли форму чисто
интенционального предмета отождествить с формой предмета реального —
или нельзя. Для литературы и искусства особое значение имеет
сравнение формы чисто интенционального предмета с формой
самобытного индивидуального предмета.
В понимании чистого сознания он выделяет две радикально
противоположные тенденции: стремление понять чистое сознание
как чистое познание (doznawanie) и, следовательно, как пассивный
отбор определенных данных (содержание впечатлений);
стремление к признанию определенной активности и творческой мощи,
которая позволила бы создать различные предметы и даже
реальный мир и вообще всякое бытие, которое только можно помыслить.
И та и другая тенденция, по мнению Ингардена, являются
преувеличением и приводят к ошибочным выводам.
Ингарден справедливо полагает, что первое пробуждение
активности сознания — а интенциональность, несомненно, связана
с активностью и является ее выражением — может осуществляться
на различных уровнях нашего сознания, а сама активность может
развиваться в различных направлениях.
Он выявляет и вычленяет различные степени активности: от
активности, являющейся лишь противоположностью пассивности,
до активности осознания содержания произведения, его
мыслительного построения и реконструкции. При этом Ингарден по аналогии
с понятиями Гуссерля «ноэма» (познаваемое содержание) и «но-
эзис» (интенциональный познавательный акт) четко различает
понятия познавание (осознание актов сознания, в крайнем случае
также и познания) и познание, означающее осознание содержания,
при этом содержание как бы чуждо субъекту |и.
Категория интенциональности выражает у Ингардена не
только активность, а активность сознания и осознания, так сказать,
активную направленность на предмет сознания, позволяющую и
познавать предмет, и представлять его, и реконструировать. Именно
реконструировать, а не конструировать, ибо здесь есть свобода
творчества, а не произвол. Это имеет огромное значение для
литературы и искусства. Поскольку, согласно Ингардену, предметы,
представленные в литературном произведении, являются чисто интенци-
ональными, созданными интенцией, содержащейся в значимых
языковых единицах ", то построение литературного произведения, его
155
восприятие, реконструкция и осмысление невозможны вне
категории интенциональности.
На наш взгляд, категория интенциональности, возникшая еще
в средневековье и получавшая в истории философии и эстетики
самые различные интерпретации, в настоящее время, в частности
в феноменологической философии и эстетике, представляет собой
попытку восполнить весьма существенные «пробелы»: отсутствие
четко выработанных категорий, которые бы выражали активность
человеческого познания, его целенаправленный, целесообразный
характер и, что особенно важно, отсутствие такой категории или
ряда категорий, в которых бы постигалась и осмысливалась
материально-производственная практика, со всеми вытекающими из нее
последствиями. Не случайно всегда подчеркивалась
исключительная роль интенциональности в художественном творчестве и
творчестве вообще. Непонимание существа человеческой деятельности,
материально-производственной практики постоянно наталкивало на
предположение некоего «интенционального бытия», или
«интенциональности», в которой скрыты все тайны человеческого познания,
литературного и художественного творчества. И только Маркс
в «Тезисах о Фейербахе» впервые во всей истории человеческого
познания скажет ясно и недвусмысленно, что разгадка всех тайн
и мистерий кроется в революционной практике.
Правда, феноменология выработала весьма емкую категорию
опыта, охватывающую самые различные его виды: научный,
исторический, этический, эстетический и т. д. Но это скорее познание
вширь, чем вглубь, ибо оно не доходит до постижения механизма
сущности человеческой деятельности как
материально-производственной практики и механизма взаимодействия практики с
теорией, с различными формами теоретической и художественной
деятельности. Может быть, именно поэтому для феноменологов
социальная активность литературы и искусства не играет
первостепенной роли: эта активность как бы отходит на второй план по
сравнению со строго научным исследованием феноменов
литературы и искусства, в частности, если говорить о концепции Ингардена,
со строго научным исследованием произведений литературы,
живописи, музыки, архитектуры, кинематографа и других видов
искусства. Главное для феноменологов, даже для таких, которые
специально подчеркивают социальную значимость и характер искусства,—
это не активная роль литературы и искусства, а
феноменологический анализ структуры произведения искусства.
Можно было бы также отметить, что категория
интенциональности представляет собой своеобразную модель, одно из
назначений которой состоит в попытке категориального синтеза,
связывающего в единое целое все многообразие феноменологической
категориальной системы в постижении и фиксации всего многообразного
эмпирического опыта. Отчасти, как об этом свидетельствует фило-
софско-эстетическая система Ингардена, это удается осуществить,
156
но только отчасти, так как остается непостижимым, несхваченным
и теоретически не обработанным противоречивое единство
отношений действительности, выраженное в произведениях человеческого
познания и художественного творчества. Словом, категория интен-
циональности оказалась неспособной раскрыть диалектику
реального и идеального, и роль этой диалектики в литературном и
художественном творчестве, как и в творчестве вообще.
Ингарден, будучи одним из самых близких учеников Гуссерля,
хотя и разошелся с ним по вопросу о существовании реального
мира, тем не менее по сравнению с другими феноменологами стоит
все же ближе к своему учителю, прежде всего, по сравнению с
феноменологами своего поколения: Конрадом, Гайгером, Гартманом
и другими. Чтобы убедиться в этом, достаточно привести основные
положения различных феноменологических концепций. Так,
Конрад полагал, что эстетический объект не может быть
интеллектуальным объектом, что идеальное не является интеллигибельным, но
тем, что находится по ту сторону актуально воспринимаемого
и восприятие должно еще раскрыть это. Он строго различал
эстетический объект от его реализаций или исполнений. Эстетический
объект не равнозначен предмету абстрактного осмысления. Это
чувственно воспринимаемый объект, который реализуется только
в восприятии. «Должен заметить,— пишет Ингарден,— что у
Конрада нет целого ряда понятий, которые я здесь ввожу, и даже
довольно многих понятий, которыми я пользуюсь в книге «Das literarische
Kunstwerk». Его работа является важным началом онтологических
наблюдений над литературным произведением, от которого
настоящая стадия исследования литературного произведения, как и
эстетического предмета, отстоит уже достаточно далеко» |2. Гайгер
подчеркивал двойственный характер эстетического исследования:
аксиологический метод и метод дескриптивный, описательный.
Аксиологический метод исследует сущность эстетической ценности,
а дескриптивный метод исследует эстетический опыт и эстетическое
суждение как эмпирические факты. Что касается общих черт
феноменологического метода, то он указывал на то, что этот метод: 1)
исследует феномены, 2) постигает феномены в их индивидуальном
или случайном существовании, доходя до схватывания
существенных моментов, 3) что сущность явлений постигается не
дедуктивным и не индуктивным методом, а при помощи интуиции |3.
Относительно Гартмана и его эстетической концепции Ингарден писал, что
основные идеи Гартман заимствовал у него: «Именно в 1932 году
Николай Гартман опубликовал «Das Problem des geistiges Sein»
(«Проблемы духовного бытия»), где перенял мою концепцию
многослойного построения литературного произведения, не ссылаясь,
впрочем, на мою книгу, и распространил эту концепцию на
остальные виды искусства. Поступая довольно механически и решая весь
вопрос довольно схематически, эскизно, он применил эту
концепцию также и к музыкальным произведениям, где она не примени-
157
ма» N. Что касается феноменологических концепций Сартра, Дюф-
ренна, Морпурго-Тальябуэ, то здесь следует подчеркнуть известное
влияние на них эстетической концепции Ингардена, которая была
выработана им в основном до появления их работ. «После выхода
первого издания этой книги,—писал Ингарден (речь идет о
произведении «Спор о существовании мира».— К. Д.),— я не раз
слышал и читал, что произведенные в этой книге вступительные
рассуждения о человеке и человеческой личности являются
«экзистенциалистскими» и якобы написаны под влиянием Сартра. Так
вот, когда я в 1941 году (осенью) писал эти разделы «Спора», то
ничего не знал ни о Сартре, ни о французском экзистенциализме.
Разумеется, я еще в 1927 году читал «Sein und Zeit» Хайдеггера, но
и хайдеггеровские взгляды, пожалуй, на меня не повлияли. Больше
всего здесь могли бы приниматься во внимание взгляды М. Шелера.
Но и его концепция «личности» («Person») слишком отлична от
того, что мне здесь служит положительным примером как наметка
этих рассуждений. Nota bene, проблемой человеческой личности
я занимался еще в ранней молодости, в 1913 году» ,г\ Феноменологи
другого поколения: Мерло-Понти, Сартр, Дюфренн, Морпурго-
Тальябуэ и т. д., хотя и исходили из основных идей Гуссерля, тем
не менее приспосабливали их к соответствующим общественно-
историческим условиям. Они старались подчеркивать
преимущественно гуманистические, антропологические, аксиологические
стороны феноменологии. Соответствующим образом они трактовали
и феноменологический метод |Ь.
Радикальная неудовлетворенность состоянием современной
ему науки и философии (включая сюда состояние эстетики,
поэтики, наук о литературе) привела Ингардена к отказу от
существовавших в то время философских и эстетических концепций, носивших
преимущественно субъективно-идеалистический характер. Мы уже
говорили о расхождениях Ингардена с гуссерлевским идеализмом.
Очень резко Ингарден критиковал и позитивистские и
неопозитивистские концепции. При этом критиковал он их как за идеализм, так
и за антифилософскую направленность и агностицизм. «В
позитивистски и особенно неопозитивистски настроенных кругах
исследователей,— замечает Ингарден,— существует склонность к
высмеиванию исследовательских тенденций, стремящихся раскрывать
сущность предмета или его существенные черты. Это делается потому,
что позитивисты под «сущностью предмета» понимают заранее
нечто совершенно непознаваемое вообще, а для человека в
особенности. Позитивисты являются de facto негативистами, в области
же теории познания и теории науки они скептики. Они не
стараются при этом ни выяснить, ни уточнить понятия, против которых
ведут борьбу. К таким невыясненным и окарикатуренным ими
понятиям относится также и понятие сущности предмета. В самом
деле, это понятие трудное и многозначное. В другом месте я
старался показать, что после различения многих исторически переплетен-
158
ных между собой значений в результате анализа удается выявить
такое понимание того, что существенно в предмете, что оно
остается вполне в границах, доступных нашему познанию» ''. Эта критика
бьет не в бровь, а в глаз. Ингарден ловит позитивистов и
неопозитивистов на том, чем они чаще всего гордились и ставили себе в
заслугу: строго научный характер исследования. О какой «строгой
научности» может идти речь, если не выясняются и не уточняются
самые фундаментальные понятия науки и философии, если заранее
определяется сфера познаваемого и непознаваемого, то есть
заранее ограничивается человеческое познание?
Ингарден — рационалист, верящий в силу человеческого
познания. Именно поэтому он подвергал резкой критике любые
философские и эстетические концепции, которые хоть в какой-то мере
ограничивали сферу человеческого познания.
Во многих своих работах он сводит счеты с Кантом,
кантианцами и неокантианцами. Ему в равной мере были чужды их
субъективный идеализм, агностицизм и априоризм. Например,
когда он определяет онтологию литературного произведения как
априорную теорию, то вкладывает в этот термин совершенно иной
смысл, чем тот, который вкладывал в этот термин Кант и его
последователи: «Этот термин, в употребляемом мною понимании, не
имеет ничего общего с Кантом. Наоборот, я убежден, что вся
теория категорий и априорных форм восприятия Канта является не
только фальшивой, но и вращается в кругу противоречий» ,8.
Априорный характер познания отстаивался Ингарденом потому, что
в противоположность различного рода позитивистским теориям,
отрицавшим специфику философского познания, он видел в этом
по-своему понятом априоризме специфику философского
познания, его концептуальность. Кстати, будучи феноменологом,
Ингарден признавал за марксистской философией заслугу отстаивания,
защиты и развития, собственно философского познания. «Хотелось
бы заметить, что исключительно такое понимание
непосредственного «априорного» познания позволяет принять взгляд (признанный,
между прочим, марксистской философией), что философия
составляет теоретическую основу каждой отдельной науки. Кто, как
позитивисты XIX века, провозглашает, что философия является
синтезом результатов, достигнутых отдельными науками, что
философия является как бы только дальнейшим продолжением
индуктивного обобщения, осуществляющегося в отдельных науках, тот не
может считать философию основой, в лучшем случае лишь
дальнейшим продолжением этих наук. Кто же в философии ищет основ —
и правильно — для этих наук, тот должен одновременно
согласиться признать какие-то виды непосредственного познания, отличного
от опыта» |9. Разумеется, речь шла о рациональном, логическом,
а не каком-то мистическом непосредственном познании, ибо
Ингарден неоднократно возвращается к критике самого крупного ирраци-
оналиста нашего века — А. Бергсона, с позицией которого он был
159
принципиально не согласен. «Скептическая позиция Бергсона по
отношению к интеллектуальному познанию, представляющая
негативную сторону его прагматической теории интеллекта, имеет
свой последний источник, несомненно, в том, что Бергсон в любой
действительности — особенно в области сознания — видит ту
целостность и безусловную непроницаемость, с которой мы
встречаемся в эстетических предметах» 20. Полемизируя с неудовлетво-
рявшими его философскими и эстетическими концепциями, Ингар-
ден стремится к философскому, рациональному обоснованию
науки, в частности науки о литературе.
В конкретно-исторической, социально-политической и
культурно-философской, художественно-эстетической ситуации 20—
30 годов нашего века, когда продолжалось наступление на разум,
его разрушение различными иррационалистическими,
мистическими, субъективно-идеалистическими школами, течениями и
направлениями (экзистенциализм, неопозитивизм, психоанализ,
неотомизм, а также различные «ипостаси» самой феноменологии и т. д.),
философско-эстетическая концепция, которую начал развивать
Роман Ингарден, представляла собой не только попытку преодоления
кризисного состояния философии, науки (в первую очередь и
главным образом наук о литературе), культуры, то есть попытку выхода
из «кризиса европейских наук» или из «кризиса европейского
сознания», которая в свое время была предпринята еще Гуссерлем, но
и попытку поставить феноменологию на научную почву, а под
конкретные науки подвести теоретическую, философскую основу,
которой и должны были стать феноменология и
феноменологический метод.
В отличие от сложившейся традиции Р. Ингарден считает, что
«предметом исследования литературы являются прежде всего
определенные фактически существующие единичные предметы:
отдельные литературные произведения» 2l. Дело в том, что вместо того
чтобы заниматься анализом самих литературных произведений,
чаще всего занимались автором, его переживаниями, его жизненными
проблемами, различными условиями возникновения произведения
и т. д. Результатом подобных исследований была «философия» того
или иного автора, сконструированная на основе его литературных
сочинений. При этом исследователи опирались на ту или иную
политическую или социальную программу, которую провозглашал
или разделял автор, или его жизненную или историческую «истину»
и т. д. Подобного рода исследования, по мнению Ингардена,
занимались чем угодно, только не самими литературными
произведениями, хотя сами исследователи при этом ошибочно полагали, что они
занимаются именно литературными произведениями. Ингарден
выступил против этого психологического направления изучения
литературы. «Конечно, столь же интересным вопросом, как и сами
литературные произведения, является их автор и его переживания.
Однако следует отдавать себе отчет в том, что исследование психи-
160
ческой структуры и переживаний автора — это задача
индивидуальной психологии, а не науки о литературе... Нельзя исследовать
психическую структуру автора теми же познавательными
средствами, что литературные произведения, и наоборот» 22. Совершенно
необходимо осуществить «радикальный поворот к самим
литературным произведениям» 23.
Разделяя гуссерлевскую идею борьбы с психологизмом, Ингар-
ден вместе с тем стремится к анализу конкретных литературных
произведений, но опять-таки в феноменологическом смысле, то есть
произведений, представляющих собой интенциональный предмет.
Р. Ингарден строит свою классификацию наук о литературе,
отличающихся между собой по предмету, задачам и методам
исследования.
Это: 1) общая философская теория литературного
произведения, 2) наука о литературе, исследования которой распадаются
на две области: а) описательную, в) историческую науку в
литературе, 3) так называемую литературную критику 24.
Основной отраслью научных исследований литературы
является, по мнению Ингардена, изучение отдельных литературных
произведений 25. Задачи литературоведения — в описании
характеристик литературного произведения, в описании его существенных
черт и компонентов.
Очень важно определение самого литературного произведения,
поскольку оно составляет предмет исследования. Согласно Ингар-
дену, литературное произведение с точки зрения задач
«литературной характерологии» может пониматься двояко: а) литературное
произведение в его собственном строении как объект
исследовательского предэстетического познания, б) произведение в
эстетической конкретизации как объект эстетического познания» 26.
И здесь самой важной чертой литературного произведения
является его интерсубъективность. «Литературное произведение
является интерсубъективным творением» 2 , но в каждом отдельном
случае эстетической конкретизации литературного произведения
мы имеем дело не с интерсубъективным предметом, а с предметом
«моносубъективным» 28.
Он довольно детально выписывает исторические задачи науки
о литературе. Сюда относятся проблемы, связанные с
возникновением определенного литературного произведения, с
взаимовлиянием и взаимозависимостью между произведениями каких-либо двух
авторов; группа проблем филологическо-исторической природы;
проблемы развития новых форм у одного и того же автора, линии
его развития; проблемы истории отдельных направлений в
литературе; проблемы, связанные с «литературной атмосферой»,—
литература определенной культурной среды в определенную эпоху; и,
наконец, как одна из важнейших задач историко-литературного
исследования — задача обработки исторического процесса
изменений литературной атмосферы ряда эпох определенного языкового
6 К. М. Долгов
161
или культурного региона ^у. Так понятая история литературы тесно
связана с историей культуры и с социально-политической историей.
Таким образом, конкретно-историческую проблематику
литературных исследований Ингарден отдает исторической науке о
литературе, включая в нее и современную литературу.
В своей работе «О поэтике» Ингарден еще раз возвращается
к вопросу о классификации наук о литературе. Он приводит
следующую классификацию наук о литературе: «а) философия
литературы, б) теория литературы, в) наука о литературе и г) литературная
критика. Поэтика же является теорией художественной
литературы» 30. Мы не можем вдаваться в обсуждение данной
классификации по ряду причин, и прежде всего потому, что это увело бы нас
в сторону. Нам важно установить лишь то, что понимает Ингарден
под основными науками литературы.
Так, философия литературы, за исключением онтологии
литературного произведения, изучает не сами литературные
произведения, а то, что с ними связано или находится в какой-то связи: теория
познания литературного произведения, литературная эстетика,
философия литературного творчества, социология литературы
и т. д. А вот одна из основных частей философии литературы —
онтология литературного произведения изучает «содержание общих
идей литературного произведения» 3|. В этом смысле онтология
литературного произведения является «априорной» теорией и как
таковая не может ни одним своим положением опираться на тот
опыт, который дан в отдельных произведениях.
Что касается науки о литературе, то она, по мнению Ингарде-
на, «относится к наукам о фактах»: изучает «действительно
существующие отдельные литературные произведения» 32. Эта наука
носит исторический характер, потому что занимается тем и
утверждает исключительно то, что возникло в сфере уже существующих
произведений.
И, наконец, литературная критика, которая, говорит Ингарден,
«представляет радикальную противоположность как философии
литературы, так и науке о литературе» 33. Правда, это нисколько не
уменьшает ее ценности для совокупности наук о литературе.
Эти науки, вместе взятые, исчерпывают все возможности
теоретического отношения к литературному произведению.
Исходя из реального состояния наук о литературе, Ингарден
обосновывает необходимость поэтики как особой науки о
литературе. Вопреки Бергсону и Кроче, полагавшим, что никакая поэтика
как общая теория невозможна, Ингарден выдвигает, обосновывает
и старается построить такую общую поэтику, которая была бы не
«индивидуализирующей» наукой, а наукой «обобщающей» 34. С
точки зрения методологии и теории познания поэтика, по мнению
Ингардена, занимает среднее положение между научной
литературной типологией и онтологией литературы. Он определяет поэтику
как «общую теорию существенных структур, свойств и связей,
162
существующих фактически в произведениях литературного
искусства» 35. Эту поэтику Ингарден называет «систематической» в
отличие от поэтики исторической, представляющей один из разделов
истории литературы. Правда, он признает, что историческая
поэтика закладывает основные понятия и положения поэтики
систематической. Наряду с этим существует еще история поэтики, но, как
всякая история науки, она относится, по его мнению, к метанауч-
ным дисциплинам 36.
Р. Ингарден считает, что поэтика, как наука об общей
теории существенных структур, должна опираться на солидный
теоретический фундамент. К этому фундаменту он относит кроме
онтологии литературного произведения прежде всего философию
искусства вообще, затем философию культуры, а также эстетику
как философию эстетического переживания и, наконец,
эмпирические науки о различных видах искусства (история искусств
и искусствоведение).
Саму же поэтику он делил на два вида: теоретическую и
нормативную. Развивая теоретическую поэтику, он понимал, что для
осуществления этой задачи нужны поколения исследователей 37. Не
случайно Ингарден признавал, что его книга «Das literarische
Kunstwerk» является лишь частичным исполнением программы поэтики,
предложенной Лемпицким, то есть поэтики онтологической,
которую можно рассматривать лишь как часть систематической,
теоретической поэтики. Вообще же можно, пожалуй, сказать, что все
сочинения Ингардена по эстетике, теории литературы и искусству
представляют собой значительный этап в деле осуществления
«программы» теоретической или систематической поэтики, хотя, по его
собственному признанию, ему так и не удалось довести свой
замысел до конца.
В «Заметках» на полях «Поэтики» Аристотеля Р. Ингарден
среди современных теорий литературного произведения называет
и свою двухмерную и многослойную концепцию, раскрывающую
литературное произведение как «чисто интенциональное
произведение субъективных творческих операций автора» 38. Языковому
фактору отводится основная роль в конституировании произведения,
а эстетическому — второстепенная. Как указывает Ингарден,
литературное произведение в одном измерении содержит, по меньшей
мере, четыре слоя: 1) слой словесных звучаний и
словесно-языковых образований высшего порядка, 2) слой значащих образований
(значение слов и смысл суждений), 3) слой представленных
предметов (люди, вещи, происшествия), 4) слой схематизированных
видов. При этом строение и свойства этих слоев органически
взаимосвязаны. А их компоненты создают в произведении другое его
измерение: последовательность его частей и фаз и тем самым
проявление в произведении своеобразной квазивременной структуры.
Следовательно, произведение является одновременно
многослойным и многофазовым. Произведение литературного искусства прин-
6*
163
ципиально отличается от письменных произведений другого рода.
Тип и уровень художественной ценности произведения
определяется многоголосой гармонией качеств. «Эта теория... стремится
выяснить природу всех компонентов литературного произведения
и показать своеобразное строение, а также характерный способ
существования литературного произведения, равным образом его
связь как с автором, так и с читателем и, наконец, его отношение
к реальному миру» 39. Здесь Ингарден изложил суть своей теории
литературного произведения. Правда, в других местах он пишет об
этом более подробно и обстоятельно 40.
По словам самого Ингардена, он склонен считать литературное
произведение некоторой особой «сферой действительности»,,
стремясь, однако, более точно определить ее природу, а также способ
существования произведения. Он видит в нем чисто интенциональ-
ный предмет особого строения, имеющий свою бытийную основу,
с одной стороны, в авторе, в его творческих актах, а с другой —
в определенных физических предметах (например, в письменных
знаках на бумаге) и, наконец, в идеальных понятиях и идеях41.
Двухмерная и многослойная (по крайней мере четыре слоя)
структура явилась своеобразным критерием художественности
произведения литературы.
Ключевыми категориями концепции Ингардена являются
понятия схематичности литературного произведения и его
конкретизации.
Что понимается под схематичностью литературного
произведения? Дело в том, что феноменология придает особое значение
процессу восприятия художественных произведений. Человек или
субъект, воспринимающий то или иное произведение искусства,
должен как бы завершить построение изображаемого предмета.
В силу того, что в самом произведении конструирование или
субъективизация изображаемого предмета никогда не доводится до
конца, поскольку в каждом произведении можно употребить лишь
ограниченное число изобразительных, а значит, и выразительных
средств (слов, красок, звуков и т. п.), налицо недостаточная
завершенность, неопределенность, неполнота изображаемого
предмета как в самом произведении, так и в его восприятии субъектом.
В этом Ингарден видит не недостаток произведения и его
восприятия, а, напротив, всю притягательную силу, прелесть и обаяние,—
без этого не было бы произведения искусства.
Логическим следствием «схематизации» является
«конкретизация» литературного произведения, состоящая в том, что читатель
так или иначе «дополняет», а следовательно, изменяет произведение
в процессе его чтения. Каждое новое прочтение выставляет
произведение в новом свете, показывает его с какой-то другой стороны.
Сколько прочтений произведения, столько же и его
«конкретизации». В процессе конкретизации происходит «актуализация»
элементов, находящихся в самом произведении лишь в виртуальном
164
состоянии. Конкретизация как бы «пробуждает» эти элементы
к жизни. Ингарден подчеркивает, что возможность множества
конкретизации обусловливается схематичностью произведения, его
незавершенностью. Однако этот «плюрализм» конкретизации вовсе не
означает релятивизма, так как, с каких бы позиций ни подходили
к конкретизации (определенные эстетические, политические,
религиозные и т. д. интересы и взгляды читателя), по мнению Ингарде-
на, существует лишь один тип конкретизации, больше всего
соответствующий смыслу и назначению художественного
произведения, произведения литературы. Все другие конкретизации
представляются большим или меньшим отклонением от имманентного
произведению искусства идеала.
Здесь следовало бы добавить то, чего не хватает не только
Ингардену, но и всей феноменологии и феноменологической
эстетике вообще: конкретного историзма, конкретно-исторического
подхода к произведениям литературы и искусства. Безусловно, из всего
множества прочтений того или иного произведения можно
вычленить один наиболее адекватный тип прочтения — прочтение, более
всего соответствующее эстетическому идеалу и эстетическим
критериям той или иной эпохи. Каждое великое произведение
литературы и искусства находит свой тип прочтения, различный в разные
конкретно-исторические эпохи. Так, например, произведения
Шекспира, Сервантеса, Мицкевича и других великих писателей
воспринимаются нами иначе, чем, скажем, их современниками. Хотя
это вовсе не исключает расхождений в понимании, истолковании
тех или других произведений литературы и искусства в одну и ту же
эпоху, скорее, наоборот: то или иное произведение читается
различно не только в разные эпохи, но и в одну и ту же эпоху, даже одним
и тем же поколением. Таким образом, «конкретизация»
художественных произведений должна учитывать не только количество
прочтений, их личностные различия, исторические параметры, но
и социальную основу мировоззрения, взглядов людей,
«конкретизирующих» произведения литературы и искусства. Только в этом
случае «конкретизация» будет носить наиболее универсальный и
динамический характер: конкретно-историческая «конкретизация»
является оптимальным «дополнением» литературного и
художественного произведения вообще, его наиболее адекватным «прочтением»
и «развитием». С этими поправками можно принять ингарденовские
категории «схематизации» и «конкретизации».
Понятие «конкретизации» явилось ключевой категорией не
только для феноменологии Ингардена, но и для всей
феноменологии вообще. Поскольку суть феноменологического метода
заключается в описании феноменов сознания, то это описание могло
осуществляться лишь при конкретно-эмпирическом применении метода,
а следовательно, и при активном соучастии читателя или зрителя
при восприятии того или иного произведения искусства. В этом
смысле можно сказать, что и сами философские и эстетические
165
произведения феноменологов являются как бы «конкретизацией»
феноменологического метода.
Каково же место феноменологической эстетики и поэтики
Ингардена в современной эстетической науке?
На наш взгляд, значение философско-эстетическо-литератур-
ной концепции Ингардена еще недостаточно оценено. В основном
влияние его идей приписывается главе феноменологической
школы — Гуссерлю или вообще не осознается даже теми, кто испытал
и испытывает на себе воздействие концепции Ингардена. Однако
следует заметить, что влияние Гуссерля было не столь
непосредственным, сколь опосредованным — через развитие феноменологии
учениками и последователями. И одно из первых мест принадлежит
здесь по праву Ингардену: его самобытная и оригинальная
концепция литературного произведения (и эстетики вообще) оказала
большое влияние на таких феноменологов, как Н. Гартман,
М. Дюфренн, и другие. Кроме того, детальное, виртуозное
исследование структуры литературного произведения и его отношений
с читателем, миром, другими произведениями и т. д. не могло не
оказать определенного и сильного влияния на возникновение и
формирование структуралистского метода. В известной мере это был
отход от классической гуссерлевской феноменологии и шагом
вперед по сравнению с субъективно-идеалистической буржуазной
мыслью современности. Однако реформация классической
феноменологии хотя и приблизила феноменологический метод к решению
реальной проблематики и сделала его более рациональным и
объективным, тем не менее задача построения универсальной поэтики
и тем более задача осмысления самых фундаментальных философ-
ско-эстетических и художественных проблем нашей эпохи не могла
быть решена на основе феноменологической философии и при
помощи феноменологического метода. Феноменология Ингардена
в известной мере как бы восполняла тоску по
конкретно-историческому методу исследования, по диалектике, удовлетворить или
рассеять которую мог только отказ от основных принципов
феноменологической философии.
Что же касается Ингардена, то он в споре идеализма и реализма
занял довольно реалистические позиции, позволившие ему не только
дать феноменологическое описание сложных явлений литературы
и искусства, но и детально исследовать построение литературного
произведения и произведений других видов искусства (живописи,
музыки, кинематографа и др.), выявить и проанализировать
многообразные отношения произведений литературы и искусства с
действительностью, автором, исследовать смысл различных категорий,
их взаимоотношение, исследовать проблемы, касающиеся форм
и способов существования реального мира, проблему реального
и интенционального, проблему конкретизации и схематизации и т. д.
Уже перечень проблем, которыми занимался Ингарден,
свидетельствует об универсальности его интересов, необычайной после-
166
довательности, верности своим намерениям и поставленным целям,
а также настойчивости и мужестве, честности и принципиальности.
Но существует некая сложность, с которой неизбежно
столкнется любой исследователь теоретического наследия Р. Ингардена:
куда отнести Ингардена — к материалистам или идеалистам? На
наш взгляд, этот вопрос в данном конкретном случае нельзя решить
однозначно. Эволюция его творчества говорит о постоянной борьбе
с идеализмом, о сложном споре с самим собой, со своими
собственными взглядами, вместе с тем, положительно относясь к
материализму и марксизму, он до конца остался верен
феноменологическому методу, в специфически ингарденовской реалистической
интерпретации, отвергая различного рода идеалистические варианты
феноменологии, иррационализм, мистику и метафизические
спекуляции. Это составляет его особую заслугу, поскольку именно в
области эстетики, литературы и искусства важно было осваивать
реалистические, рационалистические позиции, выступать за строго
научное исследование этих областей человеческого знания и
деятельности, бороться за создание научной поэтики.
Огромный интерес представляет критика Ингарденом
различных философско-эстетических концепций, начиная со взглядов
самого Гуссерля и кончая неопозитивизмом, экзистенциализмом и
даже в какой-то мере структурализмом. Очень часто эта критика
попадала в цель, хотя не всегда она была в достаточной мере
глубокой и аргументированной.
Учитывая положительные стороны, конкретные результаты
и достижения философско-эстетических исследований Ингардена,
следует сказать, что все его творчество служит ярким примером
того, чего может достигнуть феноменологический метод в его
оптимальном варианте — это предел феноменологии, ее граница,
переход которой требует отказа от основных принципов
феноменологического метода вообще.
Все это говорит о важности и необходимости критического
анализа феноменологии и феноменологической эстетики, о
необходимости выявлять реальную проблематику, позитивные моменты ее
понимания и решения.
Из этого следует также важность и необходимость
дальнейшего анализа философских и эстетических взглядов Р. Ингардена,
продолжающих оказывать и по сей день большое влияние на
развитие философских и эстетических исследований как в Польше, так
и в других странах, на самые различные направления современной
философии, эстетики, литературоведения, искусствознания и
художественной критики.
167
Морис Мерло-Понти.
Смысл и Бессмыслица
Среди представителей современной французской философии
и эстетики особое место принадлежит Морису Мерло-Понти. Он
относится к тому же поколению философов, что и Сартр и Дюф-
ренн. Однако по своему значению и влиянию он превосходит всех
своих современников: все французские феноменологи и
экзистенциалисты признают за Мерло-Понти примат перенесения и
разработки на французской почве гуссерлевской феноменологии и
немецкого экзистенциализма 1. Большинство современных
французских философов испытали влияние идей Мерло-Понти. Об этом
свидетельствуют высказывания Сартра, Дюфренна, Рикёра, Геру
и других философов.
В чем суть философских и эстетических взглядов Мерло-
Понти?
Следует заметить, что о философии Мерло-Понти написано
немало работ, в том числе и философами-марксистами 2. Что же
касается его эстетики, то о ней можно найти некоторые небольшие
статьи и заметки в основном в западной литературе, а в советской,
насколько нам известно, не было ни одной работы.
Философские позиции Мерло-Понти являются открыто
антидиалектическими и антиматериалистическими. В отличие от других
феноменологов он написал специальную книгу против диалектики —
«Приключения диалектики» 3, в которой попытался показать ее
теоретическую и практическую несостоятельность.
Прежде всего он доказывает несовместимость диалектики
и материализма: «Если природа есть природа, то есть внешняя
к нам и к самой себе, то нельзя найти ни отношений, ни качества,
которые необходимы для того, чтобы найти диалектику» 4.
Нетрудно заметить, что данное рассуждение представляет собой
софизм: Мерло-Понти предполагает само собой разумеющимся то,
что еще надо доказать и что, вообще говоря, недоказуемо, а именно,
что природа является чем-то внешним по отношению к людям
и к самой себе. Ведь если поставить этот вопрос всерьез, то можно
обнаружить нерасторжимую связь между природой и человеком.
И дело не только в том, что человек, его тело является
материальным, то есть частью природы, но и в том, что даже специфически
человеческий продукт, специфически человеческое качество —
мышление как идеальное есть не что иное, как материальное,
пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней 5.
Правда, он не просто отказывается от диалектики, а делает вид,
что признает ее, но не такой, какой она представляется
марксизмом. Мерло-Понти определяет диалектику как «переход субъекта
в объект и объекта в субъект» 6 и как «открытие между диалекти-
168
ком и его объектом отношения импликации» . Внешне это
выглядит, казалось бы, вполне корректно. А если присмотреться, то
обнаруживается следующее: во-первых, «переход субъекта в объект
и объекта в субъект» означает выхолащивание самого существа
диалектики — борьба противоположностей как источник развития
подменяется простым «переходом» феноменов сознания, ибо
категории субъекта и объекта понимаются здесь в духе гуссерлевской
феноменологии («всякое сознание есть сознание чего-то»), то есть
и субъект и объект являются феноменами человеческого
индивидуального сознания; во-вторых, существование мира ставится в
зависимость от индивидуального сознания, от сознания субъекта
(мир существует для моего сознания и благодаря моему сознанию),
что принципиально исключает возможность субъективной (не
субъективистской) диалектики, которая, как это подчеркивали
Энгельс и Ленин, является отражением диалектики объективной,
диалектики самих вещей; в-третьих, несмотря на попытку
отождествить гуссерлевский субъект с практикой, а
«конституирующую активность» субъекта с практической деятельностью, практика
как таковая исключается не только из процесса познания, но и из
взаимоотношений человека и природы, человека и общества и т. д.,
то есть она перестает быть фундаментальным отношением,
субстанцией человека, основой познания и критерием истины. Культура,
выработанная человечеством за всю историю существования,
именуется Мерло-Понти «культурным миром» и человеческое сознание,
осваивая эту культуру, делает лишь то, что вновь возвращается
к самому себе.
Естественно в связи с этим и его негативное отношение к
революции, которую он понимает как «превышение данных условий» 8,
как «насильственную критику», как нечто совершенно бесполезное
и даже вредное, поскольку, согласно его убеждению, «все
революции дегенерируют»9. Мерло-Понти полагает, что все революции
похожи друг на друга, как и господствующие классы: ни одна
революция не внесла ничего нового в человеческую жизнь, как ни один
господствующий класс не мог руководить без того, чтобы не впасть
в декаданс. Даже если революция является перманентной (Мерло-
Понти импонировала теория перманентной революции Троцкого,
как и многим другим философам, в частности его ученику и другу
М. Дюфренну), то она никогда не является завершенной — победа
и поражение составляют в ней одно. Революция, полагает философ,
является режимом творческой неуравновешенности, стало быть,
всегда нужна некая оппозиция по отношению к революции.
«Революция предполагает это удивительное разделение ролей: те,
которые являются наиболее революционными, часто становятся в
оппозицию, а те, которые делают революцию, не всегда являются
революционными» 10. В конечном счете под революцией Мерло-Понти
понимает «отказ от того, что есть». Подобное понимание
революции оказало огромное воздействие на западных теоретиков.
169
«Отказ от того, что есть» может означать и контрреволюцию,
и анархический бунт, и вообще все что угодно, только не
революцию.
Свою политическую позицию Мерло-Понти называл
«либерализмом». Однако если почитать его работы, посвященные
марксизму и практике социалистического строительства (например,
«Гуманизм и террор», «Вокруг марксизма», «Марксизм и философия»,
статьи в книге «Знаки»: «Параноическая политика», «Марксизм
и суеверие», «СССР и лагеря», «Будущее революции», «О
десталинизации» и др.) п, то легко убедиться в том, что он не приемлет ни
социализма, ни коммунизма, ни марксизма.12
После опубликования своей работы «Феноменология
восприятия» Мерло-Понти становится одним из ведущих французских
буржуазных философов и психологов. В этом исследовании была
предпринята попытка создания нового мировоззрения, которое
соответствовало бы не только основным идеям феноменологии Гуссерля
(это было бы традиционное мировоззрение), но и достижениям
современных естественных и общественных наук. При этом Мерло-
Понти стремился опираться на всю философскую традицию — от
Платона и Аристотеля до Канта и Гегеля включительно. Особое
место занимал у него анализ феноменологии Гуссерля и его
последователей различного толка, представителей философии жизни
и экзистенциализма, структурализма.
Суть замысла заключалась в том, чтобы создать такое
мировоззрение или философию (иногда он называл ее психологией),
которая представляла бы собою естественный результат развития
всей предшествующей философии и, следовательно, была бы
подлинно современной философией, удовлетворяющей
интеллектуальные и культурные запросы человека, философией, которая помогла
бы наконец человеку найти самого себя и свое место в этом мире
и установить с другими и миром соответствующий контакт.
Как можно было осуществить этот замысел? С чего начать?
Как правило, философы начинали издалека — с истории
философии, с возникновения самой философии. В известной мере такой
подход понятен и оправдан: начало философии есть начало ее
истории, или истории философии. С этого начинаются все загадки
и разгадки философских проблем. Но уже здесь исследователь
наталкивается на противоречие: анализ начала требует знания всей
истории развития философии, а это в свою очередь предполагает
уже вполне определенный подход, метод анализа, определенную
позицию, с которой должно вестись исследование.
Мерло-Понти, сформировавшийся в основном под влиянием
буржуазной действительности, философии и культуры и
остановивший свой выбор на феноменологии Гуссерля и философии
экзистенциализма, не мог не задуматься о том, с каких позиций
начать осмысление философской традиции и выработку или разра-
170
ботку взглядов и мировоззрения, которое, по его мнению, больше
всего соответствовало бы его сокровенному замыслу.
Состояние феноменологии к 40-м годам представляло далеко
не утешительную картину: феноменология Гуссерля толковалась
его учениками не только по-разному, в соответствии с их вкусами,
целями, задачами и потребностями, но не было ни одной
феноменологической концепции, которая не отошла бы от существенных
моментов и принципов его философии, которая бы в какой-то мере
не «ревизовала» их. Среди последователей Гуссерля не было
единства даже в понимании того, что такое феноменология.
Свою работу Мерло-Понти и решил поэтому начать с
выяснения, казалось бы, элементарного понятия — феноменологии.
Что такое феноменология? Может показаться странным,
говорит Мерло-Понти, что этот вопрос ставится спустя полвека после
первых работ Гуссерля. Тем не менее этот вопрос, по его мнению,
еще далек от решения.
Мерло-Понти последовательно рассматривает характеристики
феноменологии. Феноменология — это изучение сущностей, и все
проблемы, согласно феноменологии, сводятся к определению
сущностей: например, сущность восприятия, сущность сознания. Но
феноменология — это также философия, которая помещает
сущность в существование и которая не мыслит, что можно было бы
понять человека и мир иначе, чем исходя из их «фактичности»,
facticité. Это трансцендентальная философия, стремящаяся понять
естественное отношение, благодаря которому мир всегда есть «уже
там», déjà la, раньше рефлексии, как неотъемлемое присутствие и вся
сила которого направлена на то, чтобы вновь найти этот наивный
контакт с миром, чтобы наконец дать ему философский статут.
Эта философия притязает на то, чтобы быть «точной наукой», но
также и отдавать себе отчет о пространстве, времени, о «пережитом»,
vécu мире. Это попытка прямого описания нашего опыта таким,
каков он есть, не принимая во внимание ни его психологический
генезис, ни причинные объяснения, которые могут давать ученый,
историк или социолог, и тем не менее Гуссерль в своих последних
работах упоминает «генетическую феноменологию» и даже
«конструктивную феноменологию».
С этой точки зрения, то есть с точки зрения подобного
понимания феноменологии, Мерло-Понти не видит противоречий между
гуссерлевской феноменологией и ее пониманием и истолкованием
у Хайдеггера, поскольку он полагает, что «Бытие и время»
появилось из указания Гуссерля и является итогом объяснения
(explication) natürlichen Welt или Lebenswelt, который Гуссерль в конце
своей жизни считал первой темой феноменологии, так что
противоречия в философии Гуссерля были заложены им самим.
Мерло-Понти в результате приходит к следующему пониманию
феноменологии: «Феноменология продолжает использоваться
и признаваться как способ или как стиль, прежде чем достигнуть
171
полного философского сознания, она существует как движение.
Долгое время она находится в пути, ее последователи снова
находят ее повсюду, у Гегеля и, конечно, у Киркегора, но также
и у Маркса, у Ницше, у Фрейда. Филологическое комментирование
текстов не дает ничего: мы находим в текстах только то, что мы
в них вложили, и если история когда-нибудь апеллировала к нашей
интерпретации, то это именно история философии. Именно в нас
мы находим единство феноменологии и ее подлинный смысл.
Феноменология достижима только как феноменологический метод» 13.
Здесь заслуживает внимания стремление Мерло-Понти преодолеть
разрыв между методом и системой, существовавший в различных
философских концепциях, например у Гегеля, и существующий еще
и в настоящее время в философских концепциях. В дальнейшем мы
увидим, что это стремление не увенчается успехом. Сейчас же
важно отметить, что феноменология понимается Мерло-Понти
прежде всего как феноменологический метод. Но что представляет
собой этот метод, способ или стиль? Из утверждения, что
сторонники феноменологии находят ее у самых различных философов, еще
не ясна суть этого метода. Поэтому следует рассмотреть предмет
или объект феноменологического метода, основную проблематику
феноменологии, соотношение феноменологического метода с
другими методами, а также ту «картину мира», которую «выписывает»
или «описывает» феноменология. Только тогда будет ясна суть
и содержание этой философии.
Первый совет, который Гуссерль давал феноменологии,
состоял в том, чтобы она была «описательной психологией» или
возвращалась «к самим вещам». Выступая против причинного
объяснения явлений (материалистического, марксистского, и
идеалистического, гегельянского), Мерло-Понти одновременно
пытается обосновать специфику философско-психологического анализа
человека, анализа, который, и только он один, может и должен,
в отличие от методов естественных и общественных наук, дать
цельное синтетическое представление человеческого «Я». С этой
целью он вводит категорию «опыта мира», который, подобно кан-
товскому трансцендентальному принципу апперцепции, лежит в
основе всего человеческого познания. И даже больше: «опыт мира»
как опыт, переживаемый субъектом, первичен по отношению к
какому бы то ни было знанию, включая и научное. Даже если все то,
что я знаю о мире, было получено с помощью науки, то и в этом
случае я знаю все это, исходя из моего видения или опыта мира, без
которого о символах науки нельзя было бы ничего сказать. «Я» не
есть результат пересечения множества причин, определяющих мое
тело или мою «психику», я не могу мыслить себя как часть мира,
как простой объект биологии, психологии или социологии, ни
замыкать во мне мир науки. Весь универсум науки построен на
пережитом мире, и если мы хотим мыслить науку как таковую со
строгостью, точно оценивать смысл и значение, то нужно пробудить
172
сначала этот опыт мира, вторичным выражением которого он
является. Наука никогда не имела и не будет иметь тот же самый смысл
бытия, что и воспринимаемый мир, по простой причине, согласно
которой она является здесь определением или объяснением. Я не
только «живое существо», или даже «человек», или даже «сознание»
со всеми свойствами, которые зоология, социальная анатомия или
индуктивная психология признает за этими произведениями
природы или истории,— я есть абсолютный источник, мое
существование не исходит из моей прежней деятельности, из моего
физического и социального окружения, оно идет к ним и поддерживает их,
ибо именно я делается бытием для меня (и, стало быть, бытием
в том единственном смысле, которое это слово может иметь для
меня)...
Точки зрения науки, согласно которым я есть момент мира,
всегда наивны и лицемерны, потому что они подразумевают другую
точку зрения, точку зрения сознания, благодаря которому мир
располагается вокруг меня и начинает существовать для меня.
Возвратиться к самым вещдм — это возвратиться к этому миру
раньше сознания, к миру, по отношению к которому любое научное
определение является абстрактным, как география по отношению
к пейзажу...
Это движение абсолютно отлично от идеалистического
возвращения к сознанию, и требование чистого описания исключает как
способ рефлексивного анализа, так и способ научного объяснения.
Мерло-Понти полагает, что точка зрения науки наивна и даже
лицемерна, потому что не учитывает не только смысла бытия, но
и точку зрения сознания, благодаря которому мир концентрируется
вокруг субъекта и начинает для него существовать. Гуссерлевское
требование «возврата к самим вещам» хотя и означает возвращение
к этому миру до-сознания, но это воосе не говорит о том, что
сознание можно игнорировать или не учитывать. Но при этом нельзя
упускать из вида, что сознание — источник неизбежных искажений,
абстрактных, упрощенных схем реальности. Именно поэтому Мерло-
Понти настаивает, чтобы постижению и познанию вещей
предшествовал акт восприятия, как тот фон или основа, благодаря
которой становятся возможными любые другие акты:
гносеологические, психологические и т. д.
Мерло-Понти пытался создать универсальную онтологию —
философию, которая должна преодолеть материализм и идеализм,
объективизм и субъективизм, рационализм и иррационализм,
метафизику и диалектику, которая сняла бы различия между субъектом
и объектом, сущностью и явлением, бытием и ничто, познанием
и верой, вещью и ее образом и т. д. Неоднократно заявляя, что
философия не есть наука м, что «философия вопрошает
воспринимающую веру», что «философия — это воспринимающая вера,
вопрошающая себя о самой себе» 15, Мерло-Понти представляет
новую онтологию как вопрошающую мысль, вопрошающую о мире,
173
о человеке, мысль, которая в конечном счете должна привести
к порождению смысла.
Но если философия не наука, тогда, естественно, вопрошание
как способ существования экзистенциальной феноменологии не
является способом познания, тогда о познании в его логическом
и гносеологическом значении не может быть и речи, тогда упрек,
бросаемый Мерло-Понти современной и предшествующей
философии в том, что она ставит проблему познания и запрещает ее
решение, может быть полностью отнесен и к «философии вопрошания».
Может ли в таком случае «философия вопрошания» стать
осознанием отношения человека к миру, к самому себе, к другим?
Задавшись целью переосмыслить всю предшествующую и
современную философскую мысль, Мерло-Понти конструирует
антиматериалистическую и антидиалектическую платформу, которая
должна лежать в основе этого переосмысления. Основными
ориентирами переосмысления для Мерло-Понти, особенно в последний
период его творчества, были идеи Гуссерля, Ницше, Хайдеггера,
задавшие параметры бескомпромиссного отношения к
материализму, диалектике, гуманизму. Так, например, размышления Канта
и Декарта о мире получают у него весьма своеобразную трактовку:
«Анализ Канта или Декарта: мир не является ни конечным, ни
бесконечным, он является неопределенным, то есть мыслится как
человеческий опыт,— конечный рассудок перед лицом бесконечного
Бытия» 16.
Такой анализ снимает не только элементы материализма
и диалектики, присущие миропониманию этих великих философов,
но и саму постановку проблем, связанных с существованием
материального мира.
Если говорить о связи «философии вопрошания» с философией
Гуссерля, то она проявляется прежде всего в активном
использовании категории жизненного мира (Lebenswelt). Основная цель новой
философии должна была состоять в восхождении от бытия-в-себе,
объективного и бесконечного к Бытию Lebenswelt.
Это восхождение, или переход, должен показать, что никакая
форма бытия не может существовать вне отношения к
субъективности, воплощенной в человеческом теле. В связи с этим проблема
субъекта — объекта низводится на психофизический уровень и
решается как проблема психофизического субъекта. Внешне подобное
«восхождение» выглядит вполне естественным: природа и
рассуждения о ней предвосхищают логику, а психофизический субъект
и размышления о нем предваряют размышления о рефлексии,
сознании, рассудке. На самом же деле данное «восхождение»
направлено против традиционного классического картезианского
понимания историзма и исторической науки. Мерло-Понти
подчеркивает: «Нужно в принципе разоблачать «органическую историю»,
скрытую под историчностью (Urhistorie, erste Geschichtlichkeit)
истины, которая была учреждена Декартом как бесконечный гори-
174
зонт науки. Эта историчность истины является еще тем, что
воодушевляет марксизм» 17.
Действительно, конкретность истины — один из основных
принципов диалектического и исторического подхода к изучению
реальности.Конкретность истины предполагает восхождение от
абстрактного к конкретному, процесс познания истины как выработку
единства многообразного.
Феноменология восприятия, напротив, абсолютизируя
непосредственно данную, чувственную ступень познания, склоняется
к чувственному постижению истины, к ее непосредственному,
очевидному постижению. Философия начинает рассматриваться как
искусство. «Моя точка зрения: философия, как произведение
искусства, это... объект, который сохраняет смысл вне своего
исторического контекста, который даже имеет смысл только вне этого
контекста» 18. Согласно Мерло-Понти, философия должна отказаться
от познания законов истории, поскольку она должна быть
свободным творением человеческого духа, раз и навсегда порвавшего
с какими бы то ни было материальными отношениями, интересами,
вещами и т. п. С его точки зрения (правда, здесь он не оригинален:
вспомним Киркегора, Ницше, Адорно и многих других,
усматривающих в научном, логическом познании нечто отрицательное,— не
есть ли это модификация христианского мифа о первородном грехе,
вкушении плода с древа добра и зла?), познание носит негативный
характер. С этих позиций психология, логика, этнология
представляются лишь различными формами догматизма, сковывающими
человеческое мышление, дающими слишком одностороннее
представление о бытии.
Аналогом бытия Мерло-Понти считает топологическое
пространство, а аналогом философии бытия или новой онтологии —
атональную музыку. Словом, аналогом подлинной философии
Мерло-Понти считает искусство. Опираясь на Гуссерля, который ввел
понятие «поэзия истории философии» (Dichtung der
Philosophiegeschichte) 19, и на Хайдеггера, придавшего поэзии роль источника
новой метафизики и генератора ее идей 20, Мерло-Понти развивает
концепцию «истории-поэзии» (histoire-Dichtung), призванную
сокрушить рационалистическое, понимание истории и философии
и подменить его иррациональным постижением. История
философии и философия не должны быть научными дисциплинами и
заниматься познанием законов развития объективного мира, общества,
человеческого мышления. «Цель философии есть повествование
о ее начале. Показать эту циркуляцию, эту интенциональную
импликацию по кругу,— и одновременно циркуляцию Histoirephilosop-
hie. ... Объективная история является догматическим
рационализмом, является философией, а не тем, чем она претендует быть,
историей того, что есть. То, что может быть подвергнуто критике в моей
истории поэзии (histoire-Dichtung), это не то, что она не выражает
меня как философа,— а именно то, что она не выражает меня пол-
175
ностью, что она меня еще и изменяет. История философии как
наука есть communis opinio» 21. Поворот философии с
рационалистических, научных позиций на позиции иррационалистическо-
художественного эстетизма, начатый Киркегором и подхваченный
Шопенгауэром, Ницше, а затем Гуссерлем, Хайдеггером, Ясперсом
и другими философами, нашел у Мерло-Понти свое
последовательное завершение.
Декарт и особенно Кант, говорит Мерло-Понти, показали, что
я не могу постичь никакой вещи, если я с самого начала не
почувствую себя в акте постижения, то есть показали необходимость
уверенности субъекта в самом себе.
Рефлексивный анализ, исходя из нашего опыта мира, восходит
к субъекту как к условию возможности, отличной от него, и делает
видимым универсальный синтез как то, без чего не было бы мира.
В этой мере он перестает примыкать к нашему опыту, он заменяет
реконструкцию. Понятно благодаря этому, почему Гуссерль
упрекал Канта за «психологизм способностей души» и
противопоставлял ноэтическому анализу, который основывал мир на
синтетической активности субъекта, свою «ноэматическую рефлексию»,
которая присуща объекту.
Правда, Мерло-Понти признает существование мира до
всякого анализа, а рефлексия есть рефлексия о неосмысленном.
Реальное есть в описании, а не в конструировании или в кон-
ституировании.
Восприятие не есть наука о мире, это не есть даже акт,
решительная позиция, занятая субъектом; оно есть то, благодаря
чему выделяются все акты, предполагающие восприятие.
Таким образом, Мерло-Понти, пытаясь преодолеть
материализм и идеализм, научный подход, рационализм и иррационализм,
апеллирует к субъекту как абсолютному источнику, имеющему
отношение к существующему, но не определяемому ни физической,
ни социальной средой, ни сознанием, ибо я есть всегда нечто
большее, чем все эти компоненты, вместе взятые. Тем самым он хочет
исключить как идеалистическую конструкцию возвращения к
сознанию, так и способ научного объяснения объективной
действительности.
Если Декарт и в особенности Кант полагали, что нельзя
постичь никакой вещи без того, чтобы сначала не почувствовать себя
в акте постижения, то есть без наличия необходимой уверенности
субъекта в самом себе, то Мерло-Понти идет дальше, полагая
субъект абсолютным источником «опыта мира».
Экзистенциализм и феноменология, точнее, экзистенциальная
феноменология потратила немало усилий на то, чтобы установить
родство с великими поэтами, писателями, художниками: Гёльдерли-
ном, Рильке, Сезанном, Ван Гогом и другими мастерами культуры.
Конечно, у всех этих художников можно найти мотивы, близкие
экзистенциализму и экзистенциальной феноменологии, но столь же
176
ясно, что нельзя свести все богатство, широту и глубину их
творчества к этим мотивам.
Если Хайдеггер попытался дать экзистенциалистское
истолкование творчеству Гёльдерлина, Рильке, Ван Гога, то Мерло-Понти
попытался дать экзистенциалистско-феноменологическое
истолкование творчеству Сезанна, чтобы, с одной стороны, обосновать
«естественность» собственной философии, как бы венчающей
развитие современной философии и культуры, с другой — показать
плодотворность и эффективность применения феноменологии
к анализу художественных явлений.
Выбор творчества Сезанна для анализа во многих отношениях
является удачным: гениальный художник совершил в живописи
настоящую революцию. Его живопись положила начало новому
видению мира, новой эстетической концепции. Именно этим
объясняется неослабевающий и по сей день интерес к его творчеству
и его мыслям об искусстве.
Творчество Сезанна оказало огромное влияние на Рильке, на
формирование его взглядов и художественного вкуса. В одном из
«Писем о Сезанне» он писал, что в момент работы над
«Часословом» «природа была для меня еще общим поводом, побуждением
к работе, инструментом, на струны которого легли мои руки; я еще
не умел ее видеть...» 22.
Встречи с произведениями Сезанна произвели настоящий
переворот во взглядах Рильке. Сам Рильке писал об этом так: «Трудно
было сказать, насколько явно во мне уже осуществилась та
перемена, которая соответствует великой новизне живописи Сезанна» 23.
Самое интересное состоит в том, что, как признался Рильке
однажды, когда писал о Сезанне, «я, в сущности, говорил о себе самом» 24.
Как бы там ни было, живопись Сезанна, отражавшая и
утверждавшая природу, вещи, действительность, приведет к тому, что
Рильке признает вещь высшим принципом искусства и эстетики.
Благодаря Рильке, эта концепция «вещи-искусства» или «искусства-
вещи» будет воспринята и развита Хайдеггером, а от него уже будет
воспринята Мерло-Понти, который попытается показать близость
живописи Сезанна и своей философии.
Мерло-Понти написал специальный очерк о Сезанне —
«Сомнения Сезанна» 25. Почему «сомнения»? Потому ли, что
«сомнения» выражают суть творчества любого выдающегося художника,
являясь источником всех его побед и поражений, мучительного
одиночества и мирового признания, или потому, что «сомнения» —
своеобразная метафизика творчества, позволяющая не только
осознавать пройденный путь, но и набрасывать контуры дальнейшего
движения? Или «сомнения» — единственная и непревзойденная
школа самосознания, самовыражения и утверждения себя в мире
и мира в себе?
Во всяком случае, ясно лишь то, что «сомнения» — это не
«сомнения» скептиков античности и не «методическое» сомнение Де-
177
карта. «Сомнения» в понимании современных буржуазных
философов — неизбежный удел человеческой личности, втянутой в бурный
водоворот событий, удел личности мыслящей и творческой.
И хотя Мерло-Понти в отличие, скажем, от Сартра довольно
скептически относится к психоанализу и его «достижениям», тем не
менее, может быть в силу традиций современной западной
философии, он считает художественное творчество результатом
болезненного, патологического состояния человека, следствием
глубокого душевного расстройства.
Мерло-Понти отмечает, что живопись была миром и способом
существования Сезанна, хотя он всю жизнь работал один, без
учеников, без восхищения со стороны семьи, без поощрений жюри.
Он пишет даже тогда, когда умирает его мать. И тем не менее на
протяжении всей своей жизни Сезанн не переставал сомневаться
в:своем призвании, в своей живописи и даже в своей жизни. Правда,
этому в немалой степени способствовали непонимание и глупость
его современников. «Живопись пьяного ассенизатора» — так
характеризовал один критик живопись Сезанна в 1905 году. И даже
Золя, друг его детства, больше внимания обращал на характер, чем
на смысл его живописи.
Отмечая его робость, подозрительность, обидчивость, гнев
и депрессии, Мерло-Понти связывает все эти черты характера
Сезанна с психическим расстройством, с болезнью. «Эта утеря гибкого
контакта с людьми, эта беспомощность в овладении новыми
ситуациями, это бегство в привычки, в среду, которая не ставила
проблем, эта непреклонная оппозиция теории и практики, стремления
властвовать (du grappin) и одинокой свободы — все эти симптомы
позволяют говорить о болезненной конституции и, например, как
это имело место у Греко, о шизоидности. Идея живописи «с
натуры» (sur nature) пришла к Сезанну из того же самого бессилия.
Его чрезвычайное внимание к природе, к цвету, нечеловеческий
(inhumain) характер его живописи (он говорил, что лицо следует
писать как объект), его благоговение перед вещным миром были
только бегством от человеческого мира, отчуждением его
человечности» 26.
Из этого видно, что Мерло-Понти, ограничивая свой анализ
личностью Сезанна и его близкими, вынужден выводить специфику
его творчества и то, что объединяет Сезанна с великими
художниками современного мира, не из социальных отношений данной
эпохи, не из широкого социального контекста, а из его
психологической конституции и даже больше — из его шизофрении.
Известно, что творчество — процесс, требующий необычайной
концентрации всех человеческих физических и духовных сил.
Будучи высшим проявлением человечности, человеческих сущностных
сил, творчество требует сосредоточенности и ограничения, отказа
от многого во имя достижения главной цели. Если принять во
внимание ту среду, в которой жил и работал Сезанн и многие дру-
178
гие художники его времени, то можно увидеть, что эта среда ярко
и выпукло демонстрировала враждебный характер
капиталистического общества художественному творчеству и творчеству вообще.
В этих условиях становится вполне понятным и объяснимым
бегство художников от враждебной искусству и человеку
действительности. Производство и воспроизводство отчужденных отношений,
враждебных человеку и творчеству,— вот чем прежде всего
объясняется отчужденность художников и их бегство от
действительности и даже распространенность их психических аномалий
в их среде, а не наоборот, как представляет Мерло-Понти, повторяя
ходячий тезис психоанализа о том, что источником подлинного
творчества может быть только психическое расстройство,
психическое заболевание. Правда, Мерло-Понти, не желая отождествлять
свою позицию с позицией психоаналитиков, оговаривает, что эти
«догадки» не дают позитивного смысла произведению и что вообще
«смысл его произведения не может определяться его жизнью» 27,
тем не менее эти оговорки можно понимать не только как попытку
разграничить произведения и жизнь художника, но и как отказ от
того, что основой творчества является все-таки жизнь.
Специфику живописи Сезанна Мерло-Понти пытается
установить на сравнении ее с работами импрессионистов. Так, по его
мнению, первые картины Сезанна («Похищение», «Убийство»)
исходят из чувств и хотят вызвать прежде всего чувства. Они
написаны большими мазками и представляют скорее моральную
физиономию жестов, чем их видимый аспект. Именно благодаря
импрессионистам, и в частности Писсаро, Сезанн должен был представить
себе живопись не как воплощение воображаемых сцен, проекцию
мечты, а как точный этюд видимостей, сделанный не в мастерской,
а с натуры. Импрессионизм представлял предметы в атмосфере, где
они дают мгновенное восприятие, без абсолютных контуров,
предметы, связанные между собой благодаря свету и воздуху. Но
живопись атмосферы и разложение тонов растворяют объект и
заставляют исчезнуть субъект. Поэтому-то Сезанн быстро отходит от
импрессионистов. Палитра Сезанна заставляет предположить, что он
задается другой целью: ее составляют не семь цветов, а
восемнадцать: шесть красных, пять желтых, три голубых, три зеленых, один
черный. Использование теплых цветов и черного цвета показывает,
что Сезанн хочет представить объект, вновь найти его за
атмосферой. Он также отказывается от разложения тона и заменяет его
градуированными смешениями, развертыванием хроматических
нюансов на объект, расцвеченной модуляцией, которая следует за
формой и воспринимаемым цветом. Уничтожение ясных контуров
в некоторых случаях, приоритет цвета над рисунком, очевидно,
имеют не один и тот же смысл у Сезанна и импрессионистов. Объект
не покрыт больше отблесками, потерянный в его отношениях с
воздухом и с другими объектами, он как бы озарен изнутри, от него
исходит свет, и он вызывает впечатление солидности и материаль-
179
ности. Сезанн не отказывается от создания впечатления
вибрирования теплых цветов, но он достигает этого благодаря применению
голубого цвета.
Следовательно, можно сказать, что он хочет вернуться к
объекту, не покидая эстетики импрессионизма, пользующейся моделью
природы. Однако, как говорил сам Сезанн, если классики создавали
картину, то он пытается создать кусок природы. Он постоянно
подчеркивал, что хотел бы создать более солидную вещь, чем музейное
искусство.
В связи с этим Мерло-Понти замечает, что живопись Сезанна
была парадоксом: отыскивать реальность, не покидая ощущения, не
принимая никакого другого руководителя, кроме природы в
непосредственном впечатлении, не обводя контуры, не обрамляя цвет
рисунком, не компонуя ни перспективу, ни картину. Именно это
Бернар назвал «самоубийством Сезанна», поскольку художник
«видел реальность и запрещал средства ее достижения». Здесь кроется
причина трудностей и деформаций, которые можно обнаружить
в его произведениях в период между 1870 и 1890 годами (тарелки
и чашки, поставленные в профиль на столе, должны быть
эллипсами, но вершины эллипса утолщенные и расширенные; рабочий стол
в портрете Густава Жеффроя растягивается вниз картины, вопреки
законам перспективы). Покидая рисунок, Сезанн предается хаосу
ощущений, он погрузил «живопись в невежество и ум свой во мрак»,
скажет Эмиль Бернар.
Из этого Мерло-Понти сделает вывод, что Сезанн старался
избегать всех альтернатив, которые ему предлагались: «Фактов
чувства или разума, амплуа живописца, который видит, и живописца,
который мыслит, природы и композиции, примитивизма и
традиции» 28. Он просто пытался соединить природу и искусство, сделает
вывод Мерло-Понти. Да, просто соединить природу, искусство, если
бы это «просто» было так просто! Но ведь это, как известно, самая
трудная вещь на свете.
Верно, что Сезанн больше любил писать, чем рассуждать о
таких категориях, как «чувственность», «ощущение», «разум»
и т. д. Вместо того чтобы объяснять дихотомии, он предпочитал
прислушиваться к смыслу своей живописи. «Сезанн не верил в то,
что он должен выбирать между ощущением и мыслью, как между
хаосом и порядком... Он проводил разрез не между «чувствами»
и «разумом», а между стихийным порядком воспринимаемых вещей
и человеческим порядком идей и наук... Именно этот
первоначальный мир Сезанн хотел писать, и вот почему его картины дают
впечатление изначальной природы, в то время как фотографии тех же
самых пейзажей подсказывают работы людей, их удобства, их
неизбежное присутствие. Сезанн никогда не хотел «писать как
дикарь» (peindre comme une brute), но стремился сближать разум,
идеи, науки, перспективу, традицию с естественным миром, который
они обязаны понимать, сопоставлять с природой, как он говорит,
180
науки, «которые вышли из нее». Исследования Сезанна в области
перспективы — это то, что должна формулировать новая
психология. Пережитая перспектива, перспектива нашего восприятия, не
является геометрической или фотографической перспективой:
в перспективе ближайшие объекты кажутся более маленькими,
а объекты удаленные — более крупными...» 29. Отсюда ясно, что
Мерло-Понти пытается дать такую интерпретацию живописи
Сезанна, которая бы соответствовала основным идеям «новой
психологии», то есть экзистенциальной феноменологии, и составляла бы,
если не фундамент, то по крайней мере арматуру, конструкцию, на
которой или из которой можно было бы возводить все сооружение,
все здание этой философии.
Уже здесь проскальзывают мотивы
экзистенциально-феноменологической интерпретации и адаптации живописи Сезанна: ему
вменяется особый интерес к «изначальной природе», к «стихийно
воспринимаемому порядку вещей» и соотнесение его с
человеческим порядком идей и наук, то есть известное противопоставление
природы и культуры и связанная с этим идея возвращения к
изначальной или первозданной природе.
Сезанн действительно писал природу и на природе. Он на
самом деле любил природу и почитал ее величайшим и
непревзойденным учителем художников всех времен, но это вовсе не
означает, что он ставил целью своей живописи возвращение к
первозданной природе. Скорее, можно предположить обратное: без устали
изучая природу, законы ее развития, законы ее постижения,
отражения и выражения, Сезанн пытался очеловечить природу и
вернуть гуманистический смысл и природе и человеку. Его пугала
перспектива варварского целенаправленного разрушения природы,
но он уже не только чувствовал и ощущал, но наглядно видел
происходящий у него на глазах процесс разрушения человека и
человеческого, величайших ценностей человеческой культуры. Речь,
следовательно, должна идти не о противопоставлении природы и
культуры в творчестве этого великого художника и о попытках их
соединения, а о преодолении средствами искусства того всеобщего
отчуждения человека, которое достаточно явственно проявлялось
и давало себя знать во всех сферах еще до появления Сезанна.
Да, Сезанн больше любил писать картины, чем рассуждать
о философии. Но из этого нельзя делать те выводы, которыми часто
пробавляются современные философы. Во-первых, нельзя полагать,
как это, например, делает Дюфренн,· что Сезанн был
революционером в искусстве и консерватором в политике. Подобное совершенно
несостоятельно хотя бы потому, что для художника мировоззрение
не что-то отвлеченное и абстрактное, а именно то, что преломляется
в его мировосприятии и мироощущении. Видимо, следует прежде
всего видеть противоречия не между мировоззрением и
художественным творчеством, а противоречия в самом мировоззрении
художника, которые непременно оставляют следы, накладывают со-
181
ответствующий отпечаток на художественное творчество, придавая
ему тот или другой оттенок и колорит. Все это было прекрасно
показано исследованиями Энгельса (творчества Бальзака) и Ленина
(творчества Л. Толстого), и здесь нет нужды повторять их яркую
и глубокую аргументацию.
Рассматривая проблему соотношения рисунка и цвета у
Сезанна, Мерло-Понти дает следующие объяснения позиции Сезанна:
если не обозначать никакого контура, то это означало бы отрицание
тождества объектов, а если обозначить только один, то это значит
пожертвовать глубиной, то есть измерением, которое дает нам вещь
не как выставленная перед нами, а как неисчерпаемая реальность;
вот почему Сезанн будет следовать в цветной модуляции
утолщению объекта и отмечать в голубых линиях несколько контуров:
взгляд, переходящий от одного к другому, схватывает контур,
возникающий между ними всеми, как это и происходит в
восприятии. Следовательно, делает первый вывод Мерло-Понти, вывод,
с которым, кстати, можно вполне согласиться: «...рисунок должен
происходить из цвета» 30.
Да и сам Сезанн писал о том, что рисунок и цвет больше не
различаются, а когда цвет насыщается, то форма приходит к своей
завершенности. Именно тогда и в этом смысле рисунок и цвет не
различаются. Однако все эти правильные рассуждения
Мерло-Понти использует затем для того, чтобы из них сделать совершенно
неожиданные с точки зрения логики выводы. Воспринимаемая
вещь — это пережитая вещь, которая не находится вновь и не
конструируется, а как бы предлагает себя сразу как некий центр, из
которого сияют и проистекают те чувства, которые возникают
у человека при восприятии данной вещи. «Мы видим глубину,
бархатистость, мягкость, твердость объектов,— Сезанн даже говорил:
их аромат. Если художник хочет выражать мир, то нужно, чтобы
аранжировка цветов вписывала в него это все видимое; иначе
говоря, его живопись будет намеком на вещи... Выражение того, что
существует,— бесконечная задача» 31. Вот, оказывается, в чем суть
живописи Сезанна и живописи вообще: быть намеком вещей,
выражать, а не отражать существующее.
Может быть, современная абстрактная живопись является
«намеком на вещи», но говорить это в связи с живописью Сезанна по
крайней мере неуместно.
Скорее, наоборот, Сезанна не раз упрекали в том, что его
живопись слишком «вещественна», слишком точно воспроизводит
«вещи», природу, действительность. В этом смысле Рильке гораздо
глубже и вернее понял суть живописи Сезанна, подчеркивая ее
«вещный» характер, связь искусства с природой, с реальностью.
Что касается выражения, то выражение того, что
действительно существует,— на самом деле бесконечная задача. Только при
этом выражение нельзя отрывать от отражения: искусство, отражая
объективный мир, выражает те или иные его аспекты, вкладывая
182
в отраженную специфически художественными средствами
реальность определенный смысл и значение, имеющие прежде всего
конкретный общественно-исторический характер. При этом,
конечно, художник не просто механически воспроизводит
действительность (в таком случае художник просто не нужен), а изучая и
исследуя ее, обобщая художественную практику своего времени, свои
собственные наблюдения, поиски, эксперименты, творчески
усваивая накопленный художественный опыт, художник создает новые
художественные ценности, обогащающие художественную культуру
человечества. Не случайно Сезанн так исступленно и скрупулезно
изучал природу, «вещи» и явления реальной жизни — именно
в этом он видел неиссякаемый источник для своего творчества
и художественного творчества вообще.
Следовательно, Сезанн стремился не к тому, чтобы создавать
некие «намеки на веши», а такие произведения искусства, которые
бы постигали «тайну» вещей, их скрытый смысл, их значимость для
человека и человечества. Естественно, его живопись была столь же
далека от натурализма, как и от формализма.
Мерло-Понти постоянно подчеркивает, что живопись его лишь
выражение, а не изображение. «Искусство не является ни
имитацией, ни, кроме того, производством следующего голосу инстинкта
или хорошего вкуса. Это операция выражения... Как слово не
похоже на то, что оно обозначает, так живопись не есть
изображено _ „
ние» . Да, искусство действительно не является просто и только
имитацией или производством, но, чтобы выражать, оно должно
прежде всего отражать и изображать. Подлинное произведение
искусства всегда есть определенное единство выражения и
изображения, благодаря которому художественное произведение
отражает действительность. Пожалуй, нельзя найти ни одного
произведения живописи за всю историю искусства, в котором бы функция
выражения существовала сама по себе, без или вне функции
изображения. Картины Гойи, Веласкеса, Пуссена, Сурикова, Репина
и т. д. отражают реальный мир через изображение его отдельных
сторон, явлений, событий, выражая идеи, чувства и стремления
своего времени.
Мерло-Понти стремится подчеркнуть величие и гениальность
Сезанна даже по сравнению с художниками, признанными во всем
мире. В свое время Леонардо да Винчи сделал своим девизом то,
о чем говорили классические поэтические искусства: произведение
трудно. Трудности Сезанна, как и трудности Бальзака или
Малларме, разной природы. Бальзак создает художника (несомненно, под
влиянием Делакруа), который хочет выразить саму жизнь
посредством одних цветовых соотношений и сохранить тайну создания
своего шедевра. Когда Френхофер умирает, то его друзья находят
лишь цветовой хаос, неуловимые линии, бесформенную живопись.
Сезанн был растроган до слез, когда, читал «Неведомый шедевр»,
и заявил, что он был самим Френхофером.
183
Творчество Бальзака помогает понять творчество Сезанна, ибо
они во многом были созвучны. В «Шагреневой коже» Бальзак писал
о «мысли выражения» (pensée à exprimer), о «системе строить»
(système à édifier), о «науке выражать» (science à expliquer). В связи
с этим Мерло-Понти полагает, что недостаточно сказать, что
Бальзак предложил понимание общества своего времени, что надо
принимать во внимание его вопрошание о том, куда все это идет, чего
хочет Европа и т. д. Но ведь это само собой разумеется при
конкретно-историческом и диалектическом подходе к отражению
действительности. Ведь не случайно же Ф. Энгельс дал такую высокую
оценку творчеству этого великого писателя: «Здесь содержится
история Франции с 1815 до 1848 г. в гораздо большей степени, чем
у всех Волабелей, Капфигов, Луи Бланов и tutti quanti. И какая
смелость! Какая революционная диалектика в его поэтическом
правосудии!» 33. Именно «революционная диалектика в его
поэтическом правосудии», у писателя, отличающегося «глубоким
пониманием реальных отношений» 34. В этих словах Энгельса заключен
глубочайший смысл: постижение истории нерасторжимо связано
с «глубоким пониманием реальных отношений», а постижение
реально существующих отношений предполагает глубокое
проникновение в смысл истории. Но при этом художественное отражение
и постижение действительности отличается от собственно научного
именно своей «поэтичностью», «поэтическим правосудием».
Следовательно, художественное творчество можно назвать «поэтической
наукой», «поэтическим правосудием», позволяющим столь же
глубоко и всесторонне познавать законы истории, логику истории,
законы общественного развития, «революционную диалектику в
поэтическом правосудии», как наука и философия.
Для Мерло-Понти смысл искусства состоит совершенно в
другом. Из сравнения Бальзака и Сезанна он делает следующий вывод:
«Художник есть тот, кто фиксирует и делает доступным самым
«человечным» из людей спектакль, часть которого они составляют,
не видя его» 35. Здесь действительно лишь намек на понимание того,
что представляло собой творчество Бальзака и Сезанна и для
современников и для всех последующих поколений. Мерло-Понти
проходит мимо главного, чем отличалось творчество Бальзака,—
мимо «революционной диалектики в его поэтическом правосудии»,
в связи с чем приводимые им выражения великого художника
о «мысли выражения», «системе строить», «науке выражать»
лишаются конкретно-исторического смысла и содержания. Весь пафос,
глубину и значимость творчества Бальзака Мерло-Понти
направляет на то, чтобы доказать, что выражение не есть отражение и
изображение.
Правда, с этим он связывает свою мысль о том, что нет
искусства развлекательного.
Конечно, можно производить объекты, приносящие
удовольствие, которые, как правило, представляют уже готовые идеи
184
и уже виденные формы, но такого рода живопись будет чем-то
вторичным, тем, что понимают благодаря культуре.
«Художник, согласно Бальзаку или Сезанну, не довольствуется
тем, чтобы быть культурным животным, после своего дебюта он
берет на себя культуру и основывает ее заново, он говорит так, как
говорил первый человек, и пишет так, как если бы никто и никогда
не писал. Выражение тогда не может быть переводом уже ясной
мысли, поскольку ясные мысли являются таковыми тогда, когда
они уже были сказаны в нас самих или другими. «Концепция» не
может предшествовать «исполнению» 36,— пишет Мерло-Понти. По
существу, это высказывание выражает одну из основных идей
экзистенциализма и феноменологии: идею о противопоставлении
природы и культуры, традиции и новаторства, истории и теории,
«концепции» и «исполнения». Рассмотрим это подробнее.
Мерло-Понти сам отмечает, что живопись Сезанна не отрицает
ни науку, ни традицию. В Париже Сезанн каждый день ходил
в Лувр, чтобы поучиться у классиков живописи и рисунку. Хорошо
известно также, что он каждый день ходил на «мотив», внимательно
изучая природу, считая ее лучшим учителем и наставником.
Следовательно, можно сделать вывод, что Сезанн не пренебрегал и не
недооценивал ни предшествующей художественной культуры, ни
природы и не противопоставлял их друг другу. Напротив, одно
дополняло другое: штудирование истории, живописи помогало
изучать природу, постигать ее тайны и отражать ее наиболее полно
и всесторонне, как и изучение природы помогало понять творчество
классиков живописи, овладевать таинством их творчества,
богатством их палитры, видения и т. д. В таком случае противопоставление
культуры и творчества, как это делает Мерло-Понти,
несостоятельно: новое рождается из овладения предшествующей культурой
и познания современной действительности и культуры.
Любой человек, любой художник — продукт своей эпохи,
продукт определенных общественных отношений, определенной
культуры и т. д., следовательно, изначально каждый включен в традицию,
живет и формируется под воздействием определенной культуры.
В этом смысле любой художник является «культурным животным»,
и каков бы ни был его дебют, этот дебют всегда будет известным
результатом усвоения предшествующей культуры, результатом
овладения традицией, и как таковой, дебют лишь вследствие этого
может нести в себе зародыш новой культуры и новых
художественных ценностей. Даже тогда, когда художник говорит и пишет так,
как, кажется, до него никто не говорил и не писал, даже в таких
случаях его творчество не есть что-то абсолютно новое и
невиданное до него, а, напротив, такое овладение предшествующей
культурой, которое только и позволяет как бы прерывать привычный ход
эволюции и осуществить качественный скачок — создать такие
произведения, такую живопись, которая, по существу, равнозначна
революции в искусстве, как это мы имеем в случае с живописью
185
Сезанна. И то, что было сказано до него, и в нем самом получает
иной смысл, иное значение, другой, несравненно высокий уровень.
И говорить здесь нужно, пожалуй, не о том, что «концепция» не
может предшествовать «исполнению» и наоборот, а о том, каким
образом размышления художника способствуют выработке
соответствующих средств выражения, и как работа над «техникой»
порождает новые идеи, новые замыслы, и вообще как происходит
сложный творческий процесс, как осуществляется «реализация»
замыслов художника.
Жизнь — вот из чего исходит подлинный художник и вот
к чему он постоянно апеллирует и возвращается. А у Мерло-Понти
художник во всех случаях «возвращается к идее или проекту
бесконечного Логоса» 37, а апеллирует «к разуму, который охватывает
свои собственные начала» 38.
Разумеется, смысла того, что хочет сказать художник, нет ни
в чем, что еще не обладает смыслом. Но из этого вовсе не следует,
что смысл, вкладываемый художником в свое произведение, в то,
что оно отражает, является субъективным; субъективность
художника только тогда и становится настоящей субъективностью, когда
художник отказывается от анархии и произвола и, постигая
объективные законы развития природы, общества, мышления, выражает
их через свое личностное отношение к действительности,
субъективное тогда является концентрированным выражением
объективного, его постижения, познания законов его развития.
Основой, обусловливающей диалектическое взаимодействие
и взаимосвязь субъекта и объекта, субъективного и объективного,
материального и идеального, является общественная материально-
производственная практика людей, отливающаяся через обобщение
многообразного человеческого опыта в определенную
категориальную систему, теорию. В этом смысле, безусловно, живописец,
художник, как и философ, должны не только вырабатывать идеи, но
и пробуждать соответствующий опыт в сознании других людей,
чтобы эти идеи пали на подготовленную почву и дали благотворные
всходы. Отсюда видно, что субъективность художника или
мыслителя объективна не только по своему источнику, происхождению,
но и по тому, что она всегда ориентирована на других, обращена
к другим людям, к их субъективности, к их личности.
Но Мерло-Понти пытался преодолеть противоположность
субъекта — объекта посредством категории «человеческое тело»,
с самого начала обрекая себя на неудачу, поскольку противоречие
на этом пути не могло быть преодолено: преодоление
противоположности субъекта — объекта лежит на пути общественной
материально-производственной практики, которая связывает субъект
с объектом, выявляет их взаимоотношения и взаимовлияние,
раскрывает диалектику субъективного и объективного. Перенесение
же этого противоречия внутрь человека, в «человеческое тело» лишь
отодвигает решение этого противоречия и закрывает пути его прео-
186
доления, поскольку снимает или исключает проблему практики как
субстанции человеческого существования, основы человеческого
познания, критерия истины.
Становится понятным, почему Мерло-Понти, стремясь
избежать субъективизма в истолковании творчества Сезанна, пытается
объяснить характер и специфику его творчества не характером
художника, а его произведением. «Неуверенность и одиночество
Сезанна объясняются, по существу, не его нервной конституцией,
а замыслом его произведения» 39. Ну а откуда появляется замысел
произведения? Не есть ли это нечто внутреннее и субъективное,
принадлежащее художнику изначально? Или, напротив, художник
выражает лишь то, что приходит к нему извне? Мерло-Понти дает
довольно любопытный ответ на эти вопросы. По его мнению,
«наследства» и «влияния» случайны для Сезанна, хотя и являются
«текстом», данным ему природой и историей, но придают
произведениям художника лишь буквальный смысл. А вот творения
художника, как свободные решения человека, предписывают этому
данному фигуральный смысл, который до них не существовал.
А если нам кажется, что жизнь Сезанна несет в зародыше его
произведение, то это потому, что мы сначала познаем произведение
и через него — условия жизни, вкладывая в нее смысл, который мы
заимствуем у произведения. «Достоверно, что жизнь не объясняет
произведения, но также достоверно, что они взаимодействуют друг
с другом. Истина состоит в том, что это произведение требует этой
жизни» 40. Мерло-Понти аргументирует это тем, что Сезанн вначале
жил, а творчество было лишь в проекте, поэтому здесь нет
причинно-следственных отношений. Но откуда берется то, что
отражает и выражает произведение? Философ полагает, что смысл,
который Сезанн придал вещам и лицам в своих картинах, предлагался
ему в представшем ему мире: эти вещи и лица были такими, какими
он хотел их видеть, и Сезанн говорил только то, что хотели сказать
они. Но где же тогда свобода? — вопрошает Мерло-Понти. «Две
вещи бесспорны относительно свободы: это то, что мы никогда не
являемся детерминированными и что мы никогда не изменяем
ничего иначе, чем ретроспективно, мы можем всегда найти в нашем
прошлом извещение о том, чем мы стали» 4|. Дело в том, что,
несмотря на отрицательное отношение к «достижениям»
психоанализа 42, Мерло-Понти считает, что, если психоанализ и не дает, как
наука, знания необходимых отношений причины и следствия, он
указывает нам на отношение мотиваций. «Рождение и прошлое
определяют для каждой жизни категории или фундаментальные
измерения, которые не предписывают никакой акт в частности, но
которые прочитываются или находятся во всех» 43. Словом, как бы
то ни было, философ следует здесь за психоаналитиками: рождение
и прошлое определяют последующую жизнь человека. Да и сам
Мерло-Понти подтверждает свои симпатии психоанализу:
«Герменевтическое мечтание психоанализа, которое умножает коммуника-
187
ции от нас к нам самим, делает сексуальность символом
существования и существование символом сексуальности, ищет смысл
будущего в прошлом и смысл прошлого — в будущем лучше, чем
строгая индукция, приспособлено к циркулирующему движению
нашей жизни, будущее которой опирается на прошлое, а прошлое
опирается на будущее, и где все символизирует все. Психоанализ не
делает невозможной свободу, он учит нас воспринимать ее
конкретно, как творческое повторение нас самих» 44. Неудивительно, что
в истолковании творчества Сезанна Мерло-Понти объединяет
элементы феноменологии, экзистенциализма и психоанализа. Может
быть, вполне естественным представляется для этой позиции
заключительный вывод Мерло-Понти о творчестве Сезанна: «Вот
почему он (Сезанн.— К, Д.) вопрошал картину, которая рождалась
в его руках, он поджидал взгляды других, брошенные на его холст.
Вот почему он никогда не переставал работать. Мы никогда не
покидаем нашу жизнь. Мы никогда не видим лицом к лицу ни идею,
ни свободу» 45.
М. Мерло-Понти большое внимание уделяет взаимоотношению
литературы и философии. Этот интерес вполне объясним, если
учесть характер феноменологической философии вообще и в
особенности ее разновидности — французской феноменологии,
которой Мерло-Понти придал антропологическо-аксиологический
смысл, связанный с ярко выраженным интересом к истории,
социальности, свободе, участию индивида в свободе других, к
политике и культуре вообще.
В статье «Эйнштейн и кризис разума» 46 Мерло-Понти,
рассказывая о встрече Эйнштейна с Бергсоном и об их споре о теории
относительности, приходит к выводу, что иррационалист Бергсон
«шел навстречу классицизму Эйнштейна», поскольку Бергсон
высказал глубокую идею: рациональность должна быть основана заново
не на божественном праве догматической науки, а на донаучной
очевидности. Отрицательный ответ Эйнштейна на вопрос о тождестве
физического и философского времени, по мнению Мерло-Понти,
«ставит нас перед лицом кризиса разума».
Чтобы избежать этого «кризиса разума», Мерло-Понти
предлагает вернуться к донаучной философии.
Так, у Мерло-Понти мы видим редукцию к мифу, к
первоначальным истокам восприятия, языка, мышления, причем философия
подменяется нетрадиционно понятыми искусством и эстетикой, во
всяком случае, весьма сближается с ними. «Философия именно как
«Бытие, говорящее в нас», выражение немого опыта через себя
есть творчество»4'. При этом само бытие рассматривается как то,
что требует от нас творчества. Например, анализ литературы
понимается как «запись Бытия».
Рассматривая историю литературы, Мерло-Понти замечает,
что произведение любого великого романиста связано с двумя-
тремя философскими идеями: Я и Свобода у Стендаля, тайна исто-
188
рии как явление смысла социальных движений у Бальзака,
схватывание прошлого в настоящем и настоящее утраченного времени
у Пруста. Однако функцию писателя Мерло-Понти видит не в
развитии философских идей, а в том, чтобы делать их существование
подобным существованию вещей, то есть чтобы они предстали
перед человеком так же, как предстает перед ним вещный мир.
Писатели, по его мнению, всегда интересовались философией,
но характер этого интереса был различным и нередко довольно
курьезным: Стендаль расхваливал идеологов, Бальзак
компрометировал себя, формулируя свои взгляды на языке спиритизма,
а Пруст выражал свою интуицию времени в релятивистской и
скептической философии, приходящей в конечном счете к
имморализму, Валери дезавуирует философов, которые хотели
присоединиться к «Введению в метод Леонардо да Винчи».
Прошло очень много времени, пока между философией и
литературой установились не только чисто технические различия,
касающиеся способа выражения, но и различия объекта.
Только в XIX веке, согласно феноменологу, между
литературой и философией завязываются все более и более тесные
отношения, первым признаком которого явился гибридный способ
выражения — интимный дневник, философский трактат и диалог. Почему
же писатель, чтобы выражать свои мысли, отныне будет
обращаться к философии и политике?
Поскольку литература, философия и политика являются,
согласно Мерло-Понти, различными выражениями мира, то любой
человек, пытаясь установить определенную позицию по отношению
к миру, вынужден так или иначе обращаться к этим сферам. Что
касается писателя, то он в силу экспрессивного характера своей
рефлексии уже не мыслит свою позицию по отношению к миру вне
философских и политических измерений. На этом основании
Мерло-Понти полагает, что появление экзистенциалистской философии
во Франции было необходимым хотя бы уже для того, чтобы
«определить всю жизнь как скрытую метафизику и всю метафизику как
объяснение человеческой жизни» 48. В этом он видел историческую
необходимость и важность экзистенциалистской философии. «Она
есть осознание движения более старого, чем то осознание, смысл
которого она раскрывает и темп которого она ускоряет» 49.
Классическая метафизика, по мнению феноменолога, была
настолько специальной, что литературе здесь нечего было делать:
метафизика функционировала на фоне безусловного рационализма
и была убеждена в том, что сумеет понять мир и человеческую
жизнь благодаря своей категориальной (понятийной,
концептуальной) системе. Таким образом, в классической метафизике речь шла
не столько об установлении определенного отношения человека
с миром, сколько об интерпретации жизни и о рефлексии о ней.
Пристально рассматривая философские системы прошлого,
Мерло-Понти приходит к выводу, что философы всегда кончали
189
тем, чтобы представить себе собственное существование или как
нечто трансцендентное, или как момент диалектики, или в
понятиях, или так, как первобытные представляют и проецируют его себе
в мифах. «Метафизика наслаивалась в человеке в твердую
человеческую природу» °°.
Метафизика предстает перед его мысленным взором не как
авторизованная концептуальная конструкция, а как необходимый
и естественный результат развития самого человека — целостного
существа, где слиты воедино душа и тело, чувство и мысли, деяния
и вопрошание. Метафизика в понимании Мерло-Понти — это не
философская система, требующая для своего постижения
постоянного штудирования, а особая, уникальная структура —
субстанция человека, лежащая в основе его эволюции и пронизывающая
все его существование, его мысли, действия и поступки. Это
имманентно-антропологическая метафизика. В связи с этим и задачи
этой метафизики иные по сравнению с задачами метафизики
классической.
Отличие феноменологической или экзистенциальной
философии от всей предшествующей метафизики Мерло-Понти видит
прежде всего в том, что феноменология или экзистенциализм (или
экзистенциальная феноменология, феноменологический
экзистенциализм) ставит своей задачей не объяснить мир или открывать
в нем «условия возможности», а «формулировать» опыт мира,
контакт с миром, который предшествует любой мысли о мире. Отныне
метафизика человека не может больше ссылаться ни на что вне
своего эмпирического бытия — на Бога, на Сознание,— именно
в самом его бытии, в его любви, в его ненависти, в его
индивидуальной или коллективной истории человек является метафизическим,
и метафизика не является больше, как сказал Декарт, делом
нескольких часов в месяц; она предстает, как мыслил Паскаль, в
биении нашего сердца. С этого момента задача литературы и задача
философии совпадают: речь идет о том, чтобы заставить
высказаться опыт мира и показать, как сознание скрывается в мире. Иначе
говоря, философское выражение берет на себя те же самые
смысловые планы, что и литературное, поскольку мир создан таким
образом, что его постижение успешнее достигается не в
абстрактных структурах, а в «историях». В то же время роман или театр
становятся насквозь метафизическими, даже если они не
используют ни одного слова из философского словаря. Метафизическая
литература будет необходимо в определенном смысле литературой
аморальной. Ибо больше нет человеческой природы, на которой
можно было бы успокоиться. В каждом из образов действий
человека нашествие метафизики взрывает то, что было лишь «старым
обычаем». Развитие литературной метафизики — конец литературы
«моральной», вот то, что означает, например, роман «Приглашение»
Симоны де Бовуар 51.
Мерло-Понти детально анализирует этот роман. Несмотря на
190
то, что он стремится обосновать идеи «новой психологии», это не
значит, что все можно и нужно объяснять психологически. Драму
«Приглашение» можно изложить в психологических понятиях:
Ксавье — кокетство, Пьер — желание, Франсуаз — ревность. И это
не было бы ошибкой, но это было бы поверхностным
истолкованием. «Драма,— подчеркивает феноменолог,— является не
психологической, она — метафизическая» 52. Метафизическая не в смысле
классической метафизики,, а в смысле метафизики современной,
точнее, в смысле феноменологической и экзистенциалистской
философии как установление и определение отношения человека к
миру и другим. Новая метафизика перемещает акцент рассмотрения
и сознания с мира, жизни и действительности на человеческое Я,
которое отныне становится центром мира. Вот здесь-то и
начинается коллизия новой метафизики: Я как центр мира требует и
предопределяет его психологическое рассмотрение и истолкование,
в то же время попытка установить и определить отношение Я с
миром и с другими требует не психологического, а логического,
гносеологического, «метафизического» подхода.
Однако метафизика, в понимании Мерло-Понти и в отличие от
классической, является изначально «двусмысленной», как и сама
действительность, жизнь. «Определенно вся жизнь является
двусмысленной, и нет никакого средства узнать подлинный смысл того,
что происходит, может быть, даже не имеется подлинного смысла
наших действий» 53. Но если так, то теряет смысл любая
человеческая деятельность и все человеческие ценности: свобода, мораль,
красота и т. д. «Верно, что мы пребываем свободными принять или
отвергнуть жизнь; принимая ее, мы берем ситуации факта — наше
тело, наше лицо, наши способы бытия,— мы берем нашу
ответственность, мы подписываем контракт с миром и с людьми. Но эта
свобода, которая есть условие любой нравственности, закладывает
в то же самое время фундамент абсолютного имморализма,
поскольку она остается полной во мне, как и в других, после каждой
ошибки, и каждое мгновение делает из нас новые существа. Какое
поведение, какие отношения могли бы быть предпочтительней для
свободы? Настаивают ли на обусловленности нашего
существования или, наоборот, на абсолютной свободе,— нет внутренне
присущей и объективной ценности наших действий» 54. Итак, свобода
как основа нравственности закладывает фундамент абсолютного
имморализма. В чем здесь дело? Если свобода приводит к
абсолютному имморализму, то к чему такая свобода? И что это за
свобода, если она является основой абсолютного имморализма?
Дело в том, что феноменология Мерло-Понти, а точнее,
экзистенциалистская феноменология явилась основой всего
французского экзистенциализма и французской феноменологии. Несмотря
на определенные модификации, которые претерпел немецкий
экзистенциализм на французской почве, тем не менее отдельное,
изолированное существование остается в центре внимания. Посту-
191
лат об участии индивида в свободе других мало что меняет:
изолированное существование как исходная основа феноменологиче-
ско-экзистенциалистской метафизики определяет не только ее
субъективизм, но и утрату смысла существования. Сам Мерло-
Понти сказал об этом следующее: «Экзистенциализму в руках
французских писателей всегда угрожает опасность впасть в этот
«изолирующий» анализ, который раскалывает время на дискретные
мгновения, сводит жизнь к набору состояний сознания» 55. К этому
можно лишь добавить, что эта опасность вовсе не потенциальная,
а реальная: рассмотрение жизни и действительности как набора
состояний сознания изолированного существования — один из
самых существенных методологических моментов
экзистенциалистских концепций.
Неудавшиеся попытки осмыслить реальность и дать какое-то
решение теоретическим и практическим проблемам углубили
пессимизм и отчаяние экзистенциалистов и феноменологов:
«Несомненно, нет решения человеческих проблем, нет никакого средства
исключить трансценденцию, отделение сознаний... Весь
человеческий проект является противоречивым, поскольку он призывает
и отталкивает одновременно свою реализацию» 56. Одинокое,
изолированное, внеисторическое существование как исходная основа
феноменологическо-экзистенциалистских концепций закрывает
пути к реальному решению человеческих проблем. И хотя Мерло-
Понти не согласен, что «абсолютный имморализм есть последнее
слово "экзистенциальной" философии» 5/, тем не менее сам он,
будучи одним из основоположников французского
экзистенциализма и феноменологии, приходит к весьма неутешительному выводу:
«Подлинная мораль не состоит ни в следовании внешним правилам,
ни в почитании объективных ценностей: не имеется средства быть
справедливым (d'être juste) и быть спасенным (d'être sauvé)» 58.
Рассматривая проблему современного героя, Мерло-Понти
полагает, что в литературной жизни наблюдается возвращение к миру,
к действительности, что «героический герой» уже удаляется, а
против «героической» морали поднимаются протесты. Каков же этот
новый герой современности?
По мнению Мерло-Понти, «герой современников не есть ни
герой Гегеля, ни герой Ницше» . Действительно, современный
герой не может быть таковым. Ведь у Гегеля герой был лишь
механическим исполнителем воли Абсолютного Духа или Идеи: субъект
выступал послушным и пассивным орудием и средством
трансцендентных сил. Необходимость исключала свободу личности,
несмотря на постоянное подчеркивание Гегелем их диалектического
взаимоотношения. Концепция Ницше, будучи своеобразным антиподом
гегелевской философии, напротив, постулировала полный произвол
субъекта — «сверхчеловека», который должен был преобразовать
мир не в соответствии с объективными законами исторического
развития, а по своему желанию и усмотрению, соответственно
192
своим художественным взглядам, являющимся отрицанием законов
действительности и законов логики. Ясно, что современный герой,
переживший большие исторические события, не может быть ни тем
ни другим. «Герой современников не является ни скептиком, ни
дилетантом, ни декадентом» 60. Исторический опыт научил его
рассчитывать больше на самого себя, чем на игру трансцендентных сил
или на волю сверхчеловека. «Герой современников — это не
Люцифер, это даже не Прометей, это — человек»,— подчеркивает Мер-
ло-Понти 6|. Это не отрицательная сила, не мировое зло, но и не
воплощение добра, это просто обыкновенный человек со всеми его
достоинствами и недостатками.
Отношение феноменологии Мерло-Понти к современному
искусству достаточно ясно выступает и при рассмотрении проблем
современного кинематографа и «новой психологии».
Мерло-Понти и здесь прежде всего устанавливает коренные, на
его взгляд, различия между классической психологией и новой
психологией, между классической философией и философией
современной. Если классическая психология рассматривала наше
визуальное поле как сумму или мозаику ощущений, то новая
психология стремится отказаться от этого более чем ошибочного подхода.
Она представляет визуальное поле не как мозаику, а как систему
конфигураций. То, что является первичным и входит в наше
восприятие,— это не рядоположенные элементы, а ансамбли.
Восприятие ансамбля оказывается более естественным и простым, чем
восприятие изолированных элементов; «структура, ансамбль или
конфигурация должна быть рассматриваема как наш способ
спонтанной перцепции» 62. Таким образом, уже из этого видно, что
«новая психология», которую с таким упорством постулирует и
обосновывает Мерло-Понти, стремится найти более простой и в то же
время более обобщенный исходный элемент восприятия как форму
или средство установления контакта человека с миром. «Новая
психология» объявляет классическую психологию устаревшей на
том основании, что она сделала из восприятия подлинную
дешифровку реальности и осталась верной мозаике ощущений, в
результате чего восприятие носило разорванный, дискретный и
односторонний характер.
В противоположность классической психологии Мерло-Понти
выставляет тезис о том, что «феномен является целостным
общим» 63, что «восприятие не есть, стало быть, сумма визуальных,
тактильных, слуховых данных; я воспринимаю нераздельно от
моего общего бытия, я постигаю единую структуру вещи, единый
способ существования, который говорит сразу всем моим чувствам» 64.
В противоположность классической философии, подчеркивавшей
значение ощущений для познания сущностей, Мерло-Понти делает
исходной категорией своей философии, или «новой психологии»,
феномен, специфика которого состоит в его «нейтральности» по
отношению к субъекту и объекту, психическому и физическому,
7 К. М. Долгов
193
природе и сознанию и т. д. В связи с этим если в классической
философии главное внимание уделялось познанию объективного
мира, а основным средством этого познания было наряду с
ощущением, восприятием и представлением понятие, то Мерло-Понти
направляет свою философию на переживание того, что мы
воспринимаем, ибо это и есть, в его понимании, мир, мир пережитого
субъектом. Инструментом подобного «переживания» мира у него
выступает «человеческое тело» как некое единство сущности и
существования, субъекта и объекта, субъекта как проекции мира
и мира как проекции субъекта. Познание и соответствующий
логический, понятийный аппарат заменяется восприятием и
соответствующей физиологическо-психологической настроенностью,
направленностью на мир пережитого, на мир феноменов,
феноменологической интенциональностью. Новая психология или
экзистенциальная психология должна стремиться, согласно Мерло-Понти, не
к выявлению сущностей, а к тому, чтобы вскрывать смысл
воспринимаемого.
По существу, Мерло-Понти попытался осуществить
своеобразный синтез гештальпсихологии с бихевиоризмом при помощи по-
своему понятого феноменологического метода.
«Новую психологию» Мерло-Понти назвал «теорией формы», и,
видимо, не случайно, потому что он пытается с ее помощью
интерпретировать различные виды искусства, а не только собственно
философскую проблематику.
Остановимся кратко на том новом, что принесла с собою
«новая психология», или «теория формы», согласно Мерло-Понти.
«Решительно отрицая понятие ощущения, она учит нас не
различать больше знаки и их значения» 65. Отрицание ощущения,
как и его абсолютизация, уводит от разумного познания, ибо
лишается единственного источника, из которого и благодаря
которому осуществляется познание или застревает на эмпирической,
чувственной ступени, не доходя до теоретических обобщений, до
логической ступени, до познания сущности явлений. Что же
касается неразличения знака и значения, то хотя это и имеет
определенные основания, тем не менее все-таки всегда следует видеть
разницу между знаком и значением. Мерло-Понти постулирует
своеобразный философско-психологический априоризм: «Объекты и
освещение формируют систему, которая стремится к некоторому
постоянству, к некоторому стабильному уровню не благодаря
действию операции разума, а благодаря самой конфигурации поля. Когда
я воспринимаю, то не я мыслю о мире, а он организуется вокруг
меня» 6. Следовательно, не отражение действительности сознанием
человека, а восприятие субъекта есть способ организации мира. Это
положение Мерло-Понти заимствовал у Канта, очистив
предварительно кантовскую апперцепцию от элементов объективности,
диалектики и рационализма.
«Наконец,— продолжает Мерло-Понти,— новая психология
194
приносит также новую концепцию восприятия другого.
Классическая психология приняла без дискуссий различение внутреннего
наблюдения или интроспекции и внешнего наблюдения...
Современные психологи заметили, что интроспекция, в действительности,
мне почти ничего не дает» 67. Он прав, отрицая теорию
интроспекции, которая не только ничего не дает, но и, как показало развитие
науки, наносит большой вред. Что же касается новой концепции
восприятия, то она является ядром феноменологии Мерло-Понти
и французской феноменологии вообще и является теоретической
основой интерпретации явлений литературы и искусства: «Новая
психология позволяет нам видеть в человеке не рассудок, который
конструирует мир, а бытие, которое отбрасывалось... Благодаря
этому она переучивает нас видеть этот мир, с которым мы
находимся в контакте всей поверхностью нашего бытия, в то время как
классическая психология покинула пережитый мир ради того,
который успешно конструируется научным разумом» . Вот этот
тотальный контакт с миром осуществляется, согласно новой
психологии, через восприятие и посредством восприятия. В этом смысле
феноменологическая теория восприятия является теорией
восприятия каких угодно феноменов, в том числе й феноменов литературы
и искусства.
К фильму как объекту восприятия применимо все то, что
говорилось о восприятии вообще.
Прежде всего Мерло-Понти замечает, что фильм — не сумма
образов, а временная форма, и смысл образов фильма зависит от
предшествующего им смысла. Фильм справедливо рассматривается
им как чрезвычайно сложная форма со своей специфически
кинематографической метрикой, требования которой являются очень
точными и настоятельными, со своими законами, которые по
большей части угадывались вкусом и тактом постановщиков, владеющих
кинематографическим языком, как говорящий человек владеет
синтаксисом. И зрительный и звуковой фильмы представляют собой не
сумму образов или слов, а специфическую форму. Как визуальный
фильм не является для кино средством оригинальной экспрессии,
так и звук в кино не есть простая фонографическая репродукция
шумов и слов, а предполагает некоторую внутреннюю организацию,
которую создатель фильма должен открыть. Подлинный
предшественник кинематографического звука не фонография, а
радиофонический монтаж. Связь звука и образа понимается Мерло-Понти
достаточно широко. Благодаря этой связи образ довольно сильно
трансформируется. При этом единство звука и образа
осуществляется не только в каждом отдельном персонаже, но и во всем
фильме. Чередование слова и молчания создают огромный эффект для
образа.
Различая вслед за Мальро три формы диалога: диалог
изложения, позволяющий познавать обстоятельства драматического
действия, диалог тона, присущий, например, Прусту, и, наконец, диалог
7*
195
сцены, представляющий спор и сравнение персонажей, Мерло-По-
нти считает диалог сцены главным диалогом кино, хотя диалог тона
(зримое представление актера, его поведение и т. д.) тоже присущ
киноискусству и имеет определенное значение и смысл.
Мерло-Понти старается подчеркнуть органическое единство
слова и образа в кино. Слово в кинофильме вовсе не должно
добавлять идеи к образам, ни музыку к чувствам. Образ фильма,
согласно феноменологу, не есть ни мысль, ни чувство. Что же тогда
означает фильм и что он хочет сказать? «Каждый фильм
рассказывает историю» 69, «в фильме всегда имеется история, и часто идея
(...), но функция фильма состоит не в том, чтобы заставить нас
познавать (faire connaître) факты или идеи» 70. Еще Кант заметил,
что в познании воображение работает в пользу рассудка, в то время
как рассудок работает в пользу воображения. Из этого замечания
Мерло-Понти делает совершенно неожиданный вывод, что идеи или
прозаические факты дают создателю фильма лишь повод для
поиска зрительной и звуковой монограммы. «Смысл фильма состоит
в том, чтобы включиться в свой ритм, как смысл жеста состоит
непосредственно в жесте, и фильм не хочет сказать ничего другого,
кроме того, что в нем есть» м. Теперь уже ясно, что Мерло-Понти
рассматривает фильм не как форму отражения объективной
действительности и даже не как форму познания, а как то, что может
существовать наряду со всеми другими вещами само по себе.
«Фильм означает... то, что означает вещь: и то и другое обращаются
не к обособленному рассудку, а к нашей силе молча дешифровать
мир и людей и сосуществовать с ними» 72. Согласно Мерло-Понти,
не может быть и речи о том, чтобы кино отражало действительность
и воздействовало на ее преобразование, как раз наоборот,
кинематографическая драма, отличаясь гораздо большей точностью, чем
драма реальной жизни, направлена на самое себя. «И, наконец,
именно благодаря восприятию мы можем понимать значение кино:
фильм не размышляет о себе, он постигает себя» 73.
Соответственно своей «новой психологии» как своеобразному
сплаву гештальтпсихологии и бихевиоризма, Мерло-Понти трактует и
специфику искусства кино. «Вот почему выражение человека может
быть в кино столь захватывающим: кино не дает нам, как это делал
роман на протяжении долгого времени, мысли человека, оно дает
нам его образ действий или его поведение, оно непосредственно
открывает нам этот специфический способ бытия в мире, способ
трактовать те или иные вещи, который становится видимым для нас
в жестах, взгляде, мимике и который с очевидностью определяет
каждую личность, которую мы познаем» 4. Для кино, как и для
современной психологии, подчеркивает Мерло-Понти,
головокружение, удовольствие, боль, любовь, ненависть, то есть любые чувства
человека, являются образами действий. Демонстрирование образов
действий — в этом специфика и сила кино.
Если классическая философия стремилась к объяснению мира
196
с помощью абсолютного духа, то значительная часть
феноменологической или экзистенциальной философии стремится к тому,
чтобы удивляться парадоксальному и неясному отношению Я и мира
и отношения этого Я к другим, к тому, чтобы «уметь видеть место
субъекта и мира, субъекта и других» . А кино, в частности,
способно демонстрировать единство духа и тела, духа и мира и
своеобразие отношений между ними. Вот это Мерло-Понти и считает одним
из самых больших достижений киноискусства: «Искусство
существует не для того, чтобы излагать идеи, и... современная
философия состоит не в том, чтобы порабощать понятия, а в том, чтобы
описывать смешение сознания с миром... свое сосуществование
с другими» 76.
Завершая рассмотрение взаимоотношения философии и кино,
Мерло-Понти приходит к выводу, что ни кино не исходит из
философии, ни философия — из кино, поскольку кино не может
переводить язык кино в план идей. «Если, стало быть, философия и кино
находятся в согласии, если рефлексия и технический труд
употребляются в одном и том же смысле, то это потому, что философ
и кинематографист имеют нечто общее в определенном способе
бытия, некоторое видение мира, которое является видением одного
поколения» 77.
Чем же закончились попытки Мерло-Понти построить новую
метафизику?
Создание новой метафизики вылилось в конструирование
новой онтологии. Ее необходимость диктовалась радикальным
кризисом не только философии и культуры, но и всего бытия вообще.
«Наше состояние не-философское.— Кризис никогда не был столь
радикальным.— Диалектические «решения» — или «плохая
диалектика», которая отождествляет противоположности, которая есть
нефилософия,— или «благоуханная» диалектика, которая не является
больше диалектикой. Конец философии или возрождение?
Необходимость возврата к онтологии.— Онтологическое вопрошание и его
ответвления: вопрос субъекта — объекта, вопрос
интерсубъективности, вопрос Природы. Эскиз онтологии, задуманной как
онтология дикого Бытия,— и логоса» /8. Из этого фрагмента видно, что
Мерло-Понти не удовлетворяла не только материалистическая
диалектика, но и диалектика вообще (типа субъективистской
диалектики Сартра, школьно-схоластической диалектики и т. д.). Выход он
видел в возвращении к «вертикальной» онтологии, выражающей
смысл вещей, смысл бытия, притом бытия первозданного, дикого,
некультивированного.
Мерло-Понти постоянно подчеркивал, что он стремится к
созданию нового типа интеллигибельности — «вертикальной, а не
горизонтальной» /9. Что же должна представлять собой эта
«вертикальная» интеллигибельность?
Мы уже говорили о том, что философ исходит из гуссерлевско-
го учения о «жизненном мире», который он истолковывает в эк-
197
зистенциальном духе. Когда, например, он говорит о том, что нужно
мыслить, чтобы говорить, то мыслить в смысле бытия в мире или
вертикального бытия 80, но это и означает онтологию
существования. Да и сам Мерло-Понти признается в этом: «То, что я называю
вертикальное,— это то, что Сартр называет существованием»81.
Только в отличие от Сартра Мерло-Понти стремится избежать
односторонности, негативности: он пытается установить
двустороннюю структуру бытия — позитивную и негативную одновременно.
Решительно отвергнув классические варианты построения
философского знания (знаменитый кливаж Спинозы: Бог, человек,
творения; рефлексивное начало Декарта: cogito ergo sum; различные
схоластические построения, в частности понимание Логоса и
истины в смысле Глагола; логическую, гносеологическую и
телеологическую интерпретации знания немецкой идеалистической философии
Канта и Гегеля, и т. д.), Мерло-Понти стремился представить
видимое, природу, логос без какого-либо компромисса с
гуманизмом, материализмом и даже телеологией, не говоря уж о
диалектике. Он хотел описать видимое как то, что реализуется через
человека, при условии, чтобы это описание не было антропологией
(открыто противопоставляя свою позицию взглядам Фейербаха
и Маркса 1844 года). Он мечтал представить природу как «другую
сторону» человека, а вовсе не как материю. Логос же
истолковывался им как то, что реализуется в человеке, но вне какой бы то ни
было связи с объективной реальностью, с практикой, следовательно
с познанием и истиной. Словом, он решил создать универсальную
метафизику с помощью феноменологически-экзистенциального
метода как антипода материалистической диалектике, логике и
гносеологии.
Одна из самых значительных для современной западной
философии попыток — построить новую, всеобъемлющую
метафизику, новую «вертикальную онтологию» на материале литературы
и искусства — окончилась неудачей. Да и сам Мерло-Понти
неоднократно признавался в том, что двусмысленность жизни
свидетельствует о невозможности найти средства для постижения
подлинного смысла того, что происходит и что делают сами люди.
Экзистенциальная феноменология оказалась бессильной указать
человеку средство найти самого себя и тем самым обрести смысл
своего существования, но она выработала основные категории и
основные измерения обновленного гуманизма, нового
гуманистического отношения человека к миру, к природе, к культуре и
к самому себе.
198
Жан-Поль Сартр. Основания свободы
Эстетика Сартра тесно связана с его философией и литературно-
художественным творчеством. У него нет эстетики в «чистом» виде,
как нет у него и «чисто» философских и литературных
произведений. Его сочинения представляют собою своеобразный сплав
литературы, искусства, философии, критики, публицистики.
К собственно философским сочинениям Сартра относят
«Воображаемое», «Бытие и Ничто», «Критику диалектического разума».
Однако, как признавал сам Сартр, и в этих произведениях он давал
слишком литературные формулы. В то же время в его литературных
произведениях мы находим глубину философской мысли. Вот
почему нам представляется ошибочным отношение к литературным
сочинениям Сартра как к своеобразной популяризации его
философских идей. Видимо, более правильным будет считать, что
философия Сартра развивалась во всех его сочинениях: философских,
художественных, критических, политических.
Известно, что первые исследования Сартра были посвящены
проблемам воображения: «Воображение» (Париж, 1936), «Очерк
теории эмоций» (Париж, 1939), «Воображаемое» (Париж, 1940) '.
Категория воображения является основой философии и эстетики
Сартра. Воображение в его интерпретации получает универсальное
значение: это феноменологически определенная интенциональность
ирреализирующего сознания. По существу, Сартр будет
разрабатывать проблемы воображения во всех своих произведениях. Для него
идея воображения должна иметь более фундаментальное значение,
чем идея памяти для Бергсона. Если для Бергсона память была
воспроизведением или регенерацией реального, то воображение для
Сартра совершенно ирреально, это — «неантизация» мира в его
самых существенных структурах. Феноменологическая психология
воображения описывает ирреализирующую функцию сознания или
воображение (imagination) и его ноэматический коррелят,
воображаемое (l'imaginaire) 2.
Сартр ставит перед собой задачу: освободиться от недостатков,
которые были присущи Канту, Бергсону, Гуссерлю и другим
философам прошлого и настоящего в понимании и истолковании
мышления, бытия и сознания.
Согласно Сартру, Бергсон, по существу, отождествлял
восприятие с воспоминанием («воспринимать — значит вспоминать») 3 и,
следовательно, приковывал его к прошлому. Бергсон также
отождествлял бытие и его восприятие, ибо различал их не по существу,
а лишь по степени. В связи с этим природа постоянно
развивающегося сознания оказалась для философии Бергсона непостижимой.
Несмотря на то, что Сартр высоко ценил феноменологию
Гуссерля, он также пытался преодолеть слабые места и непоследова-
199
тельность основоположника феноменологии. Феноменология как
наука о чистых сущностях, согласно Гуссерлю, не различает
реальное и воображаемое, фикции и данные актуального восприятия
и опыта. Пытаясь преодолеть гносеологический идеализм Гуссерля,
Сартр развивает свою теорию воображаемого, суть которой состоит
в создании образов.
Сартр устанавливает характерные черты образа. Первой
характерной чертой он считает то, что «образ есть сознание» 4, при
этом сам образ не означает ничего другого, как «отношение
сознания к объекту», но объект образа внеположен сознанию.
Второй особенностью образа Сартр считает «феномен
квазинаблюдения» 5, когда наша позиция отличается мгновенным
усмотрением объекта, непосредственностью знания, определенностью
объекта образа и подлинностью образа. Объект соотносителен
определенному синтетическому акту, среди структур которого
выделяются знание и направленность, благодаря чему
репрезентативные и познавательные элементы синтезируются в некое единство,
а сам объект конституируется одновременно как объект чувства
и знания и представляется нам извне и изнутри.
Третья характеристика образа: «Сознание воображения
полагает свой объект как ничто (néant)» 6. Это одна из важнейших
характеристик воображающего сознания. Категория «ничто» с ее «не-
антизирующей» функцией раскрывается в фундаментальном труде
«Бытие и Ничто» 7. Согласно Сартру, человек выступает в виде
активного начала и агента процесса «неантизации».
Воображаемая жизнь, или жизнь воображения, определяется
актом воображения, который, в понимании Сартра, «является
одновременно конституирующим, изолирующим и анеантизирующим» 8.
Сартр приходит к признанию существования двух миров: мира
реального, существующего в пространстве и времени, и мира
ирреального, существующего вне пространства и времени. Лишь
позиция сознания определяет воображаемый мир как реальный
универсум.
Произведение искусства «ирреально», как ирреален
эстетический объект. Сартр иллюстрирует это на примере прослушивания
музыкального сочинения. «Симфония не существует там, где я ее
воспринимаю, ни между этими стенами, ни на кончиках этих
смычков. Она есть не больше чем «прошлое»: как если бы я о нем думал:
именно там зародилось произведение в определенное время в уме
Бетховена. Она существует полностью вне реального. Она имеет
свое собственное время, то есть она обладает внутренним временем,
которое проходит от первой ноты аллегро до последней ноты
финала, но это время не есть время, следующее за другим временем,
которое бы оно продолжало и которое было бы «прежде» аллегро;
за ним также не следует какое-то время, которое наступило бы
после финала. Седьмая симфония не существует во времени. Она,
таким образом, полностью вырывается из реального» 9.
200
Следовательно, мир воображения представляет собой мир
отличный от обычного, реального мира. Его отличие состоит именно
в ирреальности, в том, что он существует вне времени и
пространства и в этом своем бытии он противостоит реальному миру. При этом
основная функция воображения заключается как раз в том, чтобы
сделать объект воображения ирреальным в акте конституирующего,
изолирующего и анеантизирующего воображения.
Четвертая характеристика образа: «Перцептивное сознание
пассивно. Наоборот, сознание воображения дано самому себе как
воображающее сознание, то есть как стихийность, которая
производит и хранит объект в образе» 10.
Феноменология сознания предполагает, естественно,
«очищение» всех видов сознания от разного рода «примесей»
материального и чувственного характера. Однако Сартр, для которого чистое
знание является дорефлексивным и дообъективным, стремится
ввести в структуру образа эффективность. В таком случае
когнитивно-аффективный характер структуры образа делает принципиально
невозможной абсолютную чистоту образа. Чтобы видеть объект или
обладать им, мысль принимает образную форму: воображение
представляет собой некое заклинание, необходимое для появления
объекта, который мыслят, или вещи, которой хотят обладать.
Целостный образ имеет аффективный аналог, делающий объект
присутствующим, и кинестезический аналог, экстериоризирующий его
и придающий ему некую видимую реальность. Движение сознания
от знака к образу, и от портрета к образу, не означает двух
реальностей, а означает лишь символическое движение п. Главная
«функция образа является символической» |2. Мир воображения, в
котором «живут» образы, представляет собою своеобразный антимир.
В воображении сознание как бы осуществляет сполна свою свободу.
Вот почему позже Сартр заметит, что «самая большая трудность
ввести идею воображения, воображения как кардинального
определения личности» .
Становится понятно, почему так много внимания Сартр
уделяет анализу проблем воображения; ведь почти все сочинения Сартра
посвящены исследованию человека, его сознания, его мира.
Вряд ли стоит удивляться тому, что Сартр начал свою
творческую деятельность с изучения и исследования проблемы
воображения. Вся его жизнь начиная с раннего детства, его воспитание и
образование проходили в русле чтения и письма. «Я начал свою
жизнь, как по вероятности, и кончу ее — среди книг» м,— пишет
Сартр в «Словах». Литературный труд с детских лет стал его
призванием. Любовь к чтению и письму Сартр сохранил до конца
жизни. «Единственная вещь, которую я истинно люблю, это
находиться за моим столом и писать» 15. В раннем детстве были
прочитаны основные произведения классиков французской литературы,
таких, как, например, Флобер, его «Мадам Бовари». Книги были для
него «птицами и гнездами, домашними животными, конюшней
201
и полями». Книги были для него миром, отраженным в зеркале,
плотным, многообразным, непредугаданным. «Платоник в силу
обстоятельств, я шел от знания к предмету: идея казалась мне мате-
риальней самой вещи, потому что первой давалась мне в руки и
давалась как сама вещь. Мир впервые открылся мне через книги,
разжеванный, классифицированный, разграфленный, осмысленный,
но все-таки опасный, и хаотичность моего книжного опыта я путал
с прихотливым течением реальных событий. Вот откуда взялся во
мне тот идеализм, на борьбу с которым я ухлопал три
десятилетия» |Ь. Борьба Сартра против различных идеалистических
концепций в философии и искусстве была во многом борьбой против
своих собственных взглядов, которые надо было преодолеть и от
которых нужно было освободиться.
Книги стали для маленького Сартра важнее всего на свете.
Книжные полки были для него храмом, а писатели — его лучшими
друзьями, несмотря на то, что ему уже открылось величие и
ничтожество пишущей братии. Дед Сартра — Шарль Швейцер —
оказал на него особенно сильное влияние: он всячески поощрял внука
к чтению, к письму, к литературным занятиям. В конце концов внук
решил: «...подобно Шарлю Швейцеру, я стану дозорным
культуры» ''. И он стал им. «Так между первой русской революцией и
первой мировой войной, пятнадцать лет спустя после смерти
Малларме, в эпоху, когда Даниэль де Фонтанен открыл для себя «Пищу
земную» Андре Жида, сын XIX века внушал своему внуку взгляды,
которые были в ходу при Луи-Филиппе. Говорят, что этим-то
и объясняется крестьянская косность: отцы уходят на полевые
работы, а сыновей оставляют на попечение стариков родителей.
Я вышел на старт с гандикапом в восемьдесят лет. Жалеть ли об
этом? Не знаю: наше общество все время в движении, и порой,
отстав, вырываешься вперед» !8. Интеллектуально-гуманистическое
влияние Шарля Швейцера наложило глубокий отпечаток на все
творчество Жан-Поля Сартра. С младых лет Сартр был
подготовлен к тому, чтобы «видеть в педагогической деятельности
священнодействие, а в литературной — подвижничество».
Повседневная жизнь взрослых, с ее здравыми принципами,
ходячей мудростью, прописными истинами, безапелляционными
суждениями, скучными доводами, пустыми конфликтами, с
пронизывающей все суетой, не могла идти ни в какое сравнение
с жизнью книжной, где ребенок сталкивался с могучей мыслью,
превосходившей его разумение, с драматическими и трагедийными
конфликтами, со смертью,— эта жизнь захватывала воображение
и не отпускала от себя. Мальчик бежал от взрослых, от мертвящей
незыблемости их существования в мир книг, в чтение, что на деле
означало еще более тесное общение с миром взрослых. Он начал
понимать фарисейство и притворство взрослых, их «детские игры»,
заранее распределенные и выученные роли одной и той же весьма
скучной комедии, которую они играли, но эта жалкая комедия при-
202
общала его к реальной жизни, как комедия культуры приобщала его
к подлинной культуре. В хорошо изданных и хорошо оформленных
книгах он впервые встретился с красотой, а из «черной серии»
почерпнул свою самую заветную иллюзию — оптимизм.
Маленький Сартр, как и все его сверстники, увлекался недавно
появившимся кино — «искусством простонародья»,
предвосхищавшим век варварства, искусством, положившим конец социальной
иерархии театра, театральному церемониалу и этикету. Оно как бы
обнажило подлинную связь людей, единство разношерстной
толпы. Но именно кинематограф — этот сон наяву — внушил ему
смутное сознание, что «быть человеком опасно». Кинематограф
стал его новым миром, спасавшим хотя бы во время сеанса от
неприкаянности и одиночества.
Увлечение музыкой все больше и больше подталкивало
малыша Сартра к воображаемой жизни, к жизни в сфере образов: он
писал романы, «делал» фильмы, сочинял музыку. В конце концов
романы, не имевшие ни начала, ни конца, заменили ему все:
«...открыв мир в слове, я долго принимал слово за мир» 19,— пишет Сартр.
Экзистенциалистская тема смерти восходит у Сартра к
отроческому внутреннему опыту. «Я ни на минуту не перестаю ею
жить»,—признавался Сартр. Он спасал себя от смерти двойным
миражом: в жизни видел единственный способ умереть, а в
смерти — свою цель. Он пытался жить как бы в обратной
последовательности, в ретроспективности. Тогда будущее становится
реальнее настоящего и начало жизни судят по ее концу.
Воспитанный под прессом прогрессистского мифа, Сартр
наедине с собой не мог согласиться с тем, что бытие даруется извне,
а движение души есть следствие предыдущего движения. И верил,
что не прошлое создало его, а он сам, восставая из пепла, исторгал
из небытия свою память, воссоздавая ее снова и снова. «Мне часто
говорили: прошлое нас подталкивает, но я был убежден, что меня
притягивает будущее; мне было б ненавистно ощутить в себе работу
размеренных сил, медленное созревание задатков. Я загнал
плавный прогресс буржуа в свою душу, я превратил его в двигатель
внутреннего сгорания; я подчинил прошлое настоящему, а
настоящее будущему, я отринул безмятежную эволюционность и избрал
прерывистый путь революционных катаклизмов» 20.
Формирование Сартра как человека и писателя парадоксально
от начала до конца: он стремился стать взрослым, зрелым,
умудренным опытом, но, как оказалось, и в старости проступали детские
черты; пытался уйти от окружавшего его буржуазного мира, но этот
уход, несмотря на все формы и характер его антибуржуазности,
привел его в тот же буржуазный мир, хотя со временем и
значительно изменившийся: «Оттого-то я тридцать лет глядел не видя».
В конце концов наступило прозрение, и Сартр очень изменился.
Многие иллюзии исчезли, мифы улетучились, бессмертие кануло
в Лету, от воздвигнутого им здания остались одни руины. Он как бы
203
очнулся от тяжкого, горького и сладостного безумия. Однако
преданность литературе сохранилась у Сартра до конца его дней.
«Я изверился, но не отступился. Я по-прежнему пишу. Чем еще
заниматься? Это привычка и потом это моя профессия. Я долго
принимал перо за шпагу, теперь я убедился в нашем бессилии. Не
важно: я пишу, я буду писать книги; они нужны, они все же
полезны. Культура ничего и никого не спасает, да и не оправдывает. Но
она — создание человека: он себя проецирует в нее, узнает в ней
себя; только в этом критическом зеркале он видит свой облик» 2|.
Вряд ли мы найдем более интеллектуальную автобиографию,
чем «Слова» Сартра. Ведь речь идет о понимании детства, о том, как
формировался мальчик Сартр до девяти-десяти лет. Однако эта
автобиография является, по существу, романом, написанным
человеком стареющим, умудренным жизненным опытом, с высоты той
философской рефлексии, которая была выработана в течение всей
предыдущей жизни. Она написана в таком стиле, что каждая фраза
содержит многозначный и многослойный смысл. Здесь игра
воображения временами достигает такой глубины и утонченности, которые
редко можно найти даже в самых известных художественных
произведениях. Все время наличествующая целостность формы и
содержания, структуры и ее проявлений, позволяет уяснять смысл
каждой фразы, восходя от самого ясного и самого
непосредственного смысла к смыслу самому сложному и самому глубокому.
Очень важно для понимания творчества Сартра и его личности
то, что он поведал нам в «Словах», несмотря на то, что
повествование доводится лишь до десятилетнего возраста. Ведь это
произведение проливает свет на все творчество Сартра — от начала до конца.
И это касается не только становления его писательской
индивидуальности, но и более широкой сферы — эстетических воззрений.
Так, детская убежденность в том, «что искусство — явление
метафизическое и что от каждого произведения зависит судьба
вселенной» 22, находит преломление в идее метафизического
освобождения человека средствами поэзии и т. п.
Сартр не написал продолжение «Слов», как он не написал
обещанного им второго тома «Бытия и Ничто». Однако, на наш взгляд,
то, что он сказал в «Словах», во многом объясняет и всю его
последующую жизнь и творчество, хотя это произведение повествует
лишь о детстве писателя. Но, может быть, стоит прислушаться
к мнению самого Сартра, когда он с какой-то грустью констатирует,
что «все произведения являются незавершенными: все люди,
которые создают литературное или философское произведение, не
заканчивают его» 23. Примеров тому множество, в частности, Хайдег-
гер также не написал второго тома «Бытия и времени». И все-таки
мы находим продолжение этих произведений в последующем
творчестве и Хайдеггера и Сартра...
Сартр признавался, что до войны он рассматривал себя просто
как индивида. Когда он учился в Высшей Нормальной Школе, то
204
уже смотрел на себя как на «одинокого индивида», который
противостоит обществу, благодаря независимости своей мысли. В
сентябре 1939 года, когда Сартр получил мобилизационное
предписание, он почувствовал, что социальное вошло в его сознание, и понял,
что он является социальным существом, что все люди являются
социальными индивидами. Это осознание пришло лишь с
мобилизационным предписанием, которое нарушало его личную свободу.
Социальность или социально-исторические события
по-разному воздействуют на человека в разные периоды его жизни. Сартр,
например, переживал тяжелую депрессию в 1935 году, на этапе
перехода к зрелому возрасту. В период Мюнхенских соглашений он
колебался между позицией индивидуалистического пацифизма
и антинацизма. В 1933 году, во время пребывания в Германии,
Сартр видел, как нацисты преследовали коммунистов. По
возвращении во Францию, он принимает открыто «антифашистскую
позицию».
Довольно четко прослеживается связь между социальными
событиями и произведениями Сартра. Например, роман «Тошнота»
являет собой литературное завершение теории «одинокого
человека». Когда генерал Де Голль пришел к власти, Сартр написал
«Узники Альтоны». По свежим следам исторических событий Сартр
пишет трилогию «Дороги свободы» (1945—1949), посвященную
сложным социальным проблемам довоенной, периода войны и
послевоенной Франции и отражению этих событий в жизни людей. То
же самое можно сказать о других художественных, философских,
критических и политических сочинениях Сартра.
Чтобы понять эволюцию философских, эстетических и
художественных взглядов Сартра, следует иметь в виду цели, которые он
поставил перед собой: «Наша конкретная цель, очень актуальная,
современная цель,— это освобождение человека, и она имеет три
аспекта. Прежде всего метафизическое освобождение человека,
которое должно принести ему сознание его тотальной свободы и
понимание того, что он должен бороться против всего, что
ограничивает эту свободу. Во-вторых, его художественное освобождение:
облегчить свободному человеку коммуникацию с другими людьми
благодаря произведениям искусства и благодаря этому погрузить
их в ту же самую атмосферу свободы. В-третьих, политическое
и социальное освобождение» 24.
Как известно, Сартр начал разрабатывать концепцию
метафизического, художественного, социально-политического
освобождения человека почти одновременно, поскольку для него
литературный труд, литература и искусство охватывали все сферы жизни
и деятельности человека.
Именно поэтому прежде всего он обратил внимание на
разработку проблем воображения, то есть проблем, связывающих
философию, литературу, искусство, психологию с человеком и его
повседневной жизнью. Отмеченные нами труды: «Трансценденция
205
Эго» (1934), «Воображение» (1936), «Эскиз теории эмоций»
(1939), «Воображаемое» (1940) наряду с трактатом «Бытие и
Ничто» (1943) явились теоретической основой метафизического,
художественного и социально-политического освобождения человека
посредством изменения его сознания.
Пытаясь преодолеть недостатки идеалистической и
материалистической философии, Сартр генерирует свою философию
субъекта — онтологическую феноменологию, или философскую
антропологию.
Он стремится радикально переосмыслить проблему
субъективности, которая, по его мнению, непоследовательно решалась в
философской традиции Запада.
Прежде всего Сартр резко выступает против гносеологического
отождествления бытия и мышления. Гносеологические проблемы
он преобразует в онтологические, теория бытия сводится к бытию
сознания, на которое никто и ничто не может воздействовать, ибо
оно само «есть источник самого себя» 2ö. А раз так, то
трансцендентальное сознание, будучи безразличной спонтанностью, само себя
воспроизводит и осуществляет, это как бы беспредпосылочное
творчество из ничего, творчество, характеризующееся абсолютной
свободой или абсолютным выбором. Следовательно,
трансцендентальное сознание является источником, основой и катализатором
жизненной и творческой активности человека. Вместе с тем
одновременно с абсолютной свободой, характеризующей
феноменологическое или трансцендентальное сознание, как бы спонтанно вводилась
абсолютная ответственность: отныне свобода будет определяться
ответственностью, а ответственность — свободой. Метафизическое
освобождение человека тесно связывалось Сартром с закабалением
человека в тиски абсолютной свободы и абсолютной
ответственности — традиционное бремя европейского гуманизма.
Естественно, Сартр понимает самоопределение сознания не
как генезис, не как становление, иначе бы следовало предположить,
что сознание предшествует своему существованию, то есть надо
было бы признать, что прошлое определяет настоящее, но именно
это Сартр отрицает.
Диалектика развертывается между бытием и ничто. Бытие так
определяется Сартром: «Сознание есть бытие, для которого оно
в самом его бытии является вопросом его бытия, поскольку это
бытие содержит в себе бытие иное, чем оно само» 26.
Что касается «ничто», то Сартр считает, что оно зарождается
в недрах первоначального отношения человека и мира. «Бытие,
благодаря которому Ничто приходит в мир, есть бытие, в котором,
в его Бытии, оно является вопросом Ничто своего Бытия: бытие,
благодаря которому Ничто приходит в мир, должно быть его
собственным Ничто» 2/. Ничто существует в недрах самого бытия.
Именно человек есть то бытие, благодаря которому осуществляется
распространение Ничто в мире,— он постоянно проецирует себя
206
в то, что не есть он, и постоянно отрицает то, чем он является.
Сознание непрерывно отрицает свое прошлое. Вот этот разрыв между
прошлым и настоящим и есть ничто. «Этой возможности для
человеческой реальности выделять ничто Декарт, вслед за стоиками, дал
имя: это свобода» 28. Свобода присуща человеческому бытию, она
делает его возможным. «Свобода — это человеческое бытие,
исключающее свое прошлое, выделяя свое собственное ничто» 29.
Свобода, согласно Сартру, не может иметь сущности,
следовательно, она не может подчиняться никакой логической
необходимости. Сартровский человек, человек «Бытия и Ничто», «приговорен
к свободе». В таком случае свобода принимает абсолютные
измерения: сама свобода, не поддаваясь никакому анализу, определяет
мотивы, цели, побудительные причины и т. д. Она является
масштабом измерения индивида и всего, что связано с его сознанием.
Поскольку воля субъекта избегает признания истинных целей,
выбранных спонтанным сознанием, то в качестве побудительных
причин она конституирует ложные психические объекты и тем
самым порождает нечистую совесть.
Сартр сознательно выстраивает свою экзистенциальную
феноменологию в негативном духе, в духе отрицания абсолюта — ведь
подлинно человеческая жизнь с необходимостью отрицает
существование абсолюта. В этом смысле Сартр как бы следует за Хайдеггером
и Ясперсом, у которых существование и дух имеют негативный
характер. Сартр развивает гегелевскую «негативную силу», «силу
отрицания» до крайних пределов — до безграничной и абсолютной
свободы. «Нечистая совесть» выражает стремление или страсть
познавать самого себя как некий абсолют, который может быть
ограничен только через сознательный выбор. Любой выбор есть
ограничение, как любое определение есть отрицание. Но, видимо, и
любое отрицание есть определение, пусть и негативное. Тогда любой
выбор будет отказом, отвержением, отрицанием, а любой отказ,
отвержение, отрицание будет выбором. Следовательно, всякий
выбор, по существу, будет неудачным, неудовлетворительным.
Негативная направленность экзистенциалистской
феноменологии как онтологии проявляется также в утрате «духа серьезно-
сти» , в ироническом и релятивистском отношении к ценностям,
рассматривающимся в виде некой эмпирической реальности,
окружающей субъективность. Бесконечная возможность выбора (по
крайней мере теоретически) обесценивает любой выбор.
«Возможность этих других выборов ни ясна, ни поставлена, но она
переживается в чувстве неоправданности, и именно она выражается
благодаря факту абсурдности моего выбора и, следовательно, моего
бытия. Вот почему моя свобода разъедает мою свободу» 3 '.
Казалось бы, индивидуальное существование, получая
абсолютную свободу, должно становиться действительно свободным
(хотя бы в сфере сознания). Однако абсолютная свобода, позволяя
индивиду вступать в любые ситуации, выбирать то, что ему больше
207
всего импонирует и подходит, то есть предоставляя ему полную
свободу выбора, на самом деле ставит под сомнение саму себя,
поскольку абсолютное как таковое невозможно и даже немыслимо
именно потому, что оно предполагается как абсолютное. Именно
абсолютные характеристики свободы и выбора в конечном счете
приводят к абсурду, ибо абсолютная свобода и абсолютный выбор
как таковые реально невозможны. Вот почему Сартр акцентирует
внимание не на абстрактных сущностях, а на эмпирических
реалиях, которые могут получить фактическое подтверждение. Видимо,
также этим объясняется и то, что «Бытие и Ничто» — трактат,
повествующий о человеке в состоянии «нечистой совести»,
всеобщего отчуждения и декаданса, предусматривает возможность
«спасения» или «искупления» «подлинного существования», «чистой
рефлексии», ибо феноменологическая онтология завершается
обещанием выработки систематической морали: «экзистенциальный
психоанализ есть моральное описание, ибо он открывает нам этический
смысл различных человеческих проектов... человек становится
человеком, чтобы стать Богом» 32. Однако, в силу изменившихся
социальных условий и логики творчества, Сартр предпочел
продолжить свои фундаментальные сочинения в серии
литературно-философских или философско-литературных публикаций, содержание
которых включало в себя главным образом анализ
взаимоотношений философии с литературой, искусством и культурой.
Эстетика Сартра не является традиционной, академической
эстетикой, скорее, ее можно назвать эстетикой практической или
прикладной, поскольку она вплетена в философское и
художественное творчество, составляет органическую часть всего творчества.
Поэтому Совершенно невозможно на основе сочинений Сартра как-
то выстроить эстетическую систему с ее методом и категориальным
аппаратом. Зато можно, хотя и не без труда, выявить основные
эстетические идеи и принципы и проследить в какой-то мере их
применение и развитие.
Прежде всего необходимо отметить, что в творчестве Сартра
большое место отводится литературному творчеству и искусству,
которые он понимает очень широко, универсально: писатель, как
и художник вообще, должен говорить обо всем, о мире
субъективном и объективном, никакие проблемы человеческой жизни не
должны оставаться ему чуждыми — все, что составляет
человеческий мир, мир человека, входит в сферу творческих интересов
писателя и художника.
С самого начала своего творческого пути Сартр занял
антибуржуазную позицию. Он выбрал себе могущественных
противников: буржуазное общество и буржуазного читателя, против которых
он и ополчился, совершенно сознательно заняв позицию
«антибуржуазного и индивидуалистического писателя» 33.
На деле это означало то, что он порывает с традицией «без-
208
ответственности» писателя и художника. Сартр определенно и
четко занимает позицию «ангажированного» писателя.
Эта позиция наиболее полно изложена Сартром в трактате
«Что такое литература?», в котором он не только обстоятельно
излагает свои взгляды на литературу и искусство, на
художественное творчество, но и ставит вопрос о статусе художника в
современном обществе.
В разделе «Что писать?» Сартр различает литературный язык
и поэтический язык и соответственно прозу и поэзию, прозаика
и поэта. «Прозаик пишет, это верно, и поэт тоже пишет. Но между
этими двумя актами письма общее имеется лишь в движении руки,
которая выводит буквы. В остальном их миры остаются
некоммуникабельными, и то, что пригодно для одного, не пригодно для
другого. По своей природе проза является утилитарной; я охотно бы
определил прозаика как человека, который пользуется словами.
Мсье Журден употреблял прозу, чтобы спрашивать свои туфли,
а Гитлер — чтобы объявить войну Польше. Писатель — это
«говорун»: он обозначает, доказывает, убеждает, намекает... прозаик
говорит именно для того, чтобы ничего не сказать. Искусство прозы
осуществляется в речи, его предмет естественно является
значимым: то есть слова не являются исходными объектами, но
обозначениями объектов» 34.
Другое дело поэзия. «Поэты — это люди, которые отрицают
использование языка» 35. Для поэтов слова — это «естественные
вещи, которые растут, как трава и деревья» 36.
Проза — это семантический язык, это как бы инструмент
интеллекта, с помощью которого создаются значащие символы.
Поэзия — асемантический язык, он, как живопись и музыка,
раскрывает смысл вещей, их чувственные, эмоциональные характеристики.
Проза связана с реальностью, поэзия — с воображением. В прозе
творчество обусловливается сознательной волей, ответственностью
и моралью автора, в поэзии творчество — продукт неосознаваемого
мира автора, его неосознаваемого опыта: «поэзия создает миф
о человеке, в то время как прозаик набрасывает свой портрет» 3 .
Как видно, Сартр, в противовес сторонникам теории «искусства
для искусства», на первый план выдвигает социальную функцию
литературы как ангажированного искусства, как посредника
моральных принципов, восходящих к дидактической и педагогической
традиции классики. Сартр утверждает могущество слова — слово
равносильно действию: «любая вещь, которую называют, уже
больше не является той же самой, она теряет свою невинность» 38.
Писатель говорит, а «если он говорит, то он стреляет» 39.
Сартр тем самым хочет сказать, что литературное дело
чрезвычайно важно и ответственно. Прежде всего он имеет в виду
ответственность писателя: перо писателя — это могучее оружие, с
помощью которого можно многое изменить. Человек, берущийся за
перо, должен осознавать свою личную ответственность за все, что
209
он напишет, ибо его деятельность будет связана с интересами
людей, с их жизнью, с их проблемами и действиями. Но Сартр
также полагает, что литература возлагает ответственность и на
читателей: произведение писателя обращено к читателю, от
которого зависит его действенность. Литература — это действие, она
раскрывает ситуацию, чтобы потом ее изменить — в этом суть
«ангажированной» литературы.
Однако ангажированная литература вовсе не должна быть
литературой «прямого действия» или литературой
пропагандистского толка, а тем более — вульгарной литературой низкого пошиба,
относящейся к массовой культуре и удовлетворяющей низменные
вкусы «просвещенной» или «темной» толпы.
Сартр большое внимание уделял вопросам стиля. Согласно
мысли Сартра, ангажированная литература должна отвечать
требованиям самого высокого художественного вкуса, быть литературой
«высокого стиля», выражать основные проблемы своего мира,
своего времени, своего народа и всего человечества, но через характеры
и судьбы совершенно конкретных людей, а не людей вообще.
«Плохой живописец ищет тип, он пишет Араба, Ребенка, Женщину;
хороший живописец знает, что ни Араб, ни Пролетарий не
существуют ни в действительности, ни на его холсте; он предлагает
рабочего — определенного рабочего» 40. Требование конкретности
образов в литературе и искусстве — верное требование. Другое
дело, что нельзя отказывать литературе и искусству в том, что они
через конкретные характеры и образы выражают и определенные
социальные типы, но именно через конкретные и индивидуальные
характеры и образы, а не наоборот. В этом специфика и сила
литературы и искусства. Типичные образы, характеры, ситуации
существуют только благодаря конкретным образам, характерам и
ситуациям, благодаря им и в них. Именно этим можно объяснить тот
факт, что, скажем, художник стремится создавать не знаки и
символы, а конкретные вещи. «Для художника цвет, букет, позвякива-
ние ложечки на блюдце являются вещами в высшей степени; он
останавливается на качестве звука или формы; к этому он
беспрестанно возвращается, чтобы восхититься им; именно этот цвет-
объект он стремится перенести на свое полотно, и для этого ему
достаточно одного какого-то изменения — именно такого, которое
преобразует этот цвет-объект в объект воображаемый. Стало быть,
он очень далек от того, чтобы рассматривать цвета и звуки как
язык. То, что имеет ценность для элементов художественного
творчества, имеет ценность также и для их сочетаний: живописец
не хочет изображать на полотне знаки, он хочет создавать вещь»41.
Напротив, писатель создает знаки, значения, образы,
характеры. Но и семантический и асемантический языки требуют особенно
тщательной работы над стилем, иначе и литература и искусство
могут превратиться в свою противоположность, а плохой
художественный язык, плохой стиль не в состоянии создать настоящую
210
литературу и настоящее искусство. Тем самым художественные
проблемы языка и стиля превращаются в социальные и моральные
проблемы литературы и искусства. Не случайно Сартр упрекал
сюрреалистов за их пренебрежение к художественному методу,
к художественным средствам: он прекрасно понимал, что такое
пренебрежение чревато социальным нигилизмом, аморализмом,
декадансом. Писатель и художник, не нашедшие своего
художественного языка и своего стиля, никогда не станут настоящими
творцами. В лучшем случае они будут эпигонами.
В ответах Сартра на второй фундаментальный вопрос «Зачем
писать?» содержится как критика эстетических взглядов теоретиков
и практиков теории «искусства для искусства», а также
эстетических взглядов сюрреализма, так и развитие многообразной тонкой
и глубокой диалектики взаимоотношений писателя и читателя.
Литература и искусство — сложное явление: «для одного
искусство есть бегство; для другого —'■ средство покорять» 42. Чтобы
понять сущность литературы и искусства, необходимо выявить
мотивы, которые движут писателем и художником. «Одним из
основных мотивов художественного творчества, несомненно,
является наша потребность почувствовать себя значимым по отношению
к миру» 43. Это чувство возникает у человека как бы спонтанно
и внезапно, а на самом деле здесь действуют мощные и скрытые
силы общества, общественных интересов. Не всегда писатель и
художник осознают эти интересы и их генезис. Чаще всего им
кажется, что все их творчество идет изнутри их собственной натуры, их
настроения, вдохновения, воли, субъективности. Сартр признает
важное значение социальности для творчества. Он считает, что «это
знаменитое Man Хайдеггера, которое работает нашими руками» 44,
как раз и является той «анонимной» и скрытой, таинственной
силой, которая во многом определяет творческую деятельность
писателя и художника. Вопреки весьма распространенной для
буржуазного писателя и художника иллюзии, что они — начало, суть
и конец творчества, что можно, а может быть, и нужно творить для
самих себя, или для весьма подготовленной элитарной публики, или
просто ради самого искусства, Сартр утверждает, что искусство
существует ради других людей. «Творческий акт является лишь
неполным и абстрактным моментом создания произведения; если
бы автор существовал один, то он мог бы писать так, как бы он
хотел... Но операция писания содержит в себе чтение как свое
диалектическое соотношение, и эти два связанных акта делают
необходимыми два различных агента. Именно объединенное усилие
автора и читателя будет порождать этот конкретный и
воображаемый объект, который является произведением духа. Искусство
существует только для других и благодаря другим» 45.
Произведение искусства в его подлинном понимании создается усилиями
творца и человека, воспринимающего искусство (читателя, зрителя,
слушателя), оно создается для других людей (а не для самого
211
художника, писателя или композитора) и существует лишь
благодаря другим людям. Чтение, прослушивание, осмотр
художественных произведений есть синтез восприятия и творчества, и этот
синтез, устанавливая значимость субъекта и объекта, одновременно
обогащает отношения их с миром.
Данный синтез носит целенаправленный и активный характер:
он предполагает определенную цель, а также свободу как творца,
так и воспринимающих искусство. В этой связи Сартр критикует
кантовское «целеполагание без цели», предполагающее, что
эстетический объект представляет только видимость и свободную игру
воображения. Сартр конкретизирует свое понимание синтеза
восприятия и творчества. «Всякое литературное произведение есть
призыв. Писать — это взывать к читателю... Таким образом,
писатель взывает к свободе читателя, потому что она участвует в
создании его произведения» 46. Кроме того, нельзя забывать, что,
согласно Сартру, воображение зрителя является не только
регулирующим, но конститутивным; оно не просто играет, а оно призвано
воссоздать прекрасный объект. По существу, синтез восприятия
и творчества имеет глубоко диалектический характер —
существуют сложные, глубокие и тонкие взаимоотношения между творцом
и человеком, воспринимающим искусство. Вот этой сложной и
глубокой диалектики не учитывал Кант. «Кантианская формула не
учитывает призыва, который звучит в сущности каждой картины,
каждой статуи, каждой книги... Произведение искусства является
ценностью, потому что оно есть призыв» 47.
Творческий акт является лишь неполным и абстрактным
моментом создания произведения. Оно требует сотворчества со
стороны человека, воспринимающего искусство. «Чтение есть
индукция, интерполяция, экстраполяция, и основа этих действий
покоится в воле автора» 48. Сартр рассматривает чтение тоже как
своеобразный акт сотворчества читателя, в который он вкладывает
свои страсти, чувства, переживания — словом, свои творческие
способности.
Из своей феноменологии отношений писателя и читателя
Сартр дедуцирует правило, согласно которому литература есть
призыв к свободе читателя. Это правило он возводит в
своеобразный трансцендентальный закон свободы. Как и у Канта, этот закон
свободы представляет собой конечный принцип истории. Сартр
считает, что этот закон следует сделать ясным и осознанным,
имманентно присущим человеку. В конце концов чтение, согласно
Сартру, представляет собой своеобразный договор между писателем
и читателем, который они обязаны выполнять как свой первый долг:
чтение является великодушным договором между автором и
читателем; каждый оказывает доверие другому, каждый требовательно
рассчитывает на другого как на самого себя.
Таким образом, Сартр относительно литературы повторяет тот
паралогизм, который Кант использовал относительно категориче-
212
ского морального императива. Поскольку литература не может
существовать без свободного сотрудничества писателя и читателя, то,
естественно, функция литературы будет состоять в tomv чтобы
защищать и развивать эту свободу. В таком случае условие развития
литературы становится ее целью: «Свобода делает своей целью
человеческую свободу» 49. Следовательно, Сартр признает за
литературой высшие этические функции — литература должна вносить
ясность, освещать нечистую совесть, порождать ответственность
как писателя, так и читателя, в конечном счете делать человека
и его сознание абсолютно свободными. Просвещенный человек —
и писатель и читатель — должен освободиться от какой бы то ни
было зависимости от элиты, которая, как правило, консервативна,
особенно в политическом отношении, и всеми силами добиваться
того, чтобы литература и искусство стали достоянием самых
широких народных масс. Необходимо создавать искусство для масс
и ориентировать его, направлять его против каких бы то ни было
привилегий, всегда обездоливающих народ и, следовательно,
сужающих и ограничивающих сферу свободы: свободы творцов и людей,
воспринимающих искусство.
Сартр не просто постулировал эти положения, но он сам
пытался претворить их в жизнь и в своем творчестве и в своей
общественной деятельности. Так, известно, что он основал журнал
«Новые времена» (Les Temps Modernes), вокруг которого собрал
людей, независимых как от политических партий, так и от разного
рода элиты (гуманитарной, технической, научной), и с их помощью
пытался воздействовать на сознание самых широких масс.
Следует заметить, что сартровский трансцендентальный
принцип, или закон свободы, изначально обращен к свободе других
людей, ибо «писать — это, стало быть, одновременно раскрывать
мир и предлагать его как задачу великодушию читателя. Это значит
прибегать к сознанию другого, чтобы заставить признать себя
значимым в тотальности бытия» 50. В связи с этим и само
художественное произведение обретает собственно человеческие
измерения: оно никогда не является чем-то естественным, но всегда
«требованием и даром» 51. Литература, в понимании Сартра, постоянно
генерирует моральные принципы и моральные максимы,
содержащие в себе всю палитру нравственной жизни общества, но в отличие
от официальной морали, как бы застывшей в ряде заповедей,
литература и искусство представляют вечно обновленную и вечно
обновляющуюся мораль в сознании и самосознании индивида и общества.
Такая мораль способствует превращению свободы субъекта в
свободу других.
В сущности, Сартр истолковывал литературу в духе принципов
французской революции 1789 года.
Разумеется, нужно видеть разницу между сартровским
пониманием прозы и поэзии. Если проза связана с категориями свободы,
ангажированности, ответственности, то поэзия тяготеет к миру бес-
213
сознательного, к миру мифа, к мифологической и мистической
метафизике.
Важно напомнить, что для Сартра воображаемое есть интенци-
ональность ирреализирующего сознания, совершенно отличного от
памяти как познания существующей реальности. Если память была
регенерацией реального, то воображаемое есть неантизация мира
в его существенных структурах. Воображаемое Сартра приобретает
гносеологическое измерение. Воображаемое — это всегда
свободное творчество прекрасного, которое, будучи незаинтересованным
созерцанием небытия, ирреальным, есть зло. В этом смысле
прекрасное есть отказ от реальности. Если проза стремится
вмешиваться в реальность и воздействовать на нее, то поэзия избегает
реальности, хотя ее незаинтересованность в конечном счете
представляет собой некий интерес и некую ценность. Ценность может
считаться доброй, когда она связана с реальностью, и прекрасной,
когда она нравится сама по себе. Идущее от Канта
противопоставление доброго и прекрасного, реального и ирреального,
пронизывало всю европейскую эстетику до самого последнего времени.
Сартр углубляет понимание ирреального или воображаемого как
зла до единственной ценности, лишающей человека выбора между
добром и злом: зло — единственная ценность, с которой человек
остается наедине, лицом к лицу. Тогда прекрасное превращается
в зло, а зло — в свободу, равную произволу.
Можно заметить разницу между прозаиком и поэтом: если
прозаик существует в мире реального и конкретного, а потому
в мире свободы, то поэт, наоборот, исходит из ирреального, из
отказа от реального, от общества и окунается в свой
индивидуалистический мир воображаемого, прекрасного, злого. Мы можем
тогда заметить, что проза составляет как бы социальную этику,
а поэзия — этику индивидуальную или индивидуалистическую. Не
представляет ли в таком случае эстетика в ее сартровском
понимании своеобразную мораль? Или, наоборот, не предлагает ли
Сартр свое понимание морали в форме эстетики?
В первый период творчества Сартр понимал проблемы
литературы как проблемы всего общества, как проблемы социальные, ибо
искусство для него неотделимо от истории, от человека.
Следовательно, ставить вопросы литературы и искусства — это вопрошать
самого человека. Вот почему литература и искусство для Сартра
являются самой универсальной формой коммуникации, а
произведения литературы и искусства создаются не только писателем или
художником, но в не меньшей, если не в большей степени теми, кто
воспринимает эти произведения, и создаются они прежде всего для
них. «Принимая перо за шпагу», Сартр стремился с помощью слова
изменить буржуазное общество. Однако прошло время, и он понял,
что здание, воздвигавшееся им на протяжении многих лет,
оказалось построенным на песке 52.
В эстетике Сартра можно видеть два периода: первый пери-
214
од — до 1945 года, когда он наводит мосты между писателем и
публикой, подчеркивая особое значение прогрессивных идей («в
сущности эстетического императива мы распознаем моральный
императив» 53) ; второй период — после 1945 года, когда Сартр основывает
свои эстетические взгляды на отождествлении политической
практики и искусства, сводя политическую деятельность к
эстетическому проекту, а эстетическую деятельность — к политическому.
Следует заметить, что содержание и понятийный аппарат
трактата «Что такое литература?» сообразуются с содержанием и
понятийным аппаратом основного философского произведения
Сартра «Бытие и Ничто». Например, категории «проект», «выбор»
соответствуют категориям интериоризации, экстериоризации,
тотальности как форме диалектического процесса. То же самое можно
сказать о категориях универсальности, свободы и многих других.
Согласно Сартру, любой писатель или художник «универсален»
в той мере, в какой он в своем произведении выражает не только
свою индивидуальность, но прежде всего свою личность, живущую
и действующую в обществе, которое его в определенной мере
обусловливает и определяет. В такой же мере «универсально» и
произведение литературы и искусства — они стремятся быть
универсальными по самой своей сути. Что касается категории свободы, то
произведение искусства, будучи «воззванием» к свободе читателя,
зрителя, слушателя, предопределяет свой главный сюжет и свою
главную цель: свободу, свободу как самодеятельную,
самостановящуюся, самоформирующуюся («Бытие и Ничто»). В литературной
деятельности Сартр видел этическое спасение, ведущее к спасению
политическому и социальному. Правда, позднее Сартр понял, что
перед лицом социальной трагедии такие произведения, как роман
«Тошнота», не имеют никакого значения.
И после 1945 года Сартр пытается решать политические
проблемы современного общества, идущие от Сопротивления. Он
усматривает в литературе такой «праксис», который взывает к свободе
всех людей. В литературе совпадают цель и средства, ибо сущность
литературы состоит в осуществлении свободы. Чтобы добиться
реализации свободы, Сартр вырабатывает свою теорию перманентной
революции, осуществляемой средствами языка. Об этом
свидетельствует его лозунг: «Говорить — это действовать» м, который он
распространяет на всю сферу литературы и искусства.
Анализируя положение писателя в буржуазном обществе,
Сартр замечает, что это положение зависело от взаимоотношения
социальных сил и классов, от их положения в обществе. Например,
когда буржуазия была восходящим революционным классом (XVIII
век), писатель выступал в роли арбитра классовых столкновений
и конфликтов. Его в равной мере чтят и уважают как аристократы,
так и буржуа, хотя, естественно, он выражает универсалистскую
концепцию буржуазии (Бальзак, Флобер и другие). Осмысливая
все, что происходит в обществе, высказывая свои суждения по
215
самым важным и жгучим вопросам социальной жизни, писатель тем
самым осуществляет свободу, которая и является сущностью
литературы. У писателя XVIII века критическая и универсалистская
функция литературы соответствовала борьбе буржуазии за
ликвидацию феодальных отношений и установление буржуазных порядков.
Вот почему политика составляла содержание литературных
произведений — сущность литературы совпадала с историей. Эта
литература выражала и отражала объективную истину, объективное
положение вещей. Писатель, как «универсальный человек», обращался ко
всем людям вообще, и это определяло главенствующую роль
литературы и искусства в общественном сознании того времени.
Когда же буржуазия пришла к власти, она очень быстро
превратила литературу и искусство в соответствующие социальные
ритуалы. Тогда литературе и искусству, то есть писателям и
художникам, не оставалось ничего другого, как занять по отношению
к капиталистическому, буржуазному обществу критическую и
негативную позицию. Буржуазная публика вызывает у писателя и
художника чувство ненависти, неприязни, неприятия. Вот почему они
начинают писать не для буржуазной публики, а против нее. В связи
с этим начинается процесс деклассирования писателя: он не может
уже быть на службе буржуазии как класса, закат которого
(политический, социальный, культурный) неизбежен, но одновременно
писатель не может в силу своей буржуазной ограниченности, от
которой он еще не освободился, связать свои судьбы с более
прогрессивным классом — с пролетариатом. Именно по этой причине Сартр
говорит, что писатель в наше время (в 1947 году) перестает быть
классовым «арбитром», а становится просто «деклассированным»
писателем, который не находит своей публики. Писатель пишет
одновременно и против буржуазии и против коммунистов. «Ясно,
что это означает то, что мы пишем против всего мира, что мы имеем
читателей, но не имеем публики. Будучи буржуа, находящимся
в разрыве со своим классом, но остающимся в плену у буржуазных
нравов, обособленные от пролетариата коммунистическим
заслоном, освобожденные от аристократических иллюзий, мы повисаем
в воздухе, наша добрая воля никому не служит, даже нам самим,
мы вступаем в эпоху ненаходимой публики. Еще хуже: мы пишем
против течения» 55. Но именно в то время, когда писатель не
находит соответствующей публики,— тогда-то и рождается
литература «праксиса», ангажированная литература, литература,
освобожденная от безответственности писателя. Эта литература берет на
себя всю полноту ответственности за все, что происходит и будет
происходить в обществе. Эта литература может реализовывать как
свою сущность, так и одновременно сущность истории: она ставит
под вопрос существование буржуазии, дает пролетариату
возможность осознать свое отчуждение, показывает, что человек может
формировать себя сам, что все человеческие вопросы являются
вопросами моральными. Литература праксиса, или практически ан-
216
гажированная и ориентированная литература, представляет собой
поиск «тотальной» литературы как синтеза буржуазной демократии
и социализма. Подобная литература становится попыткой прямого
изменения реального. Не имея реальной публики, она пытается
создать возможную публику, воспитать ее в ходе реального
исторического процесса. Сегодня шанс этой литературы уникален: «это
шанс Европы, социализма, демократии, мира» оЬ. Ради достижения
этих целей ангажированная литература может сделать очень много,
если она ставит самые серьезные и острые проблемы и если она
становится моральной, а не морализаторской, если она не забывает,
что человек является высшей ценностью.
Изучение событий реальной жизни: социальной, политической,
идеологической, культурной — все больше побуждало Сартра
отходить от позиции воинственно ангажированной литературы. Чем
больше философ приближался к марксизму, тем ему становилось
понятнее и яснее, что реальные изменения в обществе зависят не
столько от «слов», не столько от «литературы», от литературных
произведений, сколько от демократических преобразований в
обществе. В связи с этим эстетические взгляды Сартра постепенно
меняются, становятся более реалистическими: его эстетика
обретает почву под ногами. Все большее внимание Сартр начинает уделять
специфике литературы и искусства. Он выступает против
априорного определения реализма, против многих положений догматической
эстетики, за относительную самостоятельность литературы и
искусства от социально-экономического и политического развития
общества. Именно благодаря этой относительной автономии
литературы и искусства в буржуазном обществе литература и искусство не
обязательно должны быть упадочными, декадентскими, поскольку
само определение декаданса носит, скорее, эстетический, а не
социальный или политический характер. Кроме того, произведения
литературы и искусства, критикующие декаданс как бы изнутри,
сами могут и не относиться к декадентским произведениям, хотя
и могут по-разному истолковываться.
Все большее внимание Сартр уделяет общим вопросам
культуры. Универсалистское понимание культуры начинает обретать все
более реальные очертания. Холодная война, констатировал Сартр,
заморозила развитие универсальной культуры. «Культурное
сосуществование», «демилитаризация культуры» — это вынужденные,
но необходимые шаги к тому, чтобы развивать культурное
сотрудничество как основу, на которой будет развиваться универсальная
человеческая культура.
В 50-е годы Сартр создает ряд произведений, в которых он
исследует отношения писателя и общества. («Бодлер» — 1947,
«Святой Жене» — 1952, заметки о Флобере — 1957).
В «Бодлере» Сартр применяет метод экзистенциального
психоанализа. Метод экзистенциального анализа, который Сартр
использовал еще в «Бытии и Ничто», исключает историческое понимание
217
ради феноменологического истолкования индивидуальности или
субъективности Бодлера. В этом случае дендизм и культ красоты
представляются субъективными ответами поэта на проблемы его
собственного существования.
На фоне отношений, сложившихся в результате воздействия
различных комплексов, Сартр пытается реконструировать личность
Бодлера, черты его характера, определившие особенности его
творчества. Помимо категорий «добра» и «зла» Сартр вводит такие
категории, как «гордость», «скука», «наслаждение», «боль», «игра»
и другие. Например, одной из основных черт личности и творчества
Бодлера Сартр считает гордость, которая не довольствуется «ни
социальными различиями, ни успехами, ни признанием любого
превосходства, ничем, наконец, из того, что есть в этом мире, но
которая становится абсолютным выбором a priori без причин» 57.
Эта гордость Бодлера — проклятого поэта — была обусловлена его
отчуждением от общества, от людей, его одиночеством, в конечном
счете его психическим расстройством. Когда человек одинок,
естественно, он уходит в себя: одиночество порождает нарциссизм*
«Оригинальность позиции Бодлера — позиция склоненного
человека. Склоненного над собой, как Нарцисс» 58. Бодлер — это человек,
никогда не забывающий самого себя: он смотрит, чтобы видеть
себя, и видит себя, чтобы смотреть на себя. Экзистенциалистский
мотив об изначальной враждебности человека и общества под
влиянием идей психоанализа трансформируется в полный трагизма
принцип рефлексии и саморефлексии, подтачивающей,
разъедающей и разрушающей человека изнутри, независимо от того,
сублимируется ли энергия в творчестве или нет. «Здесь начинается бодле-
ровская драма: вообразите: белая ворона стала слепой,— ибо
слишком великий рефлексивный свет приводит к слепоте»59.
Нарциссизм в творчестве действительно равносилен слепоте, но... и
великому прозрению. Подобная «слепота» помогает сосредоточиться
на творчестве, на идеях, которые, как известно, помогают
проникать в тайны жизни, в ее бесконечные глубины. Без этой слепоты
Бодлер, видимо, не был бы Бодлером.
Как говорил Паскаль, человек — не ангел и не зверь. Бодлеров-
ский человек всегда чувствует себя как бы над пропастью: гордость,
скука, головокружение, некоммуникабельность, абсурдность,
бесполезность. На своем жизненном и творческом пути Бодлер встретил,
согласно Сартру, «неопределенные образы универсального
сознания. Гордость, ясность, тоска составили одно» . Такой человек
противостоит всему миру, но и самому себе. Его нечистая совесть,
несчастное сознание держат в постоянном напряжении, в борьбе
с самим собой. Победы оказываются поражением, свобода —
оковами, наслаждение — отвращением, обладание — потерей,
радость — горечью, счастье — несчастьем, добро — злом.
«Современный чувственный человек» не страдает по тому или иному частному
мотиву, а страдает вообще, потому что ничто на этой земле не
218
могло удовлетворить его желания» 61. Универсальный характер
«неудовлетворенности» у Бодлера — это своеобразная форма реванша
против Добра с позиции Зла. Добро для Бодлера не является ни
объектом любви, ни абстрактным императивом. Зло выступает
в виде некой субстанции, основа которой — свобода. Путь к свободе
есть путь Зла, и пролегает этот путь через Зло.
Бодлер отождествлял Зло с природой — первым движением,
спонтанностью, непосредственным. Борьба против «природы» —
это борьба против отчуждения, против извращенности жизни
и всех отношений, существующих в обществе. Вот почему Бодлер
с таким упорством и настойчивостью искал предметы, имеющие
свое лицо, и «природу», вступающую в личностные отношения
с людьми и вещами.
Бодлеровский культ «холода» явился одной из конструкций
своеобразной антиприроды, способной противостоять тотальному
процессу деперсонализации и уничтожения индивидуальности
вещей и явлений. Холод как нечто исключительно твердое, жесткое,
неподвижное способен сохранить особенность каждого предмета.
Любой «холодный» предмет имеет свое лицо и сохраняет его.
Бодлеровский холод исключает «жизнь», а значит, порчу,
извращенность, утрату своего «лица» и своей сущности. «Холод» — это
чистота. Не случайно Бодлер устремляет свои взоры к «холодной
даме» — идеалу чистоты и свободы.
Сартр полагает, что творчество Бодлера было определено
впечатлениями детства: «Бодлер никогда не мечтал о разрушении
семьи, скорее наоборот: можно сказать, что он никогда не выходил
за пределы периода детства» 62. Все основные мотивы творчества
Бодлера, его творческая судьба — все было предопределено в
детстве. Именно детство человека несет в себе, как в зародыше, все, что
потом будет осуществляться и находить завершение: «Свободный
выбор, который человек осуществляет сам, абсолютно
отождествляется с тем, что называется его предназначением» 63. Не напоминает
ли в таком случае концепция свободы фатализм? Ведь если все
предопределено уже с малых лет, а предопределяется это самыми
разными отношениями (социальными, семейными, личными), то
что и из чего может человек выбирать и в какой мере этот выбор
является свободным? Не кроется ли под таким свободным выбором
самая жестокая и неумолимая необходимость, от которой человеку
невозможно уйти? Может быть, поэтому человеку его жизненный
путь и все выпадающие на его долю перипетии представляются
неизбежными и в конце концов мучительными и гибельными?
Видимо, не случайно сам Сартр, подводя итоги своего исследования
жизни и творчества Бодлера, писал: «Поэтическое творчество...
приближается... к самоубийству» 64.
Обращает на себя внимание тот факт, что сочинение Сартра
о Бодлере написано почти без всякой связи с творчеством поэта:
как правило, выявляются негативные черты его характера, резко
219
прочерчена психопатология. Сартр как будто задался целью
показать «негатив», а не «позитив» Бодлера. И кажется, ему это в
известной степени удалось: Бодлер выглядит в сартровском эссе
изгоем, проклятым поэтом, человеком, обреченным на неудачу, на
неуспех, на несчастье. Хотя известно, что Бодлер был во многом
другим Бодлером: он сражался на баррикадах во время революции
1848 года, писал революционные стихи (цикл «Мятеж»),
беспощадно критиковал буржуазные порядки во Франции, в Бельгии, в США
и других странах, наметил в своем творчестве такие проблемы,
которые станут магистральными для литературы, поэзии и даже
философии XX века 6о.
Что касается исследования Сартра о Жене, то здесь на первый
план выдвигаются достоинства личности и творчества этого
писателя и драматурга (вора, гомосексуалиста, извращенца), достоинства
весьма сомнительные. Однако творчество Жене интересует Сартра
именно как творчество «проклятого» или отверженного обществом
писателя. Кроме того, в его творчестве Сартр находит те же
проблемы, что и в творчестве Бодлера и Флобера: добро и зло,
прекрасное и безобразное, эстет и художник, эстетическое и эстетское,
патология и патопсихология, невроз и творчество и т. д.
Вспомним, что у Киркегора эстет никогда не вникает в
существо искусства как такового, ограничиваясь
морально-психологическим содержанием некоторых произведений, например «Дон
Жуана» Моцарта. А Сартра интересуют именно такие писатели, поэты,
художники, которые склонны к эстетизации неприятного,
безобразного (Бодлер, Рембо, Лотреамон, Аполлинер, Жене и другие).
Сартра интересует психология подобных творцов, психология
авторов-персонажей, а не просто психология творчества. Психология
автора-персонажа позволяет установить тип реакции на
социальный конформизм, на социальность вообще, а также на окружение.
Ясно, что это не может совпадать с явлениями искусства. Следует
помнить — за «эстетом» Киркегора имелась традиция Казановы,
а за «преступником» Жене — традиция Сада 6Ь.
Категории «эстет» и «эстетизм» имеют свою историю. Так, для
Канта «прекрасное есть символ нравственно доброго» 67.
«Прекрасное нравится непосредственно... Оно нравится без всякого
интереса... Свобода воображения... в суждении о прекрасном
представляется как согласующаяся с закономерностью рассудка...
Субъективный принцип суждения о прекрасном представляется как
всеобщий» 68.
Но нельзя смешивать категории «эстета» и «эстетизма» с
категорией «эстетического» или «прекрасного». Категория «эстет»
отражает или выражает тип реакции на социальный конформизм, а
категория «эстетизм» — специфический способ видения вещей и
соответствующий способ поведения. Эстетическое суждение
противопоставляется идеальности прекрасного, а наслаждение эстета пред
ставляется в виде конечной цели.
220
В современной культуре распространен такой вид эстетизма,
когда критическая позиция приобретает абсолютные измерения —
становится сверхкритичной,— в сущности, она граничит с
нигилизмом.
Сартр, приняв негативность романтиков и постромантиков,
доводит эту негативность до ее логического конца. Он создает
трансцендентальную концепцию эстетизма. Гносеология воображаемого
сменяется психологией. С особым интересом Сартр анализирует
и реконструирует жизнь и творчество «проклятых» поэтов и
писателей — Бодлера, Жене, Флобера,— болезненных, наделенных
богатым воображением. Их бегство от реального мира в мир
воображения, согласно Сартру, есть зло; зло есть страдание, а страдание
порождает жестокость. Диалектика зла раскрывается в контравер-
зах мученика и палача, мученика и комедианта.
Сартр приходит к отождествлению прекрасного и
воображаемого, эстетического и эстетизма. Прекрасное — это реальное,
которое не может быть отождествлено с эстетизмом как формой,
жестом, образом, мечтой, бегством от реального.
Столь же неправомерно отождествление эстета и художника:
не каждый художник является эстетом, как и не каждый эстет
является художником. Обычно человек воображения пассивен,
он жертва окружающего мира, общества, семьи (Сведенборг, Ван
Гог, Гёльдерлин, Флобер, По, Бодлер, Лотреамон и другие).
Болезнь (шизофрения, паранойя и другие психические
заболевания) становится условиями их творчества. Но творчество делает
человека воображения активным: из жертвы он превращается
в палача. Когда общество начинает поглощать произведения
художника, отравленные его неврозом, он выздоравливает и все его
зло трансформируется в добро.
Таким образом Сартр из категории зла, являющегося отказом,
неудачей, пассивностью, жестом, сном, мечтой и, наконец,
прекрасным, пытается вывести парадоксальную диалектику укоренения зла,
выбора пассивности, противоречий, мучений, страданий и
превращения зла в добро. Подобная диалектика представляет собой
своеобразное обоснование этики и эстетики Ничто. В этом случае
сартровская психология воображаемого будет представлять собою
негативное измерение позитивного, в то время как искусство будет
позитивным измерением негативного. Эти формальные категории
не позволяют проникнуть в тайну поэтического и художественного
творчества — они в лучшем случае способны констатировать
наличие определенных ситуаций и определенных моментов в жизни
и творчестве «проклятых» творцов. Вся сартровская феноменология
воображаемого является, по существу, реконструкцией искусства
в гипотетический мир биографии «проклятых» поэтов, писателей,
художников. Через эту реконструкцию просвечивают и
эстетические и моральные проблемы. Как справедливо заметил Г. Морпур-
го-Тальябуэ: «...эстетика Сартра есть криптография этики» 69.
221
Известно, что работа Сартра о Жене — это произведение
переходного периода, характеризующееся таким методом исследования,
который представляет собой нечто среднее между
психоаналитической интерпретацией и интерпретацией марксистской в ее
вульгарно-социологическом варианте. Если первая интерпретация признает
определяющее значение детства, то вторая — определяющее
значение социальных классовых отношений. Обе крайности Сартр
пытается преодолеть в дальнейших исследовательских опытах.
Еще один фундаментальный труд Сартра был написан, по
существу, для того, чтобы выработать метод исследования и изучения
творческой личности (в данном конкретном случае — для изучения
Флобера) и литературно-художественного творчества.
Концентрированное изложение своей концепции метода Сартр
дает в разделе «Вопросы метода» в книге «Критика диалектического
разума».
В ходе своей духовной эволюции Сартр осознал недостатки
собственной философской концепции, изложенной в «Бытии и
Ничто», которая, по его мнению, была абстрактной и нежизненной.
В «Критике диалектического разума» Сартр пытается преодолеть
эти недостатки посредством установления взаимоотношений
субъекта с практикой и диалектикой. Человек может и должен
творить историю, практически преобразовывать мир и
существующие в этом мире отношения. Мыслительная деятельность субъекта
связывается Сартром с его практической деятельностью, чтобы
утвердить реальность людей, добывающих свое освобождение, свою
свободу практическим путем.
В «прогрессивно-регрессивном методе» Сартр пытается
соединить марксизм и экзистенциализм. «Марксистский метод является
прогрессивным, потому что он есть результат... длительного
анализа... Наш метод является эвристическим, он дает нам новое, потому
что он является одновременно прогрессивно-регрессивным» .
И марксизм и экзистенциализм изучают один и тот же объект —
человека. Однако, согласно Сартру, марксизм растворил человека
в идее, а экзистенциализм стремится охватить всю сферу
существования единичного, отчужденного, мистифицированного индивида
в его борьбе с этим отчуждением с помощью отчужденных средств.
Диалектический охват должен включать действия, страсти, труд,
потребности, а также экономические категории. Сартр вовсе не
отрицает значимости марксизма. Напротив, в отличие от многих
современных идеологов он постоянно подчеркивает реальную
ценность этой философии: «Сила и богатство марксизма в том, что он
был самой радикальной попыткой осветить исторический процесс
в его тотальности» м. И только вследствие извращений, которые
претерпело это учение в руках бюрократического консерватизма,
оно переживает кризис. Но, согласно Сартру, «марксизм является
еще совершенно молодым, почти в детском возрасте: он едва только
начал развиваться. Таким образом, он остается философией нашего
222
времени: он не устарел, потому что обстоятельства, которые его
породили, еще не отжили» 72. Но если марксизм хочет оставаться
животворным учением, то он должен повернуться лицом к живому
индивиду, к тем обстоятельствам, в которых он существует,—
словом, к человеческому существованию. Ведь все основные
понятия и категории, которыми оперирует марксизм, чтобы описать
наше историческое общество,— эксплуатация, отчуждение,
фетишизация, вещизм и т. д.— самым непосредственным образом
отсылают к экзистенциальным структурам. Даже такие понятия, как
практика и диалектика, нерасторжимо связанные друг с другом,
находятся в противоречии с интеллектуалистской идеей знания.
«Таким образом, понимание существования представляет
человеческий фундамент марксистской антропологии. Фундамент
марксизма как исторической и структурной антропологии — это сам
человек, поскольку человеческое существование и понимание
человеческого неразделимы» 73. Марксизм — это, согласно Сартру,
единственно возможная форма реально конкретного знания.
Однако марксизму недостает глубины, состоящей в собственно
человеческом измерении. «Марксизм выродится в бесчеловечную
антропологию, если он снова не введет в себя самого человека как
свой фундамент» 74.
Марксизм, согласно Сартру, как бы остановился в своем
развитии: он стал формальным, догматическим, волюнтаристским и
абстрактным. Если освободить марксизм от присущих ему
недостатков, то он снова станет плодотворным учением. Надо сделать так,
чтобы марксизм стал реальным и конкретным, критичным и
самокритичным, диалектичным и человечным. Философия как тотализа-
ция знания, метод, регулятивная идея, наступательное оружие
и языковая общность, «видение мира» только тогда может
благотворно воздействовать на общество, когда она становится культурой
общества.
Сартр упрекает марксизм и марксистов в абстрактности
анализа, способного установить лишь принадлежность того или иного
писателя, поэта, художника к какому-то определенному классу или
прослойке общества. Что касается выявления специфики взглядов,
политических, идеологических, художественных, то здесь марксизм
и марксисты бессильны — они не в состоянии воспроизвести всю
полноту личности, творчества, индивидуальности, духовной жизни
творца. Подобные слабости марксистов Сартр демонстрирует на
теоретических исследованиях А. Лефевра, Р. Гароди и других
французских философов, легко устанавливающих классовую и
социальную принадлежность художника, но оказывающихся неспособными
определить специфику их творчества. «Валери — мелкобуржуазный
интеллигент, это несомненно. Но не всякий мелкобуржуазный
интеллигент — Валери. Эвристическая недостаточность современного
марксизма содержится в этих двух фразах» 75. Принадлежность
к буржуазии устанавливает лишь то, что тот или иной писатель,
223
поэт, художник жил так, как он жил, и творил так, как он творил.
«Современный марксизм показывает, например, что реализм
Флобера связан взаимной символизацией с социальной и политической
эволюцией мелкой буржуазии Второй империи. Но он никогда не
показывает генезис этой взаимности в перспективе. Мы не знаем ни
того, почему Флобер предпочел литературу всему другому, ни того,
почему он жил как анахорет, ни того, почему он написал именно
эти книги, а не те, которые написали Дюранти или Гонкуры» 76.
Вот эти недостатки марксизма Сартр хотел преодолеть
соединением марксизма и экзистенциализма, или экзистенциальной
феноменологии, в единый метод, который устанавливал бы классовую
и социальную принадлежность писателя или художника и
одновременно раскрывал бы генезис его творчества во всей его
неповторимости и во всем его многообразии.
Кроме того, серьезным недостатком Сартр считает то, что
марксисты почти не изучают детство творческой личности, которое
оказывает решающее воздействие на всю последующую жизнь
человека. Марксисты, говорит Сартр, как будто не знают, что у каждого
человека было детство, когда интенсивно формируется характер,
личность человека, его сознание, вкусы, чувственный и
интеллектуальный мир и т. д. Как правило, марксисты изучают творческую
личность начиная со зрелого возраста, а детские годы, генезис
личности как таковой остается в стороне.
Новый метод, согласно Сартру, предполагает три основных
принципа: воспроизвести детство творческой личности, раскрыть
механизм интериоризации объективно существующей социальной
реальности и экстериоризацию внутреннего, постигнуть, как и
каким образом творческая личность «тотализирует», то есть
конструирует и реконструирует общество. Этот метод Сартр называет
«регрессивно-прогрессивным»: «регрессивным», поскольку он
соотносится с исторической единственностью своего объекта, например
абсолютно конкретный индивид Флобер, или Бодлер, или Жене,—
такой, каким каждый из них был в его детстве, в его семье, в его
принадлежности к тому классу и к тому обществу, в которых он
жил; «прогрессивным», поскольку этот метод постигает само
движение и развитие проекта творческой личности, выявляет
объективные причины, «проект», благодаря которому Флобер, чтобы
избавиться от пут мелкобуржуазности, неотвратимо конституируется
как автор «Мадам Бовари» и как такой мелкий буржуа, который
отказывался им быть 77.
Что касается детства человека, то речь идет не о механическом
воспроизведении или монтаже, а о том, чтобы воспроизвести все те
объективные и субъективные механизмы, которые формировали
характер и личность человека. Ведь, по убеждению Сартра, «мы
живем в нашем детстве, как в нашем будущем. Оно определяет
жесты и роли в перспективе будущего» 78. Поскольку «жесты и
роли» неотделимы от проекта, то они составляют «внутренний коло-
224
рит проекта», то есть субъективно — вкус, объективно — стиль.
Человеческая жизнь развивается по спирали в самых разных
смыслах и значениях: и в личной жизни, и в семейной, и в социальной.
Но она всегда направлена и ориентирована в будущее.
Диалектическое познание человека требует новой
рациональности, которую надо еще вырабатывать в опыте, в теоретическом
осмыслении практики.
Объект или проект, которым занимается критика,
стремящаяся его понять, необходимым образом предполагает «поле
инструментальных возможностей». Характер этих инструментов глубоко
трансформирует проект — они обусловливают его объективацию.
Идеологический проект имеет своей целью изменить основную
ситуацию через осознание ее противоречии. Общие категории
культуры, особые системы и язык, которые их выражают, являются
объективацией класса, отражением скрытых или открытых
конфликтов, особым проявлением отчуждения. Культура и язык
помогают индивиду раскрывать отчуждение, вместе с тем именно они
могут еще больше усиливать отчуждение индивида через
воздействие на его сознание. Будучи продуктом процесса отчуждения,
культура и язык еще больше усиливают отчуждение индивида,
который пользуется ими, искажают смысл его деятельности и его
существования. Когда культура становится мировоззрением, тогда
идеология, по существу, неустранима: идеи становятся
объективацией и отчуждением конкретного человека. Отчужденная идеология
может порождать столь же отчужденное сознание и отчужденные
действия. Знаменитый маркиз де Сад по-своему пережил закат
феодализма: его «садизм» был слепой попыткой вновь подтвердить
свои воинственные права в насилии, основывая их на субъективном
качестве своей личности. В силу объективных и субъективных
причин «карнавал субъективности» в переходную эпоху от
феодализма к капитализму и в буржуазном обществе, по мнению Сартра,
неизбежен.
Эстетическая критика определяется Сартром с точки зрения
его феноменологической методологии как антропологическое и
экзистенциальное познание. Исходным и главным объектом является
человек, творческая личность, а также то, что он создает —
произведение литературы и искусства. И тот и другой объект должны
исследоваться марксизмом и психоанализом, то есть регрессивно-
прогрессивным методом. Психоанализ позволяет реконструировать
жизнь ребенка в семье и в обществе, но психоанализ не имеет
принципа, не имеет теоретической базы, кроме своеобразной
мифологии. Марксизм, напротив, является универсальным теоретическим
сознанием и всеобщим методом, поэтому он может включить в себя
или интегрировать психоанализ.
Сартр исходит в изучении Флобера из признания писателя:
«Мадам Бовари — это я». Исходя из этого признания, Сартр
пытается понять и объяснить интровертированную натуру писателя. Еще
8 К. М. Долгов
225
Бодлер говорил о глубоком тождестве «Искушения святого
Антония» — яростно «художественного» произведения, которое
наиболее полно истолковывает смешение великих метафизических тем
эпохи (судьба человека, жизнь, смерть, Бог, религия, ничто и т. д.),
и «Мадам Бовари» — произведения внешне сухого и объективного.
Кем должен был быть и был Флобер, чтобы объективировать себя
в своем произведении в образе Эммы Бовари? Сартр считает, что
разгадку сулит изучение биографии, факты, собранные
современниками и проверенные историками в сопоставлении с литературным
произведением. Произведение ставит вопросы жизни. Но нужно
понять, в каком смысле: произведение как объективация личности
на самом деле является более полным, более обобщенным, чем
жизнь, оно вопрошает и сохраняет конкретные эпизоды как ответы
на эти вопросы. Но эти ответы не удовлетворяют: они недостаточны
и ограниченны в той мере, в какой объективация в искусстве
несводима к объективации в повседневном поведении; имеется
зияющая пропасть между произведением и жизнью. Тем не менее
человек, с его человеческими отношениями, таким образом
освещенными, в свою очередь представляется нам как ансамбль вопросов.
Произведение никогда не раскрывает секреты биографии: оно
может быть просто схемой или путеводной нитью, которая
позволит их раскрыть в самой жизни. Вопрошания
конкретно-исторической и биографической ситуации созревания таланта тоже не
рассчитаны на ответ. «...Но эти вопрошания являются
конституирующими в том смысле, в каком кантианские понятия являются
«конститутивными», ибо они позволяют осуществить конкретный
синтез там, где мы имеем еще абстрактные и общие условия» 9.
Работа о Флобере явилась полигоном для демонстрации
прогрессивно-регрессивного метода: исследование взаимоотношений
автора с собственным произведением (автор-персонаж),
взаимоотношений автора и произведения с реальной жизнью, генезис
субъективных и объективных отношений и т. д. Этот
прогрессивно-регрессивный и аналитико-синтетический метод, призванный
соединить в себе достоинства марксистского диалектического,
феноменологического и экзистенциалистско-психоаналитического
методов, должен был, по замыслу автора, освободиться от недостатков
указанных методов и стать по-настоящему универсальным
субъективно-объективным, логическо-психологическим, диалектико-фено-
менологическим — словом, универсально-антропологическим
методом. Исследуя повседневную жизнь индивида (прежде всего —
жизнь творческого индивида), его деятельность, формирование
личности посредством теоретической и практической деятельности,
исследуя генезис личных, семейных и социальных отношений
путем восхождения к изначальным структурам, определяющим жизнь
и сознание индивида, Сартр пытается исследовать жизнь и
сознание любых социальных общностей, вплоть до жизни и сознания
всего человеческого общества. Одновременно Сартр фиксирует ре-
226
альные противоречия и их выражение в деятельности
индивидуального и общественного сознания, приближаясь к выявлению
диалектических основ своей структурной антропологии, которую он
мыслит как универсальную реконструкцию всей человеческой
истории.
Согласно сартровскому методу, «человек определяется
благодаря его проекту» . Он раскрывает и определяет свою ситуацию
через объективацию в труде, в действиях или в жестах — это
постоянное производство самого себя благодаря труду и «праксису».
Человек создает и воспроизводит самого себя со всеми своими
страстями и интересами, причем именно произведение или действие
индивида раскрывает нам секрет его «проекта».
В связи с концепцией «проекта» Сартр ставит вопрос о
значениях и ценностях. Человек есть существо обозначающее. Для
Гегеля, например, означающее — это движение духа, которое
конституируется как означающее-означаемое и
означаемое-означающее, то есть как абсолютный субъект. Означаемое — это живой
человек и его объективация. А для Киркегора человек есть
означающее: он производит обозначения и никогда не является
обозначаемым. Киркегор считал человеческую субъективность абсолютом.
И отвергал объективное знание на том основании, что боль, нужда,
страсть, ненависть людей являются такими реальностями, которые
не могут быть ни изменены, ни преодолены объективным знанием.
Сартр пытается соединить гегелевское и киркегоровское
понимание человека: «Движение понимания одновременно прогрессивно
(как движение к объективному результату) и регрессивно (я
восхожу к первоначальному условию)... понимание есть не что иное,
нежели моя реальная жизнь» 81. В этом смысле с декабря 1851 по
30 апреля 1856 года «Мадам Бовари» определила реальное единство
всех действий Флобера: вся его жизнь, его помыслы, сила духа
были направлены на творение этого шедевра. Если, рассуждает
Сартр, капитализм, согласно Марксу, противопоставляется
обществу в виде отчужденной социальной силы и оно по своей природе
враждебно художественному творчеству и творчеству вообще, то
в свою очередь творчество, и художественное творчество в
частности, противопоставляется капитализму и буржуазному обществу:
так или иначе литература и искусство в буржуазном обществе
в большей или в меньшей степени носит антибуржуазный характер.
Как мы видим, марксистский компонент принимает у Сартра вид
упрощенной схемы, диалектика личности и общества сводится
к противостоянию сил в заданной ситуации.
Понять Флобера — значит воспроизвести генезис, где смысл
порождается внутри самого «праксиса» писателя в виде проекта:
проект как медиация между двумя моментами объективности
позволяет понять и историю и человеческое творчество.
Для Сартра марксистская эстетика невозможна без
установления места литературы и искусства внутри социального организма,
8*
227
а также без установления соответствующего места и роли
литературы и искусства в исторической диалектике.
В своей «Критике диалектического разума» Сартр
противопоставляет идеологию знанию, как культуру — философии.
Идеология, согласно Сартру, носит паразитический характер: она живет за
пределами знания, носящего абсолютный характер. В этом смысле
Киркегор выступает по отношению к Гегелю в роли идеолога. Роль
идеологии сводится к тому, чтобы ввести требование конкретного
и его понимание, она как бы доказывает и показывает несводимость
жизни к знанию. Исключение или отказ от идеологии ведет к тому,
что знание как таковое должно основываться на понимании
человеческого существования, «заброшенного» внутрь человеческой
истории. В этом случае знание становится антропологией с имманентно
присущими ей «экзистенциалами», то есть экзистенциалистскими
категориями. Идеология позволяет видеть разницу между
объективным, догматическим знанием и знанием конкретным, реальным,
диалектическим. Поскольку историческая диалектика, согласно
Сартру, покоится на индивидуальном «праксисе», то
индивидуальный и исторический проекты совпадают. Вот почему писатель или
художник «интериоризирует» социальную реальность и выражает
все общество.
Таким образом, эстетическое понимание Флобера, как оно
изложено Сартром в «Критике диалектического разума»,
отличается радикально от простого объяснения и толкования
произведения литературы и искусства. Речь идет о методологической
позиции, означающей уход от эстетического волюнтаризма,
изложенного им в трактате «Что такое литература?».
«Идиот в семье» является, по признанию Сартра,
продолжением «Вопроса о методе». Сюжет «Идиота в семье» — это вопрос
о том, можно ли познать человека, которого лучше называть не
индивидом, а «универсально единичным» 2. Почему Сартр выбрал
для своего анализа именно Флобера, а не какого-то другого
писателя или поэта? Он объясняет свой выбор тремя причинами. Первая
причина — чисто личного характера: перечитывая переписку
Флобера, Сартр меняет свою антипатию к Флоберу на «эмпатию».
Вторая причина — Флобер более других писателей объективирован
в своих сочинениях («Мадам Бовари — это я»: он пишет
автопортрет в поражении). Третья причина — «Флобер, создатель «нового»
романа, есть перекресток всех наших литературных проблем
сегодня» 83. Если «Слова» Сартр называл «прощанием с литературой»,
книгой, которая «сама себя оспаривает», то «Идиот в семье» —
«возвращение к литературе», сочетание «романа воспитания» и
«романа исследования». «Это — Флобер, такой, каким я себе его
воображаю; но, поскольку я пользовался методами, которые мне
представляются строгими, я полагаю, что это — Флобер такой,
каким он был» 84.
Чтобы «реконструировать» феномен Флобера, Сартр пользует-
228
ся многообразной и необычной системой категорий: воображение,
эмпатия, пережитое и другие. Категория «пережитое» включает
в себя в свою очередь такие категории, как «разум»,
«чувственность», «воображение». А каждая из этих категорий имеет довольно
глубокое содержание и смысл. Так, категория воображение
означает кардинальное определение личности.
Важно отметить, что «Идиот в семье» — это роман, плод
творческого воображения писателя, вместе с тем это правдивый роман,
роман-исследование, основанный на документальных фактах.
Разумеется, «Идиот в семье» не строго научное исследование:
человека надо понимать, а не познавать.
Но метод эмпатии, который использует Сартр при изучении
Флобера, исключает позицию нравственного суждения, это попытка
объективного анализа художественного творчества. К тому же
метод эмпатии плодотворен лишь в изучении творчества писателя
или художника, которого уже нет в живых: цель «тотализирующего
метода» состоит в том, чтобы, сохраняя хронологию, не
отказываться от ее освещения событиями будущего. Сартр убежден в том, что
«невозможно тотализировать живого человека» ь5.
Если Флобер говорил, что «Мадам Бовари — это я», то Сартр,
вторя Флоберу, заявляет: «...этот маленький мальчик,— это я» .
Действительно, Сартр ведет свое исследование — роман как некое
самоисследование: благодаря методу эмпатии он подставляет свое
я на место я Флобера-ребенка.
Два первых тома «Идиота в семье» посвящены раскрытию того,
как маленький Флобер интериоризирует социальный мир. Третий
том посвящен раскрытию содержания невроза Флобера как
своеобразной рекламации объективного духа. Четвертый том должен
раскрыть своеобразие художественного стиля Флобера.
Глубинный замысел «Идиота в семье» — показать, что
существует возможность «полной коммуникабельности», что, не
будучи богом, человек в состоянии понять другого человека: «...любой
человек постижим, если используются соответствующие методы
и имеются необходимые документы» 8/.
На наш взгляд, сочинение о Флобере — самый
фундаментальный труд из всех сочинений, написанных Сартром. Дело даже не
в том, что это —г самый объемистый труд, а в том, что он
представляет собой попытку воспроизвести через анализ становления,
формирования и развития конкретного человека и его сознания
становление, формирование и развитие человека и человеческого
общества на определенном этапе его существования. Несомненно
и то, что в этом сочинении Сартра, как и в других его сочинениях,
содержится резкая критика современного буржуазного общества,
буржуазной эпохи вообще: ее социальных, экономических,
политических, культурных, этических, эстетических, семейных и личных
отношений. «Идиот в семье» — это колоссальная панорама жизни
французского общества, раскрытая через жизнь Густава Флобера
229
с 1821 по 1857 год, через его сознание и психологию, через
отношения, в которых он жил, рос, развивался и творил как поэт, писатель,
художник.
Сартр выстраивает грандиозную реконструкцию
взаимоотношений маленького Флобера с окружающим его миром, и прежде
всего с отцом, матерью, старшим братом, бабушкой, дядей
и т. д. Все эти взаимоотношения были достаточно сложными,
особенно если учесть необычные и необычайные задатки, склонности
и предрасположения малыша: некоторая заторможенность в его
развитии, наивность, доверчивость, обостренная чувствительность
к звуку и слову, душевная ранимость, болезненность и т. п. Сартр
скрупулезно прослеживает «структурное», а затем и «историческое»
формирование, переход от структурных «качеств» личности к
историческим. Проблема состояла в том, чтобы понять, как идиот
становится гением 88, как его гистерезис определил его судьбу и судьбу
его искусства, как этот странный персонаж становится самым
великим романистом второй половины XIX века 89.
Сартр показывает, как сложные семейные отношения
(отчужденность родителей от детей, детей — от родителей и всех членов
семьи — друг от друга), отчужденные социальные отношения
французского общества того времени способствовали
формированию индивидуалистического, болезненного, скрытного характера
Флобера, внешне пассивного, но именно в силу враждебности
окружения жившего богатой, напряженной, активной внутренней
жизнью. Например, Сартр блестяще вскрывает, какие сложные
диалектические перипетии претерпевает у Флобера вопрос об
истине. Полагая, что истина — это лишь нужда, необходимость веры,
Флобер, заменяя истину иерархизированными верованиями, с
самого начала «смешивал... Ложное и Истинное, Отчуждение и
Свободу» 9Ü. Флобер считал, что нет ни ложной, ни истинной идеи, что
в конечном счете все надо основывать на опыте: «...радикальное
Зло,— это... опыт»91. Диалектика добра и зла, раскрываемая
Сартром на юношеских сочинениях Флобера, пронизывает все
последующее его творчество. Достаточно почитать диалог или спор
Антония и дьявола, чтобы убедиться в определенном спинозизме
Флобера, в том, что он отстаивал глубоко диалектические идеи:
бытия и небытия, или ничто, бога и дьявола, знания и веры, науки
и религии и т. д. «Густав уже открыл структуру трех измерений
своего внутреннего пространства. Подъемы и падения являются
повторяющимися определениями абсолютной вертикали, то есть ее
отношений с Вечностью; глубина, наоборот, есть необратимое
движение к этому другому абсолюту, к Смерти, это направление
к самому Худшему. Таким образом... пережитое развертывается
в тройном регистре. Религиозное и изначальное отчуждение —
в семье или fatum'e рациональное и светское по внешности
отчуждение — в глубине иррационального и святого — в идеологии
pater familias; отчуждение в монархической и теократической
230
иерархии, которое отрицается и тем не менее порабощает его:
три системы, три типа интерпретации, которые предлагаются сразу
для каждого опыта и сразу четвертуют его» 92.
Единственное, что выручает и спасает Флобера,— это его
«глупость». «Глупость, это обезглавленный разум, это
интеллектуальная операция, лишенная единства, иначе говоря, силы
унификации» . Таким образом, абсентеизм Флобера делает
возможным интеллектуальное развитие, которое ускользает от
социальных детерминаций и оставляет простор чувственно-
непосредственному постижению мира.
Такова «конституция» молодого Флобера. Однако Сартр
стремится не только дать психологический портрет писателя, но
и раскрыть процесс становления и формирования его творческой
индивидуальности. Второй том «Идиота в семье» целиком посвящен
этой проблеме.
Согласно Сартру, писатель объективирует себя в произведении,
он вкладывает в произведение то, что содержится в пережитом им
опыте. Одновременно он субъективирует объективное,
воспроизводя его в своих интеллектуально-художественных конструкциях,
образах, структурах. В этом смысле объективация в произведении
является моментом персонализации. В такой же мере субъективи-
зация объективного также является моментом персонализации,
возможно, еще более активным 94.
Сартр отмечает «театральность» мироощущения Флобера,
игровое преодоление конфликтных ситуаций обеспечивало
психологическую защиту и одновременно способствовало формированию
определенных черт личности. У него развивается необычайное
воображение. Он осознает свои способности: «...чувство абсолютного дара
есть один из факторов его персонализации в Артиста» 9о. Артист
превращается в дальнейшем в Поэта.
К сожалению, Сартру, проницательному исследователю
феномена Флобера, не удалось избежать психоаналитических шаблонов.
Он слишком тесно связывает невроз с творчеством. Несомненно,
«болезнь писателя» или невроз человека культуры небезразличны
миру культуры и его значениям. Но в такой ли степени, чтобы, как
утверждает Сартр, «невротический проект имел целью радикальное
преобразование личности, сопровождаемое новым видением
сущности Прекрасного» 96?
Скрупулезный анализ формирования и развития Флобера
позволил Сартру не только воссоздать образ и личность писателя,
определенные закономерности его творчества, его миропонимания,
мирочувствования и мировоззрения, но также прийти к
теоретическим обобщениям, касающимся художественного творчества
вообще, к новому пониманию и истолкованию существующих
эстетических категорий и выработке новых, а также к постановке и попытке
решения проблем, связанных с взаимоотношением эстетики с
этикой, философией, психологией, социологией, антропологией и дру-
231
гими науками, с переосмыслением традиционных взглядов на эти
взаимоотношения.
Эстетика Сартра, как и его философия, носит скорее
негативный, чем позитивный характер. Через парадокс или посредством
парадокса он стремится выйти из сферы негативного, утверждая,
что «не Искусство служит человеку... а именно человек находится
на службе у Искусства»9', «...именно благодаря своей
бесполезности искусство в высшей степени полезно человеку» 9Ö.
«...Негативное — на почве социального соревнования — есть неоспоримый
знак позитивного в духовной иерархии» " и т. п.
Эти парадоксальные формулы больше говорят о творческом
почерке самого Сартра, нежели об эстетике Флобера. Так же
обстоит дело с антиномией Поэта и Артиста, двух фигур, означающих
этапы творческого созревания Флобера.
«Между артистом и поэтом есть огромная разница: один
чувствует, другой говорит, один — сердце, другой — голова» 10ü.
«Вдохновенная» поэзия есть лишь констатация поражения. Чтобы
«делать Искусство», надо быть Артистом. А что такое Артист? Это
прежде всего отрицаемый и отвергаемый поэт. А что такое
Искусство? Это то, что занимается прекрасным, создает прекрасное. Но
«прекрасное, отчуждение к нечеловеческой цели, есть отчуждение
Артиста в его Искусстве» lül. Если поэтическая позиция состоит
в бегстве от реального в сферу воображаемого, то артистическая
деятельность состоит в обесценивании реального в процессе
реализации воображаемого. Вот почему у Флобера крушение и отрицание
становятся основными принципами обобщения.
Сартровский анализ писательской индивидуальности Флобера
помогает лучше понять эстетические взгляды самого Сартра,
сформировавшиеся в процессе изучения творчества не только Флобера,
но и Бодлера, Рембо, Лотреамона, Жене и многих других.
Естественно, он критически перерабатывал концепции мыслителей,
писателей, поэтов, художников, композиторов. Но, видимо, не
случайно Сартр во многом следовал теми путями, которые были
проложены выдающимися представителями французской и мировой
культуры. Его эстетика несет на себе следы их воздействия, хотя
некоторые положения Сартра не имеют аналогов ни в
современности, ни в классической древности. Так сартровская сфера
воображаемого расходится и с классическим мимезисом, и с романтической
экспрессией, и с идеалистической интуицией, и с марксистской
теорией отражения.
Мы уже отмечали особенности метода Сартра, когда
рассматривали «Критику диалектического разума» и особенно его «Вопрос
о методе». К тому, что Сартр пытался в своем методе объединить
марксизм, феноменологию, экзистенциализм и психоанализ,
следует добавить, что он рассматривает феноменологическое описание
эстетического объекта не с точки зрения его восприятия читателем,
зрителем или слушателем, а с точки зрения автора. По существу,
232
Сартр стремится к сочетанию исторического описания и
биографического исследования: художника как страдающего человека, а не
как человека создающего и производящего, творящего. В связи
с этим Сартру нет необходимости исследовать сам процесс
творчества, а также его результат — произведение искусства. Сартр
считает ошибочным традиционное «извлечение» души художника из
его произведения: соответствующее понимание и эмоции, присущие
тому, кто проводит анализ, приписываются автору произведения.
Подобный экстраполятивный метод Сартр считает совершенно
неприемлемым, как неприемлем для него и позитивистский анализ.
Мы уже видели, что Сартр, сочетая социальные, психологические
и биографические данные, конструирует психологические типы или
психологические модели. При этом он отделяет автора от
произведения. Эстетическая проблематика смещается: Сартра интересуют
не отношения автора и произведения, а автора и публики.
Совершенно очевидно, что эстетика становится более социальной, более
активной в социальном отношении. Однако она утрачивает в
понимании взаимосвязей автора и публики (читателя, зрителя,
слушателя) глубину и диалектичность этих взаимосвязей, поскольку
отношения автора и публики сводятся к сотрудничеству или к
партнерству, а то, что их связывает по-настоящему — произведение
искусства,— остается в стороне. В связи с этим проблема творца
(художника, писателя, композитора и т. д.) и публики (зрителя,
читателя, слушателя — словом, человека, воспринимающего
искусство) не может быть решена. А ведь эта проблема проходит через
всю историю искусства от древности до наших дней, становясь со
временем все более острой и все более актуальной: речь идет уже не
об «игре» художника как такового, а о его «игре» с публикой, то
есть речь идет о самых важных и самых фундаментальных
проблемах искусства и общества.
Нам кажется, что Сартр понимал всю серьезность, глубину
и масштабность задач современной эстетики. Ведь не случайно,
подхватывая традиционную проблематику, он преобразует ее в
самую что ни на есть современную, но так, чтобы она не теряла
исторической глубины и гуманистического пафоса. Например, Сартр
бесстрашно и новаторски трансформирует мифы и откровения Хай-
деггера в проблему мстящей, карающей функции современного
искусства. Нигилизм, изобличенный Ницше, и гуманизм,
отвергнутый Хайдеггером, доведены до логического конца и получили
современное звучание в исследовании феномена «проклятых» поэтов,
находящихся в непримиримом конфликте с обществом и
обретающих исцеление в мистифицирующем, лгущем, сеющем озлобление
искусстве.
Особого внимания заслуживает попытка Сартра тесно связать
эстетику, этику и политику: эстетика у него намечает основные
измерения гуманистической этики, а политика придает и эстетике
и этике глубоко гуманистическое содержание и человеческий облик
233
как в индивидуальном, так и в социальном смысле. Правда, Сартр,
восходя к традициям Платона и Канта, не может до конца решить
этическую проблематику — позитивная этика (попытка
учреждения подлинной свободы человека, освобождение его от эгоизма, от
страха, от консерватизма и привилегий, унижающих его
достоинство) сосуществует с негативной этикой (искусство освобождает себя
посредством порабощения людей, воспринимающих его, оно — не
поиск истины, а мистификация, не средство объединения и
сотрудничества людей, а их разъединение, отчуждение).
Противоречивый социокультурный опыт современности не
находит у Сартра концептуального разрешения. Но этот опыт охвачен
мыслью, пережит и положен в основу новых требований к
философии, науке и искусству, призванному обеспечить свободу человека.
234
Микель Дюфренн. Искусство и политика
Феноменологическая философия и эстетика большое внимание
уделяют анализу эстетического опыта и проблеме социальности во всех
ее видах и формах вплоть до взаимоотношения искусства и
политики. Особая роль в разработке этой проблематики принадлежит
французскому философу и эстетику Микелю Дюфренну. Его теория
представляет собой сплав идей немецкого экзистенциализма,
перенесенного на французскую почву и истолкованного в духе
философии Мерло-Понти и Сартра, а также феноменологии Гуссерля
в том виде, который ей придал Мерло-Понти, с учетом некоторых
достижений лингвистики, семантики, семиотики, структурализма.
Если принять во внимание изменившуюся социальную
действительность со времен второй мировой войны, когда отпала особая
необходимость в «кричащем» экзистенциалистском переживании
мира абсурда и страха и когда появилась возможность более
«спокойного» и менее «кричащего» описания ситуации, в которой
находится человеческое существование, то можно, не боясь
ошибиться, сказать, что экзистенциальная феноменология и
феноменологическая эстетика постепенно начинают занимать позиции
ослабевающего экзистенциализма и его эстетики. Во Франции эта роль
принадлежит прежде всего феноменологической эстетике М. Дюф-
ренна, вслед за эстетикой Сартра и Мерло-Понти. Именно поэтому
она требует к себе пристального и постоянного критического
внимания.
В силу того, что позиции его нетрадиционны, нельзя понять
основного содержания эстетической концепции Дюфренна, если не
обратиться к его важнейшим эстетическим произведениям и в
первую очередь к той действительности, социальная и культурная
атмосфера которой сформировала мышление целой плеяды известных
философов и эстетиков.
Микель Дюфренн принадлежит к тому поколению
французских философов, которое во многом определило развитие
французской буржуазной философии после второй мировой войны.
Поколение, включающее в себя таких философов, как Ж.-П. Сартр,
М. Мерло-Понти, Р. Рикёр и др., формировалось под влиянием
сложных социальных событий (война, Сопротивление и др.),
которые не могли не оказать на них определенного воздействия. «Наше
поколение во Франции,— пишет Дюфренн,— было более
чувствительным к исторической ситуации — к русскому опыту и к росту
фашизма, чем к завоеваниям логического империализма» 1. Эта
«чувствительность к исторической ситуации» соединялась с
«чувствительностью» к идеологическим сражениям, никогда не
умолкавшим на древней галльской земле, в особенности начиная с периода
до и после Парижской Коммуны. Борьба основных философских на-
235
правлений XIX в. во Франции — материализма, позитивизма,
спиритуализма — окончилась превращением спиритуализма в
господствующую философию либеральной буржуазии. Дехристианизация
средних слоев выдвигает позитивизм — философию радикальной
светской буржуазии — на второе место после спиритуализма.
Вульгарный материализм, распространенный в среде передовой мелкой
буржуазии, потесненный позитивизмом, уступает место
пролетарскому революционному материализму, способствуя проникновению
марксизма во Францию2. Борьба между этими философскими
направлениями надолго определит развитие французской
философской и общественно-политической мысли, принимая
замаскированные формы борьбы между классическим рационализмом и
спиритуализмом, догматизмом и критицизмом и т. п. «Наше поколение,—
отмечает Дюфренн,—сначала получило наследство классического
рационализма; через обучение Бруншвига и Алэна оно приобщается
к спору между спинозистским догматизмом и кантианским
критицизмом» 3.
Дюфренн здесь не случайно не упоминает Гегеля и его
диалектику. Ожесточенная борьба буржуазной философии против
материализма и особенно против марксизма сочеталась с борьбой против
гегелевской диалектики, поскольку буржуазия испытывала
животный страх перед любыми формами диалектики, перед диалектикой
вообще. «Ужас перед диалектикой был таков,— вспоминает
Сартр,— что сам Гегель был нам не известен. Конечно, нам
разрешалось читать Маркса, даже рекомендовалось чтение его: следовало его
знать, «чтобы его опровергать». Но без гегелевской традиции и без
преподавателей-марксистов, без программы, без инструментов
мысли наше поколение, как предшествующее, так и последующее,
совершенно не знало исторического материализма» 4.
Поэтому совсем неудивительно, что данное поколение
французских философов знакомилось с Гегелем через Маркса и после
Маркса. Дюфренн прямо пишет об этом важном для его поколения
моменте: «Через Маркса оно открыло Гегеля, и пока Кавайе (Cava-
illes) одинокий занимался математикой, оно вопрошало об
отношениях «Логики» и «Феноменологии», онтологии и антропологии» 5.
Незнание или, в лучшем случае, плохое знание диалектики
оставит неизгладимый и неизжитый до сих пор след на
интеллектуальном облике лучших представителей данного поколения: боязнь
диалектики, страх перед нею и ее революционными выводами —
один из существеннейших факторов формирования философского
кредо profession de foi Сартра, Камю, Мерло-Понти, Дюфренна,
Рикёра и других представителей данного поколения французских
мыслителей. Он будет постоянно сталкивать их к аналитическому
мышлению (аналитическому разуму), который, хотя и выдается его
сторонниками за самый современный метод мышления, тем не
менее представляет собой одну из форм (безусловно, весьма
развитую) до- или преддиалектического мышления. Большая часть пред-
236
ставителей данного поколения является
философами-экзистенциалистами (Сартр, Камю, С. де Бовуар и др.) или феноменологами
(Мерло-Понти, Дюфренн и др.), хотя при этом следует учитывать
взаимное влияние феноменологии и экзистенциализма, несмотря на
исторический примат феноменологии над экзистенциализмом.
Дюфренн следующим образом описывает становление, развитие
и взаимоотношения феноменологии и экзистенциализма, а также
их связь с исторической ситуацией: «Пришла война, оккупация
и Сопротивление. Свобода самых мужественных подверглась
испытанию в этой атмосфере ужаса. Экзистенциализм принял тогда
позицию «феноменологии», чтобы с замечательной силой
провозгласить веру в человека. «Логос» был мертв, история была убита
силой ужаса и абсурдности; нужно было спасать человека. Дуализм,
который был для Декарта средством создания новой науки на
развалинах средневековой космологии и который был для Канта
коперниковской революцией, средством утверждения автономии
знания и морального действия, стал для Сартра средством
установить свободу и ответственность для себя на развалинах философии
истории. Еще и сегодня, когда марксизм не является больше для
него только начинанием демистификации только для самого себя,
Сартр ищет в человеческой практике (praxis) единственное место
диалектики и единственную движущую силу интеллигибельности
истории. Экзистенциализм нашел также источник вдохновения
в определенной интерпретации гуссерлевской феноменологии. По
мере того, как стирались бедствия войны и как история открывала
менее нечеловеческое лицо, ставя человеку скорее проблемы, чем
вызовы, выяснилось то, что феноменология может открыть и
описать менее полемическое и менее трагическое отношение человека
с миром» °.
Экзистенциализм вышел из феноменологии и в ходе своей
эволюции не переставал испытывать на себе ее влияние, как об этом
свидетельствуют произведения Хайдеггера, Сартра и других
философов-экзистенциалистов. Но в конкретных условиях Франции (и,
видимо, в известной степени Италии) в силу растущего камуфляжа,
прикрывающего антигуманистическую сущность
капиталистического общества, представляющего его «менее- нечеловеческим лицом»,
появилась потребность в более спокойном, не крикливом, не
вызывающем описании «менее полемического и трагического отношения
человека с миром». В связи с этим феноменология вновь
почувствовала прилив сил и по мере утраты экзистенциализмом былой
громкой славы она, используя более совершенный аппарат современной
логики, математики и других точных наук, постепенно вытесняет его
с занимавшихся им в течение трех десятилетий позиций.
Здесь любопытно отметить тот факт, что феноменология
пытается теперь, учитывая печальный опыт экзистенциализма,
ликвидировать «ахиллесову пяту» — отрицание экзистенциалистами
значимости науки для человека,— придать своей философии строго «на-
237
учный» характер путем использования методов точных наук при
анализе «феноменов сознания», «объектов сознания» и т. п. Этот
запоздалый интерес к точным наукам — математической логике,
семиотике, семантике, лингвистике и т. д., к естествознанию
объясняется стремлением феноменологов «быть с веком наравне»,
сделать свою философию более научной по сравнению с
экзистенциализмом, персонализмом, неотомизмом и т. п. Как через Маркса они
открыли Гегеля, так через экзистенциализм они открыли...
Витгенштейна. Феноменологи поняли, пишет Дюфренн, что
«законодательный рассудок» (l'entendement législateurs) не теряет свои права
и в настоящее время, что современный логицизм, вслед за
Витгенштейном, силой отстаивает свои права на существование. Молодые
французские философы объединяются в свою школу, напоминая
философии о задаче, которую ей не следует забывать: «защита
и прославление рационализма» '. Вместе с тем феноменологи
быстро поняли и трудность выполнения и решения этой задачи с
позиций феноменологической философии и даже при помощи
современного логицизма. Как в свое время экзистенциализм не мог
отказаться от родства с феноменологией, из которой он собственно
вышел, так и феноменология не может полностью «очиститься» от
«грехов» экзистенциализма, в силу общности позиций и значимости
поднимаемой экзистенциалистами проблематики. Эти трудности
очень точно выразил Дюфренн: «Но Витгенштейн, после
«Трактата», написал «Исследования» («Investigations»); и Башляр уделяет
равное внимание произведениям cogito ученого (savant) и cogito
мечтателя (rêvant). Как согласовать в равных правах ученого
и мечтателя в мире сосуществования, науку и поэзию в мире речи и,
наконец, образы и структуры в мире вещей? Мне кажется, этот
вопрос обязывает к положительному ответу на проблему: нужны ли
еще философы? Конечно, как говорит Ясперс, мы потеряли
наивность; мы не можем больше безоговорочно присоединяться к
философским системам, как и к религиозным мифам: ни к Спинозе
после Канта, ни к Гегелю после Маркса, ни к раннему
Витгенштейну после позднего; мы не хотели бы мистифицировать снова то, что
мы демистифицировали: мы остерегаемся марксизма или
фрейдизма, как только они окажутся готовыми принять наследство церкви.
Мы отказывались по большей части от абсолютного знания, в
двойственной форме знания абсолютного и абсолютного знания; мы не
претендуем быть ни пастухами Бытия, ни демиургами Космоса. Но
мы не можем отказать себе вопрошать о нас самих и о том мире,
где мы есть, «потому, что существующий мир,— пишет Мерло-
Понти,— существует в вопросительном виде» й.
По существу, здесь начертана программа или философское
кредо поколения, к которому принадлежит Дюфренн, программа
«вопрошающей мысли» (la pensée interrogative), которая хотела бы
согласовать или соединить в единое целое ученого и мечтателя,
науку и поэзию, образы и структуры, отказываясь от какого бы то
238
ни было абсолютного знания, а лишь вопрошая себя о самих себе
и о существующем мире, поскольку сам мир существует лишь
в проблематической форме. Феноменологи боятся снова впасть
в мистику, но одновременно их пугает и глубоко научная
философия марксизма, являющаяся, по мнению даже такого философа,
как Сартр, единственно возможной научной философией нашей
эпохи, философией, которую нельзя ни игнорировать, ни
преодолевать. Мир для них имеет смысл лишь как мир вопрошаемый, и
вопрос о нем составляет часть вещей.
Обосновывая современный вариант феноменологии, Дюфренн
оговаривает характерное смещение акцентов: «Мы не заставляем
себя следовать букве Гуссерля. Мы понимаем феноменологию в том
смысле, в каком Сартр и Мерло-Понти акклиматизировали этот
термин во Франции: описание, которое имеет в виду сущность,
которая сама определена как значение, имманентное феномену и данное
вместе с ним. Сущность должна быть открыта, но посредством
снятия покрова, а не благодаря скачку известного к неизвестному.
Феноменология применяется прежде всего к человеческому, потому
что сознание есть самосознание: именно здесь есть модель
феномена, являющегося как явление смысла самому себе. Мы оставляем
в стороне... значение термина в гегелевской метафизике, где
феномен является приключением бытия, которое отражается в самом
себе, благодаря чему сущность выходит за свои собственные
пределы в понятие» 9. Отсюда видно, что Дюфренн расходится не столько
с Гуссерлем — фокус аналитических усилий по сравнению с гуссер-
лианским перемещается, но остаются незыблемыми принципы
феноменологического анализа,— сколько с Гегелем, с его
диалектическим пониманием отношения сущности и явления: Дюфренн не
приемлет диалектику сущности и явления даже в ее
идеалистической, гегелевской интерпретации и сохраняет настороженное
и опасливое отношение к диалектическому методу как таковому,
предпочитая диалектике познанного и непознанного, которое в
результате деятельности человеческого познания становится
познанным, феноменологическую редукцию, «совлечение покровов» —
операцию, благодаря которой якобы «открывается» сущность.
В этом смысле феноменология является своеобразным антиподом
диалектики, диалектического метода познания.
Если феноменология Гегеля предполагает тождество бытия
и сознания, точнее, сознания и его объекта, то феноменология
Гуссерля и его последователей во Франции устремлена на изучение
феноменов «чистого» сознания или самосознания.
Однако, развивая вслед за Сартром и Мерло-Понти принципы
акклиматизированной во Франции феноменологии, Дюфренн
предпринимает попытку избежать психологизма и «идеализма» и
удержать в поле сознания и «нас самих и тот мир, где мы существуем»,
попытку, как мы увидим далее, весьма шаткую и неубедительную:
«Мы существуем в мире. Это означает, что сознание является при-
239
нципом мира и что всякий объект раскрывается и выявляется
согласно позиции, которую он занимает, и в опыте, который он
производит,— пишет Дюфренн, отдавая дань феноменологии как инту-
ированию.— Но... это сознание пробуждается в уже упорядоченном
мире, где оно оказывается наследником традиции, пользующимся
выгодами, даваемыми историей, и где оно само начинает новую
историю.
...Объект всегда соотнесен с сознанием, с каким-то сознанием,
но это потому, что сознание всегда соотнесено с объектом,
рождаясь в истории, где сознание множественно, где сознание пересекает
сознание, где оно встречает объект» |0.
Дюфренн признает, следовательно, известную обусловленность
сознания «природной и культурной данностью»; логика его
рассуждений такова, что сознание непременно должно иметь свой объект
и свои историко-временные характеристики. Весьма существенно
также, что, обосновывая свое понимание интерсубъективности,
Дюфренн обращается к эмпирике и истории, полагая ее
антропологический эквивалент в том, что Кант называет человечеством. При этом
эйдетическая заданность интерсубъективности если не снимается
совсем, то выступает в глухой, стыдливо-идеалистической форме
корреляции идеальных и реальных факторов, что вообще характерно
для «французской модели» феноменологии. Французские
феноменологи, во всяком случае, склонны подчеркивать значение истории
и культуры, а также различных форм социальности: коллективов,
групп, внутригрупповых и межиндивидуальных контактов для
формирования сознания и его соответствующих функций.
Все эти качества мировоззренческой и общефилософской
концепции Дюфренна: обостренное чувство истории, небезразличное
отношение к реальной социально-культурной проблематике,
гуманистический пафос, тщательность феноменологического анализа
и непреодолимые нелады с диалектикой при попытке позитивного
решения продиктованных лучшими намерениями проблем,—
отчетливо обнаруживаются и в его эстетике, оказывающей известное
воздействие на современное искусство и культуру.
Заинтересованность Дюфренна в социальной роли искусства
и его исторических судьбах сомнению не подлежит. Поверхностная
критика упрекает его иногда в психологизме, обманувшись
терминами, означающими центральные категории эстетики Дюфренна:
эстетический опыт (зрителя), эстетический объект,
конституирующийся в эстетическом восприятии, и др. Но, в сущности, Дюфренн
старается избавиться как от психологизма, связанного с
эмпирической индивидуальностью художника, поскольку элиминирует
эстетический опыт творца, так и от субъективизма восприятия. Субъект
восприятия, согласно Дюфренну,— не эмпирический субъект:
эстетическое восприятие — это не случайное, не «всякое», а
конгениальное произведению восприятие, подготовленное художественной
традицией и предполагающее развитый эстетический вкус. Только
240
такое восприятие, довершая начатый художником цикл творчества,
превращает произведение в эстетический объект; и только в
соучастии компетентного зрителя, публики произведение обретает
«жизнь», окончательное завершение и реализацию в качестве
эстетического объекта: «эстетический объект — это произведение
искусства, воспринятое как таковое, произведение искусства,
добившееся восприятия, которого оно домогалось, которого оно
заслуживает и которое совершается в послушном сознании зрителя.
Короче, это произведение искусства в той мере, в какой оно
воспринято. Эстетическое восприятие создает эстетический объект, но
при этом отдавая ему должное, т. е. подчиняясь ему. Оно даже до
некоторой степени завершает, но не создает его. Воспринимать
эстетически — значит воспринимать верно; восприятие является
работой, так как существуют неумелые восприятия, упускающие
эстетический объект, и только адекватное восприятие осознает его
эстетическое свойство. Вот почему, когда мы анализируем
эстетический опыт, мы будем предполагать правильное восприятие:
феноменология будет по смыслу деонтологией» п.
Дюфренн приходит к парадоксально звучащему выводу:
«...зрителю, который несет ответственность за освещение произведения,
надлежит быть на уровне произведения в большей мере, чем
автору». Такова основная коллизия эстетической теории Дюфренна,
утверждающего изначальную социальную активность искусства:
эстетика, по его мнению, должна мобилизовать как эстетическую
жизнь творца, так и эстетический опыт зрителя.
Как же объясняется антипатия Дюфренна к социологии
искусства, обращенной, казалось бы, к той проблематике
взаимозависимости искусства и общества на фоне историко-культурного
процесса, серьезность которой, согласно его взглядам, бесспорна?
Для самого Дюфренна его позиция выступает как протест
против вульгарного социологизма, против грубого детерминизма,
игнорирующего имманентное развитие искусства.
Не отрицая огромного воздействия на развитие искусства,
техники, социальных институтов и идеологии, Дюфренн настаивает на
том, что искусство повинуется также некоторого рода внутренней
логике, следует становлению собственной проблематики, в то время
как социологический подход недоучитывает относительной
автономии искусства: «Социологическое объяснение не принимает в
должной мере во внимание движение, которое ведет живопись от
альбертианской перспективы к иллюзионизму или тональную
музыку к политональной и додекафонизму... Но история искусства
показывает, что искусство имеет свою историю в истории».
«Антисоциологическая» установка не мешает Дюфренну
включить в свою теорию обоснование постоянного взаимовлияния
искусства и социально-культурной среды, «социального заказа» и
художественного стиля. Он ратует за творческую активность
художника, призванного чутко реагировать на проблемы, продиктованные
241
современностью и озабоченного решением внутрихудожествен-
ных задач.
Если художники удовлетворяются пассивной интерпретацией
существующего положения вещей, лишая себя права на выработку
собственного стиля, если искусство не задается актуальными
вопросами, поставленными определенным состоянием искусства или
определенной социально-культурной ситуацией,— это
свидетельствует о его упадке, граничащем с самоуничтожением. Искусство
убивает себя, если оно сводится к мрачному безличному повторению
освященных формул; оно живет только благодаря введению нового,
и подлинные произведения — это такие, которые открывают
историю, создавая новые возможности. Впрочем, даже если оно не
является стихийно рефлексивным, «художника нет без проблем, ибо
проблемы могут быть поставлены ему извне, а именно социально-
культурной средой; изобретение бетона повертывает снова к
осмыслению архитектуры, как открытие электроники к переосмыслению
музыки».
Следовательно, без проблем нет ни искусства, ни художника.
Однако остановиться на этом было бы для Дюфренна равносильно
отождествлению своей позиции с социологическим подходом. «Но
если он действительный художник, ангажированный или нет, его
лозунг будет: сначала искусство! Запросы среды — ее просьбы или
принуждения — будут поняты только через переложение на язык
искусства, через превращение в эстетические проблемы. Только
таким образом причинность должна приходить в историю
искусства». Действительно, художник ставит и решает проблемы
специфически художественными средствами. Да и проблемы, которые
ставятся перед ним средой, жизнью, действительностью,
искусством, он может по-настоящему понять и воспринять лишь как
художник.
Вот это подчеркивание специфически эстетического
преломления социальных проблем, встающих перед искусством и
художником, весьма характерно для эстетики Дюфренна и позволяет ему,
с одной стороны, дать убедительную критику
вульгарно-социологического подхода к искусству, подхода, который механически
переносит социальные проблемы в искусство и механически же
превращает социальные и идеологические задачи в задачи искусства,
с другой стороны, это позволяет ему отчасти выявить специфику
собственно эстетического подхода к действительности и к анализу
художественных произведений.
Важно отметить, что Дюфренн пытается установить
генетическую связь проблем, решаемых искусством, с художественной
практикой и историей. Однако именно здесь, как отмечал еще Маркс,
ярче всего проявляется слабость всякого рода идеалистических
и вульгарно-материалистических концепций; для них история —
камень преткновения. В полной мере это относится и к
феноменологической эстетике Дюфренна.
242
Правда, феноменология, в отличие от различного рода
вульгарно-социологических концепций, пытается более тонко и глубоко
понять искусство и исследовать его во всем многообразии родов
и видов. Однако феноменологический метод абстрагируется от
установления противоречивого характера отношений искусства с
действительностью, с обществом, с историей, от противоречивого,
диалектического характера действительности в самом широком смысле
слова и ее отражения в искусстве.
Дюфренн постоянно подчеркивает «динамизм истории,
связывая его с деятельностью творческой личности, которая, «создавая
новую форму, открывает новый мир». Вместе с тем, история — не
беспорядочное броуновское движение множества индивидов, а
становление, продукт произведений, концентрирующих прошлое,
настоящее и будущее. Благодаря историчности искусства
современники говорят за себя и за древних, помогая и их понять иначе.
Дюфренн прав, связывая прошлое с будущим, историю с
современностью. Это, пожалуй, относится не только к искусству, а ко всей
материальной и духовной культуре: нельзя идти вперед, не усвоив
всего, что выработано человечеством за всю историю его
существования. Но у Дюфренна здесь другая цель; его «возвращение к
примитивности, к первобытному»,— это нечто совсем иное, чем
освоение или усвоение материальной и духовной культуры прошлого. Он
следует довольно распространенной в западной философии идее
возврата — как итогу и цели усилий философии и искусства,
которые в известной мере (а то и полностью) были бы средствами
возвращения человека к природе или к бытию. Особенно остро это
чувство было выражено в философии экзистенциализма (Хайдег-
гер, Аббаньяно и др.). Как видно, и феноменология оказалась не
чуждой подобным настроениям.
Дюфренн ставит очень существенный для его философской
и эстетической концепции вопрос: «если самое увлекательное
движение к новому есть в то же время возвращение к источнику, не
имеется ли на всем протяжении истории чего-то постоянного, как
земля, которую она никогда не покидает, которое утверждается как
существенное, всегда желанное искусство? Да, и это именно в
феноменологии, которую оно должно открывать. Описывая
эстетический опыт, она открывает, что этот опыт, даже когда он
учреждается и делается благоразумным, как в классические эпохи, всегда
одушевлен заботой о первоначальном контакте с природой:
чувством Природы». Откуда эта тяга к природе? Дело, видимо, не только
и не столько в руссоистских традициях французской буржуазной
философской мысли. Пожалуй, более.важными факторами
являются антигуманистический характер современного общества,
непостижимый для феноменологии механизм отчуждения.
Протест против загнивания современного общества и
современной культуры, против конформизма «искусства заказа», когда
художники отождествляют интересы искусства с интересами эксплуа-
243
таторских классов, принимает форму своего рода ностальгии
«естественного человека», отторгнутого от первозданной «родины».
Искусство является одним из средств, которые позволяют
«находить настоящее, чтобы прославлять невыразимое первичное
состояние, когда человек появляется в природе, для того, чтобы
Природа появилась в человеке». В ситуации отчуждения именно
художнику принадлежит прерогатива ломки институтов ложно
учрежденной социальности. Его отношение к окостеневающим
структурам враждебной человеку среды должно оставаться неизменно
полемическим.
Всегда были, есть и будут художники-конформисты. Этих
Дюфренн в расчет не берет. Ему импонируют настоящие
художники и настоящее искусство. Вот как Дюфренн понимает это:
«Случается также, что он становится конформистом, если он
отождествляется с Двором или с господствующим классом: тем хуже для
искусства, когда оно становится искусством заказа. Но часто, и в
особенности когда общество становится, в частности, коварным,
бесчеловечным, угнетающим, художник вступает с ним в спор.
Однако он не оспаривает всю социальность; напротив, он мечтает
о другой социальности, о другой культуре, которая была бы снова
природой, которая укоренилась бы в Природе. Он мечтает о ней,
и он ее учреждает: искусство — это праздник, церемония или оргия,
возвращение к природному, естественному братству. Возвращение
к началу».
Таким образом, феноменологический метод рассмотрения
социальных функций и задач искусства дает довольно скудный итог:
утопия, и к тому же не новая.
Понятно теперь, что реальный и кажущийся смысл
антисоциологической инвективы Дюфренна не совпадает.
В сущности социологическая интерпретация неприемлема для
Дюфренна не потому, что она недоучитывает относительной
независимости искусства от общества, а потому, что действительные
социальные функции искусства вытесняются внутри его концепции
мнимыми.
Искусство, по мнению Дюфренна, выполняет свою особую
задачу, оно несет «метафизическую прометеевскую» функцию
возвращения человека к природе, к фундаментальным
основаниям бытия.
Теперь видно, насколько обманчив постулируемый им
«историзм». Обращаясь к историческому рассмотрению искусства,
Дюфренн обнаруживает в эмпирике и истории то, что заранее знает,—
телеологическое упорство абстрактной метафизической задачи. Вся
история искусства, «скандированная», как он говорит,
произведениями художественного гения многих поколений, свидетельствует
о неизменной цели. Эта цель воспроизводится в каждом
онтологическом акте, когда творческое усилие художника с помощью
произведения вовлекает зрителя в творческий цикл и как бы «под-
244
нимает» его до универсально-человеческого, т. е. приобщает к
природе, и прослеживается даже в эволюции стиля, в имманентной
истории искусства. Увлечение примитивом в современном западном
искусстве, возвращение к простоте Дюфренн воспринимает как
подтверждение телеологичности истории искусства, симптом
расцвета искусства — счастливого совпадения художественного этапа
и неизменной задачи, поскольку собственно эстетический статус
художественной эпохи как бы подыгрывает метафизической
цели — возвращению к природе.
Дюфренн выступает против исторического релятивизма,
учреждая объективный характер прекрасного. Искусство
преодолевает субъективность тем, что оно всегда тесно связано с реальностью,
открывает ее и, в известном смысле, превосходит. Именно поэтому
художественное произведение — не просто выражение или
самовыражение художника, а сгусток истории, исторический документ,
обладающий истиной или истинным содержанием. Не случайно
Дюфренн постоянно апеллирует к природе, к жизни, к бытию,
которые имеют, по его мнению, метафизическое значение или
метафизический принцип. Если у Гегеля художник был выразителем
определенного состояния абсолютной идеи, давая ей
конкретно-образное воплощение, то у Дюфренна художник является инструментом
бытия, жизни, природы. Таким образом, настойчивое
подчеркивание антропологической природы искусства связывается у
Дюфренна с не меньшим, если не с большим акцентированием
онтологической основы, онтологической направленности, онтологического
характера искусства и философии. Хотя сам Дюфренн и
предупреждает, что нельзя говорить о какой-то «феноменологической
онтологии», а скорее об «онтологическом заключении»,
«онтологическом выводе» феноменологии, ясно, что «онтологизм»
пропитывает всю его философию и эстетику.
Дело в том, что Дюфренн, вслед за Мерло-Понти, определяет
свою философию и эстетику как философию и эстетику
«двусмысленности». Вот этот характер «двусмысленности» определяет или
выдает антидиалектическую суть философии и эстетики Дюфренна.
«Онтология», о которой он так заботится, необходима ему не
только для того, чтобы преодолеть субъективизм и психологизм, но
и для конструирования сферы действия феноменологического
метода: онтологические структуры существуют для того, чтобы их
описывал или открывал феноменологический метод, а
феноменологический метод существует для того, чтобы описывать или открывать
онтологические структуры. Весьма своеобразная телеология! И тем
не менее Дюфренн ищет подтверждение своей концепции в
истории искусства. Каждое подлинное произведение искусства в той или
иной мере представляет собой открытие какой-то «онтологической»
структуры (разумеется, через субъективность художника, которая
является своеобразным выражением объективности онтологической
структуры). И чем яснее произведение искусства выражает струк-
245
туру, тем оно ценнее, глубже и совершеннее. Каждое произведение
искусства — это шаг, приближающий человека к природе, к жизни,
к бытию. История искусства — это длительный, трудный,
чрезвычайно драматический процесс возвращения человека к природе,
к первоначальной основе. Искусство есть великое средство
«очищения» и «причащения» к природе, если не единственное, то во всяком
случае одно из самых могучих.
Вся история искусства свидетельствует о том, что
художественные стили стремятся к простоте, к исходной, первоначальной
ясности. Не случайно великие художники всех времен обращались
к штудированию первобытного искусства. Поскольку эта тенденция
является довольно существенной в современном искусстве, то Дюф-
ренн, вопреки Гегелю и экзистенциалистам, говорит не о гибели
искусства и не о том, что современная эпоха враждебна искусству
и художественному творчеству, а, наоборот, о том, что современная
эпоха предоставляет искусству все возможности для его расцвета.
Прогресс искусства, утверждает Дюфренн, в его движении назад,
вспять, в возвращении к первоначальным структурам, цель
искусства — возвращение к природе, к бытию. Средства этого
«возвращения» — само искусство и феноменологический метод,
описывающий и раскрывающий его.
Исследуя историю искусства, Дюфренн проделывает
громадную аналитическую работу, чтобы обосновать правильность своей
концепции. Однако его подводит то, на что он возлагал все свои
надежды: философия «двусмысленности» и феноменологический
метод. Вместо того, чтобы исследовать действительную, живую
человеческую историю, пронизанную конфликтами и
противоречиями, философия «двусмысленности» и феноменологический метод
описывают «онтологические структуры», т. е. конструкции,
«очищенные» от всяких противоречий. Если диалектическое разрешение
противоречий ведет вперед, позволяет предвидеть и строить
будущее на основе познания и преобразования настоящего, то
феноменология, отказываясь от исследования противоречий, может
описывать лишь ретроспективный путь — она способна вести не вперед,
а назад. Если диалектика обеспечивает подлинное единство
диалектики, логики и теории познания, то философия
«двусмысленности» пытается учредить единство онтологии, феноменологии и
антропологии при помощи телеологического принципа: назад, к
природе. Диалектический метод позволяет решать противоречия,
феноменологический — описывать те или другие элементы,
входящие в систему противоречия. Не случайно феноменология в
известной мере подготовила структурализм — своеобразный антипод
диалектики.
Но этот процесс внутри феноменологических концепций
обычно не осознается. Показателен пример Дюфренна. Философ,
замыкающий искусство на онтологизм, мыслит свою позицию в
эстетике как позицию защиты искусства от посягательств научной
246
методологии, которая грозит уничтожить открытость, свободу,
свойственную феномену искусства. Эта аберрация, довольно ясно
проступающая в предпринятой Дюфренном критике социологии
искусства, еще сильнее дает себя знать, когда он обрушивается на
семиотический подход.
Вступая в контроверзу с семиотикой, склонной трактовать
искусство как язык и на этом основании навязывать ему
окостеневший формализм лингвистики, Дюфренн не довольствуется
пассивной обороной, он предпочитает дать бой на «территории
противника».
Прежде всего он пытается посеять рознь между лингвистикой
и семиологией: «Семиология ставит своей задачей изучение любой
знаковой системы. Всякая система может быть формализована, но
не всякая система обязательно является языком. Одежду или
мебель можно разложить на дискретные элементы, между
которыми могут существовать и существуют многообразные отношения,
позволяющие составлять различные комбинации. ...Но достаточно
ли этого, чтобы данные ансамбли заслуживали имени языка? Язык
всегда является обозначающим, независимо от того, абстрагирован
он от слова и настаивает он на семантической функции или нет.
Таковы же ли эти ансамбли? Являются ли они столь же
обозначающими, сколь систематическими и поддающимися систематизации?..
Но можно ли сказать обо всех лексикологических полях, что они
являются принципиально значащими? Кажется, некоторые могут
быть таковыми не больше, чем случайно, как внутренности птиц для
суеверного народа, симптомы заболевания для врача, цветы — для
влюбленных» .
Таким образом, множество семиологических систем в отличие
от языка имеют одну сущность выражения, сами по себе они
незначимы. Это знаки-функции. Дюфренн считает нужным выделить
и предметы-знаки, предметы, которые становятся знаками лишь
в результате какого-нибудь произвольного решения в определенном
культурном контексте. «В таком случае,— пишет Дюфренн,—
позволительно спросить себя, не должны ли такие знаки, до изучения
их как знаков, изучаться как продукт праксиса или как социальный
институт» 13. Это совершенно справедливая постановка вопроса,
поскольку любая знаковая система имеет социальную основу и
определяется ею принципиально.
Семиологический анализ, безотносительно к денотату
толкующий знаковые структуры, оказывается
абстрактно-бессодержательным: «...в поисках знания того, как знак обозначает, семиология
стремится незаметно скрыть то, что он обозначает. Или во всяком
случае истолковать, что в функции, как» 14.
Но Дюфренн вовсе не хочет оспаривать важности и
правомерности семиотики. Он считает, что попытка структурализации,
которую предпринимает семиология, не напрасна, так как
благодаря ей объект становится эпистемологическим. И тут происходит
247
совершенно необычная перестановка: эпистемологическая
обработка искусства может оказаться полезной не цдя искусства, а для
языка: «Семиология искусства может дать некоторые указания
к изучению языка; но при условии, что эта семиология сохранит
дистанцию по отношению к лингвистике и не примет ее формализм
за образец» 1Г\— утверждает Дюфренн.
Значит, не лингвистика должна снабжать моделями семиотику
искусства, а, наоборот, самой лингвистике надлежит
воспользоваться плодами семиологического изучения искусства. Дюфренн
предлагает соответствующую классификацию семиотических полей: «На
среднем уровне лингвистическое поле: язык, являющийся
преимущественно сферой значения, которое можно определить таким
образом: он позволяет передавать сообщение посредством кодов;
сообщения и коды взаимозависимы и в некотором роде
равноправны. По отношению к этому уровню имеются два предела: во-первых,
инфралингвистическое поле, которое объединяет системы, еще не
являющиеся значащими; имеется много значащих знаков или
сигналов, которые, однако, скорее следует различать, чем понимать;
имеется код, но не сообщение; значение сводится к информации.
Во-вторых, супралингвистическое поле, где системы являются
сверхзначащими; они позволяют передавать сообщения, но без
кода, или во всяком случае тем более двусмысленные, чем менее
точен код; значение является тогда выражением» 16. При этом
Дюфренн не разделяет строго эти три сферы; напротив, он говорит,
что одна и та же знаковая система может распространяться во всех
этих сферах, но концентрируется она в какой-либо одной из них.
По его мнению, «искусство является представителем супралингви-
стики» 17, а потому оно не может быть языком.
Проблема искусства и языка возникла, согласно Дюфренну, не
потому, что некоторые виды искусства прибегают к помощи языка:
существование словесных видов искусства еще не доказывает того,
что искусство есть язык. Язык всегда является носителем смысла
и материалом, обогащающим смысл. Но в любом случае словесные
виды искусства не становятся языком, ведь другие виды искусства,
хотя и не прибегают к помощи языка, могут говорить так же
хорошо, как и словесные виды искусства. Проблема искусства и языка
проистекает из элементарного изучения языка и объясняется двумя
положениями: произведение есть речь, предполагающая
определенный код, и художник говорит произведением. Именно эти
положения обусловливают различие языка и речи, кода и сообщения.
Дюфренн ставит целый ряд вопросов, касающихся
взаимоотношений искусства и языка: является ли произведение искусства
речью, составленной в языке? Существует ли язык искусства? Есть
ли в искусстве и для искусства что-то вроде языка?
Код можно узнать лишь по сообщениям, систему по продуктам
системы. Где же искать систему искусства? Как определить
искусство как целое? Это можно сделать только двумя способами: или
248
отыскивая, какая лексика и какая грамматика находятся в
распоряжении творца, или отыскивая прежде всего такое, что могло бы
удовлетворять системе в созданном произведении и, может быть,
в совокупности произведений. Тогда наталкиваются на трудности,
которые препятствуют отождествлению искусства с языком.
Прежде всего, искусство не позволяет описывать себя как язык.
Имеются различные виды искусства, так же, как и всевозможные
языки. Но по сравнению с языком виды искусства являются
одновременно и более замкнутыми, и более открытыми: они более замкнуты
потому, что не поддаются переводу, более открыты потому, что
порождают ассоциации: прекрасное не имеет границ. Если язык
представляет собой систему знаков и обозначений (систему
языковых знаков), то совокупность произведений данного искусства не
носит системного характера. «Искусство является делом единичных
творцов, и творческий праксис всегда анархичен» 1й.
История отдельного вида искусства говорит об определенной
преемственности и, может быть, о внутренней логике, хотя «каждое
великое произведение,— подчеркивает Дюфренн,— аннулирует
прошлое, включая его, и открывает будущее: таков историзм
искусства. ...Нет «системы» произведений: каждое отвергает другие, ведя
собственный поиск» 19. Но, может быть, можно найти следы языка
в каждом отдельном произведении искусства, взятом
изолированно? Здесь, действительно, обнаруживается необходимость
законченного, совершенного произведения, когда любое дополнение или
исправление может только разрушить произведение искусства.
Однако это не логическая, а органическая необходимость: «...генезис
произведения подобен росту; произведение, по мере того, как оно
принимает форму, утверждает, диктует свои собственные нормы;
(...) именно этим требованиям уступает художник, делая то, чего
произведение при возникновении ожидает от него. ...Между двумя
необходимостями, между этими требованиями произведения и
принуждениями кода нет ничего общего» 20. Таким образом, и в
отдельном, изолированном произведении искусства нет элементов языка,
нет языка как такового.
«Тем не менее,— пишет Дюфренн,— каждое творение
подчиняется определенному коду, схемы и нормы которого существуют
до зова произведения. Не там ли эквивалент языка для всякого
искусства, что-то вроде лексики и грамматики, находящихся в
распоряжении творца? Но тогда, если воскрешают в памяти язык-
объект, т. е. язык для лингвиста, то его нужно сравнивать с
искусством-объектом, т. е. с искусством для критика или эстетика (а не
с искусством как речью, т. е. праксисом художника, даже если
объективное исследование должно относиться к этому пракси-
су)» 21. Всякий объект сравним и связан с другими объектами, но не
всякий объект принадлежит знаковой системе, а только тот,
который сам является значащим. Если удалить это условие, тогда
сравнение столкнется с большими трудностями, ибо задача лингви-
249
ста — выделить единицы, а задача эстетика и особенно
художника — иметь дело с уже определенными единицами. Отсюда
чрезвычайная сложность данной проблемы. Можно ли применить
существующие в лингвистике структурные представления к
искусству? Дюфренн исследует эту проблему на конкретных видах
искусства.
Чтобы применить к музыке концептуальный аппарат
лингвистики, необходимо определить ее элементы. Элементами музыки
являются звуки и ноты, которые на первый взгляд соответствуют
словам языка. Но язык обладает двойной композицией: к какому
виду единства, сигнификативному или дистинктивному, нужно
приравнять ноты? К слову, к синтагме, когда идет речь о мелодической
фразе, или к фонеме? С чем сравнимо музыкальное поле, со
словарем или с фонологической системой? При более близком
рассмотрении ни то, ни другое не подходит, считает Дюфренн. Ноты нельзя
приравнять к фонемам, поскольку они даны непосредственно.
С другой стороны, ноты даны менее естественно, чем фонемы.
Как и язык, музыка может записываться, но отношение к
записи совершенно отлично у языка и у музыки: музыкальная запись
является по существу кодом, который не может служить другому
коду, потому что письменный знак не замещает другого знака, но
и является знаком в соответствии со своей сущностью для
исполнителя. В результате Дюфренн приходит к выводу, что запись больше,
чем сигнал, ибо она передает некоторым образом обозначаемое ею
действие и тем самым передает звук: пространственность музыки не
вырождение, а укоренение ее в природе.
«Во всяком случае, письменный знак всегда адресуется
исполнителю, ибо музыкальный объект существует только при
исполнении. Записанные ноты обладают существом знака только потому,
что они не являются еще музыкой. Но музыкальный объект не
имеет существа знака, как и ноты — значения, кроме
дополнительного. Их существо является первичным материалом, в котором
создается музыкальный объект: они составляют звуковое поле,
открытое для творческого праксиса, который взывает сам по себе
к праксису исполнителя. Другими словами, если звуковое поле
является для музыки тем, чем язык для речи, если оба служат
коммуникации, вызывая одновременно исполнение и восприятие,
сохраняется то различие, что первое существует только как
звуковое — и вот почему партитура, где записывается произведение, еще
не музыка: все сделано и все остается сделать; в то время как
второе существует уже с полным правом прежде, чем быть
конкретизируемым. И оно может существовать как благодаря записи, так
и благодаря речи: конкретизация ему безразлична. Таким образом
нота существует полностью только при исполнении, как и вообще
эстетический объект существует лишь при восприятии» 22.
Если принять во внимание, что слово не существует иначе как
во фразе, то и нота не существует иначе как в гармонии. Не являет-
250
ся ли гармония грамматикой музыки, в которой ноты были бы
лексикой? В языке система грамматики и система фонетики или
лексики, хотя и взаимозависимы, все же автономны, каждая
система имеет свой собственный строй. «В музыке общность между
звуковым полем и правилами, которые им управляют, более тесная
и по-своему уникальная: правила составляют звуковое поле и
вводят туда даже дискретность, которая делает возможным структура-
лизацию» 23. Может быть, эти правила имеют такое же значение
и влияние, как правила грамматики в языке? Дюфренн ставит более
общий вопрос: существует ли действительно звуковое поле,
предшествующее произведению?
О том, что существует лингвистическое поле, предшествующее
речи, спору нет. «Но нет самого по себе музыкального поля.
Музыка не существует вне музыкальных произведений... Каждое
произведение воссоздает, ограничивает и использует в собственных
целях свое звуковое поле» 24. Наличие же трактатов по гармонии
и контрапункту необходимо цдя музыки, которая еще не является
музыкой: для упражнений, пока не научатся языку, в соответствии
с определенными правилами: «...во всяком случае творчество, если
оно происходит не из художественной речи, не заслуживает
внимания.
Иначе говоря, каждый музыкант сочиняет музыку вновь
соответственно своему пониманию, исходя из динамической схемы,
которая ему присуща и которая будет в некотором роде душой
произведения. Если угодно, на каждой ступени развития культуры
существует определенное состояние музыкального кода, к которому
музыкант приобщается до такой степени, до какого уровня
обучения он достиг. ...Но этот код не является языком, он гораздо более
историчен, чем язык, и гораздо более могуществен, и каждый
музыкант, насколько он является самим собой, неверен ему. История
музыки, ускоренная в наше время, является непрерывной цепью
приключений и завоеваний, не перестающих потрясать звуковое
поле. И эта история остается открытой. Может быть, существует
универсальная грамматика, как это предполагает Якобсон, но не
существует всеобщей гармонической почвы, подлежащей суду
однозначного гармонического анализа, благодаря которому ограничатся,
например, созданием суммы естественных аналогий между звуками.
...Музыка существует только в музыках, которые всегда уникальны.
Если бы нужно было осуществить сравнение между музыкой и
языком, то во всяком случае надо бы сравнивать язык с музыкальным
произведением: каждое произведение требует для себя автономии
языка. Но при этом перевод с одного на другой язык невозможен,
потому что у них нет общего знаменателя, который нес бы
значение: каждое произведение означает только само себя» 25.
Музыкальное произведение никогда не следует строго правилам и
канонам — подлинная музыка всегда изобретает или поражает: ни одна
фуга Баха не следует канонам развития без их обновления, ни одна
251
соната Бетховена не следует установленному плану без того, чтобы
не внести новшество.
Дюфренн приходит к выводу: музыка не является речью. Она
не располагает языком. Больше того, она сама по себе является
собственным языком для самой себя, непереводимым и неуловимым
языком, который она не перестает разрушать, создавая.
Феноменологический анализ живописи, которая не является
значащим, суть которого трансцендируется к обозначаемому, еще
более укрепляет Дюфренна в уверенности, что в искусстве не
произведение следует за языком и грамматикой, а как раз наоборот:
язык и синтаксис являются лишь следом произведения.
«Вдохновенное искусство не пишет собственную грамматику, оно
изобретает и нарушает ее при создании; и это менее всего метаязык,
поскольку это даже и не язык» 26.
Однако коммуникативность искусства налагает известные
обязательства и на художника и на зрителя, хотя дисциплинирующие
условия художественной коммуникации не обладают ригоризмом
правил обычной коммуникации. Искусство предполагает код,
который ни определенен, ни строг и действует главным образом лишь
в окрестностях эстетической реальности, по эту сторону опыта
зрителя и творческого акта. Этот код является «феноменом
культуры и не только потому, что сформулирован и благодаря этому
установлен, но и потому, что выражает определенное состояние
эстетической практики и эстетического сознания в данный исторически«
момент» .
И все же знать код, т. е. быть сопричастным художественной
культуре, стихии произведения искусства, еще недостаточно для
эстетического опыта, ибо художественный код не воспринимается
как код, подлежащий дешифровке. Стоя у произведения, зритель не
должен соотносить то, что воспринимается, с тем, что он знает, или
измерять отличие одного от другого, ибо он забывает то, что знает
и что подготовило его восприятие. Он воспринимает только само
произведение. Дюфренн подчеркивает непосредственное
воздействие произведения искусства на зрителя. Зритель не столько
«понимает» произведение, сколько «воспринимает» его как таковое.
В этом сила искусства и одно из его основных отличий от науки,
философии и других форм общественного сознания.
Владение кодом недостаточно и для творца. Он приобщается
к коду и учится по произведениям. В этом смысле он находит в
своем распоряжении уже готовый язык, но он его переделывает. Этот
язык не является для него орудием, если это не орудие, которое он
создаст в самом творческом акте, и его синтаксис не является
больше «системой принуждений», которые налагаются на творца
так, чтобы он не мог от них освободиться. В подлинном
произведении искусства обычные элементы художественного кода
преображаются согласно единственно-неповторимому видению художника,
которое утверждается его особым стилем, индивидуально-творче-
252
ской манерой. Так, серые цвета были и до Веласкеса, девятидоль-
ные аккорды до Вагнера; это были элементы кода. Но в
произведениях мастеров элементы кода обрели самоценность существования
для самих себя или, скорее, для самого художника как незаменимое
выражение особенного существования в мире. Язык искусства не
является на самом деле языком: он непрестанно изобретает свой
собственный синтаксис. Он свободен, потому что является для
самого себя своей собственной необходимостью, выражением
«экзистенциальной необходимости» 28.
Если принять высказывание Якобсона о том, что в сочетании
лингвистических единиц существует лестница, ведущая к свободе,
то «произведение искусства располагается на ее вершине: для его
создания правила перестают быть ограничивающими, синтагма не
подчиняется больше системе. Правила, вводящие в действие код
в его эпоху, художник постоянно отвергает, даже если признает за
ними какой-то авторитет: они управляют тем, что сделали другие,
потому что они были другими» . Таким образом, эстетический
объект не подчиняется лингвистическим категориям, которыми
пользуется семиология. Искусство сопротивляется использованию
языка и знаковых систем. Они употребляются лишь в том случае,
когда похожи на код, которым творчество, как правило,
пренебрегает.
Фактически вся структура языка оспаривается искусством.
«Да, искусство всегда нарушение, потому что оно есть свобода.
И эстетика может обрести систему лишь для того, чтобы показать,
как она нарушается, а язык лишь для того, чтобы показать, что он
больше не является, или еще не является, языком, когда на нем
говорят в творческом акте. Ибо творчество в искусстве — это
речь» 30.
Это можно понимать двояким образом. С одной стороны, это
значит, что творить — индивидуальная инициатива, как и говорить,
но с той разницей, что творческий акт так свободно обращается
с кодами, которые ему предлагают другие произведения, что,
кажется, каждый раз он изобретает свой собственный язык. С другой
стороны, созданный объект есть также речь: это значит, что
произведение выдает сообщение. Какова природа данного сообщения,
как оно передается — вот вопросы собственно семантического
аспекта искусства, которые исследует Дюфренн. Несомненно,
художник передает смысл своим произведением, этот смысл имманентен
произведению. Но если бы он хотел просто выразить смысл —
описать объект, рассказать о событии, изложить теорию,
проповедовать мораль,— он бы прибегнул к обычному языку, языку
«наименования и доказательства».
Как проявляется художник в своем произведении? Чаще всего
в подтверждение положения о том, что искусство является языком,
говорят, что художник хочет выразить себя при помощи
произведения. Однако уже было показано, что если бы художник хотел ска-
253
зать о себе, то он обратился бы к обычному языку. Но «выразить —
это не всегда сказать о себе».
Если художник хочет выразить себя, то это лучше всего он
может сделать в своем произведении: выразить себя — это, скорее,
свершиться и проявиться в своем акте. Ибо художник не
осуществляется иначе, как осуществляя свою задачу: «Вот почему говорит
не художник, а его произведение и даже вдвойне: оно обозначает
его, открывая мир, который является его миром. Истина художника
в его произведении, и вопрошать надо именно истину
произведения» 3|.
Как произведение раскрывает художника? Это происходит
в акте восприятия, когда объект и субъект глубоко вовлечены
в эстетический опыт, который является их общим актом. Знак
является тогда тотальным объектом, который «несет смысл в славе
своего проявления, как лицо — душу». Со стороны субъекта
непосредственность чувства означает, что субъект принимает его
безоговорочно, как дар; он отвечает на тотальность объекта тотальностью
своего присутствия «всей своей душой», включая то, что принесла
ему культура; непосредственное эстетическое постижение на самом
деле всегда опосредовано культурой, хотя и не поддается
дискурсивному описанию, как не подлежит дифференцированному
анализу произведение искусства, поскольку его элементы поглощаются
целостностью художественного образа. «Постигать выражение
произведения — это значит проникать в мир, контуры которого неясны,
но атмосфера которого значительно определена. Произведение
выражает выражаясь, оно показывает мир, принципом которого оно
является» . Здесь Дюфренн находится под влиянием Хайдеггера.
Не случайно он приводит пример с храмом, показывающим
естественные законы, которым он подчиняется, могущество
времени, разрушающее функцию, которая ему предназначена,
исторический мир, который его постигает, чтобы быть его свидетелем,
свидетелем этой культуры, являющейся для человека второй природой,
и в конечном счете саму Природу, которая выражается через мир
и культуру.
Дюфренн приближается к кульминационной точке своей
эстетики: выражение, бытующее в науке в оппозиции с изображением,
что привычно ограничивает его смысл определенной функцией,
приобретает у Дюфренна дополнительную нагрузку. Вскрывается еще
один «глубинный», онтологический уровень: «Своеобразный мир,
который открывает нам произведение,— есть возможное Природы;
осуществляя его, произведение приносит нам послание из глубины;
и художник, в свою очередь, находит здесь себя выраженным как
тот, кто оказался восприимчивым к этому посланию» .
Когда с реальностью покончено, когда феноменология
искусства замыкается на онтологии, Дюфренн прекращает борьбу за
дефиниции и идет на попустительство семиотической терминологии:
«Искусство является языком, но в нем говорит именно Природа,
254
как случается, что она говорит через естественные объекты». И это
отнюдь не метафора, это подступ к метафизике, к развернутой
аргументации во имя онтологической сути, онтологического
принципа, заявляющего о себе во всяком феномене,— будь то
искусство или язык. «И почему не думать, что поэтическое слово, которое
бьет ключом из Природы, есть поэтическое могущество Природы,
заявляющей о себе?»
Уже Витгенштейн заметил, что логический язык, обнажая
внутреннюю структуру предложения, показывает логическую форму
мира. Выражая эту логическую форму, не приглашает ли он нас
подумать, что Природа хочет себя выразить при помощи логики,
как она хочет выразить себя при помощи поэзии? «В любом случае
именно в самом свойстве выразительности язык основывает свою
рациональность — свою власть выражать логическое и свою
поэтичность... В обоих случаях он представляет нам одну и ту же вещь
и как элемент системы вещей и как свидетельство Природы» 34.
Влияние ли это Сартра или этимологической мистерии Хай-
деггера, его упорных поисков смысла, сути, по следам
застревающих в словах значений — в обыденном языке угасших и
незаметных, а в поэзии как бы обновленных и оживших, во всяком случае
Дюфренн убежден, что поэзия учит нас истинной природе языка.
Сказанное о поэзии легко распространяется на любое искусство.
И это приводит наконец к заключению об истинных отношениях
искусства и языка,— утверждает Дюфренн. Обычно, когда
рассматривают искусство как язык, стараются понять искусство
посредством языка. Но, по мнению Дюфренна, следует предпринять
обратный ход и понять язык посредством искусства. Он утверждает, что
произвольность знака естественного языка, произвольность
названия — это заблуждение, с которым лингвистика должна покончить.
Сила выражения, благодаря которой язык убеждается в своей
семантической ценности и которая интерпретируется как его
метафизическая характеристика, именно в искусстве находит свою
лучшую иллюстрацию, так как именно в искусстве язык обретает
свой источник. Семиология искусства, которая стольким обязана
лингвистике, следовательно, может, в свою очередь, дать ей кое-
какие рекомендации, если только она не поддается обольщению ее
престижа и если действительно усвоит специфику эстетического
объекта, заверяет Дюфренн. Таким образом,
антиформалистическая и противоструктуралистская по видимости манифестация по
смыслу оказывается очень четким движением к философскому
структурализму.
На VII Международном эстетическом конгрессе (Бухарест,
28 августа — 2 сентября 1972 г.) М. Дюфренн выступил с докладом
«Искусство и политика», который свидетельствует о значительной
эволюции его взглядов и на искусство, и на политику. Под
воздействием социально-политических событий, происходивших во
Франции и в мире (события в Чехословакии, Майские события во Фран-
255
ции, молодежные выступления в ряде капиталистических стран,
«культурная революция» в Китае и т. д.), начинают постепенно
меняться и взгляды Дюфренна: от буржуазного демократизма он
все более переходит к буржуазному анархизму и левачеству, от
лояльного отношения к СССР — к отождествлению политики
советского государства с политикой США и других
империалистических стран, от высокой и восторженной оценки художественных
произведений и культуры прошлого к отрицанию всей истории
искусства и культуры.
В своем докладе Дюфренн подробно рассматривает
взаимоотношение искусства и политики. «Политика определяет
деятельность, находящуюся в сфере политического, чья цель —
осуществление или завоевание власти; суть политического определяется
реальностью индивидов, классов, партий, борющихся за власть
самым различным оружием. Предполагают, что эта область
обладает определенной автономностью, образуя то, что Малиновский
называет «институтом», со своим составом, уставом, практикой,
хотя со времен Маркса и известно, что эта автономность весьма
относительна,— политика подчинена экономике, борьба за власть
неизбежно определяется производственными отношениями.
Предполагают частичную автономию того, что Бурдье называет сферой
культуры, точнее, художественной сферой. Действительно, начиная
с эпохи Возрождения искусство осознало себя, тогда как в
традиционных обществах даже не существовало языковых различий между
искусством и техникой, творцом и ремесленником. Искусство
потребовало и постепенно завоевывало статус определенного
института с собственным составом — творцами — избранными
существами, своими ценностями — прекрасным, свободой творчества, своим
достоянием — постоянно пополняющейся сокровищницей
художественных произведений шедевров. Автономность этой области, как
и политики, ограничена, однако нельзя считать ее совершенно
иллюзорной: правящий класс использует искусство в целях своего
престижа и защиты, уступая ему в границах своих владений
свободу под надзором. Таким образом можно «заниматься искусством»
так же, как «заниматься политикой», желать прекрасное, как
желают революцию. Это два различных типа деятельности, которые
могут побуждать и вовлекать индивида, хотя внешне они не
интерферируют: такой художник, как Сезанн, может быть
революционером в искусстве, оставаясь политически нейтральным или
консервативным и наоборот».
Из чего исходит и что утверждает Дюфренн? Каков его
замысел? Что он хотел сказать своим слушателям и читателям?
Замысел Дюфренна носит не столько научный, сколько
политический характер: раскрыть механизм построения нового общества
революционным путем и показать возможности осуществления этой
революции в индустриальном капиталистическом обществе в тесной
связи с теорией и практикой искусства, то есть набросать картину
256
революционного преобразования современного капиталистического
общества, извлекая модель этого революционного преобразования
не из дискредитировавших себя различных буржуазных
политических, философских, социологических и т. п. теорий, а из того
живительного родника, к которому, кажется, уже давно никто не
припадал, но который, по глубокому убеждению Дюфренна, таит в себе
неисчерпаемые возможности революционного преобразования
общества и человека, родника, носящего имя — «искусство».
«В таком случае необходимо выяснить, какие отношения могут
или должны установиться между двумя столь различными
институтами. Будут ли это отношения подчинения? Если подчинение
политики искусству кажется маловероятным, то подчинение искусства
политике представляется возможным. Действительно, стоящие
у власти вечно испытывают этот соблазн; при помощи пропаганды
и цензуры искусство превращается в средство, его контролируют
и используют. Революционер оказывается зажатым между двумя
противоречивыми требованиями. С одной стороны, он вынужден
защищать свою автономию от давления, оказываемого на искусство
властью и правящим классом: художественная сфера — та
нейтральная полоса, где допускается некоторая свобода; не надо
оспаривать и компрометировать то, что, по крайней мере, терпят. Но,
с другой стороны, если революция — высшая цель, как не пожелать
поставить искусство ей на службу? Как принять нейтральность
искусства, лишить его политических целей? Художники часто
слышат, а порой и сами бросают призыв к политизации искусства,
особенно в горячие моменты истории. Так, в мае 1968 года возникли
новый художественный и кинематографические стили; в Квебеке
расцвела революционная, то есть сепаратистская, поэзия и песня.
В этом случае оба требования уже не являются противоречивыми:
искусство всегда требует свободы, но оно использует ее для участия
в политической борьбе».
А исходит Дюфренн из того, что проблема искусства и
политики волнует умы уже более полувека, начиная с авангардистского
движения в Европе и Октябрьской революции. На первый взгляд он
как будто отдает должное Великому Октябрю — переломному
моменту в истории человечества, а если вдуматься, то станет
очевидным, что для Дюфренна и авангардистские движения в
искусстве, и Октябрьская социалистическая революция — равнозначные
явления. И это не просто оговорка, а конкретное проявление той
позиции, которую занимает философ, та исходная точка, с которой
ведется весь отсчет и определяются все параметры социальных
преобразований и явлений культуры.
Главная ошибка Дюфренна состоит в том, что он все
существующее в настоящее время искусство считает искусством
«буржуазным»: «Искусство, являющееся монополией правящего класса,
принимается и превозносится лишь если оно выхолощено; оно
становится поводом к изысканному официальному удовольствию.
9 К. М. Долгов
257
Ионеско заметил это, комментируя недавно в газете «Монд», от
12 июля, конференцию ЮНЕСКО по вопросам культурной
политики: «Никто не хотел понять, что настоящая живая культура — это
творчество, разрыв, изменение, эволюция и даже революция. От
Запада до Востока, от Севера до Юга культура официально стала
насущным хлебом бюрократов, монополией и дубиной
тоталитарных политиков». Так называемое восстановление, которое наиболее
сознательные художники не устают обличать, есть не что иное, как
уход от спорных вопросов, приручение искусства, превращение
тоски, ярости, наслаждения в безобидную моду. Правящие круги
хотят навязать народу эту приглаженную культуру как
противоядие, чтобы уничтожить революционный потенциал масс,
обуржуазить их: вместо высокого жалованья будем раздавать искусство.
Тот, кто идет в музей, не помышляет о забастовке. Да здравствует
культура, гарантирующая сохранение существующего строя! Таким
образом, предоставленная художникам свобода оборачивается
против них: искусство превращается в предохранительный клапан.
Здесь есть связь между искусством и политикой, но она
противоположна той, которую хотели установить революционеры:
революционность искусства испарилась, культура оказалась в заговоре с
угнетением».
Одушевленный пафосом антибуржуазности, Дюфренн везде
и всюду видит только буржуазную культуру и буржуазное
искусство, оказавшиеся в заговоре с угнетением, и призывает
отказаться от них раз и навсегда, поскольку они способны лишь
«обуржуазивать» широкие народные массы, уничтожать их
революционный потенциал.
Но не все так просто, как это представляет Дюфренн.
Известно, что искусство буржуазного общества не есть только
«буржуазное искусство»: во всех капиталистических странах всегда
существовало и существует достаточно мощное прогрессивное
искусство, смело и мужественно выступающее в защиту человека, против
эксплуатации и угнетения, прославляющее и утверждающее
человеческое достоинство, прекрасное и доброе, труд и мир на земле.
Лучшие представители этого прогрессивного искусства осознавали
свою ответственность перед народом и человечеством в целом.
Достаточно назвать имена Арагона, Элюара, Неруды, Амаду,
Гильена и многих других,—имена, видимо, хорошо известные и Дюф-
ренну. Следовательно, искусство буржуазного общества не только
«буржуазное искусство», но еще и искусство прогрессивное,
искусство, выступающее против буржуазности, против
капиталистического общественного строя, против эксплуатации и угнетения,
искусство, утверждающее и создающее общечеловеческие ценности.
Но Дюфренн не видит разницы между обветшалым
буржуазным искусством и искусством прогрессивным, с одной стороны,
и реакционным буржуазным искусством и искусством
социалистического реализма — с другой. Для него все существующее искусст-
258
во есть искусство «официальное», буржуазное, следовательно,
долой это искусство!
Отсюда видно, что Дюфренн не учитывает сложности
взаимоотношений искусства и действительности, искусства и жизни, что
жизнь является вечным живительным источником искусства и что
художник живет идеями и страстями своего времени.
Абстрагируясь от конкретно-исторического анализа социальной
действительности, в которой существует то или другое искусство и которой
оно, в конечном счете, определяется, Дюфренн потерял
объективные критерии, определяющие социальный характер,
идейно-художественное содержание и направленность того или другого искусства.
Он не видит сложной диалектики искусства и действительности: то
он пытается их полностью отождествить, то начисто изолировать
друг от друга. В любом случае сущность искусства представляется
извращенной — его специфика как формы общественного сознания
и как особого вида человеческой жизнедеятельности остается
непонятой и нераскрытой. Если искусство отождествляется с
действительностью, то исчезает относительная самостоятельность
искусства, его специфика, если же оно изолируется от действительности, то
тем самым оно отсекается от своего питательного источника,
обрекается на самоуничтожение и вымирание, не говоря уж о том, что
тем самым отбрасывается объективная основа и объективные
критерии искусства и художественного творчества.
В связи с этим, когда Дюфренн обрушивается с резкой критикой
буржуазного искусства, то эта критика выглядит двусмысленной
и половинчатой. Он был бы прав в своей критике буржуазного
искусства и культуры, если бы направлял эту критику в адрес
современного выхолощенного буржуазного искусства (натурализма,
абстракционизма, и т. д., и т. п.), то есть против современного буржуазного
нигилизма и буржуазной «массовой» культуры, которые
действительно нацелены на уничтожение революционного потенциала
трудящихся, на выработку у них таких стереотипов мышления и
поведения, которыми власть имущие могли бы манипулировать и
манипулируют в собственных интересах. Такое искусство и такая
культура на самом деле находятся в заговоре с угнетением. Поскольку же
он не отличает прогрессивное буржуазное искусство и культуру от
реакционного буржуазного искусства и культуры, то его критика не
достигает цели: по отношению к прогрессивному искусству и
культуре его критика просто несостоятельна, а по отношению к
реакционному буржуазному искусству и буржуазной «массовой» культуре
эта критика оказывается недостаточно эффективной, потому что не
вскрывает их классовые и гносеологические корни.
Дюфренн пытается переориентировать установившуюся,
утвердившуюся и ставшую «традиционной» связь между искусством
и политикой: вместо того, чтобы размышлять о том, как искусство
может быть революционным, он предлагает задаться вопросом
о том, как революция может быть художественной.
9*
259
Рассуждения Дюфренна о революции аналогичны
рассуждениям об искусстве: авангардистские движения в искусстве и
Октябрьская социалистическая революция — для него совершенно
равнозначные явления. Кроме того, он не отличает одну революцию от
другой — для него все революции одинаковы. Дюфренн любит
говорить о революции вообще, о борьбе вообще, о свободе вообще, об
искусстве вообще, и т. д., и т. п. При таком абстрактном подходе,
естественно, смазываются все и всякие различия между
революциями социалистической и буржуазной, между революцией и
контрреволюцией.
«Будем исходить из идеи революции. Разумеется, это область
политики, в том смысле, который мы придаем этому слову.
Революция означает борьбу за свержение существующего строя и захват
власти, борьбу во всех возможных областях. В результате взятие
власти оказывается полной трансформацией общества, власть как
таковая, перейдя в руки угнетенных классов, должна исчезнуть,
государство отмирает; между людьми устанавливаются новые
отношения, невозможные в буржуазном обществе, основанном на
угнетении; жизнь действительно меняется, и само понятие политического
теряет свой смысл. Но до тех пор, пока оно существует, пока
ставкой борьбы является власть во всех ее формах, искусство почти
бессильно: рождение желаний, игра воображения, счастье
восприятия не имеют ничего общего со стратегией революционного
действия. Если художник и участвует в нем, то как человек, гражданин,
член или союзник определенного класса. Он делает это из
побуждений, не имеющих отношения к его художественной деятельности.
Но можно мыслить революцию с точки зрения ее цели, то есть как
дело жизни, а не как политическое дело. Тогда она может начаться
в рамках современных социальных отношений; она намечается
тогда, когда государство оспаривается повседневной практикой,
теряет свой авторитет и престиж; рабочий дает отпор хозяину,
студент — преподавателю, кюре — епископу, солдат — офицеру,
обвиняемый — судьям, распадаются и разлагаются привычные
традиционные отношения, механизм заедает и возникает
непредвиденное. Разумеется, этого спонтанного саботажа системы
недостаточно. Для достижения революционного действия нужна также
систематическая, то есть политическая, организация. Но, с другой
стороны, опыт учит нас, что если эта организация направлена лишь
на создание более могучей силы, замену одной власти другой,
имитацию и воссоздание разрушаемого, то революция лишается
смысла и притягательности. Нужно, чтобы вместе с изменением
режима менялась жизнь. И здесь искусство может многое. Оно
может вдохновлять и ориентировать культурную революцию,
ведущую к политической революции». Итак, революция, в понимании
Дюфренна,— это «непредвиденное», возникающее в результате
бунта, протеста, «спонтанного саботажа системы», когда «государство
отмирает». Неудивительно, что в таком понимании социальная
260
революция оказывается тождественной авангардистским
движениям в искусстве, а само искусство (прошлое и настоящее)
объявляется буржуазным.
Отсутствие объективных критериев приводит к смешению
и отождествлению совершенно различных по своей природе
явлений и событий, к тому, что Дюфренн начинает противоречить
самому себе: сперва он пытается доказать, что революция не должна
быть политической, а затем начинает убеждать в том, что для
достижения революции необходима политическая организация; ратуя
за создание политической организации, способной повести массы
на революцию, он в то же время опасается, как бы эта организация
не была направлена на создание более могучей власти и на замену
одной власти другою. Это типично мелкобуржуазные и
анархистские метания из одной крайности в другую.
Как подчеркивал еще В. И. Ленин, всякого рода оппортунисты
и «архиреволюционаристы» (то есть те, кто любит говорить о
революции, жонглировать революционными лозунгами без
действительного понимания сущности революции и революционного учения)
пытаются соединить в одном учении панегирик насильственной
революции с теорией «отмирания» государства: «Обычно соединяют
и то и другое при помощи эклектизма... причем в девяносто девяти
случаях из ста, если не чаще, выдвигается на первый план именно
«отмирание». Диалектика заменяется эклектизмом... При подделке
марксизма под оппортунизм подделка эклектизма под диалектику
легче всего обманывает массы, дает кажущееся удовлетворение,
якобы учитывает все стороны процесса, все тенденции развития, все
противоречивые влияния и прочее, а на деле не дает никакого
цельного и революционного понимания процесса общественного
развития» 35. Эти слова В. И. Ленина полностью относятся к дюф-
ренновской концепции взаимоотношения искусства и политики,
искусства и революции.
Известно, что в своих основных работах Дюфренн прославлял
великие художественные произведения прошлого и настоящего. Его
вера в искусство представлялась прочной и незыблемой. Однако
постепенно, по мере «радикализации» его взглядов, он вдруг стал
обнаруживать, что современное искусство или аполитично, или
подыгрывает буржуазной политике. Вера Дюфренна в искусство
омрачилась: все искусство он объявляет «официальным», способным
лишь «обуржуазивать» массы, верой и правдой служить власть
имущим. Современное искусство как искусство «буржуазное»
должно умереть, провозглашает Дюфренн. Гибель искусства — это,
полагает философ, закономерная и совершенно естественная гибель
современного «официального» искусства, как будто «буржуазное»
искусство представляет собой нечто единое, а не состоит из
искусства прогрессивного и реакционного, как будто буржуазная
культура есть нечто монолитное, а не состоящее из двух культур:
прогрессивной и реакционной. Осудив «буржуазное», «официальное»
261
искусство на гибель, Дюфренн устремляет взор на искусство,
способное вдохновлять и стимулировать культурную революцию,
которая, согласно его замыслу, должна объединиться с революцией
политической и привести к коренным преобразованиям
человеческого общества, «Этому официальному искусству нужно
противопоставить искусство, которое также было бы делом жизни, искусство,
прославляющее жизнь с ее свободой, силой, неожиданностью,
искусство, подобное невинной и дикой игре, как дионисийский
танец ребенка. Да, воссоздание: отчужденный человек воссоздает
себя. Игра освобождает, крушит гнетущие ценности, смеется над
оскопляющей ее идеологией, высвобождает жизненную энергию.
И главное, она возвращает человеку вкус к удовольствию. Не тому
бескровному утонченному удовольствию, которое присуще
созерцанию (впрочем, и оно лучше, чем ничего), а удовольствию более
дикому и глубокому, порой смешанному с тоской — ведь смерть
присутствует в жизни. Если искусство — дело жизни, оно может
быть и делом смерти; таким оно было для Ван Гога и для многих
других: игра может перерасти в страсть. Здесь действует и
проверяется свобода: хрупкое и яростное наслаждение, в котором
желание на мгновение осуществляется. Не проверка ли это перед
началом революционной деятельности? Мы занимаемся связью
Эроса и революции, но уже в 1789 году, когда появилась новая для
Европы, по замечанию Сен-Жюста, идея счастья, парижане взяли
Бастилию.
Но чтобы искусство привело к такому результату, необходимо,
чтобы оно переживалось как игра, то есть бесконечная выдумка;
и в той мере, в какой культура предполагает культ установившихся
ценностей, как антикультура. Эта игра не должна быть
привилегией нескольких образцовых игроков, в ней должны принимать
участие все. Мы вновь возвращаемся к идее демократизации
искусства. Но мы понимаем теперь, что эта идея приемлема лишь если
культурная деятельность становится антикультурной, если
демократизация означает доступ не только к произведениям искусства, но
и к художественной практике, обладающей радостной
спонтанностью игры, творческой, а не рабской».
Свои надежды Дюфренн теперь возлагает на «народное»
искусство — «не жалкое подражание официальному искусству, но
творчество людей, которые рисуют, поют, танцуют, воссоздавая
праздник», искусство, которое было бы не искусством для масс, а
искусством самих масс.
Обращает на себя внимание тот факт, что он
противопоставляет народное искусство искусству «официальному», «буржуазному».
Следовательно, «народное» искусство, по замыслу Дюфренна,
должно быть антиподом буржуазного искусства, то есть, как мы
установили, всего существующего и даже всего существовавшего
искусства. Значит, «народное» искусство, в понимании Дюфренна, лишь
отдаленно напоминает то, что представляет собой народное искус-
262
ство (былины, эпос, сказания, ритуальные танцы, празднества
и т. д.). Как известно, подлинно народное искусство всегда было
весьма и весьма серьезным делом того народа, который его
создавал: оно всегда было универсальным отражением жизни данного
народа, самых различных аспектов его деятельности,
концентрированным выражением его исторических деяний. Согласно Дюфрен-
ну, народное искусство должно быть «прославляющим жизнь, с ее
свободой, силой, неожиданностью» искусством, подобным
«невинной и дикой игре, как дионисийский танец ребенка», искусством-
игрой, крушащей гнетущие ценности (то есть уже существующие
художественные и культурные ценности), «смеющейся над
оскопляющей ее идеологией», приносящей человеку дикое удовольствие,
смешанное с тоской. Вот что понимает Дюфренн под «народным»
искусством. Нетрудно видеть, что подобное понимание «народного»
искусства имеет мало общего с подлинно народным искусством.
В своей неприязни к «буржуазному», «официальному» искусств
ву Дюфренн заходит так далеко, что «народное» искусство
представляется ему всеобщим праздником, оргией, экстазом всего
народа, всей массы людей и ни в коем случае — отдельного
художника. Инвектива Дюфренна в данном случае понятна: буржуазный
индивидуализм, разъедающий искусство, он хотел бы заменить
творчеством самих масс. Но разве подлинно народное искусство
когда-нибудь исключало роль и значение великого художника?
Скорее, напротив, творчество широчайших народных масс, как
правило, завершалось или находило свое наиболее ясное, четкое и
глубинное выражение в творчестве того или иного художника. У
Дюфренна же наблюдается явный перекос в сторону «омассовления»
искусства и культуры и недооценка индивидуального творчества.
Понятно, что он выступает здесь против исключительной
концентрации художественного таланта в отдельной личности и против
подавления его в широких массах. Но в том-то и дело, как
подчеркивал Маркс, если бы даже при известных общественных
отношениях каждый индивид был отличным живописцем, то это вовсе
не исключало бы возможности, чтобы каждый был также и
оригинальным живописцем. «Во всяком случае при коммунистической
организации общества отпадает подчинение художника местной
и национальной ограниченности, целиком вытекающее из
разделения труда, а также замыкание художника в рамках какого-нибудь
определенного искусства, благодаря чему он является
исключительно живописцем, скульптором и т. д., так что уже одно название его
деятельности достаточно ясно выражает ограниченность его
профессионального развития и его зависимость от разделения труда.
В коммунистическом обществе не существует живописцев,
существуют лишь люди, которые занимаются и живописью как одним
из видов своей деятельности» 36. Сказано это об искусстве и
художниках в коммунистическом обществе, но это высказывание
имеет прямое отношение и к народному искусству, которое, будучи
263
искусством широчайших народных масс, вместе с тем предполагает
не «омассовление» искусства, а развитие всех и каждого до уровня
личности, оригинальной и самобытной, а не массы посредственных
серостей. Таким образом, подлинно народное искусство — это не
искусство обезличенной серой массы, а искусство развитых
личностей, каждая из которых вносит свой оригинальный вклад в общее
дело. Подлинное искусство может создаваться и развиваться не
массовидной толпой в игровом экстазе, а массой личностей с яркой
и неповторимой индивидуальностью.
Народное искусство, как, впрочем, и искусство вообще, всегда
тесно связано с традицией, со всем тем, что есть в ней
прогрессивного, передового, гуманистического. В этом смысле создание новых
художественных ценностей невозможно без освоения той культуры,
которую человечество выработало за всю историю своего
существования. «Пролетарская культура,— подчеркивал В. И. Ленин,—
должна явиться закономерным развитием тех запасов знания,
которые человечество выработало под гнетом капиталистического
общества» 37. Подчеркивая значение человеческой культуры для
построения коммунистического общества, В. И. Ленин писал:
«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память
знанием всех тех богатств, которое выработало человечество» 38.
А в статье «О пролетарской культуре» В. И. Ленин показывает,
что собственно пролетарская, социалистическая и
коммунистическая культура должна развиваться на основе критической
переработки и усвоения всей предшествующей культуры: «Марксизм
завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идеологии
революционного пролетариата тем, что марксизм отнюдь не
отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил
и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетием
развитии человеческой мысли и культуры. Только дальнейшая
работа на этой основе и в этом же направлении, одухотворяемая
практическим опытом диктатуры пролетариата, как последней борьбы его
против всякой эксплуатации, может быть признана развитием
действительно пролетарской культуры» 39. Следовательно, не
отбрасывание и отрицание всей предшествующей культуры* выработанной
человечеством за всю историю его существования, а, напротив,
критическая обработка и усвоение ее во имя выработки и
дальнейшего развития новой социалистической и коммунистической
культуры.
Таков единственно правильный подход к культуре прошлого
и к созданию новой культуры.
Однако мысль Дюфренна бьется в противоположном
направлении: «Как нам освободиться от культуры, чтобы возвратиться, в
каком-то определенном смысле, к чему-то изначальному,
примитивному. Мы ясно сознаем, что совсем выйти за рамки культуры мы не
можем, а именно этот конфликт культуры и природы и является
предметом моего изучения в теоретическом плане. В практическом
264
плане меня интересует, как можно прийти к искусству, которое
было бы не искусством для масс, а искусством самих масс» 40.
Конфликт культуры и природы, принимающий в условиях
буржуазного общества необычайно острые формы, представляется
буржуазному сознанию как основное, фундаментальное противоречие
нашей эпохи. Дюфренн решает этот конфликт весьма просто — он
отказывается от культуры, чтобы вновь вернуть человека к
первозданной природе. Самым эффективным средством возвращения
к природе он считает опять-таки искусство, но не искусство,
поставляемое какой-то частью общества,— художниками,
музыкантами, поэтами, живописцами и т. д., а искусство, создаваемое самими
массами.
Может быть, Дюфренн забывает, что для того, чтобы массы
творили искусство, в них нужно еще пробудить художников, а
чтобы сделать это, следует не перечеркивать всю предшествующую
культуру, а как раз наоборот, самым серьезным образом усваивать
культуру, выработанную человечеством за всю историю его
существования. Без глубокого усвоения культуры прошлого нельзя
говорить всерьез о создании и выработке новой культуры. Без
традиции нет и не может быть новаторства, без ретроспективы, то
есть без обращения к культуре прошлого и без ее успешного
усвоения, не может быть и речи о перспективе, без истории нет и не
может быть подлинно научной теории.
Культура — не помеха и не препятствие на пути движения
(постижения, познания и преобразования) человека к природе.
Напротив, прогрессивная культура является могучим средством
сближения человека с природой: благодаря культуре человек
глубже познает законы объективного мира и в соответствии с этими
законами он очеловечивает природу и сближается с нею. Только надо
помнить, что человек — не робинзон, а общественное существо, что
между природой и человеком стоит общество. «Человеческая
сущность природы,— писал Маркс,— существует только для
общественного человека; ибо только в обществе природа является для
человека звеном, связывающим человека с человеком, бытием его
для другого и бытием другого для него, жизненным элементом
человеческой действительности; только в обществе природа
выступает как основа его собственного человеческого бытия. Только
в обществе его природное бытие является для него его
человеческим бытием и природа становится цдя него человеком. Таким
образом, общество есть законченное сущностное единство человека
с природой, подлинное воскресение природы, осуществленный
натурализм человека и осуществленный гуманизм природы» ".
Разумеется, все зависит от того, каково общество, какова его социально-
политическая, классовая структура: современное технократическое
общество углубляет пропасть между человеком и природой, а также
между человеком и человеком, вместо того, чтобы устанавливать
между ними гармонические отношения.
265
В технократическом обществе каждый человек является
пределом и границей для другого человека, вместо того, чтобы стать
для другого преодолением его собственной ограниченности, так
сказать, бесконечным усилением и развитием всех его способностей
и возможностей.
Тяга Дюфренна к искусству самих масс понятна: он хочет
освободиться от гнетущего человека буржуазного индивидуализма.
Он хотел бы связать и как-то объединить людей хотя бы на ниве
коллективного художественного творчества. Однако в силу именно
буржуазной ограниченности его взглядов, идеализма и
субъективизма, стремление к массовому искусству оборачивается «омассов-
лением» культуры и искусства, а попытка преодолеть буржуазный
индивидуализм — анархизмом и субъективным произволом.
Не случайно Дюфренн принципиально не приемлет никаких
норм, ничего нормативного, а все, что противоречит нормам и
нормативному, охотно принимается и поддерживается. Ярким
примером этого может служить его отношение к категории
безобразного, которая рассматривается не как антипод прекрасному, а как
способ выражения социального протеста. «То, что мы называем
безобразным, противоречит определенной нормативной идее
прекрасного. Я абсолютно против таких нормативных эстетик, которые
a priori декларируют, каким должно быть прекрасное. Эстетический
критерий появляется тогда, когда произведение искусства уже
закончено, а не раньше, он должен быть, как говорил Гегель о
философии, совой Минервы, которая появляется в сумерки. Если мы
считаем, что прекрасное означает гармонию, синтез, ясность —
критерии, определенные еще в средние века,— тогда, конечно,
более резкая, деструктурированная музыка (как, например, Кейдж)
покажется нам безобразной, хотя она скорее антипрекрасная, чем
безобразная сама по себе. Когда, как отмечал Сурио, Бодлер
заявлял, что прекрасное странно, он хотел сказать, что прекрасное —
это не что-то успокаивающее и совершенное, а то, что нас будора-
42
жит» .
Да, прекрасное может и будоражить, но если все сводится
только к этому, то начисто стираются важнейшие грани между
прекрасным и безобразным, поскольку безобразное, как
известно, может будоражить людей не в меньшей, если не в большей
степени, чем прекрасное. По существу Дюфренн отказывается от
объективных критериев определения прекрасного и безобразного.
Не потому ли ему импонирует любая форма социального протеста?
Не потому ли он выступает против какой бы то ни было
нормативности, каких бы то ни было ставших и становящихся
социальных и политических институтов, провозглашая и прославляя вечное
брожение, движение, изменение?
Мы тоже против нормативных эстетик, но вне традиций, вне
преемственной культуры, вне опоры на подлинные художественные
ценности искусство не может развиваться, без невольной или осоз-
266
нанной ориентации на объективные ценностные критерии
художественное произведение не может даже зародиться.
Почему, например, он возлагает свои надежды на искусство,
понятое как «игра»? Да потому, что эта «бесконечная выдумка»,
бесконечная «игра» как бы преодолевает окостеневшие и
окостеневающие социальные структуры, под которыми феноменолог
понимает все ставшее и становящееся, любой устоявшийся, более или
менее оформившийся социальный организм, независимо от его
социально-политической, классовой структуры.
Хотя рассматриваемый нами доклад Дюфренна далек от
собственно философского сочинения, а представляет собой, скорее,
публицистическое эссе, тем не менее философская
недостаточность, теоретическая, научная необоснованность феноменологии
постоянно дает себя знать то в поисках новой онтологии и
онтологических конструкций, которые подкрепили бы шаткое здание
феноменологической архитектоники, то в поисках новых социальных
моделей, которые могли бы противостоять тому, что уже
существует, и пребывать в постоянном брожении — лишь бы не оформиться
во что-нибудь определенное, чтобы не стать каким бы то ни было
социальным институтом.
Подобные взгляды, выдаваемые за откровение, приводят к
тому, что искусство понимается только как антиискусство,
культура — только как антикультура или как антикультурная
деятельность: установившиеся культурные ценности должны быть
разрушены и заменены другими, независимо от того, изжили они себя или
нет, имеют они общечеловеческую значимость и ценность или нет.
Не случайно на вопрос о том, нуждается ли наша эпоха в
новых эстетических критериях, Дюфренн ответил следующее: «Я
думаю, что не существует другого критерия, кроме критерия
наслаждения, установленного Кантом. Мне кажется, что его определение
наслаждения искусством, как беспристрастное наслаждение, более
всего подходит современному искусству, которое предоставляет нам
возможность более жестокого, дикого, менее духовного, а значит,
менее академического или торжественного наслаждения. В той же
степени остается в силе кантовская проблема универсальности
критерия наслаждения искусством. Является ли это чисто
субъективным или может действовать таким образом, что определит
какой-то consensus comunis? Я думаю, что можно достичь его
универсальности, если удастся освободиться от обычаев и
предрассудков традиционной культуры» 43. Следовательно, каких бы проблем
ни касался Дюфренн, борьба против «традиционной культуры» —
лейтмотив его философии и эстетики.
«Невинность восприятия и дикого творчества должна быть
завоевана, даже если ради этого надо сначала научиться
«разучиваться». Иначе говоря, антикультура предполагает культуру как
препятствие и средство. Следуя диалектике, о которой прекрасно
говорил Рено д'Аллон, для того, чтобы стать средством, препятствие
267
должно быть признано. Вот почему обучение в домах культуры
представляется не напрасным; даже школа, несущая идеологию
правящего класса, может стать освободительницей, если будет
начеку против догматизма и перенесет акцент преподавания на
свободу, которая присутствует даже в традиционном искусстве, вызывая
в нем важные изменения; если, наконец, школа позволит
прикоснуться к произведениям искусства и будет учить скорее не
уважению, а наслаждению ими. Короче, важнее не разоблачать культуру,
а разглядеть в ней зародыш культурной революции, решительной
и перманентной.
Эта культурная революция должна соединиться с
политической революцией. Она направлена на художественную практику,
вписывающуюся в практику повседневную, поэтому не может
совершиться без изменения способов производства и
производственных отношений. Быть может, она — конечная цель политической
революции, если ставка этой последней — свобода и если свобода
проверяется игрой. Тогда культурная революция дает смысл
революции политической. Быть может, она дает ей и надежды на успех:
быть может, в современном индустриальном обществе
политическая революция готовится и проявляется через мутации искусства.
Так будем же как можно внимательнее к жизни современного
искусства».
Идея «культурной революции», вдохновляемой «новым»
искусством, антиискусством, венчающим антикультурную деятельность
и подготавливающим политическую революцию, объединение
культурной революции с революцией политической в духе борьбы
с культурой прошлого и настоящего — все это сильно напоминает
«культурную революцию» в Китае. Те же антибуржуазные,
антикультурные, «сверхреволюционные» лозунги, прикрытые заботой
о развитии революции и культуры. Правда, Дюфренн призывает
к тому, что сейчас нужно не разоблачать культуру, а разглядеть
в ней зародыш культурной революции, решительной и
перманентной. Но леваческий характер, леваческая суть его концепции
революции от этого не меняется.
На VI Международном эстетическом конгрессе Дюфренн уже
носился с этими идеями, но тогда он ратовал за искусство, которое
было бы праздником, церемонией или оргией, возвращающей людей
к природному, естественному братству, искусство, которое
привело бы к другой, более человечной социальности. Теперь он
говорит об искусстве больше как об «игре», но уже без возврата к
архаическим формам цивилизации, об «игре», ведущейся на уровне
«самоуправления и автоматизации». Культурная революция дает
смысл революции политической, а политическая революция
подготавливается культурной революцией как антикультурной
деятельностью, антикультурой, а антикультура вдохновляется «новым»
искусством — антиискусством. Утопия? — да, и к тому же
деструктивная, ибо «культурная революция», перечеркивающая все пред-
268
шествующее искусство и объявляющая все современное искусство
«буржуазным», вредным и консервативным, является по существу
еще одной, правда, такой же тщетной, как и все предыдущие,
попыткой уничтожения культуры.
«Левачество», декларирующее тотальную революцию, на деле
оказывается конформизмом и оппортунизмом, поскольку
революционная деятельность сводится к «спонтанному саботажу системы»,
а не к коренному социально-политическому преобразованию
общества. Политика лишается социально-классового содержания,
а революция — политического. «Сверхреволюционаризм»
оказывается псевдореволюционностью, теоретический субъективизм
оборачивается авантюризмом, а безбрежный демократизм является
всего-навсего лишь мелкобуржуазным анархизмом.
Таким образом, новоявленная концепция «культурной
революции», которую вдохновляло бы «новое» искусство, оказывается
мелкобуржуазной теорией, выражающей кризис анархического,
буржуазного по своей сути, радикализма в современном индустриальном
капиталистическом обществе.
Никола Аббаньяно.
Пути позитивного экзистенциализма
Н. Аббаньяно — основоположник «позитивного
экзистенциализма», профессор философии Туринского университета, автор
многочисленных и довольно известных работ по философии
экзистенциализма '.
Экзистенциализм проник в итальянскую культуру и философию
благодаря стараниям Джентиле, приобщившего ее к немецкому
экзистенциализму, и прежде всего к философии Хайдеггера. Другой
итальянский философ — Франко Ломбарда — ввел в итальянскую
культуру Киркегора. С 30-х годов итальянская философия
переживает затянувшийся «киркегоровский Ренессанс».
С самого начала выявились две противоположные тенденции:
тяготение к религиозно-идеалистическому пониманию и
истолкованию человека, с одной стороны, к материализму и марксизму —
с другой. Вот что пишет, например, известный итальянский
философ Э. Гарэн, характеризуя равнонаправленные тенденции поисков
решения проблемы человека: «Требование конкретной личности
шло различными путями: с одной стороны, в уже отмеченном
направлении создания теологии бессмертия, с другой — основываясь
на конечности человека и его земных задачах. Отсюда весьма
знаменательные симпатии: с одной стороны, к «философии духа»
и Габриелю Марселю и даже известная склонность к Ясперсу;
с другой — к Хайдеггеру и отчасти к Сартру». В первом случае,
отвечает Э. Гарэн, почти всегда возникает перспектива
присоединения к религиозной ортодоксии или по крайней мере — тяга к
утешительной и назидательной философии. Другое направление
современной философии ведет к восстановлению в правах
исторического осознания кризиса гегелевского учения и характеризуется
активным интересом к антропологии Фейербаха и даже к учению
Маркса. Однако, пишет Э. Гарэн, «во всех случаях конечный пункт
экзистенциалистского опыта, идентифицирующийся с мировой
катастрофой, характерным культурным выражением которой он
является, исчерпывает и заключает процесс. Экзистенциализм поэтому
приобрел большое значение; кто после него задерживался на
гамлетовских позициях или надеялся на реконструкцию путем
возвращения назад, как если бы ничего не произошло, целиком отрицая
несколько веков идейного развития, умирал при жизни, даже если
он читал лекции или писал так называемые философские книги,
пригодные лишь для академических «упражнений» и
профессорских забав. Не более плодотворными были различные
компромиссные попытки» 2.
Философия экзистенциализма явилась ярким выражением
кризиса современной культуры, внутренние противоречия которой обус-
270
ловили разнообразные варианты экзистенциализма — от
религиозной формы до атеистической. Немецкий и французский
экзистенциализм не выдержали исторической проверки: вторая мировая война
показала не только слабые места этой философии, но и ее полное
бессилие и бесперспективность. Выставляя проблему человека и его
свободы как главную и фундаментальную проблему философии,
экзистенциализм, по существу, не только не решил этих проблем,
но и оказался теоретически и практически несостоятельным.
Открыть человеку перспективы дальнейшего развития, придать
его существованию смысл, указать ему на определенные
позитивные ценности, т. е. преодолеть крайности немецкого и французского
экзистенциализма и выработать позитивную философскую
платформу,— такие задачи поставил перед собой итальянский
экзистенциализм, который в силу этого и стал называться «позитивным
экзистенциализмом». Весьма близки по своим взглядам к
«позитивному экзистенциализму» были Пачи, Г. делла Вольпе и Лупорини,
перешедшие затем на позиции марксизма.
Подключившись к общеевропейской экзистенциалистской
традиции, заимствуя ее проблематику, основной предмет
философского беспокойства, позитивный экзистенциализм тем не менее
отражает новые тенденции в развитии буржуазного общества и
буржуазного сознания. Он конституируется в самостоятельную доктрину
в своеобразной ситуации «философского оптимизма»,
унаследованного от Кроче и Джентиле. Вообще итальянская культура
находилась (да и находится сейчас) под сильным влиянием идей
крочеанской философии. Не случайно Антонио Грамши в
тяжелейших условиях тюремного заключения вынужден был взяться за
перо, чтобы написать анти-Кроче («Исторический материализм
и философия Бенедетто Кроче»), произведение, в котором он дает
очень глубокую и всестороннюю критику крочеанской философии.
Необходимость в такой работе была очевидна: марксизм мог
развиваться в Италии только в преодолении крочеанства.
Итальянский экзистенциализм, как и вся итальянская
культура, не мог избежать влияния крочеанской философии, по крайней
мере основных ее элементов — рационализма, историзма и
гуманизма. Видимо, определенное влияние на формирование
«позитивного экзистенциализма» оказала и философия марксизма, ибо
как иначе можно было бы объяснить переход на позиции
марксизма таких близких к «позитивному экзистенциализму» философов,
как Антонио Банфи, Пачи, Гальвано делла Вольпе, и других? Эти
влияния оказались немаловажными для формирования
философского кредо «позитивного экзистенциализма», его отличий от
немецкого и французского вариантов.
Специфика итальянского «позитивного экзистенциализма»
объясняется не только причинами собственно философского
характера, но и изменением социально-политической ситуации
Италии, где в результате второй мировой войны и Сопротивления фа-
271
шизм был уничтожен и заменен буржуазно-демократической
республикой. Все эти факторы оказали несомненное влияние на
выработку основных принципов и направленности итальянского
экзистенциализма.
Содержание «позитивного экзистенциализма» Аббаньяно
изложил в ряде своих работ, прежде всего таких, как «Позитивный
экзистенциализм», «Введение в экзистенциализм», «История
философии» и др.
В отличие от Хайдеггера, Ясперса и Сартра, для которых
характерен самый широкий интерес к теории и практике искусства,
Аббаньяно не посвятил собственно искусству так много работ. Его
эстетика — неотъемлемая часть философской системы, это элемент
несущей конструкции «позитивного экзистенциализма», и понять ее
помимо категориального и структурного анализа доктрины в целом
невозможно.
В работе «Введение в экзистенциализм» Аббаньяно
продолжает экзистенциалистскую традицию, которая рассматривает проблему
человека как главную и основную проблему философии и
философствования: «Философские проблемы действительно касаются бытия
человека; но не человека вообще, а единичного человека, в
конкретности его существования» 3.
Аббаньяно подчеркивает личностный характер философии
и философствования: философия в любом случае является строго
личным произведением 4, поскольку она «вводит в игру» конкретную
человеческую судьбу. При этом Аббаньяно настаивает на
своеобразном понимании универсальности философии, под которой он
подразумевает не универсальность объекта ее исследования, а
«понимание и человеческую солидарность» 5. Такой же неожиданно
личностный смысл приобретает у него категория историчности,
которую философ считает важнейшей характеристикой
позитивного экзистенциализма. Историчность, по Аббаньяно,— это, по сути,
внеисторическая перекличка, трансляция усилий отдельных
мыслителей, налагающая бремя ответственности на всех участников.
Проблема существования остается главной проблемой
позитивного экзистенциализма. Но достаточно рассмотреть структуру
одного из основных произведений Аббаньяно, «Введения в
экзистенциализм», чтобы понять, что мы имеем дело с оригинальной
обработкой категории существования в соответствии с основным
«заданием» позитивного экзистенциализма, отличительной
особенностью которого Аббаньяно считает «позитивный и
конструктивный» характер по отношению к «я» и общности, к которой это «я»
принадлежит.
Прежде всего Аббаньяно рассматривает саму философию как
существование. Затем он переходит к рассмотрению существования
как субстанции, затем существования как проблемы, существования
как свободы, существования как истории, и, наконец, он исследует
такие темы, как «существование и природа», «существование
272
и искусство». Нужно принять во внимание, что данное произведение
является основным произведением Аббаньяно и его архитектоника
вовсе не случайна,— напротив, она соответствует существу
позитивного экзистенциализма. Нет нужды рассматривать детально
каждую из глав. Мы хотим установить лишь основные моменты
и основное содержание «позитивного экзистенциализма» в отличие
от других форм экзистенциалистской философии.
Аббаньяно полемизирует с основными модификациями
экзистенциализма, получившими известное завершение у Хайдеггера,
Ясперса и Сартра. Он выступает против различных форм
объективизма и субъективизма, т. е. против такого понимания человека,
когда его рассматривают как некую вещь среди других вещей или
как тождество бытия и субъекта. Аббаньяно не соглашается с
Сартром и Камю, которые говорят об абсолютной свободе человека, ибо
он считает подобные утверждения «парализующими», приводящими
к отрицанию существования как такового .
Аббаньяно опровергает Хайдеггера и Ясперса, которые, по
существу, признают только одну возможность, представляющую
собой фактически необходимость: «...единственно подлинная
возможность существования оказывается невозможностью
существования» 7. В противоположность пессимистической интерпретации
возможности Аббаньяно выдвигает «позитивное» понимание
возможности — «трансцендентальную» возможность: «Возможность,
которая однажды решает и выбирает, укрепляется в своем бытии
возможности, так что делает снова и всегда возможным свой
собственный выбор и решение, является подлинной возможностью,
возможностью истинной и настоящей. Подобная возможность
предстает непосредственно перед лицом того, чей выбор носит
нормативный характер, кто обязательно делает выбор.
Возможность возможности есть критерий и норма всякой возможности:
возможность возможности связывается с именем
трансцендентальной возможности; трансцендентальная возможность является тогда
тем, что определяет и основывает любое конкретное человеческое
поведение, любой выбор и решение» 8.
В такой интерпретации категория возможности становится
одной из основных категорий позитивного экзистенциализма и
перерастает в его методологический принцип, о чем недвусмысленно
свидетельствуют историко-философские экскурсы Аббаньяно. Так,
согласно его воззрениям, развитие философской мысли постепенно
ведет к инфляции идей детерминизма. Вера в какую бы то ни было
необходимость утрачивает свою основу, «разлетается в куски».
Необходимость вытесняется возможностью. Признаки преобладания
возможности над необходимостью Аббаньяно обнаруживает уже
в философии Возрождения. Он связывает крушение веры в
историческую необходимость с крушением романтических иллюзий
философских школ, отстаивающих идею необходимости исторического
развития. Экзистенциализм с самого начала складывался в оппози-
273
ции к детерминизму, но Аббаньяно идет дальше Хайдеггера и Яс-
перса, не говоря уж о Сартре: он полагает, что возможность в их
понимании означает в конечном счете необходимость, которая
замыкает человека в его собственном существовании, не предлагая
ему, по сути, другого выбора. Именно поэтому Аббаньяно
настаивает на трансцендентальной возможности, понимаемой как
«возможность возможности», т. е. он пытается прорвать горизонт
необходимости, сделать возможность постоянным выбором человека,
который не был бы обречен на этот выбор, а постоянно ощущал бы
в нем внутреннюю потребность. Совсем не случайно Аббаньяно
подчеркивает, что «всякий экзистенциальный акт является актом
проблематической неопределенности» 9. Если Хайдеггер видел у
человеческого существования лишь одну возможность — путь к
смерти (Sein zum Tode), если Ясперс пытался предоставить
человеческому существованию ряд возможностей через постижение тайного
смысла трансценденции, а Сартр отрицал какой бы то ни было
смысл человеческого существования, объявляя все абсурдным
(абсурдно то, что мы родились, и абсурдно то, что мы умрем), то
Аббаньяно, исходя из трансцендентальной возможности, пытается
выйти за рамки необходимости. Он рассматривает
экзистенциальный акт как подлинное решение. Человек, в понимании Аббаньяно,
не пассивное, а активное существо, существо, сохраняющее
верность самому себе. Человек должен решиться на то, чтобы быть
верным самому себе, чтобы сделать такой выбор, который выражал
бы его верность самому себе,— это и есть судьба человека. Но
выбор, который составляет судьбу, не есть выбор только одной
возможности; это выбор самого себя, своего собственного единства,
реализуемый в прыжке из прошлого к будущему, т. е. выбор как
решение решать. Именно в этом смысле человек, делая свой выбор,
конституирует самого себя как личность. В то же время подлинный
выбор является основанием отношения с бытием. Выбирая самого
себя, человек выбирает бытие. «Мой выбор есть восстановление
отношения между онтической возможностью и онтологической
возможностью, отношения, необходимо связанного с актом моей
подлинной конституции. Выбор можно определить, следовательно,
как это отношение. Он основывается в бытии возможности, которая
мне присуща и которая составляет собственную возможность
бытия» .
Таким образом, выбор человека основывается на
возможности, а эта возможность является конечной основой конституции
человека как индивида.
Что касается трансцендентальной возможности, являющейся
конститутивной нормой человека, то она выражает глубокий
субстанциальный аспект структуры существования. В связи с этим
другой основной категорией или характеристикой существования
выступает категория свободы. Так же как и другие
экзистенциалисты, Аббаньяно придает этой категории исключительное значение:
274
структура человека — это, по существу, свобода, свобода, которая
есть не индифферентность, а нормативность, долженствование.
Понимание проблемы свободы у Аббаньяно мы рассмотрим
несколько позднее. Сейчас же нам хотелось бы отметить, что
попытка объяснить крушение веры в историческую необходимость,
в законы исторического развития, предпринятая Аббаньяно,
продиктована тягой к стабильности. В этом смысле философская
концепция Аббаньяно показательна для настроений либерализма,
опасающегося, с одной стороны, воцарения тоталитарного режима,
а с другой — слишком широкого развития демократии. Замена
исторической необходимости универсально понятой категорией
возможности выражает гуманистическую позицию,
подразумевающую плюрализм в области социально-политического устройства.
Именно поэтому категория возможности возводится в ранг
основной философской категории, имеющей универсальное
методологическое значение.
Если говорить о собственно философских причинах такой
абсолютизации категории возможности, то это можно было бы
объяснить антипозитивистской направленностью экзистенциализма
вообще и итальянского экзистенциализма в частности. Аббаньяно
пишет, что «философия существования решительно разбивает
рамки необходимости, внутри которой движется всякая философия
догматического типа. Горизонт, который она признает и внутри
которого она движется,— есть горизонт возможности» п. По
существу, здесь мы видим своеобразное развитие дискуссий,
проходивших в конце XIX — начале XX века между сторонниками
гуманистической и сциентистской тенденций, а также позитивизма
и различных антипозитивистских направлений.
Конечно, подчеркивание человека и человеческих ценностей
актуально и как противовес различного рода концепциям, основное
содержание которых сводится к проповеди нигилизма, «игры»,
антигуманизма. Достаточно сослаться на некоторых
представителей структурализма, взгляды которых в лучшем случае
представляют собой теоретический антигуманизм, поскольку они превращают
человека в набор функций. Не случайно Жан-Поль Сартр так резко
выступил против философии структурализма, почувствовав
реальную угрозу человеку и человеческой личности. Хотя если
обратиться к существу самого экзистенциализма, в особенности к той
интерпретации учения Хайдеггера и Сартра, которая «пустила корни»
в реальности, то становится ясно, что, несмотря на ревностную
апологию человека и его свободы, именно экзистенциализм оживил
и возродил темы нигилизма и антигуманизма. Может быть, в силу
этого экзистенциализм оказался несостоятельным теоретически
и практически перед угрозой, а затем и реальностью установления
фашизма в целом ряде стран.
Тем не менее именно экзистенциализм попытался приписать
себе заслугу постановки и решения кардинальных проблем человека
275
и человеческих ценностей. Аббаньяно не только не отказывается от
этой традиции экзистенциализма, но и усиленно подчеркивает
значение человека и человеческих ценностей. Более того, Аббаньяно
еще категоричнее сводит философию к существованию, а
существование к философии. В своей истории философии он пишет: «В
философии историческое рассмотрение является основным:
философия прошлого, если она была действительно философией, не
является заброшенной и мертвой ошибкой, но вечным источником
изучения и жизни. В ней, таким образом, нашла свое выражение
и воплощение личность философа не только в том, что было по
преимуществу его собственным достоянием, в своеобразии его
опыта мыслителя и опыта жизни, но и в его отношениях с другими
и с миром, в котором он жил. К этой личности мы и должны
обратиться, чтобы вновь найти жизненный смысл любой доктрины. Мы
должны во всякой доктрине фиксировать центр, вокруг которого
сосредоточивались основные интересы философа и который вместе
с тем есть центр его личности как человека и как мыслителя. Мы
должны оживить перед собой философа в его реальности
исторической личности и ясно понять через тьму забытых веков или
деформирующих традиций его подлинное слово, которое еще может
служить нам проводником и ориентиром» |2. Чтобы понять смысл
своего существования, субъект должен философствовать, используя
опыт, накопленный в истории философии. Философствовать —
означает вести диалог с самим собой или с другими, в результате
которого субъект приходит к более или менее ясному пониманию
и осознанию сущности и смысла своего собственного
существования и бытия. Однако он должен постоянно «подключаться» к опыту,
накопленному мыслителями прошлого, к той или иной
философской школе далеких времен, чтобы быть в состоянии решать
современные проблемы. Здесь Аббаньяно неоригинален, поскольку
подобная историко-философская концепция была довольно
основательно развита Ясперсом. Именно Ясперс, отбросив традиционное
понимание истории философии и ее методологии, попытался
обосновать историко-философскую концепцию, исходя из понятий
величия и великого, а также самобытности и оригинальности. Ясперс
полагал, что великий философ, и только он, способен постигать
тайны бытия, давать подлинное истолкование шифра трансценден-
ции, приводить субъект к пониманию смысла существования. Сила
великого философа в его самобытности, оригинальности, в его
величии, а величие состоит, по Ясперсу, в незаменимости
исторически единственного образа, который создает тот или другой
мыслитель. Чтобы понять взгляды великого философа, нужно
подключиться к его личности, нужно настроиться таким образом, чтобы
оказаться способным сопереживать или переживать вновь то, что
когда-то переживал великий философ. Не случайно именно у Яс-
перса (вслед за Киркегором) появляется идея отказа от
рационального постижения истории и попытка постижения происхождения
276
смысла и цели истории художественными и эстетическими
методами.
Аббаньяно более традиционен. Он не отказывается от
сложившихся методов историографии. Однако Аббаньяно также понимает
историю философии как философствование великих личностей,
решающих извечные проблемы человека и человеческой свободы.
Индивид, согласно Аббаньяно, с необходимостью должен обращаться
к великим философам прошлого, чтобы не только понять их
взгляды и точки зрения на решение фундаментальных проблем
человеческого существования, но и выработать собственно философский
метод мышления, ибо для Аббаньяно, как и для Хайдеггера и Яс-
перса, философствование составляет одну из существеннейших
характеристик существования.
Конечно, Аббаньяно, так же как и другие экзистенциалисты,
понимает под субъектом, или человеком и его существованием, не
практически действующее существо, а индивидуальное сознание,
соотносящееся с другими такими же изолированными сознаниями,
остающимися целиком в сфере феноменов индивидуального
сознания.
Однако если Хайдеггер и Ясперс в поисках выхода из
субъективности прибегали к помощи один — «бытия», другой — «транс-
ценденции», а Сартр с той же целью постулировал
«интерсубъективность» сознания, то Аббаньяно довольно решительно порывает с
экзистенциалистским каноном. Чтобы выявить общезначимые
константы существования, он обращается, как это ни парадоксально,
к понятию субстанции, хотя, казалось бы, эта категория для
экзистенциализма изначально неприемлема.
Рассматривая существование как субстанцию, Аббаньяно тем
самым стремится найти «основу» существования, его «нормативную
конституцию», почву в реальности. При этом привычный смысл
субстанциональности резко модифицируется. Руководствуясь как
методологическим принципом категорией возможности, Аббаньяно
приходит к выводу, что самые стойкие субстанциальные основания
экзистенции — существования можно найти как раз в
неопределенности. Человек конституируется и живет проблемой бытия.
Состоянием человека, определяемым проблемой бытия, и является
неопределенность. Неопределенность оказывается самой
проблематичностью отношений между человеком и бытием.
Неопределенностью бытия становится для человека возможность.
Неопределенность есть собственная природа человека, поскольку он не
детерминирован и является проблемой своей природы.
Неопределенность — это состояние, присущее человеку как возможности бытия.
Если неопределенность есть проблематическое отношение между
человеком и бытием, то акт существования является основой этого
отношения и условием возможности как трансцендентальной
возможности. Таким образом, существование определяет человека
в неопределенности его природы. Первоначальная неопределен-
277
ность и есть субстанция, составляющая конституирующую норму
человека. Неопределенность, таким образом, и есть подлинное
бытие человека. Субстанция является, безусловно, основой и
направлением выбора человека, достаточной причиной его решения.
Но это вовсе не значит, что выбор и решение содержатся в самой
субстанции. Субстанция выступает как условие реальности и как
условие судьбы человека. Она является также основой
человеческого сосуществования, ибо существование есть существование с
другими. Субстанция выступает также основой историчности, ибо
субстанция индивидуального бытия включает в себя время
и смерть, ставит человека перед выбором временности и вечности.
Существование выступает как интерпретация субстанции,
«интерпретация субстанции есть реализация трансцендентального, транс-
ценденция есть трансцендентальность, и трансцендентальность есть
трансценденция. Интерпретация реализует трансценденцию,
субстанцию как условие, последнюю возможность моего «я» 13.
Это показывает, что Аббаньяно, пытаясь найти субстанцию
в неопределенности, приходит к довольно неопределенному
результату. Чтобы понять сущность какой-нибудь вещи или явления,
необходимо выйти за их пределы. Аббаньяно же пытается найти
основу существования, не выходя за его пределы, оставаясь в
рамках индивидуального сознания. Вводимая Аббаньяно категория
субстанции, хотя и отражает реальное положение человека в
мире — состояние неопределенности,— тем не менее не может
служить основой человеческой личности, поскольку состояние
неопределенности способно лишь разрушать человека и человеческую
личность. В этом смысле марксистское понимание субстанции
человека несравненно достовернее экзистенциалистского. Маркс
впервые в истории человеческой мысли показал, что если сущность
человека состоит в совокупности всех социальных отношений, то
его субстанцией является труд, который не только когда-то создал
человека, но и постоянно производит и воспроизводит его как
человека и как личность, при условии если этот труд носит
собственно человеческий характер. В противном случае он может
разрушить человека и человеческую личность. Ярким примером
этого является капиталистическое производство,
капиталистический труд и отчужденный характер труда, который
производит и воспроизводит отношения, враждебные человеку и
человеческой культуре вообще.
Экзистенциалисты улавливают антигуманистический характер
капиталистических отношений. Более того, Сартр под влиянием
философии марксизма специально исследует проблему отчуждения,
показывая глубоко враждебный характер буржуазного общества
человеку и человеческой культуре вообще. Однако
философы-экзистенциалисты ищут выход из создавшейся ситуации не в
уничтожении основы отношений отчуждения, а «в возврате человека к
бытию», к природе, к своему подлинному существованию. Всякая
278
жизнь в обществе, в любом обществе, рассматривается
экзистенциалистами как жизнь неподлинная, ненастоящая, неистинная.
Отсюда призывы к свободе человека, к свободе личности, к
освобождению личности от общества. По существу, экзистенциалистская
концепция человека и его свободы во многом родственна Руссо.
Элементы руссоизма легко обнаруживаются и в «позитивном»
экзистенциализме, усвоившем не только существенные черты учения
Руссо, но и его эмоциональный фон, его
абстрактно-гуманистический пафос.
Аббаньяно рассматривает существование как проблему:
«Человек как основа подлинной проблемы существования не есть ни
объективность, ни субъективность». Подобное понимание человека
направлено против различного рода объективистских,
психологических и антропологических концепций человека, которые, по мнению
Аббаньяно, исключают проблему существования. «Картина
современной философии должна быть обрисована,— по мнению
Аббаньяно,— как картина всякой другой философии на базе проблемы,
которая составляет центр любого ее направления или движения;
и в особенности на базе способа, которым эти направления или
движения обрисовываются самой проблемой философии» 14.
Интересно, что содержание понятия «проблема» у Аббаньяно колеблется
как бы в подтверждение его тезиса, что «проблема есть вообще
состояние неопределенности, в котором различные и
противоположные возможности уравновешиваются. Решение проблемы есть
вообще выбор такой возможности, которая оправдывает (или дела-
ст возможной) саму проблему» 15. Следовательно, категория
возможности обосновывает неопределенность, а категория
неопределенности — проблему. Поэтому «отношение, неопределенность,
проблематичность составляют существование в его
фундаментальной позитивности» 16.
В конечном счете Аббаньяно, признавая проблематичным само
человеческое существование, все-таки пытается освободить
экзистенциализм от налета трагичности, который имеет место у Хай-
деггера, Ясперса, Камю и других экзистенциалистов. Если Хайдег-
гер видел смысл человеческого существования в бытии,
устремленном к смерти, если Ясперс и Сартр также не раскрывали перед
индивидом никаких перспектив, то Аббаньяно полагает, что
рождение и смерть человека относятся к «коэкзистенциальному
фундаменту существования». Существование рождается из
существования, человек от человека. Рождение есть возможность, чтобы
человек создал человека, существование — существование. Смерть есть
возможность, чтобы человек был убит человеком, существование —
существованием. Рождение и смерть — не крайние пределы или
границы, между которыми мечется существование; они являются
фундаментальными определениями существования, которое
конституирует свою сущность. Существование является по самой своей
природе рождением и смертью. Таким образом, у Аббаньяно внеш-
279
не смерть как бы удаляется от взора человека. На самом же деле он
признает категорию смерти присущей существованию с самого
начала, не устраняя трагизма человеческого существования, а лишь
скрывая его в глубинах существования. Совершенно очевидно, что
устранить трагизм человеческого существования можно не
элиминацией смерти или категории смерти из человеческого сознания,
а коренной перестройкой социальных отношений, коренным
преобразованием структуры человеческого общества.
Аббаньяно вносит характерные коррективы во все категории
экзистенциализма; и хотя проблема свободы решается Аббаньяно
опять-таки на основе категории возможности, он, в отличие от
Сартра, пытается дать обоснование свободе человека. Если Сартр
полагал, что существование человека ничем не обосновано, а потому
абсолютно свободно и, следовательно, человек обречен быть
свободным, то Аббаньяно смотрит более реально на свободу человека.
Он видит, что человек связан тысячью нитей с такими же людьми,
как и он. Свобода человека должна иметь, согласно Аббаньяно,
какое-то основание. Однако в противоположность ряду западных
философов Аббаньяно полагает, что ни объективный, ни
субъективный разум не могут быть основой или фундаментом свободы. Само
существование определяет проблему свободы. Поскольку трансцен-
денция и проблематичность, по существу, выступают
определенными характеристиками самого существования, то трансценденция
и проблематичность как раз и могут выступать как основа или
фундамент свободы, а возможность отношения с бытием выступает
как гарантия свободы. Первоначальная возможность отношения
с бытием, понимаемым как разумный акт реализации самого себя,
и есть существование как свобода. Быть свободным или не быть
свободным — это означает для человека возможность
фундаментального выбора. Поэтому свобода обусловливает человеческое «я»,
является «откровением человека по отношению к самому себе».
В конечном счете Аббаньяно полагает, что человеческая свобода
представляет собой возвращение человека к бытию мира. Можно
сказать, что хотя Аббаньяно и стремится дать более реалистическое
понимание свободы, тем не менее он остается целиком в рамках ее
экзистенциалистского понимания. «Свобода есть движение,
благодаря которому существование возвращается к своей первоначальной
природе, признает эту природу и благодаря этому признанию
осуществляет ее подлинную реализацию» 17. Здесь нет и намека на
подлинно научное понимание свободы, сопоставимое с пониманием ее
у Гегеля. Гегель отлично сознавал, что проблему свободы нельзя ни
поставить, ни решить без понимания необходимости, т. е. без
понимания диалектики свободы и необходимости. Гегель вслед за
Спинозой утверждал, что свобода есть познанная необходимость.
А Маркс подчеркивал, что подлинная свобода человека заключается
в познании законов развития природы и человеческого общества.
Свобода индивида возможна лишь через свободу общества.
280
Экзистенциалистское понимание свободы тесно связано с
своеобразным пониманием и истолкованием истории. Аббаньяно
рассматривает существование как историю. По его мнению,
историчность возникает из напряженности между временем и вечностью,
которые соединяются и одновременно противопоставляются друг
другу в историчности. Подвергая критике различные концепции
антиисторизма, Аббаньяно полагает, что антиисторизм
характеризуется разрывом времени и вечности, в то время как историзм
характеризуется сведением времени к вечности. «И в том и в другом
случае,— говорит Аббаньяно,— приходят к отрицанию времени,
к полному исключению его из природы человека». А ведь время, по
его мнению, является фундаментальным условием человеческого
существования. Человек является действительно историчностью
в ее существовании: но является историчностью потому, что
является временностью. Историчность есть предельная реализация его
временности, понятая и признанная как нечто изначальное. Судьба
человека есть верность времени, и, наоборот, «верность времени
есть судьба» 18. В связи с этим история является фундаментальной
структурой человека. Будучи верным времени, человек ограничивает
себя определенными задачами: «...ограничивая себя единственной
задачей, человек приводит себя к универсальному и вечному» ,9.
В этом смысле историчность выступает как некий долг подлинной
личности, ибо существование человека является, по существу,
историчностью, а историческое исследование является исследованием,
благодаря которому человек сознает подлинный способ своего
собственного существования. В истории, и только в истории,
человек ищет человека и может найти только человека. «В истории нет
устойчивости и необходимости, а есть проблематичность и
свобода» 20. Таким образом, понимание истории и историзма у
Аббаньяно также носит, по существу, антиисторический характер,
поскольку он сводит историю к абстрактному историзму, отрицая
какую бы то ни было закономерность развития природы, общества
и мышления, устанавливая в качестве самых существенных
характеристик истории проблематичность и свободу.
Но осталось рассмотреть еще одно соотношение
существования — существование и природа, которое предшествует
рассмотрению существования и искусства. Аббаньяно понимает соотношение
существования и природы как утверждение человеком самого себя.
Это своеобразный поиск объективности или движение к
объективному. Природа как объективность является, по мнению Аббаньяно,
ответом на проблему мира и результатом исследования, которое она
определяет. Существование как способ бытия, присущий человеку,
не есть бытие, но отношение с бытием. Существование является
также органической частью некого целого, мира. Рассматривая
взаимоотношения человека с миром, Аббаньяно подчеркивает, что
признание или рассмотрение мира означает признание и
рассмотрение себя в этом мире. Короче говоря, отношение существования
281
и природы, существования и мира, в понимании Аббаньяно,
представляет собой абстрактную интерпретацию взаимоотношений
объекта и субъекта. Более конкретным выражением этого
отношения является искусство, или отношение между существованием
и искусством.
Как мы видим, философская концепция Аббаньяно
представляет собой проекцию индивидуального сознания на мир вообще.
Реальность признается только в ее непосредственной связи с
существованием. Больше того, реальность представляет собой некую
проекцию существования. Аббаньяно полагает, что
философствование является подлинным способом постижения смысла отношения
существования с бытием. Вместе с тем, или наряду с этим, только
искусство представляет собой непосредственный акт встречи
человека с природой и миром, только в этом акте человек реализует себя
как практически действующее существо. Тоска по объективному,
тоска по практической деятельности выливается у Аббаньяно в
специфическое понимание взаимоотношения существования и
искусства, которое требует особого рассмотрения.
В отличие от Хайдеггера и Ясперса, полагающих, что, хотя
философ и художник стремятся к одному и тому же — к
постижению смысла бытия и существования, к постижению целого,—
достигнуть этого может не философ, а именно художник, если он не
стал еще философом, а его искусство — философией, Аббаньяно
считает, что искусство — это самостоятельная ипостась
существования. Искусство — это встреча человека с природой. «Искусство
может приближаться к природе или удаляться от нее» 21. Оно
содержит это движение к природе и от природы внутри самого себя.
Это возвращение к природе представляет собой «основу понимания
искусства» 22. Субъект возвращения является таким субъектом,
который полностью определяется самим этим возвращением. Субъект
возвращения к природе — это «чистый субъект», благодаря ему
«природа возвращается к самой себе» 23. «Субъект возвращается
к природе, потому что он является первоначально природой. Через
возвращение к природе он возвращается к своему собственному
источнику, каковым является природа» 24. Причем существенно, что
возвращение к природе совершается без всякого ущерба для
субъективности: наоборот, акт возвращения означает, по сути,
«субъективность как таковую» 25. Это как бы артикуляция
субъективности, выявление аутентичности субъекта, который
возвращается «к самому себе в своей подлинности, незамутненной
первозданной исконности» 26.
Таким образом, Аббаньяно, сохраняя центральное положение
категории субъективности, пытается нормализовать субъективно-
объективные отношения. Он вводит с этой целью категории
«чувственность», «природность» и различает простую, «естественную»
чувственность и «чистую чувственность». Согласно Аббаньяно,
«изначальная природность есть чувственность». «Чувственность —: это
282
изначальная природность возвращающегося субъекта» ζι>
выражение принадлежности человека к миру как некой тотальности.
«Чувственность есть такое отношение между человеком и природой,
благодаря которому человек является частью или элементом
природы, и природа является совокупностью, которая включает в себя
человека как свой элемент или свою часть» 28. Но «чувственность»
имеет не только «онтологическую» характеристику, она является
также определенной способностью человека: «...чувственность есть
способность принимать, употреблять, обрабатывать, производить,
изменять вещи» 29. Под этой «способностью» человека Аббаньяно
понимает не материально-общественную практику, а
индивидуальную деятельность человека, т. е. индивидуальную практику в том
смысле, в каком понимает ее Сартр. Это скорее просто деятельность
индивидуального сознания по мысленному изменению вещей, чем
практическое изменение и переделка вещей соответственно
определенному плану и намерению.
«Чувственность» как способность человека изменять,
употреблять и обрабатывать вещи понимается Аббаньяно как некое
абстрактное движение вещей к человеку и человека к вещам:
«Чувственность человека устремлена к вещам, поскольку вещи движутся
к человеку: она является одновременным определением чувственной
деятельности человека и чувственных характеристик вещей.
Одновременность является гарантией единства акта, благодаря которому
человек, полагая себя как элемент целого, определяет структуру
этого целого. Этот акт есть изначальная природность человека:
чувственность» 30. Это любопытное положение, которого мы не
встретим ни в одной эстетической теории экзистенциализма.
Киркегор направлял эстетическое к человеку, к его внутренним
переживаниям, к внутренней жизни. Ясперс усматривает
эстетическое в способности искусства читать сокровенные «шифры» транс-
ценденции. Хайдеггер пытается посредством искусства и
эстетического приблизить человека к бытию. Сартр, превратив слова в вещи,
долго находился в плену субъективистских конструкций и лишь
в последний период своего творчества стал в какой-то мере
признавать социальную обусловленность человеческого существования,
искусства и творчества вообще.
Аббаньяно решил «снять» крайности и односторонность
экзистенциалистских теорий, чтобы превратить экзистенциализм из
«негативного» в «позитивный». В эстетике это выразилось в
двустороннем направлении движения: от человека к вещам и от вещей
к человеку.
Движение человека к вещам ни у кого не вызывает
сомнения — это движение как бы разумеется само собой, хотя, видимо,
не каждый представляет данное движение одинаково. Что же
касается движений вещей к человеку, то здесь естественным
образом возникает вопрос: что представляет собой это движение?
Каким образом вещи могут двигаться к человеку?
283
Аббаньяно не первый из философов, обративших особое
внимание на проблему «чувственности». Ею занимались не только
философы-идеалисты, но и материалисты — Спиноза, Локк и в
особенности Фейербах. И все-таки, несмотря на блестящие догадки
и отдельные верные замечания предшествующей философии, по-
настоящему проблема «чувственности» была поставлена и раскрыта
только Марксом. Это объясняется тем, что в домарксистской
философии, как и в современной буржуазной, проблема «чувственности»
решалась и решается абстрактно, на основе абстрактно понятого
человека, а без решения проблемы самого «человека» нельзя не
только решить проблему «чувственности», но даже правильно ее
поставить.
Аббаньяно, как и другие философы-экзистенциалисты, исходит
при решении проблемы чувственности из абстрактно понятого
человека. Достаточно привести несколько его высказываний, чтобы
убедиться в этом. Так, он, например, пишет, что «существование
человека есть поиск бытия» 3|. Или еще: «...человек является
первоначальной, трансцендентальной возможностью поиска бытия» . При
этом категория «бытия» выражает опять-таки не какую-то
конкретно-историческую форму существования человеческого
общества или человеческих отношений, а некое абстрактное состояние
«того, что есть». Человеческое общество как таковое отрицается,
признается лишь существование «других». Наиболее достоверную
возможность приобщиться к «другим» открывает любовь: «Любовь
является типичной формой признания другого как другого самого
себя» 33.
Очевидно, что такая концепция человека и системы
общественных взаимосвязей исключает эффективное научное решение
проблемы сущности человека, его происхождения, генезиса его
чувственности и сознания.
Как уже отмечалось, чувственность Аббаньяно
рассматривает как характеристику изначальной природы человека, роднящей
его с миром вещей, и в то же время он развивает другой аспект
чувственности — активность человека по отношению к вещам, некое
практическое отношение, понятое, однако, чисто индивидуалистски.
Маркс при решении этой проблемы исходил из конкретно-
исторического понимания сущности человека как совокупности
социальных отношений. Это было открытием Маркса. Правда, эту
формулировку сущности человека Маркс дает в «Тезисах о
Фейербахе», вскоре после написания «Экономическо-философских
рукописей 1844 года». Но и в них он выражает, по существу, то же
самое понимание. Так, например, Маркс прежде всего отличает
«чувственное присвоение» от «пользования», «владения»,
«обладания»: «...чувственное присвоение человеком и для человека
человеческой сущности и человеческой жизни, предметного человека
и человеческих произведений, надо понимать не только в смысле
непосредственного, одностороннего пользования вещью, не только
284
в смысле владения, обладания. Человек присваивает себе свою
всестороннюю сущность всесторонним образом, т. е. как целостный
человек. Каждое из его человеческих отношений к миру — зрение,
слух, обоняние, вкус, осязание, мышление, созерцание, ощущение,
хотение, деятельность, любовь — словом, все органы его
индивидуальности, равно как и те органы, которые непосредственно, по своей
форме, существуют как общественные органы,— являются в своем
предметном отношении, или в своем отношении к предмету,
присвоением последнего, присвоением человеческой действительности.
Их отношение к предмету есть осуществление на деле человеческой
действительности» 34. Маркс направляет свою критику против
буржуазного понимания чувственного присвоения человеческой
сущности и человеческих произведений, которое сводилось к
одностороннему пользованию вещью — владением ею, когда «на место всех
физических и духовных чувств стало простое отчуждение всех этих
чувств — чувство обладания» 35. Все богатство мира и человеческих
чувств частная собственность свела только к одному чувству —
потребления, обладания. И действительно, человек, находящийся
под властью законов и отношений частной собственности, не может
иначе смотреть на вещи, как только с точки зрения стремления
обладать и пользоваться ими. Иначе предмет как таковой не
является предметом.
Правда, против этой голой утилитарности выступили уже
теоретики «искусства для искусства» и виднейшие представители
буржуазной культуры. Но они искали зло не там, где оно было и есть:
они усматривали его не в общественных отношениях буржуазного
общества, а в каких-то отклонениях от нормы этих отношений,
отклонениях от «обычных» обстоятельств и ситуаций данного
общества.
Аббаньяно не сводит искусство к голой утилитарности, не
видит он в нем и одностороннего пользования вещами: владения,
обладания. Он просто считает искусство одним из модусов
существования экзистенции, или существования, понимая под этим
абстрактную «чувственность». Тем не менее эстетическая
концепция Аббаньяно представляет собой попытку возвысить искусство
над голой утилитарностью, сделать его универсальным.
Производство и воспроизводство разнообразных форм
отчуждения в технократическом обществе толкает его теоретиков на
поиски каких-то «вечных» и «непреходящих» ценностей. И чем
острее и невыносимее становятся реальные противоречия и
отношения угнетения, тем более фантастические формы принимают
различного рода «духовные» пути и «интеллектуальные» конструкции
«высвобождения» человека от этого гнета.
Аббаньяно пытается найти и осуществить это «спасение»
посредством существования в форме искусства, что означает возврат
человека к природе и природы к человеку. Но предпосылки, из
которых он исходит, позволяют ему лишь наметить некоторые про-
285
блемы этого «возврата», и то в довольно абстрактной и туманной
форме. Абстрактное понимание человека определяет столь же
абстрактное понимание человеческих чувств и отношений, как
в субъективном, так и в объективном аспекте, не говоря уж о том,
что их историческое рассмотрение вообще не предполагается.
А именно в этом вся суть решения вопроса.
Чувственность не является, как полагает Аббаньяно, ни
«изначальной природностью», ни абстрактной способностью принимать,
употреблять, производить, обрабатывать, изменять вещи.
Человеческая чувственность, как показал Маркс, формируется в процессе
материально-производственной практики, в процессе
взаимодействия человека с конкретным предметом. Очевидно, нужно различать,
а не смешивать, как это делает Аббаньяно, чувственность человека,
даже в ее самом широком смысле, с материально-производственной
практикой. Затем, чувственность как таковую нельзя, видимо,
отождествлять с чувствами, под которыми в свою очередь нельзя
понимать нечто чисто чувственное. В этом смысле Маркс проводит очень
четкое разграничение между чувственностью, чувствами и
практической деятельностью. Практическая деятельность для него
является основой всей жизнедеятельности людей, их возникновения,
формирования и развития. Что же касается чувств, то, как это видно из
только что приведенного высказывания Маркса, они представляют
собой продукт всей истории. Специфика же каждого чувства не есть
прерогатива человека как биологического существа, а прежде всего
есть качество или свойство, приобретенное в результате
практического взаимодействия с предметом. Определенность предмета
и энергии, направленной на преобразование данного предмета,
формирует определенность или специфику человеческих чувств.
Общественная, материально-производственная практика является
универсальной формой связи и взаимодействия человека и
природы. Именно благодаря ей все способности человека получают
общественный характер. Если сущность человека есть совокупность
социальных отношений, то его чувства, его сознание, все его
способности представляют собой развернутое богатство этих
отношений, преломленных через своеобразие конкретного их воплощения
и проявления.
Когда же мы говорим о чувственности, то она не сводится ни
к чувствам, ни к практике. Вот что писал о чувственности Маркс:
«Чувственность (см. Фейербаха) должна быть основой всей науки.
Наука является действительной наукой лишь в том случае, если она
исходит из чувственности в ее двояком виде: из чувственного
сознания и из чувственной потребности; следовательно, лишь в том
случае, если наука исходит из природы. Вся история является
подготовкой к тому, чтобы «человек» стал предметом чувственного
сознания и чтобы потребность «человека как человека» стала
(естественной, чувственной) потребностью. Сама история является
действительной частью истории природы, становления природы че-
286
ловеком. Впоследствии естествознание включит в себя науку о
человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя
естествознание: это будет одна наука» 36. Так понятая
чувственность не есть ни какое-то сверхъестественное стремление природы
к человеку, ни естественное стремление человека к природе. Сам
человек как часть природы является своеобразным «завершением»
природы, ее высшим продуктом. Именно благодаря этому
человеческое сознание не должно витать где-то вне природы и над
природой, а должно исходить из нее, чтобы как можно глубже и полнее
познать ее закономерности.
Как история природы есть история становления природы
человеком, точно так же история человека имеет своей основой историю
природы и является как бы ее продолжением, хотя и обладает
спецификой своего собственного развития. Именно поэтому Маркс
настаивает на объединении науки о человеке (прежде всего и
главным образом антропологии в самом широком смысле этого слова)
с естествознанием. «Человек есть непосредственный предмет
естествознания; ибо непосредственной чувственной природой для
человека непосредственно является человеческая чувственность
(это — тождественное выражение), непосредственно как другой
чувственно воспринимаемый им человек; ибо его собственная
чувственность существует для него самого, как человеческая
чувственность, только через другого человека. А природа есть
непосредственный предмет науки о человеке. Первый предмет человека —
человек — есть природа, чувственность; а особые человеческие
чувственные сущностные силы, находящие свое предметное
осуществление только в предметах природы, могут обрести свое
самопознание только в науке о природе вообще. Даже элемент самого
мышления, элемент, в котором выражается жизнь мысли —
язык,—имеет чувственную природу. Общественная
действительность природы и человеческое естествознание, или естественная
наука о человеке, это — тождественные выражения» 37. Основу для
такого объединения Маркс видит опять-таки в общественном
характере человеческой деятельности, в общественной
действительности природы, в общественном характере природы самого человека.
Благодаря этому природа не наделяется чувственностью, как это
мы находим у Аббаньяно, а является чувственностью, как предмет
практической деятельности и теоретического рассмотрения
человека; в то же самое время человеческая чувственность является
таковой только в силу ее социального, общественного характера,
поскольку она формируется у человека лишь благодаря его практиче-
ско-теоретической деятельности, определяемой обществом.
Аббаньяно рассматривает искусство также и как «реализацию
и технику». Что понимается под этими терминами? Как
«позитивный экзистенциалист», Аббаньяно не упускает из виду одну из
основных категорий своей философии — категорию
«возможности». Он рассматривает искусство как нечто совершенно свободное
287
от какой бы то ни было необходимости: если уж философия
свободна от необходимости, то искусству эта свобода присуща
изначально. «Проблематичность искусства как чистой чувственности есть
сама проблематичность экзистенции в ее структуре» 38.
Аббаньяно отказывается от всей совокупности традиционных
представлений об искусстве. Сжатое изложение своего понимания
эстетики Аббаньяно дает в «Философском словаре» 39. Термином
«эстетика», пишет Аббаньяно, обозначается «наука (философская)
об искусстве и о прекрасном», о чем, по его мнению,
свидетельствует вся история искусства. На протяжении развития этой науки
делалось огромное количество попыток определения искусства
и прекрасного. Все эти попытки Аббаньяно сводит к трем группам,
соответственно основной проблематике, касающейся сферы
эстетики: «1) отношение между искусством и природой; 2) отношение
между искусством и человеком; 3) задача искусства» 40. Здесь
следует отметить весьма реалистический подход Аббаньяно к
основной проблематике эстетики и искусства. В общей форме он
правильно намечает основные отношения искусства и
действительности, хотя конкретное содержание данной проблематики и в
особенности ее решение является весьма спорным.
Во-первых, намечаемое им отношение между искусством
и природой сужает сферу искусства и эстетики, поскольку
искусство относится не только к природе, но ко всей действительности
вообще. Во-вторых, проблема отношения между искусством и
человеком может быть понята только в связи с обществом, что
Аббаньяно отрицает принципиально, как, впрочем, и все
философы-экзистенциалисты. И, наконец, в-третьих, задачи искусства
формулируются им абстрактно. Рассмотрим это более подробно.
Первое отношение, т. е. отношение между искусством и
природой (или вообще действительностью), включает понимание
искусства как зависимого или независимого от природы. Внутри этого
отношения Аббаньяно выделяет три позиции: 1) искусство как
подражание (Платон, Плотин); 2) искусство как созидание
(романтизм, Шеллинг, Гегель, Кроче); 3) искусство как конструкция.
Относительно первой позиции Аббаньяно замечает, что до тех
пор, пока понятие подражания остается определением искусства,
пассивный или воспринимающий характер самого искусства
является несомненным. И здесь он совершенно прав, поскольку речь идет
о таких эстетических системах, как система Платона и Плотина.
Вторая позиция, по его мнению, является крайностью, ибо нельзя
сводить искусство только к созиданию. Третья позиция, согласно
Аббаньяно, как бы снимает крайности первых двух: ее следует
понимать не как чистую восприимчивость, не как чистую созида-
тельность, а как «встречу между природой и человеком» 41. В этом
понимании искусства как встречи между природой и человеком —
суть эстетической концепции Аббаньяно. По существу, данная
концепция остается абстрактной, ибо и природа и человек мыслятся
288
абстрактно. Более того, именно то, что должно было бы служить
ключом к правильному, научному пониманию искусства и эстетики
и их взаимоотношения с действительностью (в том числе и с
природой) — общество,— Аббаньяно исключает из рассмотрения.
Поэтому его «позитивный» экзистенциализм все-таки остается просто
экзистенциализмом. В этом смысле экзистенциализм Сартра более
«позитивен», чем экзистенциализм Аббаньяно, поскольку Сартр
в какой-то мере признает роль общества в развитии искусства
и эстетических идей и тесную взаимосвязь между искусством и
обществом.
«В современной эстетике,— пишет Аббаньяно,— доминирует
понятие искусства как конструкции» 42. Эта концепция искусства,
по его мнению, является концепцией, отождествляющей
художественное произведение с его техникой. Яркий пример подобного
отождествления Аббаньяно видит в современном абстрактном
искусстве, настаивающем на тождестве техники и произведения.
Хотя Аббаньяно и говорит, что художник, не нашедший своей
собственной техники, не является настоящим художником, тем не
менее он против такого отождествления техники и произведения,
которое свойственно современному абстрактному искусству. По
существу, Аббаньяно выступает не против абстрактного искусства,
а против его крайностей. Такая критика абстрактного искусства
представляется весьма неубедительной.
«Второй фундаментальной проблемой эстетики,— пишет
Аббаньяно,— является проблема отношения между искусством и
человеком, т. е. ситуация, или позиция искусства в системе способностей
или духовных категорий» 43. Здесь он вычленяет три основные
позиции: 1) искусство как познание (Аристотель, романтизм,
Шеллинг, Гегель, Кроче, Джентиле, К. Фидлер); 2) искусство как
практическая деятельность (Аристотель, Спенсер, К. Гросс, Ницше); 3)
искусство как чувственность (Платон, Баумгартен, Кант, Сантаяна,
Дьюи). Мы уже отмечали абстрактное рассмотрение у Аббаньяно
человека и исключение общества из рассмотрения, что
обусловливает абстрактную постановку и, по существу, невозможность
правильного решения проблемы отношения между искусством и человеком
и особенно конкретного решения или определения места и
познавательной функции искусства в системе способностей или
категорий. Отсюда — неточность, расплывчатость вычленения основных
позиций, определяющихся отношением к данной проблеме.
«Третья точка зрения, с которой мы можем рассматривать
эстетические теории,— пишет Аббаньяно,— это точка зрения
задачи, которую они приписывают искусству» 44. Все эти теории он
разделяет на две основные группы, рассматривающие искусство: 1 )
как воспитание, 2) как выражение. Как воспитание, искусство
является, по мнению Аббаньяно, инструментальным, а как
выражение — конечным, или целевым (finale) 45.
Теорию искусства как воспитания Аббаньяно считает самой
10 К. М. Долгов
289
древней и наиболее распространенной. Сюда он относит концепцию
Платона, некоторые известные школы Средневековья,
Возрождения, а также эстетику Гегеля и Кроче. К этой традиции, по его
мнению, примыкают теории политического воспитания средствами
искусства, согласно которым художник принимает на себя
обязательство следовать политической директиве и согласует свое
творчество с классовыми интересами широких и наименее
привилегированных социальных слоев.
Ясно, что здесь Аббаньяно имеет в виду прежде всего
марксистскую эстетику. И с присущей ему позиции либерализма и
буржуазного демократизма он полагает, что такого рода доктрины имеют
не меньшее право на существование, чем доктрины традиционные:
«Эти положения присущи эстетическим доктринам, которые
вдохновляются коммунистической идеологией и не являются,
философски говоря, более скандальными, чем традиционные доктрины,
которые ставят как задачу искусства моральное или познавательное
воспитание» 46.
И, наконец, теория выражения, которую Аббаньяно считает
наиболее плодотворной, хотя и расшатывает традиционное
понимание выражения и, ориентируясь на «позитивный» характер своих
общефилософских посылок, настоятельно подчеркивает активный,
деятельный характер художественного творчества. Поскольку
Аббаньяно рассматривает искусство как своеобразную встречу
человека с природой, он выдвигает концепцию выражения,
имплицирующего, по сути, отражение, практику. «Теория выражения стремится
видеть в искусстве предельную форму опыта, деятельности или
человеческого поведения вообще... С этой точки зрения,— пишет
Аббаньяно,— искусство является не природой, но... возвращением
к природе» 47. Как осуществляется это возвращение? Через
деятельность субъекта, через практику, хотя и понятую абстрактно.
Этим он как бы снимает крайности эстетических теорий
(в частности, эстетики абстракционизма), отождествляющих
технику искусства с произведением, а также концепций,
постулирующих теоретический или созерцательный характер искусства, что
одинаково неприемлемо для Аббаньяно хотя бы потому, что
искусство, согласно его воззрениям, является видом экзистенции,
характеризующим человеческое существование, когда оно
осуществляется как возвращение к природе, причем «...искусство есть
только там, где возвращение к природе осуществляется со всей
ответственностью экзистенциального обязательства, вовлекающего
для предельного использования все элементы существования» 48.
Экзистенциальное обязательство не только «связывает»
возвращающегося субъекта, но и определяет конституцию эстетического
объекта, так как нет искусства без того, чтобы не определялся
объект, т. е. без эффективного создания произведения искусства.
Искусство всегда есть производство, труд, техника. Техника
является моментом реализации произведения искусства, т. е. моментом,
290
когда в одном и том же акте человек реализует самого себя в форме
чистой чувственности, и объект, который является условием этой
формы. Таким образом, не существует техники, которая бы
отличалась от искусства как чистой чувственности, оставалась бы по
отношению к нему внешней. Такая техника есть не техника, а
ремесло: это производство вещей, акция примитивной чувственности
человека, протекающая вне экзистенциального обязательства,
присущего творчеству, искусству.
«Техника — это объективный момент, необходимо включенный
в чистую чувственность. Это — аспект, благодаря которому природа
очеловечивается и составляет часть существования как такового.
Она есть движение, благодаря которому природа движется к
человеку именно в акте, в котором человек движется к природе,
вкладывая всю свою силу в это возвращение. Техника представляет
встречу природы и человека. Она является вместе с тем основой единства
произведения искусства и основой личности человека как
художника. Во встречном движении природа становится объектом
искусства, т. е. она избавлена от натуралистического рассеивания и
приведена к своему подлинному единству, и человек становится
художественной индивидуальностью, личностью, которая решительно
направлена на путь собственной подлинной реализации. В технике
субъект и объект искусства определяют друг друга необходимым
образом. Художник, который не нашел своей техники, не
реализуется как художник» 49.
Реализация человека в искусстве является вполне приемлемой
идеей, идеей, которая была четко сформулирована еще Марксом,
когда он говорил, что человек утверждает себя в мире не только
благодаря непосредственно-практической, производственной
деятельности, но и при помощи всех своих чувств, в особенности
эстетических, благодаря которым он воспринимает прекрасное, его
законы и изменяет мир соответственно этим законам.
Философы-экзистенциалисты, в том числе и Аббаньяно, часто
принимают форму жизнедеятельности индивида за существенное
содержание. Тогда создается иллюзия, что вся жизнедеятельность
человека только индивидуальна. С другой стороны, нельзя сводить
эту деятельность только к коллективной форме.
«Общественная деятельность и общественное пользование,—
писал Маркс,— существуют отнюдь не только в форме
непосредственно коллективной деятельности и непосредственно
коллективного пользования, хотя коллективная деятельность и коллективное
пользование, т. е. такая деятельность и такое пользование, которые
проявляются и утверждают себя непосредственно в действительном
общении с другими людьми, окажутся налицо всюду, где
вышеуказанное непосредственное выражение общественности обосновано
в самом содержании этой деятельности или этого пользования
и соответствует его природе.
Но даже и тогда, когда я занимаюсь научной и т. п. деятельно-
10*
291
стью — деятельностью, которую я только в редких случаях могу
осуществлять в непосредственном общении с другими,— даже
и тогда я занят общественной деятельностью, потому что я
действую как человек. Мне не только дан, в качестве общественного
продукта, материал для моей деятельности — даже и сам язык, на
котором работает мыслитель,— но и мое собственное бытие есть
общественная деятельность; а потому и то, что я делаю из моей
особы, я делаю из себя для общества, сознавая себя как
общественное существо.
Мое всеобщее сознание есть лишь теоретическая форма того,
живой формой чего является реальная коллективность,
общественность, но в наши дни всеобщее сознание представляет собой
абстракцию от действительной жизни и в качестве такой абстракции
враждебно противостоит ей. Поэтому и деятельность моего
всеобщего сознания как таковая является моим теоретическим бытием
как общественного существа.
Особенно следует избегать того, чтобы снова
противопоставлять «общество» как абстракцию индивиду. Индивид е1ть
общественное существо. Поэтому всякое проявление его жизни —
даже если оно и не выступает в непосредственной форме
коллективного, совершаемого совместно с другими, проявления жизни,—
является проявлением и утверждением общественной жизни.
Индивидуальная и родовая жизнь человека не является чем-то
различным, хотя по необходимости способ существования
индивидуальной жизни бывает либо более особенным, либо более
всеобщим проявлением родовой жизни, а родовая жизнь бывает либо
более особенной, либо всеобщей индивидуальной жизнью.
Как родовое сознание, человек утверждает свою реальную
общественную жизнь и только повторяет в мышлении свое реальное
бытие, как и, наоборот, родовое бытие утверждает себя в родовом
сознании и в своей всеобщности существует для себя как мыслящее
существо» 50.
Аббаньяно вслед за другими философами-экзистенциалистами
абсолютизирует индивидуальные проявления общественной
деятельности человека, в результате чего он не только не видит
подлинной основы человеческой деятельности, ее общественного
характера, но для него и само общество не существует как таковое.
В лучшем случае человек встречается лишь с другими индивидами,
такими же уникальными и одинокими. Он не противопоставляет
обществу индивида, потому что вовсе не принимает и не признает
общество. Он не противопоставляет индивидуальную деятельность
общественной, потому что последняя для него не существует вовсе.
Индивид и его отношение к миру представляется Аббаньяно чисто
индивидуальным. Он не хочет противопоставлять природу и
человека, пытаясь соединить их чувственностью.
Таким образом, исходным пунктом для Аббаньяно является
индивидуальное человеческое существование, изолированный инди-
292
вид, а значит, и отношение между ним и природой также является
индивидуальным. Аббаньяно не признает
общественно-производственной практики социально обусловленных чувственности и
сознания. Для него все эти категории являются способностью
изолированного индивида или его индивидуальным отношением с
природой. В этом Аббаньяно не отличается от других
философов-экзистенциалистов. Это можно считать общим изъяном
экзистенциалистской философии.
Как показал Маркс, между природой и человеком находится
общество: человек соединялся с природой и противостоял ей
только через общество и благодаря обществу. Его отношения к природе
всегда были общественными отношениями, хотя и могли выступать
в индивидуальной форме. Общественный характер всей
жизнедеятельности человека является своеобразным «родимым пятном»
и «проклятием», от которого человек никогда не сможет
освободиться и избавиться. Что бы человек ни делал, чем бы он ни
занимался — всегда он будет выступать как общественное существо,
а его деятельность — как общественная деятельность. Маркс писал,
что: «...общественный характер присущ всему движению; как само
общество производит человека как человека, так и он производит
общество. Деятельность и пользование ее плодами как по своему
содержанию, так и по способу существования носят общественный
характер: общественная деятельность и общественное пользование.
Человеческая сущность природы существует только для
общественного человека; ибо только в обществе природа является для
человека звеном, связывающим человека с человеком, бытием его для
другого и бытием другого для него, жизненным элементом
человеческой действительности; только в обществе природа выступает как
основа его собственного человеческого бытия. Только в обществе
его природное бытие является для него его человеческим бытием
и природа становится для него человеком. Таким образом,
общество есть законченное сущностное единство человека с природой,
подлинное воскресение природы, осуществленный натурализм
человека и осуществленный гуманизм природы» 51. Маркс не только
ставит общество между человеком и природой, но и показывает
необходимость общества как основы, которая формирует человека.
Поскольку же общество состоит всегда из реальных индивидов, то
они в свою очередь формируют общество. Без общества, по Марксу,
человек был бы лишь органической частью природы или, как у
Аббаньяно,—частью или элементом «Тотальности». Благодаря же
обществу и посредством общества человек не только связывается
с природой, но и с другим человеком, с людьми, с обществом. Без
общества природа не может иметь для человека никакого смысла
и значения, поскольку и сам человек не может быть человеком.
Только благодаря обществу природа становится для человека
человеком, а природное бытие — человеческим бытием. Именно
общество, и только оно, может быть законченным единством человека
293
с природой, воскресением природы и торжеством человека,
«осуществленным натурализмом человека и осуществленным гуманизмом
природы». Трудно лучше и глубже сказать о соотношении природы
и человека, чем сказал об этом Маркс.
Одной из существенных проблем в эстетической теории Аб-
баньяно является проблема «историчности искусства». «Искусство
существует вне времени, но не вне истории»,— говорит Аббань-
яно 52. Дело в том, что время он относит только к природе, а
историю — только к человеку и сфере его существования. При этом
время понимается не как всеобщая форма существования материи
или даже природы, а как некое состояние или фон самого
существования. Именно в этом смысле Аббаньяно употребляет выражение
«реальность времени», тождественное выражение «временность
времени», которое «есть не что иное, как фундаментальная
неустойчивость экзистенциальной возможности» . Категория времени
выражает не фундаментальную характеристику объективной
реальности, а фундаментальную характеристику «возможности»
человеческого существования — его неустойчивость, шаткость, временный,
преходящий характер. История «скорее, есть возможность и долг
для человека: возможность и долг обнаружения и признания в
собственном прошлом подлинных аспектов истины и оценка их как
нормы ограничения и выбора будущей возможности» 54. Отсюда
видно, насколько абстрактно понимает Аббаньяно историю. Он
говорит об истории человека не как конкретно-исторического
существа, существа, относящегося к определенному конкретному
времени, конкретному обществу и т. д., а об истории человека вообще,
человека как внеисторического и надысторического существа.
В связи с этим история как «верность времени», «судьба»,
«возможность и долг» человека выступает как абстрактная категория,
лишенная конкретно-исторического содержания.
«Как возвращение к природе, искусство,— пишет Аббаньяно,—
является по существу историчностью» 57. «Возвращаясь к природе,
человек спасает природу от времени и вкладывает ее в историю.
Историчность принадлежит поэтому самой сущности искусства, как
движению возвращения, как структуре. В историчности прошлое
конституируется и сохраняется в его фундаментальном и вечном
значении. История — это признание прошлого в том, что в нем
достойно остаться в живых: она есть построение прошлого как
будущего. Искусство, как возвращение к природе, не находится
в истории, оно есть сама эта история» 56. Искусство, таким образом,
является не просто возвращением к природе, а как таковое оно
является спасением природы от разрушения, снятием с нее
временного характера. В этом смысле оно обладает историчностью,
которая составляет и сохраняет из прошлого его самые ценные
и положительные моменты. Искусство является историей в том
смысле, что оно соединяет в себе прошлое и будущее, при этом не
просто соединяет, а воспроизводит прошлое как будущее.
294
Аббаньяно хорошо чувствует и понимает, что искусство
должно быть и является по самому своему существу человеческим.
Человечность искусства представляется ему одной из самых
важных характеристик. Однако ввиду абстрактного понимания
человека человечность искусства понимается им в самой общей и
абстрактной форме. Он чувствует, что искусство, как, может быть, никакая
другая форма жизнедеятельности людей, выражает связь прошлого
с настоящим и будущим, что искусство воспроизводит прошлое как
будущее, что историчность пронизывает искусство, и в конечном
счете для Аббаньяно искусство и есть история. Он прав в
подчеркивании исторического характера искусства, в том, что именно
искусство полнее, значительнее и всестороннее сохраняет прошлое в
форме конструирования будущего (само воспроизведение прошлого
справедливо рассматривается им как построение будущего). И все-
таки, несмотря на это, концепция Аббаньяно лишь в очень
отдаленной степени, как некий слабый контур, схватывает действительную
историчность искусства.
Искусство и история неотделимы и немыслимы друг без друга
хотя бы потому, что и то и другое — продукт деятельности
человека. История не хронология и не напластование прошлых эпох,
культур или различного рода теорий, а своеобразная форма
понимания, истолкования и усвоения содержания всей практической
и теоретической деятельности человечества. Именно поэтому мы
можем говорить в равной степени об истории культуры
(материальной и духовной), истории искусства, техники и т. д. Искусство
в этом смысле так же исторично, как и техника или
промышленность. «Промышленность,— писал Маркс,— является
действительным историческим отношением природы, а следовательно
и естествознания, к человеку. Поэтому если ее рассматривать как
экзотерическое раскрытие человеческих сущностных сил, то
понятна станет и человеческая сущность природы, или природная
сущность человека; в результате этого естествознание утратит свое
абстрактно материальное или, вернее, идеалистическое направление
и станет основой человеческой науки, подобно тому, как оно уже
теперь — хотя и в отчужденной форме — стало основой
действительности человеческой жизни, а принимать одну основу для
жизни, другую для науки — это значит с самого начала допускать
ложь. Становящаяся в человеческой истории — этом акте
возникновения человеческого общества — природа является
действительной природой человека; поэтому природа, какой она становится —
хотя и в отчужденной форме — благодаря промышленности, есть
истинная антропологическая природа» 5 . Здесь довольно четко
выражено марксистское понимание исторического единства природы
и человека: природа «движется» к человеку посредством
промышленности или материально-производственной практики, точно так
же как и человек к природе. «Действительно историческое
отношение» природы к человеку и человека к природе может быть только
295
практическим отношением, материально-производственной
практикой. Именно в практике человек утверждает себя в мире,
преобразуя этот мир. Из данного практического отношения человека к миру
возникает теоретическое отношение, когда предметом
рассмотрения становится не только природа, а все существующее. И чем
больше человек овладевает тайнами природы, ее законами, тем
больше он возвышается над ней, тем больше он к ней
«приближается». Предметом рассмотрения становится все существующее,
включая его самого. «Существо, не имеющее вне себя своей
природы, не есть природное существо, оно не принимает участия в
жизни природы. Существо, не имеющее никакого предмета вне себя, не
есть предметное существо. Существо, не являющееся само
предметом для третьего существа, не имеет своим предметом никакого
существа, т. е. не ведет себя предметным образом, его бытие не есть
нечто предметное.
Непредметное существо есть невозможное, нелепое существо
(Unwesen)» 58.
Будучи формой общественного сознания, искусство отражает
мир так же, как отражают его философия, религия и другие формы
общественного сознания. Однако искусство обладает своеобразной
историчностью, отличающейся от историчности техники или
промышленности. Специфика историчности искусства заключается
прежде всего в том, что любое подлинное произведение искусства
не просто отражает объективную реальность, а отражает ее с точки
зрения конкретного исторического субъекта, обладающего
определенным мировоззрением. В этом смысле «историчность» искусства
является прежде всего «историчностью» самого субъекта,
поскольку каждый человек представляет собой не только продукт истории,
но и саму историю в ее «сокращенном виде»,— каждый человек как
бы повторяет в своем развитии всю историю человечества.
Следовательно, отражение действительности в искусстве носит
исторический характер уже потому, что ее отражает «исторический
субъект — художник». «Исторический — в онтологическом и
гносеологическом значении».
Однако глубже, рельефнее и значительнее историчность
искусства проявляется в социальности, в общественном характере
мировоззрения художника как мироощущения. Искать специфику
историчности искусства только в историчности объекта отражения было
бы неправильно, поскольку это относится не только к искусству, но
и к любой форме жизнедеятельности человека. Социальный
характер мироощущения позволяет ему отражать действительность не
просто взирая на прошлое с точки зрения настоящего или даже
с точки зрения будущего, или, как полагает Аббаньяно, объединяя
прошлое с будущим, конструируя будущее воспроизведением
прошлого, а создавая новые художественные ценности, которые
воплощают в себе сконцентрированный, аккумулированный и
сохраненный исторический опыт человечества. Историчность искусства
296
состоит, таким образом, прежде всего в создании новых
художественных ценностей, что означает не простое «историческое»
созерцание прошлого с точки зрения настоящего, не романтическое взира-
ние на прошлое и настоящее с точки зрения будущего, а создание
новых художественных ценностей как творческое,
критически-революционное воспроизведение действительности (прошлой,
настоящей и будущей) с точки зрения социального, общественного
мироощущения художника.
Так понятая историчность искусства ставит человека перед
лицом личной ответственности за то, что совершается в мире. Здесь
можно согласиться с Аббаньяно, который говорит о «собственной
ответственности человека... Каждый из нас должен решить эту
проблему для себя и каждый для всех» 59. Искусство ставит перед
человеком такие проблемы, которые выдвигает сама жизнь. И
человек, реализуя себя в практической деятельности, утверждая себя
в мире, полнее, глубже и тоньше всего может выразить себя, познать,
а следовательно, и утвердить — в искусстве. В этом смысле
историчность искусства проявляется и как личная ответственность
человека за свою собственную судьбу и за судьбу всех людей на Земле.
Эстетическая теория Аббаньяно, или, как он ее называет,
«метафизика искусства», ставит ряд вполне реальных проблем.
И постановка этих проблем, и в особенности попытка их решения
носит абстрактный характер. Это обусловливается в основном
принципами экзистенциалистской философии, несмотря на то, что
«позитивный экзистенциализм» Аббаньяно в какой-то мере
свободен от крайностей экзистенциализма Хайдеггера, Ясперса и Сартра.
Экзистенциализм Аббаньяно более реалистичен. Поэтому изучение
его философско-эстетических трудов убеждает в возможности и
необходимости диалога, который неизбежно приведет к
положительным результатам, если будет вестись без предвзятости и оглядки
на обветшалые догмы.
Гвидо Морпурго-Тальябуэ.
Феноменология эстетического опыта
Дюфренн попытался ограничить вмешательство конкретных
методов исследования (семантики, семиотики и т. д.) в искусство.
Насколько продуктивным оказывается такое трезвое
ограничение семиологической экспансии, свидетельствуют многочисленные
труды Морпурго-Тальябуэ, где он успешно применяет семиотику
как методологическое подспорье, как дополнительный
инструментарий, позволяющий уточнить феноменологическое исследование '.
Является ли искусство языком? Морпурго-Тальябуэ понимает,
что ответ на этот вопрос определяет отношение не только к
семиотике, но и к самому искусству.
Концепция выражения открывает, естественно, простор
«неумеренной лингвизации» всех видов искусства. Однако Морпурго-
Тальябуэ, следуя традиции преодоления крочеанства, стремится
предотвратить грозящую знаковой теории искусства опасность
«смешения художественной информации с вербальной и смешения
языка различных видов искусства со специфической речью —
с языком литературы» 2.
Семантическое изучение искусства приемлемо лишь при
условии, что установка семиотики свести все виды искусства к
однотипной структурной модели будет контролироваться развернутой
феноменологией художественного опыта, если будет осознаваться
специфика знака искусства как особой коммуникационной системы,—
утверждает Морпурго-Тальябуэ.
Знак есть репрезентация какой-либо вещи. Знак естественного
языка указывает на значение, отношение знака к значению
конвенционально, оно регулируется принципом произвольности
символа. Но в искусстве знаки имеют не условный, а изобразительный
характер; они не только указывают на смысл, но и сами значат:
«...эстетическая информация всегда имеет двойной аспект:
непосредственный и опосредованный, прямой и непрямой, интенцио-
нально-семантический и семантическо-семиотический,
перцептивный и лингвистический, что и составляет ее специфику» 3,— пишет
Морпурго-Тальябуэ.
Так, в поэзии значение неотделимо от слова, в момент
представления значения слова поэтического языка представляют сами
себя. Процесс художественной коммуникации является
одновременно репрезентативным и презентативным. Слово литературного
языка «представляет значения и являет фонетические формы,
акустические эффекты, ритмические дыхания. Несомненно, что
первый фактор превалирует над вторым, который необходим для
полной очевидности первого» 4.
Любой вид искусства содержит вышеуказанный двойственный
298
момент. Репрезентативный момент превалирует в таких видах
искусства, как литература и живопись; презентативный момент —
в архитектуре и музыке. Многовековая наука о видах искусства
имеет рельефное данное этого бинома. Репрезентативные виды
искусства с некоторыми оговорками можно назвать
лингвистическими, хотя они и не сводятся к языку.
Рассматривая живопись, Морпурго-Тальябуэ приходит к
выводу, что она является языком, то есть безкодовой репрезентацией.
«Живопись — единственный вид искусства, который не может
освободиться, даже отчасти, от знаковости. Она является более
знаковой, если не более лингвистической, чем сама литература»5.
Причем он относит это как к фигуративной, так и к
нефигуративной живописи.
Что касается музыки, то Морпурго-Тальябуэ согласен с
мнением Т. Адорно, который подчеркивал, что она близка к языку, но не
является языком 6.
Любой вид искусства является, по мнению Морпурго-Тальябуэ,
языком только в том смысле, что искусство вообще
коммуникативно. Но изучение искусства как вида массовой коммуникации не
приобретает у Морпурго-Тальябуэ самодовлеющего значения:
описание искусства в терминах семиотики или теории информации
служит лишь дополнительной оснасткой его метода — метода
эмпирической феноменологии. Поэтому очевидно, что семиотическая
концепция Морпурго-Тальябуэ не может дать материала для
суждения о том, как он решает ключевой вопрос об отношении
искусства и общества, как мыслит основную задачу эстетики.
А между тем позиция этого ученого весьма симптоматична: в
пределах его теории находит выражение существенная тенденция,
имплицированная в развитии современного гуманитарного сознания.
В отличие от многих современных философов и эстетиков
Морпурго-Тальябуэ отчетливо понимает, что эстетика является «самой
живой и самой социальной формой культуры» 7. Не этим ли
обстоятельством объясняется поворот, который произошел в современной
буржуазной философской мысли, обратившейся к эстетике, чтобы
найти в ней ключ к решению самых жгучих проблем современной
эпохи? Не здесь ли следует искать ответ на вопрос о том, почему
крупнейшие современные буржуазные философы занимаются в
основном эстетической проблематикой и тайнами художественного
творчества, а буржуазная историческая наука еще со времен Бур-
кгардта и Ницше перешла на «эстетические» позиции, с которых
пытается не только истолковывать прошлое и настоящее, но и
«набросать» картину близкого и отдаленного будущего?
Понятие «социальность» — одно из самых сложных для
феноменологической эстетики, особенно когда требуется выявить
механизм воздействия социальности на те или иные формы духовной
культуры. В искусстве и эстетике «социальность» становится
прямо-таки неуловимой: в любом произведении искусства она как бы
299
пронизывает все его элементы, все его содержание, а определить ее
бывает действительно очень сложно. Достаточно вспомнить хай-
деггеровское «ман», которое «движет кистью художника и словом
поэта», чтобы почувствовать трудности, связанные с попытками
определить социальность в современной эстетической теории. Эту
трудность ощущает и Морпурго-Тальябуэ, хотя в то же время
отвергает помощь, которая могла бы воспоследовать от смежных
дисциплин — от социологии, например, не говоря уже
о психологии и философии искусства.
Чтобы обосновать свое неприятие существующих в эстетике
и социологии решений темы искусство и общество,
Морпурго-Тальябуэ прибегает к историко-критическому анализу становления
соответствующей проблематики с момента ее вторжения в область
эстетики в результате социальных катаклизмов.
С этого времени следует различать
императивно-аксиологическую интерпретацию отношений искусства и общества, с одной
стороны, интерес к их методологической интроспекции — с другой,
полагает Морпурго-Тальябуэ.
С начала XIX века проблема «искусство и общество»
приобретает статус основного интереса эстетики как проявление кризиса
индустриализации и шире — политико-культурного кризиса.
Искусство выступает как самокритика буржуазного общества в эпоху его
расцвета. Так, романтизм, будучи антибуржуазным по своей
направленности, составлял одновременно органическую часть
буржуазного общества — его «больное сознание» 8. Именно поэтому
художники выступали против существующего общественного
устройства, а искусство в целом — против всего общества.
По мнению Морпурго-Тальябуэ, проблема «искусство —
общество» развивалась в двух направлениях: в направлении
позитивного исследования и аксиологического, сообразно эстетике
фундаментально дескриптивной и эстетике субстанциально
нормативной. Так называемая позитивная концепция — это влияние
общества на искусство и даже искусства на общество, а «аксиологическая —
влияние искусства на общество как цель, как должно быть (un
devoir-etre)» 9.
Рассматривая, как решается проблема отношения искусства
и общества в различных эстетических концепциях,
Морпурго-Тальябуэ не видит существенных различий между этими концепциями,
так как он подходит к ним с точки зрения соотношения
художественного и эстетического.
Здесь необходимо оговорить, что в системе значений
Морпурго-Тальябуэ оппозиция эстетическое — художественное имеет
особый смысл. Эстетическое в применении к искусству означает
расширительное понимание прекрасного, нивелирующее специфику
искусства, которую более адекватно схватывает именно
художественное. Если это учесть, не покажется неожиданным заключение,
что «социальная концепция искусства, анархистская, демократиче-
300
екая или марксистская, есть концепция «эстетическая»; она
рассматривает искусство как момент прекрасного: завершение,
полнота, «все в одном» 10. Принцип дихотомии эстетического и
художественного заставляет философа прийти к выводу, что эстетические
доктрины непригодны для объяснения искусства, его специфики
и чем они «эстетичнее», тем более непригодны. «Их формулы — это
иллюзорные зеркала утопической ностальгии: искусство для этих
философов только случай смягчить их социальный страх. В то
время как искусство служит меньше смягчению страха, чем тому,
чтобы его вызывать» п. Следовательно, Морпурго-Тальябуэ
выступает против сведения эстетики к чисто социальной проблематике,
в которой может «утонуть» специфика искусства, то, что
предварительно названо художественным, а окончательно может быть
понято лишь тогда, когда ученый завершит круг исследования,
потому что художественное — это ключевая категория концепции
Морпурго-Тальябуэ.
А «эстетический критерий» внутренне социален, и там, где он
доминирует, эстетические доктрины склоняются, по мнению
Морпурго-Тальябуэ, к формированию эстетического общества.
Но есть и другие доктрины. «Мы можем свести их к
эмпирической концепции, а не к аксиологической, к дескриптивной, а не
к нормативной, к материальной, а не к формальной» 12. Какова же
между ними разница? «В аксиологических и утопических
доктринах, которые склонялись к тому, чтобы стать педагогическими
и аркадическими, мы видели, что искусство совпадает с
совершенствованием человека и общества. Для эмпирических,
дескриптивных доктрин как раз наоборот: искусство есть всегда сложное
и неустойчивое взаимодействие индивидуальных начинаний и
социальных условий, и никогда создание и потребление искусства не
совпадают без конфликта. А отношения между художником и
обществом всегда двойственны и проблематичны» .
Естественно, что Морпурго-Тальябуэ отдает предпочтение
дескриптивной концепции, которая «одинаково успешно
применяется как к отношению «искусство — общество», так и к отношению
«общество — искусство». Но если он и удостаивает дескриптивную,
эмпирическую линию снисходительной похвалы, то переоценивать
ее, во всяком случае, не следует. Морпурго-Тальябуэ склонен
одобрить любое исследование на стадии эмпирии, лишь бы оно не стало
выводом, лишь бы не породило системы, концепции, не заградило
путь его собственным постулатом. Тут было бы правильнее сказать
так: любые исследования самых разнообразных аспектов проблемы
«искусство и общество», с точки зрения Морпурго-Тальябуэ,
допустимы, но теоретическое осознание в пределах существующих
концепций искусства может быть только ошибкой, уровень теории
он предпочитает видеть открытым для своих собственных поисков.
Поэтому и социологические исследования в той мере, в какой
они избегают односторонности и «не ограничиваются программиро-
301
ванными, краткими и утомительными упражнениями» и,
заслуживают у Морпурго-Тальябуэ положительной оценки.
Вместе с тем Морпурго-Тальябуэ видит и «слабые места»
социологии искусства, социологической эстетики. «Социологическая
эстетика может навлечь на себя два упрека: быть опасной, когда
она использует утопически педагогические средства, и быть
излишней, поскольку она принимает дескриптивные методы» |5. При этом
она уточняется в двух направлениях: «...детерминизм стал
исторической детерминацией, а нормативная и аксиологическая
концепция определяется в технико-функциональный интерес» 16. Когда
социологическая эстетика рассматривает произведение искусства
через отношение к его целям и в связи со средствами и способами
их понимания, то проблема искусства представляется тогда как
техническая проблема.
Проблема социальности искусства может представляться
и в другом плане — в плане отношений между искусством,
механизированной техникой и индустриальным производством, утверждает
Морпурго-Тальябуэ со свойственной ему готовностью расширить
фронт эмпирического изучения вопроса. Но на теоретическом
уровне, в области концептуального конструирования и установка на
дескриптивность, за которой кроется эстетика
«среднестатистического», эмпирически найденной нормы, и нормативность, и
структурный функционализм отталкивают Морпурго-Тальябуэ так же,
как и исторический детерминизм в понимании взаимосвязи
искусства и общества.
В истории западноевропейской эстетики Морпурго-Тальябуэ
прослеживает постоянную тенденцию к поляризации
прекрасного — онтологического и экспрессивного. Развитие эстетической
мысли раскрывает эту полярность. «С одной стороны, мы имеем
эстетику меры и симметрии, гармонии, или мудрую эстетику, игру
способностей, целостность, форму, синэстезию, анафорический
результат, полноту существования etc. С другой стороны, эмоции
сострадания и ужаса и их катарсис, энтузиазм, пафос,
возвышенное, удивительное, волнующее, неопределенное, эмпатию,
экспрессивность, символическое... Развивайте и классифицируйте эти
термины с небольшой эрудицией и вы будете иметь историю западной
эстетики» 17.
В смысловом наполнении категории прекрасного наблюдается
сдвиг к «космологии»: собственно прекрасное сводится к таким
антропологически нейтральным характеристикам, которые
подсказаны восприятиями натуралистического порядка. Отсюда —
доминирующее положение категории формы в различных теориях
искусства. «В идеалистических, рационалистических, феноменологических,
экспериментальных, семиотических, семантических теориях именно
это понятие (то есть понятие формы.— К. Д.) является стержнем
большей части современной эстетики. И каждая из ее
спецификаций есть способ спецификации понятия «единства». В течение
302
двадцати четырех столетий истории западной культуры
многочисленные и весьма гетерогенные доктрины прекрасного и искусства
следовали одна за другой, но «эстетический» принцип, на который
они ссылались, эволюционировал очень медленно, проходя через
редкие трансформации, и он является еще опознаваемым в его
первоначальном состоянии. Это единство. Не неделимое единство,
а единство многообразное...» 18.
Рассматривая пифагоровское, платоновское, аристотелевское
и схоластическое, средневековое понимание единства, Морпурго-
Тальябуэ приходит к выводу, что во всех этих случаях речь идет
«о гносеологии, подчиненной онтологическому принципу». Причем
интересно, что принципы эстетической оценки, выработанные
внутри так называемой онтологически ориентированной эстетики, дают
критериальную оснастку полярно противоположной психагогиче-
ской, экспрессивной тенденции, внутри которой прекрасное
непреодолимо. Кроче, например, отождествляет содержание — форму
с «космическим чувством» (un sens), с чувством тотальности,
присущей художественной экспрессии. Джентиле определяет искусство
как жизнь, а Спирито определяет жизнь как искусство — оба, явно
вдохновленные концепцией искусства как онтологической модели.
Решения, предложенные американскими эстетиками, не очень
отличаются от только что рассмотренных: рациональность (Сантаяна),
полнота опыта (Дьюи), органичность (Уайтхед), синэстезия
(Ричарде) и т. д. «Таким образом, экспрессивный, психагогический
принцип искусства приводит его также к эстетическому,
онтологическому принципу прекрасного» 19 — ни одной из полярных
тенденций не удалось избежать «онтологического тупика».
В настоящее время, по мнению Морпурго-Тальябуэ,
происходит процесс, который можно было бы назвать гуманистическим
наполнением категории прекрасного. Традиционный набор
характеристик совершенства выстраивается теперь вокруг иного
смыслового центра. Подтверждение этому: аспект социальный и аспект
гуманистический, развивающиеся в современной эстетике.
«Прекрасное», рассматриваемое как полнота, органичность, согласие
между человеком и вещами, становится заботой, ценностью
и целью, которые выходят за пределы искусства и охватывают весь
опыт,— это становление гуманистического идеала» 20. Заново
обретенная цельность в идеале человеческого, гуманистическое озарение
эстетики позволяет постичь подлинную проблему эстетического,
проблему прекрасного — благого, но это не готовое, не изначально
данное, а предвосхищаемое прекрасное — благое. В интерпретации
Морпурго-Тальябуэ формула Платона избавлена от онтологической
неподвижности. Область ценностного смысла прекрасного не дана
в готовой форме эйдоса или онтологического образца.
Вырабатывать этот смысл — такова задача искусства, и эстетика призвана
с высот, обретенных с помощью логики и аксиологии,
предвозвещать его.
зоз
«Почтенный вопрос: что такое прекрасное и что такое
искусство получит ответ только с аксиологической точки зрения. Какова
эта ценность, а стало быть, эта позиция и это ожидание, которое
раскрывается под формой суждения о прекрасном или об
искусстве? Эстетическая проблема есть проблема антропологическая. И
решить ее можно с помощью эмпирического феноменологического
метода» 2|, который помогает прервать инерцию поглощения
эстетики метафизикой и онтологией и обосновать прекрасное не из
бездуховного онтологического ряда, а из пересечения эстетического
и антропологического.
В центре интересов Морпурго-Тальябуэ категории, которые
«являются одновременно эстетическими в широком смысле слова
и антропологическими и которые имеют отношение к
фундаментальным человеческим поступкам: категории нормального или
практического опыта, эстетического опыта, «эстетского» опыта,
художественного опыта, этического опыта» 22.
Во взаимодействии перечисленных видов опыта интегрируется
вновь обретенная целостность прекрасного — благого. Однако один
из них — эстетский — выпадает из гуманистической традиции и
вообще требует особых пояснений.
«Эстетизм» — это новая категория, которую античная культура
не знала и не ведала, и только современные исследователи
принимают ее во внимание... «Эстетизм является недавним,
постромантическим феноменом» 23. Стоящая за ним реальность — это прежде
всего современное «дегуманизированное» искусство. Теоретически
эстетизм раскрывается в двух различных, очень живых и очень
действенных в современной культуре формах: эстетическом
натурализме и эстетическом психологизме. Что они представляют собой?
Инерцию дихотомии онтологического и психагогического, которая
переместилась сюда с генерального пути буржуазной эстетики.
«Натуралистический эстетизм» (Testhétisme naturaliste): это
стремление к прекрасному — благому (beau-bon), которое является
также как бы добрым — приятным (bon agréable), прекрасным —
приятным (beau-agréable): полнота, счастье, унитарное завершение
опыта» 24. Когда-то это искали как Аркадию, как ностальгию
хорошей Природы, или как ностальгию классического мира, или
Ренессанса, или готики. Возрожденный в новых формах и более
верных его натуралистической сущности, этот идеал встречается
в более дидактических, более гуманистических, более социальных
доктринах современной эстетики, и прежде всего в
англо-саксонской. Искусство выступает здесь моделью эстетического
совершенства и берется как проявление опыта. Самым характерным и
полным представителем этой тенденции является Д. Дьюи. Речь идет
вообще о позиции критиков, социологов, моралистов и педагогов,
а не о позиции художников.
«Психологический эстетизм» (echtétisme psychologique)
появился из распутной, дендийской, богемной традиции. Его идеал —
304
это полнота себя, которая проявляется негативно как
независимость. Это — поздний романтизм, сюрреализм, а также сартров-
ский экзистенциализм; прекрасное в этом случае есть анти-общест-
во и анти-природа — это не объект любви, но злобы, и это
достигается благодаря отрицанию реального и благодаря отказу от
воображения. Если натуралистический эстетизм был мало
самосознанием, то эстетический психологизм является таковым уже
слишком: он принимает свой собственный нигилизм за инструмент
совершенства и даже просто как совершенство. Спасение человека,
гуманистический идеал состоит здесь в том, чтобы уклоняться от
общества, делаясь «человеком пера» (homme de plume), писателем,
даже если не пишешь: достаточно об этом мечтать. Если человек
начинает писать, рисовать, конструировать, если эстет делается
артистом, тогда он следует идеалу, даже превосходящему
человеческий идеал, он достигает Summum Bonum, höchste Gut. Фрагмент
музыки или литературного произведения становится
эквивалентным Бытию в-себе-для-себя (l'Etre,— Геп-soi-pour-soi-ontologique).
Таким образом, экзистенциалистская психагогия превращается
также в онтологию, она впадает в реальную объективную
телеологию, характеризующую любой эстетизм, который осуществляет
эстетическое удовлетворение цели универсума» .
Основной пафос концепции Морпурго-Тальябуэ направлен
против онтологической или натуралистической ориентации
эстетики, в каком бы то ни было виде. Единственно плодотворный путь
эстетического исследования — это аксиологический путь, только
необходимо избавить его от натуралистически-онтологических
искажений.
«Антропоцентристское» переосмысление прекрасного не
останавливается на уровне общей теории. Принцип дихотомии
эстетического и художественного оказывается тем счастливо найденным
инструментом анализа, с помощью которого Морпурго-Тальябуэ
удается в самой сути художественного образа выявить полифонию
различных видов опыта, интегрирующих гуманистическую
аксиологическую и неонтологическую природу прекрасного.
Морпурго-Тальябуэ выделяет два взаимосвязанных момента
в искусстве: эстетический, обусловливающий завершенность
произведения искусства и как бы организующий его перцепцию, и
художественный, обусловливающий «поэтическую» потенцию образа —
его способность «продолжаться во сне, кристаллизоваться в
культуре, жить в нашей моральной жизни». Если восприятие собственно
эстетического, составляющего прекрасное-эстетическое в искусстве,
не отличается от восприятия прекрасного в природе, то восприятие
прекрасного художественного дает так называемый элегический
эффект. «Чувство, вызываемое искусством, никогда не является
тем, что мы называем психологическим удовольствием, оно никогда
не следует нашим склонностям, исключая обманы. Неистово или
деликатно, оно приводит их всегда к поражению... Приятное дается
305
очень трудно искусству; искусство склоняется к неприятному. В
отличие от естественного прекрасного, которое может быть также
инстинктивным удовольствием, обычно эротическим, и от
прекрасного эстетического, которое является совершенной способностью
образа давать общезначимый результат, становление изображения
и парадигмы, прекрасное художественное есть то, которое
совпадает со способностью изображения продолжаться и сопротивляться
вне его наглядного изображения (figuration), и оно кажется
рожденным обычно из встречи противоположных первичных
инстинктов: нежности и жестокости, милости и возвышенного, приятного
и неприятного» 26. Это так называемый элегический эффект
искусства — постоянный результат восприятия художественного образа.
Интересно, что Морпурго-Тальябуэ не довольствуется
констатацией субъективно-психологической характеристики восприятия
искусства, как, скажем, Дюфренн, который приходит, правда,
к прямо противоположному утверждению относительно
эмоциональной характеристики эстетического восприятия: он считает
неизменным признаком восприятия искусства счастливое чувство,
и этот психологический барьер внутри концепции Дюфренна
непреодолим. Морпурго-Тальябуэ стремится осознать
психологическую структуру восприятия искусства в более широком, социально-
психологическом контексте, объясняя элегический эффект тем, что
при восприятии искусства субъективно-гедонистическое ожидание
наталкивается на социально-этический императив, ценностную
позицию, дисциплинирующую гедонистическое воображение. Для
этого он разводит понятия воображения и фантазии, которую, в
отличие от воображения, предвкушающего наслаждение субъекта,
мыслит как социально-этическую мифологему коллективного сознания.
Противоборство воображения и фантазии, порождающее
элегический эффект, свидетельствует о неустанной внутренней работе:
«...искусство ведет к практической парадигме... оно проявляет себя
в процессе бесконечной эволюции и изменения, охватывая
одновременно стилистические и этические факторы» 27.
Теперь мы могли бы провести сравнение взглядов двух
феноменологов, относящихся к одному и тому же поколению, но имеющих
довольно различные позиции,— Дюфренна и Морпурго-Тальябуэ.
Если Дюфренн интересуется главным образом искусством, его
произведениями и историей, то Морпурго-Тальябуэ —
эстетическими теориями, историей эстетики (особенно современной).
Если Дюфренн акцентирует свое внимание на эстетическом
восприятии зрителя, включая тем самым его в процесс
художественного творчества, поскольку эстетический объект возникает,
согласно его убеждению, в процессе эстетического восприятия, то
Морпурго-Тальябуэ интересуется эстетическим и практическим
опытом, закономерно связанными, точнее, определяющими
основные идеи и теории той или иной конкретно-исторической эпохи.
Дюфренн видит цель эстетики в том, чтобы прийти к «онтоло-
306
гии», вернуть искусство и человека к первозданной природе, а Мор-
пурго-Тальябуэ, напротив, отрицая онтологию, космологию и
метафизику, стремится привести искусство и эстетику к аксиологии
и антропологии, полагая, что это — единственно верный путь
развития искусства и эстетики.
И для Дюфренна и для Морпурго-Тальябуэ средством
достижения этих целей является феноменология,
феноменологический метод, которые тем не менее понимаются ими различно:
у Дюфренна феноменология — это «философия двусмысленности»
в том значении, которое придает ей Мерло-Понти, а у Морпурго-
Тальябуэ феноменология — это «эмпирическая феноменология»,
в основе которой лежит «опыт» в различных его видах.
И наконец, Дюфренн в основном отрицательно относится к
современным конкретным методам или приемам исследования:
семантике, семиотике, структурализму,— полагая, что искусство
несводимо к языку, к его двойственной структуре (фонеме или монеме),
оно в лучшем случае представляет собою не язык, а речь,
следовательно, говорит он, нужно не искусство исследовать с помощью
этих методов, а эти методы исследовать с помощью искусства.
Морпурго-Тальябуэ придерживается противоположного
взгляда: он полагает, что эти методы (семантика, семиотика,
структурализм) весьма полезны при исследовании конкретных
художественных произведений, искусства в целом и эстетических систем и даже
истории искусства и истории эстетики, не говоря уж об
исследовании современных теорий искусства и эстетических теорий.
Таким образом, мы видим, что, хотя современные
феноменологические эстетические теории имеют много общего (все они
описывают эстетические феномены, эстетический опыт и т. д.), тем не
менее они существенно отличаются друг от друга по тому, что
является в каждой из них исходным пунктом, средством, целью, не
говоря уже о категориальной системе, отражающей эти различия
в «снятом», логическом виде.
Мы можем с уверенностью сказать, что современные
феноменологические теории сходятся в тенденции подчеркивать
значимость антропологического момента или пути развития эстетики.
Однако они отличаются друг от друга в понимании самого
антропологического: Дюфренн, например, видит его в возвращении к
природе, первозданной, нецивилизованной, нетронутой человеческой
культурой, в то время как Морпурго-Тальябуэ, наоборот, считает,
что антропологический момент будет таковым только в том случае,
если он будет очищен от онтологических, космологических и
метафизических наслоений, искажающих его.
В заключение следует заметить, что ни тот, ни другой путь,
которые предлагаются Дюфренном и Морпурго-Тальябуэ (да
и другими феноменологическими эстетическими концепциями), не
может привести искусство и эстетику к целям, содержащимся в них
как в своеобразных формах общественного сознания, формах по-
307
знания и осознания действительности. Тот поворот к социальности,
который наметился в современных феноменологических теориях
(начало которому положил еще Гуссерль в своих последних
работах, в особенности в «Кризисе европейских наук»), должен еще
завершиться более определенным ее пониманием, а также
пониманием социальной проблематики вообще, связи социальных
отношений с явлениями материальной и духовной культуры и т. д. Пока
это начало поворота, и еще трудно сказать, в каком направлении
будут развиваться феноменологические эстетические концепции.
Ясно лишь одно: чем больше будет назревать необходимость в
решении самых основных и острых эстетических проблем, тем больше
будет ощущаться потребность в выявлении сути, лежащей в основе
этой проблематики, тем острее будет необходимость в познании
и овладении «социальностью», тем больше вынуждены будут
отказываться феноменологи от своих «классических» принципов,
составляющих феноменологический метод, тем больше они
вынуждены будут считаться с диалектикой действительности и
диалектическим методом ее познания и преобразования. В противном случае
их ждут неудачи. Эстетические концепции Дюфренна и Морпурго-
Тальябуэ играют довольно большую роль в современном фило-
софско-эстетическом сознании не только потому, что они выражают
взгляды ведущих феноменологов современности, но и потому, что
они отражают существенные тенденции в развитии современной
эстетики и культуры.
Маркс подчеркивал, что буржуазное общество является
наиболее развитой и наиболее многосторонней исторической
организацией производства из всех эксплуататорских обществ. Поэтому
категории, выражающие его отношения, понимание его структуры
и организации дают возможность проникнуть в «тайны» отношений
всех предшествующих общественных форм, из обломков и
элементов которых оно строилось и которые частично оно еще продолжает
влачить за собой в виде неопределенных остатков, а частично
развивая до полного значения то, что в этих формах имелось лишь
в виде намека. В эхам смысле можно сказать, что категориальная
система современной философской эстетики (как, впрочем, и других
областей человеческого знания: политэкономии, права, морали,
философии и др.) является ключом к категориальным системам
эстетического сознания прошлых эпох. Вместе с тем в буржуазном
обществе — одной из форм антагонистического общества —
отношения предшествующих формаций встречаются часто в совершенно
захиревшем или даже шаржированном виде. То, что в буржуазной
категориальной системе истинно по отношению к категориальным
системам других общественных формаций, следует принимать, как
подчеркивал Маркс, cum grano salis.
«Они (то есть категории.— К. Д.) могут содержать в себе эти
последние в развитом, в искаженном, в карикатурном и т. д.. во
всяком случае, в существенно измененном виде. Так называемое
308
историческое развитие покоится вообще на том, что новейшая
форма рассматривает предыдущие как ступени к самой себе и всегда
понимает их односторонне, ибо лишь весьма редко и только при
совершенно определенных условиях она бывает способна к
самокритике; здесь, конечно, не идет речь о таких исторических
периодах, которые сами себе представляются как времена распада» 28.
Это положение Маркса, являющееся ключевым для понимания
буржуазной идеологии вообще, имеет прямое отношение и к
пониманию и оценке феноменологической философии и эстетики.
Если с этой точки зрения рассматривать эстетические взгляды
Дюфренна и Морпурго-Тальябуэ, то мы увидим следующее.
Проблема социальности упирается в конечном счете в решение
проблемы историзма, а эта проблема всегда была камнем
преткновения для всякого рода идеалистических (в особенности
метафизических) и вульгарно-материалистических философских и
эстетических концепций.
Дюфренн сосредоточил свое внимание на феноменологии
эстетического опыта, который должен обусловливать возникновение
или создание эстетического объекта, следовательно,
художественного произведения. Но ведь и непосредственный процесс создания
и процесс восприятия художественного произведения, понимаемый
как процесс возникновения произведения искусства, историчны от
начала до конца, однако к восприятию, при всей его важности,
нельзя сводить историчность художественного творчества, не
говоря уж о корреляции между актом или процессом создания
художественного произведения и его восприятия. Конгениальность
восприятия, которая, по мнению Дюфренна, подготавливается
художественной традицией и предполагает уже развитой вкус,— не
исторический критерий. Не случайно Дюфренн, пытаясь установить
генетическую связь проблем, решаемых искусством, с
художественной практикой и историей, не в состоянии решить эти весьма
реальные проблемы, поскольку он постоянно сбивается на формальное
понимание истории и исторического сознания. Не случайно у него
«современность есть возвращение к примитивности, к
первобытному», «возвращение к источнику», к «Природе». Так понятая
современность — антиисторична, в связи с чем и ее
феноменологическое «расчленение», то есть феноменологическое построение
категориальной системы, носит чисто формальный характер. Именно
здесь дает о себе знать пренебрежение диалектикой, ее незнание
и страх перед нею. А попытка поставить феноменологию или
феноменологическую эстетику на прочный фундамент опыта окончилась
тем, что весь этот опыт, лишенный конкретно-исторического
содержания, растворился в формально понятой категориальной
конструкции современного эстетического знания, которая, подобно
пустой пирамиде, стоящей острием вниз, готова рухнуть от любого
прикосновения. Не случайно также и то, что Дюфренн в равной
степени боится как диалектики, так и современных формальных
309
методов исследования: диалектику он не приемлет принципиально
как феноменолог, а семиотику, семантику, структурализм он не
приемлет потому, что боится встать на формальную точку зрения,
хотя фактически его концепция формальна изначально по всему
своему духу, направленности.
А как справляется с этой реальной и весьма трудной
проблематикой Морпурго-Тальябуэ?
На наш взгляд, у него дело обстоит несколько лучше. Не
задаваясь целью вернуть эстетику в материнское лоно Природы (так
как он считает этот путь принципиально неверным), Морпурго-
Тальябуэ хочет лишь одного: через анализ современного
эстетического сознания постичь тот круг проблем, который всегда
интересовал человечество, по крайней мере его выдающихся мыслителей
и эстетиков, и тем самым помочь современной эстетике осознать
самое себя, свою собственную проблематику и пути своего
дальнейшего развития. Такая «эмпирическая» задача более реальна и менее
утопична, чем та, которую ставил Дюфренн. Почему?
Дело в том, что подобное исследование современного
эстетического сознания должно с необходимостью принимать лик
самокритики буржуазного сознания, что позволяет даже в пределах
феноменологии прочертить «историчность» эстетической проблематики,
ее «преемственность» от эпохи к эпохе, но не в плоском значении
«преемственности наследства», а в социально-историческом и
логическом значении узловых проблем развития эстетического
содержания. Это заставляло его постоянно «подтягивать» историю
эстетического сознания к современности, а современность рассматривать
как закономерный и естественный результат развития
предшествующего исторического и социального развития.
Правда, здесь уже есть налет апокалипсического пророчества,
обусловливаемый глубоко осознаваемым социокультурным
кризисом. Но, может быть, именно поэтому категориальная система
эстетики у Морпурго-Тальябуэ выстраивается в пирамиду, стоящую
на основании «эмпирического опыта», а не на острие, как это было
у Дюфренна. Кроме того, эта пирамида наполняется у него
определенным содержанием — эстетическим опытом или художественным
опытом в снятом, «эстетическом» виде, не говоря уж о ее
направленности — спиралеобразное развитие эстетических доктрин
намечает прогрессивную линию в развитии эстетического сознания
вообще. Правда, «вычленение» эстетической проблематики
диктуется отношениями этого же буржуазного общества и достигнутым
уровнем его сознания, но это тем не менее позволяет ему
выкристаллизовать структуру эстетической проблематики,
выливающуюся в своеобразную «матрицу» исторического движения
эстетического сознания, по которой можно «вычислить» или построить всю
историю эстетики, по крайней мере ее наиболее значительные
узловые моменты или пункты.
Анализ современной философской эстетики (даже в его
310
феноменологическом исполнении) ясно показал, что рецепты по
адаптации, интерпретации, конструкции и реконструкции
современного (прошлого и будущего) эстетического сознания были
слишком односторонни и ограниченны, вульгарны или утопичны,
чтобы их можно было принимать без соответствующей критической
обработки.
Концепция Морпурго-Тальябуэ ценна прежде всего как одна
из наиболее глубоких и открытых форм «самокритики»
гуманитарной мысли, сознания вообще и современного эстетического
сознания в частности. Однако «самокритика» должна с
необходимостью перерастать в конструктивную концепцию. Оказавшись
перед «выбором», феноменологическая эстетика Морпурго-Тальябуэ
перестала «работать» если не на себя, то, уж во всяком случае, на
эстетическую проблематику вообще, поскольку выработка
центральной эстетической категории — прекрасного — передавалась в
компетенцию аксиологии, а собственно эстетическая проблематика
переводилась в антропологическую проблематику.
Словом, все шло хорошо до тех пор, пока прошлое
рассматривалось как то, что предшествует настоящему, а настоящее — как то,
что предшествует будущему. И даже анализ и «вычленение»
современной проблематики и в соответствии с ней — проблематики
прошлого представлялись возможными до того момента, когда
появилась необходимость целостного, единого взгляда на всю
историю развития эстетического сознания и эстетической
проблематики, то есть до тех пор, пока не встала проблема соотношения
логического и исторического.
С этого момента начинаются «злоключения» феноменологии
и феноменологического метода — его никак не удается увязать ни
с «онтологией», ни с «гносеологией», ни с «логикой», ни с
«социальностью». Эти трудности наталкивают Морпурго-Тальябуэ на то,
чтобы замкнуть феноменологию на аксиологию, а эстетику — на
антропологию. В этом видит он ключ к решению поставленных
проблем. Однако, как показал опыт истории философии и истории
эстетики, решение проблем — определенных реальных
противоречий в той или иной области человеческого знания или
действительности — находится в прямой зависимости от того, насколько
применяемый метод решения той или иной проблематики диалектичен,
насколько диалектично сознание, пытающееся решить загадки
реальной действительности и их отражение в человеческом сознании.
Жак Маритен, Этьен Жильсон.
Антиномии эстетики неотомизма
Неотомизм является одним из основных направлений современной
религиозной философии. Это философское учение уходит своими
корнями в средневековье и дальше к началу нашей эры,
отмеченному возникновением христианства. Собственно томистская
философия связана с именем средневекового схоласта Фомы Аквинского.
Она сложилась в XIII веке — веке наибольшего расцвета
схоластики. Возникновение неотомистской философии относится к
прошлому веку и связано с изменением социально-политической
ситуации во многих странах Европы: Германии, Франции, Италии
и др. Возрождение томизма относится к новому времени. В 1879
году в специальной энциклике Aeterni Patris схоластическая
философия Фомы Аквинского официально была объявлена лучшей
философской системой, вечной философией, а сам Фома Аквинский —
величайшим мыслителем всех времен. С этого времени томистская
философия переживает своеобразный «ренессанс». В распоряжение
неотомистской философии предоставляются лучшие официальные
учебные заведения, типографии и т. п. Готовятся многочисленные
философские кадры, издается большое количество журналов на
многих языках, выходят сотни объемистых сочинений
католических философов.
На протяжении долгого времени христианские философы
конструировали различные части этой философской системы:
онтологию, гносеологию, логику, этику, историю философии, эстетику
и др. Можно без преувеличения сказать, что это одна из самых
разработанных религиозно-идеалистических философских систем
нашего времени.
Томистская и неотомистская интерпретация философской
культуры прошлого весьма тесно связана с адаптацией
христианской религии и католической церкви к существующим социальным
условиям. Как справедливо заметил французский философ Р. Гаро-
ди, она поглотила Аристотеля 1, чтобы превратить его в томизм, она
поглотила Платона, чтобы превратить его в августинизм, она
поглотила Декарта, чтобы превратить его в философию Мальбранша.
Жильсон, один из вождей неотомизма наряду с Маритеном,
будучи историком философии, посвятил немало работ
взаимоотношению античной и средневековой философии. С этой точки зрения
особый интерес для нас представляют две его работы «Дух
средневековой философии» 2 и «Бытие и сущность» 3, в которых довольно
четко и ясно сформулировано отношение неотомизма к античной
философии и философии вообще.
Прежде всего Жильсон пытается определить сущность, дух
средневековой, христианской (а следовательно, и неотомистской
312
философии, поскольку для него средневековая философия,
философия Фомы Аквинского, является самой современной) философии.
«Дух средневековой философии,— пишет Жильсон,— такой, каким
именно он понимается здесь, это, стало быть, христианский дух,
пронизывающий греческую традицию, работающий внутри ее и
заставляющий его вырабатывать специфически христианское
мировоззрение Weltanschauung» 4. Он выступает против мнения
некоторых схоластов, утверждавших, что нет никакой «христианской
философии», а существует единственно истинная и подлинная
философия, которая полностью согласуется с христианской религией,
хотя и отличается от нее. Жильсон настаивает как раз на том, что
христианской философии присущ собственно философский,
«спекулятивный» характер: «понятие христианской философии имеет
смысл, потому что влияние христианства на философию есть
реальность» 5. В связи с этим Жильсон приводит примеры воздействия
христианства на философию: он полагает, что развитие философии
средневековья и нового времени неразрывно связано с
христианством: философские системы Декарта, Мальбранша, Лейбница вряд
ли могли бы конституироваться такими, какими они были и есть без
влияния христианской религии.
Действительно, было бы нелепо отрицать влияние
христианства и христианской религии на философию и человеческую культуру
вообще — это влияние бесспорно и несомненно. Здесь важно
уяснить конкретно, в чем проявилось это влияние христианской
религии на философию, каково содержание, смысл и направленность
этого влияния и т. д. Жильсон дает, скорее, косвенный ответ на этот
вопрос, ответ, вытекающий из его понимания существа и
содержания христианской философии. «Содержание христианской
философии есть, стало быть, свод рациональных истин, которые были
открыты, углублены и просто охраняемы благодаря помощи,
которую откровение оказывало разуму»6. Что касается существа
христианской философии, то Жильсон полагает, что таковой
можно считать любую философию, открытую к сверхъестественному:
«Философия, открытая трансцендентному, будет, конечно,
философией, совместимой с христианством... Я называю, стало быть,
христианской философией всякую философию, которая, хорошо
различая формально два порядка, рассматривает христианское
откровение как необходимое вспомогательное средство разума» 7, то
есть такое средство, без которого разум просто немыслим. Еще
Фома Аквинский говорил, что если бы человеческий род обладал
только чистым разумом, то он находился бы в «величайшей темноте
невежества», ибо расхождение во мнениях породило бы
скептицизм, последствием которого было бы разрушение всех основ
и устоев. Божественная помощь человеческому разуму как раз
и состоит в представлении или сообщении ему веры.
И, наконец, еще одна особенность христианской философии,
имеющая очень важное значение для понимания влияния, ока-
313
занного христианской религией на философию. «Имеется только
Бог, и этот Бог есть бытие, таков краеугольный камень ('la pierre
d'angle) всей христианской философии, и воздвиг его не Платон,
и даже не Аристотель, а именно Моисей» 8. Отождествление Бога
и бытия не только в смысле и в значении первого принципа бытия,
но и в смысле и значении принципа тождества (бытие есть то, что
есть, бытие есть бытие и т. п.), исключающего какие бы то ни было
противоречия и противоположности. «Если то, что мы сказали,
верно, то христианское откровение окажет решающее влияние на
развитие метафизики введением тождества Бога и Бытия» 9. Ведь
если исходить из тождества Бога и бытия, то неизбежно
утверждение, что бог существует один, ибо ничто из непосредственно
познаваемого не обладает чертами бытия; ведь то, что познается,
всегда представляет собой тот или другой вид бытия и никогда
бытие как таковое, как бытие. Все виды бытия, кроме бытия как
бытия, подчинены долженствованию, то есть изменению,
следовательно, они не могут быть совершенным и неподвижным бытием,
каким является бытие как таковое. Этим самым неотомисты
подчеркивают, что только бог обладает подлинным существованием, то
есть только в боге совпадают сущность и существование, что
означает радикальную случайность самого существования в различных
видах бытия, находящихся в становлении: все, что существует
помимо бога, могло бы и не существовать.
Все эти позиции позволяют неотомистам давать такую
интерпретацию античной философии, что даже такие великие
материалисты и диалектики, как Гераклит и Аристотель, превращаются ими
если не в христианских философов, то по крайней мере в прямых
предшественников средневековой христианской философии.
«Гераклит является нашим; Сократ принадлежит нам...» 10— пишет Жиль-
сон. Знаменитый фрагмент Гераклита: «Этот космос, один и тот же
для всего существующего, не создал никакой бог и никакой человек,
но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами
загорающимся и мерами потухающим» п, неотомисты истолковывают
следующим образом: «Потому что все есть число, вес и мера, мудрость
Бога сверкает в природе. Потому что она плодотворна, ее
созидательная мощь удостоверяется. Потому что вещи являются бытием,
и ни в коей мере квази-ничто (quasi-neant), мы знаем, что Бог есть
Бытие» 12. В неотомистской интерпретации Гераклит выглядит не
материалистом и диалектиком, а чисто религиозным философом,
идеалистом, метафизиком. Мы уж не говорим о философии
Платона и Аристотеля — этих философов схоласты превратили в своих
основных идейных предшественников, в своих духовных отцов и
наставников. Согласно Жильсону, Платон всегда животворно
воздействовал на развитие христианских идей, а Аристотель всегда
помогал догматикам укрепить веру разумом. «У греческого философа
вещи движутся также, чтобы приобрести их собственную
субстанциальность и подражать в этом божественному совершенству не-
314
подвижного двигателя. У христианского философа вещи движутся,
чтобы приобрести полноту бытия» 13, так как в основе христианской
интерпретации древнегреческой философии и философии вообще
лежит христианская доктрина креационизма и провиденциализма.
Начиная с конца прошлого века и в особенности в начале
нашего столетия неотомисты уделяют большое внимание
эстетическим проблемам. К этому времени относится появление первых
основополагающих работ Маритена и других неотомистских
философов, где делается попытка ответить на вопросы, поставленные
самой жизнью. Философы-неотомисты пробуют определить
значение эстетических ценностей, их влияние на воспитание человека, их
способность удовлетворять его духовные потребности и
противостоять разрушительному влиянию духовного кризиса современной
цивилизации, их пригодность служить прогрессу, понимаемому как
рост религиозности, и т. п.
Подлинную суть философского учения не всегда можно
выявить по его «кардинальной», «фундаментальной» проблеме, по его
главной и основополагающей части. Так, например, трудно
установить суть гносеологической системы Канта, рассматривая только ее
самое. В то же время, если рассмотреть его этику, то она объяснит
не только суть кантовской постановки вопросов гносеологии, не
только форму и способ их решения, но и довольно тесную связь
с социально-политическими требованиями его эпохи. Нечто
подобное мы имеем и в случае с неотомистской философией. Ее
действительная сущность гораздо легче раскрывается не при
рассмотрении ее онтологии или даже гносеологии, а именно при
рассмотрении эстетической концепции. Здесь очень точно выявляется связь
неотомизма с политическими воззрениями и задачами.
Мы рассмотрим работы Маритена и Жильсона, поскольку в их
трудах наиболее полно и глубоко разработана неотомистская
философия вообще и эстетическая концепция в частности. Однако
вначале необходимо дать критический анализ эстетических
воззрений Фомы Аквинского, ибо без этого многое осталось бы
непроясненным.
В средневековой философии большое значение придается
вопросам символа и аллегории — а это уже собственно эстетические
проблемы. Развивается понимание искусства как системы символов
потусторонних «истинных сущностей». Это
аллегорически-символическое объяснение искусства характерно для всего средневековья,
хотя уже в XIII веке оно переживало кризис, поскольку сводилось
к чисто внешним признакам и совпадениям.
В наиболее систематической форме принципы религиозной
эстетики были изложены Фомой Аквинским в XIII веке в его
знаменитых работах: «Summa Theologiae» (1261 —1264), «Summa contra
gentiles» (1265—1273) и др.
Томизм нельзя считать чем-то совершенно новым и отличным
от предшествующей философской традиции вообще и от философ-
315
ских учений схоластики в частности. Эта система была
своеобразным обобщением, обработкой всех сколько-нибудь крупных
философских учений прошлого, хотя «основой» и «материалом» была,
безусловно, философия Аристотеля и Платона.
В свою эстетическую систему Фома Аквинский включил ряд
положений схоластической эстетики, точнее, положений,
выработанных самыми различными философами, начиная от Платона
и кончая Плотином, Августином, Псевдо-Дионисием: 1) кроме
чувственно-прекрасного имеется еще и прекрасное интеллектуальное,
наряду с телесно-прекрасным есть также духовно-прекрасное,
наряду с внешним прекрасным — прекрасное внутреннее; 2) помимо
прекрасного несовершенного, эмпирического, земного существует
прекрасное совершенное, божественное; 3) это несовершенное
прекрасное является лишь отблеском прекрасного совершенного,
существует лишь благодаря ему, в нем и стремится к нему; 4) от
добра прекрасное отличается понятийно, но не отличается in re,
потому что добрые вещи являются прекрасными и любые
прекрасные вещи являются добрыми; 5) само прекрасное покоится на
гармонии или пропорции (consonantia) и на ясности (claritas).
Приведенные тезисы принадлежат традиционной эстетике
средневековья, но рассматривались Фомой и его последователями как его
собственные. Названные положения сыграли определенную роль
в формировании эстетических взглядов самого Фомы и повлияли на
выработку им эстетических формул, которые определили развитие
схоластической эстетики вплоть до наших дней.
Суть эстетических взглядов Фомы Аквинского полнее всего
выражена в его трактовке категории прекрасного.
Фома постарался совершенно исключить материалистические
моменты в понимании прекрасного у Аристотеля и свести все
содержание прекрасного к его идеалистическому, метафизическому
и теологическому варианту. Насколько далеко Фома ушел от
аристотелевского понимания (или адаптировал его в теологическо-
мистическом и метафизическом духе), видно хотя бы из одного
определения прекрасного, в котором Аристотель устанавливает
автономию прекрасного как такового: «Прекрасное — то, что,
будучи желательно само ради себя, заслуживает еще похвалы, или что,
будучи благом, приятно, потому что оно благо» м. Прекрасное
у Аристотеля является качеством самой вещи: вещь является
прекрасной, и своей красотой она вызывает у нас чувство удовольствия,
чувство прекрасного. Фома исключает эту автономию прекрасного,
заменяя ее причастностью вещей к абсолютной красоте. Вещи,
согласно Фоме, являются прекрасными постольку, поскольку они
уподобляются красоте божественной. Хотя Аристотель не был
последовательным диалектиком ни в философии, ни в эстетике, для
него прекрасное не было чем-то раз навсегда данным, вечным
и неизменным, как это будет понимать Фома Аквинский.
Не мог Фома Аквинский принять и определение прекрасного,
316
данное Платоном, поскольку оно сводилось, в конечном счете,
к идее идей, к абсолютной идее, существующей вечно, неизменно
и независимо от чего бы то ни было. Для Фомы неприемлемым
была сама идея как таковая, ибо абсолютной и совершенной
красотой может быть не идея, даже самая идеальная, а только бог.
Поэтому Фома отбрасывает платоновскую идею, но принимает ее
метафизические атрибуты: вечность, неизменность и абсолютное
совершенство.
Хотя Фома и не говорит прямо, что именно бог является
абсолютной, совершенной и вечной красотой,— это вытекает из всего
хода его рассуждений. И если Фома в одном случае (в комментарии
к Псевдо-Дионисию) брал за исходный пункт прекрасное
божественное, а по аналогии с ним понимал прекрасное создание,
а в другом случае (в «Summa Theologiae») за исходный пункт брал
прекрасное создание и по аналогии с ним понимал прекрасное
совершенное, то все это говорит лишь о том, что он испытывал
влияние рассматриваемых авторов и что нельзя сводить его понимание
прекрасного к одному из этих двух случаев. Также не следует
думать, будто историческая роль Фомы заключалась в переходе от
идеального платоновского понимания красоты к эмпирическому
пониманию в духе Аристотеля. Напротив, его роль в
схоластической эстетике заключалась в том, что он окончательно утвердил
теологическую концепцию прекрасного, очистив ее прежде всего от
материалистических и диалектических элементов аристотелевской
эстетики, а также от идеи Платона, получив в результате
действительно метафизическое (в смысле антидиалектики) и
трансцендентально-теологическое прекрасное со всеми божественными
атрибутами, аналогией и символизмом, уподоблением и созерцанием.
Последние два качества, или свойства, говорят о чисто
теологическом и метафизическом понимании прекрасного Фомой, ибо все
существующее, чтобы быть прекрасным, должно уподобляться
абсолютной и совершенной божественной красоте. С другой, стороны,
сама красота является вечным источником и абсолютным
прообразом красоты для всего существующего, поэтому степень красоты
существующего измеряется степенью его стремления и
уподобления этой божественной красоте.
Не случайно из всех схоластов именно Фоме удалось легче
всего провести различие между прекрасным и добрым, ибо
прекрасное у него является предметом созерцания, а доброе —
предметом стремления. Прекрасное является формой, которую
осматриваем (pulchrum pertinet ad rationem causae formalis), а добро целью,
к которой стремимся (bonum habet rationen finis). Вслед за Псевдо-
Дионисием и Альбертом Великим Фома признавал единство
прекрасного и доброго: добрые вещи являются прекрасными, а
прекрасные — добрыми.
Основой такого простого разграничения доброго и прекрасного
был теологический монизм (у Фомы бог являлся и абсолютной
317
красотой и абсолютным благом). Именно поэтому единственное
различие, которое можно было между ними провести, сводилось
к чисто духовным качествам, таким, как стремление и созерцание:
и то и другое выступало лишь как способы или средства уподобления
абсолютному благу и абсолютной красоте, каковыми является бог.
Фактически это не решение проблемы, а ее снятие, поскольку
красота и благо были представлены только богом и только им одним.
В античной эстетике прекрасное считалось объективным
свойством, его не ставили в зависимость от субъекта. Но уже у отцов
церкви, в частности у Василия, была попытка связать прекрасное
с субъектом: поскольку одним из свойств прекрасного является то,
что оно нравится, оно может существовать только с субъектом
и находится с ним в определенном отношении. Фома воспринял это
положение, согласно которому нет прекрасного без субъекта, как
нет его также и без объекта. Вслед за Августином Фома утверждал:
«Не потому нечто является прекрасным, что мы это любим, но
потому любим, что нечто является прекрасным и добрым» ,0. То
есть Фома хотя и воспринял положение о зависимости объекта от
субъекта, он не субъективизировал его, как это в дальнейшем
сделают его последователи. Он сводил это положение к простой мысли:
для того чтобы вещь была прекрасной и вызывала своей красотой
уподобление, должны быть равным образом выполнены как
субъективные, так и объективные условия.
Фома придерживался взгляда, что прекрасное является
предметом познания: pulchrum respicit ad vim cognoscitivam. Прекрасное
как таковое вызывает у нас чувство уподобления, которое хотя
и является чувством, но имеет основу в восприятии, а значит,
и в познании. Фома прямо писал о том, что, «строго говоря, не
познают ни чувства, ни разум, но познает человек через чувства или
разум». Средством подобного познания Фома считал восприятие —
чувственный акт, имеющий мыслительную структуру: perceptio est
quaedam ratio. Таким образом, для понимания прекрасного, по
Фоме, необходимы не только чувственные субъективные функции,
но и мыслительные, причем необходимы как при понимании
чувственного прекрасного, так и интеллектуального. Позиция Фомы,
как и всех его последователей, является ограниченным
рационализмом объктивно-идеалистического толка. Согласно Фоме, познание
прекрасного представляет ассимиляцию объекта субъектом. При
этом познаваемый объект как бы проникает в субъект, а субъект
проникает в объект при помощи чувства. Однако как объективный
идеалист Фома отдавал предпочтение объекту, то есть во
взаимоотношении объект-субъект воздействие объекта на субъект он
считал решающим. Большинство же его последователей отступили от
этой позиции, отдав предпочтение субъекту.
Объективно-идеалистическая позиция Фомы ярче всего
проявляется в понимании и истолковании им объективных свойств, или
качеств, прекрасного. Он понимал прекрасное как свойство объекта
318
в отношении к субъекту, поэтому проблема прекрасного
соответственно имела у него два аспекта: объективный и субъективный.
Чаще всего Фома говорит о двух признаках, или качествах,
прекрасного: пропорции (proportio), а также блеске, или ясности
(claritas).
Необходимо иметь в виду, что категория пропорции была
известна еще грекам, но они понимали ее чаще всего
материалистически (исключая разве только пифагорейцев) и находили в
материальных вещах. Это, конечно, не было только количественным
пониманием, но и качественным, поскольку они отличали вещи не только
по их количественным характеристикам, но также и по
качественным, которые присущи самим вещам.
Фома, безусловно, хорошо знал пифагорейскую
(количественную) трактовку пропорции. Но он, вслед за Августином,
придерживался широкого истолкования пропорции как отношения одного
к другому. Такое понимание включало отношения материального
и духовного мира, отношения между вещами и душами, образами
и моделями, образами и идеями, отношения формы и материи
(онтологическая структура), а также отношение вещи к себе самой.
В конечном счете Фома сводил это широчайшее понимание
пропорции к принципу целесообразности или телеологическому
принципу. Качественное понимание пропорции у Фомы означает не
столько именно качественное отличие одной вещи от другой, сколько
чисто духовное: пропорция является правильной и вызывает
чувство прекрасного лишь тогда, когда она отвечает цели, природе,
сущности или форме вещи. Но природа, сущность и цель вещи,
согласно Фоме и схоластам, никогда не заключены в самой вещи.
Все это заключено в форме вещи, которая зависит не от самой
вещи, а скорее наоборот, сама вещь зависит целиком и полностью
от формы вещи, выражающей зависимость создателя и созданного.
То, что не было главным в философской системе Аристотеля —
именно учение о форме форм,— возводится Фомой в основной
принцип, приобретающий онтологическое, гносеологическое и
аксиологическое значение. Вещь тем прекраснее, чем она больше
уподобляется божественной красоте, богу.
Правда, Фома признавал относительное значение прекрасной
пропорции: красота человека отлична от красоты льва, красота
ребенка — от красоты старца, красота духа — от красоты тела.
Однако высшей пропорцией прекрасного Фома считал пропорцию,
выражающую отношение «божественной красоты, лежащей в
основе всех вещей». «Как следует из слов Дионисия, понятие красоты
складывается как из ясности, так и из собственной пропорции.
Именно говорит, что Бог называется прекрасным, поскольку во всех
вещах является причиной гармонии и ясности» 16. Божественная^
красота, согласно Фоме, является основой всякой красоты. И не
только потому, что бог есть создатель всего существующего, но
также и потому, что все существующее стремится быть похожим на
319
него, уподобиться ему. Это не только объективно-идеалистическая
точка зрения на свойства и качества прекрасного, но и чисто
теологическая, религиозная точка зрения, сводящая красоту к
божественному.
Об этом говорит также и следующий признак, или качество,
прекрасного, который называется блеском (claritas), или ясностью.
При этом Фома употребляет термин claritas как в дословном смысле
(«яркий и блестящий цвет»), так и в переносном («блеск»
духовный). Однако доминирующим следует признать не дословное
значение термина claritas, а переносное, поскольку главное, что хотел
выразить Фома посредством этого термина, конечно, не цвет,
яркость и блеск материальных тел, а ясность и яркость души, ибо
«блеск» тел зависит от «блеска» души.
Пропорция и блеск (proportio, claritas), взятые в таком
широком значении, фактически исчерпывали для Фомы условия
прекрасного. Однако в другом месте он добавляет к этим двум
качествам еще и третье — полноту (integritas): «Прекрасное требует
нахождения трех условий: первое есть полнота, или совершенство
вещи, ибо то, что имеет недостатки, является уже через это самое
безобразным. Второе есть соответствующая пропорция, или
гармония. И третье — ясность, потому что вещи, имеющие блестящий
цвет, называются прекрасными» |7. Эта формула прекрасного
выдается неотомистами за подлинную и самую лучшую формулу
прекрасного и считается высшим достижением не только эстетики
самого Фомы, но и всякой подлинной науки о прекрасном. Однако
заслуги Фомы здесь не так уж велики, поскольку два первых
признака, или свойства, прекрасного были известны задолго до него,
а третий признак является лишь одним из элементов первого —
пропорции. Теория прекрасного, сформулированная Фомой, была
далека от практических запросов эпохи, а потому малополезной
для интерпретации средневекового искусства.
Что понимал Фома под искусством? Здесь он следовал
средневековой традиции, которая включала в искусство всякое умение,
самые разнообразные виды деятельности, ремесла. Однако в
понятии искусства Фома объединял такие искусства, как
писательское (scriptiva), живописное (pictiva) и скульптурное (sculptiva),
которые он считал представляющими, воспроизводящими.
Фома прежде всего признает ценность искусства в самом
произведении, а не в творчестве художника, поскольку искусство
является «правильным понятием о созданной вещи», а деятельность
художника не является производящим совершенством, напротив,
она сама является производной и зависящей от деятельности
превосходящего совершенства. Источник произведения искусства
в творце, но художник-творец сам является произведением высшего
творца. Поэтому хотя художник, прежде чем создать какое-то
произведение, имеет его план или идею, последние не есть
собственность художника, а сообщаются ему высшей творческой силой,
320
которая исходит от божественного разума и божественной воли.
Отсюда — художник должен создавать то, что ему предназначено,
и совершенно не важно, как он поступает, важно, как он творит. Эта
максима в дальнейшем будет развита в абсолютную независимость
художника от народа, от общества. Вся ответственность художника
будет заключаться лишь в ответственности перед своим
собственным произведением и перед богом.
Фома отличал также искусство от науки. Последнюю он
относил к познавательной сфере, а искусство — к создающей, или
созидательной, сфере. Вместе с тем он отличал искусство и от морали:
«В области искусства разум направлен к какой-то частной цели...
В области же морали он направлен к цели, общей всей человеческой
жизни» 18.
В средневековье наука не имела почти никакого значения, ибо
«наукой наук» фактически была теология. Что же касается морали,
то ее положения были всеобщими максимами, лежащими в основе
поведения человека и требующими неукоснительного исполнения.
Любое нарушение или отклонение от норм религиозной морали не
только осуждалось, но и жестоко наказывалось как богохульство.
В таких условиях искусство служило лишь способом воплощения
норм и правил религиозной морали, а потому на самом деле
относилось к морали как нечто частное к общему, как возможное к
необходимому. Различение искусства и морали, красоты и блага
у Фомы многим казалось гениальным, хотя это различие
представляет лишь констатацию фактического положения искусства
в период средневековья.
Фома воспринял положение Аристотеля о том, что искусство
подражает природе. Он писал: «Основа этого заключается в том, что
принципом произведений искусства является познание; потому
природные вещи могут быть имитированы искусством, потому что
благодаря интеллектуальному принципу вся природа направлена
к своей цели, так что произведение природы кажется
произведением разума (inteligentiae], если только через определенные средства
стремится к определенным целям: именно этому искусство
подражает в своих произведениях» 19.
Из этого фрагмента видно, что Фома понимал подражание
природе совсем иначе, чем это было у Аристотеля. Согласно
Аристотелю, художник должен подражать необходимым образом одному
из трех: «...или (он должен изображать вещи так) как они были или
есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны
быть» 20. То есть Аристотель понимает подражание довольно
широко, но во всех случаях у него в основе лежит принцип первичности
вещей: искусство подражания вещам состоит в их отображении и
изображении средствами искусства, выступающего вторичным по
отношению к вещам и природе.
Фома перевертывает отношение: он прежде всего наделяет
природу интеллектуальным принципом и принципом целесообраз-
11 К. М. Долгов
321
ности и на этой основе относит произведения искусства к познанию
«интеллигенции» и целесообразности. В таком понимании искусство
как подражание природе теряет аристотелевское содержание —
материалистическое в своей основе — и становится
идеалистическим, ибо под природой понимается не природа как таковая, а, так
сказать, ее душа, ее всеобщая форма, определяющая и
направляющая ее развитие.
Теория подражания Фомы отличается и от платоновской
теории искусства как подражания подражанию, ибо у Платона сама
природа была «тенью», «отблеском», «отражением» мира идей или
сущностей.
Все же Фома стоит гораздо ближе именно к учению Платона,
нежели к теории Аристотеля. У Фомы мы имеем зачатки мысли
о том, что образ как таковой не играет существенной роли для
искусства потому, что он несет в себе функцию, отличную от той,
которую он непосредственно выражает. Художественный образ не
есть отражение видимой природы, напротив, его суть заключается
как раз в том, чтобы выразить то, что не дано непосредственно
органам чувств и что не лежит на поверхности природы и не находится
в формах самой природы. Образ начинает приобретать характер
знака-символа, имеющего второй план, второе значение, отличное от
прямого и непосредственного. Поэтому хотя какая-то картина или
произведение искусства и могли выражать и изображать картины
самой природы в формах этой природы, тем не менее содержание
и суть изображения заключались не в том, что изображено, а в том,
на что оно намекает, что оно символизирует, знаком чего оно
выступает.
Средневековая эстетика, и в частности эстетика Фомы Аквинско-
rOj требовала от искусства, чтобы оно было простой
иллюстрацией абстрактных идей и положений теологии. Это обусловило
превращение художественных образов в знаки и символы. В
зачаточной форме эстетическая теория Фомы, несмотря на свой
объективно-идеалистический характер, таила в себе субъективизм,
который проявился в полной мере у его последователей.
Эстетическое учение Фомы Аквинского явилось высшим
синтезом всей схоластической эстетики, ее наиболее полным и зрелым
выражением. Вопросы эстетики он рассматривал с точки зрения
приспособления искусства к нуждам католической церкви. Это
обнаруживается во всех основных эстетических положениях Фомы
Аквинского: в формуле прекрасного и в определениях его основных
свойств и качеств, в понимании искусств и критерия их
классификации, в разграничении прекрасного и доброго, или красоты и блага,
в установлении соотношения субъекта и объекта и т. д. Везде
Фома пытался выявить нечто общее и существенное, лежащее
в основе всех явлений искусства. Это общее и существенное
он находил в спиритуальном, божественном элементе,
реализующемся прежде всего в прекрасном и его свойствах, таких, как
322
полнота, пропорция и блеск. Хотя почти все содержание эстетики
Фомы Аквинекого было открыто до него, тем не менее он смог
повернуть эстетику к теологии, придать ей теологический характер.
В работах эстетиков-неотомистов дается не только
комментарий к известным эстетическим положениям Фомы Аквинского.
В них очень явственно обнаруживается стремление
интерпретировать современное искусство и эстетику сообразно с интересами
католической церкви. Может быть, поэтому Маритен 21 начинает
с критики существующего положения искусства. Он сокрушается по
поводу того, что современное искусство все больше приобретает
утилитарный характер и утрачивает былую созерцательность.
Маритен показывает современный мир, враждебный искусству. «И вот
современный мир, который обещал художнику все, скоро не оставит
ему ничего, кроме средств, необходимых для существования. Мир,
основанный на двух противных природе принципах: погоне за
деньгами и голой утилитарности — беспредельно умножает нужду и
рабство, уничтожает досуг души, способной регулировать
материальное и приводить его в соответствие с целями человеческого
бытия. Этот мир навязывает человеку прерывистое дыхание машин
и ускоренное движение материи. Система, обращающая человека
только к земному, придает человеческой деятельности
нечеловеческое содержание и дьявольское направление, ибо конечная цель
этого бреда — помешать человеку вспомнить о боге, dum nil perenne
cogitât, sa segue culpis illigat... Этому миру нужно, чтобы героизм,
истина, добродетель, красота стали полезными ценностями —
самыми лучшими, самыми верными орудиями пропаганды и господства
временных сил» 22.
На первый взгляд философ резко критикует современный
буржуазный мир, преследующий исключительно грубо утилитарные
цели, подчиняя им даже искусство. Жажда извлечения прибылей
придает человеческой деятельности, по свидетельству Маритена,
нечеловеческое содержание. Но, в сущности, речь у него идет не
столько о принципах утилитаризма, сколько о людях, погрязших
в «нужде и рабстве», в земных интересах. Для него буржуа и
рабочий стоят в одном ряду, ибо оба они поглощены преходящими
интересами земного бытия, заботами о наживе или о пище и
одежде.
«Критика» Маритена представляет собой констатацию явлений,
свидетельствующих о наличии кризиса буржуазной цивилизации.
Однако о причинах кризиса Маритен не говорит ни слова, хотя, по-
видимому, именно они и должны были бы стоять в центре его
внимания, если бы он действительно хотел найти выход из
создавшегося положения. Маритен пытается исправить существующий
порядок вещей, не затрагивая основных социальных принципов
капиталистического общества.
То, о чем не желает говорить Маритен, или то, чего он
сторонится, было убедительно показано Марксом при анализе капитали-
11*
323
стического общества. Маркс показал, что капиталистическое
общество постоянно воспроизводит такие условия, при которых в силу
антагонизма между трудом и капиталом, между эксплуататорами
и эксплуатируемыми происходит отчуждение и самоотчуждение
человеческой личности. «В прямом соответствии с ростом
стоимости мира вещей растет обесценение человеческого мира» 23. Труд
при господстве частной собственности становится чуждым и даже
враждебным человеку. Трудящийся не только не утверждает себя
в труде как человек, но, напротив, отрицает себя и разрушает. Труд
носит принудительный характер и превращается в пытку и
истязание для человека. При этом как труд, так и сам трудящийся
принадлежит не себе, а другому, поэтому человек не только не обретает
себя в собственной трудовой деятельности, но, напротив, теряет
себя как человека. Человек чувствует себя свободно действующим
лишь при отправлении своих животных функций. «То, что присуще
животному,— писал Маркс,— становится уделом человека, а
человеческое превращается в то, что присуще животному» 24. Таким
образом, Маркс показал, что грубый утилитаризм неизменно
порождается системой общественных отношений буржуазного
общества. Лучшие творения человеческого разума и души
превращаются в предметы купли-продажи — факт, потрясающий даже тех,
кто является непосредственным исполнителем этой чудовищной
операции. И дело здесь не в утилитаризме вообще, как полагает
Маритен, а в экономическом устройстве буржуазного общества,
постоянно воспроизводящего отношения, враждебные человеку
и творчеству.
Не случайно в недрах буржуазной культуры в середине XIX
века зарождается теория «искусства для искусства» как реакция
художественной интеллигенции на буржуазное торгашество,
делающее все предметом наживы.
Маритен подвергает теорию «искусства для искусства» резкой
критике. «Искусство для искусства,— пишет он,— означает абсурд,
мнимую необходимость для художника быть только художником,
но не человеком, а это означает для искусства лишение источников
питания, источников энергии, которыми питает его человеческая
жизнь» 25.
Ссылаясь на историю искусства, Маритен показывает, что
искусство возникло не в башне из слоновой кости, что Эсхил,
Данте, Сервантес, Шекспир, Достоевский — все великие художники —
творили не ради искусства, а всегда имели в виду судьбы
человечества. Главное обвинение, выдвигаемое Маритеном против теории
«искусства для искусства», состоит в том, что она изолирует,
отделяет художника от человека. Он объявляет безумием полагать, что
чистота искусства обусловлена изоляцией от источников, питающих
и движущих творчество,— от жизни человека. «Чистота
художественного произведения,— пишет он,— зависит от силы
внутреннего динамизма, который порождает произведение, то есть от силы
324
добродетели искусства. Никакая стена не может изолировать
добродетель искусства от внутреннего мира желания и любви,
которые живут в человеческом существе» 26. Но, справедливо критикуя
теорию «искусства для искусства» за то, что она стремится
изолировать искусство от живительных истоков, которые его питают,
Маритен становится непоследовательным, как только касается
критерия ценности искусства.
Получается довольно любопытная картина. Утилитаризм не
удовлетворяет Маритена потому, что, с его точки зрения, он лишает
искусство собственной эстетической ценности; «чистое искусство»
не устраивает Маритена потому, что оно требует отделения
художника от человека и лишено связи с жизнью. Дело в том, что
Маритен не отличает буржуазный утилитаризм от принципов
полезности в широком смысле слова. Аргументами, направленными
против буржуазной наживы, он пытается убедить, что искусство
вообще не должно касаться земных, жизненно важных вопросов,
лишая тем самым искусство самого главного — человеческого
содержания.
И критика утилитаризма, и критика теории «искусства для
искусства» у Маритена преследуют одни цели: сделать искусство
религиозным, отвлечь от вопросов жизни, оставить мир таким, как
он есть. В этом суть его критики, направленной и против
утилитаризма, и против теории «искусства для искусства». Критикуя эту
теорию за субъективизм, Маритен вместе с тем в центр внимания
ставит индивида, но толкует его как нечто абстрактное и
превращает искусство во «внутренний универсум желания и любви». В
неотомистском понимании этот универсум, это единство духа и тела
представляется мистическим в своей основе, потому что человек
изображается неотомизмом как абсолютно раздвоенное существо,
наиболее существенная часть которого — дух — относится к
потусторонней, трансцендентной области.
Совершенно очевидно, что попытки Маритена прорвать оковы
субъективизма путем обращения к духу, в конечном счете к богу, не
только не ведут к пониманию реального человека, но закрывают
всякие пути к такому пониманию. Критика
субъективно-идеалистической концепции человека ведется Маритеном с
объективно-идеалистических позиций. Если субъективные идеалисты полагают, что
человек замкнут в мире своих субъективных переживаний и не
интересуется реальным миром, то, как писал Маркс, представители
объективного идеализма считают, что «самодеятельность
человеческой фантазии, человеческого мозга и человеческого сердца
воздействует на индивидуума независимо от него самого, т. е. в
качестве какой-то чужой деятельности, божественной или
дьявольской...» 27. Чем больше порабощается индивид существующими
буржуазными отношениями, тем более могущественной
представляется ему его собственная отчужденная сущность в виде
сверхъестественного существа или бога, и чем могущественнее становится это
325
существо, тем слабее становится человек. «Чем больше вкладывает
человек в бога,— пишет Маркс,— тем меньше остается в нем са-
ou
MOM» .
Критикуя теорию «искусства для искусства», Маритен
пытается уйти от расслабляющего и разъедающего влияния
субъективистской рефлексии, чтобы дать человеку «твердую почву в реальном
мире». Казалось бы, что он должен прийти к теории, утверждающей
связь искусства с жизнью народа. Но поиски объективной основы
искусства в потустороннем мире определяют отрицательное
отношение Маритена к теории искусства для народа, как он называет
марксистскую эстетику. Маритен выступает против марксистской
эстетики потому, что она отвергает автономию искусства и
утверждает зависимость искусства от общественной жизни, от влияния
классов и классовой борьбы и связывает эстетическую ценность
искусства с его способностью правдиво отражать жизнь в свете
народных интересов. О марксистской эстетике Маритен пишет, что
«она просто сбрасывает со счетов эту автономию; она делает
социальную ценность, или социальное значение, или социальный
акцент произведения эстетической или художественной ценно-
29
стью» .
Искусства, проникнутого народным содержанием, Маритен не
признает, так как, по его мнению, это искусство формируется не
в соответствии с творческой интуицией, а в соответствии с
интересами социального или морального порядка. Он называет такое
искусство «искусством пропаганды» или «рекрутированным
искусством» 30. Социальная значимость художественного произведения
ведет, по Маритену, к утрате художественной ценности. «Искусство,
как и познание,— пишет Маритен,— связано с ценностями,
независимыми от интересов, даже самых благородных интересов
человеческой жизни, ибо это ценности интеллектуального порядка.
Поэты не поднимаются на сцену после обеда, чтобы дать дамам
и господам, насытившимся земным пропитанием, опьянение
радостями, не влекущее за собой последствий. Но они нисколько не
являются также и слугами, подающими хлеб экзистенциалистской
тошноты, марксистской диалектики или традиционной морали,
бифштекс реализма или политического идеализма и сливочный торт
филантропии. Они добывают человечеству духовную пищу, которой
является интуитивный опыт, откровение и красота...» 31. Отрицая
причастность искусства к социальным интересам, Маритен
противоречит своим собственным аргументам против «чистого
искусства», когда он говорит, что великие художники всегда творили,
имея в виду судьбы человечества.
Противоречивость и непоследовательность характерны для
эстетики Маритена. Философ прав, выступая против превращения
искусства в забаву для пресыщенных, но вместо того, чтобы связать
искусство с жизнью, он превращает его в абстракцию, за которой
стоит бог. Маритен хотел бы доказать, что все, что хоть в какой-то
326
мере связывает искусство с реальной жизнью, принижает искусство,
лишает его эстетического содержания, которое, с точки зрения
неотомистов, зависит только от абсолютного, духовного, вечного
и бесконечного совершенства, то есть от бога. Маритен пытается
поставить искусство, как и философию, выше социальных и
классовых интересов. Предметом искусства, по Маритену, является высшее
совершенство, то есть бог, а задача искусства состоит в том, чтобы
давать людям духовную пищу в виде божественного откровения.
Начал Маритен с критики общества, в котором беспредельно
умножаются нищета и рабство. Против теории «искусства для
искусства» он выступил потому, что эта теория стремится
изолировать искусство от живой жизни. Теорию искусства для народа,
под которой он подразумевает марксистскую эстетику, Маритен
также отверг, но уже по причине ее стремления слишком тесно
связать искусство с жизнью общества. Какой же, по его мнению,
должна быть истинная теория искусства?
Для понимания маритеновской концепции искусства большое
значение имеет анализ гносеологической теории неотомизма,
лежащей в основе истолкования творческого процесса вообще,
поскольку основной проблемой этой философии является проблема веры
и знания, религии и науки. При построении гносеологии
неотомисты исходят из дуалистического противопоставления
естественного и сверхъестественного мира, мира божественного и мира
сотворенного. Устанавливается три вида бытия или существования
вещи: 1) природное, или естественное, бытие (esse naturae), когда
вещь существует вне мысли и является единичной и конкретной
(сущностное существование, или просто существование вещи), 2)
интенциональное бытие (esse intentionale), когда вещь существует
в мысли, в ее абстрактном и универсальном существовании, так
называемое репрезентативное, или знаковое, существование вещи,
3) идеальное, или логическое, существование вещи (esse cognitum
seu objectum). Первый вид бытия ставит вещь вне разума, ибо это
вещь в ее естественном материальном существовании. Второй вид
бытия, или существования, вещи — это существование в форме
знака. Третий — существование логическое.
Материальное бытие, согласно неотомистам, не играет никакой
роли в теории познания, поскольку это природное, материальное
существование вещей, а познаваться может не материальный
предмет, а его интеллигибельная, разумная, сверхчувственная форма, то
есть материальный предмет познается в той мере, в какой он
освобождается от материального. Это составляет первый и основной
принцип неотомистской гносеологии: «Имеется строгое
соответствие между познанием и нематериальностью. Бытие познается со-
ответственно уровню, на котором оно нематериально» .
Последовательное проведение этого принципа должно означать
исключение материальных вещей из сферы познания, короче
говоря, теория познания ограничивается областью идеальных явлений.
327
Поэтому исключительное значение и роль приобретает интенцио-
нальное бытие, которое, по Маритену, содержит в себе все тайны
познания и творчества вообще. Так, например, когда мы смотрим на
картину, говорит Маритен, мы видим определенные изображения,
линии, мазки, пятна красок и т. д. Где здесь искусство — в линиях,
в мазках, в пятнах красок, в движениях кисти, в движениях руки
художника? Ни там, ни здесь и ни в этом, отвечает Маритен.
Искусство не может находиться в материальных вещах, оно как бы
«сзади» них, за ними. Тайна искусства и творчества заключена в интен-
циональном бытии, которое представляет собою нечто совершенно
противоположное всему материальному.
«Повсюду,— говорит Маритен,— где речь идет о другом
познающем существе, чем Бог, который сам по себе превосходит все
вещи, мы вынуждены, если хотим без абсурда постичь познание,
ввести понятие совершенно особого вида существования, которое
древние называли интенциональным бытием (esse intentionale) и
которое противопоставляется esse naturae — бытию, которым вещь
обладает, существуя в своей собственной природе» 33. Древние же
утверждали, что предметы мысли имеют двоякое существование:
объективное и субъективное. Если мыслительные акты существуют
в разуме, который является их субстратом или «субъектом», то
это — психическое или субъективное бытие (ens subjectivum). Но
мысль всегда есть мысль о чем-то, о каком-то предмете. Сам же
предмет мысли может быть как реальным, так и нереальным,
поэтому любая функция может стать «предметом» рассмотрения разума
и, таким образом, иметь «предметное», или объективное, бытие,
или, как его еще называли схоласты, интенциональное бытие (esse
intentionale). Таким способом схоласты отличали реальное бытие
(esse naturae) от бытия «предметного», или интенционального (esse
intentionale), и противопоставляли одно другому.
«Я использую слово "интенциональный",— пишет Маритен,—
в томистском смысле, снова введенном в современную философию
Брентано и Гуссерлем, которое отсылает к чисто интенциональному
существованию, через которое вещь, например познанный объект,
представлена в нематериальном, или сверхсубъективном, способе,
в «инструменте» — например, идея, которая, поскольку она
определяет акт познания, является простой нематериальной тенденцией
или intentio по отношению к объекту» 34. Однако имеются отличия
в понимании «интенциональности» у Брентано и Гуссерля, с одной
стороны, и томизма — с другой. Брентано отличал психические
акты от физических при помощи «интенциональности». Согласно
его теории, акты, обладающие интенциональностью, являются
психическими и имманентными сознанию. Сами же объекты не
обладают ею, поэтому не относятся к сознанию и трансцендентны по
отношению к нему. Очевидный субъективизм своей теории
Брентано пытался преодолеть с помощью постулата, принимаемого просто
на веру, что направленностью на объект акты сознания получают
328
объективную значимость. Так понимал Брентано «способ связи
сознания с определенным содержанием», или интенциональный акт.
Гуссерль следует в этом своему учителю. Под интенциональ-
ным актом он понимает всякое переживание, в котором есть
отношение сознания к определенному содержанию или к интенциональ-
ному предмету. В любом восприятии есть нечто воспринимаемое,
в образном представлении — нечто образно представляемое, в
высказывании — нечто высказываемое и т. п. Именно это
соотнесение, направленность сознания на свой объект, интенция, определяет
характер данного познавательного акта. Способ, которым мыслится
«интенциональный предмет», отличается от способа, при помощи
которого суждение признает данный предмет истинным или
ложным. Содержание сознания и есть интенциональный предмет, а
интенциональный предмет есть содержание сознания. «Представляем
ли мы себе данный предмет, выносим ли о нем суждение и т. д.,
зависит полностью и исключительно от специфического характера
интенции. Если здесь имеется переживание, то тем самым — я
подчеркиваю, что это относится к самой его сущности,— осуществлена
интенциональная «отнесенность к определенным предметам», то
есть определенный предмет становится интенционально
существующим, ибо и первое и второе выражения означают одно и то
же. И очевидно, что такое переживание может выступить в
сознании с этой своей интенцией, хотя его предмет вообще не
существует и даже не может существовать; предмет мыслится, значит,
мысль о предмете является переживанием; но тогда это лишь
мыслимый предмет, а в действительности — ничто» 35. То есть
совершенно не важно действительное, подлинное существование
предмета — оно ничего не меняет с феноменологической точки зрения.
Для сознания совершенно безразлично, существует этот предмет
действительно или он является только фикцией: акт сознания
может быть только интенциональным актом и как таковой
тождествен со значением и предметом. В конечном счете предметом
является только то, что дано субъекту. Ясно, что подобное понимание
интенциональности является субъективно-идеалистическим
пониманием.
Маритен, в отличие от Брентано и Гуссерля, онтологизирует
интенциональность, придает интенции самостоятельное
существование. Интенциональность существует как самостоятельное бытие,
или существование. Смысл этого состоит в том, чтобы представить
материальный объект «нематериальным и сверхсубъективным
способом», поскольку материальное может быть познано лишь тогда,
когда оно перестает быть материальным. Вот это «превращение»,
«преобразование» материального в идеальное и должно
осуществляться с помощью интенционального бытия.
Определяющим в этом случае выступает не объект и не
практическая деятельность человека, а идея, идеальное, которое
определяет как акт познания, так и то, что составляет это «познание». Кате-
329
гория интенционального бытия получает, таким образом,
самостоятельное существование: это феномен, или способность
человеческого познания, превращенная в онтологическую сущность, интенцио-
нальное бытие выступает неким «посредником» между человеком
и богом. Именно интенциональное бытие сообщает человеку силу
как познания, так и творчества вообще. Оно ставит человека в
полную зависимость от сверхъестественной силы, от бога, лишает его
собственной инициативы, превращает его в механического
исполнителя этой несуществующей сверхъестественной силы. Это самым
отрицательным образом сказывается на творческом процессе: он
уже не означает процесса познания и освоения действительности,
напротив, творчеством может быть только такой процесс или акт,
который исключает действительность и ее рассмотрение и освоение,
творчество представляется актом ухода от действительности, от
реальности к потустороннему и сверхъестественному. Интенцио-
нальность направляет человека, все его силы и способности на
познание божества, на установление мистической связи с ним, на
выражение и отражение его существования в своем собственном
существовании и посредством его. Такова действительная сущность
интенционального бытия, или интенционального существования,
как одного из основных гносеологических принципов неотомизма.
Принципы нематериальности и интенциональности определяют
все остальные принципы неотомистской гносеологии. Так, для того
чтобы происходило познание, необходимо иметь, с одной стороны,
субъекта, способного познавать, и, с другой стороны, некое
единство между познающим и познаваемым, трансцендентное ко всякому
единству материального типа, ибо познание означает не что иное,
как «быть некоторым образом другой вещью, чем то, что она есть;
это значит становиться другой вещью, чем она есть (fieri aliud a se),
быть или становиться другим постольку, поскольку оно есть другое
(esse seu fieri aliud in quantum aliud)» . Содержание данного
принципа заключается не в том, что, скажем, материальное переходит,
становится идеальным или последнее отражает первое, напротив,
здесь это исключается, ибо под субъектом понимается не субъект
как таковой, а субъект-душа, абстрагированный и очищенный от
всего материального и действительного. Познающий представляет
здесь индивидуальную душу, а познанное — душу божественную.
Именно поэтому между ними устанавливается тесное единство:
«В то время как познающий хотя и сохраняет безупречно
нетронутой свою собственную природу, он становится познанным сам по
себе и отождествляется с ним, причем познающий, таким образом,
становится несравненно более единым с познанным, чем материя
с формой»37. Таким образом, процесс познания превращается
в мистический акт слияния, отождествления познающего с
познанным. Абсолютный дуализм материального и идеального приводит
неотомистов к другой крайности — к отождествлению
познающего и познанного.
ззо
Основной изъян неотомистской теории познания заключается
не только в том, что она противопоставляет материальное и
идеальное (это противопоставление правомерно с гносеологической точки
зрения, если подразумевается также и их единство), мир
естественный и сверхъестественный, но также и в том, что она исключает из
процесса познания материально-производственную практику как
его основу. В связи с этим неотомисты не в состоянии правильно
понять взаимоотношения материального и идеального, субъекта
и объекта, познающего и познаваемого, а также действительную
сущность и подлинное содержание познания вообще. Познание в их
понимании исключает какой бы то ни было элемент практического
взаимодействия познающего и познаваемого. «Познание состоит не
в том, чтобы делать что-либо, не в том, чтобы получать что-либо, но
в том, чтобы существовать лучше, чем на основе простого факта,
что мы поставлены вне небытия. Это активное нематериальное
сверхсуществование, посредством которого субъект существует не
только как существование, ограниченное родом как субъектом,
существующим для себя. Это означает неограниченное
существование, в котором он есть или становится посредством собственной
деятельности самим собой и другими» 38. В основе этого принципа
познания лежит различие, проводимое неотомистами между
существованием и познанием, которое имеется во всех видах
познания и разума, кроме божественного, где они абсолютно
совпадают. Так как в человеческом разуме нет этого абсолютного
совпадения познания и существования, то неотомисты полагают, что
человеческое познание состоит просто в существовании. Так
понятое познание действительно отличается коренным образом от
того, что обычно понимают под познанием. Познание, согласно
неотомизму, не есть деятельность по освоению действительности
в самом широком смысле слова, а есть лишь «активное
нематериальное сверхсуществование», благодаря которому человек выходит
за пределы самого себя и приобщается к более постоянному,
вечному и совершенному.
Неотомисты проводят различие между познанием и актом
познания. Если познание есть «активное нематериальное
сверхсуществование», то под актом познания понимается нечто другое: «Акт
познания не является ни одним из тех действий, которые мы имеем
обыкновение наблюдать вокруг себя... взятый сам по себе, он не
заключается в создании чего бы то ни было даже внутри
познающего субъекта. Познавать — это значит подвести себя к акту
существования превосходящего совершенства, что не предполагает
само по себе создания» 39. Акт познания означает, таким образом,
акт осознания, признания существования «вышестоящего
совершенства», в конечном счете — бога.
Естественно, при таком понимании познания и акта познания
должны быть совершенно отличными и средства познания от
тех, которыми обычно пользуются в науке. И действительно, сле-
331
дующий принцип неотомистской теории познания говорит о
«средствах, благодаря которым «познающий становится интенционально
познанным»,— «этот мир нематериальных внутрипсихических
форм, которые являются в душе представителями объекта, древние
называли подобиями или species» . Эти species бывают двух видов:
species impressa — презентативная форма, которая получается как
бы на чувственной ступени познания, и species expressa —
«выраженная» или «выработанная презентативная форма»,
вырабатываемая разумом на рациональной ступени познания. Выражения
«получает» и «вырабатывает» следует понимать чисто условно,
поскольку неотомисты считают, что эти species, или подобия,
существуют в душе изначально как представители или подобия
объектов в их нематериальном и интенциональном состоянии. Здесь
можно провести сравнение с теорией «врожденных идей», которую
неотомисты считают нелепой и фантастической и от которой их
собственная теория отличается лишь тем, что признает
«врожденность» знания данной не от природы, а от высшей души, от
абсолютного разума, то есть от бога.
Последний принцип касается функции этих species. С одной
стороны, они, согласно неотомистам, являются модификациями
души и поэтому «являются только условиями, предшествующими
познанию; сами по себе они не составляют познания». С другой
стороны, они определяют способность познания «согласно связи со
всем нематериальным и сверхсубъективным», в силу чего и
происходит познание. Их функция состоит в основном в определении
способности познания, которая целиком зависит от связи
познающего субъекта с нематериальным и сверхъестественным.
Рассмотрим теперь сущность концепции искусства Маритена
и ее социальное значение. Маритен вполне ясно определяет
сущность искусства и его предназначение: «Нужно, чтобы оно было
четким, ибо оно предназначается прежде всего для обучения
народа, оно является теологией в образах» 41. Итак, теология в
образах, предназначенная для обучения народа,— таковы сущность и
назначение искусства, по Маритену. От собственно теологии
искусство, по Маритену, отличается только тем, что представляет собой
иллюстрацию к теологии, в силу чего оно становится более доступным
самым широким слоям народа. Искусство должно постоянно
напоминать людям о боге, о его существовании, способствовать
«причастности» верующих к его существованию. В искусстве люди,
согласно Маритену, созерцают, познают божественную сущность, ее
проявления.
По мнению Маритена, искусство выражает божественную
истину в чистом виде, поскольку оно находится в абсолютной
зависимости от теологии. «Святое искусство,— пишет он,—
находится в абсолютной зависимости от теологической мудрости. В знаках,
которые оно представляет нашим глазам, проявляется нечто,
бесконечно превосходящее все наше человеческое искусство, сама
332
божественная Истина, сокровище света, купленное нам кровью
Христа» 42. Таким образом, божественную истину искусство может
выражать, не прибегая к изображению реальной действительности.
Любой произвол художника по отношению к реальным формам
предметов, поскольку художник выступает «средством»
божественного замысла, получает мистическое значение. Неясность
символической формы выдается Маритеном за преимущество —
возможность непосредственного выражения божественной идеи.
Именно поэтому знак и символ в неотомистской эстетике
представляет собой «эманацию божественного». Произвольная
конструкция, не связанная с объективной действительностью, получает
абсолютное эстетическое значение. Если у ранних христиан знаки
и символы сохраняли какое-то подобие действительности или по
крайней мере логическую связь с ней, то в неотомизме эта связь
отрицается принципиально: знак и символ выступают в качестве
высшей, истинной действительности.
Знаки и символы в неотомистской философии и эстетике
окончательно утрачивают связь с реальностью. Здесь особенно наглядно
проявляется антиреалистическая и агностическая сущность
неотомистской эстетической концепции.
Чем больше искусство связывается с теологической мистикой,
тем меньше в нем остается от искусства. Мистические идеи
невозможно облечь в художественный образ, по самой своей природе
являющейся конкретно-чувственной реальностью. Маритен
заменяет художественный образ знаком и символом, искусство —
теологией в символически-знаковой форме. Долгие рассуждения Мари-
тена о специфике искусства свелись к выводу, что искусство должно
быть системой спиритуалистических символов. Нетрудно понять,
что следование теории Маритена несет смерть искусству, ибо
искусство, лишенное конкретной чувственности и сведенное к знакам
и символам, невозможно. То, что обычно называется религиозным
искусством,— это искусство, связанное с религиозной тематикой
и религиозным сюжетом. Однако «религиозность» искусства всегда
была лишь чисто внешним признаком даже в произведениях
искусства эпохи средневековья. Любое сколько-нибудь значительное
произведение «религиозного искусства» обладает художественной
ценностью лишь соответственно степени наличия в нем «земного»
содержания.
Но невозможность существования «чистого религиозного
искусства» отнюдь не исключает возможности религиозной
интерпретации художественного творчества. Эстетическая теория
Маритена как раз и представляет одну из наиболее распространенных
и наиболее утонченных религиозно-эстетических концепций
искусства, призванных подчинить искусство религии.
Следуя схоластической традиции, Маритен различает сферы
спекулятивного и практического разума. Искусство относится им
к сфере практического разума. Практическая сфера в свою очередь
ззз
делится еще на сферу действия (Agire) и сферу делания (Faire).
Действие относится к сфере морали, делание же, то есть
использование и применение наших способностей «по отношению к
произведенной вещи или к произведению, взятому в себе» 43,— это сфера
искусства в собственном смысле слова. Искусство, согласно Маритену, по
своей цели, законам и ценностям является божественным. «Но если
искусство не является человеческим по своей цели, то оно является
человеческим, существеннейшим образом человеческим по своему
способу действия» 44,— утверждает Маритен. Что это означает?
Хотя Маритен и относит искусство к практическому разуму, он
совершенно изымает его из сферы практической жизни. «Искусство
не занимается нашей жизнью, но только теми или другими
частными, чрезвычайно человеческими целями, которые являются по
отношению к нему конечным пределом. Благоразумие действует для
блага того, кто действует ad bonum operantis. Искусство действует
для блага сделанного произведения ad bonum operis и все то, что
отвлекает его от этой цели, изменяет и принижает само
искусство» 45. Неотомистская эстетическая концепция пренебрегает
человеком во имя абстрактного божественного блага самого по себе.
А человеческим обществом и его интересами пренебрегает во имя
спасения человека. Субъективно-идеалистическая и неотомистская
концепция искусства в данном случае выступают как два пути,
в одинаковой мере уводящие человека от действительности и от
социальности.
Христианская концепция искусства ставит своей целью
подчинить искусство религии. Маритен не скрывает этого. Он прямо
говорит о том, что христианские художники с помощью искусства
должны возвратить народ в лоно христианской веры, а для этого
необходимо «спиритуализировать» все современное искусство,
«привести его к стопам бога» 46.
Искусство Маритен понимает как «единственный способ
подражания богу» 47. Правда, он делает весьма характерное признание,
что «христианство не способствует искусству» 48, ибо создает для
него большие трудности. Маритен отвергает внешнюю
религиозность искусства, он хочет видеть в христианском искусстве
выражение внутренних убеждений художника. Его усилия направлены на
уничтожение того формального отношения к религии, которое
существует у народа, он хочет сделать религиозную веру внутренней
потребностью человека. Обращаясь к художникам, Маритен пишет:
«Не пытайтесь осуществить эту абсурдную затею разъединить в
себе художника и христианина, ибо они — одно, если вы
действительно являетесь христианином и если ваше искусство не изолировано
от вашей души какой-нибудь эстетической системой» 49. «Не
отделяйте ваше искусство от вашей веры» 50. «Чтобы писать деяния
Христа, нужно жить с Христом» м.
Смысл этих требований заключается в стремлении укрепить
позиции христианской религии и католической церкви, значительно
334
ослабевшие в XX веке. Многие художники лишь формально, на
основании того, что пользуются библейскими сюжетами, могут
быть названы религиозными, хотя ничего религиозного их
творчество не содержит. Маритен же хочет, чтобы создаваемые художником
произведения были выражением их внутреннего мира, «духовных
ценностей», которые в его понимании равнозначны религиозным.
«Все наши ценности,— пишет он,— зависят от природы нашего
бога. А бог есть Дух. Прогрессировать — для всей природы
означает приближаться к своему Принципу,— стало быть, переходить от
чувственного к рациональному и от рационального к спиритуально-
му; цивилизовать — значит спиритуализировать» 52. Практически
это означает отвернуться от реальной жизни, ее противоречий,
борьбы и предаться духовному созерцанию того, что Маритен
называет богом, обречь человека на пассивность, покорность, на отказ
от реального развития. Таков социальный смысл этих положений
Маритена.
Духовные ценности, по концепции неотомистов, лишь
постольку истинны и ценны, поскольку выражают природу божественного.
В связи с этим принцип спиритуальности; или принцип
нематериальности,— основной в неотомистской философии. Этим
принципом неотомизм сводит гносеологию и онтологию в конечном счете
к теологии, а познание и художественное творчество — к
созерцанию бога.
Маритен пишет, например, что в идеальном случае нужно было
бы быть святым, но если бы все стали святыми, тогда не
существовало бы ни материальной, ни духовной культуры. Он повторяет
слова Мориака: «Нужно было бы быть святым, но тогда не писали
бы романов...», «Нужно было бы быть святым, но тогда не было бы
политики, не было бы ни судьи, ни врача, ни банкира, ни
бизнесмена, ни журналиста, ни всего того, что есть на этом свете, исключая,
может быть, монаха, да и то если еще это ремесло не является
таким уж несомненным» .
Маритен объявляет искусство универсальным как по природе,
так и по объекту 54. Универсальность искусства, по Маритену,
означает, что оно находится вне классовых интересов, вне интересов
политических, государственных, общественных. Он пишет, что
попытка подчинения разума и искусства «интересам государства
представляет смертельную опасность для искусства и всякой ценности
духа» 55. Однако и здесь Маритен не может избежать противоречий;
искусство могло бы обладать абсолютной универсальностью разве
что в ангельской или божественной сфере. Поскольку же оно, по
его словам, «субъективируется в человеческой душе — этой
субстанциональной форме живого тела»,— то все же зависит от
различного рода конкретных условий, таких, как раса, общество,
территория, духовные традиции и т. п.
Маритен пытается освободить художника от ответственности
перед народом. Он не говорит об абсолютной свободе художника,
335
как это делают многие современные философы, но утверждает, что
«первая ответственность художника есть ответственность по
отношению к своему произведению» 56. Подлинно художественными
произведениями Маритен считает только произведения,
проникнутые религиозным содержанием, следовательно, в ответственности
художника перед своим собственным произведением скрывается
его ответственность перед богом. Но религия требует равнодушия
к делам «суетного света», преходящим, скоротечным, она стремится
лишь к вечному торжеству божественного блага. Поэтому
ответственность художника перед своим произведением означает, во-
первых, ответственность перед богом, а во-вторых, пассивность по
отношению к земным делам. Так обстоит дело в теории. Однако на
деле неотомистская эстетика весьма активна: она уводит от
действительности и вместе с тем резко направлена против
материалистической традиции в эстетике, против революционного
преобразования действительности. Так, проповедь
бесклассовости, беспартийности искусства оборачивается партийностью
и классовостью буржуазного толка.
Охранительное содержание эстетики Маритена ясно
проявляется и в толковании социального значения искусства. Маритен
обеспокоен способностью искусства распространять идеи, которые
могут быть направлены против существующих порядков.
Провозглашенное французскими материалистами требование свободы
мысли как священного права человека вызывает у него опасения.
Он возражает против свободы мысли, идей на том основании, что
мысли, идеи влекут за собой действия. Поэтому Маритен
предлагает строго разграничивать идеи сами по себе и идеи, имеющие
в виду действия. Но и такое разграничение не является гарантией
безвредности идей. Конечно, самое лучшее было бы запретить
вообще распространение идей. «Свобода сообщать идеи,— пишет
Маритен,— не является свободой предпринимать и совершать
действия, ибо действия могут быть подавляемыми, если они стремятся
нарушить основы жизни в обществе. Очевидно, что социальная
община имеет право защищать себя против таких действий,
например против попытки ниспровергнуть свободу насилием или
организовать преступление или убийство. Такое различение очевидно
и необходимо. Но его применение не обходится без риска и
трудностей. Ибо использование идей может само по себе иметь в виду
действия» 57. Правда, Маритен допускает необходимость действия,
направленного в защиту существующего порядка, в защиту
«социальной общности», «основ жизни общества», то есть основных
принципов и норм традиционного правопорядка.
Идеи самого Маритена вполне благонадежны с буржуазной
точки зрения, поскольку они направлены на то, чтобы предупредить
возможность выступления народных масс против «социальной
общности», то есть капиталистического строя. Маритен предлагает
выступать против любого художественного произведения, если да-
336
же это будет шедевр искусства, в том случае, если в нем содержатся
хоть какие-то намеки на призывы к действию.
Он предлагает наделить власти и церковь всеми полномочиями
для предотвращения «пагубного влияния» таких произведений.
«Если речь идет о моральной или аморальной ценности литературного
произведения, то община может защищать свои этические критерии
против него в той мере, в какой оно является подстрекательством
к действию» 58. В борьбе против прогрессивного искусства, которое
всегда с точки зрения буржуазной этики аморально, Маритен
старается объединить все средства: воспитание, которое исключало бы
критику существующего строя, общественное мнение, опирающееся
на религиозные традиции, различные группы граждан и ассоциации,
которые выступили бы против подобных произведений искусства.
Так, пространные разговоры о духовной свободе художника
кончаются введением полицейского надзора над деятельностью
художника, который в своих произведениях хоть в какой-то мере
подвергает критике существующий социальный строй.
Социальное содержание неотомистской эстетической
концепции ярко проявляется в истолковании центральной категории
эстетики — категории прекрасного. Истолкование, которое Маритен
дает этой категории, показывает, что его религиозная эстетика
хорошо приспосабливается к условиям современной буржуазной
действительности. Маритен говорит, что он следует в эстетике
учению Фомы Аквинского, однако, как мы увидим, он легко
поступается авторитетом Фомы, чтобы быть «с веком наравне». Фома
Аквинский считал, что прекрасными являются вещи, которые
нравятся, когда они воспринимаются, прекрасно само восприятие
вещей. Первое положение устанавливает эстетическое отношение,
зависящее от свойств самих вещей, второе на первый план
выдвигает момент субъективный. Таким образом, Фома, в отличие от
античной эстетики, обращает внимание на значение отношения к
прекрасному, однако он не субъективизирует само прекрасное, как это
делают его последователи.
Маритен заимствует у Фомы определения прекрасного:
«Целостность, ибо разум любит бытие; пропорциональность, ибо разум
любит порядок и любит единство; наконец и главным образом —
яркость и ясность, ибо разум любит свет и разумность» ö9. Однако
в трактовке этих свойств Маритен идет в сторону от субъективиза-
ции. В споре, разгоревшемся между христианскими философами
и церковниками по поводу абстрактного искусства, Маритен
оказался большим теологом, чем они, он отстаивал идеи
сверхчувственной красоты, а потому и широкого использования абстрактного
искусства в практике католической церкви. Маритен выступил
против признаваемой Фомой красоты чувственно воспринимаемого
мира, хотя всегда заявлял, что является верным и ортодоксальным
последователем Фомы Аквинского. Какую услугу оказывает
Маритен абстрактному искусству, видно хотя бы из его толкования
337
свойства целостности. По его утверждению, мы не вправе требовать
от художника, чтобы то, что он изображает, находилось в
соответствии с действительностью. «И если футуристу угодно изобразить
даму с одним глазом или с четвертью глаза, никто не станет
отрицать за ним право на это. Все, что мы имеем право требовать —
и в этом весь вопрос,— это чтобы в данном случае даме было
вполне достаточно этой четверти глаза» 60.
Маритен считает, что совершенно не важно, как и что
изображает художник, соответствует изображение действительности
или не соответствует, важно, чтобы изображаемое удовлетворяло
самого художника и не нарушило целостности его идеи. Точно так
же обстоит дело с пропорцией или соответствием, которые, по его
мнению, соотносятся не с реальной действительностью, а только
с намеченной целью. Они, по Маритену, «не имеют абсолютного
значения и должны рассматриваться по отношению к цели
произведения, которая состоит в том, чтобы форма сияла в материи»61.
Разрушая эстетику реалистического искусства, Маритен открывает
двери формализму всех видов. Всей своей эстетической концепцией
Маритен стремится доказать преимущества символических знаков
в искусстве перед реалистическим изображением. Символическое
знаковое искусство легче поставить на службу мистическим идеям.
И нужно сказать, что абстракционизм хорошо уживается с
религией. Оформление старых католических церквей и соборов весьма
быстро модернизируется, а строительство новых осуществляется
главным образом в самом современном стиле.
Свойства прекрасного — яркость и ясность — Маритен просто
сводит к «сиянию благодати», наличие которой в любом
произведении искусства автоматически делает это произведение шедевром.
Маритен проводит различие между трансцендентно прекрасным
и эстетически прекрасным: первое является целью метафизики,
второе — целью изящных искусств 62. Прекрасное в
действительности, с его точки зрения, несовершенно, относительно, в то время как
трансцендентное прекрасное абсолютно, поскольку таковым может
быть только бог: «Все произошло из божественной красоты» 63.
Не случайно Маритен, рассматривая вопрос о соотношении
прекрасного и истинного, приходит к выводу, что прекрасное
находится на противоположном полюсе по отношению к истинному.
«Зафиксированный интуицией чувства дух озаряется разумным
светом, который дается ему внезапно в том подлинно чувственном,
в котором он сверкает, и он воспринимает этот свет не «sub ratione
verî», но, скорее, «sub ratione delectabilis» — (не применительно
к образу истины, а, скорее, применительно к образу
наслаждения)» 64. То есть прекрасное зависит не от объекта и не от
способности человека воспринимать, открывать его, а от
божественного «озарения», находящегося в самом чувственном восприятии
и ниспосылаемого человеку богом. Поэтому-то прекрасное
рассматривается Маритеном не как форма истины, а как вид блага; вос-
338
приятие же прекрасного если и имеет какое-то отношение к
познанию, то только в виде дополнения, «как румянец есть
дополнение молодости» 65, это не столько вид познания, сколько вид
наслаждения в форме мистического экстаза.
* * *
Онтологическая интерпретация искусства в неотомизме
развивается другим крупным представителем этой школы, Этьеном
Жильсоном 66, в книге «Живопись и реальность».
Э. Жильсон основывается на традиционном неотомистском
понимании искусства, восходящем к известной формуле Фомы Аквин-
ского: «Искусство есть прежде всего нечто относящееся к
интеллектуальному порядку, его действие состоит в воспроизведении идеи
в материи» 67. Однако Жильсон не ограничивается подобными
общепринятыми в неотомизме формулами и пытается дать более
глубокую и более конкретную эстетическую концепцию,
отличающуюся от других подобных концепций, например от концепции
Маритена, онтологической направленностью.
Жильсон согласен с тем, что искусство относится к
интеллектуальной области — это для него бесспорно. Но само искусство —
весьма сложное явление, требующее уточнения. Например,
проблема существования искусства вообще и произведений искусства
в частности: как, где и каким образом существует искусство и
произведения искусства? Что отличает искусство и его произведения от
действительности и от других явлений культуры?
Жильсон прежде всего замечает, что развитие искусства
сопровождается бурным развитием современной науки. Это накладывает
свой отпечаток и на искусство, которое в известной мере принимает
форму науки в виде истории искусства, критики и т. п. Более того,
Жильсон само развитие науки ставит в зависимость от искусства,
а развитие последнего — в зависимость от действительности, от
реальности. «Ни история искусства, ни критика, ни наука не
существовали бы, если бы искусство и природа не существовали, если
бы искусство и природа не давали им нечто познавать... Именно
потому, что живопись является искусством, она находится на
стороне бытия, вещей и, как говорится, реальности» 68. Однако мы
не должны спешить с зачислением Этьена Жильсона в ряды
поборников реалистического метода в искусстве; это было бы
правомерно лишь в том случае, если бы действительность, или
реальность, понималась всеми однозначно. Тогда можно было бы даже
согласиться с Жильсоном и другими неотомистами. Однако
трудность заключается как раз в том, что реальность, действительность
понимается ими весьма своеобразно: в самом широком смысле она
есть бытие, а бытие есть то, что есть. Это всеобщая формула бытия,
которая принимается всеми неотомистами безоговорочно. Но что
такое бытие, которое есть все то, что есть? В другом своем
произведении Жильсон отвечает на этот вопрос следующим образом: «фило-
339
софия, или метафизика, изучает бытие как бытие», «истинный
объект метафизики это Бог» 69. Бытие, понимаемое как все то, что
есть, в конечном счете сводится к богу как истинному, исходному
бытию. В связи с этим становится понятно, почему неотомисты так
упорно настаивают на примате бытия перед искусством и наукой:
это своеобразная форма подчинения и науки, и искусства религии.
Основной проблемой работы Жильсона «Живопись и
реальность» является, как это видно уже из оглавления, отношение
между живописью и реальностью, а в более широком смысле —
отношение между искусством и реальностью. Все, что относится
к области искусства, Жильсон называет «эстетическим видом
бытия», существование же произведений искусства как таковых он
именует «физическим видом бытия» 70. «Физический вид бытия»
есть природное существование произведений искусства.
«Эстетический вид бытия картины есть тот, который она получает из опыта,
благодаря которому и в котором она является воспринимаемой как
произведение искусства» 71. При этом «физическое бытие»
рассматривается Жильсоном как основа, определяющая «эстетическое
бытие произведения искусства» 72. Здесь Жильсон признает
объективное существование материального мира.
Однако уже в этом различении «физического» и
«эстетического» видов бытия можно видеть не просто их различение, а
метафизическое противопоставление одного другому: «Все является
естественным в произведении природы; все является
художественным в произведении искусства» 73. Если перед нами произведение
искусства, то оно уже не имеет никакого отношения к природе, так
же как и произведения природы являются только произведениями
природы и не больше.
Создается впечатление, что признание «физического» бытия
произведений искусства является лишь выражением общей позиции
неотомистов, признающих существование объективного
материального мира. Что же касается соотношения объективной реальности
с искусством, то метафизическое противопоставление
«физического» и «эстетического» видов бытия произведений искусства, конечно,
не позволяет постичь подлинную диалектику этого соотношения.
Разрыв между искусством и объективной реальностью есть
следствие одного из основных принципов неотомистской
философии противопоставления «естественного бытия» (esse naturae) «ин-
тенциональному бытию» (esse intentionale) 74. Естественное бытие
не может никогда стать интенциональным, и наоборот. Между ними
исключаются всякие отношения, кроме, может быть, отношения
существования. При этом естественное бытие исключается из
сферы познания, из сферы разума и творчества, поскольку
материальное не может быть и не является объектом познания. Чтобы стать
объектом познания, материальный предмет должен «сбросить»
свою материальность. Напротив, интенциональное бытие является
основным видом бытия, при помощи которого только и
осуществляемо
ется познание. Что же касается сферы искусства, то роль интенцио-
нального бытия здесь огромна, хотя, как признает, например, Мари-
тен, еще плохо выяснена.
«Эстетический опыт», по замыслу Жильсона, должен, видимо,
соединять субъект, воспринимающий произведение искусства, и
само произведение. Больше того, этот опыт состоит из произведения
искусства и воспринимающего субъекта. Так, в живописи он
состоит из зрителя и картины. «Только два бытия включены в
эстетический опыт картины: сама картина и зритель» 75. Эстетический
опыт в живописи является чисто персональным, индивидуальным,
единичным. «Эстетический опыт картины является действительно
личным делом» 76. Эти кач!ества «эстетического опыта» выводятся
Жильсоном «объективно» — из качества самих произведений
искусства, которые являются совершенно неповторимыми,
индивидуальными и уникальными 77.
Действительно, произведения живописи, скульптуры и других
видов искусства являются индивидуальными, неповторимыми,
уникальными, но это вовсе не говорит об их «извечно индивидуальной
и уникальной природе». Напротив, их уникальность и
неповторимость, как это ни странно, предполагает нечто общее, присущее
всем произведениям искусства той или иной исторической эпохи.
Всякий художник так или иначе выражает в своих произведениях
эстетический идеал своей эпохи. Последний же формируется в
течение довольно длительного времени в практической деятельности
общества как обобщенное выражение художественной практики, то
есть как социально-художественный опыт. В связи с этим
мышление художника, а значит, и его творчество, является не только
«уникальным», «единым» и «индивидуальным», но прежде всего
социальным, общественным. Это своеобразное «многообразие
в единстве»: индивидуальное, уникальное и неповторимое
предполагают общее, общественное, социальное.
Таким образом, утверждая «индивидуальность» и
«неповторимость» произведений искусства, Жильсон неправомерно выводит
отсюда «уникальность» и «неповторимость» эстетического опыта.
Короче говоря, отрицание материально-производственной практики
людей, отрицание социального опыта приводит его, с одной
стороны, к метафизическому противопоставлению явлений природы
и произведений искусства, с другой стороны, к субъективному
пониманию и истолкованию как произведений искусства, так и
эстетического опыта.
Жильсон, подобно другим неотомистам, не в силах установить
происхождение эстетических чувств и их взаимоотношение с
эстетическими свойствами и качествами предметов, поскольку с самого
начала исходит из резкого обособления и противопоставления
явлений природы и явлений искусства. С этой точки зрения
действительно нельзя правильно понять возникновение эстетических
чувств. Они не могут появиться сразу, внезапно, а должны форми-
341
роваться под влиянием определенных, не зависящих от сознания
человека факторов. Для неотомистов такими факторами могут быть
или явления самой природы, или явления, лежащие по ту сторону
природы, потусторонние, сверхъестественные. Так как природные
явления исключаются из духовной сферы, а значит, и из сферы
искусства, то эстетические чувства человека не формируются и не
развиваются в процессе его практической деятельности, а даны ему
изначально от бога. Человек появляется на свет со всем
комплексом необходимых ему чувств и качеств. Это совершенно не научная,
антиисторическая точка зрения на эстетические чувства и качества.
Каким образом в действительности возникают эстетические
чувства человека и каково их действительное взаимоотношение
с эстетическими качествами самой действительности? Ответ на этот
вопрос можно найти у Маркса и Энгельса, которые рассматривали
эту проблему.
Энгельс, говоря о роли труда в процессе формирования
человека, отмечает громадную разницу между неразвитой рукой даже
наиболее подобных человеку обезьян и человеческой рукой. Хотя
число и общее расположение костей и мускулов одинаковы у обоих,
«ни одна обезьянья рука не изготовила когда-либо хоть бы самого
грубого каменного ножа» 78. На протяжении многих тысячелетий
наши предки учились приспосабливать свои руки к выполнению
самых простых и элементарных операций. Но это были трудовые
операции, и в этом смысле даже самые низшие дикари, у которых
наблюдается возврат к звероподобному состоянию с
одновременным физическим вырождением, стоят выше всех промежуточных
существ. Однако прежде чем первый булыжник при помощи
человеческих рук мог превратиться в нож, прошел такой длинный
промежуток времени, что в сравнении с ним знакомый нам
исторический промежуток времени является совершенно незначительным.
«Но решительный шаг был сделан, рука стала свободной и могла
совершенствоваться в ловкости и мастерстве, а приобретенная этим
большая гибкость передавалась по наследству и умножалась от
поколения к поколению» 79. В процессе трудовой деятельности
формировались не только человеческие руки, но и человеческие чувства,
в том числе эстетические чувства и эстетическое отношение человека
к действительности.
Итак, мы рассмотрели эстетические взгляды основоположника
томизма Фомы Аквинского и основных представителей
неотомистской философии и эстетики Жака Маритена и Этьена Жильсона.
Эстетика Фомы Аквинского была своеобразным обобщением всей
средневековой эстетики и носила ярко выраженный объективно-
идеалистический характер. Несмотря на то, что Фома Аквинский
стремился свести эстетику к чисто спиритуалистическому,
теологическому пониманию, в ней имелись элементы, привнесенные из
практики искусства. Противоречие между чисто теологическими
спекуляциями и практикой искусства было одним из основных для
342
средневековой эстетики в целом. Оно пронизывало все основные
эстетические категории и в особенности категорию прекрасного:
абсолютной красотой признавалась лишь красота божественная,
в то же время основные признаки или свойства этой красоты
моделировались по аналогии с красотой реальных, земных предметов.
С одной стороны, делалась попытка полной теологизации и
сакрализации искусства, с другой стороны, обнаруживалась
невозможность отойти от «земной» основы искусства. Отсюда подчеркивание
особой роли и значения аллегории и символов в искусстве. С одной
стороны, наблюдалось стремление уйти от практики искусства и
реальной действительности, с другой стороны, признавалась
невозможность абсолютного разрыва с живительной почвой искусства.
Маритен, Жильсон и другие неотомисты начали развивать
основные положения эстетики Фомы Аквинского в направлении
дальнейшего углубления, разделения и противопоставления искусства
и действительности, по пути дальнейшей объективизации и
мистификации основных функций искусства и основных категорий
эстетики. Познавательная функция искусства сводится ими к
доказательству и признанию существования бога и божественной красоты
как красоты вечной и абсолютной, собственно эстетическая
функция — к религиозно-мистическому экстазу, к наслаждению этой
божественной красотой, воспитательная функция — к полному
подчинению верующих религии и власти церкви. Искусство должно
быть религиозным — вот лейтмотив неотомистской эстетики.
Прогресс искусства может быть достигнут только на пути его
дальнейшей спиритуализации, роста его религиозности. При этом требуется
не какая-то внешняя религиозность, формальное признание
религиозности, а религиозность, которая была бы сущностью художника
и искусства.
Неотомистская эстетика субъективизировала основные
свойства прекрасного, перешла от отрицания модернистских направлений
в искусстве к их поддержке, утратив тот объективный (хотя и
идеалистический) характер, которым отличалась эстетика Фомы
Аквинского. Из нее исчезают рационалистические элементы. И все же,
подвергая критике эстетику неотомизма, мы не должны упускать из
виду ее сильные стороны: гибкое освоение сложной сферы
художественной реальности и дидактический попечительный пафос,
неусыпные гуманистические искания. Человек здесь не забыт.
Альбер Камю — «главная сила
культурного поля современности»
Были, есть и, видимо, всегда будут существовать такие мыслители,
которых трудно отнести к какому-либо определенному
направлению или течению философской мысли, они остаются сами по себе,
ни на кого не равняясь, никому не подражая, со всеми вступая
в бесконечный спор. К таким мыслителям XX века можно с полным
правом отнести Альбера Камю — писателя, эстетика, философа.
Таких мыслителей судьба не балует — их жизнь, как правило,
исполнена драматизма. Будучи глубоко антибуржуазным
писателем, Камю снискал признание благополучных и благоустроенных
буржуа, но в то же время его не признают и резко критикуют те,
к кому он был, кажется, ближе всего — левая прогрессивная
интеллигенция. Несмотря на быстрый взлет всемирной известности,
Камю остался малоизвестным у себя на родине, во Франции, по
крайней мере те, ради кого он писал — французская молодежь, как
показали события 1968 года, его не знали. Осуждая эксплуатацию,
угнетение, социальное неравенство и несправедливость в любых
формах и видах, Камю не стал «своим» ни в капиталистических, ни
в социалистических странах: везде он был «посторонним», «чужим»,
носителем «опасных» идей, взглядов и настроений. Отвергая идею
исторического прогресса, Камю восстанавливает против себя
сикофантов исторического мессианства. Выступая против
абсолютизации надежды, он накликал на свою голову проклятия фанатичных
сторонников всех религий и церквей. Ниспровергая все
существовавшие и существующие до сих пор ценности, которые
дезориентируют и разоружают человека перед лицом подлинно человеческих
проблем, Камю навлекает на себя негодование «лучших»
представителей различных слоев и классов, не мыслящих своего
существования без этих ценностей, содержание которых сводится
ими к неизменным материальным интересам. Не доверяя
революции и ее глашатаям, воспевая бунт и восстание, он восстанавливает
против себя носителей революционных идей и настроений. Борясь
с самыми влиятельными и модными течениями современной
философии, Камю отталкивает от себя многих выдающихся мыслителей,
даже тех, с кем он был дружен, таких, например, как Жан-Поль
Сартр. Осуждение логического империализма, исторического
сумасшествия, конформистской революционности, кастрированной
философии сделало его «белой вороной» среди респектабельного
воронья. А отказ Камю от весьма почитаемого звания философа
и провозглашение себя моралистом означало не только
презрительное отношение к современной философии, но и личное мужество —
встать на защиту человека и попранного человеческого достоинства.
Не желая никого и ничему учить, Камю тем не менее мудрый учи-
344
тель, глашатай универсального отказа и разрушительного сомнения,
он — провозвестник новых идей и ценностей. Признавая кризис
универсальных ценностей, Камю своим творчеством призывает
к созиданию универсального человеческого сознания, общества
и культуры, основанных именно на высокой нравственности, на
высших моральных ценностях. Осуждая, он свидетельствует,
свидетельствуя — осуждает, рассказывая — он доказывает,
доказывая — рассказывает. Воздвигнутые им духовные построения
убеждают в нетленности человеческого духа, которому гораздо важнее
создавать не храмы, в которых могут в равной степени
господствовать и святые и фарисеи, а человеческие души, которые легко
сломать и искалечить, если они не осознали свою силу и свое бессилие,
но с которыми ничего нельзя поделать, когда они обретают
самосознание.
Все, кто читал ранние произведения Камю — «Лицо и
изнанка», «Бракосочетания...»,— не могли не восторгаться необычностью
того мира, который предложил писатель, глубиной и свежестью
идей, чувств, переживаний, художественными достоинствами стиля,
открытиями человеческой души. В этих бесхитростных
повествованиях такая полнота бытия, столько радости и света, любви и воли
к жизни, к окружающей природе, к солнцу, небу и морю, к женщине
и вообще ко всему прекрасному, к бытию и жизни в их
первозданной красоте и простоте, что даже трагические судьбы людей,
угрюмое безмолвие, безмерное одиночество и тоска обретают
совершенные формы художественного целого.
В кратких эссе Камю человек предстает в такой
величественной простоте, в таком единении и гармонии с природой, которые
казались утраченными навсегда. Этот человек живет не рядом
с природой и не на природе, а в ней самой: он ее органическая
и неотделимая часть, он сам — часть этого извечного мира. Он весь
в природе: в земле, море, небе и звездах, он дышит дыханием всего
мира, его тело хранит в памяти следы связей с этим миром, все
таинства и мистерии природы, все ощущения, чувства и мысли,
возникающие в человеке как бы изнутри самой девственной стихии
бесконечного мира. Для такого человека в древних руинах обитают
боги, говорящие на языке солнца и запаха полыни, на языке вечно
разного и тождественного самому себе моря, юного неба. В ранних
произведениях рождаются основополагающие понятия философии
и эстетики Камю: любовь, простота, ясность, красота, жизнь,
смерть, счастье, одиночество, верность самому себе, единство
человека и природы, абсурд, творчество, трагизм, враждебная человеку
история, смысл жизни и другие. «Изнанка и лицо» явится истоком
всего последующего творчества Камю, его глубокомысленных и
высокохудожественных произведений: «Я знаю, что мой исток —
в «Изнанке и лице», в этом мире нищеты и света, где я так долго
жил...» !. Именно тот мир, в котором жил Камю, те люди, которые
его окружали, отражены в этих удивительных повествованиях:
345
«...старая женщина, молчаливая мать, свет на оливковых рощах
Италии, одинокая простонародная любовь, все то, что в моих глазах
свидетельствует об истине» 2. Не случайно Камю, оглядывая
пройденный путь, возвращается к своим ранним произведениям, отдавая
себе отчет в том, какую роль они сыграли в его творчестве: «Я много
прошел после этой книги, но не очень продвинулся вперед. Часто,
считая, что иду вперед, я пятился назад. Но в конце концов мои
ошибки, мое невежество и моя верность всегда выводили меня на
старый путь, который я начал пролагать в «Изнанке и лице»,—
следы этого произведения видны во всем, что я сделал после...» 3.
Камю даже был убежден в том, что если ему не удастся снова
написать нечто подобное «Изнанке и лицу», то можно считать, что
он так ничего и не достиг. Столь высокая оценка ранних
произведений самим автором объясняется именно тем, что в этих эссе были
намечены основы линии творчества и сформулированы основные
категории и понятия, образующие смысловую структуру его
последующих философских и художественных произведений.
Тосковал ли Камю о навсегда утраченном рае или он хотел
постигнуть его прозрачную ясность и простоту? Думал ли он о
несчастьях, связанных с нищетой, или полагал, что грусть былых
несчастий и есть счастье, а нищета — это благодать, помогающая
вновь обрести смысл жизни и узнать цену непреходящему
достоянию: земле, небу, ночи, звездам, любви? Не из бесцельного ли
созерцания матери, из ее бездумной думы, кажущегося равнодушия,
безмерных мучений, тоски и одиночества, боли и страданий
вырастет ее сын, которому будут внимать миллионы современников?
Двадцатидвухлетний юнец осмелился бросить вызов
умудренным опытом политическим и философским старцам: «Мы не ищем
наставлений, ни горькой философии, вопрошающей о величии. Все,
кроме солнца, поцелуев и диких запахов, кажется нам
ничтожным» 4. Вернуть человеку утраченную душевную гармонию,
цельность и полноту, помочь ему услышать мелодию мира, дыхание
слившихся в объятии земли и моря, постичь смысл истинной славы
и истинного избранничества: право безмерно любить, постигнуть
всю красоту существующего мира и наслаждаться созерцанием
и жизнью этой красоты — не в этом ли состоит смысл философии,
искусства и творчества?
А верность человека самому себе — разве эта ценность не
должна сохраниться? Когда старая женщина, накануне своей
смерти, занимается с удивительным спокойствием приобретением места
на кладбище, покупкой склепа, следит за рытьем могилы — это
урок для всех. Жизнь человека слишком коротка, и грешно терять
время. Говорят, что надо быть активным, но активность — это тоже
потеря времени, пусть и в своеобразной «деловой» форме. Где же
царство человека? Можно ли согласиться с тем, что «царство мое —
не от мира сего»? Видимо, нет. Вот почему юный Камю прямо
и открыто постулирует: «Все мое царство в этом мире» 5. Но, чтобы
346
видеть и слышать этот мир, жить в этом мире всей полнотой жизни,
надо быть мужественным человеком. «Великое мужество — это
смотреть открытыми глазами на свет и на смерть» 6. Жизнь таит
в себе смерть, а смерть таит в себе начало жизни, может быть,
совершенно непохожей на прежнюю жизнь. Из познания вечного
круговорота жизни и смерти рождается сознание собственной
конечности и бесконечности бытия.
Для абсолютного большинства людей идея смерти или
собственного небытия, своего полного исчезновения или уничтожения
ужасна. Они не верят в собственную смерть до самой смерти.
Кажется, что и на этот раз она отступит, пройдет стороной, унесет
кого-то другого. Из-за любви к жизни и из-за ужаса перед смертью
люди еще на заре своего существования создали могучие
организации (религии, касты, жрецов, церкви), которые только и
занимаются тем, чтобы успокоить еще живущих, обещая им за праведную
жизнь вознаграждение в виде бессмертия души, райскую жизнь
в потустороннем мире. Сколько изобретательности было проявлено
бесчисленными поколениями людей ради того, чтобы увековечить
великих мира сего еще в этой жизни, сделать их «бессмертными»
в глазах современников. Однако беспощадное время еще никогда
и никому не предоставляло радости победы: в борьбе со временем
человек всегда оказывался в проигрыше, несмотря на то, что
некоторые имена живут в памяти людей тысячелетия. История
преходяща уже в силу своей историчности. Кажется, гораздо дольше
живут памятники материальной культуры, но со временем и они
превращаются в руины. Никто не скажет, сколько исчезло бесследно
человеческих обществ, культур и цивилизаций. А то, что еще
осталось, никогда не даст возможности выстроить «единую картину
мира», «единую человеческую историю» хотя бы потому, что эти
остатки представляют столь ничтожную часть человеческой
истории, что о ее «реконструкции» не может быть и речи. Люди
стремятся к вечности потому, что никогда не знали, что такое вечность. Они
стремятся к бессмертию потому, что никогда не знали, что такое
бессмертие. Может быть, поэтому рассуждения ученых и неученых
людей о смерти, вечности и бессмертии, как правило, плоски и
бессодержательны .
Молодой Камю не стремился рассматривать проблему смерти,
однако эта проблема вставала перед ним помимо его воли. «Есть
места, где дух умирает, ради того, чтобы родилась истина, которая
является самим его отрицанием» 7. Встреча с древним и мертвым
городом, когда человек оказывается наедине с камнями и тишиной,
трепещущее сердце мира открывает символ завета любви и
терпения. Ветер, эта вечная стихия, приобщал человека к природе, ваял
его по образу окружавшего его мира до тех пор, пока он не
становился частицей колонн, арок, плит старинного города. Тогда
возникало чувство отрешенности от себя и присутствия в мире: «Для
человека осознать свое настоящее — это значит ничего больше не
347
ждать... И в этой стране везде и всюду я сталкивался с чем-то
таким, что было присуще не мне, а ей, с привкусом смерти, который
был нам общ. Среди колонн, которые теперь отбрасывали косые
тени, тревоги взлетали в воздух, как раненые птицы. На их место
приходила бесплодная ясность... покинутый самим собой, я
чувствовал себя беззащитным перед медленно накапливавшимися во
мне силами, которые говорили — нет. Немногие люди понимают,
что есть отказ, не имеющий ничего общего с отречением. Что
означают здесь слова будущее, благосостояние, положение? Если
я упорно отказываюсь от всех «позже» мира, то речь идет именно
о том, чтобы не отказываться от моего нынешнего богатства. Я не
хочу верить, что смерть — это преддверие другой жизни. Смерть
для меня — закрытая дверь... Я слишком полон молодости, чтобы
быть в состоянии говорить о смерти. Но мне кажется, что если бы
я должен был о ней говорить, то именно здесь я нашел бы точное
слово, которое поведает о постигаемой человеком в безмолвном
ужасе неизбежной смерти, не оставляющей ему никакой
надежды» 8. В этом небольшом фрагменте Камю выразил целую
программу. Здесь уже проступает его заинтересованность глобальными
проблемами человечества. Здесь он протестует против религии, с ее
благостными утешениями, и современных учений, призывающих
к отказу от жизни, прославляющих смерть. Он открыто
отказывается от всех и всяких посулов, унижающих человеческое достоинство,
выдвигая против них действительное богатство человека —
богатство человеческой личности, человеческого духа, человеческой
деятельности и творчества. Камю призывает человека к тому, чтобы
оставаться верным самому себе и окружающей природе, всегда
иметь ясную голову и ясное сознание и никогда не терять богатство
человеческих чувств, благодаря которым только и можно постигать
сокровенные тайны природы, бесконечное многообразие ее
красоты — вечный исток, питающий человеческую душу божественным
нектаром возвышенного, совершенного, прекрасного, истинного.
Единственный прогресс цивилизации он видит в том, что этот
прогресс создает людей, умирающих сознательно. Смотреть на все
открытыми глазами, видеть все таким, каково оно есть, понимать
и сознавать великую и сложную диалектику жизни и смерти — это
и означает приобщаться к жизни существующего мира, сознавать
и ощущать всем своим существом его удивительную силу и красоту,
многообразие и полноту бытия, неотъемлемой частью которого был,
есть и всегда пребудет человек.
Следующий этап в творческой эволюции Камю связан с его
романом «Посторонний» и, как проницательно заметил Жан-Поль
Сартр, «Мифом о Сизифе» — теорией этого романа. Эти
произведения принесли Камю международную известность и признание.
На наш взгляд, лучшее толкование «Постороннего», а также
и «Мифа о Сизифе» было дано в «Объяснении «Постороннего»
Сартра, который справедливо соединил в своем анализе эти два
348
произведения, что и позволило ему вскрыть их самые существенные
мотивы и особенности.
Сартр справедливо отмечает, что роман содержит в себе
двусмысленность. Действительно, как понимать поведение Мерсо,
который даже не знает, когда умерла его мать, ибо в последний год он
ее не навещал, а на предложение посмотреть на покойницу отвечает
отказом. Он не знал, сколько лет было его матери. После того как
ее похоронили, Мерсо пришел к выводу, что «ничего не
изменилось» 9. Словом, он ведет себя совсем не так, как нормальные люди.
На вопрос Мари, любит ли он ее, Мерсо ответил, что «об этом
нельзя ничего сказать, но мне кажется, что нет» 10. Мари считает
его «странным» человеком и признается себе в том, что, возможно,
за это она его и любит. Когда хозяин предложил ему более
интересную работу, то он ответил, что ему, в сущности, «все равно», так как
«жизнь не изменишь» п. Мерсо убивает араба из-за нестерпимо
горячего солнца 12. Когда Мерсо арестовали и посадили в тюрьму,
то он не предпринимал ничего для того, чтобы освободиться или
как-то облегчить свою участь. Накануне казни он почувствовал, что
был счастливым и что может еще быть счастливым 13, и мечтает
о том, чтобы в день казни собралось как можно больше зрителей,
которые бы встретили его «криками ненависти» 14.
Да, он совсем не похож на обычных героев обычных
романов — он именно «посторонний», как метко назвал его Камю. Этот
«посторонний» не может быть похожим на героев традиционных
романов, ибо он не от их мира — у него свой мир, мир абсурда,
а он — абсурдный герой или абсурдный человек. В «Мифе о
Сизифе», как заметил сам Камю, речь идет об анализе или трактовке
абсурдной чувственности, а не абсурдной философии, которая
нашему времени неизвестна. К тому же если абсурд рассматривался
до сих пор как некий вывод, то Камю рассматривает его как некий
отправной пункт, исходную точку зрения. Речь идет не о
метафизике, а об описании «болезни духа» 5 в ее чистом состоянии.
Камю часто называли философом-экзистенциалистом, хотя он
сам не жаловал эту философию и не разделял ее основных
принципов и положений. «Нет, я не экзистенциалист... Сартр —
экзистенциалист, и единственная книга идей, которую я
опубликовал — «Миф о Сизифе», была направлена против философов,
называемых экзистенциалистами» 16.
Действительно, в «Мифе о Сизифе» Камю подвергает резкой
критике современные течения в философии и прежде всего
философию экзистенциализма. Однако эта критика носит скорее характер
описания, чем критического исследования. Камю, видимо, важнее
было описать интеллектуальную болезнь XX века, чем установить
диагноз, констатировать ее присутствие, чем ее лечить.
Рассматривая взгляды крупнейших философов XIX и XX
веков, Камю обнаруживает у них стремление осмыслить самые
существенные вопросы бытия, поставить под вопрос исходные пред-
349
посылки и цели человеческой деятельности. Он улавливает как
основные направления в развитии метафизики нашего века, так и ее
маргинальные интенции.
Изучая произведения Канта, Гегеля, Киркегора, Шопенгауэра,
Ницше, Толстого, Достоевского, Хайдеггера, Ясперса, Сартра
и других писателей и мыслителей XIX—XX веков, Камю приходит
к выводу, что их стремление к истине, к подлинному бытию
объяснялось неприятием и отрицанием существующих форм социальной
жизни. Самые различные формы угнетения и подавления
человека — экономическое, социальное, политическое, нравственное,
религиозное, эстетическое, информационное — вели к обесчеловече-
нию человека и человеческого общества, к отчуждению и
дегуманизации, к выхолащиванию и уничтожению идеалов. Грандиозная
тоталитарно-бюрократическая машина, кажется, только и
занималась тем, что развенчивала и подавляла все слишком
человеческое, превращала людей в ничтожные детали своего изначально
обесчеловеченного механизма, в исполнителей самых
незначительных частных функций. К этой варварской работе по обесчеловече-
нию человека был привлечен весь исполинский аппарат, все
щупальца гигантского социально-бюрократического осьминога:
репрессивные органы, средства массовой информации, общественные
организации, молодежные и профессиональные объединения, различные
международные организации. Все силы и средства этой машины,
кажется, были направлены на то, чтобы все упростить до предела,
разложить на элементарные составные части, чтобы каждая из них
изо дня в день повторяла одни и те же операции, исполняла одни
и те же простейшие функции. Предельная упрощенность и
вульгаризация охватывает всю социальную жизнь общества и индивида:
от экономической до художественной, от трудовых операций до
языковых, лингвистических. В конце концов все то, что раньше
придавало определенный смысл человеческой жизни —
общественная жизнь и общественный труд, всеобщие ценности, идеи и
идеалы, близкие и далекие индивидуальные и социальные цели и т. д.,—
теперь, наоборот, ведет к утрате и исчезновению смысла. Человек
уже не может распоряжаться ни самим собой, ни собственной
жизнью, ни собственной судьбой — он игрушка, марионетка в
руках могучих и анонимных сил, которые поступают с ним как им
заблагорассудится. Уже не может быть и речи о том, чтобы человек
творил мир в соответствии со своими идеями и идеалами, скорее,
наоборот, он сам превращается в вещь среди других вещей, со всеми
вытекающими из этого положения следствиями.
В прежние эпохи смыслообразующим стержнем был бог.
Конец XIX и начало XX века ознаменовались провозглашением
смерти бога (Достоевский, Ницше). С этого времени смыслообразую-
щий стержень концентрируется в смерти бога, в богоутрате. Вся
ответственность за все, что происходит в этом мире, возлагается
отныне на человека, который в силу своей обесчеловеченности не
350
в состоянии справляться со столь великой задачей. Социальные
и индивидуальные нормы и ценности (нравственные, этические,
эстетические, культурные и т. д.) с «богоутратой» приходят в
упадок, хиреют и разрушаются.
Камю как мыслитель формировался под воздействием Кирке-
гора, Достоевского и Гуссерля. Именно у них он черпал идеи и
основную проблематику, связанную с человеком, его духовным
миром, его творчеством и стремлением к глубинному самопознанию
и самосознанию. По существу, нет ни одной важной проблемы,
поставленной Киркегором, Достоевским и Гуссерлем, которые бы
не были органически включены Камю в его собственную
философию, мировоззрение и миросозерцание.
Опираясь на размышления Киркегора об отчаянии и абсурде
как непременных факторах или категориях, приводящих человека
к истинной вере, Камю развивает категории абсурдного человека,
абсурдного сознания, абсурдного творчества, абсурдного
произведения, чтобы поднять уровень человеческого сознания до понимания
проблем современной жизни и современной культуры.
Однако Камю переносит центр тяжести с религии и
религиозной веры Киркегора на категорию красоты или прекрасного,
которая обусловливает и определяет, по его убеждению, и жизнь, и веру,
и сознание человека, ибо без красоты нет и не может быть ни
истины, ни добра, ни справедливости, ни свободы. Киркегоровский
пафос в отношении рыцаря веры Авраама Камю переносит на
современного человека, который должен пройти все стадии
духовного становления человека и человечества (Сизиф, Прометей,
Елена и т. д.), пока его сознание не станет совершенно ясным
и просветленным. Вот тогда-то на человека нисходит «благодать»,
но не божественная, а собственно человеческая: человек становится
человеком, личностью. Он осознает себя и окружающий его мир во
всей его неприглядности и жестокости. Но он уже человек и никогда
не согласится быть рабом. Ему уже ведомы высшие человеческие
ценности, а переход от абсурдной жизни и сознания к ценностям
таит в себе осознание своего права на жизнь, свободу и красоту.
Дремавшие в человеке творческие силы выливаются в бунт,
в восстание против существующего мира, его изъянов и пороков —
бунтующий человек творчески решает преобразовать себя и мир,
создавать их в своем творчестве, чтобы стать свободным и вернуть
в мир красоту и все, что с нею связано.
Проблема смысла человеческой жизни, поставленная
Достоевским, преломляется у Камю не в проблему самоубийства, хотя бы
и логического, а в проблему ясного видения всего существующего.
Смерть для него не решает никаких проблем, ибо она порог, за
которым ничего нет. Жить надо здесь, на этой земле, в этой жизни,
где есть и ад и рай, где есть все, разве что нет только бога. Но Камю
не жалеет о боге, как не радуется и его смерти. У него одна
забота — сделать человека верным себе, своей жизни, своей судьбе.
351
Смысл жизни коренится в самом человеке, в его отношении к миру,
к другим людям, к прекрасному. «Красота спасет мир»,—
утверждал Достоевский. «Красота спасет мир,— соглашается Камю,—
если человек в полной мере постигает смысл этой красоты». В
отличие от Гуссерля, стремившегося преодолеть кризис науки и
культуры с помощью абсолютного разума, раскрывающего тайны человека
и мироздания, Камю вводит разум в русло духовного формирования
и развития человека как личности, чтобы обогатить его страстями,
чувствами, интересами и переживаниями. То, что не подвластно
разуму, должно открыться чувственному постижению
существующего, которое может быть всесильным, если основывается и
развивается в сфере прекрасного. Разум важен и нужен, но, если он не
научится видеть красоту, слушать ее сокровенные тайны, он может
повернуться против человека и убить его. Познание разума — это
познание сердца, познание красоты, познание мощи и слабости
человека.
Рассматривая различные философские учения нашего времени,
Камю замечает их ахиллесову пяту — отрицание, которое Ницше
называл нигилизмом: «Для экзистенциалистов отрицание — это их
Бог... Точнее, это Бог, который поддерживает себя отрицанием
человеческого разума» 17.
Однако если Ницше находил противоядие против нигилизма
и декаданса в искусстве, то уже Хайдеггер считает, что само
искусство находится в состоянии кризиса с V века до н. э. Его оценка
состояния современной эпохи весьма пессимистична. Вот почему
Камю считает, что хотя Хайдеггер внес немалый вклад в развитие
современного философского мышления и сознания, а его глубокие
философские сочинения, несомненно, оставили свой след на
мыслительном облике XX века, однако онтология Хайдеггера,
изложенная им прежде всего в «Бытии и времени», направлена на
констатацию «заброшенности» существования, объятого «тревогой» и
«страхом», «в котором существование вновь находит себя». Хайдеггер
с завидным спокойствием отмечает, что конечный и ограниченный
характер человеческого существования является изначальным.
Показывая ограниченный характер кантовского «Чистого Разума»,
Хайдеггер приходит к выводу, что человеку, объятому страхом, мир
больше ничего не может открыть, ибо безграничная тоска и ужас
перед существующим миром, угнетающим человека, направляет его
на путь к смерти, на бытие к смерти.
Другой крупный философ-экзистенциалист — Ясперс,—
разочарованный в любой онтологии, стремится к тому, чтобы «мы
потеряли наивность» 18. Он как будто знает, что цель ума или духа —
это поражение и что нельзя прийти ни к чему другому, кроме как
к тому, что трансцендирует смертельную игру видимостей.
Задерживаясь на изучении духовных приключений, открываемых нам
историей, он обнаруживает беспощадное банкротство любой
системы. В этом опустошенном мире, где невозможность познания
352
доказана, где ничто кажется единственной реальностью, следует
вновь попытаться найти нить Ариадны, которая может привести
к божественным тайнам. Ясно, что и эта философия, слишком
откровенно тяготеющая к религиозному иррационализму, не может
быть ориентиром и духовной опорой современному человеку.
Монотонные и в чем-то однообразные, постоянно
вращающиеся вокруг одних и тех же тем сочинения Льва Шестова, считавшего,
что самая универсальная система рационализма кончает всегда
одним и тем же — впадением в иррационализм, явно импонировали
Камю тем, что они являли собою своеобразную историю сердца
и духа. Мастерски используя трагический опыт осужденных на
смерть героев Достоевского, рискованные приключения
ницшеанского духа, проклятия Гамлета или горькое отчаяние избранников
Ибсена, Шестов блестяще вскрывает «человеческое восстание
против непоправимого» 19. Он отвергает все притязания человеческого
разума на открытие истины, чтобы заставить человека поверить
в бога, в истину откровения, в божественное чудо, в абсурд. Камю
ставит в заслугу Шестову открытие фундаментальной абсурдности
существования. Хотя Шестов и не говорит: «Вот абсурд», а говорит:
«Вот Бог», тем не менее, как замечает Камю, для Шестова принятие
абсурда является краеугольным камнем подлинной философии.
Но самым привлекательным философом и писателем для Камю
был Серен Киркегор, который, как полагал Камю, не просто открыл
абсурд, а как бы созерцал его. Камю считал Киркегора Дон
Жуаном познания, мыслителем, для которого ни одна истина не была
абсолютной, который решительно отвергал утешение, мораль,
принципы покоя и удовлетворения и в одиночку вел непримиримую
борьбу с обществом и церковью, с богом и дьяволом, с ложью
и с истиной, с привилегиями и с исключительностью, с догмами
и с разумом, словом, со всем тем, что наносит ущерб отдельной
человеческой личности, ее сознанию, духовному развитию,
человечности. Для Киркегора «абсурд — это грех без Бога» 20.
Истинные пути человека пролегают через отчаяние: через отчаяние и
посредством отчаяния человек может стать свободным. Правда, эта
свобода, как и вся жизнь абсурдного человека, может быть только
абсурдной. Критически оценивая философию экзистенциализма,
Камю обращает свои взоры к Киркегору, наметившему основные
линии и основные проблемы и категории экзистенциальной
философии: человек, вера, грех, отчаяние, выбор, абсурд, кризис,
возможность, одиночество, любовь, ненависть, всечеловечность и др.
Киркегор возродил интерес к мифологии и положил начало переоценке
ценностей. Киркегору Камю обязан многими весьма
существенными мотивами своей философии и своего литературного творчества.
В этом смысле Киркегор был духовным предтечей Камю, которого
можно с полным основанием назвать Киркегором XX века.
Столь же важное значение для Камю имела философия
Гуссерля, который стремился создать положительную философию, «от-
12 К. М. Долгов
353
крыть интуиции и сердцу всю полиферацию феноменов», во всем их
богатстве. Но при этом Камю отмечает, что в феноменологии
Гуссерля средство имело более важное значение, чем цель, ибо речь
шла лишь о позиции познания.
Классический рациональный метод познания, согласно
Гуссерлю, потерпел поражение. Казалось бы, осуществимая задача:
постичь разумом рациональную структуру мира, чтобы она стала
очевидно ясной, и все спасено. Но в том-то и дело, что чем дальше
и глубже простиралось человеческое познание, тем все с большей
настойчивостью философы заявляли, что ничто не ясно, что все
есть хаос, что человеческое познание слишком слабо и ограниченно.
Таким образом, человек снова оказывался перед иррациональным.
Ему оставалось сжиться с этим иррациональным, почувствовать
в нем что-то знакомое и близкое, то, где может родиться желание
счастья: «Абсурд рождается из этой конфронтации между
призывом человека и неразумным молчанием мира... Иррациональное,
человеческая ностальгия и абсурд... вот три персонажа драмы,
которая должна необходимым образом покончить со всей логикой,
на которую способно существование» 2|.
Подчеркивая, что метод Гуссерля отрицает «классический
демарш разума», Камю справедливо указывает на сродство
феноменологии с различными течениями иррационалистической мысли. «От
абстрактного Бога Гуссерля до сверкающего Бога Киркегора
расстояние не велико. Разум и иррациональное ведут к той же самой
проповеди... Абстрактный философ и религиозный философ
исходят из одного и того же смятения и живут в одном и том же
страхе» 22. И здесь нет никакого парадокса, поскольку, действительно,
истоки и конечные результаты той и другой философии одни и те
же. Хотя феноменология и стремилась быть точной и строгой
наукой, объясняющей мир посредством описания пережитого
опыта, но она сходна с абсурдной философией уже в том, что
провозглашает лишь существование частных истин в
противоположность истине как таковой. Сознание превращается в акт внимания
или в акт восприятия, фиксирующий свой объект, а не создающий
его. Этим же можно объяснить и то, что феноменология не
преодолела психологизм, как намечалось изначально, а, напротив,
застряла в его дебрях. Философская мысль эпохи, согласно Камю,
колеблется между крайней рационализацией реального и крайней
его иррационализацией, а крайности, как известно, сходятся.
Расхождения и различия между ними кажущиеся. Вообще, как
полагает Камю, несправедливо считать, что понятие разума имеет
единственное значение и смысл, ибо нельзя не учитывать того, что разум
представляет собою нечто человеческое и как таковой он может
обращаться не только к реальному, но и к божественному.
Например, в эпоху Плотина перед разумом встала альтернатива:
адаптироваться или умереть. Естественно, разум адаптировался. «С Пло-
тином разум из логического становится эстетическим. Метафора
354
заменяет силлогизм» 2ό. Адаптация, как видно, дорого обошлась
разуму — по существу, он должен был отказаться от своего самого
важного оружия — логики: место логики заняла эстетика, к тому
же религиозно-мистического толка. Правда, утоление плотиновской
меланхолии осуществлялось одновременно смещением страха
в сферу божественного. Не потому ли Камю приходит к
неутешительному выводу: «Мысль человека есть прежде всего его
ностальгия» 24. Если разум Гуссерля стремился к тому, чтобы уничтожить
какие бы то ни было ограничения, чтобы подавить страх, то Кирке-
гор, как известно, утверждал, что достаточно какой-то одной
границы, чтобы дискредитировать разум. Камю в свою очередь,
используя предшествующий опыт европейской философии, в частности
идеи Киркегора и Гуссерля, приходит, кажется, к более
удовлетворяющему выводу: «Абсурд — это ясный разум, констатирующий
свои пределы» 25. Если у Гуссерля в его логическом универсуме все
человеческие страсти и желания постепенно как бы замирают, то
в апокалипсисе Киркегора страстное желание ясности должно
постоянно ограничивать себя. Грех здесь является не знанием,
а желанием знать. И именно такой грех делает абсурдного человека
одновременно виновным и невиновным. У Киркегора разум имел
один предел или одну границу — он со всего исторического пятиты-
сячелетнего разбега останавливался как вкопанный, окаменевший
перед абсурдом. Абсурд — его вечная граница и вечный предел.
Страсти доходят до высшего предела — их может разрешить
только чудо.
Гуссерль страстно хотел сделать человеческий разум
абсолютным, не имеющим никаких границ и пределов, бесстрашно ищущим
истину, открыто идущим навстречу каким угодно трудностям
и опасностям. Чувственный универсум поглощается у Гуссерля
логическим универсумом.
У Камю разум с открытыми глазами входит в отчаяние и
абсурд. Это смелый, гордый, мужественный и героический разум,
разум человека, стремящегося к жизни, достойной человека, к
жизни здесь, теперь и сейчас. Он все хочет знать, ясно видеть, остро
чувствовать — словом, жить. Этот разум не боится страха смерти,
ибо он постигает их неразрывное единство, их взаимосвязь и
взаимообусловленность. Кроме того, этот разум находит, что зло — не
в смерти, а в жизни, ибо смерть — конечный предел всех
человеческих страданий, а жизнь — только их начало. Бояться смерти
смешно и нелепо, как бояться покойников. Бояться следует живых
людей, ибо только от них можно ожидать каких угодно опасностей
и неприятностей: зависти, доносов, предательства и убийства. Рай
и ад — не на небе и не в преисподней, а на земле, где мы живем,
среди людей великих и ничтожных, счастливых и несчастных,
власть имущих и неимущих, мужчин и женщин, святых и
грешников. Надо только на все смотреть открытыми глазами, все видеть
и знать, все ощущать и чувствовать.
12*
355
Видимо, не случайно Камю, вслед за Достоевским, считал
самоубийство серьезной философской проблемой.
Рассудок абсурдного человека опирается на очевидность, но
что такое очевидность, как не абсурд? Как должен вести себя
абсурдный человек перед лицом разочаровывающего мира и духа,
стремящегося в неведомые дали? Что ему выбрать: ностальгию
единства или рассеянный универсум? Жить ли ему и мыслить
в бесконечных страданиях и мучениях или попытаться все же
узнать: можно ли жить вообще или логика мысли должна с
необходимостью привести к смерти? Может быть, поэтому Камю
отодвигает все традиционные философские вопросы, заменяя их
одним, самым важным для него: «Имеется лишь одна серьезная
подлинно философская проблема: это самоубийство»26. Но его
интересует не самоубийство вообще, а философское самоубийство,
в его, так сказать, чисто духовном плане. Любая другая позиция
для абсурдного духа предполагает сокрытие и отступление духа
перед тем, что его порождает. Гуссерль хотел избавиться от
закоренелых предубеждений, предпосланных философской мысли,
чтобы вернуться к вечной философии, в то время как Киркегор
видел опасность в неуловимом мгновении, предшествующем этому
скачку в вечность. Для абсурдного же человека, утверждает Камю,
задача состоит в том, чтобы познать себя и удержаться на гребне
этого головокружительного прыжка.
Понятие абсурда Камю прилагает и к проблеме свободы,
которая состоит вовсе не в сопротивлении, а, скорее, в сознательном
восстании, бунте против существующих условий, внутренних
и внешних, объективных и субъективных. Бунт, восстание есть
прежде всего вечная конфронтация человека и его собственного
невежества. Восставать — это значит ставить мир под вопрос.
Таким образом, «перманентная революция» переносится в
индивидуальный план. «Жить — это уметь жить абсурдно» 27. Чтобы строить
жизнь, надо прежде всего ее видеть. Видеть, что в мире нет и не
может быть никакой надежды. Человек должен видеть, что он
живет только сегодня и никакого завтра, никакого будущего у него
не будет. Если и будет это будущее, то уже не у него, а у тех, кто
придет вслед за ним, но и для них это будущее будет также лишь
настоящим. Поэтому надо жить в настоящем, жить подлинно
человеческой жизнью. Все разговоры и посулы «прекрасного
будущего» — это иллюзии и химера. Заботой о будущем человек может
жить лишь до встречи с абсурдом. Абсурд важен тем, что кладет
конец иллюзиям. Он учит человека смотреть на мир открытыми
глазами, щедрым сердцем, не смиряясь и не покоряясь судьбе.
Самоубийство может разрешить абсурд, но абсурд потому и
абсурд, что стремится избежать самоубийства, ибо он одновременно
есть сознание смертности и отказ от смерти. Абсурд есть
выражение крайнего напряжения абсурдного человека, провозглашающее
единственную истину — вызов. Именно абсурд доводит до сознания
356
человека, что сфера его жизни и деятельности — это настоящее,
а не прошлое и не будущее, а это становится основанием глубоко
осознанной свободы: смерть и абсурд являются принципами
обоснования свободы 28. В этом смысле абсурдный человек является
противоположностью человеку, смирившемуся со своим
положением. «Сознание, постоянно сознающее настоящее и
последовательный ряд настоящего времени,— это идеал абсурдного человека».
«...Исходящее из бесчеловечного, объятого страхом сознания,
размышление об абсурде вновь достигает цели своего пути в недрах
пылающего пламени человеческого восстания» 29. Человек не
должен никогда и ни с чем примиряться, он должен вести постоянную
борьбу за себя, за свою свободу, за то, чтобы оставаться таким,
каков он есть в настоящее время. Он весь в самом себе и настоящем
времени. Он должен жить свободной и полнокровной человеческой
жизнью сейчас, здесь, а не в каком-то призрачном и иллюзорном
далеком и никогда не исполняющемся будущем. Вот почему из
анализа абсурдного рассудка Камю извлекает для себя
соответствующие выводы: «Я извлекаю из абсурда три следствия, которыми
являются мое восстание, моя свобода и моя страсть. Одной игрой
сознания я трансформирую в правило жизни то, что было
приглашением к смерти,— и я отрицаю самоубийство» 30.
Абсурдный человек, согласно Камю, отрицает смысл и ничего
не делает для вечности. Хотя ему не чужда и ностальгия, но он
предпочитает ей свое мужество и свой рассудок: мужество
позволяет ему полагаться лишь на самого себя, а рассудок помогает ему
определить свои возможности. Убежденный в своей свободе,
реализующейся в постоянном восстании без будущего, и в своем
сознании, обреченном на гибель, абсурдный человек стремится
осуществить свое «предназначение» в этой жизни, поскольку никакой
другой жизни он не признает. Отвергая надежду, которую всегда
использовали против человека, абсурдный человек живет и
действует только в настоящем и ради настоящего. Но в таком случае
единственной безошибочной мыслью была бы мысль бесплодная. «В
абсурдном мире, замечает Камю, ценность понятия или жизни
измеряется ее бесплодностью» 3 '.
«Миф о Сизифе» во многом написан под воздействием
произведений Достоевского. В частности, размышления Камю об
абсурдном мире и абсурдном человеке перекликаются с рассуждениями
героев Достоевского. Достаточно привести один из диалогов Став-
рогина и Кириллова, чтобы убедиться в том, насколько сильное
влияние на Камю оказали идеи Достоевского. «Вы любите детей? —
Люблю,— отозвался Кириллов довольно, впрочем,
равнодушно.— Стало быть, и жизнь любите? — Да, люблю и жизнь, а что? —
Если решились застрелиться.— Что же? Почему вместе? Жизнь
особо, а то особо. Жизнь есть, а смерти нет совсем.— Вы стали
веровать в будущую вечную жизнь? — Нет, не в будущую вечную,
а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время
357
вдруг останавливается и будет вечно.— Вы надеетесь дойти до
такой минуты? — Да.— Это вряд ли в наше время возможно,—
тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович,
медленно и как бы задумчиво.—В Апокалипсисе ангел клянется, что
времени больше не будет.—Знаю. Это очень там верно; отчетливо
и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше
не будет, потому что не надо. Очень верная мысль.— Куда же его
спрячут? — Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет
в уме.— Старые философские места, одни и те же с начала веков,—
с каким-то брезгливым сожалением пробормотал Ставрогин.—Одни
и те же! Одни и те же с начала веков, и никаких других никогда! —
подхватил Кириллов, с сверкающим взглядом, как будто в этой идее
заключалась чуть ли не победа.— Вы, кажется, очень счастливы,
Кириллов? — Да, очень счастлив,— ответил тот, как бы давая
самый обыкновенный ответ.—Но вы так недавно еще огорчались,
сердились на Липутина? — Гм... я теперь не браню. Я еще не знал
тогда, что был счастлив. Видали вы лист, с дерева лист? — Видал.—
Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил.
Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза
нарочно и представлял лист — зеленый, яркий с жилками, и солнце
блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо,
и опять закрывал.— Это что же, аллегория? — Не-нет... зачем?
Я не аллегорию, я просто лист, один лист. Лист хорош. Все
хорошо.— Все? — Все. Человек несчастлив потому, что не знает, что он
счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас
станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка
останется — все хорошо. Я вдруг открыл.— А кто с голоду умрет, а кто
обидит и обесчестит девочку — это хорошо? — Хорошо. И кто
размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размозжит,
и то хорошо. Все хорошо, все. Всем тем хорошо, кто знает, что все
хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо,
но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо... Надо
им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до
единого.— Вот вы узнали же, стало быть, вы хороши? — Я
хорош.— С этим я, впрочем, согласен,— нахмуренно пробормотал
Ставрогин.— Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.— Кто
учил, того распяли.— Он придет, и имя ему человекобог.—
Богочеловек? — Человекобог, в этом разница... Бьюсь об заклад, что когда
я опять приду, то вы уж и в бога уверуете,— проговорил он, вставая
и захватывая шляпу.— Почему? — привстал и Кириллов.— Если
бы вы узнали, что вы в бога веруете, то вы бы и веровали; но так как
вы еще не знаете, что вы в бога веруете, то вы и не веруете,—
усмехнулся Николай Всеволодович.— Это не то,—обдумал
Кириллов,— перевернули мысль. Светская штука. Вспомните, что вы
значили в моей жизни, Ставрогин.— Прощайте Кириллов» 32.
В этом диалоге Достоевский, кажется, наметил все основные
темы, связанные с абсурдом, абсурдным человеком и абсурдной
358
жизнью: стремление к подлинной, истинной жизни; отрицание
надежды, следовательно, отрицание будущего и всего, что с ним
связано; отрицание потустороннего мира, рая и ада, загробной
жизни и самого бога; переоценка всех ценностей и т. д.
Достоевский глубоко раскрывает основные качества абсурдного сознания,
довлеющего самому себе, осознающего самого себя, извлекающего
из самого себя свое содержание, ткущего, как паук, паутину,
тонкую и хрупкую нить своей собственной жизни, обрыв которой, как
правило, трагический, оно предполагает; и, кажется, весь
жизненный процесс является своеобразной подготовкой — бесцельной
и беспричинной — этого неминуемого конца.
Объективные факторы теряют свое значение для абсурдного
сознания: объективно лишь то, что осознано, а вовсе не то, что
существует объективно. Проблемы объективного бытия получают
статус проблем субъективного сознания, решение которых целиком
и полностью зависит от их осознания. Проблемы добра и зла,
счастья и несчастья, жизни и смерти и другие столь же
фундаментальные проблемы ставятся в прямую зависимость от их
осознанности или неосознанности людьми.
На примере Дон Жуана Камю показывает, что абсурдный
человек игнорирует печаль. Он становится печальным только тогда,
когда он начинает на что-то надеяться. «Не верить в глубокий
смысл вещей — это свойство абсурдного человека... Время идет
вместе с ним. Абсурдный человек — это тот, кто не отделяет себя
от времени» 33. Коллекционировать что-либо — это жить прошлым.
Дон Жуан, подобно некоторым героям Киркегора, относится
к жизни эстетически, то есть количественно. Но его этика — тоже
этика количества: любить и обладать, побеждать и изматывать —
вот его способы познания человека и человеческой жизни.
Поскольку для него не существует единственного чувства,
единственного существа, единственного лица, то он выбирает «ничто».
Другим примером абсурдного человека Камю считает актера,
царствующего в том, что обречено на исчезновение и гибель.
Искусство актера выражает голос, который является столь же голосом
души, сколько и голосом тела. Человеческие страсти живут
в жестах, в словах, в криках и в молчании. Актер, как злой дух,
вселяется в воображаемую форму и дает фантомам пить свою
кровь. Он, как великий художник, рисует и лепит своих героев
всеми силами своей души и своего тела. Но и герои в свою очередь
не остаются в долгу у актера — они являются воплощением его
судьбы: великий театр предоставляет актеру возможность
осуществить свою судьбу. Со стороны театральное действо может
показаться безумием (в «Короле Лире», как замечает Камю, все
происходит под знаком безумия), однако в этом безумии
воплощается глубинная мудрость человечества. Все приносится в жертву
видимости, условности, эфемерности. Все, что актерами создается
великого, бесследно исчезает. Но кто же будет сомневаться в том,
359
что в этом постоянном исчезновении и гибели не сохраняется нечто
вневременное, внеисторическое, вечное, к чему абсурдный человек
просто равнодушен?
В «Мифе о Сизифе» Камю рассматривает проблему абсурдного
творчества. Эта проблема в мировоззрении Камю, в его философии
имеет особое значение. Жить в абсурдном мире без веры и
надежды, без жизненных перспектив, без исторического оптимизма не
только трудно, безрадостно, но и почти невозможно. Если не найти
нечто такое, что может с лихвой компенсировать все издержки
абсурдной жизни, тогда единственным выходом будет прекращение
жизни. Однако, как мы видели, Камю отвергает даже философское
самоубийство. Больше того, он полагает, что человек,
занимающийся своим духовным самовоспитанием, человек, восстающий против
уготованной ему судьбы, человек, не смиряющийся с объективными
и субъективными условиями своего существования, должен быть
творческим человеком. Именно благодаря творчеству мысль может
одолеть смерть духа.
Человек, согласно Камю, не должен бояться абсурда, не
должен стремиться от него избавиться, тем более что это просто
невозможно, поскольку абсурдный мир окружает и пронизывает
всю человеческую жизнь. Скорее, наоборот, человек должен
действовать и жить в этом абсурдном мире как абсурдный человек,
ставящий абсурдные вопросы. Правда, очень часто его борьба
кончается поражением. «Завоевание или игра, бесчисленная
любовь, абсурдное восстание,—это почести, которые человек воздает
своему достоинству в кампании, где он заранее обречен на
поражение» 34. И несмотря ни на что, человек должен бороться и
оставаться верным своей борьбе. Абсурдная борьба, которую постоянно
ведет человек, представляет собой игру, являющуюся
преимущественно искусством. А искусство, говорил еще Ницше, необходимо
нам для того, чтобы не умереть от истины.
В абсурдном мире произведение искусства — это уникальный
шанс поддерживать свое сознание на соответствующем уровне
и в соответствующей форме. Оно дает человеку возможность
фиксировать свои приключения в этом мире. «Творить — это жить
дважды»35. Ярким свидетельством может служить творчество
Пруста, в описаниях которого запечатлены все дни его жизни.
Когда человек творит, он выражает то, что в нем заложено. В
творчестве человек встречается с самим собой, со своими собственными
истинами. «Творчество — это великий мим» 36, но мим под маской
абсурда.
Правда, абсурдный человек не ставит своей целью объяснить
действительность, решить какие-то реальные проблемы — нет,
творчество состоит для него в испытании самого себя и в описании
того, что он видит и переживает. «Описывать — таково последнее
стремление абсурдной мысли» 37. Описывать духовное состояние
абсурдного человека с помощью абсурдных проблем. В этом случае
360
искусство будет означать одновременно и смерть опыта и его
многократное умножение. Произведение искусства — это «убежище
в абсурд», «феномен абсурда», а художник — это человек,
обладающий ясновидящим безразличием. В абсурдном искусстве абсурдный
человек находит и поле своей деятельности, и сферу приложения
своих сил, и область своего собственного «распредмечивания», и,
следовательно, объект и субъект своей собственной свободы.
Камю не принимает традиционной оппозиции между
искусством и философией, между философским исследованием и
произведением искусства. Ясно, что определенная специфика искусства
и философии имеется и остается, но она не столь разительна и
принципиальна, как принято считать, ибо жизнь ставит одни и те же
проблемы перед философом и перед писателем, перед философией
и литературой и искусством. В произведениях литературы и
искусства можно найти «все противоречия мысли, ангажированной в
абсурд» 38. Разумеется, и философия и искусство имеют свой «особый
климат», поэтому никогда нельзя отрывать мыслителя от его идеи,
а художника — от его произведения, поскольку они «захвачены»
своими произведениями и формируются ими.
Абсурдные произведения, абсурдный художник и философ
находятся в парадоксальных отношениях друг с другом: они связаны
друг с другом и одновременно независимы друг от друга, они
определяют друг друга и равнодушны друг к другу. Подобная
парадоксальность присуща и произведению, и художнику, и творчеству.
«Произведение искусства рождается из отказа разума
рассуждать о конкретном. Оно обозначает триумф чувственного. Именно
светлая мысль вызывает его, но в самом этом акте оно ограничивает
себя... Произведение искусства воплощает драму разума, но оно
доказывает только непосредственно» 39.
Самой важной характеристикой абсурдного произведения
является его человеческое, гуманистическое содержание: «Подлинное
произведение искусства предстает всегда в человеческом
измерении. ...Имеется определенное отношение между глобальным опытом
художника и произведением, которое его отражает, между
зрелостью Гёте и «Вильгельмом Мейстером» 40. Произведение
искусства — концентрированные обобщение и выражение человеческого
опыта, абсурдное «произведение воплощает интеллектуальную
драму... иллюстрирует отказ мысли от ее престижа и покорность
судьбе... Если бы мир был ясным, то не было бы искусства» . Искусство
должно прояснять мир; художник творит универсум произведения,
поскольку «экспрессия начинает там, где мысль отступает» 42.
Во всех рассуждениях Камю о творчестве сквозит одна мысль
или одна идея: может ли жизнь иметь смысл, чтобы ее стоило
прожить? Отрицая поиски смысла жизни, которые велись
предшествующими философскими и художественными системами, Камю, как
это ни парадоксально, приходит невольно именно к поиску смысла
жизни. Уже само противопоставление нормальная жизнь — абсур-
361
дная жизнь таит в себе вопрос: какая же из этих жизней является
подлинной, какая из них больше соответствует природе человека,
какая из них способна привести человека к свободе, к подлинной
человеческой жизни в истинно человеческих условиях?
«Мыслить,— это прежде всего хотеть творить мир» 43.
Творение собственного мира исходит из необходимости уничтожить
разрыв между человеком и его опытом, найти взаимопонимание,
удовлетворить ностальгию человека по универсуму других людей,
универсуму, оплодотворенному любовью, светом и
взаимопониманием. И мыслитель, и художник, и философия, и искусство
стремятся именно к этому. Не случайно у них так много общего. Ведь
философ, даже такой, как Кант, имеет свои персонажи, свои
символы, тайное действо и развязки. А художник в своих романах и эссе
выражает величайшую интеллектуализацию искусства. Роман имеет
собственную логику, свои рассуждения, интуицию и постулаты:
абстрактная мысль обретает плоть. Великие романисты, такие, как
Бальзак, Сад, Мелвилл, Стендаль, Достоевский, Пруст, Мальро,
Кафка, и другие являются «философскими романистами» 44, они
пишут скорее образами, чем рассуждениями, что позволяет им
глубже, точнее и рельефнее вычленить мысль, вместо того чтобы ее
объяснять или доказывать. Они рассматривают художественное
произведение как «завершение часто невыразимой философии, ее
иллюстрацию и ее увенчание» 45. В единении с мыслью
художественное произведение приобретает совершенство и полноту, как бы
доказывая, что малая мысль — отдаляет от жизни, великая
мысль — приближает к ней. Роман — это форма художественно-
философского или философско-художественного познания,
одновременно относительного и неисчерпаемого.
Вот этот синтез философии и литературы, философского
трактата и романа, философской литературы продолжал развивать в
своем творчестве Камю. Его собственно философские произведения,
такие, как «Миф о Сизифе», «Бунтующий человек» и другие,
отличает блестящая литературная форма, а его литературные
произведения — романы, повести, эссе — написаны в лучших традициях
французской и европейской философской литературы, в том числе
русской литературы, и особенно романов Достоевского, творчество
которого Камю постоянно изучал. Многие произведения Камю —
от ранних до самых поздних — написаны под сильным
воздействием моральной философии Достоевского. Можно сказать, что нет ни
одной более или менее серьезной проблемы Достоевского, которую
бы Камю так или иначе не включил бы в свое творчество.
В «Мифе о Сизифе» Камю посвящает специальную главу
(«Кириллов») рассмотрению самых важных проблем философии
Достоевского: смысла человеческого существования, веры в бога,
жизни и смерти, самоубийства и др.
Камю справедливо считает, что все герои Достоевского
вопрошают себя о смысле человеческой жизни. Именно в этом они очень
362
современны. Если «классическая литература» занималась
моральными проблемами, то современный роман занимается проблемами
метафизическими. Достоевский с невиданной до него
напряженностью ставит вопрос о человеческом существовании: «Существование
ложно или оно вечно» 46. Достоевский, согласно Камю, подвергает
тщательному и глубокому анализу поставленный вопрос и
прослеживает его крайние решения и следствия. Одним из таких
следствий является «логическое самоубийство». Когда у Кириллова
зародилась идея самоубийства, он вдруг «почувствовал совсем новую
мысль»; «Один удар в висок, и ничего не будет» 47. Мысль о
самоубийстве становится лейтмотивом жизни и поведения Кириллова.
Логика мысли о самоубийстве предельно проста и ясна: если бога не
существует, то Кириллов есть бог. Кириллов три года искал атрибут
своей божественности — независимость, которую он нашел в конце
концов в самоубийстве. Если бога нет, то все зависит от самих
людей, ибо богом становится сам человек. Для Кириллова, как
и для Ницше, убить бога, значит, самому стать богом. Но если
человек становится независимым от какого бы то ни было
сверхъестественного или земного существа, то зачем кончать жизнь
самоубийством? Это явное противоречие, о котором Кириллов знает
и которое он признает. Однако поскольку подавляющее
большинство людей, как во времена Прометея, об этом не знают и тешат себя
слепыми и бесполезными иллюзиями и надеждами, то из-за любви
к человечеству и ради человечества Кириллов должен покончить
самоубийством. Он должен показать роду людскому трудный, но
славный путь, по которому он пройдет первым. Он надеется, что
выстрел пистолета, направленный в его собственный висок, будет
сигналом подлинной и последней революции. В этом смысле это
самоубийство носит «педагогический характер», это
«педагогическое самоубийство» 48.
Смерть Кириллова «освободила» Ставрогина и Ивана
Карамазова, которые как бы воплощали в жизнь абсурдные истины. Ставро-
гин, правда, покончил жизнь не застрелившись, но повесился, в
полном здравии и в ясном сознании. Надпись на клочке бумаги
гласила: «Никого не винить, я сам» 49.
Иван Карамазов пришел к отрицанию силы духовной власти
или власти духа. Тем, кто, как его брат, считают, что для того,
чтобы верить, надо смириться, Иван Карамазов указывает на
условия, которые не могут не возмущать человека. Его знаменитое
высказывание: «Все позволено» — свидетельствует о глубине и
ясности сознания и самосознания. Иван Карамазов, как и Ницше,
«самый знаменитый убийца Бога, кончает сумасшествием» 50.
Согласно Камю, Достоевский формулирует своеобразную
логику, включающую смерть, экзальтацию, «страшную» свободу и
славу. Романы Достоевского ставят абсурдные вопросы — это не
абсурдные произведения, а произведения, ставящие проблему
абсурда. Если вера в бессмертие души столь необходима человеку, то это
363
и должно быть нормальным состоянием человечества,— полагал
Достоевский. А на последних страницах «Братьев Карамазовых»
дается ответ на вопросы «Бесов»: «Карамазов! — крикнул Коля,—
неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из
мертвых и оживем и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку? —
Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно
расскажем друг другу все, что было,— полусмеясь, полу в восторге
ответил Алеша» 51. Кириллов, Ставрогин и Иван были побеждены.
Если князь Мышкин, как больной человек, «идиот», постоянно жил
только в настоящем, то Алеша Карамазов обращается к будущей
жизни, к жизни потусторонней. Он не хочет мириться с
абсолютным исчезновением человека. Для него самоубийство ничего не
решает и никого не спасает. Спасение он находит только в религии,
в вере в бога, в вере в бессмертие души. Выстрел Кириллова, его
самоубийство и самоубийство Ставрогина, сумасшествие Ивана
Карамазова ничего не изменили: люди не поняли своих
«спасителей» и сохранили верность своим слепым надеждам. Анализируя
положение: «Существование ошибочно, ложно или оно вечно»,
Достоевский приходит к выводу: «Существование ложно и оно
вечно» .
Естественно, Камю не приемлет религиозной философии и
религиозного утешения, но из скрупулезного анализа проблем,
поставленных Достоевским и другими мыслителями, он делает
выводы в духе философии абсурда.
К абсурдному творчеству Камю предъявляет те же требования,
что и к мысли: восстания, свободы и разнообразия. В бесполезном
характере абсурдного творчества скрывается высшая полезность
для человеческого духа, который, вопрошая все существующее,
вопрошает самого себя, испытывает свои собственные силы,
формирует свою собственную судьбу. Творчество абсурдного
художника, оспаривая несовершенный реальный мир, противопоставляет
ему свой собственный мир как образец, на который следовало
бы равняться или по крайней мере оглядываться, чтобы понять
всю глубину пропасти, отделяющей нас от того мира, к которому
мы стремимся.
Абсурдный герой, каким Камю считает Сизифа, вынужден
расплачиваться за свою пристрастность к земной жизни и к людям, за
свое презрение к богам, за ненависть к смерти и за жажду жизни:
однообразный, бессмысленный, монотонный труд, на который
Сизифа обрекли боги, напоминает Камю труд современного рабочего,
судьба которого не менее абсурдна, чем судьба Сизифа, До тех пор
пока ни тот ни другой не осознают своего истинного положения —
для них нет никакой трагедии. Трагедия начинается с того момента,
когда они начинают понимать бессмысленность своего труда и
абсурдный характер своего существования. «Вот почему Эдип вначале
повиновался судьбе... Его трагедия начинается с того момента,
когда он осознает свое положение. Но в тот самый момент, когда
364
он, ослепший и отчаявшийся, признает, что единственная нить,
которая связывает его с миром,— это прохладная рука дочери, он
произносит невероятные слова: «Несмотря на столькие испытания,
мой преклонный возраст и величие моей души заставляют меня
сказать, что все хорошо». Эдип Софокла, как и Кириллов
Достоевского, дает, таким образом, формулу абсурдной победы. Античная
мудрость сходится с современным героизмом» 53. Абсурд рождается
как бы от полноты счастья. Счастье и абсурд имеют один и тот же
исток, поэтому они неразрывно связаны друг с другом. Если
человек решил стать хозяином своей судьбы, то тем самым он
освобождается от власти и господства высших сил. С того момента,
когда Сизиф осознает свое истинное положение, он может обратить
все свои невзгоды в счастье, противопоставить презрение
несправедливости богов. Поэтому не надо думать, полагает Камю, что
Сизиф глубоко несчастное существо: «Нужно вообразить Сизифа
счастливым» 5\
В «Мифе о Сизифе» Камю стремится не только свести счеты
с негативной философией нашего времени, и прежде всего с
экзистенциализмом, но и выработать такую философию, которая
могла бы стать для человека духовной опорой и ориентиром в сложном
современном мире. Правда, пока что Камю ограничивается тем, что
призывает посредством осознания трагичности существования
(посредством духовной инверсии) сделать несчастного счастливым.
И тем не менее «Миф о Сизифе» явился произведением,
мобилизующим на борьбу против существующего зла, на борьбу за свою
свободу и независимость. Речь шла о выработке отношения
человека к миру, к обществу, к другому человеку, к людям, отношения,
в процессе которого формировался сам человек, его мироощущение,
мировосприятие, мировоззрение. Называть такую позицию
«стоицизмом» вряд ли правильно, хотя для этого Камю давал некоторые
основания, но столь же неверно было бы характеризовать ее как
«современный героизм», в терминах самого Камю. Сведение
многозначного смысла опрокинутого в современность античного мифа
к одной формуле безусловно неправомерно. В конце концов дело не
в том, чтобы дать окончательное определение взглядов Камю,
изложенных им в «Мифе о Сизифе», а в том, чтобы понять саму логику
его мысли и художественного творчества, которое было для него
самым важным и самым действенным средством выработки
гуманистического мировоззрения и утверждения гуманистических идей
и идеалов.
Годы борьбы против фашизма, участие в движении
Сопротивления многому научили Камю. Он понял, что его взгляды,
изложенные в «Мифе о Сизифе», далеко не достаточны для того, чтобы
человек мог успешно противостоять объединенным и
организованным силам зла, одним из страшных явлений которого был фашизм.
Он понял, что этим хорошо обученным и вышколенным, хорошо
организованным и объединенным силам зла может противостоять
365
только еще лучше организованная, лучше обученная, более тесно
объединенная сила добра — человеческая солидарность.
В «Письмах к немецкому другу», написанных в годы войны
(1943—1944), в подполье, Камю переосмысливает свои
философские и мировоззренческие позиции прежних лет. На собственном
опыте Камю убеждается, что несет с собою фашизм: насилие,
порабощение, мучения и смерть миллионам людей. Эти письма, как
писал Камю в предисловии к итальянскому изданию, «документ
борьбы против насилия», против нацизма и фашизма, но не с
националистических, («я слишком люблю мою страну, чтобы быть
националистом»55), а с интернационалистских позиций.
Анализируя противостояние сил добра, культуры и цивилизации против сил
зла, варварства и разрушения, Камю уже в первом письме
предсказывает фашизму гибель: «Ваше поражение неизбежно» 56. Это
было написано в июле 1943 года. Камю защищает разум, истину
против их фашистской дискредитации.
Из убеждения, что в мире нет высшего разума, «немецкий
друг» и Камю сделали совершенно противоположные выводы. Для
«немецкого друга» если нет высшего разума, то не может быть
и осмысленности бытия, следовательно, все равноценно,
произвольно — добро и зло, мораль и имморализм. Тогда человек
превращается в ничто и к нему можно применять ту же «мораль» и те же
«ценности», которые в ходу среди зверей: насилие и хитрость. Для
Камю человек должен бороться с несправедливостью, бороться за
то, чтобы люди обрели солидарность и вступили в борьбу с теми,
кто уродовал души и вытаптывал землю. «В противоположность вам
я выбрал справедливость, чтобы остаться верным земле. Я
продолжаю считать, что этот мир не имеет высшего смысла. Но я знаю,
что кое-что в нем имеет смысл, и это — человек, потому что он
единственное существо, требующее смысла. Этот мир имеет по
крайней мере истину человека, и наша задача состоит в том, чтобы
дать ему основания выступить против его собственной судьбы» 57.
Спасти человека — это значит не уродовать его и делать ставку на
справедливость, которую постигает он один.
В этом письме Камю развивает свое понимание гуманизма,
состоящее в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не забывать
о человеке, чтобы борьба, какой бы жестокой она ни была, всегда
бы заканчивалась в пользу человека: «Мы спасаем идею человека на
краю катастрофы разума и извлекаем из этого неутомимое
мужество возрождений» . Камю понимал, что новое знание дается
человечеству слишком дорогой ценой, но оно по крайней мере если и не
изменит жизнь человека коренным образом, то хотя бы некоторым
из людей поможет достойно умереть.
Из содержания этих писем видно, как Камю постепенно
переходит от анархического одиночества «Мифа о Сизифе» к
необходимости объединения и солидарности людей, чтобы более действенно
и эффективно бороться против распространенного в мире зла.
366
От мифа о Сизифе, бросившего вызов богам, Камю переходит
к мифу о Прометее; «силу всех ремесел — огонь похитил он для
смертных». Его вина состояла еще в том, что он «у смертных отнял
дар предвиденья... их слепыми наделил надеждами...» 59. Причем
делал он это сознательно, зная, что будет жестоко наказан: «О да,
о да, прекрасно знал, что делаю. И, людям помогая, сам на пытку
шел. Не думал, правда, что такая выпадет Мне пытка — чахнуть на
утесе каменном, Над пропастью повиснув, средь пустынных скал» 60.
И все-таки Прометей пошел на это ради счастья людей.
Для Камю Прометей — это герой и нашего времени, он и
поныне среди нас, напоминая нам о том, что надо всегда бороться
ради человечности, ради людей. Однако судьба гуманизма
усложняется. В современном мире, где с еще большей яростью господствует
насилие и жестокость, Прометея приковали бы к скале люди, как
раньше это сделали боги, и именно за его доброту и человечность.
Если люди смирились с жизнью без красоты и добра, а значит,
и без свободы, то, кто бы им ни дарил высшие ценности, они не
поймут этих даров, ибо привыкли обходиться без них, а может
быть, даже забыли, что это такое.
Служение людям, которые изуродовали природу, самих себя,
изгнали из своей жизни высшие человеческие ценности: истину,
красоту, добро, свободу и справедливость,— поглощенным своими
самыми низменными повседневными потребностями, это подвиг,
перед которым отступил бы и Прометей.
В «Бунтующем человеке» Камю развивает философию и
эстетику, связанную с попытками людей объединиться в своей борьбе
против зла, угнетения, рабства и порабощения.
«Кто такой бунтующий человек? Человек, который говорит
«нет». Но если он отказывается, то он не отрекается: это также
человек, который говорит «да», исходя из своего первого
побуждения» 61.
Камю далее разъясняет, что означают эти роковые для самого
человека и для истории слова «нет» и «да». Прежде всего
взбунтовавшийся человек приходит к ясному осознанию своего
нетерпимого положения: он осознает, что не может мириться с теми, кто
попирает его человеческое право, его право человека. Вот почему он
как бы кладет предел, устанавливает границу между тем, что было
и что будет: он говорит «да» тому, что составляет в нем самом
человеческое, и одновременно — «нет» тому, всему и всем, кто
посягает на него как на человека, на его человеческие права.
Согласно Камю, каждый взбунтовавшийся человек как бы исподволь
вводит ценностное суждение. «Не любая ценность влечет за собой
бунт, но любое движение бунта молчаливо вызывает ценность...
самосознание рождается из движения бунта... сознание приходит
в мир вместе с бунтом»62. Сознание и самосознание человека,
связанные с бунтом, означают одновременно иное качество самого
человека: он уже не просто сопротивляется, а отождествляет свою
367
человеческую сущность с этим сопротивлением — свобода личности
становится для него всем, а поскольку личность немыслима без
всего человечества, то речь идет о свободе человека и человечества.
Индивидуальная ценность личности обретает общечеловеческое
значение и смысл. Вот почему бунт, хотя и зарождается в глубинах
отдельной человеческой личности, ставит под вопрос понятие
индивида и связанные с ним эгоистические принципы. «Индивид,
следовательно, не является сам по себе той ценностью, которую он хочет
защитить. Чтобы возникла такая ценность, нужно, по крайней мере,
все человечество. В бунте человек воссоединяется с другими
людьми, и с этой точки зрения человеческая солидарность является
метафизической. Правда, в данный момент речь идет лишь о таком
виде солидарности, которая рождается в цепях» 63.
Естественно, для Камю и бунт и солидарность имеют смысл
лишь в контексте западной мысли, поскольку мятежный дух
возможен в таких обществах, где теоретическое равенство скрывает
фактическое неравенство. Хотя если иметь в виду человеческую
солидарность вообще, то речь должна идти о самосознании всего
человеческого рода.
Правда, когда речь идет о мире сакральном, священном, где
«метафизика заменяется мифом», то есть о религии и религиозной
философии, и где нет вопросов, а есть лишь ответы и разъяснения,
сводящиеся к священному, то здесь нет места для бунта. Как пишет
Камю, «бунт — это дело человека информированного, обладающего
сознанием своих прав» 64. Поэтому бунт имеет место прежде всего
в таких обществах, которые отпадают от священного. «Мы живем
в десакрализованной истории... бунт является одним из
существенных измерений человека. Он есть наша историческая
реальность» 65. Эпоха «десакрализации» означает переоценку ценностей,
по крайней мере отказ от абсолютных и вечных ценностей. Но тогда
с необходимостью возникает вопрос о новых ценностях и о новой
нравственности, которую должен исповедовать человек.
Бытие человека как человека начинается с бунта, констатирует
Камю. «В повседневном испытании, каковым является наша жизнь,
бунт играет ту же самую роль, что «cogito» в сфере мысли: он —
первая очевидность. Но эта очевидность избавляет человека от
одиночества. Она есть то общее, что объединяет всех людей. Я
восстаю — следовательно, мы существуем» 66. Таким образом, цдя
Камю бунт является таким же очевидным и основополагающим
принципом человеческого поведения и жизни, как для Декарта
принцип мышления. Однако у Декарта его принцип оставался в основе
своей индивидуальным принципом, хотя и присущим всем людям,
а для Камю бунт выступает таким принципом, который
способствует объединению людей, становится их общей судьбой. Важно, чтобы
бунт не обратился против самого человека, чтобы он не вовлек в
новую разновидность рабства. Человек должен помнить, что нельзя
смиряться, нельзя покоряться, что во всех условиях и при всех
368
обстоятельствах следует сохранять свое человеческое достоинство,
чего бы это ни стоило. Человек обязан всегда стоять на страже
человечности, он должен помнить, что даже самая ничтожная
уступка враждебным человеку силам может привести к самым
трагическим и катастрофическим последствиям: зло, причиняющее
страдание одному человеку, становится коллективной чумой.
Камю последовательно и скрупулезно рассматривает
«метафизический бунт», «исторический бунт», «бунт и искусство», пытаясь
по-своему осмыслить историю бунта, историю сложную и
противоречивую. В анализе бунта и посредством этого анализа Камю
стремится найти ответы на самые важные и острые вопросы нашего
времени, вопросы, которые ставит жизнь в сферах обыденной
повседневной жизни человека, в философии, в истории, в искусстве,
в творчестве, в эстетике. Камю пытается все осмысливать с
общечеловеческих позиций, он стремится выявить, что значит для человека
бунт и революция, как следует бороться против извращенных
идеологических течений, против логического убийства и самоубийства,
метафизического и исторического безумия. Кажется, он
вознамерился найти писаные и неписаные законы и правила поведения
человека в мире, которые смогли бы предохранить и защитить его
от роковых, а нередко и кровавых заблуждений, за которые
человечество не переставало расплачиваться жизнью лучших своих
представителей.
Камю постоянно размышлял над проблемами, задачами и
целями современной эпохи. Ему, как никому другому, были близки
и понятны чаяния простых людей, как и людей из высших классов,
ибо по своему происхождению он был сыном прислуги,
болезненным дитятей бедных кварталов, не стеснявшимся своей нищеты
и крайней бедности. В то же время Камю — мыслитель мирового
уровня, к голосу которого прислушивалась элита многих стран
Европы и мира. Он, как никто другой, понимал противоречия нашей
эпохи, ее кризис и кризис всего того, что считалось незыблемым,
абсолютным, универсальным.
Камю никогда не стремился к тому, чтобы быть глашатаем или
пророком Апокалипсиса и проклятия, скорее, наоборот: он был
всегда среди униженных и оскорбленных, чтобы донести до сердца
и сознания каждого человека самую простую, но самую
необходимую истину: человек должен быть человеком.
«Метафизический бунт есть движение, благодаря которому
человек восстает против своего положения и творчества вообще. Он
является метафизическим потому, что он оспаривает цели человека
и творчества» Ь/. Камю замечает, что метафизический бунт нельзя
отождествлять с атеизмом, хотя этот бунт носит богоборческий
характер. В некотором отношении бунт даже отождествляется с
современной историей религиозного чувства. Человеческий бунт
кончает метафизической революцией.
Мы не имеем здесь возможности дать анализ взглядов Камю
13 К. М. Долгов
369
на метафизический и исторический бунт — это заслуживает
специального исследования. Для выяснения эстетических идей Камю
следует рассмотреть его понимание соотношения искусства и бунта.
Камю исходит из высказывания Ницше, что никакой художник
не переносит реального, никакой художник не может исходить из
реального. «Творчество есть требование единства и отрицания
мира» 6Ö. Оно отрицает мир по причине того, чего ему недостает, и во
имя того, чем он иногда является и должен быть. Бунт следует
рассматривать здесь вне истории, в чистом виде, в его первоначальной
сложности. Искусство должно, стало быть, дать нам конечную
перспективу содержания бунта. По мнению Камю, революционное
движение нового времени совпадает с процессом развития
искусства, развития, которое еще не завершено. Он приводит
парадоксальные факты отношения к искусству: Реформация выбирает мораль
и изгнание красоты, Руссо отвергает в искусстве разложение,
привносимое обществом в природу; Сен-Жюст выступает против
театральных спектаклей и предлагает для «Праздника Разума»
персонифицировать разум в личности «скорее добродетельной, чем
прекрасной». Французская революция не породила ни одного
художника, а лишь великого журналиста — Демулена и
подпольного писателя — Сада; сен-симонисты требуют
«социально-полезного» искусства, идея «искусства ради прогресса» существовала на
протяжении века — ее воспринял Гюго и безуспешно пытался
сделать убедительной. Отрицание искусства свойственно, согласно
Камю, и русским нигилистам — Писареву, Некрасову и другим.
Камю приходит к выводу о том, что искусство все больше
и больше становится утилитарным, а красота уже не созерцается
и не воображается, а переживается и потребляется. Оно становится
ценностью господствующих классов. Что касается революционного
искусства, то оно целиком ставится на службу революции. Создавая
красоту вне истории, искусство препятствует единственно
рациональному усилию: «преобразованию самой по себе истории в
абсолютную красоту» 69.
Требование бунта есть отчасти эстетическое требование. Все
бунтующие мысли находят свое выражение в художественном
универсуме: риторика крепостных стен у Лукреция, глухие монастыри
и замки Сада, романтические острова или скалы и одинокие
вершины Ницше, первозданный океан Лотреамона, парапеты Рембо
и т. д. В этих мирах человек может наконец почувствовать себя
свободным: «Художник переделывает мир по своему расчету» 70.
Каждый художник переделывает мир по своему образу и подобию,
то есть придает ему то, чего ему не хватает: если мир — это
творение божье, то человек придает этому творению свой стиль. Поэтому,
согласно Камю, искусство состоит не в подражании, а в стилизации.
Оно реализует то, о чем мечтал еще Гегель: связывает единичное
и всеобщее.
Бунт художника против реального не означает тотальной рево-
370
люции, наоборот, они почти несовместимы, ибо революционный
дух рождается из тотального отрицания, а бунт представляет
собой попытку восполнить то, чего недостает реальному миру.
«Чтобы творить красоту, он (человек.— К, Д.) должен
одновременно отрицать реальное и прославлять некоторые его аспекты» л.
Искусство оспаривает реальное, чтобы внести поправки в
несовершенное творение.
Камю считает основной формой стилизации реального роман.
Он различает «литературу согласия», совпадающую в основном
с античной и классической эпохой, и «литературу раскола»,
начинающуюся с новым временем. Что касается литературы согласия,
то в ней роман — большая редкость, причем он представляет собой
плод фантазии, почти не касаясь реальности. Это скорее сказки,
а не романы. Литература раскола означает развитие романного
жанра, который продолжает развиваться и в наши дни
одновременно с революционным и критическим движением. «Роман рождается
в то же самое время, что и дух бунта, и он переводит в эстетический
план то же самое стремление» 2.
Обращаясь к теории романа, Камю, по существу, развивает
гносеологические и онтологические позиции экзистенциализма. Его
определение романа проясняет основную категорию —
существование. Роман — это фундаментальный способ существования
человека в мире. В романе любая жизнь находит «лицо судьбы». «Мир
романа есть лишь исправление этого мира сообразно глубинному
желанию человека. Ибо речь идет о том же самом мире. То же
самое страдание, заблуждение и любовь. Герои романа являются
героями нашего языка, наших слабостей, наших сил. Их универсум
не является ни более прекрасным, ни более назидательным, чем
наш мир» 73. В романе человек не только выражает себя, свой
внутренний мир, но и свои мечты о другом, более совершенном мире.
В этом смысле роман или мир романа на самом деле является
перманентной коррекцией реального мира, попыткой человека
переделать реальный мир в соответствии со своими идеями и
представлениями: «Роман делает судьбу согласно мере... сущность
романа состоит в этом вечном исправлении, всегда направленном на тот
же самый смысл, который художник осуществляет в своем
опыте» 74. Камю прослеживает эту специфику романа на произведениях
Мелвилла, Бальзака, Достоевского и Толстого.
Суждения Камю о современном романе не содержат
литературоведческих предпосылок. То или иное направление выражает
различные градации бунта. Так, американский роман претендовал
найти свое единство в сведении человека к внешним реакциям или
поведению. В нем не было даже попытки выразить чувство или
страсть, которыми характеризовался классический роман. Этот
роман отрицал глубинный психологический анализ. Единство этого
романа заключалось в единстве освещения, его техника сводилась
к внешнему описанию человека. Даже у Фолкнера внутренний
13*
371
монолог воспроизводит лишь видимость мысли. Эту технику нельзя
назвать реализмом,— утверждает Камю. Несомненно,
американский роман был патетическим, но бесплодным протестом.
Касаясь творчества великого французского романиста Пруста,
Камю замечает: «Если американский роман есть роман людей без
памяти, то мир Пруста, и он единственный, является только
памятью... он объединяет в высшем единстве утраченное
воспоминание и настоящее ощущение» 75. К тому же «мир Пруста был миром
без бога» не потому, что он никогда не говорил о боге, а потому, что
этот мир «тяготел к тому, чтобы быть совершенно закрытым и
придавать вечность человеческому лицу» 76. С этой точки зрения
произведения Пруста представляют собой грандиозное и самое
значительное предприятие — бунт человека против его смертного удела,
когда творение выступает против своего творца. Это произведение
«сливается с красотой мира... против могущества смерти и
забвения. Именно поэтому его бунт является творческим» 7.
Рассматривая соотношение бунта и стиля, Камю ставит
характер искусства в зависимость от позиции художника. Если
художник занимает негативную позицию по отношению к реальности,
тогда произведение искусства получает формальный характер. И,
наоборот, если художник начинает прославлять грубую реальность,
тогда он создает реалистическое произведение. В первом случае —
примитивное творчество, где бунт и согласие, утверждение и
отрицание тесно связаны. Это — формальное творчество
нигилистического толка. Во втором случае художник отрицает значение
художественного начала. Творческий акт как таковой отрицается
и в том и в другом случае. Таким образом, полагает Камю,
«формальное искусство и реалистическое искусство — абсурдные
понятия. Ни один из этих видов искусства не может абсолютно
отрицать реальное... Подлинный формализм есть молчание. Также и
реализм не может превзойти себя минимумом интерпретации
и произвола... Реалистический художник и формалистический
художник ищут единства там, где его нет: в реальном, находящемся
в грубом состоянии, или в воображаемом творчестве, которое хочет
исключить всякую реальность. Напротив, единство в искусстве
возникает согласно преобразованию, которое художник
предписывает реальному. Это исправление, которое творит художник
благодаря языку искусства, путем перераспределения элементов,
заимствованных у реальности, называется стилем и дает вновь созданному
универсуму его единство и его пределы» 78. Поэты, как говорил
Шелли, являются непризнанными законодателями мира. Это
положение можно распространить на все творчество, на все виды
искусства и на всех художников.
Поэтому Камю утверждает, что «искусство никогда не было
реалистическим». «Реализм — это бесконечное перечисление»,
«писать — значит выбирать» 79. Каждый выбор уже означает некий
произвол как по отношению к реальному, так и по отношению
372
к идеальному. В этом ключе Камю рассматривает и
социалистический реализм. «Реализм, называемый социалистическим, стремится
в силу своей логики к соединению преимуществ назидательного
романа и литературы пропаганды, в то время как подлинное
искусство предполагает неразрывное напряжение между формой и
материей, становлением и духом, историей и ценностями. Если это
равновесие нарушается, то наступает состояние диктатуры или
анархии, пропаганды или формалистического бреда. Тогда
подлинная свобода творчества становится невозможной. Великий стиль
в искусстве есть выражение самого высокого бунта. Великое
искусство, стиль — подлинное лицо бунта» 80.
Философская эссеистика Камю реализует в себе
преобразование метафизики в эстетику на наиболее близком ему материале
романного творчества. Проблематика бунта и стиля, бунта и
искусства, бунта и произведения, бунта и художника, наконец, бунта и
реальности. Ее вторым планом является литературно-эстетическая
теория — это феноменология духа эпохи кризиса. Камю справедливо
утверждает, что искусство как таковое всегда сохраняет
определенную связь с реальным. Эта связь может принимать самые разные
формы и самое различное выражение, но она всегда существует
и будет существовать. Прав Камю и в том, что художник, выступая
против реальности, по существу, борется за более совершенную
реальность, за более совершенный мир. Его бунтующее сознание
стремится исправить существующий мир, воссоздать его таким,
каким он видится ему в его собственном сознании. Разумеется, это
сознание субъекта, но отсюда вовсе не следует, что это сознание
должно быть обязательно субъективистским. Скорее, наоборот,
сознание субъекта, благодаря его практическо-теоретической
деятельности, претворяется в нечто объективное, в то, что дополняет
и исправляет существующий мир, вносит в него необходимые с
точки зрения субъекта коррективы. И как бы ни отлетало сознание
индивида от реальности, оно все равно будет связано с нею. А
характер этой связи зависит от человека, от художника, пытающегося
исправить существующий мир сообразно своему художественно-
эстетическому вкусу. Вот почему Камю решительно выступает
против крайностей — реализма и формализма: и то и другое, по его
мнению, невозможно именно в силу того, что искусство нельзя
отождествлять с реальностью и точно так же его нельзя
совершенно отрывать от нее. Стиль художника, придавая лицо реальности
и самому художнику, а также его искусству и творчеству, создает
новые художественные и культурные ценности и тем самым как бы
заставляет существующий мир изменяться в соответствии с
определенными идеями и идеалами.
Подлинное творчество, как полагает Камю, революционно.
Вопрос о соотношении творчества и революции имеет особое
значение, поскольку речь идет о судьбах народов и судьбах человеческой
культуры. «В искусстве революция завершается и непрерывно про-
373
должается в подлинном творчестве, а не в критике или
комментарии. Со своей стороны, революция может утверждаться только
в цивилизации, а не в терроре или тирании» 8|. Согласно Камю,
капиталистическое общество и общество революционное сходны
в том, что они порабощены одним и тем же: «Общество
производства является только производственным, а не творческим». По
существу, Камю продолжает мысль Гегеля о враждебном характере
капиталистического, буржуазного общества человеческому
творчеству вообще. Но Камю считает, что и революционное или
социалистическое общество также враждебно искусству и творчеству по тем
же самым мотивам, что и общество капиталистическое.
Камю приходит к выводу: «Современное искусство, благодаря
тому, что оно является нигилистическим, барахтается между
формализмом и реализмом» 82. Художник должен избегать как
формалистического исступления, так и тоталитарной эстетики реальности.
«Сегодня мир действительно един, но его единство — это единство
нигилизма. Цивилизация возможна лишь в том случае, если,
отрицая нигилизм формальных принципов и нигилизм, не имеющий
принципов, мир вновь найдет путь творческого синтеза. Точно так
же в искусстве: время бесконечного комментария и репортажа
агонизирует; искусство возвещает время творцов. Но искусство
и общество, творчество и революция должны вновь найти источник
бунта, где отказ и согласие, единичное и универсальное, индивид
и история уравновешиваются в суровом напряжении. Бунт не есть
сам по себе элемент цивилизации. Но он предваряет любую
цивилизацию» 83. Как говорил в свое время еще Ницше: место судьи и
угнетателя занимает творец. Однако этот процесс крайне
противоречив, поскольку современное общество в известной мере создает
условия для того, чтобы люди могли реализовывать свои творческие
силы, и вместе с тем оно всячески препятствует реализации
творческих сил человека: в реальной жизни работник и творец пока еще
оторваны друг от друга, вместо того чтобы найти свое единство
в человеке как таковом. «Любое творчество отрицает, само собой,
мир господина и раба. Безобразное общество тиранов и рабов...
найдет свою смерть и свое преображение лишь на уровне
творчества» 84. Следовательно, Камю возлагал на искусство и творчество
функции коренного, революционного преобразования общества:
искусство и творчество должны уничтожить социальное
неравенство и несправедливость.
Если творчество невозможно из-за войн и революций, то мы не
можем быть творцами, потому что «война и революция являются
нашим уделом» . В конце концов искусство в наших
революционных обществах должно, стало быть, умереть. Но тогда революция
была бы изжита. Каждый раз, когда она будет убивать в человеке
художника, революция будет все больше хиреть и истощаться.
Победители или завоеватели, подчиняя мир своему закону, в конце
концов превращают его в ад. Но даже в этом аду место искусства
374
совпадает с местом побежденного бунта, слепой и пустой надежды
пустых дней отчаяния.
И все-таки откуда человек должен ожидать своего спасения?
Свои надежды Камю возлагает на красоту. В духе Достоевского, он
полагает, что красота спасет мир. В искусстве может
господствовать не смерть, а красота. Можно отрицать всю историю, но не мир
звезд, неба и моря. «Несомненно, красота не делает революций. Но
приходит день, когда революции испытывают в ней нужду... Можно
ли вечно отрицать несправедливость, не прекращая приветствовать
природу человека и красоту мира? Наш ответ: да. Эта мораль,
одновременно верная и непокорная, является во всяком случае
единственной, способной осветить путь действительно
реалистической революции. Теперь красота готовит нам этот день
возрождения, когда цивилизация будет поставлена в центр ее рефлексии,
далекая от формальных принципов и обесцененных ценностей
истории, эта живая добродетель основывает общее достоинство мира
и человека» 86. Следовательно, все дело в том, чтобы человек
осознал, что борьба против эксплуатации и несправедливости, откуда бы
она ни исходила, должна вестись в защиту природы человека и
красоты мира, а не с целью их отрицания и развенчания. Только тогда
будет возможен ренессанс подлинной культуры и цивилизации.
В любом ином случае бунт, революция и творчество обречены на
поражение.
Последний период творчества Камю характеризуется
пониманием особой социальной роли искусства и писателя в жизни
современного общества. Камю испытал на себе все невзгоды,
связанные с художественным творчеством, познал всю тяжесть и
ответственность писательского труда. Теперь он мог с полным знанием
и сознанием поставить мучившие его вопросы о месте и роли
искусства и писателя в современном обществе. Особенно замечательны
в этом отношении речи Камю, произнесенные им при присуждении
ему Нобелевской премии, в которых он набрасывает программу
возрастающей значимости искусства и художника в современном
мире, находящемся на грани катастрофы.
В речи, произнесенной Камю при вручении ему Нобелевской
премии, он сказал: «Я лично не могу жить без моего искусства. Но
я никогда не ставил это искусство выше всего. Роль писателя... не
отделяется от трудных обязанностей. По существу, он не может
сегодня становиться на службу тех, кто делает историю: он на
службе тех, кто ее претерпевает... две ноши составляют величие его
ремесла: служение истине и служение свободе... благородство
нашего ремесла в отрицании лжи и сопротивлении угнетению» 8/.
Искусство должно разделять судьбу наибольшего количества
людей, оно должно быть демократичным, а значит, по существу,
народным. Искусство служит истине и свободе, перед которыми все
равны и перед которыми все должны преклоняться: допущение
375
даже небольшой лжи и самого мелкого угнетения угрожает
существованию человека и человеческого общества.
От поколения людей, на чью долю выпало быть свидетелями
или участниками таких событий, как первая мировая война,
революция, война в Испании, вторая мировая война, реальная угроза
ядерной войны, трудно ожидать оптимистического взгляда на
историю.
Каждое поколение торжественно обещало коренным образом
переделать существующий мир. Как известно, пока это не удалось
никому. Может быть поэтому поколение, к которому принадлежал
Камю, уже знало, что будет не переделывать этот мир, а решать
более важную задачу — противодействовать уничтожению
существующего мира. «Наследник растленной эпохи, где смешались
провалившиеся перевороты, обезумевшая техника, мертвые боги
и истощенные идеологии, где посредственные силы могут сегодня
все уничтожить, но не смогут больше победить, где разум опустился
до прислужничества перед ненавистью и угнетением, это поколение
должно было восстановить, опираясь лишь на отрицание, хотя бы
немногое из того, что составляет достоинство жизни и смерти» 88.
Для того чтобы современные инквизиторы не уничтожили весь мир
и не установили царство смерти, необходимо восстановить мир,
воссоединить труд и культуру, восстановить святой человеческий
ковчег. Чтобы достигнуть этого, надо следовать по пути истины
и свободы.
В своей речи в университете г. Упсала «Художник и его время»
Камю развивает основные положения своей эстетики, свои взгляды
на роль и место искусства и художника в современном мире.
Прежде всего, исходя из собственного опыта, Камю
констатирует, что прошло то время, когда писатель мог стоять в стороне,
чтобы развивать дорогие ему мысли и образы. Тот, кто не одобрял
или не соглашался, мог молчать или говорить о чем-то другом.
«Сегодня все изменилось, даже молчание приобретает опасный
смысл. С момента, когда самоуклонение стало рассматриваться как
выбор, наказуемый или хвалимый, художник, хочет он того или нет,
является впутанным. Выражение «впутанный» кажется мне здесь
более правильным, чем ангажированный. Речь идет, в самом деле,
не о добровольном вступлении в армию, а, скорее, об обязательной
воинской службе. Сегодня любой художник прикован к галере
своего времени... Художник, как и все другие, должен грести в свою
очередь, чтобы при этом, если удастся, не умереть, то есть
продолжать жить и творить» 89. Если раньше художник мог находиться
на каком-то отдалении от исторических событий, то теперь он
находится в самой гуще этих событий, на арене истории.
Отныне художнику следует не плакать, не ворчать, не
закатывать истерики и не источать филиппики, а понимать свою эпоху
и воздавать ей должное. «Творить сегодня — значит подвергаться
опасности» 90. Ведь любое слово, любое выступление есть действие,
376
а действие наказуемо. В конце концов надо выбрать одну из
позиций: «художник борется или капитулирует». В наше время других
позиций уже нет и быть не может.
Проблема осложняется и становится смертельно опасной для
художника потому, что «борьба открывается внутри самого
художника». Все драмы и трагедии мира отныне разыгрываются
также в душе художника. Его сомнения, мучения и переживания
затрагивают самую сущность его таланта. От того, какую позицию
займет художник — борьбу или капитуляцию, зависит судьба его
как художника и судьба его искусства. Если художник будет
подлаживаться к низменным запросам общества, то его искусство
будет ничего не значащим развлечением. Если же оно будет слепо
отвергать интересы существующего общества, то не выразит
ничего, кроме отречения или отказа. «Перед лицом стольких
несчастий искусство, если оно хочет продолжать быть безделушкой,
должно согласиться также с тем, чтобы быть ложью» 9|. Подобное
положение искусства в современном обществе определяется самой
сущностью современного общества: это не просто денежное
общество, а общество абстрактных денежных символов. Нет ничего
удивительного в том, что это общество делает своей религией
мораль формальных принципов: слова свобода и равенство в равной
мере начертаны на фасадах тюрем и на денежных храмах. Однако
проституирование слов не проходит безнаказанно. «Несомненно,
сегодня самой оклеветанной ценностью является ценность
свободы». Она уже рассматривается как препятствие на пути прогресса.
Что же удивительного в том, что современное общество не требует,
чтобы искусство было инструментом освобождения, а хочет, чтобы
оно было просто развлечением!
Рассматривая вопрос о теории и практике искусства для
искусства, Камю отмечает, что фабриканты искусства буржуазной
Европы до и после 1900 года предпочли безответственность, поскольку
ответственность предполагает изматывающий разрыв с обществом,
как это сделали в свое время Рембо, Ницше, Стриндберг и другие,
дорого заплатившие за этот разрыв. «Именно с этой эпохи ведет
свое происхождение теория искусства для искусства, которая
стремилась к такой безответственности. Искусство для искусства,
забава одинокого художника, есть действительно искусственное
искусство искусственного и обезжизненного общества. Логическое
завершение этой теории — это искусство салонов или чисто
формальное искусство, которое питается вычурной умозрительностью
и которое заканчивает разрушением всей реальности. Пока
отдельные произведения очаровывают немногих избранных, множество
грубых вымыслов развращают большинство. Наконец, искусство
оказывается вне общества и обрубает свои живые корни» 92.
Камю верно указывает буржуазное происхождение теории
искусства для искусства, обусловленную как самим процессом
социально-экономического и политического развития капиталистиче-
377
ского общества, так и местом и функциями искусства в этом
обществе. Особенно ценно, что Камю раскрывает историческое
превращение принципа противостояния художника и общества.
Первоначально теория искусства для искусства представляла собой
в известной мере попытку защитить искусство от участи товара
и товарно-денежных отношений: художники стремились спасти
искусство от разлагающего воздействия капиталистических
отношений. Но это вовсе не значит, что современный художник может
быть художником только тогда, когда он направляет свое
творчество против общества, в котором живет. Одно дело, когда художник
отказывается сотрудничать с миром денег, и совсем другое, если он
пытается утвердить себя вопреки всему миру.
Камю осуждает стремление тех художников, которые жаждут
быть проклятыми, чтобы получить признание. Они хотели бы быть
проклятыми художниками в зените мировой славы, но не в
реальной участи — весьма драматической и трагической —
действительно проклятых художников. Нельзя стать художником, отказавшись
от всего мира, сконцентрировавшись лишь на своей личности,
почитая себя законодателем и богом. Подлинно великое искусство
всегда возникало в недрах общества и в тесной связи с жизнью
народа, а не в отрыве от них. Ведь призвание истинного
искусства — не разъединять, а объединять людей. Искусство для искусства
по своему сюжету и стилю избегает понимания народных масс, в то
время как подлинный художник стремится говорить от имени и для
наибольшего количества людей. Он стремится к «тотальной
коммуникации между людьми. Этот идеал универсальной коммуникации
есть, на самом деле, идеал любого великого художника» 93. Как
добиться этой универсальной коммуникации между людьми? Каким
должно быть или, наоборот, не должно быть искусство, чтобы
достичь такого идеала?
Вопреки весьма распространенному предрассудку, если кто
и не имеет право на одиночество, то это именно художник, ибо
искусство не может быть монологом, а лишь диалогом. Когда такой
диалог с современниками невозможен, художник обращается к
прошлым поколениям. А чтобы говорить обо всех и обращаться ко
всем, необходимо говорить о том, что все знают,— об общей нам
всем реальности: о море, о дожде, о стремлении, о борьбе со
смертью и т. д., то есть о том, что объединяет всех людей. Сон
и мечты изменяются вместе с людьми, а реальность мира остается
общей отчизной всех людей. «Требование реализма, следовательно,
законно, ибо оно глубоко заложено в самой природе творческих
исканий. Будем, стало быть, реалистами. Или, точнее, попытаемся
ими быть, если это только возможно» 94.
Но возможен ли реализм в искусстве?
Натуралисты прошлого века, говорит Камю, утверждали, что
реализм — это точное воспроизведение реальности. Осуществимо
ли такое воспроизведение? Камю дает отрицательный ответ. Как
378
можно воспроизвести действительность универсума или жизнь
отдельного человека? Естественно, только в условиях воображения,
в воображаемом мире. Для того чтобы это осуществить, кинокамера
должна снимать непрерывно всю жизнь человека, со всеми ее
деталями и подробностями. Но тогда такой фильм продолжался бы всю
жизнь. А ведь надо воспроизвести жизнь не одного человека, а всех
людей. В таком случае единственным реалистическим художником
был бы сам бог, если бы он существовал. Камю показывает, что
вследствие того, что требование реализма является внутренне
противоречивым, те художники, которые не приемлют буржуазное
общество и его формалистическое искусство и стремятся
воспроизводить реальность, оказываются в трудном положении. «Они
хотят быть реалистами и не могут ими быть» 95. Ссылаясь на
прекрасное и трагическое творчество первых лет русской революции —
на творчество Блока, Пастернака, Маяковского, Есенина,
Эйзенштейна и других представителей советского искусства или
искусства социалистического реализма, Камю вопрошает, как можно быть
реалистом, если реализм невозможен? «Диктатура здесь, как
и в другом месте, резала по живому: реализм, согласно ей, был
прежде необходим, затем он стал возможен, с условием, что будет
социалистическим... Чтобы хорошо воспроизводить то, что есть,
нужно описывать также то, что будет. Иначе говоря, подлинный
объект социалистического реализма, есть именно то, что еще не
является реальностью. Противоречие поразительное. Но
противоречиво прежде всего само выражение социалистический реализм. На
самом деле, как возможен социалистический реализм тогда, когда
реальность еще совершенно не является социалистической? Мы
неизбежно получаем искусство пропаганды... В конце концов это
искусство будет социалистическим в той мере, в какой оно не будет
реалистическим. Эта эстетика, которая стремилась быть
реалистической, становится тогда новым идеализмом, таким же бесплодным,
каким был для подлинного художника буржуазный идеализм» 96.
В конце концов Камю выносит искусству социалистического
реализма своеобразный приговор, утверждая, что «реализм, называе-.
мый социалистическим, имеет мало общего с великим искусством
и что революционеры, в интересах самой революции, должны
искать другую эстетику» 97.
Осуждая пропагандистское искусство, с его упрощенной
арифметикой добра и зла, положительного и отрицательного героя, с его
прописными нравственными добродетелями, с набором банальных
сюжетов, с благополучными исходами всех перипетий в духе
набившей оскомину мелодрамы, Камю развенчивает также и
взгляды, согласно которым вначале следует установить справедливость,
а уж затем заниматься искусством. Эти взгляды можно понять, но
не оправдать. Ведь еще никому и никогда не удавалось установить
справедливость без активного участия искусства и культуры —
невежество не может быть основой построения нового общества,
379
где торжествовала бы справедливость. Угнетение, рабство и
варварство всегда шли в ногу.
Дикость и невежество, если им не противостоят силы разума
и просвещения, быстро распространяются на все сферы
человеческой жизнедеятельности. Вот тогда на бедствиях народа, на его
горе и несчастиях расцветают цветы культурного варварства:
пустые, поверхностные произведения литературы и искусства,
которые создаются ради мнимого величия продажных болтунов-писак,
шутов-драматургов, актеров-марионеток, несущих вместо горькой
правды сладкую ложь, а вместо глубокого, временами безысходного
страдания наигранный, казенный, пошлый оптимизм чиновников от
культуры.
Теория искусства для искусства игнорировала зло, и тем
самым уводила художника от ответственности. А эстетика
псевдореализма, признавая наличие зла и страданий, использовала искусство
для того, чтобы прославлять будущее счастье, о котором никто
ничего не знает и которое является источником всяких
мистификаций 98. И та и другая эстетика враждебны подлинному искусству.
Камю избегает привычных категориальных схем
литературоведения и эстетики. Извечная дилемма мимезиса и катарсиса
решается у него в терминах высокой моралистики. Вопросы
диалектической взаимосвязи, правды и правдоподобия, типического
обобщения и индивидуализации рассматриваются в ключе
экзистенциального выбора художника, который принимает вызов обращенного
к нему требования быть блестящим и одиноким, и в то же время
быть похожим на всех. Но в жизни все гораздо сложнее. Уже
Бальзак заметил, что гений похож на всех, но никто не похож на
него. «Точно так же и искусство, которое без реальности — ничто,
однако и реальность без искусства мало чего стоит. В самом деле,
как искусство могло бы обойтись без реальности и как оно могло бы
ей подчиниться? Художник в такой мере выбирает свой объект,
в какой объект выбирает художника. Искусство в определенном
смысле есть восстание или бунт против мира, против того, что есть
в нем ускользающего и несовершенного: оно не предлагает, стало
быть, ничего другого, как придать реальности другую форму,
реальности, от которой оно не может отказаться, ибо она является
источником его эмоции. С этой точки зрения мы все реалисты, и в то же
время никто не является таковым. Искусство не есть ни тотальный
отказ, ни тотальное согласие с тем, что есть. Оно есть одновременно
отказ и согласие, и именно поэтому оно является лишь вечно
обновляемым разрывом. Художник всегда находится в этом
двусмысленном положении: он не в состоянии отрицать реальность и в то же
время торжественно обещает оспаривать ее в том, что в ней вечно
несовершенно... Великий стиль находится на полпути от художника
к его объекту» ". Разумеется, речь идет не о том, чтобы уйти от
реальности, а о том, чтобы создать такое произведение, которое бы
не витало в облаках и не влачилось по земле. Эту проблему каждый
380
художник решает по-своему в соответствии с тем, как он ее
чувствует и как может решить. Но при этом отказавшийся от звания
философа Камю возлагает на художника философскую миссию
метафизического восполнения реальности. Ее исходному хаосу художник
призван противопоставить картезиански ясную вселенную своего
произведения. Самые выдающиеся произведения —
древнегреческих трагиков, Мелвилла, Толстого, Мольера — уравновешивают
реальность. Так появляется новый мир, отличающийся от
повседневного мира. Этот мир является одновременно всем и ничем.
Обращение Камю к авторитету «вечных ценностей» и
художественной классике — непреходящим истокам вдохновения
«вольного стрелка» — не закрыло ему путь к современности.
Настоящий художник не может ни отвернуться от своей эпохи,
ни полностью ей подчиниться, он должен провести свое творчество
между Сциллой и Харибдой. Ему в равной мере нужна и история
и современность. Что и как он будет использовать — это зависит от
его таланта и его культуры, благодаря которым он делает свой
выбор. «Судить современного человека от имени человека, который
еще не существует,— это роль пророчества. Художник может лишь
оценивать предлагаемые ему мифы в отношении их воздействия на
живущего человека. Религиозный или политический пророки могут
осуждать и, как известно, не отказывают себе в этом. Но художник
не может этого делать. Если бы он осуждал, то он делил бы
реальность между злом и добром без всяких оттенков, и тогда он
создавал бы мелодраму. Но цель искусства состоит не в том, чтобы
составлять законы или царствовать, а прежде всего в том, чтобы
понимать... художник — вечный адвокат живого создания, потому
что оно живое» 1()0. Тайна жизни совпадает с тайной искусства.
Камю считает художника ответственным за все, что
происходит в мире с природой, человеком, культурой. Он осуждает
конформизм, любые сделки с власть имущими, с денежными мешками,
с проходимцами от искусства. Художник должен все подвергать
сомнению, духовному и нравственному испытанию, испытанию
красотой, соизмерять с нею все существующее. Он должен быть тесно
связан с жизнью людей, с их переживаниями, страданиями, с их
судьбами. Писатели прошлого считали, что можно пребывать в
состоянии безответственности. Не случайно они жили и умирали
одинокими. «Мы, писатели XX века, никогда больше не будем
одинокими. Наоборот, мы должны знать, что мы не можем
избежать общих страданий и что наше единственное оправдание, если
оно есть, состоит в том, чтобы говорить в меру наших сил ради тех,
кто не может этого делать. Но мы должны делать это ради всех тех,
кто страдает сегодня, делать без оглядки на прошлое или будущее
величие государств и партий, которые их подавляют: для
художника нет привилегированных палачей. Вот почему красота не может
служить никакой партии; она состоит на службе, долгосрочной или
краткосрочной, только у страдания или свободы. Ангажированный
381
художник лишь тот, кто, не отказываясь от борьбы, отказывается
вступать в регулярные армии, он является, я сказал бы, вольным
стрелком. Урок, который он извлекает тогда из прекрасного, если
это честно делается, не урок эгоизма, а урок сурового братства. Так
понятая красота еще никогда не порабощала ни одного человека.
Наоборот, на протяжении тысячелетий, каждый день, каждую
секунду, она облегчала рабство миллионов людей и иногда некоторым
из них приносила полное освобождение. Может быть, именно
в этом состоит величие искусства: в вечном напряжении между
красотой и болью, любовью людей и безумием творчества,
невыносимым одиночеством и изнуряющей толпой, отказом и согласием.
Художник движется между двумя пропастями, которыми являются
легкомыслие и пропаганда» lül. Эти опасности подстерегают
художника на каждом шагу. Но как раз в риске и состоит свобода
искусства. Конечно, такая свобода весьма трудна и не каждый художник
может сказать, что он находится на высоте задач, которые ставит
свобода. «Эта свобода предполагает здоровье тела и души и
терпеливое противостояние. Как и всякая свобода, она заключает в себе
вечный риск... свободный художник, как и свободный человек, не
является человеком комфорта. Свободный художник есть тот, кто
с великим трудом создает свой собственный порядок... Искусство
живет лишь принуждением, которое само себе навязывает: от
других принуждений оно умирает. Зато если оно само себя не
принуждает, то оно впадает в бред и служит теням. Самым
свободным и самым бунтующим искусством будет тогда самое
классическое искусство; оно увенчает самое великое усилие... сегодня
возрождение зависит от нашего мужества и от нашей воли ясного
видения... без свободы мы не осуществим ничего, без нее мы сразу
потеряем и будущую справедливость и древнюю красоту. Только
свобода выведет людей из изоляции... Каждое великое
произведение делает лицо человека более восхитительным и более богатым —
вот весь его секрет... Нет культуры без наследства, и мы не можем
и не должны ничего отрицать из нашей культуры, культуры Запада.
Какими бы ни были произведения будущего, все они будут
содержать ту же самую тайну, создаваемую мужеством и свободой,
102
питаемую отвагой тысяч художников всех веков и народов»
Таким образом, Камю от эстетики язычества, которая
обожествляла природу, единство человека и природы, растворение
человека в природе, перешел к эстетике абсурда, которая ни в чем из
существующего не усматривала смысла и творчество и искусство
считала бесполезными, преходящими. Затем Камю в силу
драматического и даже трагического опыта войны и Сопротивления пришел
к эстетике бунта, возлагая свои надежды не на науку и не на
политику, а именно и прежде всего на литературу и искусство, на
культуру и на тех, кто ее создает — на художников. Эта эстетика бунта
отличалась ясным осознанием ответственности художника за свое
творчество перед самим собой, перед временем, перед своим худо-
382
жественным произведением, наконец, перед теми, кто в силу
различных причин вынужден молчать или не умеет выразить свой
протест против существующего мира и господствующих в нем
порядков. Эстетика бунта возрождала былое, античные традиции
в понимании литературы и искусства и в целом всей духовной
культуры, значение красоты или прекрасного для человека и
человеческого общества, значение единства прекрасного, доброго,
истинного и справедливого или значение красоты, добра, истины и
справедливости в жизни как отдельного человека, так и всего
человеческого общества. Именно они придают смысл и величие жизни
и творчеству. Только они способны по-настоящему формировать
и развивать человека в самом истинном смысле этого слова.
Художник, если это подлинный художник, служит красоте, истине,
добру, справедливости и свободе. В этом высший смысл его жизни
и его творчества. Удел и судьба художника — неустанно бороться
за утверждение этих высших ценностей... «Когда-то было сказано,
что великие идеи приносит в мир на своих лапках голубь. Может
быть, если мы прислушаемся, то услышим среди оглушительного
шума государств и наций слабый шум крыльев, сладостную
суматоху жизни и надежды. Одни скажут, что эту надежду несет народ,
другие, что ее несет человек. А я считаю, наоборот, что она создана,
оживлена, поддержана миллионами одиночек, поступки и
произведения которых каждый день отрицают границы и грубые обличья
истории, чтобы заставить мимолетно засиять всегда находящуюся
под угрозой истину, которую каждый созидает для всех из своих
страданий и радостей» 103.
На этот вопрос, кажется, можно ответить следующим образом:
чем полнее и яснее человек осознает абсурдность жизни, тем
бережнее он будет относиться к самой жизни и делать все, чтобы
прожить ее достойно, как и подобает настоящему человеку.
Сознание абсурда приводит к бунту, а осознание бунта — к свободе,
ради которой человек готов пойти на все, ибо в свободе он находит
смысл своей жизни. Жизнь человека — это постоянное и
непрерывное творчество, возможное лишь в условиях свободы. Если нет
свободы, то нет и творчества, нет ничего из того, что составляет
основные измерения человеческих ценностей, человечности,
гуманизма. Без свободы все обессмысливается.
Философия и эстетика Камю, его литературное творчество
представляет собою поиск смысла жизни, поиск того, что содержит
в себе основные ценности и идеалы: красоту, добро, истину,
справедливость, свободу. Эти ценности и идеалы всегда составляли
духовную основу, опору и цель жизнедеятельности человека и
человеческого общества. В связи с этим философия, эстетика и
художественное творчество Камю никогда не утратят своей актуальности.
Творчество Камю отразило его жизнь философа-моралиста,
оказавшегося в центре духовной, интеллектуальной и культурной
жизни нашего столетия. Как отмечал Сартр, «Камю никогда не
383
переставал быть главной силой нашего культурного поля, никогда
не переставал представлять по-своему историю Франции и историю
нашего века» 10 . Можно сказать даже больше: начатый Камю
диалог с основными течениями философской мысли прошлого и
современности поставил его в центр общеевропейского историко-
культурного поля.
Рассматривая в далекой ретроспективе учения выдающихся
мыслителей прошлого, а учения современных мыслителей — в
более или менее возможной для нас и нашего времени перспективе,
Камю приходит к выводам, имеющим принципиальное значение цдя
всей современной мысли, творчества и культуры.
Преодолевая густой лес мыслительных построений,
воздвигнутых величайшими представителями человеческой культуры
прошлого и современности, Камю поражается глубине, ясности и
масштабности поставленных проблем и предложенных решений. Как
истинный мыслитель сократического толка, он не желал уподобляться
дилетантам, стремящимся опровергнуть все существующее одним
махом, дилетантам с навязчивым поведением преобразователей
мира. Но, осуществляя исключительно трудное восхождение к
вершинам мировой культуры прошлого и настоящего, в своей
напряженной интеллектуальной работе все, что считалось уже раз и навсегда
добытым и установленным, Камю ставит под вопрос.
Камю подвергает сомнению основные достижения гегелевского
рационализма, кантовского критицизма, киркегоровской
парадоксальной диалектики, гуссерлевской универсальной
трансцендентальной феноменологии, экзистенциалистской онтологии познания,
религиозной «вечной философии», атеистической идеологии
безнадежно пошлого оптимизма, разнообразные направления истории
философии и философии истории вместе с историей как таковой,
все политические движения, по крайней мере последних двухсот лет
развития человеческого общества, включая разнообразные
нигилистические умонастроения — ницшеанство, дендизм, нарциссизм
и т. д., а также всякого рода тиранию и тоталитаризм — от
фашизма до плутократии — и многое другое.
Длительное и серьезное изучение философии привело Камю
к отказу от нее во имя принятия позиций нравственности,
освященной справедливостью. Его обращение к нравственности («я не
философ, а моралист») означало поражение философии: философия
оказалась бессильной перед нашествием современных гуннов не
только в лице представителей тоталитарных режимов и
идеологий, но главным образом в лице полуобразованных невежд и
дилетантов, способных разрушить мир знания, мир культуры и
цивилизации.
Изучение истории, прошлой и современной, человеческого
общества, различных революционных и реформистских движений
убедило Камю в том, что история, смысл истории, философия
истории, исторический мессианизм являют собою лики отчужден-
384
ного человека и его отчужденного сознания. Такая история
способна и дальше отчуждать человека от природы, от реальной истории,
от самого себя. Следовательно, подвергая сомнению историю, Камю
считает необходимым преодолеть ее, сбросить ее оковы с человека
и его сознания. Сколько раз ложные исторические пророчества
приводили человечество к социальным катастрофам, бесчисленным
конфликтам и бессмысленным страданиям. Этот печальный
исторический опыт и заставил Камю решительно отвергнуть как историю,
так и культивируемую ею надежду: история — это опиум, а
надежда — это смирение и покорность перед существующими порядками.
Вот почему Камю делает своим принципом вещие слова Пиндара:
«О душа, не стремись к бессмертию, а используй все существующие
возможности». Человек должен жить в настоящем, ибо прошлое
уже прошло, а будущее слишком призрачно и эфемерно.
Камю поставил под вопрос и политику, которая до сих пор
была, а во многом остается еще и в настоящее время выражением
интересов отдельных политических групп и партий, а не интересов
широких слоев общества, классов и уж тем более народов.
Обращение Камю к нравственности означало осознание не только
банкротства современной философии, истории, но и банкротства
современной политики, поскольку полярно противоположные политические
системы могли привести лишь к всеобщей катастрофе человечества.
Вот почему Камю отвергает какие бы то ни было политические
партии и отказывается от участия в каких бы то ни было
официальных политических акциях: он был убежден, что все они способны
привести лишь к ухудшению общего состояния современного
общества.
Но главное — и об этом мы не должны забывать при
подведении итога незаурядного творчества Камю — его универсальное
сомнение позволило обнаружить ахиллесову пяту почти всей истории
человеческой мысли — роковое для человека противопоставление
мира природы миру человека. Альтернативное мышление,
зародившееся уже в глубокой древности и в известной мере уже
завершенное Платоном в его учении об идеях, пронизывает всю
европейскую культуру, охватывая все новые и новые сферы
человеческой жизнедеятельности, культуры и цивилизации. Вот только
некоторые из этих альтернатив: слово и дело, дух и материя, мысль
и чувство, культура и природа и т. д. Все эти альтернативы привели
к тому, что человек стал рассматривать природу как некую
противостоящую ему враждебную силу, которую следует обуздать,
покорить, поставить себе на службу, стать ее господином, взять
у нее все, что можно, нужно, и даже то, что нельзя и что не нужно.
К чему привело подобное альтернативное мышление — сегодня
всем известно: к тяжелейшему экологическому кризису, который
поставил человечество на грань экологической катастрофы. Однако
несколько десятков лет назад это еще многим и многим было не
ясно. Камю один из первых бросил вызов антиномичному мышле-
385
нию, альтернативной культуре. Он понял, что человека нельзя
никоим образом противопоставлять природе, поскольку сам человек
прежде всего есть органическая часть природы. Основные и даже
антагонистические противоречия следует искать не между природой
и человеком, природой и культурой, а в самом человеке, в самой
культуре, в самой идеологии, политике, морали, науке. Камю не
принял утверждений многих выдающихся мыслителей о
непреодолимой антиномичности духа и природы, наоборот, вопреки,
например, кантовскому противопоставлению природы как царства
необходимости и разума как царства свободы, Камю провозглашает
их органическое единство, их неразрывную связь и
взаимозависимость. Именно об этом говорят его ранние художественные эссе,
в которых он прославляет природу и человека, обретающего счастье
в растворении в ней. Одновременно Камю с тревогой и опасением
замечает, как природа исчезает из средиземноморской и
европейской культур. В его дневниковых записях можно найти немало
заметок по этому вопросу. Например: «Бог — Средиземноморье:
конструкции — ничего природного. Природа-эквивалентность» 105.
Эквивалентность, уравновешивающая эволюцию естественных сил
и сил, создаваемых человеком. Любой перекос таит в себе огромные
опасности и непредсказуемые последствия.
Эстетика Камю взывает к утраченной целостности под эгидой
прекрасного: «Красота, которая помогает жить, помогает также
и умереть» ,06.
Красота и единение с природой восполняют вакуум,
образованный смертью Бога Ницше и Достоевского. Камю в равной мере не
приемлет идеи богочеловека и человекобога. Он предпочел самого
человека с его земным уделом.
Ведь не случайно одна из дневниковых заметок Камю гласит:
«вообразить Бога без человеческого бессмертия» 107. Именно без
человеческого бессмертия как его понимали религиозные
мыслители — Киркегор, Августин, Паскаль или наши современники — Ма-
ритен и Жильсон. Бессмертие человека в его религиозном
понимании связано с отказом от земной жизни, ее радостей, ее света,
цвета и тепла, а главное — с отказом от проявлений всего богатства
человеческой природы, человеческих сил и дарований. Вот почему
Камю отстаивает жизнь человека здесь и сейчас. Со смертью бога,
с уходом сакрального мира его место занимает мир бунта. Если
абсурд — это ясное осознание своих пределов, то бунт — это столь
же ясное осознание своих прав. Абсурд преодолевает антиномии
триумфального и униженного разума. Бунт — отстаивает в мире
человеческий порядок. Бунт становится главным измерением
человека. Если бунтующий человек готов жертвовать жизнью ради
своих прав, то это свидетельствует не только о росте
человеческого сознания и самосознания, но и о становлении мира
ценностей, приобретающего все большее и большее значение.
Человеческое бытие и сознание начинается с бунта, а заканчивается борь-
386
бой во имя высших ценностей: красоты, свободы, истины,
справедливости, добра.
Для Камю красота означает свободу. Греки брались за оружие
во имя красоты, а современный мир изгоняет красоту
бесцеремонным и безжалостным образом. Для греков красота, свобода,
справедливость, добро были равнозначными, ибо в их основе лежало
чувство меры, которое никогда не нарушалось и которое задавалось
природой. Современный мир отвернулся от природы, а
следовательно, от красоты, добра, свободы и справедливости. Бесполезно
искать пейзажи в литературе после Достоевского: природу
заменила выхолощенная и худосочная история, которой нет дела ни до
царства природы, ни до царства красоты, ибо историю интересует
лишь эфемерная власть, и ничего больше, власть, обращающая мир
в пустыню.
Вот почему Камю призывает человека к борьбе за красоту,
которой не обойтись без человека, как и человеку не обойтись без
красоты, ибо красота означает свободу, справедливость, добро,
истину. Однако все эти высшие ценности покоятся на одной основе:
красота Елены для современного мира — это красота природы
вовне и в нем самом. Как человек будет относиться к этой
красоте — возьмется ли он за оружие ради нее, как это делали древние
греки, или будет равнодушно взирать на надругательство над нею,—
от этого зависит судьба самого человека и всего человечества, от
этого же зависит и судьба всей природы — Прекрасной Елены
XX века.
ПРИМЕЧАНИЯ
СЕРЕН КИРКЕГОР —
ПРЕДТЕЧА СОВРЕМЕННОГО
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА
1 Киркегор С. Наслаждение и долг.
Спб., 1894, с. 240.
2 Там же, с. 241.
3 Там же, с. 237.
4 Там же.
5 Там же, с. 238.
6 Вот что пишет о своей позиции
Киркегор: «Я действительно смотрю на свое
положение как на счастливейшее и
исполненное наиглубочайшего значения на
свете, я взял за правило говорить всегда
от лица семьянина. В самом деле, я не
пожертвовал своей жизни на служение
науке или искусству; то, чему я отдался,
собственно говоря, мелочь в сравнении
с упомянутыми высокими предметами,—
я весь отдаюсь своей службе, своей жене,
своим детям, но это с моей стороны не
жертва, в этом мое наслаждение и
радость» (с. 238).
7 Там же, с. 243—244.
8 Там же, с. 246—248.
9 Там же, с. 249.
10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 27,
с. 70.
11 Там же, т. 5, с. 422.
12 Киркегор С. Наслаждение и долг,
с. 259.
13 Там же, с. 259—260.
14 Там же, с. 261.
,й Kierkegaard S. Samlede Vaerker.
Bind 5, Frygt og Baeven. Gyldendal,
Copenhagen, 1982, S. 9.
16 Киркегор С. Наслаждение и долг,
с. 9.
17 Там же, с. 13.
18 Там же, с. 27.
19 Там же, с. 22—23.
20 Kierkegaard. Frygt og Baeven,
Samlede Vaerker, 5 Bind, S. 10.
21 Ibid., p. 17.
22 Киркегор С. Наслаждение и долг,
с. 249.
23 Там же, с. 357—360.
21 Там же, с. 363—364.
25 Там же, с. 367—368.
26 Там же, с. 370.
27 Там же, с. 371—372.
28 Там же, с. 244—245.
29 Там же, с. 245.
3υ Там же, с. 246.
31 Там же, с. 247.
32 Sojen Kierkegaard. Sygdommen til
doden. Samlede Vaerker. Bind 15, S. 95.
33 Шестов Л. Умозрение и откровение,
Париж, с. 55.
ЭДМУНД ГУССЕРЛЬ.
ENTWEDER — ODER
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
1 «Husserliana» (Bd. I—VIII, Haag,
1950—1959), Bd. I, S. XXVII.
2 Гуссерль Э. Философия как строгая
наука.— «Логос», 1911, кн. 1, с. 51.
Там же, с. 55.
4 Там же, с. 51.
5 «Husserliana», Bd. I, S. 3.
6 Декарт P. Избр. произв. M., 1950,
с. 353.
7 Гуссерль Э. Философия как строгая
наука, с. 12.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2,
с. 141.
9 Гуссерль Э. Философия как строгая
наука, с. 13.
10 Там же.
11 Декарт Р. Избр. произв., с. 120.
12 Кант И. Собр. соч. в 6-ти т., т. 3,
с. 684.
13 Кант И. Собр. соч. в 6-ти т., т. 4,
ч. 1, с. 181.
14 Кант И. Собр. соч. в 6-ти т., т. 5,
с. 488.
15 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 18,
с. 206.
16 Там же.
17 Кант И. Собр. соч. в 6-ти т., т. 3,
с. 73.
18 «Husserliana», Bd. VI, S. 4.
19 Ibid., S. 347.
20 Гуссерль Э. Философия как строгая
наука, с. 49.
21 «Husserliana», Bd. VI, S. 502—503.
22 Кант И. Собр. соч. в 6-ти т., т. 4,
ч. 1, с. 137.
23 Там же, т. 4, ч. 1, с. 135.
24 Там же, т. 5, с. 464.
25 Там же, с. 467.
2* «Husserliana», Bd. VI, S. 339.
27 Гуссерль Э. Философия как строгая
наука, с. 2.
28 Там же, с. 50.
29 Там же.
30 «Husserliana», Bd. VII, S. 10.
31 Ibid., Bd. VI, S. 339.
388
'" «Husserliana», Bd. VI, S. 489.
33 Ibid., Bd. Ill, S. 171 — 172.
34 Кант И. Собр. соч. в 6-ти т., т. 5,
с. 330.
35 Там же, с. 127.
36 «Husserliana», Bd. VI, S. 101.
37 Шестов Л. Памяти великого
философа. Умозрение и откровение,' с. 59.
МАРТИН ХАЙДЕГТЕР.
ОНТОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ
И КУЛЬТУРЫ
1 Nietzsche F. Der Wille zur Macht,
Stuttgart, 1921, S. 280.
2 Heidegger M. Holzwege. Dritte
unveränderte Auflage, Frankfurt am Main,
1957.—«Nietzsches Wort «Gott ist tot»
(Nietzsche, Bd I — II, 1961).
3 Nietzsche F. Der Wille zur Macht,
S. 14 23.
4 Heidegger M. Holzwege, S. 201—202.
5 Ibid., S. 66.
6 См.: Heidegger M., Holzwege,
«Nietzsche», Bd I, II, «Dichtung», «Erleuterung
zu Hölderlin».
7 Heidegger M. Sein und Zeit. Max
Niemeyer Verlag, Tübingen, 1960, S. 42.
8 Ibid., S. 117, 212, 314.
9 Ibid., S. 38.
10 Ibid., S. 230.
11 Heidegger M. Holzwege I, S. 7.
12 Ibid.
13 Ibid., S. 11.
14 Ibid., S. 13.
,s Ibid., S. 16—17.
1G Ibid., S. 28.
17 Ibid., S. 30—31.
18 Ibid., S. 35.
'" Ibid., S. 39.
20 Ibid., S. 49.
21 Ibid., S. 44.
22 Ibid., S. 37.
23 Ibid., S. 38.
24 Ibid., S. 59.
25 Ibid., S. 64.
26 Ibid.
КАРЛ ЯСПЕРС.
ФИЛОСОФИЯ ЭКЗИСТЕНЦИИ
1 Jaspers К. Philosophie. Bd I, Springer-
Verlag, Berlin-Göttingen — Heidelberg,
1956, S. 15.
2 Bollnow O. F. Existenzphilosophie,
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1960,
S. 33.
3 Jaspers K. Philosophie.., Bd I, S. 50.
* Jaspers K. Vom Ursprung und Ziele
der Geschichte, Zürich, 1949, S. 20.
5 Ibid., S. 317.
6 Ibid., S. 305.
7 Ibid., S. 345.
8 Ibid., S. 337.
9 Ibid., S. 334.
10 Jaspers K. Philosophie, Bd I, S. 331.
11 Ibid., S. 330.
12 Jaspers, Die grossen Philosophen,
München, 1957, S. 30.
13 Ibid., S. 93.
14 Jaspers, Philosophie, S. 331.
15 Ibid.
,ü Ibid.
17 Jaspers. Die grossen Philosophen,
S. 30.
18 Ibid., S. 38—39.
19 Ibid., S. 39.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid., S. 39—40.
24 Ibid., S. 40.
25 Ibid.
26 Ibid., S. 41.
27 Ibid.
28 Ibid., S. 93.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid., S. 94.
32 Ibid., S. 95.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid., S. 96.
36 Ibid.
37 Ibid., S. 97.
38 Ibid.
39 Гегель. Соч., т. IX, с. 10.
40 Jaspers К. Philosophie, S. 331—332.
41 Ibid., S. 332.
42 Ibid.
43 См.: Гайденко П. П. Трагедия
эстетизма. М., 1970, с. 201—209.
44 Jaspers К. Philosophische Logik,
Erster Band, Von der Wahrheit, München,
S. 925.
45 Кант И. Критика способности
суждения. Спб., 1898, с. 178.
46 Jaspers К. Philosophie, S. 333.
47 Ibid., S. 334.
48 Ibid.
49 Ibid., S. 338.
50 Ibid.
51 Ibid., S. 339.
52 Ibid.
53 Ibid., S. 340.
389
ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАСЕТ.
ДЕГУМАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ
1 Ortega у Gasset У. Que es filosofia..?
Obras complétas, t. VII, Revista de
Occidents Madrid, 1961, p. 335.
2 Ortega y Gasset J. A «Historia de la
filosofia» de Emile Bréhier. (Ideas para una
historia de la filosofia). Obras complétas,
t. VI, p. 397.
3 Ibid., p. 398.
4 Ibid., p. 401.
5 Ibid.
6 Ibid., p. 402.
7 Ortega y Gasset J. Historia como siste-
ma. Obras complétas, t. VI, p. 13—50.
8 Ibid., p. 23.
9 Вот что писал, например,
неокантианец Г. Риккерт: «Я не верю, чтобы
возможно было предсказать даже
ближайшее будущее с какой-либо уверенностью.
То, что будет, зависит отчасти от
решений отдельных индивидуумов или, по
крайней мере, может испытать
решающее влияние с их стороны.
Индивидуальные же деяния не поддаются никакому
предсказанию» (Риккерт Г. Философия
жизни. Изложение и критика модных
течений философии нашего времени. Пг.,
1922, с. 8).
10 Ortega у Gasset J. Historia como siste-
ma. Obras complétas, t. VI, p. 32.
11 Ibid., p. 33.
12 Ibid., p. 40.
13 Ibid., p. 41.
14 Ibid., p. 49.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ortega y Gasset J. La «filosofia de la
historia» de Hegel y la historiologia. Obras
complétas, t. IV, p. 533.
18 Ibid.
19 Ibid., p. 537.
20 Ibid., 539.
21 Ortega y Gasset J. Kant. Reflexio-
nes de centenario. Obras complétas, t. IV,
p. 48.
22 Ibid.
23 Ibid., p. 31.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid., p. 35—36.
28 Ibid., p. 37.
29 Ibid., p. 38.
30 Ortega y Gasset. A «Historia de la
filosofia»... Obras complétas, t. VI, p. 387.
31 Ibid., p. 388.
32 Ibid.
JJ Ibid., p. 388.
34 Ibid., p. 388—389.
35 Ibid.
36 Ortega y Gasset J. La rebellion de las
masas. Obras complétas, t. IV, p. 143.
37 Ibid., p. 154.
38 Ibid., p. 193.
39 Ibid., p. 216.
40 Ibid.
41 Ibid., p. 191.
42 Ibid., p. 205.
43 Ibid., p. 225.
44 Ibid., p. 226.
45 Ibid., p. 227.
46 Ortega y Gasset J. El nombre y la
gente. Obras sompletas, t. VII, p. 88.
47 Ibid., p. 114.
48 Ibid., p. 76.
49 Ibid., p. 78.
50 Ibid., p. 74—75.
51 Ibid., p. 75.
*'2 Ortege y Gasset J. La deshumaniza-
cion del arte. Obras complétas, t. III.
Madrid, Revista de Occidente, 1947, p. 357.
53 Ibid., 357.
54 Ibid., p. 358.
55 Ibid., p. 359.
56 Ibid.
57 См.: Гегель. Соч., т. 12, с. 266.
58 Маркс К. Капитал, т. 3, ч. 1. М.,
1955, с. 261.
59 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних
произведений. М., Госполитиздат, 1956,
с. 560.
60 Ortega у Gasset J. La deshumanizaci-
όη del arte. Obras complétas, t. Ill, p. 360.
61 Ibid., p. 364.
62 Ibid., p. 365.
63 Ibid., p. 366.
64 Ibid.
65 Ibid.
66 Маркс К., Энгельс Φ. Из ранних
произведений, с. 564—565.
'" Ortega у Gasset J. La deshumanizaci-
on del arte. Obras complétas, t. Ill, p. 361.
68 Ibid., p. 362.
09 Ibid., p. 367—368.
70 Ibid., p. 368.
71 Ibid.
72 Ibid., p. 369.
73 Ibid., p. 370—371.
74 Ibid., p. 371.
75 Ibid., p. 372.
76 Ibid.
77 Ibid., p. 373.
78 Ortega y Gasset J. Las dos grandes
metàforas. Obras complétas, t. II, p. 379.
79 Ortega y Gasset. La deshumanizacion
del arte. Obras complétas, t. III, p. 373.
390
ö" Ortega y Gasset J. Las dos grandes
metâforas. Obras complétas, t. II, p. 383.
81 Ortega y Gasset J. La deshumanizaci-
on del arte. Obras complétas, t. III, p. 373.
82 Ibid., p. 374.
83 Ibid.
84 Ibid., p. 376.
85 Ibid.
86 Ibid.
87 Ibid., p. 377—378.
88 Ibid., p. 378.
89 Ibid., p. 380.
90 Ibid.
91 Ibid., p. 381.
92 Ibid., p. 382.
93 Ibid.
94 Ibid.
95 Ibid., p. 383.
96 Ibid.
97 Ibid., p. 384.
98 Ibid.
99 Ibid., p. 385.
РОМАН ИНГАРДЕН.
ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
ФЕНОМ БИОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
1 Не случайно, как вспоминает Р. Ин-
гарден, когда обсуждался вопрос об
издании его работы «О литературном
произведении» на польском языке и ему
предложили значительно ее сократить, он
категорически отказался от сокращения,
прекрасно понимая, что
феноменологическое исследование существует только
в конкретном виде и всякое сокращение
равносильно искажению самого
феноменологического метода. (См.: Ingarden
R. Studia ζ estetyki, t. I, Warszawa, 1966,
s. VIII).
2 Мы полагаем, что Ингарден, когда
приступал к исследованию слоев
литературного произведения, не был так
одинок, как он пишет, ибо в это время
в России и в других странах уже велись
подобного рода исследования,
выдвигались идеи «многослойности», «многоярус-
ности» и т. п. литературного
произведения. Особенно много этим занимались
русские формалисты: Эйхенбаум,
Шкловский, Шенгели и другие. Трудно
сказать, в какой мере был знаком с их
работами Ингарден (к сожалению, он, по
его собственному признанию, не знал
русского языка), но ясно, что его идеи
выросли не на пустом месте, а были
подготовлены всем развитием
художественной культуры, развитием исследований
в области литературы, поэтики, эстетики
и т. д. во многих странах, особенно в
России. См., например, сборник «Поэтика»,
Пг., 1919.
3 Понятие «интенционального
предмета» было заимствовано Гуссерлем
у Брентано, который в свою очередь взял
его у схоластов. Известно, что схоласты
различали три вида бытия: 1)
материальное бытие esse materiale; 2) интенцио-
нальное бытие esse intentionale; 3)
логическое бытие esse cognitum seu objectum.
При этом материальное бытие не
принималось ими во внимание, ибо, чтобы стать
познаваемым, предмет должен, согласно
схоластам, освободиться от своей
материальности. Логическое бытие во многом
тождественно, по их мнению, бытию ин-
тенциональному, которому придавалась
исключительно важная роль в познании
вообще. Больше того, все тайны познания
и художественного творчества
связывались схоластами с интенциональным
бытием. См. об этом: J. Maritain. Greative
Intution in Art and Poetry. Ν. Y. 1953,
p. 120; J. Maritain. Distinguer pour unir ou
les degrés du savoir. Paris, 1963, p. 221—222.
4 Ingarden R. О dziele literackim,
Warszawa, 1960, s. 8.
5 Ibid.
b Ingarden R. О dziele literackim, s. 180.
7 Ibid.
* Ibid., s. 179.
9 Ingarden R. Spor о istnienie swiata,
Warszawa, 1961, t. II, s. 27.
10 Ibid., s. 11. .
1 ' Ingarden R. О dziele literackim, s. 281.
12 Ingarden R. Studia ζ estetyki, t. I,
s. 221.
13 Geiger M. Problematica da estétika
e estétika fenomenologica. Brasil., 1958,
p. 94.
14 Ingarden R. Studia ζ estetyki, 1.1, s. V.
|э Inganden. Spor о istniene swiata, t. I,
s. 256.
16 См.: Dufrenne M. Phénoménologie de
l'expérience esthétique, v. I, Paris, 1967,
p. 259—280.
17 Ingarden R. Studia ζ estetyki, t. I,
s. 283.
18 Ibid., s. 276.
19 Ibid., s. 277.
20 Ibid., s. 227.
21 Ibid. s. 244.
22 Ibid., s. 246—247.
23 Ibid.
24 Ibid., s. 244.
25 Ibid.
26 Ibid., s. 248.
391
" Ibid., s. 232.
28 Ibid., s. 230.
29 Ibid., s. 223.
30 Ibid., s. 273.
31 Ibid., s. 275.
32 Ibid., s. 273.
33 Ibid., s. 280.
34 Ibid., s. 282.
35 Ibid., s. 287—288.
3b Ibid., s. 282.
37 Это видно хотя бы из плана
«Поэтики», так и не завершенной, хотя Ингар-
ден читал курс теории литературы.
Согласно этому плану Ингарден включал
в «поэтику» и основы общей теории
литературного произведения, и анализ слоев
литературного произведения, форму и
содержание, ценность, виды и
литературные стили, историю литературы, и,
наконец, проблему литературы и человека.
Нельзя не согласиться с Ингарденом, что
осуществить такой грандиозный замысел
под силу лишь значительной армии
исследователей.
38 См.: Ingarden R. Studia ζ estetyki,
t. I, s. 338.
39 Ibid.
40 См.: О dziele literackim, s. 53.
41 Ingarden R. Studia ζ estetyki, t. I,
s. 340.
МОРИС МЕРЛО-ПОНТИ.
СМЫСЛ И БЕССМЫСЛИЦА
1 Dufrenne M. Phénoménologie de Гех-
perience esthétique, vol. 1, Paris, 1953,
p. 4—5.
2 Mésaventures de l'anti-marxisme. Les
malheurs de M. Merleau-Ponty. Avec une
lettre de Georg Lukâcs. Éditions sociales,
Paris, 1956.
3 Merleau-Ponti M. Les aventures de
la dialectique. Paris, 1955.
4 Ibid.
5 Маркс К., Энгельс Φ. Соч. т. 23, с. 21.
6 Merleau-Ponty M. Les Aventures de
la dialectique, p. 519.
7 Ibid., p. 85.
8 Ibid., p. 282.
9 Ibid.
10 Ibid., p. 298.
11 Merleau-Ponti M. Sens et non-sens.
Paris, 1948.
12 Merleau-Ponti M. Humanisme et
terreur. Essai sur le problème
communiste. Gallimard, 1947, p. 133.
13 Merleau-Ponty M. Phénoménologie
de la perception. Gallimard, Paris, 1945,
p. 11.
,ч Merleau-Ponty M. Le Visible et
l'invisible. Paris, Gallimard, 1964, p. 47.
15 Ibid., p. 139.
16 Ibid., p. 238—239.
17 Ibid., p. 221.
18 Ibid., p. 253.
19 Husserl E. Die Krisis der
Europaischen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie. Husserliana, v. VI. La
Нагие, 1954, S. 513.
2 См.: Heidegger M. Holzwege.
Frankfurt am Main, 1957.
21 Merleau-Ponty M. Le visible et
L'invisible, p. 231.
22 Рильке P.-M. Ворпсведе. Огюст
Роде«. Письма. Стихи. M., 1971, с. 227.
23 Там же, с. 229.
24 Там же, с. 224.
25 «Le doute de Cézanne». M. Merleau-
Ponty: Sens et non-sens», Nagel, Paris,
1948, p. 15—44.
26 Merleau-Ponty M. Sens et.non-sens,
p. 18.
27 Ibid, p. 18.
28 Ibid., p. 22.
29 Ibid., p. 23—24.
30 Ibid., p. 25.
31 Ibid., p. 26.
32 Ibid., p. 30.
33 К. Маркс, Φ. Энгельс об искусстве.
M., «Искусство», 1967, т. 1, с. 482.
34 Там же, с. 480.
35 Merleau-Ponty M. Sens et non-sens,
p. 31.
36 Ibid., p. 32.
37 Ibid., p. 33.
38 Ibid., p. 32.
39 Ibid., p. 33.
40 Ibid., p. 34—35.
41 Ibid., p. 37.
42 Он говорит о «триумфе
психоанализа, но только на бумаге» (р. 42).
43 Merleau-Ponty M. Sens et non-sens,
p. 42.
44 Ibid., p. 43.
45 Ibid., p. 44.
46 Merleau-Ponty M. Signes. Gallimard,
Paris, 1960, p. 242—249.
47 Merleau-Ponty M. Le visible et
l'invisible, p. 250.
48 Merleau-Ponty M. Le roman et la
metaphisique. См. его работу: Sens et non-
sens, p. 47.
49 Ibid.
50 Ibid., p. 48.
51 Ibid., p. 49.
52 Ibid., 56.
53 Ibid., p. 60.
54 Ibid., p. 67.
392
72
73
74
75
76
77
78
sible,
79
'invi-
Ibid., p. 69.
Ibid., p. 70.
Ibid., p. 68.
Ibid., p. 71.
Ibid., p. 326.
Ibid., p. 330.
Ibid., p. 331.
Ibid., p. 88.
Ibid.
Ibid., p. 88.
Ibid., p. 90.
Ibid., p. 91.
Ibid., p. 93.
Ibid., p. 96.
Ibid., p. 101.
Ibid., p. 103.
Ibid.
Ibid.
Ibid., p. 104.
Ibid.
Ibid., p. 105.
Ibid., p. 105.
Ibid., p. 106.
Merleau-Ponty M. Le visible et Γ
, ρ. 219.
Ibid., ρ. 322.
Ibid., ρ. 278.
Ibid., ρ. 325.
ЖАН-ПОЛЬ САРТР.
ОСНОВАНИЯ СВОБОДЫ
1 Sartre J.-P. L'Imagination. Paris. 1936.
Esquisse d'une théorie des émotions, Paris,
1939, L'Imaginaire. Psychologie
phénoménologique de l'imagination. Gallimard,
Paris, 1940.
2 Sartre J.-P. L'Imaginaire. Psychologie
phénoménologique de l'imagination.
Gallimard, Paris, 1940, p. 17.
3 Бергсон A. Материя и память. Спб.,
1911, с. 103.
4 Sartre J.-P. L'Imaginaire, p. 17.
5 Ibid., p. 18.
6 Ibid., p. 23.
7 Sartre J.-P. L'Etre et le Néant. Essai
d ontologie phénoménologique, Paris, 1943,
p. 59.
8 Sartre J.-P. L'Imaginaire, p. 230.
9 Ibid., p. 244—245.
10 Ibid., p. 26.
11 Ibid., p. 52.
12 Ibid., p. 128.
13 Sartre J.-P. Situations, X. Politique et
autobiografie. Gallimard, Paris, 1976,
p. 101.
14 Сартр Ж.-П. «Слова». M., 1966, с. 43.
15 Sartre J.-P. Situations, X. p. 164.
° Сартр Ж.-П. «Слова», с. 49.
17 Там же, с. 60.
18 Там же, с. 57.
19 Там же, с. 130.
20 Там же, с. 163.
21 Там же, с. 173.
22 Там же, с. 128.
23 Sartre J.-P. Situations, X, p. 151.
24 Contât M., Rybalka M. Les écrits de
Sartre. Chronologie. Bibliographie
commenté. Paris, 1970, p. 189—190.
25 Sartre J.-P. La transcendance de
l'Ego, Paris, 1965, p. 79.
Ä Sartre J.-P. L'Etre et le Néant, p. 29.
27 Ibid., p. 59.
28 Ibid., p. 61.
29 Ibid., p. 65.
30 Ibid., p. 721.
31 Ibid., p. 560.
32 Ibid.
33 Sartre J.-P. Situations, X, p. 179.
34 Sartre J.-P. Situations, II, P., 1948,
p. 70.
35 Ibid., p. 63.
Ibid., p. 64.
Ibid., p. 85.
Ibid., p. 72.
Ibid., p. 74.
Ibid., p. 62.
Ibid., p. 60—61.
Ibid., p. 89.
Ibid., p. 90.
Ibid., p. 91.
Ibid., p. 93.
Ibid., p. 96—97.
Ibid., p. 98.
Ibid., p. 103.
Ibid., p. 110.
Ibid., p. 109.
Ibid., p. 111.
Сартр Ж.-П. «Слова», с. 172.
53 Sartre J.-P. Situations, II, p. 111.
54 Ibid., p. 72.
55 Ibid., p. 316.
50 Ibid.
57 Sartre J.-P. Baudelaire. Gallimard.
Paris, 1963, p. 25.
58 Ibid., p. 26.
59 Ibid., p. 29.
60 Ibid., p. 34.
Ibid., p. 119.
Ibid., p. 63.
Ibid., p. 245.
Ibid., p. 241.
05 Балашов H. И. Легенда и правда
о Бодлере. Бодлер. Цветы Зла. М., 1970,
с. 233—287.
66 Morpurgo-Tagliabue. L'esthétique
38
39
45
46
51
52
62
63
393
contemporaine. «Marzorati-Editeur —
Milan». 1960, p. 573.
67 Кант И. Соч. в 6-ти т., т. 5. М., 1966,
с. 375.
68 Там же, с. 376.
69 Morpurgo-Tagliabue. L'esthétique
contemporaine, p. 583.
70 Sartre J.-P. Critique de la raison
dialectique (précédé de Questions de
Méthode). V. I. Théorie des ensembles pratiques.
Paris, 1960, p. 86.
71 Ibid., p. 29.
72 Ibid.
73 Ibid., p. 108.
74 Ibid., p. 109—110.
75 Ibid., p. 44.
76 Ibid., p. 45.
77 Ibid., p. 93.
78 Ibid., p. 71.
79 Ibid., p. 91.
80 Ibid., p. 95.
81 Ibid., p. 97.
82 Sartre J.-P. L'Idiot de la famille.
Gustav Flaubert de 1821 — 1857, v. I, Paris,
1971, p. 7.
83 Ibid., p. 8.
84 Sartre J.-P. Situations, X, p. 94.
85 Ibid., p. 105.
86 Ibid., p. 97.
87 Ibid., p. 107.
88 Sartre J.-P. L'Idiot de la famille,
v. I, p. 51.
89 Ibid., p. 81.
90 Ibid., p. 167.
91 Ibid., p. 487.
92 Ibid., p. 611.
93 Ibid., p. 648.
94 Sartre J.-P. L'Idiot de la famille,
v. II, p. 656.
95 Ibid., p. 684.
96 Ibid., p. 736.
97 Sartre J.-P. L'Idiot de la fa mile,
v. III, p. 1920.
98 Ibid., v. И, p. 979.
99 Ibid., p. 1191.
100 Ibid., v. Ill, p. 1484.
101 Ibid., p. 1487—1488.
° Dufrenne M. Jalons, p. 3.
6 Ibid., p. 3—4.
7 Ibid., p. 4.
8 Ibid.
9 Dufrenne M. Phénoménologie de
l'expérience esthétique. Paris, 1953, p. 4—5.
10 Ibid., p. 6—7.
11 Ibid., p. 9—10.
12 Dufrenne M. Esthétique et
philosophie. Paris, 1967, p. 74—75.
13 Ibid., p. 75.
14 Ibid., p. 76.
15 Ibid., p. 77.
16 Ibid., p. 78.
17 Ibid.
18 Ibid., p. 80.
19 Ibid., p. 81.
20 Ibid., p. 81—82.
21 Ibid., p. 82.
22 Ibid., p. 86.
23 Ibid., p. 87.
24 Ibid.
25 Ibid., p. 88—89.
26 Ibid., p. 94.
27 Ibid., p. 97.
28 Ibid., p. 101.
29 Ibid., p. 102.
30 Ibid., p. 103.
31 Ibid., p. 107.
32 Ibid., p. 108.
33 Ibid., p. 110.
34 Ibid., p. 111.
35 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 33,
с. 21.
36 К. Маркс, Ф. Энгельс об искусстве.
М., «Искусство», 1967, т. 1, с. 230—231.
37 В. И. Ленин о литературе и
искусстве. М., 1976, с. 436.
38 Там же, с. 444.
39 Там же, с. 454.
40 См.: Информационный бюллетень,
№ 3, 30.8.1972, с. 8.
41 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних
произведений, с. 589—590.
42 См. интервью М. Дюфренна в
«Информационном бюллетене» № 3,
30.8.1972, с. 7—8.
43 Там же, с. 7.
МИКЕЛЬ ДЮФРЕНН.
ИСКУССТВО И ПОЛИТИКА
1 Dufrenne M. Jalons. La Haye, 1966,
p. 3.
2 Сэв Л. Современная французская
философия. M., 1968, с. 143—144.
3 Dufrenne M. Jalons, p. 2.
4 Sartre J. P. Critique de la raison
dialectique. T. I. Gallimard, 1960, p. 22.
НИКОЛА АББАНЬЯНО.
ПУТИ ПОЗИТИВНОГО
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА
1 Abbagnano N. Esistenzialismo positivo.
Torino, 1948; Introduzione ail' esistenzia-
lismo, II Saggiatore, Milano, 1967; Storia
délia filosofia, Torino, 1961, Vol. I, II.
2 Гарэн Э. Хроника итальянской
философии XX века. M., 1965, с. 470—471.
394
3 Abbagnano N. Introduzione all'esisten-
zi a lis mo, p. 11.
4 Ibid., p. 12.
5 Ibid.
6 См.: Abbagnano N. Esistenzialismo po-
sitivo, p. 34.
7 Ibid.
8 Ibid., p. 37.
9 Abbagnano N. Introduzione alTesisten-
zialismo, p. 23.
10 Ibid., p. 30.
11 Abbagnano N. Esistenzialismo positi-
vo, p. 29.
12 Abbagnano N. Storia della filosofia,
v. I, p. XV—XVI.
13 Abbagnano N. Introduzione all'esis-
tenzialismo, p. 77.
14 Abbagnano N. Storia della filosofia,
v. II, p. 332.
15 Abbagnano N. Esistenzialismo
positive p. 19—20.
16 Abbagnano N. Introduzione all'esis-
tenzialismo, p. 88.
17 Ibid., p. 130.
18 Ibid., p. 147.
19 Ibid., p. 151.
20 Ibid., p. 158.
21 Ibid., p. 181.
22 Ibid., p. 180.
23 Ibid., p. 183.
24 Ibid., p. 183—184.
25 Ibid., p. 184.
26 Ibid., p. 185.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Abbagnano N. Introduzione all'esis-
tenzialismo, p. 185.
30 Ibid., p. 186.
31 Abbagnano N. Esistenzialismo positi-
vo, p. 5.
32 Ibid., p. 6.
33 Ibid., p. 10—11.
34 Маркс К., Энгельс Φ. Из ранних
произведений. M., 1956, с. 591—592.
35 Там же, с. 592.
36 Там же, с. 596.
37 Там же.
38 Abbagnano N. Introduzione all'esis-
tenzialismo, p. 194.
39 Abbagnano N. Dizionario di filosofia.
Torino, 1961, p. 341—348.
40 Ibid., p. 342.
41 Ibid., p. 344.
42 Ibid., p. 345.
43 Ibid.
44 Ibid., p. 347.
45 Ibid.
46 Ibid., p. 347.
47 Ibid., p. 347—348.
48 Abbagnano N. Introduzione all'esis-
tenzialismo, p. 194.
49 Ibid., p. 195—196.
50 Маркс К., Энгельс Φ. Из ранних
произведений, с. 590—591.
51 Там же, с. 589—590.
52 Abbagnano N. Introduzione all'esis-
tenzialismo, p. 197.
53 Abbagnano N. Esistenzialismo positi-
vo, p. 43.
54 Ibid., p. 45.
55 Abbagnano N. Introduzione all'esis-
tenzialismo, p. 197.
56 Ibid., p. 198.
57 Маркс К., Энгельс Φ. Из ранних
произведений, с. 595—596.
58 Там же, с. 631.
59 Abbagnano N. Introduzione all'esis-
tenzialismo, p. 201.
ГВИДО МОРПУРГО-ТАЛЬЯБУЭ.
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОПЫТА
1 Morpurgo-Tagliabue G. Il concetto
dello stile. Milan, 1951;
Morpurgo-Tagliabue G. L'esthétique contemporaine. Milan,
1960; Morpurgo-Tagliabue G. Op. cit., p. 7.
2 Morpurgo-Tagliaque G. Op. cit., «Il
centro», 1968, № 11.
3 Ibid., p. 15.
4 Ibid., p. 11.
5 Ibid., p. 24.
6 Ibid., p. 28.
7 Morpurgo-Tagliabue G. L'esthétique
contemporaine, p. XX.
8 Ibid., p. 281.
9 Ibid., p. 324—325.
10 Ibid., p. 321.
11 Ibid., p. 322.
12 Ibid., p. 323.
13 Ibid., p. 331—332.
N Ibid., p. 341.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid., p. 597.
18 Ibid., p. 609—610.
19 Ibid., p. 599.
20 Ibid.
21 Ibid., p. 613.
22 Ibid., p. 460.
23 Morpurgo-Tagliabue G. L'esthétique
contemporaine, p. 600.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid., p. 459.
27 Ibid.
28 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 12,
с. 732.
395
ЖАК МАРИТЕН, ЭТЬЕН ЖИЛЬСОН.
АНТИНОМИИ
ЭСТЕТИКИ НЕОТОМИЗМА
1 Изучая «Метафизику» Аристотеля,
В. И. Ленин писал: «Схоластика и
поповщина взяли мертвое у Аристотеля, а не
живое: запросы, искания, лабиринт,
заплутался человек. Логика Аристотеля
есть запрос, искание, подход к логике
Гегеля,— а из нее, из логики Аристотеля
(который всюду, на каждом шагу ставит
вопрос именно о диалектике), сделали
мертвую схоластику, выбросив все
поиски, колебания, приемы постановки
вопросов» (Ленин В. И. Философские
тетради. Поли. собр. соч., т. 29, с. 326.)
2 Gilson Ε. L'Esprit de la philosophie
médiévale. P., Vrin. 1948.
3 Gilson E. L'Être et l'essence. P., Vrin.
1948.
4 Gilson E. L'Esprit de la philosophie
médiévale, p. VII.
5 Ibid., p. 15.
6 Ibid., p. 30.
7 Ibid., p. 32—33.
8 Ibid., p. 51.
9 Ibid., p. 63.
10 Ibid., p. 24.
11 Античные философы.
Свидетельства, фрагменты, тексты. Изд-во Киевского
университета, 1955, с. 22.
12 Gilson E. L'Esprit de la philosophie
médiévale, p. 245.
13 Ibid., p. 149—150.
14 Аристотель. Риторика. Спб., 1894,
с. 40.
15 См.: Tatarkiewicz W. Historia estety-
ki, t. II, s. 299.
16 Ibid., s. 302—303.
17 Ibid., s. 302.
18 См.: Tatarkiewicz W. Historia estety-
ki, t. II, s. 302.
19 Ibid., s. 302—303.
20 Аристотель. Поэтика. M.,
Гослитиздат, 1957, с. 127.
21 Жак Мари те н (Jacques Maritain)
родился 18 ноября 1882 года в Париже.
Учился философии в Сорбонне у
Бергсона. После женитьбы на Раисе Орманце-
вой, эмигрировавшей из России, и после
перехода обоих супругов в католичество
(1906) он продолжал занятия у
известного немецкого философа Дриша в Гей-
дельберге. С 1913 года преподавал новую
историю в католическом институте по
изучению средневековья (Торонто,
Канада). Эпизодически преподавал в
Колумбийском университете (Нью-Йорк).
С 1945 по 1948 год был послом Франции
при Ватикане, после этого — доцентом
Принстонского университета. Вначале
горячий поклонник философии Бергсона,
Мари те н выступил затем с ее критикой.
Написал большое количество работ по
самым различным философским
проблемам: по эстетике (Art et scolastique, 1920;
Situation de la poésie, 1938; Gréative
Intuition in Art and Poetry, 1953; Frontières de
la poésie, 1935, etc.); теории познания
(Réflexions sur l'intelligence et sur sa vie
propre, 1923; Distinguer pour unir, ou les
degrés du savoir, 1932; Quatre essais sur
l'esprit dans sa condition charnelle, 1939);
онтологии (Sept leçons sur l'être, 1934,
Court traité de l'existence et de l'existant,
1947, etc.) (Humanisme·integral, 1936; La
personne et le bien commun, 1947,
L'homme et l'état, etc.) и др. Является
признанным вождем неотомизма, одним из
самых крупных авторитетов
неотомистской философии. Хотя на словах Мари-
тен и отвергает возврат к средневековью,
фактически вся его философия является
попыткой «христианизации»
современной культуры и искусства, попыткой
вернуть их на религиозную основу,
наполнить их религиозным содержанием.
Прогресс рассматривается им как рост
религиозности.
22 Maritain У. Art et scolastique, 1947,
p. 55—56.
23 Маркс К., Энгельс Φ. Из ранних
произведений, с. 560.
24 Там же, с. 564.
25 Maritain J. La responsabilité de
l'artiste, Paris, 1961, p. 42—43.
26 Ibid., p. 44.
27 Маркс К., Энгельс Φ. Из ранних
произведений, с. 563.
28 Там же, с. 561.
29 Maritain J. La responsabilité de
l'artiste, p. 71.
30 Ibid., p. 72.
31 Ibid.
32 Maritain J. Distinquer pour unir on
les degrés du savoir, P., 1940, p. 217.
33 Ibid., p. 221.
34 Maritain J. Creative Intuition in Art
and Poetry, New York, 1953, p. 120.
35 Husserl E. Logische Untersuchungen,
Bd I, Halle, 1913, S. 372—373.
36 Maritain J. Distinguer pour unir ou
les degrés du savoir, p. 217—218.
37 Ibid., p. 218.
38 Ibid., p. 219.
39 Ibid., p. 220.
4Ü Ibid., p. 224.
396
41 Maritain J. Art et scolastique, p. 144.
42 Ibid., p. 145.
43 Ibid., p. 15.
44 Ibid., p. 16.
45 Ibid., p. 24.
46 Ibid., p. 143.
47 Ibid., p. 124.
48 Ibid., p. 102.
49 Ibid., p. 97—98.
50 Ibid., p. 98.
51 Ibid., p. 99.
52 Ibid., p. 109—110.
53 Maritain J. La responsabilité de
l'artiste, p. 108.
54 См.: Maritain J. Art et scolastique,
p. 108.
55 Ibid., p. 109.
56 Maritain J. La responsabilité de
l'artiste, p. 16.
57 Ibid., p. 78.
58 Ibid., p. 80.
59 Maritain J. Art et scolastique, p. 37.
60 Ibid., p. 42.
61 Ibid.
62 См.: Maritain J. Creative Intution in
Art and Poetry, New York, 1953, p. 163—
164.
63 Ibid., p. 197.
64 Maritain J. Art et scolastique, p. 40.
65 Ibid., p. 40.
ь6 Этьен Жильсон, доктор философии,
один из вождей неотомизма, родился
13 июня 1884 года в Париже, изучал
философию в Сорбонне. С 1913 года был
профессором университета в Лилле,
с 1919 — в Страсбурге, в 1921 — 1932 —
профессор средневековой философии
в Сорбонне, с 1932 — в Коллеж де
Франс, с 1929 — директор Института по
изучению средневековья в Торонто
(Канада). В 1946 году его приняли в члены
Французской академии. Большая часть
его работ посвящена истории
философии, главным образом истории
средневековой философии (Le Thomisme, 1921;
L'esprit de la philosophie médiévale, 1932—
1934—1951, etc.); теории познания
(Réalisme thomiste et la critique de la
connaissance, 1939); онтологии (L'être et
l'essence, 1948); эстетике (Les idées et les
lettres, 1932, Peinture et réalité) и др.
Основал два журнала: «Archives d'Histoire
doctrinale et littéraire du Moyen âge».
«Etudes de philosophie médiévale».
Жильсон — горячий сторонник
средневековой культуры, которую он считает
до сих пор непревзойденной.
67 См.: Tatarkiwcz W. Historia estetiki,
t. II, s. 302.
00 Gilson E. Peinture et réalité, p., 1961,
p. 331.
69 Gilson E. Le Thomisme, Paris, 1965,
p. 24.
70 Gilson E. Peinture et réalité, p. 15.
71 Ibid., p. 24.
72 Ibid.
73 Ibid., p. 58.
74 Maritain J. Distinguer pour unir ou
le degrés du savoir, Paris, 1940, p. 221.
75 Gilson E. Peinture et réalité, p. 49.
76 Ibid., p. 52.
77 См.: Ibid., p. 53—54, 85—86, 89, 91,
93, 96.
78 К. Маркс, Φ. Энгельс об искусстве,
т. 1. М., «Искусство», 1957, с. 143.
79 Там же.
АЛЬБЕР КАМЮ —
«ГЛАВНАЯ СИЛА КУЛЬТУРНОГО
ПОЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ»
1 Camus A. Essais. Bibliothèque de la
Pléiade, Paris, Gallimard, 1965, p. 6.
2 Ibid., p. 10.
3 Ibid., p. 12.
4 Ibid., p. 56.
5 Ibid., p. 49.
6 Ibid.
7 Ibid., p. 61.
8 Ibid., p. 63.
9 Camus A. Théâtre, Récits, Nouvelles.
Bibliothèque de la Pléiade. P., Gallimard,
1962, p. 1142.
10 Ibid.. p. 1155.
11 Ibid.
12 Ibid., p. 1168
13 Ibid., p. 1211.
14 Ibid., p. 1212.
15 Camus A. Essais, p. 97.
16 Ibid., p. 1424.
17 Ibid., p. 128—129.
18 Ibid, p. 115.
19 Ibid, p. 116.
20 Ibid, p. 128.
21 Ibid, p. 117—118.
22 Ibid, p. 133.
23 Ibid, p. 134 примеч.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid, p. 99.
27 Ibid, p. 138.
28 Ibid, p. 142.
29 Ibid.
30 Ibid, p. 145—146.
31 Ibid, p. 151.
32 Достоевский Φ. M. Бесы. Собр. соч.
в 12-ти т., т. 8, с. 230—232.
397
33 Camus Л. Essais, p. 154.
34 Ibid., p. 173.
35 Ibid.
36 Ibid., p. 174.
37 Ibid.
38 Ibid., p. 175.
39 Ibid., p. 176.
40 Ibid.
41 Ibid., p. 177.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Ibid., p. 178.
45 Ibid., p. 178—179.
46 Ibid., p. 182.
47 Достоевский Φ. M. Бесы. т. 8, с. 229.
48 Camus A. Essais, р. 185.
49 Достоевский Ф. М. Бесы. т. 9, с. 214.
50 Camus A. Essais, р. 186—187.
51 Достоевский Φ. М. Братья
Карамазовы. М., 1981. ч. II, с. 510—511.
52 Camus A. Essais, р. 188.
53 Ibid., р. 197.
54 Ibid., р. 198.
55 Ibid., р. 219.
56 Ibid., р. 224.
57 Ibid., р. 241.
58 Ibid., р. 242—243.
59 Эсхил. Трагедии. М., «Искусство»,
1978, с. 137, 146.
60 Там же, с. 147—148.
61 Camus Α. Essais, р. 423.
62 Ibid., р. 424.
63 Ibid., р. 426.
64 Ibid., р. 430.
65 Ibid., р. 431.
66 Ibid., р. 432.
67 Ibid., р. 435.
68 Ibid., р. 657.
69 Ibid., р. 658.
70 Ibid., р. 659.
" Ibid., р. 661.
72 Ibid., р. 662.
73 Ibid., р. 666.
74 Ibid., р. 668.
75 Ibid., р. 670.
76 Ibid.
77 Ibid., p. 672.
78 Ibid., p. 673.
79 Ibid.
80 Ibid., p. 675.
81 Ibid.
82 Ibid., p. 676.
83 Ibid., p. 675.
84 Ibid., p. 677.
85 Ibid., p. 678.
86 Ibid., p. 679—680.
87 Ibid., p. 1071 — 1072.
88 Ibid., p. 1073.
89 Ibid., p. 1079.
90 Ibid., p. 1080.
91 Ibid., p. 1082.
92* Ibid., p. 1083.
93 Ibid., p. 1085.
94 Ibid.
95 Ibid., p. 1086.
96 Ibid., p. 1087.
97 Ibid., p. 1088.
98 Ibid., p. 1089.
99 Ibid., p. 1090.
100 Ibid., p. 1091.
101 Ibid., p. 1092.
102 Ibid., p. 1093—1094.
103 il:j _ лппа
,v" Ibid., p. W4o— ШУ4.
103 Ibid., p. 1096.
104 Sartre J.-P. Situations, IV, P.,
Gallimard, 1964, p. 127—128.
105 Camus A. Carnets, I, Mai 1935 —
Février 1942. P., 1962, p. 40.
106 Ibid., p. 285.
107 Camus A. Carnets II, Janvier 1942 —
Mars 1951, P., 1964, p. 21.
СОДЕРЖАНИЕ
От автора
3
Серен Киркегор — предтеча современного
экзистенциализма
7
Эдмунд Гуссерль. Entweder — oder феноменологии
43
Мартин Хайдеггер. Онтология познания и культуры
63
Карл Ясперс. Философия экзистенции
88
Хосе Ортега-и-Гасет. Дегуманизация культуры
110
Роман Ингарден. Идеальный предмет
феноменологического анализа
149
Морис Мерло-Понти. Смысл и Бессмыслица
168
Жан-Поль Сартр. Основания свободы
199
Микель Дюфренн. Искусство и политика
235
Никола Аббаньяно. Пути позитивного
экзистенциализма
270
Гвидо Морпурго-Тальябуэ.
Феноменология эстетического опыта
298
Жак Маритен, Этьен Жильсон.
Антиномии эстетики неотомизма
312
Альбер Камю — главная сила культурного поля
современности
344
Примечания
388
Долгов К. M.
Д64 От Киркегора до Камю: Очерки европейской фи-
лософско-эстетической мысли XX века.— М.:
Искусство, 1990.— 399 с.
ISBN 5-210-00104-0
Книга представляет собой фундаментальное исследование
современного состояния западноевропейской эстетической мысли.
Концепции С. Киркегора, Э. Гуссерля, М. Мерло-Понти, Ж.-П. Сартра,
А. Камю, М. Хайдеггера и других западных философов XX в.
получают в книге глубокое истолкование. Автор приходит к выводу о том,
что, несмотря на многие спорные положения и немалые различия во
взглядах, все эти мыслители развивают глубоко гуманистические
воззрения на мир и человека.
Для специалистов — эстетиков, искусствоведов, а также
читателей, интересующихся проблемами современной культуры.
0301080000-147
025(01)90
Константин Михайлович
Долгов
От Киркегора до Камю
Редактор Л. Р. Мариупольская
Художник В. В. Джемесюк
Художественный редактор И. В. Балашов
Технический редактор Т. Б. Любина
Корректор А. С. Назаревская
И. Б. № 4129. Сдано в набор 13.10.89. Подписано в печать 26.03.91.
Формат издания 60X88/16. Бумага типографская № 1. Гарнитура тип
тайме. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,425. Усл. кр.-отт. 24,425. Уч.-
изд. л. 27,975. Изд. № 17551. Тираж 25 000 экз. (II завод 10 001 — 25 000.)
Заказ 1393. Цена 3 руб. Издательство «Искусство». 103009, Москва,
Собиновский пер., 3. Набрано в Ленинградской типографии № 2 головного
предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения
«Техническая книга» им. Евгении Соколовой Государственного
комитета СССР по печати. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29.
Отпечатано в Ленинградской типографии № 4 Государственного комитета
СССР по печати. 191126, Ленинград, Социалистическая ул., 14.