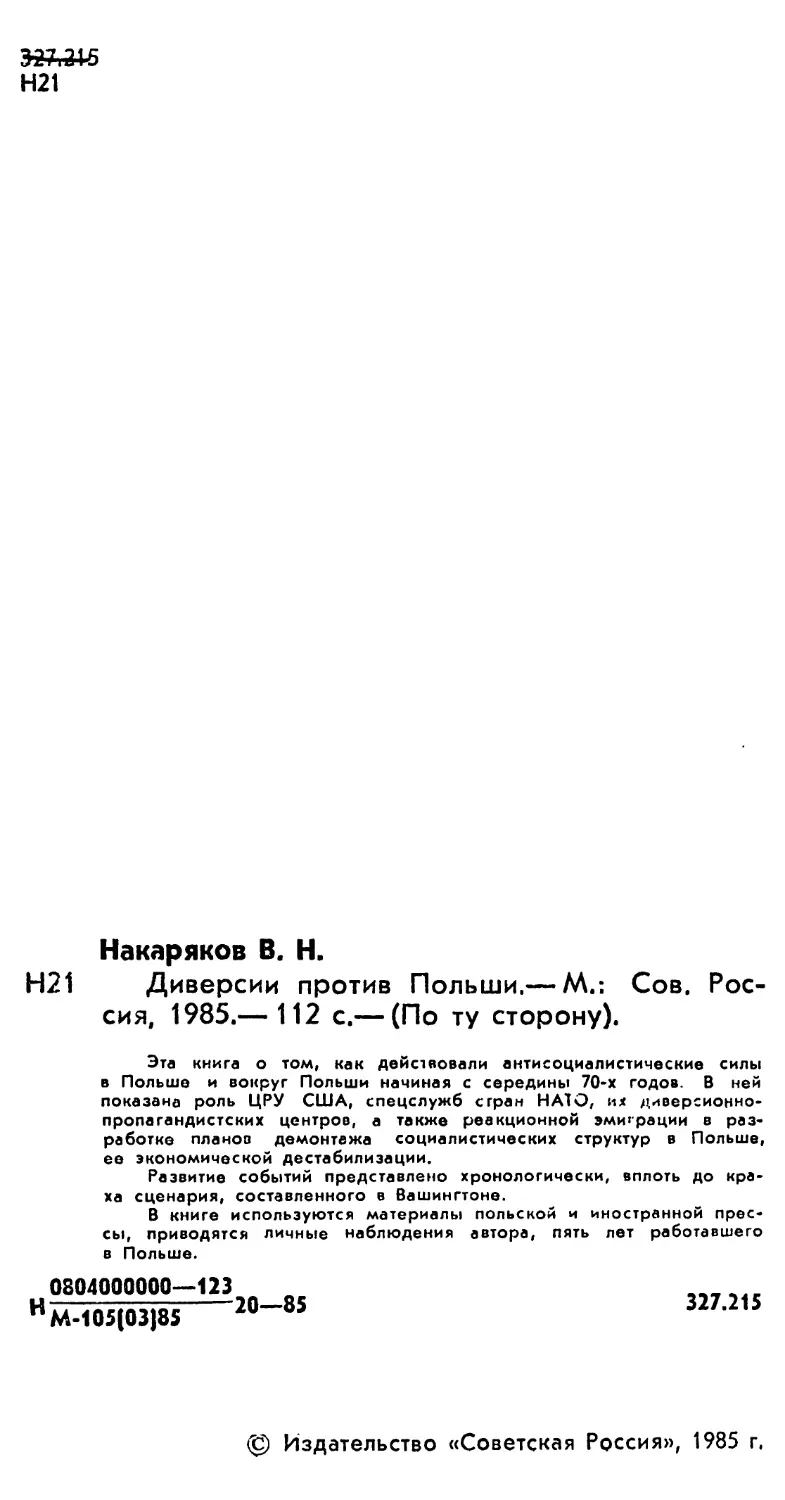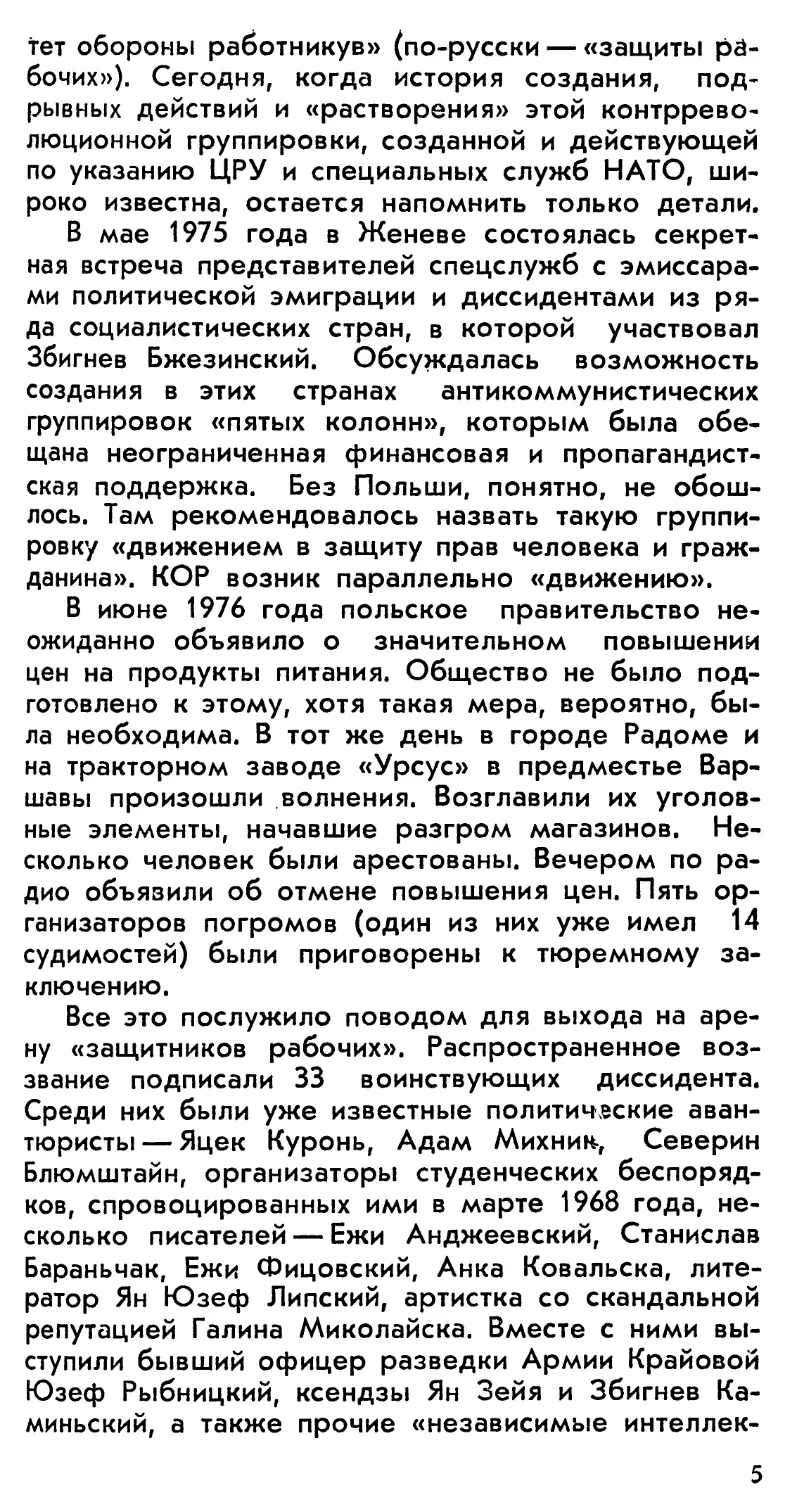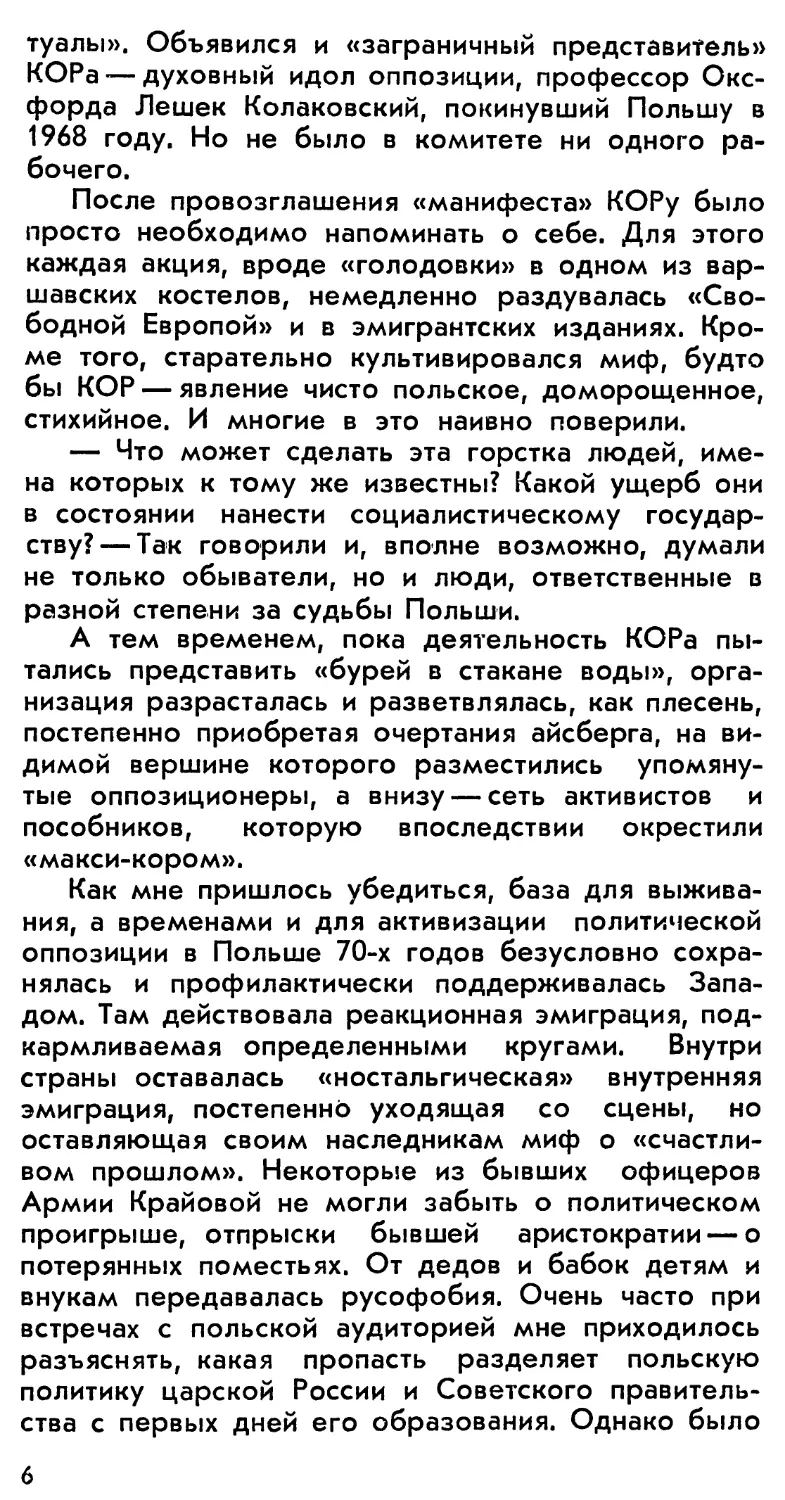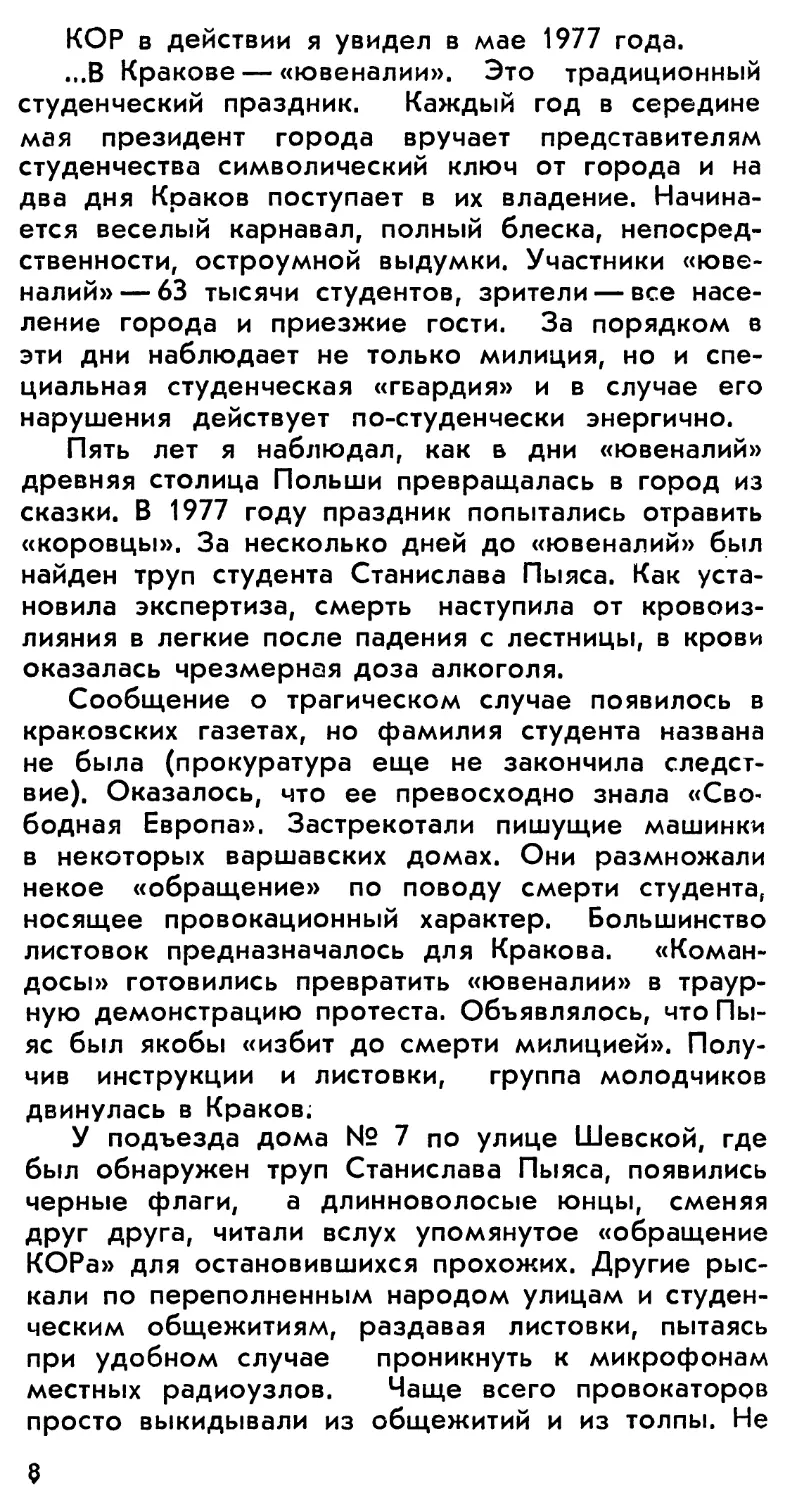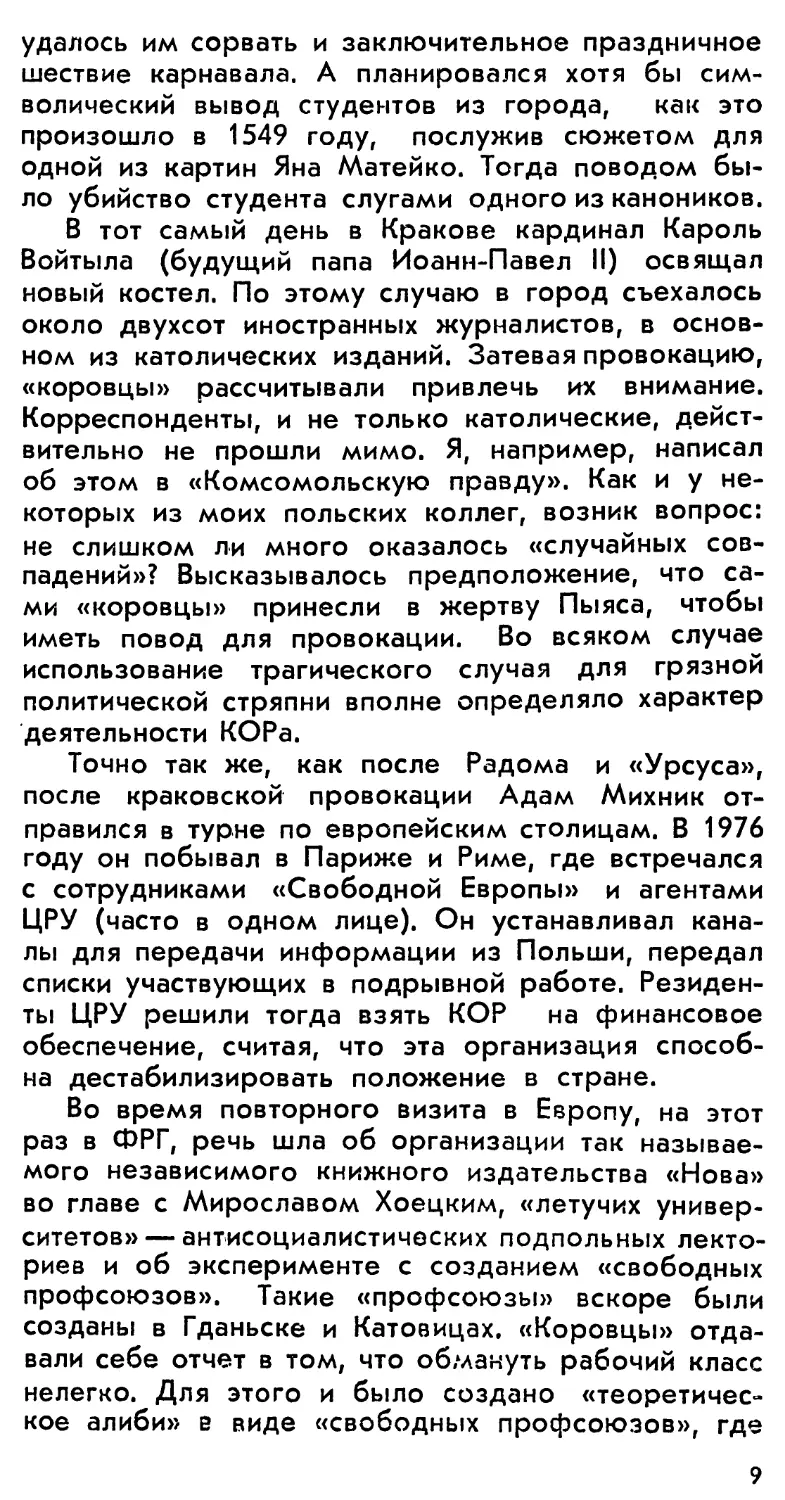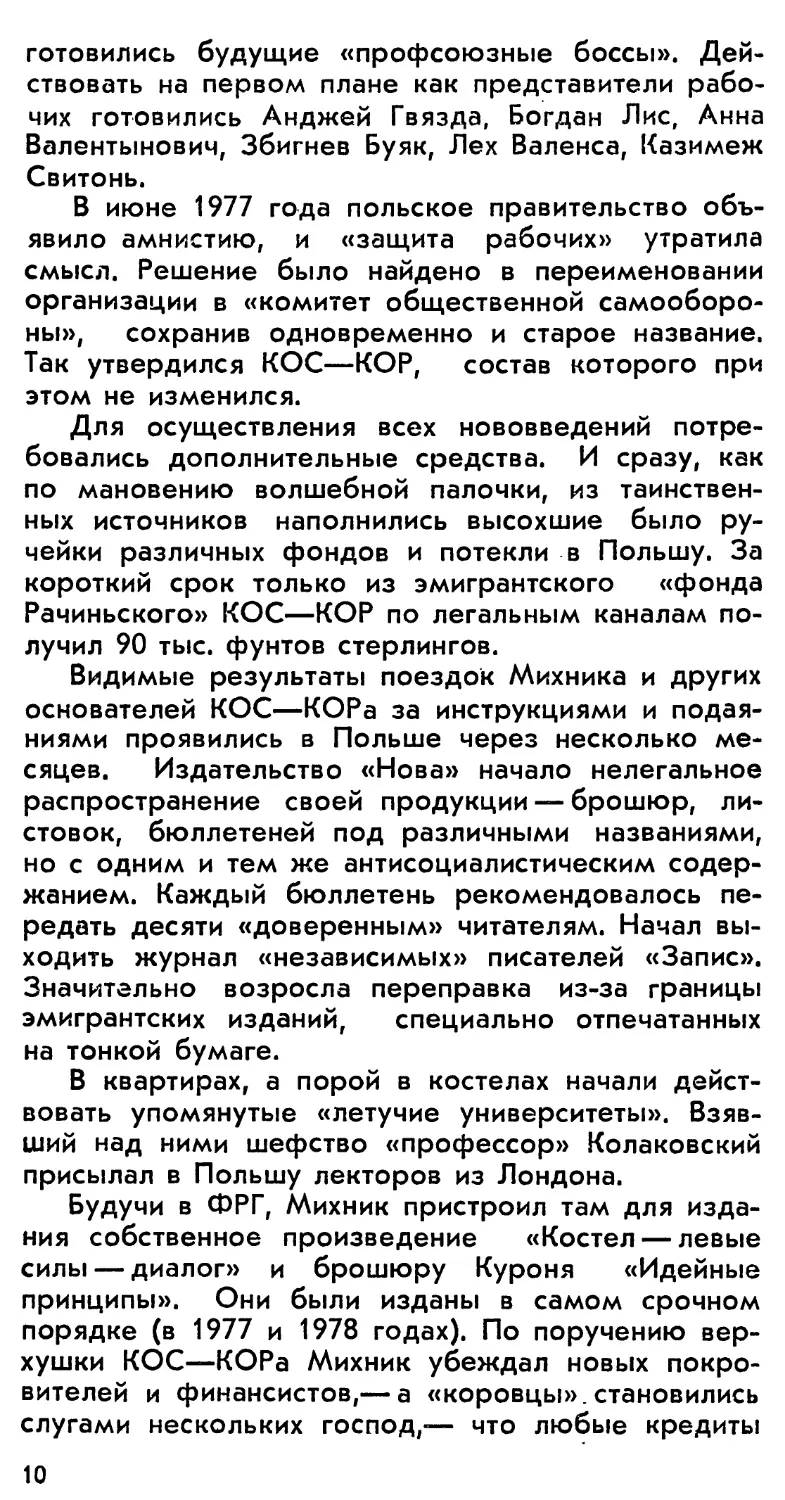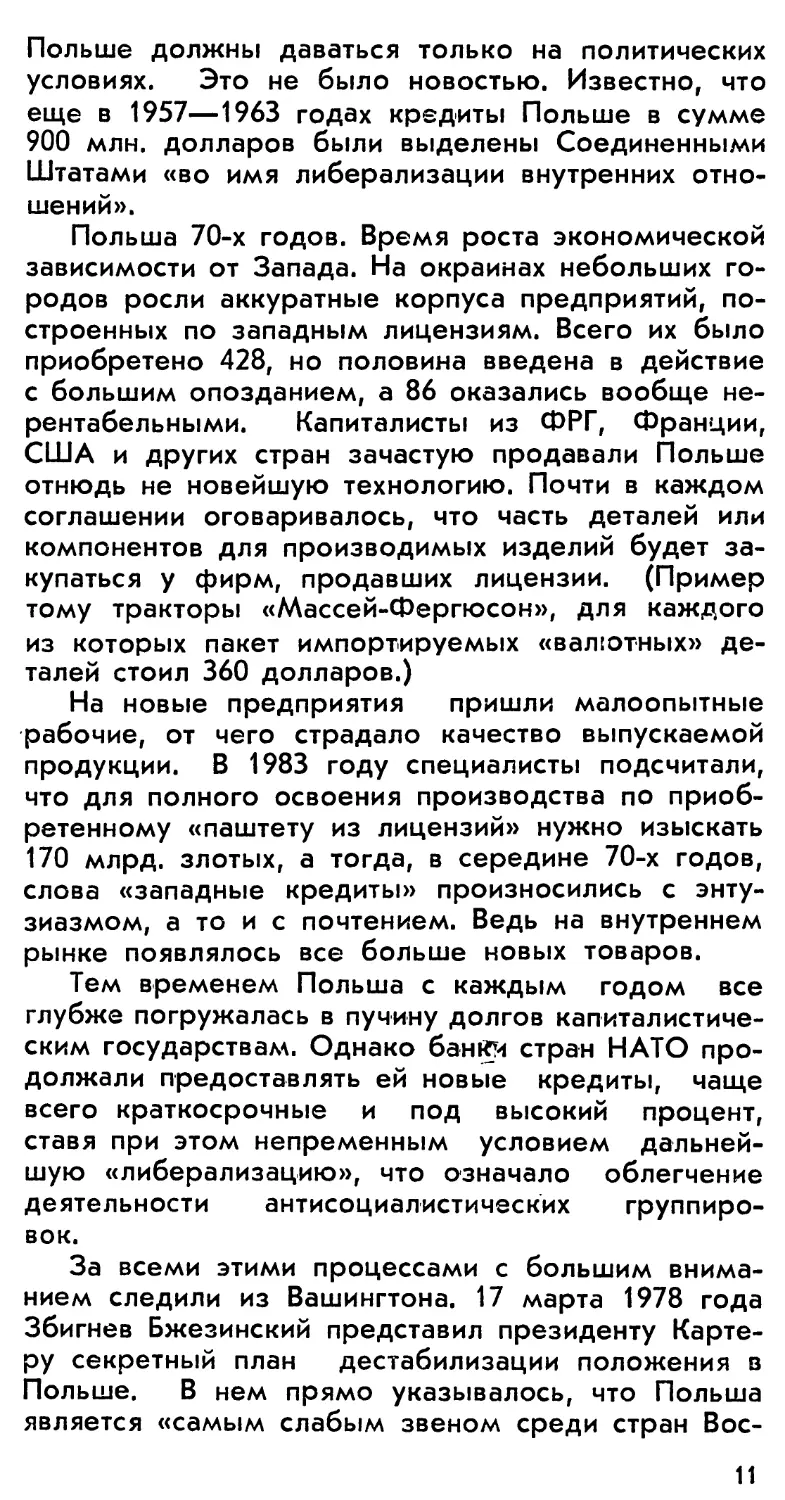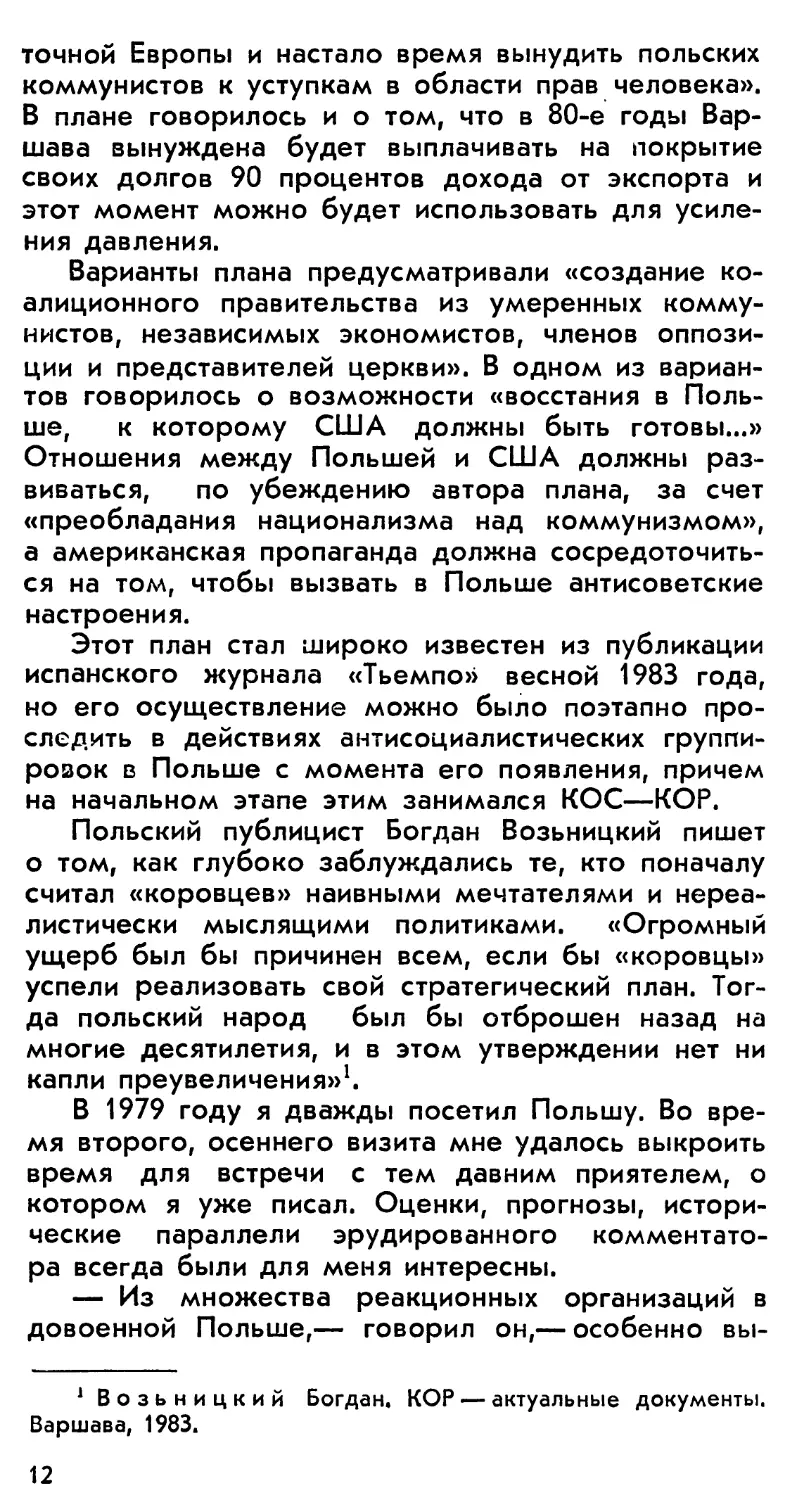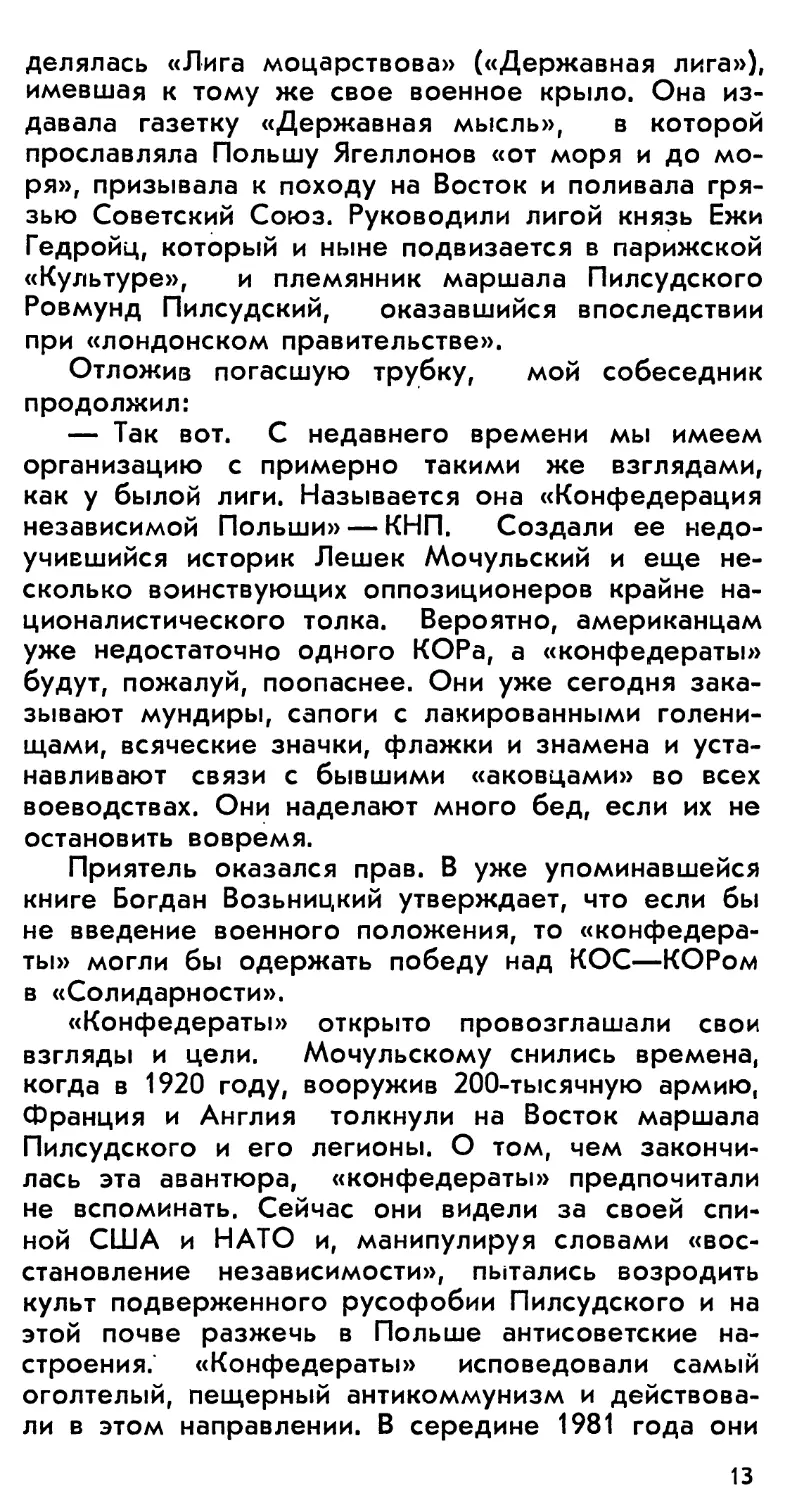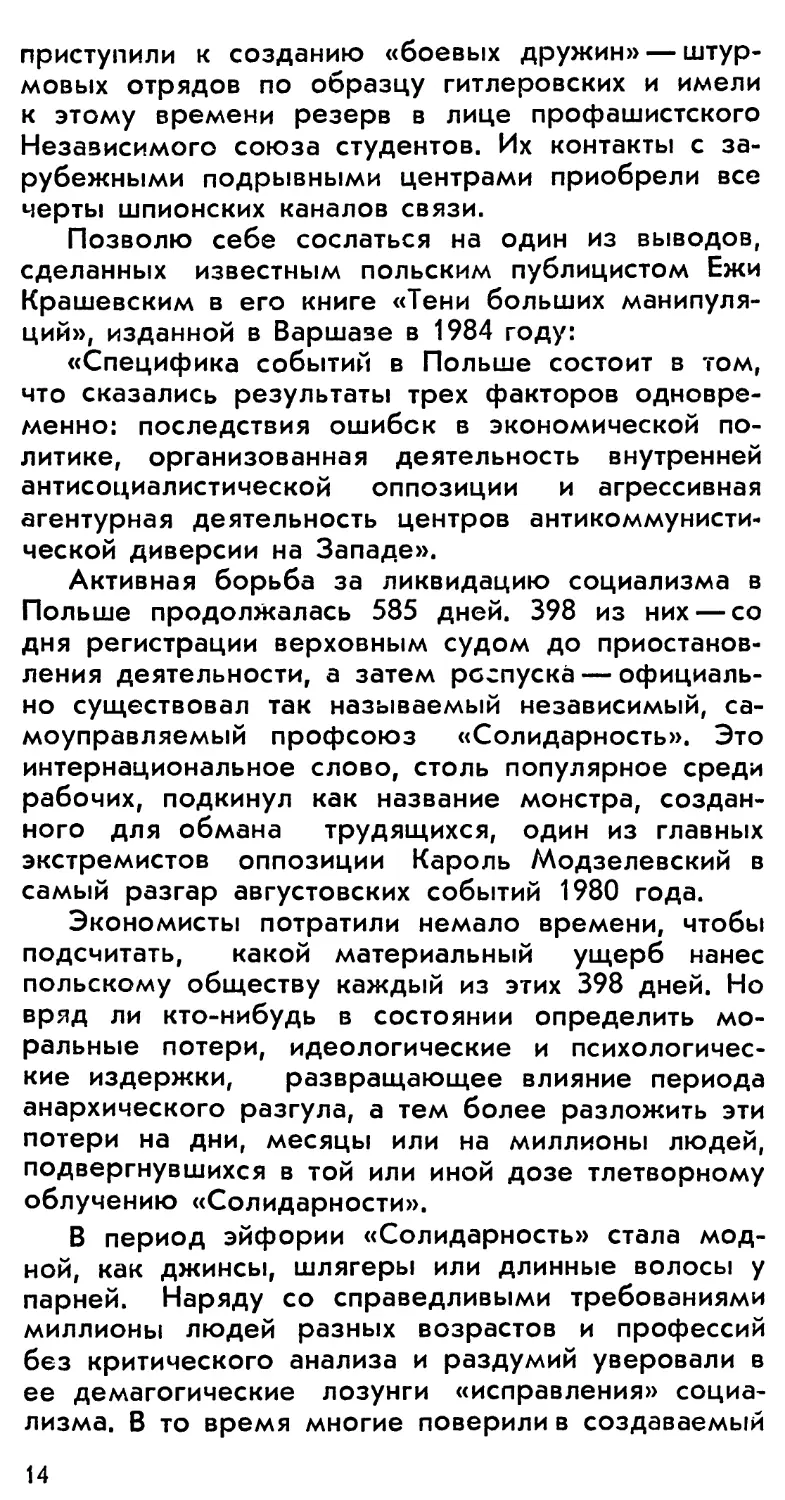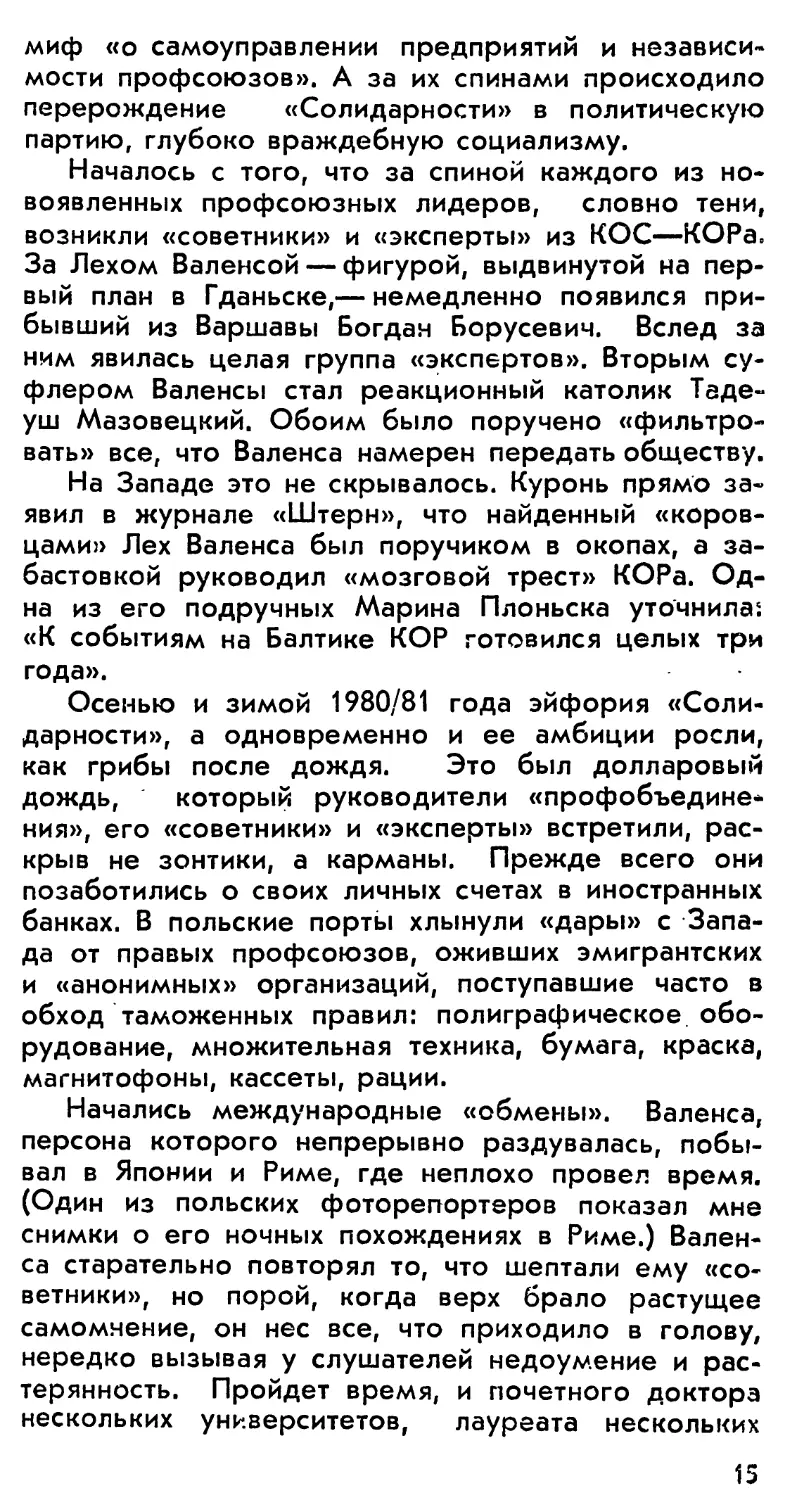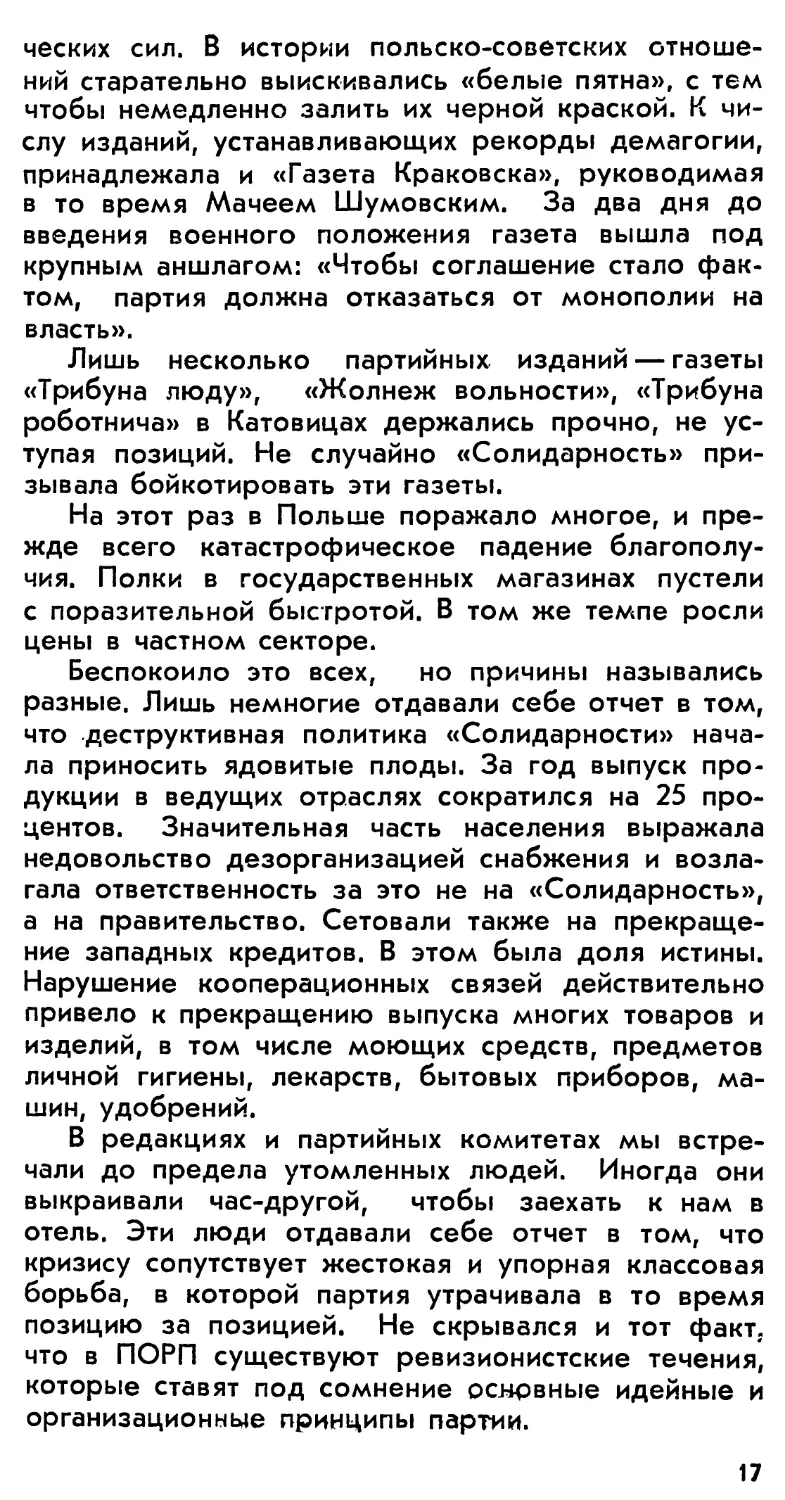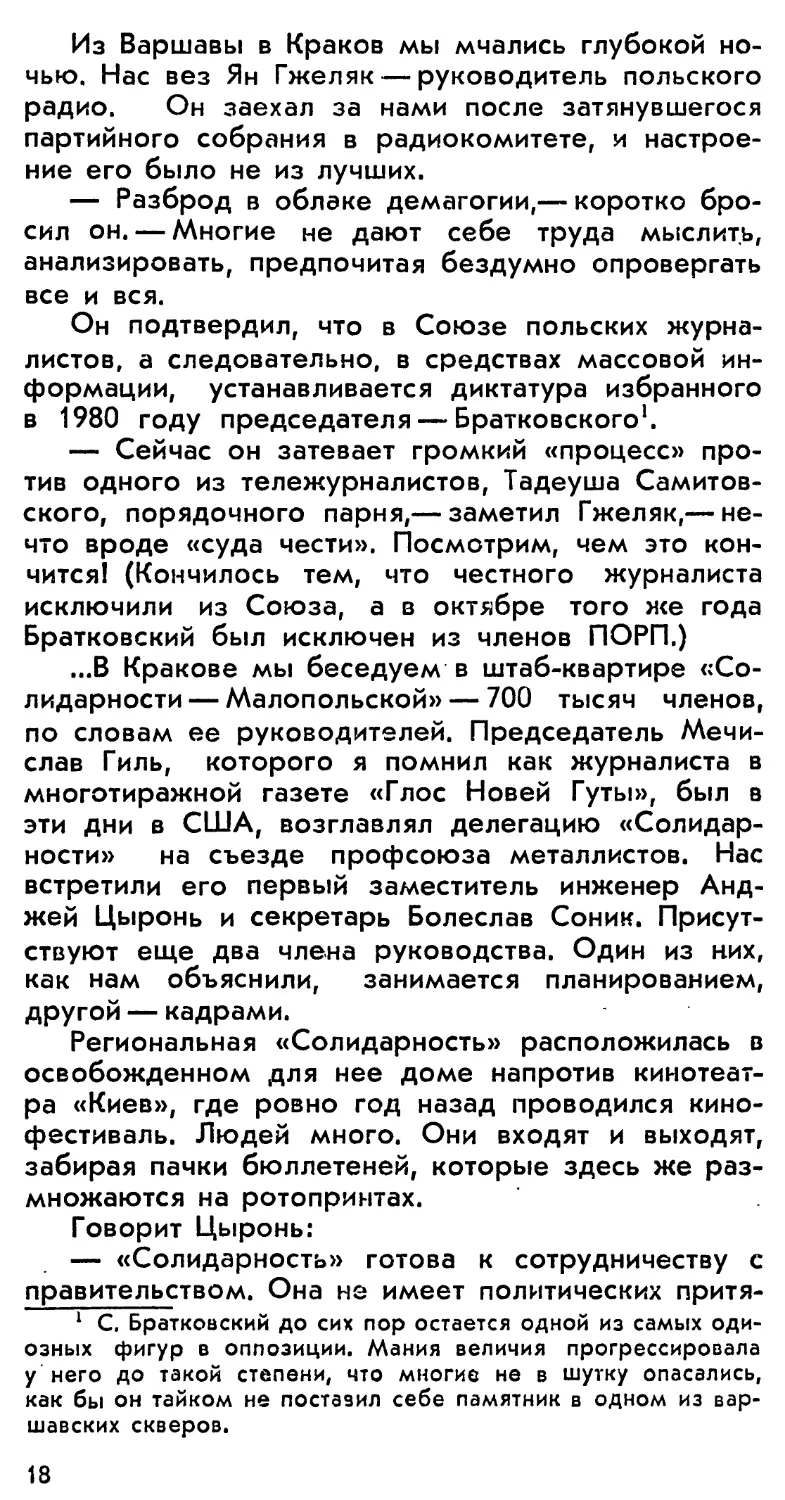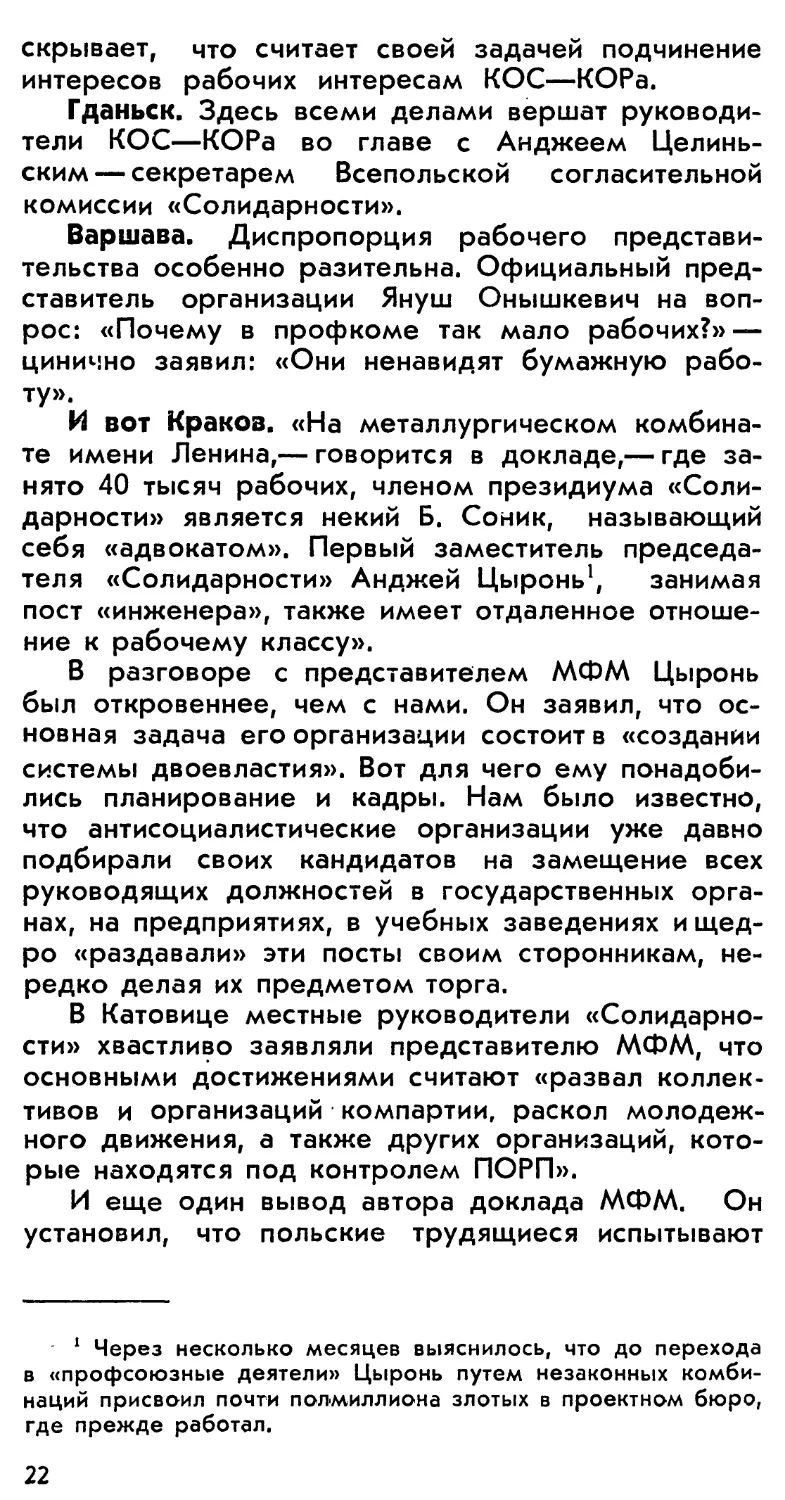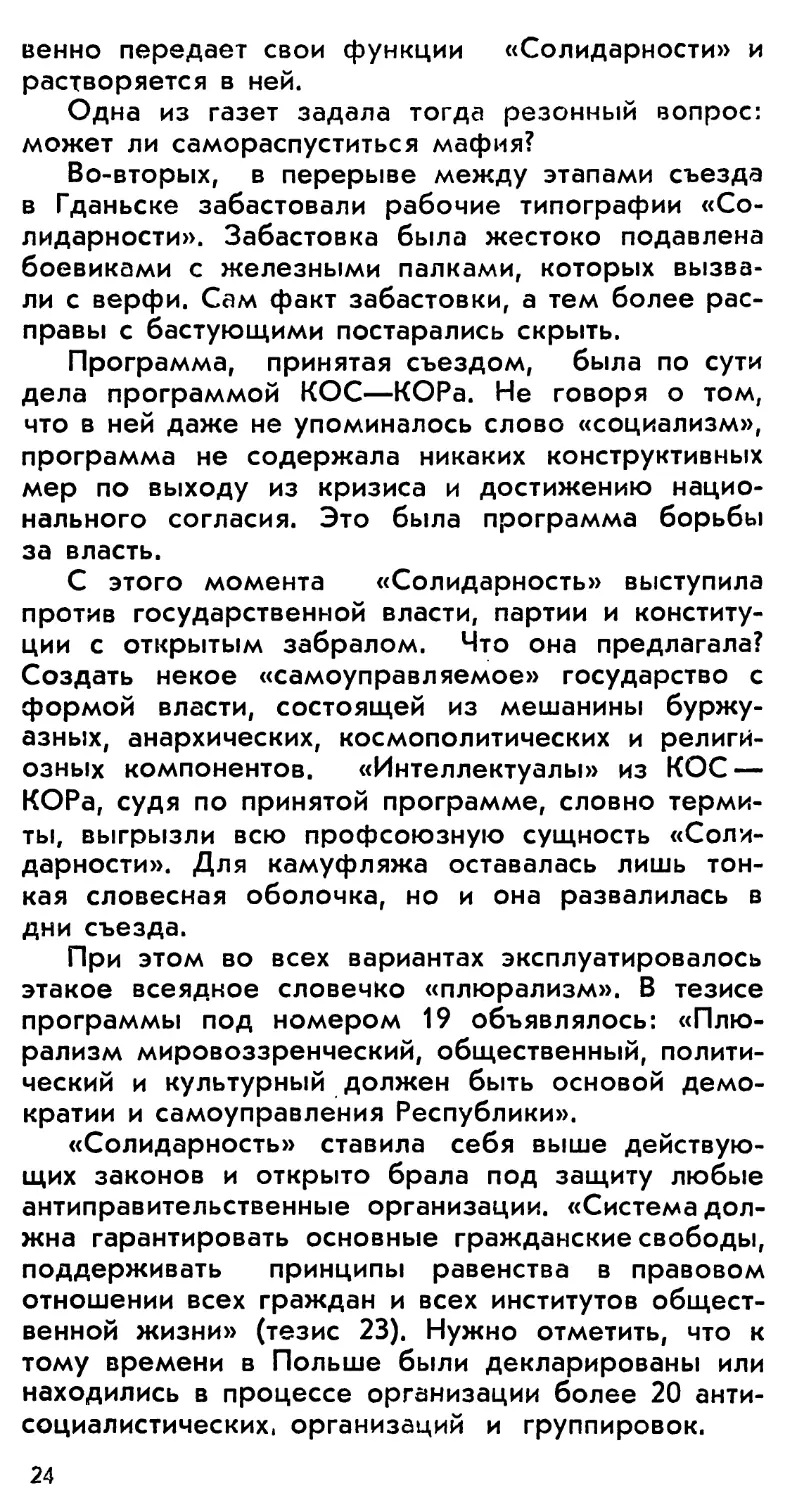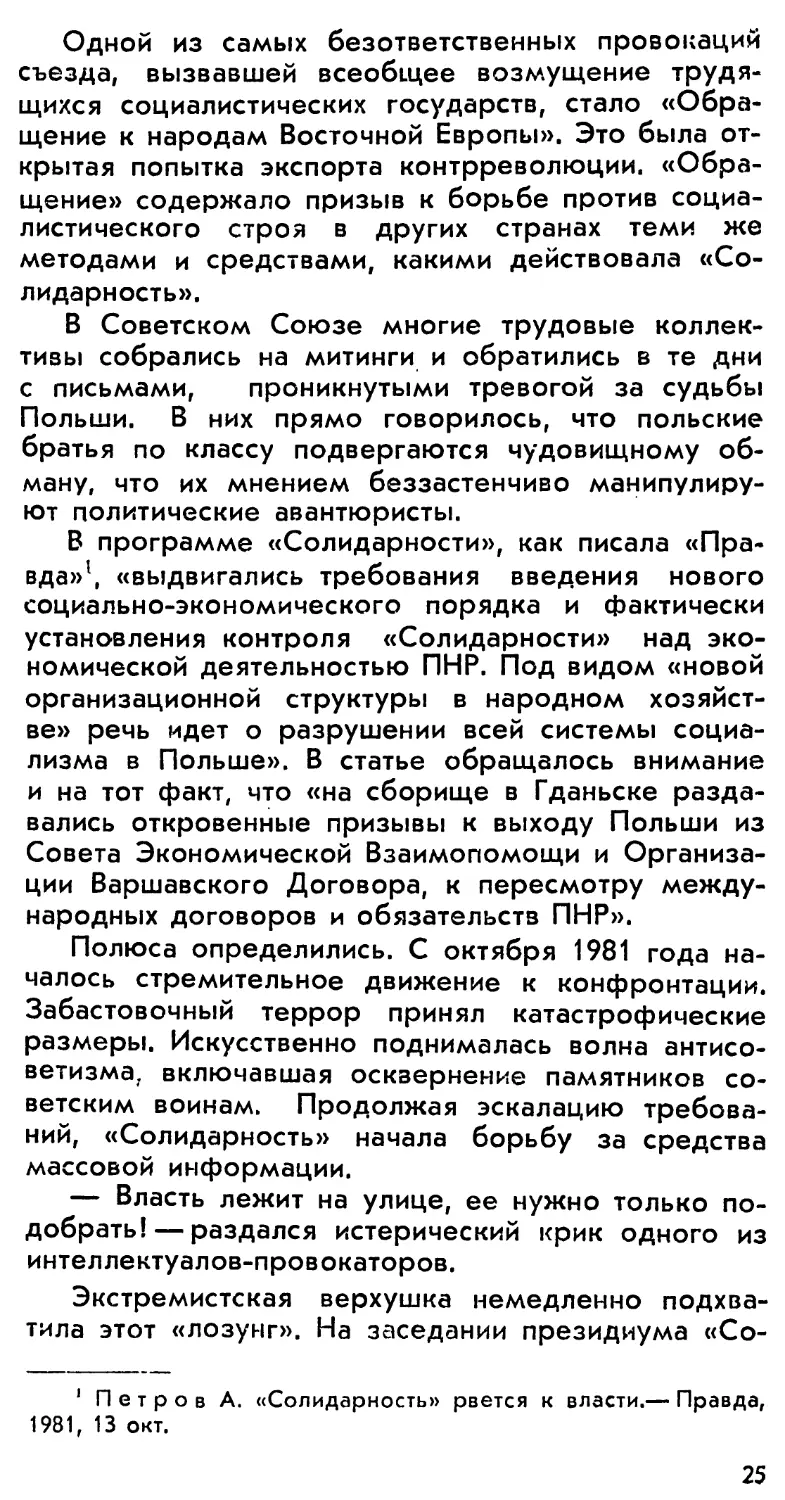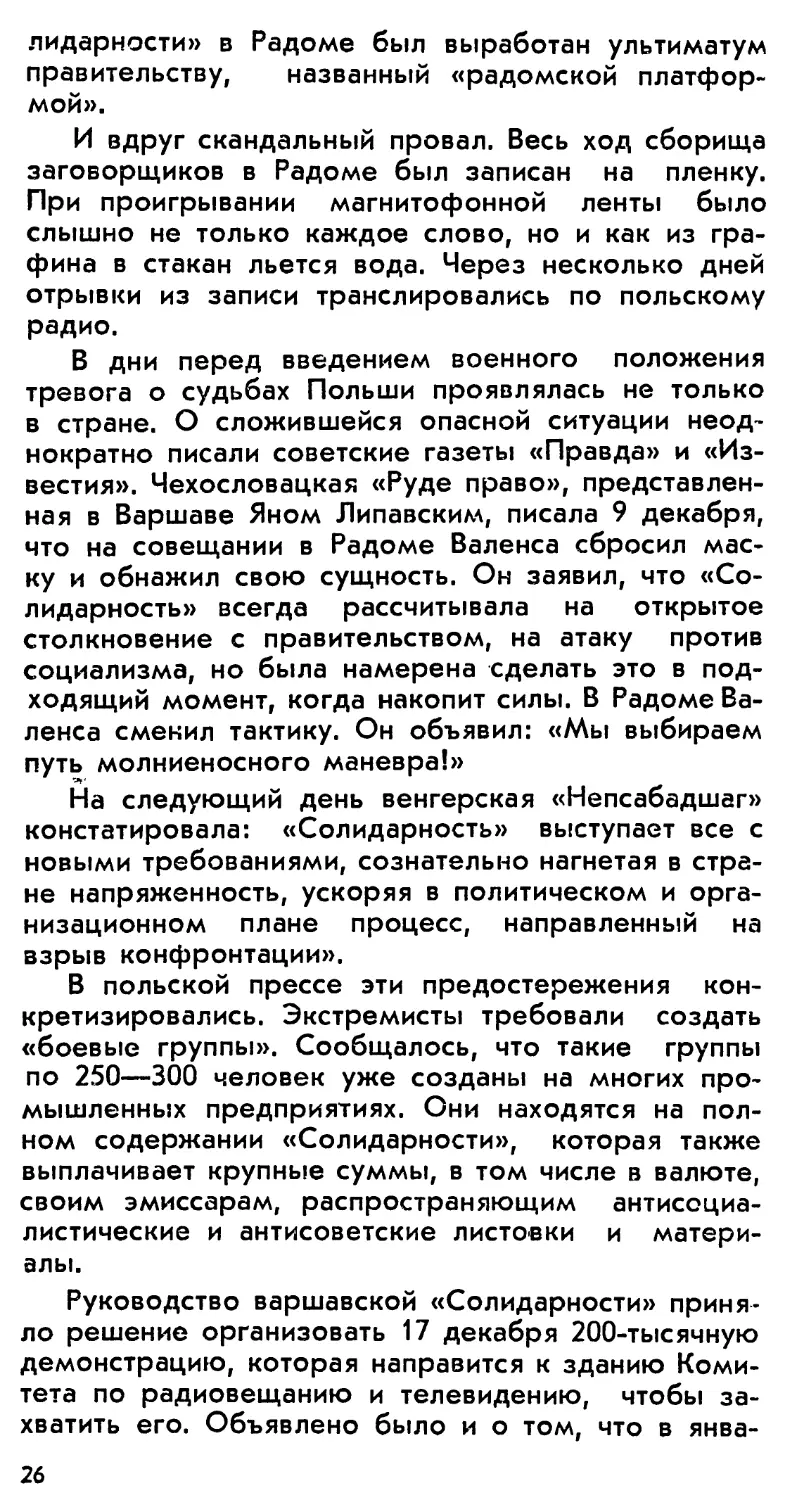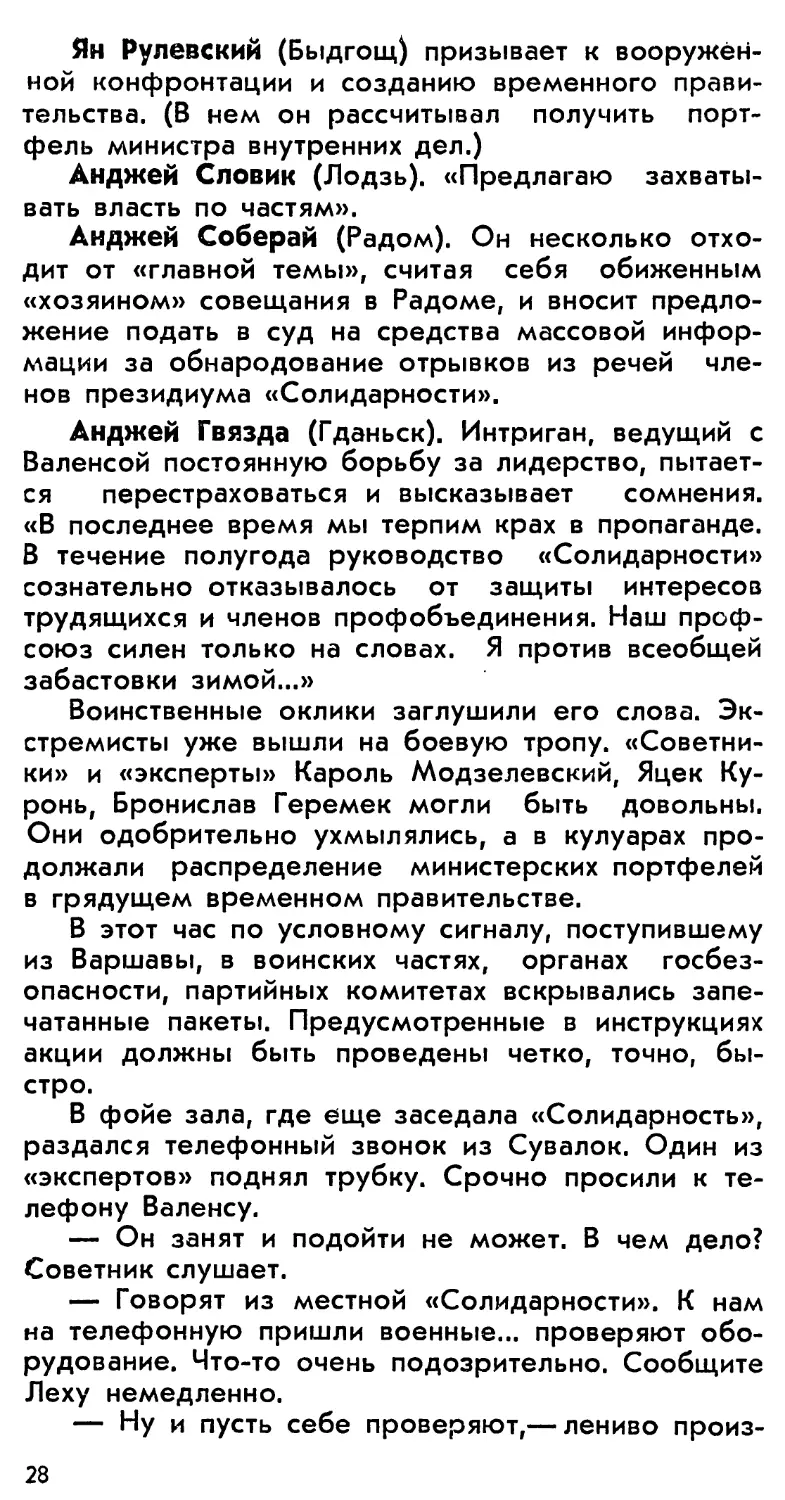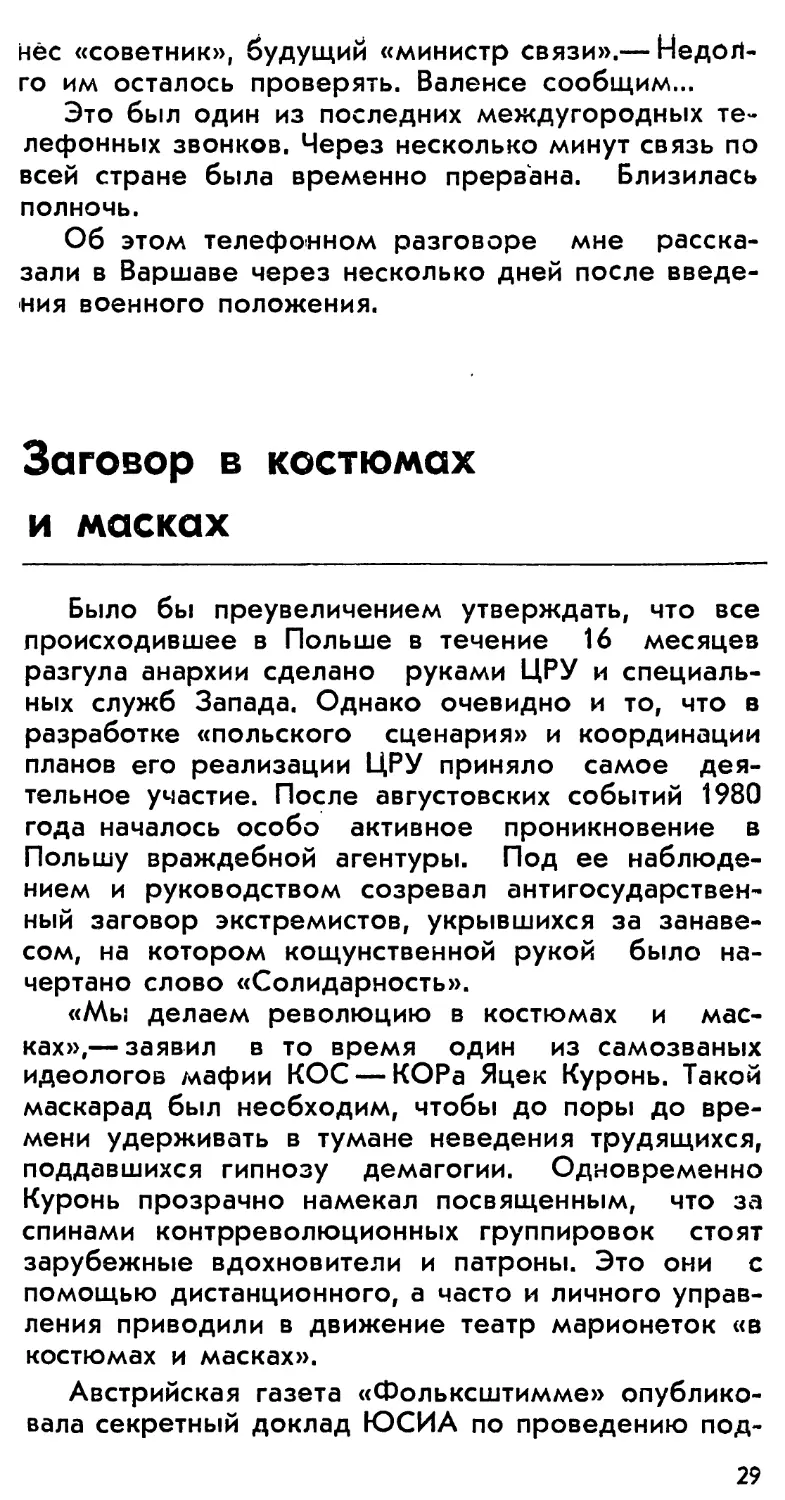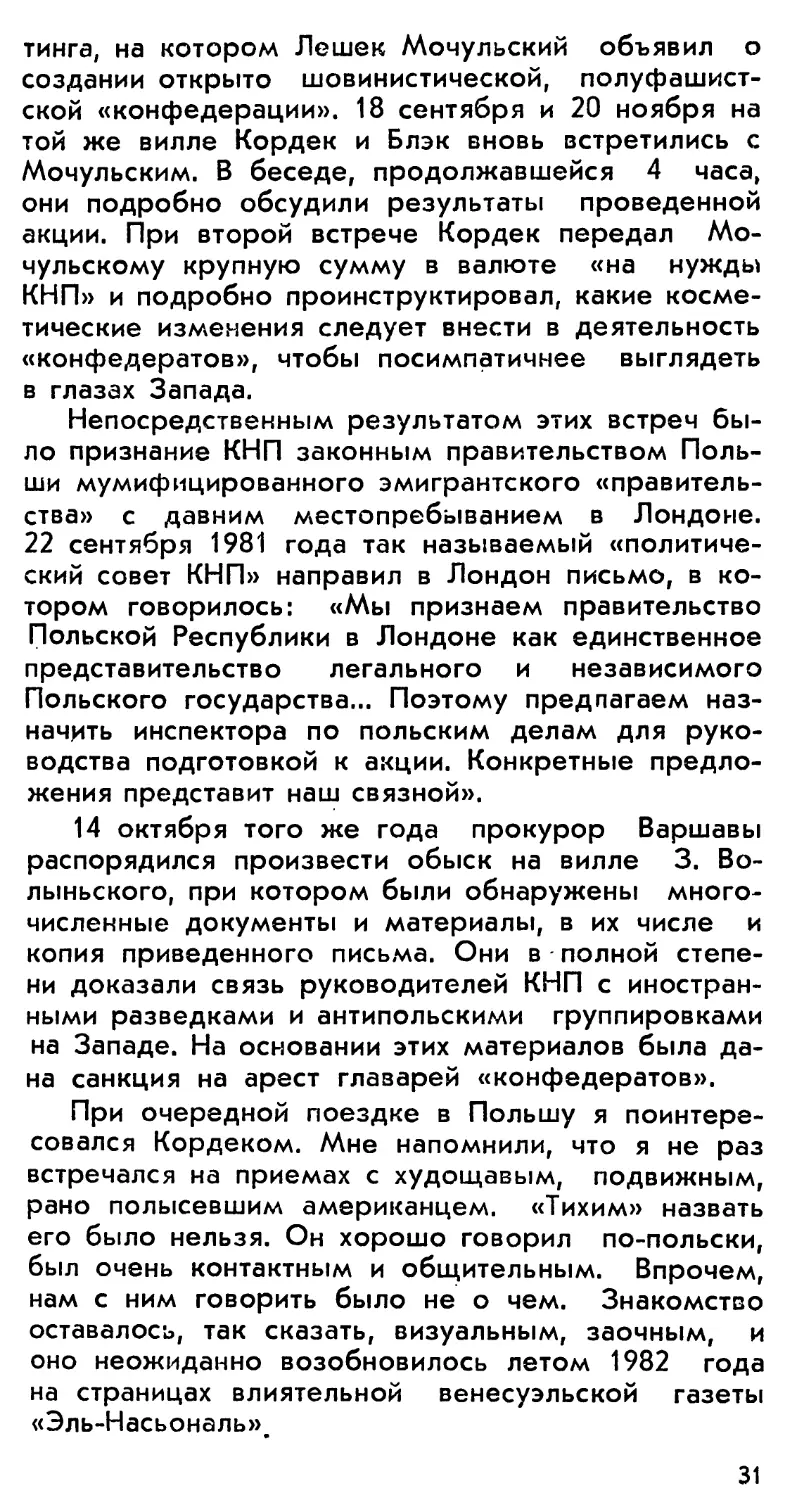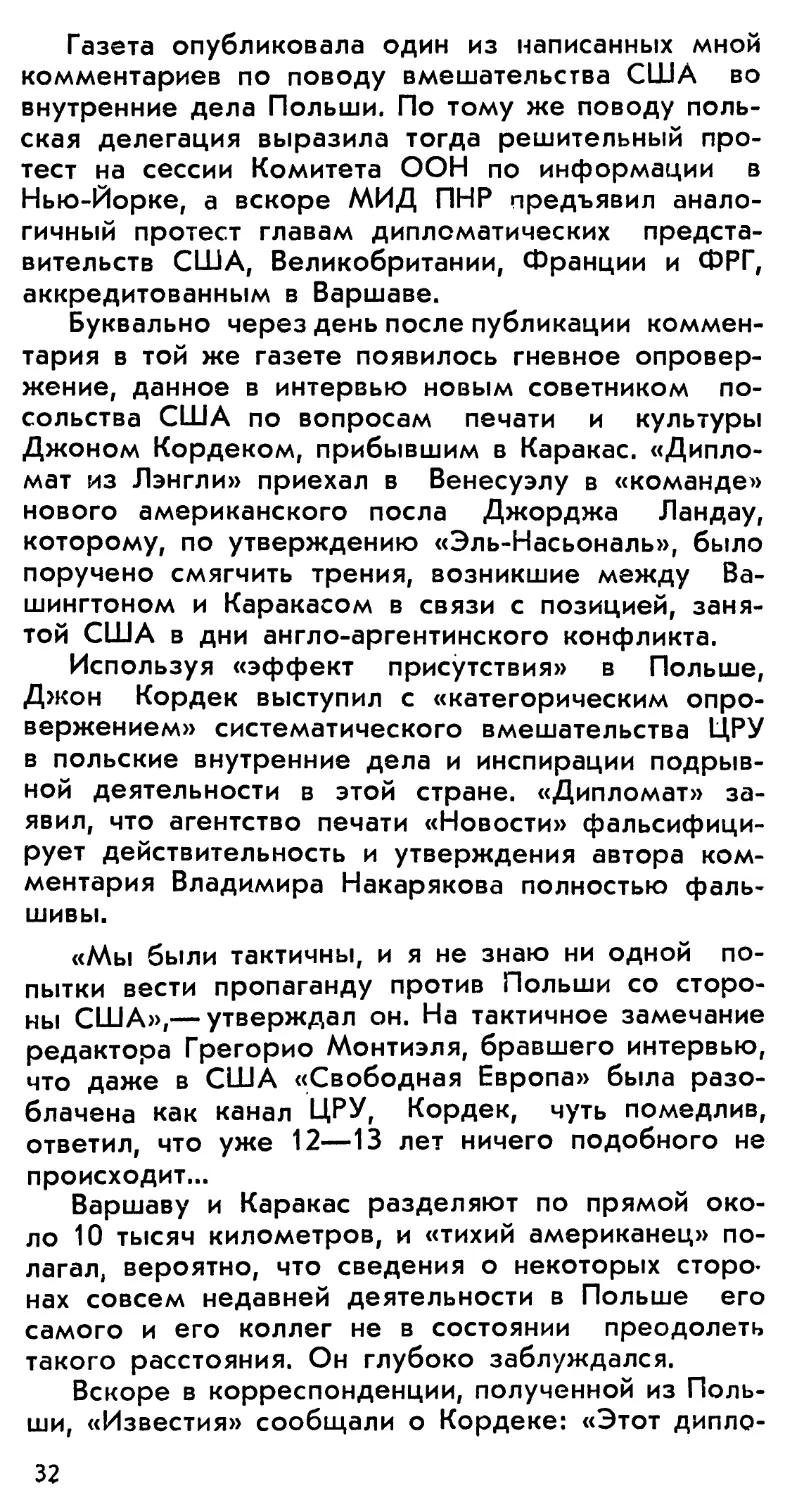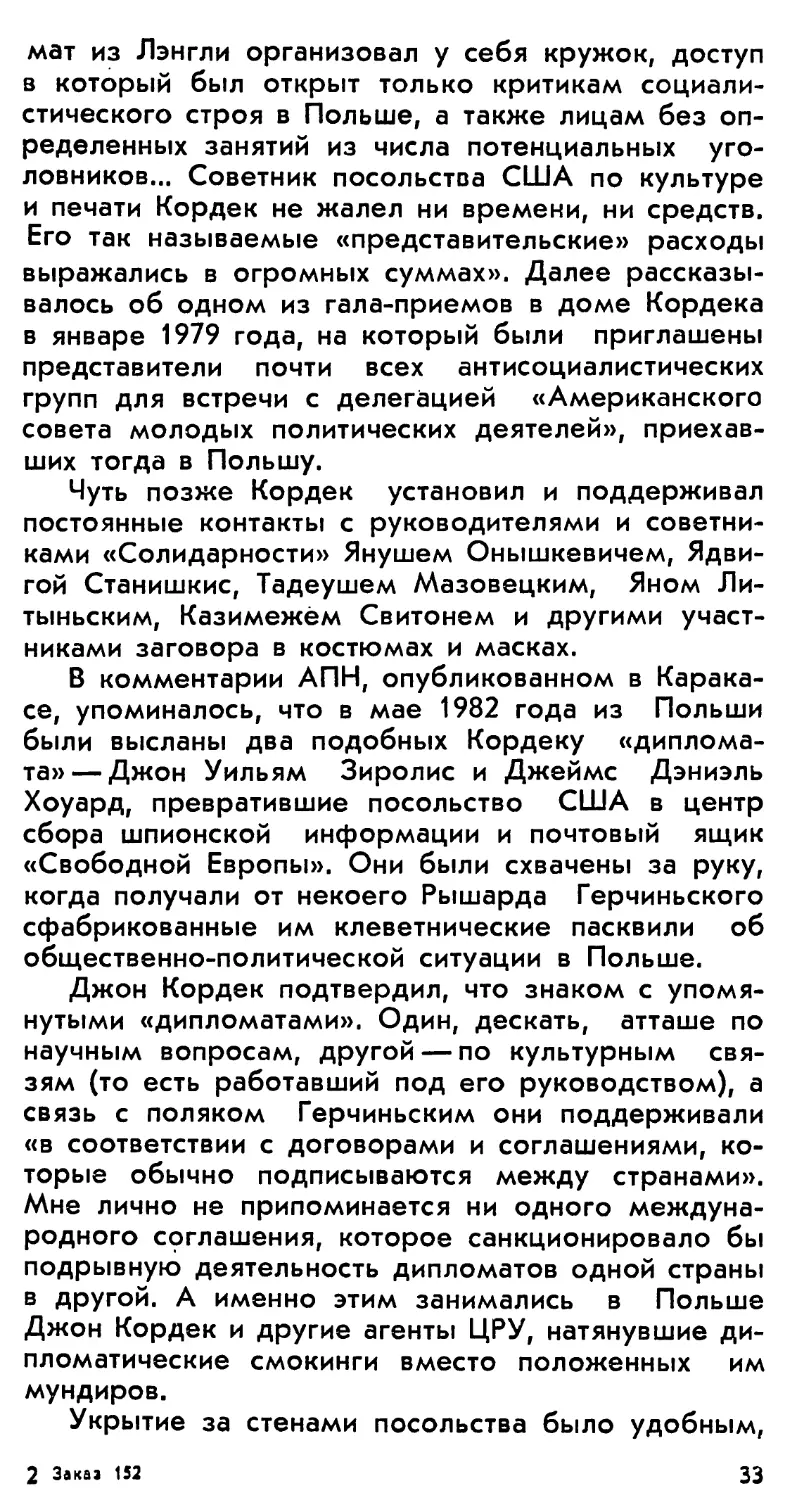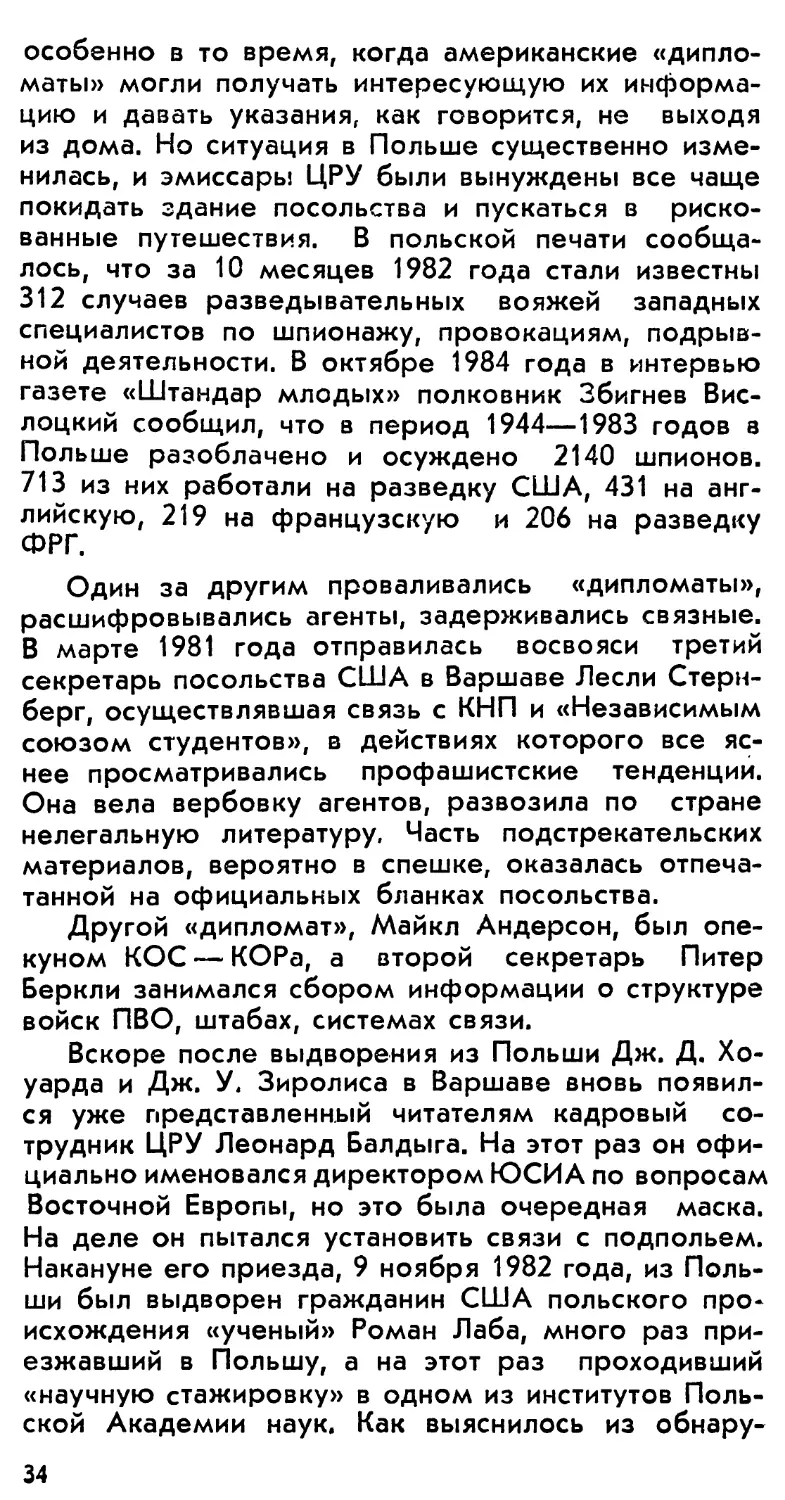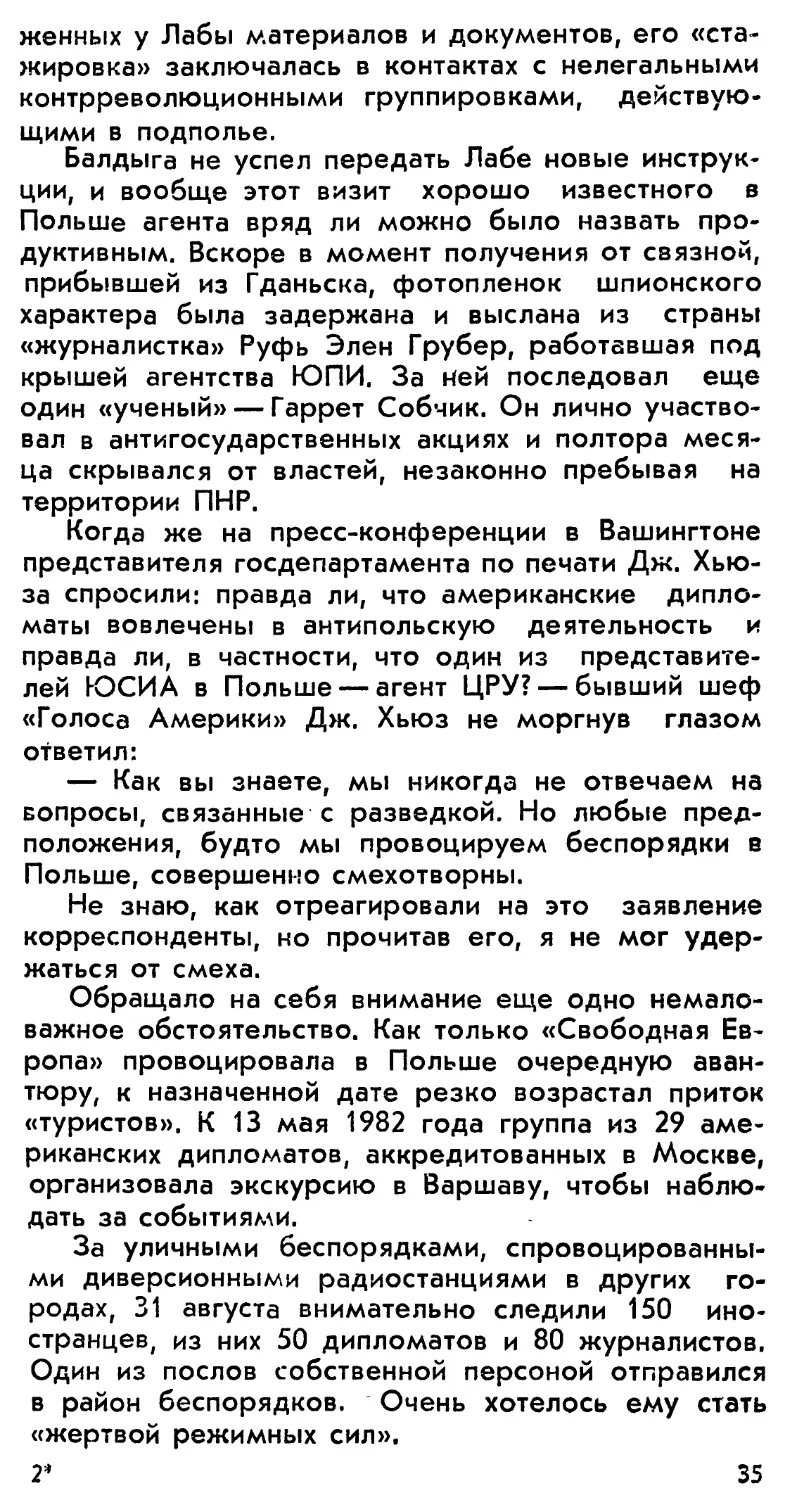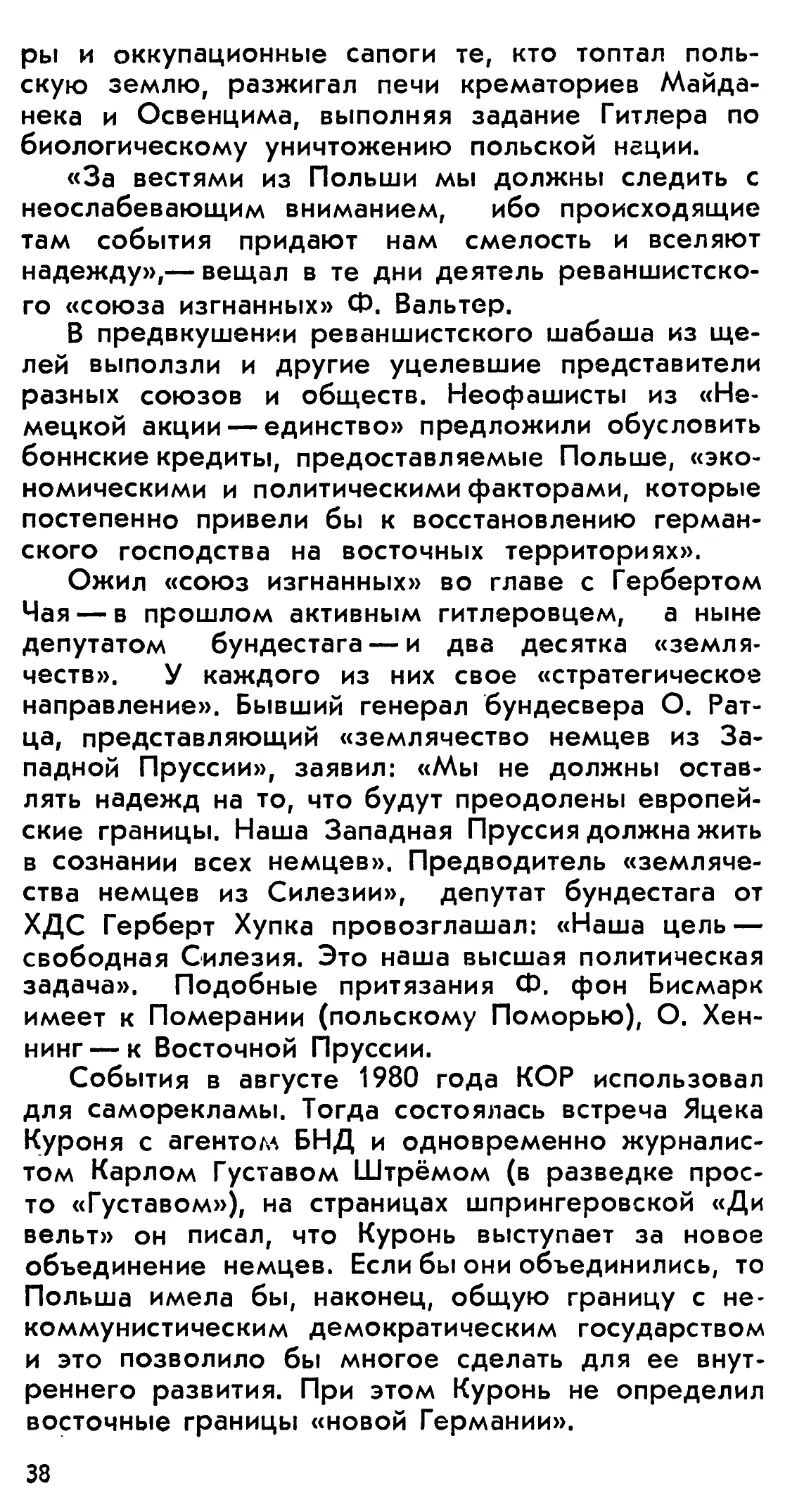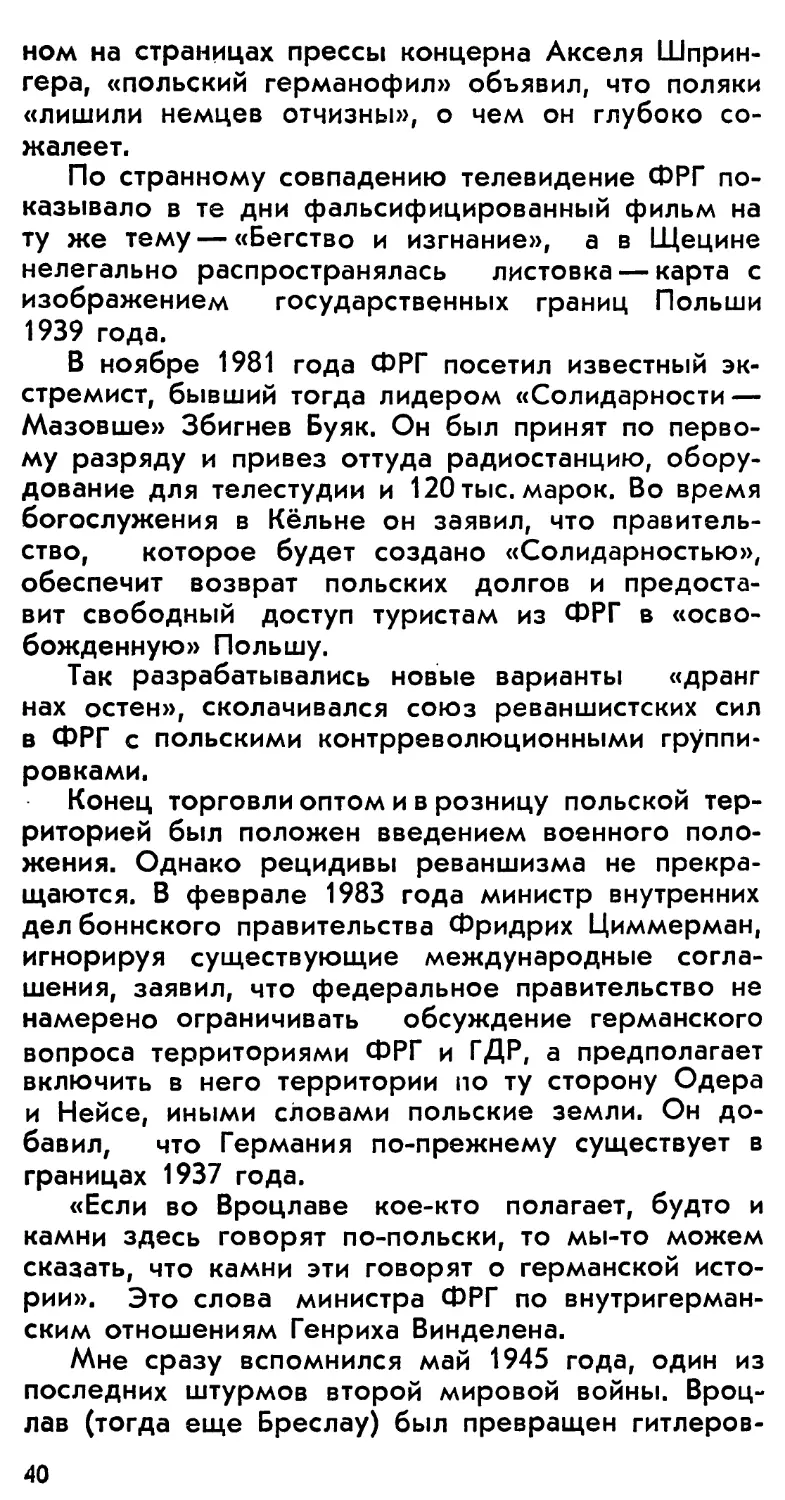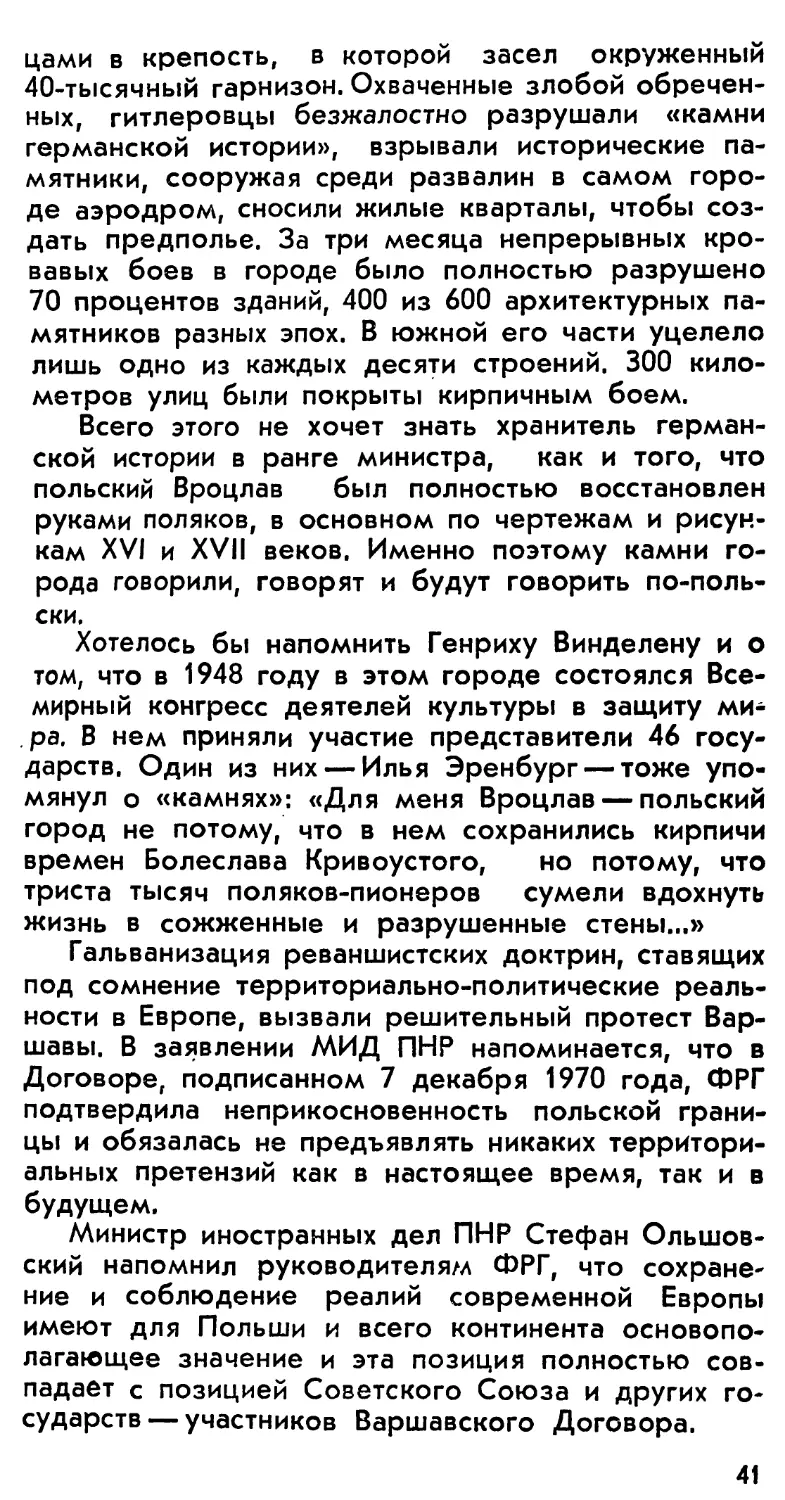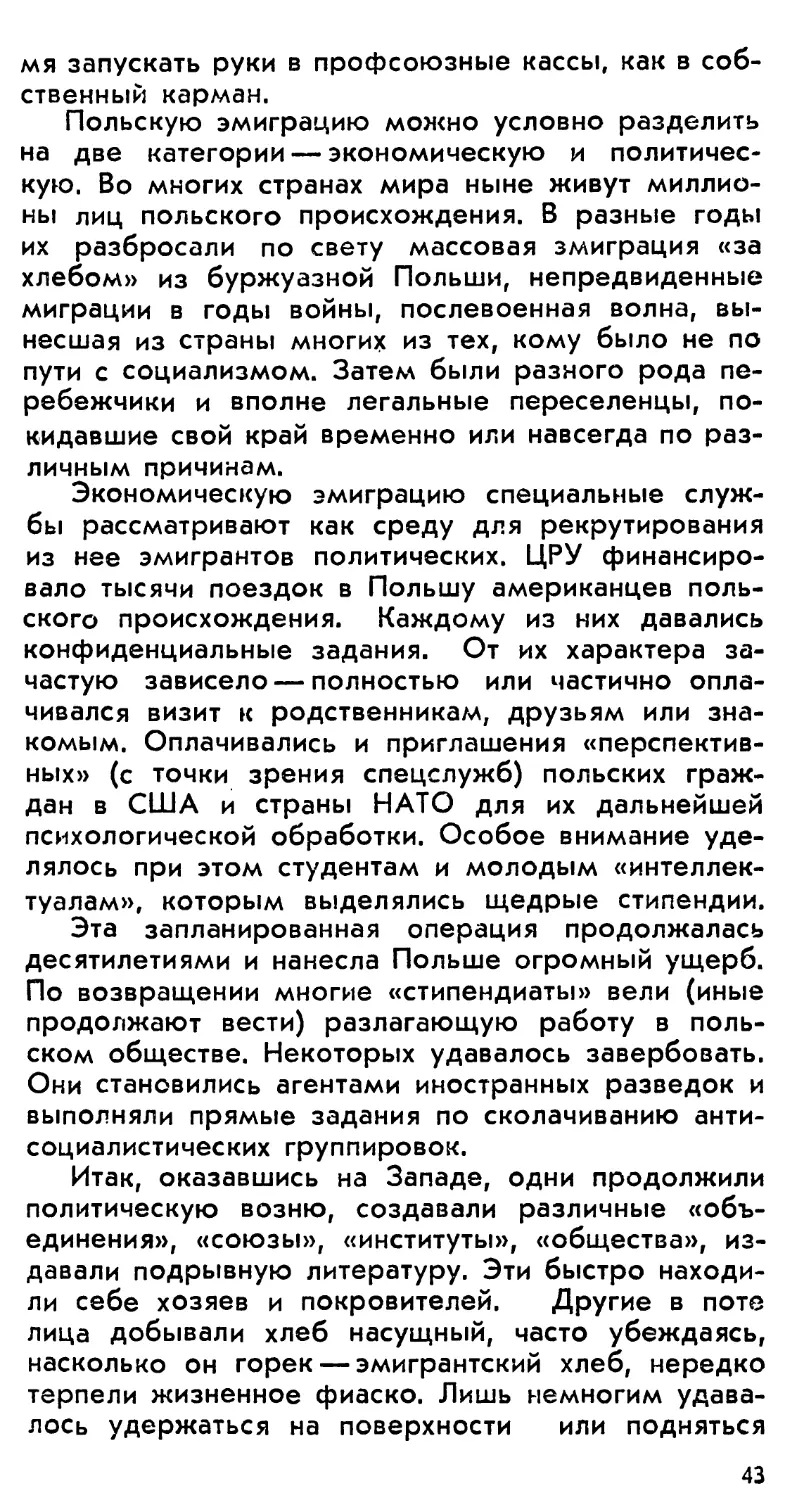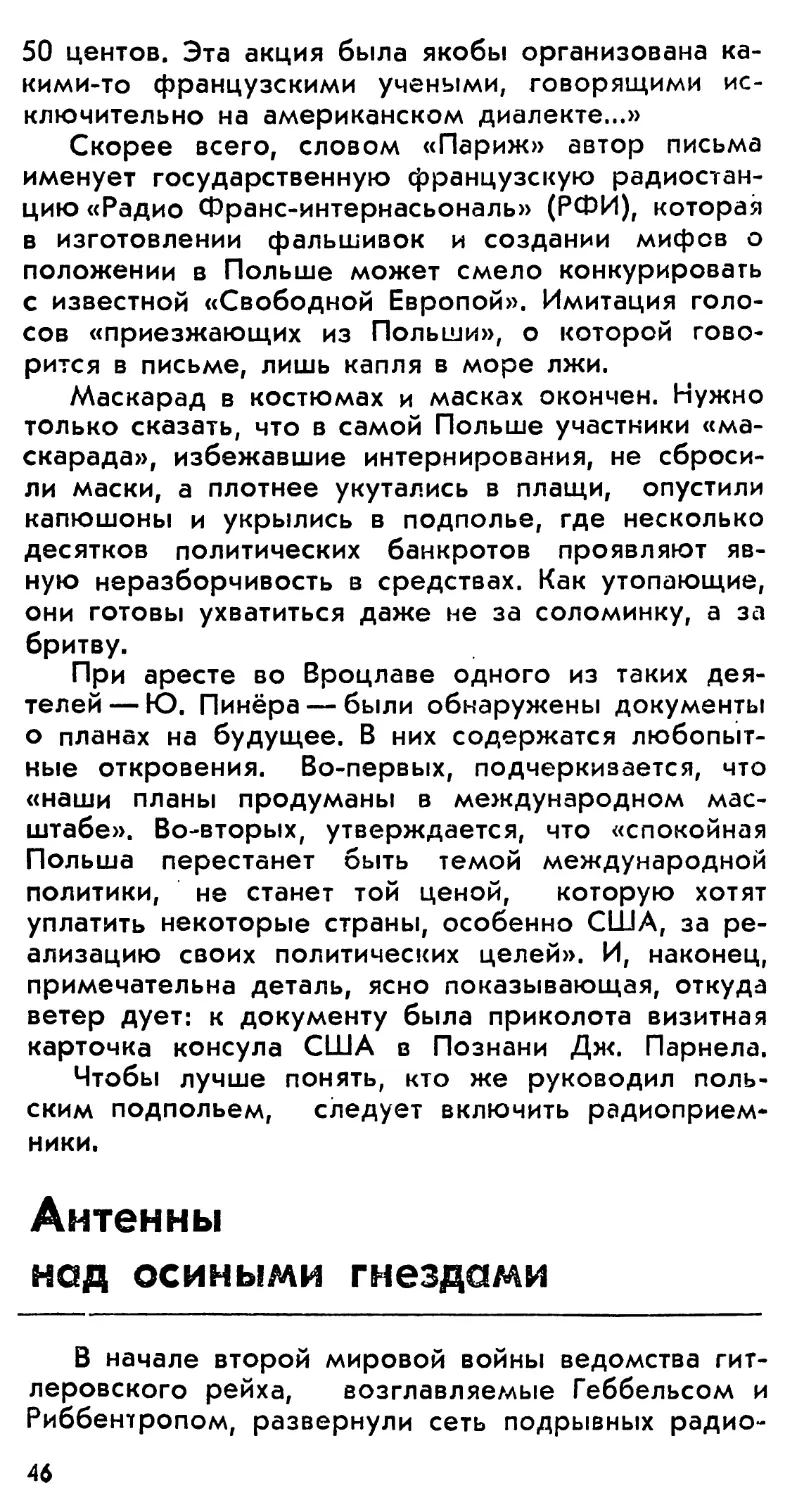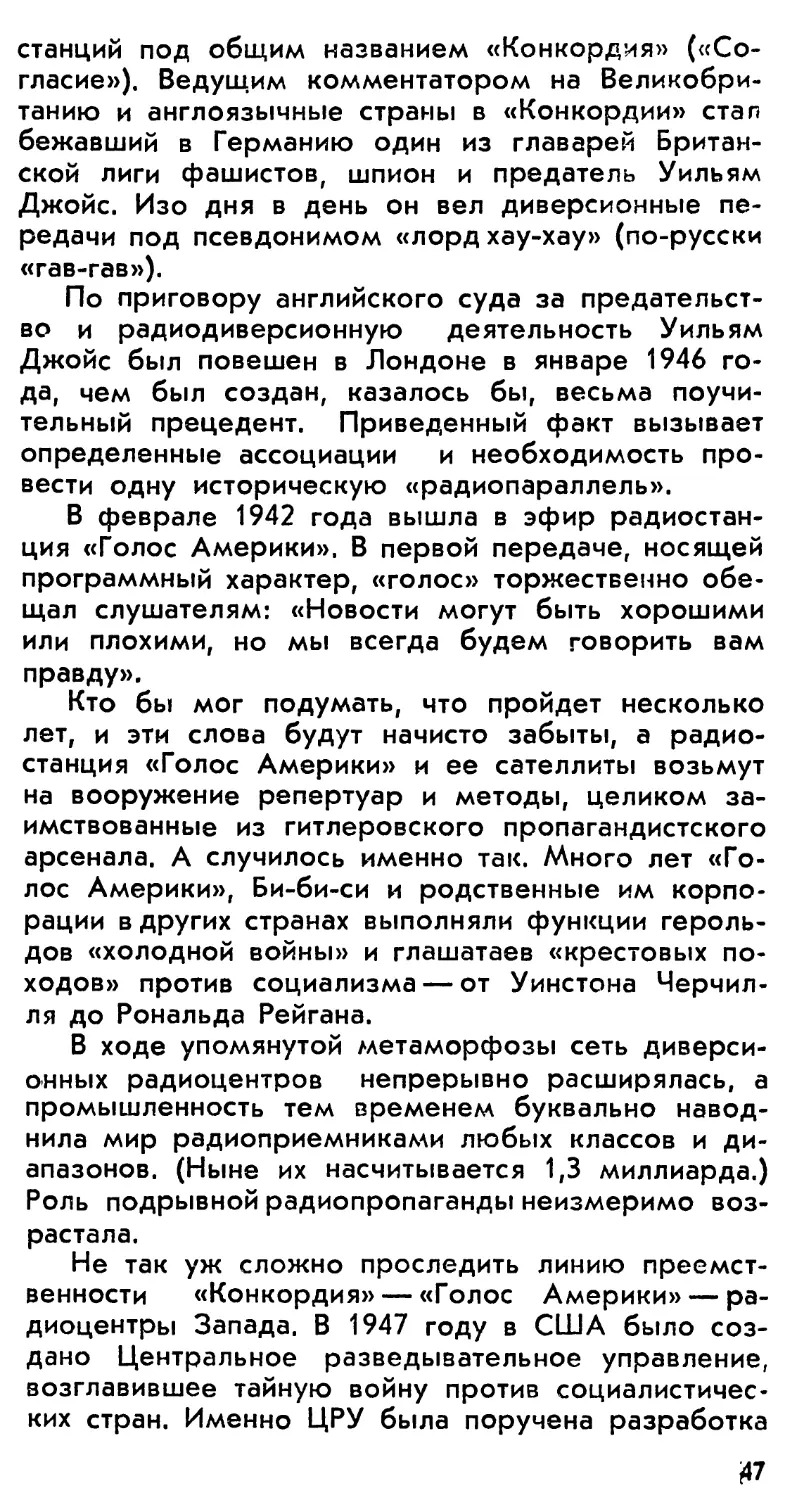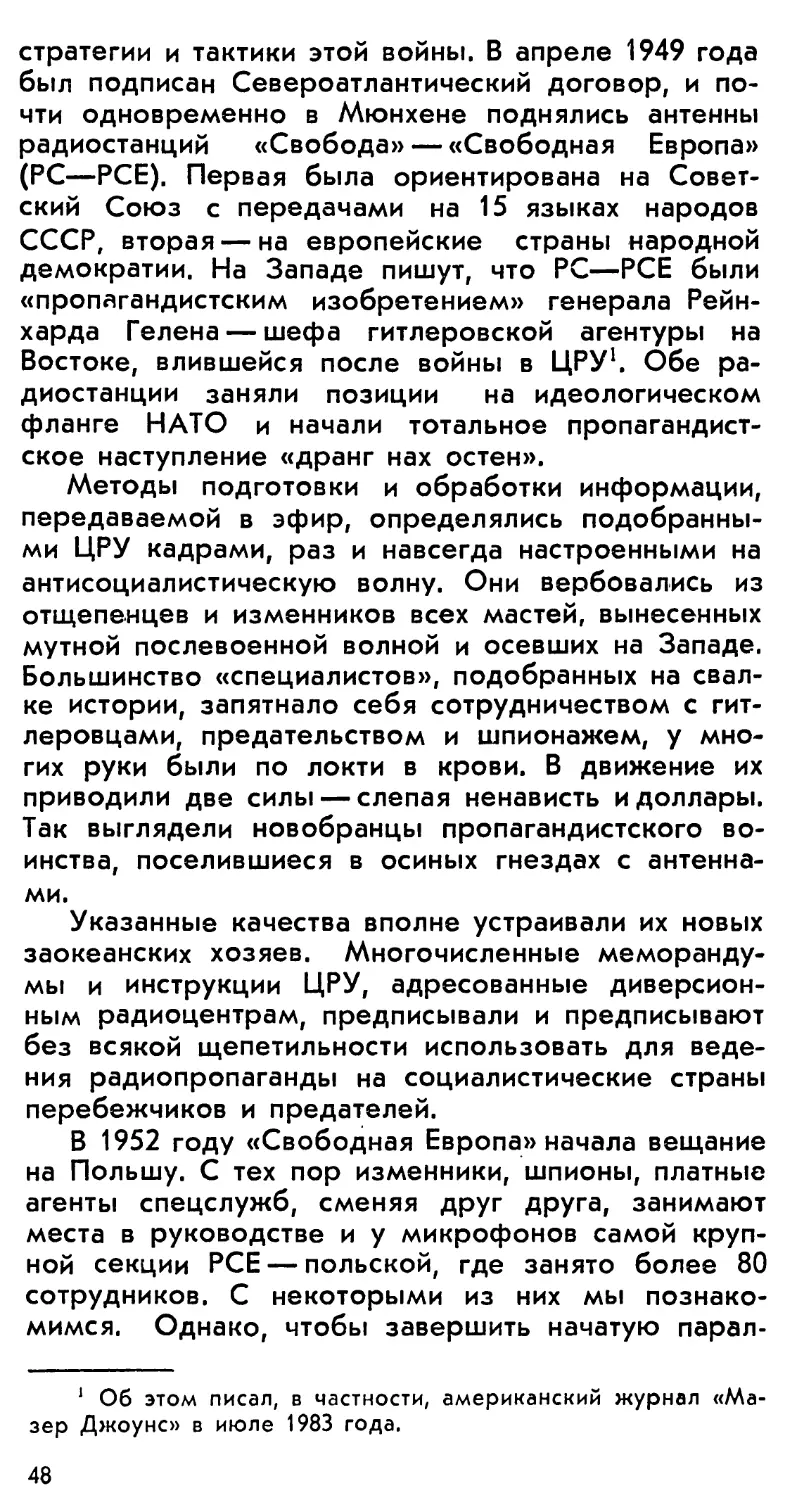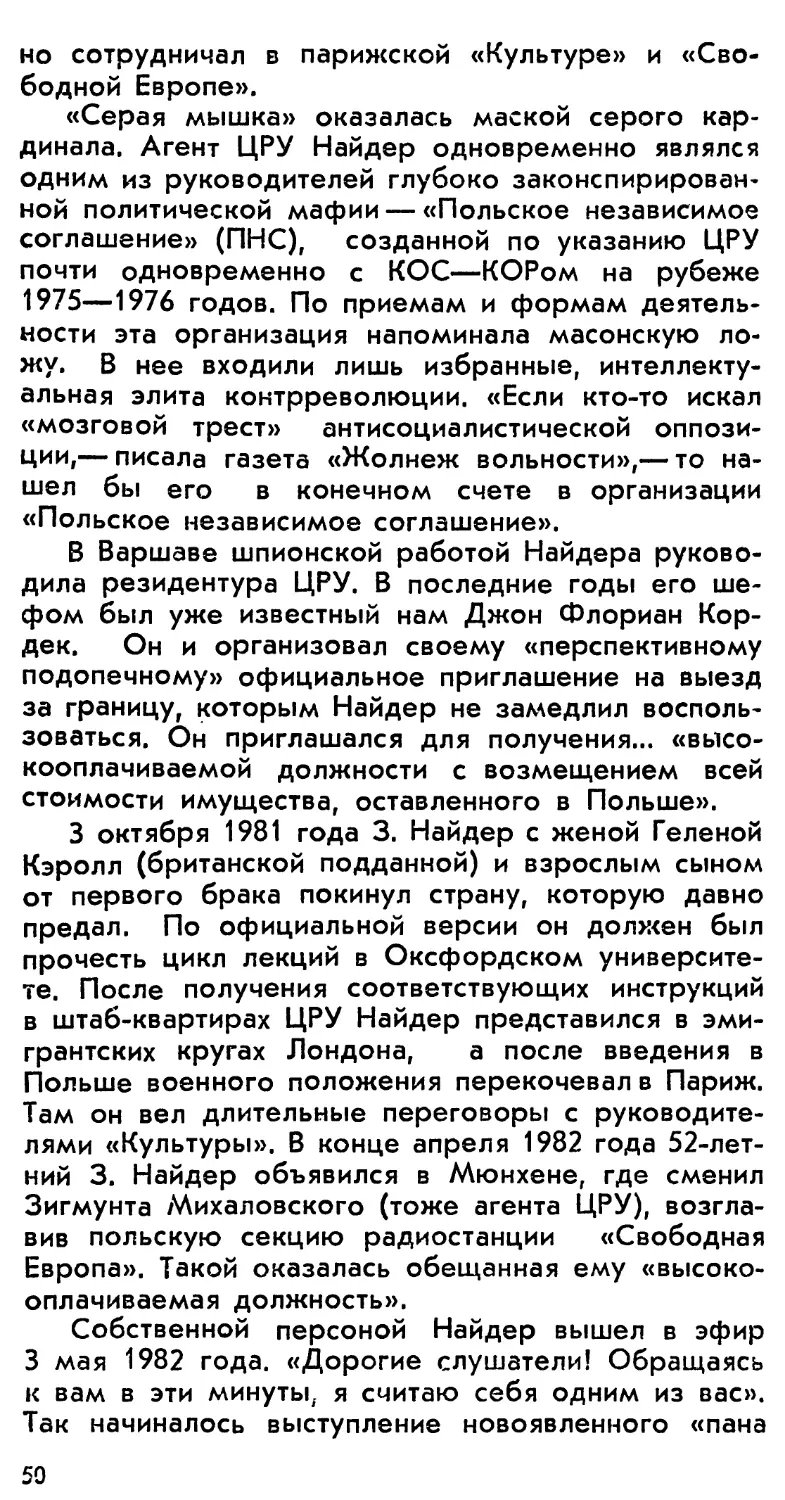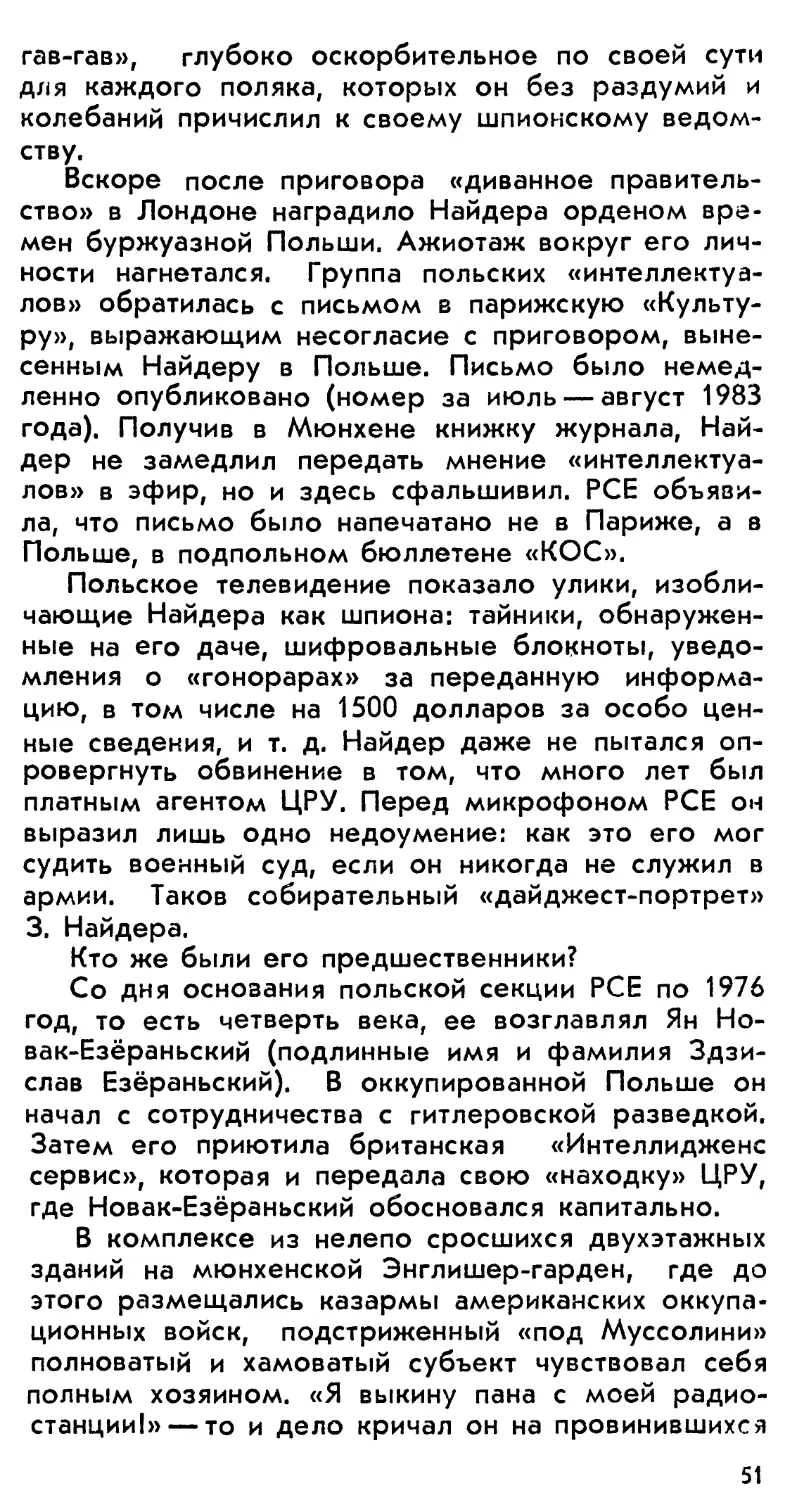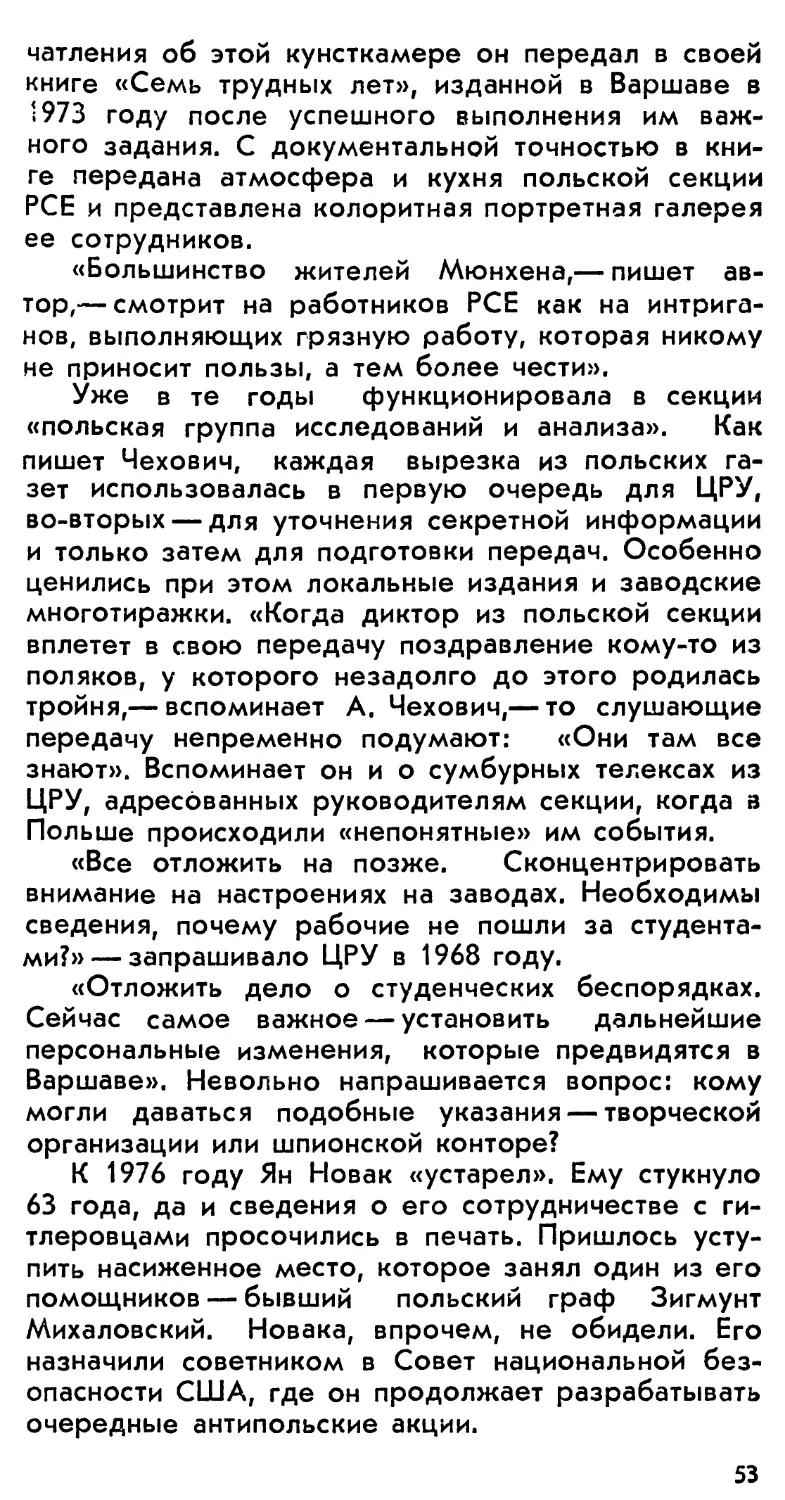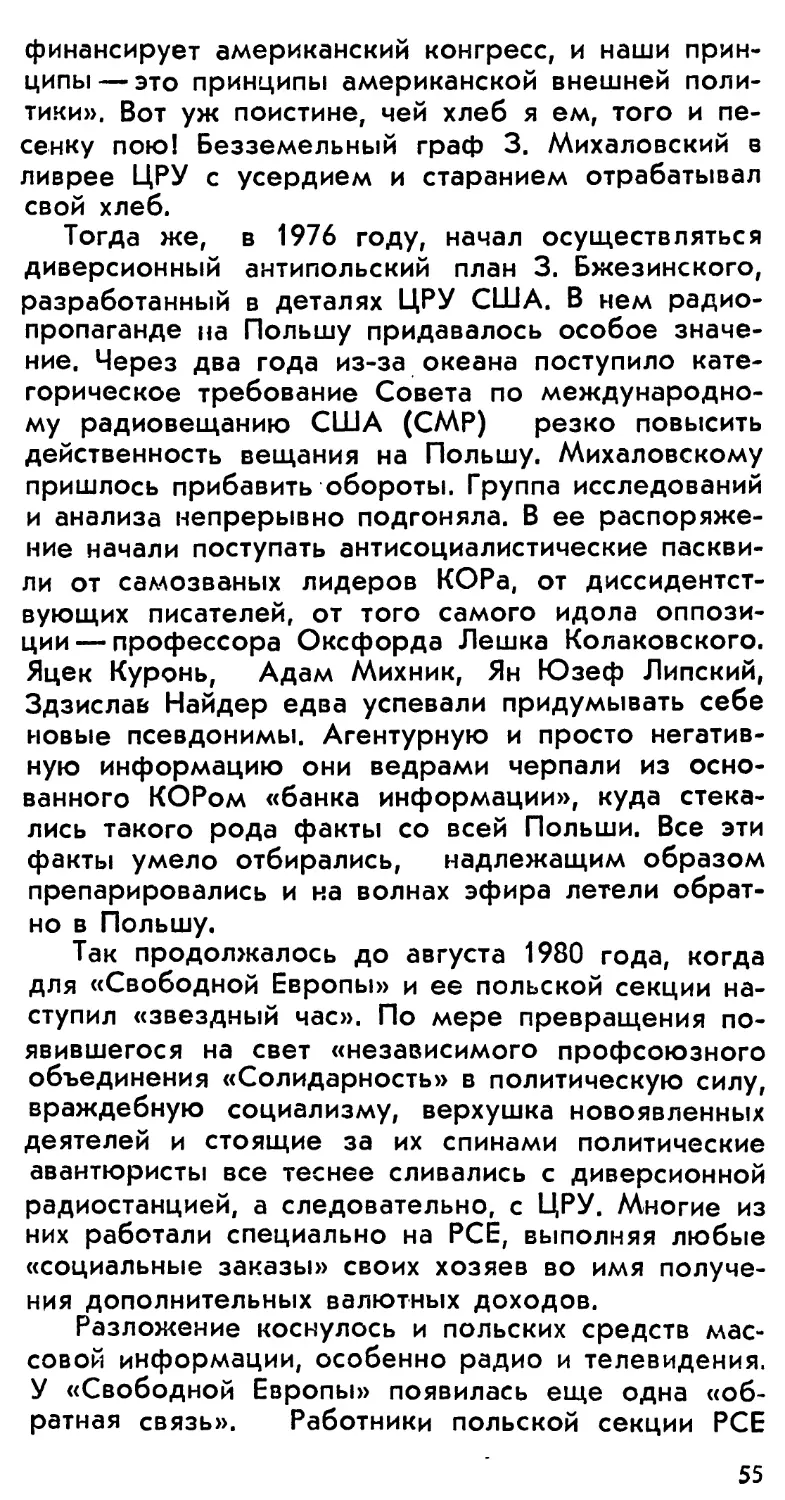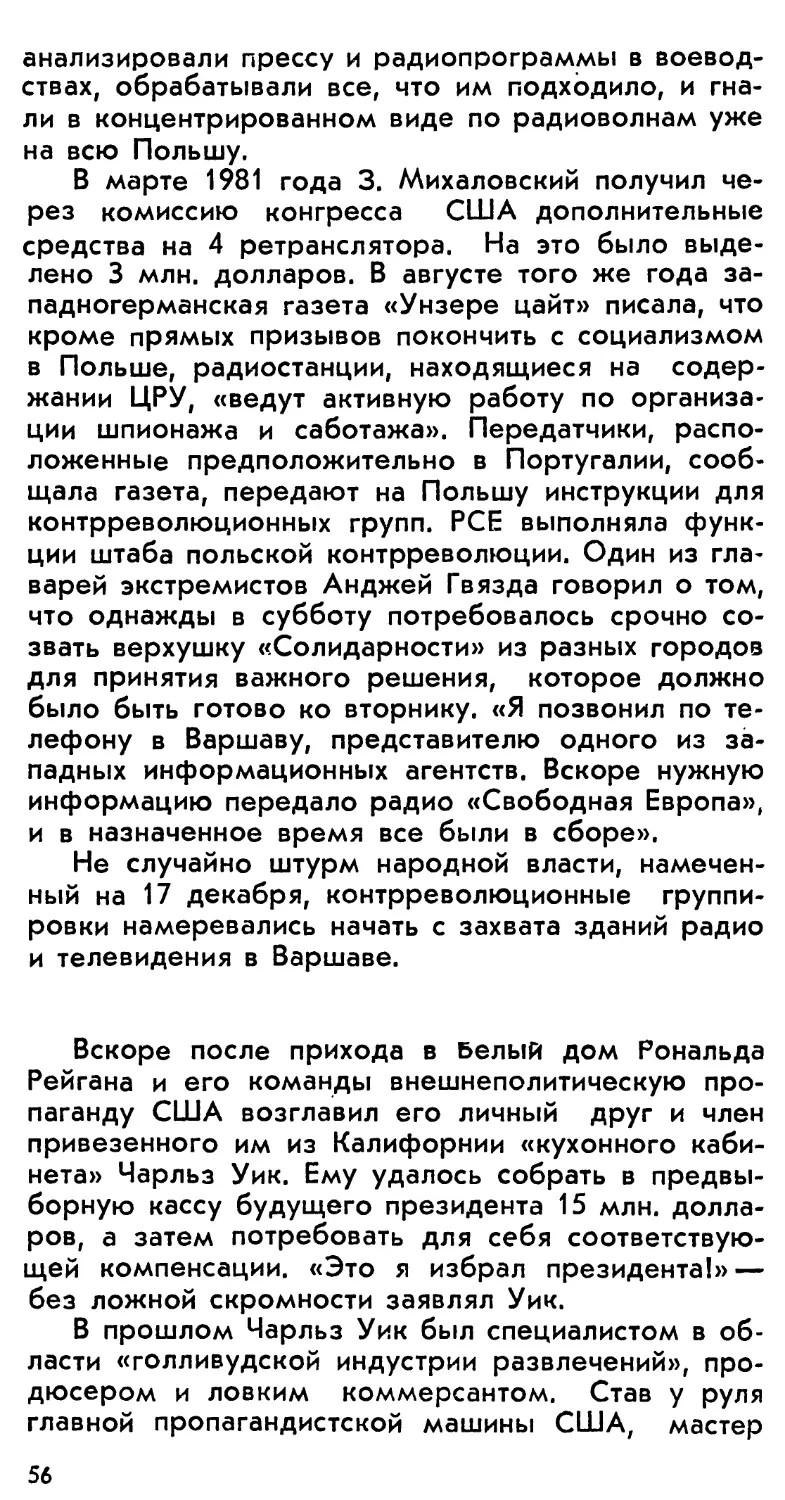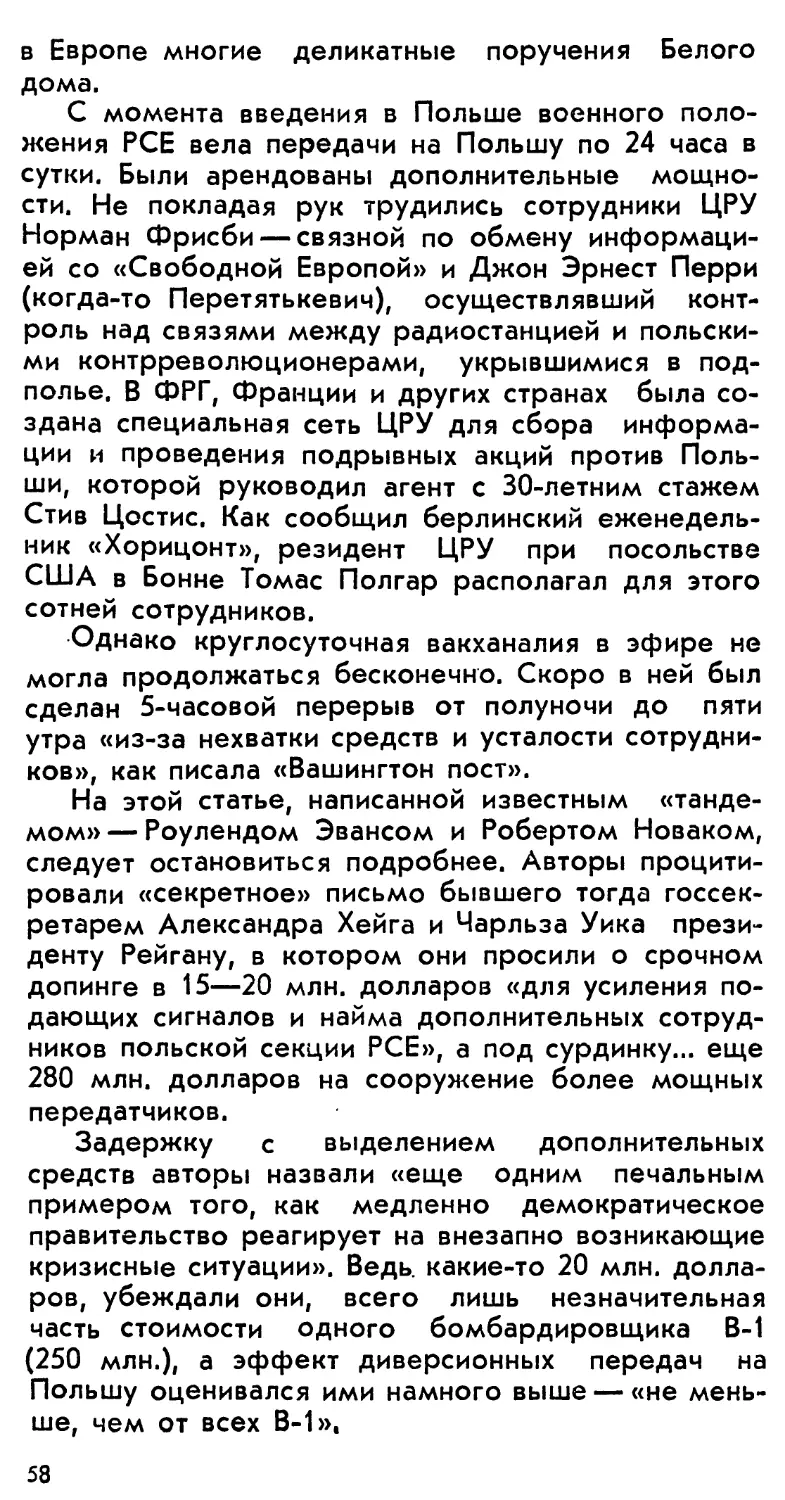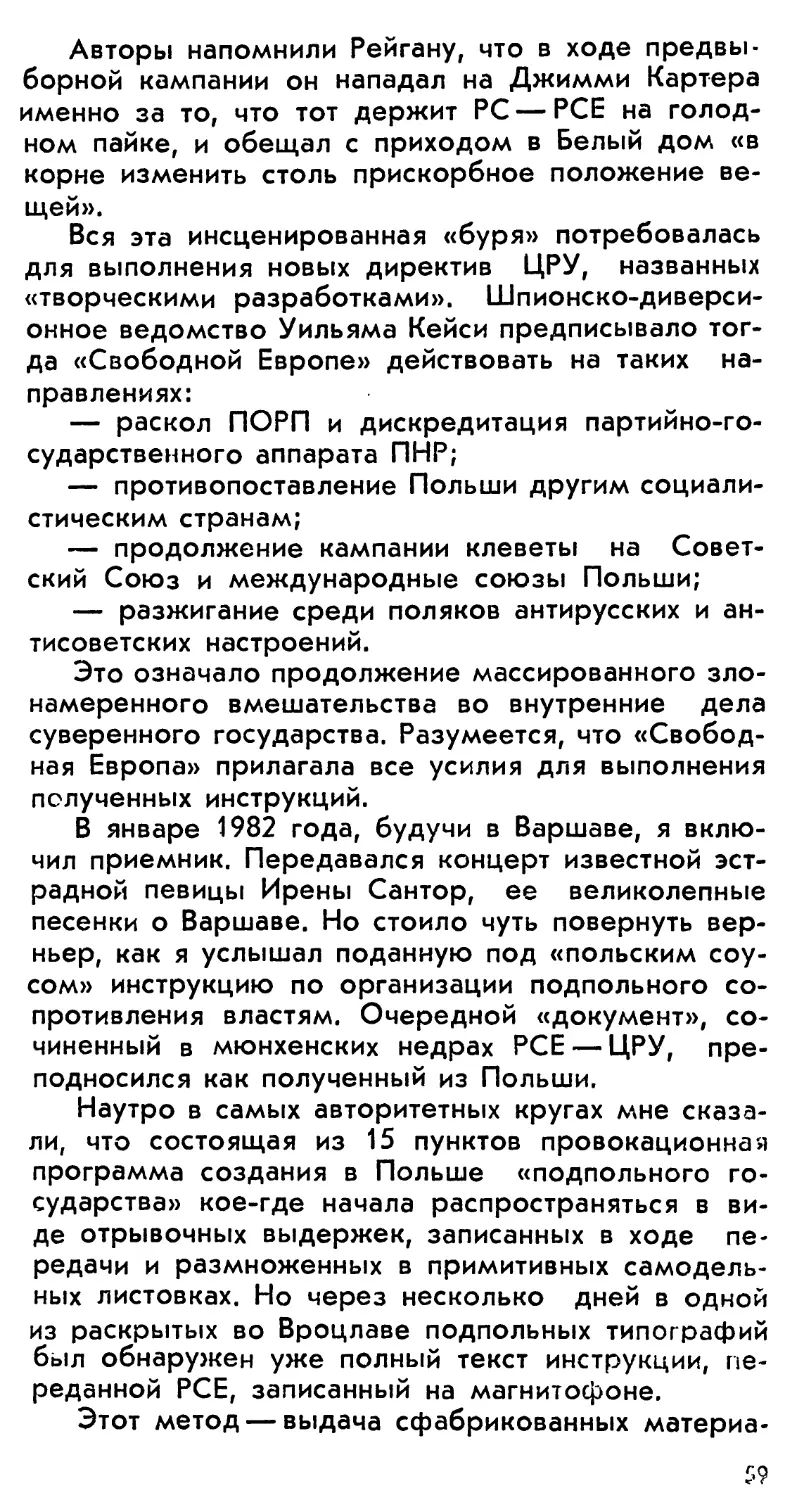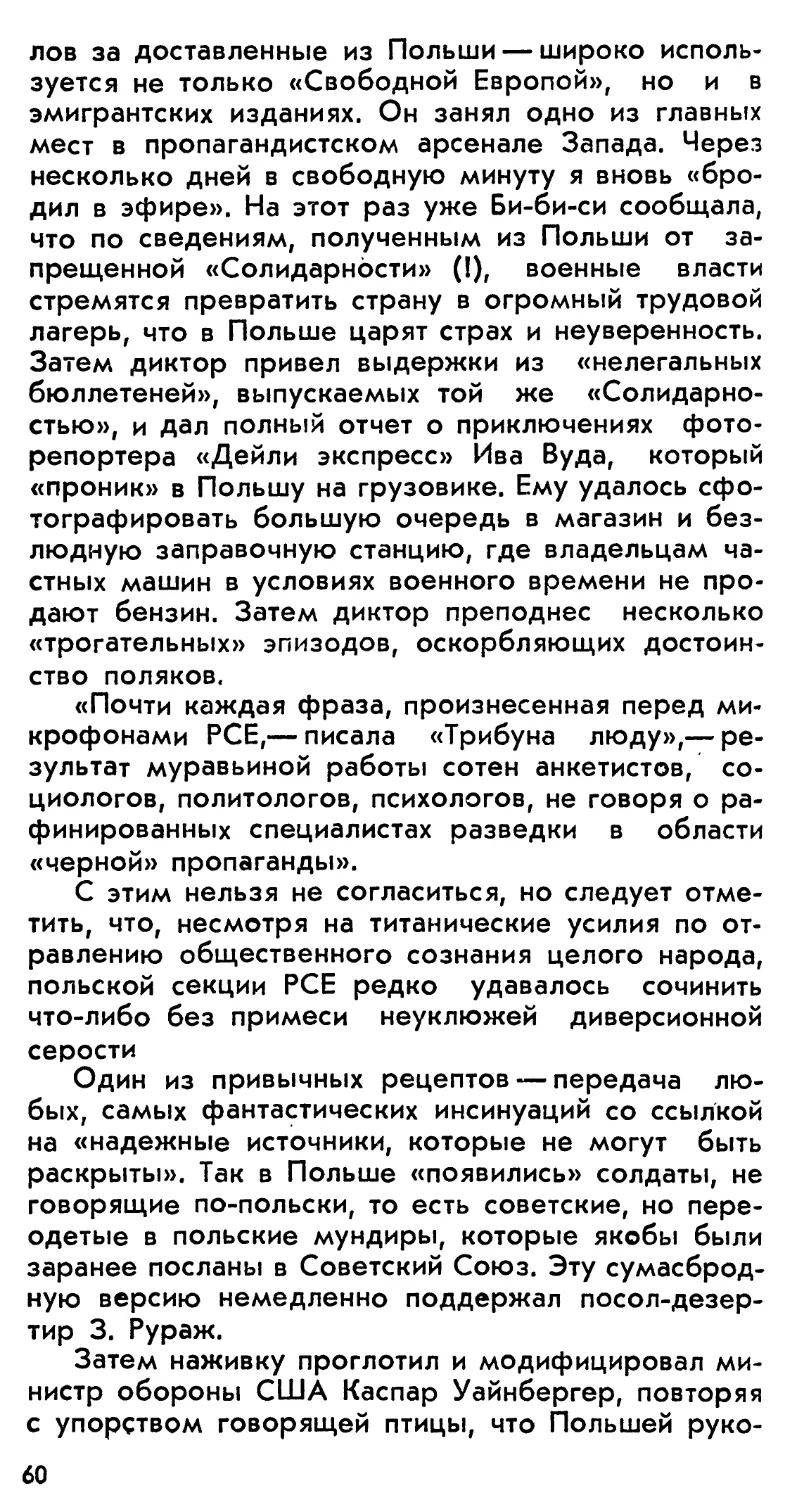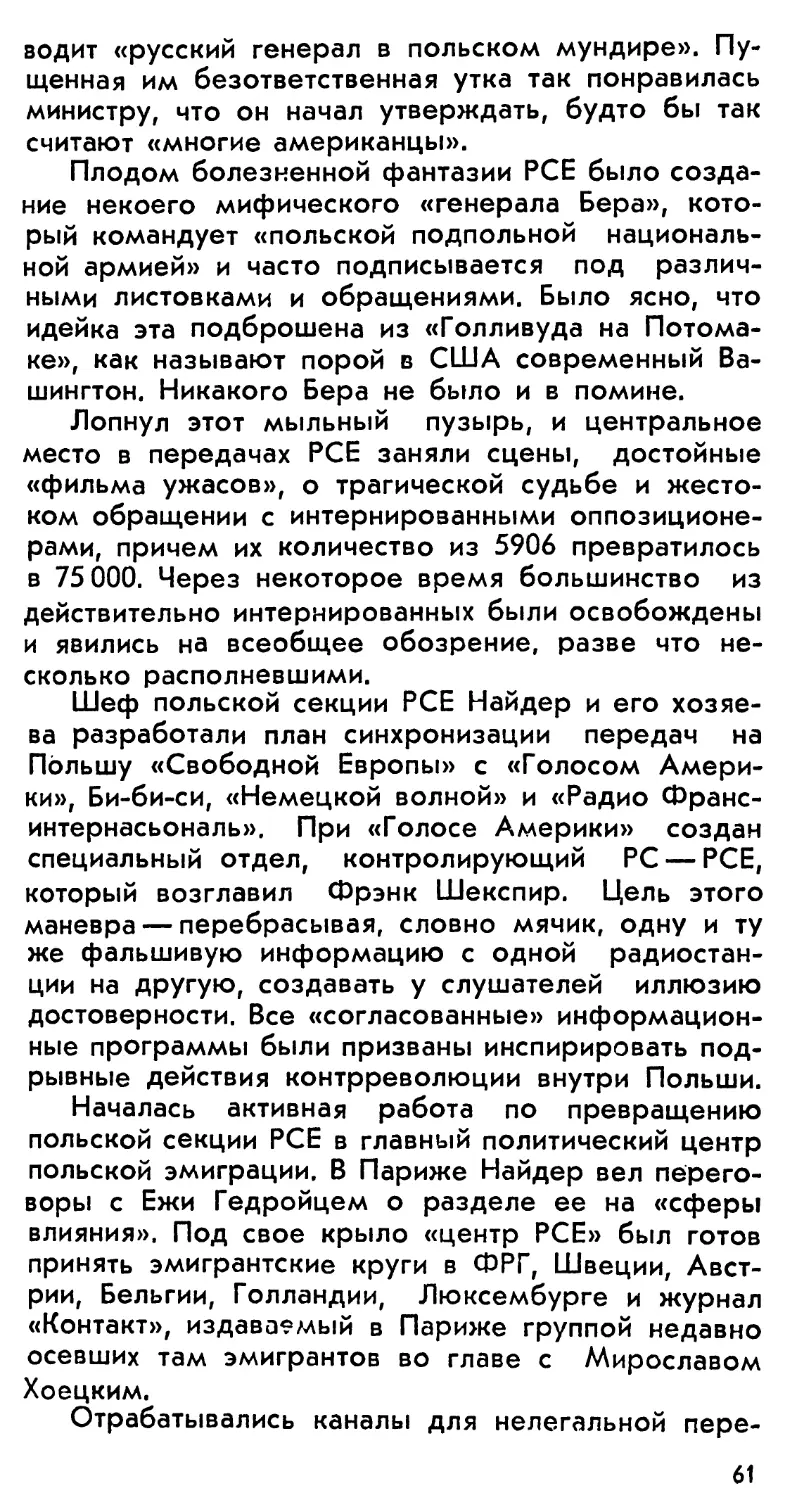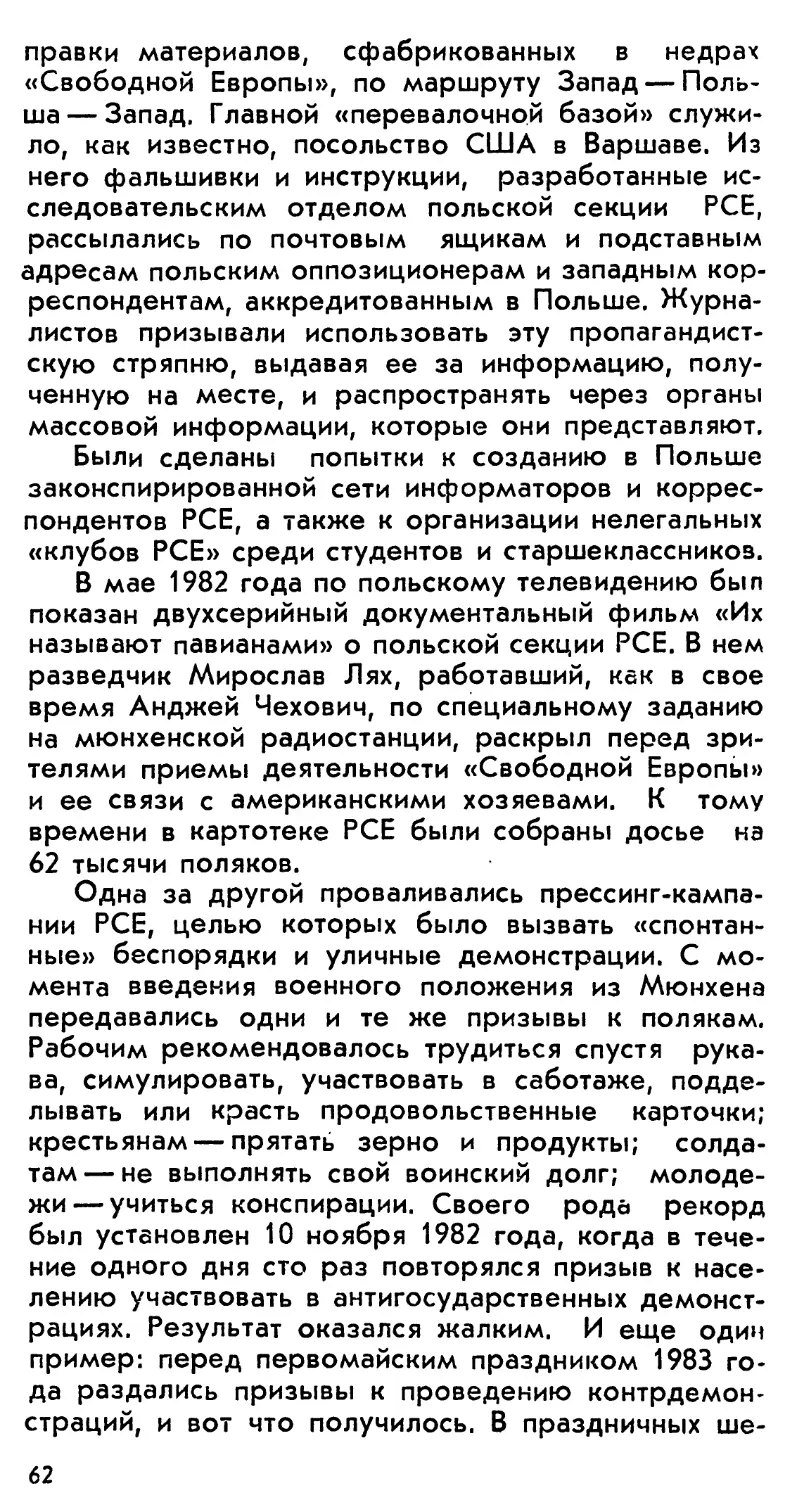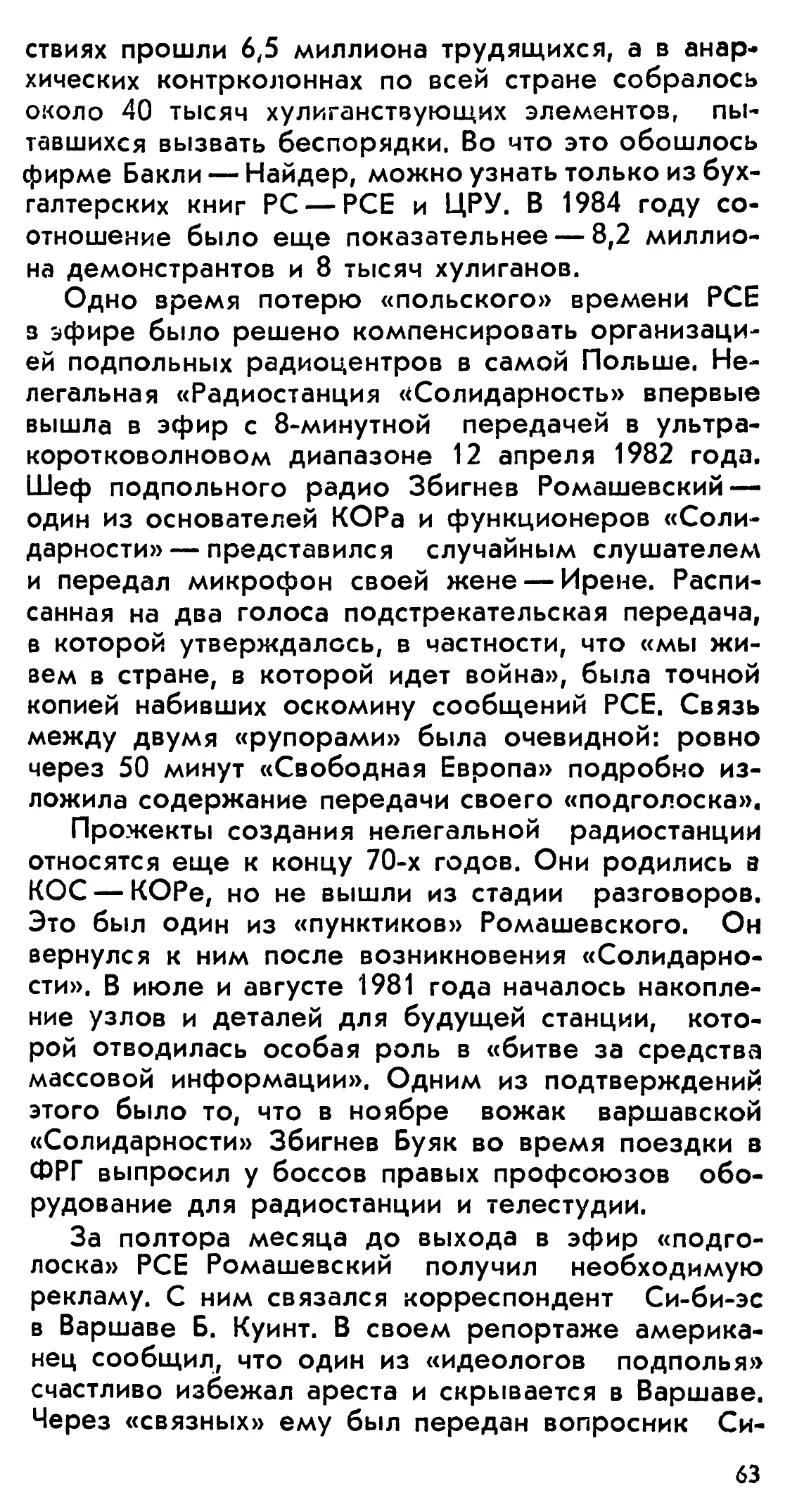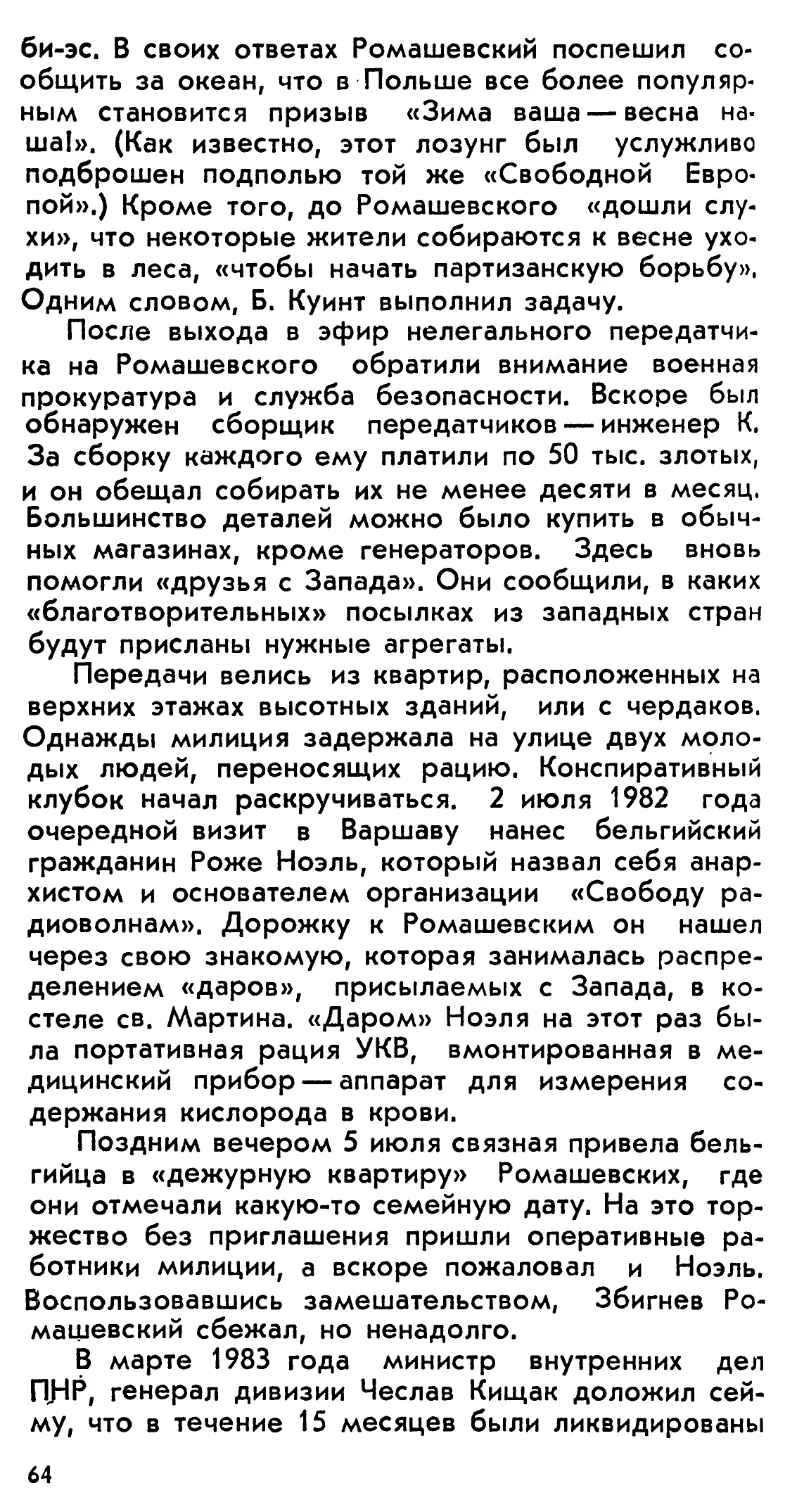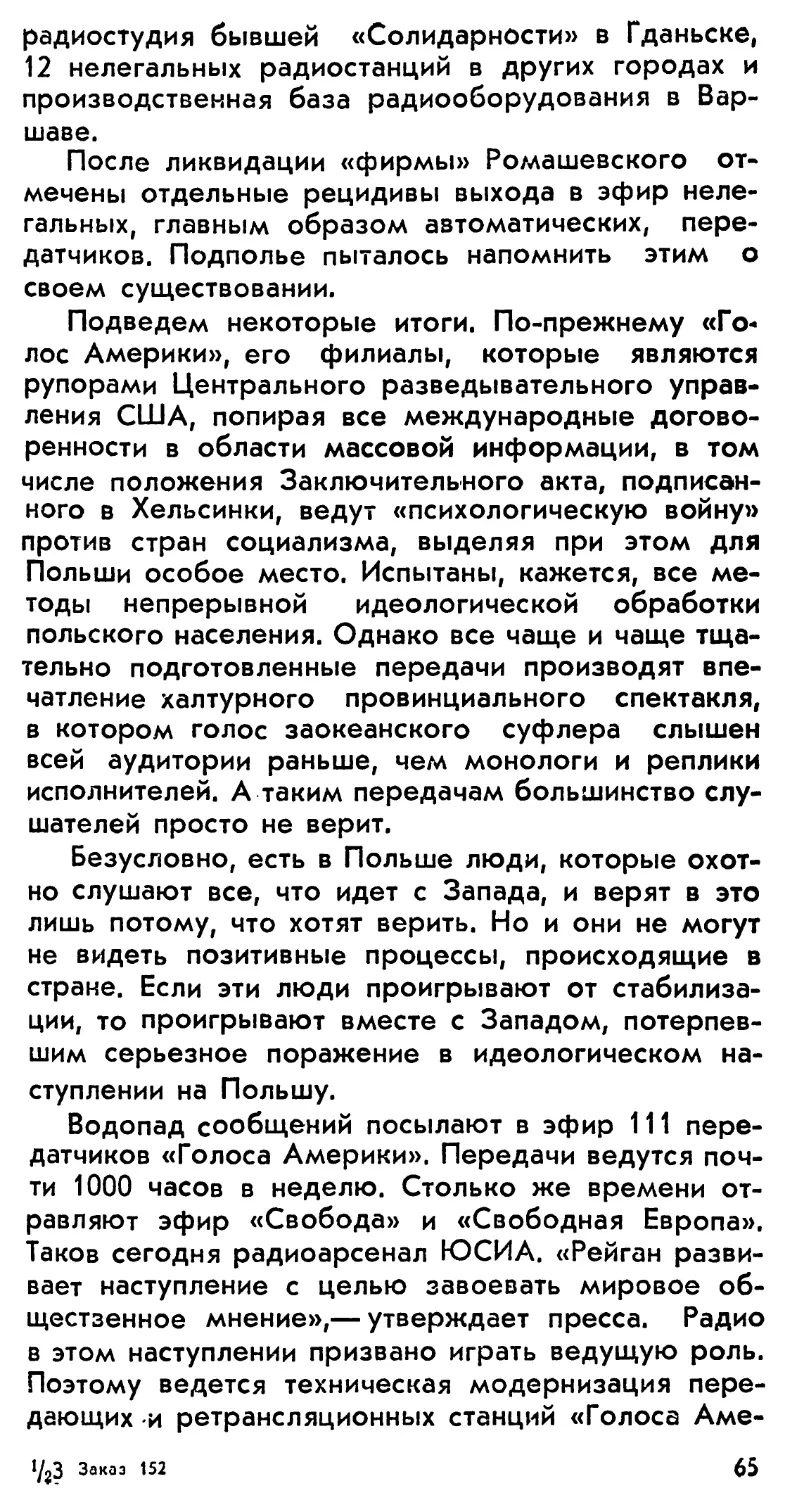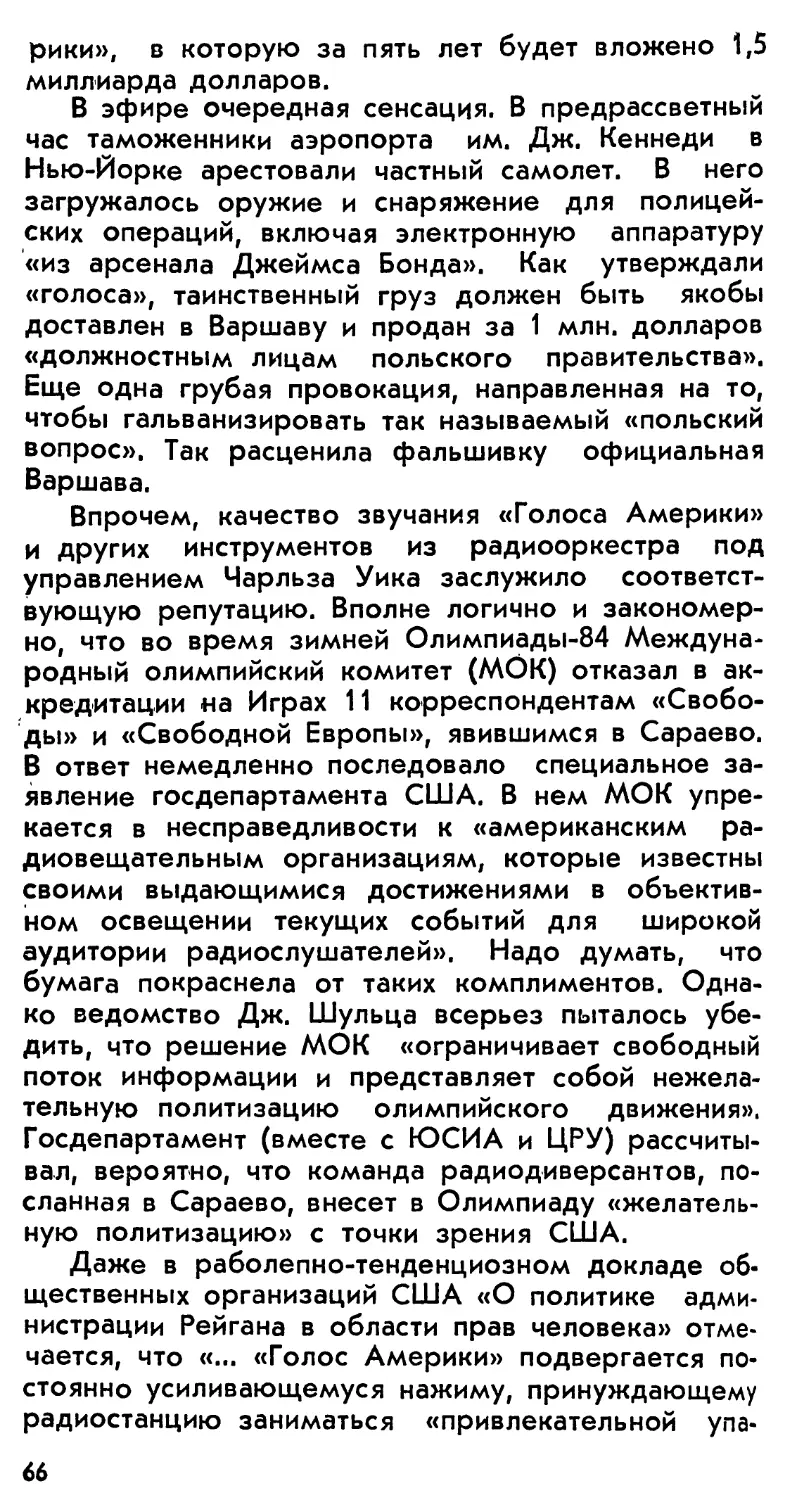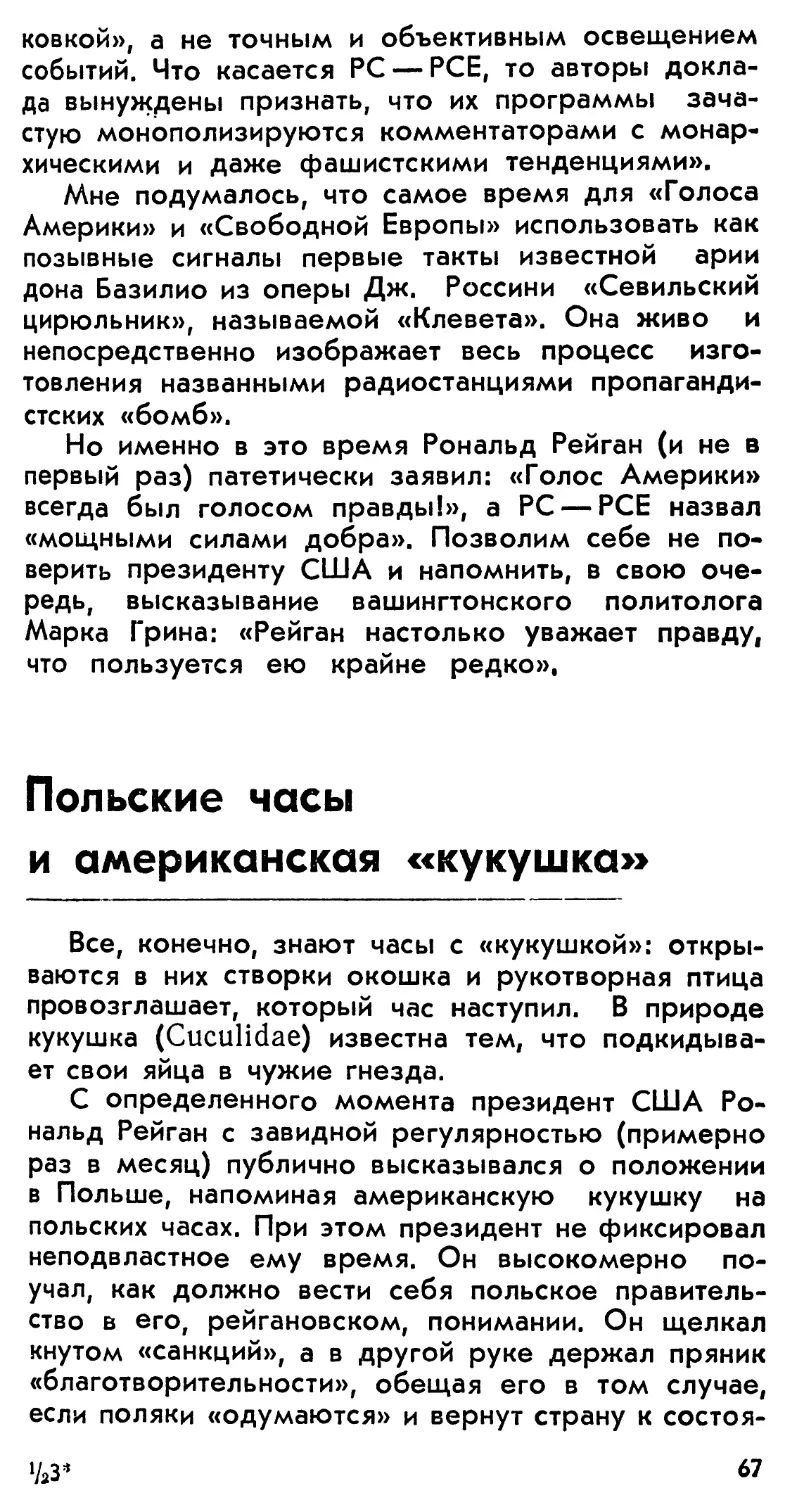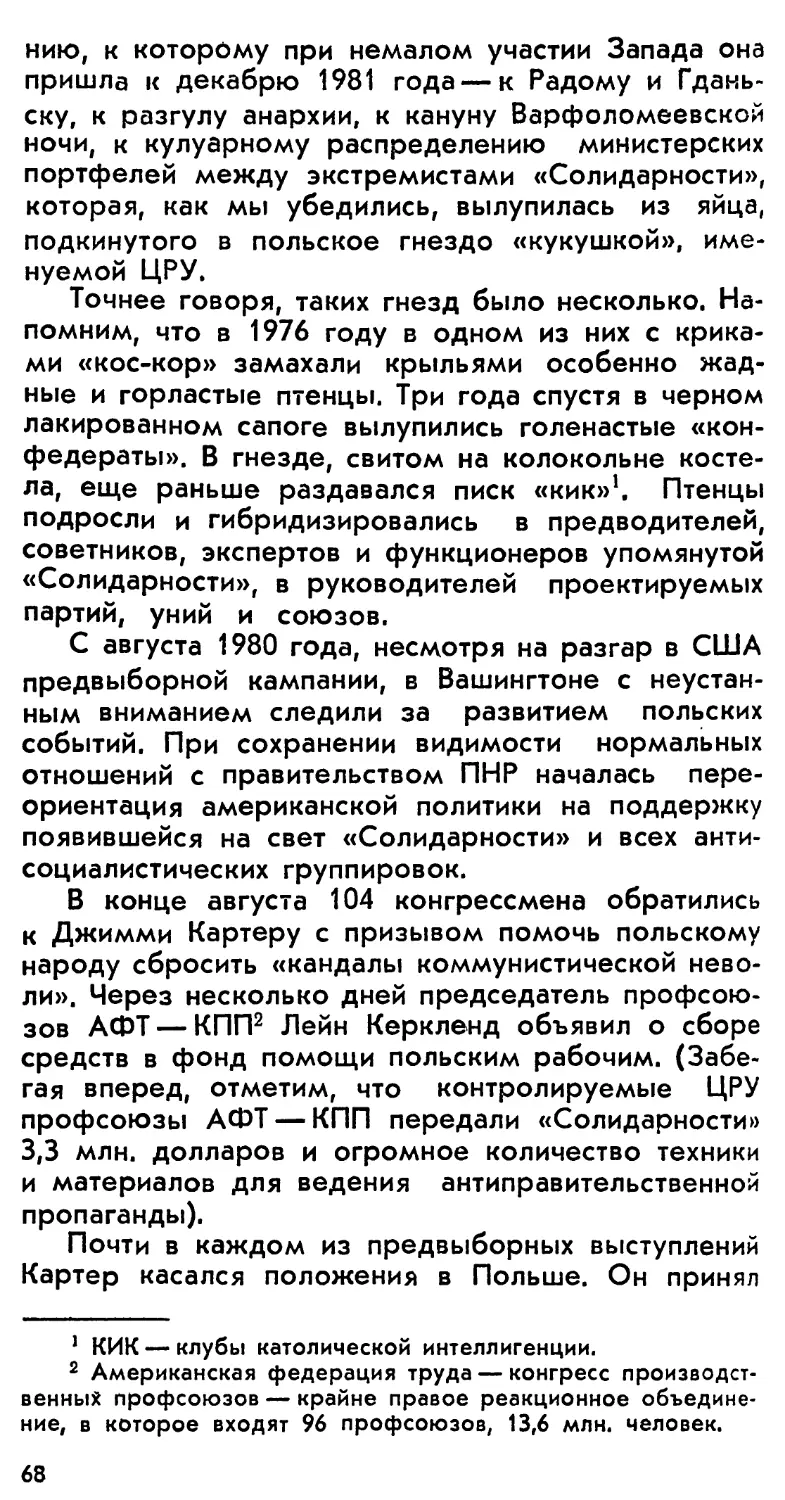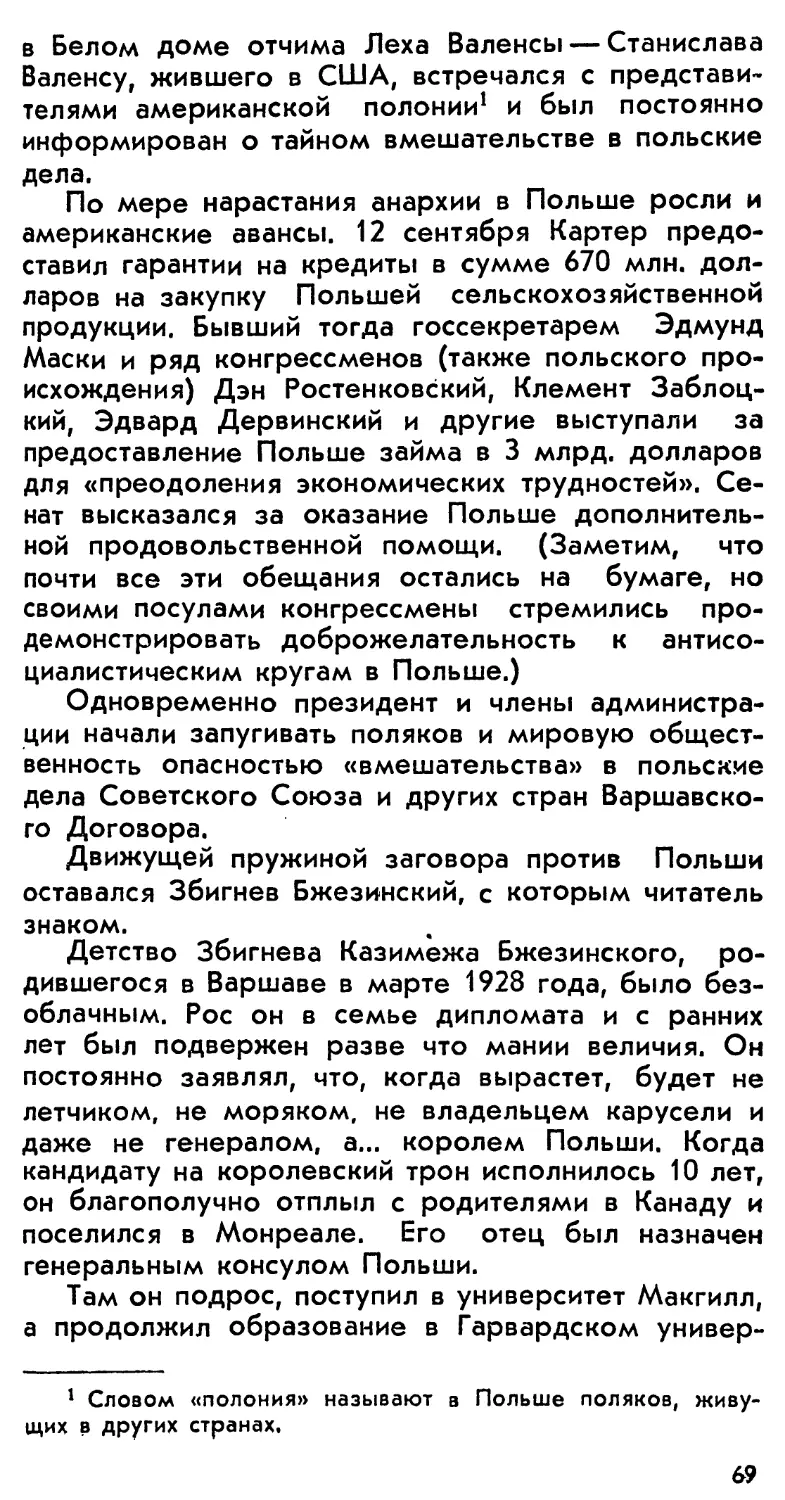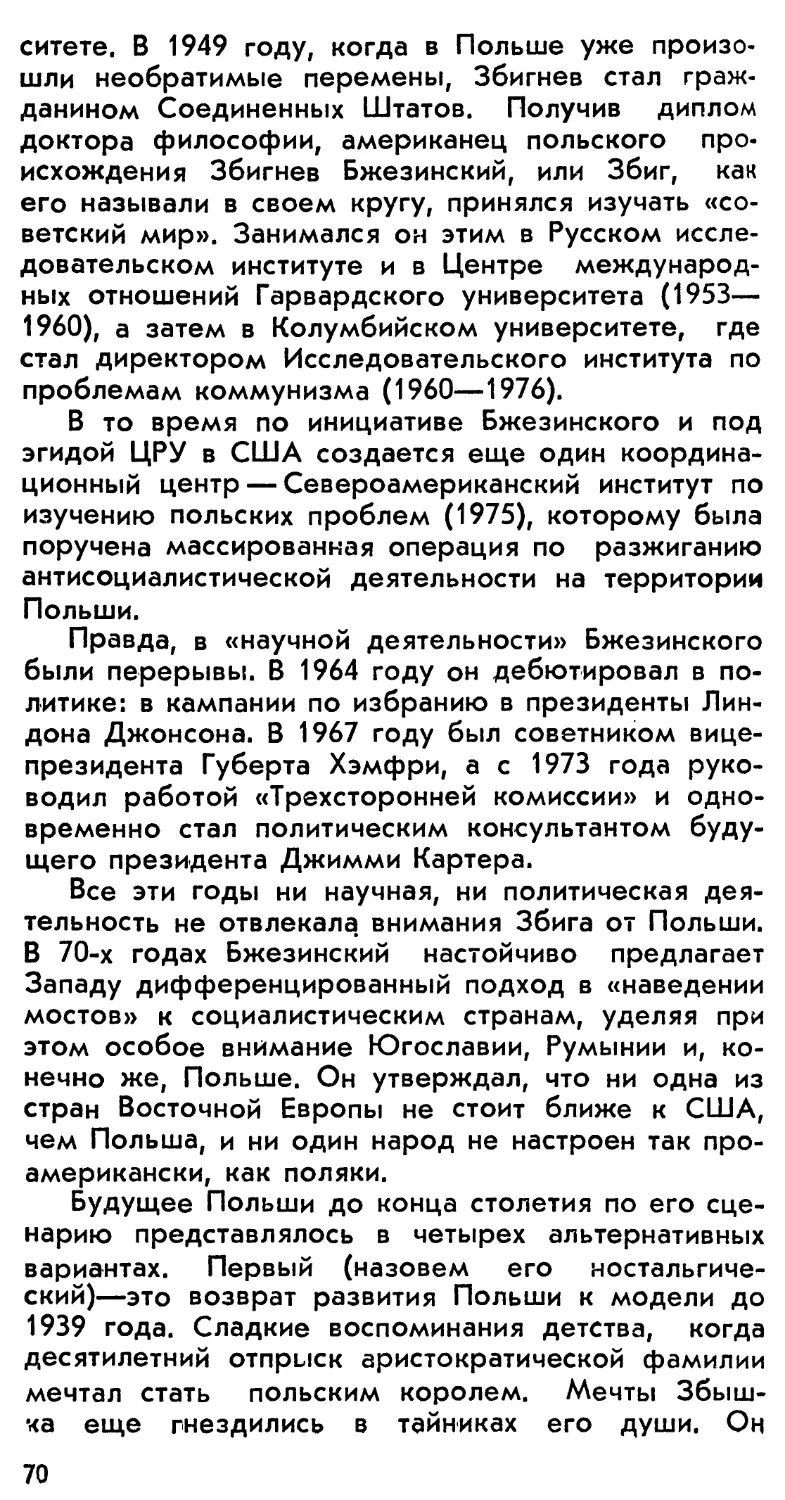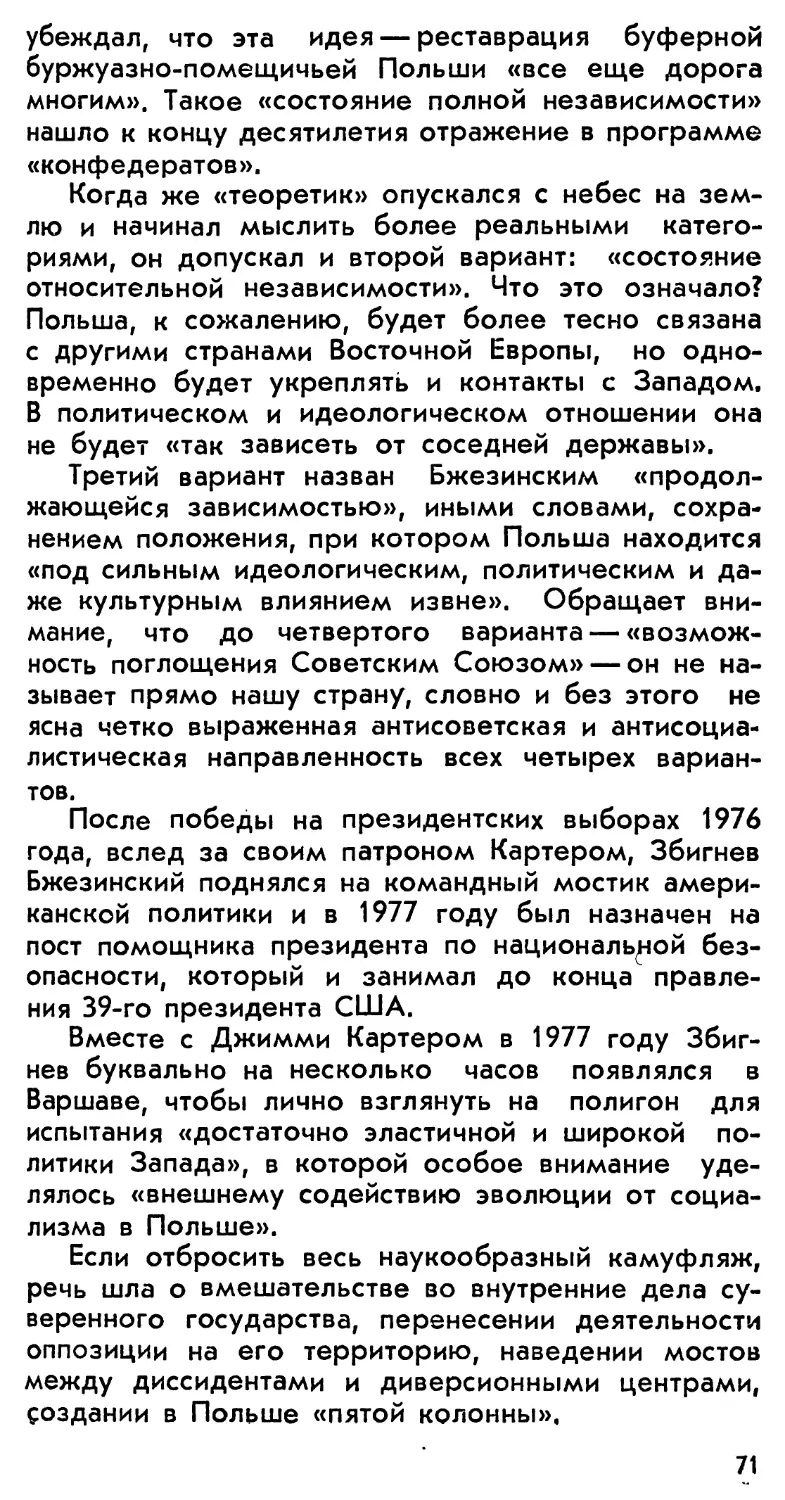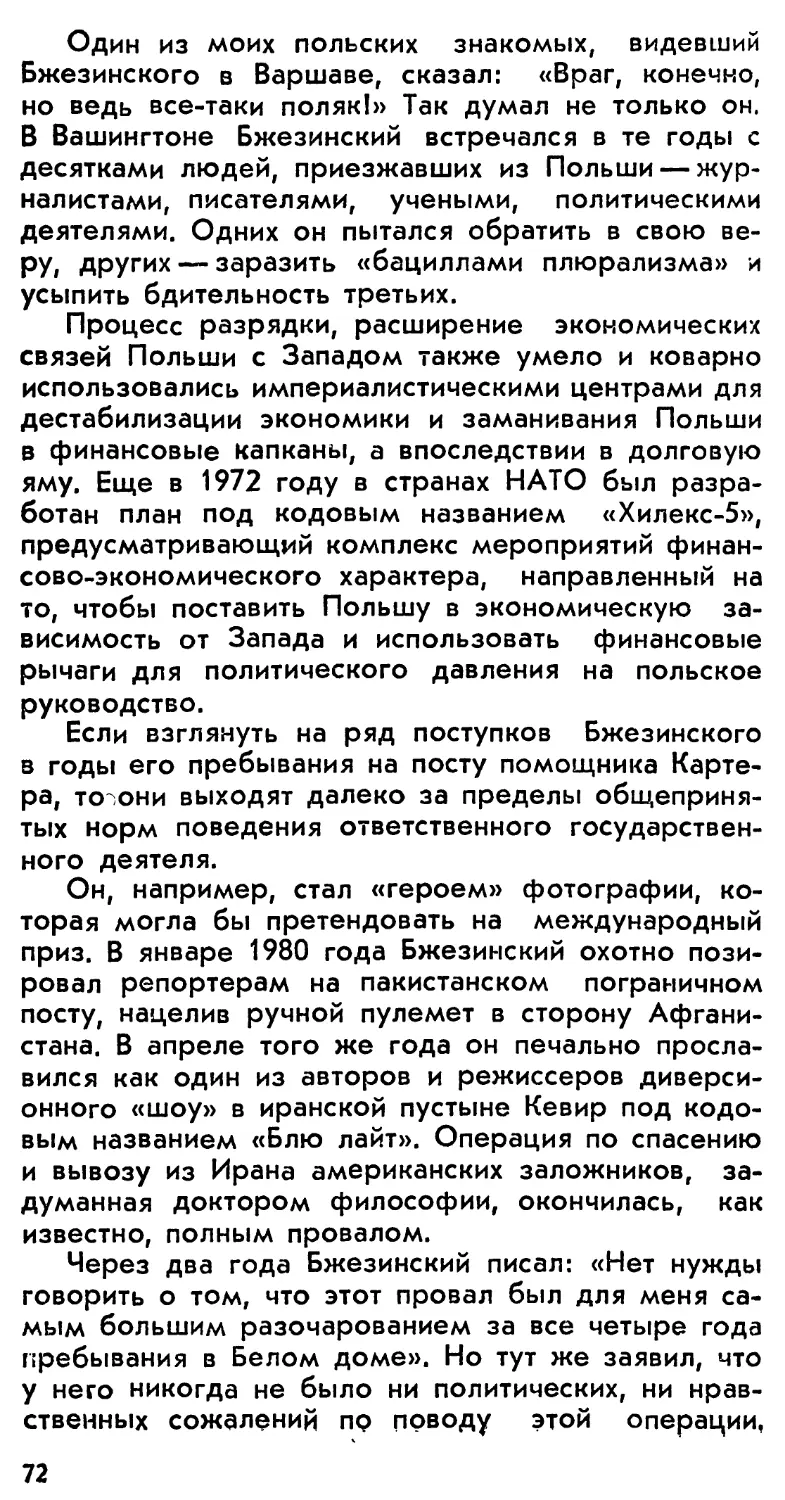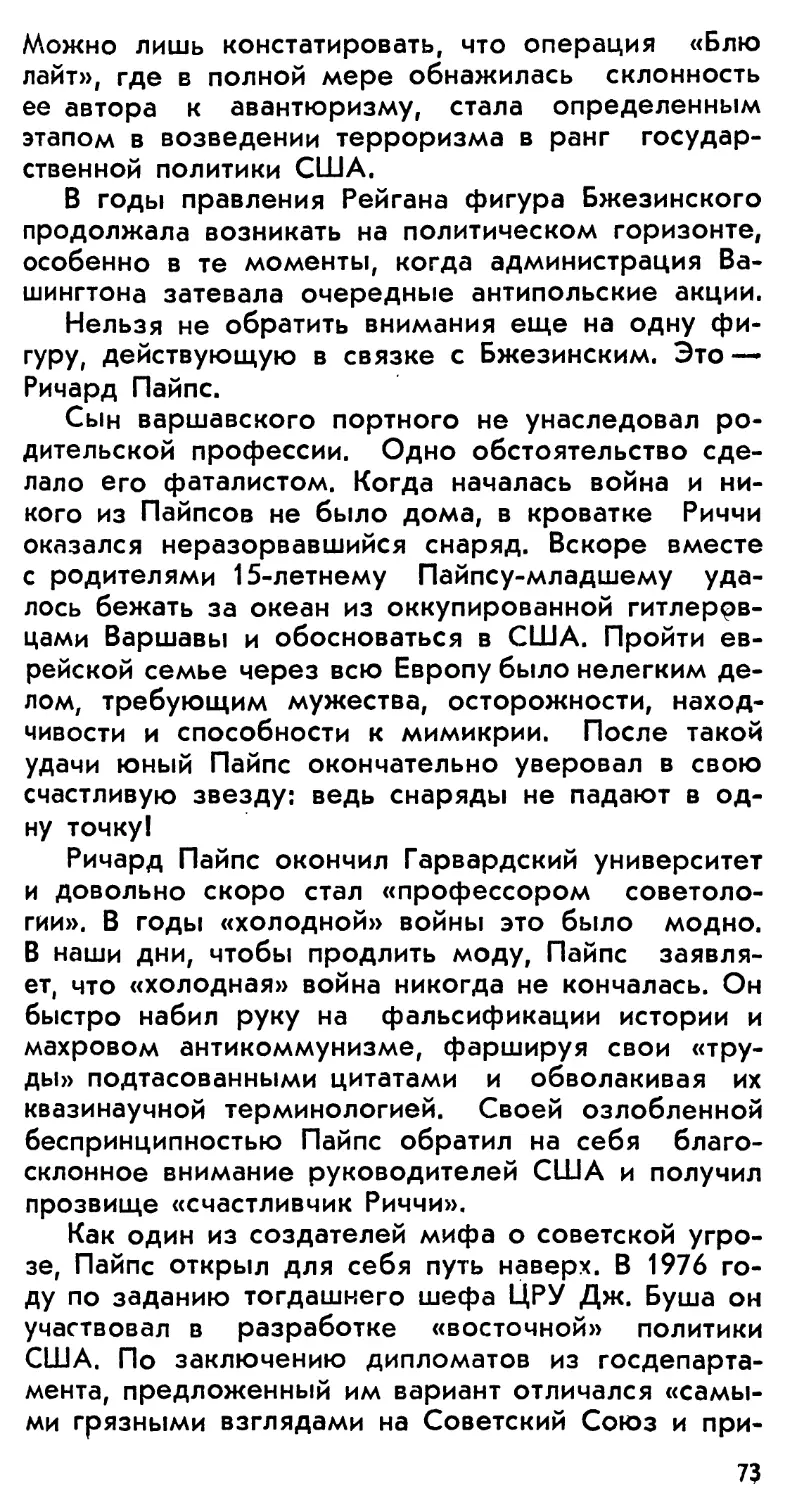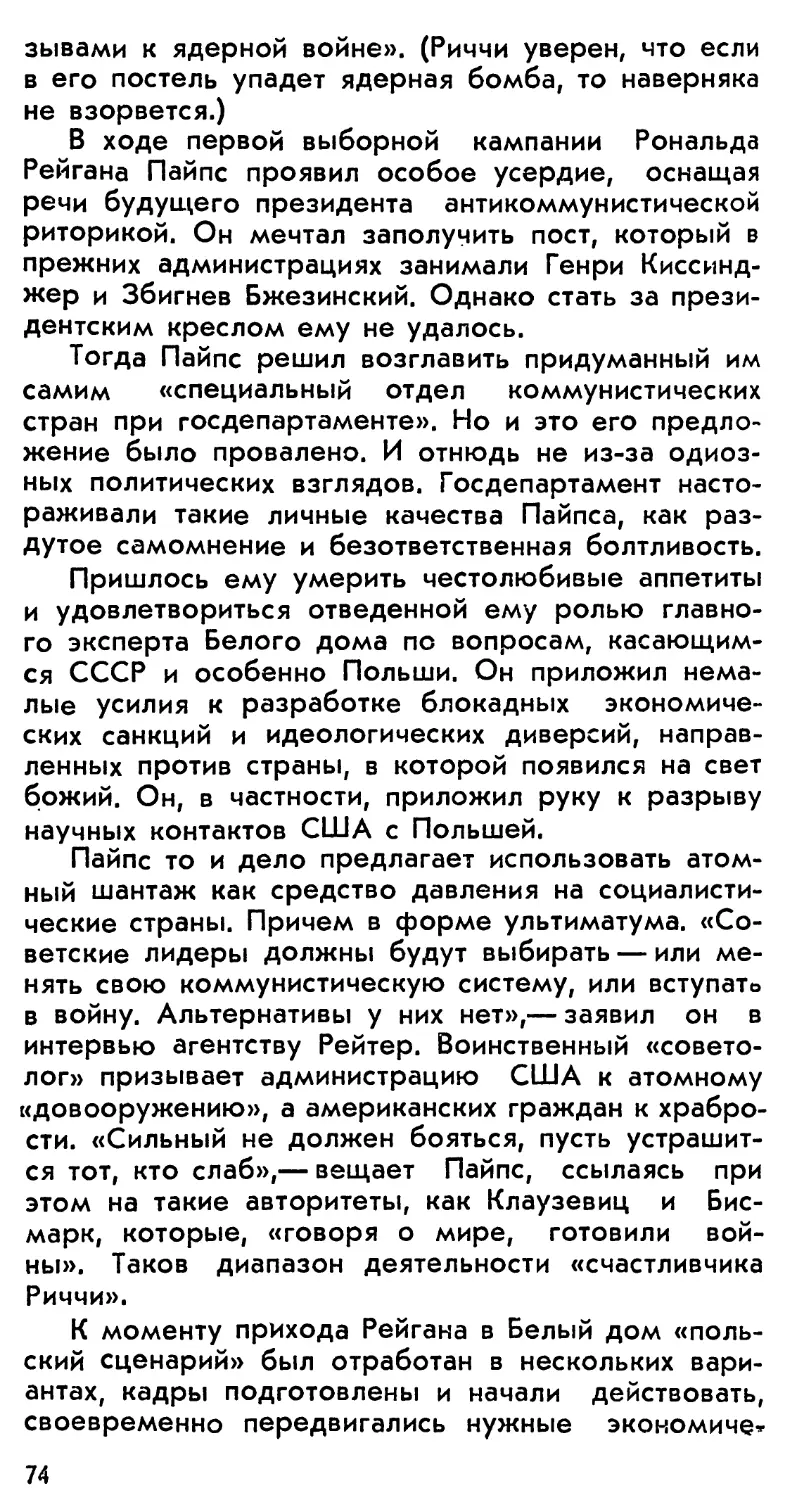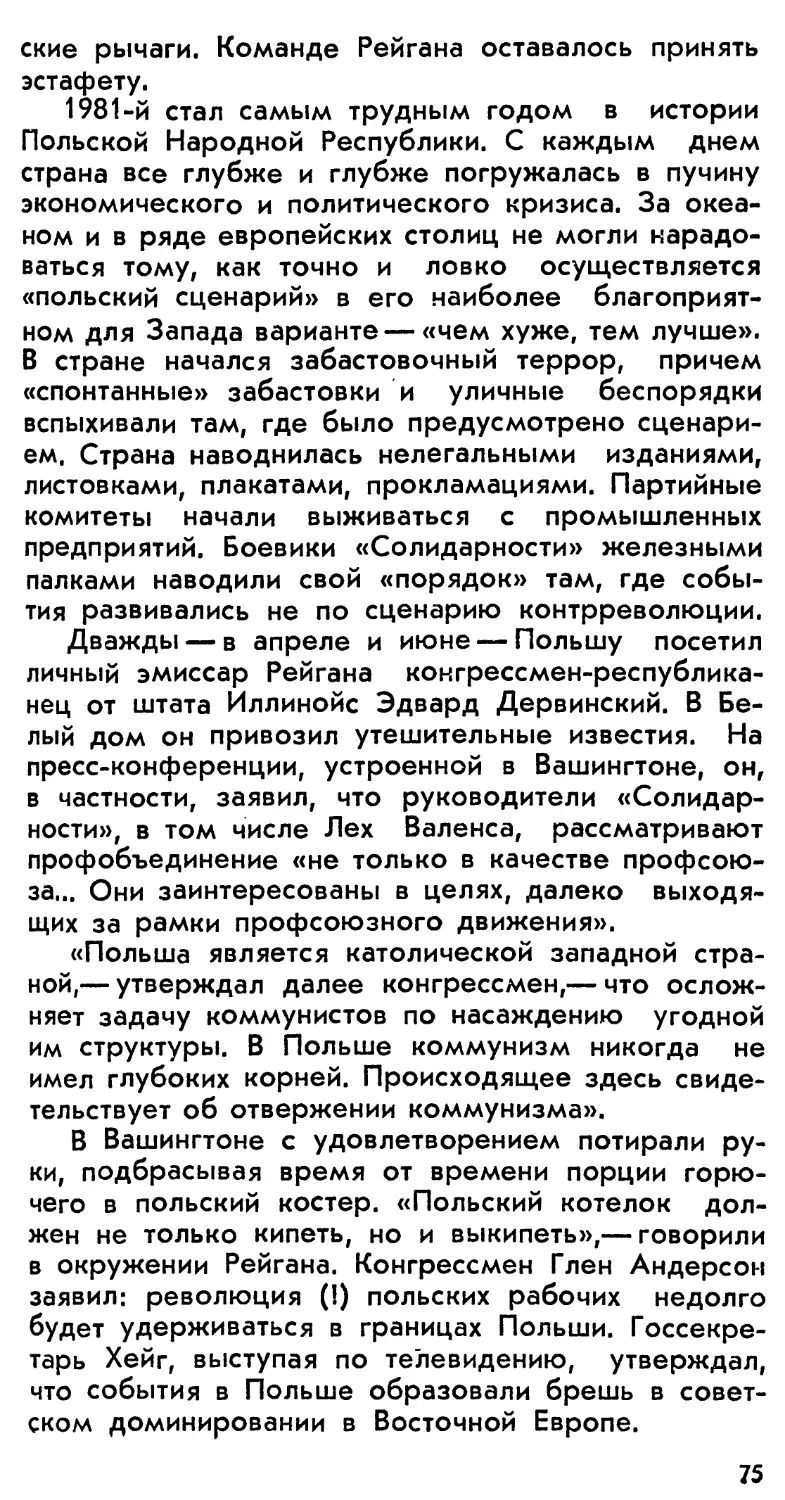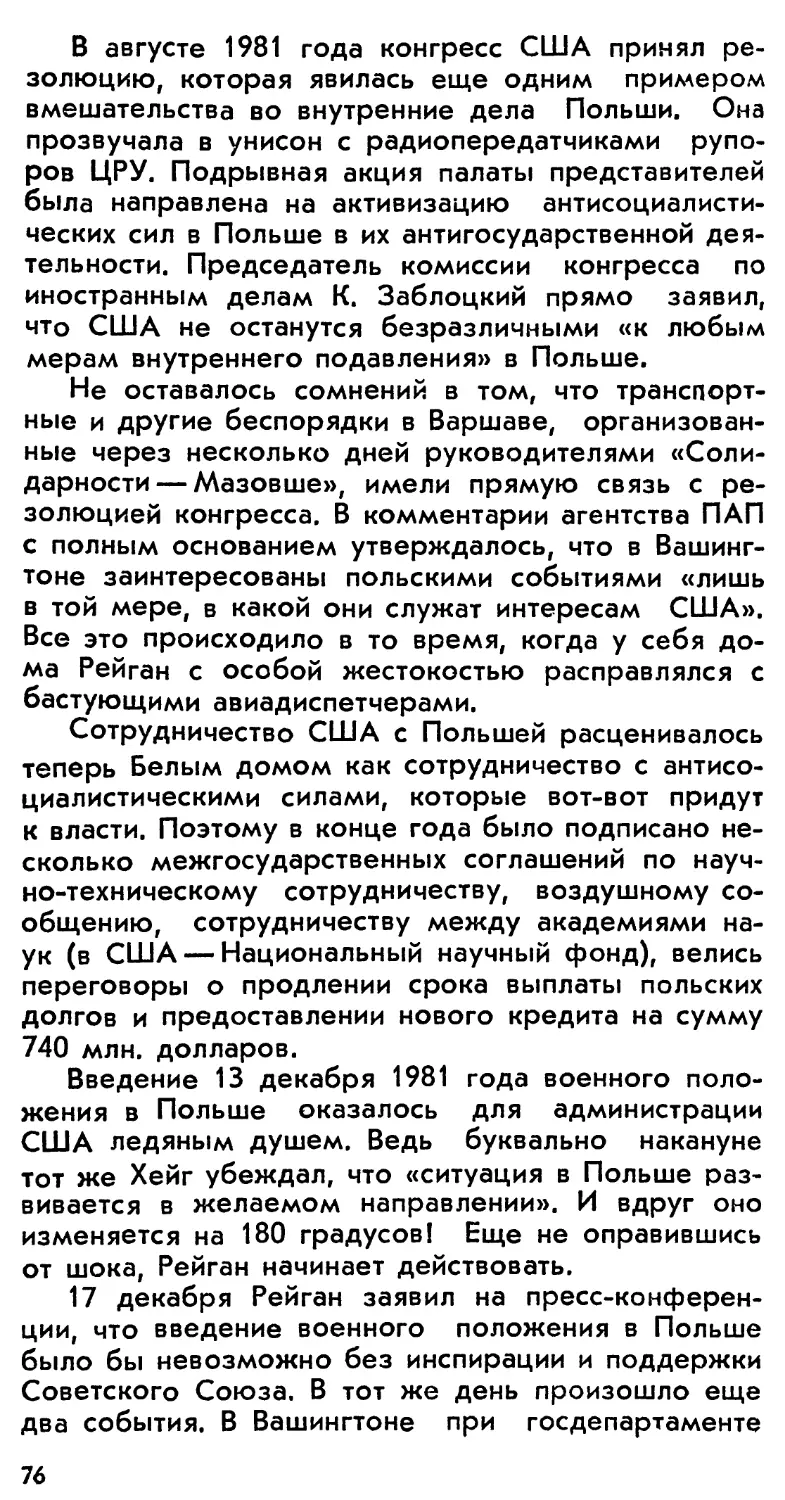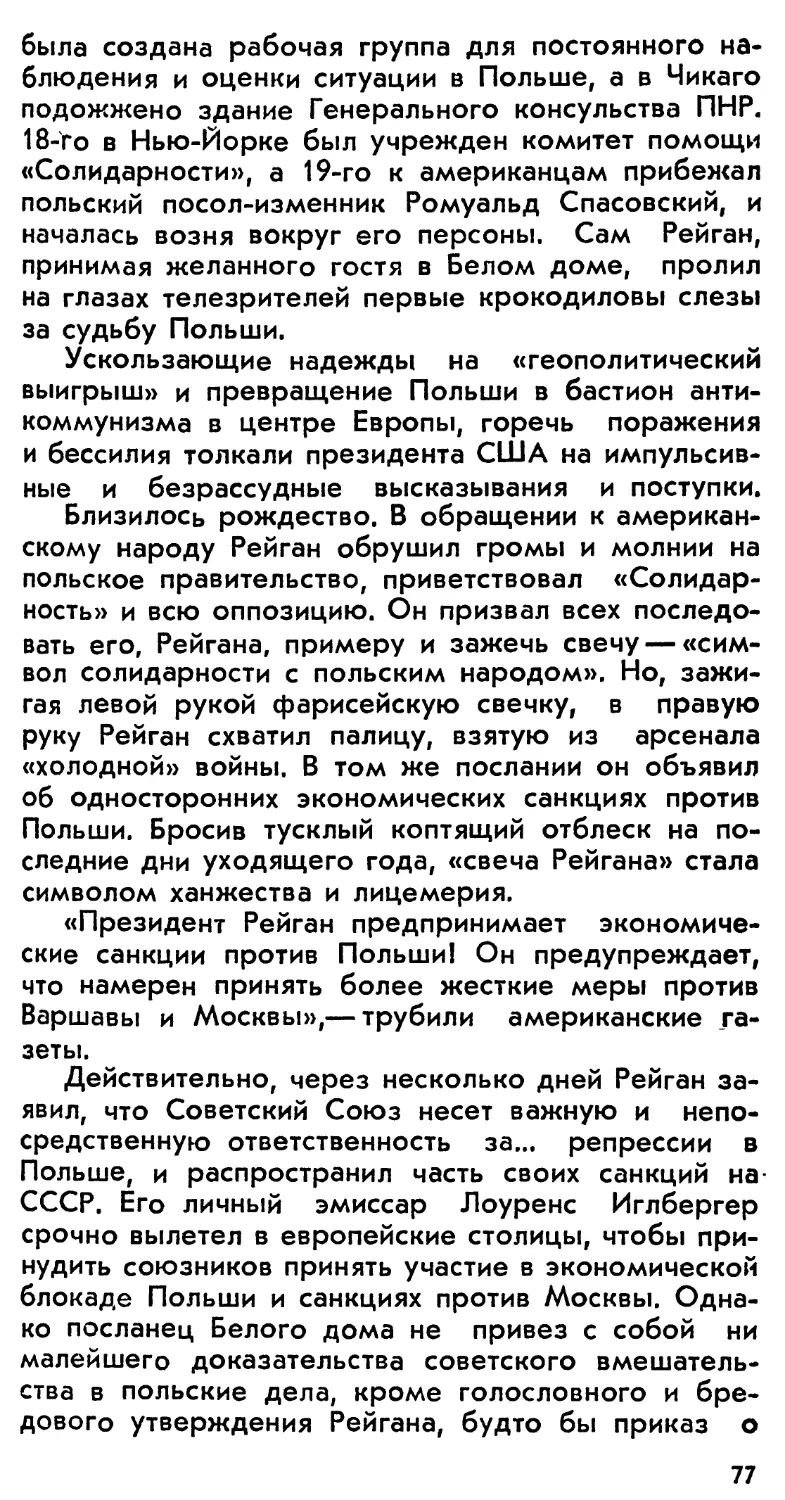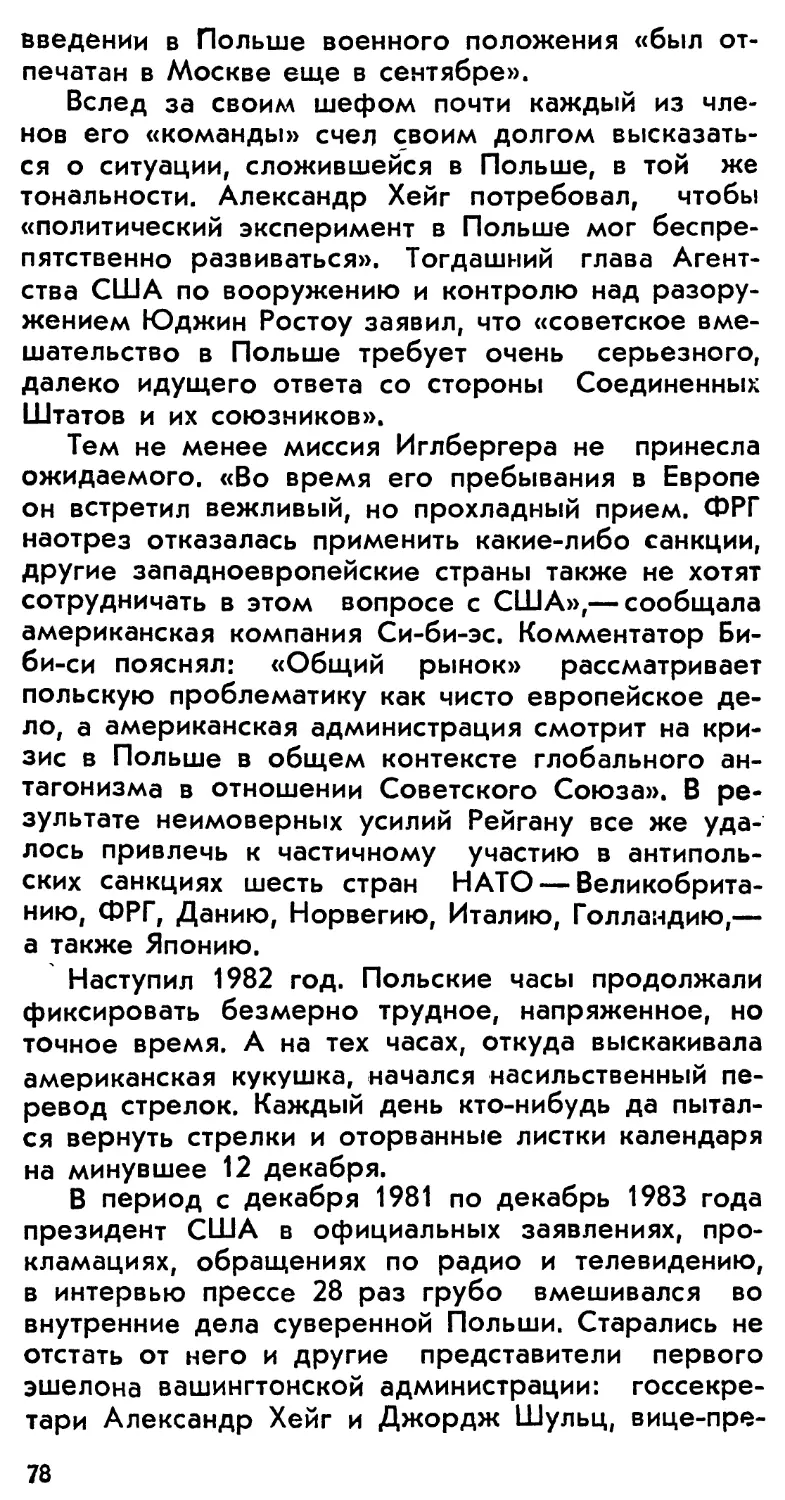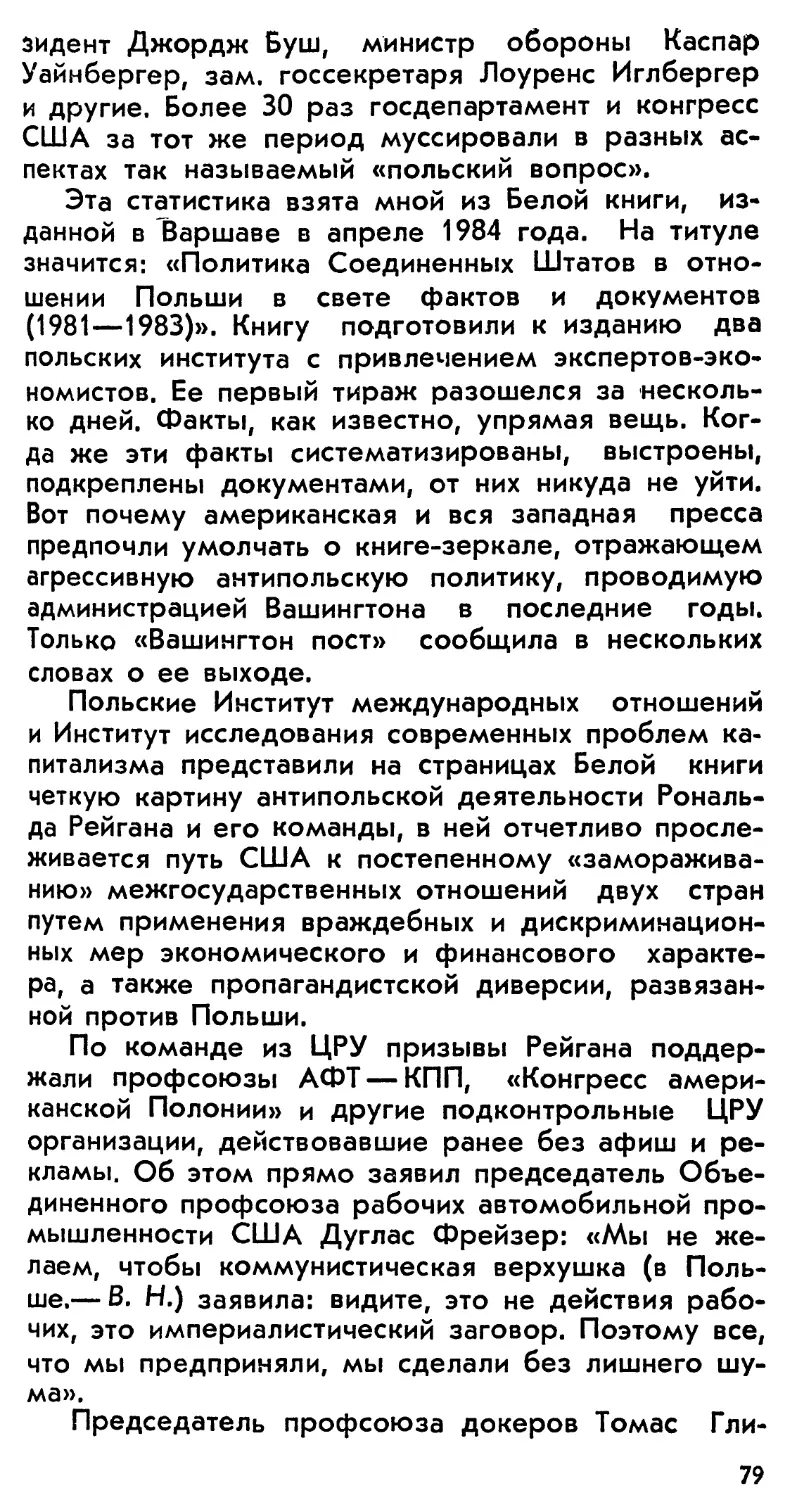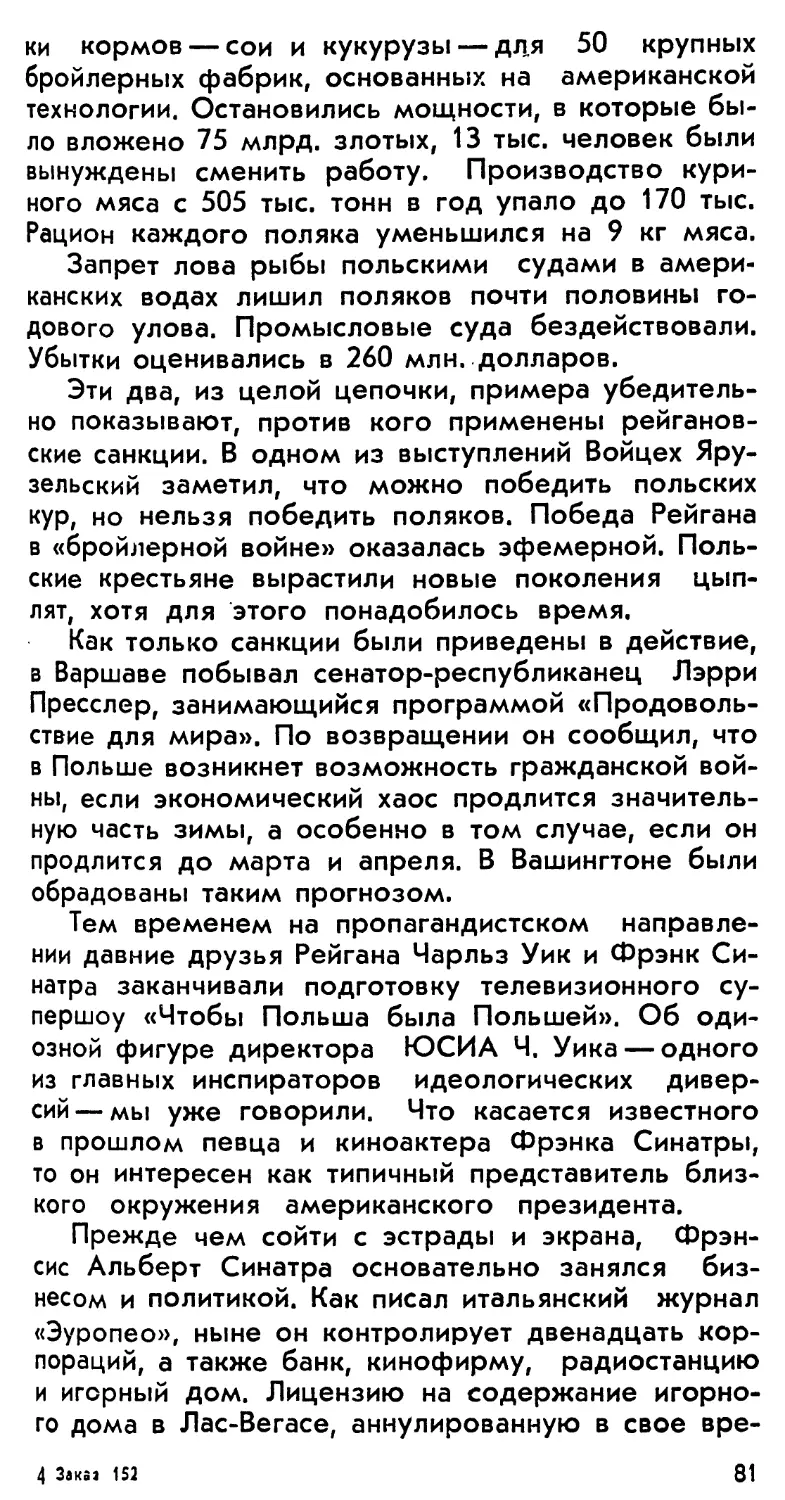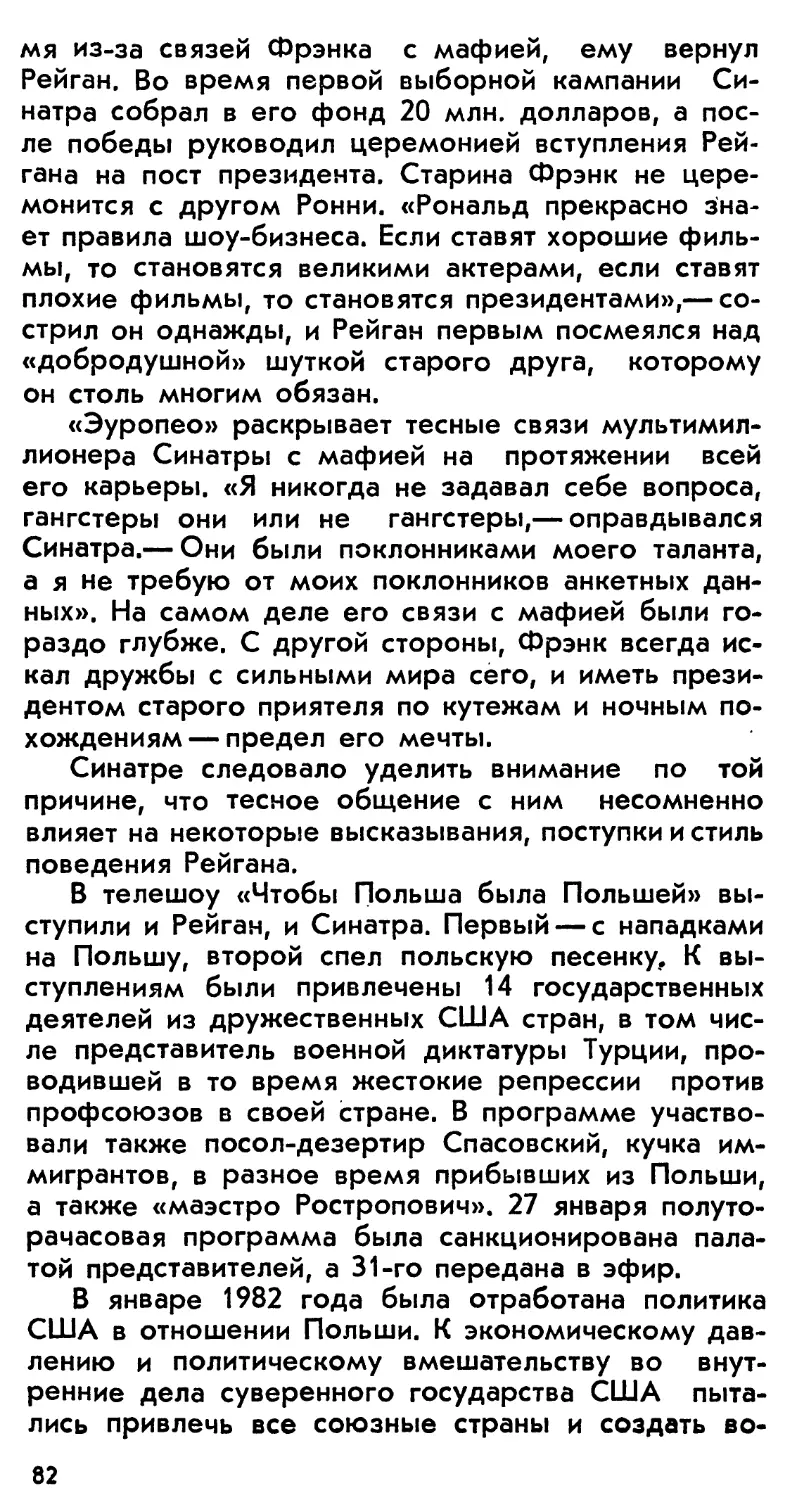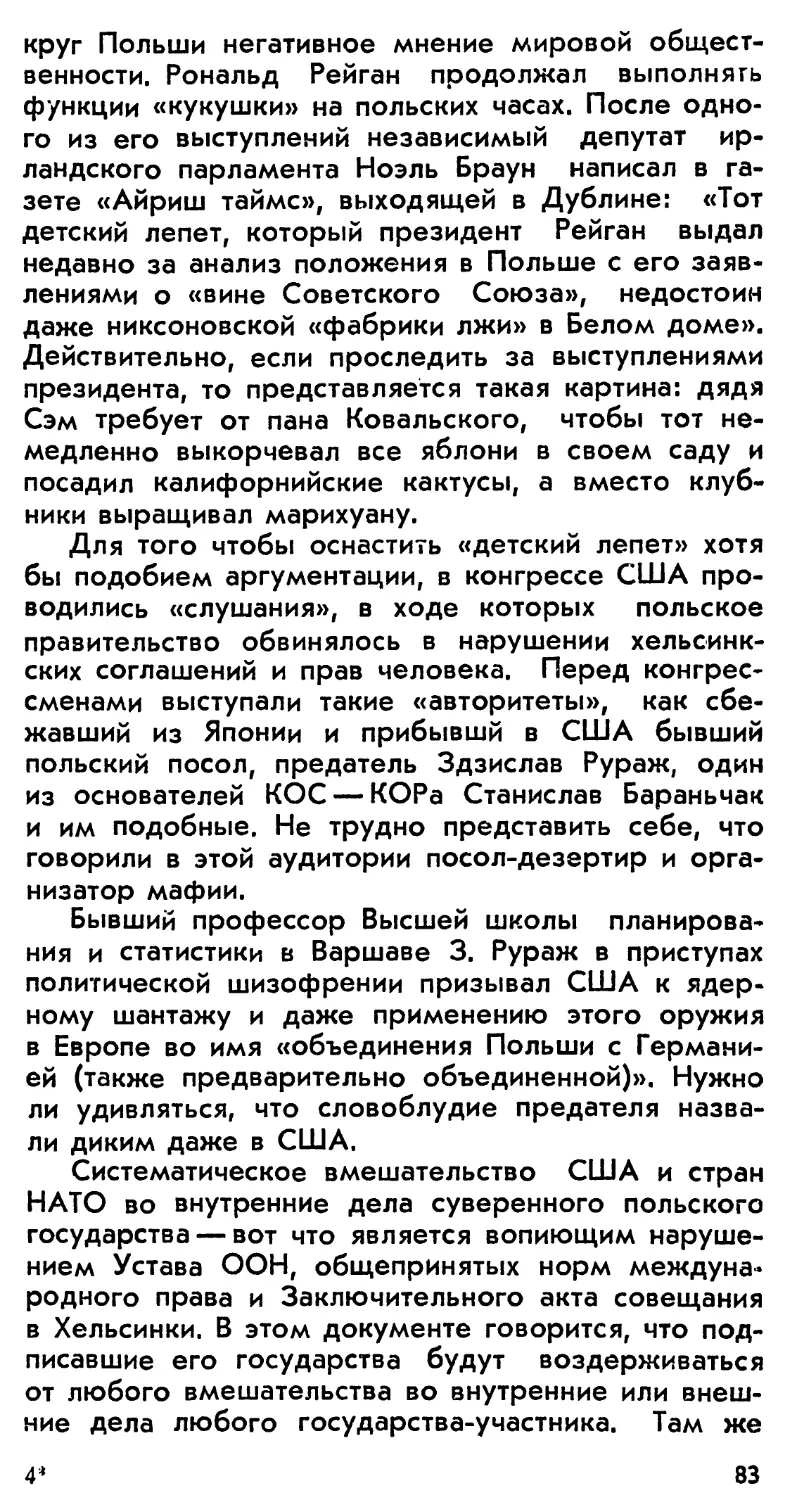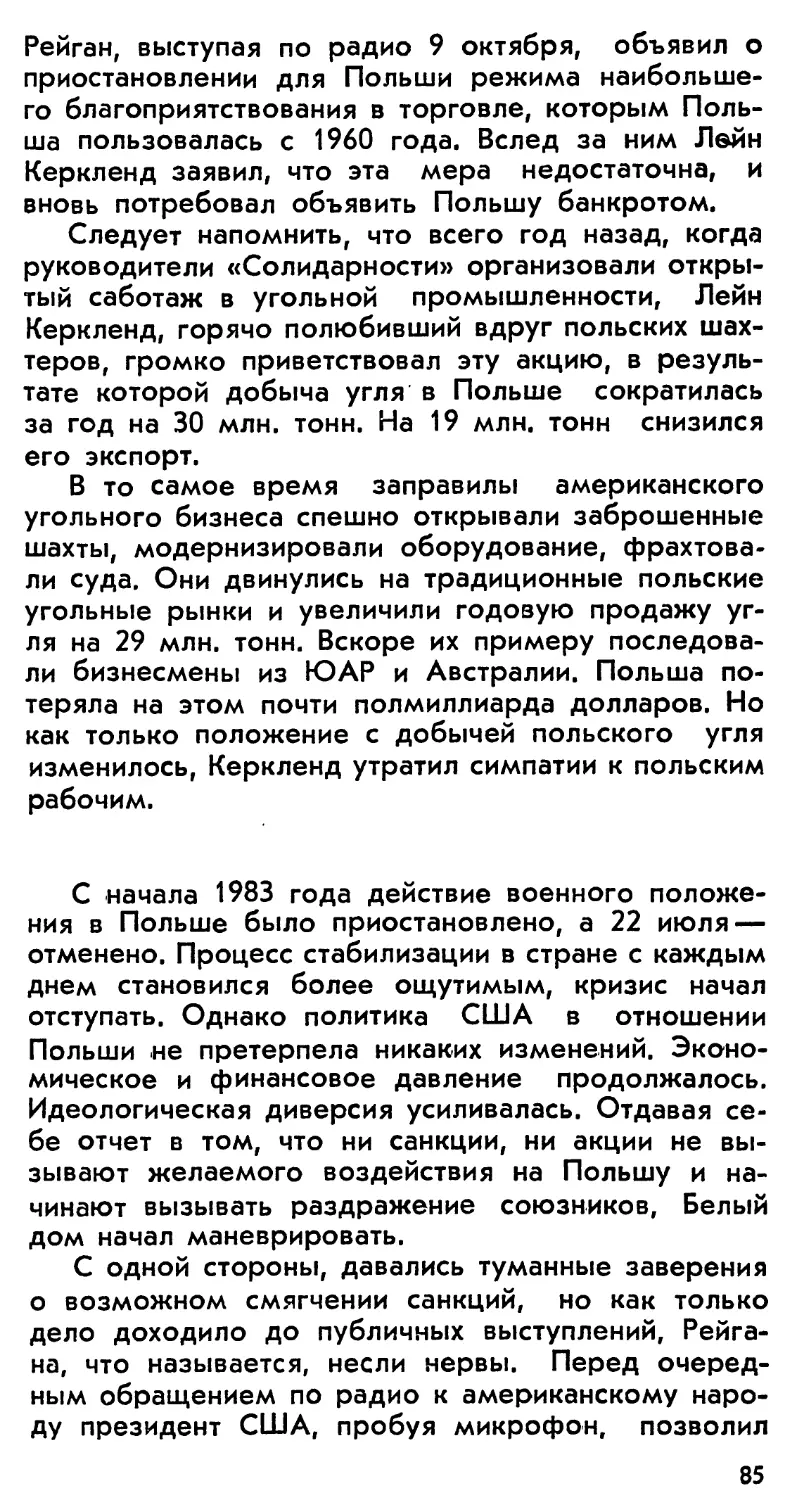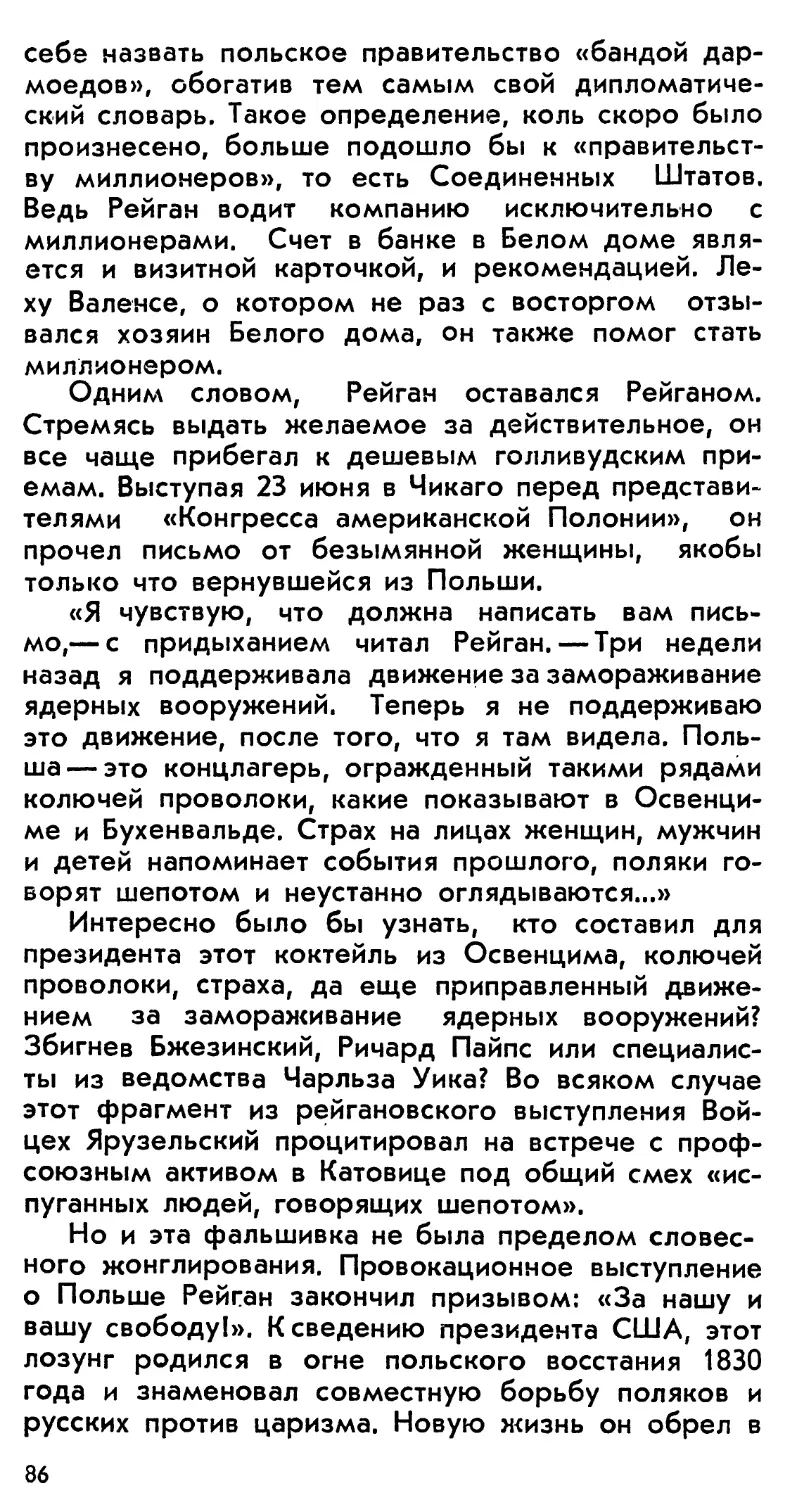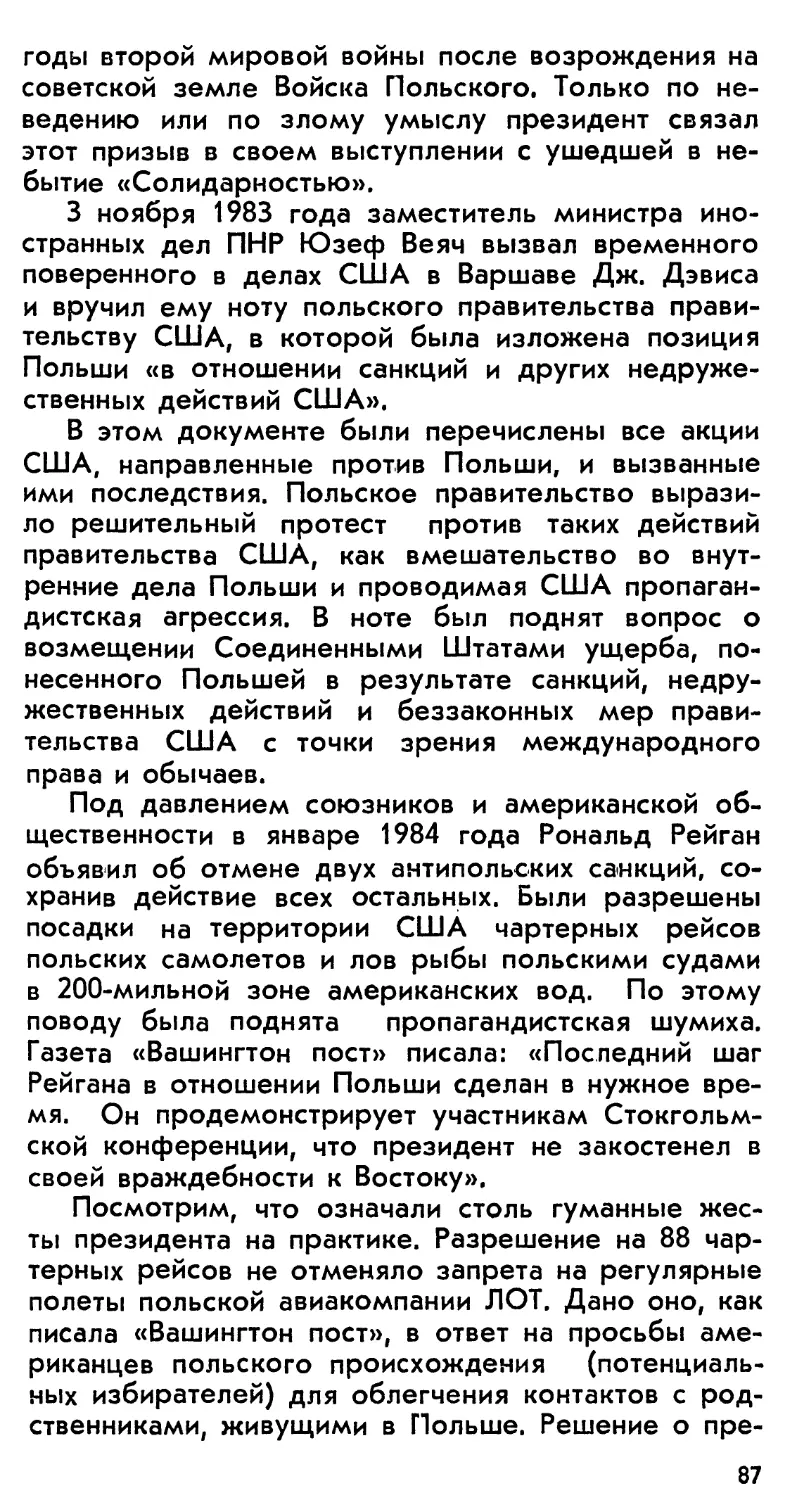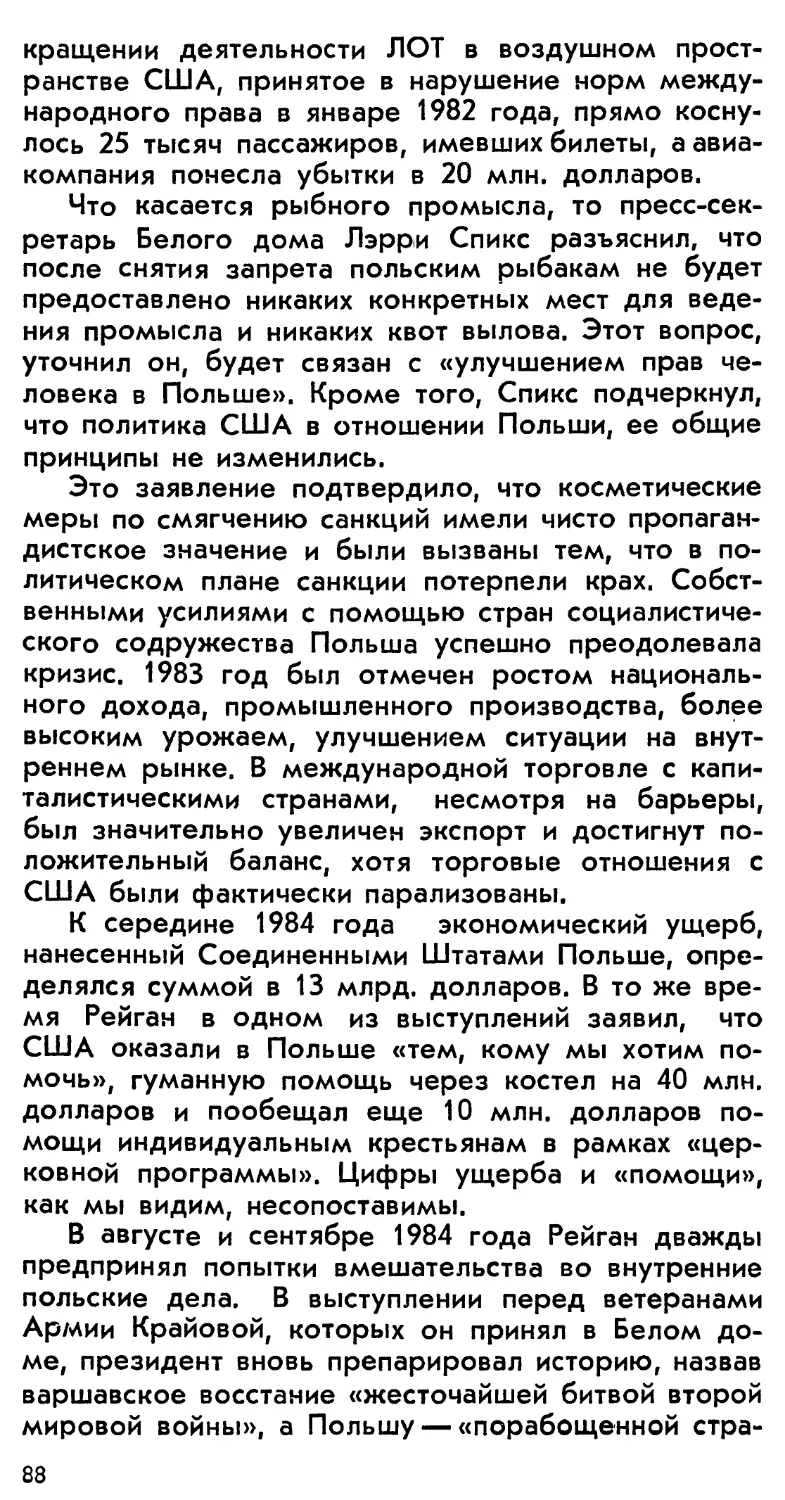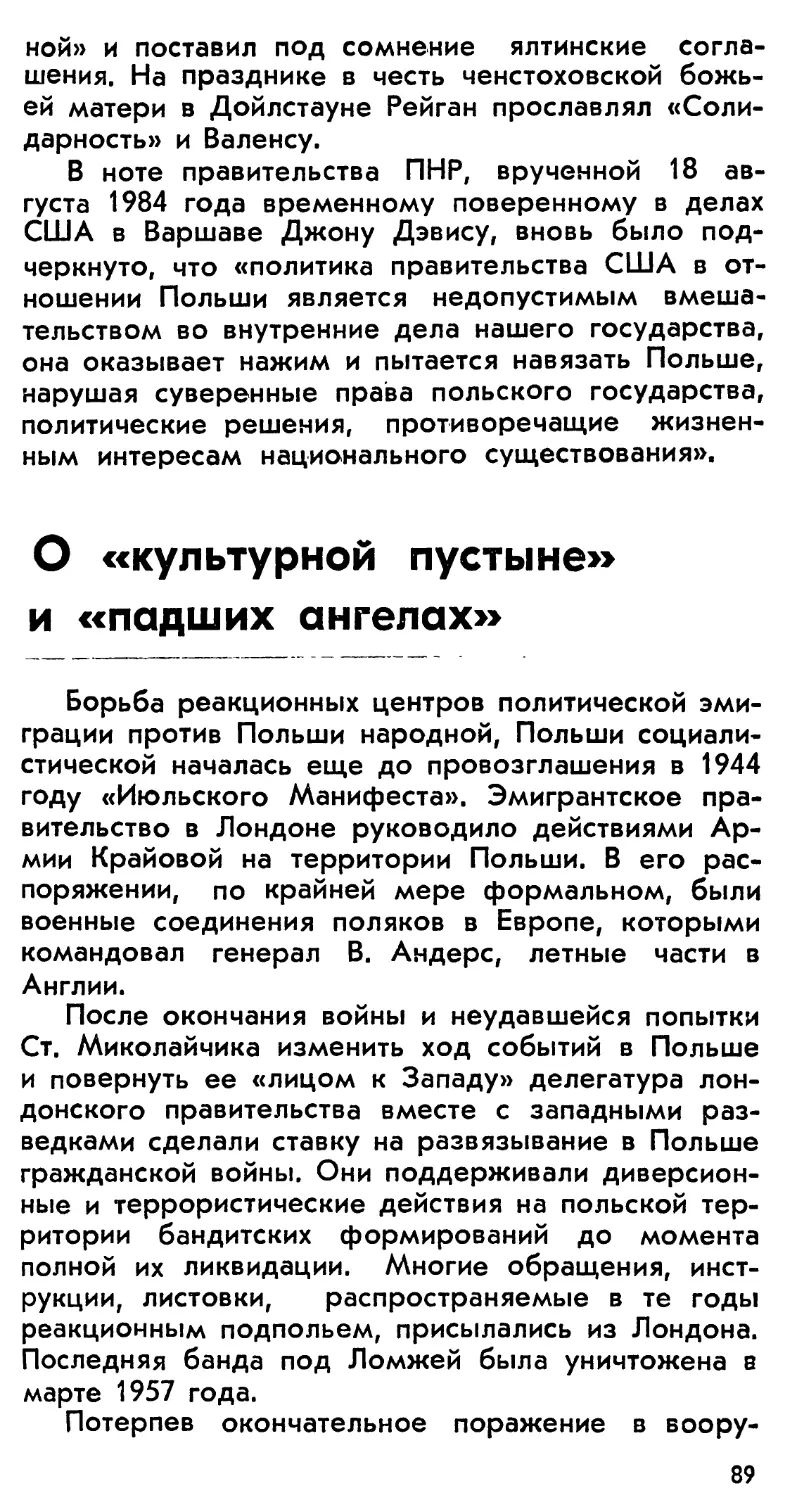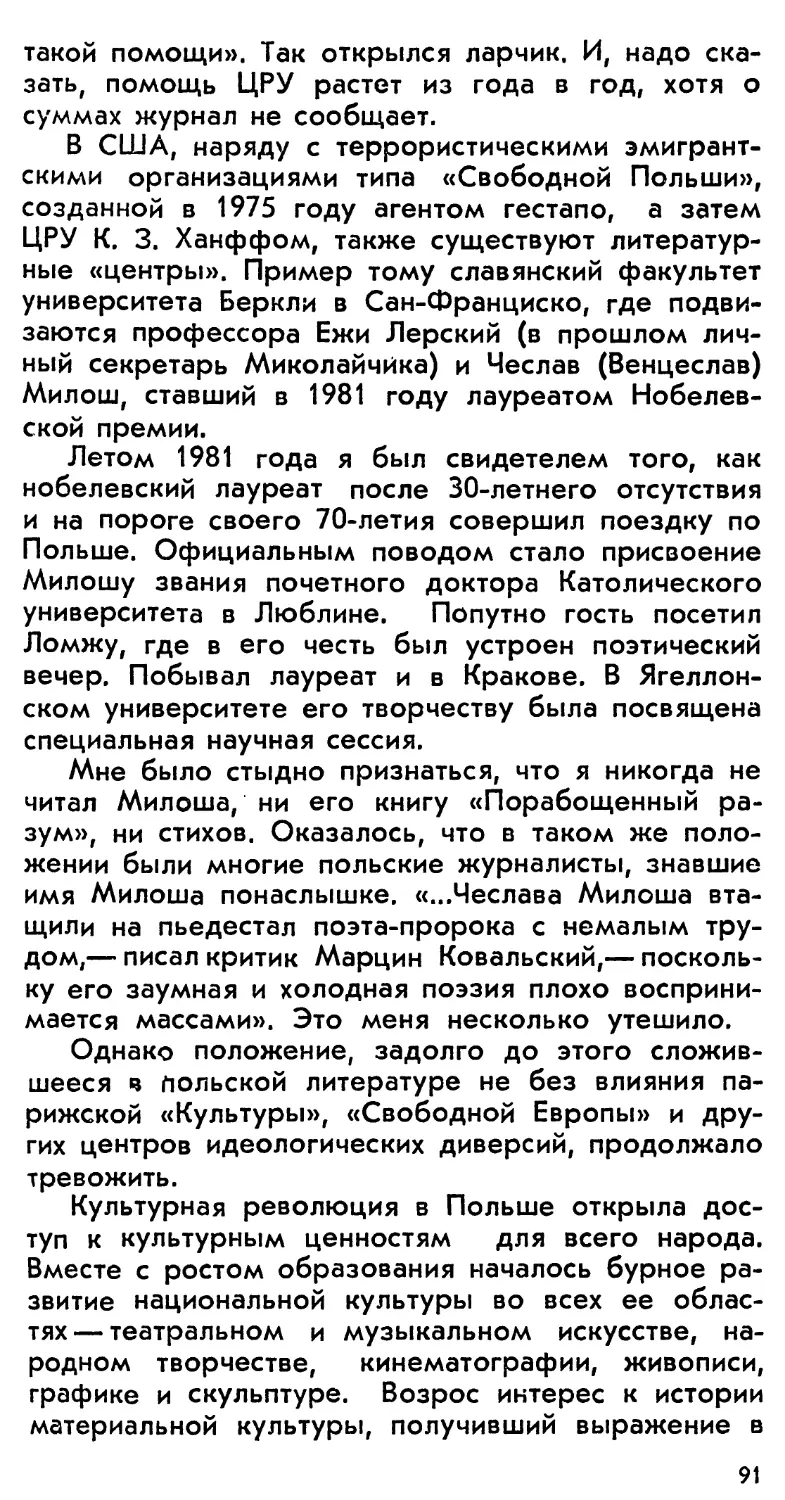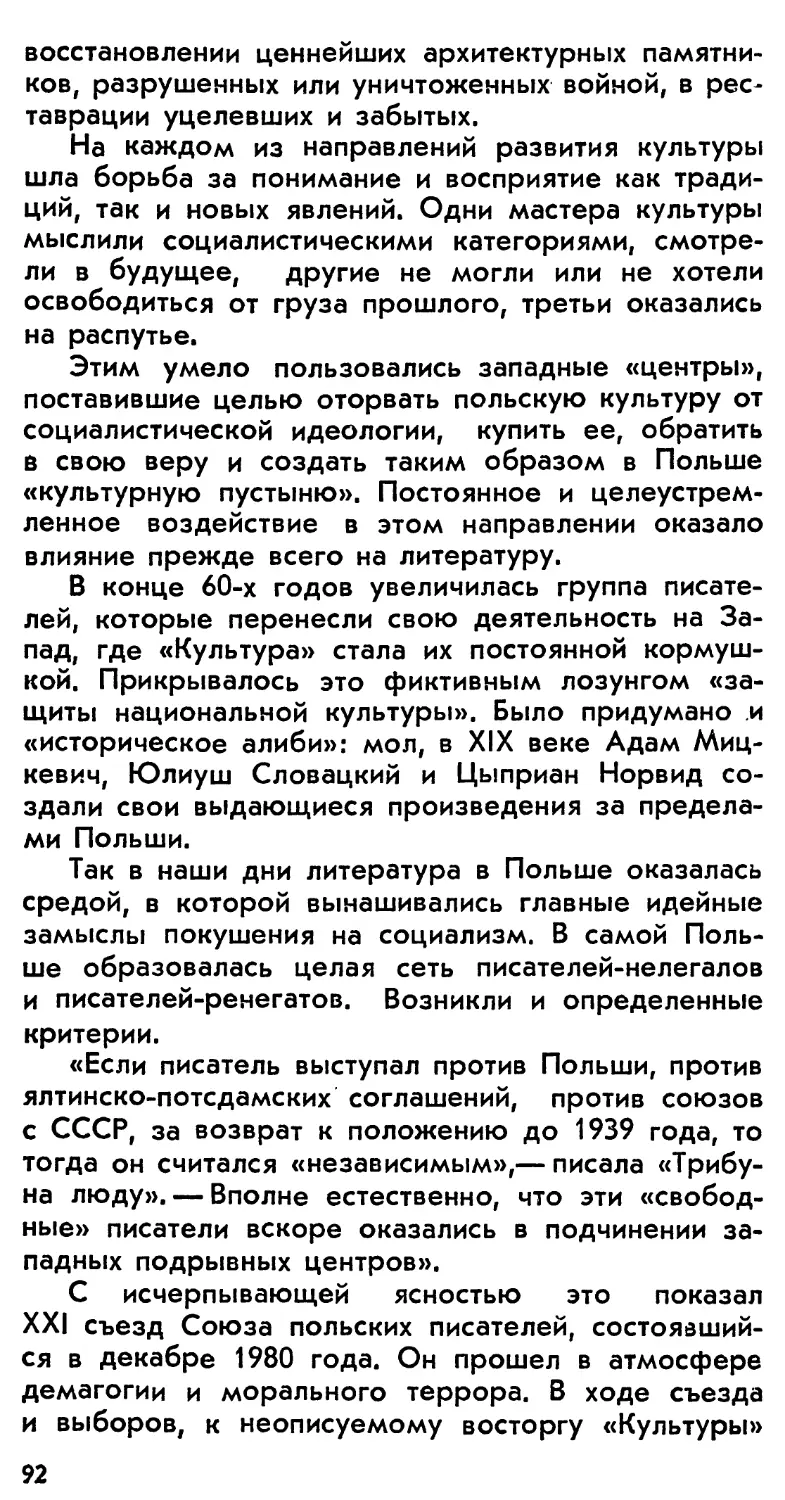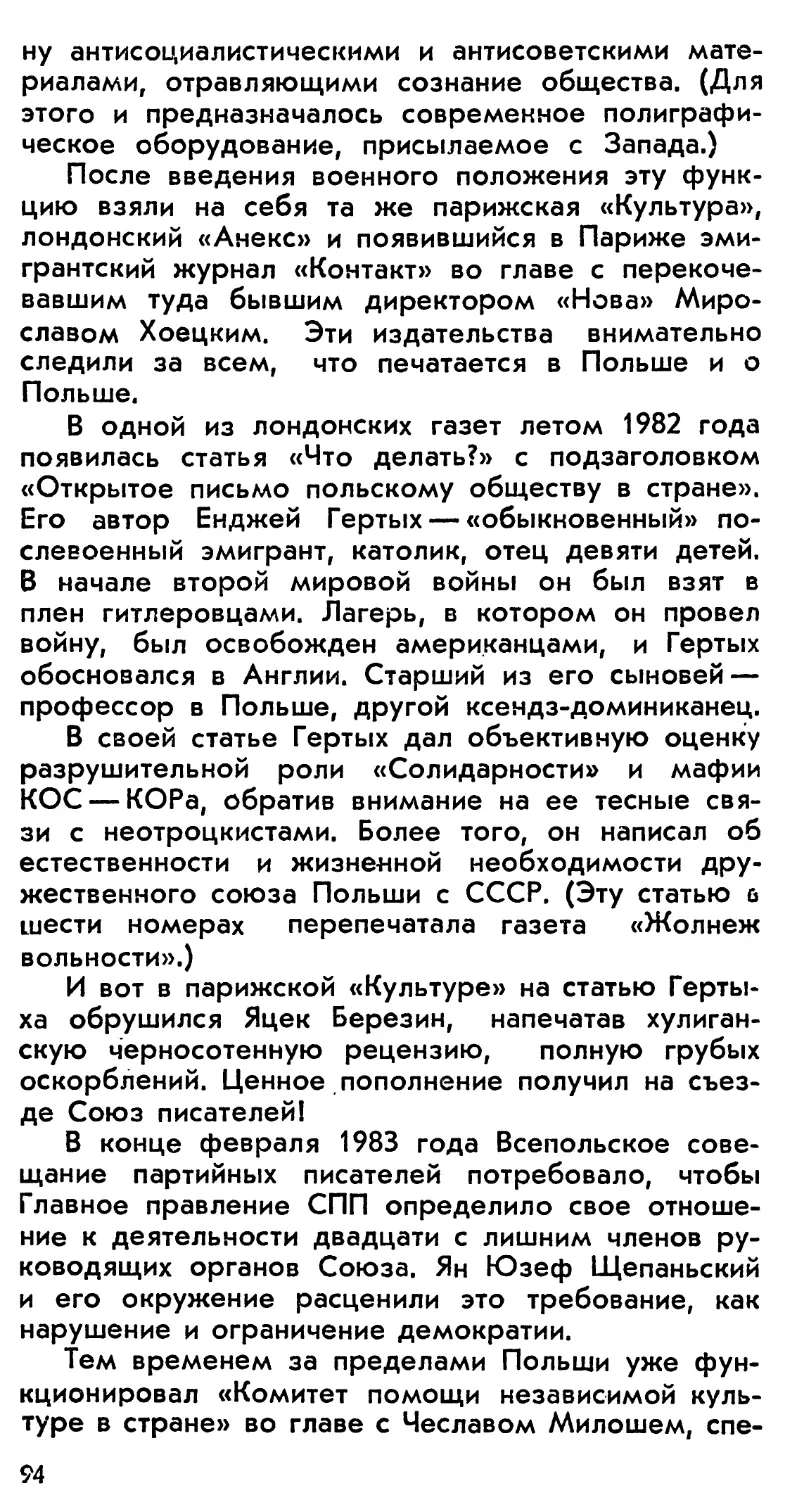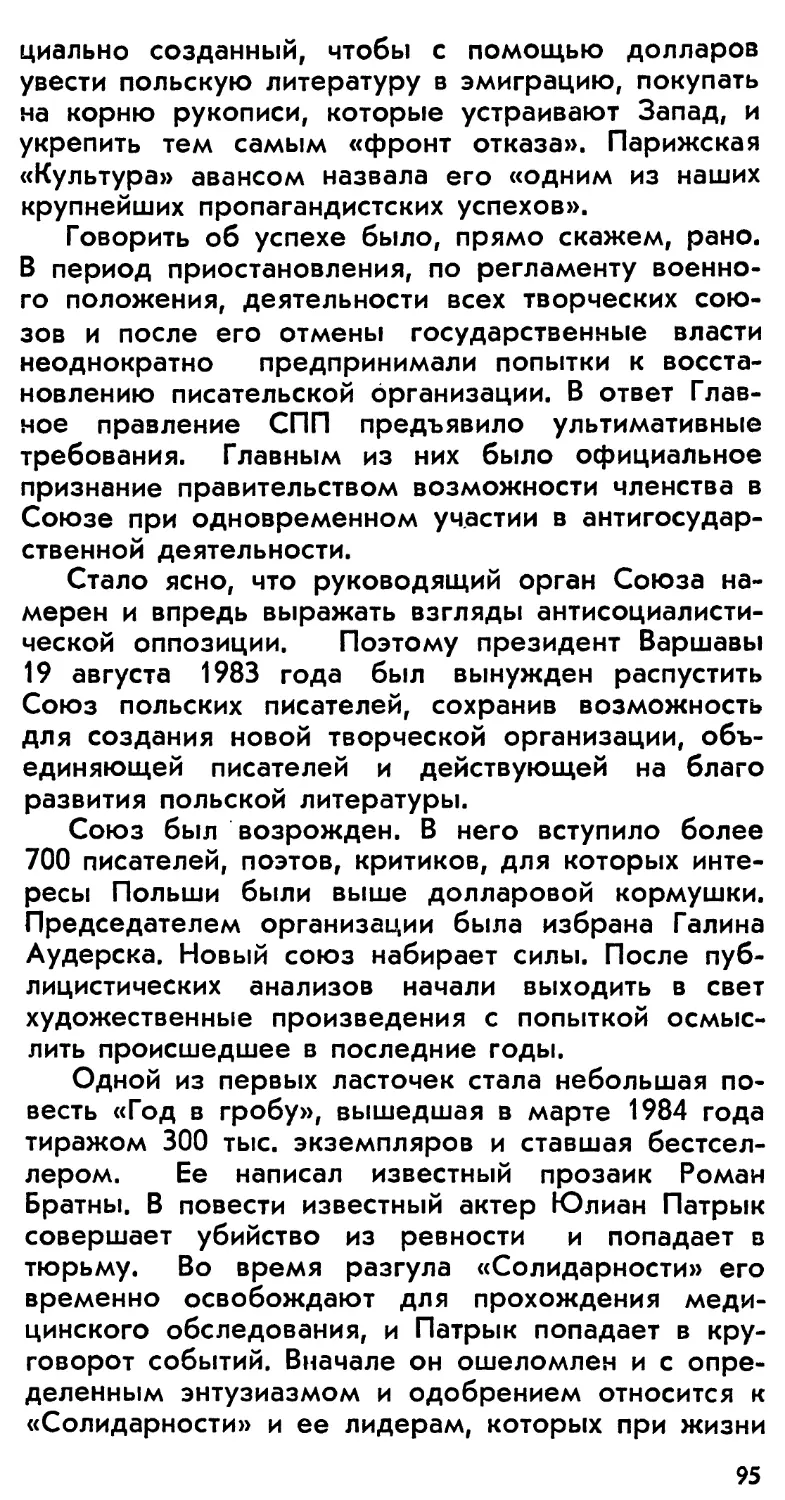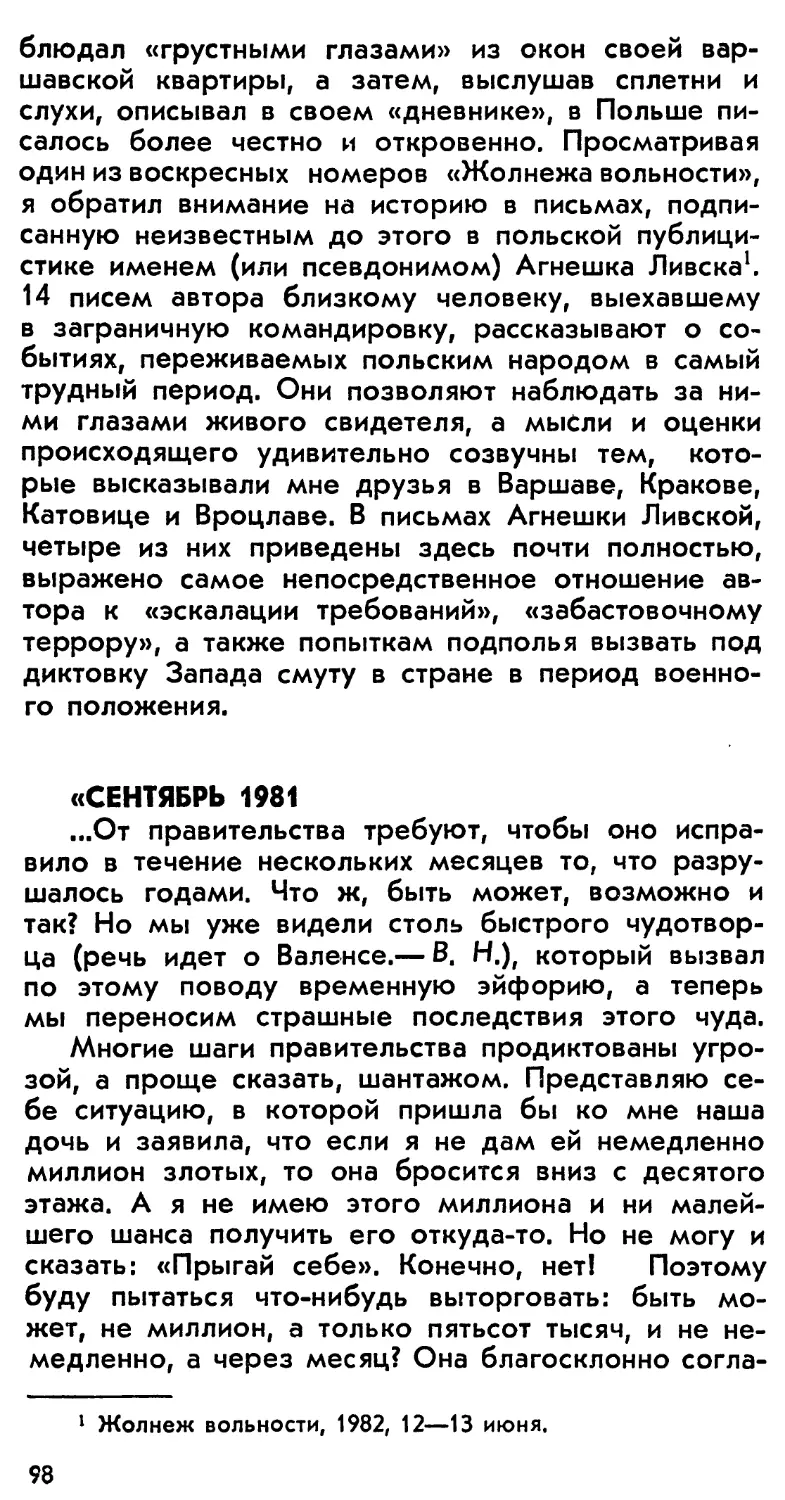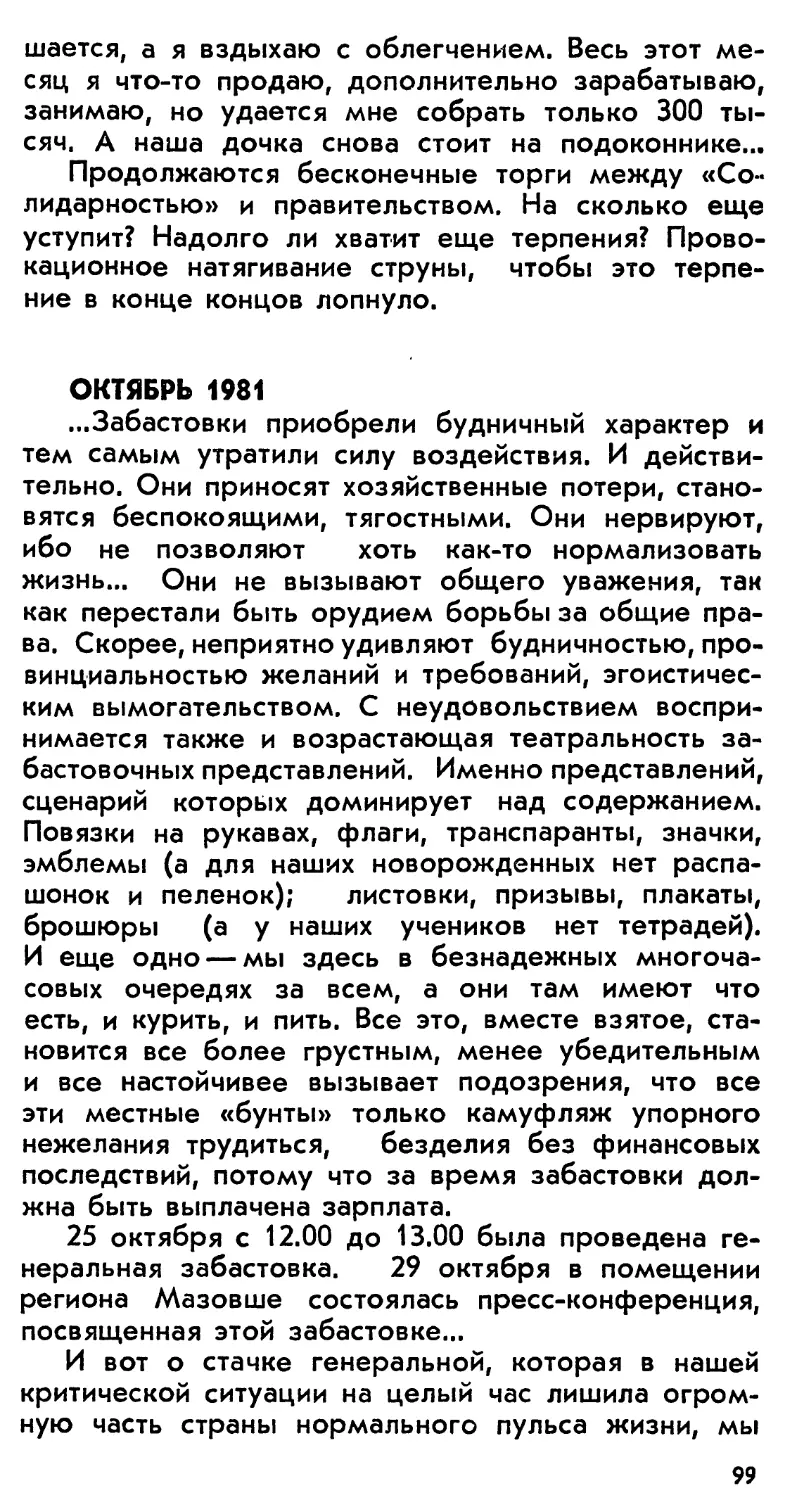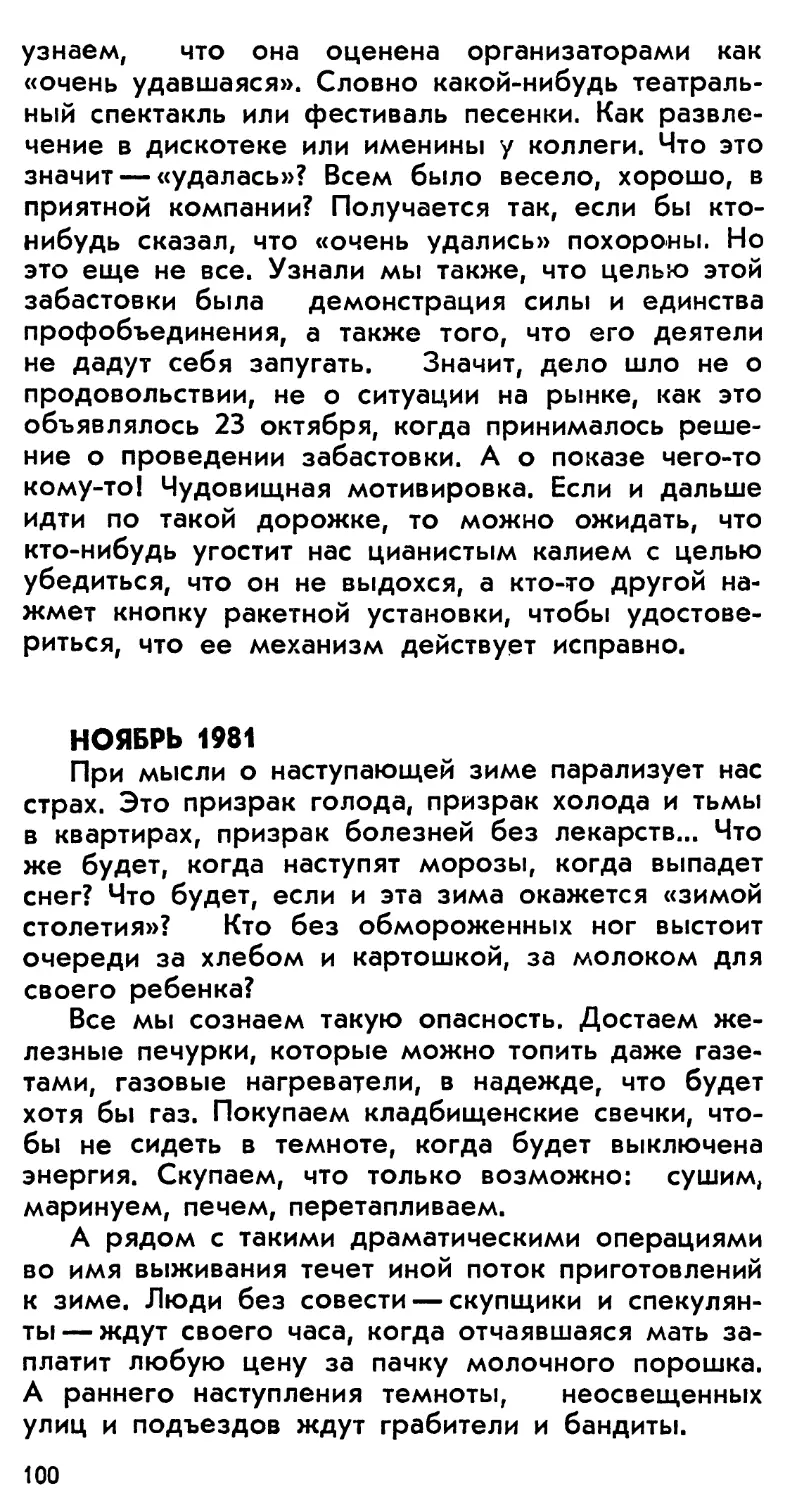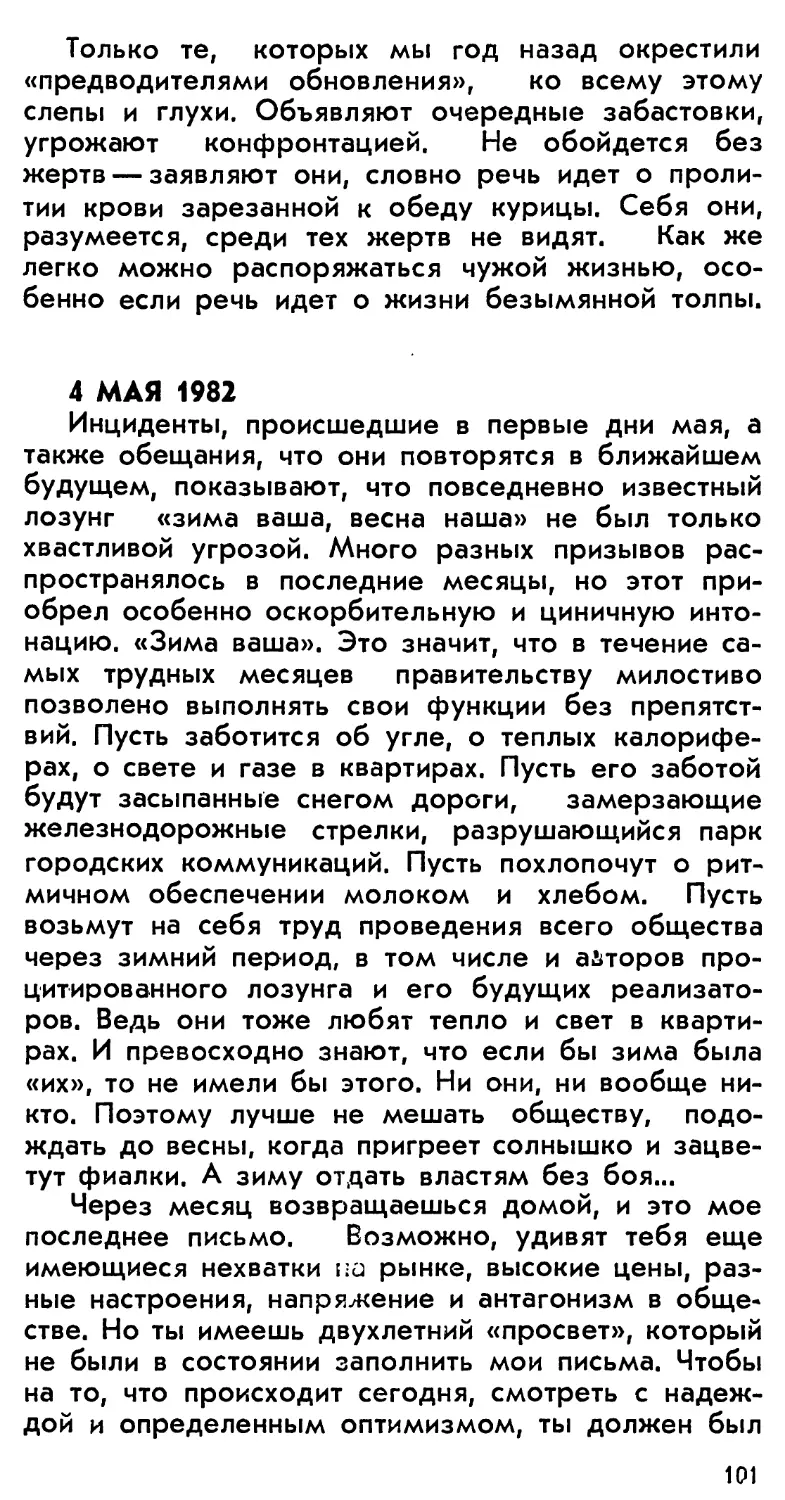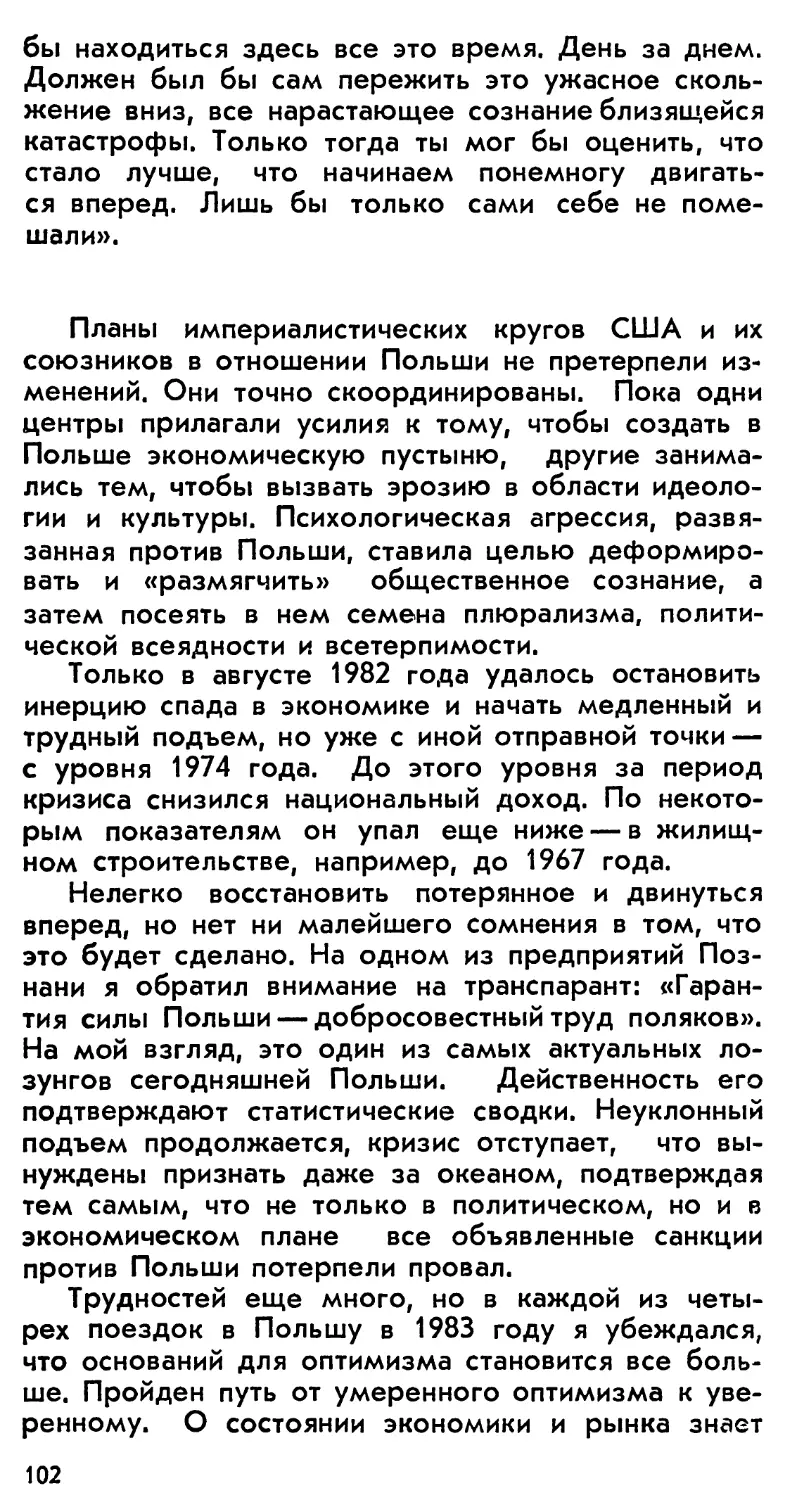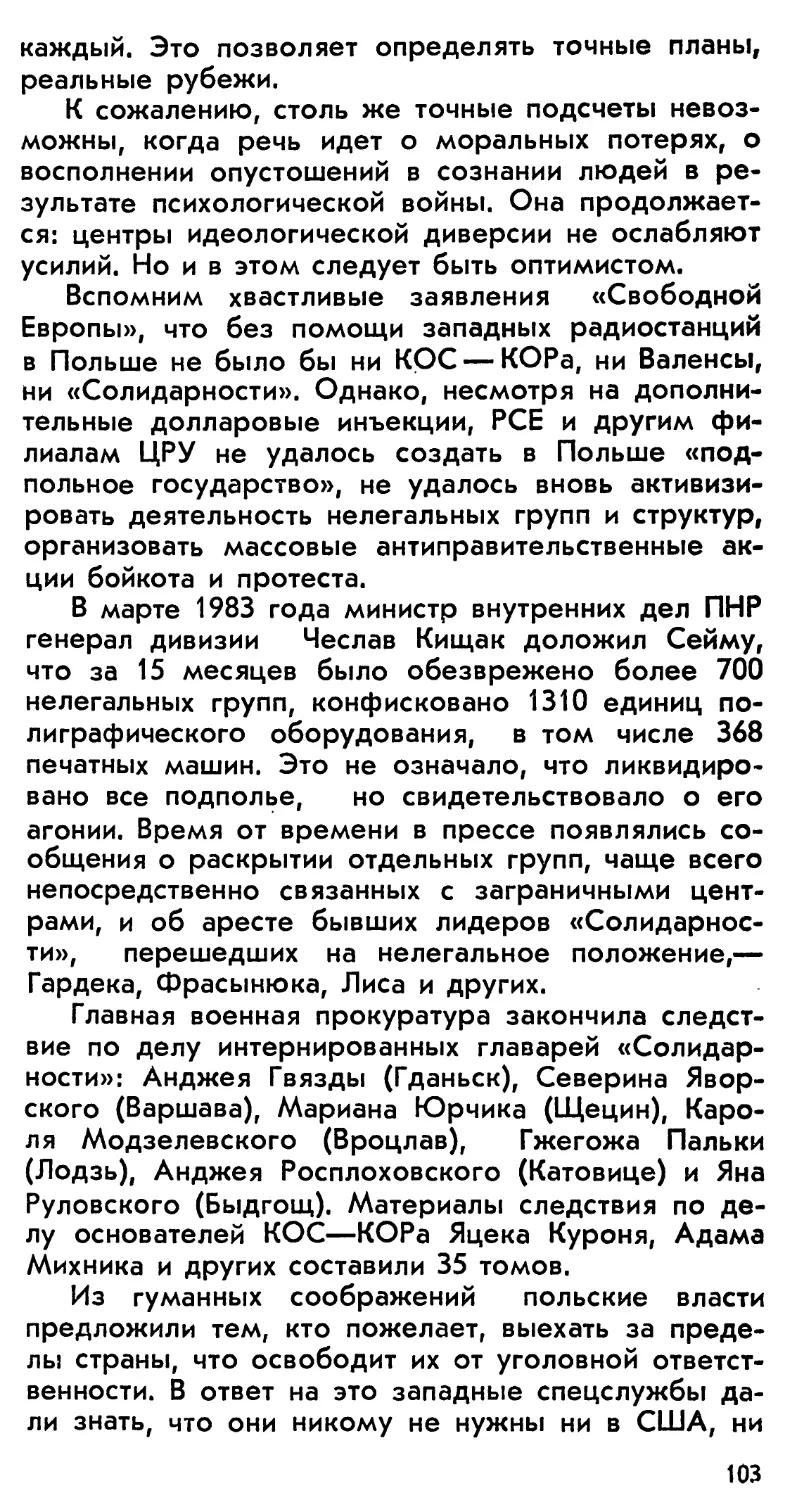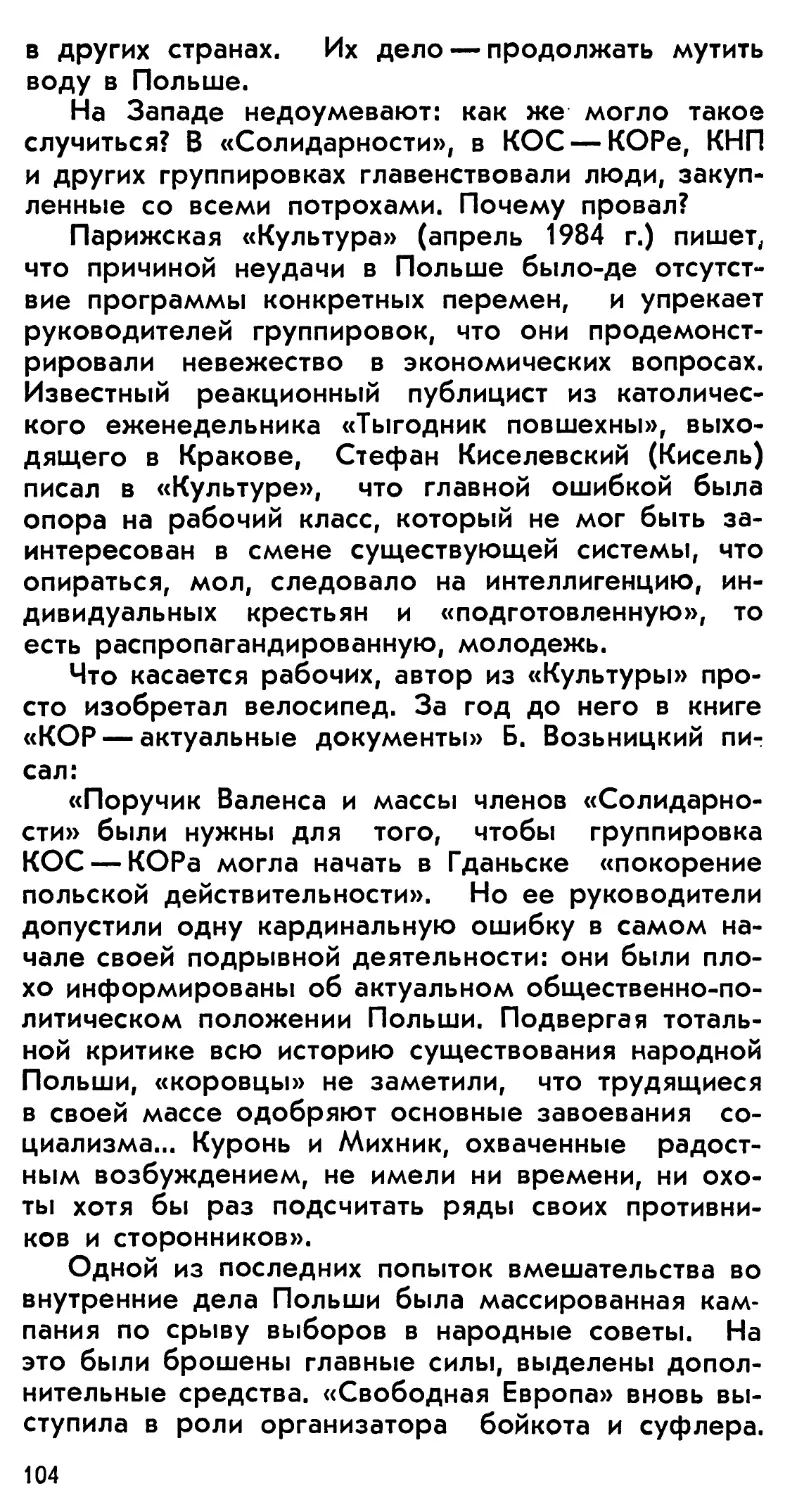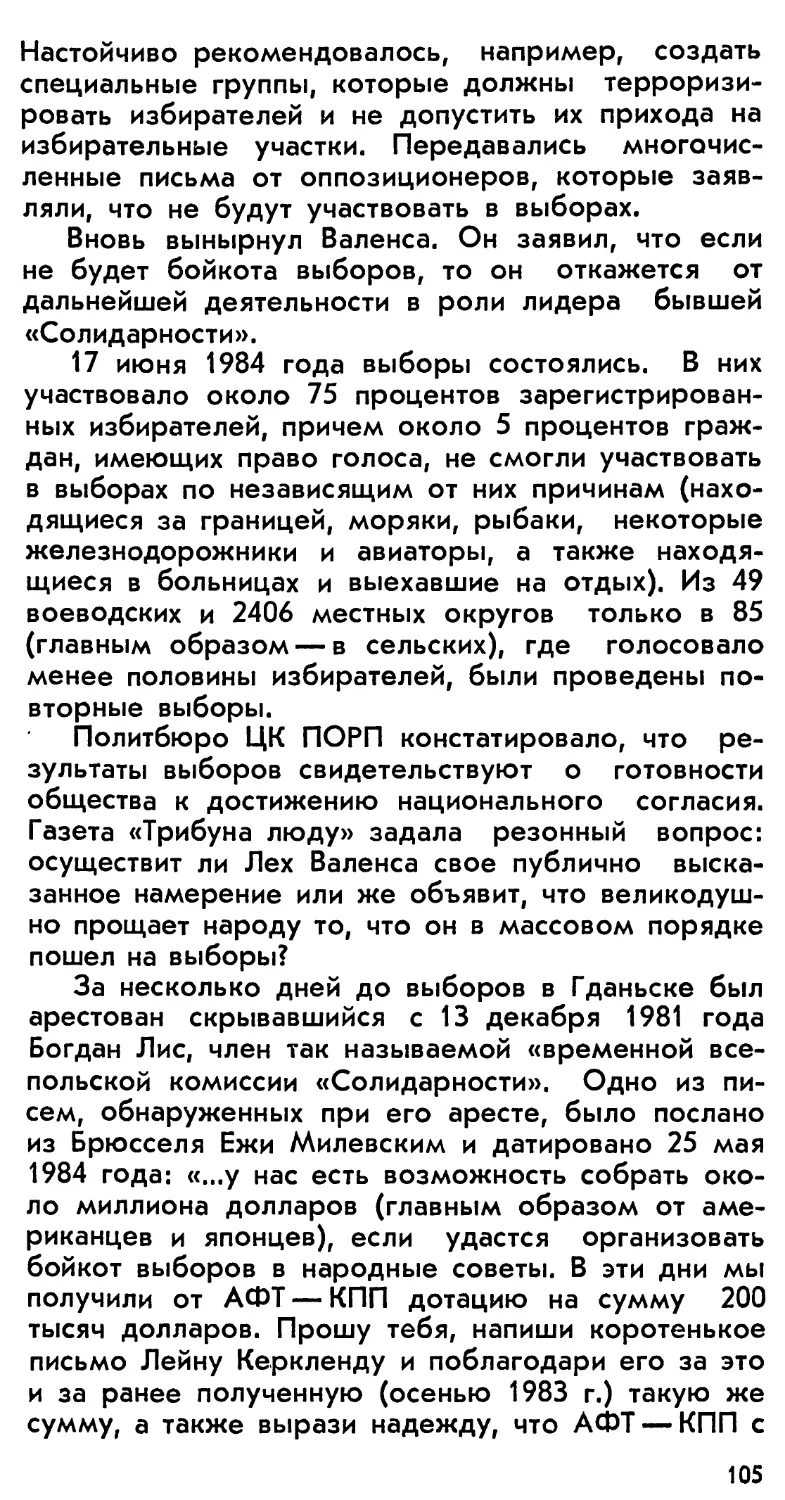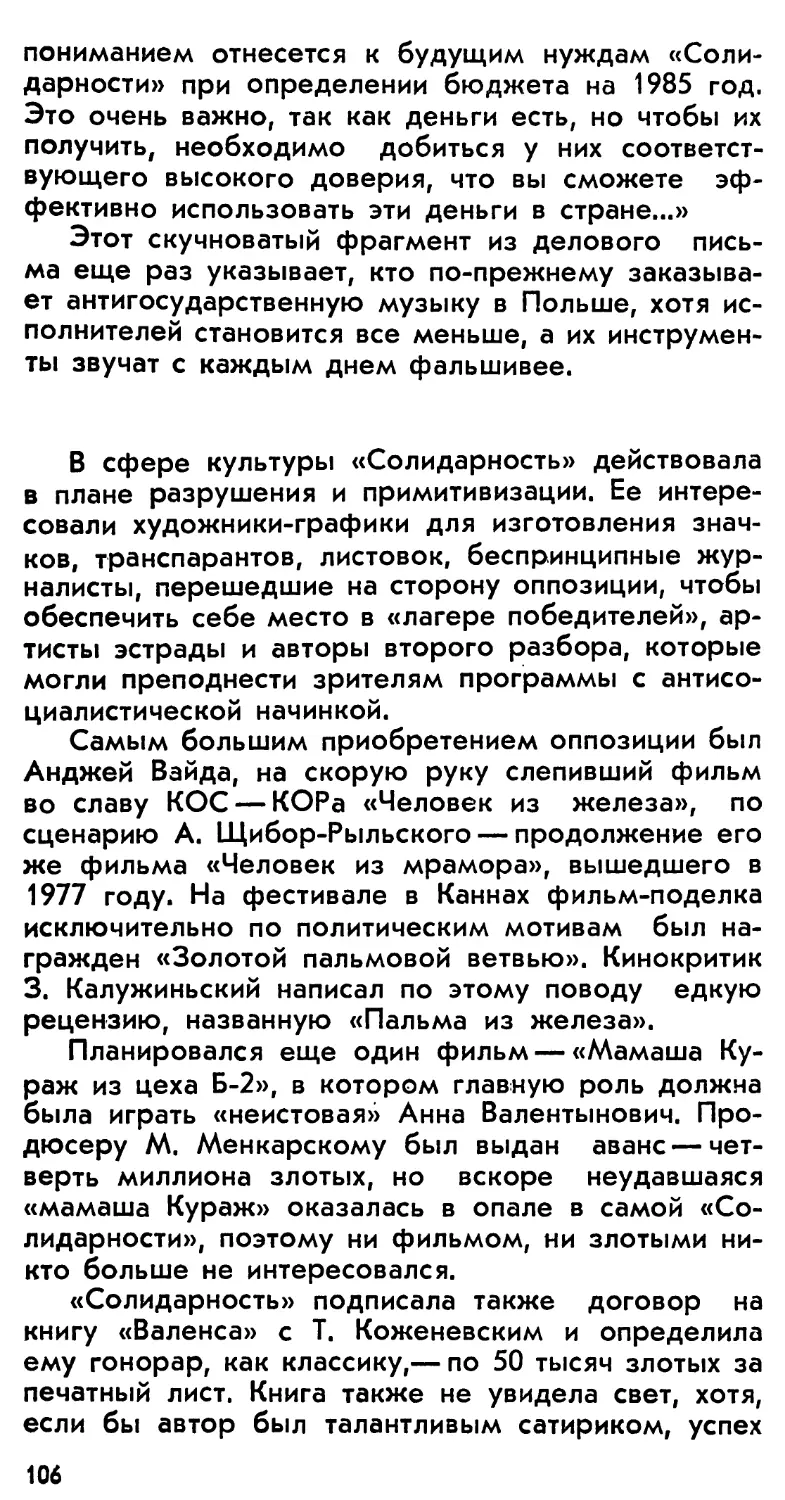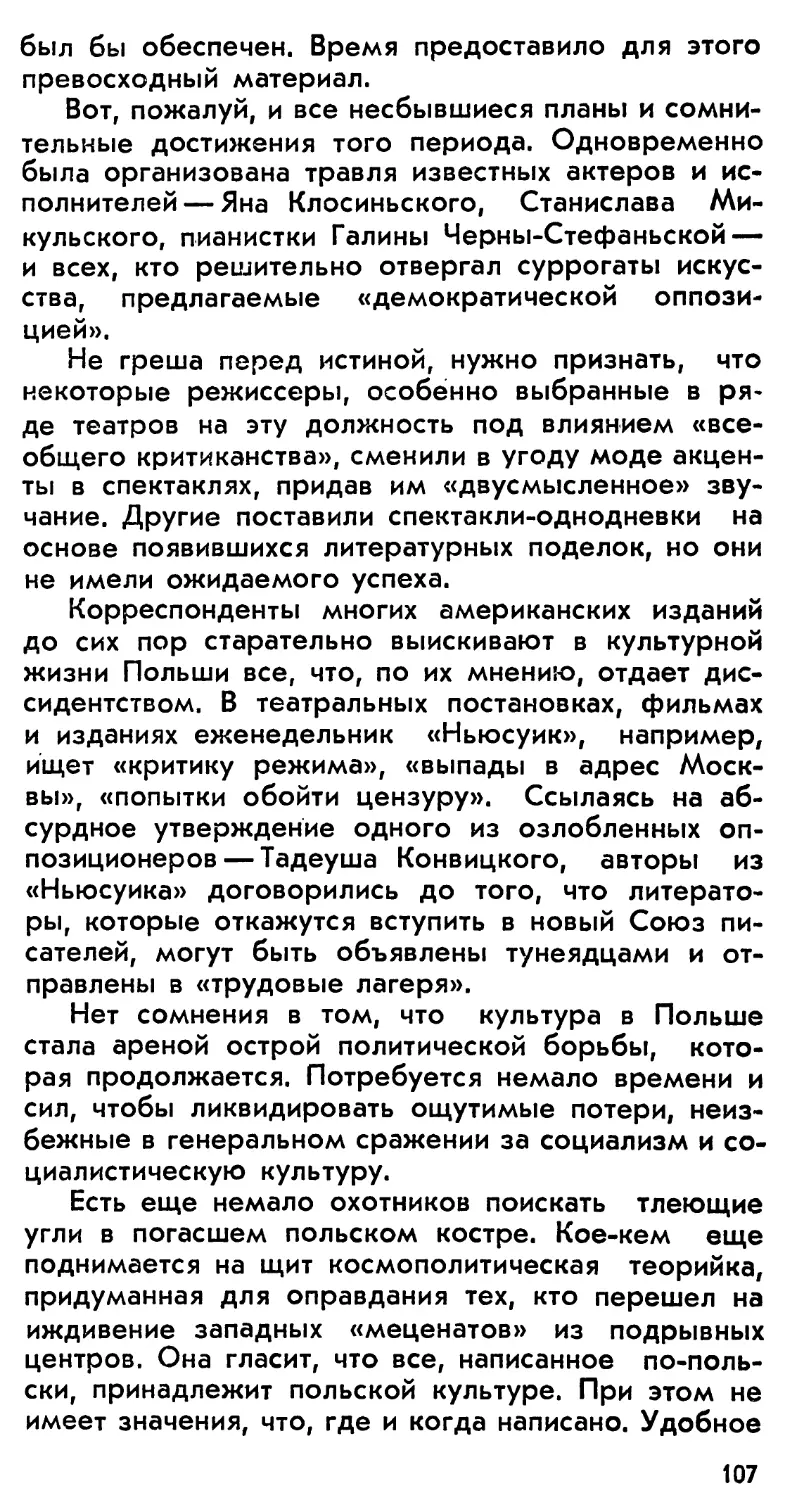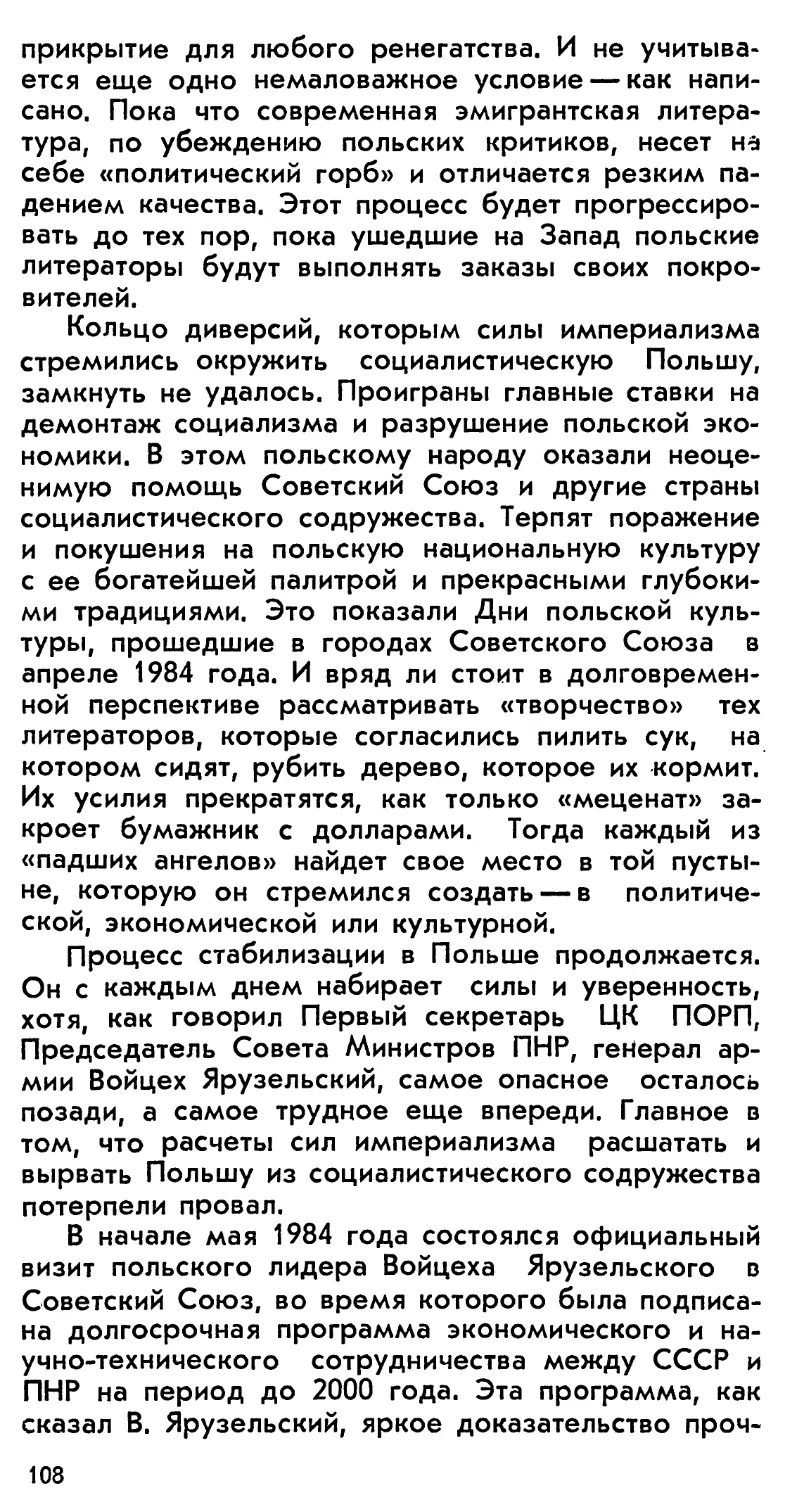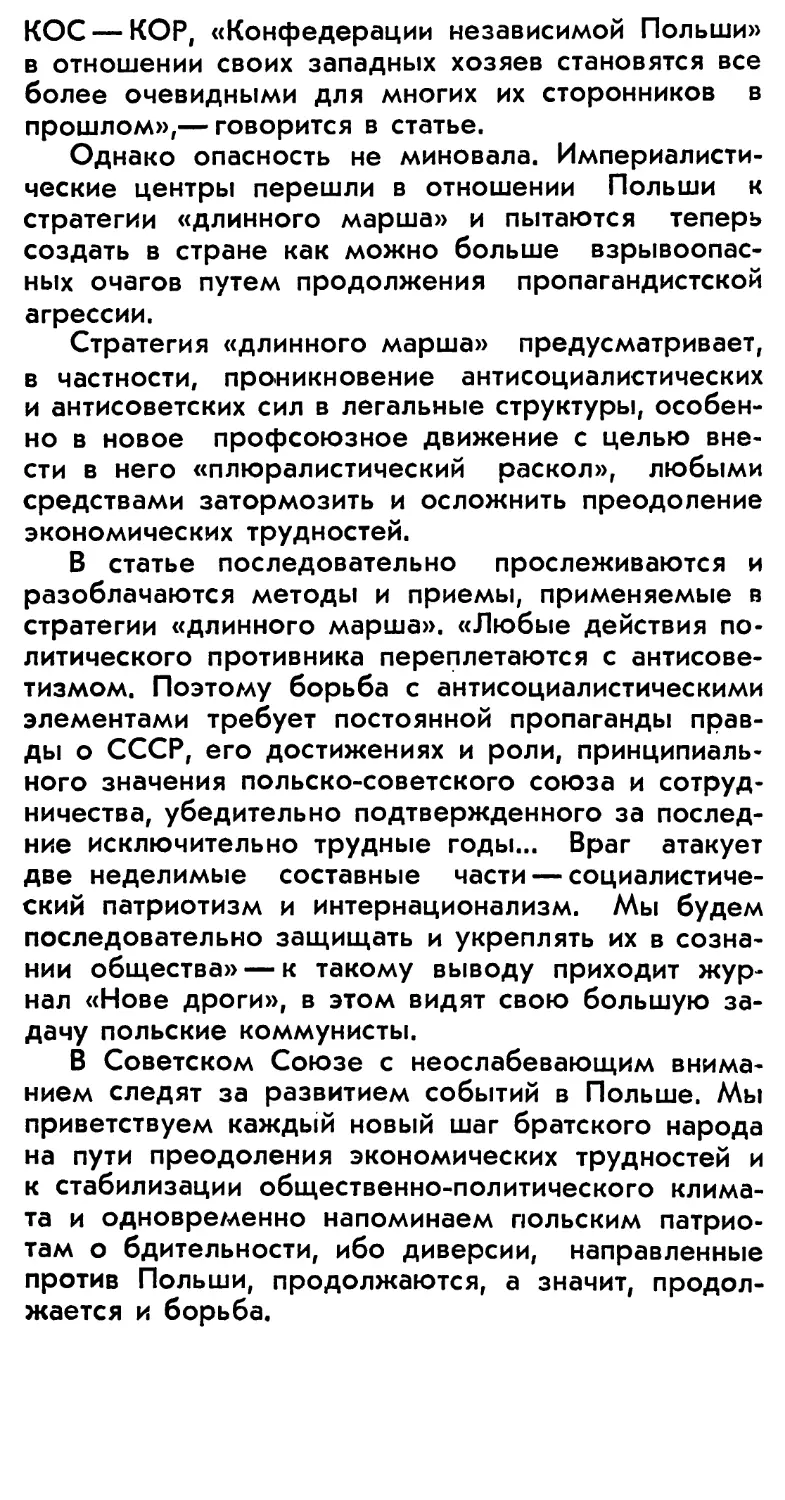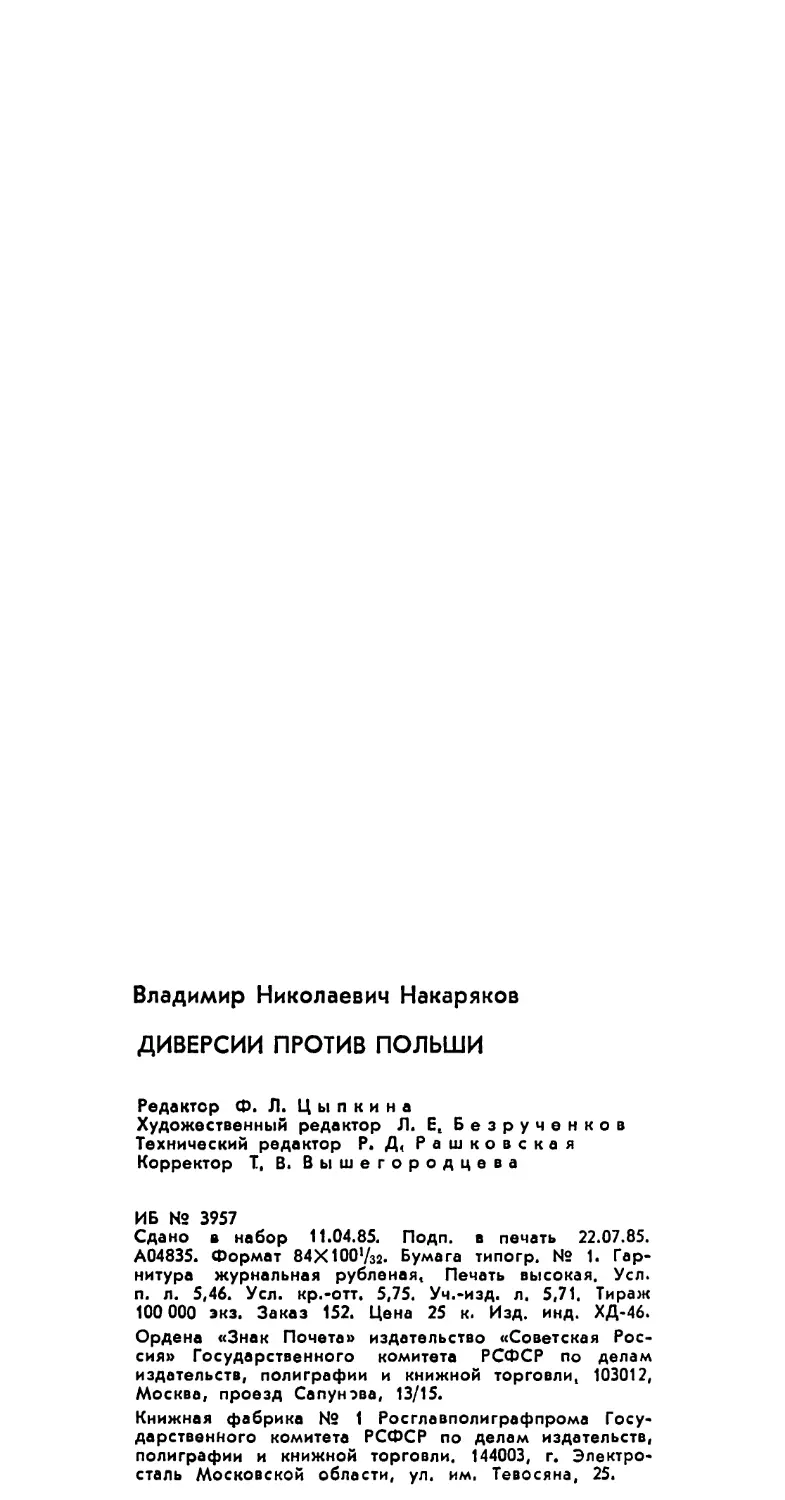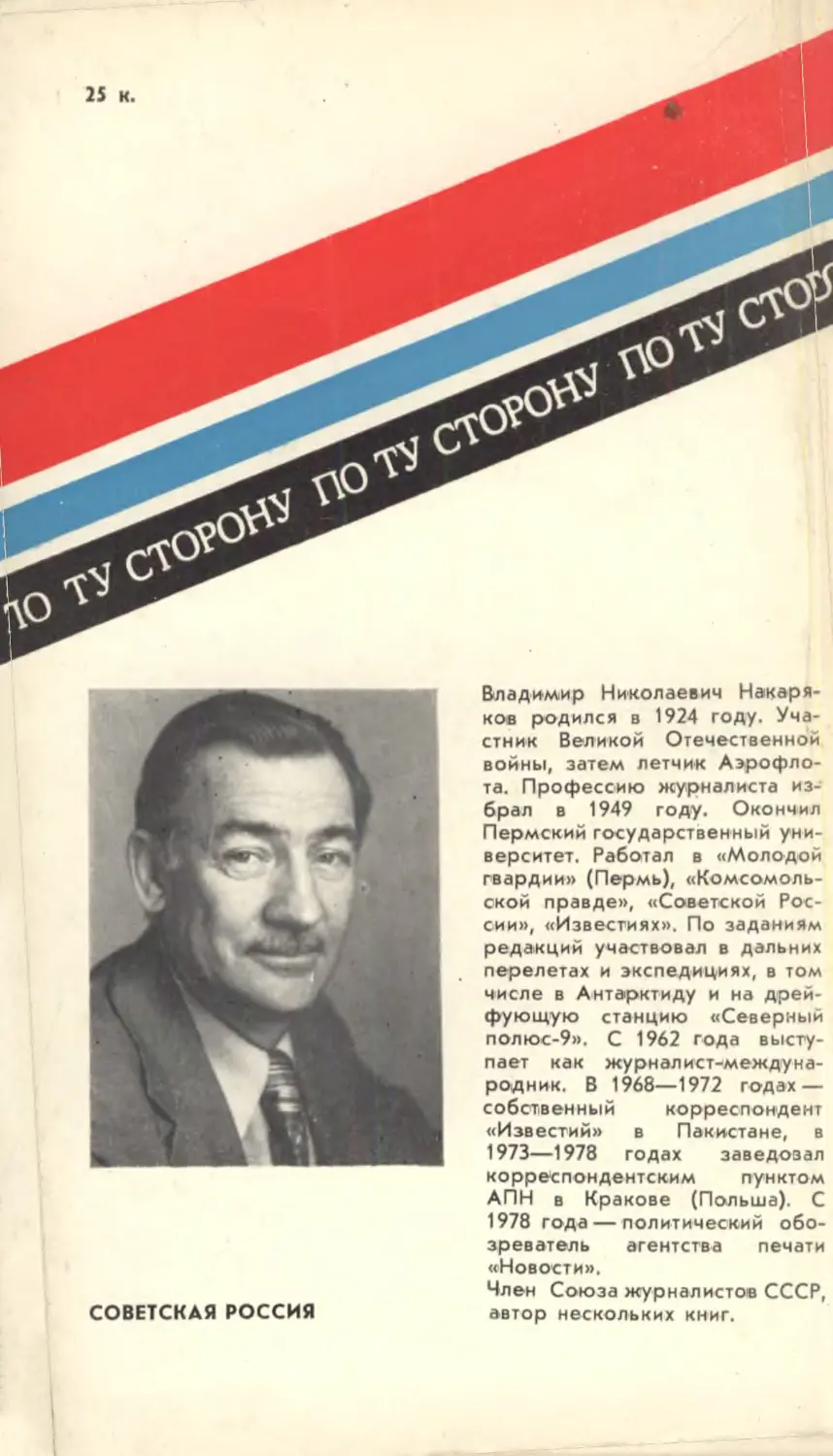Текст
Владимир Накаряков
ДИВЕРСИИ
ПРОТИВ ПОЛЬШИ
Москва
«Советская Россия»
1§85".
Н21
Наиаряков В. Н.
Н21 Диверсии против Польши.— М.: Сов.
Россия, 1985.— 112 с.— (По ту сторону).
Эта книга о том, как действовали антисоциалистические силы
в Польше и вокруг Польши начиная с середины 70-х годов. В ней
показана роль ЦРУ США, спецслужб стран НАТО, и* диверсионно-
пропагандистских центров, а также реакционной эмиграции в
разработке планов демонтажа социалистических структур в Польше,
ее экономической дестабилизации.
Развитие событий представлено хронологически, вплоть до
краха сценария, составленного в Вашингтоне.
В книге используются материалы польской и иностранной
прессы, приводятся личные наблюдения автора, пять лет работавшего
в Польше.
0804000000—123 ,„„,„
»М.ЮЯ03)85 20"85 ШШ
© Издательство «Советская Россия», 1985 г.
Создание
и крушение мифов
С 1973 по 1978 год я жил в Кракове.
Корреспондентский пункт агентства печати «Новости»,
который мне было поручено открыть, обслуживал
южные воеводства, те самые, по которым в 1944—
1945 годах проходил мой военный путь. Вторая
встреча с Польшей.
Это были годы увлекательной журналистской
работы, общения с интересными людьми,
творческого поиска. Краков — поистине удивительный
город: живая история Польши, ее древняя столица,
жемчужина архитектуры, а главное, Краков —
спасенный город.
В годы войны гитлеровцы обрекли его на
гибель. Все исторические памятники были
заминированы. По команде одного из маньяков они
должны были превратиться в бесформенные груды
камня. Отважные советские разведчики раскрыли
дьявольский план, предотвратили взрыв, а войска
маршала Конева блестящим обходным маневром
вынудили оккупантов в панике бежать из города. Он
был освобожден без введения в бой танков и
артиллерии. Почти две тысячи наших солдат и
офицеров отдали жизни за его спасение.
Дорог нам Краков и тем, что там два года жил
и работал Ленин. Найденная здесь после долгих
поисков уже в послевоенные годы часть краковско-
поронинского архива Владимира Ильича увеличила
собрание его сочинений на три тома.
Пять лет работы пролетели, словно на крыльях.
По возвращении в Москву мне была поручена обо-
зревательская работа. Это позволило не забывать
Польшу, время от времени бывать в этой стране,
и, разумеется, я не упускал возможность вновь
побывать в Кракове.
Пути журналиста неисповедимы. В конце мая
1980 года у меня завязался сложный узелок.
Возвратившись из командировки в Ташкент, я узнал,
что вскоре предстоит важная поездка в
Афганистан на три месяца. Вылет назначен на 10 июня.
1*
3
А в Кракове открывался XVII международный
фестиваль документальных и короткометражных
фильмов. В его программе был представлен «наш»
фильм «Краков помнит Ленина», над которым гль\
работали вместе с Константином Славиным,
Семирамидой Пумпянской и другими товарищами.
Понятно, что очень хотелось лично присутствовать на
фестивале. Переговоры с начальством окончились
успешно. Через день я был в Кракове. Фестиваль
открылся ленинским фильмом. Он был отмечен
специальным призом президента Кракова, а я
успел перескочить с варшавского поезда на самолет,
улетавший в Кабул.
Свободные часы в Кракове, как всегда,
заполнили встречи с друзьями. Одна из них — с
известным редактором и публицистом — вызвала
тревогу.
— За время, пока мы не виделись, многое
изменилось,— говорил он мне, попыхивая трубкой.—
Помнишь лето семьдесят шестого? Так вот, где-то
в августе все это повторится, и совсем в иных
масштабах, чем тогда в Радоме и на «Урсусе». КОР
распоясался. Его группы проникли в рабочую
среду. Понял? И они не только говорят, но и
обстоятельно готовятся...
За событиями, которые действительно начались
в Польше, в августе, я следил из Кабула по
отрывочным сообщениям радио. Западные станции
буквально захлебывались от восторга, живописуя
забастовку в Гданьске, которая вызвала цепную
реакцию. Зная истинную цену их сообщениям, я, как
и работники посольства ПНР в Кабуле, не очень
волновался. На столь далеком расстоянии
казалось, что конфликтная ситуация будет быстро
преодолена.
По возвращении в Москву эти иллюзии
рассеялись немедленно. Знакомство с телеграммами
ТАСС, польской прессой, публикациями на Западе
позволило взглянуть на польские события в
другом ракурсе. Положение было сложное, опасность
нарастала, как снежный ком. Антисоциалистические
силы в Польше вводились в действие, и каждый
день приносил негативные новости.
Мне вспомнилась осень 1976 года, когда
впервые прозвучало короткое словечко «КОР» — «коми-
4
тет обороны работникув» (по-русски — «защиты
рабочих»). Сегодня, когда история создания,
подрывных действий и «растворения» этой
контрреволюционной группировки, созданной и действующей
по указанию ЦРУ и специальных служб НАТО,
широко известна, остается напомнить только детали.
В мае 1975 года в Женеве состоялась
секретная встреча представителей спецслужб с
эмиссарами политической эмиграции и диссидентами из
ряда социалистических стран, в которой участвовал
Збигнев Бжезинский. Обсуждалась возможность
создания в этих странах антикоммунистических
группировок «пятых колонн», которым была
обещана неограниченная финансовая и
пропагандистская поддержка. Без Польши, понятно, не
обошлось. Там рекомендовалось назвать такую
группировку «движением в защиту прав человека и
гражданина». КОР возник параллельно «движению».
В июне 1976 года польское правительство
неожиданно объявило о значительном повышении
цен на продукты питания. Общество не было
подготовлено к этому, хотя такая мера, вероятно,
была необходима. В тот же день в городе Радоме и
на тракторном заводе «Урсус» в предместье
Варшавы произошли волнения. Возглавили их
уголовные элементы, начавшие разгром магазинов.
Несколько человек были арестованы. Вечером по
радио объявили об отмене повышения цен. Пять
организаторов погромов (один из них уже имел 14
судимостей) были приговорены к тюремному
заключению.
Все это послужило поводом для выхода на
арену «защитников рабочих». Распространенное
воззвание подписали 33 воинствующих диссидента.
Среди них были уже известные политические
авантюристы— Яцек Куронь, Адам Михнин-, Северин
Блюмштайн, организаторы студенческих
беспорядков, спровоцированных ими в марте 1968 года,
несколько писателей — Ежи Анджеевский, Станислав
Бараньчак, Ежи Фицовский, Анка Ковальска,
литератор Ян Юзеф Липский, артистка со скандальной
репутацией Галина Миколайска. Вместе с ними
выступили бывший офицер разведки Армии Крайовой
Юзеф Рыбницкий, ксендзы Ян Зейя и Збигнев Ка-
миньский, а также прочие «независимые интеллек-
5
туалы». Объявился и «заграничный представитель»
КОРа — духовный идол оппозиции, профессор
Оксфорда Лешек Колаковский, покинувший Польшу в
1968 году. Но не было в комитете ни одного
рабочего.
После провозглашения «манифеста» КОРу было
просто необходимо напоминать о себе. Для этого
каждая акция, вроде «голодовки» в одном из
варшавских костелов, немедленно раздувалась
«Свободной Европой» и в эмигрантских изданиях.
Кроме того, старательно культивировался миф, будто
бы КОР — явление чисто польское, доморощенное,
стихийное. И многие в это наивно поверили.
— Что может сделать эта горстка людей,
имена которых к тому же известны? Какой ущерб они
в состоянии нанести социалистическому
государству?— Так говорили и, вполне возможно, думали
не только обыватели, но и люди, ответственные в
разной степени за судьбы Польши.
А тем временем, пока деятельность КОРа
пытались представить «бурей в стакане воды»,
организация разрасталась и разветвлялась, как плесень,
постепенно приобретая очертания айсберга, на
видимой вершине которого разместились
упомянутые оппозиционеры, а внизу — сеть активистов и
пособников, которую впоследствии окрестили
«макси-кором».
Как мне пришлось убедиться, база для
выживания, а временами и для активизации политической
оппозиции в Польше 70-х годов безусловно
сохранялась и профилактически поддерживалась
Западом. Там действовала реакционная эмиграция,
подкармливаемая определенными кругами. Внутри
страны оставалась «ностальгическая» внутренняя
эмиграция, постепенно уходящая со сцены, но
оставляющая своим наследникам миф о
«счастливом прошлом». Некоторые из бывших офицеров
Армии Крайовой не могли забыть о политическом
проигрыше, отпрыски бывшей аристократии — о
потерянных поместьях. От дедов и бабок детям и
внукам передавалась русофобия. Очень часто при
встречах с польской аудиторией мне приходилось
разъяснять, какая пропасть разделяет польскую
политику царской России и Советского
правительства с первых дней его образования. Однако было
6
ясно, что преодолеть эту пропасть в сознании
удалось далеко не каждому. Да и, не станем греха
таить, мостики для ее преодоления с польской
стороны временами бывали узкими и шаткими.
Мой сосед по Кракову — актер
прославленного театра «Стары» Роман Вуйтович был поляком
старой закалки, но с современными, хотя и
непоследовательными взглядами. Он считал себя
правоверным католиком и даже имел постоянное
место в костеле Св. Креста. Правда, службы он
посещал редко и почти всякий раз после проповеди
вступал в полемику с ксендзом по различным
поводам. По возвращении домой Роман с
удовольствием об этом рассказывал.
Понятно, что мы не раз говорили с Вуйтовичем
об обстановке в стране. Он язвительно критиковал
многое, в том числе «забюрократившееся» местное
руководство, протекционизм, взяточничество,
«злых частников» или порядки в театре, но о
прошлом говорил, на мой взгляд, объективно:
— До войны в Польше жило 35 миллионов, и
не только поляков. Из них один миллион поляков
жил лучше, чем сегодня. В том числе и я. Нынче
в Польше 35 миллионов только поляков и 34 из
них живут намного лучше, чем их отцы и деды.
Отсюда вывод, что народная власть справедлива
к подавляющей части общества.
При встрече в 1981 году он обрушился на
обстановку в стране, но одновременно пытался
убедить меня: «Поверь, что никакой контрреволюции
у нас нет». При нашем последнем свидании весной
1983 года он уже не утверждал этого.
Но вернемся в 70-е годы. Большинство
основателей КОРа были сынками когда-то известных
ревизионистов, связанных с международными
сионистскими, масонскими и нертроцкистскими
организациями. Попытки оппортунистов изменить курс
развития Польши потерпели провал, но, уходя с
политической сцены, они стремились «передать
эстафету» следующему поколению, превращая
исподволь Яцека Куроня, Адама Михника, Кароля
Модзелевского и им подобных в демагогов и
политических авантюристов, действующих среди
«золотой молодежи», студентов и молодых
«интеллектуалов», которых назвали «ищущими
противоречий».
КОР в действии я увидел в мае 1977 года.
...В Кракове — «ювеналии». Это традиционный
студенческий праздник. Каждый год в середине
мая президент города вручает представителям
студенчества символический ключ от города и на
два дня Краков поступает в их владение.
Начинается веселый карнавал, полный блеска,
непосредственности, остроумной выдумки. Участники
«ювеналии»— 63 тысячи студентов, зрители — все
население города и приезжие гости. За порядком в
эти дни наблюдает не только милиция, но и
специальная студенческая «гвардия» и в случае его
нарушения действует по-студенчески энергично.
Пять лет я наблюдал, как в дни «ювеналии»
древняя столица Польши превращалась в город из
сказки. В 1977 году праздник попытались отравить
«коровцы». За несколько дней до «ювеналии» был
найден труп студента Станислава Пыяса. Как
установила экспертиза, смерть наступила от
кровоизлияния в легкие после падения с лестницы, в крови
оказалась чрезмерная доза алкоголя.
Сообщение о трагическом случае появилось в
краковских газетах, но фамилия студента названа
не была (прокуратура еще не закончила
следствие). Оказалось, что ее превосходно знала
«Свободная Европа». Застрекотали пишущие машинка
в некоторых варшавских домах. Они размножали
некое «обращение» по поводу смерти студента,
носящее провокационный характер. Большинство
листовок предназначалось для Кракова. «Коман-
досы» готовились превратить «ювеналии» в
траурную демонстрацию протеста. Объявлялось, что Пы-
яс был якобы «избит до смерти милицией».
Получив инструкции и листовки, группа молодчиков
двинулась в Краков.
У подъезда дома № 7 по улице Шевской, где
был обнаружен труп Станислава Пыяса, появились
черные флаги, а длинноволосые юнцы, сменяя
друг друга, читали вслух упомянутое «обращение
КОРа» для остановившихся прохожих. Другие
рыскали по переполненным народом улицам и
студенческим общежитиям, раздавая листовки, пытаясь
при удобном случае проникнуть к микрофонам
местных радиоузлов. Чаще всего провокаторов
просто выкидывали из общежитий и из толпы. Не
9
удалось им сорвать и заключительное праздничное
шествие карнавала. А планировался хотя бы
символический вывод студентов из города, как это
произошло в 1549 году, послужив сюжетом для
одной из картин Яна Матейко. Тогда поводом
было убийство студента слугами одного из каноников.
В тот самый день в Кракове кардинал Кароль
Войтыла (будущий папа Иоанн-Павел II) освящал
новый костел. По этому случаю в город съехалось
около двухсот иностранных журналистов, в
основном из католических изданий. Затевая провокацию,
«коровцы» рассчитывали привлечь их внимание.
Корреспонденты, и не только католические,
действительно не прошли мимо. Я, например, написал
об этом в «Комсомольскую правду». Как и у
некоторых из моих польских коллег, возник вопрос:
не слишком ли много оказалось «случайных
совпадений»? Высказывалось предположение, что
сами «коровцы» принесли в жертву Пыяса, чтобы
иметь повод для провокации. Во всяком случае
использование трагического случая для грязной
политической стряпни вполне определяло характер
деятельности КОРа.
Точно так же, как после Радома и «Урсуса»,
после краковской провокации Адам Михник
отправился в турне по европейским столицам. В 1976
году он побывал в Париже и Риме, где встречался
с сотрудниками «Свободной Европы» и агентами
ЦРУ (часто в одном лице). Он устанавливал
каналы для передачи информации из Польши, передал
списки участвующих в подрывной работе.
Резиденты ЦРУ решили тогда взять КОР на финансовое
обеспечение, считая, что эта организация
способна дестабилизировать положение в стране.
Во время повторного визита в Европу, на этот
раз в ФРГ, речь шла об организации так
называемого независимого книжного издательства «Нова»
во главе с Мирославом Хоецким, «летучих
университетов»— антисоциалистических подпольных
лекториев и об эксперименте с созданием «свободных
профсоюзов». Такие «профсоюзы» вскоре были
созданы в Гданьске и Катовицах. «Коровцы»
отдавали себе отчет в том, что обмануть рабочий класс
нелегко. Для этого и было создано
«теоретическое алиби» в виде «свободных профсоюзов», где
9
готовились будущие «профсоюзные боссы».
Действовать на первом плане как представители
рабочих готовились Анджей Гвязда, Богдан Лис, Анна
Валентынович, Збигнев Буяк, Лех Валенса, Казимеж
Свитонь.
В июне 1977 года польское правительство
объявило амнистию, и «защита рабочих» утратила
смысл. Решение было найдено в переименовании
организации в «комитет общественной
самообороны», сохранив одновременно и старое название.
Так утвердился КОС—КОР, состав которого при
этом не изменился.
Для осуществления всех нововведений
потребовались дополнительные средства. И сразу, как
по мановению волшебной палочки, из
таинственных источников наполнились высохшие было
ручейки различных фондов и потекли в Польшу. За
короткий срок только из эмигрантского «фонда
Рачиньского» КОС—КОР по легальным каналам
получил 90 тыс. фунтов стерлингов.
Видимые результаты поездок Михника и других
основателей КОС—КОРа за инструкциями и
подаяниями проявились в Польше через несколько
месяцев. Издательство «Нова» начало нелегальное
распространение своей продукции — брошюр,
листовок, бюллетеней под различными названиями,
но с одним и тем же антисоциалистическим
содержанием. Каждый бюллетень рекомендовалось
передать десяти «доверенным» читателям. Начал
выходить журнал «независимых» писателей «Запис».
Значительно возросла переправка из-за границы
эмигрантских изданий, специально отпечатанных
на тонкой бумаге.
В квартирах, а порой в костелах начали
действовать упомянутые «летучие университеты».
Взявший над ними шефство «профессор» Колаковский
присылал в Польшу лекторов из Лондона.
Будучи в ФРГ, Михник пристроил там для
издания собственное произведение «Костел — левые
силы — диалог» и брошюру Куроня «Идейные
принципы». Они были изданы в самом срочном
порядке (в 1977 и 1978 годах). По поручению
верхушки КОС—КОРа Михник убеждал новых
покровителей и финансистов,— а «коровцы».становились
слугами нескольких господ,— что любые кредиты
10
Польше должны даваться только на политических
условиях. Это не было новостью. Известно, что
еще в 1957—1963 годах кредиты Польше в сумме
900 млн. долларов были выделены Соединенными
Штатами «во имя либерализации внутренних
отношений».
Польша 70-х годов. Время роста экономической
зависимости от Запада. На окраинах небольших
городов росли аккуратные корпуса предприятий,
построенных по западным лицензиям. Всего их было
приобретено 428, но половина введена в действие
с большим опозданием, а 86 оказались вообще
нерентабельными. Капиталисты из ФРГ, Франции,
США и других стран зачастую продавали Польше
отнюдь не новейшую технологию. Почти в каждом
соглашении оговаривалось, что часть деталей или
компонентов для производимых изделий будет
закупаться у фирм, продавших лицензии. (Пример
тому тракторы «Массей-Фергюсон», для каждого
из которых пакет импортируемых «валютных»
деталей стоил 360 долларов.)
На новые предприятия пришли малоопытные
рабочие, от чего страдало качество выпускаемой
продукции. В 1983 году специалисты подсчитали,
что для полного освоения производства по
приобретенному «паштету из лицензий» нужно изыскать
170 млрд. злотых, а тогда, в середине 70-х годов,
слова «западные кредиты» произносились с
энтузиазмом, а то и с почтением. Ведь на внутреннем
рынке появлялось все больше новых товаров.
Тем временем Польша с каждым годом все
глубже погружалась в пучину долгов
капиталистическим государствам. Однако банйч стран НАТО
продолжали предоставлять ей новые кредиты, чаще
всего краткосрочные и под высокий процент,
ставя при этом непременным условием
дальнейшую «либерализацию», что означало облегчение
деятельности антисоциалистических
группировок.
За всеми этими процессами с большим
вниманием следили из Вашингтона. 17 марта 1978 года
Збигнев Бжезинский представил президенту
Картеру секретный план дестабилизации положения в
Польше. В нем прямо указывалось, что Польша
является «самым слабым звеном среди стран Вос-
11
точной Европы и настало время вынудить польских
коммунистов к уступкам в области прав человека».
В плане говорилось и о том, что в 80-е годы
Варшава вынуждена будет выплачивать на покрытие
своих долгов 90 процентов дохода от экспорта и
этот момент можно будет использовать для
усиления давления.
Варианты плана предусматривали «создание
коалиционного правительства из умеренных
коммунистов, независимых экономистов, членов
оппозиции и представителей церкви». В одном из
вариантов говорилось о возможности «восстания в
Польше, к которому США должны быть готовы...»
Отношения между Польшей и США должны
развиваться, по убеждению автора плана, за счет
«преобладания национализма над коммунизмом»,
а американская пропаганда должна
сосредоточиться на том, чтобы вызвать в Польше антисоветские
настроения.
Этот план стал широко известен из публикации
испанского журнала «Тьемпо» весной 1983 года,
но его осуществление можно было поэтапно
проследить в действиях антисоциалистических
группировок в Польше с момента его появления, причем
на начальном этапе этим занимался КОС—КОР.
Польский публицист Богдан Возьницкий пишет
о том, как глубоко заблуждались те, кто поначалу
считал «коровцев» наивными мечтателями и
нереалистически мыслящими политиками. «Огромный
ущерб был бы причинен всем, если бы «коровцы»
успели реализовать свой стратегический план.
Тогда польский народ был бы отброшен назад на
многие десятилетия, и в этом утверждении нет ни
капли преувеличения»1.
В 1979 году я дважды посетил Польшу. Во
время второго, осеннего визита мне удалось выкроить
время для встречи с тем давним приятелем, о
котором я уже писал. Оценки, прогнозы,
исторические параллели эрудированного
комментатора всегда были для меня интересны.
— Из множества реакционных организаций в
довоенной Польше,— говорил он,— особенно вы-
1 Возьницкий Богдан. КОР — актуальные документы.
Варшава, 1983.
12
делялась «Лига моцарствова» («Державная лига»),
имевшая к тому же свое военное крыло. Она
издавала газетку «Державная мысль», в которой
прославляла Польшу Ягеллонов «от моря и до
моря», призывала к походу на Восток и поливала
грязью Советский Союз. Руководили лигой князь Ежи
Гедройц, который и ныне подвизается в парижской
«Культуре», и племянник маршала Пилсудского
Ровмунд Пилсудский, оказавшийся впоследствии
при «лондонском правительстве».
Отложив погасшую трубку, мой собеседник
продолжил:
— Так вот. С недавнего времени мы имеем
организацию с примерно такими же взглядами,
как у былой лиги. Называется она «Конфедерация
независимой Польши» — КНП. Создали ее
недоучившийся историк Лешек Мочульский и еще
несколько воинствующих оппозиционеров крайне
националистического толка. Вероятно, американцам
уже недостаточно одного КОРа, а «конфедераты»
будут, пожалуй, поопаснее. Они уже сегодня
заказывают мундиры, сапоги с лакированными
голенищами, всяческие значки, флажки и знамена и
устанавливают связи с бывшими «аковцами» во всех
воеводствах. Они наделают много бед, если их не
остановить вовремя.
Приятель оказался прав. В уже упоминавшейся
книге Богдан Возьницкий утверждает, что если бы
не введение военного положения, то
«конфедераты» могли бы одержать победу над КОС—КОРом
в «Солидарности».
«Конфедераты» открыто провозглашали свои
взгляды и цели. Мочульскому снились времена,
когда в 1920 году, вооружив 200-тысячную армию,
Франция и Англия толкнули на Восток маршала
Пилсудского и его легионы. О том, чем
закончилась эта авантюра, «конфедераты» предпочитали
не вспоминать. Сейчас они видели за своей
спиной США и НАТО и, манипулируя словами
«восстановление независимости», пытались возродить
культ подверженного русофобии Пилсудского и на
этой почве разжечь в Польше антисоветские
настроения. «Конфедераты» исповедовали самый
оголтелый, пещерный антикоммунизм и
действовали в этом направлении. В середине 1981 года они
13
приступили к созданию «боевых дружин» —
штурмовых отрядов по образцу гитлеровских и имели
к этому времени резерв в лице профашистского
Независимого союза студентов. Их контакты с
зарубежными подрывными центрами приобрели все
черты шпионских каналов связи.
Позволю себе сослаться на один из выводов,
сделанных известным польским публицистом Ежи
Крашевским в его книге «Тени больших
манипуляций», изданной в Варшазе в 1984 году:
«Специфика событий в Польше состоит в том,
что сказались результаты трех факторов одновре-
Аленно: последствия ошибок в экономической
политике, организованная деятельность внутренней
антисоциалистической оппозиции и агрессивная
агентурная деятельность центров
антикоммунистической диверсии на Западе».
Активная борьба за ликвидацию социализма в
Польше продолжалась 585 дней. 398 из них — со
дня регистрации верховным судом до
приостановления деятельности, а затем роспуска —
официально существовал так называемый независимый,
самоуправляемый профсоюз «Солидарность». Это
интернациональное слово, столь популярное среди
рабочих, подкинул как название монстра,
созданного для обмана трудящихся, один из главных
экстремистов оппозиции Кароль Модзелевский в
самый разгар августовских событий 1980 года.
Экономисты потратили немало времени, чтобы
подсчитать, какой материальный ущерб нанес
польскому обществу каждый из этих 398 дней. Но
вряд ли кто-нибудь в состоянии определить
моральные потери, идеологические и
психологические издержки, развращающее влияние периода
анархического разгула, а тем более разложить эти
потери на дни, месяцы или на миллионы людей,
подвергнувшихся в той или иной дозе тлетворному
облучению «Солидарности».
В период эйфории «Солидарность» стала
модной, как джинсы, шлягеры или длинные волосы у
парней. Наряду со справедливыми требованиями
миллионы людей разных возрастов и профессий
без критического анализа и раздумий уверовали в
ее демагогические лозунги «исправления»
социализма. В то время многие поверили в создаваемый
14
миф «о самоуправлении предприятий и
независимости профсоюзов». А за их спинами происходило
перерождение «Солидарности» в политическую
партию, глубоко враждебную социализму.
Началось с того, что за спиной каждого из
новоявленных профсоюзных лидеров, словно тени,
возникли «советники» и «эксперты» из КОС—КОРа.
За Лехом Валенсой — фигурой, выдвинутой на
первый план в Гданьске,— немедленно появился
прибывший из Варшавы Богдан Борусевич. Вслед за
ним явилась целая группа «экспертов». Вторым
суфлером Валенсы стал реакционный католик
Тадеуш Мазовецкий. Обоим было поручено
«фильтровать» все, что Валенса намерен передать обществу.
На Западе это не скрывалось. Куронь прямо
заявил в журнале «Штерн», что найденный «коров-
цами» Лех Валенса был поручиком в окопах, а
забастовкой руководил «мозговой трест» КОРа.
Одна из его подручных Марина Плоньска уточнила5.
«К событиям на Балтике КОР готовился целых три
года».
Осенью и зимой 1980/81 года эйфория
«Солидарности», а одновременно и ее амбиции росли,
как грибы после дождя. Это был долларовый
дождь, который руководители «профобъедине*
ния», его «советники» и «эксперты» встретили,
раскрыв не зонтики, а карманы. Прежде всего они
позаботились о своих личных счетах в иностранных
банках. В польские порты хлынули «дары» с
Запада от правых профсоюзов, оживших эмигрантских
и «анонимных» организаций, поступавшие часто в
обход таможенных правил: полиграфическое
оборудование, множительная техника, бумага, краска,
магнитофоны, кассеты, рации.
Начались международные «обмены». Валенса,
персона которого непрерывно раздувалась,
побывал в Японии и Риме, где неплохо провел время.
(Один из польских фоторепортеров показал мне
снимки о его ночных похождениях в Риме.)
Валенса старательно повторял то, что шептали ему
«советники», но порой, когда верх брало растущее
самомнение, он нес все, что приходило в голову,
нередко вызывая у слушателей недоумение и
растерянность. Пройдет время, и почетного доктора
нескольких университетов, лауреата нескольких
15
премий, в том числе Нобелевской, который
публично заявлял, что не прочел в жизни ни одной
книги, на его родине назовут «польским
Геростратом» и «американцем из Гданьска».
Мне вспоминается разговор о Валенсе с
американским корреспондентом Майклом Доббсом.
— Вы серьезно считаете Валенсу
ответственным политическим деятелем?
— Что с вами? Надеюсь, вы не больны? —
ответил Доббс вопросом на вопрос.
В середине мая 1981 года с коллегой
Михаилом Пучковским мы приехали в Польшу, чтобы
познакомиться с обстановкой и «профсоюзным
феноменом». Как утверждали деятели
«Солидарности», этот профсоюз, а точнее, «общественное
движение» объединяло тогда 10 млн. рабочих и
служащих. (Цифра была явно преувеличена.)
Правительство в тот период терпеливо призывало
«Солидарность» к конструктивному сотрудничеству в
общенациональных интересах. Подчеркивалось, что
партия заинтересована в укреплении рабочего
течения в профобъединении, выступающего за
соблюдение принципов социалистического строя, что
было зафиксировано в уставе «Солидарности».
В «Солидарности» тем временем с каждым
днем усиливалось влияние экстремистского крыла,
объединяющего не рабочих, а
контрреволюционные силы. Используя рабочих как статистов, а их
интересы как прикрытие, новоявленные
самозваные лидеры начали борьбу за власть, вовлекая
миллионы польских тружеников в преступный
заговор. Они тайно готовили теневой руководящий
аппарат, не скупясь на авансы и посулы для
привлечения на свою сторону представителей
интеллигенции.
Мы очутились в круговороте событий. Многое
стало непонятным. Особенно поражала анархия,
охватившая прессу. Печаталось все, что придет в
голову редактору или журналисту. В мешанине,
которую преподносили читателям, трудно было
разобраться. Безжалостно препарировалась история.
Сводились личные счеты. Компрометировались
люди. По манере письма было легко определить,
в каком издании сильнее влияние антисоциалисти-
16
ческих сил. В истории польско-советских
отношений старательно выискивались «белые пятна», с тем
чтобы немедленно залить их черной краской. К
числу изданий, устанавливающих рекорды демагогии,
принадлежала и «Газета Краковска», руководимая
в то время Мачеем Шумовским. За два дня до
введения военного положения газета вышла под
крупным аншлагом: «Чтобы соглашение стало
фактом, партия должна отказаться от монополии на
власть».
Лишь несколько партийных изданий — газеты
«Трибуна люду», «Жолнеж вольности», «Трибуна
роботнича» в Катовицах держались прочно, не
уступая позиций. Не случайно «Солидарность»
призывала бойкотировать эти газеты.
На этот раз в Польше поражало многое, и
прежде всего катастрофическое падение
благополучия. Полки в государственных магазинах пустели
с поразительной быстротой. В том же темпе росли
цены в частном секторе.
Беспокоило это всех, но причины назывались
разные. Лишь немногие отдавали себе отчет в том,
что деструктивная политика «Солидарности»
начала приносить ядовитые плоды. За год выпуск
продукции в ведущих отраслях сократился на 25
процентов. Значительная часть населения выражала
недовольство дезорганизацией снабжения и
возлагала ответственность за это не на «Солидарность»,
а на правительство. Сетовали также на
прекращение западных кредитов. В этом была доля истины.
Нарушение кооперационных связей действительно
привело к прекращению выпуска многих товаров и
изделий, в том числе моющих средств, предметов
личной гигиены, лекарств, бытовых приборов,
машин, удобрений.
В редакциях и партийных комитетах ^ль\
встречали до предела утомленных людей. Иногда они
выкраивали час-другой, чтобы заехать к нам в
отель. Эти люди отдавали себе отчет в том, что
кризису сопутствует жестокая и упорная классовая
борьба, в которой партия утрачивала в то время
позицию за позицией. Не скрывался и тот факт,
что в ПОРП существуют ревизионистские течения,
которые ставят под сомнение основные идейные и
организационные принципы партии.
17
Из Варшавы в Краков мь\ мчались глубокой
ночью. Нас вез Ян Гжеляк — руководитель польского
радио. Он заехал за нами после затянувшегося
партийного собрания в радиокомитете, и
настроение его было не из лучших.
— Разброд в облаке демагогии,— коротко
бросил он. — Многие не дают себе труда мыслить,
анализировать, предпочитая бездумно опровергать
все и вся.
Он подтвердил, что в Союзе польских
журналистов, а следовательно, в средствах массовой
информации, устанавливается диктатура избранного
в 1980 году председателя — Братковского1.
— Сейчас он затевает громкий «процесс»
против одного из тележурналистов, Тадеуша Самитов-
ского, порядочного парня,— заметил
Гжеляк,—нечто вроде «суда чести». Посмотрим, чем это
кончится! (Кончилось тем, что честного журналиста
исключили из Союза, а в октябре того же года
Братковский был исключен из членов ПОРП.)
...В Кракове мы беседуем в штаб-квартире
«Солидарности — Малопольской» — 700 тысяч членов,
по словам ее руководителей. Председатель
Мечислав Гиль, которого я помнил как журналиста в
многотиражной газете «Глос Новей Гуты», был в
эти дни в США, возглавлял делегацию
«Солидарности» на съезде профсоюза металлистов. Нас
встретили его первый заместитель инженер Анд-
жей Цыронь и секретарь Болеслав Соник.
Присутствуют еще два члена руководства. Один из них,
как нам объяснили, занимается планированием,
другой — кадрами.
Региональная «Солидарность» расположилась в
освобожденном для нее доме напротив
кинотеатра «Киев», где ровно год назад проводился
кинофестиваль. Людей много. Они входят и выходят,
забирая пачки бюллетеней, которые здесь же
размножаются на ротоприытах.
Говорит Цыронь:
— «Солидарность» готова к сотрудничеству с
правительством. Она нэ имеет политических притя-
1 С. Братковский до сих пор остается одной из самых
одиозных фигур в оппозиции. Мания величия прогрессировала
у него до такой степени, что многие не в шутку опасались,
как бы он тайком не поставил себе памятник в одном из
варшавских скверов.
18
заний. Важно наладить экономику, но пока
«Солидарность» не получила от властей конкретной
программы, которую мы должны прежде
проанализировать и утвердить.
Мы задаем вопросы:
— Какова роль КОС—КОРа и КНП з вашей
организации?
— Представители КОРа сыграли
положительную роль. Они научили нас правильной тактике,
что позволило избежать эксцессов в период
забастовок. А в Кракове проводились только
«забастовки солидарности». В «конфедерации» Мочуль-
ского — горстка людей. От нее, как и от КОС—
КОРа, не может быть никакой угрозы социализму.
— Как вы относитесь к прессе?
— «Газета Краковска» — лучшая газета в
Польше!
— Вы упомянули о планировании и кадрах?
— «Солидарность» — солидная организация, и
мы должны глядеть вперед...
Таково краткое резюме нашей беседы.
Невольно вспомнилось одно из многочисленных
интервью Валенсы, на этот раз журналу «Штерн».
«Штерн»: Имеете ли Вы какое-то лекарство для
преодоления кризиса?
Валенса: Да...
«Штерн»: Когда начнете говорить о своем
«кризисном плане»?
Валенса: Когда войдем в состав правительства.
Через два дня в Катовице на шахте «Сташиц»
мы встретились с производственной организацией
«Солидарности».
В беседе участвовали секретарь парткома,
представители дирекции, отраслевого профсоюза
и «Солидарности». Из коллектива 7200 человек в
нее записалось 5600, остальные не покинули
старого профсоюза.
Председатель местной «Солидарности» Кази-
меж Кравчик также разглагольствовал о том, что
никто-де на шахте не выступает против
социализма. Однако центральным властям необходимо
спуститься с небес на землю и представить народу
всю правду, какой бы горькой она ни была. Под
словом «народ» он подразумевал, разумеется,
«Солидарность»,
19
Далее было произнесено несколько заученных,
но повисающих в воздухе тезисов: о
необходимости проанализировать все торговые соглашения с
иностранными государствами, найти способ
расплатиться с долгами, обеспечить развитие
индивидуального сельского хозяйства, которое
рентабельнее, сделать Польшу самообеспечивающимся
государством, усилить охрану природы, гарантировать
общественный порядок и свободу граждан. Все это
якобы может обеспечить «Солидарность».
Сам Казимеж Кравчик, сменивший на шахте
несколько наземных профессий, лишь короткое
время работал под землей водителем электровоза.
Сейчас он старательно изображал профсоюзного
деятеля и патриота, единственная забота
которого— дать стране больше угля. («Каждая тонна его
стоит на Западе 80 долларов».)
О дальнейшей судьбе Кравчика я узнал весной
1983 года от руководителя вновь созданного на
шахте «Сташиц» профсоюза — известного
горноспасателя Збигнева Ханфа. За попытку
организовать забастовку в условиях военного положения
Кравчик был приговорен судом к тюремному
заключению на три с половиной года, но вскоре
освобожден «по состоянию здоровья». Хотел было
снова обосноваться на шахте, но ему резонно
сказали, что больного на шахту принять не могут. Он
должен прежде всего вылечиться.
Летом 1981 года «Солидарность» начала атаку
на ПОРП, которая готовилась к очередному
съезду. В Катовице я встретился с партийным
работником Юзефом Пишчеком1, который присутствовал
на восемнадцати отчетно-выборных конференциях.
На каждой из них действовали «юристы», которые
пытались направить ход собраний в нужное им
русло, протолкнуть своих кандидатов. Почти на
каждом собрании разными ораторами произносилась
одна и та же, заранее заготовленная,
провокационная речь, иллюстрированная «местными»
примерами. Только в сплоченных рабочих коллективах
1 В то время Ю. Пишчек руководил идеологическим
отделом Катовицкого воеводского комитета ПОРП. Ныне он вице-
воевода Катовиц.
20
эти приемы решительно пресекались, но таких
было немного.
Особенно тревожная обстановка сложилась на
металлургическом комбинате «Катовице», где
активную антигосударственную и антисоветскую
деятельность возглавил оголтелый экстремист Анджей
Розплоховский.
Антисоциалистические силы сумели глубоко
проникнуть в несложившийся, разнородный
коллектив, съехавшийся со всей Польши и состоявший
в большинстве своем из рабочих первого
поколения. Поэтому удалось на какое-то время расколоть
его и создать анархический климат. На комбинате
выпускался черносотенный листок «Вольны звенз-
ковец» («Свободный профсоюзник»), и даже в
газете «Глос гуты Катовице» анархисты захватили
четыре страницы, на которых печатали опусы
Солженицына и другие антисоветские пасквили.
Возвратившись в Москву, я обнаружил
любопытный документ, в котором замелькали знакомые
имена. Крупнейшее из международных объединений
профсоюзов капиталистических стран —
Международная федерация металлистов (МФМ) в те
самые дни послала в Польшу своего представителя
для изучения деятельности «Солидарности».
Вернувшись в Женеву, он представил обстоятельный
отчет о поездке.
Главный вывод этого документа: рабочие
фактически не осуществляют руководства в
«Солидарности», которая претендует на роль лидера
профсоюзного движения в стране. В местных
организациях «Солидарности» руководящие посты
занимают люди, не имеющие никакого отношения к
рабочему классу. Среди них высокооплачиваемые
инженеры и специалисты, преподаватели, другие
представители интеллигенции, многие из которых
прямо связаны с реакционными организациями.
Далее приводились факты и доказательства,
которыми я воспользуюсь.
Вроцлав. Делами местной «Солидарности»
заправляет группа из 40—50 юристов, которые
принимают активное участие в заводских собраниях,
дают рекомендации по выборам руководства,
составляют «требования» от имени рабочих.
Заместитель председателя «историк» К. Турковский не
21
скрывает, что считает своей задачей подчинение
интересов рабочих интересам КОС—КОРа.
Гданьск. Здесь всеми делами вершат
руководители КОС—КОРа во главе с Анджеем Целинь-
ским — секретарем Всепольской согласительной
комиссии «Солидарности».
Варшава. Диспропорция рабочего
представительства особенно разительна. Официальный
представитель организации Януш Онышкевич на
вопрос: «Почему в профкоме так мало рабочих?» —
цинично заявил: «Они ненавидят бумажную
работу».
И вот Краков. «На металлургическом
комбинате имени Ленина,— говорится в докладе,— где
занято 40 тысяч рабочих, членом президиума
«Солидарности» является некий Б. Соник, называющий
себя «адвокатом». Первый заместитель
председателя «Солидарности» Анджей Цыронь1, занимая
пост «инженера», также имеет отдаленное
отношение к рабочему классу».
В разговоре с представителем МФМ Цыронь
был откровеннее, чем с нами. Он заявил, что
основная задача его организации состоит в «создании
системы двоевластия». Вот для чего ему
понадобились планирование и кадры. Нам было известно,
что антисоциалистические организации уже давно
подбирали своих кандидатов на замещение всех
руководящих должностей в государственных
органах, на предприятиях, в учебных заведениях и
щедро «раздавали» эти посты своим сторонникам,
нередко делая их предметом торга.
В Катовице местные руководители
«Солидарности» хвастливо заявляли представителю МФМ, что
основными достижениями считают «развал
коллективов и организаций компартии, раскол
молодежного движения, а также других организаций,
которые находятся под контролем ПОРП».
И еще один вывод автора доклада МФМ. Он
установил, что польские трудящиеся испытывают
1 Через несколько месяцев выяснилось, что до перехода
в «профсоюзные деятели» Цыронь путем незаконных
комбинаций присвоил почти полмиллиона злотых в проектном бюро,
где прежде работал.
22
самые дружественные чувства к советскому
народу. «Иначе и быть не может,— писал он. —
Советский Союз потерял во время освобождения
Польши 600 тысяч человек, Советское государство
оказывает Польше бескорыстную экономическую
помощь. Серьезные же трудности, которые
переживает в настоящее время эта страна, возникли не
по вине Советского Союза, а в силу ошибок
польского руководства и подрывной деятельности ЦРУ,
а также американских, английских и
западногерманских банков, которые с помощью займов
пытаются прибрать ее к рукам».
Следует отметить, что это один из редких по
объективности документов о «Солидарности»,
составленных капиталистическими аналитиками,
которые мне удалось видеть.
С каждым днем политический пульс Польши
бился учащеннее. Экономический и общественный
кризисы слились в нечто единое.
На IX чрезвычайном съезде ПОРП прозвучал
лозунг: «Социализм нужно защищать, как
защищают независимость Польши!» Была предложена
программа стабилизации. На это «Солидарность»
ответила своим съездолл.
Съезд профсоюзов, превратившийся в сборище
воинствующих политиканов, проходил в Гданьске в
два тура с продолжительным антрактом между
ними и продлился 17 дней. Все это время в зале
«Оливия» продолжалась антисоциалистическая
вакханалия.
От имени «всей Польши» на съезде
витийствовали штатные функционеры «Солидарности»,
составившие 92 процента из почти 900 депутатов.
В президиуме из 20 человек было два рабочих, а
в зале — 77 рядовых членов профсоюза. К тому
времени «Солидарность» имела 44 тысячи штатных
сотрудников. До ее образования в стране
насчитывалось 17 тысяч профсоюзных работников.
Два события, связанные со съездом,
заслуживают внимания.
Во-первых, «самороспуск» КОС—КОРа. С три*
буны съезда было зачитано заявление (читал его
92-летний Э, Липиньский), в котором, после
комплиментов в адрес этой организации,
существовавшей 5 лет, объяснялось, что КОС—КОР торжест-
23
венно передает свои функции «Солидарности» и
растворяется в ней.
Одна из газет задала тогда резонный вопрос:
может ли самораспуститься мафия?
Во-вторых, в перерыве между этапами съезда
в Гданьске забастовали рабочие типографии
«Солидарности». Забастовка была жестоко подавлена
боевиками с железными палками, которых
вызвали с верфи. Сам факт забастовки, а тем более
расправы с бастующими постарались скрыть.
Программа, принятая съездом, была по сути
дела программой КОС—КОРа. Не говоря о том,
что в ней даже не упоминалось слово «социализм»,
программа не содержала никаких конструктивных
мер по выходу из кризиса и достижению
национального согласия. Это была программа борьбы
за власть.
С этого момента «Солидарность» выступила
против государственной власти, партии и
конституции с открытым забралом. Что она предлагала?
Создать некое «самоуправляемое» государство с
формой власти, состоящей из мешанины
буржуазных, анархических, космополитических и
религиозных компонентов. «Интеллектуалы» из КОС —
КОРа, судя по принятой программе, словно
термиты, выгрызли всю профсоюзную сущность
«Солидарности». Для камуфляжа оставалась лишь
тонкая словесная оболочка, но и она развалилась в
дни съезда.
При этом во всех вариантах эксплуатировалось
этакое всеядное словечко «плюрализм». В тезисе
программы под номером 19 объявлялось:
«Плюрализм мировоззренческий, общественный,
политический и культурный должен быть основой
демократии и самоуправления Республики».
«Солидарность» ставила себя выше
действующих законов и открыто брала под защиту любые
антиправительственные организации. «Система
должна гарантировать основные гражданские свободы,
поддерживать принципы равенства в правовом
отношении всех граждан и всех институтов
общественной жизни» (тезис 23). Нужно отметить, что к
тому времени в Польше были декларированы или
находились в процессе организации более 20
антисоциалистических, организаций и группировок.
24
Одной из самых безответственных провокаций
съезда, вызвавшей всеобщее возмущение
трудящихся социалистических государств, стало
«Обращение к народам Восточной Европы». Это была
открытая попытка экспорта контрреволюции.
«Обращение» содержало призыв к борьбе против
социалистического строя в других странах теми же
методами и средствами, какими действовала
«Солидарность».
В Советском Союзе многие трудовые
коллективы собрались на митинги и обратились в те дни
с письмами, проникнутыми тревогой за судьбы
Польши. В них прямо говорилось, что польские
братья по классу подвергаются чудовищному
обману, что их мнением беззастенчиво
манипулируют политические авантюристы.
В программе «Солидарности», как писала
«Правда»1, «выдвигались требования введения нового
социально-экономического порядка и фактически
установления контроля «Солидарности» над
экономической деятельностью ПНР. Под видом «новой
организационной структуры в народном
хозяйстве» речь идет о разрушении всей системы
социализма в Польше». В статье обращалось внимание
и на тот факт, что «на сборище в Гданьске
раздавались откровенные призывы к выходу Польши из
Совета Экономической Взаимопомощи и
Организации Варшавского Договора, к пересмотру
международных договоров и обязательств ПНР».
Полюса определились. С октября 1981 года
началось стремительное движение к конфронтации.
Забастовочный террор принял катастрофические
размеры. Искусственно поднималась волна антисо-
ветизма; включавшая осквернение памятников
советским воинам. Продолжая эскалацию
требований, «Солидарность» начала борьбу за средства
массовой информации.
— Власть лежит на улице, ее нужно только
подобрать!— раздался истерический крик одного из
интеллектуалов-провокаторов.
Экстремистская верхушка немедленно
подхватила этот «лозунг». На заседании президиума «Со-
1 Петров А. «Солидарность» рвется к власти.— Правда,
1981, 13 окт.
25
лидарности» в Радоме был выработан ультиматум
правительству, названный «радомской
платформой».
И вдруг скандальный провал. Весь ход сборища
заговорщиков в Радоме был записан на пленку.
При проигрывании магнитофонной ленты было
слышно не только каждое слово, но и как из
графина в стакан льется вода. Через несколько дней
отрывки из записи транслировались по польскому
радио.
В дни перед введением военного положения
тревога о судьбах Польши проявлялась не только
в стране. О сложившейся опасной ситуации
неоднократно писали советские газеты «Правда» и
«Известия». Чехословацкая «Руде право»,
представленная в Варшаве Яном Липавским, писала 9 декабря,
что на совещании в Радоме Валенса сбросил
маску и обнажил свою сущность. Он заявил, что
«Солидарность» всегда рассчитывала на открытое
столкновение с правительством, на атаку против
социализма, но была намерена сделать это в
подходящий момент, когда накопит силы. В Радоме
Валенса сменил тактику. Он объявил: «Мы выбираем
путь молниеносного маневра!»
На следующий день венгерская «Непсабадшаг»
констатировала: «Солидарность» выступает все с
новыми требованиями, сознательно нагнетая в
стране напряженность, ускоряя в политическом и
организационном плане процесс, направленный на
взрыв конфронтации».
В польской прессе эти предостережения
конкретизировались. Экстремисты требовали создать
«боевые группы». Сообщалось, что такие группы
по 250—300 человек уже созданы на многих
промышленных предприятиях. Они находятся на
полном содержании «Солидарности», которая также
выплачивает крупные суммы, в том числе в валюте,
своим эмиссарам, распространяющим
антисоциалистические и антисоветские листовки и
материалы.
Руководство варшавской «Солидарности»
приняло решение организовать 17 декабря 200-тысячную
демонстрацию, которая направится к зданию
Комитета по радиовещанию и телевидению, чтобы
захватить его. Объявлено было и о том, что в янва-
26
ре соберется учредительный съезд так называемой
«Польской партии труда».
Примас Польши Юзеф Глемп заявил, что
костел предостерегает Сейм ПНР от принятия
антизабастовочного закона. И немедленно ликующее
эхо в Вашингтоне: «Костел на стороне
«Солидарности». Это перекликалось с уже известным
бесцеремонным требованием Рейгана, чтобы
правительство ПНР не предпринимало «никаких
решительных шагов в связи со сложившейся в стране
опасной ситуацией».
По случаю открытия в Гданьске заседания все-
польской комиссии «Солидарности» 11 декабря
Лех Валенса провел пресс-конференцию. На ней он
заявил, что смысл выступлений и речей лидеров
«профобъединения» в Радоме был искажен, так
как обнародованы лишь фрагменты. Он заявил:
«Мы выступаем за соглашение, продолжение линии
обновления и против конфронтации».
В унисон выступил орган светских католиков
«Слово повшехне», еще раз обрушившись на
партийные средства массовой информации. «Все
события официальная пропаганда представляет в
тенденциозном свете»,— заявила газета.
Наступило 12 декабря 1981 года. Газеты
публикуют телеграфные сообщения:
Президиум правительства ПНР рассматривает
проект народнохозяйственного плана на 1982 год...
Премьер-министр Франции Пьер Моруа
откладывает предполагаемый визит в Варшаву...
Канцлер ФРГ Гельмут Шмидт встречается в
Берлине с Эрихом Хонеккером...
В Брюсселе открылась сессия Совета НАТО...
Президент Рональд Рейган продолжает
шантажировать Ливию...
В газеты еще не мог попасть отчет о заседании
в Гданьске, где ход дискуссии убедительно
подтвердил, что экстремистские вожаки окончательно
определили курс: Конфронтация! Захват власти!
Свержение социалистического строя! Создание
«временного» правительства!
Вот отдельные тезисы из выступлений:
Северин Яворский (Варшава) предлагает
немедленно создавать группы боевиков, где только
возможно.
21
Ян Рулевский (Быдгощ) призывает к
вооружённой конфронтации и созданию временного
правительства. (В нем он рассчитывал получить
портфель министра внутренних дел.)
Анджей Словик (Лодзь). «Предлагаю
захватывать власть по частям».
Анджей Соберай (Радом). Он несколько
отходит от «главной темы», считая себя обиженным
«хозяином» совещания в Радоме, и вносит
предложение подать в суд на средства массовой
информации за обнародование отрывков из речей
членов президиума «Солидарности».
Анджей Гвязда (Гданьск). Интриган, ведущий с
Валенсой постоянную борьбу за лидерство,
пытается перестраховаться и высказывает сомнения.
«В последнее время ^ъ\ терпим крах в пропаганде.
В течение полугода руководство «Солидарности»
сознательно отказывалось от защиты интересов
трудящихся и членов профобъединения. Наш
профсоюз силен только на словах. Я против всеобщей
забастовки зимой...»
Воинственные оклики заглушили его слова.
Экстремисты уже вышли на боевую тропу.
«Советники» и «эксперты» Кароль Модзелевский, Яцек Ку-
ронь, Бронислав Геремек могли быть довольны.
Они одобрительно ухмылялись, а в кулуарах
продолжали распределение министерских портфелей
в грядущем временном правительстве.
В этот час по условному сигналу, поступившему
из Варшавы, в воинских частях, органах
госбезопасности, партийных комитетах вскрывались
запечатанные пакеты. Предусмотренные в инструкциях
акции должны быть проведены четко, точно,
быстро.
В фойе зала, где еще заседала «Солидарность»,
раздался телефонный звонок из Сувалок. Один из
«экспертов» поднял трубку. Срочно просили к
телефону Валенсу.
— Он занят и подойти не может. В чем дело?
Советник слушает.
— Говорят из местной «Солидарности». К нам
на телефонную пришли военные... проверяют
оборудование. Что-то очень подозрительно. Сообщите
Леху немедленно.
— Ну и пусть себе проверяют,— лениво произ-
28
нёс «советник», будущий «министр связи».—
Недолго им осталось проверять. Валенсе сообщим...
Это был один из последних междугородных
телефонных звонков. Через несколько минут связь по
всей стране была временно прервана. Близилась
полночь.
Об этом телефонном разговоре мне
рассказали в Варшаве через несколько дней после
введения военного положения.
Заговор в костюмах
и масках
Было бы преувеличением утверждать, что все
происходившее в Польше в течение 16 месяцев
разгула анархии сделано руками ЦРУ и
специальных служб Запада. Однако очевидно и то, что в
разработке «польского сценария» и координации
планов его реализации ЦРУ приняло самое
деятельное участие. После августовских событий 1980
года началось особо активное проникновение в
Польшу враждебной агентуры. Под ее
наблюдением и руководством созревал
антигосударственный заговор экстремистов, укрывшихся за
занавесом, на котором кощунственной рукой было
начертано слово «Солидарность».
«Мы делаем революцию в костюмах и
масках»,— заявил в то время один из самозваных
идеологов мафии КОС — КОРа Яцек Куронь. Такой
маскарад был необходим, чтобы до поры до
времени удерживать в тумане неведения трудящихся,
поддавшихся гипнозу демагогии. Одновременно
Куронь прозрачно намекал посвященным, что за
спинами контрреволюционных группировок стоят
зарубежные вдохновители и патроны. Это они с
помощью дистанционного, а часто и личного
управления приводили в движение театр марионеток «в
костюмах и масках».
Австрийская газета «Фольксштимме»
опубликовала секретный доклад ЮСИА по проведению под-
29
рывных акций против Польши на 1979—1980 годы,
то есть еще до начала известных событий. Этот
подробный инструктаж в мельчайших деталях
раскрывает методы подрывной работы, указывает, с
кем в Польше нужно входить в контакты, кому
предоставлять «стипендии», на кого оказывать
давление.
«Давайте помогать тем полякам, которые
выступают против проводимой в стране политики...
Давайте поможем внутренней либерализации... и
росту плюрализма»,— говорится в документе.
Стоит упомянуть и пять «целевых групп», на
которые, следуя рецепту ЮСИА — ЦРУ,
необходимо оказывать давление. Это редакторы и
политически ответственные лица; директора и
ответственные сотрудники учреждений, ведущих
общественную работу; писатели, академики, кинодеятели и
«независимые интеллигенты»; священнослужители;
275 журналистов, специализирующихся на
зарубежной тематике. Диапазон, прямо скажем,
достаточно широкий.
Экстремисты всех мастей и рангов
поддерживали контакты и получали инструкции от резиден-
туры ЦРУ, нашедшей удобное укрытие в здании
посольства США на Уяздовских аллеях в
Варшаве. Три «рыцаря плаща, кинжала и доллара» —
Леонард Балдыга, Джеймс Брэдшоу и Джон Кордек в
течение без малого десяти лет сменили один
другого в должности советника посольства по
вопросам культуры и печати. Все трое были агентами
ЦРУ. С июня 1978 по сентябрь 1981 года этот пост
занимал Джон Флориан Кордек. Вместе с
советником по политическим вопросам Дональдом Блэком
он «курировал» КОР, в 1979 году оба они стали
«крестными отцами» КНП — «Конфедерации
независимой Польши». За океаном инспиратором
организации КНП выступил по заданию ЦРУ бывший
агент гестапо Константы Зигфрид Ханфф,
бежавший в США из Польши и заочно приговоренный к
смертной казни.
Роль связного в этой акции выполнял Збигнев
Волыньский — поляк с американским паспортом,
появившийся в Варшаве в 1974 году. В
арендованной им вилле был создан штаб по проведению
1 сентября 1979 года антиправительственного ми-
30
тинга, на котором Лешек Мочульский объявил о
создании открыто шовинистической,
полуфашистской «конфедерации». 18 сентября и 20 ноября на
той же вилле Кордек и Блэк вновь встретились с
Мочульским. В беседе, продолжавшейся 4 часа,
они подробно обсудили результаты проведенной
акции. При второй встрече Кордек передал Мо-
чульскому крупную сумму в валюте «на нужды
КНП» и подробно проинструктировал, какие
косметические изменения следует внести в деятельность
«конфедератов», чтобы посимпатичнее выглядеть
в глазах Запада.
Непосредственным результатом этих встреч
было признание КНП законным правительством
Польши мумифицированного эмигрантского
«правительства» с давним местопребыванием в Лондоне.
22 сентября 1981 года так называемый
«политический совет КНП» направил в Лондон письмо, в
котором говорилось: «Мы признаем правительство
Польской Республики в Лондоне как единственное
представительство легального и независимого
Польского государства... Поэтому предлагаем
назначить инспектора по польским делам для
руководства подготовкой к акции. Конкретные
предложения представит наш связной».
14 октября того же года прокурор Варшавы
распорядился произвести обыск на вилле 3. Во-
лыньского, при котором были обнаружены
многочисленные документы и материалы, в их числе и
копия приведенного письма. Они в полной
степени доказали связь руководителей КНП с
иностранными разведками и антипольскими группировками
на Западе. На основании этих материалов была
дана санкция на арест главарей «конфедератов».
При очередной поездке в Польшу я
поинтересовался Кордеком. Мне напомнили, что я не раз
встречался на приемах с худощавым, подвижным,
рано полысевшим американцем. «Тихим» назвать
его было нельзя. Он хорошо говорил по-польски,
был очень контактным и общительным. Впрочем,
нам с ним говорить было не о чем. Знакомство
оставалось, так сказать, визуальным, заочным, и
оно неожиданно возобновилось летом 1982 года
на страницах влиятельной венесуэльской газеты
«Эль-Насьональ»#
31
Газета опубликовала один из написанных мной
комментариев по поводу вмешательства США во
внутренние дела Польши. По тому же поводу
польская делегация выразила тогда решительный
протест на сессии Комитета ООН по информации в
Нью-Йорке, а вскоре МИД ПНР предъявил
аналогичный протест главам дипломатических
представительств США, Великобритании, Франции и ФРГ,
аккредитованным в Варшаве.
Буквально через день после публикации
комментария в той же газете появилось гневное
опровержение, данное в интервью новым советником
посольства США по вопросам печати и культуры
Джоном Кордеком, прибывшим в Каракас.
«Дипломат из Лэнгли» приехал в Венесуэлу в «команде»
нового американского посла Джорджа Ландау,
которому, по утверждению «Эль-Насьональ», было
поручено смягчить трения, возникшие между
Вашингтоном и Каракасом в связи с позицией,
занятой США в дни англо-аргентинского конфликта.
Используя «эффект присутствия» в Польше,
Джон Кордек выступил с «категорическим
опровержением» систематического вмешательства ЦРУ
в польские внутренние дела и инспирации
подрывной деятельности в этой стране. «Дипломат»
заявил, что агентство печати «Новости»
фальсифицирует действительность и утверждения автора
комментария Владимира Накарякова полностью
фальшивы.
«Мы были тактичны, и я не знаю ни одной
попытки вести пропаганду против Польши со
стороны США»,— утверждал он. На тактичное замечание
редактора Грегорио Монтиэля, бравшего интервью,
что даже в США «Свободная Европа» была
разоблачена как канал ЦРУ, Кордек, чуть помедлив,
ответил, что уже 12—13 лет ничего подобного не
происходит...
Варшаву и Каракас разделяют по прямой
около 10 тысяч километров, и «тихий американец»
полагал, вероятно, что сведения о некоторых
сторонах совсем недавней деятельности в Польше его
самого и его коллег не в состоянии преодолеть
такого расстояния. Он глубоко заблуждался.
Вскоре в корреспонденции, полученной из
Польши, «Известия» сообщали о Кордеке: «Этот дипло-
32
мат из Лэнгли организовал у себя кружок, доступ
в который был открыт только критикам
социалистического строя в Польше, а также лицам без
определенных занятий из числа потенциальных
уголовников... Советник посольства США по культуре
и печати Кордек не жалел ни времени, ни средств.
Его так называемые «представительские» расходы
выражались в огромных суммах». Далее
рассказывалось об одном из гала-приемов в доме Кордека
в январе 1979 года, на который были приглашены
представители почти всех антисоциалистических
групп для встречи с делегацией «Американского
совета молодых политических деятелей»,
приехавших тогда в Польшу.
Чуть позже Кордек установил и поддерживал
постоянные контакты с руководителями и
советниками «Солидарности» Янушем Онышкевичем,
Ядвигой Станишкис, Тадеушем Мазовецким, Яном Ли-
тыньским, Казимежём Свитонем и другими
участниками заговора в костюмах и масках.
В комментарии АПН, опубликованном в
Каракасе, упоминалось, что в мае 1982 года из Польши
были высланы два подобных Кордеку
«дипломата»— Джон Уильям Зиролис и Джеймс Дэниэль
Хоуард, превратившие посольство США в центр
сбора шпионской информации и почтовый ящик
«Свободной Европы». Они были схвачены за руку,
когда получали от некоего Рышарда Герчиньского
сфабрикованные им клеветнические пасквили об
общественно-политической ситуации в Польше.
Джон Кордек подтвердил, что знаком с
упомянутыми «дипломатами». Один, дескать, атташе по
научным вопросам, другой — по культурным
связям (то есть работавший под его руководством), а
связь с поляком Герчиньским они поддерживали
«в соответствии с договорами и соглашениями,
которые обычно подписываются между странами».
Мне лично не припоминается ни одного
международного соглашения, которое санкционировало бы
подрывную деятельность дипломатов одной страны
в другой. А именно этим занимались в Польше
Джон Кордек и другие агенты ЦРУ, натянувшие
дипломатические смокинги вместо положенных им
мундиров.
Укрытие за стенами посольства было удобным,
2 Заказ 152
33
особенно в то время, когда американские
«дипломаты» могли получать интересующую их
информацию и давать указания, как говорится, не выходя
из дома. Но ситуация в Польше существенно
изменилась, и эмиссары ЦРУ были вынуждены все чаще
покидать здание посольства и пускаться в
рискованные путешествия. В польской печати
сообщалось, что за 10 месяцев 1982 года стали известны
312 случаев разведывательных вояжей западных
специалистов по шпионажу, провокациям,
подрывной деятельности. В октябре 1984 года в интервью
газете «Штандар млодых» полковник Збигнев Вис-
лоцкий сообщил, что в период 1944—1983 годов в
Польше разоблачено и осуждено 2140 шпионов.
713 из них работали на разведку США, 431 на
английскую, 219 на французскую и 206 на разведку
ФРГ.
Один за другим проваливались «дипломаты»,
расшифровывались агенты, задерживались связные.
В марте 1981 года отправилась восвояси третий
секретарь посольства США в Варшаве Лесли Стерн-
берг, осуществлявшая связь с КНП и «Независимым
союзом студентов», в действиях которого все
яснее просматривались профашистские тенденции.
Она вела вербовку агентов, развозила по стране
нелегальную литературу, Часть подстрекательских
материалов, вероятно в спешке, оказалась
отпечатанной на официальных бланках посольства.
Другой «дипломат», Майкл Андерсон, был
опекуном КОС — КОРа, а второй секретарь Питер
Беркли занимался сбором информации о структуре
войск ПВО, штабах, системах связи.
Вскоре после выдворения из Польши Дж. Д. Хо-
уарда и Дж. У. Зиролиса в Варшаве вновь
появился уже представленный читателям кадровый
сотрудник ЦРУ Леонард Балдыга. На этот раз он
официально именовался директором ЮСИА по вопросам
Восточной Европы, но это была очередная маска.
На деле он пытался установить связи с подпольем.
Накануне его приезда, 9 ноября 1982 года, из
Польши был выдворен гражданин США польского
происхождения «ученый» Роман Лаба, много раз
приезжавший в Польшу, а на этот раз проходивший
«научную стажировку» в одном из институтов
Польской Академии наук. Как выяснилось из обнару-
34
женных у Лабы материалов и документов, его
«стажировка» заключалась в контактах с нелегальными
контрреволюционными группировками,
действующими в подполье.
Балдыга не успел передать Лабе новые
инструкции, и вообще этот визит хорошо известного в
Польше агента вряд ли можно было назвать
продуктивным. Вскоре в момент получения от связной,
прибывшей из Гданьска, фотопленок шпионского
характера была задержана и выслана из страны
«журналистка» Руфь Элен Грубер, работавшая под
крышей агентства ЮПИ. За ней последовал еще
один «ученый» — Гаррет Собчик. Он лично
участвовал в антигосударственных акциях и полтора
месяца скрывался от властей, незаконно пребывая на
территории ПНР.
Когда же на пресс-конференции в Вашингтоне
представителя госдепартамента по печати Дж. Хью-
за спросили: правда ли, что американские
дипломаты вовлечены в антипольскую деятельность и
правда ли, в частности, что один из
представителей ЮСИА в Польше — агент ЦРУ? — бывший шеф
«Голоса Америки» Дж. Хьюз не моргнув глазом
ответил:
— Как вы знаете, мы никогда не отвечаем на
вопросы, связанные с разведкой. Но любые
предположения, будто мы провоцируем беспорядки в
Польше, совершенно смехотворны.
Не знаю, как отреагировали на это заявление
корреспонденты, но прочитав его, я не мог
удержаться от смеха.
Обращало на себя внимание еще одно
немаловажное обстоятельство. Как только «Свободная
Европа» провоцировала в Польше очередную
авантюру, к назначенной дате резко возрастал приток
«туристов». К 13 мая 1982 года группа из 29
американских дипломатов, аккредитованных в Москве,
организовала экскурсию в Варшаву, чтобы
наблюдать за событиями.
За уличными беспорядками,
спровоцированными диверсионными радиостанциями в других
городах, 31 августа внимательно следили 150
иностранцев, из них 50 дипломатов и 80 журналистов.
Один из послов собственной персоной отправился
в район беспорядков. Очень хотелось ему стать
«жертвой режимных сил».
2* 35
Польская пресса сообщала, что для
восполнения потерь в посольство США в Варшаве за
короткий срок прибыло 30 новых «специалистов» по
польским проблемам. Напомним также, что после
введения военного положения радиопередатчики
американских консульств в Польше не раз
выходили на связь с агентурой.
Обо всем этом мог бы рассказать Дж. Хьюз на
упомянутой пресс-конференции в Вашингтоне.
«Западные разведцентры и их законспирированные
агенты в Польше,— писала газета «Жолнеж
вольности»,— реализуя стратегические цели
империализма, с начала возникновения так называемого
польского кризиса поддерживали все
антисоциалистические группировки и экстремистов
«Солидарности». Расширяя действия, направленные на
политическую дестабилизацию в Польше, постоянно
поднимая антисоветскую волну, правительственные
круги США и органы НАТО расчетливо
планировали изменить соотношение сил в мире в пользу
империализма, вырвать Польшу из содружества
социалистических стран».
Вопрос о действиях агентуры США на
«польском направлении» ясен, и по ходу повествования
мы будем еще не раз обращать внимание на
акции ЦРУ и других спецслужб. Второе направление
воздействия на Польшу зарождалось в
непосредственной близости от ее западных границ.
Просматривая свои польские записи 1977 года,
я неожиданно остановился на одной: «Хозяйство
под Жаганью. Приезд немцев — бывших
владельцев. Пан Януш К. и ксендз-переводчик». Мне сразу
вспомнилась история, услышанная в небольшом
городке Жагани под Зелёна-Гурой, который мы
посетили с одним из коллег.
За день до нас в одно из пригородных
индивидуальных хозяйств пожаловали туристы из ФРГ. Из
автомобиля «Форд-Таунус» вышли невысокого
роста крепкий старик с короткой седой щетиной на
голове, высохшая женщина неопределенного
возраста и молодой блондин в кожаных шортах.
Пришельцы осмотрели дом крестьянина,
хозяйственные постройки. Януш — владелец хозяйства —
почти не говорил по-немецки и не мог понять
фраз, которые гость бросил своим спутникам. Ми*
36
мо проходил ксендз. Крестьянин остановил его и
попросил выяснить, что, собственно, хочет эта
семейка.
Ксендз тихо поговорил с визитерами, которые
оживились и что-то втолковывали священнику.
Потом отец немецкого семейства подошел к Янушу,
похлопал его по плечу и произнес еще несколько
фраз, показывая на постройки. Затем все
погрузились в машину и выехали на шоссе.
— Послушай, пан Януш, этот шваб велел
передать тебе, что ты неплохо ведешь хозяйство,
которое когда-то принадлежало ему. Просил только
коровник подремонтировать и бережно
относиться к его имуществу. Сказал еще, что если он и не
доживет, то его наследник непременно сюда
вернется и ты должен будешь передать ему все
хозяйство в целости и сохранности.
— Святой отец, что ж вы раньше не сказали,—
усмехнулся Януш,— я бы, да простит меня бог,
передал ему кое-что...
Это лишь один из примеров того, как
реваншистские высказывания политических деятелей ФРГ
и вожаков «союза изгнанных» преломляются в
сознании и поступках рядовых «переселенцев». Тогда
мы восприняли это как случайный забавный
эпизод, но прошло время, и подобные примеры
посыпались как из рога изобилия.
Некий Альфред Плюшке из Брауншвейга
прислал в польский городок Ладно на Балтике
«благотворительную» посылку. Когда ее вскрыли, то
обнаружили драные, стоптанные башмаки, консервы
для собак и несколько булыжников. В посылку
было вложено письмо, в которем заявлялось, что
«поляки, незаконно проживающие на немецкой земле,
понесут за это кару».
Земледельцы-единоличники в гападных
воеводствах Польши получали многочисленные письма из
ФРГ, авторы которых угрожали, что настанет
время, когда они должны будут безвозмездно
вернуть свои хозяйства, так как их единственными
владельцами являются «изгнанные» немцы.
Как только в августе 1980 года из Польши был
подан сигнал, в ФРГ оживились все реваншистские
силы, заботливо сохраняемые многими
официальными организациями ФРГ. Натянули старые мунди-
37
рь\ и оккупационные сапоги те, кто топтал
польскую землю, разжигал печи крематориев Майда-
нека и Освенцима, выполняя задание Гитлера по
биологическому уничтожению польской нации.
«За вестями из Польши мы должны следить с
неослабевающим вниманием, ибо происходящие
там события придают нам смелость и вселяют
надежду»,— вещал в те дни деятель
реваншистского «союза изгнанных» Ф. Вальтер.
В предвкушении реваншистского шабаша из
щелей выползли и другие уцелевшие представители
разных союзов и обществ. Неофашисты из
«Немецкой акции — единство» предложили обусловить
боннские кредиты, предоставляемые Польше,
«экономическими и политическими факторами, которые
постепенно привели бы к восстановлению
германского господства на восточных территориях».
Ожил «союз изгнанных» во главе с Гербертом
Чая — в прошлом активным гитлеровцем, а ныне
депутатом бундестага — и два десятка
«землячеств». У каждого из них свое «стратегическое
направление». Бывший генерал бундесвера О. Рат-
ца, представляющий «землячество немцев из
Западной Пруссии», заявил: «Мы не должны
оставлять надежд на то, что будут преодолены
европейские границы. Наша Западная Пруссия должна жить
в сознании всех немцев». Предводитель
«землячества немцев из Силезии», депутат бундестага от
ХДС Герберт Хупка провозглашал: «Наша цель —
свободная Силезия. Это наша высшая политическая
задача». Подобные притязания Ф. фон Бисмарк
имеет к Померании (польскому Поморью), О. Хен-
нинг—к Восточной Пруссии.
События в августе 1980 года КОР использовал
для саморекламы. Тогда состоялась встреча Яцека
Куроня с агентом БНД и одновременно
журналистом Карлом Густавом Штрёмом (в разведке
просто «Густавом»), на страницах шпрингеровской «Ди
вельт» он писал, что Куронь выступает за новое
объединение немцев. Если бы они объединились, то
Польша имела бы, наконец, общую границу с
некоммунистическим демократическим государством
и это позволило бы многое сделать для ее
внутреннего развития. При этом Куронь не определил
восточные границы «новой Германии».
38
Такое заявление оказалось находкой для
реваншистов. Они начали рассуждать о том, как
«выкупить» западные и северные польские земли за
валютные долги Польши.
Материальными результатами «инициатив»
политических авантюристов из КОС—КОРа,
выступавших от имени «Солидарности», стала подачка в
800 тыс. марок из фонда Ганса Сейдла, которым
распоряжался Франц Йозеф Штраус. Он обещал
сколько угодно средств для «польских рабочих»,
если они смогут свободно решать дела,
отвечающие его, Штрауса, ценностям и системе.
Реваншисты немедленно распространили в ФРГ
листовку: «Необходимо срочно установить
контакты с руководителями новых профсоюзов и вести
с ними переговоры о дальнейшей судьбе
восточных земель...»
В марте 1981 года во Франкфурте-на-Майне
представители «Солидарности» провели такие
«переговоры» с руководителями ряда реваншистских
организаций, в том числе с Клеменсом Риделем из
«землячества немцев Силезии». Как писал
еженедельник «Фольксботе», на встрече обсуждался
вопрос об оказании помощи «профобъединению»
взамен за предоставление немцам, живущим в
Польше, «права на культурную автономию, а
также свободное развитие личности». Не с таких ли
слов начинались территориальные притязания
Гитлера к соседним странам?
Старшее поколение поляков никогда не забудет
тот «порядок», который пытались установить
предшественники сегодняшних реваншистов. Слишком
дорого он стоил польскому народу, потерявшему
в годы войны и оккупации более 6 миллионов
своих сограждан. А 25 миллионам поляков,
родившимся после войны, также следует помнить, что
Генрих Гиммлер приказал использовать поляков
только на сезонных и особо тяжелых работах и
разработал для них программу образования: уметь
считать до 500, написать фамилию и усвоить науку
беспрекословного подчинения немцам. Уметь
читать не обязательно, уточнил он.
Точку в предательстве поставил еще один из
основателей КОРа Ян Юзеф Липский. В своем
опусе «Две родины — два патриотизма», перепечатан-
39
ном на страницах прессы концерна Акселя Шприн-
гера, «польский германофил» объявил, что поляки
«лишили немцев отчизны», о чем он глубоко
сожалеет.
По странному совпадению телевидение ФРГ
показывало в те дни фальсифицированный фильм на
ту же тему — «Бегство и изгнание», а в Щецине
нелегально распространялась листовка — карта с
изображением государственных границ Польши
1939 года.
В ноябре 1981 года ФРГ посетил известный
экстремист, бывший тогда лидером «Солидарности —
Мазовше» Збигнев Буяк. Он был принят по
первому разряду и привез оттуда радиостанцию,
оборудование для телестудии и 120 тыс. марок. Во время
богослужения в Кёльне он заявил, что
правительство, которое будет создано «Солидарностью»,
обеспечит возврат польских долгов и
предоставит свободный доступ туристам из ФРГ в
«освобожденную» Польшу.
Так разрабатывались новые варианты «дранг
нах остен», сколачивался союз реваншистских сил
в ФРГ с польскими контрреволюционными
группировками.
Конец торговли оптом и в розницу польской
территорией был положен введением военного
положения. Однако рецидивы реваншизма не
прекращаются. В феврале 1983 года министр внутренних
дел боннского правительства Фридрих Циммерман,
игнорируя существующие международные
соглашения, заявил, что федеральное правительство не
намерено ограничивать обсуждение германского
вопроса территориями ФРГ и ГДР, а предполагает
включить в него территории по ту сторону Одера
и Нейсе, иными словами польские земли. Он
добавил, что Германия по-прежнему существует в
границах 1937 года.
«Если во Вроцлаве кое-кто полагает, будто и
камни здесь говорят по-польски, то мы-то можем
сказать, что камни эти говорят о германской
истории». Это слова министра ФРГ по внутригерман-
ским отношениям Генриха Винделена.
Мне сразу вспомнился май 1945 года, один из
последних штурмов второй мировой войны.
Вроцлав (тогда еще Бреслау) был превращен гитлеров-
40
цами в крепость, в которой засел окруженный
40-тысячный гарнизон. Охваченные злобой
обреченных, гитлеровцы безжалостно разрушали «камни
германской истории», взрывали исторические
памятники, сооружая среди развалин в самом
городе аэродром, сносили жилые кварталы, чтобы
создать предполье. За три месяца непрерывных
кровавых боев в городе было полностью разрушено
70 процентов зданий, 400 из 600 архитектурных
памятников разных эпох. В южной его части уцелело
лишь одно из каждых десяти строений. 300
километров улиц были покрыты кирпичным боем.
Всего этого не хочет знать хранитель
германской истории в ранге министра, как и того, что
польский Вроцлав был полностью восстановлен
руками поляков, в основном по чертежам и
рисункам XVI и XVII веков. Именно поэтому камни
города говорили, говорят и будут говорить
по-польски.
Хотелось бы напомнить Генриху Винделену и о
том, что в 1948 году в этом городе состоялся
Всемирный конгресс деятелей культуры в защиту
мира. В нем приняли участие представители 46
государств. Один из них — Илья Эренбург — тоже
упомянул о «камнях»: «Для меня Вроцлав — польский
город не потому, что в нем сохранились кирпичи
времен Болеслава Кривоустого, но потому, что
триста тысяч поляков-пионеров сумели вдохнуть
жизнь в сожженные и разрушенные стены...»
Гальванизация реваншистских доктрин, ставящих
под сомнение территориально-политические
реальности в Европе, вызвали решительный протест
Варшавы. В заявлении МИД ПНР напоминается, что в
Договоре, подписанном 7 декабря 1970 года, ФРГ
подтвердила неприкосновенность польской
границы и обязалась не предъявлять никаких
территориальных претензий как в настоящее время, так и в
будущем.
Министр иностранных дел ПНР Стефан Ольшов-
ский напомнил руководителям ФРГ, что
сохранение и соблюдение реалий современной Европы
имеют для Польши и всего континента
основополагающее значение и эта позиция полностью
совпадает с позицией Советского Союза и других
государств— участников Варшавского Договора.
41
Военное положение положило конец и тому
грандиозному маскараду, который экстремисты
намеревались завершить в стране кровавой оргией.
Те активисты и функционеры бывшей
«Солидарности», которые волею судеб оказались за
пределами страны, а их было более трехсот,
немедленно сбросили не только свои маскарадные костюмы,
но и фиговые листки. Большинство из маскарадных
«пьеро», «арлекинов», «Мефистофелей» и «агасфе-
ров» уже давно фигурировали в платежных
ведомостях западных служб и подрывных центров. Им
нужно было только отрекомендоваться: Блюм-
штайн, Цивиньский, Смоляр, Баторы... Других,
используя различные каналы, срочно разыскивало
ЦРУ.
Вот один из примеров. Член руководства
«Солидарности» в Гданьске физик Ежи Милевский
появился в США 11 декабря 1981 года. Он приехал
для «участия в научной конференции». Газета
«Чикаго трибюн» отыскала его там же через три
месяца. (Конференция, надо полагать, затянулась?!)
Сризик бойко заявил, что вскоре отправится в
Европу, чтобы возглавить бюро «Солидарности» в
Брюсселе (не объяснив почему-то, кто его на это
уполномочил).
Портрет Милевского с усами «а-ля Валенса» на-
«^ал кочевать по страницам эмигрантских изданий.
Теперь он открыто утверждал, что с момента
основания «Солидарности» целью верхушки
«профсоюза» было свержение существующего строя и он
лично работал над составлением программы новой
партии, которая должна была стать политическим
инструментом «профсоюза».
Новые эмигранты развернули по всей Европе, а
также в США и Канаде лихорадочную
антипольскую возню, создав в разных странах десятки
«центров», «информационных бюро» и подобных
организаций. С поразительным упорством они
лезли в редакции газет и радиостанций (не говоря о
давно обжитой ими «Свободной Европе»), в штаб-
квартиры реакционных политических партий и
профсоюзов, добирались даже до министров. Все это
делалось с целью: получить как можно больше
долларов, марок и франков. Ведь новоявленные
«профсоюзные боссы» привыкли за короткое вре-
42
мя запускать руки в профсоюзные кассы, как в
собственный карман.
Польскую эмиграцию можно условно разделить
на две категории — экономическую и
политическую. Во многих странах мира ныне живут
миллионы лиц польского происхождения. В разные годы
их разбросали по свету массовая эмиграция «за
хлебом» из буржуазной Польши, непредвиденные
миграции в годы войны, послевоенная волна,
вынесшая из страны многих из тех, кому было не по
пути с социализмом. Затем были разного рода
перебежчики и вполне легальные переселенцы,
покидавшие свой край временно или навсегда по
различным причинам.
Экономическую эмиграцию специальные
службы рассматривают как среду для рекрутирования
из нее эмигрантов политических. ЦРУ
финансировало тысячи поездок в Польшу американцев
польского происхождения. Каждому из них давались
конфиденциальные задания. От их характера
зачастую зависело — полностью или частично
оплачивался визит к родственникам, друзьям или
знакомым. Оплачивались и приглашения
«перспективных» (с точки зрения спецслужб) польских
граждан в США и страны НАТО для их дальнейшей
психологической обработки. Особое внимание
уделялось при этом студентам и молодым
«интеллектуалам», которым выделялись щедрые стипендии.
Эта запланированная операция продолжалась
десятилетиями и нанесла Польше огромный ущерб.
По возвращении многие «стипендиаты» вели (иные
продолжают вести) разлагающую работу в
польском обществе. Некоторых удавалось завербовать.
Они становились агентами иностранных разведок и
выполняли прямые задания по сколачиванию
антисоциалистических группировок.
Итак, оказавшись на Западе, одни продолжили
политическую возню, создавали различные
«объединения», «союзы», «институты», «общества»,
издавали подрывную литературу. Эти быстро
находили себе хозяев и покровителей. Другие в поте
лица добывали хлеб насущный, часто убеждаясь,
насколько он горек — эмигрантский хлеб, нередко
терпели жизненное фиаско. Лишь немногим
удавалось удержаться на поверхности или подняться
43
вверх по скользким ступеням капиталистической
лестницы.
В польской прессе опубликована серия
документальных материалов, разоблачающих
неприглядную роль бывших активистов «Солидарности»,
выехавших из Польши, чтобы под присмотром ЦРУ
учиться «профсоюзной работе», а на деле
начавших службу в подрывных центрах и на «фабриках
лжи». В их числе бывшая личным секретарем Л. Ва-
ленсы Магда Вуйчик. Пока их на всю катушку
используют для ведения психологической войны
против собственной страны. Но пройдет какое-то
время, и те же спецслужбы выбросят их, как выжатые
лимоны, в эмигрантский омут.
Чтобы поддержать хотя бы и нездоровый
интерес к себе, эмигранты по заданиям подрывных
центров принимали участие и в специально
подготовленных акциях, которым придавался характер
театральности. По инициативе С. Блюмштайна и
А. Смол яра в марте 1982 года была проведена
операция «Воздушный шар». С датского острова
Борнхольм на территорию Польши было запущено
10 тысяч воздушных шаров, изготовленных во
Франции и начиненных подстрекательской
литературой. Листовки и брошюры были подготовлены
людьми с изрядно подмоченной репутацией,
однако напечатаны на непромокаемой бумаге.
В середине июля 1982 года пресса шумно
оповестила о «секретном» сборище 27 бывших
функционеров «Солидарности» в маленьком
норвежском городке Сундволлене. Здесь вновь всплыла
фамилия Милевского, которого на этот раз
«избрали» председателем «координационного бюро
«Солидарности» за границей».
И еще одно, прямо-таки кощунственное,
мероприятие. В то время, когда по городам и столицам
Европы проходил «Марш мира — 82»,
продемонстрировавший стремление людей доброй воли из 30
стран к борьбе за предотвращение ядерной войны,
разоружение и разрядку, по параллельным
дорогам двигался другой «марш». Два десятка
эмигрантов из «Солидарности» протопали от Гамбурга до
Рима с призывами ужесточения экономических
санкций против Польши и к пересмотру
существующих в Европе послевоенных границ.
44
И все же, несмотря на особые усилия
специальных служб и диверсионно-пропагандистских
центров, сколотить новую политическую эмиграцию в
Европе, придав ей ярко выраженный
антисоциалистический и антисоветский характер, не удалось.
Эмигрантская газета «Речь посполита», выходящая
в Лондоне, сетовала на то, что из 70 тысяч поляков,
находящихся в ФРГ, только 4 тысячи попросили
политического убежища. Попытки закоренелых
контрреволюционеров насильно принудить бывших
соотечественников к участию в грязной
политической игре в большинстве случаев не имели успеха.
Понять трагичность положения большинства
эмигрантов помогают две выдержки из польских
газет, которые были опубликованы почти
одновременно.
«Газета роботнича», издаваемая во Вроцлаве, с
горечью писала о последствиях «польской
болезни заглядывания на Запад». «Немцы, особенно
старшего поколения, должно быть, дьявольски
довольны, когда видят, как потомки победителей во
второй мировой войне делают им, побитым и
побежденным, всевозможные услуги за несколько
марок».
А вот отрывок из письма, присланного в
Польшу одним из мелких активистов «Солидарности»,
которое опубликовала газета «Дзенник Балтыцки»
в Гданьске.
«..Мь\ с приятелем приехали в Мюнхен, но
оказалось, что там нужно работать, и нас устроили
сторожами на радиостанции «Свободная Европа».
Мы открывали и закрывали ворота за
автомашинами, въезжавшими на территорию, окруженную
колючей проволокой...
Затем мы оказались на радиостанции «Париж».
Сейчас наша работа заключается в имитации
голосов людей, якобы приезжающих из Польши. За это
получаем большие деньги.
Совсем недавно совершили интересное
путешествие в Данию. Там сплошь находятся почти
одни активисты «Солидарности». Вместо отдыха нам
предложили надувать воздушные баллоны, с
помощью которых «Солидарность» посылала свои
пропагандистские материалы польскому обществу.
За накачивание одного баллона нам платили по
45
50 центов. Эта акция была якобы организована
какими-то французскими учеными, говорящими
исключительно на американском диалекте...»
Скорее всего, словом «Париж» автор письма
именует государственную французскую
радиостанцию «Радио Франс-интернасьональ» (РФИ), которая
в изготовлении фальшивок и создании мифов о
положении в Польше может смело конкурировать
с известной «Свободной Европой». Имитация
голосов «приезжающих из Польши», о которой
говорится в письме, лишь капля в море лжи.
Маскарад в костюмах и масках окончен. Нужно
только сказать, что в самой Польше участники
«маскарада», избежавшие интернирования, не
сбросили маски, а плотнее укутались в плащи, опустили
капюшоны и укрылись в подполье, где несколько
десятков политических банкротов проявляют
явную неразборчивость в средствах. Как утопающие,
они готовы ухватиться даже не за соломинку, а за
бритву.
При аресте во Вроцлаве одного из таких
деятелей— Ю. Пинёра — были обнаружены документы
о планах на будущее. В них содержатся
любопытные откровения. Во-первых, подчеркивается, что
«наши планы продуманы в международном
масштабе». Во-вторых, утверждается, что «спокойная
Польша перестанет быть темой международной
политики, не станет той ценой, которую хотят
уплатить некоторые страны, особенно США, за
реализацию своих политических целей». И, наконец,
примечательна деталь, ясно показывающая, откуда
ветер дует: к документу была приколота визитная
карточка консула США в Познани Дж. Парнела.
Чтобы лучше понять, кто же руководил
польским подпольем, следует включить
радиоприемники.
Антенны
над осиными гнездами
В начале второй мировой войны ведомства
гитлеровского рейха, возглавляемые Геббельсом и
Риббентропом, развернули сеть подрывных радио-
46
станций под общим названием «Конкордия»
(«Согласие»). Ведущим комментатором на
Великобританию и англоязычные страны в «Конкордии» стап
бежавший в Германию один из главарей
Британской лиги фашистов, шпион и предатель Уильям
Джойс. Изо дня в день он вел диверсионные
передачи под псевдонимом «лорд хау-хау» (по-русски
«гав-гав»).
По приговору английского суда за
предательство и радиодиверсионную деятельность Уильям
Джойс был повешен в Лондоне в январе 1946
года, чем был создан, казалось бы, весьма
поучительный прецедент. Приведенный факт вызывает
определенные ассоциации и необходимость
провести одну историческую «радиопараллель».
В феврале 1942 года вышла в эфир
радиостанция «Голос Америки». В первой передаче, носящей
программный характер, «голос» торжественно
обещал слушателям: «Новости могут быть хорошими
или плохими, но мы всегда будем говорить вам
правду».
Кто бы мог подумать, что пройдет несколько
лет, и эти слова будут начисто забыты, а
радиостанция «Голос Америки» и ее сателлиты возьмут
на вооружение репертуар и методы, целиком
заимствованные из гитлеровского пропагандистского
арсенала. А случилось именно так. Много лет
«Голос Америки», Би-би-си и родственные им
корпорации в других странах выполняли функции
герольдов «холодной войны» и глашатаев «крестовых
походов» против социализма — от Уинстона
Черчилля до Рональда Рейгана.
В ходе упомянутой метаморфозы сеть
диверсионных радиоцентров непрерывно расширялась, а
промышленность тем временем буквально
наводнила мир радиоприемниками любых классов и
диапазонов. (Ныне их насчитывается 1,3 миллиарда.)
Роль подрывной радиопропаганды неизмеримо
возрастала.
Не так уж сложно проследить линию
преемственности «Конкордия» — «Голос Америки» —
радиоцентры Запада. В 1947 году в США было
создано Центральное разведывательное управление,
возглавившее тайную войну против
социалистических стран. Именно ЦРУ была поручена разработка
V
стратегии и тактики этой войны. В апреле 1949 года
был подписан Североатлантический договор, и
почти одновременно в Мюнхене поднялись антенны
радиостанций «Свобода» — «Свободная Европа»
(РС—РСЕ). Первая была ориентирована на
Советский Союз с передачами на 15 языках народов
СССР, вторая — на европейские страны народной
демократии. На Западе пишут, что РС—РСЕ были
«пропагандистским изобретением» генерала Рейн-
харда Гелена — шефа гитлеровской агентуры на
Востоке, влившейся после войны в ЦРУ1. Обе
радиостанции заняли позиции на идеологическом
фланге НАТО и начали тотальное
пропагандистское наступление «дранг нах остен».
Методы подготовки и обработки информации,
передаваемой в эфир, определялись
подобранными ЦРУ кадрами, раз и навсегда настроенными на
антисоциалистическую волну. Они вербовались из
отщепенцев и изменников всех мастей, вынесенных
мутной послевоенной волной и осевших на Западе.
Большинство «специалистов», подобранных на
свалке истории, запятнало себя сотрудничеством с
гитлеровцами, предательством и шпионажем, у
многих руки были по локти в крови. В движение их
приводили две силы — слепая ненависть и доллары.
Так выглядели новобранцы пропагандистского
воинства, поселившиеся в осиных гнездах с
антеннами.
Указанные качества вполне устраивали их новых
заокеанских хозяев. Многочисленные
меморандумы и инструкции ЦРУ, адресованные
диверсионным радиоцентрам, предписывали и предписывают
без всякой щепетильности использовать для
ведения радиопропаганды на социалистические страны
перебежчиков и предателей.
В 1952 году «Свободная Европа» начала вещание
на Польшу. С тех пор изменники, шпионы, платные
агенты спецслужб, сменяя друг друга, занимают
места в руководстве и у микрофонов самой
крупной секции РСЕ — польской, где занято более 80
сотрудников. С некоторыми из них ^\ъ\
познакомимся. Однако, чтобы завершить начатую парал-
1 Об этом писал, в частности, американский журнал
«Мазер Джоунс» в июле 1983 года.
48
лель, следует напомнить, что последний по счету
руководитель секции Здзислав Найдер в конце мая
1983 года был заочно приговорен судом
Варшавского военного округа к смертной казни за
шпионаж в пользу США.
Любопытно отметить, что сразу после
оглашения приговора сегодняшнему «лорду хау-хау», или
«пану гав-гав», на очередной пресс-конференции в
Вашингтоне представитель госдепартамента Аллан
Ромберг заявил: «Мы глубоко шокированы акцией
польского правительства. Приговор этого
выдающегося польского писателя и журналиста к смерти
за выражение своих политических взглядов
свидетельствует о том, насколько непрочно положение
варшавских лидеров и насколько далеко они
готовы пойти с целью ограничения потока свободной
информации, что гарантируется итоговыми
документами хельсинкского совещания».
За кого же так радует официальный
представитель Вашингтона, ссылаясь всуе даже на
хельсинкские договоренности?
Шпион и предатель 3. Найдер — «поляк
немецкого происхождения», как он сам рекомендуется,
много лет работал на ЦРУ в качестве тайного
агента и вербовщика. В Варшаве этот «человек с
двойным дном» вращался среди творческой
интеллигенции диссидентского толка, прикидываясь
скромным литератором с научным уклоном, этакой
серой мышкой. Работал он одним из редакторов
журнала «Твурчость» («Творчество») и изучал
подробности жизни писателя Джозефа Конрада
(Юзефа Конрада Коженевского), писавшего на
английском языке. Дж. Конрад был нужен Найдеру
для выездов за границу на переподготовку и
получение инструктажей от своих шефов из ЦРУ и
британских секретных служб.
В мае 1978 года неожиданно для многих
Найдер был избран в состав ревизионной комиссии
Варшавского отделения Союза польских писателей,
членом которого числился с 1958 года, хотя в то
время у него не было ни одной изданной книги и
вообще каких-либо значительных литературных
работ. (Первую книгу он издал в 1976 году.) Зато,
прикрываясь псевдонимами Социуш, Мариан
Ковальский, Бронислав Лясоцкий и другими, он актив-
49
но сотрудничал в парижской «Культуре» и
«Свободной Европе».
«Серая мышка» оказалась маской серого
кардинала. Агент ЦРУ Найдер одновременно являлся
одним из руководителей глубоко
законспирированной политической мафии — «Польское независимое
соглашение» (ПНС), созданной по указанию ЦРУ
почти одновременно с КОС—КОРом на рубеже
1975—1976 годов. По приемам и формам
деятельности эта организация напоминала масонскую
ложу. В нее входили лишь избранные,
интеллектуальная элита контрреволюции. «Если кто-то искал
«мозговой трест» антисоциалистической
оппозиции,— писала газета «Жолнеж вольности»,— то
нашел бы его в конечном счете в организации
«Польское независимое соглашение».
В Варшаве шпионской работой Найдера
руководила резидентура ЦРУ. В последние годы его
шефом был уже известный нам Джон Флориан Кор-
дек. Он и организовал своему «перспективному
подопечному» официальное приглашение на выезд
за границу, которым Найдер не замедлил
воспользоваться. Он приглашался для получения...
«высокооплачиваемой должности с возмещением всей
стоимости имущества, оставленного в Польше».
3 октября 1981 года 3. Найдер с женой Геленой
Кэролл (британской подданной) и взрослым сыном
от первого брака покинул страну, которую давно
предал. По официальной версии он должен был
прочесть цикл лекций в Оксфордском
университете. После получения соответствующих инструкций
в штаб-квартирах ЦРУ Найдер представился в
эмигрантских кругах Лондона, а после введения в
Польше военного положения перекочевал в Париж.
Там он вел длительные переговоры с
руководителями «Культуры». В конце апреля 1982 года
52-летний 3. Найдер объявился в Мюнхене, где сменил
Зигмунта Михаловского (тоже агента ЦРУ),
возглавив польскую секцию радиостанции «Свободная
Европа». Такой оказалась обещанная ему
«высокооплачиваемая должность».
Собственной персоной Найдер вышел в эфир
3 мая 1982 года. «Дорогие слушатели! Обращаясь
к вам в эти минуты, я считаю себя одним из вас».
Так начиналось выступление новоявленного «пана
50
гав-гав», глубоко оскорбительное по своей сути
для каждого поляка, которых он без раздумий и
колебаний причислил к своему шпионскому
ведомству.
Вскоре после приговора «диванное
правительство» в Лондоне наградило Найдера орденом
времен буржуазной Польши. Ажиотаж вокруг его
личности нагнетался. Группа польских
«интеллектуалов» обратилась с письмом в парижскую
«Культуру», выражающим несогласие с приговором,
вынесенным Найдеру в Польше. Письмо было
немедленно опубликовано (номер за июль — август 1983
года). Получив в Мюнхене книжку журнала, Най-
дер не замедлил передать мнение
«интеллектуалов» в эфир, но и здесь сфальшивил. РСЕ
объявила, что письмо было напечатано не в Париже, а в
Польше, в подпольном бюллетене «КОС».
Польское телевидение показало улики,
изобличающие Найдера как шпиона: тайники,
обнаруженные на его даче, шифровальные блокноты,
уведомления о «гонорарах» за переданную
информацию, в том числе на 1500 долларов за особо
ценные сведения, и т. д. Найдер даже не пытался
опровергнуть обвинение в том, что много лет был
платным агентом ЦРУ. Перед микрофоном РСЕ он
выразил лишь одно недоумение: как это его мог
судить военный суд, если он никогда не служил в
армии. Таков собирательный «дайджест-портрет»
3. Найдера.
Кто же были его предшественники?
Со дня основания польской секции РСЕ по 1976
год, то есть четверть века, ее возглавлял Ян Но-
вак-Езёраньский (подлинные имя и фамилия Здзи-
слав Езёраньский). В оккупированной Польше он
начал с сотрудничества с гитлеровской разведкой.
Затем его приютила британская «Интеллидженс
сервис», которая и передала свою «находку» ЦРУ,
где Новак-Езёраньский обосновался капитально.
В комплексе из нелепо сросшихся двухэтажных
зданий на мюнхенской Энглишер-гарден, где до
этого размещались казармы американских
оккупационных войск, подстриженный «под Муссолини»
полноватый и хамоватый субъект чувствовал себя
полным хозяином. «Я выкину пана с моей
радиостанции!»— то и дело кричал он на провинившихся
51
подчиненных. Даже свои два имени он
использовал для того, чтобы вымогать от сотрудников
ценные подарки дважды в году — на именины Яна и
Здзислава.
— В современной Польше есть три
выдающихся личности, которые оказывают непосредственное
влияние на формирование польской
действительности,— глубокомысленно вещал Новак-Езёрань-
ский,— это Владислав Гомулка, кардинал Вышинь-
ский и я.
Пресмыкался «выдающийся деятель» только
перед американскими хозяевами РСЕ— Брауном и
Коллинзом и их «продолжением» в польской
секции— шефом безопасности бывшим эсэсовцем
Куртом Фишером и директором по кадрам Расселом
Пулом.
Первый заместитель Яна Новака в те годы
Тадеуш Завадский (Женьчиковский) в выражении
своего идейно-творческого кредо был предельно
прост; «Геббельс был для меня мастером
пропаганды и подхода к пропаганде, мастером методов,
которые все мы пытаемся копировать, однако не
делаем это достаточно умело»,— заявлял он.
В этом было зерно истины. Вымученные
передачи часто на архаичном польском языке, «черная»
и «серая» пропаганда с позиции примитивного
антикоммунизма не производили, по заключению
ЦРУ, ожидаемого впечатления на польских
слушателей. В 1964—1965 годах хозяева РСЕ решили
изменить тон передач на Польшу. Главным
направлением был избран ревизионизм. Новая тактика
основывалась на том, что РСЕ не должна
безоглядно атаковать социалистическую систему в Польше,
а советовать, что в ней нужно «исправить» и
«изменить». К этому приложили руку Збигнев Бжезин-
ский и такой филиал ЦРУ, как парижская
«Культура», которую американцы рассматривали как
полигон и лабораторию для разработки и
осуществления политических диверсий против Польши.
В те годы в польскую секцию РСЕ внедрился
польский разведчик Анджей Чехович. В течение
нескольких лет он изнутри наблюдал за
механизмом действий «Свободной Европы», имевшей к
тому времени свои бюро в Нью-Йорке, Лондоне,
Вене, Стокгольме, Париже, Риме. Богатейшие впе-
52
чатления об этой кунсткамере он передал в своей
книге «Семь трудных лет», изданной в Варшаве в
1973 году после успешного выполнения им
важного задания. С документальной точностью в
книге передана атмосфера и кухня польской секции
РСЕ и представлена колоритная портретная галерея
ее сотрудников.
«Большинство жителей Мюнхена,— пишет
автор,— смотрит на работников РСЕ как на
интриганов, выполняющих грязную работу, которая никому
не приносит пользы, а тем более чести».
Уже в те годы функционировала в секции
«польская группа исследований и анализа». Как
пишет Чехович, каждая вырезка из польских
газет использовалась в первую очередь для ЦРУ,
во-вторых — для уточнения секретной информации
и только затем для подготовки передач. Особенно
ценились при этом локальные издания и заводские
многотиражки. «Когда диктор из польской секции
вплетет в свою передачу поздравление кому-то из
поляков, у которого незадолго до этого родилась
тройня,— вспоминает А. Чехович,— то слушающие
передачу непременно подумают: «Они там все
знают». Вспоминает он и о сумбурных телексах из
ЦРУ, адресованных руководителям секции, когда в
Польше происходили «непонятные» им события.
«Все отложить на позже. Сконцентрировать
внимание на настроениях на заводах. Необходимы
сведения, почему рабочие не пошли за
студентами?»— запрашивало ЦРУ в 1968 году.
«Отложить дело о студенческих беспорядках.
Сейчас самое важное — установить дальнейшие
персональные изменения, которые предвидятся в
Варшаве». Невольно напрашивается вопрос: кому
могли даваться подобные указания — творческой
организации или шпионской конторе?
К 1976 году Ян Новак «устарел». Ему стукнуло
63 года, да и сведения о его сотрудничестве с
гитлеровцами просочились в печать. Пришлось
уступить насиженное место, которое занял один из его
помощников — бывший польский граф Зигмунт
Михаловский. Новака, впрочем, не обидели. Его
назначили советником в Совет национальной
безопасности США, где он продолжает разрабатывать
очередные антипольские акции.
53
На двери своего нового кабинета Михаловский
прикрепил претенциозную табличку: «Быть поля-
коал— это интересно». На мой взгляд, если бы
табличка гласила: «Быть графом, а служить лакеем —
это восхитительно», было бы и точнее и
оригинальней.
В биографии графа по рождению и юриста по
образованию немало темных пятен. Войну он
благополучно пересидел в Лондоне, ожидая, что кто-
то возвратит ему имения предков. Затем,
несколько разочарованный ходом событий, перебрался в
Париж и осел в местном отделении РСЕ. Он стал
также вице-председателем реакционного Союза
польских федералистов и тесно сотрудничал с
ЦРУ. В 1961 году «граф» был переведен в Мюнхен,
где связался еще и с западногерманской
разведкой БНД.
Женился «граф» на богатой онемечившейся
шотландке по пылкой любви к ее капиталам. Узнав
о связях мужа с американской и
западногерманской разведками, жена пригрозила ему публичным
разоблачением. Ее немедленно упрятали в
психиатрическую лечебницу, а после возвращения
оттуда произошло ее загадочное «самоубийство», в
которое окружающие не верили, а полиция
быстро свернула следствие.
С приходом Михаловского в работе секции
мало что изменилось. Пожалуй, несколько возросла
тяга к «аристократизму». Когда в Мюнхене
появлялись люди с фамилиями, известными в буржуазной
Польше, чтобы записать на пленку очередные
экзерсисы, поливающие грязью свою родину, их
размещали в первоклассных отелях и не скупились на
расходы. В основном же все передачи на «кухне»
польской секции готовились по проверенным
десятилетиями рецептам, которые сменный шеф-повар
Михаловский заучил, как молитву. В них либо
большая ложь украшалась гарниром из полуправды,
либо небольшая объективная информация
обкладывалась жирными кусками лжи. Это, так сказать,
дежурное меню РСЕ, которое не менялось со
сменой главных поваров.
В то время РСЕ получала от ЦРУ 90 млн.
долларов в год, а пан Зигмунт нагло утверждал в
интервью швейцарской газете «Вэн катр эр», что «нас
54
финансирует американский конгресс, и наши
принципы— это принципы американской внешней
политики». Вот уж поистине, чей хлеб я ем, того и
песенку пою! Безземельный граф 3. Михаловский в
ливрее ЦРУ с усердием и старанием отрабатывал
свой хлеб.
Тогда же, в 1976 году, начал осуществляться
диверсионный антипольский план 3. Бжезинского,
разработанный в деталях ЦРУ США. В нем
радиопропаганде на Польшу придавалось особое
значение. Через два года из-за океана поступило
категорическое требование Совета по
международному радиовещанию США (СМР) резко повысить
действенность вещания на Польшу. Михаловскому
пришлось прибавить обороты. Группа исследований
и анализа непрерывно подгоняла. В ее
распоряжение начали поступать антисоциалистические
пасквили от самозваных лидеров КОРа, от
диссидентствующих писателей, от того самого идола
оппозиции— профессора Оксфорда Лешка Колаковского.
Яцек Куронь, Адам Михник, Ян Юзеф Липский,
Здзислав Найдер едва успевали придумывать себе
новые псевдонимы. Агентурную и просто
негативную информацию они ведрами черпали из
основанного КОРом «банка информации», куда
стекались такого рода факты со всей Польши. Все эти
факты умело отбирались, надлежащим образом
препарировались и на волнах эфира летели
обратно в Польшу.
Так продолжалось до августа 1980 года, когда
для «Свободной Европы» и ее польской секции
наступил «звездный час». По мере превращения
появившегося на свет «независимого профсоюзного
объединения «Солидарность» в политическую силу,
враждебную социализму, верхушка новоявленных
деятелей и стоящие за их спинами политические
авантюристы все теснее сливались с диверсионной
радиостанцией, а следовательно, с ЦРУ. Многие из
них работали специально на РСЕ, выполняя любые
«социальные заказы» своих хозяев во имя
получения дополнительных валютных доходов.
Разложение коснулось и польских средств
массовой информации, особенно радио и телевидения.
У «Свободной Европы» появилась еще одна
«обратная связь». Работники польской секции РСЕ
55
анализировали прессу и радиопрограммы в
воеводствах, обрабатывали все, что им подходило, и
гнали в концентрированном виде по радиоволнам уже
на всю Польшу.
В марте 1981 года 3. Михаловский получил
через комиссию конгресса США дополнительные
средства на 4 ретранслятора. На это было
выделено 3 млн. долларов. В августе того же года
западногерманская газета «Унзере цайт» писала, что
кроме прямых призывов покончить с социализмом
в Польше, радиостанции, находящиеся на
содержании ЦРУ, «ведут активную работу по
организации шпионажа и саботажа». Передатчики,
расположенные предположительно в Португалии,
сообщала газета, передают на Польшу инструкции для
контрреволюционных групп. РСЕ выполняла
функции штаба польской контрреволюции. Один из
главарей экстремистов Анджей Гвязда говорил о том,
что однажды в субботу потребовалось срочно
созвать верхушку «Солидарности» из разных городов
для принятия важного решения, которое должно
было быть готово ко вторнику. «Я позвонил по
телефону в Варшаву, представителю одного из
западных информационных агентств. Вскоре нужную
информацию передало радио «Свободная Европа»,
и в назначенное время все были в сборе».
Не случайно штурм народной власти,
намеченный на 17 декабря, контрреволюционные
группировки намеревались начать с захвата зданий радио
и телевидения в Варшаве.
Вскоре после прихода в Белый дом Рональда
Рейгана и его команды внешнеполитическую
пропаганду США возглавил его личный друг и член
привезенного им из Калифорнии «кухонного
кабинета» Чарльз Уик. Ему удалось собрать в
предвыборную кассу будущего президента 15 млн.
долларов, а затем потребовать для себя
соответствующей компенсации. «Это я избрал президента!»—•
без ложной скромности заявлял Уик.
В прошлом Чарльз Уик был специалистом в
области «голливудской индустрии развлечений»,
продюсером и ловким коммерсантом. Став у руля
главной пропагандистской машины США, мастер
56
шоу-бизнеса решил основательно ее
модернизировать. Прежде всего он неоднократно перетряхнул
руководящий состав «Голоса Америки», куда, по
утверждению Уика, «проникли коммунисты».
Директора радиостанции Джеймса Конклинга,
который позволял своим 7700 сотрудникам
«проповедовать любые идеи, кроме гитлеровских», сменил
в марте 1982 года Дж. Хьюз — известный
комментатор с «ястребиными» взглядами, но и он вскоре
перешел в пресс-отдел госдепартамента. После
Хьюза директорское кресло занял бывший
редактор реакционного журнала «Ридерс дайджест»
Кеннет Томилсон, а в августе 1984 года его сменил
Юджин Пелл, аккредитованный прежде в Москве.
Все перемещения были в какой-то степени
связаны с польскими событиями. За этот период
вещание «голоса» на Польшу увеличилось почти
вдвое — до 5 часов в день. Соответственно
изменился и характер передач: всякий камуфляж и
косметика были сняты и передачи приобрели
характер открытого вмешательства во внутренние
польские дела и подстрекательства к выступлениям
против государственного строя. Инспиратором и
вдохновителем многочисленных антипольских акций
выступал (в режиссуре Уика) сам президент.
Своим шедевром Чарльз Уик до сего дня
считает поставленное им антипольское телевизионное
супершоу «Чтобы Польша была Польшей»,
переданное в эфир 31 января 1982 года. Кроме того,
оно было распространено по каналам ЮСИА в
видеокассетах. По многочисленным оценкам
западной прессы, тенденциозный спектакль с участием
Рональда Рейгана и руководителей ряда стран
НАТО с треском провалился. В большинстве
европейских стран на экранах были показаны лишь
короткие фрагменты из полуторачасового зрелища.
Однако его создатель не скупился на саморекламу.
Более того, «дипломатия в стиле Голливуда» нашла
дальнейшее развитие в создании Чарльзом Уиком
телевизионных систем «Евронет» и «Уорлднет».
Сменился и руководитель РС — РСЕ.
Диверсионные радиостанции в октябре 1982 года возглавил
бывший сенатор, заместитель госсекретаря по
безопасности и советник госдепартамента Джеймс
Бакли, крайний реакционер, выполнявший до этого
57
в Европе многие деликатные поручения Белого
дома.
С момента введения в Польше военного
положения РСЕ вела передачи на Польшу по 24 часа в
сутки. Были арендованы дополнительные
мощности. Не покладая рук трудились сотрудники ЦРУ
Норман Фрисби — связной по обмену
информацией со «Свободной Европой» и Джон Эрнест Перри
(когда-то Перетятькевич), осуществлявший
контроль над связями между радиостанцией и
польскими контрреволюционерами, укрывшимися в
подполье. В ФРГ, Франции и других странах была
создана специальная сеть ЦРУ для сбора
информации и проведения подрывных акций против
Польши, которой руководил агент с 30-летним стажем
Стив Цостис. Как сообщил берлинский
еженедельник «Хорицонт», резидент ЦРУ при посольстве
США в Бонне Томас Полгар располагал для этого
сотней сотрудников.
Однако круглосуточная вакханалия в эфире не
могла продолжаться бесконечно. Скоро в ней был
сделан 5-часовой перерыв от полуночи до пяти
утра «из-за нехватки средств и усталости
сотрудников», как писала «Вашингтон пост».
На этой статье, написанной известным
«тандемом» — Роулендом Эвансом и Робертом Новаком,
следует остановиться подробнее. Авторы
процитировали «секретное» письмо бывшего тогда
госсекретарем Александра Хейга и Чарльза Уика
президенту Рейгану, в котором они просили о срочном
допинге в 15—20 млн. долларов «для усиления
подающих сигналов и найма дополнительных
сотрудников польской секции РСЕ», а под сурдинку... еще
280 млн. долларов на сооружение более мощных
передатчиков.
Задержку с выделением дополнительных
средств авторы назвали «еще одним печальным
примером того, как медленно демократическое
правительство реагирует на внезапно возникающие
кризисные ситуации». Ведь, какие-то 20 млн.
долларов, убеждали они, всего лишь незначительная
часть стоимости одного бомбардировщика В-1
(250 млн.), а эффект диверсионных передач на
Польшу оценивался ими намного выше — «не
меньше, чем от всех В-1».
58
Авторы напомнили Рейгану, что в ходе
предвыборной кампании он нападал на Джимми Картера
именно за то, что тот держит РС — РСЕ на
голодном пайке, и обещал с приходом в Белый дом «в
корне изменить столь прискорбное положение
вещей».
Вся эта инсценированная «буря» потребовалась
для выполнения новых директив ЦРУ, названных
«творческими разработками». Шпионско-диверси-
онное ведомство Уильяма Кейси предписывало
тогда «Свободной Европе» действовать на таких
направлениях:
— раскол ПОРП и дискредитация
партийно-государственного аппарата ПНР;
— противопоставление Польши другим
социалистическим странам;
— продолжение кампании клеветы на
Советский Союз и международные союзы Польши;
— разжигание среди поляков антирусских и
антисоветских настроений.
Это означало продолжение массированного
злонамеренного вмешательства во внутренние дела
суверенного государства. Разумеется, что
«Свободная Европа» прилагала все усилия для выполнения
полученных инструкций.
В январе 1982 года, будучи в Варшаве, я
включил приемник. Передавался концерт известной
эстрадной певицы Ирены Сантор, ее великолепные
песенки о Варшаве. Но стоило чуть повернуть
верньер, как я услышал поданную под «польским
соусом» инструкцию по организации подпольного
сопротивления властям. Очередной «документ»,
сочиненный в мюнхенских недрах РСЕ — ЦРУ,
преподносился как полученный из Польши.
Наутро в самых авторитетных кругах мне
сказали, что состоящая из 15 пунктов провокационная
программа создания в Польше «подпольного
государства» кое-где начала распространяться в
виде отрывочных выдержек, записанных в ходе
передачи и размноженных в примитивных
самодельных листовках. Но через несколько дней в одной
из раскрытых во Вроцлаве подпольных типографий
был обнаружен уже полный текст инструкции,
переданной РСЕ, записанный на магнитофоне.
Этот метод — выдача сфабрикованных материа-
59
лов за доставленные из Польши — широко
используется не только «Свободной Европой», но и в
эмигрантских изданиях. Он занял одно из главных
мест в пропагандистском арсенале Запада. Через
несколько дней в свободную минуту я вновь
«бродил в эфире». На этот раз уже Би-би-си сообщала,
что по сведениям, полученным из Польши от
запрещенной «Солидарности» (!), военные власти
стремятся превратить страну в огромный трудовой
лагерь, что в Польше царят страх и неуверенность.
Затем диктор привел выдержки из «нелегальных
бюллетеней», выпускаемых той же
«Солидарностью», и дал полный отчет о приключениях
фоторепортера «Дейли экспресс» Ива Вуда, который
«проник» в Польшу на грузовике. Ему удалось
сфотографировать большую очередь в магазин и
безлюдную заправочную станцию, где владельцам
частных машин в условиях военного времени не
продают бензин. Затем диктор преподнес несколько
«трогательных» эпизодов, оскорбляющих
достоинство поляков.
«Почти каждая фраза, произнесенная перед
микрофонами РСЕ,— писала «Трибуна люду»,—
результат муравьиной работы сотен анкетистов,
социологов, политологов, психологов, не говоря о
рафинированных специалистах разведки в области
«черной» пропаганды».
С этим нельзя не согласиться, но следует
отметить, что, несмотря на титанические усилия по
отравлению общественного сознания целого народа,
польской секции РСЕ редко удавалось сочинить
что-либо без примеси неуклюжей диверсионной
серости
Один из привычных рецептов — передача
любых, самых фантастических инсинуаций со ссылкой
на «надежные источники, которые не могут быть
раскрыты». Так в Польше «появились» солдаты, не
говорящие по-польски, то есть советские, но
переодетые в польские мундиры, которые якобы были
заранее посланы в Советский Союз. Эту
сумасбродную версию немедленно поддержал
посол-дезертир 3. Рураж.
Затем наживку проглотил и модифицировал
министр обороны США Каспар Уайнбергер, повторяя
с упорством говорящей птицы, что Польшей руко-
60
водит «русский генерал в польском мундире».
Пущенная им безответственная утка так понравилась
министру, что он начал утверждать, будто бы так
считают «многие американцы».
Плодом болезненной фантазии РСЕ было
создание некоего мифического «генерала Вера»,
который командует «польской подпольной
национальной армией» и часто подписывается под
различными листовками и обращениями. Было ясно, что
идейка эта подброшена из «Голливуда на
Потомаке», как называют порой в США современный
Вашингтон. Никакого Вера не было и в помине.
Лопнул этот мыльный пузырь, и центральное
место в передачах РСЕ заняли сцены, достойные
«фильма ужасов», о трагической судьбе и
жестоком обращении с интернированными
оппозиционерами, причем их количество из 5906 превратилось
в 75 000. Через некоторое время большинство из
действительно интернированных были освобождены
и явились на всеобщее обозрение, разве что
несколько располневшими.
Шеф польской секции РСЕ Найдер и его
хозяева разработали план синхронизации передач на
Польшу «Свободной Европы» с «Голосом
Америки», Би-би-си, «Немецкой волной» и «Радио Франс-
интернасьональ». При «Голосе Америки» создан
специальный отдел, контролирующий РС — РСЕ,
который возглавил Фрэнк Шекспир. Цель этого
маневра — перебрасывая, словно мячик, одну и ту
же фальшивую информацию с одной
радиостанции на другую, создавать у слушателей иллюзию
достоверности. Все «согласованные»
информационные программы были призваны инспирировать
подрывные действия контрреволюции внутри Польши.
Началась активная работа по превращению
польской секции РСЕ в главный политический центр
польской эмиграции. В Париже Найдер вел
переговоры с Ежи Гедройцем о разделе ее на «сферы
влияния». Под свое крыло «центр РСЕ» был готов
принять эмигрантские круги в ФРГ, Швеции,
Австрии, Бельгии, Голландии, Люксембурге и журнал
«Контакт», издаваемый в Париже группой недавно
осевших там эмигрантов во главе с Мирославом
Хоецким.
Отрабатывались каналы для нелегальной пере-
61
правки материалов, сфабрикованных в недрах
«Свободной Европы», по маршруту Запад —
Польша— Запад. Главной «перевалочной базой»
служило, как известно, посольство США в Варшаве. Из
него фальшивки и инструкции, разработанные
исследовательским отделом польской секции РСЕ,
рассылались по почтовым ящикам и подставным
адресам польским оппозиционерам и западным
корреспондентам, аккредитованным в Польше.
Журналистов призывали использовать эту
пропагандистскую стряпню, выдавая ее за информацию,
полученную на месте, и распространять через органы
массовой информации, которые они представляют.
Были сделаны попытки к созданию в Польше
законспирированной сети информаторов и
корреспондентов РСЕ, а также к организации нелегальных
«клубов РСЕ» среди студентов и старшеклассников.
В мае 1982 года по польскому телевидению был
показан двухсерийный документальный фильм «Их
называют павианами» о польской секции РСЕ. В нем
разведчик Мирослав Лях, работавший, как в свое
время Анджей Чехович, по специальному заданию
на мюнхенской радиостанции, раскрыл перед
зрителями приемы деятельности «Свободной Европы»
и ее связи с американскими хозяевами. К тому
времени в картотеке РСЕ были собраны досье на
62 тысячи поляков.
Одна за другой проваливались
прессинг-кампании РСЕ, целью которых было вызвать
«спонтанные» беспорядки и уличные демонстрации. С
момента введения военного положения из Мюнхена
передавались одни и те же призывы к полякам.
Рабочим рекомендовалось трудиться спустя
рукава, симулировать, участвовать в саботаже,
подделывать или красть продовольственные карточки;
крестьянам — прятать зерно и продукты;
солдатам— не выполнять свой воинский долг;
молодежи— учиться конспирации. Своего рода рекорд
был установлен 10 ноября 1982 года, когда в
течение одного дня сто раз повторялся призыв к
населению участвовать в антигосударственных
демонстрациях. Результат оказался жалким. И еще один
пример: перед первомайским праздником 1983
года раздались призывы к проведению
контрдемонстраций, и вот что получилось. В праздничных ше-
62
ствиях прошли 6,5 миллиона трудящихся, а в
анархических контрколоннах по всей стране собралось
около 40 тысяч хулиганствующих элементов,
пытавшихся вызвать беспорядки. Во что это обошлось
фирме Бакли — Найдер, можно узнать только из
бухгалтерских книг РС — РСЕ и ЦРУ. В 1984 году
соотношение было еще показательнее — 8,2
миллиона демонстрантов и 8 тысяч хулиганов.
Одно время потерю «польского» времени РСЕ
з эфире было решено компенсировать
организацией подпольных радиоцентров в самой Польше.
Нелегальная «Радиостанция «Солидарность» впервые
вышла в эфир с 8-минутной передачей в
ультракоротковолновом диапазоне 12 апреля 1982 года.
Шеф подпольного радио Збигнев Ромашевский —
один из основателей КОРа и функционеров
«Солидарности» — представился случайным слушателем
и передал микрофон своей жене — Ирене.
Расписанная на два голоса подстрекательская передача,
в которой утверждалось, в частности, что «^ь\
живем в стране, в которой идет война», была точной
копией набивших оскомину сообщений РСЕ. Связь
между двумя «рупорами» была очевидной: ровно
через 50 минут «Свободная Европа» подробно
изложила содержание передачи своего «подголоска».
Прожекты создания нелегальной радиостанции
относятся еще к концу 70-х годов. Они родились в
КОС — КОРе, но не вышли из стадии разговоров.
Это был один из «пунктиков» Ромашевского. Он
вернулся к ним после возникновения
«Солидарности». В июле и августе 1981 года началось
накопление узлов и деталей для будущей станции,
которой отводилась особая роль в «битве за средства
массовой информации». Одним из подтверждений
этого было то, что в ноябре вожак варшавской
«Солидарности» Збигнев Буяк во время поездки в
ФРГ выпросил у боссов правых профсоюзов
оборудование для радиостанции и телестудии.
За полтора месяца до выхода в эфир
«подголоска» РСЕ Ромашевский получил необходимую
рекламу. С ним связался корреспондент Си-би-эс
в Варшаве Б. Куинт. В своем репортаже
американец сообщил, что один из «идеологов подполья»
счастливо избежал ареста и скрывается в Варшаве.
Через «связных» ему был передан вопросник Си-
63
би-эс. В своих ответах Ромашевский поспешил
сообщить за океан, что в Польше все более
популярным становится призыв «Зима ваша — весна
наша!». (Как известно, этот лозунг был услужливо
подброшен подполью той же «Свободной
Европой».) Кроме того, до Ромашевского «дошли
слухи», что некоторые жители собираются к весне
уходить в леса, «чтобы начать партизанскую борьбу».
Одним словом, Б. Куинт выполнил задачу.
После выхода в эфир нелегального
передатчика на Ромашевского обратили внимание военная
прокуратура и служба безопасности. Вскоре был
обнаружен сборщик передатчиков — инженер К.
За сборку каждого ему платили по 50 тыс. злотых,
и он обещал собирать их не менее десяти в месяц.
Большинство деталей можно было купить в
обычных магазинах, кроме генераторов. Здесь вновь
помогли «друзья с Запада». Они сообщили, в каких
«благотворительных» посылках из западных стран
будут присланы нужные агрегаты.
Передачи велись из квартир, расположенных на
верхних этажах высотных зданий, или с чердаков.
Однажды милиция задержала на улице двух
молодых людей, переносящих рацию. Конспиративный
клубок начал раскручиваться. 2 июля 1982 года
очередной визит в Варшаву нанес бельгийский
гражданин Роже Ноэль, который назвал себя
анархистом и основателем организации «Свободу
радиоволнам». Дорожку к Ромашевским он нашел
через свою знакомую, которая занималась
распределением «даров», присылаемых с Запада, в
костеле св. Мартина. «Даром» Ноэля на этот раз
была портативная рация УКВ, вмонтированная в
медицинский прибор — аппарат для измерения
содержания кислорода в крови.
Поздним вечером 5 июля связная привела
бельгийца в «дежурную квартиру» Ромашевских, где
они отмечали какую-то семейную дату. На это
торжество без приглашения пришли оперативные
работники милиции, а вскоре пожаловал и Ноэль.
Воспользовавшись замешательством, Збигнев
Ромашевский сбежал, но ненадолго.
В марте 1983 года министр внутренних дел
ПНР, генерал дивизии Чеслав Кищак доложил
сейму, что в течение 15 месяцев были ликвидированы
64
радиостудия бывшей «Солидарности» в Гданьске,
12 нелегальных радиостанций в других городах и
производственная база радиооборудования в
Варшаве.
После ликвидации «фирмы» Ромашевского
отмечены отдельные рецидивы выхода в эфир
нелегальных, главным образом автоматических,
передатчиков. Подполье пыталось напомнить этим о
своем существовании.
Подведем некоторые итоги. По-прежнему
«Голос Америки», его филиалы, которые являются
рупорами Центрального разведывательного
управления США, попирая все международные
договоренности в области массовой информации, в том
числе положения Заключительного акта,
подписанного в Хельсинки, ведут «психологическую войну»
против стран социализма, выделяя при этом для
Польши особое место. Испытаны, кажется, все
методы непрерывной идеологической обработки
польского населения. Однако все чаще и чаще
тщательно подготовленные передачи производят
впечатление халтурного провинциального спектакля,
в котором голос заокеанского суфлера слышен
всей аудитории раньше, чем монологи и реплики
исполнителей. А таким передачам большинство
слушателей просто не верит.
Безусловно, есть в Польше люди, которые
охотно слушают все, что идет с Запада, и верят в это
лишь потому, что хотят верить. Но и они не могут
не видеть позитивные процессы, происходящие в
стране. Если эти люди проигрывают от
стабилизации, то проигрывают вместе с Западом,
потерпевшим серьезное поражение в идеологическом
наступлении на Польшу.
Водопад сообщений посылают в эфир 111
передатчиков «Голоса Америки». Передачи ведутся
почти 1000 часов в неделю. Столько же времени
отравляют эфир «Свобода» и «Свободная Европа».
Таков сегодня радиоарсенал ЮСИА. «Рейган
развивает наступление с целью завоевать мировое
общественное мнение»,— утверждает пресса. Радио
в этом наступлении призвано играть ведущую роль.
Поэтому ведется техническая модернизация
передающих и ретрансляционных станций «Голоса Аме-
1/гЗ Заказ 152
65
рики», в которую за пять лет будет вложено 1,5
миллиарда долларов.
В эфире очередная сенсация. В предрассветный
час таможенники аэропорта им. Дж. Кеннеди в
Нью-Йорке арестовали частный самолет. В него
загружалось оружие и снаряжение для
полицейских операций, включая электронную аппаратуру
«из арсенала Джеймса Бонда». Как утверждали
«голоса», таинственный груз должен быть якобы
доставлен в Варшаву и продан за 1 млн. долларов
«должностным лицам польского правительства».
Еще одна грубая провокация, направленная на то,
чтобы гальванизировать так называемый «польский
вопрос». Так расценила фальшивку официальная
Варшава.
Впрочем, качество звучания «Голоса Америки»
и других инструментов из радиооркестра под
управлением Чарльза Уика заслужило
соответствующую репутацию. Вполне логично и
закономерно, что во время зимней Олимпиады-84
Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в
аккредитации на Играх 11 корреспондентам
«Свободы» и «Свободной Европы», явившимся в Сараево.
В ответ немедленно последовало специальное
заявление госдепартамента США. В нем МОК
упрекается в несправедливости к «американским
радиовещательным организациям, которые известны
своими выдающимися достижениями в
объективном освещении текущих событий для широкой
аудитории радиослушателей». Надо думать, что
бумага покраснела от таких комплиментов.
Однако ведомство Дж. Шульца всерьез пыталось
убедить, что решение МОК «ограничивает свободный
поток информации и представляет собой
нежелательную политизацию олимпийского движения».
Госдепартамент (вместе с ЮСИА и ЦРУ)
рассчитывал, вероятно, что команда радиодиверсантов,
посланная в Сараево, внесет в Олимпиаду
«желательную политизацию» с точки зрения США.
Даже в раболепно-тенденциозном докладе
общественных организаций США «О политике
администрации Рейгана в области прав человека»
отмечается, что «... «Голос Америки» подвергается
постоянно усиливающемуся нажиму, принуждающему
радиостанцию заниматься «привлекательной упа-
66
ковкой», а не точным и объективным освещением
событий. Что касается РС — РСЕ, то авторы
доклада вынуждены признать, что их программы
зачастую монополизируются комментаторами с
монархическими и даже фашистскими тенденциями».
Мне подумалось, что самое время для «Голоса
Америки» и «Свободной Европы» использовать как
позывные сигналы первые такты известной арии
дона Базилио из оперы Дж. Россини «Севильский
цирюльник», называемой «Клевета». Она живо и
непосредственно изображает весь процесс
изготовления названными радиостанциями
пропагандистских «бомб».
Но именно в это время Рональд Рейган (и не в
первый раз) патетически заявил: «Голос Америки»
всегда был голосом правды!», а РС — РСЕ назвал
«мощными силами добра». Позволим себе не
поверить президенту США и напомнить, в свою
очередь, высказывание вашингтонского политолога
Марка Грина: «Рейган настолько уважает правду,
что пользуется ею крайне редко»,
Польские часы
и американская «кукушка»
Все, конечно, знают часы с «кукушкой»:
открываются в них створки окошка и рукотворная птица
провозглашает, который час наступил. В природе
кукушка (СисиПдае) известна тем, что
подкидывает свои яйца в чужие гнезда.
С определенного момента президент США
Рональд Рейган с завидной регулярностью (примерно
раз в месяц) публично высказывался о положении
в Польше, напоминая американскую кукушку на
польских часах. При этом президент не фиксировал
неподвластное ему время. Он высокомерно
поучал, как должно вести себя польское
правительство в его, рейгановском, понимании. Он щелкал
кнутом «санкций», а в другой руке держал пряник
«благотворительности», обещая его в том случае,
если поляки «одумаются» и вернут страну к состоя-
7*3*
67
нию, к которому при немалом участии Запада она
пришла к декабрю 1981 года — к Радому и
Гданьску, к разгулу анархии, к кануну Варфоломеевской
ночи, к кулуарному распределению министерских
портфелей между экстремистами «Солидарности»,
которая, как мы убедились, вылупилась из яйца,
подкинутого в польское гнездо «кукушкой»,
именуемой ЦРУ.
Точнее говоря, таких гнезд было несколько.
Напомним, что в 1976 году в одном из них с
криками «кос-кор» замахали крыльями особенно
жадные и горластые птенцы. Три года спустя в черном
лакированном сапоге вылупились голенастые
«конфедераты». В гнезде, свитом на колокольне
костела, еще раньше раздавался писк «кик»1. Птенцы
подросли и гибридизировались в предводителей,
советников, экспертов и функционеров упомянутой
«Солидарности», в руководителей проектируемых
партий, уний и союзов.
С августа 1980 года, несмотря на разгар в США
предвыборной кампании, в Вашингтоне с
неустанным вниманием следили за развитием польских
событий. При сохранении видимости нормальных
отношений с правительством ПНР началась
переориентация американской политики на поддержку
появившейся на свет «Солидарности» и всех
антисоциалистических группировок.
В конце августа 104 конгрессмена обратились
к Джимми Картеру с призывом помочь польскому
народу сбросить «кандалы коммунистической
неволи». Через несколько дней председатель
профсоюзов АФТ — КПП2 Лейн Керкленд объявил о сборе
средств в фонд помощи польским рабочим.
(Забегая вперед, отметим, что контролируемые ЦРУ
профсоюзы АФТ — КПП передали «Солидарности»
3,3 млн. долларов и огромное количество техники
и материалов для ведения антиправительственной
пропаганды).
Почти в каждом из предвыборных выступлений
Картер касался положения в Польше. Он принял
1 КИК — клубы католической интеллигенции.
2 Американская федерация труда — конгресс
производственны* профсоюзов — крайне правое реакционное
объединение, в которое входят 96 профсоюзов, 13,6 млн. человек.
68
в Белом доме отчима Леха Валенсы — Станислава
Валенсу, жившего в США, встречался с
представителями американской полонии1 и был постоянно
информирован о тайном вмешательстве в польские
дела.
По ^лере нарастания анархии в Польше росли и
американские авансы. 12 сентября Картер
предоставил гарантии на кредиты в сумме 670 млн.
долларов на закупку Польшей сельскохозяйственной
продукции. Бывший тогда госсекретарем Эдмунд
Маски и ряд конгрессменов (также польского
происхождения) Дэн Ростенковский, Клемент Заблоц-
кий, Эдвард Дервинский и другие выступали за
предоставление Польше займа в 3 млрд. долларов
для «преодоления экономических трудностей».
Сенат высказался за оказание Польше
дополнительной продовольственной помощи. (Заметим, что
почти все эти обещания остались на бумаге, но
своими посулами конгрессмены стремились
продемонстрировать доброжелательность к
антисоциалистическим кругам в Польше.)
Одновременно президент и члены
администрации начали запугивать поляков и мировую
общественность опасностью «вмешательства» в польские
дела Советского Союза и других стран
Варшавского Договора.
Движущей пружиной заговора против Польши
оставался Збигнев Бжезинский, с которым читатель
знаком.
Детство Збигнева Казимежа Бжезинского, рог
дившегося в Варшаве в марте 1928 года, было
безоблачным. Рос он в семье дипломата и с ранних
лет был подвержен разве что мании величия. Он
постоянно заявлял, что, когда вырастет, будет не
летчиком, не моряком, не владельцем карусели и
даже не генералом, а... королем Польши. Когда
кандидату на королевский трон исполнилось 10 лет,
он благополучно отплыл с родителями в Канаду и
поселился в Монреале. Его отец был назначен
генеральным консулом Польши.
Там он подрос, поступил в университет Макгилл,
а продолжил образование в Гарвардском универ-
1 Словом «полония» называют в Польше поляков,
живущих в других странах,
69
ситете. В 1949 году, когда в Польше уже
произошли необратимые перемены, Збигнев стал
гражданином Соединенных Штатов. Получив диплом
доктора философии, американец польского
происхождения Збигнев Бжезинский, или Збиг, как
его называли в своем кругу, принялся изучать
«советский мир». Занимался он этим в Русском
исследовательском институте и в Центре
международных отношений Гарвардского университета (1953—
1960), а затем в Колумбийском университете, где
стал директором Исследовательского института по
проблемам коммунизма (1960—1976).
В то время по инициативе Бжезинского и под
эгидой ЦРУ в США создается еще один
координационный центр — Североамериканский институт по
изучению польских проблем (1975), которому была
поручена массированная операция по разжиганию
антисоциалистической деятельности на территории
Польши.
Правда, в «научной деятельности» Бжезинского
были перерывы. В 1964 году он дебютировал в
политике: в кампании по избранию в президенты Лин-
дона Джонсона. В 1967 году был советником вице-
президента Губерта Хэмфри, а с 1973 года
руководил работой «Трехсторонней комиссии» и
одновременно стал политическим консультантом
будущего президента Джимми Картера.
Все эти годы ни научная, ни политическая
деятельность не отвлекала внимания Збига от Польши.
В 70-х годах Бжезинский настойчиво предлагает
Западу дифференцированный подход в «наведении
мостов» к социалистическим странам, уделяя при
этом особое внимание Югославии, Румынии и,
конечно же, Польше. Он утверждал, что ни одна из
стран Восточной Европы не стоит ближе к США,
чем Польша, и ни один народ не настроен так
проамерикански, как поляки.
Будущее Польши до конца столетия по его
сценарию представлялось в четырех альтернативных
вариантах. Первый (назовем его
ностальгический)—это возврат развития Польши к модели до
1939 года. Сладкие воспоминания детства, когда
десятилетний отпрыск аристократической фамилии
мечтал стать польским королем. Мечты Збыш-
ча еще гнездились в тайниках его души. Он
70
убеждал, что эта идея — реставрация буферной
буржуазно-помещичьей Польши «все еще дорога
многим». Такое «состояние полной независимости»
нашло к концу десятилетия отражение в программе
«конфедератов».
Когда же «теоретик» опускался с небес на
землю и начинал мыслить более реальными
категориями, он допускал и второй вариант: «состояние
относительной независимости». Что это означало?
Польша, к сожалению, будет более тесно связана
с другими странами Восточной Европы, но
одновременно будет укреплять и контакты с Западом.
В политическом и идеологическом отношении она
не будет «так зависеть от соседней державы».
Третий вариант назван Бжезинским
«продолжающейся зависимостью», иными словами,
сохранением положения, при котором Польша находится
«под сильным идеологическим, политическим и
даже культурным влиянием извне». Обращает
внимание, что до четвертого варианта —
«возможность поглощения Советским Союзом» — он не
называет прямо нашу страну, словно и без этого не
ясна четко выраженная антисоветская и
антисоциалистическая направленность всех четырех
вариантов.
После победы на президентских выборах 1976
года, вслед за своим патроном Картером, Збигнев
Бжезинский поднялся на командный мостик
американской политики и в 1977 году был назначен на
пост помощника президента по национальной
безопасности, который и занимал до конца
правления 39-го президента США.
Вместе с Джимми Картером в 1977 году
Збигнев буквально на несколько часов появлялся в
Варшаве, чтобы лично взглянуть на полигон для
испытания «достаточно эластичной и широкой
политики Запада», в которой особое внимание
уделялось «внешнему содействию эволюции от
социализма в Польше».
Если отбросить весь наукообразный камуфляж,
речь шла о вмешательстве во внутренние дела
суверенного государства, перенесении деятельности
оппозиции на его территорию, наведении мостов
между диссидентами и диверсионными центрами,
создании в Польше «пятой колонны»,
71
Один из моих польских знакомых, видевший
Бжезинского в Варшаве, сказал: «Враг, конечно,
но ведь все-таки поляк!» Так думал не только он.
В Вашингтоне Бжезинский встречался в те годы с
десятками людей, приезжавших из Польши —
журналистами, писателями, учеными, политическими
деятелями. Одних он пытался обратить в свою
веру, других — заразить «бациллами плюрализма» и
усыпить бдительность третьих.
Процесс разрядки, расширение экономических
связей Польши с Западом также умело и коварно
использовались империалистическими центрами для
дестабилизации экономики и заманивания Польши
в финансовые капканы, а впоследствии в долговую
яму. Еще в 1972 году в странах НАТО был
разработан план под кодовым названием «Хилекс-5»,
предусматривающий комплекс мероприятий
финансово-экономического характера, направленный на
то, чтобы поставить Польшу в экономическую
зависимость от Запада и использовать финансовые
рычаги для политического давления на польское
руководство.
Если взглянуть на ряд поступков Бжезинского
в годы его пребывания на посту помощника
Картера, то,они выходят далеко за пределы
общепринятых норм поведения ответственного
государственного деятеля.
Он, например, стал «героем» фотографии,
которая могла бы претендовать на международный
приз. В январе 1980 года Бжезинский охотно
позировал репортерам на пакистанском пограничном
посту, нацелив ручной пулемет в сторону
Афганистана. В апреле того же года он печально
прославился как один из авторов и режиссеров
диверсионного «шоу» в иранской пустыне Кевир под
кодовым названием «Блю лайт». Операция по спасению
и вывозу из Ирана американских заложников,
задуманная доктором философии, окончилась, как
известно, полным провалом.
Через два года Бжезинский писал: «Нет нужды
говорить о том, что этот провал был для меня
самым большим разочарованием за все четыре года
пребывания в Белом доме». Но тут же заявил, что
у него никогда не было ни политических, ни
нравственных сожалений пр поводу этой операции,
72
Можно лишь констатировать, что операция «Блю
лайт», где в полной мере обнажилась склонность
ее автора к авантюризму, стала определенным
этапом в возведении терроризма в ранг
государственной политики США.
В годы правления Рейгана фигура Бжезинского
продолжала возникать на политическом горизонте,
особенно в те моменты, когда администрация
Вашингтона затевала очередные антипольские акции.
Нельзя не обратить внимания еще на одну
фигуру, действующую в связке с Бжезинским. Это —
Ричард Пайпс.
Сын варшавского портного не унаследовал
родительской профессии. Одно обстоятельство
сделало его фаталистом. Когда началась война и
никого из Пайпсов не было дома, в кроватке Риччи
оказался неразорвавшийся снаряд. Вскоре вместе
с родителями 15-летнему Пайпсу-младшему
удалось бежать за океан из оккупированной
гитлеровцами Варшавы и обосноваться в США. Пройти
еврейской семье через всю Европу было нелегким
делом, требующим мужества, осторожности,
находчивости и способности к мимикрии. После такой
удачи юный Пайпс окончательно уверовал в свою
счастливую звезду: ведь снаряды не падают в
одну точку!
Ричард Пайпс окончил Гарвардский университет
и довольно скоро стал «профессором
советологии». В годы «холодной» войны это было модно.
В наши дни, чтобы продлить моду, Пайпс
заявляет, что «холодная» война никогда не кончалась. Он
быстро набил руку на фальсификации истории и
махровом антикоммунизме, фаршируя свои
«труды» подтасованными цитатами и обволакивая их
квазинаучной терминологией. Своей озлобленной
беспринципностью Пайпс обратил на себя
благосклонное внимание руководителей США и получил
прозвище «счастливчик Риччи».
Как один из создателей мифа о советской
угрозе, Пайпс открыл для себя путь наверх. В 1976
году по заданию тогдашнего шефа ЦРУ Дж. Буша он
участвовал в разработке «восточной» политики
США. По заключению дипломатов из
госдепартамента, предложенный им вариант отличался
«самыми грязными взглядами на Советский Союз и при-
73
зывами к ядерной войне». (Риччи уверен, что если
в его постель упадет ядерная бомба, то наверняка
не взорвется.)
В ходе первой выборной кампании Рональда
Рейгана Пайпс проявил особое усердие, оснащая
речи будущего президента антикоммунистической
риторикой. Он мечтал заполучить пост, который в
прежних администрациях занимали Генри
Киссинджер и Збигнев Бжезинский. Однако стать за
президентским креслом ему не удалось.
Тогда Пайпс решил возглавить придуманный им
самим «специальный отдел коммунистических
стран при госдепартаменте». Но и это его
предложение было провалено. И отнюдь не из-за
одиозных политических взглядов. Госдепартамент
настораживали такие личные качества Пайпса, как
раздутое самомнение и безответственная болтливость.
Пришлось ему умерить честолюбивые аппетиты
и удовлетвориться отведенной ему ролью
главного эксперта Белого дома по вопросам,
касающимся СССР и особенно Польши. Он приложил
немалые усилия к разработке блокадных
экономических санкций и идеологических диверсий,
направленных против страны, в которой появился на свет
божий. Он, в частности, приложил руку к разрыву
научных контактов США с Польшей.
Пайпс то и дело предлагает использовать
атомный шантаж как средство давления на
социалистические страны. Причем в форме ультиматума.
«Советские лидеры должны будут выбирать — или
менять свою коммунистическую систему, или вступать
в войну. Альтернативы у них нет»,— заявил он в
интервью агентству Рейтер. Воинственный
«советолог» призывает администрацию США к атомному
«довооружению», а американских граждан к
храбрости. «Сильный не должен бояться, пусть
устрашится тот, кто слаб»,— вещает Пайпс, ссылаясь при
этом на такие авторитеты, как Клаузевиц и
Бисмарк, которые, «говоря о мире, готовили
войны». Таков диапазон деятельности «счастливчика
Риччи».
К моменту прихода Рейгана в Белый дом
«польский сценарий» был отработан в нескольких
вариантах, кадры подготовлены и начали действовать,
своевременно передвигались нужные экономичен
74
ские рычаги. Команде Рейгана оставалось принять
эстафету.
1981-й стал самым трудным годом в истории
Польской Народной Республики. С каждым днем
страна все глубже и глубже погружалась в пучину
экономического и политического кризиса. За
океаном и в ряде европейских столиц не могли
нарадоваться тому, как точно и ловко осуществляется
«польский сценарий» в его наиболее
благоприятном для Запада варианте — «чем хуже, тем лучше».
В стране начался забастовочный террор, причем
«спонтанные» забастовки и уличные беспорядки
вспыхивали там, где было предусмотрено
сценарием. Страна наводнилась нелегальными изданиями,
листовками, плакатами, прокламациями. Партийные
комитеты начали выживаться с промышленных
предприятий. Боевики «Солидарности» железными
палками наводили свой «порядок» там, где
события развивались не по сценарию контрреволюции.
Дважды — в апреле и июне — Польшу посетил
личный эмиссар Рейгана
конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Эдвард Дервинский. В
Белый дом он привозил утешительные известия. На
пресс-конференции, устроенной в Вашингтоне, он,
в частности, заявил, что руководители
«Солидарности», в том числе Лех Валенса, рассматривают
профобъединение «не только в качестве
профсоюза... Они заинтересованы в целях, далеко
выходящих за рамки профсоюзного движения».
«Польша является католической западной
страной,— утверждал далее конгрессмен,— что
осложняет задачу коммунистов по насаждению угодной
им структуры. В Польше коммунизм никогда не
имел глубоких корней. Происходящее здесь
свидетельствует об отвержении коммунизма».
В Вашингтоне с удовлетворением потирали
руки, подбрасывая время от времени порции
горючего в польский костер. «Польский котелок
должен не только кипеть, но и выкипеть»,— говорили
в окружении Рейгана. Конгрессмен Глен Андерсон
заявил: революция (!) польских рабочих недолго
будет удерживаться в границах Польши.
Госсекретарь Хейг, выступая по телевидению, утверждал,
что события в Польше образовали брешь в
советском доминировании в Восточной Европе.
75
В августе 1981 года конгресс США принял
резолюцию, которая явилась еще одним примером
вмешательства во внутренние дела Польши. Она
прозвучала в унисон с радиопередатчиками
рупоров ЦРУ. Подрывная акция палаты представителей
была направлена на активизацию
антисоциалистических сил в Польше в их антигосударственной
деятельности. Председатель комиссии конгресса по
иностранным делам К. Заблоцкий прямо заявил,
что США не останутся безразличными «к любым
мерам внутреннего подавления» в Польше.
Не оставалось сомнений в том, что
транспортные и другие беспорядки в Варшаве,
организованные через несколько дней руководителями
«Солидарности— Мазовше», имели прямую связь с
резолюцией конгресса. В комментарии агентства ПАП
с полным основанием утверждалось, что в
Вашингтоне заинтересованы польскими событиями «лишь
в той мере, в какой они служат интересам США».
Все это происходило в то время, когда у себя
дома Рейган с особой жестокостью расправлялся с
бастующими авиадиспетчерами.
Сотрудничество США с Польшей расценивалось
теперь Белым домом как сотрудничество с
антисоциалистическими силами, которые вот-вот придут
к власти. Поэтому в конце года было подписано
несколько межгосударственных соглашений по
научно-техническому сотрудничеству, воздушному
сообщению, сотрудничеству между академиями
наук (в США — Национальный научный фонд), велись
переговоры о продлении срока выплаты польских
долгов и предоставлении нового кредита на сумму
740 млн. долларов.
Введение 13 декабря 1981 года военного
положения в Польше оказалось для администрации
США ледяным душем. Ведь буквально накануне
тот же Хейг убеждал, что «ситуация в Польше
развивается в желаемом направлении». И вдруг оно
изменяется на 180 градусов! Еще не оправившись
от шока, Рейган начинает действовать.
17 декабря Рейган заявил на
пресс-конференции, что введение военного положения в Польше
было бы невозможно без инспирации и поддержки
Советского Союза. В тот же день произошло еще
два события. В Вашингтоне при госдепартаменте
76
была создана рабочая группа для постоянного
наблюдения и оценки ситуации в Польше, а в Чикаго
подожжено здание Генерального консульства ПНР.
18-го в Нью-Йорке был учрежден комитет помощи
«Солидарности», а 19-го к американцам прибежал
польский посол-изменник Ромуальд Спасовский, и
началась возня вокруг его персоны. Сам Рейган,
принимая желанного гостя в Белом доме, пролил
на глазах телезрителей первые крокодиловы слезы
за судьбу Польши.
Ускользающие надежды на «геополитический
выигрыш» и превращение Польши в бастион
антикоммунизма в центре Европы, горечь поражения
и бессилия толкали президента США на
импульсивные и безрассудные высказывания и поступки.
Близилось рождество. В обращении к
американскому народу Рейган обрушил громы и молнии на
польское правительство, приветствовал
«Солидарность» и всю оппозицию. Он призвал всех
последовать его, Рейгана, примеру и зажечь свечу —
«символ солидарности с польским народом». Но,
зажигая левой рукой фарисейскую свечку, в правую
руку Рейган схватил палицу, взятую из арсенала
«холодной» войны. В том же послании он объявил
об односторонних экономических санкциях против
Польши. Бросив тусклый коптящий отблеск на
последние дни уходящего года, «свеча Рейгана» стала
символом ханжества и лицемерия.
«Президент Рейган предпринимает
экономические санкции против Польши! Он предупреждает,
что намерен принять более жесткие меры против
Варшавы и Москвы»,— трубили американские
газеты.
Действительно, через несколько дней Рейган
заявил, что Советский Союз несет важную и
непосредственную ответственность за... репрессии в
Польше, и распространил часть своих санкций на
СССР. Его личный эмиссар Лоуренс Иглбергер
срочно вылетел в европейские столицы, чтобы
принудить союзников принять участие в экономической
блокаде Польши и санкциях против Москвы.
Однако посланец Белого дома не привез с собой ни
малейшего доказательства советского
вмешательства в польские дела, кроме голословного и
бредового утверждения Рейгана, будто бы приказ о
77
введении в Польше военного положения «был
отпечатан в Москве еще в сентябре».
Вслед за своим шефом почти каждый из
членов его «команды» счел своим долгом
высказаться о ситуации, сложившейся в Польше, в той же
тональности. Александр Хейг потребовал, чтобы
«политический эксперимент в Польше мог
беспрепятственно развиваться». Тогдашний глава
Агентства США по вооружению и контролю над
разоружением Юджин Ростоу заявил, что «советское
вмешательство в Польше требует очень серьезного,
далеко идущего ответа со стороны Соединенных
Штатов и их союзников».
Тем не менее миссия Иглбергера не принесла
ожидаемого. «Во время его пребывания в Европе
он встретил вежливый, но прохладный прием. ФРГ
наотрез отказалась применить какие-либо санкции,
другие западноевропейские страны также не хотят
сотрудничать в этом вопросе с США»,— сообщала
американская компания Си-би-эс. Комментатор Би-
би-си пояснял: «Общий рынок» рассматривает
польскую проблематику как чисто европейское
дело, а американская администрация смотрит на
кризис в Польше в общем контексте глобального
антагонизма в отношении Советского Союза». В
результате неимоверных усилий Рейгану все же
удалось привлечь к частичному участию в антиполь-
ских санкциях шесть стран НАТО —
Великобританию, ФРГ, Данию, Норвегию, Италию, Голландию,—
а также Японию.
Наступил 1982 год. Польские часы продолжали
фиксировать безмерно трудное, напряженное, но
точное время. А на тех часах, откуда выскакивала
американская кукушка, начался насильственный
перевод стрелок. Каждый день кто-нибудь да
пытался вернуть стрелки и оторванные листки календаря
на минувшее 12 декабря.
В период с декабря 1981 по декабрь 1983 года
президент США в официальных заявлениях,
прокламациях, обращениях по радио и телевидению,
в интервью прессе 28 раз грубо вмешивался во
внутренние дела суверенной Польши. Старались не
отстать от него и другие представители первого
эшелона вашингтонской администрации:
госсекретари Александр Хейг и Джордж Шульц, вице-пре-
78
зидент Джордж Буш, министр обороны Каспар
Уайнбергер, зам. госсекретаря Лоуренс Иглбергер
и другие. Более 30 раз госдепартамент и конгресс
США за тот же период муссировали в разных
аспектах так называемый «польский вопрос».
Эта статистика взята мной из Белой книги,
изданной в Варшаве в апреле 1984 года. На титуле
значится: «Политика Соединенных Штатов в
отношении Польши в свете фактов и документов
(1981—1983)». Книгу подготовили к изданию два
польских института с привлечением
экспертов-экономистов. Ее первый тираж разошелся за
несколько дней. Факты, как известно, упрямая вещь.
Когда же эти факты систематизированы, выстроены,
подкреплены документами, от них никуда не уйти.
Вот почему американская и вся западная пресса
предпочли умолчать о книге-зеркале, отражающем
агрессивную антипольскую политику, проводимую
администрацией Вашингтона в последние годы.
Только «Вашингтон пост» сообщила в нескольких
словах о ее выходе.
Польские Институт международных отношений
и Институт исследования современных проблем
капитализма представили на страницах Белой книги
четкую картину антипольской деятельности
Рональда Рейгана и его команды, в ней отчетливо
прослеживается путь США к постепенному
«замораживанию» межгосударственных отношений двух стран
путем применения враждебных и
дискриминационных мер экономического и финансового
характера, а также пропагандистской диверсии,
развязанной против Польши.
По команде из ЦРУ призывы Рейгана
поддержали профсоюзы АФТ — КПП, «Конгресс
американской Полонии» и другие подконтрольные ЦРУ
организации, действовавшие ранее без афиш и
рекламы. Об этом прямо заявил председатель
Объединенного профсоюза рабочих автомобильной
промышленности США Дуглас Фрейзер: «Мы не
желаем, чтобы коммунистическая верхушка (в
Польше.— В. Н.) заявила: видите, это не действия
рабочих, это империалистический заговор. Поэтому все,
что мы предприняли, мы сделали без лишнего
шума».
Председатель профсоюза докеров Томас Гли-
79
сон приказал не обрабатывать в портах грузы,
предназначенные для Польши или прибывающие
оттуда. При этом и он зажег «свечу Рейгана»,
оговорив, что бойкот не распространяется на
благотворительные организации, которые захотят
отправить в Польшу медикаменты или продукты. Все
лицемерие этой оговорки становится ясным, если
вспомнить, что за весь 1981 год американские
«благотворители» отправили в Польшу 7700 тонн
груза, которого не хватило бы на загрузку одного
среднего судна.
30 января в Чикаго, где самая большая колония
выходцев из Польши, АФТ — КПП вместе с
«Конгрессом американской Полонии» во главе с Алои-
зием Мазевским созвали митинг по случаю
объявленного Рейганом «дня солидарности с польским
народом». В нем приняли участие Александр Хейг,
Ричард Пайпс, сенатор Чарльз Перси и
председатель АФТ — КПП Лейн Керкленд. В конце 1982
года подобная «манифестация» была проведена в
Вашингтоне. На этот раз «днём солидарности»
было объявлено 12 декабря.
В промежутке между публичными сборищами
Керкленд неоднократно выступал «от имени
профсоюзов» с требованиями «тотального эмбарго» на
любой экспорт из США и союзных стран в Польшу,
СССР и страны социалистического содружества.
В одном из выступлений он заявил, что его
профсоюзы будут и впредь поддерживать деятельность
бывшего руководства бывшей «Солидарности»,
направленную на изменение в Польше
существующего строя. Ему подпевал председатель профсоюза
швейников США Дэвид Дубинский, «Профсоюзам
нужен капитализм, как рыбе нужна вода»,—
утверждал этот профсоюзный босс, стало быть,
«Солидарность» не может существовать без
капитализма.
Администрация Рейгана со дня объявления ан-
типольских санкций не уставала повторять, что эти
меры предприняты против польского
правительства, а не против польского народа, к которому
Рейган и К0 испытывают чувства глубокой симпатии.
Вероятно, именно с этими чувствами президент
начал «куриную войну». Объектом первого удара
Рейган выбрал польских цыплят, прекратив постав-
80
ки кормов — сои и кукурузы — для 50 крупных
бройлерных фабрик, основанных на американской
технологии. Остановились мощности, в которые
было вложено 75 млрд. злотых, 13 тыс. человек были
вынуждены сменить работу. Производство
куриного мяса с 505 тыс. тонн в год упало до 170 тыс.
Рацион каждого поляка уменьшился на 9 кг мяса.
Запрет лова рыбы польскими судами в
американских водах лишил поляков почти половины
годового улова. Промысловые суда бездействовали.
Убытки оценивались в 260 млн. долларов.
Эти два, из целой цепочки, примера
убедительно показывают, против кого применены рейганов-
ские санкции. В одном из выступлений Войцех Яру-
зельский заметил, что можно победить польских
кур, но нельзя победить поляков. Победа Рейгана
в «бройлерной войне» оказалась эфемерной.
Польские крестьяне вырастили новые поколения
цыплят, хотя для этого понадобилось время.
Как только санкции были приведены в действие,
в Варшаве побывал сенатор-республиканец Лэрри
Пресслер, занимающийся программой
«Продовольствие для мира». По возвращении он сообщил, что
в Польше возникнет возможность гражданской
войны, если экономический хаос продлится
значительную часть зимы, а особенно в том случае, если он
продлится до марта и апреля. В Вашингтоне были
обрадованы таким прогнозом.
Тем временем на пропагандистском
направлении давние друзья Рейгана Чарльз Уик и Фрэнк Си-
натра заканчивали подготовку телевизионного
супершоу «Чтобы Польша была Польшей». Об
одиозной фигуре директора ЮСИА Ч. Уика — одного
из главных инспираторов идеологических
диверсий— мы уже говорили. Что касается известного
в прошлом певца и киноактера Фрэнка Синатры,
то он интересен как типичный представитель
близкого окружения американского президента.
Прежде чем сойти с эстрады и экрана,
Фрэнсис Альберт Синатра основательно занялся
бизнесом и политикой. Как писал итальянский журнал
«Эуропео», ныне он контролирует двенадцать
корпораций, а также банк, кинофирму, радиостанцию
и игорный дом. Лицензию на содержание
игорного дома в Лас-Вегасе, аннулированную в свое вре-
4 Заказ 152
81
мя из-за связей Фрэнка с мафией, ему вернул
Рейган. Во время первой выборной кампании Си-
натра собрал в его фонд 20 млн. долларов, а
после победы руководил церемонией вступления
Рейгана на пост президента. Старина Фрэнк не
церемонится с другом Ронни. «Рональд прекрасно
знает правила шоу-бизнеса. Если ставят хорошие
фильмы, то становятся великими актерами, если ставят
плохие фильмы, то становятся президентами»,—
сострил он однажды, и Рейган первым посмеялся над
«добродушной» шуткой старого друга, которому
он столь многим обязан.
«Эуропео» раскрывает тесные связи
мультимиллионера Синатры с мафией на протяжении всей
его карьеры. «Я никогда не задавал себе вопроса,
гангстеры они или не гангстеры,— оправдывался
Синатра.— Они были поклонниками моего таланта,
а я не требую от моих поклонников анкетных
данных». На самом деле его связи с мафией были
гораздо глубже. С другой стороны, Фрэнк всегда
искал дружбы с сильными мира сего, и иметь
президентом старого приятеля по кутежам и ночным
похождениям— предел его мечты.
Синатре следовало уделить внимание по той
причине, что тесное общение с ним несомненно
влияет на некоторые высказывания, поступки и стиль
поведения Рейгана.
В телешоу «Чтобы Польша была Польшей»
выступили и Рейган, и Синатра. Первый — с нападками
на Польшу, второй спел польскую песенку, К
выступлениям были привлечены 14 государственных
деятелей из дружественных США стран, в том
числе представитель военной диктатуры Турции,
проводившей в то время жестокие репрессии против
профсоюзов в своей стране. В программе
участвовали также посол-дезертир Спасовский, кучка
иммигрантов, в разное время прибывших из Польши,
а также «маэстро Ростропович». 27 января
полуторачасовая программа была санкционирована
палатой представителей, а 31-го передана в эфир.
В январе 1982 года была отработана политика
США в отношении Польши. К экономическому
давлению и политическому вмешательству во
внутренние дела суверенного государства США
пытались привлечь все союзные страны и создать во-
82
круг Польши негативное мнение мировой
общественности. Рональд Рейган продолжал выполнять
функции «кукушки» на польских часах. После
одного из его выступлений независимый депутат
ирландского парламента Ноэль Браун написал в
газете «Айриш тайме», выходящей в Дублине: «Тот
детский лепет, который президент Рейган выдал
недавно за анализ положения в Польше с его
заявлениями о «вине Советского Союза», недостоин
даже никсоновской «фабрики лжи» в Белом доме».
Действительно, если проследить за выступлениями
президента, то представляется такая картина: дядя
Сэм требует от пана Ковальского, чтобы тот
немедленно выкорчевал все яблони в своем саду и
посадил калифорнийские кактусы, а вместо
клубники выращивал марихуану.
Для того чтобы оснастить «детский лепет» хотя
бы подобием аргументации, в конгрессе США
проводились «слушания», в ходе которых польское
правительство обвинялось в нарушении
хельсинкских соглашений и прав человека. Перед
конгрессменами выступали такие «авторитеты», как
сбежавший из Японии и прибывши в США бывший
польский посол, предатель Здзислав Рураж, один
из основателей КОС — КОРа Станислав Бараньчак
и им подобные. Не трудно представить себе, что
говорили в этой аудитории посол-дезертир и
организатор мафии.
Бывший профессор Высшей школы
планирования и статистики в Варшаве 3. Рураж в приступах
политической шизофрении призывал США к
ядерному шантажу и даже применению этого оружия
в Европе во имя «объединения Польши с
Германией (также предварительно объединенной)». Нужно
ли удивляться, что словоблудие предателя
назвали диким даже в США.
Систематическое вмешательство США и стран
НАТО во внутренние дела суверенного польского
государства — вот что является вопиющим
нарушением Устава ООН, общепринятых норм
международного права и Заключительного акта совещания
в Хельсинки. В этом документе говорится, что
подписавшие его государства будут воздерживаться
от любого вмешательства во внутренние или
внешние дела любого государства-участника. Там же
4*
83
сказано, что эти государства будут воздерживаться
от оказания прямой или косвенной помощи
террористической, или подрывной, или другой
деятельности, направленной на насильственное свержение
режима другого государства-участника.
Своеобразной иллюстрацией к приведенному
фрагменту документа могут служить высказывания
официальных американских лиц.
Ричард Лллен (бывший помощник президента):
«Мы должны сделать все, чтобы подорвать
законность коммунистического режима в Польше».
Ричард Бэрт (в то время помощник
госсекретаря по европейским делам): «Наша главная цель
состоит в том, чтобы добиться возвращения там (в
Польше.— В. Н.) к положению, какое существовало
до введения военного положения».
Ультимативные требования Вашингтона к
Польше следовали одно за другим: отменить военное
положение, освободить всех интернированных,
возобновить диалог с «Солидарностью».
Президент Рейган забегал еще дальше. 8 июня
1982 года с трибуны британского парламента он
провозгласил новый «крестовый поход» против
коммунизма как системы. Объявляя этот поход,
Рейган не был оригинален. За 65 лет до него к
аналогичному походу призывал куда более опытный
политик Уинстон Черчилль. Были и другие
«крестоносцы» и в их числе один из предшественников
Рейгана — Вудро Вильсон. Печальные результаты
этих походов общеизвестны. Но Рейган решил
гальванизировать похороненную историей идею,
избрав Польшу первым объектом такого похода.
В течение 1982 года «замораживание»
межгосударственных отношений США — ПНР продолжалось
по всем направлениям. В мае было
приостановлено действие совместного фонда им. Марии Скло-
довской-Кюри, который был основан для
финансирования польско-американского научного
сотрудничества. Прекратились поездки в обе страны
ученых. Как повод для этого была использована
высылка из Польши двух американских «дипломатов»,
занимавшихся деятельностью, далекой от
дипломатической.
На следующий день после утверждения Сеймом
ПНР нового закона о профессиональных союзах
84
Рейган, выступая по радио 9 октября, объявил о
приостановлении для Польши режима
наибольшего благоприятствования в торговле, которым
Польша пользовалась с 1960 года. Вслед за ним Лейн
Керкленд заявил, что эта мера недостаточна, и
вновь потребовал объявить Польшу банкротом.
Следует напомнить, что всего год назад, когда
руководители «Солидарности» организовали
открытый саботаж в угольной промышленности, Лейн
Керкленд, горячо полюбивший вдруг польских
шахтеров, громко приветствовал эту акцию, в
результате которой добыча угля в Польше сократилась
за год на 30 млн. тонн. На 19 млн. тонн снизился
его экспорт.
В то самое время заправилы американского
угольного бизнеса спешно открывали заброшенные
шахты, модернизировали оборудование,
фрахтовали суда. Они двинулись на традиционные польские
угольные рынки и увеличили годовую продажу
угля на 29 млн. тонн. Вскоре их примеру
последовали бизнесмены из ЮАР и Австралии. Польша
потеряла на этом почти полмиллиарда долларов. Но
как только положение с добычей польского угля
изменилось, Керкленд утратил симпатии к польским
рабочим.
С начала 1983 года действие военного
положения в Польше было приостановлено, а 22 июля —
отменено. Процесс стабилизации в стране с каждым
днем становился более ощутимым, кризис начал
отступать. Однако политика США в отношении
Польши не претерпела никаких изменений.
Экономическое и финансовое давление продолжалось.
Идеологическая диверсия усиливалась. Отдавая
себе отчет в том, что ни санкции, ни акции не
вызывают желаемого воздействия на Польшу и
начинают вызывать раздражение союзников, Белый
дом начал маневрировать.
С одной стороны, давались туманные заверения
о возможном смягчении санкций, но как только
дело доходило до публичных выступлений,
Рейгана, что называется, несли нервы. Перед
очередным обращением по радио к американскому
народу президент США, пробуя микрофон, позволил
85
себе назвать польское правительство «бандой
дармоедов», обогатив тем самым свой
дипломатический словарь. Такое определение, коль скоро было
произнесено, больше подошло бы к
«правительству миллионеров», то есть Соединенных Штатов.
Ведь Рейган водит компанию исключительно с
миллионерами. Счет в банке в Белом доме
является и визитной карточкой, и рекомендацией.
Лежу Валенсе, о котором не раз с восторгом
отзывался хозяин Белого дома, он также помог стать
миллионером.
Одним словом, Рейган оставался Рейганом.
Стремясь выдать желаемое за действительное, он
все чаще прибегал к дешевым голливудским
приемам. Выступая 23 июня в Чикаго перед
представителями «Конгресса американской Полонии», он
прочел письмо от безымянной женщины, якобы
только что вернувшейся из Польши.
«Я чувствую, что должна написать вам
письмо,— с придыханием читал Рейган. — Три недели
назад я поддерживала движение за замораживание
ядерных вооружений. Теперь я не поддерживаю
это движение, после того, что я там видела.
Польша— это концлагерь, огражденный такими рядами
колючей проволоки, какие показывают в
Освенциме и Бухенвальде. Страх на лицах женщин, мужчин
и детей напоминает события прошлого, поляки
говорят шепотом и неустанно оглядываются...»
Интересно было бы узнать, кто составил для
президента этот коктейль из Освенцима, колючей
проволоки, страха, да еще приправленный
движением за замораживание ядерных вооружений?
Збигнев Бжезинский, Ричард Пайпс или
специалисты из ведомства Чарльза Уика? Во всяком случае
этот фрагмент из рейгановского выступления Вой-
цех Ярузельский процитировал на встрече с
профсоюзным активом в Катовице под общий смех
«испуганных людей, говорящих шепотом».
Но и эта фальшивка не была пределом
словесного жонглирования. Провокационное выступление
о Польше Рейган закончил призывом: «За нашу и
вашу свободу!». К сведению президента США, этот
лозунг родился в огне польского восстания 1830
года и знаменовал совместную борьбу поляков и
русских против царизма. Новую жизнь он обрел в
86
годы второй мировой войны после возрождения на
советской земле Войска Польского. Только по
неведению или по злому умыслу президент связал
этот призыв в своем выступлении с ушедшей в
небытие «Солидарностью».
3 ноября 1983 года заместитель министра
иностранных дел ПНР Юзеф Веяч вызвал временного
поверенного в делах США в Варшаве Дж. Дэвиса
и вручил ему ноту польского правительства
правительству США, в которой была изложена позиция
Польши «в отношении санкций и других
недружественных действий США».
В этом документе были перечислены все акции
США, направленные против Польши, и вызванные
ими последствия. Польское правительство
выразило решительный протест против таких действий
правительства США, как вмешательство во
внутренние дела Польши и проводимая США
пропагандистская агрессия. В ноте был поднят вопрос о
возмещении Соединенными Штатами ущерба,
понесенного Польшей в результате санкций,
недружественных действий и беззаконных мер
правительства США с точки зрения международного
права и обычаев.
Под давлением союзников и американской
общественности в январе 1984 года Рональд Рейган
объявил об отмене двух антипольских санкций,
сохранив действие всех остальных. Были разрешены
посадки на территории США чартерных рейсов
польских самолетов и лов рыбы польскими судами
в 200-мильной зоне американских вод. По этому
поводу была поднята пропагандистская шумиха.
Газета «Вашингтон пост» писала: «Последний шаг
Рейгана в отношении Польши сделан в нужное
время. Он продемонстрирует участникам
Стокгольмской конференции, что президент не закостенел в
своей враждебности к Востоку».
Посмотрим, что означали столь гуманные
жесты президента на практике. Разрешение на 88
чартерных рейсов не отменяло запрета на регулярные
полеты польской авиакомпании ЛОТ. Дано оно, как
писала «Вашингтон пост», в ответ на просьбы
американцев польского происхождения
(потенциальных избирателей) для облегчения контактов с
родственниками, живущими в Польше. Решение о пре-
87
кращении деятельности ЛОТ в воздушном
пространстве США, принятое в нарушение норм
международного права в январе 1982 года, прямо
коснулось 25 тысяч пассажиров, имевших билеты, а
авиакомпания понесла убытки в 20 млн. долларов.
Что касается рыбного промысла, то
пресс-секретарь Белого дома Лэрри Спикс разъяснил, что
после снятия запрета польским рыбакам не будет
предоставлено никаких конкретных мест для
ведения промысла и никаких квот вылова. Этот вопрос,
уточнил он, будет связан с «улучшением прав
человека в Польше». Кроме того, Спикс подчеркнул,
что политика США в отношении Польши, ее общие
принципы не изменились.
Это заявление подтвердило, что косметические
меры по смягчению санкций имели чисто
пропагандистское значение и были вызваны тем, что в
политическом плане санкции потерпели крах.
Собственными усилиями с помощью стран
социалистического содружества Польша успешно преодолевала
кризис. 1983 год был отмечен ростом
национального дохода, промышленного производства, более
высоким урожаем, улучшением ситуации на
внутреннем рынке. В международной торговле с
капиталистическими странами, несмотря на барьеры,
был значительно увеличен экспорт и достигнут
положительный баланс, хотя торговые отношения с
США были фактически парализованы.
К середине 1984 года экономический ущерб,
нанесенный Соединенными Штатами Польше,
определялся суммой в 13 млрд. долларов. В то же
время Рейган в одном из выступлений заявил, что
США оказали в Польше «тем, кому мы хотим
помочь», гуманную помощь через костел на 40 млн.
долларов и пообещал еще 10 млн. долларов
помощи индивидуальным крестьянам в рамках
«церковной программы». Цифры ущерба и «помощи»,
как мы видим, несопоставимы.
В августе и сентябре 1984 года Рейган дважды
предпринял попытки вмешательства во внутренние
польские дела. В выступлении перед ветеранами
Армии Крайовой, которых он принял в Белом
доме, президент вновь препарировал историю, назвав
варшавское восстание «жесточайшей битвой второй
мировой войны», а Польшу — «порабощенной стра-
88
ной» и поставил под сомнение ялтинские
соглашения. На празднике в честь ченстоховской
божьей матери в Дойлстауне Рейган прославлял
«Солидарность» и Валенсу.
В ноте правительства ПНР, врученной 18
августа 1984 года временному поверенному в делах
США в Варшаве Джону Дэвису, вновь было
подчеркнуто, что «политика правительства США в
отношении Польши является недопустимым
вмешательством во внутренние дела нашего государства,
она оказывает нажим и пытается навязать Польше,
нарушая суверенные права польского государства,
политические решения, противоречащие
жизненным интересам национального существования».
О «культурной пустыне»
и «падших ангелах»
Борьба реакционных центров политической
эмиграции против Польши народной, Польши
социалистической началась еще до провозглашения в 1944
году «Июльского Манифеста». Эмигрантское
правительство в Лондоне руководило действиями
Армии Крайовой на территории Польши. В его
распоряжении, по крайней мере формальном, были
военные соединения поляков в Европе, которыми
командовал генерал В. Андерс, летные части в
Англии.
После окончания войны и неудавшейся попытки
Ст. Миколайчика изменить ход событий в Польше
и повернуть ее «лицом к Западу» делегатура
лондонского правительства вместе с западными
разведками сделали ставку на развязывание в Польше
гражданской войны. Они поддерживали
диверсионные и террористические действия на польской
территории бандитских формирований до момента
полной их ликвидации. Многие обращения,
инструкции, листовки, распространяемые в те годы
реакционным подпольем, присылались из Лондона.
Последняя банда под Ломжей была уничтожена в
марте 1957 года.
Потерпев окончательное поражение в воору-
89
женной борьбе, лондонское правительство
укрылось в викторианском особняке, подаренном ему
«в утешение» по инициативе У. Черчилля
правительством Великобритании. Время от времени
дряхлеющие деятели этого правительства во главе с
«президентом Польши» Эдвардом Рачиньским,
родившимся в 1891 году, выплывали из нафталинного
облака и показывали клыки-протезы, чтобы
напомнить о себе хотя бы эмигрантским организациям,
осевшим в Европе и США.
События в августе 1980 года прервали
летаргический сон, и «премьер» Казимеж Саббат вновь
заявил: «Пока мы здесь, коммунистическое
правительство в Польше является временным. Мы —
законные представители Польской Республики».
Понятно, что никто (кроме упоминавшейся
«Конфедерации независимой Польши») не воспринял этого
всерьез.
Второй политический эмигрантский центр
образовался в Риме из бывших «пропагандистов»
армии Андерса во главе с Ежи Гедройцем. Вскоре
он перебрался в Париж и начал действовать под
вывеской «литературного института», издающего
журнал «Культура» на польском языке. На самом
деле это был тесно связанный с разведками
опытный полигон антисоциалистических диверсий в
Польше, действующий в широком диапазоне. Сбор
любого рода информации, поддержка всех
личностей и группировок, враждебно настроенных в
отношении реально существующей социалистической
Польши, создание для этого специальных фондов,
засылка в Польшу своей литературной
продукции— таковы были повседневные функции
парижского центра.
В каждой журнальной книжке «Культуры» с
ханжеской скрупулезностью публикуются списки лиц
и организаций, указываются суммы их
доброхотных даяний, присланных «Культуре». Если бы
«литературный институт» существовал на эти средства,
его сотрудникам не хватило бы не только на хлеб
насущный, но даже на туалетную бумагу.
Источники существования, судя по признанию Гедройца,
иные. «Все союзники Америки пользуются
материальной помощью,— заявил он. — Я не вижу повода,
почему польская эмиграция должна отказаться от
90
такой помощи». Так открылся ларчик. И, надо
сказать, помощь ЦРУ растет из года в год, хотя о
суммах журнал не сообщает.
В США, наряду с террористическими
эмигрантскими организациями типа «Свободной Польши»,
созданной в 1975 году агентом гестапо, а затем
ЦРУ К. 3. Ханффом, также существуют
литературные «центры». Пример тому славянский факультет
университета Беркли в Сан-Франциско, где
подвизаются профессора Ежи Лерский (в прошлом
личный секретарь Миколайчйка) и Чеслав (Венцеслав)
Милош, ставший в 1981 году лауреатом
Нобелевской премии.
Летом 1981 года я был свидетелем того, как
нобелевский лауреат после 30-летнего отсутствия
и на пороге своего 70-летия совершил поездку по
Польше. Официальным поводом стало присвоение
Милошу звания почетного доктора Католического
университета в Люблине. Попутно гость посетил
Ломжу, где в его честь был устроен поэтический
вечер. Побывал лауреат и в Кракове. В Ягеллон-
ском университете его творчеству была посвящена
специальная научная сессия.
Мне было стыдно признаться, что я никогда не
читал Милоша, ни его книгу «Порабощенный
разум», ни стихов. Оказалось, что в таком же
положении были многие польские журналисты, знавшие
имя Милоша понаслышке. «...Чеслава Милоша
втащили на пьедестал поэта-пророка с немалым
трудом,— писал критик Марцин Ковальский,—
поскольку его заумная и холодная поэзия плохо
воспринимается массами». Это меня несколько утешило.
Однако положение, задолго до этого
сложившееся в польской литературе не без влияния
парижской «Культуры», «Свободной Европы» и
других центров идеологических диверсий, продолжало
тревожить.
Культурная революция в Польше открыла
доступ к культурным ценностям для всего народа.
Вместе с ростом образования началось бурное
развитие национальной культуры во всех ее
областях— театральном и музыкальном искусстве,
народном творчестве, кинематографии, живописи,
графике и скульптуре. Возрос интерес к истории
материальной культуры, получивший выражение в
91
восстановлении ценнейших архитектурных
памятников, разрушенных или уничтоженных войной, в
реставрации уцелевших и забытых.
На каждом из направлений развития культуры
шла борьба за понимание и восприятие как
традиций, так и новых явлений. Одни мастера культуры
мыслили социалистическими категориями,
смотрели в будущее, другие не могли или не хотели
освободиться от груза прошлого, третьи оказались
на распутье.
Этим умело пользовались западные «центры»,
поставившие целью оторвать польскую культуру от
социалистической идеологии, купить ее, обратить
в свою веру и создать таким образом в Польше
«культурную пустыню». Постоянное и
целеустремленное воздействие в этом направлении оказало
влияние прежде всего на литературу.
В конце 60-х годов увеличилась группа
писателей, которые перенесли свою деятельность на
Запад, где «Культура» стала их постоянной
кормушкой. Прикрывалось это фиктивным лозунгом
«защиты национальной культуры». Было придумано и
«историческое алиби»: мол, в XIX веке Адам
Мицкевич, Юлиуш Словацкий и Цыприан Норвид
создали свои выдающиеся произведения за
пределами Польши.
Так в наши дни литература в Польше оказалась
средой, в которой вынашивались главные идейные
замыслы покушения на социализм. В самой
Польше образовалась целая сеть писателей-нелегалов
и писателей-ренегатов. Возникли и определенные
критерии.
«Если писатель выступал против Польши, против
ялтинско-потсдамских соглашений, против союзов
с СССР, за возврат к положению до 1939 года, то
тогда он считался «независимым»,— писала
«Трибуна люду». — Вполне естественно, что эти
«свободные» писатели вскоре оказались в подчинении
западных подрывных центров».
С исчерпывающей ясностью это показал
XXI съезд Союза польских писателей,
состоявшийся в декабре 1980 года. Он прошел в атмосфере
демагогии и морального террора. В ходе съезда
и выборов, к неописуемому восторгу «Культуры»
92
из Парижа, верх взяла антисоциалистическая
оппозиция.
Возглавил Союз прозаик-клерикал Ян Юзеф
Щепаньский, занимающий крайне
националистические, антисоциалистические и антисоветские
позиции. В состав Главного правления вошли также
учредители КОС—КОРа Ян Юзеф Липский и Анка
Ковальска, известные приверженцы парижской
«Культуры» Стефан Киселевский, Анджей
Киевский, Марек Новаковский, Казимеж Орлось и
другие. На съезде, в обход устава, в члены Союза
исключительно за антисоциалистическую
деятельность был принят Яцек Березин, к «творчеству»
которого мы вскоре обратимся.
На съезде произошел еще один «обмен
любезностями». Он заключался в провозглашении
взаимного шефства: писателей над «Солидарностью», а
«профобъединения» над творческими кругами.
Демагогия достигла в ту пору гималайских высот.
Варшавские писатели с серьезным видом
выслушивали откровения 28-летнего экстремиста Збигнева
Буяка, который, обращаясь к ним, заявил: «Мы
будем издавать прежде всего библию, затем книжки
издательства «Нова», а уж потом кое-кого из вас».
Заманчивая перспектива, не правда ли?
Для писателей, мыслящих иными категориями,
было предложено создать нечто вроде
чрезвычайного трибунала. Творчество писателей-коммунистов
должна была расследовать специальная комиссия.
А вот делом шпиона и предателя Найдера, по
мнению Щепаньского, должен был заняться
товарищеский суд.
«Нынешний состав руководства Союза
представляет собой довольно однородные силы
оппозиции»,— писал после выборов еженедельник
«Аргументы». О том же свидетельствовал и план
изданий на 1982 год. В качестве авторов в нем
фигурировали 12 «коровцев» и 16 писателей-эмигрантов,
четверо из которых тесно сотрудничали с
диверсионными центрами. Образцы подобной «изящной»
литературы и публицистики уже циркулировали в
Польше усилиями издательства «Нова». В других
местах издательский порог для подобных
произведений оказался бы слишком высоким. Во время
разгара кризиса это издательство заполонило стра-
93
ну антисоциалистическими и антисоветскими
материалами, отравляющими сознание общества. (Для
этого и предназначалось современное
полиграфическое оборудование, присылаемое с Запада.)
После введения военного положения эту
функцию взяли на себя та же парижская «Культура»,
лондонский «Анекс» и появившийся в Париже
эмигрантский журнал «Контакт» во главе с
перекочевавшим туда бывшим директором «Нова»
Мирославом Хоецким. Эти издательства внимательно
следили за всем, что печатается в Польше и о
Польше.
В одной из лондонских газет летом 1982 года
появилась статья «Что делать?» с подзаголовком
«Открытое письмо польскому обществу в стране».
Его автор Енджей Гертых — «обыкновенный»
послевоенный эмигрант, католик, отец девяти детей.
В начале второй мировой войны он был взят в
плен гитлеровцами. Лагерь, в котором он провел
войну, был освобожден американцами, и Гертых
обосновался в Англии. Старший из его сыновей —
профессор в Польше, другой ксендз-доминиканец.
В своей статье Гертых дал объективную оценку
разрушительной роли «Солидарности» и мафии
КОС — КОРа, обратив внимание на ее тесные
связи с неотроцкистами. Более того, он написал об
естественности и жизненной необходимости
дружественного союза Польши с СССР. (Эту статью б
шести номерах перепечатала газета «Жолнеж
вольности».)
И вот в парижской «Культуре» на статью Герты-
ха обрушился Яцек Березин, напечатав
хулиганскую черносотенную рецензию, полную грубых
оскорблений. Ценное пополнение получил на
съезде Союз писателей!
В конце февраля 1983 года Всепольское
совещание партийных писателей потребовало, чтобы
Главное правление СПП определило свое
отношение к деятельности двадцати с лишним членов
руководящих органов Союза. Ян Юзеф Щепаньский
и его окружение расценили это требование, как
нарушение и ограничение демократии.
Тем временем за пределами Польши уже
функционировал «Комитет помощи независимой
культуре в стране» во главе с Чеславом Милошем, спе-
94
циально созданный, чтобы с помощью долларов
увести польскую литературу в эмиграцию, покупать
на корню рукописи, которые устраивают Запад, и
укрепить тем самым «фронт отказа». Парижская
«Культура» авансом назвала его «одним из наших
крупнейших пропагандистских успехов».
Говорить об успехе было, прямо скажем, рано.
В период приостановления, по регламенту
военного положения, деятельности всех творческих
союзов и после его отмены государственные власти
неоднократно предпринимали попытки к
восстановлению писательской организации. В ответ
Главное правление СПП предъявило ультимативные
требования. Главным из них было официальное
признание правительством возможности членства в
Союзе при одновременном участии в
антигосударственной деятельности.
Стало ясно, что руководящий орган Союза
намерен и впредь выражать взгляды
антисоциалистической оппозиции. Поэтому президент Варшавы
19 августа 1983 года был вынужден распустить
Союз польских писателей, сохранив возможность
для создания новой творческой организации,
объединяющей писателей и действующей на благо
развития польской литературы.
Союз был возрожден. В него вступило более
700 писателей, поэтов, критиков, для которых
интересы Польши были выше долларовой кормушки.
Председателем организации была избрана Галина
Аудерска. Новый союз набирает силы. После
публицистических анализов начали выходить в свет
художественные произведения с попыткой
осмыслить происшедшее в последние годы.
Одной из первых ласточек стала небольшая
повесть «Год в гробу», вышедшая в марте 1984 года
тиражом 300 тыс. экземпляров и ставшая
бестселлером. Ее написал известный прозаик Роман
Братны. В повести известный актер Юлиан Патрык
совершает убийство из ревности и попадает в
тюрьму. Во время разгула «Солидарности» его
временно освобождают для прохождения
медицинского обследования, и Патрык попадает в
круговорот событий. Вначале он ошеломлен и с
определенным энтузиазмом и одобрением относится к
«Солидарности» и ее лидерам, которых при жизни
95
пытаются окружить ореолом святости. Но стоило
внимательно присмотреться к окружающему, и
герой повести понимает, что многие из
«канонизированных» деятелей «вполне годятся для его
тюремной камеры».
В повести дана целая галерея точных
портретов перекрасившихся журналистов, актеров,
писателей, карьеристов, превратившихся в надутых
«борцов за справедливость». По характеристикам
персонажей повести читатели без особого труда
узнавали их прототипов.
В дни очередных спровоцированных
«Солидарностью» уличных беспорядков Юлиан Патрык
добровольно возвращается в тюрьму. «Я провалялся
на этой «свободе», как в гробу... Я хотел что-
нибудь понять и не думаю, что понял. Я оставляю
эту Польшу, как не увиденный до конца сон
сумасшедшего...»
Книга Романа Братны не сатирическая, а
реалистическая повесть. В ней показано, как писала одна
из газет, «время абсурда», горькая правда,
которая окружала поляков почти два года.
Тем временем на Западе продолжались поиски
новых кумиров. Один из них — известный в
прошлом Казимеж Брандыс — польский писатель,
«причесанный по парижской моде». В январе 1984 года
американский еженедельник «Тайм» под
гамлетовским заголовком «Быть или не быть» опубликовал
рецензию Р. Шеппарда на изданный в Нью-Йорке
его «Варшавский дневник».
В Польше тоже не обошли стороной зарисовки
К. Брандыса, которые начали печататься еще
издательством «Нова». «Только льстец видит
философскую глубинку в стечении небольших событий и
мелочей человеческих будней»,—утверждалось в
одной из рецензий.
В еженедельнике «Аргументы» Анджей
Василевский причисляет Брандыса к числу «падших
ангелов», которых привели к падению «спесь и
ожесточенная ненависть, являющаяся суррогатом
возвышения личности». Брандыса, пишущего
«доносы на польскую действительность», пасквили
Станислава Бараньчака, псевдолитературу Марека
Новаковского постигает, по словам автора, «неиз-
96
менное и заслуженное возмездие — резкое
падение литературного качества».
Но вернемся к «Тайму». «Брандысу 67 лет, он
польский прозаик, который 17 лет назад вышел из
партии... Он вышел также из официальных
литературных кругов и в определенной степени был
создателем нелегального журнала «Запис»... В 1981
году за неделю до того, как правительство Яру-
зельского ввело военное положение, Брандыс и
его жена покинули Польшу и уехали в Нью-Йорк
и Париж».
Далее Р. Шеппард переходит «к делу».
«Печальными восточными глазами автор оглядывает
польскую историю, свою романтическую юность,
когда он был студентом права в Варшаве,
немецкую оккупацию и появление «русского медведя»...
К заслугам писателя-эмигранта,
циркулирующего ныне между Нью-Йорком и Парижем, Р.
Шеппард причисляет не его прошлые литературные
произведения, а связи с контрреволюцией,
прославление разного рода ренегатов и «твердый голос
изгнанника», прорезавшийся на чужих хлебах.
Что касается оценки содержания дневника, то
сила Брандыса (по «Тайму») оказывается не в
описании того, чему он был свидетелем, а в том, что
взято им «из вторых или третьих рук», иными
словами, в его интерпретации сплетен и слухов.
В «Варшавском дневнике», который по команде
начали рекламировать все «радиоголоса», Брандыс
пишет: «Чувства достоинства и справедливости
претерпели трансформацию в нашем
мировоззрении». Это легко понять, если иметь в виду его
собственную деградацию. Далее автор рецензии
утверждает, что, «подобно своей стране, Брандыс
создан на основе разделов».
Если говорить о современной Польше, то она
создана на основе ликвидации разделов и
объединения польских земель в их исторических
границах. Что касается Брандыса, то он действительно
создан на основе раздвоения, а вернее, распада
личности. Сейчас, повторяет «Тайм», он
«печальными восточными глазами оглядывает польскую
историю». И, добавим, трактует ее в соответствии с
требованиями его новых хозяев.
О событиях, за которыми Казимеж Брандыс на-
97
блюдал «грустными глазами» из окон своей
варшавской квартиры, а затем, выслушав сплетни и
слухи, описывал в своем «дневнике», в Польше
писалось более честно и откровенно. Просматривая
один из воскресных номеров «Жолнежа вольности»,
я обратил внимание на историю в письмах,
подписанную неизвестным до этого в польской
публицистике именем (или псевдонимом) Агнешка Ливска1.
14 писем автора близкому человеку, выехавшему
в заграничную командировку, рассказывают о
событиях, переживаемых польским народом в самый
трудный период. Они позволяют наблюдать за
ними глазами живого свидетеля, а мысли и оценки
происходящего удивительно созвучны тем,
которые высказывали мне друзья в Варшаве, Кракове,
Катовице и Вроцлаве. В письмах Агнешки Ливской,
четыре из них приведены здесь почти полностью,
выражено самое непосредственное отношение
автора к «эскалации требований», «забастовочному
террору», а также попыткам подполья вызвать под
диктовку Запада смуту в стране в период
военного положения.
«СЕНТЯБРЬ 1981
...От правительства требуют, чтобы оно
исправило в течение нескольких месяцев то, что
разрушалось годами. Что ж, быть может, возможно и
так? Но мы уже видели столь быстрого
чудотворца (речь идет о Валенсе.— В. Н.)г который вызвал
по этому поводу временную эйфорию, а теперь
мы переносим страшные последствия этого чуда.
Многие шаги правительства продиктованы
угрозой, а проще сказать, шантажом. Представляю
себе ситуацию, в которой пришла бы ко мне наша
дочь и заявила, что если я не дам ей немедленно
миллион злотых, то она бросится вниз с десятого
этажа. А я не имею этого миллиона и ни
малейшего шанса получить его откуда-то. Но не могу и
сказать: «Прыгай себе». Конечно, нет! Поэтому
буду пытаться что-нибудь выторговать: быть
может, не миллион, а только пятьсот тысяч, и не
немедленно, а через месяц? Она благосклонно согла-
1 Жолнеж вольности, 1982, 12—13 июня.
98
шается, а я вздыхаю с облегчением. Весь этот
месяц я что-то продаю, дополнительно зарабатываю,
занимаю, но удается мне собрать только 300
тысяч. А наша дочка снова стоит на подоконнике...
Продолжаются бесконечные торги между
«Солидарностью» и правительством. На сколько еще
уступит? Надолго ли хватит еще терпения?
Провокационное натягивание струны, чтобы это
терпение в конце концов лопнуло.
ОКТЯБРЬ 1981
...Забастовки приобрели будничный характер и
тем самым утратили силу воздействия. И
действительно. Они приносят хозяйственные потери,
становятся беспокоящими, тягостными. Они нервируют,
ибо не позволяют хоть как-то нормализовать
жизнь... Они не вызывают общего уважения, так
как перестали быть орудием борьбы за общие
права. Скорее, неприятно удивляют будничностью,
провинциальностью желаний и требований,
эгоистическим вымогательством. С неудовольствием
воспринимается также и возрастающая театральность
забастовочных представлений. Именно представлений,
сценарий которых доминирует над содержанием.
Повязки на рукавах, флаги, транспаранты, значки,
эмблемы (а для наших новорожденных нет
распашонок и пеленок); листовки, призывы, плакаты,
брошюры (а у наших учеников нет тетрадей).
И еще одно — /^лы здесь в безнадежных
многочасовых очередях за всем, а они там имеют что
есть, и курить, и пить. Все это, вместе взятое,
становится все более грустным, менее убедительным
и все настойчивее вызывает подозрения, что все
эти местные «бунты» только камуфляж упорного
нежелания трудиться, безделия без финансовых
последствий, потому что за время забастовки
должна быть выплачена зарплата.
25 октября с 12.00 до 13.00 была проведена
генеральная забастовка. 29 октября в помещении
региона Мазовше состоялась пресс-конференция,
посвященная этой забастовке...
И вот о стачке генеральной, которая в нашей
критической ситуации на целый час лишила
огромную часть страны нормального пульса жизни, мы
99
узнаем, что она оценена организаторами как
«очень удавшаяся». Словно какой-нибудь
театральный спектакль или фестиваль песенки. Как
развлечение в дискотеке или именины у коллеги. Что это
значит — «удалась»? Всем было весело, хорошо, в
приятной компании? Получается так, если бы кто-
нибудь сказал, что «очень удались» похороны. Но
это еще не все. Узнали мы также, что целью этой
забастовки была демонстрация силы и единства
профобъединения, а также того, что его деятели
не дадут себя запугать. Значит, дело шло не о
продовольствии, не о ситуации на рынке, как это
объявлялось 23 октября, когда принималось
решение о проведении забастовки. А о показе чего-то
кому-то! Чудовищная мотивировка. Если и дальше
идти по такой дорожке, то можно ожидать, что
кто-нибудь угостит нас цианистым калием с целью
убедиться, что он не выдохся, а кто-то другой
нажмет кнопку ракетной установки, чтобы
удостовериться, что ее механизм действует исправно.
НОЯБРЬ 1981
При мысли о наступающей зиме парализует нас
страх. Это призрак голода, призрак холода и тьмы
в квартирах, призрак болезней без лекарств... Что
же будет, когда наступят морозы, когда выпадет
снег? Что будет, если и эта зима окажется «зимой
столетия»? Кто без обмороженных ног выстоит
очереди за хлебом и картошкой, за молоком для
своего ребенка?
Все мы сознаем такую опасность. Достаем
железные печурки, которые можно топить даже
газетами, газовые нагреватели, в надежде, что будет
хотя бы газ. Покупаем кладбищенские свечки,
чтобы не сидеть в темноте, когда будет выключена
энергия. Скупаем, что только возможно: сушим,
маринуем, печем, перетапливаем.
А рядом с такими драматическими операциями
во имя выживания течет иной поток приготовлений
к зиме. Люди без совести — скупщики и
спекулянты— ждут своего часа, когда отчаявшаяся мать
заплатит любую цену за пачку молочного порошка.
А раннего наступления темноты, неосвещенных
улиц и подъездов ждут грабители и бандиты.
100
Только те, которых мы год назад окрестили
«предводителями обновления», ко всему этому
слепы и глухи. Объявляют очередные забастовки,
угрожают конфронтацией. Не обойдется без
жертв — заявляют они, словно речь идет о
пролитии крови зарезанной к обеду курицы. Себя они,
разумеется, среди тех жертв не видят. Как же
легко можно распоряжаться чужой жизнью,
особенно если речь идет о жизни безымянной толпы.
4 МАЯ 1982
Инциденты, происшедшие в первые дни мая, а
также обещания, что они повторятся в ближайшем
будущем, показывают, что повседневно известный
лозунг «зима ваша, весна наша» не был только
хвастливой угрозой. Много разных призывов
распространялось в последние месяцы, но этот
приобрел особенно оскорбительную и циничную
интонацию. «Зима ваша». Это значит, что в течение
самых трудных месяцев правительству милостиво
позволено выполнять свои функции без
препятствий. Пусть заботится об угле, о теплых
калориферах, о свете и газе в квартирах. Пусть его заботой
будут засыпанные снегом дороги, замерзающие
железнодорожные стрелки, разрушающийся парк
городских коммуникаций. Пусть похлопочут о
ритмичном обеспечении молоком и хлебом. Пусть
возьмут на себя труд проведения всего общества
через зимний период, в том числе и авторов
процитированного лозунга и его будущих
реализаторов. Ведь они тоже любят тепло и свет в
квартирах. И превосходно знают, что если бы зима была
«их», то не имели бы этого. Ни они, ни вообще
никто. Поэтому лучше не мешать обществу,
подождать до весны, когда пригреет солнышко и
зацветут фиалки. А зиму отдать властям без боя...
Через месяц возвращаешься домой, и это мое
последнее письмо. Возможно, удивят тебя еще
имеющиеся нехватки \ю рынке, высокие цены,
разные настроения, напряжение и антагонизм в обще*
стве. Но ты имеешь двухлетний «просвет», который
не были в состоянии заполнить мои письма. Чтобы
на то, что происходит сегодня, смотреть с
надеждой и определенным оптимизмом, ты должен был
101
бы находиться здесь все это время. День за днем.
Должен был бы сам пережить это ужасное
скольжение вниз, все нарастающее сознание близящейся
катастрофы. Только тогда ты мог бы оценить, что
стало лучше, что начинаем понемногу
двигаться вперед. Лишь бы только сами себе не
помешали».
Планы империалистических кругов США и их
союзников в отношении Польши не претерпели
изменений. Они точно скоординированы. Пока одни
центры прилагали усилия к тому, чтобы создать в
Польше экономическую пустыню, другие
занимались тем, чтобы вызвать эрозию в области
идеологии и культуры. Психологическая агрессия,
развязанная против Польши, ставила целью
деформировать и «размягчить» общественное сознание, а
затем посеять в нем семена плюрализма,
политической всеядности и всетерпимости.
Только в августе 1982 года удалось остановить
инерцию спада в экономике и начать медленный и
трудный подъем, но уже с иной отправной точки —
с уровня 1974 года. До этого уровня за период
кризиса снизился национальный доход. По
некоторым показателям он упал еще ниже — в
жилищном строительстве, например, до 1967 года.
Нелегко восстановить потерянное и двинуться
вперед, но нет ни малейшего сомнения в том, что
это будет сделано. На одном из предприятий
Познани я обратил внимание на транспарант:
«Гарантия силы Польши — добросовестный труд поляков».
На мой взгляд, это один из самых актуальных
лозунгов сегодняшней Польши. Действенность его
подтверждают статистические сводки. Неуклонный
подъем продолжается, кризис отступает, что
вынуждены признать даже за океаном, подтверждая
тем самым, что не только в политическом, но и в
экономическом плане все объявленные санкции
против Польши потерпели провал.
Трудностей еще много, но в каждой из
четырех поездок в Польшу в 1983 году я убеждался,
что оснований для оптимизма становится все
больше. Пройден путь от умеренного оптимизма к
уверенному. О состоянии экономики и рынка знает
102
каждый. Это позволяет определять точные планы,
реальные рубежи.
К сожалению, столь же точные подсчеты
невозможны, когда речь идет о моральных потерях, о
восполнении опустошений в сознании людей в
результате психологической войны. Она
продолжается: центры идеологической диверсии не ослабляют
усилий. Но и в этом следует быть оптимистом.
Вспомним хвастливые заявления «Свободной
Европы», что без помощи западных радиостанций
в Польше не было бы ни КОС — КОРа, ни Валенсы,
ни «Солидарности». Однако, несмотря на
дополнительные долларовые инъекции, РСЕ и другим
филиалам ЦРУ не удалось создать в Польше
«подпольное государство», не удалось вновь
активизировать деятельность нелегальных групп и структур,
организовать массовые антиправительственные
акции бойкота и протеста.
В марте 1983 года министр внутренних дел ПНР
генерал дивизии Чеслав Кищак доложил Сейму,
что за 15 месяцев было обезврежено более 700
нелегальных групп, конфисковано 1310 единиц
полиграфического оборудования, в том числе 368
печатных машин. Это не означало, что
ликвидировано все подполье, но свидетельствовало о его
агонии. Время от времени в прессе появлялись
сообщения о раскрытии отдельных групп, чаще всего
непосредственно связанных с заграничными
центрами, и об аресте бывших лидеров
«Солидарности», перешедших на нелегальное положение,—
Гардека, Фрасынюка, Лиса и других.
Главная военная прокуратура закончила
следствие по делу интернированных главарей
«Солидарности»: Анджея Гвязды (Гданьск), Северина
Яворского (Варшава), Мариана Юрчика (Щецин),
Пароля Модзелевского (Вроцлав), Гжегожа Пальки
(Лодзь), Анджея Росплоховского (Катовице) и Яна
Руловского (Быдгощ). Материалы следствия по
делу основателей КОС—КОРа Яцека Куроня, Адама
Михника и других составили 35 томов.
Из гуманных соображений польские власти
предложили тем, кто пожелает, выехать за
пределы страны, что освободит их от уголовной
ответственности. В ответ на это западные спецслужбы
дали знать, что они никому не нужны ни в США, ни
103
в других странах. Их дело — продолжать мутить
воду в Польше.
На Западе недоумевают: как же могло такое
случиться? В «Солидарности», в КОС — КОРе, КНП
и других группировках главенствовали люди,
закупленные со всеми потрохами. Почему провал?
Парижская «Культура» (апрель 1984 г.) пишет,
что причиной неудачи в Польше было-де
отсутствие программы конкретных перемен, и упрекает
руководителей группировок, что они
продемонстрировали невежество в экономических вопросах.
Известный реакционный публицист из
католического еженедельника «Тыгодник повшехны»,
выходящего в Кракове, Стефан Киселевский (Кисель)
писал в «Культуре», что главной ошибкой была
опора на рабочий класс, который не мог быть
заинтересован в смене существующей системы, что
опираться, мол, следовало на интеллигенцию,
индивидуальных крестьян и «подготовленную», то
есть распропагандированную, молодежь.
Что касается рабочих, автор из «Культуры»
просто изобретал велосипед. За год до него в книге
«КОР — актуальные документы» Б. Возьницкий
писал:
«Поручик Валенса и массы членов
«Солидарности» были нужны для того, чтобы группировка
КОС — КОРа могла начать в Гданьске «покорение
польской действительности». Но ее руководители
допустили одну кардинальную ошибку в самом
начале своей подрывной деятельности: они были
плохо информированы об актуальном
общественно-политическом положении Польши. Подвергая
тотальной критике всю историю существования народной
Польши, «коровцы» не заметили, что трудящиеся
в своей массе одобряют основные завоевания
социализма... Куронь и Михник, охваченные
радостным возбуждением, не имели ни времени, ни
охоты хотя бы раз подсчитать ряды своих
противников и сторонников».
Одной из последних попыток вмешательства во
внутренние дела Польши была массированная
кампания по срыву выборов в народные советы. На
это были брошены главные силы, выделены
дополнительные средства. «Свободная Европа» вновь
выступила в роли организатора бойкота и суфлера.
104
Настойчиво рекомендовалось, например, создать
специальные группы, которые должны
терроризировать избирателей и не допустить их прихода на
избирательные участки. Передавались
многочисленные письма от оппозиционеров, которые
заявляли, что не будут участвовать в выборах.
Вновь вынырнул Валенса. Он заявил, что если
не будет бойкота выборов, то он откажется от
дальнейшей деятельности в роли лидера бывшей
«Солидарности».
17 июня 1984 года выборы состоялись. В них
участвовало около 75 процентов
зарегистрированных избирателей, причем около 5 процентов
граждан, имеющих право голоса, не смогли участвовать
в выборах по независящим от них причинам
(находящиеся за границей, моряки, рыбаки, некоторые
железнодорожники и авиаторы, а также
находящиеся в больницах и выехавшие на отдых). Из 49
воеводских и 2406 местных округов только в 85
(главным образом — в сельских), где голосовало
менее половины избирателей, были проведены
повторные выборы.
Политбюро ЦК ПОРП констатировало, что
результаты выборов свидетельствуют о готовности
общества к достижению национального согласия.
Газета «Трибуна люду» задала резонный вопрос:
осуществит ли Лех Валенса свое публично
высказанное намерение или же объявит, что
великодушно прощает народу то, что он в массовом порядке
пошел на выборы?
За несколько дней до выборов в Гданьске был
арестован скрывавшийся с 13 декабря 1981 года
Богдан Лис, член так называемой «временной все-
польской комиссии «Солидарности». Одно из
писем, обнаруженных при его аресте, было послано
из Брюсселя Ежи Милевским и датировано 25 мая
1984 года: «...у нас есть возможность собрать
около миллиона долларов (главным образом от
американцев и японцев), если удастся организовать
бойкот выборов в народные советы. В эти дни мь\
получили от АФТ — КПП дотацию на сумму 200
тысяч долларов. Прошу тебя, напиши коротенькое
письмо Лейну Керкленду и поблагодари его за это
и за ранее полученную (осенью 1983 г.) такую же
сумму, а также вырази надежду, что АФТ — КПП с
105
пониманием отнесется к будущим нуждам
«Солидарности» при определении бюджета на 1985 год.
Это очень важно, так как деньги есть, но чтобы их
получить, необходимо добиться у них
соответствующего высокого доверия, что вы сможете
эффективно использовать эти деньги в стране...»
Этот скучноватый фрагмент из делового
письма еще раз указывает, кто по-прежнему
заказывает антигосударственную музыку в Польше, хотя
исполнителей становится все меньше, а их
инструменты звучат с каждым днем фальшивее.
В сфере культуры «Солидарность» действовала
в плане разрушения и примитивизации. Ее
интересовали художники-графики для изготовления
значков, транспарантов, листовок, беспринципные
журналисты, перешедшие на сторону оппозиции, чтобы
обеспечить себе место в «лагере победителей»,
артисты эстрады и авторы второго разбора, которые
могли преподнести зрителям программы с
антисоциалистической начинкой.
Самым большим приобретением оппозиции был
Анджей Вайда, на скорую руку слепивший фильм
во славу КОС — КОРа «Человек из железа», по
сценарию А. Щибор-Рыльского — продолжение его
же фильма «Человек из мрамора», вышедшего в
1977 году. На фестивале в Каннах фильм-поделка
исключительно по политическим мотивам был
награжден «Золотой пальмовой ветвью». Кинокритик
3. Калужиньский написал по этому поводу едкую
рецензию, названную «Пальма из железа».
Планировался еще один фильм — «Мамаша
Кураж из цеха Б-2», в котором главную роль должна
была играть «неистовая» Анна Валентынович.
Продюсеру М. Менкарскому был выдан аванс —
четверть миллиона злотых, но вскоре неудавшаяся
«мамаша Кураж» оказалась в опале в самой
«Солидарности», поэтому ни фильмом, ни злотыми
никто больше не интересовался.
«Солидарность» подписала также договор на
книгу «Валенса» с Т. Коженевским и определила
ему гонорар, как классику,— по 50 тысяч злотых за
печатный лист. Книга также не увидела свет, хотя,
если бы автор был талантливым сатириком, успех
106
был бы обеспечен. Время предоставило для этого
превосходный материал.
Вот, пожалуй, и все несбывшиеся планы и
сомнительные достижения того периода. Одновременно
была организована травля известных актеров и
исполнителей— Яна Клосиньского, Станислава
Микульского, пианистки Галины Черны-Стефаньской —
и всех, кто решительно отвергал суррогаты
искусства, предлагаемые «демократической
оппозицией».
Не греша перед истиной, нужно признать, что
некоторые режиссеры, особенно выбранные в
ряде театров на эту должность под влиянием
«всеобщего критиканства», сменили в угоду моде
акценты в спектаклях, придав им «двусмысленное»
звучание. Другие поставили спектакли-однодневки на
основе появившихся литературных поделок, но они
не имели ожидаемого успеха.
Корреспонденты многих американских изданий
до сих пор старательно выискивают в культурной
жизни Польши все, что, по их мнению, отдает
диссидентством. В театральных постановках, фильмах
и изданиях еженедельник «Ньюсуик», например,
ищет «критику режима», «выпады в адрес
Москвы», «попытки обойти цензуру». Ссылаясь на
абсурдное утверждение одного из озлобленных
оппозиционеров— Тадеуша Конвицкого, авторы из
«Ньюсуика» договорились до того, что
литераторы, которые откажутся вступить в новый Союз
писателей, могут быть объявлены тунеядцами и
отправлены в «трудовые лагеря».
Нет сомнения в том, что культура в Польше
стала ареной острой политической борьбы,
которая продолжается. Потребуется немало времени и
сил, чтобы ликвидировать ощутимые потери,
неизбежные в генеральном сражении за социализм и
социалистическую культуру.
Есть еще немало охотников поискать тлеющие
угли в погасшем польском костре. Кое-кем еще
поднимается на щит космополитическая теорийка,
придуманная для оправдания тех, кто перешел на
иждивение западных «меценатов» из подрывных
центров. Она гласит, что все, написанное
по-польски, принадлежит польской культуре. При этом не
имеет значения, что, где и когда написано. Удобное
107
прикрытие для любого ренегатства. И не
учитывается еще одно немаловажное условие — как
написано. Пока что современная эмигрантская
литература, по убеждению польских критиков, несет на
себе «политический горб» и отличается резким
падением качества. Этот процесс будет
прогрессировать до тех пор, пока ушедшие на Запад польские
литераторы будут выполнять заказы своих
покровителей.
Кольцо диверсий, которым силы империализма
стремились окружить социалистическую Польшу,
замкнуть не удалось. Проиграны главные ставки на
демонтаж социализма и разрушение польской
экономики. В этом польскому народу оказали
неоценимую помощь Советский Союз и другие страны
социалистического содружества. Терпят поражение
и покушения на польскую национальную культуру
с ее богатейшей палитрой и прекрасными
глубокими традициями. Это показали Дни польской
культуры, прошедшие в городах Советского Союза в
апреле 1984 года. И вряд ли стоит в
долговременной перспективе рассматривать «творчество» тех
литераторов, которые согласились пилить сук, на
котором сидят, рубить дерево, которое их кормит.
Их усилия прекратятся, как только «меценат»
закроет бумажник с долларами. Тогда каждый из
«падших ангелов» найдет свое место в той
пустыне, которую он стремился создать — в
политической, экономической или культурной.
Процесс стабилизации в Польше продолжается.
Он с каждым днем набирает силы и уверенность,
хотя, как говорил Первый секретарь ЦК ПОРП,
Председатель Совета Министров ПНР, генерал
армии Войцех Ярузельский, самое опасное осталось
позади, а самое трудное еще впереди. Главное в
том, что расчеты сил империализма расшатать и
вырвать Польшу из социалистического содружества
потерпели провал.
В начале мая 1984 года состоялся официальный
визит польского лидера Войцеха Ярузельского в
Советский Союз, во время которого была
подписана долгосрочная программа экономического и
научно-технического сотрудничества между СССР и
ПНР на период до 2000 года. Эта программа, как
сказал В. Ярузельский, яркое доказательство проч-
108
ности наших взаимных связей и в то же время их
благоприятная долгосрочная перспектива.
Советские люди не сомневаются, что рабочий
класс, трудящиеся страны под руководством
Польской объединенной рабочей партии сумеют
преодолеть последствия кризиса и вывести свою родину
на рельсы устойчивого социалистического
развития.
Братская Польша торжественно отметила
40-летие Польской Народной Республики и
освобождения территории страны от фашистской оккупации.
В этой битве плечом к плечу с Советской Армией
сражалось возрожденное на советской земле
народное Войско Польское. В дни визита В. Ярузельского
в СССР, о котором говорилось, в Рязани
состоялось открытие памятника советско-польскому
братству по оружию. Братству, которое ы^ь\ будем
хранить и защищать.
...Опасное позади, трудное впереди.
Действительно, трудностей еще немало. Посмотрим, как
оценивают польские партийные публицисты
положение, сложившееся в начале 1985 года.
Журнал ЦК ПОРП «Нове дроги» опубликовал
статью Ежи Лобмана с анализом обстановки. Автор
подчеркивает, что политика сил империализма во
главе с Соединенными Штатами, как и прежде,
направлена на стратегическую конфронтацию с
социалистическим содружеством. При этом
используются такие подрывные методы, как
идеологическая диверсия, экономический и политический
шантаж, попытки прямого вмешательства во
внутренние дела суверенных государств.
Использование этих методов против Польши я
и стремился показать на страницах предлагаемой
читателю книги, которая писалась по горячим
следам событий, но ограничена, к сожалению, как
временными рамками, так и объемом, а поэтому не
может претендовать на полный их обзор.
Статья в «Нове дроги» констатирует, что у
внутренних врагов социалистического строя в Польше
сегодня нет шансов на повторение в стране
общественных кризисов в широком масштабе.
Экстремистские лозунги остатков подполья не находят
поборников в ПНР. «Лакейский характер деятельности
«лидеров» антисоциалистических организаций
109
КОС — КОР, «Конфедерации независимой Польши»
в отношении своих западных хозяев становятся все
более очевидными для многих их сторонников в
прошлом»,— говорится в статье.
Однако опасность не миновала.
Империалистические центры перешли в отношении Польши к
стратегии «длинного марша» и пытаются теперь
создать в стране как можно больше
взрывоопасных очагов путем продолжения пропагандистской
агрессии.
Стратегия «длинного марша» предусматривает,
в частности, проникновение антисоциалистических
и антисоветских сил в легальные структуры,
особенно в новое профсоюзное движение с целью
внести в него «плюралистический раскол», любыми
средствами затормозить и осложнить преодоление
экономических трудностей.
В статье последовательно прослеживаются и
разоблачаются методы и приемы, применяемые в
стратегии «длинного марша». «Любые действия
политического противника переплетаются с
антисоветизмом. Поэтому борьба с антисоциалистическими
элементами требует постоянной пропаганды
правды о СССР, его достижениях и роли,
принципиального значения польско-советского союза и
сотрудничества, убедительно подтвержденного за
последние исключительно трудные годы... Враг атакует
две неделимые составные части —
социалистический патриотизм и интернационализм. Мы будем
последовательно защищать и укреплять их в
сознании общества» — к такому выводу приходит
журнал «Нове дроги», в этом видят свою большую
задачу польские коммунисты.
В Советском Союзе с неослабевающим
вниманием следят за развитием событий в Польше. Мы
приветствуем каждый новый шаг братского народа
на пути преодоления экономических трудностей и
к стабилизации общественно-политического
климата и одновременно напоминаем польским
патриотам о бдительности, ибо диверсии, направленные
против Польши, продолжаются, а значит,
продолжается и борьба.
ОГЛАВЛЕНИЕ
3 Создание и крушение мифов
29 Заговор в костюмах и масках
46 Антенны над осиными гнездами
67 Польские часы и американская
«кукушка»
89 О «культурной пустыне»
и «падших ангелах»
Владимир Николаевич Накаряков
ДИВЕРСИИ ПРОТИВ ПОЛЬШИ
Редактор Ф. Л. Ц ы п к и н а
Художественный редактор Л. Е, Безрученков
Технический редактор Р. Д< Рашковская
Корректор Т, В. Вышегородцева
И Б № 3957
Сдано в набор 11.04.85. Подп. в печать 22.07.85.
А04835. Формат 84Х100'/з2. Бумага типогр. № 1.
Гарнитура журнальная рубленая, Печать высокая. Усл.
п. л. 5,46. Усл. кр.-отт. 5,75. Уч.-изд. л. 5,71. Тираж
100 000 экз. Заказ 152. Цена 25 к. Изд. инд. ХД-46.
Ордена «Знак Почета» издательство «Советская
Россия» Государственного комитета РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли, 103012,
Москва, проезд Сапунова, 13/15.
Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома
Государственного комитета РСФСР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 144003, г.
Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.
25 к.
СОВЕТСКАЯ РОССИЯ
Владимир Николаевич Нэкаря-
ков родился в 1924 году.
Участник Великой Отечественной
войны, затем летчик
Аэрофлота. Профессию журналиста
избрал в 1949 году. Окончил
Пермский государственный
университет. Работал в «Молодой
гвардии» (Пермь),
«Комсомольской правде», «Советской
России», «Известиях». По заданиям
редакций участвовал в дальних
перелетах и экспедициях, в том
числе в Антарктиду и на
дрейфующую станцию «Северный
полюс-9». С 1962 года
выступает как журналист-'междуна-
родник. В 1968—1972 годах —
собственный корреспондент
«Известий» в Пакистане, в
1973—1978 годах заведовал
корреспондентским пунктом
АПН в Кракове (Польша). С
1978 года — политический
обозреватель агентства печати
«Новости».
Член Союза журналистов СССР,
автор нескольких книг.