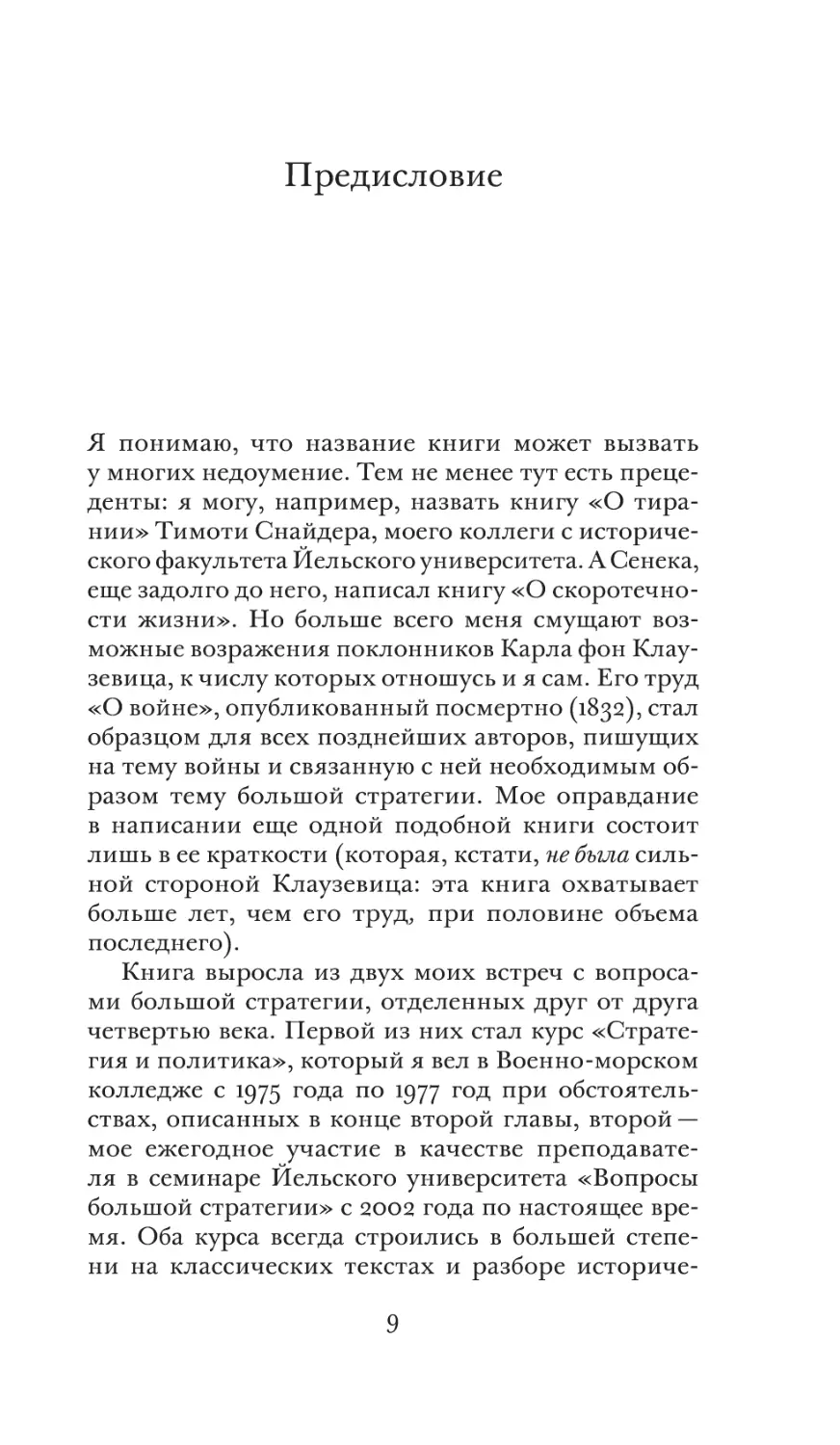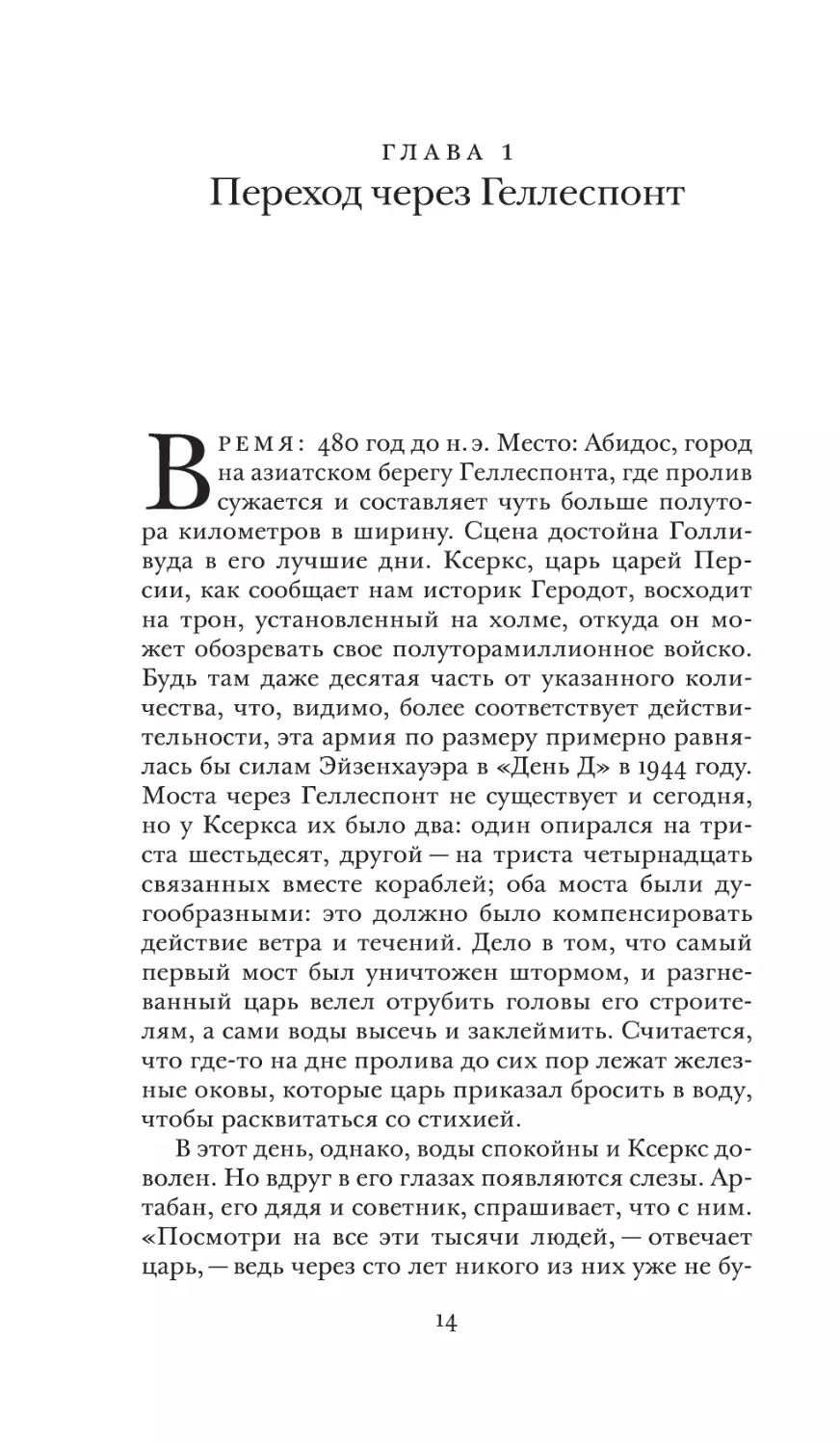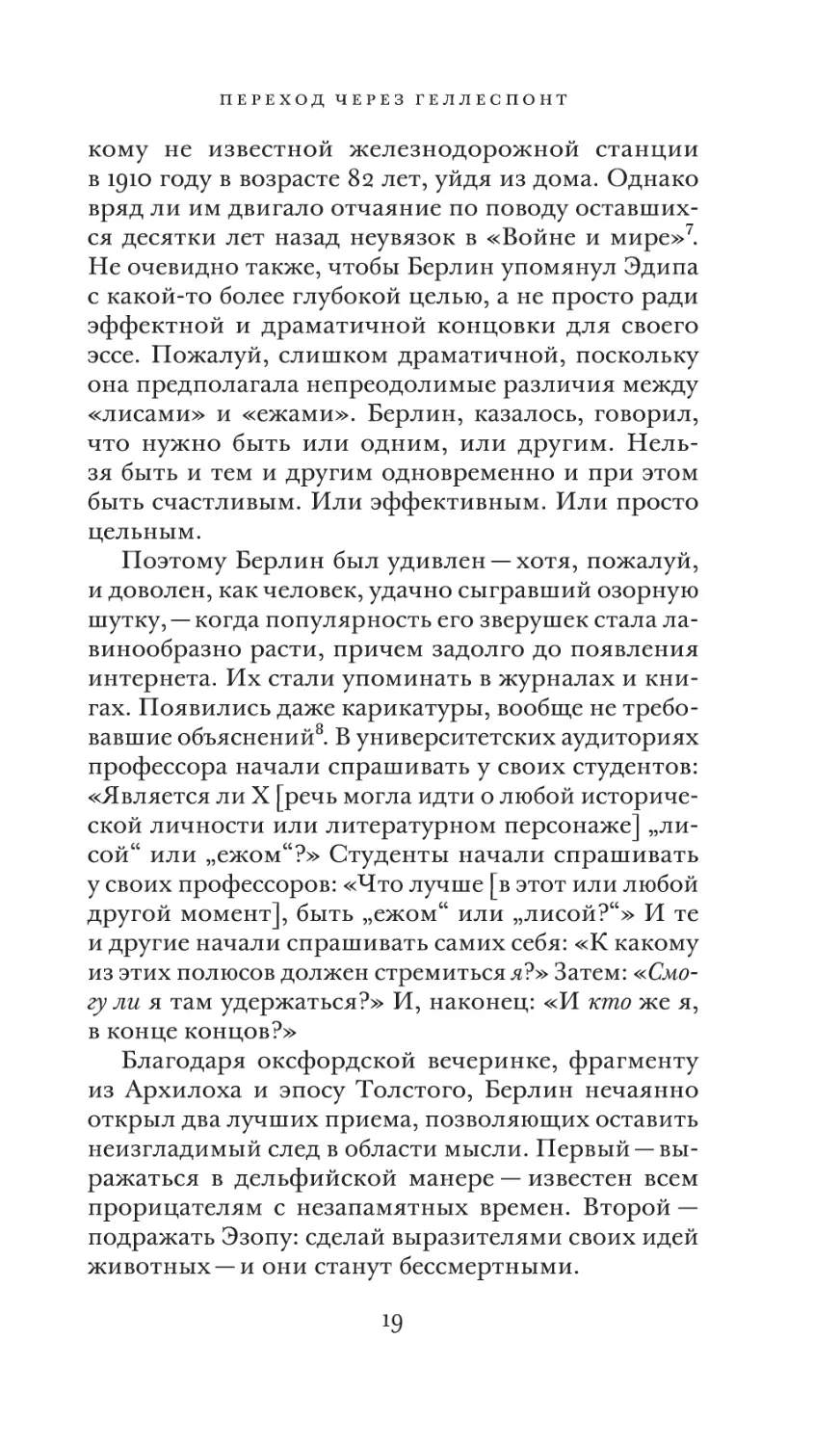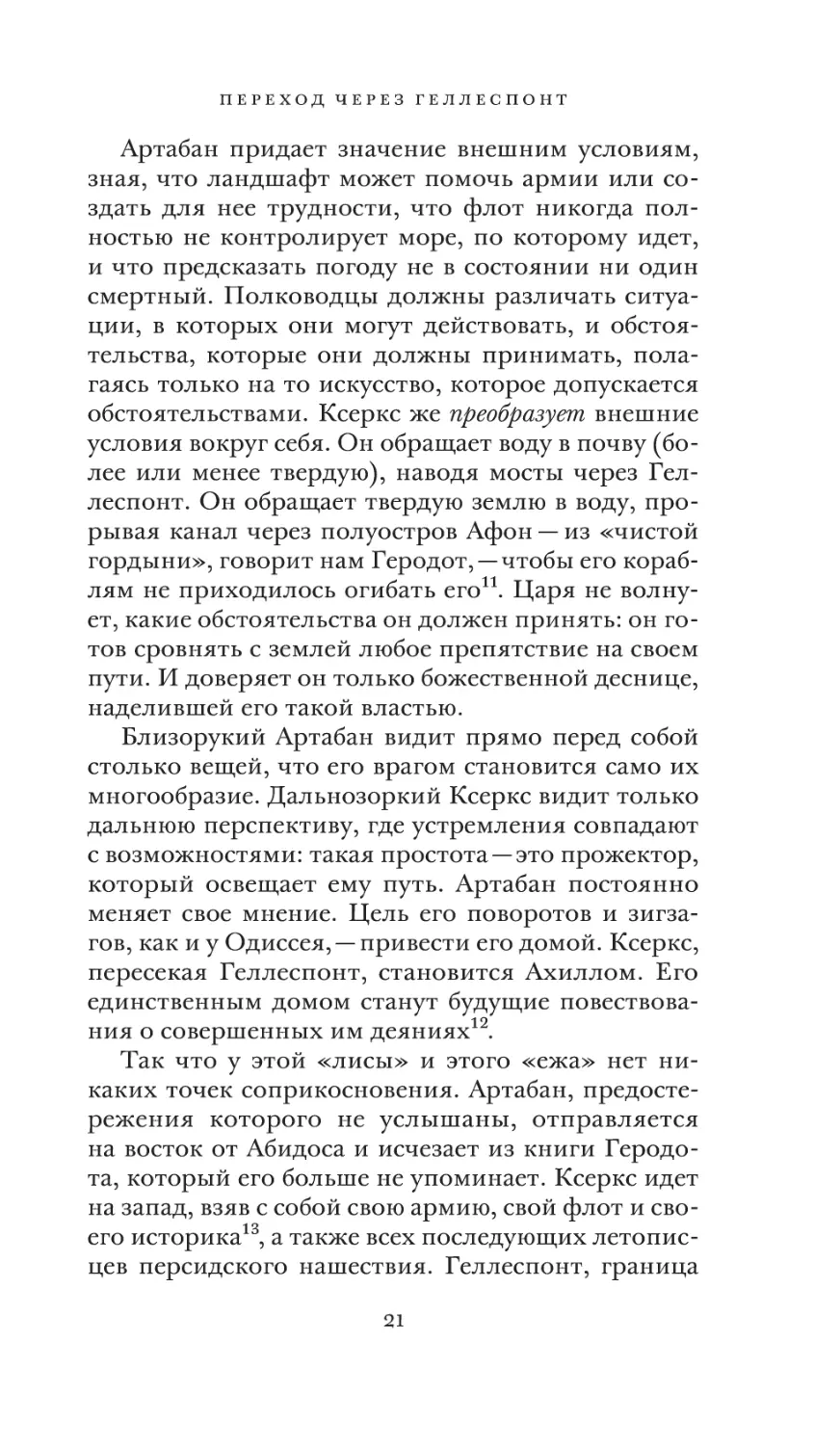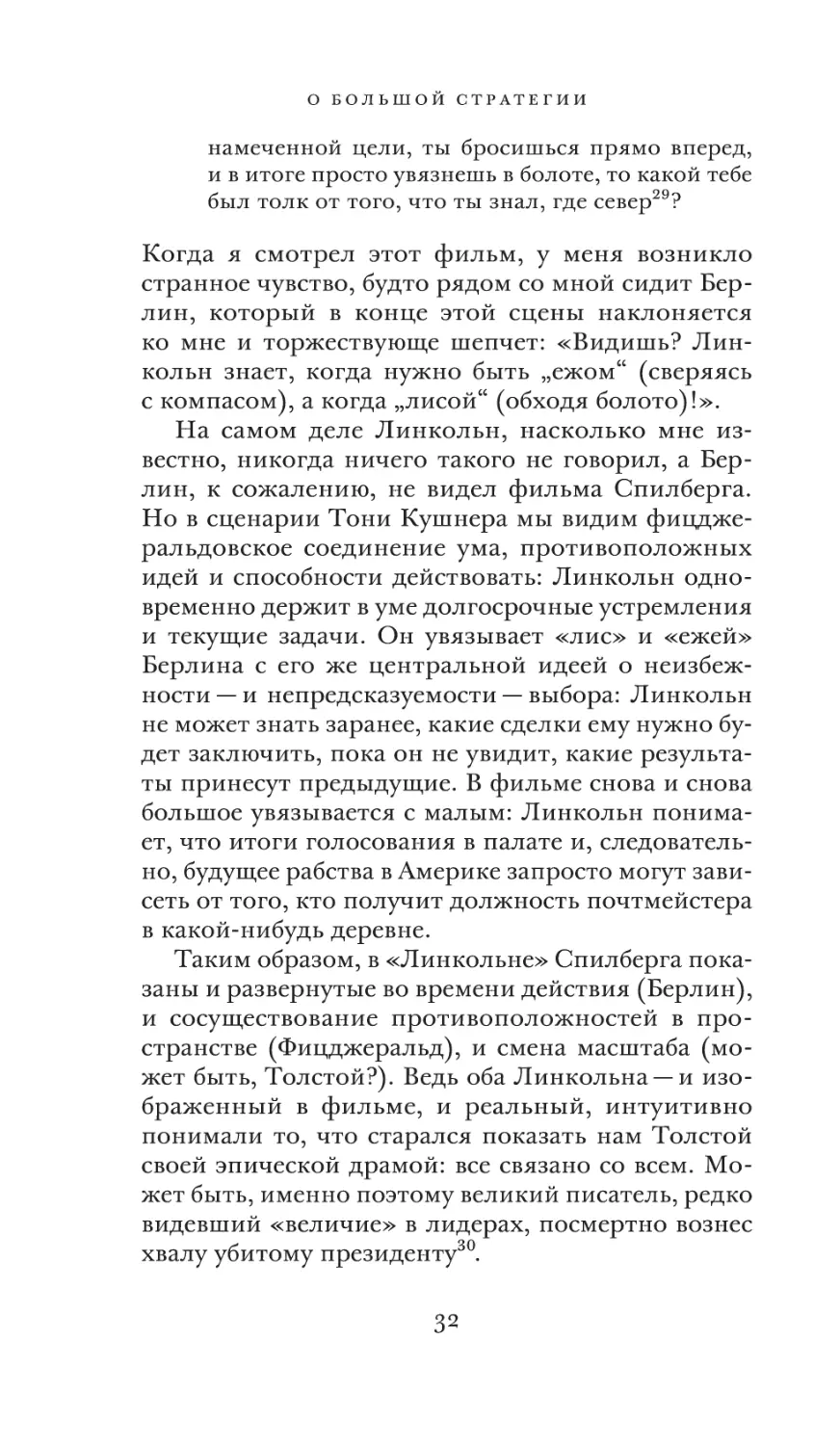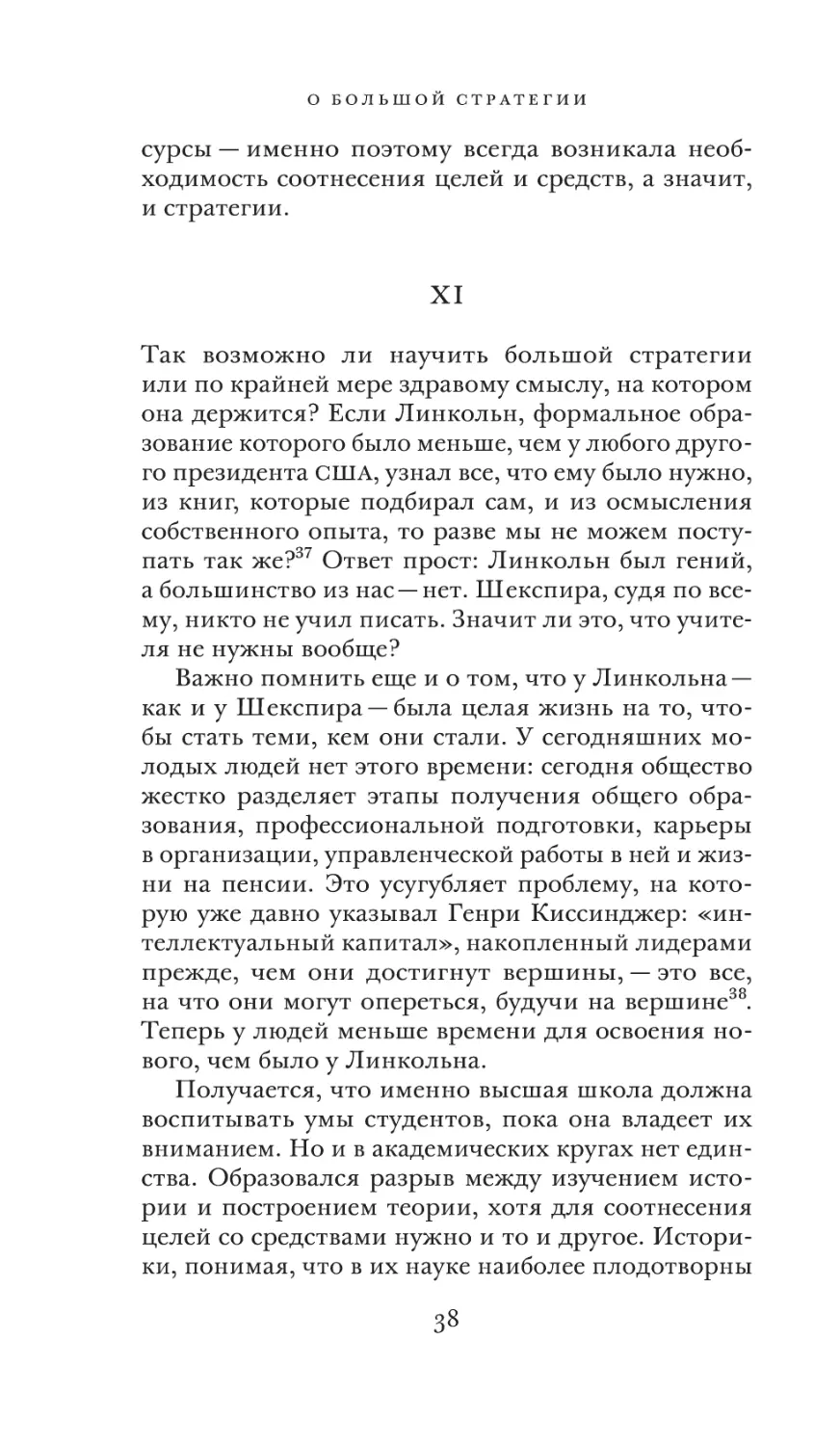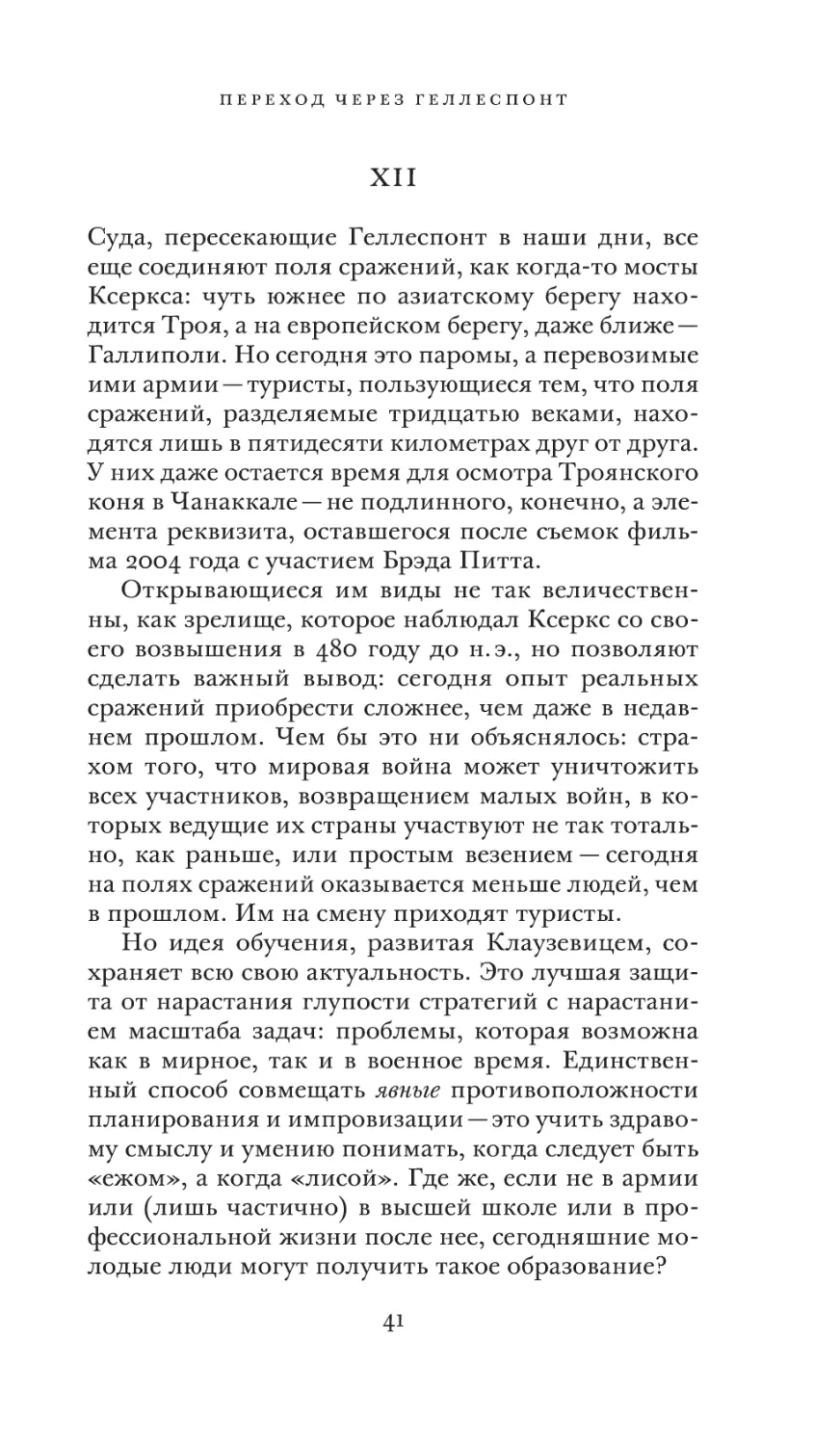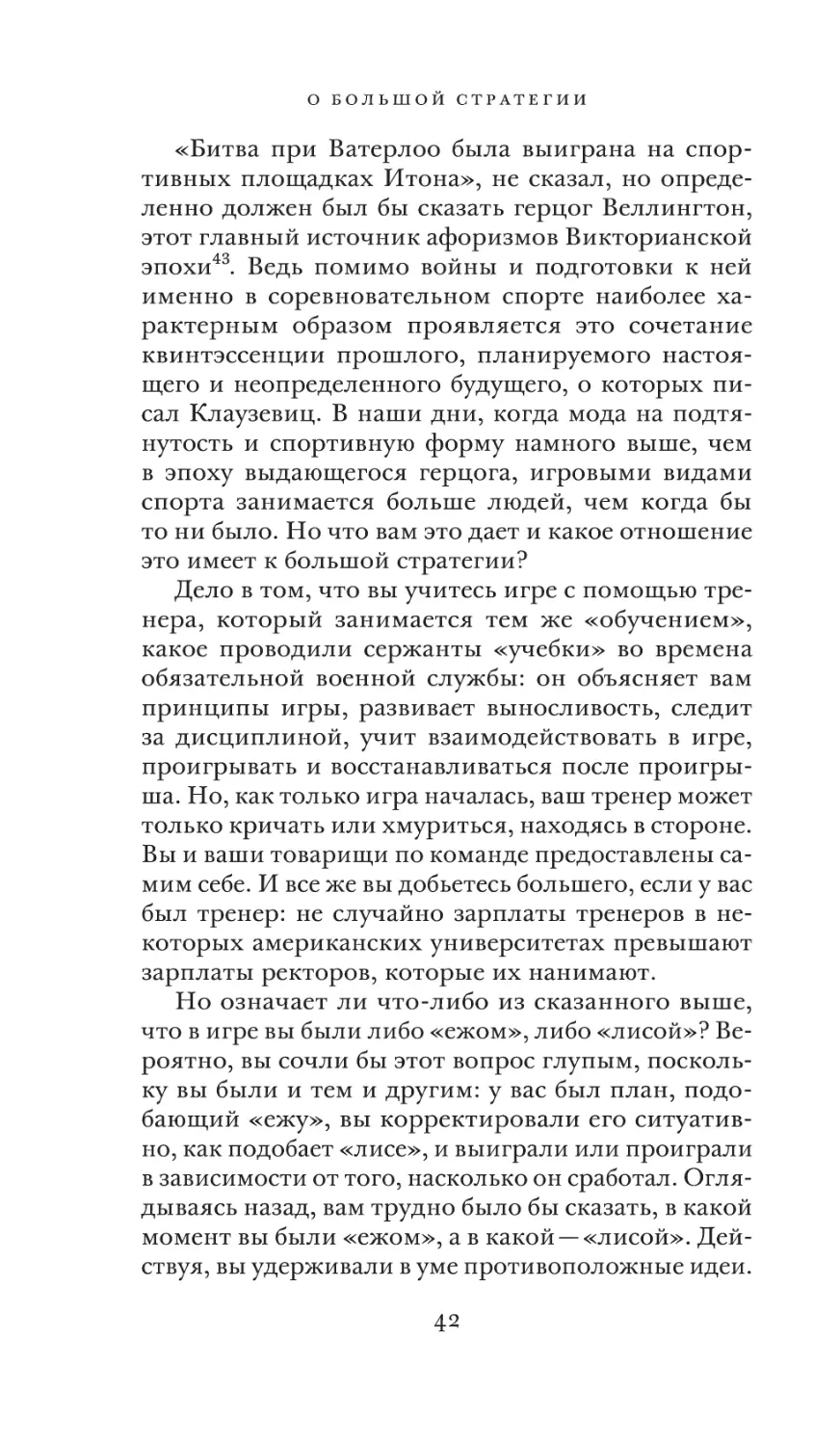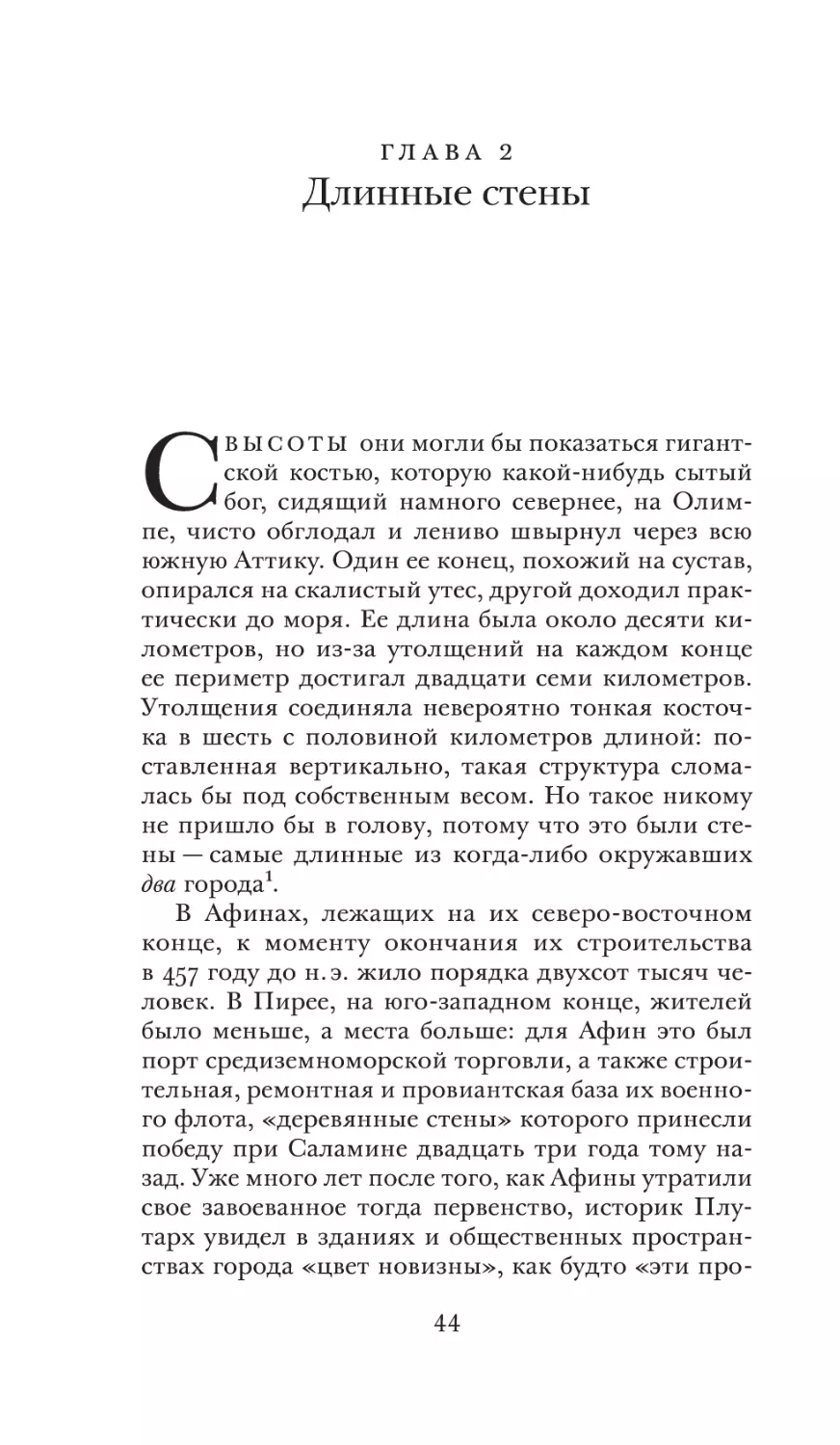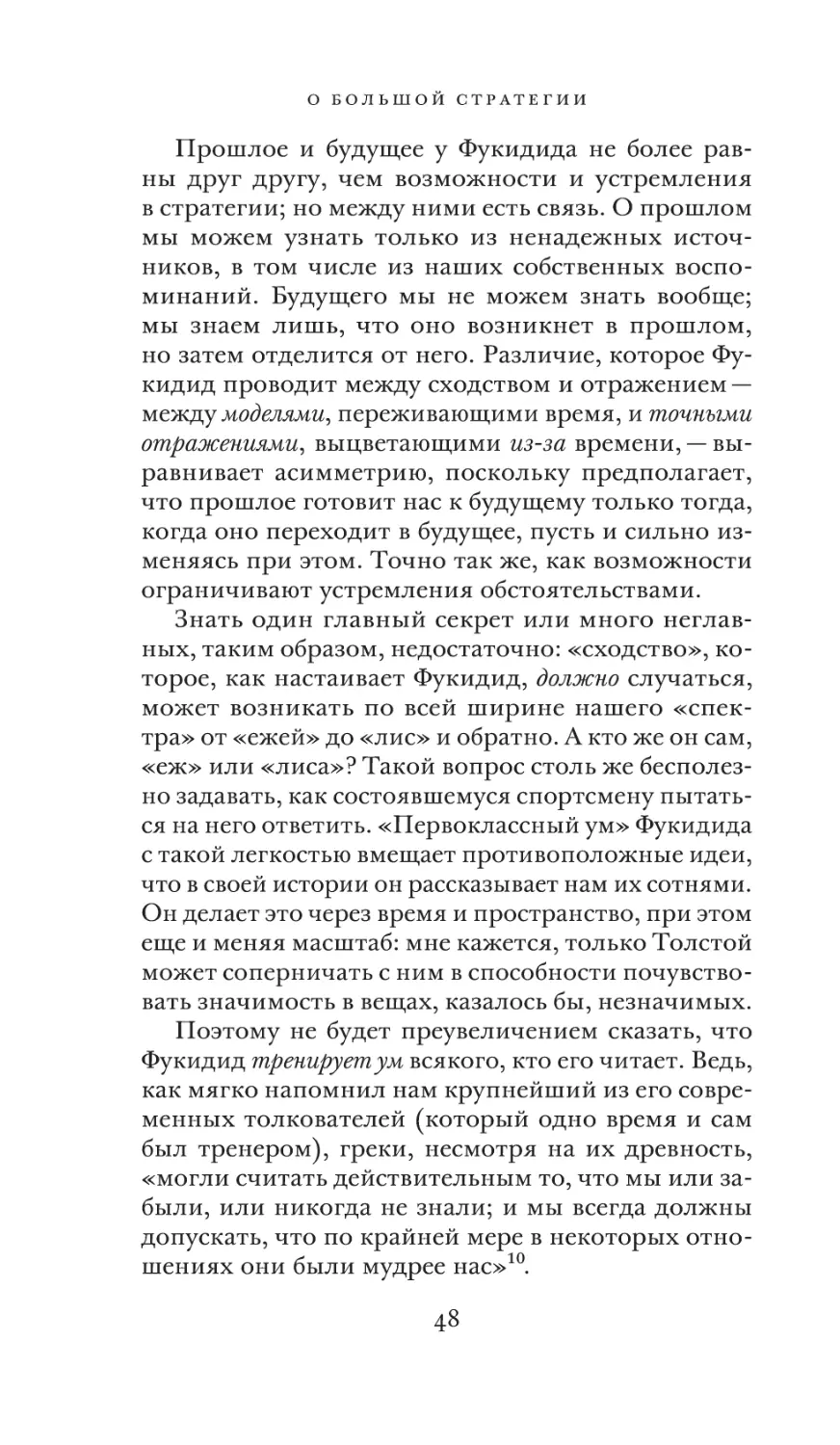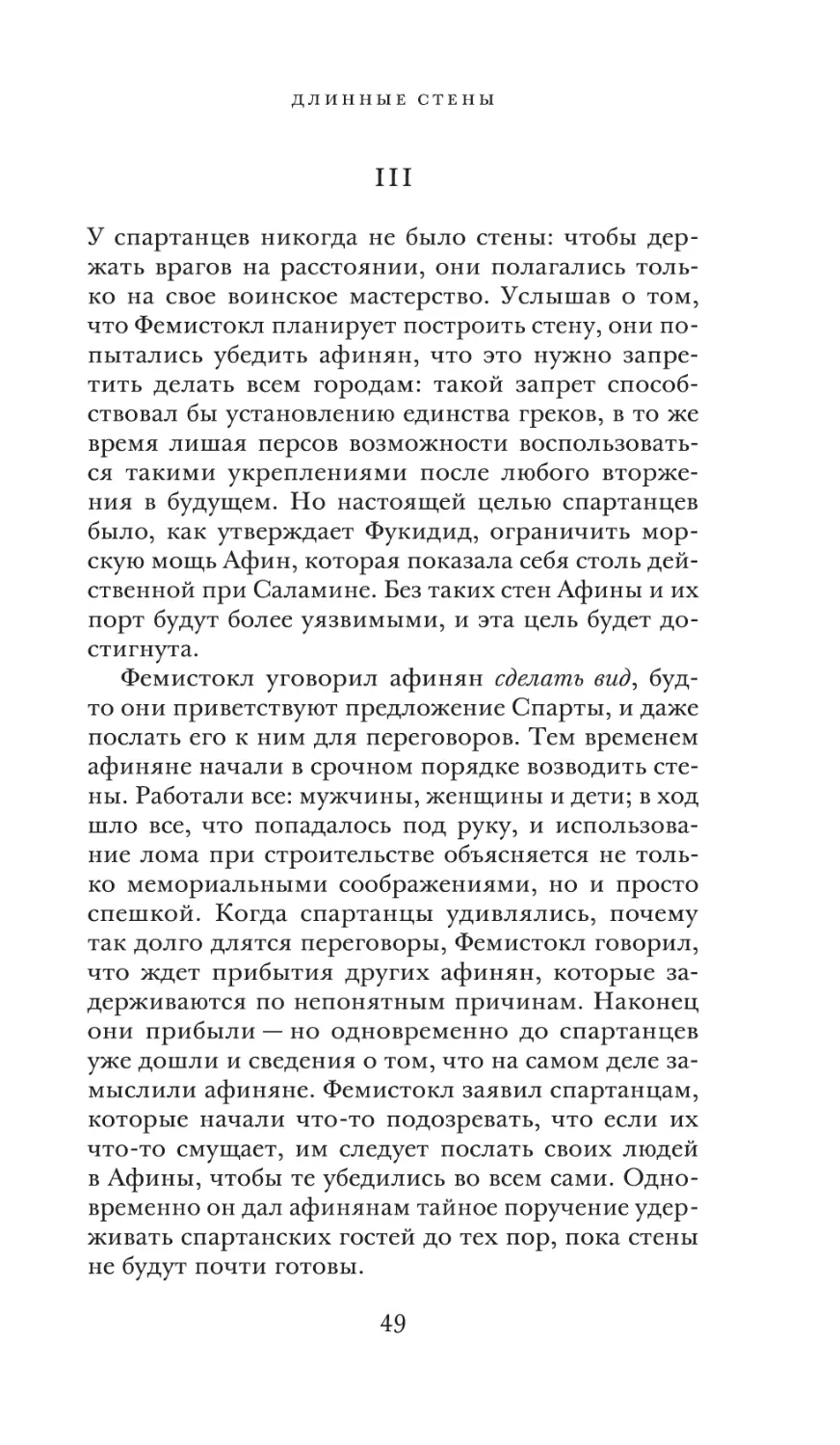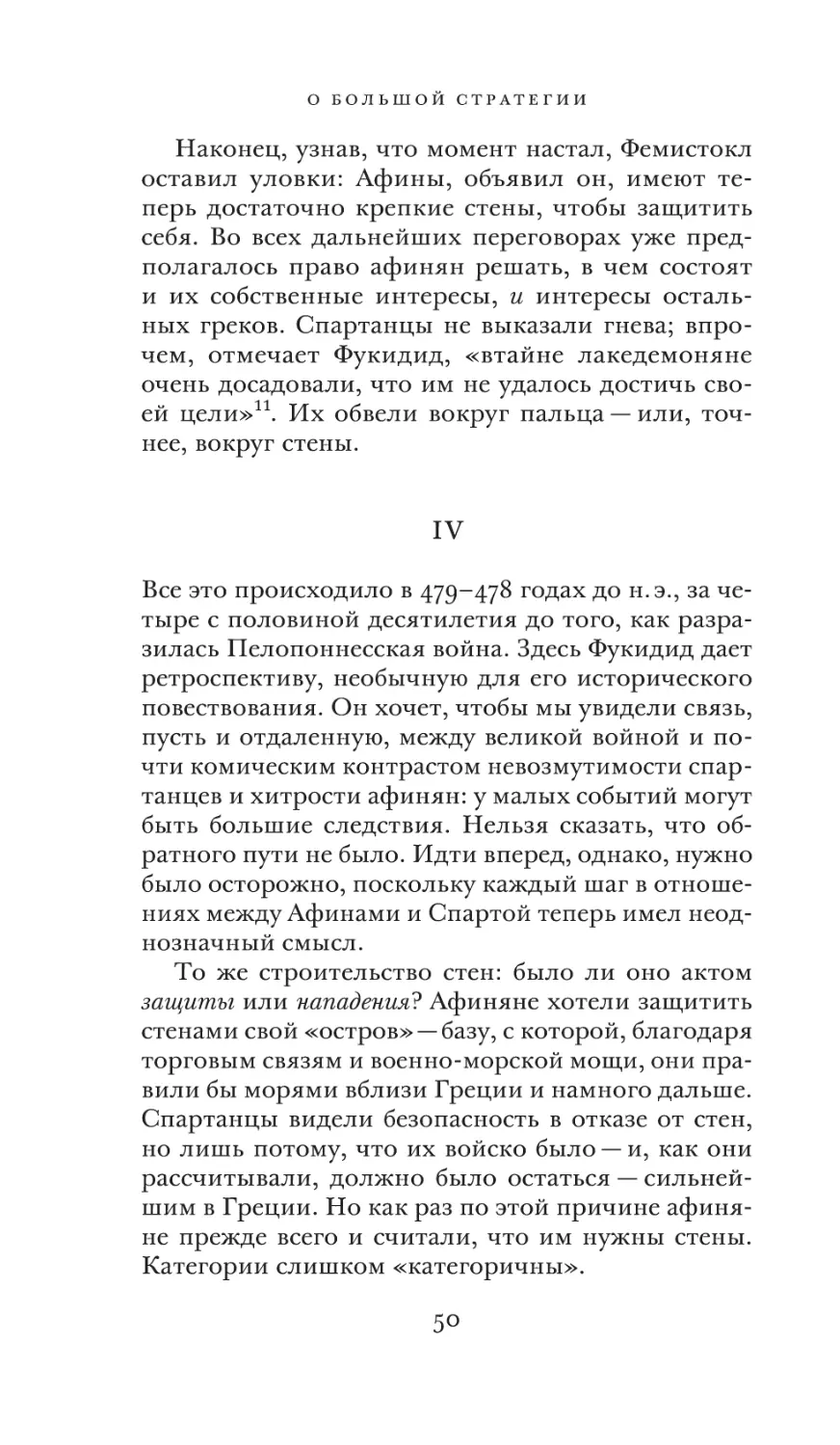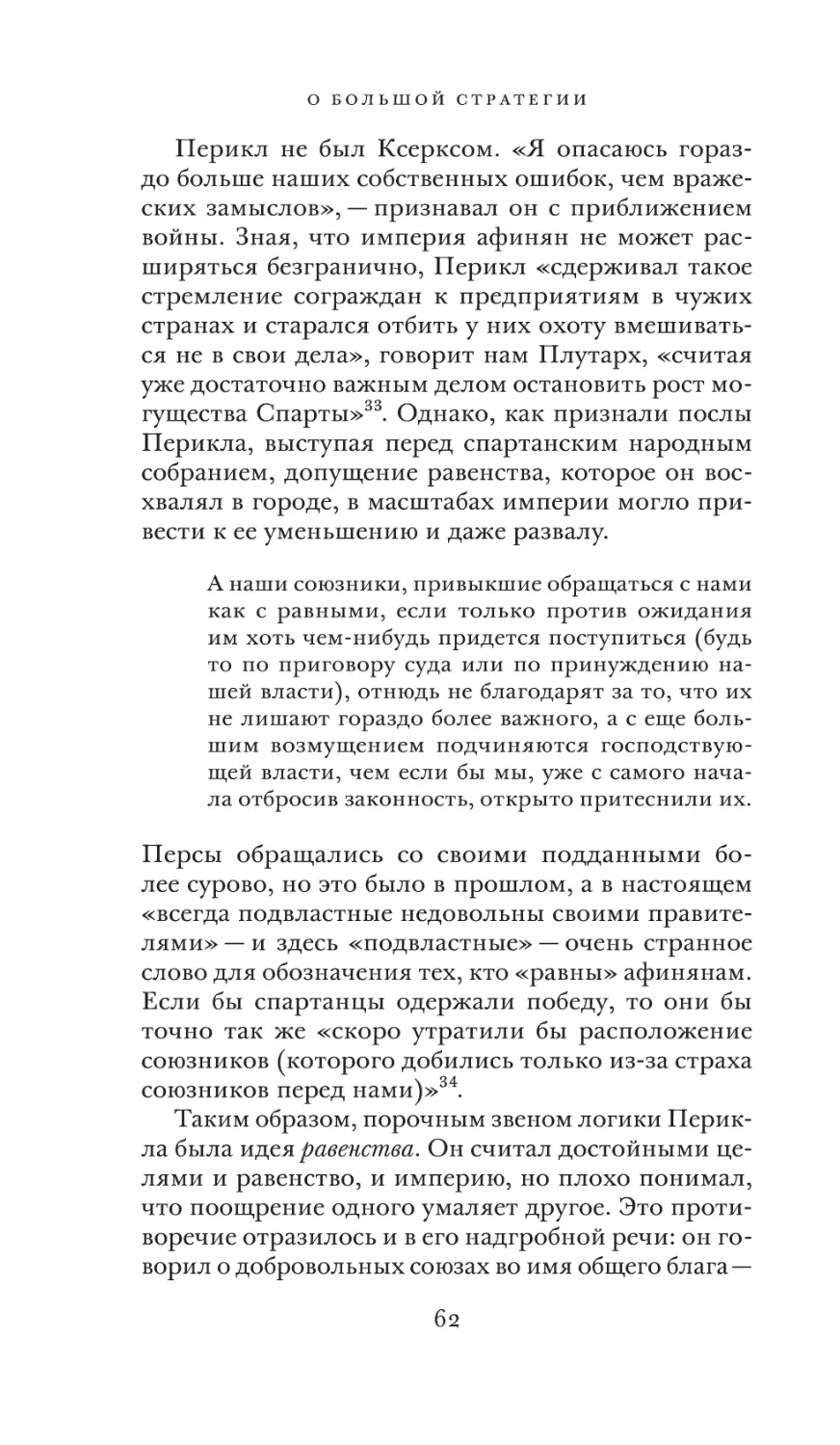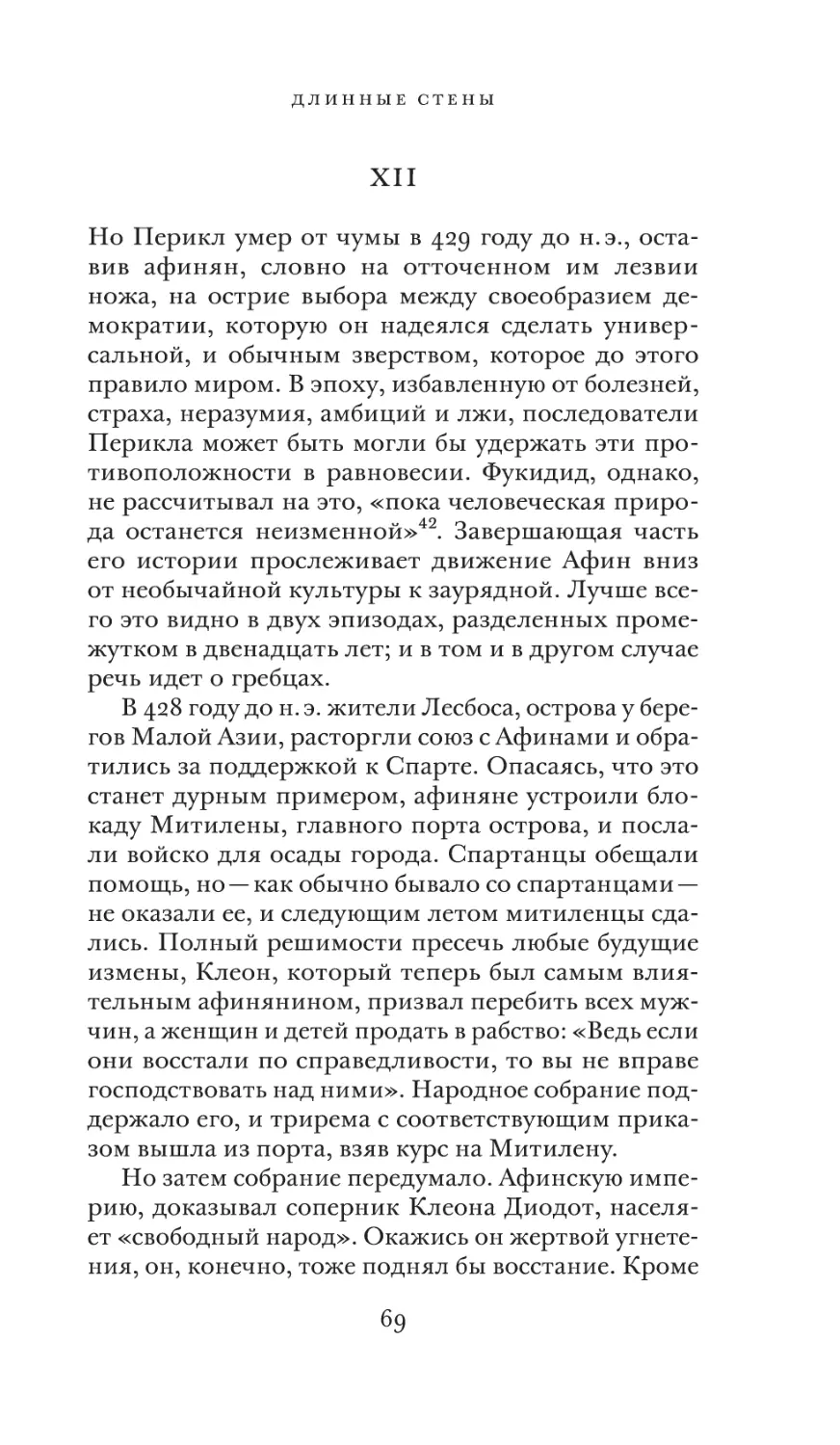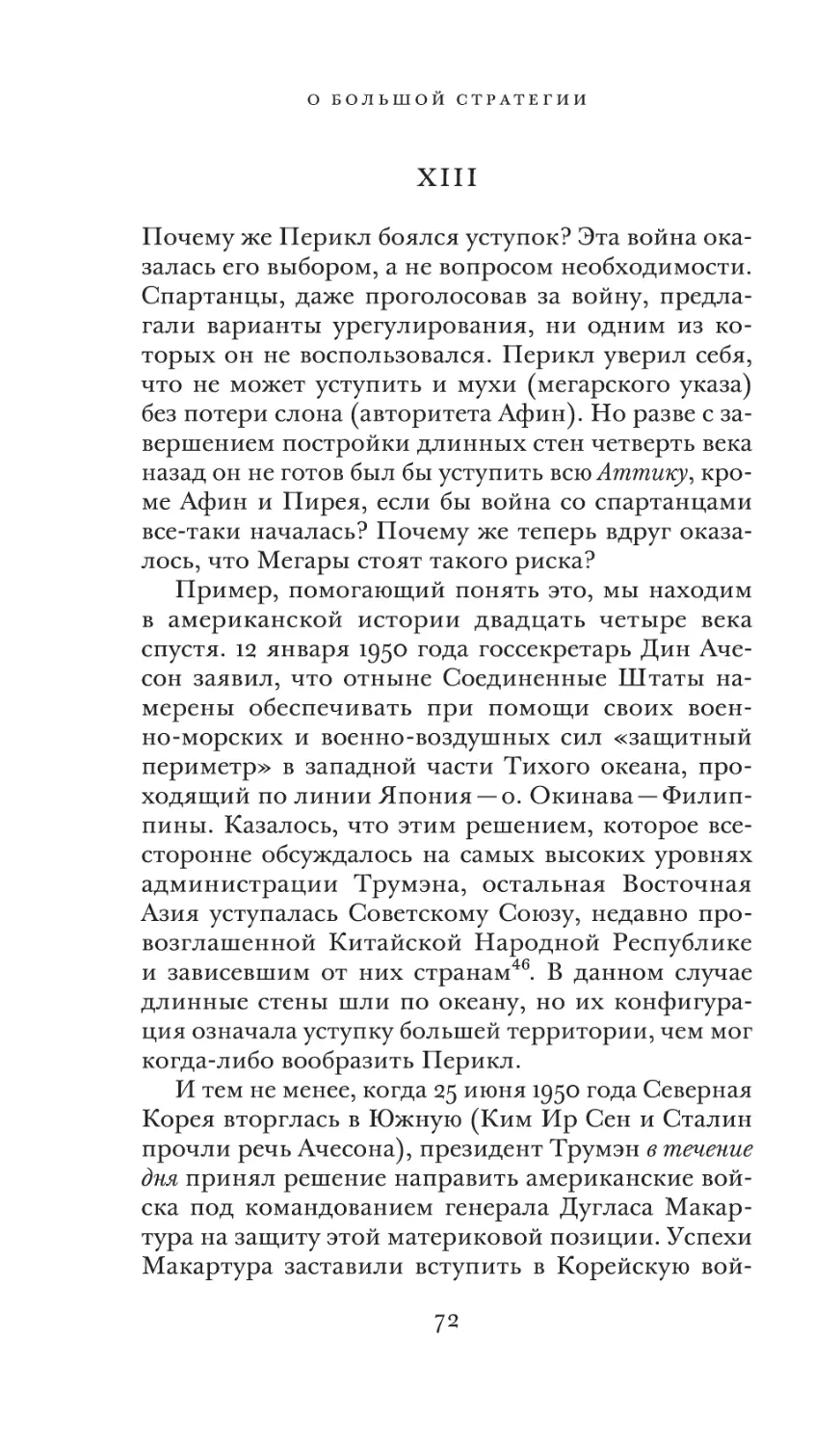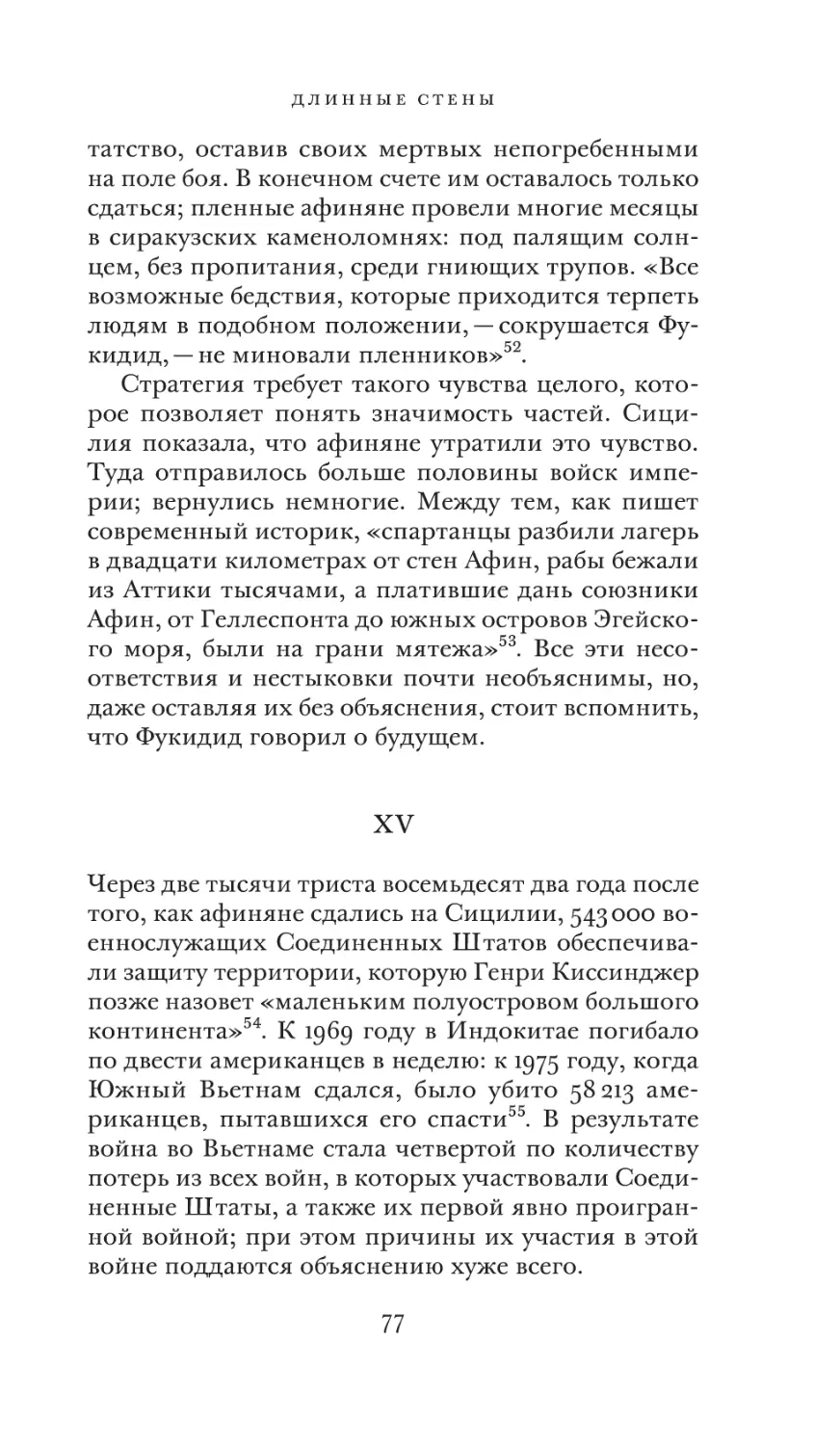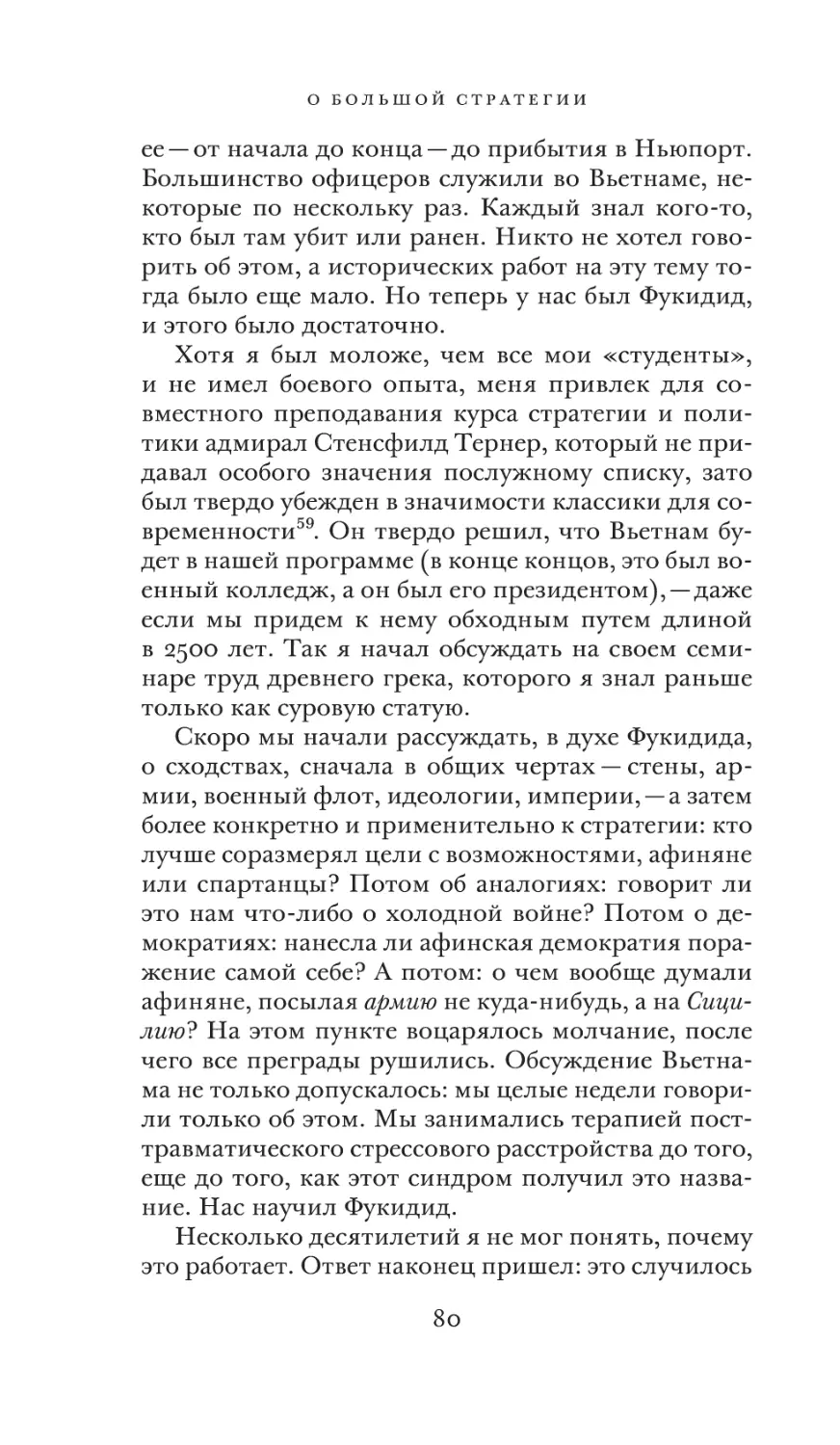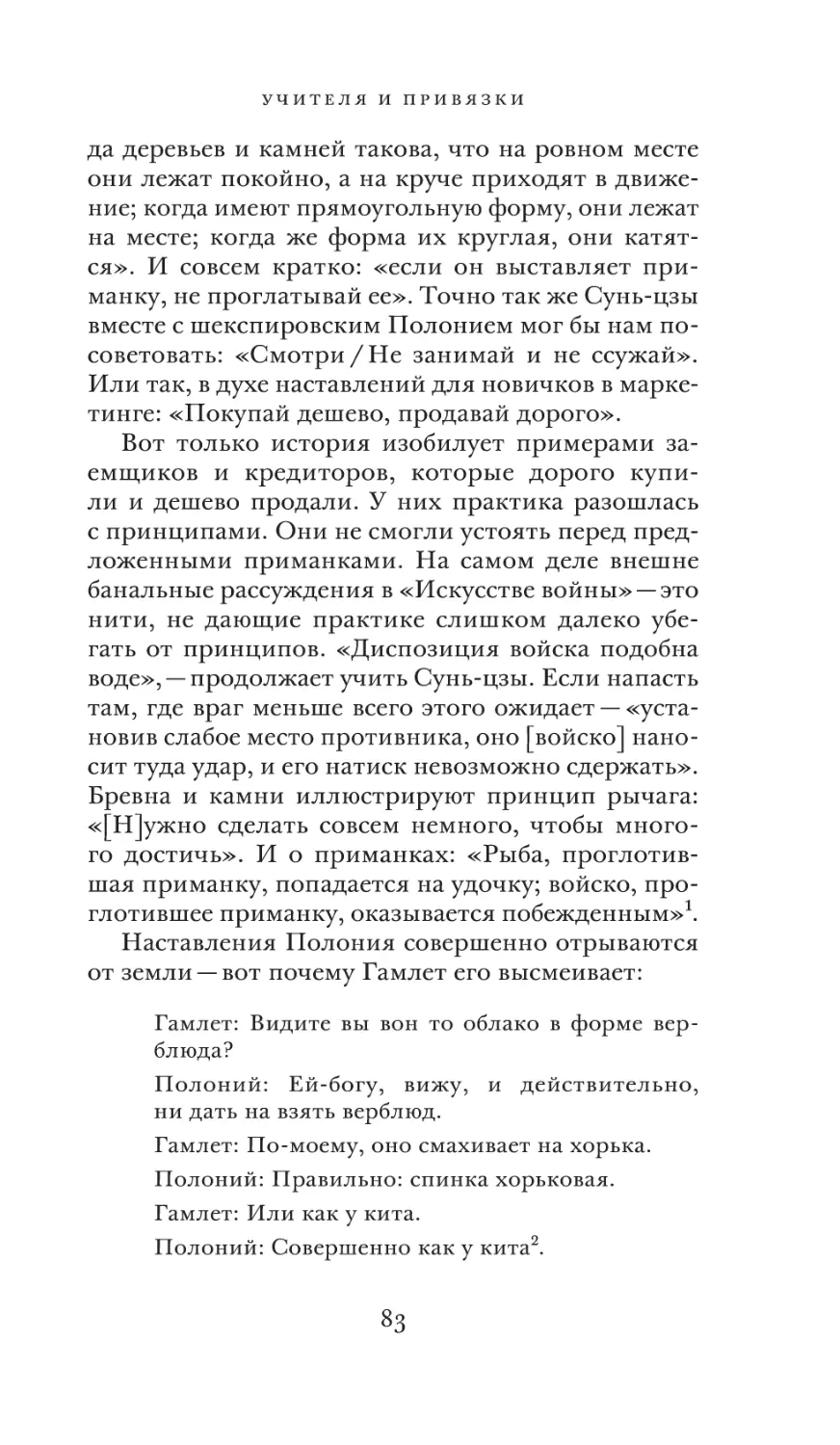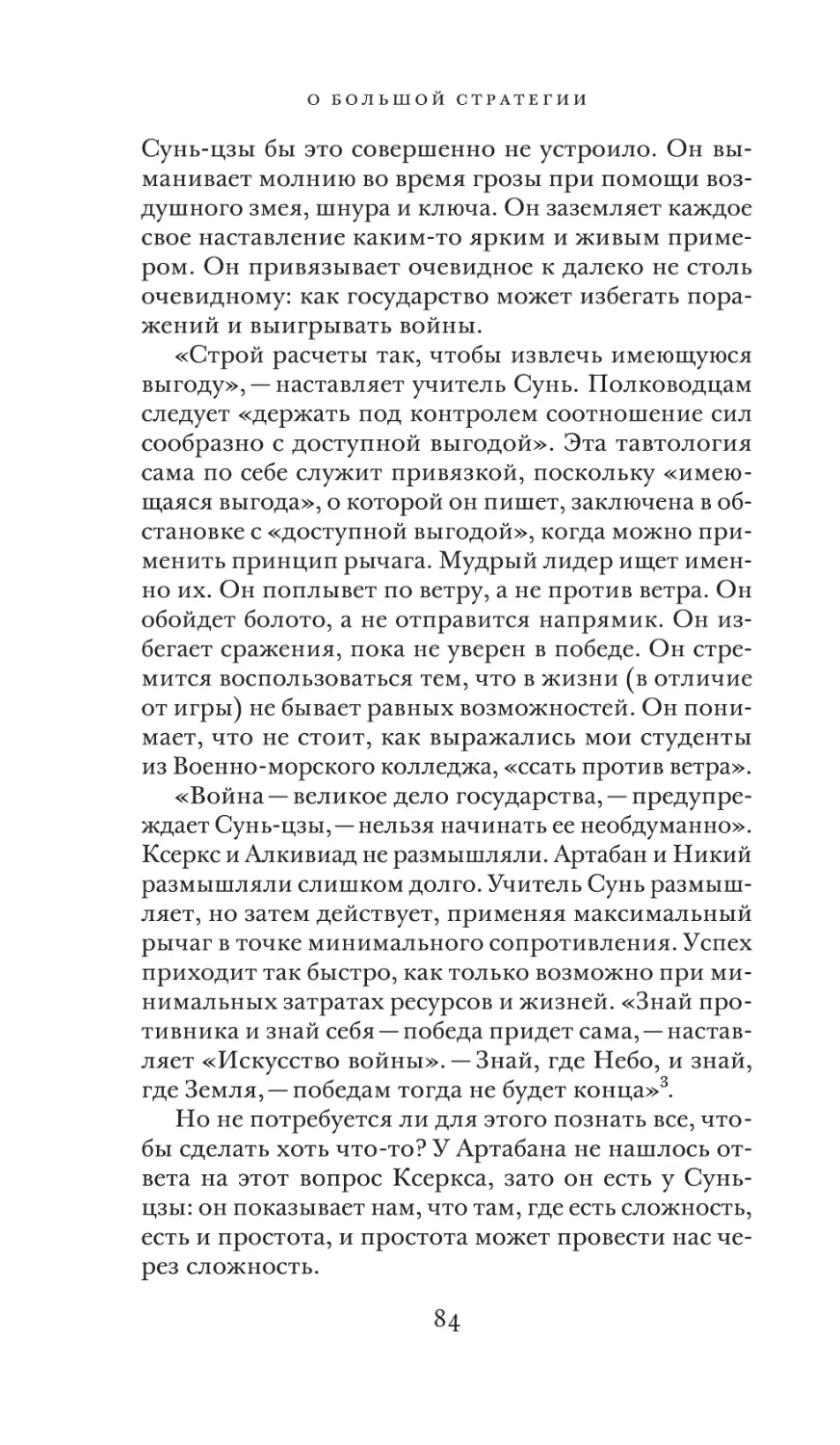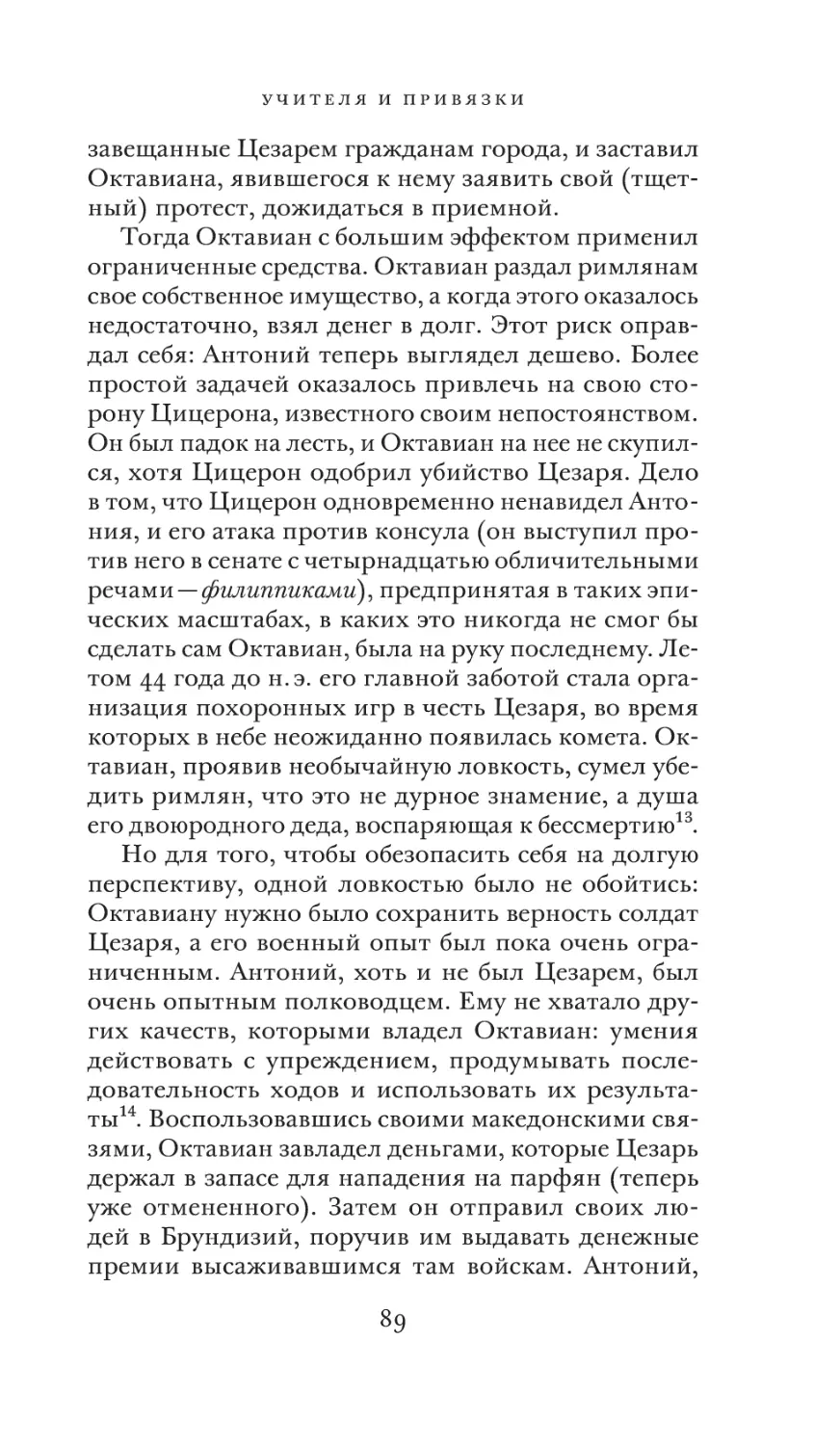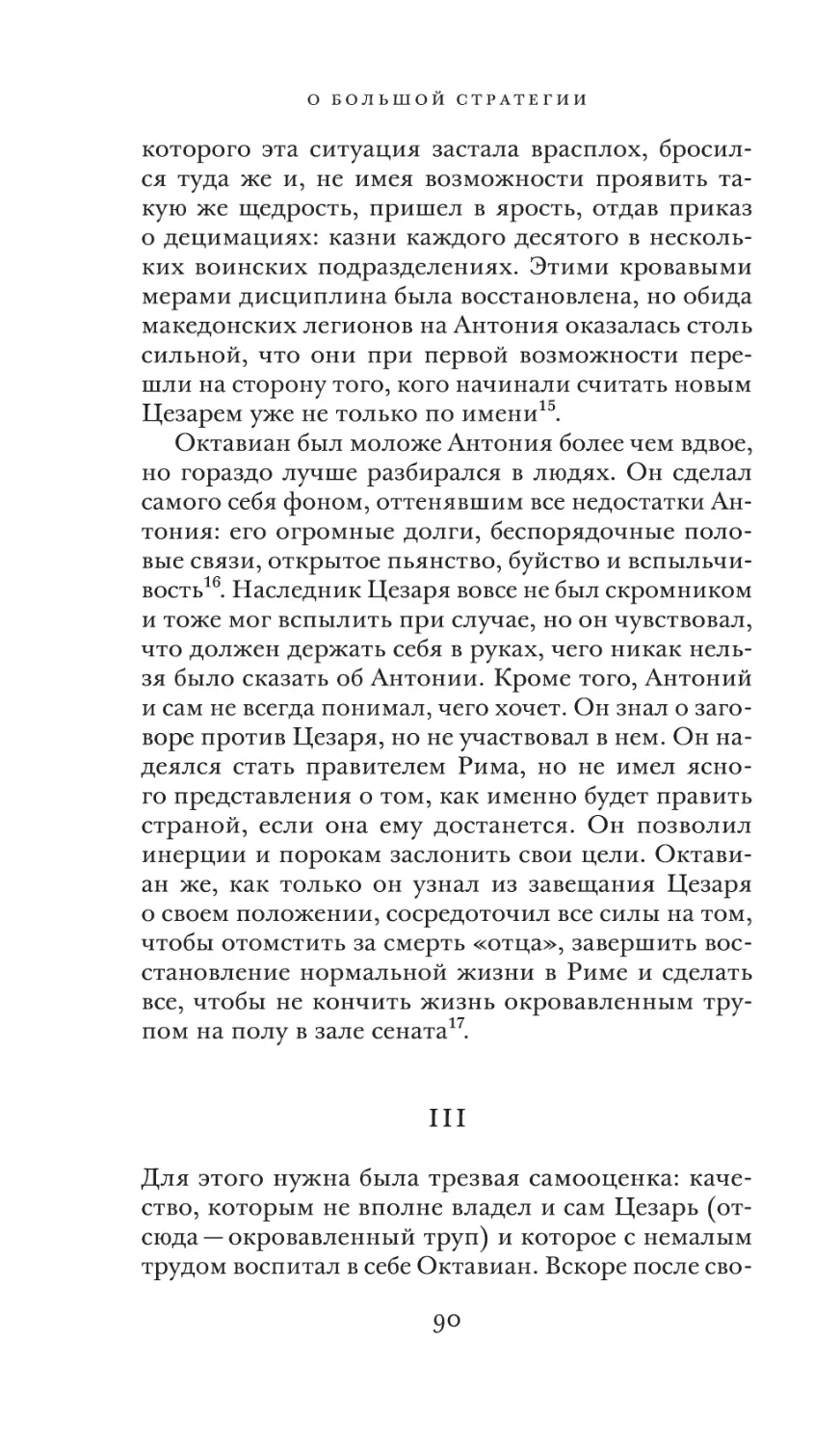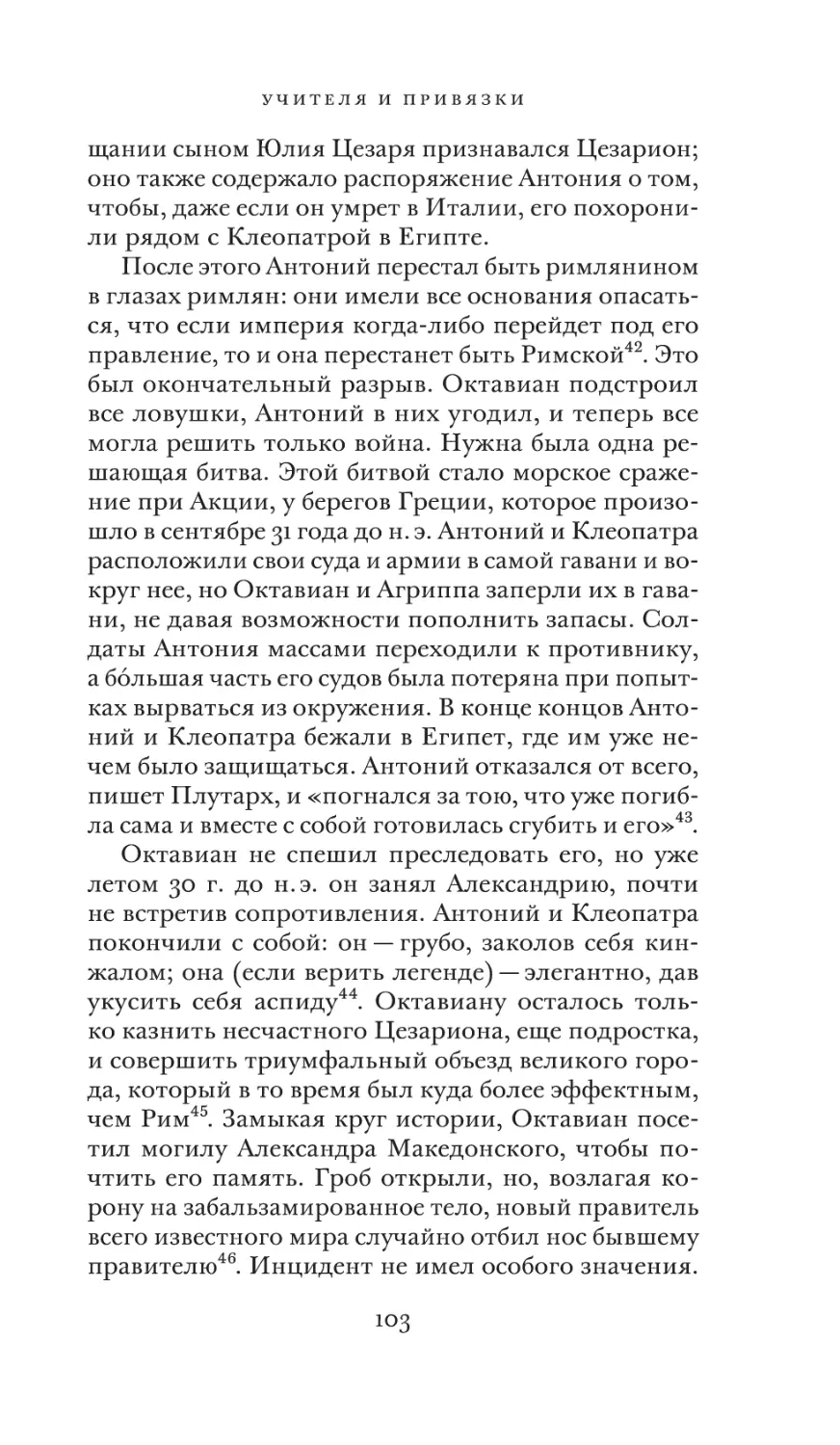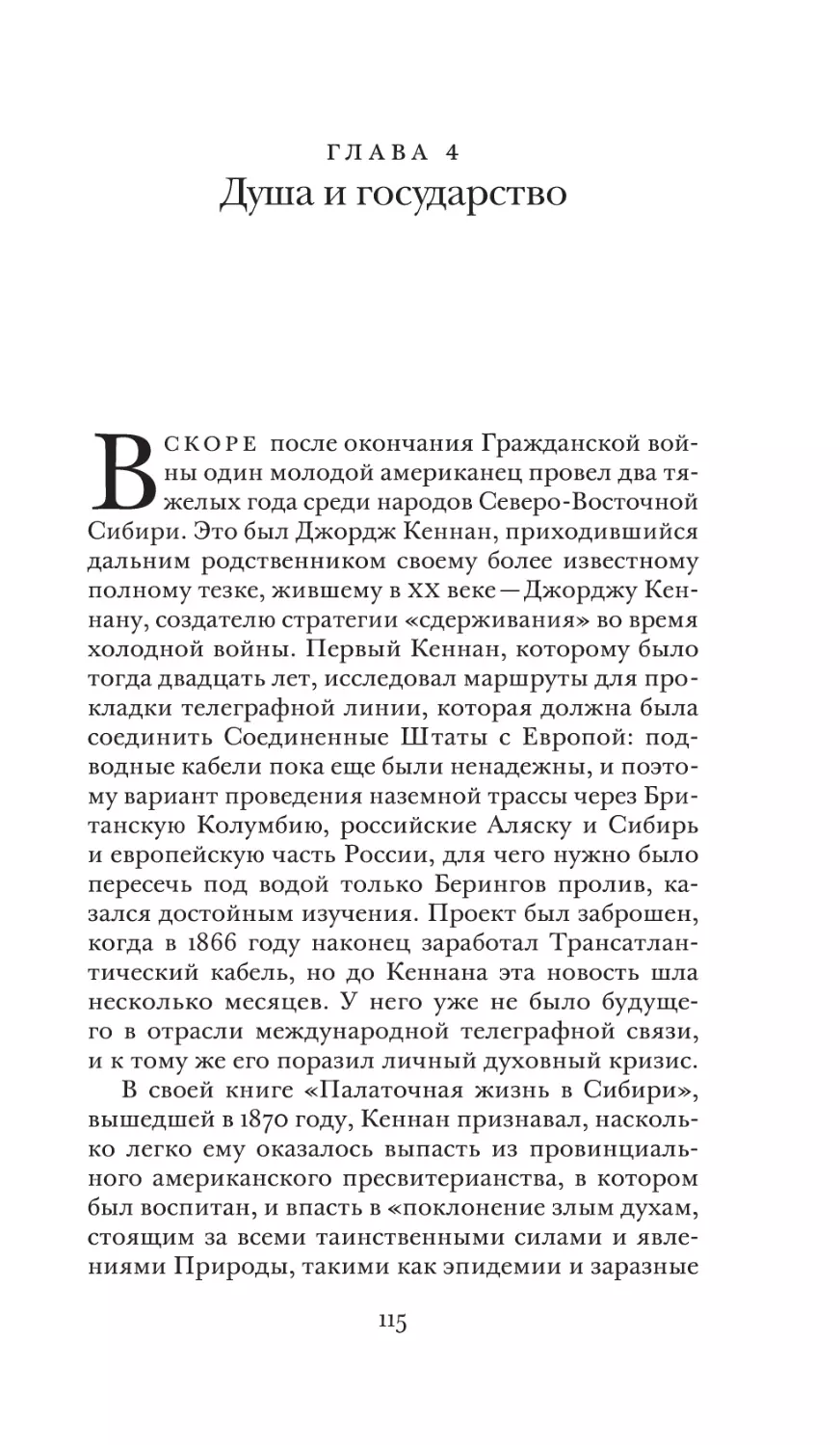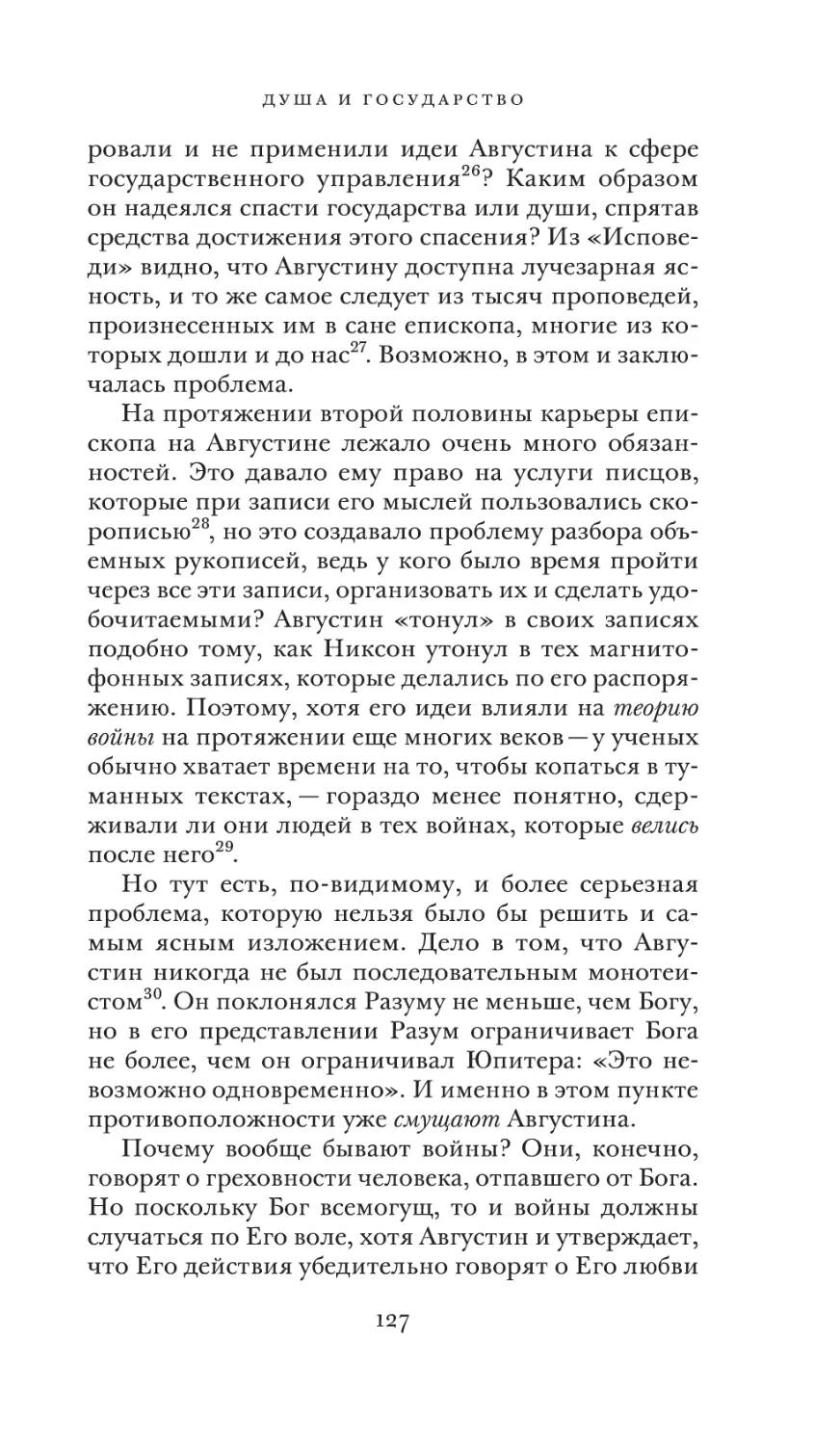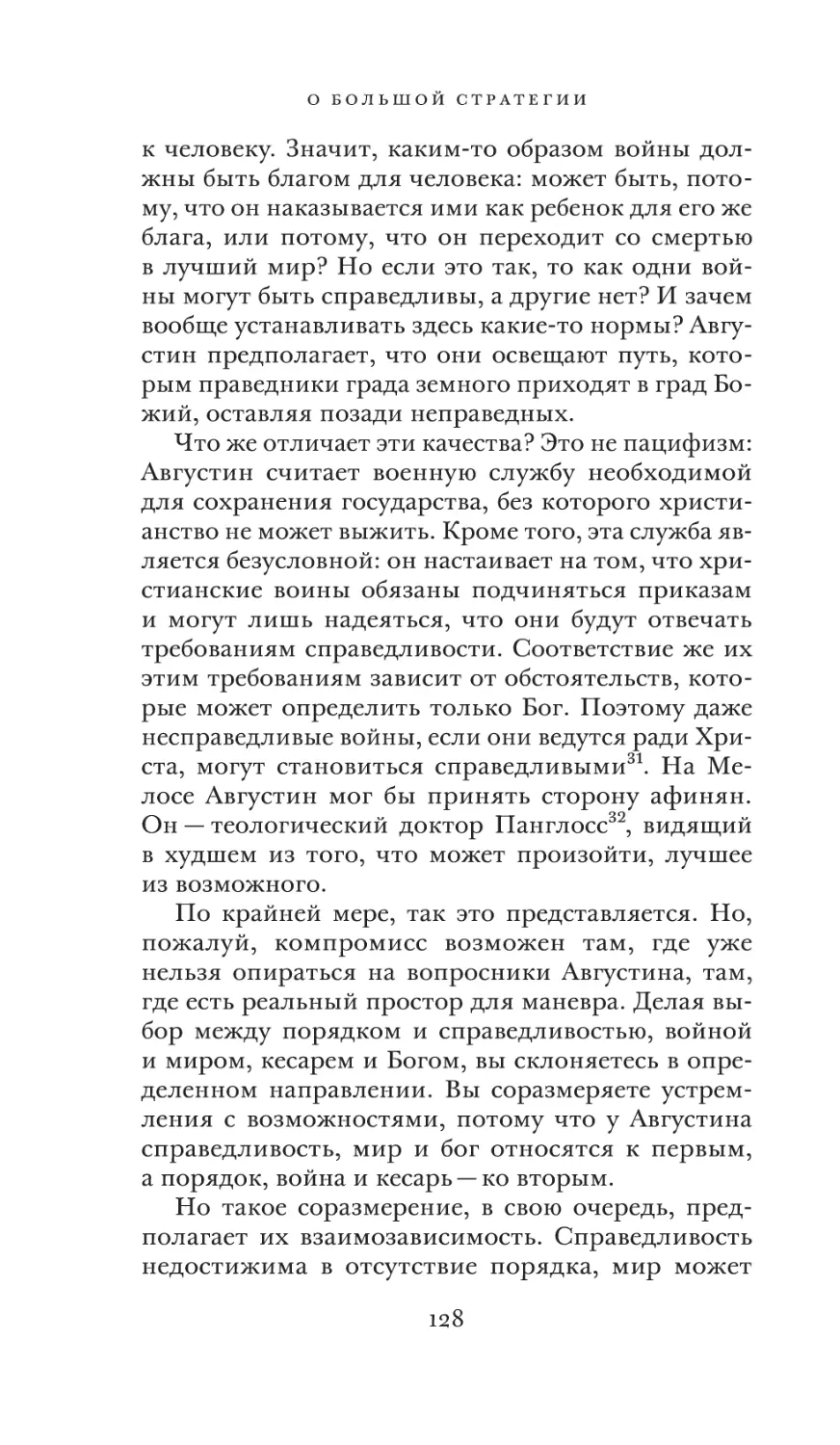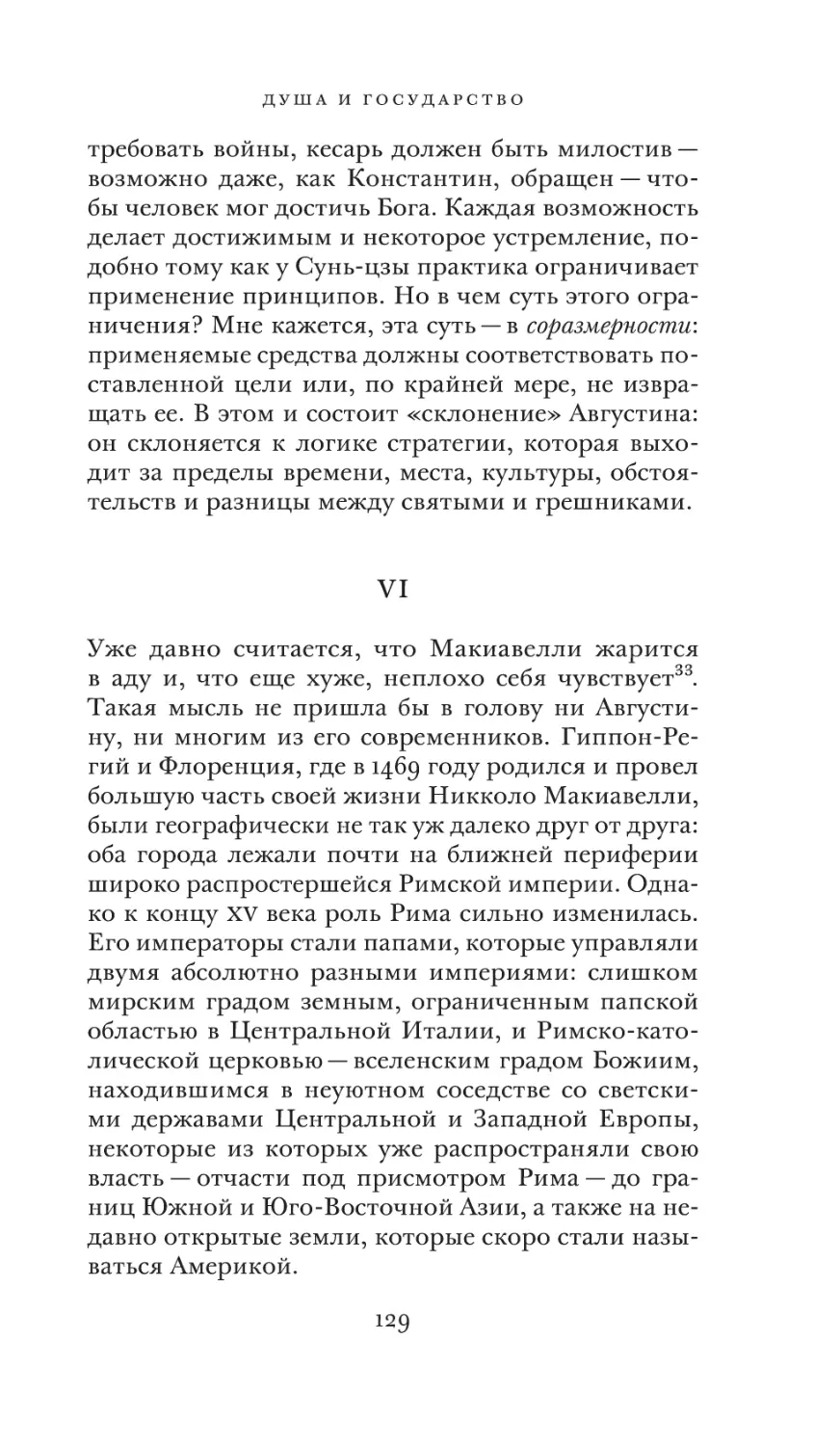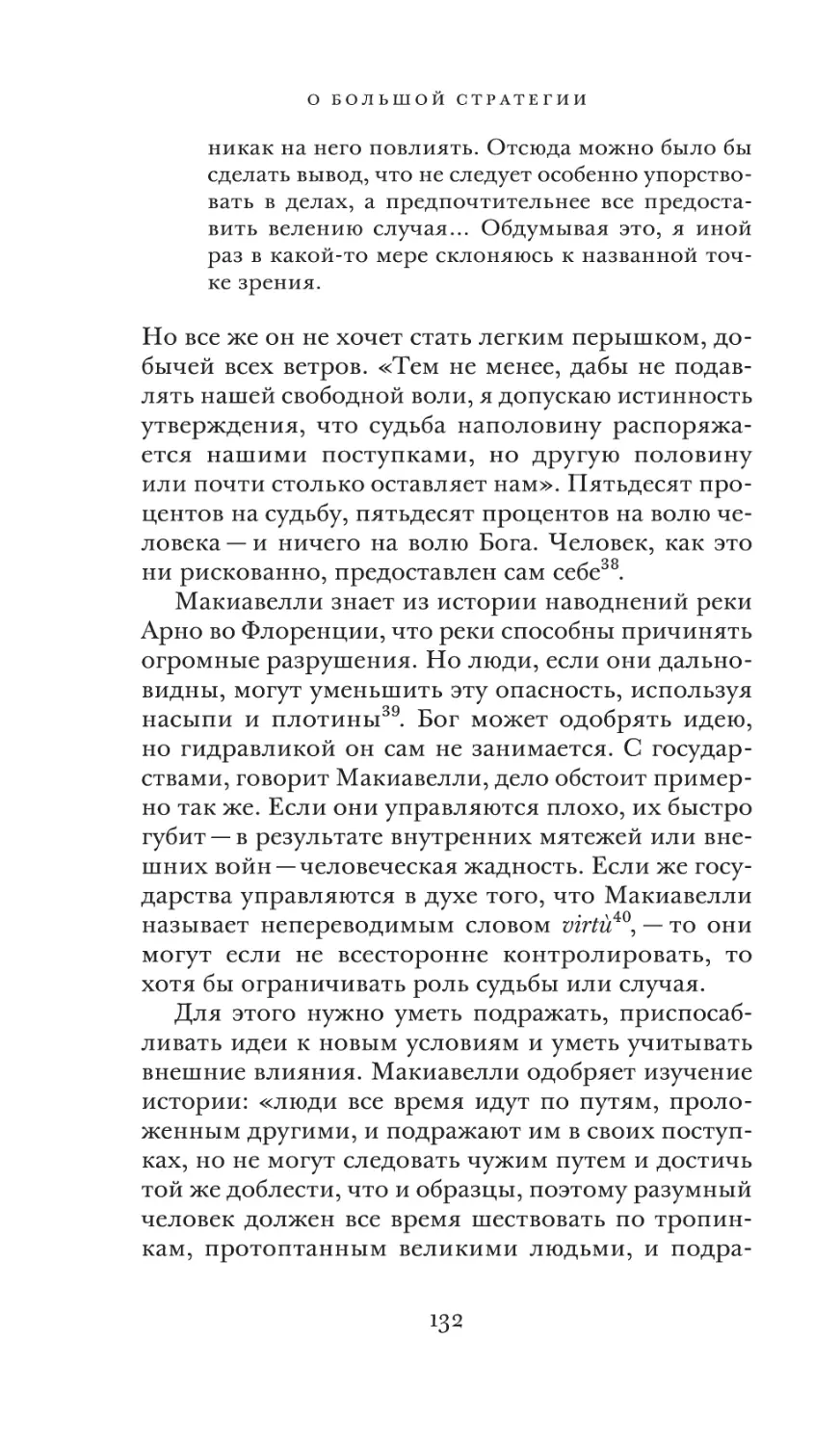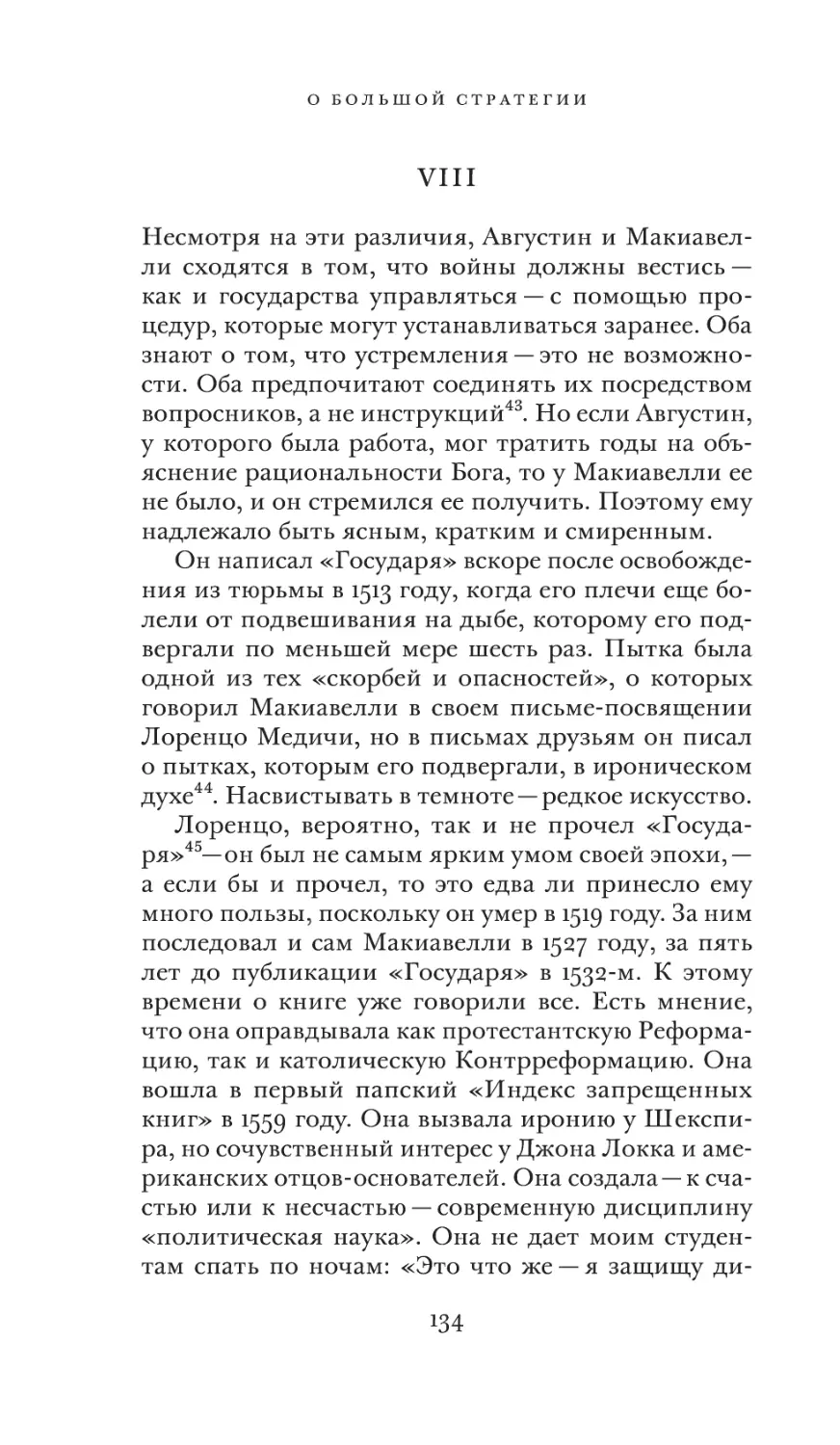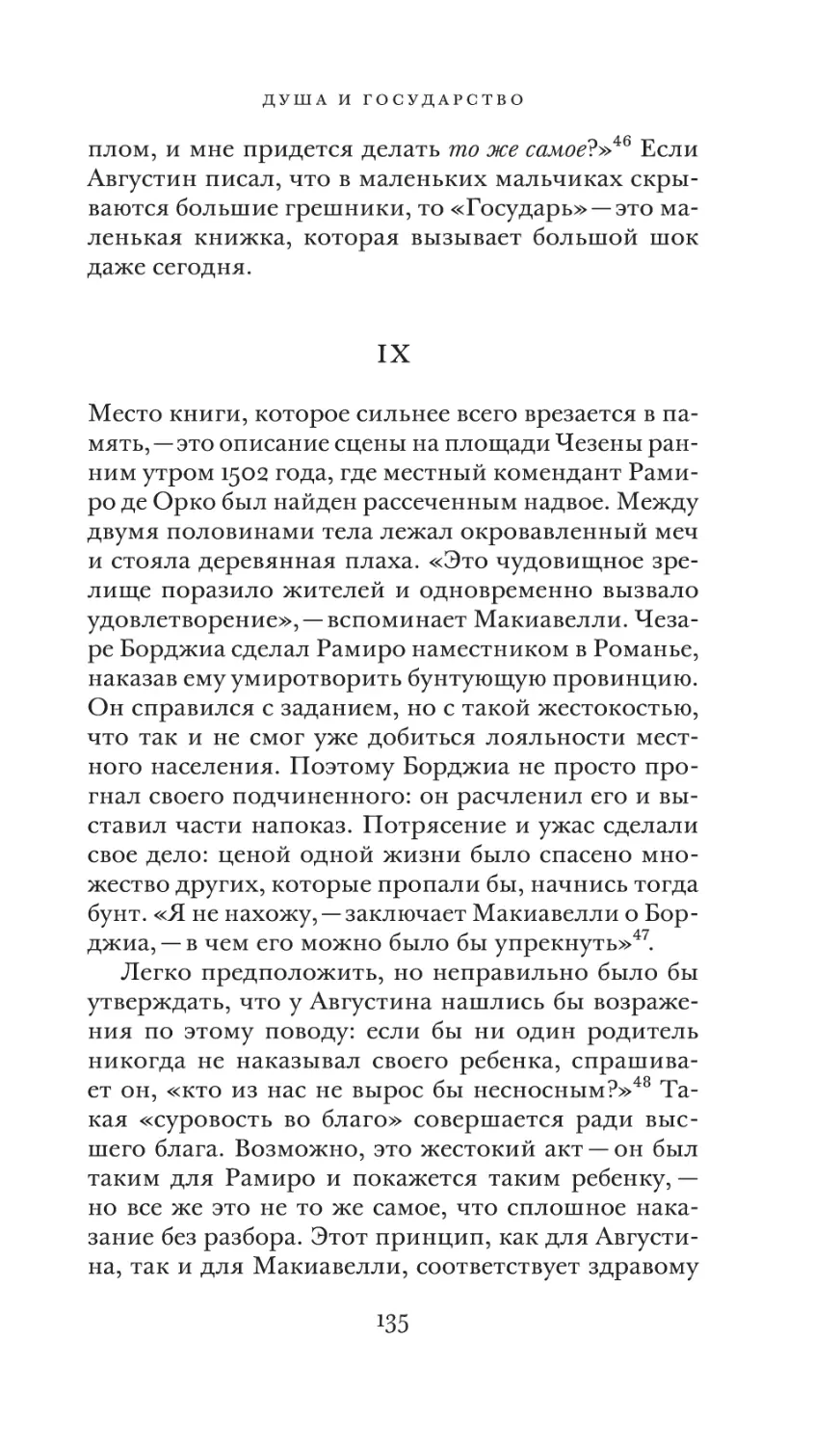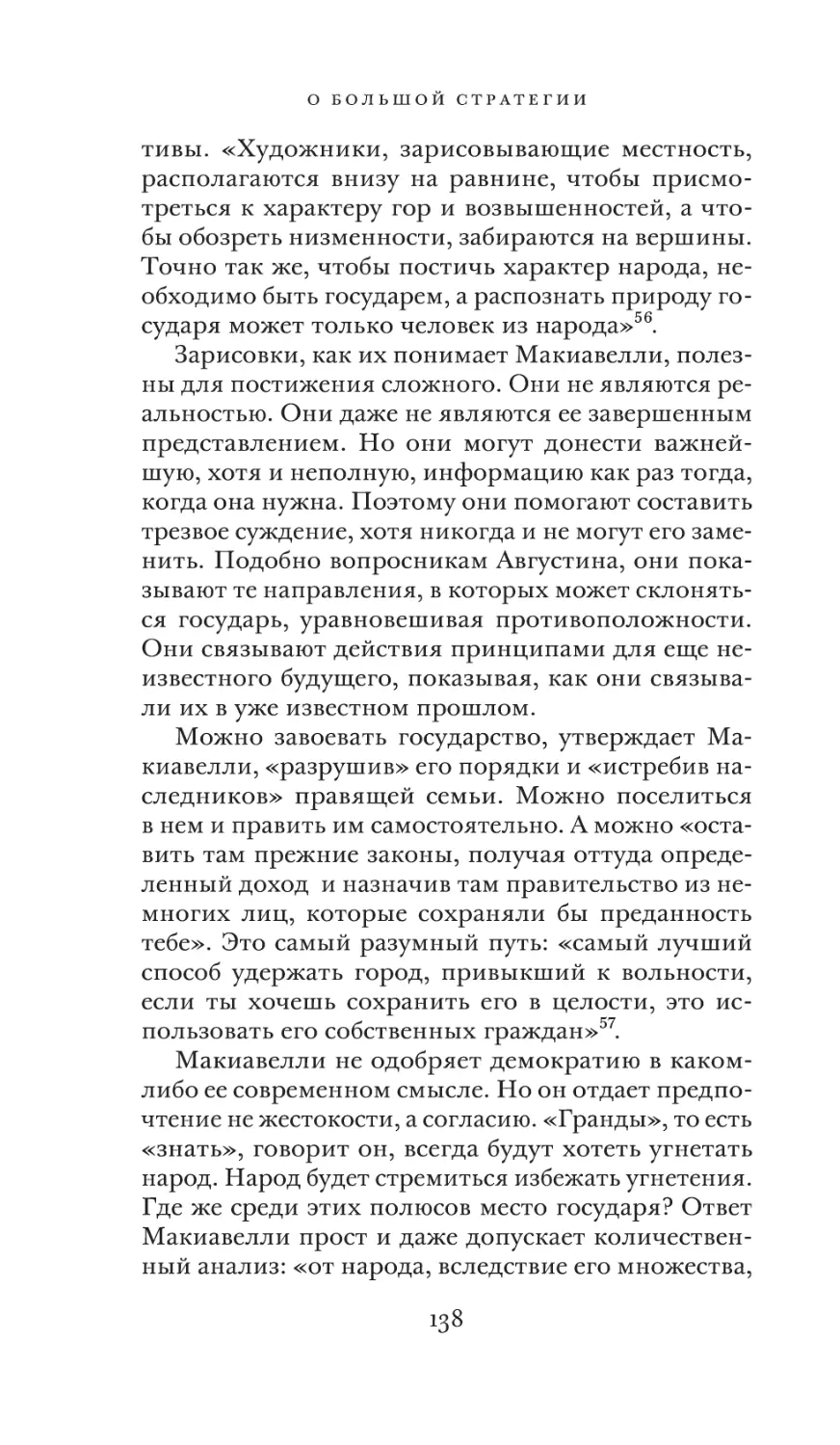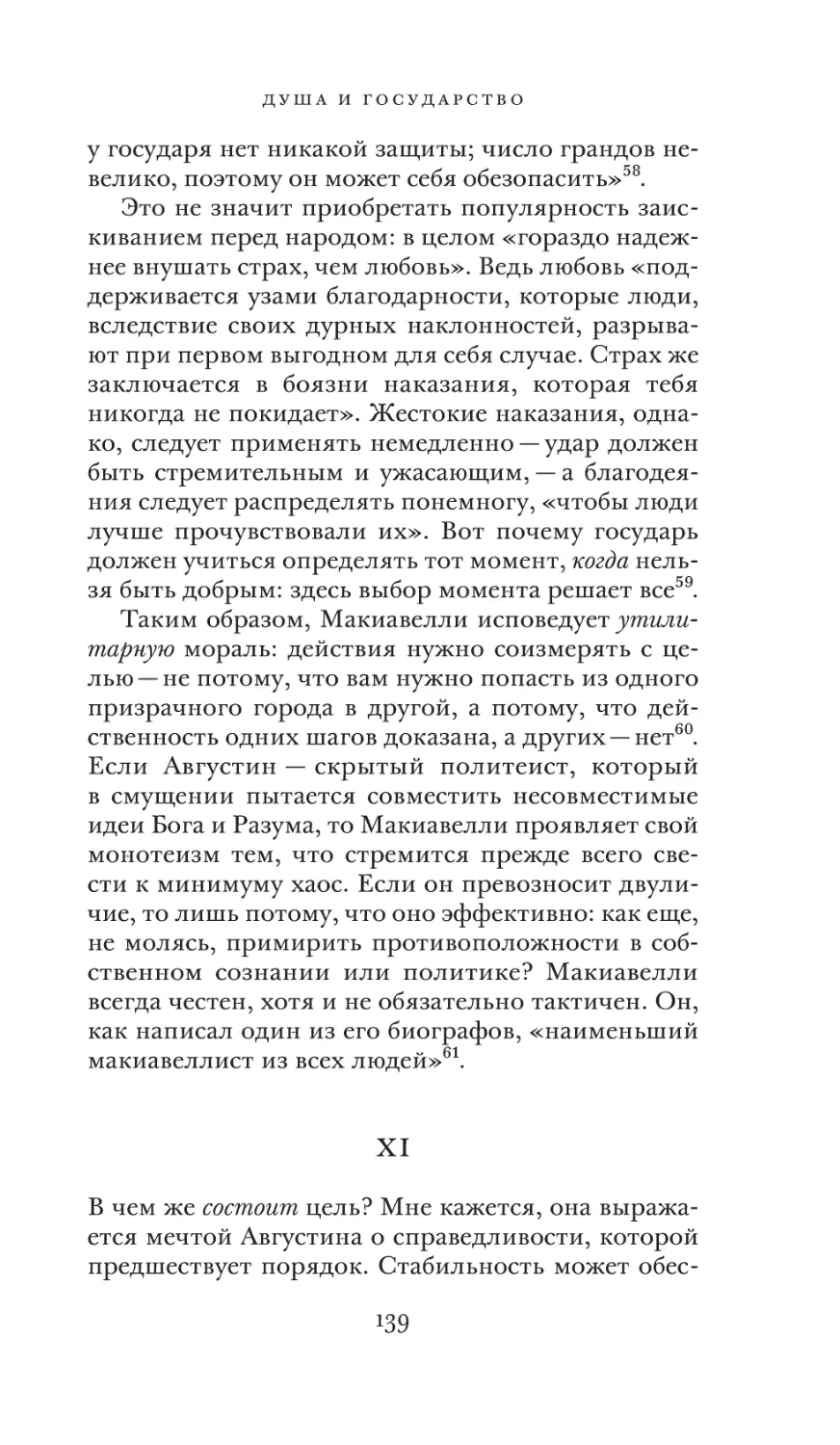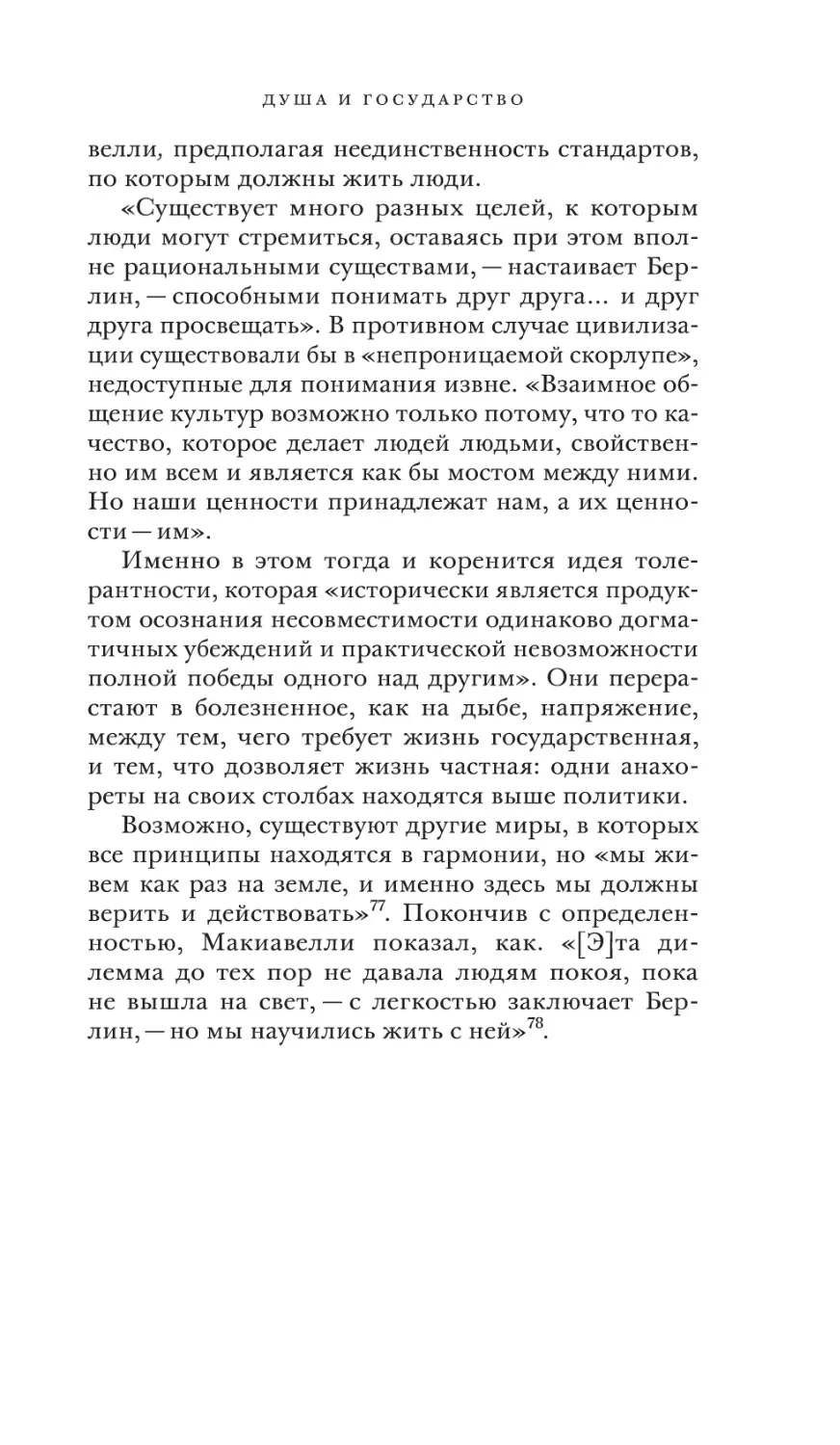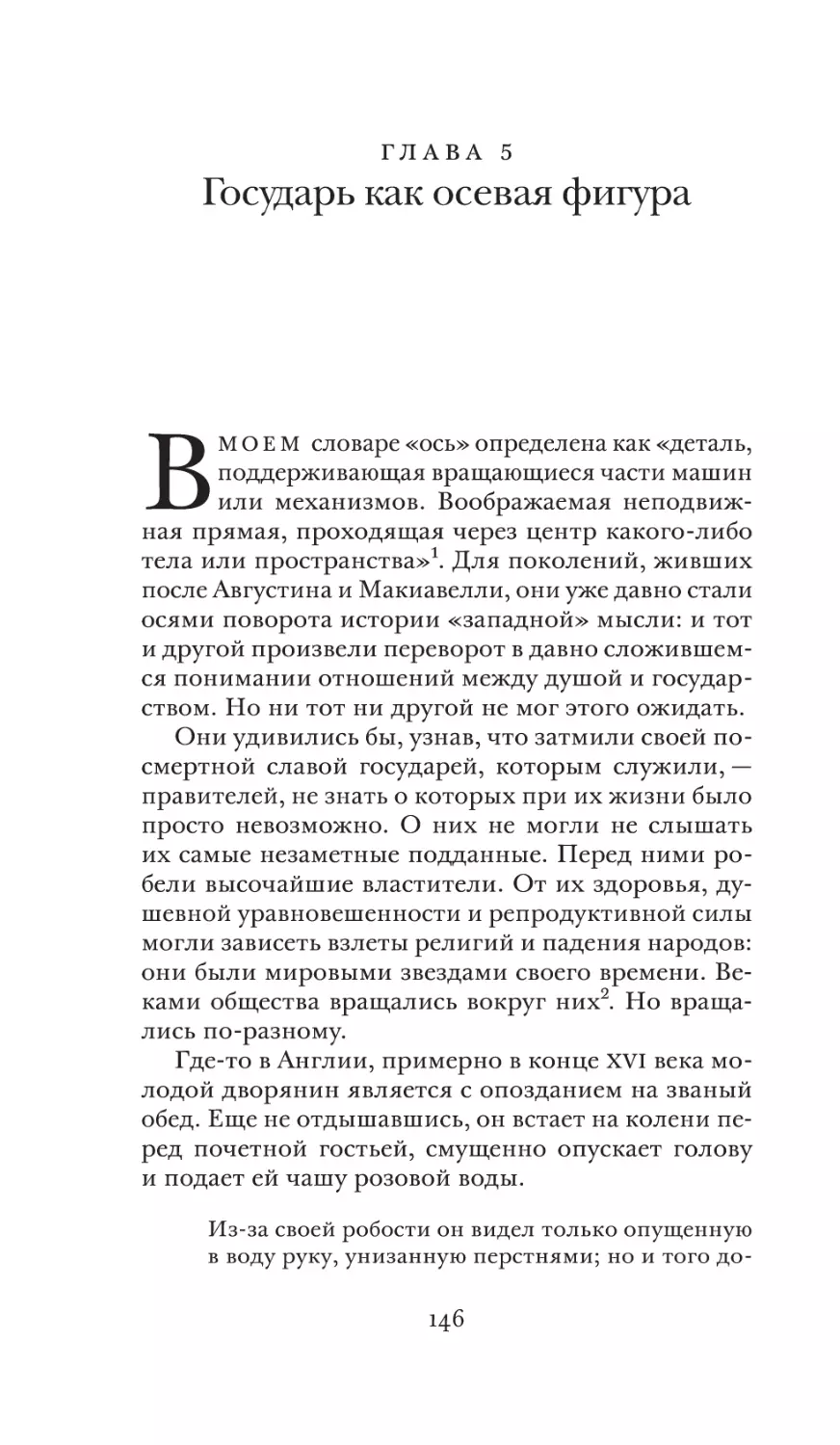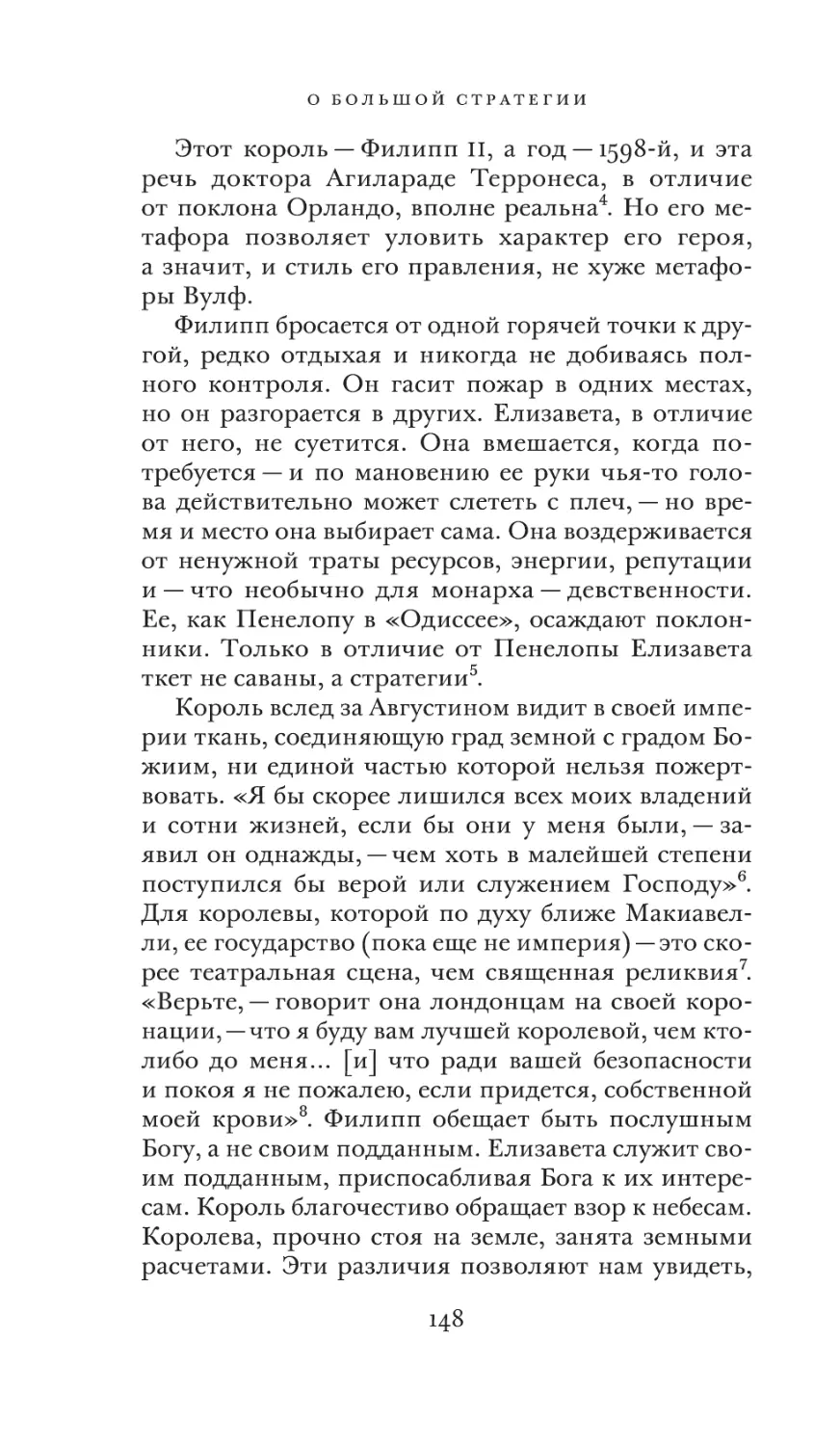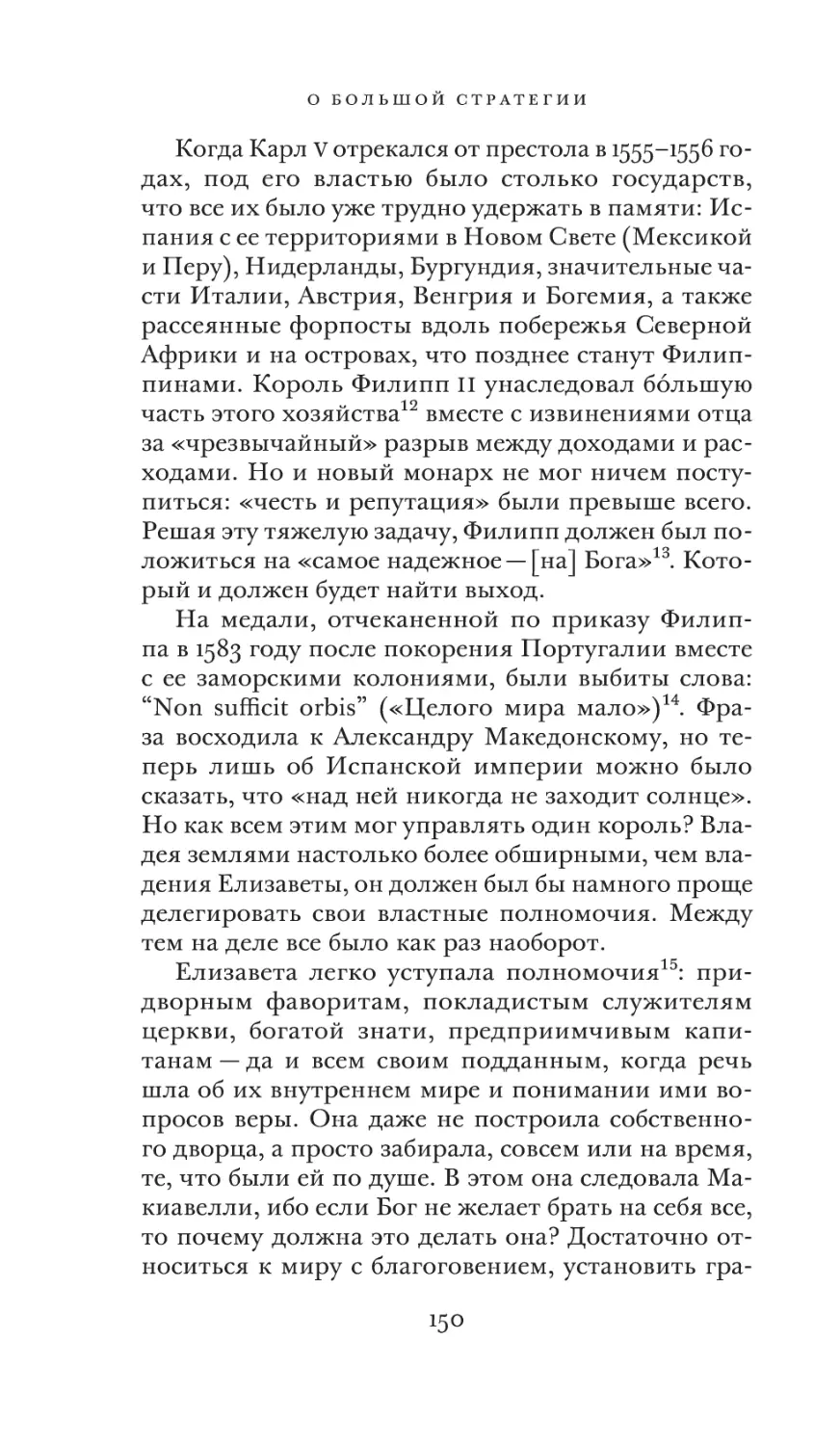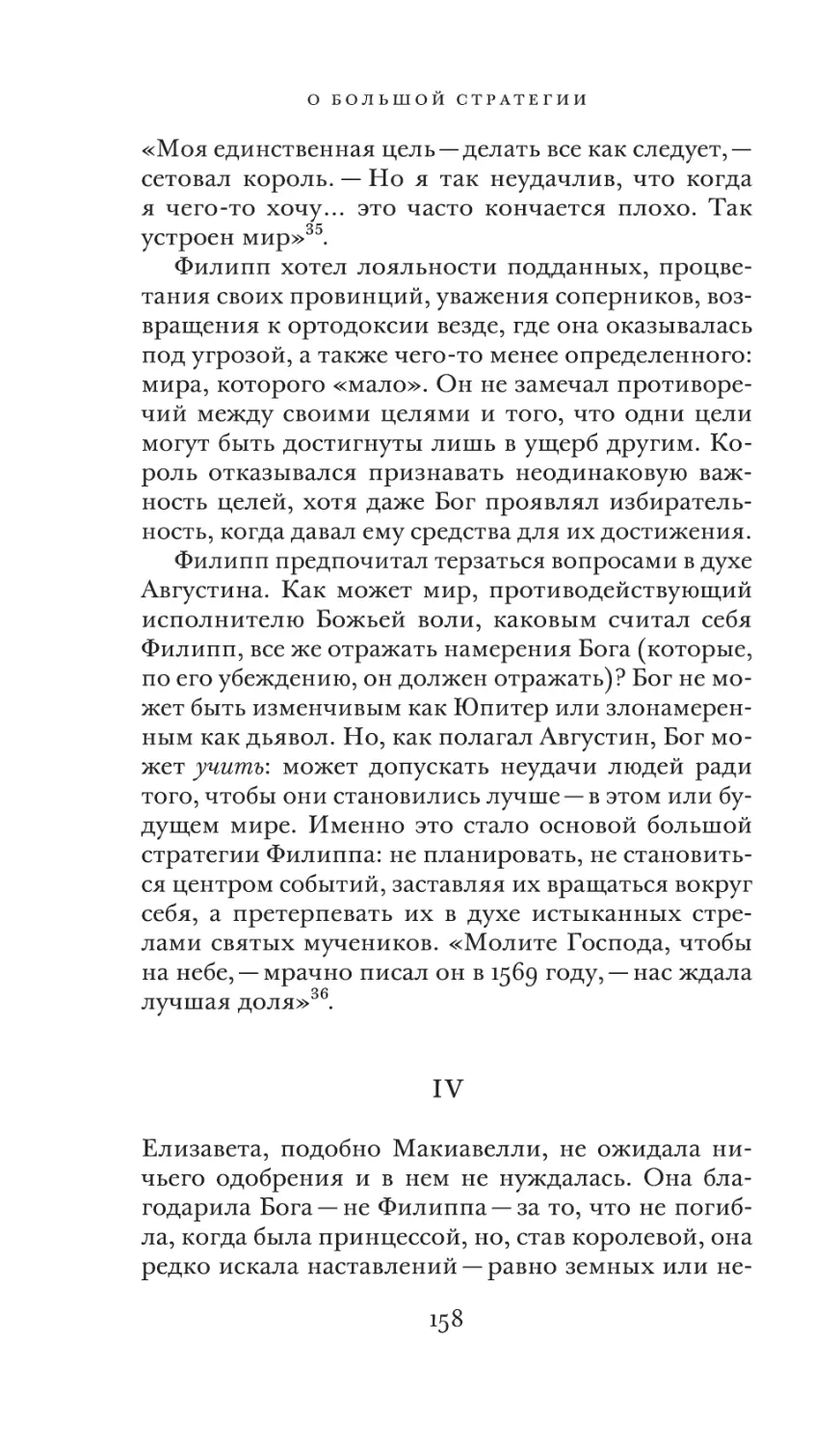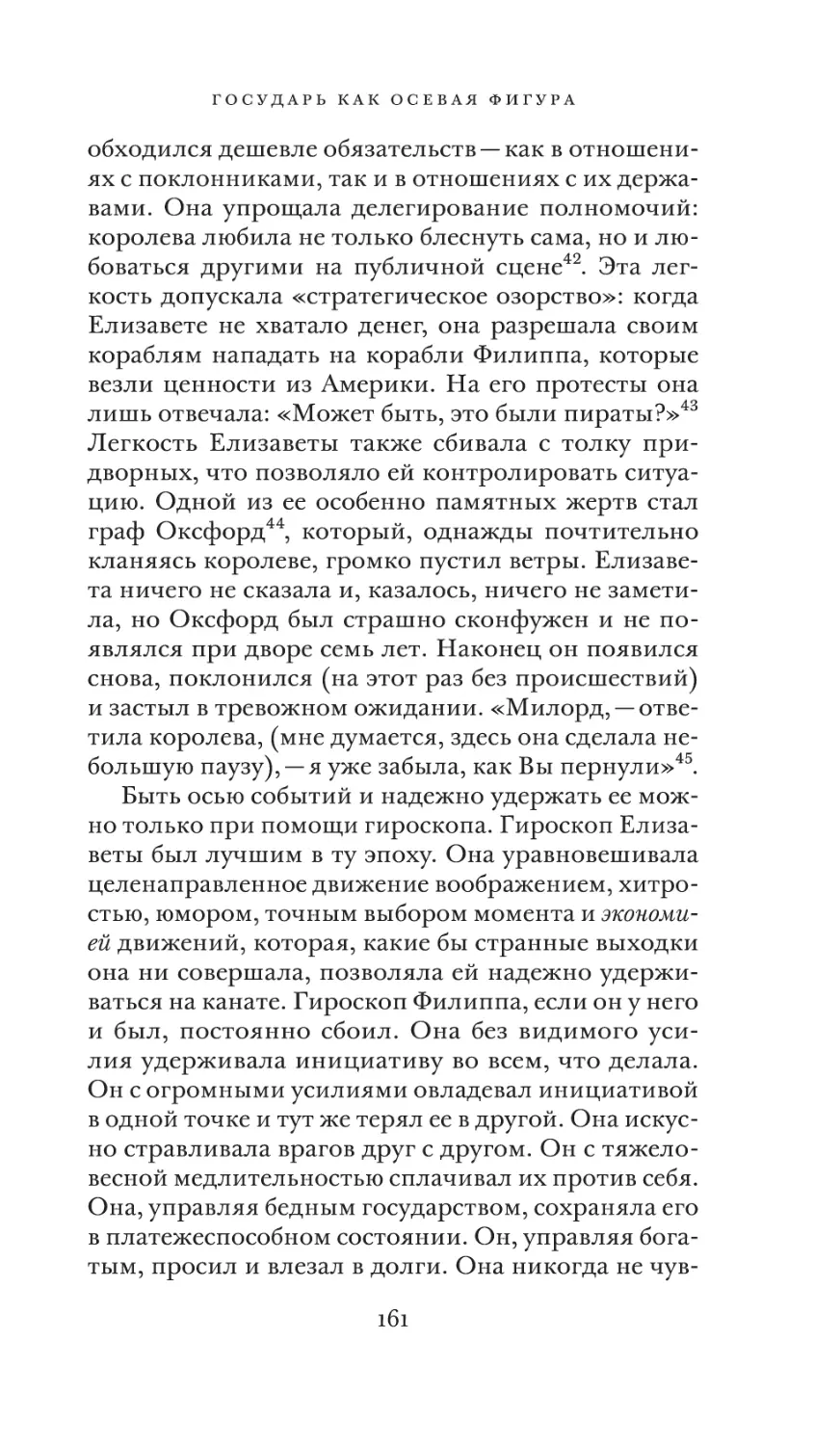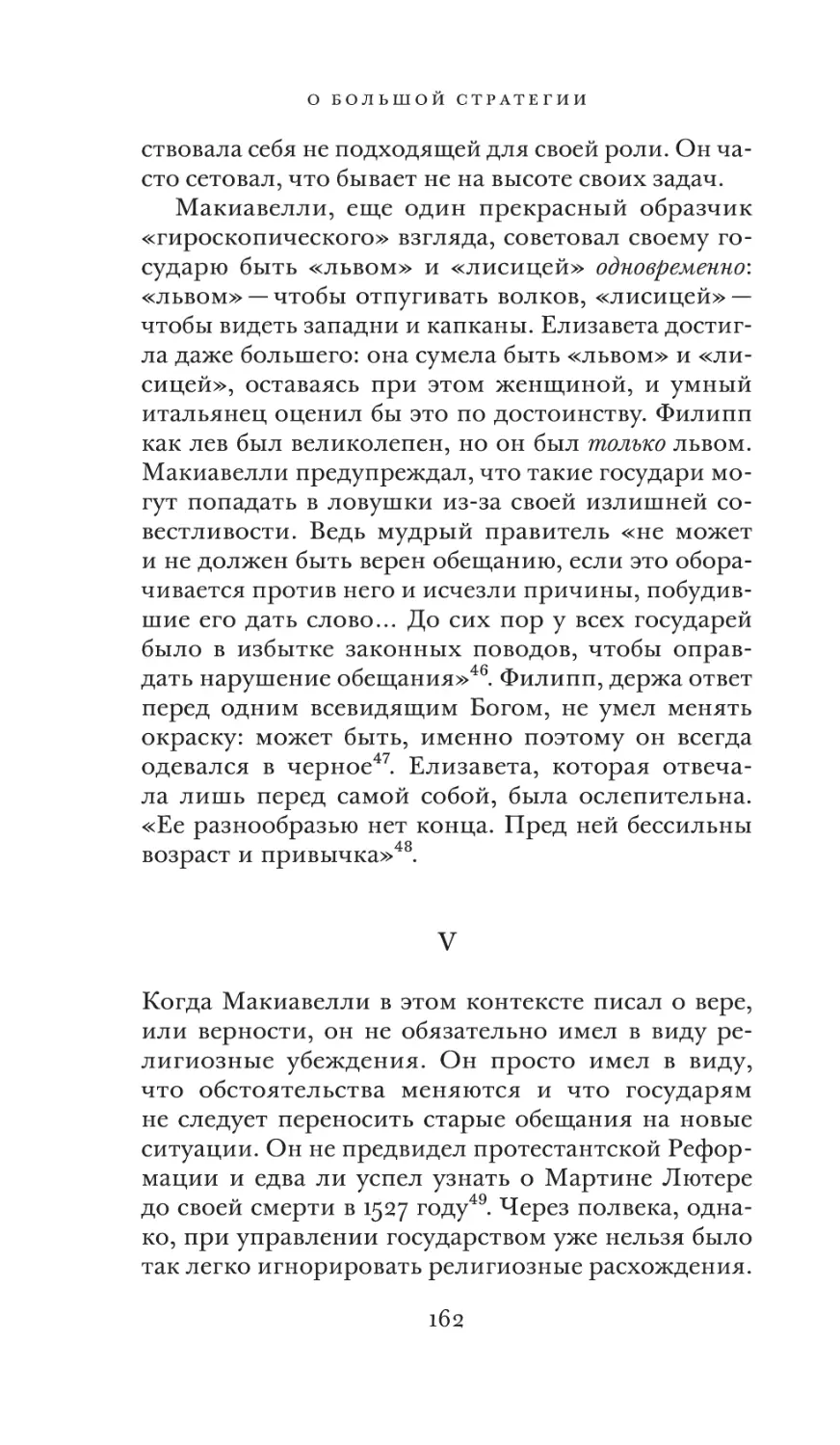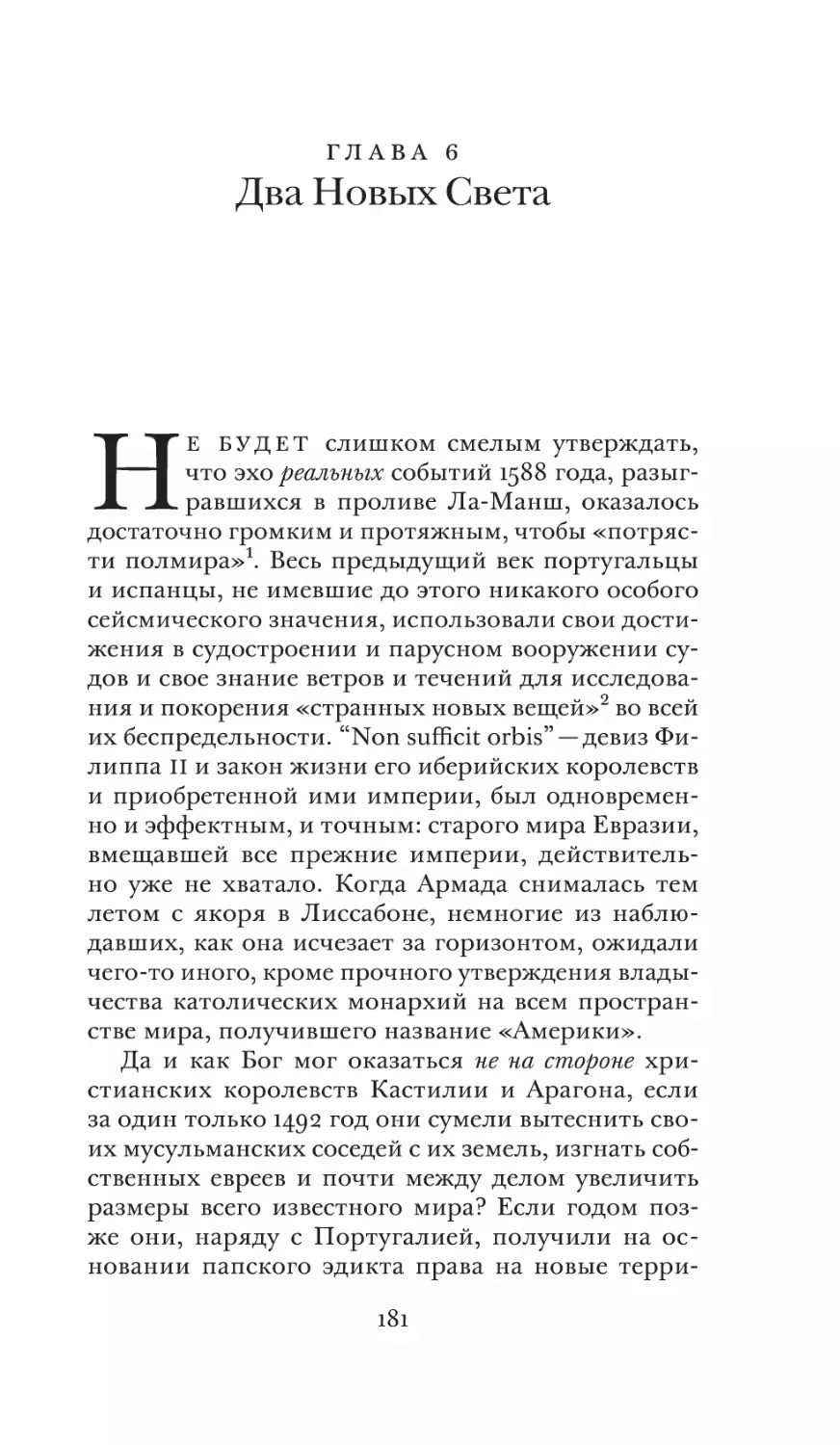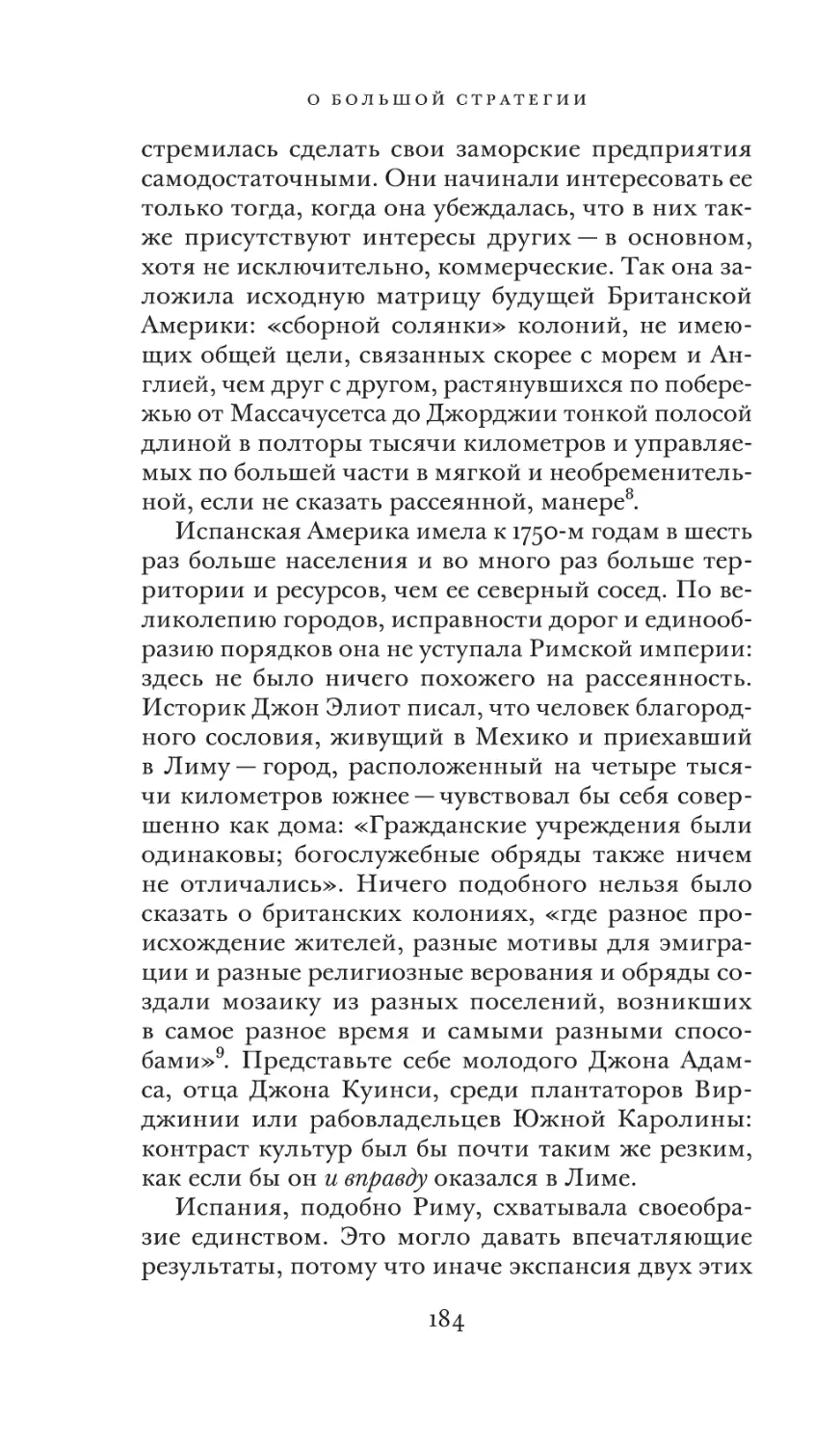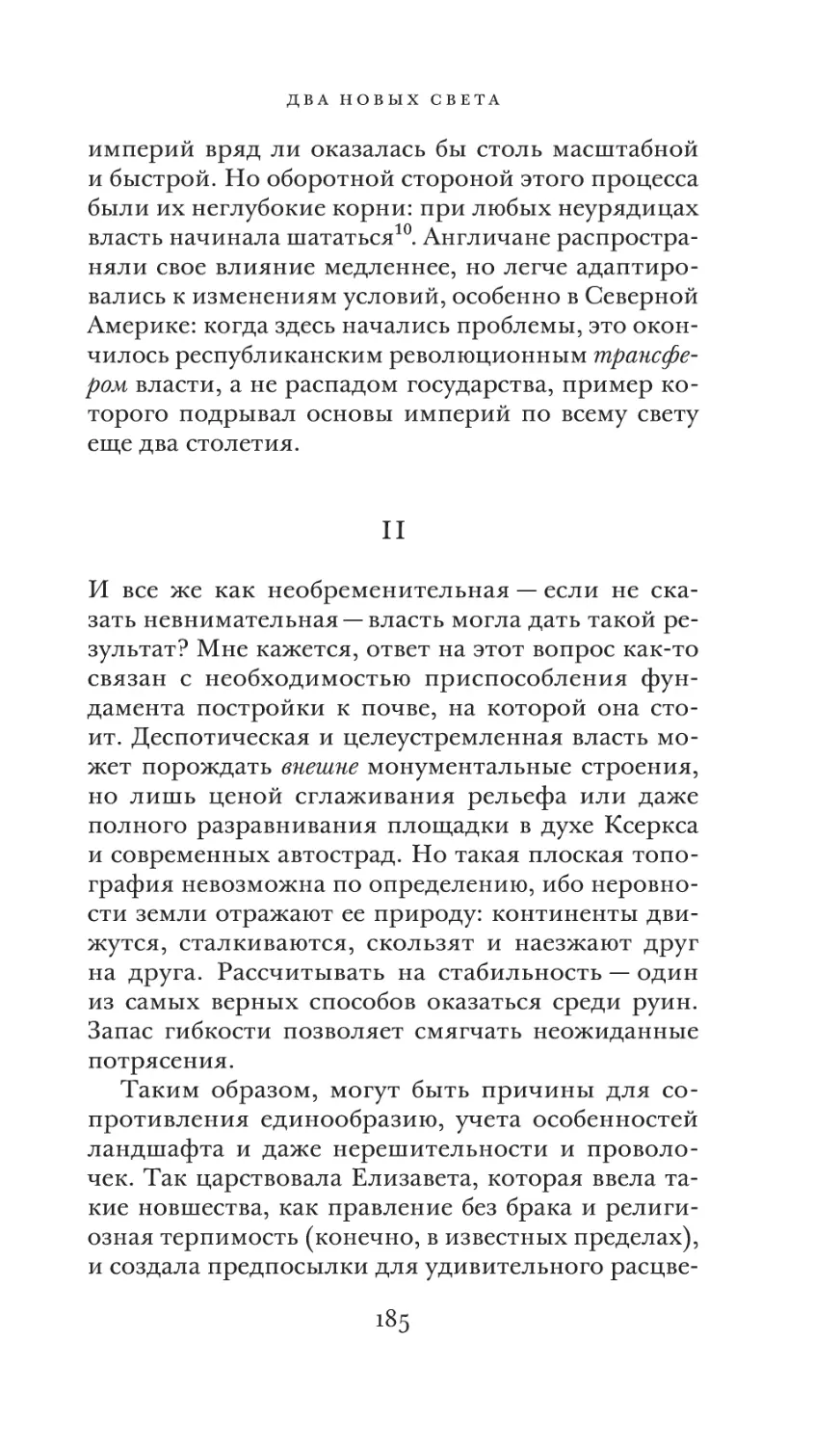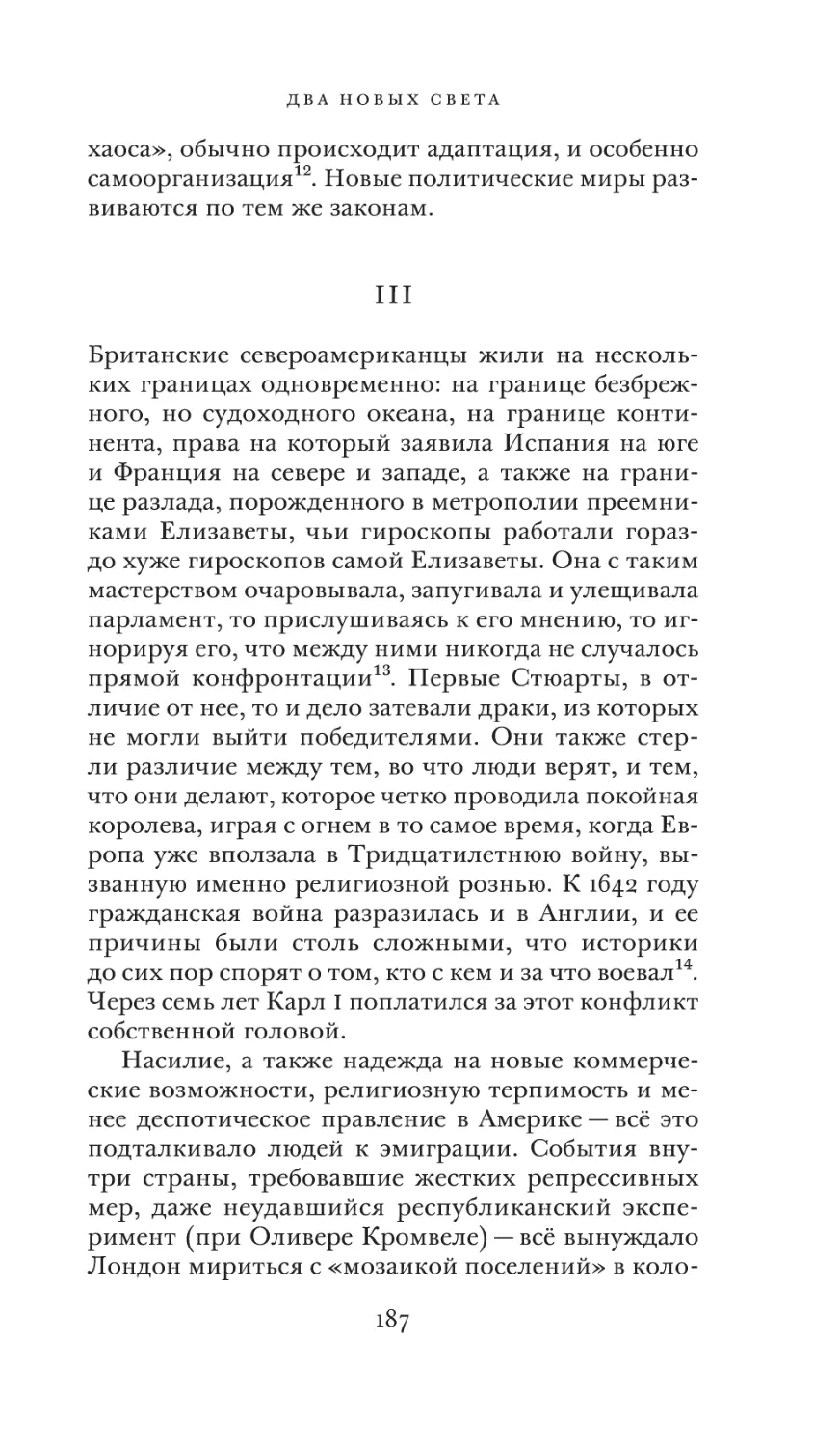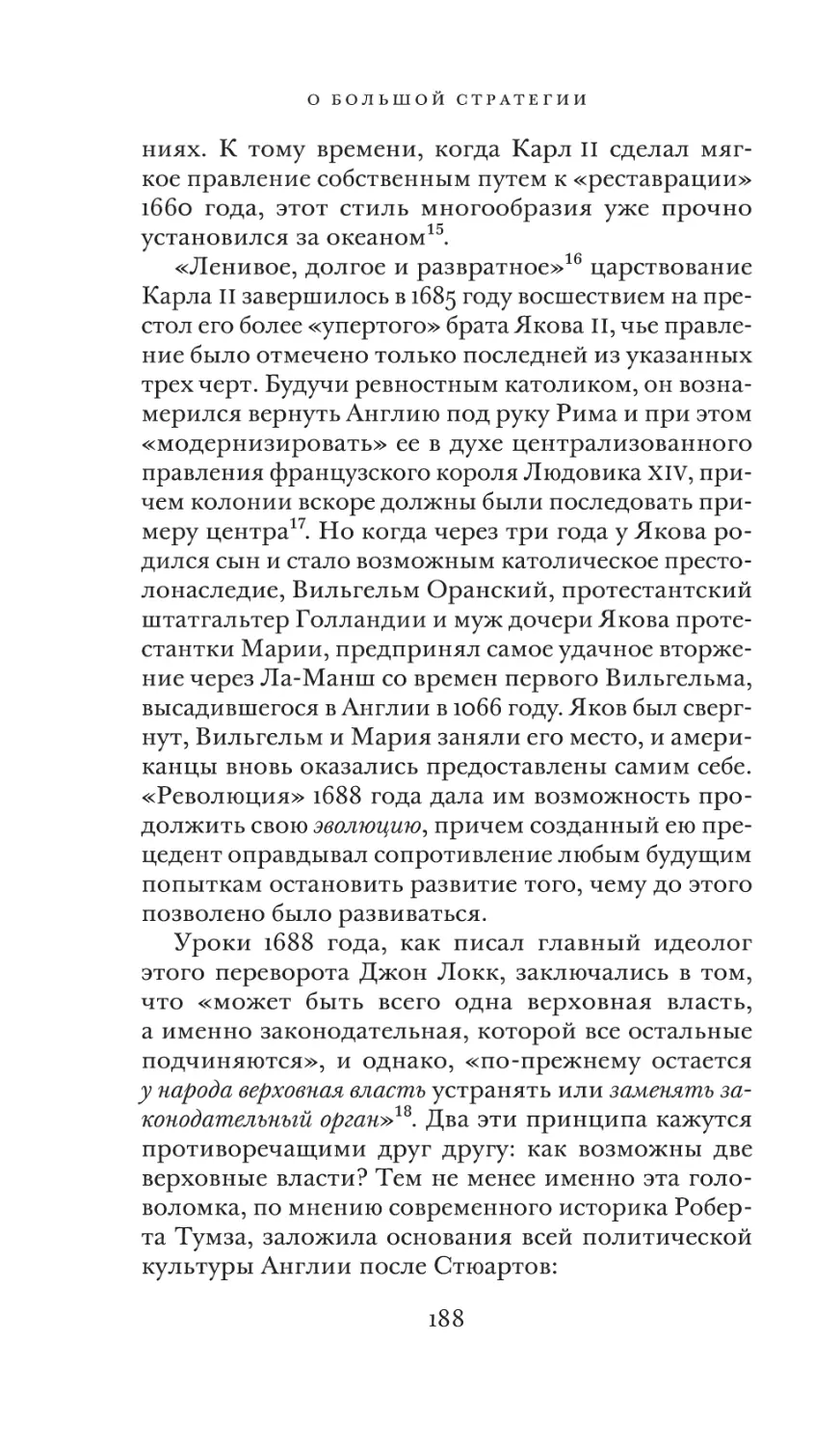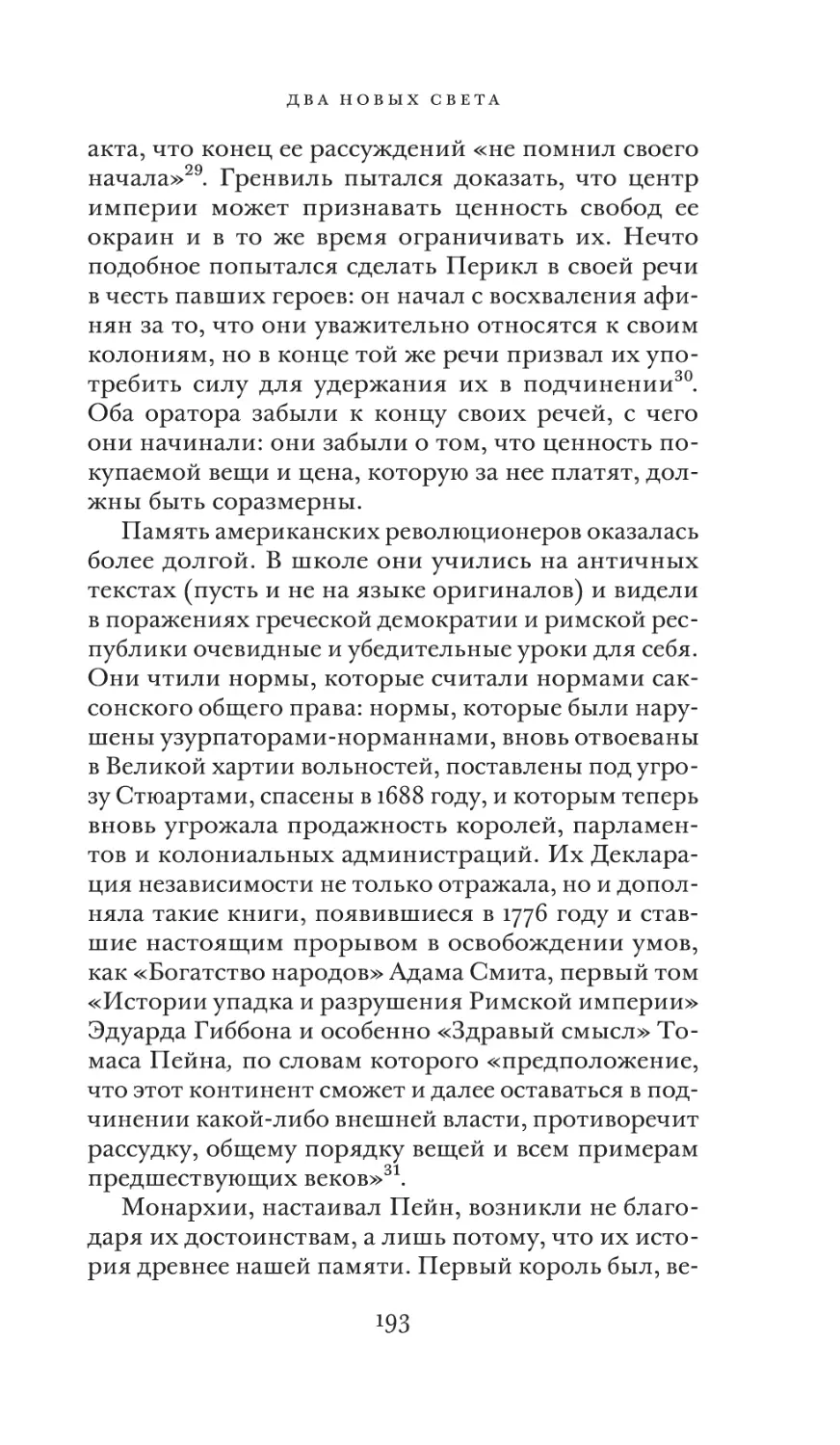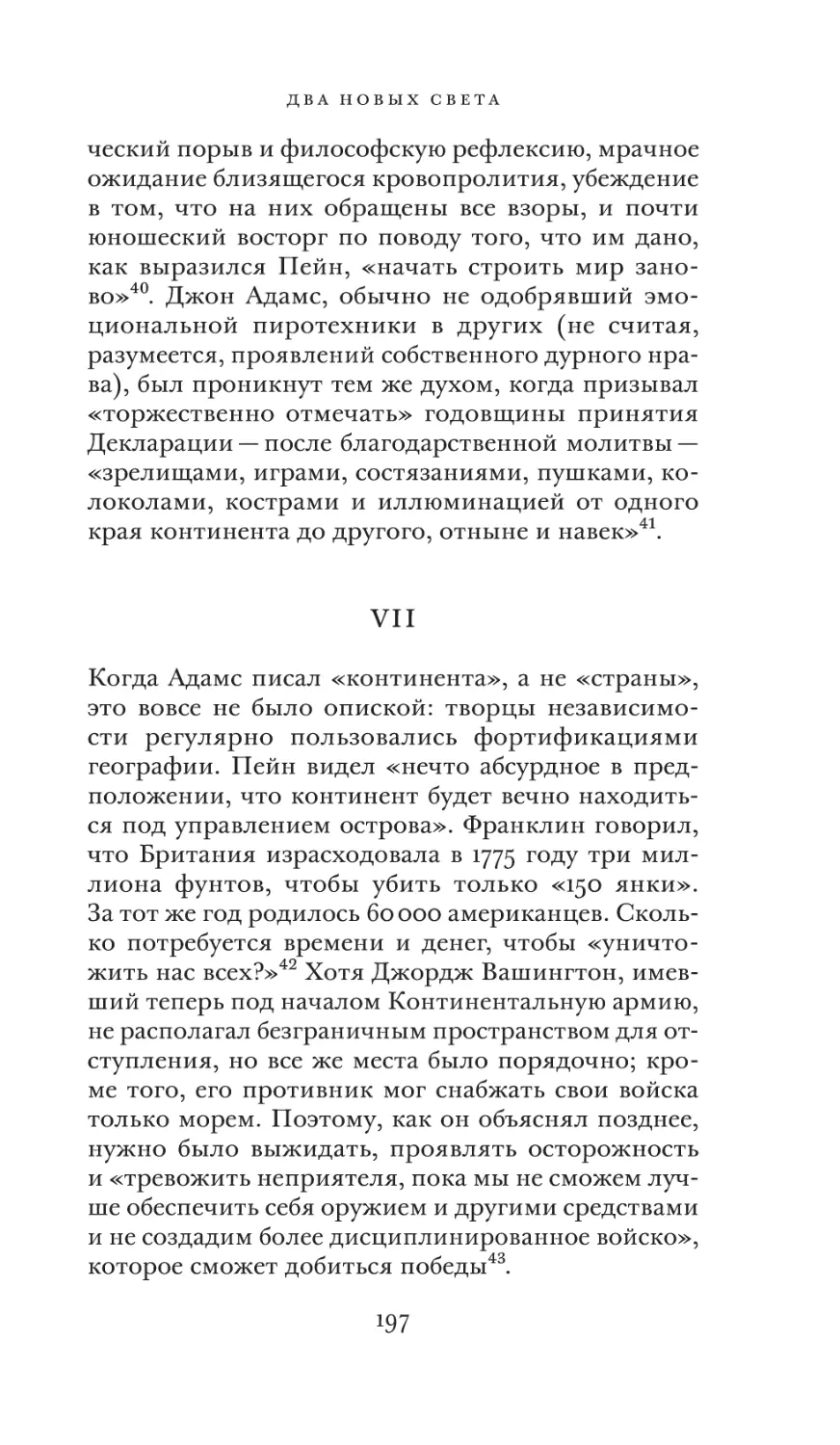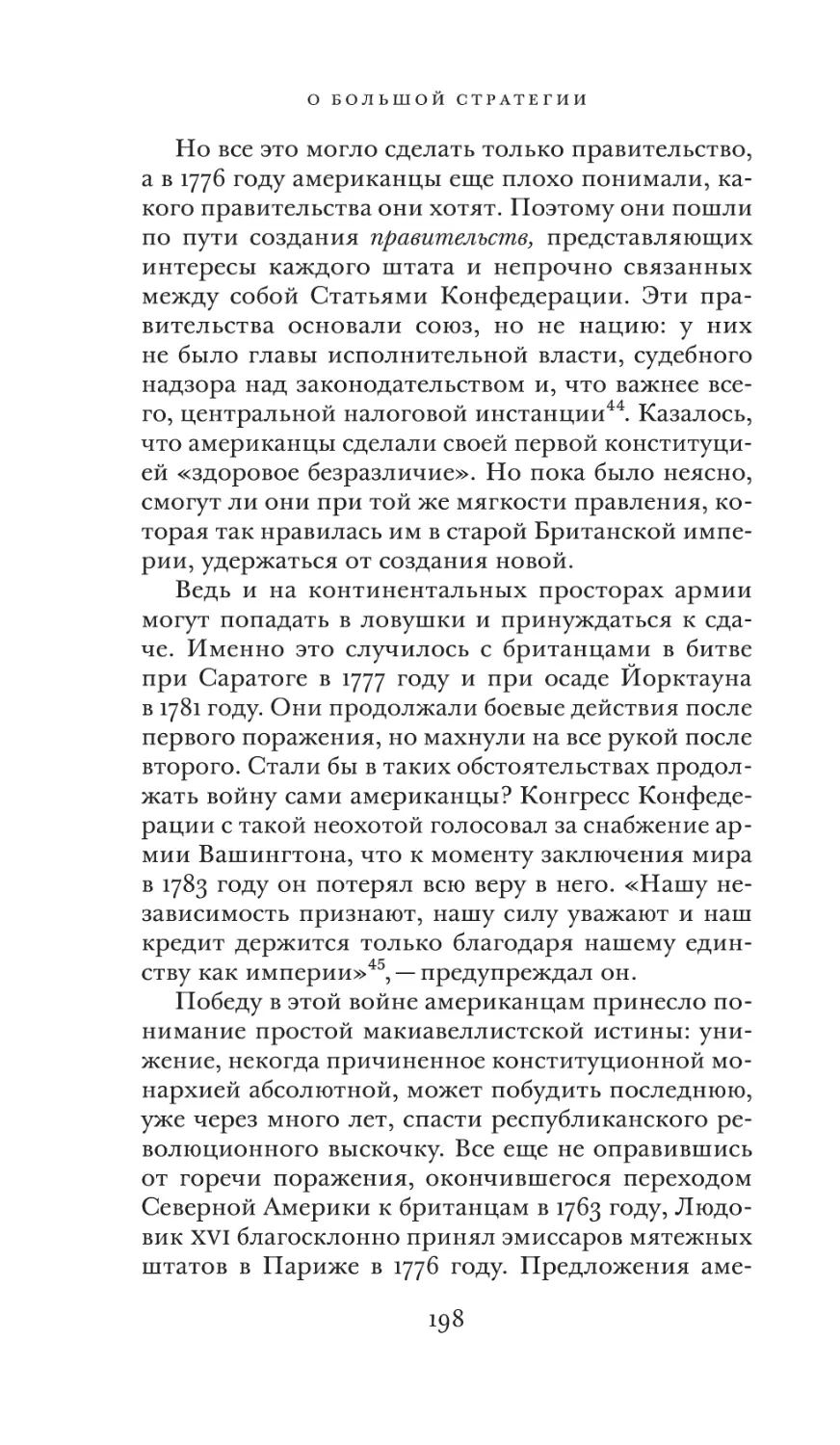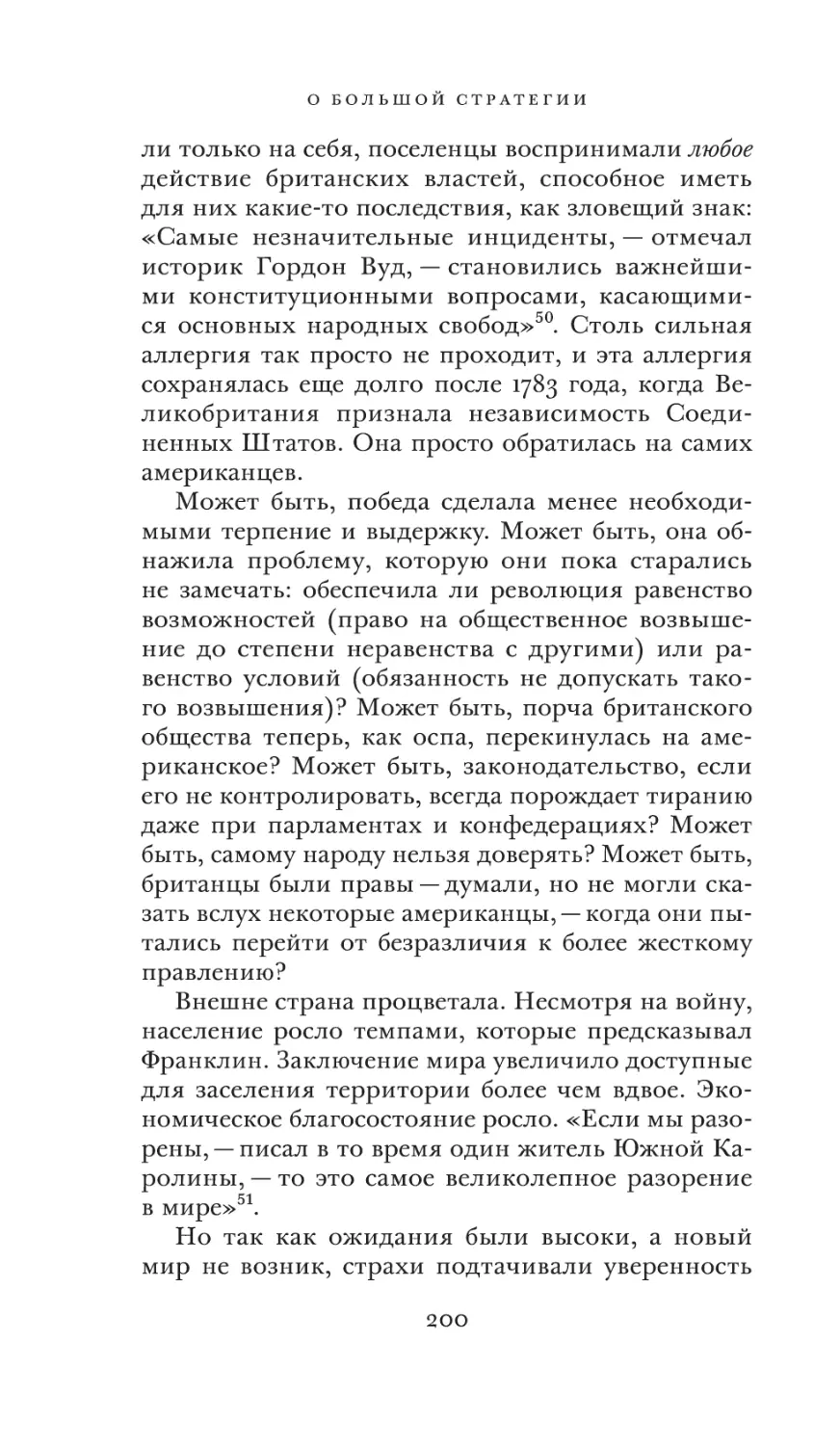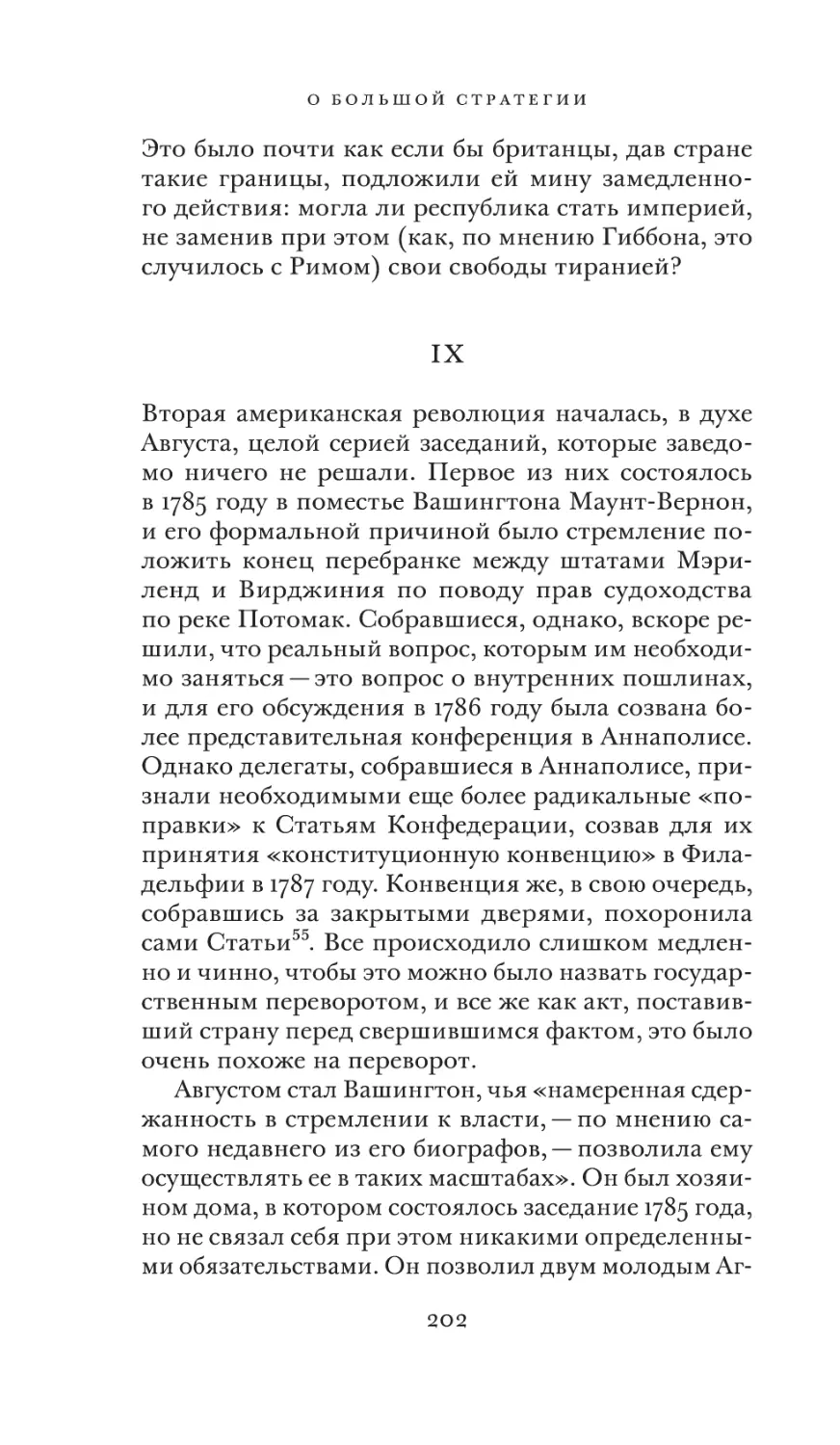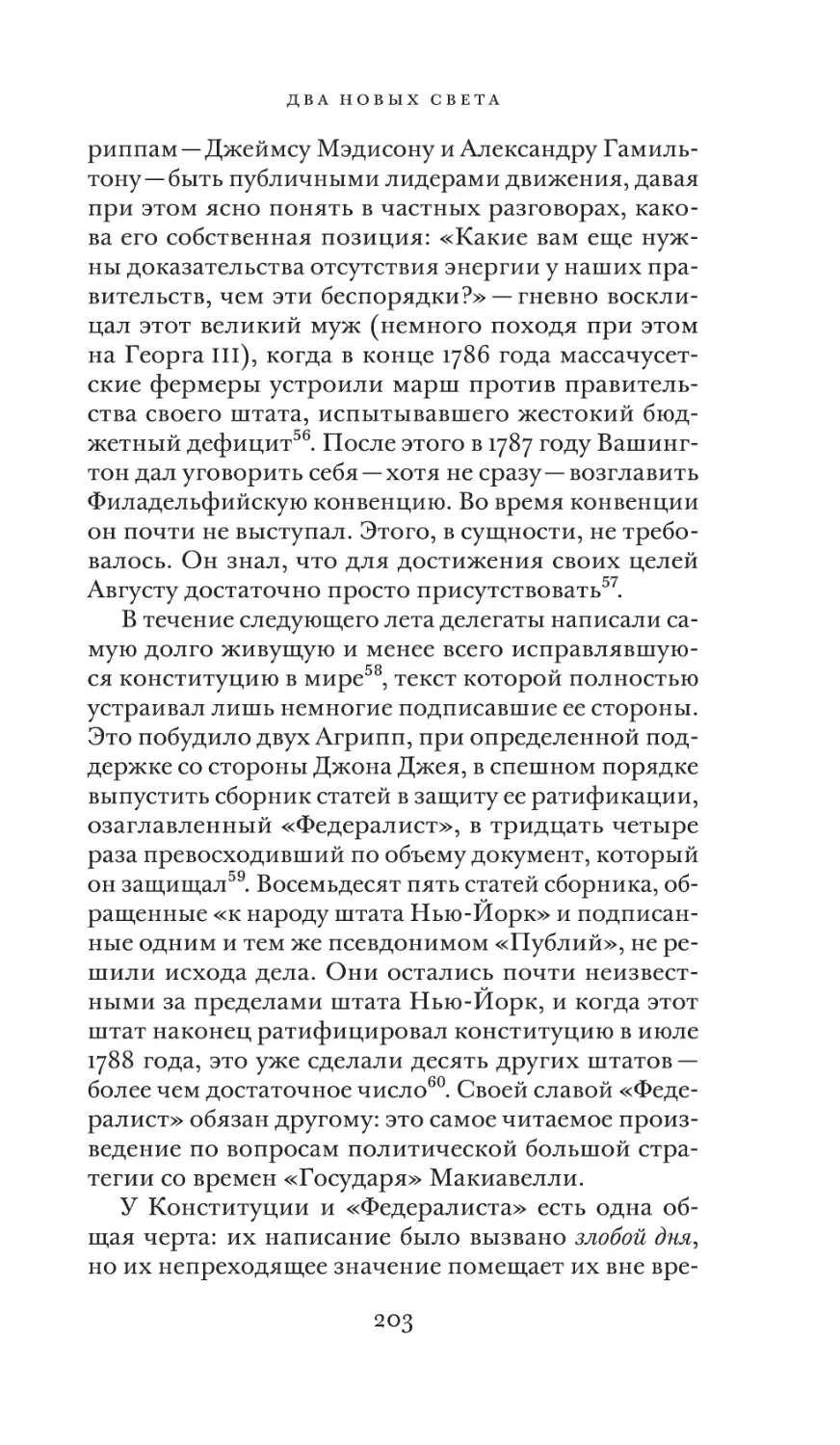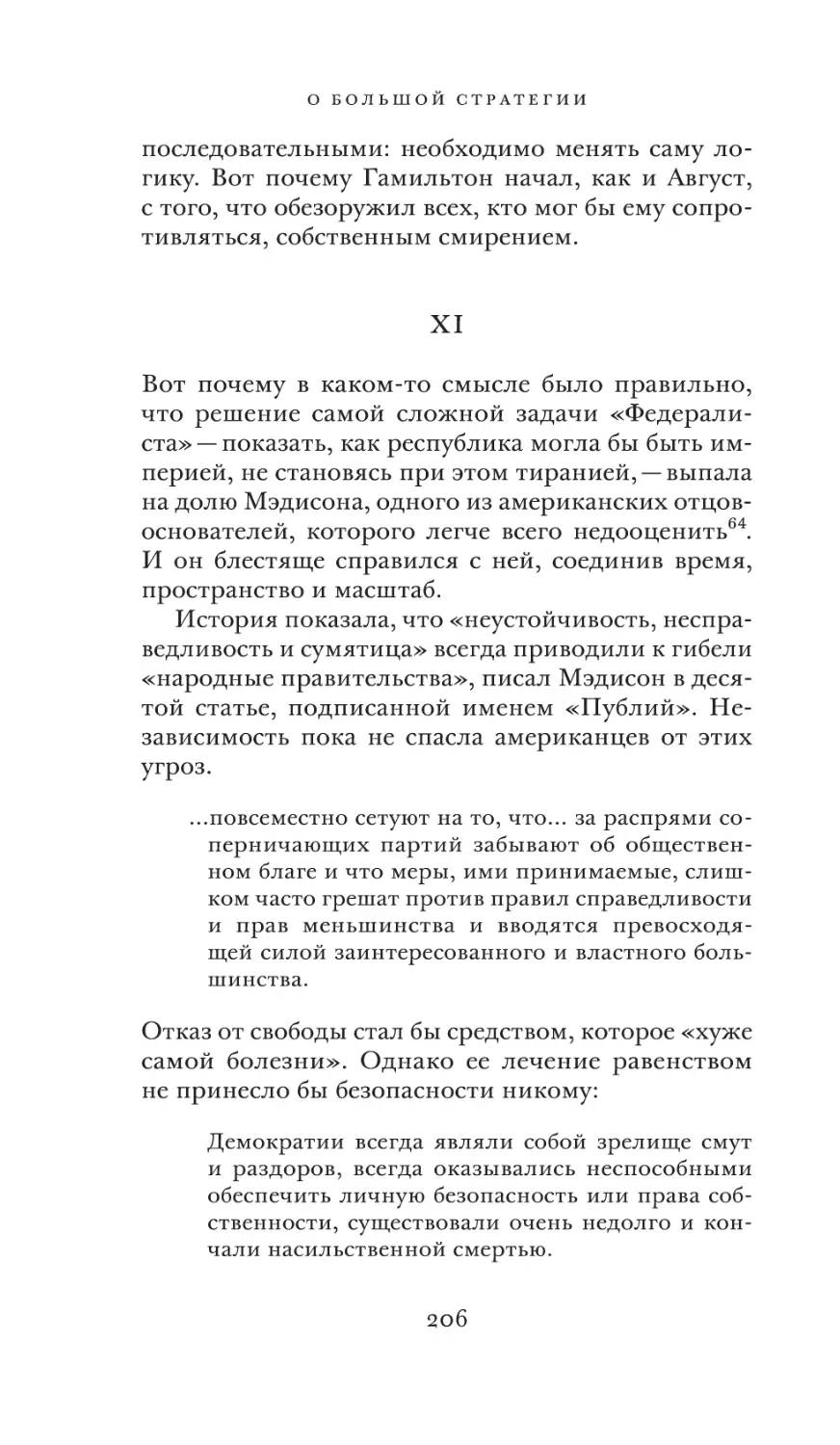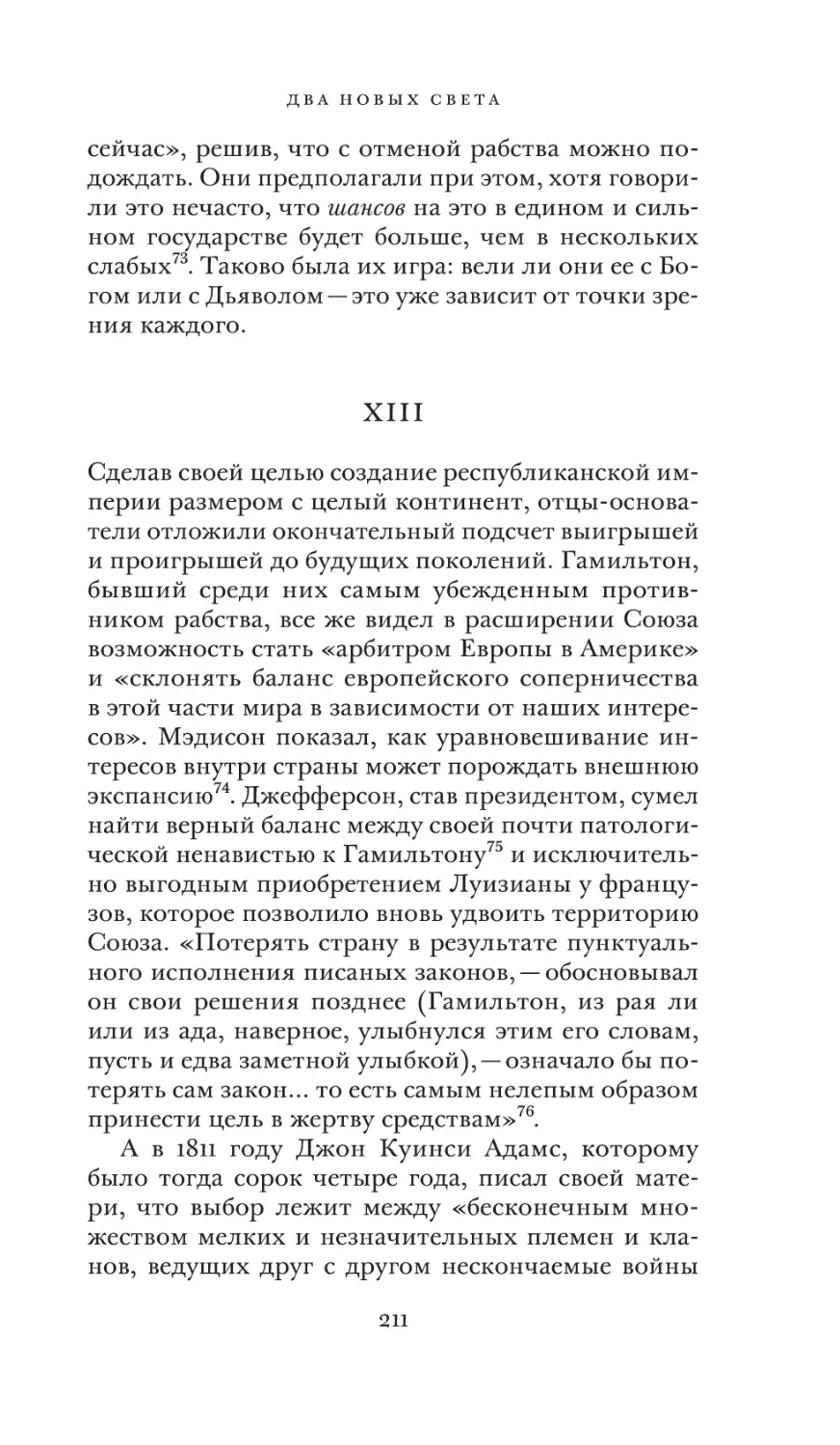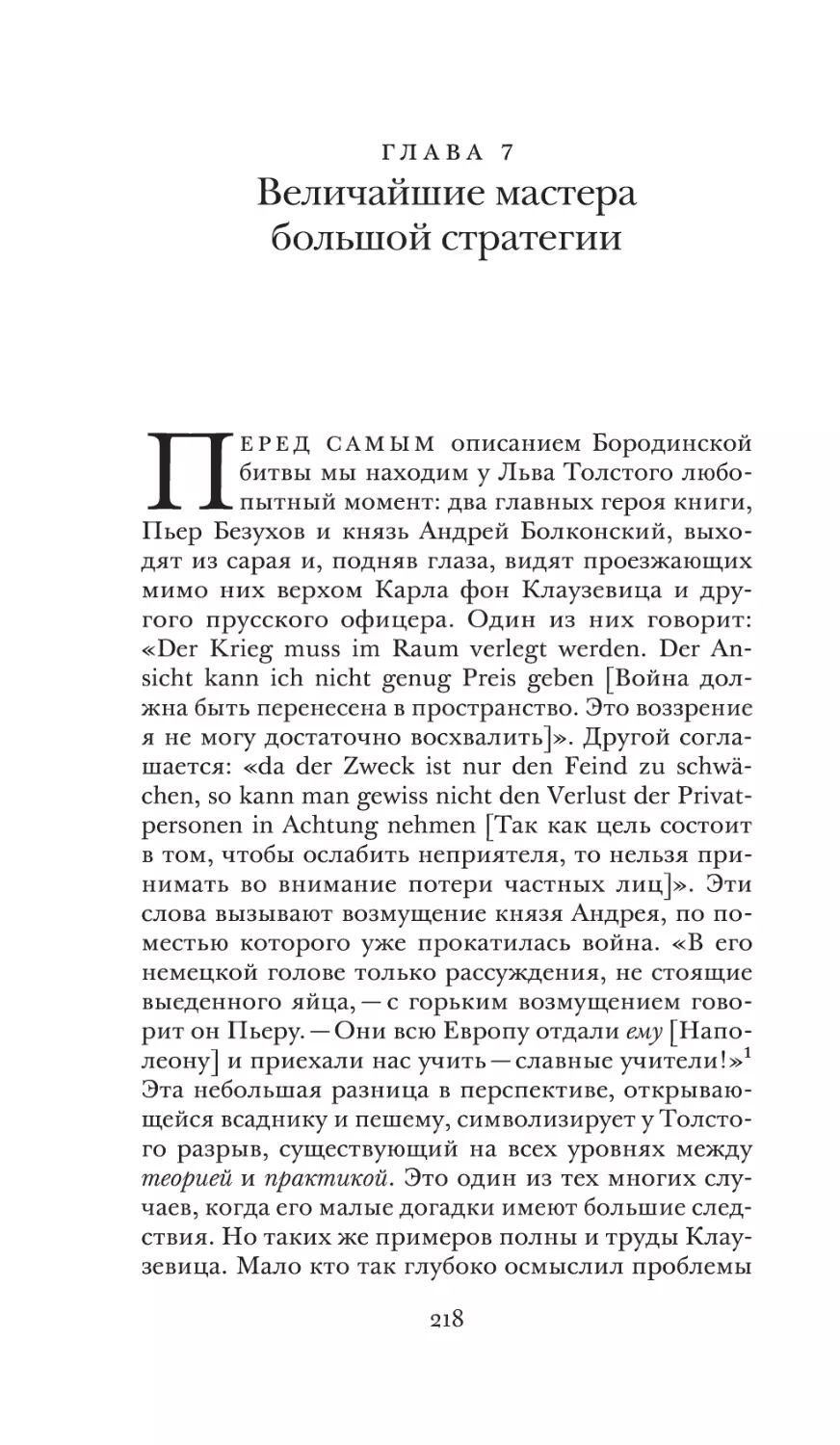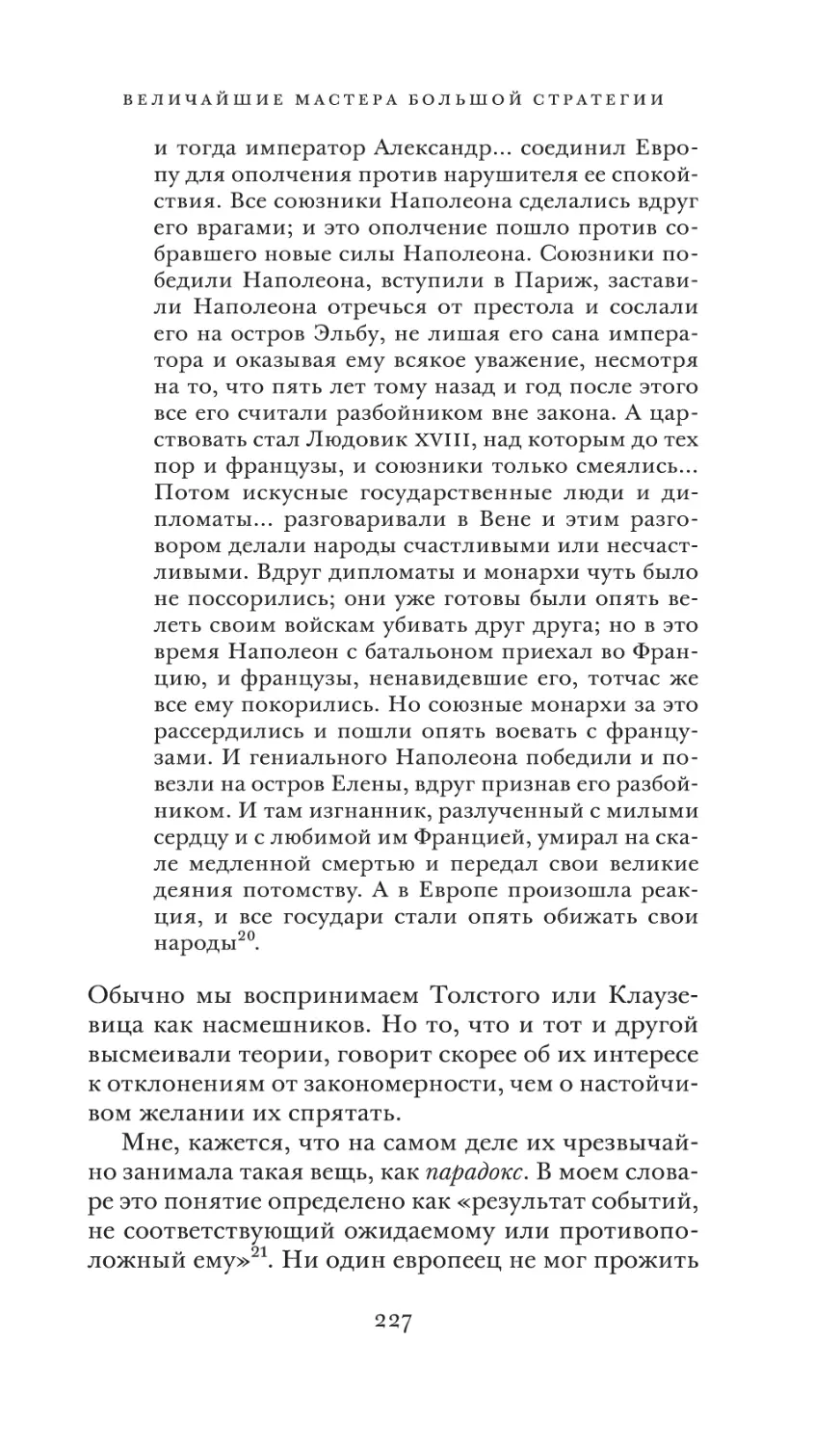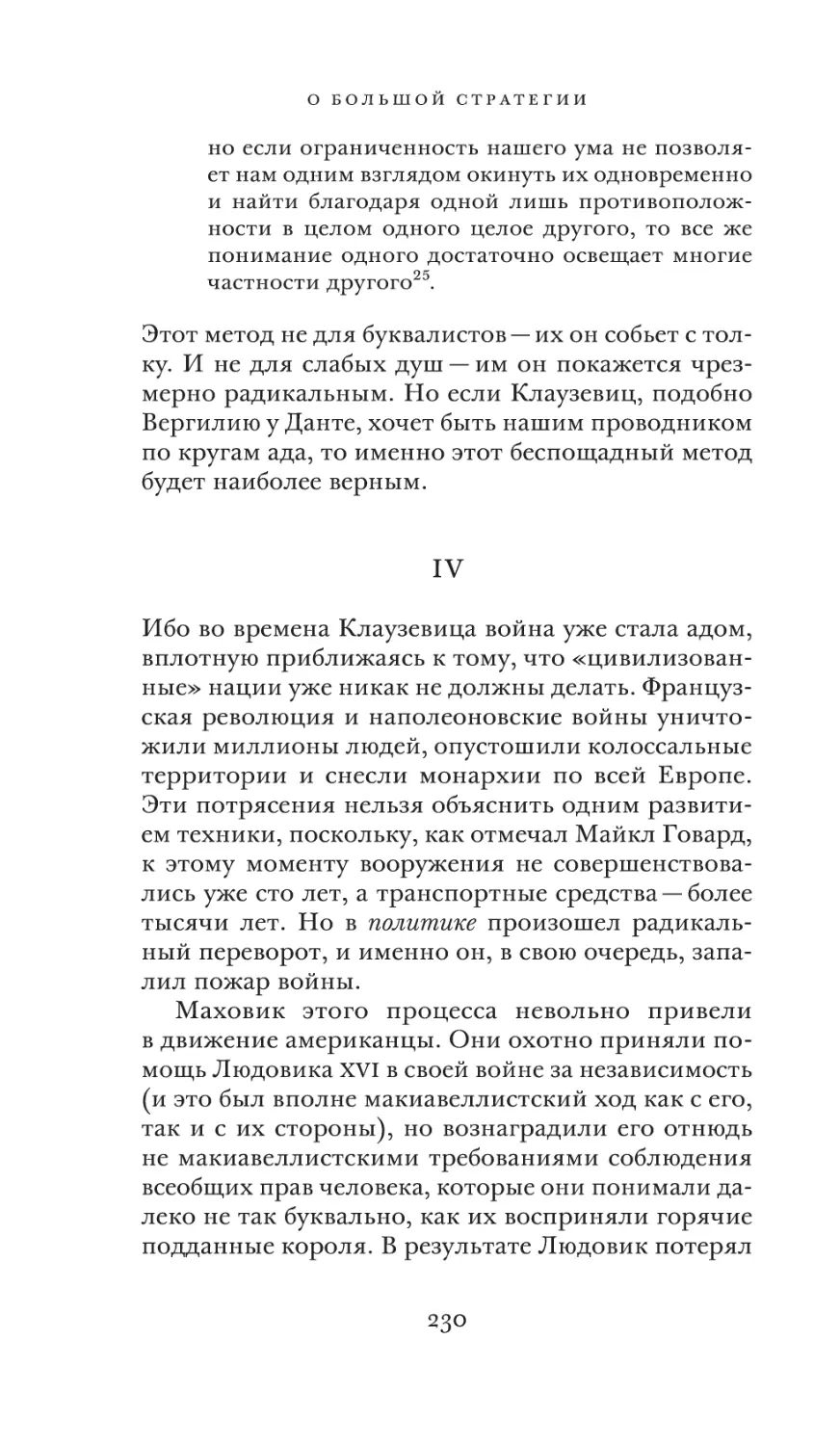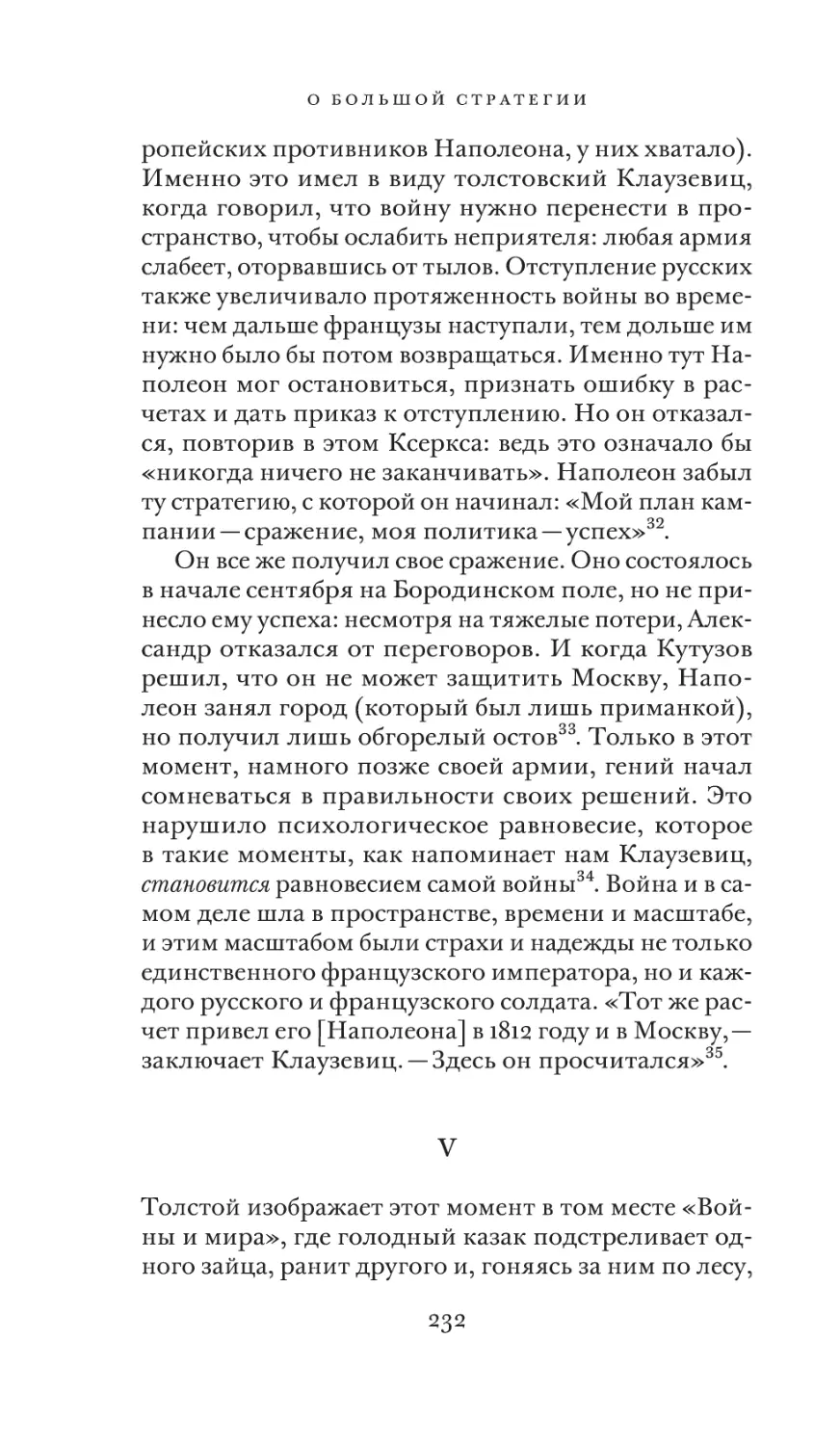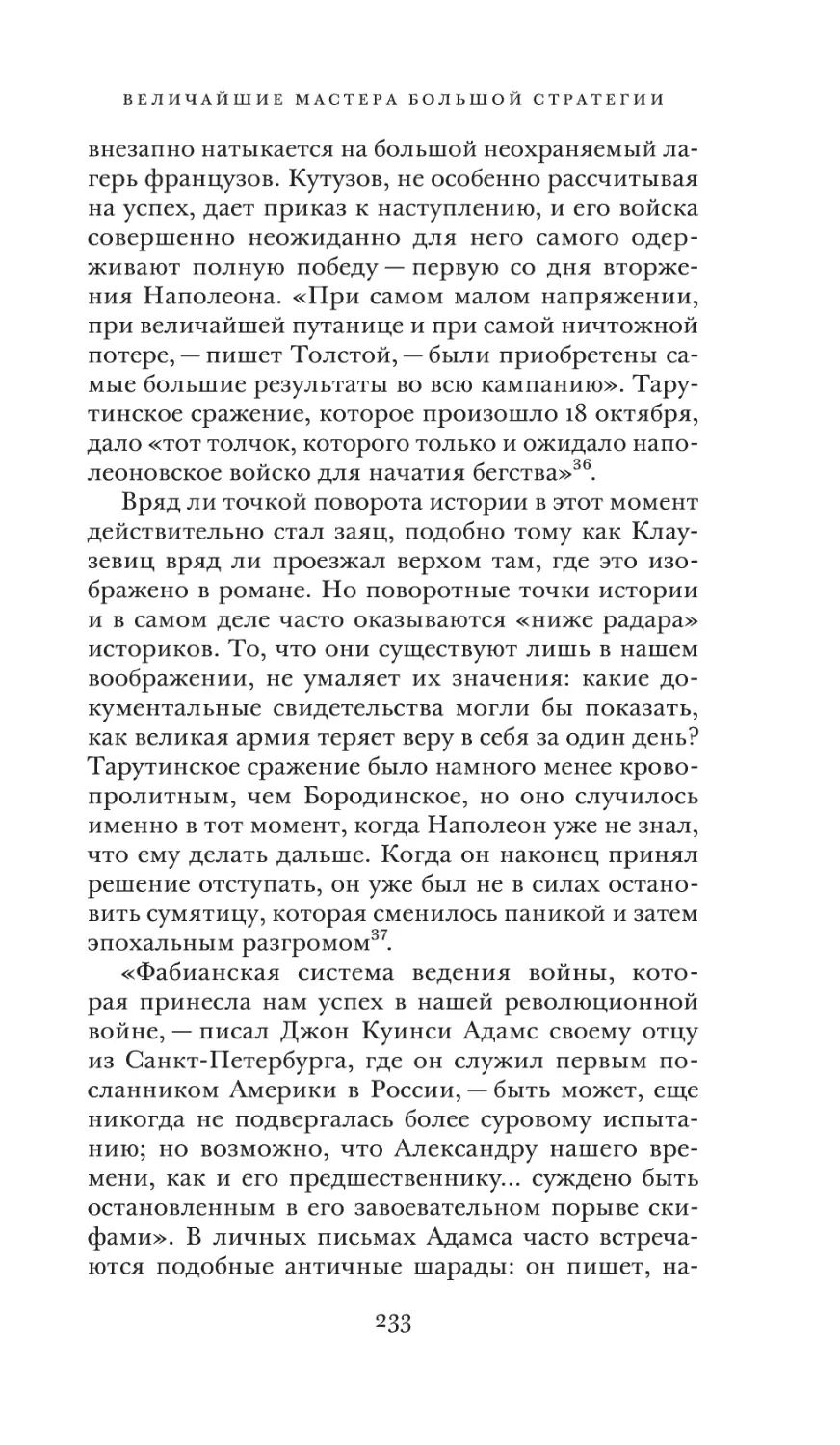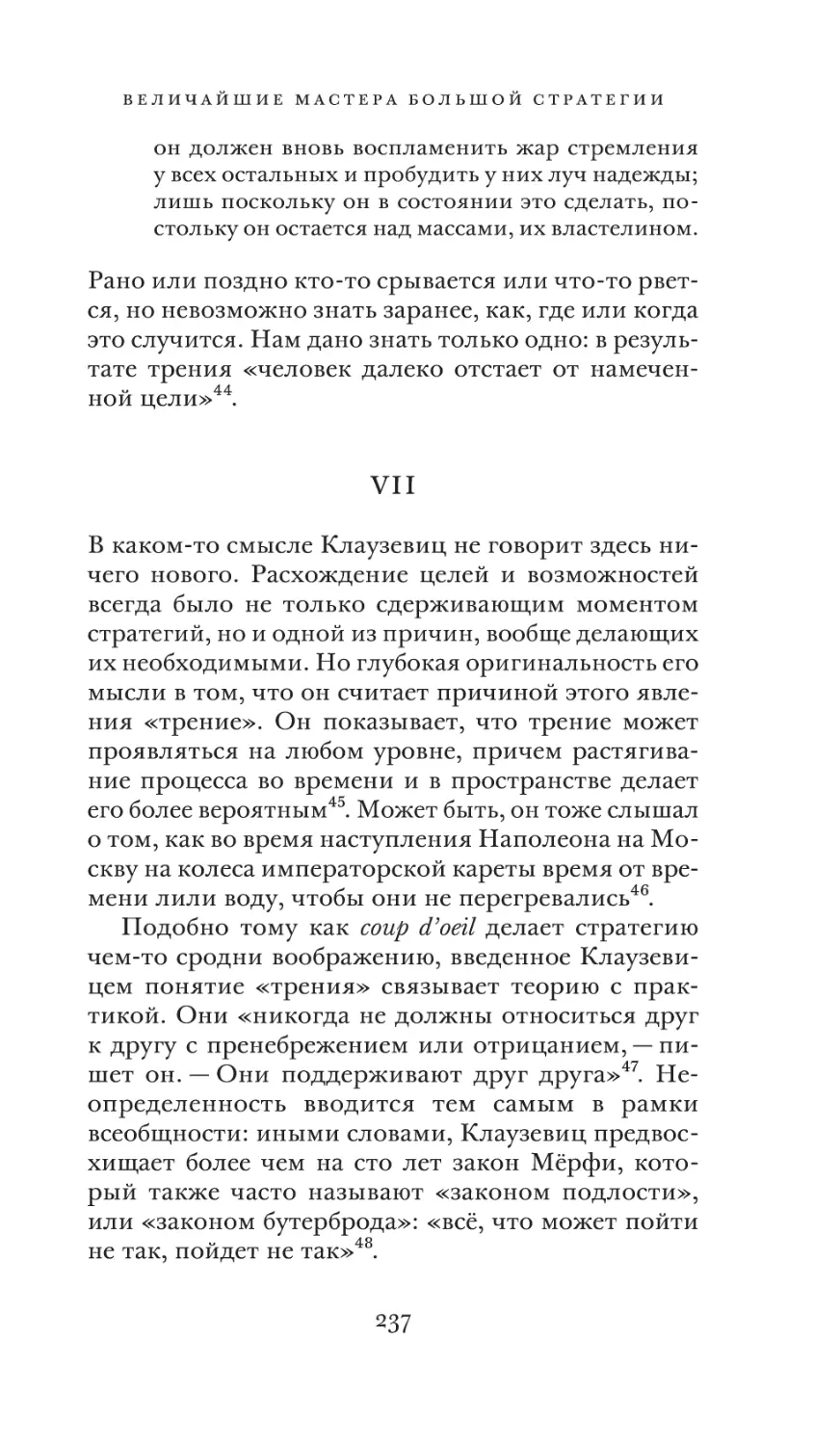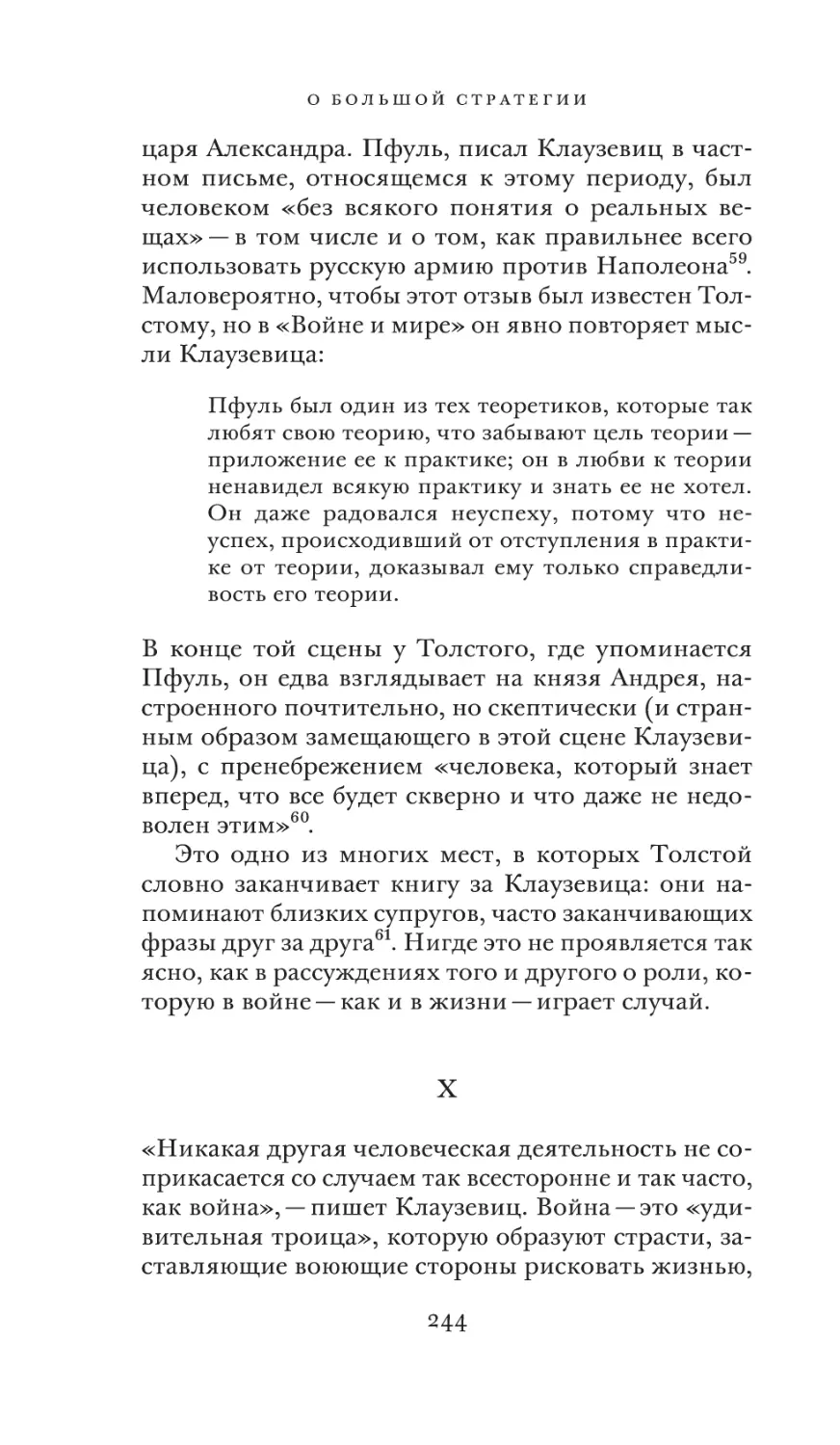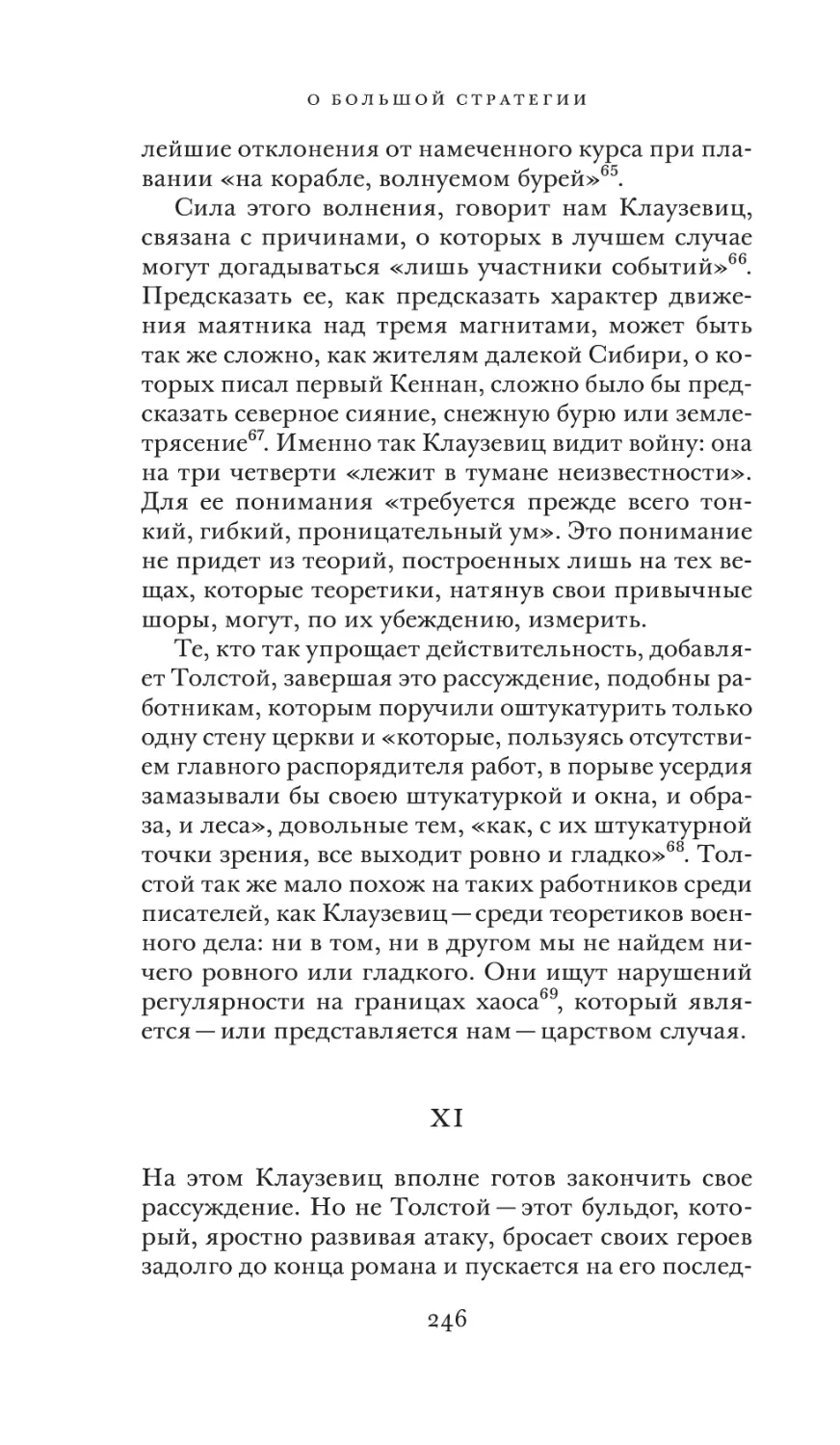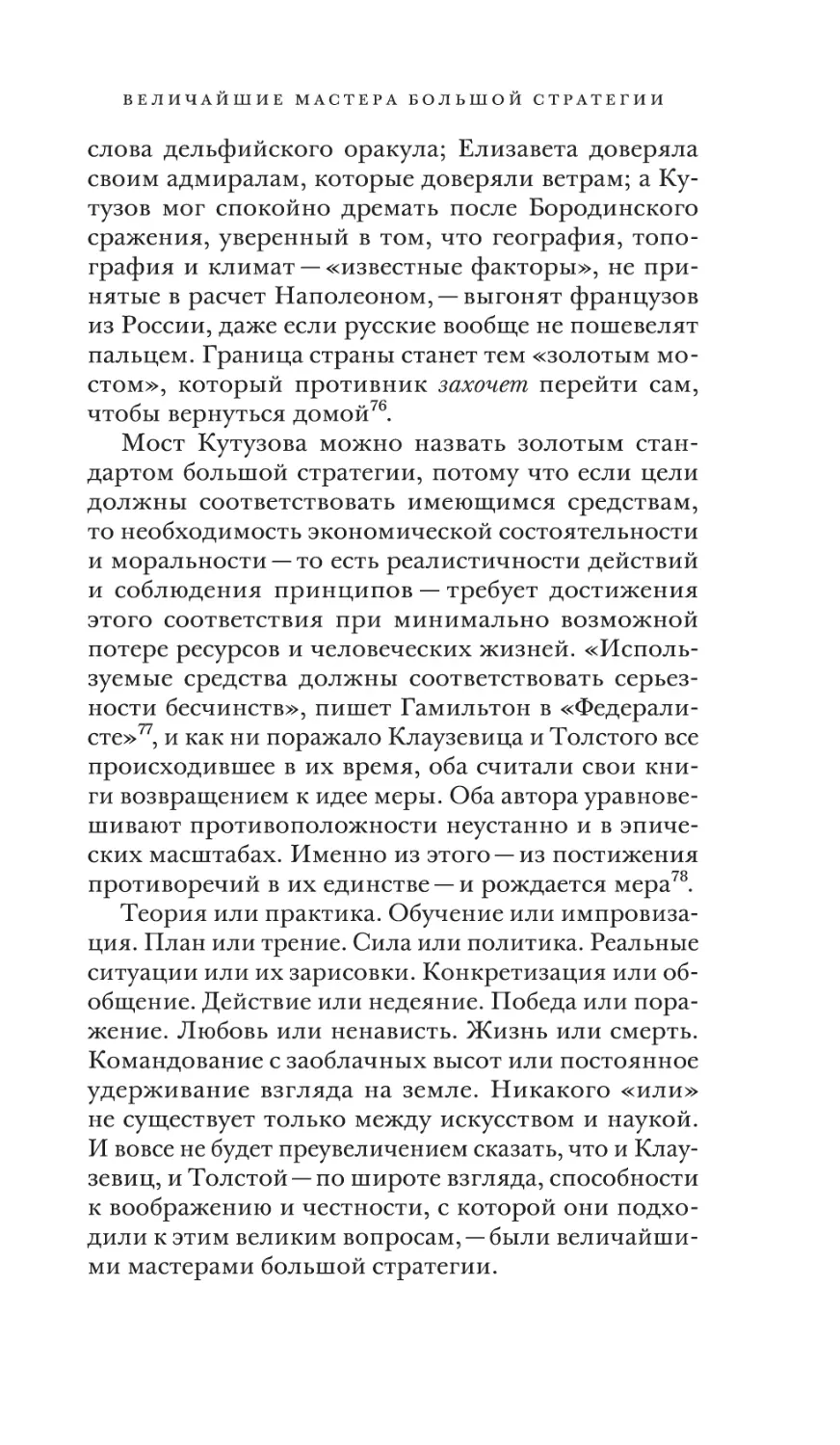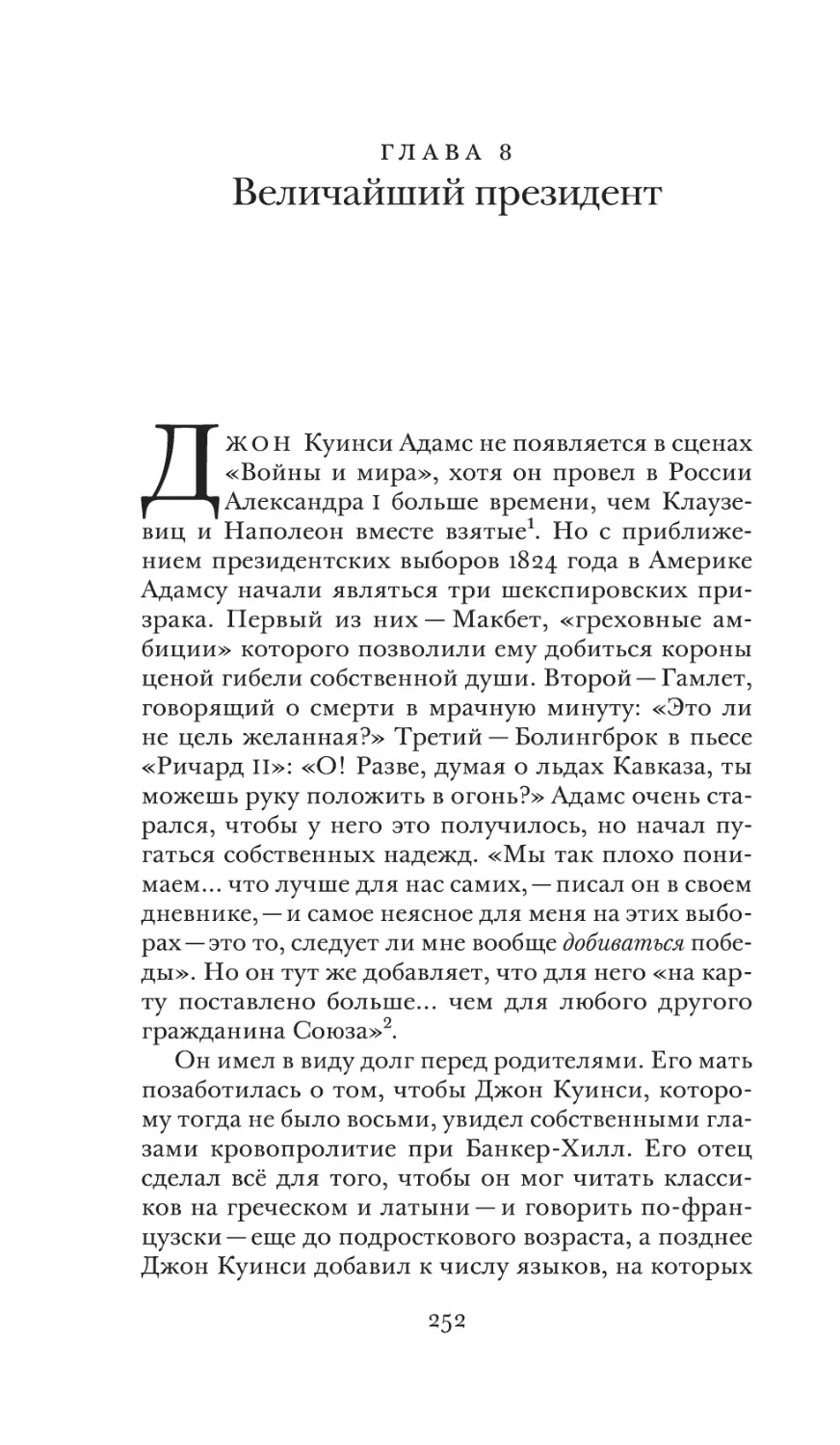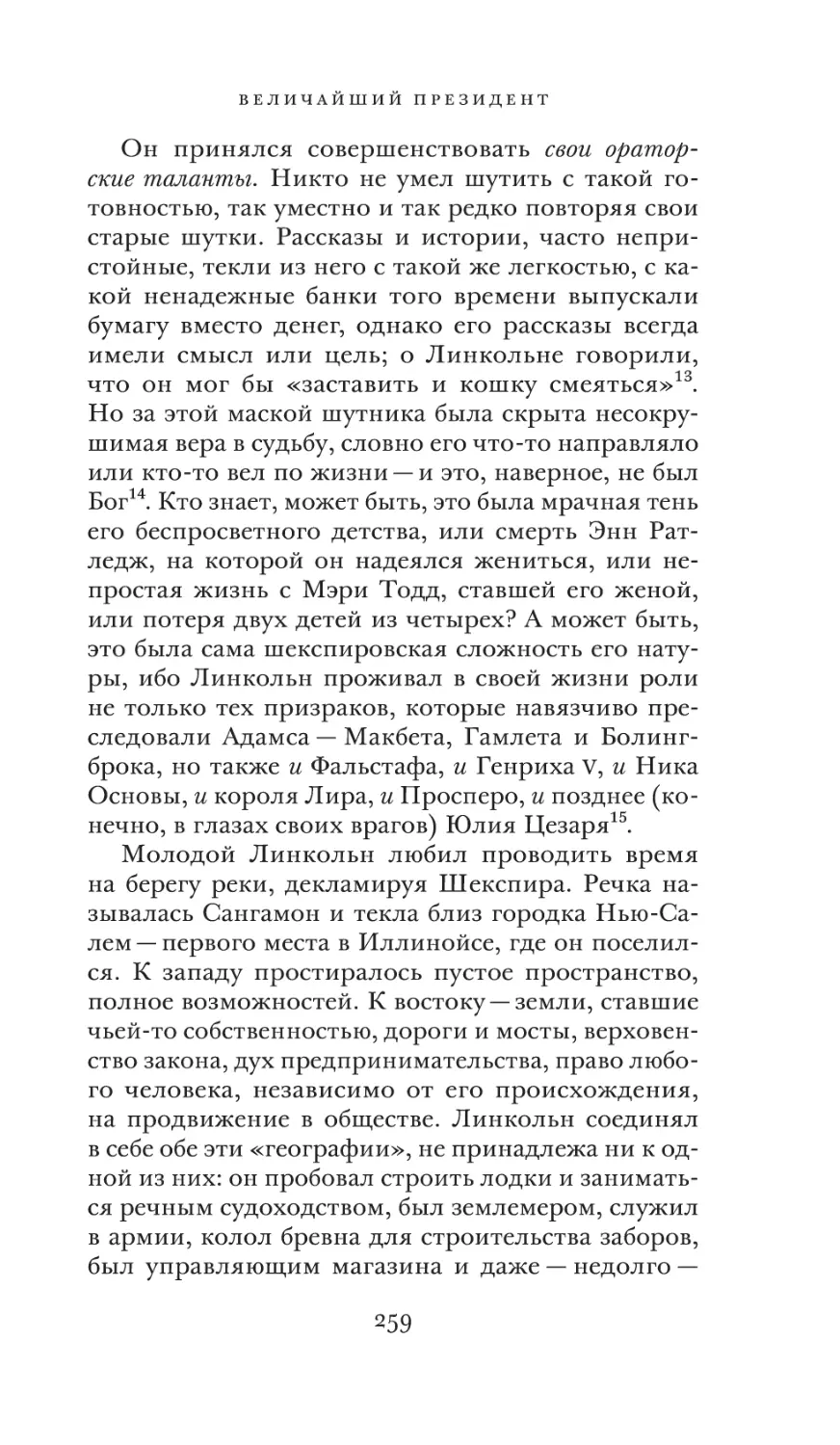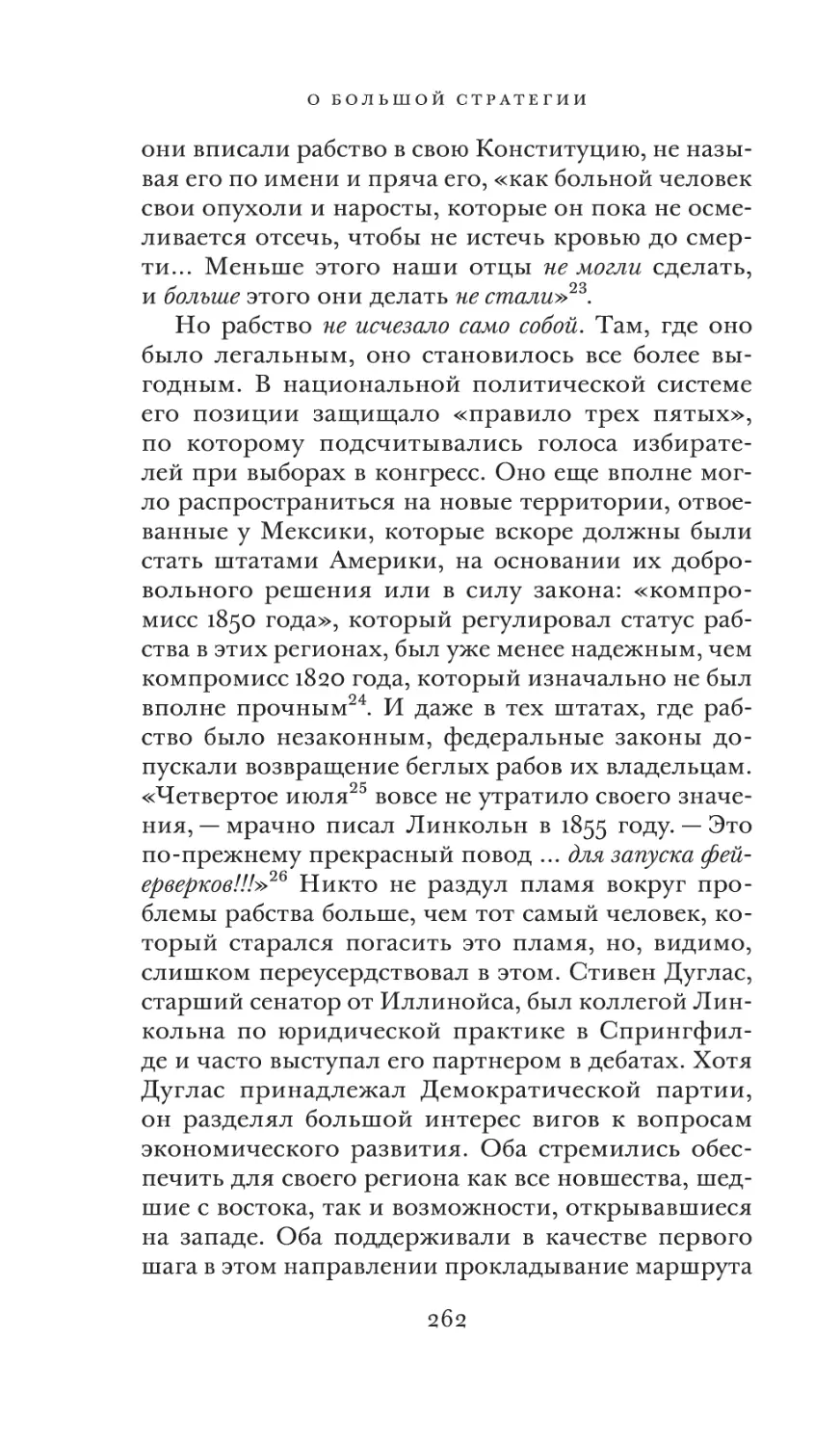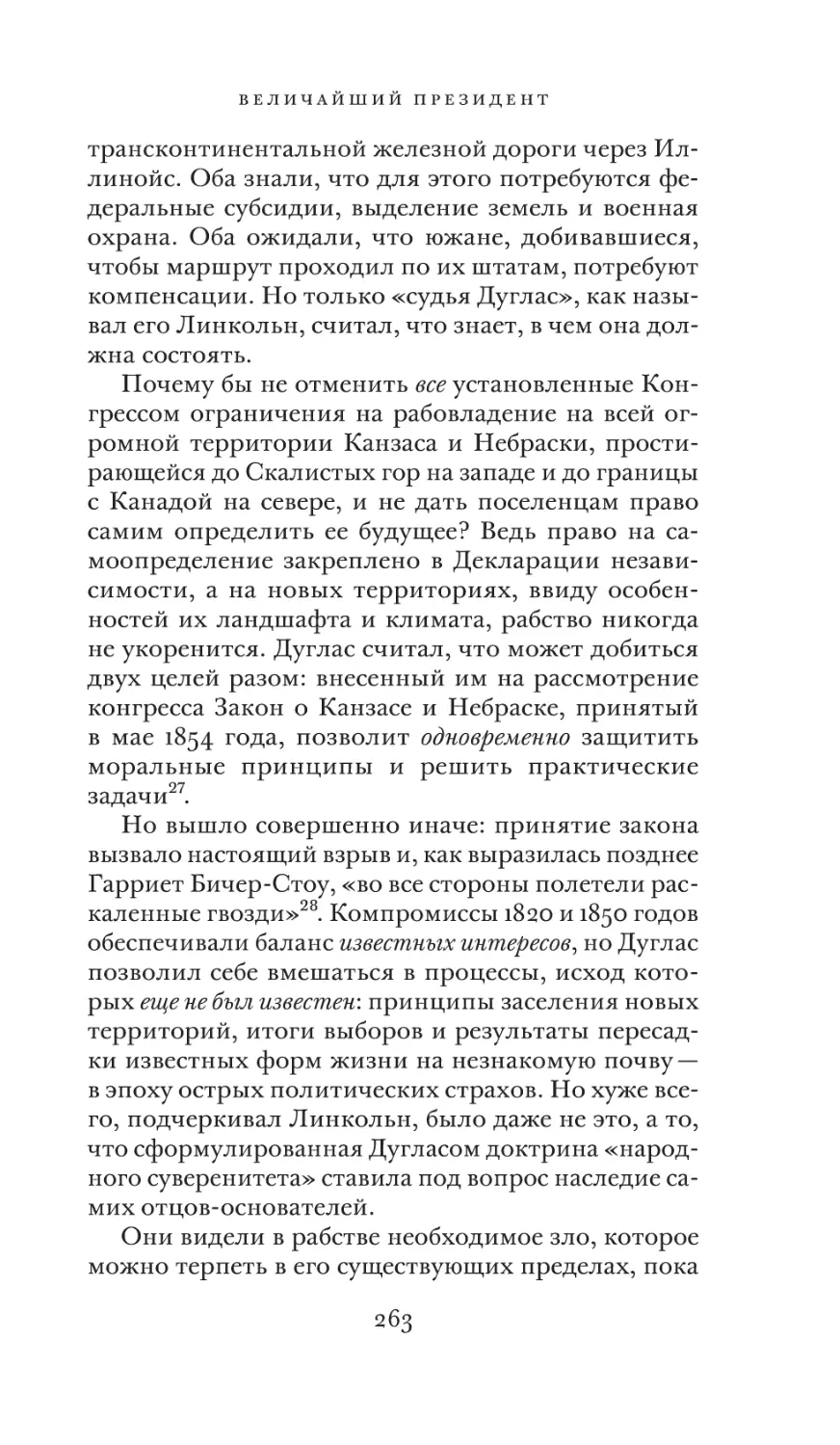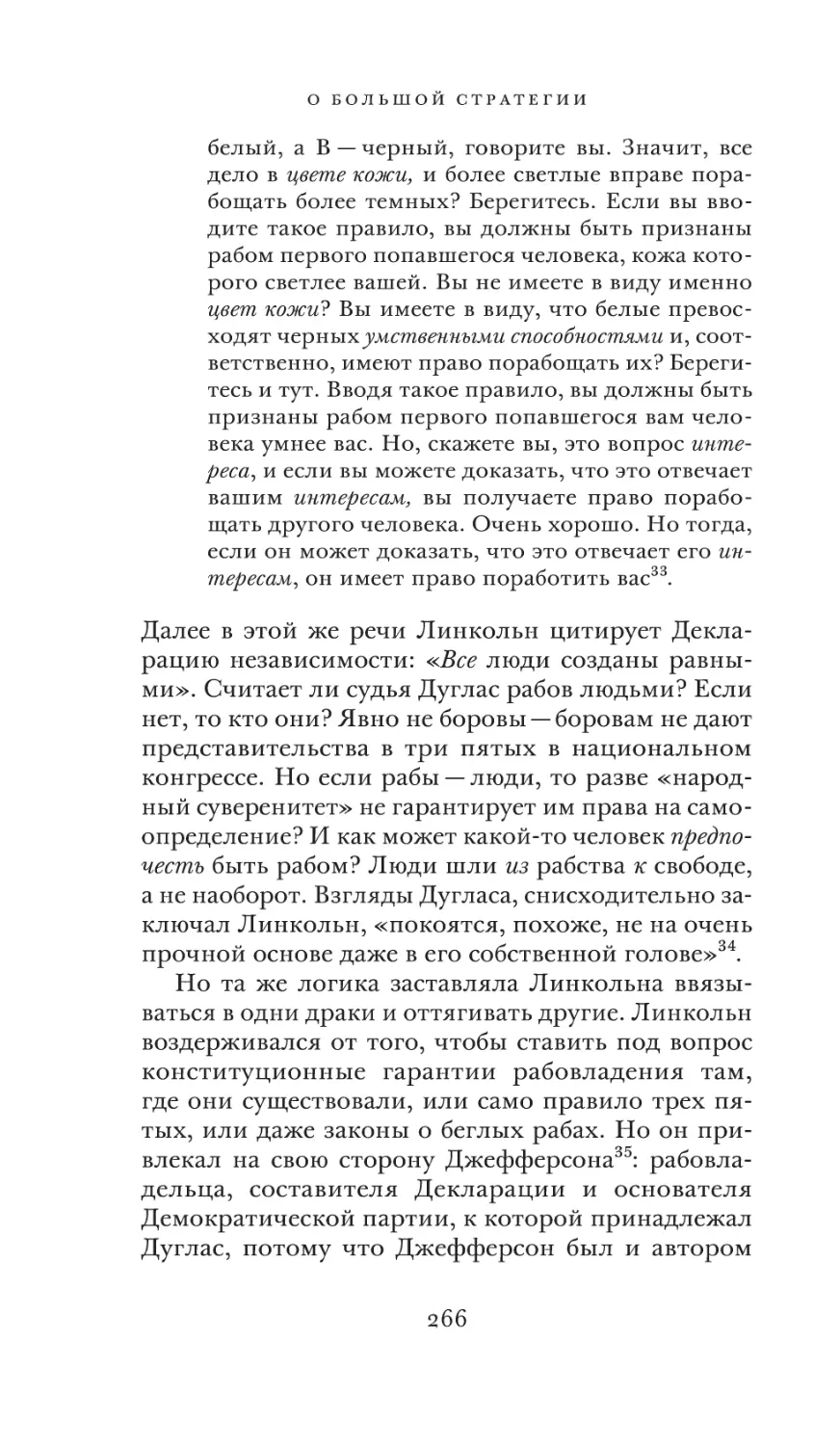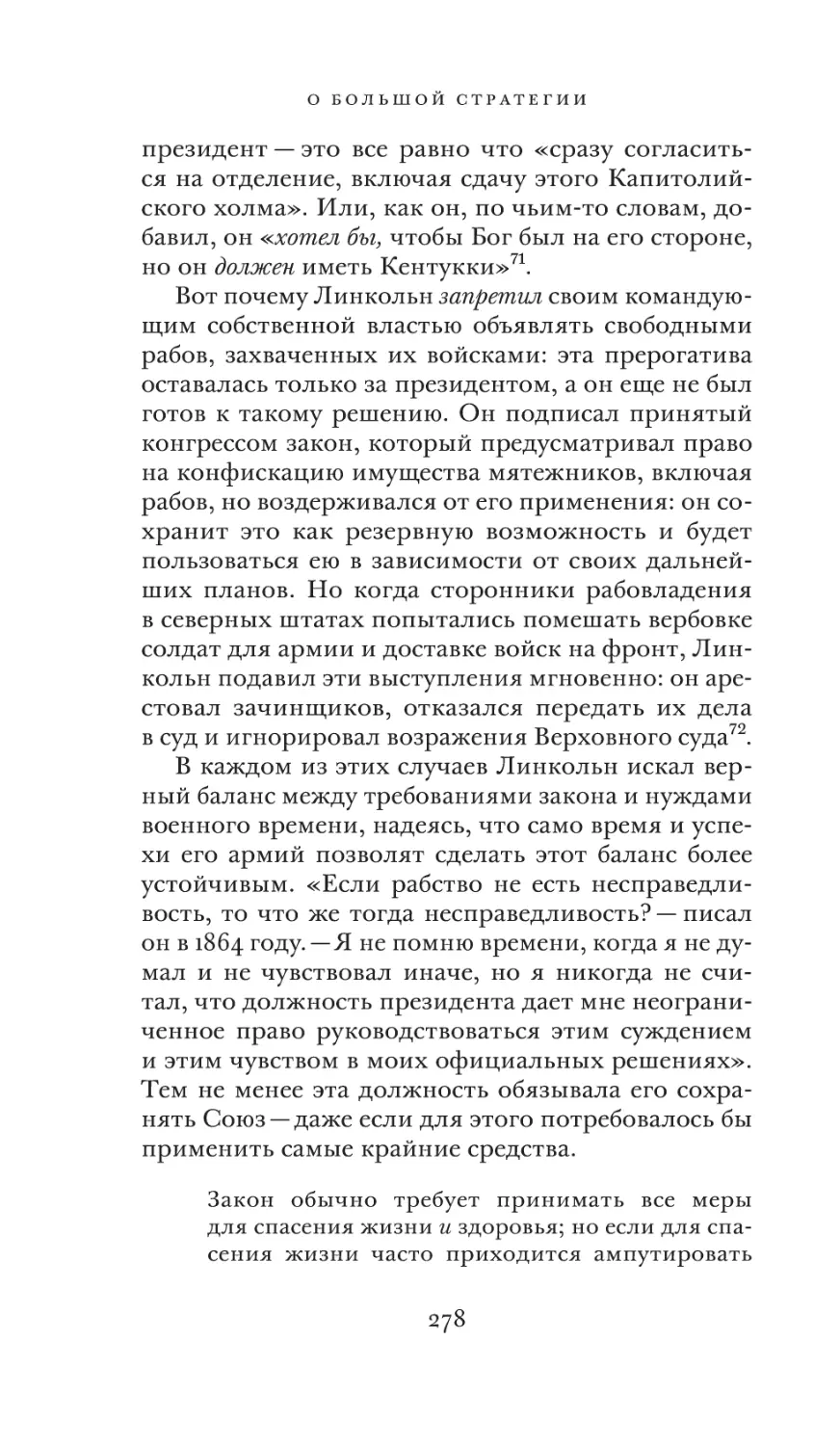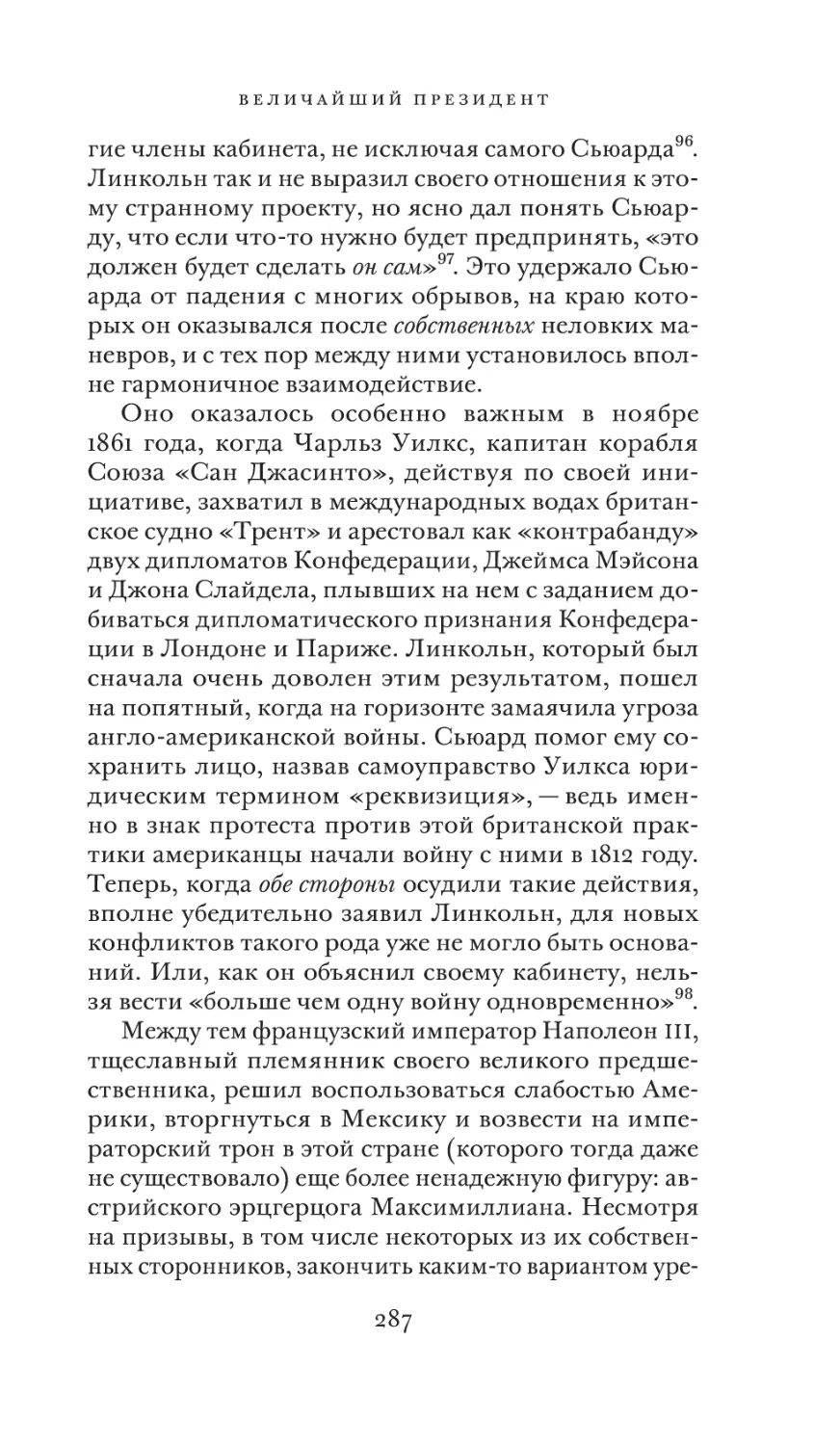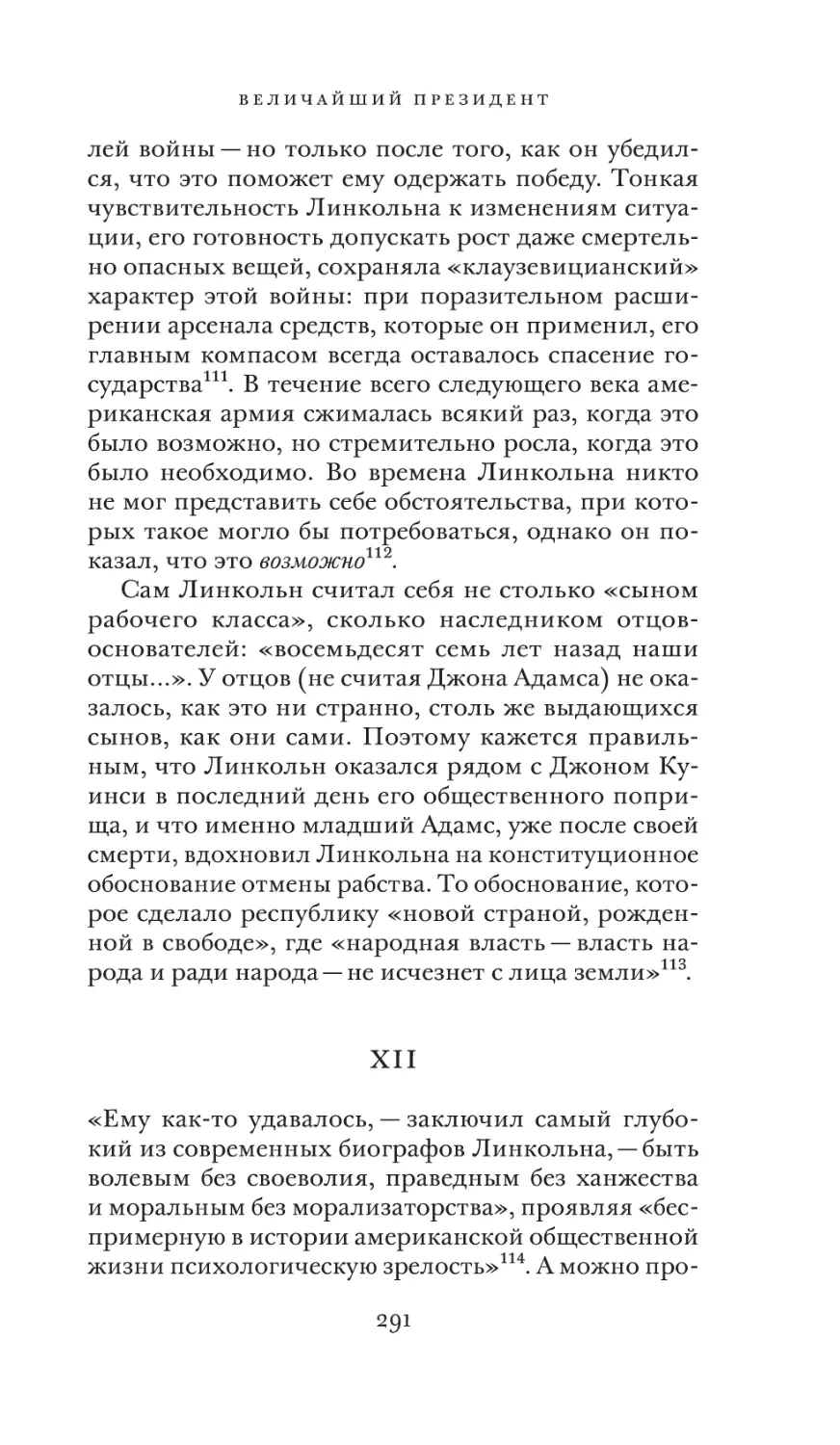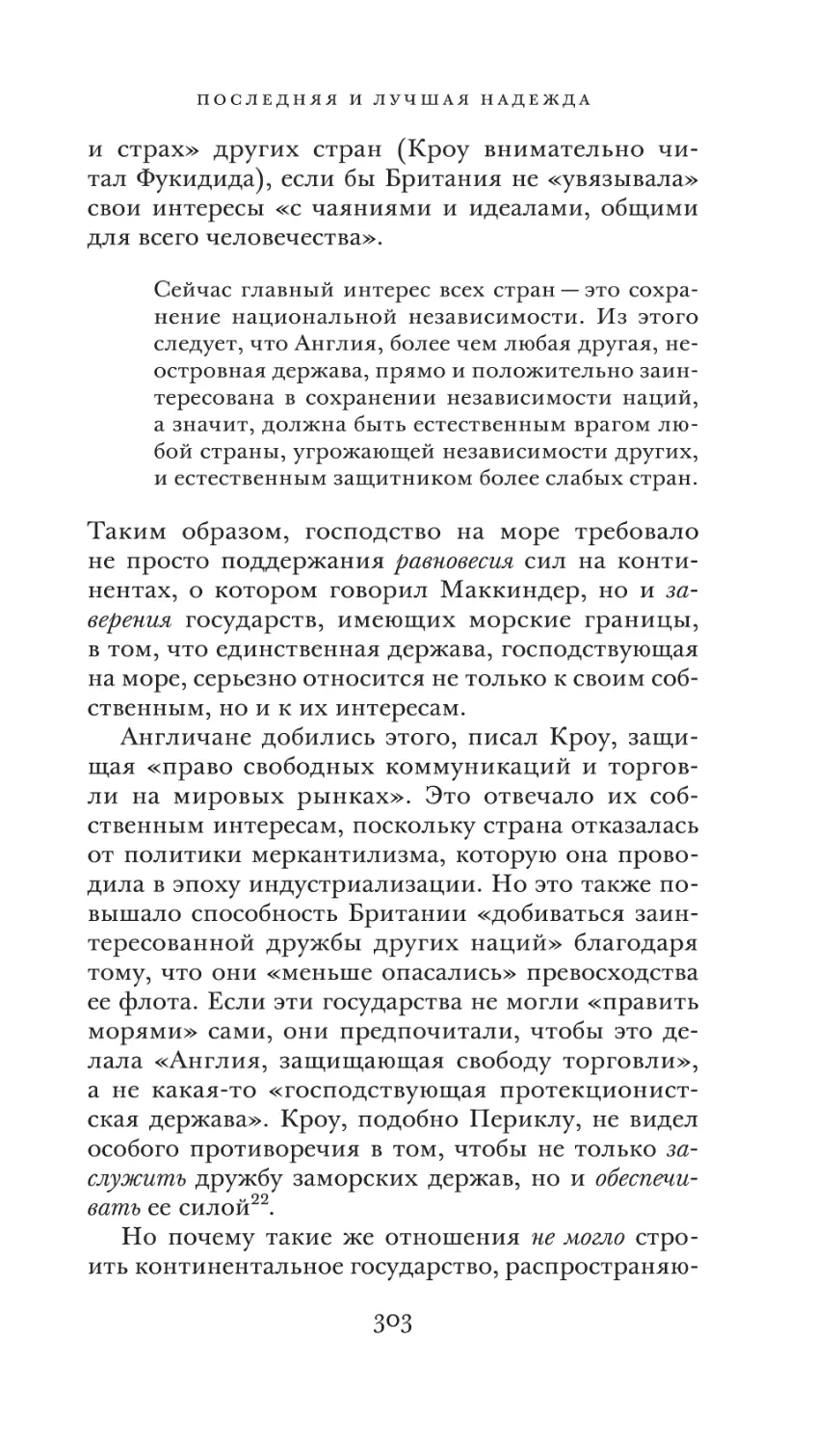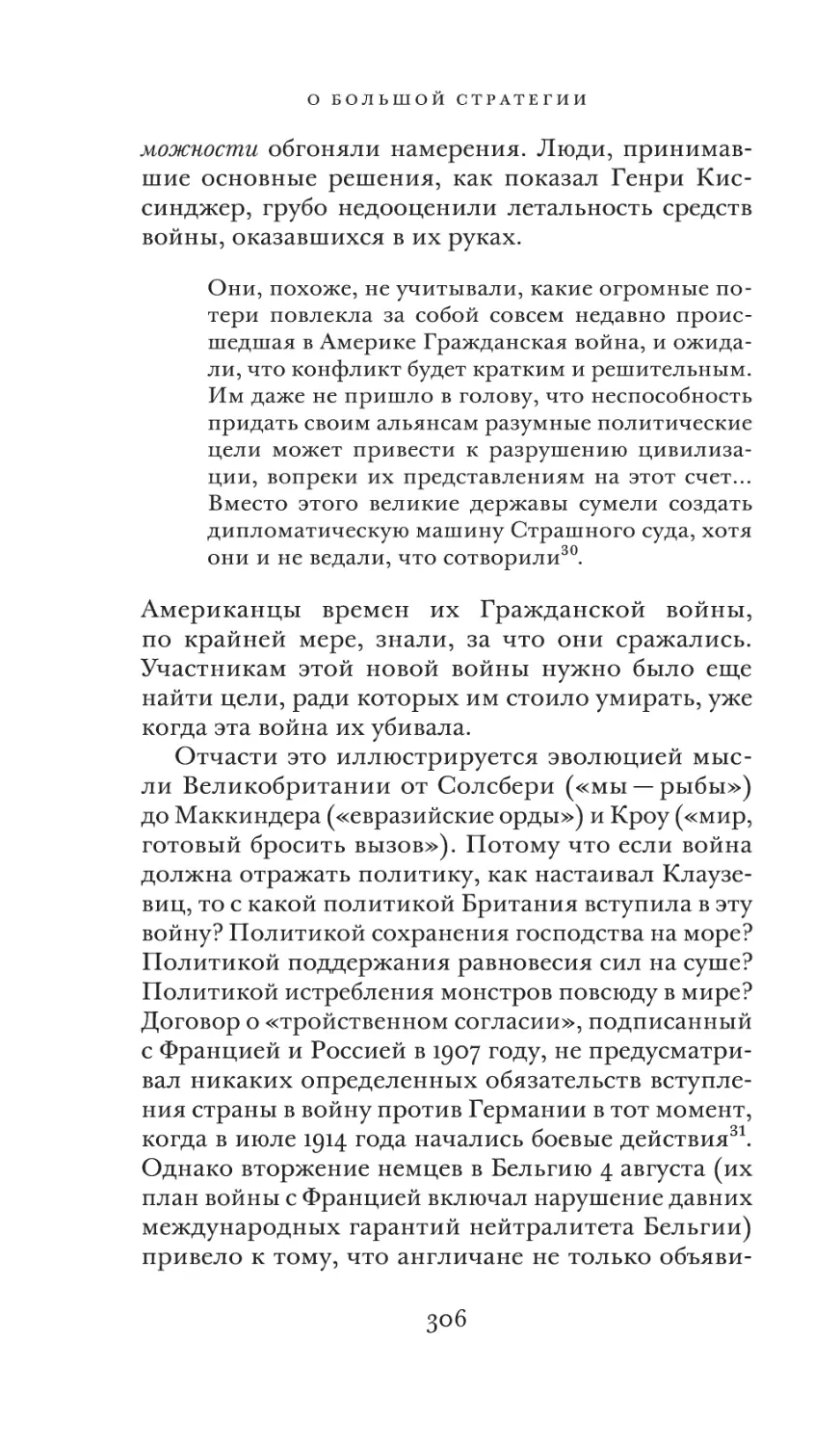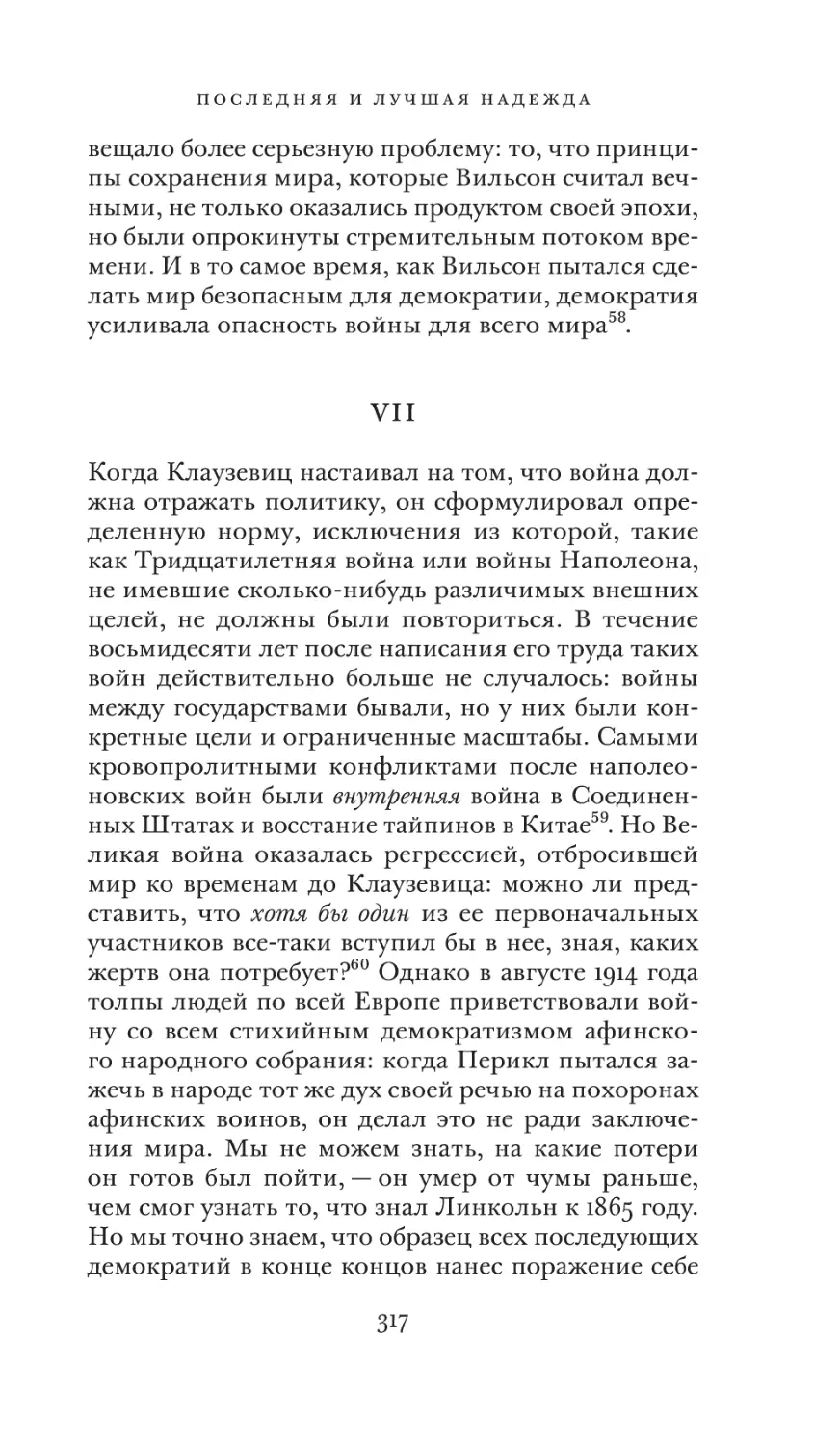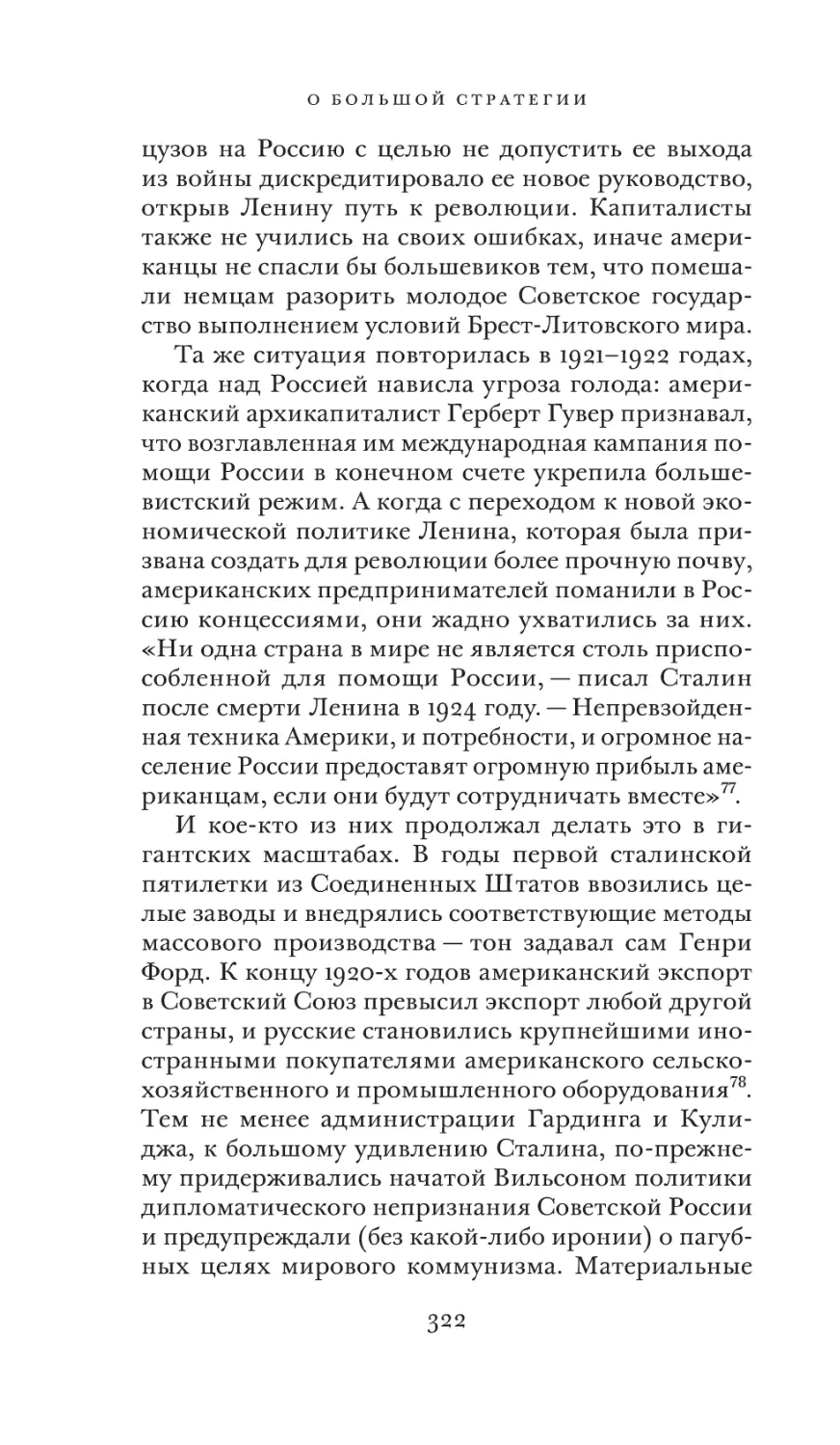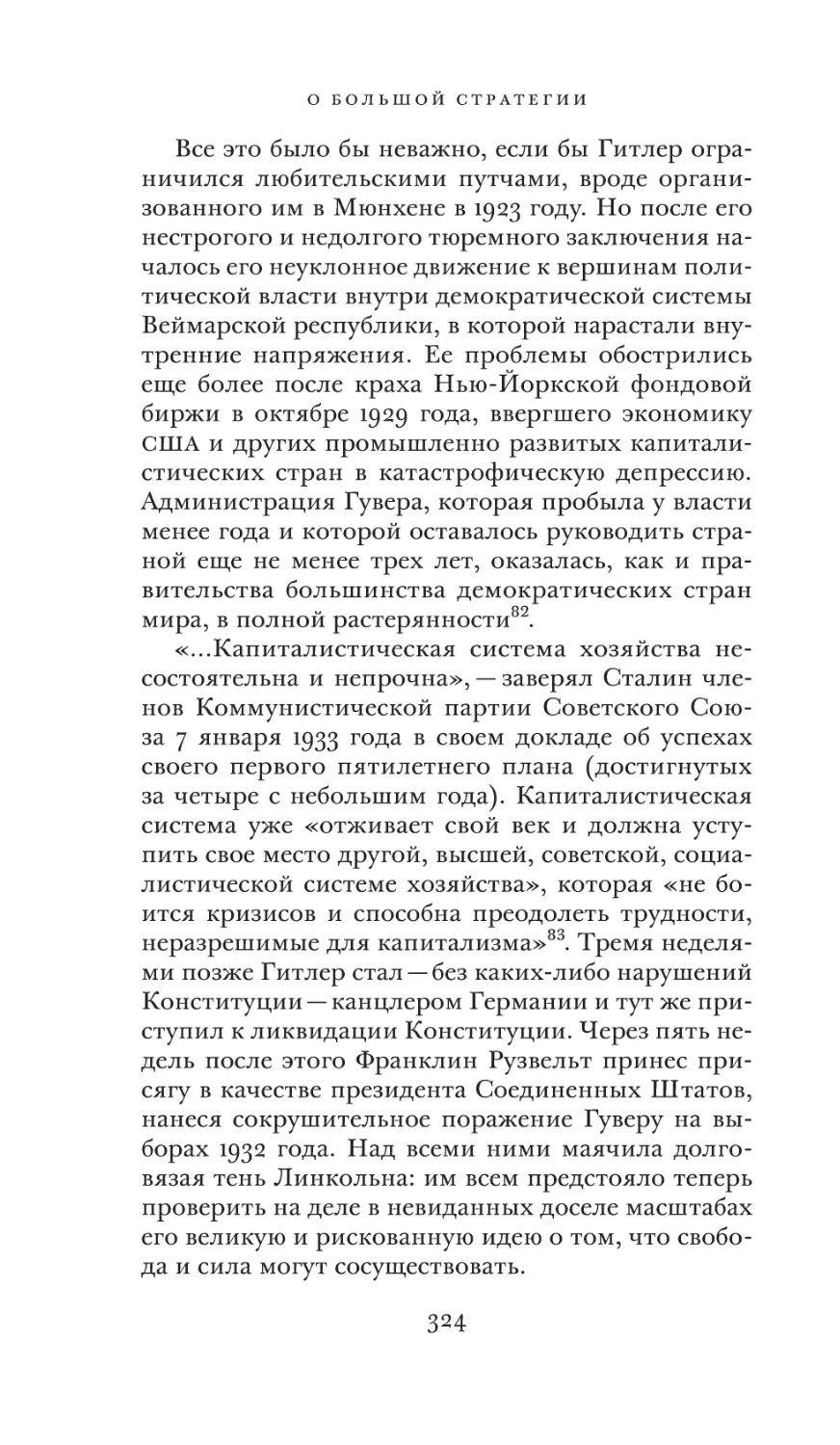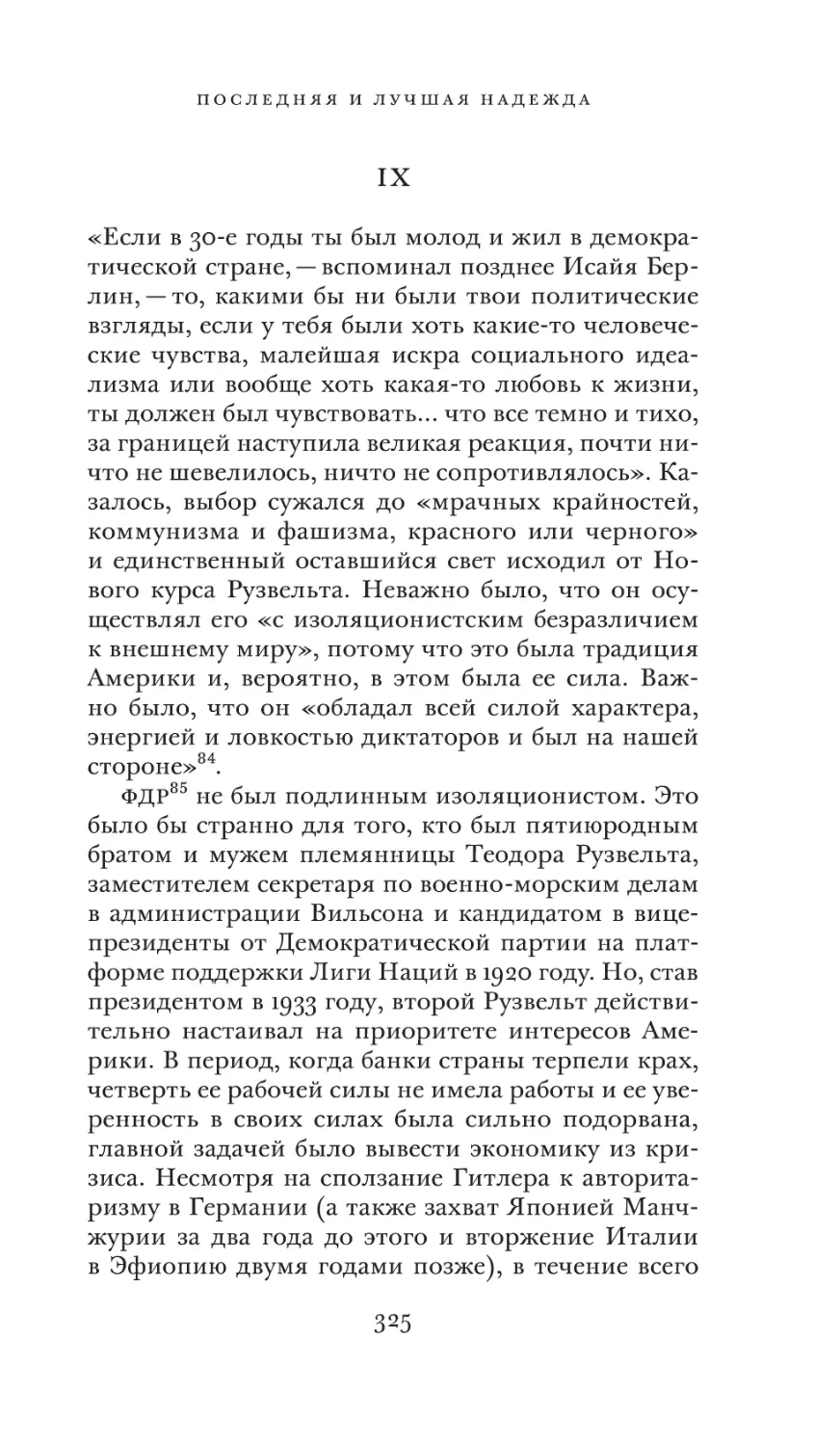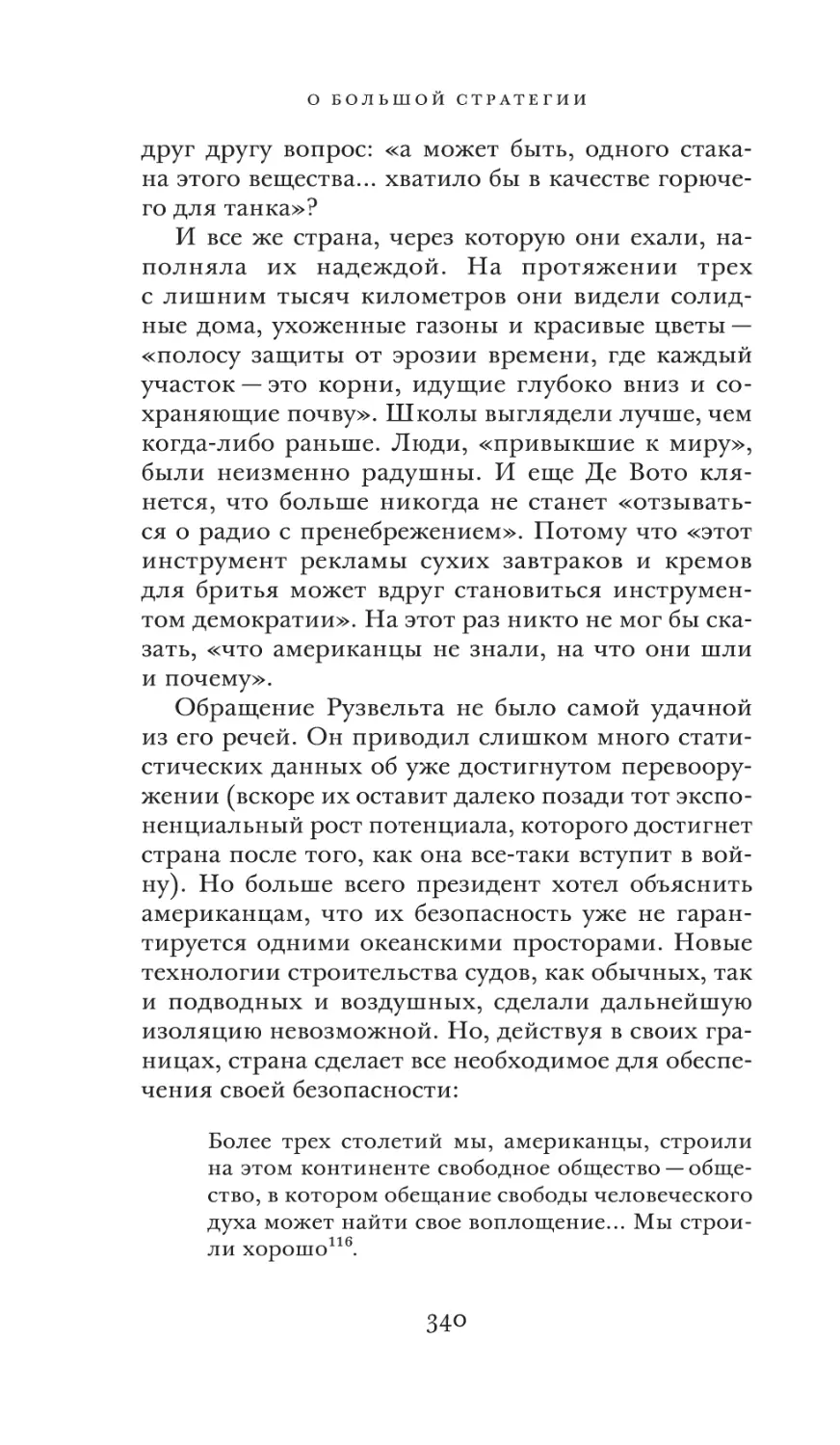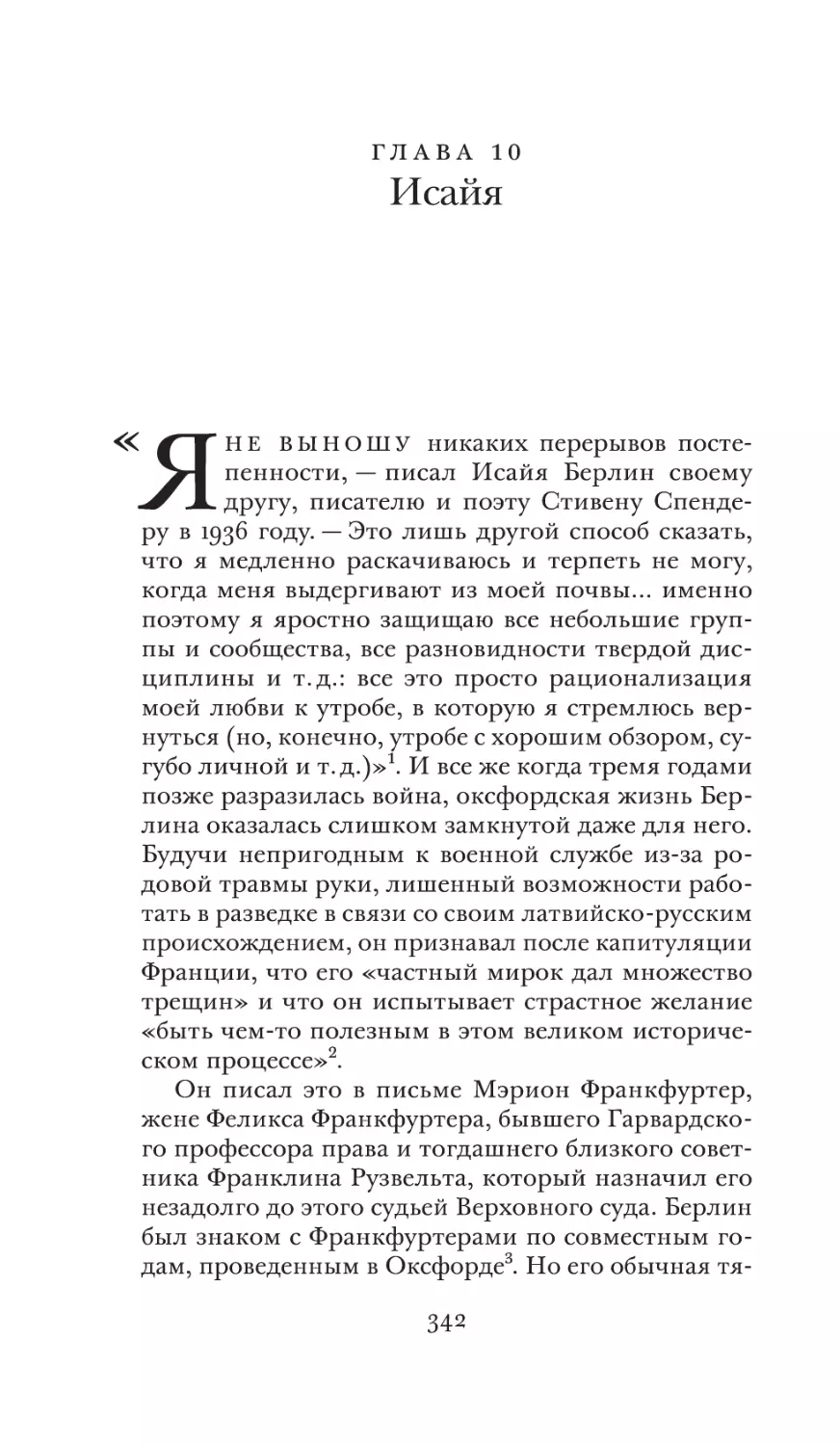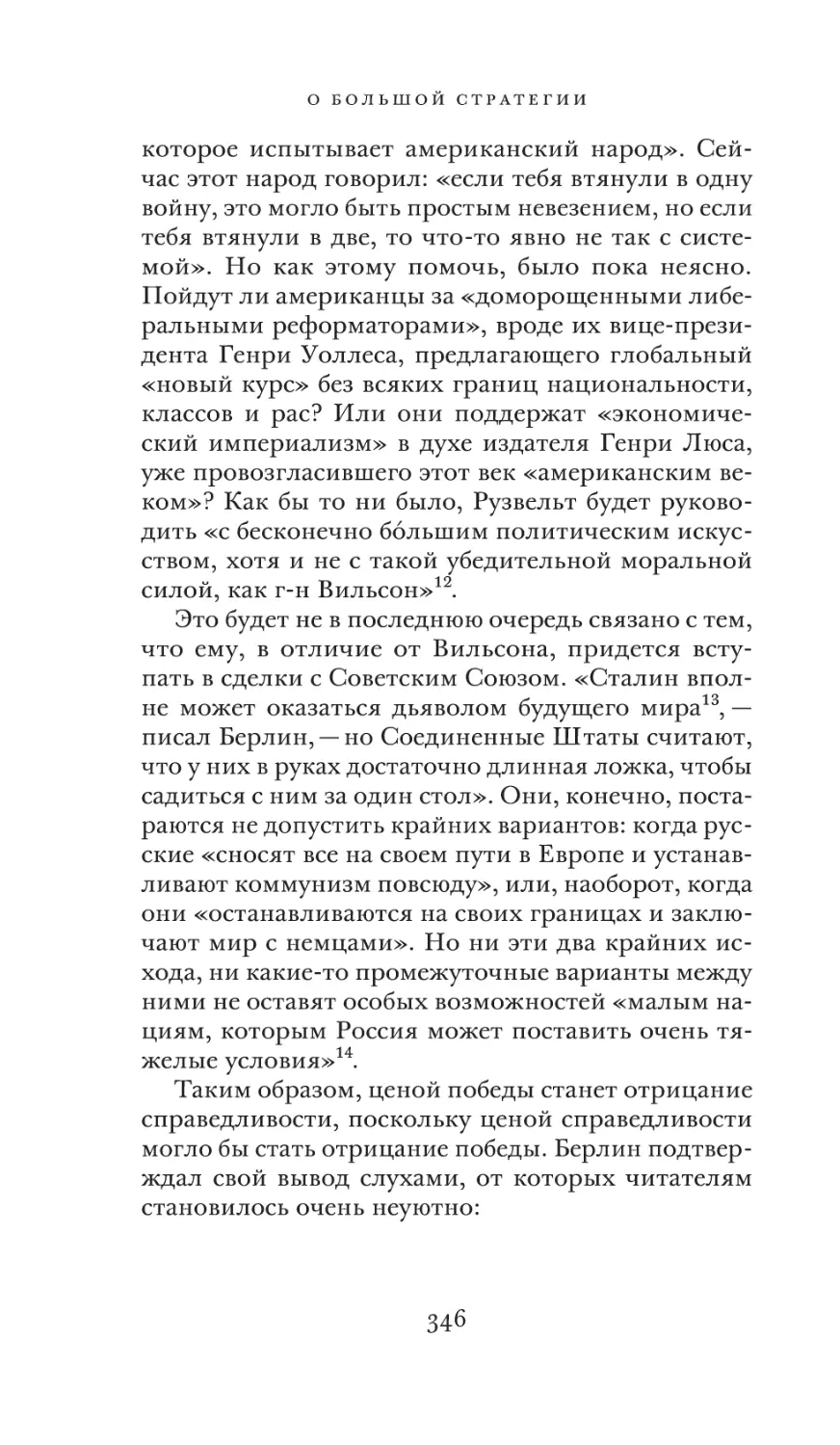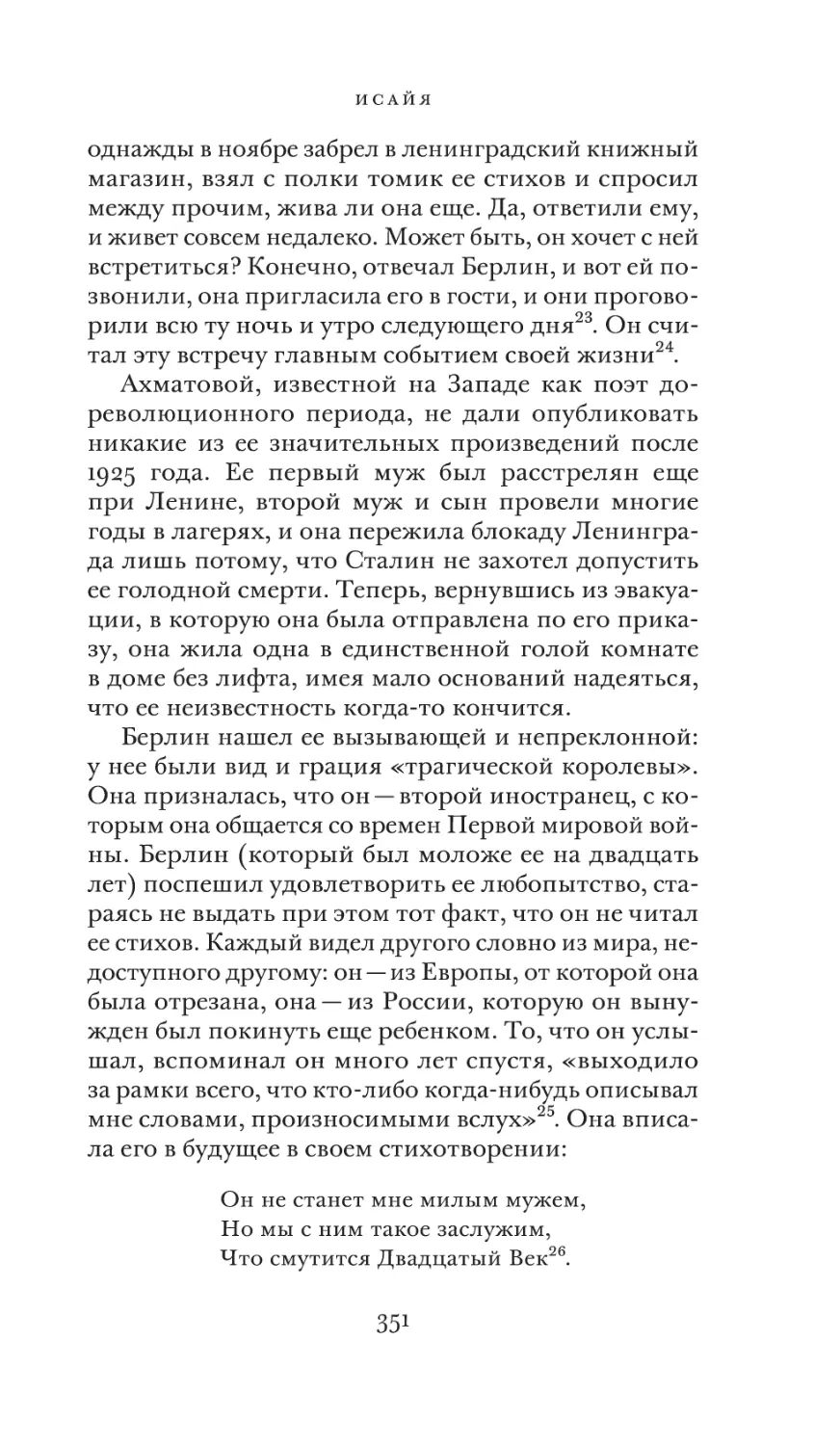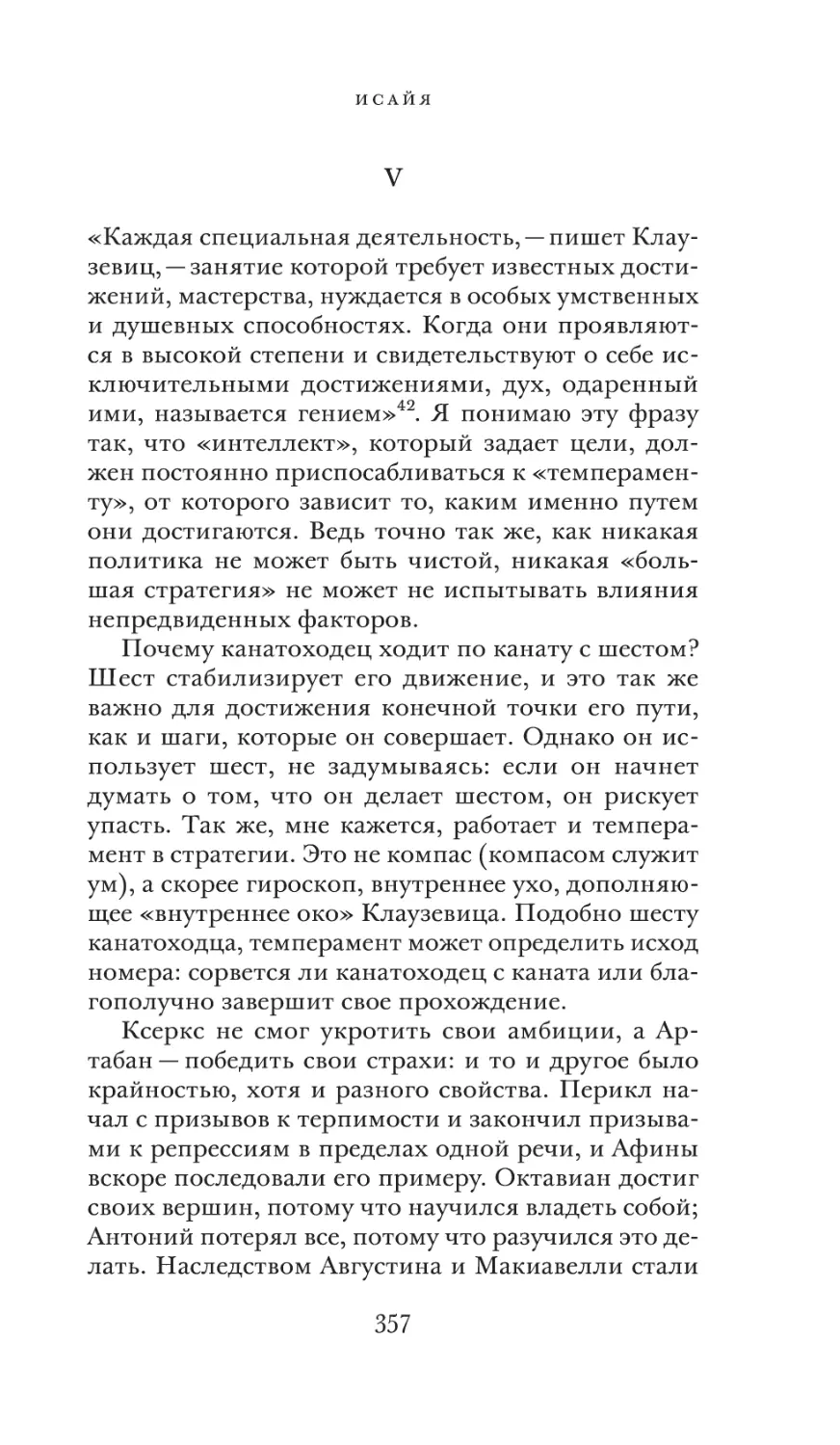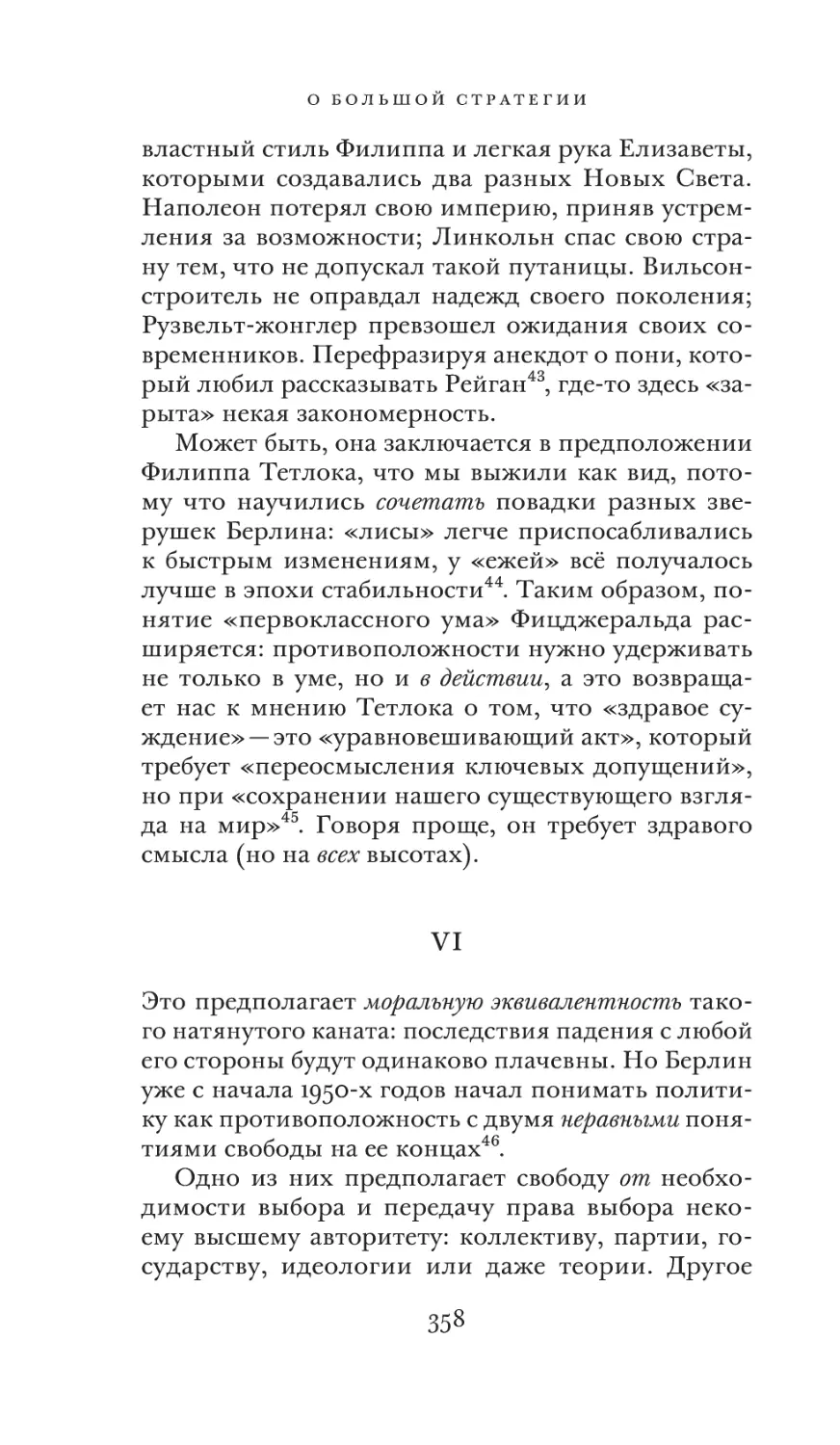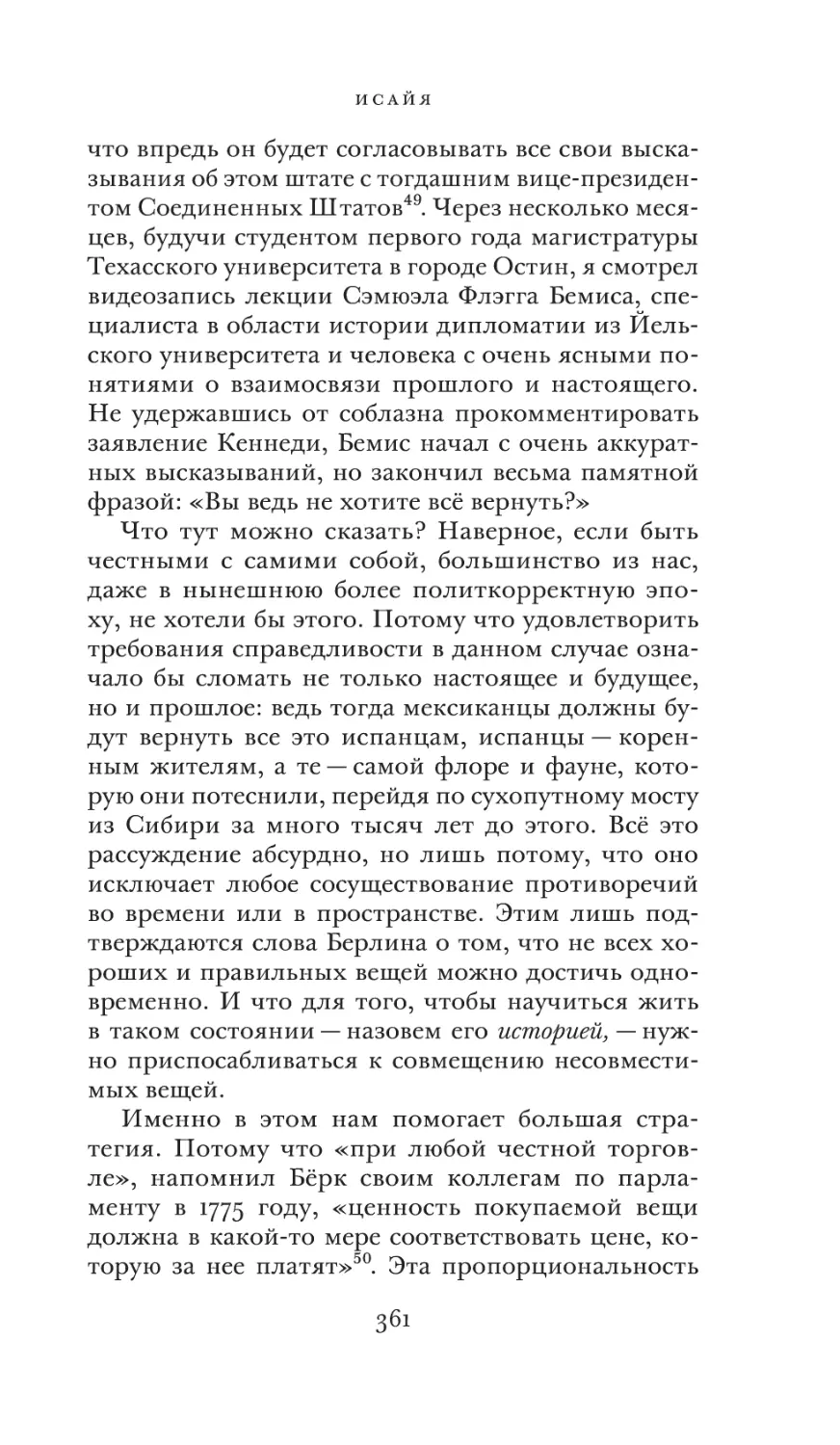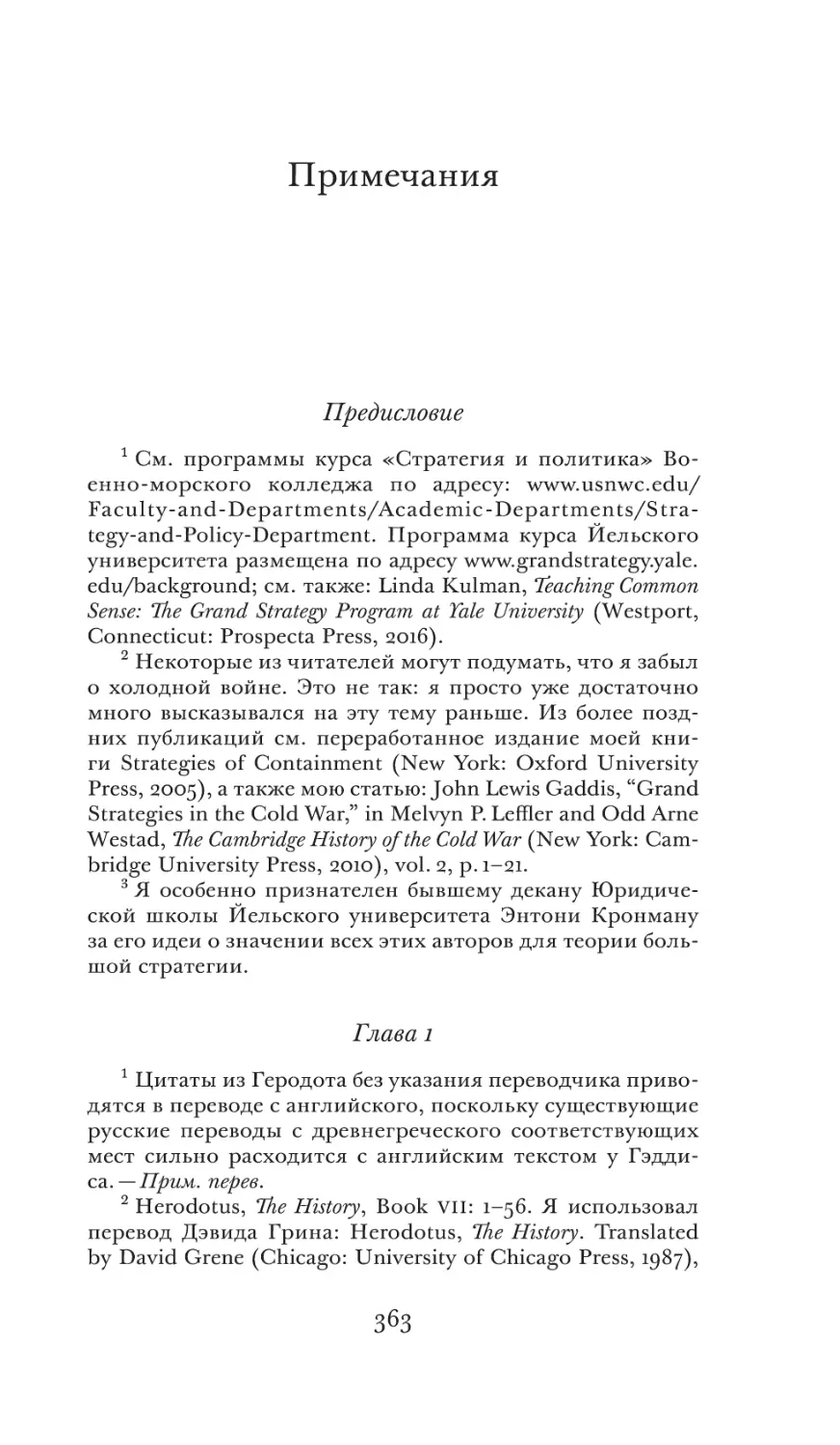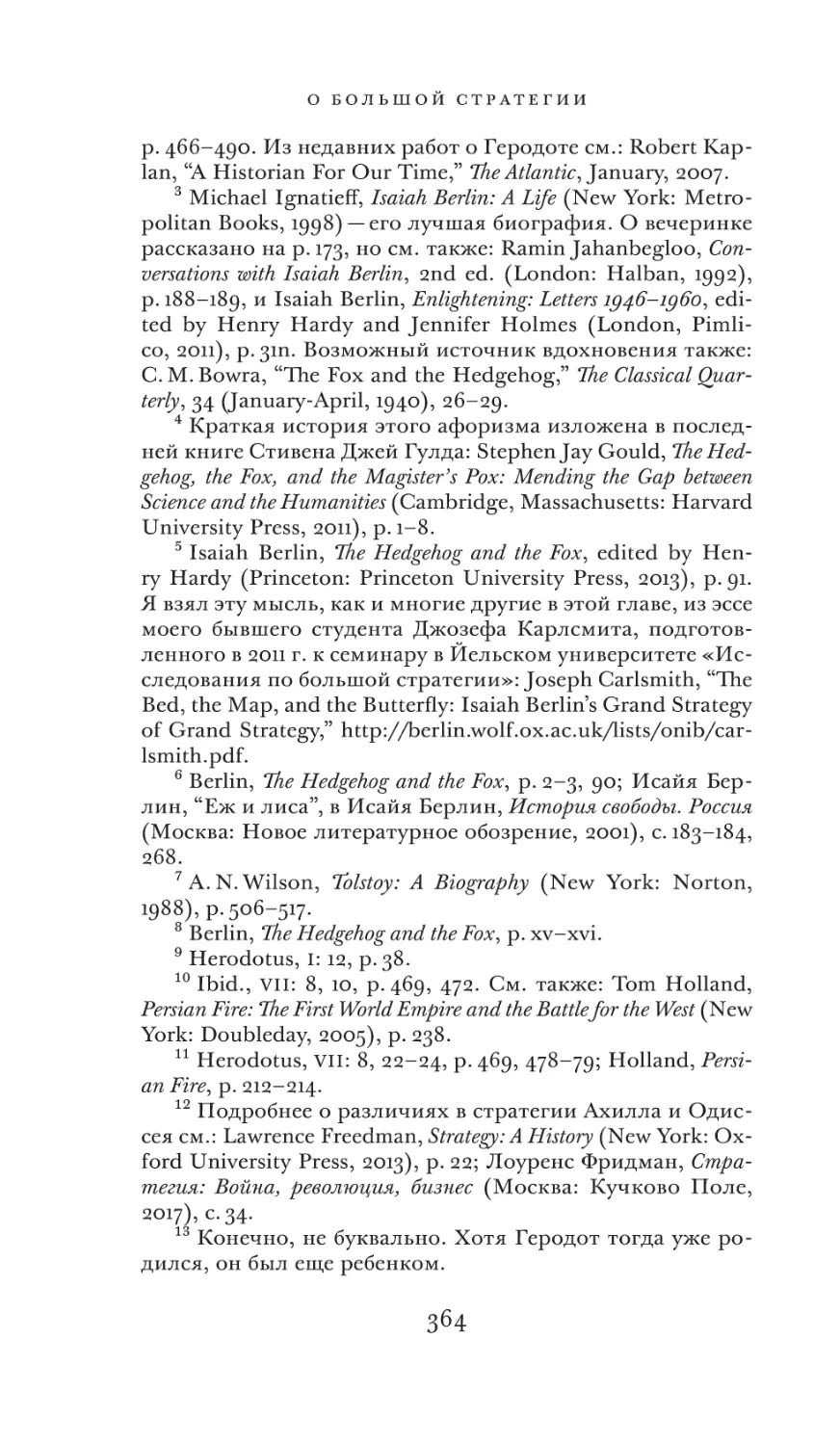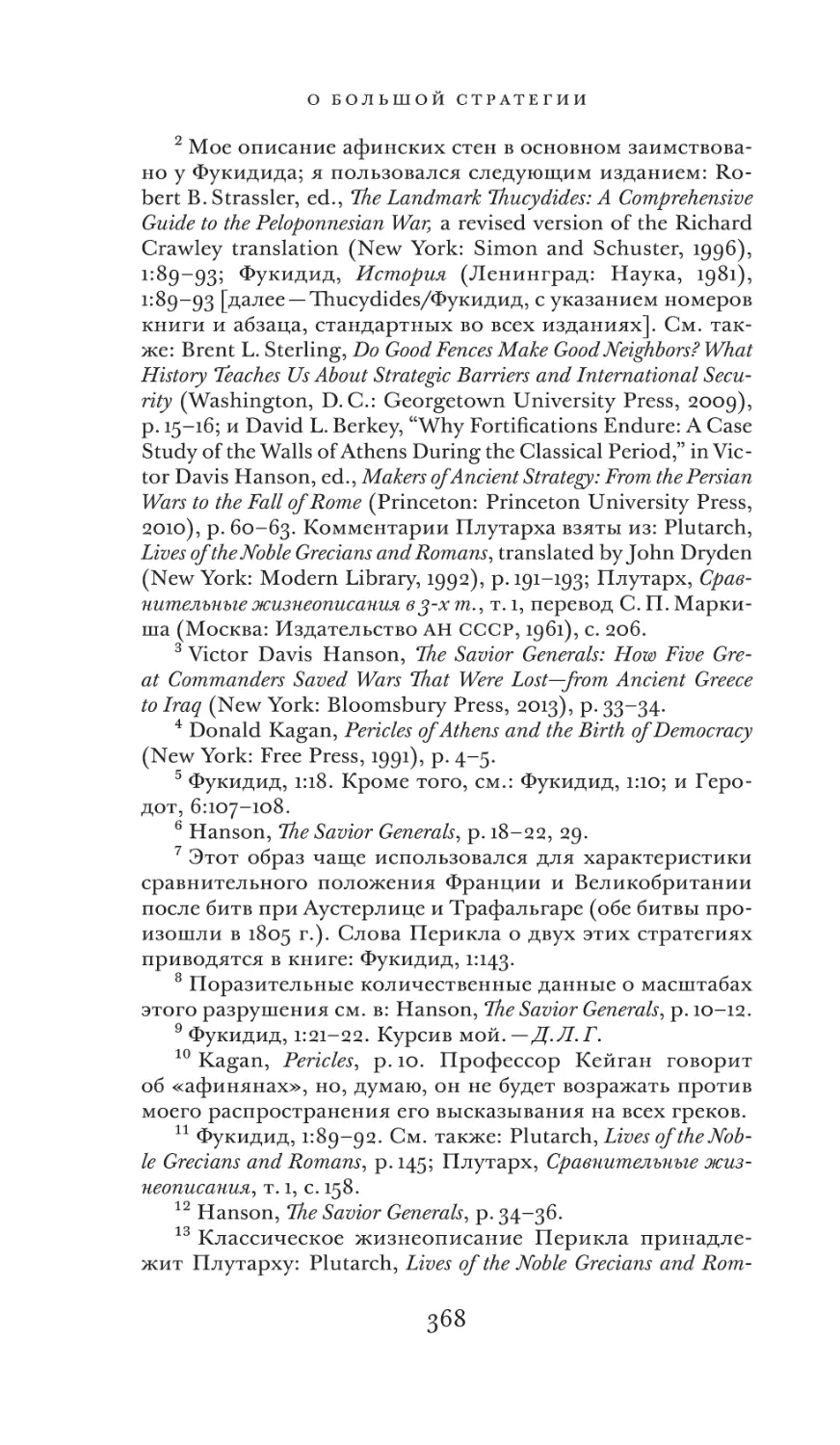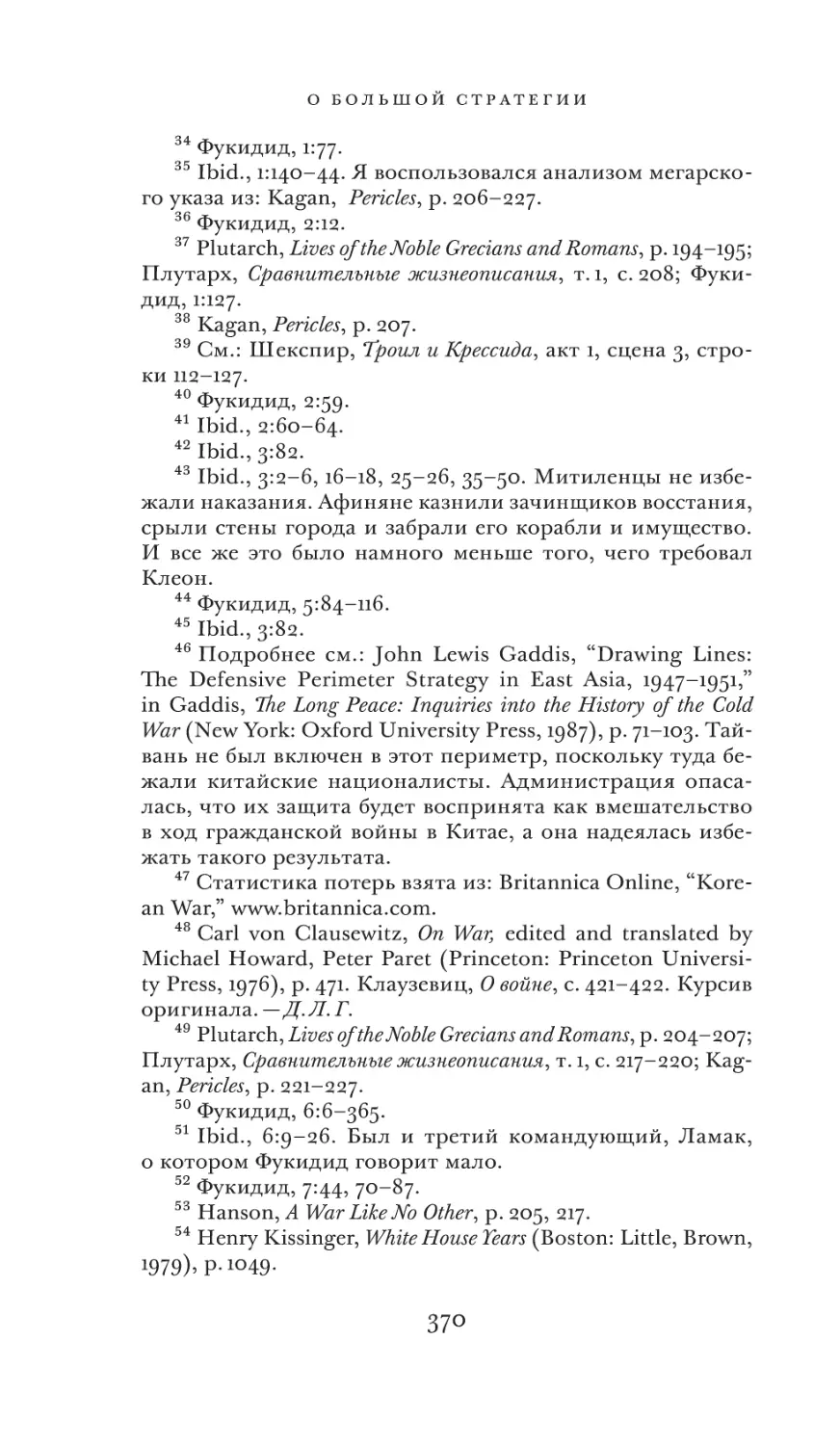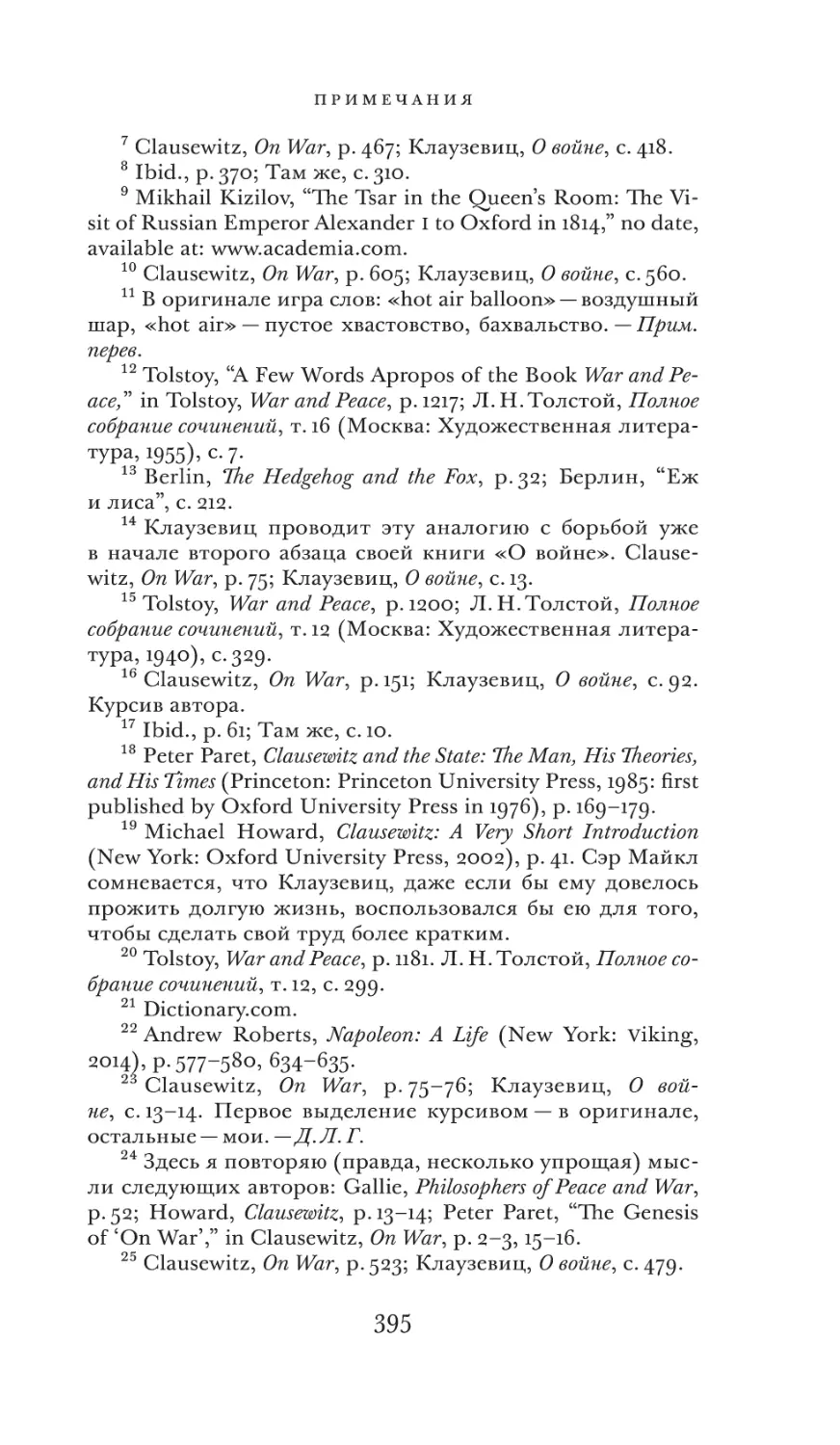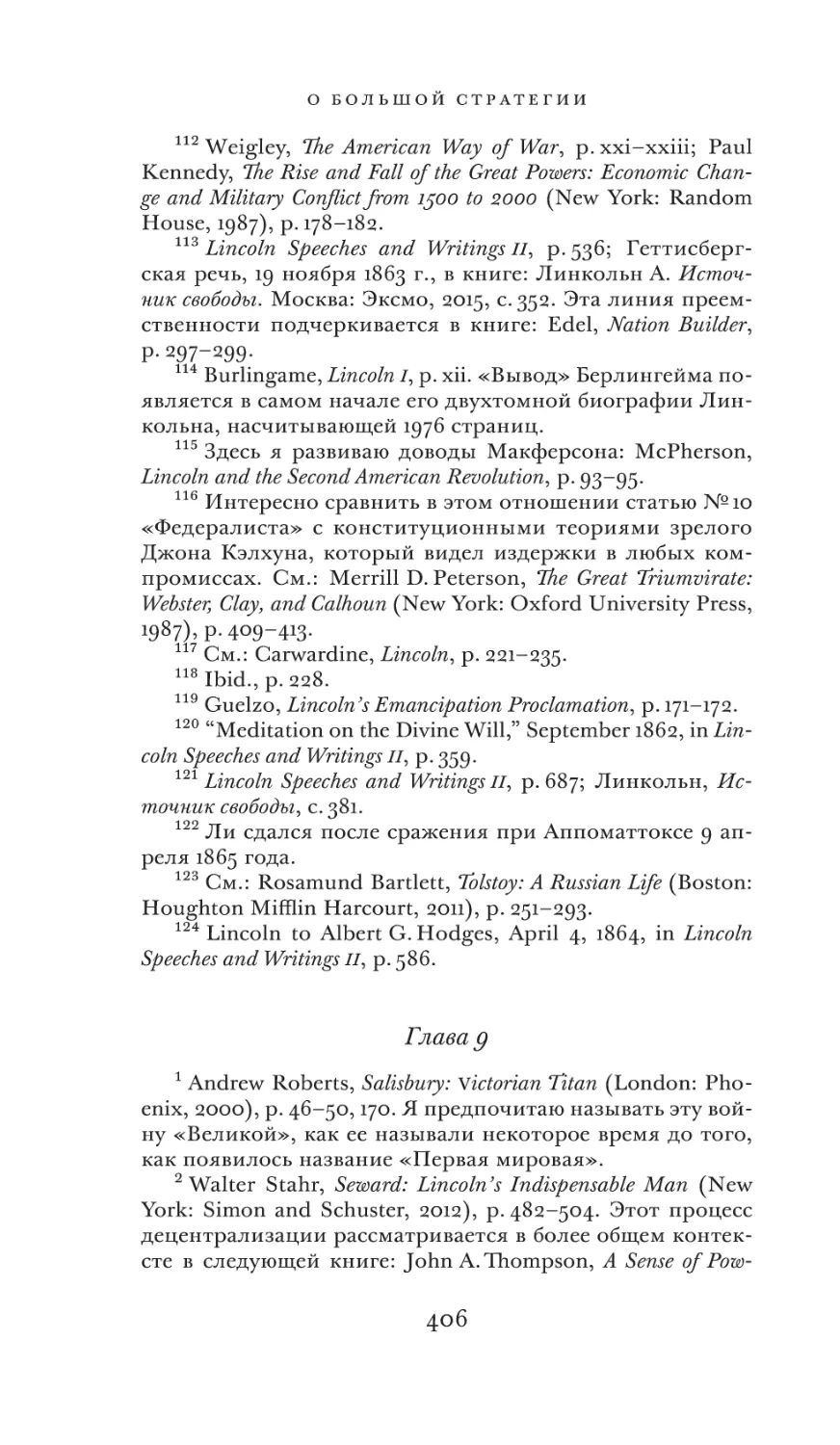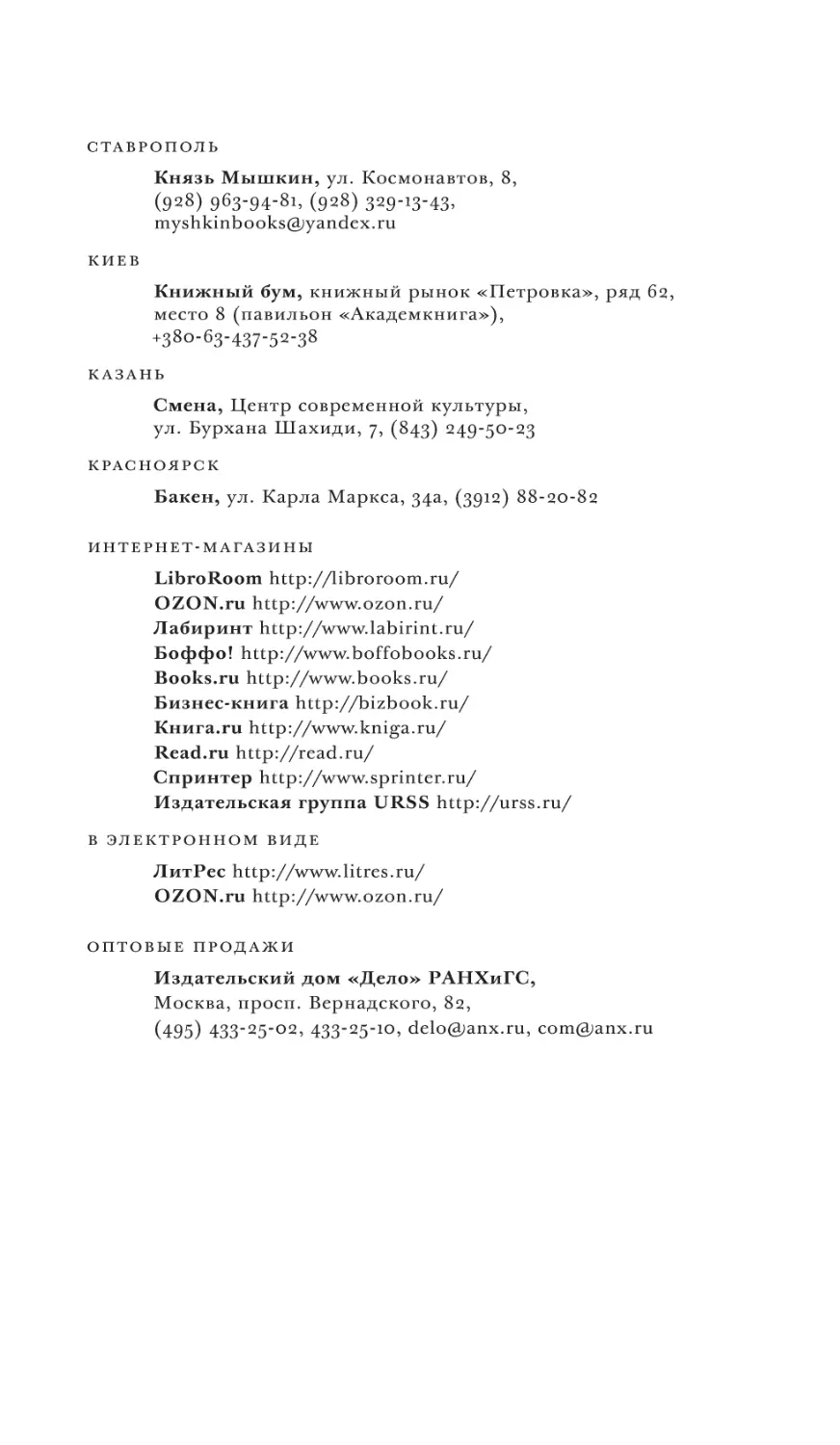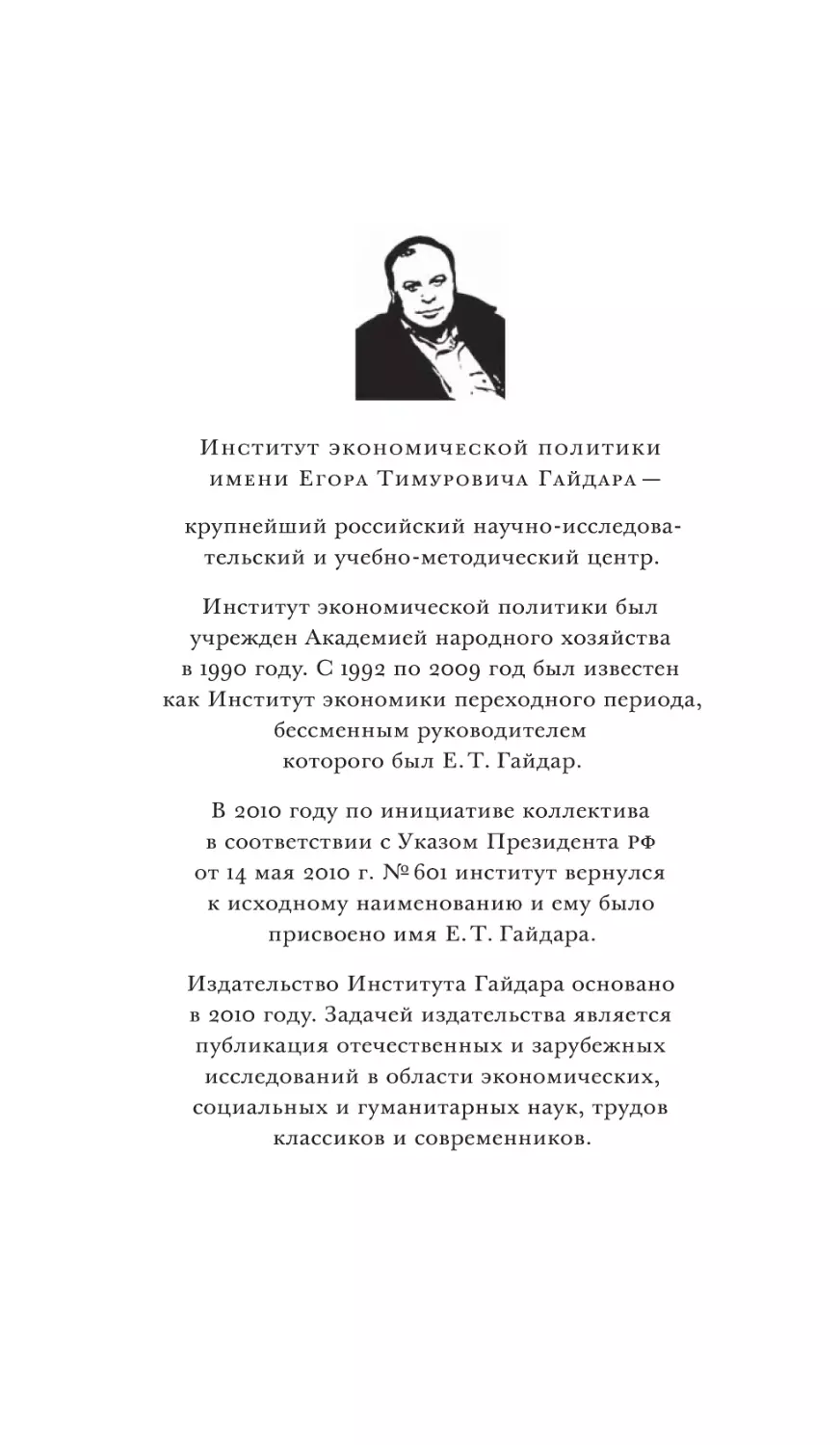Автор: Гэддис Д.Л.
Теги: военное дело в целом вооруженные силы государственное управление исторические исследования развитие человечества лидерство
ISBN: 978-5-93255-588-0
Год: 2021
Текст
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
John Lewis Gaddis
On Grand
Strategy
Джон Льюис Гэддис
О большой
стратегии
Перевод с английского
ОЛЕГА ФИЛИППОВА
И АННЫ ШОЛОМИЦКОЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
МОСКВА · 2021
УДК 355
ББК 68.4
Г98
Г98
Гэддис, Джон Льюис
О большой стратегии [Текст] / Перевод с английского
Олега Филиппова (предисловие, главы 6–10) и Анны Шоломицкой (главы 1–5). — Москва : Издательство Института Гайдара, 2021. — 424 с. — ISBN 978-5-93255-588-0
Джон Льюис Гэддис, известный американский историк
и автор книги «Холодная война», удостоившейся самых положительных критических отзывов, уже почти два десятилетия ведет вместе со своими коллегами Чарльзом Хиллом
и Полом Кеннеди семинар по большой стратегии в Йельском университете. В своей новой работе Гэддис рассказывает о том, чему он научился за эти годы, высказывая глубокие и остроумные мысли.
На огромном историческом интервале от античности
до Второй мировой войны Гэддис анализирует теорию
и практику большой стратегии на примерах Геродота, Фукидида, Сунь-цзы, Октавиана Августа, Августина Блаженного, Макиавелли, Елизаветы I, Филиппа II, отцов-основателей США, Клаузевица, Толстого, Линкольна, Вильсона,
Франклина Д. Рузвельта и Исайи Берлина.
ON GRAND STRATEGY
Copyright © 2018, John Lewis Gaddis
All rights reserved
© Издательство Института Гайдара, 2021
Содержание
Предисловие · 9
Глава 1. Переход через Геллеспонт · 14
Глава 2. Длинные стены · 44
Глава 3. Учителя и привязки · 82
Глава 4. Душа и государство · 115
Глава 5. Государь как осевая фигура · 146
Глава 6. Два Новых Света · 181
Глава 7. Величайшие мастера большой
стратегии · 218
Глава 8. Величайший президент · 252
Глава 9. Последняя и лучшая надежда · 296
Глава 10. Исайя · 342
Примечания · 363
Посвящается
Николасу Брейди (выпуск 1952 года),
Чарльзу Джонсону (выпуск 1954 года)
и Генри («Сэму») Чонси-младшему
(выпуск 1957 года) —
большим стратегам
Предисловие
Я понимаю, что название книги может вызвать
у многих недоумение. Тем не менее тут есть прецеденты: я могу, например, назвать книгу «О тирании» Тимоти Снайдера, моего коллеги с исторического факультета Йельского университета. А Сенека,
еще задолго до него, написал книгу «О скоротечности жизни». Но больше всего меня смущают возможные возражения поклонников Карла фон Клаузевица, к числу которых отношусь и я сам. Его труд
«О войне», опубликованный посмертно (1832), стал
образцом для всех позднейших авторов, пишущих
на тему войны и связанную с ней необходимым образом тему большой стратегии. Мое оправдание
в написании еще одной подобной книги состоит
лишь в ее краткости (которая, кстати, не была сильной стороной Клаузевица: эта книга охватывает
больше лет, чем его труд, при половине объема
последнего).
Книга выросла из двух моих встреч с вопросами большой стратегии, отделенных друг от друга
четвертью века. Первой из них стал курс «Стратегия и политика», который я вел в Военно-морском
колледже с 1975 года по 1977 год при обстоятельствах, описанных в конце второй главы, второй —
мое ежегодное участие в качестве преподавателя в семинаре Йельского университета «Вопросы
большой стратегии» с 2002 года по настоящее время. Оба курса всегда строились в большей степени на классических текстах и разборе историче9
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ских примеров, чем на изучении теории. Но если
семинары в Ньюпорте, занимавшие один семестр,
были в основном ориентированы на офицеров, находящихся примерно в середине их военной карьеры, то на курс в Йельском университете, который
занимает два семестра, зачисляются студенты-бакалавры, студенты-магистранты и слушатели специализированных учебных заведений, а также один
подполковник Сухопутных войск США и один подполковник Корпуса морской пехоты, находящиеся
на действительной военной службе1.
Оба курса ведутся на коллегиальной основе: каждый из тематических разделов семинара в Ньюпорте обычно ведут один гражданский и один военный
преподаватель; в Йельском университете состав преподавателей может быть разным. Мы с моими коллегами Чарльзом Хиллом и Полом Кеннеди с самого начала работали «тройкой»: мы вели все занятия
вместе, споря друг с другом перед студентами и давая им индивидуальные консультации (не всегда
согласованные друг с другом). При этом мы умудряемся оставаться соседями и близкими друзьями.
Учреждение в 2006 году программы БрейдиДжонсона «Большая стратегия» позволило нам
включить в число преподавателей специалистовпрактиков: среди них были Дэвид Брукс, Уолтер Рассел Мид, Джон Негропонте, Пегги Нунан,
Виктория Нуланд, Пол Солман, Джейк Салливен
и Ивен Волфсон. К работе над курсом привлекались и другие преподаватели Йельского университета: Скотт Бурман (факультет социологии),
Элизабет Брэдли (до 2016 года — школа изучения
проблем здравоохранения, в 2016–2017 годах — директор программы Брейди-Джонсона, в настоящее время — президент колледжа Вассар), Беверли
Гейдж (исторический факультет, с 2017 года — директор программы Брейди-Джонсона), Брайан
Гарстен (факультет политологии, гуманитарный
факультет), Нуно Монтейро (факультет политоло10
ПРЕДИСЛОВИЕ
гии), Кристина Талберт-Слэгл (исследования в области эпидемиологии и здравоохранения) и Адам
Туз (ранее — исторический факультет, ныне — профессор Колумбийского университета).
Коллеги научили меня очень многому, и это
еще одна из причин, почему я чувствую себя обязанным рассказать, чему именно я у них научился. Это происходило неформально, через восприятие их основных идей, и вполне самобытно, так
что мои учителя не несут никакой ответственности за результаты: они лишь дали первый толчок
моему движению по этому пути и уже не могли
влиять на него в дальнейшем. Ища «сквозные»
закономерности, сохраняющие свое действие независимо от времени, пространства и масштаба2,
я чувствовал себя вправе временно «снимать» их
ограничения для целей сравнительного анализа
и даже простой беседы: в книге Августин может
иногда разговаривать с Макиавелли, а Клаузевиц
с Толстым. Последний, в свою очередь, был настоящим мастером воображения, который дал мне
больше всех; но мне также немало помогли Вергилий, Шекспир и Ф. Скотт Фицджеральд. Наконец,
я часто возвращался к идеям сэра Исайи Берлина3,
с которым я познакомился, когда бывал в Оксфорде в 1992–1993 годах. Надеюсь, что ему было бы приятно, что его считают мастером большой стратегии.
Знаю, что он нашел бы это забавным.
Мой литературный агент Эндрю Уайли и мой
редактор Скотт Мойерс больше верили в эту книгу, чем я сам, когда начал ее писать. Вновь работать с ними было для меня большим удовольствием, как и еще раз воспользоваться помощью всей
группы блестящих профессионалов издательства
Penguin: Энн Годофф, Кристофера Ричардса, Мии
Каунсил, Мэтью Бойда, Брюса Гиффордса, Деборы
Вейс Гелин и Юлианы Киан.
Я особенно признателен студентам Йельского
университета, посещавшим мой семинар «„Лисы“
11
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
и „ежи“» осенью 2017 года, которые устроили
жесткий и трезвый тест-драйв для каждой главы
этой книги: Моргану Агиар-Лукандеру, Патрику
Байндеру, Роберту Бринкману, Алессандро Буратти, Диего Фернандесу-Пагесу, Роберту Хендерсону, Скотту Хиксу, Джеку Хильдеру, Генри Айсеману, Индии Джун, Деклану Кункелю, Бену Маллету,
Александеру Петрилло, Маршаллу Ранкину, Николасу Релига, Гранту Ричардсону, Картеру Скотту,
Саре Сеймур, Дэвиду Шаймеру и Джареду Смиту.
Мне также помогали студенты, ведущие свои научные проекты: Купер Д’Агостино, Мэтью Ллойд-Томас, Дэвид Маккуллох III, Кэмпбелл Шнебли-Свансон и Натаниэл Зелински.
Президенты Йельского университета Ричард
Левин и Питер Салови с самого начала активно
поддержали идею преподавания проблем большой
стратегии. То же самое касается их специального помощника и одного из первых слушателей семинара
Теда Виттенштейна. Нам помогли удержать верный
курс заместители директоров Сектора изучения
проблем международной безопасности и Программы Брейди-Джонсона: Уилл Хичкок, Тэд Бромунд,
покойный Минь Луонг, Джеффри Манкофф, Райан
Ирвин, Аманда Бем, Джереми Фридман, Кристофер
Миллер, Эван Уилсон и Иэн Джонсон, а также сотрудники, работающие в университетском конференц-центре на Хилхауз, 31 — Лиз Вастакис, Катлин
Гало, Майк Сконечны и Игорь Бирюков. Моя жена
Тони Дорфман — преподаватель, ученый, наставник молодежи, актриса, сценарист, режиссер театральных постановок и опер барокко, литературный и выпускающий редактор, отменный кулинар,
ночной психотерапевт и любовь всей моей жизни,
которая уже двадцать (!) лет помогает мне сохранять физическое и душевное здоровье.
Это посвящение — также дань моего уважения
двум выдающимся благотворителям нашей программы и одному ее мудрому координатору: их
12
ПРЕДИСЛОВИЕ
кругозор, щедрость и всегда ценные советы —
не в последнюю очередь их совет «учить людей
здравому смыслу» — были нашим якорем и компасом, да и самим кораблем, на котором мы плывем.
Дж. Л. Г.
Нью-Хейвен, Коннектикут
Осень 2017 года
ГЛАВА 1
Переход через Геллеспонт
В
Р Е М Я : 480 год до н. э. Место: Абидос, город
на азиатском берегу Геллеспонта, где пролив
сужается и составляет чуть больше полутора километров в ширину. Сцена достойна Голливуда в его лучшие дни. Ксеркс, царь царей Персии, как сообщает нам историк Геродот, восходит
на трон, установленный на холме, откуда он может обозревать свое полуторамиллионное войско.
Будь там даже десятая часть от указанного количества, что, видимо, более соответствует действительности, эта армия по размеру примерно равнялась бы силам Эйзенхауэра в «День Д» в 1944 году.
Моста через Геллеспонт не существует и сегодня,
но у Ксеркса их было два: один опирался на триста шестьдесят, другой — на триста четырнадцать
связанных вместе кораблей; оба моста были дугообразными: это должно было компенсировать
действие ветра и течений. Дело в том, что самый
первый мост был уничтожен штормом, и разгневанный царь велел отрубить головы его строителям, а сами воды высечь и заклеймить. Считается,
что где-то на дне пролива до сих пор лежат железные оковы, которые царь приказал бросить в воду,
чтобы расквитаться со стихией.
В этот день, однако, воды спокойны и Ксеркс доволен. Но вдруг в его глазах появляются слезы. Артабан, его дядя и советник, спрашивает, что с ним.
«Посмотри на все эти тысячи людей, — отвечает
царь, — ведь через сто лет никого из них уже не бу14
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
дет в живых»1. Артабан утешает своего господина, напоминая ему обо всех невзгодах, что делают
жизнь невыносимой, а смерть — желанным избавлением. Ксеркс соглашается с этим, но все же требует, чтобы Артабан сказал ему как на духу: поддержал ли бы он задуманное предприятие — второе
персидское вторжение в Грецию за десять лет, —
если бы они оба не увидели один и тот же страшный сон? Теперь уже задрожал Артабан: «Меня
до сих пор переполняет ужас».
После того как Артабан отговорил Ксеркса
мстить грекам за поражение Дария, отца Ксеркса,
при Марафоне десятью годами ранее, этот сон посещал Ксеркса дважды. Как будто предвосхищая
«Гамлета» — тот появится только спустя два тысячелетия, — призрак царственного вида, явившийся
ему и разговаривавший с ним как отец, поставил
ему ультиматум: «Если ты сейчас же не начнешь
свою войну, то так же быстро, как ты достиг величия и могущества, их утратишь». Сначала Артабан
посмеялся над этим рассказом и отказался принимать его всерьез, но Ксеркс заставил его поменяться
с ним одеждой и лечь спать на царском ложе. Призрак явился снова и привел Артабана в такой ужас,
что он проснулся с громким криком и немедленно начал призывать царя к новому походу. После
этого Ксеркс отдал необходимые распоряжения.
В Сардах было собрано огромное войско, на развалинах Трои принесена в жертву тысяча коров,
и когда армия уже стояла перед готовыми мостами
у Геллеспонта и готовилась к переправе, царь дал
своему дяде последний шанс высказать свои сомнения, если таковые еще оставались.
Несмотря на виденный кошмар Артабан не может сдержаться. Враги, ожидающие впереди, предупреждает он, — это не только греки, какими бы
грозными противниками они ни были. Это сами
суша и море. Нужно будет пройти по землям, омываемым Эгейским морем, которые не могут про15
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
кормить столь многочисленную армию. В шторм
негде будет укрыть корабли, ибо гаваней недостаточно. Измождение и даже голод могут наступить
еще раньше, чем доведется провести хотя бы одно
сражение. Благоразумный полководец «страшится и обдумывает все, что может с ним случиться,
но, когда приходит время действовать, проявляет мужество». Ксеркс терпеливо слушает, но возражает, что «если взвешивать все обстоятельства,
никогда ничего не совершишь. Лучше быть отважным и преодолевать половину того, что нас пугает,
нежели [просчитывать] все угрозы и избегать всех
последствий. Без больших опасностей не бывает
больших побед».
Дело решено. Ксеркс отправляет Артабана обратно управлять империей, а сам устремляет свои помыслы к удвоению ее размеров. Он молит солнце
дать ему сил завоевать не только Грецию, но и всю
Европу. Он велит разбросать миртовые ветви перед мостами. Он приказывает своим жрецам воскурить фимиам. Он также ублаготворяет возлиянием
Геллеспонт: выливает в его воды вино и затем бросает туда золотой кубок, в который оно было налито, золотую чашу, в которой его смешивали, и меч.
Теперь можно было начинать переход, который занял семь дней и семь ночей. Когда на европейском
берегу пролива оказывается сам Ксеркс, он слышит
слова какого-то грека, в ужасе вопрошающего, зачем
Зевс принял обличье персидского монарха и привел
с собой «всех людей мира». Разве не мог он уничтожить Грецию сам?2
I
Две тысячи четыреста девятнадцать лет спустя
один оксфордский профессор отвлекся от своих
занятий, чтобы отправиться на вечеринку. Исайя
Берлин, которому в то время было тридцать лет,
16
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
родился в Риге, вырос в Санкт-Петербурге и, став
в восьмилетнем возрасте свидетелем большевистской революции, уехал вместе с родителями в Англию. Там он вполне преуспел, овладел новым языком, хотя так и не избавился от акцента, блестяще
сдал экзамены в Оксфорд и стал первым в истории
евреем, избранным в члены ученого совета Колледжа всех душ. К 1939 году он преподавал философию в Новом колледже (основанном в 1379 году),
постепенно становясь убежденным противником
логического позитивизма (согласно которому ничто не имеет значения без воспроизводимой верификации) и вовсю наслаждаясь жизнью.
Берлин был искрометным собеседником, который впитывал новые идеи как губка и не упускал
возможности блеснуть в обществе и узнать что-то
новенькое. На этой вечеринке, точная дата которой
неизвестна, он встретился с Джулианом Эдвардом
Джорджем Аскуитом, вторым графом Оксфордом
и Аскуитом, который заканчивал тогда курс античной филологии в Бейлиол-колледж. Лорду Оксфорду попалась любопытная строчка древнегреческого поэта Архилоха Паросского. Звучала она,
как запомнил ее Берлин, так: «Лис знает много секретов, а еж один, но самый главный»3.
Эти слова сохранились лишь как отрывок, их
контекст был давно утрачен. Но они уже однажды
привлекли внимание ученого эпохи Возрождения
Эразма Роттердамского4, а теперь заинтересовали и Берлина. Может быть, они могли бы стать
принципом классификации великих писателей?
Если да, то Платон, Данте, Достоевский, Ницше
и Пруст были бы «ежами». Аристотель, Шекспир,
Гете, Пушкин и Джойс — конечно же, «лисами».
«Лисой» был и сам Берлин, питавший недоверие
к большинству «больших» теорий, вроде логического позитивизма, но чувствовавший себя уютно среди менее претенциозных идей5. С началом
Второй мировой войны Берлин на время оставил
17
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
своих зверей и не возвращался к ним до 1951 года,
когда он использовал их как отправную точку
в своем эссе о философии истории Толстого. Через два года оно вышло небольшой отдельной книгой «Ёж и лиса».
«Ежи», объясняет Берлин, «все и вся соотносят с некой ключевой точкой зрения», которая
«придает смысл всему, что они говорят и делают». «Лисы» же, напротив, способны «одновременно заниматься многими предметами, зачастую
не имеющими друг к другу никакого касательства, а то и вовсе противоположными, связанными между собой разве что де-факто». Это различие
просто, но не произвольно: оно задает «точку опоры для того, кто намерен наблюдать и сравнивать,
отправной пункт для добросовестного исследования». Возможно, оно даже отражает «одно из глубочайших различий между писателями, мыслителями, а то и вообще между людьми».
Однако высказав эту яркую мысль, Берлин
не смог многое объяснить с ее помощью, если
не считать Толстого. Он утверждал, что этот великий человек стремился быть «ежом»: роман «Война и мир» должен был, по его мысли, раскрыть законы движения истории. Но Толстой был слишком
честен, чтобы отрицать своеобразие личности и непредвиденные обстоятельства, которые противятся подобным обобщениям. Поэтому он наполнил
свой шедевр едва ли не самыми «лисьими» пассажами во всей мировой литературе, зачаровывая
ими читателей, спокойно пропускающих разбросанные по всей книге исторические рассуждения
в «ежовом» стиле. Разрываемый противоречиями,
к концу жизни Толстой — «отчаявшийся старик,
которому никто не в состоянии помочь, поскольку
он сам себе выколол глаза и бредет [подобно Эдипу] в Колон», — заключает Берлин6.
Если говорить о биографии Толстого, это было
упрощением. Толстой действительно умер на ни18
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
кому не известной железнодорожной станции
в 1910 году в возрасте 82 лет, уйдя из дома. Однако
вряд ли им двигало отчаяние по поводу оставшихся десятки лет назад неувязок в «Войне и мире»7.
Не очевидно также, чтобы Берлин упомянул Эдипа
с какой-то более глубокой целью, а не просто ради
эффектной и драматичной концовки для своего
эссе. Пожалуй, слишком драматичной, поскольку
она предполагала непреодолимые различия между
«лисами» и «ежами». Берлин, казалось, говорил,
что нужно быть или одним, или другим. Нельзя быть и тем и другим одновременно и при этом
быть счастливым. Или эффективным. Или просто
цельным.
Поэтому Берлин был удивлен — хотя, пожалуй,
и доволен, как человек, удачно сыгравший озорную
шутку, — когда популярность его зверушек стала лавинообразно расти, причем задолго до появления
интернета. Их стали упоминать в журналах и книгах. Появились даже карикатуры, вообще не требовавшие объяснений8. В университетских аудиториях
профессора начали спрашивать у своих студентов:
«Является ли Х [речь могла идти о любой исторической личности или литературном персонаже] „лисой“ или „ежом“?» Студенты начали спрашивать
у своих профессоров: «Что лучше [в этот или любой
другой момент], быть „ежом“ или „лисой?“» И те
и другие начали спрашивать самих себя: «К какому
из этих полюсов должен стремиться я?» Затем: «Смогу ли я там удержаться?» И, наконец: «И кто же я,
в конце концов?»
Благодаря оксфордской вечеринке, фрагменту
из Архилоха и эпосу Толстого, Берлин нечаянно
открыл два лучших приема, позволяющих оставить
неизгладимый след в области мысли. Первый — выражаться в дельфийской манере — известен всем
прорицателям с незапамятных времен. Второй —
подражать Эзопу: сделай выразителями своих идей
животных — и они станут бессмертными.
19
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
II
Геродот, живший с 480-х по 420-е годы до н. э.,
мог слышать о «лисах» и «ежах» Архилоха
(680–645 годы до н. э.). Он цитировал поэта в другом контексте и, таким образом, мог знать его стихотворение — если оно сохранилось к тому времени, —
в котором «лисы» и «ежи» впервые появились9.
Даже если это и не так, трудно читать повествование Геродота об Артабане и Ксерксе, не чувствуя
в советнике беспокойную «лису», а в монархе —
самоуверенного «ежа».
Артабан говорит о цене, которую приходится платить — в виде огромных усилий, нехватки
еды, нарушения коммуникации, падения боевого
духа и всего остального, что может пойти не так, —
при перемещении любой большой армии через любое пространство на воде или на суше. Для достижения успеха нужно идти на слишком большие
риски. Разве Ксеркс не понимает, что «бог разит
молнией» только тех, кто замахивается на большие
дела, в то время как малые начинания не вызывают
его раздражения? Артабан призывает Ксеркса разобрать мосты, распустить армии и отправить всех
домой, где худшее, что их может ждать, — это новые страшные сны.
Ксеркс, оплакивающий тех, кого не будет в живых через сто лет, мыслит шире и дальше. Если
смерть — цена жизни, то почему же не заплатить
меньшую цену за то, что сделает жизнь достойной
памяти? Зачем быть царем царей, если тебя забудут? Укротив Геллеспонт, он уже не может остановиться. Мосты должны куда-то вести. Великие армии имеют с собой все необходимое, чтобы ничего
не могло пойти «не так», а если это все же случится, чтобы это не имело значения. «Нас ведет бог,
поэтому, когда мы сами начинаем наши многообразные предприятия, нас ждет успех»10.
20
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
Артабан придает значение внешним условиям,
зная, что ландшафт может помочь армии или создать для нее трудности, что флот никогда полностью не контролирует море, по которому идет,
и что предсказать погоду не в состоянии ни один
смертный. Полководцы должны различать ситуации, в которых они могут действовать, и обстоятельства, которые они должны принимать, полагаясь только на то искусство, которое допускается
обстоятельствами. Ксеркс же преобразует внешние
условия вокруг себя. Он обращает воду в почву (более или менее твердую), наводя мосты через Геллеспонт. Он обращает твердую землю в воду, прорывая канал через полуостров Афон — из «чистой
гордыни», говорит нам Геродот, — чтобы его кораблям не приходилось огибать его11. Царя не волнует, какие обстоятельства он должен принять: он готов сровнять с землей любое препятствие на своем
пути. И доверяет он только божественной деснице,
наделившей его такой властью.
Близорукий Артабан видит прямо перед собой
столько вещей, что его врагом становится само их
многообразие. Дальнозоркий Ксеркс видит только
дальнюю перспективу, где устремления совпадают
с возможностями: такая простота — это прожектор,
который освещает ему путь. Артабан постоянно
меняет свое мнение. Цель его поворотов и зигзагов, как и у Одиссея, — привести его домой. Ксеркс,
пересекая Геллеспонт, становится Ахиллом. Его
единственным домом станут будущие повествования о совершенных им деяниях12.
Так что у этой «лисы» и этого «ежа» нет никаких точек соприкосновения. Артабан, предостережения которого не услышаны, отправляется
на восток от Абидоса и исчезает из книги Геродота, который его больше не упоминает. Ксеркс идет
на запад, взяв с собой свою армию, свой флот и своего историка13, а также всех последующих летописцев персидского нашествия. Геллеспонт, граница
21
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
между континентами, теперь также разделяет два
образа мышления, которые предвосхитил Архилох,
которые потом популяризирует Берлин и которые
в конце XX века будут определены еще точнее благодаря новым достижениям социальных наук.
III
Задавшись целью понять, чем определяется точность наших прогнозов, Филип Тетлок, американский исследователь в области политической психологии, собрал вместе со своими помощниками
27 451 прогноз по вопросам международной политики за период с 1988 по 2003 год, данный 284 «экспертами»: сотрудниками университетов, государственных учреждений, исследовательских центров,
международных организаций и СМИ. Книга Тетлока «Экспертное политическое суждение», вышедшая в 2005 году и полная таблиц, графиков
и уравнений, содержит результаты этого самого обстоятельного из когда-либо проводившихся исследований о том, почему одним людям удается предсказывать будущее, а другим — нет.
«Кто были эксперты — их профессиональный
опыт, статус и т. д., — едва ли хоть на йоту меняло результаты, — делает вывод Тетлок. — Как и то,
что они думали, — были они либералами или консерваторами, реалистами или институционалистами, оптимистами или пессимистами». Но то,
«как думали эксперты — их стиль мышления, — имело значение». Важнейшей переменной оказалась
самоидентификация в качестве «лис» или «ежей»,
когда экспертов ознакомили с определениями этих
терминов, по Берлину. Результаты были однозначны: «лисы» оказались намного более искусными
предсказателями событий, чем «ежи», чьи прогнозы были близки к результатам шимпанзе, играющего в дартс.
22
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
Пораженный этими результатами, Тетлок попытался выяснить, чем отличались его «лисы» от его
«ежей». «Лисы» опирались в своих прогнозах
на интуитивное «совмещение разнообразных источников информации», а не на выводы, полученные на основе каких-то «основополагающих схем».
Они сомневались в том, что «туманный предмет
политики» когда-либо мог бы стать «объектом точной науки». Лучшим из них было «свойственно
рассуждать с самоиронией», «не принимая ни одну
мысль без критики». Однако они обычно слишком
умствовали (слишком тщательно обосновывая свои
утверждения), чтобы удержать внимание аудитории. Ведущие ток-шоу редко приглашали их повторно. Люди, от которых что-то зависит, считали,
что у них нет времени их выслушивать.
«Ежам» Тетлока, напротив, чужда была самоирония, и они отметали всякую критику. Агрессивно используя широкие формулировки, они «в нетерпении щетинились на тех, кто „не сечет“».
Когда вырытые ими интеллектуальные ямы становились слишком глубокими, они просто-напросто рыли глубже. Они становились «пленниками
своих предубеждений» и своего самодовольства.
Их громкие и яркие заявления хорошо было цитировать, но имели мало общего с тем, что происходило потом.
На основе всего этого Тетлок вывел «теорию
правильных суждений», согласно которой «самокритичные мыслители лучше понимают противоречивую динамику развивающихся ситуаций,
более осторожны в оценке собственных прогностических способностей, лучше помнят свои ошибки,
менее склонны к их оправданию, более расположены к своевременному пересмотру своих представлений и — благодаря всем этим положительным
качествам — имеют больше шансов реалистично
оценивать вероятность будущих событий»14. Иными словами, у «лис» получается лучше.
23
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
IV
Критерием хорошей теории является ее способность объяснять прошлое — ведь только при этом
условии мы можем доверять ее возможным выводам
о будущем. Однако «прошлое» Тетлока составляло
полтора десятилетия, в течение которых он проводил свой эксперимент. Геродот нам дает возможность применить заключения Тетлока — правда,
без такого аккуратного учета ограничивающих условий — к эпохе, весьма далекой от нашей. Несмотря
на расстояние, они на удивление хорошо работают.
Переправившись через Геллеспонт, Ксеркс начал
свое продвижение, уверенный в том, что размеры его
армии и великолепие его свиты сделают сопротивление бесполезным: «даже если бы все греки и, более
того, все люди, живущие в западных странах, собрались вместе, они не смогли бы сразиться со мной».
Пока Ксеркс двигался через Фракию, Македонию
и Фессалию, все вроде бы шло по плану, хотя продвижение неизбежно было очень медленным.
Его армия была столь велика, что выпивала целые реки и озера до того, как все ее части переправлялись на другой берег. Львы (все еще многочисленные в этой местности) распробовали верблюдов,
на которых везли припасы. И даже покладистые
греки были просто не в состоянии удовлетворить
кулинарные запросы Ксеркса: один из них принес
благодарность богам за то, что царь обедает лишь
один раз в день, потому что, если бы от его города потребовали обеспечить столь же обильный завтрак, как и обед, который требовал Ксеркс, его жителям осталось бы или бежать, или быть «стертыми
в пыль, испытав то, что еще не выпадало на долю
ни одного народа на земле»15.
Ксерксу также было не под силу и выровнять
весь рельеф. Чтобы попасть в Аттику, персам нужно было пройти через узкий Фермопильский про24
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
ход, и именно там спартанцы Леонида — намного меньший по численности и наскоро собранный
отряд — задержали его армию на несколько дней.
Ни сам Леонид, ни его элитные «триста спартанцев» не спаслись, но их отказ сдаться показал,
что Ксеркс уже не мог добиваться задуманного
одним устрашением. Тем временем шторма, поднявшиеся в конце лета на Эгейском море, утюжили корабли его флота, пока афиняне, выполняя
приказ полководца Фемистокла, эвакуировали город. Это поставило Ксеркса перед той же дилеммой, перед которой оказался Наполеон в Москве
в 1812 году: что делать, если ты, захватив город, нашел его уже брошенным, да еще накануне зимы?
Царь царей, действуя в своем стиле, применил
новые меры устрашения. Он сжег Акрополь, а затем водрузил еще один трон еще на одном холме
с видом на еще одно водное пространство и приготовился наблюдать за тем, как остатки его флота довершат его триумф. Конечно, дым, поднимавшийся от самого священного храма Афин, не добавлял
боевого настроя афинским гребцам. Но это был
пролив у острова Саламина, команды трирем были
хорошо обучены, а дельфийский оракул обещал
афинянам безопасность за «деревянными стенами», и, наверное, он имел в виду именно те стены,
что умеют плавать. И на глазах у Ксеркса греки пустили на дно его флот и перебили уцелевших воинов — которых в любом случае не научили плавать.
Теперь у царя не было выбора, и он вынужден был
с большим опозданием последовать совету своего
дяди и возвратиться домой16.
Фемистокл ускорил отступление царя, распространив слухи о том, что следующая цель афинян —
это мосты через Геллеспонт. Испуганный Ксеркс
поспешил форсировать пролив в обратном направлении, бросив свои деморализованные армии
на произвол судьбы. Потом греки разгромили персов при Платеях, но еще одно возмездие находчи25
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
во поручили драматургу. В трагедии Эсхила «Персы», впервые поставленной через восемь лет после
битвы при Саламине, Ксеркс, в изорванной одежде, едва волоча ноги, является в собственную столицу под горестные стенания тех самых жителей,
что прежде бурно славили его, и слышит слова призрака Дария, уже пристыженного ранее: «Не заносись, смертный, не к лицу тебе»17.
Геродот использовал пьесу Эсхила в своей «Истории»18. Может быть, он опирался на него и тогда,
когда писал о снах Ксеркса (в которых ему является если не призрак, то по крайней мере дух Дария),
которые вообще побудили его идти к Геллеспонту?
Мы не можем знать это наверняка: духи — весьма туманная материя. И все же забавно вообразить себе,
как эта тень, чьей бы она ни была, воспользовалась
своими сверхъестественными способностями, чтобы заглянуть в будущее и услышать, а затем вернуться и передать безутешному царю царей предостережение профессора Тетлока о том, как часто «лисы»
оказываются правы, а «ежи» остаются в дураках.
V
Вторжение Ксеркса в Грецию — это ранний, но очень
наглядный исторический пример «ежового» поведения. Быть царем царей что-нибудь да значило:
если Ксеркс смог собрать величайшую в истории
армию, обратив воду Геллеспонта в твердь, а сушу
на полуострове Афон в воду, то было ли вообще
на свете что-то, что было бы ему не под силу? Почему бы после покорения Греции не захватить всю
Европу? Почему бы даже, как он спросил себя однажды, не построить «Персидскую империю до самого Зевсова неба»?19
Но Ксерксу не удалось, как это обычно случается с «ежами», правильно соотнести цели и средства. Поскольку цели существуют лишь в вообра26
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
жении, они могут быть бесконечно разнообразны:
почему бы, например, не водрузить трон с прекрасным видом на Землю прямо на Луне? Средства же до обидного конечны: это реальные войска
на суше, корабли на море и матросы для этих кораблей. Чтобы чего-то добиться, нужно соединять
цели со средствами. Но их никогда нельзя путать.
Ксеркс считал, что его возможности могут быть
ограничены только его устремлениями. Он надеялся на лучшее, полагая, что оно же будет и худшим.
Он жил только настоящим, отрезая себя от прошлого, где живет опыт, и от будущего, где прячутся неожиданности20. Если бы Ксеркс улавливал эти
различия, он бы понял, что его армия и флот просто-напросто не могли доставить все необходимое
даже для того, чтобы только начать его вторжение
в Грецию. Если бы царь не сумел уговорить тех,
кого он завоевывал, снабжать его армию (что было
непросто), его войско скоро начало бы страдать
от голода, жажды или усталости (даже если бы его
самого это не коснулось). Сопротивление немногих, как при Фермопилах, поколебало бы уверенность многих. К тому же близилась зима.
Но и в том, чтобы следовать советам «лисы»
Артабана, были свои риски. Он мог предупредить
Ксеркса, что ожидает его на другом берегу Геллеспонта: выпиваемых реках, голодных львах, внезапных штормах, озлобленных местных жителях, неистовых бойцах, загадочных предсказаниях, яростных
гребцах и тех, кто утонет, не умея плавать: поскольку причины всего этого были постижимы, их следствия были предсказуемы. Но только о частностях,
поскольку даже самый внимательный наблюдатель не может предвидеть, как они повлияют на ситуацию в совокупности. Действуя совместно, малые
вещи могут давать непредсказуемо большие результаты — и все же лидеры не могут позволить неопределенности парализовать себя. Они должны казаться знающими, что делают, даже если это не так.
27
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Ксеркс довел этот принцип до беспощадной
крайности. Когда лидиец Пифий дал царю все войско и всю казну, которые тот потребовал для своего похода, кроме своего старшего сына, которого
просил оставить при нем, Ксеркс нашел незабываемый способ продемонстрировать твердость своих
намерений: он велел рассечь юношу пополам, а затем приказал своей армии пройти между окровавленными половинами его тела21. Это не оставило
сомнений касательно решимости Ксеркса, но эта
(в буквальном смысле слова) красная черта отрезала ему путь обратно. Теперь он едва ли смог бы передумать, даже если бы захотел.
Трагедия Ксеркса и Артабана заключалась в том,
что каждому из них не хватало качеств другого.
Царь, подобно «ежам» Тетлока, способен был держать внимание слушателей, но то и дело попадал в ямы. Его советник, подобно «лисам» Тетлока, обходил ямы, но не мог удержать аудиторию.
Ксеркс был прав. Стремясь предвидеть все, рискуешь не достичь ничего. Но прав был и Артабан.
Если ты не подготовился ко всему, что может случиться, что-то из этого всего обязательно случится.
VI
Ни Ксеркс, ни Артабан, таким образом, не прошли бы тест на «первоклассный ум», который
Ф. Скотт Фицджеральд определил в 1936 году как
«способность одновременно удерживать в сознании две прямо противоположные идеи и при этом
не терять другой способности — действовать»22. Возможно, что в этих словах Фицджеральда не было
ничего, кроме упрека, адресованного самому себе.
Его писательская карьера к этому времени была уже
на закате, а через четыре года он умер от алкоголизма, болезни сердца и горечи забвения, которое было
еще мучительнее из-за былой славы. Ему было все28
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
го 44 года23. Но таинственная многозначность этого афоризма, как и афоризма Берлина о «лисах»
и «ежах», сделала его бессмертным. Ему позавидовал бы сам дельфийский оракул24.
Одна из возможных интерпретаций этой определенной Фицджеральдом оппозиции состоит
в том, чтобы использовать лучшие и отбрасывать
худшие аспекты каждой из двух противоположностей, то есть искать именно тот компромисс, который не удался Ксерксу и Артабану двадцать четыре века назад. Но как это возможно? Легко понять,
что два ума могут прийти к противоположным выводам, но как противоположности могут мирно
уживаться в уме одного человека? Этого явно нельзя было сказать об уме самого Фицджеральда, прожившего такую же мучительную жизнь, как Толстой, но вдвое более краткую.
Лучший ответ на этот вопрос дал, как это ни парадоксально, Берлин, посвятивший значительную
часть своей более продолжительной и счастливой
жизни примирению конфликтов, существующих
в отдельных умах. В мире, который предстает перед
нами в обычном опыте, писал он, мы сталкиваемся
с выбором между «конечными целями, претендующими на абсолютность, и, осуществляя одну из них,
неизбежно жертвуем другой». Мы реже выбираем
между явными альтернативами — например, добром и злом, и чаще — между одним и другим благом, которые мы не можем иметь одновременно.
«Можно заботиться о спасении души, можно создавать великое и славное государство или ему
служить, — писал Берлин, — но нельзя заниматься
и тем и другим одновременно». Или, выражаясь
языком, понятным любому ребенку, ты не можешь
съесть все вкусняшки, полученные на Хэллоуин,
чтобы тебя потом не стошнило.
Мы решаем эти дилеммы, растягивая их во времени. Мы стремимся к одним целям сейчас, другие откладываем на потом, а третьи признаем недостижи29
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
мыми. Мы выбираем, что чему соответствует, а потом
решаем, чего и когда мы можем достичь. Это может
быть непросто: Берлин подчеркивал «необходимость
и мучительность выбора». Но если бы исчез выбор,
добавлял он, вместе с ним исчезла бы и «свобода выбора», и, следовательно, свобода как таковая25.
Как же тогда нам быть с утверждением Берлина
в его эссе о Толстом, что «люди вообще» делятся
на «лис» и «ежей»? Должны ли мы определять себя
как «лису» или «ежа», как Тетлок просил своих
экспертов? Берлин признал, незадолго до смерти,
что это необязательно. «Некоторые люди не являются ни „лисами“, ни „ежами“, а некоторые являются и тем, и другим». Он просто играл в «интеллектуальную игру». Остальные же восприняли это
слишком серьезно26.
Это объяснение имело смысл в общем контексте мысли Берлина, ибо о каком выборе могла бы
идти речь, если бы мы сидели, подобно животным,
по клеткам27 своих категорий (что делало бы наше
поведение совершенно предсказуемым)? Если,
как утверждал Фицджеральд, уму необходимо видеть противоположности, если свобода есть выбор,
как считал Берлин, то приоритеты нельзя расставить заранее. Они должны отражать, кто мы есть,
но вместе с тем и переживаемый нами опыт: мы могли бы знать заранее первое, но не всегда второе. Нам
необходимо сочетать в пределах одного сознания
(нашего собственного) свойственное «ежам» чувство направления и свойственную «лисам» восприимчивость к происходящему вокруг. Сохраняя
при этом способность действовать.
VII
Но где — кроме как в переиначенном названии произведения Джейн Остин — можно найти такое соединение «разума и чувствительности»? Она дает
30
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
нам подсказку, ибо только повествование способно показать развитие дилеммы во времени. Недостаточно представить варианты выбора как срезы
под микроскопом. Нам нужно видеть процесс изменения, и мы достигаем этого только воссоздавая прошлое в историях, биографиях, поэмах, пьесах, романах или фильмах. Лучшие из них делают
изображение и более резким, и более туманным:
они спрессовывают происходящее, чтобы яснее показать границу между научением и развлечением,
и вместе с тем размывают ее. Другими словами,
они представляют собой драматизации. А главное
требование к драматизации — она не должна быть
скучной.
Фильм Стивена Спилберга «Линкольн» (2012) —
это один из лучших образцов драматизации.
В фильме показано, как президент, которого играет Дэниел Дэй-Льюис, стремится реализовать
положение Декларации независимости о том,
что все люди созданы равными: можно ли найти
более похвальную цель для «ежа»? Но для того,
чтобы отменить рабство, Линкольну нужно провести тринадцатую поправку через упирающуюся
палату представителей, и здесь он совершает самые что ни на есть «лисьи» маневры. Он прибегает к сделкам, взяткам, лести, выкручиванию рук
и прямой лжи: зритель почти чувствует в зале запах табачного дыма, висящего во всех помещениях по ходу фильма28.
Когда Таддеус Стивенс (Томми Ли Джонс) спрашивает президента, как он может применять для достижения столь благородной цели столь низкие
приемы, Линкольн рассказывает, чему научила его
в юности работа землемера:
Компас прямо укажет тебе направление на север
от того места, где ты стоишь, но ничего не скажет
тебе о болотах, пустынях и ущельях, которые попадутся тебе по пути. Если, стремясь достигнуть
31
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
намеченной цели, ты бросишься прямо вперед,
и в итоге просто увязнешь в болоте, то какой тебе
был толк от того, что ты знал, где север29?
Когда я смотрел этот фильм, у меня возникло
странное чувство, будто рядом со мной сидит Берлин, который в конце этой сцены наклоняется
ко мне и торжествующе шепчет: «Видишь? Линкольн знает, когда нужно быть „ежом“ (сверяясь
с компасом), а когда „лисой“ (обходя болото)!».
На самом деле Линкольн, насколько мне известно, никогда ничего такого не говорил, а Берлин, к сожалению, не видел фильма Спилберга.
Но в сценарии Тони Кушнера мы видим фицджеральдовское соединение ума, противоположных
идей и способности действовать: Линкольн одновременно держит в уме долгосрочные устремления
и текущие задачи. Он увязывает «лис» и «ежей»
Берлина с его же центральной идеей о неизбежности — и непредсказуемости — выбора: Линкольн
не может знать заранее, какие сделки ему нужно будет заключить, пока он не увидит, какие результаты принесут предыдущие. В фильме снова и снова
большое увязывается с малым: Линкольн понимает, что итоги голосования в палате и, следовательно, будущее рабства в Америке запросто могут зависеть от того, кто получит должность почтмейстера
в какой-нибудь деревне.
Таким образом, в «Линкольне» Спилберга показаны и развернутые во времени действия (Берлин),
и сосуществование противоположностей в пространстве (Фицджеральд), и смена масштаба (может быть, Толстой?). Ведь оба Линкольна — и изображенный в фильме, и реальный, интуитивно
понимали то, что старался показать нам Толстой
своей эпической драмой: все связано со всем. Может быть, именно поэтому великий писатель, редко
видевший «величие» в лидерах, посмертно вознес
хвалу убитому президенту30.
32
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
VIII
Переходы от одного масштаба к другому в «Войне
и мире» по-прежнему изумляют читателей. Толстой переносит нас во внутренний мир Наташи
на ее первом балу, Пьера, оказавшегося на дуэли
и оставшегося в живых, князя Болконского и графа
Ростова, самого сурового и самого снисходительного из отцов в современной литературе. Но затем
масштаб меняется («камера» Толстого «отъезжает») и вместо деталей личной жизни людей мы видим целые армии, проносящиеся через Европу; потом новое приближение — и в фокусе оказываются
командующие ими императоры и офицеры; еще более крупный план — и мы видим портреты обычных
солдат, которые жили, шагали строем и сражались
в этих армиях. После Бородино «камера» Толстого снова «отъезжает», показывая объятую пожаром Москву, затем приближается вновь, и мы видим людей, покидающих горящий город, и среди
них — тяжело раненный князь Андрей, умирающий
на руках у Наташи, которую он полюбил за три года
и за сотню страниц до этого на ее первом балу.
Толстой словно говорит нам: смотрим ли мы
на действительность сверху вниз или снизу вверх,
на неопределенном количестве уровней существует бесконечное множество возможностей, и все
они существуют одновременно. Некоторые из них
предсказуемы, большинство — нет, и только и к их
изображению может подступиться лишь драматизация, свободная от рабской зависимости от теорий
и архивов, на которую обречены ученые31. И все же
обычным людям чаще всего удается их уловить.
В своем эссе о Толстом Берлин попытался объяснить, как это возможно:
История, и только история, только сумма конкретных событий, произошедших в определен-
33
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ном месте в определенное время, — сумма реального опыта реально существовавших людей в их
отношении друг к другу и к трехмерному, эмпирически воспринимаемому физическому миру!
Только здесь и следует искать строительный материал для настоящих ответов, которые понятны и без каких-то особенных чувств или качеств,
не свойственных обычным людям32.
Это довольно замысловатый пассаж даже для Берлина, который редко считал простоту изложения
достоинством. Но мне кажется, что здесь он говорит о восприимчивости к окружающему, для которой одинаково важны время, пространство и масштаб. Ее никогда не было у Ксеркса, несмотря
на все старания Артабана. Толстой приблизился
к ней, пусть только в романе. Но Линкольн — у которого не было своего Артабана и которому не довелось прочесть «Войну и мир» — каким-то образом,
кажется, достиг ее, идя путем обычного здравого
смысла, столь необычного среди великих лидеров.
IX
Под здравым смыслом я имею в виду ту легкость,
которая в большинстве случаев позволяет нам
справляться с трудностями. Мы обычно знаем, куда
направляемся, но постоянно корректируем свой
маршрут, чтобы обойти неожиданные препятствия,
в том числе те, которые ставят у нас на пути другие,
двигаясь к собственным целям. Мои студенты, например, умудряются, не отрываясь от электронных
устройств, которые, кажется, уже приросли у них
к ладоням или ушам, ловко избегать столкновений
с фонарными столбами, испуганными преподавателями и своими товарищами, передвигающимися
таким же способом. Не все мы обладаем такой ловкостью, но нет ничего необычного в том, что наше
сознание способно одновременно ощущать теку34
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
щую ситуацию вокруг и сохранять долгосрочное
ощущение направления. Мы живем с этими противоположностями каждый день.
Психолог Даниэль Канеман объясняет эту способность тем, что мы неосознанно используем
мышление двух типов. «Быстрое» мышление интуитивно, импульсивно и зачастую эмоционально.
Оно обеспечивает при необходимости мгновенное
действие: благодаря ему мы не налетаем на предметы или не даем им налетать на нас. «Медленное»
мышление осознанно, целенаправленно и, как правило, имеет логический характер. Оно не обязательно должно завершаться действием: это тот
способ, которым мы постигаем явления. Тетлок
усматривает аналогию этого различия в человеческом геноме и объясняет ее на примере зверушек
Берлина:
«Лисы» оказались лучше приспособлены к выживанию в быстро меняющихся условиях, где преимущество получают те, кто быстро отказывается
от плохих идей. «Ежи» оказались лучше приспособлены к выживанию в статичных условиях, где преимущество дает упорство в следовании
однажды найденным верным формулам. Наш
вид — homo sapiens — преуспел благодаря владению обеими моделями поведения33.
Таким образом, мы обязаны своим существованием
тому, что живы до сих пор, той скорости, с которой
мы способны переключаться между быстрым и медленным мышлением — между поведением «лис»
и поведением «ежей». Ведь если бы мы никогда
не ушли дальше мнения о самих себе как о чем-то
большом и целом, мы оказались бы даже не в болоте, о котором говорил Линкольн, а в битумных озерах вместе с мамонтами.
Но почему же такая гибкость не свойственна
властителям? Почему на дальнем конце истории
Ксеркс и Артабан так плохо понимали ее необхо35
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
димость? Почему на ее ближнем конце эксперты
Тетлока с такой готовностью относили себя либо
к «лисам», либо к «ежам», но не к тем и другим одновременно? И почему мы считаем правление Линкольна выдающимся, если все, что он делал, обычные люди делают каждый день? Здравый смысл
в этом отношении подобен кислороду: чем выше,
тем его меньше. «С большой силой приходит большая ответственность», — напомнил Человеку-пауку дядя Бен в известной сцене,34 — но также и опасность совершения глупостей.
X
Их и должна предотвращать большая стратегия.
Я определю этот термин в контексте данной книги как соотнесение потенциально бесконечных
устремлений с неизбежно ограниченными возможностями. Если вы ставите перед собой цели, которых нельзя достичь имеющимися у вас средствами, то рано или поздно вам придется ограничить
масштаб ваших целей, чтобы они соответствовали вашим средствам. Расширение возможностей
может помочь вам достичь большего числа целей,
но не всех, поскольку цели могут быть бесконечными, средства же — никогда. Как бы вы ни провели
эту линию, всегда останется какая-то связь между
реальным и воображаемым (тем местом, где вы находитесь сейчас, и тем местом, куда вы хотите попасть). У вас нет стратегии, пока вы не соединили
эти точки — как бы они ни различались — применительно к той конкретной ситуации, в которой
вы действуете.
В какой же момент оказывается необходимым
прилагательное «большая»? Это, на мой взгляд,
связано с тем, что поставлено на карту. В вашей студенческой жизни не произойдет фундаментальных
перемен, если вы поспите завтра утром на двадцать
36
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
минут больше, а расплатой за это станет холодный сэндвич по пути на лекцию вместо горячего
завтрака. Однако ставки возрастают, если учесть,
чему вы учитесь на этих занятиях, как это связано
с другими учебными предметами, какую вы выберете специализацию и какую затем получите степень, как вы можете использовать это в профессии
и в кого вы можете влюбиться в процессе. Стратегии становятся крупнее, даже не выходя за пределы субъективного восприятия. Неверно говорить
поэтому, что большая стратегия может быть у государства, но таковой не может быть у отдельного человека. Соотнесение обязательно не только во времени и пространстве, но и в масштабе.
И все же понятие «большой стратегии» традиционно ассоциируется с планированием и ведением войн. Это не удивительно, учитывая тот факт,
что первые описания отношений устремлений и возможностей появились в связи с необходимостью
проведения военных операций. «Помыслим, какое
из дел сих последствие будет? — наставляет ахейцев
мудрый Нестор у Гомера в критический момент затянувшейся осады Трои. — Может быть разум поможет»35. Но необходимость такого соотнесения
восходит к гораздо более древнему прошлому — вероятно, к первому предку человека, прикидывающему, как заполучить желаемое при помощи имеющихся у него средств36.
Если не считать жизни после смерти, то наиболее общим устремлением людей всегда было, безусловно, сохранение жизни. Все прочие задачи —
от простых (поиск пропитания, крова и одежды)
до самых сложных (управление великими империями) — требовали применения все более сложных стратегий. Определить, что является успехом,
всегда было трудно, но здесь помогала сама ограниченность средств. Дело в том, что, хотя удовлетворение — это в конечном счете состояние сознания,
для его достижения нужно потратить реальные ре37
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
сурсы — именно поэтому всегда возникала необходимость соотнесения целей и средств, а значит,
и стратегии.
XI
Так возможно ли научить большой стратегии
или по крайней мере здравому смыслу, на котором
она держится? Если Линкольн, формальное образование которого было меньше, чем у любого другого президента США, узнал все, что ему было нужно,
из книг, которые подбирал сам, и из осмысления
собственного опыта, то разве мы не можем поступать так же?37 Ответ прост: Линкольн был гений,
а большинство из нас — нет. Шекспира, судя по всему, никто не учил писать. Значит ли это, что учителя не нужны вообще?
Важно помнить еще и о том, что у Линкольна —
как и у Шекспира — была целая жизнь на то, чтобы стать теми, кем они стали. У сегодняшних молодых людей нет этого времени: сегодня общество
жестко разделяет этапы получения общего образования, профессиональной подготовки, карьеры
в организации, управленческой работы в ней и жизни на пенсии. Это усугубляет проблему, на которую уже давно указывал Генри Киссинджер: «интеллектуальный капитал», накопленный лидерами
прежде, чем они достигнут вершины, — это все,
на что они могут опереться, будучи на вершине38.
Теперь у людей меньше времени для освоения нового, чем было у Линкольна.
Получается, что именно высшая школа должна
воспитывать умы студентов, пока она владеет их
вниманием. Но и в академических кругах нет единства. Образовался разрыв между изучением истории и построением теории, хотя для соотнесения
целей со средствами нужно и то и другое. Историки, понимая, что в их науке наиболее плодотворны
38
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
исследования в специальных областях, обычно избегают обобщений, без которых не бывает теории:
тем самым они лишают себя способов упрощения
своей сложной материи, которые позволяют нам
ориентироваться в ней. Теоретики, которым хочется, чтобы их воспринимали как «ученых», исследующих общество методами точных наук, стремятся к «воспроизводимости» результатов: это
приводит к упрощению сложных вещей ради предсказуемости. Оба этих лагеря не учитывают взаимосвязи между общим и частным — между универсальным и локальным знанием — составляющие основу
стратегического мышления. Кроме того, представители обеих групп слишком часто плохо пишут,
усугубляя недостатки метода невнятностью изложения39.
Есть, однако, и более старый способ, посредством
которого история и теория действовали сообща.
Макиавелли намекает на него в письме-посвящении к своему произведению «Государь». Превыше всего, пишет он, я ценю «познания мои в том,
что касается деяний великих людей, приобретенные мною многолетним опытом в делах настоящих
и непрестанным изучением дел минувших». Он изложил их квинтэссенцию в «небольшой книжке»,
которая позволила бы «[его светлости Лоренцо Медичи] за ничтожное время усвоить все выношенное
мной [Макиавелли] на протяжении долгих лет среди стольких скорбей и опасностей»40.
Карл фон Клаузевиц развивает метод Макиавелли более полно в своем монументальном, хотя
и незавершенном, классическом труде «О войне»41.
Сама по себе история, пишет он, представляет собой лишь долгую череду рассказов. Это не означает,
что они бесполезны, поскольку теория, понимаемая как самая суть дела, избавляет вас от необходимости выслушивать их все снова. Для этого нет
времени, когда вы готовитесь к битве или начинаете любое другое рискованное предприятие. Но вы
39
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
не можете и просто бродить кругом, как Пьер у Толстого на Бородинском поле. Поэтому-то и нужно
обучение.
Хорошо обученный солдат, безусловно, будет
действовать эффективнее, чем совсем не подготовленный, но что есть «обучение» в понимании
Клаузевица? Это способность пользоваться принципами, применявшимися в разное время и в разных местах, позволяющая вам понимать, что было
и что не было действенно в прошлом. Затем вы
применяете их к имеющейся ситуации, и здесь уже
идет речь о масштабе. В результате вы имеете план,
опирающийся на прошлое, привязанный к настоящему и направленный на достижение некоторой
цели в будущем.
Сражение, однако, не развивается по плану
во всех отношениях. Его результат будет зависеть
не только от действий другой стороны — от «известных неизвестных», согласно знаменитой фразе бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда42 — но и от «неизвестных неизвестных», то есть
всего того, что может пойти не так еще до вашей
встречи с противником. Все вместе эти факторы составляют то, что Клаузевиц называл «трением» —
столкновение теории с реальностью, о котором
много веков назад Артабан пытался предупредить
Ксеркса у Геллеспонта.
Поэтому единственное решение состоит в импровизации, но это означает не просто придумывать решения на ходу. Возможно, вы будете придерживаться плана, возможно, вы его измените,
а может быть, и полностью отвергнете. Но, каковы бы ни были неизвестные, отделяющие вас
от цели, вы, подобно Линкольну, будете знать свой
азимут. В вашей памяти будет целый арсенал вариантов действий, известных вам, говоря словами Макиавелли, благодаря опыту, приобретенному весьма дорогой ценой теми, кто жил до вас. Остальное
зависит от вас.
40
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
XII
Суда, пересекающие Геллеспонт в наши дни, все
еще соединяют поля сражений, как когда-то мосты
Ксеркса: чуть южнее по азиатскому берегу находится Троя, а на европейском берегу, даже ближе —
Галлиполи. Но сегодня это паромы, а перевозимые
ими армии — туристы, пользующиеся тем, что поля
сражений, разделяемые тридцатью веками, находятся лишь в пятидесяти километрах друг от друга.
У них даже остается время для осмотра Троянского
коня в Чанаккале — не подлинного, конечно, а элемента реквизита, оставшегося после съемок фильма 2004 года с участием Брэда Питта.
Открывающиеся им виды не так величественны, как зрелище, которое наблюдал Ксеркс со своего возвышения в 480 году до н. э., но позволяют
сделать важный вывод: сегодня опыт реальных
сражений приобрести сложнее, чем даже в недавнем прошлом. Чем бы это ни объяснялось: страхом того, что мировая война может уничтожить
всех участников, возвращением малых войн, в которых ведущие их страны участвуют не так тотально, как раньше, или простым везением — сегодня
на полях сражений оказывается меньше людей, чем
в прошлом. Им на смену приходят туристы.
Но идея обучения, развитая Клаузевицем, сохраняет всю свою актуальность. Это лучшая защита от нарастания глупости стратегий с нарастанием масштаба задач: проблемы, которая возможна
как в мирное, так и в военное время. Единственный способ совмещать явные противоположности
планирования и импровизации — это учить здравому смыслу и умению понимать, когда следует быть
«ежом», а когда «лисой». Где же, если не в армии
или (лишь частично) в высшей школе или в профессиональной жизни после нее, сегодняшние молодые люди могут получить такое образование?
41
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
«Битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных площадках Итона», не сказал, но определенно должен был бы сказать герцог Веллингтон,
этот главный источник афоризмов Викторианской
эпохи43. Ведь помимо войны и подготовки к ней
именно в соревновательном спорте наиболее характерным образом проявляется это сочетание
квинтэссенции прошлого, планируемого настоящего и неопределенного будущего, о которых писал Клаузевиц. В наши дни, когда мода на подтянутость и спортивную форму намного выше, чем
в эпоху выдающегося герцога, игровыми видами
спорта занимается больше людей, чем когда бы
то ни было. Но что вам это дает и какое отношение
это имеет к большой стратегии?
Дело в том, что вы учитесь игре с помощью тренера, который занимается тем же «обучением»,
какое проводили сержанты «учебки» во времена
обязательной военной службы: он объясняет вам
принципы игры, развивает выносливость, следит
за дисциплиной, учит взаимодействовать в игре,
проигрывать и восстанавливаться после проигрыша. Но, как только игра началась, ваш тренер может
только кричать или хмуриться, находясь в стороне.
Вы и ваши товарищи по команде предоставлены самим себе. И все же вы добьетесь большего, если у вас
был тренер: не случайно зарплаты тренеров в некоторых американских университетах превышают
зарплаты ректоров, которые их нанимают.
Но означает ли что-либо из сказанного выше,
что в игре вы были либо «ежом», либо «лисой»? Вероятно, вы сочли бы этот вопрос глупым, поскольку вы были и тем и другим: у вас был план, подобающий «ежу», вы корректировали его ситуативно, как подобает «лисе», и выиграли или проиграли
в зависимости от того, насколько он сработал. Оглядываясь назад, вам трудно было бы сказать, в какой
момент вы были «ежом», а в какой — «лисой». Действуя, вы удерживали в уме противоположные идеи.
42
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГЕЛЛЕСПОНТ
В большинстве жизненных ситуаций все происходит почти так же, и мы делаем этот выбор инстинктивно или почти инстинктивно. Но с ростом
наших полномочий и влияния на людей мы больше задумываемся о собственных действиях. Когда
за вами наблюдает много людей, действие становится публичным действом. Теперь уже важна репутация, а это ограничивает свободу действий. Лидеры,
добравшиеся до вершины — как Ксеркс или эксперты Тетлока — могут становиться пленниками собственного превосходства, оказываясь запертыми
в границах роли, из которой уже не могут выйти.
Таким образом, эта книга о «Геллеспонтах сознания», пролегающих между таким лидерством
и здравым смыслом. Между этими двумя берегами
необходимы свободно проходимые и частые мостики, ибо только свободное движение между ними
делает возможной большую стратегию: правильную увязку целей и средств. Но течения быстры,
ветра переменчивы, а мосты — хрупки. И хотя сегодня нам уже не нужно запугивать или задабривать
море, как это делал Ксеркс, но, изучая то, как многие после него справлялись с этими противоречиями логики и лидерства, мы, наверное, можем
лучше подготовить себя к переходу тех «Геллеспонтов», которые рано или поздно встретятся на нашем пути.
ГЛАВА 2
Длинные стены
С
В Ы С О Т Ы они могли бы показаться гигантской костью, которую какой-нибудь сытый
бог, сидящий намного севернее, на Олимпе, чисто обглодал и лениво швырнул через всю
южную Аттику. Один ее конец, похожий на сустав,
опирался на скалистый утес, другой доходил практически до моря. Ее длина была около десяти километров, но из-за утолщений на каждом конце
ее периметр достигал двадцати семи километров.
Утолщения соединяла невероятно тонкая косточка в шесть с половиной километров длиной: поставленная вертикально, такая структура сломалась бы под собственным весом. Но такое никому
не пришло бы в голову, потому что это были стены — самые длинные из когда-либо окружавших
два города1.
В Афинах, лежащих на их северо-восточном
конце, к моменту окончания их строительства
в 457 году до н. э. жило порядка двухсот тысяч человек. В Пирее, на юго-западном конце, жителей
было меньше, а места больше: для Афин это был
порт средиземноморской торговли, а также строительная, ремонтная и провиантская база их военного флота, «деревянные стены» которого принесли
победу при Саламине двадцать три года тому назад. Уже много лет после того, как Афины утратили
свое завоеванное тогда первенство, историк Плутарх увидел в зданиях и общественных пространствах города «цвет новизны», как будто «эти про44
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
изведения проникнуты дыханием вечной юности,
имеют нестареющую душу». Надо всем этим царил перестроенный Акрополь — все еще со следами пожара, устроенного персами, — возвышающийся на своем утесе, где он стоит и сегодня, пережив
с тех пор множество других бед и злоключений.
Стены, соединявшие Афины и Пирей, отстояли
друг от друга примерно на тридцать метров: достаточно широко, чтобы вместить двусторонний поток
людей, животных, повозок, товаров и ценностей,
и достаточно узко, чтобы их можно было оборонять.
Это были внушительные стены — примерно полтора метра в толщину и семь с половиной в высоту —
но они странным образом не вязались с теми грациозными постройками, на страже которых стояли.
Камни торчали в растворе вкривь и вкось. Наружу
выступали сломанные колонны и куски надгробных
плит. Официальным объяснением было увековечение памяти: все это должно было напоминать о бесчинствах Ксеркса всякому, кто шел мимо этих стен:
ему о них напоминали его предки2.
Ксеркс, пересекая Геллеспонт, взял с собой все,
кроме большой стратегии: ведь если его устремления были его возможностями, зачем заботиться о соответствии одного другому? Он узнал, что такое
нехватка необходимого только после того, как его
научили этому суша, море, ненастье и греки со своим оракулом. Считая все свои карты сильными,
он не приберег ни одной из них про запас, и когда
проиграла одна, остальные постигла та же участь.
В итоге он потерял, по сегодняшним расчетам, более девятисот трирем и четверть миллиона человек3.
Греки же, напротив, знали одну лишь нужду.
В отличие от персов, империя которых простиралась от Эгейского моря до Индии, они занимали небольшой скалистый полуостров, на котором
ресурсы были разбросаны крайне неравномерно,
а управлять людьми было очень сложно. Большие
и малые города должны были защищаться сами: ни45
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
какой царь царей не мог сделать это за них. Существовали союзы и даже колонии, но обязательства
были расплывчаты, а лояльность никогда не была
чем-то постоянным. Это делало Грецию ареной
всевозможного соперничества, а потому и полем
применения самых разных стратегий4. После войны с Ксерксом две из них приобрели особое значение. Они различались во всех аспектах — за исключением того, что нужда требовала специализации.
I
Спартанцы, которые сражались при Фермопилах
до последнего бойца, издавна были воинами. Их
родиной был Пелопоннес, но они были привязаны
к нему не так, как бывают привязаны аграрии: сельским хозяйством занимались рабы (илоты); стратегия спартанцев состояла в том, чтобы сделать свою
армию лучшей в Греции. Не имея никакой другой
цели, они не оставили после себя даже приличных
руин. Как профессиональные военные они непрерывно тренировались, чтобы редко вступать в бой.
Битву при Марафоне в 490 году до н. э. они просто
пропустили, потому что отмечали праздник луны.
Но ярость спартанцев в бою, когда они по-настоящему выходили из себя (как при вторжении Ксеркса), с лихвой компенсировала их численность. Вот
почему, несмотря на Фермопилы, Афины доверили
им свою оборону на суше. Когда и она была прорвана, сообщает нам Фукидид, афиняне «со всем своим
добром... сели на корабли и стали мореходами»5.
Они были мореходами и раньше, и их торговые
корабли ходили от Атлантического океана до Черного моря. Афиняне также разбогатели на доходах
от зависимых территорий и их платежах за военную помощь, а также от добычи серебра в близлежащем районе Аттики. Это дало им возможность
построить флот, который базировался на Сала46
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
мине. Но деревянных стен на море Фемистоклу
оказалось мало: он хотел воздвигнуть огромные
стены на суше. Окружив Афины и Пирей, они превратили бы эти города в остров — неприступный
для нападения с суши, получающий все необходимое с моря, готовый пустить в дело флот, столь же
грозный, как и войско спартанцев6.
Таким образом, спартанцы и афиняне стали тиграми и акулами: каждый вид господствовал в своей «зоне обитания»7. В этот момент здравый смысл
явно подсказывал идею сотрудничества: серьезная
и зримая персидская угроза продолжала существовать. Вместо этого произошло нечто, не имевшее
никакого смысла. Греки украсили спасенную ими
цивилизацию незабываемыми творениями — а затем разрушили ее почти до основания8.
II
Пелопоннесская война, которая шла между Афинами, Спартой и их союзниками с 431 по 404 год
до н. э., имела одну общую черту со значительно
более краткой войной между греками и персами:
у каждой из них был свой великий летописец. Фукидид, однако, предупреждал своих читателей,
что он не Геродот. В своей истории он воздержится от красивостей, грешащих против истины.
Он писал, что из-за «отсутствия в нем всего баснословного», возможно, его исследование «покажется малопривлекательным», однако он надеется, что его труд будет тем же, что Плутарх увидел
в остатках Афин: неподвластным времени творением, «достоянием навеки». Будет достаточно, писал
Фукидид, если его историю сочтут полезной те, кто
захочет «исследовать достоверность прошлых и возможность будущих событий (могущих когда-нибудь повториться по свойству человеческой природы в том же
или сходном виде)»9.
47
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Прошлое и будущее у Фукидида не более равны друг другу, чем возможности и устремления
в стратегии; но между ними есть связь. О прошлом
мы можем узнать только из ненадежных источников, в том числе из наших собственных воспоминаний. Будущего мы не можем знать вообще;
мы знаем лишь, что оно возникнет в прошлом,
но затем отделится от него. Различие, которое Фукидид проводит между сходством и отражением —
между моделями, переживающими время, и точными
отражениями, выцветающими из-за времени, — выравнивает асимметрию, поскольку предполагает,
что прошлое готовит нас к будущему только тогда,
когда оно переходит в будущее, пусть и сильно изменяясь при этом. Точно так же, как возможности
ограничивают устремления обстоятельствами.
Знать один главный секрет или много неглавных, таким образом, недостаточно: «сходство», которое, как настаивает Фукидид, должно случаться,
может возникать по всей ширине нашего «спектра» от «ежей» до «лис» и обратно. А кто же он сам,
«еж» или «лиса»? Такой вопрос столь же бесполезно задавать, как состоявшемуся спортсмену пытаться на него ответить. «Первоклассный ум» Фукидида
с такой легкостью вмещает противоположные идеи,
что в своей истории он рассказывает нам их сотнями.
Он делает это через время и пространство, при этом
еще и меняя масштаб: мне кажется, только Толстой
может соперничать с ним в способности почувствовать значимость в вещах, казалось бы, незначимых.
Поэтому не будет преувеличением сказать, что
Фукидид тренирует ум всякого, кто его читает. Ведь,
как мягко напомнил нам крупнейший из его современных толкователей (который одно время и сам
был тренером), греки, несмотря на их древность,
«могли считать действительным то, что мы или забыли, или никогда не знали; и мы всегда должны
допускать, что по крайней мере в некоторых отношениях они были мудрее нас»10.
48
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
III
У спартанцев никогда не было стены: чтобы держать врагов на расстоянии, они полагались только на свое воинское мастерство. Услышав о том,
что Фемистокл планирует построить стену, они попытались убедить афинян, что это нужно запретить делать всем городам: такой запрет способствовал бы установлению единства греков, в то же
время лишая персов возможности воспользоваться такими укреплениями после любого вторжения в будущем. Но настоящей целью спартанцев
было, как утверждает Фукидид, ограничить морскую мощь Афин, которая показала себя столь действенной при Саламине. Без таких стен Афины и их
порт будут более уязвимыми, и эта цель будет достигнута.
Фемистокл уговорил афинян сделать вид, будто они приветствуют предложение Спарты, и даже
послать его к ним для переговоров. Тем временем
афиняне начали в срочном порядке возводить стены. Работали все: мужчины, женщины и дети; в ход
шло все, что попадалось под руку, и использование лома при строительстве объясняется не только мемориальными соображениями, но и просто
спешкой. Когда спартанцы удивлялись, почему
так долго длятся переговоры, Фемистокл говорил,
что ждет прибытия других афинян, которые задерживаются по непонятным причинам. Наконец
они прибыли — но одновременно до спартанцев
уже дошли и сведения о том, что на самом деле замыслили афиняне. Фемистокл заявил спартанцам,
которые начали что-то подозревать, что если их
что-то смущает, им следует послать своих людей
в Афины, чтобы те убедились во всем сами. Одновременно он дал афинянам тайное поручение удерживать спартанских гостей до тех пор, пока стены
не будут почти готовы.
49
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Наконец, узнав, что момент настал, Фемистокл
оставил уловки: Афины, объявил он, имеют теперь достаточно крепкие стены, чтобы защитить
себя. Во всех дальнейших переговорах уже предполагалось право афинян решать, в чем состоят
и их собственные интересы, и интересы остальных греков. Спартанцы не выказали гнева; впрочем, отмечает Фукидид, «втайне лакедемоняне
очень досадовали, что им не удалось достичь своей цели»11. Их обвели вокруг пальца — или, точнее, вокруг стены.
IV
Все это происходило в 479–478 годах до н. э., за четыре с половиной десятилетия до того, как разразилась Пелопоннесская война. Здесь Фукидид дает
ретроспективу, необычную для его исторического
повествования. Он хочет, чтобы мы увидели связь,
пусть и отдаленную, между великой войной и почти комическим контрастом невозмутимости спартанцев и хитрости афинян: у малых событий могут
быть большие следствия. Нельзя сказать, что обратного пути не было. Идти вперед, однако, нужно
было осторожно, поскольку каждый шаг в отношениях между Афинами и Спартой теперь имел неоднозначный смысл.
То же строительство стен: было ли оно актом
защиты или нападения? Афиняне хотели защитить
стенами свой «остров» — базу, с которой, благодаря
торговым связям и военно-морской мощи, они правили бы морями вблизи Греции и намного дальше.
Спартанцы видели безопасность в отказе от стен,
но лишь потому, что их войско было — и, как они
рассчитывали, должно было остаться — сильнейшим в Греции. Но как раз по этой причине афиняне прежде всего и считали, что им нужны стены.
Категории слишком «категоричны».
50
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
Однако как спартанцы, так и афиняне действовали стратегически, соизмеряя устремления с возможностями. И те и другие стремились к безопасности,
но каждый своим путем; ни те ни другие не имели
возможности одновременно быть и тиграми, и акулами. Сотрудничество, в теории, могло защитить
их от всех будущих опасностей — как на море, так
и на суше. Но оно требовало большего доверия —
качества, имеющего поразительно неглубокие корни в характере всех греков.
Перехитрив спартанцев, Фемистокл с триумфом
вернулся в Афины, как после битвы при Саламине. Но со временем энтузиазм поостыл: к 470 году
до н. э. афинское народное собрание, которое боялось успехов своих лидеров не меньше, чем вознаграждало их, воспользовалось своим правом
подвергать неугодных граждан остракизму и отправило его в изгнание. В конце концов организатор победы над персами, все еще полный всевозможных идей, провел остаток своих дней на службе
у тех же самых персов. Так Ксеркс, недавно убитый
заговорщиками, как бы его ни изображал Эсхил,
оказался в некотором роде отомщен12.
V
Одним из организаторов постановки «Персов» был
Перикл, афинский аристократ, в честь которого
была названа следующая эпоха. Снисходительность
и скромность сочетались в нем с умением привлекать на свою сторону людей; при этом он также
был покровителем искусств, умелым полководцем,
опытным дипломатом, прекрасным экономистом,
автором оригинальных конституционных идей, переживших его время, одним из самых блестящих
ораторов Афин и человеком, давшим городу тот облик, в котором он дошел до нас, и правившим им
и его империей более четверти века13. Однако имен51
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
но Перикл сделал больше кого бы то ни было еще
для развязывания Пелопоннесской войны — этого
непреднамеренного результата создания культуры,
поддерживающей стратегию.
Спартанцам не нужна была новая культура, поскольку после греко-персидских войн их старая
культура в целом не изменилась. Культура же афинян преобразилась полностью. Они доказали свое
умение воевать на суше, одержав победу над персами (без спартанцев) при Марафоне в 490 году
до н. э., а также (с помощью спартанцев) при Платеях в 479 году до н. э. Но «остров» Фемистокла означал отказ от дальнейшего развития этого умения:
он боялся, что Афины никогда не смогут противостоять войску спартанцев14. К середине 450-х годов
до н. э. Перикл, который был с этим согласен, достроил стены вокруг Афин и Пирея, что позволяло
полностью опираться на морскую мощь в любой будущей войне. Новая стратегия была вполне разумной, но она сделала из афинян, по наблюдению Фукидида, другой народ.
Афины традиционно жили сельским хозяйством: в мирное время поля и виноградники местных земледельцев снабжали город продовольствием, а в военное время они пополняли собой ряды
афинской пехоты и кавалерии. Теперь же их хозяйства уже никто не собирался защищать; роль их самих в войне также упала. В случае нападения спартанцев они должны были толпами бежать в город,
укрываться за его стенами и наблюдать с этих стен
за уничтожением своих имений, посевов и оливковых деревьев. Перикл, который и сам был землевладельцем, обещал сжечь собственное хозяйство,
чтобы доказать свою решимость стоять до конца.
Он считал, что в конце концов спартанцы, обеспокоенные тем, что в их собственных поместьях
остались ненадежные илоты, бросят все и уйдут восвояси, но вовсе не благодаря усилиям тех, на ком
раньше держалась стабильность афинского обще52
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
ства. Между тем корабли, базирующиеся в пирейском порту, будут поддерживать Афины благодаря
сообщению с их заморскими территориями и совершать набеги на незащищенные берега Спарты,
ускоряя уход спартанцев15.
Но содержание торгового и военного флота
требовало немалых расходов. Чтобы сражаться
на суше, афинскому гоплиту нужен был лишь меч,
щит, шлем, минимум доспехов и абсолютная уверенность в воюющем рядом с ним товарище, поскольку греческие фаланги перемещались как единое целое: импровизация неизбежно оканчивалась
катастрофой. Для флота же требовались портовые
сооружения, корабли, паруса и ряды гребцов, готовых сидеть в смрадной трюмной воде (триремы редко останавливались для того, чтобы люди
могли справить нужду), не имеющих возможности
следить за ходом битвы и отправлявшихся на дно
при ее неудачном исходе. Их должна была вдохновлять не только память о собственных хозяйствах
(которых, впрочем, у большинства из них никогда
не было) и принуждать к действию не только муштра (от которой было мало толку в зловонных
скользких тесных помещениях)16.
Подгонять и вдохновлять нужно было не только
гребцов. У греков были триремы — военные корабли, единственным предназначением которых был
таран других кораблей. Их строительство, на средства ли частных граждан или государства, едва ли
могло обеспечить прибыль: тут должны были действовать какие-то менее материальные стимулы.
Афиняне также не могли заставить свои колонии
кормить себя: для снабжения города зерном, скотом и рыбой нужны были стимулы, а не принуждение. При возведении стен город не мог оплачивать
труд женщин и детей, так что интересы семей тоже
должны были совпадать с требованиями стратегии.
Масштабные предприятия требуют столь же масштабных стимулов. Кто-то должен был объяснить
53
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
всем — или почти всем, — что жертвы, принесенные
сейчас, позже принесут свои плоды. Жертвы же,
на которые рассчитывал Перикл, предназначались
не богам, как в древности17, а городу, который стал
государством и уже становился империей.
Которой тем не менее нужно было остаться единым сообществом. Чтобы опереться в своем развитии на энтузиазм людей, Афины должны были
чем-то воодушевить и разные классы городских
жителей, и народы своей империи, оставшись
при этом таким же сплоченным целым, как и их
соперница Спарта, сохранявшая во многих отношениях черты небольшого города. Вот почему важнейшей задачей Перикла стало построение
культуры.
VI
Перикл изложил свои планы и надежды в «надгробной речи», произнесенной в Афинах в конце первого года Пелопоннесской войны. Погибшие отдали свои жизни, сказал он собравшимся
на похоронах, за универсальность своеобразия Афин:
Афины никому не подражали, но были образцом
для всех. Но как можно было увязать столь явные
противоположности? Периклово решение состояло в том, чтобы увязать масштаб, пространство
и время: афинская культура должна была стать образцом для города, для империи и для других веков. К счастью, на погребении героев был Фукидид
или кто-то из тех, кому он доверял, и речь этого великого человека была записана18.
Еще задолго до Перикла Афины начали постепенное движение в сторону демократии, которую
он определил как предпочтение интересов «большинства, а не меньшинства». К моменту, когда Перикл пришел к власти, любой взрослый гражданин
мужского пола, который не был рабом, мог высту54
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
пать и голосовать в афинском народном собрании:
оно насчитывало от пяти до шести тысяч постоянных участников и было самым массовым демократическим органом, существовавшим в мире до того
(а может быть и до нашего) времени19. «Наши рядовые граждане... также хорошо разбираются в политике, — утверждал Перикл в своей речи. — Ведь
только мы одни признаем человека, не занимающегося общественной деятельностью... бесполезным
обывателем». Что касается открытого обсуждения,
то «мы считаем неправильным принимать нужное
решение без предварительной подготовки».
В работе собрания соблюдалась презумпция независимости достоинства человека от его статуса. Если кто-то хотел участвовать в нем (достоинство), то «низкое общественное положение»
(статус) не могло ему в этом помешать. Отсюда следовало, что любой, кто мог работать на строительстве оборонительных сооружений, починить судно, стать гребцом, заплатить другим за эту работу
или даже воспитать ребенка так, чтобы он когда-то
смог ее выполнять, служил государству. Опыт был
полезен, но специализация, расслаивавшая другие
общества, была излишней. «Я сомневаюсь в том,
что еще где-либо может родиться человек, — хвастался Перикл, — способный проявить себя в столь
разнообразных обстоятельствах, как афинянин».
Используя стены, корабли и гребцов, афиняне
демократизировали ведение войны. У них не было
элиты, обучавшейся военному делу с детства,
как у спартанцев с их жесткой общественной иерархией. Но у них было больше воинов, на которых государство могло опереться как в деле защиты, так
и при определении своих интересов. «Между тем
как наши противники при их способе воспитания
стремятся с раннего детства жестокой дисциплиной закалить отвагу юношей, мы живем свободно,
без такой суровости, и тем не менее ведем отважную
борьбу с равным нам противником».
55
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Демократия внутри народного собрания должна была служить моделью для города; но какой
должна была стать модель для империи? Сокращая свои обязательства на суше, Афины делали более настоятельной необходимость своего владычества на море. К началу Пелопоннесской войны
долгом верности Афинам были связаны примерно
двести союзных или подчиненных им государств20.
Однако они являли огромное разнообразие обстоятельств, настроений и даже языков. Могли ли Афины в этих условиях доверить другим культурам защиту своей?
Мы приобретаем «друзей», говорил Перикл,
«не тем, что получаем от них, а тем, что оказываем им проявления дружбы. Ведь оказавший услугу
другому — более надежный друг, так как старается
заслуженную благодарность поддержать и дальнейшими услугами. Напротив, человек облагодетельствованный менее ревностен: ведь он понимает, что совершает добрый поступок не из приязни,
а по обязанности». Тем не менее Афины оказывали эту помощь «не по расчету на собственную выгоду, а доверяясь свободному влечению». Он имел
в виду, что империя Афин будет не только более
могущественной, но и даст людям больше надежды,
чем любая соперничающая с ней империя21.
Они могли бы таким образом распространять демократию на страны с самыми разными культурами: менее уверенные в себе государства, боясь худшего, объединялись бы с Афинами добровольно22.
Система, основанная на частном интересе, обеспечивала бы выгоду, перерастающую в близость.
Поэтому была чрезвычайно важна прозрачность:
«мы всем разрешаем посещать наш город и никогда
не препятствуем знакомиться и осматривать его
и не высылаем чужестранцев из страха, что противник может проникнуть в наши тайны и извлечь
для себя пользу». «Иноземными благами» афиняне
пользовались «не менее свободно, чем произведе56
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
ниями [их] страны». Стены сделали афинское гражданство глобальным.
От будущего Перикл хотел памяти. Герои, которых он воспевал в своей речи, не нуждались ни в каких знаках: «Ведь гробница доблестных — вся земля». Но их культура должна была воздвигнуть
памятники как свидетельства великих деяний. Ими
должны были служить архитектура и украшение
городов, на которые Перикл выделял массу времени и средств. Этому призваны были служить и тексты — философские труды, пьесы, исторические
описания, его собственные речи — как послания
в бутылках, адресованные далеким эпохам и подтверждающие уникальность его времени. И руины:
«Все моря и земли открыла перед нами наша отвага и повсюду воздвигла вечные памятники наших
бедствий и побед».
Как произведение ораторского искусства, речь
Перикла можно сравнить только с Геттисбергской
речью Линкольна. Но если Линкольн говорил в своей речи о связи военных потерь с военными успехами, то Перикл признавал стратегическое поражение. Дело в том, что он надеялся избежать войны со Спартой, противопоставив ее превосходству
на суше господство Афин на море и строя при этом
империю нового типа, притягательные стороны которой должны были умерить любые страхи, связанные с ее усилением23. Как же вышло так, что Перикл
закладывал основы культуры, призванной предотвратить войну, уже после начала большой войны?
VII
Фукидид дает три объяснения. Вот первое из них:
в 435 году до н. э. небольшой город Эпидамн, оказавшись на пороге гражданской войны, попросил
помощи у своей союзницы Керкиры. Керкира отказала, но помощь пришла от ее соперника Корин57
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
фа. Это вызвало гнев керкирян, которые отправили в Эпидамн свой флот, чем вынудили коринфян
также послать в Эпидамн корабли с войском и поселенцами. Обе стороны обратились за помощью
к Афинам, которые заключили с керкирянами оборонительный союз и были вынуждены после этого
дать морское сражение Коринфу и осадить коринфскую колонию Потидею. Коринфяне в ответ начали подталкивать спартанцев к вторжению в Аттику,
но последние предложили афинянам и коринфянам выступить с защитой своих позиций перед спартанским народным собранием. После чего
это собрание, скорее, «из страха перед растущим
могуществом Афин» (второе, более сжатое объяснение Фукидида), чем руководствуясь приведенными аргументами, проголосовало в 432 году до н. э.
за объявление войны24.
В первом повествовании поразительно подробно прослеживается цепь причин и следствий. Второе подтверждает, что это была именно последовательность событий, а не их случайное нагромождение. Но ни одно из них не объясняет, как могло
получиться, что из-за «какой-то дурацкой истории
на Балканах»25 — Эпидамн находится на территории
сегодняшней Албании и называется Дюррес — была
развязана война, ставшая для греков столь же опустошительной, какой (с учетом пропорций) была
Тридцатилетняя война в XVII веке для европейцев
или две мировые войны в XX веке для всех их участников26. Чтобы разобраться в этом, нам нужно обратиться к третьему объяснению Фукидида, которое
заключается в том, что заверения Перикла в благих
намерениях его державы никого не убедили.
Фукидид дает его — скорее имплицитно, чем
явно — картину прений сторон в Спарте. Это был,
по сути, «суд над Периклом», где коринфяне выступали в роли обвинителей, афиняне — защитников, а спартанцы — единственные выступавшие,
названные Фукидидом, — в роли судей. Вопрос за58
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
ключался в том, насколько универсальной может
или должна быть определенная культура.
Сначала коринфяне обвинили во всем спартанцев, заявив, что в появлении афинских «длинных
стен» виноваты они. Их «недогадливость» помогла
Фемистоклу несколькими десятилетиями ранее реализовать свой хитрый план и дала Афинам повод
считать, что спартанцы «смотрят сквозь пальцы».
Только вы, лакедемоняне, одни из эллинов бездействуете, обороняясь не силой, а медлительностью; только вы одни стараетесь подавить вражескую мощь не в ее зачатке, а когда она вдвое
возрастет. Конечно, всегда говорили, что ваше
положение надежно; но действительность оказалась убедительнее.
Афиняне, напротив, «отважны свыше сил, способны рисковать свыше меры благоразумия». Они действуют столь стремительно, что для них «надеяться достичь чего-нибудь значит уже обладать
этим». Афиняне «и сами не имеют покоя, и другим не дают его». Поэтому спартанцам следует
помочь потидейцам и напасть на Аттику. В противном случае это «[заставит] нас... в отчаянии подумать о другом союзе»27.
В ответ афиняне напомнили всем о персидских
войнах, заметив при этом, что «частое упоминание
об этом в конце концов может надоесть». Несмотря на жертвы спартанцев при Фермопилах, заявили афиняне, «когда мы отправлялись в путь, нашего города [Афин] уже не существовало, и, вступая
в борьбу, мы едва ли могли надеяться на его возрождение. И все же, несмотря на это, мы в меру наших
сил спасли не только вас, но и самих себя». Что же
касается империи, говорили они, то «нашу державу мы приобрели ведь не силой, но оттого лишь,
что вы сами не пожелали покончить с остатками военной силы Варвара в Элладе. Поэтому-то союзники добровольно обратились к нам с просьбой взять
59
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
на себя верховное командование». Таким образом,
афиняне поступили так, как поступил бы любой
на их месте. Учитывая, что «затяжная война обычно
приносит всякого рода случайности обеим сторонам», спартанцам не следует «принимать поспешно решение». Очень часто, начиная войну, «люди
сразу же приступают к действиям, с которыми следовало бы повременить, и уж после неудач обращаются к рассуждениям»28.
Архидам, царь Спарты, поддержал афинян.
Война, предупредил он, требует не столько оружия, сколько денег, особенно если она идет между
материковой и морской державами. Ведь «пока
мы не добьемся победы на море и не отрежем афинян от средств и путей снабжения их флота, мы постоянно будем терпеть неудачи». Более разумным
путем могла быть дипломатия: в случае провала переговоров можно было захватить какие-то области
Аттики, не подвергая их опустошению, ибо последнее не принесло бы пользы никому. Сетуя на «медлительность» спартанцев, коринфяне не учитывали вероятность того, что поспешное начало войны
могло отдалить ее завершение, и она осталась бы
«в наследство нашим детям»29.
Однако решение предстояло вынести спартанскому народному собранию, и верх одержал Сфенелаид, один из нескольких эфоров (судей). Поскольку афиняне воевали с персами, но плохо обошлись
со спартанцами, утверждал он, следуя довольно
странной логике, они «вдвойне заслуживают кары
за то, что из доблестных людей стали злыми». Продолжать обсуждение означало бы лишь осложнить
ситуацию еще более. «Поэтому, лакедемоняне, выносите решение о войне, как это и подобает Спарте... Итак, с помощью богов пойдем на обидчиков!»
Было трудно разобрать, сколько голосов кричало «за» и сколько «против», но когда народному
собранию было предложено встать и разделиться,
большинство оказалось на стороне Сфенелаида.
60
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
Вот так, повторяет Фукидид, «истинным поводом
к войне (хотя и самым скрытым), по моему убеждению, был страх лакедемонян перед растущим могуществом Афин, что и вынудило их воевать»30.
VIII
Перикл не присутствовал на своем «суде» в Спарте,
но он, конечно, очень тщательно отбирал своих представителей. Поэтому тем более поразительно, что их
защита была столь неубедительна, хотя даже царь
Спарты предупреждал об опасностях войны. Перикл построил свою карьеру и культуру своего города на убеждении31. Где-то произошел серьезный сбой.
Возможно, его представителям не хватило его
красноречия, чтобы не спасовать перед доводами
о том, что все империи становятся деспотиями,
и отстоять идею Перикла, что его империя освободит человеческий дух. Возможно, и сам Перикл
отступил бы под обвинительным натиском коринфян: они дали понять, что столкновения с афинянами вовсе не освободили их дух и что спартанцам
также не следует на это рассчитывать. Но возможно
и то, что в логике Перикла также имелись порочные звенья, выявленные во время споров в Спарте.
Греки понимали культуру как характер. Это означало предсказуемость на всех уровнях масштаба:
в поведении города, государства или народа в малых, больших и средних делах32. Спартанцы, знающие все о себе и своих целях, были полностью предсказуемы. Им не нужно было менять ни себя, ни кого-то еще. Афинская же стратегия обнесения своих
городов стенами изменила их характер и заставила
беспокойно рыскать по свету. Изменившись сами,
они должны были изменить других — это и означает
управлять империей, — но скольких, до какой степени и какими средствами? Ни у кого, даже у Перикла, не было ясного ответа на эти вопросы.
61
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Перикл не был Ксерксом. «Я опасаюсь гораздо больше наших собственных ошибок, чем вражеских замыслов», — признавал он с приближением
войны. Зная, что империя афинян не может расширяться безгранично, Перикл «сдерживал такое
стремление сограждан к предприятиям в чужих
странах и старался отбить у них охоту вмешиваться не в свои дела», говорит нам Плутарх, «считая
уже достаточно важным делом остановить рост могущества Спарты»33. Однако, как признали послы
Перикла, выступая перед спартанским народным
собранием, допущение равенства, которое он восхвалял в городе, в масштабах империи могло привести к ее уменьшению и даже развалу.
А наши союзники, привыкшие обращаться с нами
как с равными, если только против ожидания
им хоть чем-нибудь придется поступиться (будь
то по приговору суда или по принуждению нашей власти), отнюдь не благодарят за то, что их
не лишают гораздо более важного, а с еще большим возмущением подчиняются господствующей власти, чем если бы мы, уже с самого начала отбросив законность, открыто притеснили их.
Персы обращались со своими подданными более сурово, но это было в прошлом, а в настоящем
«всегда подвластные недовольны своими правителями» — и здесь «подвластные» — очень странное
слово для обозначения тех, кто «равны» афинянам.
Если бы спартанцы одержали победу, то они бы
точно так же «скоро утратили бы расположение
союзников (которого добились только из-за страха
союзников перед нами)»34.
Таким образом, порочным звеном логики Перикла была идея равенства. Он считал достойными целями и равенство, и империю, но плохо понимал,
что поощрение одного умаляет другое. Это противоречие отразилось и в его надгробной речи: он говорил о добровольных союзах во имя общего блага —
62
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
но при этом славил афинян за то, что их отвага открыла перед ними «все моря и земли», воздвигнув
на их пути памятники «бедствий и побед». Это выглядело так, как будто вместо того, чтобы одновременно удерживать в своем сознании противоположности, он то и дело раздваивался, и в середине речи
доктора Джекилла сменял мистер Хайд. Примерно
то же происходило с Периклом в его последние годы.
IX
Пример одной мухи, превратившейся в слона, очень
наглядно показывает, как это происходило. Мегары
были тогда (как остаются и сейчас) небольшим городом на северо-восточной оконечности Коринфского перешейка — единственной полоски суши, соединяющей Пелопоннес с остальной Грецией. Его
жители давно враждовали с афинянами, но никакой
военной угрозы для их большого города не представляли. Но мегарцы могли вступить во враждебный Афинам союз: самым вероятным вариантом был
соседний Коринф. Такой шаг мог стать плохим примером для других, поэтому в 433 году до н. э. Перикл
убедил народное собрание лишить мегарцев торговых привилегий в Афинах и запретить им пользоваться гаванями по всей империи. У Мегар были
другие возможности вести торговлю, и этот запрет
казался настолько бессмысленным, что Аристофан
высмеял его в своей комедии «Ахарняне», поставленной через несколько лет после смерти Перикла.
Но указ против мегарцев был задуман как средство
предупреждения, а не принуждения голодом. Это
было экономическое эмбарго, рассчитанное на то,
чтобы предупредить будущие измены невоенными
средствами. Как можно было ожидать, это нововведение насторожило спартанцев, которые сделали
его отмену одним из условий предотвращения войны. Гораздо более неожиданным поворотом собы63
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
тий — учитывая, что риски, связанные с сохранением
указа в силе, намного перевешивали его выгоды, —
оказалось то, что Перикл отказался отменить указ.
Его упрямство было одной из причин раздражения в народном собрании спартанцев, но, даже
проголосовав за войну в 432 году до н. э., спартанцы не спешили действовать. В течение следующего
года они отправили в Афины трех эмиссаров, каждый из которых изыскивал возможности для компромисса. Перикл, однако, отклонил все предложения: «Я всегда держусь, афиняне, такого мнения,
что не следует уступать пелопоннесцам».
По его мысли, хотя мегарский указ может казаться «пустяком», но отменить его означало бы встать
на ледяную горку. «Если вы уступите лакедемонянам в этом пункте, то они тотчас же потребуют новых, еще больших уступок». Ситуация исключала
дипломатию, делая войну единственным выходом:
не имело значения, сколь «велика или мала» была
причина. Разве Фемистокл не победил персов с гораздо меньшими ресурсами? «Мы должны быть достойны наших предков и всеми силами противостоять врагам, с тем чтобы передать потомству нашу
державу не менее великой и могущественной»35.
Нарушая тот самый совет, который афиняне
дали спартанцам, Перикл сам прервал ожидание.
Судя по всему, именно по его приказу последнего спартанского эмиссара даже не приняли в Афинах, а велели ему покинуть Аттику до наступления
ночи. Говорят, что, пересекая границу, он сказал:
«Сегодняшний день станет началом великих бедствий для эллинов»36.
X
Перикл, отмечает Плутарх, «был уже не тот, —
не был, как прежде, послушным орудием народа,
легко уступавшим и мирволившим страстям толпы,
64
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
как будто дуновениям ветра». Фукидид тоже почувствовал эту новую жесткость: Перикл «не только
не допускал уступчивость [по отношению к спартанцам], но, напротив, побуждал афинян к войне»37. Но что же вызвало эту перемену?
Может быть, это была просто старость: с годами
сохранять гибкость становится все труднее. Возможно, как предположил биограф Перикла, кризисы, нараставшие в конце 430-х годов до н. э., обострили его
эмоции и ослабили его способность к компромиссам38. Но нельзя исключать, что объяснение связано
с разными представлениями о том, что значит управлять или, по метафоре Плутарха, править судном.
Возможный способ заключается в том, чтобы
плыть с попутными потоками. Определив курс, вы
ставите паруса, ободряете гребцов, учитываете направления ветров и течений, огибаете мели и скалы, делаете допуски на непредвиденные обстоятельства и эффективно расходуете ограниченный
запас энергии. Вы контролируете одни обстоятельства и сообразуетесь с другими. Вы соблюдаете баланс никогда не забывая, что делаете это, чтобы
попасть из того места, где вы находитесь, к намеченной цели. Вы и «лиса», и «еж» одновременно —
даже на воде. Таким был молодой Перикл, стоявший у руля афинского государства: разносторонне
одаренный человек, поставивший себе цель.
Но со временем Перикл начал пытаться контролировать сами потоки: он начал воображать,
что ему должны повиноваться ветра, течения,
гребцы, скалы, народ, его враги и сама судьба.
Он считал, что может строить сложные причинно-следственные связи: если A, то не только Б,
но неизбежно и В, и Г, и Д. Планам, сколь бы сложными они ни были, надлежало реализовываться
в точности. Постаревший Перикл по-прежнему вел
афинский корабль; однако теперь он был «ежом»,
пытающимся согнать в стаю «лис», а это уже другая и куда более трудная задача.
65
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Это противопоставление проясняет то, что все
время старается донести до нас Фукидид: причиной Пелопоннесской войны стал страх, вызванный
ростом могущества Афин. Ведь рост может быть
двояким. Первый происходит постепенно и допускает приспособление к обстоятельствам по мере
того, как они меняются с появлением нового. Умелый земледелец может влиять на этот процесс:
для него рост растения — это то же, что навигация
для кормчих у Плутарха: одновременное управление
несколькими процессами. Но ни один крестьянин
или садовник не станет утверждать, что он может
предвидеть и тем более контролировать все, что будет происходить с его растениями от посадки семян
до сбора урожая.
Другой рост происходит вопреки обстоятельствам. Он задается внутренними факторами и поэтому игнорирует внешние условия. Он сопротивляется культивации, поскольку сам задает свое
направление, темп и цель. Не предвидя никаких
препятствий, он не предполагает компромиссов.
Подобно необузданному хищнику, неистребимому
сорняку или метастазирующему раку, он не видит,
куда идет, пока не оказывается слишком поздно.
Он последовательно поглощает все, что его окружает, а затем и себя самого39.
Сначала Перикл вел свой корабль, сообразуясь с течениями, — это была стратегия убеждения.
Но когда оказалось, что не все поддаются убеждению, он повел его против течения — это была стратегия конфронтации. Он бросал вызов устоявшемуся порядку в обоих случаях: Греции предстояло
измениться. Но терпеливое воздействие убеждением было бы ближе к выращиванию растений
или управлению кораблем, чем та конфронтация,
в которую Перикл вовлек афинян. Речь идет о различии между соблюдением ограничений и отрицанием их существования, которое принципиально для стратегии.
66
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
Может быть, он считал, что у него нет выбора.
Когда убеждение не дало результатов, конфронтация могла показаться ему единственным способом
удержать курс. Но почему его непременно нужно
было удержать? Почему он не мог отклониться,
как позже делал Линкольн, чтобы обойти болота,
пустыни и ущелья? Как и Линкольн, Перикл смотрел в грядущие века. Он даже оставлял для них памятники и отправлял им послания. Но он не оставил после себя функционирующего государства,
и потребовалось больше двух тысячелетий, чтобы
демократия снова стала моделью, привлекательной для многих людей. Такого кормчего нельзя назвать дальновидным — он ведет свой корабль прямо
на скалы. К которым еще долго будут потом пробираться спасатели.
XI
Спартанцы вторглись в Аттику весной 431 года
до н. э., и афиняне, как и предполагала их стратегия, покинули свои имения, укрылись за городскими стенами и вновь смотрели на клубы дыма,
поднимающиеся к небу на горизонте. Их настрой,
однако, был уже не тот, что полвека назад, когда
Фемистокл приказал эвакуировать Афины. Тогда
победа при Саламине пришла быстро. Сейчас же
никакого триумфа не предвиделось. Периклова
надгробная речь прозвучала утешением для города, но мало способствовала укреплению его боевого духа, и в 430 году до н. э. спартанцы вернулись — вместе с союзником, появления которого
никто не мог предвидеть.
Происхождение чумы, поразившей Афины
тем летом, остается тайной, однако нет сомнений
в том, что «островная» стратегия усилила ее действие. Афиняне, хвалился Перикл, открыли свой город миру, но тем самым они отгородили его от его
67
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ближайшего окружения. Длинные стены стали замкнутым сосудом, в котором бактерии со всей империи нашли себе носителей со всей Аттики: космополитизм Афин вдруг обернулся своей неожиданной смертоносной стороной. Фукидид вспоминает,
что гибли даже собаки и стервятники, пожиравшие
незахороненные трупы. Впрочем, сам он каким-то
образом выжил. После того как гибель постигла сначала имения, а потом и сами тела афинян, Перикла начали обвинять «в том, что тот посоветовал им
воевать и что из-за него они и терпят бедствия»40.
Поначалу он отказывался созывать народное
собрание, но затем все же решился предстать перед ним. Его единственная ошибка, настаивал Перикл, заключалась в том, что он недооценил решимость города, ведь «испытания, ниспосланные
богами, следует переносить покорно, как неизбежное, а тяготы войны — мужественно». Беженцы,
пришедшие в город из окрестных мест, должны
благодарить флот, который их защищает, и империю, которая их кормит: «наше морское могущество представляется мне несравненно более ценным [достоянием], чем те частные дома и земли,
утрата которых для вас столь тягостна. Вы не должны огорчаться этими потерями больше, чем утратой какого-нибудь садика или предмета роскоши».
Получалось, что, выражаясь попросту, это достояние требовало установления тирании. Создавать империю, «возможно, было неправильно,
но отказываться от нее теперь — опасно». Сейчас
ее подданные ненавидят своих правителей и, будь
у них выбор, с радостью сменили бы их на других.
Но ненависть подданных — это «общая участь всех,
стремящихся господствовать над другими». Если
неприязнь необходима ради «высшей цели», то она
«длится недолго, а блеск в настоящем и слава в будущем оставляет по себе вечную память»41. Так в поисках спасения Перикл снова обращался к будущим
векам — как будто он и его город могли ждать века.
68
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
XII
Но Перикл умер от чумы в 429 году до н. э., оставив афинян, словно на отточенном им лезвии
ножа, на острие выбора между своеобразием демократии, которую он надеялся сделать универсальной, и обычным зверством, которое до этого
правило миром. В эпоху, избавленную от болезней,
страха, неразумия, амбиций и лжи, последователи
Перикла может быть могли бы удержать эти противоположности в равновесии. Фукидид, однако,
не рассчитывал на это, «пока человеческая природа останется неизменной»42. Завершающая часть
его истории прослеживает движение Афин вниз
от необычайной культуры к заурядной. Лучше всего это видно в двух эпизодах, разделенных промежутком в двенадцать лет; и в том и в другом случае
речь идет о гребцах.
В 428 году до н. э. жители Лесбоса, острова у берегов Малой Азии, расторгли союз с Афинами и обратились за поддержкой к Спарте. Опасаясь, что это
станет дурным примером, афиняне устроили блокаду Митилены, главного порта острова, и послали войско для осады города. Спартанцы обещали
помощь, но — как обычно бывало со спартанцами —
не оказали ее, и следующим летом митиленцы сдались. Полный решимости пресечь любые будущие
измены, Клеон, который теперь был самым влиятельным афинянином, призвал перебить всех мужчин, а женщин и детей продать в рабство: «Ведь если
они восстали по справедливости, то вы не вправе
господствовать над ними». Народное собрание поддержало его, и трирема с соответствующим приказом вышла из порта, взяв курс на Митилену.
Но затем собрание передумало. Афинскую империю, доказывал соперник Клеона Диодот, населяет «свободный народ». Окажись он жертвой угнетения, он, конечно, тоже поднял бы восстание. Кроме
69
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
того, неразумно казнить — даже если это справедливо — тех, кого афинянам выгодно оставить в живых.
Собрание проголосовало еще раз, и Диодот с небольшим отрывом одержал верх. Поэтому была послана вторая трирема с бумагой, отменявшей первый приказ, но чтобы догнать первую, ее гребцам
нужно было грести что есть сил.
Команда первой триремы, пишет Фукидид,
не спешила «передавать свой смертоносный приказ». Команда же второй, получившая задание предотвратить резню, имела все основания торопиться. Они получили особые пайки из вина и ячменных лепешек, ели прямо во время гребли и спали
только когда их сменяли другие. В рекордный срок
переплыв Эгейское море, они достигли Митилены
как раз в тот момент, когда афинские военные читали приказ, доставленный первой триремой, который им надлежало исполнить. К счастью, они еще
не успели выполнить приказ, и резню удалось предотвратить. Митилена, по сдержанному выражению
Фукидида, «находилась на волосок от гибели»43.
В 416 году до н. э. афиняне отправили войско
на Мелос, остров неподалеку от Пелопоннесского
полуострова, который долгое время был спартанской колонией, но в Пелопоннесской войне сохранял нейтралитет. Теперь мелосцам было сказано,
что они должны подчиниться Афинам, и не потому,
что они имели на это право — только равные имели
права, — а потому, что «более сильный требует возможного, а слабый вынужден подчиниться».
Пораженные этой логикой (которая обычно шокирует читателей Фукидида и в наши дни), мелосцы напомнили афинянам о том, что те некогда славились своей справедливостью: если теперь они отказываются от нее, то это будет примером, который
«заставит весь мир задуматься». Афиняне ответили, что готовы пойти на такой риск. Они добавили,
что стремятся подчинить мелосцев ради их же собственного блага.
70
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
Мелосцы: Но как же рабство может быть нам
столь же полезно, как вам владычество?
Афиняне: Потому что вам будет выгоднее стать
подвластными нам, нежели претерпеть жесточайшие бедствия. Наша же выгода в том, чтобы
не нужно было вас уничтожить.
Неужели, спросили мелосцы, нет третьего пути?
Что плохого было бы в сохранении нашего нейтралитета? Афиняне отвечали, что они — хозяева моря
и требуют ото всех островов послушания, а не дружбы. А спартанцы, известные своей медлительностью,
не станут спешить на выручку ни одному из них.
Не желая отрекаться от своей независимости
и надеясь на то, что мир все же живет не по таким
законам, мелосцы отказались подчиниться. Афиняне прислали на остров подкрепление (о помощи спартанцев все еще ничего не было слышно),
и в 415 году до н. э. Мелос сдался. На этот раз афиняне не колебались и никаких трирем наперехват
не посылали. Фукидид пишет, что они «перебили
всех взрослых мужчин и обратили в рабство женщин и детей. Затем они колонизовали остров, отправив туда 500 поселенцев»44.
Дух — не очень осязаемая субстанция, к тому же
Фукидид относился к этому понятию не так серьезно, как Геродот. И все же из его повествования видно, что на действия афинян и в истории с Митиленой, и в истории с Мелосом сильно повлиял дух
Перикла. Молодой Перикл торопил бы гребцов,
летящих через Эгейское море со вторым приказом:
энергия, с которой они исполняли свою гуманную
цель, заключала в себе весь смысл универсальности
демократии. Но постаревший Перикл, боявшийся уступок, мог бы поаплодировать бесчеловечной
мелосской миссии. Как мрачно отмечает Фукидид,
война приводит характер большинства людей в соответствие с их судьбой45. Величайший из афинян
не был исключением.
71
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
XIII
Почему же Перикл боялся уступок? Эта война оказалась его выбором, а не вопросом необходимости.
Спартанцы, даже проголосовав за войну, предлагали варианты урегулирования, ни одним из которых он не воспользовался. Перикл уверил себя,
что не может уступить и мухи (мегарского указа)
без потери слона (авторитета Афин). Но разве с завершением постройки длинных стен четверть века
назад он не готов был бы уступить всю Аттику, кроме Афин и Пирея, если бы война со спартанцами
все-таки началась? Почему же теперь вдруг оказалось, что Мегары стоят такого риска?
Пример, помогающий понять это, мы находим
в американской истории двадцать четыре века
спустя. 12 января 1950 года госсекретарь Дин Ачесон заявил, что отныне Соединенные Штаты намерены обеспечивать при помощи своих военно-морских и военно-воздушных сил «защитный
периметр» в западной части Тихого океана, проходящий по линии Япония — о. Окинава — Филиппины. Казалось, что этим решением, которое всесторонне обсуждалось на самых высоких уровнях
администрации Трумэна, остальная Восточная
Азия уступалась Советскому Союзу, недавно провозглашенной Китайской Народной Республике
и зависевшим от них странам46. В данном случае
длинные стены шли по океану, но их конфигурация означала уступку большей территории, чем мог
когда-либо вообразить Перикл.
И тем не менее, когда 25 июня 1950 года Северная
Корея вторглась в Южную (Ким Ир Сен и Сталин
прочли речь Ачесона), президент Трумэн в течение
дня принял решение направить американские войска под командованием генерала Дугласа Макартура на защиту этой материковой позиции. Успехи
Макартура заставили вступить в Корейскую вой72
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
ну Китай, и она окончилась, зайдя в тупик, только
в 1953 году. В боях за страну, которую их правительство открыто признало не имеющей особого значения пятью месяцами ранее, погибло более тридцати шести тысяч американцев47.
«Островные» стратегии требуют стальных нервов. Вы должны быть в состоянии спокойно наблюдать, как над местностью, которую вы недавно
контролировали, поднимаются клубы дыма, не потеряв при этом самообладания, не пошатнув самообладания союзников и не ободрив противника.
Строительство стен и объявление периметров может быть рациональным выбором, поскольку постановку недостижимых целей при ограниченных
ресурсах вряд ли можно считать разумным делом.
Но стратегия — дело не всегда рациональное.
Отступления, вселяющие в людей доверие и надежду, пишет Клаузевиц в своем трактате «О войне», «бывают очень редко». Чаще выходит так,
что армии и народы не отличают добровольного
отхода от нерешительного отступления — или мудрой предусмотрительности от страха.
Народ будет испытывать чувства сострадания
и досады, видя судьбу, постигшую принесенные
в жертву провинции; армия легко может утратить доверие к своему вождю и даже веру в свои
силы, а непрерывные арьергардные бои во время отступления будут постоянно вновь подтверждать ее опасения. Относительно таких последствий отступления не следует заблуждаться48.
Именно это волновало Перикла в связи с мегарским
указом. В обычное время никто не счел бы его проверкой решимости Афин, но кризисы 432–431 годов
до н. э. полностью изменили ситуацию. Так же смотрел и Трумэн на Южную Корею. Сама по себе она
была ничем. Но когда на нее напала Северная Корея — что можно было сделать только при поддержке Сталина, — она стала всем.
73
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Вот так лидеры сами разрушают стены, которыми сначала пытались отделить свои жизненно
важные интересы от второстепенных. Дело в том,
что стратегические абстракции и эмоции стратегов никогда нельзя отделить друг от друга: можно только нащупать их верный баланс. И их доли
в этом балансе меняются в зависимости от обстоятельств. Пламени эмоций нужно лишь мгновение,
чтобы растопить абстракции, многие годы создаваемые в спокойных размышлениях. А затем могут
наступить целые десятилетия, когда люди не размышляют вовсе.
XIV
Редкий историк стал бы утверждать, что Трумэн
сделал ошибочный выбор в Корее; однако биографы Перикла всегда недоумевали в отношении мегарского указа49. Периклу нужно было объяснить
афинянам, что решается вопрос об авторитете их
государства: без него это не пришло бы им в голову. Трумэну же не нужно было объяснять это американцам и их союзникам. Они это знали.
Это различие важно. Одно дело, когда враг испытывает вашу решимость на глазах у всех: тогда
вы можете решить, как вам действовать, посоветовавшись с другими, и вы обычно понимаете, когда
ваши действия были успешными. Совсем другое —
проверять решимость своей нации, оглядываясь
на собственные страхи: ведь эти страхи могут быть
бесконечными? Что может остановить проекцию
ваших страхов на бесконечно увеличивающиеся экраны? Если безопасность Афин требовала сохранения в силе мегарского указа, то почему было бы
неверным казнить митиленцев? Или истреблять
мелосцев? Или, например, ввязаться в войну на суше
вдали от дома против врага, находящегося в союзе
со спартанским флотом?
74
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
Эскалация последнего упомянутого конфликта началась в конце 420-х годов до н. э., когда Эгеста и Селинунт, два города в западной Сицилии,
вспомнили о своей старой вражде. Сиракузы, крупнейший город на этом острове, поддерживали селинунтян, поэтому эгестяне в 416–415 годах до н. э.
обратились за помощью к афинянам, которые
когда-то туманно пообещали их защищать. Если
Сиракузы останутся безнаказанными, настаивали
эгестяне, то они захватят всю Сицилию, после чего
сицилийцы объединятся со спартанцами и их союзниками и вместе сокрушат империю афинян50.
Этот сценарий напоминал историю с Эпидамном, Керкирой и Коринфом, хотя доводы, которые убеждали тогда, звучали теперь гораздо менее убедительно. Почему Сиракузы — единственная
демократия в Средиземноморье помимо Афин —
стали бы объединяться с авторитарными спартанцами? Но даже если бы это произошло, каким образом Афины смогли бы победить город, по меньшей
мере такой же по размерам, как их собственный,
расположенный на острове, превышавшем по площади Пелопоннес, за тысячу триста километров
от Афин? Здесь не решался вопрос о репутации:
только что устроив резню на Мелосе, находившемся недалеко от Афин, они едва ли могли показаться слабыми, оставив без помощи далеких эгестян.
И если бы Афины спасли этих птенцов, сколько
других тоже потребовали бы помощи?
Афинское народное собрание всегда живее отзывалось на эмоциональные призывы, чем на абстрактные идеи: остужать его страсти приходилось
его лидерам, которых теперь почти не осталось. Оно
отмахнулось от доводов Никия, самого опытного
полководца в городе, протестовавшего против участия Афин в «совершенно чужой» войне, и с восторгом приняло соблазнительные аргументы Алкивиада, который больше славился яркой внешностью
и победами на Олимпийских играх, нежели благора75
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
зумием. Защитники Сицилии, заявил этот павлин, —
это сброд, который легко будет подкупить. Победив
их, Афины получат империю в западном Средиземноморье. И никому не следует пытаться очертить
границы афинских владений: «если мы не будем
властвовать над другими, то нам самим придется
подчиниться чужому господству». Но ведь именно
так защищал Перикл свой мегарский указ.
В отчаянии, зажатый между обаянием Алкивиада и духом Перикла, Никий нарочно завысил свою
оценку стоимости экспедиции, но тем лишь усилил воодушевление афинян. Дело кончилось тем,
что собрание послало его на Сицилию в 415 году
до н. э. с огромной армадой из 164 трирем и транспортных кораблей, 5100 гоплитов, 480 лучников,
700 пращников, 30 всадников — и Алкивиадом
в роли второго командующего, который мягко напоминал всем о том, что «юность и старость друг
без друга бессильны»51.
Но когда афиняне прибыли на место, им не помогли ни юность, ни старость. Никий был вял и часто болел. Алкивиад же был отозван в Афины, чтобы
предстать перед судом за пьянство и разгул, но перешел к спартанцам. Знакомые с трудностями перевозки по морю лошадей, афиняне прислали их
слишком мало, и перевес в коннице был на стороне
противника. Сицилийцы сражались храбро и ничуть не уступали афинянам. Увидев свой шанс, спартанцы против обыкновения действовали быстро
и изобретательно: в союзе с коринфянами они послали на Сицилию флот, который запер и потопил
флот афинян в просторной сиракузской гавани.
В отличие от Ксеркса после Саламина, у афинян теперь не было возможности вернуться домой. Боевой дух и дисциплина войск начали падать; в конце концов афиняне проиграли главную
битву, нечаянно выдав свой пароль врагу. Они исчерпали запасы провианта и стали пить окровавленную воду. Они совершили неслыханное свято76
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
татство, оставив своих мертвых непогребенными
на поле боя. В конечном счете им оставалось только
сдаться; пленные афиняне провели многие месяцы
в сиракузских каменоломнях: под палящим солнцем, без пропитания, среди гниющих трупов. «Все
возможные бедствия, которые приходится терпеть
людям в подобном положении, — сокрушается Фукидид, — не миновали пленников»52.
Стратегия требует такого чувства целого, которое позволяет понять значимость частей. Сицилия показала, что афиняне утратили это чувство.
Туда отправилось больше половины войск империи; вернулись немногие. Между тем, как пишет
современный историк, «спартанцы разбили лагерь
в двадцати километрах от стен Афин, рабы бежали
из Аттики тысячами, а платившие дань союзники
Афин, от Геллеспонта до южных островов Эгейского моря, были на грани мятежа»53. Все эти несоответствия и нестыковки почти необъяснимы, но,
даже оставляя их без объяснения, стоит вспомнить,
что Фукидид говорил о будущем.
XV
Через две тысячи триста восемьдесят два года после
того, как афиняне сдались на Сицилии, 543 000 военнослужащих Соединенных Штатов обеспечивали защиту территории, которую Генри Киссинджер
позже назовет «маленьким полуостровом большого
континента»54. К 1969 году в Индокитае погибало
по двести американцев в неделю: к 1975 году, когда
Южный Вьетнам сдался, было убито 58 213 американцев, пытавшихся его спасти55. В результате
война во Вьетнаме стала четвертой по количеству
потерь из всех войн, в которых участвовали Соединенные Штаты, а также их первой явно проигранной войной; при этом причины их участия в этой
войне поддаются объяснению хуже всего.
77
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
В начале этой войны не было ничего подобного корейскому блицкригу: Северный Вьетнам вел
ее как медленно нарастающую по масштабам партизанскую войну, прибегая к обычным войсковым
операциям только когда американцы отступали.
Она не была и «марионеточной» войной, ведущейся де-факто между более крупными державами. Ее
начало, ведение и завершение определил сам Ханой, в то время как Советский Союз и Китай поддерживали его нерегулярно, а временами даже неохотно56. Больше обеспокоенные в конце 1960-х годов возможностью взаимной войны, обе эти страны
вскоре стали искать согласия с Вашингтоном57.
Между тем в мире в то время происходило очень
многое. В 1969 году Советский Союз обогнал Соединенные Штаты по размерам арсенала стратегических ракет. В 1968 году он подавил Пражскую весну — на тот момент самую перспективную попытку
реформировать марксизм-ленинизм изнутри.
В 1967 году Израиль радикально изменил ситуацию
на Ближнем Востоке, нанеся военное поражение
своим арабским соседям и оккупировав Западный
берег. В 1966 году Франция вывела свои вооруженные силы из НАТО, были установлены дипломатические отношения между Восточной и Западной
Германией, а в Китае началась Великая культурная
революция. В 1965 году расовые волнения и антивоенные протесты в Соединенных Штатах достигли масштабов, невиданных со времен гражданской
войны. А самопровозглашенному советскому сателлиту, расположенному в полутораста километрах
от побережья Флориды, удалось уцелеть в течение
всех 1960-х годов, несмотря на то что в какой-то момент на нем были размещены ракеты с ядерными
боеголовками, способные начать, а может быть и закончить Третью мировую войну.
Почему же американцы так много вложили
в войну во Вьетнаме, если по сравнению с другими их интересами того времени там было так мало
78
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
поставлено на карту? Ответ на этот вопрос дают,
как мне кажется, Фукидидовы «сходства». Мегары
могут показаться пустяком, сказал Перикл афинянам в 432 году до н. э., но если они уступят в этом
незначительном вопросе, от них «тотчас же потребуют новых, еще больших уступок». «Без Соединенных Штатов, — предупреждал Джон Кеннеди
аудиторию в Техасе утром 22 ноября 1963 года, —
Южный Вьетнам пал бы за одну ночь», а остальные
альянсы США по всему миру были столь же уязвимы. Нет иного выбора, настаивал Перикл, кроме
как «всеми силами противостоять врагам». Ведь,
как добавил Кеннеди, «мы по-прежнему замковый
камень в арке свободы»58.
Сколь бы ни была велика дистанция во времени
и пространстве между подобными утверждениями,
они становятся весьма сомнительными при изменении масштаба. Ведь если сила и авторитет постоянно подвергаются сомнению, то либо возможности должны стать бесконечными, либо запугивание
должно стать регулярно применяемым методом.
Ни то ни другое нельзя осуществлять на постоянной основе: поэтому, собственно, и существуют
стены. Они отделяют важное от неважного. Когда
люди рушат созданные ими стены собственными
неточными решениями — как случилось с Периклом и Кеннеди, когда они отвергли возможность
хоть в чем-то уступить, — страхи становятся видениями, видения — проекциями, а проекции ширятся, расплываются и теряют очертания.
XVI
Вскоре после падения Сайгона каждый офицер,
направленный на обучение в Военно-морской
колледж США в 1975–1976 учебном году, получил
по почте загадочную посылку. Внутри была толстая
книжка в мягкой обложке и распоряжение прочесть
79
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ее — от начала до конца — до прибытия в Ньюпорт.
Большинство офицеров служили во Вьетнаме, некоторые по нескольку раз. Каждый знал кого-то,
кто был там убит или ранен. Никто не хотел говорить об этом, а исторических работ на эту тему тогда было еще мало. Но теперь у нас был Фукидид,
и этого было достаточно.
Хотя я был моложе, чем все мои «студенты»,
и не имел боевого опыта, меня привлек для совместного преподавания курса стратегии и политики адмирал Стенсфилд Тернер, который не придавал особого значения послужному списку, зато
был твердо убежден в значимости классики для современности59. Он твердо решил, что Вьетнам будет в нашей программе (в конце концов, это был военный колледж, а он был его президентом), — даже
если мы придем к нему обходным путем длиной
в 2500 лет. Так я начал обсуждать на своем семинаре труд древнего грека, которого я знал раньше
только как суровую статую.
Скоро мы начали рассуждать, в духе Фукидида,
о сходствах, сначала в общих чертах — стены, армии, военный флот, идеологии, империи, — а затем
более конкретно и применительно к стратегии: кто
лучше соразмерял цели с возможностями, афиняне
или спартанцы? Потом об аналогиях: говорит ли
это нам что-либо о холодной войне? Потом о демократиях: нанесла ли афинская демократия поражение самой себе? А потом: о чем вообще думали
афиняне, посылая армию не куда-нибудь, а на Сицилию? На этом пункте воцарялось молчание, после
чего все преграды рушились. Обсуждение Вьетнама не только допускалось: мы целые недели говорили только об этом. Мы занимались терапией посттравматического стрессового расстройства до того,
еще до того, как этот синдром получил это название. Нас научил Фукидид.
Несколько десятилетий я не мог понять, почему
это работает. Ответ наконец пришел: это случилось
80
ДЛИННЫЕ СТЕНЫ
осенью 2008 года на семинаре для первокурсников
Йельского университета. Эти студенты годились
во внуки тем офицерам, которых я знал в Ньюпорте. Ни у одного из них не было никакого военного опыта. Зато они знали Толстого, поскольку, следуя методу адмирала Тернера, я велел им прочесть
«Войну и мир» от корки до корки. Они не только
это сделали, но и начали приводить места из книги
даже в те дни, на которые я ее не задавал. Однажды
я спросил их, какое отношение, по их мнению, имеют князь Андрей, Наташа и увалень Пьер к их собственной жизни, столь непохожей на жизнь героев
книги? На мгновение (точно как в Ньюпорте) воцарилось молчание. А затем трое студентов одновременно сказали: «С ними не так одиноко».
Фукидид быть может, выразился бы иначе,
но мне кажется, он имел в виду именно это, призывая своих читателей «исследовать достоверность
прошлых и возможность будущих событий (могущих когда-нибудь повториться по свойству человеческой природы в том же или сходном виде)». Ведь
без какого-то понимания прошлого будущее может
быть лишь одиночеством: амнезия — это недуг, изолирующий людей друг от друга. Но и знание прошлого в статичной форме — как моментов, застывших во времени и пространстве, — было бы для нас
почти таким же калечащим: мы рождаемся благодаря движениям сквозь время и пространство, переходя от малых масштабов к большим и обратно.
Мы знаем о них из повествований — исторических,
художественных или художественно-исторических.
Так что Фукидид и Толстой гораздо ближе к нам,
чем кажется, и нам очень повезло, что мы можем
посещать их семинары, когда захотим.
ГЛАВА 3
Учителя и привязки
Д
А Л Е К О от мостов через Геллеспонт и афинских длинных стен, на другом конце света
древние китайцы, ничего не зная о Ксерксе
и Перикле, писали руководство о том, как соразмерять устремления с возможностями. За именем
Сунь-цзы мог стоять один или несколько людей,
а трактат «Искусство войны» мог составляться
на протяжении нескольких столетий: в этом смысле он ближе к Гомеру, чем к Геродоту или Фукидиду. Но греческие эпопеи и истории доносят до нас
картины конкретных событий и людей. Уроки должны извлекать уже мы сами.
С Сунь-цзы все ровно наоборот: утверждаются
четыре принципа, избранные за их действенность
на протяжении времени и пространства, а затем
они соединяются с практикой, привязанной к времени и пространству. «Искусство войны» поэтому —
не история и не биография. Это свод наставлений,
процедур, а также категорических утверждений:
«Полководец, который будет действовать на основании этих расчетов, непременно добьется победы;
такого следует оставить на службе. А полководец,
который будет действовать, не принимая во внимание этих расчетов, непременно потерпит поражение; такого нельзя держать на службе».
Весьма недвусмысленно, но какова стратегия?
«Форма войска — все равно что вода: действие воды
заключается в том, чтобы избегать высоты и стремиться вниз, — говорит нам мастер Сунь. — Приро82
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
да деревьев и камней такова, что на ровном месте
они лежат покойно, а на круче приходят в движение; когда имеют прямоугольную форму, они лежат
на месте; когда же форма их круглая, они катятся». И совсем кратко: «если он выставляет приманку, не проглатывай ее». Точно так же Сунь-цзы
вместе с шекспировским Полонием мог бы нам посоветовать: «Смотри / Не занимай и не ссужай».
Или так, в духе наставлений для новичков в маркетинге: «Покупай дешево, продавай дорого».
Вот только история изобилует примерами заемщиков и кредиторов, которые дорого купили и дешево продали. У них практика разошлась
с принципами. Они не смогли устоять перед предложенными приманками. На самом деле внешне
банальные рассуждения в «Искусстве войны» — это
нити, не дающие практике слишком далеко убегать от принципов. «Диспозиция войска подобна
воде», — продолжает учить Сунь-цзы. Если напасть
там, где враг меньше всего этого ожидает — «установив слабое место противника, оно [войско] наносит туда удар, и его натиск невозможно сдержать».
Бревна и камни иллюстрируют принцип рычага:
«[Н]ужно сделать совсем немного, чтобы многого достичь». И о приманках: «Рыба, проглотившая приманку, попадается на удочку; войско, проглотившее приманку, оказывается побежденным»1.
Наставления Полония совершенно отрываются
от земли — вот почему Гамлет его высмеивает:
Гамлет: Видите вы вон то облако в форме верблюда?
Полоний: Ей-богу, вижу, и действительно,
ни дать на взять верблюд.
Гамлет: По-моему, оно смахивает на хорька.
Полоний: Правильно: спинка хорьковая.
Гамлет: Или как у кита.
Полоний: Совершенно как у кита2.
83
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Сунь-цзы бы это совершенно не устроило. Он выманивает молнию во время грозы при помощи воздушного змея, шнура и ключа. Он заземляет каждое
свое наставление каким-то ярким и живым примером. Он привязывает очевидное к далеко не столь
очевидному: как государство может избегать поражений и выигрывать войны.
«Строй расчеты так, чтобы извлечь имеющуюся
выгоду», — наставляет учитель Сунь. Полководцам
следует «держать под контролем соотношение сил
сообразно с доступной выгодой». Эта тавтология
сама по себе служит привязкой, поскольку «имеющаяся выгода», о которой он пишет, заключена в обстановке с «доступной выгодой», когда можно применить принцип рычага. Мудрый лидер ищет именно их. Он поплывет по ветру, а не против ветра. Он
обойдет болото, а не отправится напрямик. Он избегает сражения, пока не уверен в победе. Он стремится воспользоваться тем, что в жизни (в отличие
от игры) не бывает равных возможностей. Он понимает, что не стоит, как выражались мои студенты
из Военно-морского колледжа, «ссать против ветра».
«Война — великое дело государства, — предупреждает Сунь-цзы, — нельзя начинать ее необдуманно».
Ксеркс и Алкивиад не размышляли. Артабан и Никий
размышляли слишком долго. Учитель Сунь размышляет, но затем действует, применяя максимальный
рычаг в точке минимального сопротивления. Успех
приходит так быстро, как только возможно при минимальных затратах ресурсов и жизней. «Знай противника и знай себя — победа придет сама, — наставляет «Искусство войны». — Знай, где Небо, и знай,
где Земля, — победам тогда не будет конца»3.
Но не потребуется ли для этого познать все, чтобы сделать хоть что-то? У Артабана не нашлось ответа на этот вопрос Ксеркса, зато он есть у Суньцзы: он показывает нам, что там, где есть сложность,
есть и простота, и простота может провести нас через сложность.
84
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
Музыкальных тонов не более пяти, но все изменения пяти тонов расслышать невозможно.
Цветов не более пяти, но все изменения пяти
цветов разглядеть невозможно. Вкусов не более
пяти, но все изменения пяти вкусов распознать
невозможно. Боевых конфигураций существует не более двух видов — необычная и регулярная, — но все превращения регулярных и необычных ситуаций сосчитать невозможно. Действия
регулярные и необычные порождают друг друга,
и это подобно круговороту, у которого нет конца.
Разве может кто-нибудь это исчерпать?4
Никто не может предвидеть все, что может произойти. Однако получить представление о возможных
событиях лучше, чем не иметь о них никакого понятия. Сунь-цзы стремится дать такое понятие (и даже
основанное на здравом смысле) в соединении принципов, которых очень немного, — с самими разными действиями. Он соединяет их в зависимости от ситуации, как будто регулируя уровни звука
на синтезаторе или соотношение цветов на мониторе. Он оставляет достаточно возможностей, чтобы
остались довольны «лисы», сохраняя при этом целеустремленность «ежа». Он удерживает в уме противоположные идеи благодаря тому, что разворачивает их во времени, в пространстве и в масштабе.
Таким образом, по мысли автора «Искусства войны», руководить — значит видеть простое в сложном. Некоторые явления столь же легко воспринять, как и пять основных звуков, цветов и вкусов,
упоминаемых Сунь-цзы: так мы узнаем их природу. Но когда простые элементы соединяются,
мы получаем бесконечное количество сложных.
Как бы тщательно мы ни готовились, они не перестают нас удивлять. Но если связать их с принципами, они не должны парализовывать нас. Как же
научиться устанавливать эти привязки? Мне кажется, этому нужно учиться у великих учителей, ведь
это именно то, чего они от нас хотят.
85
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
I
Для человека с таким множеством имен — Гай Октавий Фурин, Гай Юлий Цезарь Октавиан, Император Цезарь, Сын Божий (Imperator Caesar Divi
Filius), Император Цезарь Август, Сын Бога (Imperator Caesar Augustus Divi Filius), Император Цезарь
Август, Сын Бога, Отец Отечества (Imperator Caesar
Augustus Divi Filius Pater Patriae), начал он с относительно малого. Он родился в 63 году до н. э. в семье
уважаемого, но ничем не примечательного римского сенатора. К своему двадцатилетию он был
членом правящего триумвирата. В тридцать два
стал самым могущественным человеком «западного» мира. В семьдесят шесть мирно скончался в постели, которую выбрал сам — невероятное достижение для императора той эпохи, тем более что сам
он никогда не пользовался этим титулом. Еще задолго до его смерти ходили слухи о чудесных знамениях, предшествовавших его рождению: и даже
о необычном, если не непорочном, зачатии (что-то
такое о змее). На самом же деле — за исключением
того, что он вовремя обрел учителя, — юноша в основном добился всего сам5.
Ахилл и другие герои греческого эпоса получали наставления от кентавра Хирона; у римлян эту
роль весьма успешно выполнял Юлий Цезарь. Своими завоеваниями он за два десятилетия удвоил
размеры их «республиканской» империи6. Прошло
уже две тысячи лет, а его исторические записки
находят своих читателей и почитателей. Перейдя Рубикон (тот, настоящий) в 49 г. до н. э., он стал
верховным правителем Рима и был полон решимости восстановить в стране порядок после полувека гражданских войн. Но у Цезаря, которому тогда было за пятьдесят, оставалось мало времени,
чтобы, как выразился Плутарх, «будущими подвигами превзойти совершенные ранее». Он слишком
86
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
спешил, и поэтому 15 марта 44 г. до н. э. стал жертвой самого знаменитого политического убийства.
Таким образом, жизнь и смерть Цезаря стали образцом для подражания. Он учил тому, что следует, а также тому, чего не следует делать7.
Живых законных детей у Цезаря не было, но был
многообещающий внучатый племянник Октавиан,
которого он наделил статусом, по римским понятиям соответствующим стажеру. Октавиан должен был
как тень следовать за Цезарем в Риме, а затем и в испанской военной кампании, оказавшейся для Цезаря последней. Молодой человек хорошо справлялся
со своей ролью приближенного: постоянно наблюдал, никогда не заносился, нарабатывал опыт и воспитывал в себе выносливость и стойкость (он всегда
отличался слабым здоровьем) для любой следующей
задачи, которую мог поручить ему Цезарь. Октавиан проводил учения в Македонии, готовясь к нападению на парфян, когда до него дошла весть двухнедельной давности об убийстве в Риме. Ему было всего восемнадцать. «Поговорим позже, — изображает
романист Джон Уильямс сцену, где Октавиан сообщает новость своим помрачневшим друзьям. — Сейчас мне нужно подумать, что это будет значить»8.
Первым его решением было вернуться в Рим,
не зная, кто там сейчас распоряжается и как его
примут. Ставки взлетели до небес, когда после высадки под Брундизием он узнал, что Цезарь оставил завещание, в котором назвал его своим наследником и сыном. В столицу он вступил уже как Гай
Юлий Цезарь Октавиан9, а легионы, перед которыми он предстал, из уважения к своему убитому полководцу приняли его новый статус всерьез. Октавиан мог бы упустить все эти возможности, если бы
оказался пустышкой. Но он уже тогда понимал
разницу между получением титула по наследству
и освоением искусства управления людьми. Первый может упасть в руки мгновенно; совершенствование второго — занять целую жизнь.
87
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Октавиан никогда не объяснял, как он этому учился, но имея редкую возможность наблюдать вблизи
величайшего из полководцев, на его месте совсем ничему не научился бы только законченный тупица.
В трактате Сунь-цзы, который был переведен на европейские языки только через восемнадцать столетий, говорится о том, что именно он мог усвоить:
Мудрость — это умение повелевать в любой обстановке и знание постоянства в переменах. Доверие — это когда наказания и награды не вызывают сомнений. Человечность — это любовь
к людям и бережное отношение к другим. Отвага — это умение воспользоваться обстоятельствами для того, чтобы одержать решительную победу. Строгость — это неукоснительное исполнение
приказов и наказаний в войсках10.
Цезарь же, по всей видимости, никогда не объяснял Октавиану, зачем его учат11. Это уберегло его
от тревог, связанных с преждевременным знанием
о том, что он станет сыном, наследником и командующим. Римский Хирон воспитал ученика, который не чувствовал, что его воспитывают. Это ограничение дало ему и знания, и свободу12.
II
И то и другое было необходимо Октавиану, если
он собирался не просто принимать почести легионов двоюродного деда. Его собственный отчим полагал, что принимать наследство или титул Цезаря слишком опасно. Цицерон, знаменитый оратор
и друг семьи, считал, что Октавиан не заслуживает
ни того ни другого. Даже Марк Антоний, который
сделал пребывание в Риме убийц Цезаря весьма неуютным, пытался сделать то же самое для «мальчишки», взявшего себе имя Цезаря. Будучи консулом, Антоний отказался выплачивать деньги,
88
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
завещанные Цезарем гражданам города, и заставил
Октавиана, явившегося к нему заявить свой (тщетный) протест, дожидаться в приемной.
Тогда Октавиан с большим эффектом применил
ограниченные средства. Октавиан раздал римлянам
свое собственное имущество, а когда этого оказалось
недостаточно, взял денег в долг. Этот риск оправдал себя: Антоний теперь выглядел дешево. Более
простой задачей оказалось привлечь на свою сторону Цицерона, известного своим непостоянством.
Он был падок на лесть, и Октавиан на нее не скупился, хотя Цицерон одобрил убийство Цезаря. Дело
в том, что Цицерон одновременно ненавидел Антония, и его атака против консула (он выступил против него в сенате с четырнадцатью обличительными
речами — филиппиками), предпринятая в таких эпических масштабах, в каких это никогда не смог бы
сделать сам Октавиан, была на руку последнему. Летом 44 года до н. э. его главной заботой стала организация похоронных игр в честь Цезаря, во время
которых в небе неожиданно появилась комета. Октавиан, проявив необычайную ловкость, сумел убедить римлян, что это не дурное знамение, а душа
его двоюродного деда, воспаряющая к бессмертию13.
Но для того, чтобы обезопасить себя на долгую
перспективу, одной ловкостью было не обойтись:
Октавиану нужно было сохранить верность солдат
Цезаря, а его военный опыт был пока очень ограниченным. Антоний, хоть и не был Цезарем, был
очень опытным полководцем. Ему не хватало других качеств, которыми владел Октавиан: умения
действовать с упреждением, продумывать последовательность ходов и использовать их результаты14. Воспользовавшись своими македонскими связями, Октавиан завладел деньгами, которые Цезарь
держал в запасе для нападения на парфян (теперь
уже отмененного). Затем он отправил своих людей в Брундизий, поручив им выдавать денежные
премии высаживавшимся там войскам. Антоний,
89
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
которого эта ситуация застала врасплох, бросился туда же и, не имея возможности проявить такую же щедрость, пришел в ярость, отдав приказ
о децимациях: казни каждого десятого в нескольких воинских подразделениях. Этими кровавыми
мерами дисциплина была восстановлена, но обида
македонских легионов на Антония оказалась столь
сильной, что они при первой возможности перешли на сторону того, кого начинали считать новым
Цезарем уже не только по имени15.
Октавиан был моложе Антония более чем вдвое,
но гораздо лучше разбирался в людях. Он сделал
самого себя фоном, оттенявшим все недостатки Антония: его огромные долги, беспорядочные половые связи, открытое пьянство, буйство и вспыльчивость16. Наследник Цезаря вовсе не был скромником
и тоже мог вспылить при случае, но он чувствовал,
что должен держать себя в руках, чего никак нельзя было сказать об Антонии. Кроме того, Антоний
и сам не всегда понимал, чего хочет. Он знал о заговоре против Цезаря, но не участвовал в нем. Он надеялся стать правителем Рима, но не имел ясного представления о том, как именно будет править
страной, если она ему достанется. Он позволил
инерции и порокам заслонить свои цели. Октавиан же, как только он узнал из завещания Цезаря
о своем положении, сосредоточил все силы на том,
чтобы отомстить за смерть «отца», завершить восстановление нормальной жизни в Риме и сделать
все, чтобы не кончить жизнь окровавленным трупом на полу в зале сената17.
III
Для этого нужна была трезвая самооценка: качество, которым не вполне владел и сам Цезарь (отсюда — окровавленный труп) и которое с немалым
трудом воспитал в себе Октавиан. Вскоре после сво90
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
его возвращения из Македонии Октавиан ошибочно
принял энтузиазм ветеранов Цезаря за наказ идти
на Рим, как когда-то поступил великий полководец.
Но Октавиан пока не видел перед собой своего Рубикона: его войска отказались воевать с Антонием,
а римляне не были готовы приветствовать диктатора-юнца. Это фиаско стало для Октавиана большим
унижением. С этого момента он старался соизмерять
свои порывы с тем, что действительно умел делать.
Октавиан знал с самого детства, что легко заболевает. Однако он не знал (и узнал об этом чуть ли
не слишком поздно), что нечто подобное может
происходить с ним и перед сражениями18. Было ли
это недомогание физическим или психическим,
но оно выглядело как трусость. Октавиан впервые
обнаружил эту свою особенность в первом сражении, в котором он принял участие: битве под Мутиной в Северной Италии в апреле 43 г. до н. э. Он объединил свою армию с войсками, верными Цицерону
и сенату, чтобы выступить против Антония, который все еще оставался грозным противником. Новые римские консулы Гирций и Панса храбро повели в бой свои легионы и погибли от ран, как и многие солдаты собственной армии Октавиана. Его же
самого в первый день битвы нигде не было видно.
Почему — никто не знает точно и по сей день.
Октавиан, однако, быстро осознал, что так у него
ничего не получится. Уже на следующий день
он овладел собой, сплотил вокруг себя войско, прорвался через позиции неприятеля, захватил тело
Гирция вместе с потерянным штандартом и заставил
Антония отступить. Один консул погиб, другой находился при смерти, но противник бежал, и Октавиан одной лишь силой воли добился победы, достойной самого Цезаря. Он, однако, не устремился обратно в Рим, чтобы праздновать свой триумф. Он ждал,
пока не убедился в том, что легионы погибших консулов на его стороне, и пока Антоний, который тем временем уже ушел в Галлию, не перегруппировал свои
91
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
силы. И только после этого, имея под началом армию, которая признавала его командующим, и имея
поддержку другой, более отдаленной армии, которой Цицерон и другие сенаторы имели все основания опасаться, Октавиан перешел свой собственный
Рубикон. Только тогда Октавиан потребовал назначения на консульскую должность, дававшую самую
большую власть в Риме. Ему еще не было двадцати19.
Уже находясь в сильной позиции, Октавиан продолжал беспокоиться о ее слабых сторонах. Править Римом еще не значило контролировать его
империю. Антонию, несмотря на его поражение
при Мутине, никто не угрожал в Галлии. Убийцы Цезаря Кассий и Марк Брут набирали армии
в Сирии и Македонии. Секст Помпей, сын старого противника Цезаря Помпея, захватил Сицилию.
Сам римский сенат, в котором вызрел заговор против Цезаря, без пристального надзора был способен на что угодно. Таким образом, трезвая оценка собственной позиции подсказывала Октавиану,
уже одержавшему победу, что ему нужна помощь —
даже если ее придется просить у тех, кто вызывает
его крайнюю неприязнь. Как выразился один из его
биографов, «устранить соперника значило устранить потенциального союзника»20.
IV
Сначала он обратился к Антонию. Их встреча состоялась осенью 43 г. до н. э. на речном острове
близ Мутины. Октавиан со своими легионами совершил марш на север из Рима, а Антоний со своими — на юг из Галлии, взяв с собой покладистого
Лепида, бывшего консула21. Численно войска Антония и Лепида превосходили войска Октавиана,
но тот потребовал обращаться с собой как с равным. Вот как случилось, что под настороженными взглядами своих воинов, стоявших на обоих бе92
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
регах, три полководца — один из которых только
что вышел из подросткового возраста — поделили
большую часть известного им мира22.
Этот раздел, на первый взгляд, был невыгодным
для Октавиана. Антоний получил лучшие части Галлии, Лепид взял себе Испанию и дороги, ведущие
к ней из Италии, а Октавиану пришлось довольствоваться Сардинией, Сицилией и побережьем Африки, где ему предстояло воевать с Секстом Помпеем.
Кроме того, Октавиан сложил с себя обязанности
консула и согласился на то, что Римом будет править
триумвират. На этом этапе, однако, статус значил
для него больше, чем реальные преимущества. Будучи слабее, он предпочел стать одним из трех: единоличное правление, для которого необходимо было
превосходство в силах, могло и подождать. Меж тем
у всех к тому времени накопились старые счеты.
Во время встречи на острове Антоний, Лепид
и Октавиан передали друг другу имена видных
римлян, которых следовало казнить, конфисковав их имущество и выслав их семьи. Самым известным человеком в этой проскрипции был Цицерон, который всегда слишком много говорил.
Хотя он всегда хорошо чувствовал, куда дует ветер,
он вызвал слишком большую ярость Антония своими филиппиками. Триумвир велел не просто казнить оратора, а прибить его голову вместе с рукой,
писавшей речи, к рострам на римском форуме23.
Маловероятно, что такое представление распорядился бы устроить Октавиан, но столь же маловероятно, что он пытался ему воспрепятствовать. На публике Цицерон всячески превозносил
его как многообещающего юношу, но в частных разговорах не мог удержаться от намеков в том смысле, что при необходимости от услуг такого неопытного правителя всегда можно будет отказаться.
Молва донесла эти речи до Октавиана, который
отметил их для себя на будущее24. Теперь, когда Антоний стал его союзником, он больше не нуждался
93
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ни в филиппиках Цицерона, ни в его одобрении,
ни в его бестактных намеках. Иными словами, Октавиан более не нуждался в Цицероне.
Следующей задачей триумвирата было объявить
вне закона Брута и Кассия, но для этого нужно было
разбить их армии. Эта битва произошла осенью 42 г.
до н. э. под Филиппами (название звучит странным
эхом цицероновских «филиппик») во Фракии25. Антоний был военным главой триумвирата, а Лепид
остался править Римом. Октавиан высадился со своими легионами в Македонии, но сразу заболел и был
доставлен к месту сражения на носилках. Антоний,
находясь в невыгодной позиции, неожиданно напал
на противника, защищенного укреплениями, и разгромил сначала Кассия, а затем Брута, вынудив обоих к самоубийству. Единственный из триумвиров,
умевший воевать, одержал полную победу.
В злобе на самого себя, Октавиан начал вымещать эту злобу на других. Он принялся унижать
и даже казнить пленных. После того как Антоний не позволил осквернять тело Брута, Октавиан,
по некоторым свидетельствам, надругался над ним,
отправив его голову в Рим и приказав водрузить
ее перед статуей своего двоюродного деда — к счастью, она утонула в пути во время кораблекрушения. Сам Октавиан, вернувшись в Рим, застал граждан в страхе и напряженном ожидании: никто
не знал, что он станет делать дальше. Хотя он уже
вышел из возраста незрелости, Октавиан вел себя
как инфантильный тиран26.
V
И все же, благодаря отчасти стихийному проявлению решимости, отчасти полученной помощи,
а отчасти более трезвым и рассчитанным проявлениям жестокости, Октавиан вновь сумел овладеть собой. После сражения под Филиппами Ан94
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
тоний остался на востоке. Формальной причиной
для этого было его намерение возобновить планировавшуюся Цезарем войну с парфянами, но он,
по-видимому, также надеялся уклониться от участия в раздаче земель в Италии солдатам, в службе
которых больше не было необходимости. Эта задача досталась Октавиану, и выполнить ее, не обозлив землевладельцев или не разочаровав ветеранов, казалось просто невозможным. Между тем
Секст Помпей, укрепившись на Сицилии, понемногу перекрывал каналы поставки средиземноморского зерна в Рим.
Переломный момент наступил в один из дней
41 года до н. э., когда Октавиан опоздал на встречу
с недавно уволенными в отставку солдатами. Разъяренные тем, что их заставляют ждать, они убили
центуриона, старавшегося призвать их к порядку.
Октавиан прибыл, увидел тело, попросил солдат
впредь вести себя лучше и приступил к распределению наделов. Увидев, что он остался невозмутим,
бывшие солдаты настолько устыдились, что сами
потребовали наказания убийц. Октавиан согласился, но только при условии, что преступники признают свою вину и что ветераны одобрят их приговоры. Так, проявив в опасной ситуации мужество
и самообладание — качества, которые не были очевидны в нем после Филипп, — он начал восстанавливать свою репутацию27.
Видя это, жена Антония Фульвия и его брат Луций попытались сместить Октавиана, пока он не обрел слишком мощную поддержку. Луций захватил
укрепленный город Перузию в Центральной Италии, а Фульвия наняла войско в Риме и его окрестностях. Антоний, который все еще находился на востоке, знал о том, что происходит, но был слишком
занят: во-первых, он объявил себя новым Дионисом
и начал носить подобающее одеяние, во-вторых,
он влюбился в египетскую царицу Клеопатру, у которой прежде был продолжительный роман с Цеза95
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
рем. Антоний заявлял, что это необходимо, чтобы
добыть средства на войну с парфянами и обеспечить снабжение Рима продовольствием: в Египте не было недостатка ни в золоте, ни в зерне28.
Так он дал Октавиану шанс.
Уже зная теперь, что командование войсками
не относится к его сильным сторонам, Октавиан
поручил осаду Перузии Квинту Сальвидиену Руфу
и Марку Випсанию Агриппе, двум своим друзьям,
которые были с ним в Македонии во время убийства Цезаря. Они быстро вынудили Луция сдаться,
а войско Фульвии рассыпалось само собой. На этот
раз Октавиану хватило здравого смысла уступить
свои полномочия, не пытаясь применять их там,
где он не был уверен в своих способностях29.
Но там, где дело касалось устрашения, он в них
не сомневался. Полный решимости впредь предотвратить любые бунты, Октавиан переправил
в Рим триста пленных в ранге сенаторов, осудил их
на смерть и приказал принести их в жертву на месте кремации Цезаря. В Риме такие расправы уже
давно были осуждены и прекращены, но Октавиан
нарушил правила. Во-первых, ему нужно было послать всем ясный сигнал, что он более не потерпит
никакой оппозиции в городе. Во-вторых, пролив
кровь в самом сердце Рима, он мог наконец сказать,
что отомстил за убийство Юлия Цезаря30.
VI
Теперь империя представляла собой дуополию (Октавиан и Антоний вытеснили Лепида в Африку),
но две ее половины управлялись по-разному. Октавиан, находясь в Риме, продолжал осваивать искусство применения уже обретенной власти. Антоний,
все еще остававшийся на востоке и более сильный
из двух правителей после битвы при Филиппах,
постепенно забывал то, что умел. Они по-прежне96
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
му питали взаимную неприязнь и нисколько не доверяли друг другу. Но у одного из них была цель,
и он действовал сообразно этой цели. Действия второго, когда они вообще случались, были скорее реакцией на действия первого. Это уже было мало похоже на соперничество.
Тенденция наметилась после Перузии. Сначала
Октавиан восстановил свою репутацию в Риме, искусно пройдя опасные рифы при перераспределении земель. Затем он добился победы в сражении,
доверив командование войсками тем, кто умел делать это лучше него. Наконец, он обезопасил свою
власть от будущих мятежей, публично казнив главных мятежников, и этот акт насилия был настолько точным в выборе жертв и ясным в своих целях,
что помог предотвратить новое насилие. Октавиан
мыслил наперед и стремился влиять на будущие события конкретными решениями.
Этого нельзя было сказать об Антонии. При
последнем разделе империи ему досталась вся Галлия, но сейчас он был в Греции, готовясь выступить против парфян, то есть в противоположном
направлении. Именно в этот момент внезапно умер
его наместник в Галлии. Поскольку Галлия намного
ближе к Риму, чем Греция, Октавиан молниеносно
прибыл туда и принял на себя командование одиннадцатью легионами. Это был прямой вызов Антонию, который отложил поход на парфян, приказал
своим войскам вернуться в Италию и вместе с Секстом Помпеем начал наступление на суше и на море,
рассчитывая полностью покончить с Октавианом.
Однако у Антония оказалось слишком много кораблей и слишком мало войск, потому что Октавиану удалось также захватить Брундизий. Еще до начала любых военных действий Октавиана вновь
одолела его болезнь, и этого промедления оказалось достаточно для того, чтобы между войсками
начались братания и они потребовали от своих командующих заключить мир. Но к этому времени
97
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
та решимость, которая заставила Антония пересечь Адриатику, уже оставила его: он бросил Секста на произвол судьбы, признал власть Октавиана в Галлии и вновь обратился мыслями к войне
с парфянами. Однако сначала он обезопасил себя
(во всяком случае, так ему казалось) новым пактом.
Поскольку Фульвия, жена Антония, умерла вскоре
после устроенного ею неудачного государственного
переворота, он женился на Октавии, любимой сестре этого «мальчишки, не имеющего ничего, кроме имени»31.
Октавиан никак не мог бы спланировать все это
заранее32. Он не мог предвидеть, что разъяренные
ветераны убьют центуриона, что Фульвия и Луций
поднимут мятеж без помощи Антония, что умрет
наместник Антония в Галлии, что Антоний ошибется в своих логистических расчетах, что его войско
и солдаты Октавиана откажутся воевать друг с другом или что Антоний сменит курс и женится на его
сестре. В отличие от Перикла, Октавиан никогда
не пытался видеть причинно-следственные связи
в случайных событиях33.
Он просто использовал свои шансы, не теряя
из виду своих целей. Там, где Антоний спотыкался,
он видел возможности для новых шагов. Октавиан
держался направления, указываемого его компасом, обходя болота; Антоний же, как иногда казалось, сам искал свои болота, увязал в них, а потом
ему просто все надоедало. Он был, как заключает
Плутарх, полон «глупого самомнения и непомерного честолюбия»34.
VII
Что едва ли можно было сказать о Сексте Помпее,
самом грозном из всех противников, с которыми
приходилось иметь дело Октавиану. Самым большим достижением его отца, Помпея, было уни98
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
чтожение пиратства по всему Средиземноморью,
но Секст усматривал в нем политические возможности и, находясь на Сицилии, мог возродить его,
когда ему было угодно. Это ставило под угрозу Рим,
поскольку сам город и его окрестности сильно зависели от импорта продовольствия, главным образом из Египта. Секст крепко держал римлян за горло, воздействуя на их желудок.
Секст воспринял примирение Антония с Октавианом как личную обиду и к концу 40 г. до н. э.
установил блокаду Италии. В Риме вспыхнул голодный бунт, и Октавиан, помня, как ему однажды
удалось утихомирить разъяренных ветеранов, снова попытался успокоить бунтовщиков одной лишь
силой своего взгляда. Но на этот раз его забросали камнями и могли бы убить, если бы его не спасли срочно присланные Антонием солдаты. Теперь
никто не мог бы усомниться в храбрости Октавиана. Но, доказывая ее, он поставил под угрозу собственную жизнь и спасся лишь благодаря помощи
недальновидного Антония, для которого это был
последний шанс избавиться от несносного соперника, не совершая убийства35.
После того как переговоры с Секстом не увенчались успехом, Октавиан решил захватить Сицилию
и надежно обезопасить пути продовольственного снабжения Рима. Однако у него не было никакого опыта войны на море, и Секст легко разбил
римские флотилии, одной из которых командовал Октавиан. Правитель половины империи оказался на итальянском берегу Мессинского пролива
с горсткой других спасшихся, без всяких припасов
и не имея средств вызвать помощь. Им оставалось
лишь жечь костры на холмах и надеяться на свою
судьбу. К счастью, костры заметили солдаты легиона, шедшего маршем недалеко от берега, и Октавиану удалось спастись. Уже на следующий день
он наблюдал, как разыгравшаяся буря уничтожила
остатки его армады36.
99
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Но, судя по всему, он не заболел, не отчаялся
и отнюдь не передумал брать Сицилию. Он перегруппировал свои силы, надежно защитил берега Италии от набегов Секста и поручил готовить
следующее наступление Агриппе, только что вернувшемуся в Рим после усмирения галлов. Агриппа, которому тогда было двадцать четыре года, был
сведущ в военно-морском деле не более самого Октавиана, но если последний привык в критический
момент просто полагаться на свою решимость, Агриппа готовился к этой кампании с основательностью, достойной Ксеркса. Он изменил рельеф местности, соединив два закрытых лесистыми горами
озера с морем. В лесах валили деревья для постройки кораблей, озера стали местом учений для моряков, а горы скрывали все это от Секста, который
с моря мог лишь гадать о том, что там происходит37.
Подготовка заняла два года, но к 36 г. до н. э.
Агриппа был готов. У берегов Сицилии должны
были сойтись три флотилии: его собственная, флотилия кораблей, присланных Антонием, и третья
флотилия, которую вел из Африки Лепид. Однако две первые группы были задержаны штормами,
и успешно высадить войска сумел только Лепид —
который после этого перешел на сторону Секста.
Секст вновь застал Октавиана врасплох и нанес ему
унизительное поражение: на этот раз ему пришлось
сидеть на сицилийском берегу, пока его не разыскали его солдаты. Это было третье спасение Октавиана за три года.
Но у Агриппы осталось достаточно судов, чтобы разбить флот Секста. Секст бежал, а вновь переметнувшийся Лепид был оставлен управлять Сицилией. Октавиан не участвовал в битве из-за своего
недуга, который все-таки настиг его, но он поправился как раз вовремя, чтобы объявить о своей символической победе. Подозревая, что Лепид снова переметнулся, Октавиан явился к нему в лагерь
один и без оружия. Ему нанесли несколько ударов,
100
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
и он, уже раненый, начал отступать, но тут оказалось, что солдаты Лепида, восхищенные смелостью
Октавиана, приняли его сторону — в этот раз подмога ему не потребовалась. Лепиду осталось только сдаться38.
Так Октавиан все же взял верх на Сицилии,
но это удалось ему скорее благодаря дерзким поступкам, чем стратегии: он не раз рисковал жизнью,
рассчитывая на твердую руку Агриппы. Но на этот
раз, одержав победу, Октавиан сдержал свои порывы. Он удалил Лепида из триумвирата, но позволил ему уйти с достоинством — без казней и демонстраций частей тела. Теперь власть Октавиана
над римским миром мог оспаривать только Антоний, но на этот раз Октавиану хватило здравого смысла дать своему противнику стать причиной
собственного поражения.
VIII
После стольких обещаний отомстить парфянам
Антоний уже не мог откладывать эту кампанию39.
Он начал ее в 36 г. до н. э., когда Октавиан и Агриппа завершали завоевание Сицилии. Провиант
и деньги Антоний получил от своей бывшей и будущей любовницы Клеопатры, что не было бы столь
тонким обстоятельством, не женись он на сестре
Октавиана. Хотя такие параллельные отношения
можно было оправдывать соображениями государственной целесообразности, но определенные
трения были неизбежны, и это стало еще одной
проблемой, которую Антоний явно не предвидел.
Ситуацию нисколько не разряжало то, что Клеопатра родила ему близнецов, а также утверждения
Клеопатры (по всей видимости, соответствовавшие
действительности), что она — мать единственного
родного сына Юлия Цезаря, юноши с опасным именем Цезарион40.
101
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
К неумению Антония правильно выстроить
сложные отношения между любовью, браком и политикой, добавилось неумение правильно организовать военные действия против парфян.
Он не успевал закончить кампанию до зимы, затем случайно выдал свои планы шпиону, уже в походе не смог обеспечить лояльность союзников и,
наконец, оставил свой обоз под такой слабой охраной, что он был уничтожен парфянами. Ему ничего не оставалось, как отдать приказ об отступлении через снежные заносы к сирийскому берегу,
что обернулось для него значительными потерями.
Здесь Клеопатра начала неспешно приводить его
армию в порядок. Тем не менее Антоний рапортовал в Рим, что все идет хорошо.
Октавиан не верил его донесениям, но не подавал вида. Он приказал устроить триумфальные
празднества, зная, что это опозорит Антония гораздо больше, чем если бы все видели, что он рад его поражениям. Октавиан не стал отправлять Антонию
подкреплений, ссылаясь на его депеши как на свидетельство того, что они ему не нужны. Он, однако,
отправил Октавию с провиантом из Греции, рассчитывая на то, что ее прибытие одновременно c обозом от Клеопатры усложнит ситуацию еще больше.
Антоний принял груз, но отослал Октавию обратно в Рим, дав почву новым слухам о возобновлении
его романа с египетской царицей. Октавиан предпочел не опровергать их, полагая, что Антоний довольно скоро подтвердит их сам41.
Это случилось, когда стало известно о том,
что Антоний отдал на хранение весталкам (жрицам
богини Весты) свое завещание, полагая, что у них
оно будет в полной сохранности. Октавиан потребовал, чтобы жрицы выдали завещание. Когда
они отказались, он забрал его силой. Это было вопиющим нарушением традиций, но Октавиан рассчитывал, что содержание завещания окажется
гораздо более скандальным. Он не ошибся. В заве102
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
щании сыном Юлия Цезаря признавался Цезарион;
оно также содержало распоряжение Антония о том,
чтобы, даже если он умрет в Италии, его похоронили рядом с Клеопатрой в Египте.
После этого Антоний перестал быть римлянином
в глазах римлян: они имели все основания опасаться, что если империя когда-либо перейдет под его
правление, то и она перестанет быть Римской42. Это
был окончательный разрыв. Октавиан подстроил
все ловушки, Антоний в них угодил, и теперь все
могла решить только война. Нужна была одна решающая битва. Этой битвой стало морское сражение при Акции, у берегов Греции, которое произошло в сентябре 31 года до н. э. Антоний и Клеопатра
расположили свои суда и армии в самой гавани и вокруг нее, но Октавиан и Агриппа заперли их в гавани, не давая возможности пополнить запасы. Солдаты Антония массами переходили к противнику,
а большая часть его судов была потеряна при попытках вырваться из окружения. В конце концов Антоний и Клеопатра бежали в Египет, где им уже нечем было защищаться. Антоний отказался от всего,
пишет Плутарх, и «погнался за тою, что уже погибла сама и вместе с собой готовилась сгубить и его»43.
Октавиан не спешил преследовать его, но уже
летом 30 г. до н. э. он занял Александрию, почти
не встретив сопротивления. Антоний и Клеопатра
покончили с собой: он — грубо, заколов себя кинжалом; она (если верить легенде) — элегантно, дав
укусить себя аспиду44. Октавиану осталось только казнить несчастного Цезариона, еще подростка,
и совершить триумфальный объезд великого города, который в то время был куда более эффектным,
чем Рим45. Замыкая круг истории, Октавиан посетил могилу Александра Македонского, чтобы почтить его память. Гроб открыли, но, возлагая корону на забальзамированное тело, новый правитель
всего известного мира случайно отбил нос бывшему
правителю46. Инцидент не имел особого значения.
103
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
IX
Ведь Октавиан никогда не равнялся на Александра47. Македонец понимал ограничения, только
когда терпел неудачу. Его воинам пришлось сказать ему, что они не в состоянии идти дальше, только когда он был почти у Гималаев. Октавиан, добиваясь своих целей, ясно видел свои ограничения,
а в редких случаях, когда он терял их из виду, быстро вносил коррективы. Поэтому его стратегия
складывалась естественно: он редко путал устремления с возможностями. Александр же делал это
всю жизнь, и осознал, что это разные вещи, лишь
незадолго до смерти. Он умер в тридцать три года
в Вавилоне от истощения, болезни и разочарования48. В тот день в Александрии, почти три столетия спустя, когда увидев Александра и слегка
убавив то, что от него осталось, Октавиану было
столько же, но он прошел тогда лишь треть своего
пути правителя.
Октавиану, конечно, везло: он не умер от болезней и уцелел, хотя подвергал себя многим опасностям. Но он был и осторожнее Александра, используя свои сильные стороны и учитывая слабые.
«Тот, кто раньше составит план использования
обходного и прямого маршрутов, тот победит», —
пишет Сунь-цзы, который вроде бы, как всегда,
охватил все возможности. Но затем он ставит привязку: «Таков закон противостояния на войне»49.
Прямой путь, считает учитель Сунь, возможен
только там, где возможности сближаются с устремлениями. Обилие возможностей позволяет вам делать все что угодно: в маневре нет необходимости.
Чаще всего, однако, возможностей не хватает —
и именно такой была ситуация Октавиана. Недостаток возможностей требует использования непрямых путей, а это, утверждает Сунь-цзы, требует
маневра:
104
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
если способен на что-то, показывай противнику,
будто неспособен. Если готов действовать, показывай, будто действовать не готов. Если находишься вблизи, показывай, будто ты далеко.
Если ты далеко, показывай, будто ты близко. Заманивай его выгодой и покоряй его, сея в его стане раздоры. А если у него всего в достатке, будь
начеку. Если он силен, уклоняйся от него. Если
в нем нет покоя, приведи его в неистовство. Покажи себя робким, чтобы разжечь в нем гордыню.
Если он свеж, утоми его.
Так, удерживая в сознании противоположные идеи,
«знаток войны одерживает победу». Здесь Суньцзы словно предвосхищает, как бы это ни было невероятно, Скотта Фицджеральда. Но затем мудрец
добавляет, словно бы возражая самому себе и делая привязку: «однако наперед преподать ничего
нельзя»50.
Победы должны соединяться друг с другом, иначе они ничего не дают. Однако их нельзя предвидеть, поскольку они возникают из непредвиденных
возможностей. Поэтому для маневра необходимо и предвидение, и импровизация. Малые победы на одной территории создают условия для более крупных побед на других и позволяют слабому
становиться сильнее51. Так и молодой Октавиан
кружил вокруг Антония, сбивая его с толку и используя малые ресурсы с большим эффектом, пока
для него не открылась возможность более прямого
действия при Акции.
X
«Уж немалую часть огромной прошли мы равнины, — сказал Октавиану некий поэт вскоре после его
возвращения из Александрии в 29 г. до н. э. — Время ремни развязать у коней на дымящихся выях»52.
Этим поэтом был Вергилий, поэма называлась «Ге105
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
оргики», и имеются свидетельства о том, что Октавиан слушал, как автор с несколькими своими
друзьями читал вслух в течение нескольких дней
все 2118 ее стихов53. Это не был эпос («Энеида» была
написана позже), и этот эпизод так озадачивал биографов Октавиана в новейшее время, что они предпочли обойти его молчанием. С чего бы самому
могущественному человеку на свете спокойно сидеть и выслушивать столь пространные наставления о севообороте, выращивании винограда, разведении скота и пчеловодстве? Джон Бакен, более
ранний биограф, полагал, что Октавиан подошел
к моменту, когда он мог сбавить темп, осмотреться
и подумать о том, что ему делать с властью теперь,
когда у него нет соперников. Он переходил от навигации к культивации54.
Прокладывая свой путь наверх, Октавиан полтора десятилетия отражал, нейтрализовывал деньгами, обходил, устранял или с выгодой использовал угрозы, исходившие от Антония, Цицерона,
Кассия, Брута, Фульвии, Луция, Секста, Лепида,
Клеопатры и Цезариона, а также от римского сената и черни, собственных болезней, от бурь и кораблекрушений и даже от кометы. Он был находчив,
но темп событий задавал не он. Он постоянно перехватывал инициативу, терял ее, а потом должен
был захватывать ее снова. Он не смог бы делать это
без конца. Даже самый горячий конь не может бежать вечно.
После Акция Октавиан начал брать события
под контроль, уже не позволяя им контролировать себя. Он отложил новые походы на парфян.
Он поставил местных правителей — например Ирода в Иудее — управлять трудными провинциями.
Он успокоил ветеранов, наделив их землей и обеспечив им долгосрочную материальную поддержку.
Он ублажал Рим, принимая триумфальные парады,
организуя игры и начав программу строительства,
которая должна была позволить Риму превзойти
106
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
Александрию. Но зная об опасностях, подстерегающих высокомерных правителей, он старался
выглядеть скромным. Он старался не устраивать
слишком долгих триумфальных мероприятий,
жил просто, а когда возвращался из путешествий,
входил в город негласно, избегая шумных приветствий. Он укреплял свою власть, делая вид, что она
его не интересует. Наиболее эффектно это было
сделано в первый день 27 года до н. э., когда он неожиданно заявил об отказе от всех своих властных
полномочий. У сената, для которого решение Октавиана оказалось полным сюрпризом, не было иного
выбора, кроме как запретить такой шаг и наделить
Октавиана титулом принцепса («первого гражданина») — а также новым именем Августа55.
В действительности он устранял республиканские порядки, но делал это так постепенно и с таким тактом, и к тому же демонстрируя на каждом этапе столь очевидные преимущества новых
порядков, что римляне приспосабливались к новым условиям и даже одобряли их, едва ли замечая, как сильно все изменилось. Они сами становились посевами, виноградными лозами, скотом
и пчелами. Дело в том, что Цезарь Август, в отличие от Ксеркса, Перикла, Александра и Юлия
Цезаря (давшего Октавиану ранний старт — далеко не самый маловажный из его даров), считал,
что время на его стороне. Как заметила Мэри Бирд,
ему не пришлось ничего упразднять. Он использовал время, чтобы взращивать новое56.
Одним из новых моментов был конституционный порядок, при котором снова обретал свою
роль сенат и возвращалось верховенство закона,
при этом страна управлялась железной рукой,
пусть и в мягкой перчатке. Вторым стало прекращение экспансии: Август объявил, что она уже
достаточно велика. За исключением нескольких
корректировок границ, необходимости в ее дальнейшем расширении не было. Третьим было созда107
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ние национального эпоса. У Рима не было своего
Гомера, поэтому принцепс позаботился о том, чтобы он появился. «Энеида», в отличие от «Илиады»
и «Одиссеи», была написана по заказу. Август поощрял ее создание, снабжал деньгами автора и спас
рукопись от огня, когда недовольный ею Вергилий,
уже на смертном одре, просил ее сжечь.
Эней — троянский царевич; покинув пылающий
город и выдержав бесчисленные испытания, он основал город Рим, положивший начало империи,
покровительствуемой богами. Им мог быть сам Октавиан на своем пути к власти: «Мечется быстрая
мысль, то туда, то сюда устремляясь, Выхода ищет
в одном и к другому бросается тотчас. Так, если
в чане с водой отразится яркое солнце Или луны
сияющий лик, — то отблеск дрожащий Быстро порхает везде, и по комнате прыгает резво»57. Однако
помимо знаменитого пророчества — «Август Цезарь, отцом божественным вскормленный, снова
Век вернет золотой»58 — Вергилий почти ничего
не говорит о том, как Август мог бы использовать
власть. «Энеида» смотрит в прошлое, а не в будущее Рима. Она прославляет навигацию, а не культивацию.
Почему же тогда принцепс считал столь важной
заботу о культивации (и сохранении) этой столь
объемной поэмы? «Величие поэтического познания, — говорит он в романе Германа Броха умирающему поэту, — стало быть, и твое величие,
Вергилий, — в том, чтобы… охватить всю жизнь
одним взглядом, в одном творении». Не сводится ли стратегия и искусство управления государством к способности схватывать взаимосвязи?
К умению понять, где ты был, чтобы понять, куда
ты идешь? Иначе сложно понять, каким образом
непрямой путь — будь то хитрые уловки и зигзаги Одиссея или то один, то другой выход, которые находит мысль Октавиана, — может в итоге
привести на Итаку или куда-либо еще. «[Я] хочу
108
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
прославиться у потомков еще и тем, — верно заключает Август у Броха, — что был когда-то другом Вергилия»59.
XI
Все же существовали такие вещи, которые не подчинялись даже Августу: одной из них, увы, были его
собственные семейные дела. Как и его двоюродный
дед, он понимал, что отказ от республики поставит
империю в зависимость от случайностей в наследовании. В то время это казалось разумным компромиссом, поскольку Рим проявлял больше терпимости к разводам и усыновлениям, чем большинство
монархий более позднего времени. Это позволяло
выращивать наследников — и воспитывать наиболее
перспективных — вне зависимости от того, кто кого
произвел на свет60.
Однако в деле разведения (и здесь это вполне уместное слово) собственного потомства Августа подстерегали несчастья. Он был женат четырежды, но только его третья жена родила ребенка,
Юлию, которая при всех ее талантах и уверенности в себе не могла, будучи женщиной, наследовать
ему61. Оставалось усыновление, причем главной задачей Августа как принцепса было вырастить нового
Октавиана. Сначала его выбор пал на великолепного Марцелла, сына его сестры Октавии от ее первого брака62. Август женил его на Юлии, когда ей
было всего четырнадцать, но Марцелл умер в двадцать один год от внезапной болезни, и Вергилий
успел с пронзительной ясностью запечатлеть его
в образе потерянного духа в «Энеиде»63. Другими
возможными кандидатами были Тиберий и Друз,
сыновья от предыдущего брака последней жены
Августа, Ливии, с которой он прожил очень долго. Но Друз умер в двадцать девять лет от травм,
полученных при падении с лошади. Тиберий был
109
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
здоров, но они с принцепсом питали недоверие друг
к другу из-за постоянных манипуляций последнего в поисках преемника.
Надеясь получить новые возможности, после
смерти Марцелла Август заставил Юлию выйти замуж за Агриппу, своего ровесника и блестящего полководца, которому он был обязан множеством военных побед и который был намного
старше Юлии. У них родилось пятеро детей, в том
числе три мальчика, но Гай и Луций рано умерли, а третий, Агриппа Постум — родившийся после
смерти отца — уже в подростковом возрасте оказался настоящим головорезом. Поэтому Август, уже
в отчаянии, потребовал, чтобы Тиберий развелся
со своей любимой женой и женился на вдове Агриппы, которую тот ненавидел. Юлия отвечала ему
тем же, и в этом несчастном союзе родился только
один ребенок, умерший младенцем, после чего Тиберий — вопреки воле Августа — отправился в добровольное изгнание на остров Родос. Находясь там,
он развелся с Юлией, чьи сексуальные оргии начали возмущать даже римлян, что заставило Августа
выслать ее на еще более мелкий и пустынный островок Пандатерию у итальянских берегов. Все еще
уповая на лучшее, в 4 году Август в возрасте шестидесяти семи лет усыновил Тиберия и Агриппу Постума, не возлагая при этом особых надежд
ни на того, ни на другого64.
Еще через пять лет, уже слишком старый,
по меркам своего времени, для любого управления, принцепс потерпел свое самое тяжелое военное
поражение. Он давно противился расширению империи, но это не исключало упорядочения ее границ. Поэтому он согласился включить в римские
владения территорию от Рейна до Эльбы, что позволяло, включив Дунай, провести более короткую границу империи от Северного до Черного
моря, в основном идущую по рекам65. На картах
это выглядело убедительно, однако требовало уми110
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
ротворения лесистой Германии, о которой римлянам мало что было известно. Задача была поручена Публию Квинтилию Вару, который тут же завел
три легиона в засаду в Тевтобургском лесу. Порядка пятнадцати тысяч человек было взято в плен
или убито — причем, как говорят дошедшие до нас
свидетельства, самыми ужасными способами, —
и Август почти за день лишился десятой части своей армии66.
Говорят, что Август пребывал в неистовстве несколько месяцев. Он бился головой о стены, разговаривал сам с собой, отказывался бриться, никого
не желал видеть и был подобен королю Лиру, только без пустоши, грозы и утешений шута. Наконец
он взял себя в руки, хотя уже понимал, что за свою
долгую жизнь он не обеспечил ни будущего для империи, ни преемников для себя. Лучшее, что он мог
сделать, уже зная, что умирает, — это внезапно
явиться на остров, куда был сослан Агриппа Постум, и, убедившись в том, что тот ничуть не изменился, приказать его убить. При этом Август испытал не больше жалости к нему, чем к Цезариону
почти пятьдесят лет тому назад. Теперь стало ясно,
что новым Цезарем станет обозленный Тиберий.
Август умер, совсем немного не дожив до своего 77-летия, в том же доме близ Неаполя, что и его
родной отец, 19 августа 14 года. Характерно, что он
подготовил свои последние слова: «Я принял Рим
кирпичным, а оставляю вам каменным». Но затем
он спросил с легкостью, которая, несмотря на все несчастья, никогда до конца не оставляла его, «хорошо ли он сыграл комедию жизни». И затем добавил,
как будто Шекспир ставил его поклон под занавес:
Коль хорошо сыграли мы, похлопайте
И проводите добрым нас напутствием67.
В прекрасном романе Джона Уильямса о жизни
Августа Юлия вспоминает, как спросила у отца
111
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
в то время, когда между ними еще возможен был
разговор: «Какой во всем этом смысл… в Риме, который ты спас, а потом заново построил? Стоило ли ради этого идти на такие жертвы?» Принцепс долго смотрит на нее, затем отворачивается.
«Я должен верить, что стоило, — наконец отвечает
он. — Мы оба должны верить в это»68.
XII
Пожалуй, все-таки стоило. Дальнейшая история
Рима дает непревзойденные с тех пор примеры патологии правящих семейств и оголенных границ;
и все же, по самому строгому счету, империя просуществовала еще четыре с половиной века после
смерти Августа. Рим «пал» только в 476 году. Основанная Константином Византийская империя
просуществует еще тысячу лет, а его роль в христианизации Римской империи будет как минимум
такой же определяющей, как и роль Августа в ее создании. Священная Римская империя, этот последний остаток римского правления в Европе, была
создана в 800 году Карлом Великим (один из титулов которого был «августейший») и тоже продержалась тысячу лет, пока ее не уничтожил Наполеон. Но даже Наполеон понимал, что не стоит
пытаться поступать так же с Римско-католической
церковью, основанной во времена Августа, которая,
по-видимому, может просуществовать еще невообразимо долгое время, во главе со своим верховным
понтификом, титул которого восходит к древним
царям Рима, правившим еще за шестьсот лет до рождения Октавиана.
Долговечность империй отнюдь не является их имманентным свойством. Большинство империй рождались, приходили в упадок и предавались забвению. Другие мы помним в основном
лишь по легендам, которые они вдохновляли, со112
УЧИТЕЛЯ И ПРИВЯЗКИ
зданным ими произведениям искусства или оставленным ими руинам: кто сейчас стал бы строить
государство по образцу Персии Ксеркса, Афин Перикла или Македонии Александра? Однако с Римом — а также Китаем — дело обстоит иначе. Их
наследие — в языке, религиозных верованиях, политических институтах, правовых принципах, технических изобретениях и способах управления —
пережило неоднократные «падения» режимов,
при которых оно возникло. Если период после
холодной войны действительно станет периодом
соперничества «Запада» с «Востоком», это будет
отражением прочности римской и китайской культур — империй сознания69, которые культивировались очень долгое время, проходя через множество
кризисов.
Август был самым искусным земледельцем Рима.
Придя через все перипетии к безусловной власти,
он использовал ее для превращения республики,
увядавшей подобно виноградной лозе из поэмы
Вергилия, в процветающую империю, и большинство из нас даже сегодня не понимает всех сторон
того процветания. Растения не знают, что земледелец побуждает их расти в определенном направлении, но если он хорошо укрепил их корни и тщательно за ними ухаживает, они ему помогают.
Главным счастьем принцепса было то, что ему было
дано время, необходимое для этого «земледелия».
Он использовал его плодотворно, одновременно
выращивая в себе самом ясное понятие цели своего
земледелия, а также умеренность при сборе урожая.
В конце жизни он боялся, что у него ничего
не вышло, и в определенном смысле был прав: ему
не довелось воспитать преемника так, как его самого воспитал Юлий Цезарь. Если бы умирающий Август мог предвидеть все бесчинства, которые будут
творить его наследники, он бы ужаснулся: до Нерона оставалось всего сорок лет70. Но Риму, как в свое
время и Китаю, хватило внутренней прочности,
113
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
чтобы пережить самых дурных и чудовищно некомпетентных правителей71. Это удалось обеим империям благодаря диверсификации: они не опирались на какой-то единственный вид власти,
а развились, подобно здоровым садам и лесам, в настоящие экосистемы.
Тем более интересно видеть, что Август так хорошо понимал идеи Сунь-цзы, ничего о нем не зная.
Это может объясняться логикой стратегии, лежащей в основе культуры (во многом подобно тому,
как грамматика лежит в основе языков) и сохраняющейся на огромных интервалах времени, пространства и масштаба. Если это так, то противоречие между здравым смыслом и многообразными
обстоятельствами, которым он противостоит, может быть еще одной из противоположностей, которые наиболее выдающиеся умы способны одновременно удерживать в сознании. Ведь практическое
применение принципов не может не предшествовать их осознанию и формальному закреплению. Можно, как Полоний, разглядывать облака,
но при этом нужно твердо стоять ногами на земле.
ГЛАВА 4
Душа и государство
В
С К О Р Е после окончания Гражданской войны один молодой американец провел два тяжелых года среди народов Северо-Восточной
Сибири. Это был Джордж Кеннан, приходившийся
дальним родственником своему более известному
полному тезке, жившему в XX веке — Джорджу Кеннану, создателю стратегии «сдерживания» во время
холодной войны. Первый Кеннан, которому было
тогда двадцать лет, исследовал маршруты для прокладки телеграфной линии, которая должна была
соединить Соединенные Штаты с Европой: подводные кабели пока еще были ненадежны, и поэтому вариант проведения наземной трассы через Британскую Колумбию, российские Аляску и Сибирь
и европейскую часть России, для чего нужно было
пересечь под водой только Берингов пролив, казался достойным изучения. Проект был заброшен,
когда в 1866 году наконец заработал Трансатлантический кабель, но до Кеннана эта новость шла
несколько месяцев. У него уже не было будущего в отрасли международной телеграфной связи,
и к тому же его поразил личный духовный кризис.
В своей книге «Палаточная жизнь в Сибири»,
вышедшей в 1870 году, Кеннан признавал, насколько легко ему оказалось выпасть из провинциального американского пресвитерианства, в котором
был воспитан, и впасть в «поклонение злым духам,
стоящим за всеми таинственными силами и явлениями Природы, такими как эпидемии и заразные
115
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
болезни, бури, голод, затмения и великолепные полярные сияния». При первых испытаниях христианство оказалось удивительно неглубоким.
Никто из тех, кто когда-либо жил вместе с коренными обитателями Сибири, изучал их характер,
находился под влиянием той же внешней среды
и старался, насколько только мог, поставить себя
на их место, никогда не усомнится в искренности их шаманов или их последователей и не станет удивляться тому, что поклонение злым духам
должно было стать их единственной религией.
Это единственная религия, возможная для таких
людей в таких обстоятельствах.
Даже глубоко православные русские с длительным опытом религиозной практики могли чувствовать, что их Бог где-то далеко, а злые силы рядом: «Они принесли в жертву собаку, как самые
настоящие язычники, чтобы смягчить ярость дьявольских сил, о которой свидетельствовала буря».
Действия человека, делает вывод Кеннан, «управляются не столько тем, во что он верит интеллектуально, сколько тем, что он живо осознает»1.
Этот страх того, что лежит за пределами понимания, является корнем религии во всех известных
нам великих культурах. Атеизм почти не имеет преемственности в истории. Но пока религии были
политеистическими — когда каждая напасть была
капризом определенного бога, — вера не представляла особых проблем для управления государствами. Боги тратили столько времени, ругаясь друг
с другом, что смертные поддерживали своего рода
равновесие между ними. Люди могли чтить богов
или пренебрегать ими и даже по случаю создавать
новых или упразднять старых — в чем особенно
преуспели римляне2. Ни одна система верований
не угрожала официальной власти.
Исключением были евреи, для которых существовали не распри между богами, а проявления
116
ДУША И ГОСУДАРСТВО
амбивалентности единого бога, который еще больше все усложнил, избрав их для формирования государства3. История Израиля стала историей сердитого спора между этим богом, действующим
через своих ангелов и пророков, и его избранным
народом, говорящим с ним через царей, священников, а один раз даже старика, сидящего на куче
пепла и скребущего свои струпья4. Но, как отметил
Эдвард Гиббон, первый крупный современный историк Рима, иудаизм был исключающей религией.
Будучи «избранными», евреи не стремились никого обращать в свою веру, поэтому их государство
никогда не имело имперских притязаний, свойственных Римской империи5. Август мог управлять
ею так же, как Галлией, Испанией или Паннонией,
не опасаясь вырастить соперника.
Принцепс не мог знать того, что во время его
правления возникла другая монотеистическая религия, на этот раз инклюзивная: «чистая и смиренная религия», писал Гиббон, которая «тихо закралась в человеческую душу, выросла в тишине
и неизвестности, почерпнула свежие силы из встреченного ею сопротивления и наконец водрузила
победоносное знамение креста на развалинах Капитолия». Тщательно скрывая свои взгляды, Гиббон
утверждал, что своим восхождением христианство
обязано миссионерскому пылу, гибкости в отношении ритуала, утверждениям о чудесах, обещанию
жизни после смерти и, конечно, «неопровержимой
ясности самой доктрины и верховному промыслу
ее Творца»6. Хоть и через столетия, но эта империя
первой добилась процветания — чего так и не удалось Риму — в мировом масштабе.
При этом, однако, в ней постоянно возникала дилемма: какие именно обязательства подданные этой империи несут перед кесарем и какие —
перед Богом?7 Могло бы христианство выжить
без защиты государства? Могло бы государство претендовать на легитимность без санкции христиан117
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ства? Поиск ответов на эти вопросы занимал умы
в Средневековье и в начале Нового времени. Кроме того, не ясно даже и теперь, вызвало ли христианство «падение» Рима, как полагал Гиббон,
или — о чем говорит наследие Августа — обеспечило бессмертие римских институтов. Эти противоположности формировали «западную» цивилизацию на протяжении всего последующего времени.
Не в последнюю очередь это приняло форму противоположности двух по-настоящему больших
стратегий, параллельных по своим целям, но созданных двумя мыслителями, одного из которых
мы считаем сегодня одним из величайших святых,
а второго, жившего через тысячу лет после первого, — одним из самых закоренелых грешников.
I
Августин никогда не считал себя святым. Он родился в 354 году в маленьком городке Тагасте в Северной Африке и известен в анналах автобиографии — жанра, который он по большей части
и создал, — тем, что изображал себя, даже у груди
матери, ненасытным паразитом: «Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе
своей». В отрочестве он отказывался учить греческий язык, потому что его к этому принуждали,
был очарован «Энеидой», а не арифметикой, и плакал о Дидоне, а не о Боге. Он тратил время на разные игры и нередко жульничал. Волнения о нем
родителей его не трогали. Он искал удовольствий,
красоты и истины только в мирских вещах: «маленький мальчик и великий грешник»8.
И все это было еще до того, как он подростком
открыл для себя секс. «[Г]орело сердце мое насытиться адом, не убоялась душа моя густо зарасти
бурьяном темной любви… и стал я гнилью пред
очами Твоими, — нравясь себе». «Продолжай», —
118
ДУША И ГОСУДАРСТВО
тайком шептали читатели на протяжении веков.
И он продолжает:
Только душа моя, тянувшаяся к другой душе,
не умела соблюсти меру, остановясь на светлом рубеже дружбы; туман поднимался из болота плотских желаний и бившей ключом возмужалости, затуманивал и помрачал сердце мое,
и за мглою похоти уже не различался ясный
свет привязанности. Обе кипели, сливаясь вместе, увлекали неокрепшего юношу по крутизнам
страстей и погружали его в бездну пороков… Наоборот, когда отец мой увидел в бане, что я мужаю, что я уже в одежде юношеской тревоги,
он радостно сообщил об этом матери.
Уже достаточно! Но Августин, не смущаясь, рассказывает дальше: он посвящает целые страницы своей
«Исповеди» грушевому дереву, с которого он и ватага его друзей стрясли все плоды — хотя они были
кислыми — и скормили свиньям. «О, вражеская
дружба, неуловимый разврат ума, жажда вредить
на смех и в забаву! Стремление к чужому убытку
без погони за собственной выгодой, без всякой жажды отомстить, а просто потому, что говорят: „пойдем, сделаем“, и стыдно не быть бесстыдным»9.
Это плодовое дерево стоит на втором месте
по популярности в иудеохристианской традиции,
и Августин использует и этот образ, и многое другое в этом странном произведении (зачем публиковать исповедь, тайную и обращенную к Богу?)10,
чтобы спросить: Как всемогущее божество может
допустить изъяны в сотворенном им мире? «Разве не читал я, — беззастенчиво пишет Августин, —
о Юпитере, и гремящем и прелюбодействующем?
Это невозможно одновременно»11. Что же можно
сказать в связи со всем этим о Боге христиан?
В эпоху Августина этот вопрос был весьма насущным, поскольку в 313 году император Константин узаконил все религии. После столь недавних
119
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
гонений на христиан в правление Диоклетиана
это казалось невероятным чудом, но дела Рима,
даже после объявления христианства официальной религией этого государства, едва ли улучшились. Престолонаследие по-прежнему находилось
во власти непредсказуемых факторов. Границы
были слишком протяженны и недостаточно защищены. Волны «варваров», о которых было известно не больше, чем о жителях Сибири во времена
Кеннана, ударяли в римские сторожевые заставы,
подобно волнам, текущим из неизмеримых глубин
Азии. В 410 году, когда Августину было пятьдесят
шесть, вестготы разграбили сам Рим, а через двадцать лет он умер, в буквальном смысле осажденный вандалами, в порту Гиппон-Регий в Северной
Африке, где долго служил епископом12.
Августин написал свою «Исповедь» вскоре после
того, как занял эту должность, для которой он считал себя совершенно не готовым. Большую часть
третьего десятка лет своей жизни он провел в манихействе, стремясь объяснить зло ограниченным
могуществом бога. Наконец, осознав, что это слишком простое объяснение, а также под влиянием своей настойчивой матери Моники и авторитетного
наставника Амвросия, епископа Миланского, Августин прошел медленное и болезненное обращение
в христианство, которое он ярко описывает в своей
книге. И даже тогда он надеялся всего-навсего основать монастырь в Гиппоне, пока христиане этого
города не вынудили его принять священство, а затем не сделали его епископом13.
Такой подход к делу — привлечение епископов как профессиональных спортсменов — может
показаться странным, но он отражал отчаянный
дефицит источников власти на закате римского
правления. Епископы были духовными лидерами, одновременно выполняя функции магистратов, стражей порядка и общественных организаторов. Богословское образование было не так важно,
120
ДУША И ГОСУДАРСТВО
как твердая воля, умение убеждать и прагматизм
в делах. В своем зрелом возрасте Августин обладал
всеми этими качествами, но у него было еще одно
качество, о котором не догадывалась его паства:
способность использовать представившуюся ему
возможность с максимальным эффектом. С этого
«насеста» на краю распадавшегося римского мира,
который он даже не сам выбирал, Августин задался
целью примирить веру и разум в грядущих мирах.
Разговор в «Исповеди» начинается с добровольного публичного самоуничижения — но оно дало Августину «разгон» для взлета во всей его последующей работе14.
II
«О граде Божьем» — главный труд Августина, который он писал на протяжении многих лет и закончил незадолго до смерти, — это книга не о различиях между небом и землей, как часто полагают,
а скорее о правильном разграничении земных
юрисдикций. Сильно упрощая15, его идею можно
выразить так: есть один Бог и может быть только один кесарь. В этой жизни люди должны быть
верны и тому и другому. Найденный ими баланс
между двумя служениями определяет их шансы
на вечную жизнь, но требования кесаря и Божий
суд отражают не только безусловную реальность,
но и конкретные обстоятельства. Неожиданное
не может быть неожиданным для Бога, но Августину хватает смирения, чтобы ничего не утверждать наверняка. Человеку же предвидеть неожиданное не дано.
Человек, таким образом, должен принимать те
или иные решения перед лицом неизвестности,
ведь Бог наделил его даром — или наложил на него
проклятие — свободной воли. Это плата за первородный грех, но также возможность, допускающая
121
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
надежду: человеческому существованию не обязательно быть бессмысленным; человек — не просто
игрушка капризных богов. Определение обязанностей человека по отношению к кесарю и Богу
становится поэтому величайшей стратегической
задачей, поскольку она требует соизмерения ограниченных человеческих возможностей с устремлением, не имеющим границ: устремлением к жизни
после смерти.
К сожалению, трактат «О граде Божьем» лишен
той ясности, с какой написана «Исповедь». Это
чрезвычайно пространный и аморфный литературный колосс, настоящий «Моби Дик» теологии,
в котором циклы и эпициклы, ангелы и демоны,
мифы и истории теснят друг друга без какого-то
определенного порядка. Сделать из него руководство по стратегии, не говоря уже о спасении души,
дьявольски сложно. Тем не менее странным, почти
чудесным образом Августин выигрывает при чтении его строк вне контекста. Вы можете брать темы
из разных мест книги, освобождать их от оговорок
и отступлений, которыми он их снабдил, и они,
как правило, оказываются вполне осмысленными.
Его стиль затемняет внутреннюю логику, и это нигде не проявляется так очевидно, как при рассмотрении вопросов войны и мира16.
Когда христианин имеет право не подставлять
другую щеку, а сражаться и, если необходимо, убивать? Какие обязанности может наложить христианский правитель на своих подданных для защиты
своего государства? Как спасти государство, не погубив при этом человеческие души, и возможно ли
это вообще? Зачем вообще об этом волноваться,
если, как утверждает Августин, мир кесаря порочен, а мир Бога совершенен? И что именно в ответах Августина (несовершенных, как он сам признает) обусловило их всеобщее признание и влияние
на все попытки решения проблемы «справедливой
войны» во все последующие века?
122
ДУША И ГОСУДАРСТВО
III
Гений Августина в том, что его занимают скорее
сами противоречия: порядок и справедливость,
война и мир, кесарь и бог, чем их причины. Он рассматривает противоположности как гравитационные силы, не стараясь определить, что такое
гравитация. Выбор человека лежит между противоположностями, но нет никакой формулы, которая бы предписывала, каким именно должен быть
этот выбор. На каждое «не убий» Августин находит
в священных текстах одобрение обратного поведения17. Он ставит вопросы об авторском намерении
за много веков до появления постструктурализма.
Противоположности — до определенного предела — совсем не смущают его.
Это делает его учение процедурным, а не абсолютным. Отдавая дань уважения неоплатонизму,
повлиявшему на раннее христианство, Августин показывает, что реальность всегда отстает от идеала:
можно стремиться к нему, но никогда нельзя рассчитывать на его достижение. Это стремление, таким образом — лучшее, что под силу человеку в падшем мире, и он сам выбирает, к чему стремиться.
Тем не менее не все цели легитимны, не все средства пригодны. Поэтому Августин стремится помочь человеку в его выборе, уважая его право выбирать. Он делает это, обращаясь к нашему разуму —
даже, можно сказать, к нашему здравому смыслу.
Возьмем, например, вопрос о том, зачем нужны
государства: если Бог всемогущ, то кому нужны кесари? Без кесарей, отвечает Августин, не было бы
христиан, а это не могло бы отвечать Господней
воле. Быть христианином само по себе означает
свободно выбирать следование Христу; но в результате такого выбора мало что осталось бы, если бы
всех христиан скормили львам. Однако кесари делали это не так уж часто: на протяжении трех ве123
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ков от смерти Иисуса до смерти Константина Римская империя, несмотря на периоды репрессий,
была на удивление гостеприимным местом для новой религии18. Это было одной из причин, по которым «упадок» Рима в IV и V веках вызывал у Августина и его товарищей по христианской вере такую
тревогу.
Из обобщения на основе наблюдений следовало, что порядок должен предшествовать справедливости, ибо какие права возможны в условиях постоянного страха19? Мирная вера — единственный
источник справедливости для христиан — не может процветать без защиты либо в форме терпимости, как было в Риме до Константина, либо в форме официального эдикта, как было после20. Град
Божий — это хрупкая структура внутри греховного града земного.
Именно это побуждает христиан вверять власть
избранным грешникам — мы называем это «политикой», — и Августин, при всем его благочестии,
является политическим философом. Точно так же,
как с закатом римской власти он стал авторитарным епископом, готовым идти на меньшее зло
(или, как он это называл, «суровость во благо»21),
дабы предотвратить большее22. Августин боролся
с отклонениями от ортодоксии, которые он атаковал почти с ленинским рвением, как будто единственным способом укрепления веры является ее
очищение от всех нюансов. Тем не менее в своих
взглядах он проявил большую широту, чем в своей
политике: последствия его мысли оказались шире,
долговечнее и в конечном счете гуманнее.
Августин заключал, что война, если она необходима для спасения государства, может быть меньшим злом, чем мир, и что можно сформулировать
«процедурные условия» ее необходимости. Имела ли
место провокация? Исчерпали ли соответствующие властные структуры мирные альтернативы? Будет ли насилие средством, а не самоцелью?
124
ДУША И ГОСУДАРСТВО
Было ли применение силы соразмерным поставленным целям (ибо в противном случае оно уничтожало бы то, что оно призвано защитить)? Могут ли эти человеческие решения (а у Августина
никогда не было сомнений в том, что они именно таковы) способствовать достижению какой-либо
божественной цели? Так, чтобы град Божий и град
земной могли сосуществовать, не ломая при этом
грешный мир?
IV
Конечно же, были прецеденты, когда мудрость войны ставилась под сомнение: это делали и Артабан,
и Архидам, и Никий, хотя и безуспешно, а обреченные мелосцы у Фукидида высказывали запоздалые
опасения в отношении хода уже начатой войны.
Но до Августина никто не формулировал условий,
которые должно соблюдать государство, решающее
начать войну. Это возможно только в рамках инклюзивного монотеизма, ведь только Бог, претендующий на вселенскую власть, может судить души
земных правителей. И только Августин в его эпоху
столь уверенно говорил от Его имени. Автор «Исповеди», считавший себя ничтожным рабом, прошел долгий путь.
Августин оформил свои стандарты в виде вопросника, а не в виде инструкций. Он знал, как часто пророки громогласно изрекали запреты, чтобы затем отменить их перед лицом необходимости
или в соответствии с новыми инструкциями Свыше23. При всей своей суровости в искоренении ересей Августин предпочитал действовать убеждением в вопросах войны и мира: «подумал ли ты
об этом?» или «может быть, стоит сделать вот так?»
В этой области он не видел необходимости угрожать, и благодаря этому обрел многих последователей на протяжении веков24.
125
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Это объясняется тем, что вопросники легче
менять с изменением условий, чем инструкции.
Моряки сверяются с чек-листами перед выходом
в море. На войне их просматривают при планировании операций. Хирургам они нужны, чтобы обеспечить наличие всех необходимых инструментов
и ничего не забыть после операции. Пилоты проходят их, чтобы гарантировать безопасный взлет
и мягкую посадку — желательно в нужном аэропорту. Они нужны родителям, отправляющимся в поездку с маленькими детьми. Вопросники ставят
обычные вопросы в таких ситуациях, которые могут оказаться непредвиденными, и их смысл в том,
чтобы, оказавшись в такой ситуации, не быть застигнутым врасплох.
Существенная неопределенность у Августина
была связана со статусом душ в граде земном, поскольку лишь самые достойные могут надеяться
войти в град Божий. С дохристианскими божествами такие различия проводились редко: в языческих религиях жизнь после смерти была одинаково мрачной и для героя, и для подлеца, и для всех
«промежуточных типов»25. Но с христианским Богом все не так: поступки человека при жизни приобретают огромное значение после его смерти. Вот
почему было так важно вести войну по правилам.
Ставки вряд ли могли бы быть выше.
V
Но у вопросников Августина есть свои сложности.
Если необходимость вести войны по правилам
столь велика, то почему он, подобно белке, прячущей свои запасы, скрыл так много из написанного им на эту тему, так, что потребовалось ждать
еще много веков, пока другие мыслители: Фома Аквинский, Грациан, Гроций, Лютер, Кальвин, Локк,
Кант — не отыскали, не раскопали, не кодифици126
ДУША И ГОСУДАРСТВО
ровали и не применили идеи Августина к сфере
государственного управления26? Каким образом
он надеялся спасти государства или души, спрятав
средства достижения этого спасения? Из «Исповеди» видно, что Августину доступна лучезарная ясность, и то же самое следует из тысяч проповедей,
произнесенных им в сане епископа, многие из которых дошли и до нас27. Возможно, в этом и заключалась проблема.
На протяжении второй половины карьеры епископа на Августине лежало очень много обязанностей. Это давало ему право на услуги писцов,
которые при записи его мыслей пользовались скорописью28, но это создавало проблему разбора объемных рукописей, ведь у кого было время пройти
через все эти записи, организовать их и сделать удобочитаемыми? Августин «тонул» в своих записях
подобно тому, как Никсон утонул в тех магнитофонных записях, которые делались по его распоряжению. Поэтому, хотя его идеи влияли на теорию
войны на протяжении еще многих веков — у ученых
обычно хватает времени на то, чтобы копаться в туманных текстах, — гораздо менее понятно, сдерживали ли они людей в тех войнах, которые велись
после него29.
Но тут есть, по-видимому, и более серьезная
проблема, которую нельзя было бы решить и самым ясным изложением. Дело в том, что Августин никогда не был последовательным монотеистом30. Он поклонялся Разуму не меньше, чем Богу,
но в его представлении Разум ограничивает Бога
не более, чем он ограничивал Юпитера: «Это невозможно одновременно». И именно в этом пункте
противоположности уже смущают Августина.
Почему вообще бывают войны? Они, конечно,
говорят о греховности человека, отпавшего от Бога.
Но поскольку Бог всемогущ, то и войны должны
случаться по Его воле, хотя Августин и утверждает,
что Его действия убедительно говорят о Его любви
127
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
к человеку. Значит, каким-то образом войны должны быть благом для человека: может быть, потому, что он наказывается ими как ребенок для его же
блага, или потому, что он переходит со смертью
в лучший мир? Но если это так, то как одни войны могут быть справедливы, а другие нет? И зачем
вообще устанавливать здесь какие-то нормы? Августин предполагает, что они освещают путь, которым праведники града земного приходят в град Божий, оставляя позади неправедных.
Что же отличает эти качества? Это не пацифизм:
Августин считает военную службу необходимой
для сохранения государства, без которого христианство не может выжить. Кроме того, эта служба является безусловной: он настаивает на том, что христианские воины обязаны подчиняться приказам
и могут лишь надеяться, что они будут отвечать
требованиям справедливости. Соответствие же их
этим требованиям зависит от обстоятельств, которые может определить только Бог. Поэтому даже
несправедливые войны, если они ведутся ради Христа, могут становиться справедливыми31. На Мелосе Августин мог бы принять сторону афинян.
Он — теологический доктор Панглосс32, видящий
в худшем из того, что может произойти, лучшее
из возможного.
По крайней мере, так это представляется. Но,
пожалуй, компромисс возможен там, где уже
нельзя опираться на вопросники Августина, там,
где есть реальный простор для маневра. Делая выбор между порядком и справедливостью, войной
и миром, кесарем и Богом, вы склоняетесь в определенном направлении. Вы соразмеряете устремления с возможностями, потому что у Августина
справедливость, мир и бог относятся к первым,
а порядок, война и кесарь — ко вторым.
Но такое соразмерение, в свою очередь, предполагает их взаимозависимость. Справедливость
недостижима в отсутствие порядка, мир может
128
ДУША И ГОСУДАРСТВО
требовать войны, кесарь должен быть милостив —
возможно даже, как Константин, обращен — чтобы человек мог достичь Бога. Каждая возможность
делает достижимым и некоторое устремление, подобно тому как у Сунь-цзы практика ограничивает
применение принципов. Но в чем суть этого ограничения? Мне кажется, эта суть — в соразмерности:
применяемые средства должны соответствовать поставленной цели или, по крайней мере, не извращать ее. В этом и состоит «склонение» Августина:
он склоняется к логике стратегии, которая выходит за пределы времени, места, культуры, обстоятельств и разницы между святыми и грешниками.
VI
Уже давно считается, что Макиавелли жарится
в аду и, что еще хуже, неплохо себя чувствует33.
Такая мысль не пришла бы в голову ни Августину, ни многим из его современников. Гиппон-Регий и Флоренция, где в 1469 году родился и провел
большую часть своей жизни Никколо Макиавелли,
были географически не так уж далеко друг от друга:
оба города лежали почти на ближней периферии
широко распростершейся Римской империи. Однако к концу XV века роль Рима сильно изменилась.
Его императоры стали папами, которые управляли
двумя абсолютно разными империями: слишком
мирским градом земным, ограниченным папской
областью в Центральной Италии, и Римско-католической церковью — вселенским градом Божиим,
находившимся в неуютном соседстве со светскими державами Центральной и Западной Европы,
некоторые из которых уже распространяли свою
власть — отчасти под присмотром Рима — до границ Южной и Юго-Восточной Азии, а также на недавно открытые земли, которые скоро стали называться Америкой.
129
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Из своего кабинета высоко над площадью Синьории во Флоренции молодой Макиавелли, который становился все более влиятельным функционером в правительстве этого города-государства,
мог видеть празднества в честь Америго Веспуччи:
Веспуччи были флорентийцами, и он был знаком
с этим семейством. Уже в первом предложении своего «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», которое он начал писать в 1515 году, уже впав в немилость, он говорит, что «изобретать новые правила
и порядки всегда было не менее опасно, чем искать
неизведанные земли и моря». Однако причина этого не в гневе Господнем, а в человеческой зависти.
Августина беспокоило и то и другое. Макиавелли,
недавно заточенный в тюрьму и подвергнутый пыткам, боится Бога меньше, чем человека34.
Не то чтобы он не верил в Бога или не почитал
его. Бог часто упоминается в его текстах — это было
вполне принято в той культуре, в которой он вырос. Но, может быть, боги древних и христианский
Бог, как осторожно намекает Макиавелли, — это
одно и то же? Он редко ходит к мессе, что вызывает толки — и даже шутки — среди его друзей. Кроме того, Макиавелли никогда не берется говорить
от имени Бога и не пытается объяснить его, как это
делает Августин, если не считать единственной
важной фразы в «Государе» — книге, за которую
Макиавелли, как полагают многие, и горит в аду:
«Бог не желает брать на себя все»35.
Непонятно, почему это место вызвало протесты — ведь Макиавелли тут же осмотрительно добавляет: «...дабы не лишить нас свободной воли
и той части славы, которая принадлежит нам».
Разве не Бог придумал свободную волю? Разве она
не должна вести к спасению и славе тех, кто его достигнет? Для Августина такого рода вопросы шли
против его веры во всемогущество Бога: как возможна свобода в предопределенном мире? Чувствуя себя неуютно с этими противоположностя130
ДУША И ГОСУДАРСТВО
ми, он попытался примирить их, но потерпел здесь
колоссальное поражение36. Макиавелли, в отличие от него, воспринимает все это намного спокойнее. Если Бог сказал, что воля свободна, значит,
Он именно это и имел в виду. Не слишком ли самонадеянно пытаться ограничить Его пределами разума? Не станет ли человек свободнее, отказавшись
от этих попыток?
Отсюда можно заключить, следуя классификации Исайи Берлина, что Августин был «ежом»,
а Макиавелли — «лисой». Вдохновляясь идеей
Ф. Скотта Фицджеральда, можно сделать вывод
о том, что Макиавелли обладал первоклассным
умом и мог, мысля, удерживать в сознании противоположные идеи, и что Августин, при всей его
добросовестности, все-таки отставал от него в этом
отношении. Ни одно из этих предположений не кажется невероятным. Однако более важным различием может быть различие темпераментов: заимствуя выражение Милана Кундеры37, можно
сказать, что Макиавелли находил «легкость бытия» выносимой. Для Августина же — может быть,
оттого что в юности он перенес травму, описанную
в его истории с грушевым деревом, — она была невыносимой.
VII
Как сказали бы мои студенты, это значит научиться
«не париться», и Макиавелли, отделенный от них
несколькими веками, употребляет глагол, имеющий тот же смысл:
Мне небезызвестно мнение, которого придерживались и придерживаются многие, о том, что течением мирских дел целиком управляют судьба и Бог, и люди, опираясь на свое разумение,
не только не могут изменить его, но и не могут
131
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
никак на него повлиять. Отсюда можно было бы
сделать вывод, что не следует особенно упорствовать в делах, а предпочтительнее все предоставить велению случая… Обдумывая это, я иной
раз в какой-то мере склоняюсь к названной точке зрения.
Но все же он не хочет стать легким перышком, добычей всех ветров. «Тем не менее, дабы не подавлять нашей свободной воли, я допускаю истинность
утверждения, что судьба наполовину распоряжается нашими поступками, но другую половину
или почти столько оставляет нам». Пятьдесят процентов на судьбу, пятьдесят процентов на волю человека — и ничего на волю Бога. Человек, как это
ни рискованно, предоставлен сам себе38.
Макиавелли знает из истории наводнений реки
Арно во Флоренции, что реки способны причинять
огромные разрушения. Но люди, если они дальновидны, могут уменьшить эту опасность, используя
насыпи и плотины39. Бог может одобрять идею,
но гидравликой он сам не занимается. С государствами, говорит Макиавелли, дело обстоит примерно так же. Если они управляются плохо, их быстро
губит — в результате внутренних мятежей или внешних войн — человеческая жадность. Если же государства управляются в духе того, что Макиавелли
называет непереводимым словом virtù40, — то они
могут если не всесторонне контролировать, то
хотя бы ограничивать роль судьбы или случая.
Для этого нужно уметь подражать, приспосабливать идеи к новым условиям и уметь учитывать
внешние влияния. Макиавелли одобряет изучение
истории: «люди все время идут по путям, проложенным другими, и подражают им в своих поступках, но не могут следовать чужим путем и достичь
той же доблести, что и образцы, поэтому разумный
человек должен все время шествовать по тропинкам, протоптанным великими людьми, и подра132
ДУША И ГОСУДАРСТВО
жать выдающимся, чтобы в отсутствие равной доблести сохранялось хотя бы ее подобие». Это и есть
приспособление идей к новым условиям: это «подобие» есть Фукидидово различение между прямым повтором и примерным сходством, которое
с течением времени лишь усиливается. А что значит «учитывать внешние влияния»? «Опытные
лучники, — говорит Макиавелли, — зная удаленность места, в которое они целятся, и дальнобойность лука… выбирают цель гораздо выше мишени, но не для того, чтобы пустить стрелу на такую
высоту, а для того, чтобы, прицелившись столь высоко, достичь желаемого»41. Отклонение неизбежно — определенно из-за силы тяжести, возможно,
из-за ветра, и кто знает, из-за чего еще? А цель, вероятно, будет двигаться.
Все это не имеет ничего общего с вечными истинами, кроме одного: обстоятельства будут меняться, и это единственная вечная истина. Макиавелли
знает, как знал и Августин: то, что имеет смысл в одной ситуации, может быть бессмысленно в другой.
Но разница между ними в том, что Макиавелли,
зная, что ему светит попасть в ад, не пытается разрешать подобные противоречия. Августин же, надеясь
попасть в рай, считает это своим личным долгом.
Несмотря на превратности своей судьбы, Макиавелли часто замечает смешное42. Августин же, несмотря
на свои привилегии, трагически несет бремя вины.
Макиавелли «парится», но не постоянно. Августин
никогда не перестает этого делать.
Таким образом, «легкость бытия» — это умение, если не находить хорошее в плохих вещах,
то по крайней мере оставаться среди них «на плаву» или даже плыть через них, а иногда и умудриться остаться сухим, а не видеть логику в несчастьях или доказывать, что все они к лучшему,
поскольку служат отражением Божьей воли. Это
то, чего не хватает Августину-«ежу» — нудноватому Панглоссу своего времени.
133
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
VIII
Несмотря на эти различия, Августин и Макиавелли сходятся в том, что войны должны вестись —
как и государства управляться — с помощью процедур, которые могут устанавливаться заранее. Оба
знают о том, что устремления — это не возможности. Оба предпочитают соединять их посредством
вопросников, а не инструкций43. Но если Августин,
у которого была работа, мог тратить годы на объяснение рациональности Бога, то у Макиавелли ее
не было, и он стремился ее получить. Поэтому ему
надлежало быть ясным, кратким и смиренным.
Он написал «Государя» вскоре после освобождения из тюрьмы в 1513 году, когда его плечи еще болели от подвешивания на дыбе, которому его подвергали по меньшей мере шесть раз. Пытка была
одной из тех «скорбей и опасностей», о которых
говорил Макиавелли в своем письме-посвящении
Лоренцо Медичи, но в письмах друзьям он писал
о пытках, которым его подвергали, в ироническом
духе44. Насвистывать в темноте — редкое искусство.
Лоренцо, вероятно, так и не прочел «Государя»45— он был не самым ярким умом своей эпохи, —
а если бы и прочел, то это едва ли принесло ему
много пользы, поскольку он умер в 1519 году. За ним
последовал и сам Макиавелли в 1527 году, за пять
лет до публикации «Государя» в 1532-м. К этому
времени о книге уже говорили все. Есть мнение,
что она оправдывала как протестантскую Реформацию, так и католическую Контрреформацию. Она
вошла в первый папский «Индекс запрещенных
книг» в 1559 году. Она вызвала иронию у Шекспира, но сочувственный интерес у Джона Локка и американских отцов-основателей. Она создала — к счастью или к несчастью — современную дисциплину
«политическая наука». Она не дает моим студентам спать по ночам: «Это что же — я защищу ди134
ДУША И ГОСУДАРСТВО
плом, и мне придется делать то же самое?»46 Если
Августин писал, что в маленьких мальчиках скрываются большие грешники, то «Государь» — это маленькая книжка, которая вызывает большой шок
даже сегодня.
IX
Место книги, которое сильнее всего врезается в память, — это описание сцены на площади Чезены ранним утром 1502 года, где местный комендант Рамиро де Орко был найден рассеченным надвое. Между
двумя половинами тела лежал окровавленный меч
и стояла деревянная плаха. «Это чудовищное зрелище поразило жителей и одновременно вызвало
удовлетворение», — вспоминает Макиавелли. Чезаре Борджиа сделал Рамиро наместником в Романье,
наказав ему умиротворить бунтующую провинцию.
Он справился с заданием, но с такой жестокостью,
что так и не смог уже добиться лояльности местного населения. Поэтому Борджиа не просто прогнал своего подчиненного: он расчленил его и выставил части напоказ. Потрясение и ужас сделали
свое дело: ценой одной жизни было спасено множество других, которые пропали бы, начнись тогда
бунт. «Я не нахожу, — заключает Макиавелли о Борджиа, — в чем его можно было бы упрекнуть»47.
Легко предположить, но неправильно было бы
утверждать, что у Августина нашлись бы возражения по этому поводу: если бы ни один родитель
никогда не наказывал своего ребенка, спрашивает он, «кто из нас не вырос бы несносным?»48 Такая «суровость во благо» совершается ради высшего блага. Возможно, это жестокий акт — он был
таким для Рамиро и покажется таким ребенку, —
но все же это не то же самое, что сплошное наказание без разбора. Этот принцип, как для Августина, так и для Макиавелли, соответствует здравому
135
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
смыслу: если ты вынужден применить силу, не разрушай то, что ты стараешься сохранить49.
Таким образом, в этой устроенной Борджиа
страшной демонстрации частей человеческого тела
была своя мера: это были части тела только одного
человека. Эта идея высказывается вновь и в других
местах книги. Макиавелли положительно отзывается о правителях, которые прибегали к насилию
как средству достижения цели, приводя примеры
Моисея, Кира, Ромула и Тезея, но презирает сицилийского царя Агафокла, который упивался насилием до такой степени, что оно стало для него
самоцелью: «Но и доблестью нельзя называть убийство своих сограждан, предательство друзей, отказ
от веры, сострадания, религии, — такое поведение
может принести власть, но не славу»50.
«Высшая слава», напоминает нам Августин, состоит в том, чтобы «в самой войне выстоять словом, а не разить людей мечом». Но Макиавелли
подчеркивает, что это бывает чрезвычайно редко,
поскольку «расстояние между тем, как люди живут
и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто
отвергает действительное ради должного, действует
скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая
исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру». Таких людей в самом деле множество, признает Августин, и именно поэтому добрые люди могут быть вынуждены проливать кровь,
стремясь к миру. Но куда более достойная возможность — избежать «тех бедствий, которые другие
творят по необходимости». Макиавелли соглашается, но отмечает, что государь так редко имеет такую возможность, что, если он хочет остаться у власти, он должен «научиться быть не добрым и пользоваться этим умением в случае необходимости»51.
Что сообразно падшему состоянию человека, вздыхает Августин. Что подобает человеку, упрощает
Макиавелли. «Не парься. Иди дальше».
136
ДУША И ГОСУДАРСТВО
Таким образом, и этот святой, и этот грешник
видят путь в соразмерности. С точки зрения Августина, это указывает правителям, как бы глубоко они ни погрязли в беззакониях, обратный путь
из града земного в град Божий. Макиавелли не выдумывает человеческие сообщества, «на деле невиданные и неслыханные»52, но он стремится к virtù,
под которой он понимает исполнение должного
перед лицом необходимости без подчинения ей
во всех отношениях. Именно в этом он наиболее
оригинален — а также наиболее смел.
Как сказал лучший переводчик Макиавелли:
«[С]праведливость не более разумна, чем то, что
рассудительность человека велит ему приобрести
для себя или чему велит подчиниться, поскольку
люди не могут позволить себе справедливость ни в каком смысле, выходящем за пределы своего сохранения»53.
Осторожный флорентиец мог бы оценить литературные достоинства «Повести о двух городах» Диккенса, но он счел бы до крайности безрассудным
поступок героя романа Сидни Картона, храбро кладущего свою голову под топор палача под взглядами скучающей публики54.
X
Государства не могут позволить себе такой безответственности, и именно поэтому им нужны стратегии. Эти стратегии не могут зависеть, настаивает
Макиавелли, от понимания Божией воли: ведь даже
пытаться угадать ее — «самонадеянно и безрассудно»55. Человек должен решать свои проблемы сам,
но для этого ему нужны государи, а государям нужны советники. Советник не может говорить государю, что ему следует делать, но он может сообщать
ему то, о чем государю следует знать. Для Макиавелли это означает изыскивать модели — сквозь время, пространство и статус — путем смены перспек137
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
тивы. «Художники, зарисовывающие местность,
располагаются внизу на равнине, чтобы присмотреться к характеру гор и возвышенностей, а чтобы обозреть низменности, забираются на вершины.
Точно так же, чтобы постичь характер народа, необходимо быть государем, а распознать природу государя может только человек из народа»56.
Зарисовки, как их понимает Макиавелли, полезны для постижения сложного. Они не являются реальностью. Они даже не являются ее завершенным
представлением. Но они могут донести важнейшую, хотя и неполную, информацию как раз тогда,
когда она нужна. Поэтому они помогают составить
трезвое суждение, хотя никогда и не могут его заменить. Подобно вопросникам Августина, они показывают те направления, в которых может склоняться государь, уравновешивая противоположности.
Они связывают действия принципами для еще неизвестного будущего, показывая, как они связывали их в уже известном прошлом.
Можно завоевать государство, утверждает Макиавелли, «разрушив» его порядки и «истребив наследников» правящей семьи. Можно поселиться
в нем и править им самостоятельно. А можно «оставить там прежние законы, получая оттуда определенный доход и назначив там правительство из немногих лиц, которые сохраняли бы преданность
тебе». Это самый разумный путь: «самый лучший
способ удержать город, привыкший к вольности,
если ты хочешь сохранить его в целости, это использовать его собственных граждан»57.
Макиавелли не одобряет демократию в какомлибо ее современном смысле. Но он отдает предпочтение не жестокости, а согласию. «Гранды», то есть
«знать», говорит он, всегда будут хотеть угнетать
народ. Народ будет стремиться избежать угнетения.
Где же среди этих полюсов место государя? Ответ
Макиавелли прост и даже допускает количественный анализ: «от народа, вследствие его множества,
138
ДУША И ГОСУДАРСТВО
у государя нет никакой защиты; число грандов невелико, поэтому он может себя обезопасить»58.
Это не значит приобретать популярность заискиванием перед народом: в целом «гораздо надежнее внушать страх, чем любовь». Ведь любовь «поддерживается узами благодарности, которые люди,
вследствие своих дурных наклонностей, разрывают при первом выгодном для себя случае. Страх же
заключается в боязни наказания, которая тебя
никогда не покидает». Жестокие наказания, однако, следует применять немедленно — удар должен
быть стремительным и ужасающим, — а благодеяния следует распределять понемногу, «чтобы люди
лучше прочувствовали их». Вот почему государь
должен учиться определять тот момент, когда нельзя быть добрым: здесь выбор момента решает все59.
Таким образом, Макиавелли исповедует утилитарную мораль: действия нужно соизмерять с целью — не потому, что вам нужно попасть из одного
призрачного города в другой, а потому, что действенность одних шагов доказана, а других — нет60.
Если Августин — скрытый политеист, который
в смущении пытается совместить несовместимые
идеи Бога и Разума, то Макиавелли проявляет свой
монотеизм тем, что стремится прежде всего свести к минимуму хаос. Если он превозносит двуличие, то лишь потому, что оно эффективно: как еще,
не молясь, примирить противоположности в собственном сознании или политике? Макиавелли
всегда честен, хотя и не обязательно тактичен. Он,
как написал один из его биографов, «наименьший
макиавеллист из всех людей»61.
XI
В чем же состоит цель? Мне кажется, она выражается мечтой Августина о справедливости, которой
предшествует порядок. Стабильность может обес139
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
печить только государство, но Августин держит ответ только перед своим Богом. Макиавелли не атеист, но его Бог не управляет государствами. То,
что Римско-католическая церковь до сих пор имеет свое государство, пусть и сильно уменьшившееся
со времен римских императоров-христиан, — занимает, раздражает, а иногда и забавляет Макиавелли, но это не о будущем. Он даже винит церковь
в том, что она удерживает Италию в разделенном
состоянии, когда другие государства организуются уже не вокруг городов или регионов, а на основе
культур, языков и новых цивилизаций62.
Кто же в таком случае будет их контролировать?
Они будут делать это сами, отвечает Макиавелли,
обеспечивая равновесие власти. Во-первых, прежняя римская и католическая традиция всеобщности
сменится равновесием между государствами. Макиавелли предвосхищает государственное мышление
Ришелье, Меттерниха, Бисмарка, второго Кеннана и Генри Киссинджера. Согласно этому мышлению, формально воплотившемуся в Вестфальском
договоре 1648 года, внутреннее устройство государств значит намного меньше, чем их внешнее поведение63.
Однако Макиавелли понимает равновесие
во втором, более тонком смысле, более четко выраженном в «Рассуждениях», чем в «Государе»:
Заботятся же об общем благе одни только республики, ибо они исполняют все, что клонится к общей пользе. Если же принимаемые меры затрагивают кого-либо из частных лиц, большинство
остается на стороне общего интереса и заставляет предпочесть его вопреки мнению немногих
обиженных64.
Эта идея внутреннего равновесия, при котором конкуренция делает общество более сильным, возродится уже у Адама Смита в его рассуждениях
о «невидимой руке» в «Богатстве народов» (1776),
140
ДУША И ГОСУДАРСТВО
в идеях американских отцов-основателей о конституционных сдержках и противовесах, обоснованных в «Федералисте» (1787–1788), и в мыслях
Иммануила Канта о связи — пусть отдаленной —
республик с «вечным миром» (1795). Из всего этого
возникнет идея XX века о международной системе,
совместимой с порядком и справедливостью65, хотя
Августин предвидел ее намного раньше.
Это не равносильно утверждению о том, что Августин повлиял на Макиавелли, который повлиял
на Вестфальский договор, который повлиял на Вудро Вильсона: истории не требуется прямое наследование. Но в этом процессе поиска справедливости
(устремление) через порядок (возможность), охвативший тысячу шестьсот лет, видна устойчивая закономерность: Фукидид мог бы увидеть в ней одно
из повторяющихся моментов сходства, обусловленных человеческой природой.
Отсюда следует, что ясно осознанные четкие
и сжатые формулировки этих моментов сходства
могут помочь государству лучше подготовиться
к будущему. Макиавелли точнее всего выполнил
это требование: «Государь», перифразируя Панглосса — это лучшая из всех аналитических записок
о политике. Тем более что ее автор никогда не путал власть с разговорами о ней.
XII
Сибирские аборигены первого Кеннана, святой Августин и грешник Макиавелли создали стратегии
спасения: сибирские жители — от бурь, землетрясений, болезней, голода и огней, мерцающих в ночном небе; святой — от беспорядка на земле и адского огня; грешник — от бездарных правителей
и их недееспособных государств. Сибирские жители приносили в жертву животных, чтобы умилостивить богов. Святой искал Разума в едином Боге.
141
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Грешник обошелся вообще без богов — и Бога. У сибирских жителей были неписаные ритуалы задабривания высших сил. Августин изобразил в своей
большой книге воображаемые города. Макиавелли
подготовил записку для такого государя, который
в своей способности удерживать на ней внимание
безнадежно проигрывал ее будущим читателям.
Все предписывали процедуры: «Делай это, не делай того». Все соотносили прошлое с будущим:
«Это работало раньше — стоит попробовать снова».
Все пользовались чек-листами: «Прежде чем что-то
предпринять, пойми, что ты пытаешься сделать,
и убедись в том, что у тебя есть все, что для этого понадобится». Однако нельзя и не следует делать всего, поэтому также необходим выбор: «Это
мы можем себе позволить» или «Вот так будет правильно». Вы соизмеряете устремления с возможностями. Они представляют собой противоположности (первое свободно от ограничений, а второе ими
связано), но они должны соединиться. Это происходит только тогда, когда вы одновременно удерживаете в сознании и то и другое.
Это непросто. Августину не удалось показать,
как всемогущество Бога может сосуществовать
со свободой человека. Макиавелли решил эту проблему — Бог не все исполняет сам, — но создал другую, оставив Бога почти без дела. Все эти досадные
нестыковки оставались в этом виде до 1953 года,
когда Исайя Берлин прочел одну лекцию66. Он назвал ее «Оригинальность Макиавелли», но в эссе,
в виде которого она была опубликована, Берлин заново построил города Августина — ни разу не упомянув о них.
Почему, спрашивал Берлин, Макиавелли смущал стольких людей столько лет? Только в елизаветинскую эпоху его осуждали в печати порядка четырехсот раз67, — и мои студенты, которым
его мысли не дают спать по ночам, продолжают
эту давнюю традицию. Макиавелли, конечно, был
142
ДУША И ГОСУДАРСТВО
бестактен, но он честно предупредил в «Государе», что не будет заботиться об «украшении» своей прозы68. У него было мало иллюзий по поводу
человеческой жизни, хотя это не он, а Гоббс сказал, что она «одинока, бедна, беспросветна, тупа
и кратковременна»69. Макиавелли также не скрывал неприятные истины. Но ведь это Августин сказал о младенцах, что они не причиняют зла только
«по своей телесной слабости»70.
Великое прегрешение Макиавелли, заключил
Берлин, состояло в признании той истины, которая всем известна, но которую никто не признает:
что идеалы «недостижимы». Поэтому в государственных делах недопустимо искать баланс между
реализмом и идеализмом: есть только конкурирующие реализмы. В государственном управлении политика и мораль никогда не спорят друг с другом:
есть только политика. И ни одно государство не соблюдает христианское учение о спасении души. Эти
противоречия неразрешимы. Те, кто это отрицает,
как пишет Берлин, но как считал и Макиавелли, «колеблются и падают между двумя стульями и в конце
концов оказываются слабаками и неудачниками»71.
Что же тогда делать? К счастью, и Макиавелли, и Берлину была свойственна «легкость бытия»,
и оба дают на этот вопрос один ответ: «не париться». Учиться жить с противоположностями. У Макиавелли «не видно ни малейших признаков душевного страдания», — говорит Берлин (и это же
можно сказать о нем самом): «отшельники» всегда
могут «развивать свои добродетели в пустыне»,
а «мученики получат свое вознаграждение в будущем». Макиавелли «интересуют государственные
дела; безопасность, независимость, успех, слава, порочность, сила, счастье на земле, а не на небесах;
настоящее и будущее, равно как и прошлое; мир реальный, а не воображаемый»72.
Поэтому Августинов град Божий более не существует на земле — разве что для монахов-столпни143
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ков. А оставшийся град земной не имеет единого
пути к спасению. «Убежденность в том, что правильное, объективно правомерное решение вопроса
о том, как люди должны жить, в принципе может
быть найдено, — делает вывод Берлин, — эта убежденность принципиально не верна». Так Макиавелли расколол скалу, на которой «зиждилась интеллектуальная и социальная жизнь Запада». Это
он «поджег роковой фитиль»73.
XIII
Но роковой для чего? Из-за веры в единственно
правильные решения, как показывает Берлин, «католики и протестанты, консерваторы и коммунисты оправдывали и оправдывают чудовищные преступления, от которых у обычных людей стынет
в жилах кровь»74. Кровь у Макиавелли была холоднее, чем у среднего человека: например, он хвалил
Чезаре Борджиа и отказался осудить пытки, несмотря на то что сам был им подвергнут (Августин, которого никогда не пытали, занимал близкую позицию)75. Для Макиавелли, однако, было важно,
чтобы применение ужасных средств было соразмерным: они должны только предотвращать еще
большие ужасы — кровавую революцию, поражение
в войне, погружение в анархию, массовое убийство
или то, что мы сегодня назвали бы «геноцидом».
Берлин видит в этом «резерв (economy) насилия», понимая под этим «необходимость всегда
иметь в запасе силу, чтобы сохранять такой порядок вещей, при котором добродетели, вызывающие
восхищение его самого и тех классических мыслителей, к которым он [Макиавелли] апеллирует,
были бы защищены и могли процветать»76. Берлин
не случайно использует здесь множественное число
(virtues). Оно лучше, чем единственное число, в английском языке передает значение virtù у Макиа144
ДУША И ГОСУДАРСТВО
велли, предполагая неединственность стандартов,
по которым должны жить люди.
«Существует много разных целей, к которым
люди могут стремиться, оставаясь при этом вполне рациональными существами, — настаивает Берлин, — способными понимать друг друга… и друг
друга просвещать». В противном случае цивилизации существовали бы в «непроницаемой скорлупе»,
недоступные для понимания извне. «Взаимное общение культур возможно только потому, что то качество, которое делает людей людьми, свойственно им всем и является как бы мостом между ними.
Но наши ценности принадлежат нам, а их ценности — им».
Именно в этом тогда и коренится идея толерантности, которая «исторически является продуктом осознания несовместимости одинаково догматичных убеждений и практической невозможности
полной победы одного над другим». Они перерастают в болезненное, как на дыбе, напряжение,
между тем, чего требует жизнь государственная,
и тем, что дозволяет жизнь частная: одни анахореты на своих столбах находятся выше политики.
Возможно, существуют другие миры, в которых
все принципы находятся в гармонии, но «мы живем как раз на земле, и именно здесь мы должны
верить и действовать»77. Покончив с определенностью, Макиавелли показал, как. «[Э]та дилемма до тех пор не давала людям покоя, пока
не вышла на свет, — с легкостью заключает Берлин, — но мы научились жить с ней»78.
ГЛАВА 5
Государь как осевая фигура
В
М О Е М словаре «ось» определена как «деталь,
поддерживающая вращающиеся части машин
или механизмов. Воображаемая неподвижная прямая, проходящая через центр какого-либо
тела или пространства»1. Для поколений, живших
после Августина и Макиавелли, они уже давно стали
осями поворота истории «западной» мысли: и тот
и другой произвели переворот в давно сложившемся понимании отношений между душой и государством. Но ни тот ни другой не мог этого ожидать.
Они удивились бы, узнав, что затмили своей посмертной славой государей, которым служили, —
правителей, не знать о которых при их жизни было
просто невозможно. О них не могли не слышать
их самые незаметные подданные. Перед ними робели высочайшие властители. От их здоровья, душевной уравновешенности и репродуктивной силы
могли зависеть взлеты религий и падения народов:
они были мировыми звездами своего времени. Веками общества вращались вокруг них2. Но вращались по-разному.
Где-то в Англии, примерно в конце XVI века молодой дворянин является с опозданием на званый
обед. Еще не отдышавшись, он встает на колени перед почетной гостьей, смущенно опускает голову
и подает ей чашу розовой воды.
Из-за своей робости он видел только опущенную
в воду руку, унизанную перстнями; но и того до-
146
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
вольно. Рука врезалась в память: тонкая, с длинными пальцами, как бы навечно округленными
на скипетре или державе; нервная, злая, нездоровая рука; повелительная; рука, по манию которой
слетает с плеч любая голова; рука, как догадался
он, соединенная со старым телом, которое пахнет шкапом, где меха блюдутся в камфарных шариках, и, однако, обряжено в парчу и жемчуга —
прямое, как струна, несмотря на мучительную
ломоту в суставах; не сдающееся, как бы ни терзали его страхи; а глаза у Королевы были светло-желтые.
Да, это она, Элизабет Р, как она сама себя называла, и хотя вся ситуация вымышлена и юноша останется юным — может быть, благодаря неожиданной
«смене пола» — даже в начале XX века, этот отрывок
из романа-биографии Вирджинии Вулф «Орландо» позволяет нам увидеть великую стареющую королеву так близко, как это только возможно для нас
с такого расстояния3.
Тем временем в Испании, где идут похороны
короля, его сравнивают с ткачом. С виду это ремесло кажется простым, настаивает панегирист,
«но на самом деле оно очень трудно». Глаза ткача
неотрывно наблюдают за процессом и его мозг постоянно в работе: все концы бесчисленных нитей
должны правильно сочетаться, а ведь любая из них
может размотаться, запутаться, порваться...
Такова жизнь короля: он пишет руками, путешествует ногами, а от его сердца тянется множество нитей: во Фландрию, в Италию, в Африку,
в Перу, в Мексику, к английским католикам, к сохранению мира между христианскими государями, к проблемам Священной Римской империи...
Порвалась нить с Индиями? Скорее связать! Порвалась нить с Фландрией? Срочно чинить! Какая деятельная жизнь... сколько нитей, за которыми надо следить... О, какие превосходные,
какие несравненные царственные качества.
147
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Этот король — Филипп II, а год — 1598-й, и эта
речь доктора Агилараде Терронеса, в отличие
от поклона Орландо, вполне реальна4. Но его метафора позволяет уловить характер его героя,
а значит, и стиль его правления, не хуже метафоры Вулф.
Филипп бросается от одной горячей точки к другой, редко отдыхая и никогда не добиваясь полного контроля. Он гасит пожар в одних местах,
но он разгорается в других. Елизавета, в отличие
от него, не суетится. Она вмешается, когда потребуется — и по мановению ее руки чья-то голова действительно может слететь с плеч, — но время и место она выбирает сама. Она воздерживается
от ненужной траты ресурсов, энергии, репутации
и — что необычно для монарха — девственности.
Ее, как Пенелопу в «Одиссее», осаждают поклонники. Только в отличие от Пенелопы Елизавета
ткет не саваны, а стратегии5.
Король вслед за Августином видит в своей империи ткань, соединяющую град земной с градом Божиим, ни единой частью которой нельзя пожертвовать. «Я бы скорее лишился всех моих владений
и сотни жизней, если бы они у меня были, — заявил он однажды, — чем хоть в малейшей степени
поступился бы верой или служением Господу»6.
Для королевы, которой по духу ближе Макиавелли, ее государство (пока еще не империя) — это скорее театральная сцена, чем священная реликвия7.
«Верьте, — говорит она лондонцам на своей коронации, — что я буду вам лучшей королевой, чем ктолибо до меня… [и] что ради вашей безопасности
и покоя я не пожалею, если придется, собственной
моей крови»8. Филипп обещает быть послушным
Богу, а не своим подданным. Елизавета служит своим подданным, приспосабливая Бога к их интересам. Король благочестиво обращает взор к небесам.
Королева, прочно стоя на земле, занята земными
расчетами. Эти различия позволяют нам увидеть,
148
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
насколько идеи Августина и Макиавелли отвечают
требованиям управления государством на заре Нового времени.
I
Оба монарха должны были воспринять идеи Августина из католического учения: Филипп — ревностно, Елизавета — сомневаясь (она, несомненно, была
дочерью Генриха VIII); оба могли читать Макиавелли. Отец Филиппа, император Священной Римской империи Карл V, внимательно изучил «Государя», и работы флорентийца были в библиотеке
Филиппа, хотя и помеченные как запрещенные папой. В период взросления Елизаветы Макиавелли, благодаря переводам, уже приобрел в Англии
скандальную славу; ей хорошо давались языки,
и она могла читать его в итальянском оригинале9.
Ни она, ни Филипп не оставили комментариев. Однако их позиция по отношению к этим двум традициям достаточно ясна.
Принцесса Елизавета, которой не было в то время двадцати, открыто выражала недовольство,
когда ее заставили присутствовать на мессе после
коронации в 1553 году ее сводной сестры, католички
Марии10. Став через пять лет королевой, Елизавета
перестала посещать те службы, которые ей не нравились, и вслух поправляла те проповеди, которые
оставалась послушать. Одним из своих первых указов она заново ввела в употребление «Книгу общих
молитв» своего крестного отца Томаса Кранмера,
за которую его сожгла на костре Мария. Как и ее
родной отец, Елизавета стремилась не искоренить
английский католицизм, а придать ему национальные черты, отвергая авторитет папы в государстве,
которым правила. Как-никак, не считая уже тогда беспокойной ирландской колонии, это было ее
единственное государство11.
149
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Когда Карл V отрекался от престола в 1555–1556 годах, под его властью было столько государств,
что все их было уже трудно удержать в памяти: Испания с ее территориями в Новом Свете (Мексикой
и Перу), Нидерланды, Бургундия, значительные части Италии, Австрия, Венгрия и Богемия, а также
рассеянные форпосты вдоль побережья Северной
Африки и на островах, что позднее станут Филиппинами. Король Филипп II унаследовал большую
часть этого хозяйства12 вместе с извинениями отца
за «чрезвычайный» разрыв между доходами и расходами. Но и новый монарх не мог ничем поступиться: «честь и репутация» были превыше всего.
Решая эту тяжелую задачу, Филипп должен был положиться на «самое надежное — [на] Бога»13. Который и должен будет найти выход.
На медали, отчеканенной по приказу Филиппа в 1583 году после покорения Португалии вместе
с ее заморскими колониями, были выбиты слова:
“Non sufficit orbis” («Целого мира мало»)14. Фраза восходила к Александру Македонскому, но теперь лишь об Испанской империи можно было
сказать, что «над ней никогда не заходит солнце».
Но как всем этим мог управлять один король? Владея землями настолько более обширными, чем владения Елизаветы, он должен был бы намного проще
делегировать свои властные полномочия. Между
тем на деле все было как раз наоборот.
Елизавета легко уступала полномочия15: придворным фаворитам, покладистым служителям
церкви, богатой знати, предприимчивым капитанам — да и всем своим подданным, когда речь
шла об их внутреннем мире и понимании ими вопросов веры. Она даже не построила собственного дворца, а просто забирала, совсем или на время,
те, что были ей по душе. В этом она следовала Макиавелли, ибо если Бог не желает брать на себя все,
то почему должна это делать она? Достаточно относиться к миру с благоговением, установить гра150
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
ницы и, подобно Августу, позволить вещам расти
самостоятельно, охраняя при этом — где мягким
маневром, а где и свирепым ударом — свою независимость16.
Филипп, как и Августин, видел во всем Божий
промысел. Это делало неразделимыми интересы Бога и интересы короля как исполнителя Его
воли. Так что делиться властью (даже при том,
что от приказа до его исполнения в мировой империи уходили целые месяцы) едва ли было возможно. Что же касается дворцов, то Филипп сам
составил план Эскориала — этого самого величественного из монастырей, когда-либо служивших
резиденциями монархов. Затем он наполнил его
реликвиями и уединился среди них, неспособный увидеть ничего за поглотившими его делами
и океаном бумаг17.
Правитель микрогосударства, занимавшийся
макроуправлением, таким образом, сосуществовал во времени с правителем макрогосударства, занимавшимся микроуправлением. Это нельзя объяснить ни географическими, ни логистическими,
ни коммуникационными факторами. Но это вполне понятно как отражение склада ума двух разных
государей, а следовательно, и различия в их представлениях о взаимоотношении человеческой души
и государства, и это важно настолько, что этим различием определялось будущее всего мира, которым
скоро будет править Европа.
II
Филипп уже однажды был королем Англии и снова хотел им стать. Королева Мария вышла за него
замуж в 1554 году, надеясь родить наследника
и при этом связать свое государство с великими
католическими державами Европы. Карл V, тогда
еще император Священной Римской империи, от151
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
давал предпочтение этому союзу, и Филипп, еще
не ставший королем Испании, покорно согласился. Но единственная беременность Марии оказалась
ложной, и Филипп, чья власть в Англии имела лишь
матримониальный характер, бывал в стране нечасто.
Брак с иностранным принцем не добавил Марии популярности, а сожжение на кострах вслед за Кранмером сотен новых «еретиков» и сдача французам
Кале, последнего английского форпоста на континенте, в 1558 году, окончательно лишили ее народной поддержки. Мария умерла позже в тот же год,
ни у кого не вызвав слез. С ее смертью Филипп, теперь полноправный властитель империи, опоясавшей всю землю, утратил свою номинальную власть
на небольшом лишенном солнца острове18.
В период правления Марии положение Елизаветы было весьма шатким. Будучи дочерью Анны
Болейн, жены Генриха VIII, от которой он отрекся и которую обезглавил, она не имела бесспорных прав на трон. Она проявляла мало уважения
к римскому католицизму, который усиленно восстанавливала Мария. Она знала о заговорах против королевы, хотя и не была их прямой участницей. Но главная угроза, которая шла от Елизаветы,
заключалась в ее популярности: принцесса всегда
имела успех на публике и всячески обыгрывала этот
контраст с королевой19. Мария держала ее в неопределенности: она то тепло принимала ее, то удаляла от себя под домашний арест (хотя и в замке),
а однажды заключила Елизавету в Тауэр, заставив
ее всерьез опасаться того, что ей придется разделить судьбу матери.
Наиболее влиятельным покровителем Марии
был Филипп. Если бы она умерла, не оставив потомства или при родах, как умирало в ее время так
много женщин20, — он предпочел бы, чтобы на трон
взошла Елизавета, а не ее двоюродная сестра Мария Стюарт, предполагаемая наследница шотландской короны. Эта другая Мария выросла во Фран152
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
ции, первой сопернице Испании, и уже давно была
помолвлена с Франциском, сыном короля Генриха II. Кроме того, если бы Елизавета стала королевой, то Филипп, став вдовцом, мог стать ее мужем.
Так, по мере ухудшения здоровья королевы Марии,
Англия колебалась между сферами влияния Франции и Испании. Филипп знал, какое направление
желательно для него21.
А Елизавета? Еще будучи принцессой, она часто
заявляла, что ее устраивает незамужнее состояние22,
но после ее коронации в ноябре 1558 года многие
ждали, что она последует примеру Марии, выйдет
замуж и, если ей повезет больше, родит наследника.
Все-таки их отец считал престолонаследие по прямой линии своей главной заботой (хотя и обеспечивал его жестокими средствами). Усыновление — альтернативный вариант, применявшийся римлянами,
который избавил бы его от многих проблем, — давно не использовалось, и для законной преемственности (за немногими исключениями)23 теперь нужен был наследник королевской крови.
Но пока таких наследников редко рождали правящие королевы. Браки, как бы ни были они рискованны для супруг Генриха, никогда не создавали
опасности для его жизни, но для жизни Елизаветы
такая опасность возникала бы с каждой беременностью. Однако даже при благополучных родах ее
независимость, которой она дорожила не меньше,
чем ее отец, была бы поставлена под угрозу почти
всеобщим представлением о том, что жены должны слушаться своих мужей: Мария, обладая исключительным правом на власть, все же дала Филиппу втянуть себя в войну с Францией, в которой
Англия утратила Кале. Даже внешность мужа могла оказаться проблемой. Елизавета предпочитала
мужчин приятной наружности, но не могла выйти замуж за какого-нибудь из английских фаворитов без того, чтобы не привести в ярость остальных.
Это затруднение устранял брак с иностранцем, но,
153
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
живя в разных странах, будущие царственные супруги редко имели возможность увидеться до заключения брачных договоренностей, а портреты
в ту дофотографическую эпоху могли исказить образ человека настолько, что это порой приводило к катастрофическим последствиям. Вспоминая
о том, какое отталкивающее впечатление произвела на Генриха VIII его четвертая жена Анна Клевская при их первой встрече всего за несколько дней
до свадьбы, Елизавета говорила, что не станет «доверять портретистам»24.
Филиппа же она видела, когда он был в Англии, и знала, хотя и не любила это признавать,
что он старался защитить ее25. После смерти Марии Филипп, не теряя времени, сделал Елизавете предложение, но новая королева отклонила его,
вежливо заметив, что их королевства и без свадьбы могут иметь дружественные отношения, которых он, по его словам, желал. Истинная цель короля, как говорил он в частных беседах, состояла
в том, чтобы «не позволить этой даме произвести
задуманные ею изменения в религии и тем самым
послужить Господу». Ее же цель состояла в том,
чтобы изменить религию и вновь добиться независимости от Рима. Это расхождение целей стало явным уже в первые месяцы после восхождения
Елизаветы на трон, и тогда Филипп сделал предложение Изабелле Валуа, дочери Генриха II, которая
стала его новой женой26.
В следующую четверть века вниманием Елизаветы пользовались больше десятка поклонников27,
каждого из которых она отвергала после некоторого периода увлечения. Причины такого ее поведения неизвестны по сей день. Возможно, она боялась
секса или родов. Возможно, ее преследовали навязчивые мысли о несчастных браках ее отца. Возможно, она не хотела делить трон с соперником, как бы
он ни был титулован. Возможно, она оттягивала решение, пока не стало слишком поздно: она тасовала
154
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
претендентов даже когда ей было далеко за сорок28.
Однако самое вероятное объяснение заключается
в том, что она ценила свое положение, позволявшее
ей быть у штурвала. Ее стратегия, как пишет историк Гаррет Маттингли,
состояла в том, чтобы создать из придворных
и советников, дипломатов и посланников, королей и континентальных держав сложный узор,
сплетенный столь хитро и тонко, чтобы каждая его часть уравновешивала другую, а она сама
всегда была свободна29.
За это она, конечно же, должна была платить одиночеством, нося это гордое тело, «не сдающееся,
как бы ни терзали его страхи», как пишет о ней
Вирджиния Вулф. Но так же, как интересы Филиппа, по его убеждению, соответствовали Божьим интересам, так и интересы Елизаветы соответствовали интересам ее скромного островного государства,
которое, однако, способно было в будущем стать
центром событий.
III
Филипп чаще оказывался мишенью для обстоятельств, чем осью вращения, застревая одновременно в нескольких местах. Он получил известие
о смерти Марии, а также своего отца Карла V, недавно отрекшегося от престола в Испании, в тот момент, когда отражал нападение французов на Нидерланды. То, что произошло в Англии, должно
было определить будущее католицизма в этой стране, но Филипп слишком долго обходил вниманием
свою родную Испанию. Но выход из войны без заключения мира сломил бы волю голландцев к сопротивлению, хотя Филипп признавал, что его присутствие в этой стране «никак не располагало их
к нему» и что, «похоже, их устроил бы любой мо155
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
нарх», кроме него. Они подтвердили эти догадки, урезав его доход, а его сестра Хуана, бывшая
в то время регентом в Испании, столь резко отвергла его просьбу о выдаче дополнительных средств,
что Филипп испугался, что над ним насмехаются.
И все же король настаивал, что как абсолютный монарх он не обязан признавать над собой «никакой
высшей светской власти на этой земле»30.
Как же могло получиться, что Филипп, не имевший над собой никакой власти, был буквально парализован ограничениями? Отчасти это объяснялось тем, что его семейство, вездесущие Габсбурги,
давно поставило династические узы выше всех географических, экономических или культурных связей: о них говорили, что они завоевывают территории браком. Поэтому Филипп правил пестрым
собранием народов, не считавших себя обязанными ему долгом верности, и зависел от поступавших
от них доходов31. Проблема усугублялась отсутствием общих границ и тем, что король не любил
делегировать свои полномочия. Ему приходилось
быть мысленно в нескольких местах одновременно и поэтому решать множество проблем. Но даже
Бог не мог дать ему возможность быть в разных местах еще и телесно.
Римляне управляли более обширной частью Европы, чем Филипп, с населением по меньшей мере
столь же пестрым, и при этом, пожалуй, более эффективно. Но их владения примыкали друг к другу, их администраторы не видели в делегировании
полномочий религиозного проступка, а их единственными соперниками были варвары, которые
брали свои жертвы измором целые столетия. Филиппу приходилось бороться с французами, англичанами, голландцами, португальцами, Священной
Римской империей, Османской империей, папством, но больше всего ему досаждала протестантская Реформация, распространявшая свою ересь
на значительной части континента. При таком ко156
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
личестве горячих точек не приходится удивляться,
что из сорока трех лет, проведенных им на троне,
этот король не воевал всего шесть месяцев32.
С мирской точки зрения его правление не было
неудачным: Филипп не потерял ни одной из территорий, оставленных ему Карлом V. Испания не отступалась от Нидерландов еще полвека после смерти
Филиппа, а Португалия со своими заморскими владениями оставалась испанской в течение шестидесяти лет. Испанские доминионы в Новом Свете, протянувшиеся в конечном итоге от середины Северной
Америки до Тьерра-дель-Фуэго, просуществовали
до начала XIX века, а местами — до 1898 года, соперничая в долговечности с Британской империей33.
Даже долги Филиппа, на которые он постоянно жаловался, не раз объявляя себя банкротом, могли быть
вполне терпимыми по современным стандартам34.
Но Филипп судил себя по более высокой мерке.
Он стремился служить богу, служа империи лишь
в той мере, в какой это соответствовало Божьим интересам. От всех прочих целей следовало «закрыть
уши и даже глаза», ибо они были недостойными
по определению. «Поверьте: это самый простой,
спокойный и надежный путь к достижению любой
цели». Вне всяких сомнений, он таковым и был,
пока Бог предоставлял средства для достижения
своих целей. Но Филипп с недоумением обнаружил, что Бог мог быть так же скуп, как и эти несносные голландцы. Поскольку все зависело от божественной воли, писал Филипп в 1559 году,
Я могу только ожидать того, что Ему угодно будет ниспослать… Я надеюсь, что Он даст мне
средства удержать мои владения и не позволит потерять их только из-за того, что у меня
нет средств их сохранить; такая потеря принесла бы мне величайшее горе, и я сожалел бы
об этом больше, чем о чем бы то ни было другом, что только возможно представить, и намного больше, чем если бы потерял их в битве.
157
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
«Моя единственная цель — делать все как следует, —
сетовал король. — Но я так неудачлив, что когда
я чего-то хочу… это часто кончается плохо. Так
устроен мир»35.
Филипп хотел лояльности подданных, процветания своих провинций, уважения соперников, возвращения к ортодоксии везде, где она оказывалась
под угрозой, а также чего-то менее определенного:
мира, которого «мало». Он не замечал противоречий между своими целями и того, что одни цели
могут быть достигнуты лишь в ущерб другим. Король отказывался признавать неодинаковую важность целей, хотя даже Бог проявлял избирательность, когда давал ему средства для их достижения.
Филипп предпочитал терзаться вопросами в духе
Августина. Как может мир, противодействующий
исполнителю Божьей воли, каковым считал себя
Филипп, все же отражать намерения Бога (которые,
по его убеждению, он должен отражать)? Бог не может быть изменчивым как Юпитер или злонамеренным как дьявол. Но, как полагал Августин, Бог может учить: может допускать неудачи людей ради
того, чтобы они становились лучше — в этом или будущем мире. Именно это стало основой большой
стратегии Филиппа: не планировать, не становиться центром событий, заставляя их вращаться вокруг
себя, а претерпевать их в духе истыканных стрелами святых мучеников. «Молите Господа, чтобы
на небе, — мрачно писал он в 1569 году, — нас ждала
лучшая доля»36.
IV
Елизавета, подобно Макиавелли, не ожидала ничьего одобрения и в нем не нуждалась. Она благодарила Бога — не Филиппа — за то, что не погибла, когда была принцессой, но, став королевой, она
редко искала наставлений — равно земных или не158
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
бесных. «Это очень странная женщина, — сообщал
испанский посол граф де Ферия, который, пообщавшись с новой королевой, нашел ее раскованной и словно бы даже смеющейся над его тайными
мыслями. — Похоже, что она очень хорошо освоила стиль правления своего отца. Она решительно
не желает, чтобы ей кто-то указывал»37.
Ферия был одним из первых, но отнюдь
не последних собеседников Елизаветы, которых
она ставила в тупик. Она могла быть по-детски
непосредственной или осторожной, прямолинейной или хитрой, храброй или боязливой, великодушной или мстительной, невозмутимой или неистовой и даже женственной или мужественной:
«У меня тело слабой и немощной женщины, — говорила она своим солдатам, когда испанская армада отправлялась восвояси в 1588 году, — но сердце
и дух короля — и притом короля Англии». Радуясь
противоположностям, эта королева была постоянна лишь в своем патриотизме, в настойчивом соотнесении целей со средствами, в своем категорическом нежелании быть прижатой к стене — и тем
самым заставляла события вращаться вокруг себя38.
Это проявлялось и в том, чего она ожидала
от религии. Помня о потрясениях, которые пережила ее страна — изгнании папы из английского
католицизма Генрихом VIII, переходе к строгому
протестантизму в краткое правление Эдуарда VI,
жестком возвращении к Риму при Марии, — Елизавета хотела единой церкви с разными формами
обряда и богослужения. Есть, говорила она, «только один Христос». Почему же к нему нельзя идти
разными путями? Теологические споры она называла «пустяками», а порой насмешливо «веревками из песка или слизи, протянутыми на Луну»39.
Но только до тех пор, пока они не касались независимости страны. При Елизавете церковь Господня должна была стать решительно английской:
«католическая» или «протестантская» вера значи159
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ли меньше, чем лояльность. С одной стороны, это
было проявлением веротерпимости: новую королеву
мало заботили верования ее подданных. Но она зорко, как ястреб, следила за их поступками. «Мне кажется, что Ее Величества боятся куда больше, чем ее
сестры», — предупреждал Ферия Филиппа. Учитывая,
что ее предшественницу прозвали «кровавой Мэри»,
это что-нибудь да значило. «Мы потеряли целое королевство — оно чужое нам душой и телом»40.
Дипломатия и оборона также должны были стать
независимыми. Елизавета, которой, к ее счастью,
достался остров, а не разрозненные провинции,
как у Филиппа, могла не тратить средства на содержание постоянной армии, приспосабливать флот
к задачам обороны или провокации и по мере необходимости заключать союзы — только временные — с врагами своих врагов на континенте. Божьим даром Англии была ее география. Благочестие
не могло ничего прибавить к этому дару, равно
как его отсутствие — что-то убавить.
Незажившими ранами на ее теле оставались
Ирландия и Шотландия (последняя все еще была
независимой страной): французы и испанцы пытались использовать беспорядки на обеих территориях в своих интересах. Но мятежники Елизаветы
никогда не доставляли ей столько хлопот, сколько доставляли Филиппу голландцы, бунтовавшие
с 1572 года (при поддержке Елизаветы, когда она
находила нужным ее оказывать). Не давая втягивать себя во внешние войны и применяя меры экономии у себя дома, Елизавета удерживала баланс
доходов и расходов на протяжении большей части
своего правления, а во втором и третьем его десятилетии даже «вышла в плюс». В отличие от Филиппа, она ни разу не объявляла банкротства41.
Строгость в денежных делах обычно не ассоциируется в нашем представлении с «легкостью
бытия», но Елизавета умудрялась совмещать одно
с другим. Эта легкость допускала флирт, который
160
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
обходился дешевле обязательств — как в отношениях с поклонниками, так и в отношениях с их державами. Она упрощала делегирование полномочий:
королева любила не только блеснуть сама, но и любоваться другими на публичной сцене42. Эта легкость допускала «стратегическое озорство»: когда
Елизавете не хватало денег, она разрешала своим
кораблям нападать на корабли Филиппа, которые
везли ценности из Америки. На его протесты она
лишь отвечала: «Может быть, это были пираты?»43
Легкость Елизаветы также сбивала с толку придворных, что позволяло ей контролировать ситуацию. Одной из ее особенно памятных жертв стал
граф Оксфорд44, который, однажды почтительно
кланяясь королеве, громко пустил ветры. Елизавета ничего не сказала и, казалось, ничего не заметила, но Оксфорд был страшно сконфужен и не появлялся при дворе семь лет. Наконец он появился
снова, поклонился (на этот раз без происшествий)
и застыл в тревожном ожидании. «Милорд, — ответила королева, (мне думается, здесь она сделала небольшую паузу), — я уже забыла, как Вы пернули»45.
Быть осью событий и надежно удержать ее можно только при помощи гироскопа. Гироскоп Елизаветы был лучшим в ту эпоху. Она уравновешивала
целенаправленное движение воображением, хитростью, юмором, точным выбором момента и экономией движений, которая, какие бы странные выходки
она ни совершала, позволяла ей надежно удерживаться на канате. Гироскоп Филиппа, если он у него
и был, постоянно сбоил. Она без видимого усилия удерживала инициативу во всем, что делала.
Он с огромными усилиями овладевал инициативой
в одной точке и тут же терял ее в другой. Она искусно стравливала врагов друг с другом. Он с тяжеловесной медлительностью сплачивал их против себя.
Она, управляя бедным государством, сохраняла его
в платежеспособном состоянии. Он, управляя богатым, просил и влезал в долги. Она никогда не чув161
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ствовала себя не подходящей для своей роли. Он часто сетовал, что бывает не на высоте своих задач.
Макиавелли, еще один прекрасный образчик
«гироскопического» взгляда, советовал своему государю быть «львом» и «лисицей» одновременно:
«львом» — чтобы отпугивать волков, «лисицей» —
чтобы видеть западни и капканы. Елизавета достигла даже большего: она сумела быть «львом» и «лисицей», оставаясь при этом женщиной, и умный
итальянец оценил бы это по достоинству. Филипп
как лев был великолепен, но он был только львом.
Макиавелли предупреждал, что такие государи могут попадать в ловушки из-за своей излишней совестливости. Ведь мудрый правитель «не может
и не должен быть верен обещанию, если это оборачивается против него и исчезли причины, побудившие его дать слово… До сих пор у всех государей
было в избытке законных поводов, чтобы оправдать нарушение обещания»46. Филипп, держа ответ
перед одним всевидящим Богом, не умел менять
окраску: может быть, именно поэтому он всегда
одевался в черное47. Елизавета, которая отвечала лишь перед самой собой, была ослепительна.
«Ее разнообразью нет конца. Пред ней бессильны
возраст и привычка»48.
V
Когда Макиавелли в этом контексте писал о вере,
или верности, он не обязательно имел в виду религиозные убеждения. Он просто имел в виду,
что обстоятельства меняются и что государям
не следует переносить старые обещания на новые
ситуации. Он не предвидел протестантской Реформации и едва ли успел узнать о Мартине Лютере
до своей смерти в 1527 году49. Через полвека, однако, при управлении государством уже нельзя было
так легко игнорировать религиозные расхождения.
162
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
Елизавете и Филиппу приходилось решать, в каких
случаях соблюдение предписаний веры совпадало с обязанностями государственного управления,
а в каких случаях они расходились.
На протяжении большей части 1560-х годов им
удавалось выдерживать осторожную дистанцию. Филипп укреплял свои позиции в Испании и защищал
Средиземноморье от турок-османов. Елизавета расширяла английское влияние в Шотландии, где из-за
гражданской войны во Франции Мария Стюарт, теперь королева шотландцев, лишилась внешней поддержки. Но разрядка в отношениях между Англией
и Испанией требовала разделения межгосударственных и религиозных отношений, что в условиях нарастания протестантских волнений в Нидерландах,
стране стратегически важной для обоих монархов,
становилось все менее реальной задачей.
Это заставляло Филиппа вести дорогостоящие
военные кампании, которые угрожали Елизавете,
но вместе с тем и искушали ее. Успех Испании привел бы к укреплению позиций этой католической
супердержавы в опасной близости от Ла-Манша.
Но Филипп не мог добиться этого без колоссальных затрат, которые можно было покрыть лишь
золотом и серебром, поступавшими из Америки.
Флот Елизаветы мог перехватывать испанские суда
в любой точке их долгого пути, а она легко признавала или отрицала эти действия, поскольку большие расстояния замедляли коммуникацию. Но она
пользовалась той же тактикой и в Европе, пряча
голландских пиратов в английских портах. Все
это позволяло ей если не полностью блокировать,
то сильно осложнять действия Филиппа на севере
Европы, вызывая его крайнее раздражение50.
Религия так же сильно мешала дипломатии. Послу Елизаветы запретили появляться при испанском дворе за насмешки над папой и проведение
протестантских служб; но она отказалась заменить
его, прикрываясь принципом дипломатической не163
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
прикосновенности. Тем временем посол Филиппа
в Лондоне тайно общался с Марией Стюарт, уже
низложенной королевой Шотландии, бежавшей
в Англию в надежде обрести защиту у Елизаветы.
В 1569 году Филипп лично заверил Марию в том,
что будет поддерживать ее, пока она тверда в католической вере (было известно, что временами она
колебалась).
Поскольку французы не оказали Марии поддержки, Филипп уже не боялся ее союза с ними.
Так он вернулся к делу, которое отложил десять лет
назад: возрождению римского католицизма в Англии. Тогда он надеялся получить помощь от Елизаветы, возможно, даже посредством брака. Теперь
он не рассчитывал на нее: «Должно быть, Господь
допускает... ее грехи и ее неверие, чтобы привести ее к гибели». Поэтому «...помимо моего особого долга удерживать в нашей святой вере мои
собственные государства, — говорил он, — я должен
делать все возможное, чтобы восстановить и сохранить ее в Англии»51.
План Филиппа лежал в общем контексте нового
католического крестового похода, целью которого, однако, было освобождение уже не Иерусалима,
а Кентербери. Обязанность служить государству,
о которой говорил Августин, превратилась в обязанность служить папской церкви, но уже не очищением Святой земли от неверных — эта война
была проиграна, — а истреблением европейских
христиан, отвергнувших авторитет Рима. После
Генриха VIII главным противником стала Англия,
и в 1570 году папа Пий V сыграл в этом противостоянии свою роль, отлучив Елизавету от церкви; теперь истинным католикам было разрешено
не только свергнуть, но и убить ее52.
Герцог Альба, командовавший войсками Филиппа в Нидерландах, сомневался в реалистичности всех этих идей: «Даже если главные средства,
как Ваше Величество весьма благочестиво полага164
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
ет, должны быть доставлены Богом, представляется необходимым понять, какие человеческие силы
потребуются для выполнения Ваших желаний».
Он не был уверен в том, что сможет организовать
нападение через пролив, или, если такое нападение
окажется удачным, что католики Елизаветы предадут ее, или, если они ее предадут, что англичане,
какой бы веры они ни держались, примут Марию
в качестве новой королевы. Вся эта масса непредсказуемых обстоятельств тревожила герцога, которому и усмирение голландцев в стране с гораздо
меньшей территорией далось достаточно трудно.
Тем не менее Филипп велел ему выполнять приказ: «Мое сердце так расположено к [этому вторжению], и я настолько убежден, что Господь, наш Спаситель, должен принять его как свое собственное
дело, что разубедить меня нельзя. Я также не могу
допустить обратное или в него поверить»53.
Но, указав Богу, что следует Ему делать, Филипп
потерялся во множестве собственных задач: мелочное управление империей, в которой никогда
не заходило солнце, лишало его ясного видения.
К облегчению Альбы, но к большому раздражению
Пия V и еще больше его преемника, Григория XIII,
король пустил свой великий план на самотек. В конце концов Филипп добился только одного: он заставил насторожиться Елизавету, которая поняла,
что больше не может позволить себе быть терпимой.
Если в начале своего царствования она не вызывала
такого страха, как «кровавая Мэри», теперь она поняла, что этот страх необходим.
VI
По словам Энн Сомерсет, написавшей биографию
Елизаветы, после папского указа «быть одновременно хорошим католиком и хорошим англичанином» стало невозможно54. В ситуации, когда
165
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Филипп, находясь на юге, сговаривался с Марией
Стюарт, находившейся на севере, Англия оказалась
если пока и не в военной, то в религиозной осаде.
Ястребиная бдительность и даже готовность мстить
стали теперь необходимы.
Елизавете уже пришлось применить второе
в 1569 году, после антипротестантского восстания
на севере Англии, которое было плохо организовано и которое удалось быстро подавить. Опасаясь,
что вожди восстания освободят бывшую королеву
Шотландии, содержавшуюся под домашним арестом в замке неподалеку, Елизавета яростно расправилась с их последователями, приказав казнить
больше участников одного восстания, чем это бывало когда-либо при Генрихе VIII или Марии Тюдор. Она настаивала на казни «самых отъявленных
бунтовщиков» ради «устрашения других», которые
иначе, наверное, добились бы большего при следующей попытке. Бедные, как объяснила королева, должны «принимать смерть с достоинством»55.
Бдительность оправдала себя в 1571 году, когда
был раскрыт самый изощренный до тех пор заговор с целью захвата Англии, низложения Елизаветы и возведения на трон Марии Стюарт. Связным
между Пием V, Марией, Филиппом и герцогом Альбой (единственным из заговорщиков, который сомневался в выполнимости его идеи) вызвался стать
флорентийский банкир Роберто Ридольфи. Ридольфи сам подтвердил правоту герцога: его излишняя
разговорчивость позволила шпионам Елизаветы выявить заговор и разоблачить его в нужный момент.
Тогда Марии еще удалось сохранить голову на плечах, но держалась она на них уже не так крепко56.
Как и многие другие лидеры, которым нравится
думать, что их любят, Елизавета открыто пренебрегала собственной безопасностью57. Это беспокоило
ее советников, которые всегда помнили, что она
не родила и не назначила наследника. Но именно здесь оправдалось делегирование полномочий.
166
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
В 1573 году она назначила сэра Фрэнсиса Уолсингема государственным секретарем, приказав ему делать все, что необходимо — ей не обязательно было
знать, что именно, — для защиты королевы и государства. Елизавета могла принять это, поскольку
сама сделала две эти вещи неразделимыми.
Уолсингем, который считал, что «чрезмерный
страх безопаснее, чем недостаточный», довел контрразведку, или «шпионство» (spiery), как это называлось в то время, до неслыханных крайностей. С помощью взяток, краж, ловушек, шантажа и пыток
он построил сеть осведомителей, которая охватывала всю Европу. Сложно было бы утверждать, что эти
меры были излишними: папа регулярно призывал
к убийству Елизаветы, да и сам Филипп одобрял такой шаг — при условии, что королевой станет Мария Стюарт58.
Благополучие Елизаветинской эпохи, которую
мы любим называть «золотым веком», было возможным только благодаря слежке и террору, применявшимся с сожалением и чувством покорности
неизбежному: это было еще одно из ее противоречий59. По своим инстинктам королева была гуманнее своих предшественников, но слишком уж многие из ее современников пытались ее убить. «В отличие от своей сестры, Елизавета никогда не сжигала
людей за их веру, — пишет ее современный биограф
Лиза Хилтон. — Она пытала и вешала их за измену»60. Терпимость, как мог бы сказать Макиавелли,
обернулась против Елизаветы. Она хотела, чтобы ее
любили, — а кто этого не хочет? Но государи явно
находятся в большей безопасности, когда их боятся.
VII
Филипп дал Елизавете новый повод для страхов,
когда в 1580 году овладел Португалией. Еще за сто
лет до этого Португалия освоила дальнюю оке167
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
анскую навигацию: теперь ее корабли и мореходное искусство ее капитанов оказались на службе
Испании61. Елизавета максимально использовала возможности своего более компактного флота,
отправив сэра Фрэнсиса Дрейка в трехлетнее кругосветное плавание — первое после Магеллана, показав, что в мире уже нет морей, по которым испанцы могут без опасений возить свои сокровища.
Но хотя эта экспедиция оказалась чрезвычайно
прибыльной для Дрейка, его королевы и инвесторов, она не меняла главного: если бы Филипп объединил свой флот со своей армией в Нидерландах,
считавшейся лучшей в мире и находившейся теперь
под командованием герцога Пармского, преемника Альбы, спасти Англию было бы очень трудно62.
Елизавета наносила ему новые булавочные уколы,
но ни один из них не был достаточно сильным, чтобы обратить вспять неблагоприятные перемены в балансе сил. Она увеличила денежную поддержку голландским мятежникам и впервые послала английские войска сражаться вместе с ними, но эти меры
не помогли остановить продвижение войск Пармы.
Она отправила Дрейка, также с пехотой, в Вест-Индию, где он грабил порты и вновь захватил богатую
добычу, но не смог удержать какой-нибудь постоянный плацдарм63. Между тем заговоры против королевы не прекратились, и любой из них в случае успеха делал Марию Стюарт безальтернативным претендентом на трон. За три года, с 1583 по 1585-й, агенты
Уолсингема раскрыли три таких заговора64.
После того как парламент приравнял переход
в католичество к государственной измене, в Англии начали регулярно казнить священников.
Но главным центром притяжения сил Контрреформации — «орудием, усиливающим угрозы»,
как выразился советник Елизаветы лорд Бергли, — оставалась Мария. Будучи пленницей королевы в северной Англии, она не отказалась от своей
веры, своих амбиций и своей готовности участво168
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
вать в заговорах65. Это ставило Елизавету в затруднительное положение.
Убить священника — это было одно; убить бывшую и, возможно, будущую королеву — совсем
другое. Елизавета испытывала ужас при мысли
о цареубийстве, памятуя о его страшной роли в английской истории. Допустив его, она стала бы в глазах всех кровожаднее «кровавой Мэри», сохранившей жизнь молодой Елизавете. Она оказалась бы
в моральном отношении ничем не лучше пап, убийством принуждавших людей к ортодоксии. Кроме
того, это могло создать угрозу неопределенности
в престолонаследии: что могло помешать Якову VI,
сыну Марии Стюарт и нынешнему королю Шотландии, воспитанному в протестантизме, обратиться в католицизм, если бы он уверился в том, что его
мать была убита несправедливо?
В конце концов Елизавета осуществила блестящий
маневр. Своими посулами она убедила Якова отречься от матери, одновременно подписав парламентский указ, запрещающий любому будущему монарху
быть католиком. Она позволила Уолсингему вовлечь
Марию при помощи поддельных документов в очередной реальный заговор, и та, забыв об осторожности, проглотила наживку. После ареста заговорщиков Елизавета настояла на их продолжительной публичной казни. Затем она организовала предъявление
Марии обвинения в измене, заявила, что вынесенный вердикт приводит ее в ужас, и обратилась к парламенту с вопросом, действительно ли смерть своенравной королевы настолько необходима. Получив
утвердительный ответ, Елизавета так долго откладывала подписание приказа, что ее советники в отчаянии подсунули его ей в стопке прочих бумаг, ожидавших подписи. Она подписала его как будто случайно,
но позже давала понять, что прекрасно знала, что делала, а вовсе не была жертвой их хитрости.
Опасаясь, что Елизавета передумает, они срочно отправили приказ в замок Фотерингей на севере
169
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Англии, где содержалась Мария. Казнь была быстро
исполнена — она состоялась 8 февраля 1587 года, —
и Елизавету быстро известили об этом. Сначала
она выглядела спокойной, но потом устроила одно
из величайших публичных шоу в своей жизни. Королева рыдала в истерике, кричала, что ее обманули, угрожала повесить организаторов и несколько
недель носила траур по мертвой королеве. Это было
очень похоже на то, как она вела себя с Дрейком,
когда сначала давала добро на его операции, а потом
открещивалась от них. Только здесь, действуя тоньше и по более серьезному поводу, она позволила себе
совершить шаг, от которого затем открестилась66.
VIII
Филипп, однако, после казни Марии не остановил своих приготовлений к вторжению в Англию.
Одной из причин этого было приобретение Португалии: «Если римляне могли править миром,
просто владея Средиземным морем, — напоминал
королю его капеллан, — что же говорить о человеке, который правит Атлантическим и Тихим океанами? — ведь они окружают весь мир!». Другой
причиной стала легкость, с которой адмирал короля маркиз Санта Крус изгнал французов, англичан и мятежных португальцев с Азорских островов
в 1582–1583 годах, поддержав идею реальной осуществимости десантных операций. Третьей причиной
было то, что новый папа, Сикст V, с той же непреклонностью, что и его предшественники, настаивал
на том, что реставрация католицизма в Англии —
это боговдохновенная миссия Филиппа67.
Филиппа раздражало давление со стороны папы:
он должен был понимать, что подавление мятежа
голландцев — не менее святое дело. Господу следовало сыграть свою роль и обеспечить вначале эту
победу, после чего Испания могла завоевать Англию.
170
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
Нельзя же делать все сразу. Но тут Елизавета не ограничилась булавочными уколами: когда до нее дошли
слухи о предстоящем вторжении, она дала Дрейку
добро на вылазки в самой Испании. Его короткая
высадка в Галисии осенью 1585 года стала для Филиппа шоком: он понял, что за ней могут последовать другие. В ситуации, когда он мог оказаться вынужденным защищать все иберийское побережье,
он убедил себя в том, что единственный способ справиться с Дрейком — это напасть на его собственную
базу. Приняв это решение, Филипп, уже не отвлекаясь, полностью сосредоточился на своем «английском предприятии». Смерть Марии ничего не меняла, лишь убедив его в том, что теперь Бог хочет
видеть его на английском троне вместо Елизаветы68.
Но Бог и на этот раз не смог дать ему необходимые для этого силы, удобные обстоятельства и организационную эффективность. Подготовка затягивалась из-за того, что король слишком дотошно
влезал во все вопросы, а также из-за постоянных набегов Дрейка. Готовившаяся операция давно перестала быть тайной, и любая надежда на внезапность
уже была утрачена. Ясности по поводу стратегии
не было: как именно Армада, которой после смерти опытного Санта Круса командовал герцог Медина-Сидония, не имевший опыта флотоводца, должна была соединиться с армией герцога Пармского
в Нидерландах, чтобы форсировать пролив? Крупнейший в истории флот вышел из Лиссабона в мае
1588 года и тут же попал в шторм, рассеявший его
и вынудивший его задержаться для ремонта и пополнения запасов в порту Ла-Корунья на севере
Испании. Филипп был непреклонен: «Если бы это
была несправедливая война, то шторм и вправду
можно было принять за знак Господа, посланный
нам, чтобы мы перестали грешить против Него», —
увещевал он упавшего духом герцога. Но «я посвятил это предприятие Богу... Так соберитесь же и делайте то, что Вам положено»69.
171
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
«Мир никогда еще не был столь опасен, столь
полон измены и коварства, как в наши дни», — писал Елизавете из Нидерландов несколькими месяцами ранее один из ее фаворитов граф Лестер70.
Порты ее были приспособлены скорее для торговли, чем для войны. У нее не было возможности
узнать, сколько из ее подданных тайно остаются
католиками. Герцог Пармский был близок к окончательному разгрому голландских мятежников.
А флот Елизаветы, как хорошо он ни был подготовлен, не мог сравниться по численности с мощным
флотом Медины-Сидонии, появившимся у Корнуолла 29 июля71. Зато у королевы была стратегия.
Первым делом она вернула Дрейка в Англию, понимая, что самое удобное место для встречи ее адмиралов с Армадой — это Ла-Манш, куда, как они понимали, она должна была прийти. Она не планировала великой битвы вроде сражения при Саламине
или Акциуме: ее флот должен был следовать за испанскими кораблями, вырывая их из строя по одному в ожидании более подходящих возможностей —
которые Филипп любезно предоставил. Задача боевых кораблей Медины-Сидонии состояла в том,
чтобы прикрыть баржи герцога Пармского, которые
будут доставлять его войска в Англию. Но в приказах короля ничего не говорилось ни о сроках операций, ни о средствах сообщения между адмиралом
и герцогом Пармским, ни о том, каким образом ветра и приливы приведут два флота из разных мест
в одну точку и затем в нужный момент двинут их
в одном направлении, к берегам Англии. Это была
немалая роль, оставленная Господу.
Флот Медины-Сидонии встал на якорь возле
Кале 6 августа, не получив никаких известий от герцога Пармского; для последнего, находившегося
севернее по побережью во Фландрии, прибытие Армады, о котором он узнал на следующий день, стало полной неожиданностью. Он уже начал в срочном порядке грузить свои войска на баржи, когда
172
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
пришло известие о том, что той ночью лорд-адмирал Елизаветы Чарльз Говард, воспользовавшись
попутным ветром, использовал брандеры, заставив корабли Армады в панике обрубить якорные
цепи и рассеяться. На следующий день у Гравлина флот Говарда сильно потрепал дезорганизованный испанский флот; герцог Пармский мог лишь
наблюдать за этими событиями с берега с чувством
полного бессилия. В течение суток Англия снова
оказалась в безопасности. Говард импровизировал,
зная, что получит одобрение своей королевы.
Англичане не победили Армаду, но они измотали ее, и это оказалось равносильно победе. Испанцам, которые в течение всего плавания могли рассчитывать только на припасы, полученные неделями раньше в Ла-Корунье, и уже не могли пополнить
их ни в одном дружественном порту, не оставалось
ничего другого, как пуститься домой долгим путем
через Северное море, в обход Шетлендских островов и затем вдоль негостеприимных западных берегов Шотландии и Ирландии. Первые корабли Армады вернулись в Испанию лишь во второй половине сентября: из 129 судов, вышедших в море в конце
июля, было потеряно не менее 50, а многие из тех,
что вернулись, пришлось отправить на слом. Половина всех отплывших в Англию людей погибла —
большей частью при кораблекрушениях, а также
от голода и болезней; общие потери могли достигнуть 15 тысяч человек. Англичане потеряли всего восемь судов, послуживших брандерами у Кале, и порядка 150 человек72.
IX
«Я надеюсь, что Господь не попустил столько
зла, — написал Филипп после того, как до него дошли первые вести о катастрофе, — ведь все делалось ради служения Ему». Но вскоре он уже пла173
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
нировал новое вторжение73, убежденный в том,
что Бог, посылая ему бедствия, лишь испытывает его. «Я обещаю сделать все необходимое, чтобы этого достичь... Я никогда не перестану стоять
за Божье дело»74. Конечно, и Августин говорил нечто подобное, но он настаивал на том, что если Бог
что-то и проверяет, так это нашу способность соразмерять наши цели и средства. Августин никогда
не предписывал беспорядочного уничтожения человеческих жизней и материальных ценностей ради
Божьих целей.
«Высадка с моря на опасный берег без единого собственного порта и без чьей-либо помощи
на суше — это больше похоже на государя, чрезмерно полагающегося на свою удачу, чем на государя,
наделенного разумом», — заметил сэр Уолтер Рэли
после неудачного похода Армады75. Эти слова вполне могли принадлежать Макиавелли. То же мог бы
сказать и Августин, только он заменил бы слово
«удача» словом «Бог». Почему же Филипп постоянно ошибался в ощущении этой меры?
Джефри Паркер, его лучший биограф, находит
ответ в «теории перспектив», сформулированной
уже в конце XX века: согласно этой теории, лидеры
чаще идут на риск, чтобы избежать потерь, а не ради
выигрыша76. Филиппу, владевшему империей, которую он унаследовал и затем расширил, было
что терять. Но странность в его поведении связана
с рисками, на которые он шел, чтобы вернуть территории, которых не терял. Филипп не был виноват в том, что Генрих VIII отпал от Рима или в том,
что Марии Тюдор не удалось искоренить его ересь.
Возможно даже, что эти беды, как и вся протестантская Реформация, были Божьей карой за столетия
папского произвола. Но Филипп не мог видеть это
в таком свете. Он был уверен в том, что Бог поручил
ему не только не допустить потери новых территорий, но и вновь сделать церковь вселенской, какой
она была в старину и в Средние века.
174
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
«[Е]сли бы Господь возложил на Ваше Величество обязанность избавить мир от всех бед, —
сказал Филиппу в 1591 году его личный секретарь, — он дал бы Вам на это денег и сил». «Я знаю,
что Вами движет великое рвение в исполнении
службы, — ответил король, — но Вы должны также
понимать, что это не то, чем может поступиться человек, столь добросовестно относящийся к выполнению своего долга, каким, как Вам известно, являюсь я... Дело религии должно иметь первенство
над всеми остальными делами»77.
Это был один из многих случаев, когда Филипп
прибегал к тому, что Паркер называет «духовным
шантажом»78. Когда его предупреждали, что его
цели превышают его средства, король заявлял,
что предупреждающие сами слабы в вере: Господь
возместит этот недостаток. Когда Господь этого
не делал, Филипп настаивал на том, что он сохранит свою веру, даже если Господь оказался не слишком внимательным. Бог безусловно испытывал
Филиппа. Но и Филипп считал себя достойным испытывать Бога.
X
Елизавета тоже испытывала Бога, но для нее самым главным была верность своей стране, а не универсальность католической веры. «Блеск и слава государевой власти не настолько затмили нам
взор, — заверяла она парламент незадолго до смерти, — чтобы мы не помнили, что и нам придется
держать ответ за наши дела перед великим судией». Однако она не выказывала никаких признаков страха перед этим вердиктом: по ее словам, она
была счастлива тем, что была избрана «Его орудием, чтобы отстаивать Его истину и славу и защищать это королевство»79. Если королева и государство были для нее чем-то единым, то «истина
175
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
и слава» и защита «этого королевства» были чем-то
единым для Бога.
Но определенность никогда не означала поспешности. Как только Елизавета стала королевой, отмечает историк Э. Уилсон, «ее советники и придворные призывали ее принимать те или иные решения:
следовать католической или протестантской вере;
выйти замуж; начать решительную и обременительную войну в Ирландии или Нидерландах. Елизавета почти всегда колебалась, подобно Гамлету,
и это состояние сомнения было если не правильной политикой, то по меньшей мере не было политикой ошибочной». Дело в том, что «Елизавета, как и Гамлет, понимала пагубные последствия
слишком большой точности и слишком твердой решимости в политике».
На первый взгляд они вовсе не похожи друг
на друга. Шекспировскому принцу, всегда одетому, как Филипп, в черное, не хватает легкости,
присущей Елизавете, — за исключением сцен его
сумасшествия, в которых он притворяется безответственным, даже безумным, чтобы разоблачить
своих врагов. Сомнения Елизаветы, которые могут казаться безответственными, в каком-то смысле служили тем же целям: напоминать советникам, за кем последнее слово; держать на расстоянии
поклонников, сохраняя благодаря этому баланс
в отношениях с их государствами; а, когда баланс
в конце концов оказался не в ее пользу, заманить
испанскую Армаду в Ла-Манш, где, доверяя своим адмиралам, она приготовила для нее огромную мышеловку. Стремясь к точности и решимости в любой из этих ситуаций, она могла оказаться
в ловушке сама. «Крестной дочери Кранмера, этого литургического мастера гендиадиса, — заключает
Уилсон, — была известна мудрость двоемыслия»80.
Мой словарь определяет «гендиадис» как «фигуру речи, выражающую одно понятие двумя лексическими единицами». Говоря проще, речь идет
176
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
о ситуации, когда две вещи могут быть или стать
одной. Как, например, новая религия, зачатая в похоти английского короля, могла заменить собой
веру, которой люди следовали тысячу лет? Наверное, благодаря тому, что она оставила покровительственный тон и говорила с ними на их собственном
языке. Уилсон приводит великолепные гендиадисы из «Книги общих молитв» Кранмера, придающие поразительную ясность языку — тогда еще достаточно молодому, чтобы развиваться:
Всемогущий и милосерднейший Отец, мы грешили и сбивались с Твоего пути, как заблудшие
овцы. Нас слишком сильно влекли затеи и желания наших сердец... Храни нашу милостивейшую
владычицу госпожу королеву Елизавету... даруй
ей здоровье, процветание и долгие лета; укрепи
ее силы, чтобы она могла побеждать и одолевать
всех своих врагов; и чтобы, перейдя в мир иной,
она обрела вечную радость и блаженство.
Казалось бы, два слова, образующие гендиадис, обозначают одно и то же: «грешили и сбивались», «затеи и желания», «здоровье и процветание», «побеждать и одолевать», «радость и блаженство».
Но среди подобных сочетаний могут быть и объединения противоположностей, вводимые столь
искусно, что мы этого почти не замечаем: «всемогущий и милосерднейший отец», или «наша милостивейшая владычица госпожа королева».
Они говорят нам о том, что отец может прощать,
женщина — править, а девственная королева — спасти страну и оставить наследие. Всё это были новые
возможности, которые блистательно открыла Елизавета — например, вдохновляя издали Шекспира,
пересыпавшего свои пьесы и стихи не только новыми словами, но и такими богатыми смыслом избыточными оборотами («Каким ничтожным, плоским
и тупым / Мне кажется весь свет в своих стремленьях!»), что, как выражается Уилсон, он «растягивал
177
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
и расширял английский язык», давая всем говорившим на нем «больше слов и, следовательно, больше
возможностей для описания собственного опыта»81.
Ведь если, как предупреждал Фукидид две тысячи лет назад, слова во время кризиса могут утрачивать свое значение, делая «всестороннее обсуждение... совершенной бездеятельностью»82,
то Шекспир и его Великая королева могли находить себе защиту во множественности смыслов:
где-то повторяющихся, где-то противоположных,
но всегда настолько укорененных в реальности,
чтобы находить себе непредсказуемые применения. Фигура гендиадиса противопоставляла культуру параличу в наступавшем новом мире.
XI
«Теплым июльским вечером 1588 года… в гринвичском королевском дворце лежала на смертном одре
женщина — пули убийцы засели у нее в груди и животе. Смерть похитила все ее величие: черты лица
исказились, губы посинели. Но отзвук ее последнего хрипа потряс полмира». Эта новость достигла
кораблей Армады, и Медина-Сидония мерил шагами палубу. «Но вот он принял окончательное решение. Поочередно все галеоны и караки, все галеры и неуклюжие уркасы развернули носы на север
в сторону английского берега. В сторону Гастингса,
где судьба страны решалась несколько веков назад».
Филипп II снова становится королем Англии,
протестантская Реформация терпит крах по всей
Европе, Испания правит всей Южной и Северной
Америкой, капитан Кук водружает над Австралией папский флаг. «Одни упивались наступившими временами в уверенности, что сбылись их упования и восторжествовал Божий промысел. Другие
полагали, что сгустилась тьма средневековья и воспрянуло к жизни все вроде бы безвозвратно канув178
ГОСУДАРЬ КАК ОСЕВАЯ ФИГУРА
шее в прошлое, чего и вспоминать-то не хотелось…
Над всем и всеми царила карающая и милующая
папская десница — духовенство Воинствующей церкви властвовало безраздельно»83.
В своем романе «Павана» 1968 года Кит Робертс
показывает, что могло случиться, если бы 380 лет назад направление истории сдвинулось хотя бы на небольшой угол. В 1960-е годы — время, о котором повествует роман, — в Англии ездят на паровых тракторах, пользуются для освещения свечами и передают
сообщения по семафору, потому что использование
бензина, электричества и телеграфа запрещено Римом. Использование радио, дозволенное лишь одной тайной организации, считается черной магией. Политика авторитарна, образование доступно
немногим, память туманна. «Это один из младших
елизаветинцев, — объясняет один из персонажей,
неожиданно вспомнив несколько строк из «Ричарда III», — которого мы изучали в школе. Только я забыла его имя. Мне он нравился»84.
Роман кажется настолько антикатолическим,
что он вполне мог бы попасть в папский «Индекс
запрещенных книг» (не будь этот индекс упразднен
в 1966 году), пока читатель не доходит до момента,
где другой персонаж неожиданно советует: «Не поноси и не презирай свою Церковь, ибо она обладает
мудростью, превышающей твое разумение». Выясняется, что все это время Рим владел современными технологиями, включая ядерные, но скрывал
их в ожидании того, что цивилизация дорастет
до них и сможет разумно ими распорядиться. «Она
жгла и вешала? Да, случалось. Но ведь не было Бухенвальда. Хиросимы. Сталинских лагерей. Бабьего Яра». Только древний — но настоящий — Армагеддон, который и был источником этого знания85.
Этот заключительный поворот сюжета сообщает
роману Робертса черты гендиадиса: церковь лучше
всех остальных осознает противоречия и справляется с ними, соединяя тем самым град Божий
179
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
с градом земным. Это, конечно, всего лишь роман.
Но альтернативные версии истории должны гоняться за историками, как привидения. Очень легко сказать, что Августин находится в раю, а Макиавелли в аду. А где, например, сейчас Филипп?
Если Бог есть, и это действительно католический
Бог, то король, никогда не изменявший своей вере,
достоин считаться одним из величайших мастеров
большой стратегии всех времен86. А Елизавета? Макиавелли, во всяком случае, мог бы составить ей хорошую компанию.
ГЛАВА 6
Два Новых Света
Н
Е Б У Д Е Т слишком смелым утверждать,
что эхо реальных событий 1588 года, разыгравшихся в проливе Ла-Манш, оказалось
достаточно громким и протяжным, чтобы «потрясти полмира»1. Весь предыдущий век португальцы
и испанцы, не имевшие до этого никакого особого
сейсмического значения, использовали свои достижения в судостроении и парусном вооружении судов и свое знание ветров и течений для исследования и покорения «странных новых вещей»2 во всей
их беспредельности. “Non sufficit orbis” — девиз Филиппа II и закон жизни его иберийских королевств
и приобретенной ими империи, был одновременно и эффектным, и точным: старого мира Евразии,
вмещавшей все прежние империи, действительно уже не хватало. Когда Армада снималась тем
летом с якоря в Лиссабоне, немногие из наблюдавших, как она исчезает за горизонтом, ожидали
чего-то иного, кроме прочного утверждения владычества католических монархий на всем пространстве мира, получившего название «Америки».
Да и как Бог мог оказаться не на стороне христианских королевств Кастилии и Арагона, если
за один только 1492 год они сумели вытеснить своих мусульманских соседей с их земель, изгнать собственных евреев и почти между делом увеличить
размеры всего известного мира? Если годом позже они, наряду с Португалией, получили на основании папского эдикта права на новые терри181
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
тории? Если Испании потребовалось только три
года, чтобы завоевать Мексику и чуть дольше —
чтобы установить контроль над Перу и обеспечить
себе практически неиссякаемые источники золота
и серебра? Если она сумела, пользуясь этими богатствами, установить единый административный порядок и даже единый архитектурный стиль на двух
еще не исследованных континентах? Если она уже
начертала для их столь разных обитателей единый
путь к спасению? Для свершений такого масштаба
мало одной уверенности в себе: они предполагают
знание Божьей воли и соответствие ей.
Но через двести тридцать пять лет после отплытия Армады один государственный деятель непреклонных протестантских убеждений составлял
в окруженной болотами новой столице светского государства столь же самонадеянное заявление своего
республиканского суверена: «американские континенты, добившиеся свободы и независимости и оберегающие их, отныне не должны рассматриваться
как объект будущей колонизации со стороны любых
европейских держав». Когда в 1823 году государственный секретарь «Соединенных Штатов Америки» Джон Куинси Адамс сделал доктрину Монро девизом этой страны, у нее еще не было средств
защитить «Новый Свет» от его «старых» хозяев.
Но у нее была та же вера в себя, что и у Испании
времен ее величайших свершений, и Адамс понимал, что этого достаточно3.
«Поражение испанской Армады, — утверждал
Джефри Паркер, — сделало американский континент беззащитным перед вторжениями и колонизацией североевропейцами, создав тем самым условия для возникновения Соединенных Штатов».
Если это верно, то единственный вечер 7 августа
1588 года стал, благодаря удачному направлению
ветра, умелым действиям лорда-адмирала и нескольким брандерам, поворотной точкой, определившей будущее. Если бы Филипп одержал победу,
182
ДВА НОВЫХ СВЕТА
он заставил бы Елизавету прекратить все плавания
англичан в Америку4. Но с момента, когда его капитаны приказали рубить якорные канаты, начался
медленный закат Испании и постепенное наступление нового мирового порядка.
I
Во времена Армады заокеанская экспансия англичан только начиналась. Слово «колония» означало для них Ирландию. Название острова Ньюфаундленд5, на берегах которого они высаживались,
ассоциировалось для них с рыбой. «Исследование
новых земель» означало акционерные компании,
первая из которых имела внушительный титул,
«Мистерия: общество и товарищество купцов-искателей приключений для открытия неведомых земель»6, но выбрало неверную цель: в эпоху всемирного похолодания она направила все свои усилия
на поиск торговых путей в Китай через Гудзонов
залив и вокруг севера России. Кругосветное плавание Дрейка в 1577–1580 годах говорило об интересе
Елизаветы к дальним мирам, но к этому времени
Испания уже полвека контролировала Карибское
море, Мексику и обширные области Южной Америки. Первое английское поселение было создано сэром Уолтером Рэли на реке Роанок в Северной Америке только в 1584–1585 годах, но это предприятие
имело скорый и унизительный конец7.
Да, Испания вырвалась вперед, но Елизавета
не торопилась догонять ее. Она позволяла своим
купцам рисковать собственными судами и поселенцами, но не ее флотом или деньгами ее казначейства.
Она потворствовала операциям Дрейка, который
наводил страх на испанцев, но не питала никаких
иллюзий по поводу того, что одни его налеты смогут обезопасить ее державу. Понимая недостатки
чрезмерной регламентации в духе Филиппа, она
183
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
стремилась сделать свои заморские предприятия
самодостаточными. Они начинали интересовать ее
только тогда, когда она убеждалась, что в них также присутствуют интересы других — в основном,
хотя не исключительно, коммерческие. Так она заложила исходную матрицу будущей Британской
Америки: «сборной солянки» колоний, не имеющих общей цели, связанных скорее с морем и Англией, чем друг с другом, растянувшихся по побережью от Массачусетса до Джорджии тонкой полосой
длиной в полторы тысячи километров и управляемых по большей части в мягкой и необременительной, если не сказать рассеянной, манере8.
Испанская Америка имела к 1750-м годам в шесть
раз больше населения и во много раз больше территории и ресурсов, чем ее северный сосед. По великолепию городов, исправности дорог и единообразию порядков она не уступала Римской империи:
здесь не было ничего похожего на рассеянность.
Историк Джон Элиот писал, что человек благородного сословия, живущий в Мехико и приехавший
в Лиму — город, расположенный на четыре тысячи километров южнее — чувствовал бы себя совершенно как дома: «Гражданские учреждения были
одинаковы; богослужебные обряды также ничем
не отличались». Ничего подобного нельзя было
сказать о британских колониях, «где разное происхождение жителей, разные мотивы для эмиграции и разные религиозные верования и обряды создали мозаику из разных поселений, возникших
в самое разное время и самыми разными способами»9. Представьте себе молодого Джона Адамса, отца Джона Куинси, среди плантаторов Вирджинии или рабовладельцев Южной Каролины:
контраст культур был бы почти таким же резким,
как если бы он и вправду оказался в Лиме.
Испания, подобно Риму, схватывала своеобразие единством. Это могло давать впечатляющие
результаты, потому что иначе экспансия двух этих
184
ДВА НОВЫХ СВЕТА
империй вряд ли оказалась бы столь масштабной
и быстрой. Но оборотной стороной этого процесса
были их неглубокие корни: при любых неурядицах
власть начинала шататься10. Англичане распространяли свое влияние медленнее, но легче адаптировались к изменениям условий, особенно в Северной
Америке: когда здесь начались проблемы, это окончилось республиканским революционным трансфером власти, а не распадом государства, пример которого подрывал основы империй по всему свету
еще два столетия.
II
И все же как необременительная — если не сказать невнимательная — власть могла дать такой результат? Мне кажется, ответ на этот вопрос как-то
связан с необходимостью приспособления фундамента постройки к почве, на которой она стоит. Деспотическая и целеустремленная власть может порождать внешне монументальные строения,
но лишь ценой сглаживания рельефа или даже
полного разравнивания площадки в духе Ксеркса
и современных автострад. Но такая плоская топография невозможна по определению, ибо неровности земли отражают ее природу: континенты движутся, сталкиваются, скользят и наезжают друг
на друга. Рассчитывать на стабильность — один
из самых верных способов оказаться среди руин.
Запас гибкости позволяет смягчать неожиданные
потрясения.
Таким образом, могут быть причины для сопротивления единообразию, учета особенностей
ландшафта и даже нерешительности и проволочек. Так царствовала Елизавета, которая ввела такие новшества, как правление без брака и религиозная терпимость (конечно, в известных пределах),
и создала предпосылки для удивительного расцве185
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
та языка. Каждое из этих следствий было реакцией
на обстоятельства, ни одно из них не проистекало
из каких-то грандиозных замыслов. Такой же гибкостью могла отличаться и деятельность ее акционерных обществ. «Отсутствие жесткого контроля
со стороны британской короны на ранних этапах
колонизации, — пишет Элиот, —
создавало значительный простор для развития
тех форм правления, которые казались наиболее
подходящими людям, активно участвовавшим
в заморских предприятиях и создании заморских
поселений — как тем, кто давал деньги на эти
проекты, так и самим поселенцам — при условии, что они не нарушали положений королевской хартии.
В отличие от испанских колоний в Новом Свете, а также территорий по берегам Великих озер,
реки Святого Лаврентия и Миссисипи, на которые
позднее заявила свои права (но почти не заселила)
Франция, Британская Америка «представляла собой общество, чьи политические и административные учреждения скорее росли снизу, чем навязывались сверху»11. В итоге из нее получился крайне
пестрый организм, который был, однако, сложной
системой с высокой адаптивной способностью.
Ученые утверждают, что такие системы формируются в условиях необходимости частого —
но не слишком — реагирования на непредвиденные ситуации. Жестко контролируемые структуры
вызывают излишнюю самоуспокоенность, которая осложняет решение проблем при сбоях систем
управления, которые рано или поздно происходят.
С другой стороны, если такие сбои происходят постоянно, система не имеет времени на восстановление нормального режима и постоянно находится
в лихорадочном состоянии. Таким образом, в природе наблюдается баланс между процессами интеграции и распада, и именно здесь, на «границе
186
ДВА НОВЫХ СВЕТА
хаоса», обычно происходит адаптация, и особенно
самоорганизация12. Новые политические миры развиваются по тем же законам.
III
Британские североамериканцы жили на нескольких границах одновременно: на границе безбрежного, но судоходного океана, на границе континента, права на который заявила Испания на юге
и Франция на севере и западе, а также на границе разлада, порожденного в метрополии преемниками Елизаветы, чьи гироскопы работали гораздо хуже гироскопов самой Елизаветы. Она с таким
мастерством очаровывала, запугивала и улещивала
парламент, то прислушиваясь к его мнению, то игнорируя его, что между ними никогда не случалось
прямой конфронтации13. Первые Стюарты, в отличие от нее, то и дело затевали драки, из которых
не могли выйти победителями. Они также стерли различие между тем, во что люди верят, и тем,
что они делают, которое четко проводила покойная
королева, играя с огнем в то самое время, когда Европа уже вползала в Тридцатилетнюю войну, вызванную именно религиозной рознью. К 1642 году
гражданская война разразилась и в Англии, и ее
причины были столь сложными, что историки
до сих пор спорят о том, кто с кем и за что воевал14.
Через семь лет Карл I поплатился за этот конфликт
собственной головой.
Насилие, а также надежда на новые коммерческие возможности, религиозную терпимость и менее деспотическое правление в Америке — всё это
подталкивало людей к эмиграции. События внутри страны, требовавшие жестких репрессивных
мер, даже неудавшийся республиканский эксперимент (при Оливере Кромвеле) — всё вынуждало
Лондон мириться с «мозаикой поселений» в коло187
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ниях. К тому времени, когда Карл II сделал мягкое правление собственным путем к «реставрации»
1660 года, этот стиль многообразия уже прочно
установился за океаном15.
«Ленивое, долгое и развратное»16 царствование
Карла II завершилось в 1685 году восшествием на престол его более «упертого» брата Якова II, чье правление было отмечено только последней из указанных
трех черт. Будучи ревностным католиком, он вознамерился вернуть Англию под руку Рима и при этом
«модернизировать» ее в духе централизованного
правления французского короля Людовика XIV, причем колонии вскоре должны были последовать примеру центра17. Но когда через три года у Якова родился сын и стало возможным католическое престолонаследие, Вильгельм Оранский, протестантский
штатгальтер Голландии и муж дочери Якова протестантки Марии, предпринял самое удачное вторжение через Ла-Манш со времен первого Вильгельма,
высадившегося в Англии в 1066 году. Яков был свергнут, Вильгельм и Мария заняли его место, и американцы вновь оказались предоставлены самим себе.
«Революция» 1688 года дала им возможность продолжить свою эволюцию, причем созданный ею прецедент оправдывал сопротивление любым будущим
попыткам остановить развитие того, чему до этого
позволено было развиваться.
Уроки 1688 года, как писал главный идеолог
этого переворота Джон Локк, заключались в том,
что «может быть всего одна верховная власть,
а именно законодательная, которой все остальные
подчиняются», и однако, «по-прежнему остается
у народа верховная власть устранять или заменять законодательный орган»18. Два эти принципа кажутся
противоречащими друг другу: как возможны две
верховные власти? Тем не менее именно эта головоломка, по мнению современного историка Роберта Тумза, заложила основания всей политической
культуры Англии после Стюартов:
188
ДВА НОВЫХ СВЕТА
Недоверие к утопиям и фанатикам, вера в здравый смысл и опыт, уважение к традиции, предпочтение постепенных изменений и убеждение
в том, что «компромисс» есть не предательство,
а победа — все это стало результатом поражений
как монархического абсолютизма, так и религиозного республиканизма — поражений, которые
обошлись дорого, но принесли свои плоды19.
Эти основания были «в духе» Елизаветы (подходящее словечко Макиавелли). Хотя Ее Величество
не приветствовала бы «конституционную» монархию, она поняла бы преимущества уравновешивания
противоположностей, ибо сама ежедневно практиковалась в этом искусстве. Она сочла бы попытки
своих преемников примирить противоположности
опасной глупостью. Она все-таки смыслила что-то
в искусстве политического садоводства: растения
растут лучше всего, когда садовник не боится разнообразия и не слишком пристально присматривается к корешкам. Так что она, вероятно, одобрила бы слова Эдмунда Бёрка.
IV
Который взошел 22 марта 1775 года на трибуну британского парламента, чтобы объяснить, чем стали
британские американцы. Это, отметил Бёрк, «молодой народ... еще не затвердевший в кость зрелости». Его отличает «отважное трудолюбие»,
явившееся наследием английской свободы, республиканизм, взросший на местной почве, разнообразие верований, выгодная, хотя и неуютная
зависимость от рабства и всегдашняя драчливая
готовность отстаивать свои права, сложившаяся
в условиях широкого распространения грамотности и необходимости опираться на собственные
силы при расстоянии в «пять тысяч километров
океана... между вами и ими». Они «практически
189
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ничем не обязаны нам за заботу», если не считать
таковой «мудрое и здоровое безразличие к их делам». «Я чувствую, — говорил он, — как благодаря
их достижениям во мне растворяется всякое высокомерие власти и исчезает всякая самодовольная
вера в мудрость человеческих ухищрений... Я прощаю что-то самому духу свободы»20.
В британской североамериканской политике
первой половины XVIII века «ухищрений» было
действительно немного. Затяжные европейские
войны без определенных результатов, а также рост
активности различных политических «партий»
на фоне ослабления монархии оставляли совсем
мало времени и сил на амбициозные колониальные проекты. Между тем вялость в выполнении
приказов, которую проявляли американцы, лишь
облегчала отказ от всяких попыток давать им указания. «Как большинство молодых новичков, я воображал, что... смогу радикально изменить положение дел, — описывал свое отрезвление в 1737 году
один из британских колониальных губернаторов, —
но некоторый опыт общения с этим народом, а также размышления о ситуации на родине совершенно
излечили меня от этого заблуждения»21.
Но такая вольница не могла длиться долго.
В 1751 году Бенджамин Франклин отмечал, что население колоний удваивается каждые двадцать
пять лет: через сто лет «большая часть англичан
окажется уже на этой стороне океана»22. Это делало настоятельно необходимой экспансию на запад, но на ее пути стояли французы и их союзники
из числа индейцев. Когда в 1754 году Джордж Вашингтон, тогда еще молодой полковник, не сумел
отбить британский пограничный форт23, разразилась новая война. В ходе этой войны, обязанной
своим названием семилетнему периоду, в течение
которого она шла, военные действия быстро охватили Европу, Индию и открытое море. Самым важным событием этой войны была потеря француза190
ДВА НОВЫХ СВЕТА
ми Квебека, захваченного Британией в 1759 году,
что, в свою очередь, вынудило Францию окончательно уйти из Северной Америки.
Парижский мирный договор 1763 года представлялся англо-американским триумфом, но на самом
деле он посеял среди победителей семена раздора.
Война заставила официальные круги Британии яснее взглянуть на отношения с Америкой: почему,
спрашивали министры короля Георга III, колониальная администрация послевоенного периода снова должна потерять контроль над ситуацией? Разве
не будет справедливым, если американцы, несущие,
по некоторым расчетам, самое легкое налоговое бремя, будут больше платить за обретенную ими безопасность? Могут ли британцы бесконечно накапливать долг, как бы мастерски ни финансировал его
сегодня Банк Англии? Разве не должен кто-то регулировать вопросы заселения территорий за Аппалачами, предотвращая конфликты между поселенцами и коренными американцами? Какой смысл
вообще иметь империю, если ты ею не управляешь?24 Но для американцев, уже привыкших к мягкому стилю правления, такие вопросы означали деспотическую власть, которая, придя однажды, может уже не уйти25. Последовало недоумение, затем
недовольство, а затем, с принятием Гербового акта
1765 года, — активное сопротивление. Не имея особых средств обеспечить исполнение закона на таком
расстоянии, парламент пошел на попятный, удовольствовавшись Декларативным актом 1766 года,
которым он оговаривал свое право на восстановление норм, которые только что отменил. Бёрк жестоко высмеял капризную раздражительность парламента: «Приняв этот закон, вы должны принять
другой, чтобы обеспечить исполнение первого, и так
далее, идя по бесконечному кругу тщетных и бесплодных усилий: каждый принимаемый вами большой закон должен сопровождаться малым, подобным оруженосцу, носящему его доспехи»26.
191
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Проблема состояла в противостоящих друг другу источниках верховной власти, о которых писал
Локк: народ должен повиноваться правительству,
но правительство должно выражать волю народа.
Однако он писал об этом натянутом канате применительно к небольшому острову, — протянутый же
через великий океан, где расстояния мешают трезвому размышлению и способствуют неповиновению, он становился слишком тонкой нитью. Бёрк
понимал это уже в 1769 году:
Американцы обнаружили, или думают, что обнаружили, что мы намерены их притеснять;
мы обнаружили, или думаем, что обнаружили,
что они намерены бунтовать. Наша суровость
усилила их неповиновение; мы не знаем, как наступать, они не знают, как отступать27.
Единственный выход — взаимное уравновешивание
недовольств: «Всякое правление, как и всякое человеческое благо и удовольствие, всякая добродетель
и всякое благоразумное действие основаны на компромиссе и обмене. Мы уравновешиваем неудобства; мы даем и берем взамен; мы уступаем одни
права, чтобы пользоваться другими... Но при любой честной торговле ценность покупаемой вещи
должна в какой-то мере соответствовать цене, которую за нее платят». Бёрк завершил свою речь
1775 года следующими словами: «Откажите [американцам] в этом соучастии в свободе — и вы порвете ту единственную связь, которая изначально
обеспечила и должна и далее обеспечивать целостность империи»28.
V
Биограф Бёрка Дэвид Бромвич заметил как-то
по поводу речи Джорджа Гренвиля, первого министра короля Георга III времен принятия Гербового
192
ДВА НОВЫХ СВЕТА
акта, что конец ее рассуждений «не помнил своего
начала»29. Гренвиль пытался доказать, что центр
империи может признавать ценность свобод ее
окраин и в то же время ограничивать их. Нечто
подобное попытался сделать Перикл в своей речи
в честь павших героев: он начал с восхваления афинян за то, что они уважительно относятся к своим
колониям, но в конце той же речи призвал их употребить силу для удержания их в подчинении30.
Оба оратора забыли к концу своих речей, с чего
они начинали: они забыли о том, что ценность покупаемой вещи и цена, которую за нее платят, должны быть соразмерны.
Память американских революционеров оказалась
более долгой. В школе они учились на античных
текстах (пусть и не на языке оригиналов) и видели
в поражениях греческой демократии и римской республики очевидные и убедительные уроки для себя.
Они чтили нормы, которые считали нормами саксонского общего права: нормы, которые были нарушены узурпаторами-норманнами, вновь отвоеваны
в Великой хартии вольностей, поставлены под угрозу Стюартами, спасены в 1688 году, и которым теперь
вновь угрожала продажность королей, парламентов и колониальных администраций. Их Декларация независимости не только отражала, но и дополняла такие книги, появившиеся в 1776 году и ставшие настоящим прорывом в освобождении умов,
как «Богатство народов» Адама Смита, первый том
«Истории упадка и разрушения Римской империи»
Эдуарда Гиббона и особенно «Здравый смысл» Томаса Пейна, по словам которого «предположение,
что этот континент сможет и далее оставаться в подчинении какой-либо внешней власти, противоречит
рассудку, общему порядку вещей и всем примерам
предшествующих веков»31.
Монархии, настаивал Пейн, возникли не благодаря их достоинствам, а лишь потому, что их история древнее нашей памяти. Первый король был, ве193
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
роятно, не более чем «главарем разбойничьей шайки». Вильгельм Завоеватель — это «французский
ублюдок, высадившийся во главе вооруженных бандитов и воцарившийся в Англии вопреки согласию
ее жителей», и в его происхождении «нет ничего божественного». Если бы природа одобряла монархии, она так часто не «обращала бы их в насмешку,
преподнося человечеству осла вместо льва». Есть нечто смехотворное в том, что «молодой человек двадцати одного года» (Георгу III при его восшествии
на престол в 1760 году было двадцать два) «заявляет нескольким миллионам людей старше и мудрее
его: „Я запрещаю вам иметь тот или иной закон“»32.
Республики нового времени, хотя они были невелики по территории и относительно редки, добились большего, чем Рим. Поощрение равенства
ограничивало высокомерие, а значит, и сопутствующую гордости амнезию: Голландия и Швейцария
мирно процветали в эпоху истребительного соперничества монархий. Сами американцы, по мере
того как их установления, основанные на колониальных статутах, сменялись представительными собраниями, становились республиканцами, потому
что слишком долго рассчитывали только на себя.
Их бойкая торговля и бедность золотом и серебром
могли предохранить их от захватчиков и «обеспечить им мир и дружбу со всей Европой» — с какой же стати им было «меряться силами со всем
светом?»33 Независимость могла страшить их только потому, что еще не сложилась архитектура нового государства: как тринадцать республик c континентальными амбициями могли оставаться вместе?
У Пейна не было ясных мыслей по этому поводу,
но он твердо знал одно: им «принадлежит неотъемлемое право иметь собственное правительство»,
и эта нужда весьма настоятельна. «Свободу травят
по всему свету. Азия и Африка давно изгнали ее. Европа считает ее чужестранкой, Англия же потребовала ее высылки. О, примите беглянку и загодя го194
ДВА НОВЫХ СВЕТА
товьте приют для всего человечества»34. Найдется
немного речей, конец которых столь ясно и отчетливо помнит их начало.
VI
Брошюра Пейна стала литературным аналогом брандеров Елизаветы: это было зажигательное устройство, призванное деморализовать противника, сплотить собственные силы для обороны
и заставить историю совершить поворот. Конечно,
не всё это было возможно сразу. В январе 1776 года,
когда «Здравый смысл» вышел в свет, ответ на вопрос о том, как обеспечить независимость Америки
(а не просто провозгласить ее) был далеко не очевиден. Но кое-чего Пейн все же добился, и это стало важным психологическим сдвигом. Англичане,
подобно испанцам в 1588 году, еще будут сохранять военное превосходство, но теперь им будет
сложнее убеждать себя в том, что на их стороне Бог
или история, справедливость или разум, или просто что уклон арены, на которой они бьются, дает
преимущество именно им35.
В Декларации Джефферсона, принятой шесть
месяцев спустя, этот главный пункт был выражен
с предельной ясностью: «Когда в ходе человеческой истории для одного народа оказывается необходимым... занять среди держав мира самостоятельное и независимое положение, на которое он имеет
право согласно законам природы и ее Творца, то уважение к мнению человечества обязывает его изложить причины, побуждающие его к отделению»36.
В какой бы спешке ни писались эти слова Джефферсона, они лишили англичан дара речи, и теперь им оставалось лишь продолжать делать то,
что они начали годом ранее при Лексингтоне, Конкорде и Банкер-Хилл: подавлять те самые свободы,
которые король и парламент обязались соблюдать.
195
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Как отмечал историк Джозеф Эллис, Джефферсон был подлинным гением упрятывания противоречий в абстракциях. Этот вирджинец, настаивавший на том, что «все люди созданы равными»,
прибыл в Филадельфию со свитой пышно разодетых рабов37. В его Декларации всеобщие принципы уживались с невероятно длинным списком прегрешений (всего их насчитывалось двадцать семь),
совершенных лично Георгом III — вот почему этот
документ невозможно сегодня цитировать в полном виде, не чувствуя при этом, что все это звучит
немного глупо. Джефферсон, как и Пейн, также
ничего не сказал о том, какой вид правления должен прийти на смену британскому тирану. Внимание к деталям не было сильной стороной ни того,
ни другого из наших патриотов.
И все же, будь они другой «породы», страна, быть
может, никогда и не попыталась бы начать свою
борьбу за независимость, ибо внимание к деталям гасит пламя брандеров. Концы их рассуждений не помнят их начал — именно поэтому Пейн и Джефферсон считали, что нужно прежде сдвинуть историю
с места, чтобы затем можно было начать ее творить.
Риторика — тот рычаг, которым они для этого пользовались, — должна была быть яснее самой истины,
а если потребуется — даже ее полной противоположностью38. Георг III не был не только Нероном,
но даже и Яковом II, и все же Джефферсон вычеркнул из списка прегрешений короля обвинение в том,
что он поддерживал работорговлю, ибо это повредило бы репутации рабовладения и тем самым сделало бы голосование за свободу менее единодушным39.
Единодушие стало возможным именно благодаря подобным компромиссам. Идеологически выдержанная Декларация была бы призывом к образованию «тринадцати разъединенных штатов
Америки», а это не могло быть вдохновляющей целью. Единый тон не отражал бы и полярные эмоции тех, кто подписывал Декларацию: патриоти196
ДВА НОВЫХ СВЕТА
ческий порыв и философскую рефлексию, мрачное
ожидание близящегося кровопролития, убеждение
в том, что на них обращены все взоры, и почти
юношеский восторг по поводу того, что им дано,
как выразился Пейн, «начать строить мир заново»40. Джон Адамс, обычно не одобрявший эмоциональной пиротехники в других (не считая,
разумеется, проявлений собственного дурного нрава), был проникнут тем же духом, когда призывал
«торжественно отмечать» годовщины принятия
Декларации — после благодарственной молитвы —
«зрелищами, играми, состязаниями, пушками, колоколами, кострами и иллюминацией от одного
края континента до другого, отныне и навек»41.
VII
Когда Адамс писал «континента», а не «страны»,
это вовсе не было опиской: творцы независимости регулярно пользовались фортификациями
географии. Пейн видел «нечто абсурдное в предположении, что континент будет вечно находиться под управлением острова». Франклин говорил,
что Британия израсходовала в 1775 году три миллиона фунтов, чтобы убить только «150 янки».
За тот же год родилось 60 000 американцев. Сколько потребуется времени и денег, чтобы «уничтожить нас всех?»42 Хотя Джордж Вашингтон, имевший теперь под началом Континентальную армию,
не располагал безграничным пространством для отступления, но все же места было порядочно; кроме того, его противник мог снабжать свои войска
только морем. Поэтому, как он объяснял позднее,
нужно было выжидать, проявлять осторожность
и «тревожить неприятеля, пока мы не сможем лучше обеспечить себя оружием и другими средствами
и не создадим более дисциплинированное войско»,
которое сможет добиться победы43.
197
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Но все это могло сделать только правительство,
а в 1776 году американцы еще плохо понимали, какого правительства они хотят. Поэтому они пошли
по пути создания правительств, представляющих
интересы каждого штата и непрочно связанных
между собой Статьями Конфедерации. Эти правительства основали союз, но не нацию: у них
не было главы исполнительной власти, судебного
надзора над законодательством и, что важнее всего, центральной налоговой инстанции44. Казалось,
что американцы сделали своей первой конституцией «здоровое безразличие». Но пока было неясно,
смогут ли они при той же мягкости правления, которая так нравилась им в старой Британской империи, удержаться от создания новой.
Ведь и на континентальных просторах армии
могут попадать в ловушки и принуждаться к сдаче. Именно это случилось с британцами в битве
при Саратоге в 1777 году и при осаде Йорктауна
в 1781 году. Они продолжали боевые действия после
первого поражения, но махнули на все рукой после
второго. Стали бы в таких обстоятельствах продолжать войну сами американцы? Конгресс Конфедерации с такой неохотой голосовал за снабжение армии Вашингтона, что к моменту заключения мира
в 1783 году он потерял всю веру в него. «Нашу независимость признают, нашу силу уважают и наш
кредит держится только благодаря нашему единству как империи»45, — предупреждал он.
Победу в этой войне американцам принесло понимание простой макиавеллистской истины: унижение, некогда причиненное конституционной монархией абсолютной, может побудить последнюю,
уже через много лет, спасти республиканского революционного выскочку. Все еще не оправившись
от горечи поражения, окончившегося переходом
Северной Америки к британцам в 1763 году, Людовик XVI благосклонно принял эмиссаров мятежных
штатов в Париже в 1776 году. Предложения аме198
ДВА НОВЫХ СВЕТА
риканцев о развитии торговли были туманными,
однако жажда мести, которую испытывали французы, была удовлетворена: они ответили признанием, финансовой поддержкой и «постоянным»
военным союзом. Своевременное прибытие французского флота к Йорктауну заставило англичан
окончательно капитулировать, — после чего американцы преспокойно «кинули» своего союзника, чтобы договориться с агентами его противника об условиях расширения своих границ на запад
до реки Миссисипи46.
Подвести этот результат под ту или иную категорию довольно трудно47. Было ли это победой
принципа или целесообразности? Прав человека
или правил политики? Легкости бытия или авторитарной власти? Республики или, как выразился сам
Вашингтон, «империи»? Просто сказать «всё, перечисленное выше» означало бы уйти от вопроса,
но и такой ответ был бы содержательным. Ибо если
Бёрк был прав в том, что правительствам следует
искать взаимный баланс неудобств, если Елизавета была права, предпочитая создавать прецеденты, чем быть связанной ими, и если Макиавелли был прав, предпочитая последовательности
меру, то американцы не просто импровизировали на ходу48. Даже Август оценил бы то, что сделали после этого их вожди: они затеяли вторую
революцию, чтобы исправить недостатки первой.
Но они столь умело сочетали при этом скрытность
и убеждение, что страна поняла, что с ней случилось, только тогда, когда все уже случилось49.
VIII
При всей их противоречивости американцы были
последовательны, до и после своей первой революции, в своем глубоком недоверии к правительству. После того как они так долго рассчитыва199
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ли только на себя, поселенцы воспринимали любое
действие британских властей, способное иметь
для них какие-то последствия, как зловещий знак:
«Самые незначительные инциденты, — отмечал
историк Гордон Вуд, — становились важнейшими конституционными вопросами, касающимися основных народных свобод»50. Столь сильная
аллергия так просто не проходит, и эта аллергия
сохранялась еще долго после 1783 года, когда Великобритания признала независимость Соединенных Штатов. Она просто обратилась на самих
американцев.
Может быть, победа сделала менее необходимыми терпение и выдержку. Может быть, она обнажила проблему, которую они пока старались
не замечать: обеспечила ли революция равенство
возможностей (право на общественное возвышение до степени неравенства с другими) или равенство условий (обязанность не допускать такого возвышения)? Может быть, порча британского
общества теперь, как оспа, перекинулась на американское? Может быть, законодательство, если
его не контролировать, всегда порождает тиранию
даже при парламентах и конфедерациях? Может
быть, самому народу нельзя доверять? Может быть,
британцы были правы — думали, но не могли сказать вслух некоторые американцы, — когда они пытались перейти от безразличия к более жесткому
правлению?
Внешне страна процветала. Несмотря на войну,
население росло темпами, которые предсказывал
Франклин. Заключение мира увеличило доступные
для заселения территории более чем вдвое. Экономическое благосостояние росло. «Если мы разорены, — писал в то время один житель Южной Каролины, — то это самое великолепное разорение
в мире»51.
Но так как ожидания были высоки, а новый
мир не возник, страхи подтачивали уверенность
200
ДВА НОВЫХ СВЕТА
нации в себе. Ничто так не беспокоило американцев, как перспектива того, что и после нанесения
ими унизительного поражения Великобритании
их самих все-таки не будут воспринимать всерьез —
как великую державу. Если их революция вызвала к жизни только лигу наций — если власть была
до такой степени распределенной, что не имела
центра, — как могла молодая страна внушать уважение любой из более старых стран, у которых такой
центр был? «С американскими штатами невозможно заключить никакой договор, который был бы
обязывающим для них всех, — жаловался в 1784 году
лорд Шеффилд, редактор «Упадка и разрушения
Римской империи» Гиббона. — Мы можем бояться
последствий объединения между американскими
штатами не более, чем между немецкими землями,
и протестовать против решений конгресса так же,
как против решений ландтага»52.
Остров, как выяснилось, не мог править континентом. Но могла ли править им республика? Республики такого размера не бывало со времен Рима,
а его прецедент был не самым ободряющим. Разрыв
с Британией возник по поводу налогов без представительства, которое сложно было организовать через океан. Но здесь речь шла о целом океане суши53.
«Мы перешли Рубикон, — писал автор одного памфлета, —
и вопрос теперь в том, распадемся ли мы на отдельные большие и малые кланы и орды, каждая
под управлением своих мелких предводителей
и властителей, которые будут тиранами настолько, насколько у них хватит смелости, и будут держать целый континент в состоянии постоянной
смуты… или мы все, или подавляющее большинство из нас объединимся в учреждении общего
и действенного правительства, под начало которого перейдет вся территория, уступленная Соединенным Штатам в 1783 году по Парижскому
договору54.
201
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Это было почти как если бы британцы, дав стране
такие границы, подложили ей мину замедленного действия: могла ли республика стать империей,
не заменив при этом (как, по мнению Гиббона, это
случилось с Римом) свои свободы тиранией?
IX
Вторая американская революция началась, в духе
Августа, целой серией заседаний, которые заведомо ничего не решали. Первое из них состоялось
в 1785 году в поместье Вашингтона Маунт-Вернон,
и его формальной причиной было стремление положить конец перебранке между штатами Мэриленд и Вирджиния по поводу прав судоходства
по реке Потомак. Собравшиеся, однако, вскоре решили, что реальный вопрос, которым им необходимо заняться — это вопрос о внутренних пошлинах,
и для его обсуждения в 1786 году была созвана более представительная конференция в Аннаполисе.
Однако делегаты, собравшиеся в Аннаполисе, признали необходимыми еще более радикальные «поправки» к Статьям Конфедерации, созвав для их
принятия «конституционную конвенцию» в Филадельфии в 1787 году. Конвенция же, в свою очередь,
собравшись за закрытыми дверями, похоронила
сами Статьи55. Все происходило слишком медленно и чинно, чтобы это можно было назвать государственным переворотом, и все же как акт, поставивший страну перед свершившимся фактом, это было
очень похоже на переворот.
Августом стал Вашингтон, чья «намеренная сдержанность в стремлении к власти, — по мнению самого недавнего из его биографов, — позволила ему
осуществлять ее в таких масштабах». Он был хозяином дома, в котором состоялось заседание 1785 года,
но не связал себя при этом никакими определенными обязательствами. Он позволил двум молодым Аг202
ДВА НОВЫХ СВЕТА
риппам — Джеймсу Мэдисону и Александру Гамильтону — быть публичными лидерами движения, давая
при этом ясно понять в частных разговорах, какова его собственная позиция: «Какие вам еще нужны доказательства отсутствия энергии у наших правительств, чем эти беспорядки?» — гневно восклицал этот великий муж (немного походя при этом
на Георга III), когда в конце 1786 года массачусетские фермеры устроили марш против правительства своего штата, испытывавшего жестокий бюджетный дефицит56. После этого в 1787 году Вашингтон дал уговорить себя — хотя не сразу — возглавить
Филадельфийскую конвенцию. Во время конвенции
он почти не выступал. Этого, в сущности, не требовалось. Он знал, что для достижения своих целей
Августу достаточно просто присутствовать57.
В течение следующего лета делегаты написали самую долго живущую и менее всего исправлявшуюся конституцию в мире58, текст которой полностью
устраивал лишь немногие подписавшие ее стороны.
Это побудило двух Агрипп, при определенной поддержке со стороны Джона Джея, в спешном порядке
выпустить сборник статей в защиту ее ратификации,
озаглавленный «Федералист», в тридцать четыре
раза превосходивший по объему документ, который
он защищал59. Восемьдесят пять статей сборника, обращенные «к народу штата Нью-Йорк» и подписанные одним и тем же псевдонимом «Публий», не решили исхода дела. Они остались почти неизвестными за пределами штата Нью-Йорк, и когда этот
штат наконец ратифицировал конституцию в июле
1788 года, это уже сделали десять других штатов —
более чем достаточное число60. Своей славой «Федералист» обязан другому: это самое читаемое произведение по вопросам политической большой стратегии со времен «Государя» Макиавелли.
У Конституции и «Федералиста» есть одна общая черта: их написание было вызвано злобой дня,
но их непреходящее значение помещает их вне вре203
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
мени. Этот парадокс служит прекрасным примером того, как можно одновременно удерживать
в уме противоположные идеи, сохраняя при этом
способность действовать, и здесь эта способность
была использована блестяще. Но в чем именно заключался этот «блеск»?
X
Здесь мало будет вспомнить высказывание Сэмюэля Джонсона: «Уж будьте уверены, сэр, если человек знает, что через две недели его повесят, это прекрасно помогает концентрации мысли»61. Многие
люди шли на виселицу в смятении, и американские отцы-основатели, при всем вкусе Франклина
к юмору висельников62, давно уже прошли этап буквального страха такого исхода. Как слабой молодой
державе, оказавшейся на арене среди более сильных
и опытных, как обществу, которое еще плохо понимало, что является в нем самом источником суверенитета, как идеалистам, разочаровавшимся в человеческой природе, как реалистам, воображавшим,
что им под силу реформировать природу человека,
как исследователям истории, вынужденным теперь
творить свою собственную, — им необходимо было
согласовать непримиримые устремления с ограниченными возможностями. Все это и должен был
сделать «Федералист».
«Значимость этого предмета самоочевидна, — заявил Гамильтон в самом первом абзаце самой первой
статьи, — речь идет не больше не меньше, как о существовании Союза, безопасности и благополучии
входящих в него частей, о судьбе во многих отношениях самой интересной в мире империи». Ибо,
по-видимому, народу нашей страны суждено своим поведением и примером решить важнейший вопрос: способны ли сообщества людей
204
ДВА НОВЫХ СВЕТА
в результате раздумий и по собственному выбору
действительно учреждать хорошее правление
или они навсегда обречены получать свои политические установления волей случая или силой.
Решение такого великого вопроса потребует «точной оценки наших истинных интересов, не осложненной и не омраченной предрассудками, не связанными с общественным благом». Но — мрачный
прогноз — «этого легче страстно желать, чем серьезно ожидать».
План, предложенный на наше рассмотрение,
затрагивает очень много особых интересов, обновляет множество местных установлений,
что не может не затронуть в ходе обсуждения
массу посторонних предметов, а также взглядов, страстей и предрассудков, далеко не способствующих открытию истины63.
Мир, наблюдающий за Америкой, никогда ничего не забудет. Американцы были небрежны в своих действиях. Мобилизованных средств оказалось
намного меньше, чем требовалось для достижения
намеченных целей. Назрел кризис.
Боевой призыв «Федералиста» оказался очень
неоднозначным. Как «части» «СОЮЗА» (так, большими буквами, писал это слово Гамильтон) могли
погрузиться в него, не утонув при этом? Могла ли
какая-либо «империя» когда-либо функционировать, избегая случайностей наследования власти
и легитимизации власти силой? Могло ли решение ограниченных местных проблем слиться в некий единый процесс? Какой смысл в «точной оценке», если ее «легче страстно желать, чем серьезно
ожидать»? Мудрые люди так часто бывают неправы, признавал Гамильтон, что это могло бы служить напоминанием о пользе умеренности «тем,
кто всегда так уверен в своей правоте». Вот почему глупо настаивать на том, что необходимо быть
205
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
последовательными: необходимо менять саму логику. Вот почему Гамильтон начал, как и Август,
с того, что обезоружил всех, кто мог бы ему сопротивляться, собственным смирением.
XI
Вот почему в каком-то смысле было правильно,
что решение самой сложной задачи «Федералиста» — показать, как республика могла бы быть империей, не становясь при этом тиранией, — выпала
на долю Мэдисона, одного из американских отцовоснователей, которого легче всего недооценить64.
И он блестяще справился с ней, соединив время,
пространство и масштаб.
История показала, что «неустойчивость, несправедливость и сумятица» всегда приводили к гибели
«народные правительства», писал Мэдисон в десятой статье, подписанной именем «Публий». Независимость пока не спасла американцев от этих
угроз.
...повсеместно сетуют на то, что... за распрями соперничающих партий забывают об общественном благе и что меры, ими принимаемые, слишком часто грешат против правил справедливости
и прав меньшинства и вводятся превосходящей силой заинтересованного и властного большинства.
Отказ от свободы стал бы средством, которое «хуже
самой болезни». Однако ее лечение равенством
не принесло бы безопасности никому:
Демократии всегда являли собой зрелище смут
и раздоров, всегда оказывались неспособными
обеспечить личную безопасность или права собственности, существовали очень недолго и кончали насильственной смертью.
206
ДВА НОВЫХ СВЕТА
«Причины, порождающие крамолу», слишком глубоко коренятся в человеке, чтобы их можно было
устранить. Но, может быть, спасение от нее следует искать в средствах «умеряющих ее воздействие»65.
До этого момента в истории республики оставались небольшими в силу самого фактора расстояния: представительство, которое являлось их непременным условием, требовало охлаждения страстей,
а это было возможно только благодаря регулярному
проведению законодательных собраний. Но когда
территории находились далеко друг от друга, это
было невозможно. Сейчас американская республика занимала треть континента и явно не собиралась
на этом останавливаться. Как же эта мина замедленного действия — щедрость, с которой Британия
уступила ей в 1783 году этот океан суши — могла
не вызвать возрождения тех же протестов против
«налогов без представительства»? И что стало бы
в этом случае с «СОЮЗОМ» Гамильтона?
Мэдисон решал эти проблемы времени и пространства сменой масштаба. Здесь, знал он об этом
или нет66, он следовал за Макиавелли: флорентиец
уже до него писал, что «правильная забота» об «общем благе» возможна только в республике. Увеличение числа тех, для кого республика была благом,
могло ограничить влияние тех немногих, кому она
была невыгодна: не все части, погрузившись в целое, обязательно должны были утонуть67. Спасительную роль мог сыграть масштаб. Мэдисон признавал, что в этом есть свои риски:
Чрезмерно увеличивая число избирателей на одного представителя, мы обрекаем его на недостаточную осведомленность по части местных
обстоятельств и интересов, равно как, чрезмерно уменьшая это число, обрекаем представителя
на чересчур тесную зависимость от оных и тем самым лишаем его способности охватывать и защищать важные и всенародные интересы.
207
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Но должна была найтись золотая середина, по обе
стороны которой будут располагаться неизбежные
неудобства. Таким образом, уравновешивание интересов разных групп — чисто беркианское предприятие — могло обеспечить разумное использование таких «неудобств»:
Расширьте сферу действий, и у вас появится большее разнообразие партий и интересов; значительно уменьшится вероятность того, что у большинства возникнет общий повод покушаться
на права остальных граждан, а если таковой наличествует, всем, кто его признает, будет труднее объединить свои силы и действовать заодно.
Предлагаемая конституция «являет собой удачное
решение: важные и всеобщие интересы передаются
в ведение всенародных законодателей, а местные
и частные — законодателям штатов»68.
Таким образом, Мэдисон использовал масштаб
внутри пространства, чтобы обратить вспять время: отныне его республика будет лишь крепнуть
с ходом истории, ибо группы интересов смогут бороться друг с другом на всех уровнях; тогда по мере
роста страны она не встанет на путь Рима69. Дуга,
прочерченная «Федералистом», тяготела не к Нерону, а к Линкольну.
XII
Но если это так, то почему при Линкольне Союз
потерпел столь катастрофический провал? Самый
простой ответ мог бы состоять в том, что никакая стратегия не может учесть все непредвиденные обстоятельства, что каждое решение рождает
новые проблемы и что эти проблемы часто могут
оказываться неразрешимыми. Более жесткий (но,
на мой взгляд, более точный) ответ заключается
в том, что отцы-основатели, возможно, дали Сою208
ДВА НОВЫХ СВЕТА
зу самому проверить себя на прочность: понимая
необходимость соотнесения устремлений с возможностями, понимая, что нельзя получить все хорошие вещи разом, они предпочли спасти свое новое
государство и оставить задачу спасения его души
своим потомкам.
И Августин, и Макиавелли понимали, что соответствующие запросы души и государства уравновешиваются мерой, но по-разному отвечали на вопрос о том, держит ли тот, кто устанавливает эту
меру, ответ перед Богом. Августин ответил на этот
вопрос утвердительно и упорно трудился над этим.
Бог Макиавелли оставил государственные дела человеку. Американцы располагались между этими
двумя полюсами почти в таких же бесконечных вариациях, как Елизавета I: они могли быть холодными прагматиками, как их первые вожди, истово
верующими, как их борцы за религиозное возрождение, или выбирать любую точку между этими
крайними случаями, как их дельцы. Ясно, однако,
одно: лишь немногие в молодой республике ставили под вопрос (по крайней мере, открыто) то, за изменение чего столь многие граждане зрелой республики отдадут свои жизни — ту странную аномалию,
что Конституция, обещающая «более совершенный
Союз», исходит из идеи законности рабства70.
Тем самым в ней признавалось то, что не могла
выразить Декларация независимости: не все люди созданы равными. Люди 1776 года — и не в последнюю
очередь Джефферсон — боялись, что если вместе
со страной они освободят рабов, у них не будет государства. В Конституции этот страх был переведен
на язык права путем распределения мест в палате
представителей между «общим числом свободных
лиц» и «тремя пятыми всех прочих лиц», запрета
любых ограничений на «переселение или ввоз тех
лиц, которые любой из существующих ныне штатов сочтет возможным допустить» на двадцать лет,
и введения положения о том, что «ни одно лицо,
209
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
обязанное быть в услужении или на работах в одном штате… и бежавшее в другой штат… не подлежит освобождению от услужения или работ». Слово «рабство» не упоминалось нигде71.
Эта увертка вынудила Мэдисона пуститься в мелочные уточнения в «Федералисте». «Без сомнения, было бы желательно, — вяло писал он, — чтобы запрет на ввоз невольников не откладывали
до 1808 года или, вернее, ввели его в действие немедленно». Но, может быть, самим ходом времени
будет навсегда покончено с промыслом, который
столь долго и нагло являл собой варварство современной политики... Хорошо было бы, если бы
несчастным африканцам светила такая же надежда избавиться от угнетения со стороны их европейских братьев!
Но эти слова неприятно разоблачали лицемерие
Мэдисона, который в другой своей статье защищал
ту же квоту в три пятых в длинном и вымученном
пассаже, предположительно выражавшем взгляды
американских «братьев», видевших в рабах и людей, и имущество.
Таковы доводы, которые, возможно, провел бы
касательно затронутого предмета защитник южных штатов. И хотя в ряде случаев они, быть
может, выглядят несколько натянутыми, в целом, должен сознаться, они вполне примиряют
меня со шкалой представительства, установленной [Конституционным] конвентом72.
Необходимость достижения баланса интересов
требовала от Мэдисона допущения варварства,
и не удивительно, что он чувствовал себя неуютно. Но стоявшие перед ним альтернативы не допускали компромисса: отцы-основатели могли добиться создания Союза или освобождения рабов,
но не могли иметь и то и другое вместе (по крайней мере, в их поколении). Они выбрали «Союз
210
ДВА НОВЫХ СВЕТА
сейчас», решив, что с отменой рабства можно подождать. Они предполагали при этом, хотя говорили это нечасто, что шансов на это в едином и сильном государстве будет больше, чем в нескольких
слабых73. Таково была их игра: вели ли они ее с Богом или с Дьяволом — это уже зависит от точки зрения каждого.
XIII
Сделав своей целью создание республиканской империи размером с целый континент, отцы-основатели отложили окончательный подсчет выигрышей
и проигрышей до будущих поколений. Гамильтон,
бывший среди них самым убежденным противником рабства, все же видел в расширении Союза
возможность стать «арбитром Европы в Америке»
и «склонять баланс европейского соперничества
в этой части мира в зависимости от наших интересов». Мэдисон показал, как уравновешивание интересов внутри страны может порождать внешнюю
экспансию74. Джефферсон, став президентом, сумел
найти верный баланс между своей почти патологической ненавистью к Гамильтону75 и исключительно выгодным приобретением Луизианы у французов, которое позволило вновь удвоить территорию
Союза. «Потерять страну в результате пунктуального исполнения писаных законов, — обосновывал
он свои решения позднее (Гамильтон, из рая ли
или из ада, наверное, улыбнулся этим его словам,
пусть и едва заметной улыбкой), — означало бы потерять сам закон... то есть самым нелепым образом
принести цель в жертву средствам»76.
А в 1811 году Джон Куинси Адамс, которому
было тогда сорок четыре года, писал своей матери, что выбор лежит между «бесконечным множеством мелких и незначительных племен и кланов, ведущих друг с другом нескончаемые войны
211
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
за холм или пруд — любимое занятие и тема всех
легенд европейских хозяев и угнетателей», и «нацией, пределы которой совпадают с пределами североамериканского континента, и которой Богом
и природой предназначено стать самым многочисленным и сильным народом, когда-либо объединявшимся одним общественным договором»77.
Так, годы спустя, он вторил словам своего отца, который в 1776 году предсказывал фейерверки в честь
дня рождения этой нации на огромных пространствах от моря до моря.
Изрядную долю этих фейерверков Адамс-младший запустил сам — в основном благодаря испанским территориям, — когда он стал в 1817 году государственным секретарем при президенте Джеймсе
Монро. Империя Филиппа II все еще простиралась от середины Северной Америки до Магелланова пролива, но Французская революция, возвышение Наполеона и пример Соединенных Штатов,
заразили ее бациллой независимости78. Адамс воспользовался слабостью соседа как настоящая акула.
Он начал с Флориды, где сумел довести превентивную военную операцию Эндрю Джексона, имевшего довольно спорные полномочия, до ультиматума: Испания должна обеспечить охрану своих
границ или «уступить Соединенным Штатам провинцию... которая фактически является бесхозным
имуществом, может быть захвачена любым, цивилизованным или диким, противником Соединенных Штатов и не имеет никакого иного земного
предназначения, кроме как служить плацдармом
для набегов против них»79.
К 1821 году испанцы отказались от Флориды в обмен на исключение Техаса (который скоро все равно стал частью Мексики) из состава Соединенных
Штатов и согласие провести сохраняющуюся северную границу их империи по 42-й параллели — линии, идущей через весь континент до Тихого океана, хотя американцы не имели никаких определен212
ДВА НОВЫХ СВЕТА
ных прав ни на какие территории по другую сторону
этой линии. Это было самым вопиющим проявлением бесстыдства в межгосударственных отношениях80, — но и оно оставалось непревзойденным только два года, после чего его превзошел сам Адамс.
Поводом для этого стало послание президента
Монро конгрессу, которое должно было прозвучать
в декабре 1823 года81, а подходящим шансом — негласное предложение главы британского Форинофис Джорджа Каннинга о совместных действиях
с Соединенными Штатами для срыва любых попыток России, Пруссии, Австрии и посленаполеоновской Франции восстановить испанское правление
(к этому времени уже почти утраченное) в Новом
Свете. Каннинг заботился о защите британских
коммерческих интересов, и британскому военному
флоту, в общем, вовсе не нужна была помощь в этом
деле, но совместные действия с американцами могли бы помочь снять напряженность в отношениях,
оставшуюся после войны 1812 года и сожжения англичанами города Вашингтон в 1814 году82. Адамс,
однако, увидел в этом возможность хитрого маневра, который позволял ему выступить с эпохальным
заявлением.
Так родилась великая «доктрина», благодаря которой имя Монро в основном и сохранилось в нашей памяти. Она звучит так: «американские континенты, добившиеся свободы и независимости
и оберегающие их, отныне не должны рассматриваться как объект будущей колонизации со стороны любых европейских держав». Было ли это пустым жестом? При тех возможностях, которыми
тогда располагала страна — конечно, да, но только
если не учитывать дальние устремления, озвученные Гамильтоном в «Федералисте»: использовать
«естественную силу и ресурсы страны» в «общих
интересах» опрокидывания «любых комбинаций,
составленных ревностью Европы для ограничения
213
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
нашего роста» — то есть стать «арбитром Европы
в Америке»83.
Но таких интересов не могло бы возникнуть вовсе, если бы Мэдисон не показал в «Федералисте»,
как следует прежде ограничить «ревность» американцев. Именно с этой целью и был разработан
шаткий «миссурийский компромисс» 1820 года, который предусматривал равное деление новых территорий, принимаемых в Союз, на будущие свободные и будущие рабовладельческие штаты. Адамс
поддержал его, оставаясь убежденным, что закрепленная в Конституции «сделка между свободой
и рабством» является «нравственно и политически
порочной» и несовместимой «с теми принципами,
которые одни могут оправдать нашу Революцию»,
но понимая при этом, что эта сделка удерживает
Союз от гражданской войны. Такая война, несомненно, привела бы
к искоренению рабства на всем континенте;
и, сколь бы злосчастным и опустошительным
ни был такой ход событий, его результат будет
настолько благим, что, говоря как перед Богом,
я не осмелюсь сказать, что его не нужно желать.
Но, как мог бы сказать молодой Августин, — «не сейчас». Обращение в новую веру, отмена рабства и сам
Господь должны были подождать84.
XIV
Но как же вышло, что в эпоху, которая оставалась
эпохой империй, молодой республике удалось безнаказанно провозгласить свое владычество над целым полушарием? Возможно, англичане, как усталые родители, научились прощать некоторые
выходки своих детей: «Этот принцип (если его вообще можно назвать принципом)», признавал Каннинг в начале 1824 года, есть «нечто новое для на214
ДВА НОВЫХ СВЕТА
шего правительства». Но уже через три года этот
родитель хвастал перед палатой общин: «Я вызвал
к жизни Новый Свет, чтобы поправить равновесие
в Старом». Как позднее писал с негодованием один
американский историк, Каннинг, как Джеки-дружок из детской песенки-потешки, выковырял из пирога изюм, да еще и заявил, что сам испек пирог85, 86.
Но Каннинг смотрел гораздо дальше. Поняв,
что Северная Америка вряд ли распадется на племена и кланы, ссорящиеся за озера и пруды, он старался заглянуть в будущее и понять, чем это может
обернуться. Одним из многих следствий этих перемен, тогда еще плохо различимым на горизонте, станет Уинстон Черчилль — сын американки, который
появится на свет в родовом имении герцогов Мальборо в 1874 году. Величайший англичанин со времен
Великой королевы был не из тех, кто игнорирует вопросы баланса сил или лишает себя удовольствия
привести удачное высказывание. Он часто цитировал Каннинга, и самая памятная из этих цитат звучит в речи Черчилля в палате общин по случаю эвакуации англичан из Дюнкерка 4 июня 1940 года. Черчилль поклялся, что никогда не сдастся, но если
наш остров не выдержит натиска нацистов и окажется в голодном рабстве, то остальные земли
нашей огромной империи, находящиеся далеко
за морем, продолжат наше дело при поддержке и под защитой британского флота до тех пор,
пока, Бог даст, Новый Свет не обрушит на врага всю свою силу и мощь, чтобы спасти и освободить Старый Свет.
И Каннинг, и Черчилль ощущали движение тектонических плит истории (министр иностранных дел — в будущем, премьер-министр — прямо
под своими ногами), сравнимое по значению с тем
поворотом, который начался с изменения направления ветра в один из вечеров августа 1588 года буквально в нескольких километрах от Дюнкерка87.
215
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
И это заставляет нас задать вопрос: почему
в XVIII–XIX веках только одно государство «Нового Света» стало настолько могущественным, чтобы
«исправлять баланс» в «Старом Свете» (и не один,
а целых три раза) в XX веке? Как могла такая мощь
вырасти из разрозненных и дезорганизованных
британских колоний, а не их более крупных и богатых испанских соседей к югу, управлявшихся куда
более «исправно»? Симон Боливар, освободитель
этих территорий, дал свой ответ на этот вопрос уже
в 1815 году: он признавал, что Соединенным Штатам Латинской Америки никогда не бывать88.
Одной из причин была география. Пусть империей и в самом деле проще управлять из ее морских портов, а не внутренних центров, но такое
управление не позволяло нации развиться до самоуправления: слишком велики были внутренние барьеры, связанные с климатом, топографией и различием обитаемых пространств, культур
и коммуникаций89. «Можно ли провести всеобъемлющую перепись при этих условиях?» — сетовал Боливар. «Как было бы чудесно, — писал он, — если бы
Панамский перешеек стал для нас тем, чем был Коринф для греков!»90 Но почему и здесь многообразие не могло стать источником силы, как рассуждал
Мэдисон в десятой статье «Федералиста»? Проблема, утверждал Боливар, состояла в политической
незрелости. Испания так пристально «пасла» свои
владения, что они оставались в «детском возрасте»
и не выработали в себе того самоуважения, которое
необходимо для независимости. «Нас лишили даже
действенной тирании, ибо нам не было разрешено осуществлять ее функции»91. Испания, когда-то
величайшая империя мира, была теперь слишком
слаба, чтобы удержать свое господство, но не воспитала никого, кто мог бы занять ее место.
На такой почве сложно было укорениться представительному правлению, и более вероятным было
утверждение какой-то разновидности абсолютиз216
ДВА НОВЫХ СВЕТА
ма — может быть, во внешнем обличье республики.
И не в масштабах континента, полагал Боливар,
ибо авторитарные режимы по самой своей природе
не способны к сотрудничеству. Латиноамериканцы
могли воспитать в себе «способности и таланты, которые ведут к славе» только под покровительством
и охраной великой «либеральной» нации92.
Эти идеи вдохновляли современника Адамса
Генри Клея, который был горячим сторонником
поддержки Соединенными Штатами не только
движений за независимость в Латинской Америке, но и борьбы греков, восставших тогда против
османского ига93. Адамс понимал, однако, как быстро такая поддержка может вызвать перенапряжение всех материальных и нравственных сил страны.
Америка «не пойдет в другие страны на поиски чудовищ, которых она должна истребить», — предостерегал он членов палаты представителей в своей речи 4 июля 1821 года:
Она желает свободы и независимости для всех,
но она — защитник и поборник только своей собственной... Ей слишком хорошо известно, что,
встав однажды под чужие знамена... она позволит втянуть себя во все войны интересов и интриг,
частной корысти, зависти и амбиций, перекрашивающихся в цвета свободы и узурпирующих ее знамена, и пути назад уже не будет. Главным принципом ее политики исподволь станет не свобода,
а сила... Она может стать диктатором всего мира.
Она потеряет власть над собственным духом94.
В этом состоял характерный компромисс эпохи,
о котором никогда не следует забывать: да, свобода
как цель в принципе и, может быть, даже отчасти
(в конечном счете) на практике. Но прежде всего
нужен был Союз, а это требовало соотнесения великих целей с доступными средствами. Только государство, остававшееся в мире с самим собой, могло
спасти свою душу — хотя бы на этом этапе.
ГЛАВА 7
Величайшие мастера
большой стратегии
П
Е Р Е Д С А М Ы М описанием Бородинской
битвы мы находим у Льва Толстого любопытный момент: два главных героя книги,
Пьер Безухов и князь Андрей Болконский, выходят из сарая и, подняв глаза, видят проезжающих
мимо них верхом Карла фон Клаузевица и другого прусского офицера. Один из них говорит:
«Der Krieg muss im Raum verlegt werden. Der Ansicht kann ich nicht genug Preis geben [Война должна быть перенесена в пространство. Это воззрение
я не могу достаточно восхвалить]». Другой соглашается: «da der Zweck ist nur den Feind zu schwächen, so kann man gewiss nicht den Verlust der Privatpersonen in Achtung nehmen [Так как цель состоит
в том, чтобы ослабить неприятеля, то нельзя принимать во внимание потери частных лиц]». Эти
слова вызывают возмущение князя Андрея, по поместью которого уже прокатилась война. «В его
немецкой голове только рассуждения, не стоящие
выеденного яйца, — с горьким возмущением говорит он Пьеру. — Они всю Европу отдали ему [Наполеону] и приехали нас учить — славные учители!»1
Эта небольшая разница в перспективе, открывающейся всаднику и пешему, символизирует у Толстого разрыв, существующий на всех уровнях между
теорией и практикой. Это один из тех многих случаев, когда его малые догадки имеют большие следствия. Но таких же примеров полны и труды Клаузевица. Мало кто так глубоко осмыслил проблемы
218
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
времени, пространства и масштаба или с такой глубиной писал об этом, как этот появляющийся в романе всадник и изобразивший его писатель.
Пьер и Андрей были на Бородинском поле, конечно, лишь в воображении Толстого, но Клаузевиц был там на самом деле: когда французы вторглись в Россию в 1812 году, он уволился со своей
должности в прусской армии, поступил в русскую
армию и принял участие в великом сражении2. Дотошный Толстой, конечно, знал об этом и мог читать его труд «О войне», опубликованный уже посмертно, в 1832 году, до того как Толстой приступил
к «Войне и миру» в 1860-е годы3. Клаузевиц Толстого предпочитает наблюдению абстрактные построения, и это обвинение в его адрес многие критики
не раз повторяли и в XX веке4. Впрочем, Толстой,
может быть, не столько упрекал Клаузевица, сколько отражал тогдашнее мнение русских об их новых
прусских союзниках. Ведь на самом деле Толстой
и Клаузевиц не только одинаково видят практику войны, но и строят, опираясь на свой военный
опыт, теории об ограниченности самой теории.
I
«Пойдем за новичком на поле сражения», — пишет
Клаузевиц в своей книге «О войне», не оставляя
у читателя ни малейшего сомнения в том, что знает свой предмет:
Приближаясь к последнему, мы замечаем, что
гром орудий, становящийся с каждым мгновением все более ясным, сменяется наконец воем ядер,
привлекающим внимание новичка. Снаряды падают уже близко, то спереди, то сзади. Мы спешим
к холму, на котором командир корпуса расположился со своей многочисленной свитой. Здесь
летит больше ядер, разрывы гранат настолько
учащаются, что серьезная действительность уже
219
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
сквозит через образы юношеской фантазии. Вдруг
вы видите, как падает сраженным ваш знакомый:
граната упала в строй и вызвала невольное смятение. Вы начинаете ощущать, что сохранять полное спокойствие и сосредоточенность становится уже трудно; даже самые храбрые становятся
несколько рассеянными. Теперь еще шаг, в самое сражение, которое бушует перед вами пока
еще в виде картины. Подойдем к ближайшему
начальнику дивизии; здесь снаряд летит за снарядом; грохот собственных орудий увеличивает
вашу рассеянность. От дивизионного — к бригадному генералу. Последний, человек испытанной
храбрости, тем не менее осторожно укрывается за холмом, домом или деревьями. Картечь,
верный признак нарастающей опасности, барабанит по полям и крышам; снаряды с воем пролетают около нас и над головами во всех направлениях, часто свистят ружейные пули: еще один
шаг к войскам — и мы среди пехоты, с неописуемой стойкостью часами выдерживающей огневой
бой. Здесь воздух наполнен свистом пуль, дающих знать о своей близости коротким резким звуком, когда они пролетают в нескольких дюймах
от ваших ушей, головы, самой души. В беспокойно бьющееся сердце непрерывными мучительными ударами стучится сострадание к искалеченным и сраженным на ваших глазах.
Ни одной из этих различных ступеней опасности
новичок не минует, не ощутив, что мысль здесь
пробуждают иные силы и лучи ее преломляются
иначе, чем при обычной умственной деятельности5.
А вот как Толстой, служивший в русской армии
на Кавказе, на Балканах и во время Крымской войны в 50-е годы XIX века, описывает Бородино:
С поля сражения беспрестанно прискакивали
к Наполеону его посланные адъютанты и ординарцы его маршалов с докладами о ходе
дела; но все эти доклады были ложны: и потому, что в жару сражения невозможно сказать,
220
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
что происходит в данную минуту, и потому,
что многие адъютанты не доезжали до настоящего места сражения, а передавали то, что они слышали от других; и еще потому, что пока проезжал
адъютант те две-три версты, которые отделяли
его от Наполеона, обстоятельства изменялись
и известие, которое он вез, уже становилось неверно... Соображаясь с таковыми необходимо
ложными донесениями, Наполеон делал свои
распоряжения, которые или уже были исполнены прежде, чем он делал их, или же не могли
быть и не были исполняемы.
Маршалы и генералы, находившиеся в более
близком расстоянии от поля сражения, но так же,
как и Наполеон, не участвовавшие в самом сражении и только изредка заезжавшие под огонь пуль,
не спрашиваясь Наполеона, делали свои распоряжения и отдавали свои приказания о том, куда
и откуда стрелять, и куда скакать конным, и куда
бежать пешим солдатам. Но даже и их распоряжения, точно так же как распоряжения Наполеона, точно так же в самой малой степени и редко
приводились в исполнение. Большей частью выходило противное тому, что они приказывали.
Солдаты, которым велено было идти вперед, подпав под картечный выстрел, бежали назад; солдаты, которым велено было стоять на месте, вдруг,
видя против себя неожиданно показавшихся русских, иногда бежали назад, иногда бросались вперед, и конница скакала без приказания догонять
бегущих русских... Как только эти люди выходили из того пространства, по которому летали
ядра и пули, так их тотчас же стоявшие сзади начальники формировали, подчиняли дисциплине
и под влиянием этой дисциплины вводили опять
в область огня, в которой они опять (под влиянием страха смерти) теряли дисциплину и метались
по случайному настроению толпы6.
Эти отрывки настолько далеки от абстракции, насколько это можно себе представить. Более того,
читатель невольно спрашивает себя: чего вооб221
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ще можно достичь этим хаосом битвы? И все же
Бородинская битва, в которой ни одна из сторон
не одержала явную победу, позволила достичь
очень многого.
Сражение подорвало силы обеих сторон,
но у русских было больше пространства для отступления — даже больше, чем у американцев, — и в ходе
отступления они покинули Москву. Французы, уже
оставившие свои дома далеко позади, продолжали наступать: Наполеон не смог не поддаться искушению занять город в надежде, что сокрушенный этим Александр I вынужден будет заключить
мир. Когда этого не случилось, величайший военный гений со времен Юлия Цезаря стал вдруг похож на дворнягу, которая гналась за автомобилем,
настигла его и не знает, что делать с ним дальше.
Между тем — и это мог бы напомнить ему любой рядовой его армии — уже наступала зима.
Клаузевиц назвал этот момент «кульминационной точкой» наступления Наполеона. Он имел
в виду, что французы нанесли поражение самим
себе, истощив свои силы7. Теперь русские могли
изгнать их из страны, занеся над ними «сверкающий меч возмездия»8. Старый грузный и неторопливый главнокомандующий Михаил Кутузов у Толстого воплощает эту мысль лучше, чем ее излагает
Клаузевиц, и в истории найдется немного героев, сделавших больше, делая по видимости меньше.
В конечном счете Наполеон потерял свою армию,
а через полтора года — и свой трон. Русский царь
с триумфом прокатился по Парижу, был с большим почтением принят в Лондоне и даже отобедал
в Оксфорде под взорами академиков, завороженно
взиравших на него с галерей и балконов9.
«Война, — пишет Клаузевиц в своей книге, — имеет свою собственную грамматику, но не свою особую логику»10. При должной выучке, дисциплине
и большем мастерстве командующих армии способны временно приостанавливать действие нормально222
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
го человеческого инстинкта бегства от опасности:
ситуация битвы, как обнаруживает новичок Клаузевица, противоречит здравому смыслу. Но постепенно логика окружает, расстраивает и вытесняет эту грамматику. Героизм истощает ваши силы.
С удлинением коммуникаций атаки замедляются.
Отступления вызывают контратаки. Россия велика,
зимы ее суровы. Собака, гоняющаяся за автомобилями, никогда не знает, что делать с автомобилем,
который ей удалось догнать. Но почему Наполеон
забыл то, что помнит любой дурак?
Может быть, потому, что здравый смысл и в самом деле подобен кислороду: чем выше забираешься, тем его меньше. В условиях, когда каждая
очередная победа Наполеона оказывалась еще грандиозней предыдущей, его грамматика стала его логикой. Подобно Цезарю, он взлетел настолько выше
базовых вещей, что полностью потерял их из виду.
Такие взлеты могут внушать восторг и благоговейный трепет, подобный тому, который в те времена внушали людям полеты на воздушных шарах11.
Но земного притяжения никто не отменял.
II
Клаузевиц умер в 1831 году, не успев закончить свой
трактат «О войне». Он остался нам в наследство
в виде огромного, трудного и полного противоречий тома, слишком внимательное чтение которого,
как я предупреждаю моих студентов, может привести к сбою умственных ориентиров: прочтя эту книгу до конца, можно не только не понять, что хотел
сказать автор, но и усомниться в себе самом. Толстой завершил «Войну и мир» в 1868 году, но едва ли
к этому моменту яснее понимал, что именно он написал: «Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. „Война и Мир“ есть то,
что хотел и мог выразить автор в той форме, в кото223
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
рой оно выразилось»12. Исайя Берлин видит в этой
уклончивости Толстого свидетельство «мучительного внутреннего конфликта, — может быть, подобного конфликту, к которому приводит слишком
пристальное чтение Клаузевица, — между «обманчивым опытом свободной воли» и «реальностью неумолимого исторического детерминизма»13.
А что если Клаузевиц и Толстой боролись с этими
противоречиями — может быть, даже находя в этом
удовольствие, — а вовсе не мучились ими?14 Оба понимают детерминизм как действие законов, не допускающих исключений: «Если даже один человек из миллионов в тысячелетний период времени
имел возможность поступить свободно, — пишет
Толстой, — то очевидно, что один свободный поступок этого человека, противный законам, уничтожает возможность существования каких бы то ни было
законов для всего человечества»15. Клаузевиц соглашается с этим, с той оговоркой, что если законы не могут содержать в себе «многообразие действительного мира», то «принцип предоставляет
суждению большую свободу при его применении».
Пословица говорит, что «нет правила без исключений», но ни одна пословица не говорит, что «нет
закона без исключений», а значит, по мере приближения абстрактного закона к реальности допускается «большая свобода в его применении»16. Это
согласуется с позицией Толстого, который столь
упорно стремится ниспровергнуть все законы.
Слишком многие теории слишком сильно стараются стать законами, пишет Клаузевиц, приводя
в качестве примера следующий отрывок из прусского пожарного регламента:
Когда загорается дом, надо прежде всего стараться оградить от огня правую стену дома, стоящего налево от горящего дома, и левую стену дома,
стоящего направо от него. Ибо если бы, для примера, мы захотели защитить левую стену стояще-
224
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
го влево дома, то, так как правая сторона дома
стоит вправо от левой стены и так как огонь
в свою очередь находится вправо и от этой стены
и от правой стены (ибо мы условились, что дом
стоит влево от огня), правая стена оказывается
расположенной ближе к огню, чем левая, и, следовательно, правая стена могла бы сгореть, если
ее не защищать от огня раньше, чем огонь дойдет до левой, которая защищена; следовательно, кое-что могло бы сгореть, что не защищено,
и притом раньше, чем загорится нечто другое,
даже если бы последнее не защищалось, а потому надо оставить последнее и защищать первое.
Чтобы точно запечатлеть все это в памяти, следует твердо усвоить одно правило: когда дом расположен вправо от огня, то защищать надо левую его стену, когда же дом расположен влево
от огня, то правую.
Клаузевиц обещает, что в его книге не будет «общих
мест и водянистых рассуждений»: он изложит «хорошие мысли», ставшие итогом «многолетних размышлений о войне, общения с людьми, знакомыми
с военным делом, и разнообразного личного опыта». Он передаст их «в форме небольших, но содержательных зерен чистого металла»17.
Эти строки в чем-то перекликаются с мыслями
Макиавелли, произведение которого он знал и которым восторгался18. Но холера, убившая Клаузевица в возрасте пятидесяти одного года, не дала ему
сократить книгу и сделать ее более ясной. Вот почему то, что нам осталось, гораздо больше похоже
на огромный мокрый клубок перепутавшихся осьминогов, чем на «зерна чистого металла». Эту книгу, как и произведение Августина «О граде Божьем», лучше читать бегло, чтобы ее «возмутительная
бессвязность», как писал о книге Клаузевица сэр
Майкл Говард19, не запутала вас окончательно.
Бегло прочесть «Войну и мир» куда труднее:
Толстой властно захватывает нас. Но и он в конце
225
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
книги утомляет читателя пространными и хаотическими рассуждениями о тщетности усилий великих исторических деятелей и бессмысленности
истории. Может быть, стоит позволить этому словесному потоку свободно нести вас, не слишком
вдумываясь в эти разглагольствования, и вернуться к ним позже. Тогда вы обнаружите, что Толстой повторяет, а в некоторых отношениях и развивает, идеи Клаузевица. Вот как выглядит,
например, толстовская «теория» новейшей европейской истории:
Людовик XIV был очень гордый и самонадеянный человек; у него были такие-то любовницы
и такие-то министры, и он дурно управлял Францией. Наследники Людовика тоже были слабые люди и тоже дурно управляли Францией.
И у них были такие-то любимцы и такие-то любовницы. Притом некоторые люди писали в это
время книжки. В конце 18-го столетия в Париже собралось десятка два людей, которые стали говорить о том, что все люди равны и свободны. От этого во всей Франции люди стали
резать и топить друг друга. Люди эти убили короля и еще многих. В это же время во Франции
был гениальный человек — Наполеон. Он везде
всех побеждал, то есть убивал много людей, потому что он был очень гениален. И он поехал убивать для чего-то африканцев, и так хорошо их
убивал и был такой хитрый и умный, что, приехав во Францию, велел всем себе повиноваться.
И все повиновались ему. Сделавшись императором, он опять пошел убивать народ в Италии, Австрии и Пруссии. И там много убил. В России же
был император Александр, который решился
восстановить порядок в Европе и потому воевал с Наполеоном. Но в 7-м году он вдруг подружился с ним, а в 11-м опять поссорился, и опять
они стали убивать много народа. И Наполеон
привел шестьсот тысяч человек в Россию и завоевал Москву; а потом он вдруг убежал из Москвы,
226
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
и тогда император Александр... соединил Европу для ополчения против нарушителя ее спокойствия. Все союзники Наполеона сделались вдруг
его врагами; и это ополчение пошло против собравшего новые силы Наполеона. Союзники победили Наполеона, вступили в Париж, заставили Наполеона отречься от престола и сослали
его на остров Эльбу, не лишая его сана императора и оказывая ему всякое уважение, несмотря
на то, что пять лет тому назад и год после этого
все его считали разбойником вне закона. А царствовать стал Людовик XVIII, над которым до тех
пор и французы, и союзники только смеялись...
Потом искусные государственные люди и дипломаты... разговаривали в Вене и этим разговором делали народы счастливыми или несчастливыми. Вдруг дипломаты и монархи чуть было
не поссорились; они уже готовы были опять велеть своим войскам убивать друг друга; но в это
время Наполеон с батальоном приехал во Францию, и французы, ненавидевшие его, тотчас же
все ему покорились. Но союзные монархи за это
рассердились и пошли опять воевать с французами. И гениального Наполеона победили и повезли на остров Елены, вдруг признав его разбойником. И там изгнанник, разлученный с милыми
сердцу и с любимой им Францией, умирал на скале медленной смертью и передал свои великие
деяния потомству. А в Европе произошла реакция, и все государи стали опять обижать свои
народы20.
Обычно мы воспринимаем Толстого или Клаузевица как насмешников. Но то, что и тот и другой
высмеивали теории, говорит скорее об их интересе
к отклонениям от закономерности, чем о настойчивом желании их спрятать.
Мне, кажется, что на самом деле их чрезвычайно занимала такая вещь, как парадокс. В моем словаре это понятие определено как «результат событий,
не соответствующий ожидаемому или противоположный ему»21. Ни один европеец не мог прожить
227
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
или пережить эпоху Наполеона, ни разу ничему
не удивившись. И Клаузевиц, и Толстой не переставали удивляться происходившему вокруг; при этом
они были убеждены в том, что все эти удивительные
вещи происходят из столкновений между всеобщим законом (гласящим, что хотя цели могут быть
бесконечными, средства всегда ограниченны) и той
непреодолимой странностью человеческой натуры,
в силу которой для таких деятелей, как Наполеон,
Геллеспонты всегда существуют только для того,
чтобы их форсировать.
III
К 24 июня 1812 года на счету Наполеона было уже
столько Геллеспонтов, что форсирование еще одного, реки Неман, тогдашней границы Российской
империи с Варшавским герцогством, находившимся под французcким контролем, не особенно его
беспокоила: его Grande Armée насчитывала более
шестисот тысяч человек и имела (здесь он обошел
Ксеркса) целых три понтонных моста. На переправу всей армии все же ушло пять дней, но когда
они вернулись сюда в декабре, от армии осталось
лишь девяносто тысяч человек22. Потери такого
масштаба неизбежно заставляют вновь задавать
вопрос, который задавали и о персах в Греции,
и об афинянах на Сицилии, и о римлянах в Тевтобургском лесу, и об испанцах в Ла-Манше, и об англичанах в Америке: о чем они думали? Или, говоря иначе, чего не учел Наполеон?
Отвечая на этот вопрос, Клаузевиц высказывает точные догадки, которые, как и мысли Августина о справедливой войне, очень глубоко упрятаны
в его текстах. Первая страница его книги, например, вполне могла бы оказаться страстной речью
генерала Паттона, обращенной к его войскам в начальной сцене фильма, носящего его имя:
228
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Война — это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю... Незаметные, едва достойные упоминания ограничения,
которые оно само на себя налагает в виде обычаев международного права, сопровождают насилие, не ослабляя в действительности его эффекта. Таким образом, физическое насилие
(ибо морального насилия вне понятий о государстве и законе не существует) является средством,
а целью будет — навязать противнику нашу волю.
Но затем следует уточнение: к этому сводится понятие о цели войны в теории. А какой же тогда
должна быть ее практика? «Применение физического насилия во всем его объеме никоим образом не исключает содействия разума», утверждает Клаузевиц. Ибо, если «цивилизованные народы
не убивают пленных, не разоряют сел и городов,
то это происходит от того, что в руководство военными действиями все более и более вмешивается разум, который и указывает более действенные
способы применения насилия, чем эти грубые проявления инстинкта»23. Наша голова уже идет кругом — а мы ведь прочли только две страницы очень
увесистой книги. Что бы мы ни говорили о Паттоне, он, по крайней мере, ясно выражался.
Он сообщал своим войскам, что им следует думать. Клаузевиц же пытается научить нас, как думать. Он уверен, что ни одну вещь нельзя познать,
не поняв ее сначала в ее наиболее чистой форме.
Это идея Платона, а ее самым влиятельным защитником в Новое время был Иммануил Кант,
почти современник Клаузевица, который примирял противоположности, доводя их сначала до самой решительной оппозиции. Оттенки, уточнения
и смягчающие оговорки можно вводить после24.
Или, как объясняет сам Клаузевиц:
Если два понятия логически противоположны,
то... по существу из одного проистекает другое;
229
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
но если ограниченность нашего ума не позволяет нам одним взглядом окинуть их одновременно
и найти благодаря одной лишь противоположности в целом одного целое другого, то все же
понимание одного достаточно освещает многие
частности другого25.
Этот метод не для буквалистов — их он собьет с толку. И не для слабых душ — им он покажется чрезмерно радикальным. Но если Клаузевиц, подобно
Вергилию у Данте, хочет быть нашим проводником
по кругам ада, то именно этот беспощадный метод
будет наиболее верным.
IV
Ибо во времена Клаузевица война уже стала адом,
вплотную приближаясь к тому, что «цивилизованные» нации уже никак не должны делать. Французская революция и наполеоновские войны уничтожили миллионы людей, опустошили колоссальные
территории и снесли монархии по всей Европе.
Эти потрясения нельзя объяснить одним развитием техники, поскольку, как отмечал Майкл Говард,
к этому моменту вооружения не совершенствовались уже сто лет, а транспортные средства — более
тысячи лет. Но в политике произошел радикальный переворот, и именно он, в свою очередь, запалил пожар войны.
Маховик этого процесса невольно привели
в движение американцы. Они охотно приняли помощь Людовика XVI в своей войне за независимость
(и это был вполне макиавеллистский ход как с его,
так и с их стороны), но вознаградили его отнюдь
не макиавеллистскими требованиями соблюдения
всеобщих прав человека, которые они понимали далеко не так буквально, как их восприняли горячие
подданные короля. В результате Людовик потерял
230
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
голову, а французы — всякую способность сдерживать себя, но благодаря революции, совершенной
ими в политике, они обрели массовую армию — это,
по словам Говарда26, «ужасающее орудие», позволившее Наполеону, императору, которому досталась Франция, завоевать Европу.
Это привело Клаузевица к его первому и самому главному выводу: если война в этом смысле есть
отражение политики, она должна быть подчинена
политике и, соответственно, политическому курсу
(policy) как результату политики (politics)27. В противном случае война становится бессмысленным
насилием, той самой кантовской абстракцией, которой не должно существовать, но которая, как с ужасом наблюдал Клаузевиц, становилась всё ближе28.
Войну следовало определить заново как «подлинное орудие политики, продолжение политических
отношений, проведение их другими средствами».
Клаузевиц считал, что «политическая задача является целью, война же только средство, и никогда
нельзя мыслить средство без цели»29.
Форсируя Неман, Наполеон имел политическую
цель. Он хотел заставить Александра I подчиниться
правилам «континентальной системы»: торгового
эмбарго против Великобритании, которое французы
начали навязывать всей Европе, когда британский
флот блокировал французские порты. Он рассчитывал добиться этого, нанеся русским быстрое поражение, милостиво приняв их капитуляцию и затем
форсировав Неман в обратном направлении до начала осеннего листопада. В этом случае его цели соотносились бы с его средствами, и это позволило бы
ему соблюсти меру. Да и почему бы, собственно, это
могло не получиться? Ведь он был гением!30
Но вместо того, чтобы встретить неприятеля лицом к лицу, вступить в бой и проиграть, как делало
большинство противников Наполеона до них31, русские начали отступать, оставляя за собой выжженную землю (земли же, в отличие от большинства ев231
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ропейских противников Наполеона, у них хватало).
Именно это имел в виду толстовский Клаузевиц,
когда говорил, что войну нужно перенести в пространство, чтобы ослабить неприятеля: любая армия
слабеет, оторвавшись от тылов. Отступление русских
также увеличивало протяженность войны во времени: чем дальше французы наступали, тем дольше им
нужно было бы потом возвращаться. Именно тут Наполеон мог остановиться, признать ошибку в расчетах и дать приказ к отступлению. Но он отказался, повторив в этом Ксеркса: ведь это означало бы
«никогда ничего не заканчивать». Наполеон забыл
ту стратегию, с которой он начинал: «Мой план кампании — сражение, моя политика — успех»32.
Он все же получил свое сражение. Оно состоялось
в начале сентября на Бородинском поле, но не принесло ему успеха: несмотря на тяжелые потери, Александр отказался от переговоров. И когда Кутузов
решил, что он не может защитить Москву, Наполеон занял город (который был лишь приманкой),
но получил лишь обгорелый остов33. Только в этот
момент, намного позже своей армии, гений начал
сомневаться в правильности своих решений. Это
нарушило психологическое равновесие, которое
в такие моменты, как напоминает нам Клаузевиц,
становится равновесием самой войны34. Война и в самом деле шла в пространстве, времени и масштабе,
и этим масштабом были страхи и надежды не только
единственного французского императора, но и каждого русского и французского солдата. «Тот же расчет привел его [Наполеона] в 1812 году и в Москву, —
заключает Клаузевиц. — Здесь он просчитался»35.
V
Толстой изображает этот момент в том месте «Войны и мира», где голодный казак подстреливает одного зайца, ранит другого и, гоняясь за ним по лесу,
232
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
внезапно натыкается на большой неохраняемый лагерь французов. Кутузов, не особенно рассчитывая
на успех, дает приказ к наступлению, и его войска
совершенно неожиданно для него самого одерживают полную победу — первую со дня вторжения Наполеона. «При самом малом напряжении,
при величайшей путанице и при самой ничтожной
потере, — пишет Толстой, — были приобретены самые большие результаты во всю кампанию». Тарутинское сражение, которое произошло 18 октября,
дало «тот толчок, которого только и ожидало наполеоновское войско для начатия бегства»36.
Вряд ли точкой поворота истории в этот момент
действительно стал заяц, подобно тому как Клаузевиц вряд ли проезжал верхом там, где это изображено в романе. Но поворотные точки истории
и в самом деле часто оказываются «ниже радара»
историков. То, что они существуют лишь в нашем
воображении, не умаляет их значения: какие документальные свидетельства могли бы показать,
как великая армия теряет веру в себя за один день?
Тарутинское сражение было намного менее кровопролитным, чем Бородинское, но оно случилось
именно в тот момент, когда Наполеон уже не знал,
что ему делать дальше. Когда он наконец принял
решение отступать, он уже был не в силах остановить сумятицу, которая сменилось паникой и затем
эпохальным разгромом37.
«Фабианская система ведения войны, которая принесла нам успех в нашей революционной
войне, — писал Джон Куинси Адамс своему отцу
из Санкт-Петербурга, где он служил первым посланником Америки в России, — быть может, еще
никогда не подвергалась более суровому испытанию; но возможно, что Александру нашего времени, как и его предшественнику... суждено быть
остановленным в его завоевательном порыве скифами». В личных письмах Адамса часто встречаются подобные античные шарады: он пишет, на233
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
пример, что Фабиус Максимус Кунктатор заставил
Ганнибала истощить свои силы, дав ему вторгнуться в Италию во время Второй Пунической войны,
называет Наполеона «современным Александром»,
а русских — «скифами», вовсе не имея при этом
в виду кочевые племена, рассеянные некогда Александром Македонским. Но вскоре Джон Куинси
уже сообщал своей матери все ужасные подробности разгрома:
Не менее девяти десятых гигантского войска, с которым [Наполеон] вторгся шесть месяцев назад
в Россию, взяты в плен или достались червям...
Восемьсот миль, отделяющие Москву от Пруссии, усеяны его орудиями, обозными телегами,
снарядными ящиками, мертвыми и умирающими солдатами, которых он вынужден был бросить
на произвол судьбы, непрерывно преследуемый
тремя большими регулярными армиями самого ожесточенного и яростного противника и почти бесчисленным ополчением крестьян, которые озлоблены разорением их посевов и жилищ...
и которых зовет к немедленному отмщению их
собственное чувство, их страна и их религия.
Разгром Наполеона довершили два русских генерала, «Голод» и «Мороз», и «по всему человеческому вероятию полоса завоеваний Наполеона завершилась. Франция не может более диктовать свой
закон континенту... Над Европой занимается новая заря»38.
VI
«Гений, — пишет Клаузевиц, — не является какойлибо одной способностью (например, мужеством),
при отсутствии других умственных и духовных
способностей или при неприменимой для войны
их ориентировке». Это «гармоническое сочетание
способностей, из которых та или другая преоблада234
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ет, но ни одна не становится поперек другой». Одним словом, это способность целостного восприятия. «Если полководец не охватит всего... своим
глубоким прозорливым умом, то возникнет путаница заключений и соображений и утратится возможность правильного суждения»39.
Но как же человек может «охватить все своим
умом»? Отвечая на этот вопрос, Клаузевиц сравнивает стратегию с воображением40. Художнику,
замечает он, доступно «быстрое улавливание истины, или совершенно непостижимой для среднего ума, или дающейся ему после продолжительного рассмотрения и обдумывания». Клаузевиц
называет эту способность coup d’oeil 41 или «внутренним оком»42. Это то же самое, что Макиавелли понимал под словом «зарисовка»: практически применимое отображение сложного явления43.
Описание сложного явления во всем объеме требует слишком много времени и должно содержать
слишком много элементов, и поэтому такое описание сковывает нашу способность суждения. Описание же сложного явления в терминах желаемого или ожидаемого лишь подтверждает нам то,
что мы, как нам кажется, уже знаем. Здесь требуется нечто среднее.
Вот почему, когда твоих солдат косит болезнь,
когда их лошади отощали от голода или когда цари
не следуют твоим сценариям, нужно сделать набросок всего, что знаешь, и вообразить — опираясь на него — все то, чего не знаешь: это позволяет оправляться от неожиданностей и идти дальше.
Здесь стратег и художник совмещаются у Клаузевица в одном лице.
Но как планированием можно предупреждать неожиданности? Только «держа» противоречия, настаивает Клаузевиц: «Все на войне очень просто,
но эта простота представляет трудности». Он развивает эту мысль в отрывке, который с таким же
успехом мог выйти из-под пера Толстого:
235
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Представьте себе путешественника, которому
еще до наступления ночи надо проехать 2 станции; 4–5 часов езды на почтовых по шоссе — пустяки. Вот он уже на предпоследней станции.
Но здесь плохие лошади или нет вовсе никаких,
а дальше гористая местность, неисправная дорога, наступает глубокая ночь. Он рад, что ему удалось после больших усилий добраться до ближайшей станции и найти там скудный приют.
Так под влиянием бесчисленных мелких обстоятельств, которых письменно излагать не стоит,
на войне все снижается, и человек далеко отстает от намеченной цели.
В теории эти проблемы позволяет решать военная грамматика дисциплины, и какое-то время она
их и вправду решает. Но в конце концов вступает в силу более масштабная логика трения, затрудняющая взаимодействие всей той массы элементов, которые определяют жизнь армий. «Но когда
возникнут затруднения, а это случится, как только
от войск потребуется чрезвычайное напряжение,
то дело уже не будет идти само собой как хорошо
смазанная машина».
Сама машина начнет оказывать сопротивление,
и для его преодоления потребуется от начальника огромная сила воли. Под этим сопротивлением следует разуметь не прямое неповиновение или возражение, хотя в отдельных случаях
и это имеет место, а общее впечатление упадка
физических и моральных сил и муки сознания
при виде кровавых жертв; начальнику приходится бороться с ними внутри себя, а затем и среди
подчиненных, передающих ему посредственно
или непосредственно свои впечатления, настроения, беспокойства и стремления. По мере того
как силы отдельных индивидов начинают падать, их уже не увлекает и не поддерживает собственная воля; все бремя инертности массы постепенно перекладывается на волю начальника;
пламенем своего сердца, светочем своего духа
236
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
он должен вновь воспламенить жар стремления
у всех остальных и пробудить у них луч надежды;
лишь поскольку он в состоянии это сделать, постольку он остается над массами, их властелином.
Рано или поздно кто-то срывается или что-то рвется, но невозможно знать заранее, как, где или когда
это случится. Нам дано знать только одно: в результате трения «человек далеко отстает от намеченной цели»44.
VII
В каком-то смысле Клаузевиц не говорит здесь ничего нового. Расхождение целей и возможностей
всегда было не только сдерживающим моментом
стратегий, но и одной из причин, вообще делающих
их необходимыми. Но глубокая оригинальность его
мысли в том, что он считает причиной этого явления «трение». Он показывает, что трение может
проявляться на любом уровне, причем растягивание процесса во времени и в пространстве делает
его более вероятным45. Может быть, он тоже слышал
о том, как во время наступления Наполеона на Москву на колеса императорской кареты время от времени лили воду, чтобы они не перегревались46.
Подобно тому как coup d’oeil делает стратегию
чем-то сродни воображению, введенное Клаузевицем понятие «трения» связывает теорию с практикой. Они «никогда не должны относиться друг
к другу с пренебрежением или отрицанием, — пишет он. — Они поддерживают друг друга»47. Неопределенность вводится тем самым в рамки
всеобщности: иными словами, Клаузевиц предвосхищает более чем на сто лет закон Мёрфи, который также часто называют «законом подлости»,
или «законом бутерброда»: «всё, что может пойти
не так, пойдет не так»48.
237
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
В теории Наполеону все это было известно. Именно поэтому, несмотря на свои ограниченные цели,
он форсировал Неман с такой огромной армией;
так же поступил Ксеркс на Геллеспонте. Оба стремились преодолеть трение устрашением противника. Но ни тот ни другой не поняли, что отступление
противника, по мере нарастания тягот длительного преследования, может обернуться сопротивлением, и истощили свои военные машины до такой степени, что дальнейшее наступление добавляло смелости уже не им самим, а неприятелю. Фермопилы
и Бородино показали, что греки и русские не испугались. А Саламин и Тарутино показали, что к тому
времени боялись уже персы и французы.
Так в чем же была ошибка Ксеркса и Наполеона? Они не сумели, как сказал бы, наверное, Клаузевиц, постичь «глубоким прозорливым умом» истину, что в данном случае означало знание ландшафта, логистики и климата, понимание настроения их
армий и стратегий противника. Они проглядели то,
что понимали их солдаты: Греция и Россия были
такими же ловушками, какой был Ла-Манш для испанской Армады. «Знание трения генералу безусловно необходимо, — заключает Клаузевиц, — чтобы,
где можно, его преодолевать и не ждать точности
действий там, где из-за трения ее не может быть»49.
Но почему Ксеркс и Наполеон сами ограничили свое боковое зрение, подобно обозным лошадям,
которым на глаза надели шоры? Существует множество примеров, говорит Клаузевиц,
когда люди, проявлявшие на младших должностях величайшую решимость, утрачивали ее
на высших. Они чувствуют необходимость принять решение, но сознают и опасность, заключающуюся в неправильном решении; а так как
они не могут охватить порученное им дело, то их
разум теряет прежнюю силу и они становятся тем более робкими, чем яснее сознают опас-
238
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ность нерешительности, которая их сковывает,
и чем больше они привыкли действовать смело,
сплеча50.
Они глядят только прямо, никого не слушая из боязни, что их что-то может отвлечь, надеясь на силу
своего приказа даже тогда, когда он ведет их прямо
в пропасть. Тем самым они лишь подтверждают ту
истину, что здравый смысл — это большая редкость
на больших высотах: там, где, как в Зазеркалье усталого «гения», лошадь может превратиться сначала
в ежа, а потом в сбитую с толку собаку, улепетывающую в свою конуру.
VIII
«Но на вопрос, — пишет Клаузевиц, — какого рода
ум более всего соответствует военному гению, скажем, исходя из природы военной деятельности
и опыта действительности: скорее критический,
чем творческий, скорее широкий, чем углубляющийся в одну сторону; горячей голове мы предпочтем холодную, и последней мы вверили бы
на войне благосостояние наших братьев и детей»51.
Он не развивает эту мысль в своей книге, но это делает Толстой, сравнивающий в «Войне и мире» Наполеона и Кутузова.
Самое запоминающееся описание Наполеона
в романе отвечает реальному событию: его встрече
с адъютантом царя генералом Александром Балашевым в Вильнюсе 1 июля, через неделю после переправы французов через Неман. Император ждал,
что ему предложат мирные переговоры, но когда
Балашев твердо заявил, что Александр не пойдет на переговоры, пока на русской земле остается хоть один французский солдат, лицо Наполеона дрогнуло, а левая икра его ноги начала мерно
дрожать: «Он голосом, более высоким и поспеш239
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ным, чем прежде, начал говорить». И чем дольше
он говорил, тем меньше владел собой, быстро приходя в «то состояние раздражения, в котором нужно говорить, говорить и говорить, только для того,
чтобы самому себе доказать свою справедливость».
Знайте, что ежели вы поколеблете Пруссию против меня... я сотру ее с карты Европы... я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против
вас ту преграду, которую Европа была преступна... что позволила разрушить. Да, вот что с вами
будет, вот что вы выиграли, удалившись от меня.
Император рассерженно ходит по комнате, нюхая
табак из табакерки. Он вдруг останавливается, смотрит Балашеву прямо в глаза и говорит, с угрозой
и будто с сожалением: «A между тем какое прекрасное царствование мог бы иметь ваш государь!»
Позднее Наполеон приглашает своего гостя
на дружеский обед и за столом уже ни разу не вспоминает о происшедшем. Он, замечает Толстой, уже
не считает себя способным на ошибку: «В его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того,
что хорошо и дурно, но потому, что он делал это».
И к концу беседы Наполеон сумел лишь «возвысить себя и оскорбить Александра», то есть сделать
именно то, «чего он менее всего хотел при начале
свидания»52.
Кутузова Толстой изображает в вымышленной
сцене. Он приезжает в свой штаб, с трудом слезает с лошади и, отдуваясь, поднимается по лестнице. Еще на крыльце он узнает, что у князя Андрея
умер отец, и обнимает его. Затем старый главнокомандующий просит представить ему доклад, ради
которого он приехал, но при этом с большим интересом прислушивается к звукам, доносящимся
из соседней комнаты, где находится хозяйка дома.
«Очевидно было, — поясняет Толстой, — что ничто из того, что мог сказать ему дежурный генерал,
240
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
не могло не только удивить или заинтересовать его,
но что он знал вперед все, что ему скажут, и слушал все это только потому, что надо прослушать,
как надо прослушать поющийся молебен».
Но когда он слышит о том, что французы — а может быть, и отступающие русские — разорили родовое поместье Андрея, Кутузов с негодованием
восклицает: «До чего... до чего довели!» Он добавляет, однако, что «трудно кампанию выиграть».
Для этого нужно «терпение и время». Если их хватит, обещает он Андрею, французы «будут у меня
лошадиное мясо есть!» — и в эту минуту в его единственном глазу — второй он давно потерял в бою —
блестит слеза.
Андрей возвращается в свой полк «успокоенный насчет общего хода дела и насчет того, кому
оно вверено было». Он знает, что Кутузов не станет врать ему,
но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его
воли, — это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение и, ввиду этого значения, умеет отрекаться от участия
в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое. А главное, — думал князь Андрей, — почему веришь ему... это то, что голос его
задрожал, когда он сказал: «До чего довели!»,
и что он захлипал, говоря о том, что он «заставит их есть лошадиное мясо».
Кутузов командует не с тех высот, на которые забрался Наполеон, и поэтому не витает в облаках собственных идей. Он может даже иногда задремать
в кресле, но никогда не забывает задуманного. Вот
почему, несмотря на сомнения царя, пишет Толстой, «общее одобрение... сопутствовало народному... избранию Кутузова в главнокомандующие»53.
241
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
IX
Еще задолго до того, как Вергилий повел Данте
кругами ада, он учил Октавиана основам пчеловодства, выращивания домашнего скота, севооборота и виноградарства54. Он словно бы говорил этим,
что правителям необходимо прочно стоять ногами
на земле. Так же полагал и Клаузевиц. Он объясняет, что никогда не избегал в своих трудах логических выводов, и «в тех случаях, когда связь доходила
до крайне тонкой нити, автор предпочитал ее обрывать... Подобно тому как некоторые растения приносят плоды лишь при условии, что они не слишком
высоко вытянули свой стебель, так и в практических
искусствах листья и цветы теории не следует гнать
слишком вверх, но держать их возможно ближе к их
родной почве — реальному опыту»55.
Что же значит «не гнать теорию слишком вверх»?
Это значит не ожидать от нее слишком многого, отвечает Клаузевиц. «Было бы необдуманно в обход
всех случайных вмешательств выводить из них общие законы, которые должны управлять в каждом
конкретном случае, конечно, необдуманно, опуская
все случайные воздействия, выводить отсюда законы, на основе которых можно регулировать каждый
отдельный случай». Но тот, кто никогда «не может
подняться над анекдотом», тот, кто неутомимо пересказывает бессмысленные истории, столь же бесполезен, ибо он «только из них строит всю историю,
везде начинает с самого индивидуального, с верхушки событий, и углубляется в предмет лишь постольку, поскольку он находит к тому те или другие поводы, никогда, следовательно, не доходя до господствующих, общих, лежащих в основе отношений».
Для того чтобы каждый не стоял перед необходимостью заново приводить в порядок весь материал и полностью его разрабатывать, но находил
242
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
все в упорядоченном и выясненном состоянии,
и существует теория. Она должна воспитывать
ум будущего полководца или вернее — руководить им в его самовоспитании, но не должна
сопровождать его на поле сражения; так мудрый наставник направляет и облегчает умственное развитие юноши, не держа его, однако, всю
жизнь на помочах.
Таким образом, Клаузевиц понимает теорию
как обучение. Именно оно «приучает тело к большим напряжениям, душу — к опасностям, рассудок — к осторожности в отношении впечатления
минуты». Это «смазка», снижающая трение. Оно
«сообщает всем драгоценную уравновешенность,
которая, восходя от рядового гусара и стрелка
до начальника дивизии, облегчает деятельность
полководца»56.
Все беды происходят не от безусловного доверия теории в начале пути, а от слишком буквального следования ей при движении вверх, ибо это
«противоречит здравому смыслу». В этом случае
теория становится для «ограниченных умов и невежд предлогом, чтобы благополучно оставаться
во врожденной им косности»57. Клаузевиц особенно
откровенно презирает употребление «терминологий, технических выражений и метафор», вырванных из контекста и возведенных в ранг принципов, которые «беспорядочно... бродят» на больших
высотах — эту «обозную челядь армии», которая
тащится за системами. «При правильном освещении... — пишет Клаузевиц, — они чаще всего оказываются простой трухой», делая теорию «подлинным противоречием практике и... предметом
насмешек со стороны лиц, которым нельзя отказать
в высоких качествах на поле брани»58.
Примером такого теоретика был бывший преподаватель Клаузевица в Прусской военной академии генерал Карл Людвиг фон Пфуль, ставший к 1812 году ведущим военным советником
243
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
царя Александра. Пфуль, писал Клаузевиц в частном письме, относящемся к этому периоду, был
человеком «без всякого понятия о реальных вещах» — в том числе и о том, как правильнее всего
использовать русскую армию против Наполеона59.
Маловероятно, чтобы этот отзыв был известен Толстому, но в «Войне и мире» он явно повторяет мысли Клаузевица:
Пфуль был один из тех теоретиков, которые так
любят свою теорию, что забывают цель теории —
приложение ее к практике; он в любви к теории
ненавидел всякую практику и знать ее не хотел.
Он даже радовался неуспеху, потому что неуспех, происходивший от отступления в практике от теории, доказывал ему только справедливость его теории.
В конце той сцены у Толстого, где упоминается
Пфуль, он едва взглядывает на князя Андрея, настроенного почтительно, но скептически (и странным образом замещающего в этой сцене Клаузевица), с пренебрежением «человека, который знает
вперед, что все будет скверно и что даже не недоволен этим»60.
Это одно из многих мест, в которых Толстой
словно заканчивает книгу за Клаузевица: они напоминают близких супругов, часто заканчивающих
фразы друг за друга61. Нигде это не проявляется так
ясно, как в рассуждениях того и другого о роли, которую в войне — как и в жизни — играет случай.
X
«Никакая другая человеческая деятельность не соприкасается со случаем так всесторонне и так часто,
как война», — пишет Клаузевиц. Война — это «удивительная троица», которую образуют страсти, заставляющие воюющие стороны рисковать жизнью,
244
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
мастерство их полководцев и обоснованность политических целей, ради которых она ведется. Разум
вполне управляет только последним из этих элементов — остальные два обитают в темных областях
чувства, «где все ему [разуму] родственное и близкое окажется оторванным, далеко позади»62. И тогда необходима теория, которая позволит «сохранить равновесие между этими тремя тенденциями,
как между тремя точками притяжения»63.
Всякий, кто когда-нибудь ставил опыты с магнитами, знает — и Клаузевиц знал это наверняка, —
что свободное движение маятника между двумя
магнитами и движение того же маятника между
тремя магнитами выглядит как разница между порядком и хаосом: с добавлением третьего магнита
колебания теряют регулярность и начинают выглядеть случайными: происходит то, что на математическом языке называется «переходом от линейных
колебаний к нелинейным»64. Но это рассуждение
о «точках притяжения», которое приводит Клаузевиц, вызывает у нас вопрос: как теория может уравновесить действие сил, которые сами по себе, в своем отношении друг к другу, не уравновешены?
Хотя бы не обещая никакой определенности, отвечает Клаузевиц. Он относит теорию к правилам
(из которых могут быть исключения), а не законам (которые их не допускают). Он ценит теорию
как противоядие от рассказывания историй и баек,
как некое сгущение прошлого, способное пропускать опыт, но не говорящее почти ничего о будущем. Теория нужна ему как инструмент обучения, а не как навигационная карта для движения
в области непредсказуемого. Он больше доверяет coup d’oeil, чем количественному анализу: никакое сведение войны к числам не может «выдержать
могущественный напор действительной жизни».
Он не доверяет и новичкам: в отсутствие теории
они лишаются способности суждения, которое должно работать «как стрелка компаса», фиксируя ма245
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
лейшие отклонения от намеченного курса при плавании «на корабле, волнуемом бурей»65.
Сила этого волнения, говорит нам Клаузевиц,
связана с причинами, о которых в лучшем случае
могут догадываться «лишь участники событий»66.
Предсказать ее, как предсказать характер движения маятника над тремя магнитами, может быть
так же сложно, как жителям далекой Сибири, о которых писал первый Кеннан, сложно было бы предсказать северное сияние, снежную бурю или землетрясение67. Именно так Клаузевиц видит войну: она
на три четверти «лежит в тумане неизвестности».
Для ее понимания «требуется прежде всего тонкий, гибкий, проницательный ум». Это понимание
не придет из теорий, построенных лишь на тех вещах, которые теоретики, натянув свои привычные
шоры, могут, по их убеждению, измерить.
Те, кто так упрощает действительность, добавляет Толстой, завершая это рассуждение, подобны работникам, которым поручили оштукатурить только
одну стену церкви и «которые, пользуясь отсутствием главного распорядителя работ, в порыве усердия
замазывали бы своею штукатуркой и окна, и образа, и леса», довольные тем, «как, с их штукатурной
точки зрения, все выходит ровно и гладко»68. Толстой так же мало похож на таких работников среди
писателей, как Клаузевиц — среди теоретиков военного дела: ни в том, ни в другом мы не найдем ничего ровного или гладкого. Они ищут нарушений
регулярности на границах хаоса69, который является — или представляется нам — царством случая.
XI
На этом Клаузевиц вполне готов закончить свое
рассуждение. Но не Толстой — этот бульдог, который, яростно развивая атаку, бросает своих героев
задолго до конца романа и пускается на его послед246
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
них страницах в многословные рассуждения о месте случайности внутри противоположности детерминизма и свободы. Вот его вывод:
Те новые приемы мышления, которые должна
усвоить себе история, вырабатываются одновременно с самоуничтожением, к которому, все дробя
и дробя причины явлений, идет старая история.
По этому пути шли все науки человеческие. Придя к бесконечно малому, математика, точнейшая
из наук, оставляет процесс дробления и приступает к новому процессу суммования неизвестных,
бесконечно малых. Отступая от понятия о причине, математика отыскивает закон, то есть свойства, общие всем неизвестным бесконечно малым
элементам.
Хотя и в другой форме, но по тому же пути мышления шли и другие науки. Когда Ньютон высказал закон тяготения, он не сказал, что солнце
или земля имеет свойство притягивать; он сказал, что всякое тело, от крупнейшего до малейшего, имеет свойство как бы притягивать одно
другое... На том же пути стоит и история. И если
история имеет предметом изучения движения
народов и человечества, а не описание эпизодов
из жизни людей, то она должна, отстранив понятие причин, отыскивать законы, общие всем равным и неразрывно связанным между собою бесконечно малым элементам свободы70.
Здесь Толстой — как мне кажется — имеет в виду:
(а) что, поскольку всё связано со всем, существует
неустранимая взаимозависимость вещей во времени, пространстве и масштабе: пытаться проводить
различие между независимыми и зависимыми переменными бессмысленно; (б) что поэтому всегда
будут существовать вещи, которые нельзя знать,
и их деление на элементы ничему не поможет, поскольку всегда найдутся еще более дробные элементы; (в) что из-за того, что мы не можем знать,
мы всегда будет пребывать в иллюзии самостоя247
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
тельного действия, пусть и бесконечно ограниченного; (г) что хотя такие бесконечно малые действия
могут подчиняться законам, это для нас безразлично, так как мы не можем ощущать их последствий;
и поэтому (д) на деле наше восприятие свободы
есть сама свобода.
Если я верно понял его мысли, Толстой воспользовался для разрешения древней проблемы:
как возможно, чтобы человек мог обладать свободной волей, если Бог всемогущ? — идеей масштаба.
Но, оставаясь Толстым, он не удовлетворился собственным ответом и вскоре вернулся к вере в Бога,
которую когда-то высмеивал как обычай примитивных людей. Он даже попытался, хотя и без особого успеха, сделаться примитивным человеком сам71.
Но если считать рассуждения Толстого, как и мысли Клаузевица, предварительным комментарием
к словам Ф. Скотта Фицджеральда о том, что нужно уметь держать в уме две противоположности,
не теряя при этом способности мыслить, то из этого вытекают важные следствия для стратегии в самом большом смысле этого слова.
XII
Начнем с соотношения теории и практики. Клаузевиц и Толстой относятся к ним с равным уважением, не попадая в рабскую зависимость ни от того,
ни от другого. Абстрактное и конкретное в их мышлении как бы взаимно усиливает друг друга, но это
никогда не происходит в каких-то заранее заданных пропорциях. Каждая ситуация требует установления равновесия, основанного на здравом смысле и опыте, которые сами являются результатом
освоения уроков прошлого и обучения, необходимого для будущего.
Теория сводит сложность истории к моментам,
которые могут быть предметом обучения. Это не ре248
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
дукционизм штукатуров Толстого, которые сглаживают нарушения закономерности ради предсказуемости. Теория действует по отношению к прошлому так же, как coups d’oeil Клаузевица действует
по отношению к настоящему: она извлекает уроки из бесконечного многообразия опыта. Она делает свой набросок, исходя из того что вам необходимо знать, не пытаясь сказать вам слишком много, потому что в учебном классе, как и на поле боя,
время для восприятия материала ограниченно. Так
теория служит практике. А когда практика исправляет теорию, снимая шоры с глаз теоретиков, теория платит ей взаимностью, не давая вам сорваться со скалы или забрести в болото (или в Москву).
Художник, делая набросок, поочередно смотрит
на пейзаж и на свой планшет, повторяя это движение до тех пор, пока на бумаге не появится образ,
воссоздающий (но не дублирующий) то, что находится перед ним. Движение руки художника задается и пейзажем, и планшетом, но никакие два художника не нарисуют открывающийся перед ними
вид абсолютно одинаково. Мы наблюдаем здесь взаимную зависимость сторон, но это их взаимодействие каждый раз неповторимо, и без этого нельзя
достичь нужного равновесия между реальностью
и изображением72.
Сегодня составление такого общего наброска
стратегии называют «интегральной оценкой»73.
Речь идет об отображении (и никогда не о простом
перечислении) элементов, которые, существуя каждый в своих особых обстоятельствах, могут с наибольшей вероятностью определить результат.
Когда оценка выполняется правильно, она должна
включать «известные факторы»: географию, топографию, климат, ваши собственные возможности
и ваши цели; «вероятные факторы»: цели противников, надежность союзников, культурные ограничения, способность вашей страны переносить тяготы войны; и, наконец, уважительное обозначение
249
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
всех «неизвестных факторов», которые прячутся
в точках пересечения линий действия первых двух
групп факторов.
Эта конфигурация тройственна, как и взаимодействие «точек притяжения» у Клаузевица, причем в двояком смысле: когда вы стремитесь найти
равновесие известных, вероятных и неизвестных
факторов, вы делаете это также во времени, в пространстве и в масштабе. «На войне, как и вообще
во всем мире, — поясняет Клаузевиц, — все, что принадлежит к известному целому, находится во взаимной связи; следовательно каждая причина,
как бы ничтожна она ни была, сохраняет свое влияние до самого конца военных действий, видоизменяя его хотя бы в самой ничтожной мере»74. Здесь
он предвосхищает рассуждения Толстого о бесконечно малых величинах.
Но не потому, что Клаузевиц видит будущее: это
скорее связано с тем, что и ему, и Толстому в прошлом доводилось видеть «лицо битвы»75. Именно
поэтому они знают, что цели (которые в принципе бесконечны) никогда не могут быть средствами
(которые до обидного конечны). Вот почему война — Клаузевиц говорит это прямо, Толстой подразумевает — должна отражать политику. Потому что когда политика начинает отражать войну,
это говорит лишь о том, что какой-то из высоко
забравшихся «ежей», будь то Ксеркс или Наполеон, влюбился в войну и сделал ее самоцелью. Такие способны остановиться только тогда, когда
они полностью обескровлены, так что кульминационный пункт их наступления — поражение, наносимое ими самим себе.
Перенапряжение сил — ситуация, когда ваша армия ослабляется из-за того, что вы путаете цели
и средства — позволяет вашему противнику применить принцип рычага, совершая небольшие маневры с большим эффектом. Фемистокл не смог бы
победить при Саламине, не истолковав на свой лад
250
ВЕЛИЧАЙШИЕ МАСТЕРА БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
слова дельфийского оракула; Елизавета доверяла
своим адмиралам, которые доверяли ветрам; а Кутузов мог спокойно дремать после Бородинского
сражения, уверенный в том, что география, топография и климат — «известные факторы», не принятые в расчет Наполеоном, — выгонят французов
из России, даже если русские вообще не пошевелят
пальцем. Граница страны станет тем «золотым мостом», который противник захочет перейти сам,
чтобы вернуться домой76.
Мост Кутузова можно назвать золотым стандартом большой стратегии, потому что если цели
должны соответствовать имеющимся средствам,
то необходимость экономической состоятельности
и моральности — то есть реалистичности действий
и соблюдения принципов — требует достижения
этого соответствия при минимально возможной
потере ресурсов и человеческих жизней. «Используемые средства должны соответствовать серьезности бесчинств», пишет Гамильтон в «Федералисте»77, и как ни поражало Клаузевица и Толстого все
происходившее в их время, оба считали свои книги возвращением к идее меры. Оба автора уравновешивают противоположности неустанно и в эпических масштабах. Именно из этого — из постижения
противоречий в их единстве — и рождается мера78.
Теория или практика. Обучение или импровизация. План или трение. Сила или политика. Реальные
ситуации или их зарисовки. Конкретизация или обобщение. Действие или недеяние. Победа или поражение. Любовь или ненависть. Жизнь или смерть.
Командование с заоблачных высот или постоянное
удерживание взгляда на земле. Никакого «или»
не существует только между искусством и наукой.
И вовсе не будет преувеличением сказать, что и Клаузевиц, и Толстой — по широте взгляда, способности
к воображению и честности, с которой они подходили к этим великим вопросам, — были величайшими мастерами большой стратегии.
ГЛАВА 8
Величайший президент
Д
Ж О Н Куинси Адамс не появляется в сценах
«Войны и мира», хотя он провел в России
Александра I больше времени, чем Клаузевиц и Наполеон вместе взятые1. Но с приближением президентских выборов 1824 года в Америке
Адамсу начали являться три шекспировских призрака. Первый из них — Макбет, «греховные амбиции» которого позволили ему добиться короны
ценой гибели собственной души. Второй — Гамлет,
говорящий о смерти в мрачную минуту: «Это ли
не цель желанная?» Третий — Болингброк в пьесе
«Ричард II»: «О! Разве, думая о льдах Кавказа, ты
можешь руку положить в огонь?» Адамс очень старался, чтобы у него это получилось, но начал пугаться собственных надежд. «Мы так плохо понимаем... что лучше для нас самих, — писал он в своем
дневнике, — и самое неясное для меня на этих выборах — это то, следует ли мне вообще добиваться победы». Но он тут же добавляет, что для него «на карту поставлено больше... чем для любого другого
гражданина Союза»2.
Он имел в виду долг перед родителями. Его мать
позаботилась о том, чтобы Джон Куинси, которому тогда не было восьми, увидел собственными глазами кровопролитие при Банкер-Хилл. Его отец
сделал всё для того, чтобы он мог читать классиков на греческом и латыни — и говорить по-французски — еще до подросткового возраста, а позднее
Джон Куинси добавил к числу языков, на которых
252
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
он свободно говорил, испанский, немецкий и голландский (хотя так и не научился говорить по-русски). Адамс-младший стал посланником США в Нидерландах в двадцать шесть лет, посланником США
в Пруссии — в тридцать и сенатором — в тридцать
шесть. Еще в бытность сенатором он одновременно был избран профессором риторики и ораторского искусства в Гарварде. По окончании своей
миссии в России он участвовал в переговорах о заключении Гентского договора, положившего конец
англо-американской войне 1812 года, остался посланником в Великобритании, а в 1817 году стал государственным секретарем — пожалуй, самым влиятельным государственным секретарем в истории
Соединенных Штатов3. Эту должность использовали как ступеньку на пути к президентскому посту и Мэдисон, и Монро, но поскольку родители
Адамса не мыслили для него ничего ниже президентского кресла, он готовил себя в президенты
с самого детства.
Но к 1824 году прежний пиетет американцев перед аристократией, позволявший вирджинским
династиям4 или таким семействам, как Адамсы,
продвигать своих детей во власть, уже сменялся
непочтительным пренебрежением. Элиты не были
в особом почете ни в пограничных штатах, ни в газетах, которые вели ожесточенную конкурентную
борьбу друг с другом, ни среди новых поколений
избирателей. Адамс не считал, что благородный человек должен добиваться цели любой ценой, но ему
казалось, что поражение в борьбе за президентский
пост будет означать «неодобрение Нацией [его]
предыдущей деятельности»5, — а значит, и заслуг
его отца, единственного на тот момент еще живого
главы исполнительной власти, отбывшего полный
срок своих полномочий и пристально следившего
за президентской гонкой из своего дома в Массачусетсе. Стремление к власти без слишком явного его
выказывания и предложения своих услуг — такое
253
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
балансирование между жаром и холодом — помогло
Вашингтону в конце 1780-х годов, но оно вряд ли
помогло бы Адамсу в начале 1820-х.
Поэтому когда Эндрю Джексон, еще один прославленный герой войны6, получил в 1824 году большинство голосов избирателей, но лишь относительное большинство голосов в коллегии выборщиков,
Адамс совершенно отказался от всякой «индифферентности». Согласно Конституции, в подобном
случае итог выборов должен был определяться решением палаты представителей, и тут сторонники Адамса объединились со сторонниками другого
кандидата, Генри Клея, чтобы сделать президентом Адамса, который, в свою очередь, назначил
Клея государственным секретарем. Была ли электоральная сделка на самом деле, значения не имело:
для Джексона и его сторонников всё это имело вкус
и запах подобной сделки в достаточной степени,
чтобы гневно осудить «грязные махинации». Так
в самом начале деятельности своей администрации Адамс и Клей, по замечанию историка Шона
Виленца, проявили «полное отсутствие политического разума и воображения»7.
Президент Адамс попытался исправить ситуацию, предприняв собственный поход на Москву
(не в буквальном смысле): в своем первом ежегодном послании конгрессу в декабре 1825 года,
опубликованном вопреки мнению его собственного кабинета, он проявил поистине наполеоновскую неспособность соразмерять свои устремления
со своими возможностями. Имея настолько крохотный мандат, что лишь он один был в состоянии
его разглядеть, Адамс хотел всего сразу: учреждения национального университета, строительства
дорог и каналов за счет федеральной казны, введения единой системы мер и весов, укрепления флота и создания военно-морской академии, развития
мировой торговли и ведения энергичной дипломатии, обеспечивающей соблюдение доктрины Мон254
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
ро. Дав волю своей давней страсти к астрономии,
Адамс даже предложил создать национальную обсерваторию: американский вариант «небесных маяков», создававшихся в Европе, после чего пошли
разговоры о том, что его голова витает не просто
в облаках, а где-то выше — среди звезд.
Он говорил, что пренебречь всеми этими задачами — это все равно что «зарыть в землю талант, переданный на наше попечение». Ибо «свобода — это
сила», а «нация, получившая в удел величайшие
свободы, должна, пропорционально своей численности, быть самой сильной нацией на земле». Сонная праздность, «вызванная параличом воли участников нашего Союза» может лишь «обречь» страну
на «постоянную неполноценность»8. Но в действительности послание Адамса вызвало паралич только у немногих остававшихся у него сторонников
и обеспечило ему, после менее года в должности,
лишь одну определенную перспективу: что его
правление ограничится одним сроком.
Возможно, что, предав свои принципы ради
завоевания президентского поста, Адамс надеялся вновь обрести их, расставшись с этим постом.
Возможно, что ему всегда не хватало уверенности в себе: его родители сделали амбицию долгом,
но редко подбадривали его. Возможно, что он отстал от времени: ближайшее будущее американской
политики принадлежало идее расширения местных свобод, которую защищал Джексон, а не гамильтоновскому идеалу объединения. Возможно,
что он опередил свое время: в более отдаленном
будущем федерализм возродится и выиграет гражданскую войну. Может быть, он видел, что проблема рабства станет причиной войны и надеялся
оттянуть злополучный день, отвлекая нацию на решение других проблем: понимая хрупкость миссурийского компромисса, Адамс, как и большинство
его современников, не осмеливался называть рабство по имени9. Как бы то ни было, он покинул свой
255
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
пост в 1829 году совсем как Наполеон, покинувший
Россию в 1812 году: усталым и изнуренным, без союзников, жертвой собственных просчетов.
Но Адамс перегруппировал свои силы так,
как никогда не пришло бы в голову Наполеону:
он «отправил себя на понижение». Он дал согласие избираться в палату представителей от своего
массачусетского округа, став единственным президентом, когда-либо избиравшимся в этот орган
после отбытия президентского срока. Легко одержав победу в декабре 1831 года, он занял свое место
в палате и в течение следующих полутора десятилетий добивался только одного: обсуждения тысяч петиций об отмене рабовладения, подававшихся им на рассмотрение членов этого органа. Хотя
он часто был единственным, кто оспаривал проводившуюся палатой политику запрета прений
по этому вопросу, Адамс в конце концов одержал
победу. Хотя Конституция защищает рабство, настаивал он, Первая поправка гарантирует свободу
слова и право подавать петиции об «устранении
допущенных несправедливостей». Благодаря своему упорству, логике и благородству поставленной
цели он загнал своих противников в угол.
Позднее, в марте 1841 года, уже в возрасте семидесяти четырех лет, Адамс проделал то же самое
с Верховным судом. Выступив с восьмичасовой речью в защиту пленников судна «Ла-Амистад» (африканцы, проданные в рабство на испанский остров
Куба, освободились во время плавания, были захвачены американским судном и через сочувствовавших им юристов обжаловали решение об их принудительном возвращении), Адамс напомнил судьям,
что тексты Декларации независимости в красивых
рамках висят прямо за их спинами на стенах зала
заседаний. Как для них, сидящих прямо под этими текстами, возможно будет не освободить пленников? Под влиянием этого морального призыва,
напоминания о первоначальных целях Декларации
256
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
и особенностей интерьера помещения суд неожиданно согласился. Со временем и вся страна согласится на отмену рабства, но лишь заплатив за это
ужасающе высокую цену.
Таким образом, именно Адамс сделал больше,
чем какой-либо другой американец до Линкольна,
чтобы ввести Конституцию в рамки Декларации, говорившей, что все люди созданы равными. И он хорошо понимал, что в ее тогдашнем виде Конституции было весьма неуютно в этих рамках.
I
21 февраля 1848 года палата представителей обсуждала резолюцию о вынесении благодарности
офицерам, принимавшим участие в недавней войне с Мексикой: мирный договор Гуадалупе-Идальго, положивший конец этому конфликту, был направлен на утверждение сената ранее в тот же день.
Договор расширил границы Соединенных Штатов от Техаса, аннексированного еще до этой войны, в 1845 году, до самого Тихого океана, но Адамс,
при всех его прежних трансконтинентальных амбициях, выступил бы (если бы у него была такая
возможность) против заселения этой территории.
Он считал, что президент Джеймс К. Полк спровоцировал конфликт, чтобы включить в Союз новые рабовладельческие территории. Однако палата
представителей не имела полномочий утверждать
договоры, а у Адамса, который находился в этот
день в зале ее заседаний, случился удар, и он скончался через два дня. Авраам Линкольн, конгрессмен от Иллинойса, служивший в конгрессе свой
первый срок и его союзник в критике этой войны,
был, вероятно, свидетелем этой драмы10.
Это был, как сумел еще выговорить Адамс после
инсульта, его «конец здесь, на земле». Но это был
также конец последнего поколения, знавшего от257
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
цов-основателей. Линкольн родился в убогой хижине на границе штата Кентукки в 1809 году —
в том самом году, когда Мэдисон направил Адамса
посланником в Россию. После смерти матери
и при полном безразличии отца к судьбе детей девятилетний Линкольн и его двенадцатилетняя сестра голодали, ходили в лохмотьях и совершенно
завшивели; в это же самое время Адамс, государственный секретарь президента Монро, покупал
испанскую Флориду. И когда Линкольн — которого спасла его мачеха, решил, что ему все же нужно бежать от отца, считавшего, что одного года
в школе для мальчишки вполне достаточно, —
он со своим другом смастерил плоскодонку и поплыл в ней по Миссисипи, хотя никогда не слышал о Гекльберри Финне: это был 1828 год, и Адамс
все еще был президентом. Когда много лет спустя Линкольна попросили указать, какое образование он получил, он написал только одно слово:
«ущербное»11.
Но что же выделяло Линкольна среди прочих —
ведь это можно было бы сказать в то время о большинстве американцев? Во-первых, его внешние
данные — или, как выразился бы, наверное, он сам,
их отсутствие. При росте (во взрослом возрасте)
метр девяносто три он возвышался почти над всеми окружающими. У него были огромные руки, все
брюки были ему коротки. Он считал себя уродом
и никогда не мог справиться со своей непослушной шевелюрой, а неловкие движения этого верзилы вызывали у других людей смутную тревогу,
словно он вот-вот начнет натыкаться на предметы и опрокидывать мебель. Но Линкольн, похоже, редко переживал по поводу своей внешности:
он прятался за самоиронией, хотя в крайнем случае мог рассчитывать и на свою недюжинную силу.
Поняв, что остаться незамеченным людьми у него
все равно не получится, он достаточно рано решил,
что тогда уж лучше нравиться людям12.
258
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
Он принялся совершенствовать свои ораторские таланты. Никто не умел шутить с такой готовностью, так уместно и так редко повторяя свои
старые шутки. Рассказы и истории, часто непристойные, текли из него с такой же легкостью, с какой ненадежные банки того времени выпускали
бумагу вместо денег, однако его рассказы всегда
имели смысл или цель; о Линкольне говорили,
что он мог бы «заставить и кошку смеяться»13.
Но за этой маской шутника была скрыта несокрушимая вера в судьбу, словно его что-то направляло
или кто-то вел по жизни — и это, наверное, не был
Бог14. Кто знает, может быть, это была мрачная тень
его беспросветного детства, или смерть Энн Ратледж, на которой он надеялся жениться, или непростая жизнь с Мэри Тодд, ставшей его женой,
или потеря двух детей из четырех? А может быть,
это была сама шекспировская сложность его натуры, ибо Линкольн проживал в своей жизни роли
не только тех призраков, которые навязчиво преследовали Адамса — Макбета, Гамлета и Болингброка, но также и Фальстафа, и Генриха V, и Ника
Основы, и короля Лира, и Просперо, и позднее (конечно, в глазах своих врагов) Юлия Цезаря15.
Молодой Линкольн любил проводить время
на берегу реки, декламируя Шекспира. Речка называлась Сангамон и текла близ городка Нью-Салем — первого места в Иллинойсе, где он поселился. К западу простиралось пустое пространство,
полное возможностей. К востоку — земли, ставшие
чьей-то собственностью, дороги и мосты, верховенство закона, дух предпринимательства, право любого человека, независимо от его происхождения,
на продвижение в обществе. Линкольн соединял
в себе обе эти «географии», не принадлежа ни к одной из них: он пробовал строить лодки и заниматься речным судоходством, был землемером, служил
в армии, колол бревна для строительства заборов,
был управляющим магазина и даже — недолго —
259
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
почтмейстером (но никогда не занимался сельским
хозяйством) — пока в конце концов не остановился
на юридической практике, которая позднее привела его в политику16.
В юриспруденции, как и в политике, он был самоучкой. Он жадно читал, запоминал все нужное
и мастерски применял все прочитанное на практике. Переход из юридической практики в политику облегчило его ораторское мастерство; немало
помогло и то, что он никогда не был нудно-серьезным. Потерпев поражение на выборах в Законодательное собрание штата в 1832 году, он подал
свою кандидатуру снова и прошел в него через два
года. С этого момента он ни разу не проигрывал
на выборах17. Шел второй президентский срок
Джексона, и по всей стране создавались политические партии18. Линкольн предпочел вигов демократам из уважения к Клею, который аккуратно
переформулировал предложения Адамса о «внутренних улучшениях». Но более срочной задачей
молодого законодателя было улучшение жизни
в Спрингфилде — городе, в который он переехал, —
путем его превращения в столицу штата. Когда
в 1839 году эта цель была достигнута, а кандидат
от партии вигов стал в 1840 году президентом19,
Линкольн мог уже ставить перед собой более масштабные цели.
Ему хватило благоразумия не спешить. Для победы на выборах необходимо было строить политические союзы, а в Иллинойсе это означало ждать
своей очереди: вот почему до 1846 года Линкольн
не добивался выдвижения в палату представителей
США от партии вигов. По той же причине, выиграв
на этих выборах, он обещал отбыть в палате только
один срок. В декабре 1847 года он прибыл в Вашингтон, горя желанием оставить о себе память. Он потребовал, чтобы президент Полк указал «точное
место», где полтора года назад мексиканцы пролили
кровь американцев. Если, как утверждал президент,
260
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
война была начата в порядке самообороны, то кто
именно оборонялся и от кого? Но Полк просто проигнорировал слова молодого конгрессмена, а Линкольн лишь заработал себе прозвище «Пёстрый»20.
Изменив своим привычкам, он слишком поторопился сделать первый шаг, совершив ошибку, которую ему всегда удавалось избежать в прошлом и которую он будет избегать в будущем21.
Линкольн вернулся в Спрингфилд в 1849 году,
не сумев получить при распределении должностей
завидное место главы управления регистрации земельных сделок, которое позволило бы ему задержаться в Вашингтоне. Не считая резолюции о «точном месте», его срок в конгрессе не ознаменовался
ничем примечательным. Его юридическая контора, которую в его отсутствие занимал его партнер
Уильям Херндон, оказалась настолько запущенной, что семена, которые он посылал своим избирателям и которые местами нечаянно просыпались
на пол, дали ростки. Линкольну было уже сорок
лет, и он сам, похоже, был близок к тому, чтобы
остепениться и пустить корни22.
II
Но в следующие пять лет Линкольн нашел дело
своей жизни, приобрел компас и наметил курс.
Этим курсом стала идея старика, чьи последние
минуты он наблюдал в палате представителей:
напоминать американцам о той неловкой позе,
в которой их оставили отцы-основатели ради создания их Союза. «„Необходимость“ была единственным аргументом в пользу рабства, который
они когда-либо выдвигали, — настаивал Линкольн
в 1854 году, — и дальше они не пошли». Они унаследовали это учреждение от англичан и знали,
что без него они не смогут создать нацию, но надеялись, что оно отомрет само собой. Вот почему
261
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
они вписали рабство в свою Конституцию, не называя его по имени и пряча его, «как больной человек
свои опухоли и наросты, которые он пока не осмеливается отсечь, чтобы не истечь кровью до смерти... Меньше этого наши отцы не могли сделать,
и больше этого они делать не стали»23.
Но рабство не исчезало само собой. Там, где оно
было легальным, оно становилось все более выгодным. В национальной политической системе
его позиции защищало «правило трех пятых»,
по которому подсчитывались голоса избирателей при выборах в конгресс. Оно еще вполне могло распространиться на новые территории, отвоеванные у Мексики, которые вскоре должны были
стать штатами Америки, на основании их добровольного решения или в силу закона: «компромисс 1850 года», который регулировал статус рабства в этих регионах, был уже менее надежным, чем
компромисс 1820 года, который изначально не был
вполне прочным24. И даже в тех штатах, где рабство было незаконным, федеральные законы допускали возвращение беглых рабов их владельцам.
«Четвертое июля25 вовсе не утратило своего значения, — мрачно писал Линкольн в 1855 году. — Это
по-прежнему прекрасный повод ... для запуска фейерверков!!!»26 Никто не раздул пламя вокруг проблемы рабства больше, чем тот самый человек, который старался погасить это пламя, но, видимо,
слишком переусердствовал в этом. Стивен Дуглас,
старший сенатор от Иллинойса, был коллегой Линкольна по юридической практике в Спрингфилде и часто выступал его партнером в дебатах. Хотя
Дуглас принадлежал Демократической партии,
он разделял большой интерес вигов к вопросам
экономического развития. Оба стремились обеспечить для своего региона как все новшества, шедшие с востока, так и возможности, открывавшиеся
на западе. Оба поддерживали в качестве первого
шага в этом направлении прокладывание маршрута
262
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
трансконтинентальной железной дороги через Иллинойс. Оба знали, что для этого потребуются федеральные субсидии, выделение земель и военная
охрана. Оба ожидали, что южане, добивавшиеся,
чтобы маршрут проходил по их штатам, потребуют
компенсации. Но только «судья Дуглас», как называл его Линкольн, считал, что знает, в чем она должна состоять.
Почему бы не отменить все установленные Конгрессом ограничения на рабовладение на всей огромной территории Канзаса и Небраски, простирающейся до Скалистых гор на западе и до границы
с Канадой на севере, и не дать поселенцам право
самим определить ее будущее? Ведь право на самоопределение закреплено в Декларации независимости, а на новых территориях, ввиду особенностей их ландшафта и климата, рабство никогда
не укоренится. Дуглас считал, что может добиться
двух целей разом: внесенный им на рассмотрение
конгресса Закон о Канзасе и Небраске, принятый
в мае 1854 года, позволит одновременно защитить
моральные принципы и решить практические
задачи27.
Но вышло совершенно иначе: принятие закона
вызвало настоящий взрыв и, как выразилась позднее
Гарриет Бичер-Стоу, «во все стороны полетели раскаленные гвозди»28. Компромиссы 1820 и 1850 годов
обеспечивали баланс известных интересов, но Дуглас
позволил себе вмешаться в процессы, исход которых еще не был известен: принципы заселения новых
территорий, итоги выборов и результаты пересадки известных форм жизни на незнакомую почву —
в эпоху острых политических страхов. Но хуже всего, подчеркивал Линкольн, было даже не это, а то,
что сформулированная Дугласом доктрина «народного суверенитета» ставила под вопрос наследие самих отцов-основателей.
Они видели в рабстве необходимое зло, которое
можно терпеть в его существующих пределах, пока
263
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
оно не отомрет само. Дуглас, однако, проводил
идею нейтралитета: если жители новых территорий предпочитают рабство, пусть им будет позволено его иметь, — может быть, даже на неопределенный срок. Линкольн, обычно очень спокойный,
с трудом сдерживал ярость во время дебатов с Дугласом в октябре 1854 года в Спрингфилде:
Это декларируемое безразличие, которое,
как я должен думать, скрывает подлинную жажду распространения рабства, я могу лишь ненавидеть. Я ненавижу это безразличие по причине
чудовищной несправедливости самого рабства.
Я ненавижу это безразличие еще и потому,
что оно лишает нашу республику заслуженного
влияния в мире, позволяет всем врагам свободных установлений с видимостью правды обзывать нас лицемерами и всем истинным друзьям свободы — сомневаться в нашей искренности.
И в особенности я ненавижу упомянутое безразличие потому, что оно подвергает критике Декларацию независимости и настаивает, что нет
иного основополагающего принципа, кроме собственной корысти. Тем самым оно силой вовлекает столь многих хороших людей в открытую
войну с самыми фундаментальными принципами гражданских свобод29.
Но какое могло быть дело Дугласу — или кому бы
то ни было еще — до того, что ненавидит Линкольн? Отбыв свой единственный срок в конгрессе,
он больше ничего не добился в политике. Для публики он был просто верзила с высоким скрипучим
голосом. Его противником был влиятельный сенатор. Дугласа называли «маленьким гигантом»,
и ему самому нравилось это прозвище: он был невысокого роста, всегда безупречно одевался, обладал зычным голосом и большой самоуверенностью.
Линкольн же, хотя и не был совсем уж ничтожеством, пока сделал слишком мало для того, чтобы
стать известным.
264
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
III
Однако политическая жизнь Иллинойса нередко выправляла подобные асимметрии. Политики не могли просто печатать свои речи в газетах: тексты были пространные, шрифт — мелкий,
да и не все умели читать. Но на публичное выступление мог прийти любой: в небольших городках
было не так уж много развлечений, и поэтому судебный округ, адвокаты и судьи которого вели судебные дела по всему штату, устраивал настоящие
выездные шоу риторической акробатики30. Отсюда
было уже недалеко до уличных политических митингов, на которых люди часами слушали ораторов
как завороженные, а от них — до тех дебатов, которыми судья Дуглас прославил Линкольна, снова перехитрив сам себя.
Линкольн начинал свои речи медленно, и вначале казалось, что он с трудом находит мысли,
слова и даже более отдаленные части собственного тела. Но затем темп речи нарастал, жесты становились осмысленными, голос начинал звенеть,
а его аргументы превращалась в опасные ловушки
для противника и звучали настолько убедительно,
что зачарованные репортеры иногда забывали вести свои записи31. Линкольн, как и Джон Куинси
Адамс, изучал Евклида, и хотя Адамс проходил его
в Гарварде, а Линкольн был самоучкой32, оба научились у него беспощадной геометрической логике.
Вот пример рассуждений Линкольна из наброска,
написанного, вероятно, для одной из его спрингфилдских речей:
Если A может доказать, пусть даже очень убедительно, что он может по праву сделать B своим рабом, то почему B не может использовать
ту же аргументацию и точно так же доказать,
что он может сделать своим рабом A? Но A —
265
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
белый, а B — черный, говорите вы. Значит, все
дело в цвете кожи, и более светлые вправе порабощать более темных? Берегитесь. Если вы вводите такое правило, вы должны быть признаны
рабом первого попавшегося человека, кожа которого светлее вашей. Вы не имеете в виду именно
цвет кожи? Вы имеете в виду, что белые превосходят черных умственными способностями и, соответственно, имеют право порабощать их? Берегитесь и тут. Вводя такое правило, вы должны быть
признаны рабом первого попавшегося вам человека умнее вас. Но, скажете вы, это вопрос интереса, и если вы можете доказать, что это отвечает
вашим интересам, вы получаете право порабощать другого человека. Очень хорошо. Но тогда,
если он может доказать, что это отвечает его интересам, он имеет право поработить вас33.
Далее в этой же речи Линкольн цитирует Декларацию независимости: «Все люди созданы равными». Считает ли судья Дуглас рабов людьми? Если
нет, то кто они? Явно не боровы — боровам не дают
представительства в три пятых в национальном
конгрессе. Но если рабы — люди, то разве «народный суверенитет» не гарантирует им права на самоопределение? И как может какой-то человек предпочесть быть рабом? Люди шли из рабства к свободе,
а не наоборот. Взгляды Дугласа, снисходительно заключал Линкольн, «покоятся, похоже, не на очень
прочной основе даже в его собственной голове»34.
Но та же логика заставляла Линкольна ввязываться в одни драки и оттягивать другие. Линкольн
воздерживался от того, чтобы ставить под вопрос
конституционные гарантии рабовладения там,
где они существовали, или само правило трех пятых, или даже законы о беглых рабах. Но он привлекал на свою сторону Джефферсона35: рабовладельца, составителя Декларации и основателя
Демократической партии, к которой принадлежал
Дуглас, потому что Джефферсон был и автором
266
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
Указа 1787 года, запрещавшего рабство на территориях, ставших позднее штатами Огайо, Индиана,
Иллинойс и Висконсин: почему же теперь предлагалось отменить такие ограничения для территории Канзас—Небраска? И то, что Линкольн задавал
этот вопрос, вовсе не делало его аболиционистом:
такое утверждение было «крайне нелепым».
Будь заодно с любым человеком, когда он прав...
и расходись с ним, если он идет не туда. Будь заодно с аболиционистом в восстановлении миссурийского компромисса и будь против него, когда
он пытается добиться отмены закона о беглых
рабах... Что из этого? Ты все равно прав... В обоих случаях ты выступаешь против опасных крайностей.
Суть его позиции была в том, чтобы отказать рабству в признании его моральной нейтральности,
вернуть его к тому уровню легальности, который
с большими оговорками признавали за ним отцыоснователи и благодаря этому — и следуя их примеру — сохранить Союз. И за это «идущие за нами
миллионы свободных и счастливых людей во всем
мире поднимутся и назовут нас блаженными»36.
IV
Дуглас чувствовал себя неуютно, когда Линкольн
увязывал прагматизм с принципом, разум со страстью, а уважение к прошлому нации — с прозрениями о будущем всего мира. Сенатор предпочитал
заниматься тонкими различиями, а не рассматривать полярные противоположности. Линкольн, напротив, черпал в противоречиях силу — быть может, потому, что их было так много в нем самом.
Они давали ему тот размах37, физический, умственный и нравственный, которым не отличался его
соперник. Дуглас не мог отказаться от дебатов
267
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
с Линкольном, не повредив своей политической
репутации, но с каждой их новой схваткой репутация «верзилы» росла, а репутация «маленького гиганта» падала. К 1858 году Линкольн уже претендовал на место Дугласа в сенате в качестве кандидата
от новой Республиканской партии, выступавшей
против рабства, и этому помог своим очередным
просчетом сам Дуглас.
«Заявленной целью» и «смелым обещанием» Закона о Канзасе и Небраске, напомнил Линкольн делегатам конвенции штата, выдвинувшей его в июне,
было прекращение «агитации в пользу рабства».
Но за последние четыре года случилось обратное38.
В Канзас устремились сторонники рабовладения,
создавая там независимые территориальные единицы, вызывающие крайне негативную реакцию и в самом Канзасе, и во всех свободных штатах. Это привело к расколу демократов и вигов на северные
и южные фракции и открыло новые возможности
для республиканцев. Позднее, в 1857 году, Верховный суд еще более обострил эти разногласия своим
решением по делу «Дред Скотт против Сэндфорда», гласившим, что конгресс не правомочен регулировать статус рабовладения ни на одной из новых
территорий: когда авторы Декларации независимости провозглашали, что «все люди» созданы равными, безосновательно добавлял суд, они не могли
иметь в виду «африканцев», будь то рабов или свободных39. Планы Дугласа рухнули: он не ожидал
ничего подобного.
«Если бы мы могли знать заранее, где мы и куда
идем, — говорил Линкольн, выступая перед республиканцами Иллинойса в 1858 году, — мы могли бы лучше судить о том, что и как нам нужно
делать»40. Для этого нужен компас, но компас Дугласа указывал лишь курс собственного лавирования41. Он слишком часто оглядывался, заметая следы, и поэтому слишком часто попадал в лежавшие
на его пути кусты, болота и выгребные ямы. Лин268
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
кольн тоже лавировал — он тоже был политиком, —
но он сверял свой компас с вечными принципами,
например, убеждением в том, что «дом, разделившийся сам в себе, не устоит»42.
Отсюда вытекало, что и «это правительство, постоянно оставаясь наполовину рабовладельческим и наполовину свободным, не может устоять». Отцы-основатели допустили временное противоречие, сохранившееся дольше, чем им хотелось бы, но они всегда
исходили из того, что рабовладение будет постепенно уходить из жизни. Дуглас санкционировал своим законом господство рабовладения: можно сказать, перефразируя Бёрка, что конец его рассуждений не помнил того, с чего начиналась эта страна.
Между этими двумя путями не могло быть компромисса. «Я не ожидаю распада Союза, — подчеркивал
Линкольн. — Я не ожидаю, что этот дом не устоит,
но я ожидаю, что он перестанет быть разделенным».
Он станет или целиком одним, или целиком другим. Либо противники рабства остановят его дальнейшее распространение и поведут дело... к его
окончательному отмиранию, либо его сторонники будут распространять его до тех пор, пока оно
не окажется одинаково законным во всех штатах, как старых, так и новых, не только на Юге,
но и на Севере43.
Тем не менее во всех семи дебатах между Линкольном и Дугласом, состоявшихся в 1858 году, замечательных по их продолжительности, содержательности и ораторскому блеску44, эти крайности были
осторожно обойдены: любое упоминание возможности распада Союза как альтернативы его превращения в целиком свободный или целиком рабовладельческий все еще было слишком опасным, чтобы
провозглашаться открыто.
В этой ситуации Линкольн направил все свои
силы на то, чтобы показать, как мало решение Верховного суда оставило от «народного суверените269
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
та»: это была теперь просто похлебка, сваренная
из «тени голубя, отощавшего от голода». Есть ли
у поселенцев на какой-то территории хоть один
легальный способ не допустить распространения на ней рабовладения? — спрашивал он Дугласа. Припертый к стенке, судья вынужден был признать, что они могут сделать это, только отменив
охрану прав рабовладельцев и их имущества — тех
прав, которые до сих пор были неприкосновенными в силу действия законов о беглых рабах. Изображая крайнее удивление, «верзила» тут же парировал: неужели его соперник стал аболиционистом?45
Хотя ответ Дугласа не удовлетворял никого, даже
его самого, демократическое большинство Законодательного собрания Иллинойса все же проголосовало за сохранение за ним места в сенате46.
Но победителем этих дебатов люди считали Линкольна, и это принесло ему общенациональную известность: он уже был одним из реальных претендентов (хотя пока и не ведущим) на выдвижение
в кандидаты от Республиканской партии на президентских выборах 1860 года.
Линкольн доказал главное: практическую применимость моральных норм в области политики.
Здесь я имею в виду внешнюю систему ориентиров, которая сама определяет интересы и действия
человека, а не внутреннюю, как у Дугласа, которая
лишь отражает их. Система ориентиров Линкольна строилась не на вере, не на формальной этике
и не вытекала даже из юридической практики —
вида деятельности, который, будучи ориентирован на достижение справедливости, неизбежно является прагматичным. Она вытекала из того, чему
его научил опыт, из его самообразования, которое
расширило его границы, и из логики, которой Линкольн заземлял электрические разряды своей риторики. Поэтому безнравственные идеи судьи Дугласа
были не просто порочны: они нарушали основные
требования здравого смысла.
270
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
V
Несмотря на прозвище «Дровосек»47, которым
наградили Линкольна его сторонники, он должен был стать теперь «объединителем» политических сил. Дело раскалывания партий он предоставил Дугласу48. Республиканцы впервые боролись
за пост президента в 1856 году. Они проиграли, но,
в отличие от раздробленных демократов или почти
исчезнувших вигов, их объединяло убеждение в необходимости бороться против дальнейшего распространения рабства49. В 1860 году их проблемой
было чрезмерное число претендентов: газета Harper’s Weekly насчитала одиннадцать; фаворитом партии был Уильям Сьюард, много лет занимавший
должность сенатора от штата Нью-Йорк50. Линкольну необходимо было завоевать их лояльность,
не ослабив при этом единства воли партии. «Мое
имя здесь новое, — писал он в марте, — и, думаю,
что для очень многих людей я не самый очевидный
кандидат. Поэтому наша линия — никого не обидеть, а просто дать избирателю возможность прийти к нам, если он вдруг почувствует, что уже готов
проститься со своей первой любовью»51.
Так он сделал себя центром притяжения внутри собственной партии. Он начал с выступлений — неожиданно успешных — в таких разных
штатах, как Висконсин, Огайо, Нью-Йорк и штаты Новой Англии52. Затем он провел конвенцию
по выдвижению в Чикаго, чтобы его соперникам
пришлось описывать круги вокруг него, а не наоборот. Он спокойно наблюдал за этими кругами
из Спрингфилда, тщательно избегая всякой видимости электоральных сделок53. Добившись выдвижения после третьего тура голосования, он повел
кампанию, как это полагалось, только из своей конторы и всегда людного двора перед этой конторой,
охотно давая согласие на публикацию хвалебных
271
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
биографий, позируя для фото и общаясь по почте и телеграфу с партийными функционерами
в тех штатах, где он рассчитывал одержать победу:
для своего времени он был вполне «на ты» с техникой54. Поскольку остальные партии остались расколотыми, он получил в ноябре явное большинство
в коллегии выборщиков, хотя это было еще далеко
от большинства голосов всех избирателей55.
Уже будучи избранным, но еще не вступив
в должность, он собрал свой кабинет из тех, кто
остался позади в президентской гонке, составив
«команду из соперников», как назвал их историк
Дорис Кернс Гудвин. В нее вошли его главные соперники по чикагской конвенции: все еще раздосадованный и недовольный Сьюард в качестве
государственного секретаря, чрезвычайно амбициозный Салмон Чейз из Огайо в качестве секретаря
казначейства, нечистый на руку, но политически
необходимый Саймон Кэмерон из Пенсильвании
в качестве секретаря по военным делам, надежный
и степенный Эдвард Бэйтс из Миссури в качестве
генерального прокурора и твердый приверженец
Линкольна, никогда не соперничавший с ним, Гидеон Веллес из Коннектикута в качестве секретаря по морским делам. Может быть, они и сожрут
друг друга, говорил Линкольн своему молодому секретарю Джону Николею, но все равно мне нужны
лучшие из лучших. Он готов был «пойти на риск
фракционных раздоров ради устранения угрозы
мятежа»56.
Уходящий президент Джеймс Бьюкенен отказался идти даже на самые малые риски, и именно этим объяснялась его ужасающая пассивность
в ситуации, когда семь рабовладельческих штатов
отделились от Союза после избрания Линкольна,
прихватив с собой федеральное имущество. Встревоженные сенаторы, в том числе Сьюард, Дуглас
и сенатор от Кентукки Джон Криттенден, пытались
выработать какие-то компромиссы, но Линкольн,
272
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
быстро рассмотрев несколько компромиссных вариантов, вернулся к своим базовым принципам:
Я против любого компромисса, который помогает его [рабства] распространению на земле, принадлежащей этой нации, или допускает такое
распространение. И любая уловка, при помощи
которой нация может приобретать территорию,
а затем позволять какой-то местной власти распространять на ней рабство, для меня отвратительна57.
Судя по всему, Линкольн все же недооценил решимость Юга: «Думаю, нам потребуется не больше
двух-трех полков, чтобы обеспечить исполнение
всех законов Соединенных Штатов в нелояльных
штатах, — заверял он одного своего гостя (настроенного более скептически) в январе 1861 года. —
И я сделаю это, какие бы жесткие меры для этого
ни потребовались»58.
Но пока Линкольн еще давал последний шанс
логике. В своей инаугурационной речи, произнесенной 4 марта, он ловил на слове сепаратистов, заявлявших, что они защищают Конституцию. Какие именно их права отрицаются? Это не право рабовладения в штатах, где оно является легальным,
и не право хозяев на возвращение им рабов при побеге в любом штате. Это не уважение к Верховному
суду, чьи решения по конкретным вопросам никогда
и не предполагали общего подчинения «этому высокому суду». Это явно не ответственность каждого должным образом избранного президента обеспечивать точное исполнение федеральных законов
в каждом штате. Единственный реальный спорный
пункт состоит в одном: «одна часть нашей страны
считает, что рабство — это правильно и его нужно распространять, тогда как другая считает, что оно порочно и не должно распространяться».
Но оправдывает ли этот пункт отделение — учитывая всю его географическую немыслимость, всю
273
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
абсурдность принятия Союзом решения о собственном роспуске и все прочие неизвестные, которые,
несомненно, сопровождали бы столь беспрецедентное предприятие?
Прежде чем затевать такое серьезное дело,
как разрушение самой ткани нашей нации...
не будет ли благоразумным точно понять, зачем
мы это делаем? Рискнете ли вы пойти на такой
отчаянный шаг, пока есть хоть какая-то вероятность того, что хотя бы часть тех зол, которых
вы хотите избежать, на самом деле не существует? Неужели вы пойдете на это, зная, что явное
зло, к которому вы придете, больше всех реальных зол, от которых вы бежите?
Ничто ценное не может быть потеряно, настаивал
он, если просто «подождать»59. Но ни у одного сепаратиста не должно было быть никаких сомнений
в отношении его собственной позиции: «Конфликта можно избежать, если вы сами не окажетесь агрессорами. Вы не приносили присяги перед Небом
в том, что вы уничтожите правительство, я же принесу самую торжественную присягу в том, что буду
„поддерживать, охранять и защищать“ его». Поэтому он будет ждать, когда «хор Союза» — может
быть, те же самые обойденные кандидаты? — вновь
будет вдохновлен, «а это, конечно, случится — более
добрыми ангелами нашей природы»60.
VI
Но ангелы не всегда подчиняются законам логики,
и то же относится к сепаратистам. 12 апреля 1861 года
войска Конфедеративных Штатов Америки обстреляли форт Самтер в гавани Чарлстон — который,
по словам Линкольна, он только снабжал, не направляя туда подкреплений, — и с этого момента началась война, причем клеймо ее поджигателей легло
274
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
на южан61. Неизменной целью Линкольна на протяжении следующих четырех лет было восстановить
Союз и тем самым спасти свое государство для его
будущего, в котором он видел будущее всемирного величия. Но он также считал, что это нельзя сделать
без искупления греха рабства, первоначально оказавшегося неизбежным62. Насколько мне известно,
Линкольн никогда не читал рассуждений Августина или Макиавелли о конфликте требований души
и государства. Но мало кто из живших после них
решали эту проблему с большим искусством.
Одиннадцать штатов, составившие Конфедерацию (еще четыре штата откололись от Союза после
обстрела форта Самтер) пользовались преимуществом глубоких коммуникаций, но их аграрное хозяйство, основанное на рабовладении, плохо подходило для ведения современной войны. Поэтому
их география допускала (а недостаточность ресурсов требовала) мобильной стратегии, изобретательности в ведении войны и умения заставать противника врасплох. Все эти качества воплощал в одном
лице гениальный полководец южан Роберт Ли63.
У Союза было превосходство в живой силе, промышленном потенциале и снабжении, но его внешние коммуникации создавали массу проблем его
военачальникам, делая их неповоротливыми и нерешительными. Наступательные действия из такой
позиции терпят неудачу, предупреждал Линкольна
генерал Генри Халлек в январе 1862 года, «в девяноста девяти случаях из ста». Они «считаются обреченными во всех авторитетных источниках по военному делу, какие я когда-либо читал»64.
Но Линкольн понимал, что в войне нельзя ограничиваться лишь теми действиями, которые предписаны учебниками, поэтому он высказал «общую
идею» об использовании мощи Союза против военного искусства Конфедерации (он еще не был готов
облечь ее в директивную форму). Следовало исходить из того,
275
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
что мы располагаем численным превосходством,
противник же — бóльшим умением собирать свои
силы в точках противостояния; что мы потерпим поражение, если не сумеем найти способ сделать наше преимуществo более весомым; а этого
можно добиться только если угрожать ему превосходящими силами в разных местах одновременно, так, чтобы мы могли уверенно атаковать одну
или обе такие позиции, если он не меняет диспозиции; а если он ослабляет одну позицию ради
усиления другой — не атаковать усиленную позицию, а захватывать и удерживать более слабую65.
Разве Союз не может противопоставлять сосредоточениям сил конфедератов в отдельные моменты
и в отдельных местах по нескольку одновременных концентраций? Разве он не может компенсировать его «большее искусство» своим «большим
числом»? Разве он не может мыслить и действовать с учетом времени, пространства и масштаба?66
К счастью, Линкольн никогда не учился в военной академии Уэст-Пойнт: за такие идеи он был бы
просто отчислен. Они оспаривали всю ортодоксию военной теории того времени: главными целями армии все еще считались занятие, укрепление
и оборона фиксированных позиций. Хотя американские военные, прошедшие подготовку до Гражданской войны, с большим интересом изучали маневренные войны Наполеона, сами они были лучше
подготовлены к технической организации армий,
чем к ведению боя: у них не было опыта народной
войны. Главным авторитетом для них был швейцарский стратег Антуан-Анри Жомини, более всего известный своим пониманием войны как геометрии. Клаузевиц был опубликован на английском
языке только в 1873 году67.
Тем не менее интуитивно Линкольн разделял
идеи Клаузевица, хотя ему потребуется еще три года,
чтобы найти полководца, также разделявшего эти
идеи, в лице Улисса Гранта — внешне ничем не при276
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
мечательного человека, становившегося смертоносной силой на поле боя68. Стратегия президента состояла в том, чтобы уничтожать силы противника
в любом месте и при любой возможности — то есть
прежде всего драться69. Людские, территориальные
и технические ресурсы Союза со временем превзойдут ресурсы Конфедерации, кровопролитная война
заставит ее армии сдаться, и с мятежным государством будет покончено. Таким образом, Линкольн,
хотя он никогда не читал эти строки, также считал,
что война — это «акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю»70.
VII
Конечно, эти слова появляются только на самых
первых страницах книги Клаузевица, и дальше все
становится сложнее. Так же осложнялись и задачи
военного командования для Линкольна, который
и без всякого Клаузевица знал, что войны, как бы
жестоко они ни велись, должны служить целям государств, которые их ведут, а не пожирать их. Война никогда не может быть самоцелью: она — лишь
средство спасения для государства, безопасность
которого поставлена под угрозу. И Линкольн понимал, что гражданская война — которую он позволил себе навязать, — также может дать американскому государству, оскверненному рабством, шанс
спасти свою душу.
Но сначала нужно было спасти государство: думать о душе прежде всего остального — дело пророков, но не политиков. Линкольну нужно было
сохранить единство своего уже искалеченного Союза, несмотря ни на какие жертвы, которые ему теперь придется принести. Это означало сохранение
в Союзе Миссури, Кентукки, Мэриленда и Делавэра — четырех лояльных штатов, в которых рабство
оставалось легальным. Потерять их, признавал
277
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
президент — это все равно что «сразу согласиться на отделение, включая сдачу этого Капитолийского холма». Или, как он, по чьим-то словам, добавил, он «хотел бы, чтобы Бог был на его стороне,
но он должен иметь Кентукки»71.
Вот почему Линкольн запретил своим командующим собственной властью объявлять свободными
рабов, захваченных их войсками: эта прерогатива
оставалась только за президентом, а он еще не был
готов к такому решению. Он подписал принятый
конгрессом закон, который предусматривал право
на конфискацию имущества мятежников, включая
рабов, но воздерживался от его применения: он сохранит это как резервную возможность и будет
пользоваться ею в зависимости от своих дальнейших планов. Но когда сторонники рабовладения
в северных штатах попытались помешать вербовке
солдат для армии и доставке войск на фронт, Линкольн подавил эти выступления мгновенно: он арестовал зачинщиков, отказался передать их дела
в суд и игнорировал возражения Верховного суда72.
В каждом из этих случаев Линкольн искал верный баланс между требованиями закона и нуждами
военного времени, надеясь, что само время и успехи его армий позволят сделать этот баланс более
устойчивым. «Если рабство не есть несправедливость, то что же тогда несправедливость? — писал
он в 1864 году. — Я не помню времени, когда я не думал и не чувствовал иначе, но я никогда не считал, что должность президента дает мне неограниченное право руководствоваться этим суждением
и этим чувством в моих официальных решениях».
Тем не менее эта должность обязывала его сохранять Союз — даже если для этого потребовалось бы
применить самые крайние средства.
Закон обычно требует принимать все меры
для спасения жизни и здоровья; но если для спасения жизни часто приходится ампутировать
278
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
руку или ногу, то никто не признает разумным,
когда за руку или ногу платят жизнью. Я полагал, что меры, которые в иных обстоятельствах
были бы неконституционными, могут быть правомерными, если они становятся совершенно необходимыми для сохранения нации. Было ли это
верно или нет, я исходил из этого убеждения,
и сейчас торжественно подтверждаю это73.
Здесь Линкольн выразил яснее Клаузевица один
из фундаментальных принципов теории последнего: нет смысла спасать часть ценой потери целого. Таким образом, идея о том, что «политическая
задача является целью, война же только средство,
и никогда нельзя мыслить средство без цели», вытекает из обычного здравого смысла74.
VIII
В своей книге об истории Прокламации об освобождении рабов Аллен Гелзо высказывает мысль
о том, что «дар coup d’oeil»75 позволял Линкольну «схватывать ситуацию целиком и почти автоматически понимать, что делать дальше». Гелзо
не приводит выдержек из книги Клаузевица, который тоже использовал это выражение, но он говорит о природе этого дара с проницательностью, которой мог бы позавидовать Толстой:
Это скорее ироническая, чем трагическая установка, когда учет потерь очень важен, но не является ни решающим, ни, наоборот, второстепенным моментом. Постепенное улучшение
ситуации считается более предпочтительным,
чем радикальные решения... но, в отличие
от простой сдержанности, такое действие сохраняет характер целесообразного движения,
которое не позволяет вам оказаться парализованными из-за чрезмерной поглощенности процессом, но при этом вы сохраняете понимание
279
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
того, что никакая цель не достигается настолько легко... чтобы это оправдывало полный отказ
от процесса.
Линкольн оценивал потери как важный момент,
ни пренебрегая ими при этом, как Наполеон в России, ни страшась их до такой степени, чтобы этот
страх парализовывал его, как это случалось с генералами армии Союза до Гранта. Чтобы понять, какие
средства лучше работают, он исходил из собственного постепенно прираставшего опыта, а не из общих академических положений, которые учат, какие
средства должны работать. Он уважал процессы —
в том числе процессуальные нормы, — но хорошо
понимал риски такого уважения в ситуации, когда
решается слишком многое. Он последовательно выступал за сохранение Союза в течение всей войны
и поддерживал идеи отмены рабства к концу войны,
но показал при этом исключительно тонкое чувство
момента: никто не умел столь мастерски отстаивать
непреложные принципы, выдвигая их при этом избирательно. Линкольн всегда прекрасно понимал
великий парадокс Клаузевица: «Все на войне очень
просто, но эта простота представляет трудности»76.
Генерал Джордж Макклеллан — главнокомандующий, служивший под началом Линкольна в течение первой половины войны дольше всех остальных генералов, понимал только вторую часть
этого парадокса и возвел ее в принцип. Этот «молодой Наполеон» (образ, который он пестовал сам,
что видно даже на его фотографиях), создал великую армию, но использовал ее не в полную силу:
он был, как писал историк Джеймс Макферсон,
«постоянно почти готов, но никогда не вполне готов
к действию»77. Это делало невозможной стратегию
одновременного сосредоточения сил на нескольких направлениях, которую отстаивал Линкольн.
«Если генерал Макклеллан не хочет использовать
армию», с раздражением бросил как-то президент,
280
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
он сам был бы не прочь «взять ее у него напрокат»78. Но он знал, что не может одновременно заниматься этим и управлять страной, и поэтому,
по очереди подвергая испытанию череду одинаково инертных полководцев, Линкольн начал искать альтернативные способы, какими он мог бы
выиграть войну. Один из них состоял в том, чтобы
в конце концов стать аболиционистом79.
Если бы он сделал это слишком рано, он мог бы
проиграть войну, но Линкольн убеждался, что сам
ход войны меняет ее цель: это означало, что и политика, которая соответствовала этой цели, также
могла меняться. Хотя президент запретил своим
офицерам освобождать рабов, попадавших в плен,
он не возражал против их использования на работах по обеспечению деятельности армии. Позже
он счел разумным выдавать некоторым из рабов
оружие, а когда они уже были вооружены — зачислять их в армию, куда многие из них и так стремились. Это позволило увеличить численность
войск северян и усилило нервозность южан, которые всегда боялись восстаний рабов. После же того,
как бывшие рабы приняли участие в войне за Союз,
ни один северянин не мог с чистым сердцем поддержать их возвращение в прежнее состояние: освобождение рабов диктовалось практической потребностью еще до всяких президентских указов80.
Линкольн знал, что происходит, не пытался мешать этому, но аккуратно соблюдал дистанцию.
Он публично ответил пламенному аболиционисту
Хорасу Грили уже в августе 1862 года:
Моя главнейшая задача в этой войне — спасти Союз, а не спасти или уничтожить рабство.
Если бы я мог спасти Союз, не освобождая ни одного раба, я сделал бы это; если бы для его спасения
мне пришлось освободить всех рабов, я сделал бы
и это; а если бы я мог сделать это, освобождая
одних и не трогая других, я сделал бы и это...
281
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Я буду делать меньше всякий раз, когда сочту,
что мои действия вредят этой цели, и больше —
всякий раз, когда сочту, что они ей способствуют. Я буду стараться исправлять ошибки, когда
будет показано, что это ошибки, и усваивать новые взгляды настолько быстро, насколько быстро
они будут представляться мне правильными.
Линкольн считал, что допускать возможность всех
вариантов — это его долг «как президента», но добавлял при этом: «я не намерен отказываться от моего личного желания, которое я часто высказывал:
желания того, чтобы все люди везде могли быть
свободными». Так что же он сказал на самом деле?
«Что он готовится совершить какой-то решительный шаг, — делает вывод его биограф Ричард Карвардин, и — что у него нет такого намерения»81.
Но Линкольн уже нашел способ превратить
свое желание в свой долг: он объявит отмену рабства потребностью военного времени. Это было,
как он сказал в частной беседе Сьюарду и Веллесу в июле, «абсолютно необходимо для спасения
нации». Он предложил действовать не на основании принятых конгрессом законов о конфискации, а на основании «особых военных полномочий», которые принадлежали ему по Конституции
как главнокомандующему. Никто пока не знал,
в чем они заключались, но Адамс, выступая в палате представителей за два десятилетия до этого, заявлял, что они включают право «принять решение
о всеобщем освобождении рабов». Линкольн услышал его слова, словно шепот призрака, уже вскоре
после начала Гражданской войны, но этот президент, в отличие от Адамса, обладал даром coup d’oeil,
и потому ждал самого подходящего момента82.
Момент наступил, когда Макклеллан наконец
добился убедительной военной победы в сражении
при Энтитеме 17 сентября. Эта битва, как и Бородинская битва, оказалась кровавой ничьей, но уже
282
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
то, что Макклеллан наступал, а Ли отступал — даже
несмотря на то, что, к крайнему неудовольствию
Линкольна, он сохранил свою армию, — стало моральным триумфом. Он позволил президенту заявить через пять дней — и не в состоянии безысходности, а с позиции силы, что
с первого января тысяча восемьсот шестьдесят
третьего года от Рождества Христова все лица,
являющиеся рабами на территории любого штата или части штата, население которого находится в состоянии мятежа против Соединенных
Штатов, объявляются отныне и навек свободными83.
Линкольн ничего не сказал о лицах, бывших рабами в лояльных штатах: не будучи в состоянии войны с ними, он вряд ли мог использовать там военные полномочия84. Но он понимал и то, что в этом
нет необходимости: чем больше крови проливал
Союз, тем более справедливой — и, соответственно, более законной — становилась отмена рабства.
В этом смысле его прокламация была Тарутинским
сражением Линкольна: внешне приложив не больше
усилий, чем нажим своего пера, он захватил инициативу, и с этого момента Юг, если пока и не бежал, подобно Наполеону из России, то находился
исключительно в обороне.
IX
1 декабря 1862 года президент Линкольн направил третьей сессии тридцать седьмого конгресса
свое второе ежегодное послание. Как и большинство подобных документов, послание представляло собой набор банальностей. Президент предлагал
возместить Норвегии стоимость судна, незаконно
захваченного вблизи блокированного порта Чарлстон, выражал удовлетворение по поводу заключе283
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ния нового торгового договора с турецким султаном и улучшения финансового состояния почтовой
службы. Но в нем также содержался призыв принять поправку к Конституции, узаконивающую
на все времена отмену рабства, принятую изначально в качестве чрезвычайной военной меры. Послание завершалось звонким coup d’oeil:
Мы говорим, что стоим за Союз. Мир не забудет,
что мы это говорим. Мы знаем, как спасти Союз.
Мир знает, что мы действительно знаем это...
Предоставляя свободу рабу, мы обеспечиваем свободу свободному человеку: то, что мы даем, и то,
что мы обеспечиваем, является равно достойным. Мы доблестно сохраним или бесславно потеряем последнюю и лучшую надежду земли85.
Для Линкольна это не было каким-то новым озарением. «Сохранение Союза этих штатов — это лучшая
надежда земли, — заявил он уже в 1852 году в своей
речи на похоронах Генри Клея86. Он часто упоминал о «мире, который смотрит на нас», и в ходе дебатов с Дугласом в Иллинойсе87. А в 1861 году, заняв тот пост, которого надеялись добиться, но так
и не добились Клей и Дуглас, Линкольн видел долг
своей нации в том, чтобы
поддерживать в мире, по форме и по существу,
тот вид правления, главная цель которого — возвысить человека к новому состоянию: сбросить
с плеч каждого искусственное бремя, открыть пути
к достойным занятиям для всех, дать каждому неограниченные возможности начать новую жизнь
и справедливые шансы в жизненной гонке88.
Доказав тем самым, добавлял Линкольн в частной
беседе, относящейся к этому же времени, что «народное правление — это не абсурд»89.
Настоящим абсурдом, писал он в своем послании в 1862 году, был бы распад Союза, ибо «наши
широчайшие пространства — эта наша обширная
284
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
национальная усадьба — и есть наш богатейший ресурс». Порты Союза открывали всем американцам
доступ ко всем океанам. К 1925 году их общее число
вполне могло превысить число всех портов Европы. Отмена рабства обеспечит экономический рост,
ускорив завершение идущей войны и одновременно увеличивая «благосостояние страны». С другой
стороны, отделение штатов, если оно произойдет,
спровоцирует отделение новых штатов, что приведет к «огромным и пагубным» последствиям90. Неясно, помнил ли Линкольн послание Адамса к Конгрессу, направленное в 1825 году, и читал ли он его
вообще. Однако оба разделяли то главное убеждение, что «свобода — это сила» и что «нация, которой посчастливилось иметь величайшую долю
свободы, должна быть, пропорционально своей
численности, самой сильной нацией на земле»91.
Чтобы добиться своих целей, Линкольн воспользовался тем, что после отделения южных штатов
в Вашингтоне не стало южан — противников реализации планов национального экономического развития. До того как стать республиканцем, он был
вигом. Родись он немного раньше, он был бы федералистом в духе Гамильтона. И поэтому Линкольн
потребовал от конгресса и добился от него того,
чему позавидовали бы Адамс и Клей: развития внутренней инфраструктуры, включая строительство
железной дороги до Тихого океана, продажи поселенцам государственных земель на западе страны
по низким ценам, открытия университетов, субсидируемых государством, введения протекционистского таможенного тарифа, создания централизованной банковской системы и даже (на период ведения войны) учреждения федерального подоходного
налога. Сиюминутные задачи военного времени решали только банки и налоги. Все остальное закладывало основу той силы, без которой «Новый Свет»
не смог бы несколько раз спасти свободу в «Старом
Свете» уже в XX веке92.
285
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
X
Неясно, читал ли Линкольн Маркса. Это вполне возможно: автор «Коммунистического манифеста» был
лондонским корреспондентом общенациональной
газеты New York Tribune, издателем которой был Хорас
Грили. Историк Кевин Перайно представляет себе,
как Линкольн лежит, развалившись, на пыльном диване в своей спрингфилдской конторе, подбирает
с полу газету и дразнит своего партнера Билли Херндона революционными цитатами. Так что он вполне мог быть знаком с предсказанием Маркса о том,
что северяне одержат верх, хотя и не без тяжелой
борьбы, в Гражданской войне, благодаря не только
своим материальным ресурсам, но и тем, что они
смогут зажечь восстание рабов на Юге93.
Но этому могли помешать материальные интересы. Отцы-основатели стремились препятствовать
любому возвращению европейских великих держав
в Северную Америку, но теперь образование мирового капиталистического рынка хлопка повышало ставки: могли ли страны, переживающие промышленную
революцию, допустить, чтобы самопровозглашенная Конфедерация — их основной источник хлопка — была отрезана от мира морской блокадой, установленной Союзом? Не получится ли так, что меры,
направленные на подавление сепаратизма, придадут ему международную легитимность?94 «Я ничего не понимаю в дипломатии, — признавался Линкольн. — Наверное, я буду часто делать ошибки»95.
Но ошибок оказалось очень немного. Все еще отчаянно пытаясь не допустить распада Союза, государственный секретарь Сьюард даже предложил,
буквально накануне обстрела форта Самтер, пойти
на намеренное обострение отношений с Испанией,
Францией, Великобританией и Россией: если президент сочтет, что он не годится для выполнения такой задачи, ее могли бы взять на себя какие-то дру286
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
гие члены кабинета, не исключая самого Сьюарда96.
Линкольн так и не выразил своего отношения к этому странному проекту, но ясно дал понять Сьюарду, что если что-то нужно будет предпринять, «это
должен будет сделать он сам»97. Это удержало Сьюарда от падения с многих обрывов, на краю которых он оказывался после собственных неловких маневров, и с тех пор между ними установилось вполне гармоничное взаимодействие.
Оно оказалось особенно важным в ноябре
1861 года, когда Чарльз Уилкс, капитан корабля
Союза «Сан Джасинто», действуя по своей инициативе, захватил в международных водах британское судно «Трент» и арестовал как «контрабанду»
двух дипломатов Конфедерации, Джеймса Мэйсона
и Джона Слайдела, плывших на нем с заданием добиваться дипломатического признания Конфедерации в Лондоне и Париже. Линкольн, который был
сначала очень доволен этим результатом, пошел
на попятный, когда на горизонте замаячила угроза
англо-американской войны. Сьюард помог ему сохранить лицо, назвав самоуправство Уилкса юридическим термином «реквизиция», — ведь именно в знак протеста против этой британской практики американцы начали войну с ними в 1812 году.
Теперь, когда обе стороны осудили такие действия,
вполне убедительно заявил Линкольн, для новых
конфликтов такого рода уже не могло быть оснований. Или, как он объяснил своему кабинету, нельзя вести «больше чем одну войну одновременно»98.
Между тем французский император Наполеон III,
тщеславный племянник своего великого предшественника, решил воспользоваться слабостью Америки, вторгнуться в Мексику и возвести на императорский трон в этой стране (которого тогда даже
не существовало) еще более ненадежную фигуру: австрийского эрцгерцога Максимиллиана. Несмотря
на призывы, в том числе некоторых из их собственных сторонников, закончить каким-то вариантом уре287
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
гулирования Гражданскую войну и, ссылаясь на доктрину Монро, отправить на юг за Рио-Гранде объединенные силы Союза и Конфедерации, Линкольн
и Сьюард ограничились дипломатическими протестами. Они понимали, что победы Союза над Конфедерацией смогут быстрее ослабить напор французских и австрийских притязаний, сохраняя при этом
энергию ведения той главной войны, которую действительно стоило вести. Победы же — после поражений, нанесенных южанам в Виксберге и при Геттисберге в июле 1863 года — стали вполне реальными99.
Провозглашая отмену рабства, Линкольн руководствовался прежде всего интересами военной целесообразности, но по мере того, как нравственный
отклик этого решения становился все громче, это облегчало задачи его дипломатии. Оно давало Союзу чувство морального превосходства100, и подобно тому, как ни один северянин уже не мог вернуть
в рабское состояние бывших рабов, служивших в армии Союза, к середине 1864 года ни одна иностранная держава не могла без морального ущерба для себя
признавать рабовладельческое государство Конфедерации, не говоря уже о вмешательстве в конфликт
на его стороне101. Прикрываясь этим моральным щитом, крупнейшая в мире популяция хлопкоробов
устроила то, что историк Свен Беккерт назвал «аграрным мятежом», не имевшим себе равных по стремительности и масштабам. Это ускорило победу Союза и обеспечило образование целостной экономики, которая еще потребуется ему в будущем, чтобы
дать надежду миру (и даже Марксу с его чаяниями
окончательной победы пролетарской революции)102.
XI
Чрезвычайные военные полномочия, настаивал
Линкольн, могут делать неконституционные решения конституционными: отмена рабства стала
288
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
величайшей безвозмездной конфискацией частной
собственности в американской истории103. Но Линкольн, похоже, никогда не предполагал для себя отмены или отсрочки предусмотренных Конституцией президентских выборов, в результате которых,
как он допускал сам, ему на смену мог прийти кандидат от Демократической партии, которого он сам
в конце концов сменил в качестве командующего —
бывший генерал Джордж Макклеллан. В подобной
ситуации, заявил президент своему кабинету в августе 1864 года, «моим долгом будет взаимодействовать с новым президентом таким образом, чтобы сохранить Союз в период между его избранием
и вступлением в должность». Потому что, добавил
Линкольн, «если он добьется своего избрания,
то на таких основаниях, на которых он не сможет
спасти его позднее»104.
Хотя угроза военного поражения была давно
позади, опасность затяжной тупиковой ситуации
все еще сохранялась. Боевые генералы Линкольна:
Улисс Грант в Вирджинии, Уильям Текумсе Шерман в Теннесси и Северной Джорджии и Филип Шеридан в долине реки Шенандоа — изматывали войска Конфедерации, но без определенной перспективы окончания войны соответствующие людские,
материальные и политические потери уже нельзя
было бы оправдывать. Именно это придавало энергию президентской кампании Макклеллана и питало опасения Линкольна по поводу того, что мир, достигнутый путем переговоров, будет означать сохранение рабства и принесение Союза в жертву миру105.
Но затем, 2 сентября, Шерман взял Атланту. Хотя
это еще не было Тарутинским или Бородинским сражением, это оказалось чем-то вроде елизаветинских
брандеров, действующих на суше: пожар, который
они устроили, охватил всю Конфедерацию до ее океанских границ. Уровень поддержки Линкольна пополз вверх вместе с дымом этого пожара, и через два
месяца он был с триумфом переизбран, проиграв
289
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
только в трех из двадцати двух штатов, в которых
проводились выборы. «Мирно прошедшие выборы, — писал Улисс Грант, — это более важная победа
для страны, чем выигранное сражение. Именно так
это поймут и мятежные штаты, и Европа»106. Именно
так, и с большим энтузиазмом, это воспринял Маркс:
«Победный боевой клич Вашего вторичного избрания гласит: смерть рабству! — писал он президенту
из Лондона. Рабочие Европы, продолжал он, видят
предвестие грядущей эпохи «...в том, что на Авраама Линкольна, честного сына рабочего класса, пал
жребий провести свою страну сквозь беспримерные
бои за освобождение порабощенной расы и преобразование общественного строя»107.
Еще когда Линкольн был ребенком, Джон Куинси Адамс уже понимал, что гражданская война
может искоренить рабство «на всем континенте».
Этот результат будет «настолько выдающимся»,
писал он, что даже если этот процесс окажется «ужасным и опустошительным», он все равно
«не решился бы сказать, что к нему не нужно стремиться»108. Мы никогда не узнаем, какие потери
оказались бы чрезмерными для Адамса, но хорошо известно, что выпало на долю Линкольна: более трех миллионов человек под ружьем на Севере
и на Юге и не менее 750 тысяч погибших109. Слова,
сказанные им в 1861 году, о том, что для усмирения
сепаратистов хватит «двух-трех» полков (их потребовалось больше трех тысяч) представляются поразительно наивными. Впрочем, он же говорил о своей решимости идти на всё, «какие бы жесткие меры
для этого ни потребовались»110.
Это дало Линкольну более широкий спектр
альтернатив: от запугивания противника до его
истребления в масштабах, которые только допускала его эпоха. Он держал в резерве все эти возможности, учитывая физические, эмоциональные
и моральные «допуски» каждого момента: это позволило ему сделать отмену рабства одной из це290
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
лей войны — но только после того, как он убедился, что это поможет ему одержать победу. Тонкая
чувствительность Линкольна к изменениям ситуации, его готовность допускать рост даже смертельно опасных вещей, сохраняла «клаузевицианский»
характер этой войны: при поразительном расширении арсенала средств, которые он применил, его
главным компасом всегда оставалось спасение государства111. В течение всего следующего века американская армия сжималась всякий раз, когда это
было возможно, но стремительно росла, когда это
было необходимо. Во времена Линкольна никто
не мог представить себе обстоятельства, при которых такое могло бы потребоваться, однако он показал, что это возможно112.
Сам Линкольн считал себя не столько «сыном
рабочего класса», сколько наследником отцовоснователей: «восемьдесят семь лет назад наши
отцы...». У отцов (не считая Джона Адамса) не оказалось, как это ни странно, столь же выдающихся
сынов, как они сами. Поэтому кажется правильным, что Линкольн оказался рядом с Джоном Куинси в последний день его общественного поприща, и что именно младший Адамс, уже после своей
смерти, вдохновил Линкольна на конституционное
обоснование отмены рабства. То обоснование, которое сделало республику «новой страной, рожденной в свободе», где «народная власть — власть народа и ради народа — не исчезнет с лица земли»113.
XII
«Ему как-то удавалось, — заключил самый глубокий из современных биографов Линкольна, — быть
волевым без своеволия, праведным без ханжества
и моральным без морализаторства», проявляя «беспримерную в истории американской общественной
жизни психологическую зрелость»114. А можно про291
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
сто сказать, что он умел обходиться с противоположностями, не давая им подчинить себя. Но как это
могло получиться при столь «ущербном» образовании? Мне кажется, что ответ заключается в здравом
смысле Линкольна, опиравшемся на его редкое чувство масштаба, пространства и времени115.
Масштаб задает интервалы, в которых происходит накопление опыта. Если в процессе эволюции
способность видов удерживаться на границах хаоса вознаграждается их лучшим приспособлением,
если в истории приспособление повышает гибкость,
и если гибкость позволяет конкретным человеческим особям лучше реагировать на неизвестное, чем
жесткая организация, то будет вполне правильным
утверждать, что постепенное расширение границ привычного лучше готовит лидеров к неожиданностям,
чем их внезапное расширение, не оставляющее времени на приспособление, или же унаследованные
от прошлого границы, порождающие ложные представления о незыблемых правах и связанную с этим
излишнюю самонадеянность.
Чтобы лучше понять, как по-разному это может
быть, сравним жизнь Линкольна с жизнью Джона
Куинси Адамса. От Адамса многого ожидали, и эти
ожидания не только вдохновляли, но и настойчиво преследовали его, отчего в решающие моменты ему не хватало здравого смысла. Завышенные
ожидания других — которые он, в свою очередь, завышал еще более, — заставляли его ставить недостижимые цели, и только «отправка самого себя
на понижение» позволила ему успокоиться в конце жизни. Линкольна не отвлекали и не смущали
ничьи ожидания, кроме его собственных ожиданий
от самого себя: он начал с малого, шел вверх постепенно и начал борьбу за высший пост только тогда,
когда дорос до этого. Его амбиции росли вместе
с расширением его возможностей, но он удерживал и то и другое в пределах своих обстоятельств.
Он хотел, чтобы его недооценивали.
292
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
Ожидания и обстоятельства встречаются в пространстве. И Линкольн, и Адамс видели мощное
средство защиты свободы в экспансии на Запад,
но они также понимали связанные с этим опасности. Мэдисон показал в десятом выпуске «Федералиста», что республика, уравновешивающая разные
интересы, может превратиться в империю; однако
он имел в виду множественные и местные — даже
«местечковые» — интересы. Сыновьям отцов-основателей необходимо было найти верный баланс
в решении единственной проблемы, от которой теперь зависело национальное единство: следует ли
распространять рабство на новые территории. Гибкость сменилась жесткостью: любой избранный
путь означал неприемлемые потери одной из сторон116. Адамс был избавлен от необходимости выбора, но Линкольн, казалось, был даже рад этой необходимости.
Поэтому, когда война началась, он использовал
пространство, чтобы восстановить Союз. Он игнорировал общепринятые теории и подолгу сидел
над картами, взвешивая возможности и ресурсы.
Карты показывали, что сила северян состоит во внешних коммуникациях, благодаря которым новые
технологии — телеграф, железные дороги и вооружения, производимые в промышленных масштабах — можно было объединить с новыми методами ведения войны, допускающими мобильность
и концентрации войск. Линкольну нужны были
только генералы, готовые воевать, и время, которое потребуется им на то, чтобы измотать Конфедерацию. После этого страна могла установить
контроль над континентом, к чему и стремились
отцы-основатели.
Наконец, время. Линкольн старался быть с ним
в союзе: он умел ждать, знал, когда нужно действовать и что может ободрить тебя в трудную минуту.
Накануне принятия на себя какой-то ответственности он становился почти агностиком, но когда
293
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
масштаб задач возрастал, возрастала и его вера —
но не в традиционном понимании этого слова117.
Это был скорее диалог между человеком и «Создателем» (выражение самого Линкольна). Почему, спросил однажды президент группу самоуверенных министров, если Бог открыл свою волю им,
Он не открыл ее «сразу мне»?118 Линкольн пришел к убеждению, что Бог открывает свою волю
через сам ход событий, а не путем некоего мистического откровения. Победа Макклеллана при Энтитеме, заявил президент своему кабинету, — это
сигнал о том, что пришло время отмены рабства119.
Но его все еще тревожила перспектива затягивания войны: каждая сторона «настаивает на том,
что она исполняет Божью волю», писал он в личной заметке, но ведь «обе они могут быть неправы,
а одна из них должна быть неправа. Бог не может
быть за какую-то вещь и против нее одновременно». Но он тут же ловил себя на неблагочестии:
ведь Бог, еще в большей степени, чем Его ангелы,
непостижим для земного разумения. «Вполне может оказаться, что цель Бога — что-то отличное
от целей обеих сторон». Может быть, «Богу нужна эта схватка, и Его воля состоит в том, чтобы она
еще не кончалась»120.
Однако когда Линкольн заявлял всему миру
в своей второй инаугурационной речи 4 марта
1865 года, что если Богу угодно, чтобы война продолжалась до тех пор, «пока все богатство, накопленное двумя с половиной веками неоплаченного невольничьего труда, не будет искуплено и пока
каждая капля крови, пролитая плетью, не будет
возмещена другой каплей, пролитой мечом, тогда
должно снова сказать, как говорилось уже три тысячи лет назад: Суды Господни — истина, все праведны»121, он прекрасно знал, что это не было Божьей
волей: благодаря Ему, благодаря Линкольну и его
боевым генералам, война будет завершена в пять недель122. Так за кем же тут было окончательное ре294
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРЕЗИДЕНТ
шение? Я уверен, что Линкольн сказал бы: нам совсем не обязательно это знать.
На последних страницах «Войны и мира» Толстой высказывает мысль о том, что взаимозависимость времени, пространства и масштаба отражает
одновременно как возможность выбора, так и его
необходимость: иллюзия самостоятельного действия заставляет нас верить в возможность свободной воли даже тогда, когда неумолимые законы
лишают нас этой возможности. Линкольн никогда
не читал этих строк, как и многого другого, включая книгу Клаузевица «О войне». Но, поскольку
он интуитивно разделял многие мысли последнего, он мог предвосхитить и какие-то мысли Толстого. Ибо Линкольн узрел, или считал, что узрел, Божью волю в самом направлении движения истории.
Это не очень далеко от мысли Толстого, показывающего в своем величайшем романе, что история
отражает законы, которые мы не в состоянии обнаружить. И в том кризисе веры, который произошел с ним вскоре после написания романа, Толстой
пошел намного дальше Линкольна в усматривании
причин земных явлений в Божьем промысле123.
Линкольн счел достаточным сказать в письме
другу в 1864 году: «Я не утверждаю, что направлял
события — я вполне готов признаться, что это события направляли меня»124. Толстой периода «Войны
и мира» согласился бы с этим. Может быть, и нам
стоит с этим согласиться.
ГЛАВА 9
Последняя и лучшая надежда
П
Р О С Н У В Ш И С Ь однажды ночью в период Гражданской войны, Джорджина Сесил
обнаружила, что ее муж стоит, крайне возбужденный, перед открытым окном на втором этаже. Он находился в состоянии сомнамбулического
сна и, похоже, ожидал, что в дом вот-вот ворвутся «федеральные солдаты или вожаки революционной толпы». Странность состояла в том, что эта
сцена разыгралась в Англии, а этим лунатиком был
лорд Роберт Талбот Гаскойн-Сесил, потомок лорда Бёрли, близкого советника королевы Елизаветы.
Как третий маркиз Солсбери, младший Сесил еще
трижды послужит своей королеве Виктории в качестве премьер-министра. Но, как вспоминала его
жена, он никогда не испытывал «таких крайних состояний подавленности и нервного напряжения,
как в то время».
Солсбери, как объясняет его биограф Эндрю Робертс, очень пугало то, что происходило в Соединенных Штатах. Он никогда не бывал в этой стране
и осуждал рабство, но при этом презирал демократию — настолько глубоко, что симпатизировал сепаратистам, поддерживал Конфедерацию и считал
убийство Линкольна последним законным актом
сопротивления. Больше всего Солсбери беспокоило
то, что преследование Союзом идеологических целей с применением колоссальных военных средств
возродит наполеоновские амбиции в Европе. Солсбери умер в 1903 году, но в своих кошмарах уже про296
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
зревал ужасы окопной войны, танки, поля смерти
и даже воздушные бомбардировки Великой войны
1914–1918 годов. «Если бы мы вмешались, — писал
он об американской Гражданской войне в последний год своей жизни, — мы еще, возможно, смогли бы ограничить мощь Соединенных Штатов
до контролируемого уровня. Но никакой нации
не дается два таких шанса в ходе ее развития»1.
Однако в течение большей части жизни Солсбери американцы проявляли какие угодно, но не наполеоновские тенденции. Стараясь залечить раны
войны (даже ценой смягчения аболиционистской
политики, ради которой вел войну Союз), они вернули штатам большинство полномочий, которые
Линкольн сосредоточил в руках федерального
центра, распустили свою армию мирового класса и принялись заселять, застраивать и осваивать
континентальную республику, сильно расширившую свои границы после 1867 года, когда Сьюард
приобрел у России территорию, ставшую Аляской2.
Вопросы национальной безопасности потеряли
свою прежнюю остроту: Соединенные Штаты, пишет историк Роберт Каган, были теперь «слишком
большой, слишком богатой и слишком населенной
страной, чтобы быть соблазнительным объектом
для вторжения даже самых сильных держав мира»3.
Уже это само по себе тревожило лунатика Солсбери: какая судьба ожидала в этом случае британский доминион Канаду с ее протяженной южной границей, которую совершенно невозможно
оборонять? Он считал, что не может бесконечно рассчитывать на сдержанность американцев.
Но Солсбери-стратег различал обычный грабеж
(то, что сильные страны делают со слабыми) и нервотрепку (то, что делают подростки, «доводящие»
своих родителей). Примиряясь со вторым, можно
предупредить первое. «Наш лучший шанс на сохранение обычной цивилизованности, — заключил он,
будучи министром иностранных дел в 1888 году, —
297
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
это глубоко антибританские настроения вашингтонской администрации»4.
Но даже Солсбери, уже будучи премьер-министром, счел чрезмерным, когда в 1895 году Ричард Олни, государственный секретарь президента
Гровера Кливленда, превратил старый пограничный спор между Венесуэлой и Британской Гвианой в повод для нового грубого подтверждения
доктрины Монро. «Европа в целом — монархическая, — объявил он, несколько преувеличивая. —
Америка же придерживается совершенно противоположного принципа: каждый народ имеет
неотъемлемое право на самоуправление... Сегодня Соединенные Штаты практически суверенны
на этом континенте»5. Несмотря на ее хаотическую
и неточную стрельбу (права конфедератов? география Венесуэлы?) — эта «двадцатидюймовая пушка»
Олни (как торжествующе говорил Кливленд) выстрелила в Солсбери в неудачный момент.
Пятью годами ранее неопытный немецкий
кайзер Вильгельм II уволил своего легендарного канцлера Отто фон Бисмарка, который сумел
объединить страну, провоцируя войны, но затем
обеспечил ей мир, уравновешивая взаимные обиды
разных сторон6. Сам Вильгельм не был большим
мастером в поддержании такого равновесия: «Есть
опасность, — предупреждал Солсбери, когда венесуэльский кризис начал обостряться, — что он совершенно потеряет голову»7. И именно в этот момент, в то самое время, когда Солсбери пытался
успокоить американцев, кайзер поздравил южноафриканских буров с тем, что они предотвратили рейд, за которым могли стоять (хотя могли
и не стоять) британцы. Внезапно оказалось, что гораздо ближе к Великобритании нашлась другая
пушка с наполеоновскими амбициями (и военнопромышленным потенциалом, невиданным со времен американской Гражданской войны), ведущая
беспорядочную пальбу8.
298
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
Солсбери, которого теперь «доводили» уже две
стороны, пошел на уступки одной из них. «Не существует такой вещи, как постоянная политика, —
замечал он, — политика, как и все органические
вещи, всегда находится в состоянии становления»9. Солсбери и его преемники начали методично и в одностороннем порядке устранять все поводы для трений в отношениях с Соединенными
Штатами. Они пошли на попятный не только в Венесуэле (где американцы быстро потеряли интерес
к конфликту и согласились на третейский мир),
но и в более поздних и гораздо более важных конфликтах: по поводу испано-американской войны
(Британия сохранила в ней нейтралитет), на Филиппинах (Солсбери поддержал американскую,
а не немецкую аннексию), на будущем Панамском
канале (Британия отказалась от своих давних прав
в этом регионе) и на границе Аляски (интересы Канады были принесены в жертву ради более важных
целей)10. Пусть это не была политика умиротворения11, но это была «смазка» для взаимных отношений: подобно Михаилу Горбачеву почти век спустя,
Солсбери решил лишить врага его врага12.
Он очень хорошо знал историю13 и, вероятно,
был знаком с высказыванием Джорджа Каннинга,
говорившего о самом себе в 1826 году, что он «вызвал к жизни Новый Свет, чтобы поправить равновесие в Старом»14. Хвалиться своими успехами не было в духе Солсбери, но он мог с гораздо
большим правом признать это собственным достижением. Что он и сделал с большим тактом
в 1897 году, когда поздравлял свою королеву (его
предок Берли одобрил бы такой ход) с шестидесятилетием ее правления:
Импульс демократии, возникший в другой стране, в другой части света, начал ощущаться в наши
дни: в центрах власти и распределении ответственности произведены почти незаметным об-
299
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
разом огромные изменения, которые не вызвали
никаких потрясений и никаких задержек в движении нации к процветанию15.
Солсбери-лунатик все еще сожалел о поражении
Конфедерации и вызванном им нарушении равновесия сил в Северной Америке. Но Солсбери-стратег всегда повторял: «мы — рыбы», и «ничего не можем сделать в одиночку против тирании на суше»16.
Так Великобритания училась сосуществовать с демократией, господствующей на целом континенте.
И за это (какие бы смешанные чувства ни испытывал Солсбери по этому поводу) ему следовало благодарить Линкольна.
I
Вечером 25 января 1904 года, через пять месяцев
после смерти Солсбери, Хэлфорд Маккиндер, назначенный незадолго до этого директором Лондонской школы экономических и политических наук,
выступил в Королевском географическом обществе
с докладом на тему «Географический поворотный
пункт в истории». Он высказал предположение,
что будущие историки будут считать истекшие четыре столетия «Колумбовой эпохой», завершившейся «вскоре после 1900 года». Век морских экспедиций и открытий подошел к концу — открывать
стало почти нечего, но эпоха континентального развития только начинается. Движущая техническая
сила этого развития — уже не морские суда, а железные дороги, обеспечивающие гораздо большую
скорость и удобство. Трансконтинентальная магистраль Линкольна была закончена в 1869 году,
ее канадский аналог — в 1885 году, Транссибирская
магистраль открылась на всем своем шеститысячемильном протяжении от Москвы до Владивостока как раз в тот год, когда Маккиндер выступал
300
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
со своим докладом. Евразия вскоре «покроется железными дорогами», предсказывал он, и ее громадные просторы с их «неизмеримыми» возможностями снова, как во времена нашествий азиатских орд,
станут «стержнем мировой политики»17.
Превосходство Англии на море уже со времен
Тюдоров поддерживалось соперничеством стран внутри континентов, которое мешало им распространять свое влияние за пределы своих морских границ. Но теперь, доказывал Маккиндер, происходит
объединение континентов, и если их новые возможности будут использоваться для строительства флотов, могут возникнуть условия для появления «мировой империи». Заправлять в ней будет, вероятно,
Россия. Возможно — Германия в союзе с Россией.
А может быть, и Китай: тот Китай, который будет
организован Японией для свержения господства
России, что создаст «желтую опасность для мировой свободы» и добавит «к ресурсам великого континента океанические просторы, завоевав таким
образом преимущество, до сих пор не полученное
русским хозяином этого осевого региона»18.
Этот неожиданный поворот в сторону расизма
и «анализа рынка недвижимости» в конце доклада и невнятность намеков Маккиндера лишь усиливали тревоги, которые он порождал. И было уже
неважно, что азиатские орды прошлых веков мало
что поворачивали в истории, не считая своих лошадей. Или что Альфред Тайер Мэхэн незадолго
до него более систематически доказал историческую роль господства стран на море. Или что Маккиндер полностью упустил из виду значение господства в воздухе, доказанное, пусть пока еще
не очень убедительно, лишь за месяц до этого в Северной Каролине первым полетом братьев Райт.
Или что он ожидал прусской целеустремленности
от России — страны, которая уже несла поражения
на суше и на море в войне с Японией и медленно
двигалась к опасной, хотя и не завершившейся ни301
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
каким определенным итогом революции: до петербургского «кровавого воскресенья» оставалось
чуть менее года. Доклад Маккиндера стал профессорским эквивалентом «двадцатидюймовой пушки» Олни: его прицел был неточен, а рассуждения
были не очень логичны. Однако они были достаточно пугающими, и он говорил о том, что пока понимали немногие: за истекшие полвека железные
дороги сделали Европу и Азию единым континентом; в следующие полвека Британия может потерять свое господство на море; все эти процессы возвышения и заката разных держав могут привести
к новой фазе борьбы за контроль над миром между
очень разными формами правления и потенциально несовместимыми образами жизни19.
II
Но как и почему это могло бы случиться? Суть туманных намеков Маккиндера сумел ясно выразить
Айра Кроу, один из руководителей Форин-офис, направивший в 1907 году доклад королю Эдуарду VII.
Документ быстро разошелся и стал предметом обсуждения в самых высоких правительственных
кругах. Подобно «длинной телеграмме» Джорджа Ф. Кеннана, отправленной из Москвы в начале
холодной войны, «меморандум Кроу» приобрел
широкую известность еще до того, как он стал достоянием публики. И тот и другой документ прояснял ситуацию для официальных кругов20.
Кроу начинал там, где закончил Маккиндер. Великобритания — это остров у берегов континента,
но с «громадными заморскими колониями и зависимыми владениями»21. Чтобы выжить, ей необходимо «превосходство на море», которое ей долгое
время удавалось сохранять. Это сделало ее «соседом любой [другой] страны, доступной с моря»,
и такое ее положение могло бы породить «зависть
302
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
и страх» других стран (Кроу внимательно читал Фукидида), если бы Британия не «увязывала»
свои интересы «с чаяниями и идеалами, общими
для всего человечества».
Сейчас главный интерес всех стран — это сохранение национальной независимости. Из этого
следует, что Англия, более чем любая другая, неостровная держава, прямо и положительно заинтересована в сохранении независимости наций,
а значит, должна быть естественным врагом любой страны, угрожающей независимости других,
и естественным защитником более слабых стран.
Таким образом, господство на море требовало
не просто поддержания равновесия сил на континентах, о котором говорил Маккиндер, но и заверения государств, имеющих морские границы,
в том, что единственная держава, господствующая
на море, серьезно относится не только к своим собственным, но и к их интересам.
Англичане добились этого, писал Кроу, защищая «право свободных коммуникаций и торговли на мировых рынках». Это отвечало их собственным интересам, поскольку страна отказалась
от политики меркантилизма, которую она проводила в эпоху индустриализации. Но это также повышало способность Британии «добиваться заинтересованной дружбы других наций» благодаря
тому, что они «меньше опасались» превосходства
ее флота. Если эти государства не могли «править
морями» сами, они предпочитали, чтобы это делала «Англия, защищающая свободу торговли»,
а не какая-то «господствующая протекционистская держава». Кроу, подобно Периклу, не видел
особого противоречия в том, чтобы не только заслужить дружбу заморских держав, но и обеспечивать ее силой22.
Но почему такие же отношения не могло строить континентальное государство, распространяю303
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
щее свою власть на море? Потому, утверждал Кроу,
что оно могло бы получить эту возможность только
через объединение континента, то есть в результате того самого процесса, который порождал кошмары Солсбери и пушки Маккиндера. И оно не могло бы сделать это, не поглотив или, по крайней
мере, не испугав, своих соседей23. Очень немногие
государства, не имеющие достаточно сил, чтобы
установить собственное господство над континентом, захотят, чтобы это сделал — кровью, железом
и устрашением — кто-то другой.
Именно такое незабываемое обещание дал Бисмарк, когда был моложе24. Кроу родился в Пруссии,
хорошо знал немецкий язык и видел в возвышении
современной тевтонской империи в Европе модель
«систематического территориального расширения,
достигаемого в основном на острие меча». Заимствуя выражение из будущего, возвышение Германии отнюдь не было «мирным возвышением»25.
Понимая это, Бисмарк стремился убедить уцелевших соседей, что его новая великая держава, достигнув гегемонии, будет увязывать собственные
интересы с их интересами. Но разыгравшийся аппетит уже не так легко было сдержать26.
Решение Бисмарка заключалось в том, чтобы
собрать в качестве колоний весь тот «мусор», который не заинтересовал другие великие державы:
но могла ли империя действительно удовлетвориться падалью, подобно стервятнику? Теперь Бисмарка уже не было, а его преемники все еще не насытились. Вот как выразил их взгляды Кроу:
Мы должны иметь настоящие колонии, где немецкие эмигранты могут селиться и распространять национальные идеалы своей отчизны,
и мы должны иметь флот и угольные порты, чтобы удерживать вместе колонии, которые мы приобретем... Такое здоровое и сильное государство,
как Германия, с ее 60 миллионами жителей, должно расширяться, оно не может оставаться на ме-
304
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
сте, и оно должно иметь территории, на которые
ее избыточное население может эмигрировать,
не отказываясь от своей национальности.
Не вполне понимая (а может быть, и не желая понимать), где ей нужно остановиться, Германия
Вильгельма II намеренно вызывала к жизни «мир,
готовый бросить ей вызов». Потому что «объединение в одном государстве величайшей армии с величайшим флотом вынудило бы мир объединиться ради избавления от подобного монстра»27.
III
По крайней мере, это был теоретический вывод, который соответствовал представлениям Кроу. Того,
что произошло в реальной истории, не мог предвидеть ни он и никто другой в центрах власти. Система гарантий Бисмарка — вся эта паутина подвижных политических союзов с самим Бисмарком в ее
центре — после его смерти окостенела и превратилась в два противоборствующих военных альянса, настолько фатально зависящих от собственных
планов мобилизации и переброски войск, что эти
планы, будучи однажды запущенными, размыкали
всякую связь между причинами войны и ее механизмом28. В итоге убийство двух королевских особ
в Сараево 28 июня 1914 года привело к истреблению
(за период до 11 ноября 1918 года) от восьми до десяти миллионов человек на поле боя и еще от семи
до восьми миллионов мирных жителей29. Мир, объединившийся против «монстра», по мысли Кроу,
превратился в Европу, разделившуюся в самой себе,
и это кончилось катастрофой.
Великая война явила примеры несоответствия
намерений и возможностей на самых разных уровнях, так часто становившегося причиной военных
бедствий. Но в этот раз случалось и так, что воз305
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
можности обгоняли намерения. Люди, принимавшие основные решения, как показал Генри Киссинджер, грубо недооценили летальность средств
войны, оказавшихся в их руках.
Они, похоже, не учитывали, какие огромные потери повлекла за собой совсем недавно происшедшая в Америке Гражданская война, и ожидали, что конфликт будет кратким и решительным.
Им даже не пришло в голову, что неспособность
придать своим альянсам разумные политические
цели может привести к разрушению цивилизации, вопреки их представлениям на этот счет...
Вместо этого великие державы сумели создать
дипломатическую машину Страшного суда, хотя
они и не ведали, что сотворили30.
Американцы времен их Гражданской войны,
по крайней мере, знали, за что они сражались.
Участникам этой новой войны нужно было еще
найти цели, ради которых им стоило умирать, уже
когда эта война их убивала.
Отчасти это иллюстрируется эволюцией мысли Великобритании от Солсбери («мы — рыбы»)
до Маккиндера («евразийские орды») и Кроу («мир,
готовый бросить вызов»). Потому что если война
должна отражать политику, как настаивал Клаузевиц, то с какой политикой Британия вступила в эту
войну? Политикой сохранения господства на море?
Политикой поддержания равновесия сил на суше?
Политикой истребления монстров повсюду в мире?
Договор о «тройственном согласии», подписанный
с Францией и Россией в 1907 году, не предусматривал никаких определенных обязательств вступления страны в войну против Германии в тот момент,
когда в июле 1914 года начались боевые действия31.
Однако вторжение немцев в Бельгию 4 августа (их
план войны с Францией включал нарушение давних
международных гарантий нейтралитета Бельгии)
привело к тому, что англичане не только объяви306
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
ли им войну, но и нарушили собственный давний
принцип уклонения от участия в войнах на континенте — где потери Британии в четыре следующие
года превысили общие потери Союза и Конфедерации в 1861–1865 годах32.
Казалось, что эти «континентальные обязательства» были взяты на себя страной, как было однажды сказано о Британской империи, чуть ли
не «по какой-то минутной рассеянности»33. Но если
увидеть все страхи и тревоги Кроу, Маккиндера
и Солсбери в их взаимной связи, вырисовывается более целостная картина. Утверждение Кроу о связи между военно-морской мощью и правом на самоопределение, с одной стороны, и между мощью
сухопутной армии и авторитаризмом — с другой,
означало, что объединение континента, о котором
предупреждал Маккиндер, могло угрожать не только контролю над морями: могло оказаться, что речь
идет о будущем самой свободы34. И здесь мы подходим к тому, что мог иметь в виду Солсбери, говоря, что Британия не может «справиться с тиранией
на суше» в одиночку.
Возможно, он имел в виду, что Британии пора
было отказываться от ее прежнего недоверия к альянсам (первое отступление от этой традиции, англо-японский договор 1902 года, стал последним дипломатическим достижением Солсбери)35.
Или что теперь может потребоваться какое-то аналогичное согласование интересов в Европе, вроде
того, чем потом стало «Тройственное согласие».
Или что Британия больше не может позволить себе
оставаться в своей «блестящей изоляции» (выражение времен Венесуэльского кризиса 1895–1896 годов)36. И наверняка, что в новом мире взаимной
зависимости необходимо сдерживать деспотизм
на континентах. А это вновь возвращало тех, кто
еще помнил Каннинга, к идеям последнего.
Потому что если Солсбери считал, что господством демократии в Северной Америке можно урав307
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
новесить автократию, которая могла бы поставить
под контроль Европу, то тем самым он как раз рассчитывал на то, что «Новый Свет» исправит равновесие сил в «Старом». Если Маккиндер мог
тревожить воображение своих слушателей образами диких орд, пересаживающихся с лошадей
на трансъевразийские поезда, но не видел такой
угрозы в их американских аналогах, то он просто говорил то же самое другими словами. И если
Кроу мог предвидеть возникновение коалиции государств, довольных своим положением, против
одного ненасытного государства — ту самую перспективу, о которой одному из американских президентов придется вскоре говорить в более недвусмысленных выражениях, — то она опиралась бы
на фундамент, заложенный Маккиндером, Солсбери и Каннингом. Но все они пытались лишь угадать очертания пока неясного будущего.
IV
Но все они предполагали, что в какой-то момент
эти очертания будут в значительной мере определять Соединенные Штаты. Объем их промышленного производства к 1914 году превысил соответствующий показатель Великобритании и Германии
вместе взятых. Америка выплавляла почти вдвое
больше стали, чем Германия, которая, в свою очередь, производила ее вдвое больше Великобритании, Франции и России. Американцы не имели себе
равных по своей технической изобретательности,
излишки продовольствия, которые продавала Америка, обеспечивали снабжение значительной части
Европы, а ее положительный торговый баланс позволил ей сосредоточить у себя треть мировых запасов золота. И хотя их морской флот все еще уступал по силе флоту Великобритании и Германии,
в том месяце, когда в Европе началась война, аме308
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
риканцы открыли Панамский канал, создав более
короткий путь для перевозки товаров между двумя великими океанами для всех стран. Соединенные Штаты стали великой державой, отмечал историк Пол Кеннеди, — но пока не входили в систему
великих держав37.
Гегемония на континенте, которую американцы завоевали в 1840-е и удержали в 1860-е годы,
как будто не требовала, чтобы они брали на себя какие-то более масштабные задачи в начале ХХ века.
Внешние угрозы все еще были неопределенными и не вполне реальными. Выгоды колониализма, как их научили Филиппины, не оправдывали
связанных с ним хлопот. Дипломатия позволяла им вставать в моральную позу, не беря на себя
при этом особых обязательств, как это было с заявлениями о необходимости политики «открытых
дверей» в отношении Китая в 1899–1900 годах. Соединенные Штаты могли даже мирить другие стороны (в случае русско-японской войны 1905 года такую роль сыграл, например, Портсмутский договор
Теодора Рузвельта, заключенный в г. Портсмуте,
штат Нью-Гэмпшир, США), имея при этом армию,
не превышавшую по численности армию Болгарии
или Сербии38. Все это снимало с американцев всякую ответственность за начало Великой войны в Европе в 1914 году.
И все же она задела их в большей степени, чем
они ожидали. Девять десятилетий, прошедшие
после объявления доктрины Монро и претензий
Каннинга на ее отцовство, пришлись на столетие
с 1815 года по 1914 год, в котором в Европе не было
великих войн. Но во все три предыдущие такие
войны — Семилетнюю войну, войны Французской
революции и наполеоновские войны — американцы
были в конце концов втянуты: через войну с французами и индейцами 1754–1763 годов, квазивойну
с Францией в 1798–1800 годах и войну с Великобританией 1812 года, окончившуюся в 1815 году. То же
309
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
произойдет и в 1917–1918 годах и затем в 1941–1945 годах. Холодная война, так и не ставшая «горячей»,
привела к самому длительному заокеанскому присутствию американцев в истории — может быть,
именно поэтому ее, в отличие от Великой войны,
не пришлось переименовывать.
Подобно рыбам, не замечающим расширения
и сжатия океанов, американцы в период с 1823
по 1914 год не столько не принадлежали к системе
великих держав, сколько не чувствовали своей принадлежности к ней (и даже такое обобщение требует
уточнения применительно к Линкольну и Сьюарду)39. Существо этой системы состояло в следующем: начиная с Елизаветинской эпохи Англия распространяла свою культуру в мире активнее, чем
в Европе40. Это создавало необходимость какого-то
баланса против потенциально враждебных европейцев и вызывало страх перед тем, что Кроу назвал «системным территориальным расширением», осуществляемым на острие меча. И когда оно
все же произошло, оно вызвало тревогу и у заокеанских «отпрысков» Британии: что было бы с ними
без защиты, обеспечиваемой величайшим в мире
военным флотом? Как бы грубо ни насмехались
американцы над своей старушкой-мамой, отбросить все, что они унаследовали от нее в виде языка, учреждений, религий, духа предприимчивости
и условий безопасности, было бы для них все равно, что расплести и заплести заново собственную
ДНК. Поэтому когда Британия объявила о своих
«континентальных обязательствах», они, к счастью
или на беду, оказались и их обязательствами.
V
Первым ответом Вудро Вильсона был призыв
(в общем-то, вполне излишний) к нейтралитету «по форме и по существу», беспристрастности
310
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
«в мысли и действии» и «сдерживанию эмоций»41.
Но если Германия победит, предупреждал он своего конфиденциального советника, «полковника»
Эдварда М. Хауза, «это изменит ход развития нашей цивилизации и превратит Соединенные Штаты в военную нацию». Ведь это немцы, а не англичане и не французы, нарушили нейтралитет
Бельгии, разоряли города и университеты и даже
уничтожали уникальные старинные библиотеки.
Подобное зверство, опасался бывший президент
Принстонского университета, может «отбросить
мир на три-четыре столетия назад»42.
Однако как президент Соединенных Штатов
Вильсон не видел необходимости немедленно занимать ту или другую сторону в этом конфликте.
В пользу такого решения не было национального
консенсуса. Объемы поставок продовольствия и военных материалов в Великобританию и Францию
резко шли вверх, и когда импортеры уже не могли
их оплачивать, Вильсон снял первоначально установленный им запрет на поставки в кредит. В ситуации, когда британский флот лишал Германию
равных возможностей, он мог публично заявлять
о нейтралитете, про себя радуясь, что никакого
нейтралитета нет43. Оттягивание вступления страны в войну также позволяло Вильсону выбирать
подходящий для этого момент: если он сделает это
правильно, заверял его Хауз, он сможет определить
исход войны не только военным путем, но и путем
построения новой международной системы, которая должна будет прийти на смену прежней системе, не сумевшей предотвратить войну44.
Опираясь на рекомендации Хауза, Вильсон
сформулировал сложный комплекс предположений, описывающих действия и решения воюющих
сторон. Во-первых, если Соединенные Штаты вступят в войну, это определит ее исход: масштабы, которые приняла их Гражданская война, весьма красноречиво говорили о ресурсах, которые эта страна
311
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
могла мобилизовать для ведения войны. Во-вторых, вероятность вступления Америки в войну
будет нарастать по мере ее затягивания, потому
что тупиковые ситуации на полях сражений будут
провоцировать все более дерзкие морские блокады.
В-третьих, подводные лодки уничтожали традиционные методы ведения войны на море так же радикально, как железные дороги сметали все прежние
препятствия к объединению континентов45.
Германия считала операции своего подводного флота законным ответом на британское превосходство в надводных судах: проблема была в том,
что подлодки были мало пригодны для применения обычных методов традиционных морских
блокад: обыска судов, захвата добычи или определения национальности лиц на борту. Это ставило под угрозу право нейтральных стран вести
торговлю с участниками конфликта, которое неизменно признавалось во всех предыдущих американских войнах (даже, с опозданием, Линкольном). Это также угрожало доходам от поставок
товаров Великобритании и Франции в годы войны
и от ожидавшегося погашения предоставленных
кредитов в послевоенный период. Хуже всего было
то, что погибали граждане стран, не участвовавших в войне: Вильсон почти вступил в войну в мае
1915 года, когда 128 американцев погибли на потопленном британском лайнере «Лузитания»46.
Когда 2 апреля 1917 года Вильсон наконец запросил санкцию конгресса на объявление войны, это
было прежде всего его ответом на снятие Германией ограничений на подводные операции, которые
она ввела после кризиса, вызванного потоплением
«Лузитании»: Германия рассчитывала, что это заставит Великобританию и Францию пойти на мирные переговоры прежде, чем Соединенные Штаты
смогут перебросить войска в Европу. Однако Вильсон сомневался, что общественное мнение страны
поддержит вступление в войну, «сколько бы амери312
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
канцев ни погибало на море»47. Нужно было что-то
еще — и в недели, остававшиеся до его обращения
с посланием к нации, немцы обеспечили этот повод.
Вместе с возобновлением неограниченной подводной войны они тайно предложили Мексике воспользоваться (ожидавшимся) вступлением американцев в европейскую войну для возвращения себе
утраченных территорий в Техасе, Нью-Мексико
и Аризоне при немецкой и, возможно, японской
поддержке. Британские дешифровщики перехватили телеграмму, организовали утечку информации в Вашингтон, и Вильсон объявил о ней публично. Американцы поняли, что Германия угрожает
не только правам США как нейтральной державы,
но и самой ее территориальной целостности, что задевало их национальное чувство куда серьезней48.
Затем в феврале неожиданная революция в России, третьем участнике англо-французской коалиции, привела к падению династии Романовых, угрожая покончить с монархическим режимом в стране,
которая вот-вот должна была стать союзником Америки в войне. Это дало Вильсону возможность упомянуть в своем послании к нации еще более высокую миссию: борьбу за «мир, безопасный для демократии». Он не говорил, что Соединенные Штаты
могут достичь этого в одиночку49, но он уже заявлял
о том, что его нация — не видевшая никакой необходимости в том, чтобы вести себя как великая держава в начале Великой войны, — окажет определяющее
влияние на ее ход, итоги и последствия. «Теперь, —
заявил Вильсон в своей второй инаугурационной
речи, — мы больше не провинциалы»50.
VI
До этого момента он все делал правильно. Сумев
убедить американцев, что готовность к войне — лучший способ ее избежать, Вильсон начал строить ар313
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
мию, не вызывая при этом антивоенных настроений, которые могли бы помешать его переизбранию
в 1916 году. Он ждал, когда военные приоритеты
немцев вновь — как это было с попранием нейтралитета Бельгии — войдут в конфликт с их политическими интересами, что и случилось после
развязывания подводной войны и неумных реверансов в сторону Мексики. Он превратил революцию в России в одну из целей войны для Америки,
лишив союзников какой-либо возможности возражать. Затем Вильсон перебросил войска во Францию достаточно быстро для того, чтобы неудачное наступление, предпринятое Германией весной
1918 года, стало для нее катастрофой, которая дала
ее противникам победу осенью того же года. Наконец, добившись в ноябре перемирия, президент
сам — первым из действующих американских президентов — пересек Атлантику и принял военные почести, достойные древних римлян, в Париже, Лондоне и, собственно, в самом Риме51.
Однако Хауз предупреждал Вильсона, что конец
войны станет высшей точкой его влияния. Мирные переговоры, в которых он собирался участвовать, потребуют скорее дипломатического, чем административного искусства, а Вильсон был готов
к этому в меньшей степени. После длительного отсутствия Соединенных Штатов в международной
системе в стране было слишком мало настоящих
специалистов в области внешней политики: у Вильсона не было своего Бисмарка, Солсбери или Айры
Кроу, способных дать ему дельные советы. У него
был только Хауз, который отточил лишь его приемы политической борьбы в Техасе, теперь же вместе
с президентом должен был «перекраивать карту
мира сообразно интересам Америки»52.
Впрочем, в этом им очень помогла The Inquiry:
группа ученых-консультантов, которой они поручили разработать принципы послевоенного урегулирования. Их квинтэссенцией стали «четырнадцать
314
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
пунктов» Вильсона, которые он огласил в своем
обращении к конгрессу 8 января 1918 года. Но советники Вильсона, как и он сам, плохо подумали
о том, как эти «пункты», какие бы благие намерения ни лежали в их основе, соотносятся с историей
и культурой разных стран и существующими прецедентами. «Вильсон, не особо сведущий в европейской политике, — вспоминал один французский
дипломат, — принялся развивать теории, которые
были очень слабо связаны с насущными проблемами момента»53.
Что могло означать, например, что «дипломатия всегда будет действовать откровенно и на виду
у всех»? Что означала «абсолютная свобода судоходства», кроме случаев, когда моря «будут частью
или полностью закрыты в международном порядке для исполнения международных договоров»?
Или что вооружения «будут сокращены до предельного минимума, совместимого с государственной
безопасностью»? Или что при разрешении всех колониальных споров «интересы населения» должны
иметь «одинаковый вес» по сравнению со «справедливыми требованиями того правительства, права
которого должны быть определены»? Цели Вильсона слишком свободно парили над средствами,
и это нигде не было так очевидно, как в его заявлении, что урегулирование противоречий на Балканах — одно из которых стало детонатором Великой войны — требует лишь решения вопросов
«дружественным путем в соответствии с исторически установленными принципами принадлежности
и национальности». В деле такого «исправления
допущенных несправедливостей», величественно
заключал он, «мы считаем себя партнерами всех государств и народов, объединившихся в борьбе против империалистов... Мы вместе до конца»54.
И все же эти слова оказались довольно своевременными: речь Вильсона, как и речь, с которой чуть ранее выступил британский премьер-ми315
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
нистр Дэвид Ллойд-Джордж, прозвучали через два
месяца после еще одного российского революционного сюрприза: переворота, совершенного в ноябре 1917 года большевиками, угрожавшими выходом
России из англо-американо-французской «империалистической» войны и призвавшими «пролетариев» всех стран свергать их капиталистических
хозяев55. Вильсон ответил на это дымовой завесой,
сквозь которую он заявил, что необходимо
освобождение всех русских территорий и такое разрешение всех затрагивающих Россию вопросов, которое гарантирует ей самое полное
и свободное содействие со стороны других наций в деле получения полной и беспрепятственной возможности принять независимое решение относительно ее собственного политического
развития и ее национальной политики и обеспечение ей радушного приема в сообществе свободных наций при том образе правления, который она сама для себя изберет. И не просто
приема, но и всяческой поддержки во всем, в чем
она нуждается и чего она сама себе желает.
Но кого же, интересно, он называл «империалистами»? Ленин и Троцкий, по крайней мере, говорили то, что думали.
После этого Вильсон запутал ситуацию еще
больше, отправив американские войска в Сибирь
и на север России в рамках операций ряда стран,
которые формально были призваны удержать
Россию в числе воюющих держав, но по существу
были направлены на свержение большевиков56. Затем он спас большевиков, нанеся немцам поражение во Франции и тем самым уничтожив плоды их
победы на Восточном фронте и тот пунический
мир, который они навязали России в форме БрестЛитовского договора57. Искусство, с которым Вильсон добился участия Америки в войне, полностью
отказало ему после выхода из нее России. Это пред316
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
вещало более серьезную проблему: то, что принципы сохранения мира, которые Вильсон считал вечными, не только оказались продуктом своей эпохи,
но были опрокинуты стремительным потоком времени. И в то самое время, как Вильсон пытался сделать мир безопасным для демократии, демократия
усиливала опасность войны для всего мира58.
VII
Когда Клаузевиц настаивал на том, что война должна отражать политику, он сформулировал определенную норму, исключения из которой, такие
как Тридцатилетняя война или войны Наполеона,
не имевшие сколько-нибудь различимых внешних
целей, не должны были повториться. В течение
восьмидесяти лет после написания его труда таких
войн действительно больше не случалось: войны
между государствами бывали, но у них были конкретные цели и ограниченные масштабы. Самыми
кровопролитными конфликтами после наполеоновских войн были внутренняя война в Соединенных Штатах и восстание тайпинов в Китае59. Но Великая война оказалась регрессией, отбросившей
мир ко временам до Клаузевица: можно ли представить, что хотя бы один из ее первоначальных
участников все-таки вступил бы в нее, зная, каких
жертв она потребует?60 Однако в августе 1914 года
толпы людей по всей Европе приветствовали войну со всем стихийным демократизмом афинского народного собрания: когда Перикл пытался зажечь в народе тот же дух своей речью на похоронах
афинских воинов, он делал это не ради заключения мира. Мы не можем знать, на какие потери
он готов был пойти, — он умер от чумы раньше,
чем смог узнать то, что знал Линкольн к 1865 году.
Но мы точно знаем, что образец всех последующих
демократий в конце концов нанес поражение себе
317
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
тем, что афинянам легче было идти на смерть, чем
спросить себя о целях своих войн61.
В речи Вильсона в конгрессе о «мире без победы», произнесенной за три месяца до его вступления в свою войну62, поднимался целый ряд таких
вопросов. Разве война не должна обеспечивать безопасность государств, а не приводить к их истощению и гибели? Может быть, можно найти какие-то
компромиссы, которые вернут войне эту роль?
Что решается массовым убийством? Но посреднические усилия Вильсона и многих других ничего
не дали: ни один руководитель страны не осмеливался заявить своей «демократии»63, что ее война
достигла столь малого. Каждый из них надеялся,
что еще одно новое оружие, еще одно наступление, еще один рывок вперед из еще одной траншеи
придаст всему этому смысл, который столь вопиюще отсутствовал.
После того как Соединенные Штаты вступили
в войну, Вильсон отказался от всяких посреднических усилий: он был уверен, что нация будет сражаться только за полную и окончательную победу. Но она не поддержит и несправедливого мира.
В результате он попытался вместить в свои «четырнадцать пунктов» и победу, и справедливость — ценой внутренней противоречивости большинства
из них. Но в последнем пункте предлагалось создание механизма решения споров: «общее объединение наций», создаваемое «на основе особых
статутов в целях создания взаимной гарантии политической независимости и территориальной целости как больших, так и малых государств»64.
У этой идеи было много источников65 — одним
из них была идея «мира», объединяющегося против
«монстра», высказанная Айрой Кроу в 1907 году.
Эдуард Грей, тогдашний министр иностранных дел
Великобритании, поддержал идеи, высказанные
в меморандуме Кроу, когда он впервые появился. Все еще занимая этот пост в 1915 году, он пред318
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
ложил Вильсону через Хауза создать после войны
не третейскую систему, а лигу наций. Только вступление Америки в эту войну, утверждал он, может
предотвратить будущие войны66. «Грей знал, с кем
он имеет дело, — отмечал Киссинджер. — Со времен
юности Вильсон верил в то, что американские федеральные институты должны послужить моделью
будущего „человеческого парламента“»67.
Но если это было так, то Вильсон не учел двойственность американской демократии, восходившую еще к английским вигам: служат ли ее учреждения для осуществления власти или для защиты
от злоупотреблений властью?68 В апреле 1917 года
американцы с большой готовностью дали убедить
себя в том, что только война может восстановить
не только их безопасность, но даже их честь и самоуважение. Но это не означало, что, выиграв войну,
они готовы были бы взять на себя обеспечение гарантий безопасности для всех остальных стран. Демократия в Америке стремилась к власти, но вместе
с тем испытывала к ней глубокое недоверие.
У англо-французской демократии имелись свои
собственные противоречия. Каждую минуту помня
о жертвах, которых потребовала эта война, Британия и Франция настаивали на том, что немцы должны признать свою «вину» и выплатить репарации, даже если это будет исключать мир на основе
примирения, которого удалось достичь Венскому конгрессу до всяких демократических режимов
в 1815 году. Право на самоопределение также нельзя было примирить во всех отношениях с «уточнением» границ, намеченным Вильсоном в его «четырнадцати пунктах», или с увековечиванием британских и французских колониальных империй69.
И никто, включая самого Вильсона, не был готов
принять в число стран-учредительниц новой Лиги
Наций Германию или Советскую Россию, хотя Вильсон надеялся, что именно этот орган поможет преодолеть несправедливость Версальского договора70.
319
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Вильсон вновь дал повод для ожиданий, но
на этот раз у него не было средств оправдать их.
Может быть, подобно афинянам после Перикла,
он спутал силу с надеждой71. А может быть, он проявил слишком большую готовность отложить разрешение вопросов, которые не мог разрешить,
или не понимал самой парадоксальности ситуации, когда демократии пытаются повернуть против их избранных представителей. Или его политическое чутье ослабло в силу физической слабости:
он заболел осенью 1919 года во время своего турне по Америке в поддержку создания Лиги Наций,
и ему уже не суждено было выздороветь. Или он вообще не понимал, что такое демократия, несмотря
на годы, посвященные изучению и преподаванию
этого предмета в Принстоне. А может быть, он просто оборвал, воспаряя к своему величию, гравитационный якорь здравого смысла.
Как бы то ни было, отказ сената ратифицировать Версальский договор (тем самым одобряя участие Соединенных Штатов в Лиге Наций) не только подорвал здоровье Вильсона: он также оборвал
шедшую от Каннинга через Линкольна, Солсбери, Маккиндера, Кроу, Грея, Хауза и самого Вильсона непрерывную нить растущих надежд на то,
что Новый Свет сможет однажды поправить баланс в Старом. На этот раз «сильные» не обошлись
со «слабыми» так, как обошлись афиняне с жителями острова Мелос72, дав «слабым» возможность делать то, что им хотелось, — даже позволив (в России
и Германии) перекраивать реальность по шаблонам
теории и строить на этой основе тирании.
VIII
Владимир Ильич Ленин находился в эмиграции
в Цюрихе, когда Февральская революция 1917 года
в России началась без него, но это была ошибка ре320
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
волюции, а не Ленина. Дело в том, что Ленин сделал своей профессией превращение неожиданного
в предопределенное73. Его убежденность вытекала
из учения Маркса, утверждавшего, что капитализм
несет в себе семена собственного уничтожения: Великая война, которая была развязана капиталистами, велась ими и явно должна была быть выиграна ими же, подтверждала этот вывод. В России
произошло нечто неожиданное: Маркс и большинство более поздних марксистов не ожидали революции в этой стране. Только Ленин увидел в этой аномалии возможность. «Пока мы не завоевали всего
мира», объяснял он позднее,
пока мы остаемся, с точки зрения экономической
и военной, слабее, чем остальной капиталистический мир, до тех пор надо держаться правила:
надо уметь использовать противоречия и противоположности между империалистами. Если бы
мы этого правила не держались, мы давно, к удовольствию капиталистов, висели бы все на разных осинах74.
Вместо осины Ленину достался собственный поезд,
на котором немцы отправили его обратно в СанктПетербург, недавно переименованный в Петроград. Там он, как они и рассчитывали, сверг Временное правительство и вывел Россию из войны.
Но он также предсказывал, уже находясь в пути,
что «большевистское руководство революцией будет гораздо опаснее для немецкой императорской
власти и капитализма, чем руководство революцией Керенского и Милюкова»75.
Ленин понимал даже яснее Маркса, что стремление капиталистов к быстрой наживе не позволяет им видеть более отдаленные цели. Как мог бы
сказать Линкольн — хотя бы в фильме Спилберга,76 — они так неотрывно смотрят на свои компасы,
что вязнут в болотах и срываются со скал. Именно
поэтому давление американцев, англичан и фран321
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
цузов на Россию с целью не допустить ее выхода
из войны дискредитировало ее новое руководство,
открыв Ленину путь к революции. Капиталисты
также не учились на своих ошибках, иначе американцы не спасли бы большевиков тем, что помешали немцам разорить молодое Советское государство выполнением условий Брест-Литовского мира.
Та же ситуация повторилась в 1921–1922 годах,
когда над Россией нависла угроза голода: американский архикапиталист Герберт Гувер признавал,
что возглавленная им международная кампания помощи России в конечном счете укрепила большевистский режим. А когда с переходом к новой экономической политике Ленина, которая была призвана создать для революции более прочную почву,
американских предпринимателей поманили в Россию концессиями, они жадно ухватились за них.
«Ни одна страна в мире не является столь приспособленной для помощи России, — писал Сталин
после смерти Ленина в 1924 году. — Непревзойденная техника Америки, и потребности, и огромное население России предоставят огромную прибыль американцам, если они будут сотрудничать вместе»77.
И кое-кто из них продолжал делать это в гигантских масштабах. В годы первой сталинской
пятилетки из Соединенных Штатов ввозились целые заводы и внедрялись соответствующие методы
массового производства — тон задавал сам Генри
Форд. К концу 1920-х годов американский экспорт
в Советский Союз превысил экспорт любой другой
страны, и русские становились крупнейшими иностранными покупателями американского сельскохозяйственного и промышленного оборудования78.
Тем не менее администрации Гардинга и Кулиджа, к большому удивлению Сталина, по-прежнему придерживались начатой Вильсоном политики
дипломатического непризнания Советской России
и предупреждали (без какой-либо иронии) о пагубных целях мирового коммунизма. Материальные
322
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
интересы все-таки не всегда определяли поведение
капиталистов.
В одном отношении Соединенные Штаты были
сильны, как никогда: их промышленное производство теперь превышало промышленное производство Великобритании, Германии, Франции, России, Италии и Японии, вместе взятых. Но недоверие
к власти, закрепленное в их Конституции, не давало их руководителям возможности — по крайней
мере в мирное время — пользоваться этой силой. Ленин счел бы это еще одной слабостью демократии:
без диктатуры невозможен авангард, пролетарский
или любой другой. Словно бы подтверждая его мнение, в тот период большинство американцев не видели особого смысла в какой-либо внешней политике79.
Мир, однако, не мог позволять им такую роскошь неопределенно долго: потенциальное могущество Соединенных Штатов уже влияло на развитие событий в самых неожиданных формах80.
Например, в форме «перекрестного оплодотворения» в одном странном месте старых германских амбиций и новых германских обид. В отличие
от Ленина, Адольф Гитлер видел Великую войну
воочию, находясь в окопах. Он был уверен в том,
что Германия потерпела поражение из-за объединения английского военно-морского потенциала
и американской сухопутной армии, и еще сильнее —
в том, что это было результатом мирового еврейского заговора. Убежденный, что Соединенные Штаты снова будут стремиться, уже из Северной Америки, потеснить своих соперников, Гитлер считал,
что их уход из Европы после Вильсона дает Германии последний шанс обеспечить себе пространство
и ресурсы, необходимые ей для того, чтобы вступить в конкурентную борьбу с другими странами,
выжить и победить. В представлении Гитлера «война становилась неизбежностью», пишет историк
Адам Туз. «И вопрос заключался не в том, будет ли
она, а в том, когда она разразится»81.
323
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Все это было бы неважно, если бы Гитлер ограничился любительскими путчами, вроде организованного им в Мюнхене в 1923 году. Но после его
нестрогого и недолгого тюремного заключения началось его неуклонное движение к вершинам политической власти внутри демократической системы
Веймарской республики, в которой нарастали внутренние напряжения. Ее проблемы обострились
еще более после краха Нью-Йоркской фондовой
биржи в октябре 1929 года, ввергшего экономику
США и других промышленно развитых капиталистических стран в катастрофическую депрессию.
Администрация Гувера, которая пробыла у власти
менее года и которой оставалось руководить страной еще не менее трех лет, оказалась, как и правительства большинства демократических стран
мира, в полной растерянности82.
«...Капиталистическая система хозяйства несостоятельна и непрочна», — заверял Сталин членов Коммунистической партии Советского Союза 7 января 1933 года в своем докладе об успехах
своего первого пятилетнего плана (достигнутых
за четыре с небольшим года). Капиталистическая
система уже «отживает свой век и должна уступить свое место другой, высшей, советской, социалистической системе хозяйства», которая «не боится кризисов и способна преодолеть трудности,
неразрешимые для капитализма»83. Тремя неделями позже Гитлер стал — без каких-либо нарушений
Конституции — канцлером Германии и тут же приступил к ликвидации Конституции. Через пять недель после этого Франклин Рузвельт принес присягу в качестве президента Соединенных Штатов,
нанеся сокрушительное поражение Гуверу на выборах 1932 года. Над всеми ними маячила долговязая тень Линкольна: им всем предстояло теперь
проверить на деле в невиданных доселе масштабах
его великую и рискованную идею о том, что свобода и сила могут сосуществовать.
324
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
IX
«Если в 30-е годы ты был молод и жил в демократической стране, — вспоминал позднее Исайя Берлин, — то, какими бы ни были твои политические
взгляды, если у тебя были хоть какие-то человеческие чувства, малейшая искра социального идеализма или вообще хоть какая-то любовь к жизни,
ты должен был чувствовать... что все темно и тихо,
за границей наступила великая реакция, почти ничто не шевелилось, ничто не сопротивлялось». Казалось, выбор сужался до «мрачных крайностей,
коммунизма и фашизма, красного или черного»
и единственный оставшийся свет исходил от Нового курса Рузвельта. Неважно было, что он осуществлял его «с изоляционистским безразличием
к внешнему миру», потому что это была традиция
Америки и, вероятно, в этом была ее сила. Важно было, что он «обладал всей силой характера,
энергией и ловкостью диктаторов и был на нашей
стороне»84.
ФДР85 не был подлинным изоляционистом. Это
было бы странно для того, кто был пятиюродным
братом и мужем племянницы Теодора Рузвельта,
заместителем секретаря по военно-морским делам
в администрации Вильсона и кандидатом в вицепрезиденты от Демократической партии на платформе поддержки Лиги Наций в 1920 году. Но, став
президентом в 1933 году, второй Рузвельт действительно настаивал на приоритете интересов Америки. В период, когда банки страны терпели крах,
четверть ее рабочей силы не имела работы и ее уверенность в своих силах была сильно подорвана,
главной задачей было вывести экономику из кризиса. Несмотря на сползание Гитлера к авторитаризму в Германии (а также захват Японией Манчжурии за два года до этого и вторжение Италии
в Эфиопию двумя годами позже), в течение всего
325
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
первого президентского срока ФДР Соединенные
Штаты оставались, пожалуй, еще менее готовыми
брать на себя какие-то международные задачи, чем
это было при правлении Гувера86.
Исключением стал, пожалуй, момент в ноябре
1933 года, когда Рузвельт пошел на дипломатическое признание страны, именовавшейся уже больше десяти лет Союзом Советских Социалистических Республик. Непризнание СССР, отмечал он,
не привело к свержению или изоляции большевиков. Именно этот режим обеспечил бурный рост
американских инвестиций и американского экспорта, а теперь Сталин даже обещал приструнить
крохотную Коммунистическую партию Соединенных Штатов, которая и без того не играла никакой
роли в политике. Публично новый президент сказал только это, но он имел при этом и другую, менее явную цель: нормализация отношений с Советским Союзом могла создать условия для того,
чтобы в какой-то момент координировать действия
с этой страной в случае агрессии со стороны нацистской Германии и императорской Японии87.
Идеологическая чистота и непорочность интересовали ФДР меньше, чем географические факторы, баланс сил и нужды флота: он работал в администрации Вильсона, но его идеалом всегда
оставался ТР88. Оба Рузвельта читали труды Мэхэна89, а младший Рузвельт очень любил ездить
с инспекционными поездками на Панамский канал90. Через своих британских коллег времен войны
он усвоил основной смысл предостережений Маккиндера и Кроу об опасностях консолидации евразийского континента (хотя мог и не знать, что эти
идеи принадлежали именно им). Одним из первых шагов ФДР в качестве президента была модернизация флота Соединенных Штатов, но он счел
благоразумным представить ее как один из видов
общественных работ, призванных обеспечить сокращение безработицы91. Рузвельт тоже сомневал326
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
ся в том, что его страна окажется готова вновь взять
на себя заокеанские обязательства. Он понимал,
что это невольное наследие Вильсона: тень слабости американцев, под которой ослабленные европейские демократии должны будут в обозримом будущем рассчитывать только на самих себя.
Если — как представлялось вполне вероятным —
Германия и Япония вновь вооружатся (обе страны
вышли из Лиги Наций в 1933 году92), они смогут
вскоре установить свое господство над большей частью Европы и значительной частью Китая и даже
оспаривать американское превосходство на море
в западном полушарии93. Поскольку Советский
Союз, как и Российская империя до него, не имел
удобного выхода к океанам, возможность установления советского контроля над Евразией беспокоила Рузвельта в меньшей степени: в 1936 году он даже
одобрил предложение Сталина о строительстве
линкора для СССР на американских верфях (в конце концов проект был «торпедирован» командованием ВМС США)94. Наличие авторитарного союзника, занимающего огромное пространство между
немцами, испытывающими острую нехватку ресурсов, и японцами, могло оказаться не таким уж плохим исходом. Если они двинутся в разные стороны от Советского Союза, Красная армия сможет
ослаблять их с тыла. Если они двинутся на него,
она обескровит их, как это когда-то сделал Кутузов. В любом случае от этого выиграют демократические страны по обе стороны Атлантики.
Рузвельт никогда не говорил этого прямо:
он прятал свои намерения даже более умело, чем
Линкольн. Но если Линкольн, чей прежний военный опыт ограничивался войной Черного Ястреба 1832 года, при создании стратегии Гражданской
войны смог превзойти своих генералов, обучавшихся в военной академии Уэст-Пойнт95, то не стоит считать невероятным, что ФДР, который уже
в годы Великой войны был главным руководителем
327
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
операций американского военного флота96, обладал вполне сопоставимыми данными и навыками.
Я уверен, что Ленин признал бы за ним эти качества: он сразу оценил бы его умение играть на «противоречиях и противоположностях» между авторитарными режимами. Диктаторы, конечно, будут
оставаться «авангардами». Но Рузвельт хорошо понимал, насколько редкими и непрочными будут их
договоренности.
X
Его собственный режим не был диктаторским, и поэтому он не мог «строить» свою страну по идеологическим шаблонам, как уже сделал Сталин и продолжал делать Гитлер: учитывая, насколько плохо
ученые-экономисты в правительстве ФДР понимали причины Великой депрессии, они не стали бы
разрабатывать пятилетний план, даже если бы
он попросил их об этом97. Поэтому он действовал
по наитию, где можно двигался вперед, при необходимости отступал назад, всегда, казалось, что-то делал, никогда не впадал в отчаяние и при всех начинаниях помнил то, что забыл Вильсон: ни в каком
деле нельзя добиться успеха без широкой и сохраняющейся поддержки народа. «Ведь это ужасно, —
сказал однажды Рузвельт, — оглянуться, когда ты
хочешь повести людей за собой, и обнаружить,
что за тобой никого нет»98.
Его осторожность проявлялась и в его внешней
политике. Несмотря на все страхи по поводу действий Германии и Японии, ФДР не пытался помешать усилиям конгресса законодательно закрепить
нейтралитет США, который Вильсон лишь провозглашал: он знал, что это сражение ему не выиграть.
В один день он твердо настаивал на необходимости «изоляции» агрессоров, а на следующий уже
шел на попятный. Такая гибкость подрывала его
328
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
авторитет в Лондоне и Париже и ограничивала его
способность сопротивляться англо-французской
политике умиротворения Гитлера. А в 1937 году
он отправил в Москву в качестве своего второго посла Джозефа Дэвиса, трофейного мужа наследницы
крупной империи по производству готовых завтраков и активного участника его президентской кампании, едва не вызвав этим настоящий бунт сотрудников дипломатического ведомства, которые
под руководством его первого посла в СССР Уильяма Буллита уже начали подробно документировать
растущий произвол Сталина в проведении чисток
против воображаемых внутренних врагов99.
Так был ли Рузвельт сторонником умиротворения агрессоров? Он определенно считал себя
слабым: он вряд ли мог быть сильнее своей страны, а его власть шла, как представляется, не далее неординарности его подходов. Возможности
могли в какой-то момент сравняться с интересами,
но это могло произойти не ранее, чем американцы вновь осознали бы грозящие им опасности, добились оживления экономики и опять обрели веру
в себя. Пока же он просто искал самый подходящий геополитический курс. Вот почему он назначил послом Дэвиса.
Рузвельт не то чтобы не доверял экспертам —
просто его огорчала ограниченность их видения.
Его раздражало, что его собственные сотрудники — дипломаты и военные атташе в посольстве
США в Москве, вашингтонские чиновники, читавшие их донесения, даже его любимцы, офицеры
флота, были близки к тому, чтобы считать Сталина хуже Гитлера, и были не способны к более широкому взгляду, который открывал большие возможности. Если советская тирания может помочь
американской демократии справиться с угрозами,
нависшими над ними обеими, Рузвельту нужны
будут люди вроде Дэвиса, умеющие договариваться, отличающиеся скорее широтой, чем глубиной
329
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
взгляда, а не специалисты, которые знают для этого слишком много100.
Но и Дэвис не мог отклонить Сталина от его
собственной геополитической траектории. Видя,
что демократические страны мало что могут предложить ему, он заключил 23 августа 1939 года собственную сделку с Гитлером, запустив процесс,
который немедленно превратился во Вторую мировую войну. Нацистско-советский пакт «о ненападении» не был неожиданностью для Рузвельта: Дэвис
до его отъезда из Москвы уже понимал, что такой
шаг готовится, а после его отъезда посольство следило за приготовлениями к нему через хорошо осведомленного шпиона101. Но теперь, признавал
президент в начале 1940 года, было сложно не видеть в Советском Союзе «такую же абсолютную диктатуру, как любая другая диктатура в мире»102.
И когда весной этого года блицкриг Гитлера позволил ему за три месяца добиться того, что армии
кайзера не смогли совершить за четыре года: завоевать Данию, Норвегию, Нидерланды, Бельгию
и Францию, начало казаться, что самый страшный
кошмар Маккиндера и Кроу — господство единственного «монстра» на сверхконтиненте — все же
стал реальностью. Теперь Гитлер и Сталин царят
на территории «от Манчжурии до Рейна, — говорил Рузвельту в смятении один из его помощников, — примерно как когда-то правил Чингисхан,
и нет ничего, что могло бы остановить объединенные русско-германские силы хоть на каком-то рубеже — разве что на Гималаях»103.
Но Рузвельт сохранял спокойствие. Он знал,
что Сталин давно видит в Гитлере лишь одного
из капиталистов-империалистов, а Гитлер давно считает Сталина агентом мирового еврейского заговора. ФДР подозревал, что военные успехи
Германии на Западе стали полной неожиданностью для советского диктатора, который легко мог
представить себе, где немцы будут искать себе оче330
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
редных побед. Взаимное уважение диктаторских
режимов не могло быть глубоким и не будет прочным: рано или поздно они пожрут друг друга. Поэтому Рузвельт оставил дверь для Сталина открытой: на случай, если когда-то он окажется готов
в нее войти104. Это было похоже на то, что сделал
для американцев Солсбери за сорок лет до этого.
XI
Мне кажется, именно это предвидение Рузвельта:
что он окажется в союзе с диктатором — помогает
понять, почему его уверенность в себе росла по мере
того, как весной 1940 года терпели поражение одна
европейская демократия за другой. Когда война началась, он дал обещание, что постарается удержать
Соединенные Штаты вне этой войны, но он не добивался при этом вильсоновского нейтралитета
на деле, беспристрастности в мысли и сдерживания
эмоций. Он уже установил тайные военные сношения с англичанами и — до их разгрома — с французами. Он запустил программу перевооружения, которая, кажется, наконец обеспечила рост занятости.
Он позволил Демократической партии «призвать»
его тем летом «под ружье» (это выглядело явным
фарсом, но это было неважно) для беспрецедентного выдвижения на третий срок. Он приветствовал
выдвижение от Республиканской партии «темной
лошадки» — интернационалиста Уэнделла Уилки,
против которого он, однако, повел той же осенью
энергичную кампанию. За день до своей третьей
инаугурации в январе 1941 года Рузвельт принял
в Белом доме своего побежденного соперника, отправлявшегося с особой миссией в Лондон.
Во время этой встречи он написал от руки и, судя
по всему, по памяти, вот этот отрывок из стихотворения Генри Уодсворта Лонгфелло «Корабль», написанного в 1849 году:
331
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Плыви, корабль! Среди морей
Единство нации лелей!
Ведь на тебя весь род людской
Взирает с верой и тоской
И ожидает лучших дней.
Какой «чудесный дар, — заметил Линкольн, читая
эти строки в начале Гражданской войны, — уметь
так волновать чувства людей»105. ФДР передал их
через Уилки в дар Уинстону Черчиллю106.
Который стал премьер-министром за восемь
месяцев до этого, в момент, когда Франция была
на грани поражения, немцы готовились бомбить
Великобританию и английский язык должен был
вскоре обогатиться новыми словами в масштабах,
неслыханных со времен Шекспира, благодаря недавно усовершенствованной технике коротковолновой радиосвязи. «Какой ответ дать мне от вашего
имени, — спрашивал Черчилль свою страну, прочитав эти стихи вслух (американцы тоже слушали его
по радио), — этому великому мужу, трижды избранному вождю нации, насчитывающей сто тридцать
миллионов человек?» И он проревел медленным
и грозным крещендо: «Дайте нам орудия, и мы закончим работу!»107
Важнейшим орудием — здесь он был согласен
с Рузвельтом — должен был стать «ленд-лиз», одобренный конгрессом в марте 1941 года. Закон о лендлизе давал президенту право оказывать военную
помощь любой стране, защиту которой он считал вопросом жизненных интересов Соединенных Штатов. Великобритания должна была стать основным
получателем помощи, но ФДР настоял на том, чтобы получатели помощи не оговаривались конкретно. Такая формулировка, указывали критики этого
закона, не исключала оказания помощи даже Советскому Союзу, но это казалось настолько маловероятным, что возражение прошло практически
незамеченным. Но Рузвельт уже получал сообще332
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
ния — на этот раз через американское посольство
в Берлине, — что весной Гитлер вторгнется в СССР.
Сличив эти данные с данными, имеющимися у Черчилля, ФДР уведомил об этом посла Сталина в Вашингтоне. Даже если он или его хозяин были признательны ему за эти сведения, они никак этого
не показали. Между тем Сталин, продолжая выдавать желаемое за действительное, подписал еще
один пакт о ненападении — на этот раз с Японией.
В результате, когда Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года, он позволил застать
себя врасплох, хотя этого можно было избежать,
и понес огромные потери. Рузвельт и Черчилль,
для которых это не было неожиданностью, начали
всерьез подумывать о совершении самого страшного идеологического греха: сделки с самим дьяволом. Быть может, при этом они вспоминали
Вильсона и Ллойд Джорджа, которым пришлось,
наверное, все-таки пожалеть о том, что после февраля 1917 года они отвернулись от Николая II, куда
менее страшного демона. После первого шока Сталин вскоре овладел собой в достаточной степени,
чтобы потребовать от них того, на что, согласно
его идеологии, он мог с полным правом претендовать: помощи его дьяволов — капиталистических
демократий, как будто нацистско-советского пакта
никогда не существовало.
Отбросив последние дипломатические и военные условности, Рузвельт отправил в Москву
двух переговорщиков: Гарри Гопкинса, который
станет его полковником Хаузом, и Аверелла Гарримана, железнодорожного магната, владевшего в 1920-е годы концессиями по добыче марганца
на Кавказе. Между тем Дэвис в спешном порядке издал по просьбе президента свою книгу «Mission to Moscow» — несколько подчищенный рассказ о его работе послом в Москве в 1937–1938 годах,
которая приобрела широкую популярность. Убедившись на основе информации из этих и других
333
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
источников, что Сталин не собирается сдаваться,
7 ноября 1941 года, ровно через двадцать четыре
года после большевистского переворота в России
и ровно за месяц до нападения Японии на ПерлХарбор, Рузвельт выступил с заявлением о том,
что обеспечение безопасности Союза Советских Социалистических Республик имеет жизненно важное
значение для Соединенных Штатов. Но и до этого
уже случилось достаточно много вещей, которых
почти никто не заметил108.
XII
«Итак, в конце концов мы победили!» — вспоминал
Черчилль свое ликование по поводу вестей с Гавайских островов. «Соединенные Штаты участвуют
в войне, и... они будут бороться насмерть, вкладывая в эту борьбу все свои силы». «Все эти глупцы»
считали, что американцы слишком изнеженны,
слишком болтливы, слишком погрязли в своих внутренних политических делах, чтобы быть чем-то
большим, чем какое-то «смутное пятно на горизонте для их друзей или врагов».
Но я изучал историю Гражданской войны американцев, в которой они дрались с самым отчаянным ожесточением. В моих жилах тоже течет
американская кровь. Я вспомнил слова, сказанные мне Эдуардом Греем больше тридцати
лет назад. Он говорил, что Соединенные Штаты похожи на «гигантский котел. После того
как под ним развели огонь, энергия пара, которую он может выработать, не имеет пределов».
«Переполненный этими чувствами, я спал в эту
ночь сном спасенного и благодарного человека»109.
Черчиллю хватило такта не упоминать об огне,
разведенном под этим котлом во времена Грея, который после победы в той войне неожиданно по334
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
тух. Чтобы разжечь его снова, потребовались четверть века, более опасный кризис, чем кризис
1917 года, и более тщательное согласование средств
и целей, чем то, которого удалось достичь Вильсону. Так что Рузвельт не торопился, а Черчиллю
пришлось лишь ждать двадцать семь из шестидесяти восьми месяцев, в течение которых Британия
была в состоянии войны (как доблестно он ни держался все это время).
Рузвельт ждал трех вещей. Во-первых, перевооружения Америки, которое должно было восстановить экономическое процветание страны и дать
ему ресурсы для оказания избирательной помощи
избранным союзникам, сохраняя при этом надежду
на то, что страна сможет удержаться от вступления
в войну (но не гарантию того, что она этого не сделает). Во-вторых, уверенности в том, что Советский
Союз устоит, а значит, станет союзником Америки
на Евразийском континенте, зажатым между двумя
менее обширными державами по его окраинам, Германией и Японией, представляющими для Америки
более серьезную угрозу, и что на тоталитарный режим Сталина, лишенный его неудачными решениями какой бы то ни было возможности выбора, ляжет
основная тяжесть военных действий, необходимых
для спасения американской и британской демократии. Наконец, ФДР нужен был свой форт Самтер:
позиция морального превосходства и жертвы агрессии, которая сразу заставила бы замолчать все силы
внутри страны, призывавшие не участвовать в войне. В конце концов он получил целых два: нападение японцев на Перл-Харбор и объявление войны
Америке Гитлером через четыре дня после этого.
В последующие четыре года Рузвельт сделал
для спасения демократии и капитализма больше
кого бы то ни было. Хотя это получилось не везде
и не во всех отношениях, их удалось упрочить в достаточной мере, чтобы провалы и неудачи, постигшие их в первой половине XX века, могли сменить335
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ся новым рывком во второй. Он довел две великие
войны, шедшие на разных сторонах земного шара,
до почти одновременной победы, причем число
убитых американцев составило менее 2% от общего
числа потерь всех участников этих войн110. Его страна вышла из этих войн, имея половину всего мирового потенциала обрабатывающей промышленности, две трети всего мирового золотого запаса, три
четверти всего мирового инвестированного капитала, крупнейший в мире военно-морской флот
и военно-воздушные силы и первые в мире атомные бомбы111. Конечно, тут не обошлось без сделок
с разными дьяволами: стратегия, как и политика,
никогда не бывает чистой. Но, как писали историки Хол Брэндз и Патрик Портер, «если это не было
успешной большой стратегией», то «что тогда вообще можно считать таковой?»112
XIII
Франклин Д. Рузвельт, писал Исайя Берлин через десять лет после смерти президента, был «красивым, обаятельным, веселым, очень умным, очень
приятным и очень отважным человеком», которому его критики приписывали массу недостатков.
По их уверениям, он был «невежественным, беспринципным, безответственным» и «предал свой
класс». Он был окружен «авантюристами, пройдохами и интриганами» и «безжалостно играл... жизнями и карьерами других». Он «цинично и беспардонно [давал] противоречивые обещания».
Он использовал свое «огромное и совершенно неотразимое публичное обаяние», чтобы скрывать
свои безответственные поступки. «Да, все это о нем
действительно говорили, и кое-что, может быть,
даже было справедливым». Но у Рузвельта были
«редкие и подкупающие качества, которые уравновешивали все это».
336
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
Он был великодушен, обладал широким политическим кругозором и воображением, хорошо
понимал время, в которое он жил, и природу великих новых процессов — технологических, расовых, империалистических, антиимпериалистических, — развернувшихся в XX веке; он был
всецело за жизнь, за движение и за создание условий для максимально щедрого исполнения максимально возможного числа человеческих желаний, а не за осторожность, режим экономии
и инерцию. Но прежде всего он был абсолютнo
бесстрашен.
Именно поэтому он, казалось, «нисколько не боялся будущего», отличаясь этим от лидеров как своей, так любой другой страны.
В Вильсоне, в пору его послевоенных триумфов
в Париже, Лондоне и Риме, тоже было нечто подобное, но лишь на непродолжительное время: «это
ощущение быстро улетучилось, оставив после себя
ужасное чувство разочарования». Он был из тех лидеров, которые, будучи одержимы «яркой и стройной мечтой... не понимают ни людей, ни событий»
и поэтому часто «не видят многого из того, что происходит вне их головы». Слабые и колеблющиеся
могут находить «облегчение, успокоение и силу»
в том, чтобы идти за человеком, «которому ясны
все вопросы, который видит мир, состоящим только из основных цветов, преимущественно черного
и белого, и шагает к своей цели, не глядя при этом
ни вправо, ни влево». Но к таким людям относятся
и «ужасающие злодеи, подобные Гитлеру».
Рузвельт, составляя разительный контраст Вильсону, был одним из политиков, одаренных «антеннами чрезвычайно тонкой чувствительности, которые позволяют им воспринимать... постоянно
меняющиеся очертания событий, чувств и человеческой деятельности». Будучи способными «регистрировать малейшие впечатления», они, подобно
художникам, впитывают множество «мимолетных
337
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
и неуловимых деталей» и уже на этой основе вырабатывают свои цели.
Государственные деятели этого типа знают, что
и когда им следует делать для достижения их целей, и сами эти цели обычно не рождаются в каком-то мире внутренних размышлений или сокровенных чувств, а становятся кристаллизацией
и доведением до величайшей отчетливости и ясности всего, что множество их сограждан думает
и чувствует каким-то смутным и непроявленным,
но все же вполне определенным образом.
Именно благодаря этому такой лидер может создавать у своих сограждан ощущение, что он «понимает их сокровенные нужды и отвечает на их
собственные глубочайшие стремления, и прежде
всего — ощущение, что он один способен организовать мир вдоль тех силовых линий, которые
они инстинктивно пытаются нащупать». Благодаря этому, заключал Берлин, Рузвельт дал американцам возможность «больше, чем прежде, гордиться тем, что они американцы. Он повысил их статус
в их собственных глазах, а также, в огромной степени, в глазах всего остального мира».
Ибо он показал, «что власть и порядок — это не...
смирительная рубашка доктрины... и что можно сочетать индивидуальную свободу — эту рыхлую ткань
общества — с необходимым минимумом организующего действия и власти». Ведь именно в этом сосуществовании противоположностей и заключается то,
«что величайший предшественник Рузвельта назвал
однажды „последней и лучшей надеждой земли“»113.
XIV
Дата: 26 мая 1940 года. Место: точка на шоссе, идущем вдоль старой тропы Санта-Фе, в нескольких
километрах от города Тринидад в штате Колора338
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
до. Время: сумерки, и солнце уже садится за горы.
У обочины дороги стоит автомобиль, в нем двое
мужчин слушают радио. Одному тридцать девять
лет, другому — двадцать два, и они путешествуют
по Америке114. К ним подходят несколько местных жителей и спрашивают, нельзя ли им тоже
послушать. Для людей в машине они «мексиканцы» — хотя их предки могли когда-то владеть всеми этими пространствами до самого горизонта.
Все закуривают, и как раз в этот момент слышат через треск помех знакомый голос: «Друзья...»
В машине — Бернард Де Вото, гарвардский профессор английского языка и литературы, хорошо
заработавший на контрабанде спиртного, написавший несколько неудачных романов, а позднее
получивший известность в качестве историка.
С ним — его помощник и водитель Артур Шлезингер-младший. Де Вото, чье детство прошло
в штате Юта, решил обновить знакомство с американским Западом, прежде чем закончить свой эпический труд «Решающий год: 1846», который выйдет в 1943 году.
Но в этот вечер их, как и «мексиканцев», занимают совсем другие вещи. Идет война, Франция
вот-вот капитулирует, Англию может постичь та же
участь, и, как напишет Шлезингер своим родителям через несколько дней: «Того мира, в котором
я собирался жить, больше не существует». Де Вото,
воевавший во Франции в годы Великой войны, уже
видел все это раньше: «Мы были военным поколением, потом некоторые называли нас потерянным поколением, потом мы были поколением депрессии, и теперь мы вновь возвращаемся в нашу
первую ипостась». Оба читали и обсуждали статью
в июньском номере Harper’s Magazine (для которого Де Вото пишет собственную колонку), озаглавленную «Знакомьтесь: атомная энергия»115. В статье ничего не говорилось о военном применении
этой энергии, но двое в машине не могли не задать
339
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
друг другу вопрос: «а может быть, одного стакана этого вещества... хватило бы в качестве горючего для танка»?
И все же страна, через которую они ехали, наполняла их надеждой. На протяжении трех
с лишним тысяч километров они видели солидные дома, ухоженные газоны и красивые цветы —
«полосу защиты от эрозии времени, где каждый
участок — это корни, идущие глубоко вниз и сохраняющие почву». Школы выглядели лучше, чем
когда-либо раньше. Люди, «привыкшие к миру»,
были неизменно радушны. И еще Де Вото клянется, что больше никогда не станет «отзываться о радио с пренебрежением». Потому что «этот
инструмент рекламы сухих завтраков и кремов
для бритья может вдруг становиться инструментом демократии». На этот раз никто не мог бы сказать, «что американцы не знали, на что они шли
и почему».
Обращение Рузвельта не было самой удачной
из его речей. Он приводил слишком много статистических данных об уже достигнутом перевооружении (вскоре их оставит далеко позади тот экспоненциальный рост потенциала, которого достигнет
страна после того, как она все-таки вступит в войну). Но больше всего президент хотел объяснить
американцам, что их безопасность уже не гарантируется одними океанскими просторами. Новые
технологии строительства судов, как обычных, так
и подводных и воздушных, сделали дальнейшую
изоляцию невозможной. Но, действуя в своих границах, страна сделает все необходимое для обеспечения своей безопасности:
Более трех столетий мы, американцы, строили
на этом континенте свободное общество — общество, в котором обещание свободы человеческого
духа может найти свое воплощение... Мы строили хорошо116.
340
ПОСЛЕДНЯЯ И ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА
Речь заканчивается. Автомобиль полон табачного дыма, и после непродолжительного молчания
один из «мексиканцев» говорит: «Наверное, теперь Америка довольно скоро объявит войну». «Наверное», — соглашается Де Вото. Затем, пишет он,
«мы попрощались и поехали дальше в сторону Тринидада».
ГЛ А ВА 10
Исайя
Я
«
Н Е В Ы Н О Ш У никаких перерывов постепенности, — писал Исайя Берлин своему
другу, писателю и поэту Стивену Спендеру в 1936 году. — Это лишь другой способ сказать,
что я медленно раскачиваюсь и терпеть не могу,
когда меня выдергивают из моей почвы... именно
поэтому я яростно защищаю все небольшие группы и сообщества, все разновидности твердой дисциплины и т. д.: все это просто рационализация
моей любви к утробе, в которую я стремлюсь вернуться (но, конечно, утробе с хорошим обзором, сугубо личной и т. д.)»1. И все же когда тремя годами
позже разразилась война, оксфордская жизнь Берлина оказалась слишком замкнутой даже для него.
Будучи непригодным к военной службе из-за родовой травмы руки, лишенный возможности работать в разведке в связи со своим латвийско-русским
происхождением, он признавал после капитуляции
Франции, что его «частный мирок дал множество
трещин» и что он испытывает страстное желание
«быть чем-то полезным в этом великом историческом процессе»2.
Он писал это в письме Мэрион Франкфуртер,
жене Феликса Франкфуртера, бывшего Гарвардского профессора права и тогдашнего близкого советника Франклина Рузвельта, который назначил его
незадолго до этого судьей Верховного суда. Берлин
был знаком с Франкфуртерами по совместным годам, проведенным в Оксфорде3. Но его обычная тя342
ИСАЙЯ
жесть на подъем — а может быть и финансовое положение — до этого не давали ему шансов увидеть
Америку. Когда он все-таки добрался до нее летом
1940 года и в возрасте тридцати двух лет, он сделал это подобно Колумбу: только после опасного путешествия и в результате незапланированной
высадки.
Другой его знакомый, сотрудник британского
Форин-офис Гай Бёрджес, утверждал, что нашел
для Берлина работу в британском посольстве в Москве. Свободно говоря по-русски и страстно желая
быть чем-то полезным, он ухватился за эту возможность, и к середине июля оба уже были на корабле, совершавшем зигзагообразное плавание по Атлантике, уходя от подводных лодок и направляясь
в Квебек (отсюда они планировали, после краткой остановки в Нью-Йорке, продвигаться затем
через Японию и Сибирь). Но ненадежный Бёрджес, который уже тогда сильно пил, а позже был
разоблачен как советский шпион4, вовсе не решил
заранее вопрос о должности для Берлина с британским послом в СССР Стаффордом Криппсом.
Когда Криппсу сообщили, что они в пути, он заявил, что не примет ни того ни другого. Начальство Бёрджеса приказало ему вернуться в Лондон,
и он оставил Берлина, не состоявшего на службе «в правительстве Его Величества», «на мели»
в Америке, предоставив ему делать, «что ему заблагорассудится»5.
«Я должен сам придумать себе работу, — писал
он другу. — Не знаю пока, насколько я силен в этих
вещах»6. Он принялся налаживать связи и контакты: это у него получалось очень хорошо. Он начал
с Франкфуртеров и уговорил теолога Рейнгольда
Нибура, частого гостя этого дома, написать Криппсу и попросить его пересмотреть свою позицию. Затем Берлин нашел через оксфордских друзей жилье
в Вашингтоне и вскоре уже договорился об обеде с советским послом. Зачем, спросил он посла,
343
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Сталин недавно аннексировал Латвию? «Новый
курс» для Прибалтийских стран, пробормотал
чиновник Сталина, подписывая визу, за которой
и пришел к нему Берлин7. Использовать визу ему
так и не пришлось: во-первых, потому что Криппс
не изменил своей позиции ни на йоту; во-вторых,
потому что другая работа, которую Берлин вовсе
не искал, нашла его сама.
«Я никогда не встречал Исайю раньше и даже...
не слышал о нем», — признавался позднее сотрудник британского посольства в США Джон УилерБеннет. Но «когда мы с ним сели выпить на террасе, я немедленно оказался под обаянием его
блестящего интеллекта». Проведя в Соединенных
Штатах буквально несколько дней, Берлин оставлял впечатление «человека, знавшего эту страну
всю жизнь».
Кажется, он никогда не переставал говорить,
но при этом никогда не надоедал, хотя иногда
нам было сложно следить за его мыслью... Он говорил блестяще, но это нисколько не тяготило
ни одного из слушателей, и никто не чувствовал себя исключенным из разговора. Одно из самых удивительных качеств Исайи — это его способность пробуждать таланты в других людях...
давая им ощущение, что они на самом деле более блистательны и остроумны, чем обычно считают себя сами.
Зная, что после Дюнкерка их новый премьер-министр воскресил старое пророчество о том, что
«Новый Свет... обрушит на врага всю свою силу
и мощь, чтобы спасти и освободить Старый Свет»8,
Уилер-Беннет и его коллеги сговорились удержать Берлина на своей стороне океана: он оказался для них настоящим сокровищем9.
Они решили, что его работой будет рассказывать
Старому Свету про Новый. К моменту нападения
на Перл-Харбор Берлин уже составлял «еженедель344
ИСАЙЯ
ные политические обзоры» по сто слов каждый,
посвященные вашингтонским (но не только вашингтонским) новостям. Эти конфиденциальные
сообщения, которые доставлялись в Лондон дипломатической почтой, а в особо срочных случаях
и по телеграфу, были чем-то средним между сверхсекретными донесениями и новостями, публикуемыми в открытой печати10. Они помогали лучше
понять общую ситуацию в стране, что было тогда
крайне важно, и при этом позволяли использовать
с максимальным эффектом умение Берлина сходиться и общаться с людьми. Теперь он мог с чистой совестью посещать сколько угодно званых вечеров и считать это своим вкладом в победу.
I
«Мы должны... всегда исходить из того допущения, что американцы для нас, а мы для них — иностранцы», — писал Берлин в одном из своих первых
донесений в начале 1942 года. Если Британия приостановила свою политическую жизнь (с 1935 года
по 1945 год в стране не проводилось всеобщих выборов), то Соединенные Штаты «в значительной
степени жили как раньше». Рузвельт по-прежнему назначал многих людей на те же посты. Члены
конгресса были, как всегда, заняты своим политическим торгом. Вопросы местной политики и традиционные схемы обеспечения поддержки избирателей влияли на результаты выборов не меньше,
чем международные дела: даже после Перл-Харбора быть изоляционистом вовсе не считалось зазорным, так как «половина [всех избирателей] были
такими же или еще похуже, а другая половина вообще никогда не слышала этого слова»11.
Между тем, писал Берлин, «производительное
усилие этого континента пока только нарастает,
и это проявляется в ощущении собственной силы,
345
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
которое испытывает американский народ». Сейчас этот народ говорил: «если тебя втянули в одну
войну, это могло быть простым невезением, но если
тебя втянули в две, то что-то явно не так с системой». Но как этому помочь, было пока неясно.
Пойдут ли американцы за «доморощенными либеральными реформаторами», вроде их вице-президента Генри Уоллеса, предлагающего глобальный
«новый курс» без всяких границ национальности,
классов и рас? Или они поддержат «экономический империализм» в духе издателя Генри Люса,
уже провозгласившего этот век «американским веком»? Как бы то ни было, Рузвельт будет руководить «с бесконечно большим политическим искусством, хотя и не с такой убедительной моральной
силой, как г-н Вильсон»12.
Это будет не в последнюю очередь связано с тем,
что ему, в отличие от Вильсона, придется вступать в сделки с Советским Союзом. «Сталин вполне может оказаться дьяволом будущего мира13, —
писал Берлин, — но Соединенные Штаты считают,
что у них в руках достаточно длинная ложка, чтобы
садиться с ним за один стол». Они, конечно, постараются не допустить крайних вариантов: когда русские «сносят все на своем пути в Европе и устанавливают коммунизм повсюду», или, наоборот, когда
они «останавливаются на своих границах и заключают мир с немцами». Но ни эти два крайних исхода, ни какие-то промежуточные варианты между
ними не оставят особых возможностей «малым нациям, которым Россия может поставить очень тяжелые условия»14.
Таким образом, ценой победы станет отрицание
справедливости, поскольку ценой справедливости
могло бы стать отрицание победы. Берлин подтверждал свой вывод слухами, от которых читателям
становилось очень неуютно:
346
ИСАЙЯ
По сведениям из надежных источников греческий посол сообщил, что во время его беседы
с президентом последний заявил ему, что правительство Соединенных Штатов не будет поднимать шума по поводу включения балтийских
стран в состав Советской России... После этого
греческий посол спросил его о Польше. По словам нашего источника, президент сказал ему
с жестом деланного отчаяния, что он сыт по горло польской проблемой и что он совершенно
ясно сказал об этом польскому послу и лично
предупредил его о последствиях дальнейшей
польской агитации.
Общее настроение, которое чувствуется в прессе и разговорах молодых и «жестких» сотрудников администрации в Вашингтоне и других
руководителей... состоит в том, что Россия делает то, что следует считать единственно разумным для восходящей великой континентальной державы, что ресурсы Америки позволяют
ей поступать так же, и что две страны смогут
договориться без лишних сантиментов на почве неумолимых фактов и после определенного
жесткого торга без посредничества Британии
или любой другой «старой» державы, чьи времена уходят. Они не отрицают, что... от идеалов
Вильсона приходится отказываться, но поскольку русским это так необходимо, то это, по-видимому, направление, в котором неизбежно движется мир, и было бы глупой роскошью и дальше
грозить России пальцем во имя идеалов, которые
Соединенные Штаты не собираются обеспечивать силой и знают об этом сами.
Сообщают, что губернатор [Альф] Ландон [кандидат в президенты от Республиканской партии,
проигравший на выборах в 1936 году] позвонил
недавно [государственному секретарю Корделлу] Халлу и спросил его, почему на Московской
конференции [в октябре 1943 года] не были обеспечены никакие гарантии для Польши. Говорят,
что Халл в ответ предложил [Ландону] самолично отправиться в Москву и выступить в защиту
347
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
прав и интересов поляков в разговоре с маршалом Сталиным от имени великого Среднего Запада; Ландон спросил тогда, действительно ли
Халл считает, что это могло бы спасти поляков.
Халл настоятельно рекомендовал ему обязательно взять с Республиканской партии определенное обещание немедленно начать войну за территориальную целостность Польши, если русские
окажутся слишком несговорчивы, и получить гарантии поддержки армии и флота Соединенных
Штатов на случай такого развития событий. Говорят, что Ландон, который в начале разговора
принял слова Халла за чистую монету, очень обиделся на эту шутку и теперь дуется на него у себя
в Канзасе15.
Чтобы его депеши не оставляли слишком уж тягостного впечатления, Берлин всячески старался
разбавить грустные новости веселой нотой:
Слышали, как один сторонник Демократической
партии, уходя с обеда по случаю дня рождения
Джорджа Вашингтона, заметил, что на день рождения Линкольна он [Рузвельт] воображал себя
Линкольном, а сегодня — Вашингтоном. Интересно, что он скажет на Рождество?
Полковник [Роберт] Маккормик [изоляционист
и издатель Chicago Tribune]... намерен [призвать]
Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Шотландию, Уэльс и т. д. войти в состав Соединенных
Штатов. Подобная кампания будет, пожалуй,
весьма занимательной: нас уверяют, что полковник говорит все это совершенно серьезно.
Страстное желание [Уоллеса] добиться повторного выдвижения кандидатом в вице-президенты [в 1944 году] не имеет прецедентов в истории Соединенных Штатов: публика наблюдает
за этим странным спектаклем с болью или ироническим интересом (в зависимости от политических симпатий наблюдающих).
Сенатор от штата Калифорния [Хайрам] Джонсон получил неявную поддержку сенатора
348
ИСАЙЯ
от Джорджии [Уолтера] Джорджа, выступившего на родном джорджианском языке16.
Кажется, что его [Рузвельта] легкий стиль, столь
часто позволявший ему выбираться из сложных
ситуаций, оказывается иногда слишком большим
испытанием для его собственных слишком серьезных сторонников17.
Чего никак нельзя было сказать о легкости стиля
Берлина и его лондонских читателях, для которых эта легкость была большим облегчением, пусть
и мимолетным, на фоне мрачных реалий войны
за спасение и освобождение.
Признательность одного из его читателей стала причиной самого знаменитого за всю войну казуса, связанного с путаницей в именах. 9 февраля
1944 года Уинстон Черчилль пригласил «И. Берлина», автора еженедельных сводок из США,
на обед на Даунинг-стрит, 10. На обеде премьер-министр с недоумением обнаружил, что сидит рядом
со столь же недоумевающим почетным гостем — сочинителем песни “White Christmas”. Благодаря этому случаю, который стал широко известен, Исайя
Берлин стал, по словам его биографа Майкла Игнатьева, «мини-знаменитостью по ошибке»18.
II
Сводки Берлина вознесли его от бесед в узких кругах оксфордских преподавателей на беспримерно
более широкие просторы: к разговорам о судьбах
громадной республики, ведущей тотальную войну.
Этот взлет стал возможен благодаря его орлиному
глазу и быстрому языку. «Кто бы мог подумать, —
писал он своим родителям, — что я когда-то начну
так живо интересоваться американской политикой?» Может быть, Америка тоже была Оксфордом, но в гигантских масштабах: и здесь, и там ин349
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ституции значили меньше, чем личные отношения,
«законы развития которых... — писал Берлин, — конечно, всегда чрезвычайно занимали меня». Как бы
то ни было, он будет помнить годы, проведенные
в Вашингтоне, как «последний оазис... после которого молодость, наконец, кончается и начинается
обычная жизнь»19.
Он все же добрался до Москвы. Это случилось
в сентябре 1945 года, и на этот раз он получил санкцию Форин-офис на свою поездку: ведомство надеялось, как говорил Берлин друзьям, получить
от него некую «лаконичную» сводку, которая «станет руководящим принципом британской политики на все времена»20. Однако Берлин обнаружил,
что не может работать в Москве так, как в Соединенных Штатах. Тайная полиция следила за ним
повсюду, ограничивая его передвижения, подслушивая его разговоры, а иногда, как ему казалось,
даже читая его мысли. То, что он знал русский
язык, лишь усиливало ее подозрения21.
Так Берлин впервые лишился дара речи. Он понимал все, что говорили ему другие люди, но не решался говорить с ними сам, боясь навлечь на них
беду. Когда его родственники рассказывали ему
о том, что они испытали за десятилетиe чисток
и войны, они переходили на шепот. Поэты, сценаристы, художники, кинорежиссеры и писатели, которые должны были быть выразителями российской
культуры своего времени, казались ему выбравшимися, подобно Ионе, из чрева кита: бесцветными
и обессиленными, еще живыми, но словно утратившими жизненную энергию22. Слухи перестали быть
чем-то невинным и стали смертельным оружием.
Казалось, нужно было извиняться за саму возможность жить.
Молчание сталинской России повлияло на Берлина (человека, так редко молчавшего) по крайней
мере так же сильно, как американская какофония.
Он почти ничего не знал об Анне Ахматовой, когда
350
ИСАЙЯ
однажды в ноябре забрел в ленинградский книжный
магазин, взял с полки томик ее стихов и спросил
между прочим, жива ли она еще. Да, ответили ему,
и живет совсем недалеко. Может быть, он хочет с ней
встретиться? Конечно, отвечал Берлин, и вот ей позвонили, она пригласила его в гости, и они проговорили всю ту ночь и утро следующего дня23. Он считал эту встречу главным событием своей жизни24.
Ахматовой, известной на Западе как поэт дореволюционного периода, не дали опубликовать
никакие из ее значительных произведений после
1925 года. Ее первый муж был расстрелян еще
при Ленине, второй муж и сын провели многие
годы в лагерях, и она пережила блокаду Ленинграда лишь потому, что Сталин не захотел допустить
ее голодной смерти. Теперь, вернувшись из эвакуации, в которую она была отправлена по его приказу, она жила одна в единственной голой комнате
в доме без лифта, имея мало оснований надеяться,
что ее неизвестность когда-то кончится.
Берлин нашел ее вызывающей и непреклонной:
у нее были вид и грация «трагической королевы».
Она призналась, что он — второй иностранец, с которым она общается со времен Первой мировой войны. Берлин (который был моложе ее на двадцать
лет) поспешил удовлетворить ее любопытство, стараясь не выдать при этом тот факт, что он не читал
ее стихов. Каждый видел другого словно из мира, недоступного другому: он — из Европы, от которой она
была отрезана, она — из России, которую он вынужден был покинуть еще ребенком. То, что он услышал, вспоминал он много лет спустя, «выходило
за рамки всего, что кто-либо когда-нибудь описывал
мне словами, произносимыми вслух»25. Она вписала его в будущее в своем стихотворении:
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый Век26.
351
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Макиавелли мог бы сказать об этой ночи, что они
делали «зарисовки», пытаясь хотя бы нащупать
формы тех вещей, которые у них не будет времени
постичь. Клаузевиц увидел бы в этом coups d’oeil —
«внутреннее зрение», схватывающее истины, постижение которых требует обычно длительных
размышлений. Но лишь Толстой смог бы живо изобразить такой поворот двух жизней вокруг одной
точки: вполне реальной точки, а не тарутинского
зайца из романа.
Для Ахматовой эта ночь обернулась еще одним
десятилетиeм изоляции, и все это время в ее комнате незримо присутствовал сам Сталин: его агенты
постоянно держали его в курсе событий. Для Берлина она разрушила идею «моральной эквивалентности», через призму которой он видел до этого
наступающую холодную войну: две великие державы, поступающие так, как всегда поступали великие
державы. Теперь он видел, что Америка и Россия
различались не только по своей географии, истории, культуре и возможностям, но и по своей имманентной экологии, и последнее было самым важным. Одна процветала благодаря своей какофонии,
другая требовала молчания.
III
«То, что происходит [в Советском Союзе]... невыразимо отвратительно и мерзко, — писал Берлин
одному из своих друзей в ноябре 1946 года. — Медленное унижение поэтов и музыкантов в каком-то
смысле ужаснее обычного расстрела»27. Но разве русские художники не всегда страдали при авторитарных режимах? Да, согласится он позднее,
но цари, стремясь подавить творчество, лишь усиливали его роль в жизни общества: при них Россия
стала рассадником идей, которые «воспринимались серьезнее и играли [здесь] более значительную
352
ИСАЙЯ
и своеобразную роль, чем где бы то ни было еще»28.
Пораженный контрастом между историей, которую
он знал, и тем настоящим, которое он увидел, Берлин решил показать связь России XIX века «с современным миром и со всей проблемой положения человека в мире»29.
Эту связь он увидел в марксизме XX века, который оказался детищем русских революционеров
не менее, чем самого Маркса. При традиционном
подходе к критическому мышлению как в эпоху
Просвещения, так и в другие эпохи, вещи оценивались по крайней мере как они есть, а не на основе предвзятых мнений, «для которых никакие факты не могут... иметь никакого значения».
Марксисты же утверждали, что «могут заранее
определить, верны ли взгляды человека... просто
путем установления его социального или экономического происхождения или условий его жизни». Они исходили из идеи «неопровержимости
их собственной теории»30. Берлин скоро расширил свой анализ и включил в тот же ряд фашизм:
эту «кульминацию и банкротство мистического патриотизма», воспламенявшего националистов Европы XIX века. Таким образом, два великих раскола его эпохи, Вторая мировая война и холодная
война, стали результатом «тоталитарной» решимости устранить противоречия «иными, чем мысль
или довод, средствами»31.
Рационалисты давно рассматривали противоречия как нечто несущее в себе источник собственного разрешения. Консерваторы усматривали этот источник в самом течении времени, которое смягчает
старые противоречия, помещая их в новые обстоятельства: в этой традиции действовали Бисмарк
и Солсбери. Либералы видели способ преодоления
противоречий в создании структур, приемлемых
для обеих сторон: попыткой создания такой структуры стали «четырнадцать пунктов» Вильсона. Оба
направления разделяли то убеждение — «слиш353
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ком очевидное, чтобы они сами это осознали», —
что проблемы могут разрешаться «сознательным
применением истин, относительно которых могут
сойтись между собою все люди, наделенные достаточными умственными способностями»32.
Но что если время течет слишком медленно?
Что если никаких «истин» не существует? Что если
они существуют, но их невозможно обнаружить?
Это были коварные вопросы, которыми русские радикалы XIX века заразили XX век: «если революция
потребует этого, всё — демократия, свобода, права
личности — должно быть принесено в жертву».
Маркс, как хотелось думать Берлину, был «слишком европейцем», чтобы пойти настолько далеко,
но у Ленина подобных сомнений уже не было:
Массы чересчур глупы и слепы, чтоб позволить
им действовать как им заблагорассудится… спасти их можно только заставив повиноваться безжалостным приказам вождей, которые сумели
понять, как организовать освобожденных рабов
по некоему рационально построенному плану.
Отсюда — все те «бесчинства», от которых, как писал Берлин в 1953 году в своей лекции о Макиавелли, «в жилах обычных людей стынет кровь». Откуда же берется эта «способность»? Из того, что стало
настоящим вкладом Маркса и во что он искренне верил: из понимания истории, дающего всякому овладевшему им ту уверенность, которая позволяет ему
никогда не испытывать страха перед будущим33.
IV
Но то же самое Берлин скажет в 1955 году и о Франклине Рузвельте — без малейшего намека на то,
что покойный президент хотя бы раз в жизни заглянул в главу «Диалектический и исторический
материализм» сталинского «Краткого курса ис354
ИСАЙЯ
тории ВКП(б)», опубликованного в 1938 году. ФДР
не был ни консерватором бисмаркианского толка,
ни вильсоновским либералом, ни марксистом-ленинцем, ни нацистом, но это был человек, в высшей
степени уверенный в себе:
В унылом мире, который казался поделенным
на безнравственных и фатально преуспевающих
фанатиков, сеющих разрушение, и сбитое с толку, суетящееся население, без энтузиазма превращающееся в жертву в тех случаях, когда оно
не могло защищаться, — в этом мире он верил
в то, что пока он у власти, он способен остановить этот страшный поток.
Это сделало Рузвельта в глазах Берлина «величайшим лидером демократии, величайшим поборником прогресса XX столетия»34. Так в чем же заключался источник его уверенности в себе?
Я уверен, что это не был поиск какой-то определенности форм плывущих по небу облаков в духе
Полония. Но это также не было и примирением
или устранением противоречий: ФДР был одновременно и слишком циничным, и слишком человечным, чтобы удовлетвориться одним из этих
путей. Но возможно, что это был один из тех лидеров, которые «научились жить», как выразился однажды Берлин, в духе Макиавелли, «с непримиримыми альтернативами в общественной и частной
жизни»35. «Я — жонглер, — признавал сам Рузвельт
в 1942 году, — и я никогда не позволяю моей правой
руке знать, что делает левая»36.
Это ставило в тупик и раздражало советников
президента, они даже считали это недопустимым
легкомыслием, и некоторые историки более позднего времени соглашались с ними37. Но вдумайтесь
получше в эту метафору: как можно не позволять
одной руке знать, что делает другая, раз голова дает команды обеим? «Я могу быть совершенно непоследовательным, — пояснял далее ФДР, —
355
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
если это поможет выиграть войну»38. Таким образом,
в большой стратегии последовательность — это вопрос не столько логики, сколько масштаба, и то,
что казалось бессмысленным подчиненным Рузвельта, могло быть абсолютно осмысленным
для него самого, потому что он лучше всех видел
взаимосвязь всего со всем — но никому не говорил
о том, что видел. От него исходил дух невозмутимости, которая, казалось, ничего ему не стоила, несмотря на то, что в течение самого длинного президентского правления в американской истории
и последней трети своей жизни он неспособен был
управлять без чужой помощи даже собственными
ногами39.
8 марта 1933 года. Уже наступает вечер. К дому
в Джорджтауне40 подъезжает лимузин. Президенту Соединенных Штатов, недавно официально
вступившему в должность после очередных выборов, помогают выбраться из машины и вкатывают
его на кресле в дом, где он поднимается на лифте в библиотеку. Недавно вышедший в отставку судья Верховного суда Оливер Уэнделл Холмс-младший все еще в спальне: он отдыхает после обеда,
состоявшегося в этот день по случаю его девяносто второго дня рождения. Но Феликс Франкфуртер (пока они еще не встретились с Исайей Берлином в Америке) устроил ему сюрприз. «Что ты
несешь! — бросает Холмс своему помощнику, пытающемуся поднять его с постели, — Призидент?
Здесь? Невозможно!». Однако он здесь, и терпеливо ждет его в библиотеке. И вот трижды раненый ветеран войны Линкольна приводит себя
в порядок, чтобы поздороваться с последним преемником Освободителя. Радушная беседа, которая
за этим следует, ничем особенным не примечательна — кроме, может быть, слов, которые произносит Холмс, когда Рузвельт уезжает: «Не самый
блестящий ум. Но поистине первоклассный темперамент!»41
356
ИСАЙЯ
V
«Каждая специальная деятельность, — пишет Клаузевиц, — занятие которой требует известных достижений, мастерства, нуждается в особых умственных
и душевных способностях. Когда они проявляются в высокой степени и свидетельствуют о себе исключительными достижениями, дух, одаренный
ими, называется гением»42. Я понимаю эту фразу
так, что «интеллект», который задает цели, должен постоянно приспосабливаться к «темпераменту», от которого зависит то, каким именно путем
они достигаются. Ведь точно так же, как никакая
политика не может быть чистой, никакая «большая стратегия» не может не испытывать влияния
непредвиденных факторов.
Почему канатоходец ходит по канату с шестом?
Шест стабилизирует его движение, и это так же
важно для достижения конечной точки его пути,
как и шаги, которые он совершает. Однако он использует шест, не задумываясь: если он начнет
думать о том, что он делает шестом, он рискует
упасть. Так же, мне кажется, работает и темперамент в стратегии. Это не компас (компасом служит
ум), а скорее гироскоп, внутреннее ухо, дополняющее «внутреннее око» Клаузевица. Подобно шесту
канатоходца, темперамент может определить исход
номера: сорвется ли канатоходец с каната или благополучно завершит свое прохождение.
Ксеркс не смог укротить свои амбиции, а Артабан — победить свои страхи: и то и другое было
крайностью, хотя и разного свойства. Перикл начал с призывов к терпимости и закончил призывами к репрессиям в пределах одной речи, и Афины
вскоре последовали его примеру. Октавиан достиг
своих вершин, потому что научился владеть собой;
Антоний потерял все, потому что разучился это делать. Наследством Августина и Макиавелли стали
357
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
властный стиль Филиппа и легкая рука Елизаветы,
которыми создавались два разных Новых Света.
Наполеон потерял свою империю, приняв устремления за возможности; Линкольн спас свою страну тем, что не допускал такой путаницы. Вильсонстроитель не оправдал надежд своего поколения;
Рузвельт-жонглер превзошел ожидания своих современников. Перефразируя анекдот о пони, который любил рассказывать Рейган43, где-то здесь «зарыта» некая закономерность.
Может быть, она заключается в предположении
Филиппа Тетлока, что мы выжили как вид, потому что научились сочетать повадки разных зверушек Берлина: «лисы» легче приспосабливались
к быстрым изменениям, у «ежей» всё получалось
лучше в эпохи стабильности44. Таким образом, понятие «первоклассного ума» Фицджеральда расширяется: противоположности нужно удерживать
не только в уме, но и в действии, а это возвращает нас к мнению Тетлока о том, что «здравое суждение» — это «уравновешивающий акт», который
требует «переосмысления ключевых допущений»,
но при «сохранении нашего существующего взгляда на мир»45. Говоря проще, он требует здравого
смысла (но на всех высотах).
VI
Это предполагает моральную эквивалентность такого натянутого каната: последствия падения с любой
его стороны будут одинаково плачевны. Но Берлин
уже с начала 1950-х годов начал понимать политику как противоположность с двумя неравными понятиями свободы на ее концах46.
Одно из них предполагает свободу от необходимости выбора и передачу права выбора некоему высшему авторитету: коллективу, партии, государству, идеологии или даже теории. Другое
358
ИСАЙЯ
предполагает сохранение свободы совершения выбора. Берлин назвал первое понятие «позитивной»
свободой, но этот термин не имеет никакого комплиментарного оттенка: такая свобода, доведенная до ее крайних проявлений, ведет к тирании,
устраняющей противоречия тем, что заставляет все
стороны замолчать. Вторая, «негативная», свобода
означает культивирование противоречий, даже какофонии, но без какого-то компаса она может приводить к отклонению от правильного пути, ограниченности, а в крайнем проявлении — анархии.
Позитивную свободу в этой книге олицетворяют
«ежи», пытающиеся сбить в стадо «лисиц»: это Перикл позднего периода его жизни, Юлий Цезарь,
Августин, Филипп II, Георг III, Наполеон, Вильсон
и тоталитарные вожди XX века. Все они настолько
точно знали, как устроен мир, что предпочитали
выравнивать ландшафты, а не приспосабливаться
к ним. Это делало плоскими самих людей и допускало только узкие интервалы «свобод»: от разочарования или лишения имущества (в лучшем
случае) до рабства или физического уничтожения
(в худшем).
Поборники негативной свободы — это «лисы»
с компасами: молодой Перикл, Октавиан Цезарь,
Макиавелли, Елизавета I, отцы-основатели США,
Линкольн, Солсбери и особенно Рузвельт. Всем им
хватало смирения, чтобы не утверждать наверняка,
какое будущее их ждет, гибкости, чтобы приспосабливаться к нему, и находчивости, чтобы допускать
непоследовательность или даже использовать ее
к собственной выгоде. Они серьезно относились
к ландшафту, строили свои решения внутри него
и тщательно проверяли их.
Обе разновидности свободы требуют прохождения над бездной, а такое прохождение — при движении ли по канату или мосту, связанному из лодок, — невозможно без риска. Но адепты позитивной
свободы утверждали, что они ограничили риски
359
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
или по крайней мере отсрочили их наступление:
в любом случае новые миры на дальнем конце каната были их обетованными землями. Сторонники негативной свободы не утверждали ничего подобного: они признавали ограничения, умеряли
ожидания и предпочитали надежные средства движения к достижимым целям. Позитивная свобода
не требовала никаких доказательств сверх доказательств теории: если цели соответствовали теории,
средства должны были согласоваться с ними сами
собой. Негативная свобода не предполагала ни такого соответствия, ни такого согласования: для нее
был важен опыт, позволяющий вносить в теорию
необходимые поправки.
Это требовало того, что Берлин называл «плюрализмом»47: прежде всего, конечно, признания
сохраняющихся в мире зол и пороков (Августин
назвал бы это «падшим состоянием человека»),
но вместе с тем и пользы, которая может произойти
от их взаимного уравновешивания — «человеческого состояния» (мог бы ответить ему Макиавелли).
Если, конечно, мы не проявляем слишком большого нетерпения и способны жить с этими противоречиями, которые, как признавал Берлин, «не давали людям покоя»48.
VII
Дата: 16 февраля 1962 года. Место: Индонезийский
университет, г. Джокьякарта. Роберт Ф. Кеннеди,
Генеральный прокурор Соединенных Штатов, отвечает на вопрос студента об Американо-мексиканской войне: «Кое-кто в Техасе может с этим
не согласиться, но мне кажется, что мы были неправы. Я не думаю, что мы можем гордиться этим
эпизодом». Многие в Техасе и вправду не согласились с ним, причем весьма радикально: Кеннеди вынужден был обещать своему старшему брату,
360
ИСАЙЯ
что впредь он будет согласовывать все свои высказывания об этом штате с тогдашним вице-президентом Соединенных Штатов49. Через несколько месяцев, будучи студентом первого года магистратуры
Техасского университета в городе Остин, я смотрел
видеозапись лекции Сэмюэла Флэгга Бемиса, специалиста в области истории дипломатии из Йельского университета и человека с очень ясными понятиями о взаимосвязи прошлого и настоящего.
Не удержавшись от соблазна прокомментировать
заявление Кеннеди, Бемис начал с очень аккуратных высказываний, но закончил весьма памятной
фразой: «Вы ведь не хотите всё вернуть?»
Что тут можно сказать? Наверное, если быть
честными с самими собой, большинство из нас,
даже в нынешнюю более политкорректную эпоху, не хотели бы этого. Потому что удовлетворить
требования справедливости в данном случае означало бы сломать не только настоящее и будущее,
но и прошлое: ведь тогда мексиканцы должны будут вернуть все это испанцам, испанцы — коренным жителям, а те — самой флоре и фауне, которую они потеснили, перейдя по сухопутному мосту
из Сибири за много тысяч лет до этого. Всё это
рассуждение абсурдно, но лишь потому, что оно
исключает любое сосуществование противоречий
во времени или в пространстве. Этим лишь подтверждаются слова Берлина о том, что не всех хороших и правильных вещей можно достичь одновременно. И что для того, чтобы научиться жить
в таком состоянии — назовем его историей, — нужно приспосабливаться к совмещению несовместимых вещей.
Именно в этом нам помогает большая стратегия. Потому что «при любой честной торговле», напомнил Бёрк своим коллегам по парламенту в 1775 году, «ценность покупаемой вещи
должна в какой-то мере соответствовать цене, которую за нее платят»50. Эта пропорциональность
361
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
обеспечивается самим понятием большой стратегии как согласования потенциально бесконечных
устремлений с неизбежно ограниченными возможностями. А чем обеспечивается справедливость?
Я бы сказал, что она обеспечивается ориентацией
этого согласования в сторону свободы. Или, как сказал бы Берлин, в сторону «негативной» свободы.
Именно это имел в виду Клаузевиц, когда писал о подчинении «войны» «политике», ибо какая
свобода может родиться из тотального насилия?
Это то, что искал Августин, стремившийся сделать
войны «справедливыми». И это то, что признавал
с не характерной для него мягкостью Сунь-Цзы:
«Гнев может смениться радостью, злоба может
смениться весельем, а вот погибшее государство
не возродится вновь, и погибшие люди не вернутся к жизни»51.
Противоречие между живым и мертвым — это
величайшее противоречие, которое мы когда-либо
будем «держать», в уме или в духе, в каком бы «настоящем» мы ни действовали. Всё, что находится
по оба конца этой натянутой струны — ну, или почти всё, — заслуживает уважения.
Примечания
Предисловие
1 См. программы курса «Стратегия и политика» Военно-морского колледжа по адресу: www.usnwc.edu/
Faculty-and-Departments/Academic -Departments/Strategy-and-Policy-Department. Программа курса Йельского
университета размещена по адресу www.grandstrategy.yale.
edu/background; см. также: Linda Kulman, Teaching Common
Sense: The Grand Strategy Program at Yale University (Westport,
Connecticut: Prospecta Press, 2016).
2 Некоторые из читателей могут подумать, что я забыл
о холодной войне. Это не так: я просто уже достаточно
много высказывался на эту тему раньше. Из более поздних публикаций см. переработанное издание моей книги Strategies of Containment (New York: Oxford University
Press, 2005), а также мою статью: John Lewis Gaddis, “Grand
Strategies in the Cold War,” in Melvyn P. Leffler and Odd Arne
Westad, The Cambridge History of the Cold War (New York: Cambridge University Press, 2010), vol. 2, p. 1–21.
3 Я особенно признателен бывшему декану Юридической школы Йельского университета Энтони Кронману
за его идеи о значении всех этих авторов для теории большой стратегии.
Глава 1
1 Цитаты из Геродота без указания переводчика приводятся в переводе с английского, поскольку существующие
русские переводы с древнегреческого соответствующих
мест сильно расходится с английским текстом у Гэддиса. — Прим. перев.
2 Herodotus, The History, Book VII: 1–56. Я использовал
перевод Дэвида Грина: Herodotus, The History. Translated
by David Grene (Chicago: University of Chicago Press, 1987),
363
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
p. 466–490. Из недавних работ о Геродоте см.: Robert Kaplan, “A Historian For Our Time,” The Atlantic, January, 2007.
3 Michael Ignatieff, Isaiah Berlin: A Life (New York: Metropolitan Books, 1998) — его лучшая биография. О вечеринке
рассказано на p. 173, но см. также: Ramin Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, 2nd ed. (London: Halban, 1992),
p. 188–189, и Isaiah Berlin, Enlightening: Letters 1946–1960, edited by Henry Hardy and Jennifer Holmes (London, Pimlico, 2011), p. 31n. Возможный источник вдохновения также:
C. M. Bowra, “The Fox and the Hedgehog,” The Classical Quarterly, 34 (January-April, 1940), 26–29.
4 Краткая история этого афоризма изложена в последней книге Стивена Джей Гулда: Stephen Jay Gould, The Hedgehog, the Fox, and the Magister’s Pox: Mending the Gap between
Science and the Humanities (Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 2011), p. 1–8.
5 Isaiah Berlin, The Hedgehog and the Fox, edited by Henry Hardy (Princeton: Princeton University Press, 2013), p. 91.
Я взял эту мысль, как и многие другие в этой главе, из эссе
моего бывшего студента Джозефа Карлсмита, подготовленного в 2011 г. к семинару в Йельском университете «Исследования по большой стратегии»: Joseph Carlsmith, “The
Bed, the Map, and the Butterfly: Isaiah Berlin’s Grand Strategy
of Grand Strategy,” http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/onib/carlsmith.pdf.
6 Berlin, The Hedgehog and the Fox, p. 2–3, 90; Исайя Берлин, “Еж и лиса”, в Исайя Берлин, История свободы. Россия
(Москва: Новое литературное обозрение, 2001), с. 183–184,
268.
7 A. N. Wilson, Tolstoy: A Biography (New York: Norton,
1988), p. 506–517.
8 Berlin, The Hedgehog and the Fox, p. xv–xvi.
9 Herodotus, I: 12, p. 38.
10 Ibid., VII: 8, 10, p. 469, 472. См. также: Tom Holland,
Persian Fire: The First World Empire and the Battle for the West (New
York: Doubleday, 2005), p. 238.
11 Herodotus, VII: 8, 22–24, p. 469, 478–79; Holland, Persian Fire, p. 212–214.
12 Подробнее о различиях в стратегии Ахилла и Одиссея см.: Lawrence Freedman, Strategy: A History (New York: Oxford University Press, 2013), p. 22; Лоуренс Фридман, Стратегия: Война, революция, бизнес (Москва: Кучково Поле,
2017), с. 34.
13 Конечно, не буквально. Хотя Геродот тогда уже родился, он был еще ребенком.
364
ПРИМЕЧАНИЯ
14 Philip E. Tetlock, Expert Political Judgment: How Good Is
It? How Can We Know? (Princeton: Princeton University Press,
2005), особенно pp. xi, 73–75, 118, 128–29. Выводы, сделанные Тетлоком, популярно изложены в Dan Gardner, Future
Babble: Why Expert Predictions Are Next to Worthless, and You Can
Do Better (New York: Dutton, 2011). Тетлок и Гарднер, в свою
очередь, совместно написали следующую работу — Superforecasting: The Art and Science of Prediction (New York: Crown,
2015).
15 Herodotus, VII:101, 108–26, p. 502, 505–10.
16 John R. Hale, Lords of the Sea: The Epic Story of the Athenian Navy and the Birth of Democracy (New York: Penguin, 2009),
p. 36–39, 55–74; Barry Strauss, The Battle of Salamis: The Naval
Encounter That Saved Greece — and Western Civilization (New York:
Simon and Schuster, 2005).
17 Aeschylus, The Persians, lines 819–20, Seth G. Benardete
translation (Seth G. Benardete) (Chicago: University of Chicago Press, 1956), p. 77; Эсхил, “Персы”, в Эсхил, Трагедии, перевод С. К. Апта (Москва: Искусство, 1978), строка 820. О слухе, пущенном Фемистоклом, см.: Plutarch,
Lives of the Noble Grecians and Romans, translated by John Dryden (New York: Modern Library, 1992), p. 144; Плутарх, Сравнительные жизнеописания в 3-х т., т. 1, перевод С. П. Маркиша (Москва: Издательство АН СССР, 1961), с. 157.
18 Victor Parker, “Herodotus’ Use of Aeschylus’ Persae as
a Source for the Battle of Salamis,” Symbolae Osloenses: Norwegian Journal of Greek and Latin Studies, 82:1, 2–29.
19 Herodotus, VII: 8, p. 469.
20 Это хорошо видно из свежих примеров, которые
приводятся в: Victor Davis Hanson, The Savior Generals: How
Five Great Commanders Saved Wars That Were Lost — from Ancient
Greece to Iraq (New York: Bloomsbury Press, 2013), p. 11.
21 Herodotus, VII: 38–39, p. 483–84.
22 F. Scott Fitzgerald, “The Crack-Up,” Esquire, February,
1936; Фрэнсис Скотт Фицджеральд, “Крушение”, в Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Заметки о моем поколении (Москва:
КоЛибри, 2019), c. 228–234.
23 Jeffrey Meyers, Scott Fitzgerald: A Biography (New York:
HarperCollins, 1994), p. 261–65, 332–36.
24 Мой коллега по Йелю Чарльз Хилл, который сам часто выступает в роли дельфийского оракула, любит цитировать этот афоризм на своих семинарах, никак не объясняя его озадаченным студентам.
25 Это упрощенное изложение трех замечательных эссе
Берлина «Два понимания свободы» (1958), «Оригиналь-
365
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ность Макиавелли» (1972) и «Стремление к идеалу» (1988):
Isaiah Berlin, The Proper Study of Mankind, p. 10–11, 239, 294
and 302; Исайя Берлин, Философия свободы. Европа (Москва:
Новое литературное обозрение, 2001), с. 180; Исайя Берлин,
Подлинная цель познания. Избранные эссе (Москва: Канон+,
2002), с. 327. Но пример с ребенком и сладостями — мой.
26 Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, p. 188–189.
См. также: Berlin, The Hedgehog and the Fox, p. 101, где приводится выдержка из интервью Михаила Игнатьева.
27 Или, как выразился однажды сам Берлин, «на прокрустовых ложах». Карлсмит развивает эту мысль в: Carlsmith, “The Bed, the Map, and the Butterfly”.
28 См. рецензию: Anthony Lane, “House Divided,” The New
Yorker, November 19, 2012.
29 IMDb (2012): www.imdb.com/title/tt0443272/quotes.
30 Словами Толстого завершается последний том объемного труда: Michael Burlingame, Abraham Lincoln: A Life
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), p. 834.
31 Я заимствовал элементы этого и предыдущего абзацев из своей статьи: John Lewis Gaddis, “War, Peace,
and Everything: Thoughts on Tolstoy,” Cliodynamics: The Journal of Theoretical and Mathematical History 2 (2011), 40–51.
32 Berlin, The Hedgehog and the Fox, p. 12; Берлин, “Еж
и лиса”, с. 194.
33 Tetlock, Expert Political Judgment, p. 214–215; Daniel
Kahneman, Thinking, Fast and Slow (New York: Farrar, Strauss
and Giroux, 2011), p. 20–21, а также его замечания о Тетлоке на p. 218–220; Даниэль Канеман, Думай медленно... решай
быстро (Москва: АСТ, 2014), с. 30–31, 287–289.
34 Эта фраза более всего известна по фильму «Человек-паук» (2002), но она появлялась в разных вариациях
и в других фильмах и комиксах этой франшизы. Любопытно, что очень близкая к ней фраза должна была прозвучать в застольной речи Франклина Рузвельта по случаю
дня рождения Джефферсона 13 апреля 1945 года, но ему
так и не довелось ее произнести (http://www.presidency.
ucsb.edu/ws/?pid=16602).
35 Homer, The Iliad, translated by Robert Fagles (New York:
Penguin, 1990), p. 371; Гомер, Илиада, перевод Н. И. Гнедича (Санкт-Петербург: Наука, 2008), с. 196. Разумеется, Гомер все «описывал» в собственной памяти, поскольку греки в его эпоху разучились писать.
36 Этой мыслью я обязан моему бывшему студенту Кристоферу Хоуэллу, который развил ее в своей курсовой работе 2013 года, написанной в Йельском университете:
366
ПРИМЕЧАНИЯ
Christopher R. Howell, “The Story of Grand Strategy: The History of an Idea and the Source of its Confusion”, p. 2. См. также: Freedman, Strategy, p. 3–7; Фридман, Стратегия, с. 15–19.
37 О прочитанных им книгах см.: Cawardine, Lincoln,
p. 4–10; Fred Kaplan, Lincoln: The Biography of a Writer (New
York: HarperCollins, 2008). Среди других подобных президентов-самоучек можно назвать только Закари Тейлора
и Эндрю Джонсона.
38 Henry Kissinger, White House Years (Boston: Little, Brown,
1979), p. 54; Генри Киссинджер, Годы в Белом доме, т. 1 (Москва: АСТ, 2020), с. 69.
39 См.: Michael Billig, Learn to Write Badly: How to Succeed
in the Social Sciences (New York: Cambridge University Press,
2013). О связях между историей и теорией я более подробно написал в книге: John Lewis Gaddis, The Landscape of History: How Historians Map the Past (New York: Oxford University Press, 2002). Джеймс Скотт рассуждает о различии
между универсальным и локальным знанием в своей книге:
James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (New Haven: Yale Unversity Press, 1998); Джеймс Скотт, Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий
человеческой жизни (Москва: Университетская книга, 2005).
40 Niccolò Machiavelli, The Prince, translated by Harvey C. Mansfield, second edition (Chicago: University of Chicago Press, 1998), p. 3–4; Никколо Макиавелли, “Государь”,
в: Никколо Макиавелли, Рассуждения о первой декаде Тита
Ливия. Государь, перевод М. А. Юсима (Москва: РОССПЭН,
2002), с. 357.
41 Стандартное издание: Carl von Clausewitz, On War, edited and translated by Michael Howard and Peter Paret (Princeton: Princeton University Press, 1976). Карл Клаузевиц, О войне (Москва: Государственное военное издательство, 1934).
42 Donald Rumsfeld, Known and Unknown: A Memoir (New
York: Penguin, 2011), p. xiii–xiv.
43 История этой знаменитой псевдоцитаты изложена в книге: Elizabeth Longford, Wellington (London: Abacus,
2001), p. 16–17.
Глава 2
1 Victor Davis Hanson, A War Like No Other: How the Athenians and Spartans Fought the Peloponnesian War (New York: Random House, 2005), p. 66.
367
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
2 Мое описание афинских стен в основном заимствовано у Фукидида; я пользовался следующим изданием: Robert B. Strassler, ed., The Landmark Thucydides: A Comprehensive
Guide to the Peloponnesian War, a revised version of the Richard
Crawley translation (New York: Simon and Schuster, 1996),
1:89–93; Фукидид, История (Ленинград: Наука, 1981),
1:89–93 [далее — Thucydides/Фукидид, с указанием номеров
книги и абзаца, стандартных во всех изданиях]. См. также: Brent L. Sterling, Do Good Fences Make Good Neighbors? What
History Teaches Us About Strategic Barriers and International Security (Washington, D. C.: Georgetown University Press, 2009),
p. 15–16; и David L. Berkey, “Why Fortifications Endure: A Case
Study of the Walls of Athens During the Classical Period,” in Victor Davis Hanson, ed., Makers of Ancient Strategy: From the Persian
Wars to the Fall of Rome (Princeton: Princeton University Press,
2010), p. 60–63. Комментарии Плутарха взяты из: Plutarch,
Lives of the Noble Grecians and Romans, translated by John Dryden
(New York: Modern Library, 1992), p. 191–193; Плутарх, Сравнительные жизнеописания в 3-х т., т. 1, перевод С. П. Маркиша (Москва: Издательство АН СССР, 1961), с. 206.
3 Victor Davis Hanson, The Savior Generals: How Five Great Commanders Saved Wars That Were Lost—from Ancient Greece
to Iraq (New York: Bloomsbury Press, 2013), p. 33–34.
4 Donald Kagan, Pericles of Athens and the Birth of Democracy
(New York: Free Press, 1991), p. 4–5.
5 Фукидид, 1:18. Кроме того, см.: Фукидид, 1:10; и Геродот, 6:107–108.
6 Hanson, The Savior Generals, p. 18–22, 29.
7 Этот образ чаще использовался для характеристики
сравнительного положения Франции и Великобритании
после битв при Аустерлице и Трафальгаре (обе битвы произошли в 1805 г.). Слова Перикла о двух этих стратегиях
приводятся в книге: Фукидид, 1:143.
8 Поразительные количественные данные о масштабах
этого разрушения см. в: Hanson, The Savior Generals, p. 10–12.
9 Фукидид, 1:21–22. Курсив мой. — Д. Л. Г.
10 Kagan, Pericles, p. 10. Профессор Кейган говорит
об «афинянах», но, думаю, он не будет возражать против
моего распространения его высказывания на всех греков.
11 Фукидид, 1:89–92. См. также: Plutarch, Lives of the Noble Grecians and Romans, p. 145; Плутарх, Сравнительные жизнеописания, т. 1, с. 158.
12 Hanson, The Savior Generals, p. 34–36.
13 Классическое жизнеописание Перикла принадлежит Плутарху: Plutarch, Lives of the Noble Grecians and Rom-
368
ПРИМЕЧАНИЯ
ans, p. 182–212; Плутарх, Сравнительные жизнеописания, т. 1,
с. 196–224, а лучшая его современная биография — Кейгану.
14 Hanson, The Savior Generals, p. 18.
15 Hanson, A War Like No Other, p. 38–45. О предложении
Перикла см.: Фукидид, 2:13, p. 98.
16 Hanson, A War Like No Other, p. 236–39, 246–47; Kagan, Pericles, p. 66. Более широкий контекст дается в книге
John R. Hale, Lords of the Sea: The Epic Story of the Athenian Navy
and the Birth of Democracy (New York: Penguin, 2009).
17 Plutarch, Lives of the Noble Grecians and Romans, p. 186;
Плутарх, Сравнительные жизнеописания, т. 1, с. 199–200.
18 Все цитаты из Перикла в этом разделе взяты из: Фукидид, 2:34–46. Рассуждение об универсальности своеобразия Афин приводится по: Donald Kagan, “Pericles, Thucydides, and the Defense of Empire,” in Hanson, Makers of Ancient
Strategy, p. 31.
19 Работа народного собрания описана в: Kagan, Pericles,
p. 49–54. См. также: Cynthia Farrar, “Power to the People,”
in Kurt A. Raaflaub, Josiah Ober, Robert W. Wallace, Paul Cartledge, Cynthia Farrar, Origins of Democracy in Ancient Greece
(Berkeley: University of California Press, 2007), p. 184–189.
20 Hanson, A War Like No Other, p. 27.
21 О важности дополнения устрашения надеждой и воодушевлением см.: Michael Howard, The Causes of Wars, second edition (Cambridge, Massachusetts: Harvard University
Press, 1984), p. 246–64.
22 Kagan, Pericles, p. 102–5.
23 Ibid., p. 86.
24 Фукидид, 1:24–66, 86–88. См. также: J. E. Lendon, Song
of Wrath: The Peloponnesian War Begins (New York: Basic Books,
2010).
25 Считается, что эти слова принадлежат Бисмарку.
26 Делая это обобщение, я опираюсь на: Kagan, Pericles,
p. 192 и Hanson, A War Like No Other, p. 10–12.
27 Фукидид, 1:67–71.
28 Ibid., 1:72–79.
29 Ibid., 1:79–85.
30 Ibid., 1:86–87.
31 Kagan, Pericles, p. 206, 214.
32 Подробнее я писал об этом в: John Lewis Gaddis,
The Landscape of History: How Historians Map the Past (New York:
Oxford University Press, 2002), p. 116–118.
33 Фукидид, 1:144; Plutarch, Lives of the Noble Grecians
and Romans, p. 199; Плутарх, Сравнительные жизнеописания,
т. 1, с. 211. См. также: Kagan, Pericles, p. 84, 92, 115–116.
369
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
34 Фукидид, 1:77.
35 Ibid., 1:140–44. Я воспользовался анализом мегарского указа из: Kagan, Pericles, p. 206–227.
36 Фукидид, 2:12.
37 Plutarch, Lives of the Noble Grecians and Romans, p. 194–195;
Плутарх, Сравнительные жизнеописания, т. 1, с. 208; Фукидид, 1:127.
38 Kagan, Pericles, p. 207.
39 См.: Шекспир, Троил и Крессида, акт 1, сцена 3, строки 112–127.
40 Фукидид, 2:59.
41 Ibid., 2:60–64.
42 Ibid., 3:82.
43 Ibid., 3:2–6, 16–18, 25–26, 35–50. Митиленцы не избежали наказания. Афиняне казнили зачинщиков восстания,
срыли стены города и забрали его корабли и имущество.
И все же это было намного меньше того, чего требовал
Клеон.
44 Фукидид, 5:84–116.
45 Ibid., 3:82.
46 Подробнее см.: John Lewis Gaddis, “Drawing Lines:
The Defensive Perimeter Strategy in East Asia, 1947–1951,”
in Gaddis, The Long Peace: Inquiries into the History of the Cold
War (New York: Oxford University Press, 1987), p. 71–103. Тайвань не был включен в этот периметр, поскольку туда бежали китайские националисты. Администрация опасалась, что их защита будет воспринята как вмешательство
в ход гражданской войны в Китае, а она надеялась избежать такого результата.
47 Статистика потерь взята из: Britannica Online, “Korean War,” www.britannica.com.
48 Carl von Clausewitz, On War, edited and translated by
Michael Howard, Peter Paret (Princeton: Princeton University Press, 1976), p. 471. Клаузевиц, О войне, с. 421–422. Курсив
оригинала. — Д. Л. Г.
49 Plutarch, Lives of the Noble Grecians and Romans, p. 204–207;
Плутарх, Сравнительные жизнеописания, т. 1, с. 217–220; Kagan, Pericles, p. 221–227.
50 Фукидид, 6:6–365.
51 Ibid., 6:9–26. Был и третий командующий, Ламак,
о котором Фукидид говорит мало.
52 Фукидид, 7:44, 70–87.
53 Hanson, A War Like No Other, p. 205, 217.
54 Henry Kissinger, White House Years (Boston: Little, Brown,
1979), p. 1049.
370
ПРИМЕЧАНИЯ
55 См.: www.archives.gov/research/military/vietnam-war/
casualty-statistics.html.
56 Подробная информация содержится в: Ilya V. Gaiduk,
The Soviet Union and the Vietnam War (Chicago: Ivan R. Dee,
1996); Qiang Zhai, China and the Vietnam Wars, 1950–1975 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000); и Lien-Hang Nguyen, Hanoi’s Wars: An International History
of the War for Peace in Vietnam (Chapel Hill: University of North
Carolina Press, 2012).
57 John Lewis Gaddis, The Cold War: A New History (New
York: Penguin, 2005), p. 149–155.
58 Фукидид, 1:140, p. 81; Kennedy remarks to Fort Worth
Chamber of Commerce, November 22, 1963, Public Papers
of the Presidents: John F. Kennedy, 1963 (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1964), p. 889.
59 Я благодарен ему за то, что он вдохновил меня на написание книги: John Lewis Gaddis, Strategies of Containment:
A Critical Appraisal of American National Security Policy During
the Cold War, revised and expanded edition (New York: Oxford
University Press, 2005), а также на подготовку уже давно
действующего семинара в Йельском университете «Исследования в области большой стратегии».
Глава 3
1 Sun Tzu, The Art of War, translated by Samuel B. Griffith
(New York: Oxford University Press, 1963), p. 66, 89, 95, 109;
“Сунь-цзы”, в: Владимир Малявин, Военный канон Китая
(Москва: РИПОЛ классик, 2015), с. 142, 198, 183, 212, 171, 172.
Аналогией с маркетингом я обязан Шуйлеру Шоутену.
2 Шекспир, Гамлет, акт 3, сцена 2. Полоний о должниках и кредиторах: акт 1, сцена 3.
3 Sun Tzu, The Art of War, p. 63–64, 66, 89, 95, 129; “Суньцзы”, с. 143, 139, 243.
4 Ibid., p. 91–92; Там же, с. 178–179.
5 В этом и последующих упоминаниях воспитания и образования Октавиана я в основном опирался на: Anthony Everitt, Augustus: The Life of Rome’s First Emperor (New York:
Random House, 2006), p. 3–50; Adrian Goldsworthy, Augustus:
First Emperor of Rome (New Haven: Yale University Press, 2014),
p. 19–80; Адриан Голдсуорти, Октавиан Август. Революционер,
ставший императором (Москва: АСТ, 2018), с. 25–98. Голдсуорти использовал имена и титулы Августа для пяти разделов
своей книги. Знамения перечислены в: Suetonius, The Twelve
371
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Caesars, translated by Robert Graves (New York: Penguin, 2007,
first published in 1957), II:94, p. 94–95; Светоний, Жизнь двенадцати цезарей (Москва: Наука, 1964), II: 94, с. 70–71.
6 Мэри Бирд исследует парадокс республиканской империи в первой части своей книги Mary Beard, S.P.Q.R.:
A History of Ancient Rome (New York: Norton, 2015); Мэри
Бирд, S.P.Q.R.: История Древнего Рима (Москва: Альпина
нон-фикшн, 2017).
7 Из последних работ этому посвящена книга: Barry
Strauss, The Death of Caesar: The Story of History’s Most Famous Assassination (New York: Simon and Schuster, 2015). Замечание
Плутарха приводится в: Plutarch, Lives of the Noble Grecians
and Romans, translated by John Dryden (New York: Modern
Library, 1992), p. 887; Плутарх, Сравнительные жизнеописания в 3-х т., т. 2 (Москва: Наука, 1963), с. 484.
8 John Williams, Augustus (New York: New York Review
of Books, 2014; first published in 1971), p. 21–22; Джон Уильямс, Август Октавиан (Москва: Армада, 1997), с. 46 (перевод исправлен). О планах Цезаря в отношении Октавиана
см.: Adrian Goldsworthy, Caesar: Life of a Colossus (New Haven:
Yale University Press, 2006), p. 497–498; Адриан Голдсуорси, Юлий Цезарь (Москва: Эксмо, 2007), с. 589–590; Strauss,
The Death of Caesar, p. 45–46.
9 С этого момента он перестал пользоваться именем
Октавиан и начал называть себя Цезарем. Во избежание
путаницы и вслед за Эвериттом и большинством других
историков — но не Голдсуорси — я продолжаю называть
его Октавианом до того момента, пока он сам не назвал
себя Августом.
10 Комментарий Ду Му в: Sun Tzu, The Art of War, p. 65;
“Сунь-цзы”, с. 141.
11 Лучшим тому свидетельством служит удивление Октавиана, явно неподдельное, по поводу содержания завещания Цезаря. Даже если бы Цезарь раскрыл свои намерения, ни он, ни Октавиан не могли бы знать, как мало
времени оставалось у Цезаря.
12 См. письмо Исайи Берлина Джорджу Кеннану
от 13 февраля 1951 г.: Isaiah Berlin, Liberty, edited by Henry
Hardy (New York: Oxford University Press, 2007), p. 341–342.
13 Goldsworthy, Augustus, p. 87–101; Голдсуорти, Октавиан Август, с. 99–116. О непостоянстве Цицерона см.: Anthony Everitt, Cicero: The Life and Times of Rome’s Greatest Politician
(New York: Random House, 2003), p. 273–296.
14 John Buchan, Augustus (Cornwall: Stratus Books, 2003;
first published in 1937), p. 32.
372
ПРИМЕЧАНИЯ
15 Goldsworthy, Augustus, p. 105–107; Голдсуорти, Октавиан Август, с. 124–126.
16 Хорошее описание дается в: Plutarch, Lives of the Noble Grecians and Romans, p. 1106–1107; Плутарх, Сравнительные жизнеописания в 3-х т., т. 3 (Москва: Наука, 1964),
с. 227–228.
17 Everitt, Augustus, p. 76. О целеустремленности Октавиана см. также: Ronald Syme, The Roman Revolution (New
York: Oxford University Press, 1939), p. 3.
18 Everitt, Augustus, p. 32, 45, 88–91, 110, 139, 213.
19 Goldsworthy, Augustus, p. 115–125; Голдсуорти, Октавиан Август, с. 136–151. Антоний потом заявил, что в первом
сражении при Мутине Октавиан бежал: Suetonius, The Twelve Caesars, translated by Robert Graves (New York: Penguin,
2007, first published in 1957), II:10, p. 47; Светоний, Жизнь
двенадцати цезарей II:10, p. с. 38.
20 Syme, The Roman Revolution, p. 124.
21 Шекспир увековечил его позже в своем «Юлии Цезаре», представив полным ничтожеством.
22 Этот эпизод напоминает заключение Тильзитского договора между французским императором Наполеоном и русским царем Александром I посреди реки Неман
в июле 1807 г., о чем пойдет речь в седьмой главе, только Наполеон и Александр были на плоту, а не на острове.
23 Everitt, Cicero, p. 313–319. Исходные сведения о проскрипциях см. в: Syme, The Roman Revolution, p. 187–201.
24 Goldsworthy, Augustus, p. 122; Голдсуорти, Октавиан Август, с. 143.
25 Связь действительно существует. Крепость Филипп
была названа в честь Филиппа, отца Александра Македонского, построившего ее в 356 г. до н. э. Настоящие филиппики — четыре речи, вскоре после этого произнесенные
греческим оратором Демосфеном, были направлены против Филиппа. Они послужили образцом для четырнадцати Цицероновых «филиппик».
26 Goldsworthy, Augustus, p. 142; Голдсуорти, Октавиан Август, с. 166; Everitt, Augustus, p. 88–94.
27 Appian, The Civil Wars, translated by John Carter (New
York: Penguin, 1996), V:16, p. 287; Аппиан Александрийский,
Римская история (Москва: Наука, 1998), V:16, с. 568–569.
См. также: Everitt, Augustus, p. 98–99.
28 Everitt, Augustus, p. 100–103; а также Syme, The Roman
Revolution, p. 215.
29 Goldsworthy, Augustus, p. 144–147; Голдсуорти, Октавиан Август, с. 168–171.
373
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
30 Suetonius, The Twelve Caesars, II:15, p. 49; Светоний,
Жизнь двенадцати цезарей, II:15, с. 40; а также: Everitt, Augustus, p. 104–105.
31 Everitt, Augustus, p. 108–113. Антоний также сообщил
Октавиану о предательстве его старого друга Сальвидиена Руфа, установившего с неясными намерениями контакт
с людьми Антония в Галлии. Октавиан немедленно казнил его: Appian, The Civil Wars, V:65, p. 312–313; Аппиан Александрийский, Римская история, V:65, с. 591.
32 Об этом говорится в: Symes, The Roman Revolution, p. 114.
33 Об этом см. вторую главу.
34 Plutarch, Lives of the Noble Grecians and Romans, p. 1106;
Плутарх, Сравнительные жизнеописания в 3-х т., т. 3 (Москва: Наука, 1964), с. 227.
35 Goldsworthy, Augustus, p. 156–159; Голдсуорти, Октавиан Август, с. 183–186.
36 Самое полное изложение см. в: Appian, The Civil
Wars, V:85–92, p. 322–326; Аппиан Александрийский, Римская история, V:85–92, с. 599–602.
37 Everitt, Augustus, p. 129–130.
38 Appian, The Civil Wars, V:98–126, p. 328–342; Аппиан
Александрийский, Римская история, V:98–126, с. 604–616.
39 Причиной недовольства римлян было поражение,
нанесенное парфянами Марку Лицинию Крассу и его армии в битве при Каррах в 53 г. до н. э., когда было потеряно несколько штандартов римских легионов. Юлий Цезарь планировал отомстить за этот позор, но был убит
в 44 г. до н. э.; к выполнению этой миссии готовился тогда юный Октавиан, но после победы Антония при Филиппах двумя годами позже она перешла «по наследству»
к последнему.
40 Он был также, по египетскому обычаю, соправителем своей матери, Птолемеем XV. Убедительный анализ
вопроса об отцовстве Цезаря см. в: Goldsworthy, Caesar,
p. 496–497; Голдсуорси, Юлий Цезарь, с. 588–589.
41 Everitt, Augustus, p. 145–153.
42 Goldsworthy, Augustus, p. 186–188; Голдсуорти, Октавиан Август, с. 216–218.
43 Plutarch, Lives of the Noble Grecians and Romans, p. 1142;
Плутарх, Сравнительные жизнеописания в 3-х т., т. 3 (Москва: Наука, 1964), с. 265.
44 Убедительные догадки по поводу истоков этой легенды см. в: Adrian Tronson, “Vergil, the Augustans, and the Invention of Cleopatra’s Suicide—One Asp or Two?” Vergilius 44
(1998), 31–50. Этой ссылкой я обязан Тони Дорфман.
374
ПРИМЕЧАНИЯ
45 Об этом см. в: Stacy Schiff, Cleopatra: A Life (New York:
Little, Brown, 2010), p. 101, 108, 133.
46 Cassius Dio, The Roman History: The Reign of Augustus, translated by Ian Scott-Kilvert (New York: Penguin, 1987), LI:16,
p. 77; Кассий Дион Коккейан, Римская история. Кн. LVI–
LXIII (Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014), LI:16, с. 38.
47 Другую точку зрения см. в: Goldsworthy, Augustus,
p. 207; Голдсуорти, Октавиан Август, с. 239.
48 Robin Lane Fox, Alexander the Great (New York: Penguin,
2004; first published in 1973), p. 369–370, 461–472.
49 Sun Tzu, The Art of War, p. 106; “Сунь-цзы”, с. 209. В новейшую эпоху идею этого разграничения чаще всего приписывают британскому военному теоретику Лиддел-Гарту, но сам Лиддел-Гарт признавал приоритет Сунь-цзы
в данном вопросе: Liddell-Hart, “Foreword,” in Sun Tzu,
The Art of War, p. vii.
50 Sun Tzu, The Art of War, p. 66–68, 70; “Сунь-цзы”,
с. 144–145.
51 Художественное понимание этого принципа в применении к стихосложению см. в: Williams, Augustus, p. 38–39;
Уильямс, Август Октавиан, с. 68–69.
52 The Georgics of Virgil, translated by David Ferry (New York:
Farrar, Straus and Giroux, 2005), p. 89; Вергилий, Георгики. Буколики. Энеида (Москва: Художественная литература, 1979), с. 103.
53 The Georgics of Virgil, p. xix. Автор статьи в Википедии
утверждает, что сосчитал все стихи.
54 Buchan, Augustus, p. 114. Дополнительную информацию общего характера о Вергилии см. в: Everitt, Augustus,
p. 114–116, и Goldsworthy, Augustus, p. 307–317; Голдсуорти,
Октавиан Август, с. 353–363.
55 Everitt, Augustus, p. 199–211; Goldsworthy, Augustus,
p. 217–238; Голдсуорти, Октавиан Август, с. 251–276.
56 Beard, S.P.Q.R., p. 354–356, 368–369, 374; Бирд, S.P.Q.R.,
с. 433–434, 451–452, 458; а также: Goldsworthy, Augustus,
p. 476–481; Голдсуорти, Октавиан Август, с. 541–546.
57 Virgil, The Aeneid, translated by Robert Fagles (New
York: Viking, 2006), VIII:21–22, p. 242; Вергилий, Георгики.
Буколики. Энеида, VIII:21–22, с. 287–288.
58 Ibid., VI:915, p. 208; Там же, VI:915, с. 264.
59 Hermann Broch, The Death of Virgil, translated by Jean Starr
Untermeyer (New York: Vintage Books, 1995; first published
in 1945), p. 319, 321. Мой коллега из Йельского университета Чарльз Хилл первым обратил мое внимание на значимость как «Георгик», так и Броха. Его комментарий
375
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
к последнему см. в: Charles Hill, Grand Strategies: Literature,
Statecraft, and World Order (New Haven: Yale University Press,
2010), p. 282–285.
60 Beard, S.P.Q.R., p. 415–416; Бирд, S.P.Q.R., c. 508–509.
Два новых рассказа о том, как правила наследования могли калечить жизни и ставить под угрозу государства, см. в:
Geoffrey Parker, Imprudent King: A New Life of Philip II (New
Haven: Yale University Press, 2014); и Janice Hadlow, A Royal
Experiment: The Private Life of King George III (New York: Henry Holt, 2014).
61 Джон Уильямс нарисовал особенно красочный портрет Юлии в своем романе «Август Октавиан».
62 Не от Марка Антония.
63 Virgil, The Aeneid, VI:860–885, p. 211; Вергилий, Георгики. Буколики. Энеида, VI:860–885, с. 263–264. Говорят, что
Октавия упала в обморок, когда услышала, как Вергилий
читает эти строки.
64 Графическую иллюстрацию созданной Августом генеалогической путаницы см. в: Beard, S.P.Q.R., p. 382–383;
Бирд, S.P.Q.R., с. 467–468.
65 Everitt, Augustus, p. 302.
66 Goldsworthy, Augustus, p. 453; Голдсуорти, Октавиан
Август, с. 514.
67 Cassius Dio, The Roman History: The Reign of Augustus,
LVI:30, p. 245; Кассий Дион Коккейан, Римская история,
LVI:30, p. с. 309; Suetonius, The Twelve Caesars, II:99, p. 100;
Светоний, Жизнь двенадцати цезарей, II:99, с. 74.
68 Williams, Augustus, p. 228; Уильямс, Август Октавиан,
с. 335.
69 Этот термин принадлежит Грегу Вулфу, который
представил сжатый обзор римского наследия во вводных
главах своей книги: Greg Woolf, Rome: An Empire’s Story (New
York: Oxford University Press, 2012).
70 Этот поворот отлично схвачен в последней строке
книги Уильямса: Williams, Augustus, p. 305; Уильямс, Август
Октавиан, с. 446.
71 Об этом см. в: Woolf, Rome, p. 216–217; Beard, S.P.Q.R.,
p. 412–413; Бирд, S.P.Q.R., с. 506–507.
Глава 4
1 George Kennan, Tent-Life in Siberia and Adventures Among
the Koraks and Other Tribes in Kamtchatka and Northern Asia (New
York: G. P. Putnam and Sons, 1870), p. 208–212. Еще о Кен-
376
ПРИМЕЧАНИЯ
нане см. в: Frederick F. Travis, George Kennan and the American-Russian Relationship, 1865–1924 (Athens: Ohio University
Press, 1990).
2 См.: Greg Woolf, Rome: An Empire’s Story (New York: Oxford University Press, 2012), p. 113–126; и Mary Beard, S.P.Q.R.,
p. 428–434; Бирд, S.P.Q.R., с. 526–532.
3 Евреи ни в коем случае не были одиноки в своем
монотеизме, но его последствия для них самих, а также
для христиан и мусульман были более значимы для формирования последующей истории, чем последствия какойлибо другой веры. Полезное введение в этот предмет см. в:
Jonathan Kirsch, God Against the Gods: The History of the War Between Monotheism and Polytheism (New York: Penguin, 2005).
4 Блестяще задокументировано в: Jack Miles, God: A Biography (New York: Knopf, 1995).
5 Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire (New York: Modern Library, 1977), I, p. 382–383, 386; Эдуард Гиббон, История упадка и разрушения Великой Римской
империи, т. 2 (Москва: ТЕРРА — Книжный клуб, 2008), с. 16.
6 Gibbon, The Decline and Fall, p. 383; Гиббон, История
упадка и разрушения, с. 15–16.
7 Евангелие от Матфея 22:21.
8 St. Augustine, Confessions, translated by R. S. Pine-Coffin
(New York: Penguin, 1961), p. 28, 32–33, 39–41; Августин Аврелий, Исповедь (Москва: Издательство «Ренессанс», СП
ИВО — СиД, 1991), с. 59, 65, 72–73. Все же лучшая биография — это классическая книга: Peter Brown, Augustine of Hippo: A Biography, revised edition (Berkeley: University of California Press, 2000; first published in 1967).
9 Augustine, Confessions, p. 45–53; Августин Аврелий, Исповедь, с. 74–85.
10 Недавний (и спорный) ответ см. в: Robin Lane Fox,
Augustine: Conversions to Confessions (New York: Basic Books,
2015), особенно p. 522–539.
11 Augustine, Confessions, p. 36; Августин Аврелий, Исповедь, с. 69.
12 Brown, Augustine of Hippo, p. 431–437.
13 Ibid., p. 131–133.
14 Эту мысль я позаимствовал из: David Brooks, The Road
to Character (New York: Random House, 2015), p. 212.
15 В основном я в качестве руководства полагался
на: G. R. Evans, “Introduction,” in St. Augustine, Concerning
the City of God Against the Pagans, translated by Henry Bettenson (New York: Penguin, 2003), p. ix–lvii, а также на заметки, подготовленные Майклом Гэддисом, которыми он по-
377
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
делился со мной в отважной попытке объяснить «О граде
Божьем».
16 См.: John Mark Mattox, Saint Augustine and the Theory
of Just War (New York: Continuum, 2006), p. 4–6; David D. Corey and J. Daryl Charles, The Just War Tradition: An Introduction
(Wilmington, Delaware: ISI Books, 2012), p. 53.
17 Corey and J. Daryl Charles, The Just War Tradition, p. 56–57.
18 Таков аргумент в: Douglas Boin, Coming Out Christian in the Roman World: How the Followers of Jesus Made a Place
in Caesar’s Empire (New York: Bloomsbury, 2015), но его косвенно предвосхитил еще Гиббон, писавший, что римские
императоры благодушно проглядели распространявшееся христианство.
19 Своего рода порядок существует даже в бандах подростков, о чем Августин знал из своего подросткового
опыта и что очень хорошо показано в фильмах The Sopranos, The Wire и Breaking Bad.
20 За исключением неудачной попытки императора
Юлиана возродить культ прежних богов во время своего
недолгого правления, 361–363 гг.
21 Corey and Charles, The Just War Tradition, p. 57.
22 Brown, Augustine of Hippo, p. 218–221. Хотя позже Браун
смягчил это суждение в свете новых свидетельств, а также
признал, что в 1960-е гг., когда он писал первое издание,
молодые ученые с особым пылом восставали против научных авторитетов: Brown, Augustine of Hippo, p. 446.
23 См., например: Mattox, Augustine and the Theory of Just
War, p. 48–49.
24 Mattox, Augustine and the Theory of Just War, p. 171.
25 Что весьма ярко показывают Гомер и Вергилий, лучшие проводники по потустороннему миру.
26 Обзор этих исследований см. в: Corey and Charles,
The Just War Tradition, chs. 4–9.
27 Их высокую оценку см. в: Brown, Augustine of Hippo,
p. 491–493.
28 Lane Fox, Augustine, p. 2–3.
29 См.: James Turner Johnson, Just War Tradition and the Restraint of War: A Moral and Historical Inquiry (Princeton: Princeton University Press, 2014; first published in 1981), p. 121–173.
30 Здесь я развиваю (боюсь, далее той точки, где она
была бы со мной согласна) мысль Джиллиан Эванс:
G. R. Evans, “Introduction,” in City of God, p. xlvii.
31 Michael Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have
Christ: Religious Violence in the Christian Roman Empire (Berkeley:
University of California Press, 2005), p. 131–150.
378
ПРИМЕЧАНИЯ
32 Незабвенный антигерой вольтеровского «Кандида», который полагал, что все, даже Лиссабонское землетрясение 1759 г., случается к лучшему. Рассуждения Августина, изложенные более точно, чем я могу это сделать
здесь, см. в книге: Mattox, Augustine and the Theory of Just War,
p. 32–36, 56–59, 94–95, 110–114, 126–131.
33 Sebastian de Grazia, Machiavelli in Hell (New York: Random House, 1989), p. 318–340.
34 Niccolò Machiavelli, The Discourses on the First Ten Books
of Titus Livius, translated by Leslie J. Walker, S. J., with revisions by Brian Richardson (New York: Penguin, 1970), p. 97;
Никколо Макиавелли, “Рассуждения о первой декаде Тита
Ливия”, в: Никколо Макиавелли, Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь, перевод М. А. Юсима (Москва:
РОССПЭН, 2002), с. 9. См. также: De Grazia, Machiavelli
in Hell, p. 21. Лучшая биография из недавно написанных:
Miles J. Unger, Machiavelli: A Biography (New York: Simon
and Schuster, 2011).
35 Machiavelli, The Prince, p. 103; Макиавелли, “Государь”,
с. 437. См. также: De Grazia, Machiavelli in Hell, p. 58–70.
36 То, как это произошло, подробно объясняется в книге: Brown, Augustine of Hippo, p. 400–410.
37 Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being, translated by Michael Henry Heim (New York: Harper and Row,
1984); Милан Кундера, Невыносимая легкость бытия (Москва: Иностранка, 2014).
38 Machiavelli, The Prince, p. 98; Макиавелли, “Государь”,
с. 432–433. Также см.: Unger, Machiavelli, p. 218–219.
39 В 1504 г. Макиавелли даже поддержал придуманный
Леонардо да Винчи план изоляции Пизы, города-соперника Флоренции, путем поворота русла реки Арно. Проект постигла неудача, вызванная сочетанием топографических ошибок, неожиданных дождей и диверсий хитрых
пизанцев. Это был один из нескольких жестоких провалов, положивших конец служебной карьере Макиавелли.
Подробно об этом см.: Unger, Machiavelli, p. 143–146.
40 Вдумчивый переводчик Макиавелли объясняет многие слова автора, не имеющие эквивалентов в английском
языке: Harvey C. Mansfield, “Introduction,” in Machiavelli,
The Prince, p. xxv. Более полный анализ этого термина см. в:
Philip Bobbitt, The Garments of Court and Palace: Machiavelli and the World That He Made (New York: Grove Press, 2013),
p. 76–77.
41 Machiavelli, The Prince, p. 22. См. также: Unger, Machiavelli, p. 33–34.
379
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
42 Machiavelli, The Prince, p. 273; Макиавелли, “Государь”,
с. 371.
43 Де Грация полагает, что Макиавелли читал Августина, но средства электронного поиска не находят упоминаний о нем ни в «Государе», ни в «Рассуждениях», ни в менее известной книге Макиавелли «Искусство войны».
Единственная ссылка — не на самого Августина, а на монаха его ордена — встречается в «Истории Флоренции»
Макиавелли: De Grazia, Machiavelli in Hell, p. 64. Тем не менее в их текстах существуют параллели, которые, пожалуй, лучше всего исследованы в: Paul R. Wright, “Machiavelli’s City of God: Civil Humanism and Augustinian Terror,”
in John Doody, Kevin L. Hughes, and Kim Paffenroth, eds.,
Augustine and Politics (Lanham, Maryland: Lexington Books,
2005), p. 297–336.
44 Machiavelli, The Prince, p. 3–4; Макиавелли, “Государь”, с. 357; Unger, Machiavelli, p. 204–207.
45 Bobbitt, The Garments of Court and Palace, p. 5.
46 О том, как книга была принята и какую заслужила репутацию, см.: Bobbitt, The Garments of Court and Palace,
p. 8–16; Unger, Machiavelli, p. 342–347. Влияние Макиавелли на политологию см. в: Jonathan Haslam, No Virtue Like
Necessity: Realist Thought in International Relations Since Machiavelli (New Haven: Yale University Press, 2002). Единственная
книга, которая шокирует моих студентов наравне с «Государем» — это второй том написанной Робертом Каро
биографии Линдона Джонсона, в которой утверждается, что он никак не мог бы выступить в 1965 г. с речью
«Мы преодолеем», если бы не подтасовал результаты сенатских демократических праймериз в Техасе в 1948 г.
47 Machiavelli, The Prince, p. 29–33; Макиавелли, “Государь”, с. 377, 379. См. также: Unger, Machiavelli, p. 129–130,
где отмечается, что герой книги, вероятно, видел это зрелище. Судьба Рамиро любопытным образом повторяет
судьбу несчастного сына Пифия в руках Ксеркса, о котором написал Геродот и который упоминается в первой
главе этой книги.
48 Цит. по: Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have
Christ, p. 138.
49 Эта фраза («Необходимо было уничтожить город,
чтобы спасти его») стала печально известной во время
войны во Вьетнаме после выхода в свет короткой новостной заметки: Peter Arnett, “Major Describes Move,” New
York Times, February 8, 1968. Об этой идее применительно к атомным вооружениям во время холодной войны
380
ПРИМЕЧАНИЯ
см.: Campbell Craig, Destroying the Village: Eisenhower and Thermonuclear War (New York: Columbia University Press, 1998).
50 Machiavelli, The Prince, p. 22, 35; Макиавелли, “Государь”, с. 382.
51 Цит. по: Mattox, Augustine and the Theory of Just War,
p. 60, и Machiavelli, The Prince, p. 61; Макиавелли, “Государь”, с. 403. Ср.: Sun Tzu, The Art of War, p. 77; “Сунь-цзы”,
с. 157: «сто раз сразиться и сто раз победить» не требует такого умения, как «заставить неприятельское войско покориться без сражения».
52 Machiavelli, The Prince, p. 61; Макиавелли, “Государь”,
с. 403.
53 Mansfield, “Introduction,” in Machiavelli, The Prince,
p. xi. Курсив мой. — Д. Л.Г.
54 Charles Dickens, A Tale of Two Cities (New York: New American Library, 1960), p. 367; Чарльз Диккенс, “Повесть о двух
городах”, в: Чарльз Диккенс, Собрание сочинений в 30 т.,
т. 22 (Москва: Художественная литература, 1960), с. 449.
55 Machiavelli, The Prince, p. 45; Макиавелли, “Государь”,
с. 390.
56 Ibid., p. 4; Там же, с. 357–358.
57 Ibid., p. 20; Там же, с. 369–370.
58 Ibid., p. 39; Там же, с. 375.
59 Machiavelli, The Prince, p. 38, xvii-xviii, 40–41, 61, 66–67;
Макиавелли, “Государь”, с. 407, 384.
60 Unger, Machiavelli, p. 54; Bobbitt, The Garments of Court
and Palace, p. 80.
61 Unger, Machiavelli, p. 132, 238, 255–256.
62 Ibid., p. 261–262.
63 Лучше всего из современных источников об этом написано в книге: Henry Kissinger, World Order (New York: Penguin, 2014), p. 11–95, 283–286; Генри Киссинджер, Мировой
порядок (Москва: АСТ, 2018), с. 20–72, 400–402.
64 Machiavelli, The Discourses, p. 275; Макиавелли, “Рассуждения”, с. 145.
65 Об этом: Unger, Machiavelli, p. 266–268; Kissinger,
World Order, p. 256–269; Киссинджер, Мировой порядок,
с. 364–366; Bobbitt, The Garments of State and Palace, p. 155–164,
который весьма кстати напоминает нам о том, что Макиавелли не предполагал никакого постоянства международного порядка, и что этого не следует предполагать
и нам.
66 Isaiah Berlin, “The Originality of Machiavelli” in Berlin, The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays, edited by
Henry Hardy and Roger Hausheer (New York: Farrar, Straus
381
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
and Giroux, 1998), p. 269–325; Исайя Берлин, “Оригинальность Макиавелли”, в: Исайя Берлин, Подлинная цель познания. Избранные эссе (Москва: Канон+, 2002), с. 295–369.
67 Berlin, “The Originality of Machiavelli”, p. 279; Берлин,
“Оригинальность Макиавелли”, с. 306.
68 Machiavelli, The Prince, p. 4, 10; Макиавелли, “Государь”, с. 357.
69 Thomas Hobbes, Leviathan, edited by C. B. Macpherson
(New York: Penguin, 1985; first published in 1651), p. 186; Томас Гоббс, “Левиафан”, в: Томас Гоббс, Сочинения в 2-х т.,
т. 2 (Москва: Мысль, 1991), с. 96.
70 Augustine, Confessions, p. 28; Августин Аврелий, Исповедь, с. 59.
71 Berlin, “The Originality of Machiavelli”, p. 286–291; Берлин, “Оригинальность Макиавелли”, с. 315–322.
72 Ibid., p. 296–297, 299; Там же, с. 334, 330.
73 Ibid., p. 312–313; Там же, с. 350, 352.
74 Ibid., p. 310; Там же, с. 349.
75 Ibid., p. 310–311; Там же, с. 349–350. См. также: De Grazia, Machiavelli in Hell, p. 311; Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ, p. 149.
76 Berlin, “The Originality of Machiavelli”, p. 311; Берлин,
“Оригинальность Макиавелли”, с. 349–350. Курсив мой. —
Д. Л. Г. Автором этой мысли Берлин считает Шелдона Волина.
77 Isaiah Berlin, “The Pursuit of the Ideal,” in Berlin, The Proper Study of Mankind, p. 9–11; Исайя Берлин, “Поиски идеала”, в: Исайя Берлин, Подлинная цель познания. Избранные
эссе (Москва: Канон+, 2002), с. 14–17.
78 Berlin, “The Originality of Machiavelli”, p. 324–325; Берлин, “Оригинальность Макиавелли”, с. 368.
Глава 5
1 Я пользовался словарем Dictionary.com.
2 Самое известное утверждение об этом содержится в:
Hobbes, Leviathan; Гоббс, “Левиафан”.
3 Virginia Woolf, Orlando: A Biography (New York: Harcourt
Brace, 1956; first published in 1928), p. 22; Вирджиния Вулф,
“Орландо”, в: Вирджиния Вулф, Миссис Дэллоуэй. На маяк.
Орландо. Волны. Флаш. Рассказы. Эссе (Москва: АСТ, 2004),
с. 330.
4 Цит. по: Geoffrey Parker, Imprudent King: A New Life
of Philip II (New Haven: Yale University Press, 2014), p. 363.
382
ПРИМЕЧАНИЯ
5 См.: Anne Somerset, Elizabeth I (New York: Random
House, 2003; first published in 1991), p. 572.
6 Parker, Imprudent King, p. 366.
7 Классическое объяснение см. в: Garrett Mattingly,
The Armada (New York: Houghton Mifflin, 1959), p. 11–12.
Сам Макиавелли время от времени писал стихи и пьесы.
См.: Sebastian de Grazia, Machiavelli in Hell (New York: Random House, 1989), p. 360–366.
8 Elizabeth I: Collected Works, edited by Leah S. Marcus, Janet
Mueller, and Mary Beth Rose (Chicago: University of Chicago
Press, 2000), p. 54.
9 Parker, Imprudent King, p. 29; Miles J. Unger, Machiavelli:
A Biography (New York: Simon and Schuster, 2011), p. 343–344;
а о лингвистических познаниях Елизаветы см. Somerset,
Elizabeth I, p. 11–12.
10 Robert Hutchinson, The Spanish Armada (New York:
St. Martin’s, 2013), p. xix. Генрих VIII умер в 1547 г., после
него на трон взошел его девятилетний сын Эдвард VI, который, в свою очередь, умер в 1553 г.
11 Alison Weir, The Life of Elizabeth I (New York: Random
House, 2008; first published in 1998), p. 11; A. N. Wilson,
The Elizabethans (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011),
p. 7–14, 32–33.
12 Императорский титул и центральные имперские
владения отошли к брату Карла Фердинанду, что вызвало
раскол империи Габсбургов на австрийскую и испанскую
ветви — раннее подтверждение того, что Пол Кеннеди назвал «имперским перерастяжением». См.: Paul Kennedy,
The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000 (New York: Random House, 1987),
p. 48–49.
13 Parker, Imprudent King, p. 4–5, 23.
14 Ibid., p. 276. См. также вторую работу Паркера.
15 Сопоставление отношения Елизаветы и Филиппа
к делегированию см. в: Geoffrey Parker, The Grand Strategy
of Philip II (New Haven: Yale University Press, 1998), p. 72.
16 Mattingly, The Armada, p. 24.
17 Parker, Imprudent King, p. xv, 61–64, 85, 103–106; Parker,
The Grand Strategy of Philip II, p. 47–75; Robert Goodwin, Spain:
The Center of the World, 1519–1682 (New York: Bloomsbury, 2015),
p. 129–141.
18 Parker, Imprudent King, p. 43–49, 51–58. Оценку сильных и слабых сторон Англии в момент восхождения
на трон Елизаветы см.: Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, p. 60–61.
383
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
19 Somerset, Elizabeth I, p. 42–43.
20 Ibid., p. 311–312.
21 Ibid., p. 48–51.
22 Ibid., p. 56.
23 Папы и императоры Священной Римской империи
выбирались, но и там имели значение кровные узы.
24 Weir, The Life of Elizabeth I, p. 25; Somerset, Elizabeth I,
p. 91–92.
25 Somerset, Elizabeth I, p. 50–51.
26 Parker, Imprudent King, p. 121–125.
27 Их список см. в: Arthur Salusbury MacNalty, Elizabeth Tudor: The Lonely Queen (London: Johnson Publications, 1954), p. 260.
28 Weir, The Life of Elizabeth I, p. 47–48.
29 Mattingly, The Armada, p. 24.
30 Parker, The Grand Strategy of Philip II, p. 151; Parker, Imprudent King, p. 58.
31 Parker, Imprudent King, p. 364. Своими внутрисемейными браками Габсбурги также исчерпывали свой генофонд,
ослабляя род. См.: Parker, Imprudent King, p. 180–181.
32 Ibid., p. 2.
33 Близкую оценку см. в: Hugh Thomas, World Without
End: Spain, Philip II, and the First Global Empire (New York: Random House, 2014), p. 285–299.
34 Mauricio Drelichman and Hans-Joachim Voth, Lending
to the Borrower from Hell: Debt, Taxes, and Default in the Age of Philip II (Princeton: Princeton University Press, 2014). Рассуждение о финансах Филиппа в более традиционном ключе
см.: Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, p. 46–47.
35 Parker, Imprudent King, p. 126, 129, 256–257.
36 Thomas, World Without End, p. 17.
37 Weir, The Life of Elizabeth I, p. 11, 26. См. также: Somerset, Elizabeth I, p. 58–59.
38 Этот абзац я построил на основе: Weir, The Life of Elizabeth I, p. 17–18; Mattingly, The Armada, p. 23; Elizabeth I, Collected Works, p. 326.
39 James Anthony Froude, History of England from the Fall
of Wolsey to the Defeat of the Spanish Armada (London: Longmans,
Green, 1870), XII, p. 558. См. также: J. B. Black, The Reign of Elizabeth, 1558–1603 (Oxford: Oxford University Press, 1959), p. 23.
40 Weir, The Life of Elizabeth I, p. 30. Религиозная политика Елизаветы тщательно проанализирована в: Somerset,
Elizabeth I, p. 72–88.
41 Ibid., p. 280–282; Kennedy, The Rise and Fall of the Great
Powers, p. 60–61. Подробный разбор финансовой ситуации
при Елизавете см. в: William Robert Smith, The Constituti-
384
ПРИМЕЧАНИЯ
on and Finance of the English, Scottish and Irish Joint-Stock Companies to 1720 (Cambridge: Cambridge University Press, 1911),
p. 493–499.
42 Somerset, Elizabeth I, p. 70–71.
43 Увлекательный рассказ об этом см. в главе о сэре
Фрэнсисе Дрейке в: A. N. Wilson, The Elizabethans, p. 173–184.
44 Несколько глупцов и сейчас думают, что это он написал пьесы Уильяма Шекспира.
45 Weir, The Life of Elizabeth I, p. 257. Эта история впервые появилась в: John Aubrey, Brief Lives, compiled between
1669 and 1696 (Oxford: Clarendon Press, 1898), p. 305.
46 Machiavelli, The Prince, p. 69. О взглядах Макиавелли
в отношении женщин см. ibid., p. 101; но также: De Grazia,
Machiavelli in Hell, p. 229–232.
47 Parker, Imprudent King, p. 295.
48 Шекспир, Антоний и Клеопатра, акт 2, сцена 2.
49 De Grazia, Machiavelli in Hell, p. 102–103.
50 N. A. M. Rodger, The Safeguard of the Sea: A Naval History
of Britain, 660–1649 (New York: HarperCollins, 1998), p. 238–248.
51 В этих абзацах я следовал: Parker, The Grand Strategy
of Philip II, p. 153–157.
52 Ibid., p. 158–159. См. также: Christopher Tyerman, God’s
War: A New History of the Crusades (Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press, 2006), p. 902–903; и об эволюции
доктрины Августина: James Turner Johnson, Just War Tradition and the Restraint of War: A Moral and Historical Inquiry (Princeton: Princeton University Press, 1981), p. 167–169.
53 Parker, The Grand Strategy of Philip II, p. 157–162.
54 Somerset, Elizabeth I, p. 246.
55 Ibid., p. 237–238.
56 Ibid., p. 249–262; Parker, The Grand Strategy of Philip II,
p. 160–163.
57 Среди других примеров Юлий Цезарь, Цезарь Август, Наполеон, Герцог Веллингтон, Линкольн и, между
прочим, Филипп II. См.: Parker, Imprudent King, p. 293–294.
58 Somerset, Elizabeth I, p. 405–508; Parker, Imprudent King,
p. 206–207. Цитата взята из: Stephen Alford, The Watchers:
A Secret History of the Reign of Elizabeth I (New York: Bloomsbury,
2012), p. xvii. См. также: John Cooper, The Queen’s Agent: Sir
Francis Walsingham and the Rise of Espionage in Elizabethan England (New York: Pegasus, 2012).
59 На этой мысли делается особый акцент в: John Guy,
Elizabeth: The Forgotten Years (New York: Viking, 2016).
60 Lisa Hilton, Elizabeth: Renaissance Prince (New York:
Houghton Mifflin Harcourt, 2015), p. 224.
385
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
61 Mattingly, The Armada, p. 75–76. См. также: Felipe
Fernández-Armesto, Pathfinders: A Global History of Exploration
(New York: Norton, 2006), p. 129–138.
62 Rodger, The Safeguard of the Sea, p. 243–246.
63 Ibid., p. 248–250.
64 Somerset, Elizabeth I, p. 405–11.
65 Ibid., p. 47–48, 389–393, 396–405.
66 Ibid., p. 424–42.
67 Parker, The Grand Strategy of Philip II, p. 163–69, 179.
68 Ibid., p. 179–180; Parker, Imprudent King, p. 281, 305–307.
Об отсутствии реакции Филиппа на смерть Марии
см.: Mattingly, The Armada, p. 69–81.
69 Parker, Imprudent King, p. 307–319.
70 Hutchinson, The Spanish Armada, p. 52.
71 Эта и последующие даты приведены по новому стилю, то есть календарю, который в то время использовался в Европе. Английский календарь в эпоху Елизаветы отставал на десять дней.
72 Hutchinson, The Spanish Armada, p. 202; Parker, The Grand
Strategy of Philip II, p. 269–270.
73 Филипп послал против Англии две армады меньшего
размера в 1596 г. и в 1597 г., но из-за штормов они были вынуждены вернуться еще перед тем, как вышли из пролива.
74 Parker, The Grand Strategy of Philip II, p. 270–271. См. также: Parker, Imprudent King, p. 324, 367–368.
75 Parker, Imprudent King, p. 369.
76 Parker, The Grand Strategy of Philip II, p. 283. См. также:
Barbara Farnham, ed., Avoiding Losses/Taking Risks: Prospect Theory and International Conflict (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995).
77 Parker, The Grand Strategy of Philip II, p. 275–276.
78 Ibid., p. 276; Parker, Imprudent King, p. 369.
79 Elizabeth I’s Collected Works, p. 339.
80 Wilson, The Elizabethans, p. 371.
81 Ibid., p. 366–368. Определение снова взято из Dictionary.com.
82 Thucydides 3:82; Фукидид 3:82.
83 Keith Roberts, Pavane (Baltimore: Old Earth Books, 2011;
first published in 1968), p. 11–12; Кит Робертс, Павана (Москва: Культура, 1992), с. 9. Джефри Паркер, опередив меня,
использовал этот отрывок в заключении своего контрфактического изображения «успеха» Армады в: Geoffrey Parker, “The Repulse of the English Fireships,” in Robert Cowley,
ed., What If? The World’s Foremost Military Historians Imagine What
Might Have Been (New York: Berkley Books, 1999), p. 149–50.
386
ПРИМЕЧАНИЯ
84 Roberts, Pavane, p. 147; Робертс, Павана, с. 119.
85 Ibid., p. 151, 238–239; Там же, с. 122, 188.
86 Этой мыслью я обязан своему коллеге Полу Кеннеди.
Глава 6
1 Keith Roberts, Pavane, p. 11; Робертс, Павана, с. 7.
2 Здесь я вторю названию романа Мишеля Фейбера
о вере и освоении внеземных миров: Michel Faber, The Book
of Strange New Things (New York: Hogarth, 2014); Мишель Фейбер, Книга Странных Новых Вещей (Москва: Иностранка,
2015). Процессы, протекающие на Земле, рассматриваются в более широком сопоставительном контексте в: Felipe
Fernández-Armesto, Pathfinders: A Global History of Exploration
(New York: Norton, 2006).
3 Jay Sexton, The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-Century America (New York: Hill and Wang, 2011), p. 3–8.
4 Geoffrey Parker, “The Repulse of the English Fireships,”
in Robert Cowley, ed., What If? The World’s Foremost Military
Historians Imagine What Might Have Been (New York: Berkley
Books, 1999), p. 141–142.
5 «Ньюфаундленд» (new-found land) в переводе с английского — «открытая новая земля». — Прим. пер.
6 J. Hamel, Early English Voyages to Northern Russia (London:
Richard Bentley, 1857), p. 5.
7 Fernández-Armesto, Pathfinders, p. 218–222. Об интересе
Елизаветы к новым мирам см. также: A. N. Wilson, The Elizabethans (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011), p. 183–184;
о всемирном похолодании — книгу Geoffrey Parker, Global
Crisis: War, Climate Change, and Catastrophe in the Seventeenth Century (New Haven: Yale University Press, 2013).
8 J. H. Elliott, Empires of the Atlantic World: Britain and Spain
in America, 1492–1830 (New Haven: Yale University Press,
2006), p. 23–28.
9 Ibid., p. 177.
10 Напоминая в этом отношении монокультуру в лесном хозяйстве. См.: Scott, Seeing Like a State, p. 11–22; Скотт,
Благими намерениями государства, с. 29–43.
11 Elliott, Empires of the Atlantic World, p. 134. См. также:
Nick Bunker, An Empire on the Edge: How Britain Came to Fight
America (New York: Knopf, 2014), p. 13–14.
12 Я заимствовал этот абзац из: Gaddis, The Landscape
of History, p. 87, где я, в свою очередь, опираюсь на мысли, высказанные в книге: M. Mitchell Waldrop, Complexi-
387
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
ty: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos (New
York: Viking, 1992), p. 292–294.
13 Somerset, Elizabeth I, p. 188–191.
14 См.: Robert Tombs, The English and Their History (New
York: Knopf, 2015), p. 224–245.
15 Elliott, Empires of the Atlantic World, p. 177. См. также: Tim
Harris, Restoration: Charles II and His Kingdoms, 1660–1685 (New
York: Allen Lane, 2005), p. 46–47.
16 Эта фраза Даниэля Дефо цитируется в книге: Tombs,
The English and Their History, p. 252.
17 Elliott, Empires of the Atlantic World, p. 150–152; см. также: Steve Pincus, 1688: The First Modern Revolution (New Haven:
Yale University Press, 2009), p. 316–322, 475.
18 John Locke, Second Treatise of Government, 1690, section 149; Джон Локк, “Два трактата о правлении”, в: Джон
Локк, Сочинения в 3-х т., т. 3 (Москва: Мысль, 1988), с. 349.
19 Tombs, The English and Their History, p. 263.
20 Edmund Burke, “Speech on Conciliation with America,” in The Writings and Speeches of Edmund Burke, III, edited
by W. M. Elofson (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 118, 124.
Дэвид Бромвич рассматривает контекст этой речи и анализирует ее содержание в своей книге: David Bromwich,
The Intellectual Life of Edmund Burke: From the Sublime and Beautiful to American Independence (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2014), p. 228–261.
21 Gabriel Johnson to Lord Wilmington, February 10, 1737,
цит. по: James A. Henretta, “Salutary Neglect”: Colonial Administration Under the Duke of Newcastle (Princeton: Princeton University Press, 1972), p. 324.
22 “Observations Concerning the Increase of Mankind,”
1751, published in 1755, The Papers of Benjamin Franklin, Digital Edition, IV, 225–234. См. также: Dennis Hodgson, “Benjamin Franklin on Population: From Policy to Theory,” Population
and Development Review 17 (December 1991), 639–661.
23 Подробнее см.: Ron Chernow, Washington: A Life (New
York: Penguin, 2010), p. 78–116.
24 Bunker, An Empire on the Edge, p. 17–18; Tombs, The English and Their History, p. 348. См. также: Colin G. Calloway,
The Scratch of a Pen: 1763 and the Transformation of North America
(New York: Oxford University Press, 2006), p. 11–12.
25 David Bromwich, The Intellectual Life of Edmund Burke,
p. 190–191.
26 Speech to Parliament, May 13, 1767, in Burke Writings
and Speeches, II, edited by Paul Langford (Oxford: Clarendon
Press, 1981), p. 59.
388
ПРИМЕЧАНИЯ
27 Speech to Parliament, April 19, 1769, in Burke Writings
and Speeches, II, p. 231.
28 Speech to Parliament, March 22, 1775, in Burke Writings
and Speeches, III, p. 157, 165.
29 Bromwich, The Intellectual Life of Edmund Burke, p. 193.
30 См. главу 2.
31 Thomas Paine, Common Sense (Wisehouse Classics, 2015),
p. 21; Томас Пейн, “Здравый смысл”, в: Томас Пейн, Избранные сочинения. (Москва: Издательство Академии наук
СССР), 1959, с. 40. См. также Trevor Colbourn, The Lamp of Experience: Whig History and the Intellectual Origins of the American
Revolution (Indianapolis: Liberty Fund, 1998; первоначально
опубликована в 1965 году), p. 26, 237–243; Bernard Bailyn,
“1776: A Year of Challenge—a World Transformed,” The Journal
of Law and Economics 19 (October 1976), pp. 437–41.
32 Paine, Common Sense, p. 13–14, 23; Пейн, “Здравый
смысл”, с. 31, 30, 42.
33 Ibid., p. 19, 23–24; Там же, с. 37.
34 Ibid., p. 25–26; Там же, с. 48.
35 О влиянии Пейна см.: Joseph J. Ellis, American Creation: Triumphs and Tragedies at the Founding of the Republic (New
York: Random House, 2007), p. 41–44; John Ferling, Whirlwind: The American Revolution and the War That Won It (New York:
Bloomsbury, 2015), p. 141–143, а также главу, посвященную
Пейну, в: Sophia Rosenfeld, Common Sense: A Political History
(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2011).
36 National Archives and Records Administration transcription of the Declaration of Independence (www.archives.gov/
exhibits/charters). Курсив автора.
37 Joseph J. Ellis, American Sphinx: The Character of Thomas
Jefferson (New York: Random House, 1996), p. 11, 27–28.
38 Фраза «яснее самой истины» принадлежит Дину Ачесону и взята из книги Dean Acheson, Present at the Creation: My Years in the State Department (New York: Norton, 1969),
p. 375.
39 Ferling, Whirlwind, p. 164.
40 Paine, Common Sense, p. 39; Пейн, “Здравый смысл”, с. 63.
41 John Adams to Abigail Adams, July 3, 1776, Adams Family
Papers: An Electronic Archive, Massachusetts Historical Society: www.masshist.org/digitaladams/. Адамс ошибочно полагал, что эти празднования будут отмечать подписание
Декларации независимости 2 июля, а не ее утверждение
Континентальным конгрессом 4 июля.
42 Paine, Common Sense, p. 21; Пейн, “Здравый смысл”,
с. 41; Benjamin Franklin to Joseph Priestley, October 3, 1775,
389
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
The Papers of Benjamin Franklin, Digital Edition, XXII, 217–218.
См. также: Hodgson, “Benjamin Franklin on Population,”
pp. 653–54.
43 George Washington to John Adams, September 25, 1798,
цит. по: Chernow, Washington, p. 208. См. также: Ellis, American Creation, p. 4–5.
44 Eliga H. Gould, Among the Powers of the Earth: The American Revolution and the Making of a New World Empire (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2012), p. 10, 142.
45 Цит. по: Gould, Among the Powers of the Earth, p. 127.
См. также: Ferling, Whirlwind, p. 235–38, 320–21.
46 George C. Herring, From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations Since 1776 (New York: Oxford University Press,
2008), p. 26–34.
47 См.: Gordon S. Wood, The Creation of the American Republic, 1776–1787 (Chapel Hill: University of North Carolina Press,
1998; first published in 1969), p. ix.
48 Здесь я, при всем уважении, не могу согласиться
с Дж. Эллисом, который, как мне кажется, не согласен сам
с собой (см. Ellis, American Creation, p. 18, 9).
49 Вуд проводит эту параллель в своей книге: Gordon S. Wood, Empire of Liberty: A History of the Early Republic,
1787–1815 (New York: Oxford University Press, 2006), p. 54.
50 Wood, The Creation of the American Republic, p. 16.
51 Цит. по: Wood, The Creation of the American Republic,
p. 395. Здесь я повторяю выводы Вуда из десятой главы его
книги, но также рекомендую прочесть его резюме в: Wood,
Empire of Liberty, p. 14–20.
52 Цит. по: Gould, Among the Powers of the Earth, p. 128.
53 Время проезда от Миссисипи до восточного побережья США в эту «допаровозную» эпоху могло приближаться ко времени, необходимому на путешествие через Атлантику до появления пароходов.
54 Цит. по: Gould, Among the Powers of the Earth, p. 133.
55 Подробнее об этой «пирамиде» см.: David O. Stewart,
Madison’s Gift: Five Partnerships That Built America (New York: Simon and Schuster, 2015), p. 18–25.
56 Chernow, Washington, p. 313, 356, 518, 607–610. Британские репрессии в ответ на «бостонское чаепитие» — акцию протеста против несправедливого налогообложения,
имевшую место ранее в Массачусетсе, подтолкнули к выступлению Вашингтона, но именно восстание Шейса придало всему движению по-настоящему массовый характер:
Chernow, Washington, p. 198–201.
390
ПРИМЕЧАНИЯ
57 В этом смысле Вашингтон (и очень мало кто еще)
предвосхитил Вуди Аллена.
58 См. материалы сайта www.comparativeconstitutionsproject.org/chronology/, которые, в свою очередь, основаны на содержании исследования: Zachary Elkins, Tom Ginsburg, and James Melton, The Endurance of National Constitutions
(New York: Cambridge University Press, 2009).
59 Объем Конституции (без поправок) составляет порядка 4500 слов. Объем «Федералиста» — примерно 170 000.
60 Chernow, Hamilton, p. 261–269.
61 James Boswell, Life of Johnson, edited by R. W. Chapman (New York: Oxford University Press, 1998; first published in 1791), p. 849.
62 «Нам безусловно нужно держаться вместе, иначе
нас наверняка повесят поодиночке» (Игра слов: «hang
together» — держаться друг друга, «hang separately» — висеть по отдельности. — Прим. пер.). Цитируется без указания источника по: Jared Sparks, The Works of Benjamin Franklin (Boston: Hilliard Gray, 1840), I, p. 408.
63 The Federalist, Modern Library College Edition (New
York: Random House, no date), #1, p. 3–4; Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея
(Москва: Издательская группа «Прогресс» — «Литера»,
1994), № 1, с. 30.
64 См.: Lynne Cheney, James Madison: A Life Reconsidered
(New York: Penguin, 2014), p. 2–8.
65 Federalist #10, p. 53–58. Федералист № 10, с. 78–82. Курсив оригинала. — Д. Л. Г.
66 В онлайновом издании произведений Мэдисона
(www.founders.archives.gov/about/Madison) есть только три
прямых отсылки к Макиавелли, и ни одна из них не является существенной.
67 Machiavelli, The Discourses, p. 275; Макиавелли, “Рассуждения”, с. 145; см. также главу 4. Обстоятельный анализ имеется в следующей недавно вышедшей книге: Alissa M. Ardito, Machiavelli and the Modern State: The Prince,
the Discourses on Livy, and the Extended Territorial Republic (New
York: Cambridge University Press, 2015).
68 Federalist #10, p. 60–61. Федералист № 10, с. 85. О «подвохах» у Бёрка — см. его выступление в парламенте 22 марта 1775 года, о котором шла речь выше.
69 Аналогичный аргумент в отношении Конституции
приводится в следующей статье: Daniel M. Braun, “Constitutional Fracticality: Structure and Coherence in the Nati-
391
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
on’s Supreme Law,” Saint Louis University Law Journal 32 (2013),
389–410, однако аналогия с Римом — моя.
70 Ахил Рид Амар дает краткое объяснение причин этого явления в книге: Akhil Reed Amar, America’s Constitution:
A Biography (New York: Random House, 2005), p. 19–21.
71 В своем последнем официальном издании Конституции государственная типография, которая обычно всячески подчеркивает свой нейтралитет, называет это опущение «натянутой попыткой», которая «с большим трудом
маскировала расхождения во взглядах между разными регионами, которые не будут преодолены при согласовании
условий Союза в 1787 году»: “Historical Note,” The Constitution of the United States of America, as Amended (Washington, D.C.:
Government Printing Office, 2007), p. vi. Возможно, на редакторов повлияла позиция Мэдисона, но ссылки на него
не приводятся.
72 Federalist #42, #54, p. 272–73, 358. Федералист № 42, № 54,
с. 283–284, 367.
73 Проблема этого выбора кратко рассматривается
в книге Ellis, American Creation, p. 18–19.
74 Доводы Гамильтона приводятся в статье «Федералиста» № 11; любопытно, что эта статья последовала сразу
за статьей № 10, написанной Мэдисоном и получившей более широкую известность. О взглядах Гамильтона на рабство см.: Chernow, Hamilton, p. 210–216.
75 Ellis, American Sphinx, p. 154–155.
76 Thomas Jefferson to John B. Colvin, September 20, 1810,
см. архив Джефферсона на сайте Founders Online (founders.archives.gov). Приобретенная территория простиралась от Миссисипи до Техаса на юге и до пересечения Скалистых гор и 49-й параллели на севере.
77 John Quincy Adams to Abigail Adams, June 30, 1811, цит.
по: Samuel Flagg Bemis, John Quincy Adams and the Foundations
of American Foreign Policy (New York: Knopf, 1949), p. 182.
78 Эллиотт приводит хронику этого процесса в своей
книге: Elliott, Empires of the Atlantic World, p. 369–402.
79 John Quincy Adams to George W. Erving, U.S. minister
in Madrid, November 28, 1818, цит. по: Bemis, John Quincy
Adams, p. 327. См. также: Charles N. Edel, Nation Builder:
John Quincy Adams and the Grand Strategy of the Republic (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2014), p. 138–154.
80 Эта тема глубоко рассмотрена в книге: William Earl
Weeks, John Quincy Adams and American Global Empire (Lexington: University Press of Kentucky, 1992); в частности, в ней
уделено должное внимание вопросу о связи переговоров
392
ПРИМЕЧАНИЯ
о заключении «Трансконтинентального договора» со спором вокруг Флориды, который имел место ранее.
81 Выступление Монро было аналогом того, что позднее станет посланием президента США Конгрессу «О положении в стране», но в XIX веке эти послания не зачитывались президентами лично.
82 Sexton, The Monroe Doctrine, p. 49–50.
83 Federalist #11, p. 65; Федералист № 11, с. 89.
84 Выдержки из дневника Адамса: записи, датированные 3 марта и 29 ноября 1820 года, цитируются по: Edel,
Nation Builder, p. 157–159. Эдель анализирует дилемму Адамса в терминах «непримиримых несовместимостей» Исайи
Берлина, о которых идет речь в главе 4.
Джеки-дружок
85 Little Jack Horner
Sat in the corner,
Eating a Christmas pie;
He put in his thumb,
And pulled out a plum,
And said, What a good boy am I!
Сел в уголок,
Сунул в пирог свой пальчик —
Изюминку съел
И громко пропел:
«Какой я хороший мальчик!»
(Перевод Г. Кружкова)
— Прим. перев.
86 Charles H. Sherrill, “The Monroe Doctrine and the Canning Myth,” The Annals of the American Academy of Political and Social Science 94 (July 1914), 96–97. См. также: Wendy Hinde, George Canning (Oxford: Basil Blackwell, 1989), p. 345–74, 422.
87 Цитата приведена по машинописному конспекту
к речи, хранящемуся в Архиве Черчилля (CHAR 9/140A/9–28,
www.churchillarchive.com). Речь премьер-министра Черчилля в палате общин 4 июня 1940 года, цитируется по: Уинстон Черчилль, Никогда не сдаваться. Лучшие речи Черчилля (Москва: Альпина Нон-фикшн, 2014); История вопроса:
John Lukacs, Five Days in London: May 1940 (New Haven: Yale
University Press, 1999).
88 “Reply of a South American to a Gentleman of This Island [Jamaica],” September 6, 1815, in Selected Writings of Bolívar, translated by Lewis Bertrand (New York: Colonial Press,
1951), I, p. 118; Симон Боливар, “Ответ одного южноамериканца-кабальеро с этого острова”, в: Симон Боливар, Избранные произведения (Москва: Наука, 1983), с. 49–64.
89 Здесь Боливар предвосхищает Джареда Даймонда,
который писал, что намного легче организовать регионы,
вытянутые в широтном, нежели долготном направлении.
См. его книгу: Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (New York: Norton, 1999), ch. 10; Джаред
Даймонд, Ружья, микробы и сталь: история человеческих сообществ (Москва: АСТ, 2010), гл. 10.
393
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
90 Bolívar, “Reply,” p. 109, 118; Боливар, “Ответ”, с. 54,
63. Греки, конечно, тоже не создали единого государства,
но может быть Боливару, подобно Китсу, возносящему
своего Кортеса на горный пик в Дарьене, можно простить
некоторую поэтическую вольность. Думаю, что Панама
располагает к такой вольности.
91 Bolívar, “Reply,” p. 111; Боливар, “Ответ”, с. 55–56.
92 Ibid., p. 122; Там же, с. 65.
93 Подробнее см.: Sexton, The Monroe Doctrine, p. 36–46.
94 www.millercenter.org/president/jqadams/speeches/speech-3484.
Глава 7
1 Leo Tolstoy, War and Peace, translated by Richard Pevear and Larissa Volokhonsky (New York: Knopf, 2007), p. 774;
Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 11 (Москва: Художественная литература, 1940), с. 210, 430. Дополнительный комментарий к этому отрывку см. в работах: W. B. Gallie, Philosophers of Peace and War: Kant, Clausewitz, Marx, Engels
and Tolstoy (New York: Cambridge University Press, 1978),
p. 117–119; и Lawrence Freedman, Strategy: A History (New York:
Oxford University Press, 2013), p. 98–99; Лоуренс Фридман, Стратегия: Война, революция, бизнес (Москва: Кучково
поле, 2017), с. 111. Я использовал для этой главы материал
моей статьи: John Lewis Gaddis, “War, Peace, and Everything:
Thoughts on Tolstoy,” Cliodynamics: The Journal of Theoretical
and Mathematical History 2 (2011), 40–51.
2 Donald Stoker, Clausewitz: His Life and Work (New York:
Oxford University Press, 2014), p. 94–128.
3 Алан Форрест и Андреас Херберг-Рот оценивают вероятность такого события в своих статьях в сборнике Rick
McPeak and Donna Tussing Orwin, eds., Tolstoy on War: Narrative Art and Historical Truth in “War and Peace” (Ithaca: Cornell
University Press, 2012), p. 115, 143–144.
4 Michael Howard, “The Influence of Clausewitz,” in Carl
von Clausewitz, On War, edited and translated by Michael Howard and Peter Paret (Princeton: Princeton University Press,
1976), p. 32–41; см. также Christopher Bassford, Clausewitz
in English: The Reception of Clausewitz in Britain and America,
1815–1945 (New York: Oxford University Press, 1994).
5 Clausewitz, On War, p. 113; Клаузевиц, О войне, с. 58.
6 Tolstoy, War and Peace, p. 799–801; Л. Н. Толстой, Полное
собрание сочинений, т. 11, с. 241.
394
ПРИМЕЧАНИЯ
7 Clausewitz, On War, p. 467; Клаузевиц, О войне, с. 418.
8 Ibid., p. 370; Там же, с. 310.
9 Mikhail Kizilov, “The Tsar in the Queen’s Room: The Visit of Russian Emperor Alexander I to Oxford in 1814,” no date,
available at: www.academia.com.
10 Clausewitz, On War, p. 605; Клаузевиц, О войне, с. 560.
11 В оригинале игра слов: «hot air balloon» — воздушный
шар, «hot air» — пустое хвастовство, бахвальство. — Прим.
перев.
12 Tolstoy, “A Few Words Apropos of the Book War and Peace,” in Tolstoy, War and Peace, p. 1217; Л. Н. Толстой, Полное
собрание сочинений, т. 16 (Москва: Художественная литература, 1955), с. 7.
13 Berlin, The Hedgehog and the Fox, p. 32; Берлин, “Еж
и лиса”, с. 212.
14 Клаузевиц проводит эту аналогию с борьбой уже
в начале второго абзаца своей книги «О войне». Clausewitz, On War, p. 75; Клаузевиц, О войне, с. 13.
15 Tolstoy, War and Peace, p. 1200; Л. Н. Толстой, Полное
собрание сочинений, т. 12 (Москва: Художественная литература, 1940), с. 329.
16 Clausewitz, On War, p. 151; Клаузевиц, О войне, с. 92.
Курсив автора.
17 Ibid., p. 61; Там же, с. 10.
18 Peter Paret, Clausewitz and the State: The Man, His Theories,
and His Times (Princeton: Princeton University Press, 1985: first
published by Oxford University Press in 1976), p. 169–179.
19 Michael Howard, Clausewitz: A Very Short Introduction
(New York: Oxford University Press, 2002), p. 41. Сэр Майкл
сомневается, что Клаузевиц, даже если бы ему довелось
прожить долгую жизнь, воспользовался бы ею для того,
чтобы сделать свой труд более кратким.
20 Tolstoy, War and Peace, p. 1181. Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 12, с. 299.
21 Dictionary.com.
22 Andrew Roberts, Napoleon: A Life (New York: Viking,
2014), p. 577–580, 634–635.
23 Clausewitz, On War, p. 75–76; Клаузевиц, О войне, с. 13–14. Первое выделение курсивом — в оригинале,
остальные — мои. — Д. Л. Г.
24 Здесь я повторяю (правда, несколько упрощая) мысли следующих авторов: Gallie, Philosophers of Peace and War,
p. 52; Howard, Clausewitz, p. 13–14; Peter Paret, “The Genesis
of ‘On War’,” in Clausewitz, On War, p. 2–3, 15–16.
25 Clausewitz, On War, p. 523; Клаузевиц, О войне, с. 479.
395
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
26 Howard, Clausewitz, p. 4, 18–19. По поводу роли американцев см. следующую классическую работу: R. R. Palmer The Age of Democratic Revolution: A Political History of Europe
and America, 1760–1800 (Princeton: Princeton University Press,
2014; first published in two volumes in 1959 and 1964).
27 Эти англоязычные эквиваленты термина Клаузевица
Politik предложены в книге: Bassford, Clausewitz in English, p. 22.
28 Клаузевиц, таким образом, предвосхищал страх перед угрозой тотальной термоядерной войны, нависшей
над человечеством в годы холодной войны, что стало одной из причин нового всплеска интереса к его произведению после Второй мировой. Среди влиятельных работ,
свидетельствующих об этом интересе, см.: Bernard Brodie,
War and Politics (New York: Macmillan, 1973).
29 Clausewitz, On War, p. 87; Клаузевиц, О войне, с. 27.
30 Подробнее см.: Roberts, Napoleon, p. 555–579.
31 Исключением стали Пиренейские войны Наполеона
(кампании в Испании и Португалии).
32 Цит. по: Roberts, Napoleon, p. 595.
33 Об оставлении Кутузовым Москвы см.: Dominic Lieven, Russia Against Napoleon: The True Story of the Campaigns
of War and Peace (New York: Viking, 2010), p. 209–214; Доминик Ливен, Россия против Наполеона: борьба за Европу,
1807–1814 (Москва: РОССПЭН, 2012), с. 283–287.
34 Clausewitz, On War, p. 97; Клаузевиц, О войне, с. 40.
35 Ibid., p. 161; Там же, c. 102. О роли эмоций в теории Клаузевица см.: Jon Tetsuro Sumida, “The Relationship of History and Theory in On War: The Clausewitzian Ideal and Its Implications,” Journal of Military History 65 (April
2001), 337–338.
36 Tolstoy, War and Peace, p. 993, 1000–1001. Л. Н. Толстой,
Полное собрание сочинений, т. 12, с. 73, 82.
37 Roberts, Napoleon, p. 612–634; Lieven, Russia Against Napoleon, p. 252–257; Ливен, Россия против Наполеона, с. 338–343.
38 John Quincy Adams to John Adams, August 16, 1812,
and to Abigail Adams, December 31, 1812, цит. по: Samuel
Flagg Bemis, John Quincy Adams and the Foundations of American
Foreign Policy (New York: Knopf, 1949), p. 177–178.
39 Clausewitz, On War, p. 100, 112; Клаузевиц, О войне,
с. 43, 57.
40 Sumida, “The Relationship of History and Theory
in On War,” p. 345–348.
41 Это французское словосочетание имеет два словарных значения: «перспектива» и «угол зрения» (Клаузевиц, О войне, с. 47. — Прим. перев.
396
ПРИМЕЧАНИЯ
42 Clausewitz, On War, p. 102, 109; Клаузевиц, О войне,
с. 47–54. Я думаю, что это нечто подобное тому, о чем идет
речь в Malcolm Gladwell, Blink: The Power of Thinking Without
Thinking (New York: Little, Brown, 2005); Малькольм Гладуэлл, Озарение. Сила мгновенных решений (Москва: Альпина
Паблишер, 2010).
43 См. главу 4.
44 Clausewitz, On War, p. 104, 119; Клаузевиц, О войне,
с. 48, 62. У Толстого о путешественниках, постоялых дворах и расстраивающихся планах см.: Tolstoy, War and Peace, p. 347–349; Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 12
(Москва: Художественная литература, 1938), с. 64–67.
45 Подробнее об этом см.: Paret, Clausewitz and the State,
p. 197–199.
46 Roberts, Napoleon, p. 596.
47 Clausewitz, On War, p. 61; Клаузевиц, с. 9.
48 См. дальнейшее развитие этих мыслей в работах: Hew Strachan, Carl von Clausewitz’s On War: A Biography
(London: Atlantic Books, 2007), p. 153; Howard, Clausewitz,
p. 25; удивительно последовательное выведение последних двух принципов содержится в книге: Fred R. Shapiro,
The Yale Book of Quotations (New Haven: Yale University Press,
2006).
49 Clausewitz, On War, p. 120. Клаузевиц, О войне, с. 63.
50 Ibid., p. 103; Там же, с. 47.
51 Ibid., p. 112; Там же, с. 57–58.
52 Tolstoy, War and Peace, p. 618–627; Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 11, с. 25.
53 Ibid., p. 738–745; Там же, с. 171–175.
54 См. главу 3
55 Clausewitz, On War, p. 61; Клаузевиц, О войне, с. 9.
56 Ibid., p. 122, 141, 374; Там же, с. 64, 82, 315.
57 Ibid., p. 142; Там же, с. 83.
58 Ibid., p. 168–169; Там же, с. 111–112.
59 Цит. по: Stoker, Clausewitz, p. 109.
60 Tolstoy, War and Peace, p. 640; Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 11, с. 48.
61 Так общаются Пьер и Наташа в конце романа Толстого: Tolstoy, War and Peace, p. 1174–1177; Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 12, с. 290.
62 Clausewitz, On War, p. 85–86; Клаузевиц, О войне, с. 25–26.
63 Ibid., p. 89; Там же, с. 30.
64 См.: Alan Beyerchen, “Clausewitz, Nonlinearity, and
the Unpredictability of War,” International Security 17 (Winter
1992–1993), p. 61–72.
397
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
65 Clausewitz, On War, p. 107, 135; Клаузевиц, О войне, с. 75, 51.
66 Ibid., p. 595; Там же, с. 548.
67 См. главу 4.
68 Tolstoy, War and Peace, p. 1203. Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 12 с. 327.
69 Подробнее об этом см. в главе 6.
70 Tolstoy, War and Peace, p. 1212–13; Л. Н. Толстой, Полное
собрание сочинений, т. 12, с. 339.
71 A. N. Wilson, Tolstoy (New York: Norton, 1988), p. 297–301.
72 Эта мысль хорошо развита в: Paret, Clausewitz and
the State, p. 338.
73 См.: Paul Bracken, “Net Assessment: A Practical Guide,”
Parameters (Spring 2006), 90–100.
74 Clausewitz, On War, p. 158; Клаузевиц, О войне, с. 99.
75 Это нигде не показано так удачно, как в книге Джона Кигана: John Keegan, The face of battle: A Study of Agincourt,
Waterloo, and the Somme (New York: Penguin, 1983).
76 Lieven, Russia Against Napoleon, p. 259; Ливен, Россия против Наполеона, с. 343.
77 The Federalist, #28, p. 171; Федералист, с. 188.
78 Clausewitz, On War, p. 523; Клаузевиц, О войне, с. 479.
Глава 8
1 Адамс был посланником Соединенных Штатов в России в период с 1809 по 1814 г., но он был в России и раньше, в 1781–1782 гг., еще совсем юным, в качестве переводчика с французского при Фрэнсисе Дейна (Francis Dana),
безуспешно пытавшемся добиться дипломатического признания его страны Екатериной II. Самое лучшее из недавних повествований об этих годах жизни Адамса см.: James
Traub, John Quincy Adams: Militant Spirit (New York: Basic
Books, 2016), p. 28–30, 160–182.
2 John Quincy Adams diary, May 8, 1824, Massachusetts
Historical Society online edition, at: www.masshist.org/jqadiaries. См. также: Charles Edel, Nation Builder: John Quincy
Adams and the Grand Strategy of the Republic (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2014), p. 194–196. Дневники Адамса, составляющие 51 том общим объемом около 14 тысяч страниц, охватывают, с перерывами, период
с 1779 по 1848 г. Новая сокращенная версия дневников:
John Quincy Adams: Diaries, edited by David Waldstreicher, two
volumes (New York: Library of America, 2017).
398
ПРИМЕЧАНИЯ
3 См.: Samuel Flagg Bemis, John Quincy Adams and the Foundations of American Foreign Policy (New York: Knopf, 1949),
p. 566–572.
4 И Вашингтон, и Джефферсон, и Мэдисон, и Монро
были выходцами из Вирджинии.
5 Adams diary, May 8, 1824.
6 Джексон разгромил англичан в битве за Новый Орлеан в январе 1815 года. Битва произошла уже после того,
как Адамс и его сотрудники заключили Гентский договор
24 декабря 1814 года, но до того, как весть об этом пересекла Атлантику.
7 Sean Wilentz, The Rise of American Democracy: Jefferson
to Lincoln (New York: Norton, 2005), p. 255. См. также: Edel,
Nation Builder, p. 192.
8 Текст послания Адамса, опубликованного 6 декабря
1825 года, имеется на сайте Центра изучения государственной политики Миллера при Университете Вирджинии
(www. millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/
december-6-1825-message-regarding-congress-american-nations). О том, как оно было воспринято, можно прочесть
в следующих работах: Traub, John Quincy Adams, p. 322–327;
Fred Kaplan, John Quincy Adams: American Visionary (New York:
Harper Collins, 2014), p. 404–405.
9 Проблема рассматривается в следующих работах:
Edel, Nation Builder, p. 188; Traub, John Quincy Adams, p. 294;
Walter Russell Mead, Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World (New York: Knopf, 2001),
p. 218–263; Robert Kagan, Dangerous Nation: America’s Place
in the World from Its Earliest Days to the Dawn of the Twentieth Century (New York: Knopf, 2006), p. 265–300. О позиции Адамса в отношении миссурийского компромисса см. главу 6.
10 В газете The Congressional Globe от 21 февраля 1848 года
опубликованы результаты двух туров голосования по соответствующей резолюции. И Адамс, и Линкольн голосовали против нее в каждом туре. Сразу после второго тура,
пишет Globe, заседание было срочно прервано, когда собравшиеся заметили, что «достопочтенный Джон Куинси Адамс... сползает со своего кресла и, судя по всему, находится при смерти». См. также: Traub, John Quincy Adams,
p. 525–28.
11 Michael Burlingame, Abraham Lincoln: A Life, vol. 1 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), p. 4, 26–27,
43–44, 172. Роман Марка Твена будет опубликован в Соединенных Штатах только в 1885 году.
399
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
12 Burlingame, Lincoln I, p. 1, 41–42. См. также Richard
Carwardine, Lincoln: A Life of Purpose and Power (New York:
Random House, 2006), p. 50–51.
13 Burlingame, Lincoln I, p. 53–56. См. также: Doris Kearns
Goodwin, Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln
(New York: Simon and Schuster, 2005), p. 50.
14 Carwardine, Lincoln, p. 39–40.
15 Fred Kaplan, Lincoln: The Biography of a Writer (New York:
HarperCollins, 2008), p. 30–59.
16 Burlingame, Lincoln I, p. 51, 66–71, 75–81. Военная служба Линкольна прошла, как выразился бы, наверное, он сам,
«бесславно»: он участвовал в качестве добровольца в Войне Чёрного Ястреба в 1832 году. Маленький магазин в городке Нью-Салем, совладельцем которого был Линкольн,
быстро разорился; он стал местным почтмейстером, но,
судя по всему, больше времени рассказывал посетителям
байки, чем занимался их почтой.
17 Burlingame, Lincoln I, p. 71–75, 81–85.
18 Этот процесс хорошо показан в: Wilentz, The Rise
of American Democracy, p. 482–518.
19 Впрочем, одержавший победу кандидат вигов Уильям Генри Харрисон умер уже в 1841 году, вскоре после его
избрания президентом, и его сменил на этом посту вице-президент Джон Тайлер, неразговорчивый демократюжанин.
20 Игра слов, которую сложно передать в переводе: “spot” — точка, место (которое требовал указать Линкольн), “spotty” — пестрый, крапчатый. — Прим. перев.
21 Burlingame, Lincoln I, p. 264–70.
22 Ibid., p. 296–310.
23 Речь Линкольна в г. Пеория, Иллинойс, 16 октября
1854 года: Abraham Lincoln Speeches and Writings, 1832–1858
(New York: Library of America, 1989), p. 337–38 [далее — Lincoln Speeches and Writings I]; Авраам Линкольн, Источник свободы (Москва: Эксмо, 2015), с. 130.
24 Компромисс 1820 года предусматривал включение
в Союз штата Миссури в качестве рабовладельческого штата, но оставлял свободными от рабства территории к северу и западу от него, до Скалистых гор. Компромисс
1850 года, которым завершилась Американо-мексиканская
война, предусматривал, что Калифорния станет свободным штатом, а рабство будет допущено в штатах НьюМексико и Юта, если это решение будет поддержано их
гражданами.
25 День независимости США. — Прим. перев.
400
ПРИМЕЧАНИЯ
26 Lincoln to George Robertson, August 15, 1855, in Lincoln
Speeches and Writings I, p. 359. О росте прибыльности рабовладения см.: Sven Beckert, Empire of Cotton: A Global History
(New York: Knopf, 2014), p. 105–120; Свен Беккерт, Империя
хлопка. Всемирная история (Москва: Издательство Института Гайдара, 2018), с. 183–207.
27 Удачная характеристика самого Дугласа и его мотивов
дается в книге: Lewis E. Lehrman, Lincoln at Peoria: The Turning
Point (Mechanicsburg, Pennsylvania: Stackpole Books, 2008),
p. 71–99. См. также: Burlingame, Lincoln I, p. 370–374.
28 Цит. по: Burlingame, Lincoln I, p. 374.
29 Lincoln Speeches and Writings I, p. 315; Линкольн. Источник свободы, с. 110. Линкольн выступил в Спрингфилде 4 октября и в Пеории 16 октября 1854 года, и Дуглас был
в зале в обоих случаях, однако опубликована была только
пеорийская речь. Самый удачный анализ ее мотивов, содержания и последствий см. в: Lehrman, Lincoln at Peoria.
30 Берлингейм описывает жизнь судебного округа в:
Lincoln I, p. 322–32.
31 Ibid., p. 418.
32 Ibid., p. 333–334. См. рассуждения Адамса о Евклиде
в его дневнике (26 марта 1786 года).
33 Lincoln Speeches and Writings I, p. 303.
34 Ibid., p. 322, 328–333.
35 Лерман называет это «захватом», пусть даже «искренним и элегантным»: Lehrman, Lincoln at Peoria, p. 107.
36 Lincoln Speeches and Writings I, p. 308–309, 316–317,
320–321, 323, 337, 340.
37 Гудвин проводит ту же мысль в: Goodwin, Team of Rivals, p. 103.
38 Lincoln Speeches and Writings I, p. 426. См. также Wilentz,
The Rise of American Democracy, p. 677–715.
39 Анализ дела «Дред Скотт против Сэндфорда» дан
в книге: Don E. Fehrenbacher, The Dred Scott Case: Its Significance in American Law and Politics (New York: Oxford University Press, 1978).
40 Lincoln Speeches and Writings I, p. 426.
41 Дуглас включил в свой проект закона о Канзасе и Небраске наиболее спорное и провокационное положение —
отмену «миссурийского компромисса» — буквально в последнюю минуту, поскольку конгрессмены от южных
штатов сделали это условием своей поддержки закона.
См. Wilentz, The Rise of American Democracy, p. 672.
42 Мк. 3:25.
43 Lincoln Speeches and Writings I, p. 426.
401
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
44 Lincoln Speeches and Writings I, p. 495–822: стенограммы речей.
45 Ibid., p. 769, 814.
46 Сенаторы стали избираться всеобщим голосованием
только после ратификации Семнадцатой поправки к Конституции в 1913 г.
47 Прозвище «Rail-Splitter» связано с одной из многих профессий, которыми Линкольну приходилось заниматься до прихода в политику. «Rail-splitting» — это продольное раскалывание (splitting) бревен на брусья (rails)
для строительства заборов. Русское слово «дровосек», которым принято переводить это прозвище, не вполне передает идею раскола, которую здесь имеет в виду автор. —
Прим. перев.
48 Здесь я использую классификацию Дж. Хекстера,
данную в его книге: J. H. Hexter, On Historians (Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press, 1979), p. 241–243.
Происхождение прозвища Линкольна объясняется в книге: Burlingame, Lincoln I, p. 598–599.
49 С некоторыми исключениями, о которых вкратце
упомянуто в: Carwardine, Lincoln, p. 93–94.
50 Их портреты, опубликованные в Harper’s Weekly, см. в:
Goodwin, Team of Rivals, p. 1–2.
51 Lincoln to Samuel Galloway, March 24, 1860, in Abraham Lincoln Speeches and Writings, 1859–1865 (New York: Library
of America, 1989), p. 152 (далее — Lincoln Speeches and Writings II).
52 См.: Lincoln Speeches and Writings II, p. 29–101, 111–50.
53 Он, видимо, хорошо помнил об обвинениях в «нечистоплотных сделках», которые погубили президентскую
карьеру Джона Куинси Адамса.
54 Kevin Peraino, Lincoln in the World: The Making of a Statesman and the Dawn of American Power (New York: Crown, 2013),
p. 7–8.
55 Подробнее см.: Burlingame, Lincoln I, p. 627–683.
56 Цит. по: Goodwin, Team of Rivals, p. 319. См. также:
Burlingame, Lincoln I, p. 720.
57 Lincoln to William Seward, February 1, 1861, in Lincoln
Speeches and Writings II, p. 197. Об отношении Линкольна
к компромиссам см. Burlingame, Lincoln I, p. 745–753.
58 Parmenas Taylor Turnley, Reminiscences, From the Cradle to Three-Score and Ten (Chicago: Donohue and Henneberry,
1892), p. 264. Это цитатой я обязан Берлингейму, который
неточно приводит ее в: Lincoln I, p. 903.
59 Это перекликается с позицией афинян в Спарте.
60 Lincoln Speeches and Writings II, p. 215–224.
402
ПРИМЕЧАНИЯ
61 James M. McPherson, Tried by War: Abraham Lincoln
as Commander in Chief (New York: Penguin, 2008), p. 20–21.
62 Carwardine, Lincoln, p. 24–26.
63 Russell F. Weigley, The American Way of War: A History
of United States Military Strategy and Policy (New York: Macmillan, 1973), p. 97–127.
64 Henry Halleck to Lincoln, January 6, 1862, цит. по:
McPherson, Tried by War, p. 70. См. также: Weigley, The American Way of War, p. 83; Mark Greenbaum, “Lincoln’s Do-Nothing Generals,” New York Times, November 27, 2011.
65 Lincoln to Halleck and Don C. Buell, January 13, 1862,
in Lincoln Speeches and Writings II, p. 302.
66 См.: Weigley, The American Way of War, p. 95; and McPherson, Tried by War, p. 70–71.
67 Weigley, The American Way of War, p. 77–91; Peter Paret,
Clausewitz and the State: The Man, His Theories, and His Times (Princeton: Princeton University Press, 1985; first published by Oxford
University Press in 1976), p. 152–153; Christopher Bassford, Clausewitz in English: The Reception of Clausewitz in Britain and America,
1815–1945 (New York: Oxford University Press, 1994), p. 56–59.
Франсис Либер, прусский эмигрант, чьи работы о законах
ведения войны повлияли на Линкольна, подробно изучал
Клаузевица, которого он читал в оригинале на немецком.
См.: John Fabian Witt, Lincoln’s Code: The Laws of War in American History (New York: Free Press, 2012), p. 185–186.
68 Военачальники, обманувшие ожидания, перечисляются в: McPherson, Tried by War, p. 8.
69 McPherson, Tried by War, p. 142; James M. McPherson,
Abraham Lincoln and the Second American Revolution (New York:
Oxford University Press, 1991), p. 68–72.
70 Clausewitz, On War, p. 75; Клаузевиц, О войне, с. 13.
71 Цит. по: Burlingame, Lincoln II, p. 154; Lincoln to Orville H. Browning, September 22, 1861, in Lincoln Speeches and Writings II, p. 269.
72 Allen C. Guelzo, Lincoln’s Emancipation Proclamation:
The End of Slavery in America (New York: Simon and Schuster,
2004), p. 31–33, 46–59.
73 Lincoln to Albert G. Hodges, April 4, 1864, in Lincoln Speeches and Writings II, p. 585.
74 Clausewitz, On War, p. 87; Клаузевиц, О войне, с. 27.
См. также: McPherson, Tried by War, p. 5–6.
75 Дар быстрого «схватывающего» взгляда. — Прим.
перев.
76 Guelzo, Lincoln’s Emancipation Proclamation, p. 3–4;
McPherson, Lincoln and the Second American Revolution, p. 91.
403
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Этот парадокс отмечает Клаузевиц: Clausewitz, On War,
p. 119; Клаузевиц, О войне, с. 62.
77 McPherson, Tried by War, p. 52.
78 Цит. по: McPherson, Tried by War, p. 66.
79 McPherson, Lincoln and the Second American Revolution,
p. 85–86.
80 Guelzo, Lincoln’s Emancipation Proclamation, p. 83–90;
McPherson, Tried by War, p. 158–59.
81 Lincoln to Greeley, August 22, 1862, in Lincoln Speeches
and Writings II, p. 358; Carwardine, Lincoln, p. 209.
82 Charles Francis Adams, John Quincy Adams and Emancipation Under Martial Law (1819–1842), в книге C. F. Adams
and W. C. Ford, John Quincy Adams (Cambridge, Massachusetts:
John Wilson and Son, 1902), p. 7–79. См. также: Guelzo, Lincoln’s Emancipation Proclamation, p. 123–127; and Witt, Lincoln’s
Code, p. 204–205.
83 Preliminary Emancipation Proclamation, September 22,
1862, in Lincoln Speeches and Writings II, p. 368.
84 Guelzo, Lincoln’s Emancipation Proclamation, p. 173.
85 Annual Message to Congress, December 1, 1862, in Lincoln
Speeches and Writings II, p. 393–415.
86 Eulogy on Henry Clay, July 6, 1852, in Lincoln Speeches
and Writings I, p. 264.
87 См., например: Lincoln Speeches and Writings I, p. 315, 340.
88 Special Message to Congress, July 4, 1861, Lincoln Speeches
and Writings II, p. 259.
89 Цит. по: Burlingame, Lincoln II, p. 167.
90 Lincoln Speeches and Writings II, p. 409–11.
91 См. примечание 8 выше.
92 Edel, Nation Builder, p. 298; Kagan, Dangerous Nation,
p. 258–64, 269; McPherson, Lincoln and the Second American Revolution, p. 39–40.
93 Peraino, Lincoln in the World, p. 183, 187.
94 Beckert, Empire of Cotton, p. 242–265; Беккерт, Империя
хлопка, с. 401–444; Witt, Lincoln’s Code, p. 142–157.
95 Цит. по: Burlingame, Lincoln II, p. 119, 167.
96 Peraino, Lincoln in the World, p. 66–69; Walter Stahr, Seward: Lincoln’s Indispensable Man (New York: Simon and Schuster, 2012), p. 269–273.
97 Lincoln to Seward, April 1, 1861 (apparently not sent),
in Lincoln Speeches and Writings II, p. 228.
98 Witt, Lincoln’s Code, p. 164–169. См. также: Burlingame,
Lincoln II, p. 221–229; Peraino, Lincoln in the World, p. 123–162.
99 Этот эпизод, на который обычно обращают мало
внимания, дан в той же книге, с. 224–95. Максимилли-
404
ПРИМЕЧАНИЯ
ан все равно отправился в Мексику, несмотря на победы
Союза и отсутствие помощи со стороны Наполеона. Там
он и был расстрелян в 1867 году.
100 Важность фактора морального превосходства в исходе одной более недавней войны: Richard Overy, Why
the Allies Won (London: Pimlico, 1995), p. 282–313.
101 Peraino, Lincoln in the World, p. 207–215; Guelzo, Lincoln’s Emancipation Proclamation, p. 253–54. Более старая,
но более полная оценка содержится в книге: D. P. Crook,
The North, the South, and the Powers, 1861–1865 (New York: Wiley, 1974), p. 236–255.
102 Beckert, Empire of Cotton, p. 265–267; Беккерт, Империя
хлопка, с. 444. См. также: McPherson, Lincoln and the Second
American Revolution, p. vii–viii, 6–7.
103McPherson, Lincoln and the Second American Revolution,
p. 17–18.
104 Memorandum on Probable Failure of Re-election, August 23, 1864, in Lincoln Speeches and Writings II, p. 624. Подробнее о меморандуме, который Линкольн заставил членов своего кабинета подписать «вслепую», прежде чем
позволил им прочесть его текст, см.: Burlingame, Lincoln II,
p. 674–676.
105 McPherson, Tried by War, p. 231–244.
106 Цит. по: Burlingame, Lincoln II, p. 729.
107 Address of the International Working Men’s Association
to Abraham Lincoln, President of the United States of America, written by Marx in late November 1864, and presented
to Ambassador Charles Francis Adams, January 28, 1865, www.
marxists.org/archive/marx/iwma/documents/1864/lincoln-letter.htm; Карл Маркс, “Президенту Соединенных Штатов
Америки Аврааму Линкольну”, в Карл Маркс и Фридрих
Энгельс, Сочинения, т. 16 (Москва: Государственное издательство политической литературы, 1960), с. 17–18.
108 Цит. по: Edel, Nation Builder, p. 157–59. Надлежащий
контекст дает глава 6.
109 J. David Hacker, “Recounting the Dead,” New York Times,
September 20, 2011. Данные о потерях отдельных полков:
www.civilwararchive.com/regim.htm; данные о количестве
призванных: www.civilwar.org/education/history/faq. Самый лучший обобщающий анализ дан в книге: Drew Gilpin Faust, This Republic of Suffering: Death and the American Civil
War (New York: Knopf, 2008).
110 См. примечание 58 выше.
111 McPherson, Lincoln and the Second American Revolution,
p. 23–25, 41–42.
405
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
112 Weigley, The American Way of War, p. xxi–xxiii; Paul
Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000 (New York: Random
House, 1987), p. 178–182.
113 Lincoln Speeches and Writings II, p. 536; Геттисбергская речь, 19 ноября 1863 г., в книге: Линкольн А. Источник свободы. Москва: Эксмо, 2015, с. 352. Эта линия преемственности подчеркивается в книге: Edel, Nation Builder,
p. 297–299.
114 Burlingame, Lincoln I, p. xii. «Вывод» Берлингейма появляется в самом начале его двухтомной биографии Линкольна, насчитывающей 1976 страниц.
115 Здесь я развиваю доводы Макферсона: McPherson,
Lincoln and the Second American Revolution, p. 93–95.
116 Интересно сравнить в этом отношении статью № 10
«Федералиста» с конституционными теориями зрелого
Джона Кэлхуна, который видел издержки в любых компромиссах. См.: Merrill D. Peterson, The Great Triumvirate:
Webster, Clay, and Calhoun (New York: Oxford University Press,
1987), p. 409–413.
117 См.: Carwardine, Lincoln, p. 221–235.
118 Ibid., p. 228.
119 Guelzo, Lincoln’s Emancipation Proclamation, p. 171–172.
120 “Meditation on the Divine Will,” September 1862, in Lincoln Speeches and Writings II, p. 359.
121 Lincoln Speeches and Writings II, p. 687; Линкольн, Источник свободы, с. 381.
122 Ли сдался после сражения при Аппоматтоксе 9 апреля 1865 года.
123 См.: Rosamund Bartlett, Tolstoy: A Russian Life (Boston:
Houghton Mifflin Harcourt, 2011), p. 251–293.
124 Lincoln to Albert G. Hodges, April 4, 1864, in Lincoln
Speeches and Writings II, p. 586.
Глава 9
1 Andrew Roberts, Salisbury: Victorian Titan (London: Phoenix, 2000), p. 46–50, 170. Я предпочитаю называть эту войну «Великой», как ее называли некоторое время до того,
как появилось название «Первая мировая».
2 Walter Stahr, Seward: Lincoln’s Indispensable Man (New
York: Simon and Schuster, 2012), p. 482–504. Этот процесс
децентрализации рассматривается в более общем контексте в следующей книге: John A. Thompson, A Sense of Pow-
406
ПРИМЕЧАНИЯ
er: The Roots of America’s Global Role (Ithaca: Cornell University
Press, 2015), p. 38–39.
3 Robert Kagan, Dangerous Nation: America’s Place in the World from Its Earliest Days to the Dawn of the Twentieth Century (New
York: Knopf, 2006), p. 302; C. Vann Woodward, “The Age
of Reinterpretation,” American Historical Review 66 (October
1960), 2–8.
4 Roberts, Salisbury, p. 105–6, 436–37, 490.
5 Меморандум Олни от 20 июля имеется в сборнике документов Государственного департамента США Papers Relating to the Foreign Affairs of the United States, 1895, vol. I,
p. 542–563. Общий контекст дается в следующей работе: Jay Sexton, The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-Century America (New York: Hill and Wang, 2011),
p. 201–208.
6 Классический анализ этой ситуации дан в книге: Henry Kissinger, “The White Revolutionary: Reflections on Bismarck,” Daedalus 97 (Summer 1968), 888–924. См. также: Jonathan Steinberg, Bismarck: A Life (New York: Oxford University
Press, 2011), p. 441–450.
7 Цит. по: Paul Kennedy, The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860–1914 (London: Allen and Unwin, 1980), p. 220.
8 Roberts, Salisbury, p. 619–626; Kennedy, The Rise of the Anglo-German Antagonism, p. 464–65. См. также: Paul Kennedy,
The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000 (New York: Random House,
1987), p. 201.
9 Цит. по: Roberts, Salisbury, p. 610.
10 Этот период конкретно рассматривается в следующих работах: Bradford Perkins, The Great Rapprochement:
England and the United States, 1895–1914 (New York: Atheneum, 1968); Stephen R. Rock, Why Peace Breaks Out: Great Power
Rapprochement in Historical Perspective (Chapel Hill: University
of North Carolina Press, 1989), p. 24–63; Charles A. Kupchan,
How Enemies Become Friends: The Sources of Stable Peace (Princeton: Princeton University Press, 2010), p. 73–111.
11 См.: Roberts, Salisbury, p. 633. Альтернативный взгляд
высказывается в книге: Michael Howard, The Continental Commitment: The Dilemma of British Defence Policy in the Era of the Two
World Wars (London: Ashfield Press, 1989; first published
in 1972), p. 29–30.
12 Эта фраза Георгия Арбатова приводится в этом виде
в статье: Jean Davidson, “UCI Scientists Told Moscow’s Aim
Is to Deprive U.S. of Foe,” Los Angeles Times, December 12, 1988.
13 Roberts, Salisbury, p. 51–52.
407
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
14 См. главу 6.
15 Цит. по: Roberts, Salisbury, p. 662.
16 Roberts, Salisbury, p. 512.
17 H. J. Mackinder, “The Geographical Pivot of History,”
The Geographical Journal 23 (April 1904), 421–444; X. Дж. Маккиндер, “Географическая ось истории”, в Классика геополитики, XX век (Москва: АСТ, 2003), с. 7–30. См. также: Brian W. Blouet, Halford Mackinder: A Biography (College Station:
Texas A&M University Press, 1987); и, в отношении революции, произведенной железными дорогами: Christian
Wolmar, Blood, Iron, and Gold: How the Railroads Transformed
the World (New York: Public Affairs, 2010).
18 Mackinder, “The Geographical Pivot of History,” p. 437;
Маккиндер, “Географическая ось истории”, с. 30.
19 Blouet, Mackinder, p. 118–120.
20 Об обстоятельствах появления «меморандума Кроу»,
который не публиковался до 1928 года, см.: K. M. Wilson,
“Sir Eyre Crowe on the Origin of the Crowe Memorandum
of 1 January 1907,” Historical Research 56 (November 1983),
238–41; также Zara S. Steiner, The Foreign Office and Foreign Policy, 1898–1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1969),
p. 108–18; о долгосрочном влиянии Кроу: Jeffrey Stephen
Dunn, The Crowe Memorandum: Sir Eyre Crowe and Foreign Office
Perceptions of Germany, 1918–1925 (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013). О «длинной телеграмме»
я писал в моей книге George F. Kennan: An American Life (New
York: Penguin, 2011), p. 215–222.
21 Memorandum on the Present State of British Relations
with France and Germany, January 1, 1907, in British Documents
on the Origins of the War, 1898–1914, III, p. 397–420, available at:
www.dbpo.chadwyck.com/marketing/index.jsp. Все приводимые ниже цитаты даны по этой версии документа.
22 См. главу 2.
23 Тот же аргумент образца 1951 года рассматривается
в моей книге: Gaddis, George F. Kennan, p. 415.
24 Steinberg, Bismarck, p. 180–181.
25 Термин «мирное возвышение» применительно к Китаю был пущен в оборот при президенте Ху Цзиньтао в качестве противовеса разговорам о «китайской угрозе». —
Прим. пер.
26 О колониальной политике Бисмарка см.: Kennedy,
The Rise of the Anglo-German Antagonism, p. 167–183.
27 Курсив мой. — Д. Л. Г.
28 Классической работой, посвященной этой проблеме, остается книга Барбары Такман: Barbara Tuchman,
408
ПРИМЕЧАНИЯ
The Guns of August (New York: Macmillan, 1962; Такман, Барбара, Августовские пушки (Москва: АСТ, 2018); однако заслуживают внимания также: Christopher Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (New York: HarperCollins,
2013); Margaret MacMillan, The War That Ended Peace: The Road
to 1914 (New York: Random House, 2013); Макмиллан, Маргарет, Война, которая покончила с миром. Кто и почему развязал Первую мировую (Москва: Центрполиграф, 2016);
Sean McMeekin, July 1914: Countdown to War (New York: Basic Books, 2013).
29 Глубокий анализ сложной статистики потерь дан
в Википедии.
30 Henry Kissinger, Diplomacy (New York: Simon and Schuster, 1994), p. 200; Генри Киссинджер, Дипломатия (Москва:
Ладомир, 1997), с. 177.
31 Howard, The Continental Commitment, p. 30–31.
32 Общие потери британских военнослужащих, в том
числе в доминионах и колониях, превысили 900 тыс. человек (www.1914–1918.net/faq.htm). Максимальная современная оценка числа потерь в Гражданской войне, как говорилось в главе 7, составляет 750 тыс. человек.
33 Sir John Robert Seeley, The Expansion of England: Two
Courses of Lectures (New York: Cosimo Classics, 2005; first published in 1891), p. 8.
34 Сам Маккиндер развил эту мысль в книге, которой,
однако, не довелось разделить славу его статьи: H. J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction (New York: Henry Holt, 1919). См. также: Blouet,
Mackinder, p. 164–165.
35 Roberts, Salisbury, p. 812–814.
36 См.: Christopher Howard, “Splendid Isolation,” History
47, 159 (1962), 32–41.
37 Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, p. 248.
Сравнения, приводимые в данном абзаце, приведены
на с. 200–202; см. также: Robert J. Gordon, The Rise and Fall
of American Growth: The U.S. Standard of Living Since the Civil War
(Princeton: Princeton University Press, 2016), p. 27–318.
38 Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, p. 248.
39 См.: Walter Lippmann, U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic (Boston: Little, Brown, 1943), p. 11–26.
40 Этой идеей я обязан Майклу Ховарду: Michael Howard, The Continental Commitment, p. 9. См. также: Thompson,
A Sense of Power, p. 41–43.
41 Цит. по: John Milton Cooper, Woodrow Wilson: A Biography (New York: Random House, 2009), p. 263.
409
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
42 Charles E. Neu, Colonel House: A Biography of Woodrow Wilson’s Silent Partner (New York: Oxford University Press, 2015),
p. 23, 142. Хауз не был полковником, но это звание было
присвоено ему в 1893 г. губернатором Техаса Джеймсом
Стивеном Хоггом, предположительно за оказанные последнему политические услуги.
43 David Milne, Worldmaking: The Art and Science of American
Diplomacy (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2015), p. 95–96.
44 Neu, Colonel House, p. 142; Cooper, Woodrow Wilson,
p. 263–266.
45 См.: Katherine C. Epstein, Torpedo: Inventing the Military-Industrial Complex in the United States and Great Britain
(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2014).
46 Cooper, Woodrow Wilson, p. 285–89; Erik Larson, Dead
Wake: The Last Crossing of the Lusitania (New York: Broadway
Books, 2015).
47 Neu, Colonel House, p. 270.
48 Thomas Boghardt, The Zimmermann Telegram: Intelligence,
Diplomacy, and America’s Entry into World War I (Annapolis: Naval Institute Press, 2012).
49 Cooper, Woodrow Wilson, p. 387; David Runciman,
The Confidence Trap: A History of Democracy in Crisis from World
War I to the Present (Princeton: Princeton University Press,
2013), p. 39–40; Дэвид Рансимен, Ловушка уверенности. История кризиса демократии от Первой мировой войны до наших
дней (Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019), с. 64–66.
50 Cooper, Woodrow Wilson, p. 380.
51 Ibid., p. 341–42, 462–466; A. Scott Berg, Wilson (New
York: G. P. Putnam’s Sons, 2013), p. 515–523.
52 Neu, Colonel House, p. 384; Cooper, Woodrow Wilson, p. 421.
53 Этот дипломат — Поль Камбон, его слова цитируются по: Berg, Wilson, p. 534. См. также: Cooper, Woodrow Wilson,
p. 419; общая оценка 14 пунктов дана в следующей статье:
Gaddis Smith, Woodrow Wilson’s Fourteen Points After 75 Years (New
York: Carnegie Council for Ethics in International Affairs, 1993).
54 Здесь и в следующем абзаце я использовал текст речи
о «четырнадцати пунктах», опубликованный на следующем сайте: www.avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.
asp; Системная история международных отношений в четырех
томах. 1918–2000. Т. 2: Документы 1910–1940-х годов (Москва: Московский рабочий, 2000), с. 27–28.
55 Недавний обстоятельный анализ см. в: Sean McMeekin, The Russian Revolution: A New History (New York: Basic Books,
2017). См. также более раннюю, но авторитетную работу:
410
ПРИМЕЧАНИЯ
Arno J. Mayer’s Wilson vs. Lenin: The Political Origins of the New Diplomacy, 1917–1918 (Cleveland: World Publishing, 1964).
56 Лучшим анализом по-прежнему остаются две книги
Дж. Кеннана, опубликованные издательством Принстонского университета: George F. Kennan, Soviet-American Relations, 1917–1920: Russia Leaves the War (Princeton: Princeton
University Press, 1956) и George F. Kennan, The Decision to Intervene (Princeton: Princeton University Press, 1958).
57 Я рассматриваю этот парадокс в моей книге: John Lewis Gaddis, Russia, the Soviet Union, and the United States: An Interpretive History, second edition (New York: McGraw Hill,
1990), p. 71–72. Новая оценка победы Германии на Восточном фронте и ее последствий дана в работе: Adam Tooze,
The Deluge: The Great War, America and the Remaking of the Global Order (New York: Penguin, 2014), p. 108–170; Адам Туз,
Всемирный потоп. Великая война и переустройство мирового
порядка, 1916–1931 годы (Москва: Издательство Института
Гайдара, 2017), с. 149–225.
58 Ту же мысль см.: Runciman, The Confidence Trap, p. 74–75;
Рансимен, Ловушка уверенности, с. 103–104.
59 См. Jonathan D. Spence, God’s Chinese Son: The Taiping
Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan (New York: Norton, 1996).
60 Эта мысль высказывается Кеннаном в: Kennan,
The Decline of Bismarck’s European Order, p. 3–7.
61 См. главу 2.
62 Эта речь весьма проницательно анализируется в:
Thompson, A Sense of Power, p. 76–79.
63 В смысле поддержки участия в войне, необходимой
каждой из воюющих сторон, а не более строгих определений, которые предлагались теоретиками «демократического мира», стремившимися убедить самих себя в том,
что демократии не могут воевать друг с другом. Брюс
Рассет дает обзор этих попыток в: Bruce Russett, Grasping
the Democratic Peace: Principles for a Post–Cold War World (Princeton: Princeton University Press, 1993), p. 73–83.
64 См. примечание 54 выше.
65 Paul Kennedy, The Parliament of Man: The Past, Present,
and Future of the United Nations (New York: Random House,
2006), p. 3–8.
66 Keith Robbins, Sir Edward Grey: A Biography of Lord Grey
of Fallodon (London: Cassell, 1971), p. 156–157, 319–320; Howard, The Continental Commitment, p. 51–52; Neu, Colonel House,
p. 214–215.
67 Kissinger, Diplomacy, p. 223; Киссинджер, Дипломатия,
с. 198.
411
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
68 См. главу 6.
69 Kissinger, Diplomacy, ch. 4; Киссинджер, Дипломатия,
гл. 4; см. также: Erez Manela, The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism
(New York: Oxford University Press, 2007).
70 См.: Berg, Wilson, p. 585.
71 Фукидид, 4:65.
72 Ibid., 5:89.
73 См.: Robert V. Daniels, The Rise and Fall of Communism
in Russia (New Haven: Yale University Press, 2007), p. 32, 48.
74 Речь Ленина 27 ноября 1920 г. приводится по книге:
Jane Degras, ed., Soviet Documents on Foreign Policy (New York:
Oxford University Press, 1951), I, p. 221; В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 42 (Москва: Политиздат, 1974), с. 55–78.
75 Цит. по: Catherine Merridale, Lenin on the Train (New
York: Metropolitan Books, 2017), p. 195.
76 См. главу 1.
77 Цит. по: Stephen Kotkin, Stalin: The Paradoxes of Power, 1878–1928 (New York: Penguin, 2014), p. 612. См. также:
Gaddis, Russia, the Soviet Union, and the United States, p. 98–116;
С. С. Хромов, По страницам личного архива Сталина (Москва: Издательство Моск. университета, 2009), с. 259–260.
78 Robert Gellately, Lenin, Stalin, and Hitler: The Age of Social
Catastrophe (New York: Knopf, 2007), p. 163–165.
79 Thompson, A Sense of Power, p. 110–111, 127–131. Идея Ленина о диктатуре авангарда восходит к его статье «Что делать?» 1902 г. (www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/
witbd/index.htm).
80 Tooze, The Deluge, p. 515–516; Туз, Всемирный потоп,
с. 635–637.
81 Adam Tooze, The Wages of Destruction: The Making
and Breaking of the Nazi Economy (New York: Penguin, 2007),
p. xxiv–xxvi, 7–12; Адам Туз, Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики (Москва: Издательство Института Гайдара, 2019), с. 22–23, 28–33; см. также: Timothy D. Snyder, Black Earth: The Holocaust as History and Warning
(New York: Tim Duggan, 2015), p. 11–28.
82 Tooze, Wages of Destruction, p. 12–33; Туз, Цена разрушения, с. 39–53.
83 Доклад Сталина имеется на сайте www.marxists.org/
reference/archive/stalin/works/ 1933/01/07.htm; Правда № 10,
10 января 1933 г.
84 Isaiah Berlin, Personal Impressions, edited by Henry Hardy, third edition (Princeton: Princeton University Press, 2014),
p. 37–39, 41.
412
ПРИМЕЧАНИЯ
85 «ФДР» — принятое в США сокращение имени Франклина Делано Рузвельта. — Прим. перев.
86 Conrad Black, Franklin Delano Roosevelt: Champion of Freedom (New York: Public Affairs, 2003), p. 126–127, 254–255;
Alonzo L. Hamby, For the Survival of Democracy: Franklin Roosevelt and the World Crisis of the 1930s (New York: Free Press, 2004),
p. 129–135.
87 Gaddis, Russia, the Soviet Union, and the United States,
p. 118–21; Thomas R. Maddux, Years of Estrangement: American
Relations with the Soviet Union, 1933–1941 (Tallahassee: University Presses of Florida, 1980), p. 11–26; Mary E. Glantz, FDR
and the Soviet Union: The President’s Battles over Foreign Policy (Lawrence: University Press of Kansas, 2005), p. 15–23.
88 Теодор Рузвельт. — Прим. перев.
89 Альфред Мэхэн — американский военный теоретик
и историк, контр-адмирал США (1840–1914) — Прим. перев.
90 Black, Roosevelt, p. 21, 60, 65–66. См. также Alonzo L. Hamby, Man of Destiny: FDR and the Making of the American Century (New York: Basic Books, 2015), p. 54–55; www.
fdrlibrary.tumblr.com/post/94080352024/day-77-fdr-visitsthe-panama-canal.
91 Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign
Policy, 1932–1945 (New York: Oxford University Press, 1979),
p. 75–76. См. также David Kaiser, No End Save Victory: How FDR
Led the Nation into War (New York: Basic Books, 2014), p. 22–23.
92 В 1926 году Германия была в конце концов допущена в Лигу Наций. Япония была одной из держав — основательниц Лиги.
93 Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy,
p. 75, 175–76.
94 Maddux, Years of Estrangement, p. 85–88.
95 См. главу 8.
96 Джозефус Дэниэлс, секретарь по военно-морским делам, добровольно сложил с себя эти задачи. См.: Hamby,
Man of Destiny, p. 73–81.
97 David M. Kennedy, Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929–1945 (New York: Oxford University Press, 1999), p. 56–57, 106–107, 120–124.
98 Samuel I. Rosenman, Working with Roosevelt (New York:
Harper, 1952), p. 167.
99 Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy,
p. 101–68; Thompson, A Sense of Power, p. 145–150; в связи с последним см.: Gaddis, George F. Kennan, p. 101–108.
100 Maddux, Years of Estrangement, p. 90–91; Glantz, FDR
and the Soviet Union, p. 33–35, 43–52. См. также: Elizabeth
413
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Kimball MacLean, Joseph E. Davies: Envoy to the Soviets (Westport, Connecticut: Praeger, 1992), p. 24–26, 45; David Mayers,
The Ambassadors and America’s Soviet Policy (New York: Oxford
University Press, 1995), p. 118–119.
101 MacLean, Joseph E. Davies, p. 67; Charles E. Bohlen, Witness to History, 1929–1969 (New York: Norton, 1973), p. 67–87.
102 Речь на заседании Конгресса американской молодежи 10 февраля 1940 г. (www.fdrlibrary. marist.edu/_resources/images/msf/msf01314).
103 Цит. по: Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, p. 215.
104 Glantz, FDR and the Soviet Union, p. 54–57.
105 Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins: An Intimate
History, revised edition (New York: Grosset and Dunlap, 1950),
p. 233–234. Слова Линкольна цитируются по: Noah Brooks,
“Lincoln’s Imagination” 1879 г., воспроизведенной в книге
Harold K. Bush, Lincoln in His Own Time: A Biographical Chronicle of His Life (Iowa City: University of Iowa Press, 2011), p. 176.
См. также: Henry Wadsworth Longfellow Dana, “Sail On,
O Ship of State!,” Colby Library Quarterly 2 (February 1950), 1–6.
106 Susan Dunn, 1940: FDR, Willkie, Lindbergh, Hitler—the
Election amid the Storm (New Haven: Yale University Press,
2013), p. 278–279. Книга Данна содержит очень грамотное изложение событий, которые я обобщаю в предыдущем абзаце.
107 Радиообращение Черчилля 9 февраля 1941 года
доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=
c2un7XXjz8w.
108 В этих трех абзацах я в основном повторяю идеи,
высказанные в следующих книгах: Maddux, Years of Estrangement, p. 128–55. См. также: Glantz, FDR and the Soviet Union,
p. 71, 77–87; MacLean, Joseph E. Davies, p. 76–77; Gaddis, Russia, the Soviet Union, and the United States, p. 145–147.
109 Winston S. Churchill, The Second World War: The Grand Alliance (New York: Bantam Books, 1962; first published in 1950),
p. 511–512.
110 По моей оценке, потери Америки на поле боя составили 400 тыс. человек; соответствующие потери всех участников Второй мировой войны составляют 23 млн человек. Эти
цифры не включают потери мирного населения. Подробнее см.: www.en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties.
111 Thompson, A Sense of Power, p. 230.
112 Hal Brands and Patrick Porter, “Why Grand Strategy
Still Matters in a World of Chaos,” The National Interest, Decem-
414
ПРИМЕЧАНИЯ
ber 10, 2015, available at: www.nationalin terest.org/feature/
why-grand-strategy-still-matters-world-chaos-14568.
113 Berlin, Personal Impressions, p. 39–44, 48–49.
114 Этой историей я обязан Роберту Каплану, которого она
вдохновила совершить в 2015 г. собственную автомобильную
поездку и затем написать свою книгу: Robert Kaplan Earning
the Rockies: How Geography Shapes America’s Role in the World (New
York: Random House, 2017). Рассказ самого Де Вото о его путешествии см. в: Bernard DeVoto, “Letter from Santa Fe,” Harper’s
Magazine 181 (July 1940), 333–336. См. также: Arthur M. Schlesinger, Jr., A Life in the 20th Century: Innocent Beginnings, 1917–1950
(Boston: Houghton Mifflin, 2000), p. 168–171, 232–235.
115 John J. O’Neill, “Enter Atomic Power,” Harper’s Magazine 181 (June 1940), 1–10.
116 Radio address, “On National Defense,” May 26, 1940, at:
www.docs.fdrlibrary.marist.edu/052640.
Глава 10
1 Berlin to Stephen Spender, February 26, 1936, in Henry
Hardy, ed., Isaiah Berlin: Letters, 1928–1946 (New York: Cambridge University Press, 2004), p. 152 (далее — Berlin Letters,
1928–1946). Берлин восторгался Э. М. Форстером и Вирджинией Вулф, но говорил, что они для него «пугающе
сложны» (Berlin Letters, 1928–1946, p. 70–71, 166).
2 Berlin to Marion Frankfurter, June 23, 1940, in Berlin Letters, 1928–1946, p. 306. См. также: Michael Ignatieff, Isaiah Berlin: A Life (New York: Henry Holt, 1998), p. 10.
3 Berlin Letters, 1928–1946, p. 82.
4 Последние биографии Гая Бёрджеса: Andrew Lownie,
Stalin’s Englishman: Guy Burgess, the Cold War, and the Cambridge
Spy Ring (New York: St. Martin’s, 2015); Stewart Purvis and Jeff
Hulbert, Guy Burgess: The Spy Who Knew Everyone (London: Biteback, 2016).
5 Editorial note, Berlin Letters, 1928–1946, p. 319; Ignatieff,
Isaiah Berlin, p. 97–99.
6 Berlin to Mary Fisher, July 30, 1940, in Berlin Letters,
1928–1946, p. 322. См. также p. 319.
7 Ignatieff, Isaiah Berlin, p. 98.
8 Речь Черчилля — один из самых ярких эпизодов
фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк» (2017).
9 John Wheeler-Bennett, Special Relationships: America in Peace and War (London: Macmillan, 1975), p. 87–88.
415
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
10 Берлин объясняет формат этих сообщений в своем
предисловии к книге: H. G. Nicholas, ed., Washington Despatches, 1941–1945: Weekly Political Reports from the British Embassy (Chicago: University of Chicago Press, 1981), p. vii–xiv.
11 Краткое содержание сообщений за 12 января, 4 февраля, 20 марта и 16 августа 1942 г., там же, p. 12, 18, 26,
71; см. также: Isaiah Berlin, “Introduction,” in H. G. Nicholas, ed., Washington Despatches, 1941–1945, p. x–xi.
12 Краткое содержание сообщений 14 мая и 21 ноября
1942 г. и 14 марта 1943 г.: H. G. Nicholas, ed., Washington Despatches, 1941–1945, p. 38–39, 116, 160.
13 В выражении Берлина «devil of the coming peace»
содержится скрытая игра слов: (1) «devil of the piece» —
главное отрицательное лицо в пьесе, (2) «devil of the peace» — дьявол будущего мира (будущей системы мирных договоров) — Прим. перев.
14 Краткое содержание сообщений за 28 февраля, 3 апреля и 22 октября 1943 г.: H. G. Nicholas, ed., Washington Despatches, 1941–1945, p. 157, 172, 263.
15 Краткое содержание сообщений за 29 декабря 1943 г.,
17, 18 января 1944 г.: H. G. Nicholas, ed., Washington Despatches,
1941–1945, p. 288, 307, 309.
16 Игра слов, обыгрывающая и имя сенатора, и особенности южных диалектов американского английского, и тот
факт, что «Georgian» по-английски означает и «относящийся к штату Джоржия», и «грузинский». — Прим. перев.
17 Краткое содержание сообщений за 28 февраля
и 25 апреля 1943 г., 18 января, 20 февраля и 24 декабря
1944 г.: H. G. Nicholas, ed., Washington Despatches, 1941–1945,
p. 155–156, 184, 309, 319, 485–486.
18 Ignatieff, Isaiah Berlin, p. 126; Berlin Letters, 1928–1946,
p. 478–80.
19 Isaiah Berlin to Marie and Mendel Berlin, August 16,
1943, in Berlin Letters, 1928–1946, p. 456; Berlin to Katharine
Graham, January 1949, in Isaiah Berlin, Enlightening: Letters,
1946–1960, edited by Henry Hardy and Jennifer Holmes (London: Chatto and Windus, 2009), p. 73.
20 Berlin to Stuart Hampshire, June 6, 1945, in Berlin Letters,
1928–1946, p. 569.
21 Ignatieff, Isaiah Berlin, p. 138–139.
22 Ibid., p. 137.
23 Не считая момента, когда пьяному Рэндолфу Черчиллю, сыну премьер-министра (тогда уже бывшего), потребовалось вызвать Берлина, чтобы тот перевел служащим его
отеля инструкции о том, как правильно охлаждать черную
416
ПРИМЕЧАНИЯ
икру. В жизни мало незабываемых минут, которые не сопровождают другие моменты, гораздо более достойные забвения.
24 Ignatieff, Isaiah Berlin, p. 168. Я использовал рассказ
из книги Игнатьева (p. 148–169), а также воспоминания
самого Берлина, написанные в 1980 г., которые содержатся в его книге: Berlin, The Proper Study of Mankind, p. 525–552;
Берлин, Подлинная цель познания, с. 630–665.
25 Berlin, The Proper Study of Mankind, p. 541, 543, 547; Берлин, Подлинная цель познания, с. 651, 653, 658–659.
26 The Complete Poems of Anna Akhmatova, translated by Judith
Hemschemeyer (Boston: Zephyr Press, 1997), p. 547; Анна Ахматова, Собрание сочинений в шести томах, т. 3 (Москва, Эллис Лак, 1998), с. 169.
27 Berlin to Philip Graham, November 14, 1946, in Berlin,
Enlightening, p. 21.
28 Isaiah Berlin, “Russian Intellectual History,” written
in 1966 and reprinted in The Power of Ideas, edited by Henry
Hardy (Princeton: Princeton University Press, 2000), p. 84.
29 Berlin Letters, 1928–1946, p. 488–489. См. также: Ignatieff, Isaiah Berlin, p. 131.
30 Berlin to Alan Dudley, March 17, 1948, in Berlin, Enlightening, p. 46–47.
31 Isaiah Berlin, “Political Ideas in the Twentieth Century,”
Foreign Affairs 28 (April 1950), 356–357; Исайя Берлин, “Политические идеи в двадцатом веке”, в: Исайя Берлин, Четыре эссе о свободе (Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992), с. 87–88.
32 Berlin, “Political Ideas in the Twentieth Century”,
p. 362–363; Берлин, “Политические идеи в двадцатом
веке”, с. 95.
33 Berlin, “Political Ideas in the Twentieth Century”,
p. 364–366; Берлин, “Политические идеи в двадцатом
веке”, с. 101, 104; Berlin, “The Originality of Machiavelli”,
p. 310; Берлин, “Оригинальность Макиавелли”, с. 348.
34 Isaiah Berlin, Personal Impressions, edited by Henry Hardy (Princeton: Princeton University Press, 2014), p. 41–42,
46; Исайя Берлин, “Президент Франклин Делано Рузвельт”, Вестник Российской академии наук, 2002, т. 72, № 4,
с. 354, 356. См. также: Noel Annan, “Foreword,” in Berlin,
The Proper Study of Mankind, p. xxxv; о «Кратком курсе»
см.: Stephen Kotkin, Stalin: Waiting for Hitler, 1929–1941 (New
York: Penguin Press, 2017), p. 569–579.
35 Berlin, “The Originality of Machiavelli”, p. 324–325; Берлин, “Оригинальность Макиавелли”, с. 367–368. Не случайно (как когда-то любили выражаться марксисты),
417
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
что одно из самых лучших ранних исследований стиля
правления Рузвельта дано в книге, заглавие которой вдохновлено одним из образов, созданных Макиавелли: James
MacGregor Burns, Roosevelt: The Lion and the Fox (New York:
Harcourt, Brace, and World, 1956).
36 Цит. по: Warren F. Kimball, The Juggler: Franklin Roosevelt as Wartime Statesman (Princeton: Princeton University Press,
1991), p. 7.
37 Kimball, The Juggler, p. 8–19. См. также: Wilson D. Miscamble, C.S.C., From Roosevelt to Truman: Potsdam, Hiroshima, and the Cold War (New York: Cambridge University Press,
2007), p. 79–86.
38 Kimball, The Juggler, p. 7. Курсив мой. — Д. Л. Г.
39 Geoffrey C. Ward, A First-Class Temperament: The Emergence of Franklin D. Roosevelt, 1905–1928 (New York: Vintage Books,
1989), chapters 13–16.
40 Район города Вашингтон. — Прим. перев.
41 Ward, A First-Class Temperament, p. xiii–xv.
42 Clausewitz, On War, p. 100; Клаузевиц, О войне, с. 43.
43 Вот одна из версий анекдота: маленький мальчик находит под рождественской елкой большую кучу конского навоза. Нисколько не расстроенный, он взволнованно
кричит: «Наверно, тут где-то спрятан пони!» — и начинает копать под елкой. Происхождение анекдота см. на сайте www.quoteinvestigator.com/2013/12/13/pony-somewhere/.
44 Tetlock, Expert Political Judgment, p. 214–215; подробнее
см. главу 1.
45 Tetlock, Expert Political Judgment, p. 215. Фраза Фицджеральда приведена на с. 67 книги.
46 Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty,” in Berlin,
The Proper Study of Mankind, p. 191–242; Исайя Берлин, “Два
понимания свободы”, в: Исайя Берлин, Философия свободы. Европа (Москва: Новое литературное обозрение, 2001),
с. 122–185.
47 Здесь я повторяю объяснение «плюрализма» Берлина, которое приводит Ноэл Аннан в его предисловии
к той же книге, однако метафора движения по натянутому канату — моя: Noel Annan, “Foreword,” in Berlin, The Proper Study of Mankind, p. xii–xiii.
48 Berlin, “The Originality of Machiavelli”, p. 324; Берлин,
“Оригинальность Макиавелли”, с. 368.
49 “Robert F. Kennedy Shocks Texans by Questioning Mexican War,” New York Times, February 17, 1962; “Robert Kennedy Bows in ‘War’ with Texas,” New York Times, March 5, 1962.
418
ПРИМЕЧАНИЯ
См. также: Arthur M. Schlesinger, Jr., Robert F. Kennedy and His
Times (Boston: Houghton Mifflin, 1978), p. 568.
50 См. главу 6.
51 Sun Tzu, The Art of War, p. 142–143; “Сунь-цзы”, с. 269.
Научное издание
ДЖОН ЛЬЮИС ГЭДДИС
О БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИИ
Главный редактор издательства ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Научный редактор издательства АРТЕМ СМИРНОВ
Выпускающий редактор ЕЛЕНА ПОПОВА
Корректор НАТАЛИЯ СЕЛИНА
Дизайн обложки ПАВЕЛ ЛОСЕВ
Верстка ЯРОСЛАВ АГЕЕВ
Издательство Института Гайдара
125009, Москва, Газетный пер., д. 3–5, стр. 1
v
Подписано в печать 20.11.2020.
Тираж 1000 экз. Формат 60×90/16
Отпечатано в филиале «Чеховский печатный двор»
ОАО «Первая образцовая типография»
www.chpd.ru. Факс (496) 726-54-10, (495) 988-63-87
142300, Московская обл., г. Чехов,
ул. Полиграфистов, 1
ИЗД АТЕЛЬС ТВО
ИНСТИТУТА
ГА Й Д А РА
Спрашивайте в книжных магазинах
МОСКВА
Академия, просп. Вернадского, 82,
(499) 270-29-78
Москва, ул. Тверская, 8, стр. 1,
(495) 629-64-83, 797-87-17
Библио-глобус, ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1,
(495) 781-19-00
Московский Дом Книги, ул. Новый Арбат, 8,
(495) 789-35-91
Молодая гвардия, ул. Большая Полянка, 28,
(495) 780-33-70
Фаланстер, ул. Тверская, 17
(495) 629-88-21, 504-47-95
falanster@mail.ru
Книжный клуб 36,6, ул. Бакунинская, 71, стр. 10,
(495) 926-45-44
Циолковский, ул. Б. Молчановка, 18,
(495) 691-51-16, 691-56-28
У Кентавра, книжная лавка, ИОЦ «Гуманитарная
книга», ул. Чаянова, 15 (РГГУ),
(499) 973-43-01
Буквышка, ул. Мясницкая, 20,
(495) 628-29-60
Книжная экспедиция Управления делами
Президента Российской Федерации, ул. Варварка, 9,
(495) 606-52-94
MMOMA Art Book Shop в Институте Strelka in Russian,
Берсеневская наб., 14, стр. 5А
Ходасевич, ул. Покровка, 6,
(965) 179-34-98
Гараж, павильон Центра «Гараж», Пионерский пруд,
Парк Горького,
(495) 645-05-21
Сеть Читай-Город (Новый книжный),
(495) 937-85-81, 177-22-11
Сеть Академкнига
ул. Вавилова, 55/7, (499) 124-55-00
Мичуринский просп., 12, (499) 932-74-79
Цветной б-р, 21, стр. 2, (499) 921-55-96
С А Н К Т - П Е Т Е РБУ РГ
Санкт-Петербургский дом книги,
Невский просп., 28 (дом Зингера),
(812) 448-23-55
Подписные издания, Литейный просп., 57,
(812) 273-50-53
Порядок слов, наб. р. Фонтанки, 15,
(812) 310-50-36
Все свободны, ул. Некрасова, 23,
(911) 977-40-47
Дом университетской книги (Издательство СПбГУ),
Менделеевская линия, 5,
(812) 329-24-70, 329-24-71,
vitanova@spbu.ru
Свои Книги, ул. Репина, 41,
(812) 966-16-91,
ВОРОНЕЖ
Петровский, книжный магазин и клуб,
ул. Ленина, 54, (3422) 43-03-51
Е К АТ Е РИ Н БУ РГ
Пиотровский в Президентском центре Бориса
Ельцина, ул. Бориса Ельцина, 3,
(922) 181-68-07
Екатеринбургский Дом книги, ул. Антона Валека, 12,
(343) 253-50-10
П Е РМ Ь
Пиотровский, Независимый книжный магазин,
ул. Ленина, 54,
(342) 243-03-51
Р О С Т О В - Н А -Д О Н У
Интеллектуал, книжный салон, ул. Садовая, 55,
Дворец творчества детей и молодежи,
фойе главного здания, (988) 565-14-35
Н О В О С И БИ Р С К
Капиталъ, литературный магазин,
ул. Максима Горького, 78, (383) 223-69-73
С ТА В Р О П ОЛ Ь
Князь Мышкин, ул. Космонавтов, 8,
(928) 963-94-81, (928) 329-13-43,
myshkinbooks@yandex.ru
КИЕВ
Книжный бум, книжный рынок «Петровка», ряд 62,
место 8 (павильон «Академкнига»),
+380-63-437-52-38
К АЗАНЬ
Смена, Центр современной культуры,
ул. Бурхана Шахиди, 7, (843) 249-50-23
К РА С Н ОЯ Р С К
Бакен, ул. Карла Маркса, 34а, (3912) 88-20-82
И Н Т Е РН Е Т - М А ГА З И Н Ы
LibroRoom http://libroroom.ru/
OZON.ru http://www.ozon.ru/
Лабиринт http://www.labirint.ru/
Боффо! http://www.boffobooks.ru/
Books.ru http://www.books.ru/
Бизнес-книга http://bizbook.ru/
Книга.ru http://www.kniga.ru/
Read.ru http://read.ru/
Спринтер http://www.sprinter.ru/
Издательская группа URSS http://urss.ru/
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ЛитРес http://www.litres.ru/
OZON.ru http://www.ozon.ru/
ОПТОВЫЕ ПРОД А ЖИ
Издательский дом «Дело» РАНХиГС,
Москва, просп. Вернадского, 82,
(495) 433-25-02, 433-25-10, delo@anx.ru, com@anx.ru
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ИМЕНИ ЕГОРА ТИМУРОВИЧА ГАЙДАРА —
крупнейший российский научно-исследовательский и учебно-методический центр.
Институт экономической политики был
учрежден Академией народного хозяйства
в 1990 году. С 1992 по 2009 год был известен
как Институт экономики переходного периода,
бессменным руководителем
которого был Е. Т. Гайдар.
В 2010 году по инициативе коллектива
в соответствии с Указом Президента РФ
от 14 мая 2010 г. № 601 институт вернулся
к исходному наименованию и ему было
присвоено имя Е. Т. Гайдара.
Издательство Института Гайдара основано
в 2010 году. Задачей издательства является
публикация отечественных и зарубежных
исследований в области экономических,
социальных и гуманитарных наук, трудов
классиков и современников.