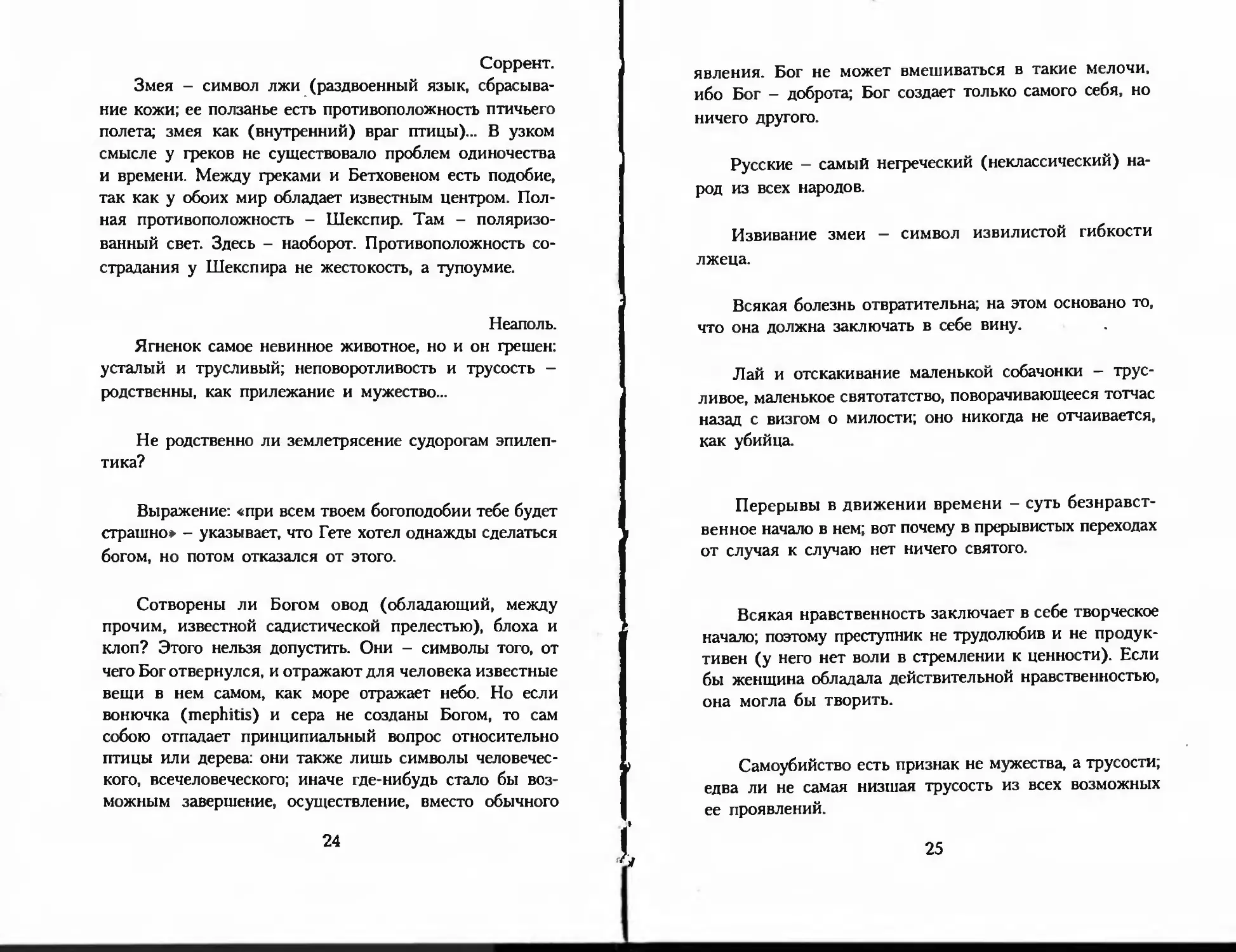Автор: Вейнингер O.
Теги: история философии философия социальная философия переводная литература собрание латинского клуба
ISBN: 5-7707-8959-Х
Год: 1995
Текст
"Ничто" составляет границу
для "нечто". Если человек сделается
всем, станет богом, у него не будет
больше границ, не будет страха. Но,
вероятно, незадолго перед тем, он
должен победить последний,
наибольший страх...
т
Собрание Латинского Клуба
ОТТО ВЕЙНИНГЕР
ПОСЛЕДНИЕ
СЛОВА
Перевод с немецкого
Киев
Государственная
библиотека Украины
для юношества
1995
ББК 87.3
В26
Перевод Л. Грек и Б.Ц.
Предисловие М. Раппопорта
Ответственный редактор Л. Менжулина
Художественное оформление
Эдуарда Васильева
Издание подготовлено
по инициативе издательства «Port-Royal»
Веннингер Отто
В26 Последние слова: Пер. с нем. — К.: Государст-
венная библиотека Украины для юношества, 1995. —
256 с.
ISBN 5-7707-8959-Х
Отто Вейнингер, 23-летний профессор из Вены, еще при
жизни стал легендой, а его самоубийство только добавило
пищи для домыслов о подлинном смысле написанного.
В «Последних словах», опубликованных посмертно, Вей-
нингер углубляет и преодолевает многое из того, о чем в
Европе заговорили после его нашумевшей книги «Пол и
характер», и благодаря его проникновению в творчество
Ибсена и Вагнера, мы действительно убеждаемся в том, что
«все подлинно гениальное — эротично» Унаследуя традицию
мышления Паскаля и Ницше, Вейнингер свои мистические
интуиции в большинстве случаев выплавил в доступной
читателю афористической форме. Предмет умозрения не-
обычайно широк — от психологии преступника до связи
науки и культуры.
Читая «Последние слова», необходимо помнить, что они
♦означают смертный приговор — или для самой книги, или
для ее автора».
„0301030000.. ,
В----------Без объявления
ISBN 5-7707-8959-Х
©Издательство «Port-Royal», 1995
©Художественное оформление —
Э Васильев, 1995
Предисловие
ко второму изданию
Всякая подлинная, ценная проблема
сеть также подлинная, ночная пина,
всякий отпет сеть искупление,
всякое познание - совершенствование
Вейнингер
Крест Голгофы нс может освободить
тебя от зла,
если он нс воздвигнут в тебе самом.
Ангелус Силезиус
Отто Вейнингер был вторым сыном живописца-ре-
месленника; родился он в Вене 3 апреля 1880 года. Это
был веселый мальчик, охотно принимавший участие во
всех детских играх. Очень рано в нем проявилось стрем-
ление к научному знанию. Еще в гимназии Вейнингер
опередил своих сверстников, усидчиво занимаясь исто-
рией, литературой и философией. В то время он больше
всего интересовался филологией, даже думал стать
филологом. (Он в совершенстве владел французским,
английским и итальянским языками; без затруднения
понимал также испанский и норвежский.) Влечение к
естественным наукам и математике пробудилось в нем
позднее, когда он стал посещать университет. Здесь он
особенно усердно начал заниматься философией, биоло-
гией, физиологией, физикой и математикой, при этом у
него не было большой склонности к экспериментальным
занятиям в лабораториях.
5
Кто знавал Веннингера в университете, тот должен
был удивляться его колоссальной работоспособности. Он
обладал особенно стойким телосложением, представляв-
шим полный контраст с его внешним видом, его худой
высокой фигурой. Зная его ярко выраженный нервный
характер, трудно было бы предположить, что такие нервы
выдерживают столь высокое напряжение, что они никогда
не отказываются служить, не считая незначительных,
несомненно нервных сердечных судорог. Возможно, впро-
чем, что беспрерывная умственная работа и постоянная
в высшей степени возбужденная жизнь незаметно для
него самого нанесли значительный вред его нервной
системе. Сам Вейнингер был, однако, решительно против
такого мнения; у него сложилось прочное убеждение,
что ничто физическое повредить ему не может. Это
гордое чувство абсолютного господства над своим телом
не покидало его до последнего момента.
Приблизительно за два года до смерти Вейнингера в его
духовном развитии была заметна значительная перемена
всего миросозерцания - перемена, приведшая его гигантс-
кими шагами от сухого эмпириокритицизма через Канта
и послекантовский идеализм к метафизическому миро-
воззрению, проникнутому мистицизмом. Будучи перво-
начально ярым почитателем Авенариуса, он сделался позд-
нее последователем Канта, Платона, Плотина и Авгус-
тина. Подобный переход был вызван начинавшейся в
нем склонностью к этическим проблемам. Эти последние,
захватывая его все больше и больше, наконец всецело
завладели всем его существом. Тут ему стало ясно, что
ключ к решению мировой загадки нужно искать только
в этике, а потому он навсегда отвернулся от той фило-
софии, которая не имела ничего общего с проблемой
6
«добра и зла». Понятие божества, прежде решительно
отклоняемое, выступает теперь на первый план.
Самыми великими мыслителями для Веннингера бы-
ли Кант и Платон; именно они понимают ценность (т. е.
истинное, доброе и прекрасное) как нечто абсолютно реаль-
ное и дальше всего отстоят и от гедонистического миросо-
зерцания, где ценится только наслаждение, и от аскетизма,
изгоняющего наслаждение за какую угодно награду; оба
философа рассматривали наслаждение как нечто глубокое
и последнее в мире. В разграничении ценности и наслаж-
дения, по Вейнингеру, заключается огромная заслуга Канта,
Платона и христианства, в то время как Шопенгауэру и
Фехнеру он ставил в упрек их смешение, хотя и высоко
ценил и того, и другого как мыслителей.
Вейнингера чрезвычайно сильно привлекала музыка.
Он отдавался этому искусству не просто и наивно, а
всегда только в связи с какими-нибудь представлениями.
Музыкальное впечатление вызывало в нем картины при-
роды или душевной жизни (мотив звездного неба, сер-
дечных переживаний, ревности, мести и т. д.) даже в
тех случаях, когда музыка совершенно не имела отно-
шения к данному тексту или программе. Некоторые из
этих видений не ограничивались только областью чувст-
ва или настроения, они возвышались до величайших
общих проблем. Для Вейнингера как чисто материалис-
тического (в логическом смысле), а не формального мыс-
лителя, у которого самая абстрактная проблема запол-
нялась живым содержанием ощущений, возможно было
сочетать мелодии с философскими идеями. (.Мотивы
монизма, самоотверженного отречения от абсолютного,
наследственного греха и т. д.) Величайшим музыкантом и
великим художником всего человечества Вейнингер счи-
тал Рихарда Вагнера.
7
Второе место после Вагнера он отдавал Бетховену;
гений последнего, по Вейнингеру, граничит с преступле-
нием, как у Кнута Гамсуна и Августина. Его сильно при-
влекала в Бетховене тоска по чистоте звуков, страшная
скорбь и титанически боевая натура, но еще больше свойст-
венная только одному Бетховену удивительная, ясная,
как кристалл, радость. Веннингер называл ее «спасенной
радостью» (Freude, schoner Gotterfunken* - .это первые слова
хора в знаменитой 9-й симфонии Бетховена). Моцарт, Бах
и Гендель же были, по его мнению, самыми невинными
композиторами. Из современной музыки Вейнингер пред-
почитал песнь Сольвейг из сюиты Грига «Пер Гюнт»;
он называл A-dur-мелодию** «самым большим разрежением
воздуха, какое только может быть достигнуто». Так назы-
ваемая легкая музыка была для него или безразлична,
или (как, например, все вальсы) прямо антипатична.
Интересно отношение Вейнингера к природе. Он
обладал чрезвычайно сильной, дифференцированной и
всеобъемлющей восприимчивостью к ее явлениям; как
в музыке, здесь все впечатления связывались у него с
содержанием определенных представлений. Специфичес-
кий характер ощущений Вейнингера превращался здесь
в философскую систему; ассоциации из области душевной
жизни сопровождали явления природы не только как
субъективные представления данного единичного факта,
но эти явления природы становились также и реальными
символами этических и психических феноменов. В дан-
ном случае Вейнингер считал свою способность связы-
вать явления отражением действительно существующе-
го отношения между видимым и невидимым в мире. Это
не было абстрактной рефлексией, а великим, едва ли
мыслимым, непосредственным переживанием. В красках
и формах у него воплощались нравственные возмож-
* Радость, пламя иеасмнос (иел ). - Прим ред.
** A-dur - ля мажор. - Прим. ред.
8
ности, идеи. Все чувственное являлось для него символом
духовного: каждое животное, растение, каждый мине-
рал, горы и долины, вода и огонь, свет и теплота - были
для него символами. Свет долгое время служил ему
символом нравственности; огонь - символом уничтоже-
ния; источник - символом рождения; река - принципом
Аполлона; море - Диониса; собака, свинья, змея олицет-
воряли преступление; лошадь - ложную мысль, бред. В
этой символике интуиция сочеталась с идеалистической
философией. «Мир - мое представление» - т. е. ре-
альность всех вещей действительна постольку, поскольку
они - символы иного, потустороннего мира; Вейнингер
называет его «высшей, вечной жизнью», «вневремен-
ным бытием», «разумным миром», «высшей реаль-
ностью»*. Вполне антропоцентрическое миросозерцание
является основной предпосылкой всей теории; впрочем,
оно никогда не доказывалось, а было лишь предметом
веры и чувства: мир рассматривается как объективный
человек, а человек - как соответствующий субъект «ми-
рового» объекта. Старинное учение о микрокосме вновь
принесло здесь свои плоды.
Глубокое понимание жизни и умственной деятель-
ности Вейнингера открывается нам в его учении о дуа-
лизме**. Человек, по Вейнингеру, составлен из двух частей:
первая часть происходит аг (мирового) целого, из космо-
са, божества, вторая - из ничего, из хаоса, от дьявола (по-
следний для Вейнингера только олицетворение хаоти-
ческого «ничто»). Часть, происходящая из космоса, про-
стирается на все то, в чем выражается доброе, прекрасное,
истинное; в ней заложено все позитивное, все самосто-
ятельно существующее, вся сила и радость жизни, все
объективное, что объединяет людей между собой. Другая
• Читателю ясна, конечно, своеобразная снять прслстаплепий Ней-
iiMiHC'pa с учением Платона об идеях. — Прим пер.
** Слово «дуализм» употребляется здесь только в этическом смысле.
9
половина, наследие хаоса, содержит все негативное, не-
свободное, все несамостоятельно существующее (как, на-
пример, суетное тщеславие), страх, слабость, все, что
разделяет людей: на вершине ее - преступление, безум-
ный бред. Этика и логика открывают человеку мировое
целое; преступление и бред отнимают у него сущест-
вование, ибо человек как микрокосм только тогда дей-
ствительно существует, когда он сам является прообразом
мирового целого. Вейнингер различает несколько степе-
ней душевной жизни. Их количество определяется ис-
ключительно теми сопротивлениями, которые жизнь в
состоянии побороть. Сила как самоцель погибает скорее,
чем сила, произошедшая из добрых начал. Энергия как
результат характера более устойчива, чем энергия из тще-
славия. Упование на Бога у отшельника - всегда в опас-
ности, тогда как благочестие человека из общества дрем-
лет в спокойном бездействии. Вейнингер считал своей
важнейшей задачей проверить самонаблюдением все че-
ловеческие свойства и стремления в их психическом
постоянстве. А самонаблюдение затем должно согласо-
ваться с твердо установленной опытом способностью
противодействовать всякому внешнему влиянию.
Слово (мировое) «целое» приобретает здесь психи-
ческое и этическое значения; оно обозначает всю душев-
ную структуру, направленную в мыслях, чувствах и же-
ланиях к мировому целому, к бесконечному. Ибо каждый
отдельный акт мышления, каждый волевой акт или акт
эстетического чувства превращает многообразие ощуще-
ний в нечто общее, цельное, как учил Кант; это же пов-
торил и Вейнингер, сделав наглядное пояснение в своей
книге «Пол и характер». Всеобщность у Вейнингера -
одновременно и философское понятие, и индивидуальное
душевное свойство - представляет всегда также единство,
ибо общность можно понять только в единстве.
Мировое «целое» и «ничто» - две силы, борющиеся
в человеке за преобладание. В своем глубоком основании
10
душевная жизнь представляется нам вечной борьбой.
Специфический характер заключенного в человеке
«хаоса», «отрицания» определяет у него развитие и
образование прямо противоположного хаосу по форме
«утверждения» из царства космоса. Каждое внешнее
проявление абсолютного «ничто» делает возможным
соответствующее проявление мирового целого; каждая
часть космоса в человеке подвергается опасности со
стороны соответственного проявления хаоса. Челове-
ческое сознание мыслимо только в противоречиях; бо-
жество воплощается в человеке, чтобы в борьбе с хао-
тическим «ничто» познать самого себя. Как в эротике
мужчина находит себя в женщине, так и Бог стремится
найти себя в человеке.
Бредом и преступлением мы называем два сущест-
венных явления хаотического «ничто». Кому грозит опас-
ность впасть в безумный бред*, для того все логическое
является проблематичным - того покидает инстинктив-
ная уверенность в суждении. Чтобы оградить себя от общей
неуверенности в процессе мышления, чтобы не терять
почвы под ногами, нужно призвать на помощь общие,
основные принципы мышления. Потому-то именно такие
люди особенно интересуются проблемами логики и те-
ории познания. Ведь прежде чем что-нибудь становится
проблемой, оно должно обладать свойством вызвать
самый вопрос о проблеме. Кто болен, тот заботится о
болезни, здоровье, о терапии, хотя бы ему медицина
была решительно безразлична; где существует опасность,
там необходимо познание. Это одинаково относится как
к опасностям для сохранения внутренней жизни индиви-
дуума, так и к затруднениям, которые он может ветре-
* Веннингер понятием «склонность к бреду» (Irrsinn) ох паты паст
все препятствия н логическом равновесии, т. е. манию преследования,
ипохондрию меланхолии, манию величия, иные мании вся кот рода,
навязчивые представления и т. /и
11
тишь в окружающей среде. Поистине в вопросе Канта
заключалось все, когда он ставил проблему: «как возмо-
жен опыт?», «как мыслима чистая, естественная наука?»...
У помешанного затемняется мышление, у преступ-
ника — ощущение ценности. Ценность человеческой жиз-
ни, ценность свободы, истины, справедливости, красо-
ты - все это для него проблематично. И если это не совсем
преступник, а человек, внутри которого рядом с преступ-
ными наклонностями живут и нравственные стремле-
ния, когда он стремится укрепить свое лучшее «я» против
всех соблазнов, тогда из проблематического состояния
появляются соответствующие проблемы. Самонаблюде-
ние указывает человеку внутреннего врага, его заливает
свет сознания, и враг должен погибнуть. Ибо все злое в
человеке происходит, по Вейиингеру, только вследствие
недостатка самосознания. Сознание есть нравственность.
Чем больше человек знает о том, что в нем происходит,
чем яснее для него то, что сулит ему внешний мир и что
побуждает его к внутренней жизни, тем больше он ста-
новится отражением, зеркалом вселенной, микрокосмом.
Самонаблюдение и есть средство, при помощи которого
человек может освободить себя от своего внутреннего
врага, от преступных инстинктов. Теперь ясно, что хотел
выразить Веннингер следующими словами: «Всякая ис-
тинная, вечная проблема есть в то же время истинная и
вечная вина; всякий ответ - искупление; всякое позна-
ние - улучшение». Но чем сильнее затемнена ценность,
тем сильнее должно быть освещено добро и зло, если
хотят победить своего внутреннего врага. Всюду, где
поставлен вопрос, открывается источник нравственнос-
ти. Ибо только вполне ясное, нравственное сознание даст
возможность прийти к духовному возрождению.
И вот является новый человек, когда старый решил
битву между космосом и хаосом перед лицом последних
12
основ нравственности. Из прежнего преступника он ста-
новится святым.
И чем сильнее была опасность хаотического «ничто»,
тем величественнее становится «бытие» после победы.
Самый великий человек тот, кто победил могучего врага.
Гений не есть род безумного бреда или преступления,-
наоборот, полная победа над ними.
Принцип противоположностей можно сопоставить с
биологическими явлениями. При всякой заразительной
болезни образуются так называемые антитоксины, стре-
мящиеся уничтожить токсины, истинных виновников
болезни. Как только первые превзойдут последних в
числе и силе, наступит выздоровление. После многих
заразительных болезней антитоксины еще долго оста-
ются в теле больного, так что он гарантирован от зара-
жения; он может бороться с самой сильной опасностью
заражения. Точно так же всякий, кто победил в себе
преступника, свободен от всего безнравственного; он
теряет также все общие черты, обычно приписываемые
нормальному человеку. Он поступает и против себя, и по
отношению к другим со строгостью, которую не может
понять окружающая среда, а потому последняя толкует
ее как жестокость или эксцентричность. Так рождается
тип святого.
Святой и гений обладают в высшей мере истиной.
У святого истина освещает путь к самонаблюдению; ге-
нию она дает возможность наблюдать целый мир. Святой
спасен, когда в него самого вливается свет высшей жизни;
для гения в этом свете блещет целый мир.
Воззрение Вейнингера, согласно которому гениаль-
ность является высшей нравственностью, у многих вы-
зывает удивление. Однако связь здесь очень проста. Нрав-
ственный человек обладает пониманием всей мировой
жизни, потому что он принимает участие в ее высшем
источнике, в ней самой. А чувство собственного свобод-
13
ного, независимого существования открывает возмож-
ность найти и высоко ценить его в других созданиях.
Преступнику не достает чувства свободы, самоцели и
смысла жизни; он не ощущает его у самого себя и не
примечает у других. Жизненные существа нужно пони-
мать как самоцели; полное любви погружение в своеоб-
разие отдельных видов животных необходимо для всякого
исследователя. Понимание жизненных феноменов явля-
ется основой для понимания организмов; ибо в каждом
организме заключена специфическая форма жизни. Так
что категорический императив Канта: «никого не следует
рассматривать как средство к достижению цели», при-
меняемый им только к разумным существам, нужно рас-
пространить в известном смысле на все создания. И
гранитный блок, и кристалл аметиста я могу тогда только
действительно понять, когда нахожусь в описанном Шо-
пенгауэром настроении «безвольного созерцания». По-
скольку что-нибудь «интересно*, постольку оно совпадает
с понятием самоцели. Другое воззрение на всякую вещь
есть внушенное волей стремление к власти над нею;
благодаря ему вещь невозможно понять, а лишь в лучшем
случае применить ее для определенной эгоистической
цели. В каждом камне, благодаря его форме и окраске,
открывается известное количество логического и эстети-
ческого существования; ощутить последнее, исследовать,
воспринять и составляет нравственность естествоиспы-
тателя и художника. Кто сам обладает высшим сущест-
вованием, для того все вещи внешнего мира наполняются
богатым содержанием.
Лучшее и высшее развивается по Вейнингеру в борь-
бе со своей противоположностью; всему позитивному в
человеке соответствует отрицательная оборотная сторона.
Мы рассмотрели подробно это учение крайнего этичес-
кого дуализма отчасти потому, что оно устанавливает
понимание психологии, но главным образом ввиду того,
14
что оно более всего характеризует душевную жизнь своего
творца. Ведь чувство жизни у Отто Вейнингера было
непосредственно связано с сознанием борьбы, и его поле-
мика с современным знанием была лишь слабым отра-
жением стихийной, внутренней борьбы. Нет ничего уди-
вительного, что улыбка или шутка никогда не появлялись
на его устах. Немилосердный к себе и строгий к другим,
готовый в силу железного самолюбия в каждый момент
к напряжению всех своих сил, к пожертвованию всего
своего существа, он обладал поистине солдатской вы-
правкой. Его неумолимый, открытый характер - по
крайней мере, в последние годы - никогда не смягчался
порывом юмора или минутным удовольствием. Все идил-
лическое было для него чуждо, почти непонятно; вот
почему он не мог найти правильной точки зрения, напри-
мер, по отношению к Фехнеру или Гомеру. Напротив,
он чрезвычайно высоко чтил Гете - ведь поэт также
был натурфилософом-монистом - за изображение вели-
ким писателем в своих могучих произведениях этичес-
кого дуализма.
Сам Вейнингер себя считал преступником. Он видел
во всех своих духовных стремлениях, в своем подъеме
до величайших высот миропонимания борьбу против
преступного «ничто». Он чувствовал в себе непреодоли-
мую склонность ко лжи, жестокости и даже к убийству.
Непосредственно перед самоубийством он писал: «Я уби-
ваю себя, чтобы не иметь возможности убивать других».
Прежде часто побеждаемый, а теперь непреодолимый
ужас перед собственными страшными силами толкнул
его на самоубийство
И Вейнингер, несравненный самонаблюдатель, вы-
сказывал это не раз, а сотни раз в течение своей жизни.
Тем не менее, мы не в силах этому верить. Человек, день
и ночь с неутомимым постоянством искавший истину,
не может быть лжецом в своем «святая святых»; кто
15
удивляется жизни, бьющей в пылинках солнечного лу-
ча, тот не может быть убийцей. Правда, он мог бы
совладать с такими наклонностями, но они были бы
заменены в несколько раз большими противоположны-
ми направлениями воли. Разве они не грозили бы, буду-
чи только обузданы, после долгого затишья прорваться с
возобновленными силами. Разве сильно стесненная при-
родная склонность не может снова завоевать все в минуту
слабости?
Я не знаю этого, да и никто не может знать. Можно
полагать только, что Вейнингер, нося в себе много хо-
роших задатков и талантов, мог вполне свободно пере-
нестись мыслью и в душу преступника. И он нашел,
конечно, в своих универсальных наклонностях все пре-
ступные инстинкты. Но могли ли быть первоначальные
побуждающие причины? Быть может, опасность была
для него не в преступлении, а - понимая широко - в
заблуждениях мысли, мании? Ведь известно, что явление
мании и преступления протекают отчасти параллельно.
Психиатры охотно относят их к душевным болезням,
моралисты рассматривают как грех; а философы назы-
вают то заблуждение виной (Декарт), то вину заблуж-
дением (Спиноза). Вейнингер, благодаря своей гордой,
активной натуре и вследствие потребности рассматривать
все явления в их внутренней связи, заранее был склонен
к этическому миросозерцанию Ведь только там человек
и вселенная проявляются в действительном единении,
только там человек есть соответственное деяние. Вот
почему он и мог благодаря такому предрасположению
толковать с нравственной точки зрения препятствия в
его душевном равновесии. И постоянная склонность ко
лжи, тирании, и кровожадность - были, быть может, лишь
навязчивыми представлениями. А страх стать убийцей,
приведший его к смерти, является, вероятно, Phobie’eft
(мания страха). Тогда, стало быть, он пал жертвой
16
умопомешательства (в широком смысле). Во всяком слу-
чае тот хаос, упорно борясь с которым, он поднял до
блещущих светом высот, в конце концов его одолел.
С психиатрической точки зрения Вейнингера счита-
ли истеричным. Этим диагнозом думали опровергнуть
все его основные принципы. Но я никак не могу понять
такого вывода; ведь если допустить, что он был совер-
шенный неврастеник (истеричный - слишком неустой-
чивое понятие), то и тогда это могло бы касаться
только ценности его субъективных чувств. А наблюдения
и мысли - правильны они или фальшивы - всегда объ-
ективны. Состояние нервов, поскольку не затемнено
сознание, не имеет на них никакого влияния. А ценна
ли такая жизнь для жизни вообще - на такие и подобные
этому вопросы каждый человек, помимо всего, должен
ответить себе сам.
Вейнингер всегда видел опасность в самом себе.
Вот почему страх, вернее, самобоязнь была существен-
ной частью его душевной жизни*. Под влиянием таких
чувств появился в свет «Пол и характер». Невероятная
серьезность книги их отражает. В центре стоит рабство,
заблуждение, говоря относительно, ошибка, лежащая в
основе всякой эротики; затем понятие сводничества:
напрасное стремление хаотического «ничто» достиг-
нуть «бытия». Безнравственность в эротике основана,
по Вейнингеру, для мужчины на том, что он думает
найти ценность в другом существе, вместо того чтобы
осуществить ее самому; а для женщины в том, что она
хочет получить жизнь только посредством любви, т. е.
она живет из вторых рук. Вейнингер совершенно раз-
деляет сексуальность и эротику. Он сам был страстным
эротиком, но в последние годы жизни оставался впол-
не целомудренным. Характерно его собственное суждение
* Достойно упоминания, что Веннингер особенно дорожил личным
мужеством.
17
о «Поле и характере»: «То, что я открыл, никому не
причинит столько боли, сколько мне самому». О своих
работах в области этических проблем Вейнингер заме-
чает: «Этику никому нельзя подарить. У добрых людей
всегда плоская этика». Другими словами, он полагает,
что познания морали нельзя достичь без внутренней
борьбы.
Отто Вейнингер переживал этический дуализм с
редкой силой. Поэтому все, что наполнено духом дуа-
лизма, было ему особенно близко: учения Канта и Пла-
тона, но прежде всего христианство*; он был страст-
ным почитателем последнего. Он был твердо убежден,
что никто, кроме него, не понял так глубоко личность
и учение Иисуса Христа. Прежде всего идея универсаль-
ной ответственности: принять зло мира как собственную
вину; это особенно близко подходило к характеру Вей-
нингера. Ибо все нравственное в человеке открывает-
ся прежде всего в чувстве ответственности, а это пос-
леднее растет пропорционально богатству и величине
душевных наклонностей. В нравственном отношении ге-
ний охватывает все человечество. Идея микрокосма яв-
ляется здесь как бы этически-религиозной мистерией:
если человек - в большей или меньшей степени ясный
прообраз мирового целого (Лейбниц), то в каждом от-
дельном индивидууме существует в нравственном или
активном отношении общая всем вина. В особенности
Вейнингера привлекало в христианстве строгое разгра- 1
ничение высшей вечной жизни от низшей и временной;
громадное значение, которого достигает здесь вера в ipexo-
падение - представление о внутренней смерти при жизни
тела (пусть мертвые погребают мертвых). Всякое стра-
дание, по Вейнингеру, происходит в силу известного ме-
тафизического акта по собственной вине. Грехопадение
* По рождению спрей, Вейнингер принял протестантизм н день
получения докто|ккой степени (21 июля 1902 г.).
18
он понимал только в индивидуальном значении: у всяко-
го человека есть свой «наследственный грех», а поэтому
и освобождение от него каждый человек должен искать
на новом пути.
Когда появился в свет «Пол и характер», настрое-
ние Вейнингера еще более омрачилось. Было ли это пе-
реутомление? Или благодаря законченной работе вновь
явившееся самонаблюдение? Быть может, мысль, что не-
смотря на священный гнев, каким наполнено новое
произведение, мир катится по старым рельсам, молится
старым богам? Вероятно, все вместе. По его собственному
мнению, внезапное нравственное падение привело его
в угнетенное состояние. Он помышлял о самоубийстве
еще раньше, до окончания «Пола и характера»; теперь
он чувствовал себя как старик, забывшийся лишь на
некоторое время. Тут начинается для него время тя-
желых душевных страданий. Он хотел путем самонаб-
людения уничтожить в себе дух мучений, хотел собрать
все силы в единый пункт и отбросить безнравственные
влечения.
Но, несмотря на сильное напряжение, ему станови-
лось все хуже и хуже. Полное сознание, освещавшее
с помощью страшно напряженных сил темные тайни-
ки души и благодаря этому приводившее их под власть
воли, не появлялось. Напротив, отрицательные, хаоти-
ческие инстинкты становились все более и более само-
стоятельными, а самонаблюдение делалось тем менее
доступным, чем больше его искали. Оно было единст-
венным средством стать господином своих инстинктов:
чуждые тела в сознании, могли ли они ассимилировать-
ся с единством личности? Тогда бы они были уничто-
жены как чуждые тела, а бесконечно богатое познание
вновь создало бы личность. Ибо нравственность и созна-
ние - одно и то же.
19
Нет сомнения, что Вейнингер был тогда близок к
отчаянию; несмотря на это, он до самой смерти сохранил
нравственную силу, веру в возможность победы. Свое
последнее тяжелое лето он провел в Италии. В Сиракузах
Вейнингер написал большую часть настоящей книги.
Затем он останавливался в Калабрии, посетил Казамичела
на Isola d’Ischia, осмотрел Рим и Флоренцию. О своих до-
рожных впечатлениях он не говорил почти ничего. Тем
не менее его письма указывают, что Сиракузы и Рим
произвели на него глубокое впечатление. В последних
числах сентября Вейнингер вернулся в Вену. Настроение
его с каждым днем становилось все более пессимистичным.
Напрасные попытки овладеть собой исчерпали последние
силы. Место прежнего борца занял робкий, неуверенный
в каждом слове и каждом шаге юноша. Он все еще
пытался бороться, но сил больше не было. Перед ним раз-
верзлась пропасть глубокого пессимизма. И несмотря на
это, он все же нашел в себе силы написать «последние
афоризмы»; значительные мысли, в которых не заметно
и следа душевного расстройства, которые не содержат
ни одного необдуманного слова*. Да, Вейнингер про-
являет здесь еще раз великую силу, отказываясь от ин-
дивидуальности, он познает, что последняя является
лишь выражением суетности, связью с ценой личности,
т. е. бренным заблуждением, а не метафизической реаль-
ностью.
Когда Вейнингер решил покончить с собой, он по-
кинул своих родителей и поселился в комнате того дома,
где умер £утховен. Там провел он ночь. Рано утром 4 ок-
тября 1903 г. Вейнингер прервал нить жизни выстрелом
в грудь.
* Впрочем, многие афоризмы изложены, так сказать, в таинствен-
ной <|юрмс, они могут быть понятны только посвященному, имевшему
с автором долгое личное знакомство. Все подобные места выпущены
во вто|х>м издании, так что «последние афоризмы» сокращены почти
втрое против их прежнего обьсма.
20
Здесь мы приводим некоторые характерные отрывки
из писем Вейнингера.
Из писем к А. Г.
Мюнхен, 29 июля 1902 г.
«...Мюнхен не выдвинул еще ни одного велико-
го человека: перебирал всех, но ни одного не вспом-
нил. Сейчас только пришел из Schack-Galerie. Там
висит копия великолепной картины: „Иеремия" Ми-
келанджело. Я до сих пор не знал, что картина может
так много дать, что из нее может исходить столько
ясных лучей».
Дрезден, 12 августа 1902 г.
«...Я теперь убежден, что родился музыкантом. По
крайней мере прежде всего. Сегодня я открыл в себе
одну специфически музыкальную фантазию, которую я
не доверил бы сам себе; она наполнила меня сильнейшим
уважением».
«...Теперь только увидел воплощенную „Сикстинс-
кую Мадонну". Она - красива. Но незначительна, она
не великолепна, не потрясающа. А люди! Я от души
забавлялся. Здесь есть более выдающиеся картины. Од-
ного я открыл, одного глубокого знатока женщин. Пальма
Веккьо!»
Фридриксгафен
(северный берег Ютландии),
21 августа 1902 г.
«...Позади меня - 14 часов морского пути; почти
целую ночь я провел на палубе при довольно значитель-
ном шторме и при волнах в 4 метра высоты; я не
подвержен морской болезни! Ничего иного я от себя и
21
не ожидал. Я думаю, человеческое достоинство не мо-
жет так страдать ни от чего другого, как от морской
болезни. Достаточно заметить, что все женщины ей под-
вержены».
Сиракузы, 3 августа 1903 г.
«...Вместо того, чтобы долго ждать в Анконе парохода,
я приехал сюда через Рим, Неаполь, Мессину, Таормину
(прелестный уголок земли) и Катанию (Этна).
В Риме слушал „Трубадура"; в нем превосходно изо-
бражены сердечные переживания, и я больше, чем когда-
нибудь, убежден, что Верди был гением. Позавчера вечером
среди волшебной местности на берегу залитого лунным
светом Ионического моря, среди поросшего папирусом ис-
точника Арентузы и парусных лодок залива я слышал, как
военная музыка в корсо играла Cavalleria rusticana*.
Масканьи был велик, когда писал ее. Теперь я видел
те места, где происходит действие оперы; я был недалеко
от Франкофонте и очень радовался, что представлял его
себе раньше вполне правильно: золотистый хлеб (la ci-
rasa). Это - самая плодородная страна Европы. Искал
и нашел много поучительного в сицилианских дуэтах у
крестьян; одному способу я сам научился у пастуха; он
сыграл мне на собственноручно сделанной свирели, прав-
да очень плохо, мелодию из „Севильского цирульника",
которая совершенно не подходила к Месту. Не завидуй
мне сильно, даже и тогда, когда написанное мною на-
полнит тебя чувством тоски.
Сиракузы чрезвычайно своеобразное место в целом
свете. Здесь я хотел бы или родиться, или умереть, но не
жить.
На Этне меня больше всего поразило удивительное
бесстыдство Кратера. Он напоминает зад мандриллы.
* «Сельская честь» (шпал.). - опера Масканьи. - Прим. ред.
22
Очень советую тебе заняться Бетховеном: он пря-
мая противоположность Шекспиру, а Шекспир или его
подобие, я все больше убеждаюсь в этом, есть нечто, из
чего должно исходить и исходит все великое. У Шекс-
пира мир не имеет центра, у Бетховена он таковым
обладает».
Сиракузы, 19 августа 1903 г.
«...Кроме обычных открыток с видами*, я прила-
гаю еще:
2 цветка из куста папируса,
1 кусочек лыка из его ствола.
Это ты должен приписать тому обстоятельству, что
лодочник, когда я ехал по обросшей папирусом реке
Анапо до знаменитого источника Чиано (обязательно
советую тебе сделать то же и непременно на лодке, если
ты будешь в Сиракузах), несмотря на мои протесты,
срезал растение незаметно для меня.
Одна открытка изображает растущие здесь папирусы,
а другая представляет очень плохой вид развалин старого
греческого театра, место, где, среди всех прочих пунктов,
какие я знаю, лучше всего можно перенести время сол-
нечного заката».
Из писем ко мне:
Казамичола, Isola d'Ischia.
«Дело обстоит гораздо хуже, чем сам я думал два
дня тому назад, почти безнадежно»**.
* Ты должен представить себе лома совершенно желтыми (как
в Шспбрунс), море синим-синим, а небо чистым, безоблачным.
* * Время окончания книги «Последние слова» в Сиракузах.
23
Соррент.
Змея - символ лжи (раздвоенный язык, сбрасыва-
ние кожи; ее ползанье есть противоположность птичьего
полета; змея как (внутренний) враг птицы)... В узком
смысле у греков не существовало проблем одиночества
и времени. Между греками и Бетховеном есть подобие,
так как у обоих мир обладает известным центром. Пол-
ная противоположность - Шекспир. Там - поляризо-
ванный свет. Здесь - наоборот. Противоположность со-
страдания у Шекспира не жестокость, а тупоумие.
Неаполь.
Ягненок самое невинное животное, но и он грешен:
усталый и трусливый; неповоротливость и трусость —
родственны, как прилежание и мужество...
Не родственно ли землетрясение судорогам эпилеп-
тика?
Выражение: «при всем твоем богоподобии тебе будет
страшно» - указывает, что Гете хотел однажды сделаться
богом, но потом отказался от этого.
Сотворены ли Богом овод (обладающий, между
прочим, известной садистической прелестью), блоха и
клоп? Этого нельзя допустить. Они - символы того, от
чего Бог отвернулся, и отражают для человека известные
вещи в нем самом, как море отражает небо. Но если
вонючка (mephitis) и сера не созданы Богом, то сам
собою отпадает принципиальный вопрос относительно
птицы или дерева: они также лишь символы человечес-
кого, всечеловеческого; иначе где-нибудь стало бы воз-
можным завершение, осуществление, вместо обычного
24
явления. Бог не может вмешиваться в такие мелочи,
ибо Бог - доброта; Бог создает только самого себя, но
ничего другого.
Русские - самый негреческий (неклассический) на-
род из всех народов.
Извивание змеи - символ извилистой гибкости
лжеца.
Всякая болезнь отвратительна; на этом основано то,
что она должна заключать в себе вину.
Лай и отскакивание маленькой собачонки - трус-
ливое, маленькое святотатство, поворачивающееся тотчас
назад с визгом о милости; оно никогда не отчаивается,
как убийца.
Перерывы в движении времени - суть безнравст-
венное начало в нем; вот почему в прерывистых переходах
от случая к случаю нет ничего святого.
Всякая нравственность заключает в себе творческое
начало; поэтому преступник не трудолюбив и не продук-
тивен (у него нет воли в стремлении к ценности). Если
бы женщина обладала действительной нравственностью,
она могла бы творить.
Самоубийство есть признак не мужества, а трусости;
едва ли не самая низшая трусость из всех возможных
ее проявлений.
25
Неаполь.
Страх - оборотная сторона всякой воли. Впереди -
«что-то», позади - «ничто». Поэтому страшно, находясь
в пути, при внезапном повороте назад заметить пройден-
ное расстояние (разумное единство времени). Я все же
думаю, что страх - родной брат безнравственности; только
чувство хаоса вырастает здесь тем сильнее, чем больше
хотят быть космосом. «Ничто» составляет границу для
«нечто». Если человек сделается всем, станет богом, у
него не будет больше границ, не будет страха. Но, ве-
роятно, незадолго перед тем он должен победить пос-
ледний, наибольший страх...
Вена, 6 апреля 1907 г.
Д-р Мориц Раппапортп.
О ГЕНРИХЕ ИБСЕНЕ
И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИИ
"ПЕР ГЮНТ'
ЕЕЕ
О Генрике Ибсене и его
произведении -«Пер Гюнт»
(К 75-легию поэта)
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ художника нужно от-
мечать самые разнообразные черты; мыс-
ли, которые нас просвещают, решения,
которые нас освобождают, формы, кото-
рые нас удовлетворяют и отвечают своему
содержанию, совершенство, которое вы-
зывает нашу зависть к автору, фантазию, которук» мы
можем любить или которой мы можем бояться; и, с
другой стороны, все то, что проникает в его произведение
от него самого во всей своей субъективности, от него
не как великого мыслителя и творца, а бесталанного
человека. Именно этот элемент кажется наиболее харак-
терным для «стиля» его искусства. Под «стилем» мы
разумеем свой собственный стиль. Свой стиль находят,
конечно, только гениальные люди, и различия в стиле
обусловлены их самобытностью. Степенью близости на-
ших собственных оригинальных черт к этой самобыт-
ности определяются и наши симпатии к художнику, а
для широких масс - и окончательный приговор о нем.
Это необходимо принять во внимание, чтобы понять
отношение нашего поколения и его выразителей к Ибсену.
Никто в наше время не борется за него, никто не высту-
пает против него. Хотя он и «современный» писатель,
но он не в моде у своих «современников». Все его давно
прочитали, одному он очень понравился, другой к нему
остался совершенно равнодушен, у третьего он вызвал
29
крайнюю антипатию. Все знают, что он за женщин и против
лжи жизни, и хвалят его диалог. Его не превозносят, как
Гете, и не бранят, как Шиллера. Заранее можно сказать,
что человек, книги которого можно купить за несколько
копеек, вряд ли сумеет удовлетворить вкус культурной тол-
пы, которая смотрит на художественные произведения
как на редкую мебель и тратит большие деньги на свои
духовные потребности. Каким бы странным ни казалось
это объяснение современного враждебного или равнодуш-
ного отношения к Ибсену, но оно не более странно, чем те
причины, которые обычно в наше время возводят на
престол или свергают с трона другие художественные ве-
личины. Поколение, которое воспринимало внутреннее
беспокойство своего невежества как тупое ощущение
нравственного пятна, болезненно искало противовеса это-
му чувству и как настоящий parvenu быстро находило
его в таких ничтожных идиллических писателях, как Гот-
фрид Келлер или Теодор Шторм, и, нисколько не заду-
мываясь и не боясь быть осмеянным, осмеливалось на-
зывать их рядом с Гете. Это было для него приятней,
чем под влиянием постоянного недоверия к себе думать
о необходимости внутренней работы над собой, а об этой
задаче должен был ему неприятно напоминать Ибсен.
Правда, этот художник имел несчастье быть трижды ском-
прометированным. Еще молодым человеком он попал в
руки того датского журналиста, который своей извест-
ностью обязан главным образом тому обстоятельству,
что первый беззастенчиво стал удовлетворять свою врож-
денную потребность интервьюировать всех знаменитых
людей Европы, и невероятно плоское краснобайство ко-
торого о литературных течениях XIX столетия только
потому и могло обращать на себя внимание, что до того
слишком долго приходилось выносить гнет профессор-
ских трактатов по истории литературы. Роковым ока-
залось затем для произведений Ибсена их одновремен-
30
ное появление со стремлением женщин к гражданским
занятиям В этом совпадении видели более, чем случай-
ность, в нем находили причинную связь. Понятно, что
более глубокие натуры не могли выступить на защиту
человека, которого хвалили женщины за его взгляды. И,
в-третьих, наконец, поэтом завладели мужские теорети-
ки современной культуры. Он был рекламирован соци-
ализмом и половой этикой. Больше всего шуму подни-
мали всегда вокруг тех произведений Ибсена, тенденции
которых временно более ограничены и которые поэтому
имеют более преходящую ценность. В них видели влия-
ние злободневных вопросов. И так как во второй поло-
вине XIX столетия последние слова Фауста приводили
все в более тесную связь с «песней труда», то все жен-
щины обоего пола интерпретировали заключительный
акт «Маленького Эйольфа» как надежду на «век ребенка».
Другая сторона этого женского отношения, «жизнь люб-
ви» была выдвинута той драмой Ибсена, которая доста-
вила ему наибольшую известность, именно «Привидени-
ями». Даже дарвинист мог ей обрадоваться, так как он
в ней видел «только приложение» гигиенических теорий
наследственности, изложенных в популярной форме для
семьи и школы по профилактической системе. Наконец,
уравновешенные представители социализма истолкова-
ли Ибсена как еще неясного и малорешительного пред-
шественника Ницше. Если фразерам обоих направлений
претил его богатый символизм, то для самих символистов
он был слишком мало человеком настроений, слишком
логичным, холодным.
После всего этого понятно, почему в наше время
имя Ибсена почти всегда произносят с таким скучающим
видом, с таким тоскливым настроением. Для развитого
человека оно обозначает тривиальность, лозунг, который
был провозглашен в борьбе с поколением, воспитанном
на классицизме, и сослужил уже свою службу, так как
31
борьба окончилась победой. Все, что он сказал, всякий
знает до пресыщения. Он возвещает эпоху, которая и
без того уже наступила, говорит об истинах, которые
уже стали общим достоянием науки: а для художествен-
ного произведения это самый смертельный удар. И то,
что его всякий знает и что некоторые его драмы ставятся
везде без всякого сопротивления с чьей-либо стороны,
еще более отодвигает его в область прошедшего.
Поэтому тот, кто хочет в настоящее время сказать
еще что-нибудь об Ибсене, находится в затруднительном
положении. Ему грозит опасность попасть в число тех
отсталых людей, к которым мировая почта моды попадает,
как свет неподвижных звезд на землю, только через
целый ряд десятилетий. Тот же, кто в произведениях
этого автора, и прежде всего в его самой сильной «дра-
матической поэме», в «Пер Гюнте», видит продукт не
одной какой-либо эпохи, а художественное творчество
для вечности, тот, конечно, знает, о ком он дает свой
отзыв, но недостаточно ясно представляет себе, против
кого он в данном случае выступает.
Прежде чем излагать содержание «Пер Гюнта», мы
считаем нужным заявить о своем отказе входить в под-
робный разбор ходячего мнения, согласно которому эта
поэма является только насмешкой над всем норвежским
и поэтому может быть понята только соотечественникам
поэта. Правда, в «Пер Гюнте» встречаются места и сцены,
которые можно истолковать в подобном смысле. Но ге-
роем «Пер Гюнта» является человечество вообще. Тот,
кто даст себе труд прочесть несколько больше или захочет
себе доставить удовольствие снова просмотреть всю поэму,
найдет вышеприведенный взгляд столь же странным,
как к примеру, мнение, будто Гете своим «Фаустом»
хотел написать сатиру на немецкое студенчество. Впро-
чем, Ибсен нигде не был так мало понят, как на своей
родине. Там, где Кнута Гамсуна, который дал «Пана»,
32
быть может, самый красивый роман из когда-либо на-
писанных, считают заурядным писателем и ставят гораз-
до ниже малоталантливого Гарборга, где всегда говорят
только «Ибсен и Бьернсон», где, а в особенности в Хрис-
тиании, «Пер Гюнта» ставят перед цирковой публикой и
в такой форме, которую, в лучшем случае, можно назвать
бульварной, там, по-видимому, Ибсену приходилось много
страдать. Впрочем, он уже и сам в своем эпилоге дал
понять, как мало он был понят.
«Пер Гюнт» является искупительной драмой и, заме-
тим мы тут же, одним из величайших литературных про-
изведений, более глубокой и разносторонней, чем все дра-
мы Шекспира. Не уступая им в красоте и непревзойденном
блеске своих мыслей, эта поэма, по значительности своей
концепции, стоит рядом с «Фаустом» Гете, оставляя его да-
леко позади по силе художественного исполнения, и почти
достигает высот «Тристана» и «Парсифаля» Рихарда Ваг-
нера. Общим для этой поэмы с указанными тремя про-
изведениями является постановка проблемы человечества
во всем ее огромном объеме, со всеми ее неумолимыми
альтернативами. Центральным пунктом в «Пер Гюнте»
является вопрос о значении любимой женщины для муж-
чины, и нельзя надеяться понять это произведение, не
отдавши себе ясного отчета в этом вопросе.
Этот вопрос, правда, мало напоминает о «Парсифале»
и «Тристане», скорее о роли женщины в первых драмах
Вагнера, в «Голландце» и «Тангейзере», о Данте, Гете.
Сольвейг - Virgo immaculata*, которая является любимой,
но уже не желанной, Мадонна, Беатриче. Человек -
всякий человек, и в этом великая загадка любви, в этом,
скажем мы вкратце, заключается основной смысл всего
«Пер Гюнта» - никогда не бывает в такой степени самим
* Непорочная дева (лат.'). - Прим. ред.
33
собой, как тогда, когда он любит. Любовь для человека
есть возможность, и притом самая частая, самая легкая
возможность, познать самого себя, свою личность, свою
индивидуальность, свою душу. Что он - есть он, центр
мироздания, сам по себе человек, который не только
живет и умирает в мире впечатлений: это постигает
человек чаще всего, когда он любит, если он вообще
способен это познать в отличие от современных лже-
цов «я», для которых это остается вечно непостижи-
мым. Поэтому любовь превращает столь многих людей
в мистиков, и даже такой филистер эмпирики, как
Огюст Конт, не избежал этой участи. Философы совер-
шают этот акт, который они (Шеллинг, Банзен, Мен де
Биран, Августин) называют «интуитивным самонаблю-
дением субъекта» скорее через познавание своей обособ-
ленности в мире и путем размышления над этической
проблемой; художниками это воспринимается как вле-
чение к «вечно женственному», даже когда дело каса-
ется моральной проблемы, которая в одинаковой степени
как у них, так и у философов лежит в основании самых
ясных и самых туманных представлений.
Пер Гюнта искупляет - эта глубокая мысль менее
всего была понята - по Ибсену - и в данном случае он
далеко превосходит по своему реализму молодого Ваг-
нера - не живая, телесная Сольвейг, которой может
быть любая девушка, а та Сольвейг, которая в нем самом,
эта возможность в нем, которая дает ему силы для
искупления Эту возможность через Сольвейг и любовь
к ней достигнуть своего лучшего «я» он упускал в тече-
ние всей своей жизни Только поэтому Сольвейг мо-
жет сказать: «Ты, твое истинное (абстрактное) „я",
было со мной в течение всей твоей жизни», - когда он
в глубоком смятении спрашивает ее, или, вернее, са-
мого себя:
34
Где я был?
С ярким на челе клеймом,
С искрой божией в груди?
Ему самому его существо представляется в виде
луковицы: одни покровы без зерна, одни атрибуты и
модусы и никакой субстанции.
Будут удивляться, что мы интерпретируем здесь Иб-
сена с философской точки зрения, хотя он сам в «Пер
Гюнте» смеется над немецкой философией (в особенности
гегелевской).
Но Ибсен принадлежит к той категории великих
людей, у которых нет интимной близости к мыслям и
художественным произведениям прошедшего, как и Золя,
Кнут Гамсун; особенно резко представлен этот тип, на-
пример, в лице Г. Клейста и Шелли; из философов сюда
нужно причислить Джордано Бруно, Канта и, особенно,
Декарта, Сократа и Фехнера; другая категория великих
людей испытывает большую потребность примкнуть к
культурному прошлому*; наиболее резко в этом смысле
проявляются Гете, Вагнер, затем Грильпарцер, Гердер,
романтики вообще; из философов - Платон**, Лейбниц,
Гегель, Ницше и еще сильнее Шопенгауэр.
Из музыкантов к первой категории следует причис-
лить Бетховена и Брукнера, ко второй Шумана. Этим
мы обозначили только полюсы, между которыми нахо-
дится много посредствующих звеньев.
Нечто подобное было предусмотрено различением,
проводимым Карлейлем-Эмерсоном между «поэтом»
и «писателем», которое, в свою очередь, было расши-
рено и точнее обосновано новым делением. Это деление
* Не будучи от этого менее оригинальной.
•* Который всегда заставляет говорить Сократа!
35
может иметь более глубокие корни в природе обеих
категорий, но эту трудную проблему мне не удалось
разрешить.
Вернемся к Ибсену. Его, очевидно, недостаточное
знакомство с философской литературой при столь силь-
ном и изначально глубоком интересе к главным эти-
ческим проблемам может иметь только вышеуказанное
основание. В противном случае Ибсен должен был бы
знать, что его поэзия есть философия Канта. Никто
другой, только Кант и Ибсен понимали правду и ложь
как глубочайшую этическую проблему (Фихте, приняв-
шего непосредственное наследие Канта, мы с полным
правом можем обойти молчанием). Никто другой, кроме
них, не понял, что истина может вытекать из обладания
своим «я» в высшем смысле этого слова, из обладания
индивидуальностью: а это является учением «Пер Гюнта»
в не меньшей степени, чем «Критики практического
разума». Никто, кроме них, не осмелился высказать
нравственное требование во всей его строгости и неумо-
лимости, именно так, как его фактически ставит внут-
ренний голос человека, и выступить с ним перед чело-
вечеством, тогда как все другие представители религии,
философии и искусства всегда допускали компромиссы.
«Все или ничего» - одинаково говорят Кант и ибсенов-
ский Бранд; и судьба их одинакова вплоть до обвинения
в ригоризме, которое было им брошено всеми половин-
чатыми и неискренними натурами. Специально проблема
лжи занимала Ибсена с самого начала до конца его
творческой деятельности, от «Комедии любви», в Скуле,
«Враге народа» и Ялмаре до дружбы Габриеля Боркмана
с Фулдалем.
Доктор Бегриффенфельд, в лице которого по обще-
распространенному мнению видят только насмешку над
немецким ученым, на самом деле представляет собою
большее, чем одну только карикатуру. Он очень хорошо
36
понимает всю пустоту понтовской личности (эмпиричес-
кого «я») и знает, где именно может наступить царство
Пер Гюнта: в доме для умалишенных, у сумасшедших,
у которых вообще нет разума (опять-таки в кантовском
смысле)*.
Ибсен знает (и если он не излагает этого при помощи
понятий, то ясное представление об этом дает нам изо-
бражение Пер Гюнта), что только обладание («интелли-
гибельным») «я», обладание личностью сообщает цен-
ность человеку и что отсутствие таковой в человеке
создает потребность приобрести эту ценность извне. Поз-
нание того, что воля к власти бесконечно глубоко зало-
жена во всяком живом существе, является, бесспорно,
великим и далеко не достаточно оцененным умственным
приобретением Ницше. Что же касается собственно че-
ловека, то самое глубокое в нем и его последнее отличие
от животного, как мы думаем, представляет не воля к
власти, а воля к ценности. Из недостатка ценности в
себе самом вытекает тенденция приобрести ценность из-
вне. Так возникает тщеславие и всякое мошенничество
в широком смысле этого слова. Воля к ценности конс-
титуирует человека как такового, как мужчину, так и
женщину. Если человек не может найти этой цен-
ности в самом себе - этот случай всегда бывает с
женщинами, - то он старается получить ее от другого:
своего права ищут перед тем форумом, от которого ждут
приговора. Но в отличие от животных, которые стре-
мятся только к наслаждению, к удовлетворению своих
естественных потребностей, всякое человеческое сущес-
тво старается приобрести возможно больше ценности для
себя независимо от того, где и как оно эту ценность
ищет.
* Никто никогда нс бывает вполне самим собою, пока он живет
на земле. Только совершенно глупый человек может думать, что он
вполне нашел себя, потому что он более не ищет.
37
Пер Гюнт, у которого еще нет никакой внутренней
ценности, предстает поэтому перед нами уже в первом
акте как хвастун и лгун.
Ибсен знает, что обладание личностью обнаружива-
ется в человеке прежде всего в стремлении следовать
своему внутреннему нравственному закону. Пер Гюнт, у
которого, пользуясь выражением Шопенгауэра, недостает
«центра тяжести», попадает поэтому в царство троллей,
лозунг которых гласит: тролль, будь доволен самим собой.
У существа без морали интеллигибельного субъекта не-
достает также и стремления, этой интеллигибельной сущ-
ности чистого «я», стать вполне самим собой; у него
нет потребности в самосовершенствовании, ему чужд тот
«прогресс» к этическому идеалу, о котором говорил Кант,
оставшись в значительной степени непонятым. Довольны
собой животные. Поэтому Пер Гюнт заслужил обезьяний
хвост. Ибсен знает, что только обладание «я» в высшем
смысле этого слова ведет к признанию «ты» в другом,
к этому фундаментальному обоснованию всякого альт-
руизма, что самоуважение является предпосылкой ува-
жения к другим, и поэтому индивидуализм представляет
собой прямую противоположность эгоизма. Отсюда та
бессердечность и себялюбие, которые он изображает нам
в Пер Гюнте.
Человек для Ибсена, как и для Канта, есть посред-
ствующее звено между животным и чем-то высшим, из
навоза и огня, говоря словами Гете, в одно и то же
время глина и ваятель, пользуясь выражением Ницше.
Победит ли нравственная идея, или человек погибнет,
как бездушное, ничего не стоящее сущ ство? Таков вопрос,
который поставлен Ибсеном в лице Пер Гюнта. Челове-
чество было бы неудачным опытом божества и должно
было быть отлито в новую форму, если бы оно «до
конца противилось своему предопределению», т. е. до
конца оставалось бы неверным и непослушным в слу-
38
жении своему внутреннему высшему началу, логосу, духу,
разуму (в кантовском смысле). Пуговочник в Пер Гюнте
и по имени, и по роли своей представляет в самой
непатетической форме божество, которое обозначает для
Ибсена, как для Канта и Платона, нравственную идею
и ее требования к человечеству.
* Пуговкой блестящей был задуман ты на жилете
мира, только с неудачным вышел ты ушком».
В блестящей сцене Пер Гюнт, которого (как и боль-
шинство людей) нравственно просветляют только два
момента, любовь и смерть, начинает перед самой своей
кончиной спрашивать о содержании своей жизни, пере-
бирает в своей памяти одно за другим воспоминания,
которые должны доказать ему самому, что он не совсем
еще погиб, что его жизнь нельзя считать совершенно
бесцельной. Нигде, может быть, во всей мировой лите-
ратуре аллегория не применяется с такой силой и с
таким искусством, как здесь. Действующие лица обра-
ботаны с большой экономией и не завешаны никакими
покрывалами, чтобы этим легитимировать свое сущест-
вование и свою сущность; они живут так, что мы отно-
симся к ним, как дети к сказке: нам кажется само собой
понятным, что они приходят. Ибсен мог поэтому дать
им менее абстрактные имена, которые, понятно, сделали
бы более ясным их глубокий смысл всеобщности. Пу-
говочник представляет собою совесть, в лице которой у
Ибсена, как у Канта и Сократа, божество («хозяин»)
говорит человеку. Так как его совесть ставит требования
и вопросы, то Пер старается показать свою прошедшую
жизнь с лучшей стороны. Он совсем еще не чувствует
себя виновным, он еще не берет ни одного из своих
деяний на себя, он скорее хочет лишь спасти себя от
угрожающих притязаний нравственного закона: как будто
этого достаточно, чтобы затем делать что-либо другое,
как будто нужно только один раз с ним расплатиться и
на этом успокоиться. Пер Гюнт все еще слишком слеп,
39
чтобы чувствовать: «лишь тот достоин жизни и свободы,
кто каждый день идет за них на бой». Но в его памяти
встают не только те воспоминания, которыми он может
успокоить свою совесть. Наоборот, он должен вспомнить
также про доврского деда и про свою жизнь в царстве
троллей. Он, правда, не дал привязать себе обезьяньего
хвоста и не превратился даже в животное; но он все же
согрешил в царстве животных, так как у дочери короля
троллей родился от него ребенок; он принял их лозунг
и был доволен самим собой, вместо того чтобы «прово-
дить свою жизнь в вечных исканиях». Теперь он убеж-
дается, что душа не является только санкцией тела, его
страстей, его бездеятельности, которым он раньше по-
творствовал, принципиально отклоняя всякие сомнения
(четвертый акт, начало), он даже наслаждался этим сво-
им «я». Теперь он понимает, что не страшно потерять
палец, пострадать несколько своим эмпирическим «я»,
если только можно такой ценой укрепить свою индиви-
дуальность (чего он раньше никак не мог постигнуть).
«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит». Теперь он убеждается, что
высшее «я» находится в вечной борьбе с низшим и что
полная победа одного есть смерть для другого. «Быть
самим собой - значит убивать себя»*. Все это он должен
себе сказать и вынужден самого себя судить. Ему при-
ходит на ум, не было ли его назначением («мнение
хозяина», которое он должен был носить с собой, «как
вывеску») принципиально и сознательно грешить во всех
случаях своей жизни против того другого назначения и
бороться с ним, он пытается припомнить, не был ли он
злым, по крайней мере, чем-нибудь, а не безличной, жал-
кой, ничтожной посредственностью. Но нет, он и в этом от-
ношении был ничтожен. «Ведь и великих грешников не
• См.: Еванг. от Марка, 8, 35. «Ибо кто хочет душу свою сберечь,
тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою, ради Меня и Евангелия,
тот сбережет ее».
40
так много есть теперь». Он даже не может себя пред-
ставить большим преступником, и Худощавый (черт),
которому он охотно продался бы, лишь бы только не
быть ничем, мало разжирел бы от него. Наполеоны и
Дон Жуаны, эти Яго и Гагены также тонко испечены,
не одни только святые. Здесь чувствуется весь гнев, все
глубокое презрение поэта к человеческой толпе. Пусть
она не воображает, что она достойна ада; этот последний
создан для более благородных и блестящих людей; дьявол
предназначен для других, не для обезьян и свиней. Идее
сатаны, величия которого им бы лучше не оскорблять,
он противопоставляет концепцию своего пуговочника.
Последнего человечество должно заслужить вполне, он
должен стать ему необходим.
Вспоминаются слова из Апокалипсиса: «Я знаю по
делам твоим, что ты не холодный и не горячий. Ах, если
бы ты был или холодным, или горячим. Но так как ты
не холодный и не горячий, а только теплый, то я выплюну
тебя из своего рта». Пер Гюнт был бы «бессмертен в
Боге» или «бессмертен в Сатане», если бы он представлял
собой сознательную личность, добрую или злую. Но у
него вообще не было «я», которое освободило бы его от
времени и обеспечило бы ему существование и развитие,
независимые от физического, естественного закона ро-
ждения и смерти, у него не было ни чистой, ни черной
души. Пер Гюнт представляет собою тип многочисленных
среди нас аморальных людей, которых считают мораль-
ными потому, что они не антиморальны; у них нет ни
достаточного инстинкта, ни свободной решимости, чтобы
отрицать моральное; они не могут демонстративно пре-
зирать мораль*. Они думают, что верят, хотя у них нет
* Мы были обязаны щюдноложить и описать величие в аитимо
ральном, чтобы нс изменить Ибсену. Сами мы считаем фикцией величие
во зле. (См.: «Пол и характер»).
41
глубокого, внутреннего религиозного чувства. Они не
преступники в силу совершенных или задуманных ими
деяний и все-таки преступники по отношению к самим
себе, потому что обманывают самих себя, исполняя за-
поведь, которая не продиктована им от их чистого сердца.
Их поступки легальны и с внешней стороны часто даже
более, чем легальны, но их мотивы, хотя и бессознатель-
ные - это страх потерять уважение, не в своих собст-
венных глазах, а в глазах других. В лице Пер Гюнта
осмеиваются, таким образом, те, для которых решающим
моментом является другой человек, все поклонники Иего-
вы в человечестве: Иегова, насколько он оказывает вли-
яние на мысли и поступки единичного человека, есть
только колоссальная персонификация другого человека*.
Пер Гюнт был уверен, что его действия были автономны
тогда, когда он жил более всего гетерономно (смотри
его доклад о гюнтовском «я» в четвертом акте); он считал
себя бесстрашным, независимым индивидуалистом, хотя
был только жалким и трусливым эгоистом.
• Ибсена, величайшего и глубочайшего индивидуалиста после
Канта, считали этическим социалистом, автора «Вранла», «Столпов
общества» и «Женщины с моря» хотели эксплуатировать в пользу
верховенства большинства против свободы индивидуальности. Ибсен,
конечно, не ненавистник социальною, идеи общества, в отличие от
тех современных псевдоипдивидуалистов, которые повинны но все-
общем отождествлении индивидуализма и эгоизма, и именем
Ницше, превращенного ими в дарвиниста, прикрывают снос не-
удовольствие по поводу того, что такие феномены, как болезни
и бедность, мешают им трапезничать и наслаждаться радостями
постели, прерывают им мирное чтение газет и болтовню а теплом
салоне. Ибсеновский индивидуализм гораздо решительней ницшев-
ского, потому что гораздо яснее последнею. Но Ибсен имел
обыкновение па вопросы всякого своею комментатора, который об-
ращался к нему за подтверждением его критического отзыва,
без всякого различия отвечать, что критик его понял лучше всех.
Поэтому он. вероятно, и нс счел нужным хотя бы одним словом
опровергнуть утверждение, наложившее на него клеймо этичес-
кого социалиста. Но как могли мечтатели идеи рода рассчи-
тывать на человека, главная проблема которого была истина и
ложь, индивидуально-этическая проблема.
42
Не вневременной личности своей, не истинному сво-
ему «я» он предоставил власть над собой, он «был уже
мертвым задолго до своей смерти». Так рано* мы встре-
чаем у Ибсена форму, в которую отливается основная
мысль его последнего драматического «эпилога», мотив
высшей, вечной жизни, основная идея учения Христа,
как определяющий фактор его мышления и художест-
венного творчества. Без основного зерна, без индивиду-
альности, которая через посредство вневременного ме-
диума только наблюдает вещи этого мира, нет бессмер-
тия: бессмертие души может быть только у существа с
душой. После этого Пер Гюнт должен попасть в ту
огромную помойную яму, где он теряет форму и где
сохраняется только материя (как сохраняется ценность
металла от расплавленных монет). Не будучи знаком с
эзотерическим учением буддизма, которое еще не про-
никло тогда в Европу, Ибсен здесь близко подходит к
его доктрине о судьбе человека после смерти. Здесь
следует вспомнить также аристотелевский взгляд на
душу как на форму!
В страшных нравственных мучениях перед смертью
своей после жизни, лишенной всякой вечности, Пер Гюнт
познает, наконец, в своей мысли о Сольвейг, чем он мог
бы быть и чем он не был. В своей любви он был самим
собой. Любовь помогла ему перенести свое жалкое земное
существование, теперь он от этого земного существования
уходит - также в любви. Теперь, наконец, он вступает
в высшую жизнь и может ясно сознавать свое «я» - но
не на земле. Сольвейг предстанет перед ним в виде
старой матушки и смерти одновременно. Никто этого
еще не высказал посредством понятий, но здесь заклю-
чается бесконечно глубокое бессознательное умственное
приобретение художественного гения Ибсена, то же са-
• Если не раньше еще (Катилииа). См.: Schlenther, Ibsens Wcrkc,
Bd. 1, 1903, писдеиис, с. 48.
43
мое, которое обнаруживается в личности Альраунь из
«Германовской битвы» Клейста, предсказывающей Вару
его близкую кончину (пятый акт, четвертая сцена): ста-
рая женщина находится в таинственном отношении к
смерти (вспомните также «Мышеловку» из «Маленького
Эйольфа»), Все, что имеет тесное отношение к физичес-
кой жизни, находится также в тесной связи с физической
смертью. Женщина через материнство интимно связана
с земной жизнью, следовательно, и с земной смертью.
Страх перед старой женщиной есть только страх перед
смертью. Так комбинируется в лице Сольвейг последнего
акта чистое «я» Пер Гюнта, которое не может вполне
осуществиться без смерти эмпирического «я», со смертью
последнего в единственно возможной форме. И поэтому
Сольвейг для Пер Гюнта - смерть, поэтому умирает Пер
Гюнт. Пуговочник увещевает, просит, требует; но громче
раздается на заре Светлого Воскресения чудесная песня,
колыбельная песня Сольвейг:
Буду сон охранять сладкий твой,
Спи - усни, ненаглядный ты мой!
Пер Гюнт спасен.
Его невидимое «я», высшая жизнь его духа, кото-
рая обнаруживается в нем только в его любви к Соль-
вейг, одерживает, таким образом, победу в конце его
жизни.
Теперь ясно: этот Пер Гюнт не единичная личность
и не единичный народ. В его лице автор бичует человека
как такового, считающего себя освободившимся от всего
животного и кичащегося своей человечностью, не по-
дозревая даже при этом, что это должно обозначать.
Поэтому человек-обезьяна в лице доврского деда
жалуется на несправедливость, что его считают мертвым:
44
Дочкино потомство, как сказал я,
Ни в чем не спрашивает деда,
Как будто не живу я больше,
Иль только вздором стал пустым.
Но человек для Ибсена, как и для всех более глу-
боких умов, состоит с самого начала из тела и души,
или, в кантовской концепции древнейшего дуализма, из
феноменального и ноуменального субъекта, эмпиричес-
кого «я» и интеллигибельного, как законодателя морали.
Но большинство людей ничего не знают о существовании
души и оспаривают ее именно потому, что это большин-
ство, за исключением, может быть, нескольких моментов,
живет совсем без души. «Пер Гюнт» - трагедия человека,
который ищет свою душу, и поэтому поэма написана
для большинства людей (если не для всех).
Бездушие играет вообще самую большую роль в
этом произведении. В лице Анитры оно представлено в
самой развитой форме, в какой оно только возможно у
человека. Она представляет собою то, что чувственно
влечет мужчину, не сообщая ему никаких других более
высоких порывов, только кокетливую куклу. В ней нет
никакого стремления к достижению своего «я», вместо
этого ее, как сороку, привлекает блеск драгоценного кам-
ня*. Наоборот, в мужчине Пер Гюнте есть стремление,
хотя и без всякой определенной цели, есть самоискание
без способности найти себя, ибо он всеми силами ста-
рается обогащать только свое эмпирическое «я» и ничего
не приобретает, кроме показовой ценности, которую он
каждую минуту может потерять, как мантию пророка.
Эта натура Пер Гюнта изображена Ибсеном всегда себе
равной, во всех его мытарствах тождественной - и в
* Женщины ищут души у мужчины, как у самца, бороды и мус-
кульной силы, не для самих себя.
45
этом одна из гениальнейших черт его творчества и она
производит наиболее сильное впечатление. Ибсен про-
никнут непоколебимой уверенностью, что существует не-
что постоянное, что во все моменты жизни остается
равным самому себе, что, собственно, и есть характер
человека, который не изменяется*.
В первом акте мы видим, как Пер Гюнт с какой-то
болезненной страстью силится вызвать уважение к себе,
рассказывая про себя всевозможные небылицы. Здесь
его собственное уважение к самому себе еще не трогает
его. Он не может только перенести неуважения к себе
со стороны других. Он сам об этом громко заявляет:
О если б мог я, как мясник, ножом
Презренье из сердец их удалить!
Но в тот самый момент, когда он об этом кричит, он
чувствует, что, кроме сказанного им, есть еще что-то -
какая-то необыкновенно жуткая пауза, как бы коротка
она ни была; он оглядывается, как будто насмешливый
гном ему шепнул, что это уваженье со стороны других
еще не все. Это единственный нравственный порыв у
Пера до его знакомства с Сольвейг. Во втором акте
раздается лозунг, полный иронии: «По выезду людей мы
знатных узнаем»**. Здесь Пер Гюнт поклялся мстить
всему лучшему - феномен позорного ренегатства, заглу-
шенной совести, вместо которой выступают постоянные
воспоминания о принесенных жертвах (Тангейзер после
приговора Папы). Теперь он чувствует себя невредимым
в полном общении с природой и ее демонами, чуждыми
всякой морали. С поразительным искусством эта абсо-
* См.: Шопенгауэр, Новые наралипомсны, § 220.
“ В четвертом акте мы узнаем, что длинный ряд лет не изменил
этого пароля.
46
лютная имморальность природы персонифицирована в
тех трех пастушках, которые вступают в любовные от-
ношения с Пер Гюнтом. Здесь Ибсен создал художест-
венные типы, которые нисколько не уступают Менадам
и Сатирам греческой мифологии.
Встреча Пера с наряженной в зеленое одеяние
тролльской принцессой после его похождений с пастуш-
ками показывает, что его воля к ценности находится на
одинаковой ступени с такими же стремлениями принцес-
сы. «По выезду людей мы знатных узнаем» - в этом
лозунге они находят себя. Это напоминает нам то место
из «Фауста» Гете, где он заставляет говорить черта о
росте «я» до Микрокосма:
За шесть коней могу я уплатить;
Не так ли я богат поэтому, как вы?
Такой «господин Микрокосм», какой желателен для
Мефистофеля, полностью представлен в лице Пер Гюнта.
Но эта иллюзия, которая превращает его из старого
кабана в благородного скакуна, имеет за собой не только
моральное, но и логическое основание. Это не только с
самого начала напрасная попытка увеличить свою цен-
ность уважением к себе со стороны других, тем больше
обогащать свое эмпирическое «я», чем больше он рав-
нодушен к интеллигибельному, но и полное искажение
действительности, произвольное и неправильное толко-
вание опыта - черты, общие у него не только с тролльской
принцессой, но и с феллахом из сумасшедшего дома в
четвертом акте. Сцена в сумасшедшем доме уже подго-
товляется здесь, потому что само неэгоистическое участие
во внешнем мире, как оно дифференцируется из стрем-
ления к истине, из жажды познания, вытекает из той
же интеллигибельной сущности человека, которая так
47
слаба в Пере. Только таким образом может быть оправ-
дана концепция личности героя как мечтателя, и уж ни
в каком случае нельзя считать «Пер Гюнта» карикатурой
автора. Всякое художественное творчество есть только
высшая истина, только религия, музыка, философия.
Ошибки Пера относительно внешнего мира представляют
только объективную сторону его внутренних ошибок от-
носительно его самого, недостающее у пего чутье к дей-
ствительности вполне тождественно с недостающей у
него любовью к истине-, оба явления вытекают из тож-
дества логики и этики, и оба кульминируются в высшем
понятии истины как высшего блага. Для Канта поэтому J
существует только один разум, теоретический и практи-
ческий в одно и то же время. У животных его нет. В
царстве троллей Пер Гюнт должен приобрести другой
взгляд; над ним должна быть совершена операция, прежде ;
чем ему можно будет вполне превратиться в тролля.
Смех и плач, радость и горе также свойственны только
человеку, а не животным. Поэтому король троллей перед
операцией удаления человека из Пера говорит:
Подумай только, как одним ударом
Освободишься ты от горя и обид,
Источником обильных горьких слез
Не будут больше очи ясные твои.
Можно ли с меньшим пафосом и сентименталь-
ностью и вместе с тем с такой удивительной яркостью
выразить, что человек, который сознает свою человечес-
кую личность, обрекает себя на страдания* и отказывается
от счастья.
Пер Гюнт в крайнем ослеплении, и в ответ на вопрос
короля троллей, чем отличается человек от тролля, поэт
* Здесь кстати вспомнить полные глубокого смысла, правдивые
слова Реллинга из «Дикой утки» (5-й акт): ^Отнимите у среднего
человека ложь жизни, и вы лишите его счастья».
48
легко может вложить ему в уста сатиру: «они похожи
друг на друга, как две капли воды»; Пер готов поклясться,
что убежден в этом, лишь бы только заслужить прелести
тролльской принцессы. Но невзирая на все это, у него
сохраняется еще остаток какого-то «я», при котором и
это пребывание в царстве троллей должно было оказаться
преходящим во времени явлением. Поэтому он отказы-
вается приписаться к троллям навеки. Проснувшееся в
нем его высшее бытие в этом порыве, в этом чувстве,
при котором вечность служит масштабом для принятия
решения, помогает ему услышать звон пасторского ко-
локола из долины и понять его призыв. Христианский
дух этой поэмы становится виден в том, что только
теперь, перед звуками этого колокола, должны совер-
шенно исчезнуть тролли.
Но в третьем акте Пер Гюнт уже опять мечтает о
том впечатлении, которое произведет задуманный им
дворец на других. Его самого его будущий дом мало
трогает, он должен импонировать только другим. В
данном случае Ибсена можно сравнить с Фридрихом
Геббелем. Мы не желаем умалять значение последнего,
но, наверное, почти все, к кому мы могли бы обратиться
с вопросом по этому поводу, весьма решительно поста-
вили бы его выше Ибсена, и совершенно, по нашему
мнению, несправедливо. Как слабо, односторонне, огра-
ничиваясь только одним моментом, обработал эту про-
блему Геббель в своем произведении «Гиг и его кольцо»,
как мало глубины и как мало стремления и жажды глу-
бины он проявляет в характеристике мужа, не способного
упустить случая показать свою красивую жену другому*.
* Мы нс думаем здесь касаться ни значения Геббсля, которое
гораздо ярче проступает в его «Юдифи», «Женевьеве» и афористи-
ческих эпиграммах, ни многих красот его «Гига и его кольца», которые
остались непризнанными. Геббель, конечно, стоит выше Шиллера,
Грильпарцера и Лессинга, вместе взятых, но он далеко уступает Ибсену
и Вагнеру.
49
Как на красивейший художественный прием Ибсена,
нужно указать на манеру Пер Гюнта говорить о себе в
третьем лице, особенно, когда он мечтает сделаться царем,
например, в первом акте:
Пер Гюнт со свитой едет, на коне
. с серебряным султаном, на подковах
из золота червонного. Он сам
в перчатках, с саблей, в мантии широкой
на шелковой подкладке. И вся свита
такая же нарядная. Но кто
сидит в седле прямее, кто всех краше?
Пер Гюнт1 И где он едет - там толпы
шпалерами стоят, ломают шапки
и на него во все глаза глядят,
А женщины смиренно приседают.
Все знают - это царь Пер Гюнт со свитой1
Бросает, словно камешки, в толпу
монеты пригоршнями он.
Такое отношение к самому себе, такое обращение к
самому себе в третьем лице имеет очень глубокие корни.
Может быть, Пер Гюнт рисует здесь вне себя образ,
перед которым преклоняются, и сам же идентифицирует
себя с этим образом, радуется этому почитанию его
личности in effigie mentali*, и сам наряду со всеми пре-
исполняется уважения к ней? Эту черту можно было
бы охарактеризовать как зарвавшееся тщеславие. Но это
было бы по-женски, а Пер Гюнт - мужчина. Это походит
на мечту девушки о графе, который предпочтет ее всем
ее подругам и сделает ее своей любовницей. Это напо-
минало бы, как жена всегда обманывает мужа, обещая
• В представляемом образе, в воображаемом портрете (лат ). -
Прим ред:
50
ему стать идеалом добродетели или хозяйственности, к
которому его заставляет стремиться потребность в любви
или практический расчет, и никогда не заводит даже и
речи хотя бы о единомыслии с ним. Самообъективиро-
вание Пер Гюнта лежит глубже. Оно возникает из отказа
от свободы воли, который в свою очередь имеет своим
основанием отрицание личности. Пер Гюнт ставит себя
самого в функциональные отношения к чему-то другому,
он попадает под эмпирическую каузальность, как только
интеллигибельная свобода перестает проявляться в нем
как определяющая идея Он ставит себя, таким образом,
в отношение зависимости к другим людям, он нуждается
в них, как в зрителях, награждающих его овациями, он
является их рабом как раз тогда, когда считает себя их
царем. Наполеон позировал перед теми, кого он подчинил
своей власти Только в бытность свою молодым генера-
лом он, быть может, на короткие моменты был искрен-
ним по отношению к самому себе. Пер Гюнт до сих пор
вел жизнь, полную лжи, он не был самим собой, у не-
го нет никакого «я», и поэтому он является третьим
лицом. Но теперь он уже нащупывает самого себя в
своих пороках и в то же время тяжко страдает от этих
вечных рецидивов самого вульгарного тщеславия, так
как всякое самонаблюдение носит моральный характер.
Между тем, его прошлая грешная жизнь вновь и вновь
дает себя чувствовать, ее последствия тянут его вниз, у
него недостает силы, он не чувствует в себе достаточной
уверенности, чтобы мечтать о лучшей жизни рядом с
Сольвейг. Поэтому он хочет убить все прошлое: он обго-
няет свою мать на пути к смерти, так как должен «забыть
все то, что гнетет его». Его мать* в противоположность ему
всегда отстаивала мораль и разум, но он сам вырывает
• Один из лучших типон ибсеновских женщин, хотя он и обработан
без особенной глубины
51
у себя материнскую почву из-под ног. Здесь уже, может
быть, в зародыше появляется мысль, что только в своем
отношении к женщине он был самим собой*.
Больше всего поражает нас его падение в четвертом
акте. Человек живет тут в полном слиянии с обезьянами,
в которых превращается тролльский сброд (намеренное
повторение слов: «Старик был плох, юнцы же хуже
бестий»); гюнтизм становится лозунгом человечества во-
обще: Пер Гюнт становится пророком. В этом своем ка-
честве он напрягает все свои силы, чтобы добиться ува-
жения девушки и приобрести таким образом что-нибудь
для себя. Теперь, наконец, осуществляется его старая мечта:
он становится царем Но в конце концов он с ужасом дол-
жен убедиться, что попал в сумасшедший дом и сделался
царем умалишенных, оскотинившегося человечества.
Эта сцена в сумасшедшем доме является самой ужас-
ной иронией, самой страшной сатирой, на которую был
способен когда-либо человек.
• Я чувствую, что моя интерпретация этой заключительной сцепы
третьего акта - очень смелая, и я могу ее подтвердить еще лишь
ссылкой на пятый акт, гле мать ввиду его близкой смерти также
является обвинительницей своего сына, осознавшего наконец свою
вину Но эта сцена третьего акта - которую наивно считают самой
незначительной во всей поэме - также должна иметь более глубокий
смысл в такой исключительно символической трагедии. Нс означает
ли эта сцена, что в Пере проявляется теперь эгоизм больного, которого
мучают его собственные горести и поэтому нс трогают страдания
других? Что он хочет отомстить другим существам за то, что ему
не суждено счастье с Сольвейг? Мы не можем вполне верить этому.
Пам кажется возможным только следующее: Ибсен, который в извес-
тные периоды своего выдающегося своеобразного творчества был ма-
зохистом (это доказывает прежде всего его «Нод властью Севера» и
«Строитель Сольнсс»), в молодости не был свободен от влияния
садизма во многих стихотворениях, которые он долго не выпускал в
свет, и в «Олаф Лильекранс», даже в «Пир в Сульхауге» можно еще
видеть следы садизма. Эти черты садизма проникли также в первый
и второй акты «Пер Гюнта» («Похищение Ингрид», угроза по адресу
Сольвейг); возможно, что Ибсен хотел применить па себе эту систему
истязаний. Для характера Пер Гюнта это совершенно не существенно
и является ошибкой в поэме.
52
Пер Гюнт в обществе сумасшедших, из которых
один, как перо, которое никогда не употреблялось для
письма, а всегда только, как песок, другой, как бумага,
на которой никогда не писали: нераскрытая книга на
коленях своей матери; она кажется испорченной в печати,
когда ее раскрывают. Абсолютное отсутствие «я» и свя-
занное с этим абсолютное отсутствие «должен». Человек,
который не знает, что он есть, и кричит, чтобы кто-нибудь
указал ему его собственное предназначение, которого он
сам не может ни найти, ни активно осуществить; сомнение
в способности стать когда-нибудь тем, для чего он ро-
дился на свет, - все это в немногих диких рифмах
выражено в диалоге с министром Гуссейном.
В мою задачу не входит дать обстоятельный ком-
ментарий произведения, многие подробности которого
остались для меня непонятыми. Такие попытки, не говоря
уже об их объеме, всегда крайне претенциозны и пора-
жают только своей безвкусицей.
Я хочу лишь указать еще на некоторые выдающиеся
красоты поэмы: кроме общепризнанного заключения
третьего акта, я хочу еще отметить первую сцену второго
и необыкновенную середину пятого акта, где Пер Гюнту
приходится вспомнить о непрожитой жизни его высшего
«я» («клубки», «увядшие листья» и пр.; ночь в лесу:
«Мы песни, ты пел ли нас когда?» и т. д.); затем на
производящий сильное впечатление рассказ об олене в
самом начале поэмы и на монолог Пера после его встречи
с пастушками. Страшное, глубоко потрясающее впечатле-
ние, напоминающее проклятие жизни в третьем акте
«Тристана и Изольды», производит то место из пятого
акта, где Пер наблюдает быстрый полет падающей звезды
(символ грехопадения ангелов) и призывает к ней:
Привет от Пера Гюнта, брат мой метеор!
Светить, угаснуть и исчезнуть в царстве мрака!..
53
и как вдруг он, который до того времени отгонял всякую
идею о смысле и цели жизни, - «неизвестный пассажир»,
символизирующий смерть, наводит его на эту мысль,- впа-
дает в крайнее смущение после этого посольства из бес-
конечности; и где, наконец, чувство досады по поводу по-
терянной, как метеор, жизни прокладывает себе путь сре-
ди всяких суетных побуждений, когда у него появляется
смутное представление (если еще не полное сознание) о
его истинном «я» и в то же время жажда бессмертия.
Богатейший купец, царь, завоевавший чуть ли не весь мир,
пробуждается от сна среди своих миров и видит
Какой же нищею дуйте вернуться
приходится в туманное ничто! -
Не гневайся, прекрасная земля,
за то, что я топтал тебя без пользы!
Ты, солнце дивное, напрасно лило
свои лучи на хижину пустую.
Ты никого там нс могло согреть,
обрадовать, - в отсутствии хозяин
всегда был, говорят. - Земля и солнце,
напрасно мать мою взрастили вы!
Дух скуп и расточительна природа.
О слишком дорого свое рожденье
приходится нам жизнью искупать!
Я ввысь хочу. На самую крутую,
высокую вершину. Я увидеть
еще раз солнечный восход хочу
и насмотреться до изнеможенья
хочу на обетованную землю!
А там - покроет пусть меня лавина,
над ней напишут: «здесь Никто схоронен»
Затем же... после... будь со мной что будет.
По общераспространенному шаблону великих людей
слишком мало рассматривают независимо от их твор-
ческой деятельности. Полагают, что жизнь этих людей
54
есть творчество и исчерпывается им. Такое мнение, прав-
да, скорее бессознательно, чем ясно выражено, но тем
сильнее нужно с ним бороться. Некоторые его факторы
можно по крайней мере без всякого труда обнаружить.
Очень немногие люди чувствуют потребность со-
ставить себе ясное представление о характере недюжин-
ных людей в сфере практической жизни или в области
мысли. Они привыкли не только шляпы снимать, называя
великие имена, но и отказываться, как по команде, от
всяких рассуждений. Они говорят междометиями, когда
называют Вагнера и Гете. В этом способе мышления
проявляется почтенное само по себе чувство уважения к
феноменам, а также столь постоянное странное отношение
к гению как к божественному откровению. К тому же
так люди лучше себя чувствуют, чем при том способе
мышления, когда знаменитых людей предпочитают по-
казывать в нижнем белье или с триумфом ловят их в тот
момент, когда они идут отправлять свои естественные
потребности. Но не такой эвдемонистический аргумент
может оправдать этот взгляд, а только та «verecundia»*,
которой, очевидно, не обладали, например, Моро де Тур
и Ломброзо.
Но этот отказ от всяких рассуждений о великих
людях и возмущение против всякой попытки со стороны
других подметить определенные черты их внутреннего
бытия свидетельствуют о жалкой приниженности, о врож-
денном духовном рабстве, столь же слепом, сколь и
нетерпимом по отношению ко всякому свободному че-
ловеку. Каждое имя становится козырем, которым по-
бивается всякий трезвый взгляд. Hero - Worship**, по-
читание героев также гетеропомио в кантовском смысле,
эта вера в авторитеты также безнравственна. Если чело-
век, будь он самим Буддой или Бетховеном, превращается
• Пссмслость, боязнь (л/wn.). - Прим. ред.
•• Культ героев (англ ). - Прим. ред.
55
в божество, то затихает всякая сознательная, спокойная
работа собственного разума и прекращается всякое ду-
ховное развитие.
В новейшее время к прежнему безотчетному подчи-
нению прибавился новый элемент. Легкомысленно тан-
цующие ноги заратустровских идеалов, тяжелая грация
южногерманского вальса, песни тупоумного студенчества
и ремесленно-художественная послеобеденная мечтатель-
ность должны были соединиться вместе, чтобы препод-
нести это серьезному уму северного немца Я имею в
виду ту ложь о «стилизованной жизни» великих людей,
которая низвела их до артистов, тех самых людей, которые
всегда очень серьезно относились к жизни, так как чув-
ствовали, что и жизнь предъявляет к ним самые строгие
требования, тех, которые считали бы для себя величай-
шим несчастьем быть «артистами» в своей собственной
жизни!
Мы не будем долго останавливаться на дерзком
злоупотреблении выдающимися именами с целью вы-
дать свое собственное легкомыслие за стиль гениальных
людей.
Приходится во всяком случае отказаться от столь
распространенного взгляда, столь привыкшего рассмат-
ривать знаменитых людей как сосуд, из которого
падают одно за другим его духовные детища, как тво-
рение природы, через которое последняя преподносит
нам свои дары, как оркестр, задача которого исчерпы-
вается тем, чтобы сыграть известное число музыкаль-
ных пьес.
Такой взгляд превращает поэта в бабочку, живописца
в профессионального фотографа философа в теоретика
и лишает их всех всякого значения. Если уж говорить
о художнике, то самые сильные впечатления слишком
велики, чтобы их можно было немедленно выразить в
художественном произведении.
56
Жизнь великих людей ни в коем случае не пред-
ставляет собой гармонии милостей фортуны, а протекает
куда более беспокойно и бурно, чем у других людей;
чаще всего в ней можно встретить самые большие, не-
примиримые противоречия и тенденцию к самым не-
ожиданным заблуждениям, но вместе с тем и величайшую
борьбу с самим собой и только уж не ту «gaya scienza»*
и «serenita»**, к которым так стремился Ницше, после
того как познакомился с Ривьерой.
Какие страшные переживания бывают у выдающихся
людей, какие страдания и сомнения их мучают, способен
понять из ибсеновского «Пер Гюнта» лишь тот, кто знает,
что в художественные образы воплотимо только то, что
есть в себе самом.
Людей можно разделить на тех, кто любит себя, и
тех, которые себя ненавидят. Я имею в виду ненависть
не к тому, что они находят неморальным в себе. Это
ненавидит в себе всякий человек, по крайней мере, в
тот момент, когда он сознается в этом, и еще больше,
когда он хочет подавить в себе это сознание. Но бросаю-
щееся в глаза интересное различие можно заметить в от-
ношении человека к морально индифферентным чертам
своего характера. Есть люди, которые ненавидят всю
свою субъективность (не самый субъект, конечно) и отно-
сятся к ней с каким-то болезненным озлоблением. Другие
склонны думать, что все в них очень мило; они очень
снисходительны и в высшей степени деликатны по от-
ношению к себе и всегда ставят себя в пример другим.
Из двух, например, некурящих один, предположим, фи-
лотичен (<piXavr6c), а другой мизотичен (щосппбс): первый
будет очень доволен собой и свое некурение будет считать
очень хорошей чертой; второй с недоверием отнесется к
• Веселая наука (итал ). - Прим ред.
** Безмятежность (шпал.) - Прим. ред.
57
своему некурению, он готов будет приписать эту черту
какому-нибудь недостатку и поставит курящего выше
себя. Но с той или иной оценкой подходит всякий человек
к каждой своей черте, даже к каждой морально безраз-
личной черте своего характера*. Обозначение этой оцен-
ки, кажется мне, определяет и даже очень точно тон
внутренней жизни человека. Внутренняя жизнь бывает
только у мужчин, а не у женщин**, и у мужчины тем
больше этой жизни, чем выше он стоит. Общее содер-
жание всякой внутренней жизни, если не говорить о
размышлениях по поводу прошлого и о грезах по поводу
будущего, есть познавательное самонаблюдение и мо-
ральная самооценка. Здесь возможны два случая: либо
человек по природе пессимист, никогда вполне не верит
в искупление и ничего, кроме вражды и мучений, не
ждет от жизни,- это тип ворчливого, сурового, злого
человека; либо он вступает в жизнь с верой в спасение,
смело идет ей навстречу, т. е. он на земле к ней вполне
приспособлен,- это кроткий, добродушный, неспособный
на резкости человек он часто бывает горьким, но никогда
не бывает едким. Таковы они оба прежде всего по от-
ношению к самому себе. Оба серьезно относятся к одному
и тому же, одинаково сильному или одинаково слабому,
безнравственному побуждению: один - с едкой улыбкой,
другой со скрежетом зубовным; первый с горькой ус-
мешкой говорит себе ага, опять! Второй не без иронии
отзывается о своей собственной глупости: все то же!
Первый охотно прощает себе, долго щадит свою чувст-
вительность, и только время от времени у него является
раскаяние, за которым всегда следует отпущение грехов.
Другой молча и немилосердно грызет себя, хотя его
• Так, например, одним нраиится их собственный стиль, другим
он нс нравится. Художественный стиль Ницше можно отчасти объяс-
нить вторым случаем.
• * Внутренняя жизнь женщин продолжается всегда максимум девять
месяцев.
58
тщеславие при этом и растет* (ибо всякая отрицательная
оценка своей личности только усиливает стремление к
ценности), и безнравственно осуждает и проклинает себя.
У одного есть потребность в утверждении, у другого -
в отрицании вообще; филотичный утверждает, мизотич-
ный отрицает себя и весь мир**.
Филотичный человек - ярко выраженный эротик.
Чтобы любить или ненавидеть других людей, нужно
прежде всего любить или ненавидеть самого себя. Любят
и ненавидят люди только то с чем у них есть какое-
нибудь сходство. Перед тем, с чем у человека никакого
сходства нет, он может испытывать только страх (старой
жены муж совершенно не понимает и только боится),
точно так же - другой полюс - он боится того, что
вполне тождественно с ним (двойник). Самоненавистни-
ки всегда, конечно, будут говорить, что они могут любить
только такого человека, который совершенно не похож
на них, и что любовь есть только попытка уйти от самого
себя - потому что они вообще не могут любить и тем
не менее испытывают сильнейшую потребность любить
То, что сходно с ними, они могут только ненавидеть и
свою потребность в любви пытаются удовлетворить на
тех, которые на них не похожи; это, естественно, им
никогда не удается. Что-нибудь любить - значит дать
душу этому предмету, вложить в него всю свою собст-
венную душу, всячески увеличивать его ценность; для
этого предмет должен быть безразличным или похожим,
но не противоположным. И, кроме того, как примирить
негативиста с ребенком, который непосредственно вопло-
щает позитивизм в любви? Так как низшее половое
влечение утверждает жизнь, предполагает ее, то любовь -
высший позитивизм, утверждение высшей, вечной жизни,
* Поэтому он самый настоящий афорист.
•• Что не мешает мизотичпому испытывать величайшую потреб-
ность в утверждении.
59
и такой она является в Евангелии Христа. Кто любит,
любит вообще; кто ненавидит, ненавидит вообще; кто
утверждает, утверждает вообще; кто отрицает, отрицает
вообще. Это не следует понимать так, будто для само-
ненавистника отрицание является чем-то большим, чем
этапом к утверждению. Нет ни одного великого человека,
который в конце концов не пришел бы к утверждению.
Именно поэтому и нет такого гения, который не был
бы продуктивным. От любви к идеям и от их утверж-
дения, где Платон и Шопенгауэр глубоко проникли в
сущность гениальности, также появляются дети. Для
самоненависти мизотического типа отрицание не служит
самоцелью, а только средством*. Мизотичный может ут-
верждать только вечность. Он не может любить конк-
ретную женщину, и все его старания в этом направлении,
все его попытки подогреть свою страсть кончаются всегда
через короткое время неудачей: он не может любить.
Только филотичный человек поэтому бывает отцом
в собственном, узком смысле этого слова, у него есть
потребность в ребенке из плоти и крови, потому что в
ребенке он хочет найти самого себя, со всеми своими
особенностями, своей субъективностью, своими внеш-
ними и внутренними проявлениями. Между тем, у са-
моненавистника даже к своим духовным детищам нет
теплого интимного отношения, а отцовство может про-
являться и в духовной жизни: учитель тоже представляет
собой тип отца. О том, что мужчина в женщине любит
только самого себя, мы еще будем говорить дальше. Но
и его ребенок - настолько его ребенок, насколько этот
ребенок является им самим**. Дедуктивно исследованное
* Филотичный любит, мизотичный ненавидит свое эмпирическое
«я», оба любят сное интеллигибельное «я». Свою интеллигибельную
сущность ненавидит только преступник.
* * Если он любит ребенка за то, что тот похож на свою мать, то
в этом он также любит самого себя; впрочем, это случается только
тогда, когда мать рано умирает.
60
мною здесь и в связи с любовью объясненное отцовство
должно, конечно, удовлетворять продолжительную пси-
хическую потребность и обозначать нечто большее, чем
только случайное «paternity»*.
Но можно сделать еще один шаг в исследовании
вопроса, глубже посмотреть на дело. Вспомним, какую
роль играет идея отцовства в Новом Завете. Бог как
отец людей: евреи никогда так не представляли себе
своего Бога. Для них Он был господином, а они его
слугами, которых Он проклинал или награждал, смотря
по их делам. В Евангелии эта новая идея стоит в тес-
нейшей связи с двумя другими христианскими, не ев-
рейскими идеями любви и вечной жизни; идея отцовства
получает здесь новое толкование. «Я есмь хлеб жизни»,-
говорит Бог в Евангелии от Иоанна (6, 35). Христос не
принадлежал к тем, которые любят всю свою субъектив-
ность. В Евангелии от Луки (14, 26) говорится: «Если
кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и
матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и
самой жизни своей, тот не может быть моим учеником».
Наверное, ни один человек никогда так мало не чувст-
вовал себя отцом, как основатель христианства; как сын
он, может быть, нуждался в божестве в образе любящего
отца. Иисус и не учитель по призванию, каковым был, на-
пример, Сократ. «Имеющий уши, да слушает!» - так не
скажет ни один учитель. Ясно, отцовство, учительство, фи-
лотия всегда вместе налицо или все вместе отсутствуют.
Кто чувствует себя сыном, может себя только не-
навидеть; у сына было побуждение сделаться сыном,
родиться, появиться на свет в качестве эмпирически
ограниченного субъекта. Всю эту субъективность он при-
писывает себе и потому ненавидит себя. Сын знает себя
как человека, навсегда лишенного свободы, так как он
• Покровительство (фр.) - Прим. ред.
61
отказался от собственных желаний и искал опоры, когда
он родился.
Таким образом, типы самолюбца и самоненавистника
расширяются до идей отца и сына. Существование отцов
и сыновей служит только одним из выражений дуалис-
тической природы мира. Сыновья Бога суть люди в
качестве духовных существ точно так же, как сыновья
телесных людей суть дети земли. Для точности прибавим,
что здесь речь идет о мужчинах. У Бога нет дочерей.
Сын может достигнуть свободы, только став отцом; пе-
рестав быть только сыном, он становится тождественным
с отцом.
Филотичный человек также может ненавидеть; он
ненавидит то, что ему мешает в жизни... Он «эстет».
Самоненавистник, наоборот, не может любить то, что
предъявляет требование на его чувство. В крайнем случае
для него становится невозможным даже половой акт.
Поэтому он гораздо более несчастен, чем первый. К
филотичному типу, который представляет собою наи-
более нежную форму убивания плоти в человеке -
принадлежность к нему является также условием для
составления автобиографий, - нужно причислить Шек-
спира и Софокла, особенно первого. Гете - не чисто
филотичный тип, хотя некоторые места из Фауста по-
казывают, что причисление его к этому типу без всяких
оговорок было бы возможно*. Вообще ошибочно считать
Гете гармоничным человеком, как это делал Гейне, а
другие на разные лады еще до сих пор за ним повторяют.
Гете был скорее одним из самых несчастных людей,
• Только ненавистники бывают действительно большими знато-
ками женщин, потому что они скорее делают себе неприятные при-
знания по этому поводу. Шекспир, Софокл, Золя и Гете верят в
«благородную» женщину, хотят в нее верить. Иначе относятся Шо-
пенгауэр, Ницше, Стриндбсрг, Геббель, Микеланджело.
62
которые когда-либо существовали, и поэтому стыдливее
и строже скрывал свое несчастье, чем очень многие
другие. Человеком, который сильнее всех отличался своей
ненавистью к себе, был, очевидно, Ницше. Его ненависть
к Вагнеру и к аскетизму, его стремление к Бизе и
Готфриду Келлеру выражали только его ненависть к
вагнерианцу и аскету и к совершенно неидиллическому
человеку, каким он был сам. Самоненавистничество стоит
в моральном отношении гораздо выше, чем себялюбие.
Плохо только то, что Ницше был не откровенен, пока-
зывая вид, будто эта метаморфоза («исцеление» от Ваг-
нера, от своей «болезни») ему удалась,- это не единст-
венное позерство со стороны Ницше перед всеми другими
и перед самим собой* Паскаль, который, конечно, страш-
но себя ненавидел, стоит в этом отношении гораздо выше
Ницше. Он и в других случаях не бывает таким плоским,
каким иногда может быть Ницше. В то время как Паскаль
мог открыто выставить как основное положение извест-
ное свое «Le moi est haissable»** (Pensees, 1, 9, 24),
Ницше даже эту ненависть свою к самому себе отрицал
и - так он себя ненавидел - оклеветал, унизил. Только в
одном месте Заратустра искренне говорит об этом: в чудной
песне «Пред солнечным восходом», которую нужно пони-
мать как чисто этический символ (в III части): «О небо
надо мной, ты чистое!., лететь лишь волей всей хочу к
тебе, в тебя влететь! Ненависть свою я всю излил на тучи
и на все, что кроет пятнами тебя! И ненависть свою я
ненавидел, что тебя пятнала! Я зол на облака, что, крадучись,
как кошки хищные, берут у нас с тобой, что нам обще -
великие слова и безграничные „аминь" и ,,да“».
• В «Nuowa antologia» был однажды помещен рассказ о чьем-то
посещении Ницше ио время сю пребывания » 'Гурине. После расска-
зывали, что в то самое время, когда Ницше писал об «истории с
Вагнером», он заставлял жрать ему только «Кольцо Нибелунгов».
•• ^Пристрастие к своему „я" заслуживает ненависти» (фр.). «Мыс-
ли», фрагмент 455. - Прим. ред.
63
Именно у Ницше ненависть к самому себе выросла
из величайшей воли к утверждению. В нем эта ненависть
могла поэтому оказаться и творческой, и трагической.
Творческой - потому что она побуждала его искать того,
чего он не нашел в Шопенгауэре, и заставила его от-
вернуться от этого человека, который не научил его
Канту. Трагической - потому что он не был достаточно
велик, чтобы самостоятельно, собственными силами в
чистоте дойти до Канта, которого он никогда не читал.
Поэтому он никогда не поднялся до религии: когда он с
наибольшей страстностью утверждал жизнь, жизнь отри-
цала его - именно та жизнь, которая не дает себя про-
вести. Недостатком религии объясняется гибель Ницше.
Человек может погибнуть только от недостатка религии, ни
от чего другого. Ужасный пример представляет в этом
отношении гений. Гениальный человек - самый религи-
озный, и если его покидает религия, то его покинул и
гений. Если бы Ницше считал нужным всегда ясно под-
черкнуть, когда он говорил что-нибудь серьезно и хотел,
чтобы его слова были приняты всерьез? У Ницше не-
доставало милосердия, а без милосердия одиночество ста-
новится несносным даже для Заратустры. Поэтому логика
не была для него единственно дорогим благом, а только
внешним принуждением (он чувствовал себя слишком
слабым, чтобы не подозревать везде опасности). Но тот,
кто отрицает логику,- того она еще раньше покинула,
тот на пути к безумию.
Спиноза был таким же самоненависгником, как и
Ницше, хотя в других отношениях резко от него отли-
чался. Но ненависть в нем не сделалась ни творческой,
ни трагической. Творческой - потому что никто столь
мало, как он, поняв проблему свободы воли, к которой
приводит высшего человека ненависть к самому себе,
никто так грубо и нетерпимо не отверг эту проблему как
целое (Этика, I, 32, II, 35, 48, III, 2). Трагической -
64
потому что мировоззрение Спинозы было не бодрой,
открытой верой, а системой окопов, которой он окружил
себя и, как колючей проволокой, защитил свою трусли-
вую потребность в покое.
Совершенно неспособными к самоненавистничест-
ву кажутся женщины. Но они и не любят себя, они
только - и это всегда - влюблены в себя. Когда ребенок
похож на мать, у нее никогда не бывает той радости,
которую в подобном случае испытывает отец.
Решительно ненавидели себя Микеланджело и Бет-
ховен, которые оба, в не меньшей степени, чем Паскаль
и Ницше, вели жизнь, совершенно непорочную; Бет-
ховена отличает почти такая же большая и неутоли-
мая потребность найти женщину, которую он мог
бы любить, как и Ницше. Наоборот, любили себя:
Моцарт - всегда, Жан Поль и Рихард Вагнер - большей
частью; юмор вообще признак любви, сатира - нена-
висти к себе и всему остальному, ибо юмор сам по се-
бе - лишь хорошо задрапированная эротика. Из фи-
лософов, которые любили себя, я назову Сократа
(учителя) и Фехнера; в меньшей степени сюда можно
причислить Лейбница, еще меньше Платона; из худож-
ников к мизотичному типу принадлежат Грильпарцер и
Рембрандт.
В применении к Канту приходится отказаться от
этого деления, несмотря на его исчерпывающее значение
в других случаях.
В одном и том же человеке могут быть и сменять
друг друга оба момента: угодливость и снисходительность
наряду с недоброжелательством и нетерпимостью по от-
ношению к морально индифферентному в себе.
Самоненавистники - величайшие самонаблюдатели.
Всякое самонаблюдение есть феномен ненавистников; их
пароль: поймать на месте преступления. Это самые не-
патетические люди, потому что они самые стыдливые;
65
им пафос вообще противен. Самая простая речь для них
невозможна, потому что они всегда страдают под тя-
жестью всего своего «я» и должны были бы отрицать
это страдание, если бы им пришлось проявить пафос.
Мизотичный человек поэтому переносит одиночество го-
раздо труднее, чем филотичный, и тем не менее никакие
попытки жить совместной жизнью вдвоем или со мно-
гими не бывают так несчастны, как у него. Он страдает
от самой страшной участи, которая только может пос-
тигнуть хорошего человека: он никого другого не может
любить. Их сущность никогда не может свободно про-
явиться, перейти в другую, которую они могли бы любить,
которая их любит. Так ужасно для них их собственное
«я»! Они похожи на дом с вечно закрытыми ставнями:
и этот дом мог бы насладиться теплом и светом солнца;
но ставни не открываются: с виду холодный, суровый,
угрюмый, злой он отказывается от света, пугается счастья.
Как выглядит обстановка в самом доме? Суетливость
дикого отчаяния, долгое и страшное распознавание в
темноте, вечное приведение в порядок вещей - там внут-
ри. Лучше не спрашивать, что делается в доме.
Человек, который написал «Пер Гюнта», может быть
только самоненавистником. Поэма была, наверное, заду-
мана для самого Ибсена первоначально как трагедия
тщеславия (в общем соломоновском смысле), и только
постепенно для Ибсена становилось ясно, что всякое
тщеславие ввиду других, всякие оглядки на других обус-
ловливаются отказом от собственного «я», от ценности
в своих собственных глазах.
Наше длинное отступление и его принципиальное
оправдание в наших предварительных суждениях о вы-
соком темпе внутренней моральной жизни великих людей
были необходимы нам для объяснения того образа в
«Пер Гюнте», который вызвал больше всего догадок, хотя
ни одно из многочисленных его толкований не удовлет-
66
ворило их авторов. «Великая Кривая», самая загадочная
и самая оригинальная фигура в поэме, становится теперь
для нас яснее, насколько только вообще можно распознать
ее своеобразную натуру. «Великая Кривая» играет важ-
нейшую роль во втором и пятом актах: оба раза - и на
это следует обратить внимание - ее побеждает Сольвейг.
Она представляет собой силу, которая заставляет чело-
века всегда изменять самому себе, всегда обнаруживает
его тщеславие даже в его самых безжалостных самоана-
лизах и самобичеваниях, и в самых глубоких складках
его внутреннего «я» показывает ему неизгнанное, невре-
димое тщеславие, которое осталось равным самому себе,
на том же самом месте, с тем же самым содержанием:
Взад ли, вперед ли - ни с места!
Тесно и вне, и внутри!
Там она, тут она - всюду;
В круге каком-то верчусь! *
В детстве я слышал от своего школьного учителя
рассказ о том, как в России убивают медведя: между
двумя деревьями вешают деревянную колоду; чтобы про-
йти между деревьями, медведь должен оттолкнуть колоду,
которая, раскачавшись, ударяет его по голове; разъярен-
ный медведь повторяет свои толчки, пока сильный удар
не разбивает ему череп. Ибсен мог бы воспользоваться
этим рассказом для иллюстрации своей мысли. «Великая
Кривая» есть вся сила эмпирического «я», с которой
оно неизменно восстает против интеллигибельного «я»
всякий раз, как последнее думает праздновать полную
и окончательную победу: это голос, с которым первое
«я» обращается ко второму после каждого нового отра-
жения с советом оставить безнадежную и бессмысленную
• Именно потому, что человек в этой борьбе совершает круговое
движение и против своей воли приходит к своему исходному пункту,
этот символ назван «Кривой».
67
борьбу. Отсюда самоуверенная ирония, с которой Кривая
встречает бурное нападение Пер Гюнта, приказывает ему
идти кругом, требует, чтобы он вступал с ней в согла-
шение, вместо того чтобы брать штурмом неприступную
крепость. Кривая есть отрицающий искупление принцип
вообще: в ее образе Ибсен пытался изобразить великого
отрицателя в себе самом. Ее можно назвать уютом, ленью,
связью между душой и телом: она во всяком случае то,
что Ибсен хотел сломить в себе самом, когда он создавал
этого Пер Гюнта, своего Пер Гюнта. Но он сам чувствовал,
что до смерти мы не можем справиться с ней.
Мы снова, таким образом, вернулись к основной
мысли поэмы, к ответу, который дает Ибсен на постав-
ленный им же вопрос. В заключительной сцене «Пер
Гюнта» мы находим обе главные проблемы его мышления
и творчества. С одной стороны, проблема правды-лжи.
Как ни обосновано и удовлетворительно наше толкование
Кривой на первый взгляд, но этот образ олицетворяет
еще и другую идею. Символы истинного художника -
не аллегории, не увешанные собственными именами пер-
сонификации строго дефинированных, однозначных фи-
лософских понятий, которые можно перевести на язык
определенной философской системы, как только найден
ключ шифра. Философ может только медленно и с боль-
шой осторожностью подходить к тому, что поэт видел
и чувствовал, сознавая свои символы. Кривая, которую
Пер Гюнт в течение всей своей жизни не мог сломить,
потому что он никогда не шел прямым путем, эта кривая
представляет собой также ложь.
В лице Кривой Ибсен указал также, что человек в
этой жизни никогда не может жить в полной правде,
что его всегда от нее отделяет нечто: смесь лжи, ошибок,
трусости, косности*. Полное сознание истины возможно
• Поэтому Кривая напоминает сфинкса, изображающего одновре-
менно и льва, и женщину и никем из них не являющегося.
68
только в загробной жизни; в этой жизни к ней можно
только стремиться, лишь в момент смерти мы можем
одолеть Кривую. Это - дифференциация все той же
идеи, препятствия к спасению. Пер Гюнт стоит несрав-
ненно выше Ялмара из «Дикой утки», который во лжи
самодоволен, принимает требования истины как личное
оскорбление, как притязания, предъявляемые ему дру-
гими; когда они ему навязываются, то он подчиняется
им только внешним образом, чтобы спокойно продолжать
свою жизнь во лжи; он выставляет напоказ свое несчастие,
маленькие невзгоды своей маленькой жизни он считает
несправедливостью судьбы по отношению к нему и даже
готов за них упрекать других людей. Ялмар абсолютно
не трагический человек, чего никак нельзя сказать о Пер
Гюнте. Напротив, почти вся драма заполнена проблемой
субъекта, и герой ее главным образом занят этим кар-
динальным вопросом. «Пер Гюнт» соответствует идее,
которую выражает трагедия-, с большим совершенством,
чем какое-либо другое художественное произведение ми-
ровой литературы, поэма изображает искания и борьбу,
заблуждения и ошибки, достижение сознания вины и
стремление к спасению индивидуальности.
Пер Гюнт хочет освободиться от лжи, с которой
неразрывно связана жизнь,- нет такого святого человека,
который не был бы вынужден лгать, а вынужденная
ложь так же не может быть морально оправдана, как и
всякая другая,- Пер Гюнт хочет освободиться от лжи
жизни и не может. Спасение, вопреки всяким кривым,
наступает, наконец, благодаря женщине. И здесь высту-
пает вторая основная проблема Ибсена, связь - проблема
спасения с отношениями между мужчиной и женщиной.
В каком отношении стоят женщина и любовь к женщине
к проблеме человечества вообще? Таков вопрос, который
занимал Ибсена в течение последних тридцати лет его
творчества. Не женский вопрос в его вульгарной поста-
69
новке, не равные способности и равные политические
права волнуют Ибсена, он никогда не был адвокатом
отдельной женщины или всех живущих на свете женщин.
Пренебрежительное отношение к Ибсену, которое все
больше входит в моду, психологически вполне объяснимо:
указывая женщинам на их мнимого поклонника, невольно
компрометируют самого поклонника. Но такая недооцен-
ка ничем не оправдана и указывает на слишком поспеш-
ное применение параллелизма.
Если женщины рекламируют автора как своего за-
щитника, то им это можно простить. Он весь слишком
мужчина, чтобы женщины могли правильно отнестись к
его произведениям и понять их истинный смысл. Не
столько равных прав, сколько равных обязанностей тре-
бовал Ибсен для женщины - а обязанность абсолютно
не женское понятие.
В «Пер Гюнте» мужчина поднимается благодаря жен-
щине, или, вернее, дает себя поднять. Нет ничего смешнее
и вульгарнее взгляда, будто на судьбу морального бытия
человека может иметь влияние то обстоятельство, что
его любят, будто такое пассивное состояние может из-
менить его ценность. Тому, кто много любил, могут быть
отпущены его грехи, но ни в коем случае такому человеку,
который был только любим, хотя бы и очень сильно.
Такие поверхностные взгляды так часто высказывались
в интерпретациях Ибсена и Вагнера, что их нельзя, к
сожалению, обойти молчанием. Они совершенно затем-
няют понимание спасения через любовь, и логическая
мистерия превращается в парадоксальную сентименталь-
ность. Глубокому пониманию эротики, которое обнару-
живает Ибсен в «Пер Гюнте», противопоставляют это
позорное ходячее мнение. При всей краткости и неяс-
ности «Пер Гюнта» в нем уже проглядывает то воззрение
Ибсена, которое в его позднейших произведениях нашло
более яркое выражение. Любовь и возможность спасения
70
через нее проявляется в «Пер Гюнте» только в том, что
мужчина переносит на женщину свое лучшее «я», все,
что он хотел бы любить и не может любить в себе,
так как это у него смешано с другим, ибо благодаря
такому отделению легче обрести волю, стремление к идее
красоты, добра и правды. В этом кроется глубокое пси-
хологическое основание того акта эгоизма мужчины, ко-
торый к женщине предъявляет гораздо более высокие
моральные требования, чем к мужчине, - для удовлет-
ворения своей мужской потребности в иллюзии, - здесь
спрятаны глубокие корни постулата чистоты, невинности
для женщины. Подобно любви, переносится (проекци-
онный феномен) и ненависть: черт есть гениальная объ-
ективная экзистенциализация мысли, которая миллионам
людей облегчает борьбу со злом в их собственной груди,
так как они врага ставят вне себя и таким образом
отличают и отделяют себя от него. Метафизический
акт проекции является поэтому всеобщим корнем всякого
дуализма в мире: Бог хочет в человеке найти себя. Ду-
ализм должен быть, потому что в противном случае
монизм, стремление к нему были бы бессмыслицей, пус-
тым звуком.
В «Пер Гюнте» женщина играет лишь роль спаси-
тельницы для мужчины; у нее нет самостоятельной
жизни, помимо той функции, которая ей предназначена
мужчиной. У нее вынимают душу, чтобы воодушевить,
ее лишают жизни, чтобы оживить. В этом заключается
отыскиваемое многими со времени Новалиса основание,
почему половые отношения ассоциируются с жесто-
костью. Как в половом акте заключается элемент, пси-
хически аналогичный смерти, так в каждой, даже высшей,
любви происходит своеобразное уничтожение (Entwirk-
lichung) любимого человека, чтобы сообщить ему свое
собственное высшее существование (Wirkhchkeit). Здесь
же нужно искать корни ревности, так как мужчина счи-
71
гает за собой право на свое «я», которое он поместил в
женщину*. Поэтому прав Констан, когда он называет
любовь, которая на первый взгляд представляет собой
альтруистическое чувство, - «de tous les sentiments le
plus fegoiste»**. Любовь означает: мужчина хочет найти
самого себя на обходном пути «женщины». Потому любовь
так часто начинается самобичеваниями, упреками по соб-
ственному адресу, самоуничижением и оживляет созна-
ние виновности. Как в высшей, так и в низшей эротике
женщина служит только средством к цели.
Эту несправедливость, которую любящий мужчина
проявляет по отношению к женщине, Ибсен уже чувст-
вовал в «Пер Понте»; он бичует здесь чувственную форму,
чтобы противопоставить ей духовную, и иронизирует
прежде всего над бездушным Пером, который думает
дать душу своей Анитре:
И я хочу быть юным, быть султаном,
Владыкою горячим и единым -
Не на холмах высоких Гюнтианы
Меж стройных пальм и виноградных лоз -
О нет! На девственной и свежей почве,
В девичьих чистых грезах, в юном сердце! -
Так видишь, почему тебя, дитя,
Я милостиво соблазнить изволил,
Избрал твое сердечко, основал
В нем, так сказать, мужской свой калифат?
Хочу владыкой быть твоих желаний
И деспотом в своем любовном царстве.
Должна ты мне принадлежать всецело;
Хочу держать тебя в плену, как держит
* Женская ревность не сопровождается страданиями, а только
завистью или жаждой мести. У них нет собственного «я», на которое
они могли бы предъявить свои права.
••Из всех чувств - самое эгоистическое (фр.). - Прим. ред.
72
Оправа золотая бриллиант.
И если мы расстанемся - конец...
Тебе, само собой, заметь себе!
Я всю тебя собой хочу наполнить,
Чтобы ни помыслов в тебе, ни воли
Не оставалось, - все заполнил я!
Но всякое эротическое отношение мужчины к жен-
щине сводится к обезличению и лишению прав. Это
стало ясным Ибсену позже; первый шаг в этом направ-
лении был сделан в «Кукольном доме». Норой восполь-
зовались для избирательного права женщин. Ибсену,
который менее всех до него и после него живших ху-
дожников обманывался насчет женщин, приклеили яр-
лык типичного представителя учения о психологическом
равенстве полов, творца Гедды Габлер заставили оцени-
вать живую женщину (на основании ее фактических
качеств) так же высоко, как и мужчину. Но именно в
этом и заключается все моральное величие Ибсена и его
чистый героизм, что он вменяет в обязанность мужчине
ценить женщину как самостоятельное человеческое су-
щество, чтить идею человечества в лице женщины, хотя
реальные отношения менее всего способны вызвать ува-
жение к женщине - женщина в действительной жизни
никогда, конечно, и не требует этого уважения - со
стороны человека, взоры которого не отуманены эроти-
ческим моментом.
В его Норе поэтому нет ничего реального, и знаме-
нитое превращение из лживого ребенка, лакомки и про-
казницы в человека со свободным решением не является
естественно развившимся моментом в характере дейст-
вительной женщины, а только мистерией превращения,
которое Ибсен считал необходимым для женщины, ис-
ходя из общих моральных оснований. В Норе Ибсен
73
приветствует первую женскую индивидуальность, он
показывает, как женщина должна поступать, а не как
она на самом деле поступает. Перемена в Норе есть чудо,
совершенно непонятное из всего предыдущего; и осно-
вательнее всех ошибаются относительно смысла драмы
те, которые стараются найти причину этой перемены в
Норе первых актов. В «Женщине с моря», которая в
конце смеет и может сделать свободный выбор и осво-
бождается таким образом от внешнего чувственного при-
нуждения, но в то же время берет на себя ответственность
и обязанности, Ибсен снова возвращается к проблеме
Норы. «Росмерсхольм» образует вторую после «Пер
Гюнта» вершину в развитии ибсеновских воззрений. Вто-
рой раз подходит он здесь к проблеме спасения в ее
отношению к проблеме половой любви. Но здесь дело
уже обстоит далеко не так, как в «Пер Гюнте». Возро-
ждение в данном случае происходит в женщине под
влиянием мужчины. Росмерсхольм, символизирующий
оплот строгой нравственной чистоты, хранилище мораль-
ных благ, сломил до того времени совершенно амораль-
ную Ревекку и укротил ее дикие порывы, как она об
этом сама заявляет. Но и она оказала влияние на Росмера,
принеся много чистого и светлого для освобождения его
«я», и ее молодое сознание своей виновности почти
сильнее раскаяния Росмера по поводу его бессозна ель-
ного содействия ее преступлению против Беаты. Драма
заканчивается вопросом: «Еще одно скажи мне, идешь ли
ты со мной или я иду с тобой?». И ответ Ибсена гласит:
«На этот вопрос мы и в вечности не найдем ответа».
Но и на этой второй ступени Ибсен не остановился. В
«Маленьком Эйольфе» вновь ставится росмерсхольм-
ская проблема вины. Речь идет не о Беате, не о прежней
жене, как в «Росмерсхольме», а - другая глубокая мысль -
о ребенке, который был убит. Все произведение нужно по-
нимать символически: от греховной эротики не может про-
74
изойти ничего вечного, ей уже заранее присуща смерть,
смерть ребенка; половой акт, создающий жизнь, создает и
смерть, которой неминуемо подлежит все, рожденное в
грехе. Имморальность деторождения ради наслаждения,
связь между смертью и рождением, виновность родителей
перед ребенком, которого легкомысленно произвели на
свет, не подумав о нем раньше как о личности,- все это
грехи, которые тяготеют над брачным союзом Альфреда и
Риты, над человеческим браком вообще (Эйольф делается
калекой в тот самый час, когда его родители предаются
самому дикому сладострастию).
Сознание вины, которое наконец просыпается в Рите,
она приписывает всецело Альфреду: тем не менее ее
чистосердечное раскаяние предохраняет и его самого от
огрубения. Производительный труд и ребенок от чистой
любви - вот цель, которая их обоих отныне объединяет.
В последний раз проблема возрождения обоих, муж-
чины и женщины, появляется в эпилоге: «Когда мы
мертвые пробуждаемся*. Ибсен называет его последним
словом, которое он может сказать по этому вопросу; и
семидесятидвухлетний старик должен был знать, почему
он его так назвал. Перед нами кульминационный пункт
третьей фазы его мышления, завершение поставленной
им задачи, которой он посвятил всю свою жизнь. И
здесь та же троица из мужа, жены и ребенка. Теперь
уже открыто заявляется, что мужчина убивает женщину
как самостоятельное метафизическое существо, как душу,
убивает своей любовью, так как для этой любви женщина
служит лишь орудием, при помощи которого он легче
совершает работу над самим собой. Это убийство, неиз-
бежное во всякой любви, должно быть отомщено; страх
любящего убийцы называется ревностью, его раскаяние
есть загадочное сознание виновности, которое появляется
у каждого мужчины по отношению к любимой женщине.
Над ваятелем Рубеком тяготеет смутное сознание совер-
75
шейного им убийства, и поэтому он изображает себя на
камне в виде грешника, ищущего омовения у источника
греха. Но вместе с другим и в другом отрицают и убивают
вообще также и самого себя. Убив душу в Ирене, Рубек
в то же время засыпал источник высшей жизни в себе
самом. Он теперь снова должен разбудить в себе эту
высшую жизнь. Смысл здесь тот же, что и в непонятой
красивой легенде о бедном Генрихе: мужчина может
исцелиться от зла (проказы) через любовь, но для этого
женщина должна пожертвовать своей жизнью. Но только
отказ рыцаря от убийства женщины является моральным
подвигом, который в действительности его спасает. По-
этому Рубек не ищет теперь (как Лингстранд в «Женщине
с моря») жены для себя, а жену как человека, как
самоцель; жена не должна уже больше смотреть на мужа
как на человека, который дает ей детей, и на себя как
на средство для этой цели. О ребенке из плоти и крови
нет уже больше и речи. Это удел Ульфгейма и Майи,
людей земной сферы, не смеющих идти по пути, который
«сквозь тьму ночи и бурю в горах» ведет к солнечному
восходу высшей, вечной жизни, так как за этот путь
можно поплатиться земной жизнью; они никогда не чув-
ствовали себя мертвыми, чтобы пробуждаться к новой
жизни.
Таким образом, Ибсен в конце своей жизни после
долгих сомнений приходит к вере в воскресение жен-
щины, в высшую, освободившуюся от низшей сферы,
совместную жизнь мужчины и женщины, в таинство
брака как метафизического символа мистической унии
(unio mystica). Женщина не кажется ему больше пара-
доксом природы, бременем, которое мужчина тащит про-
тив ее собственного желания; она представляет, конечно,
для него самого огромную опасность, но не вечное пре-
пятствие в стремлении к идеалу высшего человечества.
Даже высшая эротика художника была по Ибсену до
76
сих пор всегда эгоистичной; но муж и жена могут оба раз-
вить в себе индивидуальность. И таким образом, и только
таким образом, возможно объединение обоих общей идеей.
Таков смысл драмы: «Когда мы мертвые пробуждаемся».
Поразительно аналогичную эволюцию в этом вопросе
совершил Рихард Вагнер. Если иметь в виду только
молодого Вагнера, то нельзя найти невагнеровского про-
изведения, которое было бы таким вагнеровским, как
«Пер Гюнт» в своем заключении, с такой же, как в
«Летающем Голландце» и в «Тангейзере», мистерией
спасения через женщину. В «Голландце» и в «Тангейзере»
Вагнер, подобно молодому Ибсену в «Пер Гюнте», верит
в спасение мужчины при посредстве женщины, страсти
и страданий, вызванных в мужчине любовью к этой
женщине.
Сага о Нибелунгах привлекала Ибсена и Вагнера своей
северной мифической формой, которую они заполняли
своей собственной творческой фантазией (ибсеновские
«Воители в Хельгеланде» или «Северные богатыри»),
между тем как Геббель, обладавший большей пытливостью,
чем Вагнер и даже Ибсен, у которого не было глубокого
знания природы, предпочел более цивилизованные южно-
германские формы*. Вагнеровское «Кольцо Нибелунгов»
и ибсеновский «Росмерсхольм» представляют собой сред-
нюю фазу в развитой творческой деятельности их обоих.
Здесь еще Зигфрид пробуждает Брюнгильду от сна, ко-
торый символизирует смерть в метафизическом смысле;
но и он сам, умирая, празднует на свадьбе со «святой
невестой» свое воссоединение с вечностью. Здесь наме-
чается, так сказать, космическая встреча мужского и
женского принципа во вселенной. Брюнгильда называет
себя матерью Зигфрида, точно так же, как в эпилоге
* Ибсен. как личность вообще, стоит между 1еббслсм и Вагнером,
Фихте и Шопенгауэром Кроме того, он но многом гораздо ближе
стоит к Канту, чем какой-либо другой исторический человек.
77
«Пер Гюнта* Сольвейг отождествляется с Озе. Она оли-
цетворяет вечность рода, с которым воссоединяется ин-
дивидуум Зигфрид как «будильник жизни*. И у Ибсена
отождествление матери и возлюбленной не является ли-
шенным значения эффектом примирения перед смертью,
а указывает на общие черты у матери и возлюбленной.
Любящая девушка несомненно питает очень часто (если
не всегда) какое-то материнское чувство к мужчине,
которого она любит: даже мужчина, от которого она
может иметь ребенка, уже в известном смысле является
в ее глазах ее ребенком; с другой стороны, и любящий
мужчина стан вится ребенком перед лицом этой девушки
и может обращаться к ней, как к матери. В лице Сольвейг
Пер перед смертью встречается с гением бессмертного
рода. В данном случае бросается в глаза поразительное
совпадение между мнениями Ибсена и Шопенгауэра о
вечности нашего существа, которое является только жиз-
ненной волей рода! Позже Ибсен отказался от этого
взгляда, отрицающего логику единичной человеческой
жизни, и никогда больше не возвращался к нему. Но в
этике «Пер Гюнта* этот взгляд проскальзывает во вред
всему произведению. Представительницами вечной жиз-
ни рода являются матери, окруженные ореолом мисти-
ческой святости, дающей полное оправдание детскому
чувству мужчины к Брюнгильде и к Сольвейг. Вагне-
ровский Тристан, который ищет высшей жизни не при
посредстве жизни, а отрекшись от жизни, не может быть
принят во внимание в данном вопросе.
Соединение двух функций женщины, матери и воз-
любленной в одном лице напоминает нам также двой-
ственную натуру Кундри из «Парсифаля* Вагнера. Это
произведение явилось результатом предпринятого Ваг-
нером пересмотра собственных взглядов, высказанных им
в юности и в зрелом возрасте; это его последнее слово
по поводу многих предметов и в том числе тех проблем,
78
которые в последний раз занимали Ибсена в его эпилоге.
Но это последнее слово звучит не так, как у Ибсена По-
правка, внесенная Вагнером в его прежние произведения,
представляет собой гораздо более радикальное изменение
его прежнего взгляда, чем у Ибсена. В «Парсифале»
женщину в лучшем случае мог бы спасти мужчина. Но
она не хочет этого спасения, она отказывается от него.
Для женщины, согласно Вагнеру, нет места в Царствии
Небесном, Кундри умирает на его пороге. Женщина не
может больше существовать как женщина после того,
как она увидала святой Грааль. Эта перемена во взгляде
на женщину со стороны Вагнера, который когда-то вос-
певал Елизавету, поразительна; вряд ли эта перемена не
стоила ему глубоких страданий. Он отрицает теперь
женщину, утверждая невинную чистоту мужчины. Она
лишается, таким образом, своей функции, теряет цель
в мире и должна умереть. Виновность мужчины по
отношению к женщине во всяком эротическом проявле-
нии Ибсен понял гораздо глубже Вагнера и сильнее
последнего раскаялся в ней*. Грех мужчины по отноше-
нию к самому себе, который проявляется в половом
начале, в желании совершенно забыть себя в объятиях
женщины, глубоко интересовал Вагнера уже в его Тан-
гейзере, между тем как Ибсен очень мало обращал вни-
мания на этот момент. Это слабое подчеркивание аске-
тических** требований по отношению к мужчине может
* Поэтому для Ибсена аскетизм скорее становится понятным
О распространенном понимании эпилога, как скорби ссмилесятилстнего
старика о невозвратном гроте Венеры, не стоит говорить всерьез.
•• Ибсен, к сожалению, с течением времени перестал желать ве-
ликого, после того как написал своего «Пер Гюнта». «Кесарь и Гали-
леянин» обозначает ту пору его жизни, когда для решения величайшей
проблемы применены были лишь слабые остатки воли. Если бы Ибсен
остался Ибсеном «Пер Гюнта», то он превзошел бы Гете, потому что
человек может все, чего он хочет. Лучшее произведение позднейшего
периода «Росмсрсхольм» - слабее Пер Гюнта; и воля Ибсена после
«Росмсрсхольма» ослабевает еще больше.
79
быть объяснено только тем, что Ибсен и в творчестве
своем является гораздо менее страстной натурой, чем
Вагнер, и в своей личной жизни находился, наверное, в
более чистых отношениях к женщинам, чем последний.
Не слишком ли много надежд внушила Ибсену серьезная
эротическая виновность мужчины, которая его беспокоила
сильнее, чем кого-либо до него, и о которой, без сомнения,
никто так много не думал, как он,- не слишком ли
много надежд на женщину, в отношениях к которой не
будет ни злоупотреблений, ни презрения,- на женщину
воображаемого будущего; не заключается ли весь смысл
женского существования (как, без сомнения, и цель каж-
дой отдельной конкретной женщины) в том, чтобы дать
возможность мужчине стать виновным; не воплощает ли
она в себе объекта, благодаря которому только субъект
всегда сумеет доходить до сознания своего собственного
«я*,- исследование этого вопроса не входит в задачу
моего очерка, в котором я, вопреки обычной в наше
время импрессионистской и технической критике, не
старался отыскивать высших точек зрения. Моей целью
было сделать доступной для широкого круга читателей
величайшую и поэтому наименее понятую поэму Ибсена
«Пер Гюнт*. Высшей наградой будет для меня, если моя
критика не будет признана недостойной этого художест-
венного произведения.
АФОРИЗМЫ
Психология садизма и мазохизма
психология убийства, этики,
наследственных грехов
I'
Афоризмы
ЫСШЕЕ выражение всякой морали: будь!
Человек должен действовать так,
чтобы в каждом данном моменте заклю-
чалась вся его индивидуальность.
Сон и сновидение, наверное, имеют нечто общее с
нашим состоянием до рождения.
««•
Алгебра постижима, арифметика - наглядна.
• ««
Настоящее есть форма вечности. Суждение об ак-
тивном обладает той же формой, как и суждение о
постоянно сущем. Связь с нравственностью - а последняя
превращает все настоящее в вечность - стремится охва-
тить узким сознанием всю ширину мира.
• ««
К детерминизму всегда приводит тот факт, что жизнь
вынуждает нас к борьбе беспрерывно. В отдельном случае
решение может последовать вполне согласно с этикой,
человек может решиться на нечто хорошее, но решение
83
не продолжительно - он должен вновь бороться. Можно
сказать, что свобода существует только один момент.
Это заложено в самом понятии свободы. Ибо что
это за свобода, если я мог ее создать и вызвать на вечные
времена, благодаря только одному хорошему поступку в
прошлом. Гордость человека состоит именно в том, что
в каждый момент он вновь может быть свободным.
Итак, для будущего и прошедшего не существует
свободы, и у человека нет силы над ней.
Поэтому человек никогда не поймет себя: ибо сам
он есть вневременный акт, тот акт, который всякий
индивидуум беспрерывно выполняет, нет момента, когда
бы человек не делал этого; если бы последнее было
возможно, человек понял бы себя*.
Этику можно выразить так: действуй вполне созна-
тельно, т. е. поступай так, чтобы в каждый момент Ты был
целиком в деле, чтобы там заключалась вся Твоя индиви-
дуальность. Последнюю человек переживает в течение
своей жизни лишь постепенно; поэтому время - безнравст-
венно, а каждый живой человек, даже святой,- несовер-
шенен. Если человек в единственном случае поступает с
сильным напряжением воли так, что вкладывает в этот мо-
мент всю универсальность самого себя (и мира, ибо он ведь
микрокосм),- тогда он побеждает время, становится Богом.
К числу самых могучих мотивов мировой музыки
принадлежат те, где есть попытка изобразить этот «про-
лом* времени в нем самом или вне его, где на известный
тон падает такой удар, что он в состоянии поглотить ос-
тальные части мелодии (а последняя представляет время
как целое; отдельные точки охвачены вместе с понятием
«я»); этим тон возвышает всю мелодию. Конец мотива
* Вариация из 3-го акта мотива «Парсифаля» (Den heihgen Speer
ich bHng ihn euch zuruck - святое копье, я принесу его вам паэал).
84
СгаГя в «Парсифале», мотив Зигфрида являются именно
такими мелодиями.
Существует все же один акт, так сказать, всасыва-
ющий в себя будущее; каждый будущий рецидив без-
нравственности он ощущает уже заранее, как вину, и
ничуть не меньше, чем всякое безнравственное прошлое,
а потому он перерастает их обоих: вневременная поста-
новка характера, перерождение. Благодаря этому акту
нарождается гений.
Вот нравственная заповедь: в каждом поступке долж-
на быть сосредоточена вся индивидуальность человека;
он должен быть полной победой над временем, над бес-
сознательным, над узостью сознания. Но по большей
части человек делает не то, что хочет, а то, что он
хотел. Он всегда задает себе, благодаря прежнему реше-
нию, определенное направление, по которому и движет-
ся вплоть до следующего момента раздумья. Мы же-
лаем не постоянно, а лишь по временам, толчками. Мы
сберегаем желание. Это - принцип экономии желания;
но человек высшей структуры ощущает в этом нечрезвы-
чайно безнравственное. Настоящее и вечность - родст-
венны; вневременные, общие, логические суждения
обладают формой настоящего (Логика есть достигнутая
Этика). И вот, в каждом настоящем должна заключать-
ся абсолютная вечность. Мы не должны в своей внут-
ренней Жизни быть детерминистами; этой последней
опасности, этого последнего ложного миража самостоя-
тельности нужно избежать.
Желай! т. е. желай себя всего!
В социализме правильно то, что каждый человек
должен стремиться сперва к достижению своей собст-
венности, подобно тому, как он должен пытаться отыскать
себя самого, своеобразность своего характера и найти
свою личность; там, как и здесь, он не может быть
заранее ограничен извне в своих возможностях.
85
Человек может гордиться приобретенным богатст-
вом; он вправе смотреть на него, как на нравственный
символ внутренней работы.
•••
Психологизм - самое удобное воззрение в жизни,
ибо на основании его отрицается само существование
проблем. Он осуждает поэтому заранее всякие разреше-
ния, так как столь же мало признает собственные про-
блемы, как и понятие истины.
Случайности не существует. В противном случае она
была бы отрицанием закона причинности, который тре-
бует, чтобы даже всякое временное совпадение ряда двух
различных причин имело известное основание. Случай-
ность уничтожила бы самую возможность жизни, она
отозвала бы с пути человека, постигшего, как победить
зло. Она сделала бы невозможной телепатию, которая
все же является фактом. Она сгладила бы связь вещей,
единство в универсуме. Если существует случайность, то -
нет Бога.
Любовь создает красоту
Вера » бытие
Надежда * счастье
а все вместе
создают жизнь.
Ненависть -
Неверие -
Боязнь -
гнусный* Боль - психический
ничто коррелят уничтоже-
боль ния (болезнь и смерть)
Наслаждение - психический коррелят творчества.
Оно сопровождается интенсивной болью, ибо в нем твор-
• Туг непереводимая игра слов <Hass - hasslich (нем.) - от Hass -
ненависть и hasslich - уродливый, отвратитсяьпый>. несомненно,
умышленная у автора, как показывают другие афоризмы. - Прим. пер.
86
чество и уничтожение сливаются в одно.
Боль (относится к): страху - Бытие: желанию
Наслаждение: любви - Бытие: желанию.
Отсутствие бытия у преступника есть поэтому ве-
личайшая боль, в собственном смысле слова - ад.
Надежда - страх: психология игрока. Всякий страс-
тный игрок сильно страдает от страха.
• ••
Знает ли растение наслаждение и боль? По-види-
мому, сладострастие в половом акте у них отсутствует!
Гермафродитизм растений!
• ••
Узость сознания и время не представляют собой
действительного различия, напротив, один и тот же факт.
Противоположность составляет параллелограмм сил; здесь
два различные движения соединяются в одно и могут
быть выполнены телами в одно и то же время. Психи-
чески это - чередование или также колебание (осцил-
ляция).
Душевная жизнь растений должна быть такой, чтобы
отсутствовала узость сознания. Именно этому соответ-
ствует то обстоятельство, что растение не может двигаться
и не имеет органов чувств; ведь развитие способности
к движению и ощущению всегда параллельны и взаи-
моопределяющи. Узость сознания (время) есть форма
движения в психике.
• ««
Работа - творчество; боль - наслаждение.
Ницше вполне прав, утверждая, что не существует
убийства с целью грабежа. Убийства из-за денег не бы-
вает. Однако и грабеж не есть «внушение бедного разума*
убийцы; он сам принадлежит убийству: грабеж есть пол-
ное убийство. Убитый все же имел бы реальность, если
87
бы владел деньгами, поэтому он должен быть ограблен,
т. е. убит вполне.
Самая тяжелая среди всех принципиально разре-
шаемых проблем - отношение воли к ценности, или,
что одно и то же, человека к Богу. Создает ли воля
ценность или наоборот? Создает ли Бог человека или
последний осуществляет Бога? Охватывает ли воля
добро или наоборот? Это составляет проблему милосер-
дия, самую высшую и последнюю проблему внутри
дуализма, тогда как первородный грех - проблема
самого дуализма.
Разрешить это, я думаю, можно следующим образом.
Ценность сама становится волей, если она вступает
в отношение со временем, ибо понятие (Бога), взятое
во времени, является волей. Итак, не может быть и речи
о создании воли или ценности: проблема указывает здесь
на соседство с первородным грехом. Воля, напротив,
становится ценностью (человек делается Богом), если
она будет совершенно вневременной; ценность - граница
существования воли и наоборот. Если Бог становится
временем, то он - воля, т. е. в том смысле, как допустимо
отношение бытия к небытию. Всякая воля хочет возвра-
титься к бытию (так говорит первородный грех); она
является чем-то средним между бытием и небытием. О
создании ее не может быть речи. Человек так относится
к Боту, как глаз к солнцу. А это не является ни солнцем,
видимым только благодаря глазу, ни солнцем, видимым
глазом вообще.
Идиотия - интеллектуальный эквивалент грубости.
Эпилепсия - полная беспомощность, падучая бо-
лезнь, ибо преступник сделался игрушкой тяготения.
88
Преступник не может действовать и являться откры-
то*. Чувство эпилептика: как будто гаснет свет, теряется
всякая внешняя опора. Шум в ушах при падении: веро-
ятно, с отсутствием света вступает в свои права звук.
Видения эпилептика красного цвета: преисподняя, огонь.
•••
О нашем состоянии до рождения, вероятно, потому
невозможно никакое воспоминание, что мы глубоко при-
нижены самим фактом рождения: мы потеряли сознание,
мы требовали этого рождения только благодаря физи-
ческой потребности, без разумного решения, без знания;
вот почему мы ничего и не знаем об этом прошлом.
Убийство служит самооправданием для убийцы, он
стремится им доказать, что существует ничто.
В причинном отношении нельзя определять свое
поведение приблизительно так: я в известном поступке
буду действовать хорошо и благодаря этому навсегда
сделаюсь добродетельным, буду всегда поступать хорошо,
сообразно природе, потому что я не сделаю тогда ничего
другого, кроме добра. Ведь в силу этого отказываются
от свободы, отрицающей в каждый данный момент все
прошлое и потому представляющей прямую противопо-
ложность пассивному (как у селедок) (?) элементу па-
* Тут опять чрезвычайно оригинальный способ выражения, свя-
занный с игрой слов. Чтобы попять место, читатель должен вспомнить,
что Вейнингер считает болезнь явлением, заключающим в себе вину
за (очевидно, первородный) грех (см. письма в предисловии); отсюда
сопоставление преступника с эпилептиком. И тот. и другой - игрушки
земного тяготения: преступник - нравственною, эпилептик потому,
что падает (Fallsucht - дословно: искание, стремление к падению).
Затем ни тот, ни другой не могут auftretten, т. е. ни твердо ступить
(в случае эпилептика), ни явиться открыто, как дебютирующий актер
выступает на сцене (преступник не может так выступать). Таким
образом, весь афоризм является как бы иллюстрацией упомянутой
мысли, выраженной в письмах Веннингера - Прим. пер.
89
мяти. Вводя причинность, пытаются стать объектом. В
сущности - нравственности более не существует, если
я ее достиг.
Не должны ли дети быть тем более безнравственны,
чем сильнее сладострастие и чувственное влечение в
связи мужчины и женщины? Не будет ли тогда в сыне
больше выражен элемент преступного, в дочери - склон-
ность к проституции?
Любят своих физических родителей; в этом факте
заключено, быть может, указание на то, что их избрали.
•••
Состояние детства у человека гораздо плачевнее, чем
у новорожденного животного или растения; ребенка
нужно поддерживать, ведь он так немощен, слаб и под-
вержен смерти (смертность детей!) гораздо больше, чем
взрослый. Человек страдает от детских болезней, совер-
шенно неизвестных среди животных и растений.
Если б человек не терял себя при рождении, он не
должен бы был искать самого себя, находить вновь.
Мир - мое представление: самый факт вечной жи-
вучести этого положения, опровергнуть которое нель-
зя, должен иметь свои основания. Все вещи, какие я
вижу,- не полная истина; они всегда заслоняют перед
взором высшее бытие. Когда я стал существовать, я
жаждал такого самообмана, жадно искал миража. Когда
я захотел появиться на свет, я отказался от желания
одной только истины. Все вещи - только явления, т. е.
они отражают всегда лишь мою субъективность.
90
Как человек относится к своему каждому незначи-
тельному психическому движению, так Бог - к человеку.
Оба стремятся проявить и осуществить себя в этих дви-
жениях.
• ••
Преступнику приятно, когда его окружает много пре-
ступных людей. Ибо он ищет соучастника, не нуждаясь
в судье. Преступник хочет устранить из мира судью,
т. е. добро, и придать вид реальности только хаотическому
ничто. Вот почему он не чувствует в себе тяжести про-
тиворечий, освобожден от них, если находит подобного
себе.
Преступник - антипод человека, сознающего свою
вину. Последний принимает вину на себя, преступник
сваливает ее на другого; он мстит и наказывает другого
вместо себя. Так объясняется убийство.
«««
Нравственный человек сам стремится к смерти, если
чувствует, что он бесповоротно становится злым; низкого
человека должно принудить к смерти судебным при-
говором. Чувство собственной безнравственности для
первого равносильно смертному приговору, он присуж-
дает себя к ограничению занимаемого им пространства,
прячется, умаляет себя, ежится, хочет исчезнуть, смор-
щиться до точки. Нравственность, напротив, признает за
собой право вечной жизни, великого пространства, т. е.
внепространственности или всесущего.
Вина и наказание не двойственны; они - одно и
то же.
91
Каждая болезнь представляет и вину, и наказание.
Медицина должна сделаться психиатрией, заботой о ду-
ше. Что-то безнравственное, т. е. бессознательное при-
водит к болезни. Всякая болезнь исцелена, как только
больной внутренне познает и поймет ее.
Чрезвычайно глубоко старинное представление, ста-
вящее вопрос больным или прокаженным: какое пре-
ступление совершили вы, за что так карает вас Бог?
Поэтому мужчина стыдится болезни, женщина - ни-
когда.
Законы логики и этики в их собственном смысле
мы всегда стремимся лучше понять, всегда хотим на-
учиться правильно их выразить.
Фантазия и украшение.
Фантазия и искусство.
Фантазия и игра.
Фантазия и любовь
Фантазия и творчество.
Фантазия и форма.
Фантазия и украшение*
Искусство творит, наука рассеивает чувственный мир;
поэтому художник - эротик, он сексуален, ученый -
несексуален. Оптика рассеивает свет.
Прерывистость в движении времени составляет без-
нравственное начало в нем.
• Это сопоставление относится, быть может, к понятию «космо-
са»? - Прим. пер.
92
Отношение следствия к причинности неопределимо
без разрешения проблемы времени.
Кто делает цель средством, а следствие рассматривает
как основание, тот выворачивает время; обратное учение
времени есть зло.
Недоверие к самому себе является условием всякого
другого недоверия.
Судьи - это люди, наделенные огромным злом. «Не
судите да не судимы будете». Кто судит других, тот
редко заглядывает в свою душу. В душе судья обладает
многими чертами палача. Он так свиреп к самому себе,
что становится страшным к другому.
Монарх - орган и монарх - символ.
«««
Если всякая любовь является попыткой найти себя
в другом, если все созданное произошло благодаря любви,
то нельзя ли факт творения Богом человека рассматри-
вать как попытку Божества найти себя в человеке? Тогда
мысль о младенчестве Бога получает смысл. Человечество
и его коррелят - мир, очевидно, осуществленная любовь
Бога. Нравственный закон представляет, таким образом,
волю Бога найти себя в человеке: желание Бога - дол-
женствование для человека (Фехнер). В то же время
Бог, благодаря теоретическому разуму (логические нор-
мы), является учителем человечества (учительство - дру-
гая сторона отеческого отношения).
ф««
Убийца в ужасе бежит от своего намерения при
всяком проявлении жизни у человека, обреченного им
93
в жертву; вот почему он чаше всего отыскивает старую
женщину, не возражающую на его скрытые намерения,
ведь она и так близка к смерти.
• ••
Ангел в человеке - это заложенное в нем неумира-
ющее начало, а дьявол в нем - то, что ведет его к гибели.
Состояние безумия у человека возможно только по
его собственной вине.
Человек не может внутренне погибнуть ни от чего
иного, кроме недостатка религии.
Почему вечно борются друг с другом «нечто» и
«ничто»? Почему рождается человек, почему мужчину
влечет к женщине? Здесь мы видим, что проблема любви
составляет мировую проблему, проблему жизни, глубо-
чайшую и неразрешимую, бурное стремление формы при-
дать свой вид материи, натиск вневременных начал во
времени и внепространственного в пространстве. Эту
проблему встречаем мы всюду: это - отношение свободы
к необходимости. Дуализм мира - нечто не охватываемое
разумом: мотив грехопадения составляет загадку, осно-
вание, смысл и цель низвержения из вневременного бы-
тия вечной жизни в небытие, в чувственную жизнь, в
тленное временное существование; падение свободного
от греха в вину. Я никогда не постигну, почему я впал
в первородный грех, как свободный мог стать несвобод-
ным. А почему?
Потому что я могу познать грех, если я очищусь от
него. Поэтому я не могу постичь жизни, пока сам прохожу
свой жизненный путь, а время есть загадка, с которой
я не мог еще справиться. Только смерть может научить
меня смыслу жизни. Я стою во времени, а не вне его,
94
я все еще высоко ценю время, все еще стремлюсь к
небытию, жажду материальной жизни; а так как я сам
погружен в грех, я не могу понять его. Я познаю только
то, что уже вне меня
Преступник и маньяк живут перерывами.
• ••
Человек живет до тех пор, пока он не проникнет
или в абсолют, или в ничто. Он сам свободно определяет
свою будущую жизнь: выбирает Бога или ничто. Унич-
тожает сам себя или возвышается к вечной жизни. Для
него возможен двойной прогресс: к вечной жизни (к
абсолютному знанию и святости, к состоянию, адекват-
ному идее истины и добра) и к вечному уничтожению.
По одному из этих направлений шагает вперед человек:
третьего пути нет.
• ••
Так как время имеет единый смысл, то нас мало
интересует состояние до нашего рождения. Рождение
наше устанавливает нечто новое, начинает новый ряд.
• ••
Наука несексуальна, ибо она как бы вбирает в себя;
художник сексуален, ибо он выставляет всенародно свое
творение.
Дуализм основан на том, что мы не создаем тех
ощущений, о которых думаем.
Идеализм всякой философии: «мир - мое представ-
ление» указывает яснее всего на восприятие вещей фи-
лософом его личным «я». Для художника человек пред-
ставляет скорее часть мира, он приближается к вещам
и таким образом повышает различие между человеком
и природой.
95
Так как психика создает все физическое, то человек
должен умирать. Вот объяснение смерти: если человек стал
равным абсолюту, вступил в вечную жизнь, то он не может
существовать в материальной форме, ограниченной ма-
терией и пространством; если психо-физический парал-
лелизм есть в действительности, то такой человек получит
тело, единое со всей видимой природой, он станет душой
природы, а природа его телом. Так же, как дерево, под
которым умер Будда, внезапно после его смерти начало
цвести, ибо новая жизнь проникает во всю природу.
Другая возможность для человека состоит в том, что
он попадает во власть хаотического ничто, разлагает себя
на исключительно материальные атомы,- это абсолютный
преступник. Подготовления к такому психическому унич-
тожению встречаются в течение всей жизни преступника.
Преисподняя является страхом доброго перед злым, ибо
огонь - средство рассеяния, обращения в пыль всего
оформленного в природе. На самом деле ада нет: добрый
создает себя, злой себя уничтожает.
Человек происходит телесно от отца и матери, ду-
ховно от стремления «нечто», абсолюта к «ничто». Миф
об Уране и Гее. Итак, мы в одно время дети Бога и
сыны праха (материи). Человек может духовно следовать
и за отцом, и за матерью: за первым, когда он становится
богом, за второй - психически погибая. Так происходит
человек, благодаря наследству более высшего порядка,
чем у животного. Отрицая первородный грех, он возвра-
щается к отцу, подтверждая его, он погружается в тайные
недра земли-матери.
• ••
Не таится ли причина эпилепсии в одиночестве
преступника? Не падает ли он потому, что у него нет
ничего, за что бы можно было удержаться?
96
Какая разница заключается в психических и физи-
ческих феноменах, можно познать из следующего. Если
бы был твердо установлен закон, что известное безнрав-
ственное движение соединено с определенными тело-
движениями, связывается в сердце с определенным чув-
ством, а с другой стороны, всякое нравственное движение
постоянно вызывает иные жесты, другие телесные ощу-
щения; если бы характер и локализация этих сопровож-
дающих физических явлений были научны или по край-
ней мере точно известны хотя бы одному человеку, то
и тогда было бы в высшей степени безнравственно, если
б такой человек воспользовался сопровождающими яв-
лениями, нравственными или нет.
Здесь, собственно, и заключается разница между пси-
хическим и физическим. Психическое следует познавать
более непосредственно, чем физическое - таково требо-
вание этики. Обладают еще другим масштабом, иным
органом познания и суждений как для всего того, что
сами делают, думают и чувствуют, так и для внешних
явлений. Поэтому только самонаблюдение может дать
истинные результаты. Философия и искусство - не что
иное, как различные способы одного углубленного само-
наблюдения.
• ••
Только благодаря самонаблюдению человек может
познать глубину мира: в нем заложены все мировые
связи.
Факт отсутствия воспоминаний о жизни до рожде-
ния менее всего является возражением против первород-
ного греха; так же, как и факт истинного существования,
указывающий, что не может быть иначе, чем есть, что
самое воспоминание о предшествовавшей рождению жиз-
97
ни могло бы стать опровержением мысли о грехопа-
дении. Ведь в этом воспоминании заключалось бы
понятие времени, а последнее появляется только с ро-
ждением, с актом грехопадения. Первородный грех до-
казывается существованием проблем, болезней, т. е.
вины. Бытие и небытие не должны быть мыслимы во
временном отношении, они существуют лишь одно через
другое.
• ••
Убийство совершается преступником вследствие
ужаснейшего отчаяния: оно служит ему средством за-
полнить величайшую внутреннюю пустоту; ибо, как пре-
ступник, он ничего иного не желает, ничего иного не
делает; он видит, что его жизнь не ведет ни к какой
цели, и потому он хочет что-либо сделать. При этом
для него совершенно безразлично, кого он убивает; за-
мысел убийцы никогда не направляется на определенного
индивидуума, иначе страсть к убийству, как психологи-
ческое предрасположение, не сидела бы, конечно, так
глубоко внутри; ему хочется лишь вообще убивать, от-
рицать.
Привычка (упражнение) Увеличение вины,
Размножение функция времени.
• ••
Всякая вина стремится увеличиваться сама собой:
отсюда должны стать понятными все качества низкой
жизни.
»»•
Вегетарианцы так же неправы, как и их противники.
Кто не хочет содействовать умерщвлению живых существ,
тому следовало бы пить только молоко; ибо кто ест
плоды или яйца, тот все еще убивает зародыши. Молоко,
98
может быть, потому самая здоровая пища, что оно -
самая нравственная пища.
•••
Человек никогда не в силах смотреть на солнце -
так слаб и незрел он.
Рождение - трусость-, соединение с другими людьми,
потому что нет мужества по отношению к самому себе.
Поэтому ищут защиты в материнской любви.
• ••
У преступника нет также прямой походки (кривая
походка собаки), а не только сосредоточенного взгляда.
Преступник ходит также всегда согбенным (все степени
до действительного горба: горбун, калека, всегда кажется
злым).
Золя - человек, абсолютно лишенный юмора.
• ••
Дым солнца при его закате.
•»»
Отвращение относится к страху, как желание - к
ценности.
Неподвижные звезды служат знаками ангела в че-
ловеке. Поэтому человек ориентируется по ним; и по-
этому женщины не питают никакой склонности к звез-
дному небу, ибо им недостает склонности к ангелу в
мужчине.
•••
Неужели и природа имеет свою историю? Неужели
и к явлениям природы как целому (включая сюда не-
99
органическое) применимо понятие времени? Постольку
была бы истина в учении о развитии (палеонтология).
Неужели существует развитие грозы, погоды (нечто со-
ответствующее человеческой истории и дающее символы |
для нее)?
• ••
Удивительное во времени то, что вопреки вечному
изменению все остается в нем одинаковым («все уже
некогда было», «нет ничего нового под солнцем»). Ску-
ка " закономерность = причинность. Новизна = свобода.
Преодоление времени ведет к понятию «вечно юного» .
(Вагнер). Природа вечно юна. Ибо здесь решительно
ничто не изменяется и, однако, все всегда ново. Люди,
которые имеют мало сверхвременного, как евреи, чувст-
вуют себя всегда равнодушными и скучающими, потому
что все остается равным себе во времени; Зигфрид, на-
против, остается «вечно молодым».
**♦
Настоящее так же лишено пространства, как и вре-
мени; и цель человека может быть определена как только
настоящее, как вездесущность (под вездесущностью боль-
шей частью понимают только свободу от пространства,
вместо того чтобы понимать под ней также поглощение
прошедшего и будущего, всего бессознательного созна-
тельным настоящим). Пусть ограниченность сознания
охватит это всеобщее: лишь тогда человек будет «вечно
юным и совершенным».
• • •
Наслаждение должно быть определено еще более
широко, чем чувство творчества. Оно может быть опре-
делено как равнозначное чувству жизни, как познание
существования-, боль - как чувство какой-либо смерти
(поэтому болезнь мучительна).
100
Против эвдемонизма можно заметить, что цель стрем-
ления не должна быть смешиваема с чувством, которое
возникает с достижением цели (о чем я могу знать из
опыта). Если я стремлюсь к более высокой жизни, то я
стремлюсь к чему-то такому, сопутствующим явлением
чего является более высокое наслаждение, но не к самому
наслаждению. Точно таким же образом мужчина желает
женщины, женщина мужчины, а не непосредственно на-
слаждения.
Все слова, которые соединены с Leben (жизнь) в
каком-либо определенном отношении, имеют букву L.
Leben (жизнь), Liebe (любовь), Lust (наслаждение),
voluptas (страсть), Lachen (смех), leicht (легко), leise
(тихо), lispeln (шептать), Licht (свет), Luxus (роскошь),
Libet (Lubet, по латыни - нравиться), volo (услада), lose
(свободный), largus (обширный), Fluss (река), Flote
(флейта), Lilie (лилия), Luchs (рысь), locker (распутный),
schliipfrig (скользкий), PouXopai (хочу), Lenz (весна),
loschen (гасить), Lax (понос), Laben glatt (гладкий), gle-
iten (скользить), List (хитрость), (сладкий), цеХ1
(мед). Lotos (лотос), lindern (смягчать), Хартгш (свеча),
lux (свет), lumen (свет), Xuxvoc (светильник), lecken (ли-
зать), Lappen (лоскут, мягкое сукно), Lamm (ягненок),
Leim (клей), ибо (X) - наиболее лишенная трения соглас-
ная, а трение сильнее всего противоположно цельности
и единству.
В противоположность этому можно, конечно, при-
вести:
Last (бремя), Leder (кожа), Lernen (учение), lahm (хро-
мой), Letum (смерть), lechzen (жаждать), links (налево).
Основная черта всего человеческого: искание реаль-
ности. Где ищется и находится реальность, это обуслов-
ливает все различия между людьми.
101
То, что человек переживает, - это временно разъ-
единенные части одной бесконечной, временной, прост-
ранственной, материальной, красочной, звучащей разно-
сторонности. И здесь возможен двоякого рода подход:
один ищет реальность в целом, в совокупности всего и
его бесконечной связи; для другого является реально-
стью каждый отдельный, так сказать, точный элемент
мирового целого. Это - совершенно один и тот же мир,
по своему количеству одинаково, совершенно одина-
ково бесконечный; но для одного часть всегда остается
только частью и является лишь постольку реальной,
поскольку она находит свои основания в целом. Другой
охватывает такой же мир; но каждый отдельный элемент
существует для него сам по себе как реальный, и он
ищет среди всех часть, обладающую наибольшей реаль-
ностью.
Применяя сказанное к религиозному (ибо оба типа
могут быть богобоязненны): для последнего солнце само
по себе, или какая-либо историческая личность сама по
себе, или Мадонна сама по себе - могут стать божеством.
Для другого отдельная вещь становится богом всегда
лишь постольку, поскольку она является символическим
выражением целого, и тем скорее, чем больше в ней
связаны вещи.
Применяя к половому: для одного отдельная жен-
щина реальна, это - садист. садист действует на женщину
потому, что она для него наибольшая мыслимая реаль-
ность; для мазохиста напротив, отдельная женщина ни-
когда не реальна, он всегда ищет в ней еще чего-то
другого, чем женщина. Поэтому он не действует на жен-
щину.
Садист живет урывками в отдельные моменты вре-
мени, он никогда не понимает себя: каждое мгновение
102
имеет для него уже само по себе реальность; поэтому он
легко принимает решение, между тем как мазохист мог
бы всегда действовать, исходя лишь из всеобщего. Мазо-
хист никогда не попадает в такое положение, чтобы за-
дать самому себе вопрос: «Как только я мог сделать это?
Я не понимаю себя!» Для садиста это обычное положение
по отношению к своему прошлому, которое, однако,
поэтому не теряет для него никоим образом своей
точной реальности. Садист обладает наиболее тонким
даром понимания и наилучшей памятью для всего еди-
ничного в мгновении; его чувства всегда деятельны, по-
тому что все единичное имеет для него реальность.
Мазохист страдает от продолжительных перерывов, ко-
торые он не может заполнить никакой реальностью.
От того, что для пего не реально, мазохист именно
страдает, как от вины. Поэтому он чувствует смущение
перед женщиной, садист - никогда. Он пассивен по
отношению к женщине, как по отношению ко всякому
ощущению, которому он может придавать реальность в
себе лишь через посредство ассоциации, которая в конце
концов ведет к образованию понятий. Садист не ассо-
циирует: он по отношению к ощущению раскрывает рот,
ожидая и намереваясь с головой броситься в него, це-
ликом раствориться в ощущении.
Мазохист поэтому никогда не может любить картину,
статую: здесь для него слишком мало реальности (ак-
тивности). Садист вполне способен на это; он, кроме
того, щеголь, а щегольство - это прежде всего орнаменты
статуй, у которых затем снова берут их украшение или
которые разрушают, когда они более не позволяют вы-
сасывать из себя реальность.
Настоящее понятие о Боге недоступно для садиста;
в искусстве он - человек ощущения, постоянно все при-
урочивает, даже несправедливо, к какому-либо человеку,
103
моменту, положению. Он умеет рассказывать', мазо-
хист - никогда (никаких острот), потому что для него
ничто единичное не достаточно реально, чтобы он мог
с любовью раствориться в нем. Для мазохиста имя На-
полеона - исходный пункт, от которого он удаляется,
чтобы мыслить и, мысля, понять его: для садиста в таком
имени заключен весь мир.
Итак, мазохист по отношению к миру восприятий
беспомощно слаб: садист силен в нем. Мазохист стре-
мится утвердить себя вопреки явлению, изменчивости:
только он познает понятие абсолютного (бога, идеи, ра-
зума). Садист не спрашивает у вещей об их смысле'.
«Сагре diem!» (лови момент) - вот заповедь его «я»;
изменчивость является для него реальной; что его по-
ражает во времени, так это не само оно, но длительность
(«аеге perennius» - прочнее меди).
Ритм, который тщательно выделяет каждый единич-
ный тон, каждый единичный слог, носит на себе отпечаток
садизма; гармония - мазохизма, как и настоящее мело-
дическое пение (в котором отдельные тоны не выступают
как таковые).
Мистик (будь он теософ вроде Бёме или рационалист
вроде Канта) тождествен с мазохистом*; немистический
человек - садист. Мазохисты - жители севера (также
евреи); садисты - жители юга. У немцев и греков встре-
чается и то, и другое; там преобладает мазохизм. Вене-
цианские эпиграммы, Германн и Доротея (?) - садис-
тичны; Ифигения, Тассо, Вертер, Фауст (преимущест-
венно: исключение отчасти представляет эпизод с Грет-
хен) - мазохистичны. Автор Одиссеи был садист; только
Цирцея, конечно, мазохистический идеал (т. е. идеал ма-
зохиста, который не борется против своего мазохизма, но
* Философы с садистическими (нсмистическими) чертами — Де-
карт, Юм, Аристипп.
104
хочет пребывать в пассивности по отношению к единич-
ной вещи). Эсхил, Рихард Вагнер, Данте, но прежде всех
Бетховен и Шуман - мазохисты; Верди (наряду с Мас-
каньи и Бизе) - более садист, подобно всем анакреон-
тическим поэтам и французам XVII и XVIII веков, в
этом же ряду Тициан, Паоло Веронезе, Рубенс, Рафаэль.
Шекспир имеет много садистического, но все же он более
мазохист. Он не проводит по отношению к женщине
резкого разграничения между половым чувством и лю-
бовью, как это делают Гете, Данте, Ибсен, Рихард Вагнер.
Совершеннейший мазохизм представлен в первом акте
«Тристана и Изольды»; в меньшей степени в Тангейзере,
Риенци, Голландце.
(Гармонии соответствует геометрия, ритму - ариф-
метика (сложение единиц времени?) - это для объясне-
ния прежнего замечания).
Преступники, которые совершают внушительные
единичные преступные дела, - садисты; преступники
крупного стиля, которые, собственно, не совершают ни-
какого единичного отдельного преступления, - мазохис-
ты, Наполеон был, вопреки поверхностному мнению,
мазохистом, а не садистом; доказательство - его отно-
шение к Жозефине и его увлечение Вертером, его от-
ношение к астрономии и к Богу. Единичная женщина
никогда не обладала для него действительным сущест-
вованием.
Впрочем, садист может быть вполне приличным и
добрым человеком.
Убийство в момент страсти, быть может, являет-
ся на помощь садисту, когда реальность единичной
женщины становится слишком большой (??). Быть мо-
жет, это совершенно не должно быть актом мести, как
у Золя.
Англичане вообще мазохисты, и, возможно, поэтому
их жены так часто лишены женственности.
105
В словах Наполеона к своим солдатам: «Du haut de
ces pyramides quarante siecles vous contemplent» (Сорок
веков смотрят на вас с вершин этих пирамид) есть нечто
метафизическое, к чему настоящий француз и садист не
был бы способен.
Мазохиста поражает прежде всего сходство, садиста -
различие.
Для мазохиста уже в детстве часы, календарь пред-
ставляются величайшей загадкой, ибо время является
для него всегда главной проблемой.
Мазохист никогда не может перескочить легким
прыжком через что-либо предыдущее, что постоянно де-
лает садист, коль скоро новое мгновение обещает больше
реальности, чем старое.
Мазохист воспринимает все как судьбу; садист любит
играть с судьбой. В особенности в конкретной боли со-
держится для мазохиста всегда идея судьбы; боль имеет
для него реальность, как участие в этой идее. Так садист
является судьбой женщины; женщина - судьба мазохиста.
«Женщина» - садистична (кто активен в восприятии
женщины); «жена» - мазохистична.
Отношение садиста к мазохисту - это отношение
настоящего к вечному. Настоящее - это единичное, над
которым человек имеет власть; кто чувствует себя в
нем свободным, будет пользоваться им как садист; кто
чувствует себя в нем страдающим, так как оно являет-
ся для него нереальным, стремится пробудить его к
вечности. Точно так же можно охарактеризовать и эти-
ческое стремление обоих: один хочет превратить вся-
кую вечность в настоящее, другой всякое настоящее -
в вечность.
То же имеет значение и по отношению к простран-
ству. Садист верит в счастье на земле и надеется на
него: он человек «Тускулана», «Сан-Суси»; мазохисту
нужно небо.
106
Садист осуждает себя за раскаяние и считает его
слабостью (Сагре diem! - Лови момент!); мазохист про-
никнут его величием (Карлейль).
Самоубийца почти всегда садист; ибо этот последний
способен желать и поступать, исходя только из настоя-
щего; мазохист должен был бы предварительно вопрошать
вечность, смеет ли он, должен ли он убить себя. •
Садист стремится помочь людям (вопреки их воле,
их постоянному расположению) достигнуть (мгновенно-
го) счастья или боли: он благодарен или мстителен.
В благодарности и мстительности всегда заключается
безжалостность, беспощадность по отношению к (без-
временному) ближнему; и та, и другая, как всякая без-
нравственность, переходят границу, т. е. являются фун-
кциональной связью с ближним.
Психическое целомудрие, т. е. непрерывность, кото-
рая нелегко выпускает из своего «я» единичное содер-
жание, - мазохистична.
Современная гигиена и терапия - безнравственны,
а потому и безуспешны: они стремятся действовать извне
внутрь, вместо того чтобы действовать изнутри наружу.
Они соответствуют татуировке преступника: последний
изменяет свою внешность снаружи, вместо того чтобы
действовать посредством изменения в образе мыслей.
Таким образом он, разумеется, отрицает и свой внешний
облик и потому не хочет смотреть в зеркало, ибо он
ненавидит себя (интеллигибельное «я»), не чувствуя пот-
ребности любить себя. Преступник радуется, когда другие
находят его странным (как ему вообще приятна всякая
связь с другими, всякое влияние на них, всякое беспо-
койство, доставляемое им их личности).
Всякая болезнь имеет психические причины', и всякая
должна лечиться самим человеком, его волей: он должен
107
стремиться познать ее сам внутренне. Всякая болезнь*
есть только ставшая бессознательной, «в тело перебро-
сившая я» психическая; стоит только последней перейти
в сознание, и болезнь вылечена.
Преступник вообще не заболевает-, его наследствен-
ный грех другого рода. Когда я стараюсь представить
себе это символически, то мне представляется прибли-
зительно следующее: в момент грехопадения преступник
падает с неба на землю, поворачиваясь спиной к Богу,
но, тем не менее, прекрасно намечая себе пункт, на
котором он мог бы стоять. Другой, больной (неврастеник,
сумасшедший), бросается с молящим лицом, поднятым
к Богу, но относясь бессознательно и невнимательно к
тому, где ему предстоит лежать. Если опасность, пред-
стоящую последнему, представить в виде растения, а
первому - в виде животного, то это вполне согласуется:
растение растет от центра земли прямо отвесно к небу;
взор животного направлен к земле. (Растение никогда
не может иметь значения в качестве безнравственною
символа, как столь многие животные.)
•••
Всякий может постигнуть самого себя всегда лишь
как качество; лишь посредством сравнения с другими
выдвигаются количественные созерцания. Число и время.
• •••
Как хорош музыкант, мелодии которого прежде всего
имеют длинное дыхание.
• ••
История и общество: лица, которые находятся в
пространстве друг подле друга, образуют всегда сооб-
щество против вновь вступающих.
* Не только истерия.
108
Благодарность и мстительность родственны. Обеим
свойственно восприятие отдельного момента как реаль-
ного-. как благодарен, так и мстителен садист, не мазохист.
Если женщина, захваченная врасплох неодетой,
вскрикивает, то это следует понимать лишь так, что она
испугалась, что недостаточно хорошо выглядит в таком
виде.
• ••
Дисгармония - трагический элемент в музыке. Как
раз величайшие в мире произведения искусства («Трис-
тан и Изольда») обладают этой трагической резкостью,
и они - более чем прекрасны.
• ••
Хороший афорист должен уметь ненавидеть.
Многие полагают, что они избавляются от одного
Бога, приписываясь ко многим другим.
•••
Ничто так часто не смешивается, как упрямство и
энергия, - упрямыми.
Математик - противоположность психолога: он -
несложный* человек, несложный, как пространство.
• ••
Если бы человек не был свободным, он совершенно
не способен был бы понять причинность и не мог бы
составить о ней никакого представления. Уразумение за-
кономерности - есть уже свобода от нее, а потребность
в чуде (внутреннем), потребность в спасении идет рука
об руку с самым сильным сочувствием к причинной
связи в эмпирическом. Виндельбанд в своей «Истории
109
новейшей философии» (т. 1, 2-е нем. изд., с. 346) находит
замечательным относительно Юма, что «человек, который
объявил познание причинных отношений сомнительным
во всех отношениях и, в крайнем случае, лишь вероятным
делом, защищал его целым рядом блестящих исследова-
ний в психологии воли*.
При более глубоком рассмотрении это явное проти-
воречие становится неизбежным. Также Мах, Авенари-
ус - такие строгие детерминисты, что вопрос о свободе
воли едва ли, кажется, существует для них, и однако
оба они отрицают причинность. Это объясняется тем
обстоятельством, что только тот, кто проникся эмпири-
ческой законностью, чувствует потребность освободиться
от нее. Причинность постигается, познается, предполага-
ется свободой. Преступник не признает причинности, он
хочет прорваться сквозь нее: он хочет, например, сразу
избавиться от горба, хромоты: так мало признает он факт
(поэтому и его чувство действительности ничтожно).
Мне кажется, Павел говорит: «дурной и прелюбодейный
род, который требует знамения». Это совершенно верно
Чуда извне ждет только преступник; нравственный че-
ловек стыдился бы чуда извне; ибо тут он действительно
был бы пассивен. Все ханжи - преступники.
•••
Трансцендентализм тождествен с мыслью, что су-
ществует только одна душа и что индивидуация - ил-
люзия. Здесь монадологический характер кантовской
этики совершенно противоречит «Критике чистого ра-
зума».
• ••
Вопрос, существует ли одна душа или несколько, не
должен ставиться; ибо отношения ноуменов стоят выше
численного выражения.
ПО
В справедливости наличествует эстетический и ма-
тематический элемент (учение о пропорциях).
• ••
Спиритизм и материализм составляют одно и явля-
ются различными фазами, в которые последовательно
вступает один и тот же человек. Духовное потеряло бы
все свое достоинство, если бы оно материализировалось.
• ••
Вполне понять человека (Канта или Фехнера) -
значит преодолеть его.
*•*
Мазохист действует на истеричную женщину (жен-
щину как растение), садист - на неистеричную (женщину
как животное).
• ••
Мегера не противоположность истерички, как я пола-
гал («Пол и характер»), но противоположность дамы. .
•••
Мужчина и женщина составляют вместе то же, что
подбашмачный герой и мегера.
Потребность быть любимым растет с чувством за-
гнанности, пропорционально ему.
• ••
Где мужчина ворует, женщину только зависть берет.
Двойное понятие чуда: существует или одно чудо,
которого страстно ждут (которое должно принести спа-
сение; потребность в чуде, как потребность в спасении),
или много чудес, которые суть подтверждения веры, под-
111
тверждения, так сказать, законов царствия небесного, j
если не законов также математической физики.
И те, и другие надо различать.
•••
Случается также, что некто импонирует кому-либо,
так как он стоит глубоко ниже его, - если его не пони-
мают.
Троякое определяет философия, три элемента долж-
ны соединиться, чтобы произвести ее:
Мистик, ученый, «
(противоположность: садист) (противоположность: художник)
систематик
(противоположность: экспериментатор).
МИСТИК дает в результате еще только теолога, •
+ догматика какой-либо веры,
ученый
Мистик
+
систематик
даст теософа, который следует только
индивидуальной интуиции, без стремле-
ния к доказательству и достоверности.
Ученый дает теоретического физика,
+ биолога и пр.
систематик
Мистика можно определить по проблематизации аб-
солюта и небытия. Больше всего бросается в глаза про-
блематизация времени.
Ученый определен в «Науке и культуре»; он транс-
цендентальный человек (Кант как не мистик), он ищет
полного признания всего, что он говорит, опровержения
всякой противоположной возможности.
112
Систематик - противоположность техника и экспе-
риментатора; в каждой науке есть теоретики и техники.
Так, в математике:
Эйлер - техник Риман - теоретик
в лингвистике
Потт » Гумбольдт »
в физике (Бопп)
Фарадей » Максвелл »
И то, и другое в высокой степени воплощают Гельм-
гольц, Дарвин и др.
***
Старость - смерть, молодость - жизнь. Чем более
велик человек, тем менее он старится, тем менее ослаб-
ляется в старости его воля.
Но, кроме Иисуса Христа, нет никого, кто в старости
не желал бы меньшего, чем в молодости. Это показывает
музыкально слабый «Парсифаль» (который в замысле своем
более свеж и силен, чем в музыкальном исполнении; впрочем,
его темы, мотив могилы и цветистого луга, а также мотив
вечери и Парсифаля в вариации третьего акта, принадлежат
к величайшим). Это показывает прежде всего Ибсен, у
которого воля достигает двух кульминационных пунктов,
самого высшего - Пер Гюнт, низшего - Росмерсхольм, но
в других случаях движется все время по нисходящей линии;
это показывает также Бетховен, искусство которого достигает
своей вершины в «Аппассионате» и особенно в «Вальдш-
тайн-сонате»* (III s., где она почти приближается к Богу),
но затем все же падает, Девятая симфония не величайшее
творение Бетховена
• • •
Преступник часто ищет (подобно рабу) очень совер-
шенного человека (и здесь, как судья людского несовер-
* Соната, посвященная графу Вальдштайну, другое название -
«Аврора». - Прим. ред.
ИЗ
шенства, является гораздо более суровым, чем доброде-
тельный человек), ибо ему хотелось бы таким образом
приобрести веру извне (не путем внутренней перемены
сознания). Когда он полагает, что нашел такового, он
отдается ему в полнейшее рабство и ищет назойливо
людей, которым он мог бы служить, как раб. Он хочет
жить рабом также для того, чтобы никогда не быть
одиноким.
Если при этом в круг вступает кто-либо третий,
преступник оказывается беспомощным, ибо, как известно,
нельзя одновременно служить двум господам, а преступ-
ник - раб всякого человека (все равно, свободного ли,
или несвободного), с которым он вместе находится.
Проблема двух людей.
Проблема трех людей.
С четырех начинается психология толпы.
Феномены «классификации». Каждому человеку пи-
шут иначе, часто даже с различной каллиграфией.
*•*
Чем больше милость, которую человек получает от
Бога, тем больше жертва, которую он за нее принесет
Богу. У Иисуса милость и жертва были самыми боль-
шими.
Очевидность может относиться только к последним
законам мысли. Эти последние непосредственно очевид-
ны; эта очевидность есть милосердие.
Ценность: сила - свет: огонь.
Не существует степеней истины, степеней нравст-
венности.
114
Наследственный грех совершается непрерывно: веч-
ное и временное существуют здесь рядом.
• ••
Разница между генезисом и кодификацией суеверия.
Кодекс: крестьянский календарь. Генезис: вина.
Разница между аморальным (женщиной) и антимо-
ральным (преступником), как и их родство, заключается
в том, что женщина хочет, чтоб ее унизили, в то время
как дурной мужчина унижает самого себя.
* • •
Самого глубокого познания самого себя и своего
назначения человек всегда достигает лишь в том случае,
если он изменил себе, если он согрешил против своего
познания (Бога), посредством вины. Быть может, для
этого нужна жизнь на земле, чтобы таким путем Бог
нашел самого себя, ибо сознание возможно только через
противоположность.
Примечание
В одном очерке, приложенном к прежней обработке
«Пола и характера», я пытался открыть морфологичес-
кие и параллельно психологические аналогии между об-
ластью рта, горла и заднеполовой частью и в связи с
этим осветить несколько первоначальный вид типа поз-
воночных.
Я старался найти общее между ртом и задним про-
ходом, языком и половыми органами и разъяснить,
почему высовывание языка и показывание задницы вос-
принимаются одинаково; почему еда в присутствии дру-
гих у некоторых первобытных народов считается бес-
стыдной (как еще и ныне приличие не позволяет есть
115
на улице); какое сходство заключается между половой
потребностью и потребностью в еде; почему щитовидная
железа (которая имеет ставший рудиментарным проток,
оканчивающийся у корня языка) находится в столь за-
мечательных отношениях к семенным железам, почему
голос действует особенно на половое возбуждение и так
сильно изменяется в зависимости от пола.
Человеку, как микрокосму, более или менее известно
значение этих вещей, их внутреннее родство, - поэтому
он стыдится полости рта. Если бы, напротив, была верна
теория происхождения, то животные, которые еще ближе
стоят к баланоглоссу (у которого половые органы лежат
еще в области жабер), должны были бы испытывать
более стыда, чем человек.
Есть боязнь пространства, которая является свето-
боязнью и которая существует у человека, чувствующего
себя виновным, не правым перед Богом.
Голоса птиц - это то, что предсказывает тому же
самому человеку его верную гибель («Пер Гюнт», 2-й
акт).
Галки, вороны - черные птицы - не попадаются на
открытых, светлых местах.
Кто отдается солнечному зною, тот - сам кипарис,
это растительная пассивность и «блаженство как дар». (?)
К ХАРАКТЕРОЛОГИИ
ЕЕЕ
Искатели и священники
ЮДЕЙ можно разделить на искателей и
священников, и благодаря этому делению по-
лучится большая выгода. Искатель ищет,
священник сообщает. Искатель ищет пре-
аде всего себя, священник прежде всего
делает свои сообщения другим. Искатель
ищет в течение своей жизни себя самого, свою собст-
венную душу; священнику уже наперед дано его «я» как
предпосылка всего прочего. Искателю всегда сопутствует
чувство несовершенства; священник убежден в сущест-
вовании совершенства.
Разница, которую я имею в виду, станет, быть может,
наиболее ясной в таком виде: только искатели тщеславны
(и чувствительны). Ибо тщеславие возникает из потреб-
ности найти и из чувства, что еще не нашел себя. Свя-
щенник не тщеславен, его трудно задеть, и у него нет
потребности в признании извне, потому что он не нуж-
дается в этой поддержке. Зато у него есть потребность
в славе; предпосылкой потребности в славе служит внут-
ренняя самоуверенность; свою сущность, это «я» как
можно полнее передать другим и таким образом соеди-
ниться с ними. Слава становится благодаря этому родст-
венной Жертве.
Я приведу здесь по четыре примера искателей и
священников, прежде чем продолжать свой анализ.
119
Искателями были: Геббель, Фихте*, Брамс, Дюрер.
Священниками: Шелли, Фехнер, Гендель, Беклин. Ис-
кателям, как видите, обще - линия без цвета; священ-
никам - цвет без линии.
Цвет понимается здесь как символ чувственного;
к чувственному именно спускается священник, между
тем как искатель хочет подняться от него к духовно-
му. Поэтому священник имеет действительно сильную,
большую связь с природой; ибо священник исходит от
духа и стремится привести мир к совпадению с собою;
все должно ярко заблистать, как огонь в нем самом.
Искатель, напротив, преимущественно перед священни-
ком имеет связь с обществом; ибо этот человек стано-
вится социальным, потому что он ищет самого себя в другом.
Таким образом, только искатель вступает в глубокую связь
с культурой, правом, государством и нравственностью; в
природе он чувствует большую склонность, самое большее,
к явлению: к лесу как символу тайны.
Ибо священник имеет откровение позади себя, а
свет - в себе самом; искатель стремится к откровению,
но он еще слеп. Священник находится уже в союзе с
божеством; только ему известны мистические пережива-
ния (крайние искатели, как Кант или, еще лучше, Фихте,
не знают таковых). Абсолют, божество даны священнику
как предпосылка, как сокровище или как залог Всевыш-
него; искателю - как ценность, как цель. Священник
приносит себя в дар миру, предлагает ему союз; искатель
убегает от мира, потому что он еще не получил посвя-
щения. Всякий ищущий, естественно, - проклинающий;
священник - проти-воположность слепого, он - зрячий
и благословляющий. Напротив, искателю благословение
всегда непонятно.
• Фихте был проповедником. Не следует смешивать это со свя-
щенником.
120
Часто считают лишь священника настоящим худож-
ником и объявляют таких людей, как Ибсен, который
очень родственен искателю, и Геббель, который еще ближе
к нему, не настоящими художниками, что совершенно
несправедливо; здесь вводятся в заблуждение вследст-
вие ложного представления о чувственности в искусстве.
Шекспир был, конечно, исключительно художником, и
все же, наверное, гораздо более искателем, чем священ-
ником. Впрочем, искатели и священники - это крайнос-
ти; величайшие люди являются тем и другим, большею
частью они сначала - искатели, чтобы затем превратиться
в священников: когда они нашли источник, пережили
самих себя. Таков Гете, таков Вагнер. Гете - искатель в
первоначальном «Фаусте», священник в «Ифигении»;
Вагнер - искатель в «Голландце», в «Тангейзере» (хор
пилигримов дает замечательное представление о том, что
значит искать), а также в «Тристане», особенно во 2-м
акте, ибо искатель - эротичен, священник - сексуален
без любви, существующий отдельно от полового влечения.
Священником Вагнер является уже в «Лоэнгрине» (склон-
ность к торжественности, к праздничности вполне свойст-
венна священникам); но больше всего в 3-м акте «Зигф-
рида», где так чрезмерно выступает стремление к увенчанию
поисков, триумф по поводу осуществления стремления.
Ибо священник не должен быть мирным, идиллическим
человеком, напротив, как борец, он желает только победы,
а не напряжения борьбы, не опасности поражения.
Ницше долго был искателем; и только, как Зара-
тустра, надел он священническое облачение, и тут раз-
дались те речи с горы, которые показывают, как много
уверенности приобрел он благодаря этой перемене. Пе-
реживания священника (как зрячего!) интенсивнее, чем
искателя; и поэтому он более уверен в себе, он чувствует
себя избранным посланником солнца, луны и звезд и
прислушивается лишь, чтобы понять их язык настолько
121
совершенно, насколько он сознает это своей обязан-
ностью.
Искателями были еще Руссо, по-видимому, Кальде-
рон, Софокл, Моцарт; почти совершенным священником
кажется Пиндар. Бетховен - искатель в «Фиделио», свя-
щенник в «Вальдштайн-сонате», последняя часть которой
является вершиной аполлонического искусства.
Психофизический параллелизм является, по-види-
мому, священническим представлением (ибо священник
приходит от духа и хочет воспринять природу, он чувст-
вует себя более виноватым перед природой, искатель -
перед духом); поэтому священник является также детер-
министом, ибо для него уже наперед свобода и законо-
мерность суть едины. Искатель - индетерминист и про-
клинает тело.
Искатель молчалив, замкнут (не следует смешивать
с замкнутым, т. е. неоткровенным и несоциальным пре-
ступником); священник - открытый, предлагающий себя
человек (не следует смешивать с бесстыдством), потому
что он не ищет, но уже обладает совершенством и стре-
мится лишь вполне понять, выразить.
О Фридрихе Шиллере
СОЖАЛЕНИЮ, когда касаешься значе-
ния этого имени, оказываешься в дурном
обществе, ибо школьническая оппозиция
модернистов, третирующая всех признан-
ных великих в истории, направлена глав-
ным образом против него; однако это не
должно испугать нас и заставить считать Шиллера дей-
ствительно великим человеком, чем-то большим, чем в
высшей степени одаренным человеком и равным образом
очень дельным журналистом. Эту оценку можно обосно-
вать в немногих словах; об остальном можно прочесть
в «Драматических этюдах» Отто Людвига.
Величие Шиллера можно видеть единственно в том,
что он совершенно разрушил трагедию: она еще долго
не могла оправиться от этого. У героев его драм нет
никогда даже малейшего внутреннего прошлого; в виде
исключения можно было бы принять во внимание един-
ственно «Фиеско», его лучшую вещь, и именно потому
встретившую такой дурной прием у историков литера-
туры, и в меньшей уже степени «Орлеанскую Деву*. Сам
он до такой степени совершенно не понимает проблем
внутри человека, ему так мало приходит где-либо в
голову действительно серьезно сделать сюжетом поэти-
ческого произведения убийство или любовь, стремление
к познанию, или тщеславие, жажду власти, или готов-
123
ность к самопожертвованию, - что он всегда приписывает
«большую половину» всякой вины в первую очередь
«злополучным созвездиям». Тем самым решена судьба
его поэзии, и Шиллеру вынесен приговор. Расположение
звезд по отношению к человеку всегда случайность, и
даже у Шиллера оно может вступить в связь с действием
только самым внешним образом.
Случай есть нечто абсолютно нетрагическое, на нем
строится как раз комедия. Все бряцание оружием у крас-
норечивых шиллеройских героев нужно лишь для того,
чтобы заглушить ту истину, что здесь смешиваются во-
обще самые противоположные вещи - рок и случай. Разве
не достойно сожаления то, что автор допускает, скажем,
крушение Дон Карлоса из-за искусной системы шпионст-
ва или, допустим, гибель Валленштейна из-за внешней,
никогда не подтвержденной вины (предположим, что он
однажды воспользовался как средством для своих планов
одним честолюбивым солдатом слишком неловким обра-
зом)? И это-то произведение - величайшая драма нем-
цев? Ее движущей силой является раздутая интрига, как
и во всех шиллеровских пьесах, пустая дипломатическая
погремушка, не трагическое противоречие. У шиллеров-
ских действующих лиц нельзя заметить никаких следов
внутренней борьбы, они дышат чертовски подозрительной
объективностью, не наивностью выпуклой действитель-
ности, но анемией плоских теней, как если бы они ничего
не восприняли от Крови сердца поэта; Шиллер в сущности
этический, а не драматический поэт, или, по крайней
мере, ему недостает того, что драматург может занять
у лирика: субъективности героя. Здесь не является раз-
двоенным неограниченное и ограниченное » человеке,
здесь не вступают в борьбу между собой мир дуло^...ни
с миром чувственным. По существу, виной всему только
коварствЬ и низость' внешнего мира, жертвой которого
падает в конце концов герой. Именно на это жалуется
124
Шиллер в своем последнем весьма фразёрском и прослав-
ляющем порок мстительности произведении, в «Телле»:
«Не может лучший жить спокойно, коль то соседу злому
не по нраву». Шиллер, по-видимому, едва ли знал врага
в собственной груди, одиночество и его ужасы, рок внутри
человека. «Мессинская невеста» - плохое подражание
«Царю Эдипу»; что придает последнему его величие и
его могучее влияние, так это переход случайности в вину,
которая является виной самою героя, высший героизм
нежелания облегчения, который отвергает всякое оправ-
дание.
Впрочем, разве не заметно, как совсем не глубоки,
как неметафизичны драмы Шиллера? «Но стихотворе-
ния! - возразят нам. - Разве они, скорее, не слишком
философичны?»
Но что же это такое, что так задевает в тех стихотво-
рениях? Это та оскорбительная радость, которую Шиллер
находит в хоре, в стаде; его совершенно негениальное
чувство счастья жить как раз в то время, в которое он
жил*; его добровольное самоограничение в истории, его
самодовольная гордость цивилизацией. Это именно он
собственноручно заложил основание самомнению евро-
пейца и лживому энтузиазму прогрессивного филистера -
т. е. тем свойствам, наиболее полными представителями
которых являются в настоящее время большей частью
евреи, хотя они отрекаются от имени Шиллера. Что
всегда должно было отталкивать более глубоких людей
от Шиллера, что всегда держало Гете в столь большом
отдалении от Шиллера, вопреки навязчивому желанию
последнего сблизиться с ним и понять его, так это его
необоснованный оптимизм - оптимизм, не трансцендент-
но-религиозный, не стремящийся вырваться из-под влас-
* Если не принимать это слишком дословно, то нужно отдать
справедливость Геббслю » Шиллер играл на руку великому французскому
императору»
125
тпи времени, не полный веры в Бога, но имманентно-ис-
торический оптимизм; оптимизм, который радуется тому,
что человечество стало старше на тысячу лет, и с во-
одушевлением заносит в свой календарь эту прибавку;
оптимизм, который не надеется, но сам уже удовлетворен
в своих надеждах, ибо для него явления служат не
средством, чтобы дойти до символов, ио символы должны
только помочь ему приукрасить явление. Потому Шиллер
является не алчущим, а только сентиментальным, если
явление не совпадает с идеей*.
Он является также настоящим творцом эстетизма,
который насчитывает больше всего приверженцев среди
современных евреев: он бежит от всякой глубины или
притворяется глубоким, чтобы иметь возможность спасти
только видимость. Шиллер - выдающийся неэротичный
человек; и никто так мало, как он, не является поэтом
семьи. И наряду с чрезвычайной технической рутиной
его произведений, именно это лживое позолачивание
филистерства, это искусственно очищенное освящение
будничной жизни («Колокол»), с точки зрения которых
он рассматривает все исторические явления, чтобы сде-
лать из них фон для буржуазной идиллии, - именно
это больше всего послужило его популярности.
Только таким образом портрет Шиллера является
законченным. Его философия так же монистична, как
его поэзия, его миросозерцание так же мало трагично,
как его трагедия. Он принадлежит к типу тех людей,
которые верят, что они пришли к основам бытия, только
потому, что они никогда не воспринимали его пропастей.
Кантианство Шиллера - чистое недоразумение; он мог
легко выставить на смех понятие о долге и осмеять
кантовскую этику там, где она наиболее глубока. Ибо
отказ от критики разума превращается у него в само-
* Сентиментальность еще больше еврейского, чем женского, про-
исхождения; опа - мировая скорбь пентюхов.
126
достаточность имманентности, и он разделяет ее со всегда
позитивистически настроенным еврейством; неслучайно
был он также антисемитом.
Я мог бы с полным основанием назвать его журна-
листом. Ибо он причислил себя к журналистике благо-
даря своему хамелеонству, которое позволяет ему при-
нять в «Лагере Валленштейна» то гетевскую, а вскоре
затем снова романтическую, то греческую, то шекспи-
ровскую форму; и тот факт, что он мог написать неко-
торые стихотворения и многое в «Телле» просто по
рассказам Гете об Италии и Швейцарии, как раз может
служить сильнейшим подтверждением моего мнения, что
он должен был петь, исходя не из собственных пережи-
ваний, а мог только переживать вслед за другими в
очищенном и аффектированном виде то, что они созер-
цали. Но что окончательно накладывает на него печать
журналиста - это трогательная чувствительность, которая
болтает о трагическом происшествии, когда человека пе-
реехали на улице; и прежде всего это именно та прико-
ванность к мелким злобам дня, то филистерство, которое
чувствует себя наиболее космически настроенным тогда,
когда происходит календарная смена века. В Шиллере
журнальная современность ненавидит только самое себя.
Об основных мыслях в произведениях
Рихарда Вагнера, в особенности
в его «Па реи фале»
ИКОГДА еще искусство не достигало
столь высокой степени совершенства в
плане соответствия требованиям любой
эпохи и такой силы воздействия на людей,
как в творениях Вагнера. Все стремления
к созданию новой литературы, к основа-
нию нового искусства кажутся придуманными и фаль-
шивыми по сравнению с его произведениями, которым
мы не устаем удивляться. То, что это полное удовлет-
ворение дарит среди столь многих только Вагнер, можно
объяснить лишь тем, что еще не было человека со столь
исключительной потребностью в самовыражении, какую
мы видим у него. В этом отношении более всего при-
ближается к нему (как чувствовал всегда сам Вагнер)
Бетховен; но и он далеко отстает от него. И только
поэтому почти всякий находит у Вагнера то, что более
всего приближается к осуществлению, ибо именно он
составил себе самое высокое представление о произве-
дении искусства, какое имел какой-либо художник, и
поставил себе самое большое требование, какое осмели-
вался только поставить какой-либо творец. Поэтому все,
что он, начиная с определенного момента (от «Лоэнгрина»
до «Парсифаля») создал, дышит одинаковым совершенст-
вом, одинаковой законченностью; и своеобразность имен-
но вагнеровских мотивов представляет и в музыкальном
128
отношении максимум плотности, если мне позволено
будет так выразиться; они никогда не разжижены, но
всегда высказывают все. Высочайшая отчетливость, кон-
центрация и непреодолимость его мелодий, самое боль-
шое обилие кислорода, противоположность всякого раз-
режения воздуха и пустоты в массе - все это отличает
мотивы Вагнера даже там, где он парит над вершинами
гор, в упоении возле глетчера и дышит тем горным
воздухом, к которому никто не чувствовал такого вле-
чения, как он. Я слишком мало знаком с музыкальной
наукой, чтобы быть в состоянии выразить точно ее язы-
ком, в чем заключается эта своеобразность вагнеровской
музыки именно в ее мелодиях. Но вагнеровская музыка
своеобразна именно благодаря всему тому, вследствие че-
го она является большим, чем математика, вследствие
чего она является еще всем, кроме языка пространства
и времени; как здесь вся физика вселенной поглощена
математикой, или математика превратилась только в
средство физики. Вагнер - творец, наделенный величай-
шим чувством природы, каким когда-либо обладал че-
ловек: в сравнении с его «Рейнским золотом» бледнеют
даже песни Гете о воде в тумане, облаке и реке. Пусть
Бетховен в скерцо Девятой симфонии (которое именно
поэтому Вагнер совершенно не понял) проявил более
глубокое отношение к звездам, чем Вагнер в «Тангейзере»:
быть может, Шуберт лучше понимал ручей, Вебер - демо-
ническую сторону леса; но еще ни в ком не осуществилось в
таких размерах, как здесь, чувство природы, такой интенсив-
ности и такой величины, что оно охватывает всю землю, все,
что есть на ее поверхности, в ее покрове, в ее внутренности.
Но я хотел говорить не о том, почему вагнеровская
музыка оставляет позади себя все другие произведения
искусства, даже «Фауста» Гете и «Вальдштайн-сонату»
Бетховена, даже «Прелюдии» Баха, даже «Иеремию»
Микеланджело. Я хочу попытаться показать - причем
серьезно, а не в силу своей пристрастности,- что вагне-
129
ровская поэзия по глубине своей концепции является
величайшей в мире.
Он ставит величайшие проблемы, которые только выби-
рал себе в качестве сюжета какой-либо художник, еще более
значительные, чем проблемы Эсхила и Данте, Гете, Ибсена
и Достоевского, не говоря уже о проблемах Шекспира.
Мотивы дочерей Рейна:
Мотивы «Вагалавейи» - это играющая невинность рая;
совершенно монистичен, перед грехопадением, без поз-
нания дуализма; необоснованный, наивный, находящий
всюду только самого себя, радующийся самому себе мо-
низм. (Перед грехопадением = отказ Альбериха от любви.)
Мотив из «Сумерек богов», 3-й акт, начало.
Мотив абсолютного расставания. Мотив полного от-
деления от абсолютного, как будто удовлетворение оди-
ночеством и все же отречение; удивительно, как здесь
вина, имевшая место в прошлом, все же удостоверяется
как настоящее, как наказание, удивительно отношение
времени к безвременному.
Здесь больше нет томления, воли; наступило пол-
ное уравнение, полный расчет с грехопадением, в одно и
то же время безболезненный и все же мучительнейший.
Мотив в заключительной сцене «Сумерек богов»:
Прием потерянного в общество, освобождение от
наследственного греха и в то же время исполненное
блаженства изумление перед тем, что чудо совершается
(кольцо возвращается к дочерям Рейна, зло - к радости
и вечной улыбке); ибо улыбка и есть именно то чувство,
которое становится сильнее всего после смерти (т. е. в
вечной жизни) над жизнью (т. е. над всякой смертью).
Басовый мотив оркестра в «Тристане», 3-й акт, вслед
за той ужасной прострацией перед красотой, при словах:
130
«Как ты, Курвеналь, не видал бы ее?» и т. д., это-
величайший мотив смерти, какой когда-либо был создан.
В нем заключается, по-видимому, активное отречение от
жизни, от свободы, но в действительности это уже пас-
сивная капитуляция и плен; совпадение воли с влече-
ниями, ее капитуляция перед ними; это - отождеств-
ление с собственной судьбой, пуцкт, в котором воля пе-
реходит во влечение, свобода - в несвободу, соединяясь
с ней, отдаваясь ей.
К Парсифалю
ловеком. Это
ЕЛОВЕК чувствует глубокую вину по от-
ношению ко всему безнравственному во
всей природе, во всей истории! Ибо че-
ловек и мир - взаимозаменимые поня-
тия; все зло в мире является только через
посредство человека и существует с че-
чувство - то самое, которое было очень
живо в Иисусе Христе, так живо, что он хотел искупить
эту вину смертью и очистить мир, желая претерпеть
кару за всю эту вину, свою вину. В нем чувство уни-
версальной ответственности, чувство, которое хочет взять
на себя бремя всего мира, гениальность, воля - достигли
величайших размеров.
Иисус, искупая вину мира, искупает именно свою и толь-
ко свою вину; в этом смысл слов «искупление Искупителю».
В Байрете ставится «Парсифаль», как будто бы там по-
нимают его; кому повезет с певцами, сможет пережить там
одно: постановку художественного произведения, которое не
нарушается представлением. Так сильно влияние Рихарда
Вагнера, так сильно умел он внушить другим то, что он хотел.
Особенно великолепно почувствовал я эту постанов-
ку во втором акте, в сцене между Кундри и Парсифалем. Как
здесь укрощена страсть, краски не сгущены и все же ярки,
как в бенгальском огне, жесты проще, проявляются, ско-
рее, в позах, чем в телодвижениях, без отелловских крив-
ляний, именно это так сильно очаровало меня. Здесь
132
проступает символический характер целого с глубокой
отчетливостью.
Кто знаком с картинами Буонавентура Дженелли,
тот лучше всего поймет мой восторг (в Берлине и
Мюнхене). Длинные одежды и шлейф Кундри, ее про-
стертые руки и ее наклоненное вперед тело, когда она
молит Парсифаля, напоминают те картины. Где еще мож-
но найти так много места для страстных восклицаний
и движений, все кажется украшенным, писанным крас-
ками, как живопись на церковном окне; красный цвет
пылает, а зеленый искрится - так что человек едва
удерживает дыхание.
Оркестр - самый чистый орган, звучащий с блажен-
нейшей высоты, не из глубины! Откуда, с трепетом
спрашивает слушатель? Но... куда?
Нравственность мужчины относится к половому сно-
шению, как к греху (рана, нанесенная Алфортасу копьем).
Женщина теряет всякое значение, если мужчина ос-
тается целомудренным; она противится этому; она неза-
метно воскрешает в Парсифале чувство любви к матери
(«когда руки ее страстно обнимали тебя...»), напоминает
ему об искуплении человека посредством любви, которое
Вагнер раньше считал возможным.
Роль Кундри в «Парсифале» («Желание» - вот что
мешает ему прийти к Граалю, т. е. к нравственному,
божественному): это - «проклятие Кундри».
Все это ставит Вагнера выше Гете, последним словом
которого все же было «вечно женственное», спасение
мужчины через посредство женщины.
133
Кундри, конечно, должна была бы умереть уже во
2-м акте, так как Парсифаль устоял против нее.
Омовение ног Марией Магдалиной. Еванг. Иоанна
12, 3, 8. 3.
Парсифаль и Клингзор: транссексуальное и сексу-
альное в мужчине, распределенное между двумя лицами
Женщина как рабыня сексуальною в мужчине (Клин-
гзор). См. «Пол и характер».
Грааль и Копье «родственны», как свет и тяготение,
как Нечто и его зеркало, Ничто. Ничто - только отра-
жение Нечто, и считать его реальным - грехопадение.
Это последнее тождество, небытие несуществующего, до-
лжно, наконец, быть признано. И в основе восприятия
лежит вещь в себе.
Клингзор хочет завоевать и утвердить нравственное
не в борьбе, но вынудить и получить его посредством
уничтожения своего мужества (преступник, ставший ас-
кетом), чтобы... Он не чувствует, что он проституирует
идею нравственного уже тем, что хочет иметь ее готовой,
наслаждаться обладанием ею, а затем делать что-либо дру-
гое, по своему вкусу; он не знает, что нравственность -
это вечное деяние, вечное творение. Желание - быть
Богом - святотатство, воля - стать Богом, быть толь-
ко активным - единственно хороша. Желание Клинг-
зора - чисто гедонистическое; он хочет, как Бог, от-
дохнуть перед собственными искушениями; между
тем Бог совершенен именно как совершенно актив-
ный, попирая зло. Клингзор пользуется Богом как средст-
вом к цели, т. е. он переносит его во время.
134
Если подумать, что самосознание делается сильнее
всего после вины, то значение наследственного греха
выступает в таком виде, что Бог нуждается в зеркале, в
Ничто, чтобы осознать самого себя.
И Парсифаль находит Грааль (нравственность, со-
весть) в тот момент, когда он убивает (лебедя).
«Ищи себе, гусь, гусыню» - это значит - женись,
но тогда не ставь себе целью царство Божие.
«Пространством становится здесь время»: здесь име-
ется в виду, конечно, очень туманно, пространство как
символ завершения. Ибо как время относится к прост-
ранству, так земная жизнь относится к жизни после
смерти.
Мотив цветочных дев - это мольба о существовании.
Появление блуждающего огонька из волн небытия и
обратное погружение.
Забвение безнравственно: «Что еще позабыл я?»
Смех Кундри имеет отношение к еврейству. Мета-
физическая вина еврея - это насмешка над Богом.
В страстную пятницу, день искупления мира, все
само по себе соединяется.
Кундри - символ всего только чувственного, не
нравственного в природе; с ней очищается природа: че-
ловек как освободитель самого себя есть освободитель
мира.
Всякая вина как собственная; Парсифаль (Христос)
говорит.
Какая скверна греха, святотатства
Простеца этого главу
Искони отягощать должна!
135
Простец: отвращение Иисуса к еврейству становится
отвращением к «благоразумию», возвышением простоты.
Копье - символ зла; Парсифалю незачем носить его.
Мир не существует без человека, а человек без мира;
нет мира, в котором нет человека.
Глухой отголосок чувства судьбы над собою (сти-
хотворение Артура Гербера «Она пела»*) - это крики
Кундри в 1-м и 2-м актах.
Эта женщина, человеческая женщина, наложница (не
животная, не мать) ненавидит мужчину слабо но все
же ненавидит его; поэтому Кундри глухо ненавидит Ам-
фортаса, который снизошел к ее просьбе, потому что он
имеет ее на своей совести.
Психология нечестивца: Альберих-Клингзор.
Вотан-Амфортас. Зигфрид-Парсифаль.
Истолкование значения кольца из природного к мо-
ральному.
• Она пела:
Она пела песнь о буре.
И взор ее мрачно горел.
Песнь о буре -
Как бушует она и грохочет,
И дубы когтями хватает,
И с силой их наземь кидает,
И дальше кружится, свистит - и хохочет!
Она пела песнь о буре.
И взор ее мрачно горел.
Песнь о буре.
Что в страсти любовной
Зубчатые скалы целует,
Резвясь их отрывает
И в бездну бросает.
И мрачно горел ее взор.
О ЕДИНСТВЕННО РАЗУМНОМ
,г ПОНИМАНИИ ВРЕМЕНИ И ЕГО
ЭТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ
EGG
О вращении
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ фигурах неоднок-
ратно усматривали символы высшей ре-
альности. Мы можем оставить открытым
вопрос, лежит ли причина этого явления
единственно в том, что мы снова находим
в них априорную функцию нашего созер-
цания, следовательно, нечто, обладающее свойствами и
ценностью всякой априорности, как учит Кант, или же
в том, что, поскольку в их законах мы открываем лишь
законы нашего собственного воображения, они, наобо-
рот, не годятся для обнаружения всякой трансцендентной
символики. Конечно, ни один из этих ответов не содержит
совершенно простого и исчерпывающего решения этого
вопроса. Треугольник, например, уже с древних времен
и по сю пору служит в теософическом учении в качестве
магического, мистического символа и часто, бесспорно,
вызывает даже в зрителе, незнакомом с этой традицией,
жуткое чувство, почти страх. Четырехугольник почти
совершенно не обладает таким свойством.
Быть может, с этим связана и удивительная роль
числа 3. Вундт в своем «Учении о методе исторических
наук» собрал различные теории, которые, по его мне-
нию, объясняются их совершенно необоснованной, дур-
ной склонностью к трихотомии и выдают себя всегда
тем, что рассматривают и насилуют факты с априорной
139
точки зрения этого числа 3. Он ссылается одновременно
на диалектический метод Фихте и Гегеля, контовский
«закон» религиозного, метафизического и научного че-
ловечества и на многие другие теории совершенно не-
одинакового значения, а также (в позднее опублико-
ванной статье «О наивном и критическом реализме»,
Philosophische Studien, 1897) на виталистическую теорию
рядов Авенариуса, которую он уже по ее тройному разрезу
признает мифологическим изделием,- во всяком случае,
самым скверным, какое только может встретиться не
метафизику. Но, вопреки Вундту, должна быть более
глубокая причина тому, что число 3 играет такую ог-
ромную роль во всех сказках, мифах, сагах (3 желания,
3 товарища, 3 строфы пения мейстерзингеров, 3 части
в сонате, 3 времени, 3 нормы, 3 парки, 3 грации, 3
правителя мира (Зевс, Гадес, Посейдон), 3 судьи преис-
подней (у индусов Вишну, Индра, Шива, как 3 бога),
трилогия (см. Август Потт, Zahlen von kosmischer Ве-
deutung, Zeitschrift fur Volkerpsychologie Bd. XIV, 1883).
7, 9, 12, 13 безусловно выделяются, но все же не имеют
этого высокого значения. Как бедно, напротив, чувство,
которое вызывается в нас числом 5 и 10 в той десяти-
ричной системе, в которой мы при счете беспрестанно
вращаемся! Насколько менее глубокие впечатления вы-
зывают в нас эти числа, которые, однако, имели доста-
точно времени в течение тысячелетнего употребления на
основании биологических данных пустить в нас глубокие
корни, которые мы можем видеть на конечностях, оди-
наковых у нас со столь многими позвоночными, которыми
мы должны были усердно пользоваться, по меньшей
мере, в качестве обезьян: между тем, для тех других
чисел совершенно нет соответствующего прообраза в эм-
пирической действительности. Можно предполагать, что
более глубокая, неизвестная причина значения числа 3
кажется тождественной с причиной трехмерности нашего
140
пространства. Однако в основе привилегии числа 3 ле-
жит, по-видимому, такое чувство, словно это число пре-
восходно символизирует соединение в абсолютном
противоречий, дифференцировавшихся в явлении (как,
например, любовь - ненависть, страх - вера, опасе-
ние - надежда, добро - зло).
1 и 3 родственны. Число 3 имеет монистический
характер; через него снова утверждается 1, единство.
Поэтому оба они нечетны (не делятся на 2): ибо они
однородны*.
Почему я дольше остановился на этом вопросе, видно
будет из дальнейшего; теперь же я хочу подойти не-
сколько ближе к родственной теме, которая еще нигде
не поставлена в виде проблемы.
Кругу вообще приписали особо высокое значение,
как самому совершенному, симметрическому, всегда рав-
ному себе образу. В течение тысячелетий держалось
представление, что единственная форма движения, по-
добающая возвышенным вещам, - это круговое движение,
и, как известно, это представление мешало еще Копер-
нику мыслить движение планет вокруг солнца иначе,
как в виде кругообразного. Что планеты должны дви-
гаться кругообразно, это было для него, как и для всех
его предшественников, аксиомой, которая не возбуждала
в нем совершенно никаких сомнений. В основе этого
постулата явно лежит возвышенность полнейшей, не-
поколебимой соразмерности, то чувство, которое выра-
жено в песнях архангелов в прологе к Фаусту, в самых
величественных стихах на свете. Когда законы Кепле-
ра получили признание, это представление пытались
опровергнуть насмешкой над прежним ребяческим воз-
зрением.
* Третий произносит решающее, примирительное, последнее слово;
третья богиня, являющаяся Парису, и есть действительно прекрасная
и т. д.
141
Хотя эллиптическое движение и не вполне разделяет
с кругообразным пафос закона, ценность отсутствия про-
извола, но зато к нему в такой же мере применимо то
свойство, которое должно здесь подвергнуться критике.
Вращательное движение - это именно неэтичное
движение. Оно самодовольно, исключает стремление, оно
беспрестанно повторяет одно и то же, оно, с нравственной
точки зрения, хуже, чем попятное движение рака, которое,
по крайней мере, стремится все дальше назад и осмыс-
ленно. Только в неутомимом стремлении заключается
для Гете, как и для Канта, нравственное. Насколько
правильны доводы, которые могут быть приведены с
точки зрения этой единственно свободной этики против
всякой позитивной этической оценки движения планет,
можно легко показать на нескольких вульгарных анало-
гиях к последнему. Вертеться в кругу бессмысленно,
бесцельно; кто кружится на одной ноге,- тот самодо-
вольная, до смешного тщеславная, пошлая натура. Та-
нец - это женское движение, и прежде всего - движение
проституции. Можно заметить, что женщина танцует тем
охотнее и тем лучше, чем больше в ней распутства.
С этим, далее, связан характер баварско-австрийской
национальности, в особенности венца. Его слабость к
музыке танцев - это не изолированная черта его сущ-
ности, но имеет в последней глубокие корни. Движение
по кругу уничтожает свободу и подчиняет ее закономер-
ности; повторение одного и того же вызывает или смех,
или ужас (Робинзон). Характер венца в области этичес-
кого фаталистичен (оставь в покое, потому что ничего
не поделаешь); фатализм, перенесенный в область ин-
теллектуального, становится индифферентизмом', поэтому
венец апатичен, «добродушен». Вальс - совершенно фа-
талистическая музыка; и по этой причине это в то же
время адекватное музыкальное выражение круговой ор-
биты.
142
Хоровод. Женщины всегда чувствуют к нему больше
влечения, чем мужчины. Отвращение мужчины к хоро-
воду и неприятное чувство особого рода, которое он
вызывает, могут достигать очень большой интенсивности
Точно так же многие мужчины, когда они вынуждены
вернуться к своему первоначальному месту, едва ли
станут охотно возвращаться по той самой линии, по
которой они раньше уже двигались, - явление, вполне
подходящее сюда. Только неэтически настроенный чело-
век не будет испытывать в подобном случае чувства
отвращения. Поэтому и мысль о странствующем вызывает
в нас такую симпатию1 И поэтому даже наиболее высоко
стоящие женщины не чувствуют ровно никакой потреб-
ности путешествовать. А в основе всякого путешествия
лежит смутная тоска, метафизический мотив.
Точно так же едва ли является удовлетворением
потребности в бессмертии то вечное возвращение одного
и того же, о котором говорили пифагорейские и индий-
ские учения (также эзотерический буддизм) и которое
снова возвестил Ницше. Напротив, оно ужасно: ибо это -
только двойник, хотя и не во временном существовании,
но в последовательности. Воля к (собственной) ценности,
к абсолютному, ведь это и есть источник потребности в
бессмертии. Но всякое стремление к бесконечному со-
вершенствованию ничем в такой степени не оскорбляет,
как мыслью, что всякое преодоление несовершенства
приближает нас во времени к возобновлению его в самой
сильной степени.
Поэтому также так ужасно чувство, знакомое мн эгим
людям, что новое положение было уже нами когда-то
пережито (см. теорию страха). В этом чувстве искали
совершенно нелепым образом действительную основу ве-
ры в бессмертие*. Этот вывод лишен смысла: ибо то
• См.: «Пол и характер»
143
чувство преисполнено страха, ибо в такой момент нам
представляется, как будто мы вполне предопределены,
привязаны к колесу или к циклоиде; но мысль о смерти
отрицает как раз обусловленность посредством какой-
либо внешней причинности, она утверждает нечто, что
как раз не является функцией времени, она есть мысль
о свободе, победительница страха, сознание бессмертия:
высшее самосознание.
Никакое «ens metaphysicum»* не желает вращатель-
ного движения: человек желает бессмертия в свободе не
потому, что так хочет мировой процесс; ведь само бес-
смертие - это только частица свободы: свобода (не обус-
ловленности) от времени (сама свобода охватывает еще
большее: есть еще свобода от пространства, свобода от
материи). Свобода отрицается законом периодичности.
Фатализм, т. е. отказ человека свободно ставить себе
самому собственные цели, получает свой символ в вен-
ском вальсе. Музыка танцев благоприятствует в человеке
отказу от нравственной борьбы, ее действие - чувство
детерминизма; более высоким людям она поэтому так
же чужда и противна, как открытие, сделанное Робин-
зоном, что он вертелся в кругу.
Конечно, в жизни человека, не только женщины, но
и мужчины, имеет место периодичность**. Но здесь ни-
когда не повторяется вполне одинаковое состояние. Если
бы мы могли видеть качание математического маятника
в безвоздушном пространстве, то, если мы отвлечемся
от себя, как наблюдателей, положение его в самой крайней
точке его отклонения вправо от положения равновесия
снова повторилось бы по окончании времени полного
колебания и было бы совершенно то же самое. Мы,
конечно, скажем, что оно отличается от предыдущего
(только) продолжительностью полного колебания, т. е.
• Метафизическое бытие (ллт.). - Прим. ред.
** См.: «Пол и характер».
144
оно отличается тем, что последнее ему предшествовало;
другими словами, здесь вполне осуществлено полное
повторение во времени. О том предшествующем мы
знаем благодаря нашей памяти, которая является пси-
хологическим органом восприятия времени. Таким об-
разом, существует полная тождественность, и только мо-
менты времени различны. Мы видим здесь, что то, к
чему не пристает временное, т. е. изменение во времени,
приспособлено для измерения времени. Так как по отно-
шению к неподвижным звездам мы можем сделать такое
предположение с еще большей вероятностью, чем по
отношению к какому-либо реальному маятнику, то мы
пользуемся ими как последними наиболее точными из-
мерителями времени.
Круговое движение, в конце концов, смешно, как
все чисто эмпирическое, т. е. бессмысленное', напротив,
все осмысленное - возвышенно.
С этим связано также то, что круг и эллипс, как
замкнутые фигуры, не красивы. Кругообразная или эл-
липтическая дуга в качестве орнамента может быть кра-
сивой: она не означает, как вся кривая линия целиком,
полную сытость, к которой нельзя более ничего приба-
вить, подобно обвившейся вокруг мира змее. В дуге есть
еще нечто не готовое, нуждающееся в завершении и
способное к нему, она позволяет еще предчувствовать.
Поэтому кольцо всегда является символом чего-то не-
морального и антиморального: магический круг сковы-
вает, он отнимает свободу, обручальное кольцо сковывает
и связывает, оно отнимает у двоих свободу и одиночество,
вместо них оно приносит рабство и общество. Кольцо
Нибелунга - символ радикально злого, воли к власти,
и кольцо волшебника, повернутое однажды вокруг пальца,
дает власть.
Итак, тот, кто вместе с Кантом видит нравственное
в прогрессе, в борьбе, в движении планет по своим
145
орбитам, может усмотреть лишь нечто поэтичное, нечто
совершенно чуждое нравственности. Таким образом, в
планетах мы не находим достойной точки опоры для
нас как нравственных существ. Последняя, конечно, толь-
ко получает еще большую возвышенность, когда она
освобождается от всех единичных вещей видимой при-
роды. Если бы поэтому солнечная система могла быть
мыслима чисто этически, то путь планеты никогда не
должен был бы быть замкнутым в себе Луна, в которой
уж наверное нет ничего этического (доказательством слу-
жит ее интимная связь с женской природой и собакой),
вертится так же вокруг Земли, как последняя вокруг
Солнца. А Сатурн, к которому человек стоит, конечно,
в самых близких отношениях среди всех планет, со сво-
ими кольцами и спутниками является именно скоплением
всего зла.
Быть может, есть небесные тела, которые, опровергая
астрономию, не описывают в своем движении замкнутых
линий*. Но никогда, даже в случае полного признания
этой критики вечно повторяющегося движения, звездное
небо, которое Кант ставил рядом с законом нравствен-
ности, не потеряет всего своего величия для нравствен-
ного закона. Только пусть в нем не ищут большего, чем
то, что оно действительно представляет для нас в пси-
хологическом отношении, а именно: символ бесконечнос-
ти мира, достойными которой мы чувствуем себя только
в нравственном законе и которая сама достойна нравст-
венного закона, и символ безмятежного, светлого бла-
женства этого мира.
• Но и движение но спирали, вопреки Гете, нс является вполне
нравственным.
Проблема времени
СЕ явления склонности и отвращения,
утверждения и страха резюмируются в
односторонности времени. Последняя за-
ключается в том, что реальное настоящее
становится, правда, реальным прошлым,
но никогда - реальным будущим: или,
другими словами, в том, что время развивается только
таким образом, что количество прошедшего все растет,
а будущего все уменьшается, но никогда наоборот. Только
идеальное настоящее может стать реальным будущим:
желая чего-нибудь, я творю будущее.
О более глубоких основаниях односторонности вре-
мени, его развития только в одном направлении, его
невозвратимое™ много размышляли, но открыли только
бессмыслицу.
Односторонность времени, наряду с мировой загад-
кой (загадкой дуализма),- самая глубокая проблема во
вселенной, и неудивительно, что самые выдающиеся мыс-
лители мира - Платон, Августин, Кант, Шопенгауэр -
все молчали об этом даже там, где они занимались
проблемой времени. И все-таки Канту особенно не сле-
довало бы молчать; ибо если время - только априорная
форма созерцания, не имеющая значения для вещей в
себе, то загадка одного значения, одного направления
времени становится еще более мучительной. По прямой
147
линии я могу прогуливаться в любую сторону; а времени,
которое ведь представляется в виде прямой, недостает
этого свойства. Односторонность времени, т. е. невоз-
можность возвращения прошедшего, и есть причина всех
тех вышеупомянутых явлений отвращения к возвраща-
ющимся, вращательным формам движения. Эта форма
движения, как оказалось, не этична.
Причина односторонности времени должна, следова-
тельно, лежать в области морали.
Тем резче бросается нам в глаза противоречие в
кантовской системе: если время имеет одно направление,
то все же должна существовать связь между ним и
мыслимой, этической основой мира, будь оно даже фор-
мой только явления (а таковой оно, конечно, и является).
Что односторонность времени есть выражение этич-
ности жизни, на это есть много указаний. Безнравственно
дважды сказать одно и то же; так, по крайней мере,
чувствует человек, который предъявляет к себе самые
высокие нравственные требования и чувствует себя по-
гибшим, если он не повинуется им.
Так понимал и Христос: самая глубокая и в то же
время самая строгая (по строгости превосходящая даже
Канта) нравственная заповедь заключается в следующих
словах Евангелия, на которые никогда не обращали вни-
мания. не заботьтесь, что сказать, когда у вас спросят,
но говорите, что вам внушит дух.
Не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час
дано будет вам, что сказать (Еванг. от Матф. 10, 19).
Ибо если я говорю то, что я задумал сказать, то я
вычеркиваю время, которое лежит между предыдущим
моментом обдумывания и новым, который вызывает дей-
ствие; я допускаю ложь по отношению к новому моменту,
именно отождествляю его с предыдущим; и тем самым
я оказываюсь в то же время обусловленным, поскольку
я сам обусловил себя посредством предыдущего момента,
148
посредством эмпирической причинности. Я более не дей-
ствую свободно, исходя из целого моего «я», не стараюсь
более вновь найти истину, и все же я действительно
иной, чем в тот предыдущий момент, по крайней мере,
богаче, благодаря ему; и я уже не вполне тождествен с
предыдущим.
Безнравственно желать изменить прошлое: всякая
ложь - это фальсификация истории. Сначала фальсифи-
цируют свою собственную историю, а затем чужую. Без-
нравственно не желать изменить будущее, не желать его
иным, лучшим, чем настоящее, т. е. не творить его.
Желай! - так можно было бы формулировать категори-
ческий императив. Феномен раскаяния связывает и то
и другое (это настоящее выражение односторонности
времени); он утверждает прошедшую вину, но как про-
шлое, и отрицает ее как будущее, т. е. он противопос-
тавляет ей волю к улучшению в будущем.
Будущее еще не истинно, прошедшее - истинно.
Ложь - это желание власти над прошлым, которому она
не может дать свободы или существования, потому что
настоящее равным образом несвободно и мертво. В на-
стоящем соприкасаются прошедшее и будущее; оно есть
то, что человек может-, над прошлым он уже не имеет
власти, а над будущим еще не имеет. Когда вечность и
настоящее сливаются воедино, тогда человек становится
Богом, а Бог - всемогущ.
Итак, ложь - безнравственна, она - время наизнанку.
стремление к изменению направлено здесь на прошедшее
вместо будущего. Всякое зло есть уничтожение направ-
ления времени: отказ, отчаяние придать жизни смысл*.
Воля человека творит будущее: человек антиципиру-
ет** время, когда он принимает решение; он отрекается
* Крайне неэтичное чувство — скука, потому что оно определяется
только тем, что в нем кажется уничтоженной односторонность времени
** Предвосхищает — Прим. ред.
149
от времени, когда раскаивается. В воле человека, которая
всегда является волей к вечности, время в одно и то же
время утверждается и отрицается.
Односторонность времени тождественна постольку
с фактом, что человек по существу является хотящим.
*Я» как воля есть время.
Реализованное «я» было бы Богом; «я» на пути к
реализации себя есть воля.
Воля - нечто промежуточное между небытием и
бытием; его путь идет от небытия к бытию (ибо всякая
воля - это воля к свободе, ценности, абсолютному, бытию,
идее, Богу; «Пол и характер»). То обстоятельство, что
бытие еще не существует, что небытие еще существу-
ет, служит причиной, почему время действительно су-
ществует; что бытие возникает - это причина односто-
ронности времени и более глубокое, существенное
значение ее.
Тем самым даны были бы ответы на поставленные
вопросы.
Односторонность времени является, таким образом,
тождественной с фактом безвозвратности жизни, а загадка
времени - тождественной с загадкой жизни (если уже
не с загадкой мира). Жизнь невозвратима; нет обратного
пути от смерти к рождению. Проблема односторонности
времени - это вопрос о смысле жизни.
В этой односторонности времени скрывается причи-
на, почему наша потребность в бессмертии простирается
только на будущее (а не назад, на жизнь до нашего
рождения). Поэтому нас мало интересует наше состояние
до рождения, но в высшей степени - после смерти. И
если бы одностороннее время не было тем же самым,
что и воля, то последняя могла бы быть направлена на
прошедшее и изменять его, говоря словами Ницше: «Но
в чем величайшая скорбь воли? В том, что она не может
властвовать над прошлым». Воля не была бы волей и
150
посылка о тождественности была бы устранена, если бы
воля хотела или могла изменить прошлое; ибо именно в
том, что она есть воля, и заключается пропасть между
прошлым и будущим, в этом выражено вечное различие
между ними. Воля - это нечто устремленное, и ее на-
правление - это направление времени. «Я» осуществля-
ется как воля, т. е. оно живет, развивается в форме: вре-
мя - это форма внутреннего созерцания, как учил Кант.
Всякая воля хочет прошедшего как прошедшего; и
только преступник, который не хочет более обращать
свой взор к Богу, а устремляет его вниз, лжет, т. е.
убивает прошлое; возвращение времени - это радикальное
зло, и страх перед таким возвращением - это страх
перед злом.
Воля утверждает время и отрицает его (поэтому
просыпаются, когда хотят этого, просыпается медиум,
когда этого хочет гипнотизер); в ней отчетливее всего
выражено бытие Бога и «Ничто», мировой дуализм. Та-
ким образом, проблема воли есть в то же время глубо-
чайшая проблема мира и тождественна с последней.
Психологически «время» - это время, в которое мы
живем, «будущее» - это время, которое мы еще будем
переживать. Но формальное, трансцендентальное время
не прекращается с физической смертью, но выходит за
пределы индивидов. Оно утверждается именно Вечно-
живущим.
Почему человек рождается для того, чтобы умереть,
почему ценность («я») становится волей, почему абсо-
лютное реализуется в нем в земной жизни, т. е. почему
время односторонне, - это и есть вопрос о смысле су-
ществования, и разрешен он должен быть не словом, а
только делом.
«Живут только однажды» - это справедливо не толь-
ко по отношению к целому, но и к каждому отдельному
моменту.
151
Так как страх есть оборотная сторона воли к цен-
ности, то он направлен на то, что случится, а не на то,
что случилось, хотя причину его следует всегда искать
в прошлом (точно так же и у его противоположности:
надежды). Страх есть, таким образом, хорошее выраже-
ние односторонности времени; вина, из которой он воз-
никает, это - прошедшее время; наказание, которого он
боится, это - будущее время.
Вера, напротив, направлена на безвременное. С без-
временным связаны мужество и вера, с односторонностью
времени (их единственной ценной составной частью, ко-
торая, однако, сама по себе не имеет ценности) - надежда
и страх.
Будущее - это то, что творится волей; только хо-
тящий имеет будущее. Поэтому человек живет до тех
пор, пока у него есть какая-нибудь воля, воля к ценности,
пока он еще стоит между бытием и небытием, и люди
умирают в тот момент, когда они совершенно исчерпали
себя: или их воля достигла цели, стала ценностью, т. е.
человек стал Богом или ангелом; или когда воля (и
надежда) добрались до цели и тем самым совершенно
погасла способность к ней: человек, который более со-
вершенно не обладает волей к ценности (а следовательно,
и страхом), равным образом умирает. Совершенный пре-
ступник не может жить как человек - ибо человек все
еще имеет возможность существовать, пока он живет,-
поэтому преступник, ставший совершенно злым, умирает,
и поэтому так очевидно, что он становится животным
или растением, и что правы индийцы, когда они поэтому
испытывают страх перед всем живущим.
Таким-то образом следует определять продолжитель-
ность жизни человека. Вагнер закончил «Парсифаля>, и
у него больше не было намерения творить еще; чего он
именно хотел, то он был в состоянии выполнить. Точ-
но так же самой настоящей работой жизни Гете был
152
«Фауст*, и он сам смотрел на немногие дни, которые
он еще жил по его окончании, как на подарок. Антици-
пация безмерно большого будущего может быть названа
также надеждой: человек живет, пока он надеется.
Игрок - это человек, который больше всего нуждается
в надежде, потому что он сильнее всего страдает от
страха. Он всегда - desperado*.
У Россини, мне кажется, напротив, - я не думаю
быть несправедливым к нему - происходил обратный
процесс. Он дважды делал крупные попытки («Цирюль-
ник» и «Телль»), - но в конце концов перестал хотеть;
его лицо в старости носит на себе черты бесстыдной,
жирной чувственности.
У женщин-л итераторов, художников и т. д. бросается
в глаза, что ни одна из них не имеет развития, ни одна
не стремится и не приближается постепенно к идеалу
искусства. Женщины не имеют развития, потому что у
них нет воли к ценности: этим объясняется то, что я
уже однажды слишком отрывочно утверждал («Пол и
характер»), а именно: что для женщин время не имеет
направления.
Если время, таким образом, есть «я» как воля, то спра-
шивается далее, что такое пространство, другая форма
явления, и как обе эти формы соотносятся между собой?
Движение - вот что дает ответ на это; в нем объ-
единяются загадочным образом пространство и время.
Время - это способ, каким пространство может быть
измерено; нет действия на расстоянии. Но оно, кроме
того, является единственной формой, в которой «я» (Бог
в человеке) обретает себя.
Пространство, таким образом, есть проекция «я»
(из царства свободы в царство необходимости). Оно
заключает в одновременности то, что может быть пере-
• Опаянный, отчаявшийся (от лат. dcspcro - терять надежду). -
Прим ред.
153
жито только во временной последовательности. Прост-
ранство символизирует совершенное «я», время -
желающее себя «я». Поэтому пространство кажется воз-
вышенным, время - нет.
Но «я» - синтез целого, единство всех противопо-
ложностей, оно - ввиду синтетического, завершающего
значения числа 3* - три измерения пространства
Поэтому движение, проекция воли, есть видимое,
телесное выражение ее (сокращение мускулов), и Шо-
пенгауэр, который их совершенно отождествляет, отчасти
прав. Влечение представляет явление воли только в низ-
шей жизни; поэтому жизнь животных и растений еще
одностороння, потому они являются только символами
человеческой жизни.
Воля (ограниченность сознания) есть форма движе-
ния психического: ограниченность сознания, пока оно
еще хоть сколько-нибудь ограниченно и не поглотило в
себя всю вечность, это и есть факт времени; и здесь вы-
дается за два факта то, что в сущности есть одно и то же.
Поэтому тело пространственно, и его оси соответ-
ствуют осям пространства, ибо оно есть проекция «я»,
его явление.
Как в царстве природы, т. е. в царстве закономер-
ности, функциональности, пространство, качественно всю-
ду однородное, измеряется во времени - движением, ко-
торое как множественность точек пространства есть
время, - так в царстве духа, царстве свободы, безусловно
неизменном, многие отдельные моменты индивидуальной
жизни всегда содержат в себе целиком вневременное
«я», характер (то в более широкой, то в более узкой
степени сознательности). Это присутствие «я» в каждом
моменте жизни тождественно с фактом свободы.
Эта двойная форма проявления «я» в виде прост-
ранства и в виде времени есть самая глубокая причина
* Диалектический метод; см. выше.
154
того (чего еще никогда вполне не поняли, чему удивля-
ются вместе с Зеноном), что геометрия может быть
применена к арифметике, арифметика к геометрии: ибо
пространство и время суть только различные явления
одного и того же.
Жизнь - это род путешествия через пространство
внутреннего «я», путешествие из очень ограниченного
срединного государства, конечно, к очень обширному,
свободному обозрению вселенной. Все части пространст-
ва качественно безразличны, во всех моментах жизни
сказывается (потенциально) человек целиком. Время -
множественность, составленная из многих единиц; про-
странство - единство, составленное из множественности
(символ единосущного «я»).
Бессознательное - это время, оба они - один факт.
Мелодия соответствует времени (отдельные тоны
образуют ритм), гармония - пространству (геометричес-
кое отношение чисел колебаний; гармония сфер). Поэ-
тому мелодия изображается линией. Музыка - это ма-
тематика в царстве свободы (см. «Пол и характер»).
Свет - пространство (глаз с фиксационной точкой).
Звук - время (слух без «местного знака»).
Возвращаюсь к теме.
Если бы человек был поэтичен, как вращательное
движение, то он не мог бы в завтрашнем дне видеть нечто
другое, чем в сегодняшнем, не мог бы отличать новый год
от старого, чувствовать себя обесцененным и испытывать
страх, когда он снова видит себя в прежнем месте, как
Робинзон или как одно лицо у Толстого (в его высшей
степени выдающемся рассказе «Хозяин и Работник»).
Как бы ни вызывало смех, когда мещанин под новый
год начинает под влиянием газеты размышлять о време-
ни,- все же в этом заключается некоторое космическое
чувство, сожаление о прошлом и преходящем, которому
противополагается богатое надеждами будущее.
155
Но всякое круговращение есть уничтожение времени,
оно познается также только как повторение и оценивается
нашим однонаправленным созерцанием времени, которое
является условием всякой ясности, всякой истины: в
противном случае мы потеряли бы всякую точку опоры.
В то время как земля, на которой мы живем, беспрерывно
продолжает кружиться, человек остается незатронутым
космическим танцем. Его дух не связан механически со
всей системой, свободно взирает он на разыгрывающуюся
драму и придает ей ценность или лишает ее.
Приложение
Я хочу упомянуть здесь еще о двух музыкальных
мотивах, связанных с проблемой времени.
1. Мелодия пастуха (в 3-м акте «Тристана и Изоль-
ды») выражает время, лишенное смысла, как если бы
будущее не являлось чем-то, что противополагается про-
шедшему. По замыслу Вагнера, она должна также обоз-
начать вечное единообразие.
2. Главный мотив сонаты «Аппассионата» - это мотив
человека (как существа, обладающего волей к ценности),
величайший мотив напряжения между бытием и небы-
тием. Ее повышающаяся часть - это любовь, тоска по
ценности, по чистоте.
Ее вторая, понижающаяся, убывающая часть выра-
жает поражение, безуспешность, неудачу всяких попыток
приблизиться к ценности: вечное падение обратно в чув-
ственное. Все роковое, все бессознательное, все прошлое
и будущее наряду с настоящим, все, над чем человек не
властен,- все это заключается в этой второй части.
Победоносное заключение третьей части: успешное
приближение к ценности, слияние с ней.
Этот мотив - величайший мотив односторонности
времени.
МЕТАФИЗИКА
EEE
Метафизика
О, что я буду излагать под названием
метафизики, не совпадает с обычным по-
нятием об этом предмете. Я не исследую
здесь вопроса о бытии и небытии и не
ставлю своей задачей отделить друг от
друга эти понятия. После Канта представ-
ляется возможным вести такие исследования, используя
методы не метафизики, а трансцендентальной философии
с той строгостью, чистотой и точностью, которая вполне
обеспечивается последней. Может быть, в данном случае
можно было бы воспользоваться интроспективно-психо-
логическим методом, если только психолог сам доста-
точно глубок; но развиваться абсолютно, подобно музы-
кальной пьесе, метафизика больше не может.
То, что я здесь имею в виду, я мог бы также назвать
символикой, универсальной символикой. Меня интересует
не целое, а значение всякой единицы в целом. Я хочу
определить, что обозначают собой море, железо, муравей,
китаец, хочу раскрыть идею, которую они собою пред-
ставляют. И в таком смысле мое предприятие первое в
своем роде. Нужно охватить весь мир, чтобы установить
глубокий смысл вещей и объяснить их в их собственном
смысле. Такая метафизика является поэтому не только
метафизикой, но и метахимией, метабиологией, метама-
тематикой, метапатологией, метаисторией и т. д. Задача
159
так велика, так обширна, что один человек может отдать
все силы на эту работу.
Основной мыслью и предпосылкой книги, базисом,
на котором покоится все последующее, служит теория
человека, как микрокосма. Поскольку человек устанав-
ливает отношения ко всем вещам в мире, то все вещи
в том или ином виде должны заключаться в нем самом.
Эта мысль о микрокосме впервые серьезно поставлена
мной: система мира для меня идентична с системой
человека. Всякой форме, существующей в природе, со-
ответствует какое-нибудь свойство человека, каждой воз-
можности в человеке соответствует что-нибудь в природе.
Таким образом, природа, все чувственно воспринимаемое
в ней, объясняется психологическими категориями в че-
ловеке и рассматривается только, как символ последних.
Оправдание этой задачи с точки зрения теории поз-
нания привело бы нас к самым запутанным и трудным
проблемам; убедительнейшие доказательства ценности и
обоснованности моей работы читатель найдет в дальней-
шем изложении. Я считаю только нужным заметить: в
полном согласии с тезисом всякого философского иде-
ализма я исхожу из положения, что в предметах внешнего
мира мы имеем дело только с явлениями, а не с «вещами
в себе». Это чувственное явление я рассматриваю как
символ психической реальности, которая есть опыт в
человеке. Это положение не совпадает с обычным идеа-
листическим воззрением и противоречит, конечно, такой
ярко выраженной идеалистической системе, как учение
Канта. В течение долгого времени, если позволено мне
будет сделать личное замечание, я из всей теоретической
философии Канта считал величайшей и гениальнейшей
его мысль, что психические феномены - такие же яв-
ления, как и физические. Но затем я стал сомневаться
в этом, прежде всего под влиянием морально-теорети-
ческих размышлений. В основание моей работы положено
160
воззрение, что психическим феноменам присуща большая
реальность, чем физическим, хотя пока я еще не в со-
стоянии методологически обосновать эту основную пред-
посылку и систематически ее изложить.
Мысли, которые я в последующем развиваю в такую
систему мира, не многочисленны. Но они дают возмож-
ность, по крайней мере, предугадывать общий фон целого;
и если мне не удастся довести мой план до конца, то я
претендую, тем не менее, на часть первой попытки дать
такую концепцию.
Первое, что навело меня на размышление, был фе-
номен океанической фауны, о которой я кое-что слышал
и читал (что вызвало у меня желание лично заняться
этим вопросом в Неаполе).
Мне в голову пришла мысль (весной 1902 года),
что морские глубины должны состоять в каком-нибудь
отношении к преступлению. Морская глубина лишена
света, величайшего символа высшей жизни, и поэтому
все, что там находится, должно быть светобоязливым,
преступным. Полипы и кракены, как символы, могут
быть рассматриваемы только, как символы зла.
В течение следующего лета и осени все яснее раз-
вивался для меня план работы с многочисленными за-
дачами, из которых мне удалось довести до конца только
очень немногие, план
Психологии животных,
только совсем не в том смысле, как это понималось до
сих пор (Ромэне, Шнейдер).
Из всех животных для меня яснее всего значение
собаки. Я не знаю, является ли собака символом пре-
161
ступника вообще, но символом некоего типа преступника
она служит.
Здесь приходится, конечно, выяснить сущность пре-
ступника.
Преступник - тот человек, грехопадение которого
постоянно продолжается и усиливается, и который не
делает никаких попыток уйти от греха. Радость земной
жизни для него превыше всего, и он также единственный
человек, который не чувствует себя несчастным - хотя,
в сущности, как показывают его поступки - он, несо-
мненно, самый несчастный человек.
Добрый человек умирает, рождается, но всю жизнь
чувствует он тяжесть своей виновности и не имеет ос-
нования для самодовольства или высокомерия. Всю свою
жизнь он употребляет на то, чтобы из несвободы перейти
к свободе; в этом - смысл его жизни. У преступника,
наоборот, нет этой воли к ценности; в нем происходит
беспрерывная дезорганизация вплоть до его смерти, он
распадается на части и превращается в конце концов в
материальные атомы: такой человек действительно уми-
рает. Преступник всю свою жизнь живет без «единства
сознания, без всеобъединяющего «я», которое знает все,
что оно делает, и во всем дает себе отчет; преступник
распадается (совершаемые им преступления служат для
него последним средством, предохраняющим его от рас-
пада).
У преступника нет стремления к ценности, или, что
то же самое, нет воли, он постепенно превращается в
ничто, опускается во тьму, становится беспомощным.
Человек становится преступником в силу непонятного
самопроизвольного акта отказа от индивидуальной цен-
ности*. Суждение есть феномен воли; преступник не
• Он именно поэтому ждет смертного приговора, смутно чувствует,
что заслуживает ст, потому что никогда не желал стать ценным, т. е.
онтологической реальностью.
162
рассуждает, и с познанием у него нет ничего общего, у
него отсутствует также интеллектуальная совесть. Су-
дить - значит оценивать: преступник не оценивает, в
том числе не оценивает и себя, так как не стремится к
какому-нибудь «я», которое стояло бы над его психи-
ческими процессами; он лишен самонаблюдателъности и
живет бессознательно. Так как он ничего не оценивает,
ничего не критикует, то так он поступает и по отношению
к себе; он отказался от свободы суждения; и поэтому
каждый преступник ждет своего приговора, приговора
над собой, со стороны другого-, он принимает всякий
приговор, который ему выносят, даже против смертного
приговора его психика не восстает: он отказался от
высшей жизни, от мерила справедливости и несправед-
ливости по отношению к нему и вообще. Он испытывает
животный страх перед непосредственно предстоящей фи-
зической смертью и будет думать о том, чтобы уйти от
нее, но не из убеждения в несправедливости судей.
Так как преступник отказывается от всякой воли, то
он всегда является фаталистом, а действительный фата-
лист - всегда преступник (конечно, часто не сознавая
этого; преступник никогда даже не знает, что он пре-
ступник; он это только смутно чувствует).
Отсюда понятно, почему преступник ждет своего
приговора со стороны других; его отказ от свободной
воли равносилен отказу от автономии: он пользуется
самим собой, как средством к цели. Если бы у него была
воля, то он не был бы так связан судьбой.
Этот фатализм преступника есть только специальный
случай того отношения, которое дает самая общая де-
финиция зла с точки зрения логики и теории познания:
постоянного влечения к абсолютному функционализму
или постоянного ему подчинения. Этична воля к свободе,
а воля к свободе есть свободная воля. Свободу нужно
дефинировать, как независимость от других переменных,
163
прекращение чужого влияния, конец пассивности, начало
активности и спонтанности. Преступник есть человек,
который стремится к общему (также и для себя), кау-
зальному воссоединению вещей и осуществляет его. По-
этому он так легко приходит в ужас от всякого шума и
яркого света; он больше ничего не видит, ничего не
слышит, ничего не воспринимает, у него нет сознания
о том месте, где он находится, и о времени, когда это
происходит; у него недостает временного и пространст-
венного представления о моменте, потому что он не
стоит над ним, а, наоборот, подчинен ему.
С людьми у него те же отношения, что и с вещами,
он с ними связан, от них функционально зависит: или
как их властелин, или как их раб. Это два мыслимых
вида функционализма; или ты должен изменяться, потому
что изменяюсь я, или я должен изменяться, потому что
изменяешься ты. Преступник предоставляет мало свободы
другому человеку, другой вещи, так же, как и себе. В
первом случае мы имеем дело с типом деспота, во втором
с типом раба. Деспот, конечно, может с полным правом
быть рассматриваем как вид раба, а раб как вид деспота:
так оно и должно быть, потому что если х - /(у), то и
у = f(x). Присутствие ближнего вынуждает деспота к
завоеванию, раба к подчинению. Деспот поэтому настоль-
ко же несвободен, как и раб; а раб, который льнет к
властелину и навязывает ему себя в качестве слуги,
настолько же властен, как и деспот.
Эта непричастность к царству универсального, это
падеИие в необходимость ведет к тому, что преступник
никогда не бывает одинок, хотя в то же время он совер-
шенно несоциален. Преступник всегда разговаривает с
другими, даже когда кажется, что он только думает.
Когда он бывает одинок, т. е. когда другой человек,
который был с ним, уходит от него, то он себя чувствует
слабым и беспомощным (эпилепсия); он пугается оди-
164
ночества, боится остаться наедине с собой, так как должен
вспомнить тогда о себе самом; он бывает рад, когда
уходит от себя, и все его старания направлены на то,
чтобы улизнуть от себя - что само по себе невыполнимо.
Поскольку страх и отвращение тождественны, то
преступник питает всегда к самому себе не только страх,
но и отвращение. Преступник при этом или оправдывает
все, что он делает перед другими, или жалуется им (раб);
или же он уличает их, жалуется на них, побеждает их
(властолюбивый). Но он никогда не бывает одинок, по-
тому что всегда функционально связан с вещами или с
людьми; поэтому же он не живет общей жизнью, вдвоем
с кем-нибудь или с многими, так как он не может
проникнуться в чужую психику, не может и не хочет ее
понять, а только зависит от нее. И потому он всегда
лжет (ибо никогда не обманывает себя, а всегда других).
В такие отношения зависимости ставит себя пре-
ступник. Вся его внутренняя жизнь есть только одно
лицемерие перед другими. Свое пренебрежительное от-
ношение к высшей жизни и к свободе он не воспринимает
непосредственно, как свою вину: он не знает истинного
раскаяния, он груб, черств, ему совершенно недоступны
ни отзывчивость, ни сострадание. Отказ от собственного
«я» приводит его к ненависти ко всему, что еще свободно.
Изгнав из себя самого и убив вечную жизнь и Христа,
он хотел бы то же самое видеть и у других. Он ненавидит
поэтому все представления о нравственности, невинности-,
добре, святости, мудрости, совершенстве, душе, самоуг-
лублении, раскаянии, жизни, даже самые названия ему
ненавистны. Всякий преступный замысел вызывает его
невольную симпатию; в поэтических произведениях его
надежды и опасения на стороне мошенников, убийц,
завоевателей; он приветствует, утверждает всякое извес-
тие о смерти, гибели, вреде, болезни, всякие проявления
чувственности (и как специальный случай всякий половой
165
акт; сводничество для него исходит из более высокого,
общего начала; присущий душе преступника женский
элемент не исчерпывает его, но всегда составляет неко-
торую часть его «я»). С другой стороны, ему противна
мысль о Христе и больше всего мысль о Боге и слово
Бог. Точно так же и его стремление к познанию никогда
не бывает чистым, окрыленным надеждой, порывом, на-
правленным на исправление заблуждений и на внутрен-
нее самосохранение, он хочет только господствовать над
вещами и для этого познать их. Представление, что для
него может быть что-нибудь недоступным, противоречит
его духу абсолютного функционализма, который себя
связывает со всем и все с собой; поэтому для него
невыносимо представление о пределах, границах (даже
в познании). Его преступление увеличивается: его взгля-
ды никогда не исходят из целого, никогда не являются
синтезами изнутри, а всегда извне; его психическая жизнь
представляет собой нечто прерывистое, раздробленное.
Тем не менее он хочет охватить весь мир, но он старает-
ся не приблизиться к Богу, а заместить Бога познани-
ем. У него нет непосредственной интуиции, потому
что у него нет идеи целого, - он от нее отвернулся;
но он хочет составить гений, которого у него нет, за-
воевать духовно мир по частям (это тип завоевателя в
науке).
Там, где этот абсолютный функционализм еще не
установлен, он ненавидит, как ненавидит он свое интел-
лигибельное «я», т. е. отрицает, ненависть ведет к убий-
ству, как любовь ведет к жизни. Поэтому преступник
питает глубокую ненависть к мысли о бессмертии, -
бессмертие есть частный случай свободы, именно свободы
от времени. (Из трех кантовских идей две изначальны,
именно Бог и свобода, третья - бессмертие уже заключена
в них.) Старания преступника направлены на то, чтобы
ничего не оставить свободным; ни себя самого, ни
166
что-нибудь другое (преступление так же индивидуально,
трансцендентально, как и право). Поэтому он становится
осквернителем храмов, поэтому он готов на святотатст-
во. Самой низшей, вульгарной формой тяготения к за-
висимости (несвободе) является стремление физически
осквернять вещи и таким образом связать себя с ними;
высшие формы проявляются в уничтожении и разруше-
нии, так как всякое существование еще до известной сте-
пени свободно. Поэтому ибсеновский преступник Юлиан
в последнем отчаянном порыве перед смертью воскли-
цает: «Максим, я хотел бы разрушить весь мир!» - все
существующее является опровержением преступника и
его стремлений, опровержением преступника, который
больше не существует. Совершенно абстрактно я дефи-
нировал преступление, как тяготение к функционализму;
я могу выразить это образно; оно есть потребность
убивать Бога; это высшее, всеобщее отрицание.
Отсюда легко вывести формы, которые принимает
преступление. Ненависть превращается в убийство, отри-
цание в уничтожение, как только мысль становится делом.
Воровство и грабеж являются демонстрациями против
прав свободного собственника; убийство, наконец, есть
осуществленная ненависть к бессмертию; убийство есть
последнее, что преступник может сделать, и это послед-
нее средство проявить себя преступником; убивая чело-
века, он тем самым в наибольшей степени убивает Бога.
Но бывают убийства психологически и в других отно-
шениях вполне тождественные с убийством человека:
например, потребность уничтожить крупное, благородное,
знаменитое художественное произведение. Это такое же
ужасное злодеяние, как и убийство, стремление опро-
вергнуть существующее, оправдать небытие. Когда пре-
ступник не знает никаких других средств, как помочь
себе, то он прибегает к последнему, к убийству. Убийство
есть акт самого слабого человека.
167
Суррогатом убийства является coitus, от убийцы до
дон-жуана один только шаг. Внутренняя жизнь послед-
него так же пуста и ужасна, как и убийцы; опорой служит
завоевание при помощи coitus’a. Для некоторых людей
прелюбодеяние - единственное занятие, которым они за-
полняют свое время (эти люди, может быть, существуют,
как возможности внутри гения). Этим они заменяют
Бога: они, тем не менее, живут, наслаждаются, хотя и
унижают себя. Как убийца после убийства приходит к
месту своего преступления, так как ему необходим факт
(известное воспоминание о самом себе, которое могло
бы ему сказать, что это был он, уже давно у него от-
сутствует), так дон-жуан постоянно нуждается в женщи-
нах, чтобы все вспоминать о самом себе; от дон-жуана
к убийце, как сказано, только один шаг. Соблазнять для
дон-жуана, как убивать для убийцы, есть единственное
средство заполнить время (которое для них не имеет
никакого значения, так как у них нет ни прошедшего,
ни будущего). Они таким образом создают только на-
стоящее, устанавливают отрицание, как утверждение;
действия обоих направлены против скуки.
Эпилептический припадок, как я думаю, связан с
мгновенной и полной потерей способности к апперцеп-
ции. Говорят, что преступление часто совершается в
эпилептическом припадке: следовало бы это выразить
наоборот: оно совершается перед эпилептическим при-
падком, приближение которого дает себя чувствовать.
Припадки эпилептика учащаются с годами, становятся
все более страшными и, наконец, в последнем, самом
ужасном, припадке он умирает. От страшной беспомощ-
ности, которая проявляется в эпилепсии, он убегает к
смерти - часто спасается в лицемерии и ханжестве.
Впрочем, преступник лишен всякой внутренней жиз-
ни, он словно мертвый прежде чем убить другого, убивают
168
самого себя. Потому он, собственно, не знает ни радостей,
ни печалей.
Я возвращаюсь, наконец, к теме.
Собака
Глаз собаки производит впечатление, будто собака
что-то потеряла, в нем светится (как, впрочем, и во всем
существе собаки) какая-то загадочная связь с прошедшим.
То, что она потеряла, есть «я», самоценность, свобода.
У собаки есть какое-то замечательное отношение к
смерти. За несколько месяцев перед тем, как собака
сделалась моей проблемой, я сидел однажды после обеда,
часов около пяти, в комнате мюнхенской гостиницы, в
которую я заехал, и думал о самых разнообразных ве-
щах. Вдруг я услышал лай собаки, который показался
мне новым, странным, пронзительным. У меня в тот
же момент явилось такое чувство, как будто в эту минуту
кто-то умирает.
Несколько месяцев спустя, посреди самой страшной
ночи в моей жизни, когда я, не будучи больным, бук-
вально боролся со смертью - у великих людей не бывает
духовной смерти без физической, ибо у них жизнь и
смерть очень сильно и интенсивно противостоят друг
ДРУГУ - я в то самое время, когда мне казалось, что я
умираю, трижды слышал лай собаки, точно такой же,
как тогда в Мюнхене; эта собака лаяла целую ночь, но
в эти три раза как-то по-иному. Я заметил, что в этот
момент я кусал зубами простыню, как умирающий.
Подобные переживания, наверно, бывают и с дру-
гими людьми. В последней строфе самого значительного
и красивого стихотворения Гейне «Паломничество в Кев-
лар» говорится, как при приближении Богоматери к боль-
ному:
«Собаки лаяли так громко».
169
Я не знаю, оригинально ли подмечена эта черта у Гейне
или заимствована из народного предания. Если я не оши-
баюсь, то у Метерлинка собака играет где-то такую же роль.
Незадолго перед упомянутой ночью я несколько раз
видел тот же самый призрак, который должен был видеть
и Гете после окончания своего «Фауста»: несколько раз,
когда я видел черную собаку, мне казалось, что ее со-
провождает зарево.
Но характерен лай собаки: абсолютно отрицающий
способ выражения. Он показывает, что собака есть сим-
вол преступника. Гете это чувствовал, хотя это, быть
может, не было ему совсем ясно. Черт является у него в
образе собаки. В то время, как Фауст читает вслух Еван-
гелие, собака все громче лает, ярость и ненависть, против
добра и истины.
Я отнюдь не нахожусь, как я замечаю, под влиянием
Гете. Эти впечатления, переживания и мысли были так
сильны, что я вспомнил о Фаусте, отыскал это место и
впервые, может быть, первым вообще, его понял.
Собака поступает так, как будто она чувствует свое
собственное ничтожество. Она дает себя бить человеку,
к которому она тотчас же снова прижимается, как всегда
злой человек к хорошему. Эта навязчивость собаки, эти
прыжки есть функционализм раба. И действительно, у
людей, которые стараются быстро склонить кого-нибудь
на свою сторону, и в то же время так защищаются от
ударов, у людей, от которых никак нельзя отвязать-
ся,- собачьи лица, собачьи глаза. Я здесь в первый раз
упомяну основное положение всей моей системы. Мало
существует людей, которые не были бы похожи на одно
или несколько животных; и те животные, на которых
они похожи, напоминают их даже своим обращением.
Страх перед собакой есть проблема; почему лошади
не боятся голубя? Это страх перед преступником. Зарево,
сопровождающее черную собаку, есть огонь, уничтожение,
наказание, злой рок.
170
Виляние хвостом у собаки обозначает, что она всякое
оругое существо ценит выше, чем самое себя
Пресловутая верность собаки, которая многих за-
ставляет считать собаку моральным животным, может
быть принята только за символ ограниченности: рабское
чувство (возвращение после побоев не есть достоинство).
Интересно, на кого собака лает', это обычно хорошие
люди, не вульгарные, собачьи натуры. На себе самом я
заметил, что на меня тем больше лаяли собаки, чем
меньше психически я был похож на них. Замечательно,
что услугами домашней собаки пользуются против пре-
ступников.
Ярость собаки - поразительный феномен, может
быть, родственный эпилепсии, во время которой у чело-
века также показывается пена изо рта. Оба явления
усиливаются от жары.
Когда собака не виляет хвостом, когда он у нее опу-
щен вниз, тогда можно опасаться, что опа укусит-, это пре-
ступное деяние, как и лай, только признаки злого умысла.
Собачьи натуры среди людей нашли литературное
выражение в лице «старого Экдаля» в ибсеновской «Ди-
кой утке» и особенно в Минуте из романа Кнута Гамсуна
«Мистерии». Многие так называемые «старые магистры»
представляют собачий чин среди преступников-людей.
Существуют, конечно, и другие преступники, как это
доказывают змея, свинья.
Обращает на себя также внимание нюх собаки. В
нем проявляется неспособность к апперцепции. Так же,
как и у собаки, внимание преступника совершенно пас-
сивно останавливается на некоторых предметах, причем
он не знает, почему он к ним приближается и дотраги-
вается до них: у него нет больше свободы.
Отказ от свободы выбора находит свое выражение
в беспорядочных половых сношениях собаки с любой су-
кой. Эти половые сношения без выбора поражают своим
плебейством, собака плебейский преступник: раб.
171
Я еще раз повторяю: только слепые могут смотреть на
собаку, как на этический символ; даже Р. Вагнер будто бы
любил собаку (Гете, по-видимому, придерживался более
глубокого взгляда на этот предмет). Дарвин объясняет ви-
ляние хвостом у собаки, как «производное возбуждение»
(«внешнее выражение раздражения»). На самом деле это
выражение самой подлой низости, рабской покорности,
которая всегда и во всех случаях заставляет ее клянчить.
Лошадь
Еще прежде, чем я начал думать о лошади, как пси-
холог животных, меня поражала голова лошади, которая
производила на меня впечатление несвободы. В то же
время я понял, что эта голова может казаться комичной.
Крайне загадочно постоянное кивание головой у лошади.
Мне пришла на ум идея - гораздо более далекая от уве-
ренности, чем в случае с собакой, но все-таки многое мне
разъяснившая - что лошадь выражает собой безумие.
В пользу этой догадки говорит алогичность в пове-
дении лошади, нервозность и неврастеничность, родст-
венные безумию и вызывающие жалобы и удивление
конюхов.
Но безумие есть противоположность логики и теории
познания (может быть, только последней?). Тому, кто
хочет ориентироваться в этих дисциплинах, всегда грозит
опасность впасть в безумие. В таком человеке логическое
мышление проблематично, и в этом направлении нужно
главным образом искать его наследственных грехов У
безумного поэтому нет ничего преступного; люди, жи-
вущие в страхе перед безумием, не знают страха перед
дьяволом и наоборот. Преступник и святой (преступник
наизнанку) очень уверенно и остроумно ориентируются
в мышлении, и им никогда не приходится выдерживать
борьбу с «интеллектуальной совестью».
172
Гений есть обратная сторона полного сумасшедшего
или совершенного преступника, каждый гений живет в
страхе перед одним из них; в любой момент своей жизни,
и в самые важные в особенности, ему приходится от-
стаивать свое «я» перед одной из этих двух форм не-
бытия, противопоставлять себя им: «я», гений есть дей-
ствие («вечно юное»), беспрерывное «да!»
Люди, у которых этическое проблематично, или бо-
ятся лжи, или сами лгут. Люди с проблематичной логикой
ненавидят безумие и боятся его или сами впадают в
безумие. Безумие кажется комичным; также комичным
кажется череп лошади.
Собака лает на лошадь,- злой лает на все хорошее.
Лошадь и во всех других отношениях являет собой
противоположность собаки: она аристократична и очень
разборчива в своих половых сношениях.
Существование ломовой лошади противоречит не-
сколько такому положению; точно также существуют
аристократы среди собак (бернары, доги).
Преступление направлено против смысла времени;
логика вневременна; может быть, поэтому у лошади нет
никакого отношения к прошедшему и будущему.
У аристократического гения есть ярко выраженная
связь с безумием (Ницше, еще больше Ленау); у плебей-
ского - с преступлением (Бетховен, Кнут Гамсун, Клейст).
Несколько более общих замечаний
Люди, которые создавали язык, должны были испы-
тывать такие же впечатления, какими пользовался и я,
обозначая людей свиньями, верблюдами, обезьянами, бы-
ками, ослами, собаками. Отсюда можно вывести заклю-
чение, что известные люди осуществляют специальные
возможности животных. С другой стороны, народные
173
сказки о животных приписывают каждому животному
определенный характер, только в человеке они такого
характера не отмечают. Следует обратить также внимание
на то, что характерологическая номенклатура употребляет
имена животных, как бранные слова, приписывая извес-
тным людям духовное сходство с животными.
Это антиципации, доисторические антиципации моей
теории. Историческая антиципация заключается в пла-
тоновских идеях и в учении Платона о судьбе людей
после смерти: один примет образ птицы, другой - еще
какой-нибудь и т. д. - учение, имеющее много основа-
ний. (Впрочем, когда мне пришли в голову развитые
здесь мною мысли, я еще не был знаком с соответству-
ющими местами из Платона.) Люди с неморальными
наклонностями становятся все больше похожими на жи-
вотных, чем больше развиваются в них с годами эти
наклонности.
Таким образом, по характеристике языка каждый
вид животных обладает оаним-единственным человечес-
ким характером, свойственным всем его особам, а из
людей только немногим (этого, конечно, не приходится
говорить о собаках: мопс, пудель, дворняжка и левретка
совершенно различны; впрочем, собаки обнаруживают
замечательные имитации других животных: льва, медведя,
барсука, даже змеи).
Наоборот, растениям язык не приписывает никакого
характера и вполне основательно, так как растения не
обнаруживают никаких определенных побуждений, на-
клонностей, что вполне соответствует их неподвижности.
Движение есть физическая сторона наклонности. (У рас-
тений нет также и предчувствия смерти, они не боятся
и не защищаются против смерти.)
Значение такой психологии животных подтвержда-
ется ее замечательной согласованностью (которой я со-
всем не искал) с систематикой. Собаке, как преступнику,
174
близок по родству волк (волк - символ жадности, может
быть, еще чего-нибудь), а волк, наверняка, преступен;
лошади (безумие) - осел (глупость; осел есть прежде
всего тупая, упрямая, самодовольная глупость; он явля-
ется карикатурой набожности", с этим вполне согласуется
то обстоятельство, что у евреев нет ни набожности, ни
ее карикатуры,- у евреев нет ослов).
Сходство между человеком и обезьяной также на-
ходит здесь свое объяснение (не с точки зрения эволю-
ционной теории). Именно, обезьяна есть карикатура мик-
рокосма". это - животное, всему подражающее и потому
неизбежно похожее на человека; обезьяна показывает,
каким еще образом можно быть всем.
Вымершие животные напоминают вымершие народы,
великанов, карликов.
Систематическому родству соответствует, таким об-
разом, в трех случаях психологическое сходство и со-
седство: система психологии (как характерологии) поэ-
тому идентична с системой зоологии.
Замечательное отношение существует между домаш-
ними животными и их дикими предками, например, со-
бака: волк - свинья: кабан - кошка: тигр.
Я не мог найти решения вопроса, на что указыва-
ет психологически различие между домашними живот-
ными и дикими предками. Но здесь таится глубокая
проблема.
По птицам можно, по-видимому, определить многие
различия в женщинах.
Гуси, голуби, куры, попугаи, сороки, вороны, утки
физиономически и характерологически представлены в
женщинах. Самцы этих птиц под башмаком у своих
самок (кроме петуха и попугая?)
Но млекопитающие: коровы, суки, козули, газели,
кошки более соответствуют по своему типу женщинам.
Быки и овцы также двояко родственны.
175
В змее замечательны и глубоко антиморальны ее
покровы', есть также связь с кругом.
Отношение между собакой и зайцем аналогично от-
ношению между собакой и кошкой, в соответствии со
сходством между кошкой и зайцем.
Собака и заяц: трус преследует труса.
Среди мужчин часто можно встретить котов к удо-
вольствию кошек среди женщин («mon chat»*).
Червь и змея имеют отношение к горбатому пре-
ступнику. Пронизывающий взгляд у некоторых преступ-
ников: принадлежат к рептилиям.
Птица есть трастное желание черепахи (замкнутого
человека, который совершает обратный путь, но никогда
не летит).
Растения
Здесь только догадка: если все животные среди лю-
дей - преступники, то нет ли среди людей растений, и
что представляют они?
Среди женщин несомненно есть растения: роза, тюль-
пан, лилия, незабудка и фиалка. А среди мужчин? Не
соответствует ли растительное существование неврас-
тении? Это могло бы объяснить недостаток подвижности
у неврастеника. Неврастеник анемичен: отсутствие цен-
трализации у растений (нет нервной системы в собст-
венном смысле этого термина), поэтому у растений нет
органов чувств (недостаток внимания у неврастеника). «
г
Неорганическая природа
Свет звезд есть свет, который больше не горит.
Отношение к звездному небу асексуально (Кант про-
тив Вагнера), потому что звезда есть ангел, а ангел вне ,
сексуальности.
* Мой котенок (фр). - Прим. ред.
176
Цветы, конечно, все женщины. Деревья - мужчины.
Потому только в царстве животных самки менее красивы,
чем самцы (Вкус преступника...?7)
Свет - символ сознания. Ночь (сон) соответствует
бессознательному. В сновидениях много преступного.
Свет не дымит; всякий огонь дымит (черным, антимо-
ральным дымом; абсолютное ничто; уголь; алмаз, как про-
тивоположность, представитель «нечто», совершенно про-
зрачен, прозрачность как моральный символ; значение
этой противоположности в психологии: уголь - алмаз).
Красный цвет есть цвет низшей жизни и ее наслаж-
дений (^леный цвет растений, цвет статического на-
слаждения, соответствует красному цвету, динамическому
наслаждению у животных, неврастеник анемичен, пре-
ступник полиэмичен). голубой цвет есть цвет радости и
блаженства высшей жизни
Красный цвет ада - противоположность голубого
цвета неба.
Очень глубокое значение имеет то обстоятельство,
что дым причиняет боль глазу.
Глубокое также значение имеет то обстоятельство,
что кровь содержит железо. Жизнь и убийство: о трсооас;
iaoETai (Еврипид). «Рану лечит только то копье, которое
ее же нанесло» (Парсифаль).
Гора - символ великана.
Река есть «я», как время.
Море есть «я», как пространство.
Источник есть рождение, море - символ смерти
и жизни: прекращение индивидуации может обозначать
смерть и еще больше жизнь.
Аполлоновское. дионисовское ~ река: море.
Дождь оплодотворяет; источник есть рождение.
Свет также символичен для познания; свет и звук -
утверждения, потому им всегда обеспечено участие в
177
ценности. Напротив, темнота, как и тишина, ведет к
страху, преступник, который боится темноты, бессозна-
тельно вспоминает о темноте, что в нем самом (о смерти
своей души); он в этот момент боится самого себя.
По той же причине свеча ночью светит (огонь есть
свет ночи) иначе, чем днем, не так легко и приветливо,
иначе шумит вода, громче, страшнее, чем в тихую пору дня
(смерть от воды более редкий коррелят другого, более
обычного представления о муках ада: смерть от огня).
Покой полудня, когда все тона затихают, есть не-
приветливый момент видимого совершенства, безза-
ботности, видимой полноты. Неприветливому моменту
полудня (Пан) соответствует, быть может, страх перед
полным духовным ясновидением, перед разгадкой всех
проблем (перед концом жизни: страх перед атеистичес-
ким решением).
Велик также страх перед белым цветом (саван), и
это ложный символ совершенства.
Тяжесть есть символ немилосердия; как бы высоко
ни взлетел человек, он немилосердно притягивается вниз.
(Падение звезды есть грехопадение.)
Свет есть символ милосердия; он относится к глазу,
как Бог к верующему: трудно сказать, чьей заслугой
является зрение, заслугой ли света, или заслугой глаза.
Полет не есть полное прямолинейное преодоление тя-
жести.
Все болезни, может быть, только случаи отравления-.
у души не хватает мужества поднять яд в сознание и
там обезвредить его в борьбе; поэтому яд продолжает
свое действие на тело.
Таким же отравлением является, несомненно, рев-
матизм-, его всегда можно объяснить неморальными поло-
выми отношениями.
Хромота есть застывшая конвульсия.
НАУКА И КУЛЬТУРА
Наука и культура
Горе вам, законникам, что вы взяли
ключ разумения; сами не вошли и
входящим воспрепятствовали
Еванг. от Луки 11, 52.
АКОЕ место по праву занимает наука во
всей культуре, вот тот вопрос, который
подлежит нашему исследованию. Что та-
кое наука, чем она может быть и чем
должна быть?
Эта работа, естественно, расчленяется
на три части: в первой мы должны исследовать сущность
всякой науки, во второй - сущность всякой культуры,
в третьей - существенные отношения между ними.
I. Сущность науки
С понятием науки или знания связан вопрос: сколько
человек может знать?
Самая задача науки, мысль, которая в ней заключена,
гласит человек может знать все. Он может, потому что
он хочет. В идее науки, как и во всех исторических
попытках ее осуществления, выражается всегда бурное
и наивное или непреклонное и сознательное, детски сме-
лое или упорное требование: все или ничего. Точно так
181
же ставит Гете эту проблему индивидуально для Фауста:
познать все или ничего.
Наука не исследует, не критикует понятия знания.
Это понятие является ее предпосылкой, ее условием,
которое не может составлять для нее вопроса. Она спра-
шивает только, чтобы утверждать знание, а не ставить
вопроса о нем. Сократ и Кант, которые остановились
уже на самом вопросе о том, что такое знание, не ее
воины. Она вихрем несется вперед к намеченной цели.
У нее один враг - вера, вера в самом широком смысле
этого слова.
Всякий факт можно утверждать двояким способом:
при помощи знания и при помощи веры. Если я утверж-
даю суждение в форме знания, то я делаю его знание со-
вершенно независимым от меня. Я делаю, так сказать, на
природе надпись, которую все должны читать одинаково.
Я устанавливаю факт, как положение, которое не обус-
ловлено моим существованием; я объективирую нечто,
перед чем я наравне с другими должен буду преклоняться
во все последующие времена, но что не нуждается больше
во всех нас. Если же я во что-нибудь верю, то я ставлю
свою личность на место той объективности, того дейст-
вительного для всех существования; я свободно признаю
некоторую возможность, я ставлю себя в качестве про-
блематического суждения. Достоверность познанного не
зависит от моего знания, достоверность догмата веры
покоится на том, что я в него верую. Вера - ничто без
той общины, которая ее принимает. Достоверность моего
исцеления от прикосновения к мощам связана с моей верой
в эту возможность. Человек может стоять или пасть вместе
со своей верой: это зависит от того, какую часть себя он
вложил в свою веру Если он весь в нее ушел, то речь
может идти о жизни и смерти.
Здесь я строго различаю между верой (тпотк;) и
мнением (66^а). Мнение человека науки о том, что в его
182
области что-нибудь будет происходить определенным об-
разом,- гипотеза,- отнюдь не отказывается от доказа-
тельств. Логический характер научной вероятности очень
часто ставят на один уровень с совершенно алогическим
характером веры на основании только одного общего им
элемента незнания, научную догадку смешивают с верой.
Такое смешение всегда мешает принципиальному выяс-
нению понятия веры. Если только не давать одинаковых
названий совершенно различным категориям, то вера,
как таковая, никакого отношения не имеет к вероятности.
Вера не нуждается в логике; между тем как логика не
может в последнем счете отказаться от веры. Исходные
законы логики, закон противоречия и закон тождества
не могут быть результатом знания, а должны приниматься
на веру. Как этика предполагает субъекта который хочет,
точно так же и логика, принципы которой как будто
гордо и независимо поднимаются над головами индиви-
дуумов, нуждается в субъекте, который верит. Хотя ско-
рее согласятся признать, что этика должна быть желаема,
что моральные максимы предъявляются воле, что нрав-
ственная ценность претендует на деятельность воли, чем
будут готовы допустить, что теоретические положения
логики связаны с согласием индивидуума. И тем не
менее это так Этика желает осуществления во времени,
тогда как логика существует, так сказать, от века (vor
aller Zeit ist). Поэтому кажется, что логика не требует
безусловного повиновения от индивидуума в качестве
второго категорического императива, берущего свое на-
чало в нашем интеллигибельном «я», подобно тому им-
перативу, который Кант считал единственным, потому,
конечно, что в сущности оба они представляют одно и
то же. Этика говорит, что должно быть, логика - о том,
что есть, что что-то есть, что известные положения
применимы. Этика придает таким образом смысл рожде-
нию, имея в виду смерть, логика лишает смерть ее бес-
183
смысленности, отрицая на основании факта рождения,
что смерти подлежит все.
Если бы я хотел не признавать положения А - А
и старался бы даже его опровергнуть, то мне пришлось
бы для этого воспользоваться логикой, т. е. этим же
самым положением. Всякое мое отступление от этого
положения сделало бы мой вывод ложным. Самый закон
логики является критерием истинного и ложного, мас-
штабом моей дедукции, нормой, которая должна быть
применена к ней самой, как только я начинаю дедуци-
ровать. Я могу поэтому только отказаться от своей ра-
боты, воздержаться от суждения. Стал ли бы я опровер-
гать закон, или, наоборот, доказывать его, в том и другом
случае он входил бы в аргументацию в качестве пред-
посылки, как истинный,- результат получился бы в обоих
случаях. Закон остается тезисом, который нельзя ни
доказать, ни опровергнуть. Я могу по этому поводу пе-
чалиться, но логически я к этому не обязан, потому что
логика упирается своей вершиной в содержание этого
закона (и в две других формы выражения его, о взаимных
преимуществах которых мы здесь говорить не будем, в
закон противоречия и исключенного третьего). То об-
стоятельство, что я не могу освободиться от него, может
интересовать психопатолога, для его объяснения это ни-
какого значения не имеет; я не могу освободиться и от
многих других вещей, например, от самого себя. Логику
поэтому нельзя ни доказать, ни вывести из чего-нибудь
другого: что в свою очередь нужно доказать.
Я могу поэтому по доброй воле признать логику,
устанавливая при ее помощи абсолютный масштаб. Закон
А - А есть тезис вообще: факт масштаба, т. е. факт его
существования, есть мой свободный акт. Если бы над
принципом тождества был другой высший закон, то это
было бы действительно и для него и т. д. При свободе
субъекта, как ноумена, других отношений не может и
184
быть: логика не может делать ему никаких предписаний,
которые должны были бы его обязать. Он может признать
логику, самостоятельно, высшим добровольным актом
сделав ее нормой своего мышления: но он не может
быть вынужден к этому логикой. Устанавливая логику
и делая ее судьей всех моих будущих суждений или
отказываясь от нее, я в обоих этих случаях поступаю
свободно. Кто отказывается от логики, тот отказывается
от мышления. Кто отказывается от мышления, тот до-
бровольно отдается произволу. И логика устанавливается
свободной волей, но с ней связывает себя свободная
личность. Логическая норма есть «закон свободы», не в
меньшей степени, чем нравственный долг, согласно по-
нятию Канта о законах, «которые говорят, что должно
быть, хотя этого, может быть, никогда и не бывает, и
этим отличаются от законов природы, которые устанав-
ливают только то, что есть, и называют поэтому также
практическими законами» («Критика чистого разума»).
Отсюда ясно, что и логика обращается к свободной
личности и претендует на то, чтобы ее сделали обяза-
тельным правилом своего мышления, точно так же, как
и кантовский категорический императив выступает с тре-
бованием, чтобы его сделали единственным безусловным
правилом поведения. Этим объяснением логики, как до-
бровольного обязательства интеллигибельного субъекта,
дополняется философия Канта.
Итак, задача нашего исследования теперь ясна Я не
думаю возбудить ни малейшего сомнения в абсолютной
логичности мира, которой наша работа проникнута так
же, как и абсолютной этичностью его. Я только утвер-
ждаю, что оба принципа постигаются не знанием, а верой*.
Логика и этика находятся в одинаковых отношениях к
* Кант обозначает веру и этом смысле словом «убеждение». Субъ-
ективная достоверность есть убеждение (для меня самого), объективная
достоверность (дгя всякого)». - «Критика чистого разума»
185
субъекту. Нельзя доказать, что человек должен делать
добро. Если бы это можно было вывести из чего-нибудь,
то идея добра была бы следствием какой-нибудь причины
и могла бы поэтому служить средством к цели. Если
только должно делать добро, то его нужно делать ради
него самого, т. е. оно должно быть тождественно с тем,
что абсолютно не может быть следствием причины, что
абсолютно не может стать средством к цели. С другой
стороны, я не могу также доказать, почему я должен
отдать предпочтение истинному перед ложным; истина
не может обосновать свое преимущество перед ложью,
заблуждением. Против дьявола не аргументируют. Его
побеждают или ему подчиняются.
В этом заключается глубокое оправдание глубочай-
шей христианской идеи, идеи милосердия. Кто не уста-
навливает логики, этики, для кого не ясно, как день, что
добро нужно предпочесть злу, у кого нет в данном случае
простого, безусловного выбора и решения, кто не хочет
отстоять себя против дьявола и сомневается, нужно ли
отстаивать себя против него, - у того нет милосердия.
На того не спускался голубь, тот не исполнен того
святого духа, который понимает добро и истину.
Теперь мы, может быть, поймем слова Спинозы:
♦Saue sicut lux se ipsam et tenebras manifestat sic veritas
norma sui et falsi est> (Ethices Pars II, Prop. 43 Schol)*.
Без идеи истины я отказываюсь также от масштаба, при
помощи которого я могу найти что-нибудь ложным; где
нет закона, там царит только произвол. Идею истины
также нельзя доказать, если бы ее можно было доказать,
то я мог бы желать истины ради чего-нибудь другого.
Точно так же нельзя доказать моего собственного су-
щества, моего «я», если только оно имеет ценность,
• «Как спет обнаруживает и самого себя, и окружающую тьму,
так и истина есть мерило и самой себя, и лжи» (лот.) - Спиноза
«Этика». - Прим ред.
186
нельзя вывести из чего-нибудь другого, из твоего «ты»,
если оно не следствие причины, если оно не может
служить средством к цели. Оспаривание солипсизма было
бы совершенно непримиримо с этикой так же, как и
доказательство существования собственного «я». В самой
идее души уже заключается невозможность доказать свою
или чужую душу. Если бы ее можно было вывести из
чего-нибудь, то за ней оставалось бы что-нибудь. Пос-
тоянно появляются все новые попытки опровергнуть со-
липсизм, за последние два десятилетия не проходило ни
одного года, чтобы не появилась хотя бы одна такая
попытка. При этом, по-видимому, совершенно не пони-
мают пафоса, на котором покоится положение: «мир есть
мое представление». Это значит что-нибудь изменяется,
когда я не существую. Я становлюсь субстанцией, a «duae
ejusdem naturae sub stantiae non dantur» (Spin Eth., 2,
10 Schol.)*. Боязнь солипсизма есть неспособность дать
бытию самостоятельную ценность, неспособность к бо-
гатому одиночеству, потребность спрятаться в толпе, за-
теряться, исчезнуть в массе. Это трусость.
Логика и этика, обе ведут к идее последней цели
всех целей, к последней причине причин, к идее абсолюта
или божества. Односторонность Платона и Канта вы-
ражалась в том, что они идею Бога основали только на
этике, заимствовали ее только из моральной области ре-
лигиозных представлений. Идея того, что не обусловлено
чем-нибудь другим, т. е. свободно, и не может быть
поэтому средством для какой-нибудь другой цели, т. е.
само является высшей целью и абсолютной причиной,
составляет в то же время идею высшего существа, идею
субъекта в высшей потенциальности, идею того, в ком
ценность и действительность совершенно сливаются, он-
тологическая и феноменальная реальности стали единым;
* *Двух субстанций одной и той же природы быть не может».
(мт.). - Спиноза «Этика». - Прим. ред.
187
идея Бога есть идея вещи в себе и в то же время идея
мировой души. Опровержение доказательства бытия Бога
при всем своем остроумии излишне, потому что в идее
высшего существа уже заключена ее недоказуемость. За-
веты религий не испытывать Бога страдают внутренним
противоречием при всей их глубине: тот, кто испытывает
Бога, т. е. пользуется Им как средством к цели, не может
обладать Тей, что по идее своей не может стать средством
к цели. Если он знает Бога, то он не станет Его испы-
тывать, а тот, кто Его испытывает, не знает Его.
Кто требует чуда, чтобы уверовать, тот желает внут-
ренне противоречивого, причин последней причины, тот
ограничен и ослеплен; но он к тому же и зол, ибо
испытывает Бога, пользуется Им, как средством к цели,
чтобы уверовать в него. Поэтому Гете намеренно не
говорит: «вера есть любимейшее дитя чуда», а: «чудо
есть любимейшее дитя веры». Чудо может вытекать толь-
ко Из веры, вера всегда творит чудеса, но никогда чудо
не творит веры (разве только у женщин). Чудо, которого
требует неверующий, чтобы уверовать, есть его последняя
ненормальность: он в таком случае требует внешнего
принуждения к вере; это грубейшая насмешка над идеей
милосердия, часто встречающееся недоразумение (осо-
бенно у евреев). Дары Бога не делают человека пассив-
ным, несвободным, это дар свободы.
Если теперь мы с просветленным взглядом опустимся
с высшей мыслимой вершины, которой только нам воз-
можно было достигнуть так рано, и вернемся к исходному
пункту нашего исследования, то обнаружим в высшей
степени важный результат, что всякое ннание покоится
на вере. Мы этим не хотим повторить тривиальной,
ложной и беспочвенной фразы, что правда есть только
высшая степень правдоподобия. Наоборот, мы приходим
к выводу, что всякое знание, добытое при посредстве
логики, покоится на конкретном содержании, но логика
188
сама по себе может быть принята только на веру. Религия
может отказаться от знания, но знание не может от-
казаться от веры, от религии. Из тезиса А ~ А нельзя,
как хотел Фихте (в единственной по своей поразительной
смелости при всей видимой абстрактности работе), вы-
вести дедуктивным путем весь мир при помощи диалек-
тического метода; тезис А - А уже заключен в перво-
начальном тезисе, в метафизическом утверждении, что
нечто есть, в свободном предположении существующего
совершенства, высшего добра, осуществляемого челове-
ком в том проявлении, которое называется религией.
Религия есть обновление мира действием, ибо только
благодаря ей мир рассматривается с точки зрения абсо-
лютной ценности и лишается всего относительного; она
есть повторение и утверждение этого действия свободно
выбирающим индивидуумом, который в силу высшей
спонтанности дает смысл целому, религия есть, наконец,
решение человека иметь назначение и следовать этому
назначению. Бог есть назначение человека, религия - воля
человека стать Богом. Религия есть свободное утверж-
дение царства свободы, абсолюта, новое создание все-
ленной, установление «нечто» в противовес «ничто». Та-
ким образом за верой обеспечено всегда преимущест-
венное право перед знанием, предпосылкой которого
она является. Как вера везде приводит к абсолютному
«нечто», так неверие ведет везде к «ничто». Неверие не
утверждает никакого ovtcoc ov, никакой высшей ценности,
перерождаясь метафизически в нигилизм (релятивизм,
скептицизм, который в наше время в своем замечательном
и столь характерном превращении называется позити-
визмом), а в практической области - в индифферентизм.
Оба направления отличаются своим отрицательным от-
ношением либо к вере в логику, либо к вере в этику:
без идеи истины теоретически приходят к агностицизму
или феноменализму, в которых нет места для понятия
189
истины, практически же к иллюзионизму, который так
же пассивно относится к действительности, как спящий
человек к образам своих сновидений; без идеи добра
теоретически возможен только детерминизм, который ни-
какой ценности не приписывает индивидууму, так как
он от него ничего не требует, а практически - только
фатализм, который отказывается от всяких желаний, от
всяких целей.
Ввиду крайне низкого уровня современных споров
о «самодовлеющей науке» (voraussetzunglose Wissenschaft),
мы считаем нужным повторить: существует только сво-
бодная вера в логику, как свободная воля к этике. Ис-
ходным моментом в обоих случаях является религия.
Знание имеет своей предпосылкой только логику, воля к
знанию - идею истины, а в последнюю я могу только
верить. Вера есть постоянная сознательная или бессо-
знательная предпосылка науки, - она имманентно при-
суща с самого начала всякому ее исследованию. Желание
доказать идею добра истины, бытие высшего ценностного
и совершенного существа, существование Бога - есть
практическая contradictio in adjecto*: самое понятие бо-
жества исключает возможность его доказательства и до-
пускает только веру в него. Нет такого высшего судилища,
перед которым логика и этика должны были бы себя
доказывать; я не могу больше обосновать их права. Пол-
ным отчаяния словам Паскаля (Pensees**, 2, 17, 107) -
даже не зная, существует ли абсолютный масштаб, нужно
его принять уже потому, что только таким образом можно
с уверенностью избегнуть ошибок по отношению к нему
в том случае, если он существует - этой аргументации,
проникнутой ужасными сомнениями, я противопостав-
ляю другую; Бог должен существовать, если я должен
* Внутреннее нротииорсчис (лат.). - Прим. ред.
** «Мысли». - Прим. ред.
190
иметь ценность. Если Бога нет, то исчезает также проб-
лема ценности и для моей жизни, тогда я ничто, у меня
даже нет повода к отчаянию, так как и последнее ука-
зывает мне на мое ничтожество ввиду ценности: Бог
должен существовать, дабы существовал я; я существую
только настолько, насколько я - Бог.
То, что в этом заключена сущность идеи Бога и его
значение для человечества, что Бог есть совершенный
человек, а совершенный человек, как Иисус Христос,
есть Бог, что вера в Бога есть только высшая вера в
самого себя, - все это признавали глубочайшие умы;
существуют, конечно, умы второго ранга, которые до
этого никогда не доходили. Величайшее мыслимое не-
понимание идеи Бога, применимое только к еврейскому
понятию о Боге, обнаруживает Шопенгауэр («Новые па-
ралипомены», 395), говоря: «Если предположить сущес-
твование Бога, то я - ничто», или Ницше («Так говорил
Заратустра»): «Но, друзья, открою душу вам вполне: если
бы был Бог, то как я мог бы допустить, что я не Бог?
Итак, нет Бога». От всякой чистой веры «я» становится
не меньше, а больше.
Вера, к ограничению которой стремится наука, яв-
ляется таким образом базисом последней. Правда, каждое
столетие появлялись побеги крайней научности с целью
опровергнуть саму идею истины, но преувеличенные при-
тязания науки всегда ведут к отрицанию последней, так
как под сомнение ставится ее предпосылка - логика, как
ненаучная категория.
Вере соответствует сомнение (в практической облас-
ти: отчаяние); коррелятом идеи знания является вопрос.
Сомнение столь же индивидуально, как и вера; ему нет
места в науке, когда дело идет о конкретном содержании.
Вера науки есть вера в формальную логику.
Различие между верой (тотк) и знанием (yvcooic),
борьба по поводу того, что может приниматься на веру,
191
играла большую роль в истории философии (Юм -
Кант) и до сих пор занимает большое место в бесчис-
ленных спорах о теории суждения. Если исключить из
области веры научную догадку и математическую веро-
ятность, принимая во внимание их психологический ха-
рактер, то можно, мне кажется, установить следующее:
вера отказывается от доказательств, выводов, от всякого
приведения к очевидному или абсурдному всего приня-
того на веру. Вера предполагает дар с моей стороны: я
даю суждению, в которое я верую, от себя, даю самого
себя*. Принимаемое на веру стоит вне логики, в которую
я в свою очередь могу только верить. Поэтому я могу
исходить от веры, а не от знания, утверждая «абсурд*.
Познающий противопоставляет своему субъекту объект,
отделяя последний, как принадлежащий миру реальности,
который существует независимо от него и всякого субъ-
екта. Веритпъ можно в последнем счете только в самого
себя. Трансцендентальный метод Канта состоял в том,
чтобы открыть в индивидууме надиндивидуальные ус-
ловия, которые конституируют науку как таковую. Снова
и не так, как до него, поставил он вопрос, что есть исти-
на по понятию своему. Но в самую идею истины человек
может только верить и подчинить себя ей своим инди-
видуальным стремлением к ней. Фихте познал, что закон
тождества, который формально совпадает с понятием
истины, идентичен с положением: я существую. Итак,
вера в логику есть также в последнем счете вера в себя.
Ввиду этого противоречия между индивидуальным
и всеобщим вся задача науки сводилась к ограничению
веры. Хотя в других случаях она очень мало прибегает
к этическим аргументам, но здесь она всегда охотно
пользовалась моральным осуждением, которому вполне
основательно подвергалось всякое суеверие. Рассматри-
• Идея жертвы: преданность илес. Жертва есть ответ на мило-
cipdue.
192
вая веру как частный случай суеверия, наука сводила
всякую веру к суеверию. Что такое суеверие? Суеверие
есть утверждение алогичного, которое не предполагает
самоутверждения «я» и не делается богатой ценностями
личностью, это - установление непознанного взаимоот-
ношения, следовательно, не свободно, не активно, а пас-
сивно, по принуждению. В суеверии (ввиду его психи-
ческого происхождения) человек, потерявший свободу,
подчиняется любому содержанию. Поэтому так тесно
связаны между собой суеверие и страх. Нет суеверия,
которое не вызывало бы страха, нет страха, который не
был бы суеверным. Страх появляется, когда грозит опас-
ность потери индивидуальности, уничтожения связи с
абсолютом, которая обеспечена человеку логическим и
этическим моментами его личности (кантовским «разу-
мом»), Страх смерти, страх перед двойником, страх перед
женщиной (равносильный догадке, что женщина не пред-
ставляет собой метафизической реальности, личности),
боязнь греха, безумия - все эти проявления страха можно
легко вывести из этой общей схемы страха. Воля к
ценности, к абсолюту, стремление к его достижению или
сохранению связи с ним есть последнее, всеобщее чело-
веческое свойство. Страх есть в то же время только
обратная сторона воли к ценности, форма проявления
этой воли ввиду опасности ее отрицания. Самый ужасный
страх, страх перед самим собой, объясняется таким же
образом: это страх перед эмпирическим «я»; страх перед
сведением вневременной личности к точному элементу
времени появляется всегда в тот момент, когда настоящее
доходит до сознания в виде отдельного момента времени,
когда человек не занят всецело мыслью о прошедшем и
будущем, т. е. не проявляется, как существо с волей и
мышлением*. Объективная сторона страха перед самим
• Это снедение «я» к атому в|х:мсни, его одиночество во времени
(вместо связи со всеми вечностями) гениально символизировано в
одпороге на беклиповской картине «Тишина в лесу».
193
собой обнаруживается в жуткости тезиса абсолютного
феноменализма, который учит, что только восприятие
реально, и что я не уверен в дальнейшем существовании
стены, которую я только что рассматривал, после того
как я повернулся к ней спиной. Но если возникает
сомнение в дальнейшем существовании стены, после того
как я повернулся, то вместе с этим и существование
мира «трансцендентального объекта как трансценденталь-
ного субъекта» сводится к одному знаку, лишается
реальности, лишается ценности, должна прекратиться
беспрерывность «я», которое объективно соответствует
беспрерывности мира. Преступник, который проституи-
ровал свое беспрерывное «я», отказался от него, не об-
ладает больше ничем, что он мог бы противопоставить
прерывности (Discontinuitat) внешнего мира', поэтому он
так легко поддается страху: бояться можно только пре-
рывности.
Жутко поэтому всякое забывание, жутки слова: «Это
уже не верно», потому что они предают уничтожению
часть моего «я», воспоминание обо мне.
Страх есть, таким образом, воля к ценности, обна-
руженная опасностью ее отрицания. Но так как отрицание
ценности возможно только при посредстве ценности и
перед лицом ценности, то этим объясняется также страх
перед Божьей карой, страх перед болезнью и бедностью,
страх перед адом. «Нет добрых людей», учил Христос,
и, с одной стороны, поэтому нет людей, свободных от
страха; но с другой стороны, наперекор всякому «moral
insanity»*, верно также и другое положение: нет злых
людей**. Абсолютный преступник так же не знал бы
страха, как и абсолютный святой; но так как нет человека,
* Моральное безумие (лот.). - Прим. ред.
** Поэтому олинаконо может быть страшным, когда ближний вос-
принимает и мыслит совершенно то же, что и я (мой духовный
двойник), как и тогда, когда он совершенно не воспринимает и не
понимает того, что воспринимаю и мыслю я. В нервом случае гибну
я, во втором гибнет мир.
194
который был бы вполне злым, то и нет в данном случае
инстанции против всеобщности страха, хотя и существуют
приближения к бесстрашию. Страх преступника, вырос-
ший из смутного сознания его проступка, вызывается тем,
что он не мог отстоять идеи высшей ценности назначе-
ния человека, и что он, как лишенный ценности, был от-
брошен в сторону. Поэтому страх можно одолеть только
сознательной уверенностью в своей собственной ценнос-
ти, но собственную ценность человек создает в свободе,
или же он ее отбрасывает и отказывается от творчества,
которое всегда выражается в создании ценности.
В страхе утверждающий, созидающий человек дово-
дит проступок своим отрицанием до уничтожения его:
поэтому существует, коротко говоря, страх только перед
пассивностью, страх перед неизвестным есть страх перед
неосознанным, потому что только по отношению к тому,
что человек познал, он свободен (так как он стоит вне
этого, над этим). Человек не боялся бы и смерти, если
бы все о ней было ему достоверно известно. Но так как
ни один человек не знает, какая часть его будет жить,
только ли он ангел (потому что только его ангел будет
жить) или он также и дьявол, ибо все люди грешны, то
каждый человек боится смерти.
Я свожу здесь воедино все данные, из которых соста-
вилась наша теория страха. Существует страх перед небы-
тием, перед «ничто»; существует страх перед злом, перед
безумием, забывчивостью, прерывностью, перед женщи-
ной, двойником, перед смертью, перед грехом и нака-
занием (соответственно перед прошедшим и будущим),
перед страданием, перед пассивностью, перед неведо-
мым (судьбой), перед болезнью, перед преступлением. Но
все это вместе взятое, есть только страх перед смертью.
Страх есть обратная сторона воли к жизни, борьба
всякой жизни против всех ее врагов. Поэтому существует
сильный и обыкновенный страх, в зависимости от того,
195
касается ли дело земной или вечной жизни: страх перед
земной, физической смертью и страх перед небытием.
Первый страх знают только животные, второй - только
человек (он знает, конечно, и первый). Так как далее
всякая жизнь возникает при посредстве любви, низшая
жизнь, благодаря любви матери (питание и половые
сношения), а высшая, благодаря любви к Богу (духовная
пища; любовь к Богу может также называться любовью
к истине, добру и красоте), то страх есть крайняя
противоположность всякой сексуальности и всякой эро-
тики*. Поэтому заключают друг друга в объятия люди,
которые должны быть убиты, отношения мужчины и
женщины перерастают в половые, когда землетрясение
угрожает им гибелью. Поэтому человек ищет всегда (не
только ради физических результатов) общения с другими,
когда он боится. Два человека спят вместе, чтобы легче
преодолеть страх. Страх одиночества есть обратная сто-
рона воли к ценности, и всякий страх растет вместе с
удалением человека от временно-пространственной цен-
ности. Поэтому также физическим отражением страха в
низшей жизни является недостаток дыхания (потому что
дыхание воплощает в себе принцип жизни, связь со все-
ленной).
Итак, страх есть чувство безжизненности, и сущес-
твует только страх перед смертью. Как страх, так и
любовь сопровождаются работой фантазии: при страхе
фантазия работает пассивно, в любви (в том широком
смысле, в котором и духовное творчество есть любовь)
всегда активно. Призраки, преследующие Гамлета, перед
глазами которого происходят постоянные превраще-
ния одного и того же предмета, являются продуктом
пассивной фантазии и результатом страха: здесь закон
* В первом послании Иоанна (IV-18) сказано: «В любви нет
страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе
есть мучения. Боящийся не совершенен в любви».
196
тождества уже больше не действует (даже для объекта).
Поэтому и преступник, в котором преобладает пассив-
ность, страдает от страшных галлюцинаций и, как безум-
ный, постоянно слышит голоса, даже когда бывает один.
Храбрость - это самоуверенность высшей жизни.
Кто храбр, как Зигфрид, тот чист и невинен. Поэтому
храбрость связана с сердцем; она соответствует силе серд-
цебиения, как дыхание «связанности», и степень храб-
рости человека служит вернейшим доказательством его
чистоты, гениальности.
Страх есть недоверие к жизни, потому что у нее
есть края, за которыми начинаются пропасти. Вера в
себя создает храбрость и надежду (это «я» на пути к
своему осуществлению).
Вера, устанавливающая вечную жизнь при посред-
стве воли и мышления, есть антипод чувства безжиз-
ненности, победительница страха.
Но в самой вере тем больше страха, чем больше в
ней суеверия. Нет ни одной специальной индивидуальной
веры, которая была бы совершенно свободна от суеверия.
А суеверие в противоположность вере уничтожает ав-
тономную личность и предоставляет ее всякому необя-
зательному, временно-пространственному столкновению
двух рядов явлений, которые эмпирически независимы
друг от друга, т. е. случаю. В суеверии человек функцио-
нально связывает себя с другими, отрицает собственную
свободу на все будущие времена и объявляет свои же-
лания и обязанности фаталистически связанными.
Всякое суеверие требует знамений и чудес, потому
что суеверие есть отречение от самостоятельного мыш-
ления и творчества. Ханжа-полководец, который по
внутренностям животных или солнечному затмению
составляет свои решения (и этим выдает только свой
страх, как Никий, император Юлиан, у Ибсена), уже зара-
нее отказался от всякой активности и вместе с этим и от
всякого успеха.
197
В вере человек, свободно, смело и презирая смерть,
утверждает самого себя, свое внутреннее божественное
существо, в суеверии он боязливо склоняется перед вся-
кой игрой случая и отказывается от свободы мышления
и творчества, связывая их всегда с чем-нибудь. Поэтому
суеверие всегда малодушно и трусливо, вера - велико-
душна и храбра; поэтому человек тем больше страдает
от суеверия, чем больше он способен к вере.
Проблема страха поражает своей глубиной. В наши
задачи не входит всесторонне рассмотреть те положения,
которые мы только наметили здесь. Но проблема знания
помогает нам сделать еще одно сопоставление и ярче
осветить этот вопрос.
Человек, который слышит потрескивание стены в
своей комнате или внезапный шум, долетающий до него
среди полудня или полуночи, может на это реагировать
двояким образом: или испугаться, или исследовать дело.
Любознательность и страх представляют собой две про-
тивоположные формы человеческого ума. Ученый есть
любознательный человек, он исследует дело, он хочет
познать причины явлений. Противоположностью иссле-
дователя, которую неоднократно пытались найти в ху-
дожнике, метафизике или мистике, является на самом
деле только демонолог. Страх создает демонов. Человек,
который храбро встает и направляется к призраку, чтобы
стащить покрывало с его повседневного лица, есть от-
крыватель. Человек, который сильно с'градает от страха,
никогда, даже мысленно, не сделает никакого открытия.
Те же самые силы природы, которые ученый преследует
своими рычагами и винтами и которые он старается
изобразить при помощи дифференциальных уравнений,
представляются обыденному сознанию в качестве демонов
природы. Глупо думать, что демонология вымерла, что
это старинное мировоззрение психически устранено и
что его место с течением времени постепенно заняло
198
научное воззрение. Оба воззрения являются двумя по-
лярно противоположными постоянными способностями
человеческого характера, такими же древними и вечными,
как само человечество. Так же, как и теперь, и раньше
всегда существовали исследователи наряду с демоноло-
гами; точно так же, как в те времена, которые с любовью
исследуются историками первобытной культуры и этно-
логами, существуют и в наше время рядом с корпусом
ученых отдельные демонологи, хотя и в меньшем числе,
чем раньше. Демоны суть законы природы для человека,
страдающего от страха; наука и демонология суть две
формы, в которых человек может реагировать на явления
природы. Но и Шопенгауэр, Бюргер и Кнут Гамсун,
конечно, не более чужды природе, чем Ньютон и Каст.
Фр. Вольф, чем Бэкон и Лагранж, но первые понимают
ее не так, как вторые. Человек может быть демонологом
и ученым, если у него достаточно развиты способности:
Гете был тем и другим в большом стиле.
Наука приносит свет и прогоняет демонов ночи.
Ученый никогда не поймет демонов и страха перед ними
и всегда будет смеяться и даже преследовать демонов:
это печально, но неизбежно. Пусть это никому не поме-
шает высоко держать великий светоч науки в моральной
и культурной борьбе со страхом. Страх есть нравственная
и умственная слабость, он делает человека маленьким,
он заставляет его съеживаться. Разум и только разум
может прогнать призраков.
II. Понятие культуры
Нет ничего труднее, чем постигнуть понятие ходячего
слова. А под знаком культуры борются и побеждают все
в наше время. Но если этим и затрудняется изрядно
попытка получить в чистом виде этот знак, то, с другой
стороны, смелость для подобного предприятия придает
вера в общеобязательное значение этого слова; оно, по-
199
видимому, обозначает то, что связано со всеобщими цен-
ностями, что имеет значение для индивидуума и способно
приносить пользу каждому отдельному человеку, без вся-
кого вреда для другого.
Натура и культура суть понятия, которые часто проти-
вопоставлялись друг другу, в особенности, верхоглядом
Шиллером, который надолго помешал выяснению поня-
тия культуры своим отождествлением культуры с циви-
лизацией. Нужно, конечно, признать, что никто одним
только, пусть и самым интимным, своим отношением к
природе не может заслужить названия «культурного»
человека. Но тем не менее нельзя считать антикультур-
ным влияние дикой природы на человека и поэтому
такое противопоставление ошибочно.
Мы, скорее, можем воспользоваться в дальнейшем
другим лучшим противопоставлением между природой и
историей, которое в последнее время было разработано
в прекрасных сочинениях Виндельбанда и Риккерта. Су-
ществует несомненно самая тесная связь между тем, что
понимают под словом «культура», и историей челове-
чества. Культура, насколько она воплощена в дошедших
до нас произведениях прошлых поколений и совпадает
с понятием Гегеля об объективном духе, очень часто
отождествляется с тем, что осталось от жизни народов,
с суммой проекций их бытия на землю, и каждая спе-
циальная культура оценивается в зависимости от того,
сколько эти проекции пережили индивидуумов и наций.
Деятельность политика, если он только завоеватель и
революционер-разрушитель и властолюбец, а не законо-
датель и государственный человек, такая деятельность,
как преходящая, противополагается в этом смысле куль-
турному творчеству.
Но в наше время - под влиянием Р. Вагнера и Ниц-
ше, которые в последние десятилетия серьезнее всех
отнеслись к проблеме культуры - приближаются уже
200
к более правильному взгляду, связывающему вопрос о
культуре с психическими качествами, а не с тем насле-
дием прошлых времен, в котором эти качества, может
быть, обнаруживаются. Отсюда уже естественно было
перейти к определению степени духовной культуры от-
дельного человека или целой эры в зависимости от их
более или менее близких отношений к истории прошлых
времен. Согласно этому взгляду настоящим культурным
человеком должен был бы быть историк в самом широком
смысле этого слова. Эти тенденции и выражаются в мод-
ной у нас погоне за культурой в противоположность об-
разованию, которому приписываются более положитель-
ные знания: занятие литературой и историей искусств,
знакомство с жизнью великих людей и их произведения-
ми - таковы вытекающие из такого взгляда цели. Куль-
туру в этом смысле можно было бы определить по
противоположному ей понятию варварства, которое до-
лжно обозначать полную беззаботность по отношению к
творчеству других. Ясно, однако, что и этот критерий
никакого отношения к внутренней духовной культуре
человека не имеет. В противном случае самым культур-
ным человеком был бы тот, который прочитал наиболь-
шее число книг, прослушал наибольшее число концертов
и посетил наибольшее число музеев. Никому, конечно, и
в голову не приходило утверждать подобное, но все виды
культурного снобизма сводятся к этой фикции Опреде-
ляющим моментом для положения человека и степени
его культурности было бы тогда также количественное
выражение коллективного прошлого, число протекших
лет. Но культура, которая здесь имеется в виду, нисколько
(«песчинка за песчинкой») не увеличивается на протя-
жении человеческой истории. Смысл веры в прогресс
заключается в вере в нравственную идею прогресса: куль-
тура всегда остается только идеалом, к которому мы
только хотим приблизиться. Точно так же, как опасность
201
исчезновения рода человеческого внушает нам страх, что
на земле не останется представителей нравственной идеи,
с которой мы так охотно связываем все свои надежды,
сознавая свое собственное несовершенство, - точно так
же и мысли более глубокого человека о культуре не
основываются на обзоре прошлого и его сравнении с
настоящим, а являются выражением постулата, который
относится к человечеству, как к целому во времени, хотя
в единичных явлениях все остается всегда равным себе,
и во все времена начинается все та же борьба с того же
места и тем же способом. Никакого развития не происхо-
дит, и только желание этого развития так глубоко трога
ет человека; есть только потребность вложить реальный
вневременной смысл в сумму временных сообщений; нет
никакой прошлой истории, есть только желанная история.
Воля к истории человечества обнаруживает здесь свое
происхождение из того же самого глубочайшего источни-
ка, из которого проистекает потребность человека в бес-
смертии; она тождественна с потребностью в спасении.
Не существует поэтому истории человека, ни от-
дельно взятого (характер остается постоянным, даже если
отдельные черты и кажутся исчезнувшими на долгое
время), ни тогда, когда я его сравниваю с другими,
которые жили за тысячи лет до него.
Существует только история той постройки, для со-
здания которой объединяются объективные усилия от-
дельных людей; существует только «культурная история».
Все другое, как, например, война, ничего положительного
в сравнении с идеей совершенства этой постройки не
представляет; это - эпос, никакой ценности не имеющий.
Так как эмпирическая история, протекающая во вре-
мени (Wirkliches), и не в состоянии удовлетворить ни
одной человеческой потребности, так как человек испы-
тывает всегда самые мучительные страдания от того,
что он не имеет истории, и всегда страстно стремится
202
только к тому, чтобы иметь ее - то культура не может
выражаться в тех духовных отношениях, которыми одна
эпоха хочет теснее связаться с другой. Исторические
ренессансы древних культур еще никогда не создали
новой культуры, и глубоко ошибаются те, которые со-
прикосновению с кругами прошлых культур приписыва-
ют магическую силу полного возрождения. Культура ос-
тается идеалом, а к идеалу может приближаться только
единичный ищущий человек, а не компания, каким бы
маршем она не двигалась. Культуре наций должна пред-
шествовать культура индивидуумов, и поэтому смешны
опасения людей, которые культурное превосходство на-
рода видят в большем количестве массовых продуктов,
которые он производит. Культура не есть что-нибудь
такое, для чего два человека могли бы объединиться,
могли бы сотрудничать
Существенным моментом во всякой культуре нужно
считать одну тенденцию, у которой имеются две стороны.
Условием всякой культуры и в чисто духовном смысле
идентичным с ней является стремление к проблемам. По-
этому всякая культура основана на индивидуальности, ведь
проблемы существуют только для индивидуальностей.
Это определение проясняет для нас также внутренние
отношения между понятием культуры и понятием ду-
ховной истории.
Искусство и философия на протяжении всей истории
разрабатывали одни и те же вечные проблемы, великие
проблемы человечества и бытия Великие темы мировой
литературы остаются теми же самыми, всякий музыкант
возобновляет мотив реквиема, проблемы философии ос-
тались неизменными с древнейших мифов и сказаний
вавилонян и индийцев до наших дней. Стоит только
вспомнить о вариантах Дон-Жуана, Фауста, Прометея в
литературах всех народов, о возрождении Гамлета в лице
Скуле, об образе Зигфрида (Ферамор-Ахиллес), о мета-
203
морфозах типа злодея, как Гаген, Рихард III, Франц
Мор, Голо, епископ Николай. Об идеальности времени
учили еще до Канта упанишады, этика Анаксимандра
говорит то же самое, что и Шопенгауэр, с христианским
царством Божьим мы встречаемся р рыцарском ордене
св. Грааля в сказании о Парсифале и в кантовской
концепции его corpus mysticum. В конечном счете у
художника и у философа проблемы одни и те же, только
разработка их различная. Вопрос и мысли - общие у
великого художника и у великого философа. Но мысль
нужно доказывать, и поэтому искусство нуждается в
логике в не меньшей степени, чем наука. Воззрение есть
проявление индивидуальности в философии и искусстве,
в первой - нечувственное, во втором - чувственное, в
одной - ведущее к понятию, в другом - к символу. В
противовес современному искусству, которое характери-
зуется абсолютным недостатком мысли и этот недостаток
возводит в принцип, не желая ничего знать о мысли в
искусстве, мы считаем нужным подчеркнуть, что всякое
истинное искусство есть искусство мыслить, что всякий
великий художник есть великий мыслитель, хотя мыслит
он иначе, чем философ. Всякое великое искусство поэ-
тому глубоко; подлинно существует только символическое
искусство (которое не следует смешивать с «символист-
ским», т. е. с современным «искусством настроений»).
Поскольку сущность гениального человека составляет его
сознательная связь со всем миром, то в произведениях
гения всегда должен чувствоваться пульс вещи в себе,
дыхание вселенной. Исследуя сущность великого худож-
ника, мы убеждаемся, таким образом, что глубина мысли
абсолютно необходима для того, чтобы художественное
произведение было велико. Этот масштаб, а затем только
уже масштаб формы, должен быть приложен в первую
голову для оценки всякого художественного произведе-
ния. И если художественная критика все еще блуждает
204
во мраке, то виною тому лишь то, что она не измеряет
своих объектов идеалом глубины мысли. Число звезд
мировой литературы значительно сократилось бы, конеч-
но, если бы их серьезно стали критиковать с такой точки
зрения, многие знаменитости упали бы с пьедесталов,
на которые их возвела толпа, требующая от искусства
только трогательных или волнующих картин, настроения
или пафоса Тогда должны были бы спуститься вниз
один за другим Виланд и Уланд, Гораций и Лопе де
Вега, Шиллер и Отто Людвиг, Грильпарцер и Мопассан,
Готфрид Келлер и Лессинг, Шторм и Теккерей, Граббе и
Анценгрубер, Расин и Вальтер Скотт, Байрон и Диккенс,
Мольер и Вальтер фон дер Фогельвейде, и вместе с други-
ми художниками также, например, Ботичелли и Сеган-
тини, Мурильо и Торвальдсен, Гуно и Иоганн Штраус -
никто, никто из них не подошел бы к масштабу вечности*.
Смех и возмущение всех современных критиков вызо-
вет наш строгий приговор, хотя мы по вполне понятным
причинам воздержались от вызова на суд живых худож-
ников. Мы осмеливаемся даже усомниться в величии
общепризнанного «божественного Гомера», и только об
одном и единственном Платоне мы можем согласиться
с общим мнением.
Так как великие проблемы были поставлены уже
давно, то между культурой и историей культуры дейст-
вительно существует связь. Но эти проблемы должны
всегда ставиться вновь; при этом совершенно безразлично
для начала, будут ли они примыкать к прежним попыткам
их разрешения, или нет, и для результатов это обстоя-
тельство не может иметь действительно решающего зна-
чения.
Сильнее всего это тяготение к великим проблемам
проявляется в выдающихся людях, потому что эти проб-
* Из французов остались бы только Золя и Водлср, и пи один
живописец, пи один скульптор'
205
лемы в них более жизненны, чем в других. Они ощушают
их своими проблемами. Они не приходят к ним извне
после долгих странствий в качестве наследия от других;
их собственная индивидуальность с присущей ей про-
блематичностью наталкивает их на эти проблемы*. Объ-
ективная культура слагается, следовательно, главным об-
разом из жертв, которые великие люди всех времен
приносили на алтарь мировой загадки. Субъективная,
психическая культура, формально всегда одинаково про-
являющаяся, есть внутренний культ; ее объективное во-
площение - принесение в жертву собственного ребенка
в благоговейном преклонении перед безличным высшим
существом.
С другой стороны, в культуре есть нечто социаль-
ное: алтарь, на который приносятся жертвы, стоит сво-
бодно и открыто перед всеми, имеющими глаза. Пуб-
личный характер культурной службы всегда смутно
понимали и никогда не причисляли к культуре самое
индивидуальное в человеке, вопрос о смысле и цели
собственной жизни, религию, хотя эта последняя про-
блема всегда, может быть, чисто бессознательно, будет
имманентно присуща всем другим проблемам. Так как
всякий глубокий человек переживает свою моральную
внутреннюю жизнь наедине с собой и считает внешнюю
исповедь нравственной слабостью, то религиозность,
которая в конечном счете идентична с моралью, явля-
ется исключительным достоянием отдельной личности.
Такое ограничение естественно уже ввиду того, что
религиозность не творит ничего для земли. Религия
поэтому находится по другую сторону от культуры,
так как ее содержание - последняя основа индивидуума
и мира вообще - не может стать даже частной про-
блемой.
* Как на примеры одаренных людей, к которым проблемы являются
извне, можно указать на <|>илосо<]>а Декарта и поэта Г. Гауптмана.
206
Она самый индивидуальный элемент в человеке:
верить, как мы видели, человек может только в самого
себя, а в самого себя он может верить только тогда,
когда он стремится к абсолютному, или Богу, как к идее
добра и истины, и хочет уподобиться ей. Культура ин-
дивидуальна, но не как проблема индивидуальности, а
как следствие проблематической индивидуальности, во-
зобновленной (возрожденной) благодаря религии, как
утверждение. Культура трансцендентальна (в кантовс-
ком смысле); все трансцендентальные функции ведут в
конце концов к идее абсолютного, как к заключительной
идее, но эту последнюю нельзя логически вывести из
них. Только трап зутдептальность создает культуру.
Трансценденталъность, как понятие, внутренне при ~ущее
оценкам, которые по своему значению выходят за пределы
отдельной личности и которые, тем не менее, всегда
должны быть сделаны ею самой, есть условие всякой
социальности. Она превращает культуру в социальное
дело, в ценность, которая должна быть испытана каждым
индивидуумом свободно и самостоятельно и каждым фор-
мально одинаково признается. Насколько, например, пра-
вовые институты не просто имеют применение согласно
букве закона, но выдвигают проблемы, которые обсуж-
даются и проводятся в жизнь с точки зрения идеи спра-
ведливости и несправедливости, как общих руководящих
и решающих факторов, в такой степени и только в такой
степени правовые установления имеют культурное зна-
чение. Ни самое широкое применение технических изо-
бретений, ни результаты науки не могут претендовать
на культурное значение. Ни универсальный ученый, ни
универсальный спортсмен не представляют культурного
человека.
Если все носят в карманах своих жилетов часы, то
в этом еще нет ни одного атома культурной ценности,
207
до тех пор, пока время, его измерение и моральная
оценка не становятся предметами размышления для каж-
дого отдельного человека. И культура, таким образом,
как стремление к проблемам есть идеал: ни один человек
не работает достаточно для достижения этого идеала,
даже самый культурный должен прийти в ужас при
воспоминании о том, как много существует еще вещей,
о которых он и не думал.
Никто не обладает культурой, ио каждый должен
хотеть культуры.
Культура есть не только проб юма, но и задача, куль-
турный вопрос, как и всякий другой серьезный вопрос,
имеет еще и практическую сторону наряду с теорети-
ческой. С этой точки зрения культура есть стремление
к задачам. Стремление к проблемам должно перейти в
стремление к действию, и это всегда бывает, когда человек
серьезно относится к проблемам. Проблемы без задач
бесцельны, задачи без проблем неосновательны. Игра,
как таковая, бесцельна, потому что она ставит проблемы,
которые никогда не могут стать задачами*. Спорт, как
таковой, неоснователен, потому что он ставит задачи,
которые никогда не были проблемами. Оба они чужды
культуре, так как не отвечают ни одному из указанных
условий.
Необходимую предпосылку всякой культуры состав-
ляет внешняя свобода индивидуума. Свобода есть основа,
без которой нельзя хотеть культуры. Теперь становится
понятен взгляд, который считает свободное время, до-
суг, в противоположность труду, необходимым условием
культуры. Однако с такой формулировкой нельзя согла-
ситься. Досуг, прежде всего, большей частью уходит на
удовольствия, а не на культуру индивидуума; кроме того,
в самом принципе труда заключается очень важный,
* Поэтому все только эстетическое не имеет никакой культурной
ценности.
208
хотя часто и плохо понимаемый элемент культуры. Труд
сам по себе - не добро и не зло, он этически индиф-
ферентен; если трудящийся человек стоит обыкновенно,
как показывает опыт, в моральном отношении выше, чем
не трудящийся, то это всегда зависит от той цели, которую
труд преследует. Полноценной в культурном отношении
может быть только работа над самим собой. Как куль-
турная ценность, труд над собой полезен и для других,
что объясняется трансцендентальным характером куль-
турных ценностей (идей истины, красоты, права и т. д.).
Труд, который может создать только пищу для своей
семьи или для чужих, никогда не будет иметь культурной
ценности. Социальное рабство само по себе антикуль-
турно, даже когда оно в последнем счете ведет к пол-
ноценным в культурном отношении результатам, как
антикультурны бедность и болезни. Симпатии в пользу
этого взгляда привели к преувеличенной оценке куль-
турного значения всех индивидуальных занятий, над ко-
торыми не тяготеет внешний гнет; таким образом, спорт
и игры приобрели себе незаслуженное уважение, как
симптомы культуры.
Но между играми и спортом, с одной стороны, и
общими культурными благами, с другой, нельзя увидеть
никакой связи. В этом и выражается серьезность и ве-
личие идеи культуры: культура должна исходить от
индивидуальности и добиться признания перед общим
форумом надиндивидуальных ценностей. Ens transcen-
dentale*, «animal metaphysicum»** есть то же самое су-
щество, что и (сшоу, тгоАткбу) человек. Так находит себе
ответ известный вопрос всякой социологии: что было
раньше, индивидуум или общество; оба существовали
одновременно и вместе с самого начала. Так, кажется
мне, объясняется «тот удивительный факт, что из всех
* Бытие трансцендентальное (ллт.). - Прим ред.
** Метафизическое животное (лат.) - Прим. ред.
209
существ, которые мы только знаем, человек, с одной
стороны, способен к самостоятельному развитию инди-
видуальности, а с другой - более всех связан социаль-
ными узами со своим родом» (Виндельбанд «История
новой философии», 2-е нем. изд. 1899, т. II, стр. 227).
Знак, под которым индивидуумы соединяются в об-
щество и которым они руководствуются в своих общес-
твенных решениях, называется культурой. Культура как
идея, с логической стороны есть надындивидуальная про-
блема, с этической - надындивидуальная задача. Куль-
тура, как отношение индивидуума к идее, есть влечение
к теоретической проблеме в мышлении, влечение к прак-
тической задаче в деятельности. Таким образом, культура
одновременно надиндивидуальна, как идея, и индивидуаль-
на, как идеал.
III. Возможные задачи науки
с точки зрения интересов культуры
Ни о чем так много не рассуждают в наше время,
как о культуре. Ничто так усердно не изучают, так
старательно не восстанавливают, с таким интересом не
разрабатывают, как историю культуры. Ни в чем не
проявляют теперь и стар, и млад и богатый, и бедный
столько жадности, как в погоне за культурой. Мы уже
встречались с культурническим снобизмом, который пре-
вращает потребность в галстуке в антикварный интерес
к никому неведомым художникам и художественным
произведениям. Тут же дерет ухо вой культурного волка
о естественных науках в форме детской питательной
муки. Но сноб и мот нуждаются друг в друге, дополняют
друг друга. Первый был единичным, комическим, но
все-таки не совсем несимпатичным явлением. Второй,
менее изолгавшийся, но более эгоистичный, подкрепляет
210
свои вожделения так же, как и первый, единственным
аргументом - криком: культура! Да, в глазах широких
масс культура теперь отнюдь не тождественна с историей
дела. Главные составные элементы, которые ей припи-
сывает дух времени, суть наука и техника.
Рассмотрим это замечательное явление: нигде при
общем кризисе в других областях не видно такого уве-
ренного чисто автоматического поступательного движе-
ния, которое совершает наука, охватившая, как гигантское
существо, всю землю; нигде не слышно таких претензий,
ни о чем не проявляют такой заботливости. Меценаты
переменили своих протеже. Если раньше они уделяли
свое внимание художнику и философу (Платон, Арис-
тотель, Декарт, Гроций, Спиноза, Лейбниц, Вольтер), то
теперь их заботы направлены на цели науки. Конечно -
деньги находятся теперь уже не в руках аристократа.
Крупный капиталист имеет решающее значение, а он
подает свой голос за науку.
Ученый обязан своим высоким положением священ-
ному идеалу науки. Только этот идеал должен был быть
его гордостью; он должен был считать честью для себя
сознательную работу во имя идеи. Глубокое презрение,
которое питает каждый ученый (в широком смысле сло-
ва) к каждому технику (в широком смысле, в котором
сюда можно причислить и юриста, и врача) происходит
отсюда.
Уважение к идее науки было затем перенесено на
официальный цех ученых В особенности в прошлом
столетии и особенно в Германии происходило это луче-
испускание ценностей. В целом это явление не имеет
оправдания, хотя в отдельных случаях это могло быть
справедливо или несправедливо, и историкам науки при-
дется серьезно заняться этим моментом. Я имею в виду
умственное господство, которое приобрели профессора
университетов за последние сто лет. Университетский
211
профессор говорит, и весь мир внимает ему. Само по
себе это приятное знамение. Но многие из этих универ-
ситетских профессоров, ораторов-ректоров судят о куль-
туре слишком сверху вниз. Редко ставят они более вы-
сокие цели, чтобы пришпорить других, в большинстве
случаев они твердо верят, что они сами стоят у источника
истины и черпают ее полными пригоршнями, дабы по-
ведать ее миру. Для этой цели они свободную трибуну
«alma mater» превратили в священную рощу с благород-
нейшими фруктами человечества, отпуская личностям
грехи и возводя их в сан святых при помощи фикции
особенного питья.
Таким образом начинает постепенно складываться
представление о науке, в котором очень мало можно за-
метить стремления к познанию и системе. Наука стано-
вится паролем, ее целью является не познание, а получе-
ние возможно большей суммы «положительных» знаний.
Способы научных исследований превращаются в ме-
ханические и ограничиваются существующими шабло-
нами.
В парафинном ряду недостает нескольких гомологов,
и ученые берутся их открывать, не потому, что от этого
ждут развития научной мысли, а потому, что это нужно
«для науки».
Отношение между сенсорными и сверхсенсорными
различиями впечатлений в зависимости от силы звука
еще не исследовано, и поэтому нужно скорее взяться за
эту работу. Для чего? Для науки. Самого труда никто
не читает, он попадает в библиотеки и библиографии, и
успокаиваются на том, что «дело сделано». Сделать:
таков лозунг современного фабричного производства
знаний, и представители больших лабораторий отлично
исполняют функции баронов промышленного капитала.
«Источники!» - вот лозунг исторических исследований,
«ряды опытов!» - его аналог в точных науках. Деспо-
212
тически господствуют число, статистика, метод поправок,
точный весовой анализ. Не без глубокого основания эта
наука объявила все свои положения одинаково важными.
Академии наук стали инвалидными домами государства,
страшными бабушками европейской культуры; там бере-
гут и множат наследство. И горе тому, кто осмелился
бы усомниться в науке, которую они представляют, в
этой науке, как цели целей! Всякий осмеливающийся
усомниться в праве науки пользоваться клиническими
больницами для опытов с прививками - невежда и ан-
тисемит; кто жалуется на то, что живых животных пос-
тоянно мучают без нужды, того за его сентиментальность
объявляют смешным и ненавистным нарушителем по-
рядка. Только, может быть, потому, что наука есть де-
мократия без президента, который имел бы право гово-
рить от ее имени, еще не заявлено пока публично, что
установление малейшего микрохимического процесса
имеет более реальную ценность для человечества, чем
великое художественное произведение. Искусство, рели-
гию, философию настоящий ученый считает излишними.
Такое занятие может в среде молодых ученых вызвать
обвинение в несолидности, легкомыслии. Этот молох
инвентаризирующей науки целиком подчиняет себе че-
ловека, он должен быть для него всем и делать все,
тогда его считают ценным человеком. А тот, кто решился
бы сбросить идолов, попал бы в Дон Кихоты.
Он не находит видимого противника, а только пустое
слово, призрак, объединяющий это общество; его нападки
встречают не безжалостно уничтожающим ответом, а еще
более холодным молчанием. Чтобы вкратце выразить,
что собой представляет современная наука и чего она
не представляет, мы можем сказать: эта наука обладает
результатами и ставит себе задачи, но она не знает
больше никаких проблем. Проблемы существуют только
для таких людей, которые мыслят для себя и о себе, а
не для идола, если он даже и носит название науки.
213
В то время как с внешней стороны наука как умно-
жение и сведение к единству наличного опыта стала
высшей целью, во взгляде на науку и в ее положении в
духовной жизни человека произошла видимая переме-
на в противоположном направлении. Свое крайнее пре-
небрежение техникой ученый всегда вполне основа-
тельно оправдывал тем, что для последней всякое знание
есть только средство к цели, для него же знание -
самоцель.
Однако нашему столетию выпала участь объявить
науку средством к цели. Философия этого воззрения*
проистекает из общего экономического взгляда на все,
что до сих пор занимало более высокое положение среди
ценностей. Так как исторический материализм уничто-
жает всю ценность прошлой истории человечества, сводя
ее только к одной борьбе за фураж и за место для сбора
фуража, то взгляд на науку как на комфорт так сильно
принизил побудительные мотивы человека к познанию,
как этого никогда раньше не было в истории. Остроумие
и очаровательная форма изложения этого взгляда при-
влекли многих. Тут не было недостатка и в обычном в
наше время биологическом блеске. Но биологический
метод, как его теперь понимают, есть не что иное, как
утилитаристический, распространяющий утилитаристи-
ческие принципы общества, заимствованные у знаме-
нитых английских тупиц, на растительное и животное
царства. Это происхождение, хотя позже и произошло
удаление от Дарвина, и это влияние никогда и не от-
рицались. Итак, симпатия к биологии есть не больше
как частный случай тяготения к экономии. Самый термин
«экономия науки* заимствован у экономистов. Недаром
я сравнил практические мотивы современной науки с
мотивами крупного промышленного предприятия. Мысль
• Мах «История и корни закона сохранения энергии», затем «Вилы
жидкостей» и «Экономическая природа физического исследования».
214
о том, что наука есть гешефт, могла бы сделать честь
всякому торговому народу. И действительно, наилучший
прием эта идея встретила у американцев и евреев.
У меня здесь нет ни намерения, ни возможности
критически разобрать экономический взгляд на науку и
доказать его психологическую несостоятельность; я пока
ограничусь только одной оценкой его. Отрицание всякой
проблемы, которая идет рука об руку с наукой, характерно
для этого взгляда, чуждого всякой истинной культуры,
что вполне последовательно с точки зрения монизма
ощущений, для которого всякие проблематизации могут,
само собой разумеется, иметь только относительное зна-
чение. Трудно, однако, предположить, чтобы сами отри-
цатели всяких проблем были очень проблематичными
натурами. Необходимо было также отрицать познающего
субъекта, которому противостоит познаваемый объект.
Так как человек не хотел больше познавать и все-таки,
или даже тем более, должен был стать рабом чужой цели,
то постепенно молчаливо создалась конструкция социаль-
ного идеала науки, для которой индивидуум должен ра-
ботать; призыв: «для науки» есть в большинстве случаев
только отголосок клича: «для рода», «для общества»;
молох науки - только маленький божок из царства идолов
социальной этики, еще одна милая черта ее, еще одно по-
учение для индивидуума, который должен прежде всего
трудиться для общества. Даже мудрость превратилась
в средство, когда наука стала целью. Понятно, что это
средство не могло высоко оцениваться.
Но нужно еще раз убедиться в ничтожности этой
комедии. Человек со смелыми порывами к познанию
превращается под морализующим влиянием экономии в
озабоченного лежебока, бури его молодости становятся
пошлой шуткой. К великому стремлению к познанию
он относится со спокойной улыбкой непонимающего.
Огромная ответственность за формы наблюдения и мыш-
215
ления, которая лежит на познании великого ума, не
тяготеет уже над ним и не расстраивает его «жалкого
уюта». Он не ищет и не спрашивает, он только собирает
и приводит в порядок. Великая трагедия познания по-
кидает его после этой глупой шутки: зачем волноваться?
Мы хотим только хозяйничать!
Оставим воззрение, которое рассматривает науку как
средство к цели, и обратимся к тому, для которого она
является самоцелью. Но и здесь мы не сумеем дать
безусловно положительной оценки. И самоцелью может
быть наука в двоякой форме: к знанию может человек
стремиться как к силе или как к ценности.
Знание может быть желанной или сберегаемой силой.
Знания как силы хочет тот человек, который не признает
природы, отрицает бытие вообще, злой человек. Он видит
проблемы, видит, что люди от них страдают, но он хочет
опровергнуть эти проблемы и в такой форме высказать
свое презрение этим людям. Вопроса он не хочет и не
знает, в лучшем случае он ему служит средством для
того, чтобы добиться ответа. И ответа он никогда не
дает, потому что внутреннее просветление никогда не
бывает у него нравственной потребностью; основной фор-
мой его ответа бывает торжествующая ирония над воп-
росом. Это не Фауст, который прямо смотрит в глаза
духу земли, символу всего происходящего во времени,
с молитвой приближается к проблеме, хочет подняться
к ней, пламенно жаждет ее; нет, он думает стащить
проблему к себе вниз, он хочет опровергнуть бытие
познанием, унизить познание тем, чтд он познает, так
же, как он унизил самого себя. Поэтому вагнеровский
Клингзор из «Парсифаля», который сам лишает себя
своей силы, воспользовавшись самим собой как средством
к цели, вооружен волшебными талисманами и некроман-
тическими приспособлениями. Я имею в виду великую
идею чародея, которая до сих пор сохраняет еще свой
216
глубокий смысл, если только ее верно понимать как
гипостазию определенного стремления. Ближе всех стоит
к ней известный Бэкон Веруламский. Мы понимаем теперь
внутреннюю связь учения этого человека, который сказал:
знание - сила, tantum possumus, quantum scimus*; он
первым с глубоким презрением отозвался об открытиях
и изобретениях и предугадал современного филистра
прогресса с его предосудительной жизнью.
Я считаю нужным сказать здесь несколько слов о
технике, поскольку она представляет собой более, чем
метод рационально разрешать практические задачи под
руководством познания, т. е. пользоваться теориями для
отдельных конкретных целей (конструкций); или более,
чем средство наглядно доказывать предугадываемые мыс-
лителем отношения (эксперимент). Это «более» есть изо-
бретательский дух, выходящий за пределы умственной
игры или практической полезности. Нельзя отрицать,
что в изобретении может психически заключаться очень
много зла, очень много воли к силе. Это впрочем и не
скрывается, и даже громко высказывается: власть над
природой есть конечная цель, такими успехами гордятся.
Но в этом разрушении всех стен обнаруживается не одно
только бесстыдство, страсть к обнажению и надругатель-
ству над обнаженным (такая черта присуща познанию
из антиморальных мотивов). Изобретения, скорее, пред-
ставляют те чудеса, «которые творит дьявол»; отсюда
понятно, почему локомотив производил впечатление не-
чистой силы. Воля к силе отрицает также законы при-
роды, желая их подчинить себе. Чудо, которое творит
дьявол, есть противоположный полюс чуда, которое тво-
рит божество. Это не преодоление закономерности при-
роды при помощи идеи свободы морального субъекта от
закона природы (мистерия воскресения), а борьба с ней
на том основании, что ничего не должно оставаться
* Мы можем столько, сколько знаем (мгт.). - Прим. ред.
217
свободным, что все должно быть подавлено. Воля к силе
есть воля к несвободе вообще, собственной и чужой.
Воля к силе, которая должна была бы называться не
волей, а произволом, заставляет людей поступать так,
как будто закон тождества не имеет силы: властелин
требует от своих подчиненных каждый день чего-нибудь
другого, противоположного. Точно так же и произвол
человека, который добивается власти над природой, не
принимает во внимание закономерности природы, на-
оборот, стремится ее нарушить, опровергнуть. Бесконечно
глубокое наблюдение обнаруживается во всех мифах о
чёрте, который дает возможность человеку, продавше-
муся ему, перелетать в мгновение ока из одного пункта
мира в любой другой, добывает ему богатство без труда,
золото из ничего, все - вне зависимости от беспрерыв-
ности и причинности (именно такова цель злых стрем-
лений в человеке). Причинность познается только сво-
бодой и только при помощи свободы признается, уста-
навливается (чтобы иметь объект, которому она могла
бы противопоставить себя как свободу, согласно миро-
воззрению Канта). Злой человек не признает причин-
ности; он не дает объектам никакой свободы, произволь-
но распоряжается фактами и вместе с этим эмпирически
доказывает, что причинность может быть установлена
только свободой. Это функциональное произвольное
насилие над свободой естественного закона глубоко
заложено в идее чародея, который властвует над демо-
нами природы; он презирает объект; он не видит и не
уважает его значения, его величия, он хочет его обуздать
и угнетать.
Я не хочу преувеличивать значения изобретателей;
вряд ли у них чертовски большие способности, редко их
стремления приобретают очень большую интенсивность.
В действительности они вовсе не такие большие дьяволы,
очень часто даже самые заурядные натуры, которые бес-
218
сознательно осуществляют что-нибудь из идеи чародея.
Поэтому многое в технике производит на нас жуткое
впечатление магии.
Многие, наверное, найдут эти теоретико-психологи-
ческие разъяснения реакционными, внушенными суеве-
рием и боязнью привидений. Но я не оцениваю здесь изо-
бретения и не называю его дьявольским. А изобретатели
слишком часто бывают в моральном отношении крайне
подозрительными личностями. Меня же интересует толь-
ко образ мыслей. И нет ничего на свете, кроме воли,-
так начинает Кант свои «Основные положения к мета-
физике нравов»,- что можно было бы назвать добром
или злом.
Знание как занятие было в моральном отношении
индифферентно, и теории этого взгляда было чуждо
всякое предположение этического элемента в стремлении
к науке. Знание как воля к силе было антиморально; к
антиморальному в познании проявляли инстинкт осквер-
нителя храма, его хотели обесценить путем захвата. От-
ношение к знанию как к ценности навсегда обеспечит
высокое моральное положение за наукой. Знание ра-
ди ценности относится к знанию ради власти, как лю-
бовь - к половому акту, как возвращение к жизни - к
убийству. Итак, жажда науки становится третьей волей
к ценности, познание - желанной ценностью для этого
чистого влечения, береженной драгоценностью. Здесь нет
места разнузданной и торжествующей иронии. Стремле-
ние к знанию проявляет серьезное отношение к вопросу
и знает горечь неудовлетворительного ответа; оно про-
бирается сквозь все страхи и ужасы сомнения, чтобы
обосновать воистину прочное, непоколебимое убеждение.
Поэтому оно предъявляет самые большие и чистые пре-
тензии к знанию. Глубочайшие мыслители человечества,
Платон и Кант, которые проблему ценности считали
последней проблемой мира и человека, оба очень высоко
219
ценили математику, которая больше всего осуществляет
идеал науки, и выставляли ее как недосягаемый пример
для других наук.
И тем не менее и Платон, и Кант вполне основа-
тельно отрицали возможность выработать мировоззрения
при помощи одной только науки. Мировоззрение может
выработать человек, если он философ или художник, а
не только лишь ученый. Наука всегда ищет только истин,
а не истины*. Позитивная наука сама по себе ни глубока,
ни мелка, но она не должна нападать на глубину, как
это всегда до сих пор делали в теории познания пред-
ставители позитивной науки от Демокрита до Маха в
той или иной форме (материализм, монизм, позитивизм,
эмпириокритицизм). «Сами не вошли и входящим вос-
препятствовали!»
В самой натуре философов следует искать причину
того явления, что им труднее агрессивно выступать в
качестве агитаторов, чем другим людям. В противном
случае грубое и дерзкое отношение к ним ученых, это
бесстыдное пожимание плечами по поводу их «бесплод-
ных» занятий давно бы уже встретило заслуженную от-
поведь. Мы со своей стороны считаем нужным заявить
следующее, оригинальный философ даже шестого и седь-
мого ранга, - Гегель, Шлейермахер, Краузе, Мен де
Биран, Карлейль, Ницше - все-таки стоит гораздо выше,
чем величайший и оригинальнейший ученый, как Нью-
• У ученых пет исходящего от них самих мироноэзрепия, которое
было бы для них мерой всех вещей, у них имеются только отдельные
вещи, которые служат для них мерой всего мира Поэтому мы можем
наблюдать вечно повторяющуюся ситуацию возникает какое-нибудь
явление, которое не может быть втиснуто учеными в их узенькую
систему, и оно решительно отвергается; а если человек с более сво-
бодным взглядом допустит его возможность, то его осмеют за страшное
фантазерство, за глупую, слепую перу. Так было с гипнотическими
явлениями, с «double personalitc» (раздвоение личности (фр.). - Прим,
ред.), со многими симптомами «grande hysteric», так обстоит теперь
дело с телепатией, с испугом беременных, с влиянием звезд на человека,
и так будет всегда.
220
тон, Гаусс, Галилей, Максвелл, Дарвин, Берцелиус, Гельм-
гольц, Якоб Гримм, выше по гениальности, по свойствам,
которые конституируют недюжинного человека. Конеч-
но, если иметь в виду только достоверные результаты,
которыми можно было бы немедленно заполнить школь-
ные учебники, то нужно, без сомнения, отдать предпоч-
тение ученому перед художником и философом. Но дело
не в этом. Всякое научное открытие делается всегда
двумя или многими одновременно, и тот, кто делает
открытие один, не испытывает такого чувства, что никто
другой не мог бы сделать того же самого*. Напротив,
великие философы, как и великие художники,- инди-
видуальности, и ни один из них не может быть заменен
другим.
Для позитивной науки с ее всегда лишь относитель-
ными загадками в теоретической области и все более
отодвигающимися целями в практической, нет в сущ-
ности никаких реальных проблем, никаких абсолютных
задач для человека и человечества; она даже стремится
к тому, чтобы все было ясно само собой в опыте. Если
бы это ей удалось и если бы она могла этого добиться,
то и в практической области исчезло бы всякое побуж-
дение к самосовершенствованию. Только масштаб высо-
костоящего человека и великой эпохи сказывается в том,
что все становится мелким перед метафизической про-
блемой и этической задачей. Не без основания Гете
противопоставил Фаусту Вагнера и вложил в уста пер-
вому слова возмущения
• Иначе н быть не может, ни один ученый нс мог бы делать того
что он делает, если бы паука нс достигла данного уровня развития,
он совершенно иначе мыслил бы, если бы он родился н другое нремя
Ученый занимается мелкой работой. Поэтому, когда какому-нибудь
ученому в течение своей жизни удастся нависать хотя бы плохие
стихи, то он относится к ним с большей внутренней любовью, чем
ко всем своим научным трудам, потому что в эти стихи от вложил
самого себя. Этим мы отнюдь не хотим сказать, что нам нужно еще
больигс стихоплетов, нет, нам нужно только иначе заниматься наукой
221
Как ум того еще в надеждах бродит,
Кто вечно возится в гнили пустой,
Сокровищ ищет жадною рукой
И рад, что дождевых червей находит!*
«Удачно как все вышло, наконец, у нас!» - эта
радость Вагнера является лейтмотивом всей истории по-
зитивных наук. Говоря серьезно, это означает конец,
сумерки богов. И если это так, то сознание потеряно
для главного. А в главном ничего не изменилось со
времени гимнов до наших дней.
Не существует новых философских идей, как нет
новых художественных тем. Это объясняется тем, что
философ и художник как индивидуальности стоят вне
времени; их нельзя ни понять, ни оправдать с точки
зрения современной им эпохи. В философе и художнике
проявляется вечность, в человеке чистой науки, как в
простом представителе рода, - только бессмертие добро-
совестно сохраненного и умноженного фидеикомисса**.
Потому философ как человек стоит выше ученого. С
наукой всегда неминуемо связана какая-то «ограничен-
ность специальности»: потому что существуют только
специальные науки; философия так же всеобъемлюща,
как и искусство. Великий философ, как и великий ху-
дожник, заключает в себе весь мир, они сознательные
микрокосмы; в обыкновенном человеке, как и в только
ученом, также заключается микрокосм, только бессозна-
тельно для него, в скрытом состоянии. Этим объясняется
то, что художники и философы всегда говорят только
об одних и тех же вечных проблемах; и мы стоим перед
лицом парадоксального и все-таки несомненного факта,
• Пер. НЭСолодкоеского.
*• Fideicoiinnissuni (лат.) - от fidcs - доверие и coniitto - скрепляю.
В римском праве наследования - поручение наследнику совершить
какое-либо действие в пользу третьего лица, в частности передать ему
наследство. - Прим. ред.
222
что именно настоящий гений никогда не открывает ни-
чего совершенно нового, ранее не существовавшего, меж-
ду тем как великий ученый всегда открывает что-нибудь
действительно новое; впрочем, его «совершенно новое»
как таковое в последнем счете всегда также совершенно
неинтересно. Индивидуальность гения естественно при-
водит к тому, что всегда иначе и все-таки постоянно в
одинаковой форме ставится вопрос об отношении «я»
ко всему миру; позитивная наука бывает только родовая,
социальная и может, конечно, поэтому иметь свою ис-
торию, но она не знает ни героизма, ни трагизма, ни
наслаждений, ни страданий. Позитивная наука выбрасы-
вает индивидуальность: она не может поэтому быть куль-
турой. Она не знает ни абсолютных проблем, ни абсо-
лютных задач: в силу этого она отрицает культуру.
Наука не должна только «делать», не должна сужи-
вать себя рамками одного только слова, слова «наука».
Душа человека, его индивидуальность стоит вне времени,
даже в сравнении с целым рядом тысячелетий; индиви-
дуальность не есть функция времени, хотя наука ее
превращает в таковую. Наукой должен заниматься только
тот человек, которого она близко касается: больной до-
лжен изучать медицину. На ученых никогда до сих пор
не лежала индивидуальная ответственность за их про-
блемы, как на философах и художниках. Но всякая
истинная, вечная проблема есть вместе с тем истинный,
вечный долг, каждый ответ - искупление, всякое поз-
нание - очищение.
Если бы было так, как я здесь высказал в виде поже-
лания, то из науки исчезло бы все неуклюжее, грубое и
бесстыдное. Ученый знал бы, что речь идет о его деле; тогда
он не стал бы хватать свой объект щипцами, ездить по нем
губкой и обрабатывать его, словно столовым ножом.
Философия также наука - не по предмету своему,
а по методу. Три элемента составляют философа, и притом
223
всех философов при всех различиях, которые возможны
между ними в иных отношениях: во-первых, мистический
элемент (тождественный с потребностью и требованием
абсолютного), во-вторых, систематический и теорети-
ческий элемент (потребность в архитектонике). Эти оба
качества еще не достаточны, потому что теологическая
догматика, которая апеллирует к вере, также отвечает
этим условиям. В качестве третьего относится сюда
элемент знания, постулат причинности (ableitbarkeit), до-
казательности. Существование «истории философии» объ-
ясняется этими надиндивидуальными притязаниями знания
и влиянием научного метода (у философии нет собствен-
ного метода): истории мистики не существует. Точно так
же и история искусства (по тем же мотивам) есть со-
бственно бессмыслица, существует только история тех-
ники (социального элемента в искусстве).
Философ должен знать и обязан доказывать. Только
поэтому философия имеет надиндивидуальную, культур-
ную, положительную ценность. Индивидуальные чувства
мистика не должны вызывать сомнений, но для культуры
они значения не имеют. Философия полноценна в куль-
турном отношении, потому что она наука и потому что
наука трансцендентальна; а наука в свою очередь пол-
ноценна в культурном отношении только тогда, когда
она по характеру тождественна с философией, т. е. не
в том смысле, что она заранее ставит себе задачей дока-
зать какие-нибудь положения определенной философс-
кой системы, а в том, что сам последователь со своими
религиозными целями стоит в постоянной и неразреши-
мой связи с мировой загадкой.
ПОСЛЕДНИЕ АФОРИЗМЫ
ЕЕЕ
I
I
I
1
1
I
«
0
4
_i
Последние афоризмы
ОЛЕЗНЬ и одиночество родственны. При са-
мой ничтожной болезни человек чувству-
ет себя еще более одиноким, чем раньше.
Все, что отражается в зеркале, тще-
славно', это есть грех всякого света. Поэ-
тому свет никогда не может быть символом благодати
(не говоря уже об этике). Звезды символизируют людей,
которые преодолели все, кроме тщеславия. Добро не
имеет другого символа, кроме прекрасного: всей природы.
Таковых много; ибо проблема тщеславия - это про-
блема индивидуальности. Кант, который был чрезвычай-
но тщеславен, преодолел индивидуальность в теории поз-
нания посредством трансцендентализма, но не в этике;
ибо он не преодолел интеллигибельное «я» (тщеславие
связывает его с Руссо).
Но интеллигибельное «я» - это только тщеславие,
т. е. прикрепление ценности к личности, определение
реального как нереального; это равным образом тождес-
твенно с проблемой времени: ибо временное тщеславно.
Нет «я», нет души; высшей, совершены й реальностью
обладает только добро, которое заключает в себе всякое
единичное содержание.
Индивидуальность возникает из тщеславия; ибо мы
нуждаемся в зрителях и хотим, чтобы на нас смотрели.
227
Тщеславный интересуется также другими людьми и яв-
ляется знатоком людей. Так как и зло одинаково во всех
людях («Одна беда родит другую»), то человек, на ко-
торого я пристально смотрю, начинает смотреть на меня;
он именно хочет, чтобы я видел его. Мое любопытст-
во - это его бесстыдство.
Дьяволу все дано лишь напрокат, в том числе и его
власть; он знает это (поэтому он ценит Бога, как свое-
го кредитора; поэтому он льстит Богу; всякое зло есть
уничтожение кредитора-, преступник хочет убить Бога)
и не знает этого или знает по-иному (поэтому в день
Страшного суда он остается в дураках); и то, что он
знает это и все же не знает, это и есть в то же время
его ложь.
♦ ♦♦
Дьявол это есть человек, у которого есть все и ко-
торый все же не добр-, между тем обладание всем должно
проистекать только из доброты и существует только
благодаря доброте. Дьяволу знакомо все небо, и он хочет
использовать Бога как средство к цели (поэтому он
прежде всего - ханжа)-, и естественно, он сам в такой
же мере является использованным.
Хозяином над собакой является тот человек, который
не имеет в себе ничего собачьего, его ищет собака; хозяин
собаки держит у себя собаку, как зло существует в Боге:
он держит его в сознании.
• ••
Собака обладает всеми животными формами (змея,
лев и проч.); но сама она - раб.
• • •
Индивидуальное бессмертие также есть еще тщесла-
вие или эгоизм славы.
228
Болото - это ложная всеобщность реки и ее мнимая
победа над самой собой. Оно возникает из смешения
воды с землей (мужское проходит сквозь поры женского).
Море - это отпдых реки, ее созерцательный час. И
оно является ложной всеобщностью.
Старик - это ложная вечность: старость. Доброе (и
прекрасное - истинное) - вечно юно. Это и было то, о
чем Вагнер знал, как о своем собственном несовершен-
стве; он был Вотан. Зигфрид и Парсифаль еще не по-
явились. Совершенно благой человек (Иисус) должен
умереть молодым.
Звезды больше не смеются: они уже не имеют ни-
какого отношения к веселию, а только к блаженству и
радости. Но они блестят, они тщеславны. Поэтому они
могут падать. Грех солнца - наслаждение - скорбь, вмес-
то ценности - негодности: оно смеется (но оно жжет,
раскаляет, горит, ослепляет, дымится, как огонь).
Грехопадение - это индивидуальность, и его сим-
вол - падающая звезда.
Лава - это нечистоты земли.
«««
Когда солнце померкло, Христу стало скверно; и он
сказал: «Боже, почему ты покинул меня?»
«« *
Глубокий смысл «Строителя Сольнеса» - это един-
ство зла благодаря пространству и времени. Злое желание
во мне соответствует злу (и страху) где-либо в другом
месте. Кто боится убийцы, порождает его; кто хочет
убивать, порождает того, кто боится убийцы.
229
Атлет обладает силой, как самоцелью, без этической
цели. Атлет должен погибнуть сам собой, как мотив
Валгаллы умирает сам собой.
Виной Микеланджело был пессимизм (мания пре-
следования).
Сострадание должно стать, очевидно, внутренней
скорбью (с признанием справ дшвости) и не должно
оставаться волей к наслаждению. Ибо только в таком
случае действительно любишь людей.
Глупый хитро подсмеивается над вопросом, еврей —
над виной. Оба ничего всерьез не принимают.
Преступление (убийство) означает: хотеть взвалить
вину на другого (Бога).
«««
Собака, змея и пр. стремятся опровергнуть других,
чтобы оправдать себя (лай, шипение).
Птица имеет ложную легкость; она летает, потому
что имеет трубчатые кости.
Преступник преодолевает страх ненавистью, вместо
любви.
Еврей не отягощает себя никакой виной (и поэтому
также никакой проблемой)-, поэтому он не производите-
лен. Его вина заключается в том, что он никогда не
утверждает времени, не желает конечной цели и миро-
вого процесса, не желает ни добра, ни зла. Он противится
Божьей воле, которая желает также зла.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Последние слова
о последних вещах
В жизни значительного человека все проис-
ходит из внутренних причин. Смерть - единст-
венный и естественный выход для его незауряд-
ной личности из того внутреннего затруднения,
в котором он очутился*.
Г Свобода
Категорический императив гениальности
В Вейнингере, как в точке пересечения, сошлись три важ-
нейших подсознательных источника нашей тревоги - тайна
смерти, тайна гения и тайна пола. Они суть не что иное, как
пути проникновения в вмировую загадку* - саму тайну разд-
воения и дуализма: добра и зла, жизни и смерти, женского и
мужского, личности и рода, гениальности и безликости.
И если точка рождения самой философии возникает там,
где, как показал Хайдеггер, мы изумляемся тому факту, что из
двух возможностей - Бытия и Небытия - осуществилось именно
Бытие, то в этом же настроении предельного осознания вещей
нас поражает, почему Бытие покоится на внутреннем разрыве,
раздвоенности, выливающейся в непреодолимость всех тех ду-
альностей, что перечислены выше.
В смутных глубинах бессознательного грань между жизнью
и смертью, мужским и женским исчезает, они сливаются. «Ди-
• Свобода Г. Смерть Отто Всйиингера. С.-Петербург, 1912, с. 2.
(Герман Свобода - австрийский мыслитель, ученик Фрейда и близкий
друг Веннингера).
231
онис и Гадес - один и тот же бог». Но это состояние нечеткости,
размытости, полусознательности и есть то, что Вейнингер на-
зывал состоянием генидности, в тусклом свете которой живет
большинство. Жизнь на пределе есть максимально острое пе-
реживание дуализма, это максимальная эскалация рацио с его
удерживанием всех этих противостояний
Открыв, что «жизнь нс делится на разум без остатка»,
исчерпав просветительский оптимизм, европейское человечес-
тво на перевале веков сделало ставку на иррационализм, в
котором чудились сокрытыми все возможности. В этом смысле
о Вейнингере можно сказать, что он отстаивал исконно Ро-
мантические проблемы - гениальности, эротизма - оружием
Просвещения.
Разумность для Веннингера - не гносеологический, а эти-
ческий критерий Он заставляет держать всю внутреннюю жизнь
под прожектором сознания, а не упиваться «невыразимыми
невысказанностями». Пожалуй, это попытка противостоять ир-
рационализму с более глубинных позиций, попытка опереться
на метафизический, а не сциентистский разум.
Однако ставка на разум - прерогатива юности. У юности
есть еще воля к борьбе и бескомпромиссность, максимализм.
Пускай наивно, но рыцарски бросается она на борьбу с драконом
бессознательного. Герой, по Вейнингеру, и есть такой драконо-
борец, опускающийся в пещеру и поражающий там хтониче-
ское чудовище Святой - уже победитель. Однако у юности свои
схватки, а зрелое большинство приноравливается жить с
непобежденным драконом внутри себя. Но даже внутри
этого приспособленчества остается живой зазор для достиже-
ния состояния гениальности: гениальными в редкие мо-
менты жизни бывают все, и нет человека, которому бы это
состояние не было бы известно изнутри,- вот в чем состояло
открытие Вейн ингера.
Здесь, как и в вопросе тайны пола, он попал в бальной нерв.
К началу XX века слово «гений» было уже парадно-мертвенным
«Восстание масс» уже начало затоплять авансцену духовной
жизни. Двадцатый век характерен культом «обыденного чело-
века». Гений естественен в «золотом веке», трагичен в «сереб-
ряном», в «железном» же - сама его возможность становится
проблемой. По большому счету, мы до сих пор не имеем
разработанной философии гениальности, которая бы осмыс-
232
лила ее как конкретно-историческую форму человеческого
сверхусилия, как феномен особого способа связи со своим
бессознательным, и через него - с мировой загадкой. Гений -
это отнюдь не обязательно титан возрожденческого типа. У
древних греков понятию гения соответствует «даймои» -
«нашептыватель». В то же время «гениус» переводится с
латинского как «порождающий». Точнее всего было бы назвать
это самообнаружением бессознательного, голосом, идущим
из глубин человеческой души.
Веннингер предлагает своеобразный тест на гениальность
Критерием служит виртуозная психологическая память. Она
не имеет никакого отношения к эрудиции и энциклопедизму
Если, встретившись с человеком, вы способны продолжить с
ним разговор с того места, на котором он был прерван месяц
назад,- вы носите в себе потенцию гениальности. Ибо память
есть победа над временем, есть утверждение власти своего «я»
против власти времени. С памятью, по Вейнингеру, связана сама
потребность в бессмертии.
Вейнингер здесь верен своему кантианству: максимально
отвлекшись от артефактов, от продуктов воплощения гениаль-
ности, он рассматривает ее как чистую функцию - он строит
условия ее возможности. Такими условиями являются во-
первых, глубинная, интимная связь с «мировой загадкой».
Во-вторых — назовем это условно количественным крите-
рием - универсальность апперцепции - всечеловечность гения,
его поразительная душевная вместимость: нет ни одного чело-
веческого свойства или состояния, которое бы не было известно
ему изнутри. Третье требование можно было бы назвать качест-
венным критерием - это требование континуального единства
апперцепции ни один кадр в фильме человеческой жизни не
может быть вырезан или затемнен, в каждую минуту на
плечах человека лежит груз абсолютной памяти и абсолютной
ответственности Легко быть свободным, аннулируя свое про-
шлое, начиная всякий раз сызнова в круговороте вечного воз-
вращения. Иное дело - отвоевывать свободу у каждого мгно-
вения, казалось бы, бесповоротно детерминированного всем
не подлежащим забвению прошлым Но Вейнингер стремится к
разрыванию циклизма времени, максимальному движению по
временной оси Повторы и планирование на его взгляд - без-
нравственны. Экзистенциальная наполненность каждого мгно-
233
вения должна быть предельной. Из этих размышлений в «Пос-
ледних словах» вырастает новый мотив, уточняющий вейнннге-
ровский императив гениальности: в каждый поступок должно
быть вложено все богатство и разнообразие твоей индивидуаль-
ности, вся палитра личности должна найти в нем свое выра-
жение сполна.
Однако всю ли полноту своей личности влил сам Вей-
нингер в свою книгу? Порой именно ограничив себя, выигры-
ваешь в эффекте. Веннингеру же хотелось эффекта: он был
для этого еще достаточно юн. Решив отречься от женствен-
ного начала в себе, он, несомненно, покушался на свою
всеполноту*.
Он не ожидал, что его «Пол и характер» произведет
такое смятение. В определенных венских кругах он стал
просто-такн кумиром: появились кружки вейнингерианцев,
несколько экзальтированных девушек покончили с собой
под влиянием книги, которая тем временем уже выдержала
несколько переизданий. Вейнннгер охотно признался бы в
том, что последствия чересчур серьезны. Он был не в со-
стоянии жить согласно своему учению и он был слишком горд,
чтобы жить вопреки столь пышно провозглашенному кредо.
Попытка на деле осуществить свои принципы сделала его в
короткое время неспособным переносить далее причинен-
ное ею страдание. Он говорил, что никому выводы его книги
не причинят столько боли, сколько ее автору. И добавлял:
«Книга эта означает смертный приговор, который предна-
значен или для самой книги, или для ее автора». Какое
страдание может быть мучительнее торжественно провозгла-
шенного отказа от любвн? Ведь Вейнингер, безусловно, эротик.
Иной человек не смог бы написать подобную книгу. «Все
подлинно гениальное - эротично» - его собственные слова И
тем не менее он отрезал для себя возможность любви. Более
того - он лишил себя даже права на любовь, отказав ему в
нравственности. Из попытки обосновать эту неумолимую
епитимью, которую он на себя наложил, выросла удивительная
по глубине и неожиданная в устах двадцатитрехлетнего
юноши идея об «эротической вине» и подлинном смысле
ревности, развернутая им в «Последних словах».
* Исследование вопроса об антифсминизмс Веннингера см. в статье
М.Поллака в сб. O.Weininger: Werk und Wirkung: Wien, 1984.
234
В механизме проекции, который Вейнингер обнару-
живает во всех эротических отношениях (идея, которая впос-
ледствии будет активно использоваться в психоанализе), он
увидел не только знаменитую стендалевскую «кристаллиза-
цию». Согласно Вейнннгеру, дело обстоит гораздо сложнее.
Здесь обнаруживается не просто работа воображения, наделя-
ющая предмет любви сфантазированными достоинствами и
распаляющая затем нежное восхищение этим призраком, и
не только любовь к себе самому, отраженному в другом
человеке. Столь же поверхностно и мнение, объявляющее лю-
бовное влечение поиском противоположности. На самом деле
это - любовь к лучшему, возможному себе, к тому, каким я мог
бы быть. Не имея силы воплотить свой идеал самостоятельно,
без посредника, мужчина, говорит Вейнингер, помещает этот
идеал в любимую женщину и в такой мифологизированной
форме стремится к соединению со своим лучшим, отчужденным
«я». Но это означает, что объектом любви оказывается не
реальная живая женщина, а сам порыв, устремленность вверх,
к преображению. «Так в каждой даже высшей любви проис-
ходит своеобразное уничтожение любимого человека, чтобы
сообщить ему собственное высшее существование... Это убий-
ство, неизбежное для всякой любви, должно быть отомщено:
страх любящего убийцы называется ревностью, а его раскаяние
есть загадочное сознание виновности, которое появляется у
каждого мужчины по отношению к любимой женщине».
До Вейнингера никто не обнаружил такой глубины в
понимании смысла ревности: расхожее мнение объясняло ее
возбуждением собственнического инстинкта. Но муки ревно-
сти, этого «чудища с зелеными глазами», так жгучи потому,
что на карту поставлена святыня: все эмпирическое может быть
оскорблено - но образ моего лучшего, совершенного «я», бессо-
знательно вложенный в другого человека, должен оставаться не-
прикосновенным.
Воистину, все ловушки и опасности любви разум Вей-
нингера предвидит с почти нечеловеческой, во всяком случае,
неюиошеской прозорливостью. Но никакие виртуозные доводы
разума не в состоянии компенсировать тот яростный напор
витальных энергий, что зовется бессознательным, и который,
не найдя выхода, взрывает психику изнутри. Вейнингер принад-
лежит к особой касте - касте пассионариев с обостренным
235
чувством эротической напоенности мира. Не это ли пронзи-
тельно-мистическое, космическое восприятие эротики восстает
в нем всякий раз, когда ее пытаются свести к более мирским
формам те, кто ие страдал, подобно Вейнингеру, от смысла
Эротики «как от открытой раны»?
*•*
Вейнингер ставил над собой дерзкий и опасный экспери-
мент: он сталкивал сознание с бессознательным один на один.
Это было дерзко, ибо он знал, что силы неравны. И это было
опасно, потому что ставкой в схватках с бессознательным
становится душевное здоровье. Вейнингер знал об этом из
опыта Ницше, который успел предупредить: «И если долго
глядеться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя».
Предотвратить ннцшевский конец могла только опережающая
безумие смерть. Абсолютный максималист, Вейнингер не смог
примириться с чуждой ему идеей постепенности, этапности,
повторения, упражнения,- словом, логики самосовершенство-
вания, выработанной человечеством, которое веками аккуму-
лировало опыт просветления и создало трудоемкие и кропот-
ливые техники духовного преображения. Но Вейнингер испы-
тывал типичный для его возраста скепсис по отношению к
традиции. Если бы продвижение к избранной цели обнаружи-
вало пусть не стремительность, но хотя бы некоторый динамизм,
у Веннингера появилась бы надежда, но, увы, на поле брани
души действуют не линейные законы, а законы «Великой Кри-
вой». И в отчаянном рывке к освобождению, к вневременности
и вечности Вейнингер превращает свою смерть в попытку
создания собственной неповторимой мистерии возрождения,
в попытку причащения в избранном им самим храме - доме
Бетховена. Он не бежал от жизни, он был устремлен к личному
Апокалипсису, к своему новому небу и новой земле.
Вейнингер и трагедия фаустовской культуры
Вейнингер пришел в период кризиса европейской, фаус-
товской, если употреблять терминологию Шпенглера, культуры,
в период превращения ее в цивилизацию. После ухода из
жизни немецких философских классиков заканчивается и зо-
лотой век немецкой культуры и одновременно век восходящего
236
романтизма в Европе. Очень символичен в этом отношении
период около 1830 года, когда почти одновременно ушли два
немецких исполина, два европейских гения - Гете и Гегель.
Творчество Отто Веннингера приходится на завершение
периода своеобразного «серебряного века» немецкой культуры,
периода, отмеченного именами Вагнера и Ницше. Именно эти
творцы, наряду с Кантом и Гете, повлияли более других на
автора «Пола и характера» и «Последних слов».
В романе Джека Лондона «Мартин Иден» главный герой
пишет художественное произведение под названием, которое,
пожалуй, символично и для творчества Вейнннгера,- «Запоз-
далый». Гениальный творец, пришедший в усталый, остываю-
щий мир. Мартин Иден не случайно вспоминал Вейнингера в
романе. Судьба этого литературного героя, судьба самого Джека
Лондона и судьба Вейнингера схожи - им не удается растре-
вожить засыпающий западный мир. Есть у них и еще одна черта
сходства. Вейнингер описывает в «Поле и характере» трагедию
продолжительного духовного кризиса гения, когда он не в силах
творить. В это время гения терзает воспоминание о былых воз-
можностях, об ушедшем вдохновении - этим он отличается
от обычного человека, который свободен от подобных пережи-
ваний. И кажется гениальному человеку в критический период,
что вдохновение, уверенность покинули его навсегда.
Подобный кризис привел к безумию Ницше, он же постиг
и двух гениев - героев литературных произведений. Юджин Вит-
ла, герой романа Драйзера «Гений», пережил его благодаря
здоровому труду в провинции и поддержке любящей женщины,
Мартину Идену этот кризис стоил жизни. Вейнингер тоже не
пережил кризиса, абсолютизировал свое временное состояние
упадка, - хотя сам всегда считал абсолютизацию временного
состояния признаком женской либо мужской садистической
психики. Кризис Юджина Витла, Мартина Идена, Отто Вейнин-
гера связан с полом, это кризис бытийствования сексуальной
стихии. Мартина Идена ввело в кризис глубокое разочарование
в любимой девушке, которую он идеализировал, разрыв с нею.
Юджина Витлу - одновременность максимального напряжения
сексуальной жизни, некая сексуальная гиперболизация медового
месяца и интенсивного творческого труда. У Вейнингера -
иная, третья форма кризиса сексуальной стихии - воинствую-
щее отвержение женственного начала, извержение его из себя. И
237
это — для человека, не уединившегося для аскетических под-
вигов, не порвавшего связей с миром и с обществом! Веннингер
принял протестантизм и оставался вполне светским человеком.
Протестантизм предоставляет максимальные возможности
для развития мужского рационального начала, недаром строгая
и чрезмерно отвлеченная немецкая философская классика -
плод протестантской этики. Мусульманин и иудей не написали
бы книги, столь решительно отторгающей женское начало, ибо
оии слишком связаны женским началом в себе, они обрекают
женщину в общине и женское в себе на рабство, но не могут
жить без него, освободиться от него, как господин в гегелевской
диалектике не может освободиться от раба.
Православие и католичество по духу своему способны эк-
стериоризировать, вынести вовне женское начало, осознать не-
обходимость его оценки как идеального начала. Они знают
культ Идеальной Девы, Прекрасной Дамы, Приснодевы-Бого-
родицы. Православный и католик не способны оценить женское
начало как метафизический нуль, как чистое небытие, ничто.
Они осознают кризис пола и вражду разделенных полов. Но они
создают культ поклонения Пречистой Деве, прекрасный миф
о женственности, направленный на сублимацию и просветление
низших стихий души. Недаром, если верить Юнгу, католики
гораздо реже нуждаются в помощи психоаналитика, чем про-
тестанты. Их хранит более развитая мифология. Это же касается
и восточного христианства. Протестантизм, безразличный к та-
инству исповеди, столкнулся в своем регионе со старыми пот-
ребностями душ в прощении, отпущении грехов, и в германском
мире появился психоанализ как замена христианского таинства.
Рацио Вейнингера столкнулось с глубинами бессознательного
лицом к лицу без смягчающего посредства Прекрасного Мифа.
Если в исламе и иудаизме мужское и женское начала пере-
плетены, а в католицизме и православии их антагонизм смягчен
культом девственности и платонического эротизма, то в про-
тестантизме их столкновение более остро и бескомпромиссно.
Вейнингер усугубил и довел до крайности основное про-
тиворечие протестантизма и германского духа вообще - от-
чуждение двух стихий. Он был раздавлен их столкновением.
Ои считал, что никому не покажутся столь горькими выводы
его книги, как самому автору. Вейнингер рос в католической
Австрии, в беззаботной вальсирующей Вене, он рос в еврейской
238
семье. Его выводы противоречили всему укладу его предыдущей
жизни. Шеллинг, Вагнер, Юнг более тяготели к католичеству.
Вейнингер, перейди он в католичество, наверное, иначе строил
бы свою философскую парадигму. Но в трагедии гения есть про-
виденциальный смысл н великнй урок. Линия Лютера и Канта
должна была быть продумана и доведена до конца, и именно
Вейнингеру выпала миссия провести огненную линию герма-
но-протестантской мысли в сферу эроса и отношения полов.
•••
Владимир Соловьев писал, что мусульмане, не имея такой
высокой религиозной доктрины, как христиане, тем не менее
выполняют требования своей религии более строго. Но и куль-
туры Востока, не знавшие атеизма, не осуществили своих
религиозных истин. Трагедия фаустовской культуры заключа-
лась в том, что она на путях своего развертывания не осущес-
твляла христианской истины, по крайней мере, не развернула
ее во всей ее полноте. Тем самым она поставила себя под знак
заката и обрекла на угасание пассионарности. Христианство
пришло в мнр как синтез иудаизма и античного язычества.
Историческое христианство в европейской культуре не довело
этот синтез до конца, не подключило к своим энергиям энергий
языческого и спиритуалистического Востока. Только подобный
синтез ведет к концу истории и началу нового космического
эона. Наследники фаустовской культуры сочли ее исправив-
шейся со своей задачей. Недаром Вальтер Шубарт называл
германскую фаустовскую культуру «культурой середины».
Вейнингер, дитя фаустовской культуры, недооценивал
смысла и значения соборности и всечеловечности культуры.
Христианское преображение жизни, о котором он мечтал, может
наступить, если человечество куда-то движется, и личное дви-
жение диалектически сочетается, синхронизируется с движе-
нием соборным. У Вейнннгера с юношеским максимализмом
выражена идея отрицания, отбрасывания старой морали, но он
только начинал выходить к выработке своей позитивной ре-
лигиозно-философской программы.
Ницше - Вагнер - Вейнингер:
пределы и свет дионисизма
Несмотря на свое тяготение к протестантизму и к Канту,
по складу души Веннингер, как и Шопенгауэр, Ницше, Шпенг-
239
лер,- экзистенциальный философ. И так же как и они - му-
зыкальный философ. Это специфически немецкая черта фи-
лософствования, хотя проявилась она ие сразу. Кант еще не
особенно жаловал музыку - она мешала ему систематически
размышлять, в конечном счете - вообще философствовать. Во
времена Шопенгауэра философы пишут о музыке, восприни-
мают мир как потоки музыкальных звучаний, в музыке ищут
универсальную символику мироздания. Чрезвычайно воспри-
имчив и чувствителен к ней и Вейнингер, ои тоже музыкальный,
тоже немецкий философ: к музыке Баха, Бетховена, Вагнера он
тянется как к своей утерянной половине. Если русская и сла-
вянская философия построены на литературе и поэзии, то неме-
цкая - на музыке. Музыка - это альтер эго германского фило-
софа И в музыке, которая суть лейтмотив вейнингеровскон
философии, необходимым становится трагический финал, траги-
ческая развязка. Так и жизнь, и психологическая драма Вейнин-
гера напоминают музыкальное произведение, и финальный вы-
стрел философа-самоубийцы, возможно, был задан еще в пре-
людии, а сам - является необходимым музыкальным финалом.
Жизнь Бетховена, Вагнера, Шопенгауэра, Гельдерлина,
Ницше, Вейнингера - все это в сумме как бы одна жизнь,
темы одного великого музыкального произведения, содержа-
щего историю немецкой души. Музыка и острейшее чувство
природы, как совокупности играющих стихий, помогали Вей-
нингеру соединить все бытие в сумму основных мотивов-идей,
уйти от пластического мира индивидуации в дионисовский,
сверхперсональный мир. Недаром непласгический, лунный и
неясный германский гений выразил себя максимально именно
в музыке и в философии.
Музыка усиливала в немецкой философии ее субъектив-
но-идеалистическую сторону. И по Веннингеру - наследнику и
немецкой философии и немецкой музыки - Иисус искупает
и понимает мир как свою собственную вину, а не вину чело-
веческую. Иисус не был грешником, ио он окончательно понял
грешника. Бог - стал человеком,- Бог понял грешного чело-
века,- Бог в результате этого перестал быть судией. Драма
Христа становится психологической драмой, всецело перено-
сится во внутридушевные области. Так и Вейнингер вслед за
Христом хочет осмыслить и познать весь грех, взять на себя всю
греховность мира. И сгибается под этой тяжестью. Такая по-
240
зиция невольно вызывает в памяти образ другого добровольного
мученика. Некая таинственная сила неслучайных ассоциаций
властно влечет друг к другу имена, внешне, казалось бы, никак
не связанные. Так, чем глубже мы погружаемся в тайну Вей-
нингера, тем настойчивее тревожит нас дух Фридриха Ницше.
Странное дело: ведь Вейнингер упоминает о Ннцше не так часто
и почти на него не ссылается. Но именно их судьбы оказываются
ключами друг к другу, онн отмыкают трагическую тайну каж-
дого из них, их общую тайну.
Эту тайну, роднящую их, можно было бы назвать «одер-
жимостью нуминозным»*.
Наиболее радикальным образом людей отличает друг от
друга не степень одаренности, ие сила ума, даже не причаст-
ность гениальности. Если вообще возможно как-то опреде-
лить тот смутный отличительный признак, который роднит
избранных и позволяет им отличать «своих» от «чужих», не-
взирая на всевозможные «углы», недоразумения, порой даже
вражду,- это именно общность нумннозного опыта. И Ницше
с Вейнингером - близнецы по этой мистической сопричаст-
ности Дрожь, пронизывающая нас от ощущения близости
к мировой тайне, укол от внезапного прикосновения к ией
где-то в детстве знаком каждому Не рискнем здесь рассуж-
дать тех причинах, под влиянием которых это чувство пе-
рерастает в одержимость, гложущую и властную Но именно
эта внутренняя нуминозная лихорадка не дает своим жертвам
профанного мирского умиротворения. Не их заслуга, что они
не могут полностью посвятить свою жизнь земным радостям
рода и целиком раствориться в заботах материального ряда.
Одержимость нуминозным обрекает на гениальность. Или на
безумие. Иногда на то и другое одновременно (Ницше, Гель-
дерлин...). Во всяком случае, на пожизненное выталкивание из
«рая» в «ад» и обратно.
Однако «одержимость нуминозным» сама по себе - ни в
коем случае не гарант гениальности и не предвестие будущего
величия илн титанизма. Это изнуряющая болезнь, против
которой психика выставляет (изобретает7) гениальность как
лекарство Гениальность - это оформление бесформенной энер-
гии нуминозного, которую древние называли «Мана». Если же
* От numinous - сложное чувство очарования и трепетного страха
перед пугающей и манящей тайной Бытия.
241
форма не найдена, напор несублимированной нуминозной
энергии может взорвать психику изнутри; одержимость «Мана»
влечет за собой маниакальность, бред. Сильновыраженное ощу-
щение нуминозиости бытия, которое не находит себе адекват-
ного оформления, становится невыносимым.
В этом - трагедия Ницше. Ннцше оказался в совершенно
патовой ситуации: это человек, не способный втиснуть свой
внутренний нуминозный жар ни в одну из существующих
культурных форм. Он попытался сделать то, что до него не
приходило у голову никому - «записывать музыку словами».
Так в Ницше дошла до предела трагедия философа - немота.
Ведь дионисизм выражается непосредственно только музы-
кой; слово же, в особенности философское (logos),- самая
опосредованная из всех форм человеческого самовыражения.
Вейнингер был потрясен и заражен бурной стилистикой
Ницше, его строгим и беспощадным пророческим тоном. Сам
тон Вейнингера приобрел подобную же беспощадность, готовность
переступить в духовном поиске через всяческие границы. Вей-
нингер возносил этику и этические ценности, но его «Пол и
характер» стал книгой, находящейся по ту сторону ряда моральных
установок человечества. Философ бросил вызов законам любви
и солидарности двух полов человечества. Эти законы не были
четко кодифицированы в религиозных сводах морали, но они
жили в человеческих душах. В этом отношении Вейнингер -
революционер и ниспровергатель морали подобно Ницше. Вей-
нингера объединяет с Ницше и общее желание великих - воля
стать сверхчеловеком, стать богом. Эту же волю стать богом он
прозревает и у Гете.
Вейнингер, однако, категорически отвергает круговую тео-
рию времени, тем самым нанося удар теории вечного возвраще-
ния Ницше. Творчество Вейнингера выступает как отрицание
творчества Ницше. Для русской философии начала XX века -
для Бердяева, Розанова, Мережковского - Ницше воспринимался
уже опосредованный Вейнингером, в известном смысле для ннх
Ницше был Вейнингером снят. В отечественной традиции обо-
жествление Ницше ограничивал Соловьев, возвращая славян-
скую мысль на христианскую стезю. Вейнингер ограничивал
ницшеанство по-иному. Ницше не строил свою философию
исходя из Вагнера, как Вейнингер; для него Вагнер оказался
242
один раз обожествленным и отвергнутым кумиром. Вейнингер
же предложил идею дуальной пары - философа и художника.
Если Еврипид - это Сократ в драматургии, то, согласно Вен-
нингеру, драматургия Ибсена есть парафраз философии Канта.
Ибсен - это Кант в современной скандинавской драматургии.
Сам ои почувствовал себя Вагнером в философии. Вагнер
вполне мог стать его духовным отцом. Шопенгауэр был жив,
когда родился Ницше — два гения могли встретиться. Эта
мысль, как молния, поразила юного Ннцше, читавшего «Мир
как воля и представление». Вейнингер тоже родился, когда
Вагнер был еще жив... Могло поразить Вейнингера (Вайнен-
гера — так звучала его фамилия по-немецки) и музыкальное
созвучие самих фамилий. В именах и звуках, в датах Вей-
нннгер - принципиальный символист - мог читать знаки
некоей таинственной связи.
Отрекшись от Вагнера, Ницше отказался от традиции
европейского духа строить свою философию на музыке, и
после Ницше связь немецкой философии с немецкой музыкой
ослабла: в XX веке распалась связь этих стихий. Феноме-
нология, экзистенциализм, герменевтика, психоанализ уже
не строятся на музыке, философия перестала следовать и за
религией, и за искусством.
Вейнингер и голоса серебряного века:
ответ славянского мира
Любопытно, что именно в русской философии начала века
голос Вейнингера был подхвачен с полуслова, полуноты и за-
звучал богатым многоголосым резонансом. Казалось, будто бы
русская философия ждала этого сигнального выстрела, чтобы
подхватить затронутые Вейнингером проблемы и развернуть
давно вызревавшие в глубине ее идеи. Так всегда творческий
ответ на брошенный вызов приходит с неожиданной стороны.
Еще за десятилетие до вейнингеровской книги в России
появилась работа Владимира Соловьева «Смысл любви». Свя-
зав воедино тайну пола, любви с тайной жизни и смерти,
Соловьев положил начало тому сверхнапряженному интересу
к проблеме Эроса, который охватил иа переломе веков сла-
вянскую мысль. Польский писатель Станислав Пшибышевскнй,
243
остро поставивший в своих романах вопросы пола, стал влас-
тителем дум. Юные Александр Блок, Сергей Соловьев, Андрей
Белый с восторгом причислили себя к «соловьевцам» с твердым
намерением в своей жизни утвердить те новые просветленные
отношения между полами, которые следовали из соловьевского
учения о любви. Те. кому известны биографии этих художников,
знают, какой неизгладимый отпечаток наложило на их судьбы
это юношеское решение.
И вот в этой эротически заряженной атмосфере разда-
ется голос двадцатидвухлетнего профессора из Вены. Зинаида
Гиппиус писала: «Бывает еще: люди так и умирают, не узнав,
что их мысли скрестились. Тогда следующие за ними соеди-
няют их и сами соединяются в одном общем Такая встреча
в вопросе о Любви (даже не в одном этом вопросе!) произошла
у Владимира Соловьева с Отто Веннингером Я не знаю, ставил
ли кто-нибудь эти два имени рядом Да и что, казалось бы,
между ними общего: ясный русский ноэт-фнлософ, глубочай-
ший христианин, свято и пламенно прошедший не очень
долгую жизнь свою, светло умерший, оставивший после себя
дело, которому предстоит будущее, и - неврастенический
юноша, венский еврей, способный почти до гениальности,
эрудит и чувственник, написавший две книги (из которых
одна уже несла в себе отраву, а другая никому не известна)
и, наконец, в 23 года столь бесславно погибший «Бесслав-
ной» гибель свою он назвал сам, и для него самоубийство
именно такой гибелью и было. Вейнингер на три года пере-
жил Соловьева. Конечно, они ничего ие знали друг о друге.
Ничего не знали о своей встрече. А она все-таки была И
даже погибший (по времени позднейший), прибавил кое-что
к словам спасенного, договорил недосказанное им »*.
За пару лет книга Вейнингера переиздается в России
трижды На первое же издание откликнулся рецензией
Николай Бердяев: «Книга Вейнингера, книга юноши 22-х
лет,- быть может, самое яркое явление современной гер-
манской культуры; после Ннцше ничего уже не было в этой
мельчающей культуре столь знаменательного. В книге этой
дух германского идеализма и романтизма доходит до ре-
лигиозной муки... В юношеской книге Вейнингера есть
* Гиппиус Зинаида. О любви //Последние ноности. - Париж, 1925,
18 июня, № 1579.
244
гениальный размах, от мрачной книги этой веет свежестью...
Вейнингер благотворно действует даже в том случае, когда
высказывает заведомо ложные идеи Так хотелось бы, чтобы
Вейнингера оценили, и так не хотелось бы, чтобы вейнинге-
рианство стало м одой » *.
Зинаида Гиппиус добавляет: «Личное несчастье этого уди-
вительного юноши не может лишить значительности его глу-
бокие слова об андрогинизме».
Однако славянская философия пришла к более последо-
вательному учению об андрогине, о юноше-деве, о божествен-
ном соединении полов, о цельности и сверхполовом характере
естества Небесного Адама Вейнингер не ведал такого синте-
тического кода мышления, хотя оно предрешалось и собственно
германской мистикой Мейстера Экхарта и Якоба Бёме.
Для естественнонаучного взгляда, представленного, в част-
ности. Мебиусом**, убежденным противником Вейнингера, проме-
жуточные формы, гермафродитизм, смешение мужского и женского
в биологии есть деградация В мире же духа, напротив, именно
совмещение в себе черт разных полов, отсутствие утрированного
пола является, согласно Вейиингеру, безошибочным признаком ода-
ренности П]юобраз этой идеи можно найти уже у романтиков. «Что
может быть отвратительнее, чем преувеличенная женственность; что
может быть противнее, чем преувеличенная мужественность,- а ведь
они господствуют в наишх нравах, в наших мнениях, даже в лучших
творениях нашего искусства Характер полов никоим образом не
следует далее преувеличивать, но, напротив, смяпигь их посредством
сильного противовеса. Только мягкая мужественность, только са-
мостоятельная женственность наделены подлинностью, истиной и
красотой На деле мужественность и женственность, как их обычно
понимают, суть опаснейшие помехи для человечности!»,- писал
Фридрих Шлегель.
Можно утверждать, что Вейнингер заложил основы пси-
хоанализа полов, причем именно в то время, когда другой
великий венец - Зигмунд Фрейд - еще только нащупывал
контуры учения, которому и суждено будет прославиться под
этим именем. Примечательно, что книга Вейнингера послужила
поводом для разрыва Фрейда с Флиссом: Флнсс обвинил
* Бердяев Л 11о поводу одной замечательной книги //Попроси
философии и психологии, 1909, № 98, с. 94.
** Мёбиус М Пол и неучтивость. М., 1911.
245
Фрейда в том, что он «разгласил» (через своего ученика Свобо-
ду) Вейниигеру его заветную идею о бисексуальности как
основе человеческого существа, которая долгое время служила
плацдармом особого взаимопонимания и интенсивного иссле-
дования двух друзей. Это курьезное обвинение свидетельствует
лишь о том, что идеи о принципиальной глубннно-психологн-
ческой двуполости человека уже носились в воздухе. Но все
дело состояло в том, чтобы за узкомедицинской проблемой
бисексуальности увидеть социально-культурную, психологичес-
кую и, если угодно, эзотерическую проблему андрогинности.
Вейнингер освобождает оба пола от взаимного рабства:
показывая механизм проекции во всех нюансах, он возвращает
человеку его отчужденный объективированный образ н раск-
репощает его от кабалы его собственного идеала, бессознательно
вложенного в лицо противоположного пола. Однако слепая
идеализация и приступы недоверия - это две стороны одной и
той же медали взаимного непонимания полов. Поэтому следу-
ющим после психоанализа шагом должен был бы стать психо-
синтез полов. Речь идет об открытии в себе психологических
возможностей другого пола.
Однако для того, чтобы такой пснхосинтез мог осущест-
виться, нужно, чтобы было что синтезировать. Ведь если жен-
ская субстанция лишена содержания, то всякое слияние с ней
бессмысленно.
Вейнингер противоречит сам себе, вначале заявляя о явной
одаренности тех, у кого уравновешены мужественное и жен-
ственное начала, а затем лишая идею Женственности ценности,
всякого положительного содержания и приписывая все поло-
жительно ценное идее Мужественности, так что женская суб-
станция становится простой негацией мужской, у нее отсутст-
вует всякое собственное содержание и онтологический статус,
а значит, она перестает быть метафизической идеей. И, в конце
концов, вейнингеровский аидрогин превращается в носителя
исключительно мужского начала, изжившего из себя все не-
гативное, женское. Но какой же он в этом случае андрогнн?
И Бердяев, и Белый, и Розанов справедливо критиковали
Вейнингера за то, что он не сумел поставить над эмпирическими
мужчиной и женщиной метафизических Юношу и Деву, очищен-
ных от биологической нечистоты, и поэтому ему не удалось пос-
троить чистого учения о божественном Андрогине. В то, что он
246
хочет считать универсалиями,- идеи чистых беспримесных Му-
жественности и Женственности - постоянно вторгаются несущие
искажение единичные факты из эмпирической области.
Причина той непоследовательности, с которой Вейнин-
гер произвольно переходит из мира платоновских идей Му-
жественности и Женственности к эмпирическим мужчине и
женщине, кроется в том, что Вейнингер разрывался между
двумя типами мирочувствования: религиозным и общегума-
нитарным - с одной стороны и естественнонаучным - с другой
Первая часть «Пола и характера» - естественнонаучная дис-
сертация. Далее Вейнингер выступает уже как психолог и
постепенно становится на метафизический путь. В «Последних
словах» он продолжает метафизическое рассмотрение и про-
являет себя как гениальный критик художественных произ-
ведений. Наконец, в афоризмах ои выступает порой как
религиозный визионер. Нарастает и поэтизация стиля. Если
«Пол и характер» - это не только критика противоположного
пола, это критика всего негениального, то в «Последних
словах» Вейнингер предлагает альтернативу - он пытается
дать философию мужского начала в его высшем проявлении,
философию гениальности. Эволюционная прямая философ-
ского пути Отто Вейнингера очевидна. Но он не смог и не
успел осуществить окончательного перехода: он не поставил
перед собой задачи синтеза религии, философии, искусства,
которую поднимала более синтетическая славянская мысль.
Вейнингер предельно заострил проблему дуализма: в его
творчестве максимальное напряжение прошло через оба полюса
бытия. Его дар заключался в умении ставить проблемы апо-
калиптически остро. Безысходностью антиномизма надо пере-
болеть, чтобы, выздоровев, стать целостным человеком. Необ-
ходимо было воспринять дуализм с таким напряжением, как
Вейнингер, чтобы изжить его и прийти к монизму.
Дело, однако, не исчерпывается противостоянием Мужс-
кого и Женского - дуализм и антиномизм пронизывают само
женское начало. Так для католичества, к примеру, оказался
более эмоционально насыщенным культ Девы Марии, для пра-
вославия - Богородицы Марин. (Эту двуполюсность женского
начала, его расслоение на мифолики Кибелы и Артемиды, на
ипостаси резиденткн н воительницы, это исходное противоречие
функций матроны и Музы-вдохновительницы Вейнингер по-
247
чувствовал, уловил, но, не продумав до конца, с юношеской
поспешностью подал несколько огрубление н тенденциозно).
Этот внутренний антиномизм обоих начал дал основание
Бердяеву заменить «стереофонию» Мужского и Женского в
андрогине на «квадрофонию». Бердяев вообще занимал особую
позицию в сравнении с философами-соотечественниками. Да-
ниил Андреев, Владимир Соловьев, Булгаков, Флоренский,
Блок оказались особо чуткими к низлиянию женского начала,-
все они так или иначе причастны к опыту мистических «встреч»
с тем или иным мифообразом Вечной женственности. Бердяев
же отмечал, что культ Приснодевы, Софии, который идет еще
от немецких мистиков Экхарта и Бёме, чище и выше, чем
культ мировой женственности, столь популярной в начале
XX века. Именно у Бердяева четче, чем у других славянских
и германских философов, высказана идея андрогиннзма. Он
лучше других почувствовал ту великую истину, что судьбы
славянского мира вершатся под знаком андрогинизма.
***
Загадка раздвоения пронизывает разные начала, и в
философии Вейнингера было допущено их смешение. Дуаль-
ны - Мужское и Женское начала, Дух и Материя и, с другой
стороны,- Добро н зло, Бог н дьявол. Вейнингер попытался
дуализм Мужского и Женского свести в один узел с дуализмом
Добра и зла, и именно поэтому ему и захотелось рассечь
гордиев узел дуализма. Загадку дуализма полов следует пос-
тигать, со злом же надо бороться - и воин потеснил в нем
исследователя, как ранее Искатель потеснил Священника. Про-
тиворечие Добра и зла, Бога и дьявола - единственное проти-
воречие, которое не разрешается под знаком синтеза. (Заметим,
к слову, что дуализм Бога н дьявола несводим к дуализму Добра
и зла, между этими дуальностями существуют сложные отноше-
ния, которые сами по себе являются источником многочисленных
богословских, гностических и философских интерпретаций.) Иное
дело - антиномия Мужественного и Женственного начал: оба
эти начала стоит поставить под знак Добра.
Быть может, в эйдосе андрогинизма и кроется ключ к
разрешению Мировой Загадки
А.Кихно, Л. Менжулина
Именной указатель
Августин Аврелий (354-430) -
христианский теолог, главный
представитель западной пат-
ристики (Блаженный Авгус-
тин) 147
Авенариус Рихард (1843-1896) -
швейцарский философ, один из
основоположников эмпирио-
критицизма 110, 140
Анаксимандр (ок. 610- после 547
до н.э.) - древнегреческий фи-
лософ 204
Лнцснгрубср Людвиг (1839-1889) -
австрийский писатель, извес-
тен как первый бытописатель
жизни австрийской деревни 205
Аристипп (ум. после 366 до н.э.) -
древнегреческий философ, осно-
ватель школы киренаиков 104
Аристотель (384-322 до н.э.) -
древнегреческий философ и
ученый-энциклопедист 211
Банзен Юлий Фридрих Август
(1830-1881) - немецкий фи-
лософ, ученик и последователь
А Шопенгауэра, учению кото-
рого старался придать более ин-
дивидуалистический характер,
частью комбинируя его с ди-
алектической метафизикой 34
Бах Иоганн Себастьян (1685-
1750) - немецкий композитор
и органист 129
Беклин Арнольд (1827-1901) -
швейцарский живописец, пред-
ставитель символизма и стиля
«модерн». В фантастических
сценах сочетал придуманную
им символику с натуралисти-
ческой достоверностью («Ос-
тров мертвых», 1880) 120, 193
Бёме Якоб (1575-1624) - немец-
кий мистик и философ-панте-
ист 104
Берцелиус Йенс Якоб (1779-
1848) - шведский химик и
минерало! Открыл церий, се-
лен, тории Ввел современные
химические знаки элементов
221
Бетховен Людвиг ван (1770-
1827) - немецкий композитор
35, 55, 65. 105, ИЗ. 122, 128,
12)1, 173
Бизе Жорж (1838-1875) - фран-
цузский композитор 63, 105
Бодлер Шарль (1821-1867) -
французский поэт 205
Бонн Франц (1791-1867) - не-
мецкий языковед, один из ос-
нователей изучения индоев-
ропейских языков и сравни-
тельного языкознания, опубли-
ковал ряд древнеиндийских
текстов и переводов 113
Ботичелли Сандро (наст, имя -
Алессандро Филинспи) (1445-
1510) - итальянский живопи-
сец эпохи раннего Возрожде-
ния 205
Брамс Йоганнес (1833-1897) -
немецкий композитор 120
Брукнер Антон (1824-1896) - ав-
стрийский композитор, орга-
249
нист. педагог, крупнейший
симфонист 2-й половины XIX
века 35
Бруно Джордано (1548-1600) -
итальянский философ-нантс-
ист, поэт 35
Бьернсон Б|<ер|к-ти-рне Мартивиус
(1832 -1910)- норвежский по-
эт и крупный об|цсственпый
и театральный деятель, осно-
воположник норвежской на-
циональной драматургии и
критического реализма 33
Бэкон Фрэнсис (1561-1626) - ан-
глийский философ 199, 217
Бюргер Готфрид Август (1747-
1794) - немецкий поэт, вы-
разитель идей «Бури и натис-
ка», сторонник Великои Фран-
цузской революции. Создал
жанр современной немецкой
баллады 199
Вагнер Рихард (1813-1883) - не-
мецкий композитор 33. 35, 49,
55, 63. 65, 70. 77, 79, 100, 105.
121, 128, 129, 132, 133, 152,
156. 172, 200, 221, 229
Вебер Карл Мариа фон (1786-
1826) - немецкий композитор,
дирижер, пианист и музыкаль-
ный писатель 129
Верли Джузеппе (1813 1901) -
итал)>янский композитор 105
Веронезе Паоло (наст, имя -
Кальяри) (1528-1580) - италь-
янский живописец эпохи Воз-
рождения 105
Виланд Кристоф Мартин (1733-
1813) - немецкий нисатсль-
нросвститель 205
Вицдельбацд Вильгельм (1848-
1915) - немецкий философ,
глава баденской школы нео-
кантианства 109. 200, 210
Вольтер (паст имя - Мари Фраи
суа Арул) (1694-1778) - фран-
цузский писатель и философ
просветитель 211
Вол1>ф Каспар Фридрих (1734-
1794) - один из основополож-
ников эмбриологии 199
Вундт Вильгельм (1832 1920) -
немецкий психолог, физиолог
философ 140
Галилей Галилео (1564-1642) -
итальянский ученый, один
из основателей точного ес-
тествознания 221
Гамсун Кнут (наст, фамилия -
Педерсен) (1859-1952) - нор
исжский писатель. Лауреат
Нобелевской премии 1920 г.
32, 35, 171, 173, 199
Гарборг Арне (1851-1924) - нор
веже кий писатель 33
Гауптман Герхард (1862 1946) -
немецкий писатель, глава не-
мецкого натурализма, ученик
Ибсена. Лауреат Нобелевской
премии 1912 г. 206
Гаусе Карл Фридрих (1777-1855) -
немецкий ученый 221
Гсббель Кристиан Фридрих (1813-
1863) - немецкий драматур)
н теоретик драмы 49, 62, 77,
120, 121, 125
Гегель I'copi Вильгельм Фридрих
(1770-1831) - немецкий фи-
лософ 35, 140, 200, 220
Гейне Генрих (1797 1856) - не-
мецкий поэт и публицист 62,
169. 170
Гельмгольц Герман Людвиг Фер-
динанд (1821-1894) - немец-
кий ученый ИЗ. 221
Гендель Георг Фридрих (1685-
1759) - немецкий композитор
н о|иапист 120
250
Гердер Иоганн Готфрид (1744-
1803) - немецкий философ,
критик 35
Гете Иоганн Вольфганг (1749-
1832) - немецкий поэт, мыс-
литель и естествоиспытатель
30. 32. 33. 35. 38. 47. 55. 62.
105, 121, 125. 127. 129, 130,
133, 142, 146, 152. 170, 172,
182, 188, 221
Гомер - древнегреческий эпичес-
кий поэт 205
Гораций Флакк Квинт (65 8 до
н.э.) - римский поэт 205
Граббс Кристиан Дитрих (1801 -
1836) - немецкий драматург
205
Грильнарцср Франц (1791-1872) -
австрийский писатель, сочетал
н сноси драматургии романти-
ческие тенденции с традици-
ями веймарского классицизма
35, 49, 65
Гримм Якоб (1785-1863) - не-
мецкий фиЛОЛО!, OCIк>1КН1Олож-
ник германистики 221
Гроций Гун» /»• Грею (1583-1645) -
голландский юрист, социолог
и государственный деятель.
Один из основателей теории
естественного нрава и науки
международного прана 211
Гумбольдт Вильгельм (1767-
1835) - немецкий филолог, фи-
лософ, языковед государствен-
ный деятель, дипломат 113
Гуно Шарль (1818-1893) - (фран-
цузский композитор, один нз
создателей французской ли-
рической онеры 205
Данте Алигьери (1265-1321) -
итальянский поэт 33. 105, 130
Дарвин Чарлз Роберт (1809-
1882) - английский естество-
испытатель 113, 172, 214, 221
Декарт Ренс (1596-1650) фран-
цузский философ, математик,
физик и физиолог 35,104,206,
211
Демокрит (ок. 470/460 ок. 370 до
н.э.) - древнегреческий фи-
лософ 220
Джепслли Буонавснтура (1798-
1868) - итальянский живопи
ссц 133
Диккенс Чарлз (1812-1870) - ан-
глийский писатель 205
Достоевский Федор Михайлович
(1821-1881) - русский писа-
тель 130
Дюрер Альбрехт (1471-1528) -
немецкий живописен и ipa-
фик 120
Еврипид (480-406 до н.э.) - дрсв-
нсгречсский поэт-трагик 177
Жан Поль (паст фамилия - Рих-
тер) (1763-1825) - немецкий
писатель 65
Зеной (ок. 490-430 до и. э.) -
древнегреческий философ 155
Золя Эмиль (1840-1902) - фран-
цузский писатель 35, 62, 105,
205
Ибсеи Генрик (1828-1906) -
норвежский драматург 29- 80,
105, 113, 121, 130. 197
Кальдерой ле ла Барка Педро
(1600-1681) - испанский дра
матург 122
Кант Иммануил (1724-1804) -
немецкий философ 35, 36, 38,
39. 42, 48, 64, 65, 77, 104, 111,
112,120.139,142,145,147,159.
251
IGO, 182, 183, 185, 187, 192,
204. 218-220, 227
Карлейль Томас (1795-1881) -
английский публицист, исто-
рик и философ 35, 107, 220
Келлер Готфрид (1819-1890) -
швейцарский писатель 30, 63,
205
Кеплер Иоганн (1571-1630) -
немецкий астроном, один из
тнорцон астрономии нового
времени 141
Клейст Генрих <|кя| (1777-1811) -
немецкий драматург 35, 44,
173
Конт Огюст (1798-1857) - <|>|мн-
ПУЗСКНЙ философ, OCHOIKIIIO-
ложник позитивизма 34
Констан ле Ребек Бенджамен
Лири (1767-1830) - француз-
ский писатель и публицист,
психолог. Сыграл важную роль
в развитии романтизма 72
Коперник Николай (1473-1543) -
нол1>ский аст|юиом, создатель
гелиоцентрической картины
мира 141
Краузе Карл Кристиан Дитрих
(1781-1832) - немецкий фи-
лософ-идеалист. 11ытался объ-
единить теизм и пантеизм в
систему так называемого па
нептензма 220
Лагранж Жозеф Луи (1736-
1813) - французский матема-
тик и механик 199
Лейбниц Готфрид Вильгельм
(1646-1716) - немецкий фи-
лософ, математик, физик, язы-
ковед 35, 65, 211
Ленау Николаус (1802-1850) -
австрийский поэт 173
Лессинг Готхольд Эфраим
(1729-1781) - немецкий дра-
матург и теоретик искусства
нюх и Просвещения, осново-
положник немецкой класси-
ческой литературы 49, 205
Ломброзо Чезаре (1835-1909) -
итальянский судебный психи-
атр и криминалист, родона-
чальник антропологического
направления в криминологии
и уголовном пране 55
Лонс де Вега (наст, имя - Вега
Карньо Лонс гОеликс де) (1562 -
1635) - испанский драматург
205
Людвиг Отто (1813-1865) - не-
мецкий писатель 123, 205
Максвелл Джеймс Клерк (1831-
1879) - английский физик, со-
здатель классической электро-
динамики 113, 221
Масканьи Пьетро (1863-1945) -
итальянский композитор 105
Мах Эрнст (1838-1916) - авст-
рийский философ, физик, один
из основателей эмпириокри-
тицизма ПО, 214, 220
Меи де Биран (1766-1824) - фран-
цузский философ 34. 220
Микеланджело Буапарроти (1475-
1564) - итальянский скульп-
тор, живописец, архитектор,
поэт 62, 65, 129, 230
Мольер Жан Батист (паст. имя -
Жан Батист Поклеп) (1622-
1673) - французский комедио-
граф, актер, театральный дея-
тель, ре<|юрматор сценическо-
го искусства 205
Моро де 'Гур (1804-1884) - фран-
цузский <|»1.'ю«м|> и врач. В
своем основном произведе-
нии «Психология болезни в
се отношении к философии
252
и истории» (1859) защищает
идею, что человек известен
ли1иьна1юло1|ину, если его изу-
чать только в состоянии здо-
ровья 55
Мопассан Ги де (1850- 1893) -
французский писатель 205
Моцарт Нолы|>ганг Амадей (1756
1791) - австрийский компо-
зитор 65. 122
Мурильо Бартоломе Эстебан (1618-
1682) - испанский живопи-
сец 205
Наполеон Бонапарт (1769-1821) -
французский император 51,
104, 106
Ницше Фридрих (1844-1900) -
немецкий философ 35, 37,38,
42, 57. 58, 62-65. 143, 150.
173, 191, 200, 220
Попалис (наст, имя - Фрид-
рих фон Гандербсрг) (1772-
1801) - немецкий философ
и поэт. Представитель йенс-
кого кружка романтиков 71
Ньютон Исаак (1643-1727) - анг-
лийский физик, астроном,
математик, основоположник
классической и небесной ме-
ханики 199. 220
Паскаль Djk:i (1623-1662) фрвн>
цузский религиозный фило-
соф, писатель, математик и фи
зик 63, 65. 190
Пиндар (ок. 518-442/438 до н. .э.)
древнегреческий поэт-лирик 122
Платон (428/427-:И8/.И7 до п.э.) -
древнегреческий философ
35, 39, 60, 65, 147, 174, 187,
205, 211, 220
Потт Август Фридрих (1802-
1887) - немецкий языковед,
один из основателей сравни-
тельно-исторического языко-
знания, основатель научной
этимологии 113, 140
Расни Жан (1639 1699) - фран-
цузский драматург, поэт, пред-
ставитель классицизма 205
Рафаэль Санти (1483-1520) -
итальянский живописец и ар-
хитектор 105
Рембрандт Харменс ван Рейн
(1606-1669) - голландский
живописец 65
Риккерт Генрих (1863-1936) - не-
мецкий филос<и|>, один из ос-
нователей баденской школы
неокантианства 200
Риман Бернхард (1826-1866) -
немецкий математик 113
Ромэне Джордж Джон (1848-
1894) - известный английс-
кий натуралист, современник
и друг Ч. Дарвина. Предпри-
нял психофизические иссле-
дования, интересуясь состоя-
нием человека, ожидающего
смерти 161
Россини Джоаккпно (1792-1868) -
итальянский композитор 153
I^Cxtk. Пип-р ПауVI (1577-1640) -
фламандский живописец 105
Руссо Жан Жак (1712 1778) -
французский писатель и фи
лософ 122. 227
Сегаитини Джованни (1858-
1899) - итальянский живопи-
сец, представитель неоимпрес-
сионизма 205
Скотт Вальтер (1771-1832) - ан-
глийский писатель 205
Сократ (ок. 470-399 до и. э.) -
древнегреческий философ 35,
39, 61, 65, 182
253
Ск]юкл (ок. 496 406 до и. э.) -
древнегреческий поэт-драма-
тург, один из трех великих
античных трагиком (наряду с
Эсхилом и Еврипидом) 62, 122
Спиной Бенедикт (1632-1677) -
нидерландский философ 64.
65, 188. 186, 211
Стриндберг 1Охан Август (1849
1912) - шведский писатель 62
Теккерей Уильям Мейкнис
(1811-1863) - английский пи-
сатель 205
Тициан (Тициано Вечеллио) (ок.
1476/77 или 1489/90-1576) -
итальянский живописец, гла-
ва венецианской школы высо-
кого и позднего Возрождения
105
Толстой Лев Николаевич (1828-
1910) - русский писатель 155
Торвальдсен Бертель (1768/1770-
1844) - датский скульптор, пред-
ставитель классицизма 205
Улаид Людвиг (1787-1862) -
немецкий поэт-романтик, ис-
торик литературы, один из
основоположников германис-
тики 205
Фарадей Майкл (1791 1867) -
английский физик, основопо-
ложник учения об электромаг-
нитном ноле 113
Фсхнср Густап Теодор (псевдо-
ним - доктор Мизес) (1801-
1887) - немецкий физик, пси-
холог. философ, писатель-сати-
рик 35, 65, 93, 111, 120
Фихте Иоганн Готлиб (1762-
1814) - немецкий философ 36,
77, 120, 140. 192
Фогсльисйлс Вальтер фон дер
(ок. 1170- ок 1230) - немец
кий поэт-миннезингер 205
Шекспир Уильям (1564 1616) -
английский драматург и по-
эт 33. 62. 105, 121, 130
Шелли Перси Биш (1792-1822) -
английский нотг-|юмантик 35,
120
Шеллинг Фридрих Вильгельм
Йозеф (1775-1854) - немец-
кий философ 34
Шиллер Иоганн Фридрих (1759-
1805) - немецкий поэт, дра-
матург и теЛретик искусства
30. 49, 123- 127, 200, 205
Шлсйсрмахср Фридрих (1768-
1834) - немецкий протестант-
ский теолог и философ 220
Шопенгауэр Артур (1788 1860).-
пемецкий философ 35, 38, 46,
60. 62, 64, 77. 78. 147, 154,
199. 204
Шторм Теодор (1817-1888) - не-
мецкий писатель 30, 205
Штраус Иоганн (1804-1849) - ав-
стрийский скрипач, дирижер,
композитор 205
Шуберт Франц (1797-1828) -
австрийский композитор 129
Шуман Роберт (1810-1856) - не-
мецкий композитор и музы-
кальный критик 35, 105
Эйлер Леонард (1707-1783) - ма-
тематик, механик, физик и ас-
троном ИЗ
Эсхил (ок. 525-456 до н.э.) - древ-
негреческий поэт-трагик 105,
130
Юм Дэвид (1711-1776) - англий-
ский философ, историк, эко-
номист 104, 110, 192
Содержание
М.Раппапортп. Предисловие ко второму изданию . . 5
О Генрике Ибсеие и его произведении «Пер Гюит> 27
Афоризмы (Психология садизма и мазохизма, пси-
хология убийства, этики, наследственных грехов) 81
К характерологии .............................117
Искатели и священники......................119
О Фридрихе Шиллере.........................123
Об основных мыслях в произведениях Рихарда
Вагнера, в особенности в его «Парсифале» . . . 128
К Парсифалю................................132
О единственно разумном понимании времени и его
этическом значении..........................137
О вращении.................................139
Проблема времени...........................147
Метафизика ...................................157
Психология животных........................161
Растения...................................176
Неорганическая природа.....................176
Наука и культура .............................179
I. Сущность науки.........................181
II. Понятие культуры......................199
III. Возможные задачи науки с точки зрения
интересов культуры..........................210
Последние афоризмы ...........................225
Приложения ...................................231
А Кихно, Л. Менжулина. Последние слова о послед-
них вещах...................................231
Именной указатель.............................249
Научно-популярное издание
Вейнингер Отто
Последние слова
Заведующая редакцией Т.А. Янковенко
Редактор А.А. Юдин
Художественный редактор Л.М. Козеко
Техническое редактирование
и компьютерная верстка Л.Ф. Красношапка
Корректор Е.О. Баньковская
Издание выпущено
при участии ООО «Ирис»
Сдано в набор 22.02.95. Подписано в печать 27.11.95.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Петербург.
Печать офсетная. Условн. печ. л. 13,44. Уч.-изд. л. 12,10.
Тираж 5000 экз. Заказ 5 1594
Государственная библиотека Украины для юношества
252127, Киев, пр. 40-летия Октября, 122
Отпечатано на Головном предприятии республиканского
производственного объединения «Полиграфкнига»
252057, Киев, ул. Довженко, 3
7/