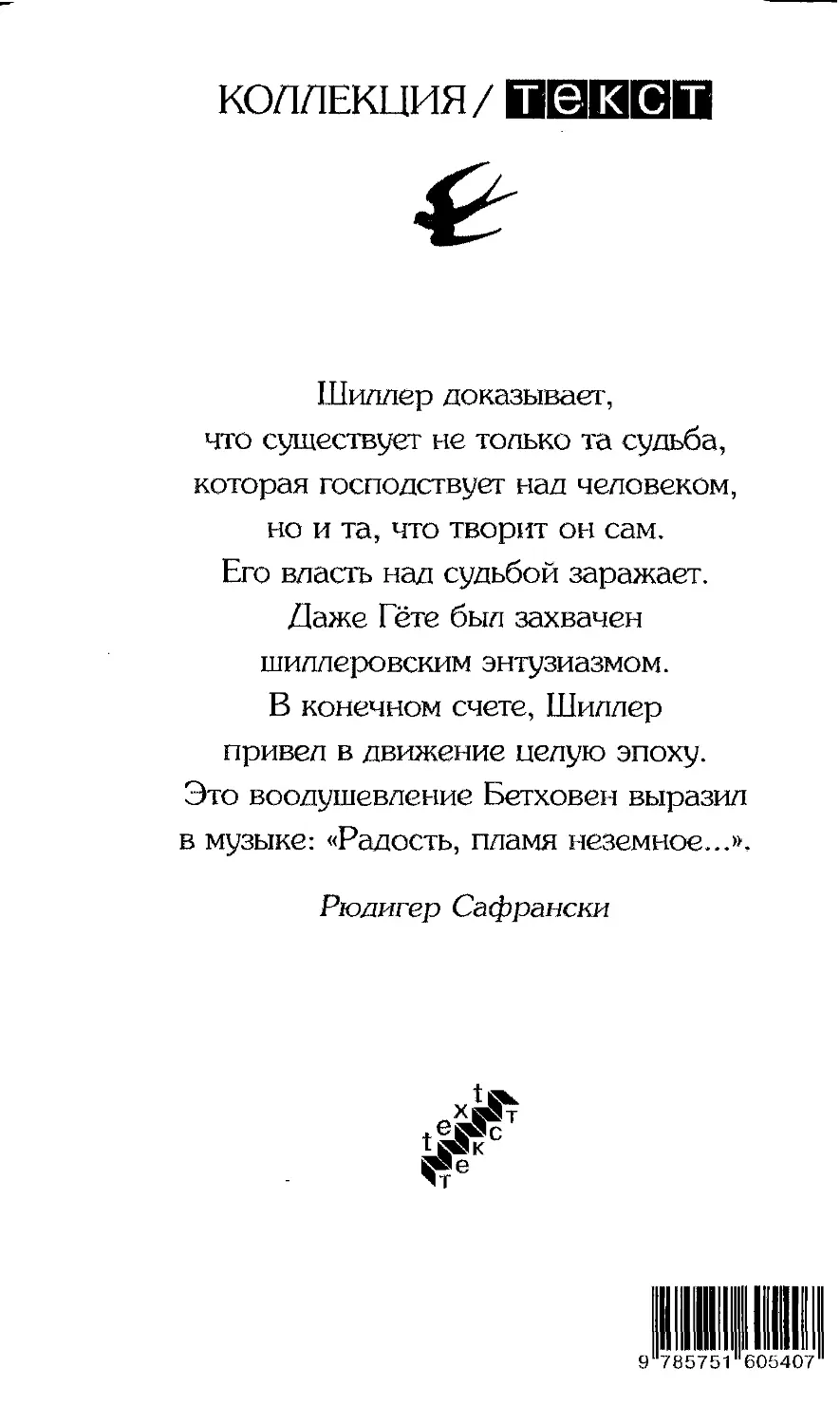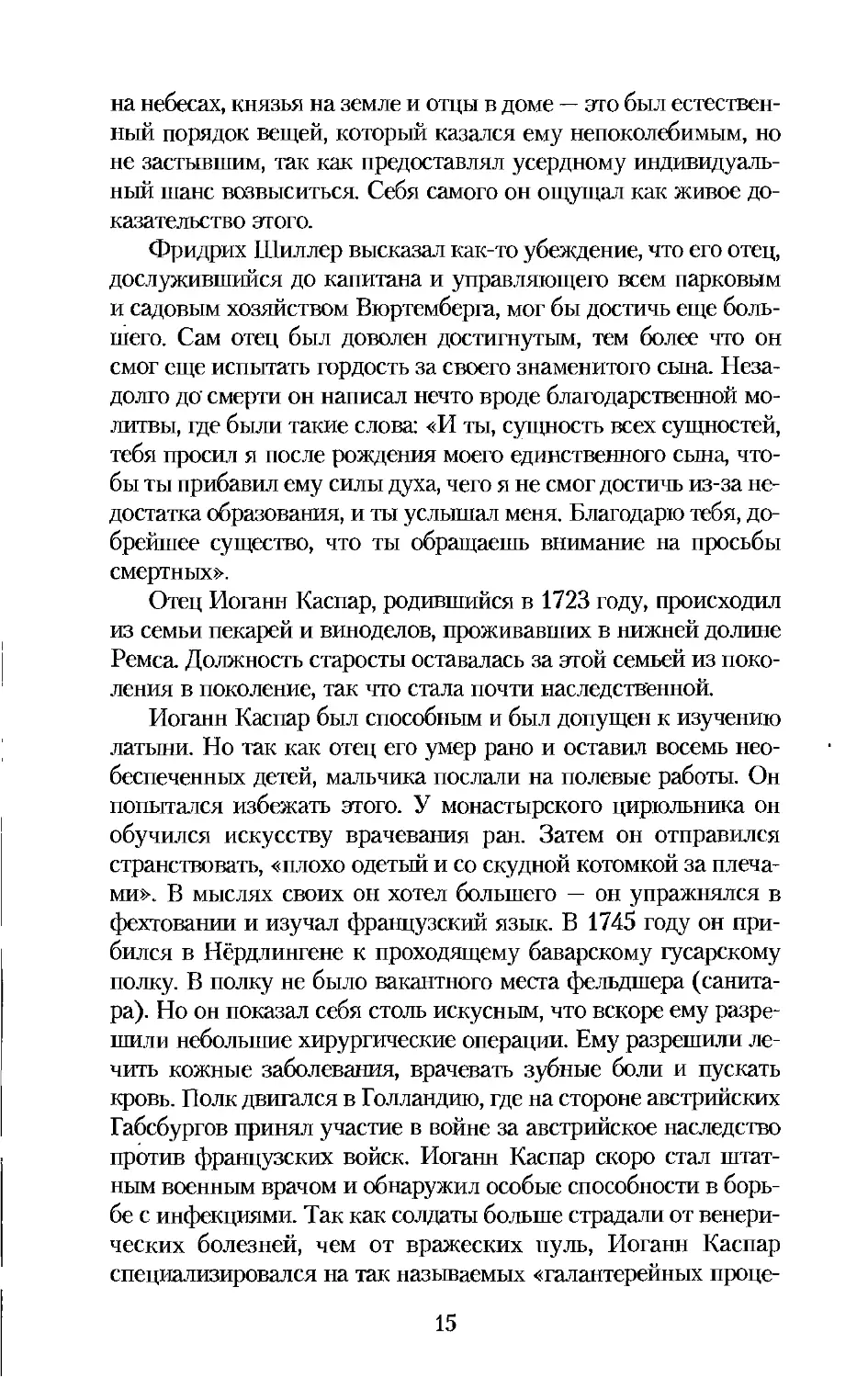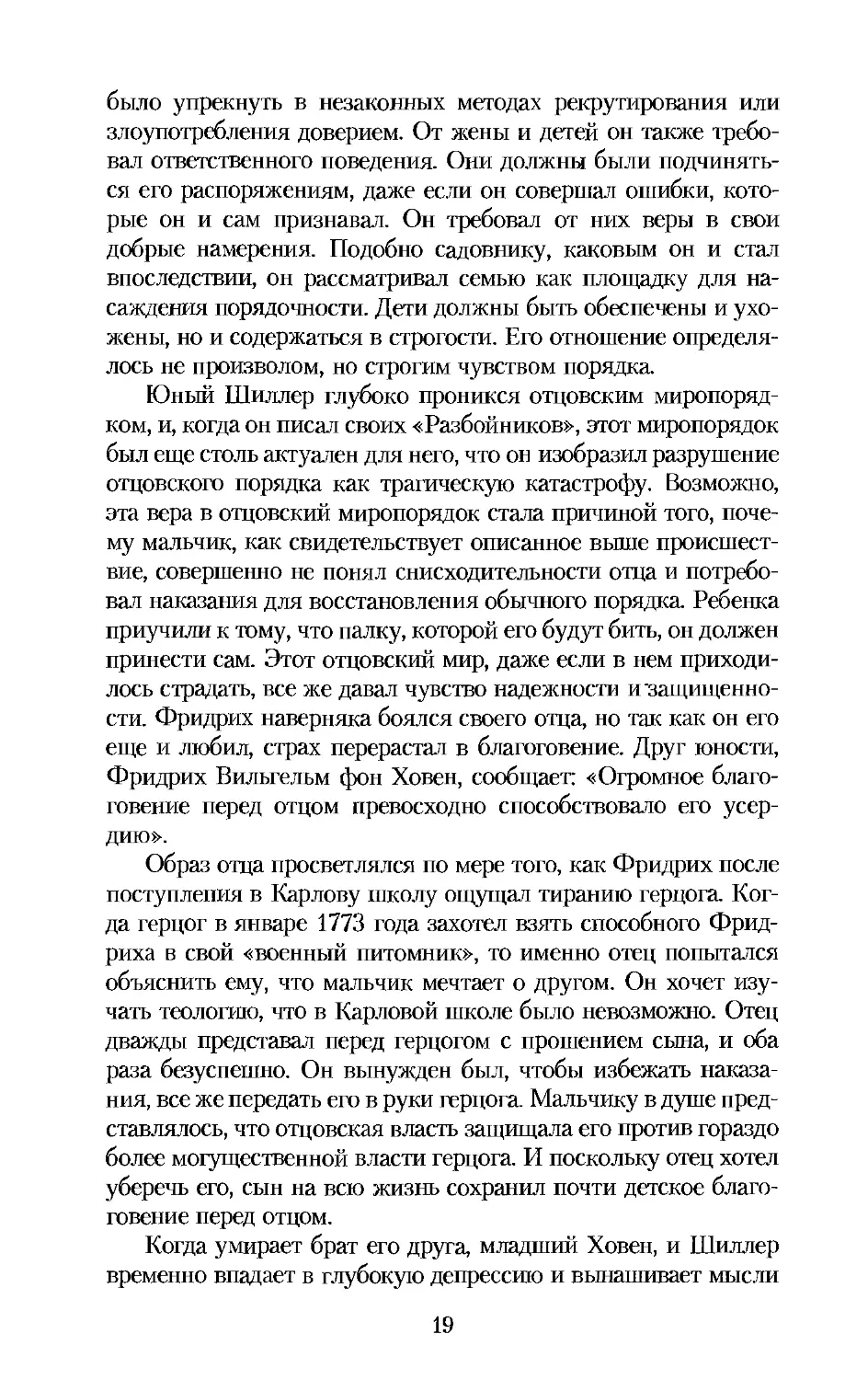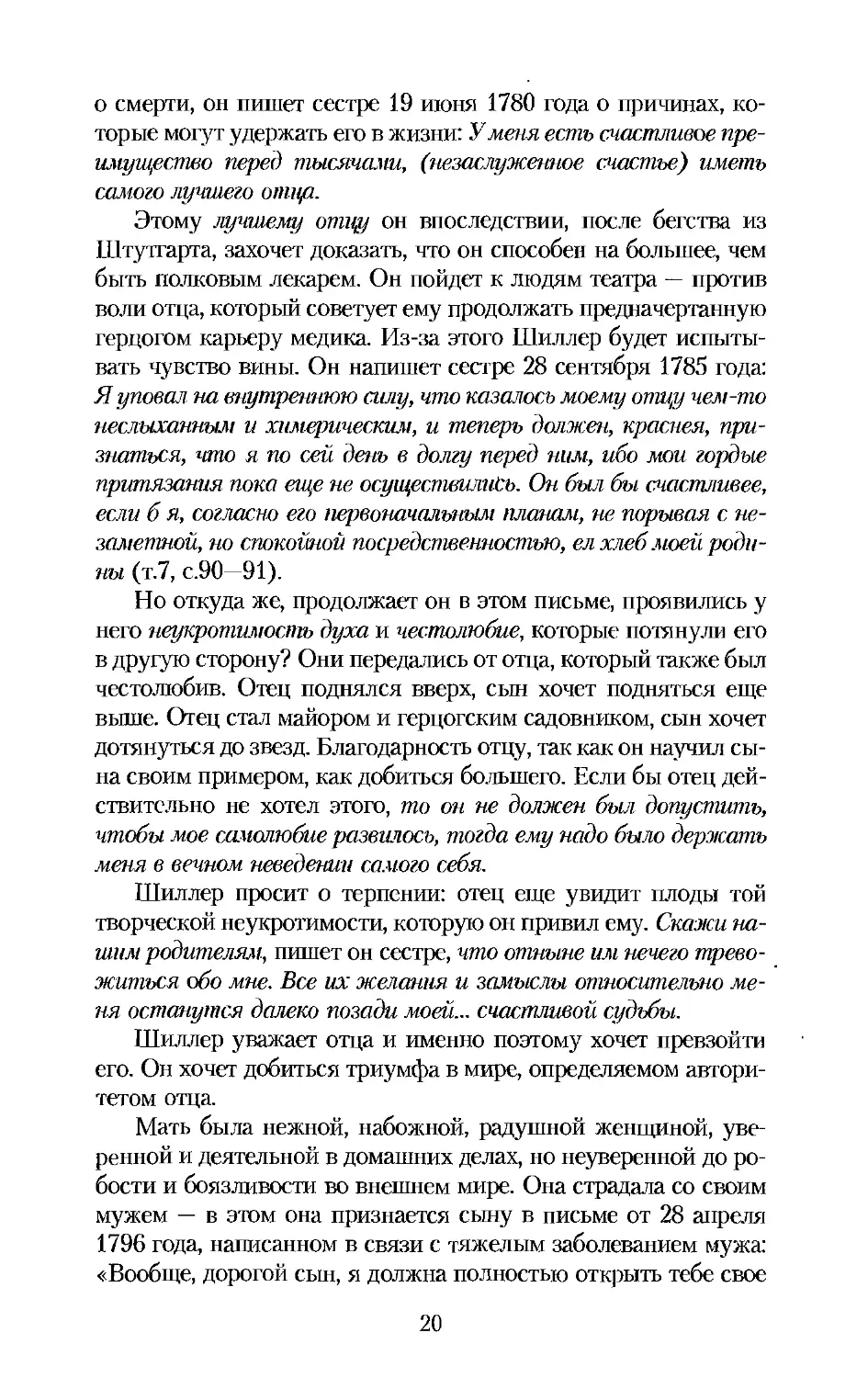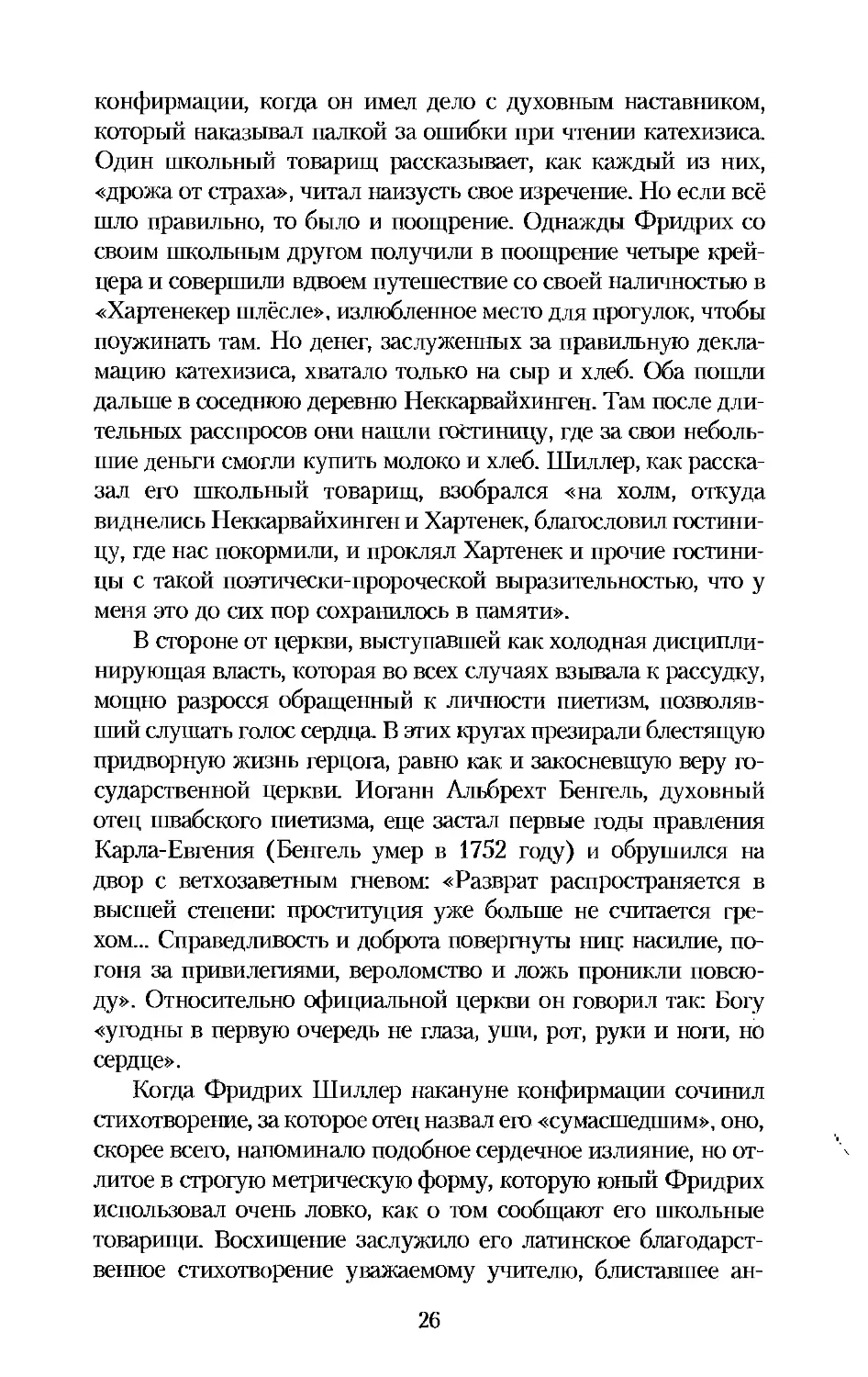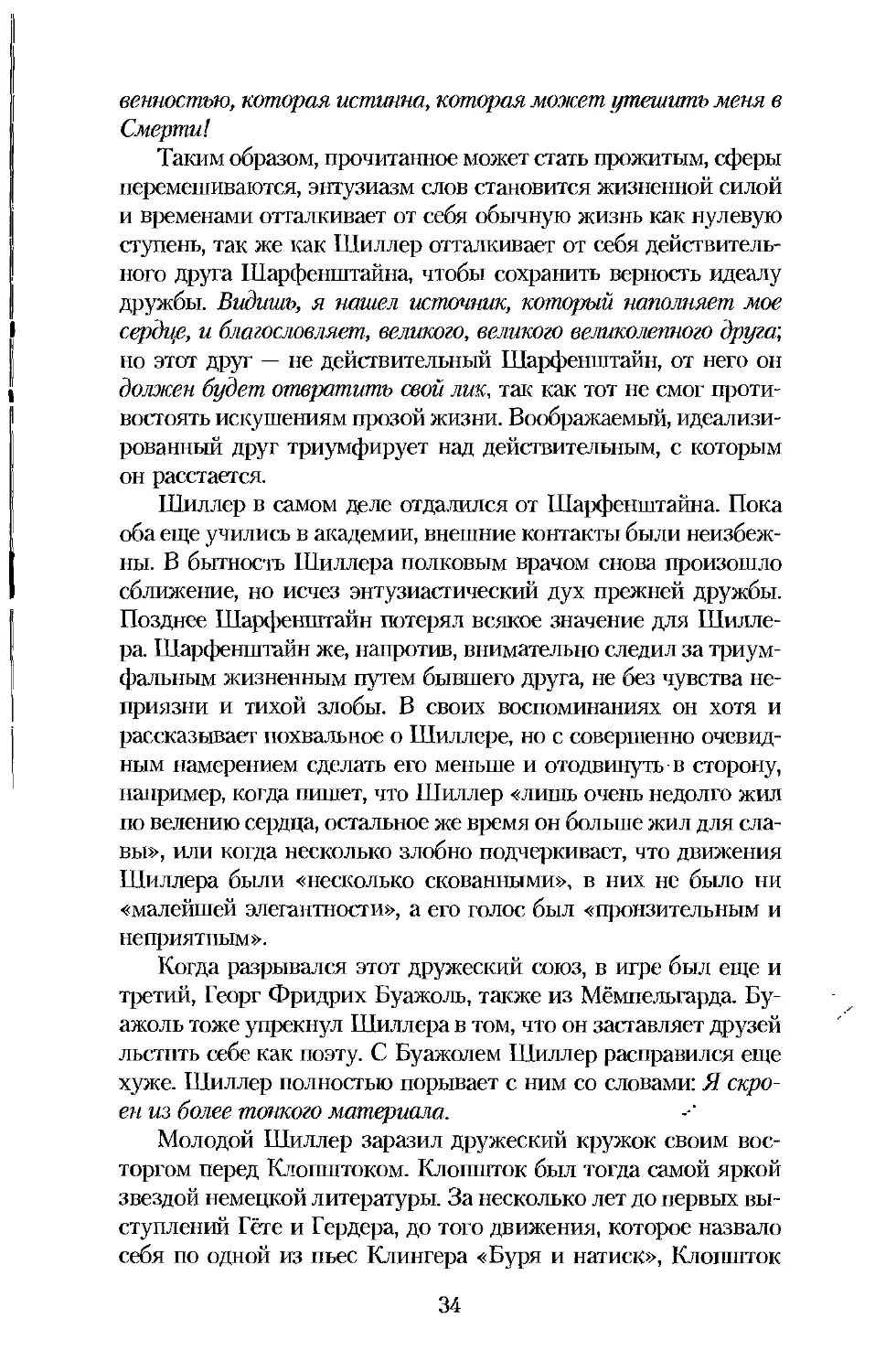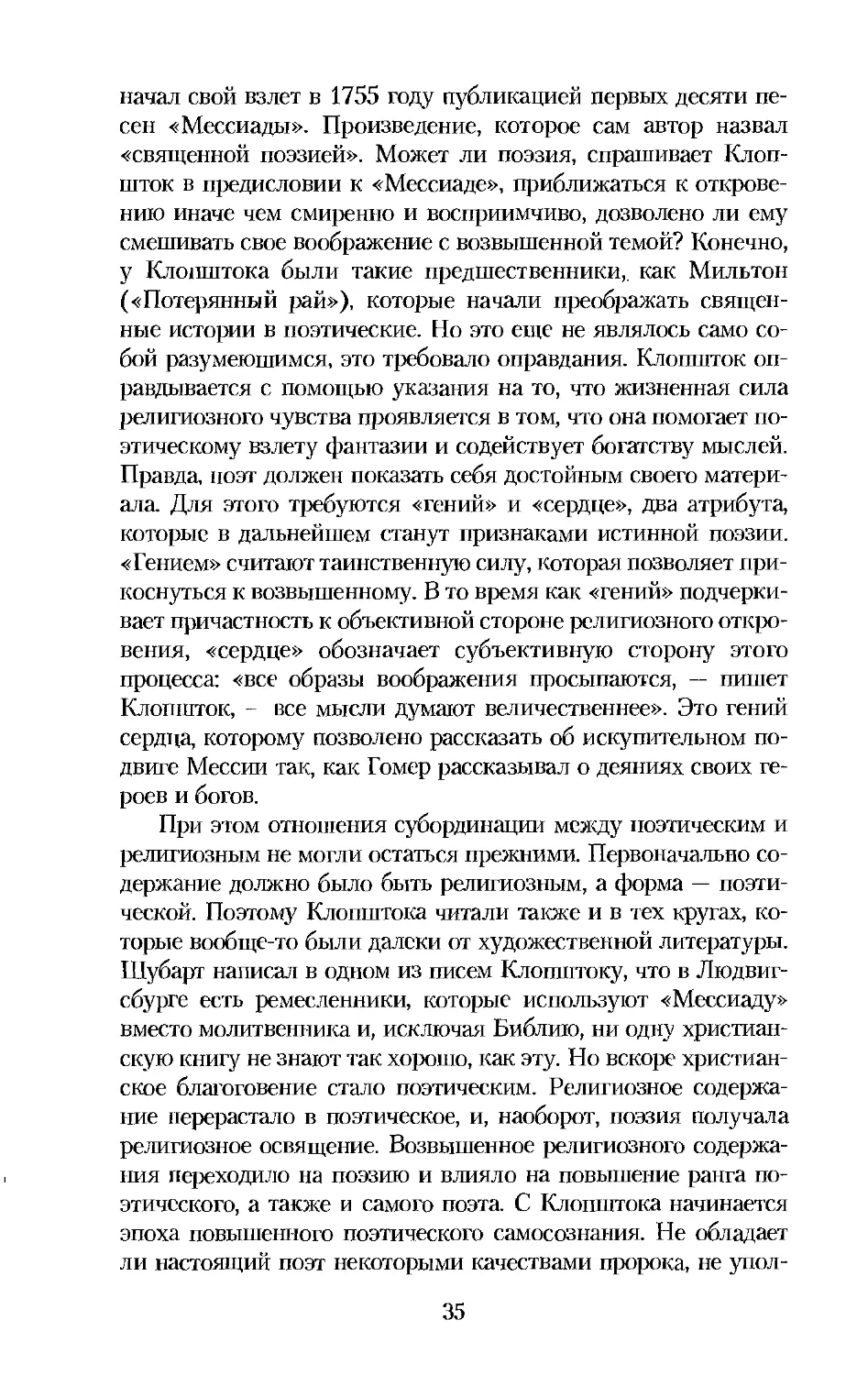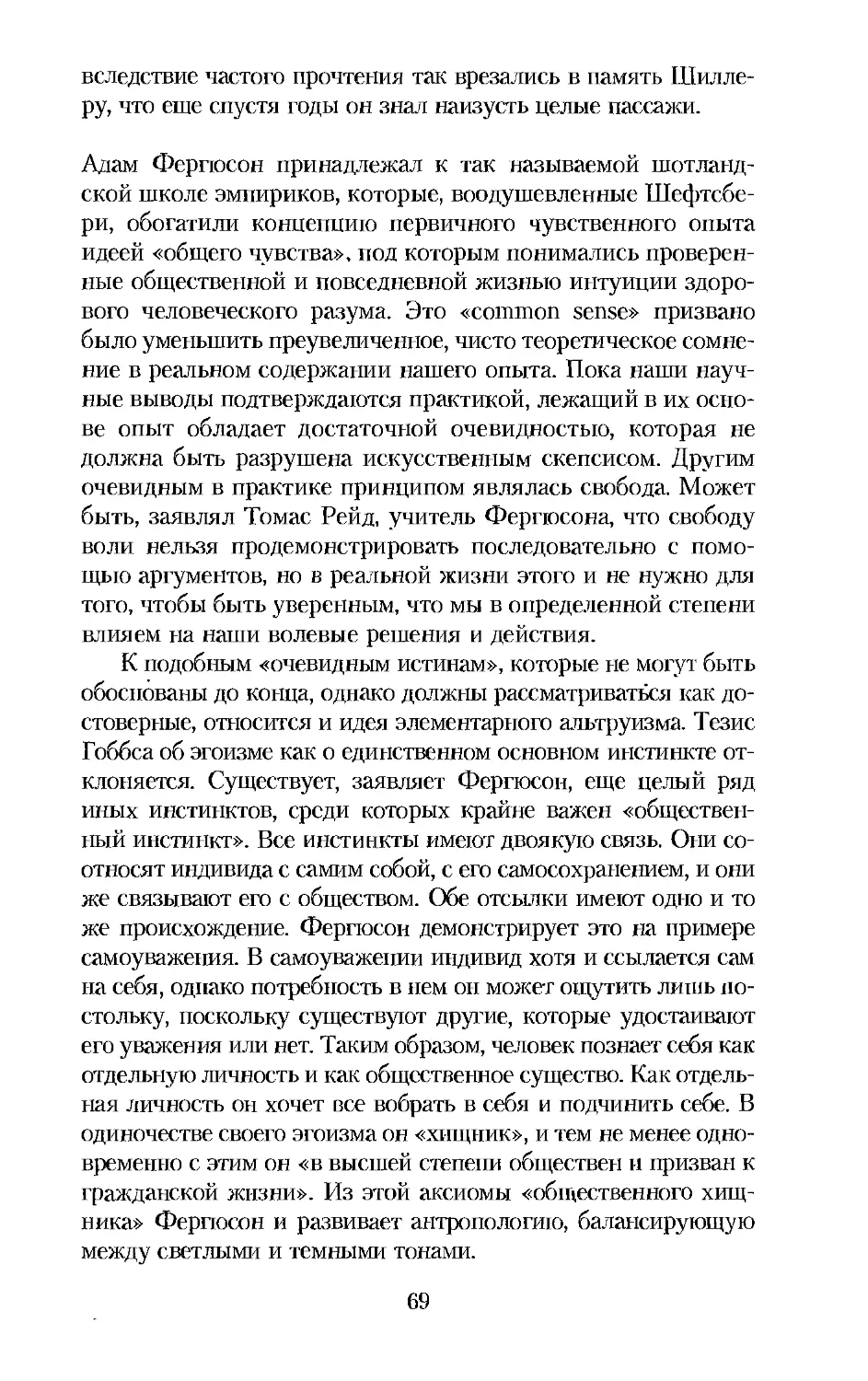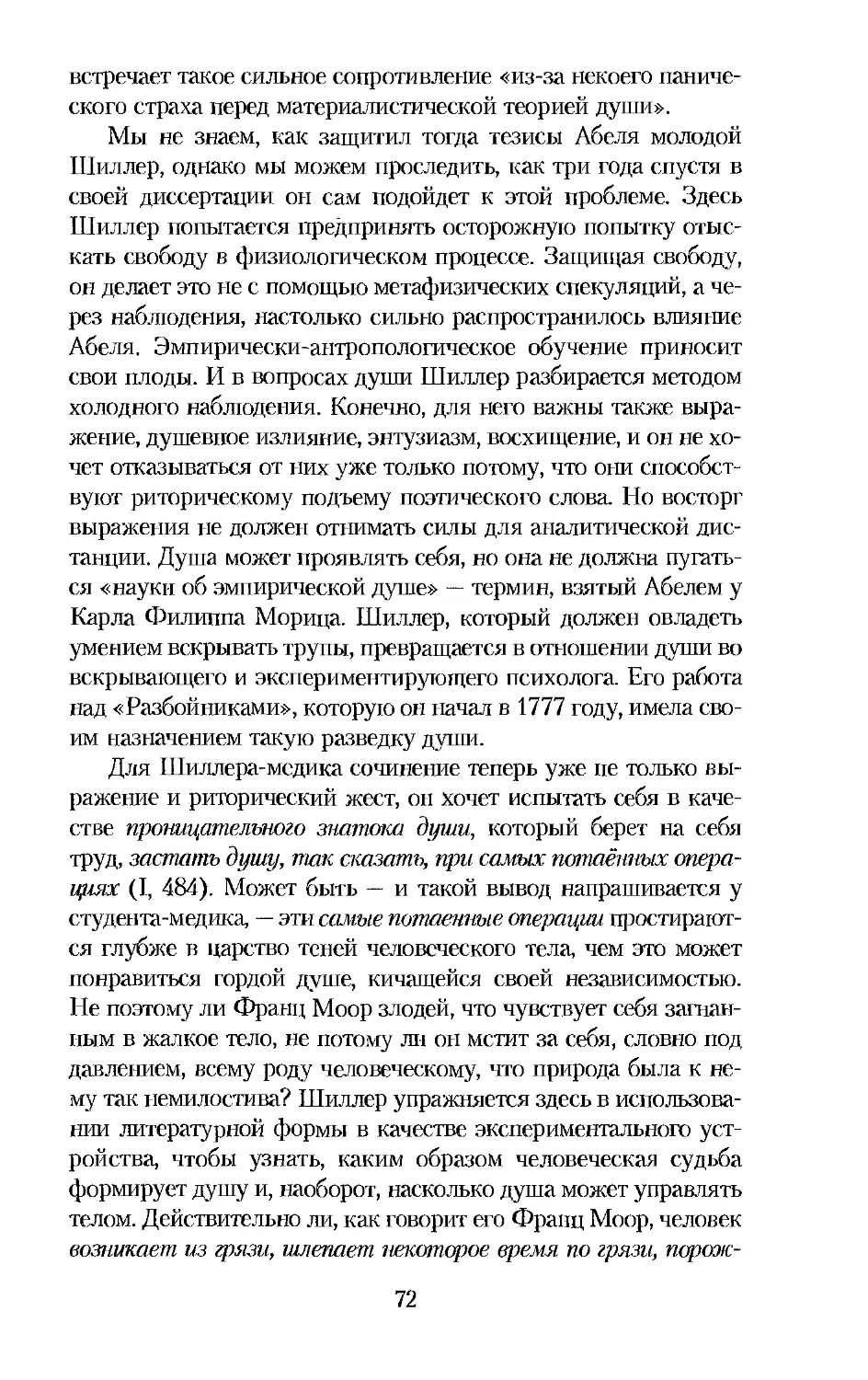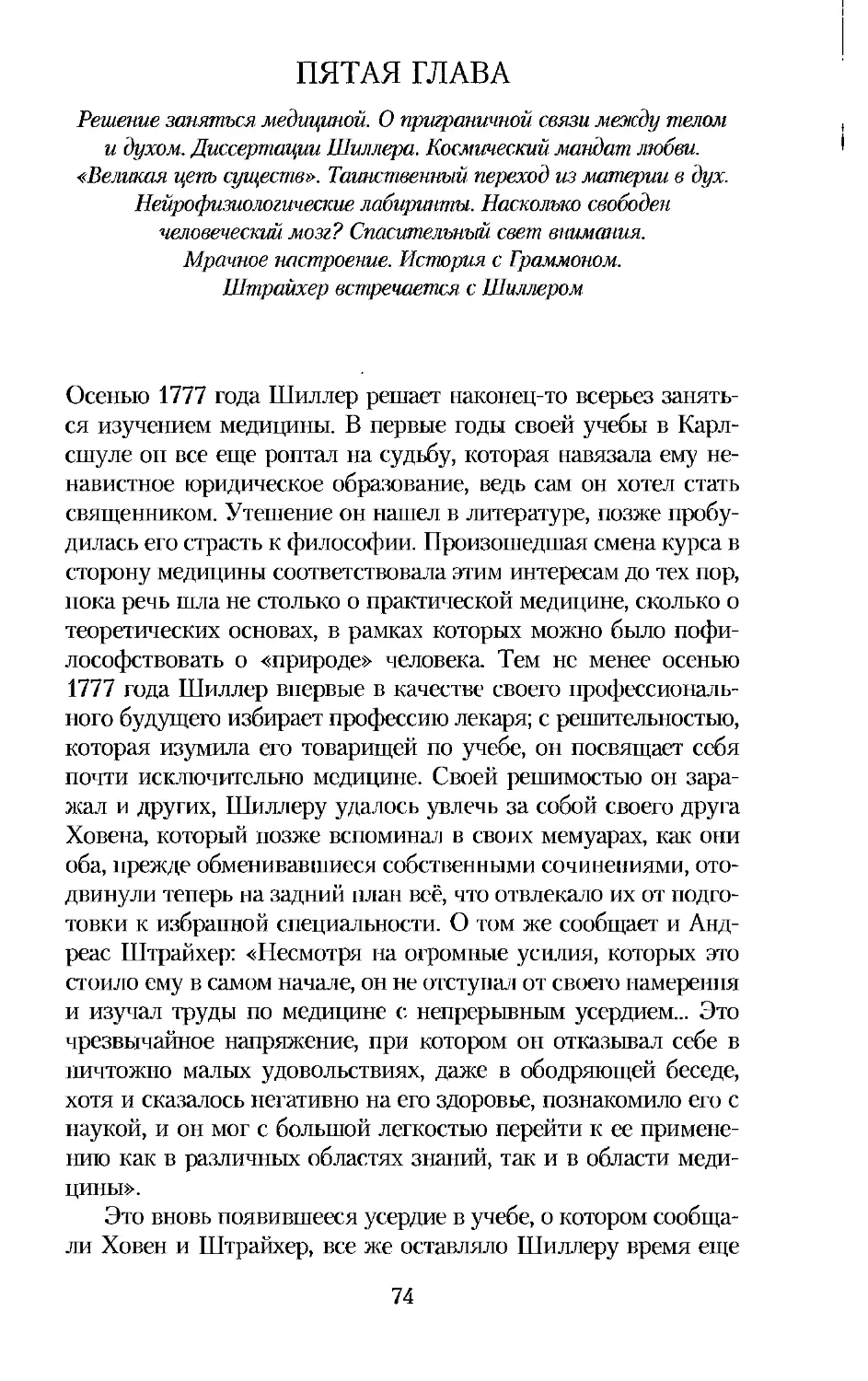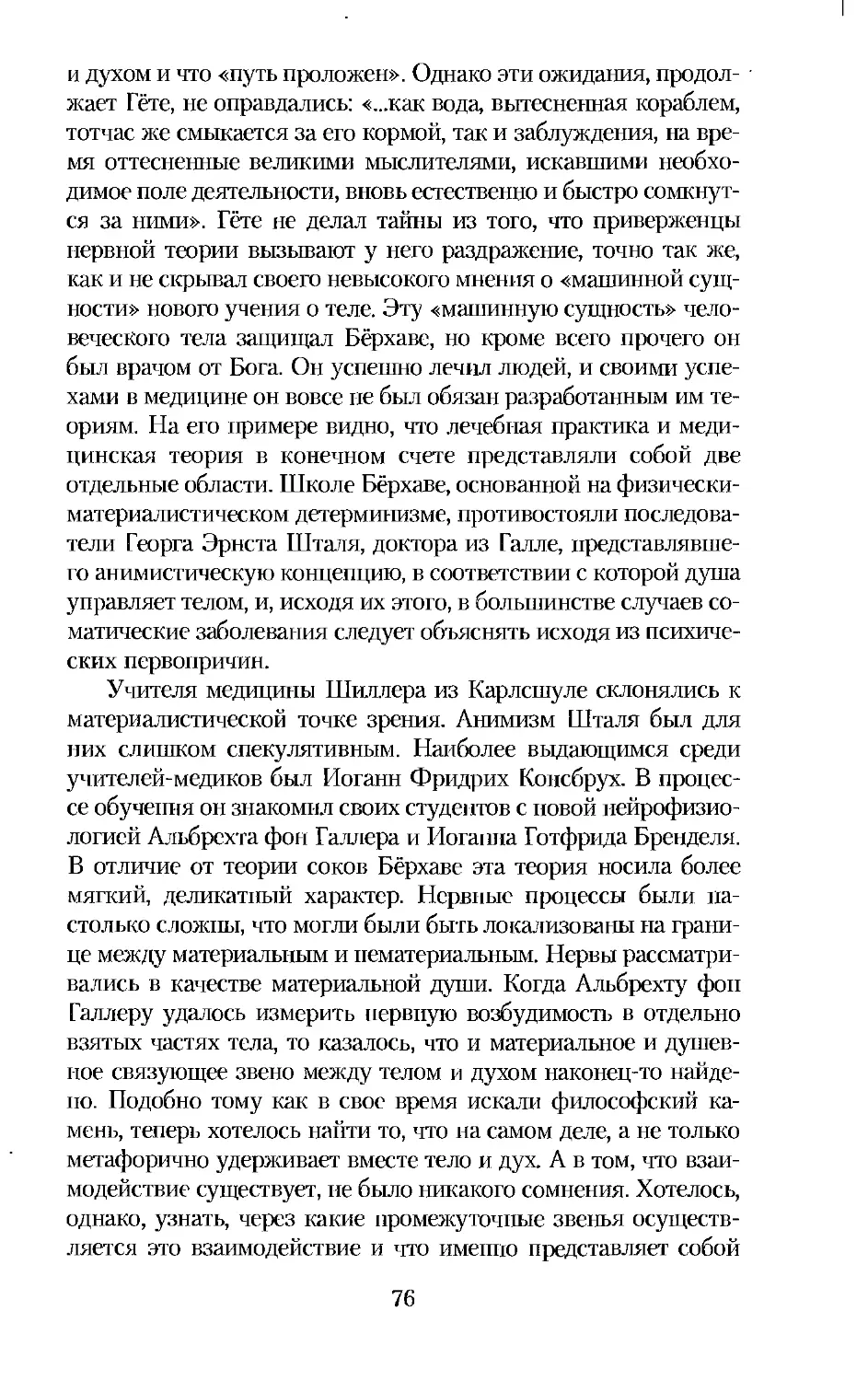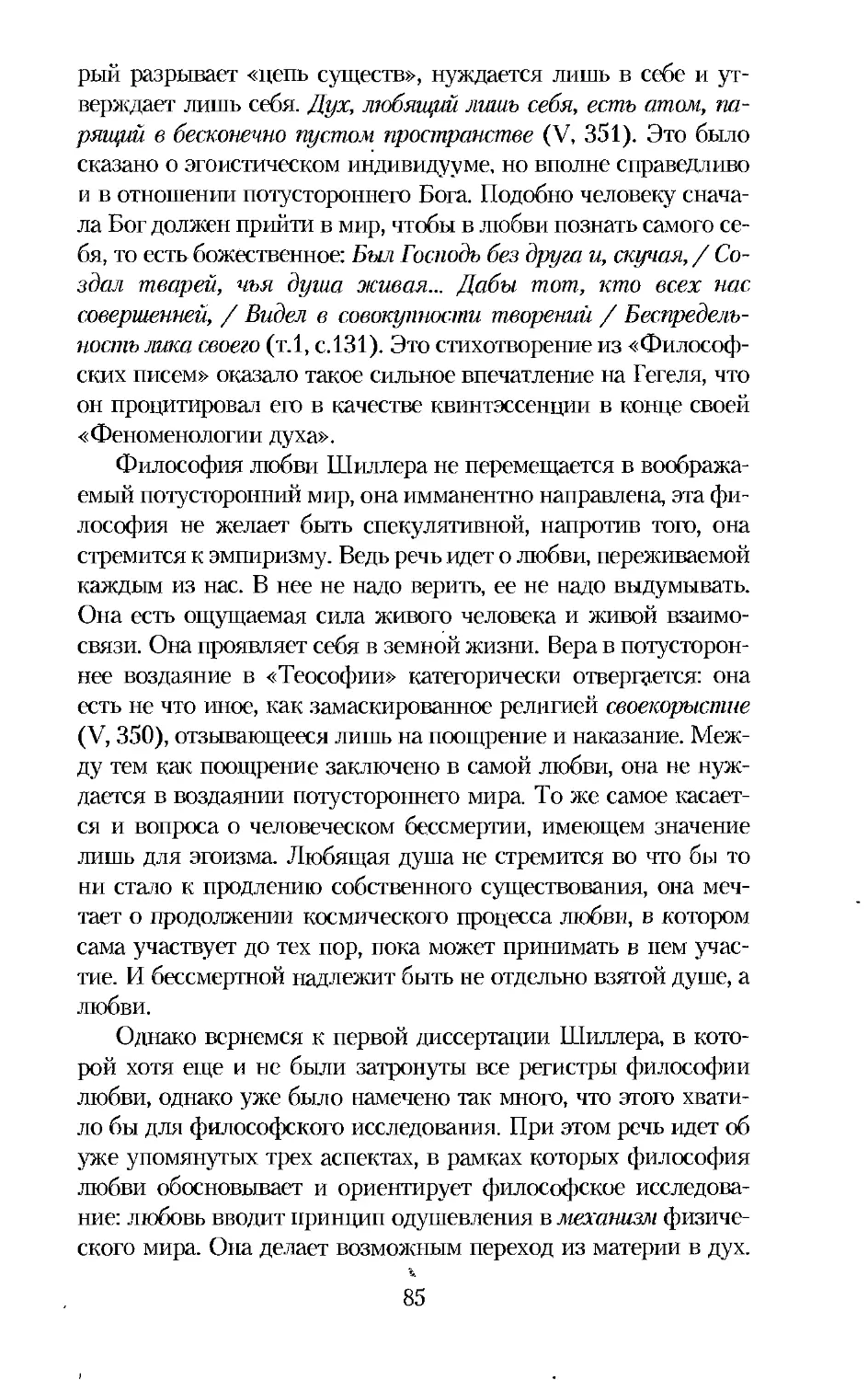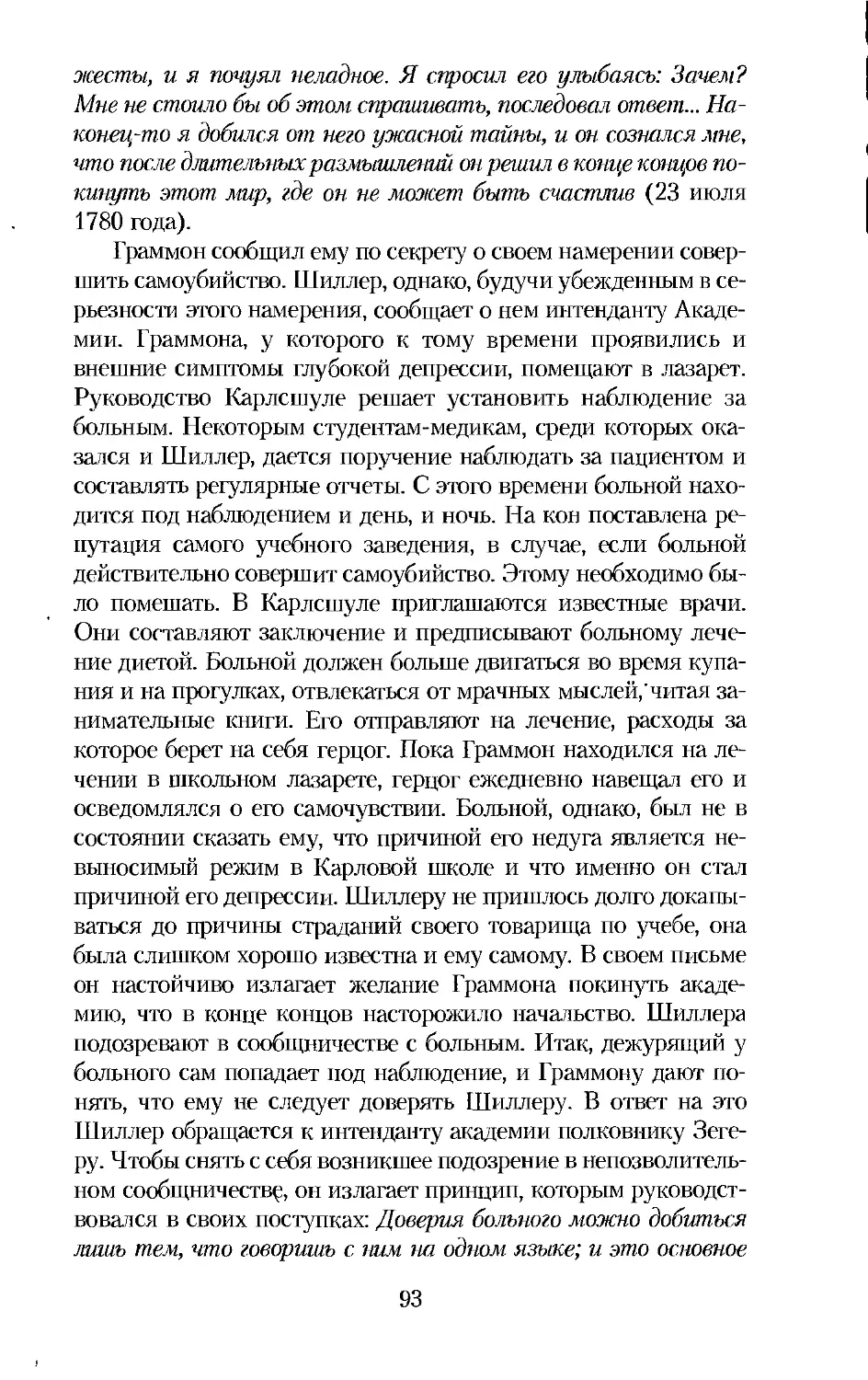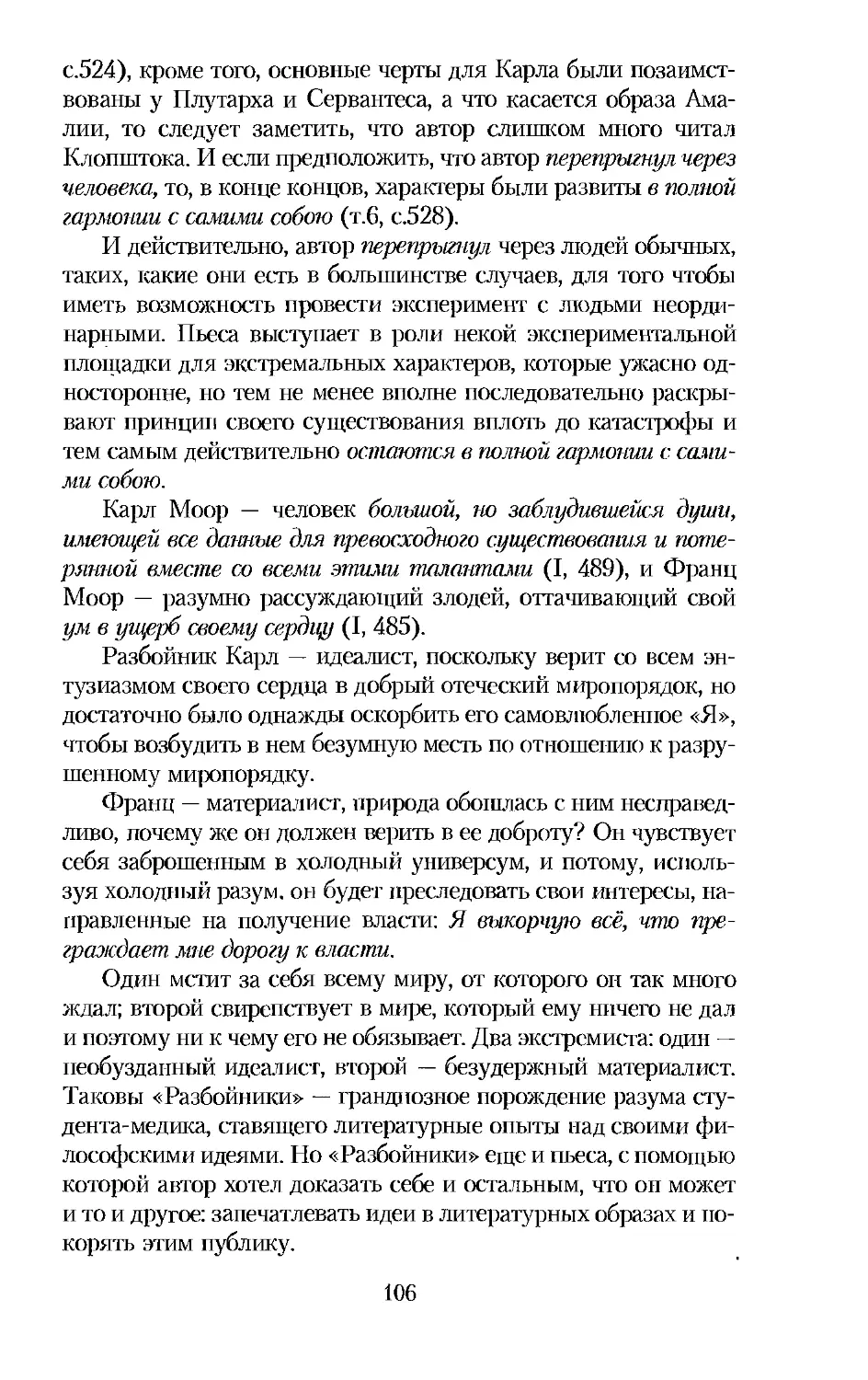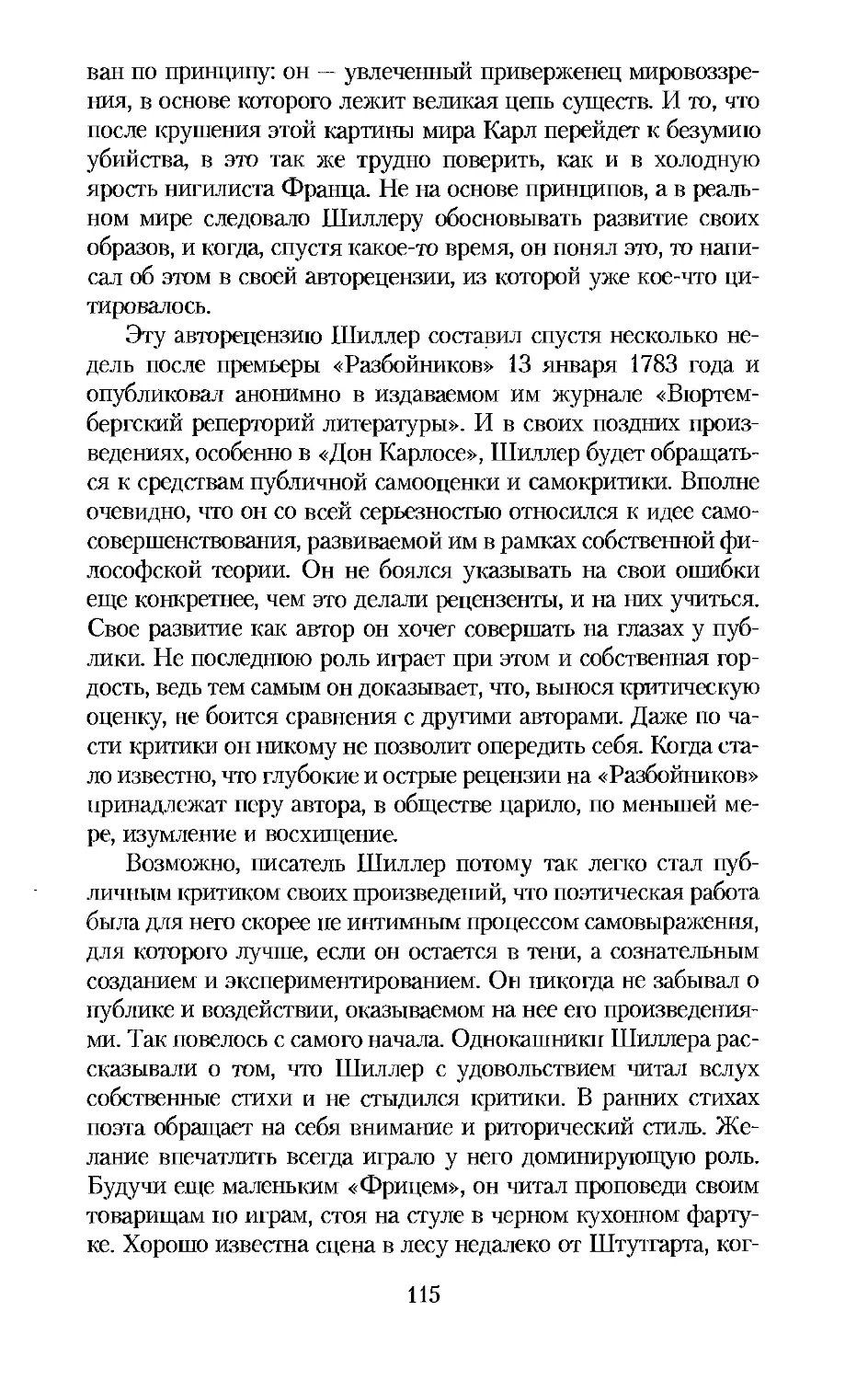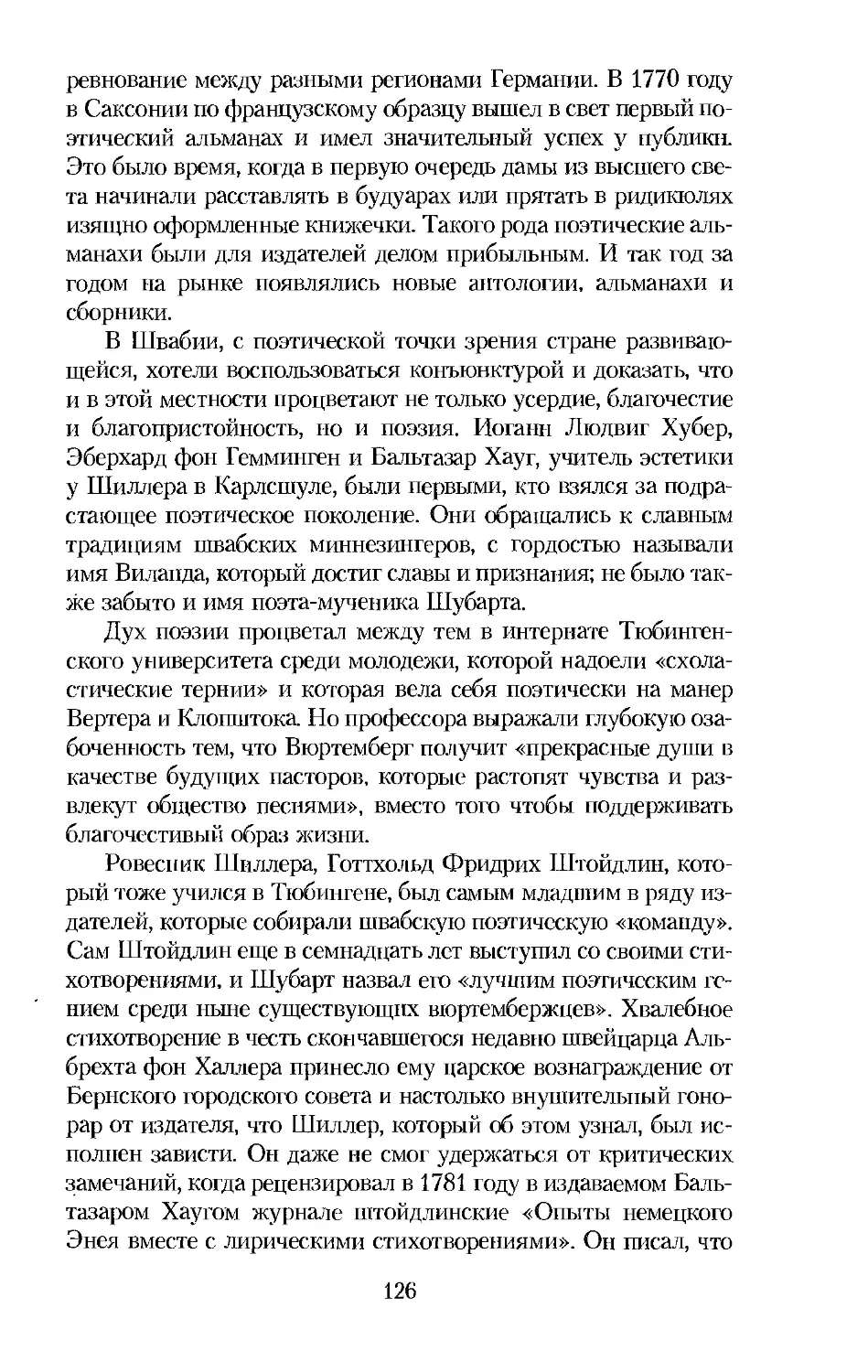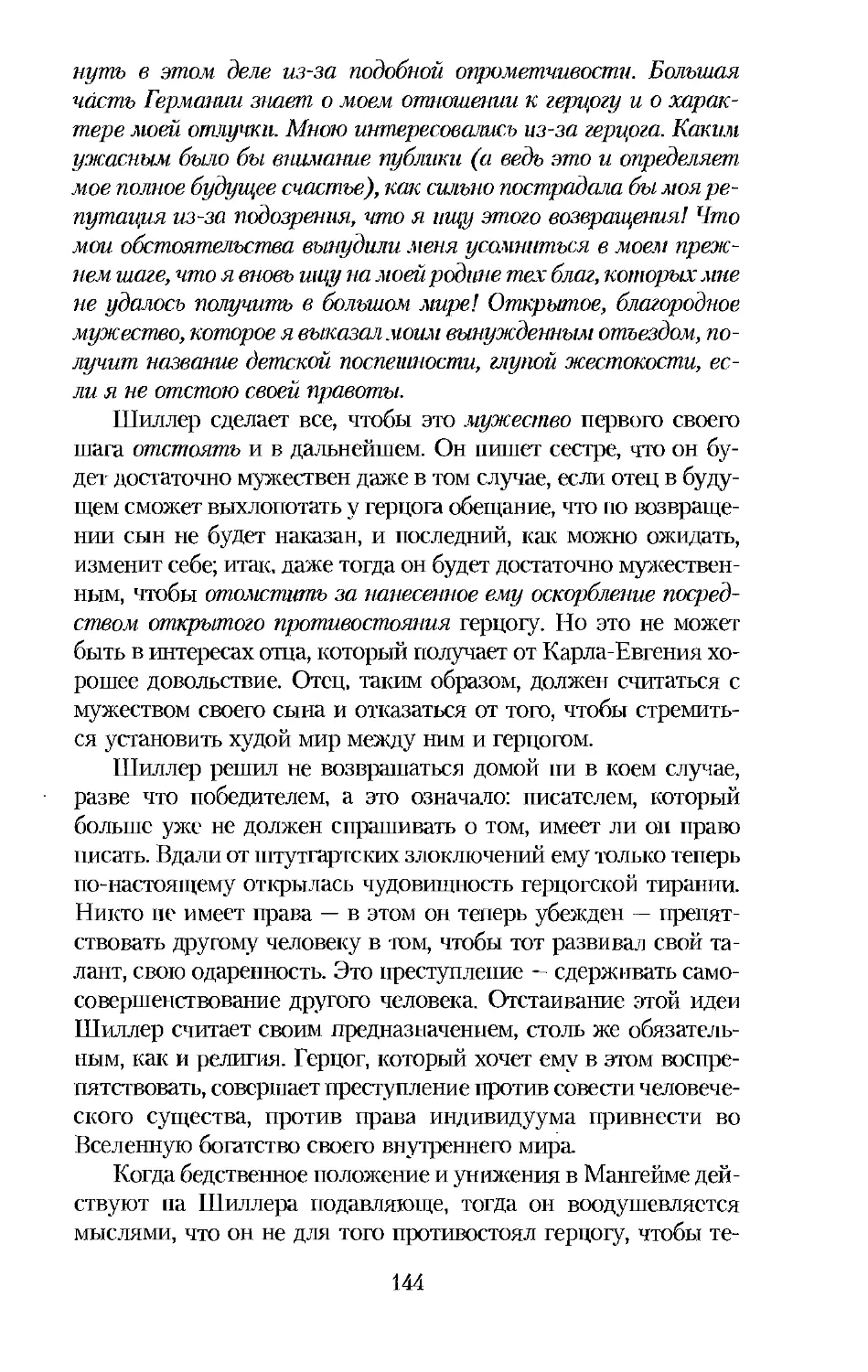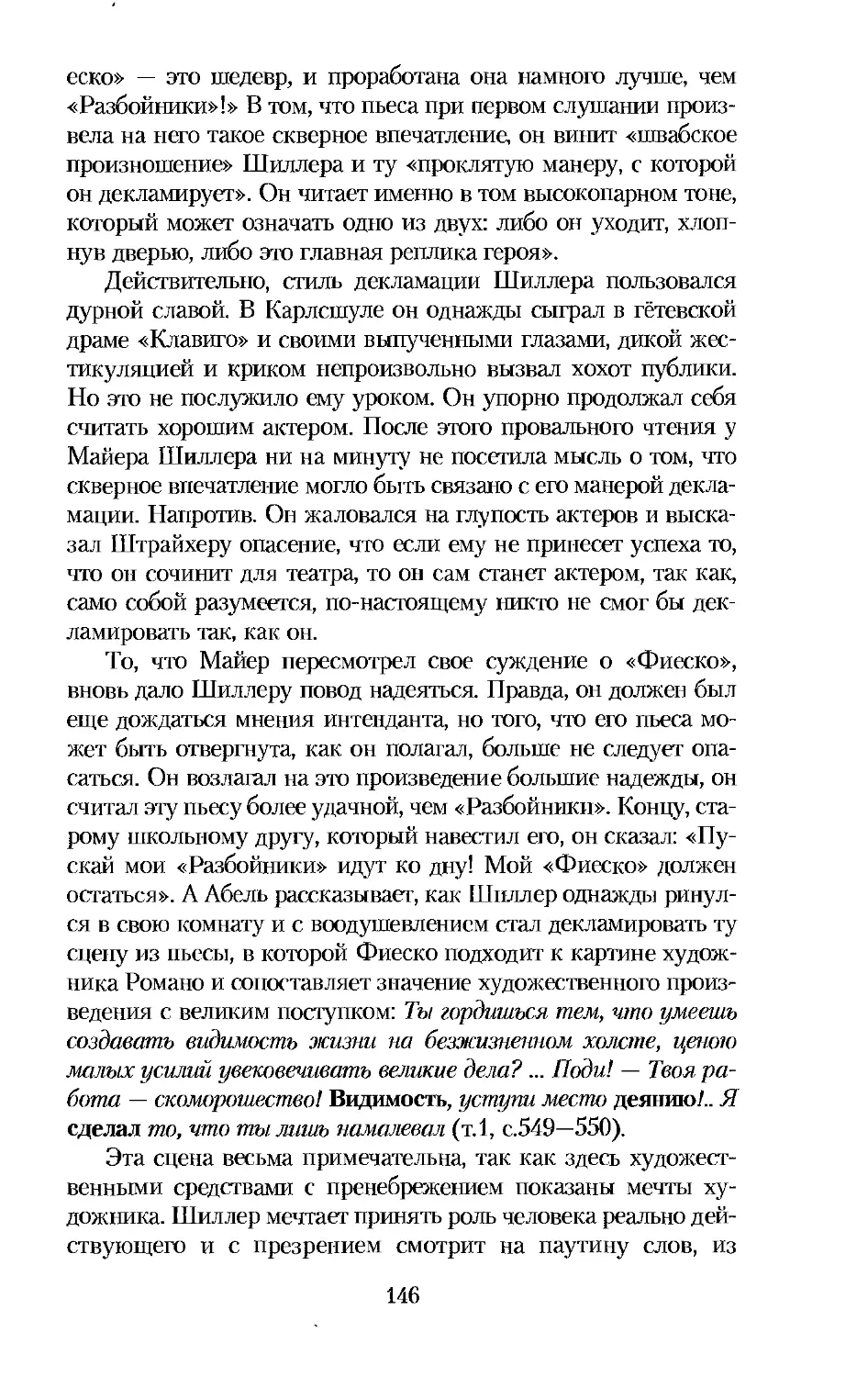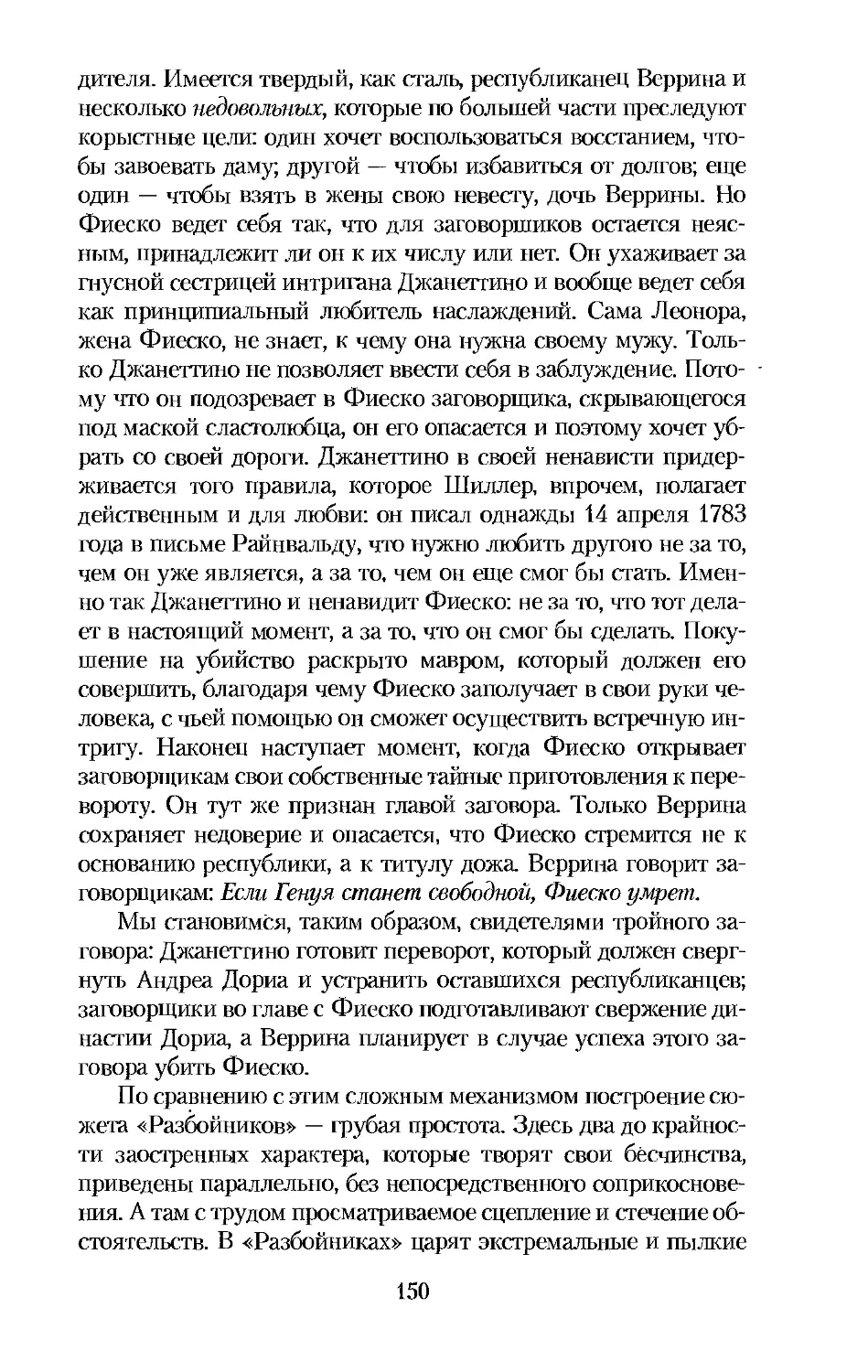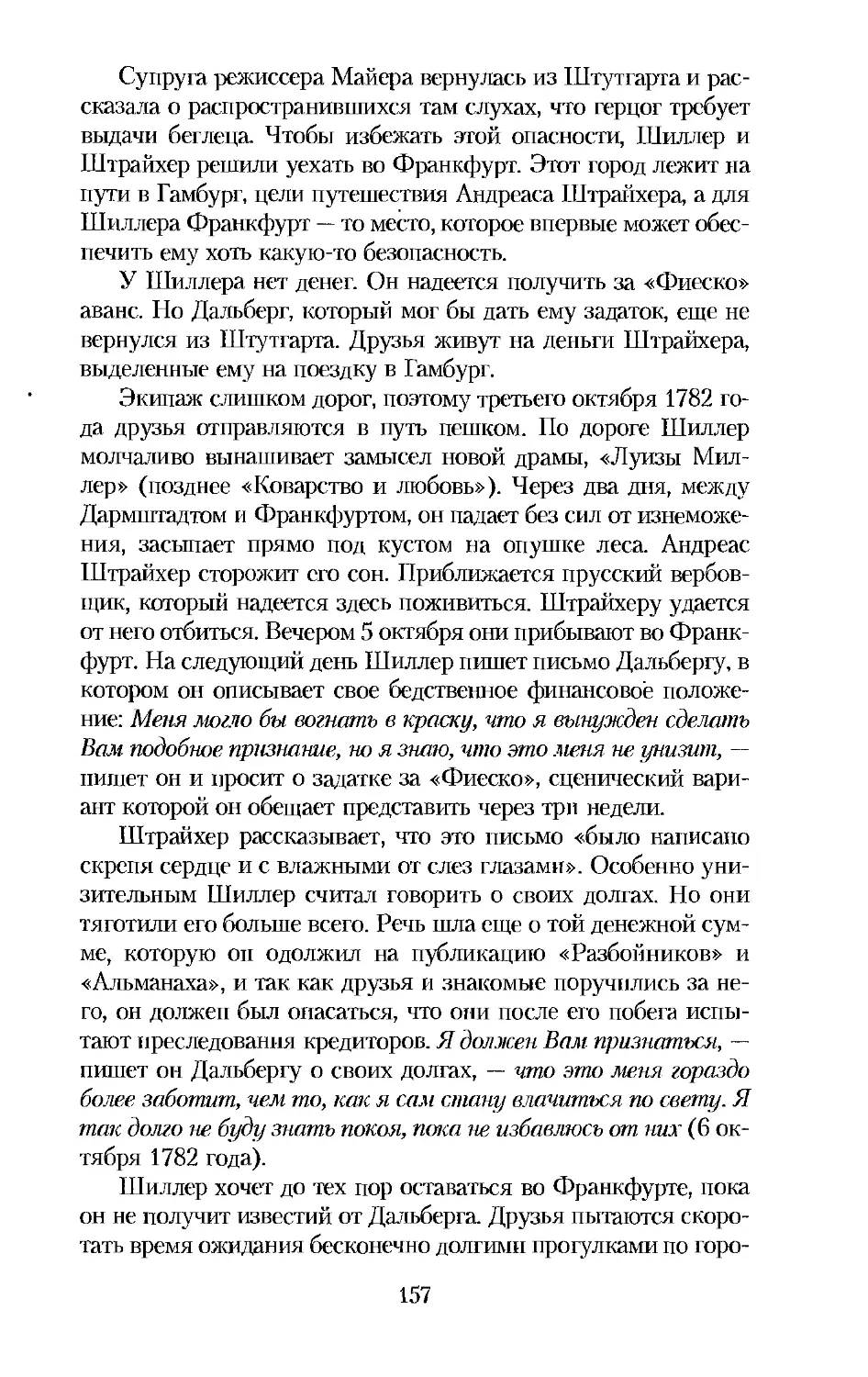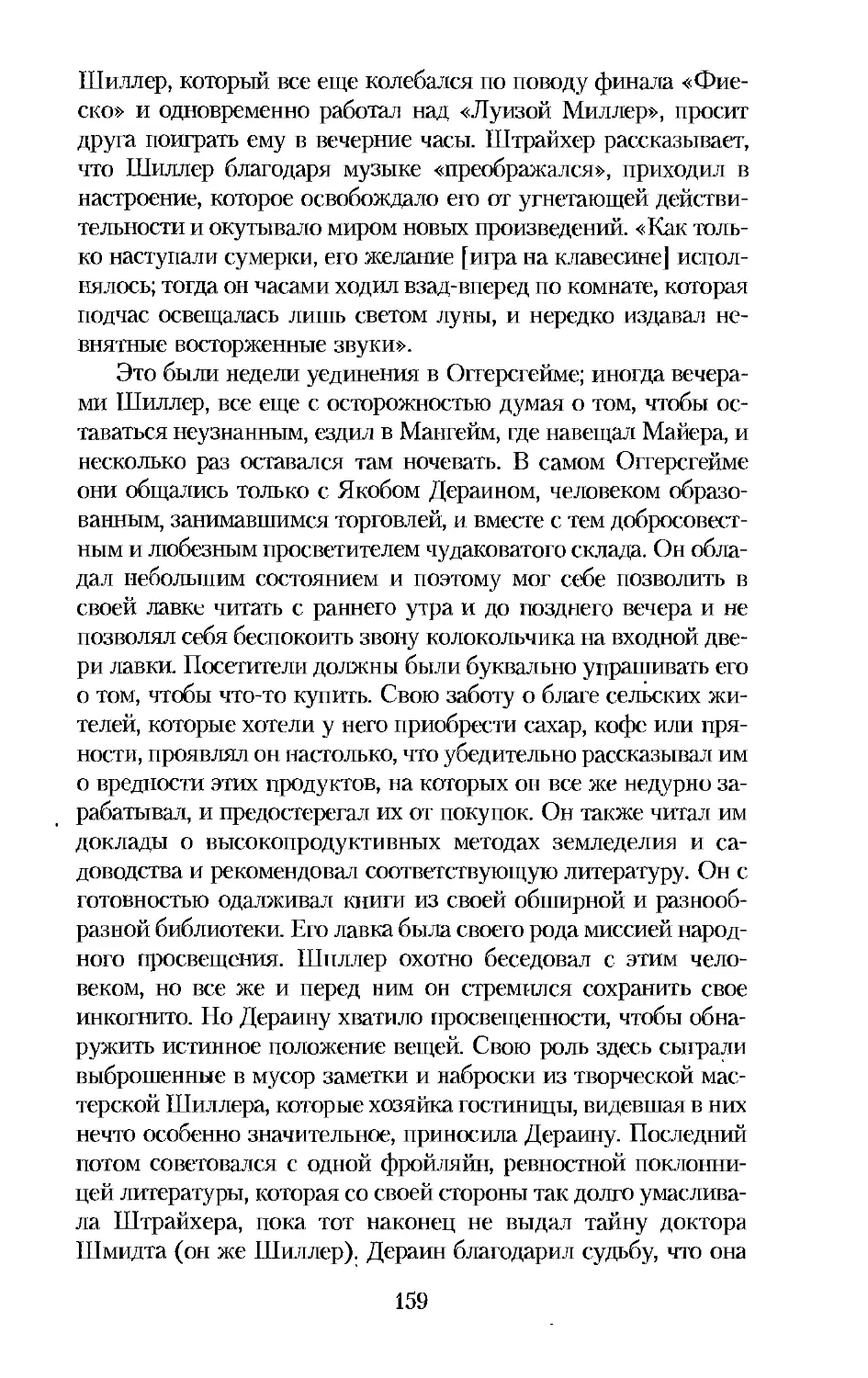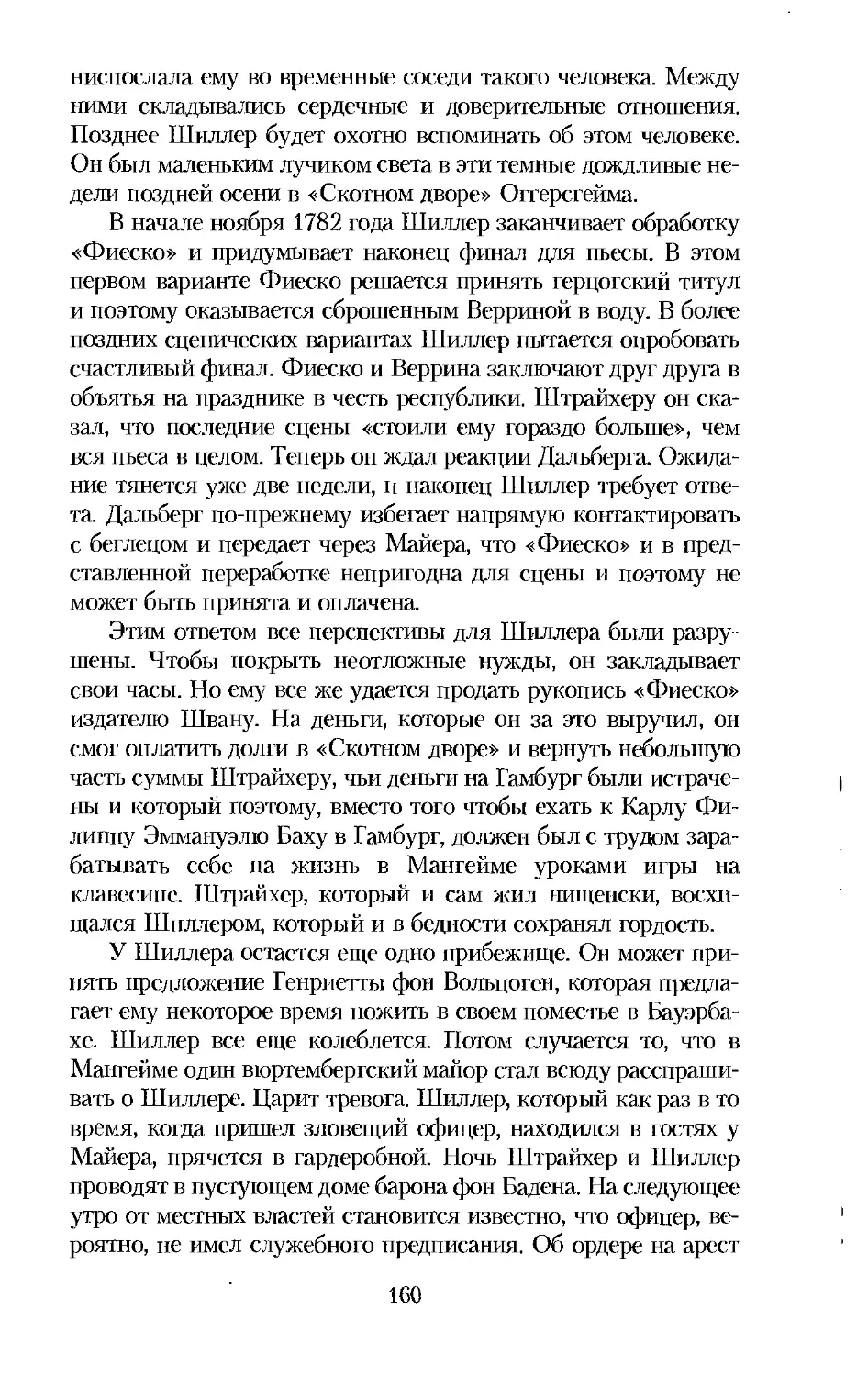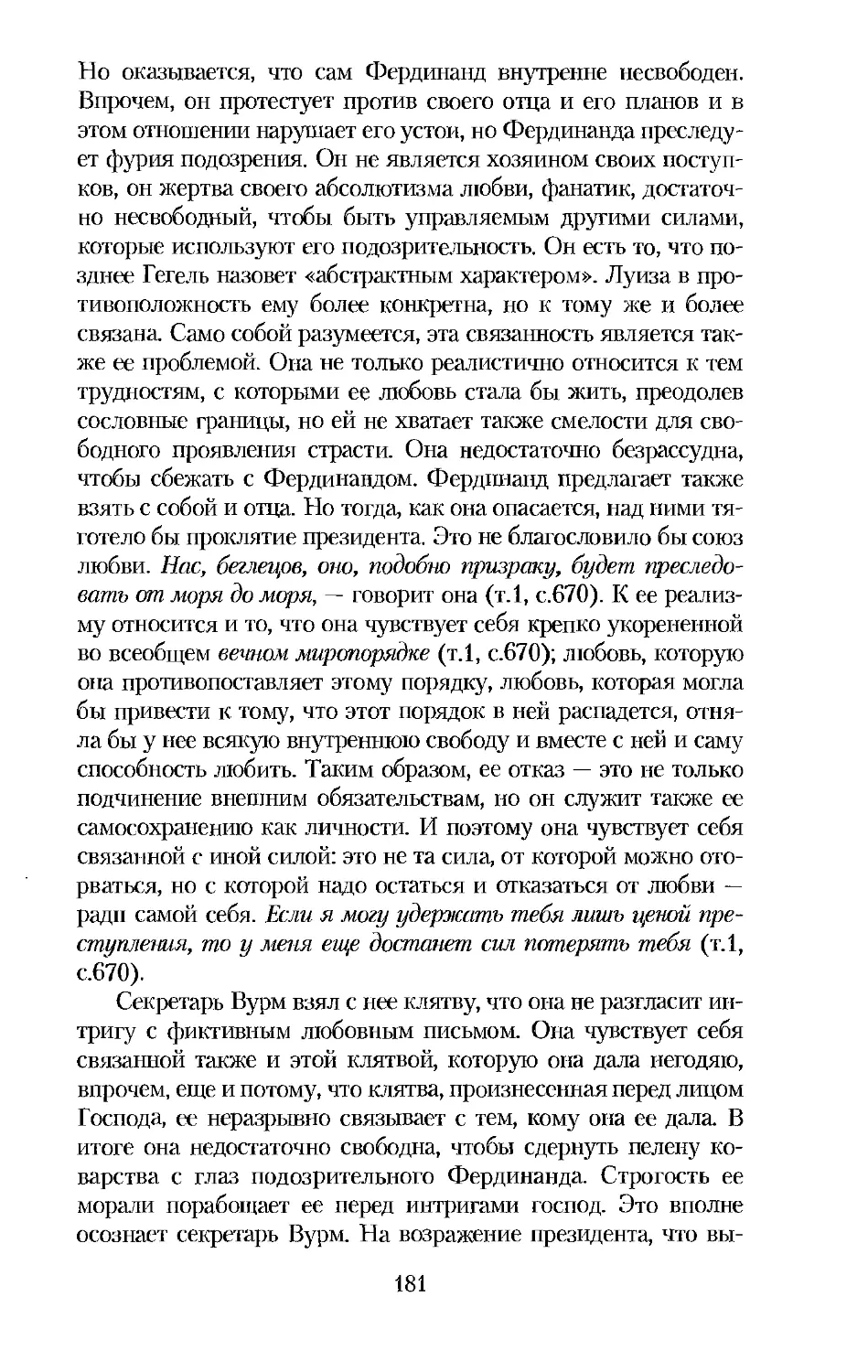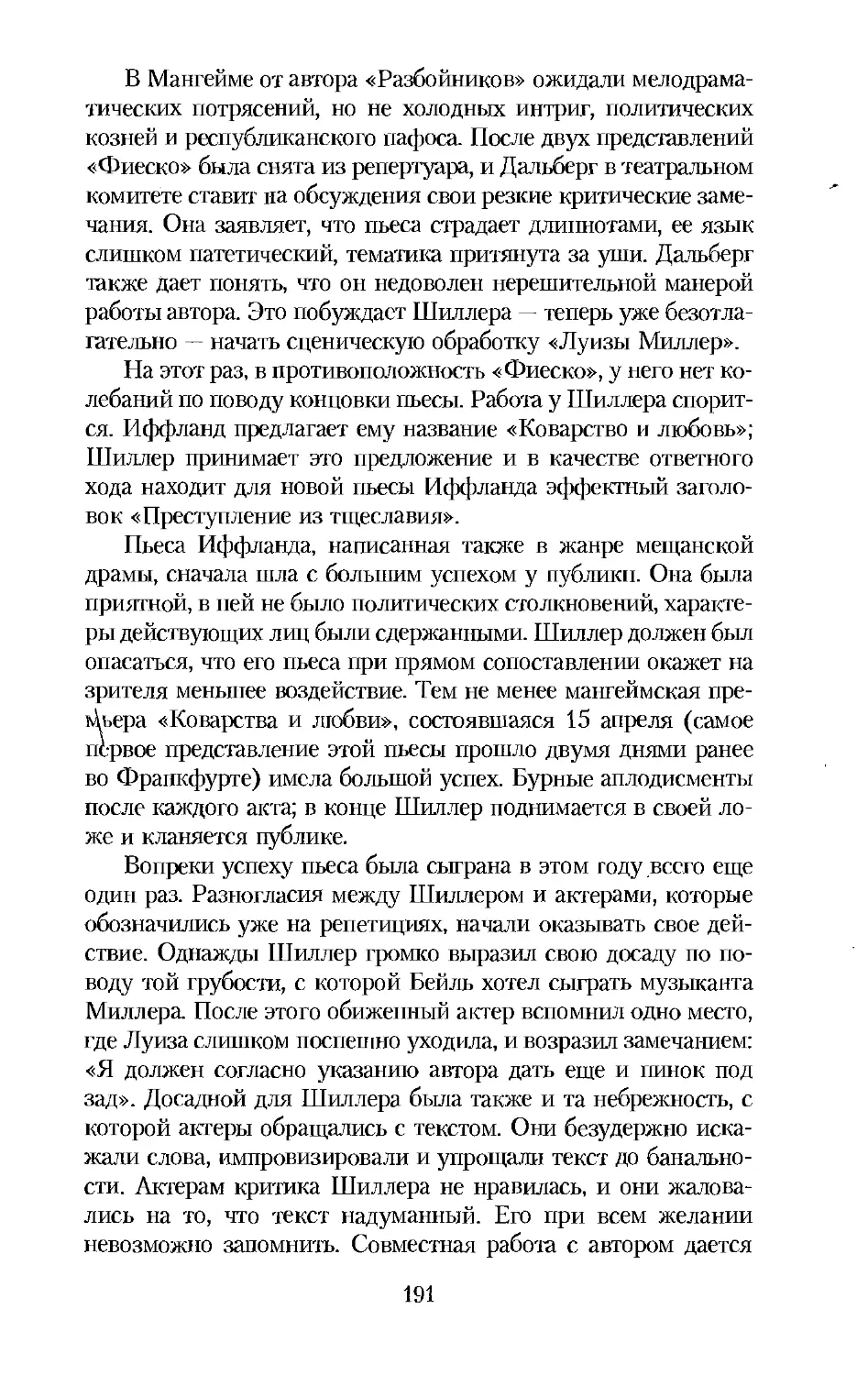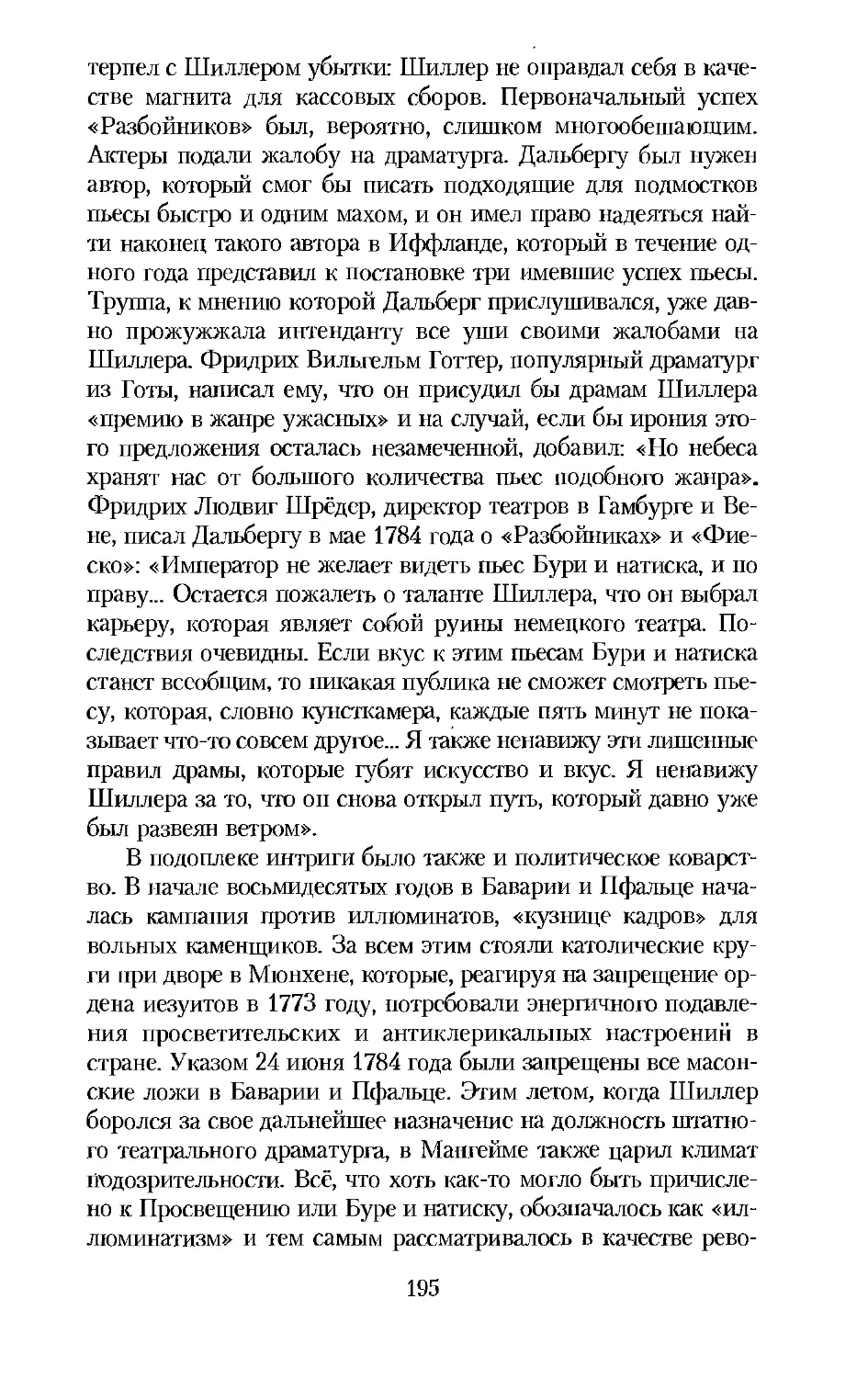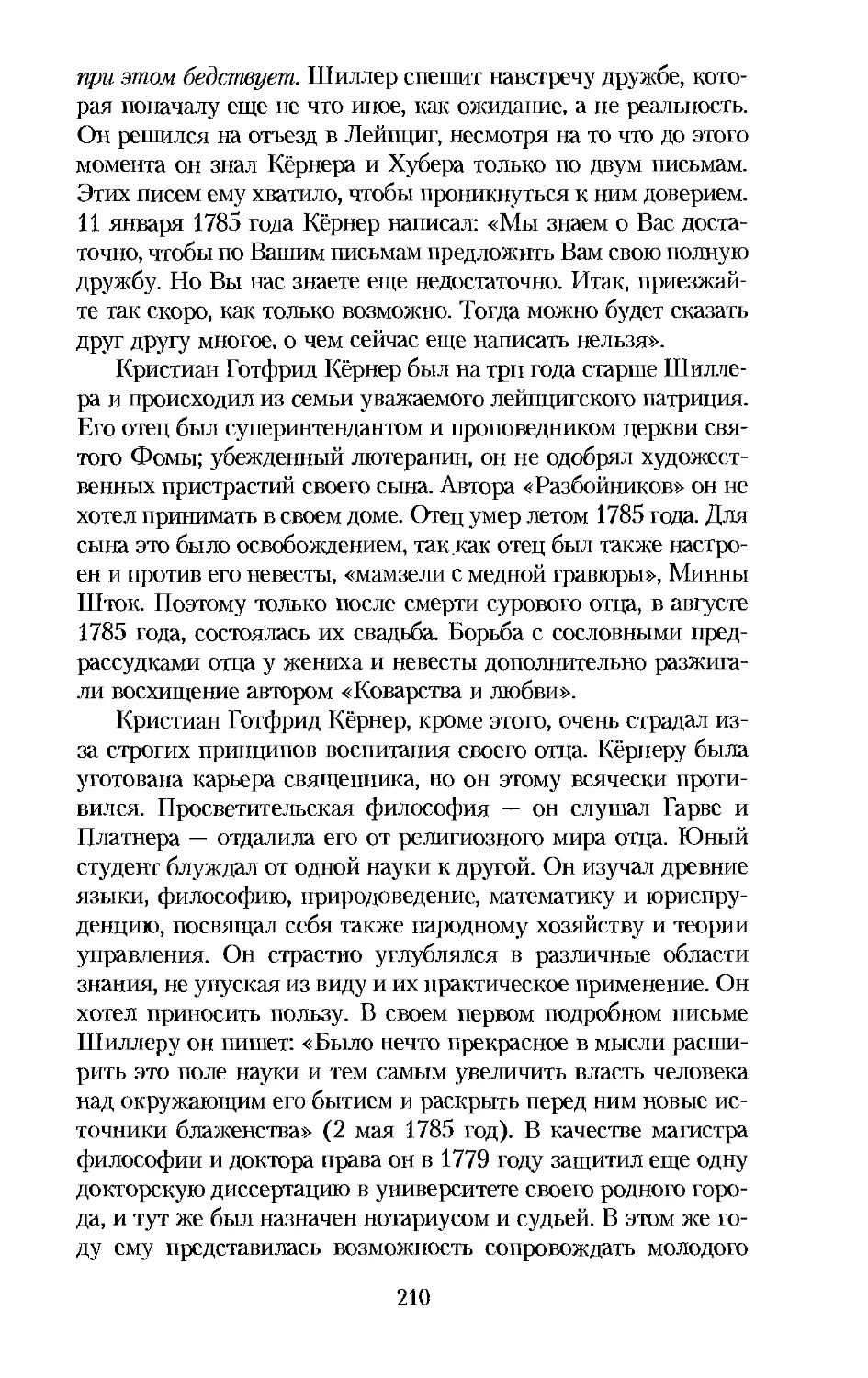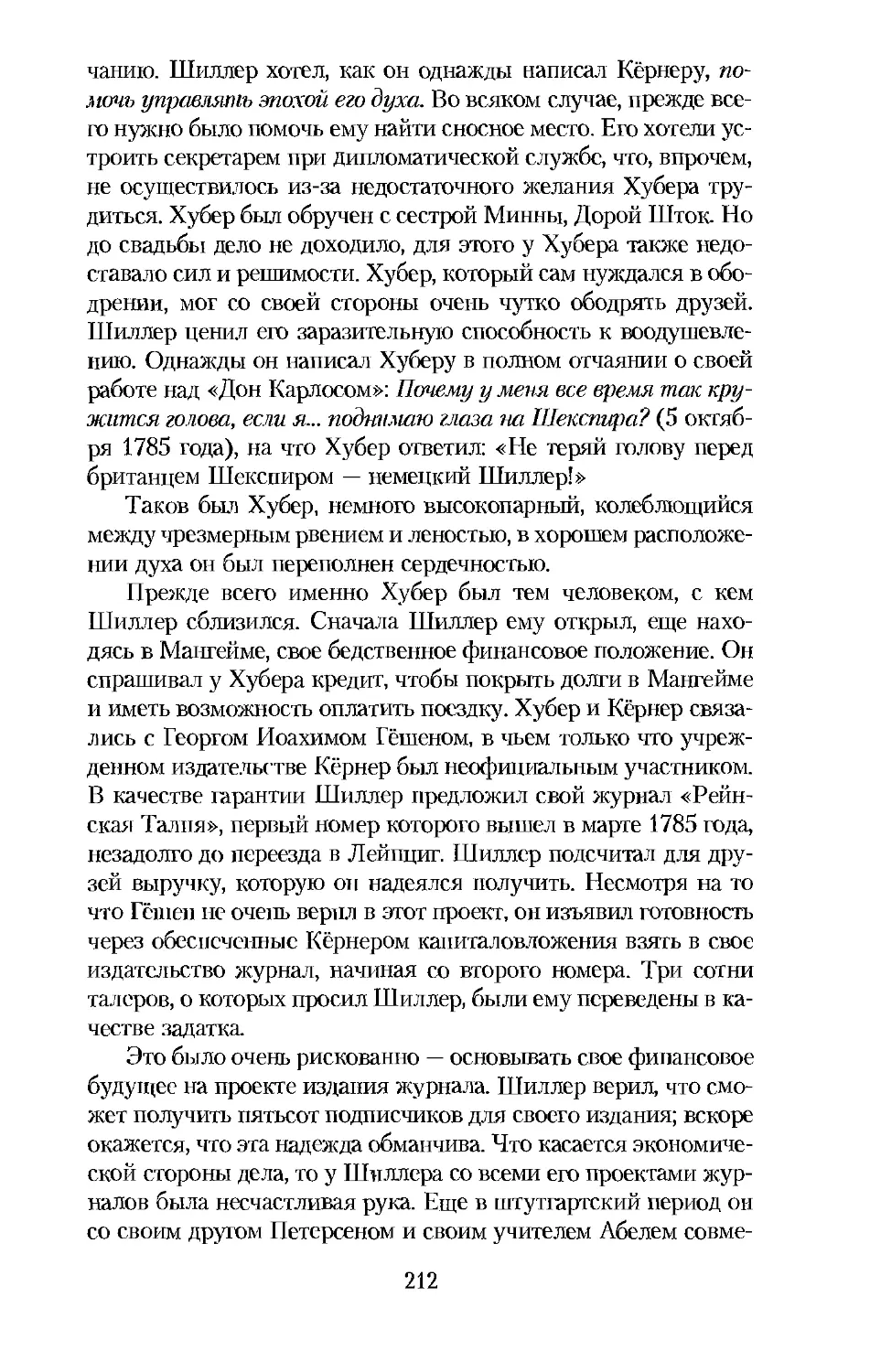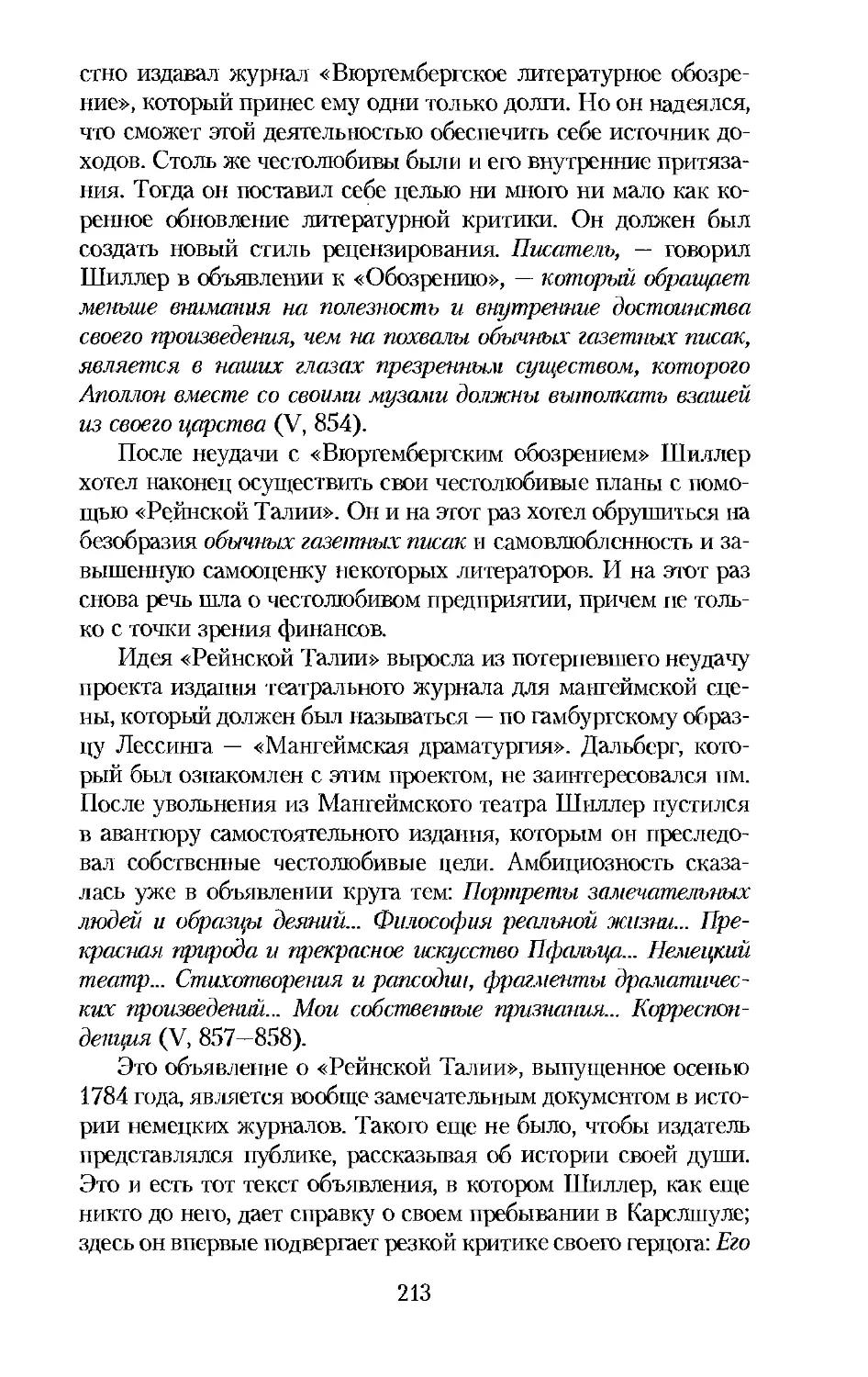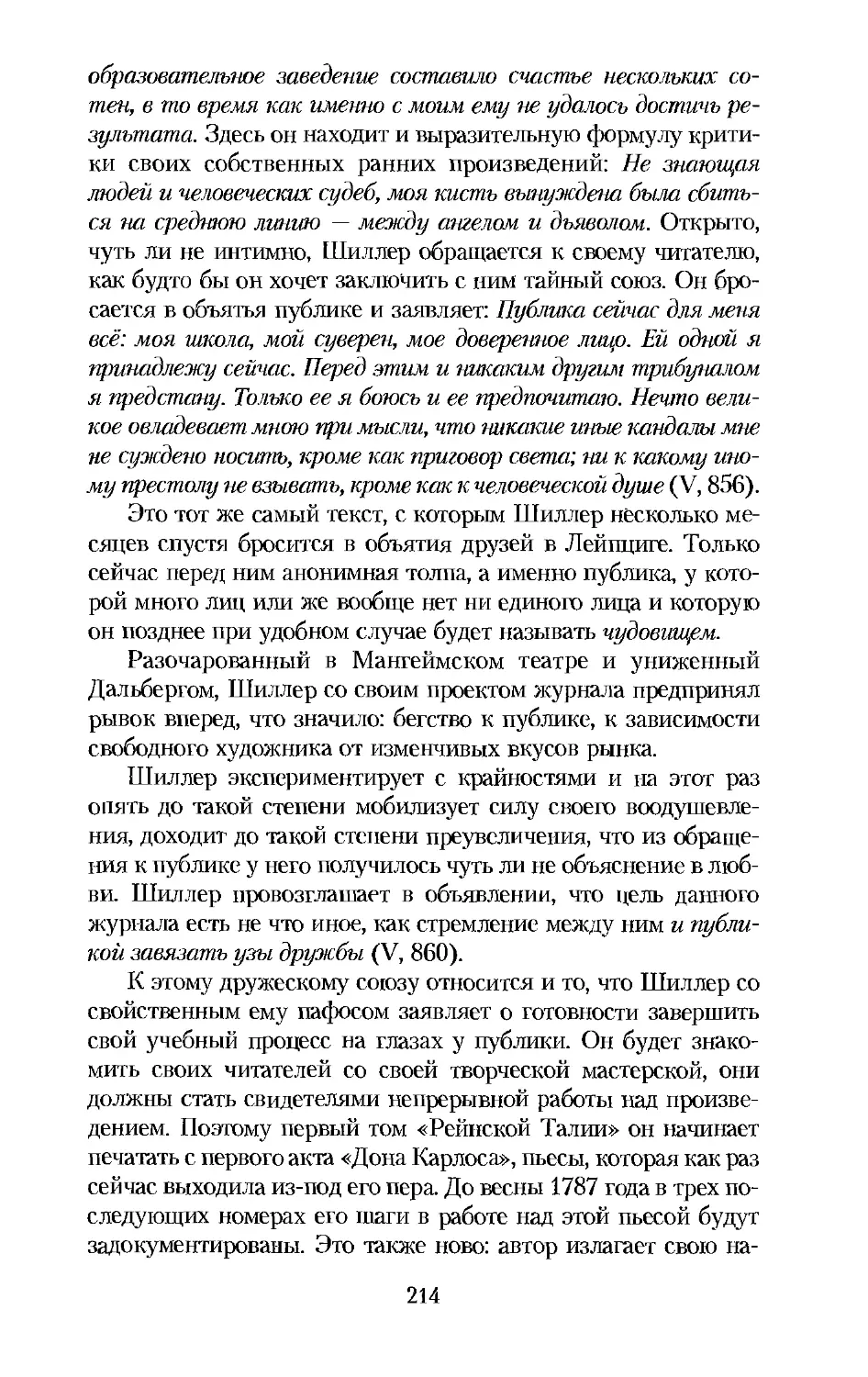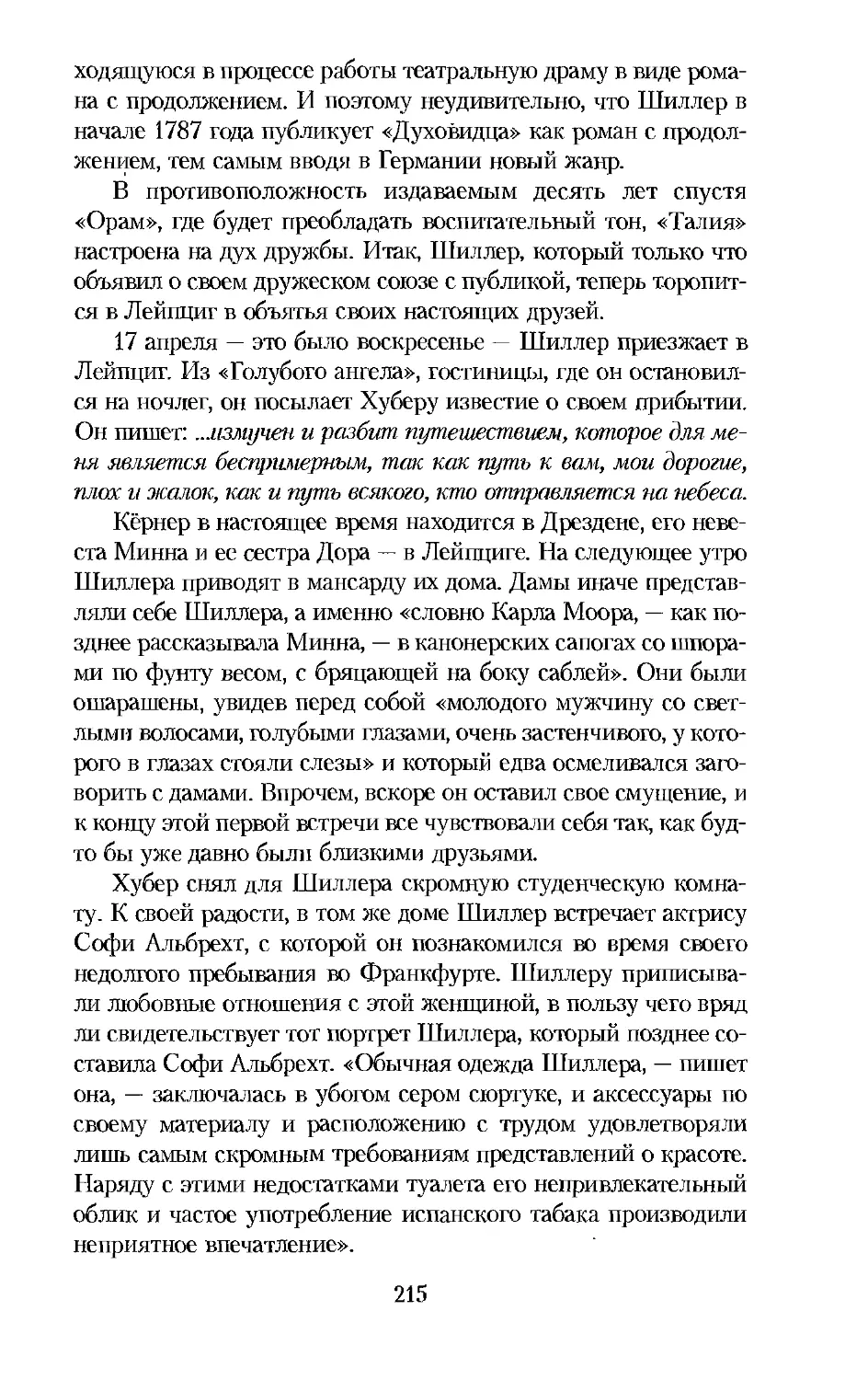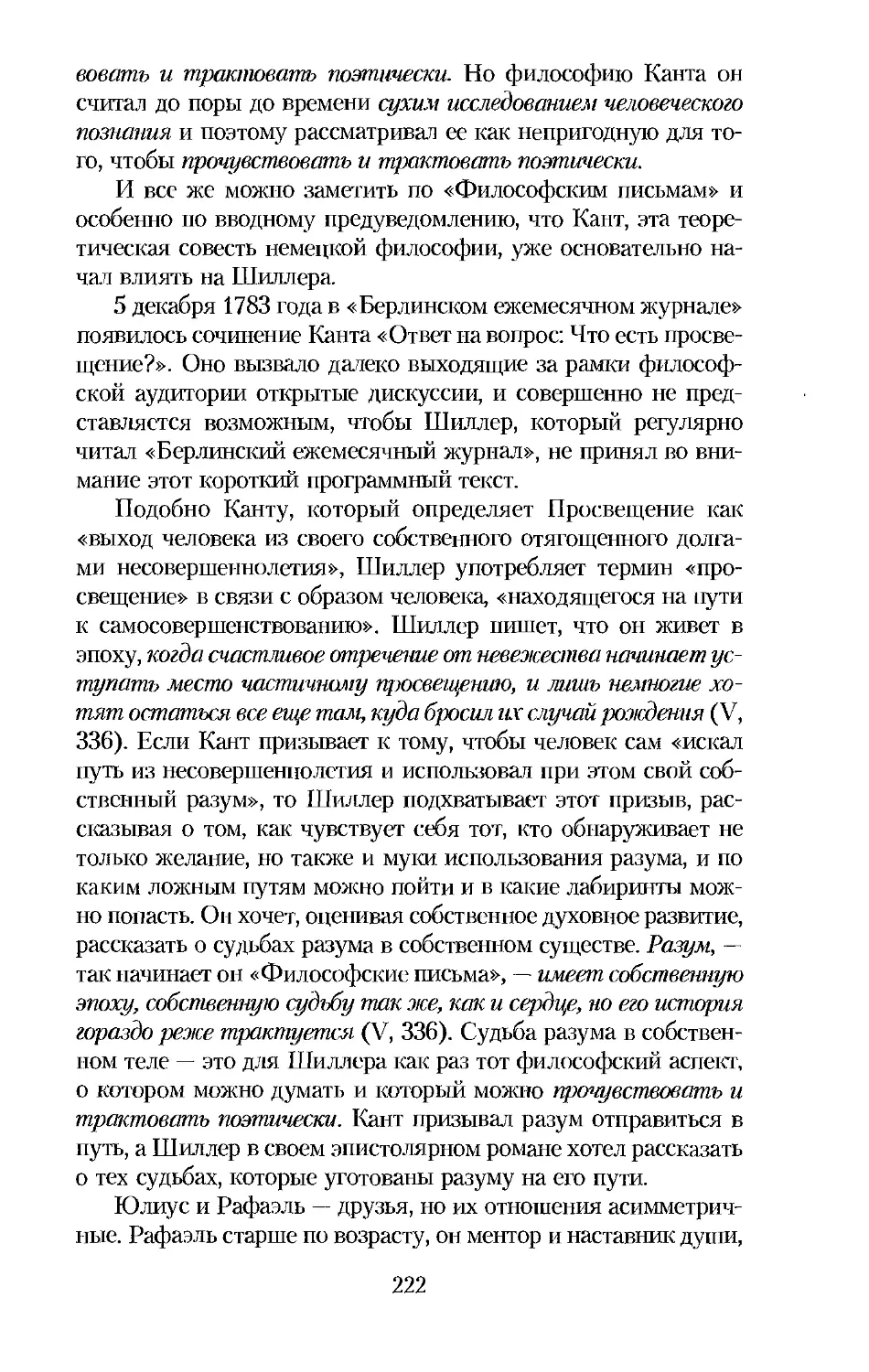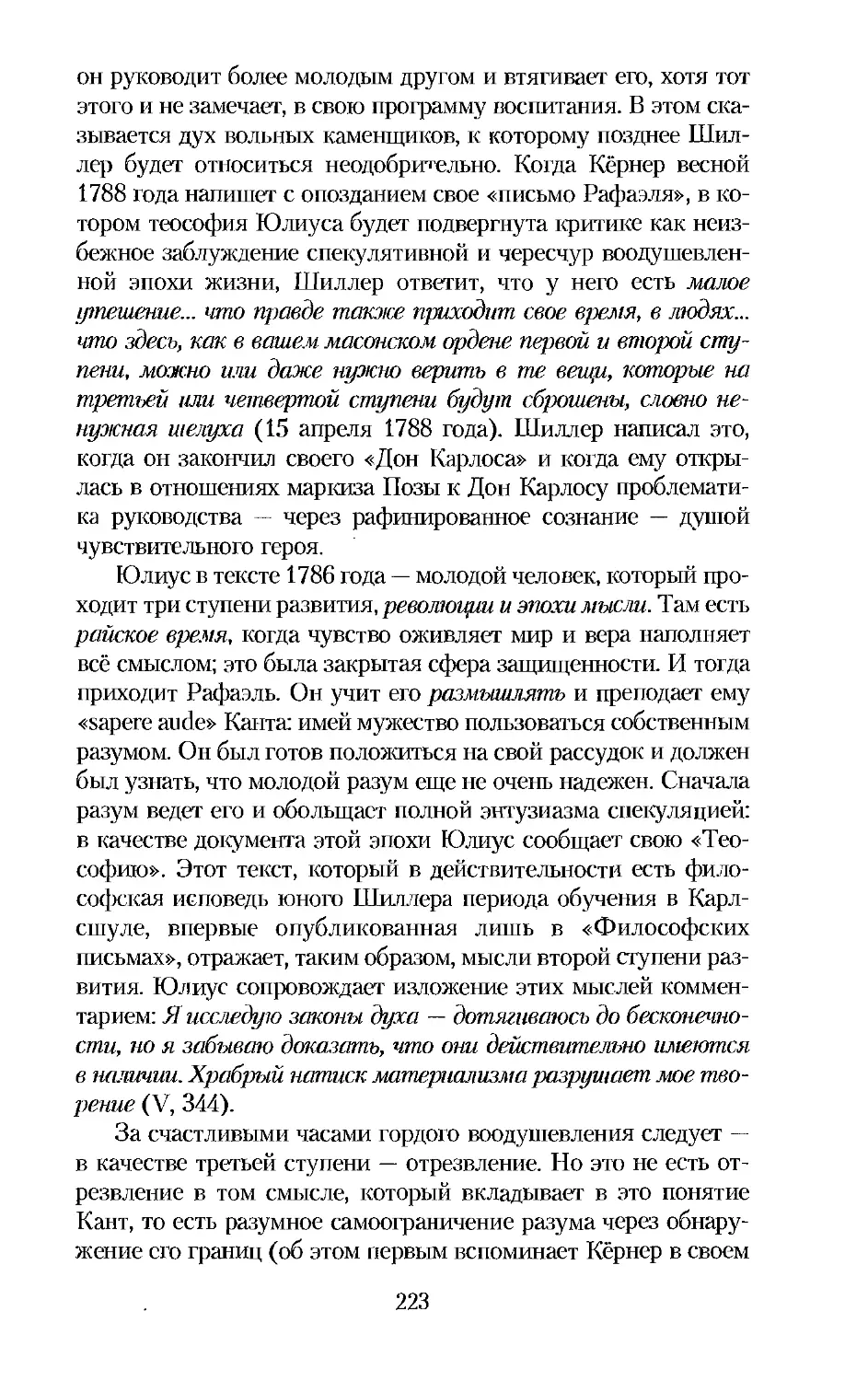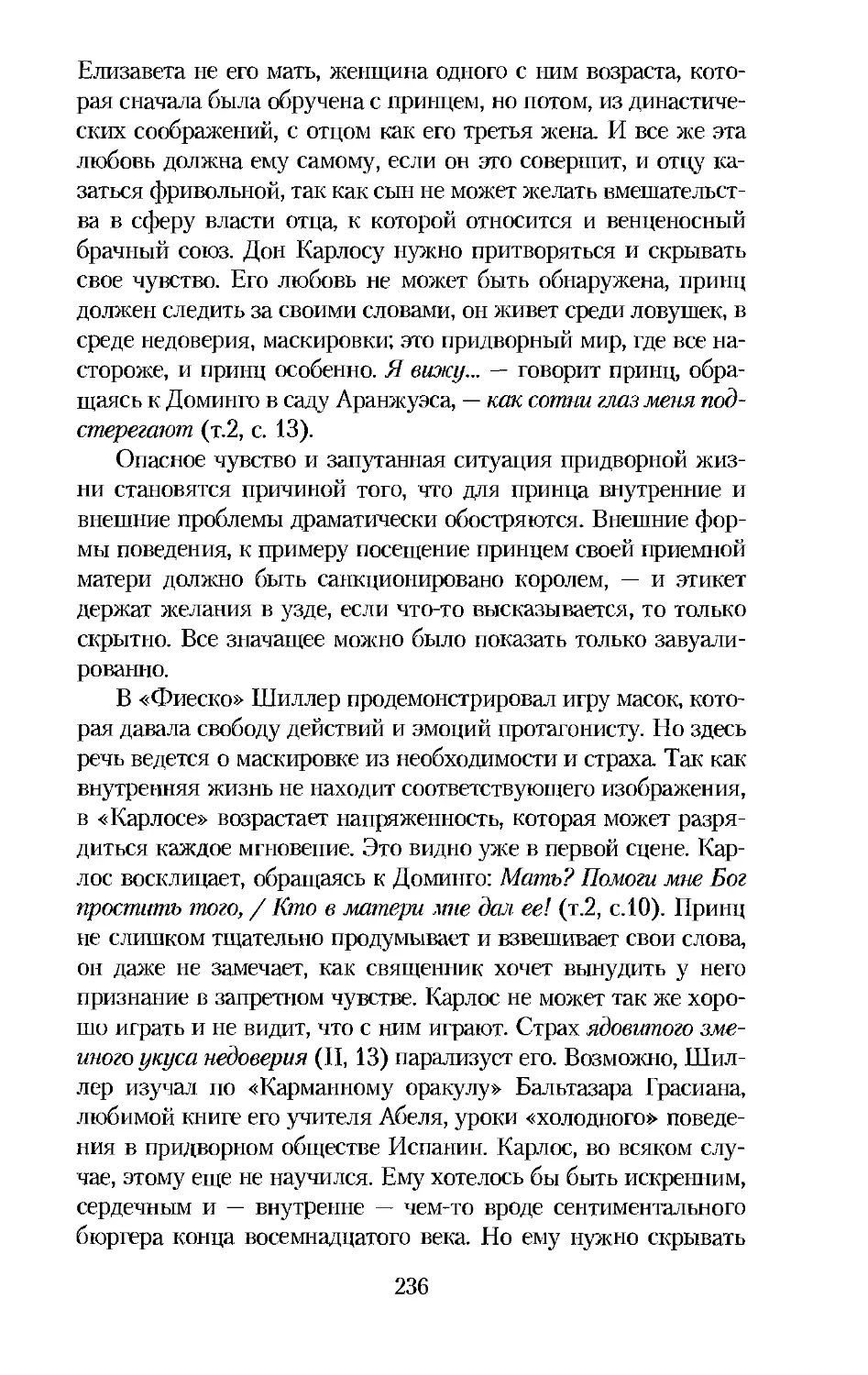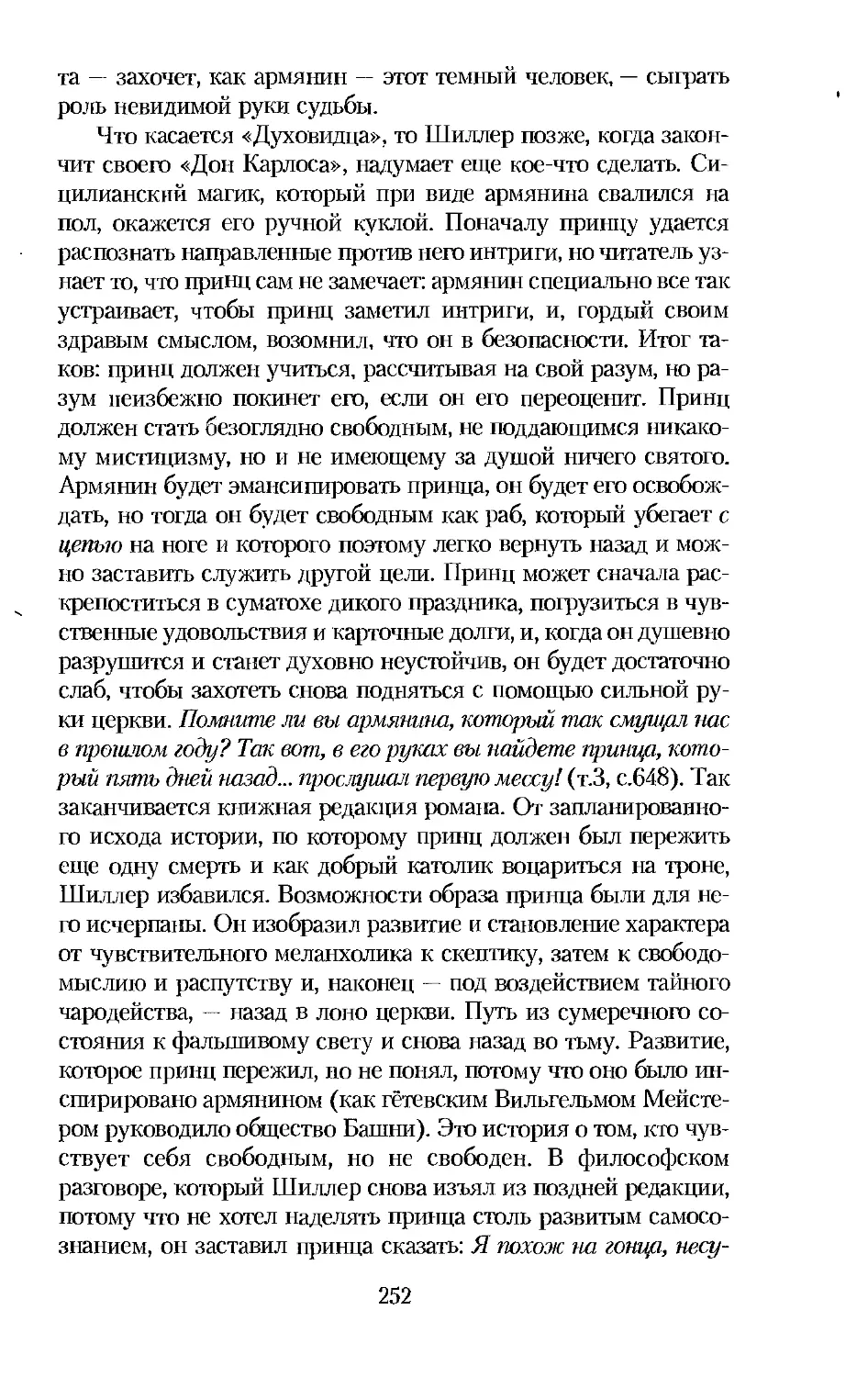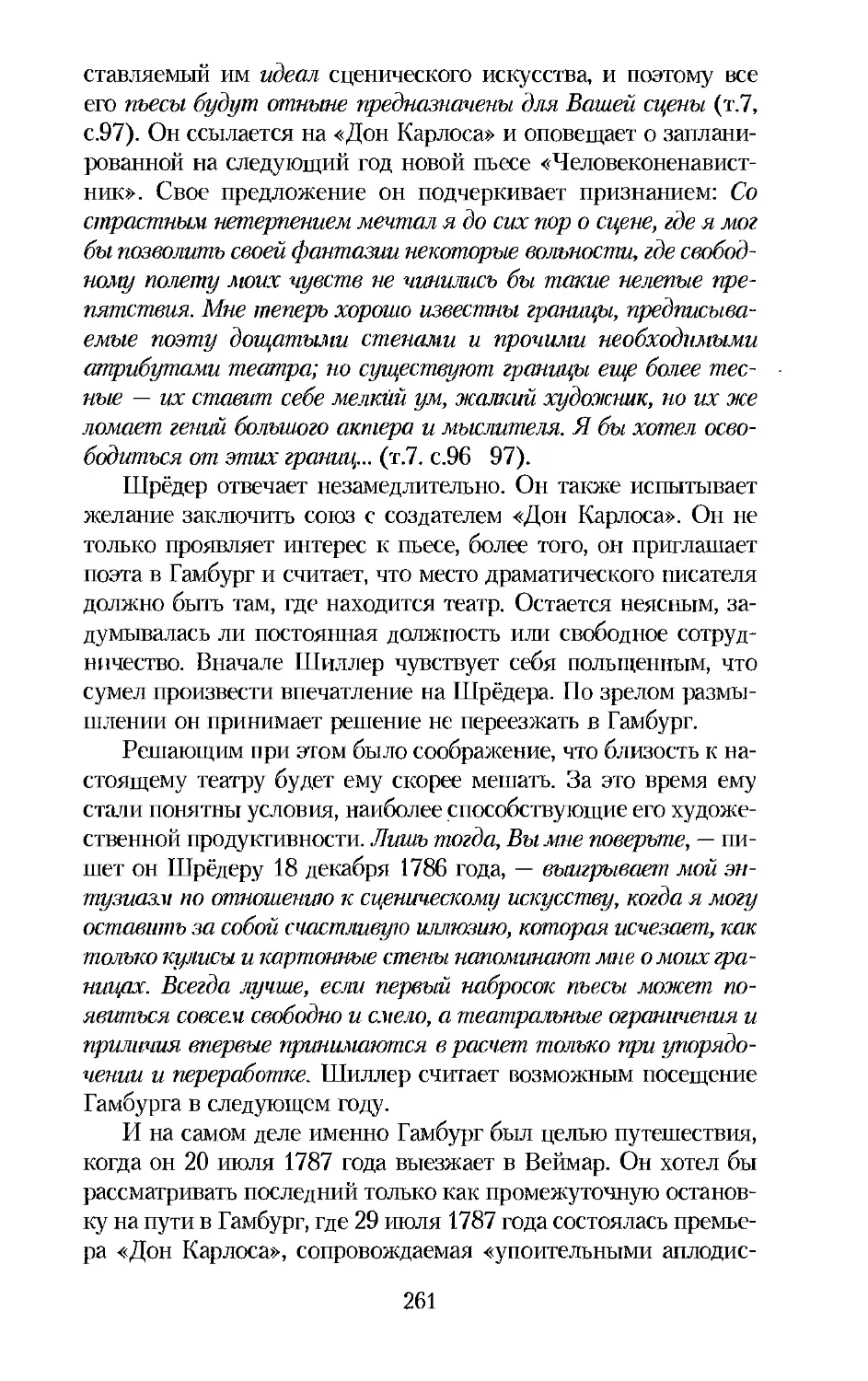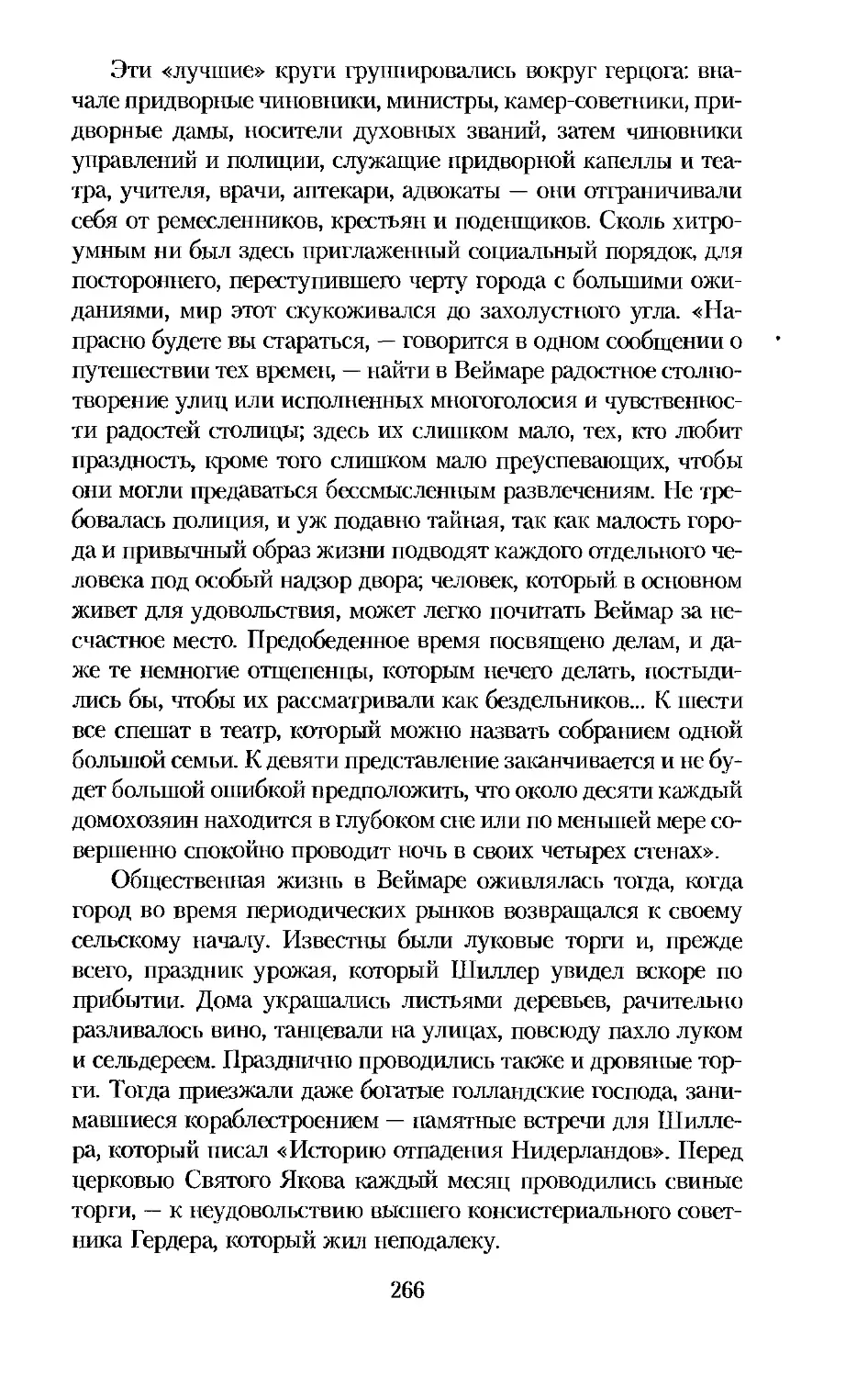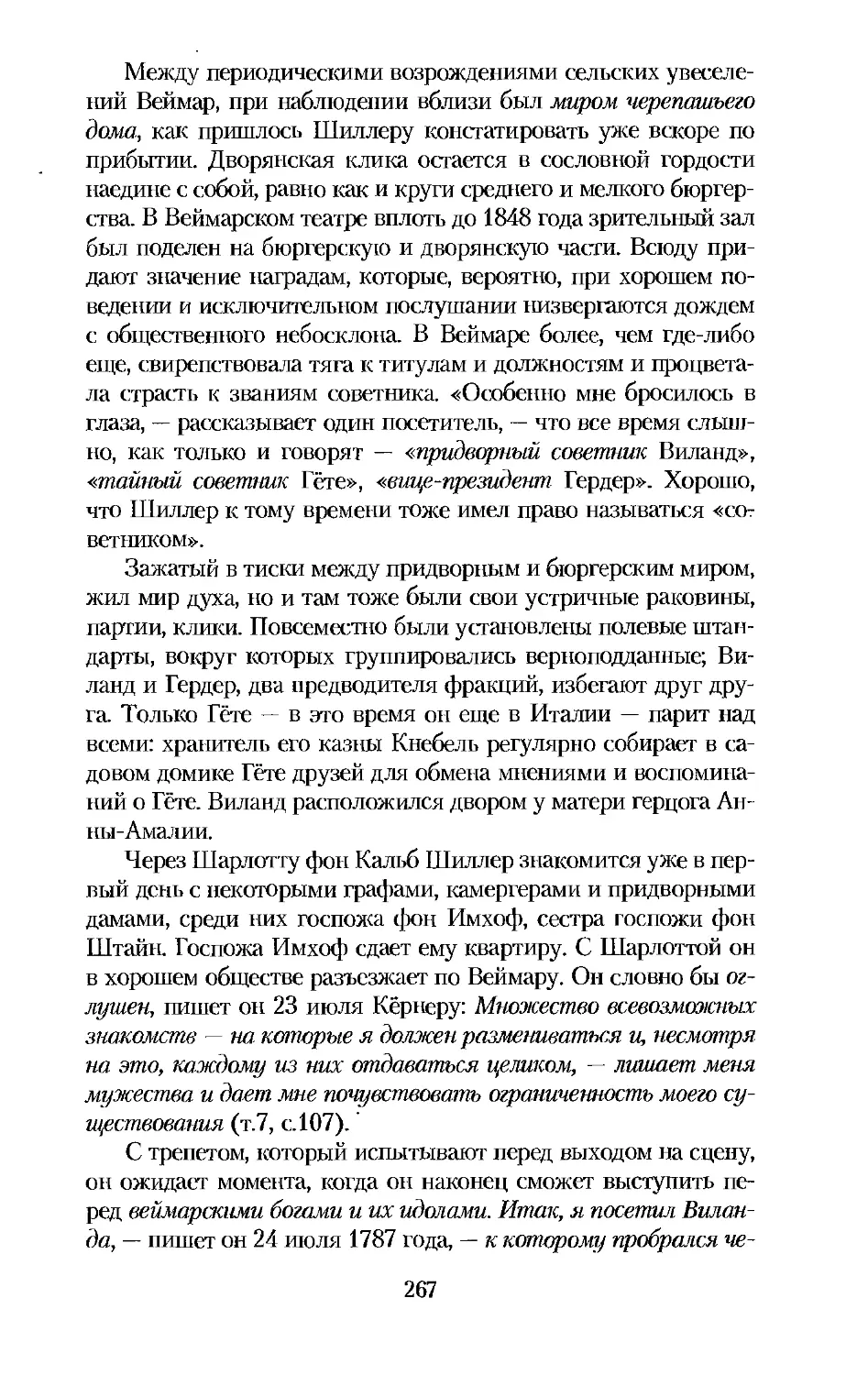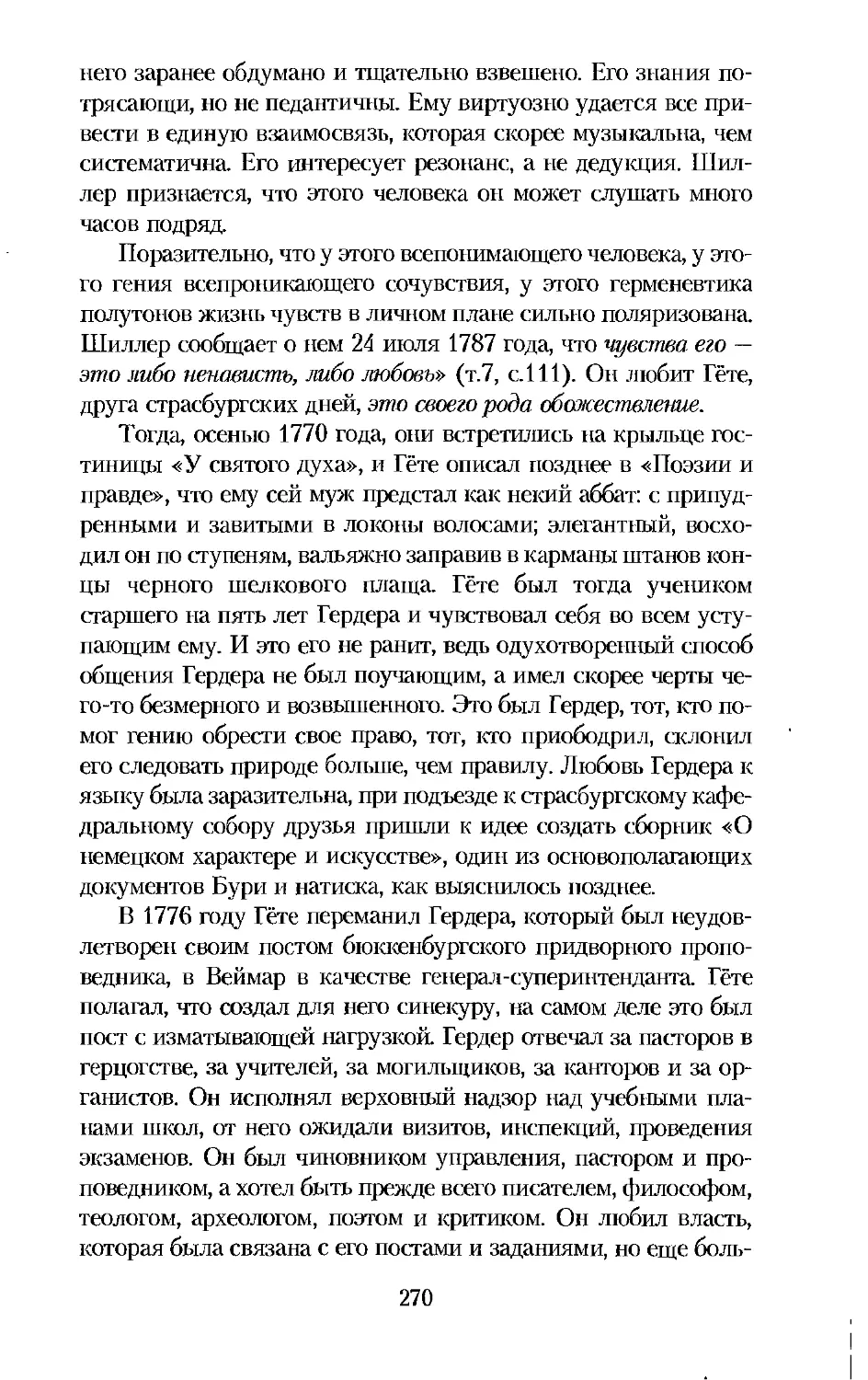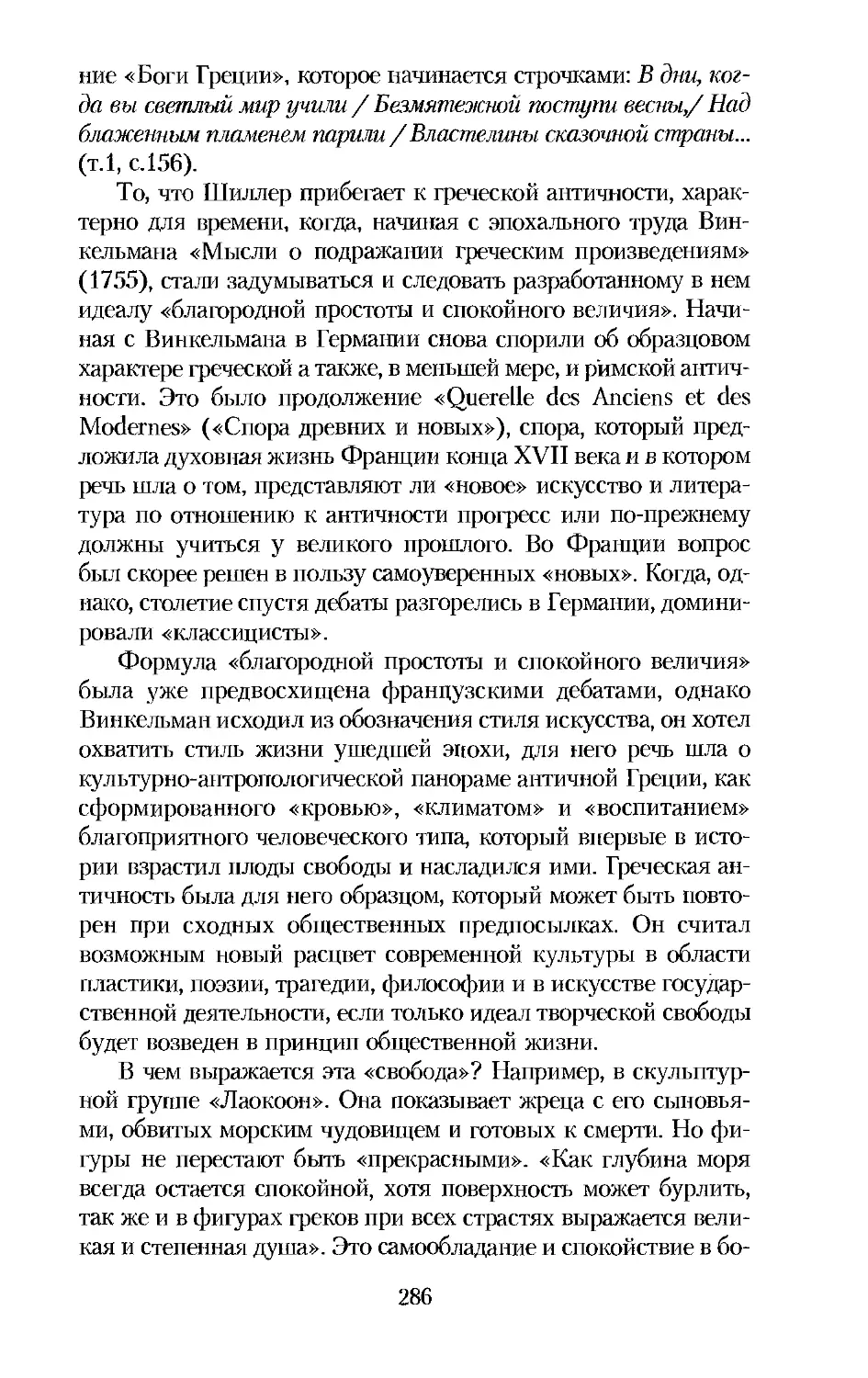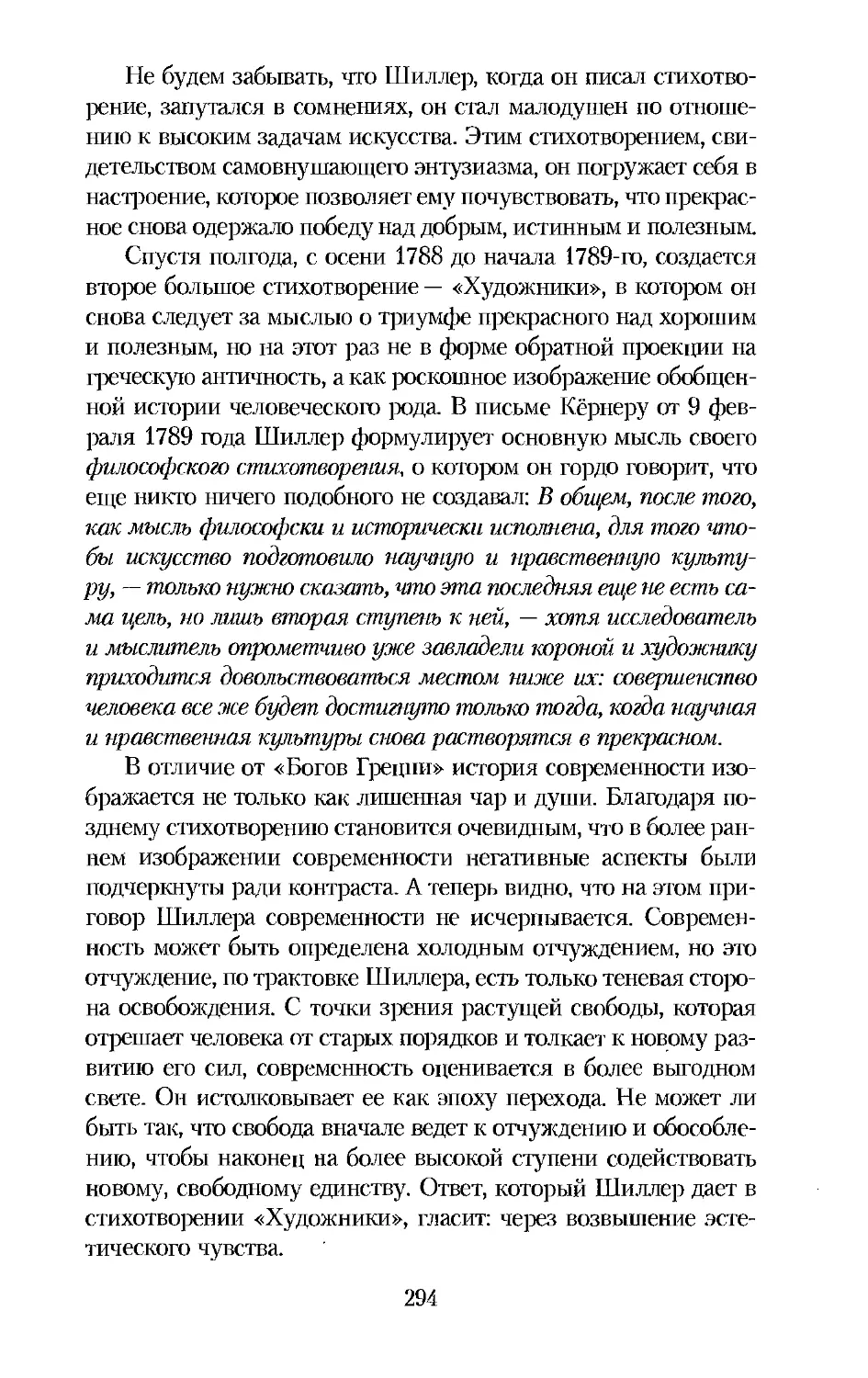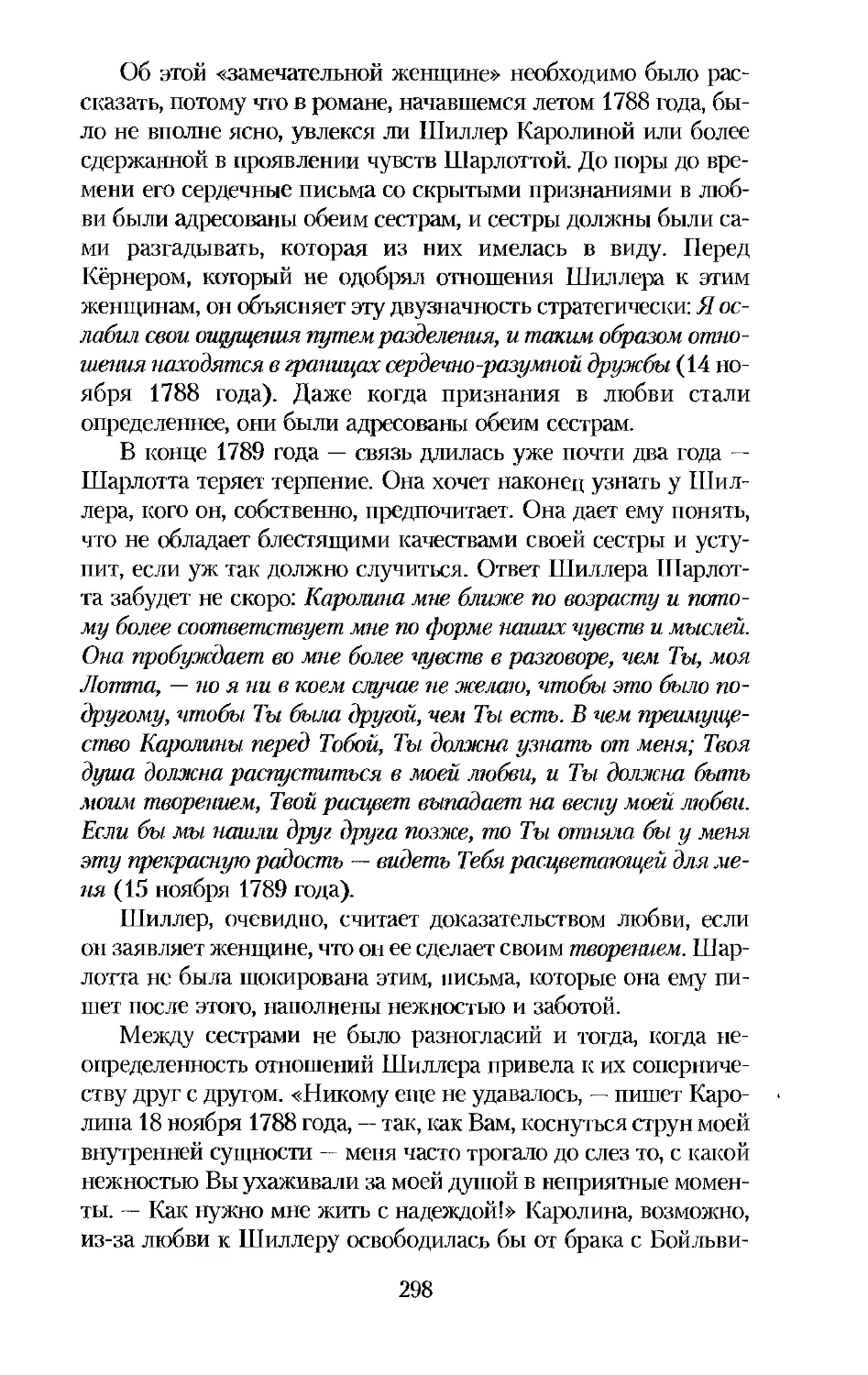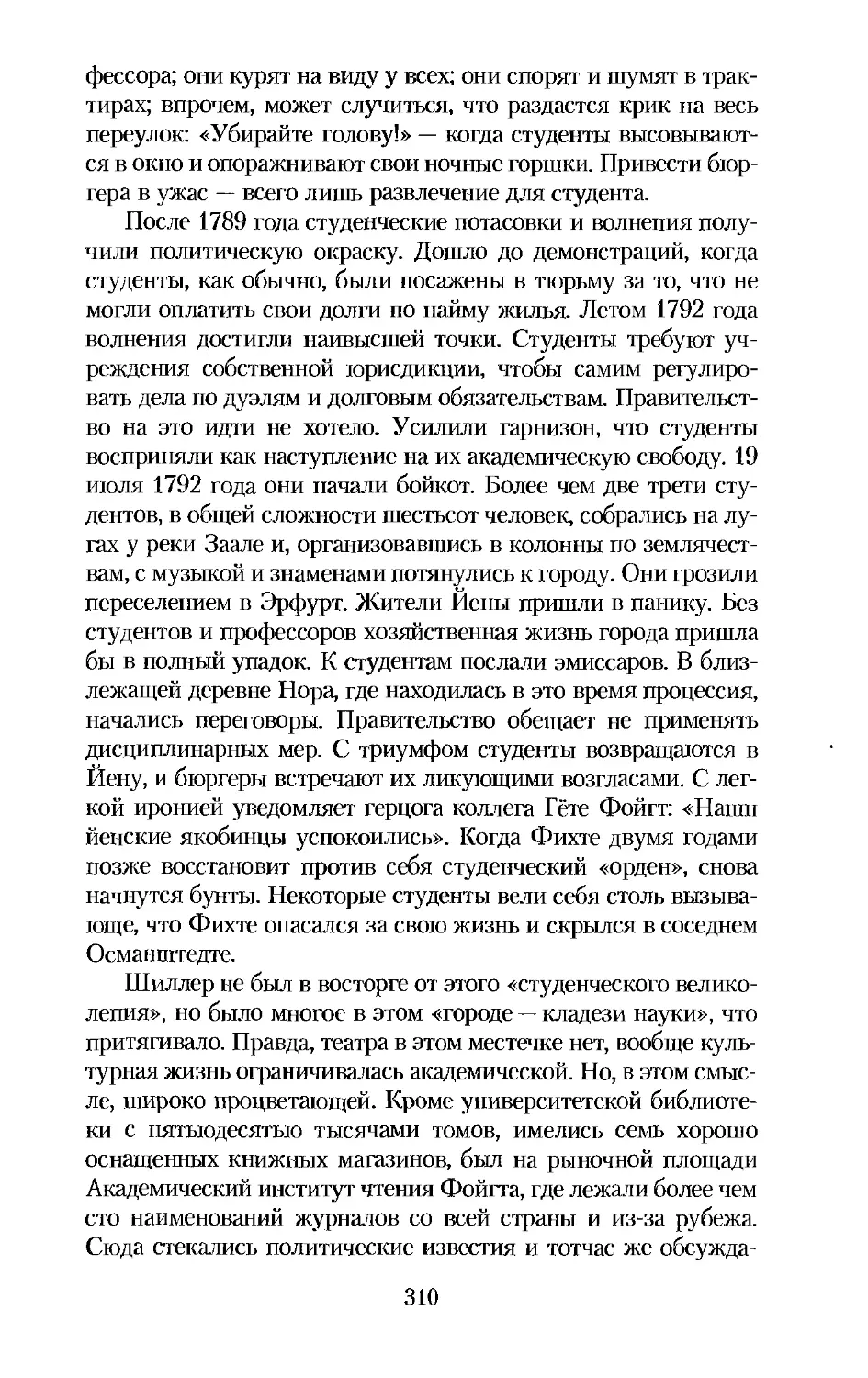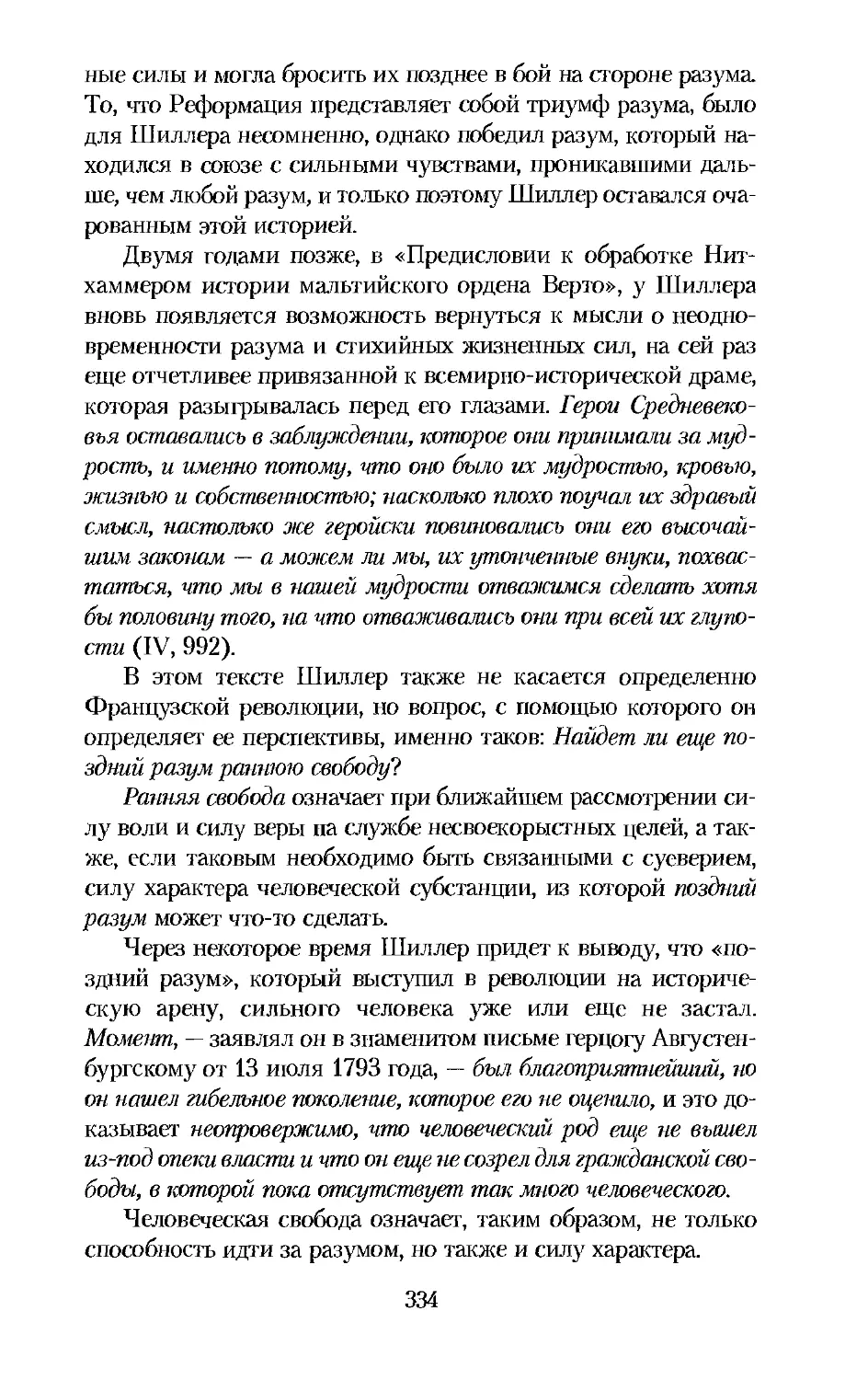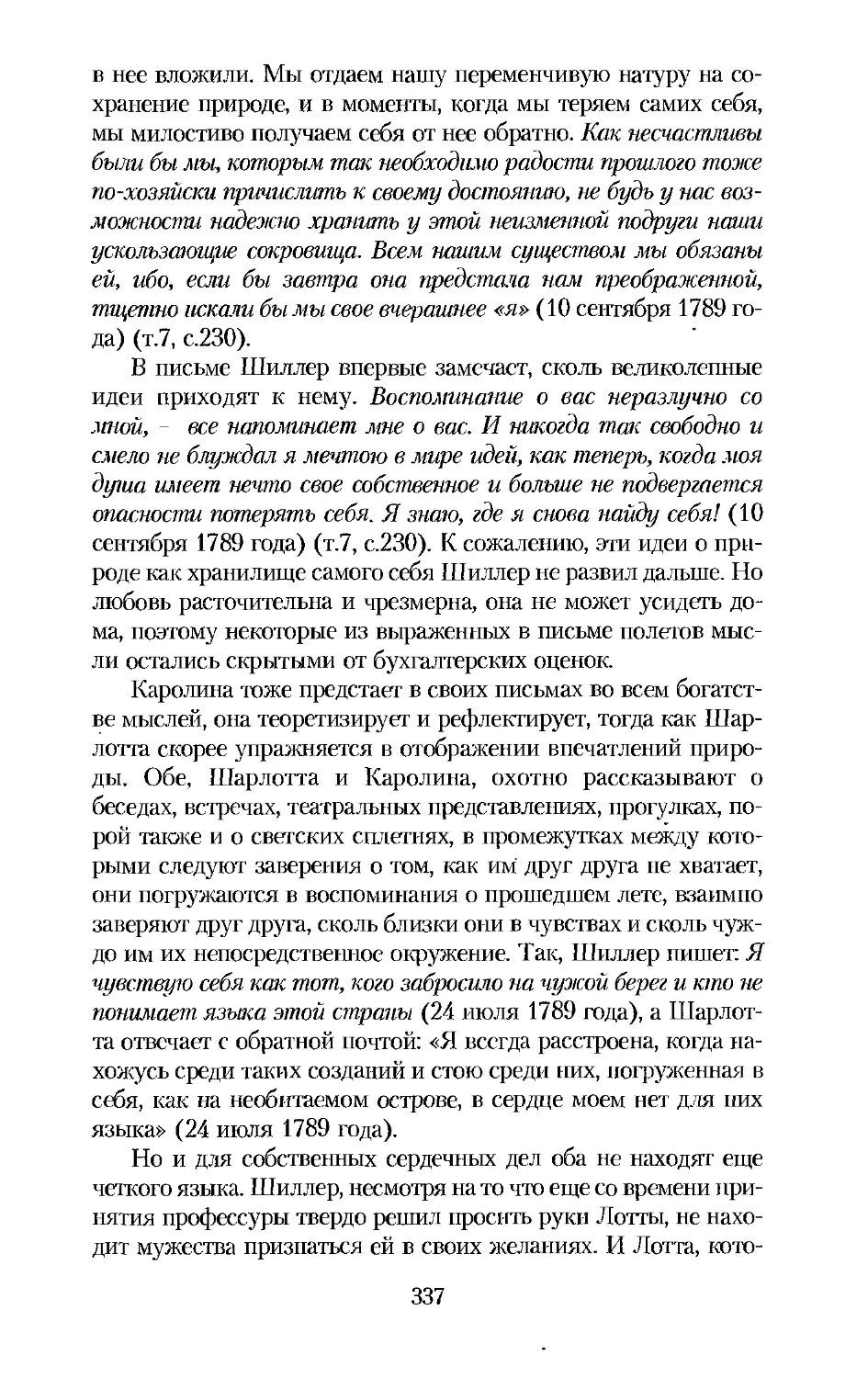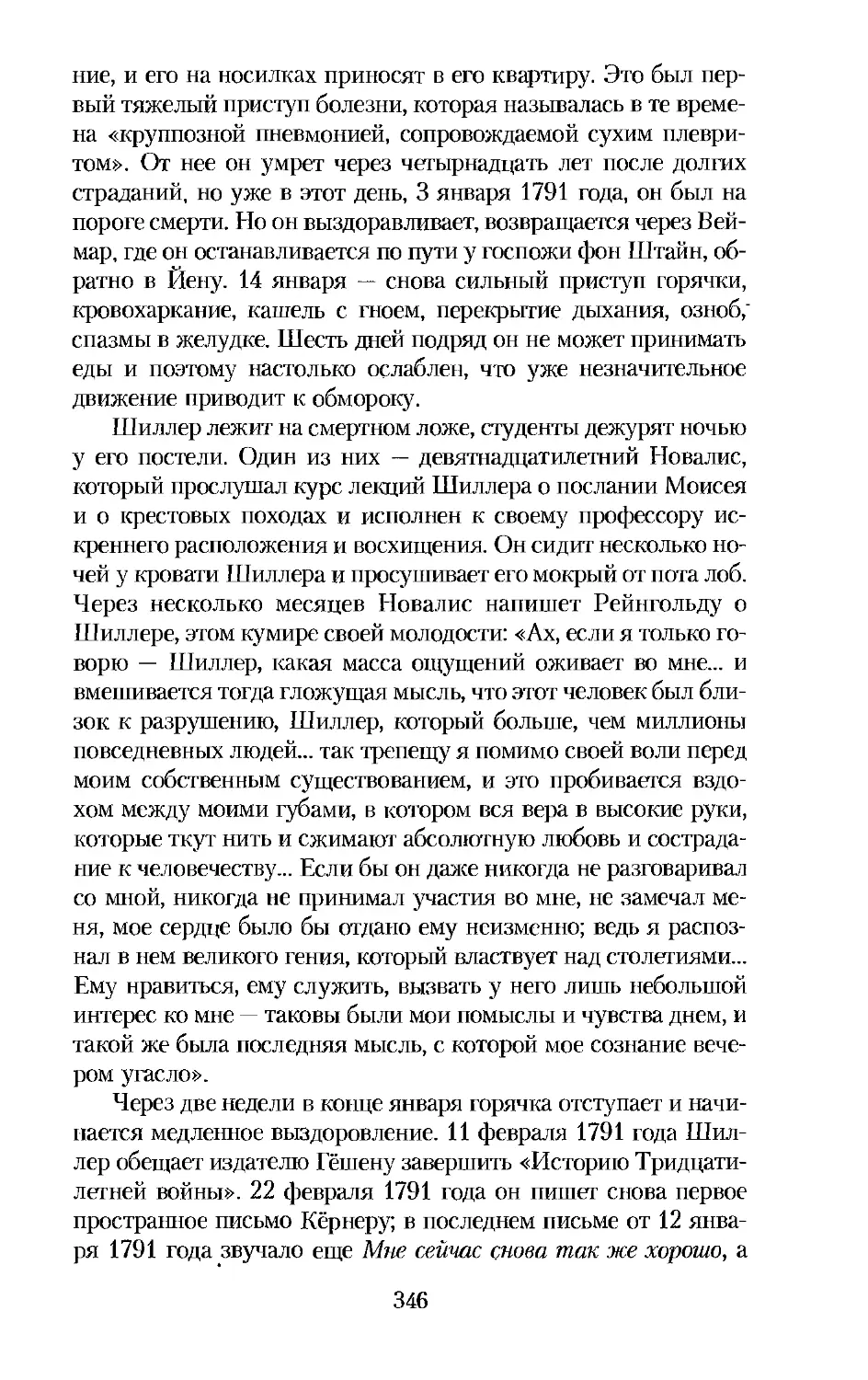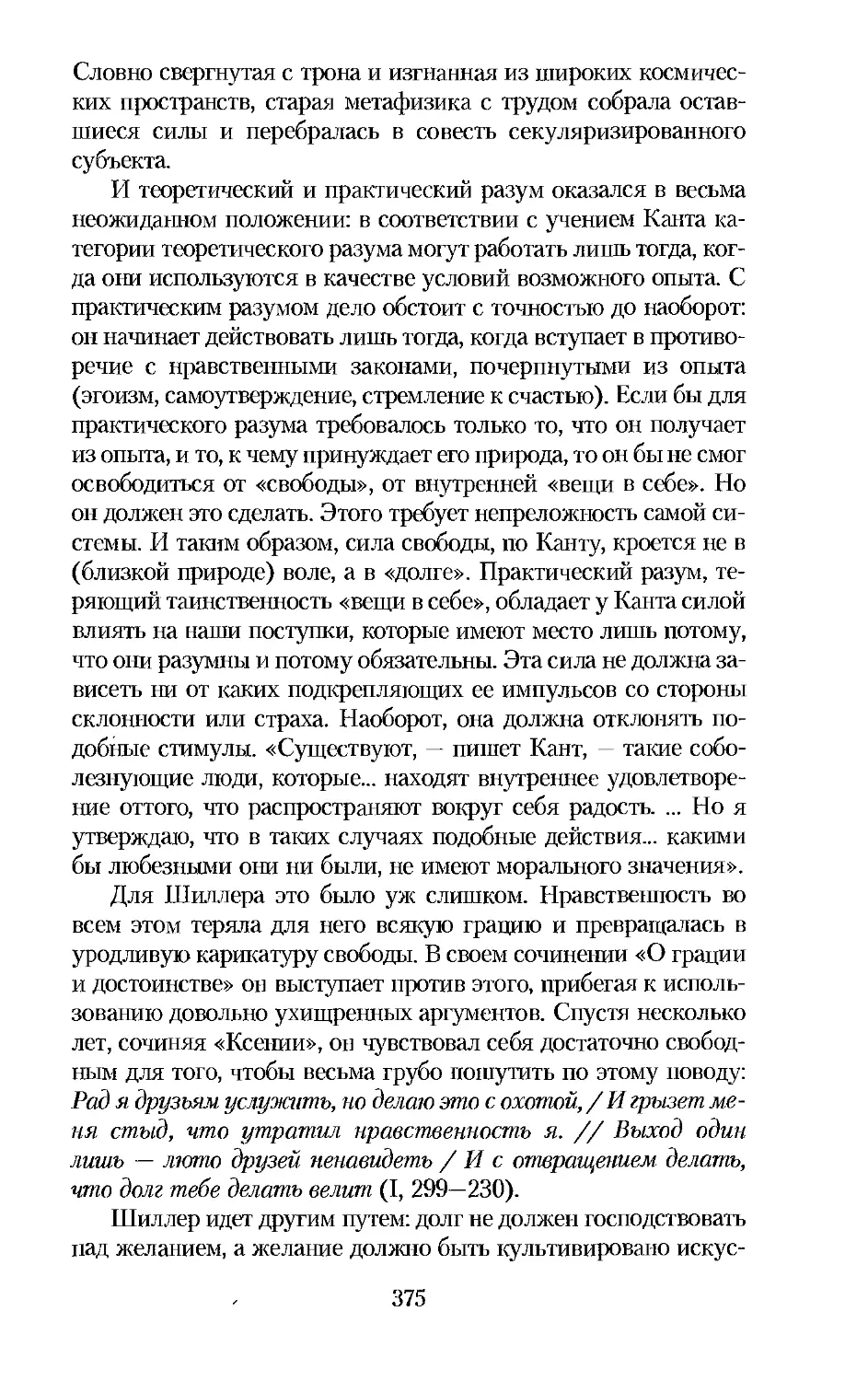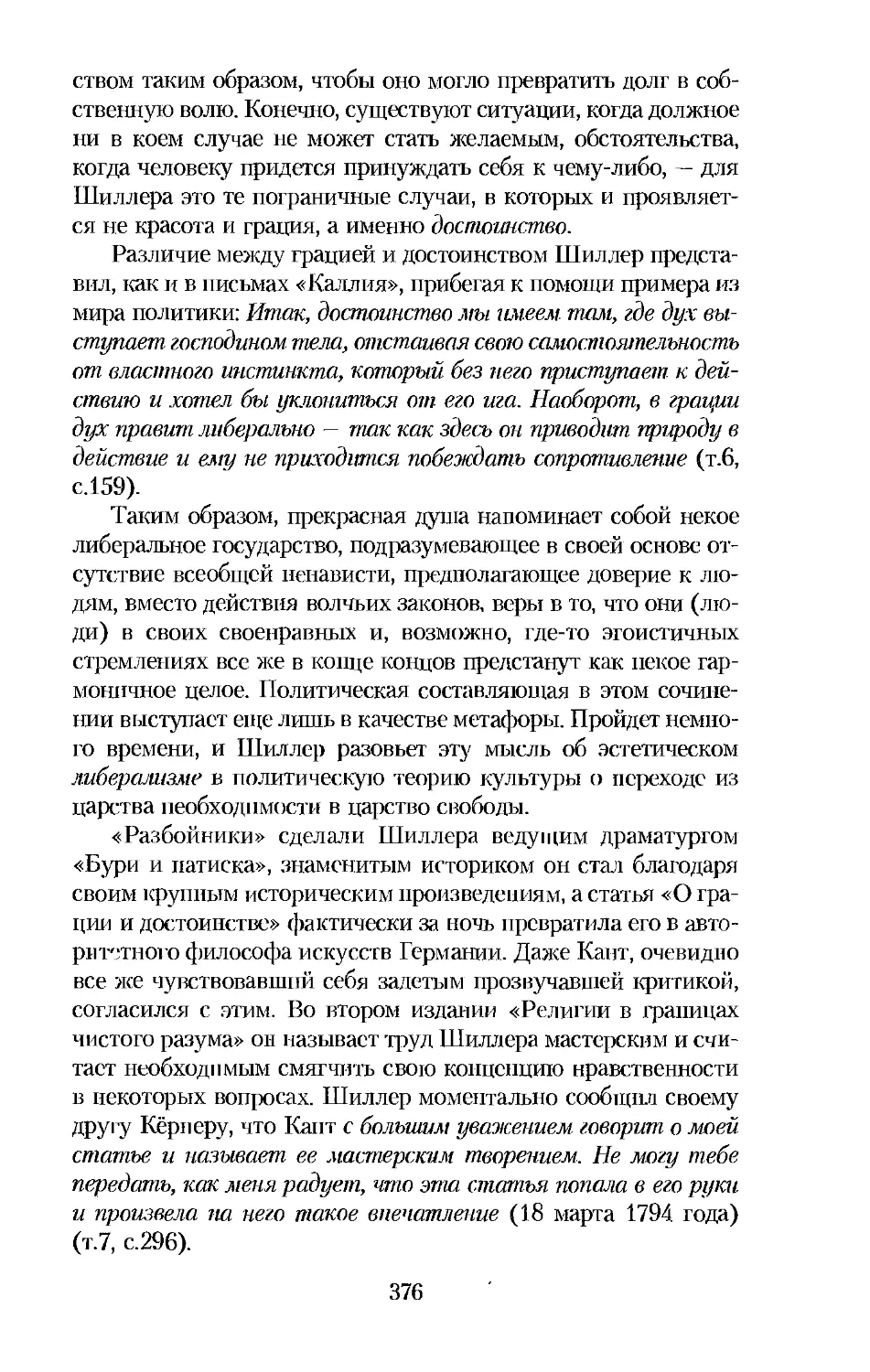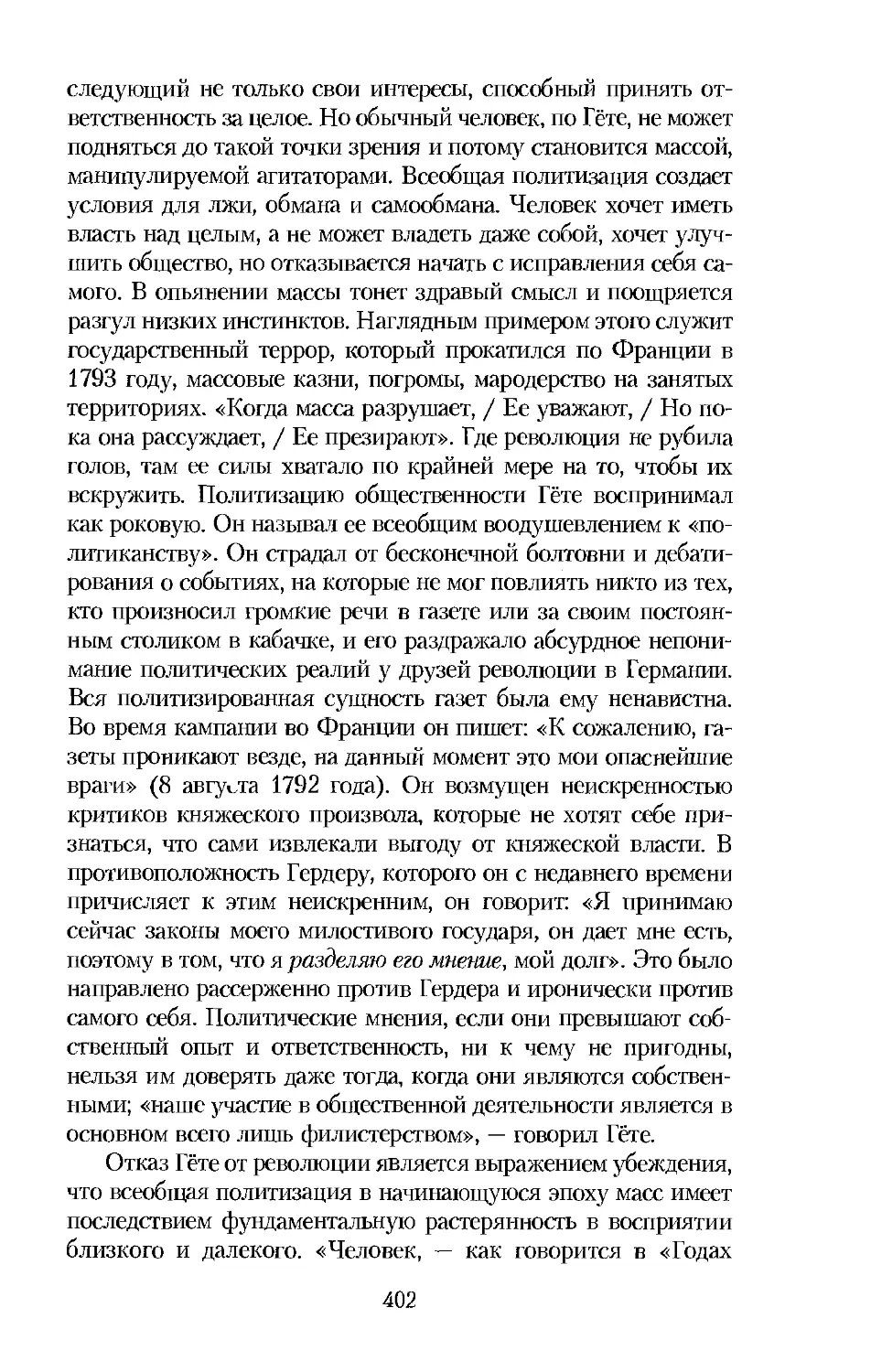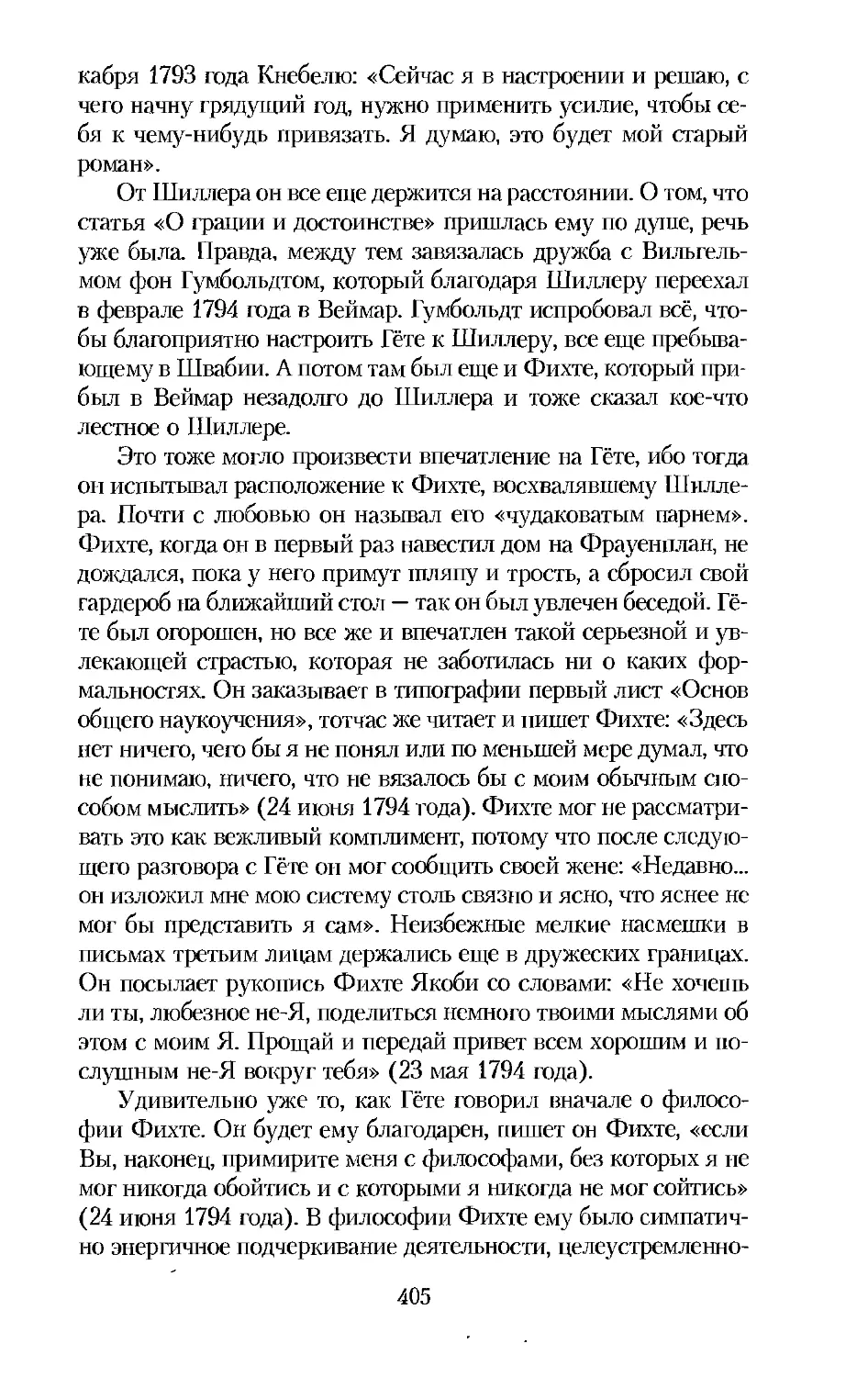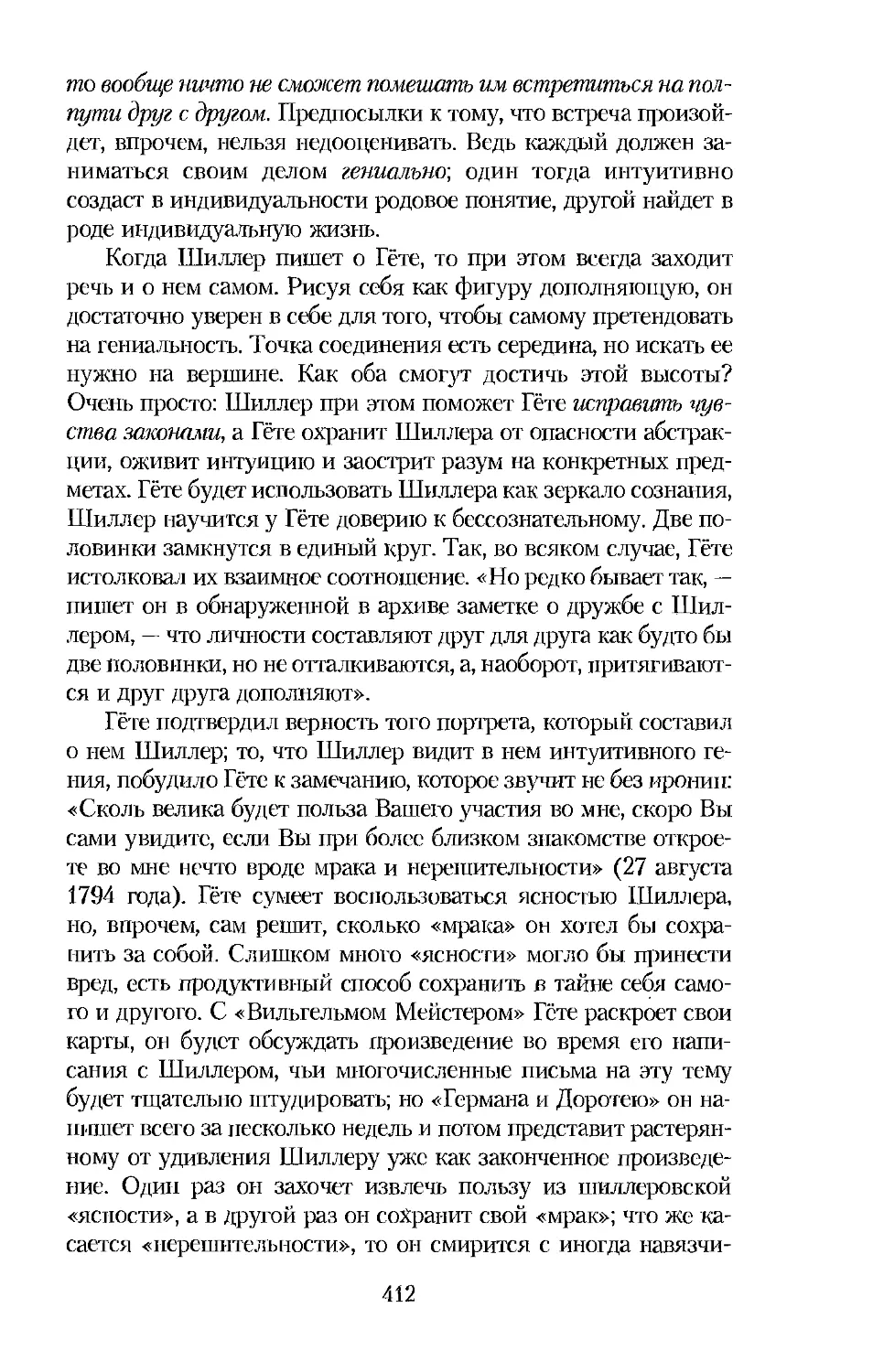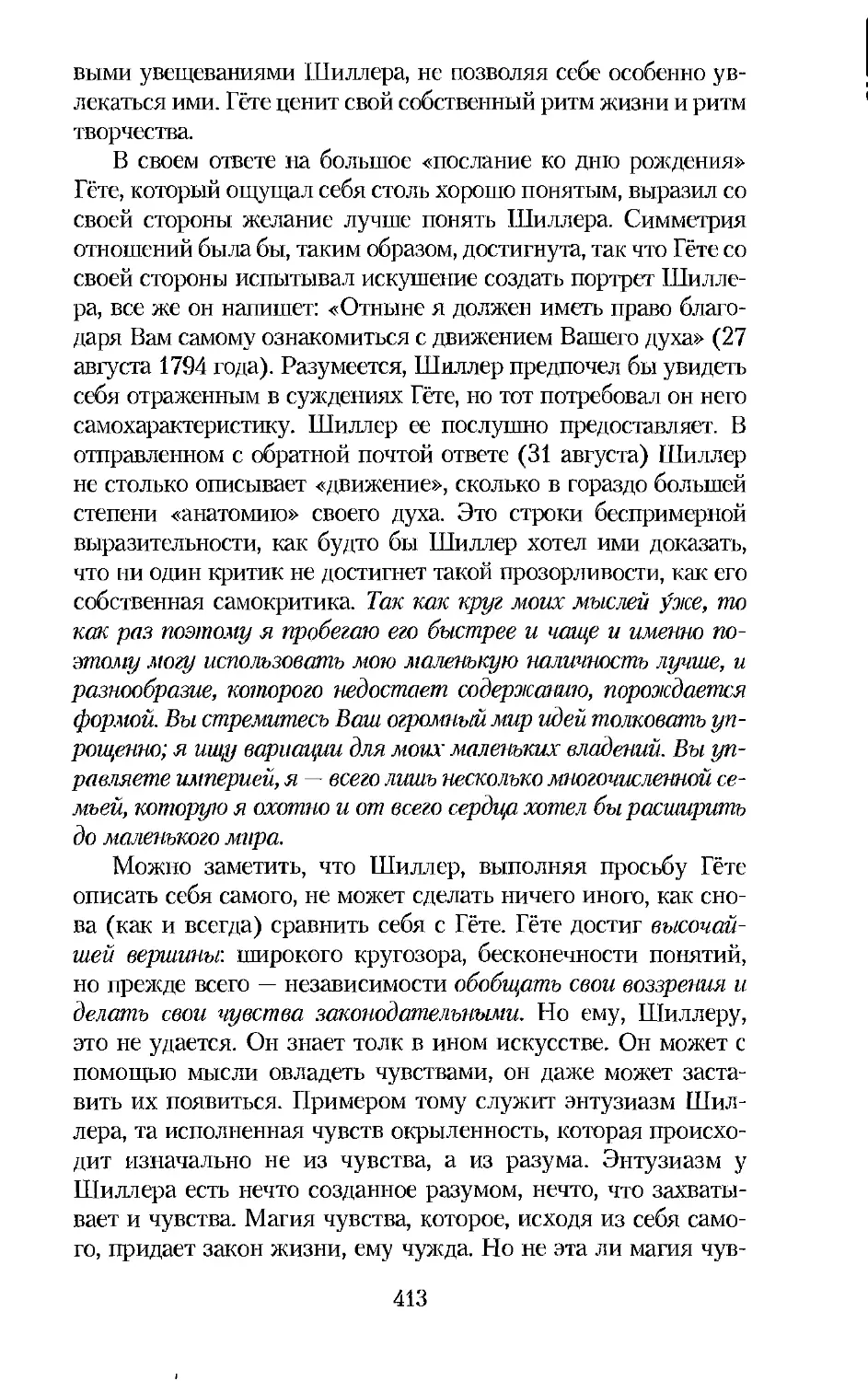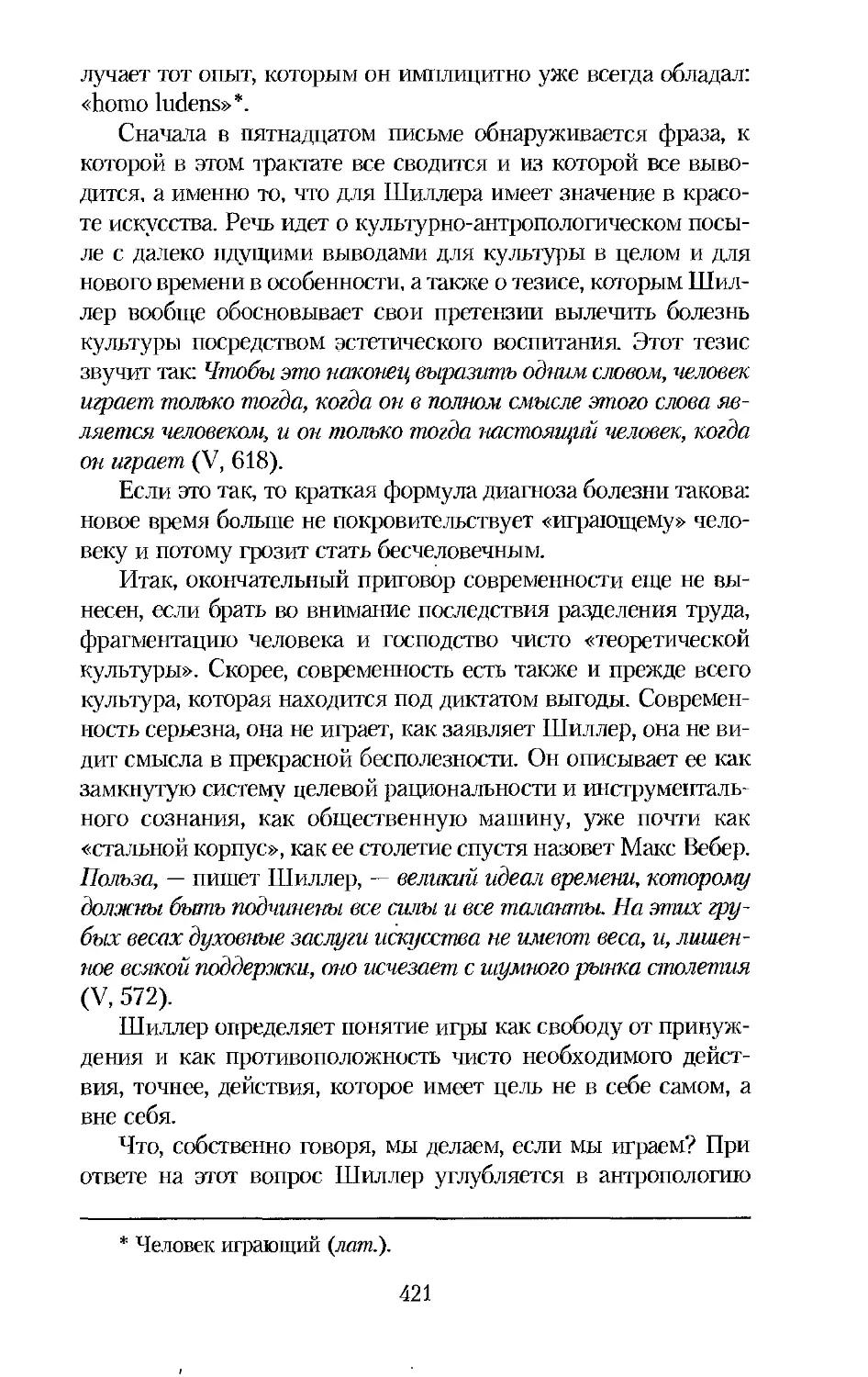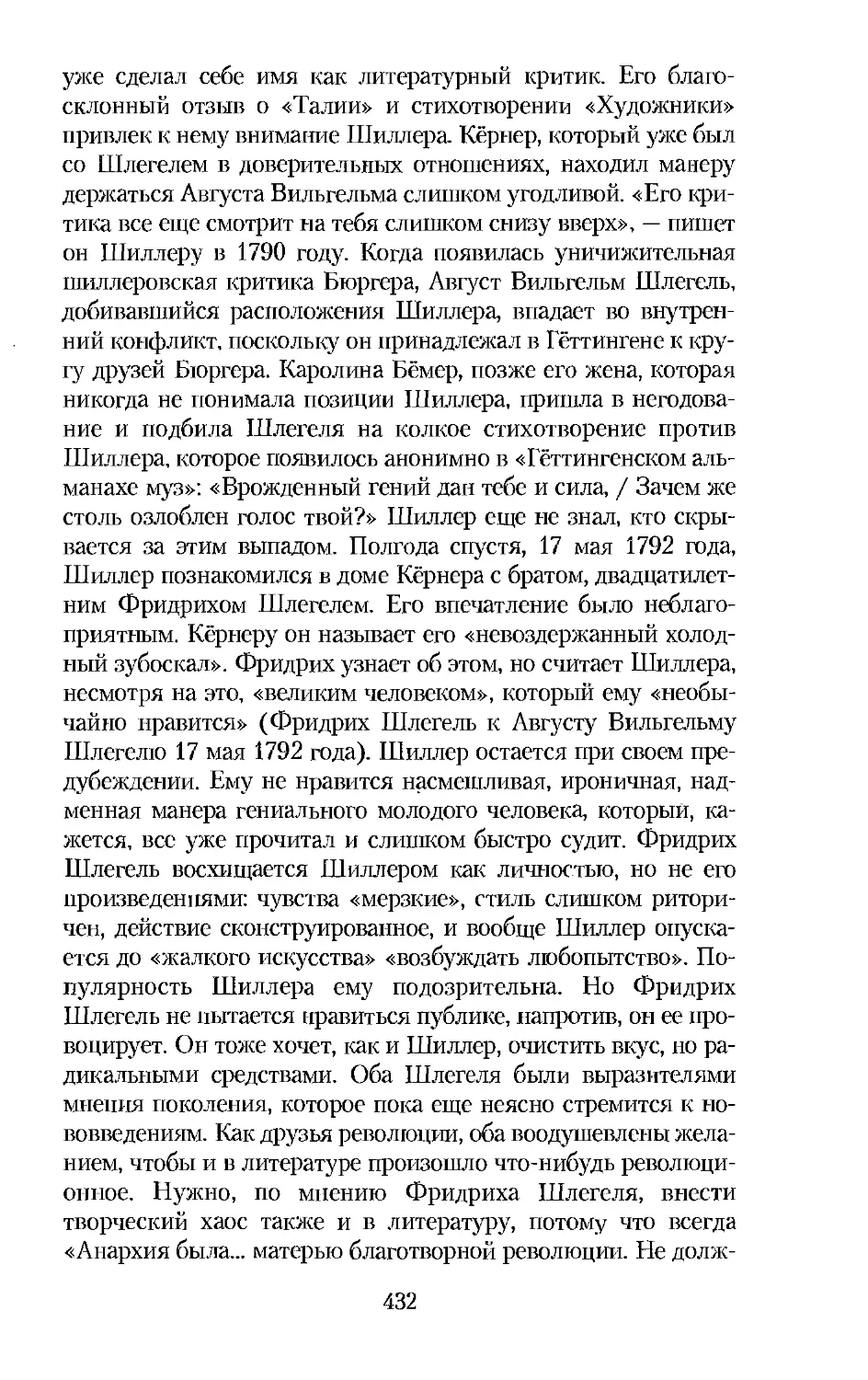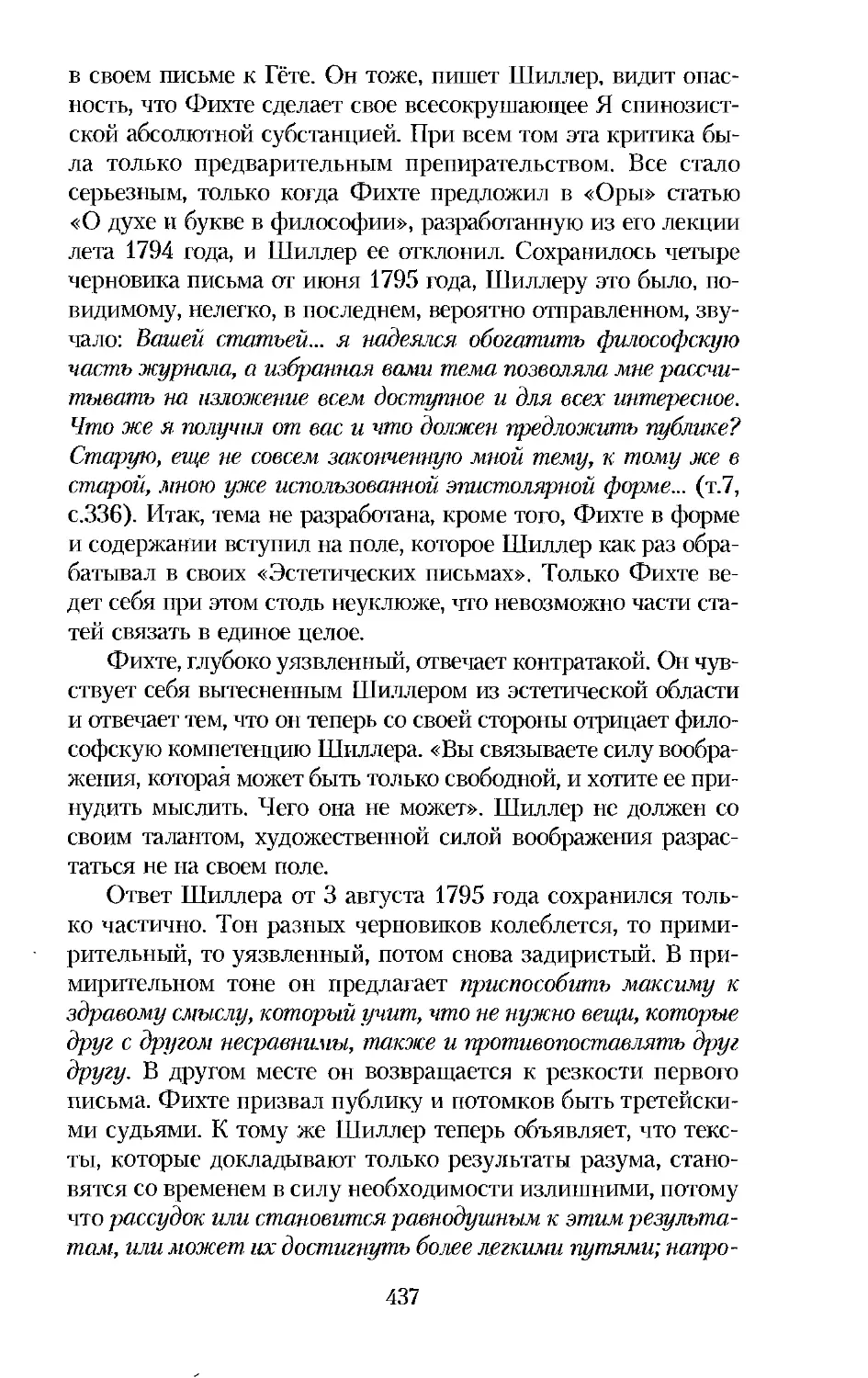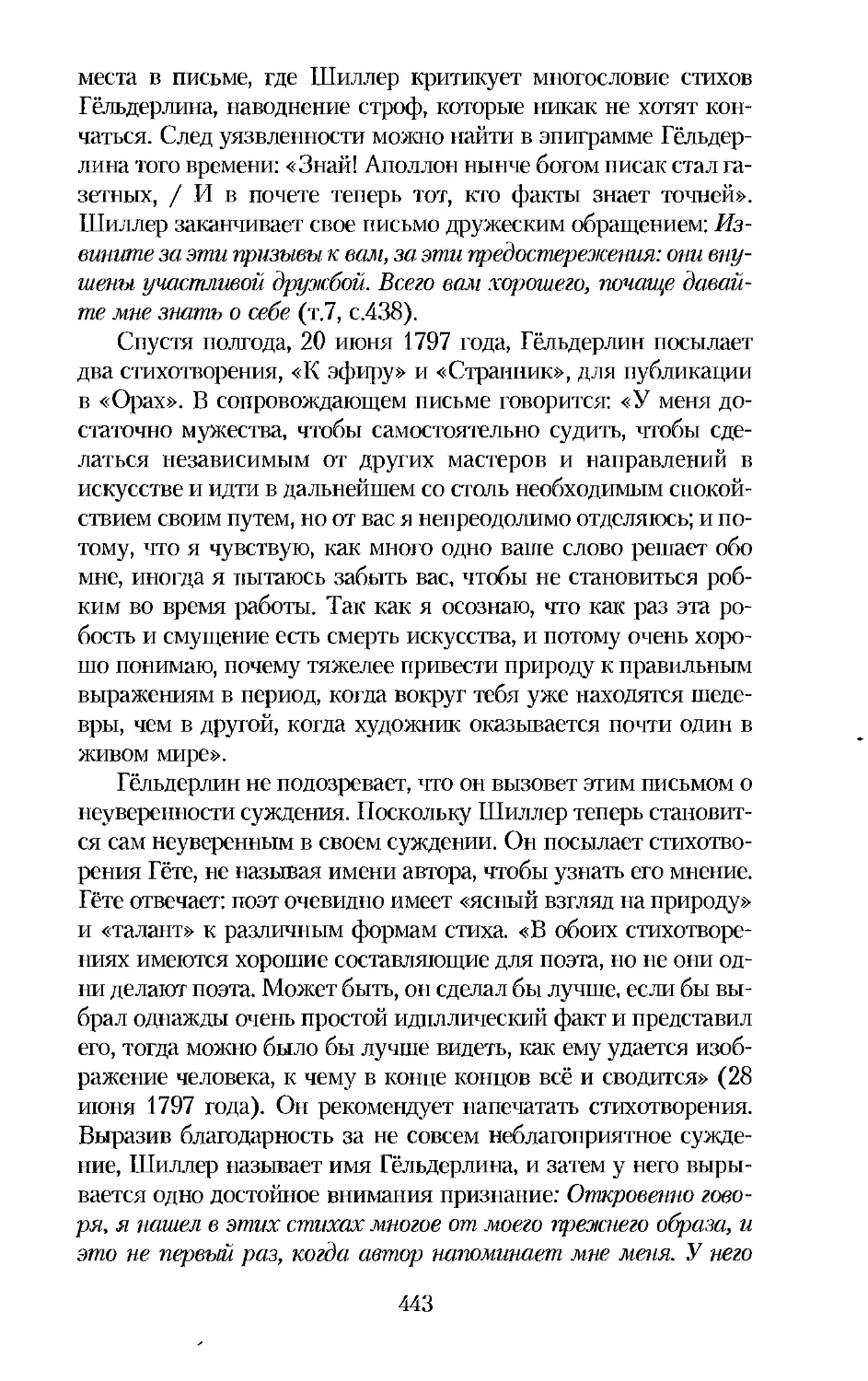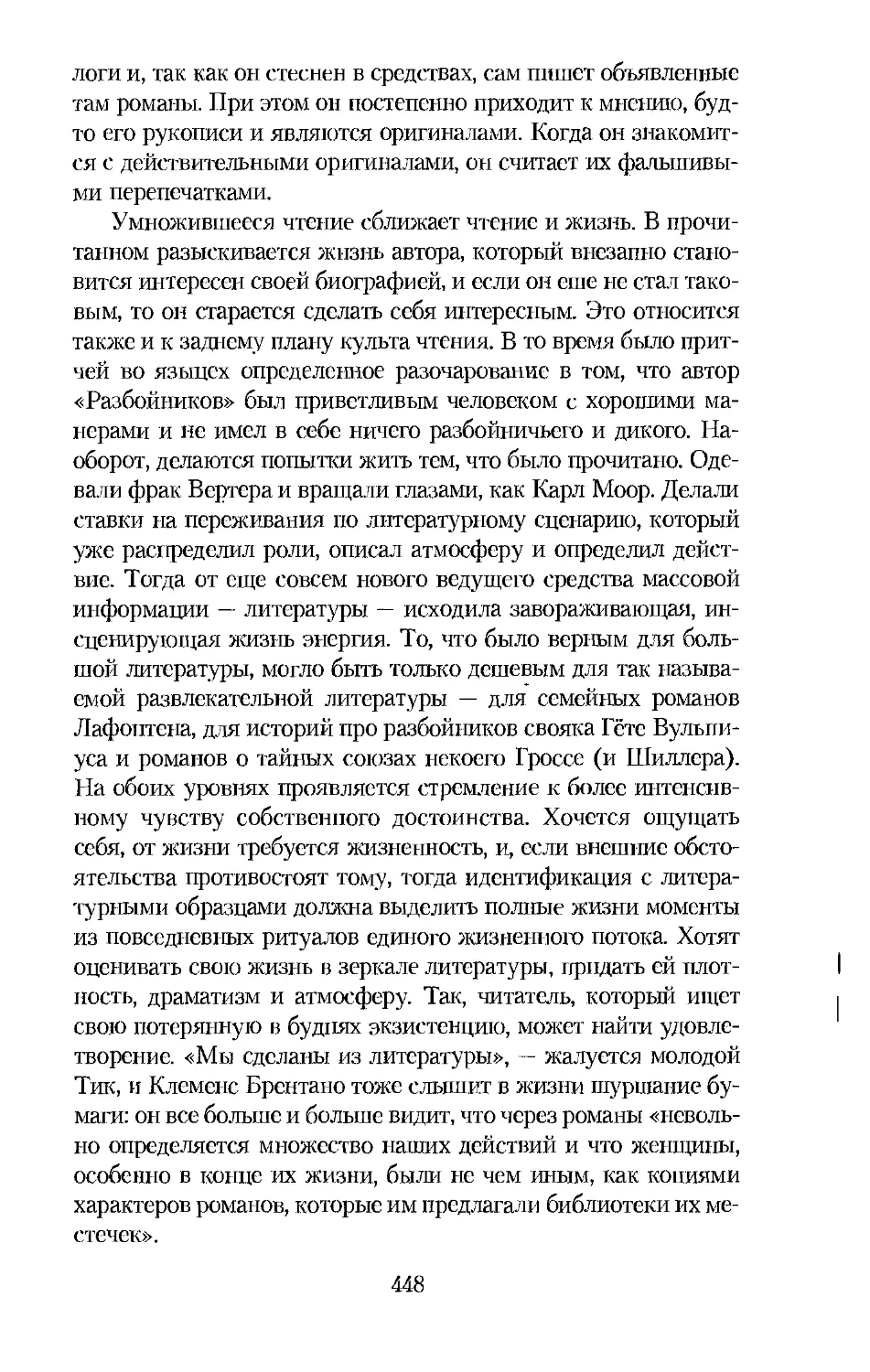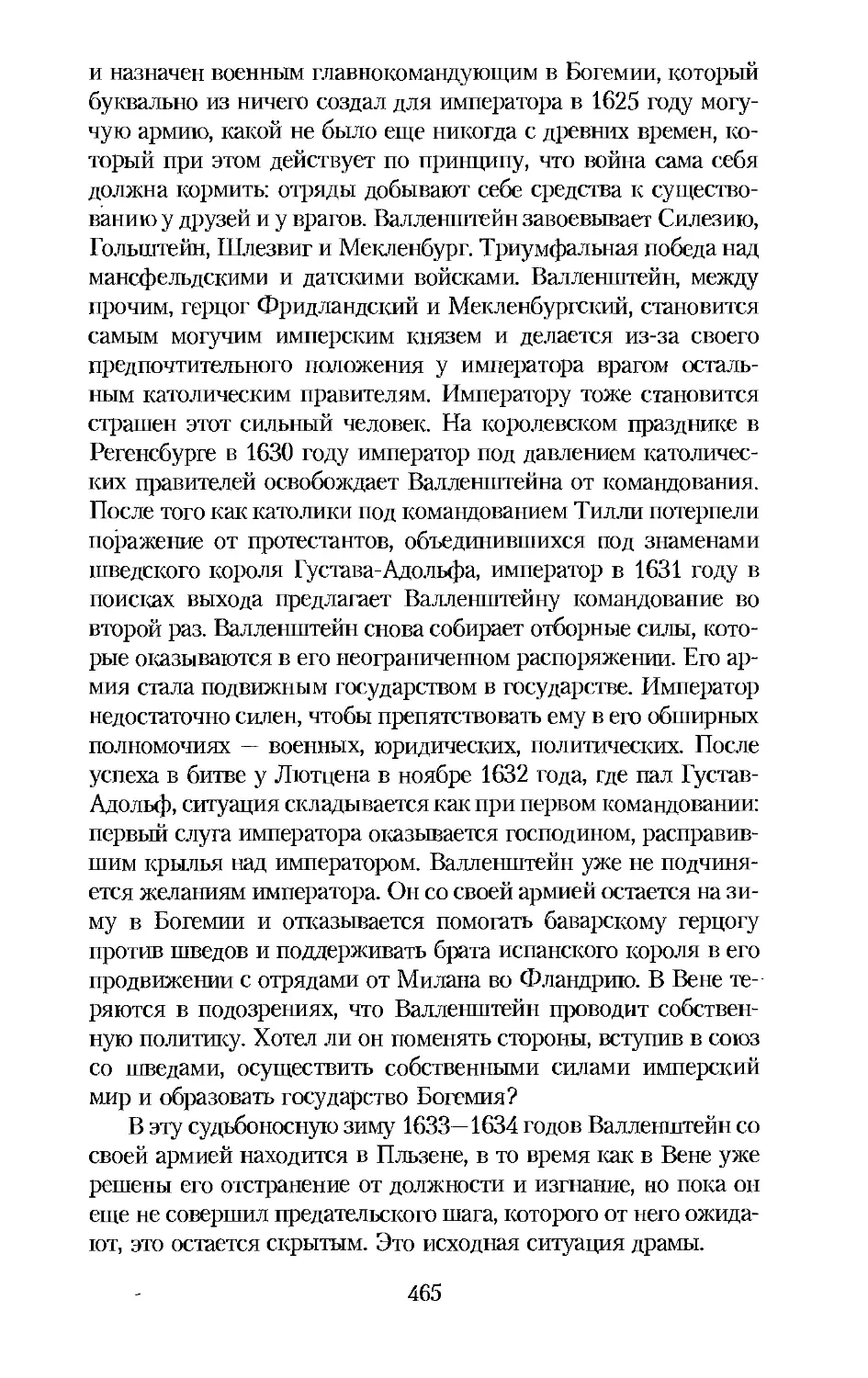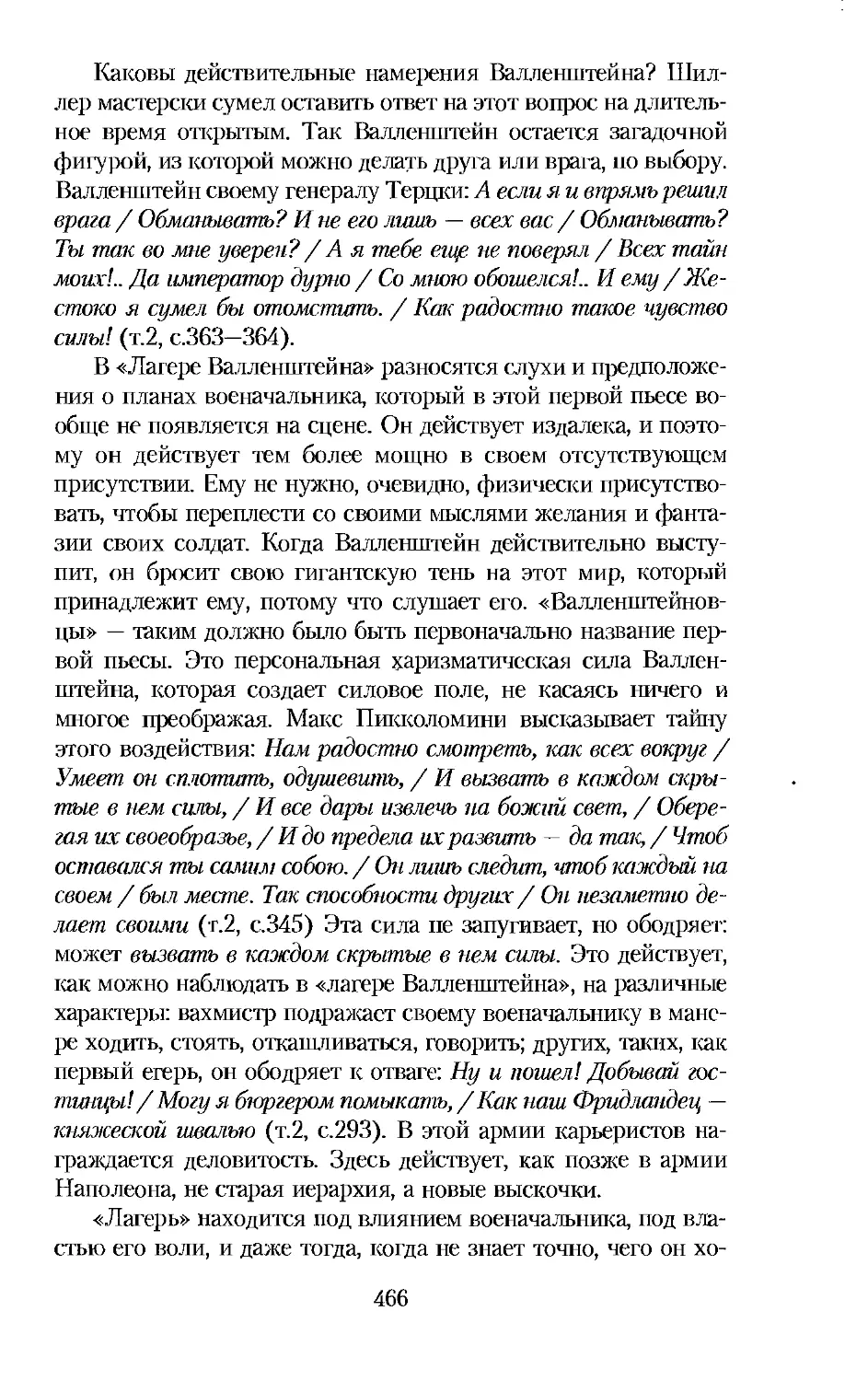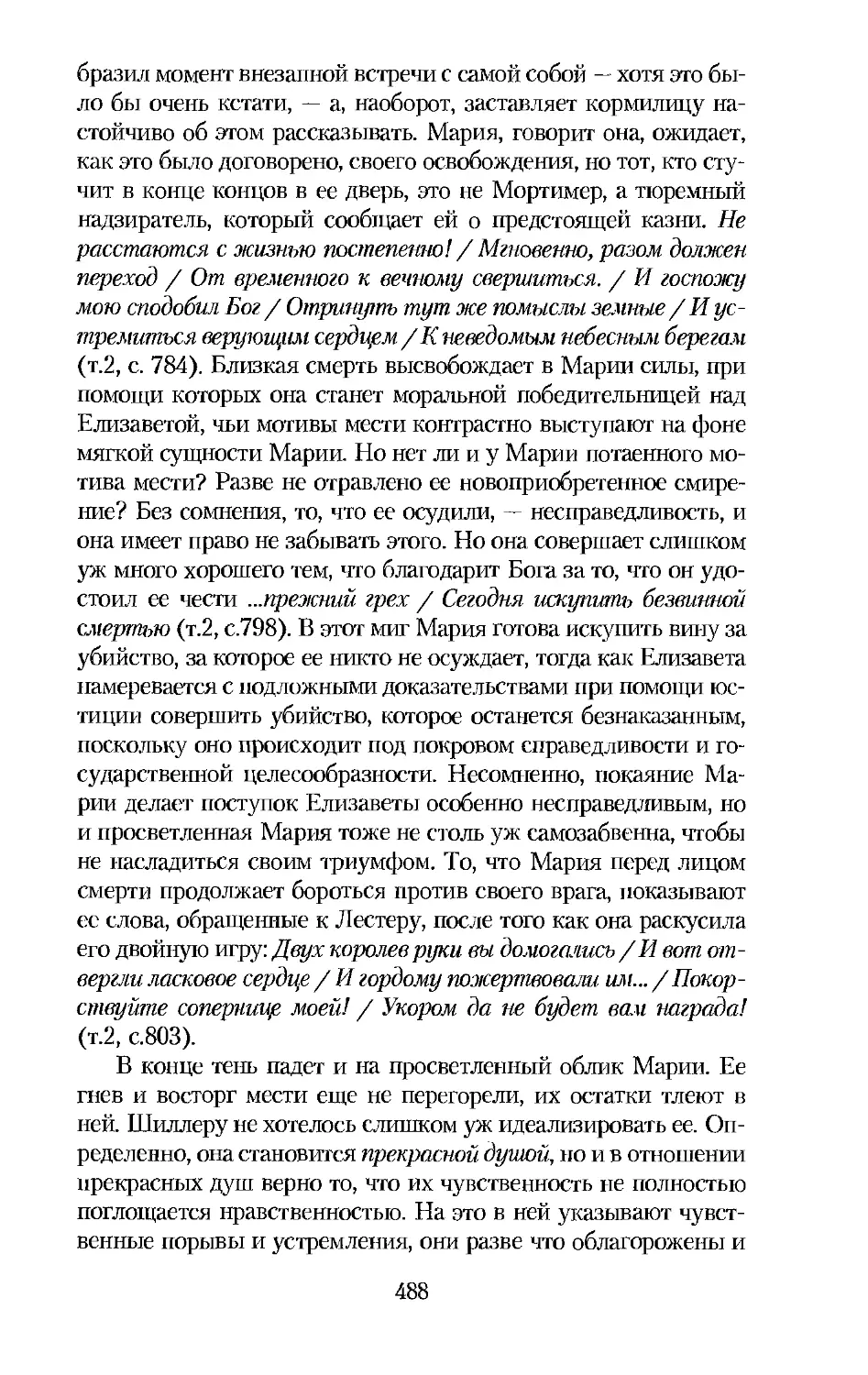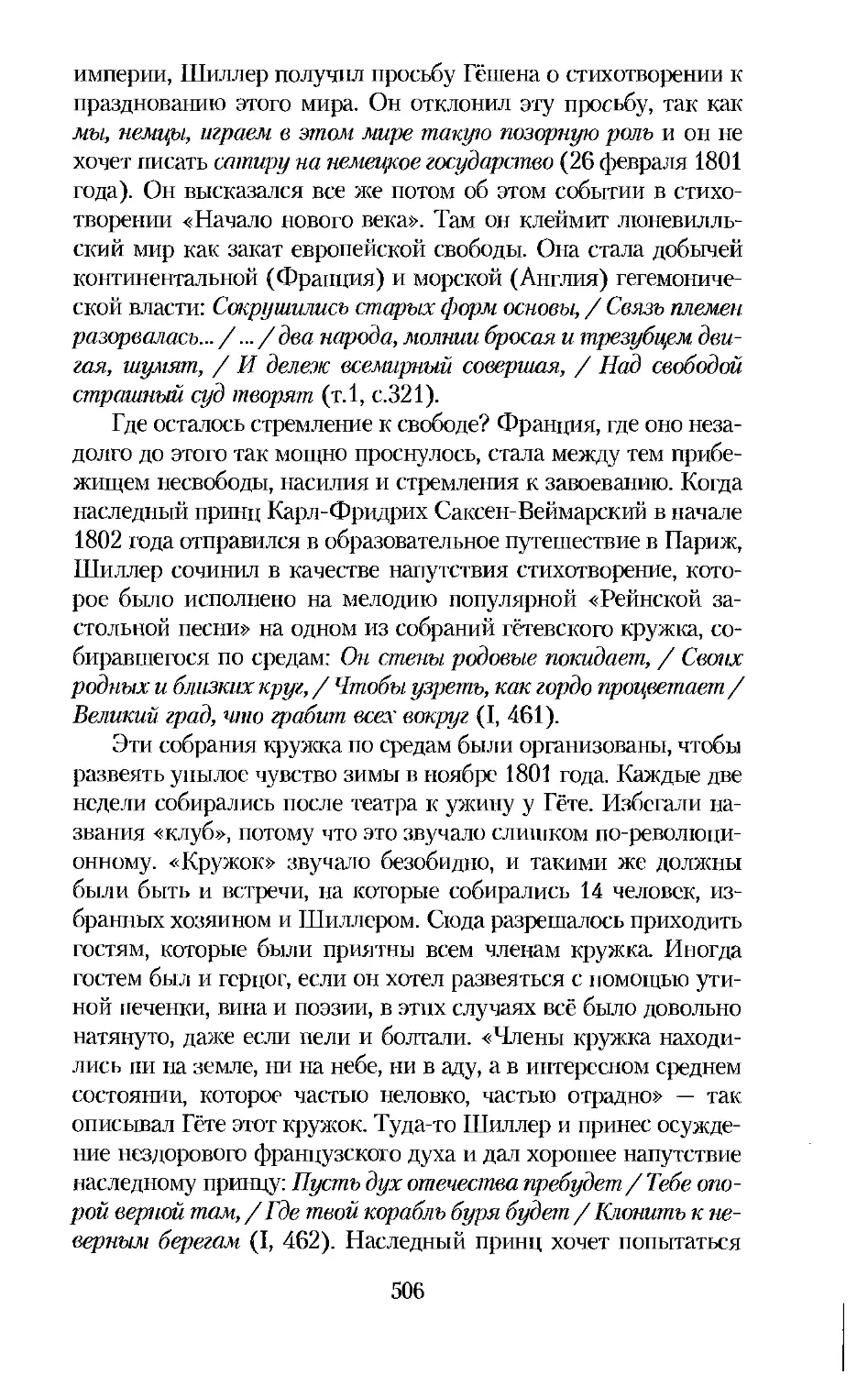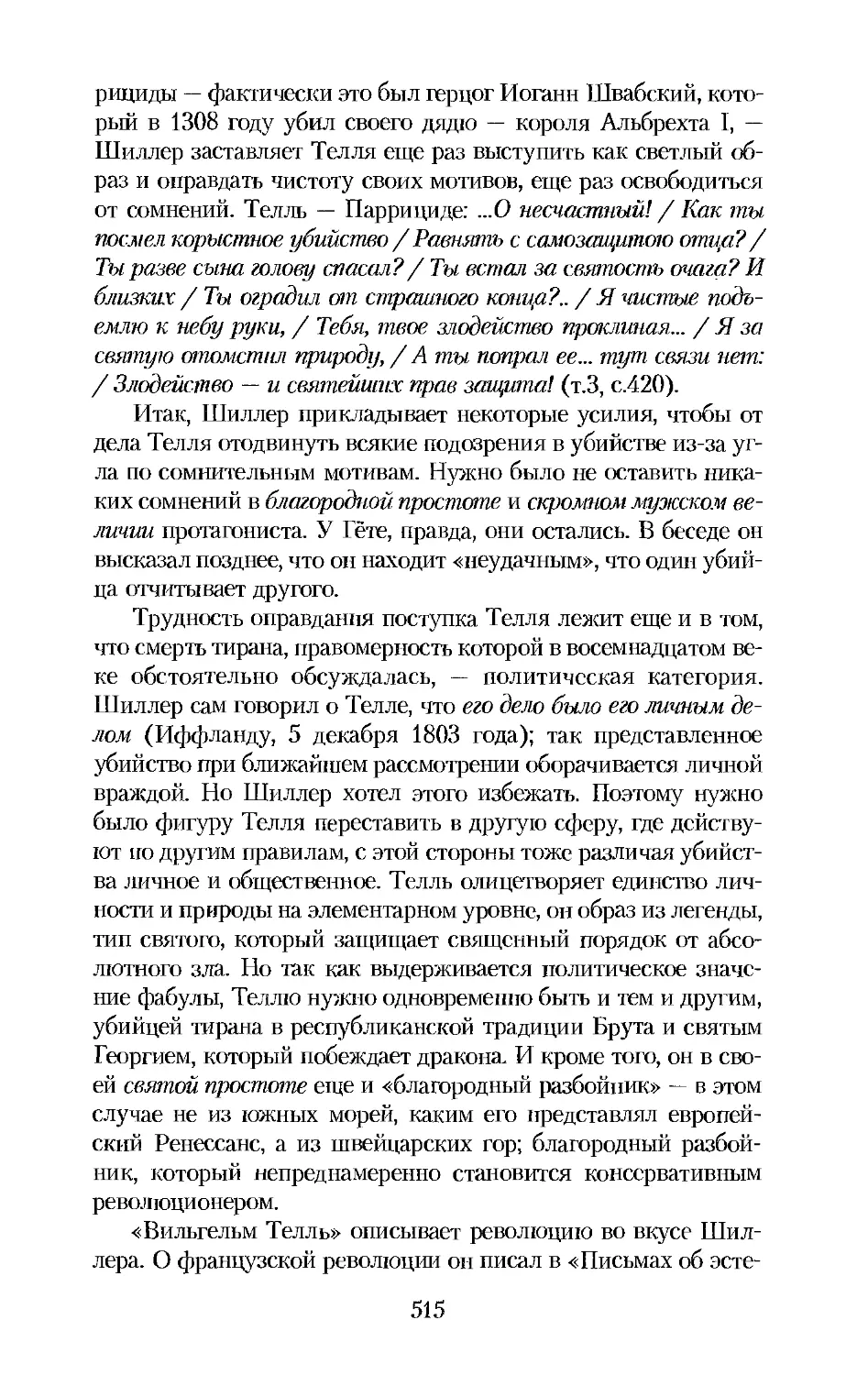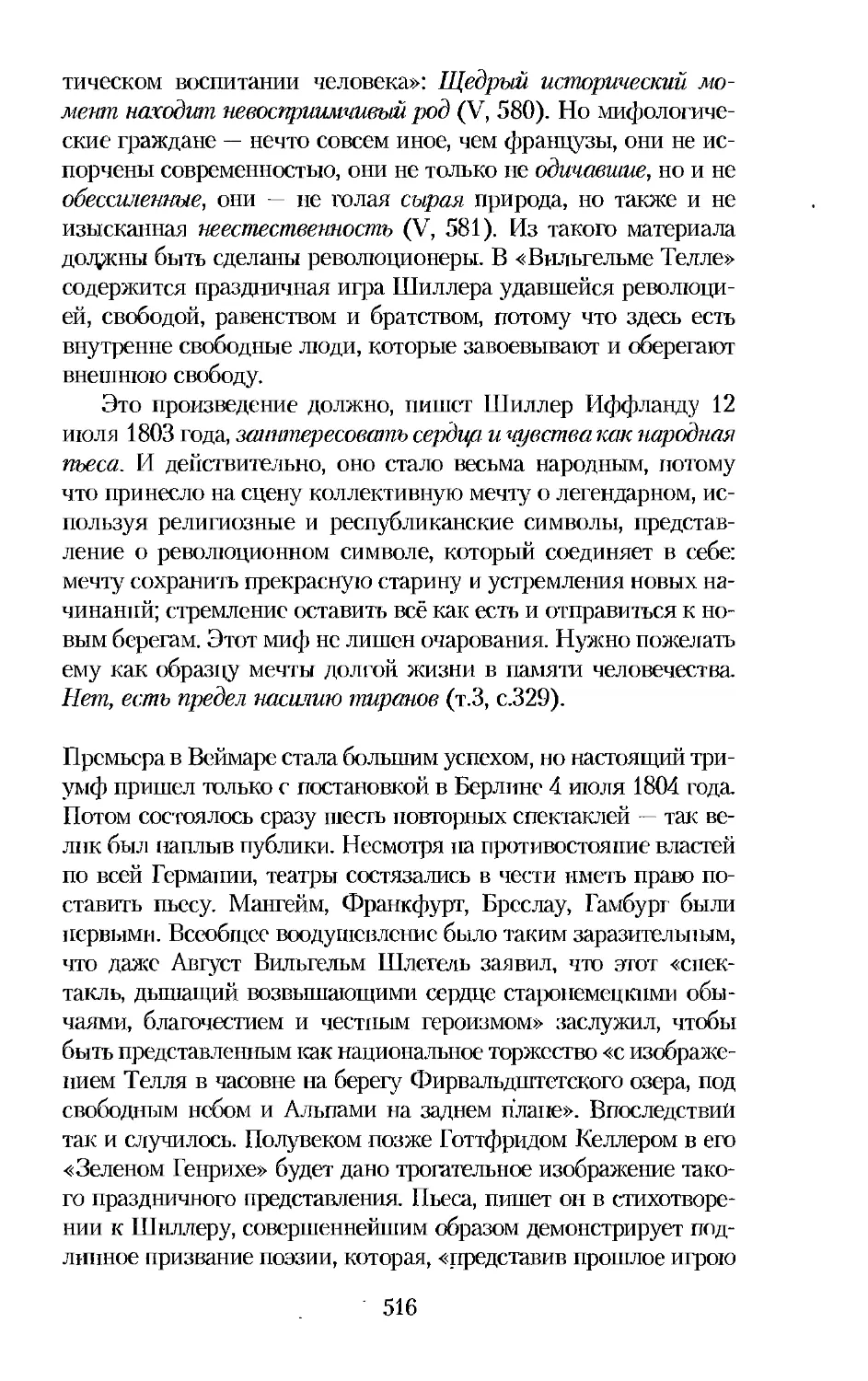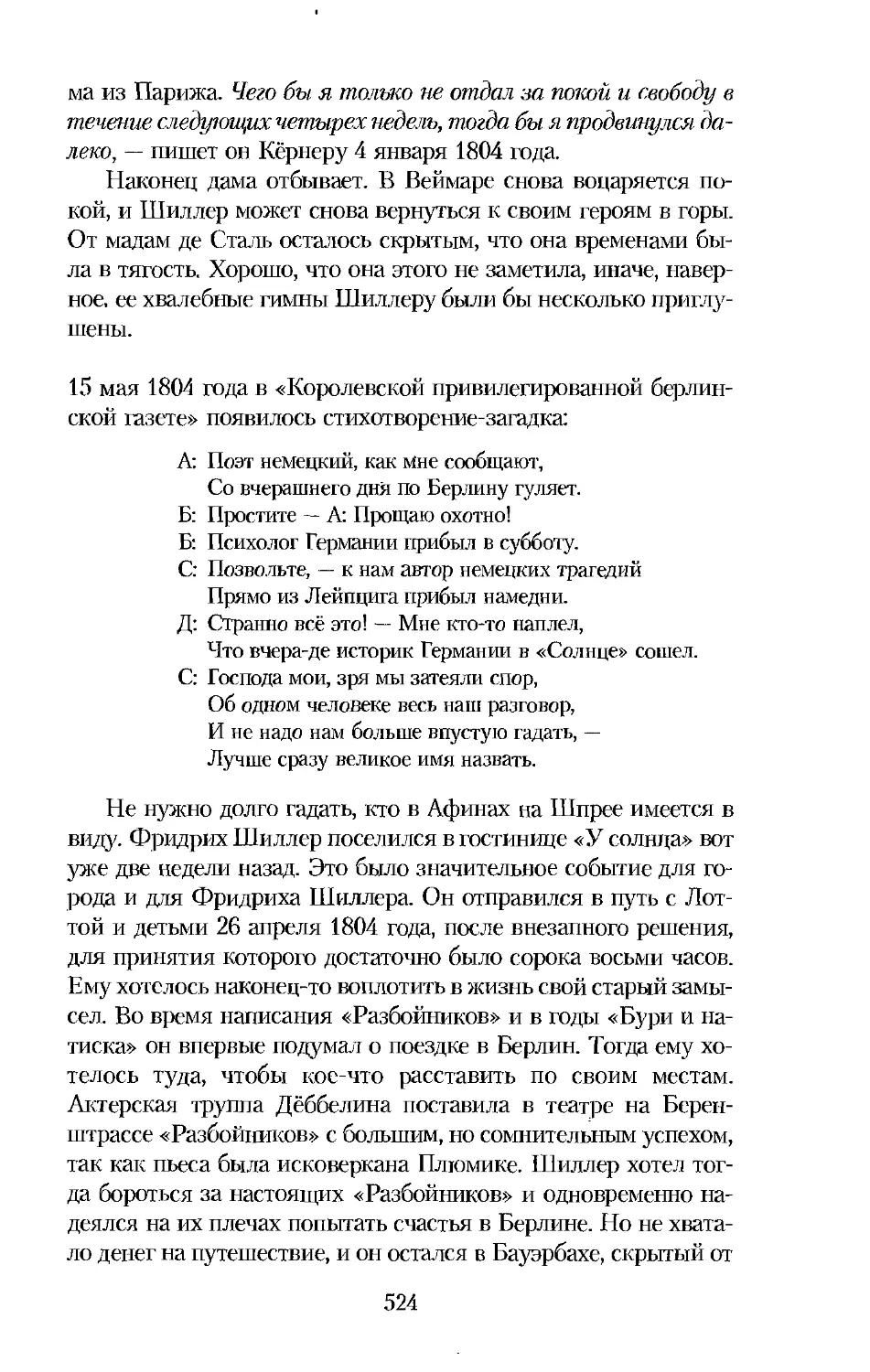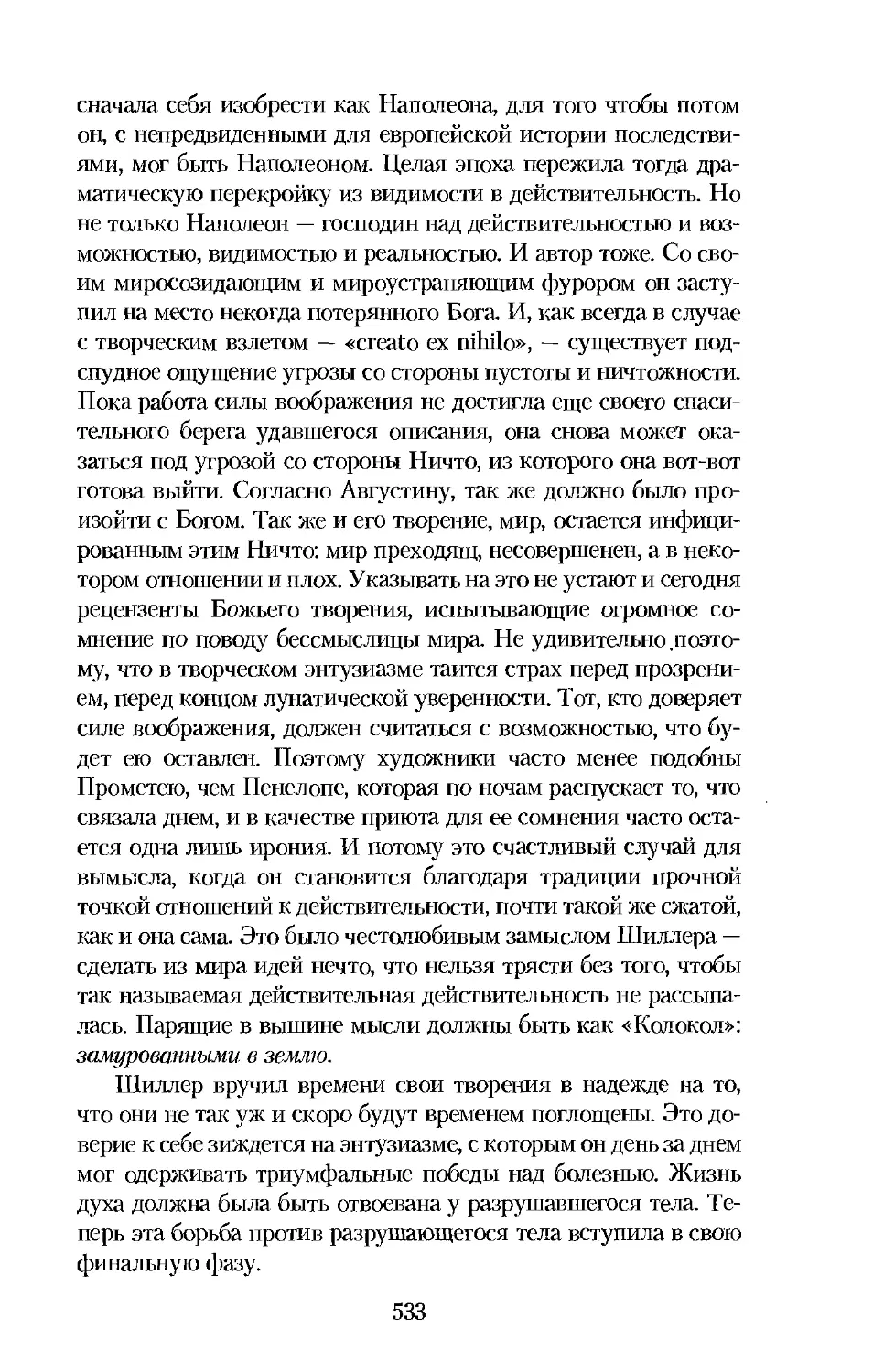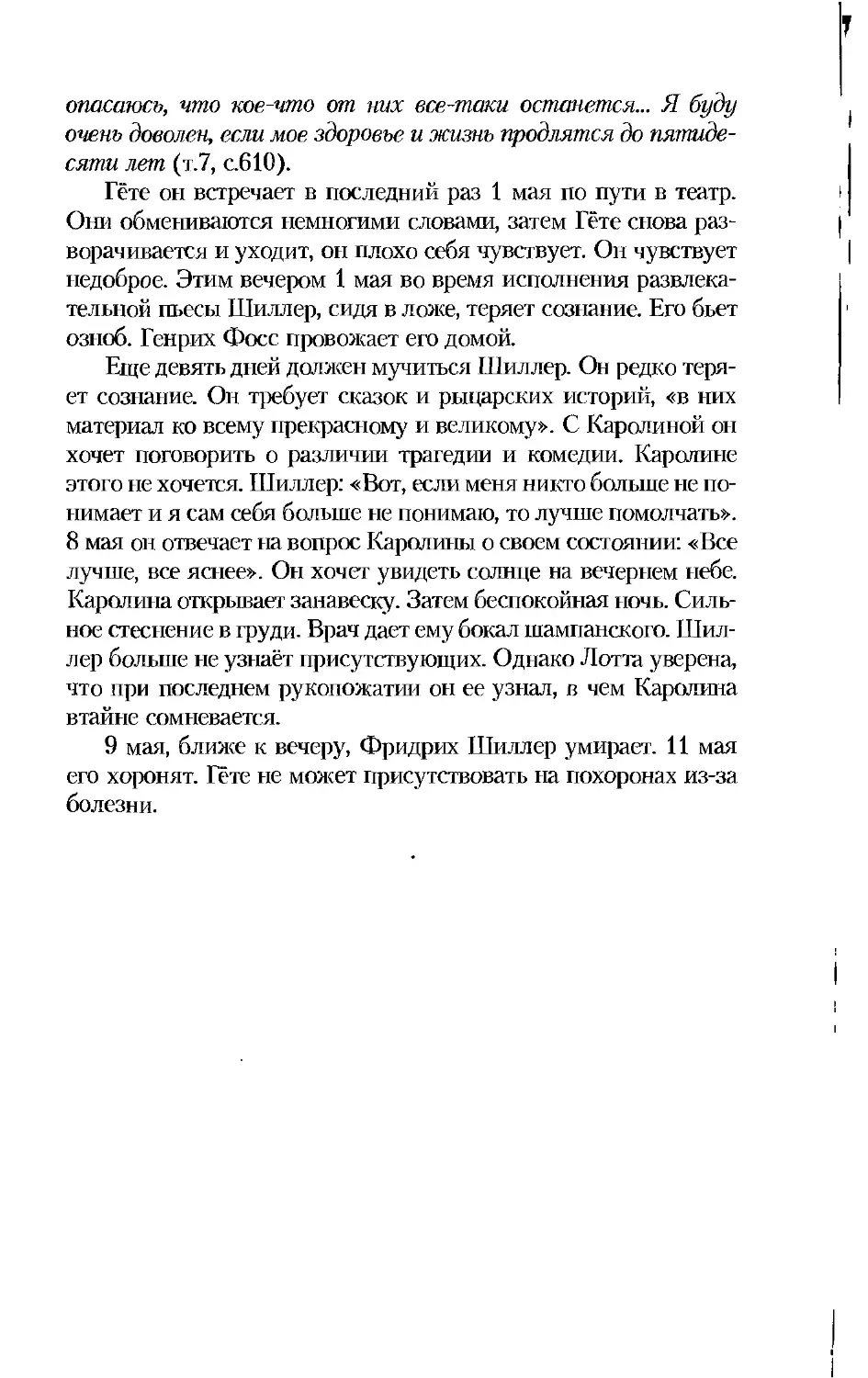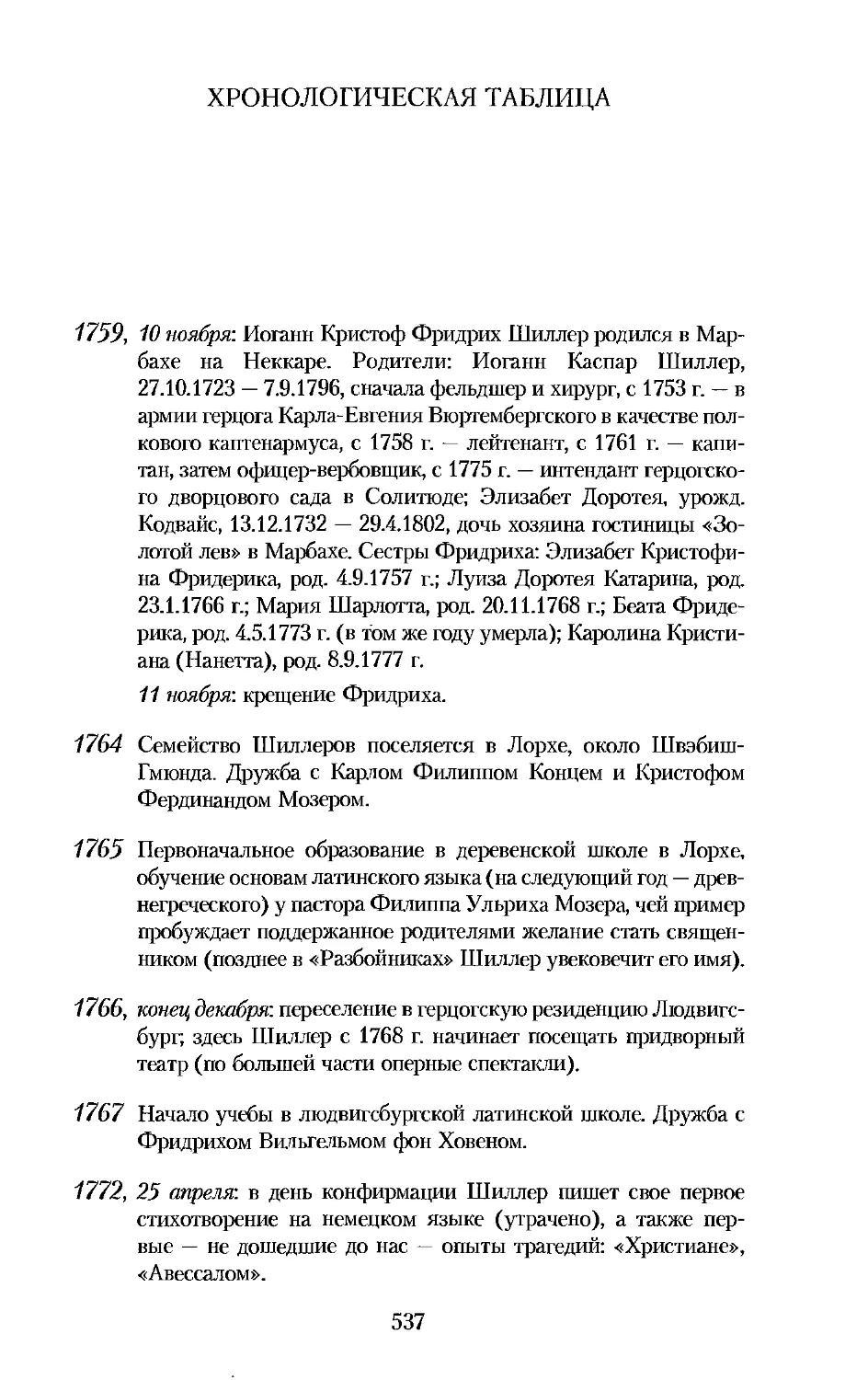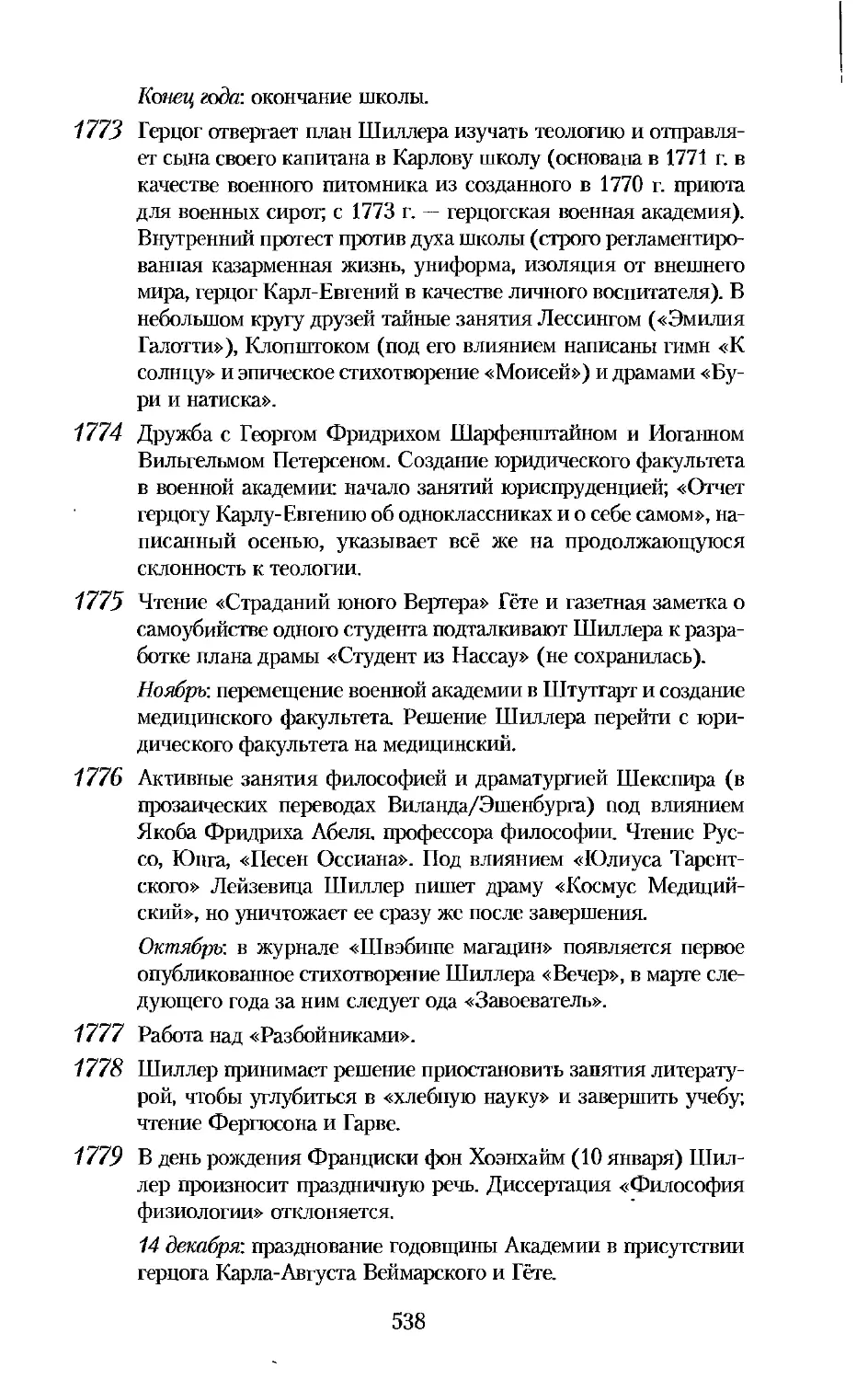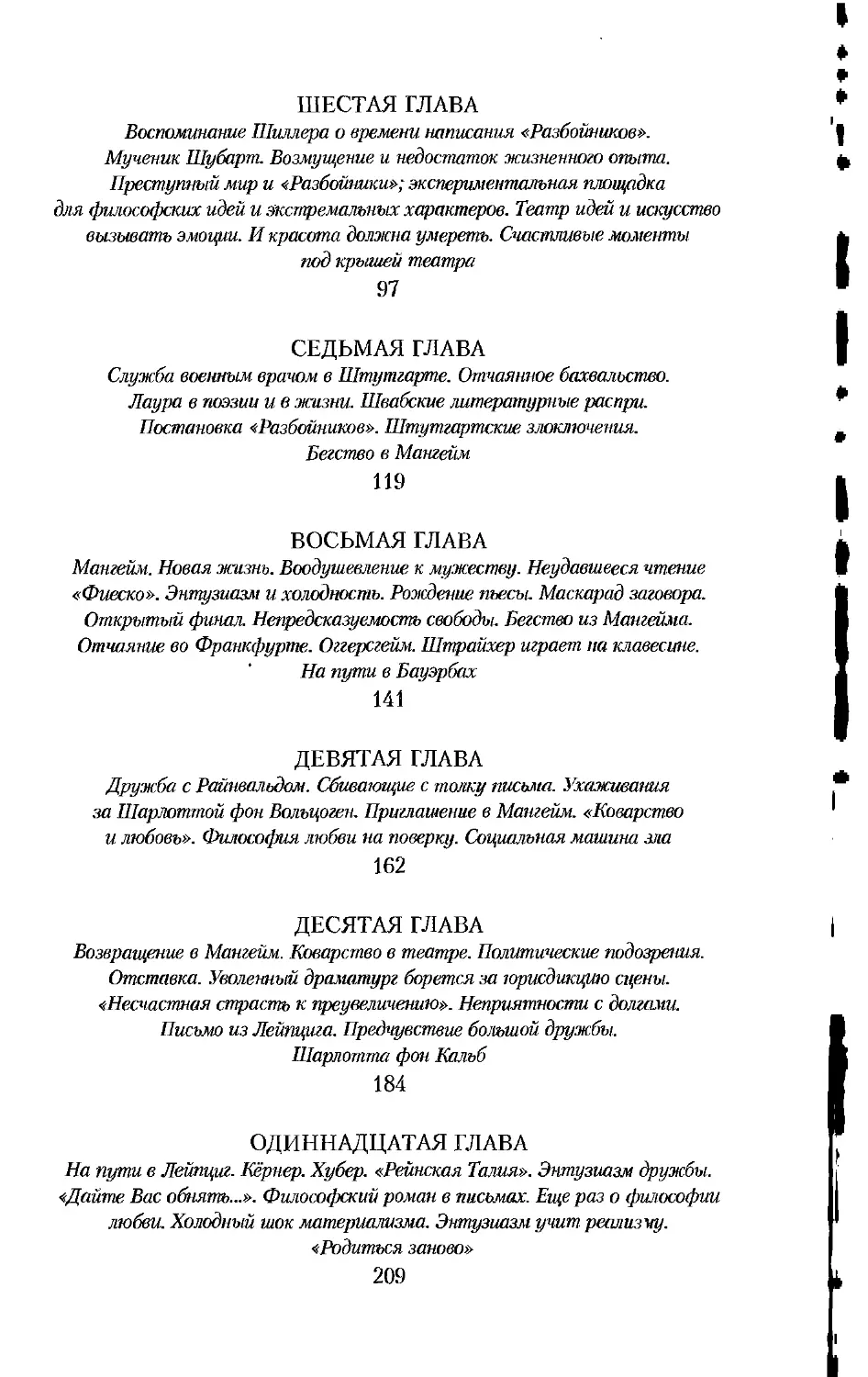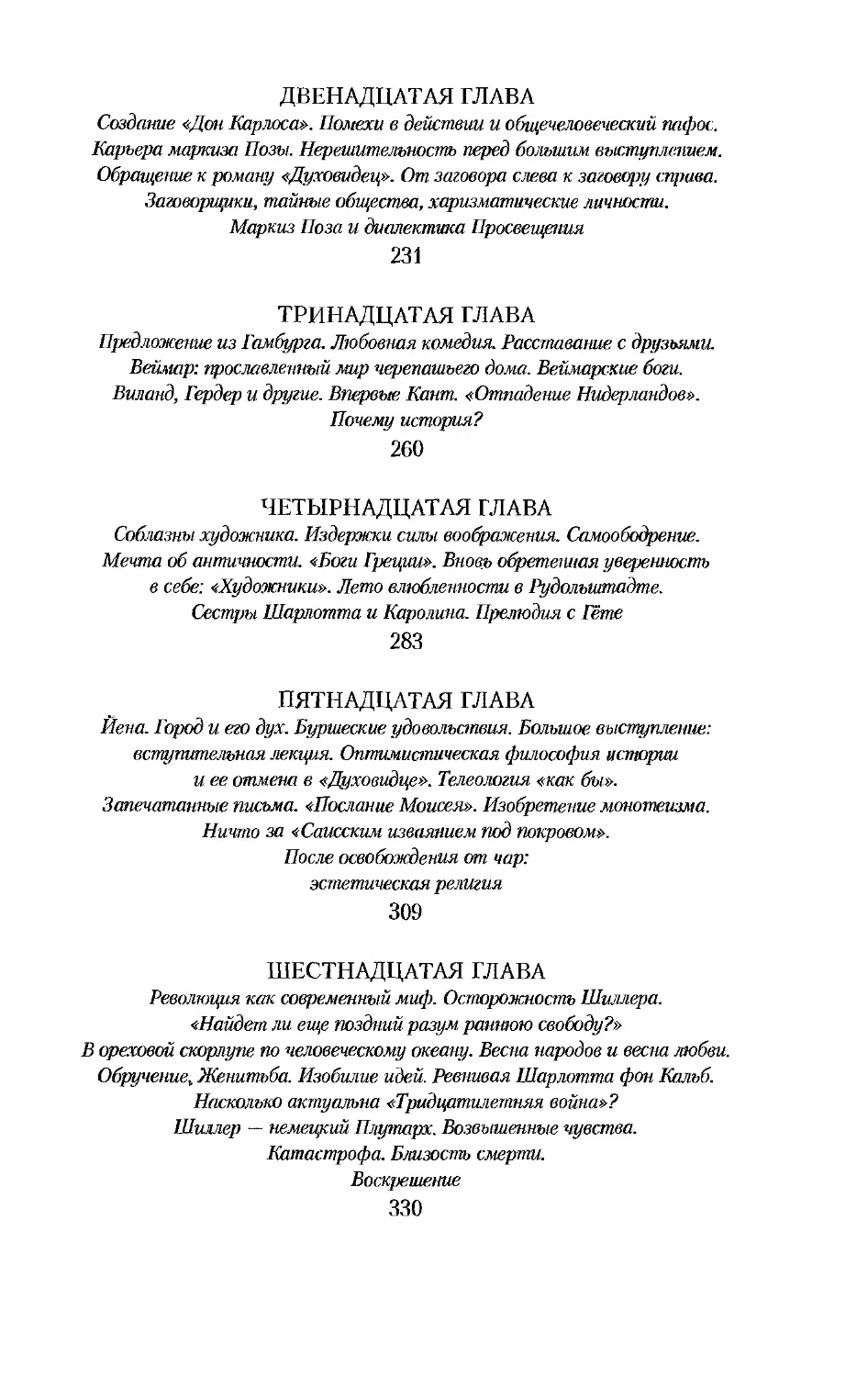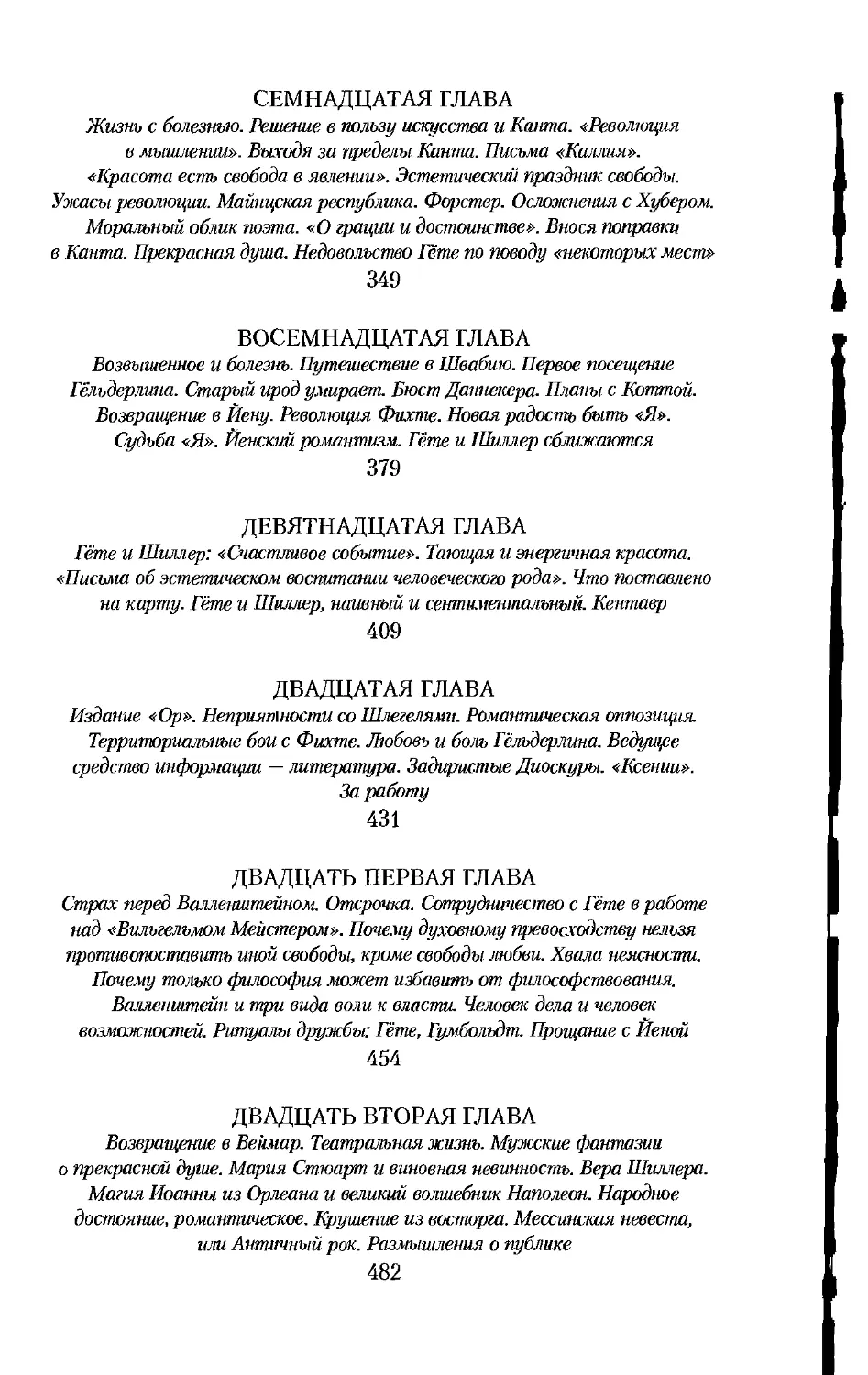Автор: Сафрански Р.
Теги: литература на германских языках (кроме английского) история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран философия идеализм
ISBN: 978-5-7516-0540-3
Год: 2007
Текст
уничтожения, но в такой же мере может противостоять и
негативным воздействиям, например атакам болеющего тела.
Шиллер по-бойцовски относился к природе, даже к своей
собственной. Тело — это враг твой! Поэтому Шиллер провозгласил, что
мы должны рассматривать наше предопределяемое природой
физическое состояние вовсе не как наше собственное, но как
нечто постороннее и чужое (V, 502)*.
С этим не мог согласиться его великий антипод и друг
Гёте. Он называл это шиллеровским «евангелием свободы» и
говорил, что он, со своей стороны, «не хотел бы лишать природу
ее прав».
Шиллеру это опять-таки казалось заблуждением. Природа
была в его глазах достаточно могущественной, она не
нуждалась в опеке; опекать следовало находящиеся под угрозой
права духа и обеспечивать власть свободы. Упоение свободой
было страстью Шиллера, и поэтому он стал Сартром конца XVTII
столетия. Идеализм Шиллера состоит в убеждении, что
человек может овладеть вещами, не допуская того, чтобы вещи
овладели им. Подобно Сартру, он провозглашает: всё дело в том,
чтобы создать нечто из того, для чего человек создан.
Близко знавшие его единодушно сообщают, что Шиллер
почти всегда был напряжен, деятелен, сконцентрирован,
любознателен и внимателен до недоверчивости. «Реальное, —
рассказывает его жена Шарлотта, — производило на него
пугающее впечатление». В отличие от Гёте Шиллер не обладал
спокойным и невозмутимым доверием к миру. Он не
чувствовал никакой благосклонной поддержки от природы. Человек
всего должен добиться сам! Так он сделался атлетом воли, в
жизни и в творчестве.
Был ли он в детстве несчастлив? На самом деле все было
не так уж плохо. Горячо любящая мать, постоянно
отсутствующий отец. Мещанские, не нищенские условия. Мир детства
напоминает идиллию. Но затем он попадает в Карловой шко-
* При отсутствии отсылки на переводчика цифры в скобках
отсылают к немецкому изданию: Schiller F. Sämtliche Werke in fünf Bänden.
Hrsg. von G.Fricke und H.G.Göpfert. Carl Hanser Verlag, München, 1973.
Римская цифра указывает том, арабская — страницу. В случае
использования имеющихся русских переводов том в скобках указывается
арабскими цифрами и отсылает к изданию: Шиллер Ф. Собрание
сочинений в семи томах. JVL: ГИХЛ, 1955—1957.
8
КОЛЛЕКЦИЯ /
текст
Шиллер доказывает,
что существует не только та судьба,
которая господствует над человеком,
но и та, что творит он сам.
Его власть над судьбой заражает.
Даже Гёте был захвачен
шилдеровским энтузиазмом.
В конечном счете, Шиллер
привел в движение целую эпоху.
Это воодушевление Бетховен выразил
в музыке: «Радость, пламя неземное...».
Рюдигер Сафрански
Смерть суждена и Прекрасному — богу людей и бессмертных.
Зевса стигийского грудь, меди подобно, тверда,
Раз лишь достигла любовь до властителя сумрачных теней,
Но при пороге еще строго он отнял свой дар.
Не усладить Афродите прекрасного юноши рану,
Вепрь беспощадно красу тела его растерзал.
И бессмертная мать не спасла великого сына:
Пал он у скейских ворот волей державных судеб...
Но она вышла из моря в сонме дщерей Нерея,
В жалобах ожил опять славный делами герой.
Видишь: боги рыдают и плачут богини Олимпа,
Что совершенному — смерть, смерть красоте суждена.
Даже и песнью печали славно в устах быть любимых,
Только ничтожное в Орк сходит без звуков любви.
Ф. Шиллер. «Нения»
Пер. М.Л. Михайлова
ПРОЛОГ
После смерти Шиллера, 9 мая 1805 года, было произведено
вскрытие. Пришли к заключению, что легкое «гангренозно,
кашицеобразно и совершенно разрушено», сердце
«дистрофически сморщено», желчный пузырь и селезенка крайне
увеличены, почки «субстанционально атрофированы и полностью
запаяны». Доктор Хушке, придворный врач герцога
Веймарского, добавил к протоколу вскрытия лапидарную фразу: «При
данных обстоятельствах должно вызывать удивление, каким
образом этот бедный человек смог прожить так долго». Но не
сам ли Шиллер говорил о том, что его тело создано духом? Ему
это очевидно удалось. Его творческий энтузиазм помог ему
прожить дольше, чем было отпущено его телу. Генрих Фосс,
сопровождавший Шиллера в последний путь, отметил:
«Только с помощью его бесконечного духа можно объяснить, каким
образом он смог прожить так долго».
Из протокола вскрытия трупа можно вычитать первое
определение шиллеровского идеализма: идеализм — это когда
человек с помощью силы восторга живет дольше, чем позволяет
его тело. Это триумф осененной, светлой воли.
Шиллер считал волю органом свободы. На вопрос, может
ли существовать свободная воля, он отвечал однозначно: разве
может она не быть свободной, если каждое мгновение жизни
открывает захватывающие возможности. Человек всегда имеет
перед собой, хотя и ограниченные, но неисчерпаемые
возможности. Поэтому свобода — это охотничий сезон.
Но речь идет не только о выборе между разными
возможностями, еще важнее творческий аспект свободы. Человек
может влиять на вещи, на людей и на себя самого в соответствии
с масштабом идей, намерений и концепций. Творческая
свобода привносит в мир нечто такое, чего в нем без нее не могло бы
быть, она всегда creatio ex nihilo*. Она является также силой
Творение из ничего (лат.).(3десь и далее примеч. переводчика.)
7
уничтожения, но в такой же мере может противостоять и
негативным воздействиям, например атакам болеющего тела.
Шиллер по-бойцовски относился к природе, даже к своей
собственной. Тело — это враг твой! Поэтому Шиллер провозгласил, что
мы должны рассматривать наше предопределяемое природой
физическое состояние вовсе не как наше собственное, но как
нечто постороннее и чужое (V, 502)*.
С этим не мог согласиться его великий антипод и друг
Гёте. Он называл это шиллеровским «евангелием свободы» и
говорил, что он, со своей стороны, «не хотел бы лишать природу
ее прав».
Шиллеру это опять-таки казалось заблуждением. Природа
была в его глазах достаточно могущественной, она не
нуждалась в опеке; опекать следовало находящиеся под угрозой
права духа и обеспечивать власть свободы. Упоение свободой
было страстью Шиллера, и поэтому он стал Сартром конца XVTII
столетия. Идеализм Шиллера состоит в убеждении, что
человек может овладеть вещами, не допуская того, чтобы вещи
овладели им. Подобно Сартру, он провозглашает: всё дело в том,
чтобы создать нечто из того, для чего человек создан.
Близко знавшие его единодушно сообщают, что Шиллер
почти всегда был напряжен, деятелен, сконцентрирован,
любознателен и внимателен до недоверчивости. «Реальное, —
рассказывает его жена Шарлотта, — производило на него
пугающее впечатление». В отличие от Гёте Шиллер не обладал
спокойным и невозмутимым доверием к миру. Он не
чувствовал никакой благосклонной поддержки от природы. Человек
всего должен добиться сам! Так он сделался атлетом воли, в
жизни и в творчестве.
Был ли он в детстве несчастлив? На самом деле все было
не так уж плохо. Горячо любящая мать, постоянно
отсутствующий отец. Мещанские, не нищенские условия. Мир детства
напоминает идиллию. Но затем он попадает в Карловой шко-
* При отсутствии отсылки на переводчика цифры в скобках
отсылают к немецкому изданию: Schiller F. Sämtliche Werke in fünf Bänden.
Hrsg. von G.Fricke und H.G.Göpfert. Carl Hanser Verlag, München, 1973.
Римская цифра указывает том, арабская — страницу. В случае
использования имеющихся русских переводов том в скобках указывается
арабскими цифрами и отсылает к изданию: Шиллер Ф. Собрание
сочинений в семи томах. JVL: ГИХЛ, 1955—1957.
8
ле под власть склонного к деспотии герцога. Настоящего отца
он любит, но государя, который, словно отец, провожает его до
спальной комнаты, он боится — пока не восстает против него.
Постоянно болеющий ребенок, слишком быстро
вытянувшийся, прыщеватый, неуклюжий, беспомощный. Тело не
слушается его. В школьной униформе он напоминает огородное
пугало. Он не любит оболочку, в которую упрятан. Что-то
поднимается в нем, постоянно натыкаясь на препятствия. Он
чувствует себя вброшенным в бытие и отвечает встречными
планами, он никогда не расстается с проектами — только это
делает жизнь переносимой. Часто он испытывает неловкость,
его движения затормаживаются, потом вдруг неожиданно
высвобождается и говорит, быстро, безостановочно,
захлебываясь. Слушающие его вскоре перестают чго-либо понимать.
Энтузиазм Шиллера произрастает из убогости жизни,
которую надо снова и снова преодолевать и которую он ярко
выразит в своих «Разбойниках». В этой гениальной пьесе,
обрушившейся на немецкий театральный ландшафт, словно
природная катастрофа, Шиллер исследует происхождение зла:
он обнаруживает бессмысленность и несправедливость
природы, которая покровительствует одному и отнимает у другого.
Все запутывается в плачевных случайностях, есть все
основания для недоверия к жизни. Так могла бы возникнуть
отравляющая ненависть. Шиллер сражается с ней во имя творческой
жизни. Поэтому его восторженность свободой имеет также
значение предписанного самому себе обеззараживающего
лечебного курса. Шиллеру это особенно пригодится при встрече с
Гёте. Дружба и сотрудничество с Гёте — счастливый случай и
сияющая вершина немецкой истории культуры - - смогли
осуществиться лишь благодаря выводу Шиллера о том, что по
отношению к совершенному нет иной свободы, кроме любви
(Шиллер — Гёте, 2 июля 1796 года).
Шиллер без страха перед коротким замыканием между
личностью и человечеством провозгласил любовь всемирной
властью. Еще молодым человеком он развил философию
любви, которая продолжает старинную космофильскую тему об
«огромной цепи существ». Шиллер был мастером
самовнушения, он мог возбудить сам себя и прочувствовать изнутри свое
Обнимитесь, миллионы... (т.1, с. 149). И все же он мог и
остудить себя снова до нигилистического оцепенения перед
ужасом. Он знал пучину бессмысленности, и оттого в его пророче-
9
ских озарениях о всечеловеческом братстве всегда
присутствует протестантское «вопреки всему». Существует шиллеровское
пари: это мы еще поглядим, кто кого положит на лопатки,
дух — тело или тело — дух!
Шиллер захочет доказать, что существует не только та
судьба, которую человек терпит, но и та, которую являет он сам. Он
не мог не заметить, что его собственная власть над судьбой
притягивает и заражает. Отсюда его способность к дружбе, его
харизма. Даже Гёте был захвачен шиллеровским энтузиазмом.
В конечном счете Шиллер привел в движение целую эпоху.
Это воодушевление и то, что из него последовало, особенно
в сфере философии, позднее стали называть «немецким
идеализмом», и Бетховен выразил это в музыке: Радость, пламя
неземное... (т.1, с. 149).
Необходимо показать, как Шиллер работал над самим
собой, жизнь — как драма и постановка. Став знаменитым, он
превратился в публичную персону. Его кризисы, превращения
и преображения разыгрывались перед глазами публики,
которая с восхищением и удивлением вглядывалась в эту
театрализованную жизнь. Гёте впоследствии превознес протейскую
натуру своего друга: «Это был чудесный великий человек.
Каждые восемь дней он был другим, и всякий раз более
совершенным».
Произведения Шиллера — игровые формы этой жизненной
работы. Он придерживался своего же собственного тезиса:
человек... лишь тогда полностью человек, когда он играет (V, 618).
Игра искусства — это эпифания свободы. Шиллер мог бы
сказать подобно Ницше: у нас есть искусство, чтобы не потерпеть
крах в жизни.
Из шиллеровской перспективы идеализм снова обретает
свой блеск. В идеализме нет ничего устаревшего, если
понимать его так, как понимал его Шиллер: путь свободы; дух,
который выстраивает себе тело. Шиллер был также великим 6у-
дителем философии конца XVIII века. Он внес обширный
вклад в эпохальные философские свершения в период между
Кантом и Гегелем. Необходимо рассказать о том, как Шиллер
участвовал в открытии немецкого идеализма; как он вместе с
Гёте сумел стать самым ярким созвездием немецкой духовной
жизни. Шиллер — электростанция, заряжавшая энергией даже
своих противников. Романтикам понадобилось отгородиться
10
от него, чтобы найти самих себя. Но как бы им ни хотелось
уйти от него, освободиться от него они не смогли.
Так наступает великая опера духа: в исторический момент
беспримерной творческой плотности все они стоят на одной
сцене: Гёте, Гердер, Виланд, Мориц, Новалис, Гёльдерлин,
Шеллинг, Шлегели, Фихте, Гегель, Тик — и в самом центре
Шиллер, мастер игры в бисер.
Шиллер составил целую эпоху, и поэтому, идя вслед за
ним, мы входим в биографию эпохи классики и романтизма.
На заднем плане — политическая драма, начавшаяся
Французской революцией.
Немцы, как сказал однажды Генрих Гейне, совершили свою
революцию лишь в «воздушном царстве мечтаний».
Возможно, идеализм был мечтой. А реальная революция?
Возможно, она была плохой мечтой. Получив с пятилетним
запозданием в 1798 году диплом почетного гражданина Франции
с подписями Дантона и всех остальных, уже давно
обезглавленных, Шиллер согласился с формулировкой Гёте, что права
гражданина присланы ему «из царства мертвых» (Гёте —
Шиллеру, 3 марта 1798 года).
Вместе с Шиллером мы входим в другое царство теней
прошлого — в незабываемый золотой век немецкого духа. Это
чудесные годы, которые могут помочь сохранить ощущение
подлинно важных, одухотворенных вещей жизни.
т
ПЕРВАЯ ГЛАВА
Происхождение. Легендарный кузен. Авантюры отца.
Идиллия в Лорхе. Палка. Почитать и превзойти отца. Страдания
матери. Рококо в Людвигсбурге. «Жизненный галоп» герцога.
«Ты с ума спятил, Фриц ?»
Фридрих Шиллер, автор «Валленштейна», едва не родился в
военном лагере. Вюртембергская армия, где служил
лейтенантом отец, Иоганн Каспар Шиллер, была стянута в Людвигсбург
для подготовки к «Гессенской кампании» — одной из военных
акций Семилетней войны. Отряды вюртембергского герцога
сражались тогда на стороне Франции и - к негодованию шва-
бов-протестантов — против Пруссии, оплота протестантизма.
Мать жила с первой дочерью в родительском доме в Мар-
бахе, откуда она без труда могла навещать мужа в
близлежащем Людвигсбурге. Она была как раз у него в полевом лагере,
когда начались первые схватки. Ее поспешно отвезли в Мар-
бах, где 10 ноября 1759 года она родила второго ребенка. При
крещении его назвали Иоганн Кристоф Фридрих.
В семье отца уже был один Иоганн Фридрих, который
считался достойным подражания, так как этот «кузен» был
образованным и бывалым человеком, который писал и переводил
книги; странствующий прожектер и бонвиван, он, согласно
семейному преданию, «даже давал советы правительствам».
Говорили, что именно он посоветовал герцогу Карлу-Евгению
переплавить в пушки все лишние церковные колокола. Он
разбирался в камералистике и педагогике и носился с планами
повышения благосостояния народа и полного устранения
человеческих страданий. Но авторитет «кузена» заметно
пошатнулся, когда впоследствии ему не удалось обеспечить даже
собственное благосостояние. После возвращения из Англии, где
он якобы занимался алхимией с розенкрейцерами, он основал
в Майнце издательство, выпускавшее респектабельные книги
по моральной философии и экономике. Но публика осталась к
ним равнодушной, и беспокойный человек вскоре не знал, что
делать со своей издательской продукцией. Он угодил в
долговую тюрьму, и то немногое, чем он владел, было распродано с
молотка. Он зарабатывал на жизнь частными уроками
иностранных языков и в восьмидесятые годы исчез из поля зрения
12
семьи. Но Фридрих Шиллер сохранил любопытство к этому
«кузену», которого знал лишь по рассказам. Он хотел
навестить его в июле 1783 года. Но так и не сделал этого.
Возможно, он не хотел разочаровываться.
Фридриха крестили второпях через день после рождения —
ребенок был настолько слабым, что, казалось, не выживет. Но
все же на расходы не поскупились, и гостей собралось как на
свадьбу. Перечень крестных отцов свидетельствует об
авторитете семьи. Наряду со злополучным «кузеном» упоминают
полковника фон дер Габеленца, командира полка, в котором
служил отец, бургомистров Марбаха и расположенного
неподалеку Вайхингена, а также, к всеобщему удивлению,
знаменитого и зловещего полковника Ригера. Этот человек,
наводивший страх по всей стране, был очень расположен к отцу.
Полковник Ригер был близким советником герцога, без
которого тот не мог обойтись, потому что Ригер сумел,
используя самые жестокие методы вербовки, буквально из
ничего сколотить шеститысячную армию. Ригер получил
неограниченные полномочия по принудительному рекрутированию,
и под его началом в 1757 году были проведены три
масштабных охоты на людей. Попались крестьяне, мелкие
ремесленники и поденные работники. Свои методы Ригер
позаимствовал у прусских вербовщиков. Мужчин отыскивали в пивных,
на церковных праздниках и на прочих танцевальных
развлечениях, когда они уже были в крепком подпитии, и затем
держали их взаперти и без пищи до тех пор, пока они
«добровольно» соглашались взять задаток и подписывали вербовочный
договор. Но сколоченные подобным образом войска
оказывались отнюдь не боеспособными. В первой же военной стычке
в 1757 году вюртембергская армия привлекла к себе внимание
массовым дезертирством. В связи с этим было издано
«Распоряжение о поимке дезертиров», которое оглашалось с
церковных кафедр и обещало премию в восемнадцать гульденов за
каждого выданного дезертира. Эти поштучные деньги
вызвали настоящую охотничью лихорадку, которую полковник
Ригер умело направлял в нужное русло. Если назывался
подозреваемый, церковные колокола возвещали погоню,
перекрывались дороги, занимались мосты, разворачивались стога с
сеном. За это Ригера называли живодером, охотником за
головами и работорговцем. К моменту рождения Шиллера его
крестный отец Ригер находился на вершине власти. Но уже
13
через три года его карьера лопнула. Впоследствии Шиллер
расскажет об этом в «Игре судьбы» — воспоминании о мире
вюртембергских тиранов, от которых он тем временем
благополучно сбежал. Это именно та история, лучше которой
ничего не могло прийти в бунтующую голову представителя
движения «Бури и натиска».
Падение полковника Ригера было подготовлено его
завистниками при дворе. Самым влиятельным из них был граф
Монмартин, руководитель герцогского кабинета, который с
помощью поддельных писем разоблачил Ригера как
предполагаемого заговорщика. Полковник был арестован, когда ое с
привычным блеском, окруженный придворными и ординаторами,
проводил развод караула. Без суда и следствия его
продержали четыре года в Хоэнтвиле. После освобождения он покинул
страну и через шесть лет снова вернулся на родину. Герцог
принял его милостиво и назначил комендантом тюрьмы в Хо-
энасперге. Таким образом, бывший заключенный стал
охранять другого знаменитого арестанта, поэта и публициста
Христиана Фридриха Шубарта, который был также арестован без
судебного процесса, так как он осмелился критиковать
герцогский произвол. В 1781 году Ригер предоставил своему
крестнику Шиллеру, восхищавшемуся Шубартом, возможность
посетить арестанта. После этого Шиллер стал относиться к
полковнику более терпимо. Когда через год Ригер скончался от
апоплексического удара, вызванного крайним возбуждением
из-за неповиновения солдата, с которым он обошелся жестоко
и несправедливо, Шиллер сочинил стихотворение для
панихиды: Выше, чем монарха одобренъе / (Ах! к чему столь многих
устремленье!) / Выше был тебе, кто вечно есть (I, 114).
Историю этого человека Шиллер еще раз вспомнил при посещении
сына Шубарта в декабре 1788 года в Веймаре. После этого он
и написал повесть об «игре судьбы».
Отец Шиллера, заслуживший уважение начальства, вовсе
не был бесхарактерным человеком. Он поднялся вверх
благодаря своей неистощимой энергии и практической смекалке. Он
гордился своей карьерой, так как она была в основном его
собственной заслугой. Он всегда тянулся к знаниям, был
достаточно гибок и в то же время принципиален. Ему было нелегко,
и все же мир представлялся ему хорошо организованным и
справедливо устроенным. Он верил в Бога, который заботится
о людях, если у них есть мужество заботиться о самих себе. Бог
14
на небесах, князья на земле и отцы в доме — это был
естественный порядок вещей, который казался ему непоколебимым, но
не застывшим, так как предоставлял усердному
индивидуальный шанс возвыситься. Себя самого он ощущал как живое
доказательство этого.
Фридрих Шиллер высказал как-то убеждение, что его отец,
дослужившийся до капитана и управляющего всем парковым
и садовым хозяйством Вюртемберга, мог бы достичь еще
большего. Сам отец был доволен достигнутым, тем более что он
смог еще испытать гордость за своего знаменитого сына.
Незадолго да смерти он написал нечто вроде благодарственной
молитвы, где были такие слова: «И ты, сущность всех сущностей,
тебя просил я после рождения моего единственного сына,
чтобы ты прибавил ему силы духа, чего я не смог достичь из-за
недостатка образования, и ты услышал меня. Благодарю тебя,
добрейшее существо, что ты обращаешь внимание на просьбы
смертных».
Отец Иоганн Каспар, родившийся в 1723 году, происходил
из семьи пекарей и виноделов, проживавших в нижней долине
Ремса. Должность старосты оставалась за этой семьей из
поколения в поколение, так что стала почти наследственной.
Иоганн Каспар был способным и был допущен к изучению
латыни. Но так как отец его умер рано и оставил восемь
необеспеченных детей, мальчика послали на полевые работы. Он
попытался избежать этого. У монастырского цирюльника он
обучился искусству врачевания ран. Затем он отправился
странствовать, «плохо одетый и со скудной котомкой за
плечами». В мыслях своих он хотел большего — он упражнялся в
фехтовании и изучал французский язык. В 1745 году он
прибился в Нёрдлингене к проходящему баварскому гусарскому
полку. В полку не было вакантного места фельдшера
(санитара). Но он показал себя столь искусным, что вскоре ему
разрешили небольшие хирургические операции. Ему разрешили
лечить кожные заболевания, врачевать зубные боли и пускать
кровь. Полк двигался в Голландию, где на стороне австрийских
Габсбургов принял участие в войне за австрийское наследство
против французских войск. Иоганн Каспар скоро стал
штатным военным врачом и обнаружил особые способности в
борьбе с инфекциями. Так как солдаты больше страдали от
венерических болезней, чем от вражеских пуль, Иоганн Каспар
специализировался на так называемых «галантерейных проце-
15
дурах». Он хорошо зарабатывал и на сэкономленные деньги
купил себе лошадь. Он много ездил по Бельгии, Северной
Франции, Голландии. Он даже сопровождал своего командира
полка в поездке в Англию. Эти годы были полны
приключений. Он был ранен, захвачен в плен как шпион, сбежал,
скрывался и, наконец, снова отыскал свою часть. Он узнал
«прогрессивный» мир, большие города, посещал новые мануфактуры,
угольные шахты, видел, как у воды отнимается земля и как
машины распиливают мрамор. Вполне возможно, что
впечатляющие картины трудолюбия голландских ремесленников,
которое Фридрих Шиллер позднее изобразит в «Истории
отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества»,
были навеяны еще в детстве рассказами отца. Нидерланды
были для отца обетованной землей.
С небольшим состоянием, с инструментами для
вытаскивания зубов и кровопускания, для стрижки и бритья, с
венгерским седлом и восемью книгами, назидательными и
медицинскими, с несколькими хорошо зажившими ранами и солидным
опытом Иоганн Каспар вернулся в 1749 году на родину,
открыл в Марбахе хирургическую практику и женился на
шестнадцатилетней дочери хозяина гостиницы Элизабет Доротее
Кодвайс.
Невеста принадлежала к солидному марбахскому
семейству. Ее отец Георг Фридрих Кодвайс был владельцем
гостиницы «У золотого льва» и лесным инспектором, который должен
■ был надзирать за строительством герцогских паромов и
сплавом леса. Но Иоганн Каспар не знал, что его тесть проиграл на
спекуляции лесом и находился на грани разорения. Так Иоганн
Каспар, находившийся на подъеме, попал в семью, стоявшую на
пороге социального падения. Вначале он еще попытался
помочь своими сбережениями, но безуспешно. Гостиница пошла
под молоток, хозяин «льва» стал нищим и в качестве подаяния
получил должность охранника городских ворот и возможность
проживать в небольшом домике рядом.
Иоганну Каспару было невыносимо и дальше наблюдать
разорение семьи, жизнь в Марбахе опостылела ему, и у него
было достаточно решимости, еще раз начать сначала. Его
снова потянуло в армию. В 1753 году он записался в заново
сформированный вюртембергский полк, место фельдшера было уже
занято, и он должен был довольствоваться более низким
положением писаря при службе снабжения. Скоро он снова пошел
16
вверх. Когда вюртембергские солдаты вступили в войну
против Пруссии на стороне Австрии, Иоганн Каспар стал
полковым врачом. Он принимал участие в сражениях в Богемии,
которые не украсили славой вюртембергский контингент, так как
более половины солдат дезертировало. Иоганн Каспар остался
при знамени и для укрепления пошатнувшейся воинской
морали стал проводить богослужения; армейский священник
тоже сбежал. В знак признания его разносторонней полезности
он был в 1759 году, в год рождения сына, произведен в
лейтенанты, а еще через два года — в капитаны.
Вместе со своим полком он кочевал из одного гарнизона в
другой, это была беспокойная жизнь, жена должна была
следовать за своим мужем вместе с обоими маленькими детьми. В
1763 году отец Шиллера был переведен в Швэбиш-Гмюнд в
качестве офицера-вербовщика. Кочевая жизнь прекратилась,
Шиллеры могли наконец зажить своим домом. Иоганн Каспар
исполнял служебные обязанности вербовщика честнее, чем его
бывший покровитель, полковник Ригер, но зато и менее
успешно, а поскольку жалованья не платили ни ему, ни его
помощникам, он должен был использовать свои сбережения, чтобы
платить подчиненным ему унтер-офицерам и кормить семью.
Семья поселилась в близлежащем Лорхе, так как жизнь в
деревне была дешевле. Фридрих Шиллер будет помнить это
место как потерянный рай раннего детства.
Это была длинная деревня, растянувшаяся вдоль Ремса в
полутора километрах ходьбы от Швэбиш-Гмюнда. Речка
извивается через луга, по краям долин возвышаются поросшие
ельником холмы. Раньше здесь пролегал важный торговый путь,
поэтому на местности сохранились крепостные валы. Шиллер
впадал в мечтательность, когда рассказывал о пейзажах своего
детства. Его жена Шарлотта сообщает в своем наброске
биографии Шиллера, написанном после его смерти: «Мальчик очень
любил взбираться на гору, на вершине которой стояла
часовня; по пути к ней набожные христиане с символическим
раскаянием проходили двенадцать ступеней страдания. Могила Го-
генштауфенов находилась в монастыре на другой вершине, и
среди этих образов религии и рыцарской мощи душа
мальчика впитывала свои первые впечатления». Возможно, что
воспоминания о могиле Гогенштауфенов на возвышенности вблизи
Лорха и об историях о легендарной династии внушили Шил-
17
леру идею так и не осуществленной драмы о Конрадине,
последнем императоре из династии Штауфенов.
В памяти мальчика остались и уроки латыни у пастора Мо-
зера в Лорхе. Этому мягкому, приветливо набожному и
образованному человеку он воздвиг памятник в «Разбойниках»,
назвав его именем пастора, который мужественно взывает к
совести гнусного Франца. Возможно, что пастор Мозер
пробудил в мальчике желание стать священником. Сестра Христо-
фина вспоминает: «Часто он сам начинал читать проповеди,
забирался на стул и подпоясывался вместо церковной мантии
черным фартуком своей сестры. В это время все должны были
стоять вокруг него тихо и серьезно и слушать его, кроме этого
иногда он проявлял особое рвение — убегал прочь и долго не
появлялся, за этим обычно следовала карающая проповедь.
Сколь ни детскими были эти проповеди, они всегда были
верными по смыслу; он весьма умело соединял вместе разные
изречения и произносил их на свой особый манер. Он также
разделял их паузами, которые наблюдал у господина пастора».
Христофина описала еще одно происшествие, которое
свидетельствует об отношении Фридриха к своему отцу.
Однажды соседка, увидев возвращавшегося из школы Фридриха,
зазвала его к себе. Она хотела дать ему на пробу его любимую
пищу, кашу из турецкой пшеницы, в это же время мимо
случайно прошел отец, не заметивший его. Мальчик выскочил к
нему со словами «Дорогой папа, я больше никогда не буду так
делать!». Отец, не нашедший ничего достойного порицания,
послал его домой. «С ужасным воплем он оставил свою кашу,
прибежал домой и стал настойчиво упрашивать мать наказать
его прежде, чем вернется отец, и сам принес ей палку. Мать не
понимала, что все это должно означать, так как его слова
прерывались рыданиями, и отшлепала его по-матерински».
Отец был авторитетом, но не тираном. В семье царил
патриархат. Высшей мерой оценки было исполнение долга. В той
мере, в какой отец сам считал себя обязанным своему
господину или Богу, все члены семьи должны были видеть в нем
образец исполнения долга. Он всегда верой и правдой служил
своему герцогу, хотя и не мог не видеть, как часто тот
злоупотреблял правами господина и пренебрегал своими
обязанностями. Вышестоящий господин должен будет отвечать перед
своим Богом, он же как подчиненный стремился к тому, чтобы
оставаться порядочным. Как офицера-вербовщика его нельзя
18
было упрекнуть в незаконных методах рекрутирования или
злоупотребления доверием. От жены и детей он также
требовал ответственного поведения. Они должны были
подчиняться его распоряжениям, даже если он совершал ошибки,
которые он и сам признавал. Он требовал от них веры в свои
добрые намерения. Подобно садовнику, каковым он и стал
впоследствии, он рассматривал семью как площадку для
насаждения порядочности. Дети должны быть обеспечены и
ухожены, но и содержаться в строгости. Его отношение
определялось не произволом, но строгим чувством порядка.
Юный Шиллер глубоко проникся отцовским
миропорядком, и, когда он писал своих «Разбойников», этот миропорядок
был еще столь актуален для него, что он изобразил разрушение
отцовского порядка как трагическую катастрофу. Возможно,
*_J *J
эта вера в отцовский миропорядок стала причиной того,
почему мальчик, как свидетельствует описанное выше
происшествие, совершенно не понял снисходительности отца и
потребовал наказания для восстановления обычного порядка. Ребенка
приучили к тому, что палку, которой его будут бить, он должен
принести сам. Этот отцовский мир, даже если в нем
приходилось страдать, все же давал чувство надежности и
"защищенности. Фридрих наверняка боялся своего отца, но так как он его
еще и любил, страх перерастал в благоговение. Друг юности,
Фридрих Вильгельм фон Ховен, сообщает: «Огромное
благоговение перед отцом превосходно способствовало его
усердию».
Образ отца просветлялся по мере того, как Фридрих после
поступления в Карлову школу ощущал тиранию герцога.
Когда герцог в январе 1773 года захотел взять способного Фрид-
о ^
риха в свои «военный питомник», то именно отец попытался
объяснить ему, что мальчик мечтает о другом. Он хочет
изучать теологию, что в Карловой школе было невозможно. Отец
дважды представал перед герцогом с прошением сына, и оба
раза безуспешно. Он вынужден был, чтобы избежать
наказания, все же передать его в руки герцога. Мальчику в душе
представлялось, что отцовская власть защищала его против гораздо
более могущественной власти герцога. И поскольку отец хотел
уберечь его, сын на всю жизнь сохранил почти детское
благоговение перед отцом.
Когда умирает брат его друга, младший Ховен, и Шиллер
временно впадает в глубокую депрессию и вынашивает мысли
19
о смерти, он пишет сестре 19 июня 1780 года о причинах,
которые могут удержать его в жизни: У меня есть счастливое
преимущество перед тысячами, (незаслуженное счастье) иметь
самого лучшего отца.
Этому лучшему отщ он впоследствии, после бегства из
Штутгарта, захочет доказать, что он способен на большее, чем
быть полковым лекарем. Он пойдет к людям театра — против
воли отца, который советует ему продолжать предначертанную
герцогом карьеру медика. Из-за этого Шиллер будет
испытывать чувство вины. Он напишет сестре 28 сентября 1785 года:
Я уповал на внутреннюю силу, что казалось моему отцу чем-то
неслыханным и химерическим, и теперь должен, краснея,
признаться, что я по сей день в долгу перед ним, ибо мои гордые
притязания пока еще не осуществились. Он был бы счастливее,
если б я, согласно его первоначальным планам, не порывая с
незаметной, но спокойной посредственностью, ел хлеб моей
родины (т.7, с.90-91).
Но откуда же, продолжает он в этом письме, проявились у
него неукротимость духа и честолюбие, которые потянули его
в другую сторону? Они передались от отца, который также был
честолюбив. Отец поднялся вверх, сын хочет подняться еще
выше. Отец стал майором и герцогским садовником, сын хочет
дотянуться до звезд. Благодарность отцу, так как он научил
сына своим примером, как добиться большего. Если бы отец
действительно не хотел этого, то он не должен был допустить,
чтобы мое самолюбие развжось, тогда ему надо было держать
меня в вечном неведении самого себя.
Шиллер просит о терпении: отец еще увидит плоды той
творческой неукротимости, которую он привил ему. Скажи
нашим родителям-, пишет он сестре, что отныне им нечего
тревожиться обо мне Все их желания и замыслы относительно ме -
ня останутся далеко позади моей... счастливой судьбы.
Шиллер уважает отца и именно поэтому хочет превзойти
его. Он хочет добиться триумфа в мире, определяемом
авторитетом отца.
Мать была нежной, набожной, радушной женщиной,
уверенной и деятельной в домашних делах, но неуверенной до
робости и боязливости во внешнем мире. Она страдала со своим
мужем — в этом она признается сыну в письме от 28 апреля
1796 года, написанном в связи с тяжелым заболеванием мужа:
«Вообще, дорогой сын, я должна полностью открыть тебе свое
20
сердце, так как я не знаю, смогу ли я это сделать потом. О, как
счастлива была бы я, если бы мои страдания поскорее
окончились! Папа никогда не думает так чувствительно и забудет всё
через двадцать четыре часа после того как выздоровеет и
снова пойдет в свой питомник; служанка сможет обеспечить его
всем, что могла бы делать жена. Уже многие годы он
равнодушен к своим близким и всё больше гоняется за страстями и
желаниями, которые он вбил себе в голову, но не заботой о благе
своих близких».
Мы не знаем, что ответил Шиллер на это письмо матери.
Сохранилось письмо сестре Христофине от 9 мая 1796 года, где
он откликается на материнское признание: Как растрогало
меня, что она открыла мне свое сердце, и как больно было мне, что
я не мог ее сразу же утешить и успокоить. Положение дорогих
наших было ужасным.
Судьба матери была обычной: нужда и работа,
многочисленные беременности, она произвела на свет мальчика и пять
девочек, две из которых умерли вскоре после рождения. Она
хотела бы помочь дочерям получить более высокое
образование и возможность участия в общественной жизни, но ее мужу
это показалось неприличным и материально слишком
обременительным. Как и в других случаях, у матери не было шансов
противостоять отцу. Она смирилась с этим, работала изо всех
сил и в свободные часы читала баллады и духовные песни, и
лишь многие годы спустя, когда жизнь отца приближалась к
концу, она смогла обсудить свою жизнь с детьми.
Три года, с начала 1764-го и до конца 1766-го, Шиллеры
жили в Лорхе. В декабре 1766-го отец добился перевода в свой
полк в гарнизон Людвигсбурга. После того как он три года не
получал зарплаты и, продав свои виноградники в Марбахе,
остался без средств, он с верноподданническим почтением, но
настойчиво потребовал невыплаченную зарплату и перевода в
Людвигсбург. Его желание было исполнено, но свою зарплату
он получил лишь через несколько лет.
Людвигсбург. Шиллеры приехали в город, который должен
был стать одним из центров европейского рококо. Это было
время, которое герцог позднее назвал годами своего
«жизненного галопа». Он держал страну под ярмом и брал кредиты по
всей Европе — Вольтер, к примеру, одолжил ему двести
шестьдесят тысяч гульденов,— чтобы положить начало
беспримерному великолепию. Людвигсбург действительно стал вторым
21
Версалем, слава резиденции ширилась, стаями слетались сюда
все, у кого были титулы, имена, и прежде всего достаточно
денег, чтобы проиграть их. Уильям Теккерей в романе «Барри
Линдон» заставляет одноименного героя, рыцаря удачи,
который накануне Французской революции объезжает блестящий
и уже подгнивший мир дворцов, сделать остановку также и в
резиденции Людвигсбург. Теккерей изображает мир, который
юный Шиллер с любопытством разглядывал как безбилетный
зритель.
«Ни в одном дворе Европы, — сообщает Теккерей устами
Барри Линдона, — к удовольствию не стремились так жадно и
не наслаждались так великолепно. Герцог управлял не в своей
столице Ш., но, чтобы во всех отношениях подражать
версальскому двору, построил в нескольких милях от столицы
роскошный дворец и окружил его аристократическим городом,
населенным исключительно дворянами, офицерами и
служащими его богатого придворного государства. Его
подчиненные жестоко притеснялись, чтобы он мог позволить себе
эту роскошь, так как страна его высочества была маленькой, и
поэтому, будучи мудрым, он строжайшим образом
отгородился от своих подопечных... Придворная опера уступала разве что
французской, а блестящий герцогский балет, за который его
высочество выплачивал неимоверные суммы, был лучшим в
Европе. Мне, кажется, никогда больше в жизни не доводилось
восхищаться подобным великолепием на сцене»-.
Из идиллического деревенского уединения мальчик попал
в город, который до последнего уголка был пропитан этим
придворным миром, резкий переход от природы в культуру. Юс-
тинус Кернер, который также вырос в Людвигсбурге,
рассказывает, как повсюду на широких улицах, на липовых и
каштановых аллеях можно было видеть придворных «в
шелковых фраках, париках и при шпагах», прогуливавшихся на
базарной площади под аркадами. По воскресным вечерам устра- '
ивались фейерверки. Придворные веселились день и ночь и
любили зрелища. Оперы, концерты, балы-маскарады и охота
сменяли друг друга. В галерее у замка стояло семьдесят
игральных столов, которые усердно посещались. Словно в огромном
аквариуме, суетилась охочая до удовольствий публика.
Знамениты были зимние праздники. В этих случаях герцог окружал
часть парковых сооружений стеклянными стенами и куполом,
печи распространяли тепло, тысячи стеклянных ламп создава-
22
ли иллюзию роскошного звездного неба на потолке. И затем
шли по виноградным садам, усыпанным виноградными
гроздьями, попадали в апельсиновые долины с копиями античных
статуй. В этих волшебных садах ставились пьесы и балетные
постановки. Однажды герцог приказал летом засыпать солью
аллею, соединявшую Солитюд с Людвигсбургом, чтобы
устроить катание на санях. Герцог и его свита скользили на санях,
запряженных четырьмя оленями, по апельсиновой аллее мимо
глазеющей толпы.
Офицеры и их семьи имели право свободно посещать
постановки придворного театра. Здесь Фридрих впервые увидел
оперные и театральные представления. Герцог не скупился ни
на какие затраты, чтобы привлечь к себе лучших европейских
певцов и актеров, за всемирно известного танцора де Вестриса
он заплатил двенадцать тысяч гульденов и все же не смог
помешать тому, что тот, не исполнив свои обязательства, снова
уехал через несколько недель, последовав более выгодному
предложению из Милана. Побывав на нескольких
представлениях, Фридрих вырезал из картона фигуры, которые можно
было приводить в движение с помощью шнуров, собрал в
комнате семейство и нескольких друзей, развесил на веревке
старые костюмы и представил публике несколько небольших, им
же написанных пьес. Уже тогда Шиллер не был хорошим
чтецом. «Он всё утрировал из-за своего темперамента», —
сообщает сестра Христофина.
Впервые Фридрих увидел своего герцога 11 июля 1767
года, когда тот вместе со всем двором вернулся после
многомесячного разорительного пребывания в Венеции. По обеим
сторонам дороги выстроились цепи для встречи государя,
который поспешно покинул Венецию, так как его долги
выросли до невероятности. Чтобы вернуться домой, он должен был
заложить свои домашние драгоценности.
К этому времени правление герцога продолжалось уже
четверть века. Карл-Евгений пришел к власти в
шестнадцатилетнем возрасте, до того он воспитывался у Фридриха Великого,
который оставил ему следующее напутствие: « Не думайте, что
страна Вюртемберг создана для Вас, но думайте о том, что
провидение произвело Вас на свет, чтобы сделать этот народ
счастливым. Его благополучие всегда предпочитайте Вашим
собственным удовольствиям». Герцог не запомнил это напутствие.
Чтобы финансировать расточительность двора, он продает сол-
23
дат, сначала французскому королю, затем в Англию для
заморской интервенции. Шиллер намекнет на это в знаменитой
сцене «Коварства и любви». Вопреки воле сословий герцог ввел
налоги и барщинные работы, чего он не имел права делать
согласно конституции страны. Он приказал посадить на пять лет
в тюрьму известного на всю Германию Иоганна Якоба Мозера,
сословного представителя, возглавившего оппозицию против
этого самоуправства. В имперском суде в Вене начался процесс
против нарушений права, который по прошествии нескольких
лет завершился в 1770 году. Герцогу было запрещено
одностороннее взимание налогов и было предписано вернуть
сословиям то, что он у них своровал. Герцог смирился, его
безудержные годы закончились, он перебесился. Всесилие фавориток и
охотничьи выезды за прекрасными швабками прекратились, он
влюбился в прекрасную душу Франциски фон Бернардин,
впоследствии графини фон Хоэнхайм, которая стала оказывать
свое умиротворяющее влияние на Карла-Евгения, и таким
образом он увлекся проектом небольшого человеческого
питомника: дети офицеров и служащих должны были стать его
воспитанниками. Сиротский приют для детей военнослужащих
стал в 1771 году «Военным питомником» в Солитюде, из
которого впоследствии образовалась Высшая Карлова школа,
ставшая местом учебы и страданий юного Фридриха Шиллера.
В Людвигсбзфге Шиллеры жили вместе с семьей офицера
фон Ховена в доме придворного печатника Христиана
Фридриха Котты. Фридрих дружил с обоими сыновьями капитана
фон Ховена. Младший, Август, умер в 1780 году, старший,
Фридрих Вильгельм, остался другом до конца жизни. Они
вместе учились в латинской школе в Людвигсбурге, где Фридрих
четыре раза в конце каждого года успешно сдавал
государственные экзамены, что было предпосылкой для последующего
приема в Тюбингенский теологический семинарий. Фридрих
должен был и хотел стать евангелическим пастором. За день до
конфирмации мать увидела, как Фридрих буйно веселится на
улице, и напомнила, что ему следовало бы с надлежащей
серьезностью подготовиться к священнодействию. По этому
случаю мальчик сочинил свое первое стихотворение. Оно не
сохранилось, но, по-видимому, являло собой слишком чувственное
излияние набожности, поскольку отец, прочитав стихи,
обронил: «Ты с ума спятил, Фриц?»
ВТОРАЯ ГЛАВА
Отцовская и материнская набоэююсть. Маленький проповедник.
Карлова школа. Герцог воспитывает. Мальчик и власть.
Шарфенштайн: идеальный и действительный друг. Клопшток.
Первые стихотворения Шиллера: плоды чтения.
Верный мечтам юности
«Сумасшедшим» отец назвал сына, неожиданно
обнаружившего столь сердечную набожность. Это не соответствовало вкусам
отца в религиозных вещах. Для него религия означала
санкционирование определенного общественного уклада жизни, и для
благочестия было вполне достаточно придерживаться этого
порядка строго и добросовестно. Мать же с охотой погружалась
в меланхолические религиозные состояния. Она читала пие-
тистские молитвенники Иоганна Альбрехта Бенгеля, с
удовольствием декламировала духовные песни, которые знала
наизусть. В религии ее притягивало чувствительное, поэтическое,
вкус к этому она пробудила и в детях. «Однажды, —
рассказывает Христофина, — когда мы еще детьми пошли-с мамой
навестить дорогих бабушку и дедушку, она повела нас из Лю-
двигсбурга в Марбах через гору. Был чудесный пасхальный
понедельник, и мама рассказала нам по дороге историю о двух
юношах, которые на пути в Эммаус повстречали Иисуса. Ее
голос и рассказ становились всё восторженнее, и когда мы
поднялись на гору, то были все так растроганы, что упали на
колени и молились. Эта гора превратилась для нас в Табор».
Отец прививал детям религию разума, мать же — религию
сердца, два типа набожности, которым в религиозной жизни
Вюртемберга соответствовали различные организационные
формы.
Одной из них была евангелическая церковь. Институт,
принадлежавший вместе с городами и дворянством сословиям,
которые должны были защищать против посягательств герцога
свои конституционные, старовюртембергские права по
регулированию налогов и самоуправлению. Церковь воспринимала
себя как политическая власть порядка, и ее ортодоксальность
свернулась до духовно усохшего кодекса поведения. Душа и
сердце находили здесь мало удовлетворения. Юный Фридрих
Шиллер должен был понять это еще во время подготовки к
25
конфирмации, когда он имел дело с духовным наставником,
который наказывал палкой за ошибки при чтении катехизиса.
Один школьный товарищ рассказывает, как каждый из них,
«дрожа от страха», читал наизусть свое изречение. Но если всё
шло правильно, то было и поощрение. Однажды Фридрих со
своим школьным другом получили в поощрение четыре
крейцера и совершили вдвоем путешествие со своей наличностью в
«Хартенекер шлёсле», излюбленное место для прогулок, чтобы
поужинать там. Но денег, заслуженных за правильную
декламацию катехизиса, хватало только на сыр и хлеб. Оба пошли
дальше в соседнюю деревню Неккарвайхинген. Там после
длительных расспросов они нашли гостиницу, где за свои
небольшие деньги смогли купить молоко и хлеб. Шиллер, как
рассказал его школьный товарищ, взобрался «на холм, откуда
виднелись Неккарвайхинген и Хартенек, благословил
гостиницу, где нас покормили, и проклял Хартенек и прочие
гостиницы с такой поэтически-пророческой выразительностью, что у
меня это до сих пор сохранилось в памяти».
В стороне от церкви, выступавшей как холодная
дисциплинирующая власть, которая во всех случаях взывала к рассудку,
мощно разросся обращенный к личности пиетизм,
позволявший слушать голос сердца. В этих кругах презирали блестящую
придворную жизнь герцога, равно как и закосневшую веру
государственной церкви. Иоганн Альбрехт Бенгель, духовный
отец швабского пиетизма, еще застал первые годы правления
Карла-Евгения (Бенгель умер в 1752 году) и обрушился на
двор с ветхозаветным гневом: «Разврат распространяется в
высшей степени: проституция уже больше не считается
грехом... Справедливость и доброта повергнуты ниц: насилие,
погоня за привилегиями, вероломство и ложь проникли
повсюду». Относительно официальной церкви он говорил так: Богу
«угодны в первую очередь не глаза, уши, рот, руки и ноги, но
сердце».
Когда Фридрих Шиллер накануне конфирмации сочинил
стихотворение, за которое отец назвал его «сумасшедшим», оно,
скорее всего, напоминало подобное сердечное излияние, но
отлитое в строгую метрическую форму, которую юный Фридрих
использовал очень ловко, как о том сообщают его школьные
товарищи. Восхищение заслужило его латинское
благодарственное стихотворение уважаемому учителю, блиставшее ан-
26
тичным стихотворным размером и многочисленными
заимствованиями из Вергилия и Овидия.
Несомненно, у Шиллера пробудилась страсть к поэзии,
усиленная религиозным чувством. Обе наклонности
соединились в стремлении к ораторскому эффекту. Очень рано
мальчик попытался выступить в роли проповедника. Стоит
вспомнить о сцене, когда маленький Фридрих в черном фартуке
разыгрывает роль пастора на кухонном стуле. Также и
поэтические опыты мальчика были декламаторскими и
рассчитывались на чтение вслух перед классом или перед друзьями.
Это — общественная душа, высказывающаяся в поэтической
форме, не подростковое самоотражение, но сердечные
излияния, отлитые в твердые формы для общественного
употребления.
Фридрих должен был 16 января 1773 года похоронить свои
мечты о профессии священнослужителя и о чтении
проповедей, так как по приказанию герцога он был призван в
«Военный питомник» в Солитюде. Мальчику, который, согласно
врачебному заключению, поступил в заведение «с зараженной
головой (сыпь) и несколько подмороженными
(отмороженными) ногами», была прежде всего перекрыта духовная карьера.
Когда герцог в 1774 году потребовал от учеников написать
отчет о себе и своих товарищах, Фридрих признался герцогу в
своей неудовлетворенности: Вам уже известно, с какой
активностью я принялся за науку права, Вам известно, каким
счастливым я сочту себя, если я когда-нибудь благодаря ей смогу
стать полезным моему князю, моему отечеству, но намного
счастливее я посчитал бы себя, если бы имел возможность
совершить то же самое в качестве богослова... (V, 240).
Мальчика ожидает строго регламентированная и
контролируемая казарменная жизнь, военная униформа: голубой
мундир, белые брюки до колен, белые гамаши, треуголка на
парике с косичкой. Строго отрегулированный распорядок дня:
подъем летом в 5 часов, зимой в 6 часов, построение, рапорт,
'завтрак, занятия с 7 до И, чистка обмундирования и осмотр
герцога, в 12 часов обед, групповая прогулка под надзором,
занятия с 14 до 18 часов, час отдыха с 18 до 19 часов, построение,
рапорт, время сна с 21 часа. Этот строгий регламент
свидетельствует об авторитарном духе этого воспитания. При
нарушении правил вручали так называемые «штрафные билеты»,
последствиями чего были запреты покидать казарму, побои,
27
лишение пищи или карцер. Юный Шиллер в первые годы
нередко получал «штрафные билеты», однажды за
«нечистоплотность», в другой раз за то, что раздобыл себе пищу на стороне,
и за то, что заставил «уборщицу» приготовить себе кофе. Он
подвергался наказаниям также за тайное чтение новой
литературы, вроде «Уголино» Герстенберга, «Вертера» Гёте или
эротических рассказов Виланда, которые прежде галантный, но со
временем внешне ставший строгим блюстителем морали
герцог запретил под угрозой наказания. Вообще, здесь с
неудовольствием относились к тому, что воспитанники занимались
«изящной литературой». Это справедливо по отношению к
официальному духу школы. Отклоняясь от этого, некоторые
учителя, как Якоб Фридрих Абель и Бальтазар Хауг,
пробуждали и поощряли у своих воспитанников увлечение
художественной литератзфой, хотя это и не было предусмотрено
учебными планами.
Даже если это заведение и не было «плантацией рабов», как
его назвал Шубарт, личный враг герцога, герцог управлял
строго и не позволял усомниться в том, что он невысоко ценит
либеральные методы воспитания Руссо, который именно тогда
вошел в моду. Всё определялось субординацией и
дисциплиной. Герцог не доверял руссоистскому принципу свободного
роста и развития природы, так так он вообще видел мало
хорошего в природе человека, — в этом отношении он думал точно
так же, как Фридрих Великий, учитель его юности. Наряду с
субординацией и дисциплиной он признавал еще третий
принцип: соревнование. Герцог распалял самолюбие
воспитанников, заставляя их конкурировать между собой. Публичное
поощрение школьных успехов считалось стимулом для
повышения успеваемости. В конце учебного года состоялось
вручение премий, на котором присутствовал Карл-Евгений со
своими придворными. Лауреаты получали медали с
изображением герцога. Учителя должны были ежемесячно составлять
таблицы с распределением мест по своим предметам. Эти так
называемые «генеральные листы» зачитывались за обеденным
столом. Текущий победитель получал красно-желтую
наплечную ленту. До тех пор пока Фридрих еще роптал на свою
судьбу и мечтал стать пастором, у него были трудности и он не
получал наград. Но это изменилось в 1776 году, когда он стал
изучать медицину. С этих пор он собирал трофеи и призы.
28
Низшие классы Карловой школы соответствовали
подобным же классам гимназии, но уже на начальных ступенях
наряду с обычными предметами, как латынь, грамматика,
математика, вводились пропедевтические курсы будущего профиля
обучения. Можно было выбирать между военной наукой,
лесоводством, юриспруденцией и камералистикой. Поскольку
католический герцог должен был считаться со своими
евангелическими сословиями, он следил за тем, чтобы евангелическое
обучение проводилось регулярно. Но «свободомыслящие и
противные религии принципы», к которым он сам склонялся,
нельзя было распространять открыто. Важнее религии для него
было преподавание философии. Дело в том, что после
окончания его чувственного «сумасбродства» он обрел вкус к
свободомыслию: просветительское мышление с его
естественнонаучно-практической и утилитаристской направленностью
пришлось ему по душе. В Карловой школе должны были
изучать полезную и неметафизическую философию, которая в то
же время не должна была быть откровенно атеистической. Для
этого были подобраны многообещающие молодые магистры из
Тюбингена; среди них выделялся Якоб Фридрих Абель,
которому в момент его призвания исполнился двадцать один год.
Шиллер был в восторге от этого молодого профессора и
поддался его влиянию. Благодаря ему он познакомился с
английской просветительской философией в лице Шефтсбери, Юма
и Фергюсона и приблизился к Шекспиру. Абель определил его
литературные и философские вкусы, за что Шиллер оставался
благодарным ему всю жизнь, позднее он посвятит «Фиеско»
этому учителю своей юности.
Герцог рассматривал Высокую Карлову школу как «свою»
школу, ежедневно он проводил там несколько часов. Он знал
каждого ученика лично, в хорошем состоянии духа он называл
их «милыми сыновьями». Каждый день он требовал отчета о
происшествиях и неожиданно появлялся в больничных и
спальных помещениях, контролировал занятия и регулярно
присутствовал на экзаменах. Фридрих Николаи, посетивший
Карлову школу во время своего путешествия по Германии,
изобразил, как это выглядело во время еды: «Каждый
останавливался около своего стула и по команде поворачивался к
столу. После громкого хлопка все руки поднимались в молитве,
затем каждый хватал свой стул и опускался на него с таким
одновременным шумом, как если бы батальон выстрелил по
29
команде. Не хватало еще, чтобы все в такт опускали в суп
ложки. Но команду приступить к пище подавал герцог.
Обыкновенно он стоял у стола шевалье и смотрел по сторонам до тех
пор, пока все не занимали свои места. Затем он возглашал свое
«Dinez messieurs!»*, и воспитанники склонялись в глубоком
поклоне. Во время обеда запрещалось громко разговаривать.
На шесть учеников приходилась одна кастрюля, которую кто-
то один делил между всеми; эта обязанность на следующий
день переходила к другому. Карл-Евгений оставался в зале. В
красном фраке, поигрывая тросточкой, он прогуливался
между рядами столов, по-отечески беседовал с воспитанниками,
распределяя по заслугам поощрения и замечания. Чтобы
ощущение большой семьи было еще более впечатляющим, в
обеденной зале нередко показывалась также графиня фон Хоэн-
tJ
хаим».
Воспитанники жили в замкнутом мире под личным
наблюдением герцога. Всё устройство было рассчитано на то, чтобы
ослабить связи с происхождением и родиной. Поэтому
имелись ограничения для посетителей, женщины (за
исключением матерей) не допускались, отпуск предоставлялся лишь в
исключительных случаях, общественные связи за пределами
заведения запрещались. Школьники должны были стать
привязанными к герцогу как к второму отцу. В одной из своих тор-
\*
жественных речей по поводу окончания семестра герцог назвал
образование «вторым рождением» воспитанников, лишь
благодаря ему они смогут стать полезными личностями. «Мы —
инструменты, — провозгласил он, — вы — материал».
Перед всеприсутствующим герцогом все воспитанники
были равны. Сословные различия едва ли играли какую-то роль,
принимались во внимание лишь достижения. «Настоящий
благородный человек, — возвещал герцог, — отличается от любо-
\J
го другого молодого человека не случайностью рождения, но
усердием». О том, на каких условиях герцог получил своих
«сыновей», свидетельствует документ, который должны были
подписать родители. Своей подписью они подтверждали, что
воспитанник «полностью посвятит себя служению
Герцогскому Вюртембергскому Дому» и что он «не имеет права покинуть
его без высочайшего на то разрешения».
*
Обед, господа (фр.).
30
Итак, Высокая Карлова школа должна была быть одной
большой семьей. Так хотел герцог, который разыгрывал из
себя роль всемогущего отца и как таковой воспринимался
воспитанниками. Это глубоко впечатлило юного Фридриха
Шиллера. Власть, даже вершина государства, не была для него
абстракцией, он пережил ее лицом к лицу в воплощении
личности, которая могла сопровождать его до спальной комнаты.
Власть была интимной, в /хвойном смысле: он был подчинен ей
так же, как отцу семейства, и он должен был
самоутверждаться перед ней в прямом личном общении. Он находился
напротив нее на одной и той же сцене, пускай даже на первых порах
совершенно бессильный. Это привело в конце концов к той
идее равноценности политической власти и морального
противостояния, которую Шиллер в своей программной статье
«Каково воздействие хорошего театра?» сформулировал
следующим образом: Правомочность театра начинается там, где
оканчивается область светских законов (I, 823).
Личное отношение к власти обнаруживается и в том, что
Шиллер из-за своего побега в Мангейм в 1782 году должен был
оправдывать перед собой собственное чувство неверности
«своему» герцогу. Когда Шиллер в своих пьесах-разоблачает
тиранию, в этом всегда присутствует и личный момент. Он не
только обвиняет власть, он хочет говорить с ней по совести,
классической в этом отношении является сцена разговора
маркиза Позы с Филиппом. Шиллер хотел говорить по совести
также с вождями Французской революции, чтобы удержать их
от казни короля. Однако Шиллер не слишком торопился, так
как, пока он планировал свою поездку в Париж, пришло
известие о казни.
Шиллер охотно воображал себя в роли поэта,
находящегося на высокогорном плато, где сила слова не уступает в
достоинстве слову силы. Поэт и власть должны играть на камерной
сцене перед большой публикой, так хотелось бы Шиллеру, и
этому он научился в ближнем бою с герцогом, которого он еще
и в поздние годы называл моим герцогом.
Имеются ранние проявления примечательной смелости
перед лицом власти. Могу ли я осмелиться, — пишет
пятнадцатилетний Шиллер герцогу, — излить свои мысли в благородное
сердце моего милостивейшего князя? Родители зависят от
милости герцога, значит, его действительный отец не настоящий отец.
Значит, его настоящий отец — герцог? Отца следует любить, но
31
можно ли любить подобного сверхотца? Я вижу его и вздыхаю.
Может ли герцог быть для него намного ценнее, чем родители?
Не извратит ли это естественный порядок? Этот вопрос
будоражит его посреди обязательных заверений в любви и почитании:
Оценивайте меня по моим собственным словам, люблю ли я Вас,
уважаю ли Вас, боготворю ли Вас; или я должен далее клясться
в том, что я почитаю своего князя? (V, 239)
В Карловой школе, бьгошей одновременно казармой,
монастырем и университетом, всё сбилось в кучу — герцог, учитель,
надсмотрщик, воспитанники. Чувство мужской солидарности
развивалось, но случалось и одиночество при тотальном
надзоре. Дошло до самоубийств, некоторые школьники вынуждены
были покинуть заведение досрочно из-за телесных или
душевных болезней. Продержавшиеся до конца зачастую оставались
друзьями на всю жизнь. Шиллер тоже сохранил дружеские
связи с прежними соучениками, с Фридрихом Вильгельмом
фон Ховеном, молодым Шубартом, Иоганном Вильгельмом
Петерсеном. Более сложными путями складывалась дружба с
Георгом Фридрихом Шарфенштайном.
Шарфенштайн, происходивший из французскоговорящего,
в ту пору еще вюртембергского, Момпельгарда, был
кандидатом в офицеры; умный, ироничный, он, однако, проникся
литературным энтузиазмом дружеского кружка вокруг Шиллера,
где Клопшток был высоким авторитетом. Как и другие, он
поддался искушению писать стихи. Мы находились, сообщает
Шарфенштайн, в «сладком дурмане авторства», устраивали
регулярные соревнования и хотели наградить лучшего. Один
писал роман а-ля Вертер, другой — жалкую пьесу в духе барона
фон Геммингена, чьи душещипательные драмы заполонили
тогда театры. Шиллер пробовал создать трагедию в стиле
Шекспира. Стихи писали все. Сам Шарфенштайн сфабриковал, как
он оценивал впоследствии, «одну жалкую вещь, в которой
ничего не было, кроме фразеологии, заимствованной из Гёца фон
Берлихингена». Но и изделия других он тоже воспринимал как
«заимствованную фразеологию», не исключая и поэтических
опытов Шиллера. Шарфенштайн почувствовал себя задетым
сатирой одного из старших учеников, который высмеял
чувствительный кружок друзей. Шарфенштайн словно пробудился
ото сна, и литературная болтовня вдруг показалась ему
ничтожной. Она представилась ему обманом. Не была ли также и
дружба с Шиллером, которой они восторгались в чувствитель-
32
ных стихотворениях, всего лишь словесным звоном в духе
Клогантока? В одну из «чистосердечных минут» Шарфен-
штайн упрекнул друга в том, что он писал только слова без
участия сердца.
Эта критика возмутила юного Шиллера. Он ответил
письмом, написанным предположительно в конце 1776 года, в
котором подробно занялся проблемой щепетильных
пограничных связей между жизнью и литературой. Это правда, пишет
Шиллер, я слишком прославлял тебя в моих стихотворениях.
Было ли это лестью? Нет, всё было честно, но это шло из
глубины, из мечты, из фантазии. И таким образом из этого
получилось нечто идеальное. Но друг, к сожалению, оказался
неточной копией идеала. Что следует из того, если идеал и
действительность не совпадают? Ни в коем случае нельзя
жертвовать высшим миром идеала в пользу более скромной
действительности. Есть жизнь вне нас и жизнь в нас, между
ними — игра случайностей: внутренняя жизнь воспламеняется во
внешнем, а именно в случайностях, которые оно предлагает.
Один человек может показаться симпатичным другому — это
случайность, но если к этому не прибавится идеальный
энтузиазм, из этой симпатии никогда не получится дружба. Для
юного Шиллера всё дело в том, чтобы видеть действительность
в свете энтузиастической идеализации, только так можно
понять суть дела. Идеализацию Шиллер описывает в своем
письме как своего рода отражение обычного мира в глазу высшего
мира, по которому так пылает мое сердщ. Из какого
материала сотворен этот высший мир? Это — не обычные ощущения и
мысли, но взлеты и экстазы, которые вызываются
художественным словом. Эти слова преображают то, что мы
обозначаем, в них связываются чувства, которые лишь там находят
свою подлинную родину. Художественное слово, и это уже для
юного Шиллера очевидно, не просто отражает
действительность, но воспроизводит ее. И это особенно касается дружбы:
она живет из поэзии.
Обидная критика друга побуждает юного Шиллера
рассмотреть бездонную проблему искренности в литературе.
Является ли, например, чувство менее искренним, если оно вызвано
всего лишь стихотворением Клопштока? Разумеется, пишет
Шиллер, он многим обязан Клопштоку, но чувство глубоко
опустилось в мою душу и стало моим близким чувством, собст-
33
веиностью, которая истинна, которая моэ/сет утешить меня в
Смерти!
Таким образом, прочитанное может стать прожитым, сферы
перемешиваются, энтузиазм слов становится жизненной силой
и временами отталкивает от себя обычную жизнь как нулевую
ступень, так же как Шиллер отталкивает от себя
действительного друга Шарфенштайна, чтобы сохранить верность идеалу
дружбы. Видишь, я нашел источник, который наполняет мое
сердце, и благословляет-, великого, великого великолепного друга;
но этот друг — не действительный Шарфенштайн, от него он
должен будет отвратить свой лик, так как тот не смог
противостоять искушениям прозой жизни. Воображаемый,
идеализированный друг триумфирует над действительным, с которым
он расстаегся.
Шиллер в самом деле отдалился от Шарфенштайна. Пока
оба еще учились в академии, внешние контакты были
неизбежны. В бытность Шиллера полковым врачом снова произошло
сближение, но исчез энтузиастический дух прежней дружбы.
Позднее Шарфенштайн потерял всякое значение для
Шиллера. Шарфенштайн же, напротив, внимательно следил за
триумфальным жизненным путем бывшего друга, не без чувства
неприязни и тихой злобы. В своих воспоминаниях он хотя и
рассказывает похвальное о Шиллере, но с совершенно
очевидным намерением сделать его меньше и отодвинуть в сторону,
например, когда пишет, что Шиллер «лишь очень недолго жил
по велению сердца, остальное же время он больше жил для
славы», или когда несколько злобно подчеркивает, что движения
Шиллера были «несколько скованными», в них не было ни
«малейшей элегантности», а его голос был «пронзительным и
неприятным».
Когда разрывался этот дружеский союз, в игре был еще и
третий, Георг Фридрих Буажоль, также из Мёмпельгарда. Бу-
ажоль тоже упрекнул Шиллера в том, что он заставляет друзей
льстить себе как поэту. С Буажолем Шиллер расправился еще
хуже. Шиллер полностью порывает с ним со словами: Я
скроен из более тонкого материала.
Молодой Шиллер заразил дружеский кружок своим
восторгом перед Клогалтоком. Клопшток был тогда самой яркой
звездой немецкой литературы. За несколько лет до первых
выступлений Гёте и Гердера, до того движения, которое назвало
себя по одной из пьес Клингера «Буря и натиск», Клопшток
34
начал свой взлет в 1755 году публикацией первых десяти
песен «Мессиады». Произведение, которое сам автор назвал
«священной поэзией». Может ли поэзия, спрашивает Клоп-
шток в предисловии к «Мессиаде», приближаться к
откровению иначе чем смиренно и восприимчиво, дозволено ли ему
смешивать свое воображение с возвышенной темой? Конечно,
у Клопштока были такие предшественники,, как Мильтон
(«Потерянный рай»), которые начали преображать
священные истории в поэтические. Но это еще не являлось само
собой разумеющимся, это требовало оправдания. Клопшток
оправдывается с помощью указания на то, что жизненная сила
религиозного чувства проявляется в том, что она помогает
поэтическому взлету фантазии и содействует богатству мыслей.
Правда, поэт должен показать себя достойным своего
материала. Для этого требуются «гений» и «сердце», два атрибута,
которые в дальнейшем станут признаками истинной поэзии.
«Гением» считают таинственную силу, которая позволяет
прикоснуться к возвышенному. В то время как «гений»
подчеркивает причастность к объективной стороне религиозного
откровения, «сердце» обозначает субъективную сторону этого
процесса: «все образы воображения просыпаются, — пишет
Клопшток, - все мысли думают величественнее». Это гений
сердца, которому позволено рассказать об искупительном
подвиге Мессии так, как Гомер рассказывал о деяниях своих
героев и богов.
При этом отношения субординации между поэтическим и
религиозным не могли остаться прежними. Первоначально
содержание должно было быть религиозным, а форма —
поэтической. Поэтому Клопштока читали также и в тех кругах,
которые вообще-то были далеки от художественной литературы.
Шубарт написал в одном из писем Клопштоку, что в Людвиг-
сбурге есть ремесленники, которые используют «Мессиаду»
вместо молитвенника и, исключая Библию, ни одну
христианскую книгу не знают так хорошо, как эту. Но вскоре
христианское благоговение стало поэтическим. Религиозное
содержание перерастало в поэтическое, и, наоборот, поэзия получала
религиозное освящение. Возвышенное религиозного
содержания переходило на поэзию и влияло на повышение ранга
поэтического, а также и самого поэта. С Клопштока начинается
эпоха повышенного поэтического самосознания. Не обладает
ли настоящий поэт некоторыми качествами пророка, не упол-
35
помочен ли он в силу своего гения стоять рядом с
евангелистами как их младший брат? Этот процесс, с которого
начинается карьера бюргерского писателя в общественном сознании,
Гёте изображает в «Поэзии и правде» на примере Клопштока:
«Величие темы возвысило поэта в его собственных
глазах..Таким образом, Клопшток завоевал себе право рассматривать
себя как священную особу и во всех своих действиях стал
блюсти заботливую чистоту»
Когда юный Шиллер еще считал себя «рабом Клопштока»,
он пережил повышение статуса поэзии в обществе, так как
отблески этого коснулись и его собственных поэтических
опытов. Чтение Клопштока снова пробудило охладевшие было
религиозные чувства. «Стихотворения Клопштока, — сообщает
школьный товарищ Петсрсен, — воздействовали на него с та-
*
О «
кои силой, что религиозные чувства его души на некоторое
время укрепились». Вернулось даже прежнее желание стать
священником.
С Шиллером произошло то же, что и с Гёте, который так
рассказал о своем первом знакомстве с Клопштоком: «Здесь
было учтено всё, что в юной душе было божественного,
ангельского, человеческого». Но Шиллер читал Клопштока не
только с энтузиазмом, его любопытство было направлено и на
технику письма. «Это было, — сообщает Петерсен, — серьезное,
день за днем продолжавшееся записывание, вчувствование,
наблюдение, сравнивание, исследован ие, усвоение». Юный
Шиллер хотел также заглянуть за кулисы великих чувств, в нем
пробуждалось любопытство артиста, хотя и чувственные
впечатления оставались сильными. Наряду с «Мессиадой» ему
полюбились некоторые оды Клопштока, особенно «Праздник
весны». Это стихотворение Шиллер выразительно обыгрывает
в прощальном письме Шарфеиштагагу: а теперь позволь тебе
сказать перед ликом Близкого. Близкий означает в этом
стихотворении имя Бога, являющего себя в громе, молнии и ливнях,
а затем также и в тишине после грозы, «все стихло пред тобой,
ты, Близкий».
Ода Клопштока «Праздник весны» была в то время
настолько знаменита, что многие знали ее наизусть. Она
означала определенное чувство, и, чтобы определить его, нужно бы-
*
Перевод Н. Ман.
36
jio только назвать имя. В «Бергере» Гёте есть сцена, где Вер-
тер и Лотта встречаются на балу, а снаружи весенняя гроза и
дождь, Лотта смотрит в окно, «я увидел, как ее глаза
наполнились слезами, она положила свою руку на мою и сказала —
Клопшток!».
В «Празднике весны» Шиллера особенно привлекала
характерная для Клопштока космическая фантазия, взгляд на
землю из глубины Вселенной, «Не в океан всемирный / Я
хочу устремиться / ... / Лишь вокруг капли в ковше, / Лишь над
землей хочу воспарить я». Близь и даль, огромное
пространство, в котором крошечная жизнь теряется и все же остается
несомой божественным духом — в этом мире представлений
живет и творит юный Шиллер, и его первое опубликованное
стихотворение «Вечер», появившееся в 1776 году в «Швэбише
магацин» Бальтазара Хауга, одного из учителей Карловой
школы, пронизано этим духом. Здесь все также видится с большой
высоты, суета всего мира находится глубоко внизу,
позолоченная вечерним солнцем, «дух поэта» парит наверху, выше сфер,
в небеса вознесся, / подьемлемый пламенным чувством (1,9). На
высоте серебряных волн далеких миров, а внизу крошечные
детали: Когда по листьям червь ползет., / В созданье этом жизнь
поет, / Потоков сотни в нем струятся, / В них'жизни новые
роятся, / В которых вновь душа живет (I, 11).
Возвышенность Клопштока в переходе от малого к
великому в те времена часто вызывала подражания, лаже молодой
Гёте не избежал этого в «Вертере»: «Если я в копошении малого
мира между стебельками ближе ощущаю в моем сердце
бесчисленные, неслыханные существа, всех этих червячков, букашек,
я чувствую присутствие Всемогущего».
Но юный Шиллер все же больше не Вертер, в его
видениях шуршит бумага, вычитанное у Клопштока, Геллерта, Гал-
лера и Эвальда фон Клейста. Стихотворение Шиллера
сработано еще не по натуре. Это подтверждает и замечание друга
Петерсена: «Поэтическое описание какой-нибудь местности
производило на него большее впечатление, чем сама
природа».
Второе опубликованное в 1777 году стихотворение,
«Завоеватель», представляет собой фантазию в стиле дьявольской
сцены в «Мессиаде». Шиллер вызывает князя тьмы, который
хочет разрушить творение: И с высокого трона, где Иегова
стоял, / На руины неба, на разрушенные / Сферы вниз спускать-
37
ся — / О, это чувствует лишь покоритель! (I, 13)
Стихотворение утопает в картинах восстания, риторическая игра с Ничто
и с уничтожением и с победой прекрасного дня творения в
конце. Стихотворение являет собой игру с мерзостью в манере
Клопштока. Шиллера это притягивало так же, как и Гёте в дни
его юности. В «Поэзии и правде» он описывает сцену, как они
вместе с сестрой в углу за печью по очереди читали вслух
дьявольскую сцену Клопштока, в то время как цирюльник
намыливал отца для бритья. При возгласе «О, как я сокрушен!»
цирюльник от ужаса разливает отцу на грудь мыльную воду. «Так
дети и народ, — пишет Гёте, — обычно сводят великое и
возвышенное к игре и фарсу — да и как иначе могли бы они это
выдержать и вынести». Юношеское стихотворение Шиллера
«Завоеватель» тоже, без сомнения, является фарсом, хотя и
непреднамеренны м.
Само собой разумеется, что для юного Шиллера Клотнток
был не единственным литературным наставником — были ведь
еще Гёте, Шекспир, Герстенберг и другие, — но Клопшток
повлиял на него сильнее и раньше всех.
Вместе с окончанием Карловой школы для Шиллера
завершается и эпоха Клопштока. Карл Филипп Конц, товарищ по
играм в Лорхе, сообщает о посещении Шиллера в Штутгарте в
1782 году: «Однажды я увидел на его письменном столе... оды
Клопштока.. Когда я раскрыл их, то с неприятным
удивлением обнаружил, что довольно значительная часть их
крест-накрест перечеркнута жирными чернилами. Когда я с усмешкой
спросил его, что сие означает, он ответил: "Эти мне не
нравятся"». Но некоторые оды ему и дальше продолжали нравиться,
настолько, что он еще перед своим побегом из Штутгарта 22
сентября 1782 года углубился в чтение томика од Клопштока,
который попался ему в руки при упаковывании книг, и тут же
начал сочинять в связи с этим что-то свое, в то время как
сопровождавший его в побеге Андреас Штрайхер, уже
взволнованный и напуганный, стоял в дверях и торопил его. В эти
минуты Шиллер унесся в царство сновидений своей юности, и
Штрайхер должен был снова возвращать его в
действительность.
Многие годы спустя, в статье «О наивной и
сентиментальной поэзии» (1795), Шиллер еще раз вспоминает о Клопшто-
ке, которому он благодарен за мечты своей юности: К нему
можно обращаться и его воспринимать лишь в известных эк-
38
зальтированных настроениях души; вот почему он кумир, но
далеко не лучший выбор юношества. Юность, вечно
устремляющаяся в наджизпенные высоты, бегущая всех форм,
чувствующая для себя стеснительной любую границу, входит с
любовью и счастьем в бесконечное пространство, открываемое ей
этим поэтом. Но, становясь мужем, возвращаясь из царства
идей в границы опыта, юноша теряет много, очень много из
прежней любви, исполненной энтузиазма, ничего не теряя в том
уважении, которым немцы в особенности обязаны платить
поэту за его великие заслуги — этому единственному в своем
роде явлению, этому необыкновегтому гению, этой
благороднейшей душе (т.6, С.430).
Шиллер всегда хранил верность мечтам своей юности.
ТРЕТЬЯ ГЛАВА
1776-й год. Смена места и времени. Дух Бури и натиска.
Гердер и последствия. Празднование юбилея Карловой школы.
Огромная поддержка: речь Абеля о гении.
Читать Шекспира
В 1776 году произошло значительное изменение в жизни
молодого Шиллера.
Военная академия была переведена из Солитюда в Людвиг-
сбурге в Штутгарт в помещения бывшей казармы позади
нового дворца. Переезд состоялся 18 ноября 1775 года. Одетую в
форму, по-военному построенную колонну школьников с
надзирателями и учителями сопровождал сам герцог с иразднич-
о о
ной музыкой и знаменами; выстроенная цепью толпа
ликовала. Это было огромное событие, в Штутгарте появилась
герцогская высшая школа, престиж города поднимался.
Строгая изоляция воспитанников от внешнего мира была
ослаблена. Школьники, почувствовавшие себя студентами, вели себя
соответственно и принимали участие в культурной жизни
города. Атмосфера жизни менялась.
Изменился и студенческий статус Шиллера. В Карловой
школе, которую отныне стали называть Высокой Карловой
школой, был открыт медицинский факультет. Поскольку
герцог опасался, что не сможет обеспечить работой всех
студентов-юристов, он настоял на том, чтобы часть из них стала
изучать медицину; Шиллер получил благоприятную возможность
оставить нелюбимую юриспруденцию и перейти к изучению
медицины. Его в меньшей степени интересовало практическое
врачевание, сколько возможность получить знания
естественных наук и психологии. Поскольку его страсть к писательству
к этому времени уже пробудилась, Шиллер надеялся, что зна-
±J
ние человека с медицинской стороны принесет писательскую
выгоду.
Его школьная успеваемость, резко упавшая к концу 1775
года, стала заметно улучшаться. Теперь он усердно изучает
специальные предметы и уже через несколько месяцев
становится лучшим на своем отделении. Огромное желание мыслить
приостановило лирический поток. Его характер стал более
решительным, энергичным. Он упражнялся в самодисциплине и
40
иногда резко отделялся от других. Всех удивляло очевидное
изменение в его поступках и поведении. «В конце этого
периода, — сообщает Петерсен, — Шиллер стал совершенно другим
человеком, чем в начале. Тогда одинокий, замкнутый,
запуганный, теперь в ощущении вздымающейся, влекущей вперед
силы намеренно поддразнивающий, подшучивающий, и даже
часто в грубой и ядовитой форме».
Этому новому ощущению «вздымающейся, влекущей
вперед силы» Шиллер во многом обязан своему учителю,
профессору Якобу Фридриху Абелю, который в Пасху 1776 года стал
преподавателем философии у медиков.
Якоб Фридрих Абель родился в 1751 году в Вайхиигсне на
Эыце в семье высокопоставленного чинови ика и прошел
обычный для швабских теологов путь образования: сначала
монастырские школы в Денкендорфе и Маульбронне, затем
монастырская школа при Тюбингенеком университете. Теологая не
смогла захватить его, он с жадностью впитывал философские
идеи французского материализма (Гольбах и Гельвеций) и
английского эмпиризма (Локк и Юм). Он увлекся философией
Шефтсбери, в которой на первый план выдвигался не столько
морально корректный, сколько эстетически сформированный
человек. Во время своей учебы Абель соприкоснулся и с
бунтарским духом Бури и натиска, он проглотил книги Руссо и
молодого Гердера. Его привлекло высокое самосознание этих
молодых дикарей, и поэтому перспектива стать после
окончания учебы викарием при деревенском священнике была для
него малопривлекательной. Но Абелю повезло.
Герцог, искавший учителей для своей школы, потребовал от
руководства Тюбингенской монастырской школы, чтобы они
назвали ему самых способных магистров. Абель не попал в этот
перечень, но, когда герцог во время своего визита в Тюбинген
познакомился с ним лично и оценил его, он поставил вопрос,
почему тот отсутствует в списке, и, получив ответ, что Абель
4J
слишком мал ростом и потому не подходит для военной
академии, лаконично заметил: с каких это пор в Тюбингене
пригодность профессора измеряется аршином. В ноябре 1772 года
Абеля назначили в Карлову школу. В своих воспоминаниях он
рассказывает, как он «обнаружил себя перенесенным прямо в
XJ KJ
княжеский «увеселительный замок» из мрачных монастырских
стен с видом из Солитюда на просторы вюртембергской земли;
*J
ему предоставили отдельный павильон для проживания, все это
41
u
подействовало на юношу двадцати одного года так, словно его
колдовством заманили в «замок фей». От радости он катался по
земле. Молодой магистр быстро освоился со своей новой
ролью. Чтобы не стушеваться перед придворными, он вспомнил,
что он читал о них, что вылили на них новая французская
литература и «бурные гении», Ленц, Клингер и Лейзевиц, и таким
образом он подбодрил себя к самостоятельному, даже дерзкому
поведению. Его переполняли идеи реформаторской педагогики,
которые тогда распространялись. Человек, согласно им,
обладает безграничными возможностями в образовании, нужно лишь
обнаружить его индивидуальные способности и развивать их и
отказаться от насилия. Гораздо важнее разбудить
любознательность, эту возвышенную страсть, которая стремится не только
что-то проглотить, но и переработать нечто в собственный опыт.
Абель, который быстро занял ведущее место среди профессоров
и был признан герцогом, подготовил предложения по реформе
преподавания. Самостоятельное мышление, не простая
эксплуатация памяти — вот что следовало тренировать.
Индивидуальное чтение, включая и художественную литературу, должно
быть разрешено, что до сих пор вовсе не было само собой
разумеющимся. В первую очередь философия должна стать
стержневым предметом всего преподавания. Для этого Абель
разработал широкомасштабное понятие философии: она в равной
степени должна включать в себя образование сердца и ума,
должна быть пропедевтикой всех областей науки, но прежде
всего она должна обучать методам умного образа жизни. Этот
единый образовательный принцип Абель сформулировал в
\J
представленной герцогу программе с многозначительным
названием: «Проект всеобщей науки, или философии здорового
разума для формирования вкуса, сердца и ума». Что же
касается преподавания в частностях, то Абель придерживался схемы
учебников английского эмпиризма, при этом нужно отметить,
что молодой человек прямой дорогой попал из учебной
комнаты в педагогическую провинцию. Обучение начиналось с
законов физического мира, поднималось до психологии, к законам
чувствования и мышления, предусматривались заходы в
художественную литературу, она способствовала переходу к пони-
<J
манию тонких душевных движении и к последним вопросам,
таким, как Бог и бессмертие. Абель недолго задерживался на
этом и вскоре возвращался к практическому человековедению.
Он поражал своих школьников необычным методом индукции.
42
Тогда было принято от иерархически выстроенных общих
понятий дедуктивно опускаться к фактам действительности. Эта
сухая схоластическая манера была мучением для бесчисленных
поколений школьников. Удивительна по отношению к ней
методика Абеля: он заставлял школьников записывать
ежедневные наблюдения, относящиеся к разным областям знаний. Эти
наблюдения соединялись вместе и упорядочивались, и в ходе
диалога на занятиях из этого делались выводы и развивались
понятия. Абель исходил из предпосылки, что по-настоящему
человек может знать лишь то, что он сам сформулировал.
Абель хотел создать на занятиях атмосферу работы и
диалога, он избегал кафедру и ходил взад-вперед по учебному
залу. Школьники с любовью прозвали его «маленький
перипатетик»*. Они были привязаны к нему. Нередко случалось так,
что отдельные воспитанники перед началом занятий ожидали
его з' ворот академии, провожали до лекционной аудитории и
пытались завязать разговор о научных, политических и личных
проблемах. По воспоминаниям самого Абеля, школьники
«советовались с ним как с другом». Шиллер использовал эти
возможности особенно «усердно», чтобы поговорить с ним о
«познании людей».
14 декабря 1776 года был великим днем для Абеля и его
учеников. Герцог доверил Абелю почетную задачу: прочитать
праздничную речь по случаю окончания учебного года в белом
зале дворца перед блестящим придворным обществом,
корпусом преподавателей, городской знатью, депутацией Тюбинген-
ского университета, школьниками и родителями. Эта речь на
всю жизнь запечатлелась в памяти молодого Шиллера. Герцог
сам определил тему, кажется, он чувствовал, что было
особенно актуально для начинающейся эпохи Бури и натиска. Абель
должен был говорить о «гении», осветить вопрос «Рождаются
или воспитываются великие личности и каковы их признаки?».
Понятие гения в то время, когда Абель произносил речь с
украшенного цветами подиума, волновало молодых людей до
глубины сердца, было едва ли не боевым кличем в духовных
битвах современности, в который они принимали участие, пу-
* Прогуливающийся (греч.). По преданию, Аристотель преподавал
философию своим ученикам во время прогулки.
43
екай даже издалека. Крылатым словом стало в их кругу
изречение Шефтсбери, что гениальный поэт — «Прометей» второ-
4-9
го сотворения мира, что гении приносит в мир нечто новое,
«оригинальное». Гений не только находит, но открывает.
Колумб открыл Америку, но еще лучше и еще достойнее для
настоящего гения — открыть страну, которой пег до тех пор,
пока изобретательный гений не извлечет ее из невидимого
океана. Когда речь заходила о гении, то в начале 1770-х
вспоминали прежде всего о Шекспире, который вывел на
воображаемую сцену (его пьесы тогда еще практически не ставились)
целый мир, беспримерный человеческий калейдоскоп.
Шекспир считался высшим проявлением творческого гения. Шу-
барт, как всегда склонный к преувеличению, назвал его
«видимым божеством». В речи Гёте «Ко дню Шекспира» то же: «Он
соперничал с Прометеем, подобно ему, одного за другим
творил своих людей, только в колоссальную величину». Шекспир
творил из собственной «натуры», которая была настолько
просторной, что вмещала целый мир. Он не придерживался
правил, но устанавливал правила, рождавшиеся в его собственной
творческой натуре. Впоследствии Кант найдет для этой мысли
подходящую формулировку: с помощью гения «природа дает
правила искусству».
В образе гения поколение формулировало свое вновь
проснувшееся самосознание против унаследованного ими
иерархического, застывшего и ограниченного мира. Мелкобуржуазная
готовность к унижению, приспособление к обстоятельствам,
сужение жизни до профессии, службы и приобретательства, весь
общественный механизм, в котором человек представлялся
колесиком и винтиком, к тому же еще сухой рационализм, совер-
*J l_J
шенно не оставлявший места для тайны, — все это возмущало
молодых людей, которые всей душой стремились к свободному
духу, в первую очередь к прекрасному духу, и в этом
стремлении наталкивались на сопротивление обыкновенного
убожества: «Истинные великие порывы человеческой души
надломлены», — пишет Гердер. Гёте вторит ему, когда, обращаясь к
Шекспиру, заявляет, что он предоставил себе свободу,
вызволив «все благородные души из элизиума так называемого
хорошего вкуса», где они «в скучных сумерках, словно тени,
бездельничая, растрачивали свою жизнь».
Когда начался этот энтузиастический поход против
унаследованного и привычного? Само собой разумеется, сущест-
44
вовала долгая традиция, на которую можно было опереться,
начиная с философии энтузиазма Платона. Виланд напомнил
об этом. Древние, говорил он, могли истолковывать
энтузиазм поэта и пророка только как присутствие Бога в душе, но
они, добавлял он, призывали к осторожности, так как
подобный восторг может легко обернуться безумием. Устами
исступленно восторженного вещает Бог, но вдруг вместо слов
мы слышим только беспорядочное бормотанье, и мы уже не
можем понять, поднялся ли вещатель выше разума или
опустился ниже него. Но скептические предостережения
помогали немного: не верилось, что можно заблудиться в невесомом
полете восторга, в подвижности, которая хочет играть с
весомыми мыслями и скудной действительностью. Гердер пишет
об энтузиазме, которому всё легко и который увлекает за
собой каждого, кто умеет видеть и слышать, увлекает до тех пор,
пока зрение и слух отказывают ему. Итак, традицию
помнили, но не абсолютизировали. Воля к преобразованию и
новому определению жизненных сил смело подступается к
старому, чтобы нечто сотворить из него. Суть дела — в собственном
делании.
Есть важная дата, когда этот окрыленный дух, возможно,
впервые заявил о себе столь мощно. Это случилось в тот
момент, когда Иоганн Готфрид Гердер, поспешно и словно
спасаясь от погони, начинает морское путешествие во Францию,
разорвав оковы опостылевших условий жизни в Риге, где он
занимал духовный пост. Через два с половиной века после
Колумба у философов и эстетиков также проснулось желание
<J
выйти в открытое море, прорваться в реально существующие
безграничности. Это морское путешествие филолога-аргонавта
тоже находилось под знаком Бури и натиска. Гердер,
возможно, всю жизнь воодушевлялся идеями, которые осенили его на
колеблющихся просторах моря. Дневник, в котором они
запечатлены — один из самых значительных
литературно-философских документов XVÏII века, — был опубликован
посмертно в 1846 году под названием «Журнал моего путешествия в
1769 году» и потому не мог оказать воздействия на свою
эпоху как текст, но зато тот, кто его написал, встретил после
своего путешествия в 1771 году в Страсбурге одного молодого
человека, Гёте, которого мощно притянула эта лавина идей и
который многое передал дальше и продолжил. Таким образом,
Гердер в 1769 году последовал внутреннему зову, о котором
45
Ницше вспомнил более чем столетие спустя, когда
провозгласил знаменитый лозунг: «На корабли, вы, философы!»
Выйти в открытое море, сменить жизненную стихию, от
твердого к текучему, от известного к неизвестному, — это
означало обрести дистанцию и широту, в этом заключался также
и пафос нового начала. «Стеллажи, заполненные бумагами и
книгами, имеющие отношение только к рабочему кабинету»,
остаются на берегу, сейчас речь идет о том, чтобы найти
самого себя, с надеждой устремляясь вдаль. «Namra naturata»,
природа созданная, - это подвижная водная пустыня, «natura natu-
rans», природа творящая, — это сам человек. Снаружи нет
ничего для подражания, и совершенно безрадостное
предприятие описывать извечное движение волн, современное
пространство оживлено, но пусто, а прошлое, рабочий кабинет,
этот аид начитанного образования, лежит в туманной дали.
Гердер отдается в открытом море урагану мыслей. «Философу
на корабле», как себя называет Гердер, внешний и внутренний
миры представляются бесконечными. «Как можно не думать о
дальних пространствах на корабле, который качается между
небом и морем! Все здесь придает мысли полет, и движение, и
широкое дыхание! Трепещущий парус, постоянно
покачивающийся корабль, шумящий ток волн, летящее облако,
бесконечный юз душный простор! На земле человек прикован к
мертвой точке и заключен в тесный круг отдельной ситуации... о,
душа, каково тебе будет, если ты выйдешь из этого мира?., мир
для тебя исчезнет — он исчез под тобой! Какой новый способ
мышления... Когда я настолько продвинусь, чтобы разрушить
во мне всё, что я изучил, и только самому открывать то, что я
думаю, и изучаю, и во что верю!»
Но о чем же он все-таки думал? Решающей для его
последующей жизни и для периода Бури и натиска была следующая
мысль: всё дело в том, заявляет Гердер, чтобы понять и
объяснить основную движущую силу органического развития, от
камня до сознания, от истории природы до истории человека.
Эта основная движущая сила в меньшей степени исследуется,
прежде она ощущается как творческая подвижность, и лишь
тогда, когда она прочувствована и прожита, она может быть
также и понята. Во всем живом действует непредсказуемая
спонтанность. Свобода, которая означает не «свободу от чего-
либо», но свободное порождение действия. Рассудок трактует
порождение действия как необходимость. Рассудок и должен
46
так оценивать, поскольку он может осмысливать живое лишь
с точки зрения причинности и, следовательно, не может
понять его. Почему? Потому что творческий процесс не
является следствием одной причины, но содержит загадочный
произвол. Причинные события предсказуемы, творческие —
непредсказуемы. Поэтому Гердер требует оперировать
«живыми понятиями», то есть такими, которые приспосабливаются
к таинственной подвижности жизни. Все области опыта,
знания и деятельности — от поэзии до политики, от животного
мира до народоведения, от минералов до богов — должны быть
заново поняты с помощью этих живых понятий. На своем
покачивающемся корабле Гердер живет и творит великие
проекты. Его «морские сновидения» навевают ему новую жизнь и
новую науку, но также новую мораль и новое учение об
обществе. В рамках этого учения: общественная жизнь должна быть
организована так, чтобы каждый мог развить заложенный в
нем индивидуальный росток жизни. Общество — это связь для
взаимной помощи при развитии этих жизненных ростков.
Развитие каждого отдельного человека — смысловой центр
общества, даже если эти отдельные индивидуумы переплавляются
в коллективного индивида, в «народ», носитель общественного
смысла. И все же: вся суть в развитии индивидуума. В каждом
скрывается гений, но, как правило, его душат, из него
получается, как скажет позднее Шопенгауэр, «человек фабричного
производства». Гердер набрасывает программу воспитания,
размышляет о реформе важнейших воспитательных
учреждений; должна быть осуществлена возможность, пишет он,
создания «питомника» гениев, но предпосылкой для этого
должно стать понимание абсурдности обычных воспитательных
методов, которые мешают росту и развитию. Нужно
научиться мешать помехам и не нарушать «natura naturans».
Эти идеи, которые мореплавателю Гердеру «живыми
приплыли в потоке времени», вдохновили его друзей, особенно
Гёте. Если до сих пор природу воспринимали
рационалистически и механически, то теперь ее стали воспринимать и
переживать как организм.
Изменилось также и само понятие разума.
Начиная с Декарта, разум уже начал поднимать свою
гордую голову, он эмансипировался настолько, что даже Бог
должен был оправдываться перед его судейским креслом. Но это
был разум «mathesis universalis», подсчитывающий, конструи-
47
рующий разум. Лейбниц, а за ним Христиан Вольф
грандиозно свели вместе целое, Бога и мир; разум регулировал
пограничное сообщение между Богом и лучшим из миров. Всё в
конечном итоге представляет собой рациональную
последовательность, природа не делает никаких скачков, и, по сути дела,
в ней нет также и никаких неожиданностей, за переходы в
темноту ответственность несут «perceptions petites»
(бессознательные предположения) и анализ бесконечно малых величин.
Ясно одно: Лейбниц научил свой век считаться с бесконечным,
поддержанный гением музыкальной арифметики Иоганном
Себастьяном Бахом, который возвысил «mathesis universalis» в
звучащее напоминание о Боге.
В эпоху Бури и натиска разум утратил желание доказывать
свою гениальность с помощью арифметики. Искусство
арифметики связывает, оно представляет собой абсолютно общее,
межличностно действительное. Новый, живой разум
концентрируется на оригинальном, единственном, индивидуальном.
Разум, несомненно, есть, но он существует лишь в
многообразии, то есть в единстве индивидуальных личностей.
Существует столько же разумностей, сколько есть индивидуумов,
народов, исторических эпох и регионов.
Концепт индивидуального разума еще вполне можно
рассматривать как продолжение истории эмансипации разума:
сначала разум эмансипируется от Бога и природы (rex exten-
sa), затем он эмансипируется от своей общей формы и стано-
вится индивидуальным, и, становясь индивидуальным, он
погружается в живую стихию существования, в подсознательное,
иррациональное, спонтанное, другими словами: в мистерию
свободы. Почему в мистерию? Потому что в конечном итоге
свободой можно лишь жить, но ее нельзя обдумать, так как
мышление запутывается в причинно-следственных связях, но
понятия причинности не приближают к свободе. В период Бури
и натиска развивается энтузиастическое отношение к свободе.
Появляется понятие своенравия, открываются собственные
права вещей и индивидуумов. Всё имеет свое неповторимое
собственное значение, единичное приобретает свое значение не
благодаря своей функции в рамках целого, но несет свое
значение внутри себя. Тем, кто не хочет быть колесиками и
винтиками, и вся природа представляется организованной таким
образом, что в каждом элементе жизнь полностью остается
сама собой и содержит всё внутри себя. Буря и натиск витализи-
48
рует и динамизирует учение Лейбница о монадах. Так, Вертер
Гёте может воскликнуть: «Я везде нахожу жизнь, ничего,
кроме жизни...», и гений есть не что иное, как жизнь, настолько
сальная, что никто не может помешать ее росту, излиянию,
выражению и развитию. Гений — удачная телеология природы.
Гений, однажды проснувшись, помогает себе сам, но иногда его
нужно сначала пробудить. Дух Бури и натиска видит себя в
роли повитухи для гения, который дремлет внутри каждого
человека.
В немецком движении Бури и натиска образцовой
моделью гения был художник. В Англии скорее предпочли бы
причислить к гениям представителей новой естественной науки,
Ньютона или Бэкона к примеру. Кроме того, там знали и
гениев действия, великих полководцев и государственных
деятелей. В Германии они играли еще незначительную роль.
Спустя поколение общеевропейское представление о гении будет
ориентироваться на Наполеона. На его примере смогут
изучить, до каких чудовищных измерений может возрасти
гениальное своеволие субъекта. Но пока что понятие гениальной
личности связывали скорее с Плутархом; у него находили
архетипы гениальной деятельности: Цицерон, Цезарь,
Александр, Катон.
В размышлениях о политическом гении при сравнении с
художественной моделью появился новый аспект: то, что
впоследствии стали называть «харизмой». В политическом
мышлении времени доминирующую роль играли рациональная
теория договора и вопросы права и закона. Тема гения
способствовала несколько иной локализации источников
власти: в феномене распространения персонально воплощенной
власти. Речь шла о флюидах, окружавших личность, о неком
излучении, которое могло пониматься не только как
воздействие достоинства занимаемой должности. Была открыта
социальная заразительность концентрированной воли,
своеобразная притягательная сила личности, концентрирующей свою
энергию, мистерия решительности, которая подключает к себе
других так, что они попадают под ее влияние.
В эти годы обнаружился интерес к тонким и глубинным
душевным силам в социальной сфере. Не случайно, что именно в
недрах Бури и натиска зарождается так называемый
«животный магнетизм» — как философская идея и как
социально-психологическая и даже медицинская практика. Франц Антон Ме-
49
смер, родившийся в 1734 году около Бодензее, создал тип
магнетического гения. Он практиковал в Вене и затем в Париже,
где в преддверии революции им восторгалось придворное об-
щество. Оттуда мода на магнетизм распространилась в
Германию. Очень скоро имя Месмера было оплетено паутиной
слухов и домыслов, это был маг на границе души, тела и
политической власти. Гений, обладавший харизматическим
воздействием. Он утверждал, что между живыми телами
существует особый род «взаимосвязи», при этом он мыслил
психические контакты и энергии в качестве тонкой материи
«флюидов», как своего рода электрический ток. Месмер ссылался
также на Ньютона и говорил о gravitas animalis, ожившей силе
тяготения. Неудивительно, что в эпоху, когда прекратились
поиски камня мудрости в алхимии и вместо этого начались
поиски средств всеобщего исцеления, Месмеру пришла идея
использовать для лечения физио-харизматические энергии. Он
полагал, что эти энергии могут скапливаться в определенных
телах, непреднамеренно или с помощью волевых усилий, и
передаваться в момент прикосновения от одного тела к другому.
Он изобрел целую систему подобных прикосновений, пока ему
не пришло в голову, что прикосновения совершенно излишни
и возможно воздействие на расстоянии. Гипноз, внушение,
сомнамбулизм — все эти хорошо известные феномены он связал
с магнетизмом. Конечно, магнетизер не мог ограничиться
только разработкой теории, он должен был на практике
продемонстрировать природное дарование, он должен был быть
природным гением. Магнетизер, как и любой гений, подчиняется
законам природы.
Спустя поколение магнетизмом увлекутся романтики —
философски, литературно и практически. Но уже в Буре и
натиске его понимают как модель социального колдовского
воздействия харизматической личности. Шиллер окунется в эту
сферу, когда он возвестит и изобразит харизматическую и
гениальную власть в романе «Духовидец» и позднее в образе
Валленштейна.
Писатели и художники, которым лишь во сне могла
примечтаться социальная и политическая власть, охотно тешили
себя представлением, что личность, создавшая произведение,
могла высветиться в нем ярче самого произведения, так, что в
конечном счете художник сам превращается в художественное
произведение. Эти представления вытекали из укоренившейся
50
в Буре и натиске мысли, согласно которой творческая
возможность обладает преимуществом перед созданными образами.
По сравнению с творческим потенциалом каждое конкретное
осуществление представляет собой редукцию. Преимущество
возможности перед действительностью по отношению к
художнику можно было истолковать и так, что личность как
олицетворение творческих возможностей является важнее, чем
произведение. Так в Буре и натиске возник новый культ
личности художника. Новые гении театра хотели инсценировать
себя также и помимо произведения (а порой и вовсе без
произведения). Как говорили тогда, людей нужно
«мистифицировать».
Оглядываясь на суматоху тех лет, Гёте в «Поэзии и
правде» достаточно безжалостно назвал слово «гений» «общим
лозунгом» той «знаменитой и пресловутой литературной эпохи,
когда толпа молодых гениальных мужчин заявила о себе со
всем мужеством и самонадеянностью», чтобы затем затеряться
в «безбрежности». Гёте и его друзья действительно вели себя
до некоторой степени безрассудно в это гениальное время.
Гёте после своего переселения в Веймар в 1776 году превратил
это достойное пристанище муз во временную штаб-квартиру
гениальности. Словно хвост кометы, он потянул за собой
Ленца, Клингера, Кауфмана, братьев Штольберг, в то время еще
далеких от набожности. Они ударялись в загулы, о которых
веймарские филистеры рассказывали еще спустя десятилетия.
«Среди прочего, — вспоминает Бёттигер, — в ритуал входила
гениальная попойка, которая начиналась с того, что все
стаканы выбрасывались в окно, и вместо бокалов использовались
несколько грязных урн, которые изымались из старого
могильника в окрестностях города». Молодые люди щеголяли
жестами и манерами, которые должны были шокировать. Ленд
играл роль шута, Клингер выделялся тем, что мог съесть кусок
сырой конины, Кауфман объявился за герцогским обеденным
столом обнаженный до пояса с непричесанными,
развевающимися волосами и с огромной суковатой дубиной. К числу
«гениальных выходок» Гёте относилась верховая поездка с
другом-герцогом, в дороге они обменялись одеждами и искали
эротические приключения. «В Штутгарте, — сообщает
Бёттигер, — им пришло в голову появиться при дворе. Тут же были
вызваны все портные, чтобы немедленно сшить придворные
одежды».
51
Это было через три года после речи Абеля, и это было то
же самое место и тот же самый случай, а именно праздник
окончания Академии; так случилось, что на подиуме в
качестве почетных гостей рядом с Карлом-Евгением стояли оба
путешествующих гения, веймарский герцог и его друг Гёте, и с
мягкой снисходительностью наблюдали за церемонией
присуждения наград, на которой и Шиллер получил некоторые
поощрения. Таким образом, речь Абеля о гении была за три
года до появления действительного гения.
Речь Абеля была потому столь примечательна и
неизгладимо запечатлелась в памяти юного Шиллера, что он
почувствовал в ней веяние духа бурной эпохи. Впечатляет то, с какой
смелостью Абель в присутствии герцога обвиняет деспотию
как тяжелое препятствие для развития гениальных задатков и
как он вместо того, чтобы обсуждать проблему гения на
огромном поприще политики и литературы, предлагает молодым
людям некоторые признаки, по которым они должны понять, есть
ли в них самих нечто гениальное. Он напоминает воспитателям
и педагогам, чтобы они не раздавили ростки гениальности
рутиной и бескрылой ^..защитой нормативности. Абель говорит о
праве молодежи испытать самих себя, даже если при этом
случатся заблуждения, непослушание и нарушение правил. Абель,
сам еще молодой человек, стремится укрепить самосознание
своих учеников.
В начале речи перед аудиторией предстал маленький,
торжественно настроенный мужчина, озабоченный прежде всего
выражением верноподданнического почтения по отношению к
герцогу, но выражавшийся столь напыщенно, что это звучало
почти иронично: «Это именно он, кто учит великих земных
правителей тому, что лишь мудрость может быть опорой
трона». После неуклюжего начала он постепенно находит
подходящий тон. Он говорит о том, что к заявленной теме
необходимо приближаться лишь с «восторгом». Подобие узнается лишь
с помощью подобного.
Ответ на первый вопрос, «рождается или воспитывается
великий дух», он использует для первой атаки на деспотию.
Гений — это изначальная мощь, следовательно, прирожденная, но
она развивается лишь в благоприятной среде. Самое худшее,
если общество, в котором рождается гений, страдает под
«гнетом суеверия» и «убивающего душу деспотизма». Если бы у
Платона не было в качестве арены действия «свободных
52
Афин», то из него вряд ли бы что-нибудь вышло. Абель
отваживается произнести хвалу «республикам», так как они
благоприятствуют «великим людям». Шиллер вспомнит об этом,
когда в 1783 году посвятит своему прежнему учителю
«республиканскую трагедию» «Фиеско».
При рассмотрении прирожденных качеств гения
обнаруживается умеренный материализм Абеля, когда он указывает на
особое устройство «системы мозга» у гения, но все же с тем
ограничением, что физиологических предпосылок недостаточно,
к ним должны прибавиться воспитание, окружение,
упражнение и прежде всего свободное решение: кто хочег стать гением,
должен также иметь и силу воли для этого.
В целом Абель не задерживается долго на предпосылках
гения, он не хочет создать впечатления, что гения можно
исчерпывающе объяснить из предпосылок. Гений появляется как
нечто оригинальное, поражающее, не поддающееся вычислению,
эффект, для которого нет достаточной причины. Возвышенное
не должно представляться обыкновенным, великое не должно
подаваться как малое. В ответе на вопрос, «каковы признаки
гения», обнаруживается, насколько Абель был захвачен
гениальным духом эпохи. В контексте дискуссий о гении того
времени он не особенно оригинален, но на молчаливо* застывшем
торжественном собрании его речь действует возбуждающе и
заражает честолюбивых молодых людей, замыслы которых
простираются дальше обычной профессиональной карьеры.
Абель кружит вокруг ставшей девизом мысли: гений нарушает
правила и создает для себя новые. «Лишенный гениальности,
вялый и бессильный, никогда не может идти без костыля
правил и законов, бессильный и жалкий никогда не сойдет с пред-
XJ
начертанного пути и не вырвется за его пределы с героической
смелостью, чтобы найти собственным творчеством новый путь.
Он ползет медленно и бездумно по колее, подобно ленивому
навьюченному животному». Этот образ «навьюченного
животного» так врезался в память юному Шиллеру, что он еще в
«Лагере Валленштейна» использует его в словах вахмистра:
Пусть топчется бюргер, тупое рыло,/По кругу, как на
мукомольне кобыла (т.2, С.298).
Ленивой трусце животного Абель противопоставляет
высокий полег гения: «Гений, исполненный чувства собственной
силы, благородной гордости, отбрасывает прочь унизительные
путы, презирая тесный каземат, в котором томится обычный
53
смертный, вырывается, преисполненный героической отваги,
и, подобно царственному орлу, улетает далеко прочь от
маленькой низкой земли и путешествует ввысь к солнцу. Вы
возмущаетесь, что он оставляет наезженный путь, что он выходит
из рамок мудрости и добродетели, — насекомые, он улетел к
солнцу».
Затем Абель говорит о тех признаках, которые уже рано
позволяют узнать подрастающего гения, но которые
воспитателями и авторитетами не опознаются как таковые. К
примеру, он говорит об избирательном внимании. Гениально
одаренный с неотступной страстью привязывается к определенным
предметам, все его силы задействованы здесь, и вследствие
этого его понятия и ощущения в других областях становятся
«блеклыми и вымученными. Гений становится таким глупым в
отдельных вещах, потому что он слишком умен в других
вещах». Гениально одаренный мальчик подвержен смене
настроений, от него не следует ожидать «постоянного рвения», равно
как и «педантичного черепашьего шага» прилежности, он
редко становится образцовым учеником, учителя и родители вряд
ли будут от него в восторге.
Абель говорит с энтузиазмом и в то же время стремится к
систематизации. Он набрасывает целую психологию гения, он
перечисляет компоненты: быстрота, чувствительность,
живость, разносторонность. Но решающими качествами
оказываются страстность и самоотдача. У гениального человека силы
находятся в изначальной гармонии, у него есть инстинкт
удачи, своего рода сомнамбулическая уверенность. Через два
десятилетия Шиллер вернется к этой характеристике. В
обоснование своего тезиса Наивным должен быть каждый истинный
гений — или он вовсе не гений, пишет он в статье «О наивной и
сентиментальной поэзии»: ведомый лишь своей природой или
ангелом-хранителем, инстинктом, он спокойно и уверенно
минует все ловушки ложного вкуса (т.6, с.396).
Речь Абеля содержит доверительные намеки, которые
позволяют ученикам понять, что он является их тайным
союзником — против недоброжелательства и непонятливости
некоторых высших чинов. Каждый, кто чувствовал себя неуютно
в официальном обществе, кто чувствовал себя непонятым и в
то же время ощущал в себе силы, кто казался себе одиноким,
но оставался гордым, а значит, некто вроде юного Шиллера,
мог считать обращенными именно к нему слова Абеля, произ-
54
несенные в конце праздничной речи: «Понятия и ощущения
гения настолько воодушевлены, глубоки и плодотворны, что
он находит источник деятельности в себе самом и все
внешние предметы перед ним блекнут. Поэтому он бежит от мира,
который предлагает ему новые предметы и отнимает
любимый фантом его души; поэтому его тошнит от сборищ и от
шума друзей; поэтому он мечтает об одиночестве. Вы видите
там одного юношу, он бродит в одиночестве, ненавидит ваши
шутки, презирает ваши радости, погруженный только в себя,
мир теснящихся мыслей работает в его душе, — он и есть
гений».
В соответствии с духом Бури и натиска Абель в свой речи
несколько раз вспоминает Шекспира. «Гений играет со
смелыми, великими мыслями, как Геркулес со львом. Какие только
поношения критики не пришлось вытерпеть Шекспиру? Но
вот они все уже кричат и пищат в пыли у его ног, а он до сих
пор стоит несокрушенный, его голова в заоблачных высях».
С этим «львом» Абель познакомил юного Шиллера во
время занятий. Он имел обыкновение зачитывать отрывки из
художественных произведений, чтобы придать наглядность
психологическим понятиям. Так, однажды он объяснил конфликт
между долгом и страстью на примере «Отелло», который он
цитировал в классе в переводе Виланда. По всей вероятности,
Шиллер именно здесь впервые услышал о Шекспире. В своих
воспоминаниях Абель изображает ситуацию следующим
образом: «Шиллер напряженно слушал, все черты его лица
выражали чувства, его охватившие, и едва только чтение
закончилось, он потребовал у меня книгу, и с тех пор он читал и
штудировал ее с непрекращавшимся рвением». Он штудировал
Шекспира с таким рвением, что отдавал свой обед тем из
одноклассников, которые позволяли ему задержать па некоторое
время позаимствованные у них книги Шекспира. Шиллер
рассказывал в 1790 году датчанину Баггесену, что «Короля Лира»
он прочитал в Карловой школе шестнадцать раз. Некоторые
пьесы он знал почти наизусть. Когда он в 1785 году уезжал из
Мангейма в Лейпциг, один знакомый порекомендовал ему за-
пастить на дорогу чтением. В этом нет необходимости, ответил
ему Шиллер, если я заскучаю в дороге, то напишу сцену из
Шекспира и почитаю ее.
У Шекспира юный Шиллер нашел великий мировой театр,
это столпотворение человеческих судеб и конфликтов. Свое
55
первое знание людей он вычитал из пьес Шекспира. У
Шекспира он научился тому, что он в предисловии к «Разбойникам»
впоследствии назовет искусством драмы, а именно застигнуть
душу в ее сокровеннейших помыслах (I, 484).
Воздействие Шекспира было для юного Шиллера почти
подавляющим. Он почувствовал себя втянутым в
человеческий круговорот без надежного проводника, он искал автора,
который придал бы ему уверенности, но у Шекспира ему было не
за что ухватиться. Я был еще не способен, писал Шиллер
впоследствии, понимать природу из первых рук. Ее образ был для
меня выносим, лишь пройдя через рефлектирующий рассудок,
упорядоченный правилами (т.6, с.405). Шиллер хотел найти в
произведении самого автора, он хотел встретиться с его
сердцем, размышлять над предметом его сочинения совместно с
ним, но поэт удалялся, исчезал в огромном мире своего
произведения. Это было юному Шиллеру еще не по силам. Так
много природы он еще не мог вынести, совершенно иначе, чем
юный Гёте, который после первого знакомства с Шекспиром
воскликнул: «Природа! Природа! нигде нет столько природы,
как в персонажах Шекспира».
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
Популярная философия. Антропологический поворот.
Карьера эмпиризма. Жизнь начинает говорить в «аудиенц-зале
духа»: Шефтсбери, Руссо, Гердер. Шиллер между двух огней.
Шиллер учится у Фергюсона и Гарве. «Вскрытие головы
не производилось»
Якоб Фридрих Абель увлек юного Шиллера философией. И
хотя тот не утратил своего интереса к литературе, она отошла
для него на задний план. Он по-прежнему читал Шекспира, но
делал это уже не только вследствие очарования гениальным
творением мирового масштаба, по также и для того, чтобы
расширить свои знания о человеке. По той же причине он
углубился и в философию. И здесь Шиллер мог многое открыть
для себя, так как с середины XVIII века в философии
Германии произошел антропологически-эмиирическией поворот, и
Абель, впитывавший новые идеи подобно губке, делал все,
чтобы познакомить с ними своих слушателей.
Новый образ мыслей проник в философию; то, что позже
назовут «популярной философией», явилось следствием
глубочайшего преобразования: философия стремится вырваться
из академических стен и шагнуть в мир. Этого настойчиво
требовал в 1 ISA году в своем давно забытом программном
сочинении Иоганн Август Эрнеста, которое, правда, словно оно не
было достаточно убедительным далее для самого себя, было
написано на латинском языке: «De philosophia populari».
Популярный значило: воспитывающий. Философские знания
должны служить жизни, и разум следует понимать не столько как
вместилище неоспоримых знаний, сколько как энергию, силу,
которую можно по-настоящему познать только в действии и
его результате. Таким образом, рядом с воспитывающей
гласностью в качестве второго принципа выступало
«самомышление», как его назвал Кристиан Томазий, просветитель первого
поколения. Свои лекции он читал по-немецки, что было в те
времена весьма необычным, и намного меньшее значение
придавал соответствию идей системе, нежели их умению постоять
за себя, быть разумными и вызывать интерес. Для него хороша
была та мысль, что не ведет внутрь системы, а выводит в
жизнь. Таким образом, «самомышление» обозначало действие
57
критерия воспроизводимого опыта, доступного каждому.
Достоверность идей должна быть перепроверена на основе
собственного жизненного опыта. Действовать же следовало,
руководствуясь девизом: «Проверь все и оставь лучшее!» Тот, кто
продолжал придавать значение системной замкнутости, с
презрением называл это направление «эклектицизм». Это, однако,
не могло помешать успеху активно зарождавшегося
прагматического мышления, пропитанного опытом. Возникло сомнение
в рациональной метафизике школы Вольфа, господствовавшей
в университетах до середины столетия. Рациональным
конструкциям и метафизическим спекуляциям противостоит
эмпирический опыт; существенное значение при этом имело
возрастающее влияние французского скепсиса и английской
философии Просвещения. На человека стали смотреть иначе,
и студент-медик Шиллер попал под влияние этого нового
эмпирического видения человека.
Конечно, философия предыдущих столетий тоже размышляла
о человеке. Но речь при этом шла о месте человека в
иерархически структурированном миропорядке, созданном
философствующим разумом из теологических понятий. Между тем
школьная философия Вольфа закостенела в своей
дедуктивной схоластике. Опыт, наблюдение и индукция становятся
теперь ведущими понятиями, а Локк и Ньютон путеводными
звездами молодого поколения.
Новая, эмпирически ориентированная философия
поднимала новые вопросы. Речь уже не шла о том, насколько
человеческий дух является отражением духа божественного; то
неоспоримое, что было открыто Декартом в уме, понималось
теперь как физическое бытие. Человека следует понимать
исходя из его тела, то есть «снизу», а не из его духа, то есть
«сверху». Тела, одушевленные и нет, сталкивающиеся в
пространстве, воздействующие друг на друга и образующие
разнообразные сочетания, определяют порядок бытия. Декарт
определил физический мир как res exterisa, то есть как область
действия механики и математики. Именно отсюда и берет своё
начало поворотный пункт в философии.
Предпринимаются попытки понять духовую сущность
человека, руководствуясь принципами res extensa. Характерные
признаки, подмеченные в «расширенном» телесном мире,
переносятся на дух. Конструируется своего рода механика сознания,
58
закономерность соединения и порядка следования идей. Это
повлекло за собой возникновение ассоциативной психологии, в
XJ
которой сознание рассматривалось как своего рода
пространство, в котором мысли, аффекты и мотивы проявляют себя по
отношению друг к другу подобно элементам в пространстве.
Методический принцип механики, празднующий свой триумф в
теории внешнего опыта, был применен к пониманию
внутренних процессов. Спиноза недвусмысленно признал себя
сторонником подобного метода, пообещав во вступлении к третьей
книги своей «Этики», что будет излагать внутренние и внешние
поступки и страсти людей more geometrico, словно речь шла о
линиях, плоскостях и телах. И хотя сам Декарт относил
аффекты и страсти к миру физическому, к res extensa, и поэтому
конструировал механику движения души, однако мышление, res
cogitans, отсюда он исключил. Теперь, однако, и само мышление
трактовалось как физический процесс в рамках принципов
механики. На вопрос: «Что же есть мышление?», следовал ответ,
О *_* О
что это тоже всего лишь механический процесс, частный случаи
4J
применения ассоциативной психологии.
В Англии в область физического духовное начало ввели,
прежде всего, Бэкон и Гоббс. Ими были заложены основы
естествознания души и духа и тем самым разработаны общие
черты антропологического материализма, который постигал
деятельность духовного во взаимосвязи с телесным. Бога,
потусторонний мир и бессмертие они оставили теологии и
ритуалу. Такое хитроумное разделение между духовно-умственным
и духовно-религиозным позволило натурализовать духовное,
не вызвав возмущения церкви. Столкновение с церковными и
государственными авторитетами было ни к чему.
Такое мирное сосуществование знания и веры, найденное
Бэконом и Гоббсом, сохранилось и в последующих
поколениях. Английские эмпиристы и материалисты, в отличие от
французских, были в большинстве своем деистами,
соглашавшимися оставить за душой провинцию в области духовного. И хотя
из мира, доступного познанию, Бог был изгнан, в церкви и в
морали ему еще была предоставлена свобода действий.
Источник познания эмпиризм и материализм видели в
опыте, а не в мышлении, которое выступало в качестве формы
вторичной обработки: оно упорядочивало и соединяло
материал, предлагаемый органами чувств. В разуме нет ничего, что не
прошло бы первоначально через органы чувств, заявлял Локк.
59
В случае, если роль мышления в рамках его вторичной
функции подчеркивалась сильнее, как у Локка, речь шла об
эмпиризме с рационалистическими компонентами. Если же роль
мышления относительно чувственного опыта оценивалась ни-
же, как у Гоббса и Бэкона, то эмпиризм развивался в сторону
сенсуализма. Если же мышление рассматривалось как
эпифеномен, как функция материи, то эмпиризм перерастал в
материализм, праздновавший свой триумф во второй половине
XVIII столетия во Франции.
Как обычно, мышление училось не доверять самому себе.
То, что забиралось у мышления, отдавалось опыту. Эта
тенденция зародилась у Бэкона. Он критиковал мышление,
поднимающееся над материальной действительностью и тем самым
становящееся источником заблуждений. Обыденное мышление,
говорил он, охотно вкладывает в вещи цель и намерение, то
есть телеологию. Но это неправильно. Намерения есть у
человека, но не у природы. Критика мышления обнаруживала его
склонность к схематизму. Кроме того, по мнению Бэкона,
мышление, как правило, зависит от распространенных мнений,
«идолов рынка», что ведет к фальсификации опыта. Не органы
чувств, а обобществленный разум ведет нас к заблуждению, и
потому особенно валено вывести разум из лабиринта
заблуждений посредством наглядных экспериментов. К таким
заблуждениям относятся и «идолы пещеры», иод которыми
подразумеваются привычки мыслить, вытекающие из индивидуальных
склонностей и интересов. Иногда просто необходимо
вернуться назад к опыту, очистив его, таким образом, от примесей
ложного мышления. Следовательно, скепсис направлен не на
чувственный опыт, как это было в достойной уважения традиции
платонизма, а против разума. Правда, именно разум и должен
разрушить свои собственные иллюзии, чтобы чувственный
опыт мог безмятежно действовать.
Этот эмпиризм, сенсуалистический, рационалистический
или материалистический, должен был привести к развитию
своеобразной антропологии и моральной философии.
Повышению значимости чувственного опыта
соответствовала и новая оценка физических влечений (голод,
размножение, самосохранение). О том, что они в огромной степени
определяют поведение человека, было известно и раньше. Теперь
же они провозглашались собственно центром человека. Разве
идея когда-либо выигрывала в поединке с инстинктом? Физи-
60
ческие влечения рассматриваются в качестве основных
элементов моральной и общественной действительности, и учение о
морали и обществе оказывается по соседству с физикой и
механикой инстинктов. Жизнь общества и жизнь государства
просчитывается с учетом «природы» человека.
Однако что есть эта «природа»? Главную ее черту Гоббс
видел в инстинкте самосохранения. Все интересы, прямо или
косвенно, направлены на сохранение и поощрение
чувственного существования индивида. Самосохранение —
единственный предмет воли. Освобожденный инстинкт самосохранения
должен был бы привести к борьбе всех против всех, к анархии
силы. Чтобы ее избежать, необходимо у личности, этого
социального атома, произвести расщепление ядра Из
индивидуального инстинкта самосохранения следует изъять часть и
использовать ее для основания государственной власти, в
которой должна будет воплотиться воля к коллективному
самосохранению. Таким образом, Гоббсу удалось справиться с
проблемой государства и общества, избежав предположения
об альтруистических склонностях, которые он не смог
обнаружить в человеческой природе. Как известно, свое бесстрастное
видение государства и общества Гоббс разработал на фоне
собственного опыта кровопролитных крестьянских войн во
Франции XVII века. Этот опыт способствовал рассмотрению
человека в качестве опасного разрывного заряда, из которого
необходимо удалить взрыватель. Картина эмпирического
человека Гоббса была определена его собственным
эмпирическим опытом.
Эмпиризм, предполагал ли он эгоистическую (Гоббс) или
альтруистическую (Локк) природу инстинктов, сталкивался с
определенными сложностями при размышлении о
человеческой свободе. В области свободы воли затруднение было
очевидным: как воля может быть свободна, если в пас действует
непреклонный инстинкт?
Менее очевидны, по при более близком рассмотрении
значительны, трудности в вопросе свободы познания и
восприятия. Если, как утверждали эмпирики, познание
непосредственно связано с восприятием органами чувств, то остается ли ему
еще вообще свобода действий по отношению к непреклонной
очевидности впечатлений органов чувств? Насколько мы
свободны в познании? Принуждает ли нас чувственный опыт или
в мышлении у нас есть больше пространства, чем открывает
61
нам чувственный опыт? Какая свобода действий нам дана?
Правда, эмпиризм признает, что разум может впасть в
заблуждение. То есть, по меньшей мере, он свободен для ошибки. Но
тогда свобода состоит лишь в том, что удаляет нас от познания
действительности. В таком случае мы пришли бы к парадоксу,
мы свободны лишь там, где заблуждаемся.
Локк использовал прекрасное образное выражение об
«аудиенц-зале духа», в котором произносят речи впечатления
органов чувств. Но кто восседает здесь на троне и принимает
гонцов из провинций? Свободен ли «дух» в своем
аудиенц-зале? И имело ли для эмпириков вообще смысл говорить о
«свободе познания»? Чувственные впечатления непроизвольны,
они навязываются нам порой болезненно и мучительно, они
овладевают нами и являются бесспорно очевидными. Король
на троне в этом «аудиенц-зале духа», скажем, разум, не может
отказать органам чувств-гонцам в аудиенции, он должен
принять их послания. Действительно должен? Иногда он может
игнорировать их некоторое время, если они не очень
настойчивы, и предаваться своим собственным «иллюзиям» (Бэкон). То
есть он все же свободен, но эта свобода состоит в том, чтобы
какое-то время обманываться. Рано или поздно он будет
вынужден считаться с этими посланиями. Они вынудят его к
этому. Для свободы не так уж много места, и то это скорее своего
рода закладная, чем шанс.
Но так же мало свободы в процессе познания предоставлял
и рационалистический тип эмпиризма. Здесь на троне сидит
рациональный король, который more geometrico разбирается в
законах правильного мышления. Далекий от того, чтобы быть
суверенным, он всего лишь конституционный король. Он
приводит в исполнение законы, им не созданные. Кто же их
создал? Если это был не Бог, то тогда гонцы, то есть сама
действительность.
О полном лишении короля власти в «аудиенц-зале духа»
позаботились материалисты. Существуют лишь посланники
органов чувств, и даже сам король, пршшмающий себя за что-
то иное, в действительности тоже всего лишь гонец. И если
король полагает, что он что-то решает, то в нем действует
посыльный, так как для радикального материалиста познание есть
чувственное раздражение, то есть физический процесс. Голова
является частью тела, и что происходит в ней, происходит в со-
62
ответствии с законами тела, i о, что в нас думает, не есть дух,
это физика и физиология головного мозга, нейронная буря.
Чистые материалисты склада Ламетри и Гольбаха
устраивают короткое замыкание между физическим процессом и
процессом сознания. Вследствие чего познание представляется
неизбежной физической реакцией на физический раздражитель,
с оговоркой, однако, что эта физическая реакция
переживается как феномен сознания.
Должно быть, здесь, в сознании, переживаемом изнутри,
сознание и ускользает от материализма. Что же это значит, когда
что-то физическое переживается как сознание? С этой
странностью пытался справиться Спиноза, заявляя: если бы у
падающего камня было сознание, он бы подумал, что падает по
собственной воле. Ламетри ставит этот мысленный эксперимент на
себе и спрашивает: «Кто же является автором книги, он сам или
физический процесс в нём?» Его ответ: «Тело написало книгу,
а точнее, температура крови, которая пишет в нём: "Почему
горячится моя кровь, когда я преследую абстрактную мысль?'*»
В мгновение ока сопутствующее физическое состояние
превращается у Ламетри в причинообразующее, и теперь: не «Я»
пишу книгу, а физическое «Оно» — разгоряченная кровь — ее
написало.
Подобный образ мыслей, рационалистический ли, сенсуа- '
листический или материалистический, с презрением смотрел
на якобы мечтательные, иллюзорные картины мира
предыдущих столетий. То были еще «дети», так это называлось, у
которых возникло желание реальности и которые
спроектировали в мир свои фантазии о смысле и значении. Необходимо
наконец-то стать взрослыми и посмотреть на мир трезво, такой,
какой он есть, без глупых страхов и сентиментальных надежд.
Такой стиль мышления был связан с пафосом жёсткости,
бесстрастия и отрезвления. Рациональная конструкция,
бездушный механизм, состоящий из давления и импульсов, телесных
соков и сил, раздражения и реакции — все вместе это
составляет мир, где мало места для свободы, чувства, души и духа.
Если нечто подобное становится объектом, то является
непременно причинным, механическим, физическим. Однако
существует и компенсация для такого «расколдовывания»
действительности: освобождение от призрачных страхов религии и
возрастающее господство над природой, разумеется, за счет
разрушения и «нейтрализации» разумного порядка метафизики.
63 .
Новое познание объясняет, как функционирует
действительность, но не то, какой она должна быть. Конечно, занимаются
дальше вопросами морали и правильной жизни, и, несмотря на
количественно выражаемые, измеряющие и вычисляющие
методы, познается качественная сторона жизни, свобода. Однако
знание и мышление не находят для этого соответствующего
языка. Очевидно, это то, что живет, однако еще и что-то иное,
чем то, что мыслит. Своенравие живого не нашло достаточного
выражения в эмпирическом, рационалистическом и
материалистическом мышлении.
Естественно, что это разделение между тем, что мыслит, и
тем, что живет, воспринималось неудовлетворительным.
Хотелось постигнуть всего человека и его бытие в мире.
Решительным образом, исходя из опыта, проанализировав его, составля-
V \>
ется картина окружающей действительности — как она
проникает в нас и как мы с ней связаны — при этом была до-
О
стигнута та точка, когда вдруг живой опыт не смог уже
распознать себя в анализе.
В Англии это был Шефтсбери, во Франции Руссо, в
Германии Гердер, кто на почве недавнего эмпиризма заявил протест
против эмпирических редукций, в которых так мало
говорилось о богатстве прожитой жизни с ее спонтанностью,
палитрой чувств и творческой энергией. Этот протест имел еще под
собой эмпирическую основу, так как аргументация велась не
%J
дедуктивно, от «высоких» понятии, а индуктивно, исходя из
опыта, правда, из опыта обогатившегося и живого. Эти мягкие
эмпирики были мастерами слова и должны были ими быть.
Так как тот, кто хочет говорить о тонкостях опыта, созвучии
чувств и мышления, восприятия и силы воображения, должен
владеть языковым регистром разнообразных значений и
полутонов. Для понимания нераздельной жизни аналитической
строгости недостаточно, сюда должны был и добавиться
поэтическое воображение и экспрессивность.
Что касается Шефтсбери, то восприятие, познание и
мораль закреплены, по его мнению, в основном чувстве. Чувство
связывает нас с миром, а в чувстве собственного достоинства
мы переживаем нашу идентичность. Восприятие, мышление и
моральное действие осуществляются внутри этого чувства,
будучи полностью им окруженными. Позже взгляды Шефтсбери
встречаем и у Хайдеггера: настроение определяет отношение к
себе и к миру, чувство есть феномен резонанса. У настроения
64
нет объектов, оно лишь часть общего движения природы и
окружающего мира. Поэтому сочувствие и играет у Шефтсбери
такую важную роль. Он не может, как, например, Гоббс,
рассматривать эгоизм в качестве главной черты естественного
человека, в такой же степени для него важно сочувствие, которое
он называет «чувством солидарности». Выражение
«альтруизм» было бы в данном случае неверным, так как речь идет
здесь не о моральной обязанности, а о прочувствованном
сосуществовании, настроении социального соответствия. У
Шефтсбери настроение и чувство выступают в качестве единообра-
зующего принципа. Таким образом, индивид связан с самим
собой, обществом и природой, чувство же и есть то, что
связывает воедино тело и душу, материю и дух, так как чувство есть
переживаемое согласование этих сфер, искусственно
разделенных в анализе. Кто поймет настроение, разберется, каким
образом он со всем связан.
Руссо тоже обнаружил в чувстве принцип единства. В нем
соединяются чувственное восприятие и мышление. Только
чувствующее существо просто не могло бы осмыслить
идентичность предмета, одновременно видимого и осязаемого.
Увиденное и потроганное разложилось бы у него на два предмета.
Только «Я» сводит их воедино. Единство «Я» гарантирует тем
самым единство предметов внешнего мира. Руссо идет еще
дальше: он сравнивает «Я-чувство» и «ощущение» внешнего
мира и приходит к заключению о том, что я могу «иметь»
ощущение, только если оно проникает в Я-чувство. А так как
ощущения сообщают мне о внешнем бытии и существуют внутри
Я-чувства, то без Я~чувства нет и бытия. Или наоборот:
Я-чувство порождает бытие. Но Я-чувство есть не что иное, как
чувствуемая уверенность: я есть. И здесь Руссо оппонирует
Декарту, переворачивая его классическое высказывание «Я мыслю,
значит, я существую» на чисто эмпирический манер «Я есть,
значит, я мыслю». И далее Руссо более щедро, нежели это
делали его предшественники, инструментирует свое «Я есть». В
нем содержится все, что относится к телесному, душевному и
духовному существованию: ощущение тела, восприятие
окружающего мира, сила воображения, воспоминание и, наконец, в
качестве одного из моментов, мышление и логически
регулируемое познание, и все связано с чувством собственного
достоинства.
65
Большую проницательность, с которой из тонких
хитросплетений мышления выводится, казалось бы, само собой
разумеющееся «Я есть», представляется возможным объясните,
если попытаться понять, откуда необходимо было пробиться
самосознанию и чувству собственного достоинства, когда они
родились в философии, и какими эйфорическими и
энтузиастическими чувствами сопровождалось это рождение. Ибо
редуцирующий эмпиризм и сенсуализм вплоть до материализма
направили мышление по пути, где человек включался в порядок
вещей, тогда как прежде человек виделся подогнанным к
заданному спиритуалистическом}^ порядку. Вещь ли среди вещей или
человек в заданном метафизическом порядке — в обоих
случаях доминирующей чертой выступал объективизм и
детерминизм, понимаемый в одном случае как духовный, а в другом как
материальный порядок. С Шефтсбери, Руссо и Гердером
удовольствие быть «Я» получило живое звучание. Конечно,
простое сложно, необходимо было преодолеть долгий путь, прежде
чем человек пришел к себе. Чтобы понять эйфорию прибытия,
надо представить себе характер предшествующей скрытости
«Я» от самого себя. Мышление, вера, восприятие были чем-то
лишенным субъекта, событием в материальном или объективно
духовном измерен ни. Мышление исчезало в придуманном,
ощущение в прочувствованном, воля в желаемом и вера в
поверенном. Фурия исчезновения заколдовала субъект в некое создание
и удерживала его там. Теперь, однако, «Я» становится
по-новому выделяющимся для самого себя. В чувстве собственного
достоинства оно слышит голоса природы и многозвучие
человеческого мира. Это «Я» открыло окрыляющую уверенность:
единство чувства собственного достоинства является для него
зеркалом единства мира.
Гердер к этому открытию самочувствоваиия добавил еще
измерение творческой деятельности. Именно поэтому он и
стал теоретическим вождем и великим вдохновителем Бури и
натиска. Подобно Шефтсбери и Руссо, он отрицает
картезианский рационализм и антропологию Просвещения, выступает
против принятого здесь разделения человеческого разума на
различные способности, против разделения души и тела,
чувства и воли.
Единство, которое пытался постичь Гердер, это единство
творческой основы во всех проявлениях жизни. Гердер, как
никто другой, обогатил познание жизни в области органического
66
и показал, что с помощью понятии механики невозможно
постичь внутреннюю телеологию органической субстанции. Гер-
дер поясняет вышесказанное образным выражением о
развитии из ростка, через цветок к плоду, аналогичным образом
понимая человеческую деятельность, восприятие и мышление.
Единство, как он его видит, осуществляется в динамике
создания. Все живое для него есть создание, и обнаруживаются в
нем исключительно индивидуальные ростки и силы. В
природе и мире людей нет ничего, что бы было подобно другому. Нет
ничего общего, только индивидуальное. Отсюда он выводит
свое хорошо известное этическое и эстетическое требование,
что каждый отдельный росток жизни должен иметь
возможность развиваться и выражать свою субъективную Правду в
творческой форме. Мир и природа, при таком взгляде,
превращаются в лабораторию индивидуальных творческих
экспериментов. Не «логос», а «поэзия» правит миром. Универсальное
проявление происходящего позволяет действительности
выступить также в качестве потока живого бытия, в центре
которого находится человек, этим потоком подхваченный, но
почти ничего об этом не знающий. Но может так оно и лучше, ведь
жизнь в своем бурлящем и нарастающем волнении есть что-то
чудовищное, слишком огромное для узкой комнаты сознания.
Гердер часто, как позже и Ницше, говорит о «бездне» живого,
в которую нельзя заглянуть, не потеряв рассудка. «Хорошо
также, что... глубочайшая пропасть нашей души покрыта
ночью! Наша бедная мыслительница была бы, конечно, не в
состоянии постичь в элементарных составных частях каждый
раздражитель, зерно каждого чувства: она была бы не в
состоянии слушать яростно шумящее мировое море темных волн, не
будучи охваченной боязнью и страхом, предчувствием ужаса и
робости и не выпустив руль из рук. Мать-природа удалила,
таким образом, от нее то, что не могло зависеть от ее чистого
сознания... она стоит над пропастью бесконечности и не знает,
что стоит там, благодаря этому счастливому неведению она
стоит прочно и уверенно».
Именно в таком состоянии и находился вопрос о
человеческом духе, когда Фридрих Шиллер познакомился с ним на
занятиях Абеля и в разговорах между воротами академии и
лекционным залом. Он действительно многое узнал; Абель, следуя
своим собственных симпатиям, познакомил Шиллера прежде
всего с английскими эмпириками (Гоббсом, Локком и Юмом),
67
не оставил без внимания и французских материалистов,
пользовавшихся вследствие своего атеизма недоброй славой в
Карлсшуле. В программу были включены также и философы
прекраснодушия, больших чувств и универсального
проявления происходящего: Шефтсбери, Руссо и Гердер.
Шиллер почувствовал напряжение между
противоположными направлениями мысли. Мысль в равной степени была
обращена и к разуму и к сердцу, не допуская возможности
сглаживания противоположностей. Это обнаруживается и в
медицинско-философских диссертациях Шиллера 1779 и 1780
годов. Мы находим здесь и то и другое: с одной стороны,
фактически материалистическое расчленение разума и попытку
удержать свободу и спонтанность в физиологическом
процессе, с другой стороны, энтузиазм сердца, для которого
благосклонность и любовь становятся космическими принципами.
Однако прежде чем мы займемся этим вопросом,
обратимся к еще одному философскому произведению,
порекомендованному ему Абелем. Шиллер часто читал и. изучал «Основы
моральной философии» Адама Фергюсона, впервые
появившиеся на немецком языке в 1775 году. В своих
воспоминаниях Абель сообщает, что он, Шиллер, обязан этом}'
произведению значительной частью своего раннего образования. Для
него было важно не только само произведение, но и подробное
послесловие, написанное к нему переводчиком Христианом
Гарве. Гарве — широко известный в свое время, но вскоре
позабытый представитель Просвещения, имевший особые
заслуги как переводчик и пропагандист английской и французской
популярной философии. Позже Шиллер будет говорить о нем
только с чувством глубокого уважения и пригласит его одним
из первых к сотрудничеству в «Орах». Рассматривайте
меня, — писал он ему 1 октября 1794 года, — в качестве старого
попутчика па пути к правде, па котором не найдешь
необходимой компании, и тем не менее часто так напрасно ищешь. Во
время литературной баталии в « Ксениях» Гарве, наряду с Лес-
сингом и Кантом, был одним из немногих, кого не коснулись
критика и сатира. Этой философской звезде своей молодости
Шиллер, узнав о потере им зрения, посвятил следующие
стихи: Слышу когда, благородный страдалец, твои о терпении
речи, / Сколь ненавистна тогда болтовня лицемерной толпы.
Произведение Фергюсона вместе с комментариями Гарве
68
вследствие частого прочтения так врезались в память
Шиллеру, что еще спустя годы он знал наизусть целые пассажи.
Адам Фергюсон принадлежал к так называемой
шотландской школе эмпириков, которые, воодушевленные Шефтсбе-
ри, обогатили концепцию первичного чувственного опыта
идеей «общего чувства», под которым понимались
проверенные общественной и повседневной жизнью интуиции
здорового человеческого разума. Это «common sense» призвано
было уменьшить преувеличенное, чисто теоретическое
сомнение в реальном содержании нашего опыта. Пока наши науч-
*-> О
ные выводы подтверждаются практикой, лежащий в их
основе опыт обладает достаточной очевидностью, которая не
должна быть разрушена искусственным скепсисом. Другим
очевидным в практике принципом являлась свобода. Может
быть, заявлял Томас Рейд, учитель Ферпосона, что свободу
воли нельзя продемонстрировать последовательно с помо-
^J
щыо аргументов, но в реальной жизни этого и не нужно для
того, чтобы быть уверенным, что мы в определенной степени
*w'
влияем на наши волевые решения и действия.
К подобным «очевидным истинам», которые не могут быть
обоснованы до конца, однако должны рассматриваться как
достоверные, относится и идея элементарного альтруизма Тезис
Гоббса об эгоизме как о единственном основном инстинкте
отклоняется. Существует, заявляет Фергюсон, еще целый ряд
иных инстинктов, среди которых крайне важен
«общественный инстинкт». Все инстинкты имеют двоякую связь. Они
соотносят индивида с самим собой, с его самосохранением, и они
же связывают его с обществом. Обе отсылки имеют одно и то
же происхождение. Фергюсон демонстрирует это на примере
самоуважения. В самоуважении индивид хотя и ссылается сам
на себя, однако потребность в нем он может ощутить лишь
постольку, поскольку существуют другие, которые удостаивают
его уважения или нет. Таким образом, человек познает себя как
отдельную личность и как общественное существо. Как
отдельная личность он хочет все вобрать в себя и подчинить себе. В
одиночестве своего эгоизма он «хищник», и тем не менее
одновременно с этим он «в высшей степени обществен и призван к
гражданской жизни». Из этой аксиомы «общественного
хищника» Фергюсон и развивает антропологию, балансирующую
между светлыми и темными тонами.
69
Фергюсон с провоцирующей ясностью подчеркивает
жестокие и эгоистические стороны человека, не теша себя
иллюзиями, обращается к рассмотрению вопроса об изначальном
неравенстве среди людей и вытекающей отсюда борьбе и ее
О
сдерживании, он не приукрашивает действительность, а
осмысляет ее эмпирически. И тем убедительнее действует он на
Фридриха Шиллера, давая возможность на заднем плане
темных сторон выдвинуться и светлым качествам человека:
доброжелательности, любви. Они заданы человеку по закону
природы, так же как и эгоистические инстинкты. И потому в вопросе
любви Фергюсон остается холодным и отстраненным, что
вполне естественно, когда речь идет о «законах». «Величайшее
благо, — пишет Фергюсон, — которое есть у людей, это любовь
к человеку. И как следствие этого закона: 1) Все лз^чшее в
обществе или в человеческом роде одновременно является
лучшим и в отдельно взятом человеке. 2) Счастье одного не может
в то же время быть ущербным для целого».
Эту здравую философию любви мы снова встретим в меди-
цинско-философской диссертации Шиллера, выдержанной,
однако, в энтузиастических тонах.
У Фергюсона любовь и доброжелательность есть чувство и
действие, выступающие как безусловно необходимые, если
никакие противодействующие причины, то есть другие
инстинкты или неблагоприятные обстоятельства, не оказываются
сильнее их. Это обозначает, однако, следующее: свобода не
является для Фергюсона специальной темой, что и осуждает в
своем послесловии Гарве. Это побуждает его высказать свои
мысли о проблеме свободы. Эти рассуждения произвели на
Шиллера глубокое впечатление и позже повлияли на его
собственную концепцию свободы.
Наша свобода, пишет Гарве, гю-своему «непостижима», так
как ведет в бездонность. Наше познание, однако, ищет основы.
Если познающий человек всмотрится в свои поступки, то
найдет в самом себе представления, которые мотивировали его к
определенному действию. Но эти представления развились в
нем не сами по себе: они были заданы ему внешними
раздражителями. Однако если действия обязательно связаны с
представлениями, а представления с раздражителями, где же здесь
свобода, спрашивает Гарве. Возникает такое впечатление, что
человек сам не является инициатором собственных поступков.
К такому выводу мы в любом случае приходим в ходе понятий-
70
ного познания. Но есть еще и «другое чувство», которое
говорит мне: «Я сам являюсь инициатором своих поступков: и я
добродетелен, поскольку являюсь инициатором того хорошего,
что я делаю. Но созидателем я являюсь только тогда, когда мой
поступок не зависит ни от чего, кроме меня; то есть даже от
моих собственных представлений, так как они, в конце концов,
сами зависят от вещей вне меня». Если я оглянусь назад, чтобы
понять причины моего поступка, то я нигде не найду свободы,
только причинность. Но если я посмотрю вперед и соберусь
что-то сделать, я не смогу не ощутить себя свободным. Свобо-
V
да ускользает от меня, когда я должен ее познать, и мне не уйти
от нее, когда я должен действовать. В действии мною может
руководить идея добродетели, но если позже я стану это
анализировать, то, наверное, замечу, что мое поведение определяли
совсем другие причины. Гарве формулирует это противоречие,
которое Кант назовет «противоречием свободы», следующим
образом: «Я не знаю, как мне быть свободным, но я знаю, как
мне быть совершенным».
Проблема свободы, противоречивый характер которой четко
разработал Гарве, уже больше никогда не оставит Шиллера.
Можно ли удержать свободу, которую ощущаешь, совершая
поступок, и должен решиться на идеал добродетельной жизни,
как бы он ни определялся. Можно ли удержать свободу,
которую чувствуешь в жизни, если решаешься заняться
совершенно другим, а именно познанием процессов, происходящих в
теле. Этот вопрос возник у юного Шиллера уже потому, что,
изучая медицину, которой он энергично и прилежно
занимался с 1 777 года, он не мог закрывать на это глаза. Эта учеба
навязывала ему физиологическое, соотнесенное с телесностью
мироощущение. Он не мог избежать медицинского
материализма, и его учитель философии Абель побудил его принять
это требование.
Часть ежегодного экзаменационного ритуала в то время
составляло публичное озвучивание и защита тезисов своих
профессоров избранными учениками. В конце 1776 года Шиллер
должен был защищать «Тезисы» Абеля, посвященные
рассмотрению проблемы свободы с соматической позиции. Одно из
утверждений Абеля гласило, что «все душевные силы, все идеи
и их разновидности зависят от тела», и подобная позиция
71
встречает такое сильное сопротивление «из-за некоего
панического страха перед материалистической теорией души».
Мы не знаем, как защитил тогда тезисы Абеля молодой
Шиллер, однако мы можем проследить, как три года спустя в
своей диссертации он сам подойдет к этой проблеме. Здесь
Шиллер попытается предпринять осторожную попытку
отыскать свободу в физиологическом процессе. Защищая свободу,
он делает это не с помощью метафизических спекуляций, а
через наблюдения, настолько сильно распространилось влияние
Абеля. Эмпирически-антропологическое обучение приносит
свои плоды. И в вопросах души Шиллер разбирается методом
холодного наблюдения. Конечно, для него важны также
выражение, душевное излияние, энтузиазм, восхищение, и он не
хочет отказываться от них уже только потому, что они
способствуют риторическому подъему поэтического слова. Но восторг
выражения не должен отнимать силы для аналитической
дистанции. Душа может проявлять себя, но она не должна
пугаться «науки об эмпирической душе» — термин, взятый Абелем у
Карла Филиппа Морица. Шиллер, который должен овладеть
умением вскрывать трупы, превращается в отношении души во
вскрывающего и экспериментирующего психолога. Его работа
над «Разбойниками», которую он начал в 1777 году, имела
своим назначением такую разведку души.
Для Шиллера-медика сочинение теперь уже не только
выражение и риторический жест, он хочет испытать себя в
качестве проницательного знатока души, который берет на себя
труд, застать душу, так сказать, при самых потаённых
операциях (I, 484). Может быть — и такой вывод напрашивается у
студента-медика, — эти самые потаенные операции
простираются глубже в царство теней человеческого тела, чем это может
понравиться гордой душе, кичащейся своей независимостью.
Не поэтому ли Франц Моор злодей, что чувствует себя
загнанным в жалкое тело, не потому ли он мстит за себя, словно под
давлением, всему роду человеческому, что природа была к
нему так немилостива? Шиллер упражняется здесь в
использовании литературной формы в качестве экспериментального
устройства, чтобы узнать, каким образом человеческая судьба
формирует душу и, наоборот, насколько душа может управлять
телом. Действительно ли, как говорит его Франц Моор, человек
возникает из грязи, шлепает некоторое время по грязи, порож-
72
дает грязь, в грязь превращается, пока, наконец, грязью не
налипнет на подошвы своих правнуков (I, 577)?
Примерно в то же время, когда были написаны эти слова,
Шиллер составлял отчет о вскрытии трупа, где значилось:
Когда вскрыли грудь, оттуда вытекло большое количество огненно-
желтой сыворотки... Грыжейка содержала огненно-желтую
вязкость. Печень в нижней части была черно-синей. Вверху
окрашена под синий и красный мрамор... Околосердечная сумка
едва была вскрыта, как оттуда вытекло огромное количество
сыворотки... На верхней половине левого легкого находилось что-
то гноевидное (V, 241).
Протокол заканчивался словами: Вскрытие головы не
производилось.
В своих диссертациях, рассматривающих проблему души и
тела, он попытается произвести вскрытие головы
аналитическим инструментом, чтобы узнать, не здесь ли все же
обнаруживается резиденция суверена. Вначале это был
философствующий студент-медик, приближающийся к «аудиенц-залу духа».
ПЯТАЯ ГЛАВА
Решение заняться медициной. О приграничной связи между телом
и духом. Диссертации Шиллера. Космический мандат любви.
«Великая цепь существ». Таинственный переход из материи в дух.
Нейрофизиологические лабиринты. Насколько свободен
человеческий мозг? Спасительный свет внимания.
Мрачное настроение. История с Траммоном.
Штрайхер встречается с Шиллером
Осенью 1777 года Шиллер решает наконец-то всерьез
заняться изучением медицины. В первые годы своей учебы в Карл-
сшуле он все еще роптал на судьбу, которая навязала ему
ненавистное юридическое образование, ведь сам он хотел стать
священником. Утешение он нашел в литературе, позже
пробудилась его страсть к философии. Произошедшая смена курса в
сторону медицины соответствовала этим интересам до тех пор,
*J
пока речь шла не столько о практической медицине, сколько о
теоретических основах, в рамках которых можно было
пофилософствовать о «природе» человека Тем не менее осенью
1777 года Шиллер впервые в качестве своего
профессионального будущего избирает профессию лекаря; с решительностью,
которая изумила его товарищей по учебе, он посвящает себя
почти исключительно медицине. Своей решимостью он
заражал и других, Шиллеру удалось увлечь за собой своего друга
Ховена, который позже вспоминал в своих мемуарах, как они
оба, прежде обменивавшиеся собственными сочинениями, ото-
If
двинули теперь на задний план все, что отвлекало их от
подготовки к избранной специальности. О том же сообщает и Анд-
реас Штрайхер: «Несмотря на огромные усилия, которых это
стоило ему в самом начале, он не отступал от своего намерения
и изучал труды по медицине с непрерывным усердием... Это
чрезвычайное напряжение, при котором он отказывал себе в
ничтожно малых удовольствиях, даже в ободряющей беседе,
хотя и сказалось негативно на его здоровье, познакомило его с
наукой, и он мог с большой легкостью перейти к ее
применению как в различных областях знаний, так и в области
медицины» .
Это вновь появившееся усердие в учебе, о котором
сообщали Ховен и Штрайхер, все же оставляло Шиллеру время еще
74
и для воплощения некоторых литературных проектов. Он
планировал написать рыцарскую пьесу о Шертлине фон Буртен-
бахе наподобие гётевского «Гёца», писал стихи для журнала
«Швэбише магацин», издаваемого его учителем поэтики Баль-
тазаром Хаугом и, прежде всего, продолжал писать своих
«Разбойников». И все же в самоощущении Шиллера происходит
смещение внутренних ориентиров, он хочет сделать паузу, но
больше всего он желает доказать себе и друзьям, что может
добиться успехов в области медицины.
Медицина в то время была тесно связана с философией, ее
развитию способствовала господствующая тогда
просветительская и эмпирическая направленность мышления. В ходе своих
поисков телесного в духовном философы пересекались с
медиками, стремившимися, напротив, отыскать духовное в
человеческом теле. Таким образом, на участке между телом и духом
движение осуществлялось в обоих направлениях, хотя великий
врач и естествоиспытатель Бёрхаве, ставший образцом для
целого поколения врачей в Европе, собеседник таких известных
философов, как Вольтер и Ламетри, предостерегал медиков от
отклонений в сторону философии: «Исследование предельно
метафизических и первичных физических причин является
для врача не только ненужным и бесполезным, но
и'невозможным». Однако именно это честолюбивое желание соединить
физическое с метафизическим и будоражило тогда
выдающихся врачей.
Среди врачей, придерживавшихся мнения о том, что
приблизиться к тайнам духовного можно лишь через познание
телесного, были такие широко известные «философствующие
доктора», как Альбрехт фон Галлер, Иоганн Георг Циммерман
и Эрнст Платнер. С другой стороны, и философы, такие, как
Дидро, недвусмысленно заявляли, что «без анатомии и
физиологии с трудом можно заниматься полноценной метафизикой
и моралью». В своих воспоминаниях Гёте писал, «природа»
сделалась в то время «всеобщим лозунгом», на котором в
первую очередь настаивали врачи. Так как Бёрхаве и Галлер
своими анатомическими и физиологическими открытиями
относительно влияния телесных соков и нервов на процессы в
области духовного и душевного совершили «невероятное», то
вполне оправдано было «требовать от их учеников и
последователей еще большего». Повсюду царила эйфория и вера в то,
что наконец-то будет открыта связь между человеческим телом
75
и духом и что «путь проложен». Однако эти ожидания,
продолжает Гёте, не оправдались: «...как вода, вытесненная кораблем,
тотчас же смыкается за его кормой, так и заблуждения, на
время оттесненные великими мыслителями, искавшими
необходимое поле деятельности, вновь естественно и быстро
сомкнутся за ними». Гёте не делал тайны из того, что приверженцы
нервной теории вызывают у него раздражение, точно так же,
\J
как и не скрывал своего невысокого мнения о «машинной
сущности» нового учения о теле. Эту «машинную сущность»
человеческого тела защищал Бёрхаве, но кроме всего прочего он
был врачом от Бога. Он успешно лечил людей, и своими
успехами в медицине он вовсе ие был обязан разработанным им
теориям. На его примере видно, что лечебная практика и
медицинская теория в конечном счете представляли собой две
отдельные области. Школе Бёрхаве, основанной на физически-
материалистическом детерминизме, противостояли
последователи Георга Эрнста Шталя, доктора из Галле, представлявше-
KJ
го анимистическую концепцию, в соответствии с которой душа
управляет телом, и, исходя их этого, в большинстве случаев
соматические заболевания следует объяснять исходя из
психических первопричин.
Учителя медицины Шиллера из Карлсшуле склонялись к
материалистической точке зрения. Анимизм Шталя был для
них слишком спекулятивным. Наиболее выдающимся среди
учителей-медиков был Иоганн Фридрих Консбрух. В
процессе обучения он знакомил своих студентов с новой
нейрофизиологией Альбрехта фон Галлера и Иоганна Готфрида Бренделя.
В отличие от теории соков Бёрхаве эта теория носила более
мягкий, деликатный характер. Нервные процессы были
настолько сложны, что могли были быть локализованы на
границе между материальным и нематериальным. Нервы
рассматривались в качестве материальной души. Когда Альбрехту фон
Галлеру удалось измерить нервную возбудимость в отдельно
взятых частях тела, то казалось, что и материальное и душев-
Ч-f
иое связующее звено между телом и духом наконец-то
найдено. Подобно тому как в свое время искали философский ка-
t_f
мень, теперь хотелось наши то, что на самом деле, а не только
метафорично удерживает вместе тело и дух. А в том, что
взаимодействие существует, ие было никакого сомнения. Хотелось,
однако, узнать, через какие промежуточные звенья
осуществляется это взаимодействие и что именно представляет собой
76
переход из материальной реальности в духовную. Лейбниц
учил, что природа не делает никаких скачков, и потому
необходимо было найти что-то, что бы делало возможным плавный
переход между телом и душой, то есть без прыжков и
разрывов. Нейрофизиологи первого поколения, хоть и не
осознавали себя «философствующими» врачами, были убеждены в том,
что впервые разрабатывают данную область строго с научной
точки зрения, а не как философы, спекулятивно. Там, где
была философия, должна была появиться нейрофизиология. Из
названий сочинений Консбруха, опубликованных во время
учебы Шиллера, явственно следует уверенное осознание себя
в качестве соматолога души: «О влиянии телесного здоровья
на душевные силы»; «О зависимости памяти от общего
состояния организма»; «О влиянии организации головного мозга на
гениальность»; «О влиянии физического воспитания на
формирование душевных сил».
В своей диссертации «Философия физиологии»,
представленной в октябре 1779 года, Шиллер предпринимает попытку
подключиться к продолжающимся поискам связи между телом
и душой. Написана работа была преимущественно в гордом,
самоуверенном тоне и переполнена бурной риторикой. Рецензен-
*J
там она показалась слишком риторической и слишком
самоуверенной. Они не простили студенту насмешливые замечания
в адрес признанных авторитетов в своей области знаний. Так,
в той части диссертации, где Шиллер обращается к вопросу о
нервах, он пишет следующее: Я ступаю на поле, по которому
уже сильно потоптался не один медицинский и метафизический
Дон Кихот и до сих пор еще топчется (V, 255).
Непосредственно о Галлере сказано следующее: Но я не могу понять, как
может Галлер парить так поверхностно (V, 265). Наиболее
жестко он обходится с Чарльзом Бонне, именно с тем ученым,
который стимулировал его к созданию собственной теории
внимания, о чем пойдет речь несколько позже. Шиллер пишет:
С непростительной легкостью уходит французский обманщик
от наиболее сложных вопросов, берет за основу вещи, которые
сам никогда не сможет доказать, делает из этого выводы, на
которые не отважится ни один человек за исключением
француза. Возможно, его теории и нравятся на родине, однако
тяжелый на подъем немец приходит в негодование, когда, сдув
золотую пыль, не видит под ней ничего, кроме воздуха (V, 262).
77
Рецензенты Клейн, Ройс и Консбрух отклонили
диссертацию. Клейн, практик без теоретических амбиций, отозвался о
работе следующим образом: «Я дважды прочел это
пространное и утомительное сочинение, но так и не разгадал замысел,
автора. Его несколько гордый дух, которому присуща симпа-
t_f
тия к новым теориями и опасная склонность к всезнайству,
блуждает в таких темных ученых дебрях, следовать за ним в
которых я никогда не отважусь». Сказано это было не без
иронии, так как «темными учеными дебрями» он намекает на то
место, в котором Шиллер говорит о внутренних лабиринтах
моего собственного существа (V, 252), и о том, что он
отважится на вмешательство в их психологию только там, где этого
будет непременно требовать цепь целого. Шиллер отважится
продвинуться далеко в глубь лабиринта, слишком далеко, по
мнению его критиков. Консбрух, в свою очередь, порицает
Шиллера за слишком образный язык, неподобающее
отношение к признанным научным теориям и остроумные выпады,
неуместные в научном труде.
Вследствие отклонения этой диссертации Шиллер
вынужден был остаться в Карлсшуле еще на один год. В своей
резолюции касательно этого вопроса герцог пишет следующее:
«Думаю, что будет очень хорошо продержать Шиллера еще год
в академии, чтобы жар его поостыл. Если он будет так же
прилежен, из него еще может выйти великий человек» (т.5, с.713).
Правда, эта негативная рецензия была использована
герцогом лишь в качестве предлога, так как к тому времени
выяснилось, что для выпускников-медиков не могло быть найдено
достаточного количества рабочих мест, и, в конце концов, даже
те, кто успешно защитил свои диссертации, вынуждены были
остаться в академии. Что же в действительности думал герцог
о работе Шиллера, нашло свое выражение в его замечании
ганноверскому послу; передавая ему эту работу для прочтения,
герцог отметил, что тот «почувствует необыкновенную
гениальность молодого человека».
Год спустя Шиллер предоставил второе, написанное на
латыни, сочинение: «De discrimine febrium inflammatoriarum et
putridarum» («О различии между лихорадками
воспалительными и гнилостными»). Но и она была отклонена из-за ряда
недостатков, связанных с предметом. И лишь его третья
работа «Опыт исследования вопроса о связи животной и духовной
78
природы человека», написанная спустя несколько недель,
была наконец-то принята рецензентами.
В этой своей третьей работе Шиллер возвращается к теме
первой диссертации, акцентируя при этом философские
аспекты даже еще в большей степени. И тем поразительнее, что она
все же была принята. Шиллер использует это в качестве
повода для выражения отдельной благодарности герцогу: Врач,
горизонт которого ограничивается исключительно историческим
знанием машины, знанием, которому грубые колеса наделённого
душой часового механизма доступны лишь с точки зрения
терминологии и места их расположения, возможно, и сможет
совершить чудо перед постелью больного и будет обожествлен
чернью; — но Ваша герцогская светлость вознесла искусство
Гиппократа из узких сфер механического занятия ради куска
хлеба в ранг философского учения (V, 288).
И действительно, «философствующий врач» Шиллер не
будет творить чудес у постели больных. В свое время, в
качестве полкового врача, он пользовался чуть ли не дурной
славой из-за своих кардинальных рецептов. Все предписания
Шиллера перепроверялись в обязательном порядке другим
врачом, стоявшем выше по званию, с целью пощадить жизнь и
здоровье пациентов. Один из вышестоящих докторов был
настолько любезен, что тайком изменял лечение, предписанное
Шиллером, чтобы уберечь полкового лекаря, голова которого
была забита другими вещами, от постыдного разоблачения.
О диссертации Шиллера можно сказать словами,
сформулированными им позднее в письме к Фихте: Произведения, чья
ценность вытекает лишь из следствий, которые они могут
нести за собой для разума.., они становятся все же совершенно
бесцельными... стоит разуму к ним охладеть или найти более
легкий путь к тем же выводам; напротив того, произведения,
оказывающие воздействие независимо от своего логического
содержания и носящие живую печать индивидуальности,
бесцельными стать не могут и всегда будут заключать в себе
неистребимый жизненный принцип именно потому, что
каждая индивидуальность единственна, а стало быть,
незаменима (4 августа 1795 года) (т.7, с. 343).
И первая и третья диссертации пробуждают интерес к
личности, которая проступает здесь сквозь сухое содержание. Для
понимания философского содержания диссертаций важно еще
одно более позднее замечание Шиллера. 15 апреля 1788 года,
79
вспоминая о своих медико-философских увлечениях, он
напишет Кернеру: Из философских сочинений... я взял только то,
что позволяет чувствовать и обрабатывать материал
поэтически. А потому эта материя, самая благодатная для шутки и
фантазии, опала вскоре моим излюбленный предметом.
Из первой диссертации «Философия физиологии» сохра-
V *->
нилась лишь первая глава, переписанная неизвестной рукой и
найденная в наследии друга юности Конца. В общей
сложности работа состояла из пяти глав, а ее структура говорит о том,
что молодой Шиллер отважился представить в своем
сочинении полное антропологическое исследование. Первая и
единственно сохранившаяся глава называлась «Духовная жизнь»,
вслед за ней помещались главы «Кормящая жизнь»,
«Размножение», «Взаимосвязь этих трех систем» и, наконец, «Сон и
естественная смерть», В подобном построении работы можно
заметить следы прочтения трудов Фергюсона, аналогичным
образом тот подразделял основные функции человеческой
природы на питание, размножение и сон, составляющие
животные функции человека и соединявшиеся, в свою очередь, с
душевно-духовными «влечениями». Свое изображение человека
Фергюсон начал «снизу», то есть с животного. Шиллер
чинает «сверху», с духовной жизни.
Первая глава занимается рассмотрением вопроса* каким
образом из физических раздражителей возникает феномен
действительности сознания? Шиллер предпринимает попытку
проанализировать процессы, происходящие в ходе превращения
физиологического в психическое. Но специальному
исследованию, опирающемуся на нейрофизиологию того времени,
предшествует большое теоретическое представление. Шиллер
выводит на сцену идеи, которые в данном контексге неизбежно
затрагивают проблему возвышенного: смелыми штрихами и с
энтузиазмом он развивает целую философию любви как
космического принципа. Для чего?
Подобно поэтам, взывавшим к музе в начале своего
произведения, Шиллер, прежде чем ступить в лабиринт физиологии
человеческого тела, обращается с заклинанием к философии
любви, что должна вести его вперед, дабы, будучи покинутым
всеми добрыми духами, не очутиться в конце пути перед
физическим материализмом, как это произошло с его Францем
Моором, для которого человеческая жизнь не что иное, как
грязь (т.1, С.455). Шиллер использует свою философию любви,
80
чтобы противостоять нигилизму, грозящему со стороны
грубого материализма человеческого тела. Мы еще увидим,
насколько сильно ощущал Шиллер эту угрозу со стороны
материалистического цинизма врачей. Философия любви носит здесь
черты самоопределения, даже самовнушения, и направлена в
том числе и против собственного искушения материализмом.
Мы еще поговорим об истории этого искушения, она оставила
заметный след в теоретических и поэтических произведениях
писателя. Этой философии любви, используя ее в качестве
амулета против нигилистического материализма, Шиллер
будет придерживаться вплоть до восьмидесятых годов, когда,
находясь в состоянии эйфории от дружбы с Кернером, напишет
Обнимитесь, миллионы! / Слейтесь в радости одной! (т.1,
с. 149). Пока лее философия любви играет важную роль в
диссертациях Шиллера, в его торжественной речи о
«Добродетели», прщ/роченной ко дню рождения графини фон Хоэнхайм,
в январе 1780 года, в опубликованных в 1782 году
стихотворениях к «Лауре», в возникшей в том же году «Теософии Юлия»,
появившейся в 1786 году в «Философских письмах»; она вновь
возвращается в философских разговорах романа «Духовидец».
И лишь в начале девяностых годов под влиянием трудов
Канта философия любви постепенно блекнет. С этого времени мы
U
встречаем лишь элегические воспоминания о той поре, когда в
К?
решении онтологических вопросов на помощь еще мог прийти
поцелуй. Любовь теряет свой космический мандат и, будучи
все еще облагораживаемой философией, выступает лишь в
качестве полезной в жизни энтузиастической фикции. Говоря
иначе: от онтологии любви Шиллер переходит, в конце концов,
к как-бы-фшюсофии любви.
Первая диссертация начинается с обращения к любви как
к космической силе. Это обращение, с одной стороны, явилось
своего рода признанием собственного высоко
индивидуального мировоззрения, которое сформировалось у Шиллера под
влиянием трудов Шефтсбери и Гердсра, с другой стороны,
обращение к любви выполняет в его научной аргументации три
конкретные функции.
Любовь, во-первых, вводит принцип одухотворения в
механизм физического мира.
Во-вторых, «любовь» является именно тем принципом,
который делает возможным плавный переход между материей и
духом. Так как разрыв (V, 253) здесь невозможен, то необходи-
81
мо найти что-то, что сделает возможным постепенное
превращение одного в другое. «Любовь» и является принципом
этого перехода.
И в-третьих, «любовь» выступает в качестве принципа
правдоподобия. Она преодолевает дуализм познающей и
познаваемой действительности. «Любовь» выступает своего рода
гарантом того, что действительность, которую мы познаем, на
самом деле существует. Таким образом, любовь, прекраснейший,
благороднейший порыв человеческой души, длинная цепь
чувствующей природы, есть lie что иное, как смешение моего Я с Я
близкого мне человека (V, 251), но кроме этого еще и с
сущностью всей природы, стоит здесь добавить. Мы можем какое-то
время заблуждаться в частностях, но это нисколько не меняет
того, что в принципе мы достаточно открыты миру, для того
чтобы соответствовать истинной сута этого мира. Познающий
превращается в познаваемое. Познание в конечном счете есть
любовь, и, поскольку мы любим, мы способны к познанию
истины.
Неоднократно в особо значимых местах Шиллер
использует образ, звучащий своего рода лейтмотивом для понимания
его философии любви: великая цепь чувствующих существ',
своего рода метафора для всеобщей связи в природе, метафо-
\J
pa, гарантирующая связность всей аргументации, но прежде
всего это та метафора, что предоставляла в распоряжение
Шиллера целую философскую традицию. Артур О. Ловайе
рассказал историю этой метафоры и показал при этом, какое
сильное влияние оказала она на западноевропейское
мышление, от Платона до романтизма и эволюционных теорий XIX
века, в особенности же на философию оптимистически
настроенного Просвещения XVIII века Вольтер писал, как сильно
очаровал его этот образ: «Когда я впервые прочитал Платона и
наткнулся на мысль о цепи существ, что начинается с
мельчайшего атома и заканчивается высокоразвитым существом, меня
охватило восхищение». Но спустя некоторое время ему
пришлось пережить то же разочарование, что и Шиллеру:
действие колдовских чар длилось недолго. «Когда, однако, я
присмотрелся поближе, — продолжает Вольтер, — прекрасный мираж
исчез, как когда-то вместе с петушиным криком исчезали и все
ночные привидения».
Образ «великой цепи» включает в себя, со времен
платоновского «Тимея», представление о мире, возникающем из бо-
82
жественной избыточности. Этот мир не был создан наподобие
того, как творит ремесленник, а представляет собой эманацию
божественного изобилия. Бог есть не покоящийся в самом
себе, самодостаточный абсолют, а является бурлящим, миротво-
рящим, творческим принципом; мир рассматривается как
божественный дар и самоотдача. «Великая цепь» убывает сверху
вниз и поднимается снизу вверх, и то и другое имеет место:
спуск и подъем, существа обладают склонностью и к свету, и к
тени, и к бодрствованию, и ко сну.
«Великая цепь» позволяет представить себе мир, в котором
огромное разнообразие переживается не в качестве угрозы, а
скорее в качестве полноты. Существует столько различий,
сколько есть живых существ, но нет ни одного отличия, что
непреодолимо отделяло бы одно существо от другого. Это
единство многообразия человек не только переживает, но и
познает. Каждое существо имеет свое место в «цепи существ»,
человек же знает свое место и обозревает всю цепь. В этом
знании он и обнаруживает принцип своего
самосовершенствования. Ведь совершенство в данной ситуации означает отражение
в себе всей полноты мира. Человек в «великой цепи» является
тем существом, которому дано прозреть и в котором эта
полнота может проявить себя в «вечной красоте» (Гёте, Фауст И).
Образ «великой цепи» обозначает, таким образом,
освящение этого мира, и, следовательно, бегство в потусторонний мир
не поощряется, мышление и восприятие остаются
эмпирическими, но не лишенными иллюзий, а, наоборот, упоенными
радостью. Появляется понимание полноты и разнообразия,
движимое, однако, чувством великого всеединства; познание
возводится в ранг акта любви и освобождается от сомнений в
том, что в мире собственного воображения можно было бы,
словно в тюрьме, оказаться отрезанным от истинной природы.
Представления о «великой цепи» Шиллер находит у
Шефтсбери, Лейбница и, прежде всего, у Фергюсона.
Расценивая познание взаимосвязи великой цепи в качестве высшего
счастья, Шиллер ссылается именно на Фергюсона, называя его
мудрецом этого столетия (V, 250).
Любовь выступает для Шиллера гарантом связи в великой
цепи существ. В первой диссертации Шиллера содержатся
лишь намеки на образ «великой цепи», более подробно он
будет разработан в его речи о «Добродетели» в 1780 году и,
прежде всего, в «Теософии Юлиуса». В диссертации, в частности,
83
говорилось: Прекрасный мудрый закон... соединил
совершенство целого со счастьем единичного, человека с человеком, людей с
животными с помощью всеобщей любви (V, 251). В речи
«Добродетель, рассмотренная в ее последствиях» этот мудрый закон
рассматривается в качестве духовного аналога закона Ньютона
о гравитации: Если бы вдруг любовь умерла при сотворении... то
как скоро была бы разорвана связь существ, как долго бушевало
бы бесконечное царство духа, охваченное анархическим
волнением, когда рушатся все основы чувственного мира, когда ход
природы замирает навсегда и когда отменяется великий закон
притяжения (V, 283).
Любовь, представляющая собой своего рода духовную
гравитацию, обеспечивает связь существ друг с другом, связь
элементов при избирательном сродстве, при химических
реакциях и соединениях, при обмене веществ, при построении
органических структур, которые кормятся и развиваются,
интегрируя другие организмы. То, что можно было бы обозначить
понятиями «поедать» и «быть съеденным», с точки зрения
любви превращается в отдачу и приобретение, в смешение
существ (V, 348), как это названо в «Теософии». В этом
сочинении принцип любви возведен в апогее энтузиазма до мысли,
высказанной с благоговейной дрожью, — могу ли я это
произнести? — что любовь между людьми приводит к тому, что мы
можем создать Бога (V, 353). И эта богохульная с точки
зрения христианства идея относится к представлениям о
«великой цепи». Ибо, что значит, Бог из любви породил цепь
существ и как следствие этого любовь должна распространяться
в ней? Это значит, что Бог не мог довольствоваться самим
собой, что он должен был выйти из себя самого и что он стал
самим собой лишь в полноте мира. Потусторонний Бог,
покоящийся в самом себе, при таком видении не предусмотрен. Его
нет. Единственное, что существует, это божественность всей
полноты мира, собранной воедино в познающей любви и
втянутой в творческий процесс действенной любовью. То есть нет
ничего, кроме природы, и она есть бесконечно делимый Бог (V,
352). Пережить любовь духовно и на собственном теле и
вознести ее до руководящего поступками сознания, значит
породить того Бога, что действует между людьми, а также между
человеком и природой в качестве объединяющей силы. А это
значит: создать Бога. Настоящий атеизм в таком случае есть не
отрицание потустороннего Бога, а закостенелый эгоизм, кото-
84
рый разрывает «цепь существ», нуждается лишь в себе и
утверждает лишь себя. Дух, любящий лишь себя, есть атом,
парящий в бесконечно пустом пространстве (V, 351). Это было
сказано о эгоистическом индивидууме, но вполне справедливо
и в отношении потустороннего Бога. Подобно человеку
сначала Бог должен прийти в мир, чтобы в любви познать самого
себя, то есть божественное: Был Господь без друга и, тучам, /
Создал тварей, чья душа живая... Дабы тот, кто всех нас
совершенней, / Видел в совокупности творений /
Беспредельность лика своего (т.1, с. 131). Это стихотворение из
«Философских писем» оказало такое сильное впечатление на Гегеля, что
он процитировал его в качестве квинтэссенции в конце своей
«Феноменологии духа».
Философия любви Шиллера не перемещается в
воображаемый потусторонний мир, она имманентно направлена, эта
философия не желает быть спекулятивной, напротив того, она
стремится к эмпиризму. Ведь речь идет о любви, переживаемой
каждым из нас. В нее не надо верить, ее не надо выдумывать.
Она есть ощущаемая сила живого человека и живой взаимо-
связи. Она проявляет себя в земной жизни. Вера в
потустороннее воздаяние в «Теософии» категорически отвергается: она
есть не что иное, как замаскированное религией своекорыстие
(V, 350), отзывающееся лишь на поощрение и наказание.
Между тем как поощрение заключено в самой любви, она не
нуждается в воздаянии потустороннего мира. То же самое
касается и вопроса о человеческом бессмертии, имеющем значение
лишь для эгоизма. Любящая душа не стремится во что бы то
ни стало к продлению собственного существования, она
мечтает о продолжении космического процесса любви, в котором
сама участвует до тех пор, пока может принимать в нем
участие. И бессмертной надлежит быть не отдельно взятой душе, а
любви.
Однако вернемся к первой диссертации Шиллера, в
которой хотя еще и не были затронуты все регистры философии
любви, однако уже было намечено так много, что этого
хватило бы для философского исследования. При этом речь идет об
уже упомянутых трех аспектах, в рамках которых философия
любви обосновывает и ориентирует философское
исследование: любовь вводит принцип одушевления в механизм
физического мира. Она делает возможным переход из материи в дух.
I
И она же обеспечивает правдоподобие, поскольку
рассматривает познание в качестве любовного акта.
Однако в тот момент, когда Шиллер покидает космическую
сцену любви и начинает заниматься конкретным
физиологическим исследованием связи духовных и материальных
процессов, выясняется, что философия любви лишь распространяет
дух единства, не способствуя, однако, действительному
пониманию перехода из области материального в область
духовного. Вдруг оказывается, что фраза «В природе нет скачков»
становится пустой отговоркой. Именно здесь и существует
трещина, а может, и целая пропасть между духом и материей,
которую предыдущие теории миновали благодаря тому, что
уничтожали один из полюсов — либо дух, либо материю. У
материалистов речь идет о мыслящей материи, и тем самым они
избавляются от духа; анимисты же заявляют о
самоматериализующемся духе и тем самым изгоняют материю.
Здесь Шиллер сталкивается с проблемой, решение которой
не найдено и по сей день. За прошедшее время были сделаны
успехи б изучении нейрофизиологических процессов; изучены
схемы соединений и системы объединения в цепь, была
обнаружена связь между разными отделами головного мозга, но до
сих пор остается загадкой, как поддающийся измерению
материальный процесс может переживаться в совершенно ином
измерении как «сознание». Мною переживаются не какие-то
переключения и нейронные процессы, а сознание. Несомненно,
для каждого духовного процесса имеется свой материальный
аналог; пока я думаю, какой-то физиологический процесс
постоянно происходит в моем мозгу. Но переживаемое
мышление и восприятие есть не что иное, как то, что проявляется с
точки зрения нейрофизиологической перспективы. Нельзя
также и утверждать, что нейрофизиологические процессы
являются причиной мышления и восприятия. Поступить так,
значило бы неверно использовать принцип причинности. Оба
процесса, процесс сознания и физиологический процесс,
выступают скорее в качестве двух сторон одной и той же медали.
Одно и то же с «лицевой стороны» выглядит как сознание, а с
«обратной стороны» принимает вид физиологического
процесса, который спереди может быть осмыслен опять-таки через
сознание. Физиология, претендующая на разгадку секрета
сознания, на самом деле не более чем его черновой набросок. Связь,
существующая между лицевой и оборотной сторонами, не яв-
86
ляется причинно-следственной связью, скорее следует
согласиться со Спинозой: у одного и того же явления есть две
стороны: «орел» и «решка» не выступают по отношению друг к
другу в качестве причины и следствия. Конечно, не все, что
происходит в мозгу, представлено в сознании. Но проблема не
в этом, тайна сокрыта в смене измерений, когда
физиологический процесс переживается в качестве сознания. Эта смена
измерений остается неясной в концепции причинной связи.
Первоначально вслед за физиологией и теорией нервной
системы своего времени Шиллер рассматривает концепцию
причинных связей, вследствие чего между материей и духом он
вынужден поместить некую посредствующую силу. Он пишет:
Должна существовать некая сила, находящаяся между духом и
материей и соединяющая их (V, 253). В качестве такой
посредствующей силы для него выступает некая субстанция в
проводящих путях спинного и головного мозга, выполняющая роль
посредника между периферическими участками органов
чувств (ухом, глазом, кожей, носом), то есть теми участками, в
которых происходит восприятие раздражителей, и головным
мозгом, где они обрабатываются пока наконец не предстанут
в виде феномена сознания. Эту субстанцию он называет
нервным духом. Является ли этот нервный дух еще чем-то
материальным или уже превратился в нечто духовное? Если он
представляет собой нечто материальное, то можно было бы сказать,
что мы не продвинулись ни на шаг вперед при переходе от
материального к духовному. В этом случае можно было бы
скорее вести речь об открытии еще одного материального
элемента и об отдалении тем самым границы материального. И
наоборот, если этот нервный дух уже является чем-то
духовным, то речь идет об обнаружении еще одного духовного
элемента и о смещении границы духовного. На самой же
пограничной территории между этими двумя измерениями ничего
не изменилось, соединение, переход так и не был достигнут. То
есть, поясняет Шиллер, нервный дух должен быть и тем и
другим: одновременно и чем-то материальным, и чем-то
духовным. Однако при такой сомнительной посредствующей силе
вновь возникает проблема, которая должна быть решена
собственно с помощью этой же посредствующей силы. Шиллер сам
замечает, что со своей гипотизой о посредствующей силе он не
продвигается вперед. Он пишет, возможно ли вообще
представить себе такую посредствующую силу, которая является от-
87
I
части духовной, а отчасти материальной, и отвечает: Конечно
нет! (V, 253) И хотя ее нельзя себе представить, но она
должна существовать, ибо, с одной стороны, вполне очевидно, что
между материей и духом существует связь, с другой же
стороны, непроницаемая материя и проницаемый дух не могут
непосредственно воздействовать друг на друга, между ними
должно находиться еще нечто. Шиллер решительно заявляет:
такая посредствующая сила должна существовать, ведь опыт
доказывает ее существование — как же может теория
отвергнуть ее? (V, 254). Но в чем должна посредничать такая сила,
которая не выполняет того, что обещает? Она не может быть
посредником ни в чем, так как не принадлежит ни к материи,
ни к духу, а значит, и к области между ними, к области,
которую, по признанию Шиллера, нельзя даже себе представить.
И неудивительно, что рецензенты отвергли эту гипотезу
Шиллера о посредствующей силе. Консбрух видел недостаток
работы в том, что Шиллер слишком много размышляет о
попытке представить невозможное, слишком много
философствует, и было бы лучше, пишет он, если бы Шиллер
ограничился в большей степени эмпирическим. Так как существование
посредствующей силы не может быть доказано, следовательно,
стоит выбрать иные пути, чтобы понять взаимодействие
между духом и материей, телом и душой.
Шиллер, однако, остановился на посредствующей силе,
ведь его философия любви требовала, чтобы между духом и
материей существовал некий континуум. Идея о плавном
переходе ведет к построению промежуточных звеньев.
Отсутствие одного из таких звеньев означало бы разрыв между миром
и духом (V, 253), а этого быть не должно.
Пытаясь устранить этот разрыв в одном месте, Шиллер
совершает его в другом. И здесь он сталкивается с проблемой,
которая до сих пор остается нерешенной. Шиллер формулирует
ее в одном веском предложении: Вечный закон сделал,
изменение нервного духа символом измененных сил (V, 256).
Это значит: внешние раздражители являются причиной
изменений в нервной субстанции, это изменение
воспринимается и «читается» некой инстанцией, вероятно в головном мозге,
как знак, и на его основании делаются выводы о том, что он
обозначает, то есть о событиях внешнего мира. Знак не
включает в себя действительность, он лишь ее символ. Таким
образом, существует разрыв между знаком и реальностью, а затем
88
tJ XJ
и разрыв между символом и «читающей» инстанцией в
головном мозге.
Эта теория символов, восходящая к Локку и
утверждающая, что между знаком и тем, что он обозначает, не
существует подобия, что окружающая действительность, таким образом,
не находит своего отражения в знаке, эту теорию Шиллер
обнаружил у Фергюсона. «Восприятие вещей, — пишет Фергю-
сон, — осуществляется у нас через посредников, которые ни в
коей мере не являются подобными первопричине либо
предмету восприятия». В качестве посредников Фергюсон обозначает
изменение в органах чувств, так называемые «ощущения»
(Sensationen). (Шиллер будет использовать это понятие в том
же значении), и их «истолкование в качестве символа». Таким
образом, мы имеем следующий ряд: внешний мир действует
как раздражитель на органы чувств — изменение в органах
чувств («ощущение») — ощущение выступает в качестве
символа — символ читается разумом и интерпретируется. Мысль
о том, что в этой теории символов есть разрыв между
материальной действительностью и сознанием, Шиллер еще раз
сформулирует позже (1786) в своих «Философских письмах»:
Наши чистые понятия не являются никоим образом
отражением вещей, они всего лишь их обязательные символы,
существующие наряду с этими вегцами. Ни Бог, ни человеческая душа,
ни сам мир вокруг нас не являются на самом деле такими,
какими мы их себе представляем (V, 355). Следовательно, разрыв.
В «Философских письмах» Шиллер устранит этот разрыв
*J
смелым поворотом мысли, а именно наш мозг, «читающий»
природу, сам по себе есть природа и потому можно иредполо-
Ч-?
жить, что символы связывают нас в какой-то мере с
реальностью. И хотя не существует подобия между символом и тем,
что он обозначает — то есть раздражитель ничего не говорит
об истинном состоянии окружающей действительности, —
однако законы мышления (V, 356), в соответствии с которыми
обрабатываются знаки, создают нечто, что в некоторой
степени соответствует окружающей нас действительности. Все
сказанное можно свести к следующему тезису: Наш разум
принадлежит этой планете, следовательно, ей принадлежат и
идиомы наших понятий (V, 355). Мир, существующий в нашей
голове, реален уже просто потому, что наша голова находится
в этом мире. Так как дух есть природа, он никогда не
отделится от нее полностью. «Цепь существ» не может быть разорва-
89
\
на, даже в вопросах познания, этого требует философия
космической любви.
Эта философия требует, однако, еще и другого: одушев-
ления машины. Это значит: в физиологии необходимо было
найти место для стихийности и свободы. Именно здесь и
обнаруживается истинный центр гравитации ранних
медико-философских работ Шиллера, сыгравший решающую роль для
дальнейшего развития его мысли. Чтобы спасти свободу в
физиологической машине, Шиллер развивает свою теорию
внимания, которую он не изобретал сам, а почерпнул из дискуссий
того времени. Но ему удалось многого достичь, взяв их себе за
основу. С помощью теории внимания физиолог Шиллер
превратился в философа свободы.
Отправной точкой выступает концепция детерминизма,
представленная Гарве в его комментарии к труду Фергюсона:
если раздражитель вызывает представление и это
представление определяет наше мышление и поступки, то может
возникнуть впечатление, что все подчинено причинно-следственной
связи, что свобода исчезла. Однако здесь вступает в действие
сила внимания. Она представляет собой своего рода
подвижный световой луч, который, будучи ведом замыслом,
затрагивает области восприятия, здесь что-то фиксирует, там что-то
пропускает, луч, который производит отбор, управляет
мыслительными процессами и создаст связи, короче: душа имеет
действенное влияние на орган мышления. Она обладает этим
влиянием, так как является действенным субъектом внимания.
Конечно, существуют не зависящие от нас впечатления
периферии, но ведь, с другой стороны, центром, совершенно
произвольно, могут быть выбраны впечатления и установлены связи
между идеями. Здесь имеет место удивительно свободное ма-
нипулирование, и потому, пишет Шиллер, весьма валено, что
есть свобода (V, 266).
В понятие внимания Шиллер вкладывает все свободные,
творческие способности; он приписывает ей те же функции,
которые Кант, которого он в то время еще не читал, отвел
позже силе воображения. Анализ этих необычных характеристик
внимания привносит движение в запутанную, подчас
тяжеловесную физиологическую аргументацию. К свободному
вниманию Шиллер привязывает и нравственность,
предусматривающую свободу выбора. Рождение свободы из внимания он
резюмирует следующими словами: Таким образом, мы фанта-
90
зируем и размышляем, отбираем и сочиняем, желаем чего-
то, — все это мы делаем благодаря вниманию. Именно
действенное влияние души на органы мышления осуществляет все
это (V, 267).
В третьей диссертация Шиллер отказывается от
сомнительной посредствующей силы. Здесь он почти не прибегает к
физиологическим аргументам, однако теория свободного
внимания играет и здесь существенную роль. Правда, ее функции
ограниченны. Шиллер пишет, природа позаботилась о том,
чтобы жизненно необходимые ощущения в качестве
раздражающих сигналов достигали дух из периферийных участков тела,
даже если внимание препятствует этому. Система
предупреждения об опасности должна находиться в безупречном
состоянии. Для физического и духовного сохранения человеческого
существа необходимо, чтобы душа учитывала интересы тела
(V, 294). Душа может ослабить или усилить физические
потребности, такие, как голод, жажда, сон, сексуальность или
ощущения, типа боли или хорошего самочувствия, но удалить
их она не может. Если голод и жажда становятся чересчур
сильными, то свободное внимание полностью исчезает, и
человек может совершить такие поступки, от которых
человечество содрогнется, против собственной воли он превратится в
предателя и убийцу, станет каннибалом. Таким образом, жи-
«_» <j
вотные оищщения воздействуют на дух, и за его спиной наше
тело работает на поддержание механизма (V, 297).
Третья диссертация, вообще, придает большее значение
темной стороне и насилию со стороны природы, отчего в
одобрительном тоне и цитируется обозначение человека Галле-
ром в качестве бездушного нечто между скотом и ангелом (V,
296). По-иному, чем в первой диссертации, смотрит Шиллер
на человека, скорее это уже взгляд снизу, чем сверху. Во
вступительном слове он пишет: Так как обычно ошибка
заключалась в том, что на счет духовных сил, поскольку они
представляются независимыми от тела, приписывалось слишком
многое, пренебрегая при этом последним, то в настоящем
опыте мы займемся тем, что постараемся пролить свет на вопрос
о загадочном вкладе тела в действия нашей души, на вопрос о
значительном и реальном влиянии животной системы чувств
на духовное (V, 290).
Это не значит, что философия любви полностью исчезает,
но она уже не осмеливается на дальнейшее развитие. Скепти-
91
I
ческие интонации звучат все отчетливее. Так, в этой работе,
например, анализируется состояние эйфории при смерти, тот
миг, когда кажется, будто рвутся одновременно все связи
между душой и материей (V, 315). Эту необычную веселость
Шиллер называет зловещей, ибо она есть лишь видимость
благополучия, в действительности же болезненные раздражения всего
лишь не передаются отмершими нервами дальше. В тот
момент, когда душа полагает, что торжествует над телом, тело
тянет к смерти за собой и ее. В блаженстве, являющемся не
более чем обманом, угасает жизнь. Будучи охваченным
галлюцинациями, сознание уже не слышит собственной кончины.
Налицо некоторое помрачение настроения. И это
неудивительно, ведь именно в этом году между написанием первой и
последней диссертации в жизни Шиллера произошли
значительные события.
Первоначально он был недоволен тем, что вокруг не
происходило ничего нового. Он должен был липший год оставаться
в академии, хотя его теоретическое образование уже было
завершено. Находясь в состоянии полной растерянности, он
записывается на курс итальянского языка, посещает повторно
лекции Абеля по физиологии, прослушивает у профессора
Наста курс лекций о Гомере, а у профессора Дюрка о Вергилии.
То было время ожидания, и заняться было нечем. Поэтому
герцог отдал распоряжение о том, чтобы окончившие курс
обучения студенты-медики были задействованы в практической
деятельности в качестве санитаров. Шиллер, который хотел
4J XJ
использовать этот год, по меньшей мере, с пользой для своих
«Разбойников», охотно согласился, так как в тишине
больничной палаты находил время для работы над рукописью. При
этом случалось, что, будучи поглощенным собственным
текстом, он так сильно жестикулировал и вращал глазами, что
больные, за которыми он должен был присматривать, могли
усомниться в душевном здоровье своего санитара. Вездесущий
герцог мог внезапно появиться в больничной плате. И тогда
тексты рукописи необходимо было мгновенно спрятать под
каким и-нибудь трудами по медицине.
11 июня 1780 года дежурившего в лазарете Шиллера
навещает его товарищ по учебе Иозеф Фридрих Граммон и просит
его дать какое-нибудь снотворное. Меня испугало, напишет
Шиллер в своем письме интенданту Зегеру, его ужасающе
спокойное выражение лица, его изменившийся голос, его необычные
92
жесты, и я почуял неладное. Я спросил его улыбаясь: Зачем?
Мне не стоило бы об этом спрашивать, последовал ответ...
Наконец-то я добился от него ужасной тайны, и он сознался мне,
что после длительных размышлений он решил в конце концов
покинуть этот мир, где он не может быть счастлив (23 июля
1780 года).
Граммон сообщил ему по секрету о своем намерении
совершить самоубийство. Шиллер, однако, будучи убежденным в
серьезности этого намерения, сообщает о нем интенданту
Академии. Граммона, у которого к тому времени проявились и
внешние симптомы глубокой депрессии, помещают в лазарет.
Руководство Карлсшуле решает установить наблюдение за
больным. Некоторым студентам-медикам, среди которых
оказался и Шиллер, дается поручение наблюдать за пациентом и
составлять регулярные отчеты. С этого времени больной
находится под наблюдением и день, и ночь. На кон поставлена
репутация самого учебного заведения, в случае, если больной
действительно совершит самоубийство. Этому необходимо
было помешать. В Карлсшуле приглашаются известные врачи.
Они составляют заключение и предписывают больному
лечение диетой. Больной должен больше двигаться во время
купания и на прогулках, отвлекаться от мрачных мы слей, "читая
занимательные книги. Его отправляют на лечение, расходы за
которое берет на себя герцог. Пока Граммон находился на
лечении в школьном лазарете, герцог ежедневно навещал его и
осведомлялся о его самочувствии. Больной, однако, был не в
состоянии сказать ему, что причиной его недуга является
невыносимый режим в Карловой школе и что именно он стал
причиной его депрессии. Шиллеру не пришлось долго
докапываться до причины страданий своего товарища по учебе, она
была слишком хорошо известна и ему самому. В своем письме
он настойчиво излагает желание Граммона покинуть
академию, что в конце концов насторожило начальство. Шиллера
подозревают в сообщничестве с больным. Итак, дежурящий у
больного сам попадает под наблюдение, и Граммону дают
понять, что ему не следует доверять Шиллеру. В ответ на это
Шиллер обращается к интенданту академии полковнику Зеге-
ру. Чтобы снять с себя возникшее подозрение в
непозволительном сообщничеству, он излагает принцип, которым
руководствовался в своих поступках: Доверия больного можно добиться
лишь тем, что говоришь с ним на одном языке; и это основное
93
правило было руководящим принщпом нашего лечения (V, 279).
Так оправдывал Шиллер свое отношение к желанию Граммо-
на бежать. Мы не знаем о том, хотел ли он на самом деле
помочь ему бежать.
В период времени между серединой июня и концом июля
1780 года Шиллером составлено семь отчетов о Граммоне.
Тесная связь между телом и душой, пишет он в первом отчете,
бесконечно усложняет возможность определить -первоначальный
источник заболевания — где его искать: в теле или душе (V,
269). Шиллер склоняется в сторону души, а точнее, причина
депрессии представляется ему следствием крушения прежнего
религиозного мировоззрения. Граммон пустился в пиетист -
скую мечтательность, мечтательность скорее не сердца, а
совести. Граммон стал крайне восприимчивым ко всем явлениям
добродетели, затем изучение критической философия привело
к тому, что все истины стали для него подозрительны и он
ударился в другую крайность, в размышления (V, 269), которые
заставили его усомниться в истине и, наконец, глубоко в ней
разочароваться. В соответствии с этим депрессию Граммона
Шиллер объясняет крушением спиритуалистического
мировоззрения посредством вторжения нигилизма. Процесс,
который был доступен Шиллеру для понимания уже потому, что он
сам прошел через это. Он знал причины возникновения его
мечтательной философии любви, он знал, что изобрел ее,
чтобы не быть отданным на произвол холодной машины природы,
%У \J
*_■
потерявшей свои смысл; он знал, как раним этот наполненный
KJ V
энтузиазмом противоположный действительности мир и
насколько велика должна была быть его сила самовнушения,
чтобы удержать его, а еще он знал, что падение возможно в любую
минуту. В «Философских письмах» Юлий скажет об
энтузиастической философии любви: Смелое нападение материализма
разрушает мое творение (V, 344).
Так и философские размышления разрушили
фанатическую набожность Граммона и тем самым, пишет Шиллер,
привели к ужасной меланхолии, которая в конце концов добралась
и до тела: затруднения с пищеварением, вялость и головные
боли (V, 269). Граммон знал и сам, что для того, чтобы
выздороветь физически, он должен прежде оправиться духовно,
однако этого не могло произойти в стенах академии. Он стремился
к тишине сельской жизни, чтобы собраться с новыми силами
для постижения истины. С сочувствием и некоторой симпати-
94
ей сообщает Шиллер о пожеланиях больного, возможно,
именно он и укрепил его в этих желаниях. И действительно, после
увольнения из академии в середине декабря 1780 года
состояние Граммона постепенно стало улучшаться. Еще три года он
будет жить уединенно в своей семье в бургундском Мёмпель-
гарде, принадлежавшем, однако, Вюртембергу, пока наконец не
выздоровеет окончательно.
В то время, когда Шиллер принимал участие в трагической
судьбе своего товарища по учебе, случилось еще одно
печальное событие. 13 июня 1780 года, два дня спустя после первого
разговора с намеревающимся покончить жизнь самоубийством
Граммоном, умирает Август фон Ховен, младший брат его
друга Фридриха Вильгельма фон Ховена. За несколько дней до
этого Шиллер был вызван к постели умирающего и нес
дежурство вместе с братом и матерью больного в ту ночь, когда он
умер.
В письме к отцу, капитану фон Ховену, которого Шиллер
хорошо знал еще с того времени, когда его семья жила с Хове-
нами в одном доме в Людвигсбурге, за общепринятыми
соболезнованиями прорывается собственная смертельная тоска.
Тысячу раз завидовал я тому, писал он 15 июня 1780 года, как
стойко ваш сын боролся со смертью, а я бы отдал свою жизнь
%s
за него с тем же спокойствием, с каким ежевечерне отхожу ко
сну. Мне еще нет двадцати одного года, но я могу смело
признаться вам, что мир для меня не имеет более прелести. Я не
радуюсь ему, и день моего выхода из академии, который еще
несколько лет назад был бы для меня праздником, даже не
вызовет на моем лице веселой улыбки. С каждым шагом по пути
жизни я все больше утрачиваю радость и чем ближе подхожу к
зрелости, тем горше сожалею, что не умер ребенком.
Четырьмя днями позже, 19 июня 1780 года, Шиллер
напишет своей сестре Христофине еще одно необычное письмо,
письмо, полное грусти и мрачных намеков. Может быть, пишет
он, что и вам не придется, радоваться моему выходу из
академии... Я больше не радуюсь жизни, и я почитал бы себя
счастливым безвременно расстаться с нею. Прошу тебя, сестра,
если так случится, будь умницей, утешься и утешь своих
родителей (т.7, с. 13).
Должно быть, подобные намеки встревожили сестру,
однако далее она прочла с облегчением, что ее погруженный в мрач-
95
ные мысли брат окончил свое письмо просьбой о чулках,
перьях и ночных рубашках.
Родителям и сестре еще предстоит пережить счастье
увидеть сына, выходящим из академии. Это произойдет 15
декабря 1780 года. Накануне вечером состоялись устные экзамены и
празднование годовщины основания академии. В последний
раз Шиллер защищал тезисы одного из профессоров.
Именно здесь молодой штутгартский музыкант Андреас
Штрайхер впервые увидел своего будущего друга Фридриха
Шиллера и получил «неизгладимое впечатление» от этой
встречи. Особенно запомнились ему «рыжеватые волосы,
длинные нескладные ноги, быстрое подрагивание ресниц,
когда он оживленно оппонировал; он часто улыбался, когда
говорил; бросались в глаза его прекрасно очерченный нос и глубо-
KJ XS *-*
кии, смелый орлиный взгляд, светившийся из-под широкого
выпуклого лба».
После торжественной части все собрались за большим
столом на праздничный ужин. Штрайхер видел, как герцог
«довольно долго благосклонно разговаривал» с Шиллером,
«опершись рукой о его стул. По отношению к герцогу Шиллер
сохранял все ту же улыбку, то же подрагивание ресниц, что и
в отношении профессора, которому он оппонировал час назад».
Очевидно, что, уйдя от мрачных мыслей, Шиллер вновь
поверил в себя. И это неудивительно, ведь к тому времени он уже
закончил первую редакцию своей великой пьесы о бунтарстве,
«Разбойники», и чувствовал, каких высот ему удалось достичь.
ШЕСТАЯ ГЛАВА
Воспоминание Шиллера о времени написания «Разбойников».
Мученик Шубарт. Возмущение и недостаток жизненного опыта.
Преступный мир и «Разбойники»; экспериментальная площадка
для философских идей и экстремальных характеров. Театр идей
и искусство вызывать эмоции. И красота должна умереть,
Счастливые моменты под крышей театра
В объявлении о выходе журнала «Рейнская Талия» в 1785
году Шиллер, оглядываясь назад на годы, проведенные в
Карловой школе, изображает обстоятельства, в которых возникли его
«Разбойники», та пьеса, что сделала его за одну ночь
знаменитым автором. Восемь лет боролось мое одушевление с военным
порядком. Но страсть к поэтическому искусству пламенна и
сильна, как первая любовь. То, что должно было ее задушить,
разжигало ее. Чтобы бежать от условий, ставших мне пыткой,
мое сердце устремлялось в мир идеалов, не зная, однако,
действительного мира, от которого меня отделяли железные прутья,
не зная людей (ибо четыреста, что меня окружали, были
одним-единственным созданием, верным слепком с одного и того
же образца, от которого пластическая природа торжественно
отказалась); не зная склонностей свободных, себе самих
предоставленных существ... не зная прекрасного пола (как известно,
двери этого заведения открываются перед женщинами до того,
как они становятся интересными, win когда они перестали
быть интересными), не зная людей и людских- судеб, моя кисть
%
непременно дою/сна была нарушить грань между дьяволом и
ангелом, должна была создать чудовище, какого, к счастью, не
существовало на свете, которому я потому лишь пожелал бы
бессмертия, чтобы увековечить небывалый случай родов, которые
произошли от противоестественного соития субординации и
гения. Я разумею «Разбойников»- (V, 855).
Это высказывание Шиллера относится к тому времени,
когда он уже ускользнул из-под власти герцога. Он может
более откровенно говорить о бедственном состоянии школы, но
эта откровенность, по всей видимости, была все же неполной —
ведь его отец все еще находится на службе у герцога.
Учась в академии, Шиллер вынужден был подчиняться
установленному там военному порядку, свое же недовольство он
97
выражал в остроумной, часто саркастической форме.
Надсмотрщики все это с изумлением фиксировали и записывали,
а «тянущие вместе с ним эту лямку товарищи, — по словам
Фридриха фон Ховена, — все прекрасно понимали». Среди
*J
учеников имели хождение книги для памятных записей, в
которых они обменивались стихами и афоризмами, книги, где
можно было решиться и на откровенные высказывания.
Сохранились записи, написанные рукой Шиллера, в книгах для
памятных записей его товарищей. Однажды он написал
вариацию на оду Клопштока: О, рабство, / Громом сотрясает слух, /
В потемках разум и улитка в мыслях, / Мучительная пытка
сердца! (1,159). Одно из стихотворений вюртембергской книги
песен он переделал следующим образом: Когда больной идет в
кровать, / Где должен день и ночь лежать — / Пусть в серебре
и злате, —/Он громко роскошь проклянет, / Когда он ночью не
уснет / В украшенной палате. / Он будет каждый час считать /
И весь в слезах рассвета ждать (4 марта 1779 года).
Не надо было изучать политической теории, чтобы
прочувствовать всю тяжесть системы наказания, ежедневного
контроля, убивающей всякую духовность дисциплины, но когда,
прочитав Фергюсона, Руссо и Плутарха, Шиллер познакомился с
понятием респ}/6лики и концепцией прав человека, он
научился смотреть на школьные порядки с политической точки
зрения и находил их возмутительными. В описании Ферпосоном
деспотической системы он узнал собственную ситуацию: «Кон-
О
ституцпи, на основе которых у людей отнимают их права, или...
при которых на них смотрят так, словно ими можно управлять
лишь посредством принуждения и страха наказания, имеют
своим следствием порождение тирании и высокомерия у
суверена, рабского духа и низости у подданных; они
обесцвечивают каждое лицо и наполняют каждое сердце малодушием и
ревностью».
На что была способна такая тирания, молодой Шиллер мог
видеть собственными глазами на примере публициста Шубар-
та. Он познакомился с ним еще в Людвигсбурге, где Шубарт
исполнял обязанности регента хора и органиста. Десятилетний
Шиллер видел, как этого обожаемого молодежью человека
выгнали из города. Его обвинили в безнравственном образе
жизни, расточительстве и литературных «вольностях». Позже он
сам, пав духом, скажет об этом периоде своей жизни: он
постепенно «охладевал» к «добродетели и религии», читал ироизве-
98
дения «вольнодумцев, насмешников над религией,
антиморалистов и бордельных писак», а впитанный «яд» распространял
среди других. Шубарт вызывал недовольство у высокопостав-
К? XJ \J XJ
ленных служителей церкви своей легкой манерой игры на
органе, в которую он вплетал мотивы галантных опер. Должно
быть, случалось и такое, что за орган он садился в нетрезвом
виде. Он любил ораторствовать в трактирах, особенно если
речь шла о политике, о бесчестных поступках правительства и
коррупции среди министров. И когда буйный кантор
обзавелся еще одной молодой любовницей, на него было наложено
дисциплинарное взыскание. При обыске дома были
обнаружены сатирические произведения на представителей двора. На
основании этого герцог подписал приказ о выдворении. Это
было в 1773 году. Вначале Шубарт нашел себе убежище в
свободном имперском городе Аугсбурге. Здесь он начал выпускать
«Немецкую хронику», политическую газету с республиканской
направленностью. И вскоре Шубарт становится внушающим
во всей Германии страх и восхищение памфлетистом,
разоблачающим журналистом и автором боевой политической лирики.
И именно поэтому его уже не хотят видеть и в Аугсбурге.
Бургомистр заявил тогда: «К нам пробрался бродяга, который же-
и
лает получить за свои скверные листы шляпу, полную
английской свободы. Но он не получит и скорлупы от ореха!»
В 1775 году Шубарт переезжает в Ульм и продолжает там
издавать свою «Хронику». Ее читали везде, даже в Лондоне,
Париже и Амстердаме. Это придает ему уверенности, и его
язык становится все смелее и смелее. Герцог Карл-Евгеиий,
выгнавший его из страны, числился у него на особом счету. Он
высмеивал двойную одаренность герцога к проповедям о
благочестии и любовным похождениям, он позволял себе
язвительные высказывания о бесплодности герцогского дома,
критиковал Франциску за высокомерие, характерное для старых
дев, называл ее «Донна Жирная курица» и сравнивал се со
%J \J
«свечой, которая тлеет и воняет»; он клеймил позором
продажу трех тысяч вюртембержцев для английской колониальной
войны, он уподобил герцогскую Карлсшуле «плантации рабов».
Когда появилась эпиграмма на герцога, в которой говорилось:
«Лишь только Дионис из Сиракуз / Был должен прекратить /
Тираном быть, / чОн тут же стал детей учить», Карл-Евгений
перешел к действию. Шубарта лживыми обещаниями
заманили из имперской области на территорию вюртембергских зе-
99
мель и арестовали. И когда в феврале 1777 года Шубарт был
брошен в темницу Хоэнасперга, герцог и Франциска
присутствовали там — оба оскорбленных не могли отказать себе в этом
удовольствии. По делу Шубарта не проводилось никакого
судебного процесса, не было вынесено никакого приговора. Это
был акт произвола без прав и законов. В течение девяти лет
Шубарт оставался личным заключенным Карла-Евгения.
Охранником тюрьмы был пресловутый капитан Ригер, крестный
Шиллера и бывший фаворит герцога. Шубарт сидел в вонючем
подвале в основании башни, вначале ему не позволяли ни
писать, ни читать, а в течение нескольких лет ему было отказано
в посещениях.
Слава заключенного в крепости поэта и публициста росла.
На него смотрели как на мученика свободы слова, он стал
ярким примером жертвы княжеского произвола. Гёльдерлин
хотел бы «быть другом такого человека», а Гердер в своих
«Письмах для поощрения гуманности» отводит ему почетное место в
галерее героев, борющихся за свободу и человечество.
Во время присутствия веймарского герцога и его друга
Гёте на ежегодном празднике в герцогской Карлсшуле в 1779
году им было рекомендовано в беседе с вюртембергским
герцогом не затрагивать истории с Шубартом. Очевидно, в
Штутгарте полагали, что Гёте симпатизирует заключенному, да и
веймарскому герцогу, считавшемуся либералом, не очень-то
доверяли.
Среди учеников Карловой школы Шубарт пользовался
особым почтением, тем более что сто сын Людвиг был принят
в академию «из милости», как это называлось официально.
Таким образом, ученики получили прекрасный урок о судьбе за-
кл юченных Хоэнасперга.
Дело Шубарта стало причиной все возрастающего
недоверия к поэзии. Шубарт превратился в предостерегающий
образчик переродившегося эстета, на его примере можно было
увидеть, к какой строптивости и распущенности могут привести
занятия литературой и поэзией. Учеников еще раз призывали
ограничить увлечения подобного рода, и, кроме того, было
отдано распоряжение, согласно которому без разрешения
герцога не позволялось публиковать никаких «поэтических вещей».
Именно эти ограничения имел в виду Шиллер в своем
объявлении о выходе «Талии»: Склонность к поэзии оскорбляла зако-
100
ны заведения, где я воспитывался, и противоречила замыслам
его основателя (V, 855).
Субординация, по мнению Шиллера, являлась основным
законом жизни в Карловой школе. Проявлением
субординации стало для него возмутительное предписание герцога о том,
что Шиллеру следует провести в академии еще один год, так
как его первая диссертация была отклонена. Шиллер принял
большое участие в судьбе Шубарта еще и потому, что тоже
чувствовал себя личным пленником герцога, особенно в этот
последний год, который он должен был отсидеть в академии.
Именно в этом году он написал своих «Разбойников», плод
противоестественного соития субординации и гения, как это
звучит в объявлении о выходе «Талии». По теме субординации
все необходимое уже сказано. Нетрудно понять, каким образом
накапливались у Шиллера чувства возмущения и горечи. Но
еще более тяжело Шиллер переживал, оглядываясь назад,
отсутствие жизненного опыта, на которое были обречены
ученики Карловой школы. Он не знал людей, ему не были знакомы
человеческие судьбы, напишет он в «Талии». Субординация и
отсутствие опыта, по мнению Шиллера, связаны между собой:
загнанный приказами и правилами и оторванный от
остального мира, круг его переживаний был настолько сжат, что, как
следствие, в «Разбойниках» он показал действительность,
придуманную им самим, изобразил людей не реальных, а чудовищ,
как в хорошем, так и в плохом.
Но неужели в жизни все должно происходить в
соответствии с правилами, от жизни к размышлению, от опыта к теории,
от познания человека к его пониманию? Шиллер в любом
случае был человеком, работавшим на опережение. Если
ощущается недостаток жизненного опыта, о нем можно размышлять
умозрительно, так же, как можно спекулировать деньгами,
которые тебе не принадлежат. Умозрительное размышление в
этом смысле есть своего рода опыт в кредит, опыт с
опережением. Говоря иначе: изобретается что-то, что позже, вероятно,
можно будет рассматривать в качестве опыта. А так как
человек в таком случае опережает самого себя, то вещи, даже он
сам, приобретают схематичный характер, следовательно,
человек выбирает яркие краски, насыщенные тона и
сногсшибательные позы. В молодом возрасте и в особенности если
подталкивает гений, человека не так интересует то, чем он
является, как то, чем он хочет стать. Прежде всего, он желает
101
выделиться, и свобода трактуется как та самая сила, что
позволяет человеку отделиться от самого себя. Свободный человек
представляется воплощенным отличием. В обычном человеке
эти отличия незначительны или слишком хрупки. Потому
привлекательны крайности. В поисках отличительных
особенностей свобода стремится к границе. Это та самая логика, которую
Карл Моор сформулировал следующим образом: Закон не
создал ни одного великого человека, лишь свобода порождает
гигантов и высокие порывы (т.1, с.382). Увидеть в разбойниках
себя, значит, с помощью воображения искать свое место на краю
общества или на его дне.
Вне сомнения, разбойничий мир Шиллера романтизирован,
он иной, чем тот, что был порожден социальной
действительностью конца XVIII века. Разбойничьи банды были тогда
настоящим бедствием для страны, особенно в Южной Германии
и Швабии. Официальные списки воров и вагантов в
восьмидесятых годах насчитывали только в Южной Германии около
сорока тысяч. Большое количество крупных, разветвленных,
внушающих страх бандитских группировок творили тогда свои
бесчинства, сегодня мы называем это организованной
преступностью. Отчаянным налетам подвергались целые деревни,
кражи со взломом, нападения, вымогательство денег, заказные
убийства, контрабанда — все это встречалось в реальной
жизни. Между закоренелыми бандитами и нормальным миром
существовал еще один большой социальный пласт, состоявший
из сообщников, разбросанных повсюду соучастников, мелких
мошенников, нищих и другого бродячего люда, так
называемых «жуликов». Этот мир разбойников и «жуликов»
пополнялся за счет безземельных крестьян, безработных слуг,
магистров, безнадзорных студентов, странствующих подмастерьев и
бывших солдат. Не обходилось и без известных,
пользовавшихся дурной славой главарей разбойничьих банд: Ханникель
в Шварцвальде, Штюльпнер в Рудных горах, Шиндерханнес в
Пфальце и Зонненвирт в Швабии. Конкретные подробности о
последнем Шиллер узнал от своего учителя Абеля, чей отец,
будучи чиновником, арестовал Зонненвирта, допросил и вел
следствие по его делу вплоть до казни преступника. Об этом,
пользовавшемся дурной славой, человеке Шиллер напишет
позднее рассказ «Преступник из-за потерянной чести», и некото-
V V
рые из преступлении, о которых пойдет в нем речь,
основываются на реальных событиях, или, по меньшей мере, на слухах,
102
которые в Карловой школе передавались с доброжелательной
дрожью.
Шиллер понимал разницу между романтизированным
изображением разбойников и социальной действительностью.
Карл Моор предостерегает Косинского, который хочет, чтобы
его приняли в банду: Не подсунул ли тебе твой гувернер
историю Робина Гуда... и не она ли распалила твое детское
воображение, заразила тебя безумным стремлением к величию? (т.1,
С.444). Но в то же время Шиллер был очарован феноменом
разбойничества. В авторецензии на пьесу он размышляет об этом:
Не знаю, чем объяснить, что наше сочувствие тем теплее, чем
меньше у нас в этом единомышленников, что вслед тому, кого
мир извергает из своей среды, мы шлем в пустыню слезы; что
нам больше по душе вместе с Робинзоном Крузо обосноваться
па необитаемом острове, чем плыть по волнам мирской
сутолоки. Во всяком случае, именно это и привлекает нас к
безнравственной разбойничьей ватаге настоящей пьесы (т.6, с.522).
Следовательно, Шиллер понимал, что выбрал «Разбойников»
и из-за боязни пространства в закрытом обществе порядочных
V
людей.
Мы не знаем, когда точно Шиллер начал работать над
пьесой. Между 1775 и 1777 годами он пробовал написать
несколько пьес. Находясь под впечатлением от газетной статьи о
самоубийстве студента и будучи вдохновленным «Вертером»,
Шиллер планирует написать пьесу под названием «Нассаус-
кий студент». В ней речь должна была идти о блужданиях
одаренного студента, мотив, вновь возникший в судьбе Карла Мо-
ора. Ничего из этой пьесы не сохранилось, так же как не
сохранились наброски пьесы «Космус фон Медичи». По
сообщению одного из школьных товарищей Шиллера, он далеко
продвинулся в своих намерениях. Пьеса должна была
повествовать о ненависти между братьями и отцовской любви по
образцу «Юлиуса Тарентского» Лейзевица — любимая тема для
поколения Бури и натиска. Должно быть, Шиллер так сильно
ощущал разрыв между произведением, взятым в качестве
образца, и своими сочинениями, что уничтожил пьесу о Медичи,
на некоторое время ушел от написания драм и занялся
подражанием одам Клопштока.
Толчок к написанию «Разбойников» Шиллер получил еще
в период первой драматической пробы пера. В 1775 году его
друг Фридрих фон Ховен указал ему на один исторический
103
анекдот Шубарта в «Швэбише магацин». Шубарт изложил
историю с конкретным намерением вдохновить какого-нибудь
романиста или театрального автора на дальнейшую работу,
так как, пишет он, необходимо доказать наконец-то, что и в
Германии можно найти людей, «которые чувствуют и
действуют так же, как какой-нибудь француз или англичанин». В
анекдоте сообщалось о следующем: у одного дворянина было
два сына, совершенно разных по характеру. Вильгельм тих,
кроток, честолюбив, лицемерен, расчетлив, не стремится
выйти в большой мир. Карл, напротив, беззаботен, полон
энтузиазма, любопытен и импульсивен. Он любимец отца. Во время
учебы всем занятиям он предпочитает вино и любовные
похождения. Он играет, влезает в долги, попадает в разные
передряги и вынужден ночью, окутанный туманом, покинуть
академию. Он ищет убежища в армии Фридриха Великого и в
одном из сражений получает ранение. В лазарете он
одумывается и решает изменить свою жизнь. Он сочиняет нежное
письмо отцу, в котором он выражает раскаяние и обещает
исправиться. Однако письмо перехватывает его брат, и письмо
остается без ответа. В качестве слуги он нанимается в
отцовское поместье. Однажды при заготовке дров Карл становится
свидетелем нападения на отца, которого он спасает благодаря
своему мужественному вмешательству. В конце концов, он
открывается. Вскоре становится ясно, что убийцы были наняты
Вильгельмом, желающим как можно раньше получить
наследство. Вильгельма выгоняют из имения, а Карла принимают с
честью как блудного сына и спасителя. Повествование
Шубарт заканчивает замечанием, которое молодой Шиллер
принял, очевидно, близко к сердцу: «Когда же, наконец, появится
философ, который погрузится в глубины человеческого серд-
^J
ца, проследит каждое действие вплоть до зачатия, заметит
каждую уловку и затем напишет историю человеческого серд-
о V
ца, в которой он сотрет лживый румянец с лица лжецов п
отвоюет у него права открытого сердца».
Шиллер позаимствовал отношения и характеры обоих
братьев, а также некоторые элементы действия, распутство Карла
в университете, его побег, раскаяние, возвращение к отцу,
разоблачение козней брата. Однако в том месте повести, когда
Вильгельм утаил покаянное письмо брата и Карл Шубарта, не
будучи прощенным, честно ищет прибежища в качестве слуги,
именно в этом месте Шиллер и начинает разбойничью карье-
104
ру своего Карла. Шиллеровский Карл, в отличие от его
прототипа, становится мстителем за весь род человеческий. Он не
может предотвратить убийство, организованное братом, и
включается в борьбу за «права чистого сердца» против всего
мира «лжецов». Характерам, взятым из анекдота, Шиллер
придает черты монументальности. Это относится и к злодею
Францу, и к Карлу. И даже если речь идет о чудовиищх,
Шиллер все же пытается, как того требовал Шубарт, будучи
«философом», опуститься в «глубины человеческого сердца».
Начало пьесы знаменует начало злодеяний Франца Моора.
Он не только утаивает письмо раскаивающегося Карла,
который из-за дуэли и прочих студенческих проделок был выгнан
из университета, но и подсовывает фальшивое письмо, в
котором преступления Карла представлены еще в худшем свете.
Легковерный отец проклинает своего сына и лишает его
наследства. Карл, доведенный до отчаяния этим шагом отца,
позволяет дурной компании, в которую он попадает, избрать себя
главарем разбойничьей шайки, и в этой роли его личное
ожесточение против сурового отца вырождается в универсальную
ненависть ко всему роду человеческому. Тем временем Карл
ищет способы захватить власть в доме отца в свои руки. Он
распространяет ложное сообщение о смерти брата, пытается
завладеть Амалией, невестой брата, и заставляет похоронить
заживо отца, лишившегося рассудка от страха, отчаяния и
раскаяния. Карл, сытый по горло своей разбойничьей жизнью,
однако связанный с бандой клятвой верности, возвращается в
\J
родительский дом, где он появляется инкогнито и
сталкивается с преступлениями брата и верной любовью своей невесты.
Конец ужасен. Франц совершает самоубийство; отец,
выживший в могильной йме, умирает от ужаса, когда Карл
открывается ему; Амалия умирает от руки Карла, который не видит
иного выхода из конфликта между его любовью к Амалии и
верностью разбойничьей банде. Принеся в жертву Амалию,
Карл освобождается от обязательств перед разбойничьей
шайкой и отдает себя в руки правосудия.
В авторецензии 1782 года, написанной вскоре после
премьеры, Шиллер критикует недостаточную правдоподобность
своих персонажей. По его мнению, они были созданы не в со-
и Я* *J
ответствии с естественной природой вещей, а на основе
впечатлений от прочитанного. Разбойник Карл Моор, так же как и
злодей Франц Моор, набросаны по образцу Шекспира (т.6,
105
с. 524), кроме того, основные черты для Карла были
позаимствованы у Плутарха и Сервантеса, а что касается образа Ама-
лии, то следует заметить, что автор слишком много читал
Клопштока. И если предположить, что автор перепрыгнул через
человека, то, в конце концов, характеры были развиты в полной
гармонии с самими собою (т.6, с.528).
И действительно, автор перепрыгнул через людей обычных,
таких, какие они есть в большинстве случаев, для того чтобы
иметь возможность провести эксперимент с людьми
неординарными. Пьеса выступает в роли некой экспериментальной
площадки для экстремальных характеров, которые ужасно
односторонне, но тем не менее вполне последовательно
раскрывают принцип своего существования вплоть до катастрофы и
%* *s
тем самым действительно остаются в полной гармонии с
самими собою.
Карл Моор — человек большой, но заблудившейся души,
имеющей все данные для превосходного существования и
потерянной вместе со всеми этими талантами (I, 489), и Франц
Моор — разумно рассуждающий злодей, оттачивающий свой
ум в ущерб своему сердгщ (I, 485).
Разбойник Карл — идеалист, поскольку верит со всем
энтузиазмом своего сердца в добрый отеческий миропорядок, но
достаточно было однажды оскорбить его самовлюбленное «Я»,
чтобы возбудить в нем безумную месть по отношению к
разрушенному миропорядку.
Франц — материалист, природа обошлась с ним
несправедливо, почему же он должен верить в ее доброту? Он чувствует
себя заброшенным в холодный универсум, и потому,
используя холодный разум, он будет преследовать свои интересы,
направленные на получение власти: Я выкорчую всё, что
преграждает мне дорогу к власти.
Один мстит за себя всему миру, от которого он так много
KÏ \J
ждал; второй свирепствует в мире, который ему ничего не дал
и поэтому ни к чему его не обязывает. Два экстремиста: один —
необузданный идеалист, второй — безудержный материалист.
Таковы «Разбойники» — грандиозное порождение разума
студента-медика, ставящего литературные опыты над своими
философскими идеями. Но «Разбойники» еще и пьеса, с помощью
которой автор хотел доказать себе и остальным, что он может
и то и другое: запечатлевать идеи в литературных образах и
покорять этим публику.
106
Таким образом, драматический дебют Шиллера можно
рассматривать в четырех аспектах: медицинском, философском,
литературном и в аспекте эстетики воздействия на аудиторию.
Медика заметно по телесной, порой грубо наглядной
метафорике и по натурализму, сформировавшемуся на секционном
столе анатомички. В третьей сцене первого акта Франц
пытается дискредитировать своего брата в глазах Амалии. Намекая
на то, что при своей распутной жизни Карл мог подхватить
венерическое заболевание, он рисует ей ужасную картину
разлагающегося тела: О, если бы существовала завеса, чтобы
скрыть... этот гнусный порок... Он глядит из пожелтевших глаз,
обведенных свинцовыми кругами, он выдает себя мертвенно-
бледным, осунувшимся лицом, уродливо заостренными скулами...
вот брызжет он со лба, со щек, изо рта, со всего тела гнойной,
разъедающей пеной, мерзостно гнездится в постыдных
скотских язвах (т.1, С.397).
Может ли Амалия все еще любить это гниющее тело,
спрашивает Франц. В любви душа ищет душу, но если она
застревает в грязи- тела, сможет ли она тогда доказать свою небесную
силу? С удовольствием копается Франц в отвратительных
вещах: Человек возникает из грязи, шлепает некоторое время по
грязи, порождает грязь, в грязь превращается, пока, наконец,
грязью не налипнет на подошвы своих правнуков (т.1, с.455).
Эти циничный фразы выдают в авторе пьесы медика, как и
знания психосоматического характера, которыми Шиллер
наделяет Франца Моора и которые этот ужасный человек
использует не для уменьшения страданий, а в качестве
инструментов пытки. Франц хочет убить отца, не запятнав своих рук.
Я хотел бы поступать как мудрый врач, только наоборот: не
ставить преград на пути природы, а торопить ее шаг...
медики утверждают, что состояние духа и работа всего
человеческого организма находятся в тесной взаимосвязи... поразив дух,
разрушить тело? Ах! Неглупая мысль! (т.1, с.401). Что
необходимо для этого сделать? Необходимо вызвать у отца такое
настроение и такие аффекты, горе, ужас, тревогу и сомнение,
которые бы подорваяи его здоровье. Нужно вселить в дух что-то
такое, что изнурит тело, и таким образом расчистить смерти
дорогу в замок жизни (т.1, с.401) и тогда нож анатома не
найдет ни следов ранений, ни разъедающего яда (т.1, с.402).
Вначале отцу удается выжить после покушения на
убийство, организованного исподтишка, покушения, носящего психо-
107
соматический характер. Но в конце концов он все же умрет от
душевной боли. Франц, этот врач наоборот, идет к достижению
свой цели и обратным путем, оперируя телом противника
против его души, и проявляет себя при этом весьма способным
учеником в области знаний, которые усвоил Шиллер за время
изучения медицины. Он использует медицину в литературных
целях и, наоборот, литературу для медицины. В своей
диссертации он цитирует отрывок из собственной пьесы под
псевдонимом Life of Moor. Tragedy by Krake (V, 309), в котором речь
шла о том, как ужасные видения измученного тела проникали
в голову отца. Шиллер цитировал из своих «Разбойников», над
которыми он работал параллельно с диссертацией, чтобы
продемонстрировать губительное взаимодействие между телом и
духом, а точнее, механизм того, как испорченное духом тело
*J 4J
влияет на дальнейшее расстройство духа.
Что касается философских идей, выведенных Шиллером
на экспериментальную площадку собственной пьесы, то
проверке были подвергнуты его философия вселенской любви и
представление о великой цепи существ.
Франц, которого Шиллер в одном из писем интенданту
мангеймского театра Гериберту фон Дальбергу
недвусмысленно назвал резогшрутощш злодеем (6 октября 1781 года),
слишком много думает для сцены, этот человек, очевидно, знает
тайные механизмы собственной личности и излагает их в длинном
монологе в первой сцене пьесы. По воле случая природа
обделила его: из материнского чрева он вышел вторым — судьба,
благодаря которой он оказался вычеркнутым из числа
наследников. Природа взвалила на него бремя уродства. Почему
именно мне достался этот лапландский нос? Этот нос, как у
негра? Эти готтентотские глаза? (т.1, с.378—379). Возможно,
природа, которая так его обделила, несправедлива. Жизнь —
это лотерея, и если природа не прямо-таки зла по отношению
к человеку, то она скандальным образом равнодушна к
существам, которых она порождает к жизни, и снова бросает в грязь,
из которой они вышли. Такая природа не может быть по душе
человеку, великая цепь существ, объединенных любовью, —
что за лживые домыслы! Природа бросает своих детей на
произвол судьбы, и, следовательно, не существует никаких
обязательств по отношению к ней: Меня она ничем не снабдила в до-
рогу. Все, чем бы я пи стал, будет делом моих рук (т.1, с. 379).
И что значит быть произведенным на свет? Никогда при зача-
108
тии не было и речи о любви, а лишь скотское удовлетворение
скотских инстинктов (1, с.380). Неужели на основе этого
может возникнуть любовь к родителям? Неужели надо быть
благодарным родителям лишь потому, что они, зачиная дитя,
удовлетворяют свои скотские инстинкты! Разве человек не
порождается к жизни, не будучи спрошенным об этом. Если
посмотреть на жизнь без иллюзий, то священный туман рассе-
ч_т
ется и проступит реальность, в которой господствует не
любовь, а закон джунглей. С кем-то сыграли злую шутку, и он
стал мстить за себя. Человек — жертва жестокой судьбы, и
почему надо боятся стать злым роком для кого-то еще. Жизнь —
неудачное представление, и почему надо стремиться сыграть в
нем положительную роль?
Может быть, в реальной жизни злодеев, обладающих таким
хладнокровием и расчетом, не существует, но они встречаются
в литературе, и Шиллер обнаружил их тоже здесь, например у
Шекспира. Его Ричард III представляет собой человека,
который со всей злостью принимается мстить обделившей его
природе: «Меня природа лживая согнула / И обделила красотой и
ростом. / Уродлив, исковеркан и до срока / Я послан в мир
живой; я недоделан, / — Такой убогий и хромой, что псы... Раз не
дано любовными речами / Мне занимать болтливый пышный
век, / Решился стать я подлецом и проклял / Ленивые забавы
мирных дней?» (Ричард III, 1/1)
Преимущество литературы заключается в том, что она
обладает способностью показать экстремизм человеческих
возможностей, и Шекспир, так же как и Шиллер, широко этим
пользуется. Спустя несколько лет после Шиллера маркиз де
Сад представит эту логики мести несправедливой природе в
еще более фантастическом виде. Находясь в состоянии своего
рода холодного безумия, он будет обвинять, как и Франц Мо-
ор, жестоко равнодушную природу. Она ответственна за то,
напишет он в «Философии в будуаре», что «несчастное
существо по имени человек» было заброшено «без его согласия в
этот мрачный универсум». Зачем же обременять еще моралью
и муками совести время земной жизни, которое и так
ограничено? В отношении природы, которая! никого ни к чему не
обязывает, человек имеет полное право «пожертвовать» всем
«ради наслаждения». При этом, уточняет де Сад, не следует
путать удовольствие с любовью. Любовь создает
обязательства, а свободное наслаждение стремится к разнообразию и сме-
109
не объектов. В общем, речь здесь идет даже не о личностях, а
об «объектах», а точнее: то должны быть личности,
превращающиеся в момент наслаждения в объекты. Любовь в
совокупности с ее полным набором из верности, уважения и
нежности лишает человека лучших мгновений наслаждения: «Пока
длится половой акт, вне сомнения, я нуждаюсь в этом
объекте; но как только мои желания удовлетворены, что остается
между ним и мною?» Ничего, отвечает де Сад. Точно так же
звучал бы и ответ Франца.
Несмотря на все это, Шиллер все же не отважился, как это
сделал де Сад, отправить своего Франца в оргиастические
бесчинства нескончаемых совокуплений. У де Сада великая цепь
%J
существ соединена воедино посредством спаривании и
совокуплений. Между тем Франц имеет подобные виды лишь на
одну женщину, Амалию. Он предпринимает попытку взять ее
силой, добивается ее, не испытывая при этом никаких чувств;
%J
однако единственное, к чему он действительно стремится, так
это к осознанию того, что он, Франц, может владеть телом,
которого домогается его брат. Исторгнуть у Амалии, обещанной
Францу, брачный обет, приступом взять ее девственное ложе
и сломить ее горделивую стыдливость своею, большей
гордостью (т.1, С.437), вот чего хочет Франц.
Но, в отличие от Шекспира и де Сада, злодей не
выдерживает долго, и в конце пьесы, движимый смертельным страхом,
кончает жизнь самоубийством. (В театральной версии этот
страх отнимает у него даже силы для самоубийства.) Фратщ не
остается тем колоссальным злодеем, которым он был в начале
пьесы, — в этом ослаблении злого начала нашла свое
выражение вера Шиллера в добрый миропорядок, который, в конце
концов, должен так или иначе одержать верх.
Итак, Карл необузданный идеалист. Идеалистом он
становится потому, что духовный порядок ищет либо в прошлом,
либо в отрыве от реальной действительности. Он ищет любовь,
соединяющую все воедино посредством духовной связи. Это —
философия любви, с которой мы познакомились в первой
диссертации и в «Теософии Юлиуса» и которой Шиллер
снабжает своего Карла Моора. Соединенная с помощью любви
великая цепь существ выступает для Карла в форме былого
миропорядка: Вселенная — одна семья, и один отец там,
наверху (т.1, С.440).
ПО
I
После интриг, организованных братом, у Карла, однако,
складывается впечатление, что отец, собственно, уклоняется от
выполнения своих обязанностей. Вследствие чего его
миропорядок рушится: Я один отвержен, один изгнан из среды
праведных! (т.1, с. 440). Разочаровавшись в этом мире, он хочет
вернуться назад в материнское чрево; по удачному стечению
обстоятельств, именно в этот момент его сообщники и ищут
главаря своей разбойничьей шайки. И вместо материнского
чрева он спасается бегством в лоне разбойничьей шайки.
Отчаявшийся идеалист Карл Моор сравнивает себя с Сатаной и Ад-
рамелехом, павшими ангелами, ставшими организаторами
вселенского мятежа, демонстрируя тем самым знание Мильтона и
Клопштока. В более ранней редакции пьесы Карл
недвусмысленно ссылается на «Потерянный рай» Мильтона, это тот
самый эпизод, который Шиллер вычеркнул, вероятно, в силу его
излишней очевидности.
Чувствуя себя исключенным из рядов праведных, Карл
Моор уже не стыдится позора. Он становится благородным
разбойником в стиле Робина Гуда. Он убивает, рассказывает один
из его банды, не для грабежа, как мы. О деньгах он, видно, и
думать перестал с тех пор, как может иметь их вволю; даже ту
треть добычи, которая причитается ему по праву, он раздает
сиротам или жертвует на учение талантливым, но бедным
юношам. Но если представляется сличай пустить кровь
помещику, дерущему шкуру со своих крестьян, или проучить
бездельника в золотых галунах, который криво толкует -законы и
серебром отводит, глаза правосудию, или другого какого господчика
того лее разбора, тут, братец ты мой, он в своей стихии. Тут
словно черт вселяется в него, каждая жилка в нем становится
(т.1, С.420).
И даже если «благородный разбойник» ведет себя как
мститель за обездоленных и как защитник бедных и сирот, тем
не менее он совершает поступки, которые становятся
злодеяниями, ибо задевают невинных так же, как и виновных, в ка-
%*
честве примера возьмем эпизод, когда он сжег целый город,
чтобы спасти от казни своего верного сотоварища. Он
оправдывает себя, сравнивая свои поступки с непогодой, чья
разрушительная сила тоже не делает различий между виновными и
невиновными. И все же Карл замечает, что его попытки
сравнить себя со слепой стихией не более чем отговорка. В момент
отчаянного просветления он понимает, что превратился в чу-
111
довище, среди убийц, среди шипенья гадов, железными цепями
прикованный к греху, по шаткой жерди порока бреду я к
гибели (т.1, С.441).
После того как в одной из лирических сцен Карл, охвачен-
%J KJ
ныи тоской, вызывает в памяти воспоминания своего
счастливого детство — сцена, приведшая в восторг Гёльдерлина, — он
впадает глубокое отчаяние. Великая цепь существ оказалась
для него разорванной, и он, подобно Францу, не
обнаруживает в существующем порядке вещей и в природе ничего, кроме
жестокого безразличия. На какое-то мгновение братья, сами
того не осознавая, становятся похожи друг на друга: оба они
охвачены тем же нигилизмом.
Разница между Карлом и Францем лишь в том, что один
приходит к разочарованию, а другой с него начинает. Одному
XJ
из них нигилизм приносит страдания, другой же делает его
своим моральным принципом. В конце пьесы Карл
обнаруживает и признает, что между ним и братом существует
фатальное сходство, когда он заявляет с пафосом, что два человека,
мне подобных, могли бы разрушить все здание нравственного
миропорядка (т.1, с.495). Эти два человека существуют, и
если Карл один из них, то Франц второй. Они оба движимы
яростью мести, один потому, что разрушена его вера в
миропорядок, второй потому, что никогда не разделял этой веры.
Они оба творят свои безумства в лишенном смысла
универсуме, один с горячим разочарованием, другой с холодным
бешенством.
Они оба достигают, в конце концов, границы самосгорания.
Франц убивает себя, Карл же в последний момент испугался
своих намерений. Он готов пойти па самоубийство в тот
момент, когда полагает, что великая цепь разорвана
окончательно и бесповоротно: Законы Вселенной превращены в игральные
кости! Связь природы распалась! (т.1, с.473). Но в Карле,
находящемся в состоянии отчаяния, пробуждается неудержимая
гордость, так как он открывает для себя таинство свободы.
Таинством эта свобода является потому, что препятствует
крушению познанного мира и исчезновению добра. Для Карла мир
превратился в мрачную пустыню, надежду же на спасительный
KJ
и карающий потусторонний мир он отгоняет, считая ее
по-детски наивной: эта дерзкая обезьяна чувств морочит странными
ужимками наше легковерие (т.1, с.469). В этой пустыне Карл
находит больше оснований, чтобы продолжать жить дальше. И
112
именно в этот момент в нем и просыпается осознание свободы
и чувства гордости. Дать себя победить несчастиям? Нет! Я
все стерплю. И он отбрасывает пистолет со словами: муки
отступят перед моей гордыней! (т.1, с.469).
Что же понимается здесь под свободой? О свободе не было
бы и речи, если бы Карл, руководствуясь отчаянием и будучи
вынужденным крайней нуждой, покончил жизнь самоуб1шст-
вом. Смерть эта не была бы добровольной. Свобода
заключается лишь в триумфе гордости над мучением. Это триумф без
трансцендентного освидетельствования. Карлу, а вместе с ним
и Шиллеру удалось здесь благополучно избежать обращения к
идее божественного миропорядка. Чем бы ты ни было,
безымянное «там», лишь бы мое «я» ne покинуло меня (т.1, с.469).
Свобода, это когда «Я» соединяется с самим собой. Эта мысль,
впервые промелькнувшая в «Разбойниках», будет занимать
Шиллера на протяжении всей его жизни, и он успешно ее
разработает.
Человек, открывший для себя, подобно Карлу, свободу,
готов в конце концов к тому, чтобы взять на себя ответственность
за все, что он сделал. Свобода и ответственность неразрывно
связаны между собой. Принять на себя эту ответственность
вовсе не значит восстановить разрушенный миропорядок. И
действительно, в последнем акте пьесы речь не идет ни о каком
восстановлении. Отец умирает от ужаса, Амалия умирает от
руки Карла. Разбойничья шайка не расформировывается и, по
tJ
<J
всей вероятности, продолжает свои преступные действия, а
Карл отдаст себя в руки правосудия, о коррумпированности
которого мы уже слышали в его обвинительной речи. В конце
пьесы мы не находим никакого примирения, а лишь триумф
гордой свободы Карла, оставшегося верным самому себе.
Пафосом свободы, а не пафосом восстановленного миропорядка
оканчивается эта пьеса.
Говоря о литературном качестве, можно заметить, что
пьеса эта далеко не однородна но своему характеру и что в ее
основу не был положен какой-либо четко выработанный план.
Очевидно, автора больше интересовали философски
очерченные характеры, чем сюжетные хитросплетения.
Повествовательные нити параллельно охватывают огромные расстояния,
не будучи связанными воедино. Хотя мотив враждующих
братьев по образцу Каина и Авеля требует, собственно говоря,
прямой конфронтации Карла и Франца, ее нет (исключая ко-
113
роткую встречу обоих, имевшую место в театральном
варианте). Амалия, возлюбленная, в начале пьесы ничего для Карла
не значит, он вспоминает о ней лишь однажды и вскользь. И
чтобы пробудить в нем воспоминания об Амалии, Шиллер
вынужден ввести образ разбойника Косинского, который
рассказывает о том, как один непорядочный князь украл у него
невесту. Только благодаря этому рассказу, побудившему Карла
вернуться домой, действие начинает развиваться дальше,
действие, которое в двух средних актах уже, казалось, застряло на
месте. Действия, собственно говоря, за исключением
последнего акта, на сцене происходит не так уж и много, о
драматических событиях, как-то: нападение Шпигельберга на женский
монастырь или освобождение сообщника и других дурных
поступках, мы узнаем только по рассказам, сами они не
показаны. Это придает произведению некий эпический характер, и
именно это вызывало недовольство у Шиллера. Он
оправдывал себя в первом ненапечатанном предисловии к
«Разбойникам» тем, что хотел написать драматический роман (т.б, с.516).
Но когда Мангеймский театр проявил интерес к пьесе, эти
театральные недостатки пьесы стали бросаться ему в глаза, и он
постарался в этом отношении улучшить ее.
Чего он уже больше не мог исправить и все же
рассматривал в качестве основного недостатка пьесы, так это
недостаточной мотивированности поступков злодея Франца. По его
мнению, здесь было слишком много философии. Было бы
нереалистично предположить, пишет он в авторецензии, что
мировоззрение, в данном случае материалистическое,
оказывает на кого-то такое сильное воздействие. Быть поклонником
какого-либо гнусного мировоззрения — это одно, а совершать
реальные преступления — это другое. Между ними лежит
огромная пропасть. Разрыв, существующий между теорией и
практикой, не так-то легко преодолеть, как это можно
подумать, взяв за основу образ Франца: И не поступки, собственно,
возмущают нас в этом насквозь испорченном человеке и не его
мерзостная философия, — а больше всего та легкость, с какой
философия склоняет его к подобным гнусностям (т.б, с.526).
Такой самокритикой Шиллер ставит себе в упрек, ни
больше ни меньше, нарушение принципа структурирования пьесы,
а именно выстраивание образов в соответствии с
философскими принципами. Свои упреки Шиллер мог бы отнести и в
адрес Карла, так как этот необузданный идеалист сконструиро-
■
114
ван по принципу: он — увлеченный приверженец
мировоззрения, в основе которого лежит великая цепь существ. И то, что
после крушения этой картины мира Карл перейдет к безумию
убийства, в это так же трудно поверить, как и в холодную
ярость нигилиста Франца. Не на основе принципов, а в
реальном мире следовало Шиллеру обосновывать развитие своих
образов, и когда, спустя какое-то время, он понял это, то
написал об этом в своей авторецензии, из которой уже кое-что
цитировалось.
Эту авторецензию Шиллер составил спустя несколько
недель после премьеры «Разбойников» 13 января 1783 года и
опубликовал анонимно в издаваемом им журнале «Вюртем-
бергский реперторий литературы». И в своих поздних
произведениях, особенно в «Дон Карлосе», Шиллер будет
обращаться к средствам публичной самооценки и самокритики. Вполне
очевидно, что он со всей серьезностью относился к идее
самосовершенствования, развиваемой им в рамках собственной
философской теории. Он не боялся указывать на свои ошибки
еще конкретнее, чем это делали рецензенты, и на них учиться.
Свое развитие как автор он хочет совершать на глазах у
публики. Не последнюю роль играет при этом и собственная
гордость, ведь тем самым он доказывает, что, вынося критическую
оценку, не боится сравнения с другими авторами. Даже по
части критики он никому не позволит опередить себя. Когда
стало известно, что глубокие и острые рецензии на «Разбойников»
принадлежат перу автора, в обществе царило, по меньшей
мере, изумление и восхищение.
Возможно, писатель Шиллер потому так легко стал
публичным критиком своих произведений, что поэтическая работа
была для него скорее не интимным процессом самовыражения,
для которого лучше, если он остается в тени, а сознательным
созданием и экспериментированием. Он никогда не забывал о
публике и воздействии, оказываемом на нее его
произведениями. Так повелось с самого начала. Однокашники Шиллера
рассказывали о том, что Шиллер с удовольствием читал вслух
собственные стихи и не стыдился критики. В ранних стихах
поэта обращает на себя внимание и риторический стиль.
Желание впечатлить всегда играло у него доминирующую роль.
Будучи еще маленьким «Фрицем», он читал проповеди своим
товарищам по шрам, стоя на стуле в черном кухонном
фартуке. Хорошо известна сцена в лесу недалеко от Штутгарта, ког-
115
да Шиллер при тусклом освещении декламировал своим
друзьям кое-что из создаваемых им «Разбойников», бурно
жестикулируя при этом. Шарфениггайну он заявил: «Мы напишем
такую книгу, которая непременно окажется сожженной рукой
палача», фраза, которая фактически без изменений будет
вложена в уста одного из разбойников. Шиллер вознамерился .
спровоцировать этот век бумагомарателей, и он с наслаждени-
» ем представлял себе, как его разбойничий гений ворвется в
отеческий мир все заполоняющих мелодрам. Сначала он едва ли
надеялся на что-либо подобное, но, когда это произошло,
казалось, что исполнилась его мечта.
Впервые о желании власти, заставляющем его творить и
известном только драматургу, имеющему власть над своей
публикой, Шиллер заявил спустя два года после премьеры
«Разбойников» в своем обращении к публике, развешенном перед
постановкой «Фиеско». Священным и торжественным было
всегда то тихое, то великое мгновенье в театре, когда сердца
многих сотен, будто по всемогущему мановению волшебной
палочки трепещут по воле художника... когда я веду в поводьях
душу зрителя и могу по своей прихоти забросить ее, словно мяч,
в небо или в преисподнюю. И преступление по отношению к
гению, по отношению к человечеству упустить это счастливое
мгновенье, когда сердце так много может утратить или найти
(т.6, С.539).
Шиллер не принадлежал к тем, кто, создав произведение,
вручают его обществу и спокойно ожидают, что из этого
выйдет. Он постоянно трудился на пиве возможного воздействия.
Его работа над произведением определялась эффектом.
Шиллер не был тем автором, чья отправная точка находилась
внутри самого произведения, он двигался в противоположном
направлении, извне внутрь. Воздействие было для него всем,
именно ему должны были подчиниться и сюжет, и способ
обработки, и идейное содержание. Принцип: «я на этом стою и не
могу иначе», был не для него. Он мог по-другому, если это
было необходимо для достижения большего эффекта. Вначале он
полагал, что для того, чтобы воздействие возросло, надо
ошарашить; вот Франц и предстает перед нами уже законченным
злодеем, позже в авторецеизии Шиллер будет считать это
одним из недостатков пьесы, ведь здесь нет развития; Франц
лишь резонирует о причинах своей злости, но зритель их не
видит. В случае с Карлом это «ошарашивание» приводит даже к
116
ошибке в структурном построении пьесы. В своем первом
монологе он предстает перед зрителем в состоянии крайнего
возбуждения, обвиняет век кастратов, говорит как человек,
порвавший со всем, и при этом он все же пишет примирительное
письмо отцу и ожидает, словно блудный сын, быть вновь
принятым отцом. И пусть одно с другим не очень-то сообразуется,
это все же должно оказать оглушающее воздействие. Драма для
Шиллера есть искусство, возбуждающее аффекты, и здесь все
зависит от виртуозного расположения эффектов, театр — это
машина для создания сильных чувств.
Но разве не рассматривал Шиллер своих «Разбойников»,
как уже говорилось ранее, в качестве экспериментальной
площадки для философских идей? Конечно. Но кто
экспериментирует, доказывает тем самым, что он сохраняет свободу в
отношении собственных идей, он испытывает их, играет с ними,
проверяет их воздействие.
Однако, говоря о «воздействии», не стоит ограничивать его
лишь воздействием на публику, Шиллер проверяет воздействие
своих идей и формулировок и на самого себя. Не забывая о
сцене внешней, Шиллер оперирует и на сцене внутренней.
Ощущение сцены было частью его в1гутреннего «Я». Шиллер уже
был общественной душой, прежде чем он стал ею для других.
Позже, став близким другом поэта, Гёте выразит свое
удивление осознанностью и ясностью, царящей у него в голове, ведь
он сам, по его же словам, ищет темноту. Создавая свое
произведение, Гёте предпочитает не говорить о нем и еще долго не
решается предоставить его свету сознания. Другое дело
Шиллер. Он должен и может говорить о своем творении не
переставая. Творческий процесс словно утопает в блестящем свете
сознания, но такого сознания, которое обладает удивительной
способностью познавать темные стороны человеческих
возможностей. Творчество всегда разворачивается у Шиллера на
освещенной сцене сознания. Именно поэтому он и разработает
эстетическую теорию, которая вследствие своей освещающей
силы стоит особняком в истории эстетической мысли.
Таким образом, в своей лаборатории Шиллер проверял
эффективность воздействия различного материала, чувств,
фантазий и идей. Он не стал адептом идей, ведь идеи сами
зависели от пего, а он лишь распределял роли, которые те играли в
мире его воображения. В последнем письме Вильгельму фон
Гумбольдту Шиллер так оценил свой идеализм: В конце концов
117
мы оба идеалисты, и стыдно, если о нас скажут, что внешнее
формировало нас, а не мы формировали его (2 апреля 1805
года) (т.7, с.бОб).
К этому внешнему стоит отнести и идеи, которым
необходимо было придать форму и в отношении которых
необходимо было сохранить творческую свободу, — только так можно
понять, как относился идейный писатель Шиллер к своим
идеям. Для Шиллера автономия разума подразумевала под собой
и автономию творческую, и эти понятия были настолько
связаны между собой, что позже он даже отважился втиснуть ее в
хитроумную и слишком надуманную кантовскую систему.
Идеи были для Шиллера чем-то вроде фигур в некой большой
игре, фигур, которые можно убирать, менять и изобретать
заново: игра, где в конечном итоге речь идет не столько об
истине, сколько о красоте. Красота же есть попытка противостоять
хаосу, энтропии действительности и создать хотя бы остров
счастья, пусть и ограниченного. Ведь мы знаем: Смерть сужде-
па и Прекрасному... Видишь: боги рыдают и плачут богини
Олимпа, / Что совершенному — смерть, смерть красоте суж-
дена (т.1, с.ЗОЗ).
Шиллер начинает игру воображения, осознавая бренность
и бесценную мимолетность прекрасного. Поэтому-то он и
называет преступлением по отношению к человечеству упустить
это счастливое мгновение, когда в театре тебе принадлежат
сердца многих сотен и ты можешь по своей прихоти забросить
их, словно мяч, в небо или преисподнюю.
Но до этого еще далеко: хотя «Разбойники» и написаны, их
еще предстоит поставить на сцене, да и Шиллер все еще не
решил окончательно связать свою жизнь с литературой и
театром.
СЕДЬМАЯ ГЛАВА
Служба военным врачом в Штутгарте. Отчаянное бахвальство.
Лаура в поэзии и в жизни. Швабские литературные распри.
Постановка «Разбойников». Штутгартские злоключения.
Бегство в Мангейм
Фридрих Шиллер читал своим друзьям фрагменты из
написанных им «Разбойников». Друзья проявили интерес к
продолжению этой работы. И так как создание поэтического
произведения для Шиллера не было делом сугубо частным, он привлек
друзей к участию в дальнейшей судьбе пьесы, которая в конце
1780 года обрела свою первоначальную концовку и теперь
должна была найти путь к зрителю и читателю.
В конце ноября 1780 года Шиллер просит о помощи в
поисках издателя своего однокашника Иоганна Вильгельма Пе-
терсена, который годом ранее после изучения курса
юриспруденции оставил академию. Петерсен имел литературные
амбиции (позднее он был сотрудником Шиллера в «Антологии
на 1782 год» и соиздателем основанного Шиллером в 1781
году журнала «Вюртембергское литературное обозрение»). Пе-
герсен к тому времени занимал место младшего библиотекаря
в герцогской библиотеке Штутгарта, и поэтому Шиллер
полагал, что друг мог иметь неплохие связи в литературной среде.
В своем письме к Петерсену Шиллер называет три
причины, по которым он придает большое значение скорой
публикации произведения.
Первое. Он нуждается в деньгах, и он узнал, что его
ровесник, Готтхольд Фридрих Штойдлин, с которым годом позже он
вступит в свой первый литературный спор, получил от одного
издателя в Тюбингене за несколько стихотворений много
дукатов. Почему же у него с его пьесой «Разбойники» этого пе
должно получиться? Шиллер не прочь воспользоваться
услугами Петерсена в качестве своего литературного агента и
обещает ему комиссионные. Так как питомцам академии не
дозволялось без разрешения герцога публиковать какие-либо
литературные сочинения, Шиллер просит своего друга строго
сохранять инкогнито. Он даже рассматривает такую
возможность, чтобы использовать имя Петерсена, но ведь он не может
этого требовать от друга! Как он пишет с некоторым кокетст-
119
вом, этого было бы слишком лестно ожидать от моего
творения. Усилия Петерсена останутся безуспешными. В Мангейме
контакты с Кристианом Фридрихом Шваном и театральным
интендантом Гербертом фон Дальбергом установятся без его
участия.
Второй причиной, по которой Шиллер желал скорейшей
публикации пьесы, являлось его любопытство, связанное с
приговором света. До сих пор он знал лишь мнение друзей, и
могло быть так, что оно просто подкупило Шиллера. Если он
хочет знать, что за судьба ждет его как драматурга, как
писателя, он не имеет права пугаться широкой читательской
аудитории.
Третья причина, которую приводит Шиллер, несколько
смягчает вторую. Впрочем, Шиллер пишет, что он не смотрит
на себя как на будущего литератора. Его специальностью
являются физиология и философия. В этом предмете он хочет
проводить дальнейшие исследования и публикации и благодаря
этому, вероятно, став профессором, быть полезным обществу.
Произведения из области поэзии, трагедии и т.д. его только
отвлекали, но то, что было начато, должно быть завершено. Он
жаждет публикации литературного труда, чтобы от него изба-
виться и освободиться для своих главных
медико-философских штудий.
В духе того хвастливого тона, который царил тогда среди
его друзей, Шиллер заканчивает это письмо: Послушай, парень!
Если это дело выгорит, я хотел бы отведать пару бутылок
бургундского.
Шиллер пишет это письмо за несколько недель до выхода
из академии. Сначала настроение его было наполнено
ожиданием, а некоторое время спустя он пережил крайнее
разочарование, так как он был прикомандирован в Штутгарте в
качестве полкового лекаря к гренадерскому полку Оже,
пользующемуся из-за своей запущенности дурной славой. Герцогом
ему было обещано хорошее «содержание», но сейчас он
очутился почти па самой низшей ступени военной иерархической
лестницы. Он всего-навсего «фельдшер», то есть занимает ту
самую позицию, которую его отец достиг без всякой
академической учебы, будучи помощником брадобрея. Месячное
жалованье в размере 18 гульденов настолько жалкое, что на него
невозможно жить, и Шиллер остается зависимым от поддержки
отца. Протест против назначения на эту должность он не име-
120
ет права заявить. Отец и сын должны даже выразить герцогу
свою благодарность.
Шиллер вместе со своим бывшим однокашником
переезжает в маленькую комнатенку на первом этаже дома своего
прежнего учителя, профессора академии Бальтазара Хауга. Он
квартирует у вдовы капитана Луизы Доротеи Фишер, которая
некоторое время спустя, даже не зная об этом, окажется
воспетой Шиллером в его одах к «Лауре». Без разрешения генерала
Шиллер не имеет нрава уехать из города; даже для посещения
родителей в Солитюде он должен спрашивать разрешение.
Ходатайство отца о том, чтобы сыну разрешили в свободное от
службы время в штатской одежде вести частную медицинскую
практику, отклоняется герцогом. Столь ненавистная для
Шиллера необходимость тянуть армейскую лямку продолжится и в
дальнейшем. Во время первого же армейского смотра, в
котором должен был участвовать и полковой медик, произошла
неожиданная встреча с Шарфенштайном, бывшим близким
другом Шиллера, который к тому времени уже стал красавцем
лейтенантом. Униформа отнюдь не подчеркивала достоинств
фигуры Шиллера. Шарфеиштайн описывает его так: «Но как
комично выглядит мой Шиллер! Втиснутый в эту форму,
тогда еще старого образца, он смотрится отменно неловко и
пошло, как все полковые фельдшеры! С каждой стороны у него
были по три твердых от гипса букли; маленькая военная шляпа
едва прикрывала затылок, в область которого была посажена
толстая длинная накладная косица; длинная шея была
сдавлена очень узким галстуком из конского волоса; обувь тоже
была отменно замечательной: из-за подложенного под белые
гамаши войлока его ноги были как два цилиндра с большим
диаметром, чем втиснутые в узкие брюки бедра. В этих
гамашах, которые и без того были сильно запачканы сапожной
ваксой, он двигался, словно аист, не имея возможности как
следует согнуть колени. В целом этот аппарат, столь
контрастирующий с самой идеей Шиллера, частенько был предметом
насмешек в нашем узком кругу».
Должно было пройти некоторое время, пока Шиллер сам
смог над этим смеяться, но сначала он чувствовал себя
глубоко униженным. Впрочем, он даже еще не догадывался, что
через несколько месяцев станет знаменитым писателем, но
предчувствие силы и гениальности все-таки уже жило в нем, и
поэтому он чувствовал себя среди оборванных и вечно пьяных
121
ветеранов своего полка не на своем месте. Дежурства в
лазарете, неизбежная необходимость находиться в обществе
опустившихся людей, грубая манера обхождения, приниженное
положение, скудное жалованье, презренная униформа — все это
Шиллер считал унизительным. Контраст между чувством
собственного достоинства и этим внешним состоянием нельзя
было почувствовать острее. Один из современников, которому
довелось тогда перед замком стать свидетелем смотра полка, в
котором служил Шиллер, говорит о возмутительных сценах
«пренебрежения к людям», которые он там наблюдал.
Спустя несколько недель Шиллер понял, что он не сможет
долго выносить службу в полку Оже, но он также знал, что для
него нет пока перспектив сменить этот род занятий на
академическую карьеру врача-философа. В сомнениях и
нерешительности, какой путь ему избрать, Шиллер на время увлекся
грубой манерой держаться, свойственной его окружению.
Случалось так, что его нужно было доставлять с пирушки домой
совершенно пьяным. Уже распространился слух о том, что
Шиллер окончательно спился. Не слишком спасало ситуацию
и то, что профессор Абель, который оставался в дружеских
отношениях с Шиллером после его выхода из академии,
опровергал подобного рода слухи. Но они держались и укреплялись
даже тогда, когда Шиллер прославился благодаря своим
«Разбойникам». Сохранился счет из постоянно посещаемого
Шиллером заведения «У вола», из которого следует, что он все
же ежедневно выпивал, хотя и в ограниченном количестве: как
правило, два бокала вина. В «Воле» собирались компании,
чтобы летом поиграть в кегли, а зимой — в карты. Какая
атмосфера здесь царила, свидетельствует записка, которую оставил
Шиллер, когда он однажды напрасно прождал своих
товарищей: «Жду объяснепий, братва. Я на месте, а здесь ни Петер-
сена, ни Райхенбаха. Тысяча чертей! Бездельники! Дьявол вас
всех побери! Я дома, если вы захотите, конечно, за мной зайти.
Адью, Шиллер». Письма этого периода также нашпигованы
сильными выражениями. Фридриху фон Ховену он пишет:
«Представь же себе этот треклятый удар судьбы! Уже 14 дней
я жду от тебя ответа и денег...»- (4 февраля 1781 года). Денег
действительно было в обрез; в «Воле» он вынужен был брать
заказы в долг, а его жилье имело вид чрезвычайно жалкий и
запущенный. Как пишет Шарфенштайн, это была «разящая
табаком и еще бог знает чем дыра», внутреннее убранство кото-
122
рой состояло из большого стола, двух скамеек, кровати; роль
гардероба играли вбитые гвозди; в одном углу — стопка книг,
а в другом — куча картофеля, посуды и бутылок из-под вина.
Шиллер презирал свое жилище, потому что он сам чувствовал
себя в нем презренным, и бывало так, что если он вечером
возвращался домой и не находил ключа, то просто вышибал дверь
квартиры ногой. Разумеется, к этому была примешана также и
так называемая «манера гения», поведение дикаря, которое
должно было привести в ужас «филистеров». Шиллер вел
себя шумно и необузданно, а подчас и вызывающе. Концу,
своему бывшему однокашнику по школе в Лорхе, который
намеревался стать богословом и который навестил его однажды на его
квартире, Шиллер заявил, что он рад, что не выбрал духовную
карьеру, так как он был бы теперь не кем иным, как «тюбин-
генским учителишкой».
Слухи о Шиллере того периода свидетельствуют не только
о том, что он был опустившимся пьяницей, но также и о том,
что он имел связи с «распутными» женщинами. Друзья это
горячо опровергали. Шарфенштайн пишет: «Шиллер не был в то
время, когда я его знал, человеком чувственным и, в сущности
говоря, женщин не любил... Его божественные эротические
описания были производными его души. Кроме нескольких
коротких интрижек с солдатскими женами, да и то в компании, я
не знаю не одного дебоша с его стороны».
«Дебош» в то время было словечком, выражавшим
распутство, а под «производными его души» подразумевались шилле-
ровские оды к «Лауре». Шиллер подружился с Луизой Фишер,
у которой он снимал комнату. Он играл с ее детьми, а она
играла ему на клавесине. Это были невинные отношения, так как
в противном случае он не представил бы эту женщину с ее
детьми в доме своих родителей. Госпожа Фишер,
жизнерадостная и образованная, была на несколько лет старше него. Она
наслаждалась тем, когда молодые люди заходили к ней, и
участвовала в их беседах. Петерсен воспринимал общение
Шиллера с этой женщиной как свидетельство того, что он в то
время еще мало обладал «пониманием телесной красоты», так как
госпожа Фишер была «как по духу, так и по виду женщиной
совершенно запущенной, настоящей мумией», —
высказывание, которое не совпадает с сохранившимися портретами этой
женщины. Оно также не совпадает с высказываниями других
друзей Шиллера, которые ее знали. Шарфенштайн, который,
123
впрочем, обычно судил о женщинах пренебрежительно,
называл госпожу Фишер «славной женщиной, которая, не будучи
хоть сколько-нибудь симпатичной и слишком одухотворенной,
все же имела нечто доброе, привлекательное и пикантное. Эта
женщина, за неимением каких бы то ни было иных существ
женского пола, и стала Лаурой. Шиллер загорелся — и
закончил этот, впрочем, не слишком долго длившийся
платонический роман — что совершенно точно — с честью от начала и до
конца».
Абель также опровергал соответствующие слухи:
«Впрочем, любил он, правда, одну персону, которой его поэтическое
искусство приписывало гораздо больше достоинств, чем она на
самом деле обладала, однако наверняка между ними не
происходило ничего того, что бы заслуживало осуждения».
Минна Кернер позднее писала о высказывании Шиллера
по поводу этого эпизода: «Та Лаура, - - рассказывал он, — чьим
Петраркой я себя объявил, была вдовой капитана,* у которой я
квартировал и которая пленила меня гораздо более своим доб-
V о
^родушием, нежели своим умом и в наименьшей степени своей
красотой. Она очень хорошо играла на клавесине и
разбиралась в том, как приготовить превосходный бокал пунша. Сама
она не имела ни малейшего представления о том, что я ее
избрал своей «Лаурой» и с восторженностью воспел... Но я
думаю, что по моим стихотворениям можно заметить то, что в
них не подразумевалось ничего такого серьезного, так как с
такого рода «излишествами» я не мог обладать ни одной
здравомыслящей девушкой, и в наименьшей степени швабкой». Эта
здравомыслящая швабка, впрочем, спустя несколько лет после
данного эпизода была настолько смела, что сбежала с еще
одним бывшим студентом Карлсшуле.
Оды к «Лауре», которые в то время сочинял Шиллер, бы-
Ц-9
ли действительно полны с трудом переносимых «излишеств»,
нигде не вырисовывался портрет реальной женщины; речь идет
о лирике разума, в которой неясный образ возлюбленной,
обожаемой в общепринятой форме, дает лишь повод для райских
и дьявольских экзальтации. Кроме того, это были этюды,
созданные во имя рифмы, ритмики и лирических оборотов речи.
Все там довольно шумное и холодное, только кое-где есть, как
самокритично замечает сам Шиллер, непристойные чувствен-
•_'
ные места, завуалированные платонической напыщенностью
(V, 905).
124
К «непристойным местам» Шиллер причислял те, которые
он позднее не включил в исправленное издание: «И мы оба —
наравне с богами — / И блаженство ввысь восходит с нами, /
Наши души во вражде с телами, / Тлен земной со всеми
кандалами — / сбрасывая — умирали // О, Лаура, те секунды
страсти, / Мы не у богов украли разве? / Дрожь, что нас когда-то
охватила, / Не первоприродная ли сила? / Ах, ужель остыла?
(I, 89-90).
Так, в стихотворении «Тайна воспоминаний» из цикла од к
«Лауре» экстаз затягивается на двадцать тесть строф, до тех
пор пока в конце беспредельно счастливые в объятьях друг
друга любовники не изрекают, что они невинно перевернулись,
обнявшись. В более позднем варианте стихотворения остались
лишь двенадцать из двадцати девяти строф, но все-таки
достаточно высокопарные и многословные. Вечно льнуть к устам с
безумной страстью (в первом варианте: «бешеной
страстью»), — /Кто ненасыщаемому счастью,/Этой жажде пить
твое дыханье / Слить с твоим- свое существованье / Даст
истолкованы? (т.1, с. 126).
В одах к «Лауре» есть также места отрезвления, где
лирическое «Я», побуждаемое насмешливыми возражениями
возлюбленной, отступает в сторону и скептически
прислушивается к собственному потоку слов. В стихотворении под
названием «Упрек. К Лауре» это звучит так: Что бежишь так
от меня, дивчина? / Разве я не гордый, не мужчина?/ Плохо ль
было нам?...Все мои доспехи, облетели, / Мишурой к ногам
прошелестели... (I, 75).
Эту и подобную блестящую мишуру Шиллер собирает,
чтобы осуществить с ее помощью запланированное на 1782-й
год издание поэтической антологии. Этой антологией он
хотел что-то противопоставить интригану Штойдлину, который
сделал себе имя благодаря вышедшему в сентябре 1781 года
«Швабскому поэтическому альманаху на 1782-й год».
Штойдлин видел себя в роли покровителя швабской поэзии
и хотел доказать, что, как сказано в предисловии к
альманаху, «чудесные ростки гения» произрастают также и среди
«бедных швабов».
В то время по всей Германии молодые люди выступали с
новыми стихотворениями и находили энергичных и
предприимчивых издателей, которые печатали поэтические сборники,
благодаря чему вскоре разгорелось настоящее поэтическое со-
125
ревнование между разными регионами Германии. В 1770 году
в Саксонии по французскому образцу вышел в свет первый
поэтический альманах и имел значительный успех у публики.
Это было время, когда в первую очередь дамы из высшего
света начинали расставлять в будуарах или прятать в ридикюлях
изящно оформленные книжечки. Такого рода поэтические
альманахи были для издателей делом прибыльным. И так год за
годом на рынке появлялись новые антологии, альманахи и
сборники.
В Швабии, с поэтической точки зрения стране
развивающейся, хотели воспользоваться конъюнктурой и доказать, что
и в этой местности процветают не только усердие, благочестие
и благопристойность, но и поэзия. Иоганн Людвиг Хубер,
Эберхард фон Гемминген и Бальтазар Хауг, учитель эстетики
у Шиллера в Карлсшуле, были первыми, кто взялся за
подрастающее поэтическое поколение. Они обращались к славным
традициям швабских миннезингеров, с гордостью называли
имя Виланда, который достиг славы и признания; не было
также забыто и имя поэта-мученика Шубарта.
Дух поэзии процветал между тем в интернате Тюбинген-
ского университета среди молодежи, которой надоели
«схоластические тернии» и которая вела себя поэтически на манер
Вертера и Клопштока. Но профессора выражали глубокую
озабоченность тем, что Вюртемберг получит «прекрасные души в
качестве будущих пасторов, которые растопят чувства и
развлекут общество песнями», вместо того чтобы поддерживать
благочестивый образ жизни.
Ровесник Шиллера, Готтхольд Фридрих Штойдлин,
который тоже учился в Тюбингене, был самым младшим в ряду
издателей, которые собирали швабскую поэтическую «команду».
Сам Штойдлин еще в семнадцать лет выступил со своими
стихотворениями, и Шубарт назвал его «лучшим поэтическим
гением среди ныне существующих вюртембержцев». Хвалебное
стихотворение в честь скончавшегося недавно швейцарца
Альбрехта фон Халлера принесло ему царское вознаграждение от
Бернского городского совета и настолько внушительный
гонорар от издателя, что Шиллер, который об этом узнал, был
исполнен зависти. Он даже не смог удержаться от критических
замечаний, когда рецензировал в 1781 году в издаваемом Баль-
тазаром Хаугом журнале штойдлинские «Опыты немецкого
Энея вместе с лирическими стихотворениями». Он писал, что
126
стихотворения Штойдлина обнаруживают много поэтического
жара, но прежде всего это хорошее чтение (V, 913). Поэту
недостает оригинальности, но не честолюбия барда. Шиллер
расточает также в покровительственном тоне похвалы, которым
Штойдлин едва ли мог порадоваться.
Когда Шиллер пишет о нем, что поэт поджаривает нас на
огне своего гения, который, впрочем, слегка отдает
каннибализмом или в его стихотворениях все пылает, громыхает и
бурлит (V, 914—915), то Штойдлин мог бы обратить оружие про-
тивника против него самого и высмеять стихотворения
Шиллера, в которых тоже все «бурлило, клокотало, грохотало,
бушевало».
Несмотря на то что Шиллер плохо высказывался о Штойд-
лине, ему из-за собственной литературной карьеры казалось
целесообразным опубликовать в этом альманахе некоторые
свои стихотворения. Правда, Штойдлин взял в сборник
только одно стихотворение, «Восхищение Лаурой», и даже
позволил себе правки и сокращения. Это возмутило Шиллера.
Штойдлин должен был быть наказан и поставлен на место.
Шиллер спешно с помощью друзей в течение нескольких
недель составляет собственную антологию, чтобы «раздавить»
соперника. Поэтические атакующие войска, которые Шиллер
вел в бой, были, впрочем, гораздо малочисленнее, нежели те,
которыми командовал Штойдлин. Более половины
стихотворений наиисал сам Шиллер. Чтобы сымитировать широкий
круг авторов, Шиллер подписывал свои стихотворения
псевдонимами; это была игра в прятки, которую Штойдлин, впрочем,
разгадал и публично высмеял.
Антология не имела коммерческого успеха, который
Шиллер себе прочил. Он даже влез в долги. И тем разгневаннее он
обрушивался на альманах Штойдлина. Заразой нужно было бы
назвать моду на подобные сборники стихотворений, пишет он,
но потом берет свои слова обратно: ему приходит в голову, что
и он сам поддался на эту моду. Шиллер спрашивает, для чего
нужны подобные альманахи, разве они не являются чем-либо
•_'
иным, как грязным каналом, который сплавляет отрыжку муз
через носы публики? (V, 915). Снова заметно, что здесь говорит
медик. Даже если Шиллер и хвалит некоторые стихотворения,
то с надменностью, но большую часть из них он подвергает
анафеме. Под благородным потоком заурядности, лягушачьим
кваканьем рифмоплетов похоронено то, что Штойдлин назвал
127
прекрасными ростками гения. В начале альманаха была
помещена титульная гравюра, выполненная на меди, которая
должна была изображать «восход солнца над землею Швабии», что
дало Шиллеру повод для острого замечания: Творец новой
эпохи смотрит так, что красные слепящие лучи восходящего
солнца не светят ему в глаза, и он, блуждая в темноте,
накалывается на колкости критики (V, 917).
Штойдлин ответил на этот выпад в следующем издании
своего альманаха, который имел название «Швабское
избранное чтение». Там в предисловии он назвал Шиллера
«шарлатаном от журналистики», а его стихи — наказанием для любого
издателя. В одном стихотворении, которое содержало намек на
присланный Шиллером текст для первой антологии, звучало:
«Вскрываю я конверт — и вдруг! / Сплошные оды мечутся
вокруг! / Сквозняк бессмыслицу по всем углам разнес / И слов
XJ
чудовищный понос — ».
Шиллер потом еще раз полемически высказался о Штойд-
лине, но с отъездом из Штутгарта его интерес к швабским
литературным распрям угас. Штойдлин сохранил обиду и
продолжал свои атаки на «литературную трясину» еще на
протяжении нескольких лет, но Шиллер больше уже не
принимал это к сведению. В конце концов Штойдлин преодолел
свою злость на Шиллера и даже восхищался им безо всякого
ожесточения. Когда осенью 1793 года Шиллер посетил
Швабию, Штойдлин возобновил с ним контакты; он был также тем
человеком, который познакомил Шиллера с юным Гёльдерли-
ном, чье лирическое дарование Штойдлин рано распознал и
поспособствовал публикации нескольких его стихотворений в
своем литературном альманахе. Штойдлина, которого Гёльдер-
t_f
лин называл «прекрасным человеком», ждал трагический
конец. Он симпатизировал Французской революции даже в ее
поздней, радикальной, фазе, из-за чего попал в Швабии в
затруднительное положение. Без службы, обнищавший, он
шатался как «бродяга», как он сам это называл. После нескольких
неудачных попыток начать новую жизнь он утопился в Рейне
близ Страсбурга в 1796 году.
Литературная вражда со Штойдлином началась тогда,
когда вышли в свет «Разбойники», сначала анонимно в мае 1781
года, но уже в октябре «Эрфуртская ученая газета» назвала
Шиллера автором пьесы. Итак, со «свежей» славой автора
« Разбойников» Шиллер мог ринуться в бой.
128
Со времени того письма Петерсену, написанного поздней
осенью 1780 года, где Шиллер просил друга о помощи в
поисках издателя, попытки напечатать текст оставались поначалу
безуспешными. Поэтому Шиллер решил издать пьесу на
собственные средства. Вероятно, при посредничестве издателя
Метцлера (но не в его издательстве) в марте текст был сдан в
печать. Расходы на это, сто сорок гульденов, Шиллер должен
был просить взаймы; из-за процентов долги росли и тяготили
Шиллера еще в течение нескольких лет.
В марте 1781 года Шиллер получил первые семь печатных
листов с предисловием и двумя первыми актами драмы. Он
отправил их мангеймскому издателю Кристиану Фридриху Шва-
ну. Очевидно, в последний момент Шиллер испугался за
самостоятельно предпринятое издание. Шван пользовался доброй
славой. Он содержал в Мангейме процветающее книжное
издательство и поддерживал обширные связи. Литературные
величины, такие, как Лессинг, Шубарт и Гёте, бывали там. Шван
и сам занимался литературой: он переводил французские
драмы и писал сочинения на эстетические темы. Более всего
были известны его связи с Мангеймским театром, который в ту
пору принадлежал к числу лучших сцен Германии. Вероятно,
именно поэтому Шиллер и обратился к Швану напрямую.
Первое письмо Шиллера к Швану не сохранилось, равно
как и отрицательный ответ Швана. Позднее он скажет, что уже
при первом прочтении обнаружил «столько внутреннего содер-
Ц-9
жания для театральной сцены», что он предложил ее
интенданту Дальбергу для Мангеймского театра. Впрочем, пьеса
походит на «новорожденное дитя», она должна очиститься от
«сора». Все же Шван отклонил и просьбу «взять на себя» и
свое издательство хлопоты по публикации « Разбойников», так
как пьеса содержала сцены, которые он «как книготорговец
считал неприличным предлагать почтенной и
благовоспитанной публике».
Еще во время печати Шиллер забрал обратно печатные
листы с предисловием и двумя первыми актами и стал делать
новый вариант. Был ли этот шаг следствием реакции Швана или
же Шиллеру независимо от этого письма пришли в голову
сомнения, мы не знаем. Но вероятно, должны были существовать
какие-то веские доводы, которые подвигли его на подобные
действия, сулящие большие расходы.
129
Если сравнить два предисловия — отвергнутое и
опубликованное, — то разница в содержании незаметна. В обоих
случаях объясняется, что пьеса, собственно говоря, не
предназначается для сцены, во-первых, потому, что театральная публика,
которая реагирует только на внешние эффекты, может
неправильно истолковать пьесу как апологию порока, чего не может
*_* t_f
произойти при спокойном чтении; во-вторых, потому, что
пьеса, будучи драматическим романом, создает определенные
трудности для театральной постановки. Оба предисловия дают
одинаковое нравственное оправдание художественному
изображению зла. Но отвергнутое предисловие местами более
радикально по своей тональности. Автор не только отговаривает
от постановки на сцене, он рассматривает как неизбежное и ту
возможность, что эта пьеса никогда Tie получит своих
гражданских прав на сценической площадке (I, 481).
Вероятно, в то мгновение, когда Шиллер обратился к Шва-
ну и тем самым непосредственно в Мангеймский театр, его
охватили сомнения, целесообразно ли обсуждать невозможность
театральной постановки пьесы как неоспоримый факт. В
опубликованном варианте предисловия он высказывается об этом
значительно осторожнее: Так как я сам не хочу, чтобы риск
постановки этой пьесы на сцене окончился неудачей (I, 487).
Отвергнутое предисловие радикальнее и в формулировках,
касающихся необходимого сочувствия злу. Например,
предложение: Мой убийца-поджигатель будет вызывать восхищение и
даже любовь, — в опубликованном варианте больше не
появляется. Шиллер хочет, очевидно, избежать любых формулировок,
которые могли бы хоть издали навлечь подозрение, что он
занимается апологией порока.
Было высказано предположение, что причиной отказа от
первого варианта предисловия был, вероятно, всего-навсего
намек на сатиру, в которой Виланд высмеял легкомыслие
публики. Сатира Виланда вызвала в Мангейме несколькими годами
ранее настоящий гнев, так как ее отнесли к местным нравам. В
этой сатире описывалось, как публика возбуждается от приче-
К*
сок и костюмов актеров, но остается равнодушной к
содержанию пьесы. Этот намек Шиллером преувеличенно подчеркнут,
он называет такой сорт публики сбродом. В опубликованном
предисловии хотя и осталось выражение сброд, дальнейшие
намеки на виландовскую сатиру были вычеркнуты. Поношение
130
публики, таким образом, осталось, но все же безо всякой связи
с мангеймской публикой.
Возможные причины отказа от первого варианта
предисловия указывают на то, что Шиллер в последний миг захотел об-
\J>
легчить своей пьесе дорогу на сцену.
Что же касается замены второй сцены первого акта — речь
идет о первом выходе Карла Моора и его сообщников, — то
есть одно политически явственное и соотносимое с
Карлом-Евгением место, которое во втором варианте отсутствует. Пассаж,
который Шиллер счел рискованным, заключается в тираде
Карла Моора, направленной против тирании: Почему
существуют деспоты? Почему тысячи и тысячи должны корчиться
из-за капризов одного-единственного желудка и зависеть от его
вздутий? (I, 957).
В конце мая 1781 года «Разбойники» вышли из печати —
анонимно и с вымышленным местом издания. Шиллер тут же
посылает один экземпляр Швану, который еще раз говорит о
пьесе с интендантом Дальбергом. В начале июля Шиллер
получает от Дальберга поручение переработать «Разбойников»
для Мангеймского театра. Дальберг, вероятно, пообещал
участие в будущей пьесе, так как Шиллер ответил на это слегка
завуалированной просьбой о финансовом содействии для
поездки в Мангейм, чтобы можно было изучить театральную
обстановку живым взглядом. Это было необходимо для
переработки «Разбойников» и для дальнейшего сотрудничества.
Правда, Шиллер не получил ни приглашения, пи денег на
путешествие, а только некоторые предложения по переделке
пьесы.
Между тем 24 июля в «Эрфуртской ученой газете»
появилась первая рецензия, в которой Шиллер мог прочесть лестный
для себя отзыв: «Если мы с нетерпением ожидали появления
немецкого Шекспира, то он — перед нами». С окрепшей верой
в себя Шиллер может теперь вести переговоры с Дальбергом.
Тот хочет, во избежание нежелательных политических
намеков, перенести действие в XVI век, то столетие, которое было
более предпочтительным для модных в то время пьес о
рыцарях в манере «Гёца фон Берлихингена». Шиллер возражает
против этого: Все характеры представлены слишком
просвещенными, слишком современнъши, так что вся пьеса погибла
бы, если бы время, к которому она отнесена, было бы изменено.
Возражения Шиллера не принимаются. Он должен также тер-
131
петь еще и другие переделки, сокращения, сглаживание острых
углов в его пьесе, и переработка, которой он сам занимается,
дается ему с трудом. После завершения работы, - пишет он 8
октября Дальбергу, — я могу Вас уверить, что я с меньшими
усилиями духа и, разумеется, с несравнимо большим
удовольствием написал бы новую пьесу, даже замечательную пьесу, чем
еще раз взял бы на себя только что проделанный труд.
В начале января 1782 года вся подготовительная работа
была завершена: автора, интенданта, актеров, и 13 января в 17
часов в Мангеймском театре началась премьера «Разбойников» с
Иффлапдом в роли Франца Моора. Царила напряженная,
полная ожиданий атмосфера. Зрители прибывали из ближних и
дальних мест. Многочисленная публика уже с 13 часов
занимала свои места. Шиллер, который без разрешения не мог
выехать из Штутгарта, тайно отбыл со своим другом Петерсеном.
По пути друзья задержались на некоторое время у
официантки в Шветцингене, так что чуть было не опоздали к началу
представления.
Это был потрясающий театральный вечер; представление
длилось пять часов. Один из очевидцев рассказывает: «Театр
походил на сумасшедший дом: округленные глаза, сжатые
кулаки, топающие ноги, хриплые выкрики в зрительном зале!
Незнакомые люди бросались друг другу в объятья, женщины,
близкие к обмороку, пошатываясь, подходили к двери. Царило
всеобщее смятение, словно в хаосе, из тумана которого
возникает новое творение». Один молодой врач из Мангейма,
вероятно особенно склонный к громкой риторике, пишет в письме:
«Это пьеса, мой друг, от которой кровь стынет в жилах, и нер-
Ч_Р
вы как у актеров, так и у зрителей должны окоченеть, если их
предки не были подкаблучниками».
Шиллер пережил это первое представление своей
собственной пьесы с удовлетворением и гордостью. Четыре дня спустя
он пишет Дальбергу: Я думаю, если Германия когда-нибудь
найдет во мне драматического поэта, то эту эпоху я, должен
начать отсчитывать с прошлой недели. Тем не менее он не
позволяет себе увлечься эйфорией и щедро расточаемым
похвалам, он сохраняет трезвый взгляд на собственное
сочинение, о чем свидетельствует составленная вскоре после
премьеры авторецензия.
После представления был дан большой ужин с актерами,
интендантом, Шваном и другими уважаемыми людьми города,
132
а Шиллер получил из театральной кассы щедрое возмещение
своих подорожных расходов. Дальберг ташке уточнил свои
предложения по дальнейшему сотрудничеству. Он указал
Шиллеру на сюжет «Фиеско» и предложил ему переработку
пьесы «Гёц фон Берлихинген» для мангеймской сцены.
Шиллер возвратился в приподнятом настроении в Штутгарт, где
ему теперь обычные служебные обязанности показались
особенно презренными. А еще его ожидал скверный сюрприз.
В декабре император Йозеф II присвоил Карлсшуле статус
университета. Полномочным посланникам герцога, которые
получили это распоряжение, император сказал, что герцог,
несомненно, будет круглосуточно заниматься изготовлением
докторов. Так оно и было. Герцог потребовал от бывших
выпускников Карлсшуле, чтобы они написали еще одну
диссертацию, чтобы их докторская степень могла быть признана и
другими университетами.
Шиллер, воодушевленный своим авторством, должен был
снова вернуться к медицинским штудиям. С чувством
подавленности он пишет 1 апреля 1782 года Дальбергу, что его
предрасположенность к драматургии составляет самую большую
часть его счастья на этом свете, но что он не может следовать
ей, так как он снова загнан в область своей ремесленной науки.
Он просит Дальберга дать непременное обещание, сможет ли
он рассчитывать на место штатного театрального драматурга в
Мангейме в том случае, если бы он выпутался из штутгартских
обстоятельств. Но Дальберг ведет себя скрытно и оставляет
Шиллера в неведении. Тот с головой окунается в работу над
«Фиеско», так как все еще верит, что после успеха
«Разбойников» его будущее — это театр, а не медицина. Во всяком
случае, он не прилагает усилий к тому, чтобы выдержать
дополнительный экзамен на степень доктора.
В конце мая герцог уезжает в Вену, чтобы лично выразить
благодарность императору за возвышение Карлсшуле до
статуса университета. Шиллер использует это обстоятельство,
чтобы еще раз тайно, без разрешения отправиться в Мангейм.
Он попросил Дальберга о том, чтобы в день его
запланированного пребывания в Мангейме, 27 и 28 мая, состоялось
представление «Разбойников»: Это ему было обещано. 25 мая он
отправляется в путь в сопровождении своей Лауры, госпожи
Фишер, и Генриетты фон Вольцоген, матери его товарища по
Карлсшуле.
133
Госпожа фон Вольцоген была баронессой из Майнингена,
четверо ее сыновей учились в Карслшуле, и поэтому часть
года она проводила в Штутгарте, а остальное время
путешествовала или жила в своем имении в местечке Бауэрбах под Май-
нштгеном. Ее старший сын, Вильгельм фон Вольцоген, в
дальнейшем муж свояченицы Шиллера Каролины, был на три
года моложе Шиллера. Он изучал камералистику; из-за другой
специальности и разницы в возрасте он не принадлежал к
кругу близких друзей Шиллера. Интересующийся литературой,
Вильгельм фон Вольцоген восхищался неожиданно
снискавшим славу бывшим товарищем по учебе. Когда «Разбойники»
вышли в свет, свежеотпечатанные экземпляры переходили в
академии из рук в руки; здесь, конечно, знали, кто скрывается
под маской инкогнито. После прочтения пьесы Вильгельм фон
Вольцоген написал в своем дневнике об ее авторе: «В ней
полностью видно юного страстного необразованного гения; он
может еще стать одним из замечательнейших умов Германии,
если он уже им не является. Мы наверняка не читали еще ни
одной пьесы, написанной немцем, которая напоминает
божественную манеру Шекспира, только жаль, что в некоторых
сценах появляются отдельные неприличные места, всегда очень
уместные, но все же неприличные».
Вильгельм фон Вольцоген восторженно рассказал своей
матери, женщине образованной, кое-что об этой новой звезде
на литературном небосклоне; Генриетта заинтересовалась и
стала искать знакомства с Шиллером. Вскоре она стала для
него подругой, испытывающей материнские чувства. Несмотря
на то что она в интересах своих сыновей, обучавшихся в Карл-
сшуле, должна была ценить хорошие отношения с герцогом,
она помогала Шиллеру, когда его конфликт с
Карлом-Евгением обострился. Она обещала ему убежище в своем поместье в
Бауэрбахе в том случае, если тот попадет в беду. Вскоре
Шиллер воспользуется помощью, которую ему предоставит эта
мужественная женщина.
В конце мая Генриетта фон Вольцоген сопровождает
Шиллера в его второй тайной поездке в Мангейм. Ожидаемое
представление «Разбойников», к разочарованию
путешественников, не состоялось, так как некоторые актеры были в отпуске.
И все же у Шиллера могло сложиться впечатление, что
поездка была небезуспешной, так как в беседе с Дальбергом
последний обещал Шиллеру, пожав ему руку, что он попытается сде-
134
латъ все, чтобы выхлопотать у герцога разрешение для
переезда Шиллера в Мангейм. В этой беседе, вероятно, Дальберг
впервые намекнул на сюжет «Дона Карл оса».
Во время поездки в Мангейм труппа театра обращалась с
Шиллером очень уважительно, и поэтому он вернулся,
вопреки гриппу, который он подцепил, обнадеженным и
окрыленным обратно в Штутгарт, где обстановка показалась ему еще
более угнетающей, чем раньше. Он должен был, наконец,
найти выход из штутгартских злоключений. И поэтому он
решается открыто обратиться к Дальбергу, с которым до сих пор
общался чуть ли не раболепно. В письме от 4 июня он описывает
Дальбергу невыносимую ситуацию в Штутгарте с очень
личной точки зрения, он доверяется Дальбергу и предлагает ему
подробный план, как можно было бы сподвигнуть герцога на
то, чтобы он дал свое одобрение на переезд Шиллера в
Мангейм. Шиллер показывает, что он понимает толк в том, как
играть чувствами других. Так он советует Дальбергу, чтобы тот в
письме к герцогу вставил слова: Вы считаете меня его
творением, его воспитанником, выученным благодаря его содействию
и в его академии, и что, таким образом, благодаря этому
признанию главный комплимент был бы сделан его учебному
заведению, чьи питомцы найдены и оценены различными
знатоками. Таким образом, нужно было сначала польстить герцогу и
затем обратиться с просьбой, чтобы он отдал в пользование на
ограниченный срок своего гениального питомца Шиллера в
Мангейм. Герцогу можно было бы пообещать какой-то срок, по
истечении которого я снова принадлежал бы моему герцогу.
Шиллер рекомендовал также сослаться на то, что в Мангейме
существует возможность обеспечения в качестве медика:
чтобы меня не донимали мелочами под предлогом заботы о моем
благе.
Это письмо предлагает отточенную и холодно
рассчитанную тактику, в нем царит гордое чувство собственного
достоинства {я обладаю самолюбием достаточно для того, чтобы
заслуживать лучшей судьбы), и прежний просящий тон уже не
безропотный, а наоборот, он должен обязать интенданта,
который охотно уклонился бы от хлопот. Должен ли я передать
себя в ваши руки, прекрасный человек?
Достаточно любезный, но нерешительный Дальберг тем
скорее отступит, чем настойчивее на него давят. Он не хотел
бы брать на себя никаких обязательств и, конечно, не хотел
135
портить отношения с герцогом. Он не доверяет предложенной
Шиллером тактике и ничего не предпринимает.
В то время как Шиллер все еще с нетерпением ожидает от
Дальберга какого-нибудь знака, действия, ответа, случается
так, что вернувшийся к тому времени из Вены герцог узнает о
тайном, несанкционированном путешествии Шиллера. Одна
из двух сопровождавших Шиллера дам, госпожа Фишер или
Генриетта фон Вольцогеи, очевидно, проболталась. Герцог
вызывает Шиллера к себе в Хоэнхайм, бранит его, допытывается
о соучастниках. В действительности Шиллер посвящал в тай-
^J
ны своей поездки одного из своих полковых командиров,
полковника фон Pay. Шиллер признал свой проступок, но отрицал
соучастие полковника, чтобы охранить последнего от гнева
герцога. То, что Шиллер нес свою медицинскую службу
крайне небрежно, было известно, как было известно и то, что он
ничего не делал для того, чтобы сдать, как было приказано,
дополнительный экзамен на степень доктора. Это было
служебным проступком. Но несанкционированное удаление
«за границу» считалось у герцога уже чуть ли не
дезертирством. Он приговорил Шиллера к двухнедельному аресту,
который тут же был принят к исполнению, и запретил ему всякие
\J
дальнейшие поездки за границу.
До середины июля Шиллер находится под арестом на
гауптвахте, он работает над прославляющей свободу драмой
«Фиеско», размышляет о своей прежней жизни и о своих
будущих перспективах. Едва выйдя из-под ареста, он составляет
еще одно требовательное послание Дальбергу. Последний мог
бы в конце концов увеличить свои усилия в связи с герцогом.
Если в ближайшее время ничего не произойдет, то может стать
уже слишком поздно. 15 июля он пишет Дальбергу:
Единственное, о чем я могу Вам сказать с полной уверенностью, так это
то, что эти несколько месяцев, когда я не имел счастья
приехать к Вам, больше уже не оставляют шансов, что я
когда-либо смогу у Вас жить. Тогда я буду вынужден предпринять
какой-нибудь шаг, который сделал бы для меня пребывание в
Мангейме невозможным. Здесь Шиллер намекает на свое
бегство из Штутгарта, причем к этому моменту он уже
догадывается, что он как беженец в соседней стране не будет защищен от
преследований герцога и поэтому должен будет искать
прибежища в отдаленных землях; возможно, он думает о
предложении Генриетты фон Вольцогеи.
136
Дальберг не реагирует. Шиллер ждет. Его настроение
омрачается. В эти дни ему на помощь приходит новый друг, Ан-
дреас Штрайхер, музыкант, который был на два года младше
Шиллера. Штрайхер в июне 1781 года был представлен
Шиллеру Иоганном Рудольфом Цумштегом. Уже в это мгновение
Штрайхер, который до сих пор представлял Шиллера только
по его сочинениям, узнал в этом поэте как раз того самого
молодого человека, который бросился ему в глаза на празднике в
честь окончания Карлсшуле и который произвел на него тогда
«неизгладимое впечатление».
Штрайхер вырос у своей матери, вдовы ремесленника, в
нищенской обстановке. Он рано посвятил себя музыке и вскоре в
игре на клавесине добился такого мастерства, что мать
пожертвовала все свои сбережения, чтобы ее одаренный сын мог
продолжить обучение в Гамбурге у Карла Филиппа Эммануэля
Баха. Переезд в Гамбург был намечен на 1783 год. Путешествие
уже было на носу, когда Шиллер начал строить свои планы
побега и посвятил в них нового друга. Штрайхер с готовностью
заявил, что он рад будет на случай побега не просто
сопровождать своего друга, но также поддержать его отложенными на
обучение в Гамбурге деньгами. Шиллер еще колеблется. А в
августе случается новое досадное осложнение.
Среди ненавистных надзирателей в Карлсшуле был один
выходец из кантона Граубюнден по имени Купли. В его огород
был брошен камень в виде хвастливого высказывания
разбойника Шпигельберга, для которого преступнику не хватило бы
интеллекта: «Но [сделать] мошенника — это дело посложнее!
Тут необходим подлинный национальный гений и известный, как
бы это сказать, мошеннический климат. Поэтому я советую
тебе, съезди-ка в Граубюнден. Это Афины нынешних плутов»
(т.1, с.417).
В Гамбурге один вестфалец по имени Вредов почувствовал
себя оскорбленным подобным выпадом и заявил там протест в
газете. Эта газетная статья и некоторые вызванные ею
возмущенные отзывы настоящих жителей Граубюндена попали в
руки садовому инспектору из Людвигсбурга Иоганну Якобу
Вальтеру, который завидовал тому уважению, который
снискал у герцога отец Шиллера. Вальтер передал материалы
герцогу, и тот раздул из этого дело государственной важности.
В конце августа Шиллер снова был вызван к герцогу. На
сей раз герцог запретил ему любую дальнейшую писательскую
137
деятельность, не связанную непосредственно с медициной, под
угрозой отставки или заключения в крепость. Тем самым для
Шиллера пребывание в Штутгарте становилось невозможным.
Но прежде чем осуществить побег, он предпринял последнюю
попытку переубедить герцога. 1 сентября Шиллер написал ему
письмо, выдержанное в верноподданническом тоне, но по
сути — гордое. Он оправдывает свою творческую деятельность
тем, что ему при жалком денежном довольствии от герцога не
остается ничего иного, как обеспечивать себе дополнительные
доходы путем писательства. Кроме того, он за это время
приобрел славу, которая также идет на пользу Карлсшуле. Более
того, почести, которые ему, Шиллеру, оказываются, достаются
также и герцогу, которого он называет инициатором своего
образования. Тактика Шиллера такова: льстить герцогу,
представляя собственные достоинства как плод его, герцога, труда.
Но герцог отказался принять письмо.
Теперь Шиллер решается на побег. Он долго колебался,
принимая во внимание положение отца, который зависел от
Карла-Евгения. Нужно было считаться с тем, что герцог мог бы
мстить отцу за непослушание сына. Чтобы отец потом смог
доказать, что совесть его чиста, что он ничего не знал о планах
сына, Шиллер его ни во что не посвящает. Он доверяется
только старшей сестре Кристофине.
В тот момент, когда Шиллер решился на побег, к нему
вновь вернулись воодушевление и веселость. День и ночь он
работал над «Фиеско»; он хотел по возможности закончить
пьесу еще до побега, чтобы иметь возможность представить се
в Маигсйме. Это упоение творчеством в последние недели
перед побегом Штрайхер описывает так: «Как светлели его
воспаленные от бессонницы глаза, когда он рассказывал, как
далеко он уже продвинулся и как он хотел бы надеяться закончить
свою трагедию значительно раньше, чем он думал в начале.
Чем шумнее был мир вокруг него, тем больше он погружался
в свой внутренний мир, не проявляя ни малейшего интереса ко
всему тому, что тогда занимало всех и каждого».
То, что тогда «занимало каждого», было подготовкой к
роскошному празднеству по случаю визита русского великого
князя и будущего императора Павла с его супругой, племянницей
герцога. Еще раз должно было воскреснуть полное
расточительства великолепие былых придворных праздников. У
банкиров из Франкфурта и Страсбурга были заняты немыслимые
138
суммы. Знатные гости прибывали со всей Европы, а в качестве
свиты — владельцы балаганов, картежники, шлюхи,
бездельники и лодыри. Большой свет и полусвет кишел в Штутгарте и
его окрестностях. Кульминацией шестидневной праздничной
сумятицы должна была стать придворная охота, какую еще не
видывали в Германии.
Шиллер, погруженный в «Фиеско», точно принимал во
внимание и «шумный мир вокруг», устраивая планы своего
бегства в соответствии с планами торжеств. Он определил 22
сентября как день побега. Вечером этого дня все гости и
половина Штутгарта должны были быть на ногах, чтобы увидеть
грандиозное зрелище праздничного освещения Солитюде и
венчающий праздник фейерверк. Это было бы самым
подходящим моментом для того, чтобы незаметно отбыть из города.
За несколько дней до намеченного срока в Штутгарт на
праздник в качестве гостя прибыл и Дальберг. Шиллер нанес
ему короткий формальный визит, не доверяя своих планов.
Шиллер за это время достаточно хорошо его узнал, чтобы
понимать, что Дальберга только напугает то, что его сделают
заговорщиком .
Между тем приготовления к побегу продолжались.
Одежда, книги, рукописи были незаметно перенесены на квартиру
Штрайхера. Нанесен последний визит родителям (вместе со
Штрайхером). Отец, взволнованный и воодушевленный
большим торжеством, пустился в рассказы. Шиллер ненадолго смог
уединиться с матерью. Он рассказал ей о скором побеге. Она
плачет, но не пытается его удержать. В день побега в 8 часов
утра Шиллер возвращается со своего последнего дежурства в
лазарете. Повозка собрана, клавесин Штрайхера тоже
погрузили. Штрайхер приходит за Шиллером. Но тот еще не готов.
Когда Шиллер складывал свои книги, ему в руки попал томик
с одами Клопштока, и, вместо того чтобы упаковать его, он стал
читать и затем начал сочинять ответную оду. «Несмотря на все
настоятельные просьбы, все побуждения, — пишет
Штрайхер, — он должен был сначала выслушать оду, а затем ответное
произведение... Прошло немало времени, прежде чем поэт
отвлекся от своего предмета и снова смог перенестись в наш мир,
в сегодняшний день, к текущей минуте». Штрайхер еще
некоторое время помогает своему другу укладывать вещи, затем
покидает его. Вечером, в девять часов, Шиллер приходит наконец
на квартиру Штрайхера. Шиллер с гордостью показывает ему
139
пару старых пистолетов, которые он спрятал под жакетом. У
одного из них отсутствует кремень, у второго разбит затвор.
Это всего-навсего театральная бутафория.
Путь ведет сначала к Эслингенским воротам, где лейтенант
Шарфешнтайн, который в последний момент был посвящен в
план побега, командовал караулом. Таким способом легко
можно пройти контроль. На прямой, словно стрела, дороге в
Людвигсбург они видят в небе красные отсветы грандиозного
фейерверка. В отдалении можно увидеть Солитюде. Так
светло, что Шиллер может показать другу очертания дома, где
живут его родители. Во время первой остановки, в два часа ночи,
Шиллер достает тетрадь неизданных стихотворений Шубарта
и при мерцании свечи читает другу стихотворение о «
Княжеском склепе», яркое обвинение тирании на земле Вюртемберг,
которую они только что оставили позади.
Только одиннадцать лет спустя Шиллер с последним
визитом снова вернулся сюда, на родину, которую он покидал при
свете огней этой ночью, 23 сентября 1782 года.
*
можности истолковать свой вынужденный шаг как вполне
законный.
В те последние недели, окрыленный решением бежать,
Шиллер с упоением работал над своей драмой «Фиеско». Но в
Мангейме его разочаровывают скептические, пугливые
опасения Майера и ужас в глазах людей, которые видели перед
собой прославленного автора «Разбойников» исключительно как
беглеца. Вероятно, и сам он испугался собственной дерзости.
Но это было лишь временным приступом отчаяния. Он
приходит в себя и снова собирается с духом. Здесь задета его честь.
Это дело чести. Если герцог сможет пойти на уступки —
хорошо, тогда он бы вернулся, но оправданным и в качестве
победителя. Но ни в коем случае он не приполз бы обратно на
коленях. Этого не позволяло ему его самолюбие. Он недаром
проникся бунтарством своих разбойников, недаром он был
переполнен пафосом великого заговорщика Фиеско, о котором
в данный момент писал. Он знал, чем он был обязан своим
фантазиям. Не только самоуважение, не только преданность
своему делу были поставлены на кон. Он понимал, что за это
время стал общественной персоной. Новость о его побеге
распространялась по Штутгарту и за его пределами с быстротой
молнии. Прошло совсем немного времени, и вскоре вся
литературная Германия знала об этом. Также и по этой причине он
не мог подорвать свою репутацию. Шиллер осознавал себя
личностью, которая возлагает на себя определенные
обязательства, став фигурой общественно значимой. Он и далее должен
был играть ту роль, которую для себя наметил. Побег был
актом выражения свободы, и он сам больше не был свободен по
отношению к этому свободолюбивому поступку. Действие есть
нечто большее, чем идея; от последней можно отказаться, от
первого — нет. Ему можно только изменить. Но этого* Шиллер
не хотел. Он собрал все свои силы, все свое самоуважение,
чтобы продолжать то, на что он однажды решился.
Самым трудным было не поддаться на уговоры членов
семьи. Шиллер знал, что отец желал его возвращения
практически любой ценой. И на следующий год он все еще регулярно
будет получать известия от семьи. Когда он в Мангейме так
сильно разочаровался в своих ожиданиях и когда родители еще
раз настоятельно попросили сына, которого они считали
умницей, вернуться домой, Шиллер написал 1 января 1784 года
сестре Кристофине: Счастье твоего брата может навеки рух-
143
нуть в этом деле из-за подобной опрометчивости. Большая
часть Германии знает о моем отношении к герцогу и о
характере моей отлучки. Мною интересовались из-за герцога. Каким
ужасным было бы внимание публики (а ведь это и определяет
мое полное будущее счастье), как сильно пострадала бы моя
репутация из-за подозрения, что я ищу этого возвращения! Что
мои обстоятельства вынудили меня усомниться в моем
прежнем шаге, что я вновь ищу на моей родине тех благ, которых мне
не удалось получить в большом мире! Открытое, благородное
мужество, которое я выказал моим вынужденным отъездом,
получит название детской поспешности, глупой жестокости,
если я не отстою своей правоты.
Шиллер сделает все, чтобы это мужество первого своего
шага отстоять и в дальнейшем. Он пишет сестре, что он
будет достаточно мужествен даже в том случае, если отец в
будущем сможет выхлопотать у герцога обещание, что по
возвращении сын не будет наказан, и последний, как можно ожидать,
изменит себе; итак, даже тогда он будет достаточно
мужественным, чтобы отомстить за нанесенное ему оскорбление
посредством открытого противостояния герцогу. Но это не может
быть в интересах отца, который получает от Карла-Евгения
хорошее довольствие. Отец, таким образом, должен считаться с
мужеством своего сына и отказаться от того, чтобы
стремиться установить худой мир между ним и герцогом.
Шиллер решил не возвращаться домой пи в коем случае,
разве что победителем, а это означало: писателем, который
больше уже не должен спрашивать о том, имеет ли он право
писать. Вдали от штутгартских злоключений ему только теперь
по-настоящему открылась чудовищность герцогской тирании.
Никто не имеет права — в этом он теперь убежден —
препятствовать другому человеку в том, чтобы тот развивал свой
талант, свою одаренность. Это преступление - сдерживать
самосовершенствование другого человека. Отстаивание этой идеи
Шиллер считает своим предназначением, столь же
обязательным, как и религия. Герцог, который хочет ему в этом
воспрепятствовать, совершает преступление против совести
человеческого существа, против права индивидуума привнести во
Вселенную богатство своего внутреннего мира.
Когда бедственное положение и унижения в Мангейме
действуют на Шиллера подавляюще, тогда он воодушевляется
мыслями, что он не для того противостоял герцогу, чтобы те-
144
перь позволить будничным неурядицам взять верх над собой.
В минуты подавленности он вспоминает высказывание Карла
Моора: Муки отступят перед моей гордыней! (т.1, с.469).
Гордый акт побега станет для него самого мифом, который ляжет
в основу его новой жизни.
С конца сентября до конца октября 1782 года генерал Оже
по поручению герцога четырежды будет призывать Шиллера
вернуться — с расплывчатыми обещаниями, что по отношению
к нему «будут милостивы». Но Шиллер жаждет не милости, а
своего права, и поэтому он не следует требованиям вернуться;
в конце концов он 31 октября 1782 года был вычеркнут из
полковых списков как «уклоняющийся от службы» и тем самым
был объявлен дезертиром.
В эти недели после побега жилось Шиллеру
действительно плохо. Его почти завершенная драма «Фиеско» лежала в
дорожном багаже. Пьеса должна была быть прочитана актерам
театра в доме Майера. Было 27 сентября, четыре часа
пополудни, когда Шиллер начал чтение. Общество собралось вокруг
большого круглого стола. Штрайхер выразительно описал эту
сцену. Хотя первый акт «был прочитан при полной тишине,
все же не было ни малейших признаков одобрения. Во время
короткой паузы говорили о новостях дня и не прекратили
этого даже тогда, когда Шиллер приступил к чтению второго
акта. Затем стало тихо, никаких знаков похвалы или успеха. Под
конец по кругу стали передавать друг другу закуски, фрукты
и виноград. Все болтали. Один из актеров предложил
прогуляться в саду. Через четверть часа все разошлись, остались
только хозяин вечера Майер и Иффланд. О чем-то еще
говорили, но опасливо избегали подводить разговор к только что
прочитанной пьесе. Перед уходом Майер отвел Штрайхера в
сторону и спросил его: «Скажите мне теперь совершенно
искренне, вы точно знаете, что это тот самый Шиллер, который
написал «Разбойников»?» И — чтобы объяснить
ошеломленному Штрайхеру причину своего вопроса — продолжил: «Ведь
«Фиеско» есть худшее, что я когда-либо слышал в моей
жизни, и ведь это невозможно, что тот же самый Шиллер,
который написал «Разбойников», мог сделать нечто столь пошлое
и ужасное, как эта пьеса».
Штрайхер оставляет ему рукопись, и Майер за ночь ее
прочитывает. На следующее утро его суждение о пьесе стало
совершенно иным. «Вы правы, — сказал он Штрайхеру, — «Фи-
145
/
еско» — это шедевр, и проработана она намного лучше, чем
«Разбойники»!» В том, что пьеса при первом слушании
произвела на него такое скверное впечатление, он винит «швабское
произношение» Шиллера и ту «проклятую манеру, с которой
он декламирует». Он читает именно в том высокопарном тоне,
который может означать одно из двух: либо он уходит,
хлопнув дверью, либо это главная реплика героя».
Действительно, стиль декламации Шиллера пользовался
дурной славой. В Карлсшуле он однажды сыграл в гётевской
драме «Клавиго» и своими выпученными глазами, дикой
жестикуляцией и криком непроизвольно вызвал хохот публики.
Но это не послужило ему уроком. Он упорно продолжал себя
считать хорошим актером. После этого провального чтения у
Майера Шиллера ни на минуту не посетила мысль о том, что
скверное впечатление могло быть связано с его манерой
декламации. Напротив. Он жаловался на глупость актеров и
высказал Штрайхеру опасение, что если ему не принесет успеха то,
что он сочинит для театра, то он сам станет актером, так как,
само собой разумеется, по-настоящему никто не смог бы
декламировать так, как он.
То, что Майер пересмотрел свое суждение о «Фиеско»,
вновь дало Шиллеру повод надеяться. Правда, он должен был
еще дождаться мнения интенданта, но того, что его пьеса
может быть отвергнута, как он полагал, больше не следует
опасаться. Он возлагал на это произведение большие надежды, он
считал эту пьесу более удачной, чем «Разбойники». Концу,
старому школьному другу* который навестил его, он сказал:
«Пускай мои «Разбойники» идут ко дну! Мой «Фиеско» должен
остаться». А Абель рассказывает, как Шиллер однажды
ринулся в свою комнату и с воодушевлением стал декламировать ту
сцену из пьесы, в которой Фиеско подходит к картине
художника Романо и сопоставляет значение художественного
произведения с великим поступком: Ты гордишься тем, что умеешь
создавать видимость жизни на безжизненном холсте, ценою
малых усилий увековечивать великие дела?... Поди! — Твоя
работа — скоморошество! Видимость, уступи место деянию/.. Я
сделал то, что ты лишь намалевал (т.1, с.549—550).
Эта сцена весьма примечательна, так как здесь
художественными средствами с пренебрежением показаны мечты
художника. Шиллер мечтает принять роль человека реально
действующего и с презрением смотрит на паутину слов, из
146
которых состоит эта мечта о деятельности. Так часто
происходило с Шиллером во время сочинительства. Порыв его
воображения переносил его из мира слов в мир действительности, и
тогда он забывал, что также создавал всего лишь слова. Слова
были для него настолько реальны, что он становился тем, о ком
он писал. Удивительно то, насколько быстро он переходил от
горячности энтузиазма к холодному созерцанию и мог
предаваться трезвым размышлениям о технических аспектах
произведения. После того как он в упоении декламировал
упомянутую сцену, он говорил Абелю, что он намерен придать этому
произведению то совершенство, которого на немецких
подмостках до сих пор еще не видели; она не должна была быть
испорчена ни единой ошибкой (что еще было присуще
«Разбойникам»), что он должен этой пьесой заложить основы своей
славы драматического писателя.
Он хотел эту пьесу представить Лессингу, Виланду и Гёте
для отзыва, сразу же после ее публикации. Но потом он этого
не сделал. Лессинг умер, прежде чем рукопись могла была быть
ему выслана; о Виланде и Гёте он слышал, что они
неблагоприятно отзывались о «Разбойниках», и поэтому не решался
представить им свое новое произведение. Вероятно, Шиллер
слышал о письме Виланда к Вертесу, в котором есть строки: «Гёте
испытал тот же самый ужас, что и я, от этого странного
кипения рассудка, которое сейчас на берегах Неккара имеют
обыкновение принимать за гений». Много лет спустя, когда
Шиллер уже давно умер и в воспоминаниях Гёте стал чуть ли не
святым, он [Гёте] рассказывал с определенным
удовлетворением, что услышал впервые о «Разбойниках» Шиллера от
одного князя в Мариенбаде: «Если бы я был Богом, — сказал
князь, — и собирался сотворить мир, и в это мгновение
предвидел, что в нем будут написаны шиллеровские «Разбойники»,
то я бы его не сотворил». Подобное суждение из уст князя в то
время, когда Шиллер еще чувствовал себя «великим парнем»,
наверняка польстило бы ему.
Работать над «Фиеско» Шиллер начал после постановки
«Разбойников». Впрочем, эта историческая фигура
интересовала Шиллера еще тогда, когда он писал свою третью
диссертацию. В ней речь шла о сладострастии Фиеско, которое было
упомянуто в качестве примера того, как сила духа и
сексуальная страсть могут сближаться, в противоположность
расхожему мнению о том, что сладострастие вредит духу.
147
Фиеско, согласно исторической традиции, был человеком
сильным, хитрым, красивым, пользовался успехом у женщин,
происходил из гордого дворянского рода и был преисполнен
непомерными политическими амбициями. В середине XVI века он
был душой заговора против династии дожей Дориа, которая
правила в то время Генуэзской республикой. Портрет
исторического Фиеско нечеткий. Неизвестным является и то, хотел ли он
освободить республику от господства дожей или же стремился
создать свою собственную. В любом случае он мог, как и его
противник Андреа Дориа, считаться человеком эпохи ренессанса,
стоящим по ту сторону добра и зла. Величие было в нем
привлекательным, но вопрос о том, было ли это величие
добродетельным или преступным, и впредь может оставаться открытым.
Руссо, у которого Шиллер, вероятно, впервые встретил
упоминание об этой фигуре, не давал на этот вопрос четкого ответа. Он
приводит графа Фиеско как пример того, что (как можно узнать
еще у Плутарха) нестабильные республики есть место
произрастания великих характеров, которые предаются либо великой
добродетели, либо идут на выдающееся преступление, или же
склонны к тому и другому одновременно. В «стабильных госу-
^У
дарствах герои — редкость, они кишат «людьми средней
величины», которые едва ли заслуживают «кисти художника».
Для Шиллера, который, как и Руссо, был поклонником
великих характеров Плутарха, существовала иерархия
ценностей, согласно которой высокая добродетель, само собой
разумеется, стояла иа нервом месте. Но второе место занимал
выдающийся злодей, а не человек добропорядочный, но
слабый (что было бы корректным с точки зрения морали),
который у Шиллера удостаивался лишь третьей позиции. К
отбросам рода человеческого причислялись тс, кто был
одновременно злым и слабым. Это негодяи, подобные царедворцу
Ломеллино в «Фиеско» или гофмаршалу фон Кальбу в
«Коварстве и любви» — на их долю выпадает полное презрение.
Не большее значение имеет — по крайней мере для
драматурга — серая (во всех смыслах) масса посредственностей, той
человеческой популяции, которую Шопенгауэр позднее
назовет «сфабрикованный человек». Посредственность, как
известно, непригодна для драмы.
Неизвестность в отношении Фиеско могла, таким образом,
соотнести его как с первым, так и со вторым местом в шкале
ценностей Шиллера: итак, был ли он образцом добродетели
148
или выдающимся злодеем, оставалось под вопросом. Шиллер
начал свою работу над пьесой, не решив для себя этого
вопроса. Если бы он его решил, он бы понял, какую концовку он
придал бы пьесе. Но он не знал ответа. Он не знал его и
тогда, когда все уже было готово за исключением последних двух
сцен. Он продвинулся со своей пьесой до самого финала,
когда в этот вечер, 27 сентября 1782 года, в доме режиссера Майе-
ра прочел ее, произведя на слушателей столь скверное
впечатление.
Шиллер углубился в исторические описания, чтобы
познакомиться с политической машиной и местным колоритом того
заговора 1547 года; он штудировал торговую статистику и
изучал документы, касающиеся повседневной культуры того
времени. Он делал это не для того, чтобы выяснить историческую
правду, а для того, чтобы своим экспериментам в области
драматических характеров придать исторически правдоподобное
обоснование. Театральный эффект правдоподобия был для
него важнее исторической правды. Тому, кто захотел бы все же
потребовать верности историческим-фактам, он отказал в
пересудах, дав в послесловии к сценическому варианту пьесы
справку: Я беру на себя смелость покончить с историей, так
как я не его [Фиеско] биограф; единственный великий порыв,
который я благодаря смелой фантазии вызываю в груди моих
зрителей, уравновешивает у меня строгую историческую
точность (I, 753).
Историческая точность требовала бы, чтобы Фиеско погиб
в результате несчастного случая. Потому что в
действительности Фиеско во время восстания заговорщиков упал в воду и
утонул, когда он в гавани спешил взойти по трапу на корабль,
чтобы там усмирить бунтовавших рабов-гребцов. По мнению
Шиллера, подобного рода жалкая «случайность» не могла
играть решающую роль в драме характеров. Герой либо погибает
от рук своих врагов, либо он терпит крах по своей собственной
вине. Но споткнуться — это не крах. Таким образом, Шиллер
не знает, что делать с исторической правдой в этом
знаменательном эпизоде. «Фиеско» должна закончиться иначе, а вот
как, это он и надеется разгадать, руководствуясь внутренней
динамикой — он называет ее машиной пьесы.
В начале пьесы существует заговор знати против
господства Андреа Дориа и, в частности, против его неотесанного и
тираничного племянника Джанеттино — заговор еще без предво-
149
дителя. Имеется твердый, как сталь, республиканец Веррина и
несколько недовольных, которые по большей части преследуют
корыстные цели: один хочет воспользоваться восстанием,
чтобы завоевать даму; другой — чтобы избавиться, от долгов; еще
один — чтобы взять в жены свою невесту, дочь Веррины. Но
Фиеско ведет себя так, что для заговоршиков остается
неясным, принадлежит ли он к их числу или нет. Он ухаживает за
гнусной сестрицей интригана Джанеттино и вообще ведет себя
как принципиальный любитель наслаждений. Сама Леонора,
жена Фиеско, не знает, к чему она нужна своему мужу.
Только Джанеттино не позволяет ввести себя в заблуждение. Пото- -
му что он подозревает в Фиеско заговорщика, скрывающегося,
под маской сластолюбца, он его опасается и поэтому хочет
убрать со своей дороги. Джанеттино в своей ненависти
придерживается того правила, которое Шиллер, впрочем, полагает
действенным и для любви: он писал однажды 14 апреля 1783
года в письме Райнвальду, что нужно любить другого не за то,
чем он уже является, а за то, чем он еще смог бы стать.
Именно так Джанеттино и ненавидит Фиеско: не за то, что тот
делает в настоящий момент, а за то, что он смог бы сделать.
Покушение на убийство раскрыто мавром, который должен его
совершить, благодаря чему Фиеско заполучает в свои руки
человека, с чьей помощью он сможет осуществить встречную
интригу. Наконец наступает момент, когда Фиеско открывает
заговорщикам свои собственные тайные приготовления к
перевороту. Он тут же признан главой заговора. Только Веррина
сохраняет недоверие и опасается, что Фиеско стремится не к
основанию республики, а к титулу дожа. Веррина говорит
заговорщикам: Если Генуя станет свободной, Фиеско умрет.
Мы становимся, таким образом, свидетелями тройного
заговора: Джанеттино готовит переворот, который должен
свергнуть Андреа Дориа и устранить оставшихся республиканцев;
заговорщики во главе с Фиеско подготавливают свержение
династии Дориа, а Веррина планирует в случае успеха этого
заговора убить Фиеско.
По сравнению с этим сложным механизмом построение сю-
жета «Разбойников» — грубая простота. Здесь два до
крайности заостренных характера, которые творят свои бесчинства,
приведены параллельно, без непосредственного
соприкосновения. А там с трудом просматриваемое сцепление и стечение
обстоятельств. В «Разбойниках» царят экстремальные и пылкие
150
чувства, в «Фиеско» — утонченный и холодный расчет. В
«Разбойниках» я взял сюжетом жертву неумеренного чувства, —
пишет Шиллер в предисловии к пьесе, - здесь я пробую
противоположное — жертву искусства и коварства (т.6, с.537).
Если речь идет об искусстве и интригах, то решающим
является вопрос: кто кем владеет, кто дергает за ниточки, а кто
является марионеткой. Сочувствующие, заговорщики Бурго-
ньино, Кальканьо и Сакко, мотивированы однозначно,
привязаны к своим четко определенным интересам. Они легко
просчитываются. Если их распознать — а их распознать
нетрудно, — ими можно управлять. И ярый республиканец Вер-
рина тоже определен однозначно, но Фиеско недооценивает
его однолинейности, и поэтому его собственная изменчивость
становится его роком. Фиеско, паук в сети искусства и
коварства, любит маски и притворство.
Шиллер хотел вывести на сцену фигуру, которую нельзя
постичь. Фиеско играет роль блистательной непроницаемости.
При создании этого персонажа Шиллер поведал свои скрытые,
тайные склонности, так как он тоже любит маски. Разве это не
было маскарадом, когда Шиллер на юбилеях Карлсшуле писал
панегирики на добродетель герцога и его фавориток? Его речь
10 января 1779 года завершалась словами: «Карл отмечает
праздник святой Франциски! Кто более велик: тот, кто
выказывает добродетель, или тот, кто ее вознаграждает? — Оба
подражают Богу — Я молчу» (V, 249). Впрочем, тогда он не
молчит, а перед праздничным собранием рисует картину, как
будут посещать герцога и его графиню в те времена, когда они
будут лежать в могиле. Шиллер прячется под маской
создателя панегирика и надгробной речи — запутанная игра, которая
должна сбить с толку слушающих. Герцог сам еще раз прочел
эту речь, чтобы выяснить, что в ней, собственно говоря,
подразумевалось. Он ничего в ней не понял и удовлетворился тем,
что стал подражать игре Шиллера с чрезмерным
употреблением тире. Торжества в честь герцога вызывали у Шиллера
отвращение, в этом он признавался спустя несколько лет в
письме к Вильгельму фон Вольцогену, также бывшему студенту
Карлсшуле. Он говорит о тихом, простом выражении радости
и противопоставляет этому те празднества: Известные
торжества, которые Вы так же хорошо знаете, как и я, и которые на
всю жизнь заражали всех подобными отвратительными ассо-
151
циацгтлш (25 мая 1783 года). Его положение тогда было
ужасным, перенести его можно было лишь благодаря смене масок.
До нас дошли также сведения о сцене, в которой Шиллер,
когда герцог вызвал его на личный досмотр, решил сыграть
роль учителя, взяв на себя смелость обращаться с герцогом как
с учеником, и отчитал его. Герцог поддался на эту игру и,
очевидно, не нашел это предосудительным, во всяком случае, он
ничего не высказал в качестве замечания. Своего рода маска-
ралом было также и время работы над «Разбойниками».
Шиллер наслаждался тем, как из-под его пера втайне рождалось
произведение, «которое... должно быть целиком и полностью
предано огню». Друзья, которым он читал на лесной поляне
фрагменты из пьесы, должны были чувствовать себя вместе с
ним заговорщиками. Шиллер вкусил прелесть этого тайного
союза. Профессор Абель, о котором было известно, что он в то
время относился к вольным каменщикам, делал позднее
туманные намеки на «своего рода тайные связи между некоторыми
учителями и большой частью лучших воспитанников», к
числу которых, само собой разумеется, относился Шиллер; Абель
сообщает, что при этом преследовалось намерение
«благотворного влияния»: негласно, посредством тайного надзора,
улучшить «моральный характер» учащихся. Эта практика,
вероятно, прочно обосновалась в официальной системе воспитания:
возникла вторая, неофициальная, система со своей
собственной иерархией и с трудом просматриваемым механизмом
руководства и контроля.
Эта таинственность была по вкусу юному Шиллеру, и он,
как рассказывает Абель, играл в ней важную роль. Он был
пауком в этой паутине. Таким образом, Шиллера во время
обучения в Карлсшуле знали как плохого актера па театральной
сцене, но виртуозного артиста в реальной жизни. После
судьбоносного разговора с герцогом, когда тот отчитал Шиллера за
несанкционированную поездку в Мангейм, Шиллер, к
удивлению своих друзей, отправился как ни в чем не бывало на
площадку для игры в кегли с невозмутимым выражением лица.
Это — хороший образ заговорщика. То, что Шиллер выбрал
для побега ночь грандиозного фейерверка, получило с точки
зрения игры в заговор также особое значение. Красивый жест
секретности должен был предстать в истинном свете. Побег
должен был состояться при роскошной иллюминации. Когда
отблески огня весь горизонт окрасили красным, для Шиллера
152
наступил момент истины. И разве не было спектаклем то, что
Шиллер за час до побега встречает Штрайхера одой против
Клопштока? Разве это не было инсценировкой, которая
должна была доказать, как поэзия одерживает триумф над паникой?
А затем весь этот маскарад после побега. Имелась своя веская
причина того, что Шиллер присвоил себе псевдоним, выбрав
среди прочих «доктора Риттера», которым он давал понять, что
он чувствует себя, словно в героической пьесе. И вовсе не
случайно то, что письма домой содержали вводящие в
заблуждение сведения, так как он должен был считаться с тем, что они
могут быть прочитаны не только теми, кому они были
адресованы. Но в этих загадочных письмах Шиллера видят
человеком, поступающим с такой фантазией, что едва ли можно
избавиться от следующего впечатления: их пишет человек,
которому подобного рода спектакль доставляет особое
удовольствие и который также хорошо разбирается в подобного
рода играх. Так, он пишет, например, своему другу Якоби из
Огтерсхайма: В настоящий момент я нахожусь на пути в
Берлин (6 ноября 1782 года). Дальше он говорит, что Якоби не
должен относиться к прежним известиям от него с недоверием,
даже если эти известия и были ложными; они были политикой,
так как: он вынужден был замаскировать свое истинное
местонахождение. Теперешняя новость является подлинной. Итак,
обман рядом с признанием в обмане. Он продолжает спутывать
карты, называя далекий Санкт-Петербург как возможную цель
своего путешествия. Еще в одном письме он высказывает
также возможность отъезда в Америку.
Страсть Шиллера к маскараду и к маске заговорщика
необходимо учитывать и в сценах, подобных следующей: после
того как Фиеско открывает заговорщикам, что он — один из них,
то полный энтузиазма, но наивный Бургоньино берет слово:
Прежде чем разойтись, скрепим клятвенным объятием наш
героический союз. (Они становятся в круг, подав друг другу
руки.) В канун великого мига, что решит судьбу Генуи, сердца
пяти ее величайших мужей да сольются воедино! (Круг еще
тесней.) Когда рухнет мироздание и приговор последнего суда
разорвет узы крови, узы любви, сей пятилистиик героев да
пребудет неразрывным! (Расходятся.) (т.1, с.551).
Отпечаток подобных клятв, союзов, заговоров можно
проследить во всем творчестве Шиллера, начиная с
«Разбойников» через «Дона Карл оса» и до «Вильгельма Телля». Но в от-
153
личие от других пьес, в «Фиеско» эта тема представлена в
холодном великолепии. Горячие сердца не только для Фиеско, но
и для самого автора есть не что иное, как материал для трезво
рассчитанной игры.
Кто любит маску, тому особое наслаждение доставляют и
демаскировка, разоблачение, момент истины. Драматурга
Шиллера привлекает мысль о том, что из-под маски
инкогнито покажется внезапно исполинский масштаб гения.
Напряжение всей первой половины пьесы следует из движения к
освещению истинного величия колоссального характера. В
послесловии к сценарию пьесы Шиллер говорит: Фиеско,
большой творческий ум, который под обманчивым покровом
изнеженного эпикурейского безделья в тихой, бесшумной тьме,
подобно творящему духу, одиноко и неслышно рождает из хаоса
целый мир и выставляет напоказ пустое, смеющееся лицо
бездельника, в то время как гигантские планы и бешеные желания
бродят в его пламенном сердце; Фиеско, достаточно долго не
признанный, под конец появляющийся подобно богу, открывая
изумленным взорам зрителей готовый плод своих трудов и
невозмутимый зритель присутствует при том, как колеса
громадной машины неуклонно движутся навстречу желанной цели
(т.6, с.537-538).
Если Шиллер заставляет своего Фиеско выступить из-под
маски подобно богу, тогда он вкушает тот самый миг
безграничной власти; это та же самая священная власть, которую
испытывает автор, когда он запускает готовую мшиину
произведения перед публикой. Есть жажда власти у Фиеско, но эта же
жажда власти есть и у автора. В этом Шиллер признается в
своем послесловии, когда пишет: Святым и торжественным
всегда был тот тихий, тот великий миг в театре... где я веду
душу зрителя на поводу, и согласно моим пожеланиям могу
бросить ее, словно мячик, как в рай, так и в ад (I, 754). Шиллер
любит игру с маскировкой и разоблачением так же, как и
непредсказуемость свободы — и в жизни, и на сцене.
Кто всерьез воспринимает мистерию свободы, для того не
существует соразмерности характера. Расхожее среди
театральных авторов и детерминистов любых мастей
представление гласит: берется определенный характер и помещается в ка-
■ кую-то среду; из этого вытекают его поступки и его решения.
Так возникает иллюзия неизбежности действия. Потом уже
утверждается, что все должно было произойти именно так, как
154
оно произошло. Обычный автор расположит все так, что это
впечатление неизбежности возникнет. Но ведь Шиллер не был
обычным автором! Он был энтузиастом свободы, и он открыл
чудовище свободы, как не смог ни один писатель до него.
С этой точки зрения «Фиеско» — его первый крупный
шедевр, и как раз потому, что здесь непредсказуемость
свободного действия была возведена в ранг проблемы. Можно ли,
будучи автором, глубже вовлечься в проблему свободы, чем если
ты не знаешь, как должна окончиться пьеса? Фиеско не знает,
как он должен действовать, и Шиллер не знает, как он должен
заставить его действовать. Фиеско нерешителен, и Шиллер
таков же.
В пьесе речь идет о свободе, в которую вовлечен не только
протагонист, но и сам автор произведения. Шиллер
показывает нам Фиеско, который сомневается, с какой целью он должен
воспользоваться заговором: чтобы самому стать властителем
или чтобы защитить республику. Его характер достаточно
неопределен, чтобы оба решения сделать возможными.
Шиллер понял, что четко определенные характеры есть
всего лишь фикция: в реальной жизни таковых не существует.
Не существует достаточных определений. В каждом реальном
человеке остается столько неопределенности, сколько
необходимо, чтобы втянуть его в авантюру во имя свободы.
Самоопределение личности вообще существует лишь только на
основании недостаточной определенности. Мистерия свободы
как раз и находится в этой пустоте, в недостающем звене в
цепи достаточных определений. Эту мистерию свободы Шиллер
обыгрывает в том известном монологе, который показывает
колебания Фиеско между двумя возможностями действовать, где
впереди зияющая пропасть, граница добродетели, рубеж небес
и преисподней (т.1, с.552).
Фиеско, который осознает обе возможности действовать,
заглядывает в свое сердце, словно в бездну. У него кружится,
голова от такого количества неопределенности. Какое
смятение в моей груди! Вихрем проносятся тайные думы! Словно
злодеи, что вышли на черное дело, боязливо опустив долу рдеющие
лица, крадутся передо мною дивные видения (т.1, с.552).
Проблема заключается, не в совести. Речь идет не о
вопросе, как нужно действовать, а какого действия ты, собственно
говоря, желаешь. Речь идет не о том, что нужно желать, а о том,
что ты хочешь желать. Как можно выяснить, чего человек, в
155
сущности, хочет? Это можно узнать только тогда, когда
совершишь действие. Нужно решиться и действовать, чтобы узнать,
кем ты являешься на самом деле. Нет знания о собственной
идентичности, которое предшествовало бы поступку. Что я
есть, я заранее не знаю, не знаю до тех пор, пока я не совершу
поступка. Поэтому шиллеровский абрис фигуры Фиеско и
является настолько смелым, ведь он опровергает расхожее
утверждение, согласно которому поступок проистекает из
самопознания. Фиеско узнает, кем он является, только тогда, когда
он совершит действие. Фиеско испытывает на себе свободу,
которая принуждает его к решениям и позволяет ему решиться
познать самого себя.
Шиллер постигает свободу так радикально, как позднее это
сделает Сартр. Шиллер так глубоко погружается в проблему
свободы своего героя, что, будучи автором, со своей стороны не
знает, как он должен заставить действовать своего персонажа.
Пьеса, которую он, приехав в Мангейм, закончил за
исключением самого финала, как раз потому превосходна, что также и
по ходу развития сюжета обе возможности остаются
открытыми: Фиеско может взять на себя роль тирана и потом, как в
книжном варианте, быть убитым Верриной; но он может так
же, как в сценарном варианте, захватить власть, чтобы передать
ее в руки республике. В монологе печатного варианта, впрочем,
содержится альтернативный финал сценария как
потенциальная возможность. Завоевать венец — великое деяние/
Отбросить его — деяние божественное, — говорит в нем Фиеско (т.1,
С.552). Именно с этими словами в сценическом варианте
Фиеско разбивает скипетр единоличной власти и провозглашает
свободу Генуи.
Так перекрещиваются свобода Фиеско и свобода автора.
Фиеско действует в обеих версиях пьесы нерешительно, обе
возможности согласуются, оба раза имеет место «причинность,
обусловленная свободой» (Кант). И автор, когда он прибывает
в Мангейм, все еще мучается над тем, как он должен завершить
пьесу. Для обоих, автора и его персонажа, свобода — основной
вопрос; он переходит от автора к его герою и возвращается
обратно, она — до самого последнего мгновения — нечто
непредвиденное.
Но непредвиденным для Шиллера является также и то, как
дальше сложится и чем закончится его побег, его практическое
упражнение в свободе.
156
Супруга режиссера Майера вернулась из Штутгарта и
рассказала о распространившихся там слухах, что герцог требует
выдачи беглеца. Чтобы избежать этой опасности, Шиллер и
Штрайхер решили уехать во Франкфурт. Этот город лежит на
пути в Гамбург, цели путешествия Андреаса Штрайхера, а для
Шиллера Франкфурт — то место, которое впервые может
обеспечить ему хоть какую-то безопасность.
У Шиллера нет денег. Он надеется получить за «Фиеско»
аванс. Но Дальберг, который мог бы дать ему задаток, еще не
вернулся из Штутгарта. Друзья живут на деньги Штрайхера,
выделенные ему на поездку в Гамбург.
Экипаж слишком дорог, поэтому третьего октября 1782
года друзья отправляются в путь пешком. По дороге Шиллер
молчаливо вынашивает замысел новой драмы, «Луизы
Миллер» (позднее «Коварство и любовь»). Через два дня, между
Дармштадтом и Франкфуртом, он падает без сил от
изнеможения, засыпает прямо под кустом на опушке леса. Андреас
Штрайхер сторожит его сон. Приближается прусский
вербовщик, который надеется здесь поживиться. Штрайхеру удается
от него отбиться. Вечером 5 октября они прибывают во
Франкфурт. На следующий день Шиллер пишет письмо Дальбергу, в
котором он описывает свое бедственное финансовое
положение: Меня могло бы вогнать в краску, что я вынужден сделать
Вам подобное признание, но я знаю, что это меня не унизит, —
пишет он и просит о задатке за «Фиеско», сценический
вариант которой он обещает представить через три недели.
Штрайхер рассказывает, что это письмо «было написано
скрепя сердце и с влажными от слез глазами». Особенно
унизительным Шиллер считал говорить о своих долгах. Но они
тяготили его больше всего. Речь шла еще о той денежной
сумме, которую он одолжил на публикацию «Разбойников» и
«Альманаха», и так как друзья и знакомые поручились за
него, он должен был опасаться, что они после его побега
испытают преследования кредиторов. Я должен Вам признаться, —
пишет он Дальбергу о своих долгах, — что это меня гораздо
более заботит, чем то, как я сам стану влачиться по свету. Я
так долго не буду знать покоя, пока не избавлюсь от них (6
октября 1782 года).
Шиллер хочет до тех пор оставаться во Франкфурте, пока
он не получит известий от Дальберга. Друзья пытаются
скоротать время ожидания бесконечно долгими прогулками по горо-
157
ду. Однажды, на Заксенхойзерском мосту, как позднее
рассказывала одна дама, у Шиллера, вероятно, был порыв броситься
в реку. Он попытался одному издателю продать свое
стихотворение «Любовь дьявола». Он просил двадцать пять гульденов,
ему предлагали восемнадцать гульденов, но Шиллер не хотел
продавать свое творение по дешевке. У другого книгопродавца
он узнал, что «Разбойники» идут нарасхват. Это снова
немного ободрило Шиллера, который не раскрывал перед
книготорговцами свое инкогнито. Наконец 9 октября пришли вести из
Мангейма.
Дальберг, который опасливо избегал личных контактов с
беглецом Шиллером, сообщал через Майера: «Фиеско» в том
виде, в котором она представлена, не годится для постановки
на сцене, она должна быть сначала переработана. Поэтому
задаток не может быть выплачен.
Штрайхер пишет о влиянии на Шиллера этого
«убийственного» известия: «Но более всего было уязвлено его тщеславие,
потому что он безо всякой пользы полностью раскрыл свое
трагическое положение и из-за этого попал в полную
зависимость от того, от кого он с полным правом ожидал поддержки».
Штрайхер снова проявляет себя в этой ситуации как
верный друг. Он тем временем получил новую сумму на поездку
в Гамбург, и он без раздумий предоставляет эти деньги в
распоряжение своему другу и возвращается вместе с ним в Ог-
герсгейм, вблизи от Мангейма. Там Майер снял для Шиллера
жилье, где беглец может некоторое время незаметно жить и
работать.
Этим решением остаться рядом с другом и предоставить в
его пользование свои денежные средства Штрайхер поставил
на карту свою собственную карьеру. В письме к одному
знакомому, который упрекнул его за это решение, Штрайхер так
обосновывает свой поступок: «За то, что этот шаг имел столь
фатальные последствия для моей судьбы, я должен извинить
Шиллера... Не каждый может иметь судьбу. Чтобы быть столь
несчастливым, требуется определенное величие. Великие
судьбы людей измеряются их духом и сердцем. Князь несчастлив
совершенно по-иному, чем подданный. Так и здесь».
13 октября друзья прибыли в Оггерсгейм. В гостинице
«Скотный двор» они приютились в одной комнате и спали
вдвоем в одной постели. Клавесин, который Андреас
Штрайхер взял с собой во время побега, сослужил хорошую службу.
158
Шиллер, который все еще колебался по поводу финала «Фие-
ско» и одновременно работал над «Луизой Миллер», просит
друга поиграть ему в вечерние часы. Штрайхер рассказывает,
что Шиллер благодаря музыке «преображался», приходил в
настроение, которое освобождало его от угнетающей
действительности и окутывало миром новых произведений. «Как
только наступали сумерки, его желание [игра на клавесине]
исполнялось; тогда он часами ходил взад-вперед по комнате, которая
подчас освещалась лишь светом луны, и нередко издавал
невнятные восторженные звуки».
Это были недели уединения в Оггерсгейме; иногда
вечерами Шиллер, все еще с осторожностью думая о том, чтобы
оставаться неузнанным, ездил в Мангейм, где навещал Майера, и
несколько раз оставался там ночевать. В самом Оггерсгейме
они общались только с Якобом Дераипом, человеком
образованным, занимавшимся торговлей, и вместе с тем
добросовестным и любезным просветителем чудаковатого склада. Он
обладал небольшим состоянием и поэтому мог себе позволить в
своей лавке читать с раннего утра и до позднего вечера и не
позволял себя беспокоить звону колокольчика на входной
двери лавки. Посетители должны были буквально упрашивать его
о том, чтобы что-то купить. Свою заботу о благе сельских
жителей, которые хотели у него приобрести сахар, кофе или
пряности, проявлял он настолько, что убедительно рассказывал им
о вредности этих продуктов, на которых он все же недурно
зарабатывал, и предостерегал их от покупок. Он также читал им
доклады о высокопродуктивных методах земледелия и
садоводства и рекомендовал соответствующую литературу. Он с
готовностью одалживал книги из своей обширной и
разнообразной библиотеки. Его лавка была своего рода миссией
народного просвещения. Шиллер охотно беседовал с этим
человеком, но все же и перед ним он стремился сохранить свое
инкогнито. Но Дераину хватило просвещенности, чтобы
обнаружить истинное положение вещей. Свою роль здесь сыграли
выброшенные в мусор заметки и наброски из творческой
мастерской Шиллера, которые хозяйка гостиницы, видевшая в них
нечто особенно значительное, приносила Дераину. Последний
потом советовался с одной фройляйн, ревностной
поклонницей литературы, которая со своей стороны так долго
умасливала Штрайхера, пока тот наконец не выдал тайну доктора
Шмидта (он же Шиллер). Дераин благодарил судьбу, что она
159
ниспослала ему во временные соседи такого человека. Между
ними складывались сердечные и доверительные отношения.
Позднее Шиллер будет охотно вспоминать об этом человеке.
Он был маленьким лучиком света в эти темные дождливые
недели поздней осени в «Скотном дворе» Огтерсгейма.
В начале ноября 1782 года Шиллер заканчивает обработку
«Фиеско» и придумывает наконец финал для пьесы. В этом
первом варианте Фиеско решается принять герцогский титул
и поэтому оказывается сброшенным Верриной в воду. В более
поздних сценических вариантах Шиллер пытается опробовать
счастливый финал. Фиеско и Веррина заключают друг друга в
объятья на празднике в честь республики. Штрайхеру он
сказал, что последние сцены «стоили ему гораздо больше», чем
вся пьеса в целом. Теперь он ждал реакции Дальберга.
Ожидание тянется уже две недели, и наконец Шиллер требует
ответа. Дальберг по-прежнему избегает напрямую контактировать
с беглецом и передает через Майера, что «Фиеско» и в
представленной переработке непригодна для сцены и поэтому не
может быть принята и оплачена.
Этим ответом все перспективы для Шиллера были
разрушены. Чтобы покрыть неотложные нужды, он закладывает
свои часы. Но ему все же удается продать рукопись «Фиеско»
издателю Швану. На деньги, которые он за это выручил, он
смог оплатить долги в « Скотном дворе» и вернуть небольшую
часть суммы Штрайхеру, чьи деньги на Гамбург были
истрачены и который поэтому, вместо того чтобы ехать к Карлу
Филиппу Эммануэлю Баху в Гамбург, должен был с трудом
зарабатывать себе па жизнь в Мангейме уроками игры на
клавесине. Штрайхер, который и сам жил нищенски,
восхищался Шиллером, который и в бедности сохранял гордость.
У Шиллера остается еще одно прибежище. Он может
принять предложение Генриетты фон Вольцогсн, которая
предлагает ему некоторое время пожить в своем поместье в Бауэрба-
хе. Шиллер все еще колеблется. Потом случается то, что в
Мангейме один вюртембергский майор стал всюду
расспрашивать о Шиллере. Царит тревога. Шиллер, который как раз в то
время, когда пришел зловещий офицер, находился в гостях у
Майера, прячется в гардеробной. Ночь Штрайхер и Шиллер
проводят в пустующем доме барона фон Бадена. На следующее
утро от местных властей становится известно, что офицер,
вероятно, не имел служебного предписания. Об ордере на арест
160
ничего не было известно. (Позднее выяснится, что этим
офицером был один из однокашников Шиллера но Карлсшуле.)
Но в кругу друзей и знакомых все так обеспокоены, что
советуют Шиллеру поискать иное прибежище. В тот же самый день
Иффланд ходатайствовал о выплате Шиллеру восьми
луидоров за «Фиеско», но ходатайство было отклонено театральным
комитетом по настоянию Дальберга. Теперь Шиллер не видит
никакого иного выхода, кроме как принять предложение
Генриетты фон Вольцоген. 30 ноября 1782 года он отправляется в
путь в Тюрингию, в Бауэрбах.
На первом отрезке пути до Вормса его сопровождают
Штрайхер и Майер. Между тем сильно похолодало, Шиллер
мерзнет, у него нет денег на зимние вещи. После
семидневного путешествия, частично пешком, частично в экипаже, он 7
декабря прибывает в занесенный снегом Бауэрбах.
ДЕВЯТАЯ ГЛАВА
Дружба с Райнвалъдом. Сбивающие с толку письма.
Ухаживания за Шарлоттой фон Вольирген. Приглашение
в Мангейм. «Коварство и любовь». Философия любви на поверку.
Социальная машина зла
Бауэрбах, небольшая деревухлка близ Мангейма, располагалась
посреди леса. Старый помещичий дом, который Вольцогены
купили в конце семнадцатого столетия, пришел в упадок. Для
себя и своих дегей Генриетта приобрела также крестьянский
дом и велела отремонтировать удобное, хотя и скромное
пристанище. Население деревни (примерно триста душ) состояло
наполовину из мелких крестьян, облагаемых налогом, и
наполовину из евреев, которым разрешалось жить здесь за
определенную плату и заниматься своим кустарным промыслом.
Уже началась зима, когда 7 декабря 1782 года Шиллер
прибыл в Бауэрбах. Лежит глубокий снег, деревня отрезана от
всего внешнего мира. Великое безмолвие окружает Шиллера, у
которого на душе, словно у потерпевшего кораблекрушение,
который с трудом поборол волны (к Швану, 8 декабря 1782
года). Обо всем уже позаботились. Дом вычищен, в камине
горит огонь, приготовлено постельное белье, кладовая заполнена
продуктами.
Пристанище в Бауэрбахе Шиллер воспринимает как уход в
самого себя. Отныне я,~ пишет он Швану 8 декабря 1782
года непосредственно по прибытии, — могу жить целиком и
полностью по законам моей души, и я этим охотно воспользуюсь.
Этой зимой, в одиночестве, отрезанный от всего мира, он
решил быть только поэтом. Никакие заботы ne тревожат меня,
никакая помеха извне не должна помешать моим поэтическим
мечтаниям, моим идеальным иллюзиям, — пишет он в тот же
день Андреасу Штрайхеру.
Шиллер квартирует здесь под именем доктора Риттера;
жители деревни вскоре замечают, что с этим человеком что-то не
так, что он окружен тайной; они пытаются выяснить, в чем
дело; о нем ходят слухи, но все же его встречают приветливо и
готовы ему помочь. Жители наблюдают, как в его окне лампа
горит далеко за полночь; видят, как он с раннего утра бродит
но саду. Крестьянам примечательным кажется и то, что в непо-
162
году он обычно уходит из дому и взбирается на близлежащий
холм. Кажется, он не испытывает страха перед молниями и
громом. Он расспрашивает людей об историях и сказаниях их
края. Его также можно встретить в церкви во время службы. А
еще через несколько недель он настаивает в общине на
нововведении: старый сборник церковных песнопений должен быть
заменен на новый, содержащий большее количество песен Гел-
лерта.
Генриетта фон Вольцоген для начала познакомила
Шиллера с майнингенским библиотекарем Вильгельмом Фридрихом
Германом Райнвальдом, который должен был доставать
Шиллеру книги и знакомить его с интересными людьми. Шиллер
подружился с этим педантичным, склонным к ипохондрии
человеком, который был на двадцать два года старше, вероятно,
как раз потому, что оба имели столь противоположные
темпераменты. Райнвальд был весьма начитанным, хотя, впрочем,
нерасторопным и робким человеком, который после долгих лет
службы в низшей должности писца занял более или менее
сносное место секретаря княжеской библиотеки в Майнингене.
Трудолюбивый как пчела и добросовестный, он
систематизировал и каталогизировал фонды библиотеки. Но его
самоотверженность не была вознаграждена: когда порядок в
библиотеке был наведен, руководство было передано более молодому
магистру, а Райнвальд так и остался секретарем. Что-то
жалкое было в этом озлобленном человеке, который разбирался в
мире книг, иногда принимал участие в литературной жизни,
писал рецензии для журналов, опубликовал тоненький томик
«Поэтические капризы, рассказы, письма и разное» и
занимался изучением языков.
Этот пожилой и угрюмый холостяк в общении с Шиллером
оживился; те, кто его знал прежде, едва могли его снова узнать,
таким бодрым и воодушевленным он казался теперь. Спустя
год он даже нашел в себе смелость, чтобы посвататься к сестре
Шиллера Кристофине, и, кстати, успешно, чему Шиллер не
был рад, так как он желал видеть мужем своей сестры
человека менее сухого и к тому же веселого.
Но для бауэрбахского уединения Райнвальд был именно
тем, что нужно. Он регулярно приходил сюда в гости из Май-
нингена. Иногда они встречались на полпути в местечке Мас-
фельд и затем шли пешком либо к одному, либо к другому.
Зимой дорога пролегала через занесенные глубоким снегом леса;
163
весной местность была настолько топкой, что визиты на
долгое время приходилось прерывать. Шиллер позволял себе
делиться со своим новым другом планами и проектами, он читал
ему сцены из «Луизы Миллер», пьесы, которую он писал в эти
месяцы, а когда он весной 1783 года приступил к работе над
«Доном Карлосом», Райнвальд доставал для него необходимые
исторические источники. Шиллер с благодарностью принимал
советы и критические замечания Райнвальда; сложились
сердечные, доверительные отношения человека более юного с
более пожилым, который, со своей стороны, переживал подле
Шиллера свою вторую молодость. Когда однажды Шиллер
остался в Майнингене с субботы на воскресенье, он ушел домой
рано утром, так как в воскресенье не хотел выйти небритым и
без белого белья. Вероятно, эта дружба устремлялась к
мужскому союзу, а Шиллер еще не совсем отказался от позы «дикого
парня» штутгартских времен. Они поддерживали сердечный,
но суровый тон. О визите к Рапнвальду Шиллер объявлял
такими словами: Я воспользуюсь сегодняшней возможностью и
начну мою осаду (17 декабря 1782 года).
Первые недели Шиллер наслаждался уединением, он
далеко продвинулся со своей «Луизой Миллер». Но вскоре он
заметил, что он не привык к тому, чтобы длительное время
оставаться в одиночестве. В Карлсшулс он жил в кругу товарищей,
и в штутгартский период он разделял свое жилище с друзьями.
После побега с ним постоянно был Штрайхер. Сейчас в Бауэр-
бахе его временами страшит одиночество. Он даже просит
Райнвальда присылать ему газеты: Если я читаю свое имя в
газете, то я знаюt что я еще жив (14 февраля 1783 года). Еще
лучше газет встречи, о которых он просит все настоятельнее. В
марте он пишет Рапнвальду: Ваш позавчерашний визит оказал
на меня совершенно великолепное действие. Я снова чувствую,
что силы мои удвоились и более теплая жизнь потекла по всем
моим нервам. Мое пребывание в этой туши уподобило мою
душу стоячей воде, которая загнивает, если ее время от времени
не заставлять бурлить.
Райнвальд был не единственным, знакомство с кем
пришлось Шиллеру по сердцу; его также окрыляла влюбленность.
В канун Нового года его покровительница, Генриетта фон
Волыюгеи, прибыла в Бауэрбах со своей дочерью Шарлоттой.
Шиллер был очарован шестнадцатилетней девушкой. Он
сопровождал мать и дочь в окрестности Вальдорфа, где жил брат
164
Генриетты, старший лесничий Дитрих Маршалк фон Остхайм.
Вечером четвертого января Шиллер вернулся пешком в Бау-
эрбах. В эту же ночь он написал письмо Генриетте, в котором
переполнявшие его чувства относились скорее к дочери, чем к
матери: Со времени вашего отсутствия я словно сам не свой.
Мой ослепительный восторг подобен чувствам человека,
который долго смотрел на солнце. Оно еще стоит перед его взором,
даже если он давно уже отвел от него глаза. Они ослеплены
каждым самым малым лучом его. Словно весну чувств, которая
внезапно пришла к нему, описывает он эту встречу. В контраст
к этому он отмечает, сколько человеконенавистничества
накопили в нем последние месяцы. Я охватил полмира страстным
чувством, а в конце я понял, что я держу в руках холодную
глыбу льда. Шиллер пишет это письмо ночью, а на следующее
утро он уже снова отправляется в Вальдорф. В это время он не
выдерживает одиночества. Четыре дня он находится в Валь-
дорфе. Там он хотел бы предаваться мечтам и наслаждениям,
но действительность снова настигает его.
Генриетта просит его написать ей письмо, которое может
быть предъявлено в Штутгарте с целью запутывания следов,
так как герцог, ее благодетель, не должен узнать, что она
приютила в своем доме беглеца Шиллера. И поэтому Шиллер
снова пишет во время своего пребывания в Валъдорфе одно из тех
сбивающих с толку писем, в котором он искажает
действительность, которой, впрочем, вообще не существует, но которую он
совершенно ясно может себе представить. Шиллер пишет 8
января 1783 года, что он распустил слух о том, будто он
пребывает в Бауэрбахе, тогда как в действительности он находится
на пути в Берлин; он вынашивает большие планы; он хочет
увидеть Новый Свет: Если Северная Америка будет свободной,
тогда это решено, что я еду туда, В моих жилах кипит что-
то — я охотно хотел бы в этом сумасшедшем мире выкинуть
несколько таких штук, о которых еще долго будут
рассказывать.
То, что тогда кипело в жилах, было не только мечтой о
свободе в Новом Свете, но также и мечтой о свободном излиянии
сердечных склонностей. Ведь в действительности Шиллер
должен скрывать свои чувства к Шарлотте, так как он знает, что
Генриетта высматривает для своей дочери кандидата в мужья,
соответствующего ее социальному положению. Но бывший
полковой лекарь, а ныне беглый и лишенный средств к суще-
165
ствованию поэт не имеет права считаться женихом,
отвечающим их социальному статусу. Не только в Америке, но и здесь,
в Бауэрбахе, он охотно выкинул бы подобного рода штуку,
которая смогла бы перебросить его через социальные барьеры.
Мысль о том, что дух любви в сословном обществе отнюдь
не может веять там, где хочет, Шиллер в этот период
литературно разрабатывает в «Луизе Миллер», но с тех пор, как он
влюбился в Шарлотту, он также испытал это и в жизни. В
результате этого Шиллер в созданном в январе 1783 года для
дочери Генриетты свадебном гимне выразил не только свое
собственное чувство влюбленности, но и (что достаточно странно
видеть в стихотворении о невесте мещанина, вышедшей также
из мещанского сословия) позволил вставить в текст свое
негодование по поводу сословных различий и сословных
предрассудков: Сколь трудно сквозь чины и предков / Достичь живому
чувству света! (I, 177)
В конце января Генриетта со своей дочерью снова уезжает
в Штутгарт, буря чувств может на время утихнуть. Она снова
будет разбужена тогда, когда Генриетта в марте сообщит, что
она на этот раз прибудет в сопровождении некоего молодого
господина фон Винкельмана, на счет которого у Шиллера
появляются недобрые предчувствия, что тот является
возможным кандидатом в женихи Шарлотте. Свою ревность он
прячет за мнимыми опасениями, что Карл Филипп фон Винкель-
май, бывший учащийся Карлсшуле и поэтому лично с ним
знакомый, раскрыл бы его инкогнито. Шиллер пишет
Генриетте, что он покинет Бауэрбах в том случае, если она не
откажется от сопровождения Винкельмана. Шиллер более или менее
успокоился, когда Генриетта сообщила ему, что приедет в
Бауэрбах с дочерью, но без Винкельмана. Ко дню их прибытия 20
мая Шиллер распоряжается о торжественной встрече: из
цветов сооружена триумфальная арка при въезде во двор, деревья
на аллее от въезда до самого дома украшены вымпелами и
флажками, церковь наряжена, дом украшен гирляндами.
Генриетта и Шарлотта растроганны, а в Шиллере снова
пробуждается ревность, когда он узнает, что нужно
рассчитывать и на приезд Винкельмана. Как будто бы не заметив чувств
Шиллера, Генриетта спрашивает у него совета, должна ли она
выдать дочь за Винкельмана. Но именно так и можно показать
влюбленному всю тщетность его желаний. Под влиянием своей
матери брат Шарлотты, Вильгельм фон Вольцогеи, тоже спра-
166
шивает у Шиллера совета по поводу сердечных дел сестры.
Шиллер, таким образом, обязан дать совет, но так, чтобы Вин-
кельман не пришел к мысли о том, что он это делает в своих
интересах. Совет Шиллера (иным он и не мог быть), является
извилистым и двусмысленным: Я знаю господина Випкельма-
на, — пишет он 25 мая 1783 года Вольцогену, — он не
недостоин Вашей сестры. Это очень хороший и благородный человек,
который, впрочем, имеет определенные слабости, слабости,
бросающиеся в глаза... Я в самом деле ценю его, хотя в
настоящее время я уже не могу называться его другом. Шиллер не
упускает возможности намекнуть на то, что только он способен
руководить душою Шарлотты. Впрочем, здесь речь идет
только о наблюдении за воспитанием (брат просил его об этом);
Шиллер в этой связи прибавляет предостерегающее замечание:
Рассчитывайте на мою добросовестность в деле ее
образования, которое я только потому чуть ли не боюсь
предпринимать, что этот шаг уважения и страстного сочувствия очень
быстро может привести к совсем иному чувству (25 мая 1783
года).
27 мая мать и дочь отправились в Майнинген к герцогине
фон Гота, которая до сих пор оплачивала обучение ДНарлотты
в Хильдбургхаузенском пансионе. Между тем Шарлотте там
было неуютно, она хотела уехать, и все же им было жаль терять
также и финансовую поддержку герцогини. Нужно было вести
деликатные переговоры, которые Шиллер напрасно осложнил
своим лишь наполовину в шутку высказанным предложением:
Откажитесь, — пишет он Генриетте, — от полного пансиона,
иначе я захочу все оставшиеся годы писать только одну
трагедию, а в название поставлю слова: трагедия Лотты» (28 мая
1793 года).
Переговоры с герцогиней затягиваются, Шиллер с
беспокойством ждет новостей. В эти дни его влюбленность
становится подлинной страстью. Он не может работать, он в
беспокойстве бродит по лесам и играет в кегли с жителями деревни,
чтобы отвлечься. Он не осмеливается открыться Шарлотте, все
еще выбирая окольные пути, и обращается к матери: Никогда я
еще так не нуждался в Вашем полном любви ободрении, как
сейчас, и везде и повсюду нет никого, кто бы пришел па помощь
моим разбитым диким фантазиям... В моих письмах я боюсь сам
себя. Я либо говорю в них слишком мало, либо больше, чем Вы
167
должны услышать и за что я могу нести ответственность, —
пишет он 30 мая 1783 года.
Этот страх перед своими собственными письмами вовсе не
был необоснованным: Шиллер пытается сдерживать свою
страсть, но она все же постоянно прорывается наружу, даже в
этом письме, в котором он категорически призывает себя к
осмотрительности. Какое дело ему до славы поэта, спрашивает
Шиллер. Никакого, отвечает он и затем цитирует весьма
двусмысленно любовные мечтания своей Леоноры в «Фиеско»:
Позволь нам бежать... Позволь нам обратить в прах все это
пышное ничто. Позволь нам жить на романтических нивах,
исполненными дружбы... Он пишет, что он хочет в доме
Генриетты на длительный срок создать свое счастье. Он преодолеет все
препятствия. При перечитывании этих только что написанных
строчек он замечает, что снова сказал больше, чем то, за что он
может нести ответственность, и пишет под конец: Это
сумасбродное письмо. Но Вы мне его простите. Если я дурак на
словах, то и в письмах я, вероятно, не стану намного мудрее (30
мая 1783 года). Переговоры Генриетты с герцогиней прошли
неблагоприятно, высочайшая княжеская особа отказала в своей
поддержке Шарлотте, которую теперь получила одна местная
работница, чтобы изучить в пансионе ведение домашнего
хозяйства.
Между тем отношение Шарлотты к Виикельману
ухудшилось. Молодой офицер сделал замечание, которое было
матерью и дочерью воспринято как оскорбление. Шиллеру
наглость этого господина пришлась как нельзя кстати, так как он
сейчас мог мечтать о том, чтобы дать сопернику достойный
ответ, и, кроме того, он имел теперь право надеяться, что у
Шарлотты значительная часть ее сердца ж принадлежит
упомянутому кумиру безраздельно и навеки.
Отношения между Шарлоттой и Впнкельманом
мало-помалу рассыпались. Винкельман поступил позднее на службу в
Голландскую Остиндийскую компанию и уехал на Цейлон и
Яву, где его след затерялся.
«Отставка» Винкельмана не увеличила шансов Шиллера
на успех у Шарлотты. Точно не известно, как это происходило
в деталях: оставалась ли сама Шарлотта недоступной и
нерешительной, или же мать категорично отклоняла все попытки
сватовства Шиллера. В любом случае на решение Шиллера
вернуться в Мангейм на несколько недель (так было заплани-
168
ровано вначале) повлиял этот неудачный исход ухаживаний за
Шарлоттой. Он хотел испробовать свои профессиональные
шансы в Мангейме и одновременно выяснить, смогут ли его
эротические шансы в Бауэрбахе улучшиться благодаря прост-
XJ
ранственнои дистанции.
Итак, теперь о возвращении в Мангейм,
В Бауэрбах Шиллер прибыл с намерением на протяжении
некоторого времени посвятить себя исключительно поэзии.
После неудачи с «Фиеско» к нему пришли сомнения, удастся
ли ему длительное время существовать как театральному
драматургу и писателю. Возвращение к своей «хлебной»
профессии медика, к своему ремеслу он не исключал. Его новая пьеса
«Луиза Миллер» была для него тоже своего рода опытом над
самим собой. Он хотел попробовать свои способности в новом,
весьма востребованном театром жанре, «чувствительной» ме~
U U* JJ
щанскои семейной драмы; он хотел выяснить, как говорил
Штрайхер, «сможет ли он опуститься до бюргерской сферы».
После неудачного опыта в Мангейме он едва ли думал о
том, чтобы снова предлагать туда свою пьесу. Он протянул
свои щупальцы в Готу п Веймар в надежде там найти
благосклонных издателей и театральных деятелей. Но весной 1784
года он снова «услышал пение сирен» из Мангсйма, «которые
настолько раскачали его нервы, что он не смог противостоять
их соблазну». Дальберг дал о себе знать и любезно
поинтересовался, как обстоят дела с работой Шиллера и не завершена
ли, между прочим, новая пьеса. Дальберг предпринял этот шаг,
Ч-J и
так как зимний сезон прошел для мангеимского театра
малоуспешно и интендант нуждался в новой звезде. И так как из
Штутгарта пришли вести, что Шиллер мог к тому времени уже
не опасаться преследований герцога, осторожный Дальберг
смог снова возобновить контакты с ним, не боясь
скомпрометировать себя в придворных кругах.
На запрос Дальберга Шиллер отвечает осторожно и вместе
с тем самоуверенно. Он дает понять, что он не намерен еще раз
позволить одурачить себя, Шиллер предупредительно
характеризует некоторые особенности пьесы, которые имеют для него
особое значение, а в глазах интенданта между тем, вероятно,
могли бы выглядеть как недостатки. Кроме многозначности
характеров и усложнения интриги, возможно, слишком свободной
сатиры, высмеивания определенной разновидности знатных
дураков и негодяев, эта пьеса имеет также тот недостаток, что
169
комическое перемешивается с трагическим, радость с
ужасом, — пишет Шиллер Дальбергу 3 апреля 1783 года.
Дальберг не дал себя испугать. Он льстит автору,
оценивает названные «ошибки» как «добродетель для сцены» и просит
его послать готовую к постановке пьесу. Однако приглашения
в Мангейм не прозвучало. Все лето Шиллер занимается
переработкой «Луизы Миллер» для театра, а когда он эту работу
заканчивает, то, недолго думая, предпринимает поездку в
Мангейм (вопреки советам Райнвальда и Генриетты фон Вольцо-
ген, которые рекомендовали ему Веймар или Берлин как
возможное место деятельности), но не для того, чтобы остаться
там надолго, а для того, чтобы прямо на месте провести
переговоры о постановке своей пьесы.
Итак, драма была готова, когда Шиллер отправился в свое
путешествие. Как долго он над пей работал, не удается
установить с полной точностью. Годы спустя — как мы узнаем из его
письма к жене — это будет представлено так, что он во время
двухнедельного ареста с конца июня до середины июля 1782
года создал план к ней и набросал некоторые сцены. В эти
недели он должен был с особой силой чувствовать себя абсолют-
%> U V
ной жертвой произвола герцогской власти, и это состояние со
*-Г V
ответствует идее пьесы, в которой речь также идет о княжеской
власти, продажных чиновниках, полных произвола арестах и
сословной ограниченности. Между тем в тот период, вероятно,
могли быть созданы только некоторые наброски плана и
черновики сцен, так как в первую очередь он работал тогда над
«Фиеско». Апдрсас Штрайхер описывает, как Шиллер долго
размышлял над планом «Луизы Миллер» во время их пешего
путешествия из Мангейма во Франкфурт. Этот эпизод, так же
как и те две педели ареста, был определен притеснениями со
KJ
стороны герцогской власти.
В Оггерсгейме, где Шиллер пребывал скрытно, работа над
пьесой продолжалась. После приезда в Бауэрбах он хотел
полностью завершить ее за две недели. Но работа продлилась
дольше, так как его стал привлекать сюжет «Дона Карл оса»;
так «Луиза Миллер» и оставалась несколько недель лежать
незаконченной вплоть до получения приглашения от Дальберга.
За это время между арестом летом 1782 года до лета 1783
года, проведенного в Бауэрбахе, скверные чувства, связанные с
герцогским режимом, не поблекли: он постоянно напоминал о
себе Шиллеру, например, когда Генриетта фон Вольцоген од-
170
нажды снова попросила его написать одно из тех сбивающих с
толку писем, которое могло бы быть предъявлено в качестве ее
оправдания в Штутгарте. А что касается проблемы сословных
предрассудков, то Шиллер мог накопить новый
отрицательный опыт во время его до сих пор безуспешных ухаживаний за
Шарлоттой фон Вольцоген. Шиллер и в дальнейшем имел де~
%J
ло с аристократической надменностью и княжеским
произволом, и поэтому неудивительно, что связанные с этим
переживания сыграли важную роль при создании пьесы. Но, конечно
же, они не определили собственное ее содержание. Они
относились скорее к фону, к окружающей обстановке.
Когда камеристка леди Мильфорд оценивает князя как
самого красивого мужчину, самого страстного любовника и
самого остроумного человека во всей его стране и когда сразу же
после этого в сцене с камердинером речь идет о том, что этот
и т> о
прекрасный, пылкий и остроумный князь продает сынов своей
родины в качестве солдат в Америку, когда это у него
называется так, что он заставляет родники своей страны
горделивыми дугами взлетать к небу и разбрызгивает в фейерверках
кровь и нот своих подданных (т.1, с.637), то тогда очевидными
становятся намеки на обожающего великолепие и
расточительного Карла-Евгения. Когда леди Мильфорд сообщает, как
она положила конец дурным порокам, как она удержала
князя от того, чтобы затаскивать крестьянских и городских
девушек в постель, — я стала между ягненком и тигром, - когда
она с гордостью говорит о себе: Тиран разомлел в моих
объятьях, и я вырвала у него бразды правления, — тогда это должно
было послужить современникам напоминанием о графине
фон Хоэнхайм, которой удалось обуздать Карл а-Евгения.
Также подобострастные и безжалостные придворные напоминали
об их реальных прототипах в Вюртемберге. Особенно свежа
была память о презренном фаворите Мопмартине, который
сместил не менее презренного полковника Ригера. Эти и
другие намеки были настолько очевидными, что Шиллер еще
незадолго до премьеры пьесы, как сообщает Штрайхер, пытался
сделать менее узнаваемыми место действия и характеры
персонажей. Несмотря на это, даже в 1792 году придворные
круги Штутгарта жаловались на постановку этой пьесы, которая
слишком подрывала их авторитет. В ответ на это герцог
сделал выговор интенданту и запретил дальнейшие
представления драмы. Сцена с камердинером, разоблачающая торговлю
171
людьми, при жизни Шиллера была вообще вычеркнута из
большинства спектаклей.
Пьеса показывает, таким образом, местный общественно-
политический колорит: клеймит позором, обвиняет, разоблача-
*J о
ет, — и все же лично окрашенный гнев по поводу герцогской
власти к тому времени несколько остыл, и другие акценты бы-
<_*
ли выдвинуты на передний план.
Разработанный в Оггерсгейме план драмы был
сориентирован также и на репертуарную политику Мангеймского театра,
и Шиллер написал роли некоторых протагонистов специально
для тамошних актеров. От обвинительного тона, с учетом ман-
геймских пристрастий, пришлось отказаться в пользу жанра
чувствительной семейной драмы. Пьеса «Немецкий отец
семейства», написанная богатым бюргером фон Геммингеном,
имела в Мангейме большой успех, и Шиллер в одном из писем
к Дальбергу ее специально похвалил как пьесу, которая станет
образцом для бесчисленных подобных поделок, которые в то
время наводнили сцены Германии. В драме Геммингена
проблемы, с которыми столкнулись дети благородного отца
семейства: супружеские кризисы, карточные долги, соблазнение
девушек из мешднского сословия, нежелательные беременности
и т.д. — были разрешены благодаря мудрости отца и доверию
детей. Сословные конфликты, впрочем, тоже были
задействованы в этой образцовой мещанской драме, и тоже встречались
благородные мошенники, но все же под конец восторжествова-
Щ-Р *-*
ли семейный порядок и справедливость сословного мира.
Шиллер перенял у Геммингена некоторые положения и
сюжетные мотивы. Одного из сыновей благородного «отца
семейства» зовут так же, как и у Шиллера, Фердинандом. И так же
этот Фердинанд, которому отцом была определена суровая ка-
о О %J
рьера военного, является натурой мягкой и восторженной.
Другой сын любит девушку из мещанского сословия, чей отец,
как и шиллеровский музыкант Миллер, не хотел бы выдавать
дочь замуж за человека из другого сословия. Эти сходства с
пьесой Геммингена тем сильнее позволяют увидеть различия
обоих произведений: в то время как в «Немецком отце
семейства» в финале все заканчивается благополучно, шиллеровская
пьеса под конец разражается катастрофой.
Ориентация на жанр семейной драмы могла избрать себе и
более значительный образец, нежели «Немецкий отец
семейства». Десятилетием раньше «Эмилия Галотти» Лессинга завое-
172
вала немецкие подмостки. Эта эпохальная пьеса показывает
преступный произвол князя, чья жажда сладострастия не
страшилась ни бюргерской добродетели, ни даже злодейского
убийства. Это тоже мещанская драма, в которой добропорядоч-
t_> *> XJ
ное гнездо мещанской семьи разорено силой, пришедшей извне
со стороны дворян. Честный отец спасает честь свой дочери,
убивая ее, прежде чем она окажется соблазненной
распутником благородного происхождения. Лессинг использовал
драматический мотив, который восходит к античному историку
Ливию: молодая' добродетельная римлянка Виргиния убита своим
отцом, свободным гражданином Рима, так как он только таким
образом может защитить ее от преследований развращенного
аристократа. Ее смерть стала поводом к народному восстанию,
направленному против произвола аристократов. Лессинг в
своей пьесе избежал этого республпканско-повстанческого
поворота сюжета о Виргинии. Он довольствуется
героизированным изображением гибели дочери от руки отца во имя
непорочных заповедей бюргерской добродетели. С тех пор считалось
героическим предотвращать насилие, которое причинено кому-
либо внешней силой, приводя в исполнение приговор своего
собственного «я». К собственному «я» отца относится и дочь,
и если он ее убивает, то он жертвует частью самого себя: этот
эксцесс бюргерской семенной морали тогда находили
привлекательным — разумеется, только па сцене. Там можно было
наслаждаться мнимым мазохистским триумфом бюргерской
добродетели над дворянской порочностью. Начиная с Лессинга,
связь между критикой порочности дворянства и похвалой
бюргерской морали стала своеобразным общим местом в
драматургии.
Как «Немецкий отец семейства» Геммингена, так и «Эмилия
Галотти» Лессинга повлекла за собой бесчисленные
подражания. Одоардо Галотти Лессинга выступает во главе длинного
ряда громко бранящихся, но в высшей степени благонравных
отцов — как шиллеровекпй музыкант Миллер. Супруга
Одоардо, слабовольная Клаудиа, является предшественнице!) многих
наивных матерей, которые охотно хотели бы обеспечить своим
дочерям будущее в лучших кругах — как мать Луизы;
страстная Марвуд и гордая Орсюш у Лессинга — образцы
бесчисленных влиятельных светских женщин, которые хотят переманить
колеблющегося любовника у сентиментальной девушки, как
леди Мильфорд у Шиллера.
173
Из обеих пьес, «Эмилии Галогга» Лессинга и «Немецкого
отца семейства» Геммингена, Шиллер воспринял отдельные
мотивы, но сделал из них нечто совершенно свое.
Фердинанд, молодой дворянин, сын продажного и
преступного президента при дворе маленького княжества, любит
девушку из мещанского сословия, Луизу Миллер, дочь
музыканта. Он любит ее искренне и страстно. Он не изощренный
соблазнитель, который играет чувствами, наоборот, его
чувства владеют им. Луиза тоже любит преданно, но она более
реалистично смотрит на вещи. Ведь Луиза опасается, что
сословные преграды между ними не смогут быть преодолены. В
этих опасениях Луизу укрепляет ее отец. Поэтому она
мечтает о подлинном единении с любимым только в потустороннем
мире.
Это была любовь. Теперь — коварство.
Президент, который хочет по расчету женить своего сына
на леди Мильфорд, отставленной фаворитке князя, пытается
вместе со своим помощником Вурмом воспрепятствовать этим
отношениям. Сначала с помощью насилия. Он хочет взять
Луизу под арест по мнимому обвинению в проституции.
Фердинанду удается предотвратить это угрозой, что он разоблачит
преступное прошлое своего отца, президента. Вторая попытка
разлучить Луизу и Фердинанда оказывается более успешной.
Нужно — такова идея Вурма — разрушить любовь между
ними, возбудив в Фердинанде недоверие по отношению к Луизе.
Это ему удается, когда берут в заложники отца Луизы и
принуждают дочь написать ложное любовное письмо одному
придворному и затем передают это письмо в руки Фердинанда.
Ревность — таков был расчет — разлучит их. Расчет не
оправдался. Впрочем, ядро любви удалось расщепить, и цепная
реакция оказывается неудержимой. Фердинанд неистовствует. В
конце он отравляет сам себя и свою возлюбленную. После
того как катастрофа разразилась, возникает лишь видимость
восстановления порядка, когда президент и его сообщник Вурм
преданы мирскому суду.
Власть президента велика, это верно, — говорит
Фердинанд в той сцене, где он пытается уберечь семью музыканта от
злоупотреблений властью своим отцом. — Но до последней
крайности доводит только любовь (т.1, с.653). Шиллеровская
пьеса выводит на сцену жестокий эксперимент над любовью:
она должна выяснить, насколько далеко в любви можно зайти
174
и в какие внутренние (а не только внешние) противоречия она
при этом впадает. Есть ли это лишь внешние противостояния
и препятствия, которые доставляют ей много трудностей, или
же она поставлена под угрозу также из-за себя самой, из-за
претензий на абсолютность — это главный вопрос, который
ставит Шиллер при раскрытии анатомии страсти. Шиллер в
этой пьесе выставил на всеобщее обозрение свою собственную
философию любви. Именно сила и слабость любви есть
подлинная тема пьесы. Вопрос состоит не только в том, может ли
продажный свет разрушить любовь, но также и в том, не
поспособствует ли сама любовь развращенности света, требуя от
любимого права безграничной собственности.
Итак, Фердинанд любит. Он не соблазнитель, он сам
гораздо более соблазнен своей собственной любовью. Как он любит?
Что для него значит любовь?
Он сам говорит Луизе о своем экзальтированном типе
любви незадолго до фатального выхода на сцену президента:
Дай мне свою руку!.. Если эти две руки будут разъединены, то
в тот же миг порвется нить между мною и мирозданием (т. 1,
с.653).
Любовь для него — это метафизический принцип как
таковой. Она связывает его с мирозданием. Потому что она есть не
что иное, как великая цепь бытия. Соединение с любимым
человеком является причиной того, что вся цепь сохраняется;
если она порвется в этой точке, разорвется вся цепь.
Невозможно любить целое, можно любить только единичное, но в этом
единичном любят целое. Если разрушена любовь к
единичному, исчезает посредник, в котором можно узнать целое как
нечто достойное любви. Это не значит, что вселенская любовь
вливается в единичную любовь, а наоборот, любовь к
единичному распространяется на целое. Не целое является носителем
любви, а любовь есть носитель целого, и, если она болезненно
разрушается в единичном, тогда и целое разрушается в самом
себе. Любовь должна стать тотальной по отношению к
единичному, чтобы она могла сделаться тотальной и по отношению к
целому.
Фердинанд требует, чтобы они оба были друг для друга
всем.
Это означает в первую очередь абсолютную открытость. Я
вижу насквозь твою душу, — говорит Фердинанд, — как вот
этот чистой воды брильянт... Ни одна мысль не мелькнет в
175
твоих глазах, которую я бы не уловил (т.1, с.624). Любимый
перестает быть чем-то неясным, противоречащим, потаенным. Он
становится прозрачным. Нет никаких отчуждающих
формальностей. Луч любящего внимания не преломляется и не
отклоняется никаким промежуточным звеном; он рассекает всё
внешнее и проникает прямо в душу. Внутренний мир одного
сплавляется с внутренним миром другого, или лучше: два
внутренних мира отражаются друг в друге без какого-либо
отчуждения, возникающего из-за встающих между ними внешних
обстоятельств. Эта любовь, словно великое причастие, когда
оба — одно сердце и одна душа.
Абсолютная открытость, которую жаждет получить
Фердинанд от Луизы, заставляет исчезнуть в любимом все
внушающие беспокойство тайны. Но разве не живет любовь также и
благодаря таинственной неизведанности другого? Можно ли
все еще любить кого-то, если видишь его насквозь? Конечно,
тогда можно будет владеть любимым до скуки. Но разве это
любовь, когда влюбленный больше не таит в себе сюрпризов?
Во всяком случае, Фердинанд хочет для своей любви
абсолютно открытого «Ты». Но такого рода открытое визави
перестает быть «Ты». Так как каждое «Ты» — это вызывающе иной
мир, с которым невозможно установить безграничное
единство. Такого рода требование единства делает другого
нереальным, он становится мне подобным, даже если это происходит
только в моем сознании. Некоторое время это может быть
приятно, хотя потом любимый в своем ином существе тем
настойчивее выйдет из того образа, в который его заключило мое
требование единения душ. Так дело дойдет до того
мучительного шатания между великим причастием и страшным
отчуждением, между эйфорией чувства единения и безграничным
недоверием.
Недоверие Фердинанда начинает шевелиться уже в первой
сцене встречи возлюбленных. Луиза напоминает ему о своем
мещанском происхождении. Это возмущает Фердинанда. Как
она может думать о чем-то столь банальном и внешнем, как ее
социальное положение, когда для любви нет ничего иного, как
сама любовь. Если бы ты вся была охвачена любовью, стала бы
ты думать о различиях?..Л ты и в любви способна сохранять
благоразумие? (т.1, с.624—625). Рядом с любовью не должно
быть никакой иной жизненной силы, и это требование
абсолютно. В магическом кругу любви весь прочий мир должен ис-
176
чезнуть, не должно быть никаких сопоставлений, ни единого
взгляда на другое или на других, никакой оглядки на
обыденный мир, который нужно посредством любви возвысить.
Любовь, о которой грезит Фердинанд, самодостаточна, и поэтому
она вне мира: она может отказаться от всего прочего мира.
Когда Фердинанд предчувствует, что он не сможет
надолго защитить свою любовь от коварства отца, он пытается
склонить Луизу к совместному побегу. Он спрашивает ее, что еще
удерживает их на месте, разве им не хватает самих себя, разве
они не могут существовать везде, если они берут с собою лишь
свою любовь: Ты, Луиза, я и наша любовь! Не заключено ли в
этом круге все небо? Или тебе не хватает еще чего-то
четвертого? (т.1, С.669). Против этого абсолютизма любви Луиза
протестует скромным вопросом: А разве у тебя нет иного долга,
кроме твоей любви? Она в любом случае чувствует себя
связанной еще и иными обстоятельствами. У нее есть отец, которого
она тоже любит и который, если она сбежит с Фердинандом,
вероятно, навлечет на себя месть президента. Разумеется, и она
любит своего Фердинанда безгранично, но все же не так,
чтобы она захотела ради него подорвать устои общества (т.1,
С.670). Для Фердинанда любовь — это иной мир его
внутреннего «я», безмирие своего внутреннего мира. Для Луизы
любовь к Фердинанду тоже безмерна, но все же такова, что
Луиза, сознавая общественные преграды, мечтала и ожидала
подлинного удовлетворения этой любви во внешнем, в
религиозном потустороннем мире. В этой жизни я на него не посягаю
(т.1, С.623).
В то время как Луиза придерживается традиционного
религиозного разделения мира живых и мира потустороннего и
переносит исполнение любви в издавна известный
потусторонний мир, любовь Фердинанда — это попытка достичь уже в
этом мире мира иного: это его секуляризованная любовная
религия. Но эта «религия» столь же непреклонна и абсолютна,
как и старая: она не терпит рядом с собой никаких иных богов.
И поэтому в Фердинанде, когда Луиза отказывается от побега,
ссылаясь на свои прочие обязательства, снова пробуждаются
подозрения: Ты лжешь, змея! Тебя привязывает здесь что-то
другое! (т.1, с.671).
Так обнаруживается, что Фердинанд любит Луизу, но не
понимает ее; это такая любовь, которая чувствует себя
освобожденной от прекрасных усилий познать другого и считаться
177
с другим. Так как в Луизе есть что-то, что Фердинанду
противостоит, то это противостоящее тут же становится источником
подозрений. Это и есть диалектика отчуждения абсолютных
требований любви.
Интриган Вурм видит насквозь слабые стороны такого
рода любви и поэтом}/ может играть ими и заставить их служить
своим собственным целям. Навлеките на девушку
подозрение... — говорит Вурм президенту. — Положите один гран
дрожжей, и вся масса придет в состояние разрушительного
брожения (т.1, с.661).
Дрожжами для этого разрушительного брожения станет
ложное любовное письмо, которое заставят написать Луизу к
придворному гофмаршалу фон Кальбу. Подозрительность в
Фердинанде возрастет с такой силой, что он не разглядит
этого коварства вопреки всякой психологической
правдоподобности, несмотря на то что этот придворный — до того убогое
создание, что Фердинанд, если бы он действительно понимал
свою Луизу, ни на мгновение бы не смог поверить в
возможность амурных отношений между нею и гофмаршалом.
Фердинанд, который требует абсолютной открытости любящего,
именно из-за этого и становится словно слепым. Его любовь,
слишком далекая от власти Господа, становится мячиком в
расчетливой игре земных власть придержащих. Его любовь,
которая стремится быть самодостаточной, не удовлетворяет
требованиям действительности, он в дебрях реального мира не
может найти ей места.
До последней крайности доводит только любовь (т.1,
С.653), — заявляет Фердинанд. На самом деле он но
отношению к своей возлюбленной доходит до крайности: сначала он
хотел обладать ею безраздельно и воспарить с нею над
обыденной действительностью, а затем его тянет вниз; если он не
может быть ее ангелом, он хочет стать ее дьяволом. Доведенный до
бешенства Фердинанд принимает такую позу, словно он мстит
всему неудачно сотворенному миру. Подозрения разорвали
для него великую цепь бытия, и вместо порядка вещей он
видит теперь пропасть исчадий ада. Луиза, растерянная, но
сохраняющая самообладание, судит о самонадеянности его любви,
которая является скорее лишь любовью к самому себе и
минует другого человека: Ему легче богохульствовать, чем
признаться в своей опрометчивости (т.1, с.716).
178
То, что Луиза говорит о своем отце, когда тот мешает ей
уйти из жизни, справедливо и для Фердинанда, а именно: О,
нежность бывает еще жесточе и самовластней тиранства (т.1,
С.702).
«Коварство и любовь», как позднее была названа пьеса по
предложению Иффланда, — это, разумеется, драма о
произволе князей и сословном высокомерии, но еще больше о тирании
абсолютизма любви.
Фердинанд становится убийцей Луизы, после того как он
же в начале пьесы воодушевленно заявляет о своем
секуляризированном евангелии любви: Опираясь на эту руку, моя
Луиза сможет легкой стопою пройти по дороге жизни. Когда же ты
снова попадешь на небо, оно с изумление признает, что ты
стала еще прекраснее, чем была тогда, когда оно отпускало тебя
на землю, и что душа достигает полной зрелости только в
любви (т.1, С.625).
В отличие от того, как Фердинанд представляет себя в
порыве своей страсти, он в действительности в финале сам
«отпустит» возлюбленную «на землю». Не только потому, что он
ее убьет; прежде он с цинизмом обойдется с отцом, так, словно
он хочет купить у него дочь. Жестокая ирония заключается в
том, как Шиллер заставляет окончиться пьесу.
Фердинанд не относится к затасканным еще со времен
«Эмилии Галотти» Лессинга фигурам благородных
соблазнителей, он нежный поклонник своей любовной мистики, для
него весь прочий мир сгорает в то мгновение, когда души
сливаются друг с другом. Он сжигает за собой мосты, связывающие
его с миром, и может стать убийцей, если есть нечто, что
препятствует этому слиянию. Этим «нечто» может быть что-то
внешнее: интрига, сословные предрассудки, приказ. Но это
нечто есть также — и прежде всего — инакость другого, которая
должна быть приобщена к любви, если любовь — нечто
большее, чем самовлюбленность, пользующаяся другим как
зеркалом или предлогом.
Фердинанд не понимает Луизу, которую он любит. Что
трудно понять в Луизе? Она, как и Фердинанд, читала книги,
в которых провозглашалось новое евангелие любви. Она
говорит отцу, что у нее нет больше благоговения, через любовь к
Фердинанду она пренебрегает любовью к Богу, но потом она
продолжает: Когда от восторга перед совершеннейшим творе-
179
нием создателя я перестаю думать о нем самом, то разве это
не приятно Богу, отец?
Это звучит как вычитанное в книгах умствование: мы
любим Бога не в церкви, а при встрече с другим человеком — отец
тут же настораживается: Дожили! Вот они, плоды безбожных
книжек! (т.1, С.622). Фердинанд эти идеи хорошо понимает, это
ему по вкусу. Но Луиза простирает свою теологию любви не
так далеко, как Фердинанд. Для нее еще также существует
бюргерский бог долга и семьи. Когда Фердинанд требует от
* нее, чтобы он стал для нее всем, то в его словах она слышит
нечто, нарушающее идиллию. Для нее есть в этом что-то
господское, и в абсолютизме его любви она находит следы
аристократического абсолютизма. Поэтому она говорит ему: Твое сердце
принадлежит твоему сословию (т. 1, с.670). Она не упрекает его
в этом, а хочет ему только напомнить о том, насколько сильно
он в мыслях принадлежит своему классу. Как при таких
условиях она должна была суметь поверить в идиллию любви по ту
сторону общественных условий? В великий древний
загробный мир после смерти, вероятно, она очень сильно верит, но не
в этот новомодный внутренний «иной мир», о котором
мечтает Фердинанд. Она, впрочем, все это может понять, но она
находит это слишком прекрасным, чтобы это могло быть
подлинным. Таким образом, Луиза остается, с одной стороны.
традиционно религиозной и, с другой стороны, реалистичной.
Мои долг повелевает мне остаться и страдать, — говори!* она,
а Фердинанд вспыльчиво отвечает: Холодные рассуждения в
ответ на мою любовь? (т.1, с.671).
Разумеется, мелкобуржуазные нормы ограничивают Луизу,
они делают ее жизнь узкой — но из-за этого ее сердце и ее
образ мыслей не становятся холодными. Возможно, она также
немного робкая, но разве ее опасение оторваться от родных
корней необоснованно? Она стала бы, если бы она последовала за
Фердинандом, отрезанной от всего, что до сих пор было ее
жизнью; она была бы полностью отдана во власть Фердинанда,
даже если это была бы власть любви. Ведь и такая любовь может
оказаться собственнической и тираничной, насколько она это
к тому времени постигла.
Луиза говорит не о свободе, а о своем долге. Это
производит такое впечатление, словно Фердинанд хочет освободить ее
от всего того, что ее связывает. Он выступает по отношению к
ней не только как пылкий любовник, но и как освободитель.
180
Но оказывается, что сам Фердинанд внутренне несвободен.
Впрочем, он протестует против своего отца и его планов и в
этом отношении нарушает его устои, но Фердинанда
преследует фурия подозрения. Он не является хозяином своих
поступков, он жертва своего абсолютизма любви, фанатик,
достаточно несвободный, чтобы быть управляемым другими силами,
которые используют его подозрительность. Он есть то, что
позднее Гегель назовет «абстрактным характером». Луиза в
противоположность ему более конкретна, но к тому же и более
связана. Само собой разумеется, эта связанность является
также ее проблемой. Она не только реалистично относится к тем
трудностям, с которыми ее любовь стала бы жить, преодолев
KJ
сословные границы, но ей не хватает также смелости для
свободного проявления страсти. Она недостаточно безрассудна,
чтобы сбежать с Фердинандом. Фердинанд предлагает также
взять с собой и отца. Но тогда, как она опасается, над ними
тяготело бы проклятие президента. Это не благословило бы союз
любви. Нас, беглецов, оно, подобно призраку, будет
преследовать от моря до моря, — говорит она (т.1, с.670). К ее
реализму относится и то, что она чувствует себя крепко укорененной
во всеобщем вечном миропорядке (т.1, с.670); любовь, которую
она противопоставляет этому порядку, любовь, которая могла
бы привести к тому, что этот порядок в ней распадется,
отняла бы у нее всякую внутреннюю свободу и вместе с ней и саму
способность любить. Таким образом, ее отказ — это не только
подчинение внешним обязательствам, но он служит также ее
самосохранению как личности. И поэтому она чувствует себя
связанной с иной силой: это не та сила, от которой можно
оторваться, но с которой надо остаться и отказаться от любви —
ради самой себя. Если я могу удержать тебя лишь ценой
преступления, то у меня еще достанет сил потерять тебя (т.1,
с.670).
Секретарь Вурм взял с нее клятву, что она не разгласит
интригу с фиктивным любовным письмом. Она чувствует себя
Kß %J KJ
связанной также и этой клятвой, которую она дала негодяю,
впрочем, еще и потому, что клятва, произнесенная перед лицом
Господа, ее неразрывно связывает с тем, кому она ее дала. В
итоге она недостаточно свободна, чтобы сдернуть пелену
коварства с глаз подозрительного Фердинанда. Строгость ее
морали порабощает ее перед интригами господ. Это вполне
осознает секретарь Вурм. На возражение президента, что вы-
181
нужденная клятва не принесет никаких плодов, он отвечает:
Для нас с вами, ваша милость, ничего. Для таких же, как они,
клятва — это всё (т.1, с.662).
К людям такого рода принадлежит Луиза. Так ее изобразил
Шиллер, со всеми ее привлекательными чертами, которые
могли бы вызвать к ней расположение.
Свободной и.независимой в этой пьесе не является ни
одна фигура. Мир «Коварства и любви» уподобляется
социальной машине, где страсти и убеждения сцепляются друг с
другом, словно колесики, и приводят в действие общественный
механизм судеб, который ведет к результатам, которые никто
не может предвидеть заранее. Шиллер выводит на сцену соци-
Kß *_>
альныи процесс, в котором действуют актеры, но ни один из
них не в состоянии намеренно управлять целым.
Например, секретарь Вурм, который еще раньше всех
завладел машиной; он воплощение злого принципа. Но впрочем,
4-J
и он не достигает своей цели: он сам не в состоянии шантажом
заполучить для себя Луизу, и иод конец он также предан суду.
Вурм виртуозно играет на клавиатуре слабостей других людей,
.которых он умело использует. Он точно знает, как лучше
всего заполучить актера, чтобы им управлять. Его
осведомленность в вопросах власти касается аспектов несвободы в людях,
он понимает, как они функционируют. Он знает, что Луиза
привязана к своему отцу все же сильнее, чем к Фердинанду, и
что она никогда бы не нарушила клятвы. Он понял, что
абсолютизм любви Фердинанда в высшей степени предрасположен
к подозрительности, он знает также, что Фердинанд не
исповедует аристократическую свободную любовь, а требует
буржуазного принципа чистоты в любви (то есть добропорядочную
непорочную девушку). Тогда можно получить власть над ним,
нужно ему только навлечь на девушку подозрения. Вурм также
может посоветовать президенту, как он может получить власть
над сыном. Он говорит президенту, что человека с характером,
как у Фердинанда, никак нельзя было посвящать в свои тайны,
равным образом нельзя было и озлоблять его (т.1, с.660). Но
теперь президент посвятил своего сына в собственную темную
интригу, ему, таким образом, не остается ничего иного, как
предотвратить то, чтобы сын сделался его врагом. Вурм говорит,
что ему это не удастся, если он проявит отцовскую власть; ему
необходимо избрать какую-то иную тактику. Вурм
рекомендует смесь из отцовской нежности и придворной хитрости. Таким
182
способом президент некоторое время будет пользоваться
доверием сына.
Итак, Вурм, этот отвратительный мерзавец, является скры-
к> о
тым отрицательным героем этой пьесы, он мастер социальной
машины, он понимает работу колесиков и знает, где нужно
смазать и подлить масла.
В последней сцене, когда катастрофа разразилась, каждый
пытается свалить с себя вину. Фердинанд не хочет быть
единственным убийцей и указывает на своего отца, президента.
Последний перекладывает вину дальше, на Вурма Но Вурм
показывает себя в последний миг как поистине дьявольская фигура
того типа, который позднее откроет Э.Т.А. Гофман.
Все вместе заканчивается как трагическая пародия на
великую скрепленную любовью цепь бытия: все скованы вместе
соучастием в преступлении, и последнее звено — это Вурм,
который начинает отвратительно смеяться: Я открою такие
тайны, что тех, кто будет слушать меня, мороз подерет по
коже (т.1, с.721). При этом на сцене, которая обозначает мир,
может стать очевидным, что этот мир трешит по всем швам, что
люди гибельно прикованы друг к другу и что любовь
становится лишь мячиком в играх власть имущих.
С этой пьесой в багаже 27 июля 1783 года Фридрих
Шиллер прибывает в Мангейм.
ДЕСЯТАЯ ГЛАВА
Возвращение в Мангейм. Коварство в театре. Политические
подозрения. Отставка. Уволенный драматург борется
за юрисдикцию сцены. «Несчастная страсть к преувеличению».
Неприятности с долгами. Письмо из Лейпцига. Предчувствие
большой дружбы. Шарлота фон Кальб
Шиллер странным образом не известил своего друга Штрайхе-
ра о своем возвращении в Мангейм. Когда Штрайхер однажды
снова навестил Майера в его доме, он был поражен
присутствием там Шиллера. Он не верил своим глазам, «что это был
якобы пребывающий в дальних землях Шиллер, который
вышел ему навстречу с веселой миной и самым цветущим видом».
Дальберг, интендант, снова отсутствовал. В это время он
уехал в Голландию и должен был вернуться обратно в
Мангейм двумя неделями позже, 10 августа 1783 года. Шиллер
встречается с ним в театре, и Дальберг приветствует его в
высшей степени предупредительно. Дальберг явно хочет, чтобы
Шиллер забыл о неприятных воспоминаниях. На следующий
день он выражает желание, чтобы Шиллер остался в Мангей-
ме на более длительный срок, и обещает ему поставить «Фпес-
ко». Тринадцатого августа дома у Дальберга начинается чтение
«Луизы Миллер» в широком кругу. Пьеса принята
благосклонно. Автору говорят, что она производит «большой эффект».
Восхваляется драматическая сложность сюжета, многочислен-
иые прямые столкновения главных действующих лиц,
пластичность характеров; а это значит, что страх и сочувствие
зрителей будут разбужены.
Шиллер мог бы быть довольным, но он остается
скептичным, так как за это время он узнал Дальберга достаточно
хорошо. Этот человек — сущее пламя, — пишет он 11 или 12
августа 1783 года Генриетте фон Вольцоген, — но, к сожалению,
лишь пороховое пламя, которое внезапно вспыхивает и столь же
быстро прогорает.
Генриетта тоже советовала ему быть осмотрительным, и
поэтому он заверяет ее в том же письме: Ничто на свете меня не
сможет увлечь. Чтобы намекнуть ей, что для него важнее иные,
сердечные привязанности, он просит сказать ее дочери
Шарлотте, что он уже начал одно письмо к ней, но снова его порвал,
184
Г
так как должен был его написать до невозможности холодно,
чтобы начальница (пансиона, где Шарлотта находилась в то
время) ne смогла обнаружить ничего теплого.
Несколько позднее Генриетта напишет из Бауэрбаха, что
господин фон Винкельман снова гостил некоторое время у
Вольцогенов. Это плохая новость для Шиллера, который
сейчас готов согласиться с предложением Дальберга. Шиллер с
первого сентября принят на должность штатного театрального
драматурга сроком на один год с обязательством представить
готовыми к постановке три пьесы («Фиеско», «Луизу Миллер»
и какую-нибудь третью), с годовым содержанием в размере
трехсот гульденов включая процент от выручки за каждый
спектакль. Он обязан сотрудничать в театральном комитете,
что означает проводить экспертизу других пьес и участвовать
в составлении репертуара К тому же он получает разрешение
проводить жаркие летние дни вне Мангейма. Возблагодарите
вместе со мной Господа, — пишет он 11/12 сентября
Генриетте, — что он здесь показал мне выход, как мне, благодаря
улучшению моего положения, вырваться из хаоса moid: долгов и
остаться при этом благородным человеком.
Одновременно со своим решением остаться в Мангейме
Шиллер, вероятно, закончил также и свои ухаживания за
Шарлоттой. В постскриптуме он просит Генриетту уверить ее дочь
в его вечной дружбе и добавляет саркастически горькое
замечание: Сейчас, вероятно, при Вас будет Винкельман, и вряд ли Вы
вспомните о бедном далеком Ш. Впрочем, он еще раз, в июне
1784 года, напишет Генриетте, как сильно он желает найти для
себя девушку по сердцу и что он мечтает о том, чтобы стать ее
зятем, впрочем, уже несколько дней спустя он назовет эти
желания глупой надеждой и дуращой затеей. На этом данная
глава для него закончена.
В Солигюде, у родителей, царит большая радость, что сын
вернулся поближе и явно имеет хорошие перспективы
обосноваться в театральной среде. Отец настроен по-прежнему
скептически. Впрочем, он хвалит сына за его театральные пьесы. В
Англии, пишет он, он достиг бы с их помощью «сказочного
счастья», но в Германии он должен «использовать всё, чтобы не
попасть под преследования того или иного князя». Шиллер
пытается успокоить отца и заразить его своим
оптимистическим настроением, которое его в это время окрыляет.
Генриетте он пишет, что у него есть предчувствие, что в последующие
185
десять месяцев решится вся его судьба. Он подготовит свои
пьесы к постановке, он предвкушаег, что они будут иметь
успех; он завершит своего «Дона Карлоса» и надеется, что эта
пьеса превзойдет все предыдущие. В бодром расположении
духа он мечтает о том, чтобы сделать Мангейм главной
театральной площадкой Германии. В уединении Бауэрбаха он явно
приобрел уверенность в себе.
В это время он чувствует себя свободным и не
обремененным заботами. Ему льстит, когда однажды путешествующий
масон посетил его и заявил, что он уже занесен в различные
списки вольных каменщиков. Он воспринял это как награду,
хотя и не вступил в ложу. Но то, что на него обратили внимание,
наполняет его удовлетворением, так как это показывает, что
его причисляют к элите страны.
Сейчас он в первую очередь изучает театральную среду и
сам город Мангейм, его общественную обстановку и
культурную жизнь. Кое-что в этой бывшей резиденции напоминает
ему Людвигсбург. В 1722 году князь Карл-Филипп,
расточительный и истово исповедующий католицизм, в гневе на гей-
дельбергских реформатов перенес свой роскошный
придворный штат из гейдельбергского замка в Мангейм. Разоренный
в войнах прошедшего столетия провинциальный городок был
с пышностью отстроен заново. Громадное здание
замка-резиденции стало при наследнике Карла-Филиппа,
Карле-Теодоре, доминирующей центральной точкой города; главные
улицы сбегались туда, а остальные образовывали правильные
четырехугольники. На главных пересечениях улиц
возвышались новые большие строения: иезуитская церковь, торговая
палата и цейхгауз. В городе существовали многочисленные
художественные и научные собрания: Академия живописи и
скульптуры, большая библиотека, естественно-научная
коллекция и, прежде всего, античный кабинет, где были выстав- -
лены самые известные в то время античные скульптуры в
слепках. Сюда все совершали паломничество: Гёте, Лессинг,
Гейнзе, братья Шлегели, Винкельман и Клопшток. Это место
было, собственно говоря, местом рождения новой моды на
античность в конце XVIII века. Первое сочинение Шиллера об
античном искусстве, «Письмо странствующего датчанина»
(1784), основывалось прежде всего на экспонатах античного
кабинета.
186
Мангейм в то время, когда в нем пребывал Шиллер, уже
давно перерос рамки провинциального городка. Карл-Теодор
велел возвести роскошный театр итальянской оперы и
французской комедии. В этот период образование и вкусы
придворных кругов еще находились под французским влиянием,
и лучшая буржуазия к этому тоже приноравливалась. Еще в
1773 году Шубарт писал, что Мангейм «можно считать столь
же легко колонией французов, как и немецких
провинциалов». Перемены между тем произошли. С эпохой
Просвещения в Мангейм пришло также и немецкое культурное
сознание. Покровителю Шиллера, издателю Кристиану Фридриху
Швану, принадлежали большие заслуги в этом деле. Человек
подвижный, много путешествовавший, он посвятил себя
немецкой культуре речи, издавал журнал «Шрайбтафель»
(Письменная доска), содействовал развитию
немецкоязычного театра — ведь именно он привез «Разбойников» в
Мангейм — и организовал у себя в доме «интеллектуальную
контору», в которой были выставлены немецкие и зарубежные
журналы и брошюры. Целям содействия немецкой культуре
должно было послужить и основание Курпфальцского
«Немецкого общества», наполовину академии, наполовину клуба
местной знати, объединения, которое заботилось*о развитии
языка и культуры. Шиллер должен был почитать за честь,
когда! он в 1784 году был принят в его члены.
Важнейшей датой культурной истории Мангейма стало 1
сентября 1778 года. В этот день был учрежден Национальный
театр с целью оказать, как это было сказано в послании
курфюрста, «насущное вспомоществование городу и гражданам».
Господин фон Дальберг с тех пор занимал должность
интенданта. Он пригласил в Мангейм самых знаменитых в Германии
актеров того времени: Иффланда, Бека, Байля. В первые
месяцы своей службы Шиллер неоднократно высказывал точку
зрения, что Млнгеймский театр в настоящее время лучший в
Германии. После того как ему пришлось пережить некоторые
неприятные ситуации с актерами, публикой и руководством
театра, он пересмотрел свое суждение. И тем не менее мангейм-
ская сцена пользовалась большой славой, и драматург имел
право испытывать гордость, если его пьеса была сыграна на
этих подмостках.
Дальберг руководил театром в духе просветительства.
Развитие художественного вкуса, улучшение обычаев и воспита-
187
ние разума были декларированными принципами его труда.
Он хотел сделать театр добропорядочным заведением;
придворной фривольности, равно как и бюргерской грубости надо
было избегать. В театральном комитете под председательством
интенданта отбирались и обсуждались пьесы. Проводились —
сущее мучение для актеров! — семинары на темы «Что есть
истинная природа на сцене?», «Что есть приличие на
театральных подмостках?», «Могут ли привиться французские
трагедии на немецкой сцене и как они тогда могут быть
представлены?».
Этой мангеймской традиции, которая по-своему
продолжала традиции Готшеда и Лессинга, следовал Шиллер в своих
сочинениях по теории театра. С тех пор как театр освободился от
пестрых ярмарочных балаганов, повсюду театральные
философы и законодатели драматургии приступили к работе.
«Коньком» Дальберга была борьба против натуралистических
эксцессов. Когда, например, актер Бек при изображении раненого
Яго вымазал себя настоящей кровью, то Дальберг принял
меры: он хотел подобного рода «трагический фарс» изгнать со
сцены. Вообще, приличия были ему по сердцу. Все
несдержанное, гениальное было для него подозрительным. То, что он
принял шиллеровских «Разбойников», было скорее умной
спекуляцией на возможной сенсации и ярком эффекте. Постановка
пьесы не была для него кровным делом. Необузданным
страстям он всякий раз предпочитал добротно сделанную, хоть и
заезженную пластинку, пошлость, банальность, и не только из
интересов бизнеса. Потому что он был в первую очередь не
бизнесменом, а аристократом со страстью к театру. Впрочем,
он не упускал из виду и то, что театр должен был сам себя
финансировать, но вместе с тем не колеблясь потратил семь
тысяч гульденов из собственного кармана на нужды сцены. Он не
стеснял себя в расходах на собственные пристрастия и
осмеливался на эксперименты, даже если они и не удовлетворяли его
вкусу. Шиллер был для него такого рода экспериментом, на
который он решился, потому что чувствовал, что из этого
человека могло получиться нечто великое.
Шиллер, когда договор с театром был у него в кармане, был
полон предприимчивости. 31 августа 1783 года в его честь при
полном зрительном зале были даны «Разбойники». Но уже на
следующий день его свалила «холодная лихорадка», как тогда
называли малярию. Причиной внезапно разразившейся летом
188
1783 года эпидемии послужил вызванный небывалой жарой
плохой воздух над наполненными трясиной и болотной водой
крепостными рвами, которые окружали город. Примерно треть
из почти двадцатитысячного населения города уже слегла,
когда заразился болезнью и Шиллер.
Шиллер был сам своим собственным врачом и назначил
себе один из своих примечательных курсов лечения: от
лихорадки он принимал сверхдозы хинной коры и соблюдал столь
строгую диету, что подорвал себе желудок. До конца октября
Шиллер пытался справиться с болезнью, был страшно слаб,
вял и подвержен депрессии.
В ноябре он еще раз берется за «Фиеско», чтобы
подготовить пьесу к постановке на сцене. И снова мучается над
концовкой. В итоге он придает ей оптимистический поворот.
Фиеско отказывается от герцогского титула, примиряется с
Веррииой, Леонора остается в живых; сцены с Бертой и
Джулией были явно смягчены. Пьеса стала привлекательнее:
откровенно темные и мрачные дни декабря трсбовати какого-то
просветления. Да и Дальберг настойчиво внушал ему мысль о
том, что вкусы публики также необходимо учитывать.
Эти хмурые дни скрашивались и кратковременными
романами. Сначала с актрисой Катариной Бауман. В Штутгарте
распространяется слух о скорой свадьбе. Даже отцу
становится что-то известно. Он спрашивает об этом сына, который
преуменьшает значение этой истории. Гораздо серьезнее была
симпатия Шиллера к другой актрисе, Каролине Циглер. Во-
семнадцатилегняя симпатичная блондинка из
добропорядочной бюргерской семьи поступила в театр вопреки воле
родителей. Шиллер гораздо более восхищался ее мужеством, нежели
талантом. Но она вряд ли отвечала влюбленному Шиллеру
взаимностью, так как 8 января 1784 года вышла замуж за актера
Бека. Это обострило скандал с родителями Каролины, потому
что Бек был не только актером, но еще и протестантом. Семья
со строгими католическими правилами была в смятении, а
религиозность только подливала масла в огонь. Шиллер принял
некоторое участие в этом происшествии, так как
недоброжелательство и препятствия, с которыми столкнулись Каролина и
Бек, напоминали ему о той душевной борьбе, которую
испытали Луиза и Фердинанд в его пьесе.
Каролина играла в Мангейме роль Луизы в премьере
«Коварства и любви» 15 апреля 1784 года. Ей подходили роли
189
кроткой и страдающей добродетели. Она знала толк в том, как
излучать исполненную духа гармонию не только на сцене, но
и в самом театре, где она находилась в центре внимания.
Шиллер регулярно бывал у нее в гостях, но и другие члены
труппы часто и охотно навещали ее. Случалось так, что Шиллер
все еще оставался у Каролины, когда другие гости уже
расходились. Каролина подавала вино и кофе, а поэт писал тогда
всю ночь до самых предрассветных сумерек. Иногда она
находила его уснувшим в кресле. Однажды она спросила его, не
иссякают ли его мысли, когда он пишет всю ночь напролет. «Не
иначе как, — ответил он на размашистом швабском
диалекте, — но, видите ли, если мысль иссякнет, тогда я рисую
лошадей». В его рукописях действительно есть целые страницы, на
которых нацарапаны маленькие лошади и человечки. Если
после этого Каролине не нравились какие-то места в текстах
Шиллера, она его в шутку спрашивала: «Тогда вы, вероятно,
рисовали лошадей?» Но недолго она могла задавать ему
подобные вопросы, так как в июле 1784 года молодая женщина
умерла. С Беком, ее овдовевшим супругом, который страшно
страдал, Шиллер оставался в дружеских отношениях, даже
тогда, когда он позднее стал невысокого мнения о возбудимом
человеческом классе актеров. Бек впоследствии, оглядываясь в
прошлое, называл проведенные с Шиллером дни
прекраснейшими в своей жизни.
В конце 1783 года была закончена сценическая обработка
«Фиеско». Среди актеров ходили насмешки над автором,
которому явно с трудом давалось произведение и который не знал,
как его закончить. Настроение в Мангеймском театре было
смутным, когда 11 января 1784 года «Фиеско» впервые была
представлена зрителю. Публика в театр шла плохо, так как
ледоход на Рейве причинил большой ущерб, и мангеймцам было
не до театра. Кроме того, для здешних театральных
пристрастий пьеса была слишком политической. Позднее Шиллер
написал Райнвальду о реакции мангеймских зрителей: Публика
fie поняла «Фиеско». Здесь, на этой земле, республиканская
свобода — пустой звук, бессмысленное наименование; в пфалъцеком
дворянстве не течет крови римлян (5 мая 1784 года).
Некоторое время спустя «Фиеско» имела значительный успех во
Франкфурте и Берлине. Политически активная публика
получала удовольствие от пьесы, которая обращалась к теме
заговора, переворота и защиты республиканской свободы.
190
В Мангейме от автора «Разбойников» ожидали
мелодраматических потрясений, но не холодных интриг, политических
козней и республиканского пафоса. После двух представлений
«Фиеско» была снята из репертуара, и Дальберг в театральном
комитете ставит на обсуждения свои резкие критические
замечания. Она заявляет, что пьеса страдает длиннотами, ее язык
слишком патетический, тематика притянута за уши. Дальберг
также дает понять, что он недоволен нерешительной манерой
работы автора. Это побуждает Шиллера — теперь уже
безотлагательно — начать сценическую обработку «Луизы Миллер».
На этот раз, в противоположность «Фиеско», у него нет
колебаний по поводу концовки пьесы. Работа у Шиллера
спорится. Иффланд предлагает ему название «Коварство и любовь»;
Шиллер принимает это предложение и в качестве ответного
хода находит для новой пьесы Иффланда эффектный
заголовок «Преступление из тщеславия».
Пьеса Иффланда, написанная также в жанре мещанской
драмы, сначала шла с большим успехом у публики. Она была
приятной, в ней не было политических столкновений,
характеры действующих лиц были сдержанными. Шиллер должен был
опасаться, что его пьеса при прямом сопоставлении окажет на
зрителя меньшее воздействие. Тем не менее мангеймекая
премьера «Коварства и любви», состоявшаяся 15 апреля (самое
первое представление этой пьесы прошло двумя днями ранее
во Франкфурте) имела большой успех. Бурные аплодисменты
после каждого акта; в конце Шиллер поднимается в своей
ложе и кланяется публике.
Вопреки успеху пьеса была сыграна в этом году всего еще
один раз. Разногласия между Шиллером и актерами, которые
обозначились уже на репетициях, начали оказывать свое
действие. Однажды Шиллер громко выразил свою досаду по
поводу той грубости, с которой Бейль хотел сыграть музыканта
Миллера. После этого обиженный актер вспомнил одно место,
где Луиза слишком поспешно уходила, и возразил замечанием:
«Я должен согласно указанию автора дать еще и пинок под
зад». Досадной для Шиллера была также и та небрежность, с
которой актеры обращались с текстом. Они безудержно
искажали слова, импровизировали и упрощали текст до
банальности. Актерам критика Шиллера не нравилась, и они
жаловались на то, что текст надуманный. Его при всем желании
невозможно запомнить. Совместная работа с автором дается
191
актерам с трудом, Шиллер считает свое произведение слишком
важным и не хочет понять, что пьеса должна служить актеру,
а не наоборот.
Среди актеров образовалась оппозиция Шиллеру; Ифф-
ланд, артист и автор в одном лице, принял сторону актеров и
пожаловался интенданту на Шиллера, которому он ставил в
упрек то, что тот слишком много требует от артистов и
забывает, что они каждый вечер выходят на сцену и не могут
работать ради удовлетворения желании одного-единственного
автора. «Силы актеров должны учитываться, — писал Иффланд
Дальбергу, — и я не утрирую, если говорю, что не могу играть
в один вечер Франца Моора... и Веррину, не причинив вреда
моему здоровью и моему чувству прекрасного».
Со всей силой недовольство Шиллером, чье поведение
актеры считали высокомерным, вырвалось наружу летом 1784
года, когда они воспользовались отсутствием интенданта и
Шиллера, который как раз находился в Шветцингене, и третьего
августа дали представление двухактного фарса Готтера
«Черный человек». В нем жалкий театральный поэтишка по имени
Фликворт играл роль комическую. Будучи нищим, он знает
толк в оскорблениях и делании долгов, но не продвигается в
своих драматургических проектах. Прежде всего он никогда не
может найти для пьесы правильного финала. «Но пятый акт, —
восклицает он, — о ты, злосчастный пятый акт! Подводный
риф моих потерпевших кораблекрушение коллег! Должен ли я
тоже о тебя разбиться? Два пути лежат передо мной. Заговор
раскрыт — король одерживает победу над самим собой —
заговорщики помилованы... Нет! Это столь похоже на двадцать
других пьес! Я не вор. Я — оригинал. Я заставлю добродетель
быть побежденной. Чем безнравственнее, тем ужаснее».
Этот фарс должен был стать пародией на «бурных гениев»
Бури и натаска, но его заострили так, что он оказался
явственно направленным против Шиллера, о котором было известно,
с каким трудом ему давались финалы его пьес. И в случае
«Разбойников», и в случае «Фиеско» это происходило на глазах у
актеров. При инсценировке фарса были допущены и другие
намеки на Шиллера, а чтобы каждый мог заметить, против кого
направлена сатира, Иффланд в роли Фликворт а подражал
движениям, жестикуляции и наружности Шиллера.
Таким образом, мангеймская сцена сделала предметом
насмешки собственного штатного драматурга. Иффланд, движу-
192
щая сила этого коварства, некоторое время спустя покаянно
оправдывался в письме к Дальбергу: «Мы ни в коем случае не
должны были давать этот спектакль («Черного человека»),
хотя бы из уважения к Шиллеру. Мы тем самым в лицо публике
(которая и так его не вполне понимает) бросили первый
камень в Шиллера... При этом была уязвлена непогрешимость
Шиллера, неприкосновенность великого человека. Как он
должен теперь выступать со своими произведениями?»
Раскаяние было притворным, так как оно должно было
исключительно послужить Дальбергу рекомендацией в
следующем сезоне полностью отказаться от постановки пьес
Шиллера.
Этим летом также происходили дрязги вокруг
возобновления контракта с Шиллером, срок которого в конце августа
истекал. Шиллер надеялся (уже исходя из финансовых
соображений), что договор будет продлен. Он рассчитывал на то, что
Дальберг от своего имени предложит ему и в дальнейшем
занимать эту должность. Но он также знал, что Дальберг до сих
пор не оправдывал возложенных на него ожиданий. Итог
этого года хорошим не был. Из-за своей болезни Шиллер
длительное время был не у дел. Из трех пьес, которые он обещал
представить, только две дошли до сцены, «Фиеско» без успеха и
«^Ъваретво и любовь» без продолжительного успеха.
Завершение третьей пьесы, «Дона Карлоса», было еще под сомнением;
отношения с актерами были напряженными, автор потерял у
них авторитет. Шиллер чувствовал, что он должен был взять
инициативу в свои руки. Так, он в июле предоставляет
Дальбергу план «Мангеймской драматургии» с лестным для
интенданта обоснованием, что только в Мангейме может быть
продолжено то, чему положил начало Лессинг своей «Гамбургской
драматургией». Но Дальберг не реагирует. Вместо этого он
через театрального врача надворного советника Мая
рекомендует Шиллеру вернуться к медицине. Шиллер сначала не понял,
что эта рекомендация одновременно означала и его увольнение
с должности в театре. Шиллер полагал, что Дальберг
предлагает ему косвенную поддержку, чтобы он дополнительно к своей
службе в театре смог завершить свое медицинское
образование. Шиллер думал, что Дальберг желал оставить его при
театре, но хотел ему порекомендовать обеспечить себе
дополнительный заработок в качестве медика. Это были как раз те
перспективы, которые Шиллер рассматривал как выход в эти
193
кризисные недели. Так, он пишет Дальбергу в конце июня 1784
года после визита надворного советника Мая: То, что мне
вчера передали Ваше превосходительство через господина
надворного советника Мая, вновь наполняет меня самым теплым и
искренним почтением к замечательному человеку, который
принимает столь великодушное участие в моей судьбе. Если бы
уже с давних пор единственным пожеланием моего сердца не
была мысль вернуться к моему главному предмету, то уже
одно это прекрасное движение Вашей благородной души должно
было бы вызвать во мне слепое послушание. Но уже давно мое
сердце тянуло меня туда; уже давно, и не без причины, я
опасался, что рано или поздно мой пыл к поэтическому искусству
угас бы, если бы я продолжал писать ради куска хлеба, и что
оно, напротив, должно было бы стать для меня новым
соблазном, покуда я буду обращаться к нему лишь в качестве
отдыха, и только мои свободные минуты посвящать искусству.
Тогда только смогу я с полной силой и вечно живым энтузиазмом
быть поэтом, тогда только буду надеяться, что моя страсть
и мои способности к искусству продлятся всю мою жизнь У
Итак, посудите, каким желанным для меня должен был быть
знак, который мне дает возможность открыть Вам все мое
сердце!
Он просит Дальберга о финансовой поддержке. Он хотел
бы в течение одного года повторно изучать медицину в Гей-
дельберге и сдать экзамен на степень доктора, которая была бы
признана во всем мире, затем вернуться в Мангейм, открыть
медицинскую практику и работать для театра в качестве
автора. На этот год обучения в Гейдельберге он испрашивает у
Дальберга стипендию.
А Дальбсрг хочет не финансировать его, а избавиться от
него. Андреас Штрайхер предостерегал своего друга, что он не
должен делать ставку на Дальберга, не должен ему писать и
открывать свои нужды, так как от Дальберга можно ожидать
только «вежливого уклончивого ответа»; этот человек, как
полагал Штрайхер, отдаляется всегда именно в тот момент,
когда нужна его помощь. Но Шиллер не послушал друга
(Штрайхер пишет, что «его благородное чистое сердце судит других
только по собственному образцу») и не дал себя удержать от
этого шага.
В то время как Шиллер все еще ждет ответа, за кулисами
уже созрело направленное против него решение. Дальберг по-
194
терпел с Шиллером убытки: Шиллер не оправдал себя в
качестве магнита для кассовых сборов. Первоначальный успех
«Разбойников» был, вероятно, слишком многообещающим.
Актеры подали жалобу на драматурга. Дальбергу был нужен
автор, который смог бы писать подходящие для подмостков
пьесы быстро и одним махом, и он имел право надеяться
найти наконец такого автора в Иффланде, который в течение
одного года представил к постановке три имевшие успех пьесы.
Труппа, к мнению которой Дальберг прислушивался, уже
давно прожужжала интенданту все уши своими жалобами на
Шиллера. Фридрих Вильгельм Готтер, популярный драматург
из Готы, написал ему, что он присудил бы драмам Шиллера
«премию в жанре ужасных» и на случай, если бы ирония
этого предложения осталась незамеченной, добавил: «Но небеса
хранят нас от большого количества пьес подобного жанра».
Фридрих Людвиг Шредер, директор театров в Гамбурге и
Вене, писал Дальбергу в мае 1784 года о «Разбойниках» и «Фие-
ско»: «Император не желает видеть пьес Бури и натиска, и но
праву... Остается пожалеть о таланте Шиллера, что он выбрал
карьеру, которая являет собой руины немецкого театра.
Последствия очевидны. Если вкус к этим пьесам Бури и натиска
станет всеобщим, то никакая публика не сможет смотреть
пьесу, которая, словно кунсткамера, каждые пять минут не пока-
зывает что-то совсем другое... Я также ненавижу эти лишенные
правил драмы, которые губят искусство и вкус. Я ненавижу
Шиллера за то, что он снова открыл путь, который давно уже
был развеян ветром».
В подоплеке интриги было также и политическое
коварство. В начале восьмидесятых годов в Баварии и Пфальце
началась кампания против иллюминатов, «кузнице кадров» для
вольных каменщиков. За всем этим стояли католические
круги при дворе в Мюнхене, которые, реагируя на запрещение
ордена иезуитов в 1773 году, потребовали энергичного
подавления просветительских и антиклерикальных настроений в
стране. Указом 24 июня 1784 года были запрещены все
масонские ложи в Баварии и Пфальце. Этим летом, когда Шиллер
боролся за свое дальнейшее назначение на должность
штатного театрального драматурга, в Мангейме также царил климат
подозрительности. Всё, что хоть как-то могло быть
причислено le Просвещению или Буре и натиску, обозначалось как «ил-
люминатизм» и тем самым рассматривалось в качестве рево-
195
люционных происков. Под подозрением находилась вся
театральная среда в целом; о Дальберге ходили слухи, что он член
ложи. Вероятно, чтобы оправдаться самому и вывести из зоны
подозрений свой театр, Дальберг решил до поры до времени
порвать связи с Шиллером, считавшимся в высших сферах фи-
*.» о
гурои политически сомнительной.
Этим летом, когда за кулисами готовится увольнение,
Шиллер 26 июня читает перед курпфальцеким «Немецким об-
ществом» доклад на сему «Каково должно быть воздействие
хорошей постоянной сцены?» (позднее доклад опубликован
под заглавием «Театр, рассматриваемый как нравственное
учреждение»). Он занимается великим будущим театра
(нравственным, эстетическим и политическим одновременно), тогда
как его собственное будущее в театре стоит под вопросом. И
именно поэтому он борется за свое место, за уважение к себе в
обществе, и не в последнюю очередь за свою репутацию в
глазах «Немецкого общества», в этом кругу почтенных буржуа и
дворян, которые поставили себе целью улучшение нравов и
очищение языка. Шиллер взвешивает свои шансы стать
секретарем этого общества. Это было бы прибыльным занятием;
кроме того, с этих позиций он мог бы позаботиться о том,
чтобы «Общество» вступилось также и за дело театра. Тем самым
для сцены можно было бы завоевать более активную
поддержку среди наиболее взыскательной части публики. Шиллер
понимает, что «Общество» по большей части состоит из людей,
для которых художественная литература, искусство и театр
означают всего-навсего занятие хоть и приятное, но
второстепенное. Театр может им нравиться, но исключительно как чистое
удовольствие, но ни в коем случае он не может считаться у них
%J
серьезным делом серьезных люден.
Шиллер хочет привлечь это политически влиятельное
общество к тому, чтобы оно восприняло заботу о театре как о
нравственном учреждении. «Общество» овеяно духом
Просвещения, оно хочет «улучшать» — людей, нравы, язык,
общественные институты. И поэтому он должен разъяснить этим
господам, перед которыми он выступает, социальную,
просветительскую значимость театра. На это направлена вся речь, в
которой Шиллер явно переусердствовал. До сих пор еще
никто не подчеркивал общественно-политическую и социальную
роль сцепы с таким пафосом и с такой решительностью.
196
Он заявляет, что театр наряду с государством и религией
является третьей властью в общественной жизни. В письме к
Кристиану Готтфриду Кернеру полгода спустя Шиллер
говорил о своей несчастной страсти к преувеличениям и о том, что
его помыслы часто головокружительны, невзирая на
незначительные поводы (10 февраля 1785 года). В речи перед
«Немецким обществом» Шиллер представляет выразительный обра-
V
зец своей «страсти к преувеличениям» при описании
общественной роли театра, и при этом можно видеть,
насколько он увлечен размахом собственной мысли.
Шиллер демонстрирует неограниченную веру в
действенную силу театра. Чего только не должна и не может совершить
сцена: она показывает порок и вызывает возмущение им; она
подвергает насмешке глупость; она знакомит зрителя с
лабиринтами его души; она разоблачает все уловки зла, так что от
него можно будет лучше защититься; она учит зрителя
сживаться с различными персонажами и признавать за каждым из
них свою правоту.
То, как сильно Шиллер в этой ситуации, когда нужно
привлечь местную знать из «Общества» к театру и самому себе и
раздобыть место секретаря, отдается своей страсти к
преувеличениям, проявляется, в частности, при сопоставлении этой
речи с его сочинением «О современном немецком театре»,
которое он написал за два года до этого.
В нем Шиллер также имеет в виду возможность
рассматривать театр Kaie нравственно облагораживающую силу, но он без
иллюзий приходит к выводам, что сначала публика должна
улучшить сама себя, прежде чем она могла бы улучшиться
благодаря театру. Пока публика не возвысится до своего театра,
едва ли театр сможет возвысить свою публику (т.6, с. 10). Ибо
публика, как проницательно замечает Шиллер, втайне
получает наслаждение от того, чем она должна возмущаться. Если,
например, на сцене сладострастие одерживает победу над
добродетелью, тогда это, как правило, не добродетель, а
сладострастие, с которым себя идентифицирует публика. Похоть сидит
в партере, и актрисы понимают, как ее возбудить, даже при
исполнении добродетельных ролей. Жертвы порока сыграны
дочерьми порока, а сцены страданий, страха и ужаса служат в
конце концов только лишь для того, чтобы выставить на
обозрение стройный стан, милые ножки, грациозные изгибы тела
актрисы (V, 813). Драматурги не должны обманываться в том,
197
что толпа милейших бездельников жаждет лишь пены мудрости
и бумажных денег чувствительности (т.6, с. 10). Пара часов
приятных переживаний, порывов, игры ума, после чего зритель
снова возвращается к своим привычным делам, как будто бы
ничего не произошло. Но тот, кого происходящее на сцене
тронуло более глубоко, обнаруживает тем самым, что он как раз
сам по себе человек получше и что театр вообще не
поспособствовал его нравственному усовершенствованию.
В этом сочинении 1782 года Шиллер мало рассматривает
проблему театра как нравственного института. Taie, он
ограничивается тем, что развивает идеи об улучшении мастерства
авторов и актеров, мастерства, которое целиком и полностью
должно ориентироваться на меру естественности и правды
жизни. Если театр не сделает людей лучше, то он сам должен
быть по меньшей мере хорошо сделан, тогда театр сохранит
KJ
свое достоинство и, вероятно, сможет позитивно
воздействовать на публику: Благородная; чистая душа проникнется перед
сценой новой живительной теплотой, и в более грубой толпе
тихо зазвучит отголосок хотя бы одной забытой струны
человечности (т.1, с 14). Не следует — такова логика
аргументации — сулить себе слишком многое от эффекта, не следует
также в первую очередь ориентироваться на нравственную цель;
но автор должен всецело отдаваться своему произведению и
заботиться о его красоте. Все прочее: эффект и правда — уже
потом сами найдутся. Что же касается нравственности, то ее
лучше всего находят тогда, когда ее не преследуют.
Совсем иные аргументы приводит Шиллер двумя годами
позже в речи перед «Немецким обществом». Он к тому
времени обогатился практическим опытом, но последний был не
того рода, что мог бы дать повод для оптимистической оценки
возможностей нравственного воздействия театра на публику.
И все же он осмеливается на такое положение: Театр есть
общий канал, по которому от лучшей, мыслящей части народа
струится свет истины, мягкими лучами распространяясь
затем по всему государству. Более верные понятия, более высокие
правила поведения, более чистые чувства растекаются отсюда
по всем жилам парода, туман варварства и мрачного суеверия
рассеивается, мрак уступает победоносному свету (т.6, с.22).
Откуда берутся эти преувеличенные по сравнению с
первым сочинением положения о нравственном влиянии театра?
Разумеется, он хочет убедить господ из «Немецкого общества».
198
Но при этой возможности он имеет в виду еще и более
возвышенные цели: Тот, кто сможет неопровержимо доказать, что
сцепа воспитывает человека и народ, возводит ее в ранг наряду
с первыми институтами государства (V, 819).
Драматург, который борется за свою должность, стремится
к повышению ранга театра в общественной жизни: театр
должен наряду с государством и вопреки государству иметь право
претендовать на собственный авторитет, и поэтому он хочет
доказать то, какой вклад вносит сцена в дело воспитания
человека и народа. Он еще раз собирает все аргументы, которые в
этом столетии были призваны на защиту сцены.
Со времен «Письма к д'Аламберу о зрелищах» Руссо, в
котором сцена была заклеймена позором как губительница
нравов, — Шиллер называет это сочинение эюесточайшими
нападками (V, 820) — как во Франции, так и в Германии шли острые
дебаты, которые в основе своей носили эстетико-нравственный
характер, но в действительности имели политическую
подоплеку. И Шиллер в своей апологии театра также формулирует
свои политические воззрения. Он недвусмысленно выражает
их в ставшей классической формулировке: Область
подсудности театру начинается там, где кончается царство светского
закона. Когда злодеяния сильных мира сего презирают
правосудие... театр берет в свои руки меч и весы и привлекает порок к
суровому суду (т.6, с. 17).
Чтобы подчеркнуть эти политические претензии, выдвига-
KJ %J
емые по отношению к эстетико-нравственной
противодействующей силе театра, Шиллер вопреки своему собственному
опыту преувеличивает нравственную эффективность сцены. Он
выводит в бой батальоны, которыми он не командует. Все же
о \J \J
иногда в этой полной энтузиазма и высокой патетики речи ему
поперек дороги встает его же реализм. Он только что еще
расписывал широкий круг влияния сцены, как тут же его
охватывают сомнения: Я сам держусь мнения, что... трагическая
история разбойника Карла Моора не сделает большие дороги
безопаснее (т.б, с.20). Присмирев, он возвращается потом к
формулировке, что сцена, если она не искупает и не уменьша-
о • \J
em сумму грехов, по крайней мере выявляет для нас эти грехи.
Скромное признание, так как есть достаточное количество
других способов познакомиться с грехами. А то, что благодаря
сцене можно подготовиться к искушениям греха и лучше защитить
199
себя от них, как утверждает Шиллер, то это, вероятно, есть
О
только принятие желаемого за действительное.
Попытка доказать нравственную значимость сцены
выглядела несколько натянутой. Только в конце речи автор
становится более раскованным, когда описывает не нравственное и
политическое, а ее собственно эстетическое состояние. Здесь
Шиллер формулирует контур своей несколькими годами
позже блистательно развернутой теории: Человеческая природа не
выносит вечной и непрерывной пытки деловых занятий, а
чувственное возбуждение умирает вместе с удовлетворением.
Театр есть учреждение, где... ни одна сила души не напряжена в
ущерб другой, ни одно удовольствие не достается за счет цело -
го... В этом искусственном мире мы мечтой прогоняем мир
действительный, мы вновь обретаем себя: наше чувство
пробуждается, целительные страсти потрясают нашу дремлющую
природу и гонят кровь освеженными волнами (т.6, с.24).
Здесь речь больше уже не идет о нравственном влиянии,
просвещении и поучении, а описывается другое состояние —
состояние эстетического переживания, когда дух отделяется от
служения принципу реалистичности, когда он становится
свободным для опыта и искушения, когда режиссером уже
больше не является эгоизм самоутверждения, когда подмостки
открыты для эксперимента, когда на опытной сцене вымысла
можно было бы постичь и экстремальные страсти, когда
можно с минимальным риском экспериментировать на пределе
человеческих возможностей, когда человек, таким образом,
играет собственными силами и при этом узнает, что он только там
является подлинным человеком, где он играет.
Солидным господам из «Немецкого общества» Шиллер
рекомендует искусство в качестве ультимативного упражнения
на расслабление: они должны, как он обращается к ним в
полной энтузиазма концовке речи, сбросить узы искусственности
и обычая, оторваться от натиска будничных судеб и
почувствовать, как они в игре побратались в единой всех объемлющей
симпатии. Не хватает только того, чтобы он призвал их выступить
вперед, взяться за руки и начать водить огромный хоровод. Что
есть эстетическое состояние? Восхитительное чувство быть
человеком (т.б, с.25).
Господа из «Немецкого общества», которых Шиллер
завлекал перспективами, что если бы мы впервые имели
национальный театр — вероятно, в Мангейме? — то мы бы стали наци-
200
ей (V, 830), — эти господа не дали себя уговорить. До сотруд-
V XJ
ничества с театром дело не дошло, равно как и до действии в
защиту Фридриха Шиллера. В конце августа 1784 года истек
его контракт с театром. Продлен он не был. Шиллер должен
был считать себя уволенным.
Весть об увольнении Шиллера тут же проникает в
Штутгарт, где зашевелились кредиторы, которые стали настаивать
на срочной уплате долгов. Речь шла все еще о тех деньгах,
которые Шиллер одалживал в 1781 и 1782 годах, чтобы
самостоятельно издать «Разбойников» и «Альманах». Они еще не
были возвращены. Супруге одного капрала, которая выступила
посредником и поручителем в ссуде, досаждали кредиторы, и,
чтобы не попасть в долговую яму, она бежала в Мангейм. В
Шутгарте распространился слух, что Шиллер помогал ей
изготавливать фальшивые векселя. Положение Шиллера
становилось отчаянным. Отец тоже был поручителем сына, и
возникала опасность, что он также окажется втянутым в скверную
историю. Отец помог ему некоторой суммой, которой, впрочем,
оказалось недостаточно. Он пишет сыну горькие, полные
упреков письма: «Пока он... рассчитывает на выплаты, которые
только лишь должны поступить, следовательно, зависят от
удачи или неудачи, а до тех пор он останется втянутым в эти
дрязги». Сын винит свою несчастную судьбу, но отец отвечает ему
упреком: «Мой дорогой сын, он никогда еще, верно, не
боролся с самим собой, и это в высшей степени неприлично и
греховно, сваливать его нежелание на воспитание в академии».
Своими упреками отец побуждает сына подумать о том, «что
он не попадал бы во все свои затруднительные положения,
если бы остался здесь, и что он был бы вообще более счастливым,
более довольным сам собой и более полезным в мире, если бы
почаще выбирал средние пути, а не хотел бы творить эпоху».
Отец при всем желании не мог помочь, его денежные
средства были исчерпаны. В конце концов ему помогли каменщик
Антон Хёльцель и его жена, у которых Шиллер жил и которые
испытывали к нему благодарность, потому что он как врач
наблюдал за их сыном и спас его от тяжелой болезни. Чета
Хёльцель дала ему взаймы некоторую сумму, с помощью которой
он удовлетворил претензии самых настойчивых кредиторов.
Беглая жена капрала снова могла вернуться в Штутгарт.
Шиллер был должен также и Генриетте фон Вольцоген.
Она ссудила ему кое-какие деньги на время пребывания в Ба-
201
уэрбахе и на поездку в Мангейм, и, кроме того, так как этой
суммы не хватало, она поручилась за Шиллера перед одним из
кредиторов. Теперь он досаждал ей, так как получил известие
о бедственном положении Шиллера. Теперь уже и Генриетта
дружелюбно, но решительно настаивала на возврате долга.
Сконфуженный и растерянный, Шиллер не решался написать
подруге и признать ее требование. Только спустя несколько
недель, 8 октября 1784 года, он признается ей в своем
затруднительном положении: Несчастливая судьба, которая должна
помешать нашей дружбе, которая должна заставить меня
к^
казаться в ваших глазах тем, кем я ни в малейшей степени не
являюсь и кем никогда не стану, низка и неблагодарна. Мысль о
Вас, которая мне каждый раз доставляла так много радости,
станет для меня из-за воспоминаний о моей
несостоятельности источником мучений. Как только Ваш образ предстает
перед моей душой, передо мною возникает также и полная
картина моего несчастья. Я опасался писать Вам, так как я не мог
Вам написать ничего, как всегда ничего, кроме как мое вечное:
Будьте со мной терпеливы. Генриетта запасается терпением, и
ей удается на некоторое время успокоить кредитора из Бауэр-
баха, от которого зависит и она сама.
Во время этих злоключений Шиллер получает в мае 1784
года анонимное письмо из Лейпцига. Четверо неизвестных
друзей, две женщины и двое мужчин, объединили свои усилия
и анонимно послали свои портреты и высказали в письме свое
сердечное почтение поэту. Позднее Шиллер узнает их имена:
Кристиан Готтфрид Кернер, советник верховной консистории
в Дрездене, который переложил на музыку песни Амалии из
«Разбойников», его невеста Дора Шток, се сестра Минна,
которая пожертвовала вышитый бумажник, и обрученный с нею
Людвиг Фердинанд Хубер. В письме они писали: «В то время,
когда искусство все больше опускается до того, чтобы стать
Х1родажной рабыней богатых и могущественных еластолюбцев,
благом является то, когда выступает великий муж и
показывает, на что еще и сейчас способен человек».
Шиллер почувствовал себя, как он позднее писал Кернеру,
сконфуженным. Из-за неприятностей его чувство
собственного достоинства настолько упало, что он не мог поверить в то,
что он удостоился подобного уважения. Когда он наконец 7
декабря 1784 года, спустя полгода после получения этого
послания, решился на ответное благодарственное письмо, он писал,
202
извиняясь за свое молчание: Bourn письма... застали меня в
одном из самых печальных состояний моего сердца... Мое
тогдашнее расположение духа не было таким, в котором можно
первый раз предстать перед глазами таких людей, какими я Вас
себе представляю. Ваше лестное мнение обо мне, конечно, было
только приятной иллюзией... Поэтому, дражайшие мои, я
оставил за собой ответ до лучшего часа — до посещения моего гения,
если я одналсды, в благоприятном расположении моей судьбы,
стал бы открытым для более прекрасных чувств. Он писал, что
проклинал свою профессию поэта, что сомневался в себе до
отчаяния. В этом настроении он не мог и не хотел писать.
В начале 1785 года снова вернулись силы и уверенность в
себе. Это также было связано с тем, что Шиллеру снова после
унижений суждено было пережить замечательный успех.
На Рождество 1784 года он по рекомендации одной
родственницы Генриетты, придворной дамы ее высочества
принцессы Луизы Мекленбургской (позднее королевы Луизы
Прусской), был приглашен к дармштадтскому двору, где как раз
пребывал в качестве гостя герцог Карл-Август Веймарский.
Шиллер должен был читать отрывки из «Дона Карлоса»,
новой пьесы, над которой он работал. Чтение производит
впечатление: Шиллер к тому времени научился читать свои
собственные тексты более эффектно. На следующий день у него
состоялась беседа с герцогом Веймарским, который ему по его
просьбе «с большим удовольствием» пожаловал титул
веймарского советника. Очередной случай позволить себе по
незначительному поводу головокруэюапельно увлечься самыми
большими надеждами. Как прекрасно было бы покинуть
неблагодарную, унизившую его мангеймскую театральную среду
и отправиться в Веймар? Вероятно, там можно было бы
заново начать как писателю, как драматургу; вероятно, он мог бы
там, так как он все же немного занимался юридическими
науками, получить доходную административную должность при
дворе; возможно, что из новоиспеченного титулярного
советника получился бы настоящий советник, наряду с тайным
советником Гёте...
Во всяком случае, в феврале 1785 года он снова исполнен
чувством собственного достоинства. 10 февраля он пишет
новым друзьям в Лейпциг, что он тем временем обрел
возможность из всех своих сумасбродств сделать вывод, что природа
осуществляет в нем свой собственный проект...
203
О лейпцигских друзьях он знает еще так мало, но с миной
торопливости, как он сам пишет, он устремился к этой
дружбе, которая пока еще только фантазм. Для Вас, мои дорогие, я,
безусловно, не могу наносить румяна; этого убогого прибежища
пустых сердец я не знаю. Они друг друга еще не знают, по это
и не нужно, достаточно предчувствия, и оно говорит ему: Эти
люди принадлежат тебе, ты принадлежишь этим людям. Не
является ли отклонением от нормы эта дружба на авось, эта
выходящая из берегов сердечность, основанная только на
предчувствии и на фантазии? Может быть. Но этот энтузиаст
дружбы чувствует себя человеком настолько особенным, что как раз
в процитированном письме от 10 февраля гордо и
самонадеянно выражает строками: Для некоторых людей природа
разрушила преграды моды... В этом предложении возникает тот же
мотив, который спустя полгода зазвучит снова в сочиненном в
честь дружеского союза с Кернером гимне «К радости»: Твои
чары снова свяжут / То, что моды меч разрушил (во втором
варианте это звучит так: Твои чары снова свяжут / То, что мода
разделила).
Дальше он пишет, что если друзей неожиданно овеет
чувством грусти, то они могут быть уверены, что как раз в этот
миг Шиллер о них подумал. Грусть? Разумеется, они же
должны были еще раз перечитать элегическое сетование Карла Мо-
ора на Дунае: Смотрите! Все вокруг греется в мирных лучах
весеннего солнца! ... Все счастливо кругом, все сроднил этот
мирный дух! Вселенная — одна семья... Я один отвержен...
Никогда, никогда не почувствовать мне томного взгляда любимой,
объятий верного друга (т.1, с.440—441).
Письмо от 10 февраля обрывается посреди предложения.
Оно так и останется лежать почти две недели, затем Шиллер
снова приступает к нему с удара фанфар. С ним за это время
произошла революция, которая открывает эпоху его жизни.
Он не может и не хочет больше оставаться в Мангейме:
Двенадцать дней я вынашивал это в моем сердце, словно решение
уйти из мира. Люди, отношения, земля, небо мне опротивели.
Для меня здесь нет ни души, ничего единственного, что
заполнило бы пустоту моего сердца, ни подруги, ни друга. Он
приедет — на это он решился — к друзьям в Лейпциг. Там, подле
них, его истинная родина. Если он поедет к ним, то он снова
вернется к самому себе. Моя поэтическая жила застыла, как и
мое сердце опустошилось для моего прежнего окружения. Вы
204
должны их снова согреть. Я хочу быть с вами, я вновь удвою и
утрою все то, чем я был до сих пор, и гораздо важнее, чем все
это, то, о мои дорогие, что я буду счастлив... Я еще не был
счастлив, так как слава и восторги и все прочие спутники
творческой деятельности не перевесят одного-единственного
мгновения, которое доставляют друэюба и любовь. Воодушевление
охватывает его, влечет его навстречу друзьям. Шиллер еще не
имеет представления ни о Кернере, ни о Хубере, ни о дамах
Шток. Он познакомится с ними только в Лейпциге.
Но в письме от 22 февраля Шиллер делает туманные
намеки на некоторые сердечные обстоятельства, которые
одновременно удерживают его в Мангейме и гонят его прочь: И то, что
для меня, возможно, могло бы быть еще более дорого, — от
этого меня отделяют приличия и ситуация. То, на что здесь
намекает Шиллер, была история его взаимоотношений с
Шарлоттой фон Кальб.
Шарлотта фон Кальб, дальняя родственница Генриетты,
урожденная баронесса Маршалк фон Остхайм, была странной
женщиной, восторженно погруженной в свои мечты и
фантазии. Рано осиротевшая, она, как и ее братья и сестры,
находилась на попечении то одних, то других родственников, жила в
замках и поместьях, одинокая и углубленная в себя. Она была
человеком меланхолического склада. Впоследствии, уже буду-
О \J
чи слепой старухой, она в своих воспоминаниях расскажет о
своей бабке, которая воскликнула при ее рождении: «Тебя не
должно быть». Она пишет, что эти слова определили ее жизнь.
Ей на самом деле довелось пережить несколько ударов судьбы:
вызывавший ее восхищение любимый брат неожиданно умер в
Гёттингене, где он учился; ее сестра полюбила человека из
бюргерского сословия, но была выдана замуж за аристократа и
вскоре после этого умерла от горя. Другую ее сестру принуди-
t-J KJ
ли выйти замуж за вышедшего в отставку веймарского
председателя палаты фон Кальба, человека, о котором Гёте, занявший
вслед за ним этот пост, сказал, что он зауряден как делец, плох
как политик и отвратителен как человек. Шарлотта была
отдана в жены младшему фон Кальбу. Этот последний, Генрих фон
Кальб, как раз вернулся из Северной Америки, где, будучи
офицером французской армии, сражался против англичан. В
описываемый период фон Кальб был переведен в Ландау,
откуда Шарлотта и прибыла в окрестности Мангейма, чтобы
посетить Шиллера, которым она восхищалась и чьи произведе-
205
ния многократно перечитывала. Она выкупила для себя шесть
экземпляров «Фиеско». Она создала целый культ из этой
книги и боготворила ее автора. Так как жены французских
офицеров, как правило, не жили со своими мужьями в гарнизонах,
Шарлотта могла себе позволить летом 1784 года снять
квартиру в Мангейме. Это приближало ее к Шиллеру. Когда она в
сентябре родила своего первенца и день спустя у нее возникли
осложнения, Шиллер был рядом с ней и оказывал ей
врачебную помощь. С тех пор Шарлотта смотрела на Шиллера как на
спасителя своего сына, который позднее (благодаря
посредничеству Шиллера) был передан на попечение Гёльяерлина,
ставшего его домашним учителем.
В первые недели после рождения ребенка Шиллер
посещает Шарлотту почти ежедневно. Дошло ли действительно до
любовной связи, мы не знаем. Шарлотта намекает на это в
своих воспоминаниях, которым, впрочем, нельзя полностью
доверять. Когда пять лет спустя Шиллер встретит другую свою
Шарлотту, Шарлотта фон Кальб переживет душевный кризис.
Она в духе своих мечтаний и фантазий уже прочила себе
будущее со своим любимым поэтом. Пятнадцать лет спустя
Шиллер, благодарный ей за совместно проведенное время в
Мангейме, напишет: Тогда Вы носили судьбу моего духа подле
Вашего мужественного сердца и почитали во мне неразвитый,
еще неуверенно борющийся с материалом талант. Не за то, чем
я был и что я в действительности сделал, а за то, чем я,
вероятно, мог бы стать и что мог бы создать, ценили Вы меня.
Если мне сейчас на самом деле удалось осуществить Ваши
тогдашние надежды и оправдать Ваше участие во мне, то я
никогда не забуду, сколь повинны в этом те прекрасные и
чистые отношения (20 апреля 1799 года).
Этой осенью 1784 года, когда завязалась щекотливая
дружба с Шарлоттой, Шиллер пишет стихотворение «Свободная
духовность страсти», в котором описывает борьбу между
добродетелью и соблазном в женщине, связанной узами брака.
Там звучит мысль о том, что добродетель не в силах заглушить
сердца пламенных порывов. Свободный дух не хочет больше
следовать клятвам добродетельной жизни. Возьми их и позволь
мне согрешить, и дальше на протяжении многих строф
описывается, как грех совершается. Это все же вполне
благовоспитанные экстазы чувственности, которая убеждается в своем
полном праве на распутство. Разве женщина не принуждена к
206
плохому браку, к союзу, в котором раскаивается покрасневшая
природа? Разве это добродетель, когда человек капитулирует
перед подобной противоестественностью? Разве требующая
этого добродетель не тиран, разве она не Нерон? Влюбленный
свободный дух этого стихотворения, чтобы утолить свои
эротические желания, начинает борьбу с моральными устоями
мира. Этот странный жрец любви стремится не только на ложе
страсти, но также и на теологическое поле боя. В конце
стихотворения любовь к женщине уже почти забыта, остается лишь
высокопатетическая мина отрицания Бога: Пред богом этим,
паши храмы не откроем, / И гимна не споем, / Слезами
радости его мы не умоем / И навсегда из сердца зачеркнем (I, 129).
Любовь к замужней женщине — сюжет этого
стихотворения — вполне подошла бы к истории с Шарлоттой фон Кальб,
и стихотворение по большей части интерпретировали как
лирическое признание. Но это не так. Его можно прочесть так же,
как стихотворение-диалог, как произведение свободного духа,
которому теологический дискурс оказывается значительно
важнее, чем любимая женщина. Но все-таки сам Шиллер
находит в нем столько эротической привлекательности, что первую
публикацию стихотворения в «Талии» (1786, вторая часть)
снабжает комментарием, который должен предотвратить
возможные неверные его истолкования: не нужно принимать
отчаяние воспетого любовника за кредо поэта. В более позднем
варианте стихотворения («Борьба») погашены все
двусмысленные намеки на замужнюю женщину, и богоборческий тон
также смягчен.
Еще одно стихотворение этого периода носит название
«Отречение». На протяжении двадцати строф лирически обы-
грывается и варьируется следующее чувство: И я па свет в
Аркадии родился... / Но сколько слез пролил потом (т.1, с. 146).
Красноречивый, сколь и словоохотливый упрек жизни,
которая обещала больше, чем сделала. Все это действительно
отражало настроение тех последних недель 1784 года.
В начале 1785 года Шиллер внутренне поставил крест на
Мангеймском театре. 18 января он еще раз стал свидетелем
возмутительно плохого представления «Коварства и любви».
Пьеса была сыграна холодно, актеры забывали текст, они
импровизировали так, как им нравилось. Шиллер пишет
интенданту озлобленное письмо, по которому видно, что теперь он
больше не готов с этим мириться: Наши здешние господа акте-
207
ры, — пишет он, — считают для себя приличным возвышать
плохой диалог хорошей игрой и портить хорошее плохть. Эти
строки направлены против предпочтения пьес Иффлаида и
против коверкания драм Шиллера. «Коварство и любовь»
небрежным заучиванием... полностью превращена в лохмотья (19
января 1785 года).
Когда Шиллер это писал, он знал, что ему уже нечего
терять. Он уже наполовину решился переселиться к новым
друзьям в Лейпциг. Окончательное решение в пользу Лейпцига он
примет в конце февраля. Пребывание в Мангейме продлится
еще несколько недель, пока не будут урегулированы все дела.
В начале апреля он попрощается со знакомыми и
немногочисленными друзьями. Шестнадцатилетняя дочь издателя Швана,
чью прелесть Шиллер до этого неоднократно восхвалял,
вышила ему бумажник, который она с влажными от слез глазами
передала ему на прощание. Этот жест заставил его задуматься. Из
Лейпцига, склонный к быстрым решениям, он сделал ей
предложение, которое ее отец отклонил.
Последние дни в Мангейме Шиллер провел вместе со
своим другом Андреасом Штрайхером. Вечером 8 апреля 1785
года оба разговаривали и пили до полуночи. Строились
следующие планы: Штрайхер должен возобновить свое музыкальное
образование, а Шиллер укрепляется в своем намерении
«принимать визиты муз только в самом возвышенном настроении;
но для этого с полным усердием нужно приняться снова за
юриспруденцию, с помощью которой он имел бы право
надеяться получить доходное, сулящее беззаботную жизнь место».
Это был план, навеянный винными парами; Шиллер никогда
. больше к нему не возвращался. Но в этот последний вечер оба
друга обнялись и выпили за то, что не буду!1 писать друг
другу «до тех пор, пока один не станет министром, а другой —
капельмейстером».
Друзья расстались. Больше они никогда не увидят друг
друга.
ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА
На пути в Лейпциг. Кернер. Хубер. «Рейнская Талия».
Энтузиазм дружбы. «Дайте Вас обнять...». Философский роман
в письмах. Еще раз о философии любви. Холодный шок
материализма. Энтузиазм учит реализму.
«Родиться заново»
Фридрих Шиллер находился на пути к новым друзьям в
Лейпциг. Он предчувствует, что начнется новая эпоха в его жизни.
С расстоянием так же, как и с будущим, — пишет он 5 октября
1785 года Людвигу Фердинанду Хуберу, — большая смутная
цель лежит перед нашей душой, наши чувства расплываются в
ней, и когда Там наконец превратится в Здесь, все станет по-
прежнему, а наше сердце томится по ускользающей отраде.
Так есть, и так оно и будет. Он едет, исполненный
ожиданий, в Лейпциг, к этой смутной цели, и, когда он два года
спустя уедет дальше в Веймар, он будет так смотреть на тесную
совместную жизнь с друзьями, как будто бы от него там
ускользнула отрада. По истечении этих двух лет, проведенных у
Кернера и его друзей, Шиллер из Веймара сделает признание
оставшимся друзьям: Если бы я так глубоко не почувствовал
деградацию моего духа, перед тем, как от вас уехать, я бы
никогда вас не покинул.
Но перед опытом подобной деградации будут и взлеты,
эйфория, мгновения энтузиазма. Эти два года в Лейпциге, Го-
лисе, Дрездене и Лошвице были литературно продуктивным
временем: были закончены «Философские письма», завершен
«Дон Карлос», создана ода «К радости», начат роман
«Духовидец», и все же для Шиллера при ретроспективном взгляде
меньшее значение имело творчество, чем счастье дружбы. Для
меня, — пишет он Кернеру 8 августа 1787 года из Веймара, —
нет в мире более высокого счастья, чем совершенное
наслаждение нашей дружбой, полное, неразделимое слияние нашего
бытия, наших радостей и страданий. Эти два года окончатся так
же, как они и начинались: восхвалением дружбы.
10 февраля 1785 года, незадолго до отъезда из Мангейма в
Лейпциг, Шиллер пишет Кернеру: Слава, восхищение и прочие
спутники писательской деятельности не перевесят одного
мгновения, которое уготавливают дружба и любовь — сердце
209
при этом бедствует. Шиллер спешит навстречу дружбе,
которая поначалу еще не что иное, как ожидание, а не реальность.
Он решился на отъезд в Лейпциг, несмотря на то что до этого
момента он знал Кернера и Хубера только по двум письмам.
Этих писем ему хватило, чтобы проникнуться к ним доверием.
11 января 1785 года Кернер написал: «Мы знаем о Вас
достаточно, чтобы по Вашим письмам предложить Вам свою полную
дружбу. Но Вы нас знаете еще недостаточно. Итак,
приезжайте так скоро, как только возможно. Тогда можно будет сказать
друг другу многое, о чем сейчас еще написать нельзя».
Кристиан Готфрид Кернер был на три года старше
Шиллера и происходил из семьи уважаемого лейпцигского патриция.
Его отец был суперинтендантом и проповедником церкви
святого Фомы; убежденный лютеранин, он не одобрял
художественных пристрастий своего сына. Автора «Разбойников» он не
хотел принимать в своем доме. Отец умер летом 1785 года. Для
сына это было освобождением, так как отец был также
настроен и против его невесты, «мамзели с медной гравюры», Минны
Шток. Поэтому только после смерти сурового отца, в августе
1785 года, состоялась их свадьба. Борьба с сословными
предрассудками отца у жениха и невесты дополнительно
разжигали восхищение автором «Коварства и любви».
Кристиан Готфрид Кернер, кроме этого, очень страдал из-
за строгих принципов воспитания своего отца. Кернеру была
уготована карьера священника, но он этому всячески
противился. Просветительская философия — он слушал Гарве и
Платнера — отдалила его от религиозного мира отца. Юный
студент блуждал от одной науки к другой. Он изучал древние
языки, философию, природоведение, математику и
юриспруденцию, посвящал себя также народному хозяйству и теории
управления. Он страстно углублялся в различные области
знания, не упуская из виду и их i фактическое применение. Он
хотел приносить пользу. В своем первом подробном письме
Шиллеру он пишет: «Было нечто прекрасное в мысли
расширить это поле науки и тем самым увеличить власть человека
над окружающим его бытием и раскрыть перед ним новые
источники блаженства» (2 мая 1785 год). В качестве магистра
философии и доктора права он в 1779 году защитил еще одну
докторскую диссертацию в университете своего родного
города, и тут же был назначен нотариусом и судьей. В этом же
году ему представилась возможность сопровождать молодого
210
саксонского графа в его официальной поездке по Европе. Он
объехал Голландию, Англию, Францию и Швейцарию. Там он
приобрел определенный светский лоск. В мае 1783 года он
был приглашен в Дрезден на службу советником верховной
консистории и членом земельной экономической депутации.
Любовь к искусству, музыке и литературе постепенно все
более и более захватывала его. В доме его родителей и среди
сослуживцев искусство считалось не более чем красивым
хобби, но он хотел, чтобы оно было обращено в центр его жизни,
потому что искусство представлялось ему «средством,
благодаря которому душа более высокая почувствует себя иначе,
она возвысится до себя самой, в ней пробудятся ростки
великого и прекрасного, она вскоре облагородит всё, что к ней
приблизится». Кернер имел достаточно вкуса, чтобы не быть
особенно высокого мнения о собственных опытах в сфере
сочинительства музыки и стихов. Все же он был натурой
восприимчивой, мог с самозабвением погружаться в
произведения, написанные другими авторами. Гёте называл его «гением
восприятия». Общение с искусством и деятелями искусства
было для него жизненной необходимостью. Шиллеру он
несколько лет спустя писал: «Я наслаждаюсь твоим здоровым и
исполненным сил духом... Так мне представляется твое
существование, и я, приобщаясь к нему, чувствую, что и мое
существо обогащается и становится прекраснее» (22 сентября 1801
года).
В то время как Кернер знал, как связать энтузиазм с
житейским смыслом, Людвиг Фердинанд Хубер был человеком
мечтательным, но без опоры на действительность. Хубер, сын
француженки и баварского писателя-франкофила, считался
среди своих друзей своеобразным Дидро; он еще мальчиком
был погружен в мир литературы, прочел самых значительных
французских, английских и итальянских авторов. Развитый не
по возрасту, имевший большие способности к языкам, этот
молодой человек был уверен в себе и жил в предчувствии
будущего величия. Он зарабатывал себе на жизнь переводами и
пробовал себя как драматург. Шиллер напечатает одну из его
пьес, «Тайный суд», в «Рейнской Талии». Пьеса будет
поставлена в Мангейме, но не будет иметь успеха. Шиллер высоко
оценивал дарование своего друга, который был на пять лет
моложе, но замечал также и его недостатки. В Хубере было нечто
непостоянное, мерцающее, он был талантом, склонным к оди-
211
чанию. Шиллер хотел, как он однажды написал Кернеру,
помочь управлять эпохой его духа. Во всяком случае, прежде
всего нужно было помочь ему найти сносное место. Его хотели
устроить секретарем при дипломатической службе, что, впрочем,
не осуществилось из-за недостаточного желания Хубера
трудиться. Хубер был обручен с сестрой Минны, Дорой Шток. Но
до свадьбы дело не доходило, для этого у Хубера также
недоставало сил и решимости. Хубер, который сам нуждался в
ободрении, мог со своей стороны очень чутко ободрять друзей.
Шиллер ценил его заразительную способность к
воодушевлению. Однажды он написал Хуберу в полном отчаянии о своей
работе над «Дон Карлосом»: Почему у меня все время так
кружится голова, если я... поднимаю глаза на Шекспира? (5
октября 1785 года), на что Хубер ответил: «Не теряй голову перед
британцем Шекспиром — немецкий Шиллер!»
Таков был Хубер, немного высокопарный, колеблющийся
между чрезмерным рвением и леностью, в хорошем
расположении духа он был переполнен сердечностью.
Прежде всего именно Хубер был тем человеком, с кем
Шиллер сблизился. Сначала Шиллер ему открыл, еще
находясь в Маигейме, свое бедственное финансовое положение. Он
спрашивал у Хубера кредит, чтобы покрыть долги в Мангейме
и иметь возможность оплатить поездку. Хубер и Кернер
связались с Георгом Иоахимом Гёшеном, в чьем только что
учрежденном издательстве Кернер был неофициальным участником.
В качестве гарантии Шиллер предложил свой журнал
«Рейнская Талия», первый номер которого вышел в марте 1785 года,
незадолго до переезда в Лейпциг. Шиллер подсчитал для
друзей выручку, которую oïi надеялся получить. Несмотря на то
что Гешеп не очень верил в этот проект, он изъявил готовность
через обеспеченные Кернером капиталовложения взять в свое
издательство журнал, начиная со второго номера. Три сотни
талеров, о которых просил Шиллер, были ему переведены в
качестве задатка.
Это было очень рискованно — основывать свое финансовое
будущее на проекте издания журнала. Шиллер верил, что
сможет получить пятьсот подписчиков для своего издания; вскоре
окажется, что эта надежда обманчива. Что касается
экономической стороны дела, то у Шиллера со всеми его проектами
журналов была несчастливая рука. Еще в штутгартский период он
со своим другом Петерсеном и своим учителем Абелем совме-
212
стно издавал журнал « Вюртембергское литературное
обозрение», который принес ему одни только долги. Но он надеялся,
что сможет этой деятельностью обеспечить себе источник
доходов. Столь же честолюбивы были и его внутренние
притязания. Тогда он поставил себе целью ни много ни мало как
коренное обновление литературной критики. Он должен был
создать новый стиль рецензирования. Писатель, — говорил
Шиллер в объявлении к «Обозрению», — который обрагцает
меньше внимания на полезность и внутренние достоинства
своего произведения, чем па похвалы обычных газетных писак,
является в наших глазах презренным существом, которого
Аполлон вместе со своими музами должны вытолкать взашей
из своего царства (V, 854).
После неудачи с «Вюртембергским обозрением» Шиллер
хотел наконец осуществить свои честолюбивые планы с
помощью «Рейнской Талии». Он и на этот раз хотел обрушиться на
безобразия обычных газетных писак и самовлюбленность и
завышенную самооценку некоторых литераторов. И на этот раз
снова речь шла о честолюбивом предприятии, причем не
только с точки зрения финансов.
Идея «Рейнской Талии» выросла из потерпевшего неудачу
проекта издания театрального журнала для маигеймской
сцены, который должен был называться — по гамбургскому
образцу Лессинга — «Мангеймская драматургия». Дальберг,
который был ознакомлен с этим проектом, не заинтересовался им.
После увольнения из Мангеймского театра Шиллер пустился
в авантюру самостоятельного издания, которым он
преследовал собственные честолюбивые цели. Амбициозность
сказалась уже в объявлении круга тем: Портреты замечательгсых
людей и образцы деяний... Философия реальной жизни,..
Прекрасная природа и прекрасное искусство Псральца... Немецкий
театр... Стихотворения и рапсодии, фрагменты
драматических произведений... Мои собственные признания...
Корреспонденция (V, 857-858).
Это объявление о «Рейнской Талии», выпущенное осенью
1784 года, является вообще замечательным документом в
истории немецких журналов. Такого еще не было, чтобы издатель
представлялся публике, рассказывая об истории своей души.
Это и есть тот текст объявления, в котором Шиллер, как еще
никто до него, дает справку о своем пребывании в Карслшуле;
здесь он впервые подвергает резкой критике своего герцога: Его
213
образовательное заведение составило счастье нескольких
сотен, в то время как именно с моим ему не удалось достичь
результата. Здесь он находит и выразительную формулу
критики своих собственных ранних произведений: Не знающая
людей и человеческих судеб, моя кисть вынуждена была
сбиться на среднюю линию — между ангелом и дьяволом. Открыто,
чуть ли не интимно, Шиллер обращается к своему читателю,
как будто бы он хочет заключить с ним тайный союз. Он
бросается в объятья публике и заявляет: Публика сейчас для меня
всё: моя школа, мой суверен, мое доверенное лицо. Ей одной я
принадлежу сейчас. Перед этим и никаким другим трибуналом
я предстану. Только ее я боюсь и ее предпочитаю. Нечто
великое овладевает мною при мысли, что никакие иные кандалы мне
не суждено носить, кроме как приговор света; ни к какому
иному престолу не взывать, кроме как к человеческой душе (V, 856).
Это тот же самый текст, с которым Шиллер несколько
месяцев спустя бросится в объятия друзей в Лейпциге. Только
сейчас перед ним анонимная толпа, а именно публика, у
которой много лиц или же вообще нет ни единого лица и которую
он позднее при удобном случае будет называть чудовищем.
Разочарованный в Мангеймском театре и униженный
Дальбергом, Шиллер со своим проектом журнала предпринял
рывок вперед, что значило: бегство к публике, к зависимости
свободного художника от изменчивых вкусов рынка.
Шиллер экспериментирует с крайностями и на этот раз
опять до такой степени мобилизует силу своего
воодушевления, доходит до такой степени преувеличения, что из
обращения к публике у него получилось чуть ли не объяснение в
любви. Шиллер провозглашает в объявлении, что цель данного
журнала есть не что иное, как стремление между ним и
публикой завязать узы дружбы (V, 860).
К этому дружескому союзу относится и то, что Шиллер со
свойственным ему пафосом заявляет о готовности завершить
свой учебный процесс на глазах у публики. Он будет
знакомить своих читателей со своей творческой мастерской, они
должны стать свидетелями непрерывной работы над
произведением. Поэтому первый том «Рейнской Талии» он начинает
печатать с первого акта «Дона Карлоса», пьесы, которая как раз
сейчас выходила из-под его пера. До весны 1787 года в трех
последующих номерах его шаги в работе над этой пьесой будут
задокументированы. Это также ново: автор излагает свою на-
214
ходящуюся в процессе работы театральную драму в виде
романа с продолжением. И поэтому неудивительно, что Шиллер в
начале 1787 года публикует «Духовидца» как роман с
продолжением, тем самым вводя в Германии новый жанр.
В противоположность издаваемым десять лет спустя
«Орам», где будет преобладать воспитательный тон, «Талия»
настроена на дух дружбы. Итак, Шиллер, который только что
объявил о своем дружеском союзе с публикой, теперь
торопится в Лейпциг в объятья своих настоящих друзей.
17 апреля — это было воскресенье — Шиллер приезжает в
Лейпциг, Из «Голубого ангела», гостиницы, где он
остановился на ночлег, он посылает Хуберу известие о своем прибытии.
Он пишет: ...измучен и разбит путешествием, которое для
меня является беспримерным, так как путь к вам, мои дорогие,
плох и жалок, как и путь всякого, кто отправляется па небеса.
Кернер в настоящее время находится в Дрездене, его
невеста Минна и ее сестра Дора — в Лейпциге. На следующее утро
Шиллера приводят в мансарду их дома. Дамы иначе
представляли себе Шиллера, а именно «словно Карла Моора, — как
позднее рассказывала Минна, — в канонерских сапогах со
шпорами по фунту весом, с бряцающей на боку саблей». Они были
ошарашены, увидев перед собой «молодого мужчину со
светлыми волосами, голубыми глазами, очень застенчивого, у кото-
XJ
рого в глазах стояли слезы» и который едва осмеливался
заговорить с дамами. Впрочем, вскоре он оставил свое смущение, и
к концу этой первой встречи все чувствовали себя так, как
будто бы уже давно были близкими друзьями.
Хубер снял для Шиллера скромную студенческую
комнату. К своей радости, в том же доме Шиллер встречает актрису
Софи Альбрехт, с которой он познакомился во время своего
недолгого пребывания во Франкфурте. Шиллеру
приписывали любовные отношения с этой женщиной, в пользу чего вряд
ли свидетельствует тот портрет Шиллера, который позднее
составила Софи Альбрехт. «Обычная одежда Шиллера, — пишет
она, — заключалась в убогом сером сюртуке, и аксессуары по
своему материалу и расположению с трудом удовлетворяли
лишь самым скромным требованиям представлений о красоте.
Наряду с этими недостатками туалета его непривлекательный
облик и частое употребление испанского табака производили
неприятное впечатление».
215
Шиллер, который до сих пор, за исключением, пожалуй,
короткого визита во Франкфурт, был знаком с городской
жизнью только по княжеским резиденциям, чувствовал себя в
Лейпциге, крупной саксонской торговой метрополии и
университетском городе, так, словно он был перемещен в большой
свет. Тогда Лейпциг называли «маленьким Парижем», так как
оживленная, пестрая жизнь кипела на его площадях, широких
улицах, в многочисленных ресторанах и кафе, в огромных
парках на окр айнах города. О заведении «Рихтере кафехаус»
Шиллер уже слышал, что здесь встречаются те, кто имеет
титул и имя: ученые, деятели искусства, политики и кокотки.
Здесь Шиллер заметил, что он, между прочим, знаменит. На
автора «Разбойников» смотрели как на диковинку. В письме к
Швану он иронизирует над фатальным роем
любопытствующих, которые вились вокруг писателя словно гнус, и, имея за
душой несколько измаранных листов бумаги, корчили из себя
коллег (14 апреля 1785 года).
Спустя несколько недель Шиллер достаточно пресытился
прогулками по городу; он переезжает с Хубером, Гёшеном и
некоторыми другими новыми знакомыми в соседнюю деревню
Го лис, излюбленное место загородного отдыха у жителей
Лейпцига, которая располагалась в живописном Розентале.
Гёте тоже охотно ездил туда в свой лейпцигский период.
Шиллер находит скромное пристанище в маленьком
крестьянском доме на окраине деревни; низенькая комнатка под
самой крышей с двумя крохотными окошками, несколько
стульев, маленький стол; рядом располагалась спальня. Здесь он
живет все лето до 10 сентября 1785 года. Он работает над «Дон
Карлосом», а также наслаждается вечерами, проведенными в
обществе друзей и знакомых. Приходят и любопытные
посетители, чтобы взглянуть на Шиллера.
Однажды июльским вечером появляется Карл Филипп
Мориц. В своей рецензии он обрушивался с уничтожающей
критикой на «Коварство и любовь». Он писал, что всё, чего
касается Шиллер, превращается в пену и мыльный пузырь.
Расслабленная атмосфера и летнее умиротворение действовали
так, что даже этому остроязыкому критику был оказан
дружелюбный прием. Впрочем, Шиллер требует от него ответа, но
тот храбро защищается, так что Шиллер по некоторым
пунктам далее признает его правоту. Они до глубокой ночи
беседуют и спорят. Мориц не может не поддаться обаянию личности
216
Шиллера. На следующее утро Шиллер зачитывает ему
некоторые сцены из «Дона Карлоса». Мориц очарован и на прощание
обнимает поэта. Впрочем, он не пересмотрел свого
негативного суждения о «Коварстве и любви»; он и в более поздний
период говорил об этой пьесе, что «в ней нет ни проблеска
поэтической драмы», — но тем сильнее он расточал похвалы «Дону
Карлосу». В этот летний вечер в Го лисе Шиллер склонил на
свою сторону этого серьезного человека, который, впрочем,
ценил чуть ли не одного лишь Гёте.
На самом деле это было не так уж легко, не поддаться
обаянию Шиллера, находящегося в приподнятом состоянии духа.
Издатель Гёшен, который провел несколько недель в Голисе,
описывает лучшие мгновения Шиллера так: «С чарующим
красноречием, со слезами на глазах, он снова и снова
подстегивал друзей прилагать все силы — каждого в своей области, —
чтобы стать людьми, которых однажды неохотно захотел бы
потерять мир». О встрече Шиллера с Морицем Гёшен пишет в
письме к Фридриху Юстину Бертуху: «Я не могу Вам сказать,
насколько он был уступчив и благодарен по отношению к
любой критике, как сильно он работал над своим нравственным
совершенствованием и сколько расположения он имел к
продолжительным размышлениям. Он знал, что Мориц
опубликовал язвительную рецензию, но неожиданно встречает Морица
с уважением и с такой любезной предупредительностью, что...
Мориц, уходя... пообещал ему вечную дружбу».
Шиллер, который, впрочем, обычно превращал мочь в день,
перестроил в Голисе свой жизненный ритм. Он рано вставал,
иногда в четыре часа утра, и бродил в шлафроке по полям.
Помощник хозяина дома должен был следовать за ним с флягой
воды и стаканом. Этот молодой человек с флягой
рассказывает, как однажды после одной из таких прогулок, взглянув в
окно, он «нашел поэта распростертым на полу, при этом его тело
было в большом движении. Ошеломленный, он вошел к нему
и спросил его, что с ним случилось. Шиллер только
воскликнул: «Оставьте меня!» Некоторое время спустя поэт,
изнеможенный, подошел к нему и сказал, что он только что составил
план к одной из сцен «Дон Карлоса».
С Хубером Шиллер в это время общался очень тесно, но
Кернер тем временем все еще не вернулся из Дрездена. Они
обменивались письмами, тон которых был настолько
задушевным и сердечным, что Кернер как старший по возрасту в кон-
217
це концов предложил ему перейти на «ты». Это был ответ на
экзальтированное письмо Шиллера от 7 мая: Я чувствую, что
сейчас с нами на самом деле произошло то, что я как поэт
только предчувствовал. Братание духа — безошибочный ключ к
мудрости. Поодиночке мы ничего не можем... Радуйтесь,
дорогой друг, что наша дружба имеет счастье начаться там, где
обычные связи между людьми разрываются. С этого момента
не бойтесь ничего, что помешало бы ее бессмертной
продолжительности... Он предостерегает друга от часов искушения, от
приступов рассудочности. Возможно, что это внутреннее
чувство выглядит как мечтательность. Но Шиллер пишет, что
это не мечтательность, или же мечтательность есть по
меньшей мере дающий наслаждение пароксизм нашего будущего
величия, и я не променяю один подобный миг на высочайший
триумф холодного рассудка.
Но они не только предаются чувствам и взаимным
уверениям в сердечной привязанности. Кернеру небезызвестно то,
что Шиллер бьется с финансовыми проблемами и еще не
нашел в себе мужества открыто об этом говорить. Кернер
достаточно тактичен для того, чтобы не дожидаться, пока сам
Шиллер обратиться к нему с просьбой о финансовой поддержке.
Кернер хотел бы его от этого избавить и поэтому пишет: «Я
знаю, что ты в состоянии удовлетворить все свои потребности,
если только ты захочешь обеспечить себе пропитание. Но
доставь мне радость как минимум на год избавить тебя от
необходимости зарабатывать на кусок хлеба» (8 июля 1785 года).
Шиллер признается в своем затруднительном положении и с
извинениями отвечает: ..моя философия не поможет
избавиться от краски стыда, которая непроизвольно заливает мне лицо.
И тут же философски доказывает ему, что это на самом деле
глупо — стыдиться собственной бедности. Так как для этого
ничего не нужно: получил ли человек, как Кернер, имущество
по наследству или же, как ему [Шиллеру |, ничего не было
положено в колыбель. Ценность человека определяется не
денежным капиталом, которым он обладает. Чем иным является
дружба, как не возможностью помогать друг другу, раскрывать
истинную ценность личности. Поэтому дружба есть элизиум
удавшейся жизни. Шиллер, который достаточно уверен в себе
и достаточно знает себя в этом отношении и понимает, каких
высот он еще сможет достичь, пишет своему другу: Если я ста-
218
ну тем, о чем я сейчас мечтаю, — кто будет более счастлив,
чем ты? (11 июля 1785 года).
Этими словами Шиллер настраивает Кернера на главный
лейтмотив их дружбы: они оба будут трудиться над
постепенным рождением еще лучшего, более зрелого поэта по имени
Шиллер. Под этим подразумевается вовсе не эгоизм. Раз
Шиллер ощущает себя душой открытой, то сделать что-то из себя
означает для него своего рода предназначение. Поэтому
сотрудничество друзей есть объективная реальность.
1 июля 1785 года Шиллер и Кернер встречаются друг с
другом лично в имении Кансдорф близ Борны, расположенном
между Лейпцигом и Дрезденом. Приехало все окружение: Ху-
бер, Гёшен, дамы Шток и другие. Столь большое общество
мешает разговору двух друзей. А на следующий день, когда Ху-
бер, Гёшен и Шиллер снова отправились в Голис, они заехали
по пути в одну гостиницу. Солнечное летнее утро; друзья
заказывают вино; приходят в возвышенное настроение, говорят о
будущем; каждый должен обещать, что он останется верен
избранной для себя цели. Необычайная эйфория охватывает
друзей, и Шиллер описывает это Кернеру так: О тебе еще до сих
пор ни разу не обмолвились, и твое имя возникло у меня на
устах в присутствии Хубера — оно непроизвольно сорвалось с
моих губ. Наши глаза встретились, и наше святое намерение
растаяло в нашей святой дружбе... О мой друг! Только наше
внутреннее соединение — я должен еще раз это так назвать —
оно одно является преимуществом нашей священной дружбы,
оно одно может сделать нас великими, прекрасными и
счастливыми. Наше совершенство, которого мы достигнем в будущем,
должно и обязано покоиться только лишь на фундаменте
нашей дружбы» (3 июня 1785 года).
Для Шиллера это мгновение, о котором он и другу, и
самому себе многократно еще будет напоминать впоследствии и
которое он трижды называет святым, означало не меньше чем
принятие причастия. Но настрой был не на жертвенную
смерть и страдания, а на жизнь и окрыленную свободу. В этой
дружбе тяготы переносились легче; здесь ему удается то, что он
позднее выразит словами: Всем пожертвуй, что тебя связало,/
Если крылья силятся в полет, — / Возлети в державу идеала, /
Сбросив жизни душной гнет (т.1, с. 190).
Лето проходит, и когда начинается осень, то первые две
недели Шиллер гостит у Кернера в Дрездене в его загородном до-
219
ме в Лошвицер-Вайнберг. К тому времени Кернер женился на
Минне, и новое семейное гнездо было основано. Однажды
друзья сидели под освещенным золотыми лучами осеннего
солнца ореховым деревом в саду друг подле друга. Они пили вино,
Шиллер произнес тост за здоровье и радостное совместное
пребывание. «Бокалы, — рассказывает Минна, - чисто
зазвенели, но Шиллер в своем полном воодушевления настроении
чокнулся со мной так сильно, что мой бокал разлетелся на
осколки. Красное вино, к моему ужасу, вылилось на впервые
повязанную дамастовую шаль. Шиллер воскликнул: «Это
приношение богам! Выльем наши бокалы...» После этого он взял
пустые бокалы и бросил их, так что они разлетелись на куски,
через ограду сада на каменную мостовую со страстным
возгласом: "Никаких разлук, никто не останется в одиночестве! Пусть
мы вместе уйдем из мира!"»
Из подобного настроения родилась (позднее ставшая столь
знаменитой благодаря музыке Бетховена) ода «К радости»,
стихотворение, которое Шиллер из-за мгновения, которому
оно было обязано своим появлением, любил и ценил, но
которое при критическом рассмотрении спустя некоторое время
казалось ему столь несовершенным, что он сначала не хотел его
включать в издания своих стихотворений. Впрочем, в
последнее издание ода была включена в переработанном виде, снова
благодаря воспоминаниям о его значении: Обнимитесь,
миллионы! / Слейтесь е радости одной! / Там, над звездною
страной, — / Бог, е любовь пресуществлениый... / Кто сберег в
житейской вьюге / Дружбу друга своего, / Вереи был своей
подруге, — / Влейся в паше торжество! / Кто презрел в земной
юдоли / Теплоту душевных уз, / Тот в слезах, по доброй воле, /
Пусть покинет наш союз! (т. 1, с. 149).
Это были такие мгновения воодушевленной дружбы,
которые напоминали Шиллеру о его философии любви из
«Теософии Юлиуса» и которые дали ему возможность продумать
план философского романа, написанного в виде переписки
между двумя друзьями. Он действительно думал о том, чтобы
Кернер сыграл роль Рафаэля, а сам Шиллер — Юлиуса. Но
впоследствии романа не вышло: то, что Шиллер опубликовал
в мае 1786 года в «Талии», представляло собой два письма
Юлиуса и один ответ Рафаэля, который был составлен самим
Шиллером, так как Кернер этого не сделал; затем следовало
еще одно обширное письмо Юлиуса, в котором как раз и содер-
220
жалась написанная еще в 1780 году «Теософия». Роль
заключения играло послесловие Юлиуса, который к тому времени
избавляется от иллюзий. Два года спустя, в апреле 1788 года,
Кернер составит, наконец, одно письмо Рафаэля, которое
Шиллер, уже оставивший этот проект, напечатает в седьмом
номере «Талии».
Когда Кернер внес этот запоздалый вклад, Шиллер
признается своему другу, каких усилий потребовало от него
философствование и почему он отказался к тому времени от
первоначального проекта философского эпистолярного романа: Я
давно у dice так отдалился от него, чтобы полностью его
оставить, так как ко мне действительно часто приходят
мгновения, в которые мне эти предметы важны, но если ты
мысленно взвесишь, как мало я об этих материях прочел, сколько
превосходных сочинений об этом имеется, которые без краски
стыда нельзя было оставить непрочитанными. Так что ты мне
охотно поверишь, что для меня всегда представляет более
тяжкий труд написать письмо Юлиуса, чем. создать самую
превосходную сцену. Чувство собственного убожества — а ты
должен признать, что это глупое чувство, — никогда не
приходит с такой силой, как при работе над этим жанром» (14
ноября 1788 года).
Но почему он вновь принялся за этот «тяжкий труд» —
работу над философскими понятиями — весной 1786 года, как
раз в то время, когда необходимость вынуждает его закончить
«Дона Карл оса»? Он пишет Кернеру 15 апреля 1786 года, что
это было так, словно в нем снова возникла анархия идей,
смесь... спекуляции и огня, фантазии и гения, холода и жара.
Проблематика начала восьмидесятых годов, когда он в связи с
медико-философскими диссертациями ломал голову над
соотношением духа и материи, снова всплыла и требовала
прояснения, прежде всего также и потому, что сам Кернер,
интересовавшийся философией и хорошо в пей разбиравшийся, часто
склонял к этому их беседы.
Кернер начал с изучения недавно вышедшей из печати
«Критики чистого разума» Канта. Кант был для него великим
властителем духа, и Кернер несколько раз призывал Шиллера
вместе с ним почитать Канта. Но Шиллер колебался. Почему?
Ответ он дает в письме Кернеру от 15 апреля 1788 года. Я —
пишет он там, — всегда брал из философских сочинений (из тех
немногих, которые я прочел) только то, что можно прочу ест-
221
вовать и трактовать -поэтически. Но философию Канта он
считал до поры до времени сухим исследованием человеческого
познания и поэтому рассматривал ее как непригодную для
того, чтобы прочувствовать и трактовать поэтически.
И все же можно заметить по «Философским письмам» и
особенно по вводному предуведомлению, что Кант, эта
теоретическая совесть немецкой философии, уже основательно
начал влиять на Шиллера.
5 декабря 1783 года в «Берлинском ежемесячном журнале»
появилось сочинение Канта «Ответ на вопрос: Что есть
просвещение?». Оно вызвало далеко выходящие за рамки
философской аудитории открытые дискуссии, и совершенно не
представляется возможным, чтобы Шиллер, который регулярно
читал «Берлинский ежемесячный журнал», не принял во
внимание этот короткий программный текст.
Подобно Канту, который определяет Просвещение как
«выход человека из своего собственного отягощенного
долгами несовершеннолетия», Шиллер употребляет термин
«просвещение» в связи с образом человека, «находящегося на пути
к самосовершенствованию». Шиллер пишет, что он живет в
эпоху, когда счастливое отречение от невежества начинает
уступать место частичному просеегцению, и лишь немногие
хотят остаться все еще там, куда бросил их случай рождения (V,
336). Если Кант призывает к тому, чтобы человек сам «искал
путь из несовершеннолетия и использовал при этом свой
собственный разум», то Шиллер подхватывает этот призыв,
рассказывая о том, как чувствует себя тот, кто обнаруживает не
только желание, но также и муки использования разума, и по
каким ложным путям можно пойти и в какие лабиринты
можно попасть. Он хочет, оценивая собственное духовное развитие,
рассказать о судьбах разума в собственном существе. Разум, —
так начинает он «Философские письма», — имеет собственную
эпоху, собственную судьбу так лее, как и сердце, но его история
гораздо реже трактуется (V, 336). Судьба разума в
собственном теле — это для Шиллера как раз тот философский аспект,
о котором можно думать и который можно прочувствовать и
трактовать поэтически. Кант призывал разум отправиться в
путь, а Шиллер в своем эпистолярном романе хотел рассказать
о тех судьбах, которые уготованы разуму на его пути.
Юлиус и Рафаэль — друзья, но их отношения
асимметричные. Рафаэль старше по возрасту, он ментор и наставник души,
222
он руководит более молодым другом и втягивает его, хотя тот
этого и не замечает, в свою программу воспитания. В этом
сказывается дух вольных каменщиков, к которому позднее
Шиллер будет относиться неодобрительно. Когда Кернер весной
1788 года напишет с опозданием свое «письмо Рафаэля», в
котором теософия Юлиуса будет подвергнута критике как
неизбежное заблуждение спекулятивной и чересчур
воодушевленной эпохи жизни, Шиллер ответит, что у него есть малое
утешение... что правде также приходит свое время, в людях.,,
что здесь, как в вашем масонском ордене первой и второй
ступени, можно или даже нужно верить в те вещи, которые на
третьей или четвертой ступени будут сброшены, словно
ненужная шелуха (15 апреля 1788 года). Шиллер написал это,
когда он закончил своего «Дон Карлоса» и когда ему
открылась в отношениях маркиза Позы к Дои Карлосу
проблематика руководства — через рафинированное сознание — душой
чувствительного героя.
Юлиус в тексте 1786 года — молодой человек, который
проходит три ступени развития, революции и эпохи мысли. Там есть
райское время, когда чувство оживляет мир и вера наполняет
всё смыслом; это была закрытая сфера защищенности. И тогда
приходит Рафаэль. О и учит его размышлять и преподает ему
«sapere au de» Канта: имей мужество пользоваться собственным
разумом. Он был готов положиться на свой рассудок и должен
был узнать, что молодой разум еще не очень надежен. Сначала
разум ведет его и обольщает полной энтузиазма спекуляцией:
в качестве документа этой эпохи Юлиус сообщает свою
«Теософию». Этот текст, который в действительности есть
философская исповедь юного Шиллера периода обучения в Карл-
сшуле, впервые опубликованная лишь в «Философских
письмах», отражает, таким образом, мысли второй ступени
развития. Юлиус сопровождает изложение этих мыслей
комментарием: Я исследую законы духа — дотягиваюсь до
бесконечности, но я забываю доказать, что они действительно имеются
в наличии. Храбрый натиск материализма разрушает мое
творение (V, 344).
За счастливыми часами гордого воодушевления следует —
в качестве третьей ступени — отрезвление. Но это не есть
отрезвление в том смысле, который вкладывает в это понятие
Кант, то есть разумное самоограничение разума через
обнаружение его границ (об этом первым вспоминает Кернер в своем
223
«письме Рафаэля»). Это отрезвление представлено через
психологический материализм медика, с которым Шиллер
познакомился на высшей ступени Карлсшуле. Уже тогда, когда он
создал текст «Теософии», он должен был вникать в вопросы
материалистической критики.
У Шиллера собственное духовное развитие было, таким
образом, представлено эпохами философии любви, которая
полна энтузиазма и которая не следует из материалистического
отрезвления, как у Юлиуса; эти эпохи проходят одновременно,
оба стиля мышления оттачивают друг друга, страстное и
холодное мышление используется Шиллером как смена
противоположных утверждений. Эта одновременность
противоположностей отличает интеллектуальную биографию Шиллера от
биографии Юлиуса. Последний оглядывается на свой
энтузиазм меланхолично, словно на нечто совершенно замершее. Но
у Шиллера остается философия любви как раз потому, что она
с самого начала рождена холодным шоком психологического
материализма, это критически осмысленный выбор. Эта
философия любви никогда не оказывается полиостью утраченной,
но она теряет свою мечтательную наивность.
Представим себе еще раз основные законы этой полной
энтузиазма философии любви, которую Юлиус развивает в
своей «Теософии».
Универсум есть мысль Бога. Природа исполнена смысла,
природные феномены есть шифры, которые могут быть
прочитаны человеческим духом. Смысл природы не проекция, как у
Канта, человеческого духа, но она через человеческий дух
раскрывает свой смысл. Нет ни единого лишенного смысла
глухого закоулка во всей природе (V, 345).
Природа отвечает на вопросы человека. Вопросы
«откуда?», «куда?» и «зачем?».
Природа может быть прочитана как совершенное в самом
себе произведение искусства. Совершенное произведение
искусства есть такое произведение, которое заключает в себе все
целесообразности. Оно должно на поверхности давать
диссонансы и противоречия: зло, упадок, смерть, взаимопоедание —
но в более глубоком слое показывать все созвучное,
гармоничное. Если взгляд достаточно глубоко проникает в это
космическое бытие, то проявляется гармония сфер. Она открывается
через сознание и проявляется через бытие. Это создает
великое единение. Поэтому познание есть акт единения, то есть лю-
224
бовь. Тот, кто глубоко проникает в это бытие, с тем
происходит перевоплощение: собственное состояние приравнивается к
гармонии целого. Мгновение этого перевоплощения есть
момент реализации идеала. Я убежден, что в счастливом миге
идеала художник, философ и поэт есть действительно те великие
и прекрасные люди, образы которых они создают (V, 347).
Такого рода познание, понимаемое как акт любви,
стремится постичь умом предмет не для того, чтобы им обладать, а для
того, чтобы позволить ему существовать. Перед глазами
познающего предмет познания должен раскрыться. Между
познающим разумом и его объектом возникает взаимная склонность.
С благосклонностью человек смотрит на мир, и мир отвечает
ему благосклонным взглядом. У обеих сторон, у субъекта и
объекта, возникает расцвет сил. Познает любящий, и объект
познания может почувствовать себя любимым. Существует
взаимная открытость того, кто дает, и того, кто берет.
Тем самым возникают ответы на вопросы «откуда?»,
«куда?» и «зачем?».
Откуда?
Все происходит из любви, так как универсум, являясь
мыслью Божией, есть плод любви: Был Господь без друга и, скучая, /
Создал тварей, чья душа живая / В смертном отражает
божество, — / Дабы тот, кто всех нас совершенней, / Видел в
совокупности творений / Беспредельность лика своего (т.1, с. 131).
Видение оказывается тем не менее столь действенным, что
Гегель этими стихами из «Теософии» завершает свою
«Феноменологию духа».
Куда?
Все уже завершено в себе самом, но человеческому духу
суждено через познание и любовь перевоплотиться в целое и
прийти к самосовершенствованию, и тем самым сознательно
слиться с целым. Но как раз это — исходя из собственного
сознания и стремления осуществить слияние с целым и
самосовершенствоваться - - является особенным достижением,
которое требуется от существа, осуществляющего познание и
самопознание. Тем самым возникает и ответ на третий вопрос:
«зачем?».
Зачем?
Неочеловеченные существа осуществляют без намерения и
плана ту программу, в которой они фигурируют. Для них не
существует совершенства, которого они еще только должны бы-
225
ли бы достичь. Они есть то, чем они являются, и они есть то
совершенство, чьим выражением они являются. Только
человек может достичь этого совершенства и
самосовершенствования как своего собственного деяния. Перед человеком стоит
задача сотворить самого себя. Его «зачем?», таким образом, есть
не что иное, как: стать тем, чем он может стать, и он будет этим,
делая из себя это.
Это видение свершается в духе, но происходит без участия
потустороннего мира. Божественное с самого момента
творения абсолютно имманентно. Оно возникает в любви, которая
о о
охватывает познание и действие и в которой существа
становятся открыты друг для друга, и через эту открытость целое
может быть пережито сознанием как великая цепь бытия. Тот,
кто верит в великую силу любви, не нуждается ни в каком
сверхъестественном Боге; более того, притяжение душ в
любви столь сильно, что может породить Бога (V, 353). Это Бог,
который манифестируется через силу единения душ. Таким
образом, не нужен трансцендентный Бог, и прежде всего тот Бог,
с которым действуют отношения обмена по известному
образцу: я благочестив и добродетелен, чтобы за это получить
вознаграждение на небесах. Любовь и порожденная ею
добродетель есть сама по себе награда. Жизнь может удасться сейчас,
не нужно ждать вознаграждения в потустороннем мире.
Любовь удалась. И поэтому проклятие грозит не в загробном
мире, а наоборот: человек, лишенный любви, уже сейчас песет
свое наказание. Запертый и спрятанный, стережет он свое
убогое маленькое «я», словно свое владение, и сам становится его
пленником. Он сгорбился в темнице своего эгоизма: Эгоизм
достигает своего апогея в себе самом; любовь высаживает его вне
себя па ось вечного целого... Любовь есть равноправная соправи-
тельница процветающего свободного государства, эгоизм —
деспот в разоренном мире (V, 351).
Это видение являет мотивы, воспринятые от Джордано
Бруно и Пико делла Мирандолы, при этом не столь уж
важно — намеренно или бессознательно. Мы не знаем, изучал ли
Шнллер этих философов эпохи Ренессанса, во всяком случае,
он мог о них слышать на занятиях у Абеля. Бруно определял
любовь как творящую космическую силу, и Мирандола разви-
о «_>
вал мысль о сотворенной незавершенности человека, задачей
которого является создание своего собственного образа.
Мирандола пишет, что мы не определены природой, «мы есть то,
226
чем мы хотим быть». Самосовершенствование есть труд,
подобный акту творения, при котором человек уподобляется
великому Творцу. В видении Юлиуса сливаются обе эти идеи;
космическая объединяющая сила любви и творящая сила
самосовершенствования.
Чуть ли не с робостью Юлиус презентирует свою
обширную паутину человеческой мудрости (V, 357). Юлиус
опасается, что он, вероятно, опозорится перед Рафаэлем, чью роль
должен был играть настроенный в духе философии Канта Кернер.
Несмотря на то что Шиллер лишь несколько лет спустя
основательно приступит к изучению Канта, он уже так много
знает о «всеобщем разрушителе» (Мендельсон), что он это
мышление делает предметом исследования и проницательно
просчитывает, благодаря каким стимулам тот прельщает, по
каким нервам бьет, в каких райских кущах браконьерствует и
где ему нечего искать. Шиллер знает, что философ из
Кенигсберга наметил область непознаваемого и использовал
метафизические спекуляции, что он вел спекулянтов и энтузиастов
своими сухими соображениями в скрытые мастерские их
иллюзий. Канта Шиллер считал еще до поры до времени
полицейским мышления, который якобы неопровержимо доказал,
чего больше не может быть. Шиллер предчувствует, что и его
метафизическая философия любви тоже больше невозможна.
Кернер в письме от 1788 года ему подтвердит это предчувствие:
«Есть, — пишет Кернер, — разные приемы фокусников,
посредством которых тщеславный разум ищет пути, как ускользнуть
от стыда; через расширение познания границы человеческой
природы не могут быть преодолены».
Спустя десять лет Шиллеру еще раз доведется увидеть, как
Шеллинг в своей попытке преодолеть Канта, вернется к
натурфилософии, которая напоминает в некоторых местах теософию
Юлиуса. Шиллер переживет то, как размышления Канта
снова отторгаются на обочину. Однако до поры до времени он
отмечает, как гигантская тень Канта падает на его собственные
опыты. А ведь это еще не трансцендентальные размышления
Канта, которые грозят порвать паутину его спекуляций, но
холодный натиск, который может привести целое его творение к
краху, грозит со стороны психологического материализма, с
которым он уже долгое время хорошо знаком.
Психолог в Шиллере смотрит на границы познания не в
сфере духа, но тела. Тело для познания есть великий вызов или
227
скандал, смотря как это назвать. Состояние конфликта между
духом и телом разочарованный Юлиус называет несчастным
противоречием природы — этот свободный стремящийся ввысь
дух заключен в застывший неизменный часовой механизм
бренного тела (V, 341). При этом звучат не старые причитания
Платона о теле как узилище духа, гораздо более серьезно обстоит
дело с психологией духа, которая снимает с духа чары,
идентифицируя его как часть тела. Если дух должен был расположить
свой королевский престол в моем разуме, то его величие —
сомнительная иллюзия. Одна лишь разорванная нить в моем
разуме (V, 340) — и мир духа исчезает, словно призрак.
Речь идет не о трансцендентальных пределах познания (в
кантовском смысле), а об отношениях духа и разума — об этом
размышляет разочарованный Юлиус, и об этом размышлял
Шиллер в своих медико-философских диссертациях. Это дух,
который создает себе тело, — звучит в «Смерти Валленнггей-
на». Но как это происходит с разумом? Здесь также
справедлива аналогия. Есть ли это дух, который пользуется разумом?
Есть ли дух существо, которое хотя и обосновалось в разуме,
но в остальном циркулируег и веет, где хочет, — или же дух
есть продукт разума, разновидность обособления, которая
вместе с ним исчезает? Мы думаем то, о чем мы хотим думать или
о чем «хочет» думать наш разум? Насколько свободно
мышление? H если мышление есть продукт разума, какое действие
оно может тогда оказать? Не влияет ли психологическое
происхождение на проявления духа?
Это тс вопросы, которые приводят Юлиуса в
замешательство и заставляют его вздыхать: Горе мне; когда струны этого
инструмента в периоды сомнений моей жизни звучат
фальшиво, когда мои убеждения с ударом по жилам не выдерживают
этого натиска! (V, 340).
Нельзя утверждать, что на эти вопросы в «Философских
письмах» даны окончательные ответы. Впрочем, так же, как и
для самого Шиллера, начиная с периода его
медико-философских диссертаций, эти вопросы остаются открытыми. Это как
на вращающейся сцене: он то видит в духе разум, то в разуме
действует дух. Свою философию Юлиус комментирует в
конце меланхолической репликой: Мир, как я его здесь нарисовал,
вероятно, не существует в действительности больше нигде,
кроме как в разуме твоего Юлиуса (V, 355).
228
И все же последнее слово этим не сказано. Юлиусу
приходит в голову еще одно выражение, с которым он может
освободиться от психологической имманентности, которая обрезает
духу крылья. Конечно, может быть так, что великая правда,
духовные видения есть всего лишь плоды повсюду, где только
можно, запутавшегося разума, но ведь этот разум относится к
природе, и, таким образом, это сама природа, которая в этом
разуме порождает своеобразные отражения себя самой: Любое
порождение разума... имеет неоспоримое право в этом более
великом смысле творения (V, 357). Юлиус ищет спасения в
утонченном силлогизме: все действительное истинно. Полная
энтузиазма мысль о любви — как мысль — также действительна.
Таким образом, она также истинна.
Этот силлогизм - слишком уж большое измышление,
чтобы он мог послужить достаточным удовлетворением, так как
он дает каждой мысли, даже самой бессмысленной, значение
истинной. Теософия энтузиазма, впрочем, была бы спасена, но
такой ценой, что вместе с нею была бы спасена любая
бессмыслица.
Сам Шиллер охранил от этой теософии нечто другое и это
другое спас. Он из космической философии любви извлек
прагматичное самопоощрение к истинной дружбе и тем самым
пожаловал дворянский титул дружбе как созидательной и
потому наивысшей форме жизни. Поэт, который воспел
дружеский союз словами: Обнимитесь, миллионы! / Слейтесь в
радости одной, — может себе позволить выставить в выгодном свете
теософию Юлиуса, пусть даже и с иронической дистанции.
Кто сберег в житейской вьюге / Дружбу друга своего, для того
также не будет поводом для негодования теософия Юлиуса,
который может себе позволить мириться с метафизическими
обертонами. Так как похвале дружбе не может быть
поставлено преград. По меньшей мере мы хотим, — пишет Шиллер Ху-
беру 5 октября 1785 года, — рука в руке дойти до пределов
смертности.
Энтузиазм имеет свои великие мгновения, но мы не
должны забывать, что они проходят. Быстротечность энтузиазма в
том же письме Хуберу от 5 октября Шиллер обрисовал в
примечательном образе: Энтузиазм есть смелый мощный толчок,
который подбрасывает шар в воздух, по пусть тот назовется
дураком, кто от этого шара хочет ожидать, чтобы он летел
вечно в том лее направлении и с той лее скоростью. Шар опи-
229
шегп дугу, так как его сила растратится в воздухе. Но в
сладкий миг идеального освобождения мы имеем обыкновение
принимать в расчет только влекущую силу, но не силу тяжести или
сопротивление материи.
Так произошло и с дружбой. Она описывает дугу, чтобы по
ней упасть снова на землю. Весной 1786 года после целого
года, отмеченного избытком чувств, в дружеском союзе с
Кернером и Хубером, проявились симптомы усталости. Я сейчас
почти бездеятелен, — пишет Шиллер Хуберу 1 мая 1786 года. —
Почему? Мне трудно об этом сказать. Я угрюм и очень
недоволен. Пульс прежнего воодушевления, больше не бьется. Мое
сердце сжалось, и свет моей фантазии погас. Странно, почти
каждое пробуждение и каждый отход ко сну приближает меня к
революционному решению... Мне нужен кризис — природа
готовит разрушение, чтобы родиться заново.
И Кернеру пришлось услышать нечто подобное.
Разумеется, друзья не надоели Шиллеру, но они не могут больше
привести его в то возвышенное настроение, как это было во время
первого года их дружбы. Наступают трудности равнин.
Шиллер вынужден теперь извлекать воодушевление из своего
собственного творчества. «Дон Карлос» оставался
незавершенным. Сейчас Шиллер снова берется за него и в свободные часы
отдается еще одной идее: он начинает роман «Духовидец».
Так постепенно Шиллер снова приходит в состояние
подъема, и в октябре 1786 года он торжественно объявляет своему
издателю Гешену о том, что «Дон Карлос» будет завершен к
концу года.
Очевидно, ему удалось родить себя заново.
ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Создание «Дон Карлоса». Помехи в действии и общечеловеческий
пафос. Карьера маркиза Позы. Нерешительность перед.
большим выступлением. Обращение к роману «Духовидец»,
От заговора слева к заговору справа. Заговорщики, тайные
общества, харизматические личности. Маркиз Поза
и диалектика Просвещения
«Дон Карлос» — к этой пьесе летом 1782 года Шиллера
склонил фон Дальберг, передавший ему «Историю Дон Карлоса»
(1691) аббата Сен-Реаля в качестве легкого чтения с намеком,
что из этого можно сделать кое-что для театра. Дальберг знал
свою публику и понимал, что трогательная семейная повесть в
историческом обличий найдет отклик у зрителей. «Агнес Бер-
о _
науэрин» Иозефа Августа графа фон Тёрринга, например,
пользовалась в Мангейме большим успехом. Такого же успеха
ожидал Дальберг от драматургической обработки печальной
истории сына Филиппа Второго, как она была рассказана Сен-
Реалем — романтически и довольно беспечно с точки зрения
исторической точности. Французский автор хотел в ярком
свете показать Елизавету, третью жену Филиппа из дома Валуа,
которая сначала предназначалась в жены инфанту. Филипп
был злодей, а Дон Карлос — невинная жертва. Сен-Реаль
исторически недостоверно передвинул в центр повествования
любовную историю между инфантом и королевой. Ревнивый
Филипп в конце отдал единственного сына на казнь инквизиции,
а королеву отравил. Доказательств этого в источниках не
имелось. Официально, во всяком случае, инквизиция оставалась
пассивной. Дои Карлос, которого отец лишил наследства и из-
за его вспыльчивости и даже садистского поведения отправил
иод охрану, умер от кишечной инфекции. Но уже в то время
закралось подозрение, что инфант был отравлен, как и
королева, которая умерла тремя месяцами позже.
Сен-Реаль оставался для Шиллера главным источником и
тогда, когда он позже использовал еще и другие, более
фактически надежные изложения истории, особенно «Историю
правления Филиппа Второго, короля Испании» (1778) Роберта
Ватсона и «Историю правления короля Карла Пятого. Вместе
с очерком развития общественной жизни в Европе от ниспро-
231
вержения Римской империи до начала шестнадцатого века»
(1771) Вельгельма Робертсона — работы, которые Шиллер
привлекал для справок несколькими годами позже для своего
большого исторического труда об «Отпадении Нидерландов».
Шиллер мог без сомнений основываться на Сен-Реале,
потому что он стремился не столько к исторической
достоверности, сколько к психологическому правдоподобию и
драматическому эффекту. Что касается его отношения к исторической
достоверности, то Шиллер счел необходимым сказать об этом
в послесловии к «Фиеско»: С историей, полагаю, я справлюсь
без труда, так как не являюсь летописцем заговора Фиеско, и
один-единственный глубокий вздох, исторгнутый из груди моих
зрителей смелым поэтическим вымыслом, стоит, по мне, самой
точной исторической достоверности (т.6, с.538).
История, которую он нашел у Сен-Реаля, должна была не
только исторгнуть вздох из груди зрителей, прежде всего ей
нужен был глубокий вздох самого автора. Здесь он находит
мотивы, которые его привлекали уже в первых пьесах, — конфликт
отца и сына, заговор, история роковой любви. Здесь также
можно было разрабатывать тему, которой он только коснулся
в «Разбойниках»: тему инквизиции. Она слыла средоточием
гнусности, которую разоблачал просветительский дух
времени. Память об ушедшей в прошлое инквизиции
поддерживалась, чтобы напомнить о контрастной картине мрачных времен,
которые, казалось, остались уже позади. Кроме того, я считаю
своим домом отомстить в этой пьесе свогш изображением
инквизиции за поруганное человечество, пригвоздить к позорному
столбу ее гнусные деяния (т.7, с.50).
То, что политическое действие, если оно соткатю из нитей
человеческого сердщ (т.6, с.537), годится для сцены, Шиллер
открыл в «Фиеско» и в предисловии к пьесе выдвинул
утверждение, что он как гражданский автор на своем опыте знает о
вторжении политики в психологическую и интимную сферы
жизни. Мое обгцепие с гражданским обгцеством познакомило
меня более с человеческим сердцем, чем с кабинетом министров, и,
возможно, именно эта политическая слабость обратилась в
поэтическую добродетель (6, с.537).
Во время первого периода работы в Бауэрбахе весной 1783
года, он принял сердечное участие в несчастно влюбленном в
мачеху Кар лосе. Он обходится с ним как с возлюбленным, пи-
шет он Райнвальду 14 апреля 1783 года, я брожу с mm по
полям и лесам в окрестностях Бауэрбаха (т.7, с.50).
Вероятно, этой весной в Бауэрбахе, когда Шиллер бродит
по еще мокрым лугам и размытым дорогам, возникает версия
той первой сцены в королевском саду Аранжуэса. Доминго —
Карлосу: Прекрасная весна — в садах цветущих — / Куда ни
глянешь, всё вокруг цветет ~ / И небо соревнуется с
искусством — / Чья кисть прекрасней землю оживит (II, 1101).
В Бауэрбахе Шиллер набрасывает план драмы. В пять
шагов (II, 1099—1100) дается завязка фривольной ситуации
любви и в конце катастрофически разрешается. Принцесса Эболи.
которая тоже влюблена в Дон Карлоса, создает некоторую
путаницу, в произведении плетутся дворцовые интриги против
принца. Ревнивый Филипп принимает решение погубить
своего сына. Появляется и маркиз Поза, который, чтобы защитить
друга, навлекает на себя подозрение в любовной связи с
королевой. В первом наброске из этого ничего не следует, Поза
незаметно исчезает. Король остается со своими подозрениями
против сына. Принц и королева отказываются от своей любви.
Вероятно, в первом наброске он был уже готов думать о том,
чтобы любовную историю двора связать как-то с ситуацией во
Фландрии. Король обнаруживает мятеж сына — записано в
заметках к чегвертому акту. Двор и инквизиция должны в конце
потерпеть поражение. Даже погибший Карлос разоблачает
своего обвинителя как преступника. Пьеса должна закончиться
скорбью обманутого короля и местью зачинщикам обмана.
Итак, без триумфа старой власти, но и без внушительного
выступления противостоящей силы. Большой заговор маркиза
Позы и проблема деспотизма свободы — позже духовный
центр пьесы — еще не видны.
Когда Шиллеру летом 1784 года нужно было бороться за
свое дальнейшее сотрудничество с Маигеймским театром, он
превозносил перед Дальбсргом свою находящуюся в работе
пьесу словами: Карлос ничего не утратит как политическая
пьеса — но это будет семейная зарисовка в княжеском доме
(7 июня 1784 года). Это - интерпретация, скроенная на вкус и
в соответствии с политической осторожностью директора
театра, так как политическое измерение - бунт сына — пьеса
имела с самого начала.
После расторжения договора с Мангеймским театром
Шиллер погрузился в работу над «Дон Карлосом». Он был
233
свободен в своих обязанностях, у него было время, и он
нуждался в деньгах. Он постоянно хотел довести пьесу до
готовности и положил себе нереальные сроки. Осенью 1784 года он
принял решение писать драму иначе, чем его прежние пьесы, —
ямбическим стихом. Это было связано с унижением, которое
он в последние месяцы испытал в театре. Он выбрал
ямбическую форму как сознательное улучшение, как работу над
стилем, благодаря которому он хотел бы выпутаться из омута
театральной кабалы. Он думал между тем не столько о реальном
театре, в котором он испытал чувство унижения, сколько о
воображаемом: там должно звенеть слово, которому он
благодаря стиху хочет дать новую ценность и изысканность. Штрай-
хер описал, какие усилия были связаны с этим вначале и каким
удовольствием от этого повеяло. «Он пытался сделать ямб
плавным, рифмованно мыслить. Но как только сцена была
облачена в такой стихотворный размер, он тут же сам понял, что
это не только подходит для драмы, так как возвышает самые
простые мысли, но должно также еше больше облагородить
возвышенное и прекрасное. Его радость, его удовольствие от
хорошего результата повышали его устремление к жизни, к
работе» .
Это было не только новое стремление, но и обязанность,
которую он чувствовал. Ему становилось ясным то, что Виланд
рекомендовал театральным поэтам в 1784 году в «Немецком
Меркурии»: они должны учиться стихосложению, чтобы
немецкому театру приобрести так же, как и французскому,
благородный вид.
Шиллер прилежно и с удовольствием работал над своей
пьесой до поездки в Лейпциг. Новые мотивы приходили в
произведение из жизни. Когда он дружбой связал свою судьбу с
Кернером и Хубером, он набросал большую сцену между Дон
Карлосом и Позой, и мотив дружбы получил в пьесе
дальнейшее, превышающее первоначальный план значение.
Оба года в Лейпциге, Голисс и Дрездене, вплоть до
поездки в Веймар летом 1787 года, были снова наполнены
прерванной ранее работой над произведением, которое, когда оно
позже было закончено, уже своим объемом подорвало привычные
представления о размерах пьесы прежнего немецкого
драматического искусства. В последнюю педелю перед завершением
произведение стало магнитом для Шиллера - так много идей
оно втянуло в себя. Он мог бы придумывать все дальше и даль-
234
ше. 22 апреля 1787 года он пишет Кернеру: Вот видишь, мне
приходится отказываться от многих удачных идей, от многих
требований моего вкуса из-за этой невероятной спешки — но
хорошо, что это так. «Карлос» и без того уже перегружен, и
эти побеги могли бы чудовищно разрастись в период завершения
и созревания (т.7, с. 101).
В течение этих лет Шиллер кое-чему научился, он
изменился сам. Так сказалась работа над пьесой. Шиллер всегда,
когда он начинал какое-либо произведение, был также
интересен и сам себе. Он будет делать произведение, хорошо, но что
сделает произведение из него?
Летом 1787 года, после завершения «Дон Карл оса» и после
прощания с Дрезденом, он сказал Гердеру в разговоре в
веймарском замковом саду, что ему свойственно во время большой
поэтической работы (т.7, с. 122) становиться другим. И он
становился таким, пишет он в письме Кернеру 8 августа 1787
года, он всегда рос и в конце произведения думал и чувствовал
иначе, чем в начале (т.7, с. 122).
Значительное изменение концепции, мощное выступление
вперед маркиза Позы почти вытеснило Дон Карлоса как
главную фигуру. Шиллер объяснил это в изданных в 1788 году
«Письмах о Дон Карлосе», которыми он ответил на критику
своей пьесы: Новые идеи, зародившиеся во мне, вытеснили
прежние; сам Карлос несколько упал в моем мнении (т.6, с. 554),
и маркиз Поза занял его место. Эта перемена довольно точно
датируется. В четырех выпусках «Талии» — март 1785 года,
февраль 1786 года, апрель 1786 года, январь 1787 года — были
опубликованы сцены вплоть до имеющего большие
последствия эпизода встречи между королем и маркизой Позой в
третьем акте.
Эта сцена, десятое явление третьего акта в книжном
варианте, еще не была готова, когда сцены, написанные до этого,
Шиллер поздней осенью уже имел на руках в оттисках для
«Талии». Именно в те недели, в которые Шиллер еще раз
прервал работу над «Дон Карлосом», произошло
достопримечательное событие — он начал новое произведение, роман
«Духовидец». Рассмотрим развитие действия и характеров до
важного разговора между маркизом Позой и королем
Филиппом II.
Дон Карлос любит Елизавету, жену своего отца. Это не
имеет отношения не к инцесту, ни к кровосмешению, так как
235
Елизавета ne его мать, женщина одного с ним возраста,
которая сначала была обручена с принцем, но потом, из
династических соображений, с отцом как его третья жена. И все же эта
любовь должна ему самому, если он это совершит, и отцу
казаться фривольной, так как сын не может желать
вмешательства в сферу власти отца, к которой относится и венценосный
брачный союз. Дои Карлосу нужно притворяться и скрывать
свое чувство. Его любовь не может быть обнаружена, принц
должен следить за своими словами, он живет среди ловушек, в
среде недоверия, маскировки; это придворный мир, где все
настороже, и принц особенно. Я вижу... — говорит принц,
обращаясь к Домииго в саду Аранжуэса, — как сотни глаз меня
подстерегают (т.2, с. 13).
Опасное чувство и запутанная ситуация придворной
жизни становятся причиной того, что для принца внутренние и
внешние проблемы драматически обостряются. Внешние
формы поведения, к примеру посещение принцем своей приемной
матери должно быть санкционировано королем, — и этикет
держат желания в узде, если что-то высказывается, то только
скрытно. Все значащее можно было показать только
завуалированно.
В «Фиеско» Шиллер продемонстрировал игру масок,
которая давала свободу действий и эмоций протагонисту. Но здесь
речь ведется о маскировке из необходимости и страха. Так как
внутренняя жизнь не находит соответствующего изображения,
в «Карлосе» возрастает напряженность, которая может
разрядиться каждое мгновение. Это видно уже в первой сцене. Кар-
лос восклицает, обращаясь к Доминго: Мать? Помоги мне Бог
простить того, / Кто в матери мне дал eel (т.2, с. 10). Принц
не слишком тщательно продумывает и взвешивает свои слова,
он даже не замечает, как священник хочет вынудить у него
признание в запретном чувстве. Карлос не может так же
хорошо играть и не видит, что с ним играют. Страх ядовитого
змеиного укуса недоверия (II, 13) парализует его. Возможно,
Шиллер изучал по «Карманному оракулу» Бальтазара Грасиана,
любимой книге его учителя Абеля, уроки «холодного»
поведения в придворном обществе Испании. Карлос, во всяком
случае, этому еще не научился. Ему хотелось бы быть искренним,
сердечным и — внутренне — чем-то вроде сентиментального
бюргера конца восемнадцатого века. Но ему нужно скрывать
236
свое чувство и сдерживать свои поступки, эта сдержанность
поступков превращает его в брата Гамлета.
Иначе проявляется маркиз Поза, друг. В отличие от него
Карлос со стыдом и грустью отмечает собственную робость,
праздность, оцепенение: Скрытый червь/Грызет и день, и ночь
сей гордый ствол, / Навеки отравляя жизнь (II, 1112). В
варианте для «Талии» оставалось неясным, что замышляет маркиз
Поза. Действительно, здесь есть сердечная дружба, в
воспоминания о которой погружаются тот и другой; однако Поза
также сохраняет дистанцию, он видит в принце будущего
господина. Карлос признается ему в своей любви к королеве. Поза
пугается и предостерегает друга: Но ваш отец, мой принц. Это
первая мысль Позы, но потом он готов посредничать встрече
принца и королевы. Маркизу Позе хотелось бы помочь
принцу, повернуть его безнадежную страсть от королевы на
политическую акцию. Поза хочет склонить принца к борьбе за
свободу Фландрии.
В варианте для «Талии» намерения маркиза Позы только
намечены, в книжном варианте ясно, что Поза организует
политический заговор для освобождения Нидерландов. Карлос
должен сыграть в этом главную роль. Поэтому его любовь к
королеве должна превратиться в любовь к человечеству, во имя
которой принц должен встать во главе борьбы за свободу
Нидерландов. Только королева посвящена в этот план; она гоже
должна сублимировать свою любовь к принцу, что ей дается с
меньшим трудом, потому что она любит менее страстно. Но
Карлос еще не вовлечен в планы маркиза. Он еще в плену
своего чувства, ломает голову над своей любовью и охраняет ее от
вмешательства двора.
При второй встрече принц предлагает другу перейти на
О О
«ты», маркиз напоминает о разделяющей их непреодолимой
дистанции в положении. Карлос апеллирует к сердцу, которое
Ч_"
связывает людей вопреки всем преградам и дворцовому
этикету. Наконец маркиз соглашается — тесные объятия, клятвы
в верности. Принц призывает небесные силы: Здесь
обнимаются, / Целуются перед тобой, Всевышний / Два юноши,
исполненные чести, /... / ...Здесь внизу / Монархом их и
подданным зовут /Ты ж говоришь им — Братья (II, 1139).
Маркиз оказывается под впечатлением от энтузиазма
принца, но сохраняет свежую голову: Храпи улыбку/по поводу
прекраснейшей химеры. / Будь осторожен. Только на первый
237
взгляд Карлос готов направить энтузиазм дружбы на большую
политику: Плечо к плечу с тобой /Я брошу вызов моему
столетью (т.2, с. 52).
Карл — чувствительный человек, маркиз — стратег,
который видит будущее; принц, напротив, покорен настроением
момента. Из такого минутного настроения Карлос просит
своего отца о командовании войском во Фландрии, которое уже
поручено герцогу Альбе. Напрасно. После этого
разочаровывающего выхода в политику принц снова становится жертвой
своего любовного чувства. Это приводит к фатальному
недоразумению с принцессой Эболи, влюбленной в принца. Она
приглашает его на свидание, но принц думает, что его
приглашает королева. Нет предела его разочарованию, когда в
назначенном месте он находит вместо королевы принцессу; Эболи
глубоко оскорблена. Отныне она мстит за свою поруганную
любовь.
Так Карлос снова оказался в любовной сумятице, из
которой маркиз напрасно пытается его вытащить. Маркиз
увещевает принца: он должен перестать любить в королеве только
себя и всю любовь перенести на род человеческий. Он должен
выполнить общественную задачу в интересах всеобщей
свободы, он не должен расходовать свое драгоценное время на
безнадежную страсть. Маркиз напоминает принцу о его
гражданском долге и сам выступает как поверенный великих дел,
которые не оставят времени для личной чувствительности: Не
как товарищ ваших детских игр!/ О пет! Как человечества
посланник / Я обнимаю вас, — в объятьях ваших / Фламандские
провинции рыдают (т.2, с. 15). Так говорит маркиз своему
колеблющемуся другу: ...когда-то / Все было по-другому. Ты был
щедрым, / Богатым, пылким. Целый мир носил ты/В своей
груди, — и он разрушен. Чем? / Одною страстью, мелким себялю-
бьем. / Ты, Карл, опустошен. Ты гиг скорбишь / Над страшною
судьбою Нидерландов, / Ты больше слез над горем их не льешь, /
О Карлос, как ты нищ и как ничтожен / С тех пор, как любишь
одного себя (т.2, с. 117).
За что должны приняться маркиз с Карлосом? Ситуация
достаточно испорчена. Оскорбленная Эболи, маркиз это
подозревает, донесет королю о любви принца к королеве. Она будет
отомщена. Доминго и Альба также уже посеяли зерна
подозрения и укрепили короля в ревности, чтобы свергнуть Карлоса и
укрепить собственное положение. Король сбит с толку. Он не
238
знает, может ли он поддержать обвинение. Одна из последних
сцен фрагмента для «Талии» содержит большой монолог
короля. Сейчас мне нужен человек! (т.2, с. 135). Он листает свои
записи — Новалис назвал их однажды «Память государства» —
и натыкается на имя маркиза Позы. Здесь им записаны
славные дела, но ом редко заглядывал туда. Почему Поза не
получил благодарности короля? Единственный во всей моей
державе, / кому, Господь свидетель, я не нужен (т.2, с. 136). Таким
должен быть откровенный человек. Которого можно спросить,
в котором нуждаются, думает король.
Продолжение сцены во фрагментах для «Талии»
заканчивается большой аудиенцией у короля, во время которой будет
призван маркиз Поза. Но на этом фрагмент обрывается.
Так развивался «Дои Карл ос» вплоть до поздней осени 1786
года. Теперь началось кое-что новое. Теперь больше не Карлос
будет играть главную роль, а маркиз Поза. Теперь откроется
бездна энтузиазма человечества, устремление к свободе
проявит свои деспотические стороны. Деспотизм — это понятие
Шиллер будет использовать в своих «Письмах о Дои Карлосе»
в отношении маркиза.
Маркиз Поза стал для Шиллера фигурой, с которой он
продвигается на ощупь в невидимый центр истории. В
противоречивости маркиза Позы он предугадывает диалектику
Просвещения: поворот от здравого смысла к террору облагоде-
тельствования человечества — диалектика, которая немного
позже станет реальностью Французской революции.
Но Шиллер еще колеблется: он осознает свою гигантскую
задачу. Он хочет продумать диалектику Просвещения и
проблему революции, которая стремится освободить единичное и
в то же время нуждается в нем. Ему нужно было для
продолжения, как он отмечает в «Письмах о Дои Карлосе»,
совершенно иное чувство (т.6, с.554). Он знал, что основной акцент
пьесы должен переместиться с Дон Кар л оса на маркиза Позу.
Нужен был переход, который сделал бы возможным такое
перенесение акцента. Но какой?
Необходимо было сделать маркиза носителем действия;
для этого он должен был добиться доверия Филиппа,
лаконичность драмы предоставляла мне, - пишет Шиллер, — для
такого необычного воздействия лишь одну сцепу (т.6, с.554). Это
стала бы, насколько ему было ясно, сцена большого значения;
239
у него должно было получиться, что энтузиаст свободы,
революционер и холодный стратег так проявился бы, чтобы он мог
развернуть все свое обаяние. Сцена должна была стать
настолько убедительной, чтобы произвести впечатление на
короля. Ведь король должен был бы и впредь защищать дух старой
власти. На вершине идеи должны были бы столкнуться друг с
другом дух революции и дух абсолютизма. Другими словами:
в конце восемнадцатого столетия европейский дискурс должен
был связать в узел свободу и порядок. Требовался большой
театр идей, борьба на сцене политико-философских
противоположностей в такой конкретный исторический момент, о
котором Шиллер не мог знать, что это был канун революции.
Шиллер страшился этой задачи, так как он предчувствовал,
каких усилий она ему будет стоить. И поэтому он сначала
переключился на новый проект: он начал работу над романом
«Духовидец».
В этом романе речь идет о заговоре, а именно о заговоре
иезуитского, возможно ташке розеикрейцеровского тайного
союза, который побуждал к переходу в другую веру
евангелического наследника. Шиллер погружается в сумеречный и
мистический мир тайных союзов, лож, заговоров; наполовину
реальный, наполовину фантастический мир, который держал в
напряжении общественность накануне Французской
революции.
Шиллер, который прервал работу над «Дон Карлосом»,
чтобы отдохнуть и почерпнуть новые силы, приходит, таким
образом, в себя от драмы о республиканском заговоре слева с
помощью того, что погружается в работу над романом о
заговоре справа. Так как Шиллер некоторое время не возобновлял
своего «Дон Карлоса», мы тоже прервем анализ пьесы и
обратимся, как и Шиллер, к роману «Духовидец».
После того как обе первые части «Духовидца» появились в
«Талии» и Шиллер стал получать просьбы от издательства и
читающей публики о скорейшем продолжении истории,
Шиллер написал б марта 1788 года Кернеру: К проклятому
«Духовидцу» я до этого часа не могу испытывать интереса; какой
демон внушил мне его...
Демон, который внушил этот роман летом 1786 года,
происходил из бунтарского духа времени. В этом году совпало
несколько событий, которые привлекли внимание публики.
Афера с ожерельем во Франции, возвышение и крах Калиостро.
240
Кампания против «иллюминатов», раскрытие их тайной
практики. Смерть Фридриха II 17 августа 1786 года и восхождение
на трои Фридриха-Вильгельма II в Пруссии, чьи
обскурантистские наклонности были известны: опасались, что он
положит конец эпохе Просвещения. Повсюду царило предчувствие
смены времен.
Особенно возвышение и падение Калиостро
воспринималось как символ мира, который вышел из колеи. Об афере с
ожерельем, достигшей своей кульминации зимой 1785- 1786
годов, писал, оглядываясь назад, Гёте в «Кампании во
Франции»: «Уже в 1785 году меня ужаснуло, как голова Горгоны,
«дело об ожерелье». Эта неслыханно дерзкая афера, как я уже
говорил, подрывала монархическую власть, досрочно
уничтожала ее, и все события, с тех пор развернувшиеся,
подтверждали мое предчувствие»* (т.9, с. 397).
Шиллер вначале относился к феномену Калиостро весьма
прохладно. Летом 1781 года он написал для «Штутгартских
известий для пользы и удовольствия» статью под названием
«Калиостро — много шума из ничего». В ней говорилось: Кем бы
он там ни был, но если взять все вместе до сих пор сказанное,
достоверно, что он все же так и не стал апостолом, который
может делать слепых зрячими, хромых ходячими и наполовину
сгнивших снова живыми (V, 849). Несмотря на этот скепсис, он
следит за аферой с ожерельем с напряженным интересом, что
было тогда вполне понятно.
Калиостро, происходивший из бедной семьи в Сицилии,
настоящее имя которого было Джузеппе Бальзамо, околдовал
свою, преимущественно аристократическую, публику
магическими сеансами, алхимическими опытами и таинственными
пророчествами и получил доступ к французскому
королевскому двору. По поручению кардинала Рохана, он приобрел
ожерелье для королевы Марии-Антуанетты, но, когда дело дошло
до передачи ожерелья, камни исчезли, деньги — тоже.
Калиостро подозревали, и, хотя его не могли уличить, он был изгнан -
из страны. Благодаря этой афере открылась бездна коррупции,
легкомыслия и расточительства. Не только Гёте расценивал
* Здесь и далее И.В.Гёте цитируется в скобках по изданию:
Гёте И.В. Собрание сочинений в десяти томах. М.: Художественная
литература, 1975-1980.
241
это происшествие как зловещее предзнаменование будущей
судьбы европейской аристократии.
Еще в 1781 году Гёте писал Лафатеру о Калиостро: «Мне
кажется, наш моральный и политический мир заполнен
подземными ходами, подвалами и сточными канавами, как это
бывает в большом городе, о связи с которыми, пожалуй, никто не
думает и не чувствует ее». После раскрытия аферы с
ожерельем Шиллер тоже увидел в возвышении и падении Калиостро
симптом заминированного мира незадолго до его крушения.
В мае 1786 года on прочитал в «Берлинском
ежемесячнике», центральном органе Просвещения, разоблачительную
корреспонденцию писательницы Элизы фон дер Рекке о встрече с
Калиостро в ее имении в балтийской Митаве. Баронесса
попала на некоторое время под власть шарлатана, от которого она
ожидала врачебной помощи и с которым она занималась
заклинанием духов. Она живо изображала его как обманщика,
описывала некоторые его практики и пришла, освободившись
от своих иллюзий, к открытию, что просвещенные люди тоже
не застрахованы от опасности «распространяющегося
увлечения фантазированием, ясновидением и всеми тайными
искусствами».
Эта статья была пущена в ход в ситуации, когда Калиостро
на процессе об ожерелье ссылался на отца Элизы как
поручителя его репутации. Шиллер имел возможность лично
познакомиться с баронессой в Дрездене у Кернера во время ее
посещения, и узнал благодаря этому еще кое-что о происшествиях
с Калиостро. Тот должен был быть обманщиком, но —
насколько стало ясно Шиллеру из разговоров — он должен был быть
гениальным обманщиком. Конечно, он не мог колдовать, но он
мог околдовывать людей. Это был не только просветительский
дух разоблачения, но в большей мере очарованность перед
лицом этой одиозной харизмы, благодаря чему Шиллер увидел
возможность показать своего армянина в романе как ловца
человеческих душ, а не только как дешевого шарлатана.
Шиллера также волновала таинственность. Он не мог не поддаться
общему настроению.
Именно устремление к таинственности обладало в то
время конъюнктурой. Свет Просвещения терял свой блеск. Это
все же не проникло в простые народные слои, но в
аристократических кругах играли с разумом и упражнялись в
столоверчении. В конце века странное снова уверенно могло выступать
242
как чудесное. Снова вынырнули целители, которые незадолго
до того были заперты в работных домах. Снова стекались в
города люди, чтобы выслушать пророков, которые
проповедовали конец света или возвращение мессии. В Саксонии и
Тюрингии подвизался прогоняющий бесов Гассиер, а в Лейпциге
владелец ресторана Шрепфер получил недолгую известность
как заклинатель мертвецов. Общественное мнение
переменилось, снова находили удовольствие в загадочном, вера в
прозрачность и предсказуемость мира становилась слабее.
Стремление к таинственности и чудесному, которое в конце столетия
появилось и в литературе, предвещало будущие проявления
романтического духа. В душной атмосфере перелома
мошенники типа Калиостро, удивительно высоко вознесенные судьбой
и собственной сноровкой, становились мифическими
фигурами. Стремительно пролетали они по своей орбите, лишь на
краткий миг можно было увидеть их на небосклоне общества.
В масштабах, которые мы сегодня можем довольно хорошо
представить в связи с террористической истерией и теорией
заговоров, общественность обсуждала фантазии о тайных союзах
и тайных заговорах. Эта атмосфера благоприятствовала
литературному жанру, к изобретению которого при частей Шиллер
с его романом «Духовидец». Это жанр романа о тайных
обществах, который рассказывает с приятным ужасом о загадочных
тайных обществах и их деятельности. В 1780 -1790-е годы
появились произведения, известные уже более двухсот лет и
принадлежащие большей частью области тривиальной, но с
мощным влиянием на литературные вершины. В гётевском
«Вильгельме Мейстере» есть тайное общество Башни; «Титан»
Жан-Поля и «Стражи короны» Ахима фон Арнима или
«Уильям Ловелл» Тика тоже несут на себе отпечатки традиции
романа о тайных обществах.
В романе о тайных обществах сложилась стереотипная
схема, обязанная своим появлением изобретению Шиллера:
безобидный человек оказывается в ситуации, полной
таинственности; на его пути встречаются люди, которые, кажется, все о нем
знают; он мало-помалу замечает, что находится в сетях
сомнительной организации. Часто в качестве приманки действует
также и красивая женщина; к опасной присоединяется сладкая
тайна. Возможно, протагонист проникает в союз, в его
внутренние подземелья, черные пещеры, видит мерцающий свет и
бледные лики. Иногда он раскрывает в мистериях тайные зна-
243
i-шя или скрытые цели, знакомится с вождями, но никогда не
из числа самых высших. Среди тех, кто открывает ему свое
лицо, часто оказываются, к его ужасу, люди, которых он уже
давно знает, но видел до сих пор в другом свете; в этих историях
присутствует иногда добрый, иногда злой союз, и если
рассказывается, как оба состоят в борьбе друг с другом, то целое
становился еще более непроницаемым и запутанным, все кишит
двойными агентами и почти невозможно найти комнату без
двойных полов и шкафов без потайных дверей. Нельзя также
и пройти по улице без того, чтобы не заговорить с эмиссаром
с тонкими чертами лица и узкими губами.
Реальной исходной точкой этой истории — так же и у Шил-
%у я** г.*
лера — является взаимодействие и противодействие тайных
обществ иезуитов, масонов, иллюминатов и розенкрейцеров.
Иезуиты были запрещены в 1773 году, но подозревали, что они
продолжали способствовать тому, чтобы с помощью тайных
KJ
махинации склонить евангелических престолонаследников к
переходу в католическую веру. Об этом ходили дурные
истории, некоторые из них находили особый интерес у Шиллера: в
семье вюртембергского герцога имел место такой случай, отец
Карла-Евгения перешел в католическую веру, а позже его
племянник тоже.
Меньше недели прошло после сообщения Элизы фон Рек-
ке о Калиостро, как в «Берлинском ежемесячном журнале»
принц Фридрих-Генрих-Евгений фон Вюртембергский просит
слова для признания в том, что считает, в отличие от
баронессы, «общение с высокими духами» вполне возможным, тому же
учит и церковь, что наша бессмертная душа живет в смертном
4J
теле; почему же тогда воплощенный дух не должен вступать в
общение с бесплотным, Вюртембергский принц до сих пор
пользовался авторитетом просвещенного человека. Значит, с
недавних нор он был перетянут в обскурантистский лагерь,
возможно, иезуитами?
Так думали и рассуждали в просвещенном Берлине, и
Шиллер слышал об этом. Это и подало ему идею изобразить -
О
интриги иезуитского тайного союза, которые нацелены па то,
чтобы подстрекать принца к переходу в другую веру.
«Духовидец» — роман о принце, запутавшемся в сетях заговора.
Примером активизации тайных союзов справа и слева
были масонские ложи. В ложах, которые представлялись до сих
пор как оплот просвещения, к концу столетия получали пре-
244
имущественное значение оккультные устремления, лакимн, к
примеру, были «шотландские каменщики», которые
разработали искусную систему градации, чудовищную иерархию
посвященных в тайный союз. Внутренняя тайна была не чем иным,
как миром, полным изначальной фантастики. «Шотландская
ложа» покоилась на так называемой легенде о тамплиерах,
которая гласила, что после кровавого подавления ордена
тамплиеров в средние века некоторые тамплиеры втайне продолжали
действовать и их учение и тайное искусство передали
последующим поколениям. О каком учении и о каком искусстве идет
речь, оставалось во мраке. Шиллер в своих лекциях о
«Призвании Моисея», прочитанных в 1790 году, будет сводить полную
тайн традицию легенды о тамплиерах к древнеегипетским
жрецам; для Шиллера внутренняя тайна этой легенды состоит в
представлении об изобретении монотеизма. Поскольку, таков
тезис Шиллера, люди должны были верить в одного бога,
необходимо было скрыть то, что бог был изобретен с целью
поддержания морали. Для Шиллера настоящий тайный союз
заключает в себе нечто просветительское, в то время как
современные ему фантазии витали где-то между каббалой и
алхимией.
Фантазии, стимулируемые подозрениями в заговорах, —
тривиальная предформа исторической философии. Пытались
оживлением тайны напасть на след истории, хотели схватить
«невидимую руку», которая управляет историей. Популярный
в то время роман о тайных союзах, несколькими годами позже
шиллеровского «Духовидца» представленный «Гением» Карла
Гросса, начинается с прагматической фразы: «Из всех завязок
кажущихся случайностей выглядывает таинственная рука,
которая, по-видимому, парит над иными из нас».
Эти фантазии оказались в конце столетия в струе
всеобщего политизирования. Везде бушевали заговоры,
подозрительный комплот и его разоблачение захватили общественное
внимание. Против тайных обществ и лож, которые подозревались
в союзе с революцией, действовали тоже тайные
«ггротиво»-союзы, которые защищали существующее. Наиболее известным,
наряду с иезуитским, был орден розенкрейцеров, который, без
сомнения, имел влияние на политическую жизнь при дворе
Фридриха-Вильгельма как раз в то время, когда Шиллер
работал над своим «Духовидцем». Министр церкви Иоганн
Христов Вёлы-iep был известен как розенкрейцер, который вел борь-
245
бу против «гидры Просвещения». Вскоре после 1788 года
будет обнародован эдикт, в котором сначала духовным лицам, а
потом и всем государственным учреждениям в категорической
форме рекомендовали протестантскую ортодоксальность,
одновременно была усилена цензура. Когда Шиллер заставил
своего маркиза Позу требовать «свободы мысли», то это
понималось и как наступление на реакционный режим в Пруссии.
Розенкрейцеры, которых меньше всех подозревали в
реакционности и противостоянии Просвещению, имели также свою
систему категорической ортодоксии. Так становилась
призрачной вся политическая территория, повсюду видели действие
неизвестных сил, которые давали повод к подозрениям в
авантюризме. Это вело к публицистической активности и
доставляло силе воображения богатейшую пищу из духа
таинственности и подозрительности. Фактически в этих союзах все было
благодушнее, чем это представляли. О масонах было известно,
что они встречались, чтобы тайно читать Сенеку, Ариосто,
Плутарха и Виланда. Иногда заговорщики поощряли себя
чтением запрещенных книг: Гольбаха, Гельвеция, Дидро и т. д.
«Иллюминаты», конечно — тайный из тайных союзов, —
шли на радикальные действия. Они двинулись в поход на
институты власти. Они мечтали о захвате власти. Идея
свободных каменщиков о постепенном нравственном восхождении
привела у них к системе взаимной слежки, чтобы можно
было оценить «прогресс в добродетели», выбрать кандидата и
члена по достоинству. «Тщательно замечайте, - говорилось в
одной из инструкций иллюминатов, — каждого вашего
подопечного, наблюдайте его при всяком удобном случае, где он
имеет соблазн быть иным, чем он должен быть: именно здесь
обнаруживается, насколько далеко он продвинулся».
Благодаря такой системе слежки в центре организации могли
скапливаться знания, опасные для иных людей, опасные, потому что
речь шла об интимной жизни многих людей. Некоторые люди
подвергались шантажу, и, конечно, за теми, кто был вне
ордена, шпионили, чтобы иметь на них влияние. После
запрещения ордена «иллюминатов» при издании их внутренних бумаг
подозрение против этого союза было чрезвычайно раздуто.
Фантазии быстро разрастались как раз в то время, когда
Шиллер писал «Духовидца». Несколькими годами позже
утверждали, что Французской революцией руководили из Инголь-
штадта, где Адам Вайсхаупт основал орден иллюминатов. Так
246
представлялась обыденному сознанию тайная мастерская, где
творится история.
Стремление к тайне было движущей силой как для тех, кто
образовывал союз, так и для тех, кто терялся в подозрениях,
догадках и фантазиях. Кто участвовал в этом предприятии —
на той или иной стороне — держал себя так, как несколько
позже будет требовать Новалис на высоком плато
романтического философского духа, правда безотносительно к политике:
«Если я придаю обыденному высокий смысл, заурядному —
облик таинственного, известному — достоинство неизвестного,
конечному — сияние бесконечного, значит, я всё это
романтизирую».
«Духовидец» Шиллера — романтический роман,
написанный еще до романтизма.
«Романтическое» было также особенно интересно на фоне
Венеции, города, который издавна притягивал фантазию. Он
представлялся таким, как его показывают картины Каналетто:
классический, безупречный, мраморный, под светлым небом.
Известно было, конечно, и дионисийское буйство карнавалов.
Венеция была городом удивительных масок. Кстати пришлась
и история, которую юный Шиллер слышал в Людвигсбурге:
как Карл-Евгений однажды оказался на венецианском
карнавале и из-за чрезвычайных долгов вынужден был спасаться из
города почти бегством. Шиллер был, вероятно, первым, кто
так литературно эффектно представил пучину этого города.
Он сделал его ареной истории из запутанных тайн, интриг,
связей. С шиллеровского «Духовидца» начинается мотив о
смерти в Венеции. Он был успешно продолжен немного
позже в романе о художнике Вильгельма Хейнзе «Ардингелло», в
котором Венеция фигурирует в значительной мере как
столица любви, смерти и веселья. После этого не было больше
сдерживающих факторов. Авторы, которые хотели заставить
своих героев изучить дионисийское искусство жизни и
жизненные страдания, посылали их в Венецию. Эта традиция
продолжается и сегодня.
Со временем этот город превратился в неизбежную
литературную арену. Он не был еще таким, когда Шиллер сделал
его местом действия своего романа. Ему помог его друг Хубер,
с которым он разрабатывал проект сборника о
«Достопримечательных мятежах и заговорах»: Хубер вносил свой вклад
переводом исторического изложения «Заговора маркиза фон Бе-
247
демара против Венецианской республики в 1618 году». Так
Шиллер ухватил индивидуальный колорит города, который
он не мог знать по личным впечатлениям. Но фантазия
рисует порой лучше, чем память, читательские переживания могут
быть сильнее, чем жизненные. Вероятно, не было
необходимости видеть этот город, чтобы так изобразить его, как это
сделал Шиллер.
Первая часть для четвертого выпуска «Талии» в январе
1787 года вышла из его рук легко, играючи. Вторая часть,
появившаяся годом позже в апрельском выпуске 1788 года,
доставила ему уже большие хлопоты. В его жизни было очень
мало дел, писал он Кернеру 17 марта 1788 года, которые он делал
с таким же отчетливым осознанием греховной траты времени,
как во время этой мазни. Когда он начал третью часть, он
писал Кернеру, что это отвратительная тягловая работа в
бесплановую вещь привносить план, и снова связывать так много
распавшихся нитей (17 мая 1788 года). Последние две части,
написанные в 1789 году, снова легко вышли из-под его пера.
Хороший гонорар, который он за это получил, принес
дополнительное удовлетворение работой. И все же он почувствовал
освобождение, когда в конце 1789 года решился свернуть
роман, хотя публика ждала продолжения. Он хотел покинуть
наконец лабиринт, в который завел себя и своих читателей и в
котором он сам едва ли теперь ориентировался. Он издал
переработанный текст фрагментарного романа, экономически это
был его до сих пор самый крупный успех. Фрагменты романа
стали всюду перепечатывать, другие авторы сочиняли
авантюрные продолжения на свой страх и риск. Издатель
несколько раз скрашивал у Шиллера, не хотел бы он сам довести
роман до конца. Но Шиллер отказывался. Он был рад счастливо
ускользнуть от духов, которых он вызвал.
Когда Шиллер начал свой роман, у него не было, как он
признавался, никакого плана. Имелась неопределенная идея о
заговоре, тайных обществах, имелось место, атмосфера и
некоторые характеры: наследного принца, прежде всего, и полного
таинственности армянина. Точного плана произведения у него
не было. Этот роман о таинственном был тайной для пего
самого. Это его привлекало, и поэтому он начал работу, не зная,
как она будет идти дальше. Он овладел материалом и
надеялся втайне, что этот материал захватит наконец и его. Он хотел
248
вдохновиться от своего собственного создания. Дух рассказа
должен был распалить его воображение.
С самого начала Шиллеру было ясно лишь следующее:
наследный принц, погруженный в себя, меланхоличный,
воспитанный в протестантском духе мужчина, должен был попасть в
сети харизматического армянина, который имел многочислен-
f^ 4J
ных помощников и мог дирижировать запутанной игрой масок.
Наследный принц должен был быть подвигнут к смене
религии; он должен был потерять свою внутреннюю свободу, и его
характер должен был измениться. Всё это должно было иметь
фатальные последствия. Это была история, подогреваемая
неопределенными ожиданиями, которая грезилась Шиллеру в
предгрозовой обстановке за несколько лет до революции. И
возможно, Шиллер совершенно утратил охоту продолжать ее,
Ч-Р
когда революция, поначалу представлявшаяся очистительном
V
грозой, случилась на самом деле.
История рассказана прежде всего с позиции графа О.,
который составляет общество принцу в Венеции во время
карнавала. Шиллер начинает с портрета принца. Он до своего
тридцатипятилетия не поддавался никаким соблазнам этого
сладострастного города (V, 49). Он жил замкнуто в своих фан-
О
тазиях и оставался чужаком по отношению к
действительности. Он грезит, но он не дает себе труда помыслить, какой
фантастической, опасной и обольстительной может быть
действительность. Так как его взгляд направлен внутрь, он
плохо наблюдает. Его принципы приобретены не опытом и
учебой, и поэтому он не находит в них прочных оснований, а
следует им наполовину с грезами. Его чувства также не
обрели еще четко очерченных форм, его несут и подгоняют
ощущения, которые легко переходят в мечтательность. Его
нерешительный характер стал его судьбой. Никто не был более
предрасположен к тому, чтобы поддаться чужой воле (V, 49).
Граф О. и принц идут на площадь Марка и смешиваются с
масками. Одна маска, которая тоже не потерялась в сутолоке,
следует за ними. Граф и принц ищут уединенную скамейку, по
уединение вскоре нарушается появлением маски, которая —
словно это само собой разумеется — садится рядом с принцем.
Когда оба беспокойно поднимаются, из-под маски незнакомца
звучит: Пожелайте себе удачи, принц... В девять часов он
окончился (т.З, С.537).
249
Позднее они узнают, что правящий монарх, единственным
наследником которого был принц, умер в этот день в 9 часов.
Как этот незнакомец под маской армянина, похожий на
привидение из сказки, узнал о смерти, в дальнейшем не объясняется.
Это остается, как и многое в этом армянине, загадкой. Беспо-
\J
коино отправляются принц и его спутник на поиски этого
мужчины. Бродят по площади, заходят в ресторан. Они не находят
его. Он остается ненайденным, потому что он показывается,
когда он этого хочет. И тут вдруг он снова появляется в толпе
людей перед принцем и шепчет ему, что ожидаемые вести от
сената уже пришли. Откуда он это знает? Это порождает в
принце чувство, что вокруг него стягивается все теснее
неосязаемая сеть наблюдения и управления. В одном игровом
салоне происходит опасный инцидент. Один венецианец весьма
грубо преграждает принцу путь к игровому столу. Принц
защищается, остальные встают толпой против него. Ему
приходится опасаться за свою жизнь. Вдруг появляются служители
государственной инквизиции. Они ведут принца и графа в
занавешенный черным покрывалом свод, где собрание одетых в
темное мужчин явно ожидало пришедших. Венецианский
грубиян задержан, над ним произносится приговор, и он тут же
обезглавлен. Появляются другие загадки, взгляды, намеки,
тени, неясные следы. Затем следует прогулка по реке Бренте.
В этот момент покоя и передышки Шиллер рисует светлую
картину природы, которую он никогда не видел: Прогулка
выдалась отличная. При каждом изгибе реки перед нами
открывались все новые и новые виды живописнейших берегов, один
богаче и красивее другого; ослепительное небо напоминало в середине
февраля о майских днях; прелестные сады и множество
очаровательных вилл украшали берега Бренты, а за ними
расстилалась величественная Венеция с встававшими из воды
бесчисленными башнями и мачтами кораблей. Прекраснейшее зрелшир в
мире (т.З, С.543).
Покидают барку. На берегу народный праздник с танцами,
представлениями и толпами народа. И действует все это
пестрое оживление так, словно все организовано исключительно
для принца, будто только его и ждали. Это впечатление еще
усиливается при заговаривании духа, к которому компания
была приглашена сицилианцем. Сейчас впервые принц замечает
одного русского офицера с необычайной физиономией:
Никогда в жизни мне не приходилось видеть лицо столь характерное
250
и вместе с тем безвольное, столь чарующе-привлекательное и в
то же время отталкивающе-холодное. Как будто все страсти
избороздили это лицо, а затем, покинули его — остался только
бесстрастный и проницательный взгляд глубочайшего знатока
человеческой души — взгляд, при встрече с которым каждый в
испуге отводил глаза (т.З, с.544).
Теперь ясно: это мужчина под маской армянина. Сеанс
начинается. Принц пытается сохранить скептическое настроение
и требует, словно в насмешку, показать ему своего погибшего
на войне французского товарища. Помещение, как это
водится, затемнено: черные покрывала, халдейская библия и череп
на алтаре, свечи, густой дым, тяжелый воздух. Удар грома.
Появляется умерший друг, сначала на стене, потом как телесный
образ в помещении. Всеобщий ужас. Магик стреляет, пуля
вылетает из ствола. Принц спрашивает этот образ и получает в
ответ туманные намеки. Образ исчезает. Сквозняком
распахивает окно, тем временем занимается утро. Русский офицер, его во
время сеанса не было видно, шагает к магику: Обманщик...
больше ты не будешь вызывать духов! (т.З, с.552). Сицилианец,
взглянув офицеру в лицо, от ужаса падает на пол.
Здесь Шиллер прерывает рассказ. Это поистине трепетно-
романтическая декорация, которую он изобразил в первом
«Талия»-варианте романа, и можно понять, почему публика
настойчиво требовала продолжения. И будет требовать
продолжений и дальше. Через десять лет Шиллер мог над этим
подтрунивать в «Ксениях»: Стоило время терять, чтоб
дельфийского бога заставить / правду, мой друг, рассказать, кто
же был сей армянин (I, 272).
Кто этот армянин, и что он замышляет» и как он при этом
поступает, и как это отражается на принце — эти вопросы
Шиллер оставил без ответа и вернулся снова к своему «Дон
Карлосу», к явлению маркиза Позы. Он тоже во второй части
драмы будет действовать в манере армянина, и благодаря
этому настроение драмы будет не слишком тяжелым. Потом
маркиз Поза тоже будет скрываться за тайной и играть королевой
и своим другом, как шахматными фигурами. Этот мотив
тайного и нетаиного руководства судьбы будет для Шиллера
мостиком, по которому он от романа «Духовидец» снова вернется
к своей пьесе. Дон Карлос будет, как принц, инструментом в
руках высокомерных духов, и маркиз Поза — этот образ све-
251
■о
та — захочет, как армянин — этот темный человек, — сыграть
роль невидимой руки судьбы.
Что касается «Духовидца», то Шиллер позже, когда
закончит своего «Дон Карл оса», надумает еще кое-что сделать. Си-
KJ о
цилианскии магик, который при виде армянина свалился на
пол, окажется его ручной куклой. Поначалу принцу удается
распознать направленные против него интриги, но читатель
узнает то, что принц сам не замечает: армянин специально все так
устраивает, чтобы принц заметил интриги, и, гордый своим
здравым смыслом, возомнил, что он в безопасности. Итог
таков: принц должен учиться, рассчитывая на свой разум, но
разум неизбежно покинет его, если он его переоценит. Принц
должен стать безоглядно свободным, не поддающимся
никакому мистицизму, но и не имеющему за душой ничего святого.
Армянин будет эмансипировать принца, он будет его
освобождать, но тогда он будет свободным как раб, который убегает с
цепью на ноге и которого поэтому легко вернуть назад и
можно заставить служить другой цели. Принц может сначала
раскрепоститься в суматохе дикого праздника, погрузиться в
чувственные удовольствия и карточные долги, и, когда он душевно
разрушится и станет духовно неустойчив, он будет достаточно
слаб, чтобы захотеть снова подняться с помощью сильной
руки церкви. Помните ли вы армянина, который так смущал нас
в прошлом году? Так вот, в его руках вы найдете принца,
который пять дней назад... прослушал первую мессу! (т.З, с.648). Так
заканчивается книжная редакция романа. От
запланированного исхода истории, по которому принц должен был пережить
еще одну смерть и как добрый католик воцариться на троне,
Шиллер избавился. Возможности образа принца были для
него исчерпаны. Он изобразил развитие и становление характера
от чувствительного меланхолика к скептику, затем к свободо-
XJ «
мыслию и распутству и, наконец — под воздействием тайного
чародейства, — назад в лоно церкви. Путь из сумеречного
состояния к фальшивому свету и снова назад во тьму. Развитие,
которое принц пережил, но не понял, потому что оно было
инспирировано армянином (как гётевским Вильгельмом Мейсте-
ром руководило общество Башни). Это история о том, кто
чувствует себя свободным, но не свободен. В философском
разговоре, который Шиллер снова изъял из поздней редакции,
потому что не хотел наделять принца столь развитым
самосознанием, он заставил принца сказать: Я похож на гонца, песу-
252
Ulf го запечатанное письмо по назначению (т.З, с.614). Что
содержит письмо, он не знал. Поскольку он не знал себя, он не
имел власти над собой и судьбой. Он будет использоваться
другими и в конце концов будет истощен.
Это судьба, угрожающая и Дон Карлосу, который
оказывается под властью маркиза Позы.
Вернемся к «Дон Карлосу». Шиллер отложил его в сторону
перед известной десятой сценой в третьем акте. А именно перед
большим диалогом между королем и маркизом Позой.
Маркиз вызван к королю, который в своем королевском
одиночестве окружен только интересами царедворцев и
поэтому не доверяет тому, что ему пытаются внуш ить герцог Альба,
отец Доминго и принцесса Эболи. Король требует правды об
отношениях между Карлосом и королевой.
Маркиз не рассчитывал на аудиенцию у короля. В его
планах это не предусмотрено. Он даже подстрекал Карлоса
требовать у короля командования войсками во Фландрии. Попытка
инфанта остается без последствий. Сейчас маркиза самого
неожиданно взывают к королю. Политик в нем чувствует
представляющуюся возможность, которой ему нужно воспользоваться.
Может быть, удастся ...семя правды смело бросить в душу /
Тирана... (т.2, с. 143). Король ищет помощи в несчастье своей
ревности, он ищет человека) и он думает найти его в маркизе. Оба
оказались в запутанном маскараде. Король ищет искренности в
Позе, а тот использует искренность для своей большой
политики. Один требует личной правды, другой хочет способствовать
прорыву политической истины.
Маркиз силен, потому что король его добивается. Он
уклоняется и отказывается от вознаграждения за прошлые
подвиги. Так он сохраняет свою независимость. Король, привыкший
к покорности, сталкивается с непривычно гордым
самосознанием. Это был вызов ему. Он предлагает маркизу любую
должность, какую тот пожелает. Но маркиз не хочет должностей: Я
не могу монарху быть слугой (т.2, с. 146). Должность сделала бы
его деталью большого механизма, он не хочет быть исполни-
%J К}
тельным органом высочайшей воли, а хочет остаться
исполнителем своего дела.
Он претендует на безраздельное королевское право в
собственных владениях. Он не хочет стать средством в достижении
чужой цели: Рожденный быть ваятелем, могу ли / Унизиться и
253
стать резцом? (т.2, с. 146). Поза выдвигает притязания на ко-
*_» о
ролевскии суверенитет, так как каждый должен стать королем
для своей собственной жизни. Для маркиза Позы такое
самоопределение — цель истории. В выступлении перед королем он
берет себе такую свободу, которой он требует для
человечества в целом: О, дайте людям / Свободу мысли! (т.2, с. 153).
Слова «свобода мысли» сегодня поблекли до банальности.
Во время Шиллера выражение было еще необычным, в
немецком языковом пространстве его сначала в абстрактном смысле
применил Гердер, которого подтолкнуло к этому английское и
французское Просвещение. Но именно Шиллер придал этому
понятию через фигуру маркиза Позы богатое и программное
значение. «Свобода мысли» значит: свободное применение
индивидуального здравого смысла в религии, морали,
государстве и науке — в итоге, во всех важнейших делах жизни. При
этом речь шла о здравом смысле, который заложен в каждом
индивидууме и может развиваться при правильном
воспитании. В этом смысле слова «свобода мысли» — это не что иное,
как уверенность в себе личности с собственным здравым
разумом.
При так понимаемой «свободе мысли» было больше
требований, чем готов был дать просвещенный монарх, как,
например, Фридрих И. У Фридриха II было известное пояснение:
«Мыслите, как хотите, но повинуйтесь!» В противоположность
этому «свобода мысли» требует не только свободного
мышления, но практической уверенности в себе из благоразумных
побуждений. Как художник утверждает свое произведение и этим
реализует свою цель, так должен каждый индивидуум
утвердить самого себя и свою цель найти в форме, которую он
придает своей жизни. Каждый должен, коль скоро в нем есть
созревающий разум, повиноваться только самому себе, а чужим
приказам — только если они созвучны с голосом собственного
разума.
Эта идея предполагает позитивную картину человечества.
Нет, человек и выше и достойней,/ Чем думаете вы (т.2, с. 152),
объясняет маркиз Поза, а король возражает ему: Когда вы так
узнаете людей, /Как я их знаю, верьте, ваши мысли /
Изменятся... (т.2, с. 156). Король аргументирует, как Гоббс. Люди
злобны и себялюбивы, это нисколько не поспособствует покою и
миру между ними, если они не будут иметь государя над собой.
Который обуздывает их и обеспечивает безопасность, под за-
254
щитой которого им хорошо живется: Вы осмотритесь — / Как
расцвела Испания моя: / Безоблачный покой и счастье граждан!
(т.2, с. 151). Нет, отвечает Поза, такой покой есть не что иное,
как кладбищенская тишина. Это аргумент, который привел
Руссо против Гоббса.
Король в этом диспуте несколько раз намекает, что он все
это, собственно говоря, не имеет нужды аргументировать. Он
знает, что доказывать — значит легитимировать себя. Но тот,
кто легитимирует себя перед своим подданным, уже теряет
наполовину свою суверенную власть. Однако король не может
избежать харизматического воздействия маркиза. Юноше,
который слишком / Поторопился, отвечать я буду / Не как
монарх, а просто как старик. / Пусть это прихоть короля... (т.2,
с. 155).
Как частное лицо он пускается в аргументацию, даже если
он как король не обязан этого делать. Правила игры сферы
власти, которую он предлставляет, не знают силы лучших
аргументов. Филипп аргументирует, потому что он начинает
любить пламенного маркиза. Аргументы Филиппа — это камешек
в огород маркиза Позы: если бы все люди мира были такими,
как он, можно было бы признать их веру в себя. Однако
маркиз — исключительный человек. Нельзя по нему судить о
качествах человеческого рода. И потому нужно и в дальнейшем
принципы безопасности и покоя предпочитать опасным
принципал! свободы и веры в себя. Поэтому необходима
инквизиция, то есть запрет свободы мысли, и он может только
посоветовать маркизу: Но бойтесь инквизиции моей! / Мне было б
жаль... (т.2, с. 155).
Мрачной антропологии короля маркиз Поза
противопоставляет мысль, что человек учится сначала употреблению
свободы, учится ее правильно использовать. Только в обстановке
свободы учатся добродетелям альтруизма и
самоотверженности для всеобщего блага, которые необходимы для поддержания
вольного порядка. Только в республике развиваются
республиканские добродетели, гласит аргумент, высказанный
Монтескье. Культура свободы, и только она, создает
духовно-нравственные предпосылки, при которых она может существовать.
Поэтому необходимо постоянно принимать в расчет
рискованное переходное время обучения. Риск неизбежен, однако при
этом остается одно: человека необходимо сначала вернуть са-
255
мому себе, то есть переместить его в свободу, чтобы он
приобщился к высоким добродетелям свободы (т.2, с. 154).
Речь идет о проблеме способности к свободе, которую
Шиллер изложит после Французской революции в своих
эстетических сочинениях. Революция, так он будет там объяснять,
освобождает людей, которые еще внутренне несвободны,
поэтому они не способны к свободе. Но это ведет к господству
черни как снизу, так и сверху. Маркиз Поза, кажется, на
мгновение разделяет этот скепсис в отношении способности
угнетенных к свободе. Hern, для моих священных идеалов / Наш век
еще покуда не созрел. / Я гражданин грядущих поколений (т.2,
с. 148), Но этот скепсис маркиз напускает только тактически,
так как, когда он замечает, как сильно он увлек Филиппа, он
требует от короля скорейшего освобождения фландрских
областей.
Маркиз Поза, опьяненный энтузиазмом своего
красноречия, верит, он мог бы направлять короля, вести как вожатый.
Он вознесся к большой политике. Но короля мучит его
ревность, и поэтому он ожидает помощи от маркиза Маркиз,
который желает освободить Фландрию, должен оказать услугу
унизительного шпионажа. Постарайтесь / Войти в доверье к
сыну. Испытайте / И сердце королевы (т.2, с. 158).
Маркиз Поза, еще только что находившийся в высоком
опьянении своих политических амбиций, оказался втянутым в
грязь королевких интриг. Как он должен себя вести? Он мог
бы отказаться от чрезмерных требований короля и этим
подтвердить свою дружбу с Карлосом; это было бы правильно, но
в измерении его политических амбиций — неумно. Так он для
вида соглашается с требованием короля. Тем самым он вводит
в заблуждение не только короля, но и своего друга Карлоса,
которому он не рассказывает о новом положении дел и которого
он пытается вести к своим политическим целям. И хотя Кар-
лос ему помогает, он вводит его в заблуждение: зачем будить
от сна, чтобы увидел спящий, / Какая туча движется над ним?
(т.2, с. 177). И хотя он желает Карлосу добра, он сводит
личность, которая ему доверяет, до положения орудия своих целей
и планов.
Его главная цель: восторженный замысел — создать
блаженнейшее состояние, какое только достижимо для
человечества (т.6, С.579). Этому интересу подчинено всё: дружба с
Карлосом, уважение королевы и доверие, которое оказывает
256
маркизу король. С другом маркиз обращается как с
несовершеннолетним, которого нужно защищать от него самого — он
берет его фактически под арест — и которому нужно любовь к
королеве объяснять, направляя это чувство на борьбу за
свободу. Точно так же нежное чувство королевы к Карлосу
выстраивается политически, чему королева сопротивляется,
наполовину примирившись. Вы не хотите думать, как нам трудно /
Бороться с сердцем, если страсть мы можем/Столь
благородным именем назвать (т.2, с.218). От доверия короля маркиз
уходит со словами: Я короля покинул. Что я мог бы / Свершить
при нем? На иссушенной почве / Не расцвести моим весенним
розам (т.2, С.217).
Маркиз верит, что все им продумано: как защитить принца
от подозрений отца; как королеву привлечь для того, чтобы
склонить Карлоса к отречению от любви и привлечь к
энтузиазму свободы; и как, наконец, можно помочь принцу бежать во
Фландрию. Эти планы рушатся; их разрушают случайности,
недоразумения и заведомая непредсказуемость жизни и
страсти: Кто этот человек, вообразивший, / Что может направлять,
как вседержитель,/ Игру судеб! (т.2, с.214).
В конце маркизу остается только самопожертвование: он
переводит подозрения непозволительного отношения к
королеве на себя самого, чтобы освободить Карлоса. Письма,
которые для Карлоса должны открыть дорогу во Фландрию, были
обнаружены. Принц вынужден предстать перед великим
инквизитором, Поза умирает напрасно. Триумф старой власти,
под наблюдением которой маркиз был с самого начала и
которая только ждала подходящего момента, чтобы разорвать
топкую сеть заговора. Инквизиция в столкновении с
революционным заговором утверждает себя как более могущественный
тайный союз. Великий инквизитор о маркизе Позе: Он порхал
/ На длинной, но безмерно крепкой нити (т.2, с.263).
Благодаря фигуре маркиза Позы Шиллер за три года до
революции раскрыл пропасти революционной морали.
Поза любит человечество и, естественно, самовлюбленно
восторгается своими поступками, которые должны послужить
счастью человечества. Разумеется, он любит и своего друга
Карлоса, но только как вместилище для целого: В душе
инфанта / Я создал рай земной для миллионов (т.2, с.215). Любовь к
человечеству поглотила любовь к отдельному человеку. Так
случилось, что маркиз пришел к роковой ошибке — к наруше-
257
нию чужой свободы и чужих прав... проявляя зачастую самый
деспотический произвол (т.6, с.587).
Революционная мораль предает в единичном случае то, что
она требует для целого — свободу. С одной стороны, она
требует, чтобы человек сам становился целью, с другой стороны,
она делает его средством своих расчетов. Жестокость,
таинственность и жажда власти охотно скрываются иод маской
борьбы за свободу.
В этой связи Шиллер определенно ссылается в своих
«Письмах о "Дон Карлосе"» на заговорщическую практику
иллюминатов. Во имя разума и свободы Робеспьер будет
немного позже отсекать реальные головы. Террор революции
предвосхищался в стратегических поступках Позы. Маркиз стал
жертвой соблазна универсального разума, с его потребностью
сокращать свой путь и упрощать задачу, превращая в
обобщенные схемы все индивидуальное, что отвлекает и сбивает
его... (т.6, С.588). Сократить путь - это значит использовать
людей; тот, кто хочет осчастливить человечество, не даст
остановить себя толчее индивидуальностей. Превращать все
индивидуальное в обобщенные схемы — это значит жертвовать
индивидуальным. Маркиз, однако, не страшится и того, чтобы
жертвовать самим собой. Это обнаруживает его человеческое
достоинство и в трагическом ключе вновь восстанавливает
дружеский союз. Но и при этом самопожертвовании остается, -
однако, подозрение, которое королева высказывает маркизу:
Вам кажется, что вы свершите подвиг, — / Не отрицайте, я
ведь знаю вас! / Вы уж давно мечтаете об этом. / Пусть
разобьются тысячи сердец — / Вам только б вашу гордость
успокоить... (т.2, С.219).
Шиллер разрабатывает тему сложных отношений между
моралью и гиперморалыо. Он показывает, что природная
моральная интуиция, которая основывается на общении
отдельных конкретных людей, надежнее, чем иридуманные
моральные принципы, пытающиеся охватить целое.
Верно то, что из сердечной дружбы между Карлосом и
маркизом выросла мечта о счастье человечества, и удивительны
слова, которые маркиз незадолго перед своей смертью передал
через королеву другу: Скажите принцу, чтоб и зрелым мужем /
Былым мечтам он оставался верен (т.2, с.216). Эта мечта не
предавать и не забывать отдельного человека — гуманная
задача, в которой маркиз Поза потерпел фиаско,
258
Опыт, ценность которого невозможно преувеличить,
изображенный в этой грандиозной драме, Шиллер формулирует в
«Письмах о "Дон Карлосе"»: ...что в моральном поведении
опасно отдаляться от естественного практического чувства ради
общих абстракций, что гораздо надежнее для человека
доверяться внушениям своего сердца или присущему ему
индивидуальному чувству правды и неправды, чем опасному
руководству отвлеченных рассудочных идей, которые он себе
искусственно создал, ибо ничто неестественное не ведет к
добру» (т.6, С.588).
Здесь намечается последующая шиллеровская критика
Канта
ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Предложение из Гамбурга. Любовная комедия. Расставание
с друзьями. Веймар: прославленный мир черепашьего дома.
Веймарские боги. Виланд, Гердер и другие. Впервые Кант.
«Отпадение Нидерландов». Почему история?
Для продолжения работы над «Дон Карлосом» после
разочарований в Мангеймском театре Шиллер пытался вдохновить
себя мыслью, что его пьеса предназначена не для театра, а для
читающей публики. Для обретения творческого состояния
духа нужно было отгонять мысли о предстоящей театральной
постановке. Нельзя было подпускать к себе плохие
воспоминания и чувства. В примечании к фрагменту «Дон Карлоса»,
опубликованному в «Талии», сказано: В дальнейшем не будет
необходимости указывать на то, что «Дои Карлос» не может
быть театральной пьесой. Автор осмелился выйти за пределы
таковой и, таким образом, не будет судим ее мерками (II, 224).
Он называет свою пьесу действующим диалогом, который
может достичь своего наивысшего воздействия только в том
случае, если он не ограничен законами сценической площадки.
Но когда окончание пьесы стало для него обозримым, он мог
снова позволить себе думать о возможной постановке. Летом
1786 года он попросил своего издателя Гёшена прозондировать
почву в венском Бургтеатре. От мангеймского актера Бека
Шиллер узнал, что директор гамбургского театра Шредер
очень тронут фрагментом, опубликованным в «Талии», и он
незамедлительно пишет ему. Шредер ранее предостерегал
директора Мангеймского театра Дальберга, о чем Шиллер не
знал, но теперь у него на самом деле сложилось лучшее мнение
о Шиллере. Шредера тогда высоко ценили, и он имел
решающее воздействие на театральную жизнь. Поэтому Шиллер в
письме от 12 октября 1786 года приближается к нему с
благоговейным страхом: Должен Вам признаться, что я уже давно
питал самые радужные надежды на некоего человека,
единственного во всей Германии, кто способен воплотить мои идеалы
искусства (т.7, с.96). Он пишет далее, что чуть было вовсе не
утратил любовь к драме (т.7, с.96) из-за кошмарного насилия
над его пьесами. С влиянием Шредера он связывает надежды
на лучшее. Вместе с ним можно, скорее всего, реализовать пред-
260
ставляемый им идеал сценического искусства, и поэтому все
его пьесы будут отныне предназначены для Вашей сцены (т.7,
с.97). Он ссылается на «Дон Карлоса» и оповещает о
запланированной иа следующий год новой пьесе
«Человеконенавистник». Свое предложение он подчеркивает признанием: Со
страстным нетерпением мечтал я до сих пор о сцене, где я мог
бы позволить своей фантазии некоторые вольности, где
свободному полету моих чувств не чинились бы такие нелепые
препятствия. Мне теперь хорошо известны границы,
предписываемые поэту дощатыми стенами и прочими необходимыми
атрибутами театра; но существуют границы еще более
тесные — их ставит себе мелкий ум, жалкий художник, но их же
ломает гений большого актера и мыслителя. Я бы хотел
освободиться от этих границ... (т.7. с.96 97).
Шредер отвечает незамедлительно. Он также испытывает
желание заключить союз с создателем «Дон Карлоса». Он не
только проявляет интерес к пьесе, более того, он приглашает
поэта в Гамбург и считает, что место драматического писателя
должно быть там, где находится театр. Остается неясным,
задумывалась ли постоянная должность или свободное
сотрудничество. Вначале Шиллер чувствует себя польщенным, что
сумел произвести впечатление на Шредера. По зрелом
размышлении он принимает решение не переезжать в Гамбург.
Решающим при этом было соображение, что близость к
настоящему театру будет ему скорее мешать. За это время ему
стачи понятны условия, наиболее способствующие его
художественной продуктивности. Лишь тогда, Вы мне поверьте, —
пишет он Шредеру 18 декабря 1786 года, — выигрывает мой
энтузиазм по отношению к сценическому искусству, когда я могу
оставить за собой счастливую иллюзию, которая исчезает, как
только кулисы и картонные степы напоминают мне о моих
границах.. Всегда лучше, если первый набросок пьесы может
появиться совсем свободно и смело, а театральные ограничения и
приличия впервые принимаются в расчет только при
упорядочении и переработке. Шиллер считает возможным посещение
Гамбурга в следующем году.
И на самом деле именно Гамбург был целью путешествия,
когда он 20 июля 1787 года выезжает в Веймар. Он хотел бы
рассматривать последний только как промежуточную
остановку на пути в Гамбург, где 29 июля 1787 года состоялась
премьера «Дон Карлоса», сопровождаемая «упоительными аплодис-
261
ментами», как об этом рассказывал один из посетителей
театра. Сам Шредер, похоже, был настроен менее восторженно.
Вероятно, он был все еще расстроен тем, что Шиллер не приехал
в Гамбург.
Насколько он может сказать, пишет он Шиллеру 14
ноября 1787 года, он не жалел «ни усердия, ни денег», а во всем
прочем он бы желал, чтобы «продолжительность пьесы могла бы
быть сокращена на час».
Предложение Шредера осенью 1786 года подтолкнуло
Шиллера к тому, чтобы поставить под сомнение
обстоятельства своей жизни в Дрездене. Что связывает его еще с
Дрезденом? Разумеется, друзья, особенно Кернер. Но энтузиазм
первых дней был ослаблен рутиной и привычкой. Шиллер
испытывал ощущение застоя. Насколько ты видишь, — пишет он
из Веймара Кернеру, — мысленно оглядываясь на дрезденские
времена, — что с тех пор — это касается всех нас — мы
слишком мало действовали и слишком много наслаждались (22
сентября 1787 года). Позднее он еще отчетливее видит
неудовлетворительность своей жизни в Дрездене. Он снова пишет
Кернеру 9 марта 1789 года: Почему мы вынуждены жить
вдали друг от друга? Если бы до того, как от вас уехать, я не
чувствовал так глубоко «деградацию» моего ума, я никогда не
покинул бы вас... (т.7, С.204).
Еще менее, чем дружба, его мог удержать сам Дрезден.
Шиллер наслаждался в последние месяцы архитектурной
красотой города и сокровищами его искусства, но был
разочарован его культурной жизнью. Там пустыня духа, дрездеицы —
это совершенно плоский, съёжившийся, несносный народец,
возле которого никому не может быть хорошо. Они влачатся в
атмосфере корыстных побуждений, и свободного, благородного
человека совсем не видно за голодным гражданином (Шарлотте и
Каролине фон Ленгефельд, 4 декабря 1788 года — т.7, с. 187).
Дрезден растерял общественный и придворный блеск
эпохи Августа Сильного и его первого наследника. Княжеский
дом по политическим соображениям перешел в католицизм,
повсюду распространялись ханжество и чопорность. Была
усилена театральная цензура. «Дон Карлос», например, мог быть
сыгран в Дрездене только после основательных сокращений,
прежде всего жертвами цензуры стали те пассажи текста,
которые были направлены против инквизиции. Общественная
жизнь заглохла. Когда Шиллера спросили в Веймаре, почему
262
он оставил прекрасную Флоренцию на Эльбе, его ответом
было: Посредственная среда вредит больше, чем могли бы
возместить причиненный ущерб наипрекраснейшая местность и
наиизящнейшая картинная галерея.
В начале 1787 года случилась безрадостная любовная
история, которая отравила ему последние месяцы в Дрездене. В
феврале 1787 года Шиллер познакомился на костюмированном
балу с девятнадцатилетней Генриеттой фон Арним, известной
всему городу красавицей, за которой ухаживали многие
господа из высшего света: черные локоны, белая кожа, карие глаза.
Она выбрала костюм цыганки. Шиллер сочинял на ходу стихи
и протанцевал с ней всю ночь. Он влюбился в нее. Его не
смогли удержать хгредупреждения Кернера о том, что для
Генриетты ее матерью предусмотрена более выгодная партия. Он
начал ухаживать за юной девушкой, которая охотно пошла на
сближение, не отказываясь от всех прочих воздыхателей.
Генриетта договорилась с ним, что горящая свеча в ее окне
должна означать, что она не может его принять. Минна Кернер
сумела, однако, выяснить, что этот знак служил для того, чтобы
удерживать Шиллера на расстоянии и одновременно
привлекать других воздыхателей.
Страстность Шиллера возрастала вместе с его ревностью.
Эта связь длилась два месяца, пока наконец Кернеры не
убедили друга переселиться на некоторое время в близлежащий
городок Тарант, чтобы там наконец, не отвлекаясь, завершить
«Дон Карлоса». При отвратительной апрельской погоде в
плохо отапливаемой комнате постоялого двора Шиллер
чувствовал себя сосланным на необитаемый остров (18 апреля 1787
года). У него совсем непоэтическое настроение. Он мучается
своей влюбленностью, не может писать, утешается английским
пивом, просит друзей в Дрездене о чтиве для заполнения
ужасающе пустых часов. Минна Кернер находит нечто
подходящее. Она посылает ему «Опасные связи» Шодерло де Лакло.
Шиллер, очевидно, не замечает скрытого предостережения, он
находит книгу наиприятнейшим образом написанной (Готфри-
ду Кернеру, 22 апреля 1787 года).
Сохранились два письма Генриетты Шиллеру. В письме от
28 апреля 1787 года девятнадцатилетняя девушка
представляет себя женщиной, пережившей разочарование и решившей
больше не влюбляться, а влюблять в себя других: «Я хотела бы
стать легкомысленной, как большинство мужчин, и остерегать-
263
ся всего, что может возбудить мое чувство, причем собрав
вокруг себя целую армию почитателей». Но Шиллер, пишет она
далее, расстроил ее намерения, в его отношении она не может
«уберечь от любви» свое сердце.
Письма Шиллера Генриетте не сохранились, но из ее
последнего письма от 5 мая 1787 года можно заключить, что
Шиллер рассматривает первое письмо не как признание в
любви, а как проявление кокетства, и упрекает ее в предыдущих
любовных связях. Она отвечает с достоинством: «Бы
приписываете мне преступления, в которых сами уже передо мной
каялись». Она обороняется от него, предлагая ему правильный, на
ее взгляд, принцип поведения: «Любое место Вашего письма
доказывает мне, что Вы все еще ставите гордость выше любви».
Так продолжается некоторое время, оба не доверяют друг
другу, но все же друг от друга не удаляются. Второго мая
Шиллер посылает ей стихотворение, в котором смятение чувств,
господствовавшее в тот момент в его душе, возводится к
костюмированному балу, на котором они сблизились. Достойный
этой жизни символ: / Я маску ни балу в подруги выбрал. / Я
знал, что всё игра, обман. / И всё же наш союз, лишь в шутку
заключенный, / Сердечным чувством вдруг воспламененный/... /
В начале дружбы видимость была. / Но видимость нас к
правде привела (I, 149).
Однако правде было не угодно, чтобы ее нашли. Все так и
осталось запутанным, тем более что чувствовалось закулисное
влияние матери Генриетты, которая ценила Шиллера как
известного поэта, но не как будущего супруга дочери. Шиллер
подозревал это, но не хотел верить. Он терзается. Не помогали
даже ободрения и решительные слова друзей из Дрездена.
«Встряхнись, черт побери! — писал ему Хубер 30 мая 1787
года. — Окунись снова в безмятежность дней твоей былой силы.
Но государство, наверное, должно назначать пенсии бедным
влюбленным».
В конце мая Шиллер наконец нашел в себе силы положить
конец любовным мукам. Он не пошел на открытый разрыв, и
ему даже удалось сохранить дружеское чувство к Генриетте.
Немного спустя она вышла замуж в Восточной Пруссии, в
соответствии с ее сословным положением, проживала там в
имении, вернулась после смерти мужа в Дрезден и умерла в
преклонном возрасте в 1847 году. Она чтила воспоминания о
264
любви юности. Своим гостям она показывала висевший на
стене портрет Шиллера, увенчанный плющом.
20 июля 1787 года Шиллер отправляется в Веймар,
уплатив некоторые долги после получения гонорара за издание
книги и за постановку своей пьесы «Дон Карлос» на
гамбургской сцене. Его финансовое положение все еще непрочно. Еще
и поэтому он едет в Веймар. Вероятно, он надеется, что герцог,
от которого он несколько лет тому назад получил титул
советника, позаботится о выгодном месте для него — о должности,
как у Гёте и Гердера, или о синекуре, как у Кнебеля, — и он
сможет посвятить себя сочинительству без необходимости
сочинять ради денег.
Эта надежда исчезает уже по пути. В Наумбурге он узна-
*Jr TJ
ет, что герцог на той же почтовой станции поменял своих
лошадей, чтобы отправиться в Потсдам. Это значит, что он его в
Веймаре не встретит. Пока что ему придется продолжать
доходный роман «Духовидец», да к тому же написаны уже
первые страницы работы о «Отпадении Нидерландов», которая
предназначалась для сборника «Истории самых удивительных
V *-*
восстании и заговоров» и о которой он думает, что из нее
можно сделать нечто гораздо большее. Обе эти работы находятся
в его багаже по пути в Веймар, куда он прибывает вечером 21
июля 1787 года. Любого, кого не ослепил беллетристический
блеск Веймара, не могла не приводить в раздражение грязь на
подъездах к городу. Негласная столица немецкой культуры
находилась с дорожио-тсхнической точки зрения в медвежьем
углу. Последний перед Веймаром участок пути был в
ужасающем состоянии. С ног до головы запачканный, растрясшийся
в дороге, Шиллер снимает квартиру в гостинице «Наследный
принц». Его единственное доверенное лицо здесь —-
Шарлотта фон Кальб, которую он отныне почти постоянно посещает
и которая вводит его в общественную жизнь города.
Веймар насчитывал тогда приблизительно шесть тысяч
жителей. Город, несмотря на его культурное признание, еще не
потерял сельского характера. Посетителям центра в шелковых
чулках все еще встречались на улицах свиньи, а на пастбище
перед кладбищем жевали траву коровы. Многочисленные гру-
*j
ды навоза перед домами являлись неотъемлемой частью
города и привлекали к себе летом тучи мошек и мух, поэтому
лучшие круги спасались бегством в окрестные купальни.
265
Эти «лучшие» круги группировались вокруг герцога:
вначале придворные чиновники, министры, камер-советники,
придворные дамы, носители духовных званий, затем чиновники
управлений и полиции, служащие придворной капеллы и
театра, учителя, врачи, аптекари, адвокаты — они отграничивали
себя от ремесленников, крестьян и поденщиков. Сколь
хитроумным ни был здесь приглаженный социальный порядок, для
постороннего, переступившего черту города с большими
ожиданиями, мир этот скукоживался до захолустного угла.
«Напрасно будете вы стараться, — говорится в одном сообщении о
путешествии тех времен, — найти в Веймаре радостное
столпотворение улиц или исполненных многоголосия и
чувственности радостей столицы; здесь их слишком мало, тех, кто любит
праздность, кроме того слишком мало преуспевающих, чтобы
они могли предаваться бессмысленным развлечениям. Не
требовалась полиция, и уж подавно тайная, так как малость
города и привычный образ жизни подводят каждого отдельного
человека под особый надзор двора; человек, который в основном
живет для удовольствия, может легко почитать Веймар за
несчастное место. Предобеденное время посвящено делам, и
даже те немногие отщепенцы, которым нечего делать,
постыдились бы, чтобы их рассматривали как бездельников... К шести
все спешат в театр, который можно назвать собранием одной
большой семьи. К девяти представление заканчивается и не
будет большой ошибкой предположить, что около десяти каждый
домохозяин находится в глубоком сне или по меньшей мере со-
«J
вершешю спокойно проводит ночь в своих четырех стенах».
Общественная жизнь в Веймаре оживлялась тогда, когда
город во время периодических рынков возвращался к своему
сельскому началу. Известны были луковые торги и, прежде
всего, праздник урожая, который Шиллер увидел вскоре по
прибытии. Дома украшались листьями деревьев, рачительно
разливалось вино, танцевали на улицах, повсюду пахло луком
и сельдереем. Празднично проводились также и дровяные
торги. Тогда приезжали даже богатые голландские господа,
занимавшиеся кораблестроением — памятные встречи для
Шиллера, который писал «Историю отпадения Нидерландов». Перед
церковью Святого Якова каждый месяц проводились свиные
торги, — к неудовольствию высшего консистериального
советника Гердера, который жил неподалеку.
266
Между периодическими возрождениями сельских
увеселений Веймар, при наблюдении вблизи был миром черепашьего
дома, как пришлось Шиллеру констатировать уже вскоре по
прибытии. Дворянская клика остается в сословной гордости
наедине с собой, равно как и круги среднего и мелкого
бюргерства. В Веймарском театре вплоть до 1848 года зрительный зал
был поделен на бюргерскую и дворянскую части. Всюду
придают значение наградам, которые, вероятно, при хорошем
поведении и исключительном послушании низвергаются дождем
с общественного небосклона. В Веймаре более, чем где-либо
еще, свирепствовала тяга к титулам и должностям и
процветала страсть к званиям советника. «Особенно мне бросилось в
глаза, — рассказывает один посетитель, — что все время
слышно, как только и говорят — «придворный советник Виланд»,
«тайный советник Гёте», «вице-президент Гердер». Хорошо,
что Шиллер к тому времени тоже имел право называться
«советником».
Зажатый в тиски между придворным и бюргерским миром,
жил мир духа, но и там тоже были свои устричные раковины,
партии, клики. Повсеместно были установлены полевые
штандарты, вокруг которых группировались верноподданные;
Виланд и Гердер, два предводителя фракций, избегают друг
друга. Только Гёте — в это время он еще в Италии — парит над
всеми: хранитель его казны Кнебель регулярно собирает в
садовом домике Гёте друзей для обмена мнениями и
воспоминаний о Гёте. Виланд расположился двором у матери герцога
Анны- Амалии.
Через Шарлотту фон Кальб Шиллер знакомится уже в
первый день с некоторыми графами, камергерами и придворными
дамами, среди них госпожа фон Имхоф, сестра госпожи фон
Штайн. Госпожа Имхоф сдает ему квартиру. С Шарлоттой он
в хорошем обществе разъезжает по Веймару. Он словно бы
оглушен, пишет он 23 июля Кернеру: Множество всевозможных
знакомств — на которые я должен размениваться и, несмотря
на это, каждому из них отдаваться целиком, — лишает меня
мужества и дает мне почувствовать ограниченность моего
существования (т.7, с. 107).
С трепетом, который испытывают перед выходом на сцену,
он ожидает момента, когда он наконец сможет выступить
перед веймарскими богами и их идолами. Итак, я посетил Вилан-
да, — пишет он 24 июля 1787 года, — к которому пробрался че-
267
рез целую толпу прелестных ребятишек мал мала меньше.
Наша первая встреча походила па возобновившееся знакомство.
Одно мгновение решило все. Мы начинаем не спеша, сказал
Виланд, надо иметь время, чтобы стать чем-то друг для друга. В
эту первую встречу он предначертал весь ход наших будущих
отношений, и меня порадовало, что он трактовал их ne как
случайное знакомство, но как связь, которая будет длиться и
зреть в будущем. Он считает удачей, что мы только теперь
нашли друг друга. Мы придем к тому, сказал он мне, что будем
друг с другом общаться так же правдиво и доверительно, как со
своими музами (т.7, с. 109).
Кристоф Мартин Виланд жил в окружении своей большой
семьи в имении Османштедт близ Веймара. Кроткий патриарх
в бархатной шапочке. Отец многочисленного семейства, если
он был в хорошем настроении или тема его захватывала,
казался сам немного ребячливым и беззаботным. Шиллеру он
говорил, что по возрасту они не так уж отдалены друг от друга:
Шиллер на десять лет взрослее своего возраста, а он, по сути
дела, на десять лет моложе. Виланд был капризен, это тоже
являлось частью его ребяческой натуры. Он мог, почти плача,
жаловаться на то, что его «заживо хоронят». Шиллеру
приходилось его утешать и напоминать о его непрекращающемся
значении. Виланд не стыдился того, чтобы признаваться в
своих слабостях и сомнениях. Он мог быть неуступчивым и
неприступным, по все было сглажено иронией. Это была
дружеская, беззлобная ирония. У В и лайда всё еще чувствовался
швабский акцент, что приятно трогало Шиллера.
Шиллер восторгался Виландом со времен студенчества.
Этот поэт, издатель, журналист, переводчик, памфлетист и
воспитатель принца привнес в немецкую литературу мировые
течения, научил ее французской элегантности и остроумию,
античной образованности и искусству жизни. Он мог быть
фривольным и дидактичным, он не признавал разделения
труда в духовной сфере, он обращался с литературой
по-философски, а с философией но-литературному. Его прославленные
переводы сделали Шекспира впервые по-настоящему известным
в Германии. Он не чурался темных провалов судьбы и
характера, но приближался к ним со свободным сознанием
человека, который знал, что распространяет свет, и посему мирился с
тем, что его будут до некоторых пор уличать в
поверхностности. Обскурантизм был им ненавидим, любая ограниченность
268
противна, и on вполне осознанно называл себя
«космополитом». Это был изящный просветитель. Идею свободы он не
позволял исказить ни религиозным догматикам, ни
твердолобым материалистам. Он любил жизнеспособные истины, и
потому герцогиня Анна-Амалия в 1772 году пригласила автора
тогда уже известного романа «Агатон» в качестве воспитателя
принца в Веймар, где он подготовил почву другим великим
умам, приехавшим после него, — прежде всего Гёте и Гердеру.
По сути дела, именно Виланд был основоположником
классического Веймара. На все время жизни он получил пенсию,
одобренную герцогом из благодарности и уважения к этому
человеку духа и добродушия, который столь непринужденно
вращался в веймарском обществе, что ему даже было
разрешено засыпать на диване герцогини.
Студентов Карловой школы переполняло чувство
провинциальной гордости, потому что этот бывший канцелярский
чиновник из Бибераха достиг вершины Олимпа немецкой
духовной жизни. Виланд был их героем, образцом для подражания.
Так же и для Шиллера, который отправил ему «Разбойников»,
но не получил ответа. От общих знакомых он слышал, что
Виланд нашел пьесу плохой, но автора талантливым. Шиллер и
далее также придавал большое значение мнению Виланда.
Однако до сих пор тот еще не высказался определенно. Поэтому
взволнованно и напряженно ожидал Шиллер этой встречи. И
теперь он имел счастье пережить момент, когда Виланд
обходился с ним как с равным. С гордостью сообщал он Кернеру 28
июля 1787 года, что близкое знакомство с этими веймарскими
титанами подняло меня в моих собственных глазах (т.7, с.115).
Другой титан., который помог ему почувствовать себя лучше,
был Гердер.
Прием у Гердера вначале был менее лестным. Вообще он
обходился со мной, — сообщил Шиллер 24 июля 1787 года, — как
с человеком, о котором он не знает ничего, кроме того, что его
как-то ценят. Думается, что сан он ничего моего не читал (т.7,
С.111).
Гердер вежлив, скорее даже сердечен. Однако он
соблюдает свое достоинство, держится на дистанции. Его беседа
исполнена духа, он говорит столь же бегло и красиво, как и
пишет. Заметно, что он сам охотно прислушивается к своим
речам. Также и импровизации, которые проистекают из
жизненных ситуаций, выходят у него так, как если бы все было у
269
него заранее обдумано и тщательно взвешено. Его знания
потрясающи, но не педантичны. Ему виртуозно удается все
привести в единую взаимосвязь, которая скорее музыкальна, чем
систематична. Его интересует резонанс, а не дедукция.
Шиллер признается, что этого человека он может слушать много
часов подряд.
Поразительно, что у этого всепонимающего человека, у
этого гения всепроникающего сочувствия, у этого герменевтика
полутонов жизнь чувств в личном плане сильно поляризована.
Шиллер сообщает о нем 24 июля 1787 года, что чувства его —
это либо ненависть, либо любовь» (т.7, с. 111). Он любит Гёте,
друга страсбургских дней, это своего рода обожествление.
Тогда, осенью 1770 года, они встретились на крыльце
гостиницы «У святого духа», и Гёте описал позднее в «Поэзии и
правде», что ему сей муж предстал как некий аббат: с припуд-
О
репными и завитыми в локоны волосами; элегантный,
восходил он по ступеням, вальяжно заправив в карманы штанов
концы черного шелкового плаща. Гёте был тогда учеником
старшего на пять лет Гердера и чувствовал себя во всем
уступающим ему. И это его не ранит, ведь одухотворенный способ
общения Гердера не был поучающим, а имел скорее черты
чего-то безмерного и возвышенного. Это был Гердер, тот, кто
помог гению обрести свое право, тот, кто приободрил, склонил
его следовать природе больше, чем правилу. Любовь Гердера к
языку была заразительна, при подъезде к страсбургскому
кафедральному собору друзья пришли к идее создать сборник «О
немецком характере и искусстве», один из основополагающих
документов Бури и натиска, как выяснилось позднее.
В 1776 году Гёте переманил Гердера, который был
неудовлетворен своим постом бюккенбургского придворного
проповедника, в Веймар в качестве генерал-суперинтенданта. Гете
полагал, что создал для него синекуру, на самом деле это был
пост с изматывающей нагрузкой. Гердер отвечал за пасторов в
4J
герцогстве, за учителей, за могильщиков, за канторов и за
органистов. Он исполнял верховный надзор над учебными
планами школ, от него ожидали визитов, инспекций, проведения
экзаменов. Он был чиновником управления, пастором и
проповедником, а хотел быть прежде всего писателем, философом,
теологом, археологом, поэтом и критиком. Он любил власть,
которая была связана с его постами и заданиями, но еще боль-
270
ше он любил власть мысли и волшебство красноречия. Так его
сущность постепенно оказалась покрытой тенью угрюмости.
Не успел Шиллер оглянуться, как он начал петь жалобную
песнь о затруднительных обстоятельствах жизни. Для людей
церкви, сказал он однажды, он слишком либерален, а для
людей духа слишком религиозен. Он никому не может угодить.
Он любил Гёте, но также и завидовал ему. Ведь тому не
приходится заниматься так много всякой ерундой, а если ему
исполняемые обязанности слишком надоедают, то он убегает в
Карлсбад или, как сейчас, в Италию. Гердер и восторгался
Гёте за этот смелый шаг, и сердился. Гёте оставил его одного.
Когда Гёте возвратился летом 1788 года из Италии, Гердер
организовал все таким образом, чтобы тут же отправиться в
итальянское путешествие. Ему необходимо было не отставать от
друга.
Но, несмотря ни на что, Гердер любил Гёте и ненавидел
Канта, и это Шиллер также мог заметить при первом знакомстве.
Гердер учился у Канта и вначале был с ним дружен. До тех
пор пока Кант в свой докритический период высказывал свои
космологические рассуждения о возникновении Вселенной,
Солнечной системы и Земли и занимался
антропологическими, это- и геологическими исследованиями, он чувствует
себя связанным с ним духовно. Однако когда кёнигсбергский
профессор начал раздвигать границы понимания и умалять
значение интуиции, их пути разошлись. Кант самозабвенно
защищал принципы разума, Гердер, напротив, предпочитал
богатство созерцания и позволял интуиции направлять себя.
Кант требовал строгих понятий и создавал их, Гердер купался
в метафорах и аналогиях. У Гсрдера бал правил язык, в то
время как Кант с сарказмом критиковал сны духовидцев.
Различия показали себя уже с середины 1770-х годов.
Тогда появилось сочинение Гердера «Древнейшие памятники
человеческого рода», в котором он, как он сам о себе говорил,
выступает как «теологический вольнодумец». Он полагал, что
нашел в библейском генезисе традицию некоего еще более
древнего мистического иероглифа. Это мощно уводило его
назад, к первоначалам исторических традиций, что осудил Кант,
когда с иронической скромностью писал Гаману, что пускай де
ему объяснят, о чем именно думает его друг Гердер, «...но по
возможности на языке людей... ведь я, бедный земной сын, —
продолжает Кант, — совсем не так высоко организован, чтобы
271
разбираться в божественном языке созерцающего разума. То,
что мне из общих понятий можно произнести по буквам
согласно правилам логики, то я еще худо-бедно понимаю».
Гердер не смог удержаться от того, чтобы прибегнуть к
«созерцающему разуму» также и при пространном изложении
истории человеческого рода. Несколько лет спустя после
«Критики чистого разума» Канта Гердер опубликовал «Идеи к
философии истории человечества». Когда Шиллер встретил в
1787 году Гердера, вышли первые три части этого объемного
труда, который основал немецкую философию истории и
незамедлительно вызвал большой интерес. Теперь противоречия
между Кантом и Гердером стали видны абсолютно ясно.
Гердер видел в «Критике чистого разума» не более чем «пустой
словесный хлам» или «полицейские запреты». Так же как и
Гегель поколение спустя, упрекал он Канта в том, что страх
заблуждения может сам вести к ошибке. Он не хотел
ограничивать себя предварительными познавательно-теоретическими
умозаключениями, а пытался проникнуть к самим «вещам».
«Вещь» была для него всё: эволюция человеческого рода из
царства животных, развертывание духа из анатомии тела,
культура как живущий организм, многообразие человеческих форм
жизни н форм выражения. Для Гердера созерцание, интуиция
и язык были органами познания. Для Канта, напротив, это
были суть категории упорядоченного понимания и принципы
разума, посредством которого распознанный мир возникает в
нашем духе.
Незадолго до встречи Шиллера с Гердером вышла кантов-
екая критика первых частей гердеровских «Идей». Она была
иронична по тону и уничижительна по существу. Гердерова
философия, по Канту, была построена в воздухе, разве что в
4J
ней, пишет он, речь идет о силах природы, которые находятся
«совсем уж за пределами пространства наблюдающего учения
о природе». Гердер сделал бы лучше, если бы он соблюдал
«логическую точность в определении понятий», сдерживал бы
силу своего «воображения» и не пытался бы объяснить
необъяснимое через еще более необъяснимое. Гердер, считает Кант, не
понял подлинную задачу философии, ведь она состоит «более
в срезании, чем в выращивании новых ростков».
Нет причины удивляться, что в сообщении Шиллера о
посещении верховного консистериалыюго советника написано 24
июля 1787 года: Гердер ненавидит Канта (т.7, с. 112.). В том,
272
что относится к пониманию истории, Шиллер пока стоит на
стороне Гер дера. Но это не будет его удерживать от того,
чтобы изучать Канта и использовать его идеи для собственного
труда по истории.
В течение первых недель в Веймаре Шиллера спрашивают,
прежде всего дамы, о продолжении романа «Духовидец», но он
не чувствует желания далее работать над романом. Он вошел
во вкус исторического исследования об «Отпадении
Нидерландов». Уже в октябре 1788 года текст разбух у него до такой
степени, что он предложил издателю Крузиусу сделать из
этого самостоятельную книжную публикацию.
История очаровала его не только как история отпадения
Нидерландов, но и как жанр литературы. Два мотива были для
него решающими: экономический и психологический. В
письмах к Кернеру, который отговаривал его от написания истории
и призывал вернуться к поэтическому творчеству, он
отчитывается перед другом.
Психологический мотив: уже во время работы над «Дон
Карлосом» он писал 15 апреля 1786 года Кернеру: Наши души,
по сути, только дистилпяционные сосуды, но элементы должны
снабжать их веществом, чтобы они набухали полными
сочными листьями. Это вещество — история, которая с каждым днем
становится ему все дороже. Он выбирает историю, потому что
она ему предлагает факты, на которые он может опираться,
ведь он заметил, что изобретения нашего воображения не
получают у нас ни авторитета, ни доверия, чтобы создать
прочный фундамент (7 января 1788 года).
Для «Дон Карлоса» он прибегнул к основательному
изучению истории, но в конце концов вынужден был обратиться к
фантазии. Главное он нашел не в истории, а должен был
извлечь из себя, и поэтому он чувствует себя на грани
истощения. Если я что-нибудь собой представляю, то лишь благодаря
почти сверхъестественному напряжению моих сил. С каждым
днем мне работать все труднее, так как я чересчур много
пишу. То, что я отдаю, не стоит ни в какой пропорции с тем, что
я получаю. На таком пути мне грозит опасность исписаться
(т.7, с. 150).
После «Дон Карлоса» Шиллер почувствовал себя
опустошенным. Вначале он не хотел этого осознавать, так как
отвлекала и напрягала новая жизненная ситуация, а также боги и
идолы Веймара. Прежде всего, ~ пишет он Кернеру 7 января
273
1788 года, — я действительно занимаюсь реже самим собой, я
стал самому себе чужим существом. После того как он наконец
заметил, насколько он исписался, ему пришлось искать ту
форму письма, при которой есть более выгодная пропорция между
отдачей и приобретением, между воображением и
восприятием, между мышлением и учением. Поэтому он выбирает
историю. Бывают работы, в которых приобретаемые знания
выполняют одну половину дела, а мышление — вторую. Для драмы
мне не нужно книг, но требуется напряжение всей моей души и
все мое время. Для исторической работы половину
необходимого дают мне книги. Время, затрачиваемое мною на то и другое,
приблизительно равно. Но к концу исторической книги я
расширил свои идеи, воспринял новые; к концу создания драмы я
скорее растерял их (18 января 1788 года — т.7, с. 150).
Экономический мотив: так как он хочет писать и при этом
учиться, то ему нужно, кроме того, видеть, чтобы и учение, как
учение, было рентабельно (т.7, с. 150). Ему хотелось бы, таким
образом, изобрести такое описание истории, которое
привлекало бы больше публики. Этого в Германии до сих пор еще не
было. Так Шиллер становится изобретателем литературно
притязательного и научно содержательного описания истории.
Мое намерение, — пишет Шиллер в предисловии к
«Отпадению Нидерландов», — при этой попытке более чем
достигнуто, если часть читающей публики убедится, что история
может быть написана исторически верно, не превратившись при
этом в испытание терпения для читателя, и если оно у другой
части способно вырвать признание, что история может
заимствовать что-либо от взаимосвязанного искусства, не став при
этом романом (IV, 31).
Кернер выразил опасение, что Шиллер может из-за слиш-
fj
ком сильной привязанности к действительности подрезать
свои поэтические крылья. Шиллер уверенно ответил ему 18
января 1788 года: При незаурядном уме каждый предмет
занятий может стать великим. Если я такой ум, я вложу величие в
свою историческую специальность (т.7, с. 159).
24 октября 1787 года Шиллер читает рукопись у
Шарлотты фон Кальб. Присутствует Виланд. Он был, — пишет
Шиллер Хуберу 26 октября 1787 года, — заинтересован этой вещью
и утверждает, что я рожден для того, чтобы писать историю.
Он отечески обнял меня и объявил, что впереди меня не будет
никого в области истории.
274
Воодушевление Виланда стало стимулом для Шиллера.
Оно было подтверждением его ощущения, что, возможно, этой
работой удастся сделать великое дело. Без ложной скромности
он называет в письме Хуберу достоинства своего труда:
прекрасный благородный стиль изложения, ослиное усердие при
оценке источников, ясный разбор действующих исторических
сил и философское изображение.
В самом деле, это и есть отличительные признаки шилле-
ровского описания истории. Что .касается прекрасного
благородного стиля: с подобным литературным мастерством об
истории до Шиллера в Германии не писали. Он перенес свое
чувство ритма из стихов «Дон Карлоса» в прозу, это
чувствуется, когда читаешь вслух предложения, вроде следующего, о
нидерландском народе: «Пользуясь счастливым досугом
благосостояния, он оставляет в стороне потребности чисто
житейские и стремится к более высоким целям» (т.4, с.ЗЗ). Не будет
преувеличением, если мы назовем «Отпадение Нидерландов»
крупнейшим прозаическим событием в немецкой литературе.
Книга обязана своим возникновением ослиному усердию,
основательной оценке доступных тогда источников, хотя Шиллер,
разумеется, опирается на более ранние изложения. Он бы
охотно разработал все на основе первоисточников, чтобы эту
историю, независимо от формы, в которой она была передана
мыслящими представителями предшественников, создать заново
(IV, 31). Но в этом случае ему пришлось бы затратить на это
не годы, а целую жизнь. Шиллеру хотелось рассказать о
триумфе свободы в прошлом, но он не хотел сделаться, как
хронист, рабом этой истории.
Что касается ясного разбора, то Шиллер прибегнул к
примерам античного описания истории, в особенности к Фукиди-
ду. Как и он, Шиллер концентрирует исторические тенденции
и движущие силы в великолепных, блестяще
портретированных личностях, которые воспроизводят игру исторических сил
в своих речах и спорах.
Но прежде всего Шиллер гордился философским
изображением. Оно для него потому философское, что историю он
освещает в свете идей, которые он частью находит в истории,
частью изобретает сам в духе своего времени.
При всех своих философско-исторических амбициях
Шиллер находится в хорошем обществе. Начиная с Вико, Бейля,
Монтескье, Вольтера и, наконец, Гердера и Канта, история об-
275
лагорожена философией. Поколение спустя романтики будут,
правда, утверждать, что Просвещение не имело значения для
истории. Но это неверно. Когда Шиллер предпринимал свое
философское изложение «Отпадения Нидерландов», он мог
опираться на традицию философского мышления с двумя
основными тенденциями, которые в Германии выразились
наконец в противостоянии Гердера и Канта.
Одна тенденция, Гердера, исходит из естественности
человека, другая, впечатляюще представленная Кантом, ставит в
центр рассмотрения разум и, следовательно, свободу. В обоих
случаях, однако, отчетливо просматривается развитие: в
первом случае речь идет о естественной истории человека, во
втором — об истории его разума.
В период обучения в Карловой школе Шиллер как медик
и как читатель Фергюсона соприкоснулся с естественной
природой человека. Исходной точкой здесь стало то, что человек
является животным, отличающимся от других животных
более слабым инстинктом и более ясным сознанием. Инстинкт
самосохранения так же, как и необходимость обмена и борьбы
с природой, делает человека равным прочим живым
созданиям. В борьбе за самоутверждение человек развил природные
основы своего сознания. Он становится изобретателем,
созидающим орудия труда зверем, преобразующим природу и
развивающим свою культуру. Он научился улучшать природный
инстинкт самосохранения и усмирять его общественной
формой. Поскольку он не влеком инстинктом и не заключен в
круговорот постоянного повторения жизненного пути, у него есть
история и он делает ее. История, которая толкает его вперед,
история, которую он толкает вперед, — из этого, вместе
взятого, и получается естественная история человека. То, как ее
можно себе представить, молодой Шиллер живо изобразил в
отдельных смелых фразах своей диссертации: стремление
внутренне действенной природы, связанное с принуждениями,
вытекающими из родной природы, учит наших родоначальников
смелее мыслить и изобрести жилище... Здесь, в свою очередь,
появляются новые продукты, новые опасности, новые
потребности, новые напряжения духа. Коллизия животного
инстинкта сталкивает племя с племенем, перековывает грубую руду в
мечи, порождает авантюристов, героев и деспотов. Города
становятся укрепленными, учреждаются государства, с
государствами возникают гражданские права и обязанности, ис-
276
кусства, счет, кодексы законов, хитрые проповедники — и боги
(V, 303-304).
Естественно-исторический материальный метод научил
Шиллера и в его нидерландской истории обращать внимание
на взаимопереплетение географических, экономических,
культурных и политических данностей. Истолкование истории с
принятым за основу обменом веществ с природой — суть
метода Гердера. Поэтому Шиллер уже при первой встрече
замечает точки соприкосновения (письмо Кернеру от 8 августа 1787
года — Т.7, с. 122).
Для Гердера человек — это животное, которому Природа
или Бог (для Гердера взаимозаменяемые понятия) дал
поручение: «Сделай всё, что ты из твоей природы можешь создать
благородного и прекрасного; я не имею права помогать тебе
чудом, так как я отдаю твою человеческую судьбу в твои
человеческие руки; однако все мои священные вечные законы будут
помогать тебе». Работа по становлению человека протекает как
восхождение Природы. Человечность для Гердера — это
истинная природность, продукт эволюции, который человек
самостоятельно применяет в жизни, причем человеческая история
вообще — это лишь одна глава великой истории Природы.
Бесспорно, эта мысль о человечности остается достаточно
неопределенной. Речь идет о «самодействующей природе», о
«сфере свободной деятельности», о «понятности»,
«целесообразности» и «привлекательности». Определяющей является
органическая картина гармонического взаимодействия сил.
Это был Кант, который в своей рецензии идей Гердера
критически указал на это представление об органическом состоянии
человеческой гуманности. «Необходимо, — пишет Кант, —
доказать духовную природу человеческой души, ее постоянство и
прогресс в совершенствовании из аналогии с естественными
образованиями материи, преимущественно в их организации»
Шиллеру не были чужды органические представления
Гердера о человечности. Его философия любви со времени писем
«Юлиусу» развивалась в схожем направлении. Но теперь,
вскоре после первой встречи с Гер дером, он читает каптовский
историко-философский набросок «Идеи всеобщей истории с
позиции космополита». Карл Леонхард Рейнгольд, зять Вилан-
да и известный популяризатор философии Канта в Иене,
указал ему на этот труд, когда Шиллер рассказал ему о своей
исторической работе.
Эта историко-философская статья была первой работой
Канта, которая оказала длительное воздействие на Шиллера.
После этого первого прочтения труда Канта Шиллер, наверное,
впервые почувствовал стремление бросить вызов и сделать из
исторической статьи большую книгу. Три мысли из сочинения
Канта имеют значение для Шиллера.
Во-первых, мысль о том, что «природное намерение»
истории человеческого рода состоит в том, чтобы человек развивал
в себе природные задатки к разуму и свободе.
Однако разумная свобода — и это вторая мысль —
проявляется только через «антагонизм» своекорыстных интересов.
«Поблагодарим Природу, — пишет Кант, — за неуживчивость,
за зависть соревнующегося тщеславия, за неудовлетворенную
жажду наживы или владычества! Без нее померкли бы все
замечательные природные задатки в человечестве. Человеку
хочется согласия, но Природа лучше знает, что полезнее для его
вида: она хочет раздора».
Но если «раздор» и полезен для развития задатков
человеческого разума, то претворение разума в жизнь и свобода в
истории благодаря этому не гарантируются. Ведь может быть и
О
так, что «раздор, который нашему роду столь естествен, в
итоге будет означать для нас ад напастей и поведет за собой
варварское опустошение». Поэтому нельзя рассчитывать на
«намерения Природы», но — и это третья мысль — стремление
придерживаться идеи свободы уже само по себе предпосылка
для того, чтобы она реализовалась в истории. Это Кант
называет «хилиазмом» философии.
Этот «хилиазм», начав с последней из вышеназванных
мыслей, Шиллер привносит в произведение, в котором он
изображает нидерландскую борьбу за свободу так, чтобы намек
можно было понять. Сила, с которой действовал
нидерландский народ, для нас тоже не пропала, в счастливом исходе,
увенчавшем их рискованное предприятие, не отказано также и
нам, если возвратятся времена и сходные обстоятельства
призовут нас к похожим деяниям (IV, 1022).
Это написано за два года до Французской революции, тень
которой появилась уже в памфлетах, дебатах, заговорах,
борьбе партий и в отдельных беспорядках. В новом издании 1801
года Шиллер — за это время разочарованный течением
революции — вычеркивает это предложение, которое ему теперь
кажется слишком уж обнадеживающим.
278
Основной тезис Канта, что постепенная реализация
свободы состоит в естественном «намерении природы», Шиллер
подтверждает в убеждении, что он своим изображением
отпадения Нидерландов от испанской тирании описывает один из
этапов в продолжительном процессе саморсвобождения
человеческого рода. Это придает его изображению своеобразный
пафос. Представленные местные события выигрывают в своем
значении. Они изображаются как глава в универсальной
истории освобождения.
И наконец, мысль, что освобождение осуществляется через
«антагонизм» своекорыстных и ограниченных интересов, то
есть что «разлад», доведенный в борьбе до конца, приносит
единство, дает Шиллеру повод все глубже и глубже
погружаться в запутанные битвы времени.
Это, однако, имеет свои последствия.
В то время как во введении еще работает наглядное
противопоставление злых тиранов и доброго устремления к свободе,
здесь — рука деспота, а там — мужественное противостояние
(IV, 33), в ходе самого эпического повествования он
отказывается от изображения, построенного на антитезе. Это выглядит
так, словно комплексность истории подвела автора. Это
бросилось в глаза уже Кернеру, который в конце ноября 1788 года
писал Шиллеру: «Интерес к Нидерландам ослабевает, так как
ты не позволяешь себе извинить глупое и низкое в их
поведении». Читатель временами готов даже к тому, «чтобы взять
сторону Филиппа», — с возмущением предполагает Кернер.
И в самом деле, история читается в отдельных местах как
описание заката освободительного движения, произошедшего
из-за коррупции и интриг. Заговорщики в союзе «гёзов»
предстают лживыми и оппортунистичными, как люди, которые
клянутся в верности королю, тайно разжигают беспорядки и
прячутся, чуть только дело принимает серьезный оборот.
Шиллер описывает фанатичную ненависть, которая раскалывает
восставших надвое: лютеране борются против кальвинистов,
одна провинция против другой, а тщеславие и корыстолюбие
также замешаны в дело. Иконоборцев он описывает как
многолюдную и грубую толпу, состоящую из низших слоев черни,
зверски настроенную из-за зверского обращения с ней. Ее мотив:
Фанатизм дает начало ужасам, но осуществляют их
низменные страсти, находя себе в этом щедрое удовлетворение (т.4,
С.221).
279
Главные протагонисты, такие, как Эгмонт, Хорн, Бредеро-
де, все они, быть может, за исключением Вильгельма
Оранского, находятся не на высоте происходящего, они обладают
характером, но не проницательностью. Они недальновидны,
блуждают в потемках, действуют ограниченно, и их затягивает
в историю, на которую они лишь изредка в состоянии влиять.
Их противники, Филипп, кардинал Гранвелла, герцог Альба,
напротив, предстают внушительными, ужасающими,
решительными. Они воедино спаяны с властью, в которой
сконденсированы силы инерции столетий. Шиллер, энтузиаст
свободы, может удивительно хорошо вчувствоваться в душу власти.
До того, как дать оценку его деятельности, мы должны бегло
заглянуть в его душу и там найти разгадку его политики, — так
начинается блестящий портрет Филиппа II, — он никогда не
был человеком для людей, так как он был способен отходить от
своего я лишь вверх, а не вниз. Его религиозность была мрачной
и жестокой, и его бог был ужасным существом. Он ничего не
ожидал от него, а только боялся его... он тем более робко
должен был придерживаться общих правил, чем менее он был
способен спуститься до особей и видов. Что же следует из всего
этого? Очевидно, то, что у Филиппа не могло быть более
высокого стремления, чем стремление к единообразию в религии и в
государственном устройстве, ибо он не мог царствовать без
этого единообразия (т.4, с.81—83).
Все-таки борьба за свободу будет иметь тот успех, который
не был никем запланирован. Все же не следует думать, что
самому предприятию предшествовал точный подсчет сил или что
они при вступлении в это неизведанное море уж,е знали берег, на
котором они впоследствии очутились (IV, 44).
О мистерии истории, которая, как правило, не
прислушивается к намерениям актеров, Кант написал: «Отдельные люди
и далее целые народы мало думают о том, что они, каждый но
своему усмотрению и часто один против другого, преследуя
свое собственное намерение, незаметно работают согласно
намерению природы, словно руководствуются им, хотя оно им и
неизвестно».
То, что у Канта «намерение природы», у Шиллера
невидимая рука. Эта неопределенная, спорная и недостижимая,
распоряжающаяся и не находящаяся в чьем-либо распоряжении,
инстанция управления и толкования смыслов, и нам остается
280
самим решать, так полагал Шиллер, видим ли мы в ней
случайность или высший смысл.
Не омрачается ли этим надежда на постепенное и
поступательное осуществление свободы в истории?
Ответ на этот вопрос Шиллер дает во введении: Человек
обрабатывает, разглаживает и придает форму грубому камню,
который приносит время; ему принадлежит мгновение и место,
но мировой историей движет случай (IV, 44—45).
Для каждого в определенный момент и в определенном
месте деяние свободы возможно и необходимо, но то, что из
этого вытекает, принадлежит процессу, за которым больше
нельзя обнаружить никакого исторического субъекта.
Определенно, люди делают историю, хотя они не могут ее
направлять по своему плану, но даже если они и не господа
истории, то решающим для Шиллера является возможность
действовать так, как будто свобода возможна не только как
индивидуальное, но и как историческое предопределение
человеческого рода. Это уверенность, которая знает, что она не
может опираться на предположительно объективный ход
истории, но что она должна привнести в историю свой
оживляющий момент, чтобы сделать себя истинной. Воля к свободе
,не имеет никаких гарантий на успех, но она может в любом
случае действовать как само себя исполняющее пророчество.
Однако она может натолкнуться на ужасающее
противостояние.
В мрачных красках описывает Шиллер ужас инквизиции.
Не только то было плохо, что ее орудиями были насилие и
произвол, еще хуже было то, что она отравляла все тело общества,
вплоть до области духовной мысли развернула она свою
юрисдикцию. Всякая страсть становится ее наемником; дружба,
супружеская любовь и все побуждения природы изучены ею,
чтобы иметь свою выгоду; ее ловушки расставлены во всех
радостях жизни. Там, куда она не может послать своих
наушников, она успокаивает свою совесть страхом, темная вера в ее
всеприсг/тствие сковывает свободу воли — вплоть до самой
глубины души (IV, 1024).
Шиллер описывает инквизицию как учреждение, которое
не только отравляет общество, но и привлекает всё низменное
и отвратительное, что циркулирует в общественном теле, она
собирает отраву, смешивает ее с религией и создает таким об-
281
разом сеть террора. Связью низменного с возвышенным она
создает ужас.
На примере инквизиции Шиллер предвосхищает за
полтора столетия до триумфа европейского тоталитаризма сущность
тоталитарного господства. Но как можно дойти до подобной
власти, которая простирается до глубины души. Может быть,
она выходит из этой самой глубины души? В «Отпадении
Нидерландов» Шиллер лишь затрагивает этот вопрос, который
больше не даст ему покоя. Ему он посвятит «Валленштейна»,
свою крупнейшую драму.
Шиллер прерывает свой рассчитанный на шесть томов труд
по истории после первого тома, увидевшего свет в октябре 1788
года. Он заканчивает на той странице, где начинаются
зверства Альбы; арестован Эгмонт, Вильгельм Оранский спасается
бегством, и свирепствует инквизиция. Нидерландская свобода
повержена. Мрачными на тот момент перспективами
завершается книга.
Но мы-то знаем, что, по крайней мере, эта история имела в
какой-то мере хороший исход.
го можно было бы пройти. Красота в заповеднике искусства
избегает тягот жизни и в этом смысле бесполезна. Не является
ли тогда искусство, ради самого себя созданное, ложным путем,
растрачиванием сил, не нужно ли нам тогда предпочесть такую
деятельность, которая сеет удовольствия лишь там, где человек
ничего не ждет от жизни, кроме страданий? Это было бы
искусство довольно скромное, подчинившее себя одному -
ограничиться служебной ролью, которая не уклоняется от
неизбежного, но делает его терпимым и украшает его.
Кернер был испуган этим приступом малодушия у
Шиллера. «Ты хочешь низвести самого себя до поденщика низких
потребностей обычных людей, когда раньше призывал
господствовать над духом?» — отвечает он 13 января.
Речь идет об искушении поэта прозой буржуазных
отношений. Когда Шиллер работал над поэтическим
произведением, его едва ли сбивали с толку иные точки зрения, потому что
его защищала атмосфера творчества. Энтузиазм опровергал
его сомнения в значении искусства. Но в перерывах, когда он
свободен от плена собственного воображения, когда нити
порваны, долги гнетут, и он выискивает возможность заработать,
приходят сомнения. Почему он не избрал надежную
гражданскую профессию? Как врач, например, он имел бы, возможно,
хороший доход и благодаря выгодной деятельности мог не
сомневаться в ее полезности. Но искусство? Притязательный
художник не может довольствоваться выгодой, которую ему
предлагает буржуазное окружение, а именно украшением
быта и расслабленным отдыхом после сделанной работы. Худож-
нпку тоже нужно нести свою работу на рынок и продавать, но
сто самоуважение приказывает ему оправдать труды его
воображения, его достоинство и значимость. Пока в искусстве
живут и творят, получают только его красоту и его идеи. В
мгновения сомнений в себе и малодушия красота нуждается в
оправданиях.
Есть и еще более коварный соблазн. Он возникает из
самой силы воображения. Художественное творение, как и его
прообраз, божественное создание, тоже «creatio ex nihilo» и
поэтому имеет дело с особого рода негативностью. Ведь
«creatio ex nihilo» — это в первую очередь может означать, что из
небытия возникает, создается бытие. Осознание такого
«creatio» — триумфальная версия творения. Но есть еще и это
пресловутое «ex nihilo», и, таким образом, в каждом акте со-
284
задания одновременно присутствует опыт пустоты и
уничтожения. Каждый писатель, который воспринимает вначале чи-
*_> XJ
стыи неисписанный лист как ужас, знаком с этим опытом.
Когда тебе ничего не приходит на ум пли собственное
творение внезапно представляется ничтожным, ощущаешь, что
находишься под угрозой этого «Ничто». Так жилось Шиллеру
до сих пор, особенно в первые годы. Во время зимы в Бауэр-
бахе ему показалось, что все его произведения оказались
покрытыми мягко и тихо падающим снегом. Белый саван над
4J
чернильными пятнами столетии.
Предчувствие пустоты и ничтожности подстерегает в
творческом взлете. В энтузиазме есть подводное течение страха
перед отрезвлением, перед концом безопасного странствия в
мире мечты. Тот, кто доверяет силе воображения, должен
считаться с тем, что будет ею покинут. Таковы подлинные
бездны силы воображения. Шиллер узнает их, когда весной 1788
года чувствует себя изнуренным и исписавшимся. Поэтому
ищет он защиты у исторических фактов, о которых пишет. Тот,
кто о чем-то пишет, может удержаться, имеет опору. Не так
обстоит дело с тем, кто открывает. Он рискует отправиться на
рандеву с «Ничто». Поэтому гётевский Фауст, прежде чем он
искусственно вызывает образ Елены, должен спуститься «в
царство матерей», в эту преисподнюю души, в мир призрачных
теней, где создание еще колеблется между бытием и «ничто».
И это «ничто» и ничтожное просачивается в творение как
подозрение, как сомнение в себе, как устрашение. Художник слы-
*J КЗ
шит пустой подземный гул сквозь свои звуки, предложения,
сквозь вымысел. Искусство, которое возникает из «ничто>>,
может свободной силой воображения снова погрузиться в это
«ничто». Внутри него образуется потенциал разрушения и
саморазрушения. Тогда говорят о кризисе повествования, о
намеренной фрагментарности, о растворении формы. Подозрение,
что построения искусства не только находятся под вопросом,
но затемнены и лишены смысла, — это та сопутствующая
фантазии негативность, которая отнимает у искусства доверие к
себе самому.
Однако тут происходит нечто странное: в тот момент,
когда Шиллер сомневается в ценности искусства и надежности
силы воображения, он начинает мечтать о греческой
античности, в которой красота и сила воображения будто бы
неоспоримо торжествовали. В феврале 1788 года он пишет стихотворе-
285
ние «Боги Греции», которое начинается строчками: В дни,
когда вы светлый мир учили / Безмятежной поступи весны,/ Над
блаженным пламенем парили /Властелины сказочной страны...
(т.1, С.156).
То, что Шиллер прибегает к греческой античности,
характерно для времени, когда, начиная с эпохального труда Вин-
кельмана «Мысли о подражании греческим произведениям»
(1755), стали задумываться и следовать разработанному в нем
идеалу «благородной простоты и спокойного величия».
Начиная с Винкельмана в Германии снова спорили об образцовом
t_f %J » *J
характере греческой а также, в меньшей мере, и римской
античности. Это было продолжение «Querelle des Anciens et des
Modernes» («Спора древних и новых»), спора, который
предложила духовная жизнь Франции конца XVII века и в котором
речь шла о том, представляют ли «новое» искусство и
литература по отношению к античности прогресс или по-прежнему
должны учиться у великого прошлого. Во Франции вопрос
был скорее решен в пользу самоуверенных «новых». Когда,
однако, столетие спустя дебаты разгорелись в Германии,
доминировали «классицисты».
Формула «благородной простоты и спокойного величия»
была уже предвосхищена французскими дебатами, однако
Винкельман исходил из обозначения стиля искусства, он хотел
охватить стиль жизни ушедшей эпохи, для него речь шла о
культурно-антропологической панораме античной Греции, как
сформированного «кровью», «климатом» и «воспитанием»
благоприятного человеческого типа, который впервые в
истории взрастил плоды свободы и насладился ими. Греческая
античность была для него образцом, который может быть
повторен при сходных общественных предпосылках. Он считал
возможным новый расцвет современной культуры в области
пластики, поэзии, трагедии, философии и в искусстве
государственной деятельности, если только идеал творческой свободы
будет возведен в принцип общественной жизни.
В чем выражается эта «свобода»? Например, в
скульптурной группе «Лаокоон». Она показывает жреца с его
сыновьями, обвитых морским чудовищем и готовых к смерти. Но
фигуры не перестают быть «прекрасными». «Как глубина моря
всегда остается спокойной, хотя поверхность может бурлить,
так же и в фигурах греков при всех страстях выражается
великая и степенная душа». Это самообладание и спокойствие в бо-
286
ли и есть для Винкельмана свобода духа, который от боли и
страдания не выходит из равновесия. «Боль тела и величие ду-
4J fj
ши распределены во всем строении тела с равной силой и
словно выверены... Его (Лаокоона) страдание простирается до
нашей души; но мы бы желали, как и этот великий человек,
суметь вынести страдание». Красота в таком понимании — это
предвкушение сверхчувственного, это — не отражение
абсолютного, а невозмутимое согласие также и со смертью и
ужасающим. Смерть суждено и Прекрасному — так Шиллер
начинает трогательную жалобу в стихотворении «Нения» (т.1,
с.ЗОЗ). Но у Винкельмана речь идет об искусстве умирать в
красоте. Это удается только при согласии вначале цветущих, а
потом отданных на растерзание тел.
Винкельман разрабатывает картину гармонии «прекрасной
души» и «прекрасного тела», людей, которые еще живут в
пограничной ситуации созвучия с собой и со своим окружением.
На группе «Лаокоон» было отчеканено слово Винкельмана о
«благородной простоте и спокойном величии». Идеал
гармонии души и тела, Я и мира означал, таким образом, не нечто
примиренческое и удобное, а цельность в терзаниях боли.
Лаокоон борется против власти природы и судьбы, которая берет
над ним верх, и он будет в этой схватке единым целым с этой
силой. Он умрет, но сохранит свое достоинство.
После Винкельмана благодаря этой скульптурной группе
проявили богатство мысли Лессинг, Гёте и Гердер, и, наконец,
молодой Шиллер в 1783 году в «Письмах датского
путешественника» написал об этом по поводу посещения музея антиков
в Мангейме: Это великое страдание во взгляде, в выражении
губ, эта вздымающаяся в борении грудь — тот миг, то
состояние, когда сама природа так легко забывает о своем существе,
так легко опускается до безобразия, — и, однако, при всей
правдивости изображения такая привлекательность... (т.6, с.544).
В этом изображении Шиллер следует за Винкельманом. Он
видел здесь, как и Винкельман, отвратительную жизнь,
изображенную привлекательно. Для него это триумф красоты над
отвратительной правдой, изображение в том виде, как оно
характерно для культуры, в которой, как пишет Шиллер, безутешно
философствуют и верят, и именно потому столь велика воля к
красоте, поддержанная солнцем и мягким климатом. Трагедии,
падения, страдания также прекрасны. В той же степени пре-
287
красны герои и боги. Красота для греков, по Шиллеру, была
местом объединения неба и земли, богов и людей.
Набросок 1783 года заканчивается мыслью, которую
Шиллер снова воспроизводит в стихотворении «Боги Греции» и
оформляет в элегию о потерянном состоянии мира. Греки, —
пишет он в 1783 году, — изображали своих богов в виде
облагороженных людей и тем приближали своих людей к богам. Это
были отпрыски одной семьи (т.6, с.547). И теперь в «Богах
Греции» звучит почти так же: Так как боги были человечней,
/Люди были родственней богам (I, 169).
Почему это стихотворение превращается в
меланхолическое терапевтическое средство против растущего в 1788 году
сомнения в искусстве, почему поэту удается с его помощью
преодолеть временное малодушие, в котором его упрекает Кернер?
Он исследует в этом стихотворении истоки творческого
сомнения и апробирует с этой целью противопоставление
современного и якобы античного мира. Греческая античность
характеризуется для него эстетическим мировосприятием.
Искусство, танец, музыка, вообще чувственно познаваемая
красота в любом явлении были жизненными элементами
культуры. Здесь сомнениям в искусстве не было места.
Эстетическое стоит во главе всех возможных целеполаганий, и ему
не требуется никакого оправдания от вышестоящих
инстанций. Иначе в современности. В пей доминирует рациональная
наука, материализм и польза. Мир стал работным домом, в
котором искусству отведена роль только лишь красивой
безделушки.
Разумеется, Шиллер знает, что действительность
греческой старины не покрывается призрачной картиной
эстетического состояния мира. Но и у него речь идет не о корректном
описании безвозвратно ушедшей исторической эпохи, но о
главном типе альтернативного понимания мира, который
контрастно противопоставляется современному. Он придумывает
сказочную страну греческой античности, чтобы расширить
пространство мысли. Речь идет о свободе по отношению к
принуждениям собственной эпохи. При этом было
необходимо спроектировать альтернативу, иной выбор человеческих
возможностей. Это почти столетием позже сформулировал
Ницше, тоже при взгляде на греческую античность: «Бытие и
мир навеки оправданы только как эстетический феномен».
288
Лишь благодаря Ницше становится понятно, сколь
отважный эксперимент предпринял Шиллер в своем стихотворении
«Боги Греции».
Шиллер развивает, как и Ницше после него, разновидность
типологии с точки зрения того, как удается разным культурам
организовать жизнь перед лицом ужасного. Постановка вопро-
XJ \J
са следующая: на какой системе предохранении против элемен
Ц-У
тарной власти жизненного процесса покоится та или иная
культура? Речь идет о производственной тайне культуры. Как
можно выдержать жизнь, как ее возвысить, как ее защитить от
разрушительных и саморазрушающих воздействий? В истории
культур экспериментировали с разнообразными моделями.
Античный мир избрал покров красоты — искусство; христианская
культура дискредитировала чувственность, отрезвила мир и
избрала монотеизм с непреклонной моралью; современность
продолжает отрезвлять мир с помощью нового бога: научного
разума.
Эстетическая модель греческой античности вызвала к
жизни олимпийский мир богов, это — не бледные потусторонние
боги, а возвеличенные люди, которые не трансцендентируют
человеческое вместе с чувственными желаниями и страстями,
а возвышают и облагораживают его. Они одушевляют природу
ш живут в великих чувствах любящих и страдающих, и они
проявляются в энтузиазме художника: Был бессмертен тот
огонь небесный, / Что в Пиндаре гордо воспылал, / Разливался в
лире Ориона, / И в скульптуре Фидия сиял (I, 164).
Разумеется, эти боги суть не что иное, как изобретения
фантазии, но это изобретения, которые проникают глубоко в образ
жизни людей и помогают им обрести упрямую
жизнеспособность нравов. Шиллер это тоже знает: эстетическое восприятие
накладывает на вещи, людей и судьбы благотворно
воздействующий покров. Греки, по Шиллеру, были настроены радостно и
одновременно трагически. Философия греков, — пишет он в
«Письме датского путешественника», — была безнадежна,
религия еще безнадежнее, а поведение, конечно, fie менее
благородно, чем наше (т.6, с.456—457.). Греческие боги, что бы там они
ни могли значить, были проекциями света на темном фоне. К
этим богам лучше всего приближаться в музыке, танце и
упоении. Они — выражение дионисийского чувства жизни. Тирсо-
носцев радостные клики / И пантер великолепный мех /
Возвещали шествие владыки:/Пьяный Фавн опережает всех:;/Перед
289
Вакхом буйствуют менады, /Прославляя плясками вино;/
Смуглый чашник льет волну отрады / Всем, в чьем кубке сухо дно
(т.6, с. 158-159).
Мир греческих богов обязан мифическому сознанию.
Мифологизация — это наглядное, образное придание смысла
тому, что в ином случае представляется бессмысленным.
Равнодушие мира — это то, из-за чего всегда и вновь требуется
мифообразующая потенция сознания. Люди защищаются от
мира, в котором нельзя иметь ощущений, быть
«осмысленным». Человек, который познает, хочет быть познанным не
только другим человеком, но и исполненным смысла
космосом. Человек, даже будучи принадлежащим природе,
благодаря своему сознанию оказался на расстоянии от нее и ожидает,
что нечто подобное его собственному сознанию существует
извне, в природе. Человек не хочет быть наедине со своим
сознанием, он хочет, чтобы природа отвечала ему. Мифы — это
попытки вступить в разговор также и с природой. Для
мифического сознания имеют значимость естественные природные
процессы.
Именно это стихотворение Шиллера о богах Греции
вдохновило Гёльдерлина десятью годами позже на собственные
попытки оживить мифическое сознание. По следам Шиллера
отправится Гёльдерлин на поиски лирического языка для
мифического опыта, он преисполнен сожаления о том, что мы
потеряли легкость и очевидность этого опыта, которая, как
полагал Гёльдерлин, была повседневной для древних греков. Эта
потеря, по Гсльдерлииу, заставила исчезнуть целое измерение,
в котором действительное впервые имело возможность
правильно открыться взгляду и переживанию. Поэтому люди
больше «не видят» землю, «не слышат» голосов птиц, и язык
«засох» среди людей. Это состояние Гёльдерлин назвал «ночью
богов», и он предостерегает от «мнимой святости», при
которой мифологическими именами и темами злоупотребляют
просто в целях артистической игры.
В шиллеровском воззвании к греческому миру богов, во
всяком случае, нельзя не заметить артистических черт. В
широком понимании стихотворение читается как Who is Who в
мире греческих богов. До сих пор замечают за стихотворением,
что его автор столь основательно использовал
распространенное тогда справочное пособие «Основательный
мифологический словарь» Беньямииа Гедерикса, что для того, чтобы понять
290
нюансы стихотворения, приходится прибегать к помощи этого
словаря. Уже Кернер осуждал намеренную ученость
стихотворения, а Гёте нашел его приятным, но слишком длинным и
перегруженным.
Энциклопедическая широта скрывает существенную
навязчивую мысль, с которой Шиллер прослеживает
последствия мифического сознания. Ведь не антикизирующая ученость,
а эта, позднее названная Ницше «дионисийской», модель и
есть его собственная тема. Речь идет о той жизненной силе, что
возвращает бытию его полноту. Для Шиллера поэтическое
чувство — это надежнейший способ, чтобы посреди
равнодушной природы создать максимально наполненную смыслом
зону. Оно не позволяет оставаться равнодушным при встрече с
другим человеком, оно в солидарности, в доверии, но также и
в правилах и установлениях, которые организуют
осмысленные связи между людьми. Поэтическое чувство или сила
фантазии — что для него одно и то же — преодолели равнодушие
мира и позволили человеку жить в мире со всеми своими
чувствами, как дома. Однако в христианском мире, а затем и в се-
и
куляризированнои современности с этим покончено — этот
контраст важен для Шиллера. То, что Гёльдерлин называет
«ночью богов», Шиллер онисываег так: В царство сказок
возвратились боги, / Покидая мир, который сам, / Возмужав, уже
без га подмоги / Может плыть по небесам (т. 1, с. 159).
Новое состояние мира, господствующее в современном
сознании, отмечено великим разочарованием, с одной стороны,
из-за христианского единобожия и, с другой, — из-за
связанного с ним холодного рационализма и материализма.
Греческие боги жили в чувственно познаваемой
действительности, но христианский Бог удалился в невргдимость. Он
больше не говорит из природы, он не обращается к чувствам,
он функционирует в пещере внутренней жизни и совести. Кто
ищет встречи с этим скрытым Богом, для того действует
правило: Мне в страну идей вглядеться трудно, / Но совсем
бесплодно в мире чувств (I, 165).
Когда Шиллер писал это стихотворение, он нашел в
«Письме об энтузиазме» Шефтсбери, которое он тогда читал,
следующее предложение, сделавшее для него христианского бога
подозрительным: «Мы должны, — пишет Шефтсбери, — быть не
только в привычно хорошем, но и в наилучшем настроении, мы
О *_> О
должны иметь самый радостный настрои души в мире, если мы
291
хотим правильно понять, что наличествует в чертах, которые
мы приписываем... божеству». Черты христианского Бога,
которые выделяет Шиллер, — это черты, которые возникают не
из радостного настроя души, а из страха, недоброжелательства,
чувства враждебности. Это — одинокий Бог, эгоистично
сосредоточенный на самом себе, который подстрекает людей к
бесплодному эгоцентризму и делает их слишком уж замкнутыми
и потому одинокими: Без друзей, без братьев, без подобных,/
Ни земной, ни божий сын, / Воцарился на просторах звездных, /
Свергнув Зевса, новый Бог один. / Сам блажен, другим не даст
блаженства, / Сам блажен в безлюдиой пустоте, / Созерцая
самосовершенство / И не находя его нигде (I, 168).
Этот Бог поступает с людьми низко, а если все же он
связан с людьми, так только в жестокой жертве Сына. Он
привязывает к себе людей чувством вины, но не радостью бытия. На
что способен этот жестокий Бог, или лучше: зачем он может
быть нужен, — на это Шиллер намекает, указывая па ужасы
инквизиции. Греческие боги, которые тоже совершали дурные
поступки, этого не допускали — насилия над личностью. Этот
контроль и порабощение взглядов, это преображение
метафизики в орудие пытки. Эти скверные деятели от Бога, которых
вел фатальный закон злонамеренного и ревнивого Бога, — кем
же еще они были как не святыми варварами...
Этот Бог — не бог дружбы и любви, он не разделяет с
людьми, подобно греческим богам, земных радостей; чему
удивляться, ведь он порождение страха и чувства вины. Это не бог
экстатической радости жизни, как греческие боги: Ближе был
творец к своим твореньям / И с твореньем вместе ликовал (I,
165). Тот, кто хочет почитать невидимого Бога, должен
оставить радостный чувственный мир: Где ж теперь я? Этот
траур тихий/Разве возвещает мне Творца?/ В чем же долг мой в
этом мрачном мире?/ Только в покаянье — без конца (I, 166).
Неудивительно, что вскоре появились критики
стихотворения, которые, как, например, граф Штольберг, обвинили
составителя в кощунственном атеизме. Они были правы лишь в той
мере, что гневливый Бог правоверных христиан не был Богом
во вкусе Шиллера.
Оригинальной была мысль Шиллера о том, что, возможно,
есть взаимосвязь между христианским монотеизмом и
господством абстрактного разума современности. Христианский
монотеизм переместил Бога в невидимую потусторонность и при-
292
вел к такой же невидимой внутренней жизни и этим заставил
мир остыть. Только лишь один маленький шаг от этого
монотеистически обездушенного и лишенного волшебства космоса
до современного научного отрезвления. Вначале мир —
творение Бога, потом — материал для рассчитывающего разума.
Сфера, где некогда Гелиос и Ореады сияли на небосклоне,
стала пустым пространством, внутри которого мертвый тар в
пространстве раскален. Куда бы ни всматривалась наука, она в
конце обнаруживает всегда лишь скелет. Христианский ли Бог,
современный ли бог науки, об обоих можно сказать: Все цветы
исчезли, облетая / В жутком вихре северных ветров; / Одного
из всех обогащая, / Должен был погибнуть мир богов (т.1, с. 159).
В стихотворении рассказывается о гигантомахии между
мифическим и современным сознаниями; это было уже темой
«Философских писем» как спор между философией жизни и
скептическим материализмом. Вспомним вздох энтузиаста
Юлиуса: Решительное нападение материализма разрушает
мое творение (V, 344). Мифическому сознанию,
спроецированному в греческую античность, приходится смириться так же,
как и «жизненной философии» Юлиуса. Она будет
разрушена — сначала христианским монотеизмом, а затем
современным рационализмом.
* Но, несмотря на элегическую жалобу, мифическое сознание
еще не совсем исчезло. Оно может возвратиться в виде поэзии.
Если греческие боги удалились в царство поэзии, то почему им
нельзя заново возникнуть в поэтическом слове? Почему
нельзя снова ответить на великое молчание природы поэтическим
колдовством? Почему жизни, ставшей слишком озабоченной
моралью и трудом, поэзия не должна снова открыть чувства
праздничного? Почему она должна прекратить попытки
придать смысл бессмысленному?
Таким образом, Шиллер решается на оживление
мифического сознания в рамках поэзии и отказывается принять
«разочарование» и «обездушивание» мира рационализацией и
трезвым бюргерским экономическим практицизмом. Он скорбит
об отсутствии мифов в современности и надеется на
возрождение мифического в искусстве. В то время, когда искусство под
гнетом экономики и узкого потребительского мышления
превращается в красивую безделушку, он борется за повышение
ранга искусства, которое он снова хочет видеть во главе всех
возможных целевых установок жизни.
293
Не будем забывать, что Шиллер, когда он писал
стихотворение, запутался в сомнениях, он стал малодушен по
отношению к высоким задачам искусства. Этим стихотворением,
свидетельством самовнушающего энтузиазма, он погружает себя в
настроение, которое позволяет ему почувствовать, что
прекрасное снова одержало победу над добрым, истинным и полезным.
Спустя полгода, с осени 1788 до начала 1789-го, создается
второе большое стихотворение — «Художники», в котором он
снова следует за мыслью о триумфе прекрасного над хорошим
и полезным, но на этот раз не в форме обратной проекции на
греческую античность, а как роскошное изображение
обобщенной истории человеческого рода. В письме Кернеру от 9
февраля 1789 года Шиллер формулирует основную мысль своего
философского стихотворения, о котором он гордо говорит, что
еще никто ничего подобного не создавал: В общем, после того,
как мысль философски и исторически исполнена, для того
чтобы искусство подготовило научную и нравственную
культуру, — только нужно сказать, что эта последняя еще не есть
сама цель, но лишь вторая ступень к ней, — хотя исследователь
и мыслитель опрометчиво уже завладели короной и художнику
приходится довольствоваться местом ниже их: совершенство
человека все же будет достигнуто только тогда, когда научная
и нравственная культуры снова растворятся в прекрасном.
В отличие от «Богов Греции» история современности
изображается не только как лишенная чар и души. Благодаря
позднему стихотворению становится очевидным, что в более
раннем изображении современности негативные аспекты были
подчеркнуты ради контраста. А теперь видно, что на этом
приговор Шиллера современности не исчерпывается.
Современность можег быть определена холодным отчуждением, но это
отчуждение, по трактовке Шиллера, есть только теневая
сторона освобождения. С точки зрения растущей свободы, которая
отрешает человека от старых порядков и толкает к новому
развитию его сил, современность оценивается в более выгодном
свете. Он истолковывает ее как эпоху перехода. Не может ли
быть так, что свобода вначале ведет к отчуждению и
обособлению, чтобы наконец на более высокой ступени содействовать
новому, свободному единству. Ответ, который Шиллер дает в
стихотворении «Художники», гласит: через возвышение
эстетического чувства.
294
Шиллер начинает стихотворение с эмфатического
изображения столетия с его лучшей стороны, как он замечает Кернеру,
почти извиняясь. Прекрасен гордый облик человека, / Стоящего
на склоне века, — / Он сбросил тяжкий гнет оков, / Ему
открыты тайны мирозданья, / Он погружен безмолвно в созиданъе, /
Могучий сын веков. / Трудясь с усердьем непреклонным, /
Завоевав могущество законом / И волю — разумом, в борьбе он стал
сильней. / Природа, что была неукротимо дикой, / Простерлась
ниц перед своим владыкой, / Теперь он стал хозяином над ней
(т.1, с Л 74).
Современность, пишет Шиллер за полгода до Французской
революции, предприняла важные шаги для просвещения и
приобретения свобод, она достигла заметных высот. Но как ей
это удалось? Сначала был не разум, а эстетическое чувство, с
которого начиналось культурное развитие, и современность
может сохранить чувство свободы, если она осознает смысл
прекрасного как собственную сущность, если она сохранит
память о силе, которая возвела ее на эту высоту. Ведь именно
чувство красоты морально обуздало и облагородило человека,
направило его любопытство и исследовательский инстинкт.
Поэтому современная культура знания и нравственности,
которая столь многим обязана чувству прекрасного, сможет
сохранить человеческие масштабы лишь в том случае, если она
останется привязанной к эстетической культуре. Играя,
человек сделался тем, что он есть, и, если он перестанет играть, он
выродится. Это, при всех похвалах современности, ее скрытая
критика. В этом отношении стихотворение «Художники»
присоединяется к жалобам о запустении и бездуховности
современности в «Богах Греции». Но стихотворение «Художники»
не оборачивается назад, а поощряет современность к тому,
чтобы преодолеть ее эстетическую самозабывчивость.
Это ободрение воздействует столь впечатляюще еще и
потому, что прежде всего оно нужно самому Шиллеру.
Стихотворение наполнено тяжелым грузом мысли, и в нем
находятся предварительные размышления к работе об
эстетическом воспитании человеческого рода, которую несколькими
годами позже Шиллер начнет с большим размахом.
1788 год посвящен не только «Богам Греции» и
«Художникам», но также и двум женщинам, которые приблизились к
сердцу Шиллера. В декабре 1787 года Шиллер отправился в
Майнииген, чтобы посетить свою сестру и старинного друга,
295
теперешнего зятя Райнвальда; он посетил в близлежащем Бау-
эрбахе также старую приятельницу Генриетту фон Вольцоген.
Он искал там душевные пейзажи той зимы, когда он пять лет
назад с «Дон Карлосом» в голове бродил по заснеженным
лесам. Он их не нашел. В нем многое изменилось, он чувствовал,
что за это время стал другим. Больше не испуганный и не
униженный зависимостью от театральной сцены, больше не в бегах
от деспотичного монарха, больше не влюбленный в дочь
Генриетты. Все это осталось далеко позади, как и те пять лет, что
отделяли его от целой эпохи его жизни. Те чары, — пишет он
Кернеру 8 декабря 1787 года, — словно ветром сдуло. Я ничего
не чувствовал. Ни один из тех уголков, что некогда скрашивали
мое одиночество, ничего не говорил моему сердцу. Все это
утратило общий со мной язык (т.7, с. 144).
У Генриетты в Бауэрбахе он встретил ее сына Вильгельма
фон Вольцогена, и тот взял его в поездку в Рудолынтадт. Там
проживали дальние родственники Вольцогенов Ленгефельды:
овдовевшая мать, придворная дама рудольштадтского князя, и
ее две дочери — Каролина, несчастливо вышедшая замуж за
господина фон Бойльвица, и двадцати двух летняя Шарлотта.
«Одним хмурым ноябрьским днем, — описывает Каролина
знаменательную встречу, — вниз по улице спускались два
всадника. Они были закутаны в плащи; мы распознали нашего
двоюродного брата Вильгельма фон Вольцогена, который в шутку
скрыл половину лица своим плащом. Второй всадник был нам
незнаком и возбудил наше любопытство».
Позднее Шиллер и Шарлотта признаются друг другу, что
они уже в первый вечер, когда сидели у камина, ощутили
большое расположение друг к другу. При расставании Шиллер
выразил желание следующим летом провести несколько недель у
Леигефельдов или по соседству от них. Сестры выслушали это
с удовольствием.
Ленгефельды принадлежали к старинному имперскому
дворянству. Ганс Христоф фон Ленгефельд был главным
лесничим, в то время известным знатоком своего дела, который
столь эффективно боролся с бесплановой хищнической
вырубкой леса, что Фридрих Великий возвел его в чин старшего смо-
1рителя своих лесов. Однако господин фон Ленгефельд
отказался от этого предложения. Когда он умер в 1775 году, то
оставил двух дочерей. Старшая, родившаяся в 1763 году
Каролина, была более живой и более страстной. Ее образцом для
296
подражания были уверенные в себе женщины, принимающие
участие в духовной жизни берлинских салонов, наподобие
Генриетты Герц, с чьим «Союзом добродетели» она издалека
поддерживала связь. Она была дружна с Каролиной фон Дахерё-
ден, позднее супругой Вильгельма фон Гумбольдта. Именно
Каролина познакомила Шиллера с Гумбольдтом. Этот
последний написал после смерти своей Каролины Каролине фон Лен-
гефельд: «В вас сущность более красивой и глубокой
женственности предстает в совсем новом и своеобразном облике,
который, однако, по крайней мере в этом случае, снова уйдет
вместе с вами. То, что мне выпало счастье находиться столь
близко к этому явлению, его так воспринимать, я почитаю за
величайшее преимущество моей жизни». В своем сочинении
«О мужской и женской форме» Гумбольдт описывает
преимущество женского пола. Уже тогда предполагали, что в качестве
модели ему послужила не только его Каролина, но и
Каролина фон Ленгефельд.
Каролина была импульсивной, прямой и достаточно
отважной, вплоть до того, чтобы подчас оставлять без внимания
принятые в обществе формы поведения. Она не хотела
ограничиться ролью жены и матери. «Когда я думаю, — писала она
3 июня 1789 года Шиллеру, — какая паутина мелочей плетется
вбкруг нашей жизни и как она лишает нас самых благородных
О
\J
наслаждении, то это делает меня очень недовольной и
несогласной с самой собой, а в нашей женской жизни это
происходит очень часто».
Ее мечтой было содержать интеллектуальный салон, как ее
берлинские подруги, что ей удастся в Веймаре после развода с
фон Бойльвицем уже в качестве супруги своего двоюродного
брата Вильгельма фон Вольцогена. Когда Волыдогеи
отправился однажды в долгое путешествие, он писал другу, под
покровительством которого он оставил свою семью: «Моя жена —
один из прекраснейших характеров, которые я встречал в
жизни, — так много духа при такой бесконечно большой мягкости,
так много сердечной любви при таком стремлении к высоким
предметам; так непостижимо проста и при этом так
всеохватна; хорошая хозяйка, нежная мать, но и созидательница миров,
которая организовала свою прекрасную фантазию в такой
гармонии. Не могу описать вам, милый друг, сколь бесконечно
счастлив был я в те годы, что прожил с такой замечательной
О
женщиной».
297
Об этой «замечательной женщине» необходимо было
рассказать, потому что в романе, начавшемся летом 1788 года,
было не вполне ясно, увлекся ли Шиллер Каролиной или более
сдержанной в проявлении чувств Шарлоттой. До поры до
времени его сердечные письма со скрытыми признаниями в
любви были адресованы обеим сестрам, и сестры должны были
сами разгадывать, которая из них имелась в виду. Перед
Кернером, который не одобрял отношения Шиллера к этим
женщинам, он объясняет эту двузначность стратегически: Я
ослабил свои ощущения путем разделения, и таким образом
отношения находятся в границах сердечно-разумной дружбы (14
ноября 1788 года). Даже когда признания в любви стали
определеннее, они были адресованы обеим сестрам.
В конце 1789 года — связь длилась уже почти два года —
Шарлотта теряет терпение. Она хочет наконец узнать у
Шиллера, кого он, собственно, предпочитает. Она дает ему понять,
что не обладает блестящими качествами своей сестры и
уступит, если уж так должно случиться. Ответ Шиллера
Шарлотта забудет не скоро: Каролина мне ближе по возрасту и
потому более соответствует мне по форме наших чувств и мыслей.
Она пробуждает во мне более чувств в разговоре, чем Ты, моя
Лотта, — но я ни в коем случае не желаю, чтобы это было по -
другому, чтобы Ты была другой, чем Ты есть. В чем
преимущество Каролины перед Тобой, Ты должна узнать от меня; Твоя
душа должна распуститься в моей любви, и Ты должна быть
моим творением, Твой расцвет выпадает на весну моей любви.
Если бы мы нашли друг друга позже, то Ты отняла бы у меня
эту прекрасную радость — видеть Тебя расцветающей для
меня (15 ноября 1789 года).
Шиллер, очевидно, считает доказательством любви, если
он заявляет женщине, что он ее сделает своим творением.
Шарлотта не была шокирована этим, письма, которые она ему
пишет после этого, наполнены нежностью и заботой.
Между сестрами не было разногласий и тогда, когда
неопределенность отношений Шиллера привела к их
соперничеству друг с другом. «Никому еще не удавалось, — пишет
Каролина 18 ноября 1788 года, — так, как Вам, коснуться струн моей
XJ
внутренней сущности — меня часто трогало до слез то, с какой
нежностью Вы ухаживали за моей душой в неприятные
моменты. — Как нужно мне жить с надеждой!» Каролина, возможно,
из-за любви к Шиллеру освободилась бы от брака с Бойльви-
298
цем, которого она не любила, но она уступает первенство
Шарлотте. Она разведется после того, как Шиллер женится на
Шарлотте.
Каролина проиграла, она любила инсценировать, хотела
придать своей жизни романический оттенок. Она
действительно писала роман. Шиллер анонимно опубликовал его под
названием «Агнес фон Лилиен» в своем журнале «Оры», и
некоторые современники, среди них даже Август Вильгельм
Шлегель, оценили роман столь высоко, что принимали его за
сочинение Гёте.
Оглядываясь назад на период жизни, который она провела
вблизи Шиллера, шестидесятичетырехлетняя Каролина пишет
в своем дневнике: «Но соблазны земных удовольствий
потянули меня вниз; каверзы духа, жажда знаний, иногда игра
фантазии, даже и в возвышенном, лучшем; стремление все сделать
по-своему смутили мою душу». В старости Каролина сделалась
набожной и избрала для своего могильного камня надпись:
«Она заблуждалась, страдала, любила, ушла, веря в Христа, в
сострадательную любовь».
А теперь Шарлотта, младшая сестра. Она была скромна и
сдержанна, когда Каролина держала речь. Она много читала и
добросовестно вносила мысли в черновую тетрадь, которую
позднее дала почитать Шиллеру. Одной из ее любимых книг
была «Упадок и крушение Римской империи», некоторые главы
которой она перевела на немецкий язык. Ее меланхолический
темперамент гармонировал с закатом. Она любила осень. Ее
привлекали героические события, однако она восхищалась
человеческой силой лишь в том случае, если та была связана с
грацией. Она научилась этому у Шефтсбери, другого своего
любимого автора, из которого она могла подробно
воспроизвести целые страницы от начала до конца. Шарлотта, для
которой мать предполагала карьеру придворной дамы, могла
сносить ярмарку напыщенности только на расстоянии. «Наблюдая
их на расстоянии, — пишет она 26 ноября 1788 года
Шиллеру, - испытываешь больше человеческой любви, чем когда
находишься среди них; тут довольно часто задыхается теплое
чувство к человечеству, как посмотришь на всю их мелочность.
Я же живу спокойно и тихо в моей комнате и рада, что могу
заниматься сама собой». Она хочет одиночества вдвоем, «ведь,
собственно, я совсем не хотела бы лишать всех людей их
общества». Она любит оставаться наедине с природой, чувствует се-
299
бя ее частью, и вместо того, чтобы выражать свои чувства, она
охотно позволяет говорить за себя картинам природы. После
суровой зимы 1788—1789 годов, времени сомнения в будущем
их отношений, она пишет: «Я была совсем подавлена холодом,
я представлялась себе цветком, который покрыт инеем, это
было для меня как если бы я жила только наполовину... Сегодня
я в первый раз снова порадовалась природе, я была на
плотине, Заале прекрасна, огромные груды льда, разбросанные по
берегу, горы снова синие, и солнце сияло так приветливо; мне
было так, как если бы уже пришла весна, почки смотрятся уже
красноватыми, это было столь широко, столь велико, что душа
казалась свободнее...»
Шарлотта была крестницей госпожи фон Штейн, которая
ей однажды писала: «Пусть я совсем окаменею, все же
внутренняя искра, что принадлежит моей преданной Лоло, не будет
погашена». Гёте также нравилась Шарлотта, которую он часто
встречал в доме Штейн, и он играл с ней, когда она была
ребенком. Шарлотта искусно устроила первую встречу Шиллера
с Гёте, да и вообще внесла свою долю в то, что Шиллер и Гёте
постепенно сходились ближе.
После первого визита в Рудольштадт в ноябре 1787 года
начинается оживленная переписка между Шиллером и
Шарлоттой. Шарлотта ведет себя сердечно, но остается сдержанной.
Она говорит о дружбе, а Шиллер ей намекает, что этого
недостаточно. Для него дружба представляется семенным зерном:
если на него светит весеннее солнце, то мы уже хотим видеть,
какой цветок из этого получится. Он отдается радостному
пред вкуй гению лета и рисует себе, как они будут в Рудоль-
штадте вместе путешествовать, читать и болтать в саду. Какие
прекрасные мечты я лелею на. это лето, которые Вы мне
поможете осуществить (т.7, с. 158). Его беспокоит мысль, что
милая фройляйн может найти, возможно, только временное
развлечение в отношениях, которые для него означают величайшее
блаженство. Так он пытается расшевелить Шарлотту. Она же
остается скромной даже и тогда, когда он в апреле 1888 года
льстит ей словами: Моя фантазия будет так же неутомима,
воспроизводя передо мною Ваш образ, как если бы за те восемь
лет, что она предана музам, она упражнялась на одном этом
образе (т.7, с. 156).
Шарлотта живо описывает ему ежедневные происшествия
и свои чувства по поводу пробуждающейся весенней природы.
300
Имеет ли право Шиллер истолковывать это как признание ее
весенних чувств по отношению к нему? Он не уверен. Он
пишет ей 2 мая 1788 года, что он надеется среди сельской
тишины вновь найти свои душевные силы (т.7, с. 160), которые у
него порой истощаются в веймарской суете и во время работы.
Шарлотта осторожна, но его письма норой производят
впечатление, что его меньше интересует личность, нежели
ситуация, которая может его заполнить и окрылить. Недоверчивому
Кернеру он откровенно признается в этом чувстве. Я нуждаюсь
в медиуме, — пишет он 7 января 1788 года, — благодаря
которому я вкушу другую радость. Дружба, вкус, истина и красота
будут более на. меня действовать, если непрерывный порядок
легких благотворных домашних ощущений меня настроит для
радости и мой закосневший нрав снова отогреется. Я до сих пор
жил изолированно среди чужих людей на. природе и не имел
никакой собственности. Все существа, с которыми я себя
связывая, имели кое-что, для них более дорогое, чем я, и этим не
может довольствоваться мое сердце. Я тоскую по бюргерскому и
домашнему существованию, и это единственное, на что я
сейчас еще надеюсь.
От женщины, которую он ищет, он ожидает ту связь с
домашним существованием, которое радости духа может обеспе-
4ifTb прочную почву под ногами и бюргерскую солидность.
Разумеется, сердце в этом тоже должно принять участие. Кернер,
который не хочет потерять друга из-за женщины,
предостерегает 13 января 1788 года, что Шиллер потеряет независимость
как писатель, если ему придется заботиться о домашнем очаге.
Вероятно, ему придется из финансовых соображений идти на
компромиссы и обслуживать расхожие читательские вкусы. Но
вот нашлась бы «девочка с деньгами», то можно было бы
«вычислить, возмещает ли выгода изобилия то, чего ты, возможно,
лишаешься в "домашних радостях"».
Шарлотта — не «девочка с деньгами». Она, правда, из
хорошего дома, гю Ленгефельды не богаты, и тем важнее для
матери выдать дочь замуж соответственно социальному
положению. Шиллер знает, что с рациональной точки зрения он здесь
ничего ему причитающегося не возьмет. Но он, разумеется, не
только рассчитывает, но и мечтает.
В начале апреля ему присылают дерзкое предложение из
Швайнфурта: ему предлагалась должность члена мунищпали-
тета со сносным окладом, связанная с женой с несколькими ты-
301
сячами талеров. Другу, который советовал ему быть трезвым в
этих вещах, Шиллер в письме от 25 апреля 1788 года
преподносит это событие как сатиру на расчетливые рассуждения о
браке.
Восемнадцатого мая 1788 года Шиллер отправляется в Ру-
дольштадт. Шиллеру не удалось остановиться в доме Ленге-
фельдов, и поэтому Шарлотта позаботилась о квартире для
гостя в доме кантора Унбехауна в соседней деревне Фольк-
штедт — чистой тихой комнате со спальной каморкой и
прекрасным видом из окна. Тропинка вела мимо садов, полей и
очень старых деревьев вниз по реке Заале в Рудолынтадт в
Новый переулок, где семьи Ленгефельд и Бельвиц жили друг
возле друга. Возник ритуал: Шиллер ранним вечером спускался
вниз по дороге и иногда встречал на полпути вышедших ему
навстречу сестер. Там был маленький мостик, сестры стояли на
нем в белых платьях, махали ему руками, брали его в середину
между собой, и все вместе проходили последний участок пути
вплоть до дома Ленгефельдов. Там все сидели в гостиной или
в саду. Когда приходили гости, то Шиллер мог, если ему
надоедала привычная болтовня, удалиться в комнату Шарлотты,
ведь ему надо было много работать: этим летом он должен был
\> V
довести до конца свои исторический труд, а кроме того, он
писал «Письма о "Дон.Карлосе"» и последнюю часть
«Духовидца». То, что выходило из-под его пера, тут же читалось и
обсуждалось за чашкой чая или бокалом вина. Здесь Шиллер
находил то, что было для него благотворно. Я охотно беседую
о значительных предметах, о серьезных произведениях, о
чувствах, — здесь я могу предаваться этому вволю и так же легко
перескакивать снова, на шутки, — пишет он 27 июля 1788 года
Кернеру (т.7, с. 165). Если погода плохая или, что происходит
часто, его терзает простуда или зубная боль, то путешествз^ют
письма, доставляемые рассыльной туда и сюда. Вместе читали
Гомера в переводе Фосса и в качестве игры упражнялись в его
манере писать. Как позднее охотно вспоминали участники, то
было их «Гомерово лето». Шиллер — Лотте (конец августа):
Как же Вы спали сегодня в Вашей изящной постели? И смежил
ли сладкий сон Ваши прелестные, милые веки? Скажите мне об
этом в двух-трех крылатых словечках (т.7, с. 168). Лотта —
Шиллеру: «Я надеюсь, что, когда пробуждался розовоперстый
рассвет, Вы еще спокойно почивали» (сентябрь 1788 года). Так
шло это некоторое время туда — сюда, и Шиллеру разрешено
302
даже называть Шарлотту фамильярно-ласкательным именем
«Лолохен». Об этом идиллическом лете в Рудолынтадте
Каролина позже пишет: «Высокая серьезность и изящная,
исполненная духа легкость открытого чистого нрава были всегда в
обхождении Шиллера... жили как между неизменными
звездами неба и цветами земли в его беседах. Как мы представляли
себе осчастливленный дух, с которого спали оковы земли и
который радуется в более чистом и легком элементе свободы
абсолютного согласия, таково было наше настроение».
В те вечера, когда Шиллер не приходил, Шарлотта гуляла
одна по лугам, садилась на берегу реки и заучивала наизусть
«Богов Греции». Однажды ей приснился Вильгельм Оранский,
об этом она пишет на следующее утро и отправляет своему
поэту письмо в Фолькштедт вместе с только что сорванным
полевым цветком. Он радуется, что их фантазии переплетаются.
Он счастлив. Он чувствует себя так, пишет он Шарлотте 26
мая 1788 года, как Орест в «Ифигении» Гёте, ... вы будете
исполнять роль благотворящих богинь и защищать меня от злых
обитателей подземного мира.
В этом году, когда Шиллер открыл для себя античность, в
Рудольштадте он работал над переводом Еврипида — он
прочитал «Ифигению» Гёте с намерением рецензировать пьесу. С
тФс пор как Шиллер прочитал в юности «Вертера» и увидел на
выпускном торжестве Карловой школы поэта, вызывавшего у
него "восхищение, который стоял рядом с Карлом-Евгением и
герцогом Веймарским на празднично украшенной сцене, —
образ Гёте отчетливо запечатлелся в его внутреннем взоре. В
первые месяцы своей жизни в Веймаре он не знал ни одного
собрания, где бы речь не шла о Гёте. Гердер в их совместной
прогулке назвал Гёте божественным. Слышал он также и кое-
что недоброжелательное. Что Гёте небрежно отнесся к своим
служебным обязанностям, что ему как поэту недостает
терпения, что его путешествие в Италию было, собственно, побегом,
что он пренебрежительно оставил госпожу фон Штайн для
того, чтобы вести на юге праздную жизнь, что он ненадежен и
нерешителен и что вообще вокруг него поднимают уж слишком
много шума.
Между тем 18 июня 1788 года Гёте возвратился из Италии,
и Шиллер мечтает о том, чтобы хотя бы раз встретиться с ним
лично. К тому времени у него было достаточно уверенности в
себе — ведь я чувствую снова, мой гений, — написал он Кернеру
303
5 июля 1788 года, — чтобы предстать без стеснения перед
глазами великого человека. Возможность представилась 6
сентября, когда Гёте находился в гостях в имении госпожи фон
Штейн в соседнем Кохберге. Шарлотта навестила свою
крестную мать, чтобы устроить приезд общества оттуда хотя бы на
один день в Рудольштадт. Грандиозные ожидания Шиллера не
оправдываются. Из этой встречи личные отношения еще не
развились.
Гёте тогда пребывал в подавленном состоянии. После того
как он вдохнул «свободный воздух жизни» в Италии, он снова
был стеснен узостью веймарских отношений. Позднее он так
описывает свое ощущение первых месяцев привыкания: «Из
Италии, столь богатой формами, я вернулся в бесформенную
Германию, чтобы поменять ясное небо на хмурое; друзья,
вместо того чтобы меня утешить и снова приблизить к себе,
довели меня до отчаяния. Мое восхищение удаленными, едва
известными предметами, мое страдание и жалобы об утрате
представлялись им оскорбительными, мне недоставало
соучастия, никто не понимал моей речи. В таком позорном состоянии
я не знал, как найти себя».
На обратном пути из Италии Гёте, сидя в коляске,
набросал несколько правил своего будущего поведения:
«Скрывать — современное состояние... К примеру, ничего не говорить
06 Италии». Но, как бы он ни был расстроен, он все же должен
был в Рудолыытадте у Ленгефельдов проявить хотя бы
некоторую светскость, а значит, завести разговор об Италии. Он с
удовольствием и со страстью говорит об Италии, — пишет
Шиллер Кернеру 12 сентября 1788 года в письме, где он подробно
изображает этот день с Гёте. Шиллер сожалеет, что дело не
дошло до разговора наедине, и сам объясняет это: Правда.,
общество было слишком многочисленное, и все ревностно стремились
перемолвиться с ним, ~ уже поэтому я не мог с ним
уединиться или поговорить о чем-то, кроме самых общих вещей.
Шиллер заблуждается или хочет заблуждаться.
Препятствием к знакомству было не только то, что Гёте отвлекали
другие гости, но и то, что при первой встрече Гёте избегал непо-
• средственного общения. Позднее он объяснял, что он по
возвращении из Италии был поражен тем большим
авторитетом, которым пользовался Шиллер в обществе. Но для него
Шиллер представлялся лишь автором «Разбойников» — пьесы,
которая была ему «ненавистна». В его глазах Шиллер был
304
«сильным, но незрелым талантом», который «этические и
театральные парадоксы, от которых я стремился избавиться,
излил над отчизной обильным заразительным потоком». Он
очень напоминал ему о собственных сумасбродствах времени
«Бури и натиска», а дальнейшего развития Шлллера он еще не
знал. Теперь ему пришлось заметить, что даже среди его
друзей авторитет Шиллера возрос. Сам Кнебель уши ему
прожужжал похвалами Шиллеру, а от госпожи фон Штейн, ставшей
ему в тягость также и по другим причинам, он слышал много
лестного об авторе, который ему не нравился.
В вежливой отстраненности Гёте было больше
осознанного намерения, чем Шиллер мог предположить. Но возможно,
он и догадывался, ведь в его изображении этого особенного и
все-таки разочаровывающего дня заметно неудовольствие. Это
начинается уже с описания внешнего вида Гёте: Первое
впечатление сильно изменило внушенное мне высокое мнение об этой
якобы привлекательной и красивой фигуре. Он среднего роста,
держится натянуто и так же ходит. Выражение лица у него
замкнутое...
Трезвое резюме Шиллера об этой первой встрече: ...я
сомневаюсь в том, чтобы мы с ним когда-либо очень сблизились.
Многое, что мне егце интересно, чего я еще желаю себе и на. что
надеюсь, для него пройденный этап. Он так опередил меня (не
столько годами, сколько жизненным опытом и работой над
собой), что нам никогда больше не встретиться в пути. И вся его
натура с самого начала была наделена иными задатками, чем
моя, его мир — не мой мир, наши представления кажутся
существенно различными. Все же на, одной такой встрече нельзя
строить надежные и глубокие выводы. Время покажет, что из
этого выйдет (т.7, с. 170).
Разочарование от первой встречи имело свои последствия.
Когда Шиллер по возвращении из Рудольштадта встретил
Карла Филиппа Морица, который сделал из Гете настоящий
культ святости, его раздражение возросло. Он насмехается над
«сектой» энтузиастов Гёте и постепенно все более предается
ожесточению. Он пишет Кернеру 2 февраля 1789 года: Частое
пребывание рядом с Гёте сделало бы меня несчастным: даже с
ближайшими друзьями он никогда не бывает до конца
сердечным и искренним, его ничем нельзя задеть; я на, самом деле
думаю, что он эгоист в высшей степени. Он обладает талантом
привлекать людей... но сам себя умеет оставить свободным. Он
305
делает свое существование публичным, но только как Бог, без
того чтобы отдавать себя... Люди не должны были бы
позволять окружать себя подобными существами. Поэтому он мне
ненавистен невзирая на. то, что я при этом люблю его дух от
всего сердца, и считаю его великим. Я смотрю на него как на,
гордую жеманнищ, которой нужно сделать ребенка, чтобы
унизить ее перед светом.
Это особая смесь ненависти и любви, которая не позволяет
ему свободно отойти от Гёте. В своих фантазиях он видит
себя мужчиной, который просит руки, а Гёте — женщиной,
которой ему следует добиться. Подобно злодею Францу Моору, он
враждует с природой, которая его обделила в сравнении с
Карлом, баловнем судьбы. Шиллеру знакома ненависть, которая из
этого возникает. Он изобразил ее последствия в
«Разбойниках». Но есть не только ненависть, но еще и любовь, и это
делает отношения столь тяжелыми. Он не нашел еще чудесной
формулы, которая спустя восемь лет сделает возможной
настоящую дружбу с Гёте. Формула эта звучит в письме к Гете от 2
июля 1796 года: Как живо ощутил я... что духовному
превосходству нельзя противопоставить иной свободы, кроме свободы
любви! (т.7. с.399-400).
Настолько Шиллер пока еще не свободен. Правда, любовь
уже присутствует, но есть еще и ненависть, а отсюда
возникает скрытая обида. Ему приходится постоянно соизмерять себя
с Гёте, в душе он должен отдать ему на оценку свои
произведения. Понравится ли это Гёте, спрашивает он себя, и
испытывает огромную радость, когда узнает, что Гёте дал
положительную оценку «Богов Греции», а для большого стихотворения
«Художники», над которым он сейчас работает, ему
представляется будущим читателем Гёте, который, таким образом,
имеет большое воздействие на то, что я хочу правильно завершить
мой стих.
Настроение меняется. Месяцем позже — «Художники», по
его ощущениям, ему хорошо удались, он снова может
смеяться над тем, что написал ранее своему другу. Пусть Кернер,
пишет он 9 марта 1789 года, не находит предосудительной его
слабость, я хочу, чтобы ты меня знал таким, каков я есть. А
каков он есть? Он чувствует себя человеком, обделенным
судьбой, научившимся бороться и извлекать из немногого, для
чего он предназначен, лучшее. Только что он смог посмеяться над
своей озлобленностью, но вот он снова думает о Гёте и снова
306
распаляется: ...этот человек, этот Гёте, стоит мне поперек
дороги, и он часто напоминает мне, как круто судьба обошлась со
мной! Как легко был вознесен его гений судьбой, а я до этой
самой минуты все еще должен бороться. ...Но я еще не потерял
мужества и от будущего жду счастливого переворота (т.7,
С.203).
И в самом деле, в полном разгаре переворот в
обстоятельствах его жизни, к которому и Гёте не остался безучастным.
Это был именно тот Гёте, кто впоследствии поддержал
предложение пригласить Шиллера на место профессора истории в
Иену. Поводом к этому послужила новоиспеченная, слава,
которую Шиллер снискал своим трудом по «Истории отпадения
Нидерландов». Расположенный к нему тайный советник
Фойгт, в это время один из самых влиятельных придворных в
Веймаре, уже в январе 1788 года наводил справки о
готовности Шиллера к этому. Шиллер не скрывал своей радости по
поводу почетного предложения и, как он нашел позднее,
слишком уж быстро согласился занять должность. Он слишком
поздно заметил, что должность была неоплачиваемой, и ему
придется довольствоваться незначительной суммой,
получаемой со студентов-слушателей. Кернер, который стремился
защитить поэтическое творчество друга от всех прочих
соблазнов и обязанностей, отговаривал его. Но Шиллер принял
предложение после некоторого колебания в надежде на то, что
из этого может получиться нечто полезное, возможно, лучшее
профессорское место с большими выплатами и меньшими
обязанностями преподавания, почетная, должность при дворе или
иная синекура, которая гарантировала бы ему финансовую
независимость. Искусство, и в этом он теперь уже уверен, он ни
в коем случае не пожертвует науке. Я должен быть всецело
художником или вовсе перестать жить, — отвечает он Кернеру
9 марта 1789 года (т.7, с.205).
Как художник он будет и дальше мериться силами с Гёте,
но так, чтобы его собственная сила имела возможность
развиваться. Он добьется также в отношении к нему ненапряженной
уверенности в себе, а под конец будет общаться с ним
сердечно и на равных. А Гёте, со своей стороны, будет восторгаться
своим другом и учиться у него. Он скажет о нем, что тот, как
никто другой, стал «эпохой» в его жизни.
Но пока еще до этого не дошло. В письме к Каролине,
которая по отношению к Гёте посоветовала сдержанное выжида-
307
ние, Шиллер незадолго до переезда в Йену формулирует свой
рецепт жизни на последующие годы: Если бы я был на
необитаемом острове или один на один с ним (Гёте) на корабле, то я,
разумеется, не жалел бы ни времени, ни труда, чтобы
разобраться с этим запутанным узлом его характера. Но так как
я не привязан к этому единственному сугирапву, так как
каждый в мире, как говорит Гамлет, имеет свое дело, то и я тоже
занимаюсь своими; и поистине слишком уж коротка жизнь,
чтобы расходовать время и силы на то, чтобы разгадывать
людей, которых так трудно разгадать... Есть язык, который
понимают- все люди, и этот язык гласит: используй свои силы.
Если кто-то действует в полную силу, то и от другого это не
останется скрытым. В этом и соспюит мой план. Если мое
положение когда-нибудь улучшится настолько, что я смогу
задействовать все мои силы, то и он, и другие меня узнают, так же,
как я сейчас знаю его дух (25 февраля 1789 года).
Сначала Шиллер будет один идти своим путем, выжидая и
словно бы издалека бросая взгляды на Гёте.
j
ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Иена. Город и его дух. Буршеские удовольствия. Большое
выступление: вступительная лекция. Оптимистическая философия
истории и ее отмена в «Духовидце». Телеология «как бы».
Запечатанные письма. «Послание Моисея». Изобретение
монотеизма. Ничто за «Саисскгш изваянием под покровом».
После освобождения от чар: эстетическая религия
Шиллер принял приглашение в Йену еще и потому, что он
получил очень приятное впечатление от города во время первого
посещения в августе 1787 года. Еще никогда он не чувствовал
себя так уютно, писал он тогда Кернеру. Особенно поразила
его свободная университетская, жизнь.
Иеиский университет не подчинялся одному государю, а
содержался четырьмя небольшими герцогствами. Так
называемыми «попечителями» были герцоги Веймара, Кобурга, Готы
и Мангейма. Так как все решения нужно было согласовывать
в четырех дворах, профессора могли, как правило, делать, что
хотят. На Шиллера Иенский университет действовал как
свободная и независимая республика, в которую нелегко
просочиться угнетательству (Кернеру, 29 августа 1787 года) (т.7,
с. 137).
Студенты и профессора задавали здесь тон. Восемьсот
студентов жили в городе на Заале, общее число жителей которого
в то время составляло приблизительно пять тысяч. За пятьде-
сят лет до этого число студентов было еще больше. В 1750
году в Салане* состояло иногда до трех тысяч студентов; только
когда соседние страны начали привязывать детей собственной
страны к своим университетам, число студентов в Иене
снизилось, но их было все еще вполне достаточно, чтобы определять
жизнь в городе. Что студенты здесь в почете, — пишет
Шиллер в письме, — видно уже с первого взгляда. Впрочем, даже
закрыв глаза, можно узнать, что находишься среди студентов,
ибо они все шествуют победоносной походкой (т.7, с. 135).
Вообще, грубость этих господ студентов бросается в глаза: они
носят большие шляпы, которые не снимают, если встречают про-
Студенческое общество Йены.
309
фессора; они курят на виду у всех; они спорят и шумят в
трактирах; впрочем, может случиться, что раздастся крик на весь
переулок: «Убирайте голову!» — когда студенты
высовываются в окно и опоражнивают свои ночные горшки. Привести
бюргера в ужас — всего лишь развлечение для студента.
После 1789 года студенческие потасовки и волнения
получили политическую окраску. Дошло до демонстраций, когда
студенты, как обычно, были посажены в тюрьму за то, что не
могли оплатить свои долга по найму жилья. Летом 1792 года
волнения достигли наивысшей точки. Студенты требуют
учреждения собственной юрисдикции, чтобы самим
регулировать дела по дуэлям и долговым обязательствам.
Правительство на это идти не хотело. Усилили гарнизон, что студенты
восприняли как наступление на их академическую свободу. 19
июля 1792 года они начали бойкот. Более чем две трети
студентов, в общей сложности шестьсот человек, собрались на
лугах у реки Заале и, организовавшись в колонны по
землячествам, с музыкой и знаменами потянулись к городу. Они грозили
переселением в Эрфурт. Жители Иены пришли в панику. Без
студентов и профессоров хозяйственная жизнь города пришла
бы в полный упадок. К студентам послали эмиссаров. В
близлежащей деревне Нора, где находилась в это время процессия,
начались переговоры. Правительство обещает не применять
дисциплинарных мер. С триумфом студенты возвращаются в
Иену, и бюргеры встречают их ликующими возгласами. С
легкой иронией уведомляет герцога коллега Гёте Фойгт: «Наши
йенские якобинцы успокоились». Когда Фихте двумя годами
позже восстановит против себя студенческий «орден», снова
начнутся бунты. Некоторые студенты вели себя столь
вызывающе, что Фихте опасался за свою жизнь и скрылся в соседнем
Осман иггедте.
Шиллер не был в восторге от этого «студенческого
великолепия», но было многое в этом «городе — кладези науки», что
притягивало. Правда, театра в этом местечке нет, вообще
культурная жизнь ограничивалась академической. Но, в этом
смысле, широко процветающей. Кроме университетской
библиотеки с пятьюдесятью тысячами томов, имелись семь хорошо
оснащенных книжных магазинов, был на рыночной площади
Академический институт чтения Фойгта, где лежали более чем
сто наименований журналов со всей страны и из-за рубежа.
Сюда стекались политические известия и тотчас же обсужда-
310
лись. В домах профессоров идет оживленное общение. Клубы,
V XJ
чайные кружки, вечера камерной музыки, многочисленные
гостиницы с постоянными столами для завсегдатаев — поводов
для бесед и развлечений было достаточно. Здесь
непринужденнее, чем в Веймаре, поддерживают отношения друг с другом.
Даже Гёте чувствовал себя преображенным, когда приезжал из
Веймара. Там он был более чопорный и важный, здесь, среди
студентов и профессоров, он позволял себе расслабиться. И
здесь можно было увидеть, как он зимой катается на коньках
по замерзшей реке.
Важным центром духовной жизни города был дом
Кристиана Готфрида Шютца, где размещалась «Всеобщая
литературная, газета» — ведущий рецензионный орган Германии,
Шиллер сообщает Кернеру 29 августа 1787 года о своем первом
посещении: Здание, в котором они помещаются в Йене,
называют попросту «Литературам. Оно очень красиво и удобно.
Меня провели по всем помещениям, где огромное количество
изданных книг, рассортированных по именам книготорговцев,
ждет своего приговора. Собственно говоря, такое
рецензирующее объединение — брутальная и комическая затея, и надо
признаться, я склонен примкнуть к комплоту против него (т.7,
с. 136).
Однако власть «Всеобщей литературной газеты» так
велика, что Шиллер позже не сможет с ней не кооперироваться. Он
сам будет честно писать рецензии и с напряженным
ожиданием читать критику своих произведений во «Всеобщей
литературной газете». Комплота не получилось, даже если считать им
ту договоренность, которую Шиллер заключил с газетой
несколькими годами позже для выпуска собственной газеты
«Оры». Согласно этой договоренности издатель «Ор», Котта,
должен был оплачивать типографские расходы выгодных
рецензий на «Оры» во «Всеобщей литературной газете».
Йена пока еще не тайная столица философии в Германии,
но уже с Карлом Леопольдом Рейнгольдом, значительнейшим
популяризатором Кантовой философии, приглашенным в Иену
в 1787 году и читающим лекции перед тремястами студентами,
растет философский авторитет Саланы. Здесь один за другим
учатся Фихте, Шеллинг и потом Гегель. Так Иена становится
наконец местом рождения немецкого идеализма
Рейнгольд, сбежавший иезуит, затем масон и иллюминат,
равно как и зять Виланда, возбудил любопытство Шиллера.
311
Описание своего первого визита к нему стало для Шиллера
поводом для портретной характеристики известного в то время
профессора, которая содержит одновременно и
контрастирующую самохарактеристику: Рейнгольд никогда не будет мне
другом, так же как я ему, хотя он и считает это возможным. Мы
прямо противоположные натуры. У него холодный, ясный и
глубокий ум, которого у меня нет и который я не умею ценить, но
фантазия у него убогая., бедная, а дух ограниченнее моего.
Живость, с которой он так щедро и расточительно откликается
на все явления эстетического и нравственного порядка,
противоестественным образом выжата из почти иссохшего и
опустошенного ума и сердца. Он утомляет собеседника чувствами,
которые он выискивает и сгребает в кучу. Царство фантазии
для него чуждая область, в которой он по-настоящему не
умеет ориентироваться. Его мораль боязливее моей, а его мягкость
нередко смахивает на слюнтяйство, на трусость. Ему никогда
не подняться до смелых добродетелей или преступлений ни в
идеальном мире, ни в действительности. И это плохо. Я не
могу быть другом человека, не способного на то или другое или на
то и другое вместе (т.7, с. 132—133).
С Рейнгольдом начался подъем Иенского университета. В
отличие от Галле и Гёттингена, финансово слабые
«попечители» могли оплачивать лишь небольшую зарплату, и поэтому
здесь были представлены только молодые кадры. Это должно
было выглядеть достоинством. Фихте, Шеллинг, Гегель, братья
Шлегели стояли еще в начале своей академической карьеры,
когда они приехали в Иену. Это распространялось даже на
Шиллера. Знаменитый уже к тому времени писатель был как
академический преподаватель новичком, которому не
выплачивалась зарплата и который рассчитывал лишь на небольшие
доходы из денег слушателей. Но он получал в то время
солидные гонорары за писательскую работу, и поэтому ему жилось
совсем не так, как многообещающим молодым профессорам,
которые откликнулись на призыв Иены и не знали теперь, на
что жить. Нужда приводила талантливых преподавателей к
тому, что они могли вывесить, например, объявление, что готовы
прочитать курс лекций по философии Канта, если кто-нибудь
одолжит его сочинения. Университет владел лишь небольшим
числом аудиторий; основательные и зажиточные профессора,
как, например, повсюду известный медик Штарк или теолог
Грисбах, имели в своих домах собственные лекционные поме-
312
щения, которые они сдавали коллегам. Грисбаховские
аудитории были самые большие в городе. Тот, кто стоял здесь на
кафедре, чувствовал себя звездой. Шиллер пока еще не
отваживается об этом думать.
11 мая 1789 года он приезжает в Иену и снимает у сестер
Шрамм, которые содержат пансион для студентов и
профессоров, три комнаты, дающие ему чувство — так он пишет
Кернеру 13 мая., — что он впервые ведет настоящее бюргерское
существование. Это просторные высокие помещения со
светлыми обоями, множеством окон, богатой и красивой мебелью,
игровым столом, тремя комодами, восемнадцатью креслами
красного плюша, так: что он тоже может в квартире проводить
семинары. Особенно его восхищает письменный стол,
изготовленный по его указаниям. Для него это в первую очередь
важнейший предмет меблировки, с которым он может
рассчитывать на уважение. Обед он получает за два гроша в своей
комнате, что вполовину дешевле, чем в Веймаре. С
четырьмястами пятьюдесятью талерами как минимум, которые ему
должно принести редактирование «Полного собрания
исторических мемуаров», он надеется в Йене обойтись; доходы от
дальнейших занятий должны пойти на погашение
оставшегося долга.
Шиллер более или менее спокойно смотрел в отдаленное
будущее, но с нетерпением ожидал того, что ему
непосредственно предстоит. Оставалось две недели до вступительной
лекции, которая сделает эпоху в Иене. Шиллер планомерно
подходит к делу. Сначала он знакомится с городскими
знаменитостями и принимает визиты студентов. Я несколько
смущен, — сообщает он Кернеру, — публичным выступлением, по.
именно потому, что я должен совершенно преодолеть
смущение, хотелось бы за это время более привыкнуть к этим лицам,
чтобы в первый раз не оказаться перед абсолютно чужими
людьми.
26 мая вечером между 18 и 19 часами состоялась
вступительная лекция. «В чем состоит изучение мировой истории и
какова цель этого изучения» — так звучало название, которое
Шиллер придумал позднее. Он выбрал аудиторию Рейнгольда,
которая, однако, оказалась слишком маленькой. Все свелось к
той замечательной сцене, которая., по словам Шиллера, была
разыграна следующим образом: Я не пожелал рассчитывать на
большой наплыв и дебютировать сразу в самой большой ауди-
313
тории. Эта скромность была вознаграждена самым блестящим
образом... В половине шестого аудитория была полна. Я видел из
окна Рейнгольда, как через улицу переходила одна кучка за
другой, и этому не было конца. Хотя я был не вполне свободен от
страха, тем не менее эта все увеличивающаяся толпа достав -
ляла мне удовольствие, и мое муясество скорее даже возросло.
Кроме того, я запасся известной твердостью, чему немало
способствовала мысль, что моя лекция не должна бояться
сравнения ни с какой другой, читаемой в Йене, и вообще желание,
чтобы все, кто будут меня слушать, признали мое превосходство.
Между тем толпа мало-помалу выросла настолько, что забила
переднюю, площадку и лестницу, и целые группы уходили. Тогда
кому-то из гюходившихся со мной пришло в голову, не взять ли
мне все-таки для этой лекции другую аудиторию. Среди
студентов был как раз зять Грисбаха; я внес через него
предложение читать у Грисбаха, и оно было радостно принято. Тут
произошла самая веселая сцена. Все бросились наружу пестрой
толпой — по Иоганнисштрассе! Эта улица, одна из самых длин-
ных в Иене, была вся усеяна студентами. Пока они мчались что
было мочи, чтобы занять в грисбаховской аудитории хорошее
место, вся улица всполошилась, и люди высыпали к окнам.
Сначала все вообразили, что пожар, и у дворца пришла в движение
стража. «Что это? Что случилось?» — раздавалось со всех
сторон. Тогда начали кричать, что это будет читать новый
профессор... Я вышел через короткое время в сопровождении
Рейнгольда, и пока я проходил почти через весь город, у меня
было такое ощущение, будто меня, гонят сквозь строй (Кернеру
28 мая 1789 года) (т.7, с.217—218). Аудитория Грисбаха тоже
была заполнена людьми. В дверях и вестибюле студенты
сидели прямо на полу; окна в этот теплый вечер мая были
открыты, так что слушатели собрались еще и снаружи на улице. Как
триумфатор, Шиллер прокладывал себе дорогу сквозь толпу
людей, эскортируемый важными лицами университета. В
толчее он едва нашел кафедру, под громкий мерный стук, который
здесь означает одобрение, поднялся я на нее и увидел себя перед
амфитеатром, полным людей... У меня хватило мужества
твердо произнести с десяток слов, а затем я вполне овладел со -
бой и читал таким сильным и уверенным голосом, что сам был
поражен (т.7, с.218).
Эта лекция произвела такое впечатление, что еще целый
вечер в городе можно было слышать разговоры о ней. Студенты
314
разнообразили ночную музыку криками «Vivat!», и на
следующий день аудитория была точно так же полна. В близлежащем
Веймаре этот первый успех Шиллера — тоже тема разговоров,
а неделей позже об этом говорят уже в Гамбурге, Франкфурте,
Шутгарте и Вене. Сам Шиллер, однако, оставался скептически
настроенным к действенности своего публичного выступления.
Он опасался духа зависти своих коллег. И очень правильно,
так как несколькими неделями позже ординарный профессор
истории по должности отказал своему коллеге Шиллеру в
получении титула «профессор истории», указав на то, что новый
профессор был принят только для занятий философией. Но
такое недоброжелательство доставляло Шиллеру гораздо
меньше забот, чем сомнение в том, может ли он действительно
достичь большего числа слушателей. И хотя студенты плотно
осаждают его кафедру, его одолевает темное чувство барьера,
через который едва ли можно перешагнуть. Бросаешь слова и
мысли. Не зная и почти не надеясь, что их где-либо подхватят,
и даже с убеждением, что четыреста пар ушей четыреста раз
поймут их превратно и часто — самым причудливым образом.
Ей малейшей возможности приспособиться, как в беседе, к
уровню понимания другого. Ко мне это относится тем более,
что мне трудно и непривычно спускаться до плоской ясности
(т.7, С.219).
Не плоско, но ясно взывает Шиллер к совести студентов в
этот теплый майский вечер. Он начинает с различия между
ученым ради хлеба насущного и философскими умами, которые
с энтузиазмом ищут истину. Он начинает свою лекцию, как
вдохновляющую проповедь. Шиллер, который говорит здесь
как учитель перед академической молодежью, вспомнил об
Абеле, любимом и почитаемом учителе собственной юности,
который в свое время тоже начал свою речь о «гении» с
такого различия между обычными людьми и талантливыми умами.
Как и Абель, Шиллер хочет воодушевить своих слушателей и
подстрекает их к дерзости: они должны открывать то, что в них
заложено, и должны приучать себя не к прилежанию, а к
повседневной тягловой работе. Шиллер проповедует
воодушевление к истине. Какой истине? Об этом он еще не говорит.
Вначале речь идет о позиции, внутренней установке.
Что отличает ученого ради хлеба насущного от философско-
энтузиастского ума? Для ученого ради хлеба знания ценны
лишь в той мере, в какой они приносят деньга, должности и ав-
315
торитет. Ученый ради хлеба хочет жить не для истины, а от нее.
Ему не хватает отдачи. Он искажает ценность порядка* расцвет
духовных сил для него не цель, а лишь средство для золота,
одобрения газет и благосклонности властителей.
Таком образом, Шиллер начинает с энтузиастского и
программного наброска научного образа мыслей. Причем он
закладывает традицию в этой области. Когда Фихте в 1794 году
и Шеллинг в 1799 году будут читать в Иене свои
вступительные лекции, оба продолжат шиллеровскую речь. Они тоже,
как и Шиллер, будут защищать дух исследования и любовь к
истине от «торгашеского духа». Они тоже будут настраивать
на тот высокий тон, который Шиллер в первый раз так
убедительно взял в своей лекции: Жалок такой человек: располагая
благороднейшими из всех орудий — наукой и искусством, он не
стремится создать и не создает ничего более высокого, чем по -
денщик со своими самыми жалкими орудиями, и в царство
совершеннейшей свободы тащит с собой свою рабскую душу (т.4,
с.11-12).
Ученый ради хлеба насущного будет следить за тем, чтобы
его знания сохраняли свою товарную стоимость, поэтому ему
кажется угрожающим прогресс в исследованиях, и он будет
всеми силами стремиться ему воспрепятствовать.
Следовательно, ученый ради хлеба насущного всегда враждебен к
назревшей революции в области науки. Он забаррикадировался в
своей школьной системе, как в крепости. Он по
необходимости станет догматиком, чувствующим только свою силу
препятствовать развитию и прогрессу. Философский же ум любит
истину больше, чем свою систему. Ом готов задавать вопросы
самому себе. Он всегда стремится к новому. Его страсть —
вопрос, а не надежный успокаивающий ответ. В то время как
ученый ради хлеба насущного боится конкуренции и защищает
свою собственность, мыслящие умы ищут внутренней
общности на все их идейное имущество; завоевание одного в царстве
истины является завоеванием всех (т.4, с. 13).
О своей собственной теме, универсальной истории,
Шиллер начнет говорить только во второй части лекции — во
второй лекционный вечер. Он подводит к выводу, что только
философский ум может придать смысл и цену изучению
универсальной истории, так как с точки зрения ученого ради
хлеба универсальному историческому мышлению не хватает
практической пользы и повседневного применения. Нужно ро-
316
диться с потребностью вглядываться в дальние горизонты,
нужно приходить в волнение от вопросов: откуда мы пришли,
куда мы идем и зачем?
Шиллер читал Руссо, но за прошедшие годы он
отказывается от его ответа, что рай естественных человеческих
отношений лежит позади и что история цивилизации есть история
упадка от совершенства к разложению. Нет причин
идеализировать прошлое человеческого рода. Вспоминаются открытия,
которые европейские мореплаватели сделали в чужих странах:
Они познакомили нас с народами, которые... сходны с детьми
различных возрастов, окруживших взрослого и на живом
примере напоминающих- ему, чем он сам был и из чего вырос (т.4, с. 14).
Картина, которую представляют народы нашего детства,
унизительна. Полемизируя с Руссо, Шиллер объясняет, что
человек начинается презренно. Им руководят инстинкты, грубые
чувства, его мучит неразумный страх, его первой реакцией на
чужого была враждебность. Древний человек был беззащитно
предоставлен своему страху и враждебности. Его разум
начинается с хитрости и коварства. Только под давлением
необходимости учились люди общительности и добродетели
взаимного уважения. Шиллер делает эскиз, как позднее Норберт
Элиас, медленного и долгого процесса становления
цивилизации, превратившего человека, руководимого извне, в человека,
руководимого изнутри, учившего надеяться на себя и внешнее
принуждение сделать внутренней необходимостью, процесса,
который необходим для культуры. Когда человек
освобождается от обязанностей по принуждению, над ним начинает
господствовать нравственное начало. Кому не страшны любые
наказания и угрызения совести, того начинают сдерживать законы
пристойности и чести (т.4, с. 17).
Идее о потерянном рае естественности принадлежит мечта
об единодушном равенстве между людьми. Действительно,
считает Шиллер, это равенство можно обнаружить еще в
царстве зверей. С тех пор как человек очнулся к разуму, он все
больше замечал различий: он основал свое самолюбие на том,
чтобы отличаться. Самосознание ведет к тому, чтобы различие
толковать в собственную пользу. Культура — воля к различию.
Воля к равенству к культуре даже не приближается.
Цивилизованному обществу нужно, таким образом, потерять
единодушное равенство, для того чтобы поднять эту потерю на более
высоком уровне: как равенство всех перед законом без ущерба
317
для неравенства людей во всяком другом отношении.
Равенство, утраченное им при вступлении в общество, он обрел снова,
благодаря мудрым законам (т.4, с. 16).
В конце мая 1789 года, когда Шиллер читал свою лекцию,
в Йене уже можно было услышать о чудовищно
разрушительном политическом развитии во Франции. В марте состоялись
выборы Генеральных штатов, поток жалоб и реформаторских
предложений обрушился из провинции на столицу. Голодные
мятежи делали страну небезопасной. После открытия
Генеральных штатов брожение наблюдалось уже и в Париже:
повсюду листовки, народные ораторы на площадях.
Заговорщики в кафе и клубах. Третье сословие называет себя
«Коммуной» еще до того, как оно конституировалось 17 июня в
качестве «Национальной ассамблеи». Предчувствие поворота
истории распространяется все дальше, и в Йене это тоже
становится ощутимым. Чувствуется, что начинаются великие
дела, что это великое время.
И шиллеровская вступительная лекция тоже исходила из
этого своеобразного возвышенного чувства. Это уже
абсолютно ясно, объясняет он, что мы находимся в кульминационном
моменте истории. Даже то, что мы сошлись с вами здесь и
сейчас, па этой ступени национальной культуры, с этим языком,
нравами, гражданскими правами, свободой совести, — быть
может, даже это — результат всех предшествовавших событий
мировой истории. Во всяком случае, нужна вся мировая
история для объяснения этого отдельного момента (т.4, с. 19—20).
Мы проделали большой путь, поясняет он, и поэтому будем
двигаться и дальше. История — это огромное рабочее иоле
человеческого рода. Тот, кто видел мировую историю под таким
углом зрения, у кого великая картина времен и народов стоит
перед глазами, тот покидает высоты своего одного только
личного жизненного счастья, тот освобождается от ограниченных
суждений, продиктованных эгоизмом, тот выглядывает из
своего короткого жизненного промежутка между рождением и
смертью и видит свою судьбу связанной с большой историей,
тот делает незаметным переход от индивидуализма к роду (т.4,
С.27).
Шиллер заканчивает свою лекцию патетическим оборотом:
Мы должны гореть благородным стремлением приобщить и
нашу долю к тому богатому наследию истины, нравственности и
свободы, которое мы получили от прошлого, и в приумноженном
318
виде передать последующим поколениям и закрепить наше
кратковременное существование связью с той вечной цепью,
которая соединяет между собой все человеческие поколения (т.4,
с.28).
Непосредственно перед разработкой своей вступительной
лекции Шиллер занимался составлением большого
«философского разговора» для предпоследней части романа
«Духовидец». В первый раз в связи с этим работа над романом начала
доставлять ему действительное удовольствие, и он считал, этот
текст своей лучшей философской работой из всего до сих пор
написанного. Хотя Шиллер, несколько дистанцируясь,
заметил, что эту философию не следует считать его собственной,
и
поскольку она высказана устами одного из персонажей
романа, но тут же высказал удовлетворение тем, что ему удалось
создать впечатление, будто он идентифицирует себя с
высказанными в романе мыслями. Противопоставь эту философию, —
пишет он Кернеру 9 марта 1789 года, — философии Юлия, и ты,
наверное, найдешь ее более зрелой и обоснованной (т.7, с.202).
Однако мысли из философского разговора в «Духовидце»
стояли в резком противоречии со вступительной лекцией. Лек-
V V
ция подчеркивает светлый, энтузиастскии аспект шиллеров-
ского понимания истории, разговор в «Духовидце»,
напротив, — темный, скептический, даже близкий к отчаянию. Здесь
снова, как во всех шиллеровских психолого-философских
работах, дается двойная перспектива: тогда — противоречие
между психологическим материалом и энтузиастской философией
любви, сейчас же на лицевой стороне видится энтузиастско-
просветительская прогрессивная идея и, с обратной стороны, —
видение мира, покинутого всеми добрыми духами. Два стиля
«.* К* о
мысли в противопоставлении: горячий и холодный, светлый и
О «-> Kt
темный, энтузиастскии и скептический.
Вступительная лекция вводит время человеческой жизни в
мировое время, дух истории расширяет оптическую иллюзию
бытия до бесконечности. Разговор в «Духовидце», напротив,
закрывает эту бесконечность. Пытливому уму (т.З, с. 612)
остается знать, что есть только настоящее, только его мы можем
ухватить, только в его границах наше бытие, всё, что выходит за
пределы этого, — игры воображения.
Философия безграничной мировой истории во
вступительной лекции противопоставляется философии мгновения в
«Духовидце». Философия истории обещает человеку такую дли-
319
тельность бытия, которую он как таковой никак не может
прожить. Мы вдумываемся в бег истории и начинаем ощущать —
так нам это представляется — непоколебимость и прочность,
мы чувствуем себя как существа, которые расширяются до
исторических масштабов, мы скользим над океаном истории и
забываем, что мы только борозды, которые ветер оставляет па
поверхности моря (V, 161). Историческое целое существует не
%J
как переживаемая действительность, а только как
мыслительная конструкция или фантом. Человек поселяется в узкой
грани реального настоящего между двумя огромными
нереальностями: прошлым и будущим.
Но это же несомненно, что есть прошлое и будущее?
Очевидно, конечно, что они ускользают от нас, если мы хотим их
схватить и прочувствовать. Но есть же отпечатки прошлого, со-
*_>
временные действия, которые указывают на причины в
прошлом. Очевидно, конечно, что только отпечатки — настоящее,
а то, от чего эти отпечатки, есть не больше, чем прошлое. От-
t-l t-J
печаток — это современный знак, но, как всякий знак, он не
означаемое, а только указание на него. Так настоящее указывает,
как знак, на большое несуществующее прошлое. Эти
отношения обнаруживаются также, если говорят о «причинах» и
«делах» в истории. Причины исчезают в современных делах, и
будущие дела могут быть постигнуты только в современных
причинах. И такое видение имеет только современность. Ее
связи с достоинствами и недостатками существуют только в
мысли и воображении. Это исторический смысл, который
связывает живой момент истории с историческим пространством.
Он сплетает событийную нить узоров в большой ковер,
который в таком виде существует только в воображении. Легко сно-
XJ t_f
ва раствориться в мнимой текстуре нашей картины истории, и
о «_»
остается только ограниченный момент, вспоминаемый и
современный. Целое распадается, его нельзя постигнуть, но даже
мгновение, которое длится только мгновение, нельзя удержать
и постигнуть.
Вступительная лекция набросала историю, как панорам-
ную картину; в разговоре в «Духовидце» пытливый ум работа-
*s и
ет как острый меч, который с каждым новым мыслительным
движением срезает еще одну ветку с моего счастья (тД с.612).
Расчлененным, атомизированным находит себя единичное,
отрезанным от осмысленных связей с прошлым и будущим.
Всеобщий смысл оно сводит к иллюзии. В грандиозной картине
320
Шиллер схватывает ненадежные основы: То, что было до меня
и что будет после меня, представляется мне как две черные
непроницаемые завесы, опущенные у граней человеческого
существования, за которые не дано проникнуть ни одному смертному.
Сотни тысяч поколений стоят с факелами перед этими
завесами и гадают, гадают — что же может скрываться за ними?
(тД С.613).
Нужно правильно понять ужас, который здесь звучит: речь
идет не только о бренности, о драматической ограниченности
индивидуальной жизни, речь идет также и не только о
неосведомленности в отношении прошлого и будущего, но и об
опыте безрассудства: интенциональная, то есть смысловая, связь
между прошлым и настоящим и настоящим и будущим
разорвана. Другими словами: речь идет о том, что это не
телеология в истории, не распространяющаяся цель, не конечная
причина, а только не видящая цели причина действия.
Непроницаемое покрывало, звучит далее в тексте, дурачит
людей: они ищут позади глубокую тайну и едва ли могут
отделаться от подозрения, что там ничего нет.
Получаются два вывода — первый: целое как пережитое
и прожитое ускользает от нас, есть только конструкции и
фантазии об этом.
Второй: при попытке постичь целое в историческом
процессе мы получаем не телеологию, а схватываем «слепое»
нагромождение причин и действий.
Само собой разумеется, имеются единичные направленные
поступательные течения, но решающим является то, что они
все переплетаются и спутываются и непременно ведут к
общему результату, который никем как таковой не
предусматривался. В ограниченных внутренних отношениях просматриваются
целеположения, в целом же господствует нецеленаправленный
принцип: причина — действие. Определенно философский
разговор в «Дз^овидце» отбрасывает истолкование причины и
действия в смысле средства и намерения. Вступительная
лекция настаивает именно на таком истолковании.
Исследователю истории нужно искать, звучит там, что он рассматривал
как причину и следствие, как связь, существующую между
целью и средством (т.4, с.25). Словно бы история, как целое,
преследует намерения, для осуществления которых ей требуются
люди. Нет, звучит в «Духовидце», это не так: целое есть не что
иное, как воплощения бесчувственной необходимости (V, 181),
321
которая все определяет. Эта «бесчувственная необходимость»
не столько нуждается в людях, сколько использует их. Эта
мысль до предела заостряется в вопросе: Целое было бы
мертвым, а часть живой? Цель была бы такой низкой, а средство
таким благородным? (V, 162). Совершенно наоборот во всту-
*J *_*
пительнои лекции: здесь целое действует как истинное и
живое, которое использует даже низкие побудительные мотивы
для достижения своих целей. Вступительная лекция
формулирует основное положение о том, что, хотя самолюбивый
человек может преследовать и низкие цели, он нередко
бессознательно содействует самым благородным (т.4, с.27). Гегель
назовет этот идеалистический концепт «уловками разума». Но
в «Духовидце» показано, что коварный разум в итоге
оказывается обманутым разумом. Он несостоятелен против
бесчувственной необходимости. Дело здесь в том, что и превосходный
человек будет способствовать только бессмысленности целого.
И все же автор «Духовидца» и автор вступительной
лекции, скептик и энтузиаст, не обитают в теоретических
параллельных универсумах, а воздействуют друг на друга. Это
особенно заметно там, где во вступительной лекции методически
развивается телеологический принцип истории. Не сама
история, говорится там, есть причинность. Это было бы слишком
сильным утверждением, возвышающим наши претензии на
истину, которую мы не можем себе позволить. Телеологический
принцип мы берем в большинстве своем из самих себя, под
заемным светом разума мы придаем действительности
привлекательный вид (т.4, с.25); мы пересаживаем собственную
гармонию в мир вегцей. Почему? Мы приобретаем для себя благодаря
этому высокое удовлетворение и мотивы для участия в
осуществлении мнимых высоких целей истории.
На темном заднем плане бесчувственной необходимости из
«Духовид] ta» прочитывается телеология, которая представлена
во вступительной лекции, может быть, только еще
телеологией «как бы». Человек не может стать осознающим цель,
которую природа исполняет через него (V, 165). Достаточно уже
того, чтобы он это осознание себе вообразил. А почему он это
должен делать? Сила воображения дает практическую уверен-
t.» к>
ность, и уверенность — это маленький световой луч посреди
темноты, из которой приходят и в которую идут. Можно все-
таки попробовать помнить об этих обеих сторонах темноты,
322
чтобы так действовать, будто бы Бог или история не
замышляют против нас ничего плохого.
Подобное поведение человека — независимо от того, к че-
V о
му это приводит в каждом отдельном случае: цепь действии
необозрима и потому безответственна, — вознаграждается уже
само по себе. Для этого Шиллер находит в «Духовидце»
удивительный образ: Я похож на гонца, несущего запечатанное
письмо по назначению. Что в этом письме — ему, может быть,
и безразлично, — он должен только получить плату за
доставку, и все (т.4, С.614).
Для «Вступительной лекции» универсальная история —
слишком большое мероприятие, в котором циркулируют такие
%J
запечатанные письма и которое вследствие такой циркуляции
поддерживается в движении. Там полно гонцов, которые сну-
*_? и
ют туда и сюда и придают целому хаотический и загадочный
вид. Но кроме того, есть еще и исторические деятели, которые
вскрывают печати отдельных писем и полагают, что им
известен намечающийся ход событий, и которые сами также имеют
послания, пересылаемые через ничего не ведающих гонцов.
«Послание Моисея» называется лекция того же лета —
текст достойный внимания, которым Шиллер был так горд, что
даже опубликовал его в «Талии» и позже включил еще и в
свою избранную прозу.
Речь здесь идет не меньше чем об изобретении монотеизма
в Египте и о передаче этого тайного учения через Моисея
евреям, универсально-историческое значение которых состояло в
том, чтобы помимо своей воли снова доставить обширному
региону мира это послание уже в христианской оболочке. Таким
образом, это должно раскрыть производственную тайну одной
^j %r «J
религии, сделавшей свою карьеру на этой кривой дорожке.
Гонец, который передает высокозначимое послание,
неизвестное ему самому, — этот образ подходит к
всемирно-исторической роли евреев, как ее изображает Шиллер. Они
приняли от Моисея монотеизм, по сравнению с политеизмом
религию объясняющую, которая оставляет себя для
понимания и даже изобретения разумом. Конечно, евреи приняли
монотеизм не в чистом виде, а смешали с суевериями и
ритуальными глупостями, и вообще, они были, так рассуждает
Шиллер, не в состоянии принять религию разумом, а могли
лишь в нее слепо верить. Они получили истину с фальшивым
органом, вместо разума только вера, и в этом отношении они
323
приняли ее недействующей. Поэтому действительно они были
гонцы с посланием, которое они в полном смысле не знали.
Несмотря на это, пишет Шиллер, мы должны рассматривать
нацию евреев как важнейший универсально-исторический
народ, — вопреки всему злу, которое этому народу привыкли
приписывать; и все усилия остроумных голов это значение
приуменьшить не смогут помешать нам быть к этому народу
справедливыми (IV, 784).
Послание, таким образом, — монотеизм разума. Тезис о
том, что Моисей получил этот монотеизм не через откровение,
а как тайное учение от египетских жрецов, должен был
спровоцировать широкую публику. Среди масонов и иллюминатов
он был уже известен. Шиллер сам перенял его от своего йен-
ского коллеги и члена ордена иллюминатов Карла Леопольда
Рейнгольда. За год до этого вышла работа Рейнгольда
«Еврейские мистерии, или Древнейшее религиозное масонство», но,-
несмотря на то что книга издавалась при помощи
преуспевающего издателя Решена, она едва ли была доступна вне круга
самих масонов. Рейнгольд хотел обратиться к большому кругу
читателей, но тонкая книжка осталась лишь эзотерической.
Рейнгольд, со своей стороны, опирался на исследования и
умозрения египтологов Джона Спенсера и Уильяма Варбуртона.
Только Шиллеру, благодаря публикации его лекций, удалось
ознакомить более широкую публику с темой, полной тайн и
провокаций.
Шиллер опубликовал свою лекцию мгновенно, так как
интеллектуальная общественность была еще иод впечатлением
спора о спинозизме. В августе 1785 года друг Гёте Фридрих
Генрих Якоби выпустил свое сочинение «Об учении Спинозы
в письмах господину Мозесу Мендельсону». Оно вызвало
большой интерес, потому что Якоби в нем сообщил, что Лес-
сип г был сторонником Спинозы. Спиноза со своим основным
положением «deus sive natura» (бог — значит природа) все еще
считался тайным атеистом. Следовательно, и Лессинг тоже
должен быть тайным атеистом? Якоби инсинуирует это. Он
цитирует разговор, в котором Лессинг якобы должен был
сказать: «Ортодоксальный смысл понятия божественного не для
меня; я не могу им наслаждаться. Хен Кай Пан! Я не знаю
ничего другого».
Бог как «Хен Кай Пан!», как «один и всё» подразумевает:
бога нет как персональной реальности, противопоставленной
324
миру, его нет как внемировой противоположности. Он не сила,
которая требует себе поклонения, которая может быть
милостивой или немилостивой. Бог — это просто воплощение всего,
что есть, и он действует через причинность между вещами и
людьми. Этот спинозистский бог есть не что иное, как
обозначенная Шиллером бесчувственная необходимость.
Мозес Мендельсон составил тотчас сочинение, в котором
защищал своего друга Лессинга от подозрений Якоби в
атеизме, и умер незадолго до его выхода в свет. Можно в этом
смысле сказать, что Мендельсон умер от гнева и печали и его смерть
остается на совести Якоби. На самом же деле Мендельсон
подхватил в январе, когда послал издателю свой манускрипт,
жестокую простуду, от которой и умер.
Провоцирующим в тексте Шиллера было то, что бог
египетского тайного учения, которое Моисей в переоформленном
виде должен был передать евреям, подозрительно похож на
спинозистско-атеистического бога. Шиллер цитирует слова,
которые нашли на одном из египетских изображений Исиды:
Я есть то, что здесь есть. Это высказывание стоит в явном
противоречии с тем ветхозаветным предложением «Я есть то,
что я есть». Здесь бог подает себя как персональность, как «Я».
Но в другом предложении бог растворен во всем, что здесь
есть. В одном случае он противопоставлен миру, в другом —
он есть мир. Этот египетский тайный бог, как пишет Шиллер,
не что иное, как всеобщая связь вещей. Акцент лежит на слове
связь. Бог как необходимость в порядке бытия, поэтому он
воплощает в себе как принцип единства, так и принцип
всемогущества К этому богу нельзя обратиться, можно лишь
обратиться к своему собственному разуму и с ним расследовать
связь вещей. Подлинное служение богу есть использование
разума.
Шиллер набрасывает краткую социологию религии и
должен дать справку о том, в каких обстоятельствах такая
спинозистская «религия» могла возникнуть в Древнем Египте. Это
была, пишет он, цивилизация с развитым разделением труда,
жрецы, специалисты заботы о божественных вещах (IV, 790),
использовали прогресс в науке и технике, и ими же был
сделан более светлый взгляд в физическую экономию природы,
разуму нужно было наконец победить грубые заблуждения, и
представление о высоком знании должно было облагородиться
(IV, 790). Но жрецы изначально знали также, что для того, что-
325
бы управлять государственной политикой, они не могут
требовать от народа этого ясного понимания, что лучше слепая
вера, чем желание пользоваться своим собственным разумом. И
поэтому египетский спинозизм был оставлен жрецами
тайному учению.
Через столетие после Шиллера египтологами будет открыт
секрет Эхнатона. Очевидно, фараон Эхнатон привел свою
страну к монотеизму солнца, имеющему, как показал Жан Ас-
сманн, некоторое сходство со спинозистским «deus sive
naturae. Попытка закончилась катастрофой. Начались гражданские
войны. Религия Эхнатона была подавлена, и все следы ее были
стерты. (На основе этого исследования Зигмунд Фрейд сделал
из Моисея преследуемого приверженца Эхнатона.) В
неразберихе того времени государственный порядок Египта почти
совсем развалился. Шиллер, не зная об эхнатоновском фатальном
эксперименте, хотел описать, как мыслимую возможность, то,
что в то время фактически и произошло: как только подвели
политеизм к разрушению, то одновременно разрушили все
колонны, которые несли целое здание государства, и это еще не
известно, стала ли бы новая религия, которую поставили на
старое место, в то время достаточно устойчивой, чтобы
выдержать всё здание (IV, 790—791).
Жрецы, таким образом, держали свое учение в секрете, и
Моисей его у них получил и использовал его для еврейского
народа как политический инструмент. Он хотел вывести свой
народ из Египта, и поэтому ему нужно было дать народу
уверенность и доверие к себе. Ему нужно было дать им бога. Но
это не может быть, как он скоро заметит, разумный бог, о
котором он узнал от жрецов. Так как этот бог хотя и един и
всемогущ, но он не персонифицирован. Это бог, который один и
XJ
все, и живет и творит во всем, но который именно потому не
тот бог, который особенно мог бы помочь одному
определенному народу. Не бог с персональным пристрастием. Таким
образом, он должен был настоящему богу, которого он им
провозглашает, придать свойства, которые сделают его понятным и
приемлемым для их слабых голов (IV, 803—804). В этом
состоит—и тут Шиллер уверен — гениальный трюк Моисея:
научить евреев смотреть на богов других народов как на
химеры — до такой степени он допустил их участвовать в
египетском тайном просвещении, — что он сделал им
приятным этого бога, обрядив его в языческие одеяния. Этим «язы-
326
ческим одеянием» была вера в избранность, которую он им
передал. Универсальный неперсонифицированный бог с
персонифицированным пристрастием — это было гениальное и
обладавшее огромной силой воздействия изобретение Моисея.
Это было его универсально-историческое послание. Но для
потомства важно то, чтобы этого универсального спинозистского
бога — «я есть всё, что здесь есть» — -очистить от языческих
добавлений персонифицированного пристрастия и капризов
избранности.
А каким был бог Шиллера? Было ли послание Моисея, о
котором он писал, предназначено и для него самого?
Персонифицированное представление о боге они обдумывали вместе с
Рейнгольдом, полагая, что нашли свидетельство ограниченной
познавательной способности евреев. Вопрос о персональном
боге не вставал перед ним со времен детства. Богом в стихах,
например, Клопштока он мог еще согревать себя некоторое
время. Но это не был уже христианский Бог. Эстетический бог
не один и не единственный, но он встречался во множестве.
Собственно говоря, показывалось так много богов, как много
мгновений истинных переживаний в природе, в общественной
жизни, в отношении к самому себе. Политеизм, это Шиллер
изобразил еще в «Богах Греции», есть истинная эстетическая
религия. Она остается имманентной и так богата и разнообразна, как
сама действительность, и знает только святость интенсивной
силы. На персонифицированный монотеизм, возникновение
которого описано в «Послании Моисея», в «Богах Греции» был
пролит невыгодный свет: Одного из всех обогащая, / Должен был
погибнуть мир богов.../ ..Я зову в лесах, над водной бездной: /
Пуст и гулок их ответ (т.1, с.159). Персонифицированный
монотеизм — в боге не всё, а один — можно также понять как
первый акт большого разочарования.
Если божественность отступила из мира к этому
единственному богу, если это должно было стать тайным смыслом
монотеизма, то это означает для Шиллера эстетически безвкусную
глупость. Египетский тайный бог имел для Шиллера, как мы
это знаем, большое сходство со спинозистским богом «deus sive
natura», то есть богом, о котором не известно, действительно ли
он один, или же только возвышенное понятие для всесторонних
связей природы. Такое понятие бога Шиллеру, во всяком
случае, импонирует. Если в этом состояло подлинное послание
Моисея, то Шиллер мог бы подтвердить его получение.
327
Но даже с этой «божественной» взаимосвязью природы у
Шиллера, как известно, были свои проблемы. Так понимаемая
природа действует на него как перевернутая картина: один раз
на ней видят бесчувственную необходимость, в другой -
живущую и любящую взаимосвязь, смотря по тому, как мы сами
настроены, приближаясь к тайнам природы.
Пять лет спустя Шиллер еще раз посетит в своем
стихотворении «Саиссское изваяние под покровом» египетское царство
теней. Своим «Посланием Моисея» он сам способствовал
тому, чтобы в девяностых годах Египет и его древние мистерии
стали модной темой.
В «Саисском изваянии под покровом» монотеистский,
наполовину египетский, наполовину спинозистский бог еще раз был
подвергнут экзамену. Ищущий истину юноша стоит перед
занавешенной картиной, за которой, как объясняет жрец, скрыта
истина. Почему она занавешена? Почему нельзя вуаль просто
отодвинуть в сторону? «...Возможно ль? — / Воскликнул он. —
Як истине стремлюсь,/ А здесь она таится под завесой?»/ «Об
этом ты спроси богов, — сказал / Ему учитель. — Ни один из
смертных, / Так боги молвят, да не смеет тронуть/ Священной
ткани дерзостной рукой, / Пока ее мы сами не поднимем./А
если человек сорвет ее,/ Тогда...» — «Тогда?...» — «Он истину
узрит» (т.1, С.195).
Как может истина, к которой человек стремится, в то же
время быть наказанием? Может быть, так: то, что держит мир
вместе, а это истина, должно показаться, ее нельзя разоблачать.
Если любопытству не могут противостоять, то истина, которую
разоблачают, выглядит как наказание путаницей. Юноша, по
крайней мере, не смог пережить взгляда на нее. Или
существуют две различные истины — одна, которая показывается сама
по себе, и другая, которая себя показывает, только если с нее
снят покров? Нет, это та же самая истина, которая только
иначе выглядит, смотря по обстоятельствам, принимают ее или
вынуждают. Та же самая истина — но какая же из двух? Это все
еще, как в «Послании Моисея», истина «deus sive natura». Но
в зависимости от того, в какой ситуации мы ее осознаем, мы
видим природу божественной или божественное в обнаженной
естественности — по словам Шиллера, как бесчувственную
необходимость или как живущую и любягцую взаимосвязь.
Есть добродетели, которые сами себя вознаграждают, и есть
пороки, которые нет нужды наказывать, потому что они сами
328
по себе являются достаточным наказанием. Но есть еще поиск
истины, который наказывает себя сам. Медик Шиллер знал:
разрезав тело, нельзя найти души, а разрезав мозг, нельзя
найти ни одной мысли.
Чтобы вернуться к «Посланию Моисея» и «Саисскому
изваянию под покровом»: производственную тайну мира, будь
это бог или природа, решает, в конце концов, только позиция,
с которой выступают ей навстречу. На вопрос об истине мы
получаем ответ, который мы заслужили. Что увидел юноша из
Саиса, когда он навязчиво сдернул покрывало, мы можем
только догадываться, так как Шиллер еще прежде в «философском
разговоре» в «Духовидце» дал знак; позади покрывала перед
тайной мира, так он пишет, может очень просто — ничего не
скрываться. Вероятно, юноша из Саиса тоже открыл именно
это — незначительность — и был напуган до смерти.
Это значит: с великих истин нельзя хотеть снять покров,
так как в этом случае они повергнут человека в банальность;
гораздо лучшие с энтузиазмом и любовью пересадить их в
произведение, только тогда они станут богатыми и прекрасными.
Это — эстетическая религия Фридриха Шиллера.
ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Революция как современный миф. Осторожность Шиллера.
«Найдет ли еще поздний разум раннюю свободу?» В ореховой
скорлупе по человеческому океану. Весна народов и весна любви.
Обручение. Женитьба. Изобилие идей. Ревнивая Шарлотта
фон Кальб. Насколько актуальна «Тридцатилетняя война»?
Шиллер — немецкий Плутарх. Возвышенные чувства.
Катастрофа. Близость смерти. Воскрешение
Летом 1789 года, пока Шиллер читал лекции по
универсальной истории и предыстории монотеизма, во Франции
произошли события, в отношении которых современники были
убеждены, что они имеют всемирно-историческое значение и будут
вызывать у последующих поколений ужас и восторг. Это
события, которые уже в момент их свершения воссияли
мифическим блеском и истолковывались как первые эскизы драмы
рождения новой эпохи. События, которые, едва лишь они про-
изошли, уже повсюду, и в далекой Иене тоже, стали
восприниматься как достойные пера и ощущались как «классические»:
«Клятва в зале для игры в мяч» 20 июня, когда депутаты
третьего сословия провозглашают себя как Национальное
собрание и клянутся оставаться верными друг другу, пока не будет
принята новая конституция; увольнение либерального
министра финансов Неккера 11 июля как первый акт
контрреволюции и последовавший за этим штурм Бастилии 14 июля; ярость
суда Линча; первые аристократы на фонарях; формирование
национальной гвардии; 17 июля — первая капитуляция
короля, который склоняется перед национальной гвардией и берет
кокарду; революционная буря, которая проносится через всю
Францию, крушение государственной власти в провинциях,
мятеж крестьян, перевороты в городах; «великий ужас», от
которого вся страна затаила дыхание; начало эмиграции дворян.
По направлению к Турину спасается бегством «цвет» старой
Франции, во главе бредущих тысяч оба брата короля;
памятная ночь с 3 на 4 августа, когда Национальное собрание,
опьяненное собственной отвагой, бесчисленными патетическими
декретами, громит многовековую феодальную систему
Франции; торжественное провозглашение прав человека и
гражданина 26 августа; второе крупное восстание в Париже 5 октяб-
330
ря, когда рыночные торговки принуждают короля и
Национальное собрание к переселению из Версаля в Париж.
Вместе с этой революцией во Франции и прилегающих
странах почти за одну ночь возникает новое понимание
политики. Политику, до сих пор прерогативу дворов, понимают
теперь как сферу, которая может превратиться в сердечную
привязанность. Необходимо дать себе отчет в огромной цезуре,
которую этот взрыв политического имеет своим следствием.
Вопросы смысла, за которые раньше была ответственна
религия, переносятся теперь в политику; сдвиг в сторону
секуляризации, который превращает так называемые «последние»
вопросы в общественно-политические; свобода, равенство,
братство — политические лозунги, которые не скрывают
своего религиозного происхождения: Робеспьер инсценирует
впоследствии богослужение политическому разуму.
Вплоть до Французской революции история была для
большинства фатальным событием, которое вторгалось, как и
всякая эпидемия или стихийное бедствие. События 1789 года
впервые оставляют у современников ощущение понимания
исторических процессов грандиозного размаха, и в ногу с этой
политизацией идет ускорение. Революционные армии,
заполонившие Европу, не только положили конец старым кабинетам
и наемническим войнам, помимо этого народные армии стали
символом вооруженной нации и означали, что история
рекрутирует к соз'частию также и маленького человека.
Шиллер умеет использовать пафос исторического момента
для своих лекций. Но он избегает прямых высказываний о
событиях. В письмах тоже обнаруживаются лишь некоторые
намеки. Один раз он рассказывает в письме к Шарлотте и
Каролине несколько анекдотов, которые он услышал от одного из
посетивших Париж. Вы можете этим осчастливить двор (30
октября 1789 года) — так он комментирует происходящее. Он
описывает, как король перед марширующей национальной
гвардией хотел ответить на приветствие аплодисментами,
будучи с кокардой в одной руке и шляпой в другой, но так как
руки его были заняты, то он засунул кокарду в рот, надел
шляпу и, оказавшись, таким образом, налегке, изо всех сил
захлопал в ладоши. Или другая сцена, как при вступлении
парижских торговок в Версаль придворные забывают с перепугу о
королевской трапезе и голодному королю в конце концов
подают на стол не что иное, как стакан кислого вина с куском чер-
331
ного хлеба. Шарлотта слышала истории похуже: об уличных
парижских торговках рассказывали, что «некоторые из них
собрались у тела убитого гвардейца, вырвали его сердце и
распили кровь из бокалов».
Шиллер внимательно следит за историей. Он жадно
читает каждый газетный лист, оповещающий о парижских
событиях; это еще воспринимается им не так, как будет после казни
Людовика XVI, когда он напишет Кернеру: На протяжении по-
следних четырнадцати дней я ne мог больше читать франгщз-
ских газет, столь омерзительны мне эти подлые живодеры (8
февраля 1793 года).
Шиллер пережидает, он не позволяет, подобно Гердеру,
Форстеру, Виланду, Клопштоку и другим, вовлечь себя в
общественную демонстрацию одобрения; он не слагает, подобно
Клопштоку, оду французской свободе: «Галлия коронует себя
/ Гражданским венцом, как никто раньше»; он не пишет
баллад о закате феодального порядка, как Бюргер. Он не сажает
дерево свободы на лугу Неккара в Тюбингене, как Гёльдерлин,
Шеллинг и Гегель. Разумеется, он с симпатией следит за
первыми шагами революции: «Клятва в зале для игры в мяч»,
исполненные патетики речи графа Мирабо, отмена феодальной
системы, провозглашение прав человека; Шиллер осознавал,
что при этом исполнились некоторые мечты маркиза Позы, и
это радовало его. Его это окрыляло. Каролина связала
впоследствии эти первые недели революции со взрывом чувств в пору
их обручения. Она говорит, что весна любви и весна народов
были пережиты в одно и то же время.
И все же Шиллер оставался осторожным. Определенно,
французская земля содрогнулась, все существующее
обрушилось почти за одну ночь, но теперь надо было решать, сможет
ли просвещенная мысль быть достаточно сильной, чтобы
управлять стихийно вырвавшейся свободой. Шиллер хранил
молчание не от недостатка участия, а потому, что затаил
дыхание перед лицом чрезвычайных событий, в которых для него
на карту была поставлена дальнейшая судьба разума и
свободы.
В этот момент напряженного ожидания, в ноябре 1789
года, Шиллер пишет для издаваемого им «Общего собрания
исторических мемуаров» статью о Средневековье и начале
Нового времени. Вначале он противился принятым обязательствам
и с неохотой взялся за работу, но внезапно, к своему удивле-
332
нию, загорелся и написал текст в один присест и, абсолютно
окрыленный чувством эйфории, сообщает Каролине: Я не
создал еще ничего равного по достоинству... никогда я не
объединял столько содержательных мыслей в такой счастливой
форме и никогда так успешно не помогал уму силой фантазии... Но
я никогда так живо не сознавал, что сейчас в немецком мире
нет никого, кто мог бы написать именно это, кроме меня (т.7,
С.233).
Счастливое ощущение удачи пришло потому, что Шиллер
полагал, что на вопрос, какая из средневековых предпосылок
привела к успеху Реформации, он нашел блестящий ответ, с
помощью которого он мог бы лучше понять актуальную
проблему революции. Существует, так звучит эта мысль,
неодновременное развитие, с одной стороны, жизненных сил, которые
выражают себя в фантазии, в энтузиазме, в готовности к
жертве и воле к свободе, и, с другой стороны, сил разума и
просвещения. Для Шиллера крестовые походы, которые позволили
европейской элите прорваться к энтузиазму приключения, —
доказательство могучей жизненной силы цивилизации, но
жизненной силы, которая не шла за разумом и не была
озарена просвещением. И поэтому для последующих веков
возникла проблема: удастся ли эту свободную жизненную силу
сохранять до тех пор, пока более медленное развитие просвещения
не догонит ее. Ведь именно к этому, по Шиллеру, всё и
восходит: а именно: найдет ли егце поздний разум раннюю свободу
(IV, 850).
Это формула, которую Шиллер провозглашает почти как
исторический закон. Речь идет о том, что проблема
неодновременного развития элементарных жизненных сил (Шиллер
называет их в этом контексте свободой), с одной стороны, и
разума—с другой, скрывает в себе риск, что элементарные силы,
не обученные разумом, низойдут в хаос или что развитый
разум появится слишком поздно и встретит жизнь, силы которой
уже истощились. Это было бы время декаданса. Реформация
для Шиллера — именно такой счастливый случай, потому что
просвещенные головы нашли еще сильные сердца и революция
образа мышления охватила сильное и здоровое поколение.
Сила, которая некогда расходовалась в суеверных приключениях
крестовых походов, еще была жива, когда Реформация
просветила головы, и поэтому та же сила могла бороться за новую
свободу человека-христианина. Жизнь сохранила его страст-
333
ные силы и могла бросить их позднее в бой на стороне разума
То, что Реформация представляет собой триумф разума, было
для Шиллера несомненно, однако победил разум, который
находился в союзе с сильными чувствами, проникавшими
дальше, чем любой разум, и только поэтому Шиллер оставался оча-
*_» о
рованным этой историей.
Двумя годами позже, в «Предисловии к обработке Нит-
хаммером истории мальтийского ордена Верто», у Шиллера
вновь появляется возможность вернуться к мысли о неодно-
t^ XJ
временности разума и стихийных жизненных сил, на сей раз
*_J *-}
еще отчетливее привязанной к всемирно-исторической драме,
которая разыгрывалась перед его глазами. Герои
Средневековья оставались в заблуждении, которое они принимали за
мудрость, и именно потому, что оно было их мудростью, кровью,
жизнью и собственностью; насколько плохо поучал их здравый
смысл, настолько лее геройски повиновались они его
высочайшим законам — а можем ли мы, их утонченные внуки,
похвастаться, что мы в нашей мудрости отважимся сделать хотя
бы половит] того, на что отваживались они при всей их
глупости (IV, 992).
В этом тексте Шиллер также не касается определенно
Французской революции, но вопрос, с помощью которого он
определяет ее перспективы, именно таков: Найдет ли еще
поздний разум раннюю свободу!
Ранняя свобода означает при ближайшем рассмотрении
силу воли и силу веры на службе несвоекорыстных целей, а
также, если таковым необходимо быть связанными с суеверием,
силу характера человеческой субстанции, из которой поздний
разум может что-то сделать.
Через некоторое время Шиллер придет к выводу, что «по-
*J %*
зднии разум», который выступил в революции на
историческую арену, сильного человека уже или еще не застал.
Момент, — заявлял он в знаменитом письме герцогу Августен-
бургскому от 13 июля 1793 года, — был благоприятнейший, но
он нашел гибельное поколение, которое его не оценило, и это
доказывает неопровержимо, что человеческий род еще не вышел
из-под опеки власти и что он еще fie созрел для гражданской
свободы, в которой пока отсутствует так много человеческого.
Человеческая свобода означает, таким образом, не только
способность идти за разумом, но также и силу характера.
334
Шиллер предпочитает до поры до времени только
косвенно выражать в обществе свое мнение о революции, поскольку
он не доверяет скоропалительным приговорам. Он знает, что
ему слишком мало известно о событиях. Он находит
смехотворным то, как быстро, например, Виланд делится своими
суждениями, как будто он был посвящен в действительные
тайны революции. Эти быстрые приговоры и самонадеянное
знание были ему ненавистны. Это не подходит ему так же, как
и Гёте, который тоже с отвращением замечает, как революция
внезапно превращает законопослушных людей в политических
демагогов. В дни после взятия Бастилии Гёте добавляет во
вторую из своих «Римских элегий» предложение: С вами также
прощусь я, большого и малого круга / Люди, чья тупость меня
часто вгоняла в тоску; / В политиканстве бесцельном все тем
лее вторьте сужденъям, / Что по Европе за мной в ярой погоне
прошли (т.1, с. 183).
Что значит быть современником или непосредственным
свидетелем великих исторических событий? Что происходит,
когда они затрагивают человека? Что должно совершиться? Не
нужно ли вначале перемениться самим, чтобы быть их
достойными? Не нужно ли разоблачить в самом себе человека
обыденного? Не потому ли высказывается так много безрассудных
суждений, что люди приближаются к возвышенному в своих
домашних куртках и больше не могут отличать общественное
от личного?
Шиллер начал задавать себе эти вопросы уже в ноябре
1788 года в связи с письмами, которые ему писал из Парижа
его друг Вольцоген. Надо сначала настроить внутренний
смысл в унисон с величием объекта — так комментирует он
эти запутанные письма в послании Каролине от 27 ноября
1788 года. Кто на это не способен, должен уступить
историческое место. Он для этого не создан. Это не каждому дано —
соответствовать большому месту и большому событию. У кого
есть склонность и охота общаться с огромным миром людей,
тот должен чувствовать себя хорошо в этой широкой стихии;
как мелки и жалки по сравнению с этим наши общественные и
политические отношения!... Человек, когда он действует в
единении с другими, всегда существо значительное... Моей
маленькой, скромной особе большое политическое общество, на
которое я смотрю из своей ореховой скорлупы, представляется
примерно так, как может представиться человек гусенице,
335
ползающей по нему. Я питаю бесконечное почтение к этому
огромному, стремительному человеческому океану, но мне
хорошо и в моей скорлупке (т.7, с. 180—181).
Шиллер отдавал себе отчет в ограниченности своей
перспективы. Он не забывал ни на секунду, что так и не окунулся
в человеческий океан, а сидел на суше, в своем рабочем кресле
у сестер Шрамм; он также не забывал, что он только мыслит о
4J %-F
значительном существе, действующем в единении людей, но не
может это непосредственно познать. Поэтому он оставался
осторожным и избегал эмоциональных выступлений и скоропа-
и
лительных суждении.
Кроме того, в эти месяцы происходило нечто другое, что
было ближе его сердцу: в августе 1789 года он обручился и в
феврале 1790 года женился.
После длинного совместного лета 1788 года в Рудолыптад-
те между Каролиной, Шарлоттой и Шиллером шли туда и
сюда многочисленные письма. В них во всех деталях описывались
события дня; Шиллер использовал письма также и как первые
пробы мыслей и формулировок своих будущих произведений.
Он позволяет заглянуть в свою творческую мастерскую:
История вообще только склад для моей фантазии, и предметы
должны мириться с тем, во что они превращаются в моих руках (т. 7,
с. 189 -190). Так четко о своем самосознании историка Шиллер
больше не выскажется. Общение с Шарлоттой и Каролиной
стимулирует силу его воображения и воодушевляет его на
смелые мысли. Однажды он играючи набросает очерк гениальной
натурфилософии: Никогда еще не чувствовал я с такой
ясностью, как свободно наша душа распоряжается всем
мирозданием, как мало оно способно само давать и все, всё получает от
души (10 сентября 1789 года) (т.7, с.229). Если бы мы не стали
сообщать ей свои чувства, то она была бы не чем иным, как веч-
иым равнодушием ее явлений и вечным подражанием самой
себе. Природа, пишет он, как огненный шар солнца, который
видится на миллионы ладов и пребывает в покое неизменно в
центре внимания этих многочисленных перспектив. Солнце
может пребывать в покое, потому что наш дух движется вместо
него, и так в мертвом покое лежит всё вокруг нас. И ничто не
живет, кроме нашей души (т.7, с.230). Но сколь благодетельно
все же это однообразное постоянство природы. Мы блуждаем
вокруг всегда в опасности потерять самих себя, мы
возвращаемся к природе, и она напоминает нам о чувствах, которые мы
336
в нее вложили. Мы отдаем нашу переменчивую натуру на
сохранение природе, и в моменты, когда мы теряем самих себя,
мы милостиво получаем себя от нее обратно. Как несчастливы
были бы мы, которым так необходимо радости прошлого тоже
по-хозяйски причислить к своему достоянию, не будь у нас
возможности надежно хранить у этой неизменной подруги наши
ускользающие сокровища. Всем нашим существом мы обязаны
ей, ибо, если бы завтра она предстала нам преображенной,
тщетно искали бы мы свое вчерашнее «я» (10 сентября 1789
года) (т.7, С.230).
В письме Шиллер впервые замечает, сколь великолепные
идеи приходят к нему. Воспоминание о вас неразлучно со
мной, - все напоминает мне о вас. И никогда так свободно и
смело не блуждал я мечтою в мире идей, как теперь, когда моя
душа имеет нечто свое собственное и больше не подвергается
опасности потерять себя. Я знаю, где я снова найду себя! (10
сентября 1789 года) (т.7, с.230). К сожалению, эти идеи о
природе как хранилище самого себя Шиллер не развил дальше. Но
любовь расточительна и чрезмерна, она не может усидеть
дома, поэтому некоторые из выраженных в письме полетов
мысли остались скрытыми от бухгалтерских оценок.
Каролина тоже предстает в своих письмах во всем
богатстве мыслей, она теоретизирует и рефлектирует, тогда как
Шарлотта скорее упражняется в отображении впечатлений
природы. Обе, Шарлотта и Каролина, охотно рассказывают о
беседах, встречах, театральных представлениях, прогулках, по-
рой также и о светских сплетнях, в промежутках между
которыми следуют заверения о том, как им друг друга не хватает,
они погружаются в воспоминания о прошедшем лете, взаимно
заверяют друг друга, сколь близки они в чувствах и сколь
чуждо им их непосредственное окружение. Так, Шиллер пишет: Я
чувствую себя как тот, кого забросило на чужой берег и кто не
понимает языка этой страны (24 июля 1789 года), а
Шарлотта отвечает с обратной почтой: «Я всегда расстроена, когда
нахожусь среди таких созданий и стою среди них, погруженная в
себя, как на необитаемом острове, в сердце моем нет для них
языка» (24 июля 1789 года).
Но и для собственных сердечных дел оба не находят еще
четкого языка. Шиллер, несмотря на то что еще со времени
принятия профессуры твердо решил просить руки Лотты, не
находит мужества признаться ей в своих желаниях. И Лотта, кото-
337
рая тоже, конечно, к нему что-то испытывает, не имеет
мужества открыться. Шиллер медлит еще и потому, что ему известно
о сословных ограничениях и что он достаточно познакомился,
между прочим, с матерью, чтобы знать, что замужество
младшей дочери согласно сословным требованиям пришлось бы ей
весьма по сердцу. Будет ли преодолено это противоречие?
Шиллер колеблется между убежденностью и малодушием. Не
уверен он и в чувствах Лотты, любовь ли это или это дружба, и
не разрушит ли он дружбу, если признается ей в своей любви.
Так, во всяком случае, объяснил Шиллер невесте свое долгое
гфомедление.
Летом 1789-го он дважды имеет возможность открыться
Шарлотте. В июне он приезжает на несколько дней в Рудоль-
штадт, говорит о разном и хранит молчание о главном. Так же
и во время краткого визита сестер в Heiry 10 июля 1789 года.
После этого он пишет Лотте: Никогда не хотел я сказать вам
так много, как в этот раз, и никогда я не сказал меньше. То, что
я должен был удержать в себе, подавляло меня, меня не радовал
ваш взгляд (24 июля 1789 года). Но вместо того, чтобы ей в
письме высказать то, что не решился сказать на словах, он
цитирует вычеркнутое место из «Дон Карлоса»: Плохо, что...
душа, лишь в звуках / Воплощаясь, предстает другой душе. Он
опять хранит весьма красноречивое молчание.
Наконец 2 августа в Лаухштедте, где сестры отдыхали на
%J
курорте, состоялся решительный разговор, но и на этот раз не
с самой Шарлоттой, а с Каролиной. Она, которая сама охотно
услышала бы от Шиллера признание в любви, должна этому
трусу придать мужества, чтобы просить руки у сестры.
Каролина указывает ему на то, что Лотта его любит и охотно
согласится пойти с ним под венец, но требуется осторожность, для
начала надо обработать мать, ее еще рано вводить в курс дела.
Профессиональные обстоятельства жизни Шиллера должны
стать более благоприятными, например, может быть, следует
добиться более высокого оклада у веймарского герцога или
поста придворного советника у кобургского наследного принца.
Каролина думает вполне практично, и в разговоре 2 августа
речь идет не только о любви, но и о подобных вещах. Шиллер
отбывает из Лаухштедта, так и не поговорив обо всем с самой
Лоттой. Однако теперь он знает, что он может ей довериться и
что он не будет отвергнут. Он пишет ей на следующий день:
Правда ли это, бесценная Лотта? Могу ли я надеяться, что
338
Каролина прочла в вашей душе и ответила мне так, как
ответило бы ваше сердце на то, в чем я не осмеливался признаться?
(т.7, с.222).
Шиллер на пути в Лейпциг, где он встретит друга Кернера.
Ему он до сих пор обо всем умалчивал, и сейчас, когда он
наконец во всем признался, Кернер чувствует себя обманутым.
Полгода назад Шиллер написал ему: Если бы ты мог в течение
года найти мне жену с приданым в двенадцать тысяч талеров...
тогда академия в Йене может лизать мне... (т.7, с.201). И 28
мая, когда Шиллер был готов решительно просить руки
Лотты, он спрашивал Кернера: ...если ты знаешь о какой-нибудь
богатой партии, напиши-ка мне... (т.7, с.220). Разлад между
друзьями продержится некоторое время и после свадьбы 22
февраля 1790 года. Для Кернера это было нарушением
доверия, но, конечно, сыграла свою роль и ревность. Ему очень
хотелось сохранить друга только для себя.
Шиллер со своей стороны не считал, что в этом случае он
не прав, ведь он не забыл, как Кернер отговаривал его от
женитьбы в начале 1788 года, хотя тогда мог заглянуть в душу
Шиллера и знал о его душевной потребности. В то время он
писал Кернеру: Мне нужно иметь рядом живое существо,
которое принадлежит мне, которое я могу и хочу сделать
счастливым, существование которого могло бы подкреплять меня
самого. Ты не знаешь, как опустошена моя душа, как омрачен мой
разум — и все это... из-за внутренней изработанности моих
чувств. Если я не осуществлю надежду сплести с кем-либо мое
существование... то я погиб (7 января 1788 года).
Кернер не понял этот крик души или не хотел понять, и
потому Шиллер резко заявляет, что если он и напишет о
сердечных делах, то это произойдет, чтобы поставить вас в
известность о том, на что я решился (Хуберу, 20 января 1788 года).
Так оно и случилось. Лишь в августе 1789 года, когда он уже
все решил, он впервые извещает своего друга.
Хранить все в тайне от матери становится все более
тягостным, и поскольку выясняется, что ситуация со службой
Шиллера скоро и существенно к лучшему не изменится, то нет
больше разумной причины держать обручение в тайне. 15 декабря
1789 года Шарлотта и Каролина открывают матери тайну, а сам
Шиллер спустя три дня пишет госпоже фон Ленгефельд и по
всей форме просит руки ее дочери. После некоторого
промедления она дает свое согласие, не без беспокойства спрашивая:
339
«Простите мне материнскую заботу и обязанности, но можете
ли Вы вместе с Вашей нежной любовью обеспечить Лоттхен (не
блестящее счастье), но хотя бы только средства для хорошего
существования?» (21 декабря 1789 года).
Финансовые виды на будущее, на которые Шиллер может
сослаться, пока еще скромны. Герцог пообещал ему
содержание в двести талеров; как пользующийся спросом профессор,
он может кое-что ожидать от студенческой платы за лекции;
есть и отдаленная перспектива, что коадъютор Майнца Карл
фон Дальберг, брат мангеймского интенданта, обеспечит
высокооплачиваемую должность профессора в Майнце. В конце
года он заключает договор с Гёшеном о работе для
«Исторического календаря для дам». Оговоренный гонорар в четыреста
талеров исключительно высок, особенно если сравнить его с
тысячей талеров, которые Гёте получает за восьмитомное
собрание своих произведений. Из этой работы в течение
следующих трех лет вырастает второе, и последнее, крупное
историческое исследование Шиллера — «История Тридцатилетней
войны». Вначале Шиллер взялся за работу не из-за темы, а из-
за внушительного гонорара, который был бы весьма кстати для
его нового положения женатого человека.
22 Ä$? 1790 года в деревенской церкви Венигенйены
перед воротами Йены в полной тишине состоялось венчание, в
качестве свидетелей присутствовали только Каролина и мать.
Пытались избежать возможных шумных и бурных
поздравительных акций студентов.
Госпожа фон Ленгефельд дарит супружеской паре белье,
столовые приборы, мебель, но отдельного домашнего
хозяйства пока не создают, лишь снимают дополнительно пару комнат
у сестер Шрамм. Шарлотта содержит девушку-прислугу,
Шиллер — слугу. О питании и дальше заботятся сестры Шрамм.
Так начинается домашнее существование, желанную
картину которого Шиллер некогда описал восхищенными
словами: Непрерывное мягкое упражнение в радости общения,
которая создает такую прекрасную почву и как бы основной цвет
жизни и благотворна и не излишня для человека, у которого
голова и сердце должны постоянно работать (Хуберу, 20
января 1788 года).
Лишь дважды был нарушен покой перед свадьбой. Шиллер
скрыл обручение с Лоттой от своей многолетней подруги
Шарлотты фон Кальб даже тогда, когда она в конце сентября сооб-
340
щила, что надеется добиться с помощью Гердера расторжения
своего брака. Она даже намекнула, что потом возможно
соединение с Шиллером, — Шиллер должен был не позднее этого
момента сообщить о своей помолвке. Шарлотта фон Кальб о
чем-то догадывалась. В конце декабря 1789 года она устроила
Лотте ужасную сцену во время придворного праздника в
Веймаре. Она ругала отсутствовавшего Шиллера последними
словами и не прекратила этого даже тогда, когда подошел герцог.
Шиллер написал своей бывшей подруге только 8 февраля, за
две недели до свадьбы. Спустя два дня обе Шарлотты снова
встречаются в Веймаре. Снова ужасная сцена. Шарлотта фон
Кальб, пользующаяся дурной славой из-за своих
мелодраматических сцен, на этот раз производит впечатление «неистового
человека, у которого прошел припадок чувств, такого
измученного, такого разрушенного... она сидела между нами как
явление с другой планеты» — так нескрываемым триумфом звучит
рассказ Лотты.
У Лотты тоже были основания почувствовать опасность
этой страстной женщины. Шарлотта фон Кальб удаляется,
некоторое время избегает встреч с Шиллером, она требует
вернуть ее письма и уничтожает их. Сорок лет спустя Шарлотта
фон Кальб подводит итог своего любовного опыта: «Человек —
существо, с которым хочешь жить: это желание — величайшая
ошибка». Она преодолевает разочарование, влюбляется в Жан-
Поля и так же загорится страстью к Гёльдерлипу. Она снова
приблизится к Шиллеру, возникнет даже непринужденная
дружба, которая продлится вплоть до смерти Шиллера.
Оглядываясь назад, она назовет себя «верной немкой», которая не
переставала «любить Шиллера».
В первый год домашнего счастья Шиллер остается
спокоен. Почти маниакально погружается он в работу. Он многое
возложил на себя. Это ежедневные лекции, материал для
которых он еще не может черпать из своих прежних знаний. Он
должен обучать тому, что сам только что выучил и прочитал.
Он должен курировать издание «Общего собрания
исторических мемуаров» и написать для них пространное введение. Но
главное, у него всё больше времени уходит на работу над
«Тридцатилетней войной». И хотя он не изучает столь же
основательно источники, как при работе над «Отпадением
Нидерландов», ему приходится прорабатывать большой объем
литературы. Приближается весна и время загородных поездок и
341
праздников в саду. Но Шиллер сидит дома за стопками книг.
Лотта и Каролина, которые на некоторое время тоже сделали
местом своего жительства Йену, вынуждены сами
договариваться о развлечениях. Первоначально книга о
Тридцатилетней войне должна была стать кратким популярным
изложением, рассчитанным на женскую публику и поэтому написанным
легким слогом, но получилось иначе. Книга разрасталась под
его пером, потому что тема все сильнее затягивала его в свою
орбиту.
Впервые Тридцатилетней войной он занялся в начале 1786
года. После чтения одной французской работы на эту тему он
написал Кернеру: Подумать только, что эпоха величайших
национальных бедствий была одновременно блистательнейшей
эпохой человеческой силы! Сколько великих людей породил этот
мрак! (т.7, с.95).
Через несколько недель подготовки он начинает писать. В
некоторые дни этого жаркого лета 1790 года он проводит по
пятнадцать часов за манускриптом, со счастьем, как он
объяснил одному посетителю, который его спросил, почему он по
вечерам так редко выглядывает из дома. Это то счастье, которое
он уже пережил два года назад при работе над «Отпадением
Нидерландов». Тогда он писал Кернеру: История — это то
поле, где все мои силы включаются в игру (17 марта 1788 года).
Кое-что теперь сходится воедино: он снова почувствовал в
работе свой гений воображения — Кернеру он называет себя
гордо немецкий Плутарх (26 ноября 1790 года) — герои ночи,
такие, как Валленштейн, граф Мансфельд, Густав-Адольф,
завораживают его, и актуальные аспекты этой истории
прошлого выступают всё отчетливее.
Что касается актуальных аспектов, то Шиллер однозначно
признался в том, что его взглядом на историю руководят не
патриотические интересы, а космополитические. 13 октября 1789
года, за несколько недель до начала работы над
«Тридцатилетней войной», он пишет Кернеру: Мы, новые, испытываем
интерес к нашей силе, которой не знали ни грек, ни римлянин и
которой далеко не близки интересы отечества. Эти последние
важны вообще только для незрелой нации, для юности мира...
Это жалкий, мелочный идеал — писать для одной нации; для
философского духа подобная граница вообще невыносима. Он не
может застыть перед столь переменчивой, случайной и
произвольной формой человечества, перед фрагментом (а что иное
342
есть самая значительная нация?). Она может заинтересовать
его лишь настолько, насколько ему эта нация или национальная
особенность представляется важной как условие для прогресса
человеческого рода. Если история... способна к такому
применению, если она может быть присоединена к истории
человеческого рода, то она имеет все реквизиты, чтобы в руках
философа стать интересной. Шиллер разрабатывает три таких
подхода к универсально-историческому интересу на примере
Тридцатилетней войны.
Во-первых. Эта великая, разрушительная война
одновременно и повивальная бабка современного европейского сооб-
щества государств. Из-за того, что многочисленные европей-
XJ
ские государства действовали друг против друга, одно другому
вредили и сообща разрушали историческую сцену, на которой
они враждовали, развивается сознание общности судьбы.
Европа в этой большой войне и как ее следствие впервые познала
себя как целокупную общину государств (т.5, с. 10). Снова под-
■_> о
тверждается: воина, как отец всех вещей, стоит также и в
начале общеевропейского сознания. Вестфальским миром в
конце войны опустошенная Европа кодифицирует свой
образовательный процесс. Она открывает правила поддержания
мира, что, конечно, препятствует не всякой войне, но
способствует тому, чтобы конфликты оставались ограниченными и не
приводили к подобному ужасному разорению огромных
территорий. Так было вплоть до исторического момента, когда
Шиллер начал работу. Революционные войны, которые
неоднократно опустошат Европу, еще не начались. А когда они начались
в 1792 году, Шиллер уже писал заключительную главу своей
работы. Была запланирована пространная положительная
оценка Вестфальского мира. Он не стал ее писать. Когда же
через сто пятьдесят лет разрушился порядок Вестфальского
мира, у Шиллера не было больше терпения, чтобы переработать
первоначально запланированный апофеоз этого мира в элегию
утраченного.
Во-вторых. В Тридцатилетней войне на сцену впервые
выходит новая политическая страсть — религиозный энтузиазм
(т.5, cl 1.) С ним основательно меняется привычное отношение
масс к политике. До сих пор она представлялась им равнодуш-
*_>
ной до ужаса, они воспринимали ее как природную
катастрофу. Зачастую как жертва и объект. Сейчас же политика
становится делом сердца, и именно постольку, поскольку стала
343
делом религии. Разумеется, не для государей, для которых
религия и дальше оставалась средством политической власти, но
для народа. Немного рук добровольно взялось бы за оружие
ради государства, ради интересов государя; во имя веры охотно
хватались за меч купец, художник, пахарь. Ради государства
или ради государя старались бы уклониться от самого
незначительного чрезвычайного налога; во имя религии отдавали добро
и жизнь, все свои земные надежды (т.5, с. 16).
С религиозным энтузиазмом осуществляется современная
политизация масс, которая с французской революцией и
воодушевлением, которое она вызывает к жизни в Германии,
достигает новой ступени. Шиллер видит эту взаимосвязь между
религиозным энтузиазмом семнадцатого века и
демократическим энтузиазмом, который как раз только пробуждается.
Сначала религия стала политикой, потом политика религией.
Шиллер соглашается с таким развитием не слишком
убежденно. Без сомнения, энтузиазм — это впечатляющая сила, он
порождает сильных индивидуумов, которые не столь трусливо
расчетливы и не цепляются за интерес самосохранения.
Энтузиазм подготавливает к самопожертвованию и признает:
Жизнь не есть наивысшее из благ, но он может также и
выродиться в слепой фанатизм, если им не управляет разум. Так же
обстоит дело и с демократическим энтузиазмом освобождения.
И в этом случае Шиллер также наблюдает вырождение в
фанатизм. Энтузиазм освобождения становится слепым
фанатизмом, если разум теряет в ласта, а он теряет ее, если импульс
освобождения не действует больше внутрь, а только вовне.
Фанатик свободы, по Шиллеру, это внутренне не свободный
человек.
В-третьих. Из ночи Тридцатилетней войны вышли великие
люди. Это Шиллер понимает как точку отсчета. На будущее
указывает подобная комете карьера Валлеиштейна, который
превращается из богемского графа во владыку, управляющего
императором, смиряющего державных князей и на голом
месте создающего огромнейшую армию, какую видел Запад.
Кризис системы легитимности — это час взлета для тех, кто
приходит из ниоткуда. Когда историческая земная империя
взбудоражена, нужно считаться с поразительными и
ужасающими порождениями человеческого величия. Ночь истории
порождает чудовищ. Когда Шиллер писал пассажи о Валлен-
штейне, он предвидел, что революционная Франция еще поро-
344
дит таких современных чудовищ, а когда он пять лет спустя
примется за работу над драмой «Валленштейн», начнется
восхождение Наполеона. Когда он закончит ее, Наполеон уже у
власти.
В сентябре 1790 года с чувством огромного удовлетворения
Шиллер завершает обе первые книги (в конце их будет пять)
«Истории Тридцатилетней войны». 26 ноября 1790 года он
пишет Кернеру: Я не вижу, почему бы мне, если я серьезно захочу,
не стать первым писателем-историком в Германии (т.7, с.260).
Он уже стал им. Иоганнес фон Мюллер, также значительный
и признанный историк, склонился перед превзошедшим его,
сравнив его в одной из рецензий с Фукпдидом. Шиллеру
нужно, пишет он, изображать историю не только для дам, но и для
всей нации и, доведя до готовности произведение искусства,
объединить страстность с беспристрастностью. Стиль достоин
восхищения, и не скоро появится историк сравнимого
литературного уровня. Мюллер оказался прав. Что касается
литературного блеска изображения, то в этом Шиллер-историк
оказался непревзойден до сегодняшнего дня.
Книга имеет ошеломительный успех. Уже через несколько
недель проданы семь тысяч экземпляров, и Гёшен вынужден ее
переиздавать. После нескольких изданий дойдет до того, что
книгу эту можно будет найти в любом образованном семействе
Германии. Когда отец Шиллера пишет сыну из Швабии, что
сейчас в Штутгарте повсеместно читают «Тридцатилетнюю
войну», Шиллер отвечает ему с удовлетворенной гордостью:
Репутация в исторической области мне небезразлична также и из-
за герцога. До его ушей, тоже должно дойти, что я ему за
границей не чиню позора (29 декабря 1790 года).
Воодушевленный и уверенный в собственных силах
Шиллер отправляется в конце года в Эрфурт с визитом к Карлу фон
Дальбергу, коадъютору и, возможно, наследнику майнцского
курфюрста, который открывает ему заманчивые перспективы
служебного роста. Шиллера вводят в высшее общество Эрфур-
та и на торжественном заседании принимают как историка в
Курфюрстскую академию полезных наук. Однако затем
разразилась катастрофа.
3 января 1791 года вечером во время великолепного
концерта по поводу дня рождения майнцского курфюрста у
Шиллера начинается сильная горячка, и его сотрясают приступы
судорожного кашля. Он падает без сил, теряет на время созна-
345
ние, и его на носилках приносят в его квартиру. Это был
первый тяжелый приступ болезни, которая называлась в те време-
XJ Ч_У 4J
на «круппознои пневмонией, сопровождаемой сухим
плевритом». От нее он умрет через четырнадцать лет после долгих
страданий, но уже в этот день, 3 января 1791 года, он был на
пороге смерти. Но он выздоравливает, возвращается через
Веймар, где он останавливается по пути у госпожи фон Штайн,
обратно в Йену. 14 января — снова сильный приступ горячки,
кровохаркание, кашель с гноем, перекрытие дыхания, озноб,
спазмы в желудке. Шесть дней подряд он не может принимать
еды и поэтому настолько ослаблен, что уже незначительное
движение приводит к обмороку.
Шиллер лежит на смертном ложе, студенты дежурят ночью
у его постели. Один из них — девятнадцатилетний Новалис,
который прослушал курс лекций Шиллера о послании Моисея
и о крестовых походах и исполнен к своему профессору
искреннего расположения и восхищения. Он сидит несколько
ночей у кровати Шиллера и просушивает его мокрый от пота лоб.
Через несколько месяцев Новалис напишет Рейнгольду о
Шиллере, этом кумире своей молодости: «Ах, если я только
говорю — Шиллер, какая масса ощущений оживает во мне... и
вмешивается тогда гложущая мысль, что этот человек был
близок к разрушению, Шиллер, который больше, чем миллионы
О KJ
повседневных людей... так трепещу я помимо своей воли перед
моим собственным существованием, и это пробивается
вздохом между моими губами, в котором вся вера в высокие руки,
которые ткут нить и сжимают абсолютную любовь и
сострадание к человечеству... Если бы он даже никогда не разговаривал
со мной, никогда не принимал участия во мне, не замечал
меня, мое сердце было бы отдано ему неизменно; ведь я
распознал в нем великого гения, который властвует над столетиями...
Ему нравиться, ему служить, вызвать у него лишь небольшой
интерес ко мне — таковы были мои помыслы и чувства днем, и
такой же была последняя мысль, с которой мое сознание
вечером угасло».
Через две недели в конце января горячка отступает и
начинается медленное выздоровление. И февраля 1791 года
Шиллер обещает издателю Гёшену завершить «Историю
Тридцатилетней войны». 22 февраля 1791 года он пишет снова первое
пространное письмо Кернеру; в последнем письме от 12
января 1791 года звучало еще Мне сейчас снова так же хорошо, а
346
через шесть недель он пишет с отчужденной деловитостью и
без отвращения перед омерзительными деталями, с
профессиональным знанием дела о своем состоянии. Он ставит себе
диагноз, что острый кризис болезни преодолен, но что болезнь
еще гнездится в теле. Он будет с ней жить, ему придется
отвоевывать у нее жизнь. При глубоком вздохе он ощущает
колики, боли, кашель, и чувство стеснения возвращается. Я не
могу, — пишет он, — никому здесь сказать, что я думаю об этом
обстоятельстве, но я чувствую себя так, как будто я должен
скрывать эти недуги... у меня на душе ясно и не должно
недоставать мужества, даже когда разразится наихудшее (10
апреля 1791 года).
В апреле он живет с Шарлоттой некоторое время в Рудоль-
штадте, чтобы набраться сил. Он снова может наслаждаться
светской жизнью, совершает выезды. 8 мая 1791 года — третий,
до сих пор самый тяжелый приступ: при каждом вдохе
ощущение, словно легкое разрывается, жар, озноб, леденеющие
конечности, исчезающий пульс. Приглашают знаменитого доктора
Штарка из Иены, он прописывает опиум. Его диагноз:
нагноение в плевре с возможным прорывом в брюшную полость.
Через два дня новый приступ. Я не думал, — пишет Шиллер
Кернеру, — что переживу этот день, каждый момент я боялся, что
не смогу больше сделать ни единого вздоха, голос уже оставил
меня, и, дрожа, я мог лишь писать то, что хотел бы сказать...
Мой дух был ясен (24 мая 1791 года). Он записывает, по
сообщению Каролины, которая находилась поблизости,
предложение: Заботьтесь о своем здоровье, без него никому не может
быть хорошо. Когда к нему возвращается голос, он обсуждает
с Каролиной план путешествия. Он хочет наконец посетить
дальние страны Северного полюса, где человек должен изо всех
сил бороться за свое существование. Однажды Каролина
зачитывает ему по его просьбе место из кантовской «Критики
способности суждения», где говорится о бессмертии души.
Пока Шиллер медленно выздоравливает, по всей стране
распространяется слух о его смерти. В конце июня этот слух
достигает Копенгагена, где поклонники Шиллера из крута
Иенса Баггесена и датского министра графа Эрнста фон Шим-
мельмана хотят организовать торжество в честь своего
любимого поэта. Юбилейный вечер превращается в поминки.
Цитируется ода «К друзьям», к которой Багтесен добавляет
прощальную строфу: «Не умрет наш друг сердечный! / Всюду
347
дружбы голоса! / Дух его пребудет вечно / С нами рядом в
небесах».
Для датских друзей их поэт восстал из мертвых, когда они
услышали, что Шиллер жив, и эти друзья, министр Шиммель-
ман и герцог фон Августенбург, сделают больному поэту в
конце этого тяжелого года, 13 декабря, в проникновенном письме
великодушное предложение: «Два друга, связанные чувством
мирового гражданства, отправляют Вам это послание,
благородный человек! Оба Вам незнакомы, но оба почитают и
любят Вас. Оба восхищаются высоким полетом Вашего гения,
который может оставить отпечаток самых возвышенных из
человеческих целей в Ваших самых разных новых
произведениях... Ваше здоровье, пошатнувшееся из-за исключительно
больших усилий и работы, нуждается, как нам говорили, на
некоторое время в значительном покое, чтобы снова
восстановиться и чтобы отразить опасность, угрожающую Вашей
жизни. Единственно Ваши обстоятельства, превратности Вашего
счастья препятствуют Вам предаться этому покою. Не
согласились бы Вы доставить нам радость облегчить Вам наслаждение
им? Мы просим Вас принять ежегодный подарок в тысячу
талеров в течение трех лет». Шиллер тронут и с благодарностью
принимает предложение. Подарок предложен столь
великодушно, что не унижает получателя.
Подарок даст ему свободу осуществить некоторые из его
намерений и планов, которые он, лежа на смертном ложе, со-
%J
ставил на тот случаи, если ему еще раз удастся выжить,
СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Жизнь с болезнью. Решение в пользу искусства и Канта.
«Революция в мышлении». Выходя за пределы Канта. Письма
«Каллия». «Красота есть свобода в явлении». Эстетический
праздник свободы. Ужасы революции. Майнцская республика,
Форстер. Осложнения с Хубером. Моральный облик поэта.
«О грации и достоинстве». Внося поправки в Канта.
Прекрасная душа. Недовольство Гёте по поводу
«некоторых мест»
После тяжелейших приступов болезни, случившихся в первой
половине 1791 года, Шиллеру, как врачу, наблюдавшему за
всем происходящим с собственным телом, становится ясно, что
жить ему осталось всего лишь несколько лет, что его
медленная смерть уже началась, а потому ему следует очень
экономно распоряжаться тем временем, что ему отведено. С этого
момента он намерен сконцентрироваться на самом важном, а
именно вернуться к творчеству, к своему ремеслу.
Довольно успешно и с удовольствием писал он свои работы
по истории, и теперь он чувствует себя ведущим историком
Германии, в этой области он достиг всего, чего мог достичь, и вынес
для себя при этом всё, что только мог вынести. Он осознал, что
историческая действительность представляет собой не
воплощение какого бы то ни было плана, а есть не что иное, как
нагромождение противоречий, имеющих своим следствием
результаты, которых никто и не предвидел; он уяснил для себя, что в
истории хотя и можно обнаружить телеологические принципы,
но их нельзя вывести из нее, что существует прогресс, которого
нельзя не признать, и что поэтому можно говорить о некой
«универсальной истории», которой должны заниматься головы
ученых философов. Под воздействием Канта он ввел философский
дух в историю и использовал его для познания человеческих
возможностей; ее богатый материал послужил почвой для его
поэтической фантазии. И не случайно, что вскоре после
первого приступа болезни в январе 1791 года в своем разговоре с
Карлом фон Дальбергом в Эрфурте Шиллер впервые упоминает о
своей идее написать драмы о Валленштейне.
Однако порвать в одночасье с взятыми на себя
обязательствами историка Шиллер не мог. Ему еще предстоит закончить
349
свою работу о Тридцатилетней войне, но это будет его
последняя крупная историческая книга. Он будет отвоевывать ее в
борьбе с собственной болезнью, мучившей его все новыми и
новыми приступами.
После кризиса в мае 1791 года постепенно наступает
незначительное улучшение. Температура спадает, спазмы в нижней
части живота становятся реже. 27 августа 1791 года он записал:
Сдавленность, не покидающая ни на один день, стала менее
резкой и длится не так долго. А 6 сентября: Спазмы пока
полностью не прошли, и одышка все еще сохраняется. Но он уже
может, по меньшей мере, читать часа два-три. 19 ноября; Ни
одышка, ни боли в нижней части живота не проходят. И снова
то же самое. Незначительное облегчение и отдых, и снова боль.
8 декабря 1797 года, оглядываясь на годы, наполненные
страданием, он напишет: ...мне обычно приходится расплачиваться
пятью-шестью днями страданий за один день счастливого
творческого подъема (т.7, с.483).
Если приходится жить с болью, надо уметь к ней
привыкнуть. Надо воспринимать ее, заметил однажды Шиллер в раз-
KJ
говоре, как неприятного домочадца, который хоть и навязчив,
но от него нельзя избавиться, и потому в семье стараются
сделать всё, чтобы он как можно меньше мешал. Шиллер меняет
свой уклад и ритм жизни. Он реже выходит в общество,
отказывается от стимулирующих средств, которые он какое-то
время принимал без меры. Если боль не покидает его ночью, то он
садится за работу, чтобы как-то отвлечься, а затем спит днем.
Громкий разговор становится причиной одышки — и он
прерывает преподавательскую деятельность и просит разрешения
уйти в отпуск, который и был ему предоставлен с сохранением
жалованья. Весной 1793 года он начинает снова читать свои
лекции до того момента, пока сильнейший приступ боли не
свалил его прямо в аудитории. После этого он больше никогда
не возвратится на кафедру. Он отдал необходимые
распоряжения о вступлении Лотты в кассу генеральских вдов Берлина,
чтобы таким образом гарантировать ей в случае его смерти
содержание в четыреста талеров.
Шиллер ведет хоть и замкнутую, но все же не
изолированную жизнь. Сам он выходит теперь в гости редко, однако
принимает у себя бесчисленных посетителей, постоянно
наведывающихся к ставшему знаменитым поэту, и поддерживает
широкую и оживленную переписку. Письма Шиллера можно
350
рассматривать в качестве значимой части его творчества. Итак,
его нет, и в то же время он присутствует в обществе так же, как
и прежде. Весь мир знает, насколько он болен, и удивляется его
работоспособности. Гёте во время их встреч в начале
девяностых годов уже смотрит на Шиллера как на человека,
пересекающего границу жизни и смерти. «Когда я с ним
познакомился, — скажет он позже Эккерману, — я подумал, что он не
проживет и четырех недель».
Именно в течение этих первых лет, проведенных бок о бок
с болезнью, Шиллеру предстояло выработать в себе
бойцовское отношение к собственному телу. Свобода становится для
него воплощением тех сил, с помощью которых можно было
противостоять атакам собственного тела и добыть себе
свободу действий. С этого момента собственное тело превратилось
для Шиллера в своего рода неприятеля, не оставляющего
попытки покушения на его жизнь! И потому он заявил, что его
физическое состояние, определяемое природой, никоим
образом не относится к его Я, а должно быть рассмотрено как
нечто чужое и инородное (V, 502). С этим никак не мог
примириться Гёте, его великий оппонент, ставший спустя некоторое
время его другом. Он называл это шиллеровским «евангелием
свободы» и утверждал, что со своей стороны «не желает
ограничивать природу в ее правах». Это снова показалось
Шиллеру несправедливым. Для него природа была достаточно
могущественна и не нуждалась в опекунах; необходимо поддержать
находящиеся под угрозой права человеческого духа и
гарантировать власть свободы.
В годы юности Шиллер достаточно беспечно относился к
собственному телу. Он просто не думал о нем; нюхал табак,
курил, пил много кофе, при частых катарах верхних дыхательных
путей лечился хинной корой и опием. Бывший полковой врач
практиковал лечение сильнодействующими средствами,
которые он прописывал не только другим, но и себе. Зимой 1784
года у него впервые появилось чувство, что его лечение было
неудачным, и он испугался, что оно ударит по всей его жизни.
Если раньше он обращался с собственным телом слишком
беззаботно, то теперь он следил за всеми его сигналами с
осторожностью солдата, вынужденного орудовать на вражеской
территории. Он еще не хотел сдавать своих позиций, а хотел
отвоевать столько, сколько возможно. В знаменитом письме к
Гёте от 31 августа 1794 года, где он подводит итог своего суще-
ч
351
ствования, он пишет: Едва ли у меня достанет времени на то,
чтобы завершить в себе великую и всестороннюю духовную
революцию, но я сделаю все, что смогу, а если в конце концов
возводимое здание рухнет, то, быть может, я все же спасу от
пожара то, что достойно сохранения (т.7, с.310).
Достойное сохранения? Для Шиллера это было в первую
очередь искусство, красота. Но он знал: Смерть суждена и
Прекрасному — богу людей и бессмертных. / Зевса стигийского
грудь, меди подобно, тверда...» ("«Нения»; т.1, с.301).
Перед лицом смерти Шиллер решает посвятить
оставшееся время красоте, поэтическому творчеству, этой мимолетной
вечности. С этого момента он стремится остаться близким
тому богу, что живет в искусстве. Из области смерти он делает
ставку на дальнейшую жизнь в слове, на религию
эстетического: Даже и песнью печали славно в устах быть любимых, /
Только ничтожное в Орк сходит без звуков любви («Нения» т.1;
с.301). Нет, он не хочет уйти беззвучно.
Он принимает решение в пользу искусства, но прежде он
хочет основательно изучить Канта. Как же взаимосвязаны эти
два решения: в пользу искусства и Канта?
Конечно, Шиллер читает Канта уже потому, что в Иене, где
Рейнгольд основал кантовскую церковь, большие «Критики»
Канта просто должны были быть прочитаны, чтобы иметь
возможность понять начатую им «революцию в способе
мышления» (Мендельсон). Однако его особый интерес, который
заставил его в феврале 1791 года начать изучение «Критики
способности суждения» в промежутке между двумя
тяжелейшими приступами болезни, кроется в решении Шиллера в
пользу искусства. Он хочет с философской точки зрения
объяснить себе и читателям, почему, собственно, искусство
заслуживает того, чтобы занять главенствующее положение. Свой
выбор в пользу искусства Шиллер еще раз подвергает
проверке, устроив ему строгий философский экзамен.
Он знает, что Кант по-новому представил взаимосвязь
между духовной и практической деятельностью и дал новое
определение пониманию мира. И Шиллер ищет у него ответы
на вопросы: что же я, собственно, делаю, когда сочиняю? что
представляет собой воспринимаемое мною в качестве
красивого, грациозного и возвышенного? и почему эти ощущения
побуждают меня использовать мою жизненную энергию для их
создания?
352
Шиллер не нуждается в Канте, чтобы принять свое
решение в пользу искусства, но он необходим ему для лучшего
понимания собственного увлечения искусством.
В интересах искусства Шиллер стремится проштудировать
философию Канта. Начиная ее изучение в феврале 1791 года,
он пишет Кернеру: Едва ли ты угадаешь, что я сейчас читаю и
изучаю. Не что иное, как Канта! Его «Критика способности
суждения», которую я себе приобрел, захватила меня своим
ярким и богатым содержанием и вселила в меня огромное желание
мало-помалу глубоко проникнуть в его философию (3 марта
1791 года) (т.7, с.265). Шиллер полагал, что быстро с этим
справится. Ведь его поторапливали собственные
художественные замыслы, в голове он уже вынашивал идею драмы о «Вал-
ленштейне», лелеял некоторые планы относительно
продолжения романа «Духовидец», составлен был и первоначальный
план к «Песне о колоколе». Но, несмотря на все эти
поэтические замыслы, Кант крепко удерживал его внимание. Изучение
сначала «Критики способности суждения», а затем и
«Критики чистого разума», рассматриваемых им первоначально в
качестве своего рода горной высоты, которую необходимо
покорить, в конце концов выработало собственную динамику и
занимало теперь почти все его рабочее время. Спустя год, 1
января 1792 года, Шиллер напишет Кернеру: С огромным
рвением я занимаюсь изучением кантовской философии, и многое бы
отдал за то, чтобы иметь возможность по вечерам поболтать
с тобой об этом. Я принял решение не прекращать изучения до
тех пор, пока не докопаюсь до истины, и я не откажусь от
него, даже если на это уйдет года три. И кстати, я уже многое
оттуда для себя почерпнул.
Шиллер приближается к Канту, четко осознавая при
этом, что тот стал в философии тем же, чем была для
политики Французская революция: великим переворотом конца
XVIII века.
Учение Канта полностью изменило западноевропейский образ
мышления, не оставив ничего из того, что было прежде, и Кант
сам знал это, когда он с гордостью заявлял: «До сих пор
полагалось, что все наши знания должны ориентироваться на
вещи... А что, если предположить, будто вещи следуют за нашим
познанием, быть может, так мы чего-нибудь и добьемся.... Что-
то подобное уже случалось с Коперником, когда он впервые,
353
высказав мысль о том, что коль скоро не удается продвинуться
вперед при объяснении движения неба, то не лучше ли
исходить из предположения, что вся эта армия звезд крутится
вокруг наблюдателя, попытался заставить вращаться
наблюдающего, а звезды, напротив, оставить в покое».
Свои исследования Кант начал в духе старой метафизики,
пытаясь отыскать априори мышления, то есть знания Эоопыт-
ные, предшествующие любому опыту (физика), которые и
могли бы послужить обоснованием метафизики, как это обычно
происходило. Кант находит такие знания, предшествующие
опыту, априорные знания, но, по его мнению, они
действительны только для опыта и потому уже не могут обосновать
метафизику. Это заявление стало ударом грома среди ясного неба,
априори были низвергнуты с небес, и метафизические храмы
рушились прямо на глазах.
Шиллеру все это показалось хорошо знакомым. Он знал
толк в подобных крушениях и падениях с небес, ведь однажды
он сказал о своей фантастически-метафизической философии
жизни: Смелое наступление материализма разрушает мое
творение (V, 344). Но наступление Канта было не
материалистично по своей природе, а трансцендентально. Не
физиологическое, телесное вело к разочарованию в метафизике, а
исследование структуры самого процесса познания. Здесь речь
шла о границах человеческих возможностей и их условиях.
Ограничивающие и в то же время делающие возможным
познание априори берут от познаваемой действительности что-то из
ее мнимой объективности и переводят это в область субъекта.
Объективность, вообще, может существовать только в
отношении какого-либо определенного субъекта. Независимый от
субъекта объект есть абсурд. Эта мысль вызвала у Шиллера
мгновенный отклик. В своем письме Кернеру от 18 февраля
1793 года основное положение Канта «Природа подчинена
законам рассудка» он назвал величайшими словами, сказанными
кем-либо из смертных. Применительно к проблеме
материализма это высказывание обозначает: материализм, грозящий
разрушить творение духа, сам по себе есть не что иное, как это
самое творение духа, при котором сам дух не замечает, что создал
себя. С трансцендентальной точки зрения материализм, таким
■ образом, есть догматизм забывшего о себе разума. У Канта
Шиллер находит теоретическое обоснование своей попытки
возвести творческую силу и свободу в центр человека. Все за-
354
ключено в субъекте — и «материя» материализма, и
омраченные им небеса, на которых строилась старая метафизика.
Вне сомнения, учение Канта, в свою очередь, тоже носило
отрезвляющий характер. Но в то же время открытие миропо-
рождающего и одновременно скрывающего этот мир аппарата
наших априори, с помощью которого мы придумываем себе эту
действительность, делало загадки там снаружи еще более
таинственными. И чего только не обнаружил Кант в реальной
действительности: формы наглядного представления
пространства и времени; мы не можем воспринимать реальность иначе,
как через эти формы; и потому мы не можем знать
существуют ли время и пространство «сами по себе». То же можно
сказать и о каузальности: она представляет собой лишь схему
нашего разума, с помощью которой мы организуем материал,
полученный в ходе опыта. Существует ли казуальность «сама
но себе», мы тоже не знаем, да и не можем знать.
Пространство, время, каузальность — всё это важнейшие
трансцендентальные условия нашего восприятия и познания. Они существуют
до опыта, делая этот опыт возможным, а не по ту его сторону,
в пеком спекулятивно-метафизическом нигде. Кантовское
понятие «трансцендентального» является в некотором смысле
противоположностью «трансцендентного», так как
трансцендентальный анализ состоит именно в доказательстве того, что
познать трансцендентное невозможно. Не существует такого
пути, что вел бы от трансцендентального к трансцендентному.
Доказав, что каузальность представляет собой исключительно
лишь принцип организации нашего разума и не дает нам
представления о действительности «в себе», Кант разорвал
собираемую в течение столетий цепь аргументов в разумном
доказательстве существования Бога, где все строилось вокруг идеи
причинно-следственной связи, в которой Бог выступал в
качестве первопричины всего существующего. Обнаружив в
подобной метафизике ошибочность категорий, Кант разрушил ее и
стал создателем современной теории познания, покончившей с
заблуждением о том, что субъект познания носит лишь
рецептивный характер. Кант показал, что познание всегда
подразумевает под собой и созидание.
Теория Канта признает существование природы
независимо от нашего познания. Именно поэтому мы и не может ее
познать, и если мы ее все же познаем, то только благодаря тому,
355
что наш разум «приписывает» ей законы, которые, по его
мнению, он «вычитал» у нее.
В лице Шиллера эта теория познания нашла для себя
весьма благодатную почву. Ведь она не была для него ни совсем
чужой, ни абсолютно новой. Теория знаков играла и раньше
весьма значимую роль в его философских трудах. Именно на нее
он и мог опереться, пытаясь понять кантовский поворот
мысли. Теория знаков, в том виде, в котором ее разрабатывал
Шиллер в своей третьей диссертации и в «Философских письмах»,
не допускает субстанционального единства между знаком и
обозначаемым им предметом, а лишь предполагает наличие
\У
конвенциональной связи, то есть замыкает человека в его мире
знаков подобно тому, как кантовский субъект познания
оказывается запертым в мире своих трансцендентальных
условностей. Но в то же время теория знаков допускала проникновение
реальности в мир знаков. Когда же.Шиллер научился у Канта
ослаблять произвол познающего субъекта, подобное
проникновение стало невозможно. Конечно, в дальнейшем его могло
охватить видение лишенного духа материализма, но тогда бы он
мог сказать себе, что этот материализм есть не проникновение
реальности, а лишь творение духа. Даже вес разрушающий
материализм есть не действительность sans phrase, а лишь
интерпретация действительности. Таким образом, благодаря Канту
Шиллеру удалось обрести твердую почву под ногами.
Творческая сила субъекта действует и там, где сам субъект чувствует
себя бессильным. Не существует «правды» материализма,
лишающей дух его власти, так как материализм сам по себе есть
лишь концепт духа. Конечно, существует реальность, мир не
есть фантазия; но каждая реальность, с которой мы сталкива-
4J
емся, есть, именно потому, что мы с ней столкнулись,
реальность интерпретированная. И если бы материализм уничтожил
идеализм, он бы тем не менее остался лишь порождением
духа, который, если и лишается иллюзий, забывает о том, что он
сам создал материалистическую интерпретацию, которая его
разочаровала. Материализм является продуктом духа, который
не знает, что он делает. Позже в «Письмах об эстетическом
воспитании человеческого рода» Шиллер напишет: Истина не
есть нечто, что могло бы быть воспринятым извне, подобно
действительности или чувственному бытию предметов; она
есть нечто самодеятельное и свободно создаваемое
мышлением,.. (т.7, С.328). Нечто подобное можно было бы сказать и о ма-
356
гсриализме, и о внутренне присущей ему идее (механической)
необходимости. Он (материализм) есть порождение
свободного духа, который, пользуясь свободой, вводит в устройство
BI гешнего мира несвободу и сам же является ее отражением, и,
следовательно, речь идет о том, что необходимость
представляет собой не более чем фикцию, фикцию свободы. Именно об
лтой идее говорил Шиллер в уже цитированном письме к
Кернеру от 18 февраля 1793 года, когда он с некоторым пафосом
так определил важнейший момент своего изучения Канта:
Несомненно, смертным человеком доселе не было сказано ничего
более великого, чем. кантовские слова, в которых заключается
содержание всей его философии: «Определяйся сам собою», а в
теоретической философии: «Природа подчинена закону
рассудка» (т.6, С.80).
В последнем предложении, таким образом,
сформулировано основное положение трансцендентальной теории познания,
которое отныне становится определяющим и для самого
Шиллера. Первое положение («Определяйся сам собою») относится
к" взятому в качестве основы творческому аспекту
человеческого существа. Заслугу Канта Шиллер видит в том, что тот, не or1
раиичиваясь лишь ролью теоретика познания, выступает в
качестве философа творческой свободы.
И действительно, Кант сделал больше, чем просто проана-
лизировал и проследил ход процесса познания. И это «больше»
развязало руки его современникам, в том числе и Шиллеру.
Этот сконструированный Кантом в стиле рококо часовой
механизм наших способностей восприятия и познания с
четырьмя различными разновидностями суждений, к которым
крепятся затем захватывающие устройства соответственно
грех категорий, к примеру, для количественных суждений это
категории «реальность, отрицание, ограничение» и так далее
(Кант намеревался даже ввести более мелкие механизмы, по
крайней мере, он грозился это сделать, заявляя, что при жела-
п ии может «изобразить все генеалогическое древо разума»), —
весь этот механизм есть нечто иное, чем просто «дерево»; для
того чтобы он мог функционировать и перемалывать материал,
полученный опытным путем, а затем синтезировать его заново,
ему необходима была жизненная энергия. Определение этой
энергии и составляет ядро философии Канта. Он называет ее —
и это поражает любого, видящего в Канте лишь машиниста,
управляющего разумом, — «продуктивное воображение». «О том,
357
что воображение является необходимой составляющей
восприятия, писал он, — об этом, вероятно, не задумывался ни один
психолог».
Таким образом, возвеличивание воображения не является
исключительно детищем представителей «Бури и натиска», а
затем и романтизма. Об этом позаботился еще Кант, а если
принять во внимание его общественное положение, то, вероятно,
именно он в наибольшей степени и содействовал его
восхождению на престол. В любом случае возвышение Кантом
воображения стало для Шиллера лучшим подарком, который только
могла сделать философия для поэзии.
Этот творческий принцип, лежащий в основе нашей
рецептивной деятельности, а в частности, таких процессов, как
восприятие и познание, Кант называет «сила воображения». Для
этого он изобрел и более сложные понятия. Не боясь
пугающих словосочетаний, он говорит о «трансцендентальном
синтезе апперцепции», или, проще говоря, о «чистом
самосознании», называя его «наивысшим пунктом, на основе которого
необходимо базировать использование разума, всю логику, а за
ней и трансцендентальную философию». А Шиллер называет
этот наивысший пункт самоопределением.
Оценка Шиллером высказывания Канта «Определяйся сам
собою» в качестве наиболее значимой его идеи говорит о том,
что он действительно проник в самое сердце философии
Канта. Этим сердцем являлась тайна человеческой свободы. Кант
настолько приблизился к ней, что это его открытие, как и его
теория познания, приобрело эпохальное значение. Этот путь
был очень извилист, и шел он через одиозную «вещь в себе».
В «Критике чистого разума» Кант трактует природу как
«вещь в себе», поскольку она не может быть понята нами.
«Вещь в себе» — это название для всего неизвестного, что мы
парадоксальным образом создаем тогда, когда сталкиваемся с
этим неизвестным, пытаясь его понять; мы всё воспринимаем
таким, каким это является для нас. Это «для меня» словно
бросает свою тень: это «в себе», блуждающее в качестве
незаполненной мысли, не есть нечто воображаемое, ведь если я
представлю это себе, то оно тут же превращается в «для меня». С
«вещью в себе» на горизонте появляется новая трансценден-
ция; она уже не является трансценденцией прежнего
потустороннего мира, эта трансценденция есть не что иное, как всегда
остающаяся невидимой оборотная сторона всех представле-
358
иий. Кант совершенно спокойно основал теоретическую «вещь
и себе», существующую вне нас, на ней же самой. И с той же
хладнокровностью и в то же время последовательностью он
совершает перемещение этой оборотной стороны в нас самих.
По отношению к себе человек, стремящийся познать себя,
является лишь представлением, с другой стороны, мы
являемся в то же время и частью бытия, независимо от нашего созна-
11 ия. Таким образом, сами для себя мы являемся «вещью в
себе». Итак, некогда возвышенная трансценденция превращается
в белое пятно нашего существования, в темноту прожитого
момента. И последствия этого трагичны. Ведь когда мы познаем
себя, мы открываем, как и при познании окружающей
реальности, лишь каузальность. Посмотрев со стороны, мы не
обнаружим в себе свободы, а лишь каузальность и
детерминированность. Внутренне же мы переживаем свободу. Мы чувствуем
себя достаточно неопределенными для того, чтобы самим
определять наши поступки. Вслед за этим и со стороны (а
самого себя можно представлять «со стороны» только «задним
числом») мы снова должны будем признать отсутствие свободы.
Это похоже на вращающуюся сцену: с внутренней стороны
свобода, с внешней необходимость. В момент совершения
какого-то поступка разрывается универсум необходимого бытия.
Кант продемонстрировал это на очень простом примере: «Если
я сейчас... абсолютно свободно и без необходимо
определяющего влияния естественных причин встану со своего стула, то в
этом событии вместе со всеми его естественными
последствиями вплоть до бесконечности безусловно начинается новый
ряд». Затем, когда я уже встану, все можно будет объяснить;
там, где в происходящем имела место свобода, появляется
необходимость. Необходимость становится видимой лишь тогда,
когда переживание свободы уже прошло. В момент действия я
не переживаю никакого принуждения, которое бы полностью
сдерживало меня, так как действовать и представлять есть
одно и то же. Осознанное действие постоянно открыто, оно
ставит меня перед выбором и перекладывает на меня
ответственность за свободу, от которой я до сих пор охотно бы отказался.
«Необходимость», «каузальность» — категории нашего
представляющего разума, то есть кажущегося, кажущегося нам
мира. Для себя я являюсь тоже представлением, поскольку
наблюдаю за собой, размышляю о своих поступках. Но
одновременно я познаю себя в свободе. Человек живет в двух мирах. С
359
одной стороны, пользуясь терминологией Канта, он «фено-
«_f
мен», часть чувственного мира, существующий по его законам,
с другой стороны, он «ноумен», «вещь в себе» — нечто
живущее, что никогда не сможет быть объективировано в
достаточной степени, так как оно является одновременно и субъектом
любой объективизации. При любой попытке понять себя все
же сохраняется уголок, покрытый тайной. И этот покрытый
тайной утолок — самый живой и самый загадочный из всех. Он
есть внутренняя «вещь в себе». Он есть момент свободы.
Шиллер понимает, что именно здесь и заключен
центральный момент философии Канта. В одном из своих писем Кант
сам согласился с этим, признаваясь, что именно проблема
свободы — «Человек свободен и напротив: не существует свободы,
все подчинено законам природы» — пробудила его от
«догматического сна» и побудила к созданию критики разума.
Свое изучение Канта, если не брать во внимание освоенных и м
уже в конце восьмидесятых годов его
исторически-философских трудов, Шиллер начал со знакомства с «Критикой
способности суждения». То есть он начинает с последней из
«Критик», желая, прежде всего, знать, что мог сказать Кант об
искусстве и прекрасном. При этом Шиллер полностью (а
могло ли быть иначе?) погружается в весь этот универсум каитов-
ских «Критик». Но тем не менее он упорно продолжает
придерживаться вопросов эстетики. Что же особенного для своих
эстетических интересов он мог почерпнуть из «Критики
способности суждения»?
Если повсюду в природе наш разум открывает лишь
необходимость и каузальность, то есть «слепые» действительные
причины, в противоположность причинам, ориентированным
на цель и конечный результат, если, таким образом, разум не
может отыскать в природе ни цели, ни смысла, ни
телеологического принципа; и если, с другой стороны, практическому
разуму при свободе действия становятся доступны и эти цели, и
этот смысл, представленные в качестве необходимого и
желаемого, то возникает опасность того, что мир, в котором мы
живем, разделит пас на два параллельных универсума. И потому
в своей «Критике способности суждения» Кант попытался
найти то промежуточное звено, где бы природа
воспринималась так, «будто» в ней действует телеологический принцип,
будто она определяется причинами, ориентированными на ко-
360
исчный результат, будто в ней (в природе) заложена некая
I *ель, в соответствии с которой она развивается из ростка в
цветок и плод, из природных задатков в развившуюся форму. И
:>то относится ко всему органическому миру, который нельзя
понять, объясняя его лишь с позиций механической
каузальности. Только наделив природу «телеологией как бы», мы
обретаем чувство удовлетворения от того, что хотя бы в некоторой
степени мы соответствуем ее «внутренней природе». Почему
возникает это чувство удовлетворения? Да потому, что разум
( )бъединяется с силой воображения, и эта активность
внутренней жизни настраивает нас на непроницаемую в конечном
итоге внешнюю жизнь. Именно воображение придает внешней
жизни внутреннюю живость.
Если же воображение отделяется от познания и начинает
свою свободную игру, то появляется чувство прекрасного. Что
есть красота? Это нечто, допускающее свободную игру
воображения, таков ответ Канта. Почему и насколько эта «игра»
свободна? Она свободна, так как не подвержена принуждению со
стороны никаких желаний, так как она «лишена какого бы то
им было интереса», говорит Кант; она свободна, так как не
подчиняется никаким моральным императивам, и, наконец, она
свободна потому, что не стремится ничего познать;
воображение служит поводом для игры, в которой оно наслаждается
собственными освобожденными силами. В этом весь Кант.
Но для Шиллера Кант был недостаточно полон. По
мнению Шиллера, в вопросах о наслаждении искусством, то есть
о реципиентах, Кант не продвинулся вперед, он еще не
приблизился к понятию предмета прекрасного, к произведению
искусства. Для него Кант еще не разработал понятия объективно
II рекрасного.
Спустя несколько недель после того, как Шиллер
приступил к изучению Канта, он с триумфом сообщает Кернеру о том,
что с помощью философии ему удалось-таки отыскать путь от
субъективного понятия прекрасного к понятию объективному:
Сама природа Прекрасного стала для меня во многом ясна, так
что и тебя я надеюсь сделать сторонником моей теории. Мне
кажется, что я пошел объективное понятие Прекрасного,
которое отчаивался открыть Кант и которое ео ipso становится и
объективным критерием вкуса. Я хочу систематизировать свои
мысли об этом в диалоге «Каллий, или О красоте» и издать это
примерно к Пасхе (21 декабря 1792 года) (т.7, с.274).
361
Этот задуманный «диалог» он так и не сочинит, но между
25 января и 28 февраля 1793 года напишет Кернеру ряд писем,
в которых разовьет и систематизирует эти идеи таким образом,
как изначально планировал сделать это в диалоге «Каллий».
Шиллер задается вопросом, что характеризует предмет,
воспринимаемый нами как прекрасный? Какими свойствами
должен обладать этот предмет, чтобы казаться прекрасным?
Ответ, который так ревностно искал Шиллер и затем
тщательно разрабатывал, звучит следующим образом: Красота есть
свобода в явлении.
Свобода присуща только человеку, ее нет в природе. Но в
природе есть нечто, называемое подражанием свободным дей-
4J
степям, то, что, воздействуя на нас, воспринимается нами как
прекрасное. Великая идея самоопределения отражается для нас
в определенных явлениях природы, и это мы называем
красотой (т.6, С.78).
Существует прекрасное от природы; в качестве примера
Шиллер берет породистую лошадь, двигающуюся в
соответствии со своей природой, непринужденно и свободно; с другой
%ß
стороны — тяжелый ломовик, на теле которого оставили свои
отпечаток тяжести, работа и постоянное принуждение. В этом
и состоит разница между двумя созданиями природы, из коих
одно, — пишет он, — есть абсолютная форма и обнаруживает
полнейшее господство живой силы над массой, а другое
подавлено массой... (т.6, С.97). Во что превратится эта природа, не бу-
%J \J %J
дучи искривленной, подавленной, искаженной, во что
разовьется она сама из себя в состоянии подъема собственной
живой формы — в этом и состоит подражание свободным
действиям, а значит, и красота в природе. Это и есть одна из
разновидностей самоопределения, когда росток превращается в
цветок; это раскрытие внутренней природы, обретающей
форму, является хоть и недостаточным, но необходимым условием
прекрасного. Что-либо подверженное принуждению,
стеснению, сдавливанию, говорит Шиллер, никогда не сможет стать
прекрасным. Все дело в этом подражании свободе в
органических формах, которые потому и воспринимаются нами как прег
красные. Такого подражания свободе мы тем более ожидаем от
предметов искусства, даже тех, что сделаны из неживого
материала. Прекрасен сосуд, — пишет Шиллер, — когда он, не
противореча своей идее, производит впечатление свободной игры
природы. Ручка нужна сосуду только для употребления, следо-
362
вательно, она имеет здесь источником его идею; но если сосуд
должен быть красив, то эта ручка должна так непринужденно
и свободно выступать из него, что забываешь о ее назначении.
Но если бы она шла под прямым углом, если бы пузатый низ
сосуда ни с того ни с сего переходил в узкое горлышко, то это
неожиданное изменение направления разрушило бы всякую
видимость свободы, и автономность явления исчезла бы (т.6, с. 101).
Игра формы и массы определяет красоту природы. Если
форме предоставлена возможность беспрепятственного
проявления и масса не является препятствием при этом, то мы
воспринимаем красоту; но если масса слишком велика и потому
безобразна, а форма теряется в ней, если жесты и движения
обнаруживаются лишь в стесненной, искаженной и
нежизнеспособной форме, мы отвечаем на это неприязнью или даже
отвращением. Тяжелая материя не должна производить впечатление
принуждения, она должна сама, добровольно подчиниться
форме, во всяком случае, так должно казаться.
Само собой разумеется, что такая добровольность может
быть применена в отношении нечеловеческой природы лишь
по аналогии, но она дает точку отсчета для определения
красоты и имеет решающее значение для прекрасной
согласованности человека и окружающих его вещей. Для наглядности в
качестве примера Шиллер обращается к одежде: Когда говорят,
что человек хорошо одет? Когда ни свобода платья не
нарушается телом-, ни свобода тела — платьем... (т.6, с. 101). Если
наряд нам слишком узок, то в ущерб платью на первый план
выходит тело; если же он, наоборот, слишком широк, то за счет
одежды теряется облик человеческого тела и оно
превращается лишь в своего рода вешалку. Шиллер поступает достаточно
смело, демонстрируя на этом, скорее случайном, примере свою
модель эстетического сообщества: В этом эстетическом мире,
ничего общего не имеющем с совершеннейшей платоновской
республикой, и камзол на моем теле требует от меня уважения к
его свободе, и, подобно стыдящемуся своего звания слуге, он
просит меня не дать никому заметить, что он мне служит. Но за
это он, reciproce, обещает мне пользоваться своей свободой с
такой умеренностью, что и моя свобода нисколько от этого не
пострадает; и если оба сдержат слово, то весь свет скажет,
что я одет прекрасно (т.б, с.102).
Основная мысль состоит в следующем: красота так играет
с материалом — вещами, веществами, идеями, языком, — что
363
дает возможность проявиться их своеобразию и самоценности,
и благодаря этому они, оставаясь «свободными», сообразуются
с целым. В эстетическом мире, пишет Шиллер, каждый
элемент имеет равные права и даже во имя целого не может быть
подвергнут принуждению., а должен непременно со всем
находиться в согласии. Мир эстетического представляет собой
напряженную согласованность всех элементов, из которых он
строится. Свобода же в явлении заключается в представлении
отдельных частей таким образом, чтобы могли обнаружить
себя свобода или аналогия свободы каждого из них. Эстетическое
действие представляет собой грандиозную попытку сделать
дух свободы заразительным и распространить его на весь
видимый мир вплоть до неживой природы. Эстетическое
отношение к миру ведет также к учреждению парламента вещей.
Подобные рассуждения имеют своим следствием и особый
взгляд на художественное творчество в более узком смысле
этого слова: художник не должен позволять своим
собственным идеям господствовать над материалом — в этом и
обнаруживается манера: он (художник) воображает себя слишком
значимым, становится навязчивым, гонится за
оригинальностью, стремится утвердить себя на ярмарке тщеславия. Стиль
же появляется у художника лишь тогда, когда его замысел
соединяется со своеобразием материала, и из этого соединения
возникает нечто, что нельзя спутать ни с чем другим: это нечто
нельзя свести ни к художнику, ни к материалу, это нечто
третье, что получается в результате этого союза. Художник
должен работать так, чтобы представить свои идеи таким образом,
словно они вытекают из самого материала. Драматург должен
уважать своеобразие своих персонажей и не имеет права
моделировать их в согласии с собственным замыслом.
Происходящее fia сцене не должно быть сконструировано, а должно
развиваться по законам собственной динамики. Вне сомнения,
именно художник изображает происходящее на сцене, но в то
же время красота подразумевает под собой, что у нас должно
возникнуть впечатление, будто это происходящее само
стремится к тому, чтобы его изобразили. В данном случае дело
обстоит так же, как и со скульптурой Миксланджело, когда он
заявил, что она (скульптура) была скрыта в камне и необходимо
было лишь снять лишний материал, чтобы увидеть ее.
Художник всего лишь исполняет роль повивальной бабки при
рождении вещей, стремящихся увидеть свет. Эту идею Шиллер раз-
364
вивает и применительно к философии: Хорош тот метод
преподавания, в котором совершается переход от известного к
неизвестному; он прекрасен, когда становится сократовским, то
есть когда те же истины извлекаются из головы и сердца
слушателя путем вопросов. При первом методе убеждения
буквально вымогаются у рассудка, при втором они из него
выманиваются (т.6, с. 104).
Эстетический мир является высшим проявлением всех
значений, которые не могут быть навязаны бытию и не могут от
пего требоваться, а могут быть лишь выманены, и потому-то
эстетический мир может быть таким соблазнительным. Мир
запевает, надо лишь суметь услышать магические слова.
В эстетическом мире свобода справляет свой праздник. Все
исходит отсюда, возвращается к себе, представляется тем, чем
оно является х:амо по себе, вступает в игру, в которой каждый
играющий стремится показать, на что он способен. И вовсе не
обязательно, чтобы все было гармонично, все может
закончиться и трагично. И все же это будет согласованность живого в
момент его наивысшего расцвета. Но ведь в этом и заключается
жизнь. Жизнь, многообразная по форме, опасная и прекрасная.
Это и есть шиллеровский идеализм, где вещи и люди
обращаются к самим себе и, приобретя абсолютную форму в
соответствии со своими возможностями и жизненностью, ведут свою
игру жизни. Когда дух проявляет себя во всем, что живет,
инлоть до иемой и окаменелой природы. И здесь есть красота,
если только умеешь ее найти; ее можно найти везде, если
познал при формировании собственной жизни.
Приподнятые высказывания об эстетической республике, о
которой можно сказать, что в ней всякое создание природы есть
свободный гражданин, который располагает равными правами
с самыми высокородными и даже во имя целого не должен
терпеть принуждения, а со всем непременно находится в согласии
(т.б, с. 101), Шиллер написал в тот момент, когда Французская
революция обратила на него больше внимания, чем ему
хотелось.
26 августа 1792 года Парижское национальное собрание на
одном из торжественных заседаний присвоило ему звание
«Citoyen français». Шиллера это обрадовало, хотя
официального документа он не получал, так как тот был выписан на имя
некого «Le sieur Gille, Publiciste allemand». Писателя по имени
«Gille», как Шиллера по невежеству окрестили французы, фо-
365
нетически интерпретировав лишь часть его имени, в Германии
не знали, и потому было неизвестно, кому же следовало
доставить сей документ. Так он и пролежал в Страсбурге несколько
лет. И только 1 марта 1798 года он был вручен Шиллеру. В
документе имелись подписи Дантона и всех тех, кто уже давно
закончил свою жизнь на гильотине. Знаменательными
словами поздравил его Гёте: «С получением декрета о гражданстве
я могу поздравить Вас лишь потому, что, будучи посланным из
царства мертвых, он все же застал Вас среди живых».
Шиллер воспринял это почетное гражданство, как только
он о нем узнал осенью 1792 года, настолько серьезно, что
хотел вмешаться в происходящее во Франции, вызывавшее у
него возмущение. В сентябре во Франции была совершена целая
череда убийств, во время которых от рук парижской черни
погибло около двух тысяч человек. В числе жертв значилось
огромное количество священнослужителей, которые были убиты
лишь потому, что отказались принести клятву верности в
пользу нового государства. Бесчисленные расправы были
совершены в охваченных восстанием провинциях. Страх охватил всю
страну, а паника приводила все к новым безобразным
выходкам. События той осени, представленные в немецкой прессе,
вероятно, еще более кровавыми, чем они были на самом деле,
стояли перед глазами Шиллера, когда год спустя он писал в
своих «Письмах герцогу фон Августенбургскому»: В их
поступках проявляется человек, и что лее за отражение видим мы
в этом зеркале нашего времени? ... У низших слоев мы не
замечаем ничего, кроме грубых, не подчиняющихся никакому закону
инстинктов, вырвавшихся из щпей гражданского устройства и
стремящихся, будучи объятыми не поддающимся управлению
бешенством, к своему животному удовлетворению... Это ведь
были не свободные люди, угнетаемые государством, нет, это
были всего лишь дикие звери, которых оно держало на
безопасном поводке (13 июля 1793 года).
Сентябрьские погромы возникли на волне всеобщей
истерии, вызванной успехами войск коалиции в войне, что вели
Австрия и Пруссия против революционной Франции. После этих
событий, вызвавших негодование Шиллера, вновь избранным
Национальным конвентом было принято решение о
ликвидации королевской власти, и в октябре 1792 года был начат
процесс против Людовика XVI. Национальному конвенту
пришлось поступиться самим понятием права ради идеи «salut
366
public» (общественной воли), когда он в противоречии с еще
действующим правом, требующим от суда для вынесения
смертного приговора три четверти голосов, провозгласил в
качестве достаточного основания простое большинство.
Судебное заседание конвента, на котором слушалось дело короля,
обвиняемого в измене родине, проходило как раз в то время,
когда французская армия, одерживая одну победу за другой
после постигших ее неудач в начале военных действий (кано-
11 ада при Вальми в конце сентября, при которой присутствовал
и Гёте, стала началом переломного момента во всей кампании),
переходит границу Рейна. В этот исторический момент
Шиллер считает необходимым вмешаться в происходящее. Я с
трудом, удерживаюсь от искушения, — пишет он 21 декабря 1792
года Кернеру, — вмешаться в спор о короле... и немецкий
писатель, который свободно и красноречиво выскажется по этому
спорному вопросу, мог бы, вероятно, оказать некоторое влияние
па эти безрассудные головы... Писатель, который публично
выступит на защиту короля, может при этом случае высказать
ряд важных истин скорее, чем кто-либо другой... Моэюет быть,
ты посоветуешь мне молчать, но я считаю, что в таких
обстоятельствах нельзя оставаться бездеятельным и равнодушным.
Если бы все свободомыслящие умы молчали, то никогда не было
бы сделано и шагу для нашего совершенствования. Бывают
времена, когда необходимо говорить публично... (т.7, с.276).
Вероятно, Шиллер был уже готов к тому, чтобы
отправиться во Францию и открыто изложить свою позицию. Он
вполне серьезно подумывал об этом, хотя и не мог позволить себе
этого с учетом состояния здоровья. Но его возмущение по
поводу происходящего во Франции выросло настолько, что все
остальные соображения отошли на задний план. У Кернера он
справлялся по поводу французского переводчика,
расспрашивал знакомых, побывавших в Париже, о маршруте и месте, где
можно было бы остановиться. Для него это было слишком
серьезно.
Но что он хотел сказать французской нации? Не
сохранилось никаких черновиков задуманного им обращения, и мы
можем лишь выдвигать предположения. Шиллер был
республиканцем, доказательством этого служат те настроения, которым
проникнуты его пьесы. Но он был республиканцем в духе.
Монтескье, а это значит: господство закона, основанного на правах
человека, вместо произвола. Но эта власть закона была воз-
367
можна и при конституционной монархии, вероятно, ее сторону
он и принял, выступая против произвола и господства черни
под прикрытием демократии. Действия, предпринятые
конвентом против короля, к которому, впрочем, он не испытывал
особых симпатий, стали для Шиллера проявлением тирании
большинства И если предположить, что в своем обращении он
намеревался выступить за свободу, то непременно в
соединении с правом и законом.
Шиллер занят составлением своего обращения и
написанием писем об эстетической республике в тот момент, когда в
Париже выносится смертный приговор Людовику XVI. 21
января 1793 года он был казнен. Но еще до того революционное
интермеццо имело место и в самой Германии, что не могло
оставить Шиллера безучастным. 21 октября 1792 года
французскими войсками бы занят Майнц и изгнан курфюрст, что
стало для Шиллера неприятным известием, так как он надеялся
на получение синекуры в Майнце от коадъютора Карла фон
Дальберга. Изгнание курфюрста временно разрушило все эти
планы.
В те дни Майнц пережил не только захват, но и революцию.
«Общество друзей свободы и равенства» при поддержке
французской стороны осуществило переворот и на полгода
захватило город в свои руки, основав республику и приступив к
преобразованию общества по примеру Франции, пока 23 июля
1793 года город не был освобожден войсками коалиции. А
возглавил этот революционный переворот Георг Форстер.
До сих пор Георг Форстер вызывал у Шиллера чувство
восхищения как прозаик, естествоиспытатель, просветитель и
путешественник. В 1765 году, тринадцати лет от роду, он
сопровождал своего отца в его поездке в Россию, затем жил в Англии
и в семнадцать лет получил разрешение участвовать в научной
экспедиции Кука в южную часть Тихого океана. Георг Форстер
превратился в своего рода легенду. Вместе со своим другом
Лихтенбергом он издает «Гёттингенский журнал науки и
литературы», где публикует свои пользовавшиеся популярностью
статьи различной тематики — природа, искусство, религия,
государственная политика. Во всех этих областях находила себе
применение его эмпирическая позиция: идеи, писал он,
являются пригодными для чего-либо лишь в том случае, если они
могут быть перепроверены в ходе практического
эксперимента. В противоположность Гёте, который относился к нему с до-
368
статочным уважением, Форстер пришел в политику из науки,
в то время как Гёте следовал в обратном направлении — из
политики в науку. Когда французские революционные войска
приблизились к Майнцу, Форстер посчитал, что настало
время проверить на практике свои идеи о правах человека,
освобождении крестьянства и республиканском государственном
устройстве. Он выступил с программой просвещения,
приобретшего радикально-якобинский оттенок, и выказал
готовность заняться решением практических задач, таких, как
реорганизация управления и образования, организация народного
ополчения; Форстер был полон энтузиазма осуществить
Французскую революцию на немецкой почве. «Потомки не забудут
того, — заявил он в своем выступлении перед майнцским
якобинским клубом, — что прежде всего наши братья разрушили
V
памятники тирании, оставшиеся от варварской эпохи, научили
наш покорный народ высоко держать голову и чувствовать
себя людьми, людьми свободными». Лихтенберг, то лее являв-
XJ
шиися, в принципе, приверженцем революции, предостерегал
своего друга Форстера не возлагать слишком большого
доверия на французскую оккупационную политику. Позже, когда
его недоверие нашло себе реальное подтверждение, он
саркастически заметил: «В преобразованных государствах французы
сулили нам любовь к братьям, а ограничились в конце концов
лишь любовью к сестрам».
По мнению Шиллера, попытка революции в Майнце не
имела никаких шансов. Сочувствовать майнцовцам, — пишет
он 21 декабря 1792 года Кернеру, — я никак не могу. Все их
поступки свидетельствуют скорее о смехотворной страсти
обращать на себя внимание, нежели о здравых принципах (т.7,
С.275). То, что во всем этом принимал участие и Форстер,
разочаровало его и дало повод сомневаться в его способностях
политика. Поведение Форстера, конечно, осуждают все, и я
предтжу, что он выйдет из этого дела со стыдом и
раскаянием (т.7, с.275).
В тот момент Шиллер еще не знал, насколько сильно был
замешан во всей этой истории его друг Хубер. Он узнал обо
всем этом от Кернера лишь 26 февраля 1793 года. В Майнце
Хубер занимал пост секретаря саксонской миссии и
поддерживал связь с якобинцами на месте. Вероятно, поэтому он и
покинул службу, намереваясь стать свободным автором. У него
завязались любовные отношения с женой Георга Форстера Те-
369
резой, о чем он, однако, не сообщил Доре Шток, с которой был
помолвлен в течение долгих лет и которая приходилась
золовкой Кернеру. Открылись письма Терезы к Хуберу, о чем стало
известно Кернеру, и из них он узнал, что Тереза ждала
ребенка от Хубера. Эти отношения оставались тайной и для самого
Георга Форстера, который, узнав обо всем, пришел в такое
отчаяние, что отправился в марте в Париж в качестве депутата,
чтобы потребовать там от Национального конвента
присоединения Майнцской республики к революционной Франции,
правда, безрезультатно, так как спустя некоторое время город
был захвачен войсками коалиции. Форстер подвергся террору
со стороны Комитета общественного спасения и умер в
изгнании в Париже, полностью избавившись от своих иллюзий.
Измена жениха сильно потрясла Дору Шток. Она считала,
что с Хубером она потеряла все свои лучшие годы. Обо всем
этом сообщил Шиллеру Кернер в своем письме от 26 февраля
1793 года, в нем он, кроме того, дал понять Шиллеру, что и сам
вследствие своего знакомства с Хубером попал под подозрение
в политической измене. Шиллер был возмущен двойной игрой,
которую вел Хубер, и проявил солидарность с впавшей в
отчаяние Дорой. Он разделял мнение злых языков, которые
видели в Терезе «солдата в юбке» и «роковую женщину», и счел
Хубера беспомощной жертвой женского коварства. У
Форстеров нет ничего, и они хотят, чтобы он кормил их и их детей, а
ведь он не может даже помочь самому себе. И я абсолютно не
знаю, что он теперь будет делать (28 февраля 1793 года).
Свой приговор Хуберу Шиллер вынес за несколько
месяцев до того, как тот потребовал расторжения помолвки с
Дорой Шток. 21 сентября 1792 года он писал Кернеру: Хубер
повел себя так, как того и следовало ожидать, бесхарактерно и не
по-мужски... Он остался тем, кем и был на самом деле,
рассудительным слабаком, и добродушным эгоистом.
Как только Шиллер и Хубер расстались, от былого
полного энтузиазма дружеского союза не осталось ничего. Последние
сообщения из Майнца утвердили Шиллера в его презрении,
ведь он и сам чувствовал себя обманутым бывшим другом. До-
ра, пишет он Кернеру, может утешить себя мыслью о том, что
все же достойно уважения считать человека лучше, чем он есть
на самом деле. Я полагаю, что с этого момента вы можете
навсегда вычеркнуть его из своей памяти и не обращать на него
никакого внимания. Если бы месть стоила того, то я бы сказал,
370
что госпожа Форстер осуществит ее в полной мере (22 марта
1793 года). Эти слова Шиллер написал Кернеру вскоре после
того, как сам встретился с Хубером, который прибыл в Иену
на несколько дней. Он увидел перед собой беспокойного,
нервного и напряженного человека и был рад, когда тот уехал. Это
была их последняя встреча. В последующие годы они
обменялись еще несколькими письмами. Хубер с Терезой
возвратились в Швейцарию, так как оба могли быть подвергнуты
политическому преследованию. Шиллер позабыл о своем прежнем
друге вплоть до 1804 года, когда получил известие о его
смерти. Пораженный, но уверенный в своей правоте, он пишет
Кернеру: Смерть Хубера поразила вас, вероятно, так же, как и
меня. Тяжело вспоминать об этом, и сейчас. Кто бы мог подумать,
что он оставит нас первым! Хотя мы в последнее время не
поддерживали с ним отношений, но он был для нас жив и связан с
лучшим периодом нашей жизни, и это было небезразлично. Я
уверен, что и вы теперь мягче относитесь к той большой
несправедливости, которую он совершил по отношению к вам. Он,
наверное, глубоко переживал это и жестоко раскаивался (т.7,
С.604).
Неприязнь Шиллера к Хуберу вышла за рамки личных
отношений. Для него он послужил своего рода примером того,
что нынешняя революция привлекала к себе не человека
внутренне свободного, а людей «мятежных», как их
охарактеризовал Гёте, людей возбуждаемых и неспокойных, не обладающих
достаточно сильным характером, чтобы упорядочить
собственную жизнь.
Сила характера, решительность, прямота — таковы были
требования Шиллера к самому себе и к каждому, кто хотел
заслужить его признание. И он придерживался этих требований
с ранящей суровостью.
В таком же духе он объявил и литературную войну
Августу Бюргеру. Популярного автора баллад он упрекнул ни
больше ни меньше как в слабости характера. Бюргер, пишет он в
своем сочинении «О стихотворениях Бюргера»,
опубликованном в начале 1791 года, ради популярности пожертвовал
высшей красотой, что может служить проявлением не только
художественной слабости, но и слабости характера, нарушения
писательской этики. Все, что может нам дать поэт, это его
индивидуальность. Она и должна, следовательно, быть
достойной того, чтобы предстать пред светом, и потомством.. Воз-
371
можно более облагородить эту индивидуальность, просветить
ее до чистейшей, прекраснейшей человечности — такова первая
и важнейшая задача поэта, прежде чем. он решится
взволновать лучшие умы (т.6, с.610). Эта 1фитика глубоко задела
Бюргера в особенности потому, что он сам с восхищением
относился к Шиллеру-писателю. И это сильно омрачило его последние
годы жизни, умер Бюргер в 1794 году.
Так же тяжело резкое неприятие со стороны друга
переносил и Хубер.
Эта чрезмерная строгость особенно усилилась у Шиллера
после первых серьезных приступов болезни. Чувствуя дыхание
приближающейся смерти, он осознал, что бренная по своей
природе человеческая жизнь только тогда сможет утвердить
свое достоинство, если прожить ее, постоянно стремясь к
облагораживанию. Перед лицом смерти оставшееся время
становится слишком ценным, чтобы позволять себе распускаться.
Самооблагораживание Шиллер вменяет в первую очередь в
долг поэту — а ведь Хубер хотел быть одним из них. А потому
его возмущение вызвала не столько его слабость характера,
сколько тот факт, что он, несмотря на эту слабость, все же
хотел им быть. Хубер — пустомеля, написал он однажды
Кернеру (17 ноября 1792 года). Уничтожающий приговор из уст
того, кто так серьезно относился к игре искусства, что считал
необходимым изгнать из ее храма каждого недостойного ее.
Когда в своих письмах «Каллия» Шиллер определял
красоту как свободу в явлении, вопросы этики художественного
творчества, облагораживания — требования, которые он в столь
категоричной форме выдвинул к Бюргеру, а затем и Хуберу, —
еще не поднимались им в качестве отдельной темы. Это
произошло лишь весной 1793 года в его большой работе «О
фации и достоинстве», появившейся вслед за письмами
«Каллия».
Шиллер осознавал, что своим определением «красота есть
свобода в явлении» нашел объективный критерий восприятия
красоты и тем самым пошел дальше Канта, а также и то, что
ему удалось расширить понятие прекрасного и вывести его за
рамки человеческого в царство природы, то есть в область
подражания свободе. Но оказалось, что специфическое
облагораживание, которое в конечном итоге является делом человека,
не было осмыслено им в достаточной степени, То есть речь шла
372
о том, чтобы растолковать это облагораживание. И
представлено оно может быть в форме грации и достоинства.
Грация есть красота тела под воздействием свободы (т.6,
с. 127). Красота образа есть нечто идущее от природы,
например строение человеческого тела; поэтому Шиллер называет ее
также архитектонической красотой, обозначая тем самым не
что иное, как строение, форму. Сюда же относится и
чувственность, то есть природа внутри нас, которая не является
продуктом нашего умысла, нашей воли и нашего разума. Грация —
есть нечто большее, чем эта «природная» красота; но в то же
время она не является лишь простым выражением разума и
свободы. Она не есть продукт господства над природой, а
представляет собой союз природы и свободы, в этом и заключается
основная мысль всей работы. Человеческий дух обуславливает
участие природы, в том числе и своей собственной, в замыслах
духа; и, одухотворяя тем самым природу, он сам становится
природным. Возможно, именно таким способом и можгю
преодолеть ощущаемый в морали дуализм между телом и духом,
природой и свободой. Как раз здесь и обнаруживается второй
момент расхождения Шиллера с Кантом.
Этот дуализм в вопросах морали резко бросался в глаза у
Канта. Для него свободного морального поступка можно
добиться лишь вследствие принуждения природы. Согласно его
Ы
пониманию, категорический императив выражает не то, чего
мы «хотим» согласно своей природе, а то, что мы должны
сделать, возможно, вопреки своему «желанию». Нравственный
разум ведет себя по отношению к природе так, словно находится
на вражеской территории. Он принуждает. Это моральное
воздействие свободы на природу не может быть грациозным
именно потому, что является принудительным. Понятая в таком
духе нравственная свобода была бы, соответственно, потеряна
для красоты.
Намерение Шиллера было достаточно честолюбиво:
подобно своему прежнему стремлению объективировать кантовское
понятие красоты, теперь он намерен предпринять попытку по
преодолению дуализма кантовского понятия нравственности и
в образе грации получить целостное представление о человеке.
Грация выступает для него символом примирения желаний и
свободы, природы и (нравственного) разума. Если это
примирение оказывается возможным — а по Шиллеру, так оно и
есть, — человек превращается в прекрасную душу, которую сам
373
Шиллер определил следующим образом: Прекрасной душой
называется она в том. случае, когда нравственное чувство
настолько ручается за все ощущения человека, что может
наконец безбоязненно предоставить аффекту руководство волей,
никогда не опасаясь оказаться в противоречии с ее решениями...
С легкостью, словно действуя только по инстинкту, исполняет
она тягчайшие обязанности, возложенные на человеческое
существо, и самая героическая жертва, исторгаемая ею у
природной аслонности, кажется добровольным действием этой самой
склонности (т.6, с. 149).
Выражая свое глубокое уважение, Шиллер в то же время в
весьма учтивой форме излагает собственную критику Канта:
В нравственной философии Канта идея долга выралсена с
жесткостью, отпугивающей всех граций и способной легко
соблазнить слабый ум. к поискам морального совершенства на путях
мрачного и монашеского аскетизма (т.6, с. 146).
В концепцию Канта Шиллер вносит одно существенное
изменение: высшим проявлением свободы для Канта выступает
«долг». И к такому уравниванию понятий «долга» и «свободы»
и противопоставлению двух этих моментов в отношении
«желания» ведет не эмпиризм, а как раз неизбежность его
системы. Аргументация действительно весьма запутанная, но на
самом деле к такому выводу приводит его в конечном счете одна
очень простая мысль: «воля» — это природа внутри нас. То, что
является проявлением природной воли внутри нас, есть
природная необходимость и никакая не свобода. Свободными мы
становимся тогда, когда демонстрируем, что можем разорвать
цепи, сдерживающие нас как природных существ. Свобода есть
победа над природой наших влечений. Мы действуем
независимо, если не позволяем природе определять наше поведение,
то есть превращать нас в вещь. Как природные существа мы
принадлежим к области явлений, а как существа свободные,
слышащие голос «долга», мы выходим за рамки
необходимости; мы уже не просто вещь, а познанная изнутри «вещь в себе».
По Канту, именно наша нравственность ведет нас к скрытому
сердцу универсума. И именно здесь, с этого момента морали-
зированная «вещь в себе» Канта превращается в наследие
старой метафизики. «Вещь в себе», «свобода» «моральный закон»,
«совесть», «долг» — все эти понятия сводятся к
«практическому разуму», призванному восполнить пустой небосвод,
образовавшийся снаружи, небом нравственности в наших головах.
374
Словно свергнутая с трона и изгнанная из широких
космических пространств, старая метафизика с трудом собрала
оставшиеся силы и перебралась в совесть секуляризированного
субъекта.
И теоретический и практический разум оказался в весьма
неожиданном положении: в соответствии с учением Канта
категории теоретического разума могут работать лишь тогда,
когда они используются в качестве условий возможного опыта. С
практическим разумом дело обстоит с точностью до наоборот:
он начинает действовать лишь тогда, когда вступает в
противоречие с нравственными законами, почерпнутыми из опыта
(эгоизм, самоутверждение, стремление к счастью). Если бы для
практического разума требовалось только то, что он получает
из опыта, и то, к чему принуждает его природа, то он бы не смог
освободиться от «свободы», от внутренней «вещи в себе». Но
он должен это сделать. Этого требует непреложность самой
системы. И таким образом, сила свободы, по Канту, кроется не в
(близкой природе) воле, а в «долге». Практический разум,
теряющий таинственность «вещи в себе», обладает у Канта силой
влиять на наши поступки, которые имеют место лишь потому,
что они разумны и потому обязательны. Эта сила не должна
зависеть ни от каких подкрепляющих ее импульсов со стороны
склонности или страха. Наоборот, она должна отклонять
подобные стимулы. «Существуют, — пишет Кант, — такие
соболезнующие люди, которые... находят внутреннее
удовлетворение оттого, что распространяют вокруг себя радость. ... Но я
утверждаю, что в таких случаях подобные действия... какими
бы любезными они ни были, не имеют морального значения».
Для Шиллера это было уж слишком. Нравственность во
всем этом теряла для него всякую грацию и превращалась в
уродливую карикатуру свободы. В своем сочинении «О грации
и достоинстве» он выступает против этого, прибегая к
использованию довольно ухищренных аргументов. Спустя несколько
лет, сочиняя «Ксении», он чувствовал себя достаточно
свободным для того, чтобы весьма грубо пошутить по этому поводу:
Рад я друзьям услужить, но делаю это с охотой, /И грызет
меня стыд, что утратил нравственность я. // Выход один
лишь — люто друзей ненавидеть / И с отвращением делать,
что долг тебе делать велит (I, 299—230).
Шиллер идет другим путем: долг не должен господствовать
над желанием, а желание должно быть культивировано искус-
375
ством таким образом, чтобы оно могло превратить долг в
собственную волю. Конечно, существуют ситуации, когда должное
ни в коем случае не может стать желаемым, обстоятельства,
когда человеку придется принуждать себя к чему-либо, — для
Шиллера это те пограничные случаи, в которых и
проявляется не красота и грация, а именно достоинство.
Различие между грацией и достоинством Шиллер
представил, как и в письмах «Каллия», прибегая к помощи примера из
мира политики: Итак, достоинство мы имеем там, где дух
выступает господином, тела, отстаивая свою самостоятельность
от властного инстинкта, который без пего приступает к
действию и хотел бы уклониться от его ига. Наоборот, в грации
дух правит либерально — так как здесь он приводит природу в
действие и ему не приходится побеждать сопротивление (т.6,
С.159).
Таким образом, прекрасная душа напоминает собой некое
либеральное государство, подразумевающее в своей основе
отсутствие всеобщей ненависти, предполагающее доверие к
людям, вместо действия волчьих законов, веры в то, что они
(люди) в своих своенравных и, возможно, где-то эгоистичных
стремлениях все же в конце концов предстанут как некое
гармоничное целое. Политическая составляющая в этом
сочинении выступает еще лишь в качестве метафоры. Пройдет
немного времени, и Шиллер разовьет эту мысль об эстетическом
либерализме в политическую теорию культуры о переходе из
царства необходимости в царство свободы.
«Разбойники» сделали Шиллера ведущим драматургом
«Бури и натиска», знаменитым историком он стал благодаря
своим крупным историческим произведениям, а статья «О
грации и достоинстве» фактически за ночь превратила его в
авторитетного философа искусств Германии. Далее Кант, очевидно
все же чувствовавший себя задетым прозвучавшей критикой,
согласился с этим. Во втором издании «Религии в границах
чистого разума» он называет труд Шиллера мастерским и
считает необходимым смягчить свою концепцию нравственности
в некоторых вопросах. Шиллер моментально сообщил своему
Другу Кернеру, что Кант с большим уважением, говорит о моей
статье и называет ее мастерским творением.. Не могу тебе
передать, как меня радует, что эта статья попала в его руки
и произвела на него такое впечатление (18 марта 1794 года)
(т.7, С.296).
376
Если Шиллер и чувствовал себя польщенным
комплиментом Канта, а особенно тем, что тот на основе прочитанного внес
исправления в свою философию морали (изданные им, правда,
лишь в качестве простых уточнений), сам он тем не менее был
охвачен сомнением по поводу того, остался ли он
последователем Канта или же превратился в его оппонента. Фридриху
Генриху Якоби, задавшему ему этот вопрос, он напишет 29 июня
1795 года: Там, где я лишь крушу и действую весьма агрессивно
по отношению к другим учениям, я остаюсь исключительно
последователем Канта, там же, где я создаю, я оказываюсь в
оппозиции к нему. И все же он пишет мне, что вполне доволен
моей теорией: и я уже не знаю, где же я все же нахожусь по
отношению к нему.
Статья Шиллера «О грации и достоинстве» станет первой
в ряду целой вереницы эсгешчески-философских трудов,
повлиявших на поколение Шеллинга, Гёльдерлина, Гегеля, Шле-
геля, Новалиса и Шлейермахера. Эта работы были для
молодых гениев, пока еще дожидавшихся за кулисами своего
выхода, своеобразной школой эстетической мысли. Между тем
Гёте проявил чопорность и неприятие. Он посчитал, как он
напишет об этом в своем воспоминании 1817 года «Счастливое
событие», что Шиллер истребовал для природы не все права,
принадлежащие ей по праву. По его мнению, Шиллер все еще
слишком подпевал Канту в вопросе господства разума. «В
высшем проявлении чувства свободы и самоопределения»
Шиллер проявил неблагодарность к «Великой Матери (природе),
хотя она обошлась с ним отнюдь не как мачеха».
Это замечание несколько удивительно, ведь на самом деле
Шиллер был намного больше, чем об этом говорит Гете, на
стороне природы. Позже Гёте сам в своем «Вильгельме Мейстере»
подхватит идею Шиллера о прекрасной душе, в которой
природа и рассудок находятся в полной гармонии. Неприятие Гёте
имело, вероятно, несколько иную причину. Он сам указывал на
нее, когда написал: «Мне казалось, что иные резкие его
выпады делят прямо в меня, искажая мой образ мыслей».
Под «иными резкими выпадами» имелось в виду то место,
где Шиллер критикует так называемых природных гениев. Чем
надо восхищаться в большей степени, спрашивает Шиллер,
силой духа, что заставляет включиться в игру, возможно, и
неблагоприятную природу, или прирожденным гением, которому
при создавши своих творений не приходится испытывать ника-
377
кого сопротивления? По мнению Шиллера, большего
восхищения заслуживает тот дух, что определяет собственную форму
сам. Так же, как и в обществе, здесь следовало бы с большим
почтением относиться к тому, чего человеку удалось добиться
самому, нежели к доставшейся от рождения привилегии и
милости природы. Это замечание Гёте мог действительно принять
на свой счет, ведь он чувствовал себя любимчиком природы (т.6,
с. 138). Было ли это сказано в его адрес, остается загадкой. В
любом случае Гёте принял это на свой счет. И потому статья
«О грации и достоинстве», высоко ценимая Гёте касательно
других вопросов и используемая им, превратилась до поры до
времени в камень преткновения на пути их сближения.
Но пройдет какой-то год, и Гёте с Шиллером всё же найдут
друг друга для заключения своего эпохального дружеского
союза.
ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Возвышенное и болезнь. Путешествие в Швабию. Первое посещение
Гёлъдерлина. Старый ирод умирает. Бюст Даннекера.
Планы с Коттой. Возвращение в Иену. Революция Фихте.
Новая радость быть «Я». Судьба «Я». Иенский романтизм.
Гёте и Шиллер сближаются •
В начале 1793 года Шиллер составлял письма «Каллий, или О
красоте»; в конце февраля он прервал работу, так как болезнь
донимала его, но в начале мая возобновил работу статьей «О
грации и достоинстве», которую он непрерывно писал в
течение шести недель, несмотря на то что его здоровье
продолжало ухудшаться. Старый недуг, — пишет он 27 мая 1793 года
Кернеру, — оживает при этой переменчивой погоде так часто
и держится так упорноу что из трех дней я обычно теряю два,
а в короткие передышки, когда болезнь отпускает меня, я
тороплюсь закончить свои самые неотложные работы (т.7, с.283).
Ситуация, в которой Шиллер должен был отвоевывать
мысли у болей, проявилась еще и в том, что он в это же время
начинает статью «О патетическом», которую позже разделит
на две часта: одна из них рассказывает «О возвышенном»,
другая — «О патетическом». Большой объем в этах статьях зани-
Ч-? *J
мают подсчеты разрушительных последствии чрезмерной
чувствительности. Он не взвешивает убывающее чувство
прекрасного, он смеется над жанром, который вызывает
опорожнение слезного мешочка. Эта мягкая эстетика не
соответствует его настроению в той ситуации, которая заставляет его
бороться с телесным недугом. Он напряжен, он не хочет
сдаваться, и поэтому он отдает предпочтение активной
красоте, которую воспринимает с помощью разработанного Кантом
понятая «возвышенного». В свою очередь, Кант примыкает к
%*
традиции размышлении о возвышенном, которая, начиная с
работы Эдмунда Бёрка «О возвышенном и прекрасном» (на
немецкий язык переведена в 1773 году), занимала философские,
теологические и литературные умы конца восемнадцатого
века. Под возвышенным понимали великое в Боге, которое
превосходило все размеры пространства и которое нельзя любить,
можно лишь ужасаться ему. Затем возвышенное перешло с
Бога на определенные аспекта! природы, на устрашающую красо-
379
t.-*
ту космоса, пустынь, гор, моря — природы, в кагором человек
должен ощущать себя маленьким и затерянным. Это был Кант,
который перевел понятие возвышенного с объекта на субъект.
Возвышенным теперь стало считаться самовозвышение перед
лицом ужасного. «Две вещи, — говорит Кант, — наполняют
душу... благоговейным ужасом... звездное небо надо мной и
нравственный закон во мне».
Шиллер присоединяется к этой субъективизации
возвышенного. Для него это тоже верно: возвышается, собственно
говоря, не объект, а мы сами, когда мы не сдаемся перед
кажущейся огромной силой, а, напротив, открываем в себе нечто
непобедимое, силу, протавосгоящую явлениям, которые могут
нас унизить или даже уничтожить. Эта заимствованная у
Канта субъективизания возвышенного направляет Шиллера, в
соответствии с его экзистенциальной ситуацией, на его
собственное тело. Противиться судьбе тела и свободой духа восставать
против больной материи — это становится для него задачей,
решение которой приравнивастся к достоинству возвышенного.
Нужно доказать, что мы совершенно не относим к своему «я»
наше физическое состояние, определяемое природой, но видим в
нем нечто постороннее и чуждое, не оказывающее никакого
влияния на нашу моральную личность (т.7, с. 185).
Кант ограничивает эту триумфальную независимость
рамками моральной личности, но Шиллер привязываег ее еще и к
эстетическому состоянию. Если, несмотря на телесные
немощи, чувство прекрасного потрясает, когда предложение, стих,
тон получаются, если человек может сказать, отчего он
страдает, если человек может это выразить красиво — тогда свобода
духа осуществляется еще в области чувств, а не только, как
предполагал Кант, против чувств. Моральный суверенитет
представляется строгим и сухим, но эстетическое способно
играть даже и с суровой необходимостью. Из этого не следует
бессмертие, но это противостоит тому, чтобы быть мертвым до
того, как человек умер. Красота животворит и не имеет конца,
потому что с каждым финалом, не исключая даже смерти, она
может что-то начать. Это не религиозный человек, которым
Шиллер никогда не был, это также и не моралист, но прежде
всего эстетик Шиллер, который призывает отбросить страх
перед земным. В части работы «О возвышенном», которую
Шиллер отделил и опубликовал под названием «О
патетическом», он описывает, как драматург играет с ужасным и проис-
380
текающим из-за него страданием. Этот эстетический триумф
над ужасным требует от человека малого, пока он остается
только зрителем игры на сцене. Но тот, кто осмелится занять
позицию зрителя по отношению к собственной жизни, в то
время как он подвержен страшным опасностям, тот доказывает
власть эстетического на собственной плоти, потому что он
играет с реальной необходимостью, в которой оказывается он
сам. Эта сила эстетического имеет для Шиллера тоже нечто
возвышенное. И поэтому он чувствует неудовлетворенность
морализированием Канта о возвышенном. Для Шиллера
возвышенное присутствует повсюду, где проявляется триумф
свободы над природой и судьбой, и она может побеждать в мо-
*_»
ральном самоутверждении так же, как и в эстетической игре.
Один случай представляет духовную природу человеческого
V
достоинства, другой — грацию.
Когда Шиллер закончил свои работы «О достоинстве», «О
возвышенном» и «О патетическом», он мог написать своему
другу Кернеру 1 июля 1793 года: Я как личность ощущаю себя
сейчас намного лучше, чем за всё последнее время. В том же
письме он объявляет о своем следующем большом намерении:
он отправится в путешествие на свою родину в Швабию. Отцу
исполнится семьдесят лет, он не проживет долго, опасается
Шиллер, и мать тоже больна. Лотта беременна, и он хочет,
чтобы их первенец появился на свет на земле его предков.
Финансово он тоже может позволить себе это путешествие, потому
что в июне пришла первая тысяча талеров датской пенсии.
Незадолго до отъезда, 13 июля 1793 года, он посылает первое
письмо «О философии прекрасного» герцогу фон Августен-
бургскому. Должна была получиться целая серия писем, он
хотел привлечь в них сумму своих размышлений об искусстве.
Была мысль опубликовать избранную переписку как знак
благодарности за щедрый подарок пенсии. Герцог пожаловал ему
денежное содержание на жизнь, и Шиллер хочет ему сообщить
публично, чему он собирается далее посвятить эту жизнь. При
пожаре замка Христианборг в Копенгагене 26 февраля 1794
года письма, написанные ранее, были уничтожены. К счастью, у
Шиллера имелись черновики этих писем, и он мог летом 1794
года, вдохновленный началом дружбы с Гёте, снова начать
работу над письмами и издать их под названием «Письма об
эстетическом воспитании человеческого рода». Позднее Гёте
будет в возвышенном тоне хвалить эту работу, с которой
381
классическая эпоха пришла к своему подлинному самомосо-
знанию: еще нигде он не находил, чтобы то, «что я частью
прожил, частью хотел бы прожить, было выражено в таком
связном и благородном виде» (26 октября 1794 года).
Первого августа 1793 года Шиллеры отъезжают в
Швабию. Восьмого августа они прибыли в Хайльбронн. Свободная
земля предоставляла защиту. Сначала Шиллер должен был
разузнать, может ли он без опасения путешествовать по
владениям Карла-Евгения. Иногда его в Хайльброние навещают
родственники. Его посетили отец и сестра Луиза. Луиза
осталась, чтобы помочь Лотте по хозяйству и в предстоящих
родах. В Хайльброние Шиллер встретился с врачом, доктором
Гмелином, известным корифеем животного магнетизма.
Ведутся подробные разговоры о сомнамбулизме и родственных
с ним феноменах. Не исключено, что здесь пришла ему в
голову идея пьесы об Иоанне Орлеанской — личности
метафизического магнетизма. Во всяком случае, позже при работе над
этой вещью он вспомнит о тогдашних беседах. Благодаря Гме-
лину Хайльбронн прославился как тайная столица чудесных
явлений, и это отнюдь не случайность, что Клейст свою
сомнамбулическую Кетхен оставляет заниматься своими делами
онне.
В конце августа Шиллер формально просит Карла-Евгения
разрешить ему вступить на вюртембергскую землю. Герцог,
находившийся в то время на Рейне, не ответил, но из замка
сообщили, что в случае въезда Шиллера на территорию Вюртем-
берга на него не обратят внимания. Восьмого сентября Шиллер
отваживается на переселение в Людвигсбург. Он въезжает в
квартиру неподалеку от школьного друга Ховеиа. Они
возобновляют свою дружбу и встречаются почти ежедневно.
Четырнадцатого сентября Ховен, к тому времени уважаемый врач,
помогает появлению на свет первого сына — Карла Фридриха
Людвига,
Шарлотта фон Кальб попросила Шиллера подыскать
домашнего учителя для своего сына. В конце сентября Шиллер
принимает у себя рекомендованного Штойдлином молодого
магистра теологии Фридриха Гёльдерлина. Ему не совсем не-
t^ VJ Ы
знаком этот красивый молодой человек, который смущенно
стоит в комнате и не решается сесть. Шиллер читал некоторые
его стихотворения в «Швабском альманахе муз». Этот молодой
магистр не без поэтического таланта, — пишет он Шарлотте
382
фон Кальб, — я думаю... что вам очень понравится его
внешность. Его отличают также большое достоинство и
воспитанность. Его манерам дают хорошую оценку, но он еще не
производит впечатления вполне остепенившегося человека, и я не
ожидаю ни от его знаний, ни от его поведения большой
основательности.
Гёльдерлин был очень возбужден и напряжен при этой
первой встрече, поскольку Шиллер был божеством его
юности. Когда ему было шестнадцать лет, он увлекался
«Разбойниками», разучивал на пианино песню Брута и Цезаря и
представлял себя в роли Брута. В Амалии из «Разбойников» и
Луизе из «Коварства и любви» молодой Гёльдерлин видит во-
Ч-?
площение своего идеала женщины, который он переносит на
любовь своей юности Луизу Наст. Еще в ранней юности его
жизнь сплелась с историей жизни Шиллера. Когда он
однажды приехал в Оггерсгейм, то посетил постоялый двор, в
котором Шиллер квартировал во время бегства. «Это место стало
для меня настолько святым, — пишет он своей матери, — и мне
не хватило сил, чтобы скрыть слезы на глазах, которые
появились от восхищения великим гениальным поэтом» (4 июня
1788 года).
Первая личная встреча с Шиллером стала для Гёльдерли-
на мгновением, «в которое близость великого человека
сделала его очень серьезным» (4 июня 1788 года).
По рекомендации Шиллера Шарлотта фон Кальб
принимает молодого Гёльдерлина на службу. Он едет в Вальтерхаузен
в надежде быть ближе к почитаемому им человеку, когда тот
вернется в Иену. Как поэт, он ожидает поощрения. При первой
встрече у него еще не хватило смелости выразить это свое
желание. Полгода спустя он решается вложить в подробное
письмо, в котором отчитывается в своих воспитательных усилиях,
свое стихотворение «Судьба» для оценки и публикации в
«Новой Талии». Письмо сдержанно и описательно. Но в одном
месте у Гёльдерлина все же вырывается: «Почему я должен быть
столь беден и так стремиться к богатству духа? Я никогда не
буду счастлив. Между тем я должен хотеть и я хочу быть
счастливым. Я хочу стать человеком. Удостойте меня хотя бы
одним внимательным взглядом!» (апрель 1794 года). Насколько
иначе пишет его ровесник Новалис, тоже трепетно почитавший
Шиллера: «И все же я перенесу все легче, если только меня
будет сопррвождать сознание того, что я вам немножко дорог и
383
что, когда я снова увижу вас, все еще найду свободным свое
прежнее место в вашем сердце». Новалис, несмотря на то что
он тоже добивается расположения Шиллера, говорит с
уверенной доверительностью, как равный с равным; в то время как
Гёльдерлин теряет в самосознании из-за восхищения, он
чувствует себя умаляющимся, становится униженным и в то же
время стыдится своего подобострастия. Все запутано и
судорожно. Гёльдерлин, в отличие от Новалиса, никогда на обретет
свободы от превозносимого и любимого Шиллера.
До отъезда Шиллера в Вюртемберг прошли колики в
груди и животе, через несколько недель, как раз ко времени
посещения Гёльдерлина, они, усилившись, вернулись. В хорошие
часы Шиллер записывает кое-что для запланированного «Вал-
ленштейна», когда ему хуже, он работает над эстетическими
письмами. Он не позволяет себе замечать мучения, которые
испытывает. На Гёльдерлина он производит4 впечатление
решительного, сконцентрированного человека, и при этом идущего
навстречу другим с приветливой душой. Но приходили
моменты, когда Шиллеру казалось, что он не может дольше выносить
страдания. Десятого декабря 1793 года он пишет отчаянное
письмо Кернеру: Такую стойкую хворь, как мою... в конце
концов дожито было бы преодолевать и большее, чем мое,
мужество. Я сопротивляюсь всей моей способностью к
абстрагированию и, где только можно, всей плодотворностью силы моего
воображения, и все же я не могу всегда отстоять поле битвы...
При таком слабом здоровье я должен все средства,
побуждающие к действию, черпать из самого себя... Лат бы только
Небо, чтобы не лопнуло мое терпение, и жизнь, которая столь
часто прерывается смертью, еще сохранит для меня хотя бы
небольшую ценность.
В этом письме есть короткое замечание: Смерть старого
ирода не повлияла ни на меня, ни на мою семью, кроме того, что
всем людям, которые имели дело непосредственно с господином,
как мой отец, было весьма приятно. Иродом Шиллер называет
герцога Карла-Евгения, который умер двадцать четвертого
октября. Он не забыл, что герцог был тираном его юности. В его
письмах нельзя найти и следа примирения. Ховен в своих
воспоминаниях описывает все иначе: смерть герцога наполнила
Шиллера трауром, «как будто он получил весть о смерти
друга». И сестра Кристофина сообщает: « Когда тело герцога
переносили из Штутгарта в княжескую усыпальницу в Людвиге-
384
бурге, мой брат смотрел на идущую мимо процессию из своей
комнаты, в его глазах стояли слезы, и он сказал
присутствовавшим: "О Боже, теперь и он ушел — ему я тоже многим обязан"».
Этим сообщениям нельзя слишком доверять. Когда Кристофи-
на рассказывала эту историю в 1826 году Штрайхеру, она
должна была принимать во внимание интересы старшего сына
Шиллера, который был лесничим на вюртембергской службе,
а Ховен написал свои воспоминания тридцатью годами позже
с позиции снисходительного, примирительно настроенного
пожилого человека. Но для Шиллера осенью 1793 года удавки
юности были еще не столь отдалены. При встрече с родиной
удручающие воспоминания вернулись снова, так что он якобы
обмолвился своему другу юности Элверту, которого он
встретил в Людвигсбурге: «Я ненавижу Штутгарт, Штутгарт не
должен видеть меня днем». И действительно, в первый раз он
должен был приехать в Штутгарт ночью и вернуться через
несколько часов. Но публично Шиллер больше не позволяет
обнаружиться своему озлоблению и ранам. Он придерживается
сформулированного однажды в объявлении к «Рейнской
Талии» правила: О прочем я молчу и не считаю ни в коем случае
порядочным противостоять тому, кто до последнего времени
был моим отцом... С этого момента все мои связи
расторгнуты (V, 856).
Из Людвигсбурга Шиллер посетил в Тюбингене своего
учителя Абеля, который был приглашен туда профессором.
Для обоих это была волнующая встреча. Абель был горд за
своего знаменитого ученика и в дни, пока Шиллер был в
Тюбингене, не хотел отойти от него ни на шаг. Даже ночью. Ховен,
который тоже там находился, рассказывает, как Абель со
светильником в руке навещал Шиллера в спальне и часами
говорил ему, не замечая, что таг давно уснул.
Потом, в ноябре, посещение Шиллером Высшей Карловой
школы. Четыреста учеников собрались в его честь за
праздничным столом. Его с энтузиазмом приветствуют криками
«Виват!». Шиллер тронут до слез и настроен элегически, потому
что ему известно из слухов, что наследник Карла-Евгения
намеревался закрыть Карлову школу, что и случилось три
месяца спустя, шестнадцатого апреля 1794 года. В Штутгарте
говорили, что здание было спасено от превращения в конюшню
только благодаря острой шутке швабского поэта Иоганна Кри-
стофа Хауга, однокашника Шиллера по Карловой школе, кото-
385
рый предложил подходящую надпись «Olim musis, nunc mulis»
(«Когда-то для муз, теперь для мулов»),
В начале марта 1794 года театр военных действий
угрожающе приблизился к Вюртембергу. Один из императорских
лазаретов был перенесен в окрестности Людвигсбурга, как
возможное следствие — вспышка болезней. Обремененная заразой
лазаретная туча катит на Швабию, — пишет Шиллер 7
марта 1794 года доктору Гмелину, — и я должен опасаться, как бы
молния не ударила в мою ветхую хижину. Он поспешно
планирует отъезд в течение пары ближайших дней. Потом он
получает от отца печальную новость, что новый герцог собираегся
упразднить дело жизни отца, питомник молодых деревьев в
Солитюде. «Что будет со мной, — пишет отец своему
находящемуся в отъезде сыну, — этого я не могу пока предугадать, но
я не хочу страшиться, потому что хожу под Богом, как Филипп
Второй, когда адмирал говорил ему, что вся армада ушла на
дно». Шиллер медлит с отъездом, несмотря на то что отец
советует ему: «Я вас уже видел, возможно, видел в последний раз,
чего же мне роптать на провидение, что мы снова должны
расстаться!» Девятого марта отец хочет прислать коляску, которая
в последний раз заезжала за Шиллером в его поездке в Соли-
тюд. Между тем Шиллер решает иначе. Он откладывает отъезд
и вместо этого переезжает шеегаадцатого марта в Штутгарт,
который находится дальше от опасности. Здесь он останется
еще на два месяца. Он живет в прелестном садовом домике.
Стоит прекрасная весна. Боли отступают. Он совершает
прогулки в близлежащем лесу на Бопсере*, где когда-то читал
своим соученикам «Разбойников». От отца приходят хорошие
веста: ему сохранены его старые привилегии и он будет даже
произведен в майоры. В солнечные дни в саду Шиллер снова
принимается за «Валленштейна». В озорном настроении он
объясняет: был бы тагов план, он бы закончил пьесу еще в
Штутгарте за три недели. В Штутгарте вокруг него собирается
целый кружок давнишних и вновь приобретенных друзей,
среди них — тогда знаменитый лирик Фридрих фон Маттиссон, о
котором Шиллер напишет пространное сочинение, и
скульптор Иоганн Генрих Даннекер, который в эти последние недели
* Бопсер — возвышенность в штутгартской долине, покрытая ли
ственным лесом. (Примеч. переводчика.)
386
паяет с Шиллера тот самый бюст, бесчисленные слепки с
которого принадлежат культу Шиллера в девятнадцатом веке.
Первый литой бюст Даннекер послал двадцать второго сентября
1794 года в Йену со словами: «Странно, но, когда я закончил
его, он мне не нравился, а теперь я влюблен в него, как дурень.
Но должен тебе сказать, что твое изображение производит
необъяснимое впечатление: видевшие тебя находят его идеально
похожим, те, кто знают тебя только по твоим произведениям,
находят в этом образе более, чем их воображение могло себе
представить». Шиллер, начинающий привыкать, что с ним
обращаются как с классиком, отвечает: Я мог бы стоять перед
ним часами и постоянно открывал бы в этом произведении
новую красоту. Отец Шиллера тоже был под впечатлением
«несравненного бюста», он почти приобрел его сам, но в конце
концов в нем все-таки победил бережливый шваб: «Если бы он
стоил от двух до трех луидоров, я заплатил бы их с охотой, так
как наша радость при его созерцании ни с чем не сравнима».
После смерти Шиллера Даннекер готов был сделать из бюста
памятник: «Я хочу апофеоза!»
В это бодрое начало 1794 года складывается имевшая
впоследствии большое значение связь с издателем Иоганном
Фридрихом Коттой. Молодой Котта, изучавший право и
математику и являвшийся центром кружка молодых людей искусства и
публицистов, в 1787 году получил в наследство от своего отца
книжный магазин, имея честолюбивую цель развить
существовавшее с 1659 года фамильное дело, к которому относилась
также и типография (в свое время там печатались диссертации
Шиллера), до ведущего издательства Германии. С солидным
начальным капиталом и с помощью своей
предпринимательской ловкости, таланта общаться с людьми и
интеллектуальной любознательности ему это удалось за несколько лет.
Позже его постоянными авторами, кроме Шиллера и Гёте, стали
Жан-Поль, Гёльдерлин, Август Вильгельм Шлегель, Людвиг
Тик, так же как и Гегель, Фихте, Шеллинг и Гумбольдт. Котта
хочет выйти на газетный рынок и планирует ежедневную
газету. Дела идут хорошо, так что Шиллер тоже раздумывает о
выпуске нового журнала. Еще в октябре 1792 года он хотел
увлечь этим планом своего издателя Гёшена. Я постоянно думаю,
что вы, с моей старой идеей издавать большой
четырнадцатидневный журнал, в котором работали бы тридцать или
сорок лучших писателей Германии, могли бы издавать при хоро-
387
шем ходе дела произведения всю жизнь. Вы были бы и должны
были бы стать благодаря этому первым и самым уважаемым
книготорговцем в Германии (14 октября 1792 года). Гёшен не
принял предложения, поскольку после финансовой неудачи
«Талии» был скептически настроен к газетным планам
Шиллера. Но Котта, когда Шиллер при первой личной встрече в
марте 1794 года, устроенной через Иоганна Кристофа Хауга,
представил свои планы, был воодушевлен перспективой
создать с помощью Шиллера литературно-философскую
платформу с привлечением многих больших имен. При второй
встрече в начале мая они совершают поездку в Унтертюркхайм
и по дороге на Каленберг, оптимистично настроенные на
будущее от вина и весеннего солнца, обсуждают сразу два проекта:
ежедневную газету и ежемесячный эстетический журнал.
С этими планами в багаже Шиллер отправляется 6 мая
1794 года в обратное путешествие в Иену. Волнующее
расставание с отцом и матерью, так как он понимает, что он их
больше никогда не увидит, хотя отец при прощании выказывает
решительную готовность в следующем году отважиться на
поездку на собственной лошади в Тюбинген, чтобы навестить
своих детей в Майниигене и Иене. Он хотел покрыть
дорожные расходы продажей своей книги о выращивании деревьев.
Шиллер договорился с Коттой о публикации этой работы. В
следующем году выяснилось, что радость отца длилась
недолго: он заболел и умер в октябре 1796 года.
После девятидневного путешествия Шиллер при
удовлетворительном состоянии здоровья приезжает 14 мая 1794 года в
Иену, где занимает новую квартиру у Нижнего рынка в
непосредственном соседстве с Вильгельмом фон Гумбольдтом,
который переехал в Иену в феврале. Еще в Швабии Шиллер
высказался за назначение Фихте на кафедру на место Рейнгольда,
получившего приглашение в Киль. Фихте навещал Шиллера
еще в Штутгарте. Он принял приглашение в Иену еще и
потому, что он благоговел перед Шиллером и находил весьма
привлекательной возможность работать с ним вместе в
университете. Он говорил Гумбольдту, что Шиллер значит «очень много
для философии», с точки зрения философии от него ожидается
даже «в худшем случае новая эпоха». У Фихте, однако, было
достаточно самомнения, чтобы связать надежду на «новую эпоху»
также и с собственным появлением в Иене. И действительно,
начало его преподавательской деятельности стало в Йене собы-
388
тием, подобным первым лекциям Шиллера за несколько лет до
того. «Фихте сейчас душа Иены», — пишет Гёльдерлин своему
другу Нойфферу (ноябрь 1794 года). Фихте был уже известным
человеком, когда он приехал в Йену. Его карьера начиналась
блестяще.
Родившийся в 1762 году сын ремесленника Иоганн Готлиб
Фихте после изучения курса теологии и юриспруденции
перебивался сначала в должности домашнего учителя. Один из
учеников попросил ввести его в философию Канта, о которой
говорил весь свет. Фихте принялся за «Критику чистого разума»,
которая прежде отпугивала его своей трудностью для
понимания, и был так ею'увлечен, что тогда же, летом 1791 года, едет
в Кенигсберг, чтобы посетить великого философа. Он встретил
KJ
усталого старика, который отнесся к нему весьма равнодушно,
не удивительно, поскольку к тому времени знаменитость
осаждали почитатели. В том числе и дамы между прочим просят
убежденного холостяка о моральном совете в щекотливых
жизненных ситуациях. Итак, Фихте, как и многих других дам и
господ, сначала отсылают домой. Там он сидит тридцать пять
\j о
дней затворником и в лихорадочной спешке пишет сочинение
«Опыт критики всех откровений», которое он хочет
представить мастеру. Кант настолько впечатлен этой работой, что не
только приглашает автора к обеду, но и находит ему издателя.
В начале 1792 года выходит книга, вопреки желанию Фихте
анонимно. Издатель был осторожен по цензурным соображе-
О
ниям, кроме того, сыграл роль и коммерческий расчет, так как
работа была сочинена настолько в духе Канта, что можно
было рассчитывать, что публика припишет ее кёнигсбержцу, от
которого общество уже продолжительное время ожидало
нового слова о предметах религии, и изъявит желание купить ее.
Так и произошло. Выпускаемая в Йене «Всеобщая
литературная газета» сообщила: «Каждый прочитавший хоть малую
толику тех трудов, которые показали бессмертные заслуги перед
человечеством философа из Кенигсберга, тут же узнает
возвышенного сочинителя этого труда». Кант в той же газете
поблагодарил за лестные отзывы и объяснил, что «возвышенный
сочинитель» не он, эта честь принадлежит до сих пор не
известному Фихте. После этого объяснения Фихте за одну
ночь стал одним из самых знаменитых писателей-философов
Германии.
389
Шиллер тоже читал тогда религиозное сочинение Фихте в
уверенности, что речь идет о произведении Канта. В письмах
Кернеру он одобряет мысли, лежащие в основе статьи,
согласно которым не религия лежит в основе нравственности, а,
наоборот, нравственность является основой религии. Если бы
откровение религии отошло от этого, оно не могло бы считаться
полным откровением. Автономия нравственного «Я» является
пробным камнем истины.
Ободренный первым успехом, Фихте решается на
коренной переворот всей предшествовавшей философии. Он делает
более радикальным определение свободы, данное Кантом. В
своем «Наукоучснии», о котором он впервые читает лекции в
Йене, из предложения Канта «то, что «я мыслю», должно иметь
возможность сопровождать все мои представления» он
выводит определение всемогущего «Я», которое познает весь мир
как пассивное сопротивление или как возможный материал
своей «деятельности». Фихте выступал как апостол живого
«Я». В Иене рассказывали, как Фихте предложил студентам
созерцать находящуюся напротив стену. «Господа, думайте о
стене, — сказал Фихте, — а затем мыслите самих себя как от
нее отличных». Насмешливо жалели старательных студентов,
которые теснились светлыми стаями на лекциях Фихте, чтобы
там растерянно пялиться на стену, где их ничто не поражало,
потому что им не приходило на ум их собственное «Я». Но
Фихте хотел своим экспериментом со стеноп освободить
повседневное сознание от его самоокаменсния и
самоопредмечивания, потому что, как он сам обычно выражался, человека лег-
че подвести к тому, чтобы он считал себя куском лавы с Луны,
чем живым «Я».
Но fie все сидели растерянно перед стеной. Захватывающий
талант Фихте-оратора воодушевлял многих. Еще никогда не
слышали, чтобы так говорилось о чудесном делании
собственного «Я». Своеобразное волшебство исходило из его сложных
исследований в чуждом и все же столь близком мире. Фихте
хотел распространить среди своих слушателей желание быть
«Я». Пусть Кант исходит, учил Фихте, из «я мыслю» как
некоей данности, но это невозможно, напротив, человек должен
однажды проследить, что происходит в нас, когда мы-мыслим «я
мыслю». «Я» есть нечто, что мы сначала порождаем в мыслях,
и в то же время оно само является порождающей силой.
Мыслящее и мыслимое «Я» движутся в постоянном круговороте.
390
Оно охватывает мышление точно так же, как мыслимое,
поэтому не существует никакого прочного бытия, на которое мы
могли бы опереться, а только эта непостижимая активность,
которая, кроме всего прочего, заставляет нас мыслить. Вес
находится в движении и живет, мы мыслим это, более того, мы
ощущаем это в нашей собственной жизни. Мир возвышает дей-
гткие и вместе с действием он также возвышает то, что мы
палы наем «Я». Фихте сказал бы: я порождаю себя как «Я»,
следовательно, я существую.
На первый взгляд формулировки, которые выводит Фихте
из своих обоснований, кажутся чудовищными. «Источником
исей реальности является «Я», — объясняет он, и,
следовательно: «вся реальность «не~Я» есть только лишь перенесенное из
«Я». Сопротивление, которое противостоит «Я», то есть
противоположность, есть проецированная вовне инертность «Я».
[ )то сопротивление является тоже установленным так же, как
«Я» устанавливает само себя. Любая граница — это скрытое от
самого себя самоограничение. Это самоовеществление,
наделяющее внешние предметы силой, которой они бы не имели,
если бы «Я» осознало само себя. Эти размышления должны
были бы оказать чудовищное действие, если их трактовать так,
как будто внешний мир этим отрицается и утверждается
абсолютный солипсизм. Но это не в случае Фихте. «Внешний мир»,
само собой разумеется, есть и для него. Только — и он не
устает па это указывать — этот внешний мир имеет постоянную
связь с познающим его «Я». Мир является всем, о чем
известно из опыта. А что есть мир независимо от моего опыта? Он
является пустой игрой слов. Если бы человек хотел мыслить
мир действительно независимым от своего «Я», он сделал бы
его тут же снова миром «для меня». Поэтому Фихте коробит
от кантовской «вещи в себе». Его аргументация развивается в
присоединении к критикам Канта: Готлобу Эрнсту Шульце
(опубликовавшему свою критику Канта под псевдонимом
«Aenesidemus») и Заломону Маймону: Кант сам себя ввел в
заблуждение определением «вещи в себе», когда он в изданной
позже «Критике чистого разума» охарактеризовал «вещь в
себе» как причину явленного мира. Но здесь, как Кант
подтвердил сам, принцип причинности действителен только для
видимого мира, Кант допустил промах, когда таким образом
причислил «вещь в себе» к ^проявленному. «Вещь в себе» не
может никогда быть причиной чего-либо. Таким образом, мож-
391
но от нее отказаться. Зачем конструировать параллельный мир
из громких слов, которые ничего не означают? Существует
только мир, конституированный с помощью «Я». «Вещь в
себе» — действительно нелепость. Итак, остается только
фундаментальное положение идеализма, по которому мир таков,
каким мы его себе полагаем. Самоопределение действительно не
только для морали, но также и для теоретического познания.
Не существует ничего, что выводило бы за абсолютизм «Я».
К этому присоединяется еще одна несуразность, когда
человек путает именование этого в каждом опыте
предполагаемого «Я» с психологически буквально понятым «Я». Это дает
повод для легкой насмешки Жан-Поля: «Ах, если каждое «Я»
является своим собственным отцом и создателем, почему оно
не может также быть своим собственным душителем?»
Шиллер и Гёте тоже шутили над этим неудержимым мужем
философии, которого они высоко ценили. Когда Фихте ввязался в
ссору со студенческим орденом и ночью студенты побили ему
оконные стекла, Гёте пишет своему коллеге министру Фойгту:
«Итак вы видели абсолютное «Я» в большом замешательстве,
и действительно, со стороны «не-Я», которое все-таки было
применено, очень невежливо лететь сквозь стекла». Шиллер в
то же самое время, когда он называет Фихте величайшей
спекулятивной головой в этом столетии после Канта (Ховеиу, 21
ноября 1794 года), насмешливо пишет Гёте, что мир для Фихте
лишь мяч, который бросило «Я» и с помощью размышления, сно -
ва ловит. Итак, он действительно провозгласил свою
божественность, как: мы недавно и предвещали (28 октября 1794 года)
(т.7, С.319). Когда Фихте в 1795 году необходимо было
скрыться в находившийся рядом Османиштедт в связи с возникшими
из-за него беспорядками среди студентов, с которыми у пего
были напряженные отношения по поводу их неумеренного
употребления алкоголя, ночных нарушений покоя и потасовок,
Шиллер пишет Гёте: Из здешних новостей- я ничего не могу вам
сообщить, ибо вместе с нашим приятелем Фихте иссяк и
богатейший источник всевозможных нелепиц (15 мая 1795 года)
(т.7, С.332).
Фихте действовал поляризующе. Одних он увлекал,
другие были им возмущены, в обеих партиях было новое
разбуженное удовольствие быть «Я». «Это было опасное время для
юных душ, — вспоминал позже один современник, —
вспыльчиво раздраженная, возбуждающая... жизнь двигалась между
392
сплошными крайностями». За каждую крайность
последовательно становилась ответственной Я-философия Фихте. И
здесь мало помогало то, что Фихте защищался от
неправильного понимания, будто его Я-философия оправдывает
беспощадность и эгоизм. Но что же было правильным пониманием
его философии?
В статье «Ясный отчет широкой публике о действительной
сущности философии» с характерным подзаголовком
«Попытка склонить читателей к пониманию» он прилагает чуть ли не
отчаянные усилия для доказательства, что он не
высказывается в защиту эгоизма, а ставит на обсуждение проблему эголо-
гического бытия с тезисом о том, что динамику жизненных
процессов истории и природы можно постичь только тогда,
когда человек мыслит целостность от лица самого себя. Сила,
движущая природой и историей, родственна той, какую мы
познаем в спонтанной активности нашего «Я». Здесь смело
доводится до конца мысль Руссо, что я знаю о начале и о движении
мира, потому что я сам могу в любой момент начинать и
двигаться. Самопознание ведет нас в мир как универсум
спонтанности. «Я существую» является очевидной тайной мира. Этот
взгляд был для Фихте той сияющей «зарницей», которая до
конца подогревала его философствование.
Эта «зарница» пришла из заряженной духовным напряже-
] ] нем атмосферы Французской революции. Фихте, который
тоже выступил со статьей в защиту этой революции (поэтому ми-
пистерство сначала медлило с приглашением его в Иену),
действовал не своей сложной дедукцией, которую понимали
11 емногие, а меткими выражениями, из которых тотчас же
могла быть отчеканена расхожая монета для изменчивого курса
нового стремления быть «Я». Он поощрял юношеский культ
новых дикарей, о которых Гёте позволил себе сказать в
«Фаусте II» (стихи, которые он тогда написал): «Кому за тридцать
перевалит, / Тот мертв фактически уже. / Не лучше ль
истреблять таких досрочно?» Конечно, оказывали влияние Руссо,
культ гения и «Буря и натиск». В этой традиции учились
упрямому осознанию себя, которое восставало против неписаных
законов общества. Все еще позволялось воодушевляться
фанфарным звучанием фраз, определявших настроение эпохи, как,
например, начало «Исповеди» Руссо: «Я один. Я знаю свое
сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из
виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на
393
свете»*, — и вертеровского «я возвращаюсь в себя самого и
нахожу целый мир». Таким и хотелось быть, таким несравнимым
и все же универсальным, таким верящим в себя и таким
сильным в самом себе и этой силой осеняющим весь мир.
Фихте с большой помпой водружает это «Я» на
философский Олимп, теперь оно стоит там как фигура Каспара Давида
Фридриха, мир простирается под его ногами: величественная
перспектива. Благодаря Фихте слово «Я» получило огромный
объем, сравнимый только с полнотой того значения, которым
позже Ницше и Фрейд наделили слово «Оно».
Популяризированный Фихте стал главным свидетелем духа субъективизма и
безграничных возможностей. Предполагаемое могущество
человека рождало эйфорию. Так сидят рядышком в конце
столетия за бутылкой вина Гёльдерлин, Гегель и Шеллинг и
разрабатывают очерк новой мифологии, которую нужно «сделать».
Где найти такую мифологию? Конечно, в себе самом. Этому
верят, основывают новую идею образованного общества, чтобы
превратить отчужденный общественный механизм в единую
общую жизнь. Позже протокол этого окрыленного
совместного пребывания назовут « Старейшей системной программой
немецкого идеализма». В этой статье, выдвинутой человеческим
духом, созидающим мир и «Я», значится: «Первая идея,
разумеется, представление обо мне самом как абсолютно
свободном существе. Со свободным, самосознающим существом в то
же время выступает из «Ничто» целый мир, единственное
истинное и мыслимое творение из "Ничто"».
Те, кто столь выразительно осознали свое собственное «Я»,
часто чувствовали угрозу и притеснение мира, который все же
оказывал значительное сопротивление их потребности в
развитии. Этому «Я» нужно защищаться от реальности очень
сильного «не-Я» и в дальнейшем потонуть в жалобах и боли.
Молодой Гёльдерлин пишет своему брату 2 ноября 1797 года:
«Кто сможет удержать свое сердце за красивой оградой, когда
мир стучит в нее кулаками? Чем интенсивнее оспариваем мы
«Ничто», которое, как бездна, что зияет вокруг нам в лицо, или
также тысячекратное «Нечто» общества и деятельности людей,
которое бесформенно, бездушно и без любви преследует нас,
рассеивает, тем более страстно, и сильно, и насильственно
Перевод М.Н.Розанова.
394
дожнсно быть противостояние с нашей стороны...
Необходимость и нужда извне превращают переполненность сердечного
«Ты» в необходимость и нужду». «Переполненность сердца»
требует действия, исторжения его силы; промедление,
сдержанность были бы смертельны. В конце попыток прийти к
миру со своим «Я» стоит башня в Тюбингене, где Гёльдерлин —
и в данном случае безразлично, как «благородный симулянт»
или больной — проводит втайне последние десятилетия своей
жизни. «Я», которое оставило попытки завоевать себе мир, как
сцену своей «деятельности». Как у Гёльдерлина, так и у
молодого Фридриха Шлегеля, который ищет близости с Фихте и
Шиллером, чувство «Я» выступает из мрака. Он пишет другу
Новалису, тоже фихтеанцу первого часа: «Я беженец, не
имеющий дома, я был вытолкнут в бесконечность (Каин мирового
пространства) и должен построить себе дом из собственных
сердца и головы». В этот момент Фридрих Шлегель, в отличие
от Гёльдерлина, настроен решительно не позволить
«переполненности сердца», которую он тоже ощущает и которую он
окрестил именем фихтеанского «Я», погибнуть от отрицающей
действительности. Он привлекает на свою сторону силу
отрицания, с чувством достоинства он отрицает то, что отрицает
его. Нет времени для печали, гёльдерлиновская тоска о
потерянном — ничто для Фридриха Шлегеля, который
портретирует себя в своем «Разговоре о поэзии» как того, «кто своей
революционной философией охотно возводит уничтожение в
большой масштаб». Когда Шлегель писал это,
«революционной философией» для него была философия Фихте.
В Йене, где Фихте преподает с 1794 по 1799 год, на короткое
время собираются все, кто хочет со своим «Я» выйти в
высокие пределы. Август Вильгельм Шлегель преподает в Иене
литературу и пишет для Шиллера в «Оры». Его дом становится
центром молодого движения, которое позднее назовут «Йен-
ским романтизмом». Здесь Людвиг Тик. Новалис, к тому
времени асессор соляных заводов в Вайсенфельзе, часто бывает
проездом в Иене. Клеменс Бреитано изучает здесь медицину и
ухаживает за чувствительной и красивой Софи Меро, которую
Шиллер считает самой одаренной писательницей их
поколения. Гёльдерлин приехал, чтобы быть поблизости от Шиллера
и слушать Фихте. Шеллинг, зарекомендовавший себя как
фихтеанец знаменитой фразой «"Я" есть нечто, что в худшем слу-
I
395
чае не допускает сделать себя вещью», приезжает из
Тюбингена в Йену и получает здесь в конце девяностых годов
профессуру. Не забьггь умных женщин на заднем плане: Доротея
Фейт, дочь Мозеса Мендельсона и спутница жизни Фридриха
Шлегеля, а также и Каролина Шлегель, которая в эти годы
изменит свою фамилию на Шеллинг. Хеирик Штеффенс,
позднее натурфилософ, принадлежащий к этому кружку, напишет
впоследствии: «Они заключили внутренний союз, и они
действительно принадлежали друг другу. И революцию, как
внешнее явление, и философию Фихте, как внутреннее абсолютное
действие, этот союз стремился развивать как чистую
свободную игру фантазии».
Иенские романтики предпочитают определение
«продуктивная сила воображения», чтобы стало ясно, что им более
близко эстетическое, нежели нравственное начало их
поступков-действий. «Продуктивная сила воображения», которая у
Канта поддерживает механизм восприятия в движении и у
Фихте исполняет роль повитухи при рождении нравственного
мира, становится у романтиков «принципом божественного
воображения». Шиллеру, который видел себя в игре искусства,
по все же хотач держать ее на длинном поводке свободной
нравственности, представлялось, что романтики зашли
слишком далеко. Фантаст покидает природу по чистой прихоти, —
пишет он, — чтобы со всей разнузданностью отдаваться
своеволию страстей и причудам силы воображения... Но
фантазирование — это распутство не природы, а свободы, то есть
происходит это фантазирование от той основы, которая сама по
себе заслуживает уважения и способна к бесконечному
совершенствованию; и именно поэтому фантазерство ведет к
бесконечному падению и может закончиться лишь полной гибелью
(Т.6, С.477).
Это предупреждение романтики посчитали излишним. Их
интеллектуальная виртуозность, в которой они всегда
старались превзойти самих себя, обнажала перед ними риск
предпринимаемых ими полетов. Людвиг Тик, Фридрих Шлегель,
Клеменс Брентапо имели острое чутье к обратной стороне их
устремлений и вытягивали еще к тому же особое наслаждение
из опасности «нигилизма» (когда всплыло это выражение).
Тик заставляет героя своего романа Вильяма Ловелля
провозгласить: «Лети со мной, Икар, сквозь облака, давай по-братски
ликовать в разрушении». Когда их обвиняли, что они ведут се-
396
бя «произвольно», они отвечали: да, как же иначе, произвол —
наша лучшая часть. Жан-Поль, который знает, о чем он
говорит, потому что он тоже охотно отдается поэтическому
самовозвышению и преодолению мира, присоединяется, чтобы не
попасть в ученики чародея, к позиции Шиллера, когда пишет
в своей «Подготовительной школе эстетики»: «Из
безграничного произвола духа нашего времени — который
самовлюбленно уничтожает время и пространство, только чтобы
очистить для себя свободное место для игр... — следует, что он
вынужден говорить с презрением о подражании и изучении
природы».
В кружке Фихте вовсе не говорили с презрением об
изучении природы. Вооруженные дедукциями Фихте, по которым
«Я» как сила интенсионального становления глубоко
проникает в основу бытия, человек хочет также и в природе заглянуть
вглубь. Шеллинг пытается это делать систематическим путем
своей натурфилософии. Новалис, горный инженер, доверяет
своей гениальной интуиции. «Внутрь ведет таинственный
путь», — пишет он, или: «Мы ищем эскиз мира: этот эскиз —
мы сами». Новалис контрастно различает «внешний взгляд» на
природу, который повсюду, как учил Кант, должен лицезреть
каузальность, с «внутренним взглядом», которому являются
аналогии. Этот «внутренний» способ мышления позволяет
«природу или внешний мир понимать как человеческое
существо, он показывает, что мы всё только так можем и должны
понимать, как мы понимаем нас самих и тех, кого мы любим и
кто любит нас». Опираясь на это действие аналогий, Новалис
набрасывает грандиозные картины, например, когда говорит,
что, возможно, природа только под взглядом человека
застывает в скалу. Вместо бездушной аналитики познания природы
11овалис призывает к эротике общения с природой. У Новали-
са из абсолютного «Я» Фихте, которое должно лежать в
основе также и природы, становится «Ты». И как всё возможно
между любящими, так же и здесь: «Что я хочу, то я могу — у
людей нет ничего невозможного». Так как наши тела
являются ближайшей к нам природой, фантазирует Новалис, наша
сила любви должна распространяться также и на них. Те часы у
I юстели Шиллера оставили в нем глубокое впечатление; когда
он видел почитаемого им человека борющимся со смертью и '
наконец триумфально победившим ее, то он пишет, что
благодаря этой силе любви к собственной природе каждый может
397
сделаться «своим собственным врачом», и тогда возможно
даже быть в состоянии «реставрировать утерянные члены, убить
себя только силой собственной воли и только благодаря ей
обрести истинные разъяснения о теле, душе, мире, жизни,
смерти и мире духов. Возможно, лишь от самого мертвого будет
зависеть, чтобы он одухотворился. Воля заставит его чувства
создать образ, который ему угоден, и научит чувства жить в
собственном мире».
Кто погружает свое «Я» в «не-Я» природы так глубоко, как
это делает Новалис, тот производит в конце концов странный
опыт: природа больше не представляется ему подобной «Я», а
наоборот, «Я» — подобным природе. Он направляется с тем,
что он считает своим «Я», в «темный манящий замок»
природы, его поглощает «бедная личность, захлестываемая волнами
желания», как говорится в «Учениках в Саисе», тексте,
навеянном стихотворением Шиллера «Саисское изваяние под
покровом». «Я», которое пытается везде снова найти и увидеть себя,
оказывается внезапно во тьме, попадает на ночную сторону
природы. Царство теней возникает само собой вокруг него.
Становятся видны очертания неизвестного континента,
бессознательного, и он становится целью прогулки этого нового
любопытства. По-другому и не может быть: кто хочет столь
интенсивно почувствовать и понять самого себя, тот очень скоро
сделает открытие неопределенного и многозначного. Остается
неясным, является ли ночь тем, что притягивает
воодушевленного ею, или ночь вызвана в первую очередь лиризмом,
исходит ли она из того, что невозможно произнести, или
сопровождает тенью нелиричность языка. В любом случае начинается
внутреннее «сомнение», о чем позже скажет и споет Эйхен-
дорф в том подземелий «Я», где любопытные открывают
больше, чем просто расхожие монеты «общего смысла», который
оптимистическое сознание восемнадцатого столетия, во
всяком случае, охотно предполагало в подвальном этаже сознания.
В то время как научные экспедиции открывали
неисследованные земли за Тихим океаном, другие принялись изучать
труднодоступные местности в нас самих.
Некоторые из тех, кого желание быть «Я» завело особенно
глубоко в собственную чащу, в конце концов перенапряглись.
Как меланхолическое эхо на сладко манящий зов Вертера «я
возвращаюсь в самого себя и нахожу мир» звучит в 1802 году
398
замечание Клеменса фон Брентано: «Тот, кто направляет меня
ко мне самому, убивает меня».
Переутомленные «Я» осматриваются вокруг в поисках
чего-нибудь прочного. В конце концов даже «Я»-комета
Бонапарта замрет в императорском достоинстве. Август Вильгельм
Шлегель залегает на дно у корпулентной и состоятельной
мадам де Сталь. Фридрих Шлегель подготавливает свой переход
в лоно католической церкви. Брентано тоже становится
католиком. Традиция снова имеет спрос, собираются народные
песни и сказки, «В весеннюю ночь ударил мороз...», слава Богу,
что человек все-таки не должен все делать сам, можно дать
нести себя потоку и плыть вместе с ним, текущим издалека.
Ищут прочные основания и стабильные отношения.
Игральная кость любителей «Я» укатилась прочь, Фихте
тоже покинет романтическое место преступления — Иену, но
в остальном он останется тем, кем был, его труба все еще
возвещает «судный день» чувственного «Я». Позже в «Речах к
немецкой нации» он будет снова возводить возрождение «Я» на
высоту, взывая к целому народу: невыносимо больше быть
«не-Я».
Гёте, часто останавливающийся в Иене, с некоторым
удовольствием наблюдает бурную деятельность нового поколения.
Для него это гениальные люди, немного перенапряженные, они
«стоят на обрыве», считает он, это может плохо закончиться
для них, и ему было бы жаль. Но когда Фридрих Шлегель
каждому желающему это услышать рассказывает, как он упал со
стула от смеха, читая «Колокол» Шиллера, старый олимпиец
все же вынужден взять последнего под свою защиту,
поскольку они, между прочим, сердечно подружились. Фридрих
Шлегель получает головомойку и отправляется в Берлин, чтобы
там еще некоторое время продолжить свою самовлюбленную,
ироничную и ничего не уважающую возню. Журнал
«Атенеум», который он там основывает, должен был, собственно
говоря, называться «Геркулес», он должен был сигнализировать,
что романтическое «Я» чувствует себя достаточно сильным
вычистить авгиевы конюшни современности.
Дружба между Гёте и Шиллером — это почти мифическое
событие немецкого духа; она началась через два месяца после
возвращения Шиллера из Швабии, одним теплым вечером.
399
Это было 20 июля 1794 года. Как обстояли дела между ними
до этого события?
После своего возвращения из Италии Гёте с трудом
удавалось снова привыкнуть к «области туманов». Свободный от
служебных обязанностей, он мог бы жить искусством,
любовью и естественными науками. В Веймаре он встретил
госпожу фон Штайн, которая представилась оскорбленной,
отстраняющейся и холодной. Вероятно, в последнем письме от 8
июня 1789 года он пишет ей: «...если даже к ближним
возникает дурное отношение, то не знаешь уже больше, куда идти». Но
все было не так уж плохо: Гёте соединился с Христианой Вуль-
пиус, чем провоцировал хранителей нравственности и
приличий. Он не вставал весь день с кровати, которую разделял
теперь с Христианой. Он пишет свой «Эрошкон», «Римские
элегии», в которых больше звучит его настоящая веймарская
любовь, чем расплывчатая римская. В остальном, если дела по
должности оставляли ему для этого время, он работал над
своими ботаническими исследованиями и над окончательной
доработкой переписанного в Италии «Тассо», который был
предусмотрен для последнего тома «Собрания сочинений».
Конец «итальянской эпохи», подготовка этого первого
собрания сочинений и рождение в августе первого и
единственного сына вызывают у него в конце 1789 года чувство цезуры в
биографии. К этому добавились события Французской
революции. Он пишет Якоби 3 марта 1790 года: «То, что Французская
революция явилась революцией и для меня, ты можешь себе
представить». Ему понадобилось, записывает он. оглядываясь
назад, «множество лет», чтобы «это ужаснейшее из всех
событий поэтически переработать во всех его причинах и
следствиях». «Привязанность к этому предмету, который невозможно
обойти вниманием, почти напрасно истощила» его
«поэтический капитал». Действительно, революция играет значительную
роль почти во всех его произведениях девяностых годов,
отчасти как выразительная тема, как в «Мятежных», в
«Гражданине генерале» или в «Побочной дочери», частью как задний план
и горизонт проблемы, как в «Германе и Доротее» или в
«Разговорах немецких беженцев».
Что для него столь «ужасно» в революции?
Гёте не ограничивает себя интересами и взглядами
аристократии и состоятельной части общества, он с возмущением
замечает несправедливость и эксплуатацию. За несколько лет до
400
революции он пишет Кнебелю: «Ты же знаешь, когда тля
сидит на веточках роз и, насосавшись, становится кругленькой и
зеленой, тогда приходят муравьи и высасывают
фильтрованный сок из ее тела. Так и продолжается, и мы дошли уже до
того, что наверху в один день поглощается больше, чем снизу
вообще может быть поднесено» (17 апреля 1782 года). Из-за того
что он отклоняет революцию, он все же не становится
сторонником «ancien regime». С кампании во Франции 1792 года он
пишет Якоби: его «ни в малейшей степени не трогает смерть
ни аристократических, ни демократических грешников» (18
августа 1792 года). Для него в революции ужасно не то, что
старое и, возможно, несправедливое и эксплуататорское
распределение имущества стоит под сомнением. В его революционной
комедии «Мятежные» выступает некая особенная графиня,
которую он позже опишет в разговорах с Эккерманом как
представительницу того дворянства, каким оно должно быть: «Она
убедилась, что народ существует для давления, но не для
подавления и что революционные восстания нижних классов
являются следствием несправедливости вышестоящих».
Ужасным в революции для него является то, что речь здесь
идет об извержении социального и политического вулкана. Не
■ случайно он занимается в эти месяцы после революции
волнующими его естественными феноменами вулканизма в
противопоставлении нептунизму, теорией постепенных изменений
океанами поверхности Земли. Постепенное притягивает его,
внезапное и насильственное отталкивает как в природе, так и
в обществе. Он придерживается переходов, не переломов. Он
был другом эволюции, не революции. Но искажения
революции были не единственным, что пугало его. Неуютным было
для него представление, что массы могут с этого момента
необратимо выступить на арену истории. Но желательно ли это,
относится ли это к эмансипации, ко много раз
провозглашенному просветительскому «выходу из несовершеннолетия по
своей воле»? Конечно, было бы хорошо, если бы с массами к
власти пришло политическое совершеннолетие. Но это не так.
Это демагоги, доктринеры и догматики, «мужи революции»,
как презрительно называл их Гёте, которые ведут и
соблазняют массы. Однако так и должно быть, так как массы
поддаются соблазну, потому что они вовлечены в сферы, где они не
ориентируются. Политика имеет дело с всеобщим, с делом
общества как целого. Это предполагает способ мышления, пре-
401
следующий не только свои интересы, способный принять
ответственность за целое. Но обычный человек» по Гёте, не может
подняться до такой точки зрения и потому становится массой,
манииулируемой агитаторами. Всеобщая политизация создает
условия для лжи, обмана и самообмана. Человек хочет иметь
власть над целым, а не может владеть даже собой, хочет
улучшить общество, но отказывается начать с исправления себя
самого. В опьянении массы тонет здравый смысл и поощряется
разгул низких инстинктов. Наглядным примером этого служит
государственный террор, который прокатился по Франции в
1793 году, массовые казни, погромы, мародерство на занятых
территориях. «Когда масса разрушает, / Ее уважают, / Но
пока она рассуждает, / Ее презирают». Где революция не рубила
голов, там ее силы хватало по крайней мере на то, чтобы их
вскружить. Политизацию общественности Гёте воспринимал
как роковую. Он называл ее всеобщим воодушевлением к
«политиканству». Он страдал от бесконечной болтовни и
дебатирования о событиях, на которые не мог повлиять никто из тех,
кто произносил громкие речи в газете или за своим
постоянным столиком в кабачке, и его раздражало абсурдное
непонимание политических реалий у друзей революции в Германии.
Вся политизированная сущность газет была ему ненавистна.
Во время кампании во Франции он пишет: «К сожалению,
газеты проникают везде, на данный момент это мои опаснейшие
враги» (8 августа 1792 года). Он возмущен неискренностью
критиков княжеского произвола, которые не хотят себе
признаться, что сами извлекали выгоду от княжеской власти. В
противоположность Гердеру, которого он с недавнего времени
причисляет к этим неискренним, он говорит: «Я принимаю
сейчас законы моего милостивого государя, он дает мне есть,
поэтому в том, что я разделяю его мнение, мой долг». Это было
направлено рассерженно против Гердера и иронически против
самого себя. Политические мнения, если они превышают
собственный опыт и ответственность, ни к чему не пригодны,
нельзя им доверять даже тогда, когда они являются
собственными; «наше участие в общественной деятельности является в
основном всего лишь филистерством», — говорил Гёте.
Отказ Гёте от революции является выражением убеждения,
что всеобщая политизация в начинающуюся эпоху масс имеет
последствием фундаментальную растерянность в восприятии
близкого и далекого. «Человек, — как говорится в «Годах
402
странствований Вильгельма Мейстера», — рожден к
ограниченному положению, он в состоянии видеть простые, близкие,
определенные цели, и он привыкает к применению тех средств,
которые находятся у него под рукой; но как только он
отправляется вдаль, он не знает ни чего он хочет, ни что он должен,
и это безразлично, распылится ли он через множество
предметов или благодаря их величию и достоинству будет выведен за
пределы себя. Это его постоянное несчастье, когда его
побуждают стремиться к чему-либо, с чем он не может связать себя
постоянным проявлением личной инициаггивы».
Политической страсти «Мятежных» Гёте противопоставляет выросшее из
силы ограничения формирование индивидуальной личности.
Так как мы не можем охватить целого и далекое рассеивает нас,
то образовывай каждый себя в отдельности в нечто
целостное — это максима Гёте, и потому для него очевидно:
«Личность высшим благом будет / Пусть для всех детей Земли». В
этом почти упрямом идеале личности заключена также та
блестящая невежественность на службе жизни, которую Ницше
прославлял у Гёте и которая относится к его прометеевской
силе изображения. Сила изображения, проистекающая из
формулы жизни: изменить для себя мир и благодаря этому сделать
его своим, но также взять от него ровно столько, сколько
возможно изменить. Отсюда следует: «недоступное» не
подпускать к себе и не испытывать при этом угрызений совести. Мир
Гёте и его жизнь остаются достаточно просторными, несмотря
на отстранения и ограничения.
Эта защита могла быть очень сильной и радикальной. К
смерти, например, Гёте не желал находить вообще никакого
отношения. Он находил смерть неприличной. Над магическим
культом смерти Нова лиса он мог только покачать головой, эти
молодые люди, говорил он, расточают свои способности. В
любом случае он не хотел предоставлять смерти никакой власти
над своими мыслями. Он не ходил ни на одни похороны, и его
нельзя было встретить ни у одного ложа умирающего.
Похоронная процессия госпожи фон Штайн миновала дом на Фра-
уенплан. Госпожа фон Штайн сама так распорядилась в
сердечной доброте. Когда Христиана умирает, Гёте несколько
болезненно уединяется в своих покоях. И при смерти
Шиллера он неделю не выходил из своих комнат. Определение
вытеснения не подходит к этому поведению. Так как ему не хватает
стесненности и судорожности. Гёте суверенно чертит свой круг
403
и свои круги. Он берет слово всегда, когда его что-то трогает.
Он сам решает, что ему нужно. И этого уже достаточно много.
Действительно универсально образованный Гёте мог
насмехаться над теми, кто много читает, и над людьми, которые
любят рассуждать, не имея способности к суждению, а именно над
создателями мнений. Против рассеянности помогает только
собранность. Не всякое любопытство оправдывается. Он
предпочитает любопытство, которое на пути по миру знакомит нас
с нами самими. Не только как естествоиспытатель стремится
Гёте к истине, которую нам не надоест видеть и слышать и
которую мы можем воплотить в тело и жизнь. Под этим
подразумевается не сокрытие в себе, «столь важно звучащая
задача: познай самого себя» казалась ему «всегда подозрительной»,
пишет он. Кто ищет только себя самого, не может себя найти.
Важна «деятельность по отношению к внешнему миру», и
спокойное тщательное наблюдение: «Человек знает настолько
самого себя, насколько он знает мир... каждый новый объект,
если присмотреться, открывает в нас новый орган». Акцент
ставится на «если присмотреться», этим указывается на
отношение к действительности, которое основательнее, чем
возбужденная суматоха мнений.
Хотя Гёте не может полностью освободить себя от влияний
политизирующего духа времени — все-таки он купил герцогу
Августу игрушечную гильотину, — но он твердо намерен
искать свое убежище от суеты в спокойных наблюдениях своих
естественнонаучных занятий. 1 июня 1791 года он пишет Яко-
би, что «увлекается» с каждым днем больше наукой об оптике
и свете, и он «замечает, что впоследствии только она и будет,
возможно, занимать меня». Но всё же это было не совсем так.
Он не хочет расстаться с искусством и литературой, они
составляют для него, помимо наблюдений за природой, второй
оплот против взбудораженного духа времени. «Эстетические
радости поддерживают нас прямостоящими, — пишет он с
провоцирующей иронией проякобински настроенному
композитору и издателю Рейхардту, ~ в то время как почти весь мир
погряз в политических страстях». А другому знакомому,
который живет в близком к Франции неспокойном Трире, он
сообщает: «Мы нуждаемся больше, чем когда-либо, в той
умеренности и спокойствии духа, которыми мы обязаны одним
музам». Когда он снова берется за работу над залежавшимся
романом «Годы учения Вильгельма Мейстера», он пишет 7 де-
404
кабря 1793 года Кнебелю: «Сейчас я в настроении и решаю, с
чего начну грядущий год, нужно применить усилие, чтобы
себя к чему-нибудь привязать. Я думаю, это будет мой старый
роман».
От Шиллера он все еще держится на расстоянии. О том, что
статья «О грации и достоинстве» пришлась ему по душе, речь
уже была. Правда, между тем завязалась дружба с
Вильгельмом фон Гумбольдтом, который благодаря Шиллеру переехал
в феврале 1794 года в Веймар. Гумбольдт испробовал всё,
чтобы благоприятно настроить Гёте к Шиллеру, все еще
пребывающему в Швабии. А потом там был еще и Фихте, который
прибыл в Веймар незадолго до Шиллера и тоже сказал кое-что
лестное о Шиллере.
Это тоже могло произвести впечатление на Гёте, ибо тогда
он испытывал расположение к Фихте, восхвалявшему
Шиллера. Почти с любовью он называл его «чудаковатым парнем».
Фихте, когда он в первый раз навестил дом на Фрауештлан, не
дождался, пока у него примут шляпу и трость, а сбросил свой
гардероб на ближайший стол так он был увлечен беседой.
Гёте был огорошен, но все же и впечатлен такой серьезной и
увлекающей страстью, которая не заботилась ни о каких
формальностях. Он заказывает в типографии первый лист «Основ
общего наукоучения», тотчас же читает и пишет Фихте: «Здесь
нет ничего, чего бы я не понял или по меньшей мере думал, что
не понимаю, ничего, что не вязалось бы с моим обычным
способом мыслить» (24 июня 1794 года). Фихте мог не
рассматривать это как вежливый комплимент, потому что после
следующего разговора с Гёте он мог сообщить своей жене: «Недавно...
он изложил мне мою систему столь связно и ясно, что яснее не
мог бы представить я сам». Неизбежные мелкие насмешки в
письмах третьим лицам держались еще в дружеских границах.
Он посылает рукопись Фихте Якоби со словами: «Не хочешь
ли ты, любезное не-Я, поделиться немного твоими мыслями об
этом с моим Я. Прощай и передай привет всем хорошим и
послушным не-Я вокруг тебя» (23 мая 1794 года).
Удивительно уже то, как Гёте говорил вначале о
философии Фихте. Он будет ему благодарен, пишет он Фихте, «если
Вы, наконец, примирите меня с философами, без которых я не
мог никогда обойтись и с которыми я никогда не мог сойтись»
(24 июня 1794 года). В философии Фихте ему было
симпатично энергичное подчеркивание деятельности, целеустремленно-
405
сти и стремления к оформленности. Он примирился с
радиальным субъективизмом и смягчил его для своих целей.
Первые следы этого проявились в его учении о цвете. Он больше
заостряет внимание на физиологии восприятия цвета, так как
вообще начинает придавать субъективному большое значение.
Около того же времени он принимает в число своих «максим»
принцип, согласно которому человек постоянно должен
вопрошать себя: «Кто здесь опять говорит: это объект или ты?»
Сближение Гёте с философией имело также и то значение,
что чувствовавшееся им расстояние до Шиллера сократилось.
Это, вместе с желанием крепче сомкнуть эстетический круг
против политической суеты, создало предпосылки для того,
чтобы на Гёте оказало благоприятное влияние то письмо,
которое он получил в середине июня 1794 года. Это было
приглашение от Шиллера вступить в кружок издателей вновь
восстановленного журнала «Оры»: Решение Вашего Высокородия
поддержать своим участием это предприятие будет иметь
решающее значение для его счастливого исхода, и мы с величайшей
готовностью подчиняемся всем условиям, на которых Вы
дадите Ваше согласие (т.7, с.301).
Проект журнала «Оры» остался от договоренности,
которую весной заключили Шиллер и Котта. Сначала Шиллер
отклонил редактирование газеты, любимого проекта Котты. Это
было бы финансово прибыльно, но Шиллер боялся, что это
совсем отвлекло бы его от литературного творчества. Он
отказался также и от периодической «Всеобщей европейской
государственной газеты». Он чувствует себя некомпетентным,
уведомляет он издательство 14 июня, чтобы издавать
политический журнал; этим разрушил бы он на ложном поприще
скудные остатки своего здоровья, лучше будет, если оставши-
О
еся силы он сконцентрирует на эстетической продукции.
Здесь он ориентируется, здесь он мог бы осуществить кое-что
с расположением и внутренним призванием, что этого еще
никогда не было — собрания первых голов нации.
Здесь получаст первое очертание идея культурной нации
как ответ на политическую нацию революционной Франции. В
официальном приглашении, которое приложено к письму
Гёте, эта идея уточняется: Немецкая культура далеко еще не
достигла того, чтобы то, что нравится лучшему из читателей,
попадало в руки каждого. Если же выдающиеся писатели данной
нации вступают в ассоциацию, то они тем самым объединяют
406
публику, разъединенную до того, и журнал, в котором все они
принимают участие, будет иметь к своим услугам весь
читающий мир (т.7, с.ЗОЗ). Задумано духовное объединяющее
движение на высоком уровне, и действительно приглашение было
написано всем, кто среди писателей, публицистов, философов
имел значение и имя. Большинство отреагировало согласием,
даже престарелый Кант в Кенигсберге обещал внести свою
лепту. То, что для такого предприятия должен был быть
привлечен и Гёте, само собой разумеется. Группа издателей,
собравшаяся вокруг Шиллера, состояла из Вильгельма фон
Гумбольдта, Фихте и Вольтмана, только что назначенного
профессора истории в Иене.
Шиллер относился серьезно к идее литературной
общественности, так как «Приглашение» программно обещает и
желает высокого литературного уровня. Журнал будет
заниматься всем, о чем молено говорить с эстетической и
философской точки зрения (т.7, с.301). Шиллер хотел в этом
журнале осуществить на деле свой идеал прекрасного и
достойного, поэтому литературно увлекательное должно
подбираться со вкусом, а ученое должно быть остроумным. Просто
развлечение, с одной стороны, и сухая ученость — с другой,
должны были быть исключены. Особенно симпатичным
должно было представляться Гёте то, что Шиллер, который был
пресыщен политизированием так же, как и Гёте, хотел открыть
«Оры» всем темам, только не политическим: в особенности же
и безусловно в журнале будет запрещено все, что относится к
государственной религии и политическому устройству (т.7,
С.302). Хотя Гёте сам не будет в своих статьях для «Ор»
придерживаться этого принципа и впервые опубликованные там
«Эстетические письма» Шиллера тоже имеют политическую
подоплеку, но на данный момент оба находят определенную
политическую воздержанность благотворной для духовной
жизни.
Гёте тянет несколько дней, прежде чем ответить. Хотя он
сразу понял, что здесь предоставляется возможность дать
импульс не только общей литературной жизни, но и его
собственному творчеству, да и сближение с Шиллером тоже
обрадовало его — он сообщил Шарлотте фон Кальб, что Шиллер
становится «дружелюбнее и доверчивее к нам, веймарцам», —
и все же он еще медлит, потому что предчувствует, что
начинается нечто, что два месяца спустя он назовет новой «эпо-
407
хой» в своей жизни. Тщательно — сохранилось много
набросков письма — он формулирует свой ответ в смеси дипломатии
и конфессии: «Я буду с радостью и от всего сердца
принадлежать этому обществу. Если среди моих ненапечатанных вещей
найдется что-нибудь, что подходило бы для целей такого
сборника, я охотно поделюсь; также ясно, что более близкая связь
с такими порядочными людьми, каковыми являются
предприниматели, приведет снова в живое движение кое-что, что у
меня застопорилось» (24 июня 1794 года).
Это вообще первое письмо, которое Гёте написал
Шиллеру. Шиллер был рад заполучить для своего проекта такого
знаменитого сотрудника. Но он еще не подозревает, что скоро
обретет несравненного друга.
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Гёте и Шиллер: «Счастливое событие». Тающая и энергичная
красота. «Письма об эстетическом воспитании человеческого рода».
Что поставлено на карту. Гёте и Шиллер, наивный
и сентиментальный. Кентавр
Летом 1794 года Шиллеру удалось привлечь Гёте к
сотрудничеству в «Орах». 20 июля, в воскресенье, Гёте прибывает в
Иену, чтобы после обеда в «Обществе исследователей
природы», одним из соучредителей которого он недавно стал,
прослушать доклад о ботанике. Шиллер, для которого эта тема
была скорее далека, также присутствовал. На улице жарко, в
старом замке, где проходит собрание, царит приятная
прохлада. После доклада следует короткий обмен мнениями, затем —
звук отодвигаемых в стороны стульев, беседующие группы —
все спешат на улицу, где к тому времени спустился вечер,
ведь докладчик говорил долго и скучно. В 1817 году в обзоре
под заголовком «Счастливое событие» Гёте, оглядываясь
назад, так опишет встречу и первую долгую беседу с Шиллером:
«По случайности мы оба выходили одновременно; завязалась
беседа; казалось, он принял доклад, но отметил очень ясно и
рассудительно и весьма приятно для меня, что подобного
рода расчленяющий на части способ описания природы никоим
образом не смог бы воодушевить дилетанта, который захотел
бы заняться этим. Я возразил ... все же может существовать,
вероятно, еще один — иной — способ исследовать природу не
раздельно и фрагментами, а позволяющий представить ее
действующей и живой, устремляясь от целого к деталям. Он
пожелал, чтобы я на этот счет его просветил, но все же он не
скрывал своих сомнений; он не мог признать, что подобное,
как я утверждал, следовало из опыта. Мы дошли до его дома;
разговор меня увлек; тогда я оживленно пустился рассуждать
о метаморфозе растений и несколькими характерными
росчерками пера позволил возникнуть перед его взором
символическому растению. Он слушал и смотрел на всё это с
большим участием, с решительной способностью схватывать, но,
когда я закончил, он покачал головой и сказал: «Это не опыт,
это идея». Я остолбенел, до некоторой степени
раздосадованный, так как точка, которая нас разделяла, тем самым была
409
!
строжайшим образом обозначена. Это утверждение из
«Грации и достоинства» снова пришло мне на ум; старая
затаенная злоба хотела зашевелиться, но я взял себя в руки и
ответил: «Мне может быть очень приятно то, что я имею идеи, не
зная об этом, и даже вижу их собственными глазами».
Шиллер, который имел гораздо больше житейского благоразумия
и воспитанности и который из-за «Ор» хотел меня скорее
привлечь, чем оттолкнуть, ответил на это как образованный
кантианец, и когда из моего упрямого реализма возник
некоторый повод для оживленного возражения, то завязалось
сильное сражение, а потом было достигнуто перемирие... Все
же первый шаг был сделан; сила обаяния Шиллера была
велика, он удерживал всех, кто к нему приближался... к тому же
его супруга, которую я привык любить и ценить с поры ее
детства, привносила нечто свое в процесс общения; все друзья
с обеих сторон были рады, и так мы скрепили союз
посредством прекрасного, вероятно, никогда полностью не улаженного
противоречия между объектом и субъектом, который длился
неразрывно и для нас и для других принес немало
положительного».
Для Гёте это была беседа о природе; для Шиллера — об
искусстве. Шесть недель назад мы долго и пространно беседовали
об искусстве и теории искусства и сообщили друг другу главные
идеи, к которым мы пришли совершенно разными путями.
Между этими идеями обнаружилось неожиданное соответствие,
которое было тем интереснее, что оно действительно
проистекало из огромной разницы в точках зрения. Каждый мог дать
другому что-то такое, чего у того недоставало, и что-то для
себя получить. С тех пор у Гёте эти рассыпанные идеи обрели
корни, и он теперь чувствует потребность присоединиться ко
мне, и путь, на который он прежде вступил один и без какого-
либо ободрения, теперь продолжить в моем обществе ( 1
сентября 1794 года).
Странным образом Шиллер сообщит своему другу
Кернеру об этой встрече только лишь по прошествии нескольких
недель. Почему он не написал Кернеру сразу же? Хотел ли он
дать себе остыть, чтобы не возникло впечатления, что сейчас
он чувствовал себя достигшим предела своих мечтаний?
Вспомним о том плане, который Шиллер составил в феврале
1789 года. Тогда он, ожесточенный высокомерием Гёте, писал
25 февраля 1789 года Каролине: Если каждый действует в пол-
410
ную силу, то он не сможет спрятаться от другого. Это и есть
мой план. Если однажды мое положение будет таковым, что я
смогу дать волю всем своим силам, то он и другие обо мне
узнают, как я сейчас знаю его дух. Очевидно, это положение теперь
было достигнуто. В восприятии Шиллера именно Гёте был тем,
кто присоединился к Шиллеру. Удовлетворение от этой
мысли ослабило его скованность. Возросшее чувство собственного
достоинства позволило ему дать волю всем своим силам, так
что Гёте тогда с восхищением мог говорить о «великой силе
обаяния» Шиллера.
Два дня спустя после первой встречи Вильгельм фон
Гумбольдт пригласил Гёте и Шиллера на совместный ужин, во
время которого обсуждались планы издания «Ор», а Шиллер
развивал свои идеи из «Каллия». Дружеский дух этих первых
двух встреч воодушевляет Шиллера к написанию того
известного пространного письма от 23 августа, на которое Гёте
ответит растроганными словами, что ему не могло быть
преподнесено более приятного подарка ко дню рождения, чем это
письмо: «Вы дружеской рукой составляете сумму моего бытия,
Ваше участие воодушевляет к усердному и живому
употреблению моих сил» (27 августа 1794 года).
В том письме Шиллер смелыми штрихами набросал
духовный портрет Гёте и при этом точно обозначил разницу
между обоими. Гёте, как пишет Шиллер, доверяет
чувственным впечатлениям и интуиции. Его наблюдательный взгляд
покоится спокойно и ясно на предметах, и ему никогда не
грозит опасность вступить наложный путь спекуляций. Сила
воображения действенна, но она опирается на объект и поэтому
не впадает в заблуждения, а, напротив, раскрывает богатства
сотворенного мира. Гёте идет по пути от частного к общему, в
то время как он, Шиллер, напротив, пытается охватить общее
спекулятивными идеями, чтобы потом вновь обрести его в
наглядном материале; итак, он спускается от общего к частному,
причем может случиться так, что мысль не соединяется с
опытом, тогда как интуитивный и основанный на наблюдении
подход, наоборот, достигает подчас необходимой духовной
ясности. Если эти два столь различные духа услышат друг друга и
помогут друг другу, то можно было бы достичь счастливых
мгновений взаимного дополнения. Но если первый ищет
опыта ясным и точным разумом и если последний игцет закона при
помощи самостоятельно действующей свободной силы мысли,
411
!
та вообгце ничто не сможет помешать им встретиться на
полпути друг с другом. Предпосылки к тому, что встреча
произойдет, впрочем, нельзя недооценивать. Ведь каждый должен
заниматься своим делом гениально; один тогда интуитивно
создаст в индивидуальности родовое понятие, другой найдет в
роде индивидуальную жизнь.
Когда Шиллер пишет о Гёте, то при этом всегда заходит
речь и о нем самом. Рисуя себя как фигуру дополняющую, он
достаточно уверен в себе для того, чтобы самому претендовать
на гениальность. Точка соединения есть середина, но искать ее
нужно на вершине. Как оба смогут достичь этой высоты?
Очень просто: Шиллер при этом поможет Гёте исправить
чувства законами, а Гёте охранит Шиллера от опасности
абстракции, оживит интуицию и заострит разум на конкретных
предметах. Гёте будет использовать Шиллера как зеркало сознания,
Шиллер научится у Гёте доверию к бессознательному. Две
половинки замкнутся в единый круг. Так, во всяком случае, Гёте
истолковал их взаимное соотношение. «Но редко бывает так, —
пишет он в обнаруженной в архиве заметке о дружбе с
Шиллером, — что личности составляют друг для друга как будто бы
две половинки, но не отталкиваются, а, наоборот,
притягиваются и друг друга дополняют».
Гёте подтвердил верность того портрета, который составил
о нем Шиллер; то, что Шиллер видит в нем интуитивного
гения, побудило Гёте к замечанию, которое звучит не без иронии:
«Сколь велика будет польза Вашего участия во мне, скоро Вы
сами увидите, если Вы при более близком знакомстве
откроете во мне нечто вроде мрака и нерешительности» (27 августа
1794 года). Гёте сумеет воспользоваться ясностью Шиллера,
но, впрочем, сам решит, сколько «мрака» он хотел бы
сохранить за собой. Слишком много «ясности» могло бы принести
вред, есть продуктивный способ сохранить в тайне себя само-
го и другого. С «Вильгельмом Мейстером» Гете раскроет свои
карты, он будет обсуждать произведение во время его
написания с Шиллером, чьи многочисленные письма на эту тему
будет тщательно штудировать; но «Германа и Доротею» он
напишет всего за несколько недель и потом представит
растерянному от удивления Шиллеру уже как законченное
произведение. Один раз он захочет извлечь пользу из шиллеровской
«ясности», а в другой раз он сохранит свой «мрак»; что же
касается «нерешительности», то он смирится с иногда навязчи-
412
выми увещеваниями Шиллера, не позволяя себе особенно
увлекаться ими. Гете ценит свой собственный ритм жизни и ритм
творчества.
В своем ответе на большое «послание ко дню рождения»
Гёте, который ощущал себя столь хорошо понятым, выразил со
своей стороны желание лучше понять Шиллера. Симметрия
отношений была бы, таким образом, достигнута, так что Гёте со
своей стороны испытывал искушение создать портрет
Шиллера, все же он напишет: «Отныне я должен иметь право
благодаря Вам самому ознакомиться с движением Вашего духа» (27
августа 1794 года). Разумеется, Шиллер предпочел бы увидеть
себя отраженным в суждениях Гёте, но тот потребовал он него
самохарактеристику. Шиллер ее послушно предоставляет. В
отправленном с обратной почтой ответе (31 августа) Шиллер
не столько описывает «движение», сколько в гораздо большей
степени «анатомию» своего духа. Это строки беспримерной
выразительности, как будто бы Шиллер хотел ими доказать,
что ни один критик не достигнет такой прозорливости, как его
собственная самокритика. Так как круг моих мыслей уэ/се, то
как раз поэтому я пробегаю его быстрее и чаще и именно
поэтому могу использовать мою маленькую наличность лучше, и
разнообразие, которого недостает содержанию, порождается
формой. Вы стремитесь Ваш огромный мир идей толковать
упрощенно; я ищу вариации для моих маленьких владений. Вы
управляете империей, я — всего лишь несколько многочисленной
семьей, которую я охотно и от всего сердца хотел бы расширить
до маленького мира.
Можно заметить, что Шиллер, выполняя просьбу Гёте
описать себя самого, не может сделать ничего иного, как
снова (как и всегда) сравнить себя с Гёте. Гёте достиг
высочайшей вершины: широкого кругозора, бесконечности понятий,
но прежде всего — независимости обобщать свои воззрения и
делать свои чувства законодательными. Но ему, Шиллеру,
это не удается. Он знает толк в ином искусстве. Он может с
помощью мысли овладеть чувствами, он даже может
заставить их появиться. Примером тому служит энтузиазм
Шиллера, та исполненная чувств окрыленность, которая
происходит изначально не из чувства, а из разума. Энтузиазм у
Шиллера есть нечто созданное разумом, нечто, что
захватывает и чувства. Магия чувства, которое, исходя из себя
самого, придает закон жизни, ему чужда. Но не эта ли магия чув-
413
\
ства для него действительно и есть та высочайшая вершина,
которую он не может достичь самостоятельно? То, что
чувство законодательно, Шиллер описывает в своей эстетической
теории как тающую красоту, которая там отнюдь не
считается высочайшей вершиной. Эта привилегия отдана энергичной
красоте, у которой есть дух, придающий закон чувствам. Это
та энергичная красота, на которую равняется Шиллер, к
которой он стремится и к которой, как он верит, он подошел
ближе, чем Гёте. Гёте понимает, что высказывание сделать его
чувства законодательными скрывает, таким образом,
невысказанную противоречивость. Высочайшая вершина, право на
которую Шиллер присуждает Гёте, для него, впрочем,
таковой не является, но это есть нечто, из-за чего можно было бы
позавидовать Гёте, а именно: умение воздействовать без
напряжения понятий и непреднамеренно, та спонтанная
харизматическая сила человека, который основывается на своих
воззрениях и чувствах, следует своей интуиции; человека, у
которого сила не есть насильственное действие. Но Шиллер
знает, что он все должен создать сам, в том числе и свою
силу. Гётевская легкость бытия имеет для Шиллера также и
нечто невыносимое. В первых письмах друзьям отдаленно
звучит еще прежняя обида. Этот человек, — писал Шиллер
Кернеру 9 марта 1789 года, ~ этот Гёте стоит мне поперек
дороги, и он так часто напоминает мне, что судьба жестоко
обошлась со мной. Как легко его судьба несла его гений, и как я
должен бороться вплоть до этой самой минуты. Эту
«борьбу» Шиллер преображает между тем в энергичную красоту, и
с нею он выступает навстречу тающей красоте Гёте. Или
даже, возможно, наперекор Гёте.
Шиллер достаточно самокритичен, чтобы знать, что его
энергии подчас недостает изящества, для этого он отчеканил
формулу: он еще парит между техническим складом ума и
гением. Техника есть направляемая разумом готовность к
творчеству — измышленное правило; но гений есть природа,
которая сама для себя создает правила. Он знает, чему он еще
должен научиться: исполненный энергии дух должен лучше
прислушиваться к чувствам, но не для того, чтобы позволить
перетянуть себя на их сторону, а для того, чтобы использовать
их, не подвергая насильственному вмешательству, в
собственных целях. Теоретически равновесие найдено, но еще не
явлено на практике, так как, — пишет Шиллер, — поэт во мне слиш-
ком торопится там, где я должен философствовать, а
философский дух — там, где я должен писать стихи. Исполненная
чувств сила воображения и полная размышлений абстракция
еще находятся в противоречии; но Шиллер делает ставку на
энергию разума, которая может этот разум отшлифовать.
Разум должен сам себя ограничивать и тем самым дать простор
чувству. Разум запутался в этом противоречии и все же
вместе с тем возвышается над ним. Он сам составляет свою партию
и одновременно стоит вне всяких партий. Он мастер
противоречия. Если бы Шиллер смог для обеих сил — чувства и
разума — стать таким мастером, чтобы благодаря своей свободе
суметь для каждой из них определить их границы, то его ждала
бы счастливая судьба.
Все было бы хорошо, если бы в тот момент не пришла
тяжелая болезнь. В то время как он учился использовать свои
духовные силы, болезнь погребала физические. И тогда
последовало то изречение, которое стало столь дорогим для Гёте, ибо
оно во всей полноте представило перед его взором героизм и
энергичную красоту его друга. Великую и всеобщую революцию
духа, —• пишет Шиллер, — вряд ли мне хватит времени
завершить в себе, но я буду делать то, что я могу, и, если в конце
концов здание рухнет, тогда я, вероятно, спасу из пожара
сохранившиеся ценности.
4 сентября 1794 года Гёте пригласил Шиллера в Веймар.
Он написал, что двор на некоторое время отправляется в
Айзенах и это было бы прекрасной возможностью насладиться
только что завязавшейся дружбой. С радостью Шиллер
принимает приглашение, но тут же сообщает Гёте об
осложнениях, которые проистекают из его болезни. Он не сможет
свыкнуться с обычным постельным режимом, так как судороги
принудили его, к сожалению, ввести в привычку целый день
предаваться сиу, потому что ночь не дает покоя. Он просит у
Гёте только лишь о досадной свободе — иметь право быть
больным (7 сентября 1794 года).
14 сентября в Веймар прибывает больной, который
исполнен планов. Он обрисовал их еще в письме от 7 сентября.
В нем Шиллер пишет, что еще нет свода законов
эстетической критики, в мире вкуса вопреки «Критике способности
суждения» Канта и вопреки его собственным опытам в этой
области все еще царит анархия, чему в конце концов должен
быть положен конец. Должен быть создан большой свод по-
415
i
нятий о том, в чем же, собственно, состоит эстетический
смысл и зачем он нужен. Он уже приступил к этому делу;
теперь он хочет завершить этот основополагающий труд с
разъяснениями и аргументацией. С энергией обращается он к
понятию прекрасного, а также к вопросу, что за ним,
собственно говоря, скрывается. В эти дни после приглашения
Гёте и перед встречей с ним в Веймаре Шиллер начинает
перерабатывать и дополнять письма к герцогу фон Августенбургу
и приступает к «Письмам об эстетическом воспитании
человеческого рода»*. Они должны — таков его замысел —
появиться в первом номере журнала «Оры» в качестве своего
рода программы.
Шиллер мог опираться на некоторые результаты своей
прежней теоретической работы. Там, в развитой в «Каллии»
дефиниции прекрасного как «свободы в явлении», есть
попытка (исходя из кантовской эстетики восприятия) определить
объективное понятие прекрасного, то есть продвинуться
вперед от опыта прекрасного к структуре прекрасного. В работе
«О грации и достоинстве» он вынес на обсуждение вопрос об
эстетическом посредничестве чувственности и нравственности;
это была попытка примирить кантовский ригоризм и дуализм
обеих сил. В сочинении «О возвышенном» он обосновал свое
предпочтение энергичной красоты. Некоторые кирпичики для
его теории были, таким образом, уже сложены. Но он должен
был действительно из этого составить «большую» теорию, и
поэтому теперь он раскрывает дальнейшие горизонты —
историко-философские, общественно-теоретические, культурно-
антропософские и трансцендентально-философе кие. Так
«Письма» с теоретической точки зрения становятся в высшей
степени богатым сочинением, которое некоторые
современники воспринимали как чрезмерно перегруженное. Рецензент
«Всеобщей литературной газеты» порицал «завинчивание
гаек». Гердср улюлюкал по поводу «Писем», называя их «кантов-
скими грехами»; мадам де Сталь находила в них «слишком
много метафизики». Но это длится недолго, до тех пор, пока в
них не начинают видеть основополагающий документ теории
нового времени. Уже Гёльдерлин, Гегель и Шеллинг поняли
* В русском переводе Э. Радлова «Письма об эстетическом
воспитании человека» (т.6, с.251—358).
416
«Письма», а Гёте заметан Гумбольдту о Шиллере: «Я боюсь,
что ему сначала будут оживленно возражать и в течение
нескольких лет будут из него делать выписки (списывать), не
цитируя его» (3 декабря 1795 года). Этот труд в качестве теории
нового времени является одновременно фундаментальной
онтологией эстетики в широком смысле этого слова: речь в нем
идет не только о продукции искусства, не только об
обосновании суждений о вкусе, но также и о месте эстетического в
общественном контексте и тем самым также об условиях
существования и возможностях искусства жизни в современную
эпоху. За столетие до Ницше Шиллер выступил как
«врачеватель культуры».
Шиллер начинает с вопроса: почему вообще, собственно
говоря, существует искусство? Почему стоит о нем
размышлять? Разве нет более важных вещей, чем это прекрасное
развлечение? Например, политика. В ней на кон поставлены
судьбы общества и тем самым также судьбы отдельных,
личностей. Ведь это уже продемонстрировала Французская
революция, а Наполеон, ее преемник, заявит: «Политика — это
судьба». Почему же нужно оглядываться на свод законов для
мира эстетики, если обстоятельства эпохи так
настоятельно призывают заниматься самым совершенным из всех
шедевров — строительством подлинной политической свободы? (V,
571-572).
Здесь снова говорит автор «Разбойников» и «Фиеско», то
есть республиканец, раз уж Шиллер обозначает
строительство политической свободы как самого .совершенного из всех
шедевров. Поэтому для Шиллера, который сторонился
современной политики, очевидно, остается благороднейшей задачей
этому «строительству» способствовать. Данной задаче
подчинена эстетическая рефлексия. Открывая «Эстетические
письма» анализом политического значения своей теории, Шиллер
тем самым нарушает запрет на политику, сформулированный
для журнала «Оры», и тут становится очевидным, что этот
запрет действует лишь для политической ситуации
сегодняшнего дня и для «политиканства», но не для основополагающих
политических размышлений, которые Шиллер в дальнейшем
излагает.
Как соотносится мир эстетики с основной задачей
«строительства» политической свободы, как соотносится
эстетический шедевр с политическим шедевром свободного государ-
417
г
ства? Как только Шиллер отвечает на этот вопрос, он
бросает взгляд на Французскую революцию, на авангард
политической борьбы за свободу. Его мнение мы уже знаем: с
исторической точки зрения, так как естественное государство,
которое основано на подавлении, расшатывается и, кажется,
должно дать возможность установить закон для трона,
чтить, наконец, человека как самоцель и сделать истинную
свободу основой политической связи, то обнаруживается, что
щедрый взгляд находит невосприимчивый людской род (V,
580). Люди в своей массе еще внутренне не доросли до той
внешней свободы, которую они завоевали. Как люди должны
достичь внешней свободы, если они внутренне еще не
свободны? Но что это значит — быть внутренне свободным?
Человек не имеет права быть зависимым от страстей, то есть
следовать им грубо и нецивилизованно или же с коварством
цивилизации. Так или иначе, человек остается рабом своей
природы, не имея возможности властвовать над самим собой.
Но разве мы не живем в эпоху просветления и науки, в
период расцвета свободного исследовательского духа? Нет,
говорит Шиллер, нельзя переоценивать современные завоевания.
Просвещение и наука оказались всего лишь теоретической
культурой, внешним делом для варваров изнутри. Открытый
разум еще не осознал и не преобразил ядро личности. Что же
делать? Разве не является единственным путем к
внутреннему освобождению человека политическая борьба за
внешнюю свободу? Свободе учатся только тогда, когда за нее
борются политическими методами. Во всяком случае, Фихте и
другие певцы свободы возразят на это Шиллеру, который
отверг концепт «learning by doing»*. Его аргумент: если
слишком рано ослабить или вообще отпустить авторитарные
зажимы государства {естественного государства) посредством
политической борьбы, тогда неизбежным следствием будут
анархия, а вместе с нею возросшая власть и произвол
эгоизма: Распущенное общество, вместо того чтобы устремиться
вверх к органичной жизни, сорвется обратно в пропасть, к
элементарной империи (V, 580). Скорее нужно открыть
человеку в известной степени тренировочные плацдармы
свободы; нужно, пока еще существует естественное государство,
*
Обучение в процессе действия {англ.)
418
обеспечить физическую экзистенцию человека, создать
духовный фундамент, на котором можно будет в будущем
возвести свободное государство. Нельзя сначала разрушить
часовой механизм государства и после этого изобрести новый,
но нужно сменить вращающееся колесо, совершают/ее его
поворот (V, 575).
Но почему эта смена вращающегося колеса, эта
революция стиля мышления, просчитанная искусством и
человеческим общежитием, должна быть им вызвана? Потому что это
красота, благодаря которой человечество устремляется к
свободе (V, 573). Это легко сказано и как раз именно поэтому
остается абстракцией. Чтобы это высказывание могло стать
убедительным, Шиллер выбирает путь, который ведет его
сквозь дебри противоречий современного буржуазного
общества. Он рассматривает систему разделения труда с его
эпохальными последствиями. Шиллер одним из первых
проанализировал с исключительной ясностью и предвидением
судьбу нового времени, которое еще не завершилось. Гегель и
позднее Маркс, Макс Вебер и Георг Зиммель явно будут
опираться на его анализ. Современное общество, как пишет
Шиллер, совершило прогресс в области техники, науки, ремесла
вследствие разделения труда и специализации. В той же
самой мере, в которой общество в целом становится богаче и
комплексное, оно обедняет отдельную личность с точки
зрения ее способностей и сил. В то время как целое
проявляется как богатая совокупность, единица прекращает быть тем,
чем она должна быть согласно идеализированному
представлению в античной культуре: личность как всеобщность в
малом. Вместо этого сегодня среди людей находятся только об-
ломки, из чего следует то, что нужно от индивидуума к
индивидууму собирать информацию, чтобы сложить воедино
цельность человеческого рода (V, 582). Каждый разбирается
только в своем узком ремесле, будь оно материально или
духовно. Также и политика стала машиностроением
специалистов власти, она больше не уходит своими корнями в жизнь и
больше не является органичным выражением объединенных
сил индивидуумов: Наслаждение отделено от труда,
средство — от цели, усилие — от вознаграждения. Навеки
прикованный к единственному маленькому осколку целого, человек
развивается сам лишь как осколок; вечен лишь раздающийся в
ушах монотонный шум колеса, которое он крутит, ему никог-
419
!
да не развить гармонию своего бытия, и вместо того, чтобы
%_'
отразить человечество в своей натуре, он всего-навсего
становится оттиском своего дела (V, 584).
Однако, вопреки руссоистским мечтам о более прекрасном
прошлом, Шиллер считает: несмотря на то что индивидуумам
в столь малой мере удалось стать счастливыми при подобном
разделении юс бытия, все лее человеческий род не сможет
совершить прогресса иным способом- (V, 586). Устройство рода,
развиваясь как целое, не имело никакого иного средства,
кроме как распределить задачи между отдельными личностями и
даже противопоставить их друг другу. Антагонизм сил
Шиллер обозначает как великий инструмент культуры, который в
общественном целом создает богатство сущностным силам
человеческим бытия, хотя и не достигает его в огромной массе
отдельных людей. В этом анализе Гёльдерлин найдет ключ к
пониманию своих страданий от современности. В «Гияерио-
не» это звучит так: «Ты видишь ремесло, но не человека,
мыслителя, но не человека... не так ли это, как на поле битвы, где
кисти, руки и все члены свалены расчлененными друг под
другом, в то время как пролитая живая кровь утекает в песок...
Все же это можно было бы пережить, если бы только
подобные люди не были бы бесчувственными ко всей прекрасной
жизни».
Такое расчленение и искажение для Шиллера является
также причиной того, что во Франции Просвещение в качест-
« \Л
ве теоретической культуры стало голои идеологией и даже в
конце концов, как свидетельствует пример с Робеспьером, об-
W-ß
ратилось террором разума, который переходит в наступление
не только на старые институты, но и на старую веру в сердцах
4J
людей.
Шиллер так обстоятельно и проницательно описывает
деформации современной цивилизации и ее грубое и утонченное
варварство, что нельзя понять, почему именно кроткая сила
красоты, напротив, должна суметь чего-то добиться.
Разумеется, можно утверждать — и Шиллер это тоже утверждает, - что
изящные искусства воспитывают и утончают чувства. Тогда
это было бы вкладом искусства в уничтожение варварства. Но
Шиллер этим не ограничивается. Эстетический мир — это не
только тренировочный плацдарм для утончения и
облагораживания чувств, но он есть то место, где человек эксплицитно по-
420
лучает тот опыт, которым он имплицитно уже всегда обладал:
«homo ludens»*.
Сначала в пятнадцатом письме обнаруживается фраза, к
которой в этом трактате все сводится и из которой все
выводится, а именно то, что для Шиллера имеет значение в
красоте искусства. Речь идет о культурно-антропологическом
посыле с далеко идущими выводами для культуры в целом и для
нового времени в особенности, а также о тезисе, которым
Шиллер вообще обосновывает свои претензии вылечить болезнь
культуры посредством эстетического воспитания. Этот тезис
звучит так: Чтобы это наконец выразить одним словом, человек
играет только тогда, когда он в полном смысле этого слова
является человеком, и он только тогда настоящий человек, когда
он играет (V, 618).
Если это так, то краткая формула диагноза болезни такова:
новое время больше не покровительствует «играющему»
человеку и потому грозит стать бесчеловечным.
Итак, окончательный приговор современности еще не
вынесен, если брать во внимание последствия разделения труда,
фрагментацию человека и господство чисто «теоретической
культуры». Скорее, современность есть также и прежде всего
культура, которая находится под диктатом выгоды.
Современность серьезна, она не играет, как заявляет Шиллер, она не
видит смысла в прекрасной бесполезности. Он описывает ее как
замкнутую систему целевой рациональности и
инструментального сознания, как общественную машину, уже почти как
«стальной корпус», как ее столетие спустя назовет Макс Вебер.
Польза, — пишет Шиллер, — великий идеал времени, которому
должны быть подчинены все силы и все таланты. На этих
грубых весах духовные заслуги искусства не имеют веса, и,
лишенное всякой поддерэ/ски, оно исчезает с шумного рынка столетия
(V, 572).
Шиллер определяет понятие игры как свободу от
принуждения и как противоположность чисто необходимого
действия, точнее, действия, которое имеет цель не в себе самом, а
вне себя.
Что, собственно говоря, мы делаем, если мы играем? При
ответе на этот вопрос Шиллер углубляется в антропологию
Человек играющий (лат.).
421
t
культуры, как это и должно быть, потому что именно в ней
можно увидеть (Шиллер был одним из первых, кто на это
указывает), что путь от природы к культуре лежит через «игру», а
это значит — через ритуалы, табу, символизацию. У
серьезности инстинктов — сексуальности, агрессии — и у страхов перед
смертью, болезнью и гибелью взято нечто от их
принудительной, лишающей свободы силы.
Сексуальность серьезна, принудительна; загнанный своей
сексуальностью человек несвободен. Он — жертва своего
желания. В сексуальности мы всецело принадлежим царству
животных, ничто не отличает нас от шимпанзе. Только в
эротической игре сексуальность очеловечивается. Эротика наделена
игрой, можно сказать, испокон веков. Эротика держит страсть
на расстоянии, она играет с нею. Культура есть вообще
спектакль из дистанций и отсрочек. То, что в нас является
природой, культура удерживает на длинном поводке готовности.
Эротика инсценирует игру с дистанциями. Человек играет
также и со страстью другого, и, если это удается, партнеры
взаимно играют друг с другом. Поэтому утаивание, лукавство,
вкус и ирония существуют в игре, и благодаря им возникают
следующие чудесные удвоения: человек наслаждается
наслаждением, чувствует чувства, влюбляется в состояние
влюбленности; человек одновременно актер и зритель. Только
подобного рода игра создает утонченное усиление чувств, в то время
как страсть в своем удовлетворении угасает и тем самым
гибельно стремится к мертвой точке: post coi turn animal triste.
Эротика — многозначна, сексуальность — тавтологична. На
примере эротики можно изучить, как свобода вступает в игру,
если удается играть с неизбежностью природного начала.
Игра открывает пространство свободы. Мы настолько свободны,
что можем также играть с реальной опасностью. Культура есть
великая попытка преобразовать в игру угрожающие или же —
как в случае с сексуальностью — всего лишь навязчивые
серьезные события. Итак, на кои поставлены эти разнообразные
явления в том случае, если культура утрачивает свою
способность к игре, если сила скверной серьезности «несублимиро-
ванио» (Фрейд) возвращается.
Давайте рассмотрим еще и пример с агрессией. Она есть то,
чем всегда питаются ее корни. Различия могут заключаться в
том, имеет ли она действительные причины или ищет себе
поводы, то есть является первичной или вторичной. В любом слу-
422
чае культура должна с ней считаться и ею заниматься:
агрессия на практике употребляется в работе, выливается в войнах
или смягчается в конкурентной борьбе. При подобных
преобразованиях всегда вступают в игру элементы игры. В
благоприятном случае агрессия почти полностью переключается на
игру. Опасные националистические идеи можно обезвредить,
например, в спортивных соревнованиях. Если спортивное
национальное учение находит свое удовлетворение, то падает
готовность умереть за «отечество». Честь и гордость, затаенная
обида и предрассудки могут уняться в сравнительно
безопасных сферах. Все это делает возможным культура игры, и здесь
также действительно правило: там, где царила серьезность,
должна начаться игра.
Если серьезную неизбежность природного начала (то есть
принуждение) и неизбежность жизненно необходимой и
жизненно содержательной пользы обобщить под понятием
принципа реальности, тогда «игра» обозначает ограниченное
лишение власти этого принципа реальности, упражнение на
расслабление мышц для сердца, смысл и разум, которые
ограничиваются и основываются на принуждении инстинктов и на
механизме необходимого труда.
Против силы инстинктов действует и такого рода игровое
расслабление: цивилизация и сублимация.
Против натиска жизненно содержательной полезности
имеет значение следующее расслабление: обретение смысла
для ненужного, увлеченности бесцельным или кажущейся
целью, игра в поддавки вместо целеустремленности.
Еще один необходимый аспект действительности,
который по отношению к игре также может охранить свободу,
является для Шиллера знаменательным. Речь идет о морали.
Если она понята строго в кантовском смысле, то она также
может оказывать давление, и поэтому и здесь игра должна, по
мнению Шиллера, облегчать и расслаблять. Само собой
разумеется, игра тоже имеет свои правила, которые, впрочем,
имеют отношение к морали только тогда, когда это относится к
морали самой игры: не быть игроком, портящим
удовольствие другим.
Игровая нейтрализация морали для Шиллера особенно
значима при игре прекрасных искусств, так как в его время
искусство охотно усмиряли с помощью морали: оно должно
было служить нравственности. Искусство считалось хорошим,
423
/
если оно способствовало добру; но для Шиллера это «взятие
в прислуги» было порабощением искусства практической
пользой и ограничением его свободы. Всё же не станем
забывать о том, что Шиллер в своей более ранней эстетической
теории — «Театр, рассмотренный как нравственное
учреждение» — равным образом приводил аргументы за социально
полезное мышление, и «Эстетические письма» тоже
начинаются с политического и одновременно нравственного вопроса:
какой вклад может внести искусство, чтобы в нравственном
смысле сделать людей способными к свободе; итак, вопрос о
нравственной пользе все еще остается важным. Но изюминка
его аргументации сейчас заключена в мысли о том, что
человек только тогда находит в искусстве нравственную цель,
если он этой цели себе не ставит. Игра искусства не терпит
нравственной среднегодовой оценки в аттестате; искусство не
определяет для свободной игры фантазии никаких иных
границ, кроме эстетических. Мир эстетики обладает своим
собственным порядком, который нельзя установить ни моралью, ни
политикой, ни религией. Этот собственный порядок будет
позднее назван «автономностью искусства». Карл Филипп Мо-
риц был первым, кто несколькими годами ранее в своем
сочинении «О творческом подражании прекрасному» выделил
предмет искусства из всех прочих форм полезного
программно и непреклонно и тем самым защитил его самоценную
значимость. Мориц заявляет, что красота искусства потому не
подчиняется никакой иной цели, что она является
«существующим ради себя самого целым»; красота образует
собственную империю, в которой все элементы целесообразно связаны
друг с другом; она «насыщена» целями и не должна
относиться ни к одной лежащей вне ее самой цели, которой она могла
бы служить. Только плохое искусство претендует на влияние
и переводит тем самым свою сущность воине; хорошее
искусство имеет ее в себе самом и потому действует как магнит.
Такого рода искусство гордое: люди равнодушные ему
безразличны. Так искусство может приблизиться к наследию
древнего бога, так как чем иным является бог, как не
воплощением всех целей, и он не подчиняется ни одной из чужих
целей. Мориц вызвал много шума своим сочинением у
почитателей искусства в Веймаре, где он некоторое время гостил у
Гёте. Его теория была воспринята как удар по мячу,
разряжающий опасную обстановку у ворот; его теория помогла вы-
424
браться из затруднительного положения, когда грубые
реалисты спрашивали у художников: для чего вообще нужно
искусство? Теперь благодаря Морицу можно было ответить: вопрос
неверно поставлен. Искусство не существует «для чего-то», и
это как раз и отличает его от сугубо подчиненной мысли и
деятельности. Великое искусство не хочет быть ничем, кроме
себя самого, оно приглашает нас пребывать в нем, оно есть
осуществленное мгновение-
Шиллер также оказался под сильным впечатлением и
включил эту блестящую защиту самоцель! гости искусства в
собственный рад рассуждений и создал из этого идею
«автономности» искусства. Шиллер полагал, что как раз
автономное искусство, освобожденное от морали, является в высшей
степени нравственным, так как оно высвобождает ту духовную
подвижность и чувствительность, которые потом также
должны пойти на пользу нравственности. Это та красота, с
помощью которой человек движется к свободе (V, 573). Свободная
игра мыслей, фантазии и переживаний лечит — такова идея
Шиллера — те раны, которые причиняют человеку в
современном мире расчленяющее разделение труда, бесчувственность
сугубо теоретической культуры (сегодня мы бы сказали
«общества знаний») и глухой мир разнузданных животных
потребностей. Игра искусства позволяет человеку собрать
раздробленные силы и стать чем-то целым, тотальностью в
малом, пускай всего лишь в ограниченный момент времени и
в ограниченной сфере красоты искусства. В наслаждении
красотой человек переживает предчувствие полноты жизни,
которая на практике и в историческом пространстве еще
отсутствует. Человек не дает себя успокоить, горизонт его ожиданий
ширится, он не капитулирует перед так называемым
принципом реальности.
Искусство и игра. Они взаимосвязаны, однако игра
охватывает собою значительно больше сфер, чем искусство. Но когда
Шиллер предлагает игру в качестве терапии культуры, он
думает почти исключительно об изящных искусствах. Его вывод
о том, что современность не воодушевляет играющего
человека и не покровительствует ему, может относиться к судьбе
искусства в буржуазном обществе; но если мы задумаемся над
тем, что в эпоху электронных средств массовой информации
масштабы игры раздвинулись до чудовищных размеров, то мы
неизбежно приходим к заключению, что шиллеровская утопия
425
/
играющего общества осуществилась неожиданно самым
банальным образом. С тех пор как телевидение стало ведущим
средством массовой информации, человек всё большую часть
жизни проводит в мире иллюзии, которая манит к себе, даже
если эта иллюзия, как правило, отнюдь не прекрасна. В
«серьезных» сферах жизни, таких, как политика и экономика,
между тем также востребованы игроки, и спектакли повсюду
становятся действительностью. Изначально эстетическое
действие «как будто бы» расширяет свою легитимную сферу
действия там, где оно относится к правилам игры. Принцип
реальности утрачивает свою строгую форму. Культура средств
массовой информации вызывает соблазны вплоть до
готовности раствориться в ней. Все больше жизненных проблем
предоставляются на усмотрение отдельной личности. Традиционные
обязательства рассыпаются, становятся делом вкуса, и у
дурного вкуса совесть оказывается чиста. Поле игры простирается
между тем почти на все пространство существующей
деятельности. Об этом Шиллер и не догадывался, и он не желал бы
этого в качестве осуществления своей утопии. В своей фразе
человек только тогда в полной мере человек, когда он играет он
думал, прежде всего, о благородной игре искусства; при
попытке обосновать это высказывание он открывает инстинкт игры
как антропологическую константу. Тем самым он
действительно одним из первых постиг антропологическую предпосылку
развития, о которой он и не мечтал. Но о чем он все же не
догадывался, так это о том, что «игра» как предложенная им
терапия может стать частью проблемы, решением которой он ее
же и мыслил.
В то же самое время, когда Шиллер еще трудился над
«Эстетическими письмами», он работает над следующим большим
трактатом, которым в начале 1796 года на время завершит ряд
своих философско-эстстических сочинений. Этим трактатом
«О наивной и сентиментальной поэзии» Шиллер подготовит
свое возвращение к поэтической практике. Когда Шиллер его
закончит, он напишет Гёте 17 декабря 1795 года: Я дол го не
чувствовал себя так прозаично, как в эти дни, и это самое
подходящее время для того, чтобы я па некоторое время прикрыл
свою философскую лавочку.
И опять когда Шиллер в этом трактате вплотную
подходит к художественной практике, то можно точно сказать, что
этот трактат в своей сердцевине посвящен выяснению разни-
426
цы между его творчеством и творчеством Гёте; Шиллеру
также удается в этом сочинении прийти к принципиальным
обобщениям, которые создали целую школу. Ведущиеся уже
на протяжении столетия дебаты о соотношении нового
времени и античности, начатые в «Споре древних и новых»
Ш. Перро, были подняты Шиллером на более высокий
уровень, и он предоставляет тот ключевой тезис, с помощью
которого романтики осознают своп собственные стремления.
Они применят шиллеровское понятие сентиментального к
самим себе; Фридрих Шлегель назовет его «интересным»;
Гегель воспримет шиллеровское видение трех эпох (наивной,
сентиментальной и примиренной наивно-сентиментальной)
и переработает их в своей диалектической концепции
трехступенчатое™ от наивного (как непосредственно
природного духа) через сентиментальное (как рефлектирующий дух) к
абсолютному духу (как посреднику между наивным и
сентиментальным), или короче: от «в себе» через «для себя» и,
наконец, к «в себе и для себя».
Для Шиллера наивное — природное, интуитивное,
непосредственное. Сентиментальное — это утраченная
непосредственность, рефлексия. Наивное — это античность, а
сентиментальное — это современность. В наивном действует спонтанное
бытие, в современности — сознание. Там познание облекается
в чувства, здесь познание {теоретическая культура)
становится самостоятельным и где только возможно сопротивляется
чувству. Современность утратила свою наивность, она стала
умной, даже чересчур умной. Наивные поэты античности еще
полностью принадлежат природе, современным же не остается
ничего иного, как искать утраченную природу (V, 712).
Шиллер на ощупь добирается к изначальной боли сознания, к тому
мгновению, где пробуждающийся разум теряет
непосредственную легкость бытия, преобразованную фантазией уверенность
природной полноты жизни, непринужденность. Поэтому
плохая искусственность и бездушный механизм представляются
Шиллеру большой угрозой для современности. «Подобные
ошибки, — напишет Клейст спустя несколько лет,
конгениально используя шиллеровские заключения, — неизбежны, с тех
пор как мы вкусили от древа познания, — и он продолжает
полностью в духе шиллеровского видения синтеза
противоположностей: — Ведь врата рая заперты, и херувим стоит у нас за
спиной; мы должны совершить кругосветное путешествие и
427
?
увидеть, ч-io, может быть, где-нибудь с обратной стороны они
снова открыты... если познание вновь пройдет через
бесконечность, тогда грация снова отыщется... Следовательно... мы
снова должны вкусить от древа познания, чтобы вернуться
обратно в состояние невинности? — Впрочем... это последняя глава
истории мира».
Трактат Шиллера, который насыщен конкретным анализом
современной художественной продукции, формулирует синтез
преодоленных противоречий в понятии идеала: Этот путь, по
которому идут новые поэты, впрочем, тот же самый, по
которому должен пройти человек как в единичном, так и в целом.
Природа делает его единым с самим собой, искусство отделяет
и ссорит его, через идеал он возвращается обратно к единству
(V, 718).
Этот идеал Шиллеру не нужно конструировать, он видит
его перед собой: это — Гёте. Он и есть современный «наивный»
поэт, живой синтез. Он художник, чьей интуиции достаточно,
чтобы суметь интегрировать рефлексию и познание, которые
ему навязывает сентиментальная эпоха. Он осуществляет эту
вторую, более высокую наивность, о которой Шиллер сам до
поры до времени мог только мечтать. Вспомним, как он
описывал сам себя в письме к Гёте от 31 августа 1794 года, он видит
себя между технической головой и гением: Поэт во мне слишком
торопится там, где я должен философствовать, а
философский дух — там, где я должен писать стихи. В нем еще
слишком много рефлексии, конструкции и умысла в игре; в нем
слишком много ясности, он мог бы позавидовать творчеству
Гёте с его сохраненным в целости «мраком». Но Шиллер не
был бы тем жаждущим состязаний духом, каким он являлся,
если бы он удовлетворился тем, что избыток идей отделил бы
его от идеала. Его тщеславие требует того, чтобы он тоже
приблизился к идеалу. Если Гёте выношен природой и
интегрирует дух, то он, Шиллер, будет с воодушевлением и энергией
духа облагораживать природу. И тогда он тоже сможет занять
свое место на Олимпе.
В одном месте своего трактата Шиллер дает понять, что
тому, кто посредством культуры приближается к идеалу (что
есть его случай), отдается большее предпочтение, нежели тому,
кого к идеалу приблизила сила природного притяжения. Это
проявляется в высказывании Шиллера о том, что цель, к
которой человек стремится посредством культуры, бесконечно бо-
428
лее предпочтительна, чем та цель, которую человек достигает
благодаря природе (V, 718). Эти слова Гёте мог бы расценить
как умаление того благоприятствования, которое оказано ему
природой, но, к счастью, он (вероятно, из-за дружеских
соображений) подобную неуважительность к этому дару все же не
принял на свой счет.
«Письма об эстетическом воспитании человеческого рода»
и трактат «О наивной и сентиментальной поэзии» были особо
весомым и программным вкладом в первые номера «Ор».
Гёте также поставлял материал прилежно. В продолжении
появляются «Разговоры немецких беженцев», в которых Гёте явно
нарушает запрет на политику, заявленный в «Орах», поэтому
Шиллер, который тоже, разумеется, впадал в политические
рассуждения, должен был напомнить Гёте об обещанной
читателям невинности в политических суждениях. «Рамочная»
беседа, обрамляющая череду отдельных рассказов,
действительно была сильно политизированной. Собеседников, которые
здесь собрались и рассказывают друг другу истории,
революция изгнала из их родовых поместий с левого берега Рейна, и
поэтому среди них трудно найти сторонников революции.
Изображенный с явной симпатией тайный советник яростно
заявляет, что он надеется «увидеть всех» друзей революции
«повешенными». На что другой, который стремился защищать
право революции, гневно заявляет, что он со своей стороны
желал бы, чтобы «гильотина и в Германии пожала свой
благословенный урожай», на что тайный советник яростно
парирует замечанием, что он теперь изгнан во второй раз, но уже
«соотечественником», и в ярости удаляется. Дальнейший ход
беседы показывает, что собственная позиция Гёте не есть
изложение «за» и «против» революции, а показ разрушения
человеческих форм общения посредством «бездушного
политизирования» и «партийного мышления». Люди, как заявляет
баронесса, столь отличаются друг от друга, и в каждом
скрыто так много злобы, что хорошо было бы посоветовать
защищать цивилизованный минимум «самой обыкновенной
вежливости» и «общительного обхождения». В хаотические,
политически возбужденные времена, к каковым относится
современность, это особенно необходимо. «Разговоры»
содержат, таким образом, скрытый ответ на «Эстетические письма»
Шиллера: так Гёте дает понять, что, вероятно, меньшее и есть
лучшее; вероятно, помогут не большие проекты, а лишь незна-
429
/
чительная предусмотрительность и внимание; вероятно,
благовоспитанность значит больше, чем нравственность;
вероятно, социальное образование имеет большее значение, чем
эстетическое воспитание.
Итак, в «Орах» авторы позаботились о скрытых
противоречиях, причем некоторые тома должны были произвести на
современников особенно странное впечатление, например, если в
одном номере друг подле друга располагались сложные
теоретические рассуждения Шиллера и воспринимаемые
двусмысленно «Римские элегии» Гёте; Гёте радовался этой
противоречивости и временами называл «Оры», их совместное с
Шиллером творение, «кентавром».
ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА
Издание «Ор». Неприятности со Шлегелями. Романтическая
оппозиция Территориальные бои с Фихте. Любовь и боль
Тёльдерлина. Ведущее средство информации — литература.
Задиристые Диоскуры. «Ксении». За работу
«Наш журнал должен быть произведением, делающим эпоху», —
объявил Шиллер. Сначала все пошло хорошо. Две тысячи
абонентов были выиграны; блистательные имена издателей и
обещанные знаменитые авторы пробудили напряженные ожидания.
Шиллер прибегнул к непривычному способу рекламы. Он
договорился с шефом-редактором «Всеобщей литературной газеты»
Шютцем, что там раз в четверть года должна появляться
подробная рецензия на «Оры», которая будет оплачена издателем «Ор»
Коттой. Сильный ход, который, как только это стало известно,
очень повредил репутации «Ор». Среди авторов «Оры» были
также знамениты своими солидными гонорарами. Котта
позволил престижу журнала кое-чего стоить. Значительные имена,
деньги, полное достоинства выступление издателей, которые
создавали впечатление, будто хотят воспитать весь литературный
мир, вызвали много недовольства и, конечно же, ехидство,
когда после нескольких номеров обозначился резкий спад тиража.
Профессор философии Макензен из Киля мог быть уверен в
некотором одобрении, когда писал: «Как раз в этом журнале,
который, собственно говоря, должен был быть посвящен немецкому
народу, кучка идиосинкратических писателей возится в своем
кругу, в который может вступить не кто иной, как только
посвященный, и с народом имеющий столь мало общего, что он
скорее шарахнется от него, как от магического круга»
Но сначала многие авторы стремились в этот «магический
круг». Некоторые, те, что были отклонены, позднее
насмехались над изданием. Фридрих Шлегель писал после отказа ему
в публикации, что это «больше никакая не особенная честь для
молодого писателя принимать участие в «Орах», поскольку
туда допущены большой толпой мерзавцы». В это самое время
его брат Август Вильгельм Шлегель еще был одним из самых
ревностных сотрудников журнала. Тоже мерзавец?
Август Вильгельм Шлегель, старший из двоих
высокоодаренных братьев, прежде чем Шиллер призвал его в «Оры»,
431
Г
г
уже сделал себе имя как литературный критик. Его
благосклонный отзыв о «Талии» и стихотворении «Художники»
привлек к нему внимание Шиллера. Кернер, который уже был
со Шлегелем в доверительных отношениях, находил манеру
держаться Августа Вильгельма слишком угодливой. «Его
критика все еще смотрит на тебя слишком снизу вверх», — пишет
он Шиллеру в 1790 году. Когда появилась уничижительная
шиллеровская критика Бюргера, Август Вильгельм Шлегель,
добивавшийся расположения Шиллера, впадает во
внутренний конфликт, поскольку он принадлежал в Гёттингене к
кругу друзей Бюргера. Каролина Бёмер, позже его жена, которая
никогда не понимала позиции Шиллера, пришла в
негодование и подбила Шлегеля на колкое стихотворение против
Шиллера, которое появилось анонимно в «Гёттингенском
альманахе муз»: «Врожденный гений дан тебе и сила, / Зачем же
столь озлоблен голос твой?» Шиллер еще не знал, кто
скрывается за этим выпадом. Полгода спустя, 17 мая 1792 года,
Шиллер познакомился в доме Кернера с братом,
двадцатилетним Фридрихом Шлегелем. Его впечатление было
неблагоприятным. Кернеру он называет его «невоздержанный
холодный зубоскал». Фридрих узнает об этом, но считает Шиллера,
несмотря на это, «великим человеком», который ему
«необычайно нравится» (Фридрих Шлегель к Августу Вильгельму
Шлегелю 17 мая 1792 года). Шиллер остается при своем
предубеждении. Ему не нравится насмешливая, ироничная,
надменная манера гениального молодого человека, который,
кажется, вес уже прочитал и слишком быстро судит. Фридрих
Шлегель восхищается Шиллером как личностью, но не его
произведениями: чувства «мерзкие», стиль слишком
риторичен, действие сконструированное, и вообще Шиллер
опускается до «жалкого искусства» «возбуждать любопытство».
Популярность Шиллера ему подозрительна. Но Фридрих
Шлегель не пытается нравиться публике, напротив, он ее
провоцирует. Он тоже хочет, как и Шиллер, очистить вкус, но
радикальными средствами. Оба Шлегеля были выразителями
мнения поколения, которое пока еще неясно стремится к
нововведениям. Как друзья революции, оба воодушевлены
желанием, чтобы и в литературе произошло что-нибудь
революционное. Нужно, по мнению Фридриха Шлегеля, внести
творческий хаос также и в литературу, потому что всегда
«Анархия была... матерью благотворной революции. Не долж-
432
на ли эстетическая анархия нашего времени ожидать
подобной счастливой катострофы?». Фридрих Шлегель, более
смелый, чем его старший брат, охотно видит себя в роли
возмутителя спокойствия. Шиллер был для него тоже недостаточно
радикален. Правда, это изменилось с выходом трактата «О
наивной и сентиментальной поэзии». Фридрих Шлегель
попробовал в статье «Об изучении греческой поэзии» независимо от
Шиллера тоже определиться в различии между античным и
современным искусством и, когда после окончания своей
работы прочитал трактат Шиллера, был словно наэлектризован
и писал своему брату 15 января 1796 года, что «шиллеровская
теория сентиментального до того занимательна, что я
несколько дней не делал ничего другого, кроме как читал ее и писал
заметки... Шиллер дал мне действительные объяснения...
твердо принято решение еще этой зимой разработать набросок
моей поэтики для печати».
Трактат Шиллера был решающим следствием его
душевного развития. Фридрих Шлегель, как и Шиллер, различал
античность и современность терминами «объективного» и
«субъективного», но с еще более явным предпочтением «объективной»
античности. Фридрих Шлегель еще не решился «тотальный
перевес... индивидуального и интересного» в современности
расценивать столь же позитивно, как Шиллер расценивал
«сентиментальное», в котором Шлегель видел соответствие своему
определению «интересного». Как нарочно, он чувствовал себя
подбадриваемым к самоуверенной современности именно
Шшглером. В написанном позже «Предисловии» к своему
трактату «Об изучении греческой поэзии» Фридрих Шлегель
выразительно благодарит Шиллера. Итак, можно сказать, что
Фридрих Шлегель благодаря Шиллеру из классициста, каковым он
все еще был, несмотря на свою любовь к «анархии»,
становится романтическим эстетиком, которого Шиллер терпеть не мог.
О своем чтении «Атенеума» Шиллер пишет Гёте 23 июля 1798
года: Эта заумная, решительная и односторонняя манера
делает меня психически больным. Для Шиллера Фридрих Шлегель
развивается в карикатуру «сентиментального», вся его поэзия
виделась ему убитой «рефлексией»; и, так как он слишком
хорошо знал, что и ему самому угрожает эта опасность, Фридрих
Шлегель был для него почти как неудавшийся младший брат, в
котором проявлялись его собственные опасения, искаженные
до неузнаваемости. Отсюда и необычная раздражительность
433
I
Шиллера. После чтения «Люцинды», первого и единственного
романа Шлегеля, Шиллер заметил Гёте в письме от 19 июля
1799 года; Несколько часов назад шлегелевская «Лющнда»
довела меня до головной боли, от которой я до сих пор ще не
отделался... Он чувствует, что поэтичность ему не дается, и
поэтому оттает себя воплощением иного идеала,
соединяющего необузданную романтическую фантазию и остроумие... его
работа — верх современной бесформенности и
неестественности (т.7, с.528). Гёте, которому Шлегели — тоже чтобы
позлить Шиллера — почти культово поклонялись, оставался
невозмутимым. Он называет в своем ответе (20 июля 1799 года)
роман «странным продуктом», чтобы потом вскользь заметить:
«Если он попадет мне однажды в руки, мне хотелось бы его
посмотреть».
К этому времени разрыв Шиллера со Шлегелями уже
произошел.
Отношения с Августом Вильгельмом Шлегелем, который в
мае 1796 года переехал из-за Шиллера в Йену, развивались
сначала удачно. Шиллер был доволен его многочисленными
репортажами как для «Ор», так и для его вновь основанного
«Альманаха муз». Когда Шиллер решился освободиться от
нагрузки в «Орах», он даже хотел назначить Августа
Вильгельма Шлегеля «вице-директором». В это лето дружеской
совместной работы в журнале Рейхардта «Германия» появилась
нелюбезная критика Фридриха Шлегеля на «Альманах муз».
Он острил по поводу стихотворения Шиллера «Достоинство
женщин»: «Строго говоря, этот текст не может считаться
стихотворением: ни материал, ни единство целого не являются
поэтическими. Но он выигрывает, когда путаешь ритмы с
мыслями и читаешь всё построчно от конца к началу». Шиллер
разозлен, но еще сдерживается. Но когда годом позже, в
1797-м, Фридрих Шлегель, который к тому времени переехал
в Йену в надежде, несмотря на свои сатиры, тоже работать для
«Ор», публикует критику «Ор», в которой сожалеет, что
журнал уже более чем наполовину состоит из переводов, Шиллер
возмущен еще и потому, что как раз Август Вильгельм
Шлегель был автором обруганных братом многочисленных
переводов. 31 мая 1797 года Шиллер пишет Августу Вильгельму
Шлегелю: Мне доставило удовольствие предоставить вам
возможность доходов, которые не всегда возможно иметь,
помещением ваших переводов из Данте и Шекспира в «Орах», но
434
тут я вынужден был услышать, что господин Фридрих Шле-
гель в названное время, когда я предоставляю вам эту выгоду,
публично меня за это бранит... на будущее прошу меня от
этого уволить. И чтобы освободить вас раз и навсегда от
отношений, которые должны быть непременно обременительны для
открытого образа мышления и тонкого единодушия, позвольте
мне, таким образом, прервать вообще связь, которая при сло-
жившихся обстоятельствах становится даже странной и уже
слишком много компрометировала мое доверие.
Август Вильгельм, которому не хочется отказываться от
хорошего гонорара в «Орах», заверяет в смиренном тоне в
своей невиновности в этом «кощунстве», а Каролина просит
о посредничестве Гёте, который в последующие недели с
частичным успехом пытается сгладить неровности. Август
Вильгельм остается отлученным от личного общения с Шиллером,
но допущенным как сотрудник «Альманаха муз». Фридрих
Шлегель покидает Йену и переселяется в Берлин. Шиллер
был так раздражен еще и потому, что должен был
воспринимать критику Фридриха Шлегеля как обоснованную.
Шиллер, погруженный в работу над своим «Валленштейном»,
действительно почти потерял интерес к «Орам» и поэтому, чтобы
избавить себя от дальнейших забот, с готовностью
прибегнул к переводам Шлегеля, которые он, кстати сказать, очень
ценил.
Так возник разрыв между Шиллером и первым
поколением романтиков, которые собрались вокруг Шлегелей. Но не все
позволили втянуть себя в раздоры. Новалис, например,
сохранил свою любовь и почитание Шиллера. Хенрик Штеффенс,
который тоже принадлежал к этому кружку, вспоминает, как
уменьшилось осуждение Шиллера, когда появился «Валлен-
штейн»: «В нашем кругу не было большой
предрасположенности благоприятно судить о Шиллере; по отношению к нему не
допускали почти никогда справедливости, и все же огромное
впечатление, которое оставляло это произведение,
высказывалось почти непроизвольно».
Шлегели договорились между собой, что пою они не
будут больше публиковать ничего критического о Шиллере,
чтобы не потерять к тому же расположения Гёте. Когда Шлейер-
махер в 1799 году хотел выступить против Шиллера, Август
Вильгельм Шлегель пишет ему 1 ноября 1799 года: «Если мы
плохо обходимся с Шиллером, мы портим наши личные отно-
435
шеиия с Гёте». Эта тактика имела успех. Гёте не был
рассержен и даже допустил, несмотря на советы Шиллера,
представить в веймарском театре две пьесы братьев. В 1837 году,
оглядываясь на аферу с Шиллером, престарелый Август
Вильгельм Шлетель с удовлетворением констатировал:
«Вообще Гёте выступил очень достойным образом как посредник.
Его заботливое оберегание Шиллера, которое можно сравнить
с тем, какое оказывает заботливый муж своей слабой нервами
жене, не мешало ему сосуществовать с нами дальше на
дружеской ноге».
Неприятности были не только со Шлегелями, с Фихте у
Шиллера были также свои проблемы. Вначале отношения
были сердечными, они встречались у Гумбольдтов, в йенском
клубе профессоров, в кабинетах редакции «Всеобщей
литературной газеты» у Шютца. Шиллер слушал даже некоторые
лекции. Это было деловое содружество, потому что Фихте
также принадлежал номинально к кругу издателей «Ор», для
первого номера которых он предоставил небольшую статью.
Шиллер еще в своих «Эстетических письмах» ссылался на
Фихте при различении между человеком идеальным,
которого каждый носит в себе, и меняющимися обстоятельствами
существующего во времени индивидуума, откуда следует
отношение напряжения между идейным единством личности и ее
разобщенностью в многосложности ее потребностей,
проявлении и судеб. В этих размышлениях Шиллер выразительно
ссылается на «полное света» представление своего «друга
Фихте», которого этот комплимент обрадовал, так как он все
же ценил не только поэта, но и философа Шиллера. Между
тем у Шиллера рос скепсис по отношению к философии его
«друга». Он подозревал опасности слишком радикальной Я-
философпп. Иоганну Беньямпну Эрхарду, философски
образованному врачу, которого он посетил во время путешествия
в Швабию в Нюрнберге и которого, несмотря на то что тот
был открытым якобинцем, хотел заполучить для совместной
работы в «Орах», он пишет в сентябре 1794 года, что путь
Фихте проходит по краю пропасти и будет необходима вся
бдительность, чтобы в нее не сорваться. Когда друг юности
Фихте Фридрих Август Вайсхун, безденежный, слегка опус- •
тившийся, но с замашками гения самоучка из Йены, «всплыл»
и обвинил с некоторой неприязью своего старого друга в
субъективном спинозизме, Шиллер отозвался на это одобрительно
436
в своем письме к Гёте. Он тоже, пишет Шиллер, видит
опасность, что Фихте сделает свое всесокрушающее Я
спинозистской абсолютной субстанцией. При всем том эта критика
была только предварительным препирательством. Все стало
серьезным, только когда Фихте предложил в «Оры» статью
«О духе и букве в философии», разработанную из его лекции
лета 1794 года, и Шиллер ее отклонил. Сохранилось четыре
черновика письма от июня 1795 года, Шиллеру это было, по-
видимому, нелегко, в последнем, вероятно отправленном,
звучало: Вашей статьей... я надеялся обогатить философскую
часть журнала, а избранная вами тема позволяла мне
рассчитывать на изложение всем доступное и для всех интересное.
Что же я получил от вас и что должен предложить публике?
Старую, еще не совсем законченную мной тему, к тому же в
старой, мною уже использованной эпистолярной форме... (т.7,
с.336). Итак, тема не разработана, кроме того, Фихте в форме
и содержании вступил на поле, которое Шиллер как раз
обрабатывал в своих «Эстетических письмах». Только Фихте
ведет себя при этом столь неуклюже, что невозможно части ста-
!_'
теи связать в единое целое.
Фихте, глубоко уязвленный, отвечает контратакой. Он
чувствует себя вытесненным Шиллером из эстетической области
и отвечает тем, что он теперь со своей стороны отрицает
философскую компетенцию Шиллера. «Вы связываете силу
воображения, которая может быть только свободной, и хотите ее
принудить мыслить. Чего она не может». Шиллер не должен со
своим талантом, художественной силой воображения
разрастаться не на своем поле.
Ответ Шиллера от 3 августа 1795 года сохранился
только частично. Тон разных черновиков колеблется, то
примирительный, то уязвленный, потом снова задиристый. В
примирительном тоне он предлагает приспособить максиму к
здравому смыслу, который учит, что не нужно вещи, которые
друг с другом несравнимы, также и противопоставлять друг
другу. В другом месте он возвращается к резкости первого
письма. Фихте призвал публику и потомков быть
третейскими судьями. К тому же Шиллер теперь объявляет, что
тексты, которые докладывают только результаты разума,
становятся со временем в силу необходимости излишними, потому
что рассудок или становится равнодушным к этим
результатам, или может их достигнуть более легкими путями; напро-
437
mue, тексты, которые производят эффект независимо от их
логического содержания и в которых индивидуум оставляет
отпечаток живого себя, никогда не становятся излишними и
содержат в себе неистребимый принцип жизни как раз
потому, что каждый индивидуум единственный и вместе с этим
незаменимый.
Этой развитой в схватке с Фихте мыслью Шиллер
привносит в игру неожиданно новую конфигурацию научной истины
и индивидуального художественного смысла. Эта
конфигурация, как следствие «Эстетических писем», развивается почти
что из разработанного там соотношения стремления формы и
стремления материала. Что отличает художника от ученого?
То, что художник имеет дело с индивидуальной формой, то
есть стилем; а ученый — с общей материей, содержанием.
Ученый действует через свои результаты и исчезает в них. В то
время как художник чеканит себя из своего стиля и остается в
нем как индивидуум видным и осязаемым. Хотя художник как
теоретик претендует тоже на научную истину, но силу своего
*J
стиля он черпает выше ее, в мире индивидуальной
значимости. Он располагается на обоих полях: на поле всеобщего и на
поле особенного. Если материя познания, которую он
извлекает на свет, тоже потонет в архиве массы материи познания,
если общая достоверность познаний, на которые он претендует,
должна исчезнуть в анонимном потоке всеобщего, то остается
индивидуальность, которая дала себе форму, сохранилась в
памяти потомков как форма выражения в мире смыслов. Это
означает, что, если истинность теории о прекрасном должна стать
сомнительной или само собой разумеющейся, она сможет все
же выжить — как прекрасная теория. Шиллер хочет своей
прекрасной теорией противопоставить себя Фихте, который
предложил всего лишь теорию о прекрасном.
В споре с Фихте Шиллер ведет речь об эстетизации знания,
и не создается впечатления, что он осознает значимость этого
маневра. Он раздвигает свое определение игры на область
знания и подчиняет игру истины критерию красоты. Но за этим
стоит глубокий скепсис по отношению к истине. Что есть
истина? Мы никогда не достигнем ее. Но то, что остается,
создают поэты. Они утверждают также и на поле знания «отпечаток
живо развивающейся формы» (Гёте). Не удивительно, что
Шиллер заявляет в этот момент прекрасное также и для этой
теории, когда он как раз собирается вернуться к поэзии. Что
438
касается Фихте, то он все же сожалеет о том безмолвии,
которое возникло между ними. Как элегия по утраченному звучит
одно замечание из первого наброска письма; Мы жили в одно
время. И потомки будут делать нас, как современников,
соседями и т.п., но сколь мало у нас общего.
Для Фихте это было разрывом, а для Гёльдерлина, если
посмотреть на историю с его стороны, мучительным
стремлением к близости и болезненным расставанием.
Гёльдерлин провел почти целый год в Вальтерсхаузене у
Шарлотты фон Кальб — Шиллер еще в Швабии содействовал
ему в получении здесь места домашнего учителя. С
Шарлоттой сложились отношения, слегка окрашенные эротическими
красками, но ситуация осложнилась прежде всего тем, что
питомец Гёльдерлина, Фриц фон Кальб, хотя и был внутренне
привязан к своему учителю, однако в остальном вел себя
непокорно, чем приводил в отчаяние всех окружающих. Валь-
терсхаузен лежал на отшибе, здесь не было стимулов для
внешней жизни. Гёльдерлина тянуло в Иену. Он поместил
фрагмент своего «Гипериона» в «Новой Талии» Шиллера и
теперь надеялся пристроиться в престижных «Орах». Кроме
того, он надеялся с помощью Шиллера войти в литературные
и философские круги в Йене, несмотря на то что он знал свои
сомнения и страхи. «Близость истинно великих людей... то
сбивает меня с ног, то возвышает», — писал он Нойфферу в
ноябре 1794 года.
В ноябре 1794 года Гёльдерлин приезжает в Иену и
наносит визит Шиллеру. Сложилась ситуация, о которой он будет
еще долгое время вспоминать со стеснением. Своему другу
Нойфферу он описыват сцену так. Шиллер не один в комнате,
на заднем плане расположился незнакомый ему человек. Он
почти не замечает его, несмотря на то что был ему представлен.
Гёльдерлин не расслышал его имени, он, конечно, «внешне и
внутренне занят только Шиллером». Когда Шиллер покинул
на минуту комнату, Гёльдерлин остался в полном молчании,
незнакомец листал лежащую на столе «Новую Талию», в
которой был фрагмент гёльдерлиновского «Гипериона».
Гёльдерлин все больше краснеет. Спустя немного времени незнакомец
осведомляется о госпоже фон Кальб. Гёльдерлин односложно
отвечает. Когда Шиллер возвращается, возбужденно говорят о
театре, незнакомец произносит пару слов, «которые были
достаточно вески, чтобы я что-то заподозрил». Позже в клубе
439
S
профессоров Гёльдерлин узнает, что это был не кто иной, как
Гёте, которого он увидел впервые. «Помоги мне небо, — пишет
он Нойфферу, — исправить мое несчастье и мои глупые
поступки». Все же спустя несколько недель после того, как он
расстался с домом фон Кальб, он будет принят в Веймаре
Гёте. На этот раз они обменяются дружескими словами.
Гёльдерлин почти не скован. Вообще ему лучше. Он переехал в Йену,
часто бывает с визитами у Шиллера. Шиллер побуждает его к
дальнейшей работе над «Гиперионом», и ему удается
заинтересовать своего издателя Котту романом, над которым он
работает. В Гёльдерлине действительно много гениального, ~
пишет Шиллер Котте 9 марта 1795 года, — и я надеюсь тоже
оказать на него влияние. Теперь Шиллер ждет окончания
романа. Но работа Гёльдерлина не продвигается вперед.
Возможно, он слишком многого хочет: новые философские
образовательные идеи Фихте и Шиллера, эстетическая программа
«прекрасной души», новая завороженность небом греческих
богов, критика прозы жизни — все это он хочет пустить в
работу, и это подрывает задуманную ранее концепцию.
Завершение работы оттягивается, пока он не сознается себе, что
никакой конец и никакое завершение не предвидится. Его мучает
совесть, потому что он стыдится обмануть доверие и
ожидания Шиллера.
Для того чтобы предоставить Гёльдерлш-iy возможность
заработка, Шиллер заказывает ему перевод «Фаэтона»
Овидия для «Альманаха муз». Остается только гадать о том,
почему Шиллер предложил ему для перевода именно этот текст.
Возможно, Шиллер, который снова ц снова подбадривает
Гёте завершить своего «Фауста», обнаружил в истории о
падении устремившегося к солнцу вариацию мотива Фауста;
возможно, сыграло роль воспитательное намерение, и он хотел
предостеречь молодого поэта от участи Фаэтона. Во всяком
случае, Гёльдерлин сначала с охотой принимается за работу.
«Еще ни от одной работы я не приходил в такое хорошее
расположение духа, как от этой», — пишет он 28 апреля 1795
года Нойфферу. Но хорошее настроение держится недолго.
Работа становится для Гёльдерлина тягостной. Шиллер
порекомендовал ему стихотворную форму стансов, в то время
как в прежних переводах из античности Гёльдерлин
придерживался гекзаметра. Возможно, он бы лучше справился, если
бы следовал собственному чувству стиля. И эта работа тоже
440
застопорилась. Удрученно пишет он своей матери 22 мая 1795
года; «...понимаешь снова и снова, насколько в некоторых
вопросах остаешься еще учеником». Между тем он прерывает
вяло продвигающийся перевод. Он в отчаянии вдвойне
разочаровать своего ментора, незавершенным «Гиперионом» и
оборванным переводом.
Неожиданно в конце мая 1795 года Гёльдерлин исчезает из
Иены. Он поспешно вернулся на родину. Там, в Нюртингене,
его встретил друг Магепау и почти его не узнал: «Я говорил с
Гёльдерлином, я хотел сказать, я его видел, так как он не мог
больше говорить, отрешился от всех ему свойственных чувств,
живой мертвец! Он много говорил фантастических вещей о
поездке в Рим, где добрые немцы обычно остужают душу».
Возможно, это уже было предвестие его грядущей болезни,
вызванной творческим кризисом, отчаянием, стыдом
потерпеть неудачу перед «великим» Шиллером. Гёльдерлин
настолько запутался, что в письме к Шиллеру 23 июля 1795
года, к которому приложен фрагмент перевода, он пытается
объяснить свой побег следующим образом: «Это странно, что
под влиянием гения можно чувствовать себя счастливым
только благодаря его близости и что с каждой милей,
удаляющей от него, приходится все больше тосковать. Мне было бы
тоже затруднительно со всеми моими мотивами преодолеть
себя, уйти, когда бы именно эта близость, с другой стороны,
так не беспокоила бы меня. Я был всегда под соблазном
видеть Вас и видел Вас всегда, только чтобы чувствовать, что я
для Вас не мог быть ничем... так как я хотел быть для Вас
столь многим, я должен сказать себе, что я был для Вас
ничем». Шиллер действительно разочарован и расстроен. Он
ожидал большего доверия. Он собирался еще что-то
предпринять с Гёльдерлииом. Он хотел принять его в редакцию «Ор».
На июльское письмо он не отвечает. Возможно, стесненность
Гёльдерлина делает его тоже смущенным. 4 сентября 1795
года Гёльдерлин пишет еще раз, печально и элегично: «Я
слишком часто чувствую, что я никакой не редкостный человек. Я
мерзну и коченею в зиме, которая меня окружает. Насколько
железно мое небо, настолько я окаменел». Потом признание,
что его «неприязнь к самому себе» между тем «вогнала его в
абстракцию». Затем следуют сложные и напряженные
разъяснения о «соединении субъекта и объекта», «о приближении
квадрата к кругу», и, кроме того, чтобы реализовать систему
441 •
мышления, бессмертие необходимо так же, как оно уже есть
для системы мышления». На данный момент это
неподходящие размышления для Шиллера, который как раз собирается
«прикрыть свою философскую лавочку». Итак, Шиллер не
реагирует и на это письмо. Его молчание длится полтора года.
Гёльдерлин принимает предложение о месте домашнего
учителя в семье банкира Гонтара во Франкфурте,
запутывается в любовной истории с Сюзеттой, хозяйкой дома. Его «Ги-
перион» продвигается. Его самочувствие снова настолько
окрепло, что он может писать Шиллеру 20 ноября 1796 года в
новом тоне, конкретнее, искреннее: «Ваше полное молчание по
отношению ко мне делает меня действительно глупцом... Вы
изменили ваше мнение обо мне? Простите мне эти вопросы.
Привязанность к вам, с которой я безуспешно боролся, когда
она была страстью, привязанность, которая все еще не
оставила меня, принуждает меня к таким вопросам. Я укорял бы
себя за это, если бы вы не были единственным человеком, из-за
которого я настолько потерял свою свободу». С чувством
собственного достоинства он объясняет, что он чувствует себя
свободным везде, только при Шиллере он становится слабым.
Шиллер — его страсть. Это объяснение в любви, но
выраженное с живостью, которая, очевидно, побуждает Шиллера
наконец тоже ответить; Я никогда не забывал про вас, дорогой друг,
как это кажется вам; просто хлопоты да дела, наряду со
свойственной мне нелюбовью к переписке, так надолго задержали
ответ на ваши дружеские письма. Следуют некоторые
напоминания; Прошу вас, напрягите всю вашу силу, всю энергию,
изберите удачную поэтическую тему, вынашивайте ее в сердце
вашем любовно и бережно и дайте ей в прекраснейшие минуты
бытия спокойно дозреть до совершенства; но по возможности
избегайте философских тем ~~ они самые неблагодарные, и в
бесплодном единоборстве с ними нередко терпели поражение
самые могучие дарования; не удаляйтесь от чувственного мира,
это сократит для вас опасность утратить трезвость во
вдохновении или запутаться в изысканных особенностях формы (24
ноября 1796 года) (т J, с.437—438). Шиллер пишет не свысока,
даже если это и звучит так, потому что подобными словами он
предупреждает и самого себя приблизительно в это же время в
одном из писем к Кернеру; он знает, это и его опасности и
слабости. Но Гёльдерлин не заметил того, что Шиллер относил
свои предупреждения и к себе самому. Его будут удручать те
442
места в письме, где Шиллер критикует многословие стихов
Гёльдерлина, наводнение строф, которые никак не хотят
кончаться. След уязвленности можно найти в эпиграмме
Гёльдерлина того времени: «Знай! Аполлон нынче богом писак стал
газетных, /Ив почете теперь тот, кто факты знает точней».
Шиллер заканчивает свое письмо дружеским обращением:
Извините за эти призывы к вам, за эти предостережения: они
внушены участливой дружбой. Всего вам хорошего, почаще
давайте мне знать о себе (т.7, с.438).
Спустя полгода, 20 июня 1797 года, Гёльдерлин посылает
два стихотворения, «К эфиру» и «Странник», для публикации
в «Орах». В сопровождающем письме говорится: «У меня
достаточно мз/жества, чтобы самостоятельно судить, чтобы
сделаться независимым от других мастеров и направлений в
искусстве и идти в дальнейшем со столь необходимым
спокойствием своим путем, но от вас я непреодолимо отделяюсь; и
потому, что я чувствую, как много одно ваше слово решает обо
мне, иногда я пытаюсь забыть вас» чтобы не становиться
робким во время работы. Так как я осознаю, что Kaie раз эта
робость и смущение есть смерть искусства, и потому очень
хорошо понимаю, почему тяжелее привести природу к правильным
выражениям в период, когда вокруг тебя уже находятся
шедевры, чем в другой, когда художник оказывается почти один в
живом мире».
Гёльдерлин не подозревает, что он вызовет этим письмом о
неуверенности суждения. Поскольку Шиллер теперь
становится сам неуверенным в своем суждении. Он посылает
стихотворения Гёте, не называя имени автора, чтобы узнать его мнение.
Гёте отвечает: поэт очевидно имеет «ясный взгляд на природу»
и «талант» к различным формам стиха. «В обоих
стихотворениях имеются хорошие составляющие для поэта, но не они
одни делают поэта. Может быть, он сделал бы лучше, если бы
выбрал однажды очень простой идиллический факт и представил
его, тогда можно было бы лучше видеть, как ему удается
изображение человека, к чему в конце концов всё и сводится» (28
июня 1797 года). Он рекомендует напечатать стихотворения.
Выразив благодарность за не совсем неблагоприятное
суждение, Шиллер называет имя Гёльдерлина, и затем у него
вырывается одно достойное внимания признание: Откровенно
говоря, я нашел в этих стихах многое от моего прежнего образа, и
это не первый раз, когда автор напоминает мне меня. У него
443
сильная субъективность, и он связывает с ней некоторый
сознательный философский дух и глубокий смысл. Его состояние
опасно (30 июня 1797 года). С обратной почтой Гёте отвечает:
«Теперь я хочу вам тоже признаться, что для меня в этих стихах
звучало нечто в вашем роде и манере, невозможно не узнать
сходного направления». Действительно, при чтении
стихотворения «Странник» оба должны были вспомнить большую
элегию Шиллера «Прогулка»: Вольно луг расстилает свой пышный
ковер, и далёко / В зелени свежей по нем сельская вьется тропа
(т. 1, с. 197).
Гёте совершенно не почувствовал могучего дыхания
стихотворений Гёльдерлина. Отсюда и его совет — пусть Гёльдерлин
изберет себе «простой идиллический факт». И все же он так
тронут молодым автором, что принимает его с визитом во
Франкфурте, когда во время своего путешествия в Швейцарию
в конце лета 1797 делает там остановку. При встрече Гёте вновь
повторяет свое предложение относительно «идиллии». Он
посоветовал ему, сообщает он Шиллеру, «делать небольшие
стихи и избирать к каждому интересный с человеческой точки
зрения предмет» (23 августа 1797 года).
Между тем этим летом Гёльдерлин с некоторой гордостью
посылает оконченный первый том «Гипериона» Шиллеру,
который мог там прочитать, как двусмысленно обстояло дело с
Гёльдерлином, когда он, как это часто случалось, сдерживал
себя и умолкал: «Есть забвение всего существующего, онемение
нашего существа, когда нам кажется, что мы нашли всё. Есть
немота, забвение всего существования, когда нам кажется, что
^»
мы потеряли все, ночь нашей души».
История Гёльдерлина с Шиллером еще не окончена. В июне
1799 года он планирует издавать поэтический ежемесячник и
обращается к своим старым друзьям Шеллингу и Гегелю и,
конечно же, к Шиллеру. Его предложение решительно
отклоняется. План не удается. Он пытается вернуться в Иену,
зондирует возможность доцентуры. В этом году Сюзетта Гонтар во
время путешествия делает остановку в Иене; она хочет
непременно встретиться с Шиллером, о котором ей так много
рассказывал любимый. У нее было «необычайно грустно» на
душе в садовом домике Шиллера, пишет она 23 августа 1799 года
Гёльдерлину, она оставалась там совсем недолго. С ней
случилось то же, что и с ним: «В этой прекрасной душе я не хочу
отражаться малостью». Она хочет отговорить Гёльдерлина от его
444
плана снова переехать в Иену. Она ревнует, она знает, что
Шиллер - мужская любовь ее любимого. «Ты не мог бы не
посещать его, это было бы тебе совсем неприятно, а что я буду
при этом испытывать, я достаточно почувствовала по моему
быстро бьющемуся сердцу» (10 ноября 1799 года).
После расставания с Сюзеттой Гёльдерлин обращается к
Шиллеру в последний раз в июне 1801 года. Снова старая
тоска: «Мое однажды появившееся в Иене желание жить вблизи
от вас стало для меня почти необходимостью». Ответил ли
Шиллер, мы не знаем. Во всяком случае, в конце года
Гёльдерлин отправляется в путь в Бордо пешком через заснеженный
Центральный массив. Это должно было быть прощанием с
Германией: «Но вы не можете во мне нуждаться» (Бёлендорфу, 4
декабря 1801 года).
Поспешно, как и Иску, он покинет Бордо, вернется на
родину, опустившийся, с всклокоченной бородой явится к своей
матери в Нюртинген. Она спросит его: «Где ты был?» — а он в
припадке ярости вышвырнет ее из дому, и она будет стоять там
ночью и кричать в гулко отдающиеся улицы: «Хольдер сошел
с ума!» Он действительно вскоре после этого сошел с ума.
Еще на протяжении многих лет, когда называлось имя
Шиллера, он бормотал: «Мои Шиллер, мой прекрасный
Шиллер».
Примеры Фридриха и Августа Вильгельма Шлегелей, Фихте и
Гёльдерлина показывают, как Шиллер, в том числе и
благодаря «Орам», привлекал людей, но в то же время у других он
вызывал отторжение, вплоть до враждебности. Журнал
поляризовал общественное мнение. «Эстетические письма», его книга
законов эстетического мира, принимались далеко не везде; над
гетевскими «Беседами немецких беженцев» многие качали
головами, они считались бессильными, поговаривали что-то о
«кризисе»; «Римские элегии» некоторые считали
неприличными. Шиллер и Гёте, исполненные чувства их
заговорщического сообщества, реагировали на это агрессивно. Только в
нападении есть звуки игры, думали они. Прошли времена, когда
Шиллер мог еще писать в «Объявлении о "Рейнской Талии"»:
Публика для меня сейчас всё, мое образование, мой государь, мое
доверенное лицо. Ей одной принадлежу я сейчас. Теперь он уже
не готов признать публику как сюзерена, она должна
воспитывать свой вкус, в ином случае с ней надо бороться. Как нужно
445
действовать? Не рекомендуется оскорблять публику, нужно
нападать на расхожий вкус, следовательно, взять на прицел
критиков, которые его якобы представляют. Праведный гнев
Шиллера и Гёте направлен прежде всего против тех критиков,
в которых они подозревают законодателей массового вкуса;
они хотят бороться против предводителей когорты средних
читателей. Нет ли в литературной общественности тоже
восстания масс и не портит ли это вкус? Так смотрят на вещи эти два
диоскура, и потому «Оры» должны стать истинным ecclesia
militans*, говорит Шиллер. Против чего бороться?
Сначала само чтение без разбора. Оно было порождено
брызжущей чернилами братией. Началась жадная до чтения и
остервенело пишущая эпоха. Чтение помногу и без разбора в
конце восемнадцатого столетия станет почти эпидемией в
бюргерских и чиновничьих кругах. На это начинают сетовать
педагоги и критики культуры. Трудно поддается контролю то,
что происходит в читающем человеке. Там есть взбудоражен-
ность, скрытые фантазии. Не передает ли себе скрытые
эксцессы читающая дама на софе, поглощающая романы? И
читающие гимназисты, не принимают ли они теперь участия в
приключениях, которых их воспитатели не могут и
вообразить? Между 1750 и 1800 годами вдвое выросло число тех, кто
мог читать. Приблизительно 25 процентов населения
относились в конце столетия к потенциально читающей публике. В
поведении читателей медленно происходит переворот: одна
книга не читается больше много раз, но многие книги один
раз. Тает авторитет важных книг — Библии, возвышенных
историй, календаря, — которые читаются и изучаются по многу
раз, требуется огромная масса материала для чтения — книги,
созданные не для ого, чтобы их читать, а чтобы их
заглатывать. Между 1790 и 1800 годами на рынок было выброшено
2500 наименований романов, ровно столько же за девяносто
лет до этого. Растущее предложение должно быть
употреблено. Публика учится искусству быстрого чтения. Без досуга,
разумеется, не может быть читательской жизни. И разумеется,
досуга в тогдашней бюргерской жизни хватало. Часы чтения
длятся до ночи. Не только просвещение, но и одержимость
чтением требует больше света.
Воинствующая церковь (лат.).
446
Много и быстро читающие выдвигают на первый план
борзописцев, авторов, которые знают толк в писании для
быстрого чтения. Шиллер тоже упражнялся в этом, когда писал
роман с продолжением «Духовидец». О Лафонтене, который
сочинил далеко за сотню романов, говорили, что он пишет
быстрее, чем может читать, поэтому он еще не смог прочитать
все свои романы. Профессиональных критиков этот наплыв
романов приводит в отчаяние. «Среди многочисленных
романов, — пишет Фридрих Шлегель в 1797 году, — которые
наполняют после каждой ярмарки наши списки книг, основная
масса заканчивает круг своего незначительного
существования так быстро, скрываясь потом в забвении и грязи старых
библиотек, что пытающийся судить об искусстве должен
преследовать их но пятам, если он не хочет иметь неприятность
потратить свое мнение на книгу, которой, собственно, больше
не существует».
Особенные общественно-политические и географические
условия позволили газетному и книжному делу так отменно
процветать в Германии. Отсутствие значительных
государственных центров общественной жизни способствует
одиночеству и в то лее время желанию мнимой общительности в книге.
Германия не обладала ни политической силой, окрыляющей
фантазию, ни большой столицей с ее тайными лабиринтами, ни
колониями, которые возбуждали бы чувство дали и
приключений во внешнем мире. Все было раздробленным, тесным,
маленьким. В Иене штабы романтики и классики были
расположены на расстоянии брошенного камня. Все то необычное, что
совершили английские мореплаватели, открыватели-пионеры
в Америке, матадоры французской революции, немецкая
публика переживала, как правило, умозрительно и в суррогате ли-
тературы. В письме к Мерку 11 октября 1780 года Гёте
лапидарно констатирует, что «уважаемая публика знакома со всем
необычным только благодаря романам».
Кто много читает, легко приходит к идее писать самому.
Друзья обмениваются письмами и тут же несут их издателю.
Тот, кто достиг на своем месте славы и денег или не достиг ни
того ни другого, описывает, когда войдет в годы, свои
жизненные наблюдения. «Сколько пишут люди, это невозможно себе
представить», — вздыхает Гёте в «Вильгельме Мейстере».
Жан-Поль пародировал эти тенденции в своем «Школьном
учителишке Вуце». Вуц регулярно получает ярмарочные ката-
447
логи и, гак как он стеснен в средствах, сам пишет объявленные
там романы. При этом он постепенно приходит к мнению,
будто его рукописи и являются оригиналами. Когда он
знакомится с действительными оригиналами, он считает их
фальшивыми перепечатками.
Умножившееся чтение сближает чтение и жизнь. В
прочитанном разыскивается жизнь автора, который внезапно
становится интересен своей биографией, и если он еше не стал
таковым, то он старается сделать себя интересным. Это относится
также и к заднему плану культа чтения. В то время было
притчей во языцех определенное разочарование в том, что автор
«Разбойников» был приветливым человеком с хорошими
манерами и не имел в себе ничего разбойничьего и дикого.
Наоборот, делаются попытки жить тем, что было прочитано.
Одевали фрак Вертера и вращали глазами, как Карл Моор. Делали
ставки на переживания по литературному сценарию, который
уже распределил роли, описал атмосферу и определил
действие. Тогда от еще совсем нового ведущего средства массовой
информации — литературы — исходила завораживающая,
инсценирующая жизнь энергия. То, что было верным для
большой литературы, могло быть только дешевым для так называ-
емой развлекательной литературы — для семейных романов
Лафоптена, для историй про разбойников свояка Гёте Вулыти-
уса и романов о тайных союзах некоего Гроссе (и Шиллера).
На обоих уровнях проявляется стремление к более
интенсивному чувству собственного достоинства. Хочется ощущать
себя, от жизни требуется жизненность, и, если внешние
обстоятельства противостоят тому, тогда идентификация с
литературными образцами должна выделите полные жизни моменты
из повседневных ритуалов единого жизненного потока. Хотят
оценивать свою жизнь в зеркале литературы, придать ей
плотность, драматизм и атмосферу. Так, читатель, который ищет
свою потерянную в буднях экзистенцию, мол-сет найти
удовлетворение. «Мы сделаны из литературы», — жалуется молодой
Тик, и Клеменс Брентано тоже слышит в жизни шуршание
бумаги: он все больше и больше видит, что через романы
«невольно определяется множество наших действий и что женщины,
особенно в конце их жизни, были не чем иным, как копиями
характеров романов, которые им предлагали библиотеки их
местечек».
448
Это частое пересечение границы между литературой и
жизнью, склонность олитературивать жизнь должны были
подтолкнута тогда Тика к переводу «Дон Кихота», потому что
тема романа, как известно, — вытеснение жизненного опыта
опытом вычитанным. Можно было читать роман как эпос об
опасном империализме литературы, которая покоряет жизнь.
Могущество олитературивания обнаруживается даже в
политике. Актеры больших революционных событий казались себе
самим и образованной публике представляющими роли,
которые уже хорошо известны из античной литературы.
Классическое образование делает возможным своего рода дежавю-пере-
живание: Цезарь, Цицерон и Брут, они известны, и они
возвращаются в виде исторического наряда. Например, Бруг
сыгран теперь женщиной. Шарлотта Корде, нежная фанатичка
из Нормандии, закалывающая в ванной в 1793 году народного
трибуна Марата. Клопшток, Вилаид и другие описали в стихах
это деяние — убийство тирана — как по писаному.
Только в такой одержимой литературой среде, где
взаимопроникновение литературы и жизни стало почти
повседневным, могли развиться возвышенные теоретические концепции
ранних романтиков. Эти молодые люди сначала в Йене, а
потом в Берлине были вдохновлены духом, которым они хотели
очаровать себя самих и других: литература дол ясна вызвать
жизнь на танец. Йенцы далеко заходят со своими
высвобождающими упражнениями, они хотят окончательно снести стену,
разделяющую жизнь и литературу. Фридрих Шлегель и Но-
валис для этого дела вводят в обиход понятие
«романтизирования». Любая жизнедеятельность должна наполниться
поэтической значимостъю, должна вынести на обозрение
своеобразную красоту, которая имеет свой стиль, с таким же
успехом, как и продукт искусства в собственном смысле. Вообще
искусство для них скорее не продукт, но событие, которое
может произойти всегда и везде, где люди выполняют свою
деятельность с энергией, придающей форму, и полной
самоотдачей. Новалис убежден в том, что «деловые работы» тоже
поддаются поэтической обработке. Для Фридриха Шлегеля эта
светлая общительность становится реализованной
«универсальной поэзией». Нужно заразить жизнь поэзией. Как это
сделать? Лучше всего с помощью романтической техники
осуждения, которую Тик описывает так: «Мы должны только
попытаться однажды сделатъ привычное чуждым, и мы будем
449
изумлены, как близко нам некое учение, некое наслаждение,
которое мы ищем в широкой, многотрудной дали. Чудесная
утопия лежит часто прямо у наших ног, но мы смотрим через
наши телескопы мимо нее».
Таким образом, чтение и писание обещают приключение за
любым углом.
Этим молено объяснить то, что Шиллер со своим проектом
«эстетического воспитания» встретил у романтиков большое
одобрение, потому что эстетизация жизни шла у них уже
полным ходом, по этой же причине некоторые из них иронично
отмахивались, когда Шиллер объявил эстетическую боевую
тревогу. Если Шиллер вместе с Гёте выводит на позицию свой
ecclesia militans, ой берет на прицел поэтому не только
выразителей безголового, но много читающего большинства, но и
ничтожеств, которые утверждают, что уже выучили урок по
эстетизации. Итак, всё направлено против посредственности и
чрезмерности. Шиллер и Гёте, эти два чародея, составляют
заговор против трезвых расколдовывателей и учеников чародея.
«Оры» должны были представлять лучший вкус, для
борьбы с плохим вкусом должна была быть найдена еще другая
форма. Это был Гёте, которому пришла в голову
зажигательная идея. В то время он был возмущен прежде всего публикой,
которая не воспринимала его всерьез как естествоиспытателя;
поэтому он был в полемическом настроении и мог
присоединиться к возмущению Шиллера критиками «Ор» и
уменьшающейся подпиской на журнал. Они сошлись во мнении, что
необходимо наконец выступить против недалеких и всезнаек,
против многочитающих и многопишущих, этих вредителей
храма литературы, против спесивой кучки ученых; важно
«своего рода объявление войны против половинчатости, которую
мы должны потревожить во всех областях» (Гете к Шиллеру
21 ноября 1795 года). Месяц спустя Гёте предлагает как
литературную форму этого полемического предприятия
«двустишия, подобные Ксениям Марциала» (23 декабря 1795 года),
итак, своего рода отравленные дары. Нужно совместно
расставить эту легкую кавалерию в «Альманахе муз» Шиллера и
бросить ее в бой. Он так увлечен этой идеей, что некоторые
экземпляры образцов — это ксении против «Церкви Ньютона» —
уже прилагает к письму. Шиллер тотчас ему отвечает: Мысль
насчет ксений великолепна, и ее надо осуществить (29 декабря
1795 года) (т.7, с.375). В начале января 1796 года он выдвига-
450
ет лозунг: nulla dies sine epigrammate (ни дня без эпиграммы).
Итак, они обмениваются Ксениями, которые они усердно
изготовляют, и, когда Гёте находится в Йене, они с большим
удовольствием «высиживают» некоторые вместе, Шарлотта
слышит этажом выше их смех. Девятьсот двустиший набралось к
лету 1796 года. Шиллер собирает и приводит их в порядок для
«Альманаха муз». Одна треть исключается, другая часть,
сниженного и полемического содержания и более похожая на
поговорки, будет собрана под названием «Tabula votivae», так
называемые «Кроткие ксении». Авторы сошлись на том, чтобы не
извещать об авторстве отдельных вещей. Они ведь
действительно были частично составлены совместно.
Небольшая охота на зайцев в нашей литературе, как
Шиллер назвал предприятие, сегодня многое потеряла для нас от
своей остроты и полемичности. Некоторые образцы:
Против расширяющегося рынка книг: Здесь обычай таков:
кто этой улицей едет, / Грош оставляет глупцу, грош
инвалиду дает (1, 257); Ярмарка здесь — украсим скорее прилавки, /
Авторы, вот ваш товар — пробуйте счастье свое! (I, 257); О
приемах тривиальных авторов: Хочешь ли вдруг угодить и
весельчаку и святоше? / Ты сладострастье рисуй, черта малюя
при нем (т.1, С.218). В другой разбирались также и порядочные
люди, которые прикидывались скабрезными, чтобы привлечь
читателей: Что ужасней всего из всего, что па свете ужасно? /
Ну, конечно, педант, возомнивший развязным себя (I, 261).
Между ними можно найти и некоторые возвышенные и
изысканные, например Лафатер: На вид ты один человек, по
ошиблась природа,/Ибо двое в тебе их — достойный и плут (I, 259);
против чересчур заумных литературных критиков, например
Ф. Шлегеля: Вам, бедняги поэты, чего ни придется услышать, /
Чтобы писаны свое видел в печати студент (т.1, с.219).
Против таких людей, как Рейхардт, политически убедительных, но
литературно слабомыслящих: Слов не жалейте плохих, если
князья их достойны, / Но писак бесталанных кто заставляет
хвалить? (I, 262). Против ограниченных голов,
прославляющих себя за здравый смысл: Польза есть и от вас, ведь
рассудок охотно / Забывает о разуме, вы здесь — живой образец (I,
263). В следующей эпиграмме Виланд, которого изобразили в
виде девы: Преклоните главу пред хрупкою веймарской девой, /
Дуется, часто она — кто же граций каприз не простит? (I,
263). Виланд воспринял это как оскорбление и в порыве гнева
451
объявил, что больше не обменяется с Шиллером ни одним
словом. Виланд не выступал как противник «Ор», но он со своим
«Немецким Меркурием» был конкурентом на тяжело
завоевываемом журнальном рынке, поэтому он тоже угодил под
прицел. Так лее не пощадили и Клопштока, которым когда-то
восхищался Шиллер; Клопшток — вот человек, освоивший новые
речи, / Сколько великого смог он в адском болоте постичь (I,
271). Николаи будет много раз наказан как представитель
скучного и невдохновенного Просвещения: Что не схватишь
рукой, тебе, как слепцу, непотребно, / Но коль коснешься чего —
грязью покроешь тотчас (I, 278). Фихте тоже не забыт: Я есть
я, я сажусь, и сажаю себя я/Как несаднмое я, — что ж! ~
Подсадим сюда и не-Я (I, 299).
Все же в число «Ксений» будет принята и насмешка над
стихотворением Шиллера «Достоинство женщин». Допустил
ли это Гёте, или это была готовность Шиллера к самокритике?
Спереди трудно читать, я сзади читать начинаю, / Строчку
за строчкой, и что ж ~ песня прилична вполне (I, 290).
«Ксении» стали большой сенсацией. «Альманах муз», в
котором они появились в конце 1796 года, был распродан за
несколько дней. Два раза тираж допечатывали дополнительно.
Это было хорошей прибылью для издателя Шиллера. Каждый,
кто считал себя кем-то, принимал участие в разгадывании
загадок. Кто подразумевается? Какие эпиграммы кому
принадлежат? Литератор и директор школы Манзо, которому тоже
слегка досталось, составил совместно с издателем Дюком
«Ответные гостинцы пачкунам, варящим размазню в Йене и
Веймаре, от благодарных гостей», которые, впрочем, не
возымели никакого действия, поскольку были очень плоски.
После того как первые страсти остыли, Гёте заявил 7
декабря 1796 года, что это «недостаточно знакомая и разученная
политика, когда каждый, кто имеет притязания на собственную
посмертную славу, должен вынуждать своих современников
высказывать все, что они имеют в запасе против него,
впечатление от этого он снова и снова истребляет посредством
современности, жизни и действия... Я надеюсь, что ксеиии будут
действовать продолжительное время и сохранят в действии
против нас злого духа, в то время как мы продолжим наши
позитивные работы и предоставим ему муки отрицания».
Они были довольны, кинув камень в воду, пускай теперь
бесятся другие, оба полемиста скоро снова вернутся к своей ос-
452
новной работе. Гёте пишет Шиллеру 15 ноября 1797 года: «Так
как после замечательного рискованного предприятия с
Ксениями мы должны позаботиться о больших и достойных
произведениях и воплотить нашу поэтическую природу, к стыду
наших противников, в образцы благородного и доброго».
Так же думал и Шиллер. Он закрыл свою философскую
лавочку; оставшийся философский материал вошел в
философскую лирику 1795 и 1796 годов, прежде всего в «Царство
теней» и в «Прогулку»; гаев и желание полемики нашли свой
выход; итак, теперь он может все свои силы посвятить «Вал-
ленштейну», пришпориваемый Гёте, который собирается иод
действенным влиянием Шиллера закончить «Вильгельма
Мейстера».
ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА
Страх перед Валленштейном. Отсрочка. Сотрудничество с Гёте
в работе над «Вильгельмом Мейстером». Почему духовному
превосходству нельзя противопоставить иной свободы, кроме
свободы любви. Хвала неясности. Почему только философия может
избавить от философствования. Валленштейн и три вида
воли к власти. Человек дела и человек возможностей.
Ритуалы дружбы: Гёте, Гумбольдт.
ЧУ
Прощание с Иеной
В стихотворении «Счастье» (1798) Шиллер показывает
творческий процесс как то, чему из беспредельности вод тайно
рождаться дано... (т.1, С.283). Но рождение драмы « Балленштейн»
не было «тайным рождением». Шиллер предоставил
возможность своим друзьям, особенно Кернеру, Гёте и Гумбольдту,
принимать участие в каждой фазе создания этого произведе-
ния, в сомнениях и кризисах. «Во время работы над этой
высокозначимой трилогией, — писал Гёте через 30 лет в рецензии
на английский перевод «Валленштейна», — я не был в стороне
от автора. Он имел дар сверх того, что он собирался сделать,
еще и именно так работать, чтобы иметь возможность
советоваться с друзьями. Удивительная уступчивость и
настойчивость лежали в природе его мыслящего духа, нимало не
мешали его произведениям, но руководили или давали им форму».
Когда Шиллер обозначил в своем календаре 22 октября
1796 года как дату начала работы над «Валленштейном», он не
принял в расчет предварительную работу начиная с 1791 года.
Фактически его уже десять лет занимали колоссальные образы
Тридцатилетней войны и возможность их драматического
представления. 15 апреля 1786 года он писал Кернеру:
Подумать только, что эпоха величайших национальных бедствии
была одновременно блистательнейшей эпохой человеческой
силы! Сколько великих людей породил этот мрак! (т.7, с.95).
После первого тяжелого приступа болезни в январе 1791 года он
принял решение взяться за драму «Валленштейн»; но пока не
начинал работы: 21 сентября 1792 года он писал Кернеру:
Перед огромным целым я испытываю страх, оттого и сомневаюсь,
браться ли тотчас за «Валленштейна». В путешествии по
Швабии он снова собирал материалы для запланированной
454
I
I
I
I
пьесы; 17 марта 1794 года он пишет с почти озорной
самоуверенностью о проекте «Валленштейна»: ...как только план будет
готов — я уверен, что в три педели реализую его (т.7, с.285).
Эти запланированные три недели в конце концов стали пятью
годами — так долго длилась работа, пока весной 1799 года она
не была наконец завершена. Бремя, которое он
непосредственно работал, Шиллер вычислил позднее как двадцать месяцев.
Он назвал это число с некоторым удивлением: это было реалъ-
ное время, которое он потратил на «Валленштейна», хотя
думал, что это длилось гораздо дольше.
После возвращения из Швабии в мае 1794-го Шиллер
вначале откладывает пьесу в сторону. Работа над «Письмами об
эстетическом воспитании человека» и над «Орами» полностью
забирает его время. Но он замечает также за собой
определенный сграх перед большим произведением, он медлит,
углубляется еще раз в исторические источники, изучает Софокла и
Эсхила, чтобы усовершенствовать свою драматическую технику.
Он не находит конца снаряжению, и это, пишет он 18 марта
1796 года Гёте, приводит его характер в весьма своеобразное
движение. Он работает так тяжело, потому что чувствует, что
при условии, если он тщательно подготовится к работе, ему
могло бы удасться нечто совершенное. Такая почти боязливая
осторожность — новое в нем. Он хочет начата писать, только
если план полностью созреет. Итак, он обрабатывает и
шлифует план. Между тем прошло десять лет со времени написания
его последней пьесы «Дон Карлос». Сможет ли он вновь
найти почти бесшабашную уверенность своих первых
произведений? С тех пор, пишет он Кернеру 4 сентября 1794 года, он
пытается стать совершенно другим человеком (т.7, с.311). Но
сможет ли этот «другой человек» так же показать себя в новом
большом театральном произведении? Бывают моменты, когда
он сомневается в этом. 4 сентября 1794 года он пишет
Кернеру: Этой работы я попросту очень страшусь, ибо с каждым
днем все больше убеждаюсь в том, что я меньше всего являюсь
поэтом, и если уж поэтический дух нисходит на меня, то лишь
тогда, когда я собираюсь философствовать. Что же мне
делать? (т.7, с.311). Кернер пытается развеять его сомнения в
письме от 10 сентября 1794 года, напоминает ему о его гении,
которому он может довериться. Он должен ослабить
напряжение и довериться тому, что лучшее встречается тогда, когда на
него не нацеливаются напряженно: «Как привнесет фантазия
455
от себя достаточно поэтического материала, если ты
умышленно не занимаешься «Валленштейном», а предоставляешь это
случаю». Шиллер отвечает на это 12 сентября 1794 года: Ты
думаешь, что я начинаю «Валленгитейна» слишком по разуму и
мало по вдохновению. Но это действует только для плана,
который нельзя не рассчитать строго. Выполнять же его будет
воображение и спонтанная чувствительность. Но именно
этого я и опасаюсь, что воображение оставит меня, когда
наступит его час.
Восстановление доверия к собственной силе воображения
становится затруднительным и из-за того, что Гёте вовлекает
его в процесс создания «Вильгельма Мейстера». В конце 1794
года Шиллер получает отпечатанный экземпляр первой книги
«Годов учения Вильгельма Мейстера». В следующие месяцы,
до июля 1796 года, приходят один за другим следующие тома
романа для прочтения в рукописи. Шиллер увидел вблизи, как
другу удается мнимая легкость большого поэтического усилия.
Кажется, что эти любимцы богов черпают из силы
воображения, и ему, Шиллеру, нужно бояться только, чтоб она не
оставила его на произвол судьбы. «Вильгельм Мейстер» сначала
поверг Шиллера в сомнения, в результате чего не продвигался
«Валленштейн». Фантазия Гёте, так ему казалось, ведет
читателя в богатую и полную жизнь, насыщенную игровым
значением, произведение с изяществом и умом, показывающее
очаровательную поверхность и обещающее глубокий смысл. Это
пронизывает его, пишет Шиллер, как ощуиизние духовного и
телесного здоровья. И поэтому для него так мучительно... когда от
подобного произведения, переходишь к философии. Все в нем так
радостно, так живо, все так гармонически разрешено и
человечески истинно, а в пей все так сурово, так непреклонно и
абстрактно и так неестественно, потому что вся природа — это
лишь тезис, а вся философия, — это антитезис (т.7, с.326). По
этому поводу ему в первую очередь открылось, какое
бесконечное расстояние отделяет жизнь от умничания, (т.7, с.326), и
поэтому такое же мучительное расстояние между ним, который
в большей степени философ, и Гёте, который силой своей
фантазии может воспроизвести полнокровную жизнь. Но одно
несомненно, что только поэт является по-настоящему человеком,
и по сравнению с ним наилучший философ — это карикатура (7
января 1795 года) (т.7, с.326).
456
Несмотря на это, Шиллер не потерялся в слепом
восхищении; Гёте, который ценил шиллеровское понимание искусства
именно в техническом плане, просит о критике и предложений
по совершенствованию, и Шиллер приходит ему на помощь.
Но это фактически — поначалу, во всяком случае, — только
детали, которые Шиллер находит как недостатки. Например, он
критикует слишком широко представленную театральную
среду и рекомендует разнообразить разговоры о Гамлете
дополнительными элементами действия. Гёте благодарен за участие
друга в работе над произведением и ободряет со своей
стороны Шиллера продолжить работу над «Валленштейном». Он
хочет снова обратить друга к театру и поэтому просит его
обработать «Эгмонта» для новой постановки на веймарской
сцене. Шиллер соглашается, и действительно эта работа снова
дает ему весной 1796 года уверенность в собственных
поэтических, прежде всего театрально-практических, способностях.
Так, он сообщает Кернеру 21 марта 1796 года, что он наконец
принял серьезное решение начать записывать «Валленштейна».
Но это снова приходится отложить из-за приступа болезни и
заботах об отце и сестре Нанетте, которые оба лежали
смертельно больные. Нанетта умерла в начале марта, а отец
несколькими месяцами позже, в сентябре 1796 года. Шиллер
глубоко взволнован, но держит себя в руках. Его настолько
опустошила собственная история болезни, что со смертью он
обходится как с чем-то хорошо знакомым. Траур также
воспрепятствовал ему найти подходящее настроение для новой
работы. Кроме того, его отвлекали «Оры». Журнал потерял
подписчиков. Известные авторы, среди которых были Гердер и Фихте,
оставили его. Постепенно журнал прекратился как орган,
представляющий культурную элиту. Шиллеру нужно выискивать
менее качественные тексты, чтобы хоть как-то заполнить
ежемесячное издание. Шиллер собирается как можно скорее
приостановить журнал, даже если при этом он потеряет солидный
гонорар. Чтобы не быть зависимым от этого источника дохода,
Шиллер усиленно заботился о выпускаемом им «Альманахе
муз», в котором он в последнее время благодаря «Ксениям»
достиг значительного финансового успеха. Он использует свое
редкое по времени поэтическое настроение, чтобы
собственными стихами внести свою долю в следующий выпуск
«Альманаха». Итак, Шиллер втянут в обстоятельства, которые удержи-
457
вают его от последовательной и исключительной работы над
«Валленштейном».
В конце июня 1796 года Шиллер получил последний том
« Вильгельма Мейстера» и теперь читает еще раз весь роман
целиком. Он потрясен. Достойная и истинно эстетическая
оценка всего художественного произведения — большая работа. Я
целиком и с радостью посвящу ей ближайшие четыре месяца, —
пишет он Гёте 2 июля 1796 года (т.7, с.399). Таким образом,
еще четыре месяца отстрочки: «Вильгельм Мейстер» потеснил
«Валленштсйна». Не четыре месяца, но все-таки в течение
одного месяца он занимается исключительно этим и пишет те
знаменитые объемные письма — первые и, несомненно,
значительнейшие документы истории этого эпохального романа.
В первом из этих больших писем Шиллер замечает: И,
помимо того, я считаю замечательным счастьем для себя, что я
дожил до завершения этого произведения, что это событие
пришлось на период, когда я еще сохраняю свои стремления и
силы, что я еще могу черпать из этого чистого источника; а те
прекрасные отношения, которые существуют между нами,
создают для меня своего рода религиозный долг, порадеть здесь о
вашем деле, кик о своем, все, что есть во мне положительгюго,
развить так, чтобы оно стало чистейшим зеркалом духа,
живущего в своей оболочке, и тем самым, в высшем смысле этого
слова, заслужить название вашего друга (т.7, с.399). И далее
следует предложение, где Шиллер высказывает формулу для
объяснения отношений со своим другом, формулу, которую
Гёте принял как завещание Шиллера, поэтому он будет
цитировать ее после смерчи Шиллера в «Избирательном сродстве».
Как живо ощутил я, — пишет Шиллер, — при этом случае, что
духовное совершенство есть сила, что и на эгоистические души
оно может воздействовать только как сила, что духовному
превосходству нельзя противопоставить иной свободы, кроме
свободы любви (т.7, с.399—400). Это любовь, которая
предотвращает враждебность и парализующую зависть в
отношении превосходства. Шиллеру нужно было любить Гёте, чтобы
суметь сберечь свою свободу и самостоятельность для «Вал-
ленштейна». И действительно, именно эти первые письма о
«Вильгельме Мейстере» звучат в особом, полном любви тоне.
Хотя анализ, который дает Шиллер, строгий, проницательный
и деловой. Но он при этом так отточен и написан в таком
блестящем стиле, что можно прямо признать это неслыханное ли-
458
тературное качество анализа за проявление интеллектуальной
любви, и Гёте это тоже понял. Эти письма — подарок друга.
Первое письмо о «Вильгельме Мейстере» Шиллер
заканчивает предложением: Будьте здоровы, мой любимый, мой
почитаемый друг! Какое волнение охватывает меня, когда я подумаю
о том, как мы обычно ищем в седой дали взысканной судьбою
древности — и с трудом находим — то, что в вас я имею так
близко! (т.7, с.403). Письма приходили Гёте в такой плотной
последовательное!^, что он вначале не успевал на них
обстоятельно ответить. Вне себя от восхищения Гёте пишет 5 июля
1796 года короткую благодарность: «Ваши письма сейчас мое
единственное развлечение». Двумя днями позже:
«Продолжайте знакомить меня с моим собственным произведением».
Наконец через неделю Гёте выныривает из изучения шиллеровских
писем и находит благоразумие и дистанцию для
обстоятельного ответа, который потому так .достоин внимания, что Гёте в нем
несколько обнаруживает то, что он сам называет своей
«внутренней природой». Только другу он мог сознаться в своей
«реалистической странности», «благодаря которой я находил
приятным скрывать от людских глаз свое существование, свои
поступки, свои сочинения. Так я стал любить инкогнито
путешествовать, скромное платье предпочитал лучшему и в
разговорах с чужими илVI полузнакомыми людьми предпочитал
незначительные предметы или же малозначительные явления, вел
себя легкомысленнее, чем я есть, и ставил себя, таким образом,
это мне хотелось бы подчеркнуть, между мной самим и моим
собственным обликом» (письмо от 9 июля 1796 года). Эту
«реалистическую странность» — это стремление к скрытности,
робость перед всякой определенностью - он делает
ответственным за то, что, вопреки совету Шиллера, высказал богатое
философское содержание романа неопределенно.
Это содержание выдержано для Шиллера в соответствии с
тем, что в романе представлены обе основные позиции,
реализм и идеализм, как способные к примирению и
примиренные. Шиллер возвращается при этом к отличию, которого он
только что коснулся в своей работе «О наивной и
сентиментальной поэзии». Поэтому реализм с теоретической точки
зрения есть дух трезвой наблюдательности и прочной
привязанности к единообразному свидетельству чувств; на практике —
покорное подчинение необходимости природы и общественной
жизни. В идеализме, с другой стороны, с теоретической точки
459
зрения нет ничего, кроме беспокойного спекулятивного духа,
стремящегося в любом познании к безусловному, а с
практической точки зрения — кроме морального ригоризма, который
настаивает на безусловном в действиях воли (т.6, с.466). В
письме от 8 июля 1796 года Шиллер подчеркивает, что
одностороннее развитие одного из двух состояний ведет к
искажению и отчуждению и что только синтез может считаться
человечески достойным. В «Вильгельме Мейстере» он видит этот
синтез представленным художественно совершенно, В одной
весьма сжатой формулировке, которая от позднейших
толкований и комментариев стала только многословней, Шиллер так
обобщает значение главной фигуры романа: Он переходит от
бессодержательного и неопределенного идеала к определенной и
деятельной жизни, но так, что сила идеализации не
претерпела в нем ущерба (т.7, с.416). Не только главного героя, но и
роман в целом Шиллер видит наполненным этим реалистическо-
идеалистическим духом.
Далее Шиллер предлагает задуматься о том, может ли это
содержание романа, а именно единство идеализма и реализма,
быть доступно обыкновенному читателю; роман предлагает
такую привлекательную поверхность, которая отвлекает от
взгляда в глубь романа. Гёте должен еще принять некоторые
меры предосторожности, чтобы можно было ясно разобраться
в устройстве целого (т.7, с.414). Значение книги требует,
чтобы Вы были в этом отношении вполне понятны (т.7, с.415).
Гёте ответил на это признанием своей «реалистической
странности», которая наводит его на мысль о косвенности, намеках и
именно о неполной ясности: о полной значения
таинственности. Иронически Гёте делает предложение, что Шиллер должен
сам позаботиться о необходимой ясности. Может быть, нужно
только «содержание вашего письма... распределить в уместных
местах». Коли уж дело обстоит так, что у него, Гёте,
«последние важные слова не хотят исторгаться из груди, то я попрошу
вас в довершите всего несколькими смелыми взмахами
кисти, самому прибавить то, что я сам не могу выговорить,
связанный странной природной необходимостью» (письмо Гёте к
Шиллеру от 9 июля 1796 года).
Гёте хотел оставить это лишь намеком на значение, но
Шиллер не прекратил настаивать на большей ясности. Но
потом с Шиллером произошел удивительный самокритический
поворот. Он начал видеть проблему в стремлении к ясности.
460
Почему вообще возникает потребность в ясности, почему мы
хотим иметь предположение истолкованным? Это, пишет
Шиллер 11 июля 1796 года Гёте, потребность в утешительной
основе, которая заставляет нас искать ясный разум, а потому и
определенность. Мы стремимся к определенности в сознании
и морали, потому что нас беспокоит и неудовлетворяет
многозначность в практике и теории. В страшном двойном свете
обыденной жизни мы хватаемся за ясность как за
спасительный якорь. Поэтому ясные понятия идут навстречу нашей
потребности в утешительной основе. Эстетическое настроение
духа между тем не требует утешения через ясность. Оно
наслаждается неопределенностью: настроение, атмосфера,
символы, освобождение. Здоровая и прекрасная природа не
нуждается... в морали, естественном праве, политической метафизике...
божествах, в бессмертии, чтобы подпирать и держать себя.
Эстетическому человеку не нужен ответ на большие вопросы,
которые ставит спекулятивный разум: что я могу знать, на что
я могу надеяться, что я должен делать? У эстетического
человека так много самостоятельности, бесконечности в себе, что
он не попадает в пустыню абстракции в поисках опоры и
ориентиров. Только сейчас Шиллер понимает, почему Вильгельм
Мейстер проходит свой жизненный путь с сомнамбулической
уверенностью, почему он в каждое мгновение действительно и
постоянно разумен, почему им неявно, но определенно
руководит «общество Башни», о котором не известно точно, что оно
из себя представляет, почему здесь смешиваются случай и
необходимость. Это то эстетическое настроение духа, которое
является всему причиной и отвечает на вопрос, почему роман
в частностях ясен и точен, но в целом теряется в дымке
безграничности.
В ходе этих соображений, с которыми Шиллер хотел
напасть на след той «темноты», о которой Гёте говорил уже в
одном из первых писем от 27 августа 1794 года, Шиллер ищет
более ясное понимание смысла неопределенности. Философия,
которая исходит из объяснений и понятий, может разрушить
зачаток жизни, который вырос на неясности и
бессознательности. Философия, которая узнала эту опасность, была бы
философией с более высокой потенцией, философией, которая
делает темой свою собственную опасность — соблазн в себе
самой. Философия необходима, чтобы держать в рамках вред,
который она причиняет, или, по словам Шиллера, так кик
461
только философия может сделать философствование
безвредным (письмо от 11 июля 1796 года).
В своих размышлениях о «Вильгельме Мейстере» Шиллер
натыкается на парадоксальные формы философствования: это
философские размышления, которые могут воспрепятствовать
философствованию в том, чтобы взять власть. С помощью
философских средств разрабатываются аргументы против
философского искушения идеалом полной прозрачности.
Своенравию живого служит философская рефлексия самоограничения.
Это второе мышление, через которое мышление защищает
себя от самого себя. Это второе мышление, таким образом,
является на самом деле философией в потенции: она
оборачивается на саму себя и замечает сомнительность стремления к
ясности.
Это второе философствование, которое защищает
своенравие жизни от своенравия мышления, Шиллер не
обнаруживает случайно, в одно мгновение, так как он собирается снова от
философии обратиться к большому театру, от мира
рациональных обоснований к миру эстетических утверждений.
Итак, 22 октября 1796 года Шиллер начинает, согласно
записи в календаре, работу над «Валленштейном». Он решает, что
предварительная работа пришла к концу и должно наступить
время окончательной записи. Но когда эта решительность
оказалась ему не по плечу, он пишет на следующий день, 23
октября, Гёте: Правда, я взялся за «Валлеиштейна», по все еще
брожу вокруг да около и жду мощной руки, которая бросила бы
меня в самую гущу (т.7, с.434). Немного позже он
действительно начнет писать, снова запнется и углубится вновь в
исторические источники. 13 ноября 1796 года он пишет Гёте: Чем
больше я поправляю мою идею о форме пьесы, тем чудовищнее
кажется мне масса, которая правит, и, по правде, без некой
рискованной веры в себя самого я бы ешр тяжелее продвигался
вперед.
В письме к Кернеру от 28 ноября 1796 года он называет еще
яснее сопротивление, с которым ему приходится бороться. Это
не только чудовищная масса материала, которую нужно
преодолеть и привести в драматическую форму. Сам материал в
высшей степени непригоден (т.7, с.441). Собственно, он не
годится вообще для драматизации. Тут есть запутанное
государственное действо. Но что может быть более непоэтическим, как
462
такая интрига, разбросанность действия, уловки, совещания,
резонерство? Тут есть армия, силовая поддержка Валленштей-
на. Это безбрежная равнина, которую я не могу представить
себе зрительно, а только необычайными искусственными
усилиями могу создать в воображении (т.7, с.441). Валленштейн
бездействует в армии и бросается в политические махинации; но
и то и другое, армия и политика, плохо представляются на
сцене. И к тому же фигура самого Валленштейна. Характер его
отнюдь не благороден (т.7, с.441). И однако, он колоссален, ему
нет достойного противника. Шиллер представляет трудности
так резко, что напрашивается вопрос, почему же он тогда ре-
тился из этого неподходящего материала делать пьесу. Я
лишен всякой возможности подойти к этому материалу со
свойственными мне приемами, от содержания мне ждать почти
что нечего» (т.7, с.442). Итак, зачем он ищет эти трудности?
Ответ спрятан в понятии, которое он применил в
отношении к Гёте: он хочет овладеть чудовищным материалом. Речь
идет о власти, точнее, о художественной власти, власти формы:
все должно быть достигнуто искусной формой (т.7, с.442).
Мастерство художественной формы должно триумфировать как
воля к власти.
Итак, получилось, что гаиллеровский проект
«Валленштейна» в тройном отношении имеет дело со стремлением к
власти.
Здесь и стремление к власти над публикой. Шиллер
устремлен назад, к театру, к тому великому мгновению, где
сердца многих сотен трепещут, как по мановению волшебного э/сез-
ла, от фантазии поэта (I, 754).
Здесь и стремление к власти как к владычеству
художественной формы над хрупким и чудовищным материалом.
И здесь, наконец, стремление к власти, как тема и
проблема пьесы.
Что касается власти над публикой: ею он наслаждается
заранее и она подгоняет его к завершению пьесы. Он сможет
насладиться ею и позднее, во время триумфального спектакля в
Веймаре и еще больше в Берлине. «Валленштейгюм» он
укрепит свою славу «немецкого Шекспира». Беспримерный и
восхитительный успех даст ему силы, воодушевление и
уверенность в себе, благодаря чему для него станет возможным
быстрее и прочнее утвердить на сцене успех больших
«классических» драм, от «Марии Стюарт» до «Вильгельма Телля» и
463
«Мессинской невесты». «Валленштейном» и следующими
пьесами он создаст образцы драматического искусства, которые
станут мерилом для следующих поколений.
Что касается власти как художественного преодоления
чудовищного материала, то Шиллер придумывает
художественные приемы, которые позволят ему уплотнить сложную
историю в некую линию действия и сделать наглядной атмосферу
и общественную основу заднего и скрытого плана. Особенно
это касается изобретения «Лагеря Валленштейна», которым
автор тоже до некоторой степени был горд. Не экспозиция в
общепринятом смысле, а предвосхищающее объяснение
подъема, величия и падения Валленштейна. Его сразила пагубиая
власть, / А лагерь — этой власти порожденье (т.2, с.278). В
«Лагере Валленштейна» становится видимым тот мир в целом,
в центре которого разыгрывается великая драма. Если бы
Шиллер распределил отдельные сцены лагеря по всей драме,
внимание было бы рассеяно. Он спаян и воодушевил свои
полчища (т.2, с.282), говорится о Валленштейне. «Лагерь
Валленштейна» — точно такое тело, которое Валленштейн создал и
которое его одновременно породило. Трагедия состоит в том,
что это «тело» в конце концов лишается Валленштейна и,
следуя собственной динамике, становится роком для своего
«творца». К шиллеровским художественным приемам
относится также и то, что он сосредоточивает действие в одной
точке, которая подготавливает собственные перипетии,
поворот от движения вверх к движению вниз, только Валленштейн
этого еще не замечает. Он еще полон чувства собственной вла-
. сти, но его падение уже началось. Из длинной запутанной
истории Валленштейна Шиллер вырезает всего несколько дней,
отрезков времени незадолго перед его убийством.
Валленштейн свергнут в одно мгновение, так как он надеется своим
предательством императора и переходом к шведам открыть
новую, возможно, грандиознейшую главу своей деятельности.
Но он обманывается.
Это — начало 1634 года, всего несколько недель до его
убийства 25 февраля 1634 года. Этапы беспримерной карьеры
генералиссимуса набрасываются в разговорах. Валленштейн,
дворянин из Восточной Богемии, который перед началом
великой войны выступал на стороне императора против
богемских мятежников, который за свою военную и политическую
службу был награжден колоссальными земельными наделами
464
и назначен военным главнокомандующим в Богемии, который
буквально из ничего создал для императора в 1625 году
могучую армию, какой не было еще никогда с древних времен,
который при этом действует по принципу, что война сама себя
должна кормить: отряды добывают себе средства к
существованию у друзей и у врагов. Валленштейн завоевывает Силезию,
Гольштейн, Шлезвиг и Мекленбург. Триумфальная победа над
мансфельдскими и датскими войсками. Валленштейн, между
прочим, герцог Фридландский и Мекленбургский, становится
самым могучим имперским князем и делается из-за своего
предпочтительного положения у императора врагом
остальным католическим правителям. Императору тоже становится
страшен этот сильный человек. На королевском празднике в
Регенсбурге в 1630 году император под давлением
католических правителей освобождает Валленштейна от командования.
После того как католики под командованием Тилли потерпели
поражение от протестантов, объединившихся под знаменами
шведского короля Густава-Адольфа, император в 1631 году в
поисках выхода предлагает Валленштейну командование во
второй раз. Валленштейн снова собирает отборные силы,
которые оказываются в его неограниченном распоряжении. Его
армия стала подвижным государством в государстве. Император
недостаточно силен, чтобы препятствовать ему в его обширных
полномочиях — военных, юридических, политических. После
успеха в битве у Лютцена в ноябре 1632 года, где пал Густав-
Адольф, ситуация складывается как при первом командовании:
первый слуга императора оказывается господином,
расправившим крылья над императором. Валленштейн уже не
подчиняется желаниям императора. Он со своей армией остается на
зиму в Богемии и отказывается помогать баварскому герцогу
против шведов и поддерживать брата испанского короля в его
продвижении с отрядами от Милана во Фландрию. В Вене
теряются в подозрениях, что Валленштейн проводит
собственную политику. Хотел ли он поменять стороны, вступив в союз
со шведами, осуществить собственными силами имперский
мир и образовать государство Богемия?
В эту судьбоносную зиму 1633—1634 годов Валленштейн со
своей армией находится в Пльзене, в то время как в Вене уже
решены его отстранение от должности и изгнание, но пока он
еще не совершил предательского шага, которого от него
ожидают, это остается скрытым. Это исходная ситуация драмы.
465
Каковы действительные намерения Валленштейна?
Шиллер мастерски сумел оставить ответ на этот вопрос на
длительное время открытым. Так Валленштейн остается загадочной
фигурой, из которой можно делать друга или врага, но выбору.
Валленштейн своему генералу Терцки: А если я и впрямь решил
врага / Обманывать? И не его лишь — всех вас / Обманывать?
Ты так во мне уверен? / А я тебе еще не поверял / Всех тайн
моих!.. Да император дурно / Со мною обошелся!.. И ему /
Жестоко я сумел бы отомстить. / Как радостно такое чувство
силы! (т.2, С.363—364).
В «Лагере Валленштейна» разносятся слухи и
предположения о планах военачальника, который в этой первой пьесе
вообще не появляется на сцене. Он действует издалека, и
поэтому он действует тем более мощно в своем отсутствующем
присутствии. Ему не нужно, очевидно, физически
присутствовать, чтобы переплести со своими мыслями желания и
фантазии своих солдат. Когда Валленштейн действительно
выступит, он бросит свою гигантскую тень на этот мир, который
принадлежит ему, потому что слушает его. «Валленштейнов-
цы» — таким должно было быть первоначально название
первой пьесы. Это персональная харизматическая сила
Валленштейна, которая создает силовое поле, не касаясь ничего и
многое преображая. Макс Пикколомини высказывает тайну
этого воздействия: Нам радостно смотреть, как всех вокруг /
Умеет он сплотить, одушевить, / И вызвать в каждом
скрытые в нем силы, / И все дары извлечь па божий свет, /
Оберегая их своеобразье, /Идо предела их развить — да так, / Чтоб
оставался ты самим собою. / Он лишь следит, чтоб каждый на
своем / был месте. Так способности других / Он незаметно
делает своими (т.2, С.345) Эта сила не запугивает, но ободряет:
может вызвать в каждом скрытые в нем силы. Это действует,
как можно наблюдать в «лагере Валленштейна», на различные
характеры: вахмистр подражает своему военачальнику в
манере ходить, стоять, откашливаться, говорить; других, таких, как
первый егерь, он ободряет к отваге: Ну и пошел! Добывай
гостинцы! / Могу я бюргером помыкать, / Как наш Фридлаидец —
княжеской швалью (т.2, с.293). В этой армии карьеристов
награждается деловитость. Здесь действует, как позже в армии
Наполеона, не старая иерархия, а новые выскочки.
«Лагерь» находится под влиянием военачальника, под
властью его воли, и даже тогда, когда не знает точно, чего он хо-
466
чет. Первый егерь объясняет: Хотел он солдатское гщрство
создать, / Мир подпалить, на куски разметать, / Всех в свои
цепкие руки забрать (т.2, с.294). Но для вахмистра это дико и
слишком по-солдафонски. Ему военачальник помогает
привлечь нового человека, который может присоединиться к
достойному окружению (т.2, с.298). Одни чувствуют в Баллен-
штейне солдатскую анархию, другие — провозглашение
благородного порядка. Только в одном пункте все мнения
сходятся: война, солдатская жизнь, насилие — это для них не
средство, а цель; не прискорбная жизненная фаза, а желаемая
форма жизни, цель существования свободных мужей: Только
солдат никому не слуга, / Он смерти, самой обломает рога! /...
Ставь жизнь свою на кои в игре боевой: / И жизнь сохранишь
ты, и выигрыш — твой! (т.2, с.324—325). Для чего они
рискуют жизнью? Ими движет не любовь к стране, не император
(т.2, с.337), не империя, но все это для самих себя и для Вал-
ленштейна, который отец солдату (т.2, с.322). Они не могут
испытывать уважение, склонность и доверие ко всякому
первому лучшему, которого пошлет император. Личное отношение
связывает их с их военачальником: они тело, он их душа и,
объединенные таким образом, они рвутся в сражение. Если монах
в стиле Абрагама а Санта Клара взовет к их совести, то они
согласятся, что они слишком много пьянствуют, развратничают,
воруют, что они не чтут императора и не так уж усердны в
религии. Но если он нападет на их военачальника: А впрочем, к
чему вас бранить, когда /Сверху эта идет беда. / Каков поп,
таков и приход. / Возможно, и в Бога не верует тот (т.2, с.ЗОЗ),
то их терпению приходит конец и они тотчас пришивают ему
имя клеветника.
Если солдаты готовы драться за Валленштейна, то за что
борется сам Валленштейн? Для него армия и война не
самоцель, а средство для достижения цели. Он не сомневается в
своей политической цели. Но в какой? Солдаты этого не
знают. Но не знают также и генералы, которые стоят ближе к
нему. Во второй пьесе, «Пикколомини», Терцки, Илло и Изола-
ни подталкивают военачальника к принятию решения. Они
поддерживают его в отказе следовать требованиям императора
(в военном сопровождении испанского инфанта). Но хочет ли
Валленштейн действительно рискнуть порвать отношения с
императором и перейти на шведско-протестантскую сторону?
Терцки, его зять, склоняет его к этому. Валленштейн отвечает
467
ему: Пусть чтут во мне защитника страны, / Имперским
князем назовут, чтоб был я / В достоинстве князьям имперским
равен. / И никакой сторонней силе я / В Германии не дам
укорениться. / Особенно же им, бродягам-готтам / Завистливым,
что хищно жаждут благ, / Которьти богаты наши земли. / С
га: помощью я своего добьюсь, / Но ничего они тут не добьют-
ся (т.2, С.363).
На этом высказывании Валленштейна завязана
«патриотическая» интерпретация драмы. Согласно ей Валленштейн
действует как представитель государственной идеи в
раздробленной и разоренной Германии, как предотвращающий раздор
учредитель мира и мирный предводитель, который запутался в
гуще императорских и шведско-протестантских махинаций и
терпит трагическую неудачу в своих похвальных намерениях.
Такая интерпретация верна: валленштейновские намерения
можно извлечь из этого высказывания, которое он, однако,
дает по вполне определенному поводу. Но по другому поводу
Валлешитейн говорит другое. Здесь речь идет не о мире и
государстве, а о собственных властных амбициях: Как радостно
такое чувство силы! (т.2, с.364). Он хочет создать королевство
Богемия и знает, что это — преступный путь, который привел
его к сильной армии и в его настоящее властное состояние, и
что он, чтобы суметь утвердиться, должен был вступить на этот
путь: Оно и вправду так:/ моей рукой он совершал деяния/Вне
всякого закона и порядка; / И титул мой наградой был услуг, /
Который мир даст имя преступлений (т.2, с.474). Его
осуждают законы старого порядка, но он хочет создать новый
порядок, о котором только то ясно, что он гарантирует его властное
состояние и обычные меры, с помощью которых он его
достигнет, должны быть оправданы задним числом. Таким образом,
это — момент, когда Валленштейн понимает, что он узурпатор
и безумства его солдатни — бич для остального человечества.
Есть еще и графиня Терцки, которая из собственного
честолюбия подстрекает медлящего Валленштейна: он не такой,
как другие, — человек власти по собственному праву. Его сила
находится в соответствии с ним самим. Ты был вправе,
говорит она ему, И был ли ты другим, когда носился / Из края в край
с мечом ты и огнем, / Поднявши бич над всеми племенами, / Ру -
гаясь над уставами держав?/ Когда, по бедственному праву
силы, / Ты попирал, что люди почитали, / Чтоб увеличить
твоего султана / Могущество? Тогда была пора / Сломить твою
468
неистовую волю, / Тебя обуздывать; но император / Не
сетовал па то, в чем пользу выдел / И выгоду себе... (т.2, с.474).
Тогда он вынужден был ради императора принести беду стране,
сейчас он должен это сделать по собственному решению. Если
он не переведет свою армию на сторону противника, она
окажется в руках императора, говорит графиня. У него есть выбор
только между предательством ради собственного полновластия
и униженным повиновением перед Веной. Она рисует перед его
глазами образ безвластного бывшего господина, который без
честолюбия наслаждается коротким миром в своих владениях.
Этим было бы доказано, что он не что иное, как один из тех
войной случайно возвышенных в свете (т.2, с.470) и снова
свергнутый в незначительность. Этот ужасный образ оказывает на
него свое действие. Валлешптейн: Скорей, чем дам причислить я
себя / К презренным выскочкам! Пусть современных / И
будущих народов поколенья / Произнесут название мое / С
проклятием,, пусть будет имя Фридланд / Им лозунгом для всех
преступных дел (т.2, С.471).
Теперь речь больше не идет о возвышенной идее мира и
единстве империи, теперь речь идет только об утверждении
собственной власти. Но что значит «власть» и воля к власти
для Валленштейна?
Само собой разумеется, что для Валленштейна «власть» —
это в первую очередь не что иное, как сила, которая
обеспечивает его стремление к политическому и общественному
господству. Власть означает возможность действовать. Валлен-
штейн: Коль мне не действовать — я уничтожен! (т.2, с.471).
Но его промедление перед принятием решения выдает и еще
одно — другое значение власти. Человек власти, Валленштейн,
как и Гамлет, человек возможностей. Он хочет остаться
господином своих возможностей в поступках. Действие — это,
напротив, сужение, оно сокращает возможности. Оно есть то, что
остается, когда богатство возможностей вытягивается из
игольного ушка решения. Действие, на которое нужно
решиться, захватывает и запутывает в независимой логике событий,
даже и тогда, когда он сам их создал. Поэтому Валленштейн
медлит. Он хочет сберечь свои варианты. Как человек власти,
он хочет действовать и все же боится необратимости действия.
Он хочет одновременно быть человеком власти и человеком
возможностей.
469
Гениальное озарение Шиллера в том, что в
кульминационной точке драмы, которая живет динамикой действия, Валлен-
штейн в большом монологе высказывает тайну своего
промедления. Воля к власти оборачивается против него самого и
становится сомнительной: Ужель в своих я действиях не волен?
/Назад вернуться не могу? Поступок/ Ужель свершить я
должен — потому / Что думал я о нем... / ...Мне нравилася эта
мысль, прельшрла / Возможность совершения меня. / Далеким
призраком державной власти / Преступно ль было тешиться?
В груди / Свободную я не хранил ли волю ? / Я путь к добру не
видел ли вблизи, / Открытый мне, всегда мне вновь доступный?
/ Где ж я теперь? За мной уж нет исхода! / Из действий
собственных моих громадой / Несокрушимой поднялась стена, /
Возвратную дорогу заграждая! / ...Мой помысел, хранимый в
недре сердца, / В моей был власти; выпущенный вон / Из
своего родимого приюта, / Заброшенный в быт внешний, он
подвластен/Тем силам злым, с которыми дружиться/ Пытается
напрасно человек (т.2, с.454—455).
Решения необратимы: Из действий собственных моих
громадой / Несокрушимой поднялась стена, — говорит Валлен-
штейн. Она преграждает путь назад к возможностям. Решения
вводят собственную нить в необозримую текстуру
действительности, они вплетаются при этом в быт внешний. Кто
действует, тот должен отчуждаться. Он никогда не узнает себя
полностью в своих поступках, и уж ни в коем случае — в
запутанных последствиях этих поступков.
Ведутся обстоятельные дискуссии о том, может ли
трилогия о Валленштейне действительно считаться трагедией. Сам
Шиллер тоже вначале сомневался. 28 ноября 1796 года он
писал Гёте, что трагическое развитие еще не совсем реализовано,
рок, в собственном смысле этого слова, делает пока еще
слишком мало, а сам герой — слишком много для своего крушения (т.7,
С.439). Но тогда из этого получается настоящая трагедия,
правда, в современном смысле. Трансцендентальные силы рока не
играют роли — хотя валленштейновская вера в звезды не
слепой мотив, но и не определяющий. Ни в коем случае Валлен-
штейн не ставит свои решения в зависимость от положения
звезд. Шиллер применяет астрологический мотив по совету
Гёте как символ связи человеческих поступков с «огромным
целым мира» (письмо от 8 декабря 1798 года). Для Шиллера
«огромное целое мира» проявляется в стечении обстоятельств и в
470
человеческих сплетениях, lo, что преступник охладел к
своему делу и что оно наконец разрушительно мстит ему в обход
через это «огромное целое мира», — это и есть для Шиллера
трагический мотив. Валленштейн играл с предательством,
наполовину еще в своем сердце, наполовину уже в
действительности. И тогда его действительность так опутывает, что он уже
больше не хозяин своей игры.
У Валленштейна не было равноценного противника.
Венский посланник Квестенберг и Октавио Пикколомини не
сильны как отдельные фигуры, они лишь представляют дело,
которое в конце окажется более сильным. Валленштейн силен даже
еще и тогда, когда все для него уже идет к концу.
Незабываемо, как незадолго до своего убийства, ни о чем не догадываясь
и все же в темном предчувствии, он прощается с Гордоном,
спутником юности, который посвящен в план его убийства:
Спокойной ночи, Гордон, / Я думаю, что долго буду спать, / Все
эти дни тревог мне было много;/ Так слишком рано не буди
меня (т.2, С.629).
Шиллер очень долго отмечал главенствующее положение
Валленштейна как слабость своей пьесы, вплоть до тех пор,
когда ему удалось-введением фигур Макса Пикколомини и его
любви к Тэкле, дочери Валленштейна, создать мир,
противостоящий политике и войне. Для Макса Пикколомини не было
исторического прототипа. Эта фигура — чистое изобретение во
вкусе Шиллера. В нем есть что-то от избытка чувств Дон Кар-
лоса и от идейного воодушевления маркиза Позы. Он
мужественный солдат, тоже создание Лагеря Валленштейна, где он
взрослеет. Валленштейн относится к нему, как отец, и Макс
любит полководца, как своего отца. Духовно он укоренен в
старом порядке, на вершине которого он видит неоспоримо
восседающего на троне императора. Макс Пикколомини смел, но он
не мятежник. Восхищающий его и любимый Валленштейн
действует в его глазах как первый слуга императора, не меньше, но
и не больше. Макс не готов следовать за своим духовным
отцом к предательству, но иначе, чем его настоящий отец
Октавио; но он не может и бороться против него: Увы! Моя
природа изменилась! / В моей душе откуда подозренье / Взялось?
Доверчивость, надежда, вера/Исчезли навсегда! Все было
лживо, /Пред чем благоговел я... (т.2, с.503) В конце он все-таки
будет сражаться со шведами, с которыми Валленштейн заключил
союз, но не для того, чтобы победить, а чтобы умереть. Два го-
471
л оса, из которых один притягивает его к Валленштейну, а
другой — к императору, спорят в его душе все сильнее, поскольку
развивается любовная история с Тэклой. Чувство любви
появляется в первый момент как соблазнительная перспектива
мира На одно мгновение перед солдатом открывается прежде
закрытая сфера войны и мужества. Макс, влюбленный, мечтает
о любви после войны, если военные добродетели превратить в
гражданское усердие. Он ожидал от Валленштейна, что тот
может стать причиной, содействующей чувству любви: Он в лавр
вплетет оливковую ветвь, / Он миром скоро осчастливит мир...
/ ...Он может строить, насаждать сады, / За звездами
следить, он может смело / Схватиться с мощью яростных
стихий, / Теченье рек менять, взрывать пороги, / Чтоб новый путь
торговле проложить. / А долгим зимним вечером рассказы / О
подвигах былых и о походах... (т.2, с.395).
Эти мечты разрушены. Не только из-за того, что Вал лен-
штейн не играет роли предводителя мира, но он не одобряет
также и любовный союз между Максом и Тэклой. Его
династические интересы сильнее, чем личная симпатия к Максу.
Валленштейн хочет выгодно выдать Тэклу замуж, любовь как
страсть не находит места в его картине мира. Тэкла видит
дело менее иллюзорно, чем Макс: она видит игру. Замечает, что
влюбленность Макса хотят использовать, чтобы крепче
привязать его к Валленштейну, и она догадывается, что их
действительному союзу будут препятствовать. Она высказывает это в
своем монологе: Здесь, вижу я, надежде места нет. / Здесь
лагеря воинственного шум. / Сама любовь как в панцире стальном,
/ На жизнь и смерть борьбу начать готова (т.2, с.406).
Любовь тоже будет побеждена в этой на жизнь и смерть
борьбе, Тэкла поп гбиет так же, как и Макс. Это исполняется то,
о чем Тэкла догадывалась уже раньше: Все в сердце мертво,
померкну л свет, / И больше надежд и желаний нет (т.2, с.400).
Игры власти опустошают мир. Обладатель власти идет ко
дну и порывает со всеми, кто ему предан. При этом не
побеждает ни высокий порядок, ни высокая цель. Гегель пугал
пропастью нигилизма в этой пьесе. Такого триумфа мрака он не
ожидал от идеального Шиллера. После чтения книжного
издания пьесы он пишет в 1801 году: «Непосредственное
впечатление... трагическое молчание над падением сильного человека
под ударами молчаливой и глухой судьбы. Когда пьеса
закончится, то все уйдет. Царство пустоты, смерть победит; это за-
472
кончится не как теодицея». Такого тоже не должно было быть.
С «Валленштейном» Шиллер принес на сцену грандиозное
изображение мира без надежды. При работе им овладевало
подчас мрачное настроение. Но тут есть одна причина —
эстетическое настроение духа, которое осталось непоколебленным.
Шиллер был полон гордости и высокого чувства, что его
эстетическая изобразительная сила наконец взяла-таки верх над не
только хрупким, но и трагическим материалом. Мне в моей
жизни ничто не удавалось так хорошо, ~~ пишет он 5 января
1798 года Котте, и на следующий день Гёте: Я нахожу
очевидным плодом нашего общения то, что я превзошел самого себя.
На каждой фазе своей работы Шиллер искал совета Гёте.
Это было и тогда, когда в сентябре 1798 года «Валленштейн»
был разделен на три пьесы: «Лагерь Валленоггейна», «Пикко-
ломини» и «Смерть Валленштейна». 21 октября 1798 года
состоялась премьера «Лагеря Валленштейна» по случаю
праздничного открытия перестроенного веймарского театра. Потом
30 января 1799 года — премьера «Пикколомини»; снова
событие, связанное с праздничным актом: отмечали день рождения
веймарской герцогини Луизы. С этого времени лихорадит
Веймар и Берлин, где Иффланд между тем тоже уже поставил
«Пикколомини» («Лагерь Валленштейна» был снят с
постановки по политическим соображениям), в предвкушении
заключительной пьесы «Смерть Валленштейна». Премьеры в
Веймаре 20 апреля 1799-го и в Берлине 17 мая 1799-го имели
шумный успех. Даже у Шлегелей с восхищением говорили о
«Валленштейне». Обыкновенная публика и критики были
едины: «Валленштейн» — это до сих пор величайшее театральное
событие в Германии. Пьеса, в этом убеждены, будет еще для
многих поколений служить эталоном и примером.
Таким образом, Шиллер эффектно вернулся в театр. Для
подготовки к постановке он часто приезжал в Веймар. Так как
он тогда в полноте чувства собственной силы планировал
серию следующих пьес — «Мария Стюарт» была его следующий
проект, — он начинает обдумывать переселение в Веймар,
чтобы быть ближе к тамошнему театру и Гёте.
Их совместная работа становилась в последние годы все
интенсивнее. Проявляли участие и к повседневным
жизненным обстоятельствам друг друга. Поразительно то, что
Шиллер ни разу не послал привета Христиане Вульпиус. Любовная
жизнь Гёте казалась Шиллеру немного неприличной. Гёте по-
473
сещал Шиллера во время своих остановок в Иене почти
ежедневно. Он имел обыкновение приходить около четырех или
пяти часов; почти всегда он приносил с собой небольшой
подарок для пирога, щуку, землянику, овощи или зайца; иногда
еще игрушку детям — тогда уже пятилетнему Карлу
Фридриху Людвигу и родившемуся 11 июля 1796 года Эрнесту
Фридриху Вильгельму. Так как он был озабочен здоровьем своего
друга, он уговаривал его совершать прогулки. Тогда видели их
обоих, рука об руку прогуливающихся по берегу Заале, в
крытой алее «Рая», так называли парк на заливном лугу. Шиллер
с солдатской прямой осанкой возвышался над коренастым
спутником. Шиллер одевался теперь всегда очень тщательно.
«Он носил обычно, — сообщают очевидцы, — серый сюртук,
прекрасный белый открытый воротник рубашки, рыжевато-
светлые волосы тщательно зачесаны — в общем нельзя было не
признать внимательности в одежде, однако без всякого
педантичного преувеличения». Другой современник, ротмистр фон
Финк, рассказывает, как это происходило, когда Гёте бывал с
визитом у Шиллера: «Обычно он молча входил, садился,
подпирал голову, может быть, брал книгу или карандаш и тушь и
рисовал. Эту тихую сцену один раз слегка прерывает буйный
мальчик, который кнутиком ударил Гёте по лицу, тогда Гёте
вскочил, оттрепал и встряхнул ребенка, поклявшись, что он его
однажды посадит в землю или сыграет его головой в кегли, и
потом, сам не зная как, пришел в движение. Потом обычно
следовала интересная беседа, которая часто затягивалась до ночи.
Во всяком случае, он оживлялся во время чая, где он получал
лимон и стакан арака и делал пунш. Шиллер бродил, даже
можно сказать, бегал беспрерывно по комнате, даже не
разрешая себе присесть. Часто он выглядел телесно больным,
особенно если приближалось его удушье. Когда оно становилось
слишком тяжелым, он выходил и принимал что-нибудь
обезболивающее. В такой момент можно втянуть его в интересную
беседу, особенно можно набросать несколько предложений,
которые он тут же схватывает, разбирает и снова сидит со всеми
вместе, как только недуг отпускает его, чтобы вскоре
вернуться опять, если в предложении ничего не осталось больше
разбирать. Вообще, напряженная работа для него пока
надежнейшее средство. Видно, в каком непрерывном напряжении он
живет и как сильно дух тиранит его тело, потому что во
всякий момент духовной слабости в его теле возрождается бо-
474
лезнь. Но именно потому он так тяжело исцеляется, что
привыкший к неутомимой деятельности дух из-за слабости тела
все более подстегивается, и, если бы начали лечение, он стал
бы только совсем больным».
Гёте, который тщательно следил за состоянием здоровья
друга, тоже знал, что работа духа и увлекающие разговоры —
лучшее для друга, и мог поэтому нагружать его без сомнения
и втягивать в собственную работу. Он предъявлял ему каждую
свою новую идею. Он обсуждал с ним свое учение о цвете и
основные законы эпоса и драмы, они вместе разработали
схему различий между дилетантским и «подлинным» занятием
искусством. Обдумывалось, как продолжить создание
«Ксений». В 1797 году они начали в благородном состязании
писать свои баллады. Они обменивались темами и идеями.
Результаты работы, прежде чем их публиковать, основательно
обсуждались. Без зависти Гёте, который внес свою лепту в том
числе и «Коринфской невестой» и «Кладоискателем»,
признал Шиллера величайшим мастером в этом деле. Тогда
появились баллады «Водолаз», «Поликратов перстень», «Ивико-
вы журавли», «Перчатка» — произведения, которыми Шиллер
доказал, что высокие духовные требования и народность
могут быть связаны друг с другом; произведения такой
удивительной ясности, что нет необходимости их комментировать.
Эти баллады появились вместе с теми, которые Гёте в этом
году отдал в «Альманах муз на 1798 год». В следующем году
Шиллер закончил также «Песнь о колоколе», впоследствии
весьма знаменитое стихотворение, которое, как и элегия
«Прогулка», стало изображением истории цивилизации и
возвышенной песней гражданской культуры. У Шлегелей падали от
смеха со стула, а Гёте высказался восторженно. Он снова
узнал в нем что-то от духа своей версии эпоса «Герман и
Доротея». Как и «Герман и Доротея» Гёте, шиллеровская «Песнь о
колоколе» — это попытка соединить полный любви
сложившийся малый бюргерский мир с большим миром; точно
изображенный процесс отливки колокола стал символом
культурной работы человека. Итак, все вдумчиво обсудим, / Чтоб не
трудиться наугад. / Презренье тем ничтожным людям, / Что
необдуманно творят (т.1, с.304). Это стихотворение, которое
из-за присущей ему связи с возвышенным и простодушным
породило бесчисленные пародии, было созвучно сердцу Гёте,
потому что он воспринимал его в хорошем смысле как несвое-
475
временное. Здесь, говорил он, смысл намечен в
соответствующей мере и любовь к жизни пробуждается в сознательно
оформленных границах. Гёте так любил это стихотворение,
что в 1805 году назвал свою элегию на смерть друга «Эпилог
к Шиллерову "Колоколу"»: «Его ланиты зацвели румяно / Той
юностью, конца которой нет, / Тем мужеством, что поздно или
рано, / Но победит тупой, враждебный свет»*. «Эпилог» был
исполнен на празднике 10 августа 1805 года актрисой Амали-
ей Вольф, которая позже рассказывала, как Гёте, который
репетировал с нею это стихотворение, в одном определенном
месте зарыдал, взял ее за руку и сказал: «Я не могу, я не могу
забыть этого человека!»
Место из «Песни о колоколе», которое Гёте цитировал
особенно охотно, звучит так: Разбить ее имеет право / Лишь
мастер мудрого рукой. / Но горе, если хлынет лава, / Прорвавшись
огненной рекой!/ С громовым грохотом на части/ Она
взрывает хрупкий дом / И, словно пламя адской пасти, / Все губит на
пути своем! / Где диких сил поток развязан, / Там путь к
искусству нам заказан... (т.1, с.313). Все зависит от оформления
означенного жизненного материала. Без формы жизнь
перетекает в бессмысленность или вулканически прорывается и
разрушает всё перед собой. В «Валленштейне» Шиллер
представил колдовство и ужас таких вулканических людей. В «Песне
о колоколе» Шиллер отдыхал от пугающего мира Валленштей-
на, но последний все же не оставил его в покое. В возвышении
Наполеона он обнаружил признаки подобного возвращения.
Когда « Валленштейн» вышел на сцену, Наполеон пропадал в
Египте. Несколько месяцев спустя, 9 ноября 1799 года,
Наполеон совершил государственный переворот и захватил
абсолютную власть; с этого времени Шиллер ждал, пройдет ли эта
комета по небосклону истории так же, как и его Валленштейн,
или же Наполеон учредит новый порядок, и мир будет
разрушен. Шиллер не дожил до падения Наполеона. Когда Шиллер
умер, Наполеон находился еще в зените своей власти.
Не только в истории, но и в жизни Шиллера произошли во
время работы над «Валленштейном» значительные изменения.
Летом 1797 года Вильгельм фон Гумбольдт покинул Иену. С
1794 года он принадлежал к узкому кругу друзей: о Гёте, Кёр-
Перевод С.Соловьева.
476
нере и Гумбольдте думает он, объясняет Шиллер, во время
своей работы. Гумбольдт, который с 1791 года жил как рантье в
Эрфурте на состояние своей жены, был благодаря Шиллеру в
1794 году приглашен в Йену и в короткое время оказался в
интенсивном и дружеском сотрудничестве с Шиллером.
Последний восторженно сообщает об этом Кернеру в письме от 18 мая
1799 года: Общество Гумбольдта мне бесконечно приятно и в
равной мере полезно, ибо в беседе с ним все мои идеи и
развиваются быстрее и обогащаются. Его натуре присуща та
цельность, которую можно встретить крайне редко; кроме него я
нашел ее только в тебе. ...он значительно превосходит тебя
известной легкостью характера, которую при его
обстоятельствах мож1ю выработать в себе скорее, чем при наших (т.7, с.295).
Это были интенсивные контакты не только двз7х мужчин, но и
двух женщин, Лотты и Каролины, жены Гумбольдта, связь
дружбы, которая возвратила в годы юности. Квартиры были по
соседству, виделись почти ежедневно, иногда Вильгельм
приходил' к Шиллеру за полночь, если тот не мог заснуть, и
случалось, что Лотта заставала обоих мужчин уже рано утром в
прокуренной комнате погруженными в беседу. Оба были
мастерами беседы. Для Гумбольдта «общительное мышление», как
он это называл, было важнейшим жизненным элементом.
Здесь он встречался с Шиллером, об искусстве беседы
которого он, в свою очередь, впечатляюще рассказал:
«Продолжительная самодеятельная работа духа не покидала нас почти
никогда и уступала только сильным приступам его телесного недуга.
Она казалась ему отдыхом, не усилием. Это было видно
большей частью в разговорах, для которых Шиллер, казалось, был
рожден. Он не искал никогда значительного материала для
беседы, он предоставлял больше случаю подвести разговор к
теме, но всякий раз он приводил разговор к общей точке зрения,
и видно было по немногим промежуточным фразам, как
возбуждающая дух дискуссия подводится к центральному пункту.
Он всегда излагал мысль как результат, который должен быть
получен сообща, ему, казалось, всегда требовался собеседник,
если далее тот оставался в уверенности, что идея исходила
лишь от Шиллера, и никогда не позволял ему оставаться
праздным. Шиллер не говорил, собственно, красиво. Но его дух
стремился к остроте и точности новых духовных
приобретений, он владел этим стремлением и парил в полной свободе над
своим предметом... Но свобода не наносила ходу исследования
477
никакого ущерба. Шиллер всегда твердо держался нити
беседы, которую нужно было привести в конечный пункт, и если
беседе не мешали случайности, то его нелегко было оторвать от
достижения цели».
В Гумбольдте гений беседы Шиллера нашел достойного
партнера. Шиллер хвалил в нем чистый интерес к предмету и
достойное внимания мастерство толковать и испытывать
мысли другого. Талант Гумбольдта был к этому времени еще
скорее рецептивного, чем продуктивного свойства. Это было
для него, пишет Шиллер Кернеру 6 августа 1797 года,
высочайшей потребностью... получать материал извне для острого
ножа его интеллектуальной силы, так как он никогда не мог
создавать, всегда только расчленять и комбинировать. Шиллер
благодарно воспринимал гумбольдтовский обстоятельный
анализ и комментарии своих произведений. Гумбольдт стал, еще
до Кернера, первым рецензентом Шиллера. Гёте тоже знал, как
использовать острое аналитическое чувство, образованный
вкус и научное знание древности Гумбольдта, и так скоро из
дружбы Шиллера с Гумбольдтом родился дальнейший
тройственный союз с Гёте.
Иногда вместе с Вильгельмом приходил его младший брат
Александр, тогда еще старший советник по горнорудному делу
в Байройтс. Сначала он не произвел на Шиллера особого
впечатления. Он считал его поверхностным. Когда он его потом
узнал поближе, он хвалил усердие и дух, с которым он
занимается своим делом, но находил в нем некоторую поспешность и
горечь, что часто бывает у мужчин от большой деятельности
(письмо Кернеру от 21 июня 1797 года). В то же время
Шиллер был горд, что получил Александра фон Гумбольдта
сотрудником для «Ор». Мы можем ждать от пего, — пишет он
Кернеру 12 сентября 1794 года, — очень хороших статей о
философии природы. Вероятно, что Александр еще на голову
превзойдет своего брата, но и в дальнейшем Шиллер
предпочитал из дружеских причин Вильгельма. Александр уже тогда
ухватился за план своего большого путешествия в Южную
Америку. На него тоже действовало то, что Вильгельм
сформулировал незадолго до своей смерти, оглядываясь назад, как
принцип собственной жизни: «Кто, умирая, может сказать себе:
«Я получил от мира столько, сколько я смог понять и превра-
тить в мое человечество» — тот достиг своей цели». В отличие
от его брата, в вильгельмовском любопытстве и стремлении ус-
478
воитъ мир был особый акцент на самообразование. Вильгельм
стремился больше к интенсивному, чем к экстенсивному
жизненному опыту. Это зависело не столько от расширения
знания, сколько от их «усвоения». Он твердо держался ранее
принятого плана равномерно распределять избыток своих
дарований, приводить в гармонию сердце и разум,
образовывать себя как личность и прежде всего оформлять жизнь как
«произведение искусства». Как сын состоятельной дворянской
семьи, женатый в то же время на состоятельной женщине, он
мог позволить себе быть свободным от забот о средствах к
существованию и профессионального труда. Вильгельм был, как
и его брат, любителем путешествовать. И поэтому его так по-
тянуло вскоре снова уехать из Иены. Он отправился в 1797
году на два года в Париж, потом в Испанию. В 1801 году он стал
резидентом прусского министерства в Ватикане. Это было
начало его дипломатической и политической карьеры. После
смерти Шиллера он стал тайным советником министерства
внутренних дел и в этой должности был причастен к прусским
реформам и принял решающее участие в основании
Берлинского университета в 1809 году.
Для Гумбольдта образование личности было
первостепенной задачей. Сообразно с этим он обставлял свою жизнь, и с
этим от Шиллера воспринятым принципом Гумбольдт пронес
*J
верность своему другу до своей смерти.
После отъезда Гумбольдта из Иены наступил период
времени, в который переписка между ними замерла Но это не
разрушило дружбы. За месяц до смерти Шиллер пишет
Гумбольдту: Прошло бесконечно мною времени с тех пор, как я не писал
вам, а все же мне кажется, что наши умы были всегда вместе,
и мне радостно думать, что даже после такого
продолжительного молчания я с тем же доверием могу общаться с вами, как
и в ту пору, когда мы были вместе. Для нашего
взаимопонимания не существует лет и пространства. Круг вашей
деятельности не может так сильно отвлекать вас, а моей — не
делает меня настолько односторонним и ограниченным, что мы не
сможем сговориться относительно того, что считаем
достойным и справедливым. В конце концов, мы оба идеалисты, и
стыдно, если о нас скажут, что внешнее формировало нас, а не
мы формировали его (т.7, с.606).
Расставание с Гумбольдтом летом 1797 года было важным
событием во время работы над «Валленштейном». Иначе все
479
было в 1798 году. В этом году Шиллер прекратил издавать
«Оры», тихо и спокойно у как он писал Кернеру. Получать
значительные материалы для журнала становилось все труднее.
Требуемый уровень журнала больше не мог удержаться; с
другой стороны, Шиллер не был еще готов делать большие
уступки вкусу публики. Конец «Ор» означал значительные
финансовые потери, однако Шиллер надеялся, что сможет их
компенсировать за счет доходов от театра, так как он был
убежден в финансовом успехе «Валленштейна». Его ожидания
оправдались.
В августе 1798 года Шиллер въезжает в садовый домик око-
ло Иены. В прелестных окрестностях он хотел бы покончить
наконец со своим затворническим состоянием. И
действительно, его теперь видят в привычной спешной манере
прогуливающимся в саду, словно он должен выполнить задание. Если он
и вынашивал мысль о переезде в Веймар, то и от Иены он не
хотел отказываться совсем. Должно было быть два места
жительства: Веймар во время театральной работы и Иена на
случай, если его снова охватит желание философствовать. Гёте
помогал ему в поисках квартиры в Веймаре.
Однако еще до поисков квартиры в Веймаре случилось
нечто ужасное: в конце октября 1799 года Лотта тяжело
заболела нервной горячкой. Возможно, это было следствием тяжелых
родов дочери Каролины Генриетты Луизы 11 октября. 23
октября Лотта теряет сознание. На протяжении нескольких дней
горячечный бред, приступы судорог, рвота, высокая
температура. Она не подпускает к себе никого, кроме Шиллера и матери,
которые сменяются в ночных бодрствованиях. Знаменитый
врач придворный советник Штарк подготавливал Шиллера к
худшему. Для Шиллера это была ужасная мысль, что он может
потерять свою Лотту пли что она может никогда больше не
прийти в сознание. Гёте оказывает поддержку. «Наши
состояния так тесно сплетены, — пишет он 26 октября, — что я то, что
происходит у вас, чувствую в себе самом». С 30 октября у
Лотты нормальная температура, но она в подавленном, все еще
наполовину бессознательном состоянии. До первой недели
ноября она остается рассеянной и апатичной и не говорит ни слова.
Гёте отрывается от своих обязанностей и приезжает 10 ноября
в Иену, где он ежедневно, часто долгие часы проводит у
Шиллера, чтобы ободрить друга и отвлечь разговорами о работе.
Состояние Лотты улучшается медленно, ее память возвраща-
480
ется, и постепенно она снова принимает участие в жизни. 21
ноября она пишет снова свое первое письмо сестре; для
Шиллера это новое рождение. Теперь можно думать о переселении
в Веймар.
Находят приличную квартиру у мастера париков
Мюллера, которую до этого снимала Шарлотта фон Кальб. В декабре
1799-го пришло это время: Шиллер покидает Йену со своей,
уже состоящей из четырех человек, семьей и с несколькими
экипажами багажа. Пусть все воспоминания о последних двух
месяцах останутся в йенской долине, здесь мы заживем новой
веселой жизнью, — пишет он Шарлотте 4 декабря 1799 года
(т.7, C.541).
С желанием нового начала вступает Шиллер в последний
период своей жизни.
«
ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА
Возвращение в Веймар. Театральная жизнь. Мужские фантазии
о прекрасной душе. Мария Стюарт и виновная невинность.
Вера Шиллера. Магия Иоанны из Орлеана и великий волшебник
Наполеон. Народное достояние, романтическое. Крушение
из восторга. Мессинская невеста, или Античный рок.
Размышления о публике
3 декабря 1799 года Шиллер вселяется в квартиру на Винди-
шенгассе. Шарлотта фон Кальб оставила ему кое-какую
мебель, и все-таки ему не хватает необходимой обстановки, ведь
домашнее хозяйство в Иене не должно было прекратиться,
семья, при необходимости, должна иметь возможность туда
вернуться. При Шиллере его старший сын Карл; Лотта, которой
нужно было еще поостеречься от лишних хлопот, с младшим
сыном Эрнстом и трехмесячной Каролиной живет у госпожи
фон Штайн, пока не будет оборудовано новое место
жительства С середины декабря семья снова вместе. Лотта между тем
оправилась от болезни, и Шиллер может продолжить
прерванную в последние недели работу над «Марией Стюарт», но не
без трудностей, ведь теперь он в плену практической
театральной деятельности.
Гёте и Шиллер, выпустив на литературную арену
«Ксении», боролись за улучшение литературного вкуса, а теперь
они хотели реформировать театральное искусство, и
театральная сцена Веймара должна была служить примером. Успешное
исполнение «Валленштейна» воодушевило Гёте. Со времени
основания Веймарского придворного театра в 1791 году — до
этого были только любительские постановки и гастроли
заезжих странствующих трупп — Гёте, уполномоченный на
управление театром, не испытывал особенных надежд по поводу
будущего немецкого театра и ограничился тем, чтобы
представлять привычную театральную программу трогательными
семейными сценами Коцебу и Иффланда. Собственные пьесы,
за исключением «Эгмонта», он не включал в программу.
Публику не следовало перенапрягать, а только лишь постепенно
приучать к лучшему. Он хотел, как он писал об этом своему
другу Фридриху Якоби, приступить «к работе очень
негромко». Его внимание концентрировалось прежде всего на внеш-
482
нем закреплении предприятия. Только наихудшие из
недостатков актерской игры должны были остаться за дверью: нечеткая
речь, плохая память, недоработки совместной игры. Гёте
обратил внимание и на внешнюю порядочность актерского
сообщества. В «Вильгельме Мейстере» Гёте набросал свое видение
улучшенного театра: актеры должны были не только играть
роль, но и быть в состоянии изобразить характер; для
истинного усовершенствования театра не хватало финансовых средств,
практичных пьес, да и практической инициативы, так что Гёте
пытался, исходя из своих представлений, хотя бы выявить
недостатки. Сценическое искусство не было, конечно,
поставлено этим на новую основу. Шиллер, во всяком случае, встретил
тот же сорт театральных поэтов, что раздражали его на ман-
геймской сцене, теперь в виде любимцев веймарской публики:
подражание приземленной бюргерской повседневности было в
ходу и здесь. Постановкой «Валленштейна» в 1799 году
впервые обозначился новый и многообещающий акцент,
обнаружился вкус к возвышенному, к звучащим стихам, к большим
чувствам, великим темам и высокому полету мысли. Шиллер с
удовлетворением заметил, что зрителям было больно видеть
свои повседневные лица еще и на подмостках, поскольку при
этом они находятся в совсем уж дурной компании.
Для взаимного сотрудничества друзей Гёте создал
формулу: мы совместно потрудились над облагораживанием театра,
Шиллер — «сочиняя и определяя, я — поучая, упражняя и
претворяя». На самом деле Шиллер помогал и при разучивании и
при инсценировке, он поднялся до уровня содиректора
Веймарского театра. Попеременно то в его, то в гётевском доме
актеры собирались для чтения-репетиции, для бесед о духовном
содержании пьесы. Засиживались вплоть до глубокой ночи,
временами эти встречи перерастали в пирушки с пуншем, и
случалось, что актеры покидали дом на рассвете. Шиллеру
могло иногда казаться, что это напоминает времена Мангейм-
ского театра, разве что теперь он был всеми признанным
автором, что защищало его от навязчивости театральной братии и
ограждало от проблем с директором театра. Вообще Шиллер за
это время обрел, осознавая свое выдающееся положение,
раскрепощенную непринужденность. В своих поступках он
приблизился к идеалу, описанному им словами: быть свободным
от страсти, всегда ясным, всегда спокойным, смотреть вокруг
и в себя, во всем повсеместно видеть скорее совпадение, но не
483
рок и больше смеяться над несоответствиями, чем
раздражаться и плакать из-за вздора.
Совместная деятельность по реформированию театра
включала в себя, с одной стороны, воспитание актеров,
тщательность костюмирования, сценических декораций, музы-
и
кальиого сопровождения, с другоп — подготовку
содержательных, высокопробных пьес. Гёте перевел «Магомета» и
«Танкреда» Вольтера, Шиллер «Макбета» Шекспира,
«Турандот» Карло Гоцци и некоторые популярные французские
комедии. Непревзойденной кульминационной точкой
веймарской театральной жизни стали постановки пьес Шиллера.
Шиллер теперь был повсюду признал как ведущий
театральный автор Германии. Каждой его пьесе, которые следовали
К> %9
теперь одна за другой, предшествовал выгодный слух, /поди
не могли дождаться, когда пьеса будет сыграна на сцене. Так
было и с пьесой «Мария Стюарт». Шиллер с трудом
отбивался от надоедливых вопросов, когда же он наконец закончит
работу над ней. Из еще не готовой рукописи уже делался анг-
V о
лиискии перевод.
Еще в 1783 году, но окончании «Коварства и любви»,
Шиллер запланировал драму о шотландской королеве Марии
Стюарт, которая закончила жизнь в Англии на эшафоте. Судьба
t_F Ц-J
прекрасной страстной женщины уже два века занимала умы и
фантазию поэтов и драматургов. Мария Стюарт, рожденная в
Шотландии, воспитанная в католичестве во Франции и
являясь женой будущего французского короля, возвратилась после
ранней смерти мужа в шотландское королевство. Как
праправнучка Генриха VII она могла предъявить законные притязания
и на английский трон. Это неизбежно должно было привести
к ожесточенной вражде с Елизаветой, английской королевой.
Время правления Марии в Шотландии закончилось бунтом.
Ей вменяли в вину, будто она подстрекала любовника к
убийству своего второго мужа. Мария бежала в Англию, где ее по
приказу Елизаветы незамедлительно арестовали. Вначале ее
обвинили в убийстве супруга, но не осудили. Однако она
осталась в тюрьме. Впервые ее приговорили к смерти, когда
предполагалось, что ее заговор против английской короны был
доказан. После некоторого раздумья Елизавета подписала
приговор, который тут же был приведен в исполнение 18
февраля 1587 года. Многие вопросы остались открытыми. В самом
ли деле Мария убила своего второго мужа руками своего лю-
484
бовника? Правда ли то, что она запустила в ход механизм
заговора против английской королевы? Различия обеих женщин,
Марии и Елизаветы, также будоражили фантазию: с одной
стороны импульсивная, соблазнительная Мария, самозабвенная
до безумной отваги, с другой же — Елизавета,
предусмотрительно-расчетливая, с умом государственного размаха, быть
может, и ревновавшая к женской силе и притягательности
своей противницы. Было еще в споре сторон и религиозное
противостояние. Одни почитали в Марии католическую
мученицу, другие хвалили Елизавету за то, что она оградила Англию
от папства.
В письме к Гёте от 26 апреля 1799 года Шиллер пишет:
Пока я занялся историей царствования королевы Елизаветы и
начал изучать процесс Марии Стюарт. Я сейчас же наткнулся на
несколько основных трагических мотивов, что внушило мне
большую веру в этот сюжет, в котором, несомненно, есть
много благородных моментов (т.7, с.523). Что это за основные
трагические мотивы, пока еще не совсем ясно. Несколько месяцев
спустя он сможет точнее обозначить, что приковывает его к
этому трагическому материалу, а именно то, что катастрофу
видишь прямо в первых сценах, и в то время, как действие
кажется все более уходящим от нее в сторону, оно к ней все
больше и больше приближается (письмо к Гёте, 18 июня 1799 года).
Таким образом, Шиллер решил для себя не выводить на
сцену яркую драматическую череду картин о жизни и смерти
Марии Стюарт, а, подобно «Валленштейггу», сконцентрировать
объемный материал, ограничившись последними днями перед
казнью Марии. Катастрофа уже произошла, а это значит,
приговор о виновности вынесен, Мария осуждена на смерть;
только королева оттягивает подписание приговора и его
исполнение. В разговоре с кормилицей преступления Марии - она и в
самом деле одобрила убийство своего мужа — обобщаются и
проговариваются, и Мария показана осознающей свою вину и
раскаивающейся. Она — совершенно преображенная, когда
выступает в первый раз. «Дикая» Мария принадлежит прошлому,
однако уже из первой сцены становится ясно, что другое
обвинение, по которому она осуждена, не соответствует истине: она
не пыталась из одиночного заключения организовать
свержение, а уж тем более убийство Елизаветы. Единственное, в чем
она признается, это в том, что пыталась, используя связи с
правящими венценосцами Европы, добиться освобождения из за-
485
точения, на что она, как королева, имеет право. Мария
чувствует себя виновной в преступлении, по которому ее в Англии
больше не обвиняют; и она чувствует себя невиновной в тех
пунктах, по которым она осуждена Она еще не готова принять
на себя несправедливый приговор, чтобы искупить другую
вину, она еще борется за свою жизнь. Каждый шаг, который она
предпринимает ради своего спасения, все ближе приводит ее к
смерти. В этом трагическое «качество» материала, о котором
Шиллер говорил в письме к Гёте 18 июня 1799 года. Это —
жестокая ирония судьбы, которая восхищает Шиллера.
Роковая роль попыток освобождения, на которые
возлагались надежды, проявляется в случае с Мортимером и во
встрече обеих королев. Мортимер, агент католической партии, хочет
освободить Марию, в которую он влюблен, но лишь приносит
несчастья, поскольку один из соучастников его заговора
совершает покушение на Елизавету. Покушение не удается, однако
это преступление, за которое Мария не может быть в ответе,
вменяется ей в вину.
Лейстер, царедворец, который безрезультатно добивался
Елизаветы и потому осторожно склоняется на сторону Марии,
организует встречу обеих королев, на которую Мария
возлагает надежды о пощаде. Сцену встречи двух королев — она
является таким же вымыслом Шиллера, как и сцена с
Мортимером, — Шиллер сам назвал в письме к Гёте 3 сентября 1799
года невозможной с моральной точки зрения, предвосхитив
приговор Гёте, который не одобрил эту сцену, так как не подобает,
чтобы две королевы были представлены «как спорящие
рыночные торговки или шлюхи». Шиллер, однако, держался за эту
сцену и даже выразил удовлетворение тем, что ему удалось из
моральной невозможности сделать психологическую
необходимость.
Мария начинает с покаянного самоуничижения,
обращаясь с просьбой о помиловании. Вначале она отказывается от
своего сана королевы. Но Елизавете недостаточно этого
триумфа, она идет козырем, отклоняет просьбу о пощаде, причем
выдает свою жестокость за государственную необходимость в
интересах антипапской борьбы: Насилье! Лишь оно моя
ограда./ С исчадьем змеев дружбу не веди (т.2, с.735). Однако в
этот момент снова вырывается наружу до сих пор с таким
трудом скрываемая гордость Марии. Она выплескивает на свою
противницу всю свою ненависть и презрение, которые накопи-
486
лись у нее в душе под покровом смиренности. Британский
трон ублюдком обесчещен, / И благородный исстари народ /
Лукавой лицемеркой одурачен! / Цари здесь, право, вы теперь
лежали б / Во прахе, ибо я — ваш повелитель (т.2, с.738).
Конечно, Мария знает, что теперь ее положение безнадежно, и
все же она чувствует облегчение. Мария своей кормилице: О
как легко мне, Анна! Наконец-то!/ За столько лет страданий,
униженья — / Желанный мир отмщенья моего. / Как будто я
с души свалила гору! / Как будто нож вонзила в грудь врагу!
(т.2, с.738). Мастерски увязывает здесь Шиллер личные и
политические мотивы. Елизавета прикрывает государственными
соображениями и фикцией справедливости свою сексуальную
зависть к Марии как к женщине, как к более удачливой
сопернице: Да, леди Стюарт, некого прельщать! (т.2, с.736), и
Мария тоже надевает политическую форму на свою личную
ненависть там, где оспаривает законность Елизаветы, и таким
образом в своей бессильной позиции возвышается над
соперницей не только как женщина, но и как собственно
правомочная королева Политическое и личное столь неразрывно
перетекает одно в другое, что катастрофа становится неизбежной.
Но почему Елизавета не решается подписать смертный
приговор? Она не без основания опасается того, что за ее
сентенциями о законе может обнаружиться мотив зависти. Она хочет
предстать защитницей справедливости, но знает, что в этой
роли ее не воспримут. Сила и власть могут быть истолкованы
как слабость и скрытая форма бессилия. Итак, это опасения,
что за политической маской может открыться личное, чем и
определяются ее поступки, и прежде всего промедление. Она
отдает подписанный смертный приговор в руки чиновника и
оставляет вопрос открытым: должен ли он быть приведен в
исполнение и когда; она перекладывает ответственность на
подчиненного и уйдет от ответственности, когда накажет
помощника, исполнившего приговор. По той же логике она
попыталась ранее подбить Мортимера на убийство Марии. И
в этом случае она могла бы дистанцироваться от убийства и
наказать ею выбранного убийцу.
Пока Елизавета скрывает личное в политическом, Мария
выигрывает в том, что снимает с себя покров королевского
достоинства, возвратив себе личное. Под сенью смерти Мария,
которая до этого все еще боролась за свою жизнь, узнает себя
совсем по-новому. Как ни странно, Шиллер сценически не ото-
487
бразил момент внезапной встречи с самой собой — хотя это
было бы очень кстати, — а, наоборот, заставляет кормилицу
настойчиво об этом рассказывать. Мария, говорит она, ожидает,
как это было договорено, своего освобождения, но тот, кто
стучит в конце концов в ее дверь, это не Мортимер, а тюремный
надзиратель, который сообщает ей о предстоящей казни. Не
расстаются с жизнью постепенно! / Мгновенно, разом должен
переход / От временного к вечному свершиться. / И госпожу
мою сподобил Бог / Отринуть тут же помыслы земные/И
устремиться верующим сердщм / К неведомым небесным берегам
(т.2, с. 784). Близкая смерть высвобождает в Марии силы, при
помощи которых она станет мор&пьной победительницей над
Елизаветой, чьи мотивы мести контрастно выступают на фоне
мягкой сущности Марии. Но нет ли и у Марии потаенного
мотива мести? Разве не отравлено ее новоприобретенное
смирение? Без сомнения, то, что ее осудили, — несправедливость, и
она имеет право не забывать этого. Но она совершает слишком
уж много хорошего тем, что благодарит Бога за то, что он
удостоил ее чести ...прежний грех / Сегодня искупить безвинной
смертью (т.2, с.798). В этот миг Мария готова искупить вину за
убийство, за которое ее никто не осуждает, тогда как Елизавета
намеревается с подложными доказательствами при помощи
юстиции совершить убийство, которое останется безнаказанным,
поскольку оно происходит под покровом справедливости и
государственной целесообразности. Несомненно, покаяние
Марии делает поступок Елизаветы особенно несправедливым, но
и просветленная Мария тоже не столь уж самозабвенна, чтобы
не насладиться своим триумфом. То, что Мария перед лицом
смерти продолжает бороться против своего врага, показывают
ее слова, обращенные к Лестеру, после того как она раскусила
его двойную игру: Двух королев руки вы домогались/И вот
отвергли ласковое сердце / И гордому пожертвовали им... /
Покорствуйте conepiiuuß моей! / Укором да не будет вам награда!
(т.2, С.803).
В конце тень падет и на просветленный облик Марии. Ее
гнев и восторг мести еще не перегорели, их остатки тлеют в
ней. Шиллеру не хотелось слишком уж идеализировать ее.
Определенно, она становится прекрасной душой, но и в отношении
прекрасных душ верно то, что их чувственность не полностью
поглощается нравственностью. На это в ней указывают
чувственные порывы и устремления, они разве что облагорожены и
488
удерживаются в допустимых границах, но это не исключает
того, что они всё еше способны проявлять свою амбивалентность.
Отсюда и остатки неистраченной злобы, неприязни в
преображенной Марии Стюарт в час ее смерти.
Мария, принадлежность которой к католицизму имела до
сих пор значение только как политический факт в споре с
Елизаветой, обнаруживает в конце свою связь с религией, она
требует исповеди и пр1гчастия святых таинств. Ей предоставляют
это — на сцене. Это вызвало недовольство в Веймаре и в
других местах. Придирались к тому, что Шяллер не постыдился
перенести в театр акт священнодействия. Гердер укорял его в
профанации, а герцог — в безвкусице. Поэтому же в Вене его
*J
произведение внесли в черный список — еще и из-за
театрализованной казни королевы, которая пробуждала к жизни
воспоминания о казни Марии-Антуанетты. Впервые пьесу смогли
сыграть в 1814 году и только с цензурными изменениями.
Театрализация сакрального показывает, насколько основательно
Шиллер освободился от институциональной религии. Сама
театральная сцена была для него чем-то сакральным, в которое
включалась другая сакральность. Когда Шиллер представляет
Марию, которая верит, что она найдет поддержку на небесах,
он позволяет зрителю открыть в этом и нечто иное, чем
предполагает сама героиня: на деле Мария проторила себе дорогу к
внутренней свободе, что позволяет ей принять ответственность
за свою жизнь, воспринять несправедливый приговор и смерть
как искупление и преобразить их в акт освобождения. И если
Мария всем своим верующим сердцем чувствует
ответственность за свою судьбу, то зрителю должен открыться триумф ее
свободы. И потому причастие перерастает в игру, в которой
господствует отличный от первоначального смысл, здесь
торжествует мистерия свободы. Мария освобождается от власти
своих страстей, в ней пробуждаются тишина, спокойствие и
свет, и она приобретает спокойствие, почти освобождающую
ясность. Для Шиллера это миг свободы, когда спадает страх
земного. Насколько все-таки развивается образ Марии Стюарт.
Если Шиллер не позволяет себе удержаться от того, чтобы
перенести сцену причастия на подмостки, если он таким
образом играет сакральным, то возникает вопрос, что же было в
последние годы с его собственной религией? Шиллер давно уже
не был религиозным человеком в смысле религиозной
ортодоксальности, как протестантской, так и католической. Он не
489
верил ни в Бога Библии, ни в искупительное действие
жертвенной смерти Христа, ни в воскрешение плоти и души, ни в
божественное мироздание, ни в Страшный суд последнего дня,
ни в рай, ни в ад, ни в даваемые церковью таинства причастия;
историческими, позитивными религиями для него были
достижения культуры, произведенные творческим духом человека;
формы выражения свободной сущности человека, который
может свои непосредственные обстоятельства жизни преобразить
в направлении всеохватывающего и взаимосвязанного смысла.
Для Шиллера эти творческие силы проявлялись в
многообразии и смене обликов исторических религий так же, как и в
морали, и в искусстве. Критерием достоинства и ценности этих
выражений была свобода. Он требовал более высокой игры
свободного духа, самопробуждения созидательных сил. Но
наивысшее наслаждение —• это свобода духа в живой игре всех его
сил (II, 816).
Частью подобной игры является то, что формы создаются
и вновь растворяются, без догматических цепей. Сила
преображения становится в искусстве еще очевидней, чем в религии,
которая в силу своей претензии на откровение претендует на
обязательность и непреклонную действенность. Шиллер
избавляется от этого. В двустишии «Моя вера» 1797 года мы
читаем: Что за религию я исповедую ? Все, что назвал ты, /
Чужды мне. — Из-за пего? — Из-за религии, друг (т.1, с.234). Эта
религия, которая делает относительными все прочие, —
эстетика. Она осознает формы и создает образы, однако не верит в
абсолютную истину изображения. Из такой перспективы
религия представляется попыткой придать трансцендентности
определенное лицо. Однако эти лица не должны превращаться
в морды, и именно в этом Шиллер видел опасность.
Поскольку он видел опасность подобного овеществления, для него не
было проблемой, если место трансцендентности окажется
пустым. На все случаи жизни пригодное откровение было не для
него. Пустая трансцендентность, стимулирующая творческое
воображение, лучше всего, по иронии судьбы, оказалась для
него выражена старой заповедью: «Не сотвори себе кумира».
Таким образом, его стремлением было — отделить в
проявлениях религии зерно от плевел. Зерно — это лежащая в
основе творческая свободная сила; не в самих образах как таковых,
а во власти процесса, создающего образы, заключалась для
него религиозно-эстетическая сила. В предисловии к «Мессии-
490
ской невесте», написанном в 1803 году, через два года после
«Марии Стюарт», сказано: Под оболочкой всех религий лежит
сама религия, идея божественного, и надо разрешить поэту
высказать это в той форме, которую он сочтет в том или ином
случае наиболее уместной и выразительной (т.6, с.663).
Шиллер мог представить себе небо греческих богов так же, как и
бога Спинозы (Deus sive natura). Религиозное преображение
свободной нравственности тоже нашло себе применение в его
произведениях, при условии, что гетерономный образ,
очертание божественных заповедей будет осознано как то, за что он
его почитал: за превращенную в небо форму автономии, за
мистификацию свободного самоопределения: Волей своей
божество постигнуть стремитесь, / И с небесного трона
спустится к вам божество.
Самоопределение, свобода, трансцендентальность,
фантазия — прекрасны и хороши, но есть еще смерть, как
воплощение бренности человеческого существования. Смерть, эта
огромная угроза через ничто, ничтожность и бренность. О Марии
Стюарт, которая хладнокровно идет на смерть, говорится: Она
ушла, как просветленный дух (т.2, с.803). Именно такой
представляется она тем, кто остается. Но здесь еще не сказано о
возможной бесконечности и вечности. Гораздо более действенным
является то, что Шиллер выразил в захватывающей жалобе
«Нения», написанной во время работы над «Марией Стюарт»,
в словах: Смерть суждена и Прекрасному — богу людей и
бессмертных. / Зевса стигийского грудь, меди подобно, тверда,
/...Видишь: боги рыдают и плачут богини Олимпа, / Что
совершенному — смерть, смерть красоте суждена (т.1, с.ЗОЗ).
То, что остается, создают поэты.
Даже и песнью печали славно в устах быть любимых, /
Только ничтожное в Орк сходит без звуков любви (т.1, с.ЗОЗ).
Для Шиллера святое существует в смысле
осуществленного мгновения, энтузиазма, моральной силы и благости
творческой удачи. Это было что-то ограниченное во времени, без
гарантии постоянства. И он не мог поверить в то, что это
«святое» следует понимать как предвкушение какой-то более
всеобъемлющей внеземной удачи. Угроза того, что мир может
раствориться в бессмысленном и хаотическом — в естественно-
природном, всемирно-историческом и индивидуальном
смыслах, — продолжала существовать. То, что человек хочет
получить от жизни, он должен взять от нее. Единственное, в чем
491
человек может победить смерть, это — преодолеть страх перед
ней. Только в этом смысле Мария Стюарт обретает свободу —
далее если она сама верит, что ей открыты небеса, если она
очистилась от вины.
Через две педели после премьеры «Марии Стюарт» 14 июня
1800 года Шиллер начинает работу над новым произведением
«Орлеанская дева». Через полгода он уже далеко продвинулся
в работе. В письме Кернеру 5 января 1801 года он открывает
причину того, почему всё так хорошо складывается: Уэюе сам
материал подогревает меня, я всем своим сердцем в нем и все
изливается более из сердца, чем все предыдущие пьесы, где
разум постоянно боролся с материалом. В письмах и разговорах
Шиллер иногда нежно называл Иоанну моей девочкой, это еще
один знак того, что слова произведение исходит из сердца
значили для него больше, чем сентиментальная пустая болтовня.
Он связывает с этой формулировкой очень важный
философский смысл. 27 марта 1801 года он сообшдст Гёте об одной
беседе, которая состоялась с молодым Шеллингом. Шиллер
переводит разговор на тезис Шеллинга о том, что природа
поднимается от бессознательного к сознательному, в отличие
от искусства, которое поступает наоборот, начиная с
сознательного, чтобы закончить бессознательным. Эти господа
идеалисты, таков приговор Шиллера по поводу разговора, —
слишком мало считаются с практикой. Ведь его опыт, особенно его
последних пьес, учит, что поэт тоже всегда начинает с
бессознательного, более того, он может почесть себя счастливым,
если при самом ясном сознании своих действий снова обретет в
законченном произведении неослабленной свою первую смутную
еще общую идею. Без такой смутной, но могучей общей идеи,
которая предшествует всему техническому процессу, не может
быть создано поэтическое произведение, и, мне сдается, поэзия
именно в том и заключается, что выражает в словах и
передает другим это бессознательное, то есть переносит его в объект
(т.7, С.561).
Что было этой смутной общей идеей, которая воплотилась
в материал для Иоанны, мы точно не знаем. Да и сам Шиллер
тоже этого не знает, он хочет это узнать в ходе работы.
Сформулированный в разговоре с Шеллингом принцип, что автор
впервые через готовое произведение может постичь то, что
подвигло его на это сочинение, в отношении «Орлеанской девы»
обозначает: Шиллер еще более, чем в предыдущих пьесах, ощу-
492
I
I
I
I
щает еще не познанное притяжение, магнетизм предмета; он
чувствует очарование волшебной легендарной историей
Иоанны из Орлеана, той семнадцатилетней лотарингской девочки-
крестьянки, которая в 1429 году во время Столетней войны
между Англией и Францией в осознании своей божественной
миссии внезапно объявилась во французском стане, во главе
войска шла от победы к победе, освободила Орлеан, изгнала
англичан из отдаленных частей страны и отправила дофина
короноваться в Реймс; и которая, наконец, оставленная королем
на произвол судьбы, продолжала самостоятельную борьбу с
маленькой горсткой преданных ей людей, была ранена,
оказалась в английском плену, где ее обвинили в колдовстве, что и
закончилось приговором. 30 мая 1431 года она была сожжена.
Шиллер изучил документы процесса над Иоанной,
воспользовался также историческими трудами и источниками. В
двух важных моментах он отклоняется от исторических
фактов: известно, что Жанна выступала в доспехах и оружии, но
сама не у бил а ни одного человека, однако у Шиллера эта
кроткая девушка преображается в неукротимую воительницу,
которая говорит о себе: Обманутый, погибший, в руку девы
ты/неумолимую достался..., чтобы Все умерщвлять мечом, что мне
сражений бог / Живущее пошлет на встречу роковую (т.З, с.70—
71). В пылу своей миссии девушка становится у Шиллера
жестокой амазонкой. Не открываем ли мы здесь, может быть,
смутную общую идею Шиллера в загадочном взаимодействии
кроткого и ужасающего? Как бы там пи было, Клейст позже в
своей «Пентесилсе» будет ориентироваться на «Орлеанскую
деву» Шиллера, а Гёте ужаснется пристрастием Шиллера к
«театру жестокости». В любом случае Шиллеру пришлось
представить свою деву вначале как очаровательную фурию,
чтобы суметь затем сделать трагический конфликт из момента
смущения перед убийством. Иоанна не может убить Лионеля,
которому она долго смотрит в лицо: Могла ли я его сразить? О,
как / Сразить, узрев его прекрасный образ... / Виновна ль я,
склонясь душой на жалость?/ И грех ли жалость? (т.З, с. 112).
Ее человечность вступает в конфликт с ее божественным
заданием — не пощадить врага и отказаться от земной любви. В
момент любовного замешательства заканчивается ее
воинственное вдохновение, она теряет веру в свое предназначение, вер}г
в саму себя и, следовательно, не может и других заразить
верой в предназначение. Здесь и начинается стремительная пере-
493
мена в роковой судьбе Иоанны. Измученная чувством вины,
ослабленная и лишенная харизмы, обвиняется она в ведьмов-
стве и заковывается в цепи.
Однако затем следует — и это второе значительное
отклонение от исторического факта — в последнем акте ее новое
возвышение: она разрывает цепи и бросается в бой, который
завершится победой именно из-за ее вмешательства; однако сама
она ранена и умирает с видением царства небесного перед
глазами. Различие между ее первым избранничеством и вторым
возвышением Шиллер так описал в письме к Гёте 3 апреля
1801 года: Последний акт дает мне много хорошего, он
поясняет первый, и таким образом всё становится на свои места. Так
как моя героиня предоставлена самой себе и в несчастье
оставлена Богом, это и обнаруживает ее самостоятельность и ее
характер. Таким образом, вначале она избрана Богом, а затем
направляет себя собственными силами. Пока она была едина с
мнимой божественной волей, она, конечно, показывала себя
сильной, но не имела в этом собственной заслуги, этакий
лунатик; а после ее «падения» в человеческое для нее становится
возможным доказать свое истинное величие. Иоанна будет
дважды возвышена над обыденным: сначала благодаря
предназначению, энтузиазму извне и сверху, а потом благодаря эн-
*.*
тузиазму, исходящему из нее самой.
Ни в одной из своих вещей Шиллер не опирался так на
Шекспира, как в этой. Легендарный сюжет с быстрой сменой
места действия, обилие местного колорита, разнообразные
речевые возможности, массовки, музыка. Шиллер назвал эту пье-
%J
су «романтической» из-за использования чудесного и христи-
анско-католической мифологии позднего Средневековья,
возможно и из-за лирически-музыкальных элементов стиля.
Всё вместе это больше склоняется к опере, здесь есть песенные
вставки, арии и речитативы. Эта пьеса обволакивает и уносит
с собой, словно пьеса играет себя сама. Кернер попал в точку,
сказав, что «в этом произведении я совсем забыл о тебе» (9 мая
1801 года), а Гёте изумлялся тем, как здесь
субъективно-наивный мир веры в чудеса проявляется в гомеровской объектив-
ности. Романтики в Иене и Берлине, которые тоже открыли
для себя Средневековье и католический мир, в течение
некоторого времени полагали, что Шиллер встал на их сторону. Тик,
во всяком случае, был твердо убежден, что Шиллер испытал на
себе воздействие «Жизни и смерти святой Геновевы», что не-
494
вероятно, так как Шиллер через несколько дней после
завершения «Орлеанской девы» пишет Кернеру о произведении
Тика: оно не слажено, в нем много болтовни, как и во всех
произведениях Тика (т.7, С.562).
Шиллер был скептически настроен в отношении
воздействия своей пьесы. Он знал, что среди образованной публики по-
прежнему пользуется популярностью вольтеровский
комический эпос «Орлеанская девственница». Вольтер высмеял
«святую деву» как вульгарную неотесанную служанку, которой
целое воинство духов должно помогать сохранить ее
добродетель. Шиллер был вынужден считаться с тем, что в кругах
знатоков об Иоанне будут рассуждать язвительно. Даже герцог
предостерегал его от этого материала. «Сюжет крайне
скабрезен и отдан на осмеяние, которое будет трудно преодолеть», —
пишет он свояченице Шиллера Каролине фон Вольцоген. Но
именно это обстоятельство Шиллер принял как вызов. Он
хотел доказать, что он в состоянии очаровать охочую до
фривольностей публику. В этом стремлении он винил свою волю к
власти. Оглядываясь на Вольтера, он пишет: Если он слишком
глубоко окунул в грязь свою Девственницу, то я вознес свою,
возможно, слишком высоко. Но тут ничего нельзя было сделать,
надо же было стереть клеймо, которым он запечатлел свою
красотку (т.7, с.568). Шиллер не смог убедить герцога,
который воспрепятствовал по весьма понятным причинам
премьере пьесы в Веймаре. Актрисе Ягеманн, его ставленнице, была
назначена роль девы и приходилось опасаться того, что это
даст повод для насмешек. Поэтому драма вначале была
исполнена не в Веймаре, а с ошеломляющим успехом в Лейпциге,
Берлине и Гамбурге.
На лейпцигской премьере присутствовал Шиллер. Так в
Германии до того времени не чествовали еще ни одного поэта.
Прославившийся, позднее придворный актер Генрих Аншюц,
будучи студентом, пережил это достопримечательное событие
и так описал его в своих мемуарах: «Шиллер в Лейпциге —
пронеслось в студенческих кругах — и будет присутствовать на
премьере, чтобы самому в первый раз увидеть постановку
своего творешя. Радостной толпой стар и млад устремились к
театру, наиболее сильные отвоевали себе лучшие места в
партере, которые были тогда стоячими местами, и, благодаря Богу, я
принадлежал к сильным и счастливым. Тут открывается* дверь
ложи и длинная худая фигура приближается к ее барьеру. Это
495
он, это Шиллер, — разносится по всему пространству, и, как ко-
лышимая ветром пшеница, волнуется эта масса, чтобы увидеть
обожаемого... Едва отрываются от лицезрения, чтобы смотреть
первое действие трагедии. На сцену выходит девушка-героиня,
чтобы посадить в Орлеане ростки будущей победы. Занавес
KJ
опускается, опьяненный восторгом возглас проносится через
весь зал. Оркестр вынужден поддерживать аплодисменты
трубами и литаврами, и только тогда поднимается трогательная
фигура, чтобы с видимым внутренним волнением благодарно
склониться перед зрительным залом. Новый всплеск восторга,
ликования, и только с поднятием занавеса... это волнение
завершается».- По окончании спектакля все устремляются к
площади перед театром, чтобы снова увидеть поэта. Другой
очевидец описывает: «Широкая площадь перед театром, вплоть до
ранштадтских ворот, была плотно забита людьми. Вот он
двинулся вперед, и в мгновение народ заполнил переулок.
Раздаются голоса с предложением обнажить головы, и вот поэт —
с маленьким Карлом на руках — прошел через толпу своих
почитателей, которые стояли все с обнаженными головами, и в
это же время стоящие сзади отцы приподнимали вверх своих
детей и кричали: "Это он!"»
В это воодушевление примешиваются первые
патриотические чувства, которые некоторое время спустя вырвались
наружу в антинаполеоновских освободительных войнах.
«Орлеанская дева» понималась не только как игра романтического
волшебства, в ней распознавалось и политическое послание. В
ней видели воинственного мистика национального
возрождения Франции. Разве не пригодилась бы и Германии подобная
харизматическая фигура предводителя? Шиллер перенес на
сцену волшебство политики освобождения. Есть чудеса!...
Взовьется голубица/ И налетит с отважностью орла/ На
ястребов, терзающих отчизну (т.З, с.20). Иоанна — одна из сестер
Вильгельма Телля, она борется за законного властителя (т.З,
с.21); она хочет посадить на трон короля, который
Неумирающий, защитник плуга,/Хранитель стад, плодотворитель нив,/
Невольникам дарующий свободу, / Скликаюищй пред трои свой
наши грады (т.З, с.21). Кто хотел — а этого хотели многие, —
могли распознать во французской борьбе пятнадцатого века
современную немецкую. Франция была тогда еще не
объединена как нация, она была расколота на центры власти и подавле-
О
на чужеродным английским владычеством.
496
В Германии 1801 года было не лучше. К северу от Майна с
1795 года господствовал мир. Пруссия и некоторые другие
страны, такие, как герцогство Веймар, поддерживали
нейтралитет и наслаждались спокойствием в неспокойной Европе. А
на юге властвовала война. Французские войска больше не
вызывали революционной восторженности, а распространяли
ужас и грабили страны. Родителям Шиллера пришлось
пережить всю горечь войны. Дважды убегали они от
мародерствующих отрядов. «Иоанна из Орлеана» была обречена на
непреходящий сценический успех еще и потому, что публика могла
выразить на французском материале патриотические чувства
против фрашгузского владычества, И над всем господствовала
монументальная фигура Наполеона. Шиллер описывает
сказочное избрание и возвышение девы в тот момент, когда
Европа затаила дыхание перед кометоподобным восхождением
Наполеона. Для публики в Германии Наполеон был больше, чем
политическая реальность, уже при жизни он стал мифом. Он
вызывал не только политические страсти. Он задел духовное
ядро тогдашнего мира. Это касается и восхищения, которым он
был встречен, и ненависти, которая выплеснулась на него.
Одни увидели в нем олицетворение мирового духа, другие —
злого гения, исчадие ада. Но каждый получил наглядный пример
власти, не освященной традицией и происхождением, а
обязанной лишь ничем не связанной харизматической воле к власти.
Наполеон был воплощенным примером политического creatio
ex nihilo. Это не случайность, что одновременно с
восхождением Наполеона в Европе распространилась мода на животный
магнетизм. В зеркале Наполеона обнаружилась власть
неосознанного. Наполеон тоже был магнетизером, осуществлявшим
сеансы магнетического лечения над телом Европы. Власть
Наполеона не выворачивала внутренности наизнанку. В этом
смысле Гёте говорил о нем как о «просветителе поневоле». Он
своей «демонической» властью сумел пробудить к жизни
преданность и внутреннее подчинение своих подданных, которые
должны были вынести на ясный свет все то, что скрыто в
людях. «Наполеон, — говорит Гёте, — обратил на себя внимание
каждого».
Что привлекло внимание Шиллера благодаря Наполеону?
Ответ дается в пьесе «Орлеанская дева». Шиллер открьюает
для себя магию политического. Если бы Шиллер не пережил
восхождение Наполеона, он не пришел бы к идее воплотить на
497
сцене захват власти вдохновленной девушкой-крестьянкой,
которая или сошла с небес, или возникла из ничего. Феномен
Наполеона относится к этой смутной общей идее, которая
привела Шиллера к «Орлеанской деве».
И еще кое-что относится к этой смутной общей идее.
Иоанна — это сомнамбула своей миссии. Когда она пробуждается из
своего исторического транса, она терпит крушение. Теперь она
всего лишь бессильная аферистка. Когда она теряет веру в
себя и свое предназначение, никто больше в нее не верит.
Шиллер затрагивает здесь скрытый мотив, к которому он еще
обратится в двух работах, оставшихся во фрагментах: в начатой
непосредственно после «Орлеанской девы» пьесе о самозваном
английском претенденте на корону («Варбек») и в последней
незавершенной работе «Деметриус», в которой повествуется о
возвышении и падении Лжсдмитрия.
Чтобы никому не могла прийти в голову мысль, что своей «
Орлеанской девой» он слишком уж глубоко уйдет в католическое,
чудесное и патриотическое, спустя полгода Шиллер
предлагает «Мессинскую невесту» — пьесу, разработанную строго в
античном стиле и пронизанную новоязыческим фатализмом
судьбы. Между тем Шиллер — прежде всего человек
искусства, но никак не провозгласитель и приверженец веры. Только
что он играл мистерией, тут же играет античностью. Он
заставляет — на что в современном ему искусстве еще никто не
решался — ввести хор в качестве неизменного свидетеля и
носителя действия (т.б, с.660). Свидетелем действия, бесспорно, —
но носителем? За сто лет до написания Ницше работы
«Рождение трагедии» Шиллер выводит это рождение трагедии из
духа хора не только в теории, но и на сцене. Шиллер называет
хор живой стеной, которою трагедия себя окружает для того,
чтобы оградиться от мира действительности и охранить свою
идеальную почву, свою поэтическую свободу (т.б, с.659).
Публике предлагается аполлоновский сон, который может
присниться только дионисийскому духу, знающему, что его поглотит
судьба. Там, в этом ужасающем и все-таки прекрасном сие,
действует, глядя в лицо хору, каждый из протагонистов за себя, но
и так пересекаясь друг с другом, что в конце в любви и
ненависти они подготавливают себя к своему закату. Но хор
остается, а протагонисты после того, как они перестали
неистовствовать, снова возвращаются в его лоно, согласно темному
498
высказыванию Анаксимандра, что каждый единичный
искупает свою вину — быть единичным — тем, что возвращается в
целое, из которого он происходит. Протагонисты, которые
действуют перед хором, - - это живой диссонанс. Они отходят как
отдельные голоса от хора, развивают свою диссоиапеную игру,
драму своих сложных перипетий, и снова растворяются в
унисоне хора. То, что происходит на сцене, — открыто, при свете
дня. От хора ничего нельзя скрыть, ничто не может
спрятаться. Все вну!реннее выходит наружу. Глубинное стремится к
поверхности. Поэт, — пишет Шиллер в предисловии, — долу сен
вновь открыть дворцы, перенести судилища под открытое
небо, должен восстановить богов, должен воскресить всю
непосредственность, вытравленную искусственным строем
действительной жизни, и, отметая всякую искусственную стряпню
в человеке и вокруг него, которая мешает проявиться его
внутренней природе и первичному характеру, как отбрасывает
скульптор современные одежды, сохранить из его внешнего
окружения лишь то, что обнаруживает наивысшую из форм —
человеческую (т.6, с.661). Элементарное пробивает брешь в броне
цивилизации.
Враждуют два брата одного из правящих домов в Мессине,
где сталкивались и смешивались христианство, греческая
мифология и магометанство (письмо Кернеру от 10 марта 1803
года) (т.7, С.585). Мать хочет примирить их друг с другом еще и
потому, что этого требует парод. Это должно произойти, когда
братьям наконец будет представлена скрываемая ото всех
сестра Беатриче, которая по приказу умершего отца должна была
быть убита из-за неудачного предсказания оракула, но была
скрыта матерью в монастыре. Но теперь оба брата, независимо
друг от друга, влюбились в эту Беатриче, не зная о том, что она
их сестра, и один из них, дон Цезарь, убивает из ревности
соперника, иод одеждой которого он не узнал своего брата.
Пораженной матери, которая хотела подарить братьям сестру, а
теперь стоит перед телом сына, не удается, так же как и сестре,
удержать другого сына от самоубийства, которым он хочет
искупить убийство брата. Трагическая история, которая
происходит, потому что протагонисты — плоть от плоти и все-таки
себя не узнают. Они встречаются по воле рока и обречены на
смерть во тьме своих заблуждений. Окутанные своим
воображением и ведомые слепой страстью, они кощунствуют против
природы, так как они иначе связаны друг с другом, чем они хо-
499
тели бы быть связанными. Заключительный приговор хора:
Пусть жизнь — не высшее из наших благ, / Но худшая из бед
людских — вина (т.З, с.270).
Эта драма натолкнулась на всеобщее недоумение и
непонимание «ужасающего язычества», которое открывается в ней.
«Можно увидеть, — пишет Генриетта фон Кнебель после
публичного чтения пьесы 19 февраля 1803 года, — что он пишет
для самого себя и мало думает о публике». О публике, которая
ждет спасения, утешения и удобства, Шиллер в этой пьесе и в
самом деле не подумал. Благодаря этому произведению в
очередной раз становится ясно, что действие милостивых
небесных сил в «Орлеанской деве» является не личным
признанием, но эстетической игрой. В другой игре все по-другому:
божественная власть — это теперь судьба, лишенная
милосердия. Гёте поражается мужеству Шиллера — в столь огромной
степени разочаровать ожидания публики. Существуют намеки
Гёте, что он считал << Мессинскую невесту» лучшей пьесой
Шиллера. В ней он находил «ужасающее совершенство».
После этой пьесы, которая была выдана публике как горькое
лекарство, Шиллер приступил к работе над «Вильгельмом
Теллем». Теперь он хотел показать, как далеко молено зайти с
популярностью, ни в малейшей степени не жертвуя
художественным замыслом. Если боги будут благосклонны ко мне в
исполнении того, что я имею в голове, то это должно быть
мощной вещью и всколыхнуть подмостки Германии (к Кернеру, 12
сентября 1803 года).
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА
Материал к Теллю. Как Гете уступил его Шиллеру. Культурный
патриотизм Шиллера. «Немецкое величие». Хвала медлительности.
«Вильгельм Телль, торжество свободы». Из идиллии, которой грозит
опасность, в историю и снова назад. Консервативная революция.
Убийца тирана. Брут, или Святой победитель дракона.
Популярность. Коцебу, или Предвосхищающая сатира
на шиллеровские праздники
Шиллер уже неоднократно лежал смертельно больной. Он был
погружен в настроение прощания, уже последнего. Христиане
фон Вурмб, одной дальней родственнице Лотты, которая уже
некоторое время жила в семье Шиллера, он сказал в разговоре
за чаем: « Вся мудрость человека должна состоять, собственно,
в том, чтобы ухватывать каждый момент бытия с полной
силой, так его использовать, словно он единственный,
последний».
Это замечание он делает вскоре после визита к Кернеру
осенью 1801 года. Шиллер догадывался, что это было их
последнее свидание. Семья Шиллеров была вместе со свояченицей
Каролиной фон Волыдоген один месяц в гостях в доме на Лош-
вицер-Вайнберг, там, где Шиллер написал песню дружеского
застолья и винного блаженства «К радости». Все напоминало
здесь о прошлом, полном отъездов, надежд и ожиданий.
Маленький зимний сад он называл спокойной колыбелью Карлоса.
В эти недели он действовал на друзей возбуждающе, но и
элегически, он был одновременно весел и меланхоличен; обозревая
с гордостью и удовлетворением ушедшие отрезки жизненного
пути, он знал, что он кое-чего добился; однако это
подталкивало его дальше, он не ощущал еще себя как при последнем
издыхании. Воспоминание о времени ожиданий окрыляло новые
ожидания. Он много говорит о своих планах. Речь идет о «Мес-
синской невесте». «Мы часто спрашивали, — рассказывает
Каролина, — скоро ли въедет верхом принцесса из Мессины».
Шиллер между тем знаменит, и благодаря бесчисленным
циркулирующим везде портретам становится общественным
лицом, которое притягивает отовсюду любопытствующих и
поклонников. Они тоже совершают паломничество к дому на
Лошвицер-Вайнберг, за воротами Дрездена, где Шиллер соби-
501
рает вокруг себя веселый круг друзей, а также приглашенных и
неприглашенных гостей. По-видимому, там случилось, что он
говорил и о Вильгельме Телле, так как из Дрездена
распространился слух о том, что он работает над пьесой о швейцарском
национальном герое. К этому моменту Шиллер не брался еще
даже за план этой пьесы. Но слухи держались так упорно, что он
написал Котте 16 марта 1802 года, что он так часто вынужден
слышать фальшивые слухи, будто бы я работаю под
«Вильгельмом Теллем»у что я наконец стал внимательнее к этому
предмету и изучил «Хронику Гельвеции», написанную Чуди. Последний
так привлек меня, что я теперь вполне серьезно думаю
работать над «Вильгельмом Теллем», и это должно стать пьесой,
которую мы хотим для себя считать делом чести.
Но не только слухи о том, что он пишет пьесу, заставили
его действительно ее писать. Сначала Лотта и потом Гёте
обратили его внимание на этот материал. Лотта читала «Историю
Швейцарской конфедерации» Иоганна фон Мюллера и 25
марта 1789 года писала другу: «История свободных людей
определенно вдвое интереснее, потому что они с большой
горячностью ведут борьбу за свою конституцию. В этом и
заключается своеобразие их истории».
Но Шиллер был пока еще слишком увлечен своими
героями равнины — он пишет в это время историю Нидерландов —
и не хотел бы пока браться за героев гор, поразительную силу
которых он признает, но не собственно человеческое величие
(Лотте, 26 марта 1789 года). Несколькими годами позже, 14
октября 1797 года, Гёте писал ему, что один поэтический
материал, «который внушает... большое доверие», обратил на себя его
внимание, «я твердо убежден, что история Те л ля будет
трактоваться эпически, и если это мне удастся, как я и планирую, то
это стало бы редким случаем, когда сказка благодаря поэзии
достигла своей полной истины». Гёте хотел бы изобразить
историю Телля как произросшую из нравов и обычаев и из почвы
этого древнего ландшафта. В своем письме он изображает
страну и людей, чтобы сделать наглядной «эту высокозначимую
местность». Это удалось ему так хорошо, что шиллеровская сила
воображения тут же разгорается, пусть не для собственного
произведения, но в духе общей постепенной подготовки идеи.
«Симфоническая поэзия», которой романтики большей частью
только восхищались, — между Гёте и Шиллером
действительно состоялась.
502
Замысел «Вильгельма Телля» весьма удачен, - отвечает
Шиллер 20 октября 1797 года, — здесь вся напряженная внутренняя
жизнь будет вытекать из существенно важной ограниченности
данного сюжета... В то же время из этого прекрасного сюжета
открывается весьма обширный вид на человеческий род, подобно
тому как в просвет между высокими горами открываются
свободные дали (т.7, с-479). Он радуется-возвращению Гёте, так как
можно основательно обменяться мнетшми по этой теме.
Фактически в следующие годы между ними много говорилось о
материалах по Теллю. Гёте еще в течение некоторого времени твердо
держался своего плана, но осуществление отодвигалось все
дальше. Шиллеру было любопытно, он всегда с удовольствием
слушал об этом. Затем где-то между осенью 1801-го и весной 1802
года Гёте отказывается от своего замысла. Шиллер мог теперь
попробовать, удастся ли ему открыть просвет между высокими
горами, которых он никогда не видел, в свободную даль, в глубь
человеческого рода. Позднее Гете вспоминает в своих разговорах
с Эккерманом: «Обо всем этом я рассказал Шиллеру, в душе
которого мои ландшафты и мои действующие лица сложились в
драму. А я тогда был занят другими делами, и исполнение
моего намерения откладывалось все дальше, так и уступил мой
предмет совершенно сырым Шиллеру, который потом сделал из
него свои достойные восхищения стихи» (6 мая 1827 года).
В феврале 1802 года Шиллер начал предварительную
работу: Телль, пишет он 10 марта 1802 года Гёте, привлекает его
силой и сердечностью, чего с ним давно уже не случалось. Он
прерывается на несколько месяцев, чтобы довести до конца
«Мессинскую невесту», возвращается весной 1803 года снова к
«Теллю» и начинает окончательную запись в августе 1803 года.
В Телле я сейчас душой и телом, — пишет он Иффланду 9
ноября 1803 года. Он обдумывает даже путешествие в Швейцарию,
чтобы посетить действительное место действия, отказывается
все лес от этой мысли, учитывая интересы здоровья, а также и
потому, что он чувствует, что его воображаемая Швейцария
genius loci* делается достаточно наглядной, в чем его утвердил
Гёте.
Когда Шиллер начал работу над «Теллем», Швейцария
только что потеряла свою внешнюю, а частично и свою внут-
Дух-хранитель (божество) места (лат.).
503
реннюю свободу. Страна была полем битвы во второй
коалиционной войне между Францией и Россией/Австрией.
Наполеон занял страну в 1799 году, разграбил государственные
сокровища в Берне, ликвидировал старую кантональную
конституцию и назначил сговорчивое правительство. В
древних кантонах, которые уже в исторические времена Телля
играли прославленную роль, в это время тоже было особенно
стойкое сопротивление французскому владычеству. Правда,
французская политика тоже находила некоторый отклик,
потому что патрицианские привилегии были упразднены в пользу
гражданских цивилизационных прав. И все лее, поскольку
сохранялась оккупация некоторых городов и давящие налоги со
стороны Франции, стремление к сопротивлению и возмущение
росли. Оскорбленная гордость конфедерации из-за навязанной
Наполеоном «Гельветической республики» находила утешение
в воспоминаниях о героической истории освобождения от
Габсбургов и империи. Так миф о Телле мог снова получить
популярность не только в Швейцарии, но также и в Германии, где
стало зарождаться стремление к свободе от французского
владычества, так как западная часть управлялась непосредственно
Наполеоном, южная часть страдала от войны, а в еще
нейтральной северной части боялись быть втянутыми в войну. Это
была труднообозримая ситуация, потому что еще не знали точно,
что представляет собой Наполеон. Одни всё еще видели в нем
революционера и потому боялись его или надеялись на него,
смотря по выбору. Для других он был лишь тираном. Только
постепенно обозначился будущий фронт антинатюлеоновской
освободительной войны, в которой затем политические
требования свободы и патриотизм будут бороться против
наполеоновского иноземного владычества в союзе с силами традиции.
Этой взаимосвязи одновременного оформления
революционного и консервативного движений принадлежит и обновление
мифа о Телле в начале девятнадцатого века. Таким видел его
Шиллер и в своем духе заставил говорить Штауффахера в его
большой речи во время клятвы на горе Рютли: Нет, есть
предел насилию тиранов! / Когда жестоко попраны права / И
бремя нестерпимо, к небесам/Бестрепетно взывает угнетенный./
Там подтвержденье прав находит он, / Что, неоьемлемы и
нерушимы, / Как звезды, человечеству сияют (т.З, с.329).
Устранение тирании и осуществление основанной на
естественном праве политической свободы было требованием так-
504
же и Французской революции. Но были ли Телль и
заговорщики, заключившие союз на Рютли, действительно
революционерами? Может быть, они были даже якобинцами? Можно было
бы понимать пьесу как революционную, и это уже было
отчасти так понято, особенно с официальной политической
стороны. Поэтому было немало попыток запретить постановку
пьесы или ослабить ее звучание. Это длилось более полувека,
прежде чем «Вильгельма Телля» смогли поставить на сцене не-
изуродованным. В премьсрном спектакле в Веймаре не было
намека на дом Габсбургов, поэтому пьесу в общем пока
разрешили играть, в Берлине Иффланд предусмотрительно
вычеркнул весь пятый акт со сценой герцога Паррициды. Поэтому
ничто не могло помешать триумфу пьесы на немецкой сцене,
напротив, придирки повысили ее взрывную силу, которая
много позже привела к тому, что Адольф Гитлер запретил
постановку этой пьесы.
Одно дело, как пьесу представляли, и другое — что думал
об этом Шиллер.
Шиллер изложил свое мнение о Французской революции
в «Письмах об эстетическом воспитании человека». Свобода,
права человека, республика были для него высокими целями,
если к ним стремятся и завоевывают их люди, сами внутренне
свободные. Он отвергает мысль Фихте о том, что свободу
можно постичь только в политической борьбе в пользу своей идеи,
по которой только через эстетическое образование и в игре
можно научиться свободе и прочувствовать ее, чтобы потом
суметь достигнуть ее во внешнем политическом мире. На этом
мнении он стоит твердо. Возвышение Наполеона хотя
очаровало его магией власти, но одновременно также и возмутило. Он
видел в этом подтверждение своих опасений, что в обществе
несвободы поклоняются силе произвола и эгоизма. Наполеон,
так думает Шиллер, может быть идолом только для тех, кто не
хочет собственно свободы, а поклоняется власти, которой они
сами не обладают. Шиллер с отвращением наблюдал рабское
поклонение, которое вызывал Наполеон. «К завоевателю, —
сообщает Каролина фон Вольцогеи, — он никогда не имел склон-
ности и доверия, никогда он не надеялся, что благодаря
Наполеону может произойти что-то хорошее для человечества».
После заключения мира между Францией и Австрией 9
февраля 1801 года под Люиевиллем, который подтвердил
континентальную гегемонию Наполеона и подготовил распад древней
505
империи, Шиллер получил просьбу Гёшена о стихотворении к
празднованию этого мира. Он отклонил эту просьбу, так как
мы, немцы, играем в этом мире такую позорную роль и он не
хочет писать сатиру на немецкое государство (26 февраля 1801
года). Он высказался все лее потом об этом событии в
стихотворении «Начало нового века». Там он клеймит люневилль-
ский мир как закат европейской свободы. Она стала добычей
континентальной (Франция) и морской (Англия) гегемониче-
ской власти: Сокрушились старых форм основы, / Связь племен
разорвалась.../.../два народа, молнии бросая и трезубцем
двигая, шумят, / И дележ всемирный совершая, / Над свободой
страшный суд творят (т.1, с.321).
Где осталось стремление к свободе? Франция, где оно
незадолго до этого так мощно проснулось, стала между тем
прибежищем несвободы, насилия и стремления к завоеванию. Когда
наследный принц Карл-Фридрих Саксен-Веймарский в начале
1802 года отправился в образовательное путешествие в Париж,
Шиллер сочинил в качестве напутствия стихотворение,
которое было исполнено на мелодию популярной «Рейнской
застольной песни» на одном из собраний гетевского кружка,
собиравшегося по средам: Он стены родовые покидает, / Своих
родных и близких круг, / Чтобы узреть, как гордо процветает/
Великий град, что грабит всех вокруг (I, 461).
Эти собрания кружка по средам были организованы, чтобы
развеять унылое чувство зимы в ноябре 1801 года. Каждые две
недели собирались после театра к ужину у Гёте. Избегали
названия «клуб», потому что это звучало слитком
по-революционному. «Кружок» звучало безобидно, и такими же должны
были быть и встречи, на которые собирались 14 человек,
избранных хозяином и Шиллером. Сюда разрешалось приходить
гостям, которые были приятны всем членам кружка. Иногда
гостем был и герцог, если он хотел развеяться с помощью
утиной печенки, вина и поэзии, в этих случаях всё было довольно
натянуто, даже если пели и болтали. «Члены кружка
находились ли на земле, ни на небе, ни в аду, а в интересном среднем
состоянии, которое частью неловко, частью отрадно» — так
описывал Гёте этот кружок. Туда-то Шиллер и принес
осуждение нездорового французского духа и дал хорошее напутствие
наследному принцу: Пусть дух отечества пребудет/ Тебе
опорой верной там,/Где твой корабль буря будет/Клонить к
неверным берегам (I, 462). Наследный принц хочет попытаться
506
быть настолько дерзким, чтобы в сердце власти найти ее
тайну. Только в Париже можно спуститься... в кратер, /из
которого поднимается лава (I, 461). Другое стихотворение, которое
Шиллер тоже принес в кружок в среду, называется «Античные
статуи в Париже». Французская армия представлена в нем как
грабительница европейских культурных ценностей, но
разграбленные ценности мстят за себя: Нет, они, во власти галла,
/ Не покинут пьедестала, / Для франщзской солдатни. /
Музами лишь тот владеет, /Кто их трепетно лелеет. /Камень ~
варварам они (т.1, с.320). Тот, кто хочет завладеть искусством,
потеряет его. Оно открывается только свободному чувству; это
не может быть иначе, потому что свобода, которая тонет в
большой политике, нашла свое убежище в искусстве и там лишь
свободой, а не принуждением может быть приглашена к
разговору. Шиллер рекомендует в политической суете поклонение
прекрасному.
Это был тот Шиллер, который впервые в уютном кружке с
полной определенностью формулирует мысль о немецкой
культурной нации. Он намекал на это в стихотворении
«Начало нового века», когда начал его с вопроса: Где приют для
мира уготован?/Где найдет свободу человек? — и заканчивал
ответом: Заключись в святом уединенье, / В мире сердца, чуждом
суеты! / Красота живет лишь в песнопенье, / Л свобода в
области мечты (т.1, с.322). Шиллер планировал широко развить
мысли о немецкой культурной нации в большом философеко-
иолитическом стихотворении иод названием «Немецкое
величие». Оно не было написано, но сохранившиеся
подготовительные материалы к нему в остроумных формулировках
достаточно ясно показывают прицельный ход мысли: Может
ли немец в этот момент, когда он бесславно вышел из
многослезной войны... моэюет ли он гордиться своим именем и
радоваться?... Да, он может это! Немецкое государство и немещая
нация — две разные вещи. Величие немцев никогда не
заключалось в головах его князей. Отделяясь от политического, немцы
учредили собственные ценности, и если империя потонула, то
немецкое достоинство осталось неоспоримым. Оно —
нравственное величие, оно живет в культуре (I, 473—474).
В большой политике Германия не представлена, но ее
достоинство представлено в культуре. Культура прочнее, чем
политическая сила, которая быстро выигрывает, но еще быстрее
проигрывает. Если культура продолжается дольше, то справед-
507
ливо и другое: на ее создание требуется больше времени.
Поэтому немцы как нация пришли в историю с опозданием. Но
из-за опоздания они выигрывают: наконец должны победить
обычаи и разум, которые изнемогают от грубого насилия
формы, - и медлительнейший народ станет все быстрее догонять
упущенные возможности (I, 475). Опоздание как недостаток
оборачивается достоинством: не обессилели преждевременно
из-за борьбы за власть. В то время как другие изнуряются в
повседневной борьбе, даже если они спешат от победы к победе,
Германия работает над вечным строительством воспитания
человека и потом покажет наконец, в чем состоит смысл
промедления: Каждый народ имеет свой день в истории, но день
Германии — урожай большого времени (I, 478). С такой точки
зрения как же можно не поверить в то, что это — мировой дух,
который выбрал немцев для совершения великой миссии —
способствовать развитию свободы и прекрасного гуманизма в
Европе? Шиллер и не думал мечтать о том, что из-за
опоздания нации вместо демократии и культурной зрелости может
выйти особая истерия и враждебность, что медленно
вырастающая культура и образование будут недостаточно сильными,
чтобы препятствовать варварству, и что эта культура даже
может стать инструментом для варварских целей.
Мы не знаем, почему Шиллер не написал стихотворение
«Немецкое величие». Может быть, немецкая миссия была для
его вкуса слишком грандиозной? Или реалист поднял в нем
протест против слишком идеалистического видения
достоинств опоздания и медлительности? Довольно того, что он не
пишет стихотворение, он откладывает эту прокламацию
исторической гуманной миссии немцев в пользу другой песни
свободы: «Вильгельма Тел ля».
В стихотворении «Начало нового века» звучит: Нет на
свете той страны счастливой, / Где цветет златой свободы век, /
Зам не тая, зеленеют нивы, / Вечно свеж: и молод человек (т. 1,
С.322). Теперь он открывает в мире гор Вильгельма Телля
зеленеющие нивы свободы. Здесь он может показать, что
действительная революция консервативна; что она думает не о поиске
нового человека, а о защите старого, удавшегося; что величие
возникает, если удавшееся защищается против нового, которое
делает дела и людей хуже; что идиллия не есть идиллическое,
но есть способность защитить свое достоинство — вплоть до
уничтожения тиранов; что прогресс может заключаться в со-
508
хранении; что можно потерять себя, если идти в ногу со
временем. Светлая поляна, на которой союзные кантоны дают
клятву на Рютли, — не свет в конце исторического туннеля, а
всегда доступная область индивидуальной ответственности и
общественного самоутверждения. «Вильгельм Телль»
показывает свободу, для которой не нужно ждать исторического часа,
потому что если уж она появилась, то она всегда здесь;
свободу, которая менее достигается, чем сохраняется, и реже
порождается историей, чем ее у истории вырывают. В «Немецком
величии» Шиллер восхваляет медлительность, но там он сделал
из этого миссию; Телль тоже медлит, но без миссии. Он
помогает самому себе. Его медлительность и осмотрительность
делают его сильным и непобедимым, и в гордой защите старого
он выигрывает свое будущее.
Что сделало эту пьесу столь популярной, так это с первого
взгляда ясная простота ее мыслительных построений.
Коренному свободному сообществу угрожает внешняя
тирания. Доведенное до крайности, оно обороняется. При этом оно
удостоверивается в своем единстве и заключает свой союз
вновь. В конце сообщество принесших клятву утверждает свою
свободу. Община, близкая природе идиллия которого
оказывается нарушенной, насильно втягивается в историю, где она
борется, побеждает тиранию и в конце может вернуться в
идиллию со своим обогащенным опытом и потому преображенной;
циркулирующий путь: он ведет из близкого природе покоя в
беспорядочную историю и снова назад. Это действует община,
«народ», но прежде всего — действует Телль, который ей
принадлежит и тем не менее держится в стороне. В этой
отстраненной и одновременно выдвигающейся роли он в состоянии
вес лучше воплощать дух этой общины. В крушены легче
выплыть одному (т.З, С.295) — этими словами Телль
обосновывает свой отказ участвовать в союзе Рютли. Если он убивает
тирана, то делает это как защитник самого себя и этим передает
свою силу общине, к которой он принадлежит: он запускает
дело коллективного освобождения, которое, возможно, напротив,
разменивается и запаздывает в стратегических расчетах.
Таким образом, в начале — идиллия. Мальчик-рыбак,
пастух и альпийский охотник объединены в хор, они
демонстрируют ее: На озеро манит купанья услада, / Уснувшего отрока
манит прохлада (т.З, с.274). Намекается на нечто угрожающее.
509
Хотя на вершинах и в одиноких долинах все еще мирно,
однако если тучи разрываются, то виден мир и города людей, из
которых приходит беда. Надвигается гроза, предупреждение о
человеческой грозе, которая за ней следует. Запыхавшись,
вбегает Конрад Баумгартен. Он убил коменданта австрийской
крепости, когда тот попытался надругаться над честью его
жены. Солдаты коменданта преследуют его. Свирепствует буря,
перевозчик не осмеливается перевезти беглеца на другой
берег. Тут появляется Теллы Попробую, коль сил моих
достанет. /.../Быть может, я спасу вас от ландсфогта. / Обоих нас
другой спасет в беде (т.З, с.282). Телль появляется вначале как
tJ
помощник в нужде, как мужчина непосредственного действия.
Он не хочет иметь ничего общего с политикой. Шиллер
спроецировал собственное недоверие к политической сфере на
своего Телля. Телль действует как естественный человек, с
непосредственной, интуитивной, спокойной реакцией. Стремление
к свободе самоутверждается как инстинкт. «Культура»
внушает ему опасения. В разговоре с сыном Вальтером он озвучива-
*J V
ет различие между природой и культурой так, как он это
представляет. Культура по ту сторону гор, где суровость природы
более не ощутима: Спускаясь с наших гор все ниже, ниже, /.../
Там ширь спокойная иной природы, / Куда хватает глаз —
повсюду нивы, / И вся страна как сад большой, красивый (т.З,
С.352). Не было бы лучше жить там, спрашивает Вальтер. Нет,
отвечает Телль, люди там потеряли свою свободу. Страна не
принадлежит им, и даже они сами не принадлежат себе. Они
порабощены государством, not ому что оно лиш ило их силы
защищать самих себя. А несвободные становятся завистливыми
и недоверчивыми. Сосед соседу там не доверяет (т.З, с.353).
Хотя природа там уже не столь сурова к человеку, из-за этого
господство человека над человеком стало еще опасней,
поэтому лучше за спиной / Пусть будут ледники, чем злые люди (т.З,
с.353). Для Телля политика принадлежит той культуре, от
которой он держится подальше. Он защищает свою непосредст-
4J
венность от мира посредственностей, интриг, планов,
стратегий. Когда Штауффахер, организатор политического протеста,
пытается немного позже склонить его к общественной акции,
он отказывается. Что ж, родине на вас надежды нет, / Когда
придет нужда к самозащите? (т.З, с.296) — спрашивает
Штауффахер, и Телль отвечает: Телль выручит из пропасти ятеи-
ка, — / Так разве он друзей в беде покинет? / Но вы не ждите
510
от меня совета:/Я не умею помогать словами. /А делом,
захотите вы ответа, / Зовите Телля — он пойдет за вами (т.З,
С.296). Телль ведет себя спокойно, пока власть предержащие
оставляют его в покое; он доверяется силе и постоянству
естественного порядка жизни, который переживет политическую
суету тирании. Крутой правитель властвует недолго (т.З, с.295).
Он живет в свободе, только ему не нужно ее завоевывать. Она —
его жизненный элемент. Ведь он дышал свободой! (т.З, с.381).
Итак, Телль держится в отдалении. Пока он еще
невозмутимый возмутитель, драматически замедляющий элемент. Но
сограждане пришли в движение; возмущение и стремление к
противостоянию растет. Нагромождаются преступления
тирании. Свободные крестьяне ограблены. Молодой Мельхталь,
защищаясь от насильников, которые угоняют его волов, ударяет
одного из них и вынужден бежать. Хватают его отца,
выгоняют из дома, и палач выкалывает ему глаза. Это делает сына
мятежником: Какой еще / Бояться крайности, когда самой /
Зенице ока гибель угрожает? / Мы — беззащитны? (т.З, с.305).
Молодой Мельхталь, Вальтер Фюрст и Штауффахер созывают
собрание кантонов Ури, Унтервальден и Швиц в Рютли. В
порыве к свободе представители земельных общин заключают
свой союз и назначают срок для восстания и штурма
имперских крепостей и дома Габсбургов. Граждане хотят бороться не
за новый порядок, а за сохранение старого: Мы здесь не новый
заключим союз, — / Возобновляем, мы союз старинный, / Он
предками основан был... (т.З, с.325). Речь идет о старинной
свободе и старинной верности. Штауффахер напоминает символ
происхождения этой общины, о котором должны всегда
помнить, чтобы знать, почему и для чего борются и на каких
правах. Нельзя не расслышать ветхозаветные тона в этом
рассказе о пароде, который нужда толкала к переселению, который
искал убежиша в негостеприимных горах, здесь обустроился и
укротил природу: Мы эту землю заново создали / Трудами
наших рук и лес дремучий, / Служивший диким логовом медведям, /
В жилище человека превратили. / Мы извели раздувшихся от
яда/ Драконов злых, исчадия болот/... /Каш это край, мы tat
всегда владели. / И чтоб чуэюой слуга явился к нам / И цепи нам
осмелился ковать? / И нас позорил на родной земле? / Да
разве нет защиты против гнета? (т.З, с.329).
Естественное право на сопротивление обосновано здесь
иначе, чем у Руссо, — не только с отсылкой на постулат перво-
511
начального равноправия, но с указанием на первоначальное
освоение территории и почвы. Не равенство неимущих, как у
Руссо, но взятие в собственность формирует человеческое
право. У Руссо собственность является грехопадением истории, но
в рассказанном Штауффахером основополагающем мифе
человеческое достоинство основывается на собственности. Почему?
Потому что только с превращением природы в культуру
человек становится естественным, а природа — человеческой, и тем
самым возникает возможность человеческого порядка, при
котором силы человека могут развиваться — при условии, что
этот обмен продуктами с природой не будет нарушен чужими
тиранами, которые силой отнимут созданную другими
собственность для достижения собственной власти и комфорта.
Граждане готовы согласиться с императорской властью в
случае, если та выполнит свою задачу обеспечения мира и
защиты имущества: Власть признает и тот, кто всех свободней.
/ Глава быть должен, наш судья верховный, / Для разрешенья
всяких тяжб и споров. / И наши предки сами, добровольно, /
Землей, отторгнутой у дикой чащи, / Почтили императора...
(т.З, С.327). Но если император посылает для несения службы
таких тиранов, как Геслер и другие фогты, он совершает
беззаконие и вынуждает покорных к восстанию против чудовища,
которое встает между императором и народом.
До тех пор пока признавали верховную власть императора,
твердо держались законов предков, однако новый скрепленный
на Рютли союз развивается по своей собственной динамике: он
превращается в братский порядок: Скрепим мы клятвой новый
наш союз: / Да будем мы народом граждан-братьев... (т.З,
С.336). Этот новый братский порядок исходит из старого
порядка отцов; он остается исконным и патриархальным: За родину
стоим, / Стоим за наших эюен и за детей (т.З, с.329), но
внутреннее единство и свобода растут: древние кантоны
сплачиваются и рушатся сословные преграды между свободным
крестьянством, горожанами и дворянами: Вот едут рыирри из старых-
замков / Присягу дать на верность городам (т.З, с.384).
Благоразумные дворяне, представленные Аттингаузеном,
приветствуют эту революцию: Как без поддержки рыцарства
крестьянин/Дерзнул подобный подвиг предпринять?/ О, если он в свои
так верит силы, / Тогда ему мы больше не нужны, / В могилу
моэюем мы сойти спокойно. / Бессмертна жизнь... иные силы
впредь / К величию народы поведут (т.З, с.384). Как и Аттинга-
512
узен, Берта фон Брунек тоже в конце определенно
отказывается от своих дворянских привилегий: Друзья мои! Сограждане!
Примите / Меня в свои круг. Я первая защиту / Нашла в
стране свободы — и я вам / Свои права вверяю. Защищать/ Вы
будете меня, свою гражданку? (т.З, с.425). И Ульрих фон Руденц,
который один остался с фогтами против своих крестьян, но
затем благодаря Берте, в которую он влюблен, перешел на
сторону граждан, говорит в конце: Свободу я даю всем крепостным!
(т.З, С.426). Этими словами заканчивается пьеса. Произведение
об освобождении полностью завершено. Кантоны
объединились, крепостные свободны, и дворяне отказались от своих при-
M
вилегаи.
Но мы не забываем: все так хорошо устроилось потому, что
Те л ль сумел сделать свое одинокое дело. Граждане могут быть
KJ
политически успешными только потому, что аполитичный
Телль, подталкиваемый терпевшими злодеяния, политически
действовал как защитник самого себя. Граждане назначили бо-
4J
лее поздний срок для своего восстания, и поэтому они не
могли больше реагировать на ситуацию, которая не
предусматривалась стратегией, спонтанно. Действия из моментального
возмущения они себе запретили: Пастух, смотри за стадом на
зимовке /И сотоварищей вербуй в союз!/До срока всё сносите
терпеливо. /Пускай тиранов множится вина:/ Настанет день,
и с ними мы сведем / И личные и общий счет — народный (т.З,
с.337). Но когда они бездеятельно наблюдали возмутительную
сцену выстрела в яблоко и даже допустили, чтобы Телля
схватили, они замечают, что они себя слишком хорошо укротили.
Из обусловленной сдержанности родился самопаралич.
Заговорщики деморализованы. Штауффахер — Теллю: Теперь
конец всему, конец! Мы все, / вас потеряв, окованы цепями! (т.З,
С.368). И действительно, не предпринимается ничего, чтобы
освободить Телля. Телль не освободился бы без чужой помощи
из неволи, и он не убил бы тирана Геслера, чтобы отомстить
нанесенное ему злодеяние, вероятно, заговорщики в этом
случае не смогли бы преодолеть свое деморализованное состояние.
Тогда это полностью показало бы, что политические актеры
t_> *J
нуждаются в такой естественной силе, которую воплощает в
себе Телль. Во всяком случае, Телль помог общему делу, в
котором он непоколебимо следует своему. Он помог им, потому
что не чувствует себя связанным намерениями заговорщиков,
потому что в его собственном деле никто не должен помогать.
513
Таким образом, политика и стратегия заговорщиков сыграли
меньшую роль, чем аполитичная помощь Телля самому себе.
Телль не вступает на предлагаемый ему путь политических
расчетов и подсчетов, он идет не в ногу. Он тянется назад, к
дому и семье, а также и к своей независимости свободного
охотника, пока тиран Гее л ер не доводит его до крайности, когда
принуждает его стрелять в собственного сына. Это
преступление против человеческой природы сделано Шиллером еще
более ясным благодаря возмущению внешней природы. Ужасную
непогоду, которая разразилась после ареста Телля, рыбак
описывает так: Бушуйте, ветры! Молнии, сверкайте! / Гремите,
тучи! Затопляйте землю, /Небесные потоки (т.З, с.371).
Настоящий всемирный потоп, как будто геслеровское
преступление против Телля ввергло мир в хаос. Геслер олицетворяет
политическое бесправие и беду истории. Он — Ничто,
наряженное в атрибуты политической власти: Плащ рыщря —
вот все, чем он владеет (т.З, с.287). С этим Ничто нельзя
встретиться безнаказанно, оно заражает. Именно это и происходит с
Теллем. Круг его естественной жизни разорван. В момент,
когда Телль в пустом переулке дожидается Геслера, чтобы убить
его, он чувствует себя тоже вытолкнутым в хаос, в мир,
который расшатай и где его делают убийцей его врага. Вырванный
из природы, он попадает в историю. Его враг совратил его,
потому что подталкивает его к убш*ству: Я прежде жил спокойно
и беззлобно, / Одних зверей стрелою поражал / И был далек от
мыслей об убийстве.../ Теперь ты мир моей души смутил, /Ив
яд змеиный превратил во мне / Ты молоко благочестивых
мыслей (т.З, С.390). Телль, который подстерегает Геслера, — это
естественный человек, попавший в отчуждающую историю. Все
спешат,/Друг другу чуждые, никто не спросит, / Какое горе у
тебя на cepduß... /... / Их всех сюда влекут свои дела, / Меня
же мысль о крови привела! (т.З, с.391 ).
Циклическое движение граждан, которые, защищая свою
идиллию, попадают в историю и затем снова возвращаются в
обогащенную идиллию, повторяется у Телля. Он тоже
сворачивает от своего дела к этому ужасающему вылету в историю
и потом снова в идиллию. Еще горит огонь очага, жена и сын
ждут отца, патриархальный мир еще в сохранности, но Телль
уже не тот. Он потерял свою невинность. Убийца тирана
отбрасывает тень. Отсюда — противопоставление Телля и убийцы
императора Паррициды в последней сцене. В отличие от Пар-
514
рициды — фактически это был герцог Иоганн Швабский,
который в 1308 году убил своего дядю — короля Альбрехта I, —
Шиллер заставляет Телля еще раз выступить как светлый
образ и оправдать чистоту своих мотивов, еще раз освободиться
от сомнений. Тел ль — Паррициде: ...О несчастный! / Как ты
посмел корыстное убийство / Равнять с самозащитою отца?/
Ты разве сына голову спасал?/ Ты встал за святость очага? И
близких / Ты оградил от страшного конца?.. / Я чистые подъ-
емлю к небу руки, / Тебя, твое злодейство проклиная... / Я за
святую отомстил природу, / А ты попрал ее... тут связи нет:
/ Злодейство — и святейших прав защита! (т.З, с.420).
Итак, Шиллер прикладывает некоторые усилия, чтобы от
дела Телля отодвинуть всякие подозрения в убийстве из-за
угла по сомнительным мотивам. Нужно было не оставить
никаких сомнений в благородной простоте и скромном муэяском
величии протагониста. У Гете, правда, они остались. В беседе он
высказал позднее, что он находит «неудачным», что один
убийца отчитывает другого.
Трудность оправдания поступка Телля лежит еще и в том,
что смерть тирана, правомерность которой в восемнадцатом
веке обстоятельно обсуждалась, — политическая категория.
Шиллер сам говорил о Телле, что его дело было его личным
делом (Иффланду, 5 декабря 1803 года); так представленное
убийство при ближайшем рассмотрении оборачивается личной
враждой. Но Шиллер хотел этого избежать. Поэтому нужно
было фигуру Телля переставить в другую сферу, где
действуют по другим правилам, с этой стороны тоже различая
убийства личное и общественное. Телль олицетворяет единство
личности и природы на элементарном уровне, он образ из легенды,
тип святого, который защищает священный порядок от
абсолютного зла. Но так как выдерживается политическое
значение фабулы, Теллю нужно одновременно быть и тем и другим,
убийцей тирана в республиканской традиции Брута и святым
Георгием, который побеждает дракона. И кроме того, он в
своей святой простоте еще и «благородный разбойник» — в этом
XJ О
случае не из южных морей, каким его представлял
европейский Ренессанс, а из швейцарских гор; благородный разбой-
4J
ник, который непреднамеренно становится консервативным
революционером.
«Вильгельм Телль» описывает революцию во вкусе
Шиллера. О французской революции он писал в «Письмах об эсте-
515
тическом воспитании человека»: Щедрый исторический
момент находит невосприимчивый род ( V, 580). Но
мифологические граждане — нечто совсем иное, чем французы, они не
испорчены современностью, они не только не одичавшие, но и не
обессиленные, они — не голая сырая природа, но также и не
изысканная неестественность (V, 581). Из такого материала
до^кны быть сделаны революционеры. В «Вшшгельме Телле»
содержится праздничная игра Шиллера удавшейся
революцией, свободой, равенством и братством, потому что здесь есть
внутренне свободные люди, которые завоевывают и оберегают
внешнюю свободу.
Это произведение должно, пишет Шиллер Иффланду 12
июля 1803 года, заинтересовать сердца- и чувства как народная
пьеса. И действительно, оно стало весьма народным, потому
что принесло на сцену коллективную мечту о легендарном,
используя религиозные и республиканские символы,
представление о революционном символе, который соединяет в себе:
мечту сохранить прекрасную старину и устремления новых
начинаний; стремление оставить всё как есть и отправиться к
новым берегам. Этот миф не лишен очарования. Нужно пожелать
ему как образцу мечты долгой жизни в памяти человечества.
Нет, есть предел насилию тиранов (т.З, с.329).
Премьера в Веймаре стала большим успехом, но настоящий
триумф пришел только с постановкой в Берлине 4 июля 1804 года.
Потом состоялось сразу шесть повторных спектаклей — так
велик был наплыв публики. Несмотря на противостояние властей
по всей Германии, театры состязались в чести иметь право
поставить пьесу. Маигейм, Франкфурт, Брсслау, Гамбург были
первыми. Всеобщее воодушевление было таким заразительным,
что далее Август Вильгельм Шлегель заявил, что этот
«спектакль, дышащий возвьппающими сердце старонемецкими
обычаями, благочестием и честным героизмом» заслужил, чтобы
быть представленным как национальное торжество «с
изображением Телля в часовне на берегу Фирвальдштетского озера, под
свободным небом и Альпами на заднем плане». Впоследствии
так и случилось. Полувеком позже Готтфридом Келлером в его
«Зеленом Генрихе» будет дано трогательное изображение
такого праздничного представления. Пьеса, пишет он в
стихотворении к Шиллеру, совершеннейшим образом демонстрирует
подлинное призвание поэзии, которая, «представив прошлое игрою
516
просветленной, / К свершеньям новым пробуждает нас, / ... /
Когда однажды, просветлев, народы / Свою судьбу в поэму
воплотят».
Тому, кто создает мифы, случается самому стать мифом.
Слава Шиллера была такого рода. Уже при жизни началось то
торжество Шиллера, которое после его смерти в
девятнадцатом веке значится как торжественный день национального
календаря. Шиллер поначалу чувствовал себя неприятно в роли
национального героя. Слава, даже если он ею наслаждался,
приводила его в смущение. Актер Антон Генаст видел вблизи
поведение знаменитости в последние годы и чувствовал, что
старики и молодежь восхищаются Шиллером еще больше, чем
Гёте, но: «...насколько иначе вел себя в обществе Шиллер по
сравнению с Гёте: пестрое общество буквально пугало его, и
оказание почестей, которое Гёте воспринимал как нечто само
собой разумеющееся, становилось для него жутким и делало
его нерешительным; поэтому он искал тихих улиц, чтобы
избежать бесконечных приветствий; но если люди узнавали, куда
пошел Шиллер, то непременно выбирали возможность
встретиться с ним. Обычно он шел через толпу с опущенной
головой, каждого, кто его приветствовал, дружески благодарил.
Совершенно иначе шагал Гёте перед этой публикой... гордо, как
король, с высоко поднятой головой, которую при приветствии
только снисходительно наклонял».
В этом описании становится заметной возникшая тогда
склонность сравнивать обоих олимпийцев друг с другом и
подчас даже настраивать их друг против друга. Это началось у
ранних романтиков и продолжилось теперь как любимая
обществом игра. Это было за два года до триумфа «Телля», когда
Август Коцебу попытался в первый раз скандально
инсценировать эту общую игру и по этому поводу выпустил
предвосхищающую невольную сатиру на позднейшие шиллеровские
праздники.
Август Коцебу, популярный театральный автор, после
авантюрных похождений, которые привели его в Россию,
богато одарив титулом, орденом, пенсией и гонорарами, вернулся в
свой родной город Веймар и надеялся здесь тоже играть
блестящую общественную роль. Он тоже был принят при дворе. Но
Гёте, который охотно ставил в театре написанные Коцебу
пьесы, закрыл ему доступ в свой кружок по средам. В ответ на это
Коцебу организовал свой собственный клуб и начал усиленно
517
вербовать Шиллера. Он пытался вбить клин между ним и
Гёте. Для этой цели он планировал роскошный праздник ко дню
именин Шиллера 5 марта 1802 года. В празднично украшенном
зале ратуши должны были быть представлены сцены из драм
Шиллера и декламация «Песни о колоколе». Он сам хотел
выступить под занавес в роли мастера отливки колокола,
разбивающего форму, выполненную из картона, из-под которого
должен был появиться на общее обозрение бюст Шиллера,
вокруг него должен был танцевать невинный хоровод в белых
развевающихся одеяниях и в заключение увенчать его
лавровым венком. Весь Веймар с напряжением ожидал это событие.
Коцебу с толпой актеров-дилетантов, которая состояла из дам
лучших кругов, всё заботливо отрепетировал, но тут
управляющий библиотекой вечером накануне праздника отказался
дать бюст Шиллера, мотивируя это тем, что еще никогда
гипсовый бюст не возвращали невредимым. Но потом
последовало еще худшее. Когда прибыли ремесленники, чтобы обить
сцену для торжества, они нашли ратушу запертой. Бургомистру
осталось объяснять, что при «таком беспорядочном начале
никто не может поручиться за то, что нет опасности худшего».
Бургомистр, вероятно, хотел только поберечь недавно
отремонтированный зал, но кое-кто подумал, что Гёте приложил к
этому делу свою руку. Некоторые из дам, которые собирались
блистать на этом празднике, возмущенно покинули гетевские
«среды». Шиллеру все это дело было в высшей степени непри-
ят! го, и он хотел, как он признался Гёте, в зловещий день
сказаться больным. Гёте, в свою очередь, своевременно
отправился в Иену, где он с некоторым юмором следил за событиями.
Когда все миновало, Шиллер писал ему 10 марта 1802 года:
Пятое марта миновало меня счастливее, чем. пятнадцатое —
Цезаря... Надеюсь, вы найдете по возвращении умы успокоенными.
Для Веймара это было бурное событие, о котором еще
долго говорили. У участников остались обида, зависть,
враждебность и злорадство. Вообще, теперь еще больше, чем прежде,
обращали внимание на то, не дал ли трещину дружеский союз
этих двух великих людей. Это настроение Гёте вспоминал в
своих «Анналах» с мрачным удовлетворением: «Все то, что я...
замышлял с Шиллерами, неудержимо шло своим ходом».
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
Дворянство Шиллера. Ностальгия. Когда свобода поднимает паруса.
Общительная мадам де Сталь. Поездка в Берлин. Из незавершенных
работ. Кругосветное путешествие. «Деметриус». Власть из ничего.
Мотив авантюризма. Шиллеровский «Феликс Крулъ».
Производственная тайна искусства. Конец
Шиллер добился многого. Театры дерутся из-за его пьес.
Издатели платят ему солидные гонорары. Впервые его не
терзают заботы о деньгах. Живет он, правда, не в богатстве, но в
достатке. В 1802 году он приобретает представительный дом на
Эспланаде, всего лишь в нескольких шагах от дома Гёте на
Фрауенплан. Шиллер может позволить себе значительные
траты, ведь после того, как его друг и покровитель Карл фон Даль-
берг по смерти архиепископа Майнца в 1802 году стал его
преемником как курфюрст и канцлер старого государства и
возобновил свое данное ранее обещание «воздать первому
немецкому поэту благодарность Германии», у него есть хорошие
виды на доходную должность, не требующую особой работы.
Шиллер в радостном ожидании видит день розыгрыша своего
жребия, но это, конечно, в полной мере не осуществляется.
Предоставление ему постоянной пенсии, на что он втайне
надеялся, не одобрили, зато пусть нерегулярно, но он получает
денежные подарки, что помогает ему компенсировать затраты
на покупку дома, так что после смерти он оставляет семье не
отягощенную долгами недвижимость.
По предложению герцога в 1802 году Шиллер был возведен
императором Францем в высокий дворянский титул. Сам он
особенно этого не добивался, поскольку подобное сословное
возвышение было связано и с более высокими затратами, но его
свояченица Каролина фон Вольцоген и госпожа фон Штайн
втайне добились этого, чтобы обеспечить наконец Лотте доступ
ко двору, при котором Каролина, как супруга достигшего
между тем должности тайного советника и обергофмейстера
Вильгельма фон Вольцогена, играла заметную общественную роль.
Герцог хотел этой наградой еще и разозлить Гердера. Гердер за
спиной герцога приобрел у баварского курфюрста дворянский
титул, и это рассердило герцога столь сильно, что он при
своем дворе не признал титул Гердера Чтобы разозлить Гердера,
519
он хотел обеспечить Шиллера неоспоримой дворянской
грамотой. Шиллер наблюдал это дело с юмором. Он писал тайному
советнику Фойгту, который с дипломатической
изощренностью вел переговоры с венским двором, 17 ноября 1802 года:
Это, разумеется, не маленькое дело — обнаружить что-то в
моей биографии, что можно было бы квалифицировать как
службу императору и империи, и вы замечательно сделали, что
до конца держались за сук немецкого языка. 16 ноября 1802
года он получает диплом о дворянстве с гербом, изображающим
вздыбленного единорога и увенчанный лаврами шлем. Вас
рассмешит, - пишет Шиллер 3 марта 1803 года Гумбольдту, —
потому что вы услышите о нашем повысившемся общественном,
положении, это была затея нашего герцога, и так как это
произошло и я желал бы этого для Лоло и детей, то мне это тоже
нравится. Лоло сейчас в своей стихии, так что шлейф тянется
за ней ко двору.
Не только Лотта со своим шлейфом, но и Шиллер в своем
парадном фраке присутствовали на придворных праздниках,
например при визите шведского короля Густава IV, которому
представляют поэта, и король при этом высказывает нечто
лестное об «Истории Тридцатилетней войны» и прибавляет к
дружеским словам бриллиантовое кольцо в качестве подарка.
Об этом Шиллер рассказывает своему свояку и старому другу
Вильгельму фон Вольцогену 4 сентября 1803 года, который как
раз в это время ведет переговоры в Петербурге о брачном
договоре веймарского наследного принца с российской великой
княжной Марией Павловной: Мы, поэты, редко
удостаиваемся такого счастья, чтобы короли пас читали, и еще реже
случается, чтобы их бриллианты по ошибке забредали к нам. Вы,
господа государственные и финансовые люди, имеете большое
сродство с этими драгоценностями; но нате царство не от
мира сего.
В мире Веймара ему теперь иногда бывает тесно. Когда Гё-
** Ы
те замыкается в своей периодической меланхолии, то и для
Шиллера жизнь превращается в пагубный застой. Он пишет
Гумбольдту 17 февраля 1803 года: Один я ничего сделать не
могу. Часто меня тянет подыскать в мире другое
местожительство и другой круг деятельности; если бы где-нибудь было
сносно, я бы уехал (т.7, с.584). Когда он в настроении, он читает
сообщения о путешествиях или занимается составлением
«морской пьесы», и это заставляет его мечтать о дальних стра-
520
нах. В одном из таких проектов он записывает: Задачей
является драма, в которой будут связаны все интересные мотивы
морских путешествий, внеевропейских положений и обычаев,
замешанные на судьбе и случае. Отыскатьpunktum saliens*, из
которого все развивается... То есть пункт, где представлены
Европа, Индия, торговля, мореплавание, корабли и страны,
дикость и культура, искусство и природа (III, 259). Герои этой
проектируемой драмы — корсары, пираты морей и
переселенцы, которые ищу-i1 обетованную землю; это мечта о свободе,
которая подняла все паруса. Но Шиллер остается. Тот, кто не
может прорваться в мир, должен погрузиться в себя. С грустью
он вспоминает в письме к Гумбольдту от 17 февраля 1803 года
о времени, проведенном в Иене, когда они, философствуя,
сидели друг с другом до поздней ночи, когда электризовались от
духовных трений. Это было незабываемое время, которое ни-
когда не вернется. Вообще говоря, всё, что касается Иены, идет
под гору. Фихте прогнали, обвинив в атеизме. Хуфеланд и Па-
улюс, корифеи медицины и теологии, последовали за ним. Гри-
сбах лежит при смерти. Философия полностью эмигрировала с
Шеллингом, — пишет Шиллер Гумбольдту 18 марта 1803 года.
В Йене сейчас преподает молодой Гегель. Шиллер очень ценит
своего земляка и называет его основательной философской
головой, которая сама себя, к сожалению, показывает
беспомощной и неприветливой. Этот Гегель, опасается Шиллер, не
сумеет привести Иену к размаху. Очевидно, его следовало бы
свести вместе с новопризнанным историком искусства Ферно-
вом, который изъясняется хорошо и элегантно. У него Гегель
мог бы поучиться податливости и гибкости, а Фернов
благодаря общению с Гегелем мог бы вырваться из пошлости (к Гёте,
30 ноября 1803 года). Шиллер задумывается над тем, чем бы
снова помочь университету в Йене. Это стало еще труднее,
когда «Всеобщая литературная газета» переехала в Галле,
привлеченная прусским правительством, которое обещало денежную
помощь. Иногда Шиллер задумывался о том, чтобы занять
самому кафедру, чтобы кого-то собрать вокруг себя и привлечь к
этому других (Кернеру, 10 октября 1803 года). Но это только
перепады настроений, Шиллер знает, что не может позволить
себе эту миссию хотя бы из соображений здоровья, так что ос-
Решающий пункт, отправная точка {лат.).
521
тается только элегия по утраченному. Может быть, Йена
была лет шесть—восемь тому назад последним в своем роде и
имеющим непреходящее значение очагом, жизни, — пишет он
Гумбольдту 18 августа 1803 года (т.7, с.592).
18 декабря 1803 года умирает Гердер. Снова повод к
меланхолическим воспоминаниям. О том, как он в первый раз
услышал о нем в Карловой школе во время лекции Абеля «О гении»;
как он позже впервые встретился с этим удивительным и
прославленным человеком в парке в Веймаре; как Гердер говорил
о том, что в момент созидания человек совсем иной, чем в
повседневной жизни. В последние годы Гердер все более
озлоблялся и, исполненный печали, замкнулся в себе. Но Шиллер
все еще перечитывал его «Идеи к философии истории
человечества». После некоторого охлаждения он опять обрел для себя
тающую красоту стиля Гердера, так что его замечание, что
смерть Гердера — это истинная утрата не только для Веймара,
но и для всего литературного мира, было больше, чем
привычный речевой оборот. За это время, — пишет Шиллер 4 января
1804 года Кернеру, — умер Гердер, а также разные знакомые и
друзья, так что мы действительно настраиваемся на грустные
размышления и едва можем, избежать мысли о смерти. Зима и
без того мрачная гостья и ложится камнем на сердце.
За несколько дней до смерти Гердера в заснеженном
городке появилось удивительное создание, всех взволновавшее.
Мадам де Сталь, прославленная дочь прославленного отца,
последнего перед революцией министра финансов Неккара,
подобно своему заклятому врагу Наполеону, который личным
распоряжением выслал ее из Парижа, играла на великой
европейской сцене: как литератор, как очень богатая дама высшего
света, как памфлетистка, как проповедница политической
свободы без террора. Полнотелая и весьма общительная дама,
посланница элегантной французской духовности, приковала к
себе внимание всего Веймара, так как она хотела познакомиться
и полюбить эту тайную столицу немецкой культуры. Она
прочла «Вертера» и другие произведения Гёте, а также и пьесы
Шиллера. Она едва говорила по-немецки, да и не считала это
необходимым, поскольку каждый полагал своим долгом
выудить из памяти необходимое знание французского. Она
источала остроумие, а уж если она что-то спрашивала, то часто
предпочитала сама же и ответить на вопрос. Надо
превратиться, в слух, чтобы суметь следовать за ходом ее мысли, — сооб-
522
щает Шиллер, которому одному из первых, поскольку Гёте не
торопился вернуться из Йены, досталось задание представить
ей духовный Веймар. Мадам де Сталь была поражена внешним
видом высокого, уверенно выступающего мужчины: вначале
она приняла его за генерала. Шиллер и в самом деле
держался, несмотря на свой окрашенный швабскими интонациями
французский, бравым воином. Она начала разговор с
утверждения о «превосходстве нашей* драматической системы над
всеми прочими». Шиллер возразил изложением собственной
теории драмы, которую мадам де Сталь восприняла как
слишком уж запутанную для салонной беседы. Затем она испытала
на себе его воздействие и, наконец, начала восторгаться
Шиллером за его гордое, но вежливое чувство собственного
достоинства, остроту ума и энтузиазм. Отныне Шиллеру не было от
нее покоя. За несколько лет до этого Шиллер заключил из ее
сочинений, что она экзальтированная, резонерская, и притом
совершенно непоэтическая натура, и в этой личной встрече
нашел подтверждение своему приговору. 21 декабря 1803 года он
пишет Гёте: ...ее прекрасный ум. поднимается до гениальности.
Она хочет все постичь, объяснить, взвесить, она не признает
ничего неясного, неразрешимого, а там, куда не досягает свет
ее факела, для нее ничего не существует. Поэтому она
испытывает ужасный страх перед идеалистической философией,
которая, по ее мнению, приводит к мистике и суеверию, а это тот
удушливый воздух, от которого она погибает. Того, что мы
называем поэзией, она абсолютно не понимает (т.7, с.594).
Несомненно, мадам вызывала восхищение, и у Шиллера
тоже, но еще и действовала на нервы, в особенности потому, что
ее визит столь сильно затянулся. 13 января 1803 года Шиллер
сообщает Гёте, который лишь на короткое время заглянул к
мадам: С ней. все по-старому, можно было бы вспомнить о бочке
Данаид, если при этом не приходит сравнение с Окпосом. и его
ослом. Согласно греческой мифологии, Окнос вечно плетет в
аду веревку из тины реки подземного мира, которую позади
него пожирает ослица. Шиллер в это время работает над
«Вильгельмом Теллем», и время летит очень быстро; как он сказал
одному из знакомых — он бы уже давно закопал в землю Гес-
лера, если бы ему в этом вот уже несколько дней не мешала да-
То есть французской. (Примеч. переводчика.)
523
ма из Парижа. Чего бы я только не отдал за покой и свободу в
течение следующих четырех недель, тогда бы я продвинулся
далеко , — пишет он Кернеру 4 января 1804 года.
Наконец дама отбывает. В Веймаре снова воцаряется
покой, и Шиллер может снова вернуться к своим героям в горы.
От мадам де Сталь осталось скрытым, что она временами
была в тягость. Хорошо, что она этого не заметила, иначе,
наверное, ее хвалебные гимны Шиллеру были бы несколько
приглушены.
15 мая 1804 года в «Королевской привилегированной
берлинской газете» появилось стихотворение-загадка:
А: Поэт немецкий, как мне сообщают,
Со вчерашнего дня по Берлину гуляет.
Б: Простите — А: Прощаю охотно!
Б: Психолог Германии прибыл в субботу.
С: Позвольте, — к нам автор немецких трагедий
Прямо из Лейпцига прибыл намедни.
Д: Странно всё это! — Мне кто-то наплел,
Что вчера-де историк Германии в «Солнце» сошел.
С: Господа мои, зря мы затеяли спор,
Об одном человеке весь наш разговор,
И не надо нам больше впустую гадать, —
Лучше сразу великое имя назвать.
Не нужно долго гадать, кто в Афинах на Шпрее имеется в
виду. Фридрих Шиллер поселился в гостинице «У солнца» вот
уже две недели назад. Это было значительное событие для
города и для Фридриха Шиллера. Он отправился в путь с
Лоттой и детьми 26 апреля 1804 года, после внезапного решения,
для принятия которого достаточно было сорока восьми часов.
Ему хотелось наконец-то воплотить в жизнь свой старый
замысел. Во время написания «Разбойников» и в годы «Бури и
натиска» он впервые подумал о поездке в Берлин. Тогда ему
хотелось туда, чтобы кое-что расставить по своим местам.
Актерская труппа Дёббелина поставила в театре на Бсрен-
штрассе «Разбойников» с большим, но сомнительным успехом,
так как пьеса была исковеркана Плюмике. Шиллер хотел
тогда бороться за настоящих «Разбойников» и одновременно
надеялся на их плечах попытать счастья в Берлине. Но не
хватало денег на путешествие, и он остался в Бауэрбахе, скрытый от
524
сыщиков отечества. «Фиеско» тоже произвел фурор в
Берлине, в отличие от Мангейма, где республиканская свобода была
только пустым звуком, а у берлинцев, как он полагал, в жилах
течет римская кровь (Райнвальду, 5 мая 1784 года). Самое
место для него. В случае с «Коварством и любовью» вышли
неприятности. В газете «Фоссише цайтунг», задающей топ
общественного мнения, была опубликована разгромная статья
Карла Филиппа Морица: «По правде говоря, мы опять видим
продукт, который позорит наше время!» Однако публика была
другого мнения и просто толпами ломилась на спектакли.
Достаточно причин, чтобы быть на стороне вкуса публики против
злого рецензента, с которым Шиллер подружится спустя
несколько лет. С просветителями из круга Николаи Шиллер
вступил в спор еще по поводу «Ксений», которые привели в
волнение берлинские салоны. Тогда романтики были еще на
стороне Шиллера. В огромном городе Берлине — а он
насчитывал двести тысяч населения — Шиллер вполне мог
считаться великим писателем. И наконец, сейчас, после
триумфального успеха «Валленштейна» и переполненности берлинского
книжного рынка пиратскими изданиями шиллеровских
произведений, весной 1804 года, за год до смерти, Шиллер
предпринимает поездку в Берлин.
Позднее, вернувшись в Веймар, он напишет Вольцогену 16
июня 1804 года о мотивах своей последней поездки: Я
чувствовал потребность двигаться по чужому, больгиому городу. В
конце концов мое назначение — писать для широкого мира, мои
драматические произведения должны воздействовать на этот
мир, а здесь я чувствую себя в таких мелких, стесненных
условиях, что чудо, как si могу euiß создавать что-либо,
предназначенное для большего (т.7, с.597).
Уже первый прием был знаменательным. Лейтенант,
несший вахту у ворот Потсдама, начал разговор о стихах
Шиллера, некоторые из которых он знал наизусть. Было уже за
полночь, и пришлось прождать до конца декламации, пока
наконец, окоченевшие от холода, они могли двинуться дальше.
Почти каждый вечер, когда ему не приходилось из-за
приступов болезни оставаться дома, Шиллер посещал театр. В его
честь давали «Разбойников», «Мессинскую невесту»,
«Орлеанскую деву» и «Смерть Валленштейна». Кое-что ему не
понравилось, например слишком уж помпезное оформление сцены в
эпизоде коронации в четвертом акте «Орлеанской девы». По-
525
дробные слишком тщательные аранжировки представлялись
ему, как он писал Кернеру, ни в малейшей степени не
исполняющими того, чего они стоили. 5 мая 1804 года он был
приглашен на обед к принцу Луи-Фердинанду. Шиллера прежде
спросили о его любимом вине. Любимое белое бургундское
возливалось столь обильно, что Шиллер мог осилить путь
назад в гостиницу только лишь с посторонней помощью. Он
нарасхват в литературных кругах, на Генриетту Херц он
оказывает еще более благоприятное впечатление, чем Гёте. Однако к
Рахель Варнгаген, которая ставит Гете превыше всех,
Шиллера не приглашают, не удивительно — ведь там штаб-квартира
романтиков. Адельберт фон Шамиссо, который в то время в
качестве молодого лейтенанта нес вахту у Брандевбургских
ворот, напрасно надеялся встретить обожаемого им Шиллера и
смог разглядеть его лишь издали. Спустя несколько недель он
посылает ему в Веймар свое стихотворение «Фридриху
Шиллеру»: «К тебе стремилось сердце молодое, / Воспламененное
напевом смелым; / И я. узрел вдали цвет жизни спелый, / Твое,
спаситель мой, сиянье огневое».
Шиллер посетил также и Фихте, который переехал из Йены
в Берлин, где читал в частном порядке лекции. Единственное
разногласие между ними уладилось. Шиллер сделал в 1799
году все возможное, чтобы взять Фихте под свою защиту от уп-
реков в атеизме и оставить его в Иене, позднее он помог ему
собрать деньги, которые удерживал покупатель дома Фихте в
Иене. Наконец Фихте пришлось признать, что поэт Шиллер
мог быть не только великим философом, по и искусным
деловым человеком. Жена Фихте писала Лотте 18 июня 1804 года:
«Берлин выглядит теперь куда дружественнее с тех пор, как я
знаю, что вы со всем домашним хозяйством будете жить здесь».
К тому времени это был не только слух. Действительно, после
того, как весьма удачно прошло его посещение королевы
Луизы, прусский кабинет по гражданским делам предложил поэту
нечто знаменательное. Он должен был в обмен на три тысячи
талеров — напомним: от герцога он получал четыреста
талеров — переехать в Берлин. Больному предлагается также
придворный экипаж. Шиллер чувствует себя польщенным, теперь
он знает свою цену и все-таки не решается. Если он временами
и недоволен тесным миром Веймара, он все равно к нему
привязан. И уж подавно нет у него желания расставаться с Гёте. А
тот пытается замолвить слово перед герцогом о повышении
526
Шиллеру оклада. Когда Шиллер, как советует ему Гёте,
намекает герцогу, что он во имя блага семъи не может удержаться от
того, чтобы принять берлинское предложение, то герцог тут же
удваивает Шиллеру оклад и даже заставляет его отважиться на
то, чтобы поторговаться с берлинцами об ограниченном
пребывании, чтобы, как он пишет, «вытянуть у них приличную
пенсию». На это, однако, в Берлине не соглашаются. Последнее
письмо Шиллера по этому делу шеф кабинета по гражданским
делам Бойме, снабжает пометкой «Ad acta* пока не
представится случай». Таковой больше не представился.
За несколько недель перед поездкой в Берлин Шиллер
решило! — во время репетиции к премьере «Вильгельма Тел-
ля» — па написание новой пьесы: драмы о лжецаре «Деметри-
ус». В последние месяцы жизни у Шиллера усиливается
одышка. Мне снова совсем плохо, — пишет он в одном из
писем. — Я хотел бы опять погрузиться в новую работу. Это ne
что иное, как деятельность, преследующая определенную цель,
что делает жизнь терпимой.
Чем ближе он подходит к концу, тем грандиознее
становятся его планы. Его определенная цель приобретает черты
невероятного. Это как если бы он захотел в гордом осознании своей
созидательной силы доказать, что уже никакие объемы
материала его не испугают, что он способен принудить чудовищность
жизни принять отчеканенную форму.
Еще до того, как он принял решение писать «Деметриуса»,
он занялся морскими пьесами-фантазиями о глобальном мире
моря; затем он перечитал свои заметки о другой пьесе, что он
набросал в 90-х годах, речь шла о замысле произведения,
потрясающе современного, который, к сожалению, не дошел до
осуществления. В «морских пьесах» темой был прорыв в
дальние страны, пересечение реально существующих океанов. В
другой пьесе, под рабочим названием «Полиция», речь идет об
исследовании огромного стремительного человеческого океана,
Парижа - - так называет Шиллер эту восхищающую и
пугающую его европейскую метрополию (Каролине, 27 ноября 1788
года) (т.7, с. 181). Шиллеру хватило честолюбия сделать темой
своей пьесы лабиринт города, этого молоха запутанных
человеческих судеб и случайностей, этого взрывоопасного сжатия
К делу {лат.).
527
t_> t^
%J *-J
лер со всей совокупностью своих произведении отдался попытке
расширения пространства и времени. «Фиеско» была
позаимствована у итальянской, «Дон Карлос» у испанско-нидерландской
истории, «Мария Стюарт» разрабатывала английскую,
«Орлеанская дева» — французскую, а «Валленштейн» —
немецко-среднеевропейскую историю. Предпочитаемым отрезком времени был
период XV—XVI веков. Легендарная освободительная борьба
швейцарцев вела в XIII столетие. Обработкой «Турандот» он
бросил взгляд на Китай, империю Средневековья, и доведи он до
завершения свои «Морские пьесы», то в действие был бы вовле-
U \J %J
чен почти весь заокеанский, трансатлантический американский
мир. Своеобразное глубинное сотрясение вывело эти страны и
528
социальных различии и напряженностеи, этого дьявольского
котла со смесью творческого восторга, обыденного и
преступного. В тайны Парижа следовало бросить взгляд из
полицейского бюро, где правит легендарный шеф полиции
Людовика XIV Д'Аджерсон, этот единственный правитель низкого и
высокого мира. Из этой перспективы нужно рассматривать
социальный мир как дикий человеческий зверинец. Человек, —
написано в черновике, — рассматривается шефом полиции как
вид дикого животного, и также он с ним и обходится (III, 192).
В «Морских пьесах» Шиллер видел далекие горизонты мира
океана, здесь он хотел погрузиться во внутреннюю
бесконечность городского мира. Чудовищное, сложное, запутанное,
опутавшее множество семей преступление, которое всегда будет
сложно для прямого расследования, которое всегда приносит с
собой новые открытия, это главная тема. Оно словно
чудовищное дерево, которое все больше спутывается ветвями с
другими деревьями, и, чтобы выкорчевать его, нужно перекопать все
окрестности. Так перерыт весь Париж, и все виды
существования, разложения и т.д. мало-помалу будут вытащены на свет
по этому поводу. Предельные крайности состояний и
моральных ловушек становятся предметом изображения, их
высочайшие пики и характерные моменты. Простейшая невинность и
естественное паимерзейшее разложение, идиллический покой и
мрачное отчаяние (III, 193—194). ,
Своим решением в пользу «Деметриуса» (Дмитрия
Самозванца) Шиллер вместо океанской дали «Морских пьес» и
вместо городских джунглей «Полиции» выбирает иную
беспредельность: невероятные дали восточного пространства.
По крайней мере, после «Деметриуса» будет ясно, что Шил-
массы народов на свет истории. Творчество Шиллера подобно
яростному кругосветному путешествию. Это было, наверное,
тщеславие поэта — сделаться глобальным автором, во всяком
случае, автором глобального. А теперь вот «Деметриус», опять-
таки XVI век, на этот раз необозримое пространство Евразии.
Пространственная фантазия в этой пьесе не имеет границ.
Марфа, мать царя, живет в далеком монастыре посреди
бесконечного снежного ландшафта, монахини, как черные вороны,
затерялись в белой дали. Когда снег растаял и просохла слякоть
на дорогах, гонец ...вести / Принес нам из далекой стороны, /
Где есть жилье и люди (т.З, с.463). Они узнают, что английский
торговый корабль нашел путь из края льдов, / Где мир замерз
(III, 38). Марфе сообщают, что где-то в невообразимой дали, в
Польше, на западном краю российского государства, объявился
Дмитрий, который утверждает, что он ее сын. Он должен уже
быть с польским дворянским войском и донскими казаками в
Киеве и выступить со своей армией в поход против Москвы.
Дмитрий объявляется в первой сцене, где он убеждает польский
сейм в своей миссии, затем мы в Киеве и потом в снежной
пустыне у Марфы, а затем где-то под Москвой, в пылу сражения,
взгляд на золотые купола Новгорода, затем в деревнях у
крестьян, цветущие ланднтафты, пшеничные поля, слякоть.
Наконец, в центре власти, в Москве. От единства места и времени не
осталось и следа, только единство действия остается
неизменным, хотя и переплетается с невообразимой путаницей
побочных действий. Для «Деметриуса» особенно верным становится
принцип, который Шиллер сформулировал в своем письме к
Гёте от 26 июля 1800 года, когда он отважился на
романтическое событийное ревю «Орлеанской девы»: Нельзя связывать
себя никаким общим понятием, а лучше отважиться на то,
чтобы для каждого нового предмета заново найти форму и
сохранить всегда подвижным понятие жанра.
Фрагмент посвящается истории Дмитрия, который в
Польше в 1 603 году выдал себя за убитого, вероятно по приказу
Бориса Годунова, сына Ивана Грозного; он с польскими и
казацкими воинскими отрядами начал поход на Россию, получил
доверие и поддержку в народе, въехал в Москву, заставил
Марфу, мать истинного Дмитрия, публично признать его, после
смерти Бориса Годунова он был коронован и стал царем, но
несколько дней спустя был убит во время восстания, вызванного
надменным поведением польского войска.
529
Шиллеровский Дмитрий воспитывался при монастыре, а
потом у польского графа, в дочь которого, Марину, он
влюбляется. Во время дуэли он закалывает своего соперника.
Незадолго до казни, благодаря сплетению своеобразных обстоятельств,
распространяется слух, что он сын царя. Так же, как и Иоанну
из Орлеана, его настигает призвание извне, хотя и не как
веление небес, а как измышленный заинтересованной стороной
заговор, как это обнаружится позднее. Ему лгут, что он сын
царя, а он верит в это. Польский вельможа и его тщеславная,
холодная, расчетливая дочь Марина используют лжесына
царя, чтобы захватить в Москве власть. Сам по себе Дмитрий —
благородный человек и вновь воплотившийся маркиз Поза,
который написал на своих знаменах программу освобождения
людей от рабства, но прежде всего он верит сала в себя, и пока
он это делает, сила его убеждения огромна, вплоть до магии,
затем ему удается, как и Иоанне, привлечь к себе людей. Об этом
знает властолюбивая Марина. В себя он верит так же, / Как
свет в него... (т.З, с.452), — говорит она сообщнику своих
интриг и следит за тем, чтобы Дмитрий сохранил эту веру в себя.
Но в тот момент, когда он узнает, что он не сын царя, харизма
его тает на глазах, как и у Иоанны, когда она нарушает запрет
небесного задания. После того как он узнал правду, Дмитрий
может удалиться, но он решается на обман, на власть без
миссии. Если он до сих пор привлекал других верой в себя, то
теперь ему остается только насилие. Его миссия вырождается в
тиранию и террор.
Сам Шиллер в немногих словах точно и коротко изложил
то, что его привлекает в истории: Великая чудовищная цель
стремления, шаг из ничего к трону и к неоспоримой власти...
Эффект веры в самого себя и веры других в него. Деметриус
выдает себя за царя, и благодаря этому получается
сосуществование противоположных состояний; что и происходит, когда
Деметриус для какой-то части становится абсолютным
царем, когда он для себя самого и для других им быть уже пере-
стад (III, 98 99).
В целой череде сцен Шиллер изображает
массово-психологический процесс харизматического властвования. Опыт
феномена Наполеона приходится кстати. Для Наполеона тоже
верно, что вера в самого себя и внушаемость масс в эпоху перемен
может вознести отдельного человека из ничего к трону и к
неограниченной власти. «Деметриус» — это еще и учебная пьеса о
530
крушении традиционных соотношении власти и владычества в
наполеоновское время, в начинающейся эпохе масс, когда
пробил час великих авантюристов и народных трибунов.
Но это еще и пьеса о мошенниках в другом смысле.
Подспудно речь идет также и об авантюристах в мире искусства.
Идеи мошенничества Шиллер коснулся уже в
«Орлеанской деве». Когда Иоанна, эта сомнамбула своей миссии,
пробуждается и выпадает из своего исторического транса власти,
она становится, по меньшей мере на несколько мгновений,
бессильной мошенницей. Тот, кто больше не верит в себя, не
может не заметить, что он вводит других в заблуждение. Мотив
аферизма, который звучит в «Орлеанской деве» еще тихо, в
«Деметриусе» приобретает центральное значение. Это именно
тот мотив, что связан с потаенным сомнением в себе мира
художников. Не притязает ли и художник на мир, которого нет;
не требуется ли и ему вера в себя, в собственное
предназначение, чтобы суметь действовать? Не становится ли и он тоже
мошенником, которого пока не раскусили? Речь идет о старой
проблеме бытия и видимости. Подобно Томасу Манну,
проведшему последние годы жизни в работе над так и оставшимся
незавершенным романом о мошеннике Феликсе Круле, Шиллер
в своем последнем произведении занимается
царем-самозванцем, авантюристом особого покроя. Деметриус не
поддерживает непосредственной связи с художественной сферой, но, как
всякий, кто втирает кому-либо очки и кажущееся выдает за
действительное, принадлежит к великой семье иллюзионистов.
«Феликс Круль» и «Деметриус» пишутся на завершающем
этапе жизни художников: это как если бы профессиональный
секрет искусства впервые должен был бы раскрыться в самом
конце.
Деметриус - не царь, но если он, ощущая себя таковым,
воодушевленно продолжил бы свою миссию освобождения
рабов, то видимость стала бы столь истинной, что в конце
самообман мог бы считаться необходимой предпосылкой
исполнения великой задачи. Так для Шиллера обстоит дело и с
поэтическим произведением, которое может заявить о себе
только через творческий энтузиазм посреди действительных
предметов, как вторая действительность. Если между тем
теряется эта вера в собственный труд, творение ослабевает,
лишается сил, оно оседает, как суфле, которое раньше времени
достали из печи. Так произошло, например, с Шиллером во
531
время работы над романом «Духовидец», который он с трудом
продолжал, в него не веря, потому и создалось впечатление
чего-то слишком сконструированного и безжизненного. Мы
слышим скрежет машины и раздражены.
Поэтическое творчество, как и вообще работа
воображения, — это игра. Вопрос лишь в том, чтобы включиться в игру.
Тому, кого эта логика не соблазняет, все кажется чрезмерной,
бессмысленной и пустой тратой времени. Тот, кому нравится
доверяться только реалиям грубых тем, тот остолбенеет при их
отсутствии и из-за этого совсем не войдет в игру. Тот, кто все
же позволяет втянуть себя в нее, заметит, что видимость
действительности станет, вероятно, еще действительнее, чем сама
так называемая реальность. В своем программном
стихотворении «Идеалы и жизнь» (1795) Шиллер сказал по этому
поводу все необходимое: Лишь над телом властвуют жестоко /
Силы гибельного рока, / Но, с косой Сатурна не знаком, / Одно-
домец духом совершенных, / Первообраз там, в кругах
блаженных, / Меж богов сияет божеством. / Всем пожертвуй, что
тебя связало, / Если крылья силятся в полет, — / Возлегай в
державу идеала, / Сбросив жизни душной гнет (т.1, с. 189—190).
В первой редакции этот идеальный мир назывался еще
царством теней, его ошибочно понимали как царство мертвых. Но
Шиллер подразумевал иную жизненность в мире воображения,
поэтому он отказался от выражения царство теней. Более
высокая жизнь должна была без ошибок и без сомнений заявить
о себе. Искусство, поясняет Шиллер в этом стихотворении, —
это истинная жизненность, поскольку она вторгается в жизнь,
переоформляя ее.
Насколько действенна эта реальность? Мы существуем и
общаемся друг с другом на фоне великих изобретений. Еще
недавно цитировали мы мифическое открытие Эдипа, чтобы
придать очертания нашим темнейшим и навязчивым
представлениям и комплексам, и мы никогда не сумеем выяснить,
существовал ли бы вообще эдипов комплекс без Эдипа. Не
только в душе, но и в политике доминирует изобретение.
Реально существовавшие социализм и фашизм тоже были
большими, но жестокими изобретениями, тривиальными мифами,
которые организовывали и побеждали действительность. Над
историей владычествует воображение. Историк Шиллер это
знал и как политический современник чувствовал, что вместе
с Наполеоном явилась мечта о власти. Наполеон должен был
532
сначала себя изобрести как Наполеона, для того чтобы потом
он, с непредвиденными для европейской истории
последствиями, мог быть Наполеоном. Целая эпоха пережила тогда
драматическую перекройку из видимости в действительность. Но
не только Наполеон — господин над действительностью и
возможностью, видимостью и реальностью. И автор тоже. Со
своим миросозидающим и мироустраняющим фурором он
заступил на место некогда потерянного Бога. И, как всегда в случае
с творческим взлетом — «creato ex nihilo», — существует
подспудное ощущение угрозы со стороны пустоты и ничтожности.
Пока работа силы воображения не достигла еще своего
спасительного берега удавшегося описания, она снова может
оказаться иод угрозой со стороны Ничто, из которого она вот-вот
готова выйти. Согласно Августину, так же должно было
произойти с Богом. Так же и его творение, мир, остается
инфицированным этим Ничто: мир преходящ, несовершенен, а в
некотором отношении и плох. Указывать на это не устают и сегодня
рецензенты Божьего творения, испытывающие огромное
сомнение по поводу бессмыслицы мира. Не
удивительно.поэтому, что в творческом энтузиазме таится страх перед
прозрением, перед концом лунатической уверенности. Тот, кто доверяет
силе воображения, должен считаться с возможностью, что
будет ею оставлен. Поэтому художники часто менее подобны
Прометею, чем Пенелопе, которая по ночам распускает то, что
связала днем, и в качестве приюта для ее сомнения часто
остается одна лишь ирония. И потому это счастливый случай для
вымысла, когда он становится благодаря традиции прочной
точкой отношений к действительности, почти такой же сжатой,
как и она сама. Это было честолюбивым замыслом Шиллера —
сделать из мира идей нечто, что нельзя трясти без того, чтобы
так называемая действительная действительность не
рассыпалась. Парящие в вышине мысли должны быть как «Колокол»:
замурованными в землю.
Шиллер вручил времени свои творения в надежде на то,
что они не так уж и скоро будут временем поглощены. Это
доверие к себе зиждется на энтузиазме, с которым он день за днем
мог одерживать триумфальные победы над болезнью. Жизнь
духа должна была быть отвоевана у разрушавшегося тела.
Теперь эта борьба против разрушающегося тела вступила в свою
финальную фазу.
533
19 июля Шиллер отправился с Лоттой в Йену. Лотта
ожидает четвертого ребенка и ищет там помощи известного врача
Штарка. В доме Нитхаммера, который принадлежал к
философскому мужскому кругу в «Шраммай», Лотта рожает 25
июля 1804 года вторую дочь Эмилию Генриетту Луизу. Роды
протекают без осложнений. Лотте не требуется никакой
врачебной помощи, зато она требуется Шиллеру, который
накануне вечером во время загородной прогулки в Дорнбургскую
долину подхватил простуду и лежал в кровати с острыми
приступами колик. Боли стали столь невыносимыми, что
однажды он громко воскликнул: «Я этого больше не выдержу,
скорей бы это все закончилось!» Врач дал ему всего лишь
несколько дней жизни. Ко всеобщему удивлению, Шиллер
поправляло!, однако оставался бледен и изможден, не мог
работать и писал свои письма трясущейся рукой. Врач прописал
ему сладкое вино из Испании и кислое из Германии. Оба
были ему отвратительны, но он мужественно выпил прописанное
ему количество. Как раз тогда, когда он в октябре снова обрел
силы, вюрцбургская газета из Южной Германии
распространила новость о его смерти. В разных местах
подготавливаются мероприятия по случаю смерти Шиллера, Шиллер, однако
же, возвращается к письменному столу и возобновляет работу
над «Деметриусом», но опять случается внешняя задержка:
приготовление торжественного приема свежеиспеченной
супружеской пары— царской дочери Марии Павловны и
наследного принца Карла-Фридриха. Марию Павловну должны
были приветствовать в театре поэтическим торжественным
актом. Гете был в неподходящем настроении, и поэтому
Шиллеру пришлось заступить на его место — за несколько дней он
составил сценическое стихотворение «Поклонение
искусствам», свою последнюю завершенную поэтическую работу.
Шиллер не хотел тратить для славословий князю отмеренное
ему время жизни, поэтому он прославил еще раз искусство,
помогающее человеку сохранить понимание действительно
важных, исполненных духа предметов жизни: Мне не
страшны ни цепи, ни темницы — / В пространствах вольных мне
преграды нет, / Ведь мысль моя летит быстрее птицы, / А
слово — мой крылатый инструмент (II, 1089). Мария Павловна
была растрогана до слез. В последние месяцы приглашения к
ней становятся все чаще. В Веймаре поговаривают, что Мария
Павловна влюблена в Шиллера.
534
В декабре 1804 года приходит посылка с 40 бутылками
портвейна и 10 бутылками малаги от издателя Колы. Котта
отправил подарок в Веймар на радостях от того, что — несмотря
на сообщения газет — Шиллер все-таки по-прежнему жив и
оправился от страданий. И он снова может приложиться к вину.
Однажды он даже посещает бал-маскарад. Сын переводчика
Гомера Иоганна Генриха Фосса, Генрих Фосс, страстный
почитатель, который в последние месяцы часто бывал у
Шиллера и с самоотречением нес вахту у постели больного,
сопровождал его во время этого последнего маскарада и пирушки, он
описывает в письме этот знаменательный вечер: «Мы сидели
вместе вплоть до трех часов вокруг нашего питейного короля —
непревзойденного Шиллера. Ты не поверишь и не сможешь
постичь, сколь любезен был этот человек, как двадцатилетний
юноша, такой раскрегющенно-веселый, столь непринужденный
в радости, такой открытый, принимающий во всем участие...
«Да здравствует наш дорогой, любимый Шиллер», — кричим
мы... Он совсем не знал, как нас благодарить и что нам
ответить: поцелуй, пожатие руки, выражение лица, полное сердца
и души, — все, казалось, отказывало ему в его желаниях или,
вернее, не позволяло ему выразить все так, как он того хотел,
так как одно накладывалось на другое. Подумать только, мы
осушили все наши девять бутылок до дна, купались в
блаженстве...»
8 февраля 1805 года тяжело заболевает Гёте. Когда Шиллер
слышит это — он плачет. Днем позднее он переживает острый
приступ лихорадки, затем тяжелый запор, непроходимость
кишечника. Верный Фосс составляет ему компанию, сидя на
стуле ночью. «Я рассказывал ему всевозможные веселые истории,
которые его весьма радовали, и так прошла пара часов, наконец
последовало облегчение, и одному Богу известно, сколь
душевно и искренне я его поздравлял. "Теперь, — сказал он
спокойно, я здоров"». В течение нескольких недель он
действительно был здоров. Он позирует художнику Яну Фридриху
Августу Тишбейну для портрета, до завершения которого он не
доживет. В апреле он покупает лошадь по предписанию врача,
который советует ему движение. Шиллер радуется своему
первому выезду, планируемому в начале весны. До этого, однако,
не доходит. 25 апреля 1805 года он пишет последнее письмо
Кернеру: Мне, однако, будет трудно превозмочь жестокие
удары, обрушившиеся на меня в продолжение девяти месяцев, и я
535
опасаюсь, что кое-что от них все-таки останется.,. Я буду
очень доволен, если мое здоровье и жизнь продлятся до
пятидесяти лет (т.7, с.610).
Гёте он встречает в последний раз 1 мая по пути в театр.
Они обмениваются немногими словами, затем Гёте снова
разворачивается и уходит, он плохо себя чувствует. Он чувствует
недоброе. Этим вечером 1 мая во время исполнения
развлекательной пьесы Шиллер, сидя в ложе, теряет сознание. Его бьет
озноб. Генрих Фосс провожает его домой.
Еще девять дней должен мучиться Шиллер. Он редко
теряет сознание. Он требует сказок и рыцарских историй, «в них
материал ко всему прекрасному и великому». С Каролиной он
хочет поговорить о различии трагедии и комедии. Каролине
этого не хочется. Шиллер: «Вот, если меня никто больше не
понимает и я сам себя больше не понимаю, то лучше помолчать».
8 мая он отвечает на вопрос Каролины о своем состоянии: «Все
лучше, все яснее». Он хочет увидеть солнце на вечернем небе.
Каролина открывает занавеску. Затем беспокойная ночь.
Сильное стеснение в груди. Врач дает ему бокал шампанского.
Шиллер больше не узнаёт ггрисутствующих. Однако Лотта уверена,
что при последнем рукопожатии он ее узнал, в чем Каролина
втайне сомневается.
9 мая, ближе к вечеру, Фридрих Шиллер умирает. 11 мая
его хоронят. Гёте не может присутствовать на похоронах из-за
болезни.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1759, Ю ноября: Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер родился в Мар-
бахе на Неккаре. Родители: Иоганн Каспар Шиллер,
27.10.1723 — 7.9.1796, сначала фельдшер и хирург, с 1753 г. — в
армии герцога Карла-Евгения Вюртембергского в качестве
полкового каптенармуса, с 1758 г. — лейтенант, с 1761 г. —
капитан, затем офицер-вербовщик, с 1775 г. — интендант
герцогского дворцового сада в Солитюде; Элизабет Доротея, урожд.
Кодвайс, 13.12.1732 — 29.41802, дочь хозяина гостиницы
«Золотой лев» в Марбахе. Сестры Фридриха: Элизабет Кристофи-
на Фридерика, род. 4.9.1757 г.; Луиза Доротея Катарина, род.
23.1.1766 г.; Мария Шарлотта, род. 20.11.1768 г.; Беата
Фридерика, род. 4.5.1773 г. (в том же году умерла); Каролина
Кристиана (Нанетта), род. 8.9.1777 г.
11 ноября: крещение Фридриха.
1764 Семейство Шиллеров поселяется в Лорхе, около Швэбиш-
Гмюнда. Дружба с Карлом Филиппом Концем и Кристофом
Фердинандом Мозером.
1765 Первоначальное образование в деревенской школе в Лорхе,
обучение основам латинского языка (на следующий год —
древнегреческого) у пастора Филиппа Ульриха Мозера, чей пример
пробуждает поддержанное родителями желание стать
священником (позднее в «Разбойниках» Шиллер увековечит его имя).
1766, конец декабря: переселение в герцогскую резиденцию Людвигс-
бург, здесь Шиллер с 1768 г. начинает посещать придворный
театр (по большей части оперные спектакли).
1767 Начало учебы в людвигсбургской латинской школе. Дружба с
Фридрихом Вильгельмом фон Ховеном.
1772, 25 апреля: в день конфирмации Шиллер пишет свое первое
стихотворение на немецком языке (утрачено), а также
первые — не дошедшие до нас — опыты трагедий: «Христиане»,
«Авессалом».
537
Конец года: окончание школы.
1773 Герцог отвергает план Шиллера изучать теологию и
отправляет сына своего капитана в Карлову школу (основана в 1771 г. в
качестве военного питомника из созданного в 1770 г. приюта
для военных сирот; с 1773 г. — герцогская военная академия).
Внутренний протест против духа школы (строго
регламентированная казарменная жизнь, униформа, изоляция от внешнего
мира, герцог Карл-Евгений в качестве личного воспигателя). В
небольшом кругу друзей тайные занятия Лессингом («Эмилия
Галотти»), Клопштоком (под его влиянием написаны гимн «К
солнцу» и эпическое стихотворение «Моисей») и драмами
«Бури и натиска».
1774 Дружба с Георгом Фридрихом Шарфенштайном и Иоганном
Вильгельмом Петерсеном. Создание юридического факультета
в военной академии: начало занятий юриспруденцией; «Отчет
герцогу Карлу-Евгению об одноклассниках и о себе самом»,
написанный осенью, указывает всё же на продолжающуюся
склонность к теологии.
1775 Чтение «Страданий юного Вертера» Гёте и газетная заметка о
самоубийстве одного студента подталкивают Шиллера к
разработке плана драмы «Студент из Нассау» (не сохранилась).
Ноябрь: перемещение военной академии в Штутгарт и создание
медицинского факультета Решение Шиллера перейти с
юридического факультета на медицинский.
1776 Активные занятия философией и драматургией Шекспира (в
прозаических переводах Виланда/Эшенбурга) под влиянием
Якоба Фридриха Абеля, профессора философии. Чтение
Руссо, Юнга, «Песен Оссиана». Под влиянием «Юлиуса Тарент-
ского» Лейзевица Шиллер пишет драму «Космус Медицин-
t_ï
скии», но уничтожает ее сразу же после завершения.
Октябрь: в журнале «Швэбише магацин» появляется первое
опубликованное стихотворение Шиллера «Вечер», в марте
следующего года за ним следует ода «Завоеватель».
1777 Работа над «Разбойниками».
1778 Шиллер принимает решение приостановить занятия
литературой, чтобы углубиться в «хлебную науку» и завершить учебу;
чтение Фергюсона и Гарве.
1779 В день рождения Франциски фон Хоэнхайм (10 января)
Шиллер произносит праздничную речь. Диссертация «Философия
физиологии» отклоняется.
14 декабря: празднование годовщины Академии в присутствии
герцога Карла-Августа Веймарского и Гёте.
538
Возобновление страстного увлечения литературой. Написаны
«Усыпальница королей» (опубликована в «Антологии па 1782
год» под названием «Дурные монархи») и лирическая
оперетта «Семела».
1780 Вторая праздничная речь Шиллера ко дню рождения
Франциски фон Хоэнхайм: «Добродетель, рассмотренная в ее
последствиях»; ко дню рождения герцога (11 февраля) постановки
«Клавиго» Гёте с Шиллером в заглавной роли.
Продолжение работы над «Разбойниками».
В июне ухаживает за смертельно больным другом Августом фон
Ховеном; в июне—июле наблюдает за впавшим в болезненную
меланхолию воспитанником Йозефом Фридрихом Граммоном.
Шиллер представляет вторую диссертацию, которая
отклоняется 13 ноября. Через несколько дней Шиллер подает третью
работу на тему: «О большой связи животной природы человека с
его духовной природой», которая была принята
экзаменационной комиссией 16 и 17 ноября и в том же году доработана и
опубликована в качестве диссертации: «Опыт исследования вопроса
о связи животной и духовной природы человека».
Интенсивная работа над «Разбойниками».
15 декабря: окончание военной академии; в качестве военного
врача Шиллер направляется в гренадерский полк Оже в
Штутгарт.
1781 у январь: умер Иоганн Кристиан Векхерлин. В память о нем
Шиллер пишет «Элегию на смерть юноши».
Май/июнь: «Разбойники. Пьеса» опубликована анонимно за
счет средств автора (с вымышленным местом издания).
Начало долговых обязательств Шиллера, так как для издания
книги он вынужден был занимать деньги. Хериберт фон Дальберг,
интендант Мангеймского национального театра, настаивает на
сцепической обработке пьесы.
Август/сентябрь: Шиллер готовит сценический вариант
«Разбойников».
1782у 13 января: премьера «Разбойников» в Мангейме имеет
ошеломительный успех. Шиллер присутствовал на спектакле
инкогнито (без отпуска с места службы).
21 января: второе, улучшенное, издание «Разбойников» (с
известным девизом «На тиранов», вставленным без ведома
Шиллера). В апреле опубликована сценическая обработка
«Разбойники, трагедия».
539
Февраль: «Антология на 1782 год» опубликована анонимно за
счет автора.
25—28 мая: тайная поездка в Мангейм; переговоры с Дальбер-
гом, который намекает на возможность штатной должности в
его театре.
28 июня —11 июля: арест за несанкционированный выезд за
границу; работа над «Фиеско» и первые наброски к «Луизе
Миллер».
По совету Дальберга Шиллер решает написать пьесу о Дон
Карлосе.
Конец августа: герцог Карл-Евгений запрещает Шиллеру
любое писательство, за исключением медицинских сочинений.
22 сентября: бегство Шиллера в Мангейм в сопровождении
друга Андрсаса Штрайхера.
27 сентября: Шиллер читает «Фиеско» актерам Мангеймского
театра: полный провал.
Начало октября: отъезд во Франкфурт. Возвращение в
Мангейм; Шиллер инкогнито поселяется в Огтерсгейме. Работа над
«Луизой Миллер» и сценическая обработка «Фиеско», которая
и на этот раз не удовлетворяет Дальберга.
30 ноября: из-за боязни ареста Шиллер покидает Оггерсгейм и
едет в Тюринген через Вормс, Франкфурт, Гельнгаузен.
7 декабря: прибытие в Бауэрбах (около Майнингена) в
поместье баронессы Генриетты фон Вольцоген. Дружба с
библиотекарем Вильгельмом Фридрихом Германом Райнвальдом,
впоследствии мужем старшей сестры Кристофины.
1783, начало года: завершен первый вариант «Луизы Миллер»;
наброски планов и сбор материалов для драм «Имхоф» и «Мария
Стюарт», затем на первый план выходит «Дон Карлос»: «Бау-
эрнбахский набросок» (март/апрель).
14 апреля: письмо Райнвальду, содержащее основные мысли
«Теософии Юлия».
Конец апреля: опубликована драма «Фиеско».
Апрель—июнь: Дальберг намекает на возможность постановки
«Луизы Миллер», и Шиллер завершает работу над пьесой.
Несбывшаяся любовь к Шарлотте фон Вольцоген.
20 июля: премьера «Фиеско» в Бонне.
24 июля: отъезд из Бауэрбаха в Мангейм.
Посещения Музея античности в Мангейме (см. статью
Шиллера «Музей антиков в Мангейме»).
540
Конец августа: договор с Дальбергом о вступлении с 1
сентября в должность драматурга Мангеймского театра с
обязательством написать три пьесы.
I сентября: тяжелое заболевание — приступы температуры до
середины ноября.
Очередная сценическая обработка «Фиеско» завершена в
конце ноября.
1784у январь: Шиллер становится членом Курфюрстского немецкого
общества в Мангейме, произносит 26 июня вступительную речь
на тему: «В чем состоит воздействие хорошего театра?» (в
более поздней редакции: «Театр, рассматриваемый как моральное
учреждение»).
II января: сдержанная реакция публики на первую мангейм-
скую постановку «Фиеско».
Февраль: начало сценической обработки «Луизы Миллер»; по
предложению Иффланда Шиллер изменяет название пьесы на
«Коварство и любовь».
Середина марта: «Коварство и любовь» выходит отдельным
изданием в типографии Шванна в Мангейме.
15 апреля: Первая постановка в Мангеймском театре
«Коварства и любви» (премьера состоялась 13 апреля во Франкфурте)
проходит с огромным успехом.
Начало июня:. Шиллер получает письмо, подарки и портреты от
группы своих саксонских почитателей (Кристиан Готфрид
Кернер, консисториальный советник в Дрездене, Людвиг
Фердинанд Губер, Минна и Дора Шток); начало дружбы с
Кернером, продолжавшейся до конца жизни Шиллера
6 июня: первая встреча с Шарлоттой фон Ленгефельд.
Возобновление работы над «Дон Карлосом» (белый
пятистопный ямб).
Начало августа: Шарлотта фон Кальб переезжает в Мангейм;
Шиллер постоянно навещает ее.
Отклоняется просьба Шиллера о продлении договора с Маи-
геймским национальным театром. Размышления Шиллера о
возврате к медицине. Надежда поправить ухудшающееся
материальное положение с помощью издания театрального
журнала «Рейнская Талия».
23—29 декабря: поездка в Дармштадт.
26 декабря: чтение первого акта «Дон Карлоса» в Дармштадте
в присутствии герцога Карла-Августа Веймарского.
541
27 декабря: Шиллеру пожалован чин веймарского придворного
советника.
1785, 10/22 февраля: письмо Кернеру с извещением о своей поездке
в Лейпциг.
Середина марта: выходит первый номер «Рейнской Талии»,
посвященный герцогу Веймарскому, в котором помещены
первый акт «Дон Карлоса», рассказ «Удивительный пример
женской мести», доклад о театре, «Письмо путешествующего
датчанина» и другие работы Шиллера.
9—17 апреля: поездка в Лейпциг.
Начало мая: переселение в Голис около Лейпцига. Дружеское
общение с сестрами Шток, Губером, художником Райнхартом
(создавшим портреты Шиллера) и издателем Георгом
Иоахимом Гёшеном.
1 июля: в поместье Кансдорф близ Борны (Лейпциг) первая
встреча с Кернером.
Встреча с Карлом Филиппом Морицем.
Конец августа/начало сентября: очередная переработка «Фие-
ско» для сцены.
Начало сентября: после помолвки Кернера с Минной Шток
Шиллер едет по приглашению молодой пары в Дрезден.
12 сентября — 20 октября: Шиллер гостит у Кернера в Вайн-
берге в Лёшвице на Эльбе; затем живет вместе с Губером в
Дрездене; затем снова у Кернера.
Как выражение чувства дружбы возникает ода «К радости».
Интенсивная работа над «Дон Карлосом».
1786, середина февраля: под названием «Талия» у издателя Гёшена
выходит второй номер театрального журнала Шиллера, в котором
опубликованы ода «К радости», повесть «Преступник из-за
позора» (позднейший вариант «Преступник из-за потерянной
чести»), начальные сцены из второго акта «Дон Карлоса»; в
третьем номере «Талии» (конец апреля/начало мая) продолжается
публикация «Дон Карлоса» и начинается публикация
«Философских писем»; в четвертом номере (январь 1787 г.) — начало
третьего акта «Дон Карлоса» и начало романа «Духовидец».
Интенсивные занятия историей. Начало работы над
«Историей отпадения Нидерландов»
1787 Книжное издание драмы «Дон Карлос, инфант Испанский»
(книга поступила в продажу в конце июня).
542
20 июля: по приглашению госпожи фон Кальб Шиллер едет в
Веймар (через Лейпциг и Наумбург).
Шиллер посещает Виланда и Гер дера (Гёте в это время
находится в Италии). Доверительное общение с Шарлоттой фон
Кальб. Знакомства с Карлом Людвигом фон Кнебелем,
Короной Шрётер и госпожой фон Штайн.
29 августа: премьера «Дон Карлоса» (стихотворный текст) в
Гамбурге.
Конец августа: Шиллер заезжает в Йену к философу Райихоль-
ду: разговоры о философии Канта.
Сентябрь: усиленная работа над «Историей отпадения
Нидерландов».
Октябрь: дружеское общение с Виландом. Планы совместного
издания журнала «Немецкий Меркурий».
Начало сотрудничества с йеиской «Всеобщей литературной
газетой».
Конец ноября: недолгое пребывание в Бауэрбахе и Майнингене
у Вольцогенов и Райнвальда. На обратном пути посещение
семейства Ленгефельд в Рудолынтадте. Шиллер симпатизирует
обеим дочерям: Каролине (помолвлена с придворным
советником фон Бойльвицем) и Шарлотте.
1788, январь—апрель: Шарлотта фон Ленгефельд в Веймаре.
Шиллер заставляет себя продолжать работу над «Духовидцем».
Март: в «Немецком Меркурии» опубликованы «Боги Греции».
18 мая: отъезд в Фолькштедт под Рудолынтадтом; в
последующие месяцы Шиллер почти ежедневно посещает семейство
Ленгефельд.
Июль: завершение первой части «Истории отпадения
Нидерландов» (издана в октябре в Лейпциге).
В июльском номере «Немецкого Меркурия» опубликованы
четыре первых «Письма о Дон Карлосе» (письма 5—12-е
публикуются в декабрьском номере).
Август: усиленные занятия античной литературой, прежде
всего древнегреческой трагедией (до поздней осени — переводы с
древнегреческого: «Ифигения в Авлиде» и др.).
Переселение в Рудолынтадт.
7 сентября: первая личная встреча с Гёте в доме Ленгефельдов.
20 сентября: в йенской «Всеобщей литературной газете»
опубликована рецензия Шиллера на «Эгмонта» Гёте.
543
12 ноября: возвращение в Веймар.
15 декабря: по инициативе веймарского двора Шиллеру
предлагают должность экстраординарного профессора на кафедре
истории Йенского университета.
1789, январь: публикация в «Немецком Меркурии» (анонимно)
рассказа «Игра судьбы».
Увлеченные занятия историей.
План издания «Небольших прозаических сочинений» (изданы
в четырех томах в 1792—1802 гг. в Лейпциге).
Апрель: присуждение докторской степени философским
факультетом в Йене.
Знакомство с Готфридом Августом Бюргером.
11 лшя: переезд в Йену.
21 мая: объявление лекции «Введение в мировую историю».
26 мая: вступительная лекция «В чем состоит изучение
мировой истории и какова цель этого изучения?». Восторженная
реакция студентов.
Начало августа: обручение с Шарлоттой фон Ленгефельд
(официально объявленное только в декабре).
Зимний семестр: курс лекций «Мировая история от монархии
франков до Фридриха II».
«Духовидец» выходит отдельной книгой в издательстве Гё~
шена.
24 декабря: первая встреча и начало дружбы с Вильгельмом
фон Гумбольдтом.
1790, январь: присуждение титула придворного советника Майнинге-
на. Шиллер начинает изучать источники для «Истории
Тридцатилетней войны».
22 февраля: свадьба с Шарлоттой фон Ленгефельд в Вени-
генйене.
Летний семестр: наряду с основным курсом лекций «Мировая
история до основания монархии франков» Шиллер читает
лекцию «Теория трагедии» (на основе которой пишет статьи «О
причине удовольствия от трагических предметов» и «О
трагическом искусстве»).
Осень: завершение первой части «Истории Тридцатилетней
войны», которая публикуется в «Историческом календаре для
дам на 1791 год».
-
544
Зимний семестр: «История государств Европы» и «История
крестовых походов» (среди слушателей — Фридрих фон Гар-
денберг = Новалис).
Ноябрь: во втором выпуске «Талии» опубликованы статья
«Законодательство Ликурга» и другие сочинения Шиллера.
1791, январь: серьезное заболевание, от которого Шиллер так и не
оправился; после некоторого улучшения последовало резкое
ухудшение в мае (слухи о смерти Шиллера).
Шиллер получает освобождение от чтения лекций во втором
семестре.
Середина января: опубликована (анонимно) рецензия Шиллера
о стихотворениях Бюргера во «Всеобщей литературной газете».
План «Валленштейна».
Февраль: начало углубленного изучения Канта.
Июль: Шиллер едет лечиться в Карлсбад; август/сентябрь —
дополнительное лечение в Эрфурте.
Декабрь: по ходатайству датского писателя Енса Баггесена
наследный принц Фридрих-Христиан фон Аугустенбург и граф
Эрнст фон Шиммельман предлагают Шиллеру стипендию на
три года; тем самым ему предоставляется возможность для
углубленных занятий философией и эстетикой, а также
критической философией Канта.
1792 Повторяющиеся приступы болезни.
В двух первых номерах «Новой Талии» публикуются переводы
Шиллера из «Энеиды», а также статья «О причине
удовольствия от трагических предметов».
Апрель: поездка в Лейпциг и Дрезден. При посредничестве
Кернера знакомство с Фридрихом Шлегелем.
26 августа: Парижское национальное собрание присуждает
Шиллеру звание почетного гражданина.
Конец августа: опубликован первый том «Небольших
прозаических сочинений»: «Философские письма», «Преступник из-
за потерянной чести» и другие.
Мать и сестра Нанетта посещают Шиллера в Иене.
Завершение «Истории Тридцатилетней войны» (публикация в
«Историческом календаре для дам на 1793 год»).
Зимний семестр: лекция об эстетике (плод чтения «Критики
способности суждения» Канта). План диалога «Каллий, или О
прекрасном».
545
1793 Продолжаются сильные приступы болезни.
Летний семестр: продолжение лекций по эстетике (последние
лекции Шиллера в университете). Шиллер пишет эстетико-фи-
лософские труды «О грации и достоинстве» и «О
возвышенном», первое из писем «Философия прекрасного»,
посвященных принцу Аугустенбургскому.
Начало августа: едет с Шарлоттой через Нюрнберг в Швабию
для посещения родителей. Пребывание в Хайльбронне, с
сентября — в Людвигсбурге. Общение со старыми друзьями и
учителями (фон Ховен, Конц, Ян).
Работа над «Валленштейном».
14 сентября: рождение первого сына Карла Фридриха
Людвига.
Конец сентября: встреча с Гёльдерлином, которого Шиллер
рекомендует госпоже фон Кальб в качестве домашнего учителя.
24 октября: участие в похоронах герцога Карла-Евгения Вюр-
тембергского.
1794, февраль: знакомство с поэтом Фридрихом фон Маттисоном.
Март: поездка в Тюбинген для встречи с профессором Абелем.
Переезд в Штутгарт. Знакомство с издателем Иоганном
Фридрихом Коттой.
3 мая: первое знакомство с Иоганном Готлибом Фихте.
6—14 мая: возвращение в Иену.
Укрепление дружбы с Вильгельмом фон Гумбольдтом,
который в феврале по желанию Шиллера переехал в Йену.
18 мая: Фихте начинает работать в Йене на месте Рейнхольда.
Шиллер пишет рецензию о стихотворениях Маттисона.
Договор с Коттой об издании журнала «Оры»; Шиллер
приглашает к сотрудничеству Гёте, Канта, Гердера, Фихте,
Гумбольдта, Фридриха Генриха Якоби и Маттисона, позднее Гёльдерли-
на и братьев Шлегель.
Июнь/июль: усиленное чтение Канта.
20 июля: после заседания Общества естествоиспытателей в Йене,
на котором присутствовали Гёте и Шиллер, между ними
завязывается разговор о прарастении, положивший начало их дружбы,
продолжавшейся до конца жизни Шиллера.
23 августа: Шиллер пишет письмо Гёте, в котором обобщает
«итог сущности» Гёте. Начало переписки.
546
Сентябрь: Шиллер пишет первые «Письма об эстетическом
воспитании человека», представляющие собой основательную
переработку сгоревших при пожаре замка Христиансборг
писем принцу Августенбургскому.
14—27 сентября: Шиллер живет у Гёте в Веймаре. С этого
времени они часто посещают друг друга.
Начиная с декабря Гёте постоянно пересылает Шиллеру для
чтения гранки романа «Годы учения Вильгельма Мсйстсра».
1795, январь: «Оры» начинают выходить ежемесячно (в первых
номерах — «Письма об эстетическом воспитании человека»).
Февраль: последний номер «Новой Талии».
Март/апрель: Шиллер отклоняет приглашение в Тюбинген на
должность штатного профессора философии.
Июнь: после долгой паузы в лирическом творчестве Шиллер
пишет стихотворение «Поэзия жизни».
Разногласия с Фихте по поводу его статьи для «Ор» «Дух и
буква в философии».
Июль—октябрь: Шиллер возвращается к лирике: пишет ряд
стихотворений для «Ор» и для запланированного «Альманаха
муз на 1796 год».
Шиллер принимает решение снова обратиться к драматургии.
Ноябрь/декабрь: начало совместной работы с Гёте над
«Ксениями» (непосредственным поводом послужили многочисленные
нападки на «Оры»).
1796, январь/февраль: в тесном содружестве с Гёте написана большая
часть «Ксений».
Март: обращение к драматическому творчеству. После
обсуждений с Гёте Шиллер решает приступить к написанию «Вал-
ленштейна».
23 марта: смерть сестры Нанетты.
Апрель: Шиллер обрабатывает «Эгмонта» Гёте для постановки
в Веймарском театре (режиссер Иффланд).
Первая встреча с Шеллингом.
Июнь: Шиллера навешает Жан-Поль.
Июль: повторное чтение романа «Годы ученья Вильгельма
Мейстера» и подробный разбор романа (с замечаниями и
предложениями) в письме к Гете.
11 июля: рождение второго сына Эрнста Фридриха Вильгельма.
547
Дружеское общение с Августом Вильгельмом Шлегелем, кото-
рый поселяется в Иене.
7 сентября: смерть отца.
29 сентября: «Альманах муз на 1797 год» («Альманах ксений»)
публикуется в издательстве Котты в Тюбингене.
Октябрь: изучение источников и первые наброски «Валлен-
штейна».
1797, февраль/март: Гёте в Йене. Беседы с Шиллером о жанровых
законах драмы («Валленштейн») и эпоса («Герман и Доротея»).
Шиллер покупает садовый домик в Йене.
Концепция пролога «Лагерь Валленштейна».
Июнь: начало увлечения жанром баллады. В соревновании с
Гёте Шиллер (до сентября) написал баллады «Водолаз»
(«Кубок»), «Перчатка», «Поликратов перстень», «Ивиковы
журавли», «Рыцарь Тогенбург», «Хождение на железный завод».
Июль: написана первая редакция «Лагеря Валленштейна».
Октябрь: опубликован «Альманах муз на 1798 год»
(«Балладный альманах») в издательстве Котты в Тюбингене.
Ноябрь: начало стихотворной обработки «Валленштейна»
(первоначальные варианты были написаны прозой).
1798 Продолжение работы над «Валленштейном» постоянно
прерывается приступами болезни. Регулярные встречи с Гёте,
обсуждение творческих планов, разговоры о философских,
эстетических, естественнонаучных проблемах.
Начало июня: опубликован последний номер (12-й) журнала
«Оры» за 1797 г.
15 августа: завершен первый вариант «Валленштейна» (в
качестве одной пьесы).
Перед возобновлением работы над «Валленштейном» Шиллер
пишет баллады «Бой с драконом», «Порука», «Счастье», «Элев-
зинский праздник» (опубликованы в «Альманахе муз на 1799
год»).
Середина сентября: вместе с Гёте обсуждают «Валленштейна»,
и Шиллер принимает решение разделить драму на две части.
Переработка (с дополнениями) «Лагеря Валленштейна».
12 октября: премьера «Лагеря Валленштейна» в день открытия
перестроенного Веймарского театра.
Конец декабря: завершение работы над «Пикколомини».
548
1799t 30 января: премьера «Пикколомини» в Веймаре, включая и
первые два акта «Смерти Валленштейна».
17 марта: Шиллер завершает «Смерть Валленштейна».
Шиллер обсуждает с Гете планы новых драм (в том числе речь
идет о будущей «Мессинской невесте» и «Марии Стюарт»),
20 апреля: премьера «Смерти Валленштейна» в Веймарском
театре проходит с необычайным успехом.
Шиллер принимает решение написать драму о Марии Стюарт
и начинает штудировать источники.
Июнь: Шиллер сочиняет первые сцены «Марии Стюарт».
Июль: встреча с Людвигом Тиком.
11 октября: рождение дочери Каролины Генриетты Луизы.
В «Альманахе муз на 1800 год» опубликованы «Ожидание» и
«Песнь о колоколе».
Тяжелое заболевание Шарлотты.
3 декабря: семья Шиллер переезжает в Веймар (садовый домик
в Йене сохраняется в качестве летней дачи).
1800, январь/март: обработка «Макбета» Шекспира для веймарской
сцены (белый стих).
14 мая: постановка «Макбета» в Веймаре в обработке Шиллера.
Середина мая—начало июня: завершающий этап работы над
«Марией Стюарт» в замке Эттерсбург.
14 июня: премьера «Марии Стюарт» проходит в Веймаре с
огромным успехом.
Шиллер набрасывает план «Орлеанской девы».
Конец июня: в издательстве Котты в Тюбингене опубликован
«Валленштейн».
Июль/август: изучение источников и разработка плана «
Орлеанской девы».
Сентябрь: Шиллер начинает писать «Орлеанскую деву».
1801, середина апреля: завершение «Орлеанской девы».
«Мария Стюарт» опубликована Коттой. Шиллер делает
сценическую обработку «Натана Мудрого» Лессинга.
Июнь: Шиллер пишет для «Дамского календаря на 1802 год»,
издаваемого Коттой, балладу «Геро и Леандер» и
стихотворения «Девушка из Орлеана» и «Начало нового века».
Начало сценической обработки «Орлеанской девы».
549
Август: поездка в Дрезден. Шиллер живет в поместье Кернера
(Вайнберг).
11 сентября: премьера «Орлеанской девы» в Лейпциге
проходит с огромным успехом. На одной из повторных постановок
(17 сентября) Шиллер присутствует и принимает восторги
зрителей.
«Орлеанская дева» опубликована в Берлине. До конца декабря
Шиллер занят обработкой «Турандот» Карло Гоцци.
28 ноября: веймарская премьера «Натана Мудрого» Лессинга в
обработке Шиллера.
1802, январь: сценическая обработка «Ифигении» Гёте (в мае
поставлена в Веймаре).
План поездки в Швабию и в Швейцарию. Первые подступы к
«Вильгельму Теллю».
Февраль: Шиллер пишет стихотворения «Друзьям» и «Четыре
века».
24 февраля: первая встреча с Карлом Фридрихом Цельтером.
29 апреля: смерть матери Шиллера. Семейство Шиллеров
въезжает в недавно приобретенный дом в центре города (сейчас
Дом-музей Шиллера); продажа садового домика в Йене.
Начало мая: баллада «Кассандра».
Середина августа: начало работы над «Мессинской невестой».
16 ноября: Шиллер становится наследственным дворянином
(выданный в Вене диплом датирован 7 сентября).
1803, 1 февраля: завершение «Мессинской невесты».
19 марта: премьера «Мессинской невесты» в Веймарском
театре.
23 апреля: первая постановка «Орлеанской девы» в Веймаре.
Июнь: «Орлеанская дева» опубликована в издательстве Котты.
2—14 июля: отдых в Лаухнггедте. Знакомство с Фридрихом де
ла Мотт Фуке и дружеское общение с принцем Евгением Вюр-
тембергским.
Продолжение предварительных штудий к «Вильгельму
Теллю».
Конец августа: начало работы над «Вильгельмом Теллем».
Сентябрь: в альманахе Котты «Карманный журнал для дам на
1804 год» опубликованы баллада «Граф Габсбургский» и
стихотворение «Торжество победителей».
550
Декабрь: знакомство с Жерменой де Сталь, которая до конца
февраля 1804 г. жила в Веймаре.
18 декабря: смерть Гер дера.
1804 Продолжение работы над «Вильгельмом Теллем». Шиллер
пишет стихотворения «Горная песня» и — предположительно —
«Альпийский стрелок».
18 февраля: завершение «Вильгельма Тел ля».
Поиски новых сюжетов для драм. После некоторых колебаний
Шиллер избирает сюжет о Лжедмитрии («Демегриус») и
делает первые наброски.
Начало дружеских отношений с Иоганном Генрихом Фоссом.
17 марта: премьера «Вильгельма Тел ля» в Веймаре; огромный
успех.
26 апреля — 21 мая: поездка в Берлин. Шиллер общается с
Кристофом Вильгельмом Хуфеландом, Иффландом, Цельте-
ром и др.
Май: посещение постановок «Мессинской невесты» и
«Орлеанской девы»: овации зрителей.
Напалсивание связей с прусским королевским двором.
Шиллер обдумывает план переезда в Берлин.
Середина июля: Шиллер приостанавливает работу над «Демет-
риусом» и обдумывает другие возможные сюжеты.
24 июля: тяжелый приступ болезни; очень медленное
выздоровление.
25 июля: рождение младшей дочери Эмилии Генриетты Луизы.
Начало октября: «Вильгельм Телль» издан у Котты.
Шиллер снова принимается за «Деметриуса».
Начало ноября: для встречи веймарского наследного принца и
его юной супруги, российской принцессы Марии Павловны,
Шиллер пишет праздничное «Приветствие искусств»
(поставлено 12 ноября) - последнее завершенное произведение писателя.
Декабрь: начинает перевод и сценическую обработку «Федры»
Расина.
24 декабря: смерть Губера
1805, 30 января: премьера шиллеровской обработки «Федры» в
Веймарском театре.
8/9 февраля: ночью резкое повышение температуры.
Иоганн Генрих Фосс дежурит у постели больного.
551
12 февраля: новый приступ горячки; в галлюцинациях
Шиллеру видится собственный отчет перед Богом.
Конец февраля: медленное выздоровление. Фридрих Август
Тишбайн рисует портрет Шиллера.
Продолжение работы над «Деметриусом».
2 апреля: последнее письмо Гумбольдту.
25 апреля: последние письма Гёте и Кернеру.
1 мая: последнее посещение театра; на пути в театр последняя
встреча с Гёте. Приступы болезни возобновляются.
2 мая: последний раз обращается к тексту «Деметриуса»:
монолог Марфы.
9 мая: смерть Шиллера.
11/12 мая: ночью Шиллера похоронили на старом кладбище
при церкви Св. Якова.
1827 Перезахоронение Шиллера в герцогском склепе в Веймаре.
СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЛОГ
7
ПЕРВАЯ ГЛАВА
Происхождение. Легендарный кузен. Авантюры отца. Идиллия в Лорхе.
Палка. Почитать и превзойти отца. Страдания матери.
Рококо в Людвигсбурге. «Жизненный галоп» герцога.
«Ты с ума спятил, Фриц?»
12
ВТОРАЯ ГЛАВА
Отцовская и материнская набожность. Маленький проповедник.
Карлова школа. Герцог воспитывает. Мальчик и власть. Шарфенштайн:
идеальный и действительный друг. Клопшток. Первые стихотворения
Шиллера: плоды чтения. Верный мечтам юности
25
ТРЕТЬЯ ГЛАВА
1776-й год. Смена места и времени. Дух Бури и натиска.
Гердер и последствия. Празднование юбилея Карловой школы.
Огромная поддержка: речь Абеля о гении. Читать Шекспира
40
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
Популярная философтя. Антропологический поворот. Карьера эмпиризма.
Жизнь начинает говорить в «аудиенц-зале духа»: Шефтсбери, Руссо, Гердер.
Шиллер между двух огней. Шиллер учится у Фергюсона и Гарве.
«Вскрытие головы не производилось»
57
ПЯТАЯ ГЛАВА
Решение заняться медициной. О приграничной связи между телом и духом.
Диссертации Шиллера. Космический мандат любви. «Великая цепь
существ». Таинственный переход из материи в дух. Нейрофизиологические
лабиринты. Насколько свободен человеческий мозг? Спасительный свет
внимания. Мрачное настроение. История с Граммоном. Штрайхер
встречается с Шиллером
74
ШЕСТАЯ ГЛАВА
Воспоминание Шиллера о времени написания «Разбойников».
Мученик Шубарт. Возмущение и недостаток жизненного опыта.
Преступный мир и «Разбойники»; экспериментальная площадка
для философских идей и экстремальных характеров. Театр идей и искусство
вызывать эмоции. И красота должна умереть. Счастливые моменты
под крышей театра
97
СЕДЬМАЯ ГЛАВА
Служба военным врачом в Штутгарте. Отчаянное бахвальство.
Лаура в поэзии и в жизни. Швабские литературные распри.
Постановка «Разбойников». Штутгартские злоключения.
Бегство в Мангейм
119
ВОСЬМАЯ ГЛАВА
Мангейм. Новая жизнь. Воодушевление к мужеству. Неудавшееся чтение
«Фиеско». Энтузиазм и холодность. Рождение пьесы. Маскарад заговора.
Открытый финал. Непредсказуемость свободы. Бегство из Мангейма.
Отчаяние во Франкфурте. Оггерсгейм. Штрайхер играет па клавесине.
На пути в Бауэрбах
141
ДЕВЯТАЯ ГЛАВА
Дружба с Райнвальдом. Сбивающие с толку письма. Ухаживания
за Шарлоттой фон Волъцоген. Приглашение в Мангейм. «Коварство
и любовь». Филосоджя любви на поверку. Социальная машина зла
162
ДЕСЯТАЯ ГЛАВА
Возвращение в Мангейм. Коварство в театре. Политические подозрения.
Отставка. Уволенный драматург борется за юрисдикцию сцены.
«Несчастная страсть к преувеличению». Неприятности с долгами.
Письмо из Лейпцига. Предчувствие большой дружбы.
Шарлотта фон Кальб
184
ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА
На пути в Лейпциг. Кернер. Хубер. «Рейнская Талия». Энтузиазм дружбы.
«Дайте Вас обнять...». Философский роман в письмах. Еще раз о философии
любви. Холодный шок материализма. Энтузиазм учит реализму.
«Родиться заново»
209
ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Создание «Дон Карлоса». Помехи в действии и общечеловеческий пафос.
Карьера маркиза Позы. Нерешительность перед большим выступлением.
Обращение к роману «Духовидец». От заговора слева к заговору справа.
Заговорщики, тайные общества, харизматические личности.
Маркиз Поза и диалектика Просвеш{ения
231
ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Предложение из Гамбурга. Любовная комедия. Расставание с друзьями.
Вешюр: прославленный мир черепашьего дома. Веймарские боги.
Виланд, Гердер и другие. Впервые Кант. «Отпадение Нидерландов».
Почему история?
260
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Соблазны художника. Издержки силы воображения. Самоободрение.
Мечта об античности. «Боги Греции». Вновь обретенная уверенность
в себе: «Художники». Лето влюбленности в Рудольштадте.
Сестры Шарлотта и Каролина. Прелюдия с Гёте
283
ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Иена. Город и его дух. Буршеские удовольствия. Большое выступление:
вступительная лекция. Оптимистическая философия, истории
и ее отмена в «Духовидце». Телеология «как бы».
Запечатанные письма. «Послание Моисея». Изобретение монотеизма.
Ничто за «Саисским изваянием под покровом».
После освобождения от чар:
эстетическая религия
309
ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Революция как современный миф. Осторожность Шиллера.
«Найдет ли еще поздний разум раннюю свободу?»
В ореховой скорлупе по человеческому океану. Весна народов и весна любви.
Обручение^ Женитьба. Изобилие идей. Ревнивая Шарлотта фон Кальб.
Насколько актуальна «Тридцатилетняя война»?
Шиллер — немецкий Плутарх. Возвышенные чувства.
Катастрофа. Близость смерти.
Воскрешение
330
СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Жизнь с болезнью. Решение в пользу искусства и Канта. «Революция
в мышлении». Выходя за пределы Канта. Письма «Каллия».
«Красота есть свобода в явлении». Эстетический праздник свободы.
Ужасы революции. Майнцская республика. Форстер. Осложнения с Хубером.
Моральный облик поэта. «О грации и достоинстве». Внося поправки
в Канта. Прекрасная душа. Недовольство Ге'те по поводу «некоторых мест»
349
ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Возвышенное и болезнь. Путешествие в Швабию. Первое посещение
Гёльдерлина. Старый ирод умирает. Бюст Даннекера. Планы с Коттой.
Возвращение в Йену. Революция Фихте. Новая радость быть «Я».
Судьба «Я». Иенский романтизм. Гёте и Шиллер сближаются
379
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Гёте и Шиллер: «Счастливое событие». Тающая и энергичная красота.
«Письма об эстетическом воспитании человеческою рода». Что поставлено
на карту. Гёте и Шиллер, наивный и сентиментальный. Кентавр
409
ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА
Издание «Ор». Неприятности со Шлегемями. Романтическая оппозиция.
Территориальные бои с Фихте. Любовь и боль Гёльдерлина. Ведуиуее
средство информации — литература. Задиристые Диоскуры. «Ксении».
За работу
431
ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА
Страх перед Валленштейном. Отсрочка. Сотрудничество с Гёте в работе
над «Вильгельмом Меиапером». Почему духовному превосходству нельзя
противопоставить иной свободы, кроме свободы любви. Хвала неясности.
Почему только философия может избавить от философствования.
Валленштейн и три вида воли к власти. Человек дела и человек
возможностей. Ритуалы дружбы: Гёте, Гумбольдт. Прощание с Иеной
454
ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА
Возвращение в Beimap. Театральная жизнь. Мужские фантазии
о прекрасной душе. Мария Стюарт и виновная невинность. Вера Шиллера.
Магия Иоанны из Орлеана и великий волшебник Наполеон. Народное
достояние, романтическое. Крушение из восторга. Мессинская невеста,
или Античный рок. Размышления о публике
482
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА
Материал к Тетю. Как Гёте уступил его Шиллеру. Культурный
патриотизм Шиллера. «Немецкое величие». Хвала медлительности.
«Вильгельм Телль, торжество свободы». Из идиллии, которой грозит
опасность, в историю и снова назад. Консервативная революция. Убийца
тирана. Брут, или Святой победитель дракона. Популярность.
Коцебу, или Предвосхищающая сатира на шиллеровские праздники
501
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
Дворянство Шиллера. Ностальгия. Когда свобода поднимает паруса.
Общительная мадам де Сталь. Поездка в Берлин. Из незавершенных работ.
Кругосветное путешествие. «Деметриус». Власть из ничего. Мотив
авантюризма. Шиллеровский «Феликс Круль». Производственная
тайна искусства. Конец
519
Сафрански P.
Шиллер, или Открытие немецкого идеализма / Рк>
дигер Сафрански; Пер. с нем. А.Гугнина. ~- М.: Текст,
2007. - 557, [3] с.
ISBN 978-5-7516-0540-3
Рюдигср Сафрански (р. 1945), философ, культуролог, писатель, чьи
груды переведены на два десятка языков (включая изданные в России
книги о Хайдсггерс и Гофмане), написал захватывающую и глубокую
книгу о Фридрихе Шиллере. Российский читатель впервые получаст
возможность столь подробного вхождения в драматические коллизии
жизни великого писателя и мыслителя. Не менее важная сторона
книги - анализ философских, эстетических, художественных поисков
Шиллера в ксмггскстс духовных исканий эпохи Просвещения и
романтизма. Р. Сафрански предлагает ориганальный подход к оценке
национального и мирового значения Шиллера, обосновывает его ключевую
роль в открытии немецкого идеализма и подробно раскрывает
содержание этого понятия. Особого внимания заслуживают главы о
беспримерной дружбе Шиллера и Гёте, двух гениев, двух создателей веймарской
классики, представляющей собой одно из величайших достижений
мировой культуры.
Рюдигер Сафрански
ШИЛЛЕР,
или
Открытие немецкого идеализма