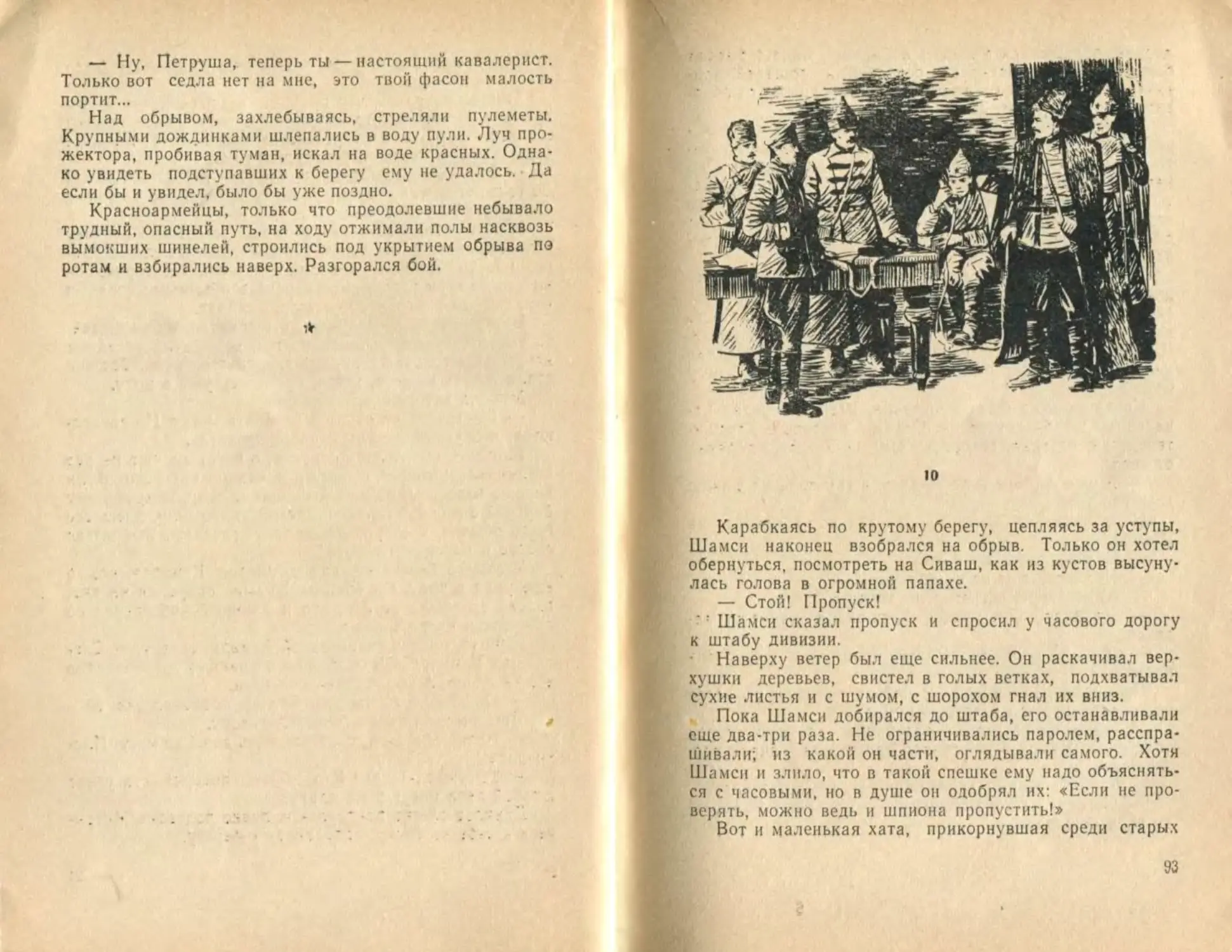Автор: Баширов Г.
Теги: повесть художественная литература война сиваш шамси стрелковая дивизия
Год: 1960
Текст
Гумер Б д ш и р о в
СИВАШ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» Москва—I860
I
Авториэированный перевод с татарского Р, Файзовой
Земля вдруг затряслась и загудела, что-то непрерывно трещало, будто стреляли из пулемета. Шамси, весь дрожа, приподнялся. В предутреннем сумеречном свете он увидел, что по большаку с грохотом одна за другой неслись запряженные вороными конями тачанки, а за ними во весь опор мчался эскадрон конников.
Сердце Шамси заколотилось. Он рывком потянулся к винтовке. Здесь! Винтовка, к счастью, лежала тут же, рядом... Конники успели уже отдалиться и скоро скрылись из глаз. Чьи же они? Наши? Или отряд Махно? На дороге больше никто не показывался. Шамси протер глаза, осмотрелся кругом. Он сидел на дне глубокой канавы чуть в стороне от обочины. Лихо, нечего сказать! Ну, а если бы тут появились махновцы или разведка белых? Он как будто увидел перед собой сурового ротного командира в сдвинутой немного набок каракулевой папахе, хмурившего густые седеющие брови: «Гм! И это
5
солдат, воин! Гм! Защитник революции!.. Смотри ты, а!..»
Шамси, словно он и в самом деле стоял перед ротным, смущенно пожал плечами, поежился.
Хотя он все {Гавно бы не выдержал, упал бы — не здесь, так где-нибудь там, впереди... Он десять дней учился на курсах санитаров, а вчера неожиданно курсы закрыли и всех распустили по своим частям. Когда они попытались расспросить: «Почему?», —ответили, что узнают на месте. Но все были рады. Кто его разберет, может, это и есть конец войны? Шамси сказали, что 132-й полк держит путь на Сиваш, и дорогу показали. Он прошел верст пятьдесят, а то и больше, но полка что-то не было видно. Не то уж они гонят слишком, не то пошли по другой дороге. День шел, ночь... Ни следа! Когда вовсе из сил выбился и начали отказывать ноги, забрался вот в эту канаву и повалился. Видно, и сам не почувствовал, как заснул. А сейчас уже светает.
Шамси мучительно хотелось есть. Надеясь найти хоть что-нибудь, он стал рыться в солдатском своем мешке. Вот котелок, кружка, несколько обойм с патронами... Больше там не было ничего. Да, шайтан его подери, ведь вчера вечером он съел последний кусок хлеба. Шамси приуныл. Нащупав пальцами забившиеся в углы мешка хлебные крошки, он бережно высыпал их на ладонь и, слизнув языком, принялся жевать. Рот ему стянуло и будто залило горечью, па зубах захрустел песок. Но и этих-то крошек было очень мало...
Закоченелыми от холода руками Шамси затянул распустившиеся обмотки, надвинул на лоб примятую выцветшую фуражку, поправил сдвинувшийся брезентовый пояс и, перекинув за плечо мешок, чуть ли не бегом пустился в дорогу.
Занимался день. Вон, словно в зареве далекого пожарища, заалели по нижней кромке скучившиеся на горизонте облака и по безмолвной степи разлился прозрачный утренний свет. А вскоре, озарив всю землю, показалось огромное полукружье багрового солнца. Солнце, точно спросонок, поднималось тяжело и нехотя. И все же с каждым мгновением становилось приветливее и, хотя еще не согревало, немного облегчало давившую на плечи тяжесть ночи.
Тут же, с появлением солнца, как бы давая знать о пробуждении жизни в степи, из придорожной канавы выскочил заяц. Он сел на задние лапки, повел ушами и, казалось, говоря: «Что он ходит здесь один?», . уставился на Шамси. Встреча в голой, холодной степи с этим маленьким живым существом ободрила парня. Он остановился и окликнул зайца:
— Эй, как дела, косой?
Потом засмеялся.
— Э-э, я и забыл, что ты не понимаешь по-татарски...— сказал он и свистнул: — Фьють!
Заяц короткими прыжками не спеша потрусил в заросли полыни.
Не успело солнце подняться, как его сразу заволокли густые облака. И между сизыми их бороздами, протянувшимися по краю неба, проглядывали лишь желтые полосы лучей.
Сзади, со стороны России, с ее заметенных снегом полей и лесов задул ровный холодный ветер. Он колыхнул торчавшие кое-где сухие стебли подсолнуха, забравшись под тонкую шинель, прошелся по спине Шамси ознобом. И Шамси, потирая замерзшие руки, повесил половчее винтовку за плечо и зашагал вперед, торопясь еще больше.
А впереди ни селения, ничего! Кругом все та же простиралась голая степь. С тех пор как прибыли они на врангелевский фронт, сколько раз и вдоль и поперек прошли по этим удивительно однообразным землям Таврии! И всегда пешком, только пешком! Но была и здесь, в степях, своя замечательная пора. Даже совсем недавно, всего несколько месяцев назад... По одну сторону от дороги склонялись под собственной тяжестью бесчисленные, огромные, словно блюда, венцы подсолнухов, по другую — неохватные глазом, лежали баштаны арбузов. И каких арбузов: не успеешь, бывало, ножом дотронуться — пополам раскалывались, и такой аромат в нос ударял, а уж ко рту поднесешь—не оторвешься. Иногда, случалось, из-за подсолнухов улыбались им стройные, как сами подсолнечные стебли, девушки с голубыми, точно небо Таврии, глазами...
Голубые глаза вдруг стали меняться в цвете, и на Шамси откуда-то издалека печально и несмело взгля
нули из-под черных бровей глаза карие. Сердце у Шамси сжалось. Ему стало грустно и в то же время радостно. Ведь в последний вечер смущенно, не поднимая головы,' она протянула к нему горячие руки. Потом у самых его ушей звякнули подвески кос, жаркое дыхание коснулось его щеки, и послышался шепот: «Коли любишь, жалеешь, не мучай меня, пиши!..»
Шамси сразу оживился, ускорил шаг, словно в конце пути его ожидала тоскующая по нем Насимэ.
Однако назойливый холодный ветер вернул его к действительности. Он посмотрел кругом и вздохнул. Еще недавно дышавшие изобилием, источавшие аромат цветов и разнотравья поля сейчас лежали иссушенные, неприглядные. Как будто все здесь покрылось пороховым чадом, опалилось огнем войны.
Взглянешь вперед —тянется до самого горизонта прямая — без поворотов, без извилин — широкая дорога. Где уж тут, как в Заказанье, по луговой тропке пройти в свое удовольствие или перейти речушку, прыгая с камня на камень!
Направо взглянешь — не на чем глаз остановить: ни взгорка, ни кустика — голая, серая степь.
Налево взглянешь —далеко, к самому краю неба, в седые облака уходит та же ссохшаяся, затвердевшая от стужи, суровая степь. Хоть бы встретилась живая душа или село какое показалось, деревцо мелькнуло. Все вокруг было ровно, гладко, безмолвно. Только порой шелестела сухая придорожная полынь да, как-то особенно шурша, катились большие клубки перекати-поля. А потом опять наступала тишина.
Шамси совсем опечалился. Он шел и, как бы сам удивляясь своему одиночеству, оглядывался по сторонам. Как далеко забрел он от своих родных сторон! И версты-то не сразу сосчитаешь, начнешь складывать, пожалуй, за тысячу перейдет.
Покачивая в такт своим шагам головой, Шамси запел припомнившуюся ему песню:
Побежал бы я скорей. Добежал бы я скорей. С ветром быстрым долетел Злой осеннею порой
В край родимый, дорогой..,
б
Эх! Каким бы нибудь манером перенестись в один миг в деревню, подняться бы на гору Киектау и запеть во весь голос. Чтобы девушки, идущие с родника, как шагнули бы, так и застыли с коромыслами на плечах, молодухи бы коров своих бросили доить, а старики да старухи сразу бы руки кушам —так бы и слушали все. Слушали бы и вдруг угадали, кто поет! И Насимэ бы выбежала с криком: «Матушка, Шамси вернулся! Ведь это же голос Шамси!»
Тут как-то само собой перед взором Шамси встала его собственная мать. Такая же, как на станции Арча, когда провожала его... Прикрыв углом платка губы и часто моргая, она стояла, не отрывая глаз от окошка вагона, и вдруг, когда тронулся поезд, вся встрепенулась и, точно желая остановить окутанный дымом паровоз и красные, набитые битком вагоны, бросилась, протянув руки, за поездом...
Карие глаза Шамси сузились, погрустнели. Мама, мама! Что только не пережило тогда ее сердце?! Ведь с этой же станции она провожала на германский фронт отца Шамси. Проводить-то проводила, но встречать не пришлось.
Да, вернуться бы вот сейчас —и мать порадовать и других удивить. В кожаной тужурке, в красных брюках галифе, на ногах ладные сапоги со шпорами, а на голове папаха, каракулевая, как у ротного... В восемнадцатом году кое-кто из сельчан так и приехал, ка-'жется, из дивизии Азина...
Да, вернуться бы и стать перед матерью, звякнув шпорами:
— Мама! Ведь это я! Шамси! Видала, какой?!
Но тут неожиданно его ботинок шлепнул подметкой, и Шамси пришлось нагнуться, полюбопытствовать, что там приключилось. Оказывается, телефонный провод, которым была перехвачена подметка, не выдержал многоверстной ходьбы и оборвался, чуть не оставив Шамси вовсе без подошвы.
Шамси оглядел свои залатанные колени, потянул пальцем прореху на локте и, тяжело вздохнув, стал подвязывать оторвавшуюся подметку. Потом отряхнулся и пошел, посмеиваясь над собой:
— Салам Турхан! *. О чем размечтался, а? На сабантуй 2, что ли, идешь в соседнюю деревню?..
Наконец, когда уже было пройдено много верст, далеко впереди, едва вырисовываясь над степью, показалось какое-то село. Может, его полк там расположился? Впрочем, трудно угадать. В прифронтовых селениях власти то и дело менялись. Днем над деревней развевалось пестрое, как лоскутное одеяло, синежелтое знамя, ночью его сменяло наводящее жуть черное с черепом знамя Махно. А вскоре на том же месте алел флаг с серпом и молотом. Уж так пошло с начала воины. А война здесь тянется самое малое три года. Политрук Исмаев рассказывал. Оказывается, кто только не совался в этот богатый край! Немецкие буржуи, польские паны, царские генералы, бандиты Махно... Сменяя один другого, они грабили, топили в крови народ Украины.
Врангель вот и сейчас из последних сил воюет, людей только губит.
Врангель — черный барон, жестокий барон с черным сердцем. Когда называют Врангеля, перед глазами так и встает высохший до черноты, с тощими щеками, с крючковатым, как клюв коршуна, носом, говорящий визгливым голосом человек. Сколько крови он пролил, сколько сжег деревень!
Насчет возвращения домой политрук Исмаев так прямо и сказал:
— Наши обратные дороги пролягут только через могилу Врангеля. Почему, спрашиваете? Нельзя нам, не добив Врангеля, возвращаться. Война, конечно, очень надоела. И только ли надоела? Сколько голов снесла, страну разорила, народы голодными и голыми оставила. Врангель — это беда. Врангель и есть война. Покончим с ним, значит, и с войной покончим А там начнутся мирные дни. Рабочий к своему станку вернется, крестьянин—к плугу.
Да, так политрук Исмаев говорил.
Вдруг где-то впереди раздался орудийный грохот.
‘Салам Турхан (сказочный персонаж)—лентяй, предающийся несбыточным мечтам.
’ Сабан-туй — национальный праздник весны, «праздник плуга».
10
Шамси вскинул голову. Над той, маячившей вдалеке деревней и во всей ее округе не было видно порохового дыма. Но орудия не умолкали, стоял непрерывный гул и рев, будто рушились одна за другой каменные глыбы гор.
Шамси почему-то был уверен, что там находятся свои и что это именно артиллеристы его полка бьют по врагу. Шамси уже не шел, а почти бежал. Во время такой горячей схватки ему хотелось быть в своем полку, со своими товарищами.
Но как узнать, где полк, у кого спросить?
На дороге запылило что-то, и вскоре Шамси увидел идущих навстречу ему здоровенных рыжих волов, запряженных в длинную, с высокими грядками арбу. Волы шагали сонливо, а дядька-украинец в высокой овчинной шапке сидел закутанный в дубленую шубейку и, покрикивая «цоб, цобе!», погонял их. Шамси бросился к нему, но выяснилось, что дядька совсем не из того села, которое приметил Шамси, и солдат он не встречал.
— Агайман? —Украинец сдвинул мохнатую шапку на лоб и, почесав затылок, еще раз повторил название нужного Шамси села:—Агайман! Не, недалеко. Може, верст пятнадцать, а то и двадцать наберется... с гаком.
Шамси рассмеялся, махнул рукой и пошел дальше. Если украинец прибавит к верстам «гак», не надейся скоро добраться туда, куда держишь путь!
Но ему, к счастью, не пришлось на этот раз вымеривать ногами долгий украинский «гак».
Не успел Шамси отойти далеко от дядьки с волами, как его нагнала тачанка. Разгоряченные лошади, всхрапывая, уже проскакали было мимо Шамси, но тут раздался голос:
— Эй, Гайфуллин!
С тачанки ему махали руками пулеметчик Митричев и командир взвода Гриша Данилов. Рот Шамси растянулся до ушей.
— Ха! Вот повезло! Как это? Откуда вы?
Митричев, который, намотав на руки ременные вожжи, сидел на передке, с трудом сдерживая лошадей, крикнул:
— Скорее! Будешь долго трепаться, пешком пойдешь!
Только Шамси вскочил на тачанку, как лошади рванули и помчались во весь дух.
Перегнувшись к Шамси через ствол повидавшего виды пулемета, Данилов объяснил:
12
— Приказано немедленно Догнать полк. Слышишь, как ухает?
Нахмурив соломенно-желтые брови, он вслушался в орудийный гул и хлопнул ладонью по пулемету.
— Женихова дружку «максима» починили, торопимся успеть на свадьбу.
Шамси понял теперь, почему вчера так спешно выпроводили их с курсов.
— Даже так? —спросил он.— Нынче же?
Данилов молча кивнул головой.
От сильного ветра развевались опущенные концы шлема Данилова. Голубоватые глаза взводного то закрывались, то опять открывались. Выдававшийся вперед раздвоенный подбородок, все его ширококостое, веснушчатое лицо заросло желтой щетиной. На руке Данилова, опиравшейся на ствол пулемета, виднелись темные, будто следы пороха, точки. Так, говорят, метит шахтера долгая работа в забое, под землей.
Шамси помнил: когда Данилов впервые появился в их роте, на нем были хорошая кожаная куртка и черная кожаная фуражка с красной звездочкой на околыше. Рассказывали, что это донецкие шахтеры снаряжали так своих товарищей, когда они отправлялись на фронт в отряде коммунистов. Теперь у Данилова на ногах были такие же, как у других, стоптанные ботинки, обмотки, и одет он был в самую обыкновенную серую шинель.
Данилов вынул из кармана шинели красный кисет с синей завязкой, пощупал его короткими пальцами и, нахмурившись, положил обратно. Видёл Шамси: хочется Данилову покурить. Только он не такой бесцеремонный, как другие. Знает ведь, что Шамси не курит и потому табак у него не переводится, а попросить сразу никогда не решится. Очень нравилось Шамси, что этот широкоплечий человек, с медвежьей, вперевалку, походкой, бывал лют и жесток в боях, но вот в такие моменты становился застенчивым. За это особенно и уважал он его.
Увидев в руках Шамси пачку махорки, Данилов сразу просиял:
— О, вот богатство! Задымим, значит?
Сейчас он с удовольствием затягивался толстой, скрученной из пожелтевшей газетной бумаги цигаркой
13
и, словно желая что-то увидеть, подолгу вглядывался своими белесоватыми глазами в сторону, где грохотали пушки. А потом, после долгих раздумий, снова затягивался. О чем же он думал так сосредоточенно, его командир? Или чувствовал он жгучее дыхание разгоравшегося там боя? Или его тревожила мысль о том, сумеем ли мы осилить?..
Они и до этого уже бывали в боях. Еще тогда, когда летом 1920 года армия Врангеля прорвалась из Крыма в украинские степи и всеми силами пыталась пробиться в Донбасс, их полк участвовал в кровавых схватках, теряя иногда чуть ли не до половины своих бойцов. Ай-хай, тяжко приходилось им. Но поговаривали, что будут бои посерьезней. Неспроста же с утра вон громыхает вдоль всего горизонта. То, что эта битва должна быть последней и в ней барону Врангелю придет конец, волновало всех, каждый боец давно ожидал ее, ожидал, веря в разгром армии Врангеля, ожидал с нетерпением и тревогой. Шутка ли! На них кинутся все уцелевшие офицерские полки Врангеля, сотни пушек, тысячи пулеметов завоют враз. А тут и с патронами не густо и пулеметов маловато, а уж о тяжелой артиллерии и говорить нечего, она застряла где-то в Таганроге.
Может, командир обо всем этом и думал? Спросить бы у него. Да откуда взять Шамси столько русских слов! Вот почему этот молодой боец, желавший узнать все на свете, поблескивая веселыми карими глазами, молча посматривал на старших товарищей, что-то прикидывал в уме, что-то примечал, соображал, нужно — не нужно, все наматывал на свой еще только пробивающийся ус.
Чем больше усиливался там, впереди, гром орудий, тем сильнее, казалось Шамси, погонял Митричев лошадей. Колеса где касались земли, где нет. Тачанка подпрыгивала, то проваливаясь, то выбираясь, неслась по глубоким, продавленным тяжелыми орудиями колеям, изрезавшим всю промерзлую дорогу.
Митричев, словно на скачках, вытянулся всем корпусом вперед, полы его шинели раздувало ветром, и они бились, хлопали, точно крылья огромной птицы... Он был так увлечен, что никого, кроме этой тройки, не видел, ничего не хотел замечать, только взмахивал
вожжами и, охлестывая по спине лошадей, знай погонял их и звонким голосом выкрикивал непонятное никому:
— Э-э-й, сырмолотные, крро-о-й!..
Из-под копыт лошадей в тачанку летели комья ссохшейся глины, порой взметывались брызги искр, срываясь с губ, падали на землю хлопья белой пены.
— Э-э-й, сырмолотные, крро-о-й!..
Митричев до того, как попал в этот полк, служил в Конной армии Буденного. Сам он не любил рассказывать, за что перевели его в пехоту, но ходили слухи, будто совершил он там тяжелым проступок: сгоряча сгубил какого-то дорогого, породистого коня. Митричев не скрывал, что не может забыть Первую Конную. Недаром старый боец Валитов говорил, что в него лошадиный бес вселился. Когда он с винтовкой, лопатой, вещевым мешком, едва передвигая от усталости ноги, шел в пехоте и в это время, случалось, пролетали мимо кавалеристы, он смотрел им вслед затравленным, тоскующим взглядом и после долго ни с кем не разговаривал.
Шамси привлекала бесшабашная удаль и храбрость Митричева. Ведь у него даже черный кучерявый чуб, словно говоря: «Уж я — это я, не вам чета!», как-то особенно лихо выглядывал из-под фуражки.
— Э-э-й, сырмолотные, крро-о-й!..
Вот стали, наконец, проглядываться белые хаты еще недавно казавшегося Шамси недостижимо далеким украинского села. Вот уже отчетливо вырисовались торчавшие чуть ли не возле каждой хаты колодезные журавли, а там показались плетни и сложенные из камня ограды... Вскоре тачанка вихрем влетела в село.
Миновав околицу, они уже подкатили было к центру села, как вдруг лошади, не слушая окриков Митричева, повернули к крытому железом дому и остановились напротив него, у колодца.
Сдвинув надетую козырьком назад фуражку на левое ухо, Митричев соскочил с тачанки.
— Что ж, промочим немного горло?..
. Только одно ведро воды успел он вытянуть из колодца, — из дому один за другим стали выходить люди, одетые кто в черную бурку, кто в черную шинель, в черных папахах и с саблями на боку. Зло ухмыляясь, медленно подходили они'к тачанке и, показывая друг другу
15
на старые шинели, потрепанные обмотки красноармейцев, начали поднимать их на смех. Откуда же взялись эти люди, из чьего они отряда? Шамси поднял голову, и сердце у него екнуло. Над воротами висело черное полотнище с нарисованными на нем черепом и двумя скрещенными костями — знамя Махно!
Один из окружавших тачанку крикнул:
— Эй вы, нищая команда! Не поганьте колодец!..
А другой, коренастый, со свисающими до подбородка русыми усами, подошел близко к Митричеву и, показывая пальцами на его обмотки и продавленную фуражку, загоготал:
— Гляньте, хлопцы! Большевики новую моду выдумали! На голове — тряпка, на ногах — тряпка и ботинки без подметок! Ха, ха, ха!
Стоявший рядом с ним длинный белобрысый махновец, затянутый черкеской, сказал, как бы заступаясь:
— Ты что срамишь человека, бык выложенный! Небось, он комиссар ихний! Большевик! Еврей! Не видишь, кучерявый какой, а глаза так и сверкают!
— Да разве еврей пойдет воевать? Болтаешь тут несусветное! Кацап он!
Митричев, словно бы и не слышал ничего, продолжал поить лошадей. Но от сдерживаемой ярости у него тряслись губы, и он бросал нетерпеливые взгляды то на пулемет, то на Данилова.
А тот белобрысый стоял, упершись руками в бока, и все издевался:
— Что вы! Ведь у них одни комиссары в сапогах щеголяют. А таким полагаются лапти. Скоро, говорят, красная кавалерия верхом на коровах на нас пойдет. Что ж, если их комиссар одолеет на своей пегашке версты две за сутки, то в акурат на пасху к нам в Гуляй-Поле доберется...
Вдруг кто-то из этой гогочущей, горланящей банды выстрелил из нагана в воздух. Лошади шарахнулись и, чуть не сбив Митричева, вынесли тачанку на середину улицы. Махновцы, как будто они этого только и дожидались. с гиканьем и ревом кинулись за тачанкой.
— Ура! Гляди, как поджилки у красных затряслись!
— Хлопцы! Стяните-ка с них штаны! Интересно, сколько там наложено?
16
— Ха, ха, xaf
— Держи, держи!
— Эй, заячья душа, стой!
Кто-то уже выхватил шашку из ножен, другие вынимали наганы, замелькали карабины.
— Хватай большевиков, не выпускай их!
Что делать? Скосить ли их враз из пулемета или вырваться так, без стрельбы?
Пока Данилов, колеблясь, переводил взгляд с пулемета на банду, Шамси вскочил и уцепился за вожжи. Митричев тем временем с молниеносной быстротой прорвался к тачанке, прыгнул в нее, схватился за гашетку пулемета. Но Данилов отстранил его и, потрясая кулаком, с силой и злобой крикнул махновцам:
— Стой! Назад!
Те, удивленные неожиданным поворотом дела, остановились и, вытаращив глаза, уставились в дуло нацеленного на них «максимки». Не давая им опомниться, Данилов вскричал с еще большей угрозой:
— Эй, вам говорю! Назад! Считаю до трех, коли сейчас не уберетесь с глаз, открываю огонь! Мйтричев, готовься! Раз!
Прищурив сверкающие ненавистью глаза, Митричев начал водить ствол пулемета то справа налево, то слева направо, словно выискивая первую жертву.
Замершие на какой-то миг махновцы вдруг всколыхнулись, завертелись, зашумели:
— Что это такое! Пугать вздумал, оборванец? Нас? Хлопцы! Что смотрите? Налетай, скидывай его!
Однако в этот момент Данилов взмахнул сжатой в кулак рукой и резко бросил:
— Два!
Махновцы, словно ударило их грозной волной, отпрянули назад. Белобрысый долговязый бандит первым вбежал в ворота, за ним, теснясь и толкаясь, скрылись и остальные.
Тачанка тронулась, Шамси натягивал дрожащими руками вожжи, старался сдерживать лошадей. Данилов же, стоя на коленях возле Митричева, не отрывая взгляда, следил за воротами.
— Тише, Гайфуллин, тише, не гони! —кричал он Шамси, не оборачиваясь. — Мы не удираем, понимаешь?
3 Сиааш
Мы не трусы! Если еще раз сунутся, вступим в бой, смерти не побоимся!
Когда тачанка была уже на краю села, из ворот той самой крытой железом хаты опять показались бандиты, но теперь они были уже не страшны, опасность миновала.
Данилов, несмотря на ощутимый холод, расстегнул ворот и облегченно, будто скинул с себя тяжелый груз, вздохнул:
- Уф!
Глаза Митричева метнули злые искры. Он сдернул с головы потрепанную фуражку и с силой хлопнул ею по колену.
— Эх! Пятнадцать бандитов упустили... Командир! Скажи ты на милость,г почему мы этих сволочей тут же не скосили, а? Враз всю свору, всю шайку? Почему? Духу не хватило?
Данилов протянул к Шамси руку с клочком газетной бумаги для цигарки-и спокойно ответил:
— Дурак ты, Петр!
— Вот тебе на! Это потому, что бандитов, говорю, надо было уничтожить?
— Именно потому, Ты уверен, что не все село было занято махновцами? Не знаешь разве, что им только повод нужен. Если бы ты даже раз выстрелил, они бы вмиг изрубили нас на куски.
Митричев взглянул из-под кудрявого чуба на Данилова и едко усмехнулся:
— Так бы прямо и говорил. Конечно... «Цыпленок тоже хочет жить!» Кому охота сковыриваться?! Особенно когда война к концу идет, особенно тебе. И у папаши ты единственный сынок... и то и другое...
С Митричевым это случалось, к месту или не к месту затеет вот так разговор и товарищей обидит. Но то, что он после столкновения с махновцами издевался над командиром, обвиняя его в трусости, разозлило и Шамси.
— Что ты, Петр, болтаешь? Если бы не Данилов, нас бы сейчас уже на свалку волокли.
— Вот, вот! Вы оба и струсили! После смерти на свалку ли меня сволокут или даже оседлают и верхом поедут, плевал я на все. Но когда из-под самого носа 18
бандиты целехонькими уходят — это уж не храбрость, не по-красноармейски это. Подумать только, три пешки...
Данилов с досадой махнул на него рукой.
— Да разве дело в том, сколько нас человек,— бой тут мог завязаться, и получился бы скандал.
— А ты хочешь, чтобы война шла без выстрелов? Только бы речи громкие произносил? Может, еще удобнее было бы воевать лежа на печи?
Данилов повернулся и слегка щелкнул пальцем по голове Митричева:
— У тебя в коробке мозги или полова, Петр? Почему ты, горячая голова, не желаешь понять одного: это тебе не восемнадцатый год, а двадцатый. Мы — регулярная армия, Красная Армия! Во-первых, три бойца с пулеметом в такое время чего-нибудь да стоят! Во-вторых, отряд Махно дал слово выступить против Врангеля. Выступит ли, нет ли, как поведет себя в бою — то уж другое дело. Но если бы мы открыли по ним огонь, бандиты, конечно, расправились бы с нами. А ты думаешь, наши спустили бы это махновцам? Как бы не так! В ту же минуту послали бы на них по меньшей мере батальон!— Данилов, умолкнув, прислушался. Теперь гул пушек доносился еще более явственно. — Слышишь?! Когда мы, можно сказать, наступаем на пятки Врангелю и вот-вот окружим его, свернем ему шею, разумно ли связываться с этим Махно?
— Тьфу!— отплюнулся Митричев.— И откуда взялись у нас такие разумные люди! Пойми ты, умная голова! По-моему, уж если выдался случай, так надо истреблять бандитов. В этом и есть весь интерес войны. Что значит —«можно», «не можно»? Рассуждаешь тут невесть о чем. А может, скандал-то как раз и нужен был, пускай окружили бы их да уничтожили на месте!
Шамси погонял лошадей и беспокойно оглядывался на товарищей. Но, видно, Данилова нелегко было вывести из себя. Не обращая внимания на слова Митри-чева, он затянулся цигаркой, усмехнулся и сказал:
— Потому, значит, Петр-браток, тебя и не сделали командиром! Оставили в пулеметчиках, пока малость ума не наберешься...
3
Как только впереди показалась длинная, растянувшаяся на несколько верст колонна их полка, Митричев опять схватился за вожжи.
— Дай-ка мне!
Взмахнув концами вожжей, он резко вскрикнул:
— Эй, сырмолотные!
Встопорщив короткие хвосты, лошади вытянулись, понесли. Тачанку, будто игрушечную тележку, которую тащат за собой скачущие во всю прыть мальчишки, кидало из стороны в сторону.
Проехали мимо походной кухни. Мелькнули из-за поднятого воротника шинели слезившиеся от ветра глаза и сизый нос съежившегося на бричке кашевара. Показался красный крест санитарного обоза с больными и захромавшими красноармейцами. А дальше по всей дороге, теряющейся где-то в необозримой дали, шли батальоны, роты, взводы.
Над серыми шинелями, выцветшими зелеными фу
20
ражками и папахами тускло поблескивал и качался целый лес штыков. Красноармейцы с винтовками и солдатскими мешками за спиной, с засунутыми за поясные ремни саперными лопатами, с брезентовыми патронташами, надетыми через плечо, шагали, опустив головы, тяжело передвигая ноги. Они крайне устали и не только на форсистых конников, скакавших мимо вперед и назад, но даже на мчавшуюся с шумом тачанку Митричева не глядели.
Данилов покачал головой, пригнулся к Шамси и крикнул ему в ухо:
— Ой-ой, притомились. Вовсе выдохлись, еле ноги волокут. Ладно, коли белые тут не появятся!..
Шамси еще и рта не раскрыл, а Митричев резко повернулся и успел поддеть Данилова:
— Ага! Значит, нам надо идти крадучись да трястись, как бы на нас белые не наскочили. Так, что ли, получается?
Митричев что-то с утра нынче ко всем привязывался и особенно к Данилову. Светлые брови Данилова нахмурились.
— Брось, пожалуйста, свою пустую болтовню! Не видишь? В таком состоянии в первом же бою половина полка погибнет. Ведь они двое суток без отдыха идут!
— Пехотинца за пеший ход не жалеют, не по-солдатски это, — язвительно сказал Митричев.
Данилов в ответ только рукой махнул.
Когда тачанка поравнялась с идущим впереди их роты дородным командиром в высокой серой папахе, Митричев сразу осадил лошадей. Командир роты Пахомов подошел к ним и, ответив на приветствие, прежде всего осмотрел пулемет, а потом приказал посадить в тачанку двух натрудивших ноги красноармейцев.
— А как пулеметный расчет? —с удивленным выражением на лице спросил Митричев.
— Пойдет пешком... возле тачанки.
В это время от головы колонны из роты в роту пришла команда:
— Привал!
Еще не утих звук команды, а колонну будто сбило встречным ветром: начиная с первого батальона до последнего, одна рота за другой повалились на землю.
21
Кто забрался в канаву и прилег там, а кто особенно устал, даже не снимая с плеч мешка, вытянулся тут же, на дороге. Через несколько минут весь полк до последнего солдата лежал вповалку вдоль дороги. На ногах остались лишь несколько командиров. Озабоченно посматривая на своих бойцов, они медленно ходили взад и вперед по обочине.
Шамси с Даниловым примостились возле своего взвода. Данилов осмотрелся кругом, ища своих товарищей. Справа от них, обхватив обеими руками винтовку, лежал на спине могучего сложения усатый красноармеец и уже храпел вовсю.
— Ну и старается наш Микола! — сказал Данилов.— Как бы на его храп белые артиллерию не навели!
Добродушного этого украинца любили все в роте. Только фамилия у него была очень занятная — Перебей-нос. И Шамси, произнеся ее про себя по-татарски, невольно рассмеялся.
Данилов же, заметив свернувшегося у канавы Мишу Борисова, подполз к нему. От толчка в спину тот как бы очнулся ото сна, но, глянув меж ресниц, моргнул Данилову и снова закрыл глаза. Под головой у него лежала туго набитая книгами и газетами брезентовая сумка, а из-за пазухи выглядывал краешек еще одной книги. Эту, наверное, читал он сам. Миша всегда, как-только выпадало свободное время, собирал вокруг себя красноармейцев и читал им книги или газеты. Находил он время и заниматься с неграмотными: учил их читать и писать. Данилов с ласковой улыбкой посмотрел на него. Симпатичный парень, даже красивый. Белое продолговатое лицо, усы еще только начинали пробиваться, и губы тонкие. Прикрытое воротником, лицо его казалось сейчас девически нежным. Хорошей души человек. Этим и привлекал он к себе. Данилов прикрыл затянутые зелеными обмотками ноги Борисова полой шинели.
— Эх ты, вояка! Раскис, как тесто ржаное. И слово вымолвить сил нет, а? Хоть бы с Гайфуллиным поздоровался! Ведь, пожалуй, дней пятнадцать не видались...
Губы Борисова раздвинулись как бы в улыбке, он что-то пробормотал и, не открывая глаз, протянул руку:
— А, Шамси! Вернулся?
22
Но когда Данилов закурил, он вдохнул тонкими ноздрями дым махорки, приоткрыл глаза и проговорил:
— Оставь курнуть!
— Ах, хитрец! Ты что притворяешься? Как курить, так он не спит, а как с товарищами поговорить — глаз не продерет.
Шамси все всматривался в лежащих вокруг красноармейцев. На юном его лице были написаны и удивление и горечь. Пока его не было, взвод заметно поредел. По дороге ему уже рассказали, что за это время их полк несколько раз перебрасывали на разные участки фронта. Полк устал, измотался. В бесконечных походах пришла в ветхость и без того потрепанная солдатская одежда. А главное —полк потерял в боях немало людей. Кого убило, кого ранило. Вот и среди своих Шамси что-то не увидел того, к кому он был больше всего привязан и чьей дружбой очень дорожил. Боясь услышать о своем друге тяжелую весть, Шамси не решался спросить о нем.
Но от Данилова ничего нельзя было скрыть. Он уже заметил, что Шамси кого-то высматривает.
— Кого потерял?
— Не вижу Валитова. Не случилось с ним чего?
Данилов не спешил с ответом, глубоко затянулся и отдал недокуренную цигарку Борисову.
— К сожалению, случилось, браток, случилось. В том-то и дело. Ты разве не слышал?
Шамси побледнел, раскрыл широко глаза, схватился за рукав Данилова.
— Ты что? Скажи, что с ним? Убит?
Данилов покачал головой.
— Ранен тяжело? В руку или в ногу?
— Тяжело, очень тяжело. Что там рука или нога! Голову совсем потерял. Знаешь, бабья хворь на него напала...
— А? Что ты путаешь? Какая хворь?
— Да, да, настоящая хворь! Бабья...
Не успел Шамси ни удивиться, ни рассердиться, как вдруг из-за спины Борисова приподнялся закутанный в шинель красноармеец и, повернув к ним худое, с округлой бородой лицо, уставился на Шамси живыми смешливыми глазами.
23
— А, земляк? Прибыл? — Не скрывая своей радости, он неуклюже потряс руку Шамси. — Как это ты нежданно-негаданно? Ты же к нам доктором должен был вернуться? Что скоро так?! — И тут же, не дожидаясь ответа Шамси, расправил широкие плечи и одним движением опрокинул наземь Данилова.
— Белобрысый шайтан! Еще шахтером называешься, что же ты среди бела дня тень на меня наводишь? Голову зачем морочишь парню?
Смахнув с себя пыль, Данилов уселся и, посмеиваясь, опять начал поддевать Валитова.
— Так правда же, дядя Ахмади. Уж целый месяц только о бабах и толкуешь. Скажешь, неверно? А чего ты вчера возле колодца руку солдатке поглаживал? Ну, как перед земляком оправдаешься? Язык-то у тебя не запнется?
Валитов как-то забавно моргнул глазом.
— Э-э... да это же просто так. Узнать, белой она кости или в черной работе выросла... Вот почему...
Шамси, смеясь, покачал головой.
— Ай-яй, абзы'. Ведь я-то думал, что ты самый надежный человек в полку. Не начал ли ты с пути сбиваться?
— Не верь ты этому рыжему шайтану. У самого не получается ничего, вот и наговаривает от зависти. Ну, смотри, Гриша! Если я по пути домой не заверну в Донбасс и каждый твой грешок с лихвой не выдам твоей жене, пусть пропадет с моей ноги этот дырявый башмак.
— Ха! Говорят, моя будущая жинка еще под столом на горшочке сидит да глазами посверкивает.
Все опять рассмеялись.
Сейчас Шамси еще яснее почувствовал, что он даже за эти вот две недели очень сильно соскучился по своим товарищам. Ему было приятно сидеть с ними и нести всякий вздор. Он смотрел на Ахмади и думал о том, что ведь уже в первый день отлучки из роты ему недоставало друга. Что там ни говори, а ведь они оба из Татарстана, к тому же Шамси в армии был тстько с весны и всегда в трудные минуты старался быть ближе к этому пожилому, опытному человеку.
‘Абзы или абы (тат.)—обращение к старшему по возрасту мужчине.
24
До этого Валитов воевал на' польском фронте. Но ожидалось заключение мира с Польшей, и к осени части той армии начали перебрасывать на врангелевский фронт. С одной из этих частей и попал Валитов в их полк.
Старый боец рассказывал молодым красноармейцам о пережитых им на войне приключениях, о том, что пришлось ему повидать на польском фронте, как буденновская конница, прорвавшись в тыл белополяков, занимала города и дошла, к паническому ужасу буржуев, почти до самой Варшавы.
Ахмади освоился быстро. Весельчак, балагур и добрый товарищ, он сразу привлек к себе общее внимание, и скоро уже все стали называть его «дядя Ахмади». И Шамси он очень пришелся по душе бойкостью языка и какой-то особенной живостью характера. Так и казалось всегда, что он не усидит спокойно, вскочит на ноги, растормошит всех и отпустит острую шутку. Крупная, широкоплечая фигура, продолговатое, прямоносое лицо, буйно растущая темно-русая борода, такие же усы, живые, проницательные глаза, волосы с пробивающейся сединой, —как говорил он сам, память долгих окопных лет, — вот какой он был, Ахмади.
Но сейчас чем дольше смотрел на него Шамси, тем больше чувствовал, что встреча их несет не только радость, что их ожидает немало тяжелого. И Ахмади выглядел не очень-то уж хорошо. Шинель на нем поизносилась, тонкая летняя гимнастерка под ней вся изорвана. Сам он похудел, почернел и даже как-то съежился.
Валитов оглянулся на остановившуюся немного позади походную кухню. Она не дымила. Кашевар сидел спиной к ветру и так же, как старый мерин, запряженный в кухню, спокойно дремал. Валитов засунул руки в рукава шинели и еще больше съежился.
— Гм... Нет ничего. Сразу видать, не подвезли провианту. Даже хлеба не раздают. Хоть бы по фунтику, червячка заморить...—сказал он и, словно боясь, что Шамси неправильно поймет его, виновато улыбнулся.— Со вчерашнего дня не ели. В животе больно крутит. Все торопимся да торопимся. Так гоним, что хлебушко за нами не поспевает. И, как назло, ни одной
2 Сиваш 25
деревни по дороге... — Сам того не чувствуя, с какой-то детской непосредственностью Валитов косился на мешок Шамси. Парень все-таки пришел из тыла, и на дне его мешка вполне мог заваляться кусок хлеба. Шамси знал, что Ахмади не был жадным к еде, и когда им приходилось жить впроголодь, относился к этому спокойно. Коли уж он, пожилой человек, заговорил так, значит, неважны у него дела, проняло его... Да ведь и Шамси выданный ему на паек хлеб вчера же и съел. Как быть? Шамси вспомнил вдруг, что у него еще остался кусок сахару, которым по дороге в полк угостил его Данилов. Он вынул его из кармана и, обдув со всех сторон, протянул Ахмади:
— Я и забыл, с меня полагается гостинец! На вот, пососешь хоть.
— О, гостинец, он — большой или малый — все равно гостинец. Говорят, можно дарить иголку, можно и верблюда. Спасибо, браток... — Ахмади, пососав сахар, облизнулся, как ребенок, прищелкнул языком. — Эх, сейчас бы горячей картошки! Моя Галимэ, бывало, каждый день варила: рассыпчатую, желтую... Картошка вся дымится, а ты хватаешь ее пальцами да перекатываешь с ладони на ладонь, не обжечься бы...
Данилов опять стал подтрунивать над ним.
— Говорил же я, что хворь бабья его захватила! Это он для отвода глаз о своей жене говорит, а потом, глядишь, других начнет перебирать.
Ахмади отмахнулся от него и, сидя на подогнутых ногах и полузакрыв глаза, продолжал вспоминать:
— На скатерти лежат толстые, большие, во весь каравай, ломти хлеба. Картошку польешь немного подсолнечным маслом, посолишь. А там еще крепкий горячий чай с молоком! Эх. хлеб, хлеб! Хлеб с картошкой! Наешься до отвала, выйдешь — и за работу. Тут вокруг тебя все метелью вьется, все спорится!
В этот момент, потревожил ли его разговор товарищей или у него тоже живот подвело от голода, встал, протирая глаза, и Микола Перебейнос.
— Слышишь, Бачило? — окликнул он густым, рокочущим басом лежавшего на боку белесого красноармейца. — Бульбу-то, выходит, не одни белорусы любят, а?
Михась Бачило, не утруждая себя ответом, лениво
26
пошевелил плечами. Он вообще не отличался особой щедростью на слова. Бывали дни, когда он, кажется, и рта не раскрывал. Только уж если заберет его, тогда держись! Перебейнос опять обратился к нему:
— Ты, Михась, часом язык вместе с бульбой не проглотил?
Бачило дернул плечом и снова промолчал. Но когда Перебейнос попытался в третий раз поддеть его, он не стерпел и, мешая русские слова с белорусскими, обрушился на друга Миколу шквалом таких остро-наперчен-ных выражений, что тот удивленно вытаращил глаза и весь заколыхался от смеха:
— Охо, хо, хо, хо!..
Когда все успокоились и утихли, Бачило примирительно сказал Миколе:
— Ты к нам приезжай после войны. Моя Ганька тебе из бульбы такой разной разности напечет, какой хохлам не то чтобы на столе, во сне не увидать! А ты ржешь: бульба, бульба. Пусть только война кончится...
Насупив брови, Ахмади отбросил окурок. С голоду или от чего другого у него испортилось настроение.
— Кончится, кончится... Да ведь когда еще кончится! Вон те, толстопузые, чтобы шеи им свернуло, черви навозные, все завидуют нам. Как бы, мол, бедные люди хлеба не стали досыта есть да как бы не почуяли, что и без них обойдутся. Вот чего они до смерти боятся, вот почему душа у них в пятки уходит!
Оставив тачанку с пулеметом в обозе, к ним присоединился и Митричев.
— Вот здорово! Конца привалу все нет и нет. И никто не пошевельнется, не поинтересуется, что случилось, почему не двигаемся. Полный покой!
— Ежели у тебя, ноги так чешутся, иди, топай вперед.
— Да у него не ноги, а язык чешется.
Митричев и сам рассмеялся вместе со всеми, сел возле Валитова и высунул из прорехи в рукаве шинели палец.
— Что-то в шинели дырки стали разводиться. Где политрук-то наш?
При случае Ахмади мог не только пошутить, но и укусить.
27
— За новой шинелью для тебя побежал... Заодно, сказал, и красные, бутылкой, штаны прихватит. Как нарядишься в них, будешь вылитый Кузьма Крючков. Кудри дыбом, нос торчком, фасон хоть куда!
— Нет, я взаправду. Видишь, шинель вот прямо носить нельзя. Как тут тепло будет держаться? Пожалуй, придется одолжить у врангельских офицеров. Им Антанта еще подбросит. Видели или нет? Зеленая, с медными пуговицами... Добротная, теплая шинель...
Лежавший молча Борисов приподнялся и сел. Красивое его лицо выражало досаду.
— И ты бы не побрезговал, надел?
— А почему не надеть? Что тут брезгливых из себя строить? Если мне тепло, пускай хоть с плеча самого Врангеля будет шинель!
Борисов удивленно покачал головой.
— Вот ты какой... Почему, говоришь, не надеть? А ты не знаешь разве, что эта зеленая шинель, которую ты жаждешь получить, обагрена кровью! Кровью твоих братьев, кровью рабочих и крестьян, борющихся за Советскую власть! Ты забыл об этом?
— Ну, ты уж перехватил. Подумаешь, барышня! Нет, помирать не захочешь — наденешь! А не наденешь, так будешь дрожать, а то и вовсе легкие застудишь и скопытишься где-нибудь в канаве. Думаешь, это на пользу нам?
Борисов поморщился и отвернулся. Его возмущала такая, как он думал, непонятливость Митричева.
— И по-твоему тоже так, дядя Ахмади? — обратился он к Валитову. — Кого только не наряжала Антанта в эти зеленые шинели и кого только не натравливала на нас! Сколько пролили крови, сколько детей оставили сиротами. — Он искоса взглянул на Митричева и бросил ему: —Скоро же ты забываешь все, товарищ!
— Не напрасно ли вы спор-то свой затеяли? —задумчиво сказал Ахмади. — Не в шинели здесь суть. Я бы тоже, случись такое дело, не отмахнулся бы от новой шинели. Ведь, бывает, так заберет, зуб на зуб не попадает. А насчет ихнего зверства верны твои слова, не забудется оно, нет! Ох и ненасытные, ох и лютые же эти буржуи! Вот я с самого начала революции воюю с ними. Ты скажи, против кого я не воевал? Тут уж не
28
осталось ни Юденича, ни Колчака, ни Деникина. Ты этому буржую, скажем, надаешь как следует у Ледового моря, а он со своей кровавой мордой то с Каспия суется, то с афганской границы. Там ему шею свернешь, а он шпионов целую свору к нам зашлет, подож-гет где, людей наших из-за угла убивает и еще сорок пакостей сделает.
Данилов обхватил Ахмади за плечи.
— А ты как думал? Иначе не может и быть. Потому он и буржуй, капиталист. Ведь коли мы наберемся силы, ему — крышка! Вот почему разъярились они.— Кивнув в сторону предстоящей им дороги, он добавил:— Суть вон где! Возьмем Крым — неоткуда будет им лезть.
В это время показался командир роты.
— Командиры взводов, ко мне! — крикнул он.
Данилов и еще двое взводных быстро поднялись и подошли к нему.
— Есть приказ дать перекусить полку здесь. Пошлите к каптенармусу за хлебом!
Затем Пахомов приблизился к остальным, уселся на краю канавы и, как бы прислушиваясь к доносившейся издали канонаде, опустил голову, на крутом его лбу появились морщины.
Все примолкли. Ведь обычно Пахомов держался в стороне от красноармейцев. Чтобы прервать молчание, Данилов спросил:
— Это наши бьют, товарищ ротный?
Пахомов, словно пытаясь понять, о чем его спрашивают, долго смотрел на Данилова и потом ответил:
— Нет. Не наши...
Поговаривали, что Пахомов прежде был царским офицером. Поэтому красноармейцы всегда с интересом приглядывались к нему, им было любопытно, как он себя держит, как разговаривает. Вот на плечах его шинели, кажется, видны светло-серые полосы, следы споротых золотых погонов. И над его крупными губами точно не хватает лихо закрученных усов. Замечали, что он тянется иногда пальцем к верхней губе, будто хочет потрогать усы. Среди других командиров его выделяла и высокая каракулевая папаха, а такого большого, в деревянной кобуре, маузера не было даже у командира полка.
29
Царский офицер... Кто его знает, может, у него, как у помещика, жившего по соседству с деревней Шамси, было свое имение, водились рысаки да вислоухие борзые собаки?.. Может, есть и у него полная красногубая жена, которая ходит вся в шелку и носит круглую, с огромными полями шляпу... И, может, отняли у него все богатство, потому и суров он, трудно ему забыть об этом...
Что-то непонятное было в их командире и для Шамси и для других красноармейцев. Слишком сух и холоден он был. Вместе с тем вызывал и уважение: дрался с белыми храбро, не щадя себя. В последнее же время стали примечать. что он хоть и нерешительно, но старается сблизиться с ними, и радовались этому.
Пахомов прислушался немного и опять проговорил: — Те стреляют. Слышите, тяжелая артиллерия. Наша еще не дошла, там осталась...— махнул он головой назад.
Данилову, как и всем, впрочем, хотелось разговорить командира.
— Мы, кажется, уже недалеко от Крыма, товарищ командир, да?—спросил он.
Пахомов протянул вперед руку и показал:
— Видите во-он те облака?
— Видим...
— Там и есть Крым... Только чуть-чуть пониже облаков...
Увидев, что некоторые приняли его слова за правду и, вытянув шеи, пытаются разглядеть под облаками Крым, Пахомов рассмеялся, во рту у него блеснул золотой зуб.
— Так и Москву можно показать,— пробурчал Данилов, недовольный, что с ними обошлись как с детьми.
— Стало быть, стреляют не там, где ворота в Крым?
— Нет, нет,— ответил, сосредоточенно слушая, Пахомов. Судя по гулу орудий, бой разгорался,— Нет, наверное, еще и до Перекопа будут схватки. Возможно, и сегодня и скоро... Вы слышали о приказе Фрунзе перерезать частям Врангеля пути отступления на Перекоп, окружить н уничтожить их в Таврии?
— Слыхали.
— Вот и хорошо. Так знайте: мы готовимся к выполнению этого приказа. Попятно?
Считая, что разговор окончен, Пахомов полез в кар
ман за портсигаром. Он привык говорить с бойцами на языке приказов. И привык к коротким ответам: «так точно» или «никак нет»— два слова! Разве этого недостаточно?
Кто-то под нос себе проговорил:
,lii' — Чего ж тут не понять. Вестимо, понятно...
। Открыв серебряный портсигар с вонючей махоркой, * Пахомов положил его на колени и стал разглаживать пальцами оторванный от какого-то плаката клочок бумаги.
! Да, вполне достаточно. С солдатами надо разговаривать по-солдатски. Это тебе не дома, здесь война... Но, ... почувствовав, что вдруг наступила полная тишина, он поднял голову.
I Красноармейцы, сидевшие кто на корточках, кто поджав под себя ноги, тесно прижимаясь друг к другу, чтобы защититься от ветра, кажется, чего-то ждали от I него. Неужели хотят, чтобы и он, как те молодые пе- тушки, которых называют красными командирами, на-..чал разглагольствовать с ними? Дескать, товарищи, буржуи —они такие, буржуи сякие... Красноармеец дол-* жен быть сознательным, должен быть... Нет, благодарю покорно. Агитация — дело политрука, за это он паек по-| лучает, за это казенную амуницию изнашивает. Впрочем, 5 больше ему и делать нечего. Пусть болтает...
| Но чем дольше длилось молчание, тем более неловко становилось Пахомову. Дымя цигаркой, он вгляды-' вался в своих бойцов. Лица у многих изможденные, губы посинели, сами все съежились. Ведь они со вчерашнего дня кусочка хлеба не съели. Уже дней пятнадцать, вероятно, не спали под крышей. Все в поле, все в степи. И ни-• кто из них ни разу не заикнулся об этом. Это хорошо, по-Шсолдатски. Они и в бою не подводят. Возможно, скоро ему ф Придется вести их в атаку, стоять с ними на смерть!
А тут... да... чего-то не хватает.
I, Пахомов торопливо затянулся и как-то невольно передал раскуренную цигарку не сводившему с него глаз Митричеву. Не успел тот сделать и двух затяжек, как к нему протянулась рука соседа, и цигарка пошла по кругу.
— Так...— вздохнул Пахомов.— Гм... Вы насчет Крыма спрашиваете?
— Да, товарищ командир.
Пахомов снял штык с винтовки Борисова, сел на кор
31
точки и начал что-то чертить на земле. Начертил круг и рядом с ним довольно большой прямоугольник, задумался немного и, указывая штыком, принялся объяснять:
— Это —Украина, а вот Белоруссия. Месяца два назад против нас еще сражалась Польша. Так!— Острием штыка он провел со стороны Польши к России длинную стрелу. Ниже нарисовал квадрат.— Тут Крым.— К советской земле протянулась еще одна стрела.— Это — армия Врангеля!— продолжал он и вдруг запнулся. Говорить или нет? То, что ему хотелось сказать, он слышал на совещании от комиссара полка. И даже про себя повторял не раз. А здесь... удобно ли ? Ну, была не была! — Ленин... Владимир Ильич вот эти две стрелы назвал руками буржуазии, протянутыми, чтобы задушить Россию. Из них одну...— штык перерезал пополам стрелу, идущую от Польши,— Красная Армия отрубила.— Пахомов поднял голову, и, увидев смеющиеся глаза политрука Исмае-ва, появившегося тут невесть откуда, еще больше смутился. Он знал: Исмаев смеется над тем, что Пахомов, который всегда косо смотрел на агитаторов, теперь сам начал агитировать. Пусть смеется! —А эта рука...— Пахомов, к своему удивлению, почувствовал, как растет в нем близость к бойцам, как исчезает настороженность, рождается доверие в тех самых людях, которые всегда немного сторонились, немного чуждались своего командира. Ему вдруг стало очень легко. «Верят,— подумал он,— пойдут со мною в огонь и в воду!»
— Вы знаете, вероятно, что Врангель наступал из Крыма с сорокатысячным войском. Какая у него была артиллерия, сколько танков! Однако помните, как мы его разгромили у Днепра, в Каховке?!
Митричев, воодушевившись, стукнул прикладом о землю:
— Ого! Еще бы не помнить! Половину уничтожили, в плен сколько взяли!.. Танки захватили!..
Но тут сидевший рядом Данилов потянул его за полу шинели. Вот ведь бестолковый, неужто не видит? В кои веки командир разговорился... А он, дурень, вмешался в такое время!.. Митричев метнул злой взгляд на взводного и, надувшись, умолк.
•— Уцелевшие части армии Врангеля теперь отступают по Таврии в Крым и намерены притаиться за Пере-
32
копом. Они хотят передохнуть там зиму и, набравшись новых сил, весной снова пойти на нас. Мы сейчас идем наперерез пути их отступления: все наши дивизии, с разных сторон! Командующий Фрунзе поставил перед нами задачу: не пропускать Врангеля, не дать ему возможности запереться в Крыму, окружить его, схватить мертвой хваткой и прикончить здесь. Здесь прикончить! Понятно?
Красноармейцы оживились, задвигались, со всех сторон послышались бодрые голоса:
— Вот теперь понятно, товарищ командир!
— Все ясно. Все в порядке!
— Поняли!
Пахомов улыбнулся и как-то смущенно стал закручивать вторую цигарку.
Тем временем, с большими караваями хлеба в охапке пришел из обоза Шамси. Хлеб поделили вмиг, и не успел Пахомов оглянуться, как бойцы, позабыв обо всем на свете, осторожно, держа обеими руками, чтобы не уронить и крошки, принялись уписывать свои пайки.
Тут же откуда-то с газетами под мышкой опять вынырнул Исмаев. Уж он обязательно подстережет момент, когда красноармейцы окажутся на передышке. Подсев к командиру, он развернул какую-то незнакомую, напечатанную на добротной белой хрустящей бумаге газету.
— Очень хорошо, что товарищ командир все разъяснил вам,— сказал он и, отведя пальцами густую прядь иссиня-черных волос, свисавшую на такие же черные брови, взглянул на командира улыбающимися глазами. — Я прочту вам еще, что пишут сами противники.— Он подождал, пока бойцы устроятся поудобнее.— Эта газетенка называется очень громко — «Великая Россия», ее выпускают белые в Севастополе. Вот что они пишут: «Джанкой... Октябрь. Наши славные, доблестные войска продолжают свое победное движение вперед... В Северной Таврии части генерала Слащева взяли в плен три тысячи красных солдат и захватили большое количество оружия и боеприпасов... Волею самого господа бога, наши войска в ближайшее время обязательно уничтожат красных и форсируют Днепр. Оттуда прямой
33
путь —на Москву! Красные в панике. Бросая обозы, оставляя штабы, они в беспорядке бегут...»
При последних прочитанных политруком словах раздался дружный хохот:
— Бегут?! Ха-ха-ха! Это еще вопрос, кто бежит!
— «На Москву», а? Держи карман!
— Ну и бессовестные. Так и написали: три тысячи пленных?
— А не пишут, как они под Каховкой осрамились — бежали и танки свои бросили?
— Вот ведь как морочат головы солдатам, сукины сыны!
Пахомов поглядывал то на развеселившихся бойцов, то на бойкого политрука. Этого быстрого, как ртуть, парня, который иногда любил совать свой нос в дела командира, Пахомов, по правде говоря, не очень жаловал и не очень уж с ним считался. Но сейчас он ему положительно понравился.
Исмаев с молодецким жестом откидывал назад волосы, подчеркнуто насмешливо читал самые серьезные места во вражеской газете. Пахомов улыбнулся про себя: «Молод еще, хотя в бою держится ничего, когда нужно, бросается в самые опасные схватки».
Со всех сторон посыпались вопросы:
— Ну-ка, ну-ка, товарищ политрук, нет ли там еще чего занятного?
Это был удобный момент, чтобы подготовить бойцов к тому, что их ожидает, рассказать о крымских укреплениях.
Надеясь полностью растопить существовавший между ними ледок, Исмаев, словно бы советуясь, обратился к командиру:
— Аполлинарий Петрович! Как по-вашему, продолжим?
— Читай, все это нужно.
Исмаев стал читать еще одно подчеркнутое им в газете место:
— «Но если даже допустим невозможное, предположим, что красные победят в Таврии, то и в этом случае нет причин беспокоиться за Крым. Перекоп и Сиваш всегда были недоступны красным, теперь же наше командование возвело новые укрепления. Сейчас ли-
S4
ния обороны Перекоп — Сиваш, в целом северная граница Крыма неприступны ни для живой силы, ни для «техники» красных...»
Исмаев уже дочитал, а бойцы еще продолжали хранить молчание. Если пишут так уверенно, возможно, и не все тут выдумано. Значит, есть над чем задуматься. Коли белые запрутся в Крыму, придется ведь в этих потрепанных шинелях, в этих рваных ботинках и у крымских ворот потоптаться, может, и зиму всю провоевать... Вот что занимало сейчас бойцов. Но политрук Исмаев не любил впадать в уныние. Его рассудок не допускал какого-либо сомнения в возможность победы над врагом.
— Ну, мы еще посмотрим! Верно, Аполлинарий Петрович? — сказал он.— Пока не будем гадать, что там и как, подумаем о нынешнем дне. Какая перед нами боевая задача? Не дать прорваться этой сволочи в Крым! Ведь так, товарищи?
— Верно. Ну, а ежели и прорвутся, не у них будем спрашивать, как нам Крым брать.
— Точно. Не вертаться же нам обратно, не оставлять же им Крым.
— Конечно! — вмешался в разговор и Пахомов.— Только не думайте, что будет легко. Нам придется напрячь все силы...
Не успел он договорить, как, нахлестывая и без того взмыленных лошадей, проскакали вперед к голове колонны двое верховых. Вскоре на дороге показались несколько командиров. Один из них, стройный, одетый в длинную светлую шинель, в высокой серой папахе с красным верхом, звеня шпорами, быстро приблизился и крикнул:
— Командир!
Пахомов, вскочив, подошел к нему и легким движением вскинул правую руку к папахе.
— Слушаю, товарищ комбат!
— Поднимите бойцов, трогаемся!
Почувствовав, что Пахомов еще чего-то ждет от него, командир батальона придвинулся к нему ближе. Теперь он говорил мягко, просто, как товарищ.
— Аполлинарий Петрович! Два полка, отступающих в Крым, идут прямо на нас. Напролом лезут! Ты
35
сам знаешь, им теперь приходится спасать шкурь*-У тебя всего один пулемет. Да, да, бедновато. Посылай скорее за гранатами. Как бы сразу же не пришлось ИДТИ в атаку!.. Ясно?
— Да. Но дайте мне еще хоть один пулемет.
— Не могу, нет их! Не довезли еще.
Комбат вместе с одетым так же, как он, очень моложавым начальником штаба и вестовыми торопливо зашагал дальше, к остальным ротам.
Только они скрылись с глаз, вдоль колонны промчался на лошади ординарец командира полка.
— Трогайся, скорее, вперед!
Через минуту полк был уже на ногах, и все,— кто повесив винтовку за плечо, кто просто держа ее в руках, — чуть ли не бегом двинулись в путь.
Прошел час, прошло полтора часа, а полк все так же, не убавляя ходу, продолжал свой путь... Где-то впереди, видно, разгорался бой, там неумолчно грохотали орудия, но здесь пока было спокойно. Только люди начали выматываться, и уже каждый шаг давался им с трудом.
Впрочем, долгие, тяжкие походы для бойцов этого полка были делом не новым. С той самой поры, когда сформированная весной 1920 года в Казани стрелковая дивизия была переброшена на Украину и преобразовалась в 15-ю Инзенскую дивизию, можно сказать, вся жизнь бойцов проходила на полях войны, в походах. После того как Врангель прорвался летом из Крыма в Таврию и со своей успевшей набрать силы, прекрасно вооруженной и экипированной сорокатысячной армией начал наступление на Донбасс, в скольких сражениях принимала участие эта дивизия! И этот самый 132-й полк, чтобы не пропустить врага, проходил по шестьде
37
сят, а то и по семьдесят верст в сутки и сразу же вступал в бой, а там опять отправлялся в поход. В голой степи, присев на ссохшуюся комьями землю, бойцы закусывали черствым куском хлеба и, повесив на себя двенадцатифунтовые винтовки, патронташи, саперные лопаты, огромные ножницы и еще туго набитые солдатские торбы, шли, засыпая на ходу, по бесконечным дорогам Таврии.
Вот и сейчас, от командира и до последнего воина, весь полк с тяжелой ношей на плечах шагал, спешил вперед. Однако дорога брала свое, люди изнемогли до предела. Ослабевшие и пожилые бойцы стали отставать.
Хотя день был и морозный, многие расстегнули вороты шинелей, над колонной подымался пар, слышалось тяжелое, прерывистое дыхание. И все же нельзя было ни остановиться, ни замедлить движения, надо было идти, куда-то дойти скорее. Время от времени вдоль колонны, выкрикивая приказ командира полка, проносились на лошадях ординарцы:
— Быстрее, быстрее, не отставать, не рассыпаться!
Собрав последние силы, бойцы старались ускорить шаг. Возможно, не так уж далеко. Или сражение, или отдых... Лишь бы скорее.
Дорога пошла по пологому подъему, немного спустя впереди показалось протянувшееся на несколько верст, расположенное в степной низине село. Над ним стлался сизый дымок. По ближнему краю выстроились в ряд маленькие белые хаты, а посередине возвышалась красная кирпичная церковь с серебряными куполами и высокой колокольней. Тут и там вытягивались вверх шеи колодезных журавлей, виднелись оголенные осенью сады.
Больше всех в роте, видимо, устал Миша Борисов. Опираясь на плечо Миколы, он уже не шагал, а волочил ноги. Когда перед ними появилось село, он в первый раз за весь переход поднял голову и улыбнулся.
— Уф! Село! Кажется, я и то не свалюсь теперь, доберусь до него. Мне в голову никогда не приходило, что можно до такой степени уставать и еще двигать ногами, — сказал он и смущенно и даже как-то виновато усмехнулся.
Нелегко пришлось и Ахмади. Казалось, обессиленные ноги вот-вот откажут ему, но он, старый солдат —
38
старая лиса, сумел все-таки приберечь силы: и вперед не забегал и от других не отставал, шел ровными, размеренными шагами, а теперь и вовсе приободрился и принялся подшучивать над Мишей:
— Коль джигитом не назовешь, так небось еще обидишься. Выварилась репка — и пропала репка,— говорят наши татары. Знаешь, почему уморился ты быстро? Потому что рыхлый ты! А рыхлый почему? Потому что рос — не работал. Землю не пахал, лес не рубил, снег не сгребал. Все за столом да за партой. Оттого и ноги у тебя хлипкие, будто тряпичные. Ты смотри, таких девки не любят... Ого! Село-то ничего вроде... ежели попадем...
Митричев, который любил говорить обо всем как о доподлинно ему известном да еще и от себя прибавлял немало, не удержался и на этот раз.
— Почему не попасть? Село-то наверняка наше! — сказал он уверенно. — Конница Буденного окружила белую сволочь вон там,— он показал рукой направо, откуда слышалась канонада,— и уничтожила, не дала прорваться в Крым.
Что-то не понравилось Шамси такое решительное заявление Митричева.
— Откуда ты знаешь?
— Как откуда? Не слышишь разве, что там творится? А в селе все тихо. Ни одного солдата не видать. Дай, только добраться! А там —горячий борщ, галушки! И, может, еще...—Он подмигнул глазом.—Вот помянешь мое слово...
На изможденном лице Миши Борисова мелькнула слабая улыбка: словно умудренный жизнью человек улыбнулся шалости ребенка.
— Можно подумать, что у тебя уже во рту горячая галушка, а в объятиях — красивая девчонка...
В глазах Митричева блеснули сердитые искры. Но если других он и мог отругать без всякого стеснения,— когда дело касалось учителя, у него просто язык не поворачивался, что-то заставляло его сдерживаться. Все же он не промолчал:
— Что, не веришь? Погляди, видишь хоть одного солдата?
Но только Митричев сказал это, как из-за пологого
39
холма справа появились два или три кавалерийских эскадрона и помчались в сторону села. Вслед же за ними вынырнула колонна пехоты. Ахмади хлопнул Митричева по плечу, рассмеялся:
— Фьють твои галушки, Петр-сваток, не удалось и попробовать,
Митричев зло выругался.
Со всех сторон послышались команды, комбат встал перед батальоном. Роты кинулись было врассыпную, чтобы залечь по обе стороны дороги, но не успели — с бугра по ним открыли огонь.
С правого фланга взмахнул рукой Пахомов. Рота поднялась и, пригибаясь к земле, цепью побежала между редкими будыльями срезанного подсолнуха к селу.
Но было поздно. Какая-то часть белых уже закрепилась там и застрочила пулеметом. Рота Пахомова, торопившаяся перерезать путь белым, попала под бешеный обстрел.
Укрыться было негде, приходилось двигаться по голой степи, делая перебежки под пулеметным огнем. Ахмади сильно встревожился, но старался не показывать этого.
— Началось, ребята, началось! Головы берегите, как бы фуражки не задело, добро не попортило! — бодро говорил он, ложась между Шамси и Борисовым в канавку. Этих двух молодых красноармейцев Ахмади как-то всегда выделял среди других. То ли они напоминали молодые его годы, то ли он хотел взять их под свое крыло, оберегать, — но с ними он чувствовал себя лучше всего. Прижатый огнем к земле, Ахмади и тут продолжал разговор:
— Ежели б, говорю, была у нас пушка, мы бы тоже белых пощекотали. Сперва бы трахнули по пулемету, который из села палит, потом смахнули бы к шайтану колокольню. Потом бы смахнули...
Ахмади так и не досказал, почему он хочет разделаться с колокольней: вдруг перед цепью со страшной силой разорвался снаряд и, выбросив вверх сноп желтого пламени, брызнул картечью. Еще не утих гул первого, а уже с отвратительным визгом несся на них второй, и только он разорвался, как из сада в центре села с воем вылетел третий. Шамси начало казаться,
40
что земля не выдерживает беспрерывного грохота: движется, подпрыгивает, дрожит.
Ахмади поднял голову и кинул взгляд на Шамси. Тот отстал, лег ничком и прикрыл лопатой голову. Ахмади испугался.
. — Эй, сосед, ты что там? Не случилось чего?
— Не знаю... нет, вроде... Ай-ян, гремит как...
— Гремит? Эх ты. парнишка. Плюнь на снаряды! И не лежи, ползи, знай, вперед!
Ахмади уже давно пережил ту пору, когда от страха перед ужасами войны в голове начинают путаться мысли о смерти, ту пору, когда от желания покончить сразу со всеми мучениями хочется даже умереть скорее. Он уже давно научился видеть на войне не только возможность попадания снарядов и пуль, но и возможность непопадания их, даже полную вероятность того, что они не попадут. Старый солдат, он привык приноравливаться к любым условиям, быстро применяться к обстановке и находить решение, нужное именно для данного момента.
Вот и сейчас Валитов неотрывно следил за действиями белых и в то же время не упускал из виду товарищей. Вдруг он изменился в лице и сердито закричал:
— Ты куда там к шайтану вылез, полезай обратно сейчас же! —И в ту же секунду в воздух взлетели книги Борисова. Сам он прижался к земле и, растерянно глядя на взвихренные книжные листы, стал сползать в канаву. Его посиневшие от холода руки дрожали, он все дергал затвор винтовки, а тот что-то не поддавался. Ахмади еще больше расстроился. Его очень беспокоило, что эти парни никак не могут свыкнуться с военной обстановкой. Он уже собирался выговаривать им, но тут опять с невероятным гулом и треском посыпалась картечь. Шамси в страхе втянул голову в плечи и тут же виновато взглянул на Ахмади. Он чувствовал, что Ахмади волнуется за них и недоволен ими. Он и сам много дал бы, чтобы быть таким же спокойным, как их старший товарищ. Шамси даже залюбовался им. Весь напружиненный, Ахмади прижал к себе винтовку и, чуть приподняв голову, устремил взор на противника. Все видит, ко всему готов.
Между тем на холме показался броневик белых и
41
с ходу стал обстреливать надвигавшиеся красные ба* тальоны.
У белых не было другого пути для отступления в Крым: либо смять этот полк и пройти, либо погибнуть. Поэтому они бросили на полк все свои стянутые к селу части, чтобы разбить его одним ударом. Одновременно с разных точек открыли огонь более десяти пулеметов. Стремительно маневрируя по низине, броневик кидался то на один, то на другой красный батальон. Готовясь подняться в атаку, ползком продвигалась часть, состоявшая только из офицеров.
Командир батальона, почему-то с непокрытой головой, подбежал к первой роте. Всматриваясь в подбиравшегося к ним противника, он крикнул высоким, полным ярости голосом:
— В контратаку! Отбить наступление! Немедленно! Вперед!
Роты, одна за другой, залегая и вновь поднимаясь, пошли навстречу белым. В это время Митричев со своим пулеметом пробился сквозь цепи вперед и ударил огнем по передней линии спускавшихся с холма белых солдат.
Белые, не выдержав огненного натиска этого бесшабашного пулеметчика, выскочившего на голое, открытое место, залегли на склоне. Было видно, как, размахивая револьверами и что-то крича, бегали там офицеры, как солдаты, пряча головы, приникли к земле, а потом снова поползли вперед.
Митричев выдвинул пулемет еще дальше, вставил новую ленту. Кинул взгляд на ряды противника и переставил прицел. Гордый тем, что ему беспрекословно подчиняется эта сильная машина, которая косит врагов, точно камыш, он нажал на гашетку. Однако на этот раз «максим» повел себя вовсе не так, как думал Митричев.— щелкнул раза два и замолк.
Как же это? Почему? Что случилось?
Митричев растерялся: неужели пулемет вышел из строя? Ведь он никогда не отказывал ему...
Белые сразу оживились. Головные взводы их перебежками сбегали по склону вниз. Скоро начнется атака, да, атака... Если дать им занять эту высоту, батальон окажется в отчаянном положении...
Послышался разъяренный голос командира роты:
— Митричев! Огонь!
Как .будто Митричев и сам не знает этого! Он даже сплюнул от злости.
Молчание пулемета начало тревожить и остальных.
— Нажимай!— кричал Данилов, не переставая сам стрелять из винтовки.
Перебейнос забористо выругал его.
— Эй, спишь там?
Митричев обернулся и взглянул на него так, словно хотел пронзить его глазами.
— Пош-щел ты к...
С вершины холма раздалась команда офицеров. Белые заметно продвинулись ближе.
Со всех сторон опять нетерпеливо крикнули:
— Давай скорее, давай!
Митричев со злостью открыл затвор, и тут словно гора свалилась с его плеч: он увидел, что пулемет заело от продавленной гильзы.
От радости и от стыда за себя он выругался, помянув ближних и дальних предков и даже самого господа бога. В ту же секунду в дробный треск стрелявших по всей цепи винтовок вступило резкое татаканье пулемета.
Шедшие в атаку солдаты противника, то поднимаясь, то припадая к земле, качались вокруг мушки. Митричев с ожесточением начал строчить по ним. Срезанные, падали под мушку грузные тела, валились серые папахи... Поводя дымящимся дулом пулемета и прислушиваясь к быстрому и четкому его стуку, он возбужденно кричал:
— «Максим», милый...
Шамси еще не приходилось видеть Митричева близко в бою. Вот таким, как сейчас, он на всю жизнь запечатлелся в его памяти: рваный козырек повернутой назад фуражки упирается в шею. облокотившиеся на землю руки дрожат в такт сотрясавшемуся пулемету, сквозь худую подошву ботинка проглядывает пален ноги... а он, все более распаляясь, стреляет и стреляет без передышки.
Вскоре атака была отбита. Оставив на поле боя кучу трупов, белые отступали.
Однако радоваться было рано. Из-за холма, на под
крепление прежним, шли новые части белых. А тут, кроме нескольких старых «максимов», не было ничего против их броневика и многочисленных пушек, пулеметов.
Вот на место отхлынувших белых вступили свежие силы —новые батальоны. Пахомов вынул из кобуры маузер, повел глазами по напряженным лицам бойцов, лежавших, пристреливаясь, в цепи, на одно мгновение задержал взгляд на ползущем в первом ряду политруке Исмаеве. Увидев, как впереди соседней роты взмахнул шашкой и встал командир батальона, еще раз всмотрелся в готовящегося к атаке противника. Пора!
Пахомов вскочил на ноги и, потрясая в воздухе маузером, дал команду:
— Вперед, вперед! Ура!
Под ногами захрустели опаленные горячим летним солнцем, обитые студеным осенним ветром травы, в лицо пахнуло пороховым дымом, гарью. Стали чаще попадаться развороченные ямы. Это рвались, разметая землю и жизни, снаряды. Грохотали пушки, непрерывно трещали пулеметы, над ухом свистел целый вихрь пуль. Вслед за взрывами гранат вдруг наступила тишина; будто пораженная тем, что творилось вокруг, застыла сама земля. Это, с винтовками наперевес, обе стороны пошли в штыковую атаку.
И опять все завертелось, загудело. Сухо щелкали выстрелы из наганов, звенели, скрежетали, сшибаясь, штыки.
В яростном порыве ворвался в гущу боя и Борисов. Вокруг него с остервенением, тяжело дыша и ухая, кололи друг друга штыками, колотили прикладами. Увидев, как двое с нашивками кинулись на молоденького красноармейца, Борисов отвлек одного из них на себя и, разгоряченный схваткой, не успел оглянуться, как сам оказался окруженным. Солдаты смотрели на него налитыми кровью глазами, плоскими штыками тянулись к его груди. Вот один замахнулся, но штык его скользнул по вытянутой винтовке Борисова. У Борисова с головы слетела фуражка, растрепались волосы, ему чем-то ожгло щеку, и он почувствовал на губе солоноватый вкус крови. Увертываясь и отбиваясь от преследовавших его штыковых клинков, Борисов видел, как, пригнувшись, слов
44
но хищники, готовые к прыжку, надвигались на него враги.
Шинель на нем распахнулась, распустилась обмотка. Казалось, гнев придал ему необычайную легкость. Подавшись вперед всем телом, он с силой всадил штык в одного солдата и отпрыгнул назад.
— На, паразит!
Солдат вскинул руками, точно хотел уцепиться за что-то, и упал навзничь.
Но в ту же минуту Борисов ощутил в груди резкую боль. От страдания или от злой обиды лицо у него перекосилось. Вдруг в его сердце пробралась тревога: не задело ли, не порвало ли «ее»?! Ему было необходимо сейчас же пощупать грудь, нагрудный карман, коснуться пальцами маленькой карточки, лежавшей в кармане. И, может быть, его пальцы почувствуют тепло ее сердца, а глаза прочитают любовь в ее глазах? И тут же его охватйло острое желание жить, не умирать. О, если бы остаться живым... Нет, нельзя поддаваться! И не пропускать, не пропускать врага!.. Куда же делись все его товарищи? Почему не видно никого? Как же он попался врагам в руки?..
Вся рота сражалась из последних сил, тут же рядом кто-то надсадно дышал, кто-то вскрикивал в смертной муке. Только Миша Борисов видел и слышал все это очень смутно, как во сне.
Чем больше расплывалось по его шинели маленькое поначалу пятно крови, тем тяжелее становилась его винтовка. Он почувствовал сильную дрожь в коленях. И на какой-то миг ему показалось, что к нему бежит Бачило и кто-то еще.
«Идут... сейчас, сейчас придут,.. Надо отбить штык вот етого солдата с погонами...»
И тут же что-то с хрустом вошло ему в спину. Этот удар отдался в его сознании последней вспышкой лютой ненависти к врагу. Тело его как-то сразу набрякло. Земля закачалась и словно опрокинулась на него всей своей громадой. Сердце забилось мелкой дрожью. На плечи легла свинцовая тяжесть и, точно желая придавить его к земле, наваливалась все сильнее и сильнее...
На землю уже давно опустилась тьма. Шум боя отдалился и наконец совсем затих. Белые с трудом
45
прорвались через этот красный полк и, бросив обозы, много орудий, убитых и раненых, кинулись к Перекопу.
Взвод Данилова, вернее оставшиеся в живых бойцы взвода, с усилием дотащился до соломенных копен возле села и повалился спать. В селе им не хватило места: там не только хаты, но и амбары были набиты битком. И во дворах ногой некуда было ступить, всюду стояли орудия, пулеметы, тачанки.
Под копнами между зарывшимися в солому бойцами кое-где виднелись забинтованные белой марлей раненые, слышались стоны.
Одурманенный навалившимся на веки, охватившим все его тело сном, лежал среди других и Шамси. Но заснуть он не мог. Перед глазами у него мелькали солдаты, сверкали клинки штыков, в ушах все еще раздавались отчаянные крики. Шамси плотнее сомкнул веки, как бы отмахиваясь от непрошенных мыслей, качнул головой. Но вспомнил словно каменный, желтый с синевой лоб Борисова, его застывшие, почерневшие губы и узкий след у рта от стекавшей крови и опять вскочил с криком:
— Ахмади абзы!
Валитов шевельнулся, чуть подвинул руку, но не откликнулся.
Медленно, с печальной покорностью зазвонил церковный колокол. Колокольный звон, казалось, стонал от холода, грустно на что-то жаловался, изливал горькую свою обиду. Шамси прислушался к стонам, к оханьям лежавших под копнами товарищей, тяжело вздохнул и улегся снова. Но тут же приподнялся и, сунув руку за пазуху, пощупал лежавшую в кармане маленькую карточку. Перед тем как хоронить, политрук вытащил из кармана Миши карточку улыбающейся девушки и передал ему.
— Пошлем домой, письмо напишем...
Теперь Шамси было очень неловко перед этой девушкой. Что они напишут ей? Как же это вышло, что они не заметили вовремя? Как допустили, чтобы Миша погиб у них на глазах?..
Когда они с Бачило увидели его, Борисов с трудом держал винтовку, стоял и качался из стороны в сторону. Ведь и расстояние-то между ними было всего шагов де
46
сять-пятнадцать. Правда, того белого солдата Ахмади на месте уложил, но Миша уже свалился.
Шамси лег лицом к Ахмади и прошептал ему:
— Эх, на одну бы минуту раньше увидеть...
Отшвырнув прикрывавшую его солому, Валитов, разъяренный, приподнялся:
— Ты что мозжишь? Ты почему сердце мое рвешь?! Боец ты или... сопливый мальчишка? А?! Думаешь, ты сюда в гости к бабушке приехал?
Ахмади со злостью схватил свою винтовку и улегся спиной к Шамси.
В селе несколько раз скрипнули колодезные журавли, где-то очень далеко, в той стороне, куда бежали белые, едва слышно громыхнули пушки. Шамси, горько вздохнул, поднял воротник шинели и, обхватив руками винтовку, уткнулся носом в спину Ахмади.
В глухую темень по степной дороге шагала группа воинов. Когда дорога поднималась на изволок, на фоне светлых облаков какое-то мгновение маячили их тени, а там, в низине, их снова поглощала тьма. Временами слышалось шуршание шагов по твердой осенней дороге, кто-то тихо откашливался или шепотом что-то говорил другому.
Впереди, между ротным командиром Пахомовым и Исмаевым, опираясь на толстый сук, шел плотный старик. Как человек, немало исходивший дорог в своей жизни, он шагал спокойно, неторопливо, а мягкие постолы на его ногах не издавали даже малейшего шороха. Время от времени он вынимал изо рта свою короткую трубку, сплевывал, а потом опять затягивался. От дыма тонкого табака у Исмаева даже голова немного кружилась, он глотал слюну, но попросить при Пахомове у старика щепотку на цигарку не решался. Хотя до рассвета все равно не
48
пришлось бы курить. Нужна была осторожность, ведь враг и здесь мог подстеречь их. Но Исмаева и других интересовал, конечно, не табак, который курил старик, а он сам, посланец партизан Крыма, Поговорить же с ним никак не удавалось. В штабе полка, где им представили старого партизана, Исмаев только и успел разглядеть его густые седые усы, свисающие по краям рта, и трубку с медным обручем, на коротком мундштуке. Ему сейчас не терпелось узнать: каким образом старик перешел линию фронта, какие принес вести, что он думает о Сиваше? Ведь в штабе его просили показать брод через Сиваш. А командир роты все еще тянет, не расспрашивает. И что он ждет, как он может выдержать, шайтан его знает!
Наконец Пахомов что-то пробормотал, поднял к глазам руку с часами, блеснувшими голубоватой искрой, затем взглянул на небо. Из-за туч несмело мерцала ручка звездного ковша. Навстречу, прилипая влажным холодом к лицу, дул ровный ветер.
Пахомов кивнул головой вперед:
— Это уж с вашей стороны, Данила Михеич!
Старик затянулся, попыхивая трубкой, как бы принюхиваясь, повел носом, осмотрелся кругом, оглядел небо. И лишь после этого ответил:
— Не угадаешь... Сыроват... ветер-то. С моря, что ли...
Тут все невольно устремили глаза в темноту, где скрывался Крым, о котором в последнее время не переставали говорить. Исмаеву даже почудилось, что там блеснуло какое-то голубоватое сияние. А Шамси, молча шагавшему за Исмаевым, показалось, что его чуткий нос уловил в этом влажном ветре сладкий аромат невиданных цветов, растущих на берегу моря. Валитов же шепнул:
— Погляди-ка, а? Не то уж и ветер тамошний яблоками да цветами пахнет? Даже нос тйнет почесать.
Исмаев все ж таки не выдержал, решил сам начать разговор. Полковой комиссар уже передавал ему, что старик принес удивительно радостные вести. В лесистых горах Крыма, особенно на Ай-Петри, действуют партизанские отряды. В Симферополе и Севастополе подпольные организации ведут подрывную работу в войсках Врангеля. Обо всем этом Исмаеву самому хотелось услышать от старика.
49
— Вы, Данила Михеич, родом из Крыма или отсюда, с Украины, туда попали?
Данила Михеич несколько раз глубоко затянулся и, раскашлявшись, остановился, чтобы перевести дыхание.
— Может, отдохнем малость?
Все уселись на сложенные кучей у дороги будылья. Старик немного отдышался и повернулся к Исмаеву:
— Вижу, не терпится вам разговорить деда... Дюже интересно узнать, откуда он взялся, что за дед? Верно говорю?
— Что верно, то верно. Интересуемся!—ответили ему.
— Ну что ж,— начал он спокойно,— родился я на Сиваше. Когда был помоложе, в чумаках ходил. Всего изведал... И соль из Сиваша добывал...
Для многих это было новостью.
— Неужто в Сиваше соль есть? А у нас на Волге без соли мучаются... вон пишут, одна ложка несколько тысяч стоит...
Смутившись сам, что выскочил прежде старших, Шамси тут же замолчал.
— ... Да, есть,— продолжал свой рассказ старик.— Вода у него сильно соленая. У нас его и «Проклятым болотом» называют и «Гнилым морем». А по какой причине? Соленая его вода у любой травы корень разъедает, что есть живое — все душит. Бывает, смотришь: летят к нему стайками дикие гуси или журавли, с выси-то небось большой водой кажется. А там покружатся и повертывают обратно, даже не спустятся. Сивашскую воду, брат, не выпьешь!
Одно особенно интересовало всех — можно ли перейти через Сиваш?
— Вот говорят, что Сиваш — это морской залив, а как же тогда пешком его переходят? Занятно все-таки, как оно получается?
— А мне здешний старик рассказывал,— вступил в разговор Данилов,— что за всю его жизнь Сиваш осенью только дважды и высыхал.
— Тогда почему его на лодках нельзя переплыть?
Словно добрый отец, вокруг которого дети спорят о том, чего они не знают, но хотят узнать, старик слушал со снисходительной улыбкой.
— Все верно, хлопцы,— сказал он.— Ежели бы я
50
пришлым человеком был, вроде вас, тоже бы диву давался. Только...— он мягко посмотрел на обращенные к нему лица бойцов,— только есть у Сиваша свои повадки. Как подует ветер с моря — Сиваш-то с Азовом связан,— заливает его водой до краев, а повернет ветер на море, отливает вода... Тогда становится Сиваш непролазным болотом.
— А что он сейчас, болото или море?
— Пока болото. Надолго ли, нет ли —угадать нельзя. А уж коли пойдет на него вода, в несколько часов наполнится, волнами заиграет, взбунтуется весь. Но без воды он тоже опасен, ох, опасен... Что ни шаг — трясина, омут гнилой. Ступит кто ногой в омут, не выберется, засосет его, заглотает, и следов не сыщешь.
Исмаев же все добивался ясности.
— Ну, а как все-таки будем мы перебираться через Сиваш, дед Данила, что скажешь?
Старик задумался. Когда в штабе дивизии его попросили помочь найти такой брод через Сиваш, чтобы по нему войска могли пройти в Крым, он сразу догадался. Эге! Стало быть, красный генерал Фрунзе решил втихомолочку пробиться к Перекопу с тыла! Данила, конечно, с полным удовольствием согласился помочь в таком большом деле, но тревожно было у него на душе: в эту пору года дно Сиваша еще более обманчиво, а уж если вода нахлынет, вряд ли сойдет скоро. Ведь тысячи людей, и орудий сколько? А вдруг оступишься? Собьешься в темноте с броду и войско погубишь?
— До сих пор никто еще с армией через Сиваш не переходил. Не знаю, что и сказать...
— Это точно. Но ведь до сих пор большевикам и не надо было через Сиваш переходить, Данила Михеич!
Ответ политрука пришелся по душе старику. Он ласково провел рукой по спине Исмаева.
— Правильно, сынск! Правильно ты говоришь. Я в большевиков верю.
Пахомов усмехнулся про себя. «Смотри ты! Ловок, что и говорить! Ну, ну, точи язык, точи! Это твоя профессия!» Заметив, что Пахомов одобрительно отнесся к его словам, Исмаев еще смелее повел разговор.
— Данила Михеич, — сказал он, — ведь вы в Кры
6* 51
му с партизанами были. Вот хочется нашим парням узнать: как дела там? Крепко ли сидят белые? Дейст-. вуют ди партизаны?
—г Я сам из Строгановой. Но там у белых с полгода лесником сидел в горах. Надо было... В горах . там есть несколько партизанских отрядов. Командиром у них седой такой, крепкий мужик. Мы его <Иваном Петровичем» зовем. Одни рассказывали, что был он раньше в ссылке, а другие —что вовсе был царем к расстрелу осужден... Когда вы возьметесь за Перекоп, они тоже не будут сидеть сложа руки. Маловато их, правда, а все польза будет.
С правой стороны послышалась стрельба пушек, и долго тяжело громыхало где-то в темной дали. Давая знать, что пора двигаться, Пахомов поднялся на ноги. За ним встали и тронулись в дорогу остальные.
— Это, наверно, на Перекопе,—сказал Данилов. Старик покачал головой.
— Нет. это правей. С моря стреляют... У них за Перекопом корабли военные стоят.
И тут же на более близком расстоянии, точно старый пес, разбуженный от сна, затявкал, застучал кольтов-ский пулемет.
— Ну, а теперь?
— Это на Перекопе!
Хотя и ничего там не проглядывалось, все стали смот^ реть в ту сторону, откуда доносились пулеметные выстрелы. Значит, вот где он! Перекоп... А пулемет, будто швейная машина, размеренно стучал, строчил и строчил в серой предрассветной мгле.
— Да. вот и до Перекопа немного осталось, — шепнул кто-то, словно себе самому.
Прошли еще немного. Вот облака, скучившиеся на левом краю неба, стали прозрачней, и сквозь них пробился желтоватый предутренний свет. Ветер, тянувший в лицо, словно торопясь встретить молодую зарю, сразу повернул и начал дуть справа. Старик обернулся лицом к ветру, поднял руку, чтобы определить его силу, и удовлетворенно заметил:
— Ветер подходящий покуда...
— А что?
— А то, что воду на Сиваш не гонит..
52
— Следовательно, будет возможность перейти- через Сиваш бродом, так, что ли, Данила Михеич?
Тот не торопился с ответом. И лишь после долгого молчания сказал:
— Когда дойдем — увидим, сынок. Что наперед гадать!
Становилось светлее. Небо на востоке заалело, прочертилось по горизонту багряными полосками. Дорога пошла по пологому спуску вниз к Сивашу.
Старик показал рукой вперед:
— Вон Перекоп!
Там, немного правее Сиваша, густо теснясь, стояла на холме куча белых домов. Над городом высилась неведомо как уцелевшая колокольня единственной церкви. На этой, отлогой стороне города торчали такие же, Как и в любой деревне, колодезные журавли.
Политрук посмотрел на Перекоп в бинокль и махнул рукой.
— Ничего в нем нет особенного. Чтобы не обидеть только, и назовешь городом. Деревня средней руки.
Но и он сам и другие знали, что тут дело не в городе, а в укреплениях на подступах к Крыму. Чего только о них не говорили! И что есть с моря подземные пути к Перекопу, какие-то секретные каналы, и что можно •открыть их и затопить наступающих...
Пахомов взял у политрука бинокль.
— Ты,— сказал он,— с выводами не спеши. В раз-товорах о Перекопе есть много и правдивого. Видите, у него даже естественное расположение очень удобно. А в последнее время иностранные инженеры, особенно французские, усиленно занимались его укреплением. Все иностранные специалисты так и называют его «неприступной крепостью». Так что нельзя и думать о легком овладении Перекопом. Здесь, возможно, прольется много крови. Очень много! Ведь это — ворота в Крым. Справа от него Черноморский залив, слева — Сиваш. Другого пути в Крым нет. — Командир, протянув руку, показал влево: —Это и есть Сиваш, Данила Михеич?
— Да, он самый! Вон докуда тянется!
Сиваш начинался у самого Перекопа. Ближе к Азовскому морю, за сотню верст отсюда, он становился шире и образовывал по обоим своим берегам заливы, полу
53
островки. На востоке он распростерся широко, как море, во всю не измеримую глазом даль. Сейчас от этого берега до едва видимых островков на том берегу, от Перекопа и до залитого солнечными лучами востока он был наполнен белым туманом.
Прислушиваясь к подозрительной тишине на перекопских укреплениях, Пахомов покачал головой:
— Тихо как. Будто там, за высокими валами, нет никого и ничего, одни норы сусликов. Но не обольщайтесь. Увидите, пройдет немного времени, не сегодня-завтра там начнется столпотворение. Тяжело будет взять его! Да, очень!
Словно ища ответа на свои мысли, командир помолчал, хмуря брови.
— Но нам во что бы то ни стало надо схватить за ворот этого барона. Есть специальный приказ Фрунзе. Вы слышали о Фрунзе? — спросил он старика и тут же ответил: — Наш командующий.
— Как не слыхать? Его везде знают.
— Это хорошо. Он так и ставит задачу: войну до зимы не затягивать, разгромить Врангеля в этом году, вот теперь!
Старик провел мундштуком трубки по вислому усу.
— Врангель тоже поставил задачу: его армия перезимует спокойно в Крыму, а весной с господней помощью на Москву пойдет. В газетах так и писали.
— Хвастает он! Уж если не проймет, так не проймет этих крепколобых генералов. Как будто они спали последние три года и только что проснулись!..
Сверкнув черными глазами, Исмаев показал на Сиваш:
— Нам только это болото перейти, а там мы покажем черной сволочи. И штаны не успеет надеть. Верно, Данила Михеич?
Старик постучал толстым суком по земле, покивал головой и вдруг заторопился.
— Да, да. Только поспешать нам надо. Брод надо отыскать. Пошли, сынки, двинулись.
Он резко повернул влево и повел спутников прямо по оврагам и овражкам к Сивашской котловине. В это время мимо них, мягко шурша шинами, переваливаясь и подпрыгивая на неровной, кочкастой земле, прокатила
54
машина и остановилась недалеко. Из машины вылез среднего роста командир с густыми темно-русыми усами, одетый в обыкновенную солдатскую шинель, в высокой серой папахе. Пахомов вдруг изменился в лице. Пока красноармейцы разобрались, кто перед ними, он щелкнул каблуками и стал навытяжку, а правая его рука по старой привычке вскинулась вверх к папахе.
Глаза Исмаева широко раскрылись.
— Ведь это товарищ Фрунзе! — шепнул он.
Красноармейцы мгновенно взяли винтовки в руки, поправили воротники, фуражки и во все глаза уставились на Фрунзе. Вот он какой! Прикатил в такое опасное место, а охраны —всего несколько человек. Вроде и без оружия.
Фрунзе со своими сопровождающими подошел к ним и немного охрипшим грудным голосом неожиданно просто сказал:
— Здравствуйте, товарищи!
Бойцы хоть и вразброд, но бодро ответили ему:
— Здравствуйте, товарищ командующий!
— Из 132-го полка?
— Из 132-го, товарищ командующий. Идем в разведку на Сиваш.
— Да, знаю, —сказал он и обернулся к старому партизану:
— Здравствуйте, Данила Михеич!
Тот сначала торжествующе посмотрел на всех: дескать, вот как со мной разговаривают, а потом, сняв шапку, степенно поклонился и пожал протянутую руку Фрунзе. Задумчивое лицо Фрунзе как-то сразу посветлело.
— Значит, поможете нам, покажете брод?
— Надо помочь, —ответил Данила Михеич. —Что смогу, сделаю.
— Спасибо! — сказал Фрунзе, взял в руки полевой бинокль, висевший у него на узком ремешке через плечо, и стал внимательно разглядывать противоположный берег. Из-за тумана тот берег был едва виден. Там время от времени ухали пушки, зажигались какие-то огоньки. Фрунзе отвел бинокль от глаз и махнул рукой шоферу. И в ту же минуту машина подалась назад и скрылась в ближайшей ложбине. Фрунзе постоял, глядя через Сиваш, и задумчиво произнес;
55
— Да... Времени не теряют, значит, ждут.— Он обратился к партизану: — Данила Михеич, вы хорошо знаете Сиваш. Как по-вашему, на этом участке сколько верст будет до того берега?
Старик неторопливо и даже с заметной медлительностью повернулся и долго прикидывающим взглядом смотрел на Сиваш.
— По-нашему, верст десять будет.
— G гаком эти версты или без?
Старик хитровато взглянул на Фрунзе, остальные же рассмеялись. Только Пахомов, словно бы и не слыша смеха, продолжал серьезно, с какой-то сосредоточенностью всматриваться в командующего. С тех пор, как он добровольно пошел в Красную Армию, он уже привык к простоте и равенству в обращении командиров и рядовых. Он привык к тому, чтобы его называли «товарищем». Но странно... сейчас, глядя на Фрунзе, одетого в простую солдатскую шинель и солдатские сапоги, глядя в его улыбчивые зеленовато-карие глаза, ощущая тепло, исходившее от его усталого лица, от всего его облика, слушая его спокойную, дружескую речь, Пахомов вспомнил 1916 год, командующего другой армии, тупого, напыщенного, по чьей вине без всякой нужды погибли тысячи людей, и каких людей! Он вспомнил еще и других «блестящих» генералов, готовых предать и продать свою родину... Ему, которого годы войны порядком очерствили, вдруг захотелось сбросить с души солдатскую броню и обратиться к этому человеку, назвать его просто Михаилом Васильевичем, рассказать ему о многом, даже о своих сомнениях... Впрочем, Пахомов и сам понимал, что это лишь порыв сердца, что это еще один признак полного оттая-ния сердца, что сейчас не время для личных бесед.
Фрунзе попросил у одного из сопровождавших его товарищей карту, и тот быстро протянул ему планшет. Циркулем Фрунзе что-то измерил, поглядывая на Сиваш, и вернул карту:
— Ровно восемь верст...— И, подмигнув старику, добавил: — Все-таки не обошлось без гаку, а, Данила Михеич?
Потом он отвел его немного в сторону и мягко спросил:
56
— Слушайте, Данила Михеич! Вы ведь знаете, какое значение имеет для нас брод через Сиваш? И как много надежд мы возлагаем на ваш опыт?
Старик молча кивнул головой.
— Прошу вас, торопитесь! Ну, спасибо, желаю успеха! — Фрунзе крепко пожал ему руку, подошел к Пахомову и сказал негромко:
— Когда Данила Михеич выберет место для перехода, пошлете с ним только двух товарищей. Да, да, достаточно,— прибавил он, заметив, как командир роты оглянулся на свой отряд.— И не задерживайтесь. До свидания, товарищи, — крикнул он всем, и красноармейцы, то и дело оглядываясь на Фрунзе, двинулись за стариком.
Когда прошли немного, Пахомов задумчиво покачал головой, взволнованно произнес:
— Вот это человек! Умный. Не знаю, какую он кончил академию, но видно сразу, что образование и воспитание получил незаурядное.
Политрук Исмаев подмигнул шагавшему рядом с ним Данилову: «Чуешь, дескать, о чем идет речь!..>
Данила Михеич свернул на тропку, сбегавшую вниз к Сивашу, и остановился.
— Насчет учености верно ты сказал. Ежели б неученый был, не мог бы он генералов так скручивать. А вот насчет другого... думается мне, что он все же от сохи человек, трудовой. Почему? А потому, что он на земле крепко стоит, по-крестьянски.
Исмаеву очень понравилось такое начало разговора, и он уже заранее радовался тому, что сумеет показать себя и в грязь лицом не ударит.
— Товарищ командир, — начал он мягким голосом,— вы знаете, конечно, какие большие генералы могли командовать таким фронтом в царской армии?
Пахомов, как бы желая угадать, к чему он клонит, взглянул на него краешком глаза.
- Ну?
— Ну и вот! Наш командующий не им чета! Колчак-то ведь был адмиралом? Свернул он ему шею? Свернул! Эмира бухарского со всеми его визирями, с кур-баши и английскими генералами поджарил на горячей сковороде? Поджарил! Вот он кто, наш командующий!
57
А самому всего тридцать пять лет. Вы слышали, сколько он языков знает? Ого! Казахский, киргизский, русский, английский и еще какие-то...
Данила Михеич только головой покачал.
— Ай-яй-яй... Башковитый, ничего не скажешь. Сразу видать, ученый.
Черные глаза Исмаева разгорелись. Он говорил увлеченно и не забыл подчеркнуть, что Фрунзе, не в пример «некоторым» командирам, вышел из простой среды, что он сын обыкновенного фельдшера. Исмаеву так хотелось показать этому, еще недавно пренебрегавшему им командиру, что он, Исмаев, разбирается в «вопросах политики» лучше, чем «некоторые».
— Конечно, ученый! Что там академия — он окончил большевистский университет.
— Вот как! Где же был этот университет, за границей где-нибудь?
— Нет, в царской тюрьме! И к тому же в смертной камере. Если хотите знать, царский военный суд дважды приговаривал его к смертной казни. Фрунзе два с половиной месяца сидел в камере смертников в ожидании исполнения приговора. Другой бы в это время извелся весь. А он что сделал? Плюнул на приговор суда и принялся изучать английский язык. Не изучал бы, да ведь могло понадобиться! Скажем, началась бы революция во всем мире. Ведь большинство офицеров и генералов было бы на стороне буржуазии. А тут пролетариату нужен свой командующий, нужен большевик, надежный человек! И вот тут он мог бы встать перед всем мировым пролетариатом и давать команду! Где на каком языке надо: в Англии — на английском, в Германии —на немецком... А во Франции —на их языке...
Тут Данилов потянул его за рукав и шепнул на ухо:
— Брось трепаться! Куда это ты забрался?
Исмаев понял, что увлекся, я замолчал, косясь на Пахомова. Командир роты глядел себе под ноги и улыбался.
В это время они уже спускались к самому берегу полного невероятных, зловещих тайн Сиваша.
в
В селе целый день шли приготовления.
Штаб дивизии’разместился в маленькой хате, стоявшей в глубине сада на крутом сивашском берегу.
С самой зари одна за другой беспрерывно стекались в село воинские части. Больше всего здесь было пехотинцев, а там шли конники, артиллеристы, саперы.
Сперва заполнились хаты. В каждой горенке теснилось по тридцать-сорок человек, и уже не только сидеть, но и стоять не оставалось места. Из окон и дверей хат повалил густой пар. Постепенно стало тесно и во дворах. А те, что прибывали последними, устраивались прямо на улице. По садам, тупичкам устанавливались походные кухни, орудия, тачанки. Лошадям, привязанным к колесам орудий, к изгородям, повозкам, задали вместо овса ячменя, вместо сена — сухой колючей травы, выросшей на берегу Сиваша. Кругом копошились тысячи красноармейцев — неумытых, заросших, с воспаленными от резких, жгучих ветров глазами. Каждое слово, каждый жест
59
говорил о внутреннем их напряжении, было видно, что они готовятся к чему-то очень важному и серьезному. В походных кухнях, наполняя улицы дымом, начали варить настоящий мясной обед, вкусно запахло гречневой кашей. У изгородей, на огородах, под заиндевевшими деревьями пристроили таганки с котлами. Всюду готовились к обеду, чистились, починяли одежду. Тронутый десятиградусным морозом, насквозь промерзший ржаной хлеб разрубали на куски топором, и тут же каждый хватал свою долю и принимался грызть ее. Уже разделили сахар, роздали по полпачки махорки. Забравшись под навесы, под телеги, бойцы чинили рубахи, пришивали крючки к шинелям. Узнав, что дорога предстоит долгая и вязкая, на всякий случай, чтобы не потерять в темноте подметок, подвязывали их телефонными шнурами.
Не забылись и другие нужные вещи. В брезентовые сумки, в патронташи насыпались патроны, к ремням прицеплялись по две-три гранаты. Бойцы одного из отделений каждого взвода получили по-огромным ножницам для резки колючей проволоки.
Успевшие закончить все свои дела, подняв воротники шинелей, растянулись возле таганков и завели спокойный солдатский разговор. Иногда кто-нибудь останавливался на полуслове и обращался к товарищу:
— Ежели что случится со мной... ты, брат, пропиши моим: получилось, мол, так-то и так-то, похоронили, мол, на таком-то месте.
И они менялись адресами. Все знали, что через несколько часов некоторые, а возможно и многие, умрут: утонут или погибнут иначе, что для них последним может быть этот день и последней — эта беседа. И всякий понимал, что средн многих может оказаться и он сам. И в то же время, как верит человек тому, что солнце, закатившись вечером, обязательно взойдёт утром, так каждый верил и в то, что он будет жить, что рано ли, поздно ли войне придет коней. И все это стало так обычно, естественно, что никто не охал, не страдал, все спокойно курили свои цигарки, спокойно ждали команды трогаться в путь.
Для ушедших в разведку оставили хоть и маленькую, да отдельную хатку. Квартирьер, ведя их к той хате, сказал: • • •
60
— Задержались бы еще минут на десять, не видали бы квартиры, как ушей своих. С трудом удержал за вами.
На неогороженной усадьбе с таким голым и накатанным двором, о каких говорят: «Не дай бог воробышку упасть, а то он голову расшибет?, — в сторонке стояла приземистая хатка. Стены ее облупились, и она вся казалась ободранной, точно старый, залатанный кафтан Одно окно было заколочено, а в другом три темных, радужных стекла перекосились в разные стороны, а вместо четвертого был воткнут в раму не более непроницаемый для света большой диск подсолнечника.
Свернувшийся возле хаты рыжий вислоухий пес при виде зашедших во двор бойцов лениво поднял голову. Видно, потому лишь, что в каждом доме должен быть плохой ли, хороший ли, но свой пес и этот пес должен ворчать и лаять на чужих, он тоже тявкнул несколько раз. А когда увидел, что пришедшие не обратили на него внимания, недовольно взвизгнул и снова задремал.
Старухе, хозяйке хаты, наверное, не впервые приходилось встречать таких гостей. Как будто было ей известно, что они уже давно не ели горячей пищи и что котомки за их спинами пустые, она тут же поставила на стол в горнице большую миску с галушками, нарезала два каравая пышного хлеба и стала потчевать их:
— Ешьте, хлопцы, ешьте...
Счастливчики уселись на лавках. Остальным же пришлось есть стоя. Старуха прислонилась спиной к печке, глядела, как летали ложки от миски к губам и обратно, и улыбалась. Горка нарезанного хлеба все уменьшалась, а там и вовсе исчезла. Старуха принесла третий каравай. Снова открылась печная заслонка. Оттуда появился чугун со сваренной на молоке аппетитно пахнущей картошкой.
Оказывается, у старухи был сын, такой же молоденький, как и многие из этих красноармейцев. Врангелевские офицеры при отступлении забрали его с лошадью и бричкой в обоз. Так старуха и осталась в хате одна с серой кошкой. Из соседнего села передавали ей, что с неделю назад видели, как на их бричке проехал к Перекопу офицер с женой и собакой. Больше она уже ничего не слышала. Сын у нее ростом высокий, светловолосый. Ежели бе
61
ляки-изверги не затащили его за море, может, он и попадется где на глаза красным солдатам. Откуда знать, а вдруг еще живой он... Старуха тут заплакала, а красноармейцы наперебой старались утешить ее, уверяли, что война скоро кончится, а после войны, мол, и сын вернется. Старуха утирала передником глаза:
— Уж кончайте, хлопцы, войну, хватит. Кровушки-то сколько пролилось. И я сынка своего, может, дождусь.
В последние месяцы, преследуя по пятам белых, они и дни и ночи проводили в походах, неделями питались одними сухарями с продымленным кипятком, спали на голой, ссохшейся комьями земле или прямо в дождевой грязи, в воронках от снарядов. Тот день, когда они мылись в бане, как прошлогодний сон, уже давно забылся
Сейчас, в теплой хате, они отогрелись и наелись досыта. Каждому захотелось почиститься, обмыться, сбросить хоть немного тяжесть пройденных верст. Впрочем, сегодня и день был необычный, торжественный. Политрук Исмаев переходил из хаты в хату и поздравлял с третьей годовщиной Октября, раздавал подарки, присланные из тыла. Кому теплую рубаху, кому душистое мыло или папиросы.
Но была еще одна причина взволнованности, особой приподнятости настроения красноармейцев. О ней никто не говорил открыто, но каждый помнил и к ней, собственно, готовился, шутил ли, смеялся — ни на миг не забывал, ждал ночного боя, последнего боя.
Вот почему, как только выбрались из-за стола, все расселись кто где мог и принялись за чинку, бритье и стрижку. Из глубины солдатских мешков вытаскивались бритвы, ножи, пошли в ход иглы.
А Шамси. сидя на полу и положив на колено бумагу, писал, покусывая кончик карандаша, письмо своей Насимэ.
«...Ты пишешь, что, может, я успею вернуться к осени домой. Только не выйдет это, не обижайся, милая Насимэ Не то сейчас время. Хоть ты и говоришь, что у белых всего-навсего один генерал остался, да ведь какой генерал. Влез он в крымскую бутылку и сидит там, хорохорится. Нам еще нужно прорваться туда и шею ему свернуть. Сначала эту контру раздавим, возьмем Крым, а там не стыдно будет и домой возвращаться. А пока — не обн-
S2
жайся. Следующее письмо, если буду жив, напишу после войны из Крыма. К ночи нынче пойдем в бой. Очень уж я по тебе соскучился, очень. Днем ты всегда перед глазами у меня, ночью во сне мне снишься. Ну ладно, милая, прощай. Письма теперь скоро не жди...»
Ему хотелось еще о многом написать ей. Он долго сидел задумчиво, уставившись глазами в окошко, и все представлял себе свою Насимэ. Теперь самое время резать гусей... Девушки небось помогать ходят. И Насимэ его, разодетая, разнаряженная, идет, наверное, вместе с подружками, как в птичьей стайке, на родник по воду... Шамси тяжело вздохнул и повернулся к товарищам.
Ахмади уж давно жаловался: «На черта мне борода лопатой...» Сейчас он собирался бриться.
Скинув шинель, в одной гимнастерке, Ахмади поводил плечами, хлопал себя по груди, щупал поясницу. Легкость, которую он ощущал сейчас, кажется, даже удивляла его.
Он взял у Шамси маленький осколок зеркала, неторопливо потер его о брюки и стал разглядывать себя. Из осколка глянуло заросшее бородой, волосатое, с опухшими глазами лицо. Ахмади совсем расстроился.
— Тьфу! Погляди-ка ты на него, а! Ежели бы в лесу или где в другом месте встретилась мне такая образина, я бы ее... ей-богу, вот...
И он, продолжая говорить что-то, взялся за бритву. Но вскоре же, взглянув на Шамси, не стерпел, начал подшучивать над ним.
— Ты что там роешься, Шамси? А вы знаете, братцы, ведь наш Шамси на махорку да на кашу со свиным салом сахару столько наменял, что богатеем заделался! У него в мешке только змеиных рогов не хватает ’. Верное слово! Он небось ходит и все подбирает, вроде денщиков прежних. В хозяйстве, мол, пригодится. Так, что ли, Шамси?
Шамси в это время с очень серьезным лицом перематывал обмотку. Он поднял голову и усмехнулся краешком губ.
1 «Змеиных рогов не хватает»— татарское пословичное выражение. близкое по смыслу к русскому «только птичьего молока нет*.— Прим. ред.
63
— Давай, мели, мельница, мели! А что муки нет, ничего, черт с ней!..
Ахмади, продолжая бриться, не переставал балагурить:
— Ты, Шамси, кажется, последыш, да? Последышей матери больше всех детей любят. Верное слово! Вот ты здесь обмотку мотаешь, а твоя мать небось оладьи печет. Нынче же пятница. Татарская неделя. Печет небось оладьи, а сама в дымнике сковородником машет да кричит: «Возвращайся, сынок!» У нас так делают; говорят, помогает.
В хате поднялся веселый смех.
— Ну и язык у тебя, — заметил Митричев.
— Да ведь любя это, братцы, от доброго расположения. Я еще подумываю, ежели так у нас пойдет, может, после войны и дочку свою за него выдам. У меня есть такая красавица дочка, на воле да в холе только росла.
— Эй, зять! — окликнул Шамси Микола раскатистым голосом.
— Нет, нет! — полушутя, полусерьезно вмешался Данилов.—Зачем парня с толку сбивать?! Я знаю, у Шамси невеста есть. А то он погонится за двумя зайцами да свою Насимэ и прохлопает!
Щамси оставил свою обмотку и сидел, улыбаясь во весь рот. Он удивлялся и даже завидовал той легкости, с какой эти бородатые, взрослые люди, неумолимые, жестокие в бою, сбрасывают с себя не только груз одежды, но и тяжесть дум и тревог. Подзадоренный шутками, он вскочил и, тоже включаясь в игру, протянул Ахмади руку.
— Сдержишь обещание?
— Какое?
— Выдаешь дочку за меня?
Ахмади оглядел будущего зятя с ног до головы, хлопнул себя рукой по ляжке и начал смеяться:
— Видали оловянного петуха? Ишь, как легко захотел жениться! Сдержу ли я обещание? Он думает, что девку выдать —то же, что телушку продать! Нет, землячок ты мой дорогой, ежели ты настоящий джигит, соблюдай обычай: пошли ко мне свата и чтобы у него по всем правилам одна штанина была в ичиге, другая — поверх ичига. Потом скажи, какой дашь калым; чтобы в сундуке
64
с тремя запорами да со звоном обязательно лежали узорные ичиги и пара кяушей ', два кашемировых платья, шаль оренбургская, сукно на бешмет, бархат на камзол. Вот при таком подходе Ахмади еще может подумать!
Шамси махнул рукой и сел обратно на свое место:
— Хи, с таким калымом я деревенскую и сватать не стану. Пусть хоть ноги у нее будут колесом, но женюсь на байской дочке из Казани.
Тут, прервав общий шум и смех, в разговор вмешался Митричев.
— А, ты намерен купеческим зятьком заделаться? То-то я слыхал, один из ваших говорил: «Мы казанский сын купца. Держим три лафка. Одна лафка два булафка, другой лафка сам сидим, третий лафка гу-ляйт ходим».
Все опять дружно рассмеялись.
Ахмади что-то задумался и, держа в руках бритву и зеркальце, повернулся к товарищам. Лицо его уже было наполовину обрито и сразу стало моложе. Видно, общее веселье и разговор пробудили в нем какие-то новые мысли. И он хотел поделиться ими.
— Эх, братишки! Знаете, что бы я сделал после войны на вашем месте? Поехал бы учиться на командира. И мир повидать, и стать командиром Красной Армии—это что-ниб-удь да значит! Нам такого счастья не выпало. Скажем, сын крестьянина такого-то из деревни такой-то выучился на командира дивизии, а? А теперь мы это можем. Верное слово! Эх, ежели бы мне годков было поменьше, я бы, покуда не стал большим командиром, в деревню—ни ногой. Жизнь новая этого требует, братишки. Тянуться нам надо. Все взять в свои руки! Вот так-то...
Данилов, который дремал, лежа рядом с Миколой и Бачилой на полу на постланной для них хозяйкой соломе, поднялся и, смахивая зацепившиеся за волосы соломинки, сказал:
— Правильно ты говоришь, дядя Ахмади. После войны всем нам делов по горло будет. Одни останутся в армии, другие подадутся на учебу. А я вас всех зову к
1 К я у ш и — кожаные башмаки для улицы, надеваемые сверх сапожков.
нам в Донбасс. Поедем? Вот где можно развернуться! Хочешь шахтером работать? Пожалуйста! Хочешь поучиться и стать инженером или механиком? И этому поможем. Правда, поехали в Донбасс, товарищи!
Заговорил и Шамси.
— Донбасс, он, должно быть, очень хорош, что и говорить... Татар наших тоже много работает там, хвалят они, с деньгами приезжают домой. Да ведь и в деревне теперь работы много. Война да голод вовсе страну разорили. Своими глазами видим, сколько лошадей каждый день гибнет, скотины изводится. Нам сейчас ой-ой сколько хлеба надо вырастить да Скотины развести... Когда еще крестьянин на ноги станет!.. Вот кавалерист наш что скажет...
Митричев грелся на лежанке возле печи и, обжигая пальцы, докуривал до последней затяжки цигарку. Он презрительно хмыкнул:
— Бедняги, несчастные! Крыльев у вас нет, даже в мечтах взлету нет, ползаете все. Чтобы я рылся, как крот, под землей или вроде этого мальчишки согласился быть земляным червем! Нет! Только кончится война, иду к Буденному и говорю: Семен Михайлыч! Возьми меня в кавалерию. Пошлешь против буржуев всего мира, пойду! Против сотни Махно одного посылай, не побоюсь, пойду! Только возьми к себе!.. Эх! Под тобой скрипит замечательное, новое седло, на боку шашка, за поясом маузер...
— В голове ветер,— добавил точно таким же тоном Данилов под общий хохот.
В это время Валитов закончил бриться.
— Ну,—сказал он. поворачиваясь ко всем,—и в Донбасс съездили, и в кавалерийские галифе нарядились. Теперь давайте делайте смотр лицу дяди Ахмади. Чем не хорош?
Его подвели к окну, осмотрели как следует и заявили, что побрился он отлично. Ахмади стоял приосанив шись и поглаживал усы и коротко подстриженную бОроду.
После того как побрились, починили одежду, умылись теплой водой, все почувствовали себя легче и моложе.
Ахмади, закручивая цигарку, даже спел частушку:
66
Украина
Хлебородная,
Хлеб беляки отобрали.
Сама голодная...
— Верно, хозяйка?
Та сидела на лежанке возле своей кошки и хотя не вмешивалась в разговор, но, поддаваясь общему настроению, невольно улыбалась.
— Верно,—закивала она головой,—Белые не один хлеб, скотину тоже отобрали. И куда девали такую прорву?
— Как куда? У заморских буржуев оружие на них купили. Чтобы и вас убивать, и нас!
— Потому и даем мы им жару. Чтобы нога их больше сюда не ступала!
— Сторона ваша мне очень по душе,—говорил Ахмади старухе,—Что ни посей — вырастет. И народ очень хороший. Сколько раз добрые, вот как ты, украинки делились с нами последним куском хлеба... Когда в походах от жажды томились, поили ключевой водой, в стужу согревали в теплых хатах, как родных встречали. Очень хороший народ. И край сам красивый, ничего не скажешь. Но одно у вас мне не понравилось...
— Знаем, бань у них нет.
— Точно. Помыться у вас бани нет, чайку попить — самовара нет. Вот я года три всего, как обзавелся козой, а коровы у меня и не было никогда. Где там корова, и следа ее на нашем дворе не было. Но самовар есть. Может, и не из важнецких он, кривонос да кривобок малость, но все-таки есть. Да разве это жизнь —без самовара?
В хате постепенно водворялась тишина. Одни растянулись на соломе, решили поспать; другие, пофорсистее, вроде Митричева, ушли покрутиться возле девчат. Шамси тоже собрался и пошел в соседнюю роту к приятелю, с которым познакомился еще в Казани, когда его призвали в армию.
Он долго пробирался между орудий, тачанок и лошадей, расспрашивая у сновавших возле них красноармейцев, как найти своего дружка. Наконец кто-то показал ему на крайнюю в проулке хату. Там, во дворе под навесом, свесив ноги с телеги, сидел веснушчатый худой
67
паренек-чуваш и чистил винтовку. При виде Шамси у него даже веснушки все заулыбались.
— Ха! Да ведь это земляк мой!
— Здравствуй, Митька!
— Здорово, Шамси!
После долгих рукопожатий Шамси уселся рядом с Митькой и принялся помогать ему. Как и многие чуваши, Митька говорил по-татарски, и у них с Шамси завязался обстоятельный разговор. Поговорив о житье-бытье, о том, что пишут им из деревни, каков нынче урожай, они перешли и на дела полка, подсчитали, сколько осталось жить врангелевской армии, прикинули, когда кончится война...
Беседа эта, возможно, и затянулась бы, да внимание друзей привлекло какое-то движение в соседском сарае. Соскочив с телеги, они прильнули к щели в дощатой стене. В сарае, о чем-то переговариваясь, стояли комиссар полка Карпов и несколько политруков. Потом один за другим показались другие коммунисты. Среди них были и Данилов с Исмаевым.
Шамси потянул Митьку за рукав:
— Пошли, Митька, собрание коммунистов тут, нехорошо.
Митька, улыбаясь, подмигнул ему:
— Ну, чуток послушаем, ведь не чужие мы. Еще, может, и сами в коммунисты запишемся.
Шамси не стал настаивать и тоже прижался глазом к щели.
Подтягивая время от времени ременный пояс на дубленом полушубке, комиссар горячо рассказывал собравшимся о третьей годовщине Октябрьской революции. Не все мог разобрать Шамси в его быстрой речи, но понял одно, что полк особо отметит великий праздник и что коммунисты должны довести это до каждого красноармейца, да так, чтобы они сердцем все прочувствовали.
Вдруг Шамси показалось, что Данилов смотрит прямо на него, и он испуганно отпрянул от стены. Неужели заметил? Шамси осторожно придвинулся к Митьке. Нет, Данилов, конечно, не видел его, он не сводил глаз с комиссара, который сейчас говорил о новом, об отряде коммунистов. Тут Митька потянул Шамси за полу:
слушай, дескать, как следует. Они стояли, затаив дыхание, ловя чутким ухом каждое слово.
«—Ленин предупредил командующего товарища Фрунзе, что оставлять на зиму в Крыму Врангеля — значит подвергать республику смертельной опасности. Если Врангель замкнется сейчас за Перекопом, его армия получит передышку, а главное, Крым превратится в плацдарм мирового империализма для удара по Стране Советов. Чтобы не допустить этого, надо разгромить армию белых вот в эти праздничные дни. Таков приказ Фрунзе! Сегодня ночью мы должны прорваться в тыл белых. Впереди пойдут коммунисты,—первыми по врагу ударят они!..»
— Понял? —зашептал Митька в ухо Шамси.—О нас думает сам Ленин! Смотри-ка, за всем он следит! Эх, оплошали мы с тобой, надо было пораньше в коммунисты записаться. Тогда бы и мы с ними пошли!
Стараясь не задеть чего-либо, друзья осторожно выбрались из-под навеса и выскочили на улицу. Вчерашние еще мальчишки, они шли взволнованные услышанным и гордо поглядывали на встречных, словно их выделили среди всех, доверили им важную тайну, словно и не жались они минуту лишь назад у стены, боясь, что их увидят.
Вскоре их обогнали Данилов с Исмаевым. Что-то очень недовольны, хмуры были у них лица. С чего бы? Им ли уж не радоваться?.. Только Митьке с Шамси не удалось обсудить этот вопрос. Данилов вдруг обернулся и сурово крикнул:
— Вы что разгуливаете? Марш по своим ротам!
Парней будто ветром сдуло. Исмаев рассмеялся.
— Ничего, Гриша, еще не все потеряно,— сказал он через некоторое время, видимо, продолжая прерванный разговор.
— А что можно сделать? —угрюмо спросил Данилов.
— Зайдем к командиру полка!
— Жаловаться на комиссара?
— Зачем жаловаться, мы о себе будем говорить.
И они тут же направились к высокой белой хате, с нарисованным на стене голубым гусем в окружении веселых цветочков. Когда Исмаев с Даниловым вошли
69
в горницу, командир полка Кириченко в расстегнутом у ворота френче сидел у стола, задумчиво склонившись над картой. Видимо, не хотелось ему отрываться от своих мыслей, и он неохотно поднял голову.
— Ну, что там?
Данилов попросил, разрешить им войти в отряд коммунистов.
— Меня вполне может заменить Бачило. Он опытный боец...—закончил Данилов.
Командир пытливо взглянул на них обоих, потом перевел глаза на карту и, потянувшись, достал из кармана брошенной на кровать шинели папиросу.
— А что говорит комиссар?
Данилов с Исмаевым переглянулись. Если бы не эта загвоздка...
— Товарищ комиссар не пускает. Говорит, что мы останемся при своей роте. Но, поскольку мы коммунисты...
Командир, подняв руку, остановил их.
— Правильно говорит комиссар! На коммунистов, которые останутся при ротах, ляжет не менее трудная задача. Кто своим примером поддержит в опасном переходе через Сиваш боевой дух красноармейцев? Кто, как не вы, коммунисты? Ваше место рядом с бойцами. Вот так, все!
Дверь в хату распахнулась, и на пороге, размахивая письмом, показался Данилов. Со всех сторон к нему потянулись руки.
— Кому? ' " :
Данилов спрятал письмо за спину.
'— Кто ожидал больше всех—.тому!
Валитов, боясь поверить и сам, но с какой-то надеждой, крикнул:
— Тогда мне!
Письмо действительно оказалось ему.
Ахмади уже давно не получал вестей от семьи. Он посылал домой письмо за письмом — ответа все не. бкло. И разные сомнения и тревоги непрестанно .мучили его. Схватив помятый конверт, Ахмади стал торопливо его вскрывать. Пальцы дрожали: «Что пишут? Все ли живы?» Он с волнением поднял.с колен два’выпавших’из конверта пожелтевших листа бумаги. Ведь листки оттого пожелтели, что лежали долго в щели за матицей. Ему показалось,’что они’ хранят ’ запах его
71
дома, знакомый только ему родной запах. Он смотрел на письмо, а перед его глазами вставали лица жены Галимы, старшей дочери, двух маленьких дочек, двух крошек-цветиков...
Ахмади нетерпеливо водил глазами по листкам с раскидистым, будто следы цыплячьих лапок на свежем снегу, узором слов. И чем дальше смотрел он на таинственные знаки, тем тревожнее становилось у него на душе.
Поколебавшись немного, он разбудил Шамси и сунул ему в руки письмо.
— Ha-ко, братец, прочти!
Шамси протер глаза, уселся поудобней и, заглянув в письмо, покачал головой:
— Ай-ай. Вот это рука — так рука! Не иначе, как муэдзин или еще какой помощник муллы писал, а может, и старый прикащик.
— Давай, брат, не болтай! Шайтан с ним,—кто писал. Читай скорее!
Шамси, после долгого перечисления «глубоких и больших поклонов нашему дорогому и уважаемому законному супругу Ахмади...» от жены, от детей, от близких и дальних родственников, от всех соседей и соседушек, сватов и свах, дошел наконец до житейских дел.
Валитов сидел напротив Шамси и смотрел ему в рот, словно был готов проглотить каждое произносимое им слово.
— «И еще ставлю в известность, что под прошлую пятницу разродилась я сыном, дай бог, чтобы ему было суждено на роду счастье-добронравие. Покуда он красивый, здоровый и голосом крепкий. Думали мы, гадали, не знали, какое выбрать имя, и нарекли его Ильдусом...»
— Погоди, Шамси, стой! Как там написано? Ильдус? Ахмади вскочил на ноги, потом опять сел и, стащив с головы шапку, хлопнул ею по колену:
— Сын, значит? А? Ты подумай только! Когда невесть чего ожидал, а! —Он вырвал письмо из рук Шамси, словно хотел прочесть обо всем своими глазами, и, внимательно оглядев, протянул обратно.— На. прочти-ка еще раз то место, точно ли сын? Не ошибка ли?
72
Шамси смотрел то на письмо, то на aforo сразу растерявшегося пожилого солдата и смеялся.
— Как же девочкой будет, раз Ильдусом назвали, скажешь тоже...
— Ха! Выходит, точно сын, а, земляк? Вот это да! Ну-ка, скрутим одну, душа не выдерживает! Давай!
— Я же не курю!
— Эх, я и забыл... Ведь ты махорку на сахар меняешь!..
Растолкав и спящих и неспящих, Ахмади зашумел: — Эй, братва, дайте на закрутку!
Шамси еще никогда не видел его в таком состоянии. Кто мог думать, что этот посуровевший в боях, спокойный, насмешливый человек так беспредельно любит детей, хранит в душе столько отцовской нежности?
Закурив, Ахмади снова уселся возле Шамси.
— «... У овны нашей нынче два ягненочка: одна маточка, другой барашек. У нас как-никак лишний рот прибавился. Когда нет дома мужа-кормильца, все на учете. Услыхав про то, из Совета прислали пять арши-нов ситца, еще бязи ребенку на рубашечки и кусок бумазеи, а чтобы было чего есть до нового урожая — пудовик муки, мешок картошки. Очень обрадовали. Говорят, ничего не жалко для человека, который не жалеет себя для народа. С этим как раз до нового дотянули. Апуш соседского Галимджана женился на сестре Такарлика Гиляджи, которая ушла от сына Мауляви из Замостья. На свадьбу меня тоже пригласили, только обидно было, что сидела я одна, без тебя. Председатель Совета Рахим говорит: хоть бы вернулся Ахмади скорей, мы бы с ним тут все перевернули, всех врагов под корень вывели. Они тебя тоже очень ждут. Меня выбрали в Совет. За нас не беспокойся, только бы беляков уничтожили, чтобы шеи им перекрутило. Возвращайся, как поможешь кончить войну. Сколько терпели, еще немного потерпим.
От песни грустной соловья Сердечко разрывается. Письмо счастливее меня, Оно к тебе отправится.
На этом слова наши кончаются, письмо к вам направляется. Остаюсь законная твоя супруга Галимэ».
73
— Давай, брат, сюда! — Валитов вскочил и с письмом в руках выбежал из хаты. Он не мог вместить в себя свою радость. И, переходя из хаты в хату, делился с товарищами и тем, что у него родился сын, и тем, что сельсовет сделал его семье подарок, что жену его в Совет выбрали.
По дороге Ахмади встретил политрука Исмаева. Он остановил его и начал рассказывать:
— Письмо я из дому получил, брат Исмаев. Прочитали, а там жена сына родила, понимаешь, политрук, сына! Вот, товарищ политрук...
А политрук Исмаев только что был в третьем взводе, осматривал амуницию. И не нашел ни одного красноармейца, у которого была бы исправна одежда. Ботинки износились, брюки прохудились, единственно, что было на них теплое,— это шинели, и те большей частью рваные. Одно утешало: не жалуется никто и не просит. Если уж совсем разваливаются ботинки, надевают лапти, шинели латают... Но все же нехорошо бойцам так ходить. Особенно сейчас, когда их ожидает переход через Сиваш. А где взять эту амуницию? В полку тоже нет, и не обещают скоро...
Как раз в тот момент, когда он шел, размышляя обо всем этом, ему и встретился Ахмади. Радость Ахмади передалась и Исмаеву. Как было не радоваться тому, что человек получил письмо, что у него родился сын, и особенно тому, что он поделился своими переживаниями с ним, с политруком. Исмаеву очень захотелось отметить чем-нибудь этот день для Ахмади, чтобы старый красноармеец почувствовал, что вся рота радуется вместе с ним.
Пока тот, взволнованный, рассказывал ему о своих новостях, политрук успел оглядеть и его обмундирование. Старая, разлезшаяся шинель, под мышками зияющие дыры. А сам веселый, возбужденный...
Походив по селу, сообщив каждому, с кем встречался, свою радость, Ахмади, наконец, вернулся к друзьям в хату. И, все еще держа в руках письмо, стал оживленно рассказывать:
— Политрука я видел, Исмаева, ему тоже сказал. Пусть, думаю, знает про мою радость. Я еще как-нибудь на свободе насчет всего, что пережил, с ним потолкую.
Ведь поучительными историями жизнь-то у нас как богата. Верное слово. Вот так, ребята... Вы еще многого не знаете...
Он аккуратно сложил письмо и спрятал за подворот папахи. Но тут же вытащил его и переложил в карман за пазуху, видно, решил, что там оно будет сохранней. Потом уселся на лежанке и закурил.
— Вот только Врангеля прикончим, Ахмади ничего не забудет, тем более теперь, когда сын есть...
В это время дверь распахнулась, и в хату с новой шинелью в руках вошел политрук.
— Вернулся уже? А я думал, что ты всю Строганов-ку обойдешь.
Подойдя к Ахмади, он, как бы примеряясь, накинул ему на плечи шинель.
— У человека сын родился,— говорил Исмаев, поправляя для виду воротник шинели и подтягивая хлястик,— радость большая. Разве теперь пристало ему оборванным ходить! Что мы, не в силах подарок такому папаше сделать? — И, рассмеявшись, протянул шинель Ахмади, который смотрел на всех, ничего не понимая.— Прими, товарищ Валитов, от всей нашей роты! Мы тебя знали всегда как храброго красноармейца, а ты еще оказался и замечательным отцом. Молодец! Твоя радость— радость и для всех нас. Как зовут сына?
— Ильдус, Ильдус! — крикнули ему со всех сторон.
— Ну, пусть твой Ильдус растет не по дням, а по часам и вырастет таким же храбрым, как ты! Возможно, он в свое время тоже станет одним из бойцов Советской страны, за которую мы нынче воюем... На, держи, живи долго, пусть на тебе самом, на теплом теле износится!
Ахмади стоял совершенно растерянный.
— Как же это, товарищ политрук! — Он перевел удивленный взгляд на друзей. Но никто не подсмеивался над ним, все стояли готовые помочь ему надеть обнову.— Да ведь сына-то сделать храбрости большой не требуется, это, как говорится, каждый может... дело-то ведь оно такое... Я же от радости только рассказал всем. Ай-яй, как же быть теперь?..
Однако ему не дали договорить, с разных сторон посыпались шутки, острые словечки:
— Да ну, не ломайся. Бери, надевай!
75
Другой просить будёт — не перепадет, а Тебе Самому поднесли, и ты eiiie конфетничаешь. Вот нёдоТепа! — Эх, а шинель-то, шинель! Новехонькая да теплая, как девичьи объятия! Бери скорей! Надевай!
Ахмади смущенно скинул старую шинель.
— Да уж... ежели так... ежели служба моя по душе, и как подарок за сына... давайте...
Шамси быстренько подал и помог ему надеть новую шинель.
— Вот так! При случае и мне надо старику услужить. Может, потихоньку и уломаю его, дочку сосватаю...
Данилов подмигнул Ахмади:
— Видишь, Валитов, как получилось? Ты одним выстрелом двух зайцев убил: и сына имеешь и новую шинель.
8
Наступал вечер, которого все ожидали с нетерпением. Красный диск едва проглядывавшего сквозь серые тучи солнца скользнул у самого Перекопа за пригорок и уже больше не показывался. Начало смеркаться. Над Сивашем навис густой туман.
По дворам, в переулках, на улицах шли торопливые сборы. Люди, которые спокойно ожидали сумерек, сами того не замечая, как-то суетливо вешали за спины винтовки, прилаживали удобней отяжелевшие сумки, патронташи и становились в строй.
. Первыми молча, бесшумно двинулись далеко растянувшиеся колонны пехотинцев. За ними последовали тачанки с пулеметами и, замыкая все эго многочисленное войско, пошли артиллеристы. Было очень тихо. Лишь временами четче раздавался топот шагов, доносилась приглушенная команда, всхрапывали кони да тонко звякало железо.
Провожать бойцов вышло все село. Мужики, бабы,
77
девушки, сгрудившись у ворот, на перекрестках улиц, с лаской и тревогой оглядывали проходившие мимо них части.
Стоявшая у крайней хаты молодка, что-то напевая под нос, укачивала на руках ребенка, а лицо у самой как бы застыло в горе и муке. Кто знает, может, отец ее ребенка вот так же, на ночь глядя, уходил в поход и не вернулся...
Нахлобучив мохнатые шапки, безмолвно, без движения стояли мужики, и только один, весь сгорбленный старик все вертелся на месте, то вглядывался в эту нескончаемую лавину колонн, то оборачивался в сторону окутанного седым туманом Сиваша. Вот здесь он прожил жизнь, но в эту пору года даже ему не приходилось ступать в котловину гнилого моря. Недоуменно, с нарастающим беспокойством в голосе, точно ища ответа у сельчан, старик повторял:
— Куды они идут, куды идут! — И за этими его словами слышалось другое: «Зачем они идут, ведь знают сами, что их там ожидает!» Ему никто не отвечал. Все было ясно и так.
Из-под тяжелых туч, словно готовых обрушиться всей своей громадой на Сиваш, дул холодный ветер. Он бился о разгоряченные лица, пробираясь за воротники, в прорехи шинелей, гнал и то малое тепло, которое успели прихватить красноармейцы в селе. Вдалеке, по ту сторону туманной завесы, время от времени стреляли из пулеметов. А в том краю, где свинцово-черные тучи сливались с землей,— у Перекопа — погромыхивали орудия. Замолкнут и снова громыхают.
За околицей слева осталась маленькая, запрятавшаяся в саду белая хата, где разместился штаб дивизии. Колонны прошли мимо тянувшихся по правую сторону от дороги виноградников и стали спускаться с крутого яра к Сивашу. Чем ниже спускались, тем гуще, плотнее становился туман, он лип к щекам, как мелкий осенний дождь, холодной сыростью оседал на шинели.
Темный берег Сиваша глотал колонны, точно омут: в глубоком молчании один за другим исчезали в тумане полки. Тут стояла какая-то особенная тишина. Будто бы нет ни звука, а прислушаешься, кажется, что тьма вся полна шорохов и гудит, словно улей.
78
Рота уперлась в мокрые спины идущих впереди и остановилась. Под ногами беспрестанно шуршало, хрустело что-то вроде мокрого песка.
Пахомов построил роту теснее по четыре человека и отрывисто бросил всего несколько слов:
— Друг от друга не отходить, не отставать! Курить нельзя! Понятно?
Ему ответили шепотом и вяло:
— Понятно...
Однако политрук Исмаев почувствовал, что не очень-то оно понятно. Красноармейцы словно ожидали чего-то еще. Казалось, нужны были им и другие, поддерживающие огонек надежды, теплые, ободряющие слова.
Он переходил от взвода к взводу и, как бы случайно, как бы просто из желания перекинуться дружеским словом, говорил:
— Нынче утром мы уже переходили тут. Конечно, место не очень сухое, грязи помесить придется. Только надо одной держаться дороги, не оступаться. Остальное ничего... Мы уж столько повидали, что нам не привыкать. А покурим на том берегу, да самого лучшего табаку, крымского! Верно?!
Глубокая мгла, окутавшая Сиваш, зловещее безмолвие начинали пугать и самого Исмаева. Ему уже чудился какой-то подземный гул, будто разверзнется сейчас эта неверная земля и поглотит их. По спине Исмаева пробегали мурашки, но он старался не поддаваться слабости. «Ты коммунист!» — говорил он себе и, покашливая, как ни в чем не бывало, проходил по рядам. Одного он называл по имени, для другого находил нужное теплое слово, некоторым рассказал, как нынче поутру встретил на этом берегу Фрунзе. О чем бы ни заводил политрук разговор, бойцы после этого чувствовали себя спокойнее, точно передавал он им и веру свою и волю.
Вслушиваясь в слова Исмаева, красноармейцы поглядывали вперед, хотя и было там все застлано туманом. Они уже давно знали, куда пойдут. Знали, что риск этот необходим, что нет другого пути для прорыва в тыл Врангеля, знали, что и взятие Перекопа и разгром Врангеля связаны именно с этим ночным походом. Они понимали, конечно, что по ту сторону туманной завесы ждет их неравный бой. И это как-то не пугало их. Не впервые
79
и.м было встречаться с белыми. А вот Сиваш—дело совсем другое. Кто скрывается там, в вековечном этом болоте, плотно прикрытом и справа, и слева, и сверху непроницаемым покровом тумана? Какие топи, какие коварные зыби подстерегают их? Вот этого не знал никто. Только шуршавшая под ногами, перемешанная с застывшей солью береговая земля, вселяя чувство прочности и реальности, немного успокаивала их. Да и самосознание беспримерности ожидавшего их опасного и полного неизвестности перехода, совершавшегося по приказу Фрунзе, подбадривало, придавало им решимость.
Вдруг по рядам, будто ветер всколыхнул листья, прошел приглушенный говор. Говор усиливался и чем ближе, тем явственнее слышалось:
— Коммунисты идут!
— Они пойдут первыми!
Мимо колонн к берегу спустились комиссар полка Карпов и тот самый старик украинец, который знал брод через Сиваш. За ними вооруженные винтовками, гранатами, с ножницами для резки проволоки и саперными лопатами по двое шли коммунисты. Среди них, бесстрашных и самоотверженных, были и коренастые, крепкие шахтеры с Донбасса, рабочие Москвы и Петрограда, матросы легендарных, прославленных кораблей и безусые, молодые герои—первые комсомольцы страны. Они шли, твердо печатая шаг, и, казалось, колоннам передавалась и непоколебимая их вера и душевная бодрость.
Уже проходили последние ряды, когда Данилов, подавшись вперед, схватил за рукав красноармейца в кожаной тужурке:
— Саша, ты?
Тот остановился и на миг обхватил Данилова за плечи:
— Гриша? Ты тоже здесь? Ну, завтра встретимся в Крыму. До свидания!
На лице Данилова было странное выражение и радости и обиды. Вздохнув, он обернулся к товарищам:
— Он тоже с Донбасса. Мы вместе выезжали...
Отряд коммунистов скрылся из глаз. Раздалась команда трогаться. Полки один за другим входили за отрядом в котловину Сиваша.
Мрак' все сгущался, даже идущие вблизи прогляди-.
80
вались лишь как тени. Тьма, казалось, -висела низко над головами и, цепляясь за папахи, мешала идти. А люди, точно пробивая тоннель в этой кромешной теми, все шли, вливались узким потоком в Сиваш.
Первое, что всем существом почувствовал Шамси, вступив в Сиваш, был влажный холод. У него было такое ощущение, будто по его лицу провели мокрой тряпкой, будто сырость сквозь шинель добралась до самых костей. Под ногами, как после дождя, было скользко, подошвы очень быстро пропитались влагой.
Красноармейцы временами осторожно, приглушенно переговаривались друг с другом и, словно в ожидании чего-то, посматривали по сторонам. Ведь что-то обязательно должно случиться. И, может быть, случится сейчас, вот в эту минуту. Никто не сомневался, что это самое «что-то» произойдет, но что именно?
Сосредоточенное лицо Данилова, который через каждые несколько шагов, как бы говоря: «Не видно ли там чего?», всматривался в окутавшую их мглу, встревоженное состояние ротного командира и политрука, которые, пошептавшись, уходили вперед или задерживались на месте и провожали взглядом идущих, частое мелькание пробегавших то в один, то в другой конец запыхавшихся связных — все это настораживало красноармейцев. Напряженность, сопутствовавшая им от самого берега, с продвижением вглубь усилилась еще больше.
Похлестывая коня, проехал мимо всадник. Те, что шли с краю, узнали в нем комбата. Конь с силой вырывал из вязкой земли ноги, под копытами его звонко чмокала грязь. Подоткнув за ремень полы шинели, пробежал вперед Исмаев.
Чем дальше, тем глубже становилась грязевая жижа, вот уже начали увязать ноги. Ботинки густо облепило глиной, отяжелевшие полы шинели путались в ногах.
Услышав за спиной чье-то тяжелое дыхание, Шамси беспокойно обернулся. То был Ахмади. Желая хоть чем-нибудь помочь пожилому человеку, Шамси потянулся к его винтовке:
— Дай, Ахмади абы, я понесу.
— Тяжело тебе будет,— шепотом ответил Ахмади.
— Нет, нет| Дай сюда!
d Ахмади застонал.
7 Сиваш
— Проклятие! Похоже, до раны...
Положение Ахмади и в самом деле было не легкое. Воды Сиваша, видно, растравили старую рану на его ноге, хотя он и говорил, бывало, что нога у него зажила навеки. Резкая боль не давала ему ступить, и он с тру дом передвигал ноги.
Но тут в стороне Перекопа грохнули пушки, и Ахмади остановился на полуслове. Он вдруг подумал о том, что вот рядом с ним, прорезая тьму и гнилую болотную грязь, идут тысячи таких же, как он, бойцов. Он как бы постиг в это мгновение все величие их самоотверженности и постарался взять себя в руки, не поддаться мучительной боли.
— Знаешь, Шамси...— горячо сказал он,— ни одно еще войско не переходило вброд это чертово болото. Верно?
Шамси, который шел, вглядываясь в зловещую темноту, и прислушивался к грохоту пушек, по-мальчишески упрямо, точно поддразнивая кого-то, ответил:
— А мы вот перейдем! Назло всем перейдем!
В знак согласия Ахмади несколько раз кивнул головой. Опираясь на плечо молодого своего товарища, он некоторое время шел молча, не находя слов, чтобы выразить неожиданно нахлынувшие на него мысли и наконец сказал:
— Да, перейдем, Шамси! Может, там дальше и туговато придется, да мы. все равно перейдем! — Ахмади еще помолчал немного.— Гм... Мы вот в такую темень бредем по морю. А там, дома, говорю, мой Ильдус в люльке небось лежит да спит себе в удовольствие, губами почмокивает...
— Откуда знать, Ахмади абы,— в тон ему мечтательно сказал Шамси,— откуда знать. Может, твой Ильдус в эту минуту лежит в своей люльке и рыбок в теплом море ловит!
Ахмади ткнул его в спину.
— Беспутный ты малый. Где тебе понимать, ежели ты отцом не был.
Шамси нагнулся прямо к его уху и прошептал:
— Так ты же сам дочку не выдаешь. Ожениться бы мне, тогда, может, и ума наберусь.
Ахмади еще не все высказал, что было на душе. Ему
82
хотелось сказать, что именно потому, что там хорошо его сыну, он готов перенести любые мучения. Потом у него возникли хорошие мысли и об этом, шагавшем рядом с ним, парне. После войны, возможно, и придется благословить... Кажется, малый ничего, самостоятельный, добрый.
Вдруг с левой стороны раздался какой-то странный, похожий на плач крик. Он отдался резкой болью в сердце каждого, холодом ужаса прошел по спинам. В тягостном молчании слушали красноармейцы словно прощающийся с ними голос неизвестного товарища.
— Надо сообщить командиру полка,— шепотом сказал один. В ответ ему из темноты раздался такой же шепот-
— Он небось наперед тебя слыхал...
— А ежели я слыхал, что может сделать? Туда не полезешь.
— Эх, говорил же командир: на один оступишься шаг— пропадешь...
Точно виновные, шагали бойцы, не поднимая глаз, низко опустив головы. А голос то замирал, то, едва слышный, доносился опять и, наконец, замолк совсем.
Скоро ненасытному Сивашу была отдана еще одна жертва. Шедшая рядом с колонной лошадь комбата испугалась чего-то, кинулась в сторону и, видно, сразу попала в трясину. Комбат через голову лошади упал под ноги красноармейцев.
Один боец, увидев, как быстро засасывает лошадь, сгоряча крикнул:
— ЭЙ! Братва!
Комбат вскочил и сквозь сжатые зубы прохрипел: ' — Молчать! Ты что, полк хочешь загубить? Не оста-
навливаться! Вперед!
Пытаясь вырваться из плотно обхватившей ее грязи, лошадь захрапела, забилась, но все глубже уходила в топь. Через несколько минут на поверхности осталась только ее голова. Комбат зажмурился: лошадь, как будто ожидая помощи, смотрела на него широко открытыми глазами. Сколько тяжелых дорог, сколько боев прошли они вместе... Он потянулся к ней и. словно прося прощения, погладил ее по холке и, прошептав: «Прощай, милок, прощай!», пошел скорее прочь.
83
А люди, Тяжело разгребая ногами болото, псе шли и шли. Вот чуть в стороне показался какой-то человек, сидевший прямо в грязи. Он оказался телефонистом. Зажав в обеих руках трубку, он что-то глухо кричал в нее, потом ждал ответа и опять кого-то вызывал. Колонны, не задерживаясь, шагали мимо него, а ответа, видно, все не было.
Измучившись, он обратился к проходившей колонне:
— Товарищ командир! Командир роты!
К нему подошел Пахомов.
— Что тебе?
Красноармеец с висевшим у него на груди аппаратом поднялся на ноги.
— Связь прервалась. Кажется, сивашская грязь разъедает обмотку кабеля.— Телефонист объяснил, что он не может уйти с Линии, что связных тоже не видно поблизости, и попросил послать кого-нибудь в дивизию сообщить об этом.
Пахомов, переговорив с Даниловым, решил отправить с донесением одного из бойцов помоложе да покрепче. Выбор пал на Шамси. Шамси взял у телефониста записку и побежал обратно в Строгановку.
9
Когда прошли верст пять или шесть, немного правее началась непрерывная артиллерийская стрельба.
— Гаубицы...—заметил Данилов.
— Шумят здорово,—заговорил вдруг и Бачило.— Может, с моря это? У белых, рассказывали, и в море артиллерия стоит.
Р — А вдруг это наши бьют! Надо же брать Перекоп.
Данилову не верилось, что это могут быть свои.
— Да и откуда быть у нас такой артиллерии! — сказал он.— Ладно бы иметь пулеметов побольше.
Совсем недалеко, верстах, может, в трех, сразу в нескольких точках застрочили пулеметы. Однако всем казалось, что эту нависшую над Сивашем кромешную тьму не прошибут, из чего бы ни пытались стрелять.
А Валитову с тех пор, как ушел Шамси, стало совсем худо. Он уж едва волочил свою раненую ногу, и каждый шаг, словно он наступал на острия раскаленных
85
гвоздей, отдавался у него прямо в сердце. Он даже обрадовался, что пулеметы стреляют уже близко.
— Коли так... пожалуй, и недалеко теперь.
Задыхаясь от усилий преодолеть болотную грязь, его догнал политрук Исмаев.
— Кажется, наших встречают...—Он взял Валитова под руку и пошел рядом с ним. И как-то задушевно сказал ему:
— Знаю, понимаю твое положение, Ахмади абы. Тут и здоровому человеку лихо приходится. Потерпи немного... еше версты две... а потом мы свое возьмем. Вот увидишь, навсегда проучим сукиных сынов.
Немного отдышавшись, Исмаев почти бегом пошел дальше.
Грязь становилась все глубже и глубже. Она затягивала ноги, беспрестанно и раздражающе чмокала, чавкала, тяжелым грузом цеплялась за шинели.
Вдруг опять раздался вопль:
— А-а-а-а... Спасите!..— и как-то сразу осекся.
— Быстро,—сказал кто-то глухо.
— Долго ли? Лошадь и то в момент затянуло...
А дальше раскрылась еше одна пакость Сивашского болота. На это обратили внимание, когда Митричев стал страшно ругаться. Нагнувшись, он осматривал свои сапоги и осыпал проклятьями весь мир.
— И который это бог так проклял пехотинца, а? Ну прямо-таки каторжный он, ишак вьючный! Да чтоб провалился, чтоб пропал пропадом...
— Можешь ты хоть в такое время гнусь свою не показывать, а! Как только терпит, как выдерживает твой язык,— сказал возмущенно Данилов.
— Не твоему языку терпеть, ты-то что встреваешь?
— Невольно тут озлишься! Тоже, кавалерист! Над пехотинцем еще издевается. Если хочешь знать, главная сила в пехоте, а не в коннице! Знаем мы! В галифе вырядиться да на лошади пофорсить каждый сумеет. А ты попробуй нагрузи на себя два пуда и прорывайся по такому вот чертову болоту к врагу в тыл! Вот ты тут выдержи, тут покажи свою преданность революции!
Митричев сунул под нос Данилову какое-то рванье.
— На, видишь это? У бойца сапоги разлезлись, бой
86
цу босыми ногами топать, а он размусоливает... Командир... Будешь тут ругаться.
Данилов помолчал немного, поправил заплечный мешок, потом уже спокойно ответил:
— Ты что, думаешь, болотная соль только твои сапоги облюбовала? Вон у всех у нас разлезается обувка. Виноватых ищешь? Вот и торопись, хватай их за глотку!
Митричев плюнул от злости и, кроя про себя все на свете, потащился дальше.
Грязи Сиваша сдирали подметки, студили своим едким холодом ноги. Уже каждый шаг доставлял тысячу мучений, и бойцы обливались потом, разгребая болотную жижу. Давно уже спутался счет пройденных верст, никто не знал, сколько еще осталось и что еще их ожидает в пути. И даже доносившиеся иногда, раздиравшие душу вскрики тех, кто погибал в трясинах, уже встречали молча и только еще теснее жались друг к другу.
Люди дошли до полного изнеможения, но об отдыхе •дьзя было и думать. Где же тут останавливаться, ког-обеих сторон колонны стерегла страшная смерть, если бы даже удалось задержаться на несколько минут, то невозможно было бы догнать своих товарищей.
Вдруг в передних рядах все сразу зашумели, заговорили. Там чувствовалась какая-то тревога, растерянность. Что случилось? Из доходивших до него обрывков фраз Валитов понял, что разговор идет о каком-то ветре. Сначала он не придал этому значения. Он так вымотался, рану его так разъело, что нестерпимая боль уже не отпускала его. Но когда он услышал, как политрук взволнованно сказал Данилову: «Ветер повернул!», Ахмади сразу бросило и в жар и в холод. Он представил себе, что произойдет, если ветер подует с востока.
Он только теперь обратил внимание, что бивший слева тяжелый влажный ветер заметно усилился. Ветер крепчал с каждой минутой. Густой туман, прикрывавший Сиваш, сразу пополз в сторону Перекопа. Казалось, с глаз сорвали черную повязку: из мрака выступили люди — пешие, верховые, четче вырисовывались тени тысяч бредущих по болоту красноармейцев.
Командир роты, тяжело переступая и все поскальзываясь, прошел вперед. За ним, понукая взмыленных,то
8’
и дело проваливавшихся в грязь лошадей, последовали двое верховых.
Комбат встал с краю и торопил, подгонял колонны:
— Живо! Бегом! Не отставать!
Но в этот миг со стороны моря, словно шум далекого потока, донесся слабый гул. Многие еще не успели осознать, что произошло, как слева, на поверхности болота, появилась белая пенная гряда. Точно змея, готовая ужалить, шипя и извиваясь, кинулась она под ноги.
— Вода!
— Заливает!
Пенная гряда перерезала дорогу, забилась, захлюпала. Уже яснее слышался гул надвигавшихся с моря волн; вздыбленные ветром, разъяренные, катились они на Сиваш, чтобы наполнить его котловину.
Вода все прибывала, ближе становился шум волн. Вода уже добиралась до щиколоток, растекалась, заливала все вокруг.
Командир полка пробрался вперед и остановился как вкопанный. Отряда коммунистов, шедшего в голове колонн, уже не было видно, его заслонило туманом, а оставшимся некому было показать дорогу. Нужны были большая выдержка и мужество, чтобы не растеряться перед этой, сметающей все на своем пути, грозной стихией.
Что-то задумав, командир кинулся, разгребая ногами воду, дальше, но тут же повернул обратно и, тяжело дыша, опять остановился. Тесно прижавшись друг к другу, сжав зубы, стояли бойцы в ожидании команды. Как быть? Вот он — целый полк бойцов, застывших перед лицом грозящей им, неотвратимой, как холод смерти, опасности. Они сейчас, и в эту минуту, видели в нем командира. Вода взбиралась все выше по его сапогам, и он чувствовал, что ледяной ее холод тянется не только к нему, но и к сердцу всего полка. Даже забыв о необходимости хранить тишину, он крикнул:
— Командиры! Ротные, сюда! Живей!
Пахомов в промокшей шинели и еще другой командир, в полушубке с обвисшими мокрыми полами, подбежали к нему.
— Где вы ходите? — раздраженно спросил командир
88
полка.— Не видите, что ли? Давайте компас, быстрее, быстрее!
Пока Пахомов рылся в карманах, где-то совсем близко, ясно послышались пулеметные очереди. Командир вздрогнул и с неожиданной радостью в голосе закричал:
— Есть! Пошли за мной! Не останавливаться! Бегом! Поднажали, ребятки!
И, повернувшись в сторону, где стреляли из пулеметов, подхватил полы шинели и бросился бежать.
Вдруг все опять пришЛб в движение. Под ногами захлюпала, забулькала вода, послышалось трудное, прерывистое дыхание, зазвенькали, ударяясь друг о друга, штыки. Окутанная мглой Сивашская котловина странно гудела, здесь шла непостижимая, невообразимо тяжелая борьба, жестокая схватка.
Сейчас, куда бы ни повернуть, все равно бы невозможно было спастись от настигавшего потока воды. Но если удастся установить направление полуострова и если у бойцов хватит сил добежать до берега, пока вода еще не слишком глубокая, тогда уж не страшны будут морские потоки. Поэтому и бросился командир полка в сторону, где бешено стреляли пулеметы. Он не мог не догадаться, что это вступал в бой уже выбравшийся на берег отряд коммунистов.
А ветер с моря дул все порывистей. Словно разгневанный на этих безумцев, на людей, которые осмелились темной ночью нарушить покой моря, он с яростью бил их в лицо, гудел, кружась над остриями штыков. Вода все прибывала, она уже доходила до колен, норовила сбить с ног. Мокрые полы шинели тянули вниз. Но люди ничего, казалось, не замечали. Как-то забылись и леденящий холод воды и усталость. Даже страх попасть в болотные зыби не замедлил их шагов. Собрав последние силы, они бежали туда, где шла перестрелка.
I ...Внутренний жар, вырываясь с дыханием, обжигал горло, душил Ахмади. Губы у него спеклись, он весь взмок от пота. Жгучая боль, проняв его до сердца, перешла сначала с левой, раненой, ноги на все тело, а потом он вовсе перестал чувствовать что-нибудь. И уже казалось, что ноги волокли его за всеми, молча пробиравшимися через болото людьми, помимо собственной его воли, лишь подчиняясь какой-то неведомой внешней силе.
6 Сиваш
89
Ахмади вглядывался вперед, надеясь увидеть там кромку берега. Однако в редеющем тумане маячили только серые, будто ночные тени, фигуры людей, которые, еле переводя дыхание, пошатываясь и обгоняя друг друга, хлюпали по воде.
Кто-то, задыхаясь, разбрызгивая воду, пробежал мимо Ахмади. Словно во сне, неясно, мешаясь с шумом волн, дошли до него слова:
— Братцы, товарищи! Не сдавайтесь!.. Теперь уж близко совсем!
Этот голос отозвался чем-то родным в душе Ахмади, подбодрил его. Ахмади даже показалось, что он пошел куда быстрее, но на самом деле он все топтался на месте.
Справа, видно, у Перекопа, стрельба стала усиливаться. Артиллерийские орудия грохотали непрерывно. Но до Ахмади все это доносилось как будто совсем издалека, из другого мира. Для него сейчас страшна была своя беда. Тяжелые, точно налитые свинцом, ноги не давали ему сделать и шагу, перед глазами вертелись красные круги.
Тут налетела волна и сбила Ахмади с ног. Он погрузился коленями в грязь и содрогнулся, почувствовав, как по спине и груди его побежали струйки воды. Второй волной покрыло его совсем, соленой жижей залило и рот и нос. Волны набегали одна за другой, окатывали его, не давая подняться. Вот Ахмади уже почти встал на ноги, но винтовка, на которую он опирался, поскользнулась, и он снова упал. Собрав последние силы, он открыл глаза и напряженно прислушался вокруг: «Куда же все подевались?»— но никого не увидел, не услышал. То ли шумело у него в ушах, то ли волны все заглушали... И он в первый раз в жизни пожалел себя, показался себе беспредельно несчастным.
«Эх, только было человеком стал... Утонуть в болоте... Когда война идет к концу...» Вдруг откуда-то появилась и встала перед ним, широко раскрыв глаза, его Га-лимэ, тут же мелькнули уцепившиеся за подол ее платья ребятишки. Ахмади застонал. «А-а-а-а...» Нет, вся его душа, все существо противились этому, он не мог допустить мысли, что погибнет так. Пытаясь встать, он рванулся еще раз, но отяжелевшая от воды одежда свинцом тянула его вниз, руки и ноги тряслись, колени все
по
глубже врывались в грязь, и ему уже не поднять было своего туловища.
Ахмади казалось, что прошло уже бесконечно много времени. Но вот кто-то подбежал к нему сзади, поднял его, взял из рук винтовку. Сквозь шум волн и хлюпанье воды Ахмади услышал рокочущий голос Миколы:
— Эй, Ахмади абы, друг, что с тобой? Ай-яй-яй! Да годится ли *гак старому солдату?! Давай, пошли, пока еще никто не успел увидеть!..
Микола подхватил его и потащил за собой. Валитову хотелось сказать так много хороших, теплых слов в благодарность доброму товарищу, но как бы горячо он ни говорил, он бы не смог передать обычными словами и малой доли того, что чувствовал сейчас.
Вдруг навстречу ударили из пулеметов. Впереди, где-то высоко, будто стреляли из туч, вспыхнули огненные искры. Над головой стайками зажужжали пули. Вот они стали лететь ниже и, шипя, врезались уже в воду.
Микола заторопил Ахмади:
• — Быстрее! Они сдуру и зацепить могут. Не догада-
ются, что умирать-то нам вовсе неохота...
Близость смертельного врага, с которым уже не раз сталкивались лицом к лицу и повадки которого были хорошо известны, словно возвращала телу, измученному борьбой с грозной стихией, прежнюю его силу. Здесь все было обычно, все проглядывалось глазами. Выбраться скорее и броситься вперед!
У самого берега что-то затемнело. Кажется, кто-то еще упал в воду. Он обеими руками опирался на дно, голова его была не покрыта и длинный чуб свисал со лба, почти касаясь воды.
Микола, поддерживая рукой Ахмади, оглянулся. Сзади шел Данилов. Он подбежал к упавшему и, обхватив его за плечи, легко поставил на ноги.
— Петр! Как же ты это? Что же подкачал так, а?
Митричев. застонав, опустил голову.
— Ноги попортились... Наступить даже не могу. Плохи дела.
— Ты уж слишком! Кто, брат, поверит, что у нас с тобой дела могут быть плохи?
Данилов слегка пригнулся и, ловко подсадив Митричева к себе на спину, направился к берегу.
91
— Ну, Петруша, теперь ты — настоящий кавалерист. Только вот седла нет на мне, это твой фасон малость портит...
Над обрывом, захлебываясь, стреляли пулеметы. Крупными дождинками шлепались в воду пули. Луч прожектора, пробивая туман, искал на воде красных. Однако увидеть подступавших к берегу ему не удалось. Да если бы и увидел, было бы уже поздно.
Красноармейцы, только что преодолевшие небывало трудный, опасный путь, на ходу отжимали полы насквозь вымокших шинелей, строились под укрытием обрыва по ротам и взбирались наверх. Разгорался бой.
10
Карабкаясь по крутому берегу, цепляясь за уступы, Шамси наконец взобрался на обрыв. Только он хотел обернуться, посмотреть на Сиваш, как из кустов высунулась голова в огромной папахе.
— Стой! Пропуск!
' Шамси сказал пропуск и спросил у часового дорогу к штабу дивизии.
Наверху ветер был еще сильнее. Он раскачивал верхушки деревьев, свистел в голых ветках, подхватывал сухие листья и с шумом, с шорохом гнал их вниз.
Пока Шамси добирался до штаба, его останавливали еще два-три раза. Не ограничивались паролем, расспрашивали; из какой он части, оглядывали самого. Хотя Шамси и злило, что в такой спешке ему надо объясняться с часовыми, но в душе он одобрял их: «Если не проверять, можно ведь и шпиона пропустить!»
Вот и маленькая хата, прикорнувшая среди старых
93
яблонь, обращенная фасадом к Сивашу. Окна с фасада были затемнены. Несколько оседланных лошадей, привязанных к деревьям возле хаты, прядая ушами от доносившихся выстрелов, ожидали своих хозяев.
Шамси отворил дверь, и его обдало теплым, прокуренным махоркой воздухом. Передняя маленькая комната была битком набита вестовыми и ординарцами. Они негромко разговаривали между собой. Из второй комнаты слышался голос телефониста, вызывавшего какую-то часть: «Сахалин, Сахалин!» Но «Сахалин», вероятно, не откликался, потому что телефонист не переставал вызывать его.
Шамси пробился немного вперед. Какой-то командир, с узким, продолговатым лицом, при тусклом свете свечи, горевшей на полочке в углу, пытался прочесть записку, нацарапанную на маленьком клочке бумаги. Шамси сказали, что это начальник штаба. Командир дивизии и комиссар были уже, наверное, на том берегу Сиваша.
Когда записка была прочитана, Шамси передал начальнику штаба донесение. Потом, постояв в нерешительности, не зная, говорить ему или нет, добавил от себя:
— Я уже до берега добирался, а там вода на Сиваш хлынула...
Начальник, вздрогнув, пристально взглянул на Шамси:
— Сильно идет? Глубоко?
— Нет, пока еше не выше голени.
— Артиллерию встретил по дороге?
— Да, видел. Две пушки прошли, а какие-то завязли.
— Мм... С плохими вестями пришел ты, с очень плохими.
Он задал Шамси еще несколько вопросов и, велев подождать, прошел в другую комнату:
Услышав их разговор, ординарцы со всех сторон обступили Шамси и, перебивая друг друга, начали расспрашивать:
— Ты что, своими глазами видел, как вода идет?
— Погоди, ты понимаешь, что это значит? Взаправду вода пошла?
94
\ То, что ординарцы не верили ему, подозревали его в обмане, а некоторые, чтобы проверить, даже ощупывали его обмотки и полы шинели, вывело Шамси из себя.
— Взаправду ли еще... Нет, шутки шучу! Что я... шутить такими вещами... Что вы меня... Идите, поглядите сами: орудия тонут, лошадей засасывает, там мучаются, не могут пулеметные тачанки вытянуть. Да это что, люди тонут!..
Все вдруг затихли. Ведь они были бойцами разных полков той же Инзенской дивизии. Для каждого красноармейца его дивизия —это его родной дом, и сейчас их охватила тревога за судьбу своих товарищей, которые, оставшись в живых после стольких кровавых боев, могли оказаться нелепой жертвой этого гнилого моря.
Высокий бородатый красноармеец, стоявший у стены, опираясь на винтовку, с глубоким беспокойством, ни на кого не глядя, сказал:
— Ежели с этой стороны водой зальет, а с той беляки прижмут... Да...
Сидевший в углу на корточках молодой, безусый еще красноармеец в шлеме вскочил и подошел к нему:
— Знаете что! Буденного надо послать туда. Тут уж у белых загорятся зады. Верно?
— Да ведь говорят тебе, лошади на Сиваше тонут!
— Мм...
— Там тебе и укрыться негде, и воды нет напиться,— произнес кто-то.
Бородатый только рукой махнул.
— И не говори. Наши на голом берегу лежат, а белая сволочь в теплых блиндажах сидит. Патронов много, снарядов без счета. Эх...
Шамси вспомнил Ахмади, представил себе, как он там мучается, тянет свою ногу, и у него защемило сердце. А вдруг он упал и остался в воде? Хорошо, если кто-нибудь догадался повести его...
Гул орудий на Перекопе, кажется, усилился. Шамси, будто он сделал какое-то открытие, с искренней радостью воскликнул:
— А ведь самый главный бой нынче должен быть на Перекопе! Если пятьдесят первая возьмет Перекоп... тогда наши спасены, и..,
95
Но ему не дал договорить заросший светлой щетиной усталый красноармеец, который сидел на сваленных в кучу седлах.
— Если возьмет... А ты знаешь Перекоп? — Онс сердцем бросил на пол окурок и растер его стоптанным ботинком.— Ишь, как легко! А ты знаешь, по скольку раз в день наша пятьдесят первая поднимается в атаку? По десять, по пятнадцать раз. Поднимается, а половина так и остается висеть на колючей проволоке...—Он с яростью плюнул и, не обращаясь ни к кому, продолжал охрипшим своим голосом:—Если возьмет! Ты сперва повоюй под Перекопом! Перед тобой десяток заграждений, по тебе из сотен орудий, из тысяч пулеметов лупят, а ты в этот ад с голого поля с одной винтовкой лезешь... Вот после этого попробуй задень пятьдесят первую!.,
Шамси подскочил, словно молодой петух:
— Что ты растрещался, как горох на горячей сковородке? Ты тоже сперва повоюй, а потом уже хорохорься.
Бородатый красноармеец поддержал его и укоризненно посмотрел на разгневанного бойца из пятьдесят первой дивизии.
— Брось ты! Разве солдатский это разговор? У нас и пятнадцатой нет привычки жаловаться да роптать. Приказал командующий товарищ Фрунзе пешком море перейти — перешли. Ну и ежели скажет: помогите, мол, ребята, пятьдесят первой Перекоп брать,—поможем! Нет, мы никогда не жалуемся.
У того в глазах засверкали злые огоньки.
— Нет уж, борода! Не выйдет! Пятьдесят первая никому не поклонится! Нет!
— Так чего же тогда!..
Возможно, их пререкания и затянулись бы, но в это время на дворе зафыркал автомобиль. В ожидании новых известий все повернулись к двери. Дверь отворилась, и в хату вошел среднего роста, плотный человек. Ответив коротким взмахом руки на приветствие вскочивших и вставших смирно красноармейцев, он, не останавливаясь, крепко ступая, прошел в следующую комнату.
— Командующий!
— Товарищ Фрунзе!
96
За командующим прошли еше несколько человек,-кто одетый в шинель, кто в кожаной куртке, с резольверами и с шашками на боку.
На этой половине сразу стало веселее. При виде t командующего красноармейцы, сидевшие сгорбившись I • где попало, зашевелились. Даже тот угрюмый боец из r*i пятьдесят первой дивизии оживился.
— Смотри ты, са.м приехал...
— Вот это здорово!
к — Он найдет выход!
Фрунзе принес с собой радость и веру. У всех уже fr, ’рождалась крепкая уверенность в том, что он обязатель-. ’но спасет от катастрофы, которая еще минуту назад к, казалась неизбежной.
Собравшиеся здесь бойцы из разных дивизий, сыны ji разных народов, люди разных возрастов, все как один, J торопясь и перебивая друг друга, начали разговор о нем. Уже по тому, как они произносили его имя, как тепло г и преданно смотрели в ту сторону, где он скрылся, можно было почувствовать глубину их уважения к команду-t ющему.
Шамси в первый раз увидел Фрунзе, когда он только что прибыл на этот фронт и дивизия их готовилась идти К в бой. Командующий подъехал к окраине села, где вы-| строились полки, и прошел вдоль строя, расспрашивая К бойцов, как у них дела, не плохо ли с питанием, получают ли письма от родных.
Но тогда из-за сумерек Шамси не успел разглядеть ж его как следует. А после красноармейцы соседнего прл-Г ка долго хвастались, мол, «Фрунзе сам с нами в бой В ходил!»
Шамси вспомнил рассказ Исмаева о Фрунзе и сей-час решил поделиться им с товарищами.
г — А знаете ли вы,— сказал он,— что товарищ Фрун-ж зе бывал в Казани, еще давно, в царские времена. По-К литрук наш рассказывал. Арестовали его и послали Г в Казань под надзор полиции. А он на второй же день J скрылся... и полиции не докладывал...
I Однако Шамси никого этим не удивил. Подумаешь, один-два дня! Вон в Шуе да Иванове он несколько лет Н прожил, руководил рабочими в революционном движе-Г Нии. В московском да питерском подполье опаснейшие
97
дела организовывал, ездил делегатом на съезд партии в Стокгольм. С самим Лениным был там.
— Одним словом,—подытожил бородатый красноармеец,— настоящий он революционер, из самых больших. Я с ним весь колчаковский фронт прошел, вдоль и поперек... Вот это действительно командир! Хотя и в солдатской шинели ходит, а настоящий, мозговитый полководец, вроде Кутузова. Вон каким генералам и адмиралам дыхнуть не дал, с корнем своротил!
Боец с Перекопа встал и начал нетерпеливо ходить по комнате.
— И чего задерживают,— недоумевал он.— В таком разе пятьдесят первая ни перед чем не остановится, на прорыв пойдет! И приказ такой должен быть!
Бородатый красноармеец, довольный, ухмыльнулся.
— Это вот по-нашему, по-красноармейски!
Когда вошел Фрунзе, все находившиеся в комнате встали. Начальник штаба, ловко щелкнув шпорами, стал докладывать. Но командующий движением руки тут же остановил его.
— Об этом я знаю. Какие самые последние известия?
Начальник штаба еще раз щелкнул каблуками.
— Инзенская дивизия вышла на Литовский полуостров и пошла в наступление. Результаты пока неизвестны, так как вода, хлынувшая с моря на Сиваш, отрезала ее, связь прервана. Сивашская вода разъедает телефонные кабели...
— А пулеметы, артиллерия?!
— Сумели они переправиться или нет, пока точно не установлено.
Округлое, полное лицо Фрунзе как-то сразу осунулось, побледнело. Он, словно задыхаясь, расстегнул ворот шинели. А если враг узнает, в каком положении находится дивизия, и бросит на нее все силы? Ведь войск у него еще хватит. Офицерские полки Дроздова, конная армия генерала Барбовича... Свинцовый, стальной шквал... Тогда... Да, тогда дела скверные. Это уж катастрофа. Дивизия будет уничтожена. И только ли это? Расстроится, рухнет весь план. Он представил себе,
98
как изможденные и, наверное, раненые красноармейцы под пулеметным и артиллерийским огнем лезут по берегу Сиваша к вражеским окопам. Нет! Надо что-то немедленно предпринять!
Фрунзе повернулся к застывшим в ожидании его приказаний начальнику штаба и другим командирам. И резким голосом, отчеканивая каждое слово, сказал:
— Передайте ревкому Строгановки от имени командующего. Все способное к работе население вывести на укрепление Сивашского перехода. Немедленно! С этим же приказом послать во все соседние села!
— Слушаю, товарищ командующий!
Начальник штаба направился к выходу, но Фрунзе остановил его.
— На Литовский отправьте конных связистов. И тоже немедленно!
Заметив колебание начальника штаба, Фрунзе выжидающе посмотрел на него.
— Вы что-то хотите сказать?
— Извините, Михаил Васильевич! Но я сомневаюсь, смогут ли конники перейти Сиваш, когда вода там постоянно прибывает...
Брови Фрунзе едва приметно дрогнули, голос его стал звонче:
г — А вы выбросьте эти сомнения из головы и на такое задание пошлите бойцов не сомневающихся! Ведь есть у вас такие?
Е — Слушаю, товарищ командующий! Есть. Есть, конечно!
После ухода начальника штаба Фрунзе опять подошел к столу. Ветер, прорывавшийся сквозь щели в окнах, колыхал огонек маленькой лампы. Значит, ветер усилился, значит, вода прибывает... Фрунзе взглянул на часы. Скоро одиннадцать ночи. Одиннадцать... По его расчету... В эту минуту послышался топот копыт и слаженный звук шагов, как будто шли какие-то части. К — Взгляните, не седьмая ли кавдивизия пришла?
I Скоро шаги и топот замолкли, в дверях показался командир в высокой мохнатой папахе, в сапогах со шпорами и с шашкой.
к — Седьмая кавдивизия прибыла по вашему приказанию, товарищ командующий!
Фрунзе с удовольствием оглядел ладную, стройную фигуру командира, одетого с присущей кавалеристам Щеголеватостью.
— Отлично,— сказал он.— Вашу дивизию ожидают чрезвычайно сложные боевые задачи, выполнение которых потребует большого риска и безграничной самоотверженности. Я надеюсь, вы к этому готовы?
Командир дивизий четким движением поднял руку К папахе.
— Для защиты завоеваний революции кавдивизия готова и в огонь и в воду, товарищ командующий!
Фрунзе обрадовался его горячим словам, но надо было узнать, так ли глубоко прочувствовал командир свои слова, как этого хотелось ему, Фрунзе, и он внимательно, с улыбкой посмотрел на него.
— Да ведь какая вода! — произнес он.— Вам придется переходить море, настоящее море!
— Солдат революции не остановят никакие трудности, Михаил Васильевич! Кавалерийская дивизия готова перейти и море!
Лицо командующего посветлело. Он наклонил голову и уже не как командир, а как старший товарищ крепко пожал ему руку.
— Спасибо, большое спасибо! Наше самое могучее, непобедимое оружие — это безграничная любовь к Родине, преданность революции, беспримерная самоотверженность! Я верю в вас! Идите, подготовьте бойцов. Сейчас установим конную связь, и вам будет дан приказ трогаться. Мы скоро увидимся!
Вслед за командиром кавдивизии Фрунзе вышел из хаты. В темноте сплошной черной массой двигались конники. Слышалось фырканье лошадей, позвякивали удила.
Фрунзе пошел к обрыву. Туман над Сивашем стал реже. Внизу чавкала грязь, по всему берегу стоял сдержанный гул голосов. «Роют отводные каналы»,— подумал Фрунзе. Словно желая увидеть своими глазами жестокую схватку на том берегу, услышать своими ушами гул боя, он стоял, устремившись вперед, и слушал канонаду. Там почти беспрерывно рвались снаряды, и командующему казалось, что он видит даже вспышки пламени В редкие секунды передышки артиллерии ясно слышался торопливый треск пулеметов. Борьба шла смер-
100
%' тельная. Фрунзе вспомнил слова начальника штаба о том, что неизвестно, успела ли переправиться на тот берег 3? наша артиллерия. Да, положение более чем серьезное. I Там стреляет артиллерия белых, только их артиллерия... < Но... как на Литовском полуострове могло оказаться К столько орудий? Сколько же от Перекопа до полуостро-
ва?.. .Да, близко, очень близко. Фрунзе поежился, точно 1 от холода. Вот оно что! Переводят с Перекопа. Да, не-5, сомненно оттуда.
[ Командующий резко повернулся и пошел в штаб.
. — Свяжите меня с пятьдесят первой дивизией,—ска-зал он следовавшему за ним адъютанту и подошел к при-Ж двинутому к окошку столу, на котором лежала развернутая карта вражеских позиций.
Г Не отрывая взгляда от карты, Фрунзе снял с головы /папаху и, положив ее на край стола, провел рукой по К торчавшим густой щеткой, коротко остриженным воло-S сам. Не испещренную линиями карту видел он сейчас К перед собой, а поле боя. Ему было ясно, что переход К красных полков через Сиваш вызвал переполох во вра-вжеском штабе. Но враг опытен, и он, конечно, Н уже пришел в себя. Он торопится уничтожить полки, по? в ка они не успели закрепиться. Его артиллерия, пулеметы | спешно перебрасываются с Перекопа на побережье Си-ваша. На карте появилась красная стрела — это пред-^Ктоящий удар кавалерийской дивизии на Литовский по-луостров. Быстрый карандаш Фрунзе остановился на j берегу Сиваша.
— Как связь с. пятьдесят первой? — спросил он, ‘Обернувшись.
|. Начальник штаба раздражающе звонко щелкнул Вшпорами.
Е — Пятьдесят первая не отвечает, товарищ командующий!
Дь- Фрунзе оглядел сидевших в комнате. Он видел, что все они крайне утомились от бессонных ночей. Он и сам А не спал двое суток, все на ногах и на ногах. Нестерпимо ныла старая рана на его колене, нанесенная когда-I то. полицейским, от боли у него темнело в глазах, кружи-лась голова. Но сейчас было не до этого. Нет, он не хо-5 »л быть жестоким, но, когда он повторил-приказ, .голос £ его звучал сурово:
— Связаться с пятьдесят первой необходимо! Необходимо!
Телефонист в углу то громко, то шепотом, то злым, то умоляющим голосом в восьмидесятый, а может быть, и в сотый раз вызывал пятьдесят первую.
Кто-то молча подвинул командующему стул. Он не заметил этого, глаза его неотрывно смотрели на линию движения Инзенской дивизии по Литовскому полуострову. Битва за Перекоп решалась там, вот сейчас!
Как бы подтверждая мысли командующего, на противоположном берегу Сиваша еще грознее, еще зловещее загрохотали орудия.
Вдруг телефонист, весь просияв, протянул Фрунзе трубку:
— Товарищ командующий! Пятьдесят первая на линии!
Фрунзе взглянул на часы. Скоро двенадцать ночи. В трубке послышался знакомый голос. Усталое лицо Фрунзе засветилось улыбкой, точно он встретил самого близкого человека. Однако при первых же услышанных в трубку словах он снова потускнел. Нерадостные вести передавали ему. Неоднократные атаки оказались безуспешными. Не хватало орудий и снарядов, чтобы подрывать заграждения. И земля будто камень: невозможно рыть окопы. Потери огромные...
Фрунзе заговорил резким и не допускавшим возражения голосом:
— Если бы не трудно, мы бы и не были нужны здесь. Вы понимаете? Положение полков, выбравшихся на Литовский полуостров, катастрофическое! Противник большую часть своей артиллерии перебросил с Перекопа на Литовский. Пользуясь этим, немедленно начните штурм Перекопа! Атаки вести непрерывно, всей техникой, всеми боевыми силами! Турецкий вал Перекопа должен быть взят немедленно! Через два часа сообщите о ходе прорыва! До свидания!
Фрунзе говорил так убежденно, что в комнате все заметно оживились и, когда он закончил разговор, стали горячо обмениваться мнениями.
Фрунзе сел у стола с картой и опять сосредоточил все внимание на линии, перечерченной красными стрелами.
102
Там сейчас насмерть бьются с врагом тысячи бойцов. Позади них захлестнутый водой Сиваш, перед ними— вражеские заграждения, сотни пулеметов и орудий. Как нужно в такое время укрепить в них веру в победу, воодушевить их!
Повернувшись к товарищам, он сокрушенно сказал:
— Вот что значит бедность. Если бы у нас была радиостанция, мы бы врагу и вздохнуть не дали сейчас!
Вошел начальник штаба. Фрунзе спросил:
— Есть новые сведения?
— Нет, к сожалению. Но с минуты на минуту ждем возвращения конных связистов!
— Хорошо, садитесь,— кивнул ему Фрунзе,— Но этой связи все-таки недостаточно. Необходима телефонная связь. Какие вы приняли меры?
Начальник штаба хотел подняться, чтобы ответить, однако Фрунзе, чуть нахмурив брови, остановил его.
— Сядьте, пожалуйста! Я вас слушаю...
— У начальника связи есть одно предложение. Вернее, предложение самих бойцов. Только... Не знаю... С точки зрения устава...
— Может быть, на время забудем об уставе? Скажите, что за предложение?
Фрунзе, не прерывая, слушал говорившего начальника штаба, а сам продолжал что-то измерять на карте. Но по выражению его лица, по вспыхивавшим в его глазах огонькам было видно, что предложение телефонистов глубоко заинтересовало и даже обрадовало его. Взволнованный, он встал и прошелся по комнате.
— До чего же замечательные люди наши бойцы!— восхищенно сказал он,— С ними нельзя не побеждать!— И, обращаясь к начальнику штаба, добавил:— Связисты вашей дивизии готовы проявить беспримерную самоотверженность. Не надо лишать их возможности совершить подвиг ради революции. Но примите все меры, чтобы облегчить им выполнение задачи.
— Слушаю, товарищ командующий!
Начальник штаба вышел к ожидавшим его связистам. Те выслушали его и, торопя друг друга, выбежали из хаты.
Еще несколько ординарцев отправились с приказом командующего в соседние села и дивизии.
103
— Быстро управляется!— промолвил бородатый красноармеец.
В передней комнате никого почти не осталось. Из-за постоянной беготни дверь в соседнюю комнату уже перестали затворять. Шамси прислонился к косяку и заглянул туда.
Командующий стоял, опираясь рукой на стол, и диктовал приказ:
— ...В условиях невероятной трудности вы совершили героический переход через Сиваш и, проявив высочайшую доблесть, под жестоким огнем прорвались в тыл противника. Вашим подвигом гордится вся Россия. Революционный народ никогда не забудет вашего героизма!..
Шамси и бородатый красноармеец стояли, словно в строю, и слушали командующего. Слова благодарности самого Фрунзе к сражавшимся на том берегу товарищам наполнили их сердца радостью. «Скорее бы пробраться к своим и рассказать об этом!»—думал Шамси.
Заложив руки за спину, Фрунзе несколько раз прошелся по комнате. Чувствовалось, что он сейчас не замечает ни стоявшего в почтительном ожидании адъютанта, ни кого другого. Он мысленно был сейчас с теми, к кому обращался, в ком хотел упрочить силу и дух победы.
— ...Как бы силен еще ни был враг, сколько бы ни оказывал он сопротивления, его минуты сочтены. Чтобы в ближайшие же дни разгромить армию Врангеля, уничтожить этого последнего и самого коварного белого генерала, поднявшего руку на завоевания революции...
Шамси не отрываясь смотрел на Фрунзе и не переставал удивляться его простоте и в то же время какой-то необычайной силе. «Это, наверное, потому, что он революционер и работал вместе с Лениным, учился у него. Вот он какой, Фрунзе!..»
Командующий прочитал продиктованный им приказ и подписал его. Начальник штаба, распахнув шире дверь, подозвал к себе бородатого красноармейца.
— Из какого полка?
— Из сто тридцать второго.
Тот же самый вопрос начальник штаба задал и Шамси.
— Я тоже из сто тридцать второго.
— Так..’.
104
f Он взял пакет и. как бы сравнивая, оглядел обоих бойцов и, видно, потому, что Шамси был молод и крепок, протянул пакет ему.
— Передашь в руки командиру Инзенской дивизии! I — Слушаю. А если с ним что-нибудь случилось... Тогда кому передать?
Шамси спрашивал у начальника штаба, а сам краеш-[ ком глаза следил за командующим, ему очень хотелось, I чтобы тот услышал его, обратил на него внимание.
— Тогда передать тому, кто принял командование, J или комиссару. Понял?
L — Да, понял!
Фрунзе и в самом деле заметил их. Приблизившись, он быстрым взглядом окинул с ног до головы обоих красноармейцев, и даже прореха под мышкой Шамси не ускользнула от его внимания. Во всяком случае так по-1 казалось самому Шамси, и он густо покраснел, подумав, что оконфузился перед командующим. Но когда он сму-1 щенно поднял голову, то увидел, что зеленовато-карие I глаза Фрунзе смотрели ласково. Только вот ботинки Шамси ему явно не понравились. Посмотрел он на них и брови нахмурил.
Фрунзе прислушался к вою несшегося с Азова ветра I и спросил у Шамси:
— Вода на Сиваше прибывает. Ты сумеешь найти I дорогу?
Шамси встал навытяжку.
| — Найду, товарищ командующий! Я уже был на
I Сиваше.
| — Надо очень торопиться, очень! ! — Бегу, товарищ командующий!
Фрунзе, улыбаясь, кивнул ему головой.
Шамси спустился к Сивашу напрямик, по той же тропке, по которой он недавно добирался к штабу. Но сейчас здесь стоял невообразимый шум, все было в движении. И вправо и влево по берегу рассыпались жители Строгановки и соседних сел — старые, молодые, бабы, дети — и рыли канавы. Одна за другой въезжали на брод подводы, груженные соломой, хворостом, старыми досками, всем, что нашлось в крестьянском хозяйстве. За ними с лопатами, с вилами на плечах шли мужики. По краям брода тоже рыли канавы, а чуть дальше от берега уже пытались возводить дамбу: мешали солому с грязью, бросали под ноги все, что могло укрепить дорогу.
Туман начал рассеиваться, и тьма уже не была такой кромешной, как несколько часов назад. Шлепая по воде, Шамси обошел подводы. Вдоль дороги торчали вехи, и он подумал: «Хорошее дело, легче будет добираться!» Однако очень скоро почувствовал, что дорога стала куда труднее. С визгом, свистом крутил вокруг ветер, вода
106
местами доходила почти до пояса, и уже приходилось не идти, а прорываться сквозь воду, с усилием вытягивая из грязи ноги.
То и дело стали попадаться на пути Шамси раненые, бредущие с той стороны. У одного из них он спросил о положении своих однополчан. Оказывается, они часа четыре тому назад выбрались на Литовский полуостров, и там сейчас идет страшный бой. Раненый красноармеец сказал еще о том, что кончаются патроны, мало осталось гранат и что вряд ли удастся наладить подвоз боеприпасов — ветер вовсю гонит с моря воду, и дорогу во многих местах перерезало.
Как справится дивизия со всеми трудностями? Кто и где будет на рассвете, кто будет разгромлен, кто победит?
Чем дальше шел Шамси, тем чаще встречались ему опрокинувшиеся в болото брички, тачанки. Вот одна пушка увязла передними колесами в трясине. Возле пушки, пытаясь вытянуть ее, мучились красноармейцы. Вон другая. а там еше...
Шамси. встревоженный, шел, прислушиваясь к канонаде. На Перекопе беспрерывно ухали орудия; там. где была его дивизия, тоже шло жестокое сражение. Шамси торопился. Что бы его ни ожидало, он должен быть вместе со своими. Ведь это последний бой. И наступающий день, возможно, окажется последним днем войны. А по
стом начнется новая жизнь, мирная, с какими-то неведомыми. но большими делами. Шамси был твердо убежден, что грозный бой на том берегу Сиваша —это тот рубеж, «который необходимо перейти, чтобы отбросить кошмары войны, чтобы открыть путь «большим делам», о которых в долгих походах мечтали он и его товарищи. И не мысль ли об этом подстегивала его и сейчас, когда он, весь зако-
ченевший, разгребая ногами воду, спешил с письмом Фрунзе туда, в огонь?!
L Из темноты навстречу Шамси вышли два красноармейца. Один из них, сильно хромая сам, почти тащил на себе стонавшею товарища.
В — Ну, как там?
К — Сам слышишь! Бой насмерть..]
И ничего больше не сказав, они заковыляли дальше.
Орудийные выстрелы становились все ближе. Време-
107
нами уже можно было различать и взрывы гранат и сухое . щелканье винтовок.
Вдруг справа от Шамси выросла какая-то тень. Пока Шамси успел разглядеть, что делает, один на Сиваше этот, казавшийся огромным в темноте, человек, тот хриплым, простуженным голосом крикнул ему:
— Кабель не задень!
Шамси, пораженный, остановился Там, в штабе, он видел нескольких красноармейцев, обвешанных катушками с кабелем и что-то горячо доказывавших начальнику штаба. Он вспомнил, как кто-то из них говорил:
— Другого выхода нет. Телефонный провод иначе сохранить не удастся. Верьте нам!
Продолжения их разговора Шамси не слышал. На Сиваше, ближе к селу, он видел воткнутые в грязь длинные жерди. Значит, на них и висел телефонный провод, протянутый к штабу.
Немного пройдя. Шамси увидел на краю дороги еще одного красноармейца. Спрятав за пазуху одну руку, красноармеец, не переставая, словно месил глину, переступал с ноги на ногу, и после каждого движения вокруг него хлюпала, булькала вода. Другой же рукой он бережно держал висевший на его плече кабель.
Так вместо телефонных столбов по всему броду под неистовыми ударами ветра, по пояс в ледяной воде стояли оборванные, окоченевшие красноармейцы. Чтобы победили отрезанные на мертвом полуострове дивизии, чтобы не пал позор поражения на доблестное имя Красной Армии, чтобы выполнить в срок приказ Фрунзе, простые люди, рядовые красноармейцы, вооруженные великим чувством любви к Родине, готовые отдать за нее всего себя— свои жизни, свои сердца, встали на трудный, тяжкий пост.
Ночь. Костры на берегу давно погасли. Над Сивашем распростерлись черные тучи. Вокруг разлилась вода. Соленая, она разъедала тело, от ее обжигающего холода ныли кости, ноги затягивало липкой грязью, а вода прибывала и смертельной стужей ползла все выше и выше. Но красноармейцы-связисты стояли все так же твердо, и, кажется, даже смерть не заставила бы их сойти с этого поста.
Телефонисты встречались Шамси через каждые тридцать-сорок шагов. Одни стояли не двигаясь, другие, пы
108
Таясь согреться, прыгали или маршировали на ме£те. И оттого, наверное, что здесь были эти мужественные люди, казалось, ожил и безжизненный Сиваш.
Проходя мимо одного из них, Шамси, удивленный тем, что тот неестественно как-то согнулся, замедлил шаги. Телефонист попал ногой в яму и, опираясь на другую, пытался выбраться из нее, а сам дрожал всем телом. Увидев подходившего к нему Шамси, он, стараясь быть спокойным, сказал ему:
' — Кабель у меня в воду срывается, скажи там нашим!
Шамси вытянул его, помог встать на более твердое место. Но чувствовалось, бойца так прохватило холодом, что он уже никогда не сможет согреться.
Шамси снова пустился в свой мучительный путь, но теперь, глядя на молча провожающие его тени, он уже не так остро ощущал боль от растравившей его ноги соленой леденящей воды. Вдруг сквозь завывание ветра он уловил звуки знакомой песни. Она доносилась все яснее. Это боец-связист низким, немного охрипшим голосом выводил:
Смело, товарищи, в ногу...
В такт своему пению он мерно покачивался, шагал на месте, а под ногами его урчала, всплескивалась вода.
Шамси присоединился к песне и пошел еще быстрее вперед. То ли действительно запели все бойцы на Сиваше или же потому, что он сам весь отдался песне, Шамси показалось, что она звучит все громче и громче.
Духом окрепнем в борьбе...
На Перекопе ухали пушки. Совсем рядом, на полуострове, захлебываясь от ярости, стреляли пулеметы. Нащупав за пазухой письмо Фрунзе, Шамси, как бы подгоняемый песней и сам продолжая петь, побежал к берегу.
12
Оранжевый круг солнца стал медленно катиться вправо, за пригорок. Как бывает только в осенний безветренный вечер, когда ..день.еще не угас, а сумерки не. успели сгуститься, на какое-то короткое мгновение всюду, воцарилась мягкая тишина. И земля, и все, что есть на земле, и усталые, измученные люди — все окуталось этой зовущей к покою тишиной. Вода на Сиваше была так тиха, так- спокойна, как будто она никогда не была иной, как будто не вчера только бегали по. ней -вспененные волны и не вчера только захлестывали- они людей,-.топил», лошадей. И лишь, изредка то .тут, то там,.словцо солнечные зайчики, появлялись на ней чуть колыхавшиеся блики.
Как-то сразу, в это же точно время прекратился и грохот стрельбы. К тому, наверное, были свои причины. Но казалось, что он тоже невольно поддался окутавшей мир глубокой тишине.
Оранжевый круг, все снижаясь, скрылся из глаз совсем, оставив на горизонте алый изогнутый след. След
НО
.тепенно становился желтым, а там и вовсе слинял, и землю начала опускаться вечерняя мгла.
Данилов, подняв повыше воротник шинели, вылез и сел на краю окопа. Поразившись странной, неожиданной тишине, он напряженно прислушался. Хоть бы шорох какой донесся до него! Вокруг стояло такое безмолвие, что с непривычки даже звенело в ушах.
Но тут рядом кто-то застонал. Командир взвода взглянул на своих оглушенных боем красноармейцев, которые, еще не в силах очнуться, сидели скрючившись в окопе. Он пересчитал их. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... Всего шестнадцать. Из двадцати пяти...
Выражение безмерной усталости и горечи на лицах бойцов напомнило Данилову еще одну утрату, и его сразу бросило в дрожь. Он посмотрел на закат, на темнеющее небо и, поднявшись на ноги, повесил за плечо винтовку.
— Кто со мной?
Опираясь на винтовки, тихо, молча встали Шамси, потом еще несколько человек.
— Ножницы будут нужны,— сказал Данилов, ни к кому определенно не обращаясь.
Шамси показал ему на висевшие у него на поясе большие ножницы. Взобравшись на берег, они пошли по неглубоким, оставленным белыми окопам. Навстречу им то и дело попадались выходившие с поля недавнего сражения раненые бойцы с перевязанными головами, руками. Неподалеку, на взгорке, с десяток красноармейцев в пол? ном. молчании рыли глубокую, длинную яму. К ней с разных сторон несли.носилки, а на носилках тяжелым грузом лежали воины, проходившие свой последний путь на земле, герои, первыми перешедшие Сиваш, коммунисты, грудью прорвавшиеся через вражеские укрепления и проложившие путь дивизии. Расспросив санитаров, он узнал, что его друг погиб при первой же схватке.
«Эх, Саша,—с горечью подумал Данилов,—так мы и не свиделись в Крыму».
Всматриваясь в прибрежные окопы и овраги, он пытался представить себе минувшую ночь, товарищей коммунистов, которые,-вырвавшись, из Сивашского болота, кинулись на проволочные заграждения, их первую схват
ку с врагом. Наверное, они вылезли из той вон ямины. Когда их заметили, на них обрушился сильный огонь и прижал их к земле. Но они все равно не отступили,— цепляясь за мерзлую, голую землю, сдирая в кровь пальцы, грудью ползли вперед. Под ногами вот валяются окровавленные бинты, пустые гильзы, и что ни шаг, приходится обходить дымящиеся, пахнувшие пороховой гарью воронки.
Их роте тоже не сладко пришлось. Но это было не здесь, а дальше. На рассвете, когда они ползли по узкому проходу между двумя озерами, перед ними непроходимой стеной выросло заграждение из колючей проволоки. Вон там на бугре...
Они взглянули туда и опустили головы: их товарищ все еще безжизненно висел на колючей проволоке. Левой рукой он схватился за голову, точно хотел защитить ее от пуль, густые кудри повисли меж проволок, его кинутая на колючки шинель сбилась...
Шамси тогда мельком увидел, как Митричев бросил шинель на заграждение. Но в тот момент, когда он прыгнул на нее, вдруг застрочил пулемет. Чтобы перелезть на ту сторону и запустить в пулемет гранатой, и нужного было ничтожную толику времени, одно лишь мгновение. Однако смерть оказалась более быстрой...
Они подошли к заграждению и протянули руки, чтобы снять мертвое тело Митричева, но в это время враг открыл по ним пулеметный огонь.
— Ложись!— исступленно крикнул Данилов.
Падая, Шамси почувствовал, как ожгло его левую ногу. Нога сначала будто загорелась, а потом начала неметь. Но когда над головой щелкали, задевая проволоку, пули, когда враг зверски решетил застывшее тело покойника, думать о ноге было не время.
Данилов выругался.
— Где притаился этот бандит? Откуда он стреляет? Бачило, Перебейнос! Заткните ему глотку!
Потом коротко бросил:
— Ножницы!
Они с Шамси поползли под колючую проволоку.
Подрезав со всех сторон проволоку, содрогаясь от ужаса, опустили убитого на землю. В первую минуту, когда Митричева положили на бок, даже казалось, что он просто в шутку растянулся -так, подперев рукой голову.
Но, повернутый на спину, он лежал, как-то страшно оттопырив левую руку, и брови его были подняты вверх, точно он в недоумении, сердито спрашивал у них: «Как это случилось? Почему?»
Вытащив его из-под огня, красноармейцы отошли немного назад и приготовились рыть могилу. Однако Шамси не понравилось здесь: отсюда не видно было Крыма. Он поколебался немного, боясь вызвать насмешки у старших товарищей, но потом все же предложил похоронить Митричева на более высоком месте. После этого они поднялись повыше.
— Вот отсюда не только Сиваш, но и Крым виден... Ему ведь тоже хотелось Крым посмотреть.
Пока красноармейцы рыли могилу, безмолвный их товарищ, подняв удивленное лицо к темному небу, лежал в сторонке, ожидая, когда ему приготовят последнее его жилье. Шамси был уверен, что ему, должно быть, по душе и то, что товарищи заботятся о нем, и то, что он будет лежать тут, высоко, под теплыми ветрами Крыма, который всегда вставал в их общих мечтах цветущим, вечно зеленым краем.
Присоединившись к своей роте, они и прошли-то недолго, а впереди уже заполыхали огни боя. Еще более гулко заговорили пушки, четче зататакали пулеметы. Сражение шло верстах в двух-трех, не больше. Данилов кивнул головой в сторону фронта и сказал:
— Вот это и есть те самые Юшуньские позиции. Сейчас там сосредоточены все силы Врангеля.
Впереди широкая, в несколько верст, полоса, как на пожаре, вспыхивала ярким светом и тут же гасла, опять раздавался грохот и опять, зажигаясь и угасая, плясали над полем огненные смерчи.
Ахмади покачал головой.
— Ай-яй!.. Да тут похлеще, чем на Перекопе будет. Не то сто орудий, не то тыща... И все враз. Верное слово!
Данилов встал с краю, подождал, пока прошли бойцы его взвода. Они тяжело шагали по бездорожью. Ведь трое суток без сна, без еды почти, и в таких боях... Он очень жалел своих бойцов. Но какая нм была польза от этого? Надо было терпеть. Нет, этого мало, надо было не сдаваться и победить в бою.
При ярком отсвете пламени Данилов вдруг заметил, что Шамси захромал. Он вмиг подскочил и остановил его:
— Погоди, что с тобой? Упал или ногу натер? Может, растянул жилу? Что ты хромаешь?
Шамси осторожно отвел руку схватившегося за него взводного:
— Пройдет... Само залатается, заживет Ты не на меня, а вон куда смотри...
Чтобы рассеять сомнения взводного, он хотел побежать на свое место. Но в эту минуту словно огненные тиски сжали ему ногу, и он не смог даже двинуть ею.
Данилов крикнул санитара. Из темноты, грузно топая, вышел огромный детина, с сумкой со знаком красного креста. Нащупав на голени Шамси кровь, он будто обрадованный, что для него нашлось дело, бодро заявил:
— Та це ж рана! Хлопче! Ты же ранен!
Данилов был крайне удивлен:
— Рана? Какая рана? Откуда она взялась?
Шамси смущенно стал разматывать обмотку. Что он нарочно, что ли? Еще и так могут подумать.
— Нашли на что обращать внимание. Давно еще, будто муха укусила. Или комар...
Данилов и так уже сильно переживал, что за эти два дня потерял столько людей. Взвод просто таял. Скоро опять идти в наступление. А с кем? Ведь их осталось-то всего несколько человек... То, что этот мальчишка скрыл свою рану, еще больше взорвало его. Он и плевался и ругался.
— Молокосос! Нашел время ломаться! Терпеливый, мол, за революцию все снесу. Дурак! Как ты теперь будешь помогать революции?
Данилов возмущенно махнул рукой и побежал догонять взвод.
В санитарной повозке уже лежал один раненый. Шамси было растянулся рядом с ним, да не выдержал, поднялся. В самый разгар последнего боя, когда война вот-вот кончится, оставить своих товарищей... От обиды и злости он крепко выругался. Но тут же почувствовал, что его тело стало как-то оседать, обмякло и, все более погружаясь в странный, приятный мрак, вдруг растворилось и исчезло совсем...
114
13
। Огненная, грохочущая линия фронта становилась все ближе. Теперь уже после каждого орудийного выстрела Данилов успевал увидеть в зареве пламени красноватые лица и словно занявшиеся огнем глаза бойцов. Вот еще один выстрел. И сразу озарилась темная масса стремившихся вперед рот и батальонов. Над ними множеством крохотных звезд загорелись острия штыков, обрызнутые красным светом, выделились серые людские тени.
I Командир роты Пахомов, спотыкаясь о кочки, шагал рядом с бойцами. Как только там, на позициях, поднималась сплошная стена огня, он оживленно говорил: г — Здорово, ребята, очень здорово! Это наши. Огнем давят. Если и дальше так пойдет, еще до нашего прихода все заграждения полетят в воздух.
| Они добрались до одного из многих встречавшихся здесь соленых озер, узкой тропкой почти бегом прошли вдоль берега, перелезли через какие-то ямы, овраги и наконец вышли к своим, Справа, в ярком отблеске пла-
’/« 9* .115
мени, то и дело вспыхивавшего от разрыва снарядов, оттопырив крылья, встала ветряная мельница. Возле нее показались уцелевшие чудом несколько строений. Завидев новые части, стали подниматься из своих мелких одиночных окопов красноармейцы.
— Какой полк?
Коренастый башкирский джигит с густыми черными бровями, стряхивая с шинели песок, ответил Данилову:
— Сто тридцать третий.
— Смотри-ка, самый близкий наш сосед. Ну, счастливого вам бою, братцы. Дай вам выбраться здоровыми!
— Пусть будет так...— Джигит прислушался к гулу боя и покачал головой.— Да, пусть будет так... Только, думается мне, и до вас очередь быстро дойдет. Мельница-то войны вон как мелет!..
Припадая к земле после каждой вспышки огня, с винтовками наперевес, они двинулись на первую линию.
Разместив своих бойцов по окопам, Данилов устроился рядом с Ахмади.
— Как дела, старина?
Растянувшись в окопе во весь рост, Валитов, чуть подняв голову, кашлянул.
— Дела хоть куда... Скоро идти-то?
Данилов ответил не сразу,
— Кто его знает? Может, сейчас же, а может, через полчаса. Соседи еще тронулись только. Смогут ли пройти заграждения, нет ли...
— За ними сразу — мы?
— Мы-то мы, да ребята больно измотались, как им выдержать без отдыха, без сна?
Гул на передней линии вдруг умолк, и тут же по всему фронту раздалось мощное «ура». Значит, соседи пошли в атаку. Что-то будет? Не побьют ли их?
С правой стороны, как обычно, крупными, быстрыми шагами подошел командир роты Пахомов. Вслед за ним появился и Исмаев.
— Собери здесь первое отделение,— обратился Пахомов к Данилову.— А вы...— Ротному самому показалось несправедливым его отчужденное отношение к политруку. По правде говоря, этот живой, неуемный малый отдает делу всего себя. И Пахомов, мягко коснувшись рукой
116
плеча Исмаева, впервые обратился к этому татарскому парню не как командир, а как равный товарищ:
К — Ты, мой друг, оставайся здесь, а я пойду во второй взвод.
ИГ’Политрук, широко раскрыв черные глаза, смотрел вслед ротному, пока тот не скрылся в темноте. Затем с улыбкой потянул Данилова за рукав.
К — Гриша, милый, знаешь, ведь я сегодня стал свидетелем третьей революции!
[ — Какая еще там третья? Надо прежнюю до конца
^укрепить.
вif — Аполлинарий Петрович перенес в душе настоящую С революцию. Он теперь совсем наш человек! До конца!
F-. — А прежде белый был, что ли?
— Да нет. И все-таки в нем еще сидел помещичий сынок, офицер царский. Ты думаешь, легко ему было принять 1 революцию как свое личное дело? А сейчас у него сердце иначе забилось. По-нашему. Разве это не революция?
Е — А ты понимаешь, почему так случилось?
— Думаю, что да. Война его воспитала. Когда человек рука об руку с народом проходит через такие огни, по-моему, в нем сгорает все плохое и душа его очищается от всякой дряни, светлеет.
t - — Точно, по-моему думаешь...— Данилов позвал по-[(ЛИтрука к окружившим Ахмади бойцам.— Собирать по отделениям нет смысла, тут все, кроме тех, кто послан в секрет...
К' Исмаев бодрым шагом подошел и сел возле Ахмади, I которого уже окружили человек пятнадцать бойцов. Многие из них были ранены. У одного перевязана рука, у другого обвязано все лицо — виднелись лишь рот да глаза. У всех винтовки: кто сидел, обхватив ее рукой, кто прислонил к себе. За поясами гранаты, лопаты, патронташи. Исмаев хорошо знал каждого из них. А когда пламя войны вот так, как сейчас, беспрестанно озаряло их, когда каждую минуту ожидали сигнала броситься в огонь, Ис-маеву они становились еще ближе. В каждом их слове, Движении он чувствовал твердость, уверенность, непоказную храбрость.
I От внезапно усилившейся стрельбы Исмаев вздрогнул. Чта случилось? Ведь соседний полк только что пошел в атаку! Неужели его разгромили?.. Исмаев вскочил, однако тут же сел обратно.
8 Сиваш 117
— Вот, друзья,— начал он,— вы у меня часто спрашивали, когда кончится война. Сказать вам?— Исмаев показал рукой на линию фронта,— Вот это и есть последний бой. Мы с вами, преследуя Врангеля, прошли степи Таврии, прорвались через Сивашское болото. Теперь Врангель, как собака, огрызаясь, скрылся в последней своей берлоге. Земля та называется Юшунью. Если внешними воротами Крыма считается Перекоп, Юшунь — ворота внутренние. По укреплениям же они ничуть не уступают Перекопу. У врага еще достаточно и войска и оружия. Все свои силы он теперь собрал здесь...
Мимо них один за другим протащили два пулемета. Исмаев вспомнил предупреждение полкового комиссара: выступавший против них полк Дроздова на каждое наше орудие поставит двенадцать. У вражеской дивизии имеется, самое меньшее, сто пятьдесят пулеметов. У нас же один пулемет на роту... Политрук хотел сказать бойцам и об этом, но как-то само собой заговорил о другом.
— Перед нами будут укрепленные окопы с проволочными заграждениями в несколько рядов. Нам придется перерезать их, растоптать, прорваться через них. Против нас встанет продавшая Россию иностранным буржуям, поклявшаяся биться насмерть против большевиков самая оголтелая контра. Мы должны раздавить ее. Этого ждет от нас сегодня вся Советская страна. И Ленин и настрадавшийся от войн народ ждут, чтобы мы обязательно победили!
Оглядев своих товарищей, словно он собирался говорить за всех, Перебейнос сказал:
— Об чем может быть разговор? Мы готовы. Пусть трлько начнется. Мы их...— Разгорячившись, он отпустил несколько слов покрепче.
— Конечно, — поддержал его Ахмади,— дело-то к концу подошло... Патронов бы только хватило.
У сидевшего с краю Бачило тоже нашлось слово:
— А потом, товарищ политрук, пускай раненых вовремя подбирают, чтобы они криком тут не кричали. А то прямо душа разрывается!
Исмаев собирался ответить, но совсем неожиданно недалеко от них разорвался снаряд. Не успели бойцы поднять с земли головы, как упал второй. В грохоте послышался голос Исмаева:
118
— Разойдись! Живей!
I Рассыпавшись во все стороны, кто в окоп, кто куда, стали ожидать третьего снаряда. Но направление стрельбы изменилось, и все опять подняли головы.
Г Услышав рядом с собой покашливание, Исмаев обернулся. То был Валитов. Он, кажется, хотел что-то сказать. [ — Что, Ахмади абзы? Получаешь письма от сына?
Ахмади довольно рассмеялся.
Г — Не забыл еще, выходит. Сейчас не об этом речь. У меня к тебе другое дело есть. Ну, дело, может, и не дело, посоветоваться надо...
Г — Разве? Ну, ну, слушаю.
l — Есть у меня думка одна. Про нее надо сейчас говорить. Время такое... Можно и запоздать...
' Он остановился, не зная, как выразить свою мысль. Йривстав, уселся на краю окопа, провел пальцем по усам, до, видно, и это ему не помогло, и он с досадой махнул рукой.
I — Как бы тебе объяснить? Вот я сам чистейший батрак. Сын батрака, потомственный, значит. И хочу я сказать: прежде нас, татар, и за людей не считали. Товарищ Ленин раскрыл нам глаза, объяснил, как говорится, где у нас правая, а где левая сторона. Ведь мы сейчас автономная республика. Вот оно как! Потом, возьми сельский Совет. Я говорю про то, что в письме было написано. Ну, как тут не задумаешься? Верное слово!... Мы вот в бой Добираемся идти, в последний, говоришь, бой Серьезный, говоришь. И тут... неизвестно, как обернется, кто будет жив через час, а кто и нет.. Я не боюсь, не думай. За’ новую жизнь я трижды готов помереть! Верное слово... Дело не в том. Вот вчера я видел, как коммунисты за Родину жизни отдавали... Хочу я знать, ты — человек партийный, ответь мне: гожусь я в коммунисты или нет? Если гожусь, примите меня нынче же в партию В бой коммунистом пойду. Помру— так коммунистом. А если живой останусь, пускай моя партийность в таком бою начнется. Вот и все!
К Валитов торопливо стал закручивать цигарку.
1 Слушая сбивчивую речь всегда ловкого на язык ста-его солдата. Исмаев всем сердцем понял, какие светлые мысли волновали его в эту минуту
>, — Ладно, Ахмади абзы,— тепло сказал он,— твою
119
просьбу разберем на первом же собрании ячейки. А ты с сегодняшнего дня, вот с этого самого момента считай себя коммунистом! Давай руку! Желаю тебе долгой жизни!
Он крепко пожал руку Валитову.
*
Что за тишина? Во сне это или наяву? Если наяву, почему так покойно всему телу, приятно рукам и ногам, точно его всего окунули в теплое молоко?
Шамси с опаской открыл глаза. Нет, он не умер, живой! Да, ведь ему ранило ногу. Но нога в том месте не болит, а только горит слегка. Санитарная повозка остановилась возле какого-то строения. Он лежит один на соломе. Рядом шурхает овсом лошадь. Шамси лежит на телеге, совсем как у себя дома под навесом. Теплый воздух, словно пушистый котенок, мягко касается лица, рук. Почему так тепло? Глаза Шамси остановились на звездах. Они удивительно крупные, и во все стороны от них идет тонкое сияние. Шамси ни разу не приходилось видеть ни такого синего неба, ни таких крупных, чуть ли не с кулак, звезд. Немного приподнявшись, он оглянулся вокруг. Вон в том краю неба занимается заря. Под алым сиянием, охватившим широкой полосой горизонт, будто цветущие сады на взгорьях, проступают зеленоватые лучи. Шамси вскочил от радости. Да ведь это Крым! Настоящий Крым! Вот почему тепло так и звезды крупные и небо синее!
В голове у него одна за другой мелькали приятные мысли. Перед его глазами прошли и Насимэ со своей стыдливой улыбкой, и берег речки, и родник... Ведь со взятием Крыма кончится война!..
Война... Постой, а почему не слышно стрельбы? Почему безмолвен весь мир? Или в самом деле война кончилась?
Слева от повозки, словно сказочный богатырь, появился в утреннем свете санитар и гулким, как из бочки, голосом сказал кому-то:
— Трогай, поворачивай назад!
Точно человек, который, проспав неделю подряд, потерял все нити событий, Шамси все еще ничего не мог понять.
120
Как же это? Чем вызвана такая тишина?
В Богатырь, между тем, побежал куда-то вперед, а возница повернул лошадь и, взмахнув вожжами, погнал ее в обратном направлении. Шамси потянул его за рукав.
р. — Куда ты гонишь, роты наши где?
№ — Где, где...
Г Возница не договорил, раздался отвратительный визг, и на здание, возле которого они только что стояли, упал снаряд и разнес его в щепы.
— А ты все спрашиваешь — где! Понял теперь?
Он, не переставая, дергал вожжами, оглядывался и, вскочив, начал хлестать лошадь.
Когда они выехали на проезжую дорогу, Шамси забеспокоился еще больше. Торопясь, как будто они стремились куда-то скорее добраться, обгоняя друг друга, мчались груженные патронами и пулеметами тачанки, брички, во весь опор скакали ординарцы, чуть ли не бегом проходили пехотинцы. Уже несколько раз, намереваясь соскочить, Шамси хватался за края повозки, но опять сдерживался, колебался и продолжал ехать навстречу этому потоку.
И вот они уже въехали в какое-то селение. Всюду — у озера возле села, на околице, на огородах, по всем улицам — стояли конники. Поглядывая на бесчисленное множество оседланных лошадей, на кавалеристов в черных бурках, возница, покрыв своим голосом даже скрип катившихся рядом телег, крикнул Шамси:
' — Видел? Армия Буденного! Пусть только пехота прорвет заграждения, а там они пойдут.
К Вдруг над их головами пролетел снаряд. За ним еще один, еще...
Г — Наши! Начинаем! Ура!
Шагавшие на фронт бойцы бурно делились друг с другом своей радостью и, словно желая подбодрить стрелявших из-за озера артиллеристов, наперебой кричали: V — Дай им, ломай, кроши!
— Нам прочищают дорогу!
I — Ишь, какая буря поднялась!
Д Артиллерийская канонада разгоралась с каждой мину-рой. А как стали отвечать пушки белых, всю окрестность ."'Хватил грохот, свист снарядов. Движение на большаке все и. растало. Теперь уже и тачанки н пехота шли сплош
121
ным потоком. На одной из бричек мелькнуло знакомое ЛИЦО.
— Митька! Стой, подожди меня! — крикнул Шамси, узнав друга чувашина, и дернул за плечо • возницу: — Останови!
— Ты чего? Куда собрался?
— К товарищам!
— На одной-то ноге? Глупый ты! Дурак хромой!
— Ничего, она у меня зажила.
Но как только Шамси соскочил с повозки, его ногу от голени до бедра схватила такая режущая боль, что он застыл как в столбняке. И все же юношеская гордость не хотела сдаваться.
— Я же говорю, зажила... — сказал он.
Когда возница обернулся во второй раз, Шамси сидел в зеленой бричке с патронными ящиками рядом со своим Митькой и мчался в сторону передовой.
14
Окопы белых по всей линии фронта были взяты под и шквальный огонь. Там все полыхало, клубами поднимался к небу черный дым.
L В это время дали команду трогаться. Свернув вправо от окопов, полк прошел низиной к маленькому хутору. Хутор был почти весь разрушен еще во время вче-рашнего боя. Крыша у единственного уцелевшего дома была сорвана снарядом, пристройки развалились. Каким-то чудом стояла лишь ветряная мельница.
L. Под усилившимся с обеих сторон огнем полк построился в одну длинную цепь. Командиры стали проверять Готовность своих бойцов. Достаточно ли у каждого, пат-ронов, не обронил ли кто свой штык?..
Н Комиссар полка, отозвав в сторону политруков, давал -им последние советы; на двуколках, торопясь, как водо-возы на пожаре, подвозили патроны; появились санитары
ш
с носилками. Во всей этой спешке спокойными казались лишь стоявшие в цепи красноармейцы.
Командир Пахомов стал перед ротой и несколько охрипшим голосом сказал:
— Если я выйду из строя... командование ротой возьмет на себя политрук Исмаев!
Исмаев от неожиданности растерялся. Не зная, что сказать, он все подсовывал непокорные волосы под шапку-буденовку.
— Аполлинарий Петрович!..
Пахомов не дал ему договорить.
— Политрук Исмаев! — сказал он.— В строю я не Аполлинарий Петрович, а товарищ командир! Это во-первых. Во-вторых, приказ командира не обсуждается. Тем более в такое время!
Исмаев вытянулся:
— Слушаю, товарищ командир!
Проходя перед ротой, Пахомов приказал всем командирам взводов назначить себе заместителей. И. помедлив, добавил:
— И командиры отделений тоже!
Он прислушался к артиллерийскому гулу. Как будто и сильно бьют. Однако, чтобы разрушить укрепления белых и тем самым открыть дорогу пехоте, мелкокалиберных орудий, какими стреляли сейчас, было недостаточно. И это беспокоило Пахомова. Он окинул взглядом строй: от его полка осталось теперь немногим больше одного батальона.
Пахомов пытливо вглядывался в лица бойцов. Сотрясавший всю землю гул сражения, который шел там, за холмом, конечно, волновал их. Но они, стараясь не показывать ни страха, ни тревоги, как ни в чем не бывало переговаривались друг с другом. Пахомова так и потянуло сказать им что-нибудь очень хорошее, особо значительное, и он ласково и мягко обратился к ним:
— Ну, братцы, скоро двинемся... — Он прошелся несколько раз перед ротой, но так и не сумел высказать те теплые, добрые слова, которые вертелись у него на языке Возможно, почувствовав его замешательство, к командиру подошел Исмаев.
— Двинуться-то мы двинемся, товарищ командир,— сказал он,— только нашим ребятам следует знать, что
124
I мы будем драться с офицерами. Ведь у них ротой командует полковник или майор, а вместо солдат капитаны, | поручики...
— Ну и что же? Плюнь ты на их блеск! Разве можно I считать настоящими воинами тех, кто поднял оружие против своей родины, против России! Ты в тысячу раз । выше тех продажных майоров да подполковников. Пото-| му что...
I Пахомов не успел закончить фразу, как внезапно канонада затихла, и с правого фланга послышалась команда:
! — Вперед!
Полк тронулся. Слегка пригибаясь, бойцы стали подниматься по Холму, лежавшему между хутором и позицией белых.
Уже рассветало, и было вполне возможно, что белые заметили движение полка. И все же на линии фронта [Стояла тишина. Слышались лишь топот ног и дребезжащее звяканье пулеметов.
I — Быстрей!
I Командир роты вытащил из кобуры свой огромный [маузер.
К Полк шел развернутой цепью, примкнув штыки. Все глаза были устремлены в сторону белых, на их вырытые на дальнем холме окопы. Ноги, будто сами по себе, шагали легко. Вот так идти бы сомкнутым строем и сметать, давить, уничтожать все, что встретится на [пути!
Чуть правее показалась еще одна такая же цепь под-! нявшихся в атаку.
| Вот прошли гребень холма и начали спускаться в ни-гзину. С правого фланга, передаваясь из роты в роту, кеше раз дошла команда:
| — Быстрей!
К Цепь пошла еще более стремительным шагом. В третьем взводе, где были бойцы поменьше ростом, уже перешли на бег.
“ Впереди, на более пологом холме, из края в край протянулись окопы белых, и даже можно было разглядеть колья с рядами колючей проволоки.
[• До заграждений оставалось недалеко. Наверное, шагов триста или немного больше... Белые, конечно, отлич
но видели цепи идущих в атаку полков, но все еше не открывали огня.
«Почему не стреляют?..»
Это была тяжелая тишина, подозрительная, вызывавшая ярость, опасная тишина. Зловещая, она была куда страшнее и пулеметов и взрыва шрапнели над головой.
Вот послышалась команда:
— Бегом!
Растянувшиеся по всему полю цепи качнулись и волной кинулись вперед.
«Почему не стреляют?..»
Вот уже совсем близко. Двести пятьдесят, двести...
Все командиры с наганами в руках выдвинулись вперед. Кто-то, командир полка или комиссар, крикнул:
— За революцию, товарищи, ура!
Над полем прокатилось мощное «ура», и в ту же секунду на цепь сразу обрушился бешеный вихрь огня. Непрерывный свист пуль, сливаясь, превратился в пронзительный визг. Пули врезывались в землю, осыпали лица пылью, комьями глины. Сплошной поток пуль, казалось, захлестывал дыхание. Уже каждый шаг приносил бессчетные жертвы, люди падали и падали.
— Ложись!
Теперь ползли, прижавшись к земле. Но пулеметы не давали поднять головы, продолжали косить, и тут и там оставались лежать раненые, убитые, цепи с каждым мгновением редели.
Пахомов с горечью взглянул на бойцов. Если и дальше пойдет так, через несколько минут полк будет уничтожен. Старый воин принял решение: рывком добежать до проволочных заграждений! Он вскочил и во весь голос крикнул:
— Рота, за мной!
Оставшиеся в живых бойцы в едином порыве бросились вперед. Опять возле самого уха взыграла, засвистела свинцовая метель, и, опять падали люди.
Пахомов бежал, пригибаясь к земле, и время от времени махал рукой своим бойцам, призывая их не отставать. Чем меньше расстояния оставалось до заграждений, тем большая теплилась надежда у него в душе. Еше пятьдесят шагов, тридцать... Потом — ножницы, гранаты, штыки...
126
В Но только командир сделал еще два три шага, как Гчто-то жгучее впилось ему в голову. На один миг он почувствовал, что его тело потеряло устойчивость, и он тя-1 жело ударился о землю...
[ Теперь уже все видели: артиллерия не смогла пол-а.ностью разрушить заграждений. И страшно было думать, [что после стольких потерь придется отступить.
[ И все же команда к отступлению была дана.
L Кто-то окликнул Шамси по фамилии. Его звал к себе тот самый богатырского вида санитар.
• — Берись живее! — сказал он нетерпеливо. На носилках лежало мертвое тело ротного командира. На лбу его чернело маленькое пятнышко, и казалось, что он просто спит, полузакрыв глаза. Подхватив носилки, они, пригибаясь и петляя, долго бежали по ложбинам и остановились только на подходе к хутору. Санитар, сняв с головы папаху, стал возле носилок на колени.
• — Эх, какой человек был...
По щекам его ползли крупные слезы. Он с ненавистью погрозил кулаком в сторону белых:
— Все равно конец вам, разнесем ваше логово, паразиты! Никуда вы от нас не спрячетесь!
И, словно боясь причинить ему боль, осторожным движением закрыл командиру глаза.
& Новый командир роты Исмаев позвал к себе на по-Емошь Данилова, и взводным вместо него остался Ва-ьлитов.
I Когда части, отступая, остановились у подножия холма, Валитов устроил поверку взвода. Троих бойцов уби-гло, двух ранило.
I После вчерашнего разговора с политруком Валитов все старался чувствовать себя коммунистом. Но каким «должен быть коммунист? Он еще не представлял себе [этого. Но что-то в душе подсказывало ему, что коммунист должен быть самым хорошим, самым справедливым, самым храбрым человеком на земле, что он должен иелать столько добра, сколько может. Потом ему думалось, что звание коммуниста делает человека тверже, умножает его ответственность перед Родиной, особенно Если он —командир. Подоткнув полы шинели за пояс,
127
Валитов подползал’ Го к одному, то к другому бойцу. Он раздавал им патроны, наставлял, куда стрелять и как стрелять. Позади них. над хутором, беспрестанно разрывались снаряды: чтобы они вновь не поднялись в атаку, враг держал их под плотным огнем. Гул, грохот, копоть... Валитов же и в такой обстановке старался держать себя спокойно и даже шутил иногда.
— Ох-хо-хо! Как, ребята, жарко? Стало быть, покуда были одни игрушки, теперь вот показались и пушки.— Заметив, как один боец выстрелил, не целясь, прямо в небо, выругал его:— Ты чего стреляешь журавля в небе! Целься! Прицел! — Потом, кивнув в сторону белых, добавил: — Дрыгают ногами-то перед смертью. Еше малость выдержим и — все! Кончается война, братва, кончается. Стой крепко, держись!
Орудийные удары с обеих сторон становились все злее и злее. Артиллерия белых въелась в руины хутора, где стоял командный пункт полка, в это единственное место, где еще можно было найти какое-то укрытие И без того разрушенные, обгорелые пристройки разваливались одна за другой и начали гореть во второй раз. Над хутором поднялся густой дым. Снаряд попал в ветрянку. Поломанные крылья, будто на ветру, вдруг завертелись.
— Ого, замолола мельница!
Вслед же за словами Валитова вторым снарядом срезало у мельницы крышу, и она вся вспыхнула.
Командный пункт полка остался под артиллерийским огнем. Из пламени выскочил телефонист, сумевший ка ким-то чудом сохранить в этом огненном смерче и себя и свой аппарат. Он подбежал к уцелевшей в этом пожарище кирпичной стене сарая и стал налаживать телефон. К нему подбежал запыхавшийся Исмаев.
— Нужен командир! Где он?
Телефонист махнул рукой.
— Он был на мельнице, не знаю, жив ли.
Исмаев еще не пришел в себя от растерянности, как из-за горевшей мельницы появился командир полка. Левая рука его была подвязана, по лицу текла кровь. Вытирая платком лицо, он прислонился к стене.
— Командир батальона погиб. Половина разведчи-
ков убито... Потери огромные... Не понимаю, зачем так тянуть? Дай дивизию! Скорей!
г Но, вероятно, понял, что в этом огненном кольце наладить телефонную связь все равно не удастся, и со ^злостью махнул рукой:
— Брось трубку! Найди связного!
II Исмаев вплотную подошел к командиру.
| — Товарищ командир, патроны кончаются...
I Исмаев не успел досказать, снарядом отхватило часть . стены, за которой они скрывались. Их сшибло и окутало пылью и дымом. Где-то поблизости упал еще один снаряд. Командир вскочил, отряхивая шинель, и показал рукой на угол мельницы, где подле убитых лошади и красноармейца лежала опрокинутая двуколка.
I — Вон где патроны, вон! Иди, беги, что стоишь?
। Когда Исмаев и несколько красноармейцев перетаскивали в роту ящики с патронами, со стороны белых показался автомобиль.
— Броневик, броневик! — раздалось со всех сторон. I Большой зеленый броневик, не обращая никакого внимания на встретивший его пулеметный и ружейный обстрел, быстро двигался вперед.
— Эх, кинуть бы под него гранату! — бросил один.
' Исмаев заметил, как два бойца вырвались из цепи и быстро поползли к броневику. Одним из них был Вали-|тов. Из окопов белых открыли пулеметный огонь. Вокруг 'Них завертелся целый вихрь пуль. Но они, цепляясь за пожухлые лопухи, ползли по рытвинам, по межевым канавам.
I Вскоре один из них остался лежать в канаве.
Шамси заметался и отчаянно крикнул:
I — Ахмади абы!
I Он вскочил, чтобы броситься за ним, но суровый голос Данилова заставил его лечь обратно.
— Стой! Ты что, и сам хочешь под пулю?
I Броневик, фыркая и стреляя из пулемета, повернул к цепи.
Бойцы, кто успел, спрятались в канаву.
I Машина, сотрясая землю и словно собираясь все свер-Уть тупым своим носом, направилась прямо на них. jHo тут же,- точно испугавшись гулкого взрыва гранаты, шарахнулась в сторону. Как зверь, разъяренно гудя и
129
рыча, она попыталась снова ринуться вперед, но сразу заглохла.
Бойцы, следившие не переводя дыхания за схваткой машины и человека, оживились. Кто-то ликующе сказал:
— Ага! Заткнулся, проклятый!
— Смотрите, смотрите! Ведь это Валитов! Его папаха. Жив старик, жив!
И в самом деле из канавы перед броневиком на один миг высунулась папаха Валитова. Но радоваться, оказывается, еще было рано. Валитов выбрался из канавы, чтобы отползти обратно к своим, но не успел и двинуться, замер на месте.
Шамси, охнув, упал на землю.
— Убили...
Полк, вернее оставшиеся в живых несколько сот бойцов полка, во второй раз поднялся в атаку. По дороге товарищи положили Валитова на носилки. Руки и ноги у него висели, как плети, и он что-то шептал про себя. Шамси взял влажные, дрожащие руки Валитова и нагнулся к нему.
— Ахмади абы! Что с тобой?.. Куда тебя?
Ахмади глухо застонал и вытянулся. Шамси рывком обнял его, потом, как будто хотел отдать ему свое тепло, сжал холодеющие руки, поцеловал его в лоб. И, стиснув зубы, чтобы не заплакать навзрыд, побежал за своей ротой.
Вторая атака была не легче первой. Так же безумолчно продолжали стрелять пулеметы. Многие бойцы уже были убиты. Тяжело были ранены Бачило и Перебейнос. Тут и там мелькали окровавленные лица. Бойцы снимали и бросали свои котомки. Иногда падали, настигнутые пулей, но после перевязки снова ползли за своими, ползли, сжав зубы, вытирая пот и кровь, подтягивая раненые ноги...
Когда была пройдена уже половина пути, Данилова окликнул один красноармеец:
— Товарищ командир, кровь на руке...
Данилов только тут почувствовал в руке щемящую боль. Приклад винтовки был весь в крови. «Неужели придется оставить взвод?» Убеждая себя в том, что рана у него несерьезная, он продолжал ползти в цепи со своими бойцами. Осталось самое большее шагов сто пятьде-130
сят. Потом начнется атака, весь мир перевернется вверх | дном, и Юшуньская позиция будет взйта. Разве позво-К лит сердце в такое время отстать от своих? Потерпеть I еще минут десять... пятнадцать. Он сжал челюсти и I пополз быстрее.
— Товарищ взводный, руку бы перевязать!
Однако, в этот момент с правого фланга Исмаев мах-| нул рукой, приказывая торопиться. Данилов громко дал I команду:
— Приготовиться! Не отставать!
I Но сам, сколько ни старался, не смог поспеть за взво-I дом, он уже не мог опираться на правую руку. Из рука-г ва шинели непрестанно капала кровь. Перед глазами потемнело, начало шуметь в голове, все тело [ослабло...
I Тем временем дали команду на перебежку. Взвод Да-I нилова устремился вперед. Он был крайним в цепи. [Справа от него были остальные взводы и роты, слева — | пологий берег озера.
j Впереди загудели моторы. Со стороны белых, с ни-I зины за озером, появились два броневика. Спаренным [ходом они шли прямо на цепь. А вслед за ними неожи-данно вырвались конники. Чтобы приостановить атаку, оттянуть решающую схватку, белые принимали послед-кие меры. Видно, они хотели, смяв левый фланг, окру- жить полк.
I Положение было не из легких. Броневики, не давая возможности приподнять головы, неистово строча из пу-«еметов, катили друг за другом вдоль всей цепи, а кон-[ники, пользуясь этим, надвигались все ближе. Молодые красноармейцы, новое пополнение роты, увидев, как бе-J шеным галопом, размахивая сверкающими шашками, мчатся на них кавалеристы, стали поглядывать назад. [Особенно тяжело приходилось бойцам взвода Да-Нилова.
К ним, задыхаясь от напряжения, подбежал весто-вой ротного. Он звал командира взвода.
| — Командир! Где Данилов?
. Бойцы, не зная, что и сказать, переглянулись.
— Разве нет Данилова? Кто остался вместо него? К Поднялся смущенный Шамси.
I — Выходит, что я...
13J
— Слушай! Командир роты приказал не пропускать кавалерию в тыл! Умрите, но стойте до последнего! Понятно? Вам сейчас пулемет дадут.
Шамси, волнуясь, первый раз в жизни дал команду: — Взвод, ко мне!
Шамси уже приходилось попадать в такие переделки, он .знал, что против кавалерии надо выступать, собрав силы в единый кулак и стреляя залпом.
Послышалось свирепое «ура» белых. Шамси встал позади взвода. Поглядел на конников, на своих. «Надо подпустить ближе... еше немного!..»
Пулемет к взводу уже подтянули. Грохнул первый залп. Но конники даже не почувствовали его. Выбравшись с низины на берег, размахивая шашками, со страшным криком неслись они на цепь. Чем ближе подходили конники, тем большая ярость охватывала Шамси, тем злее он становился.
— Прицел, прицел! Не робеть! — крикнул он, сам удивляясь твердости и решительности своего голоса.
Гулким своим стуком бодря и успокаивая бойцов, ударило еше несколько залпов.
Бога гьрь-санитар лежа перевязывал Данилову руку. Пряча голову от летящих вокруг пуль, он все прижимался к земле.
. — От бисы, и сесть не дадут, сыплют и сыплют... Ведь кричал я тебе давеча, что надо перевязать. Ну, ничего, только в мякоть попало.
Он, торопясь, вынул второй бинт.
— Крови много ушло. Ого, тебя еще в плечо ранило!
Стрельба вдруг замолкла. Данилов привстал и похолодел от ужаса. Кавалерия белых неслась прямо на его взвод. Волоча за собой недовязанный бинт, он побежал к взводу. «Сейчас передавят! — подумал он,—Как плохо, что отстал от них. Ох, как скверно вышло!..» От оголтелого крика белых его бросало в жар и в холод. Он падал и снова бежал.
Когда Данилов услышал спокойный голос команды и выстрелы залпом, у него отлегло на душе. Увидев, как шарахнулись конники, он от радости вскрикнул:
— Крой, ребята!
132
После каждого залпа он возбужденно кричал:
— Еще!.. Еше!..
В это время правый фланг, оттеснив броневики, стремительно пошел вперед. Вместе со всеми в атаку на проволочные заграждения поднялся и взвод Данилова.
Настали решающие минуты. Офицерские полки контрреволюции вступили в последнюю смертельную схватку. Яростно заработали тысячи орудий смерти. Переброшенная с Перекопа морская артиллерия, бесчисленное количество пулеметов—вихрь свинца, стали, пламени — все разом засвистело, завыло, загрохотало. Невозможно стало услышать голос даже соседа. Под разрывами шрапнели и гранат, раненые, изможденные вконец красноармейцы из последних сил прорвались через ураганный огонь к проволочным заграждениям.
Вестовые передавали команду;
— Резать ножницами, ломать! Взрывать гранатами!
Но команда сейчас и не была нужна, каждый сам кидался с остервенением на проволоку: ее резали, рвали прикладами, выворачивали колья. Сдирая кожу, разрывая в клочья шинели, пролезали под проволокой и набрасывались на второй ряд, на третий...
На Шамси комьями посыпалась взметнувшаяся над ним земля. Ему забило песком глаза, отбросило куда-то фуражку, колючки, цепляясь, раздирали шинель и обмотки. Тело его перестало чувствовать боль, и разум перестал ощущать ужас боя. Он знал одно: надо идти вперед, пробиться через заграждения и — скорее в атаку!
I Уже близко окопы белых, над ними пылает огонь, клубится плотный черный дым.
| Рядом с Шамси его товарищи точно так же, как он, резали железную проволоку, срывали ее прикладами, вбивали колья, что-то кричали, падали, пробирались Ползком под цепкими колючками.
I И вот, наконец, прорвались через заграждения на ту сторону. Все, в ком еше была жизнь, с исступленным криком бросились на окопы. Загремело могучее «ура».
На окопы со всех сторон падали гранаты. В широких земляных ходах показались зеленые шинели, кто-то пытался отстреливаться. Но уже было поздно. И наверху, и внутри траншей хрястнули приклады, кто-то крикнул, П'о-то, моля о пощаде, поднял руки.
133
И вдруг раздались ликующие голоса.
— Буденный!..
— Ура, наша Конная!..
От топота копыт загудела земля. Из-за холма безудержным потоком хлынули конники Буденного. Распростертые, словно крылья беркута, черные бурки, припавшие к лукам седел тела, поднятые над головами шашки — вся эта грозная сила в одно мгновение пронеслась вперед. Окопы остались позади. Конная лавина обрушилась на отступавшие дивизии Врангеля.
Мимо разрушенных окопов, разрубленных офицерских трупов, валявшихся повсюду погонов, ощерившихся посреди поля безмолвных орудий, пулеметов красноармейцы бросились за конницей, погнали белых к морю.
Это было одиннадцатое ноября тысяча девятьсот двадцатого года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания, с указанием возраста и профессии читателя. присылать по адресу: Москва, Центр, проезд Сапунова, д. 13/15, издательство ^Советская Россия*, редакция художественной литературы.
Гумер Баширович Баширов СИВАШ
Редактор М. Д. Карунный Художник С. А. Киреев Художественный редактор Р. Г. А л. Технический редактор Л. П. М а р а к «
Сдано в набор 19/11-60 г. Подписано к печати 26/111-60 г. Формат бум. 84XI08*/h- Физ. печ. л. 4,25. Усл. печ. л. 6.97.
Тираж 75 000 »кэ. Цена I р. 80 к. Цена с I января 1961 г. IS коп. Заказ ТА 124.
Издательство «Советская Россия>. Москва, проезд Сапунова. 13/15.
Полиграфический комбинат Ярославского совнархоза, г. Ярославль, ул. Свободы. 97.
Цена I р. 80 к.
с I/I-IM1 г.- 18 к.