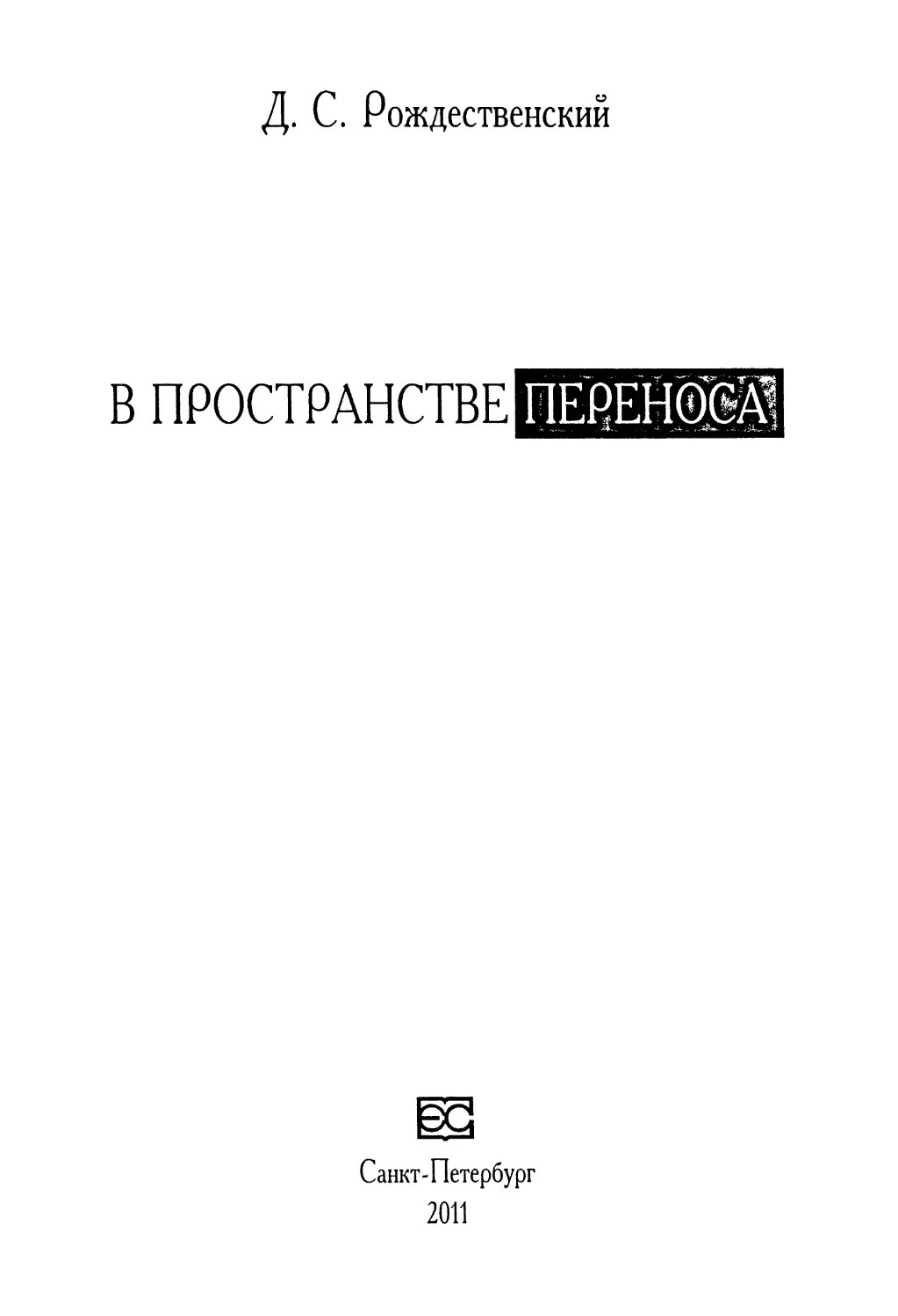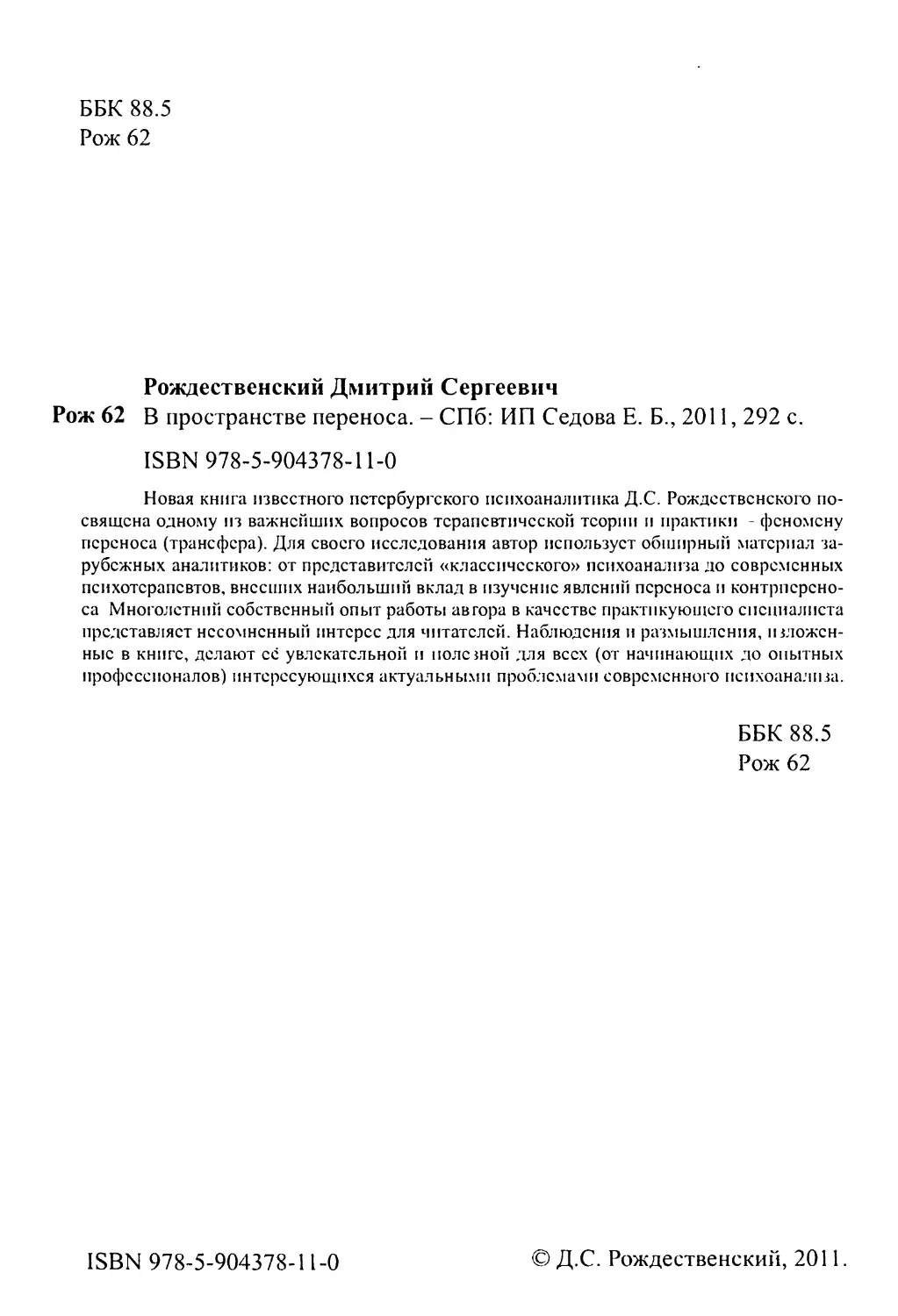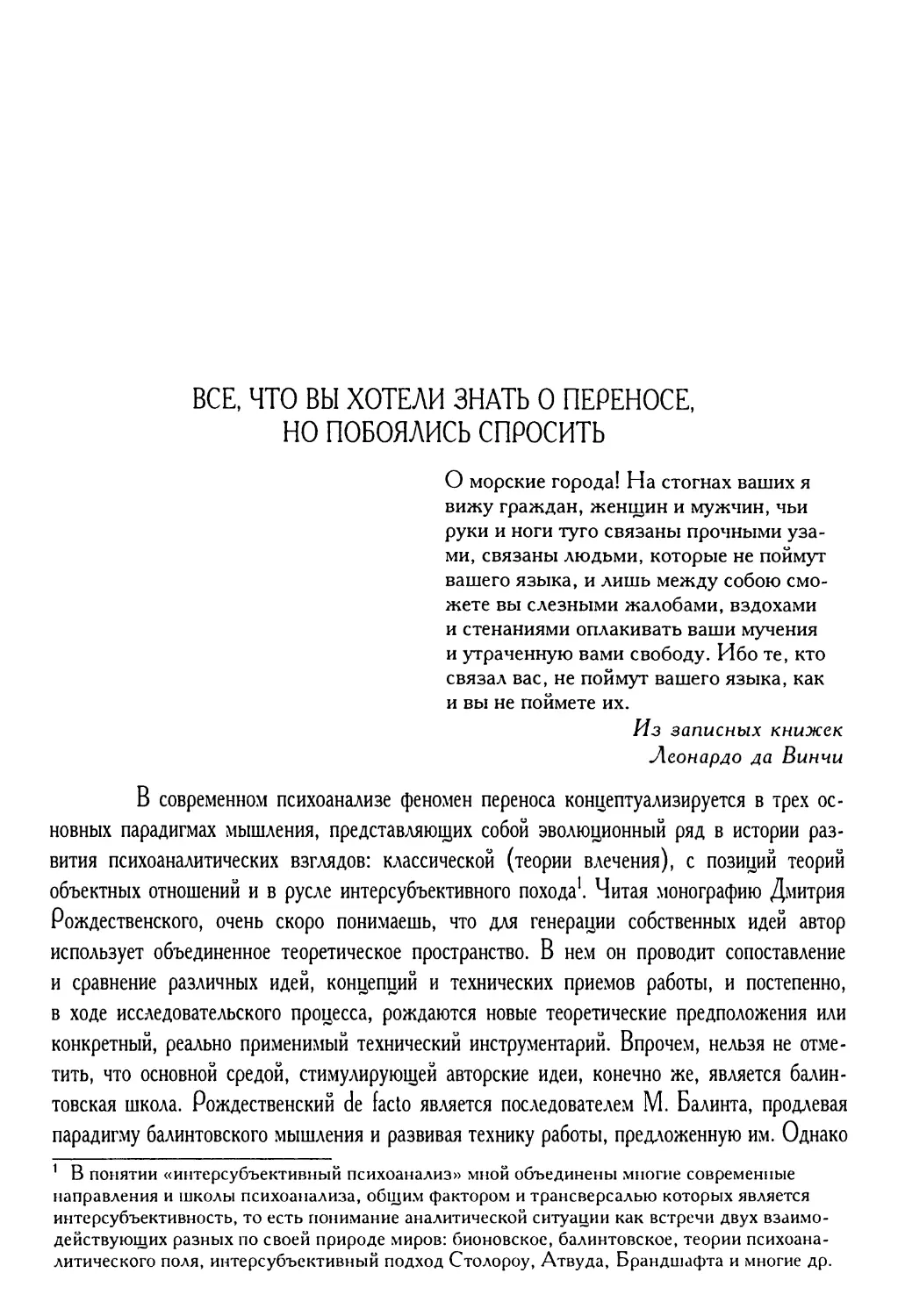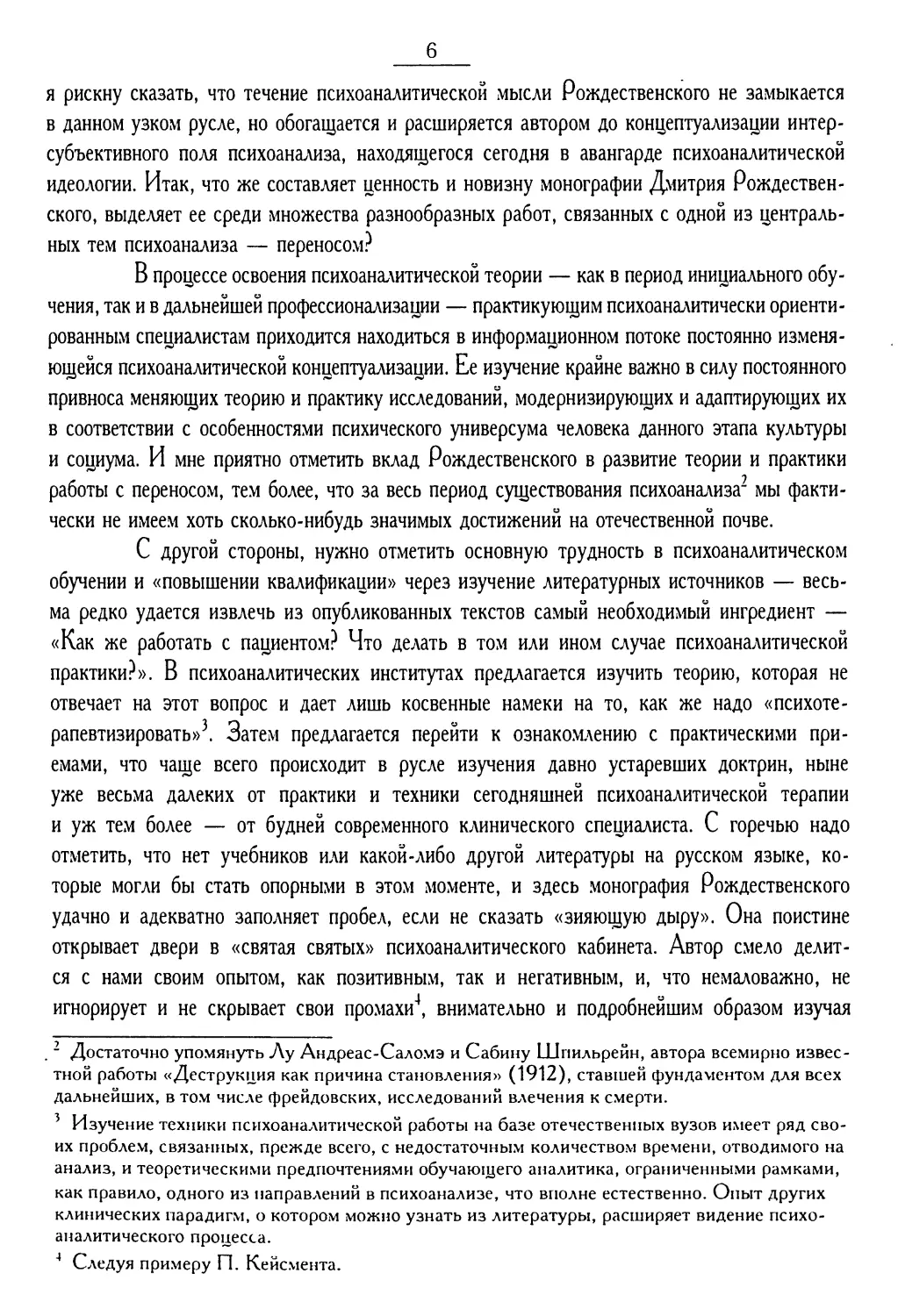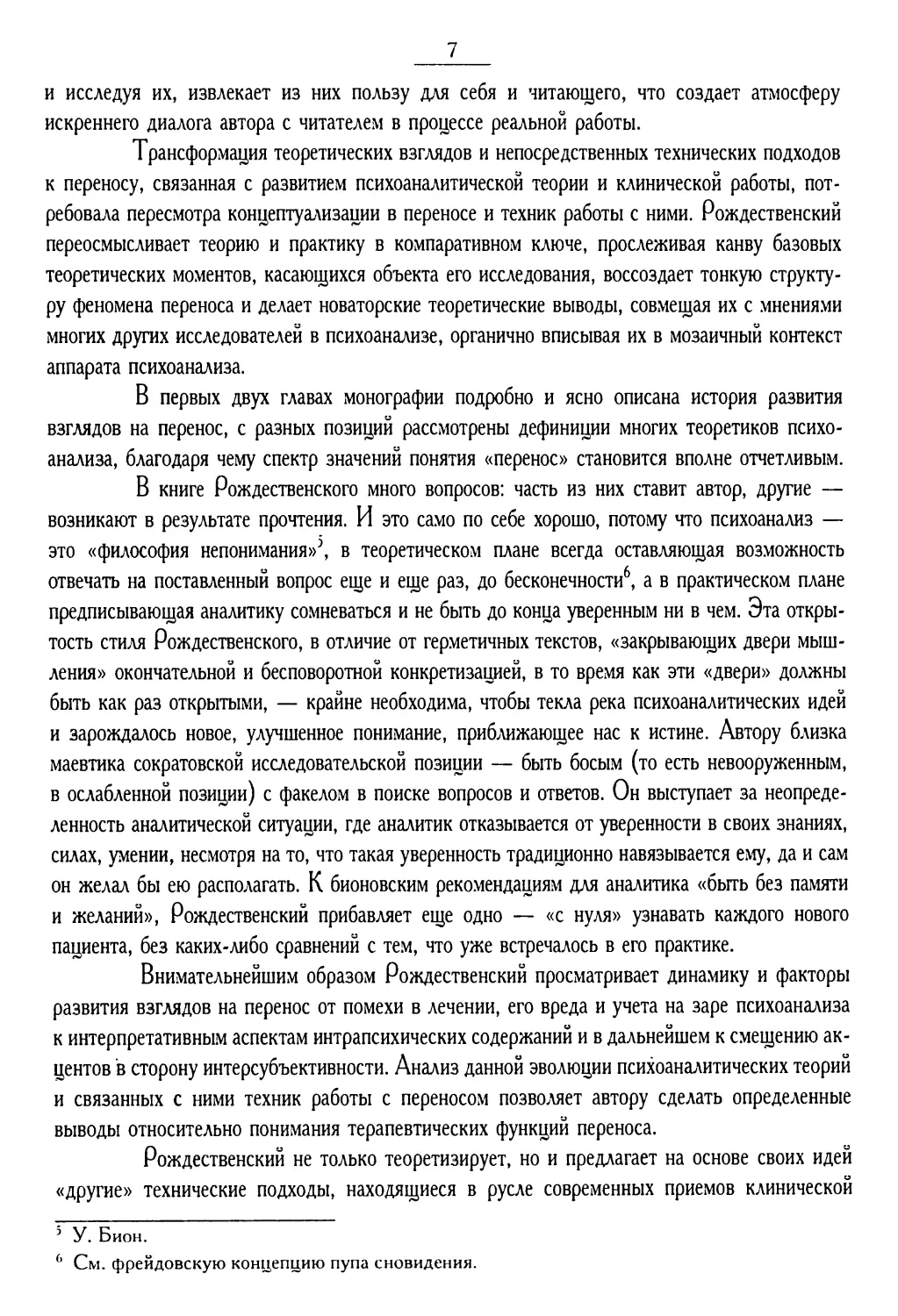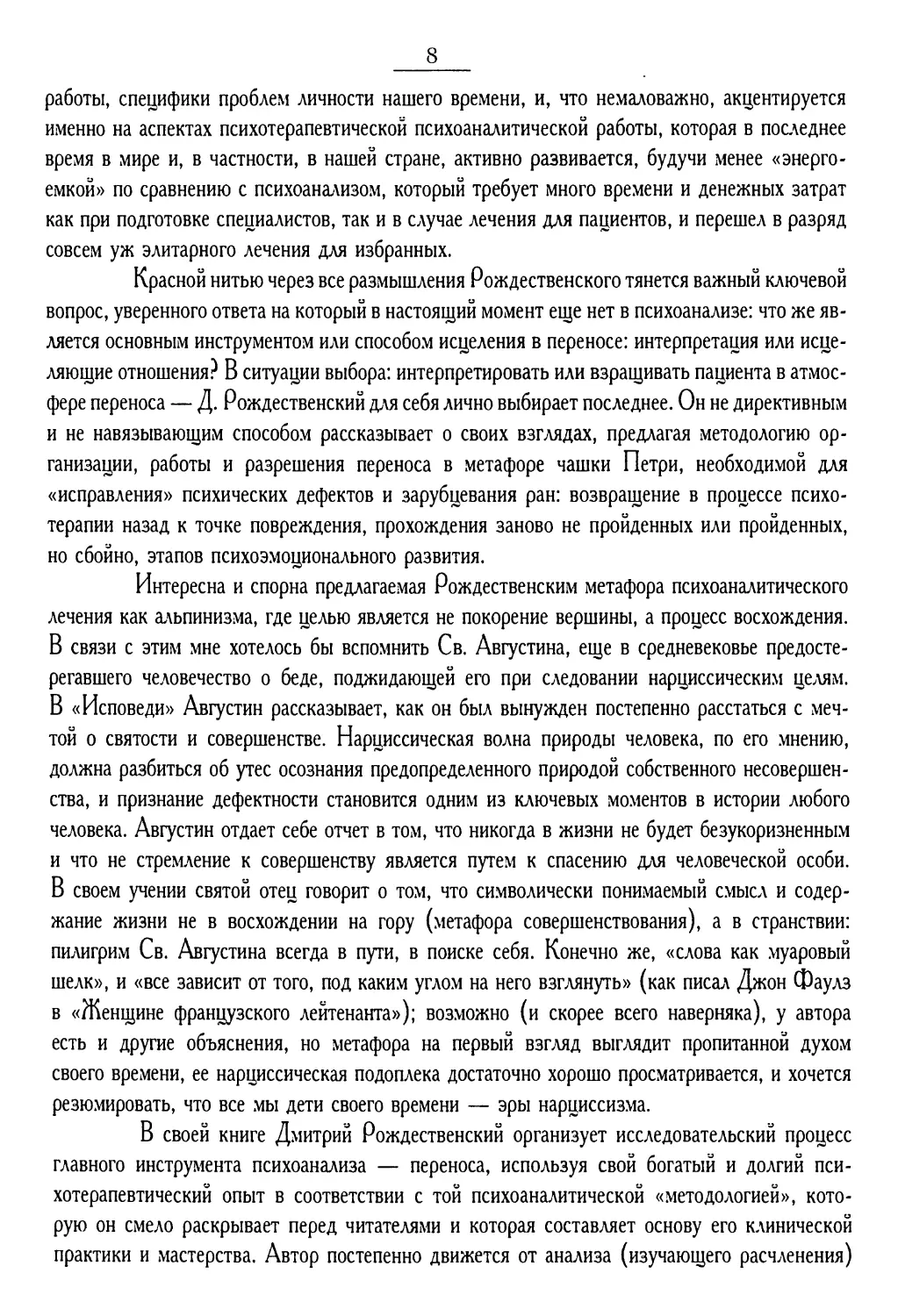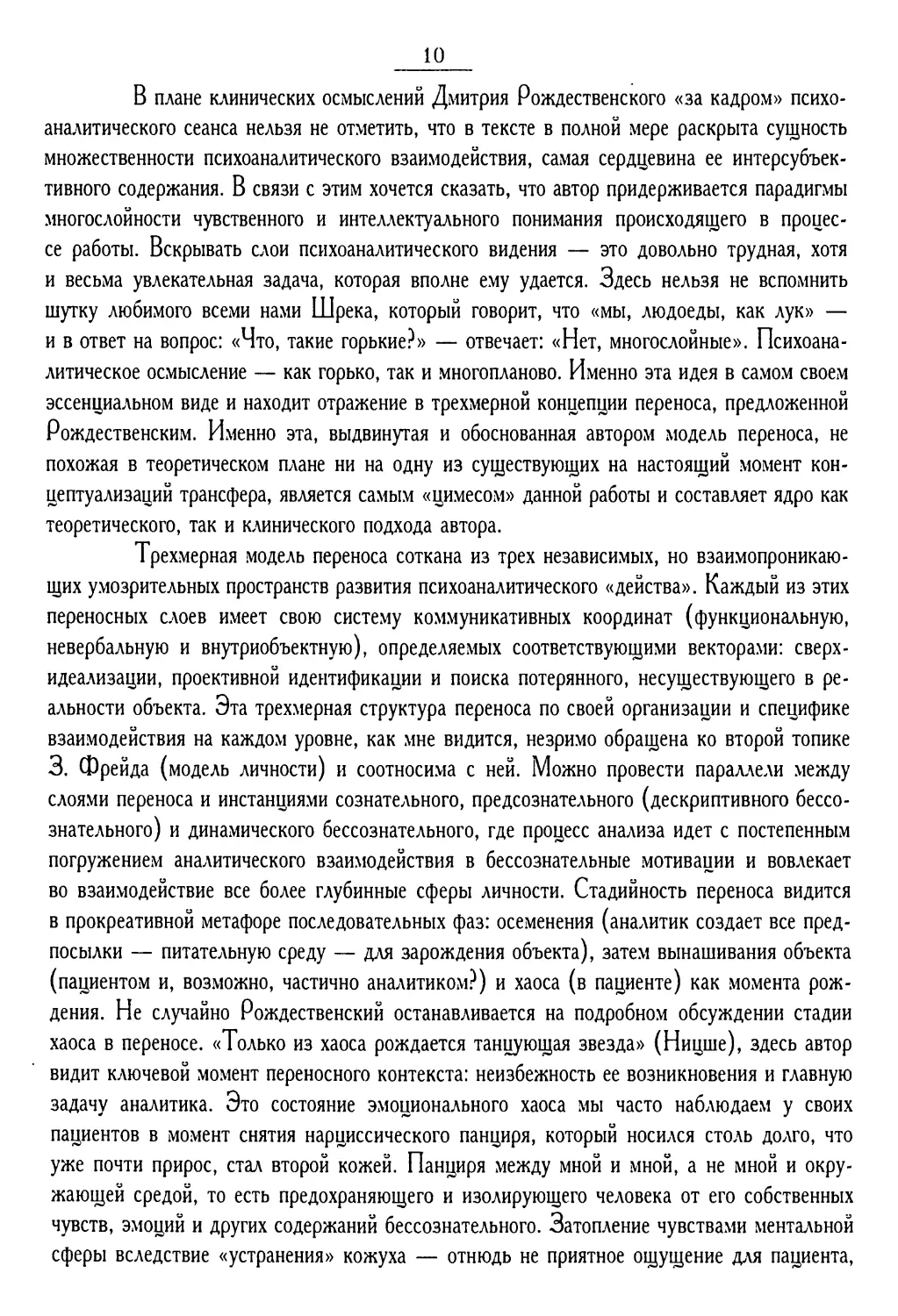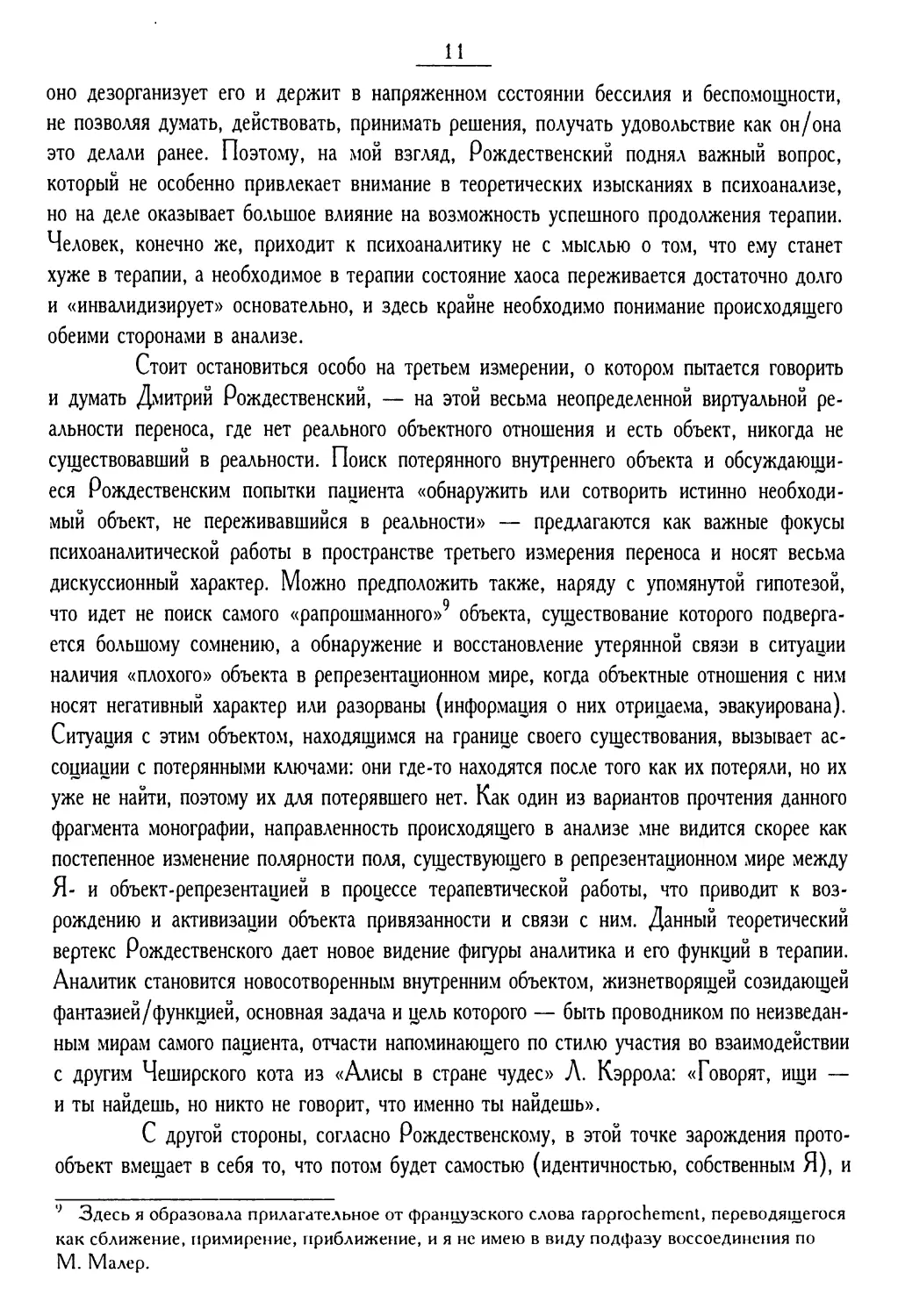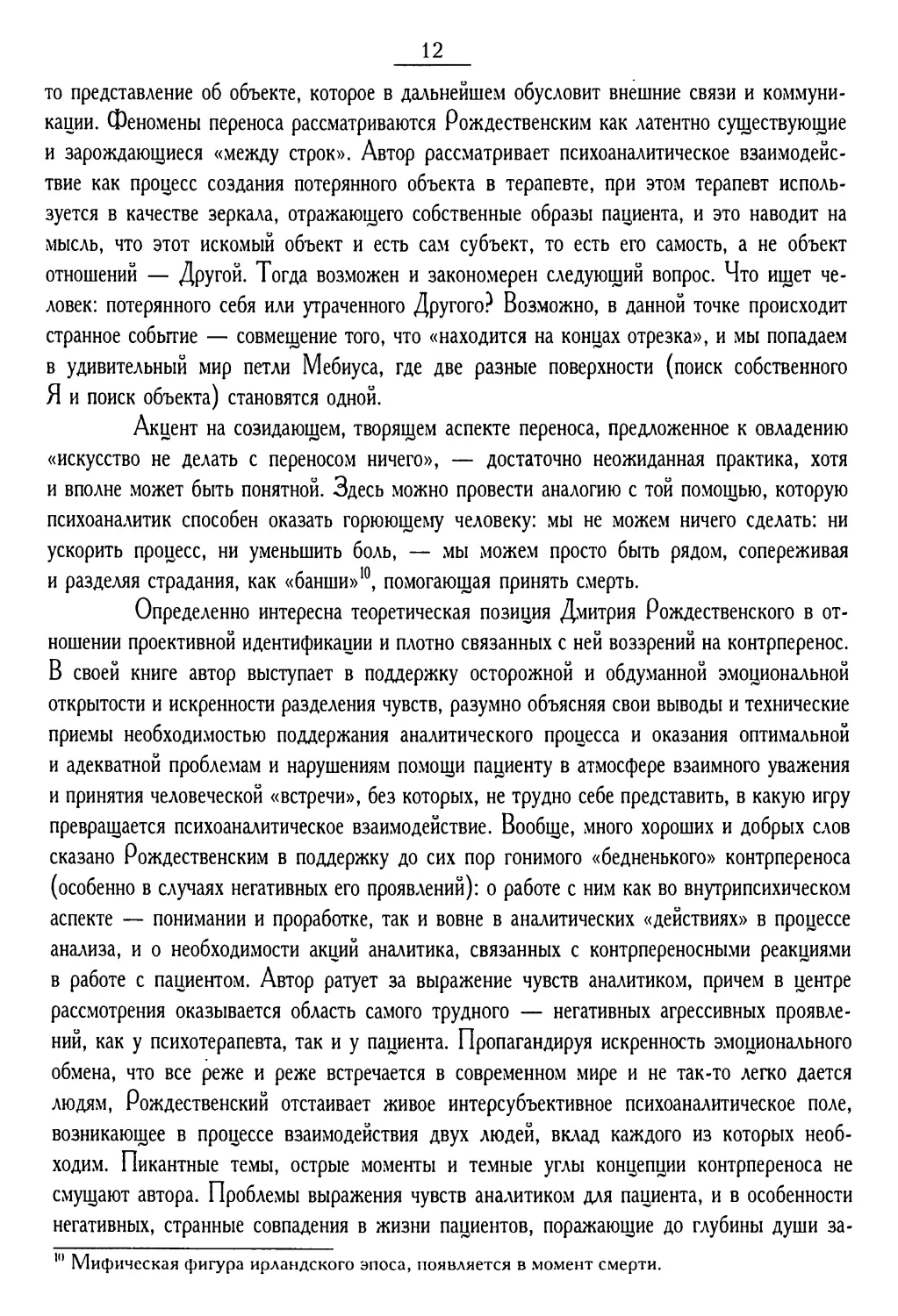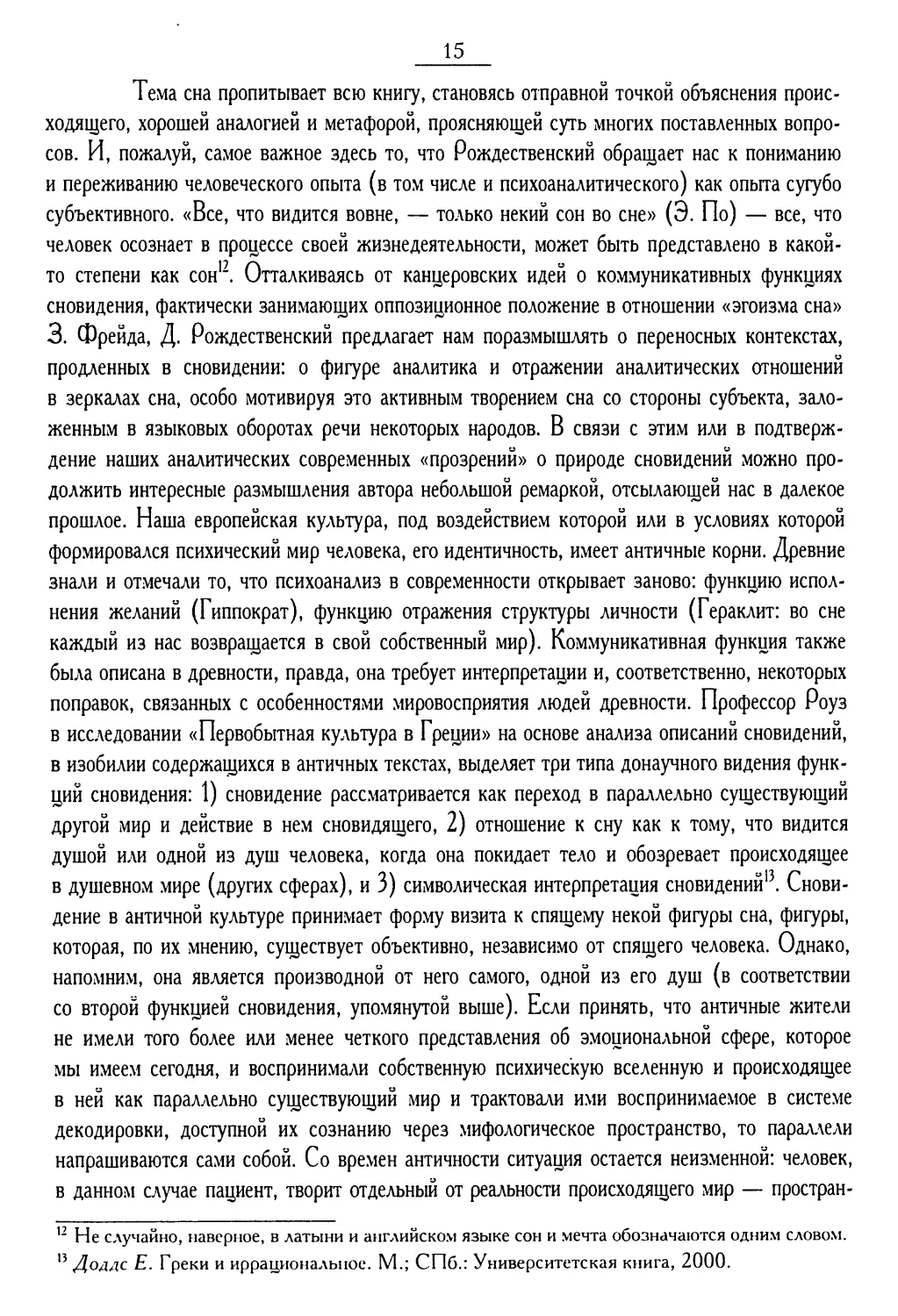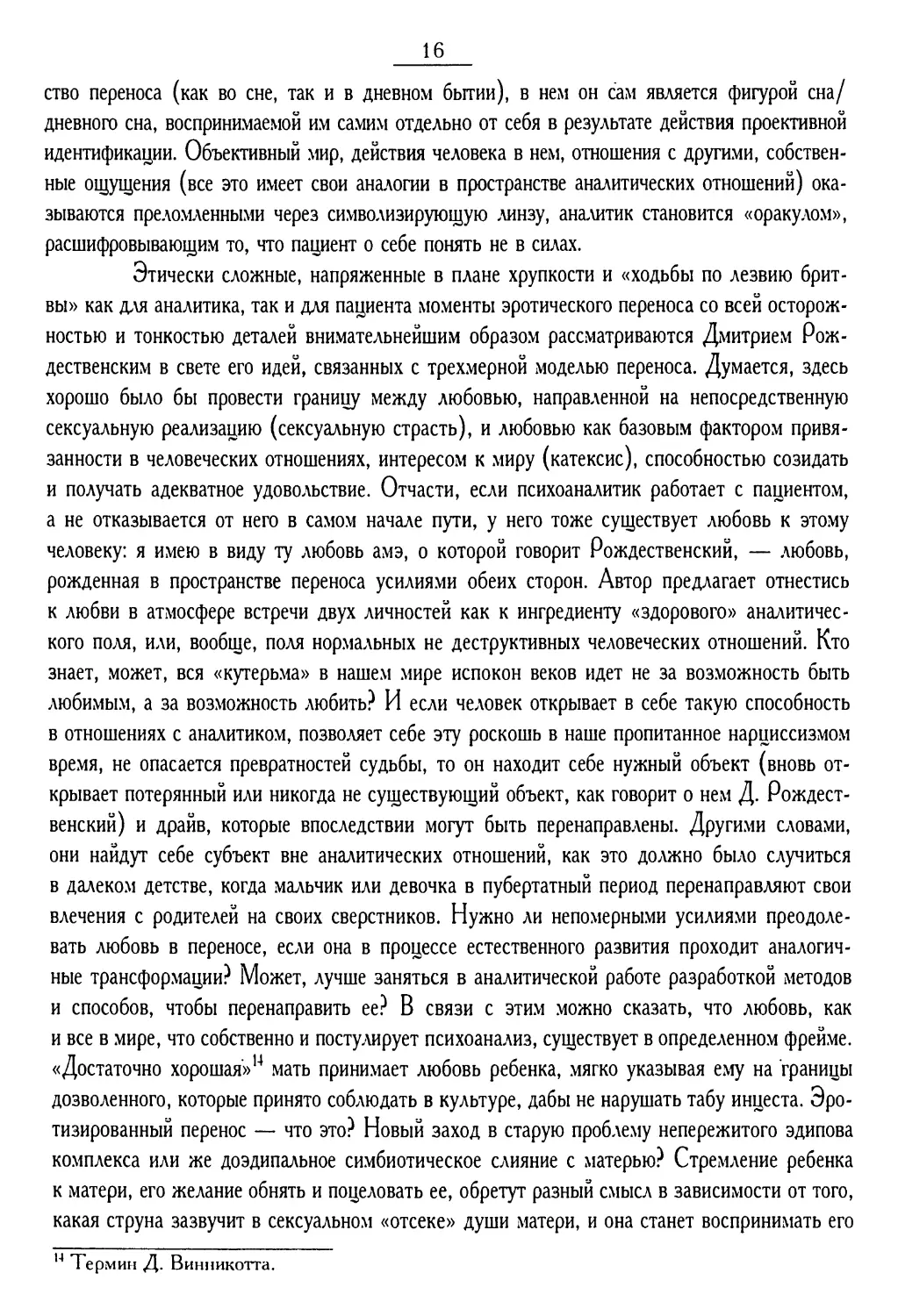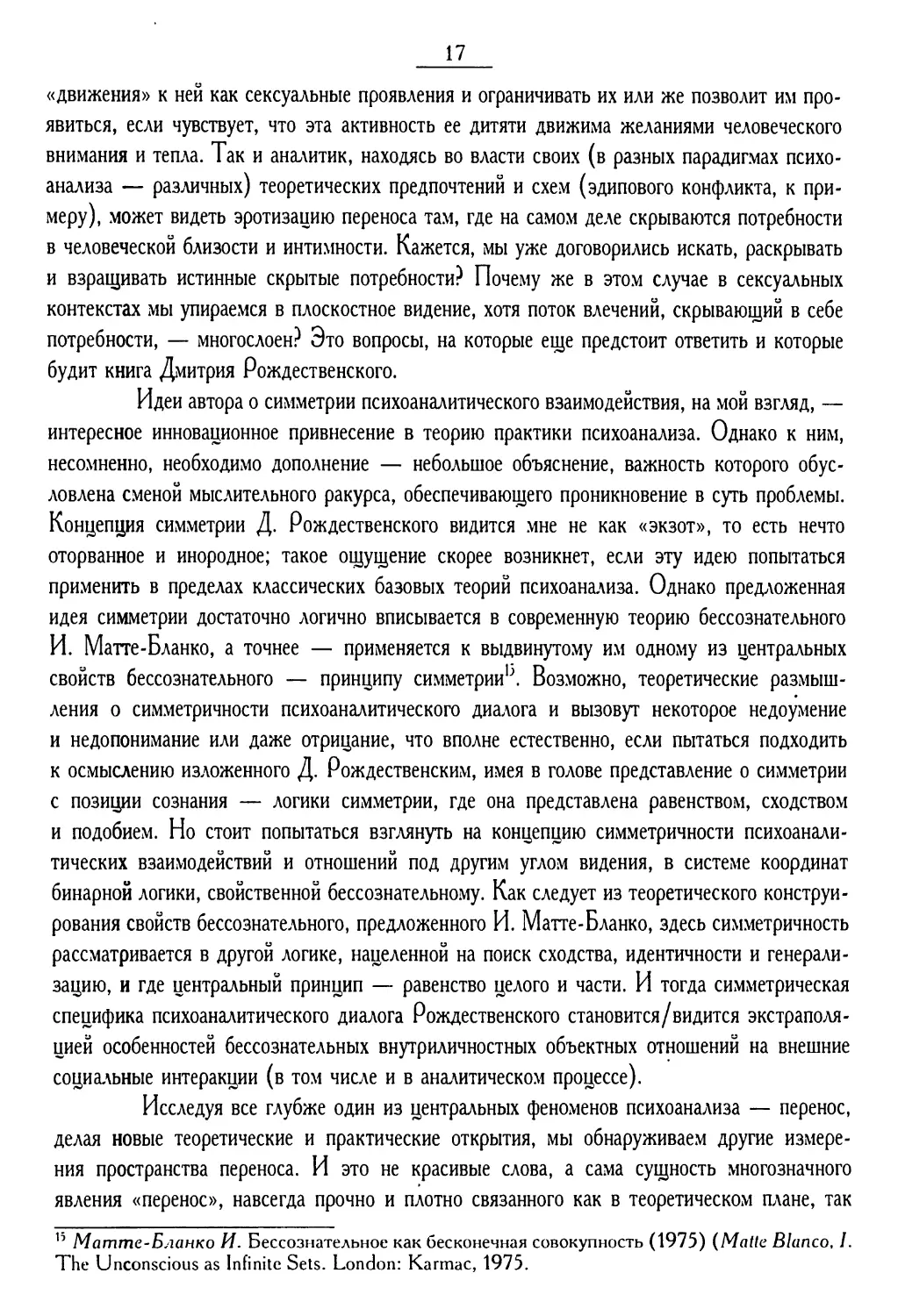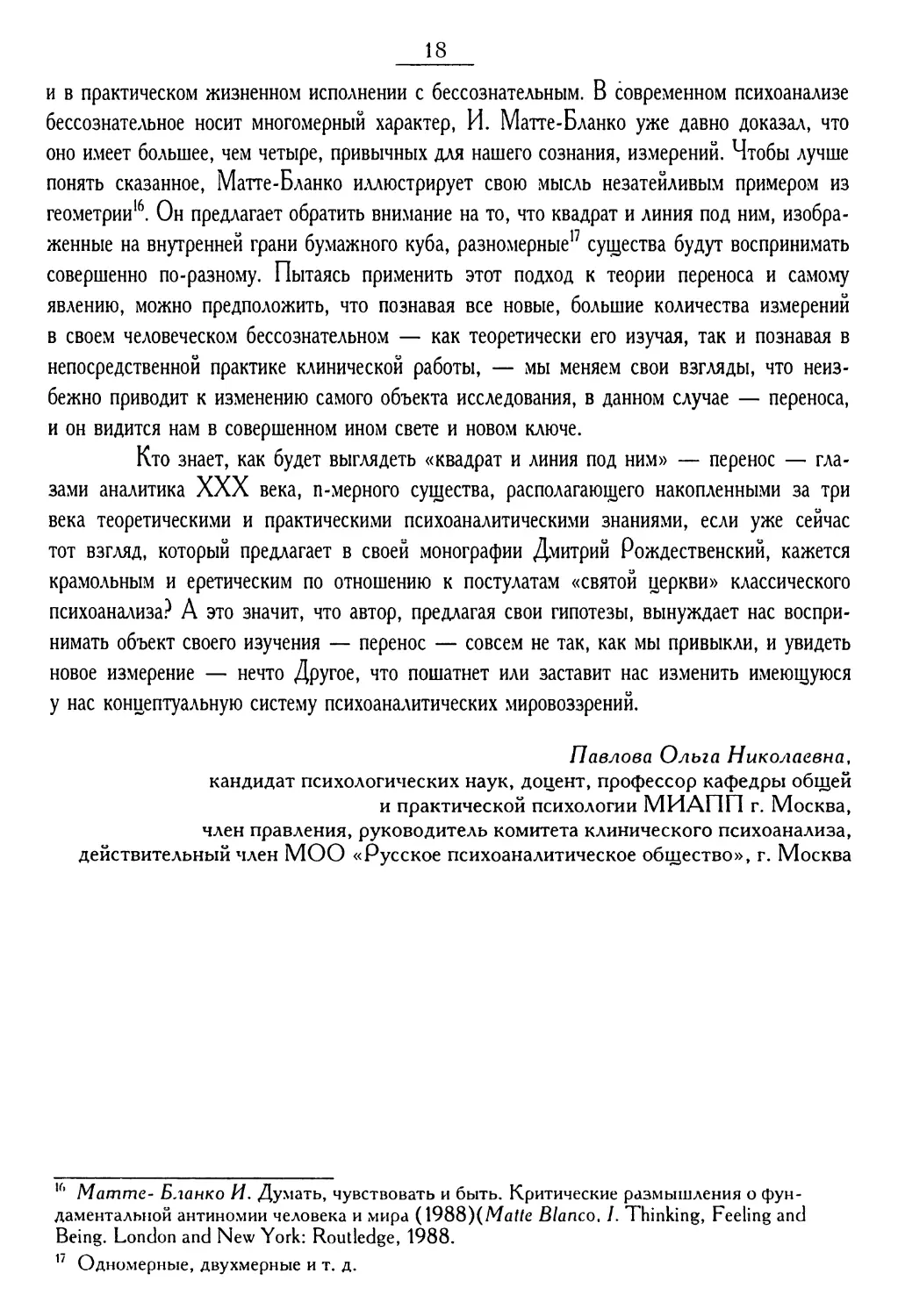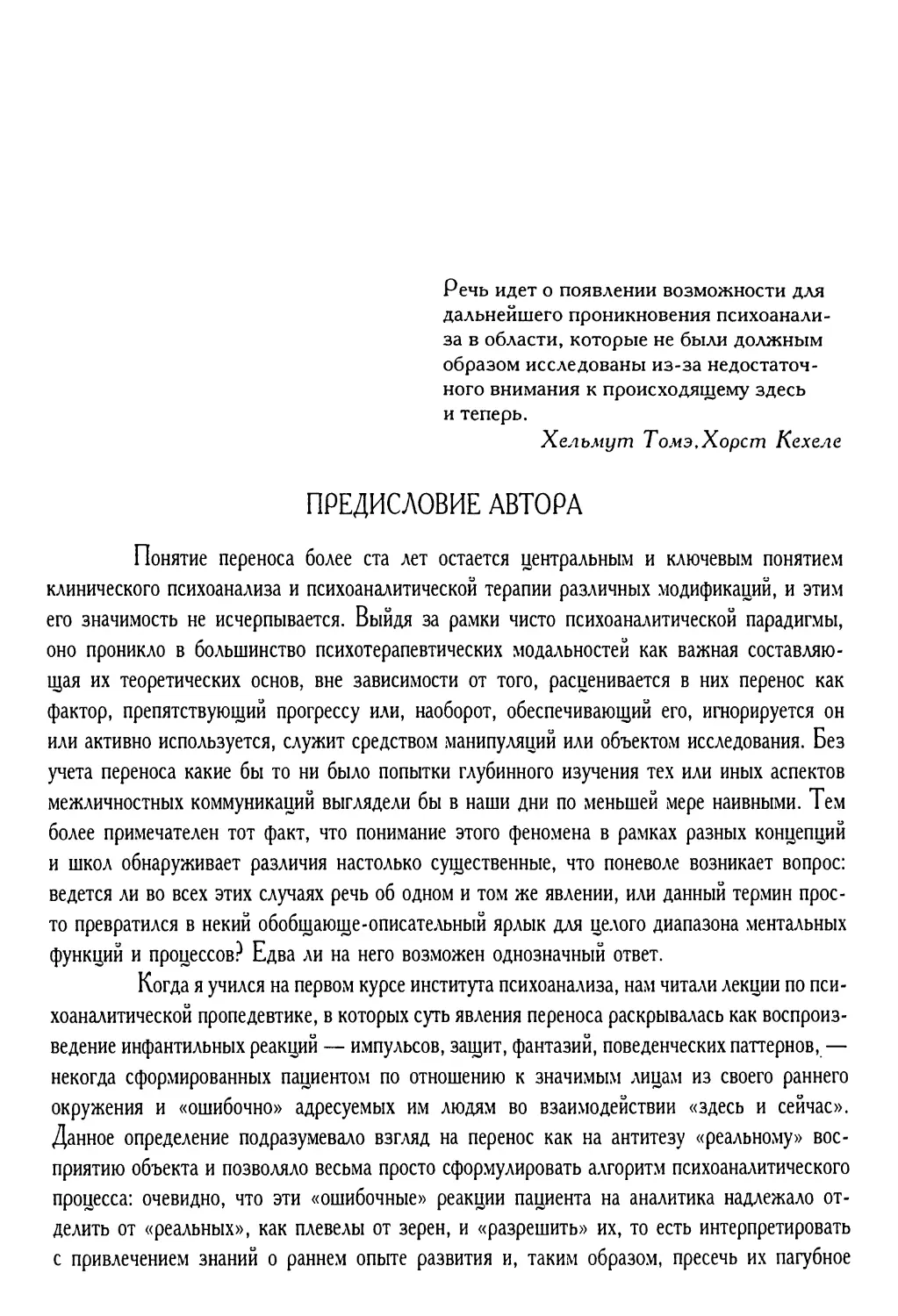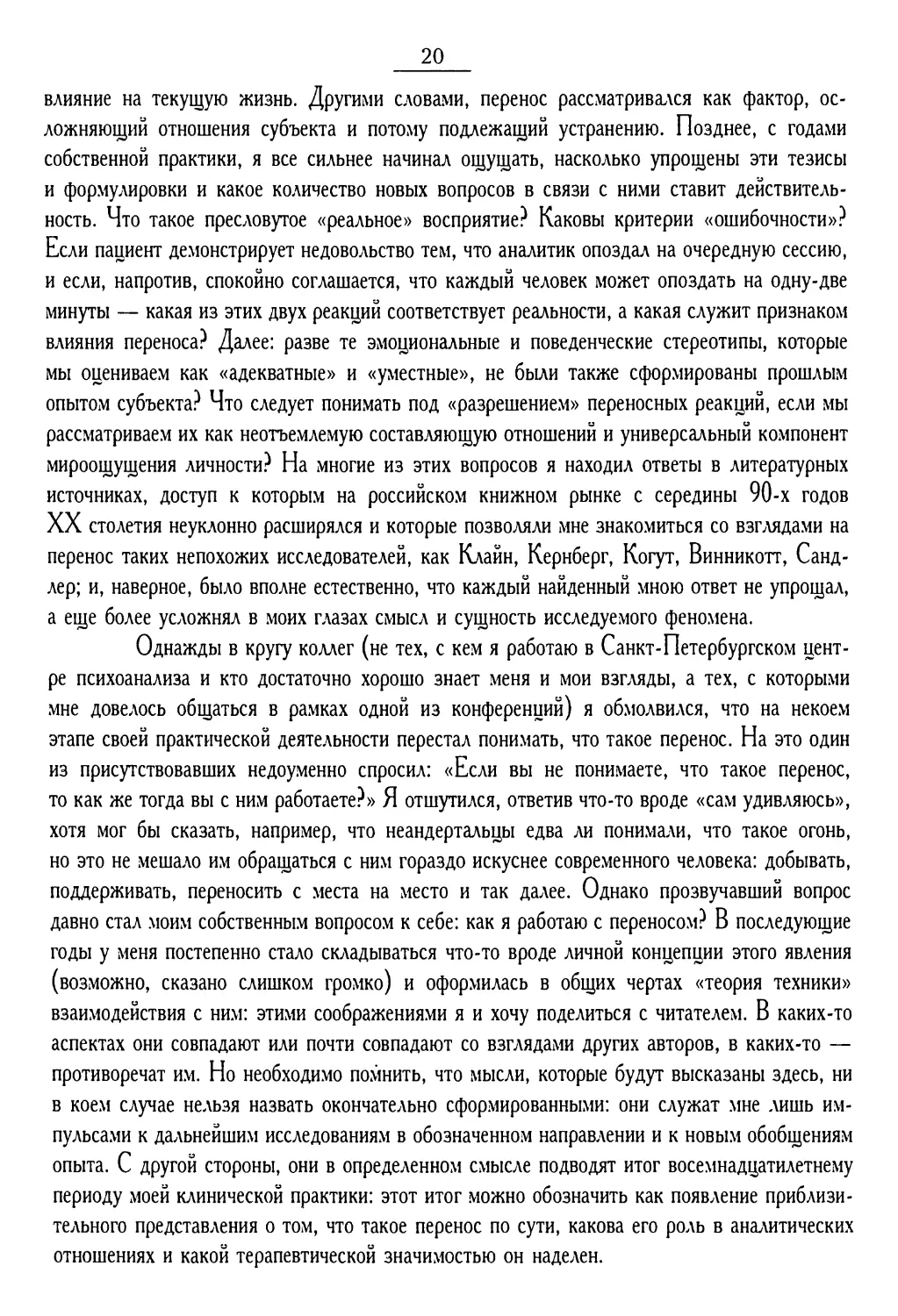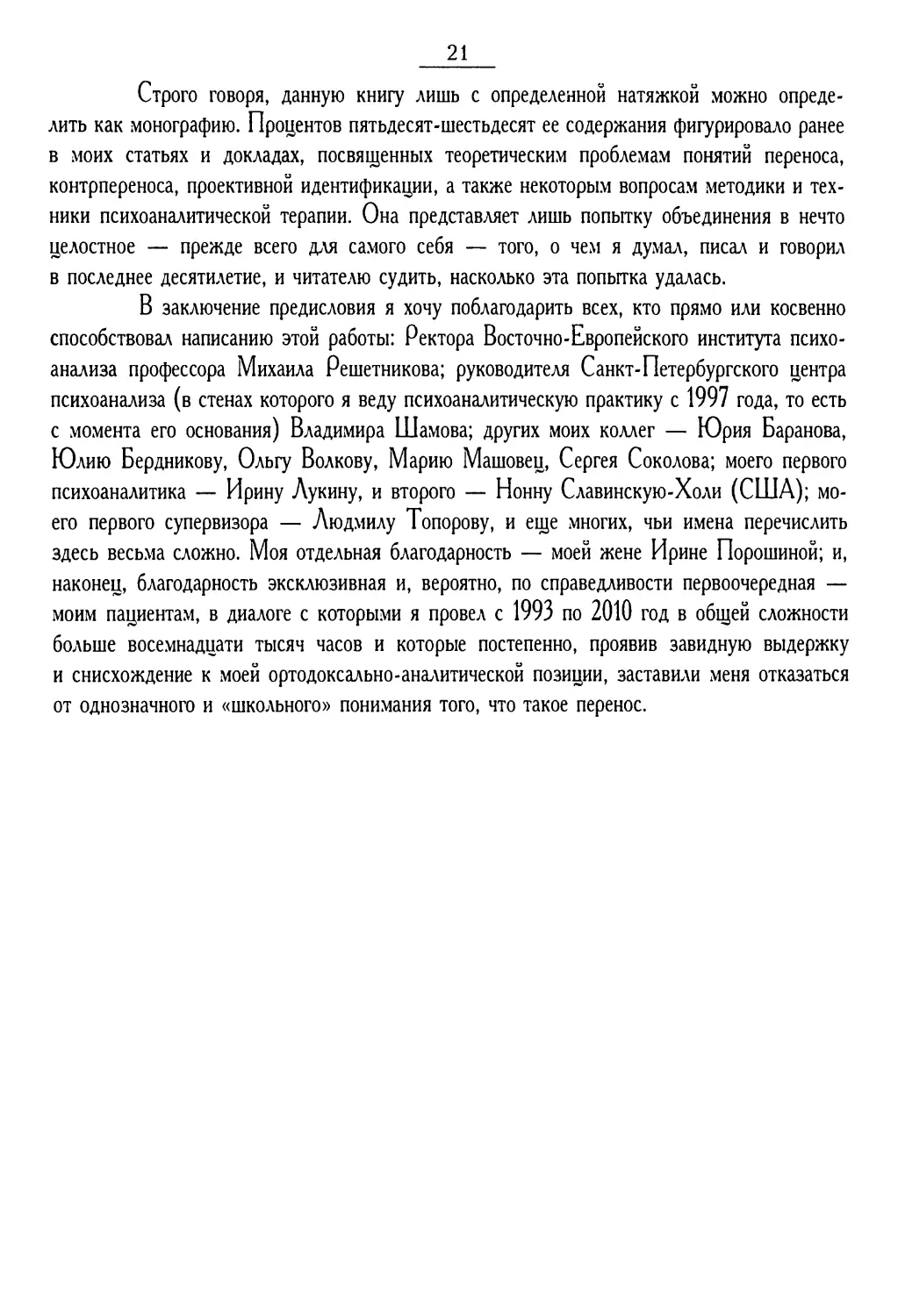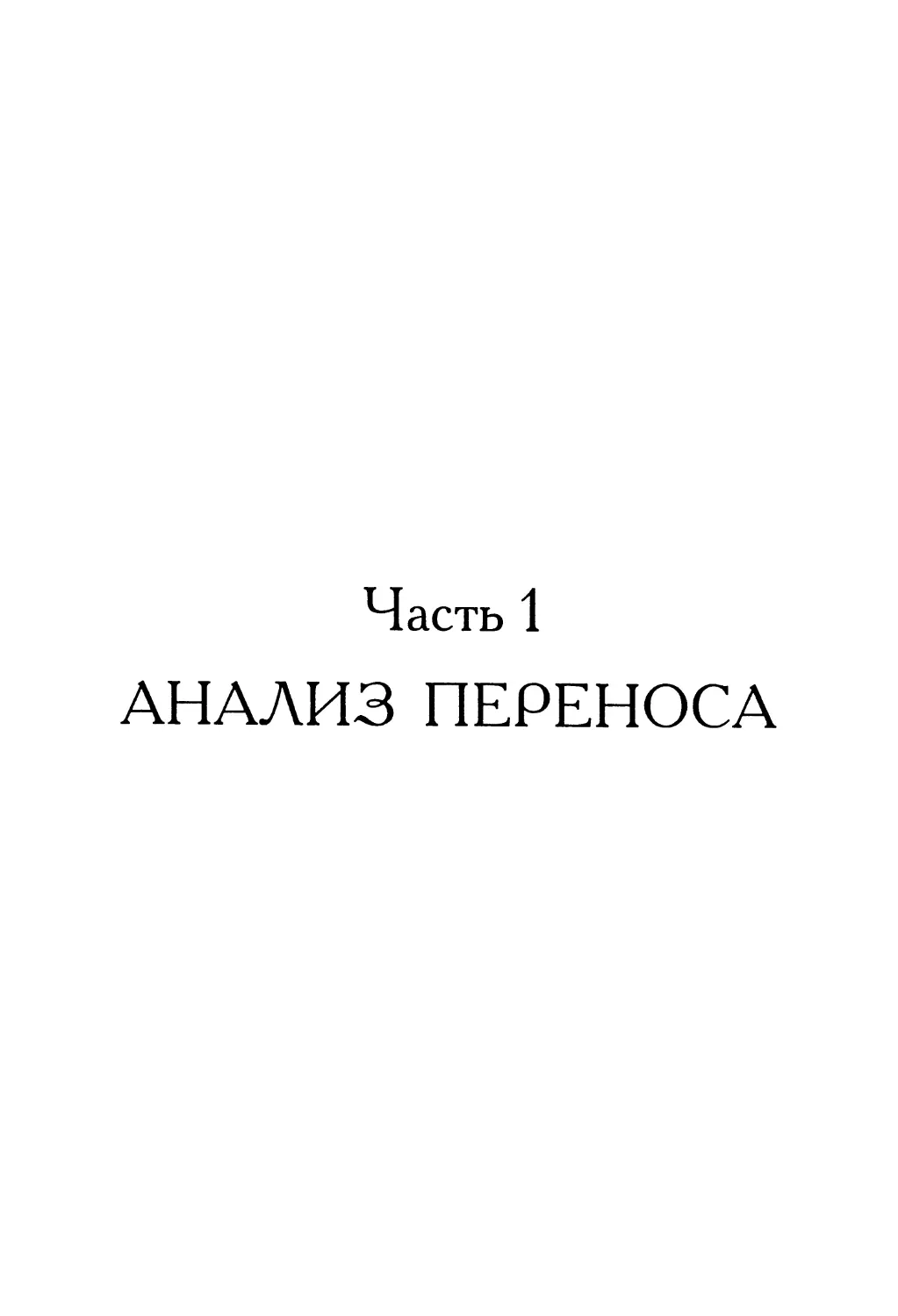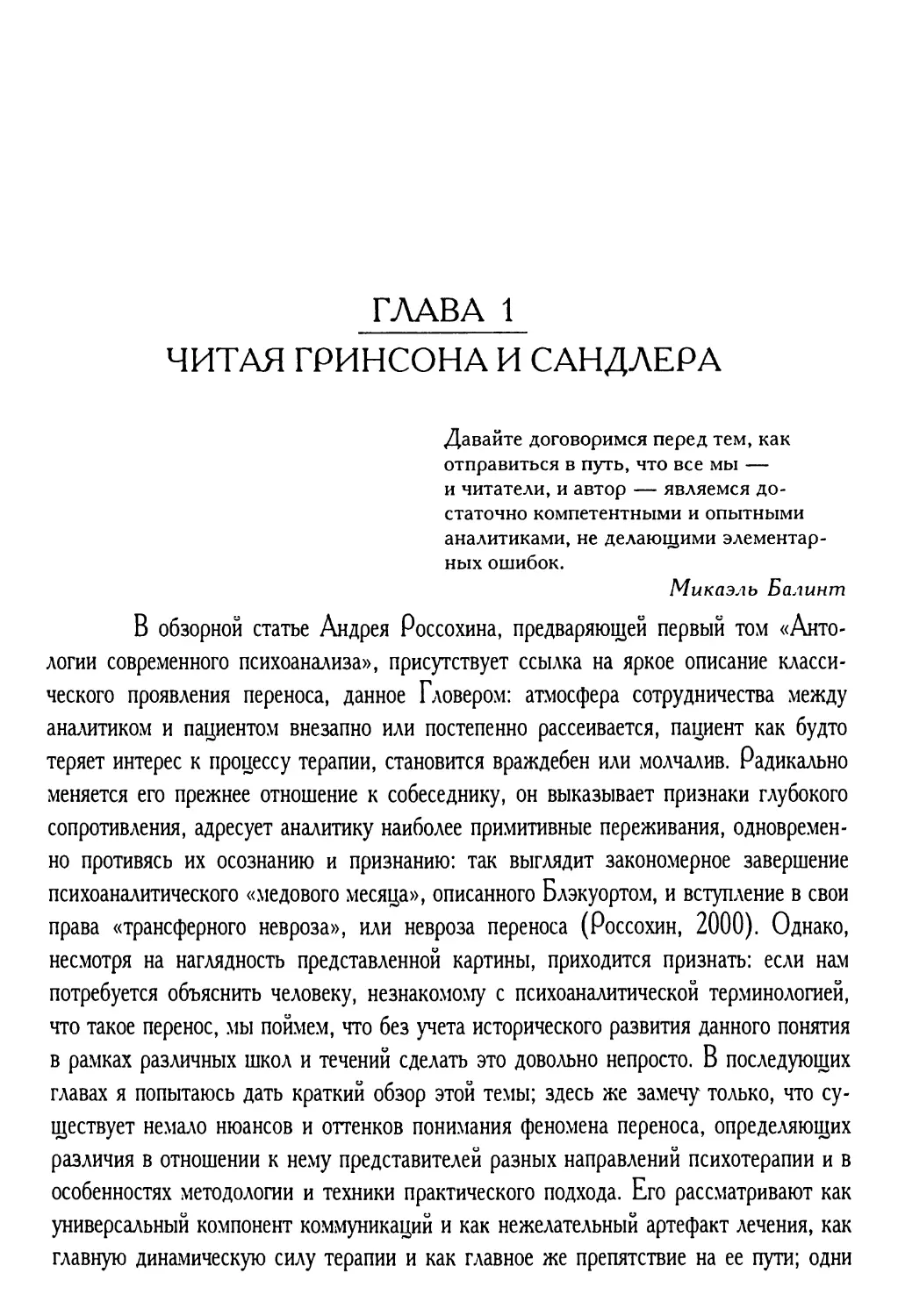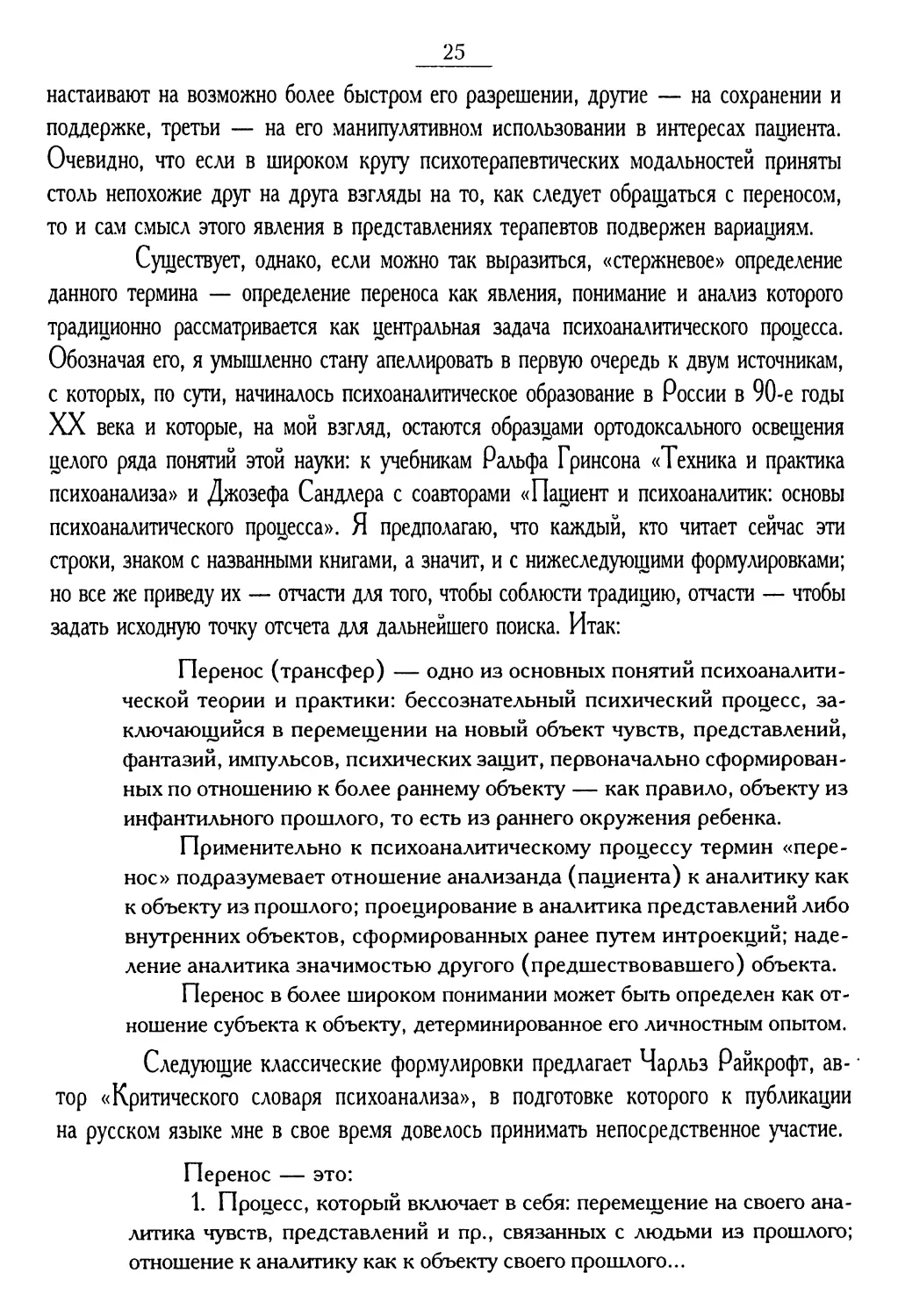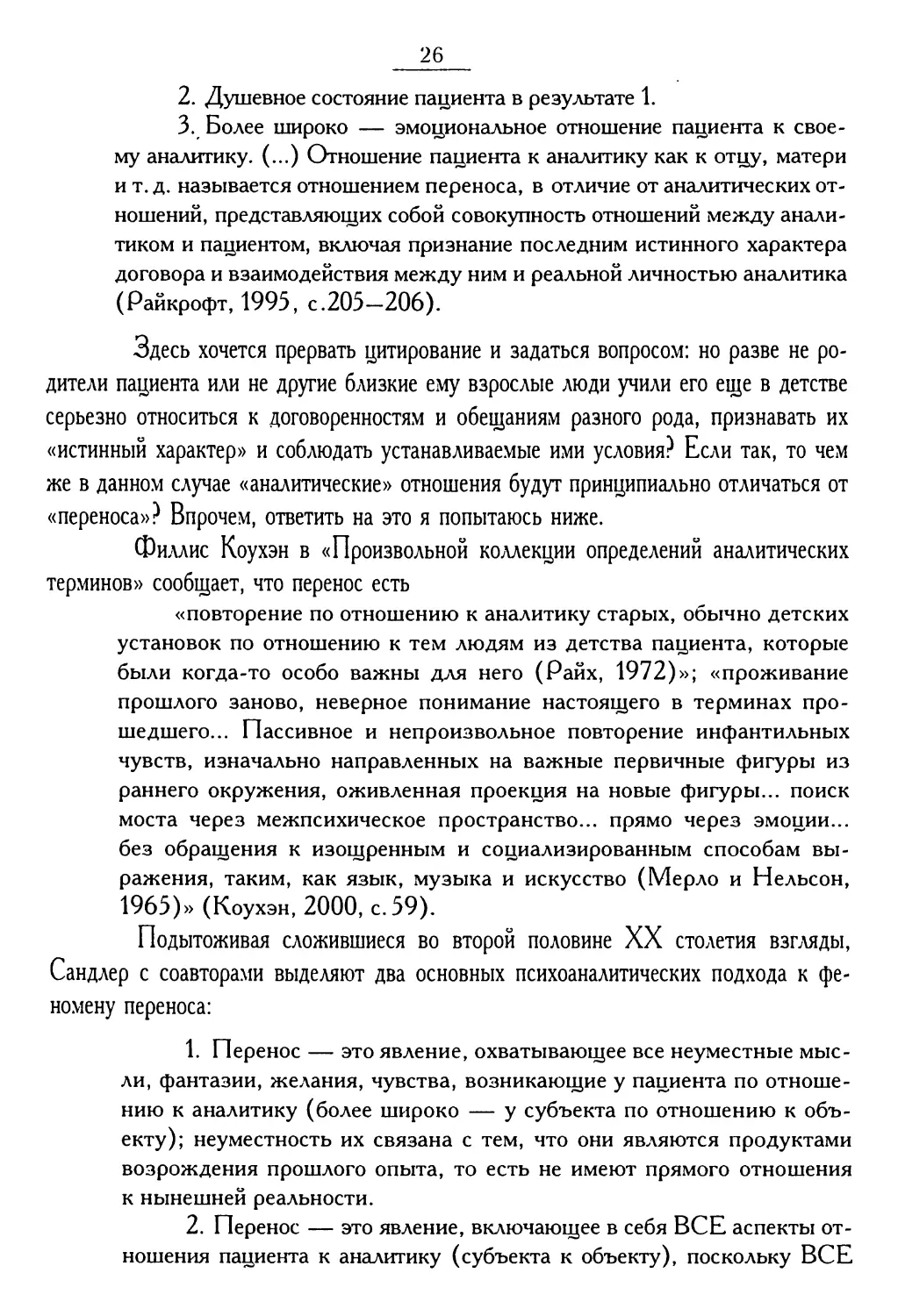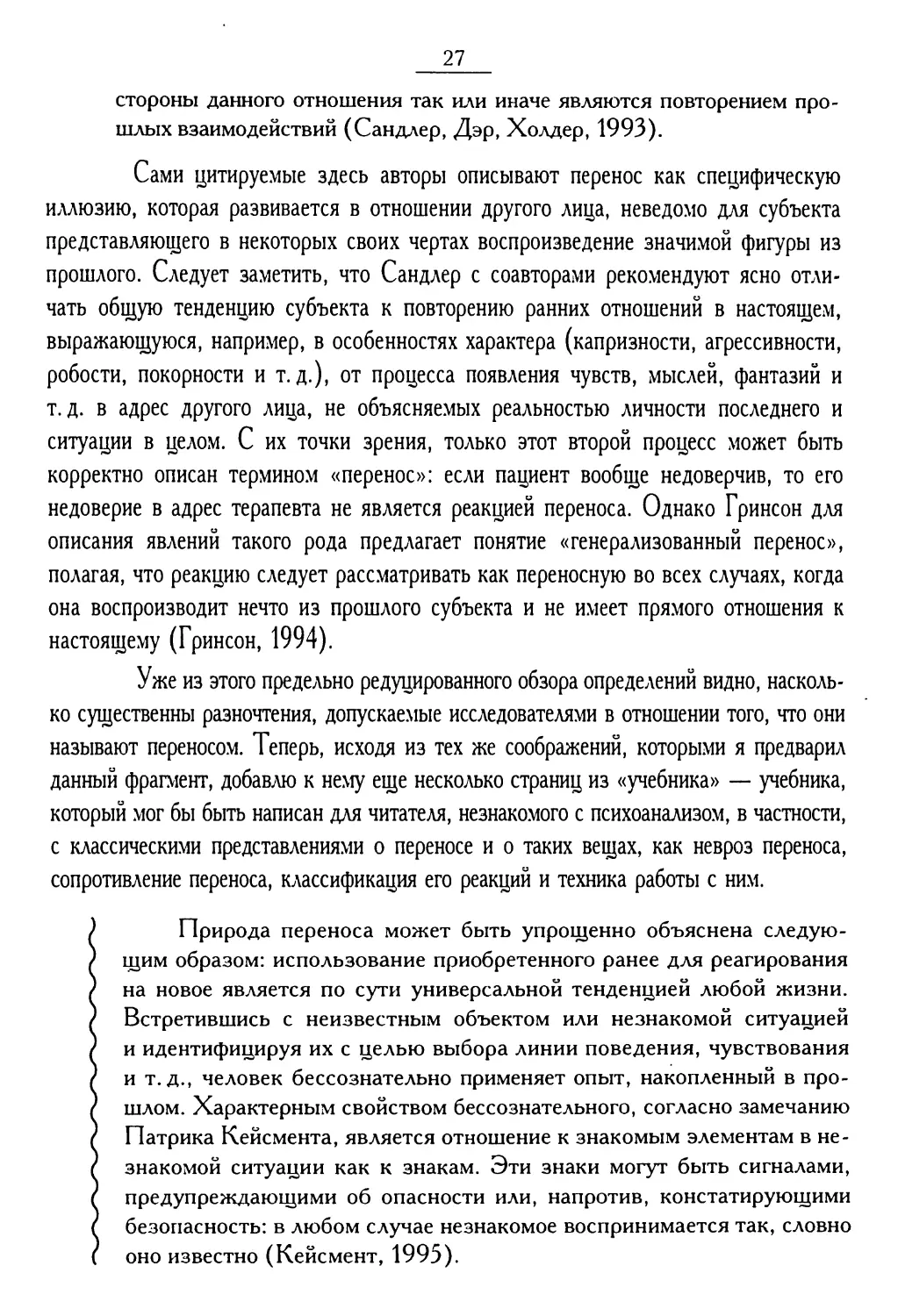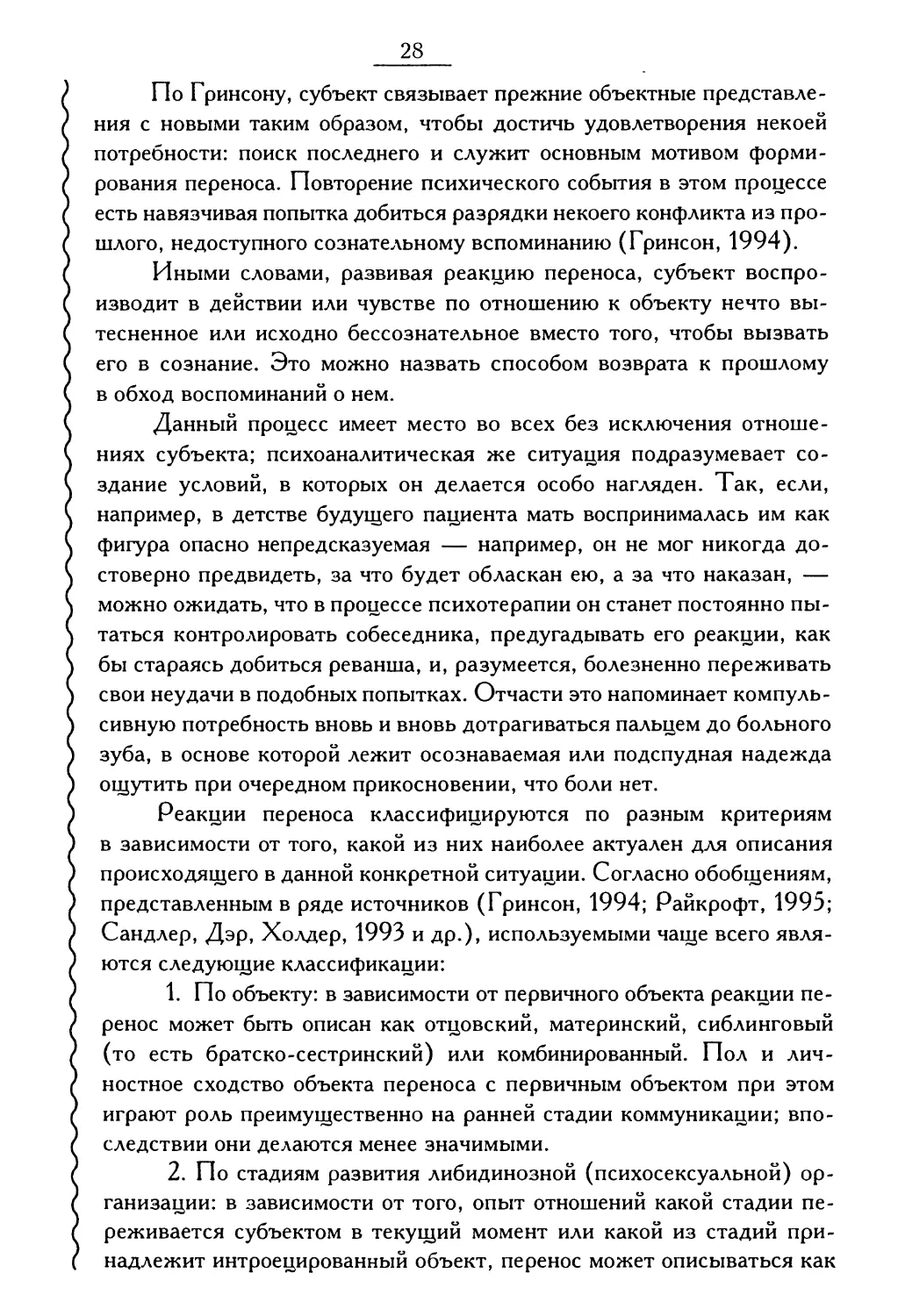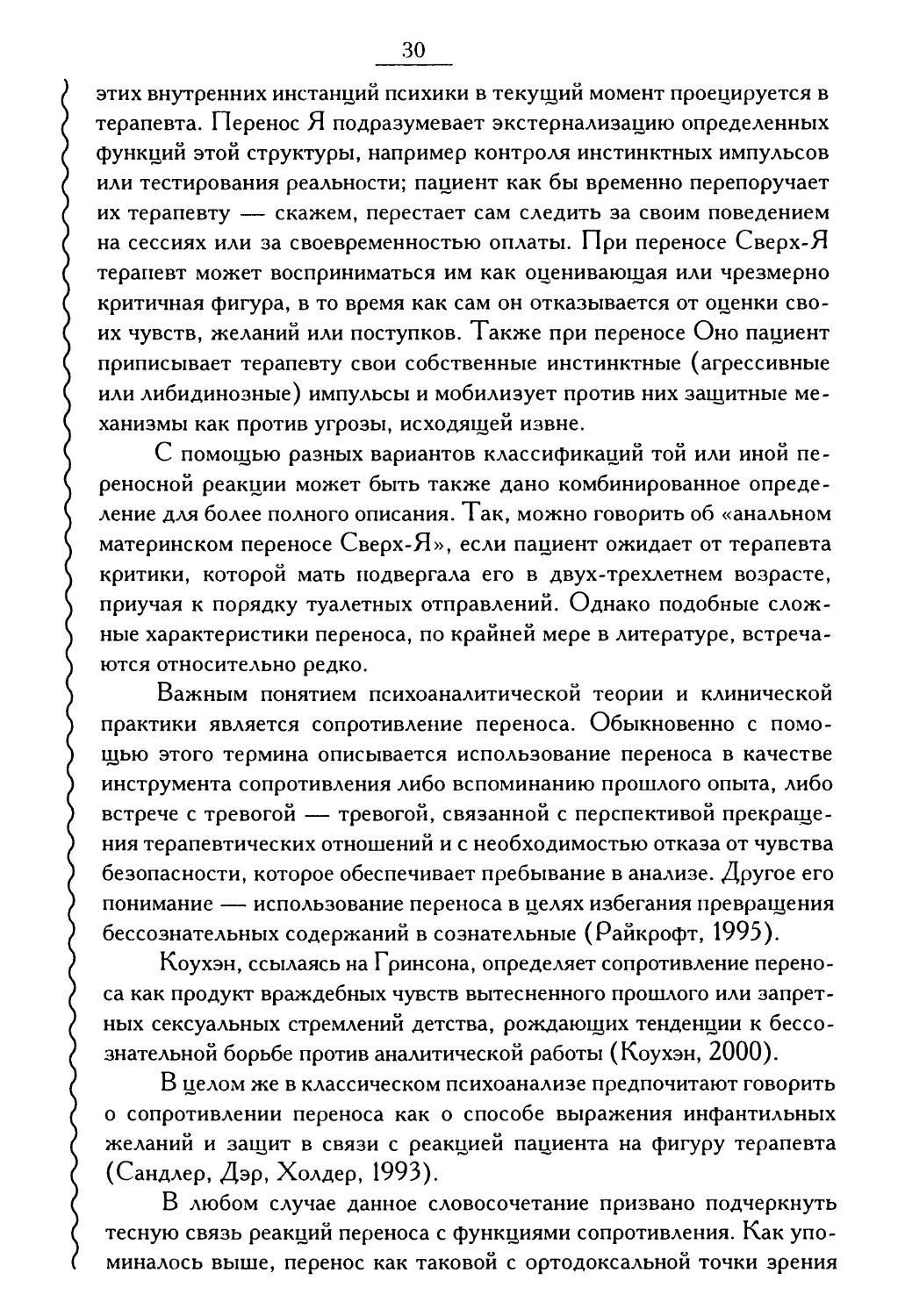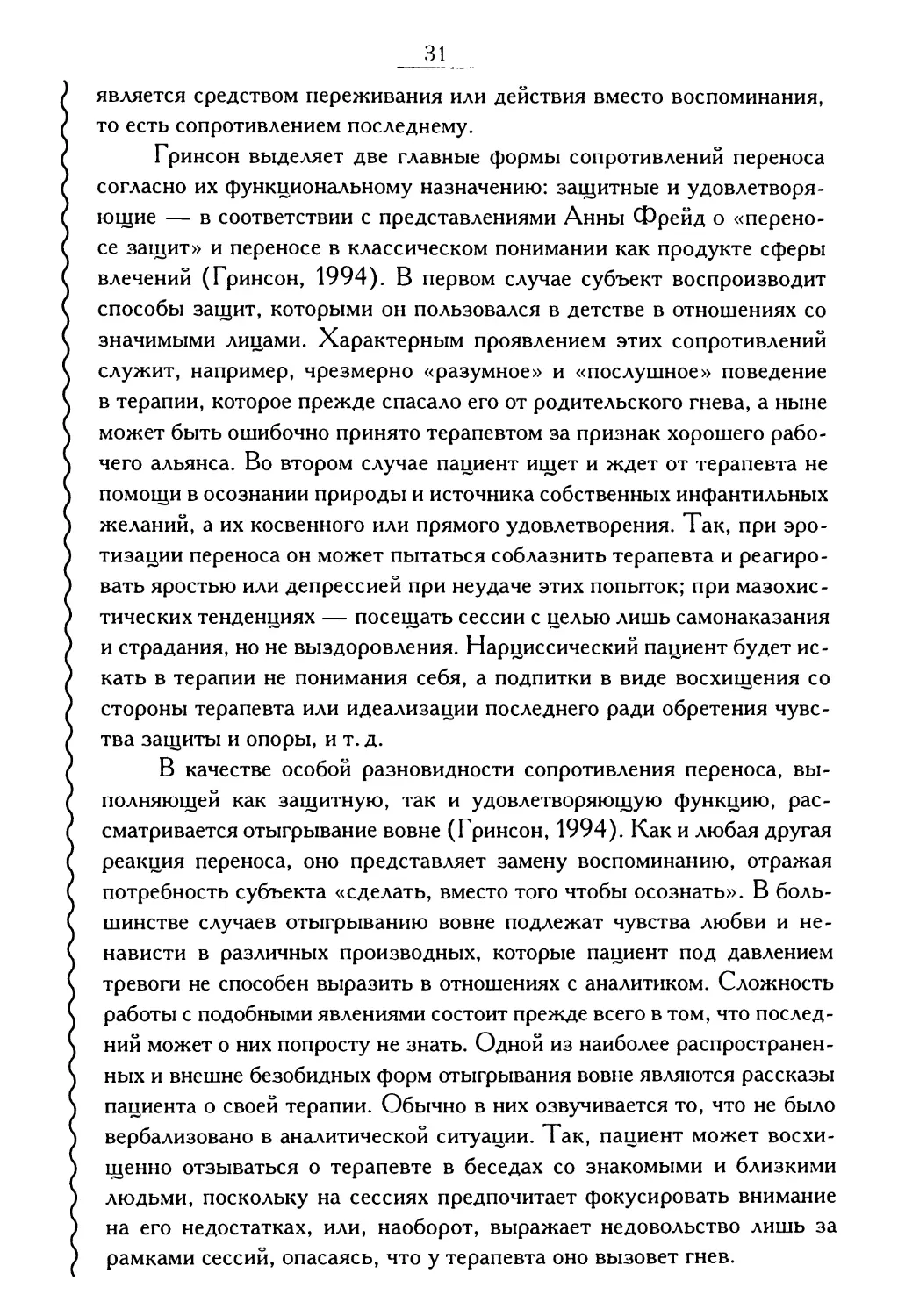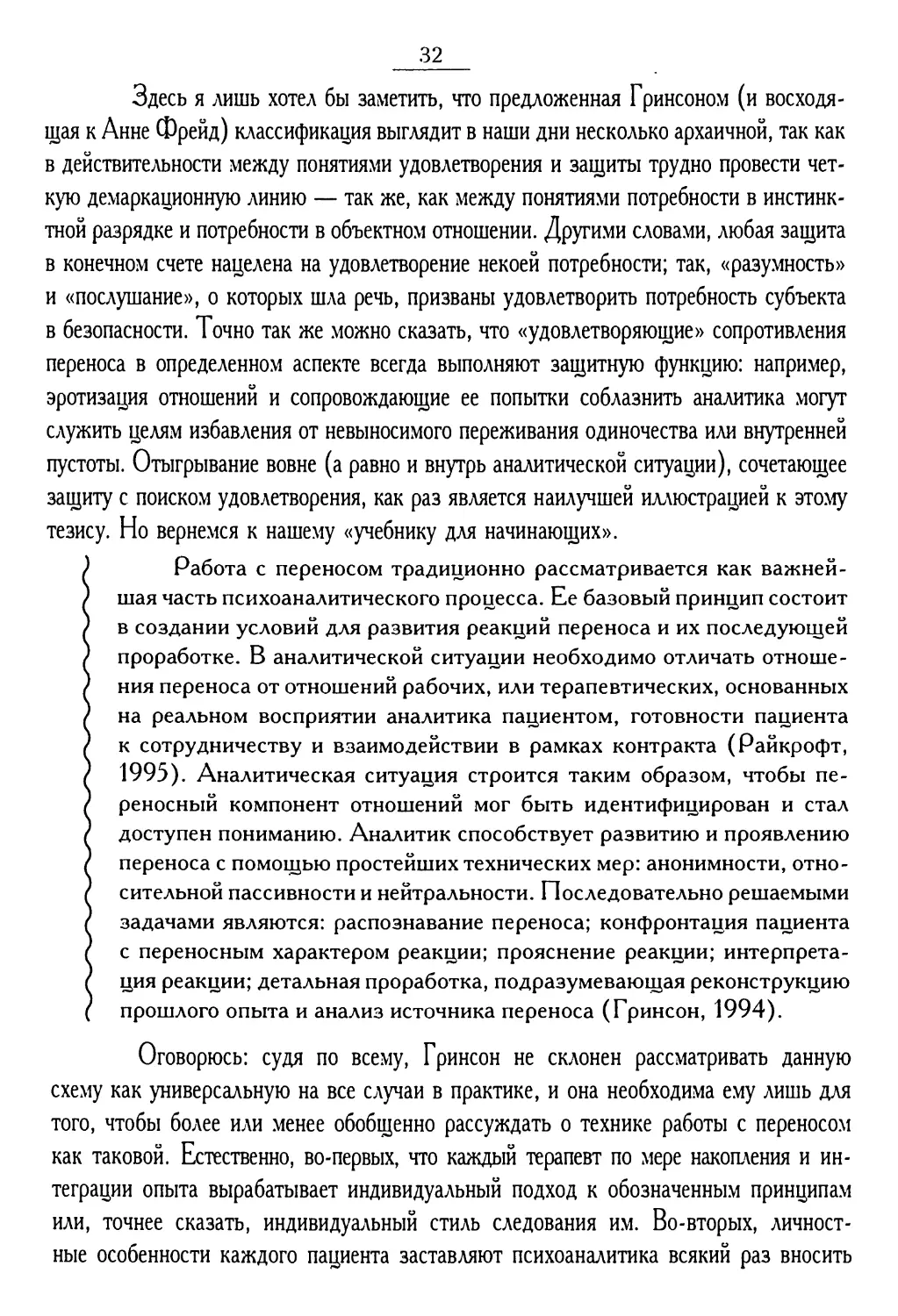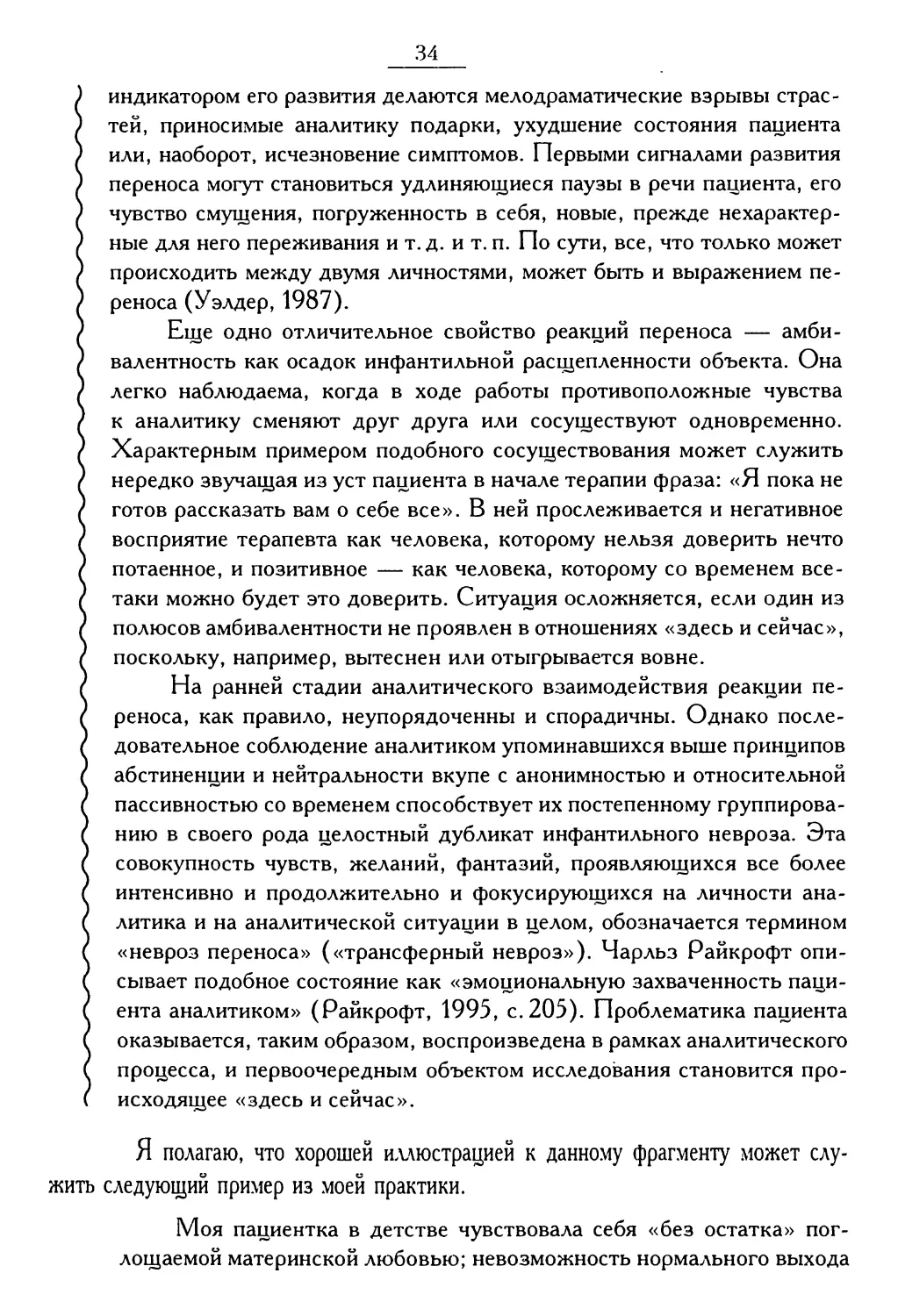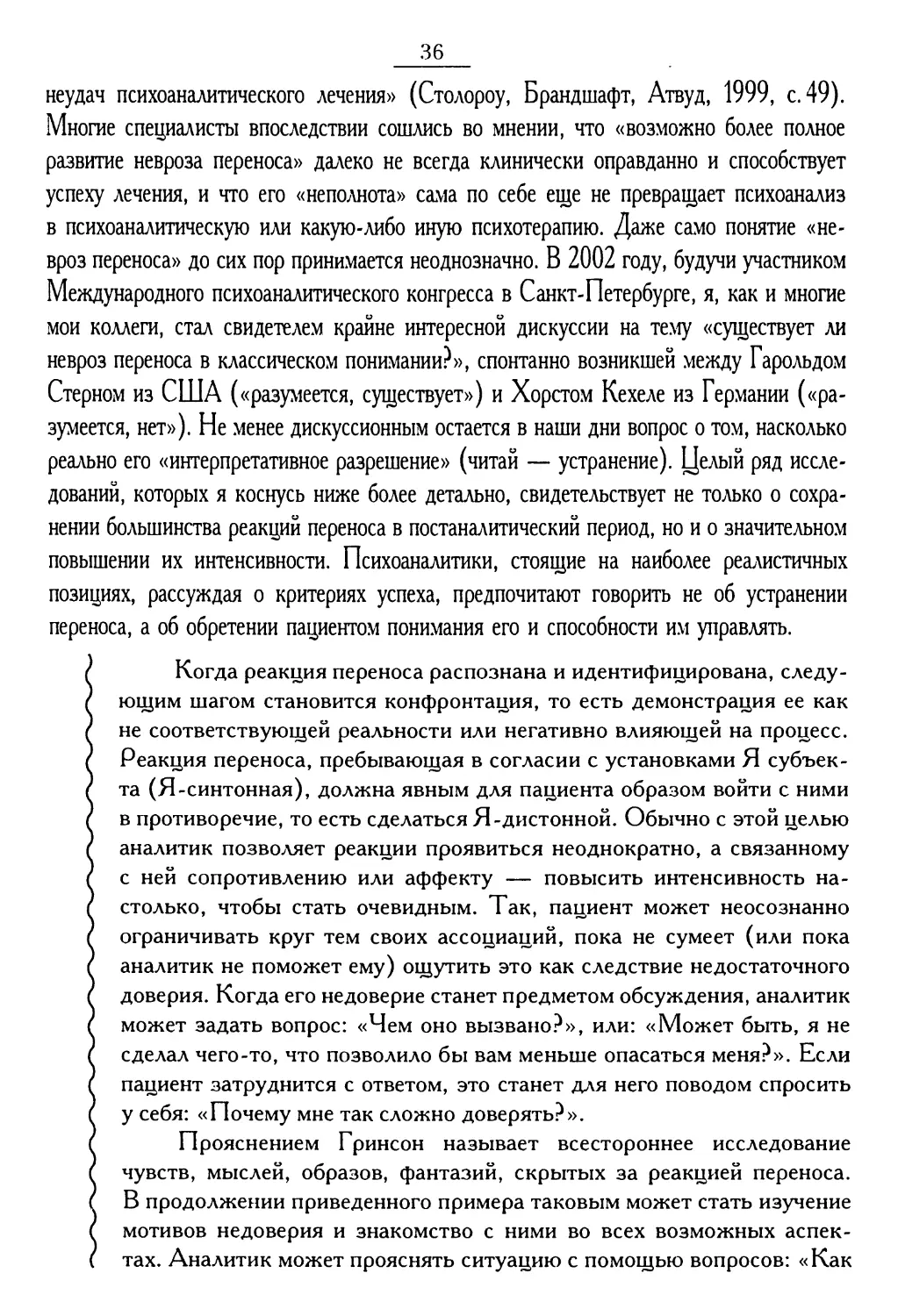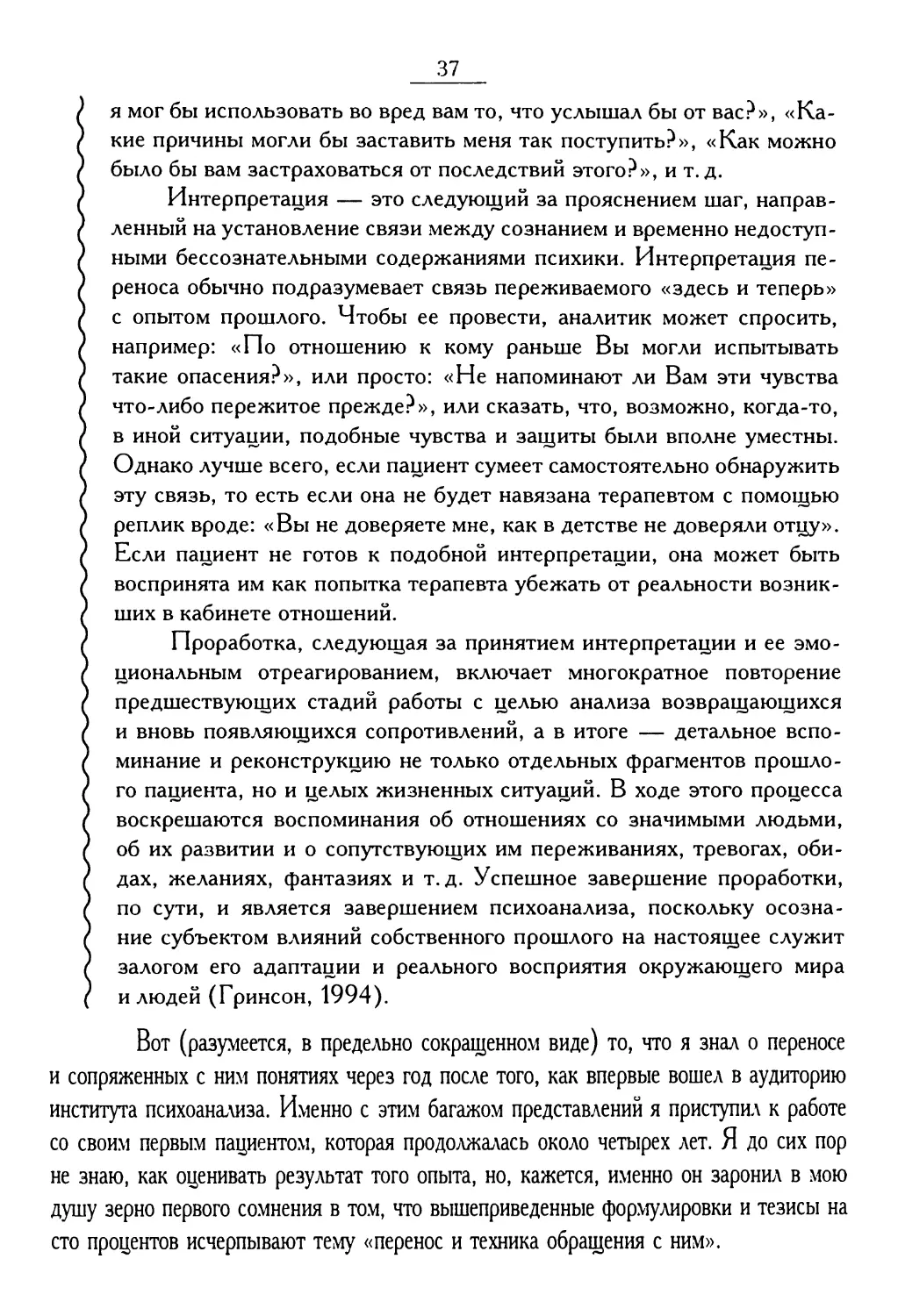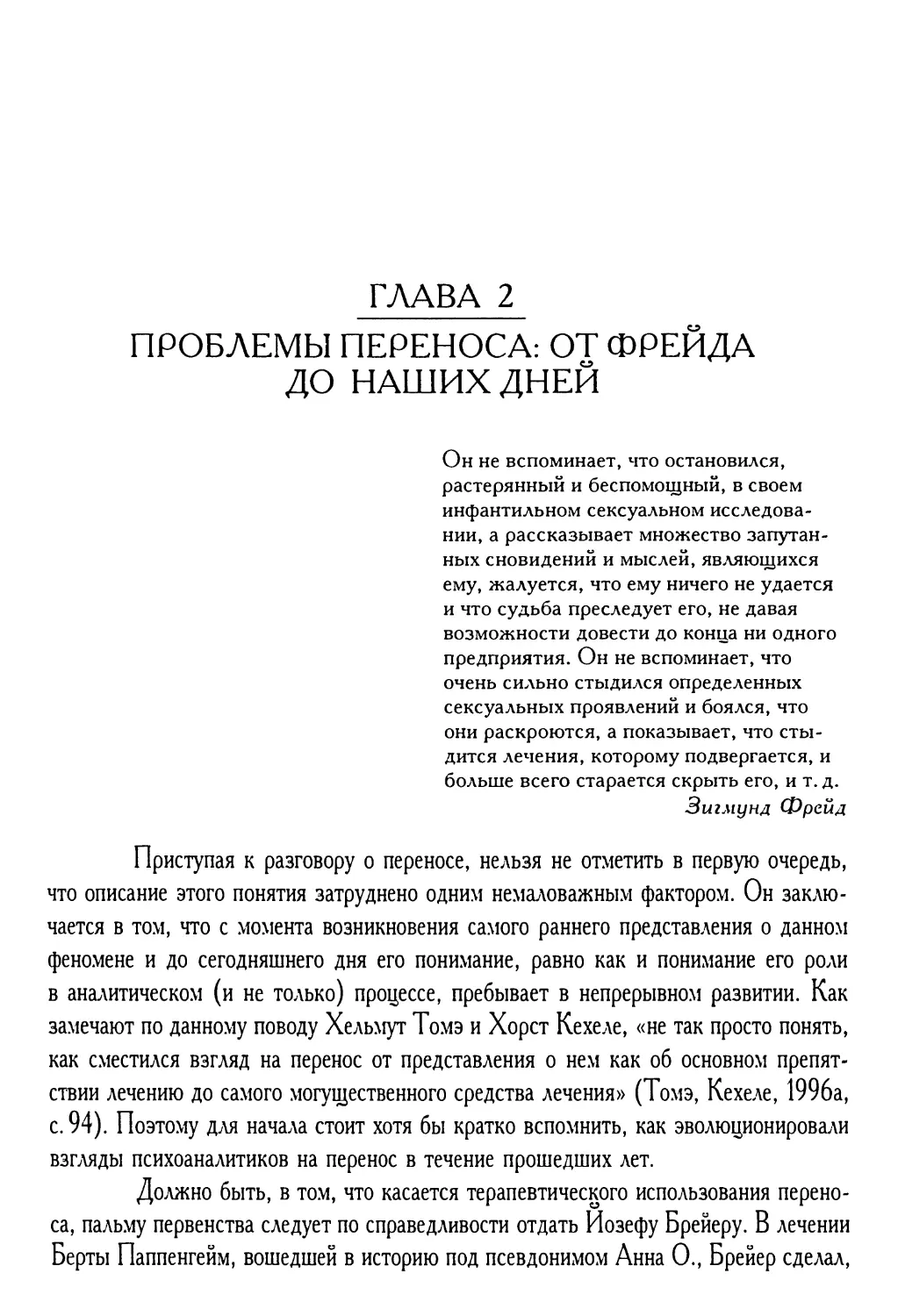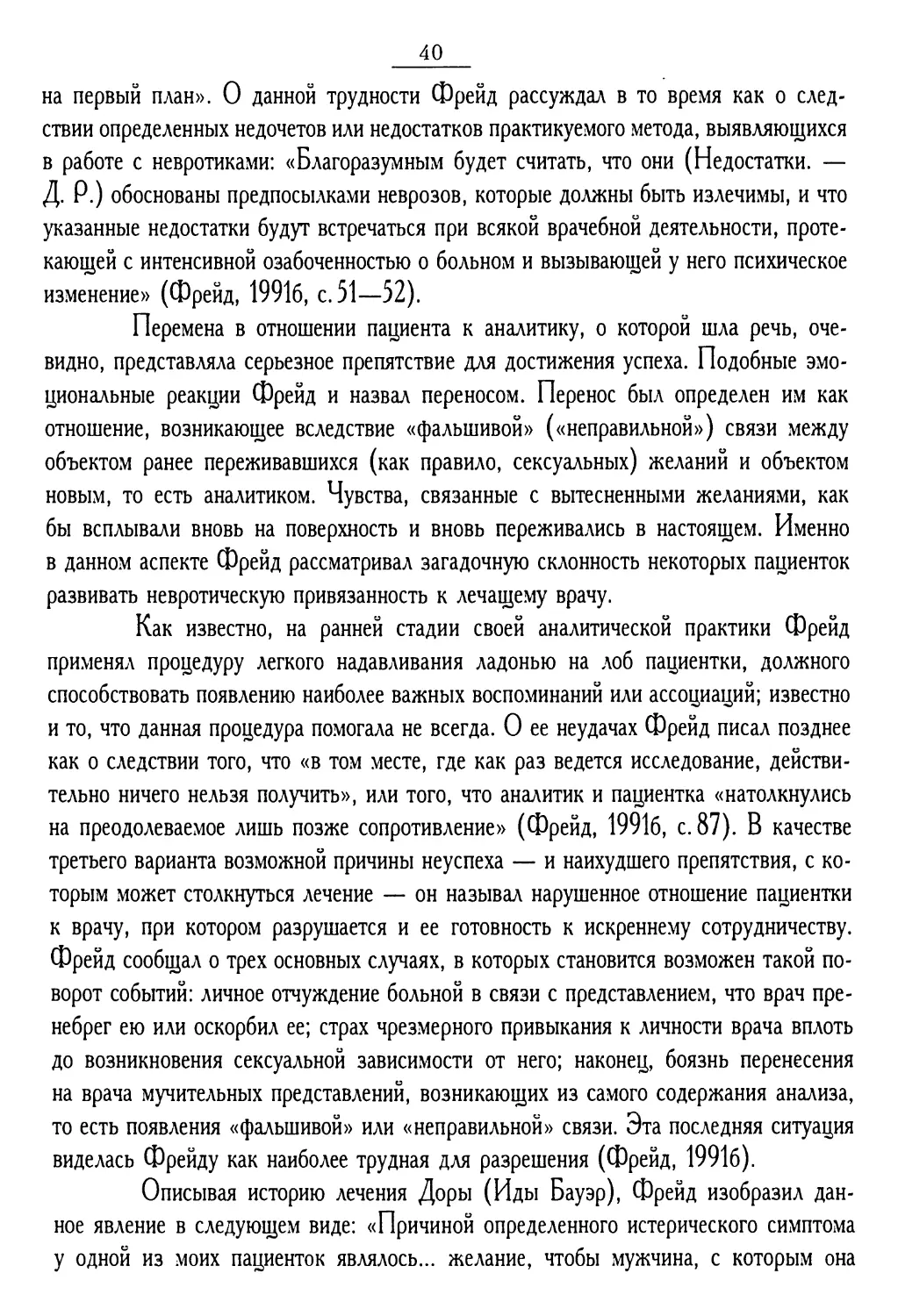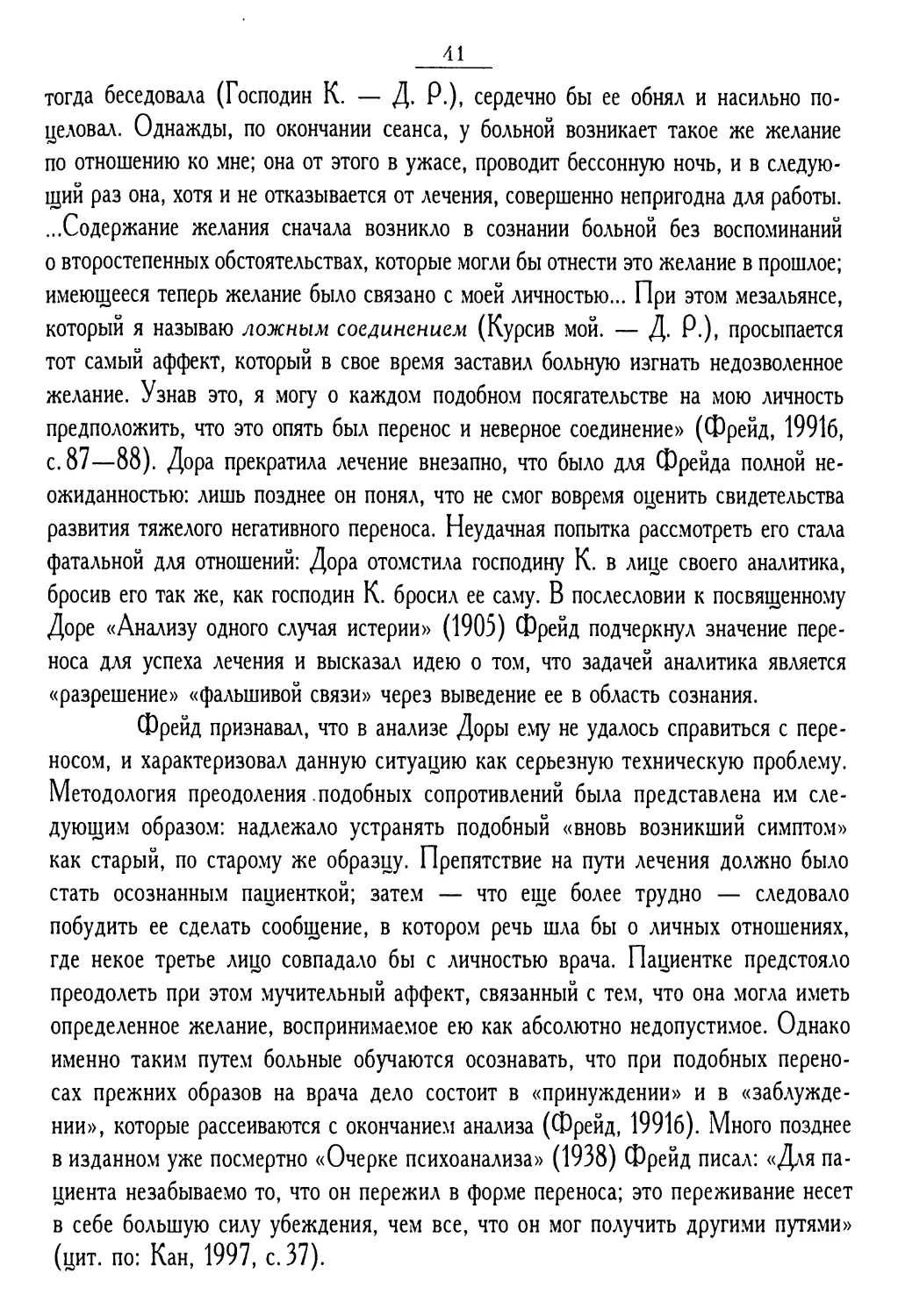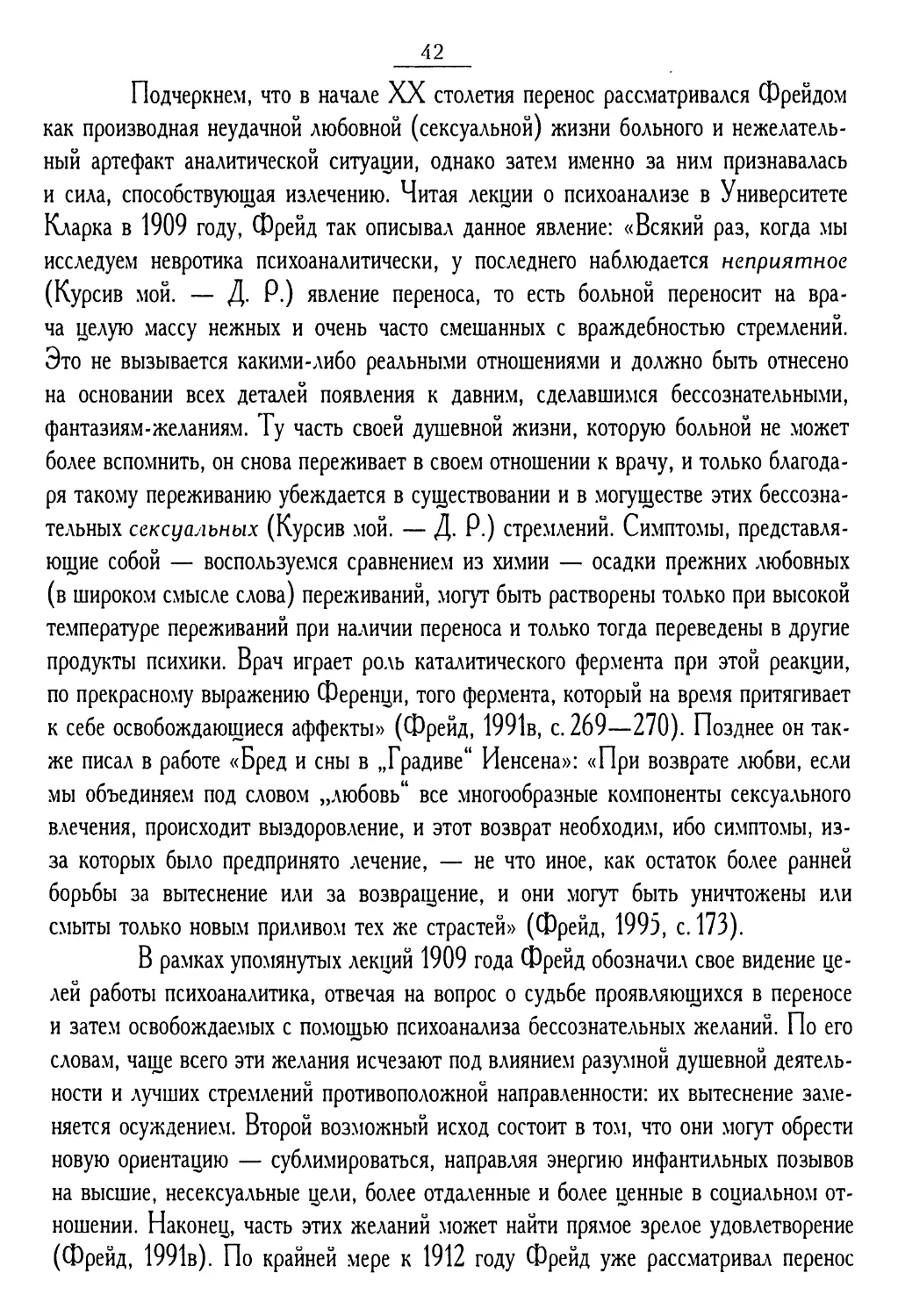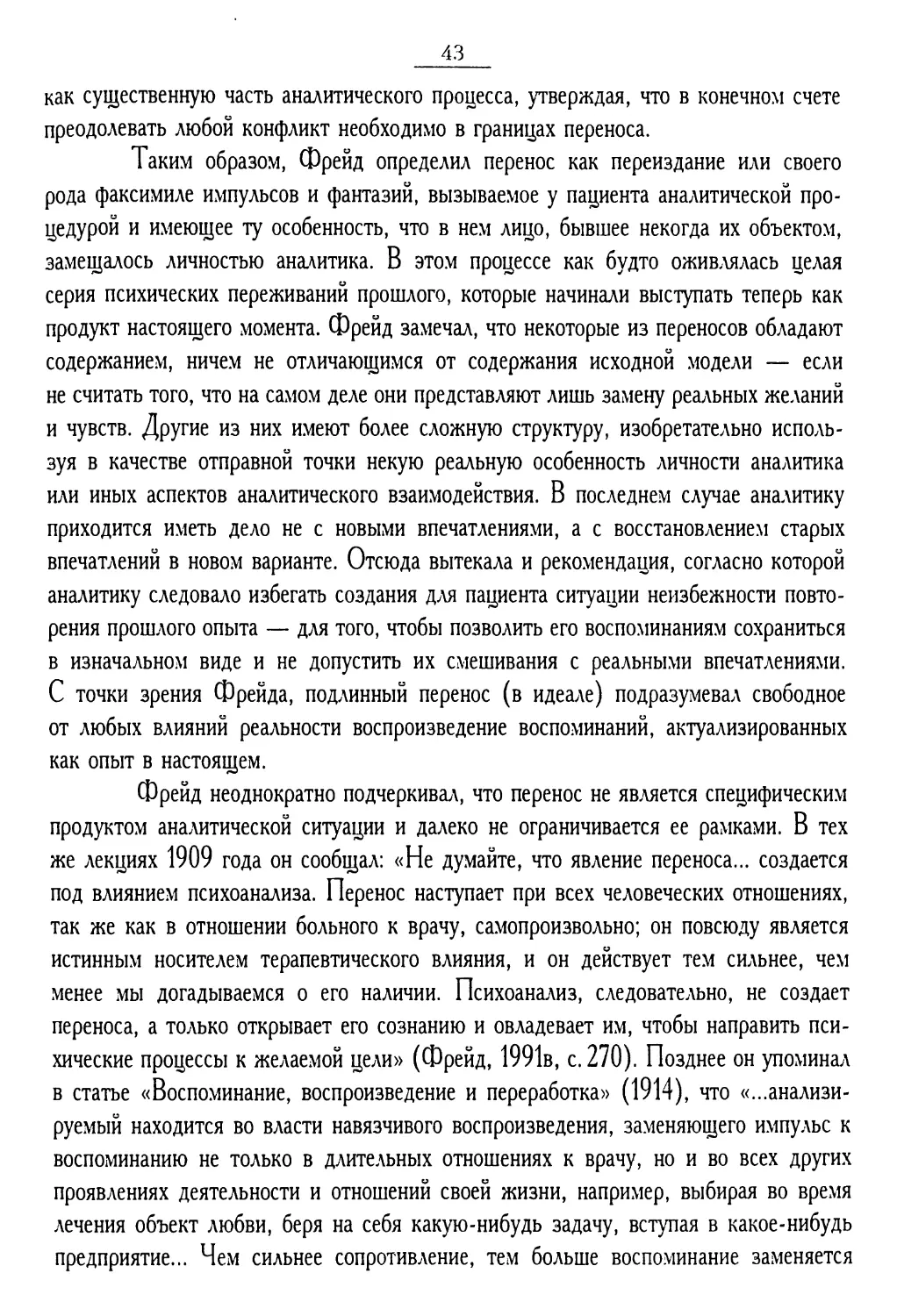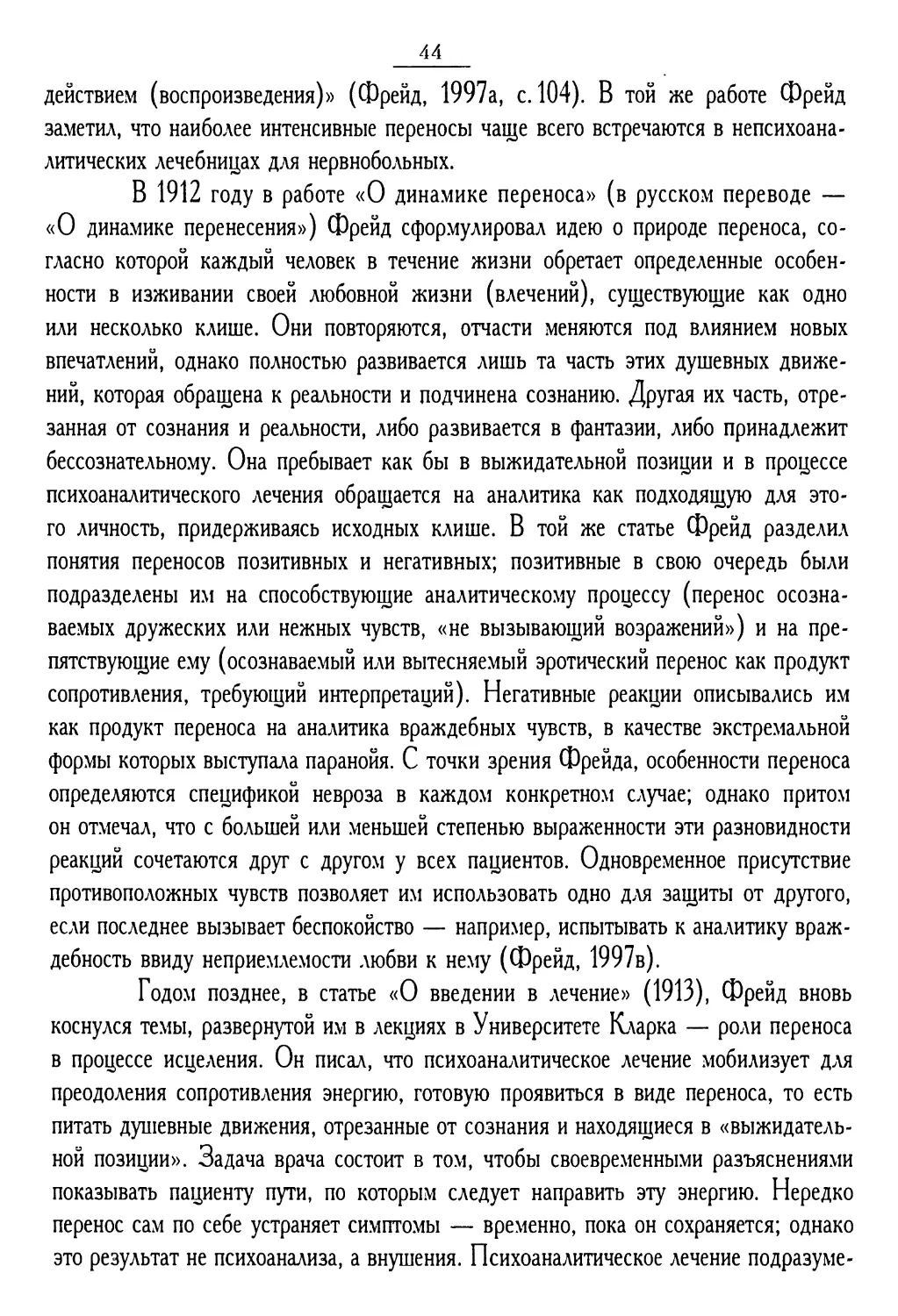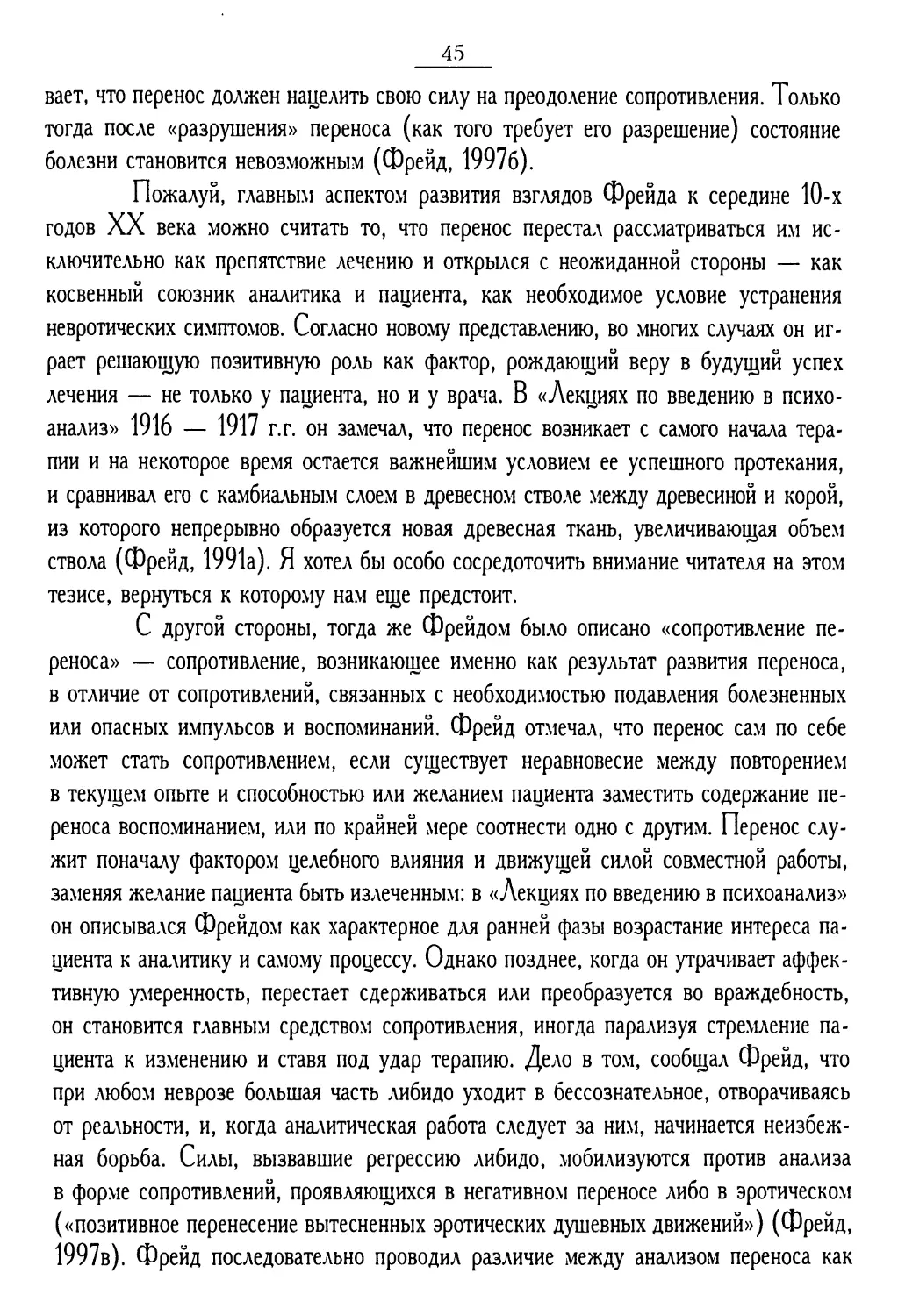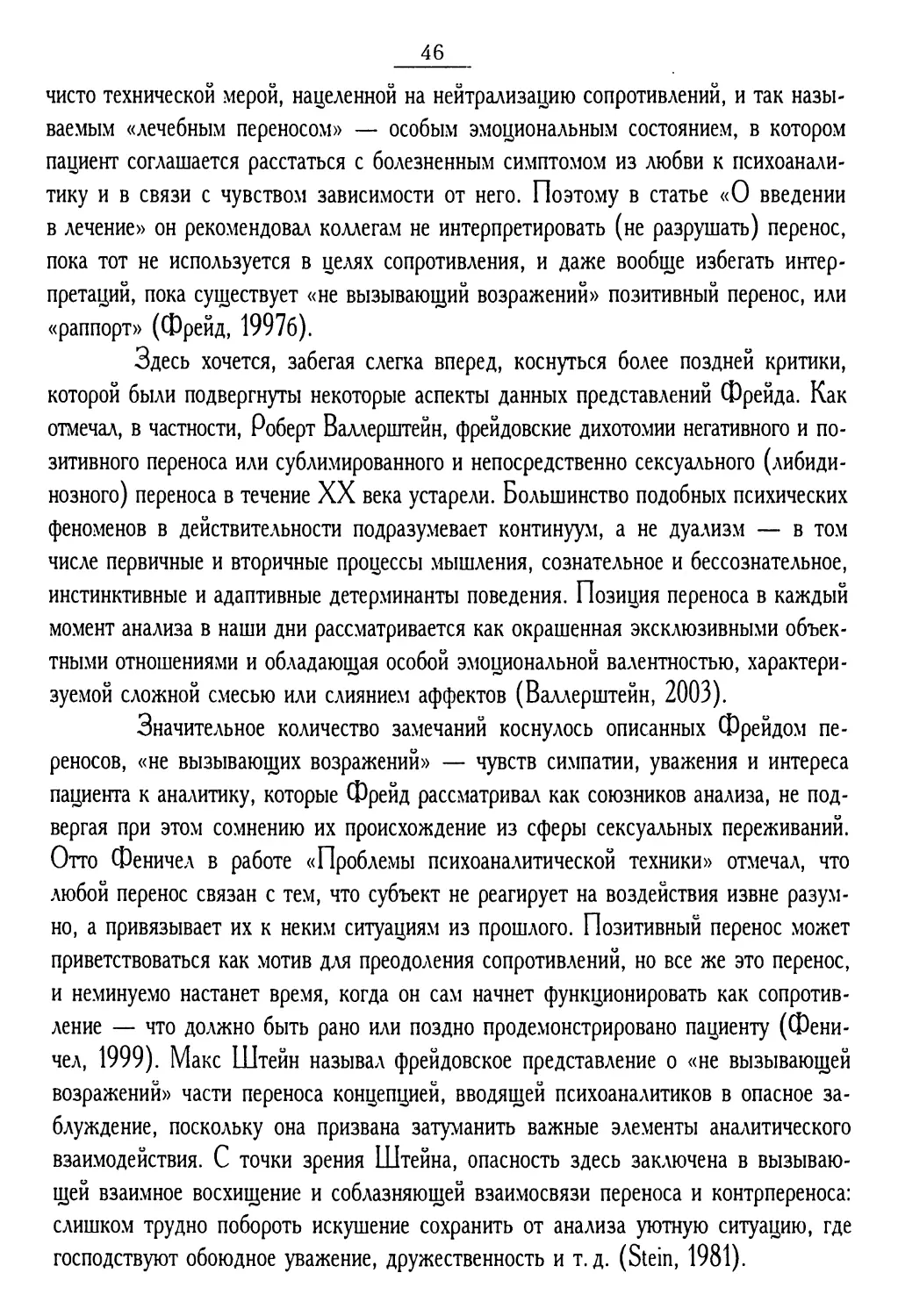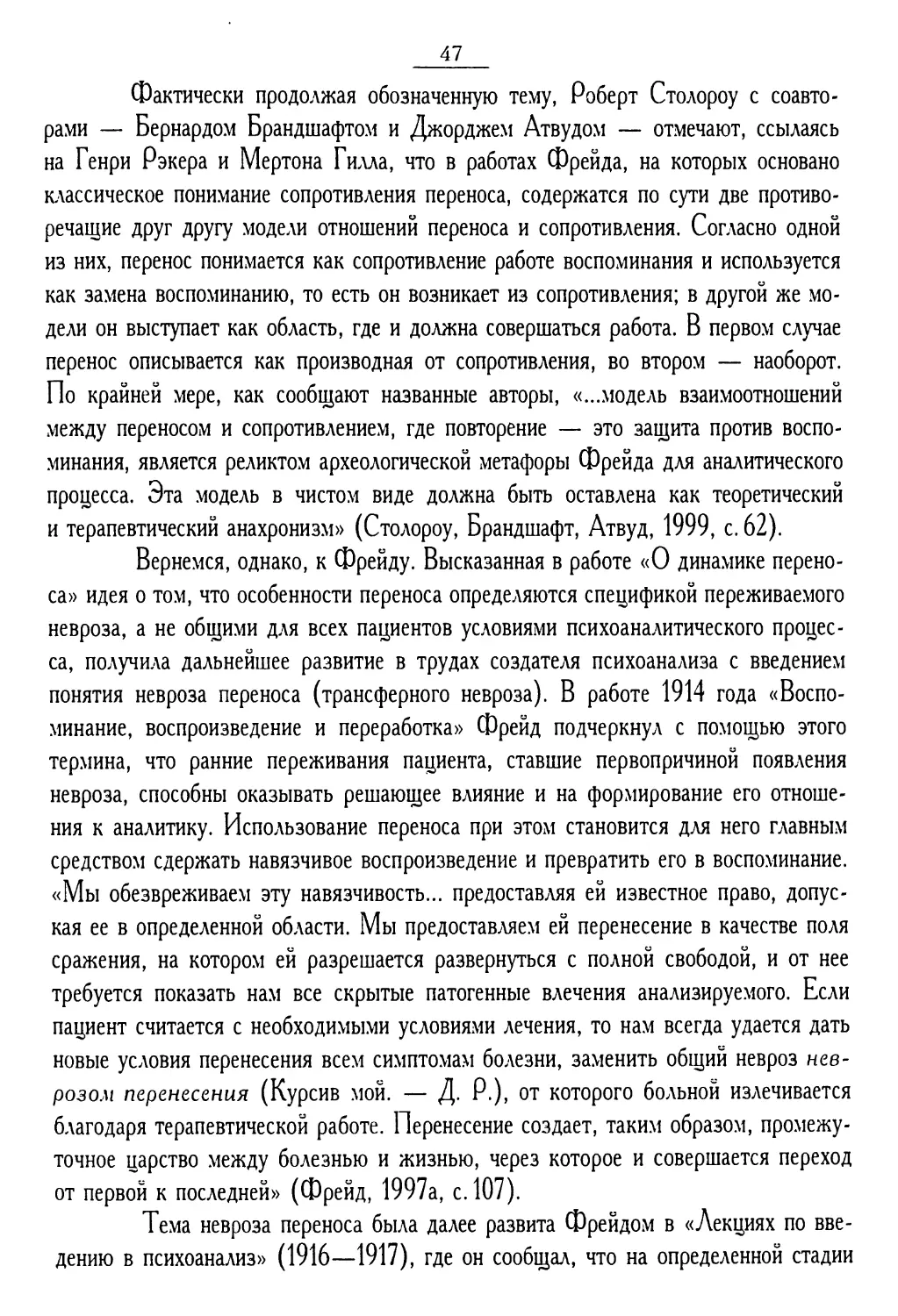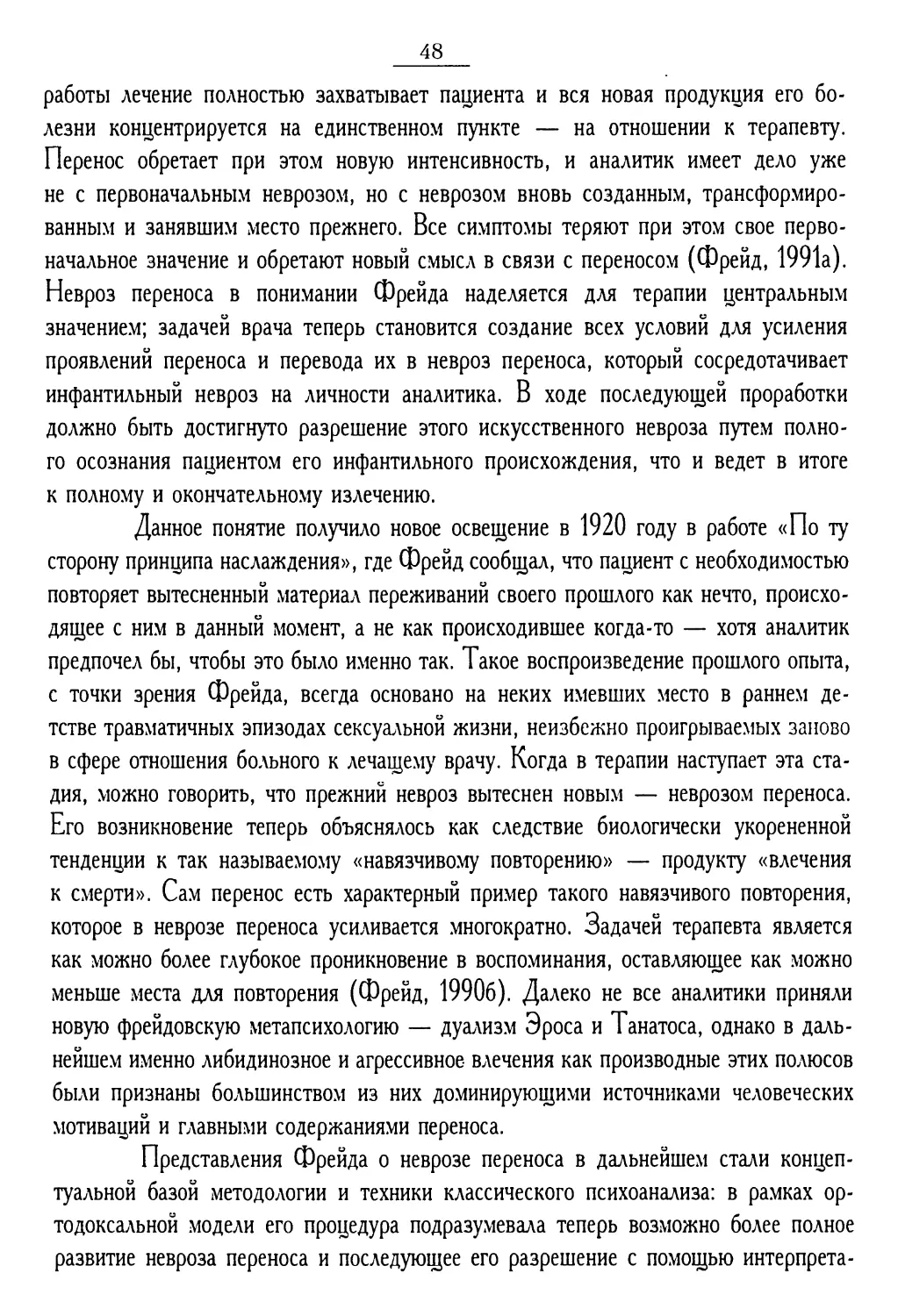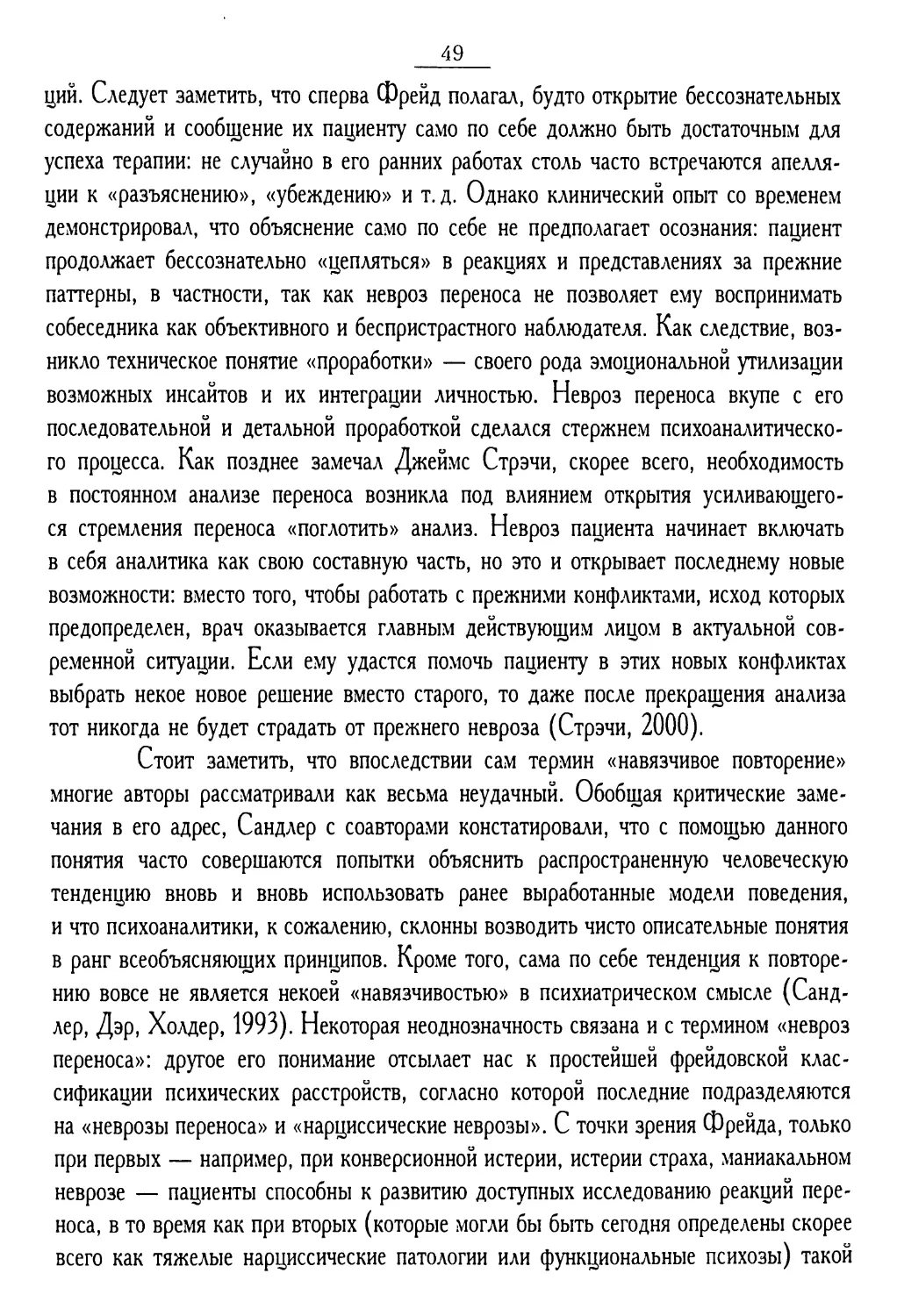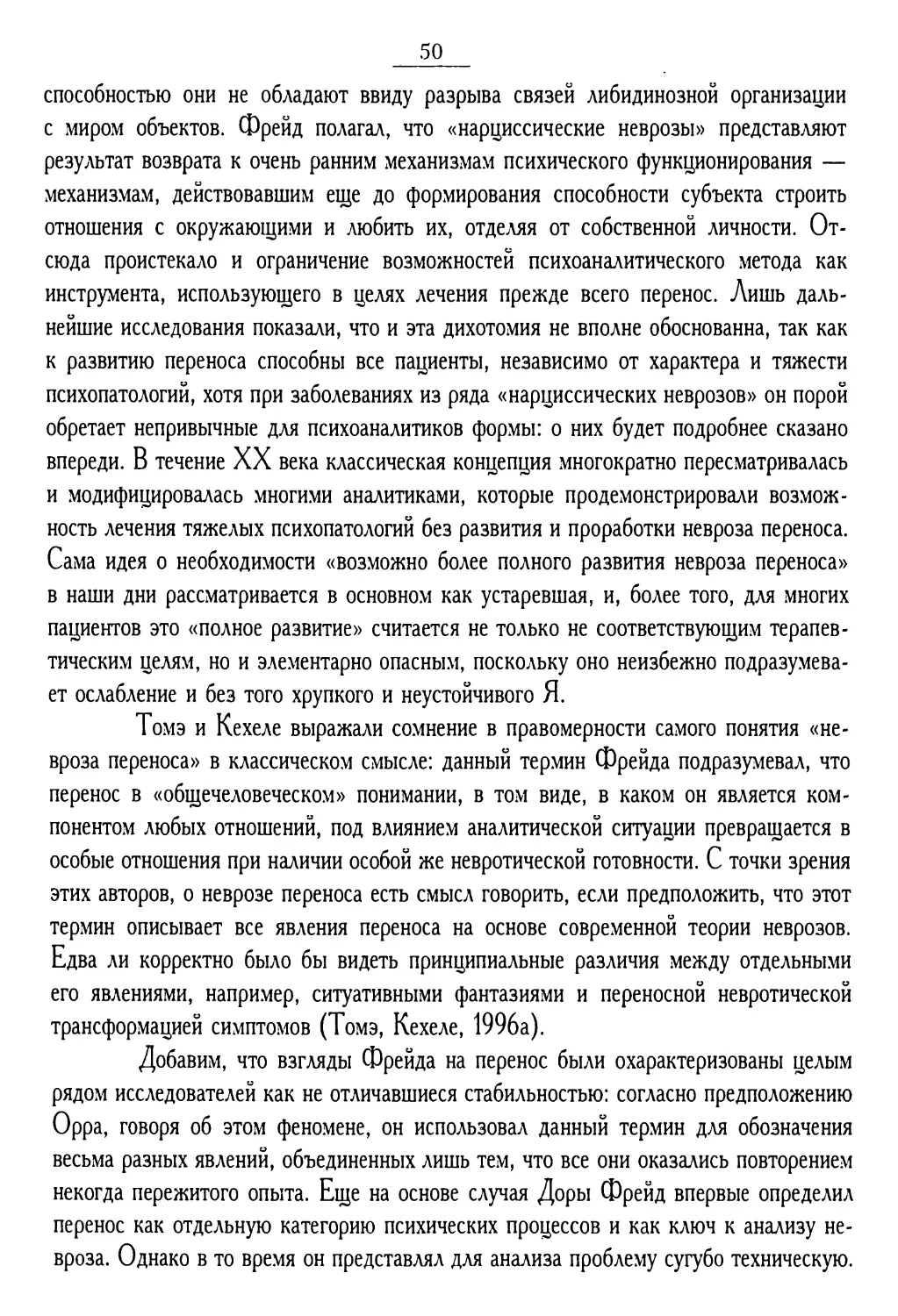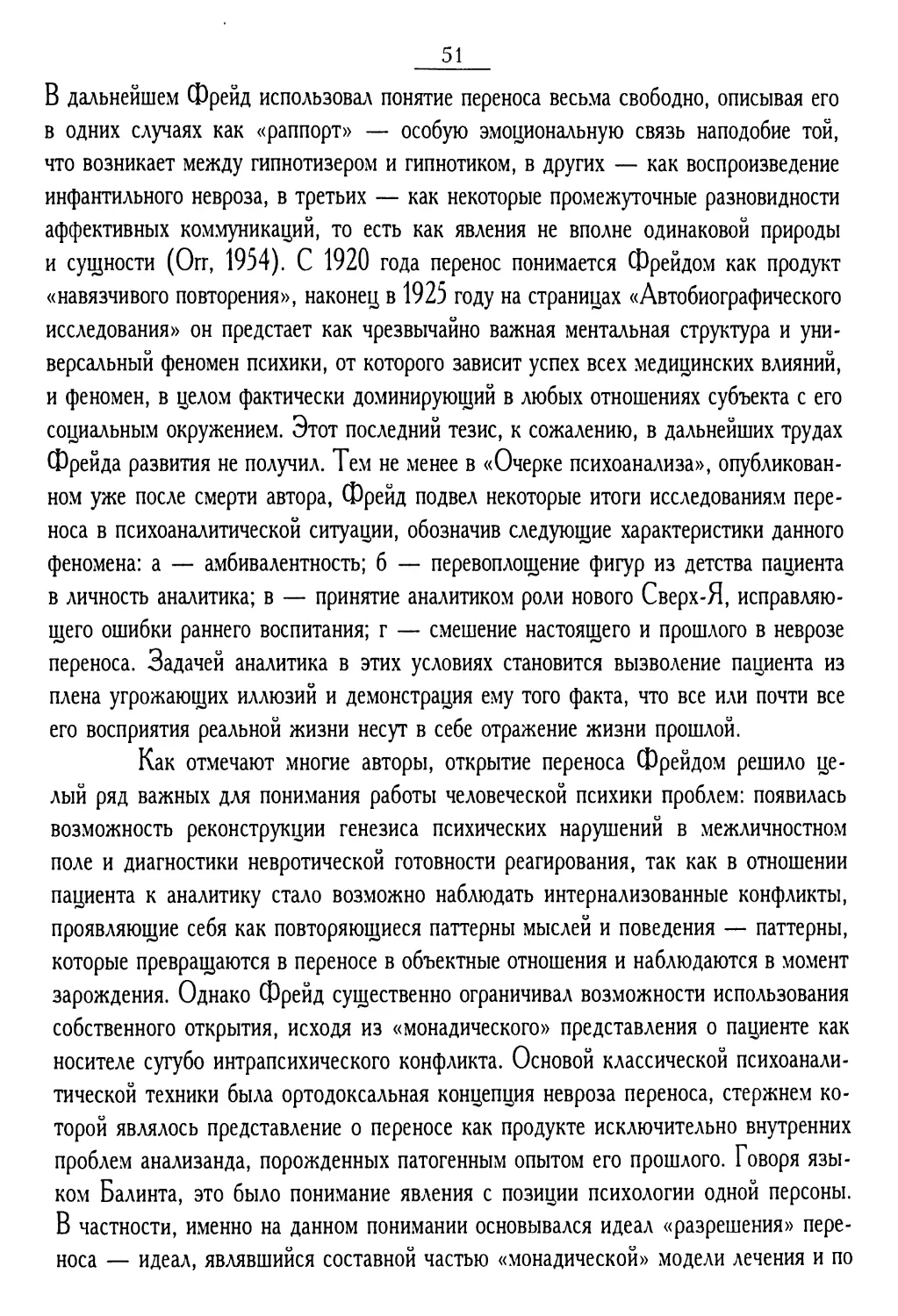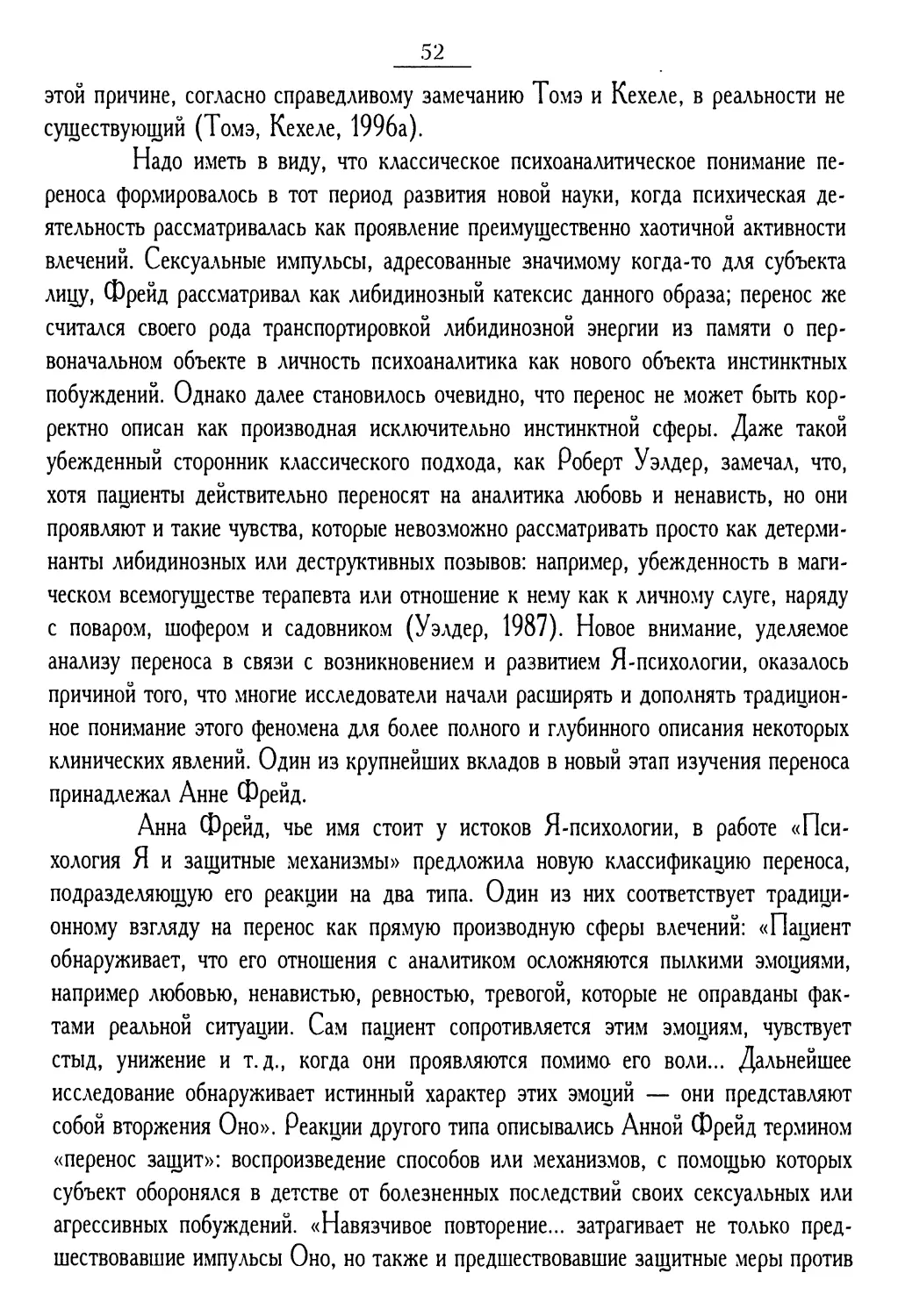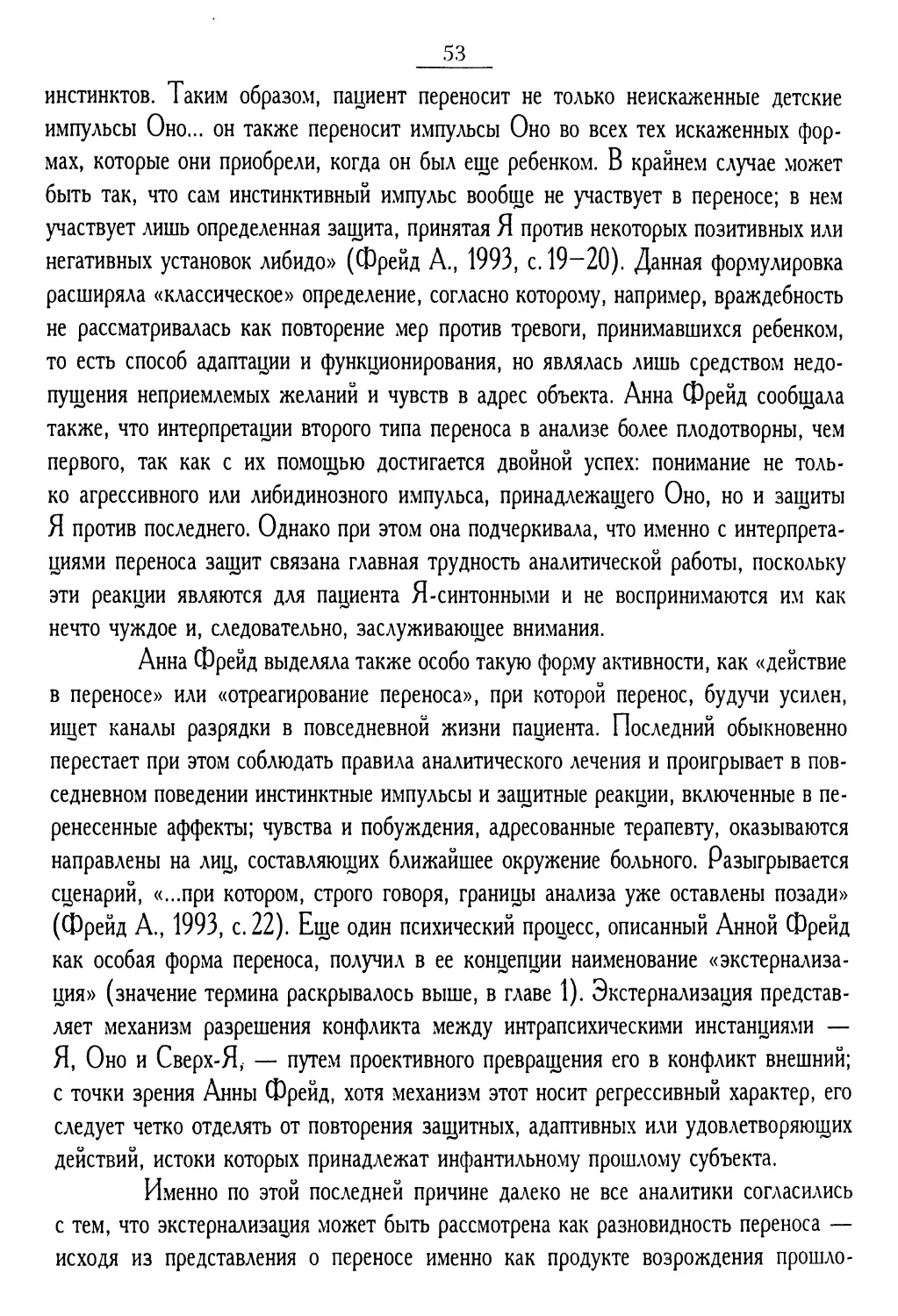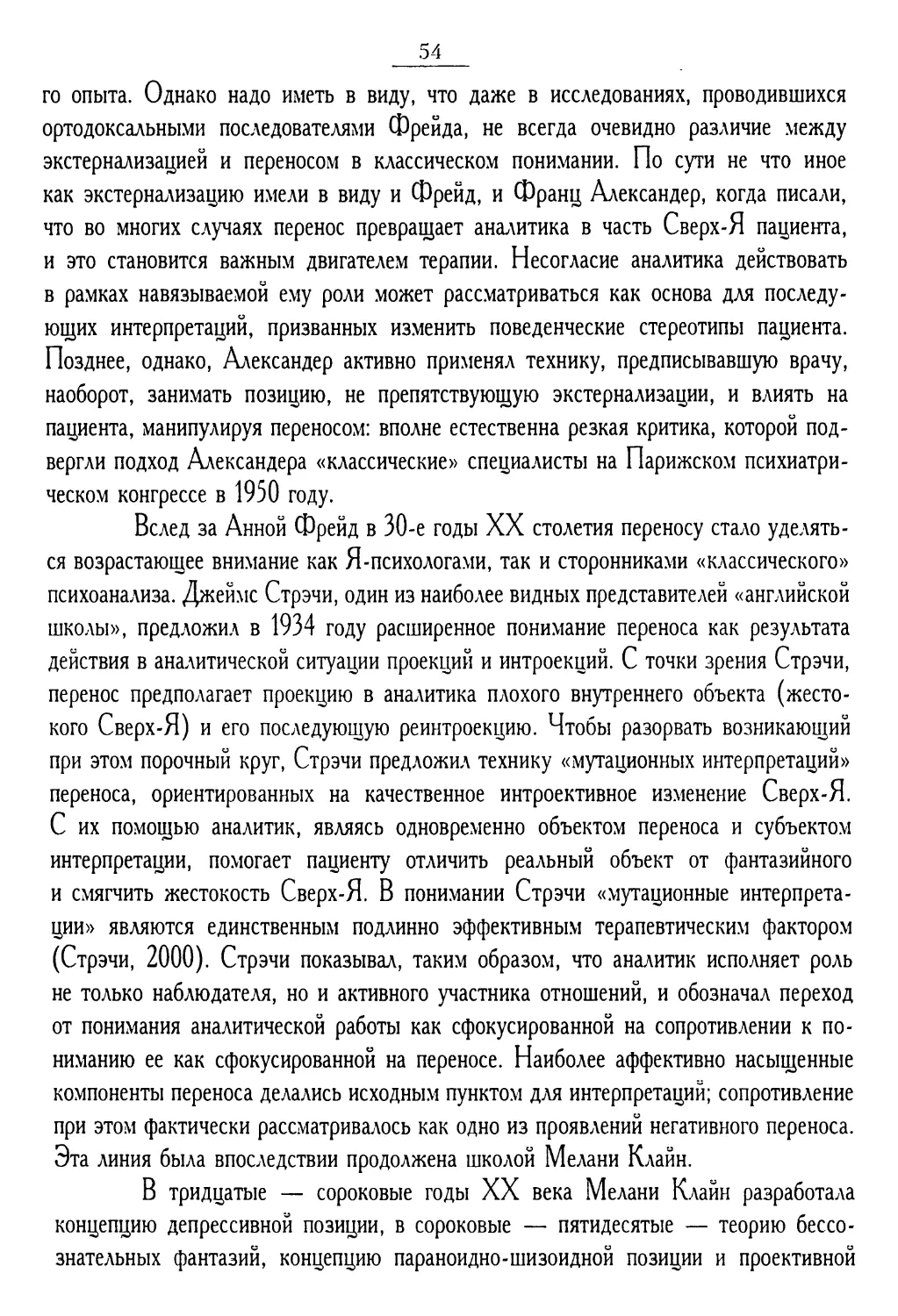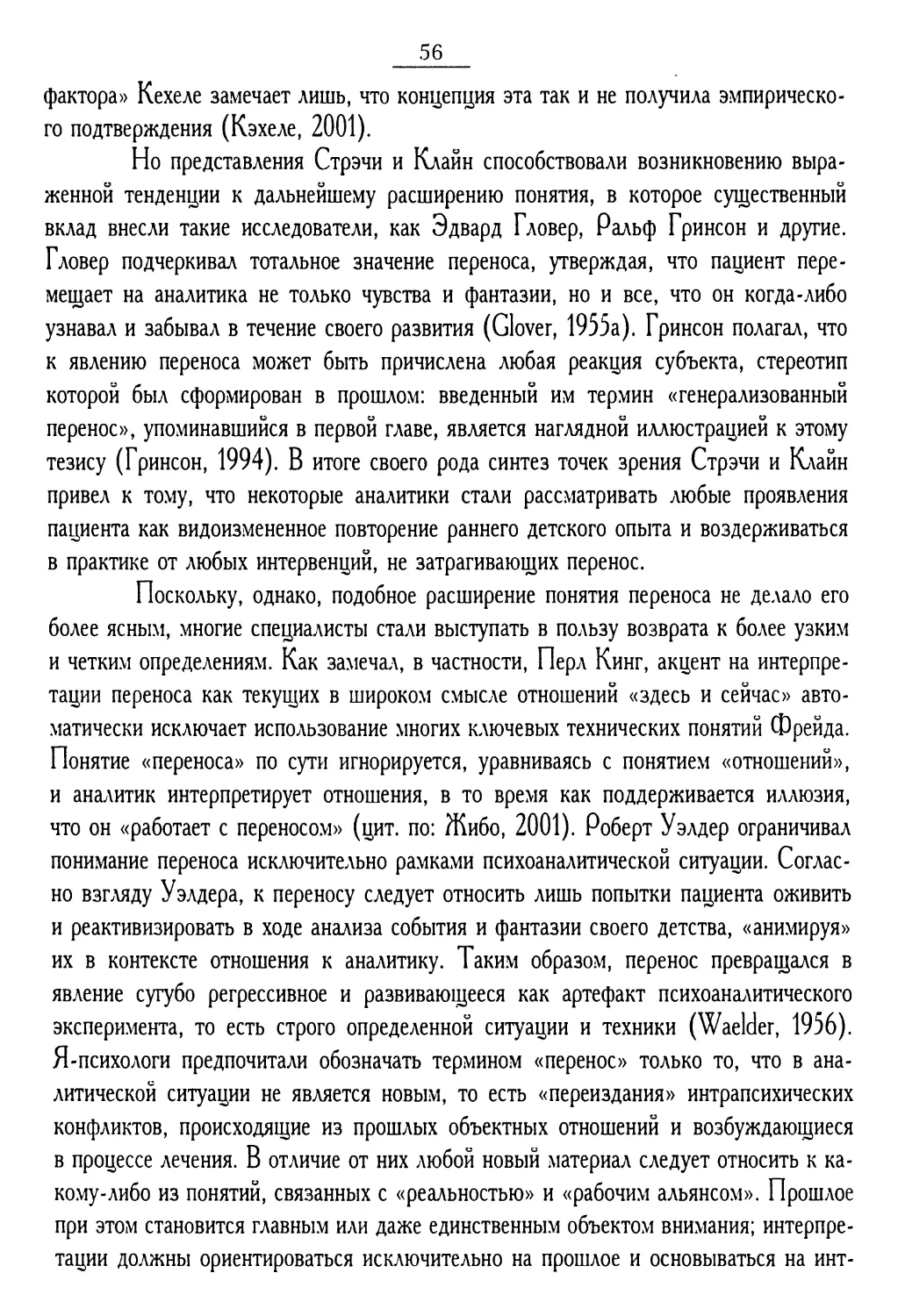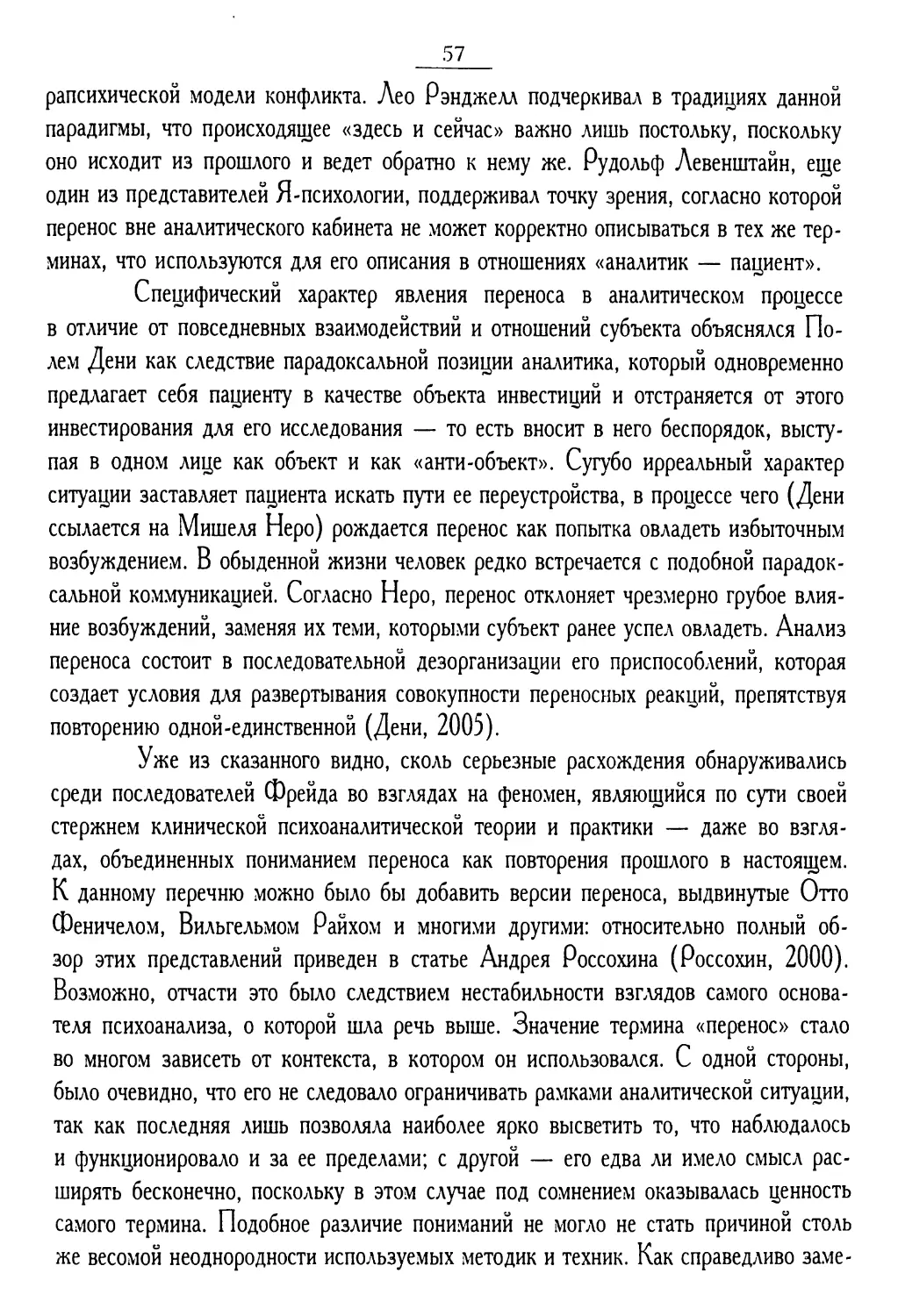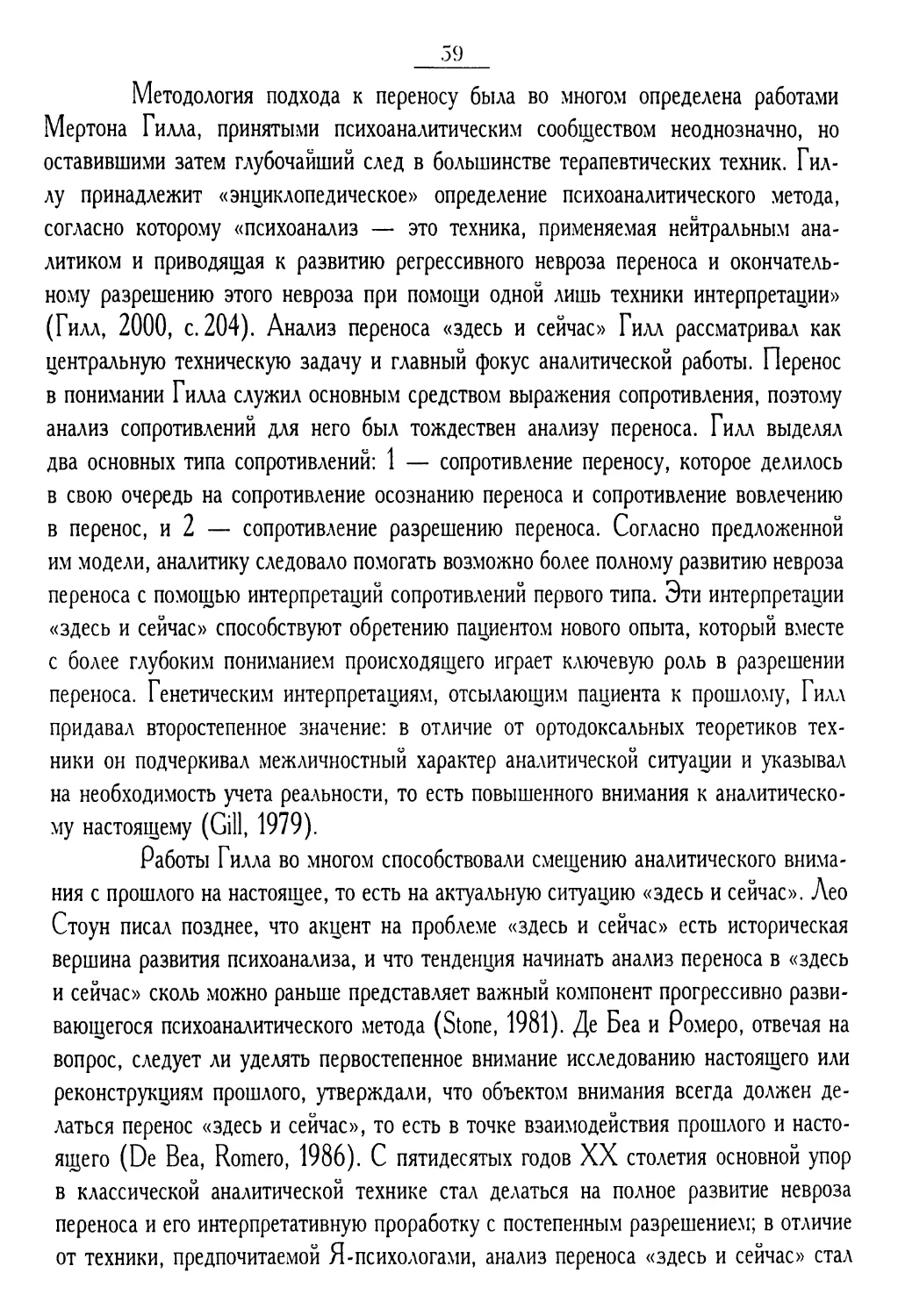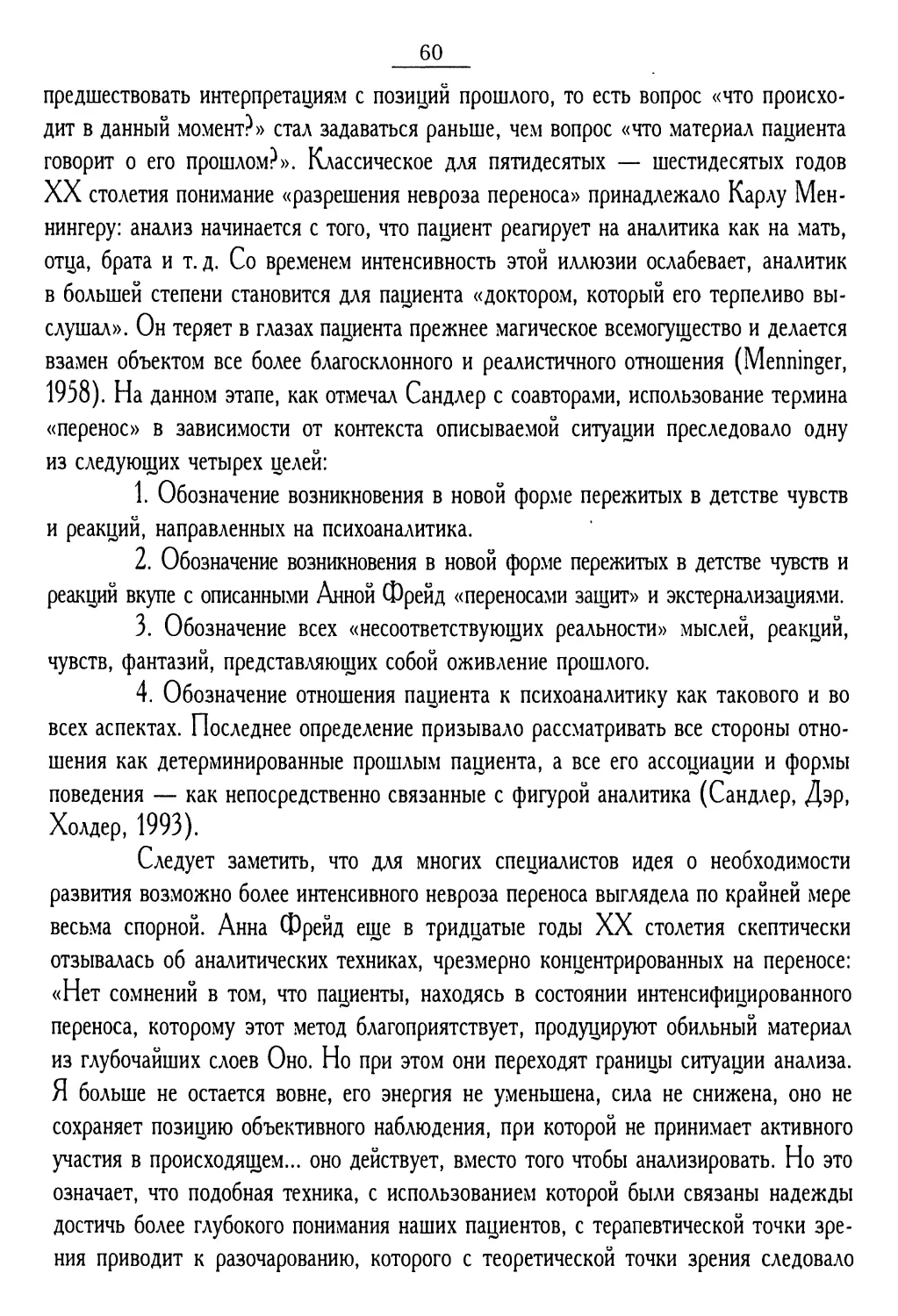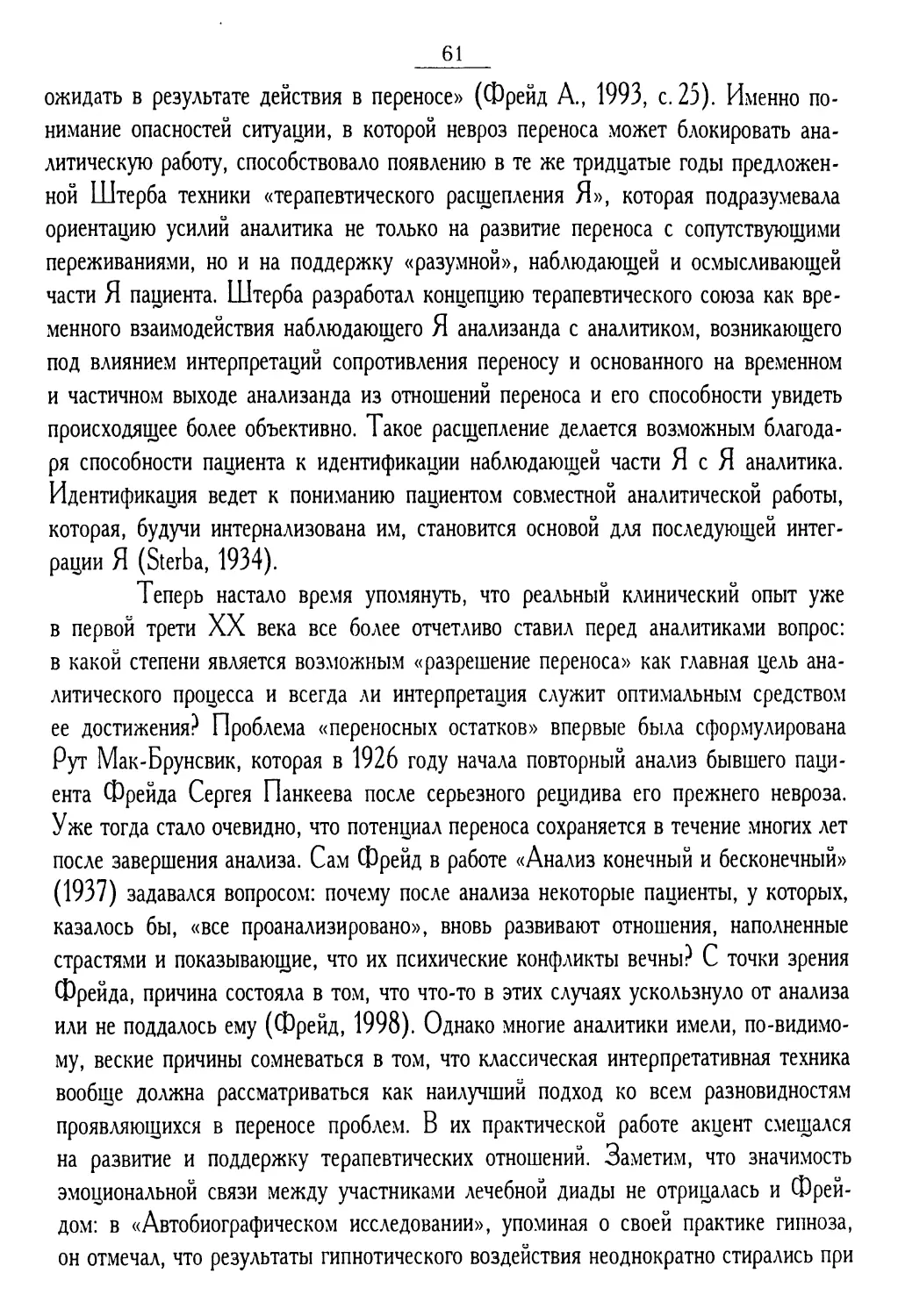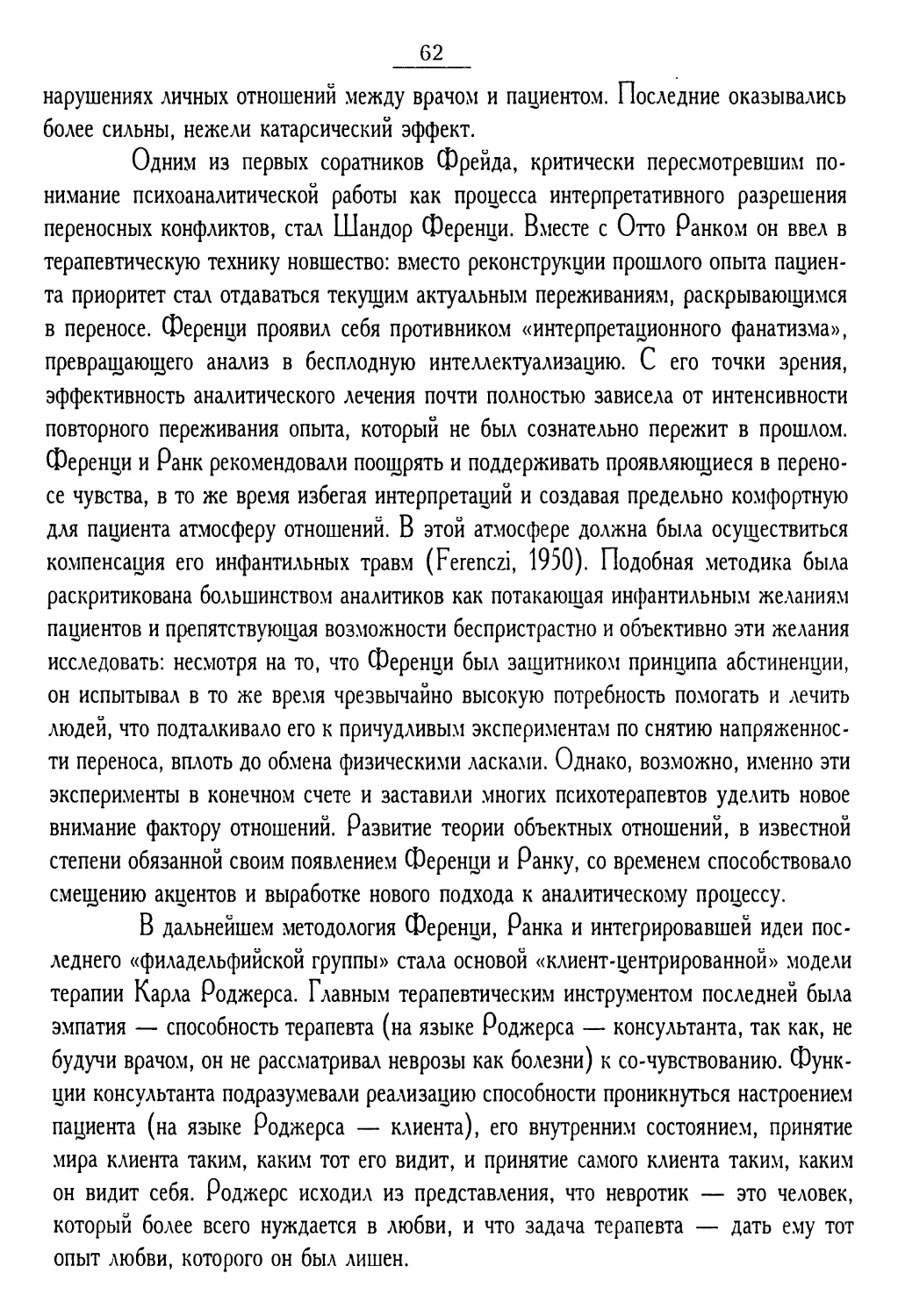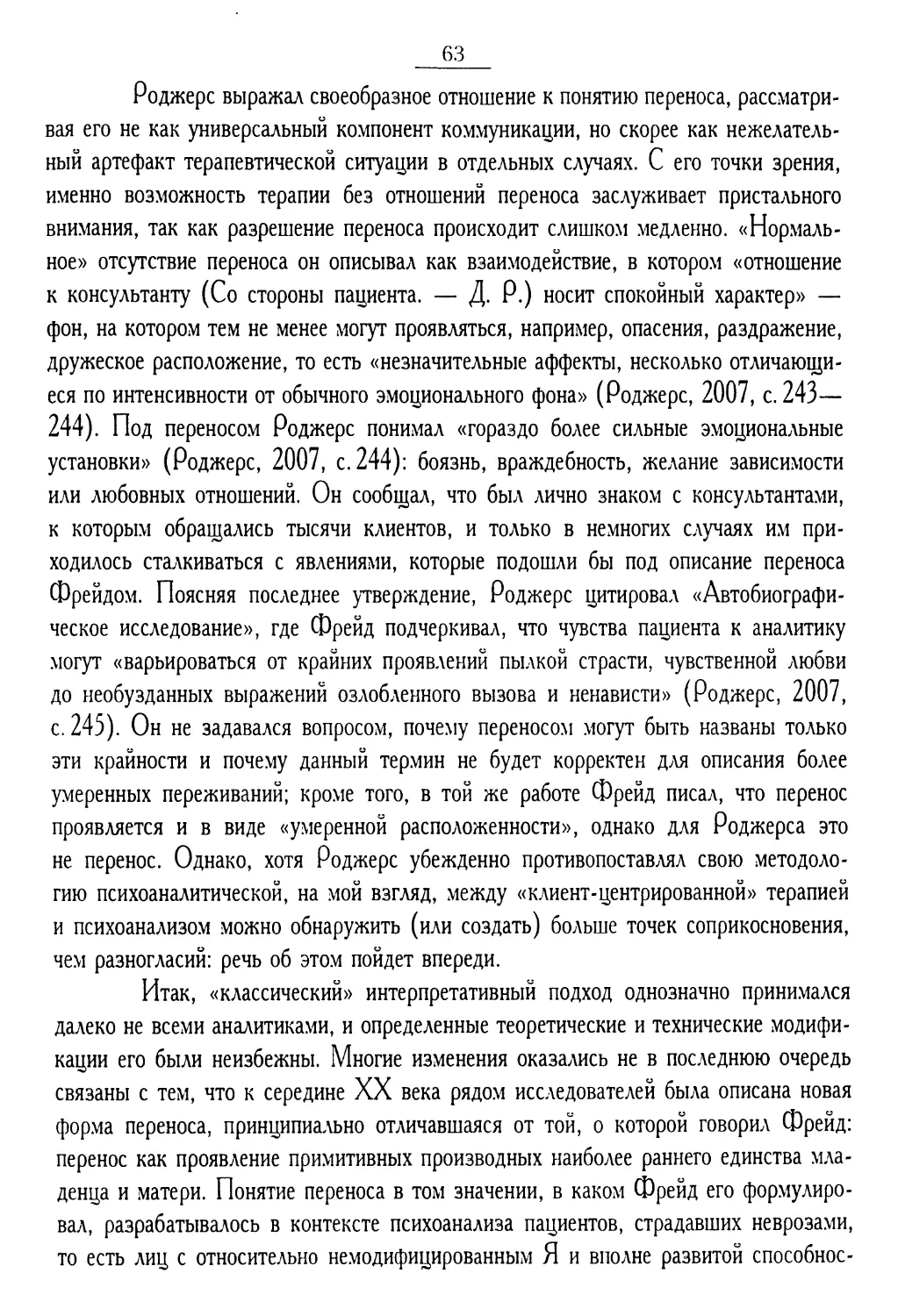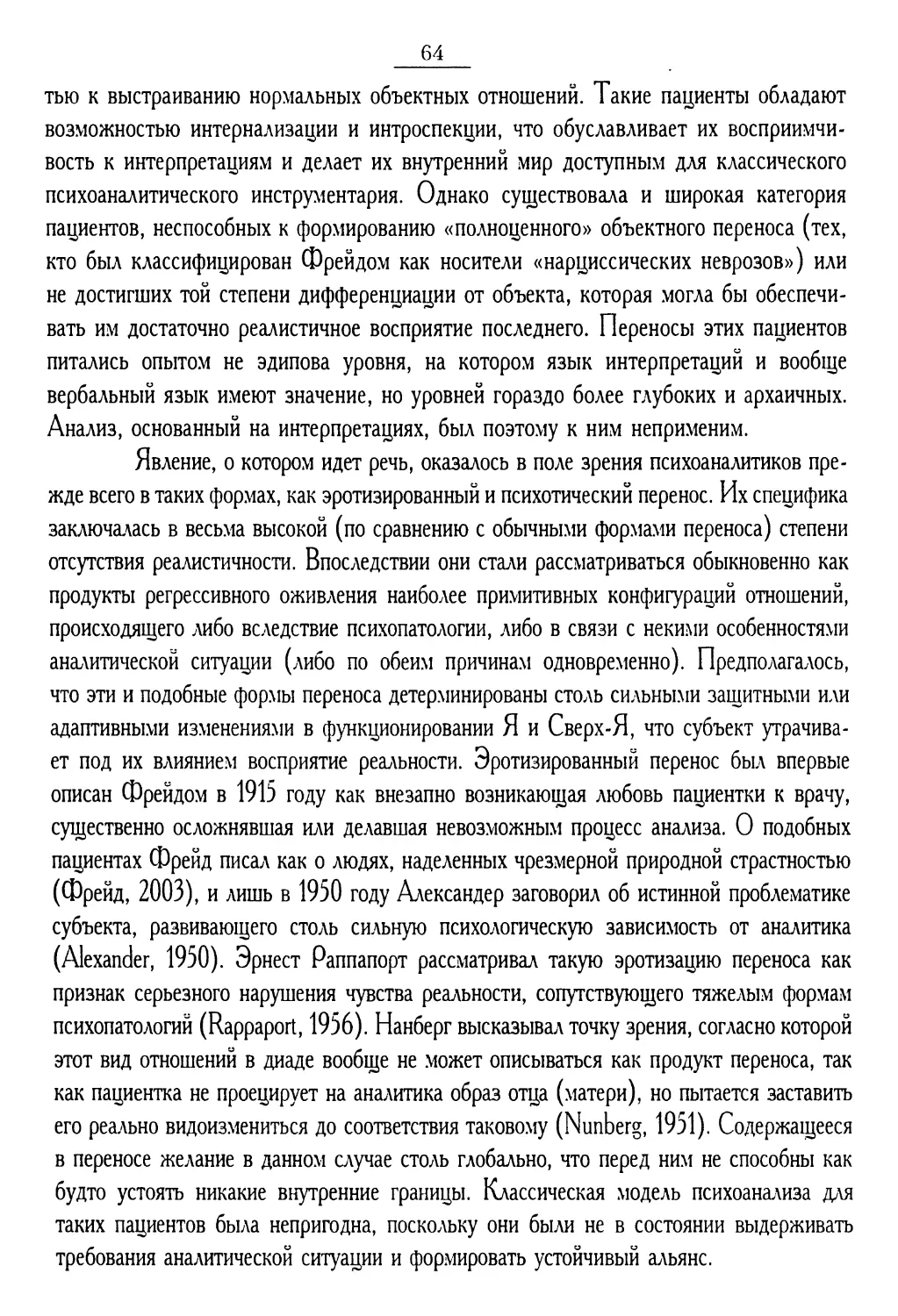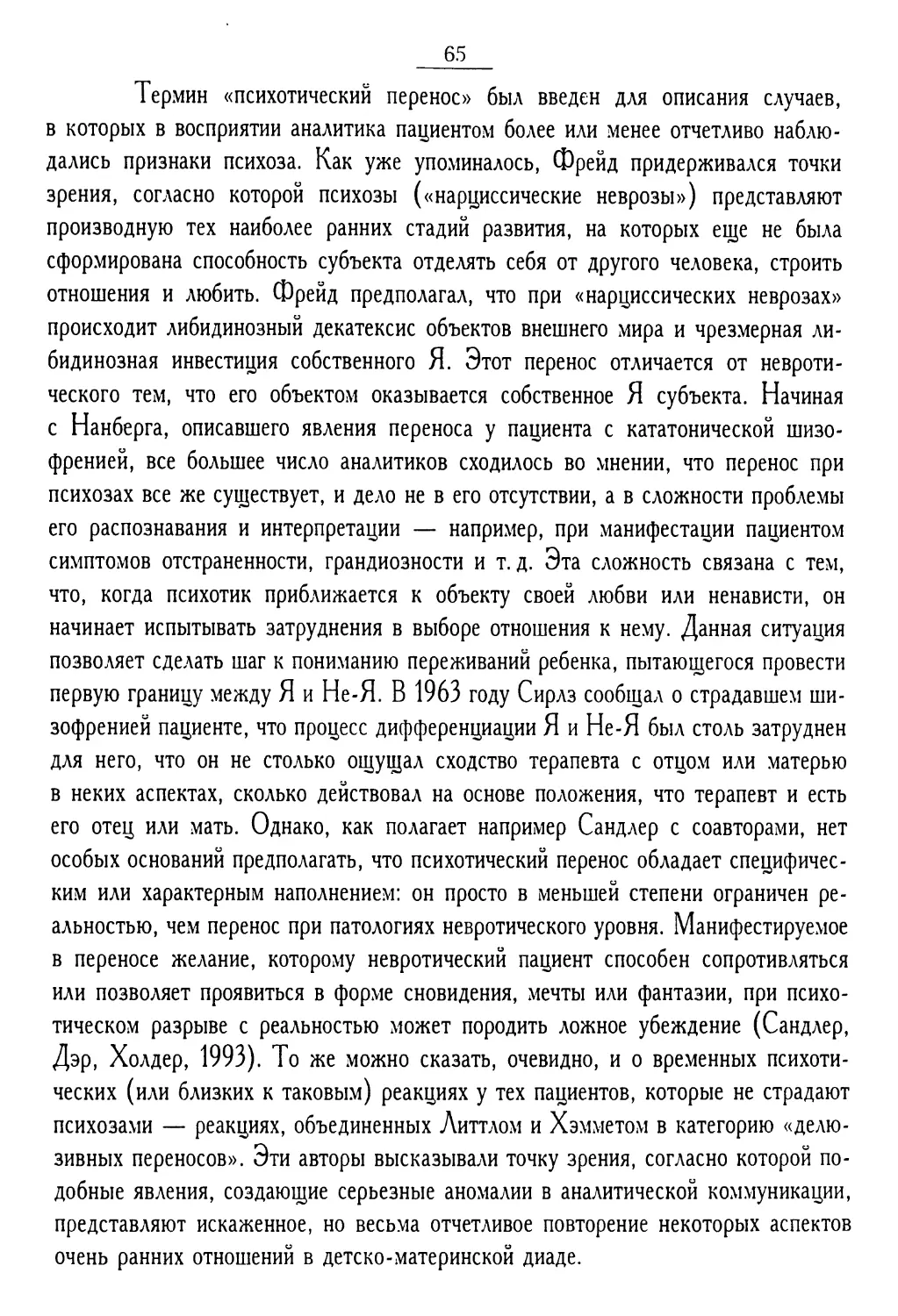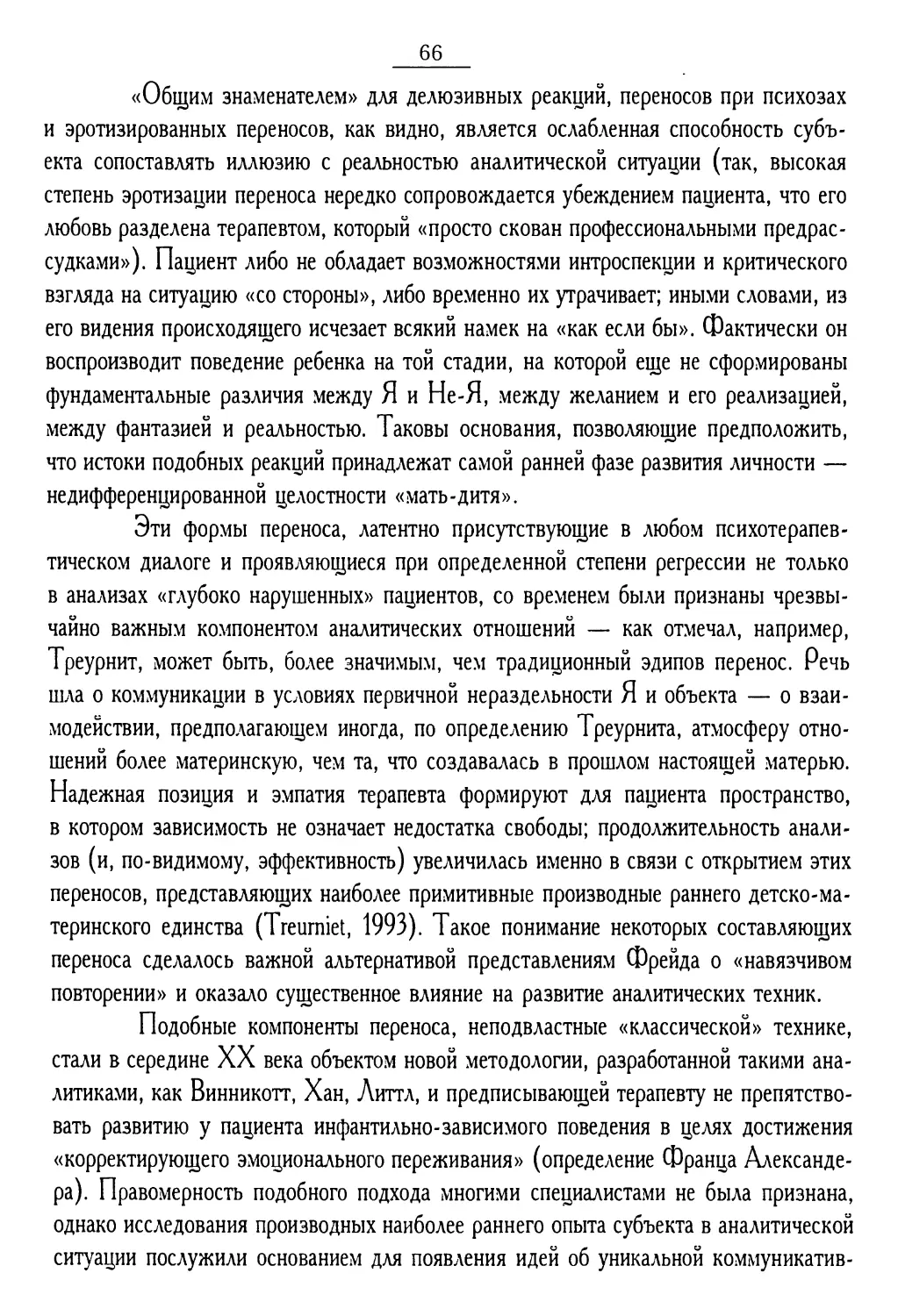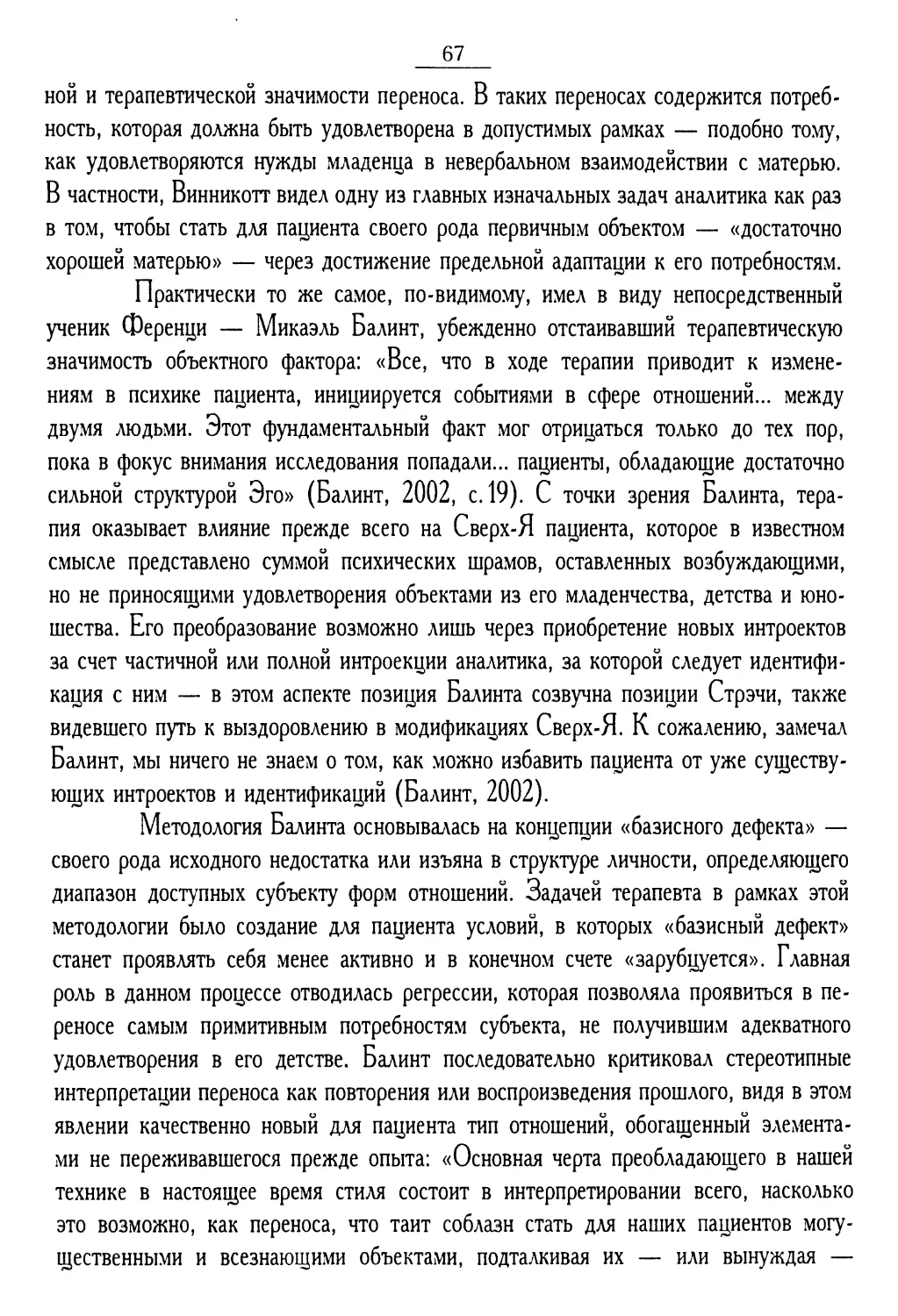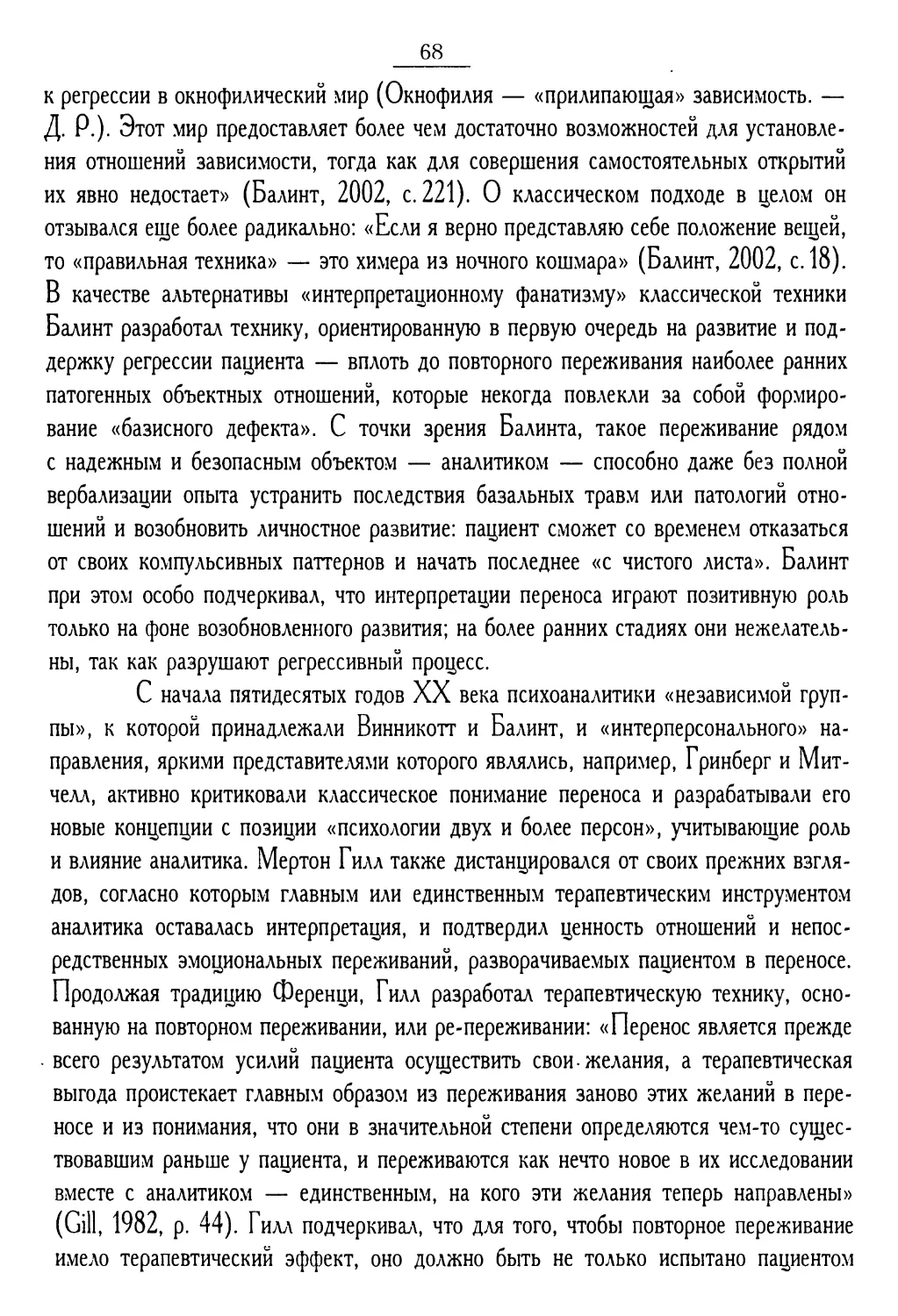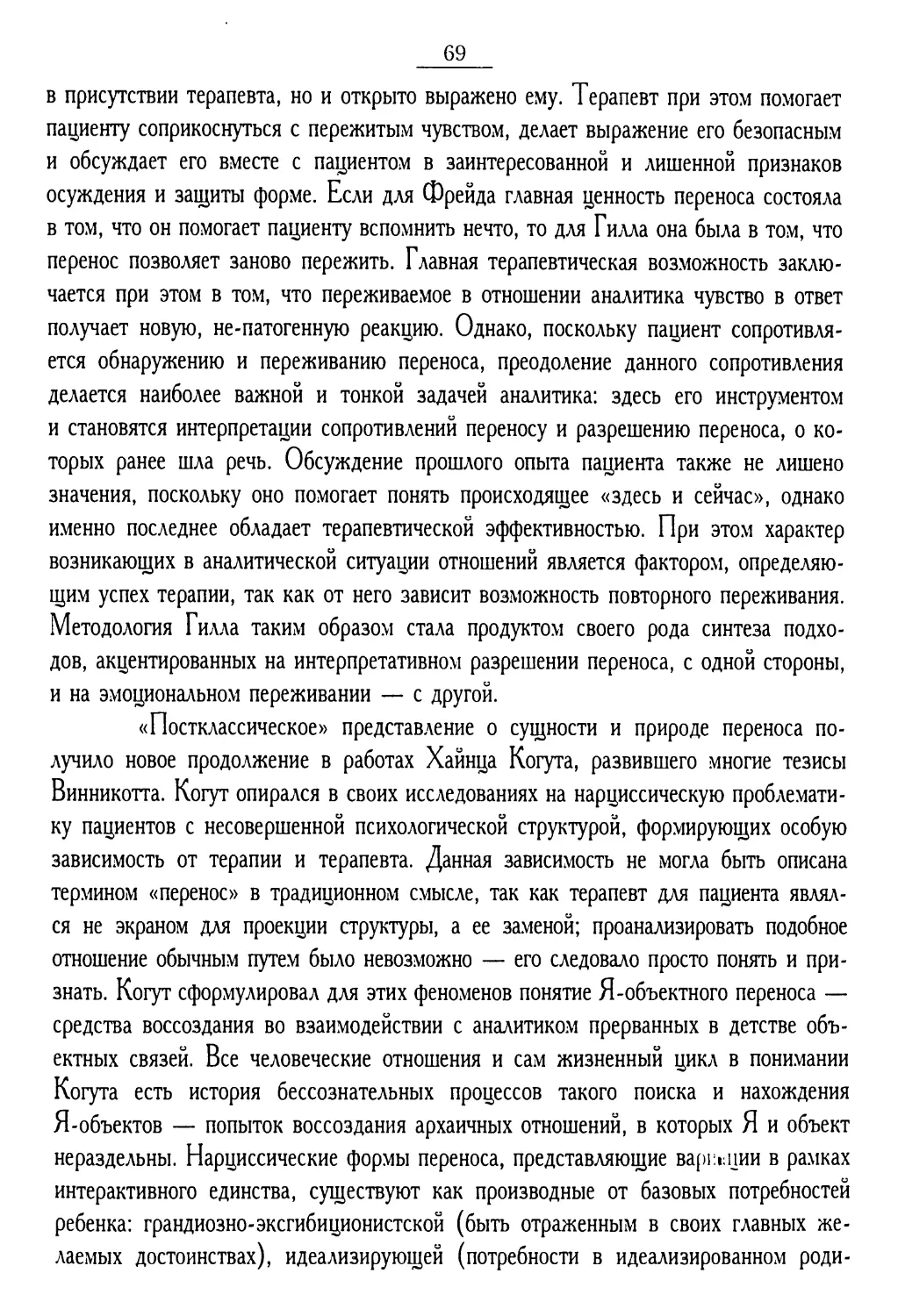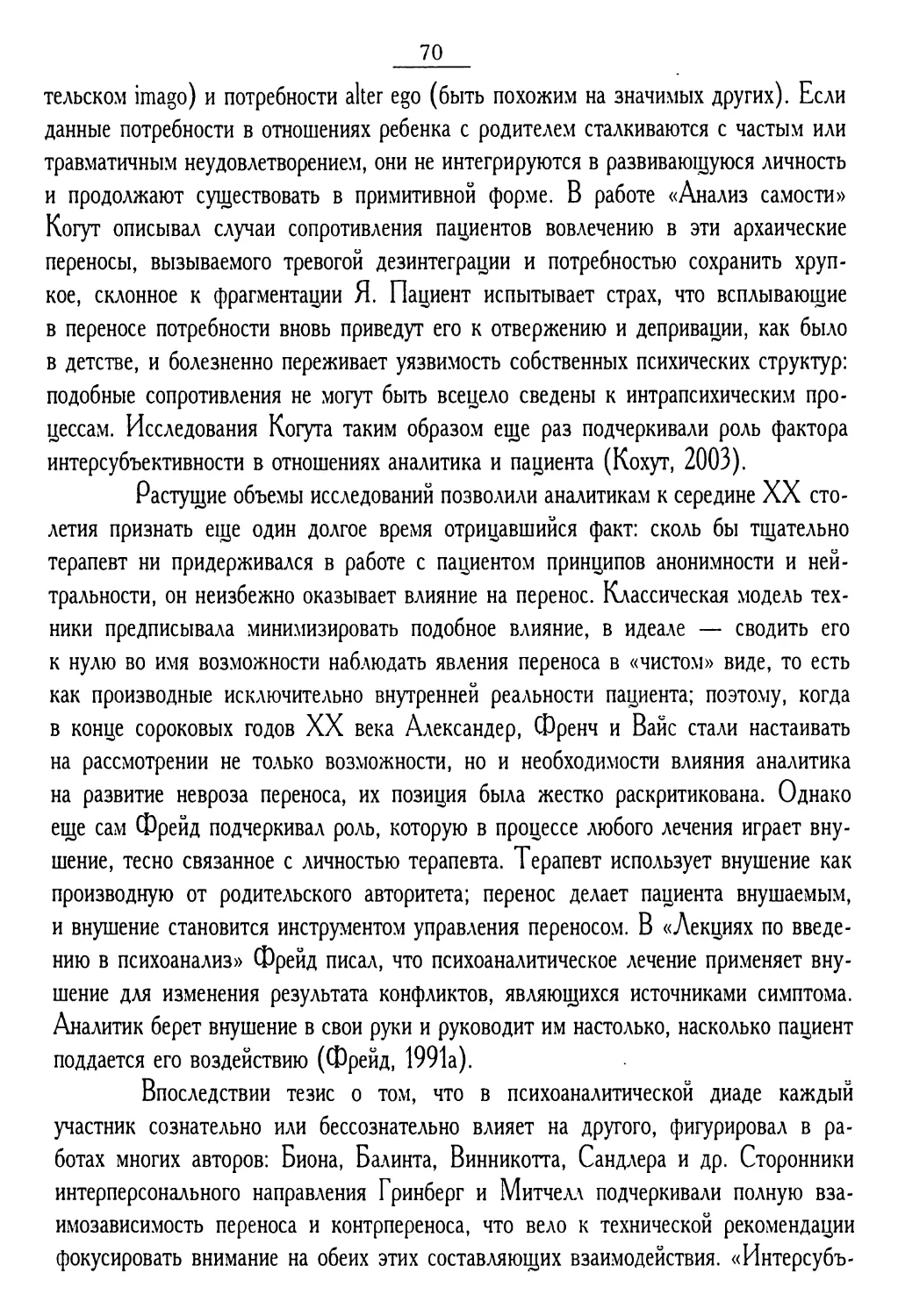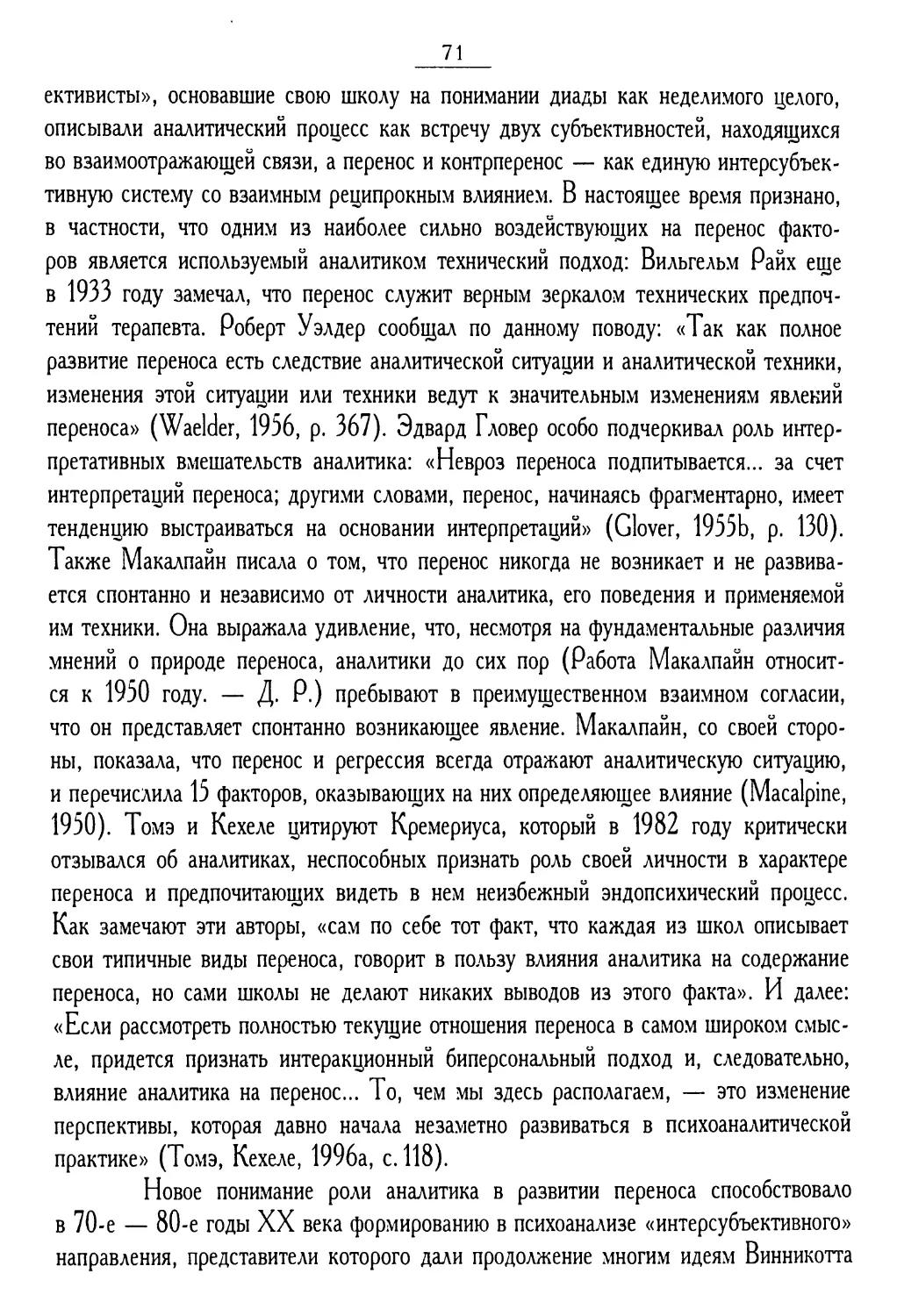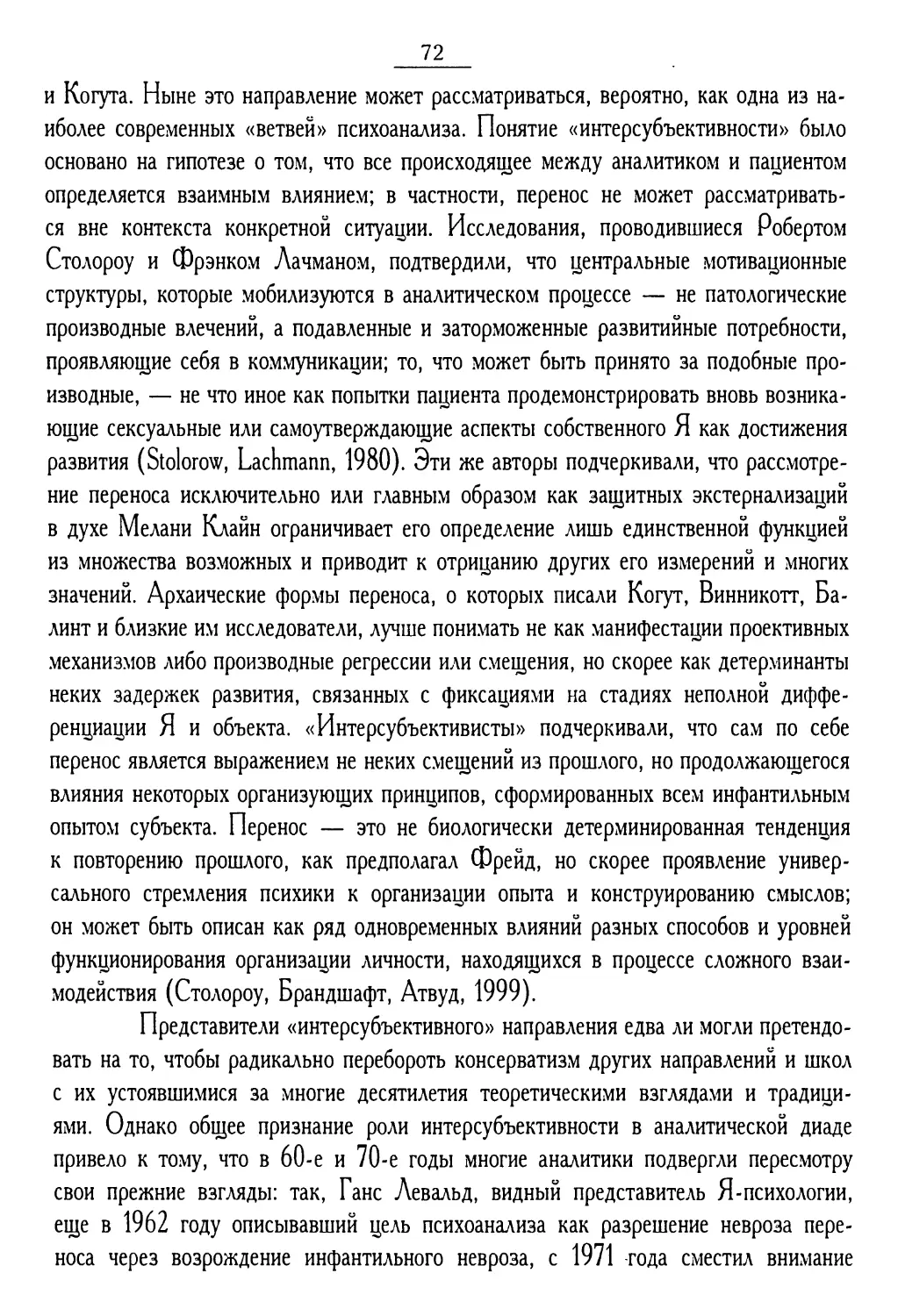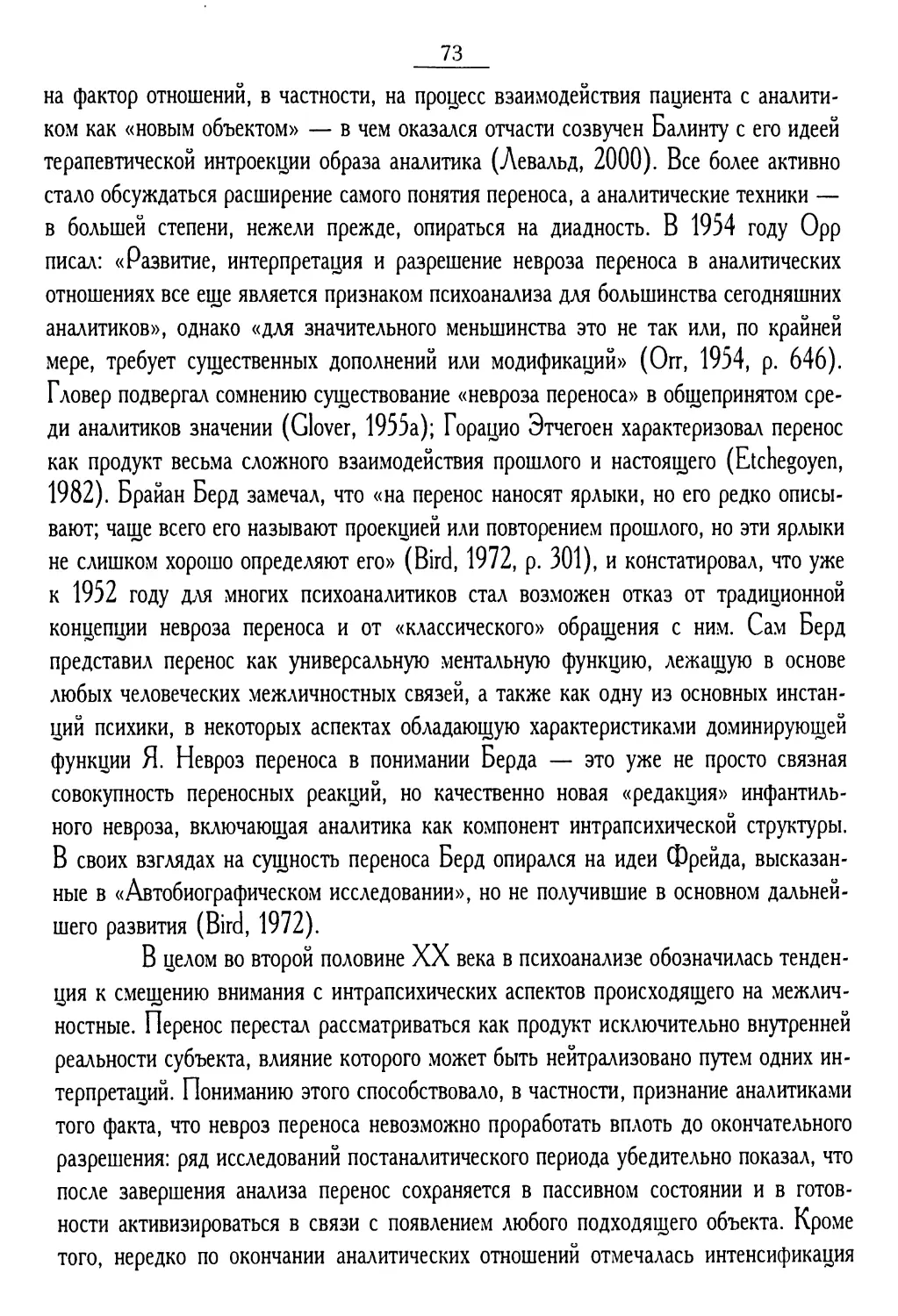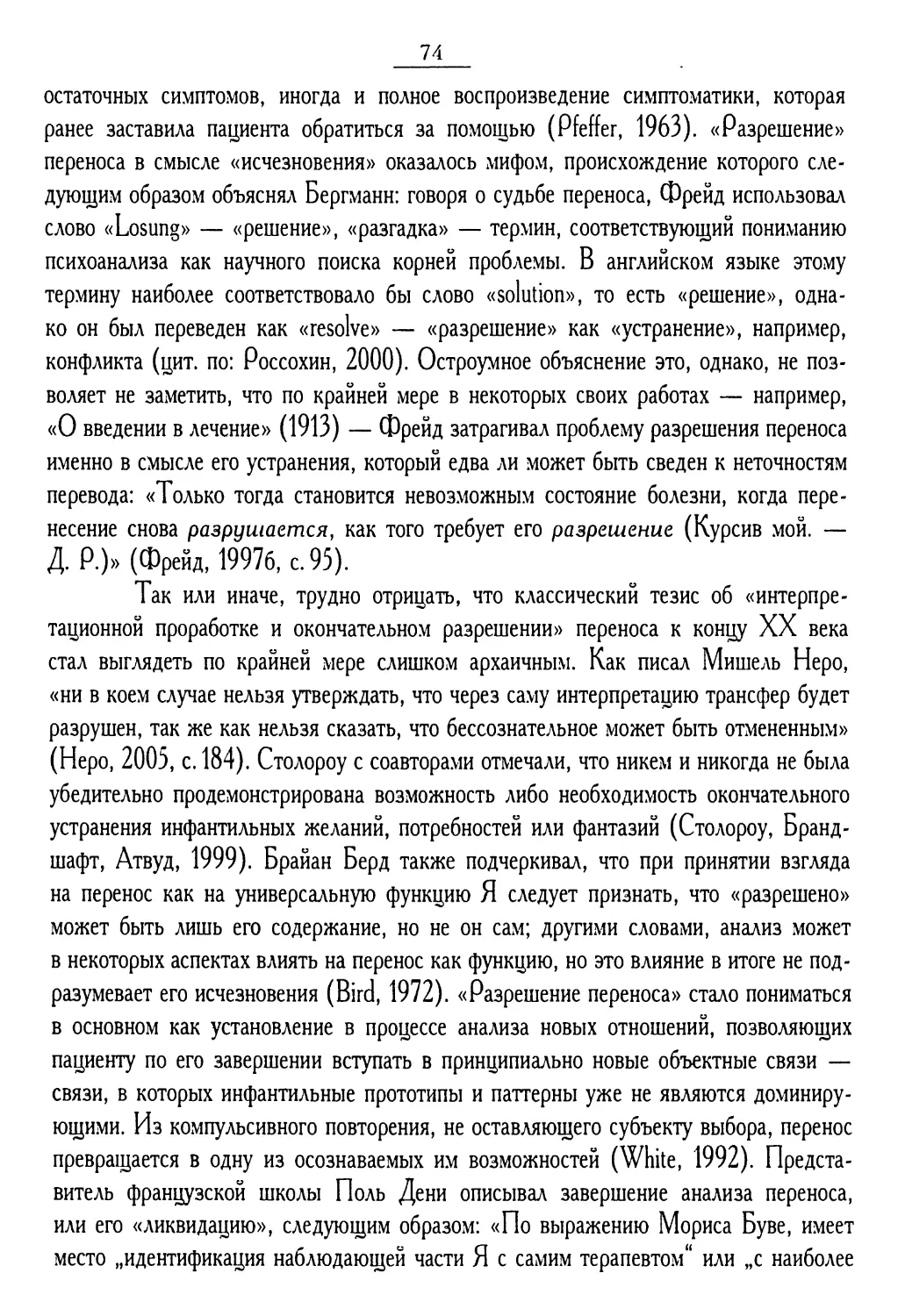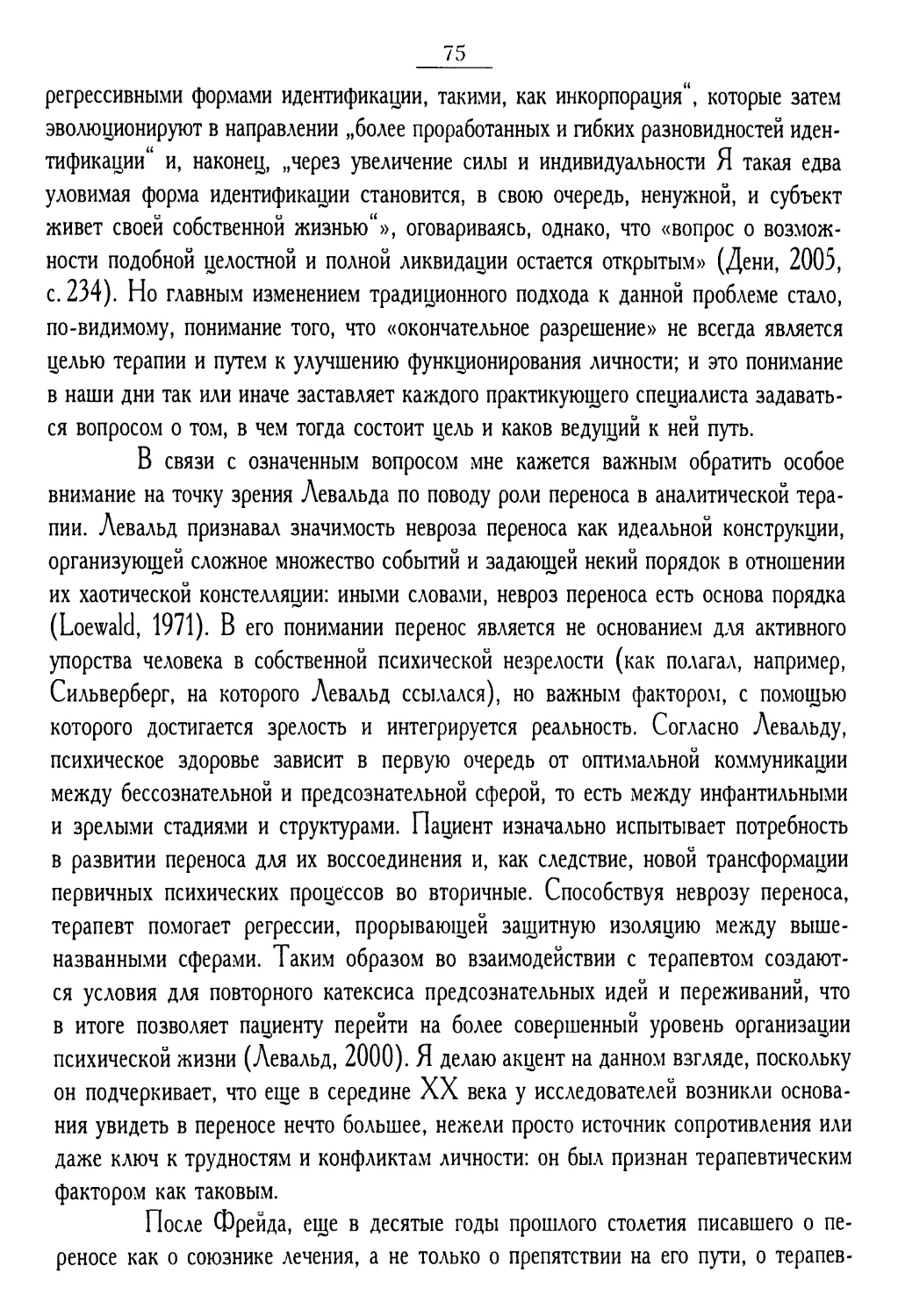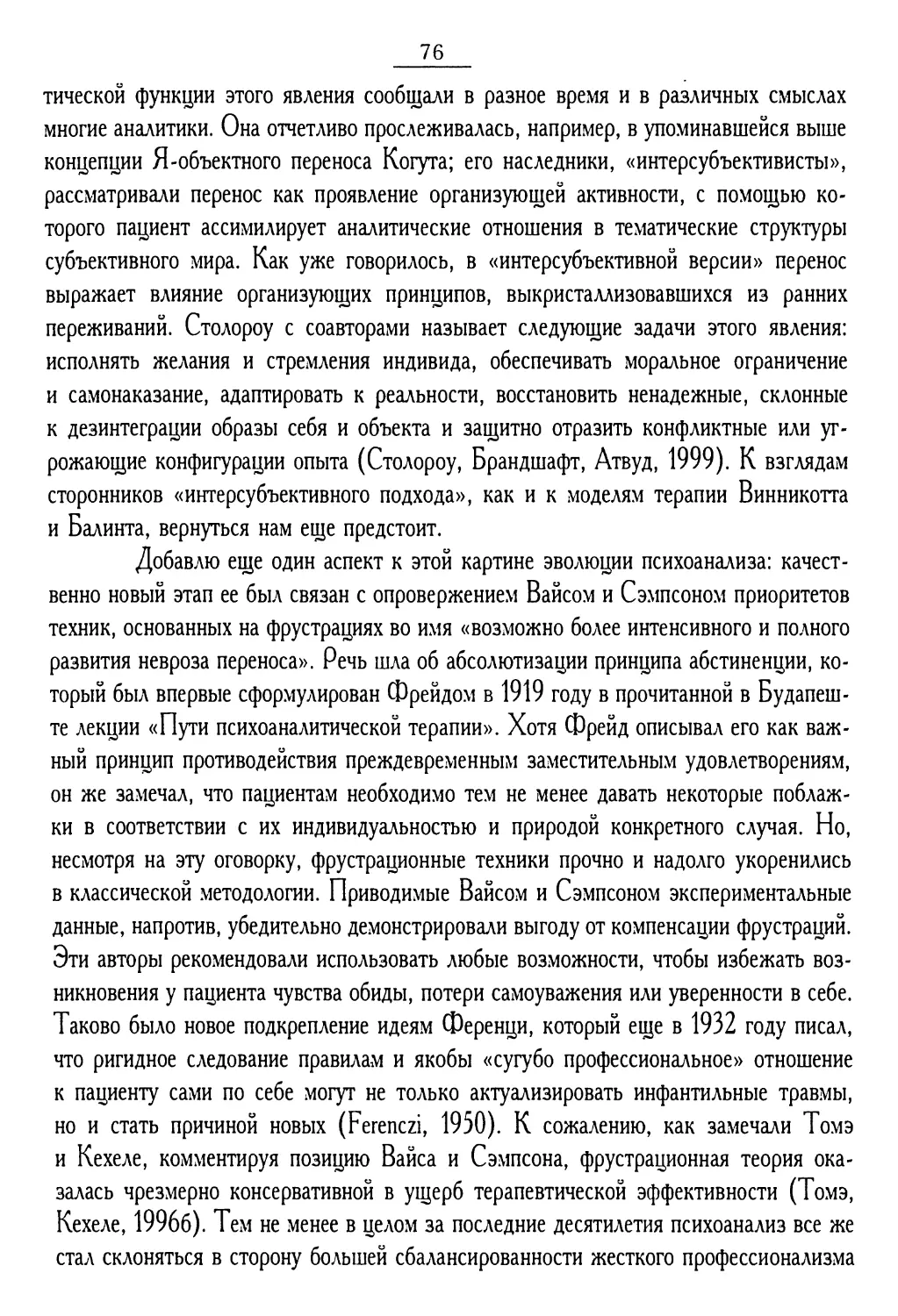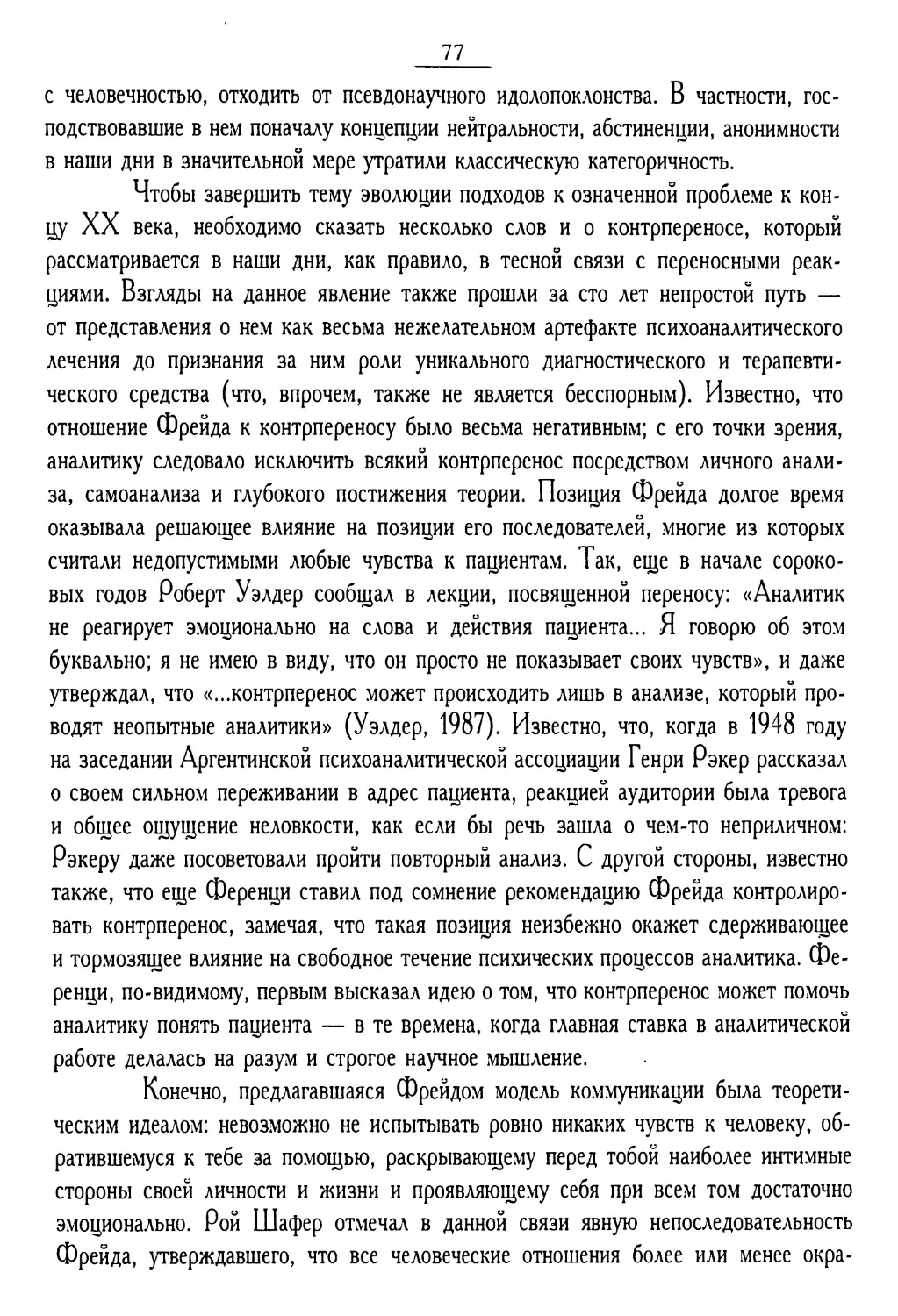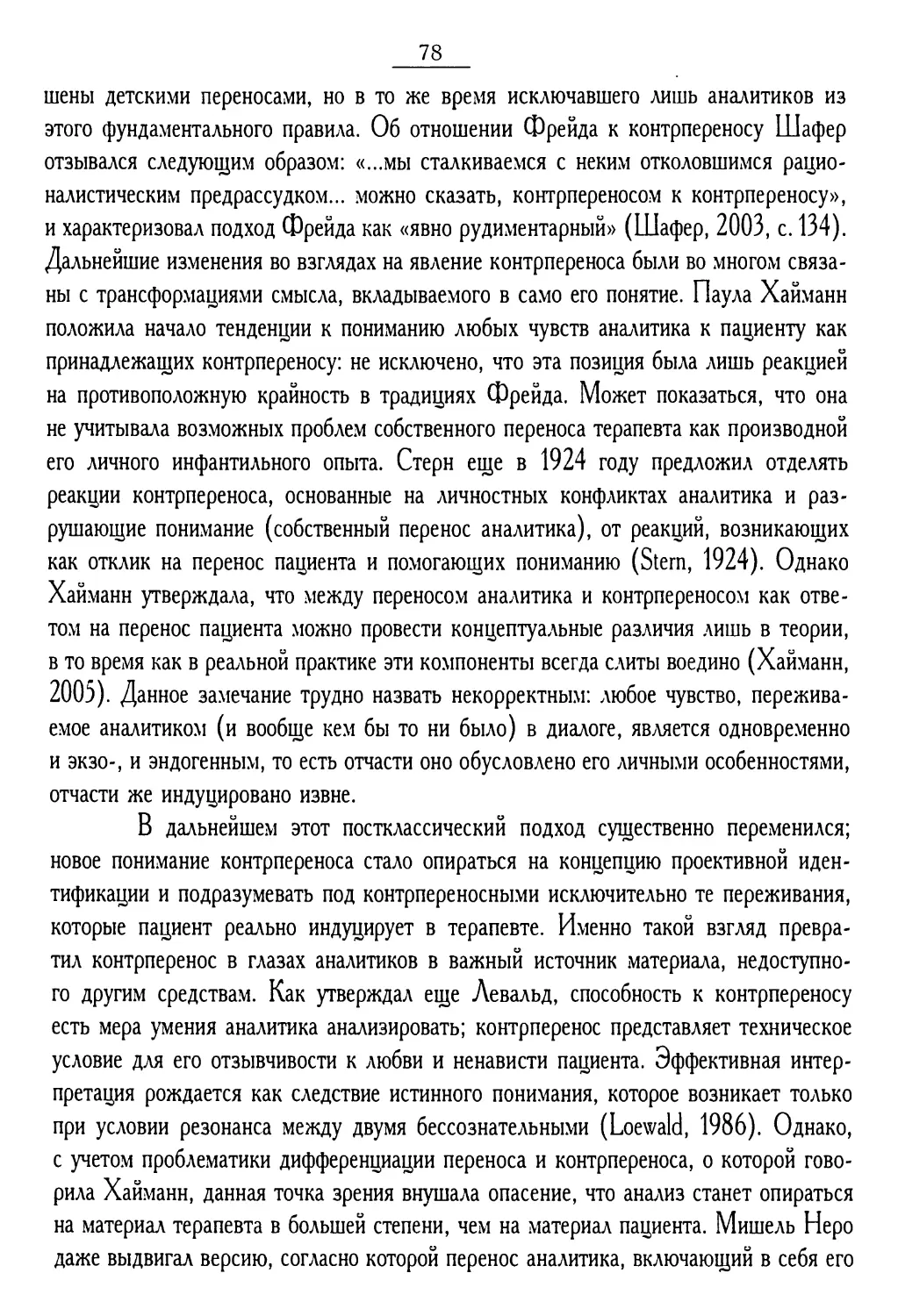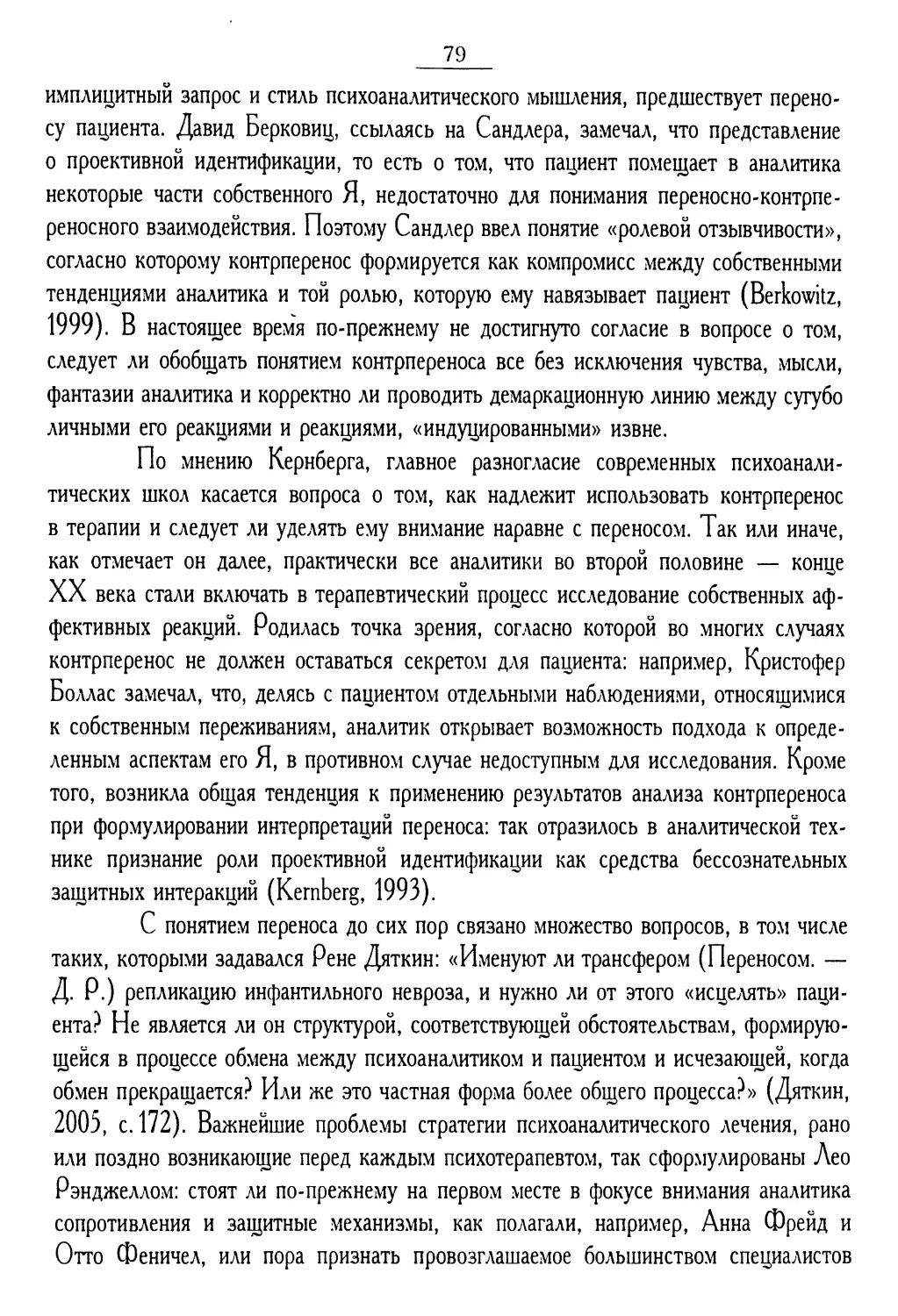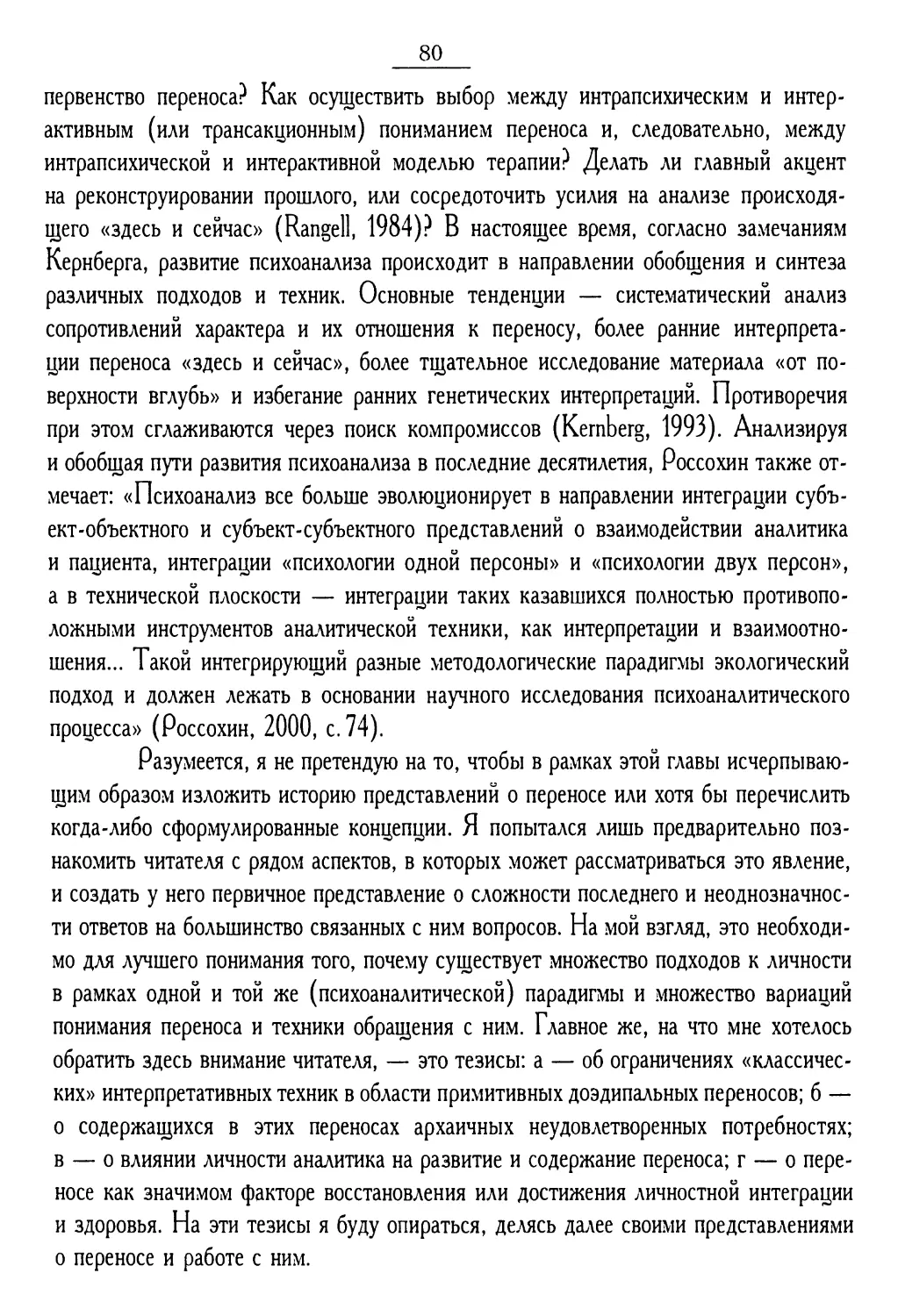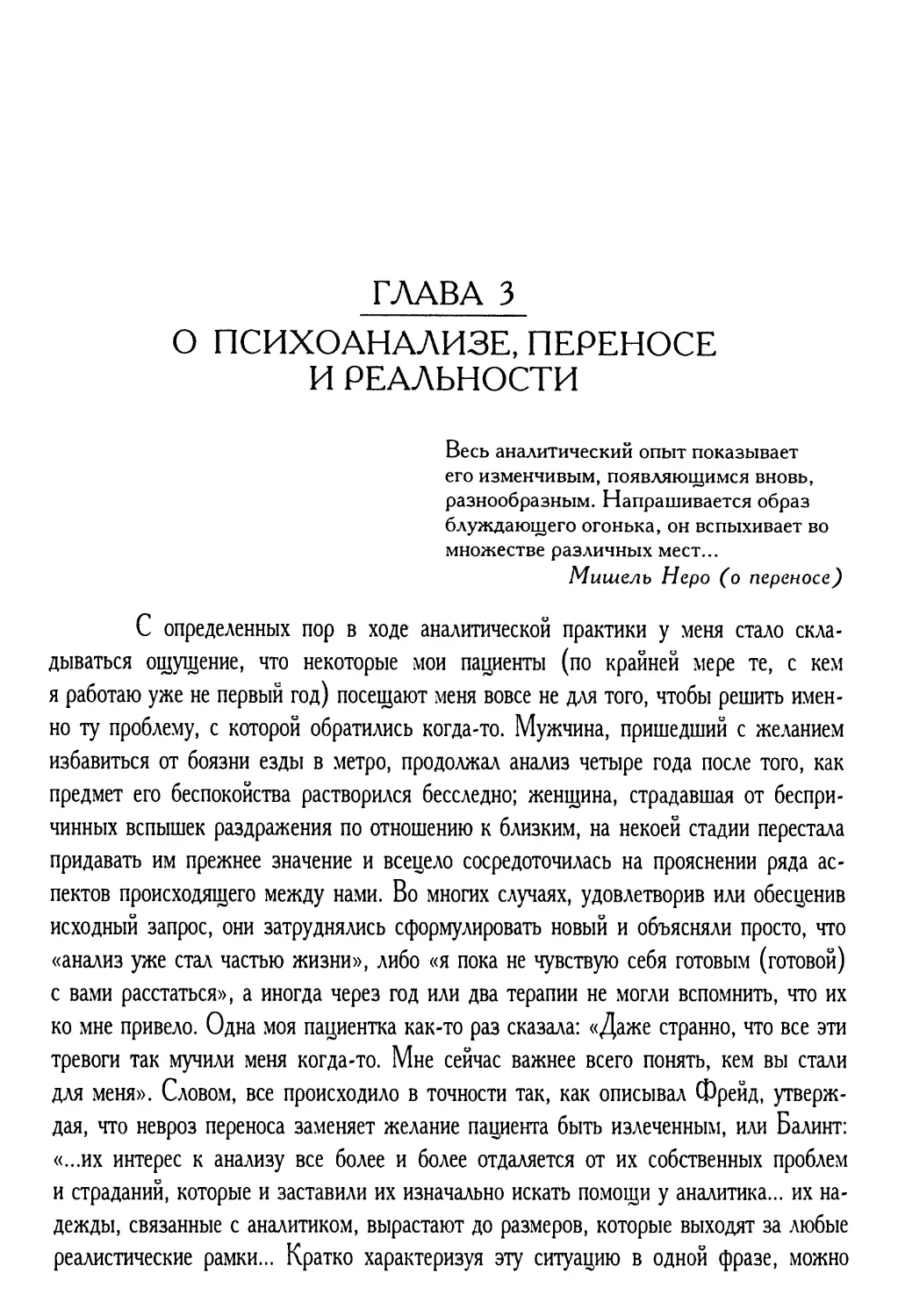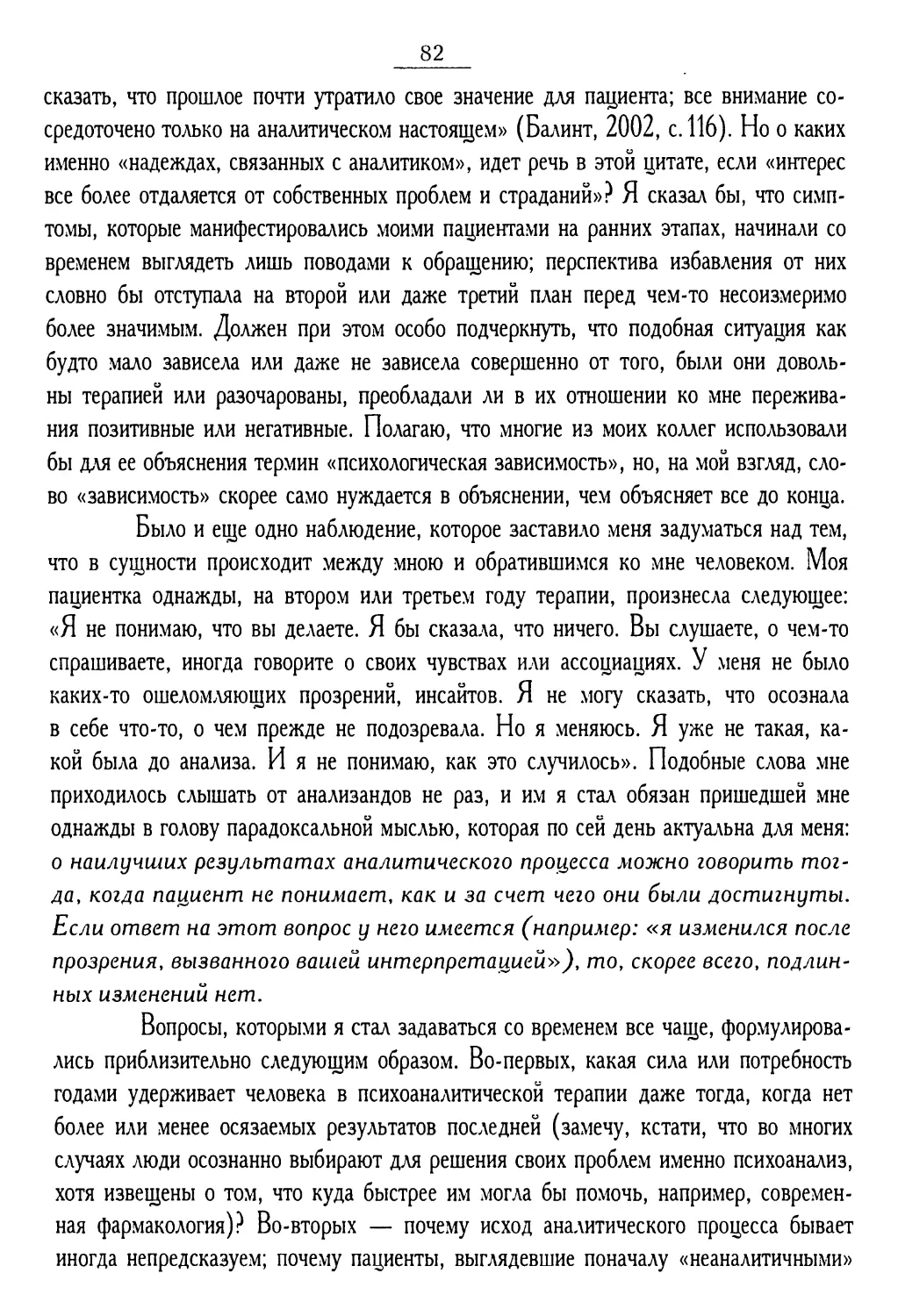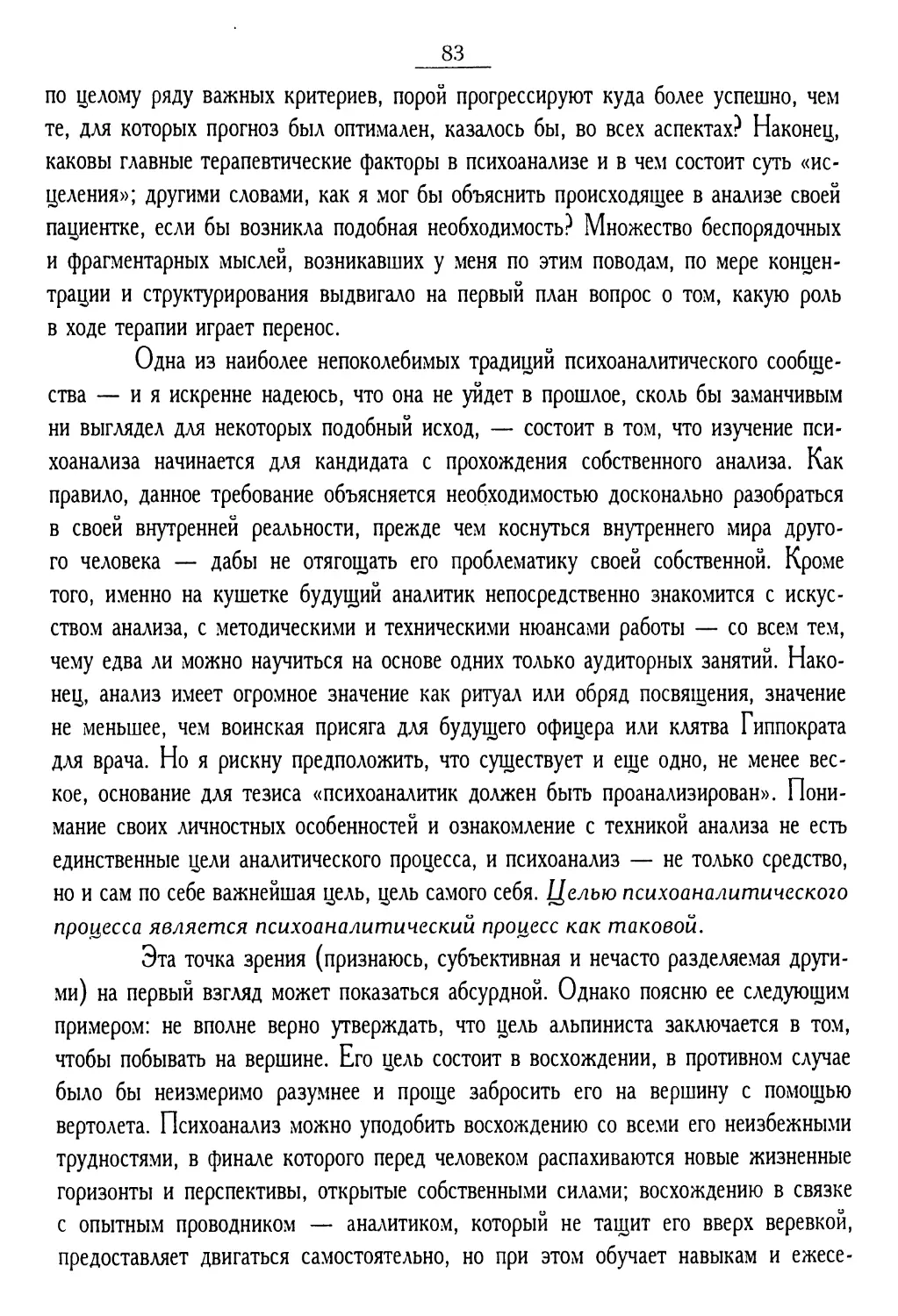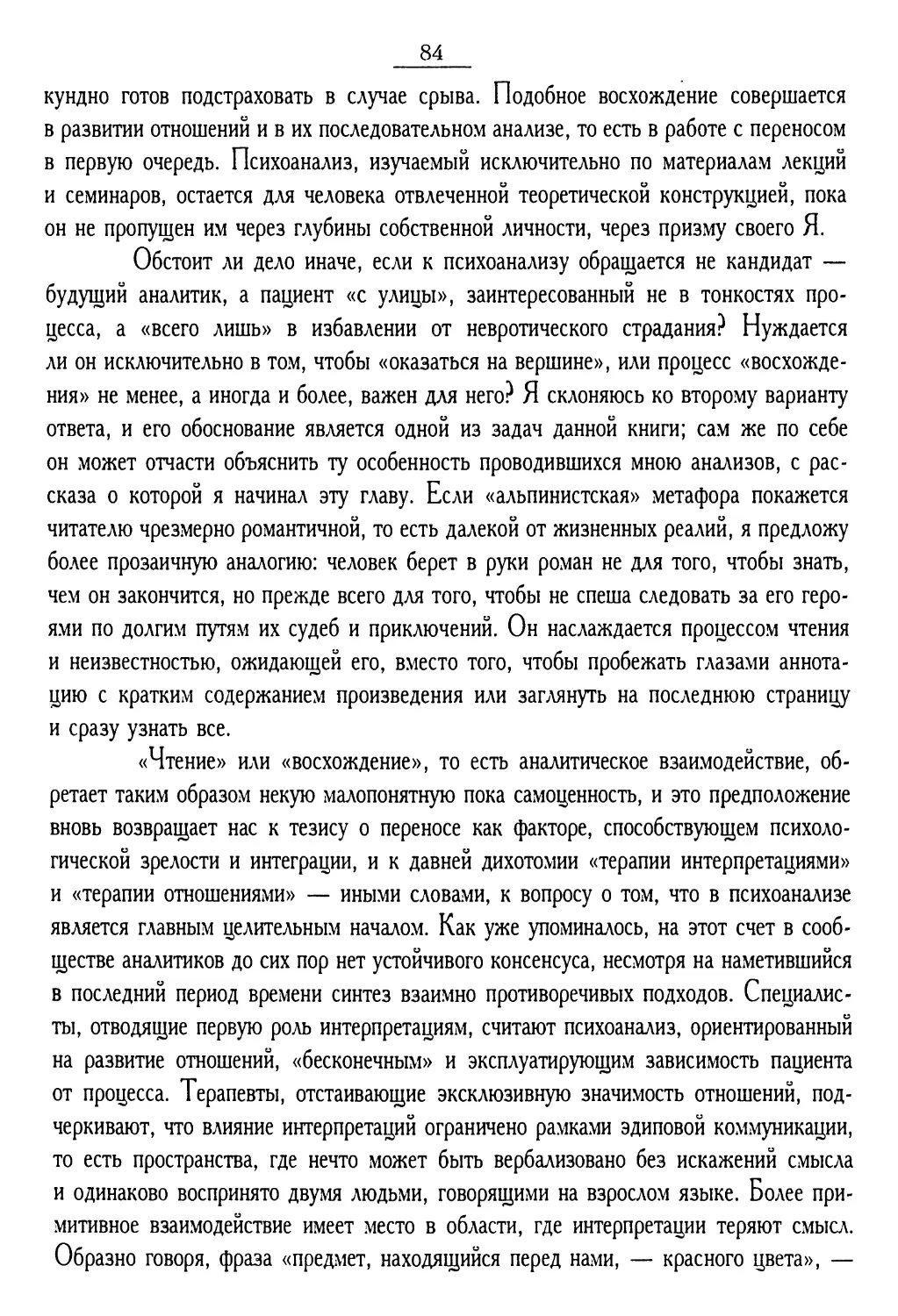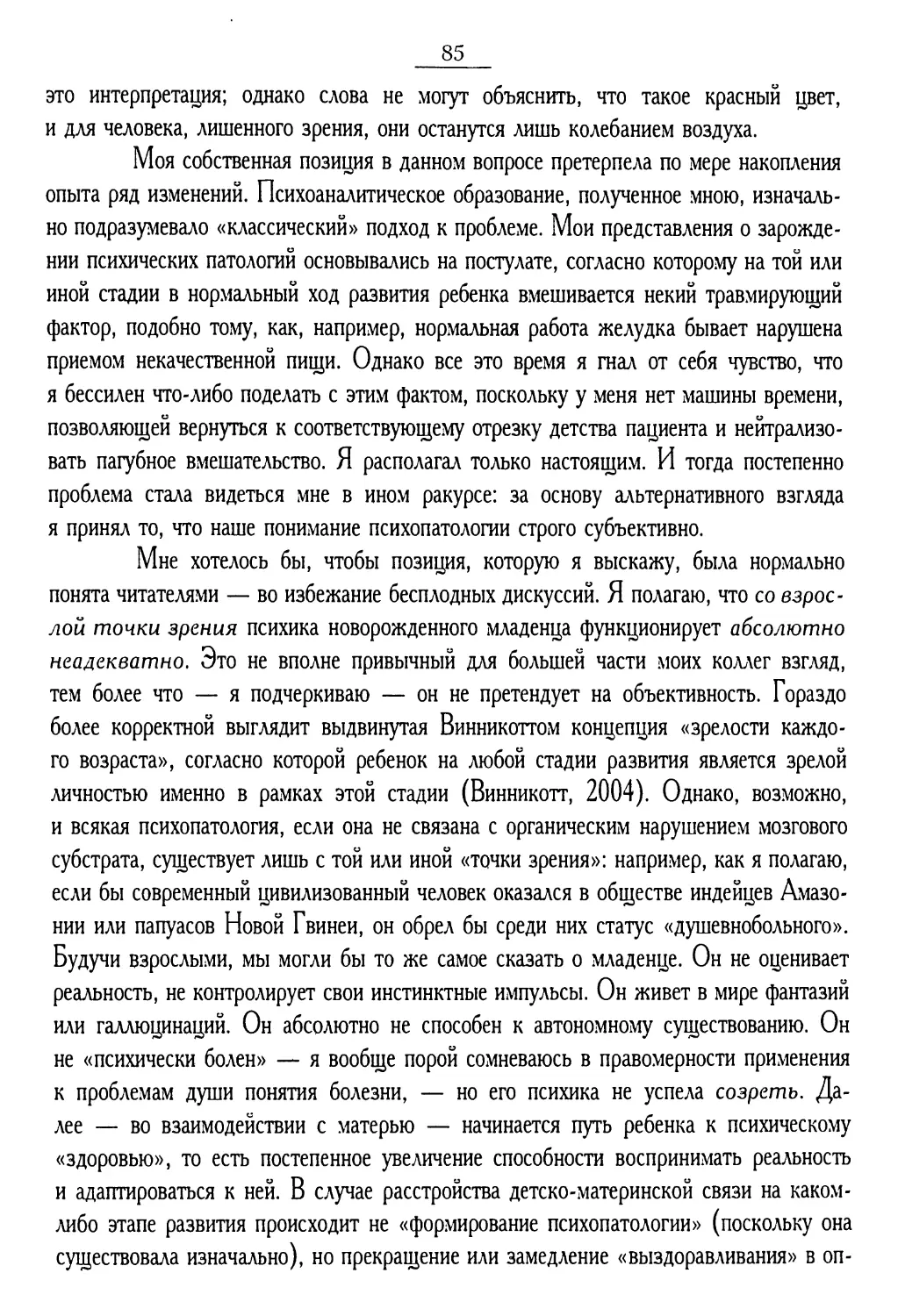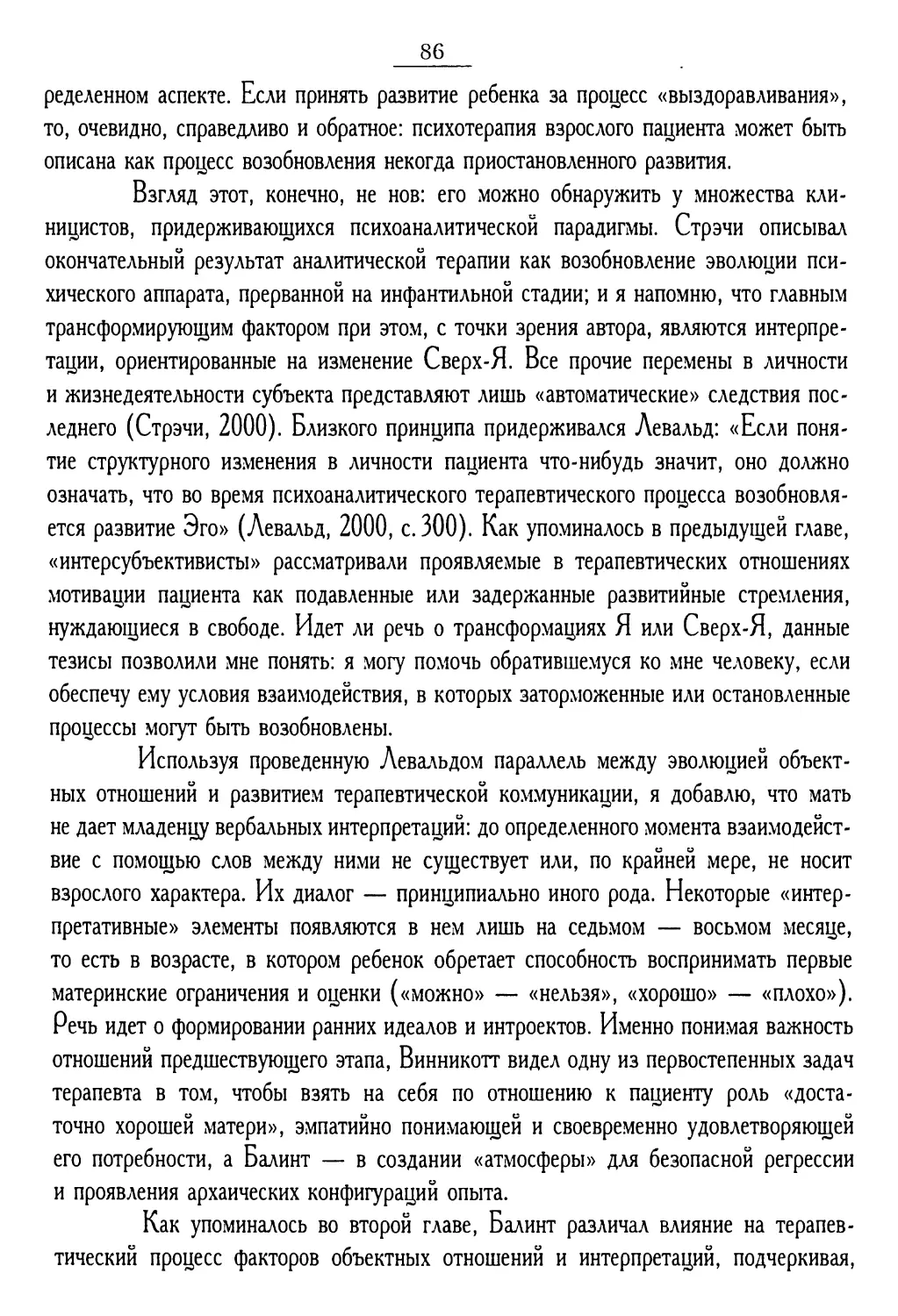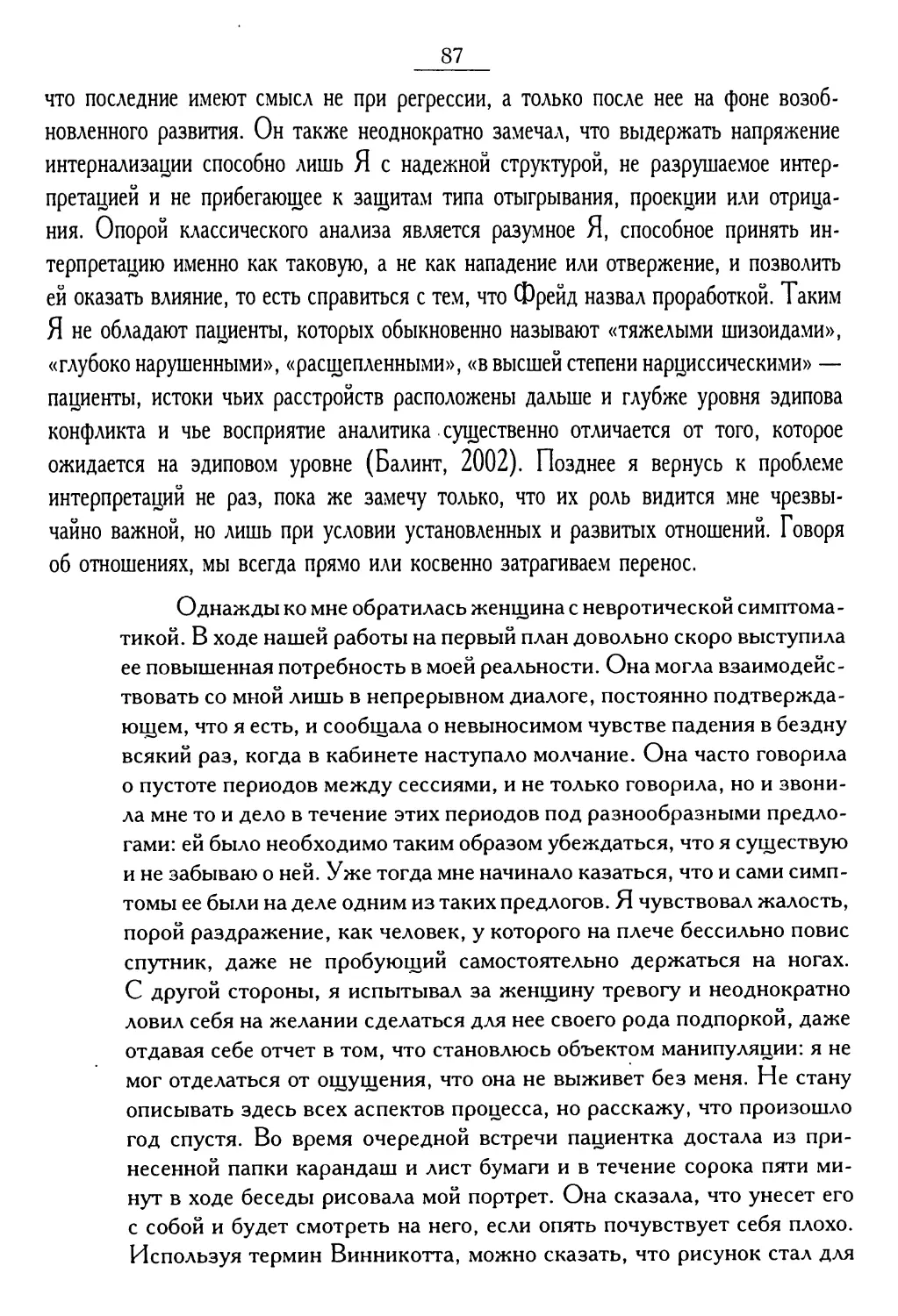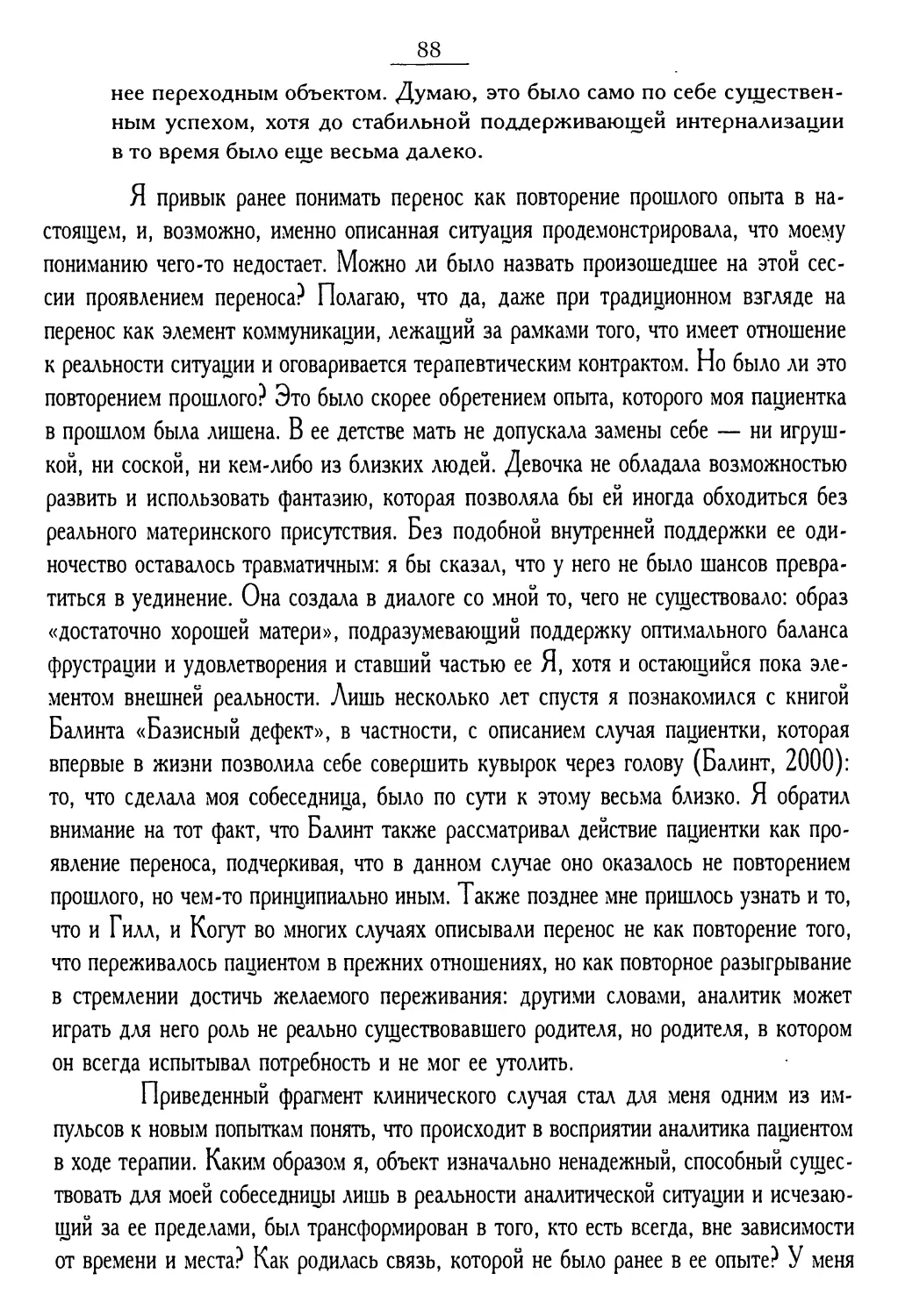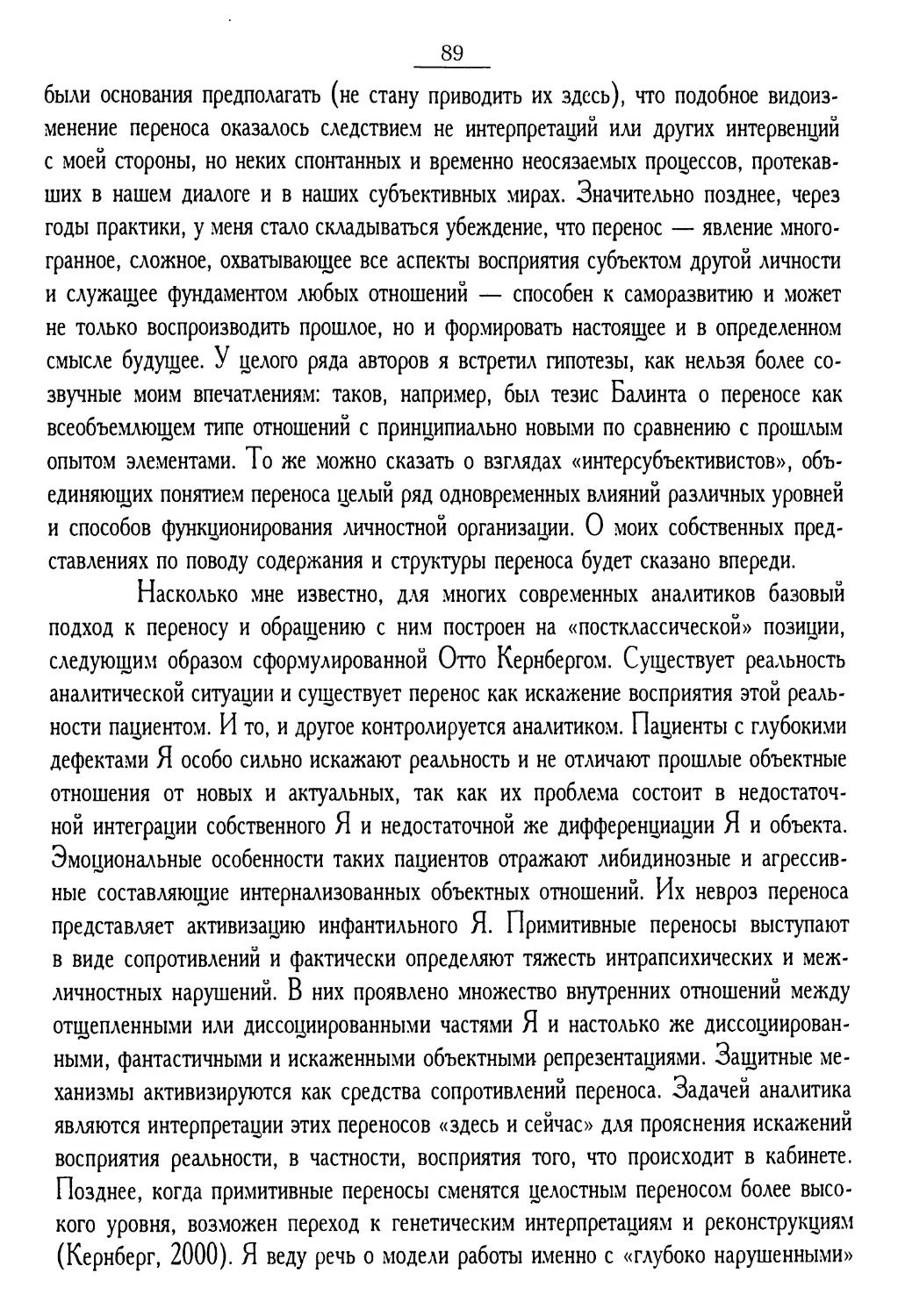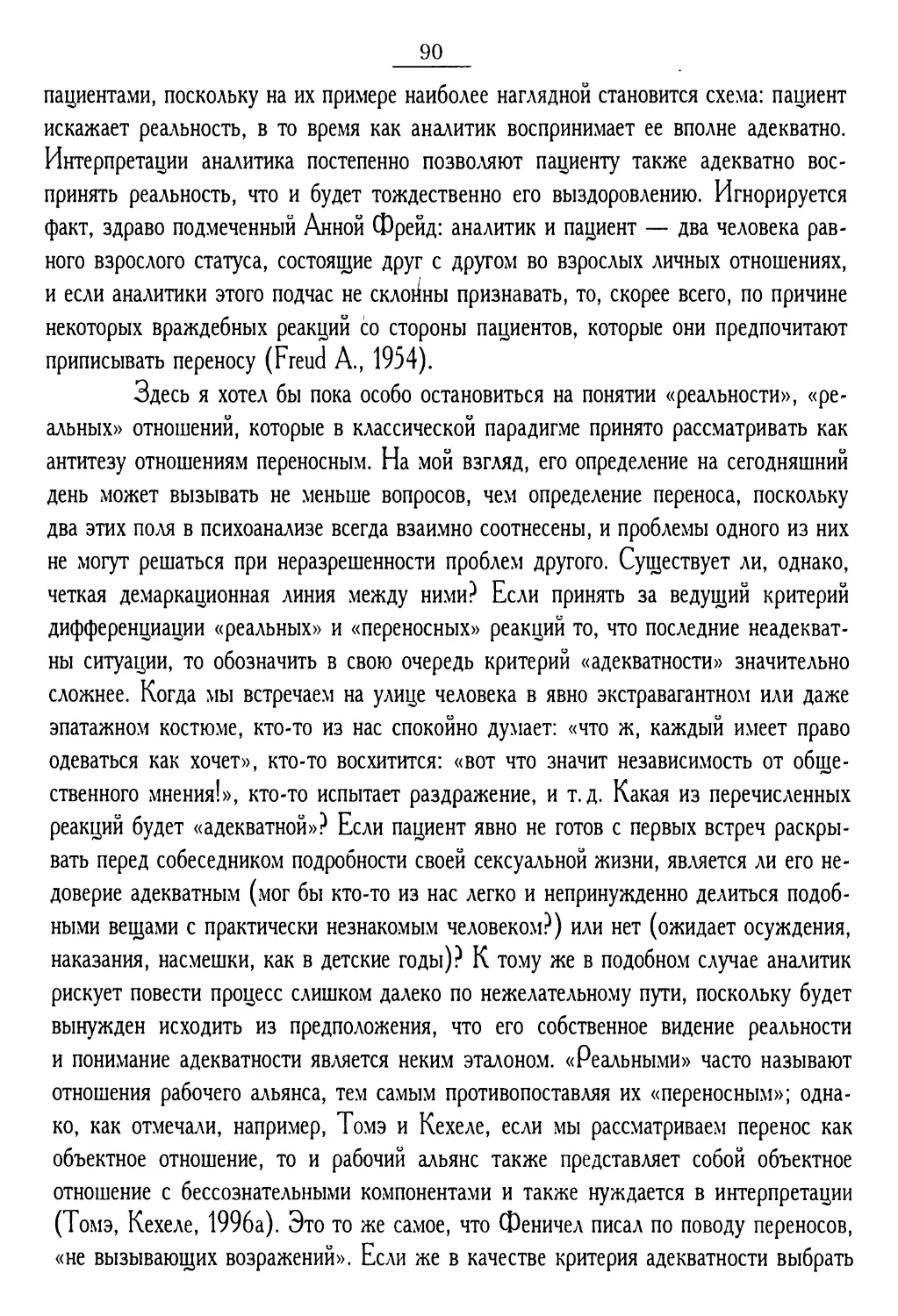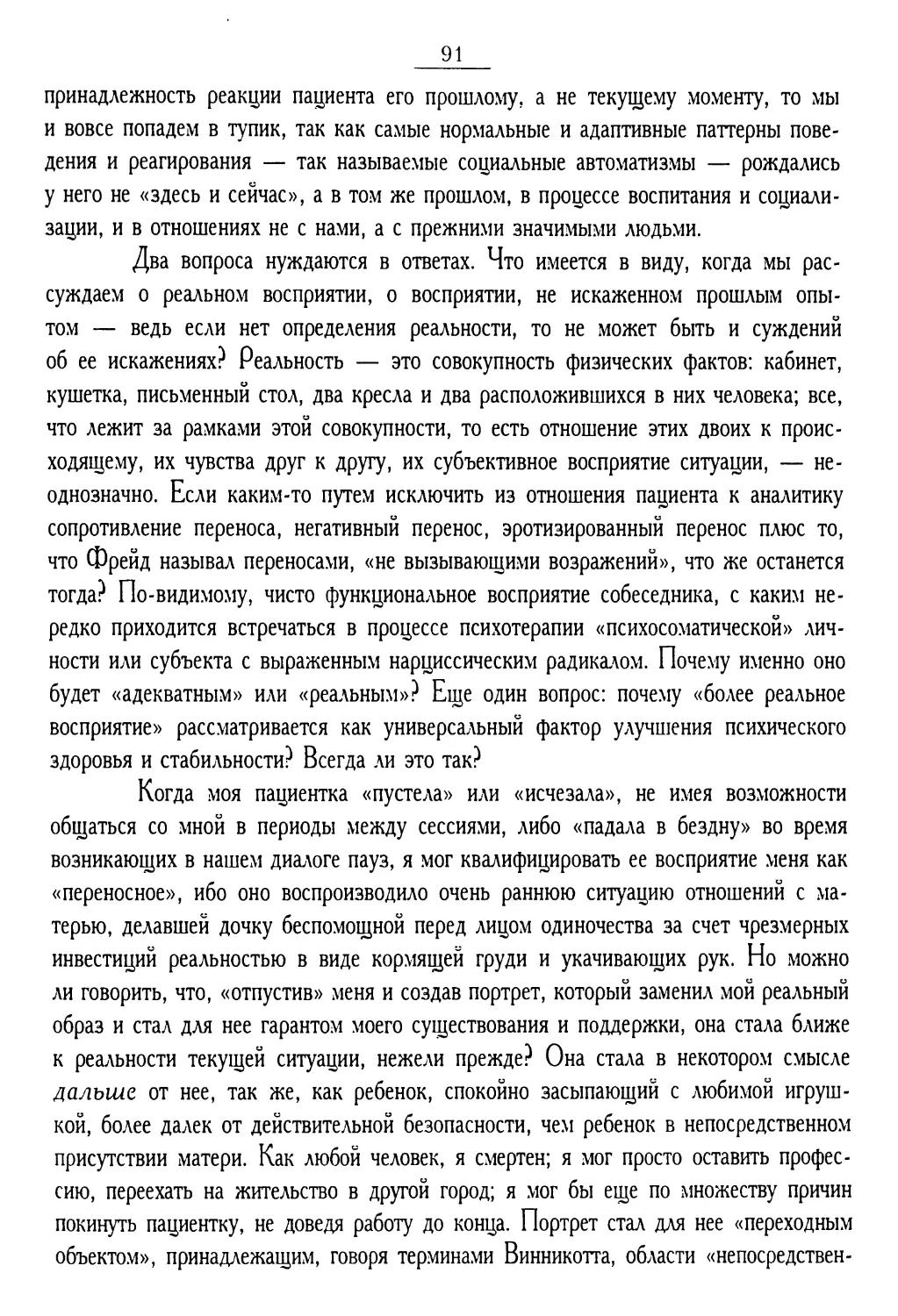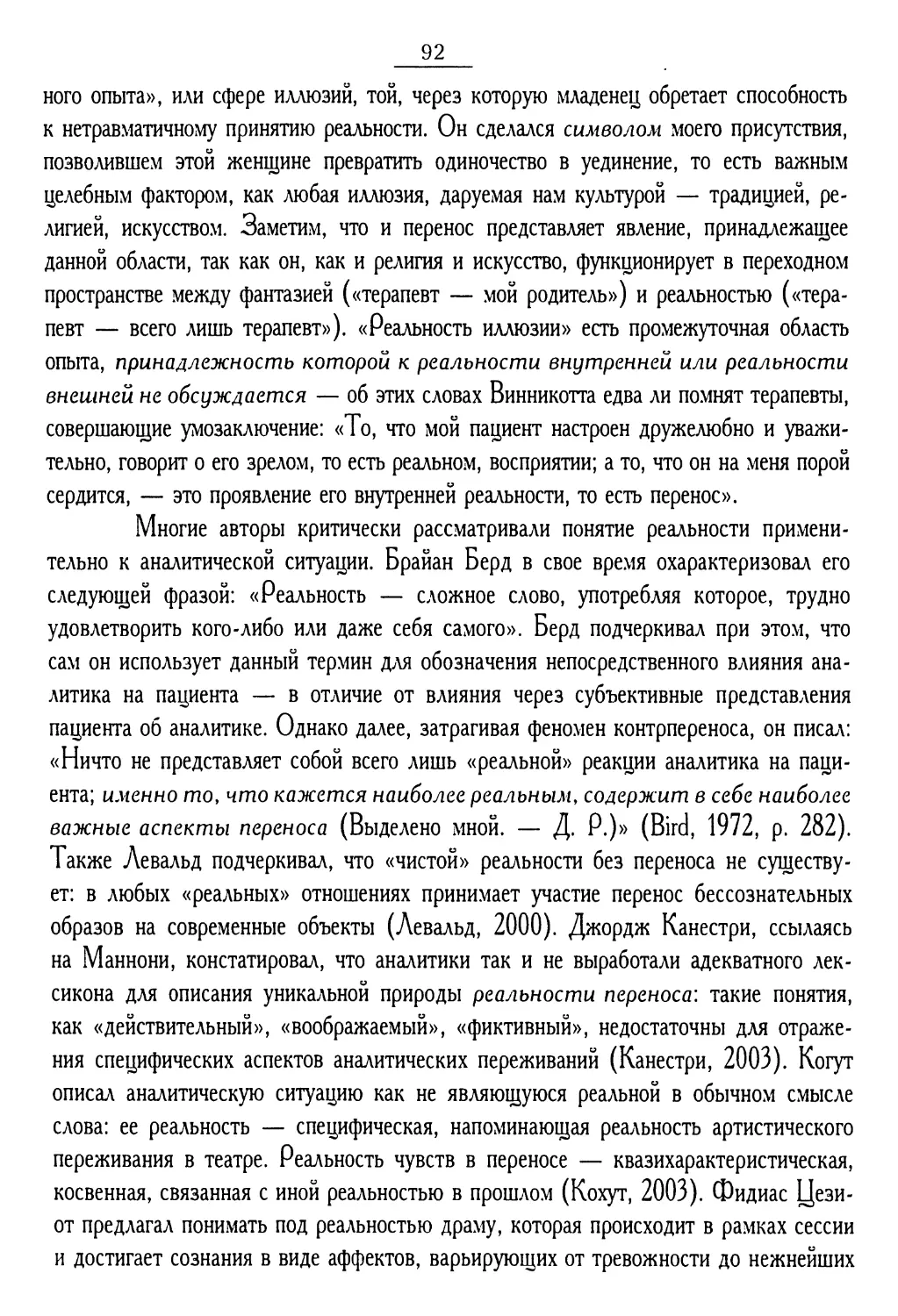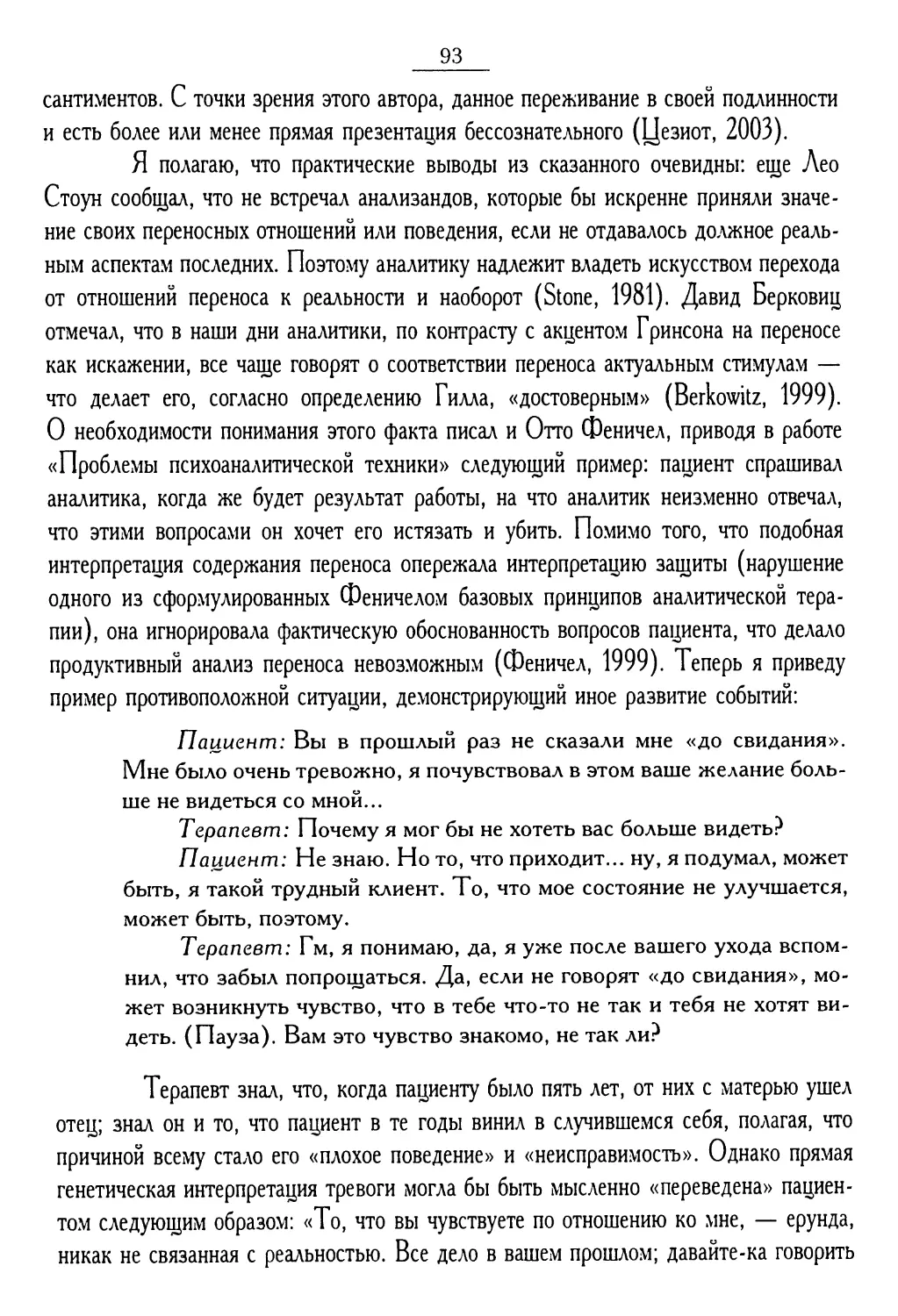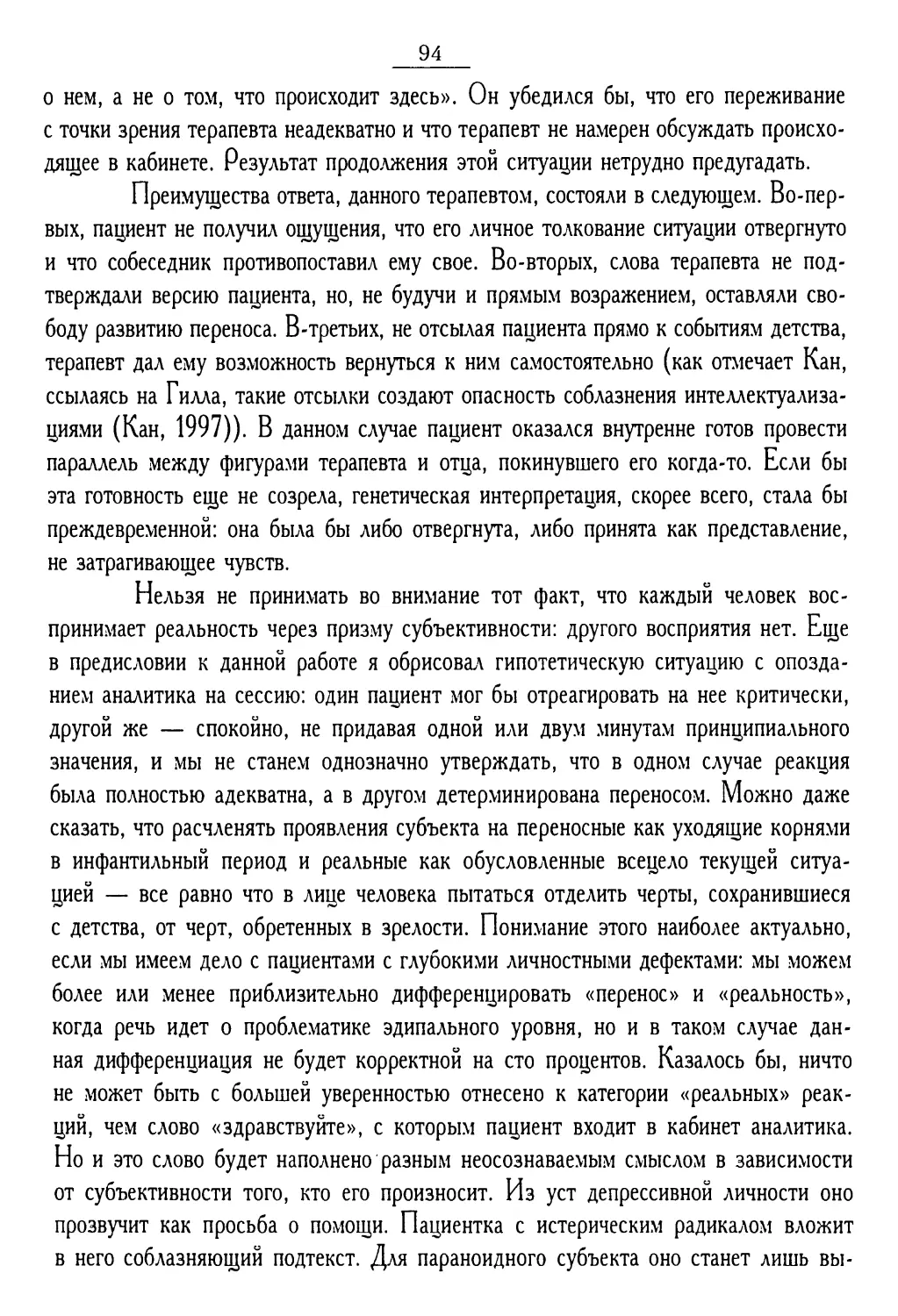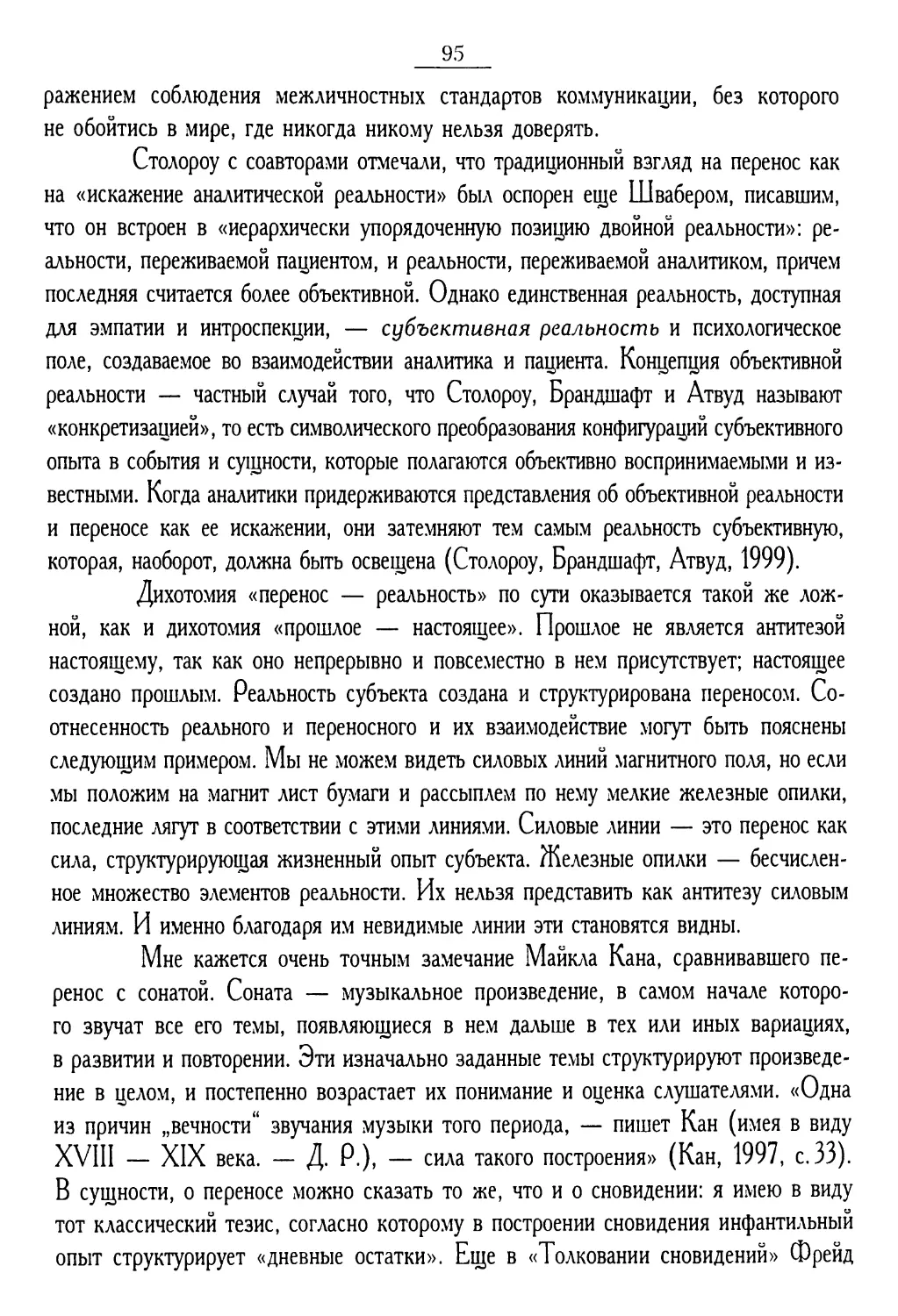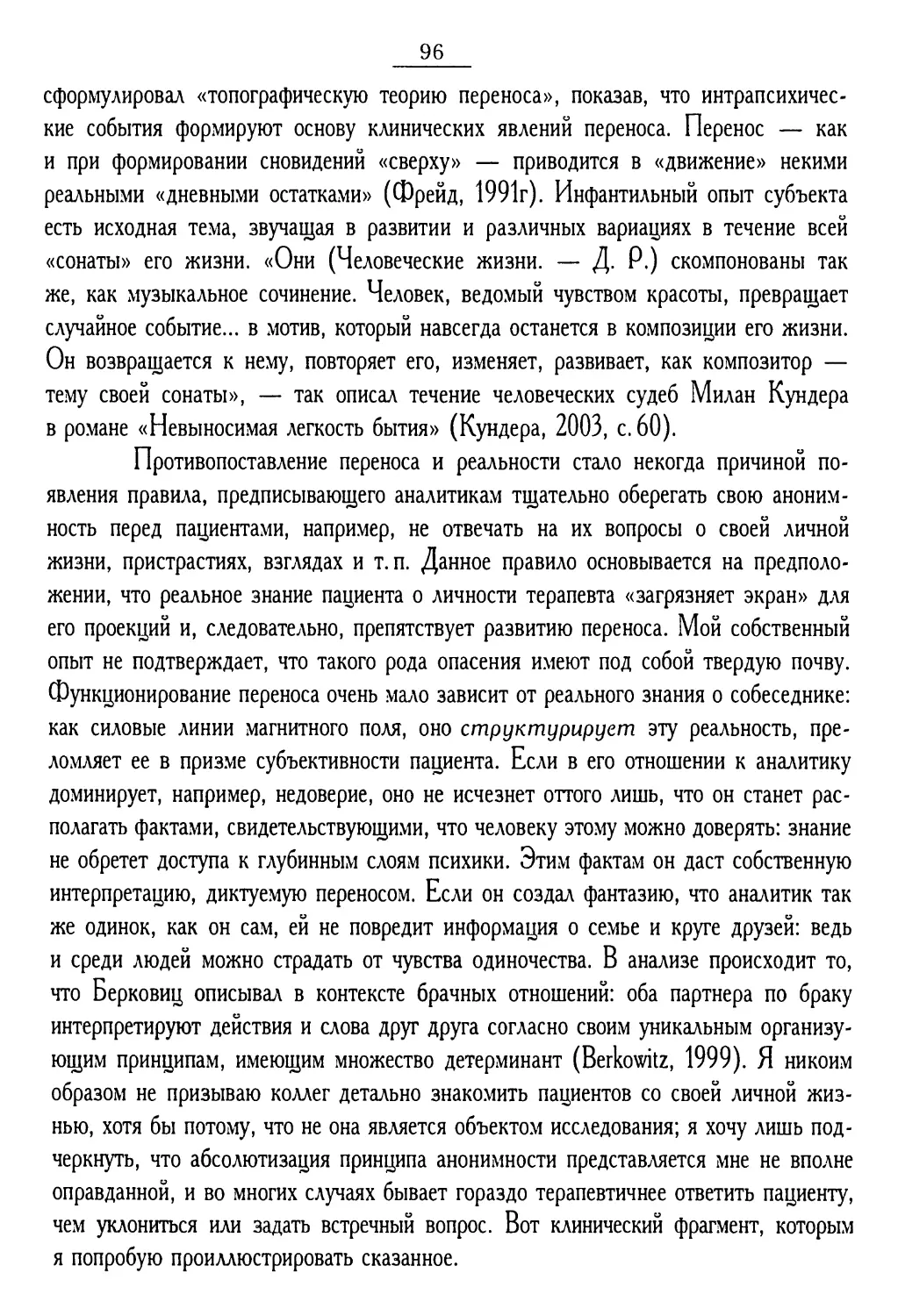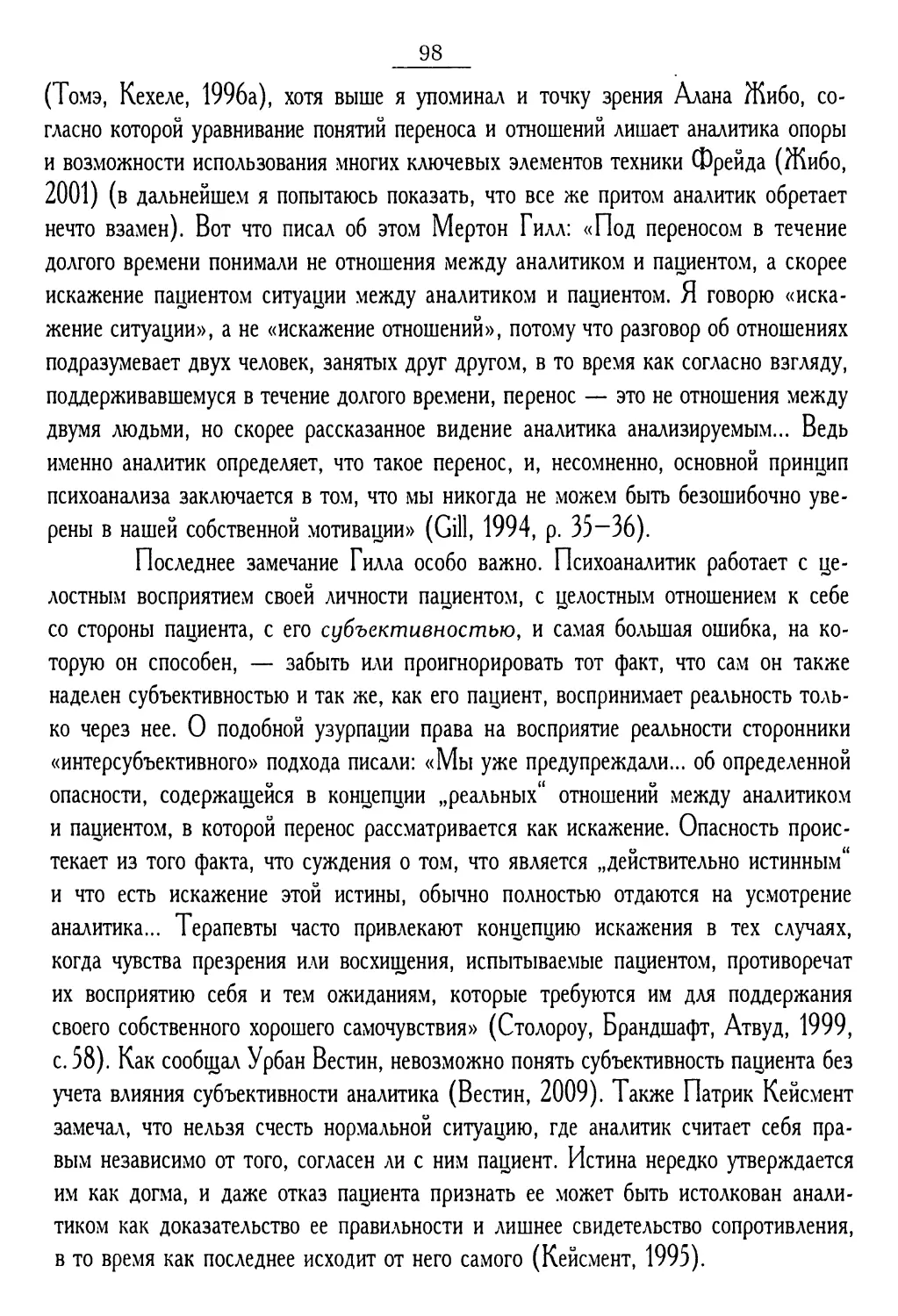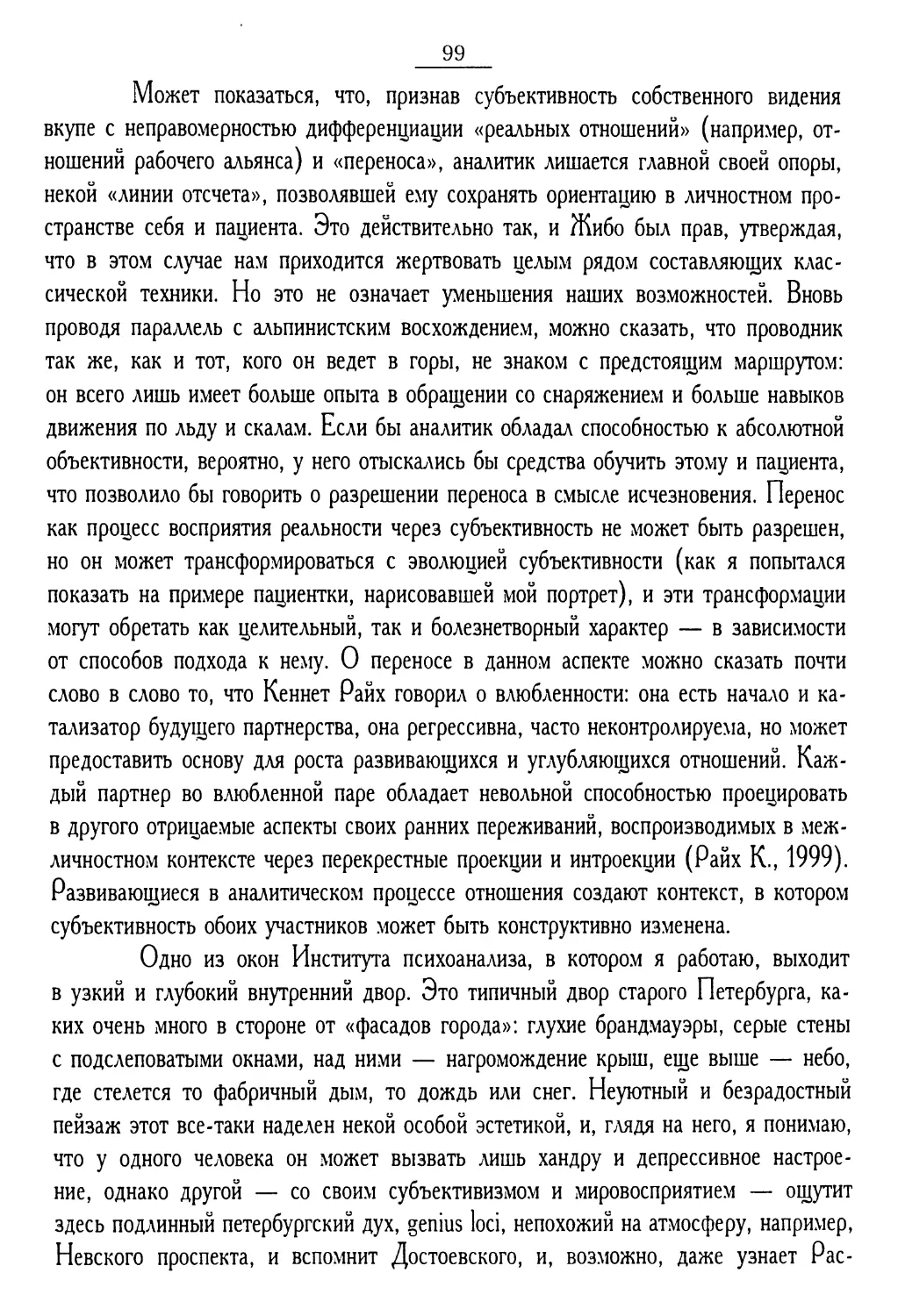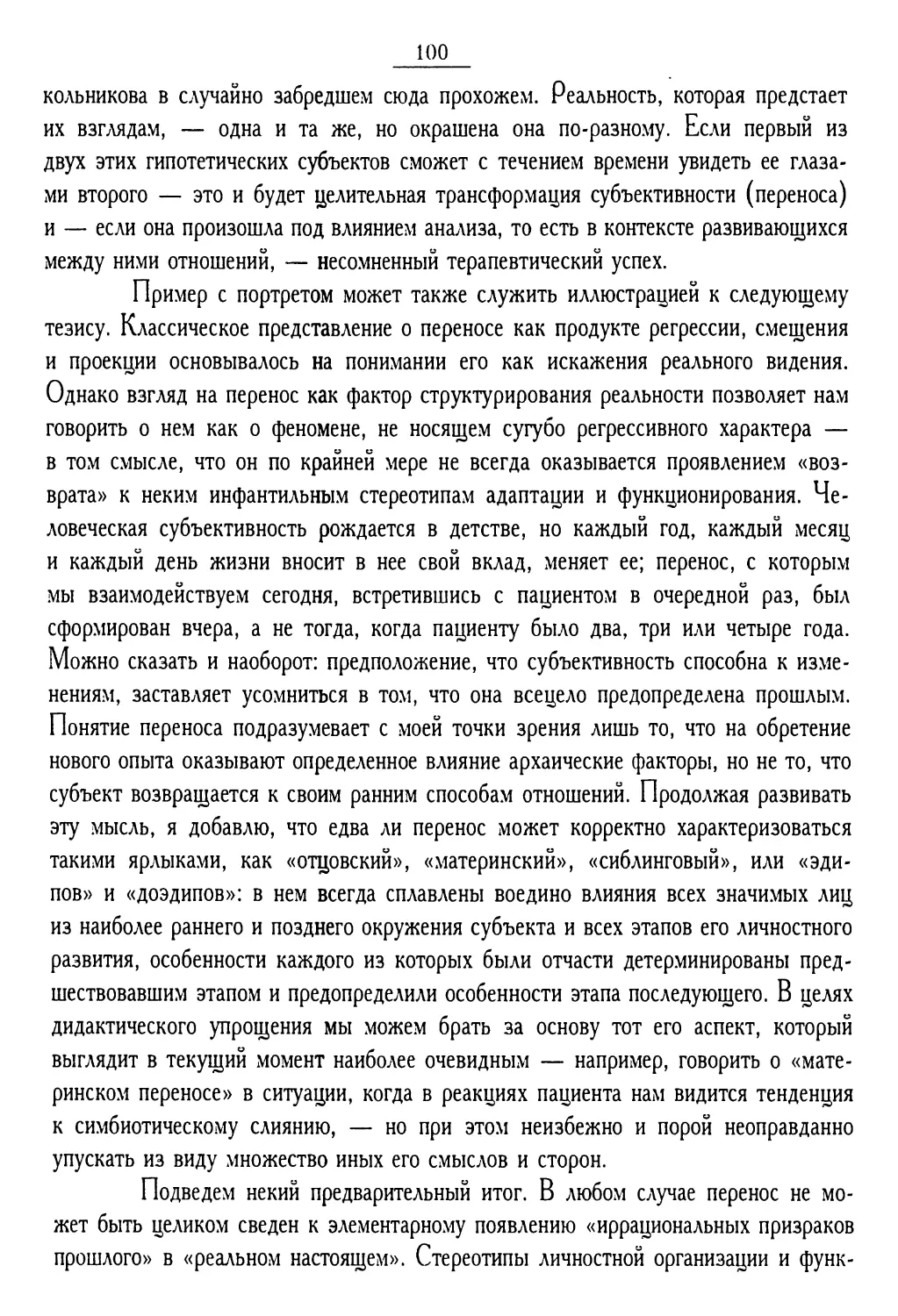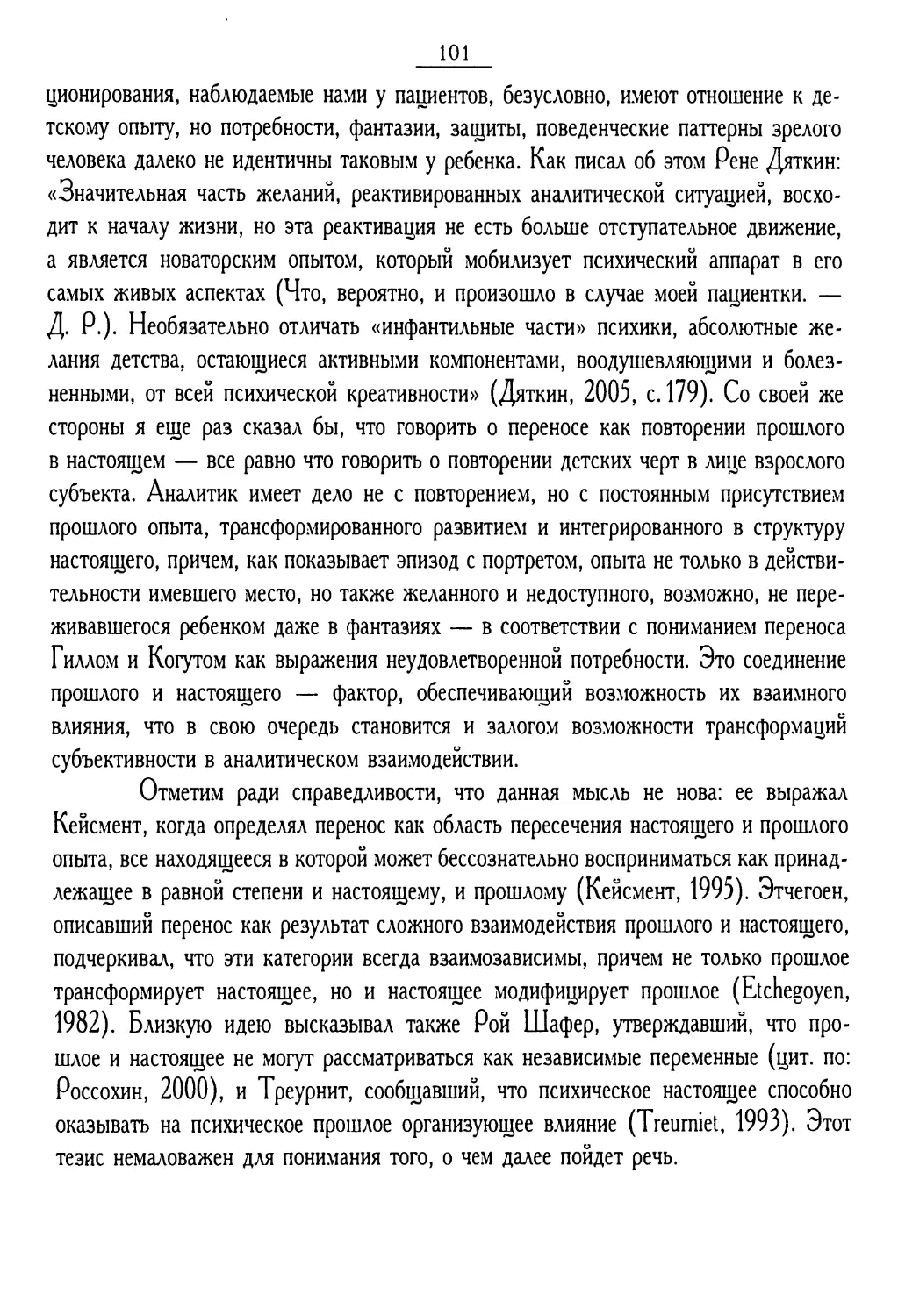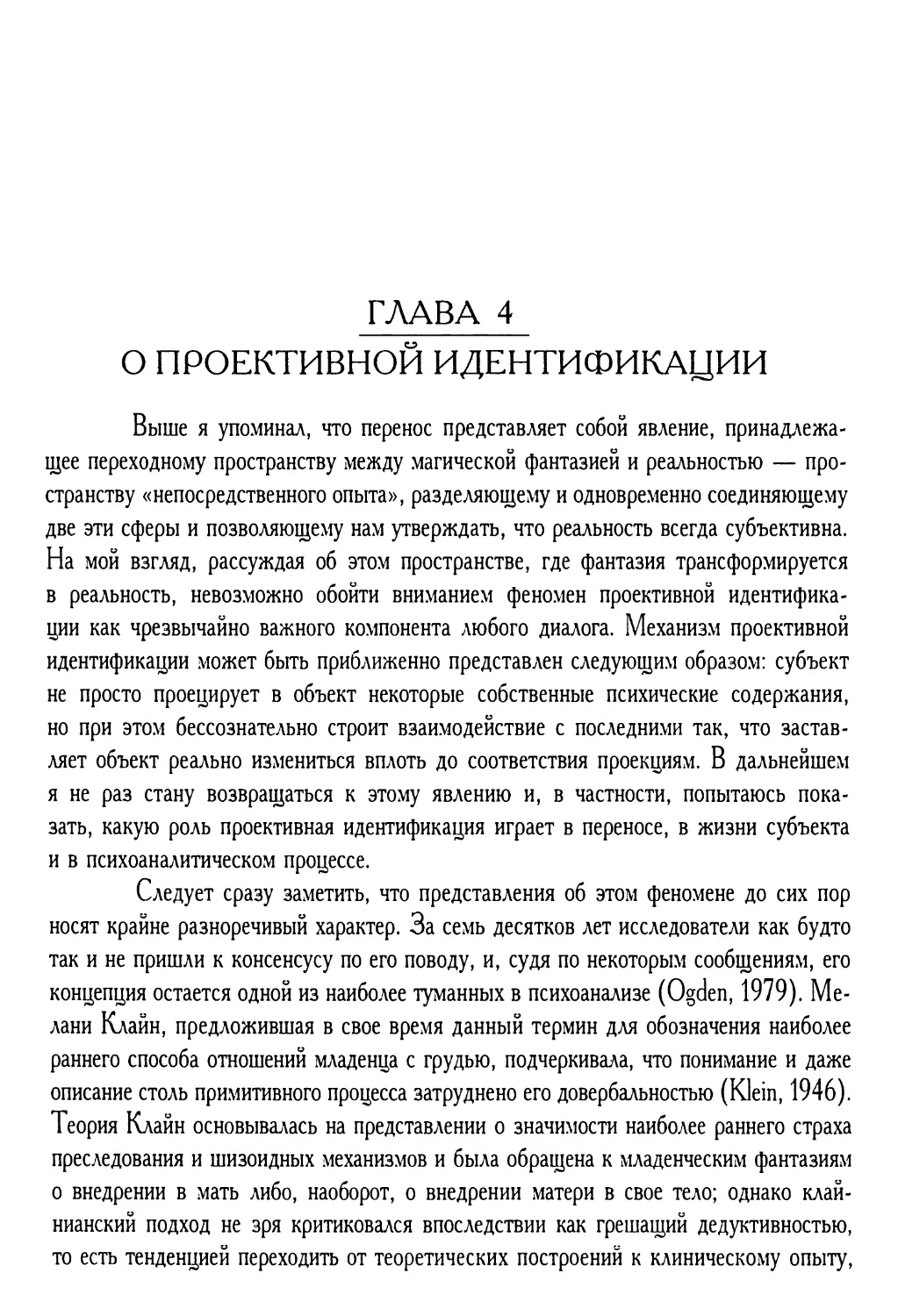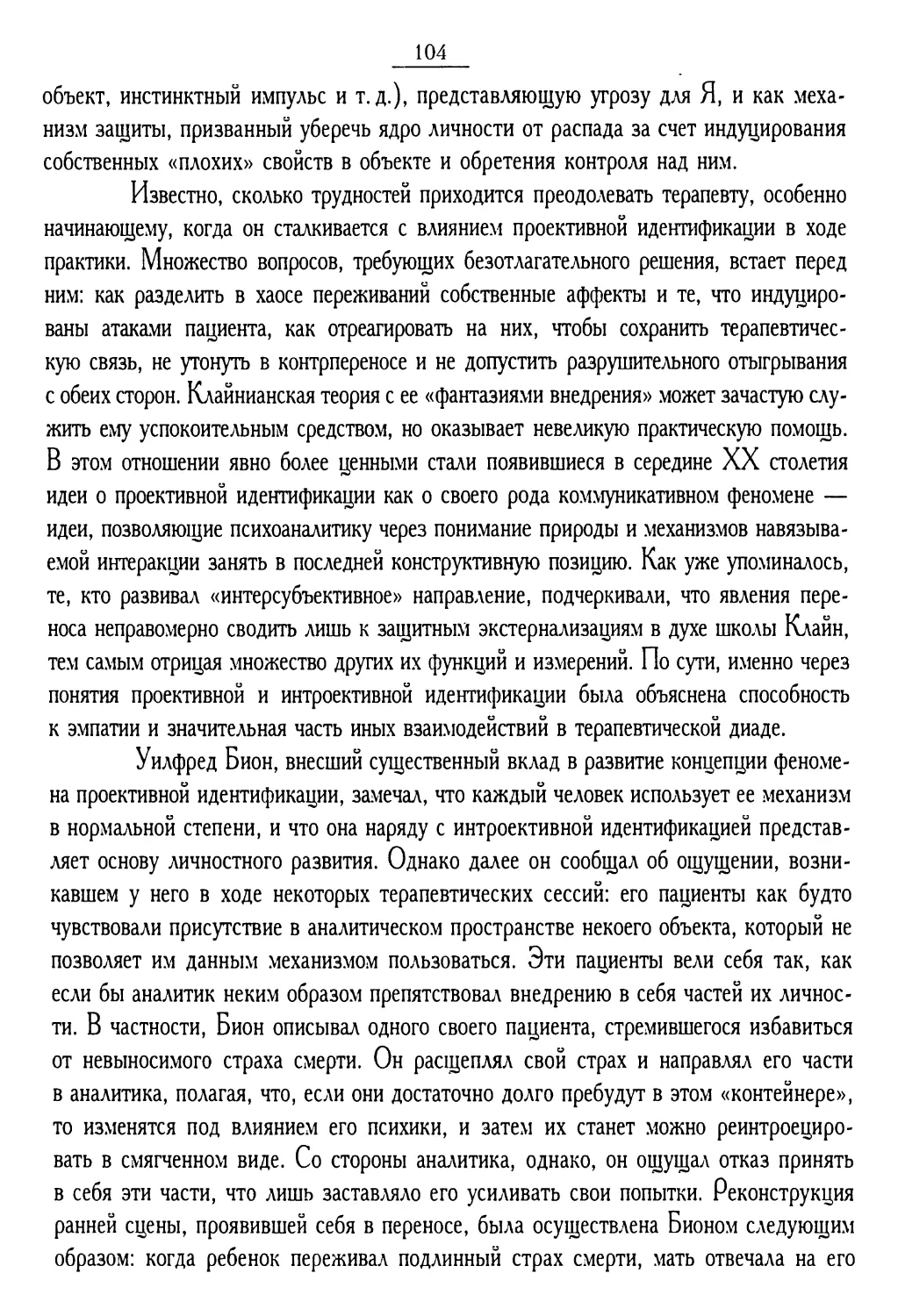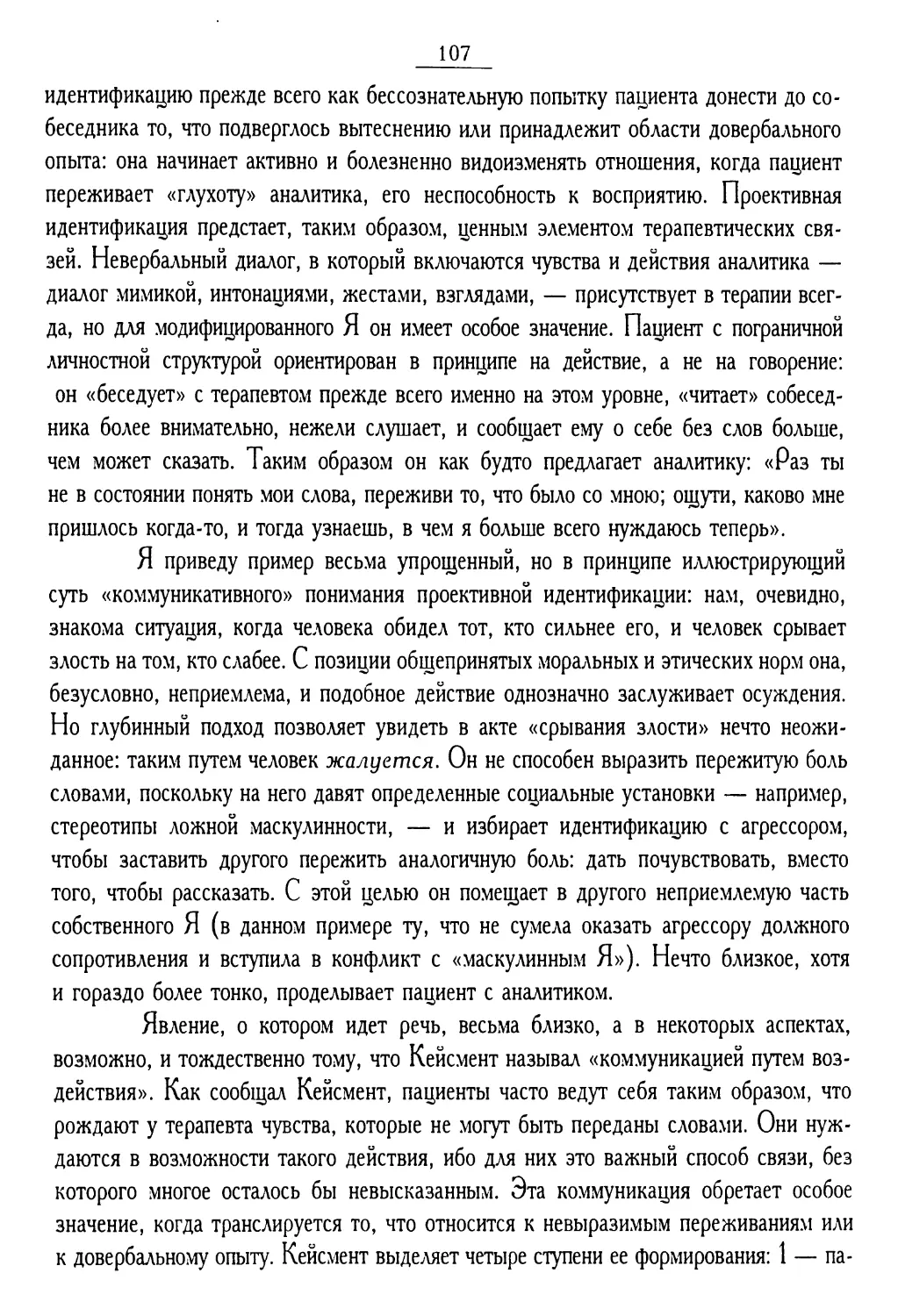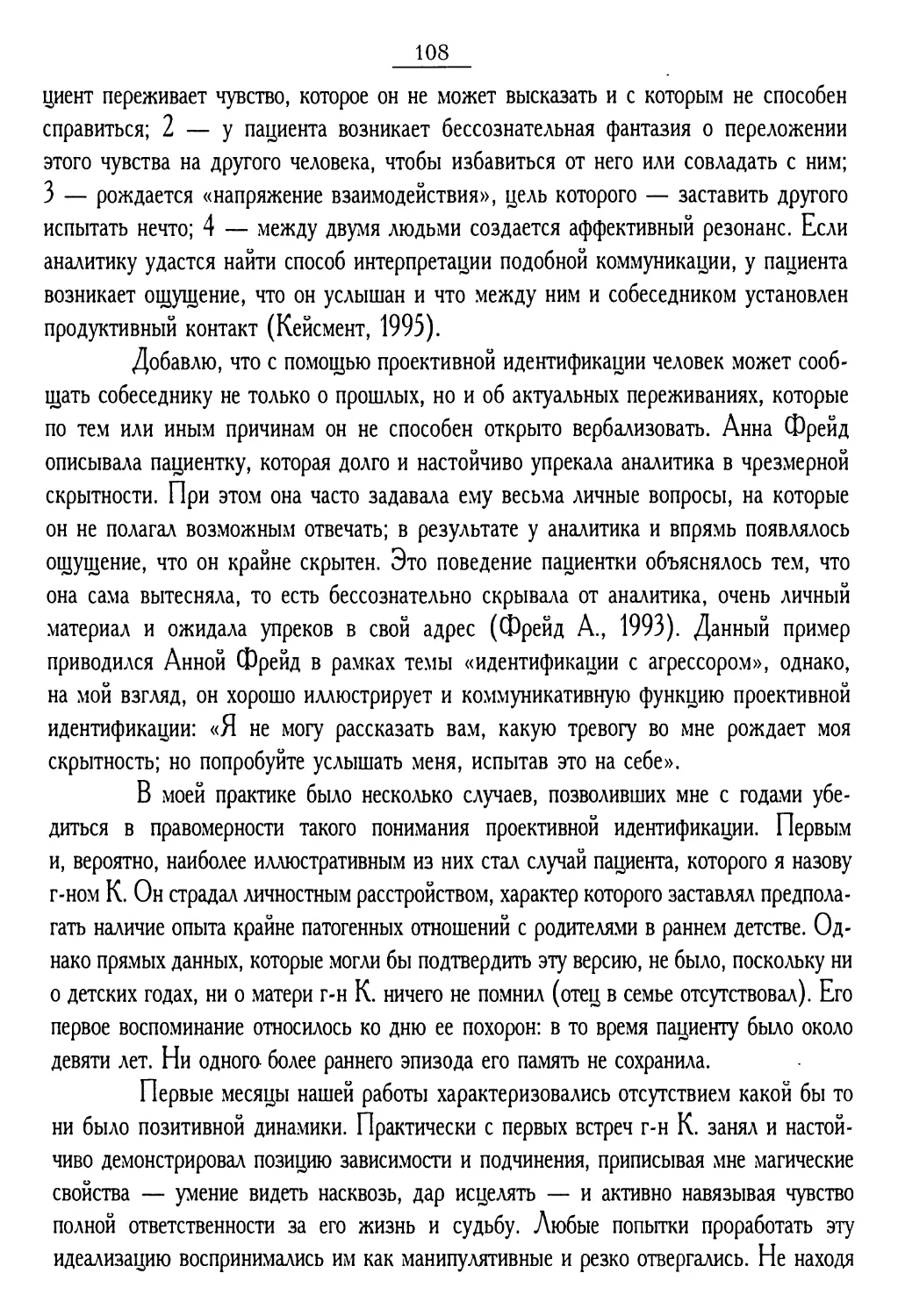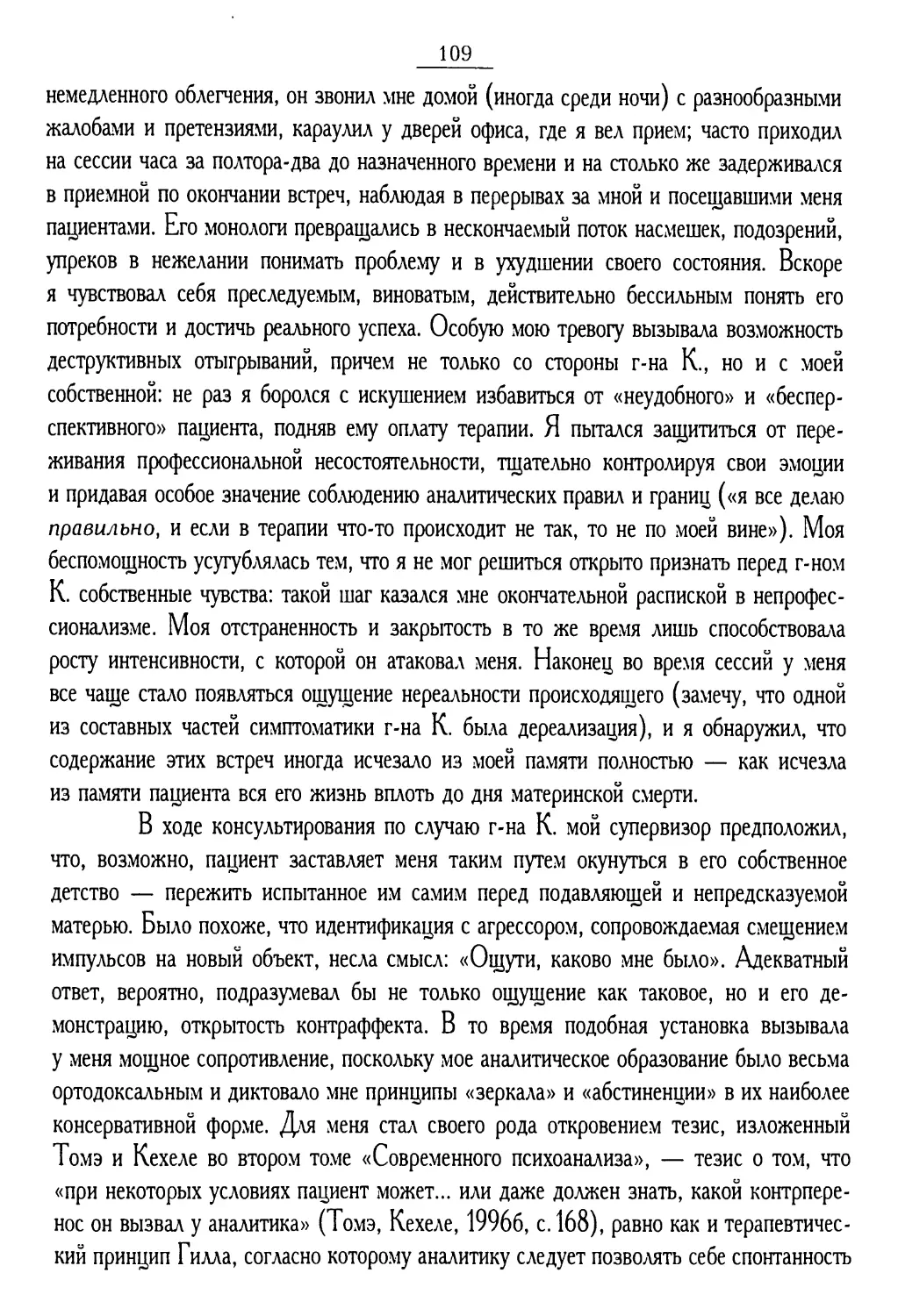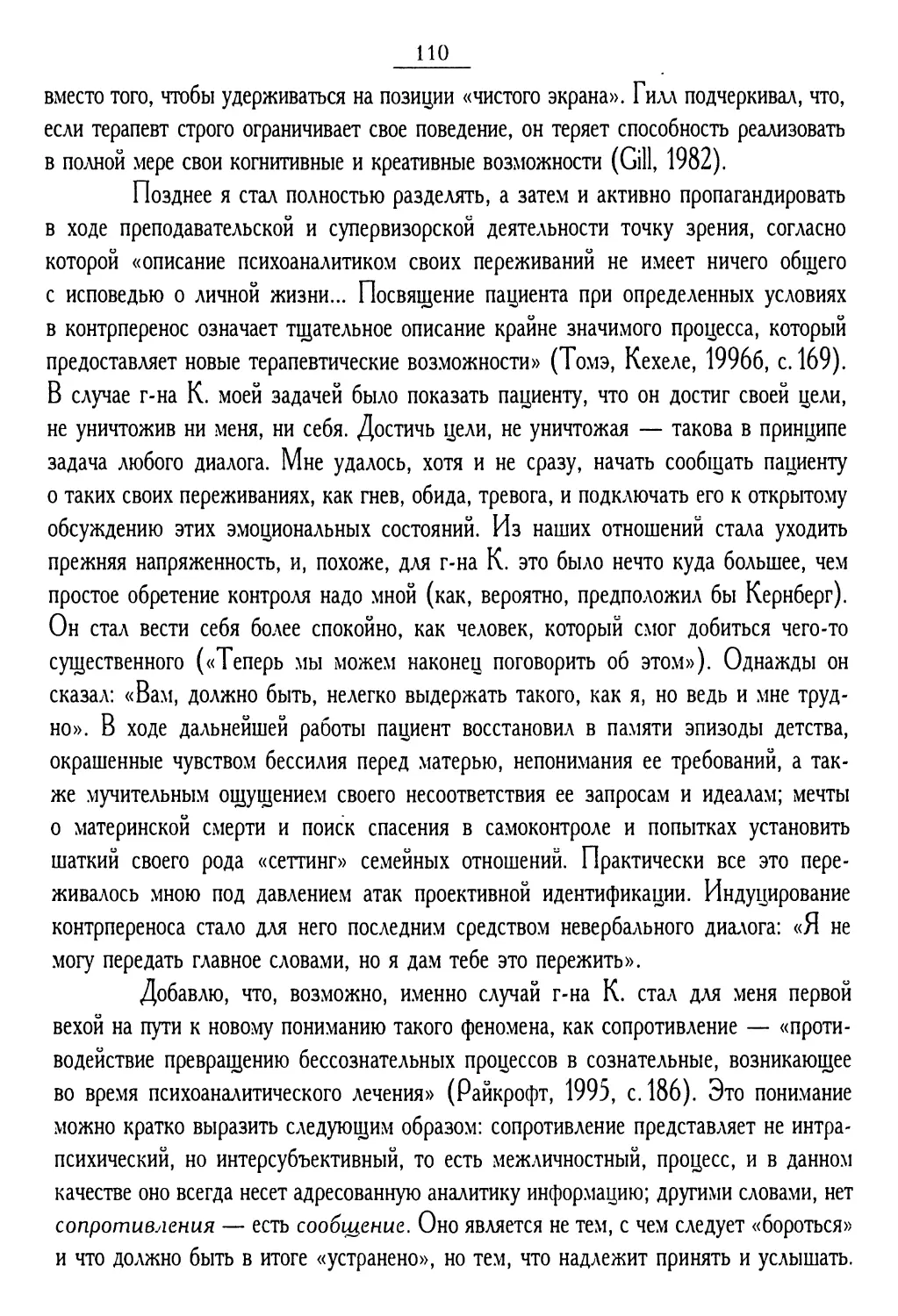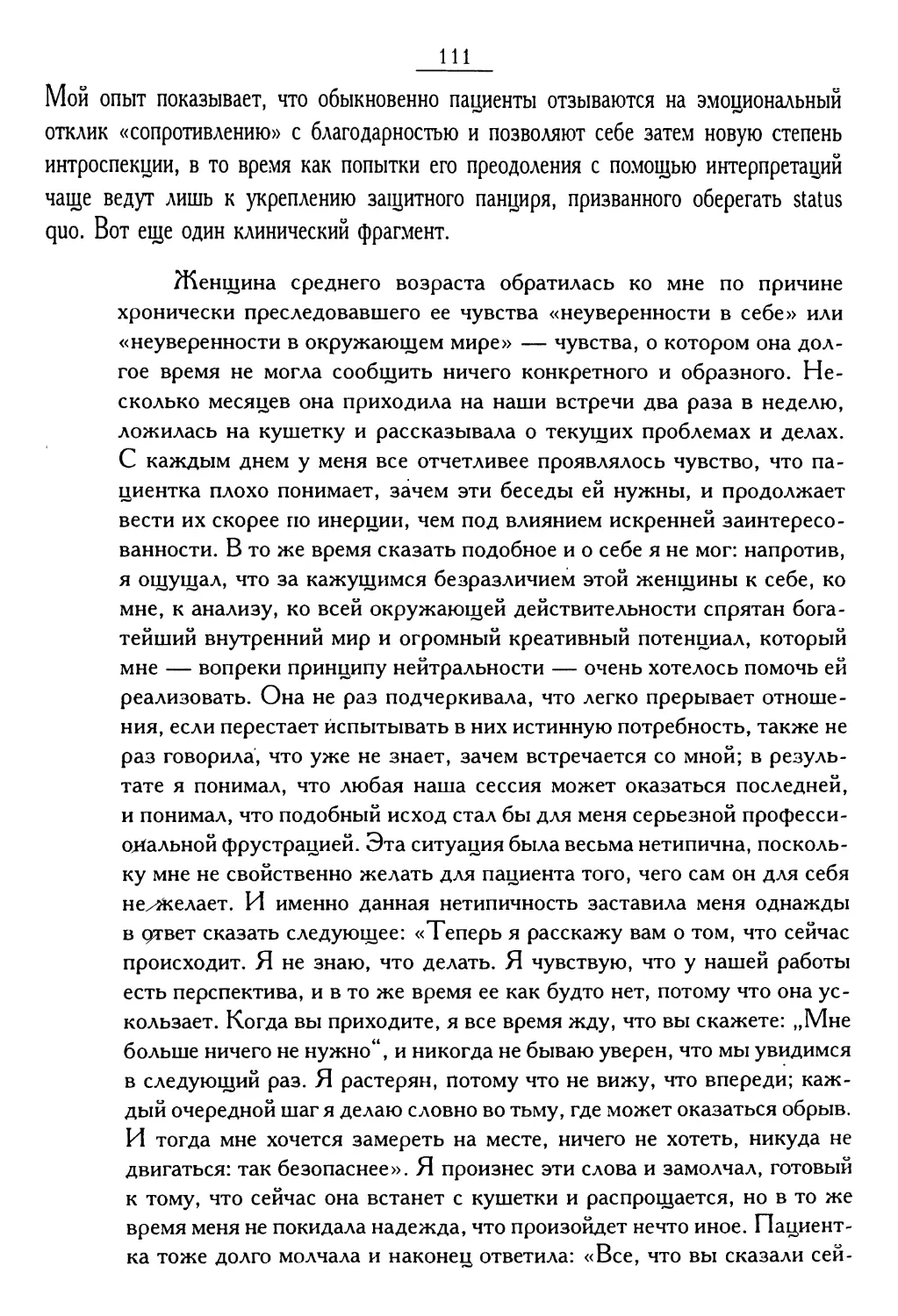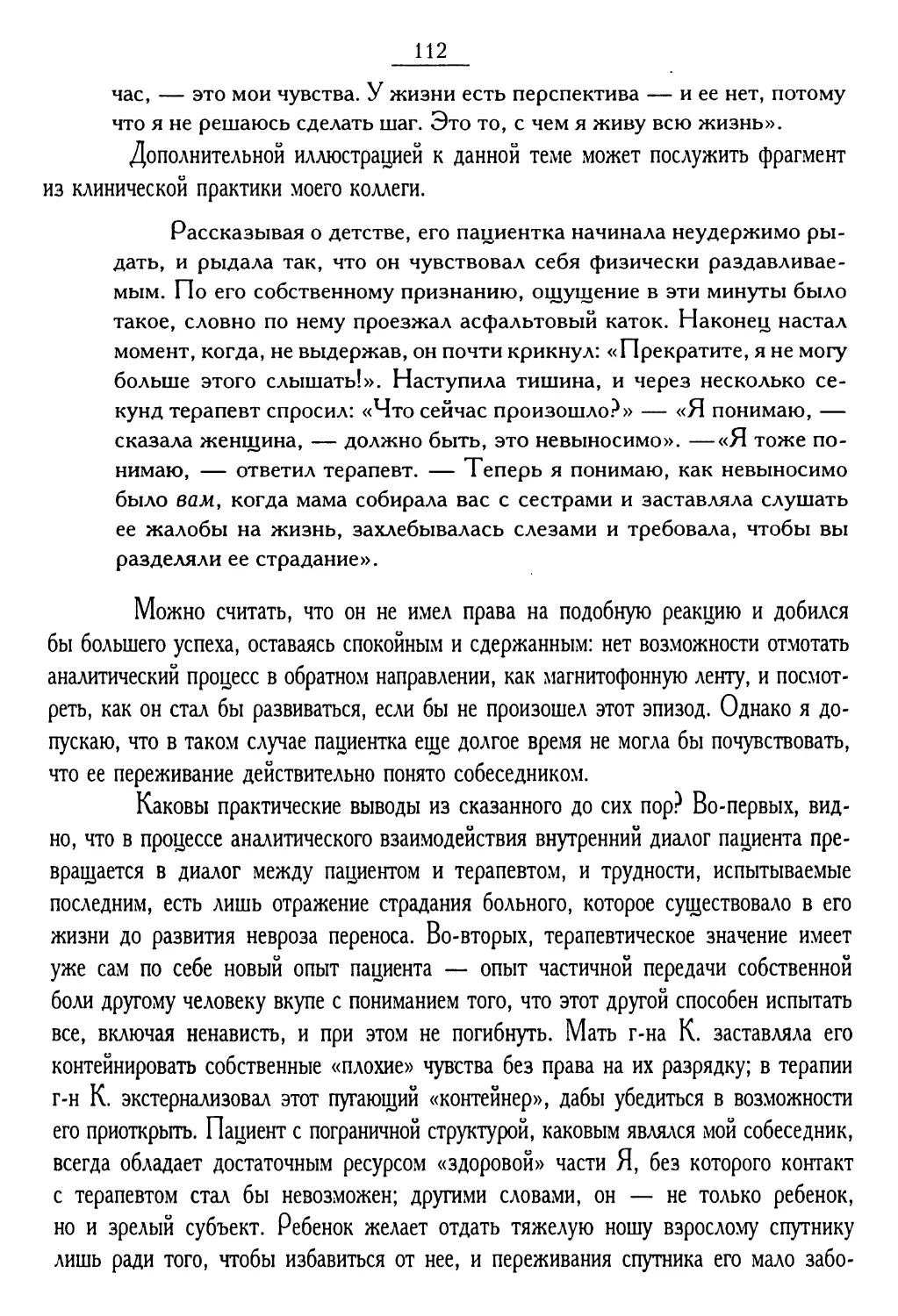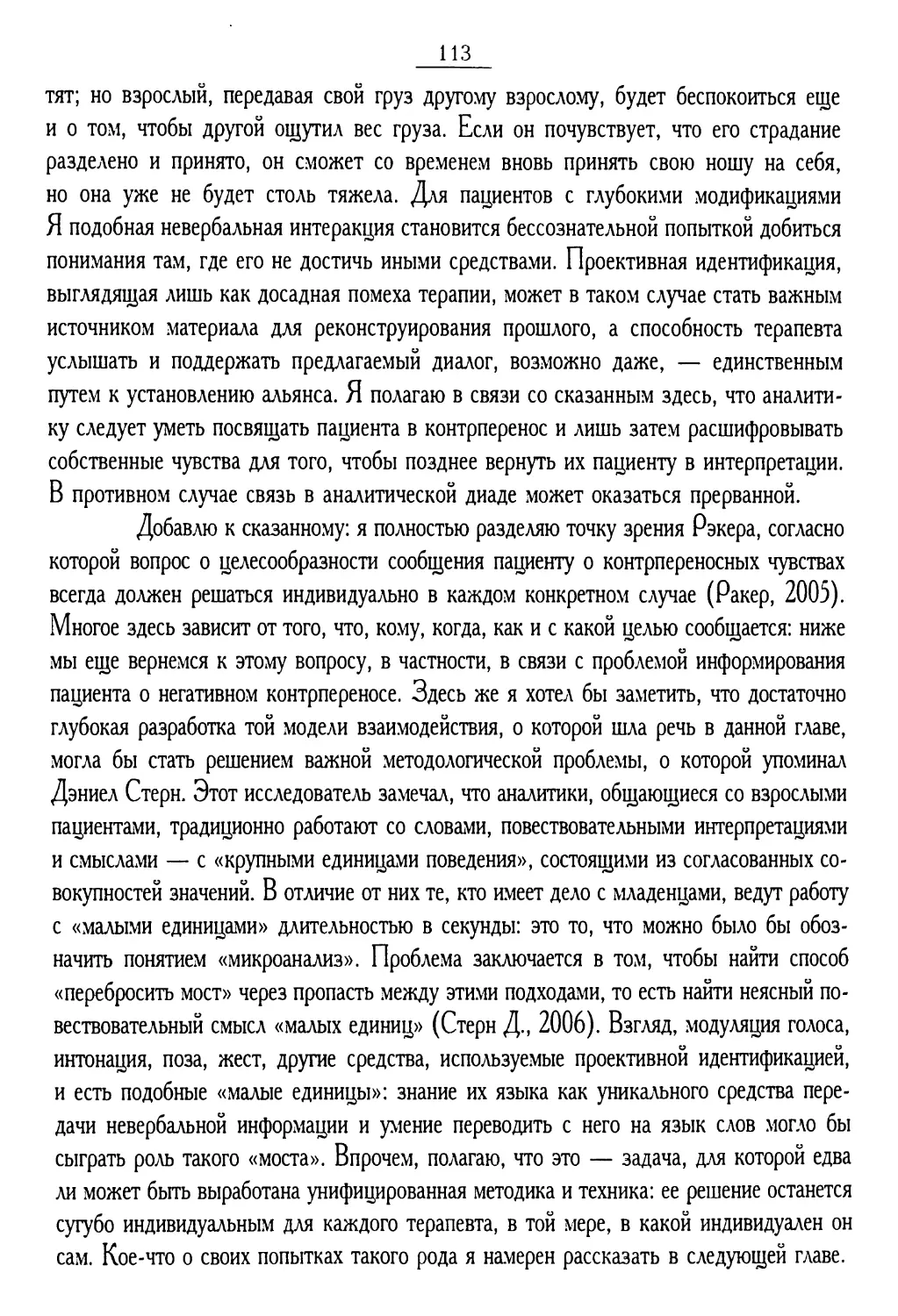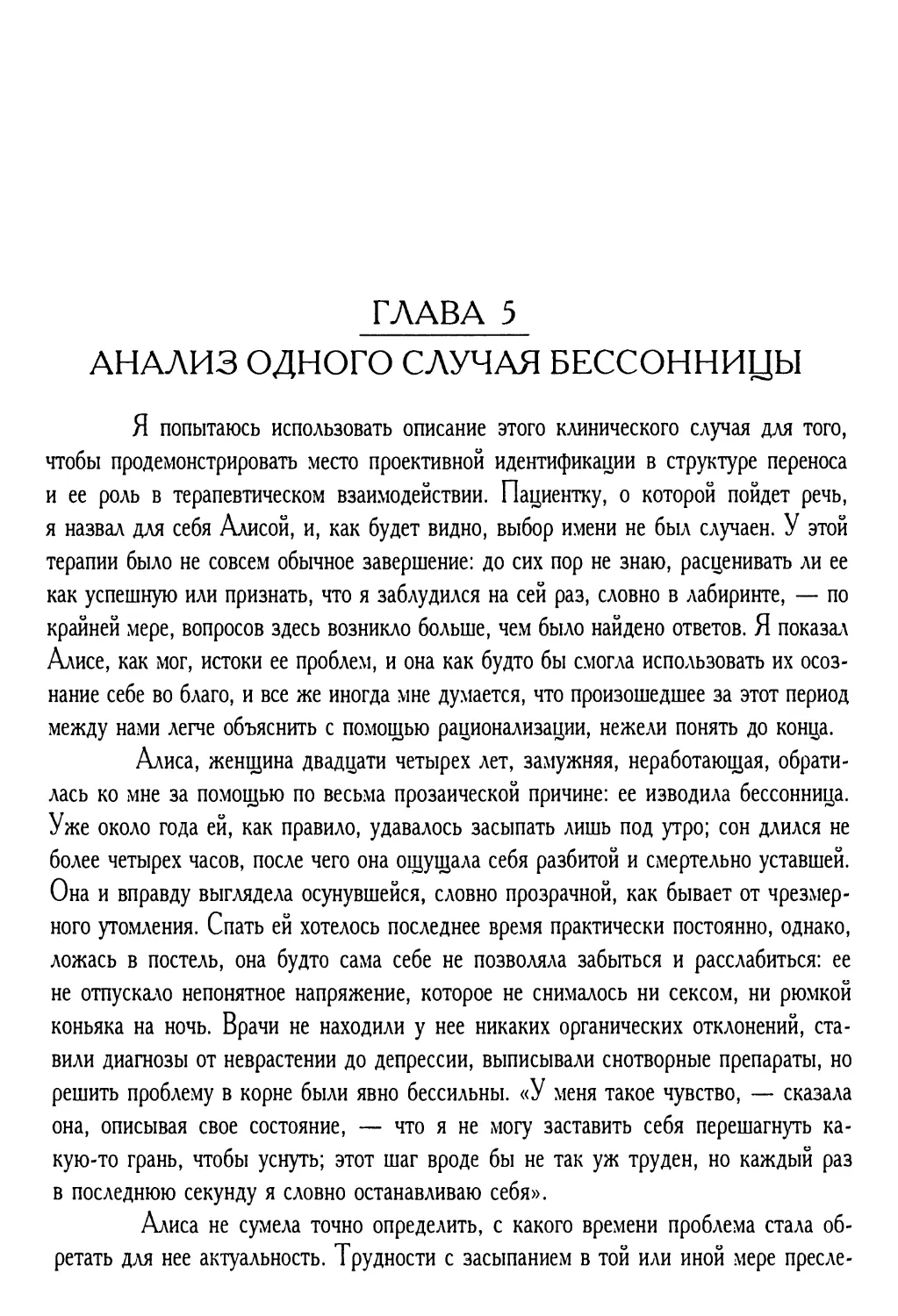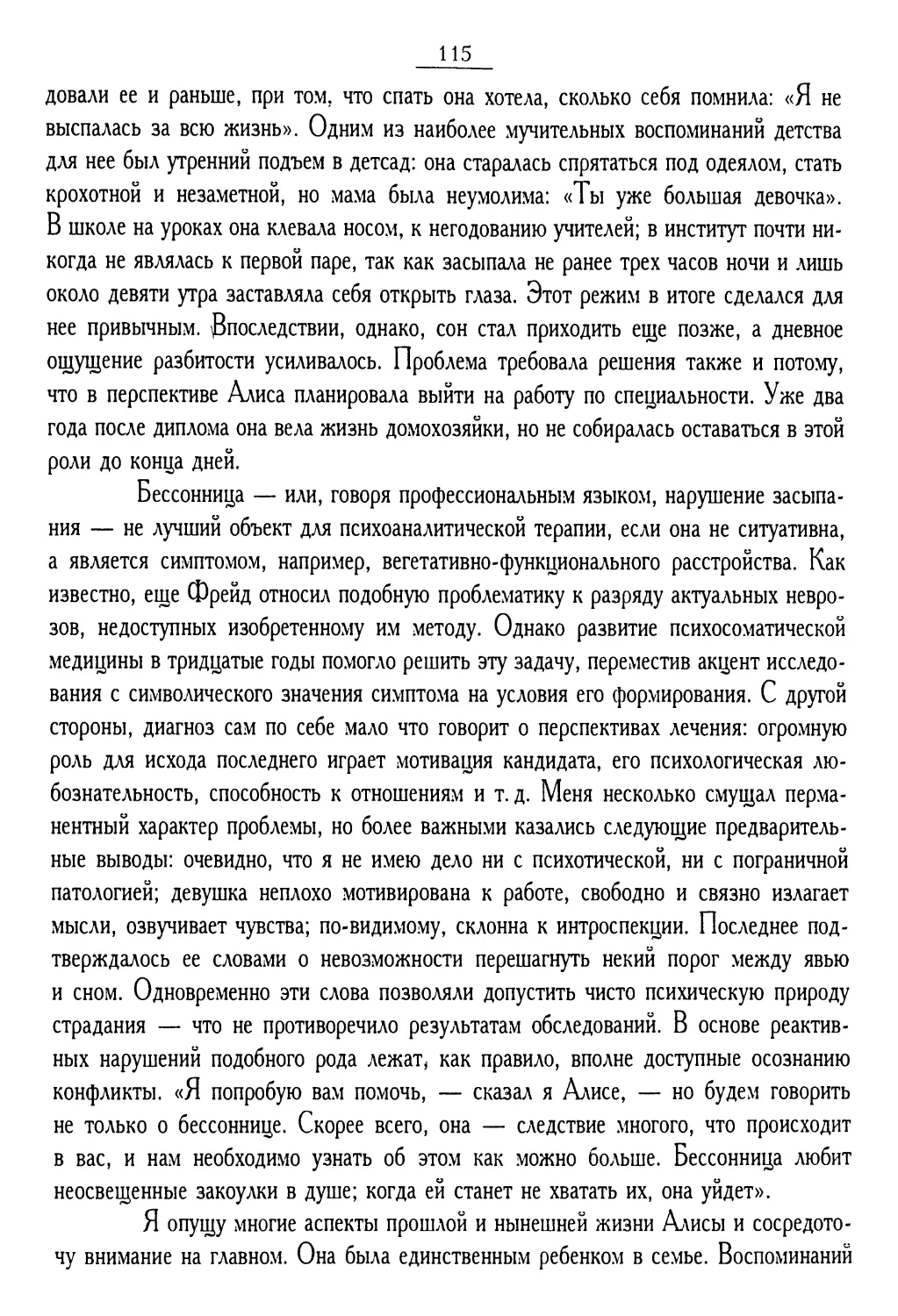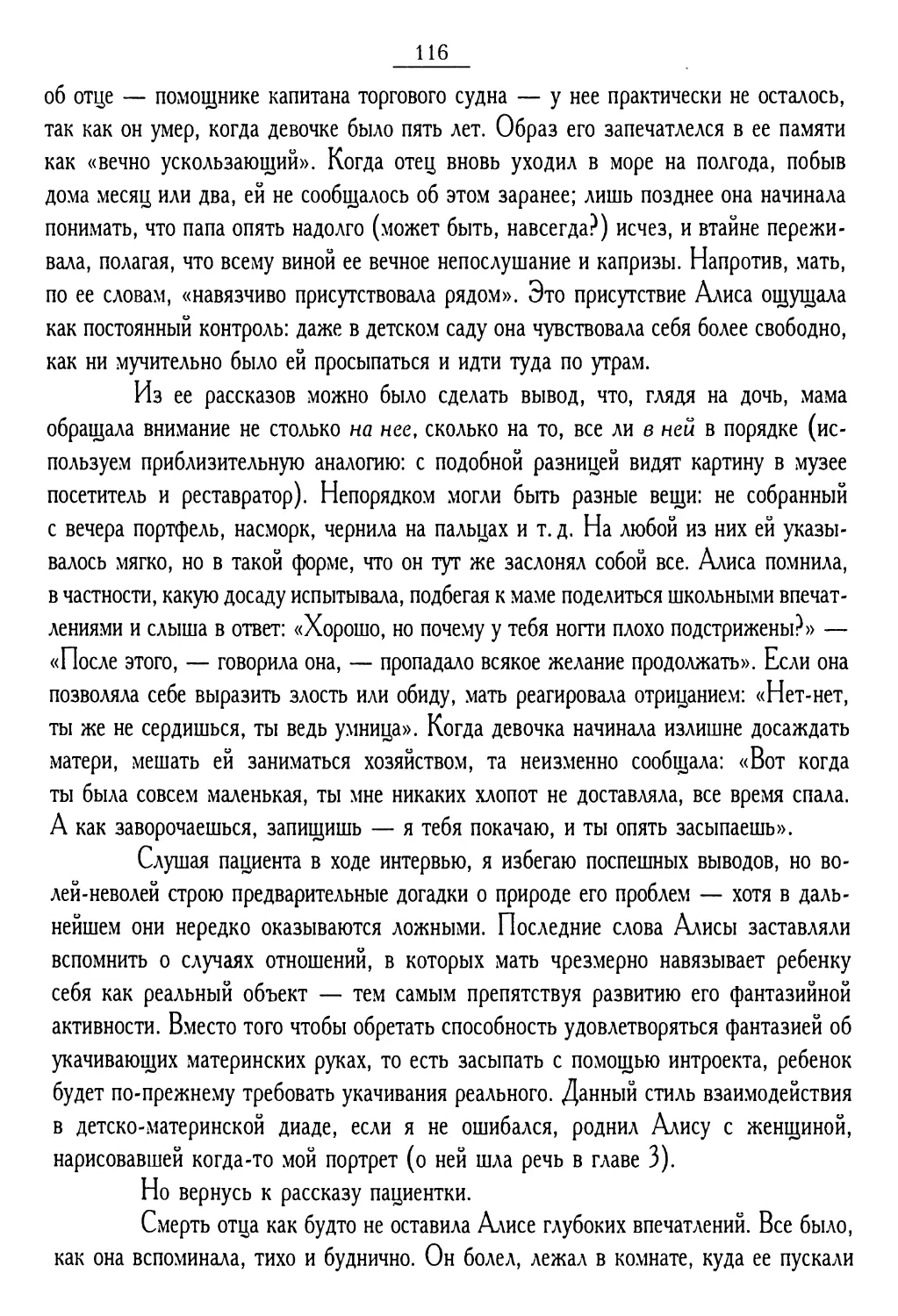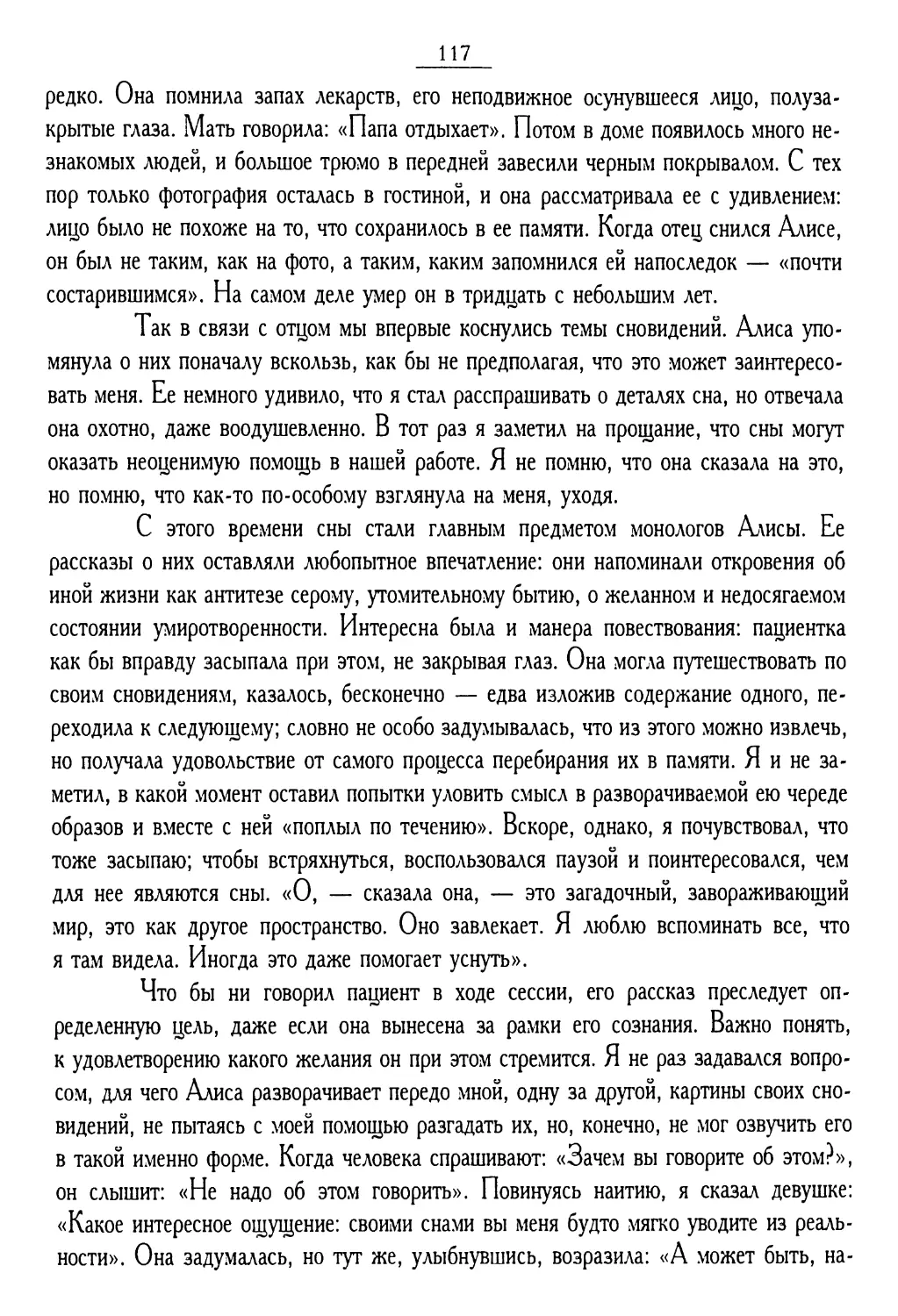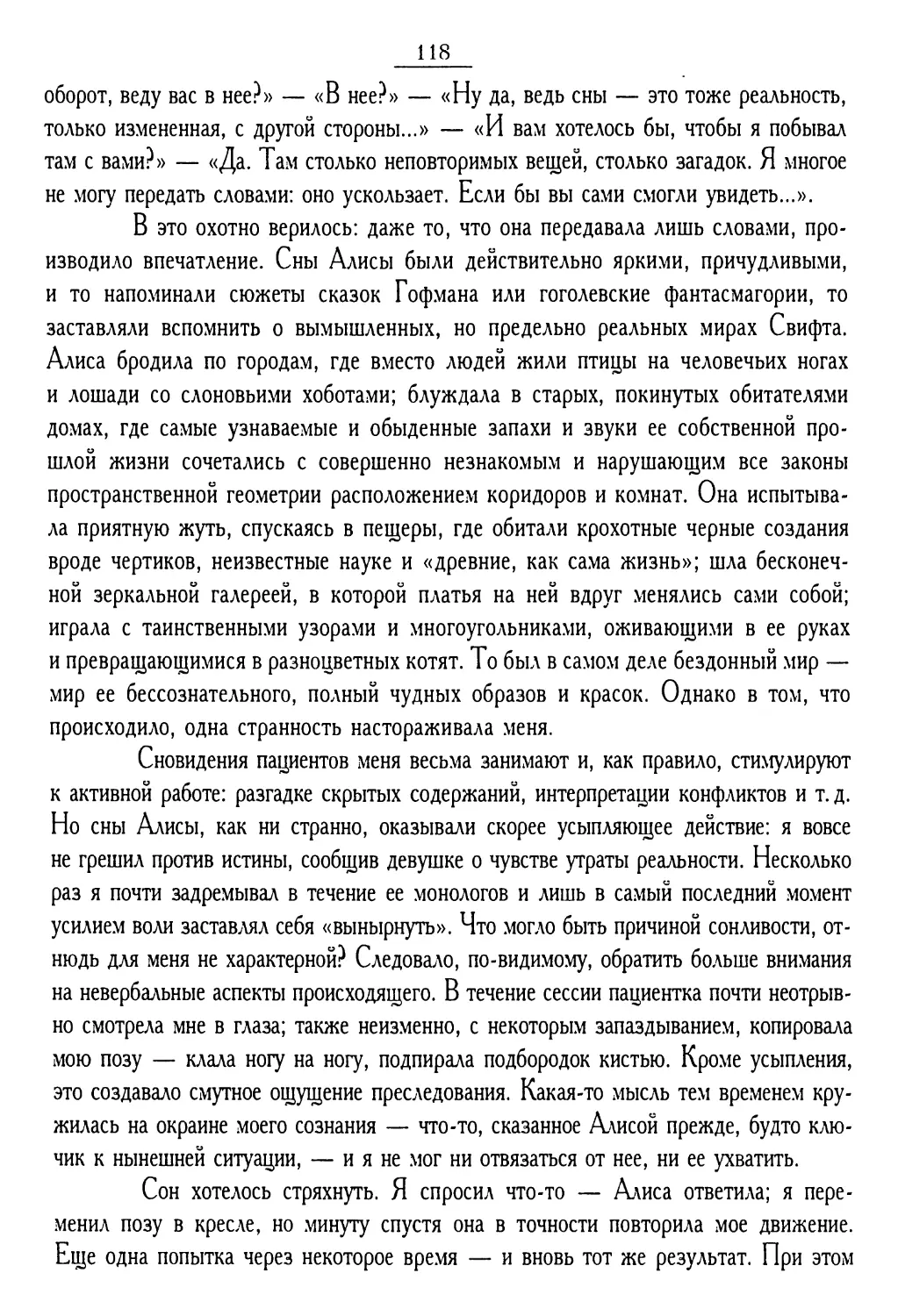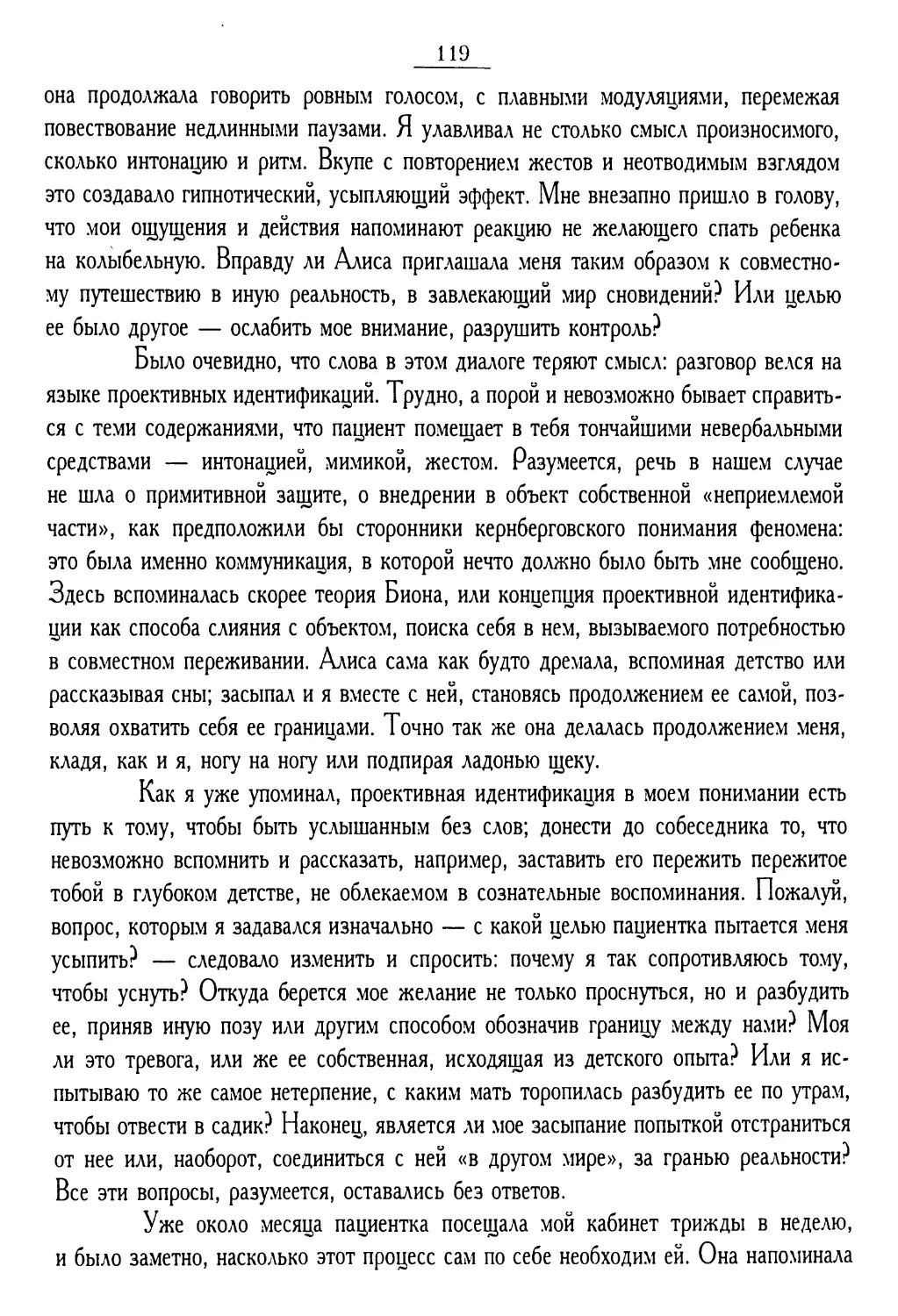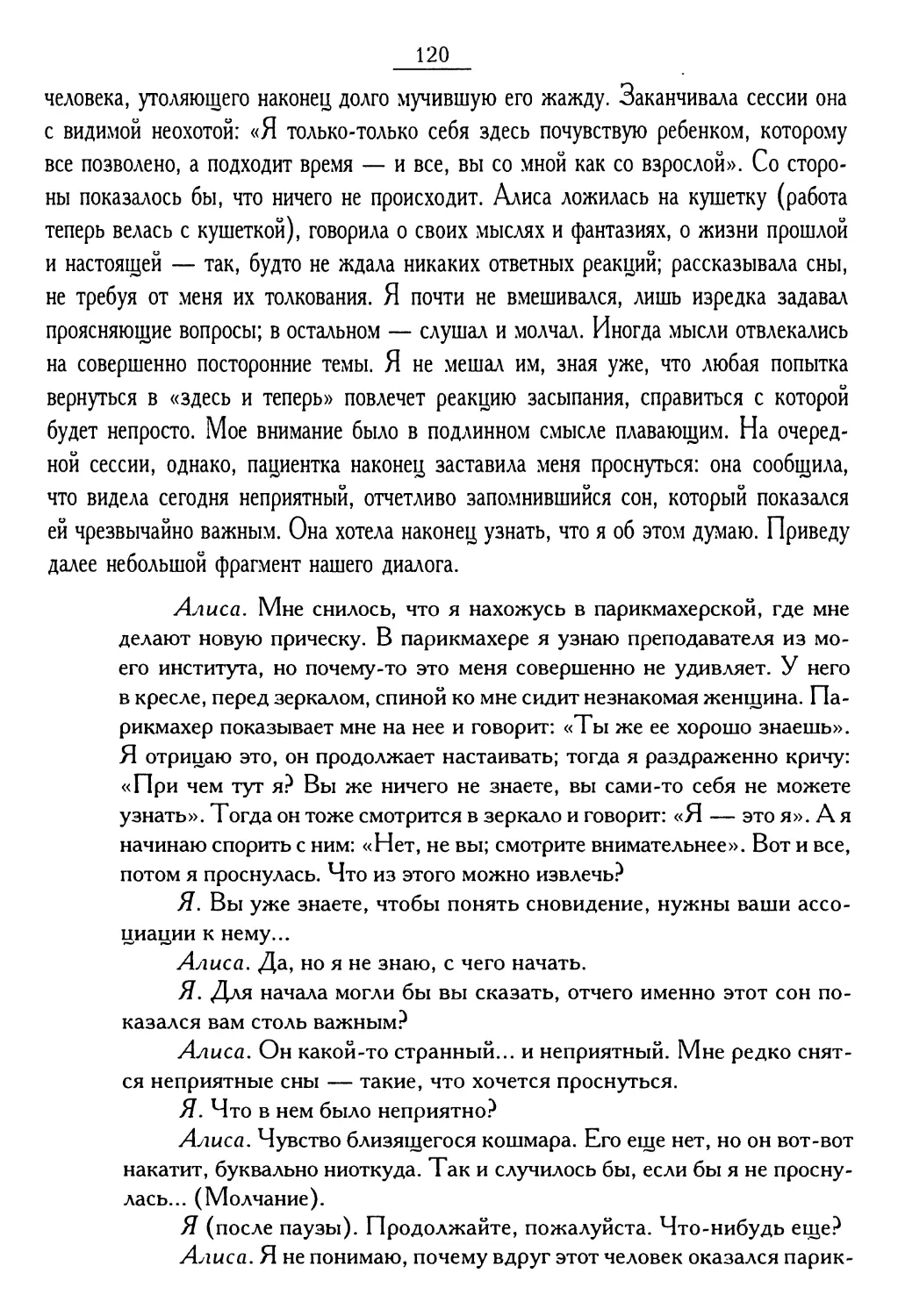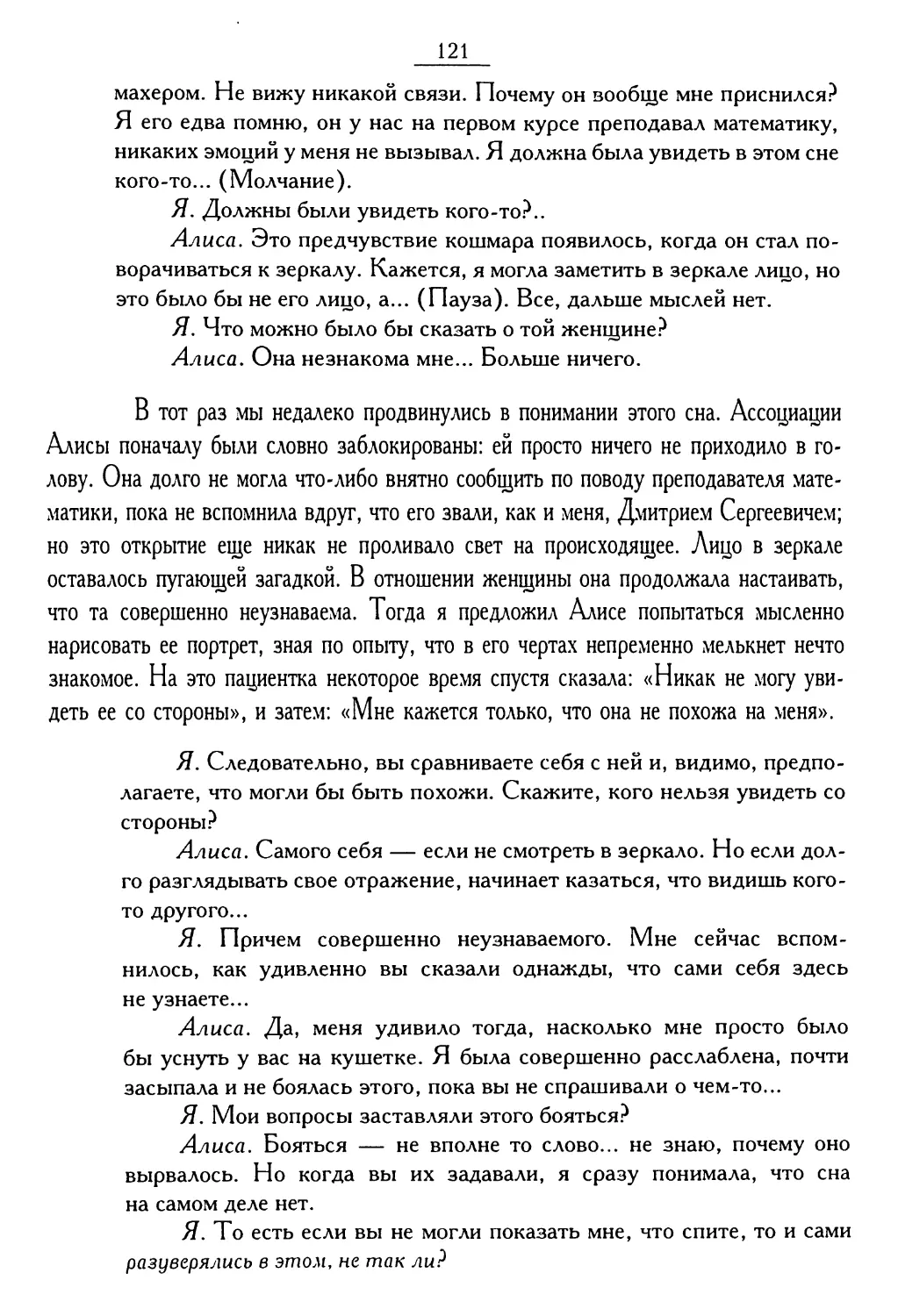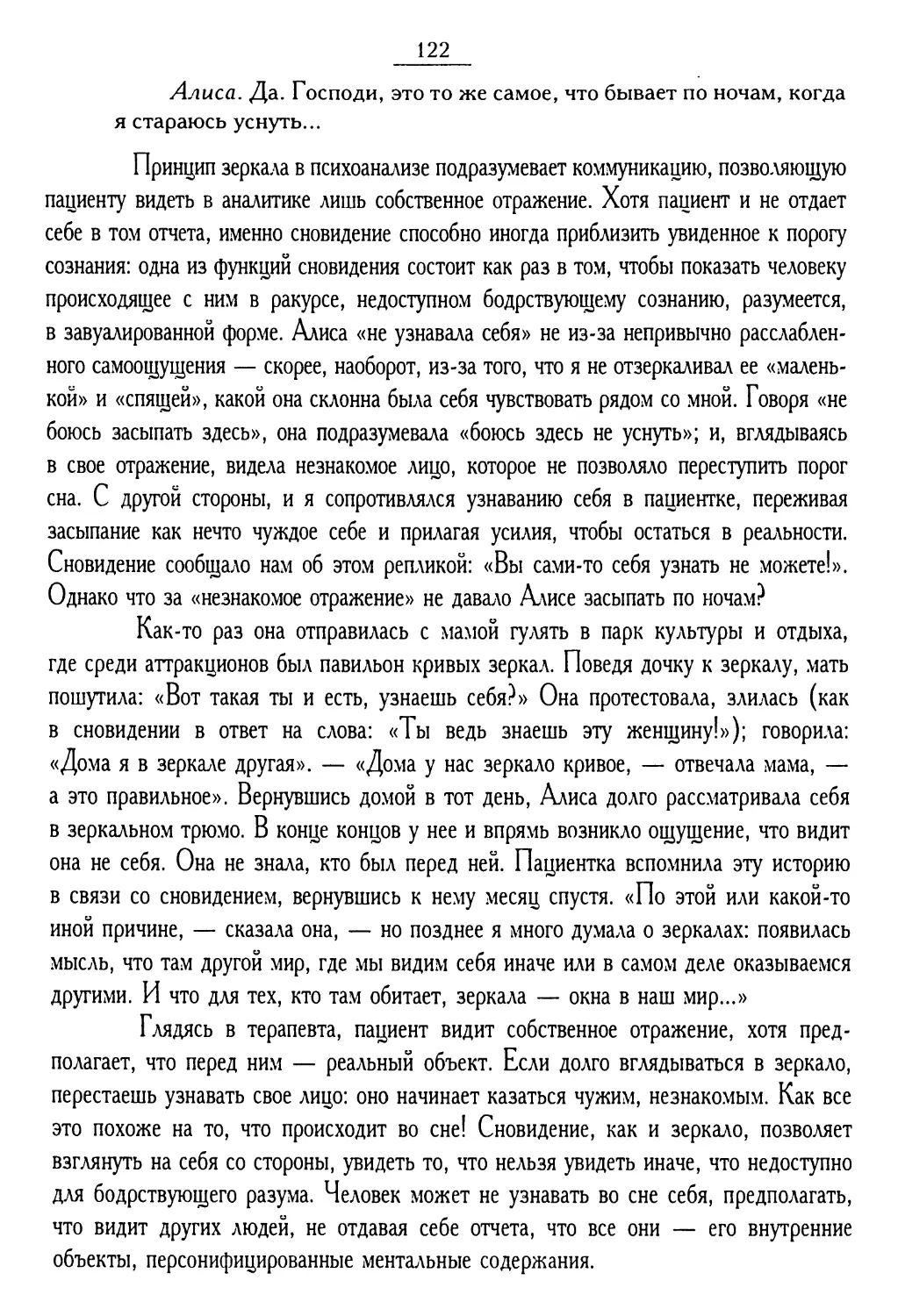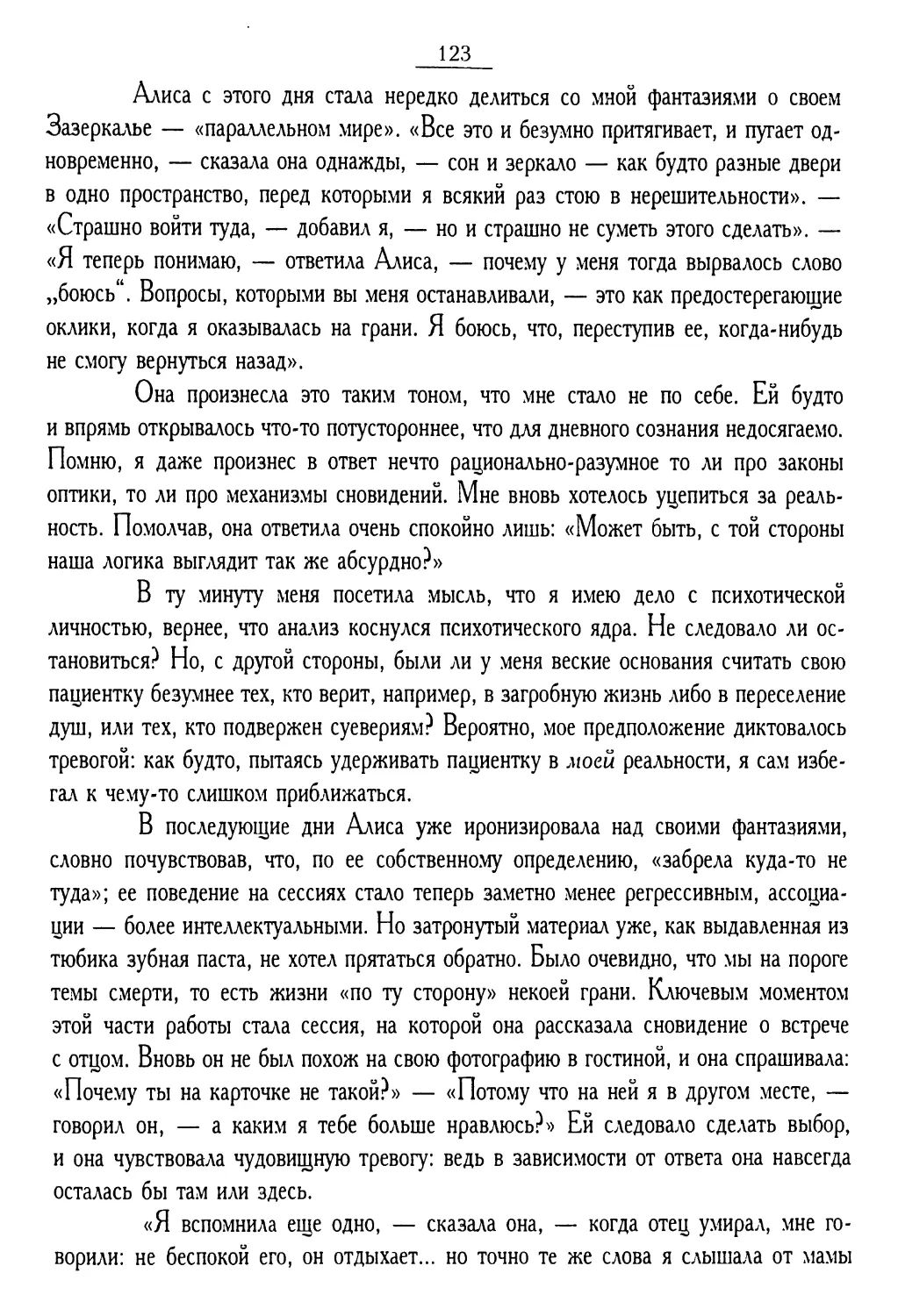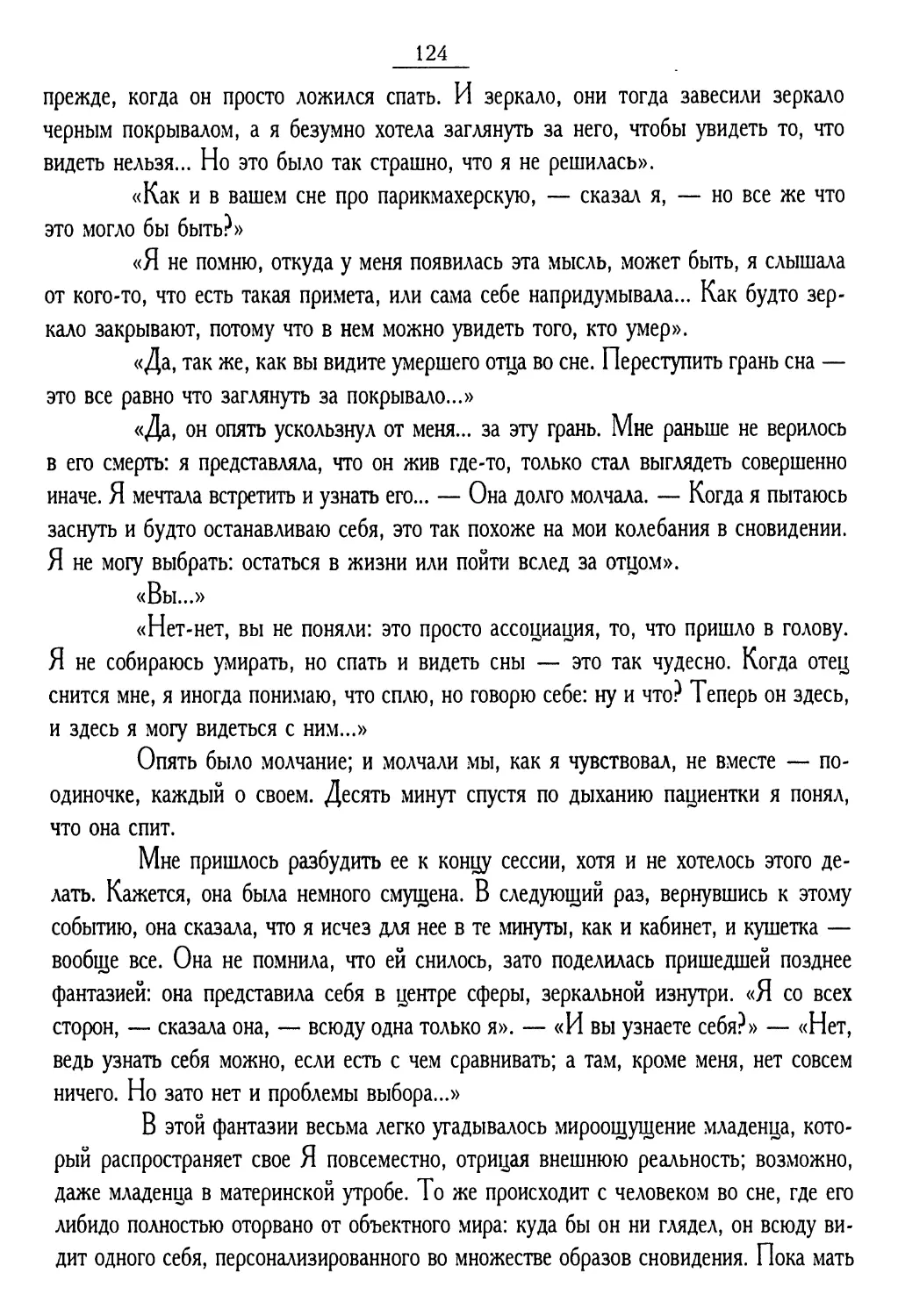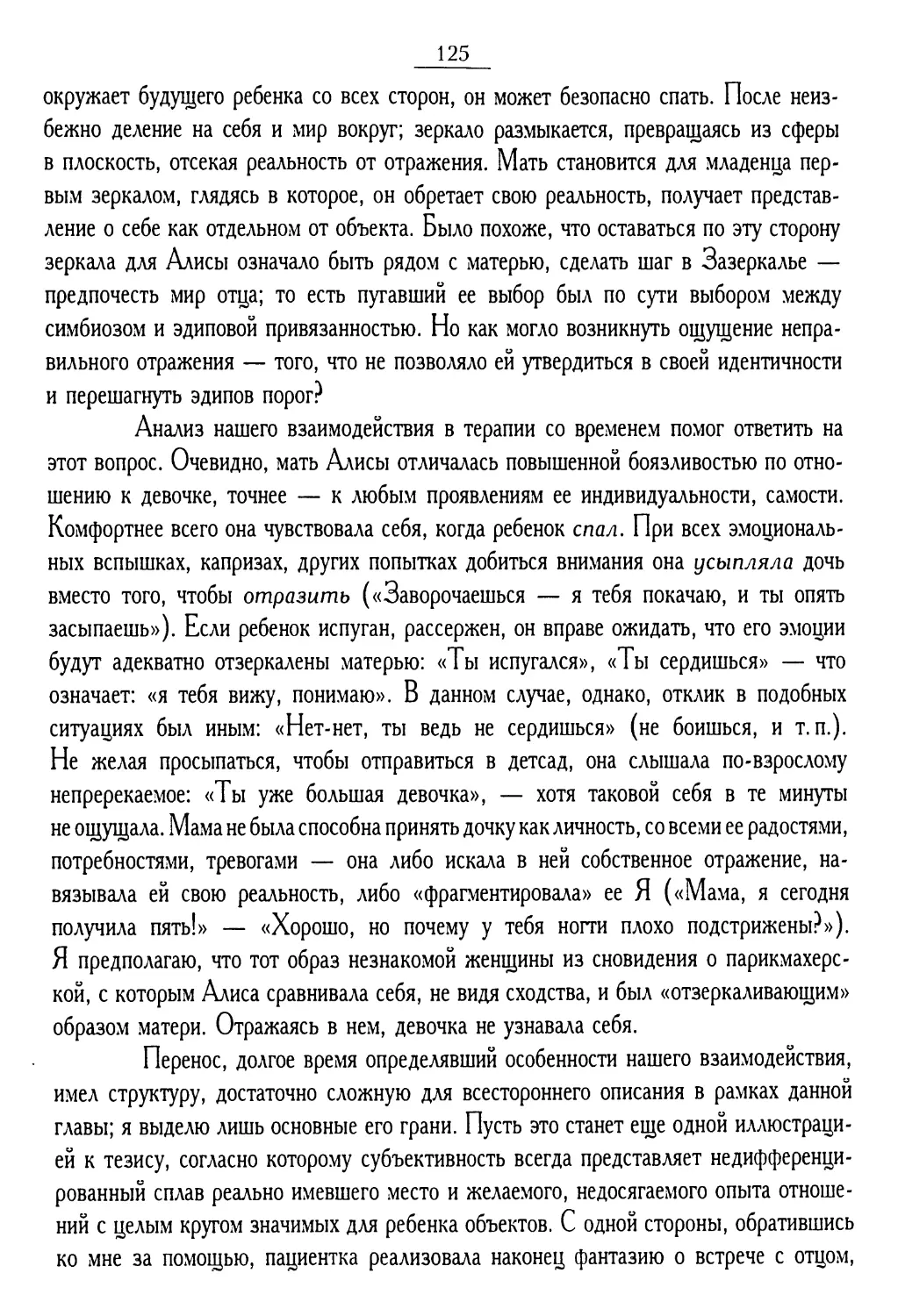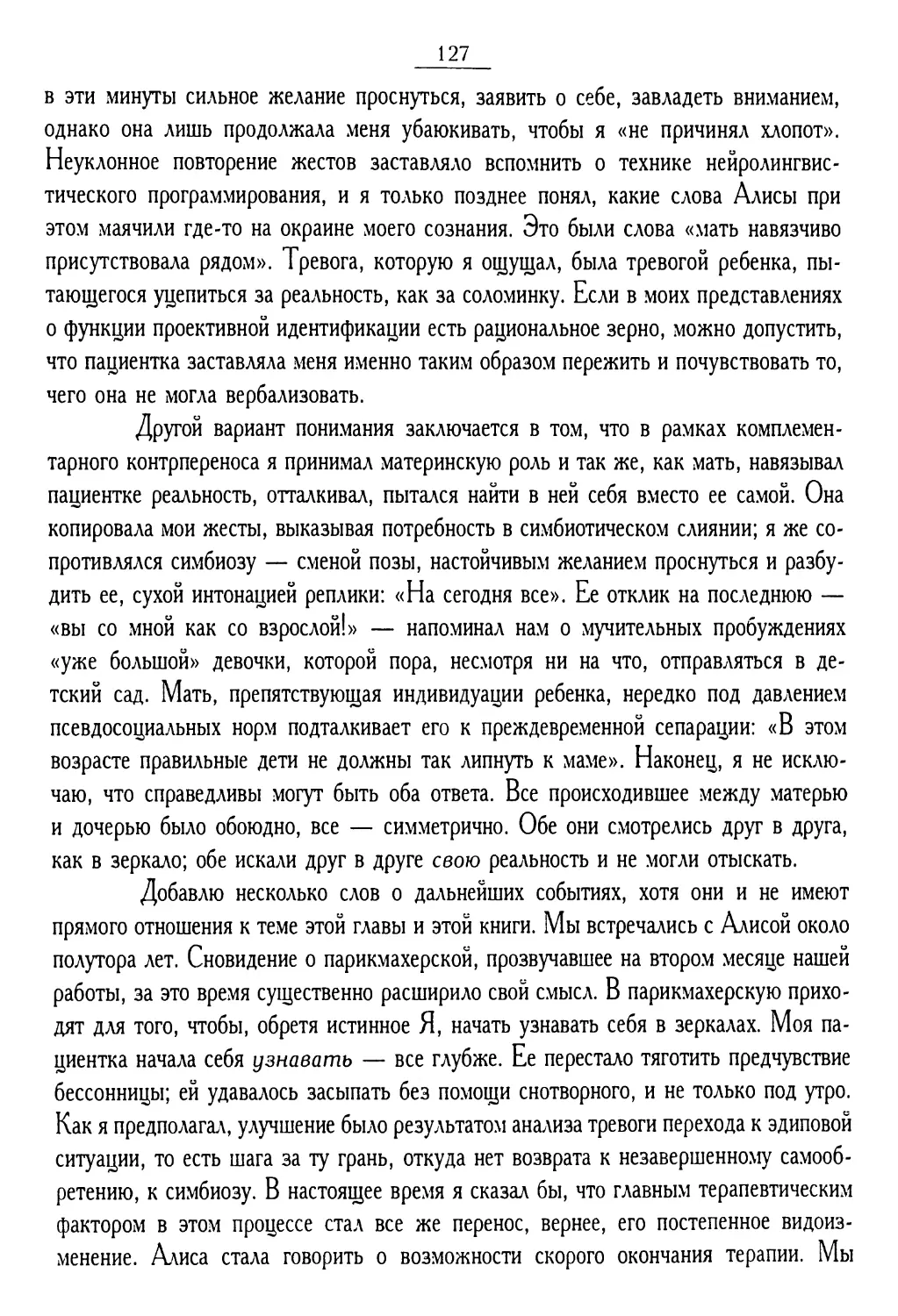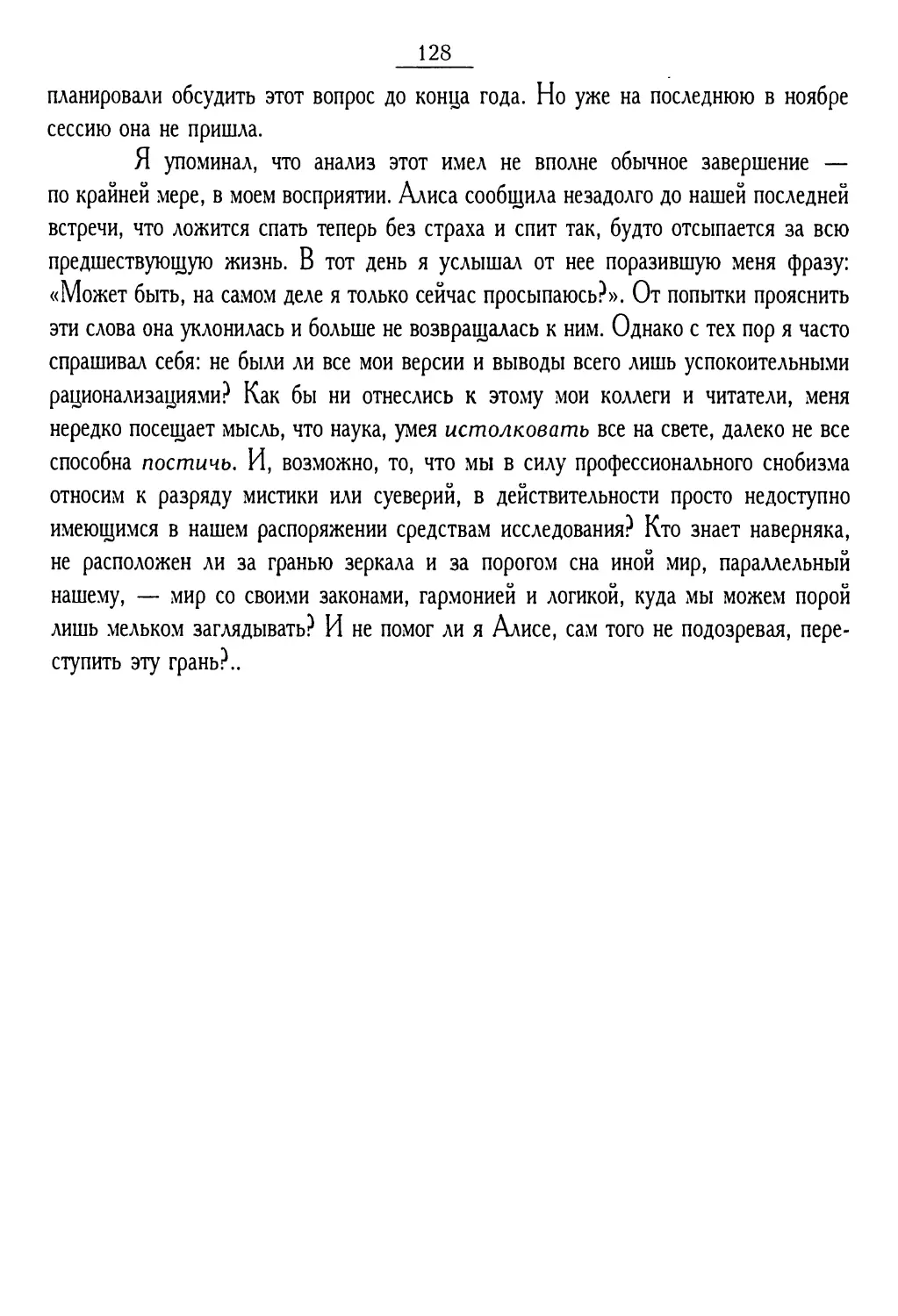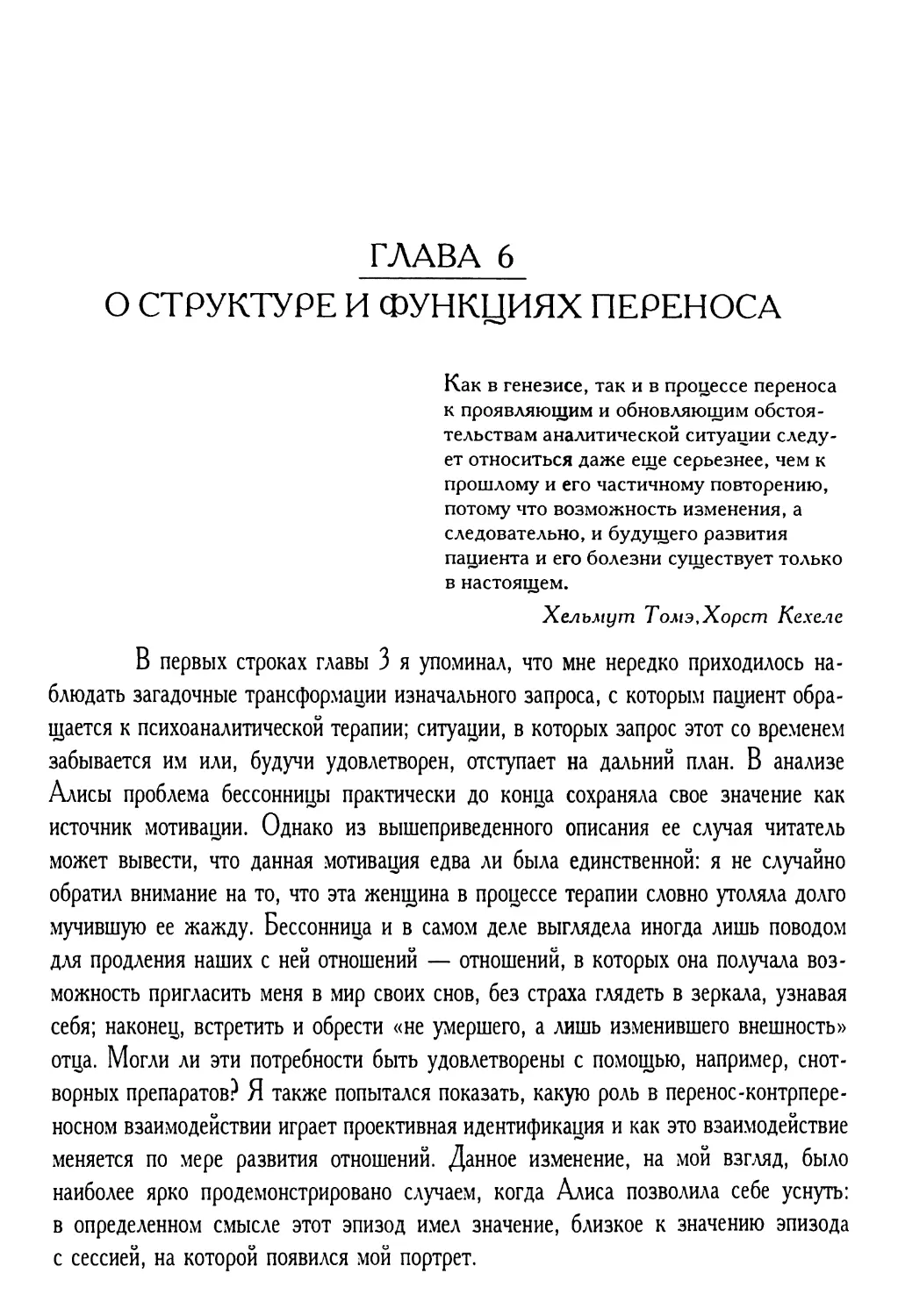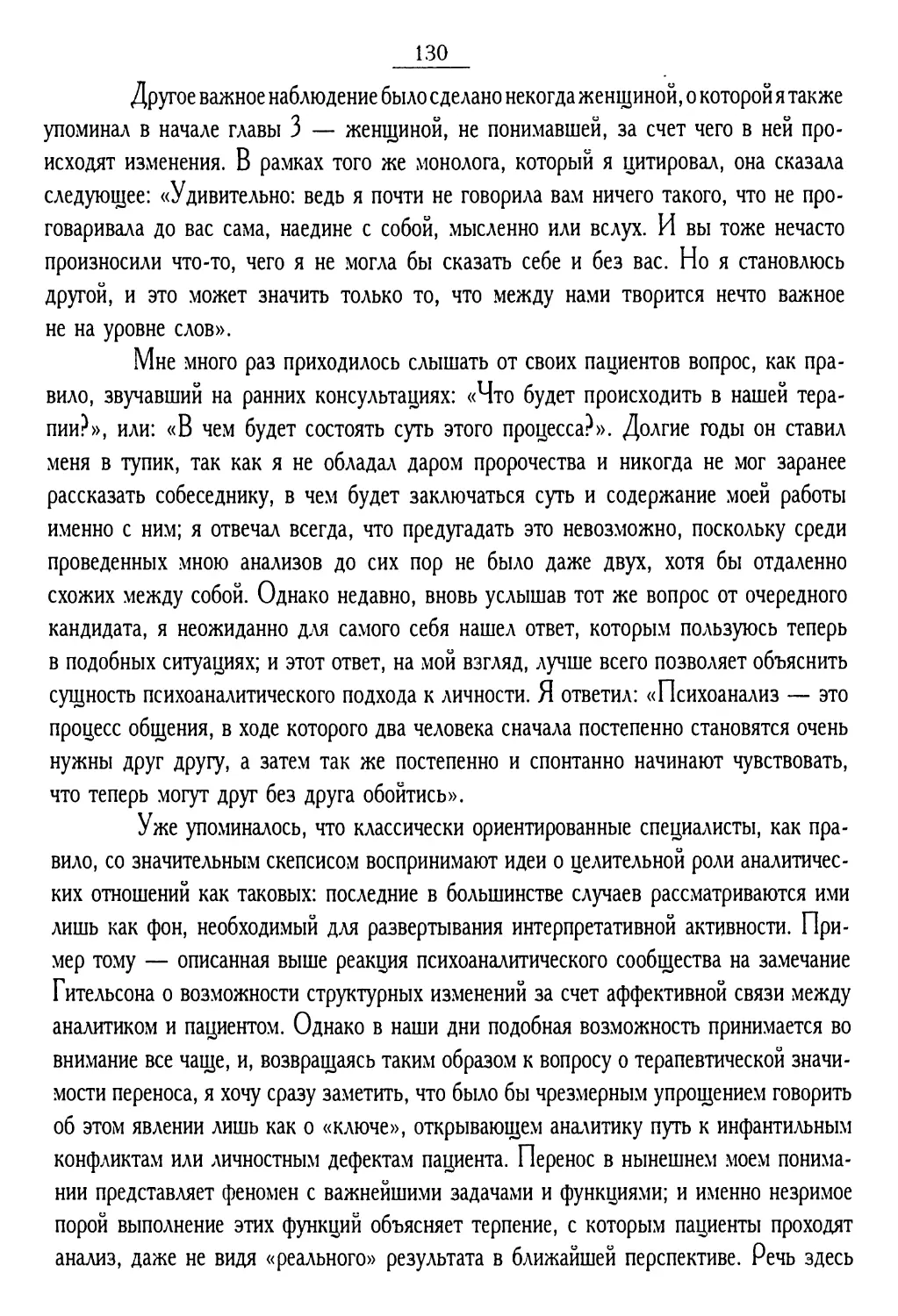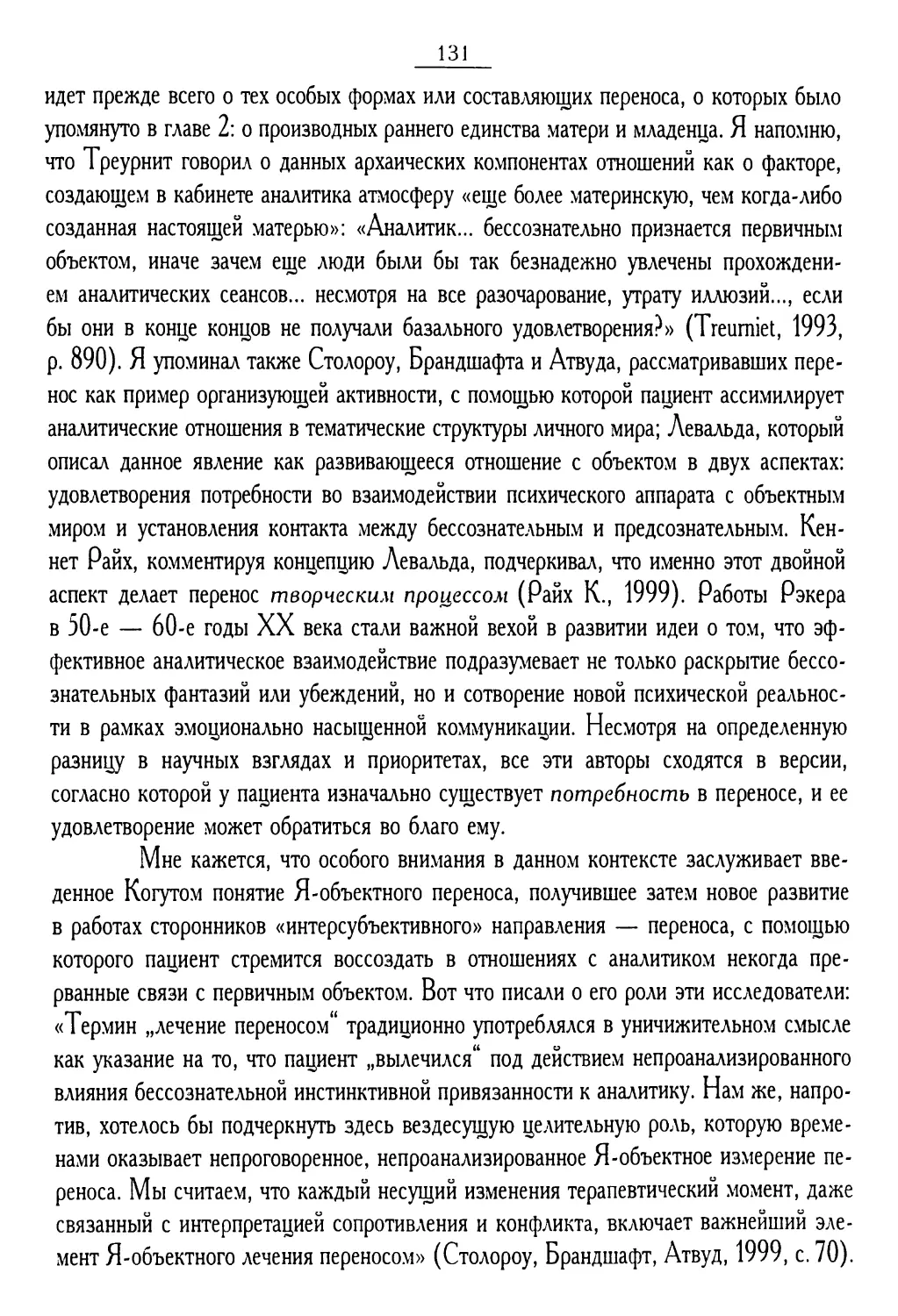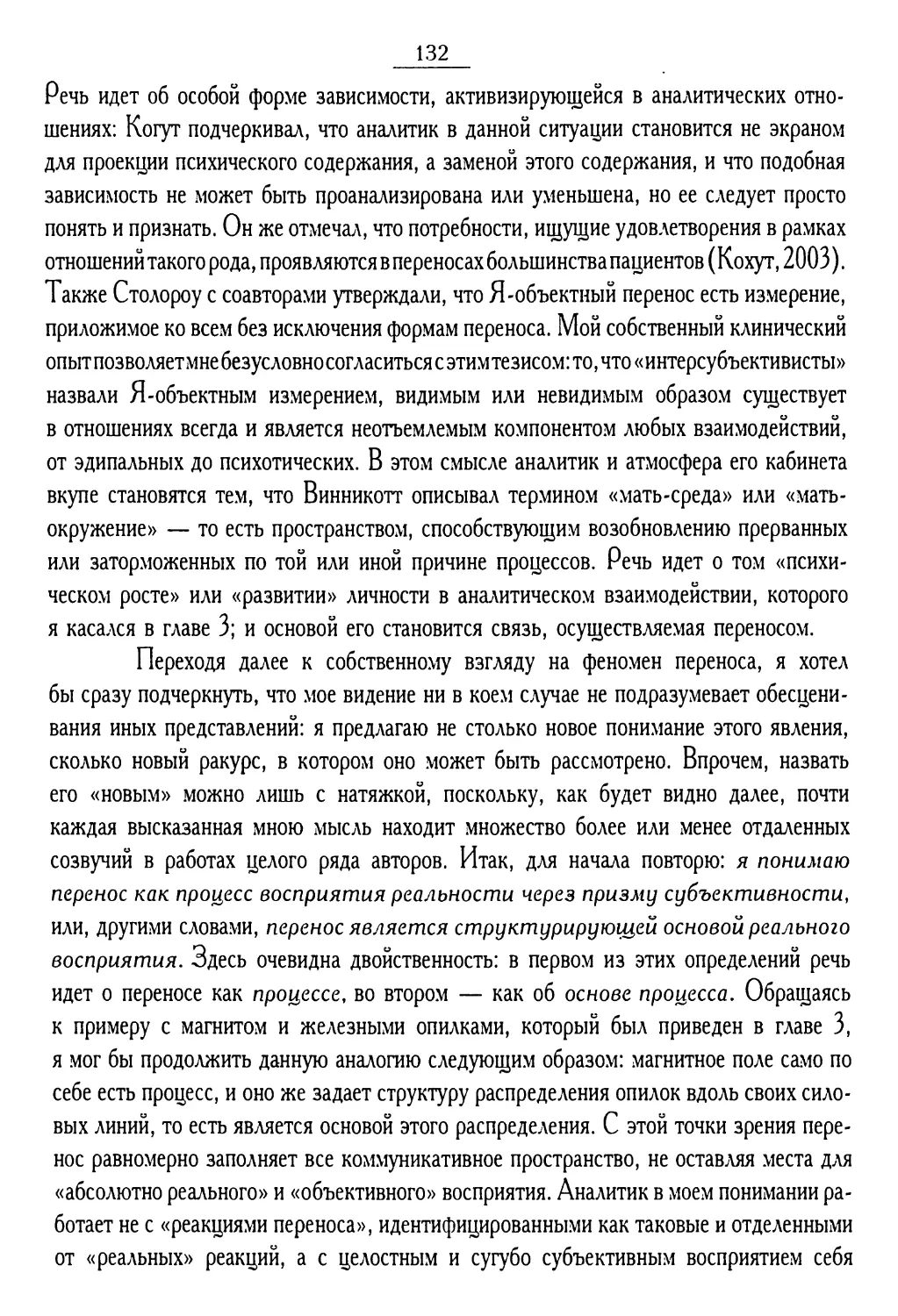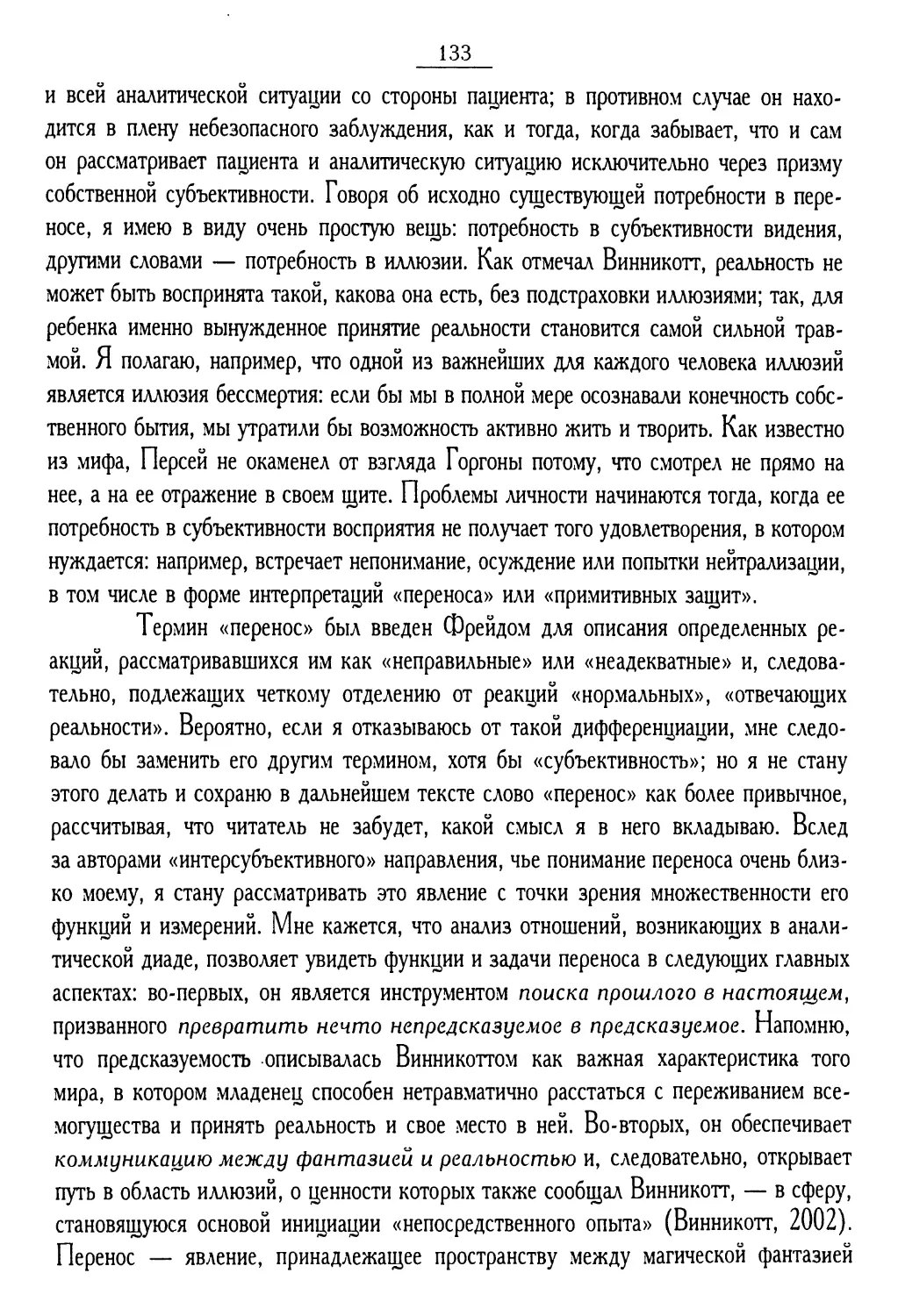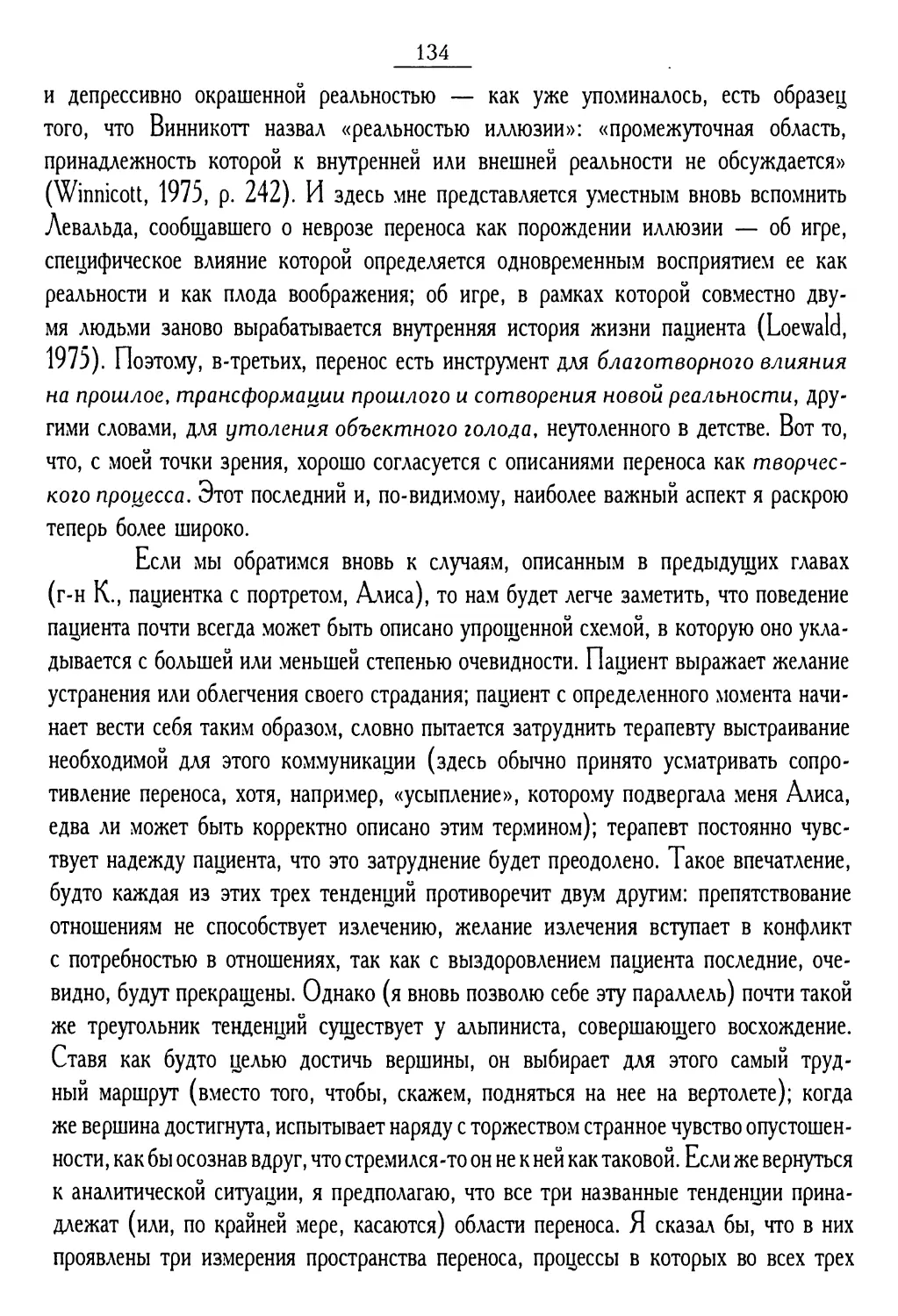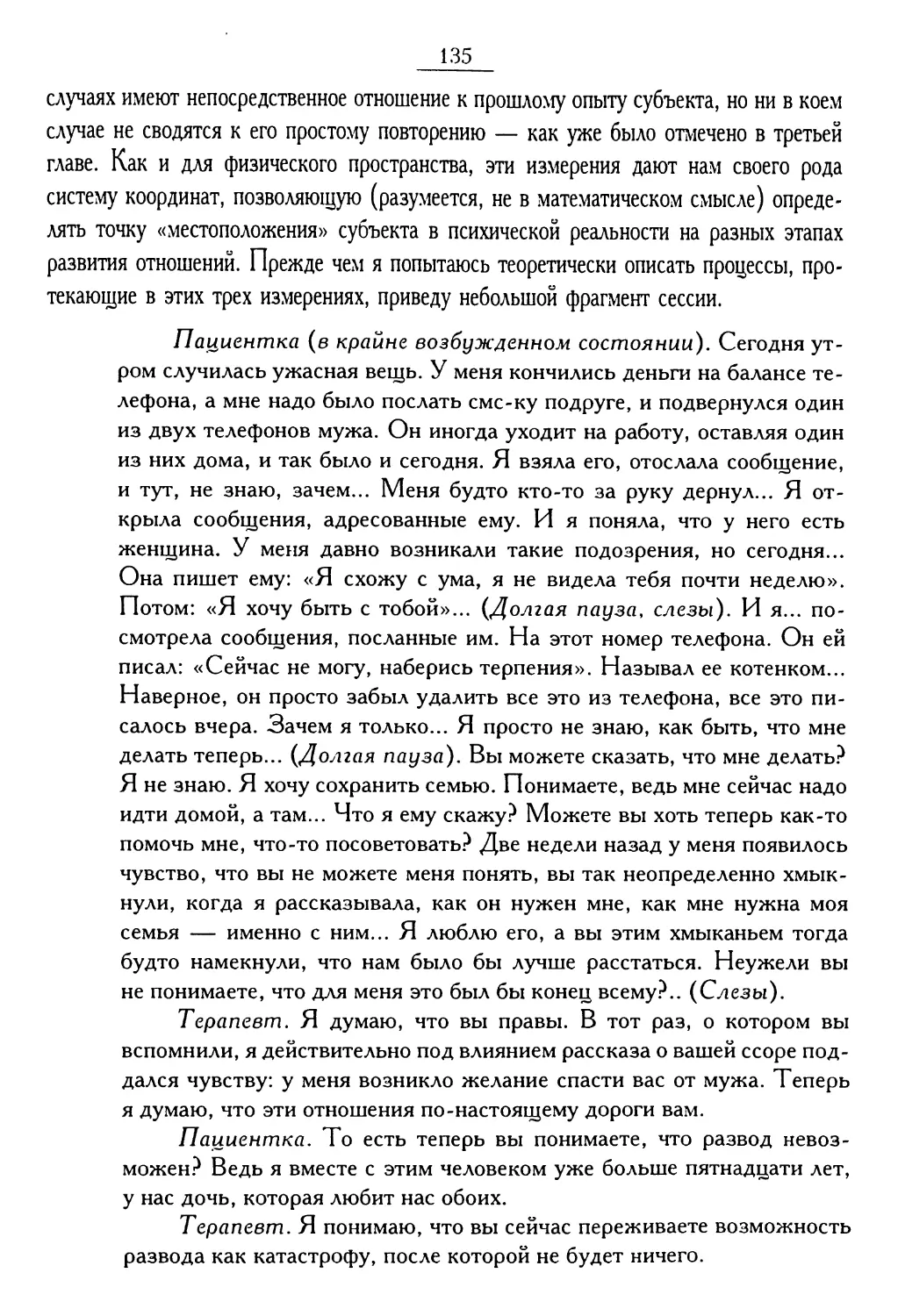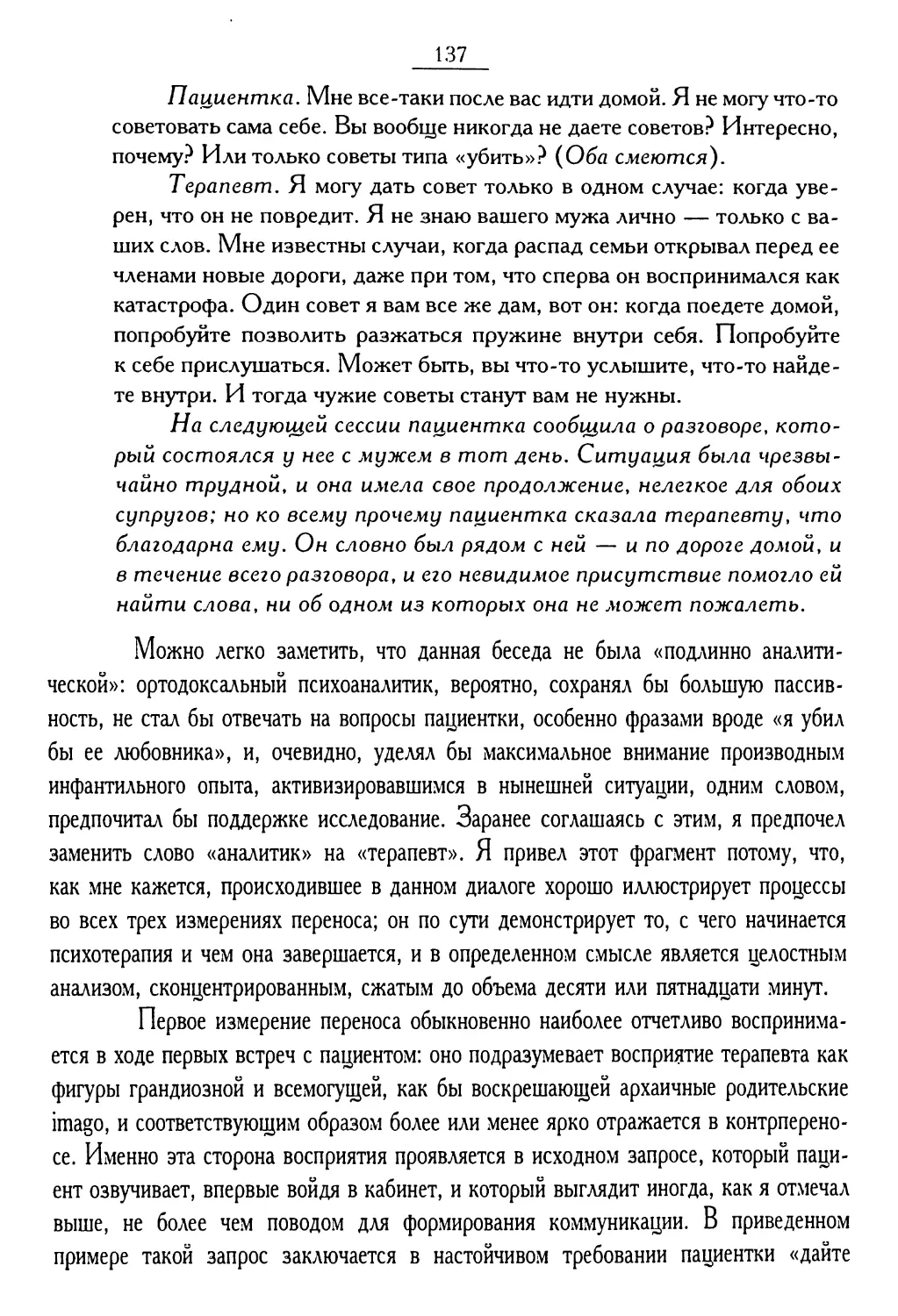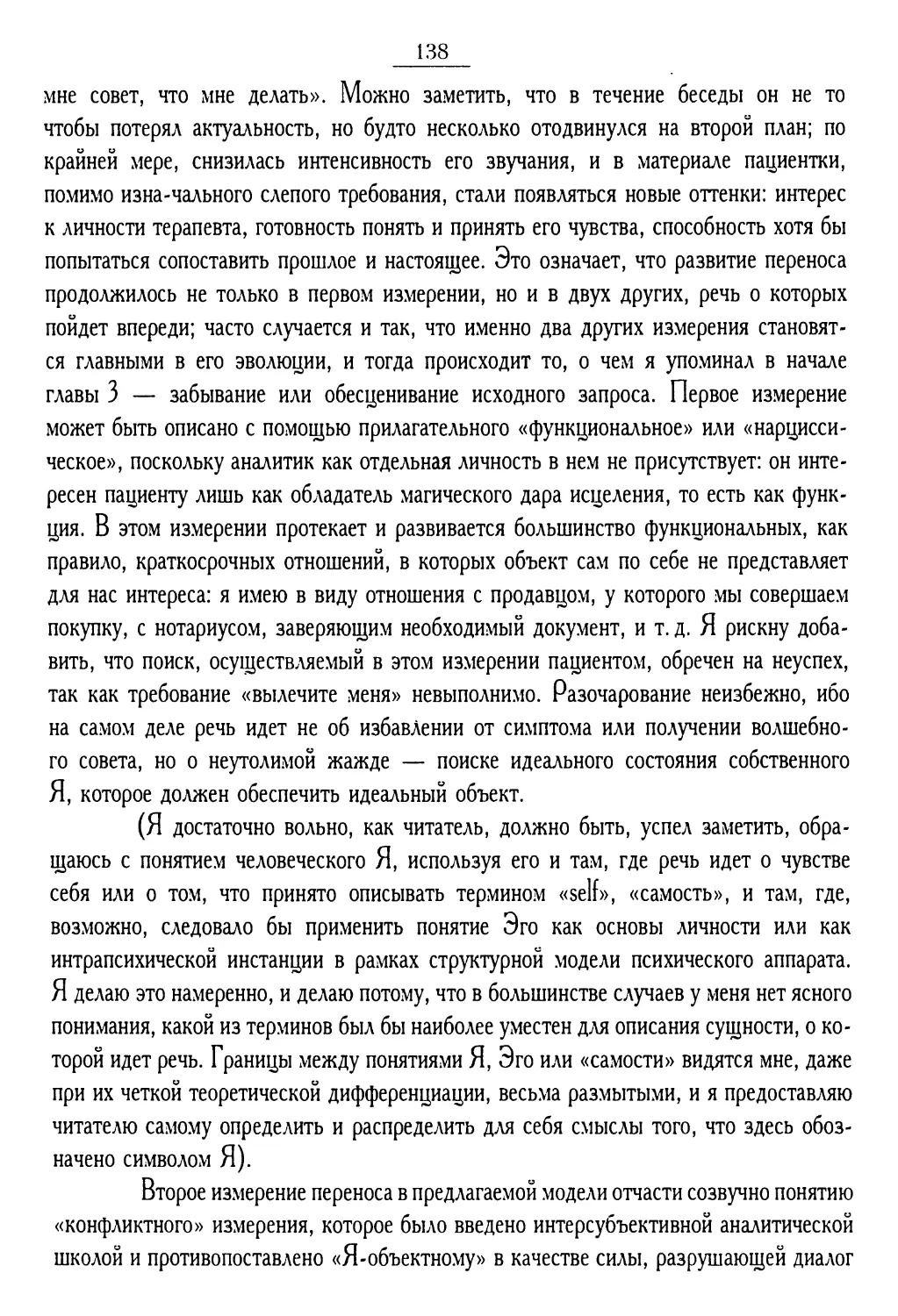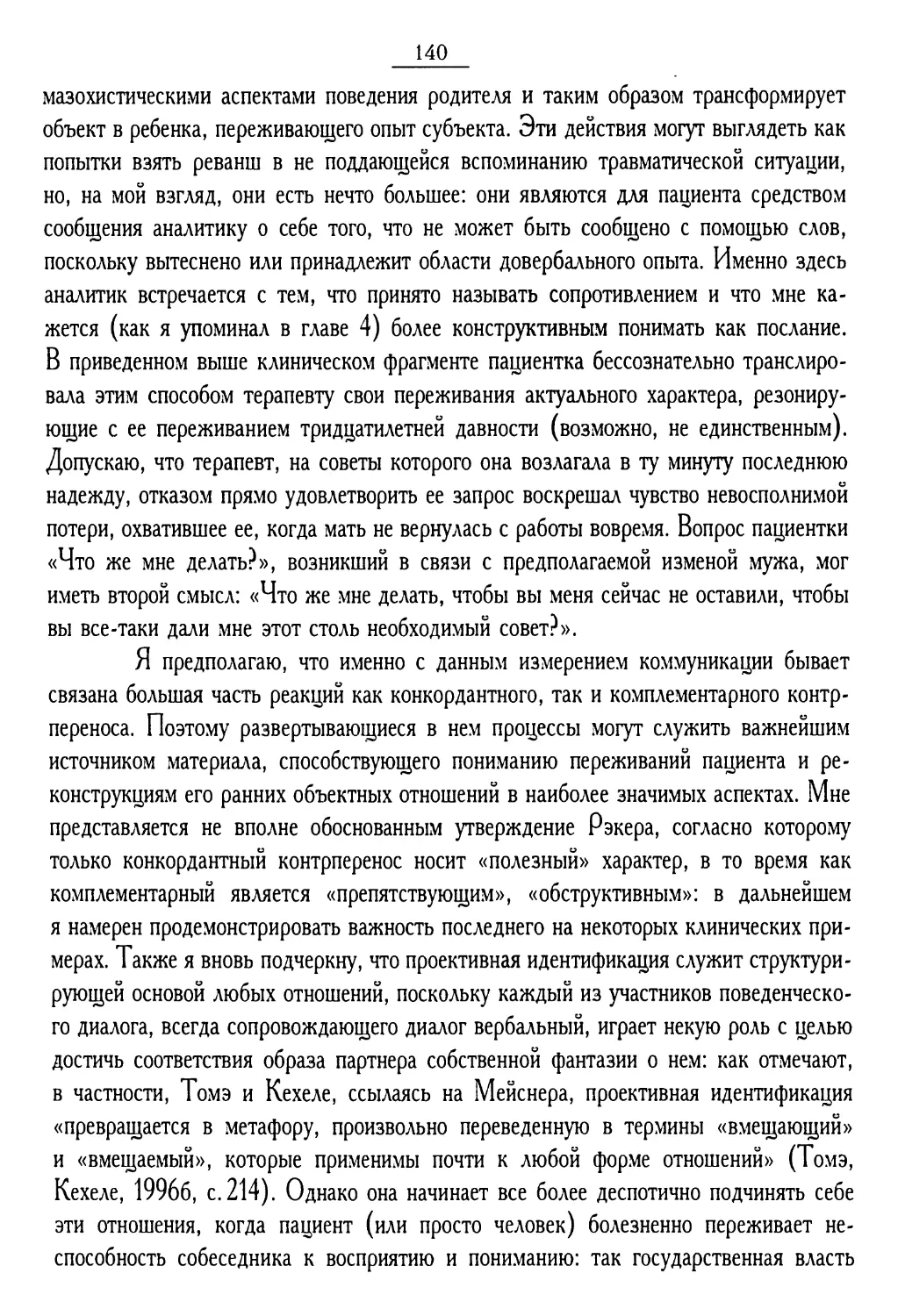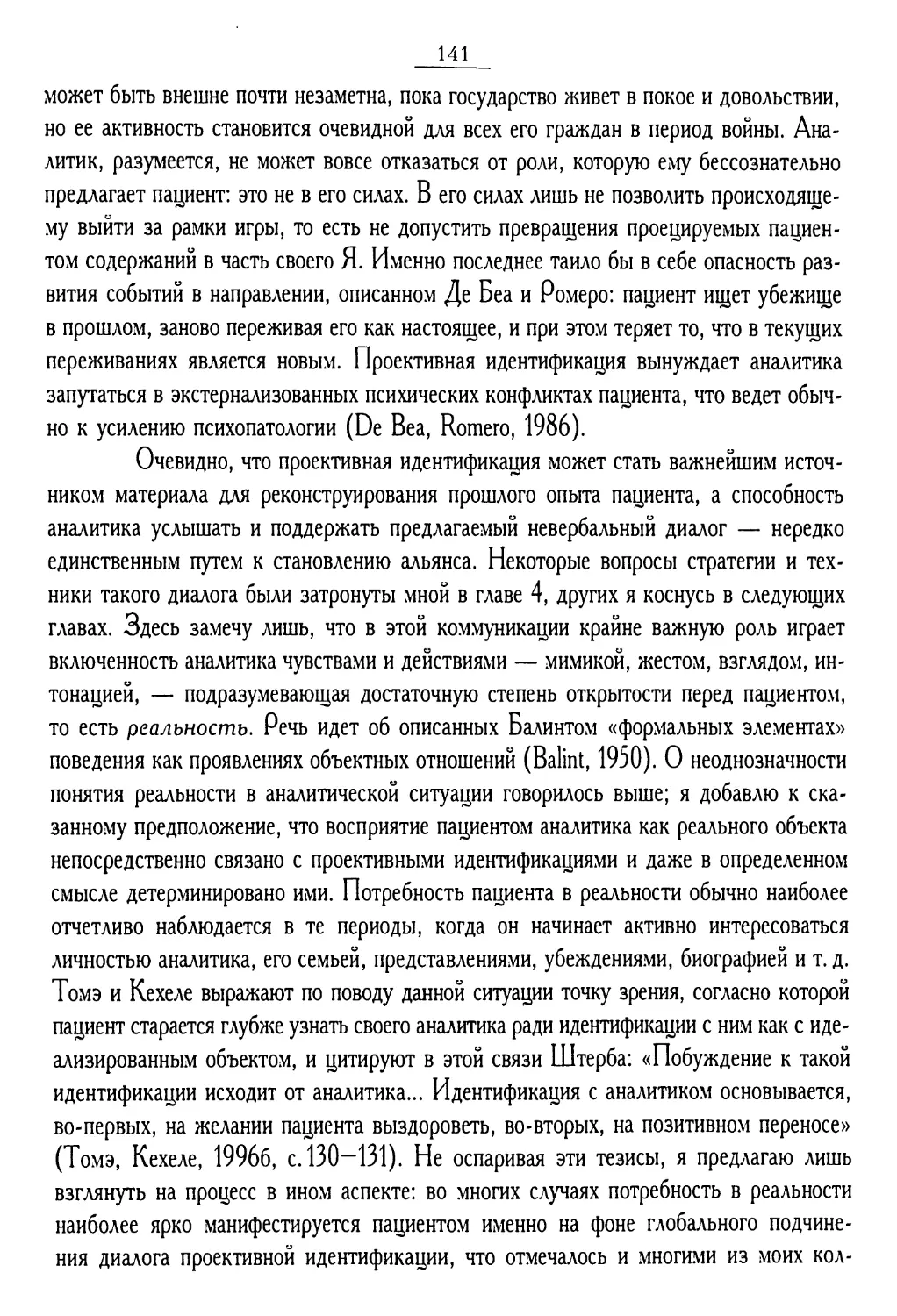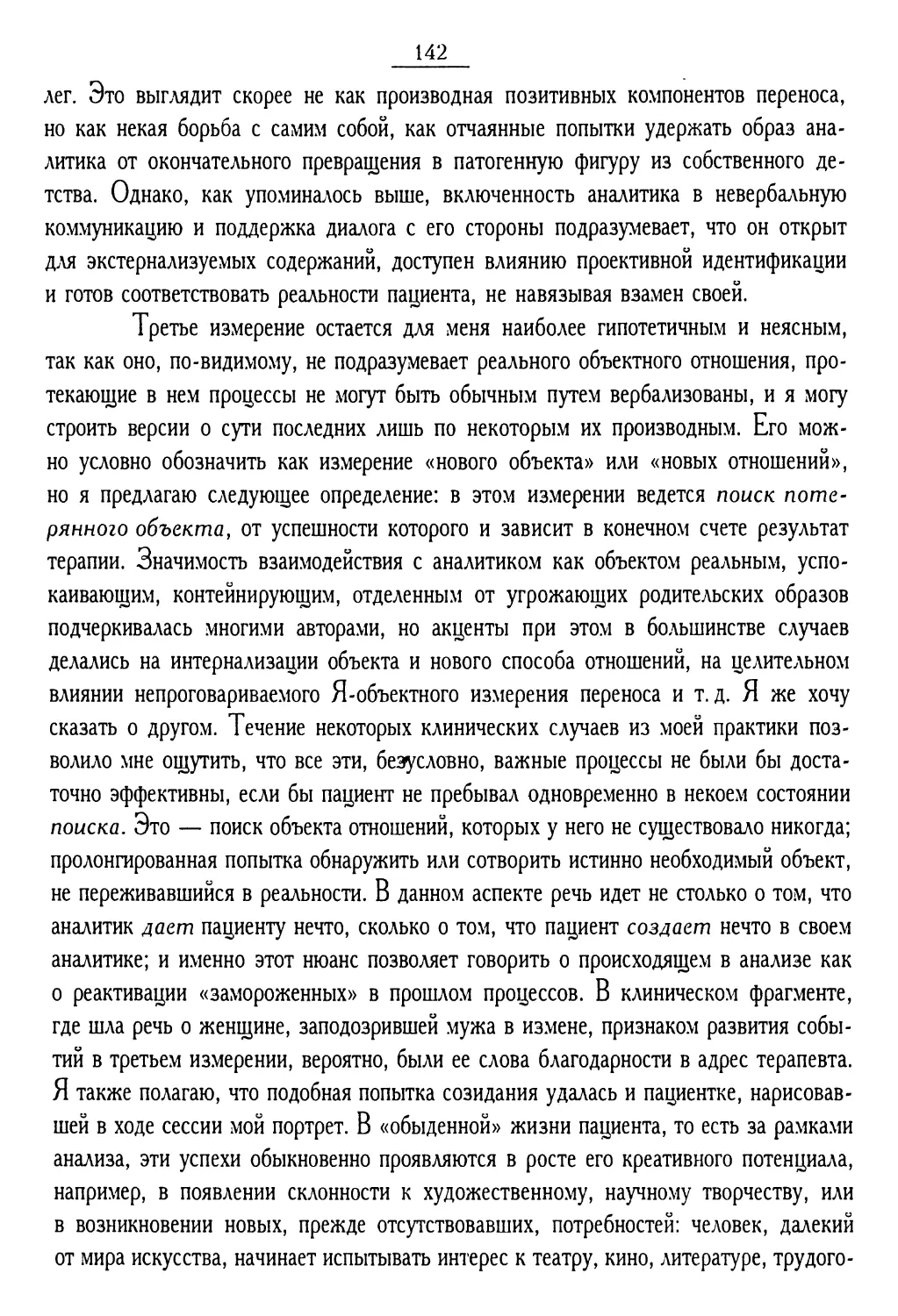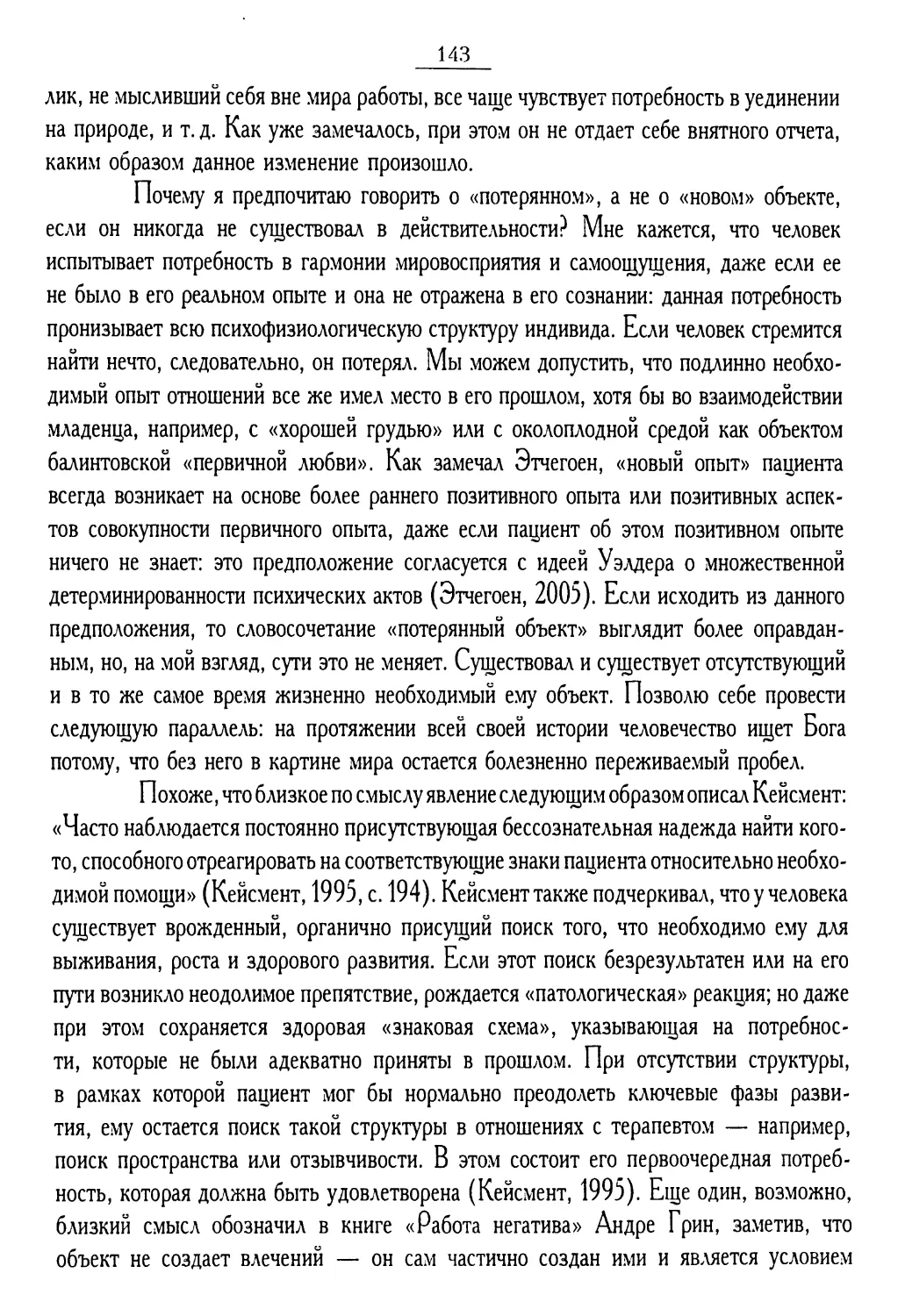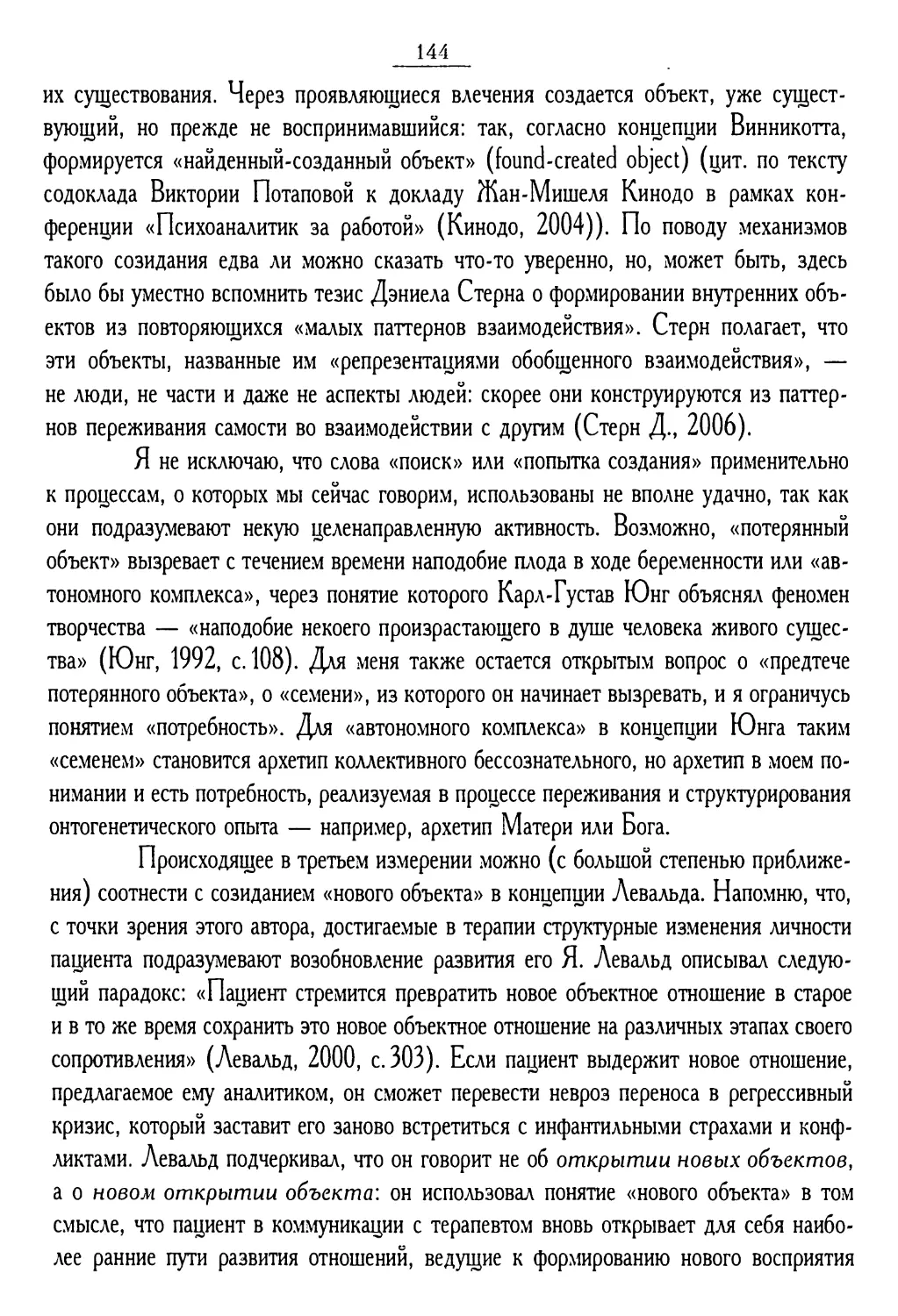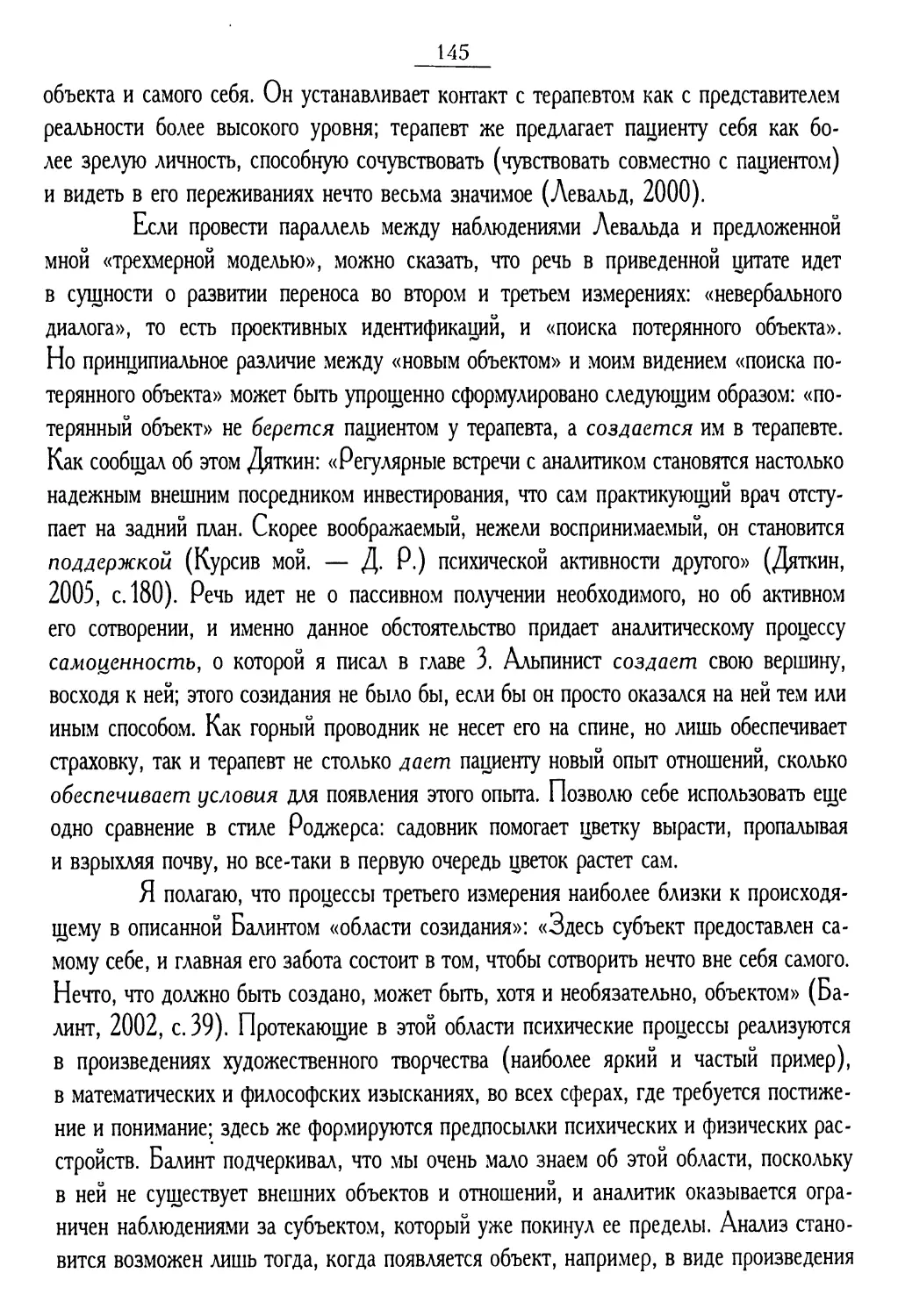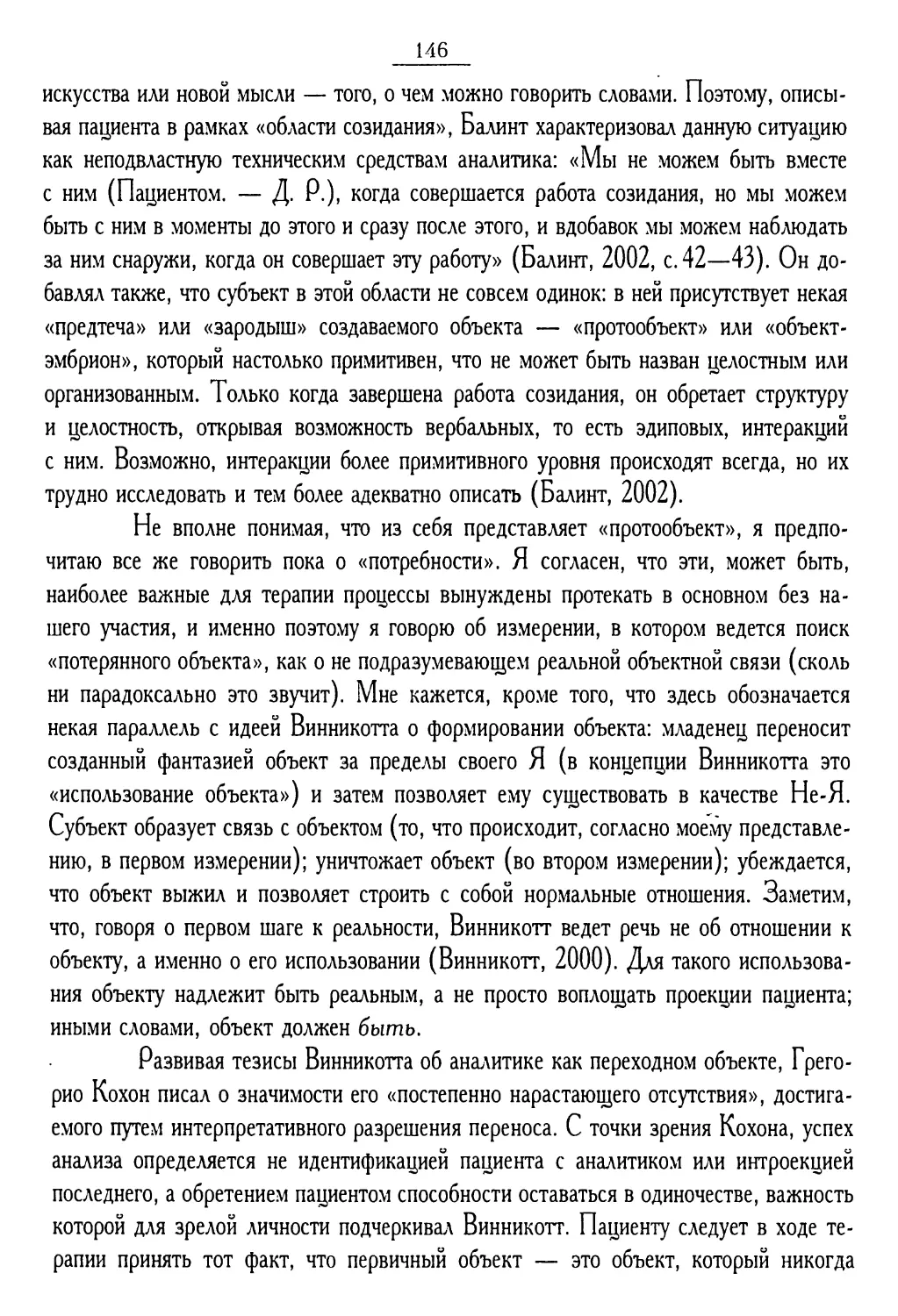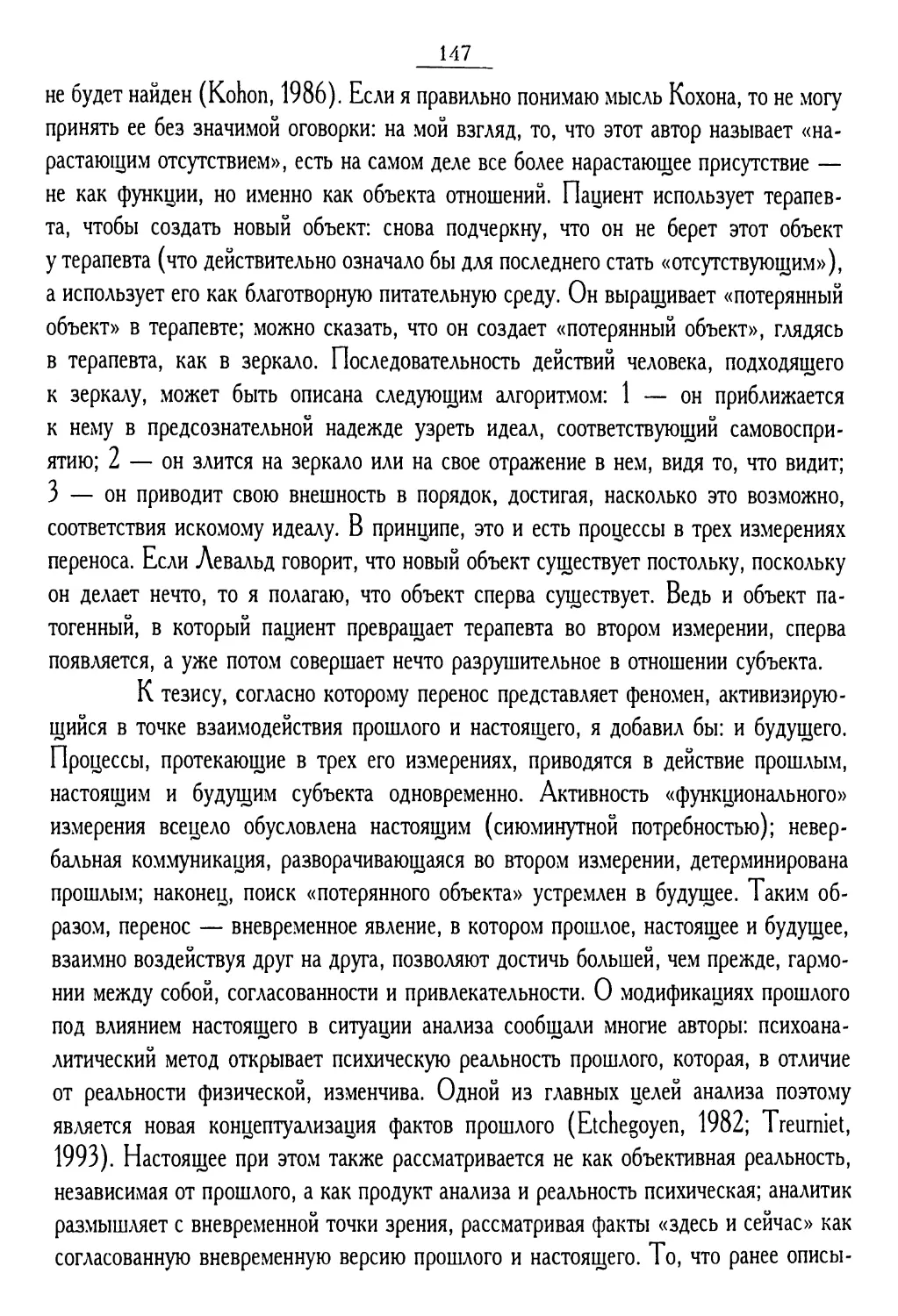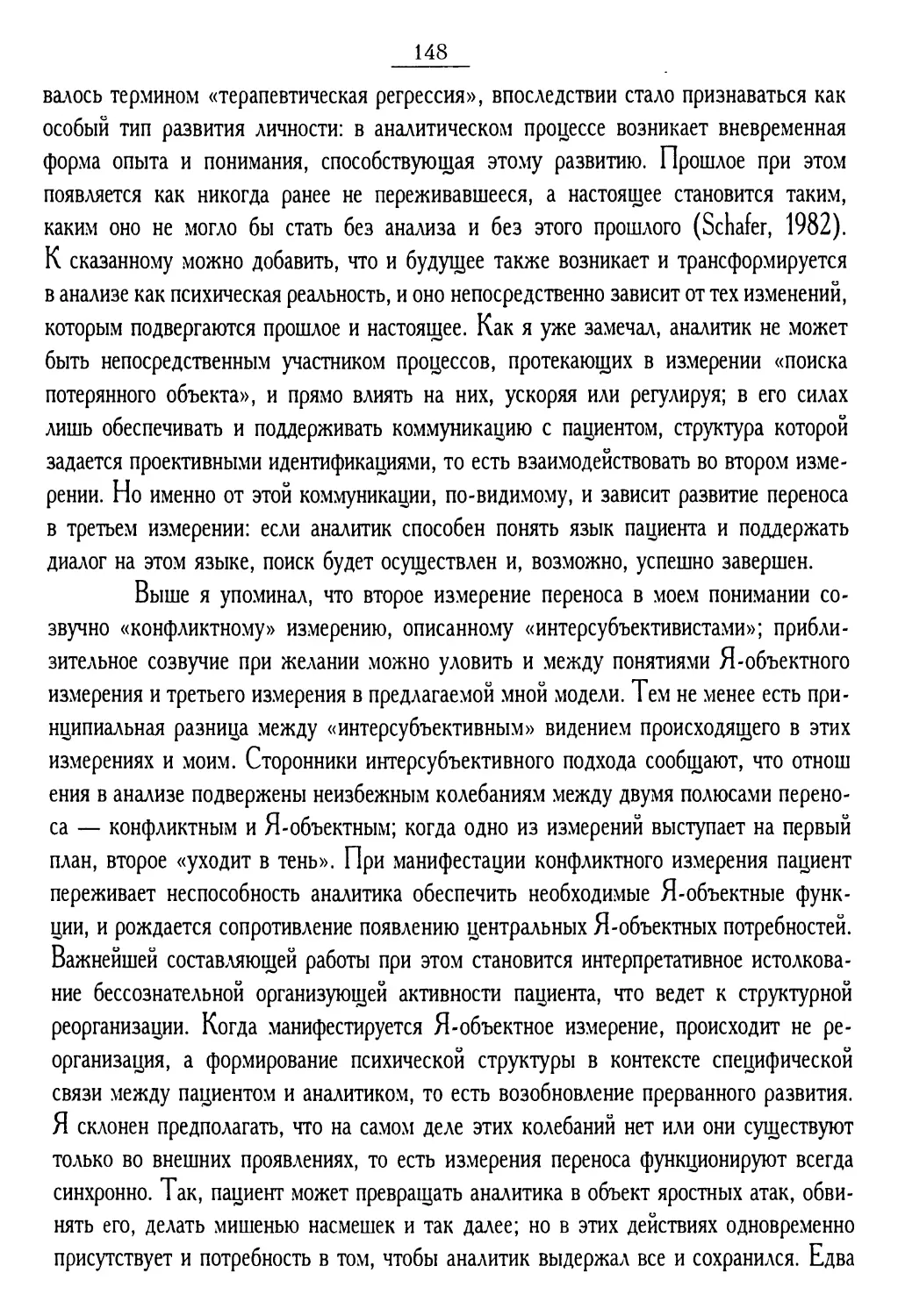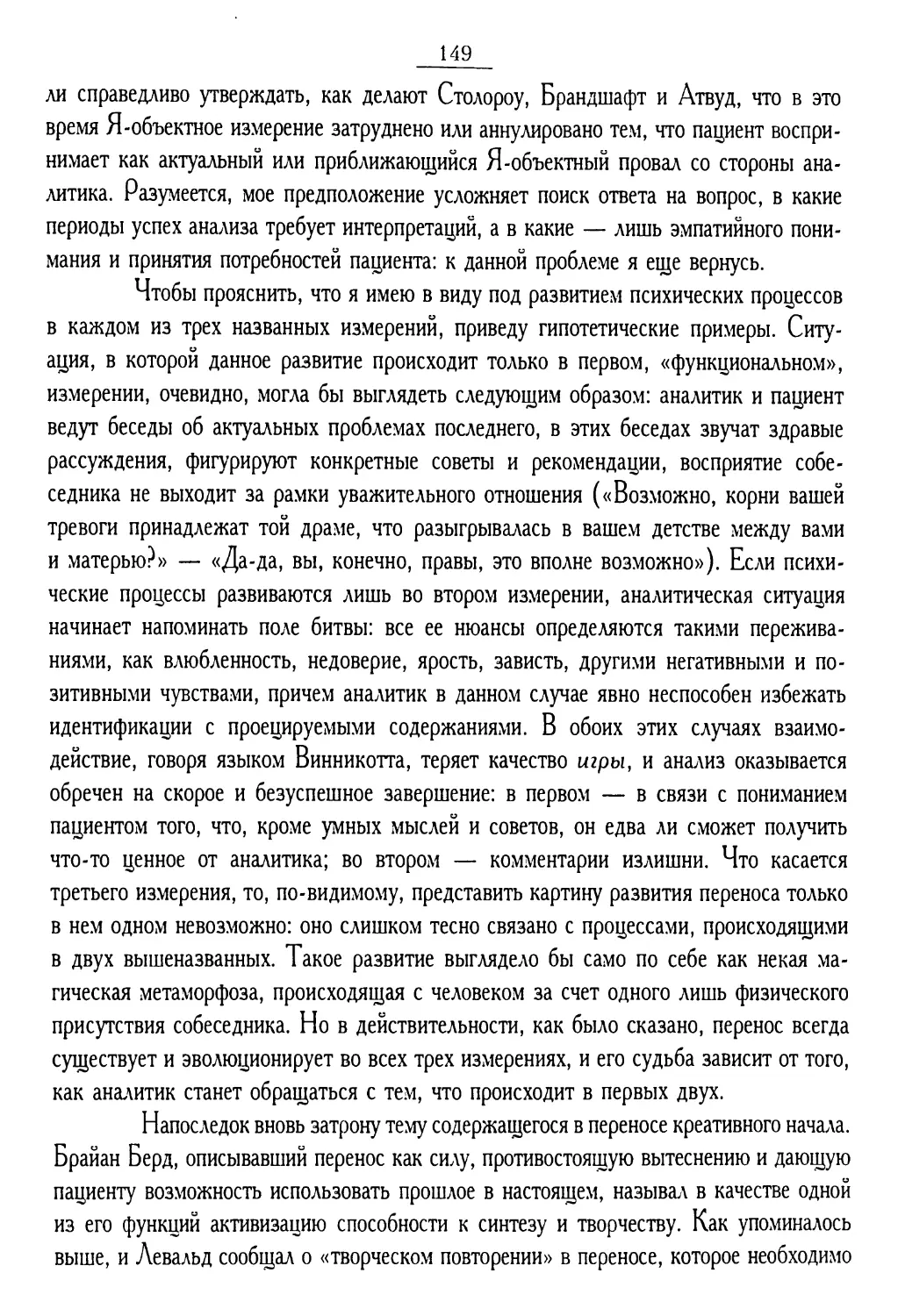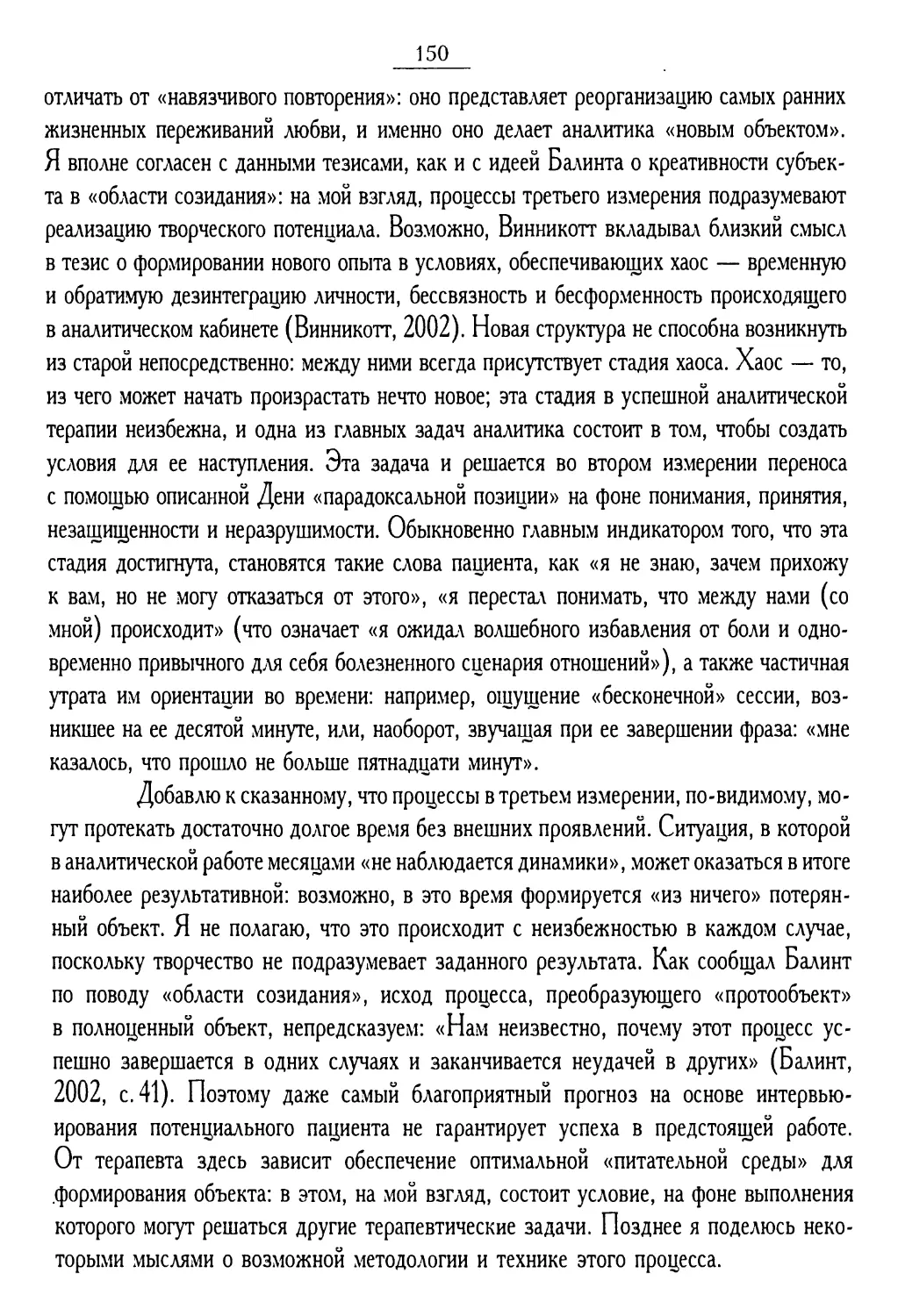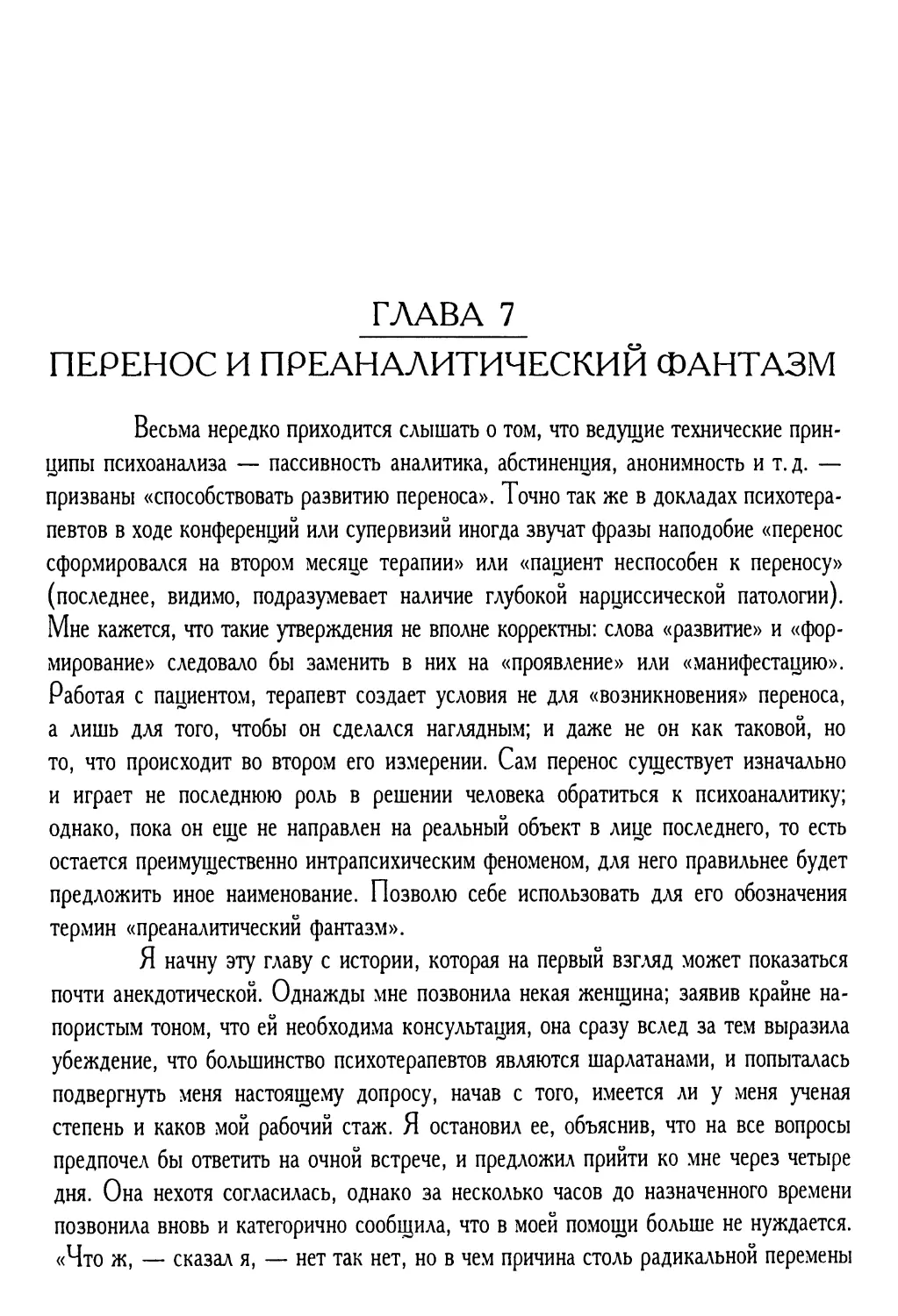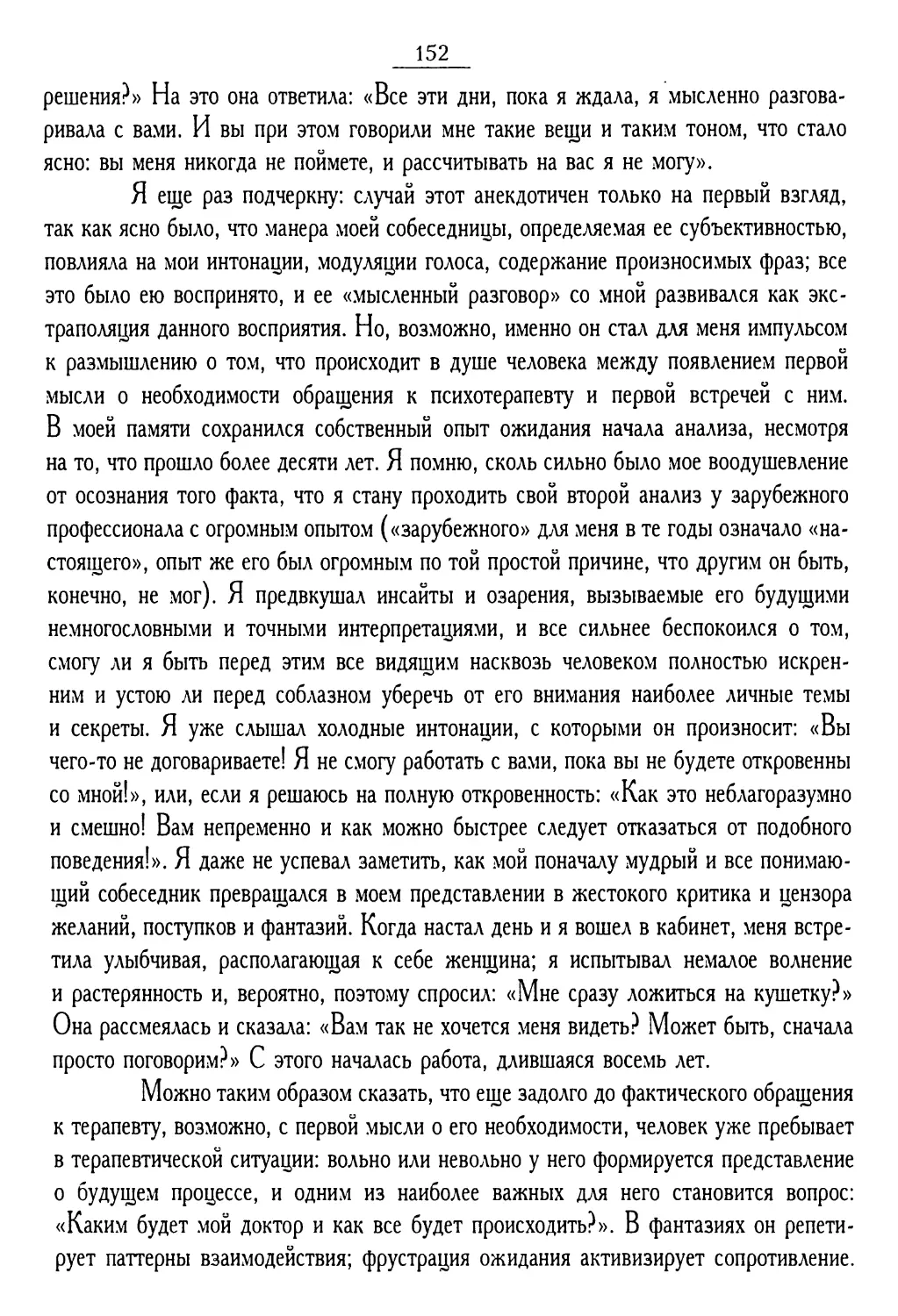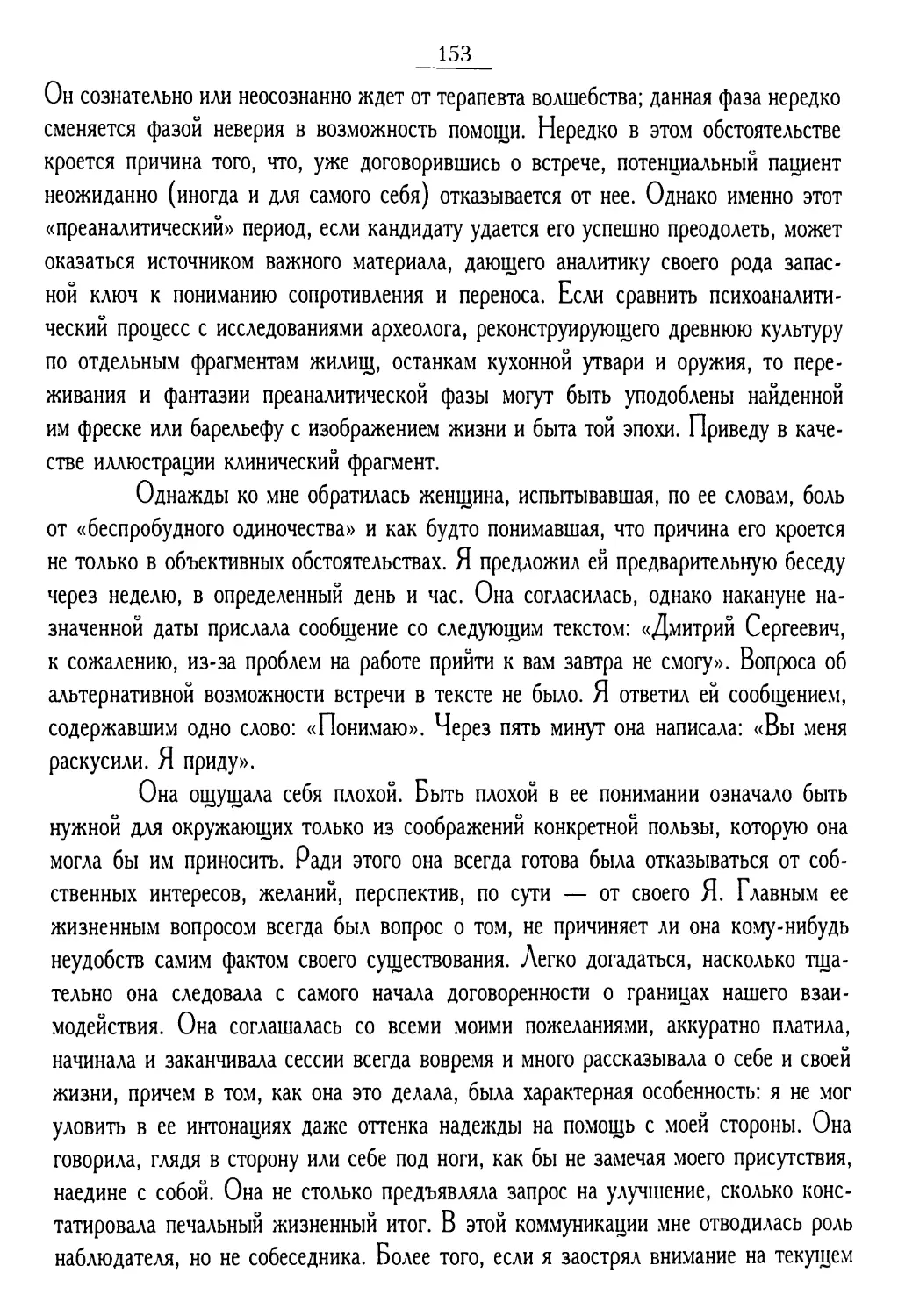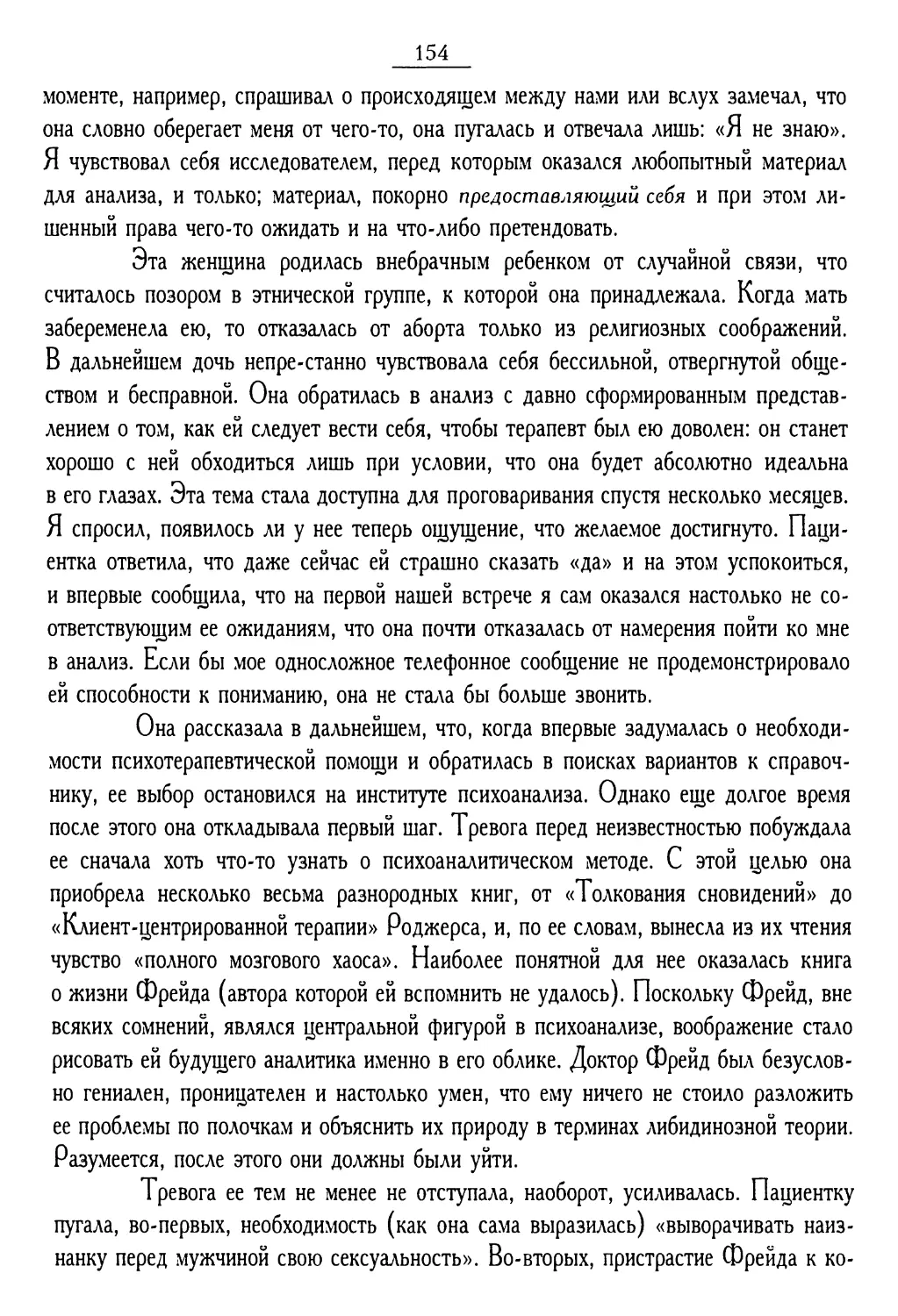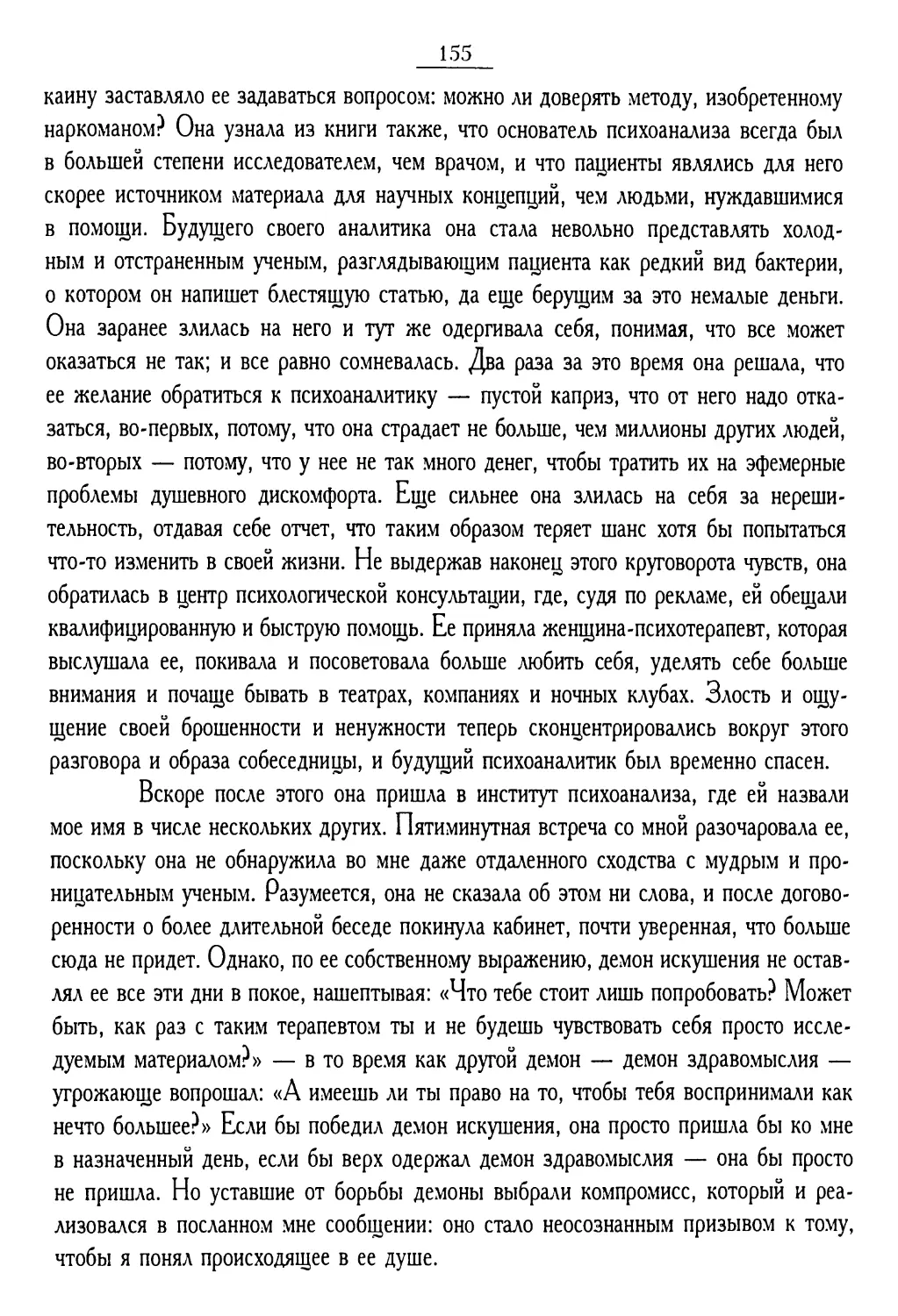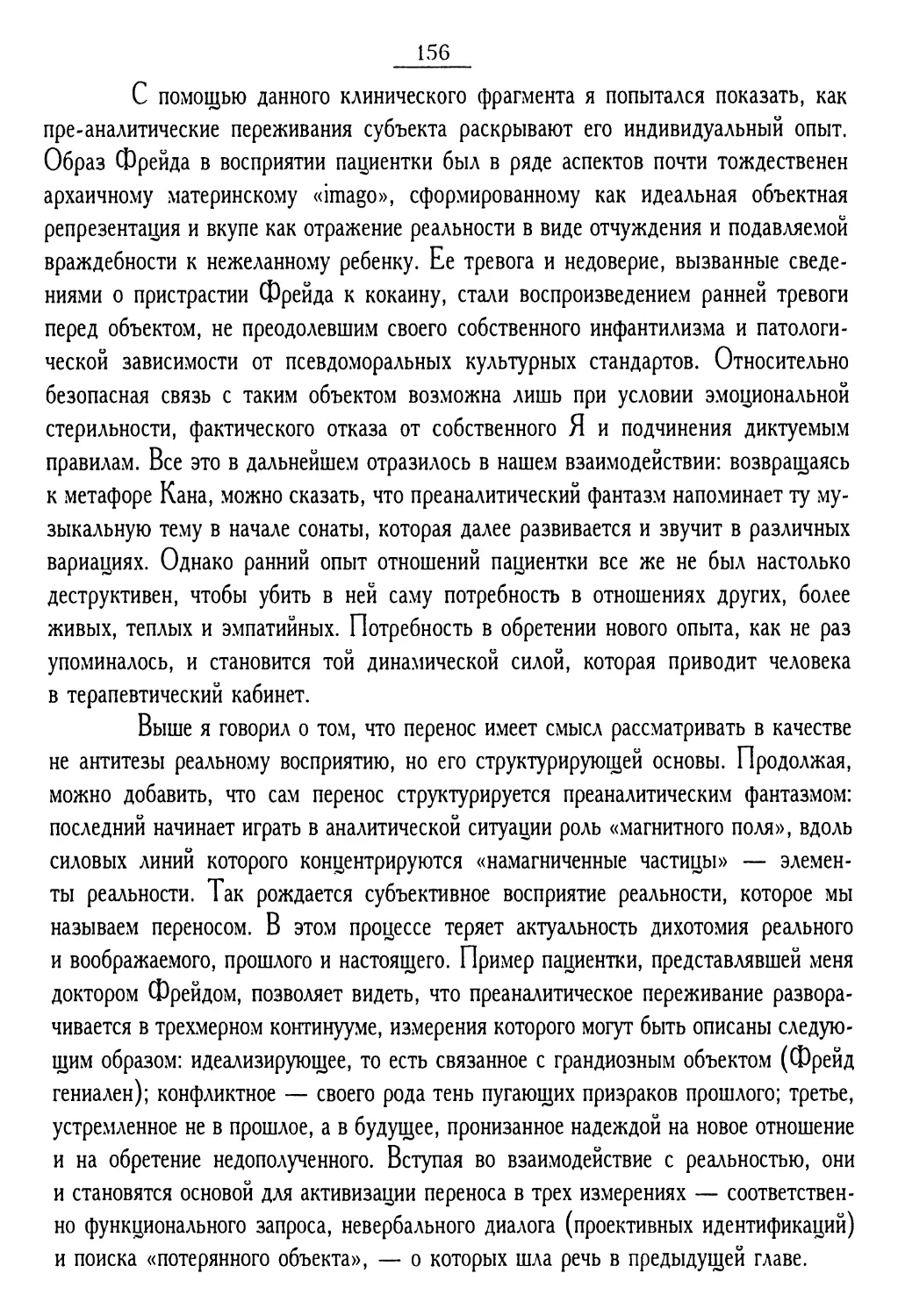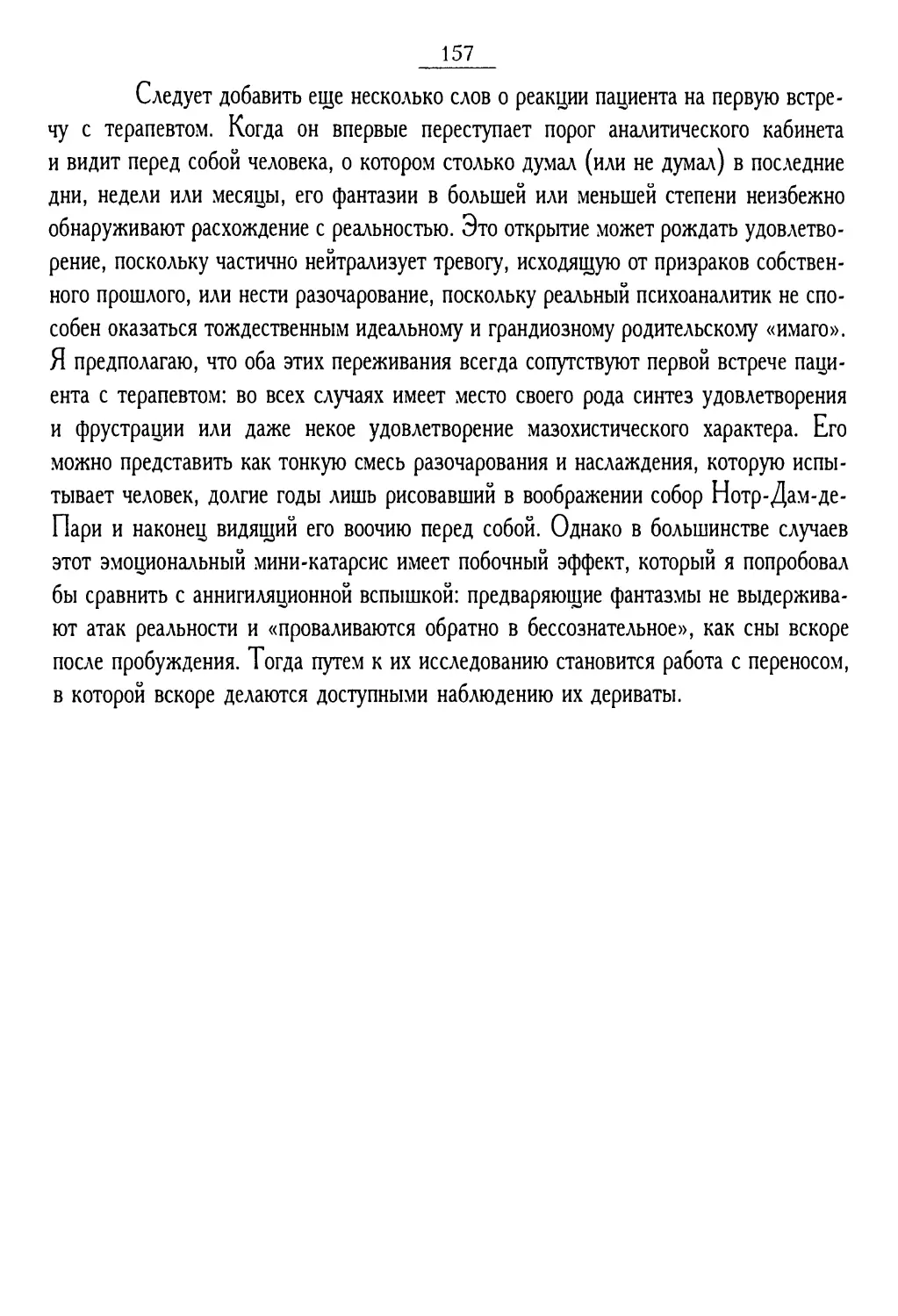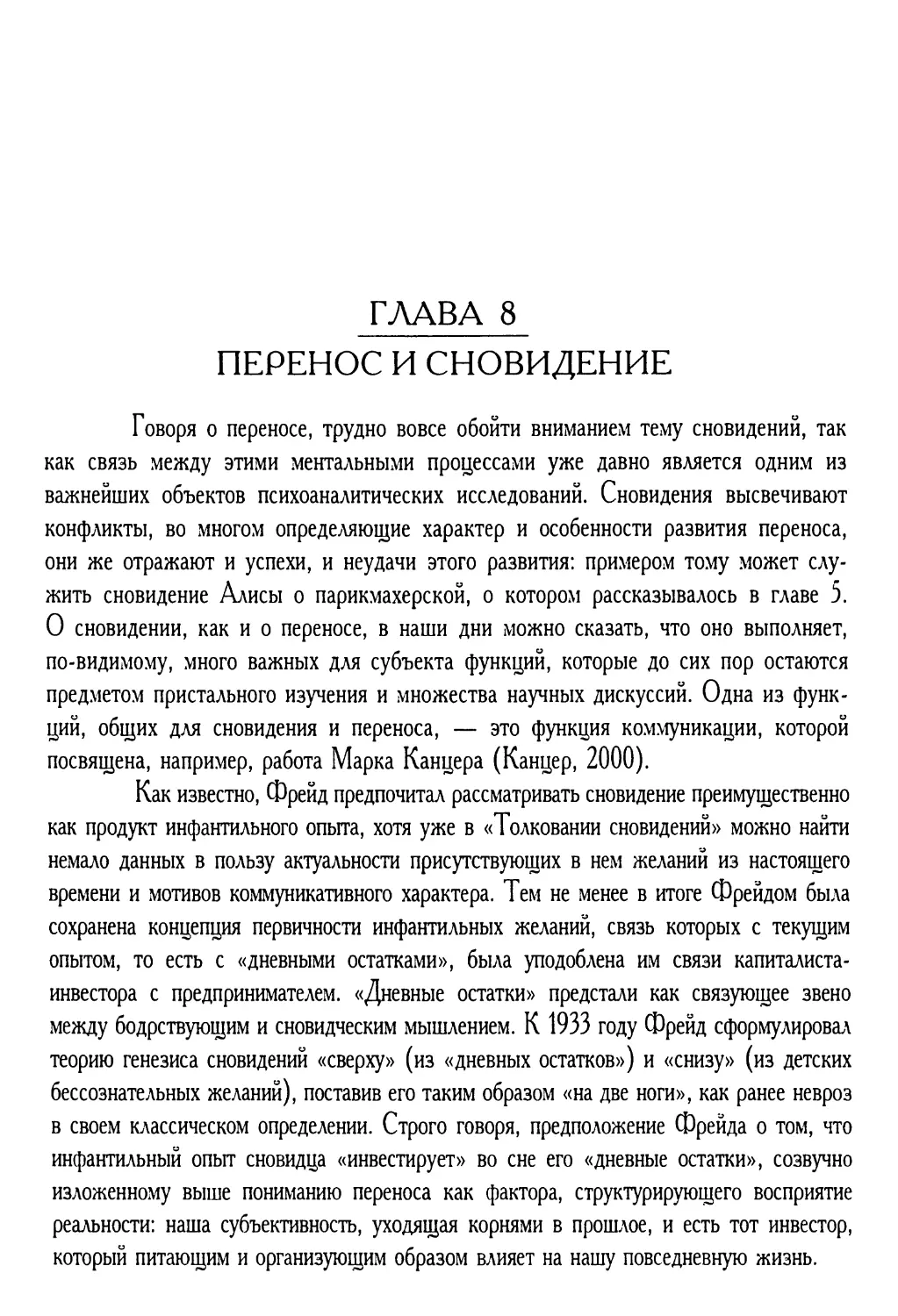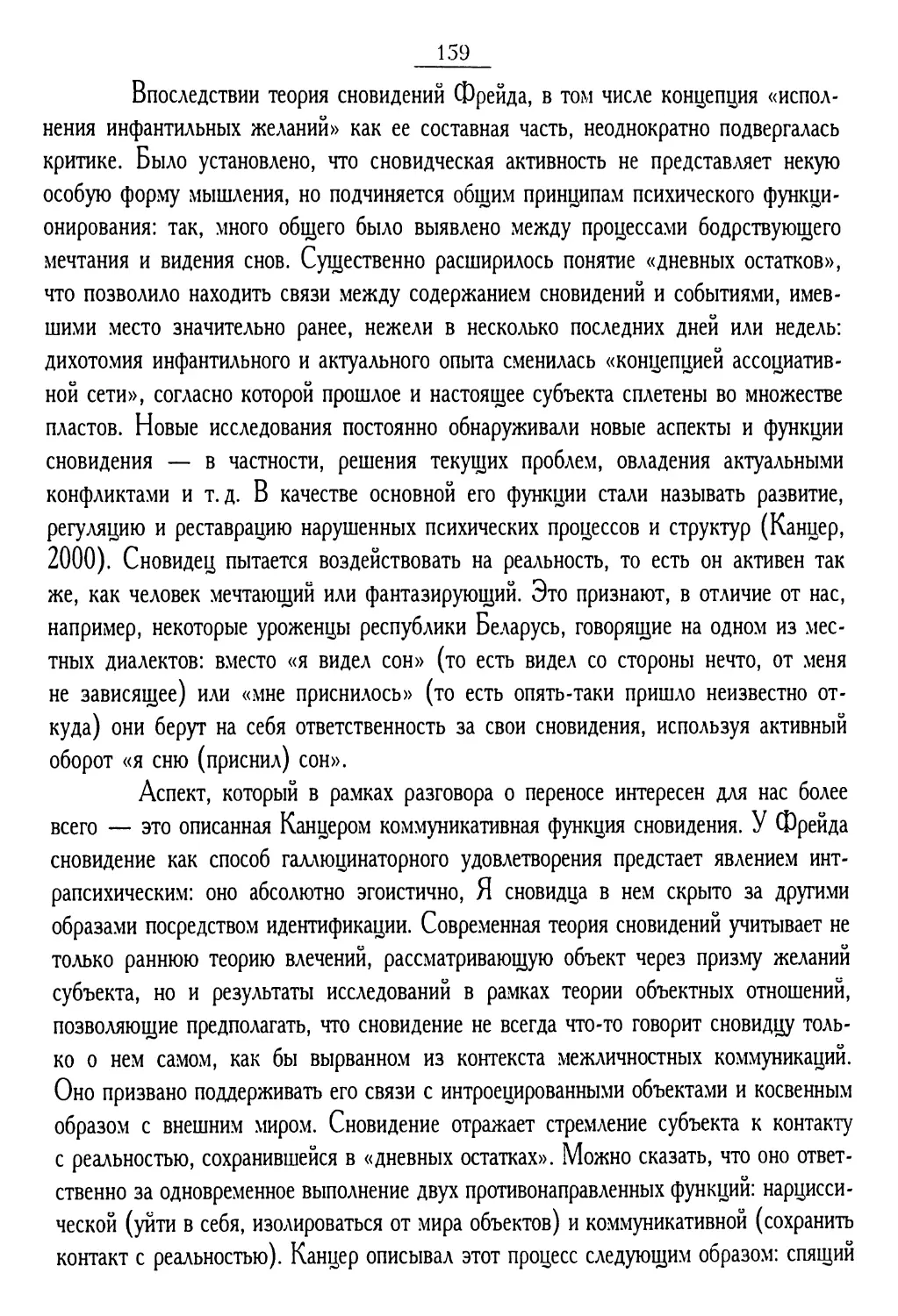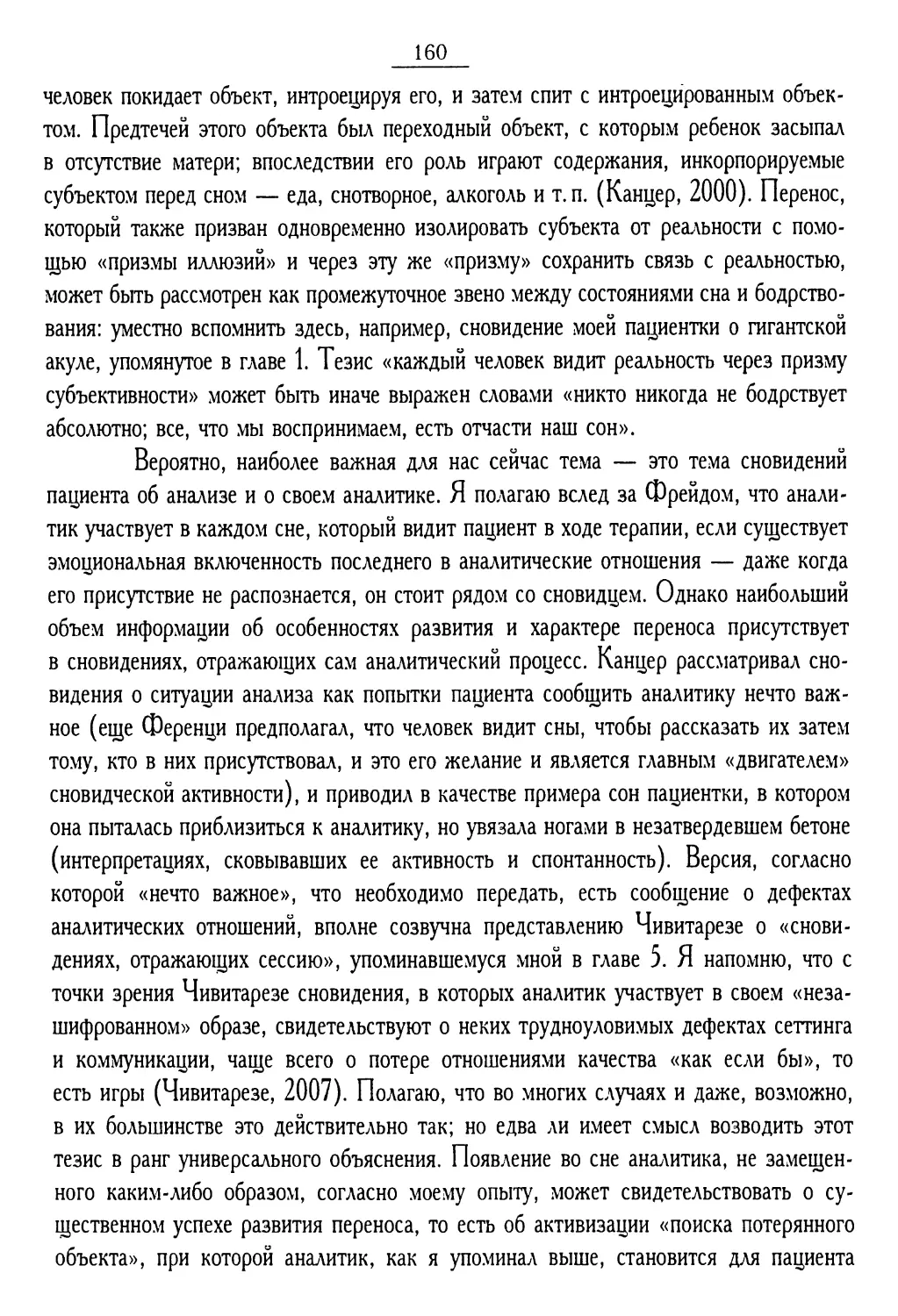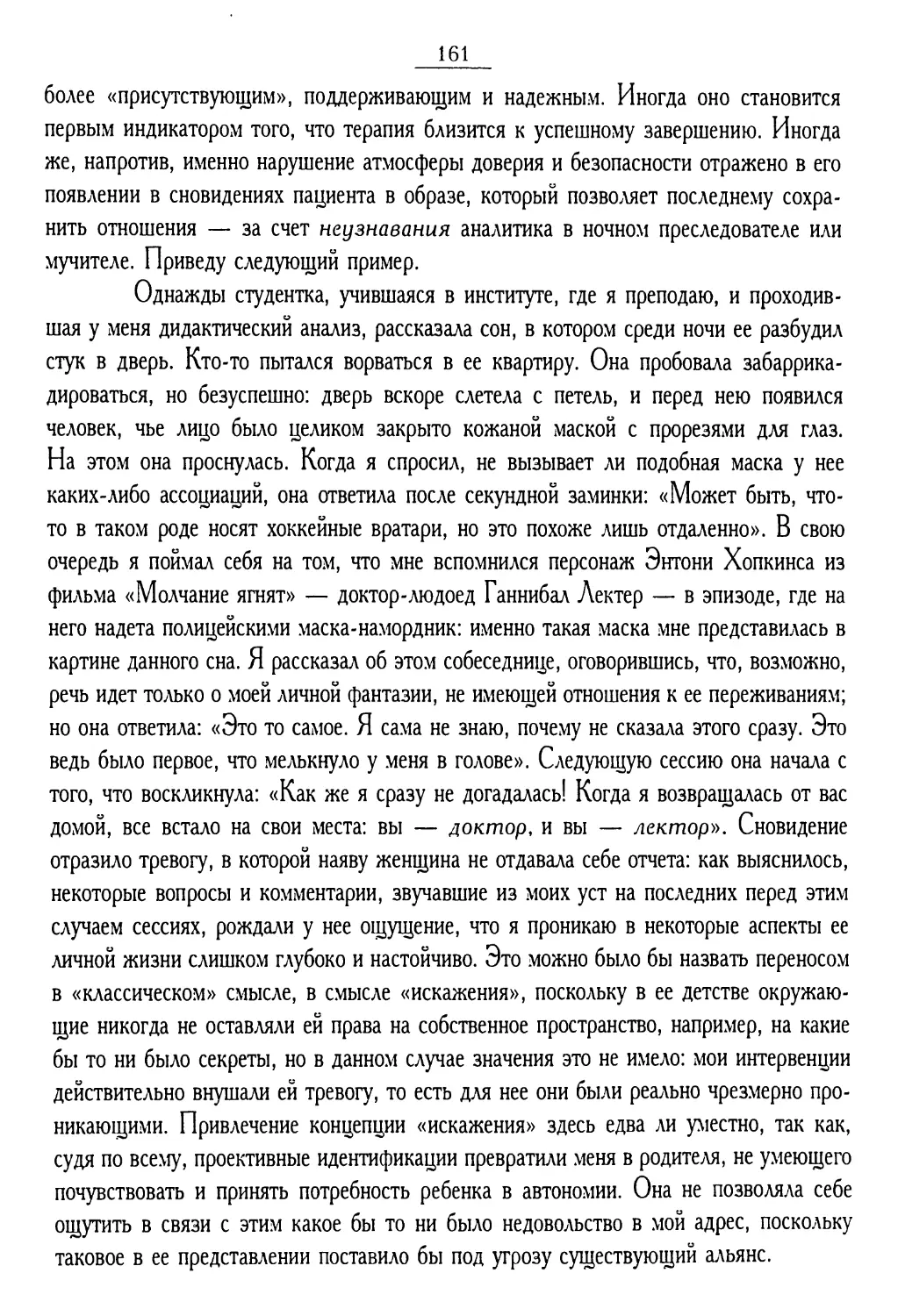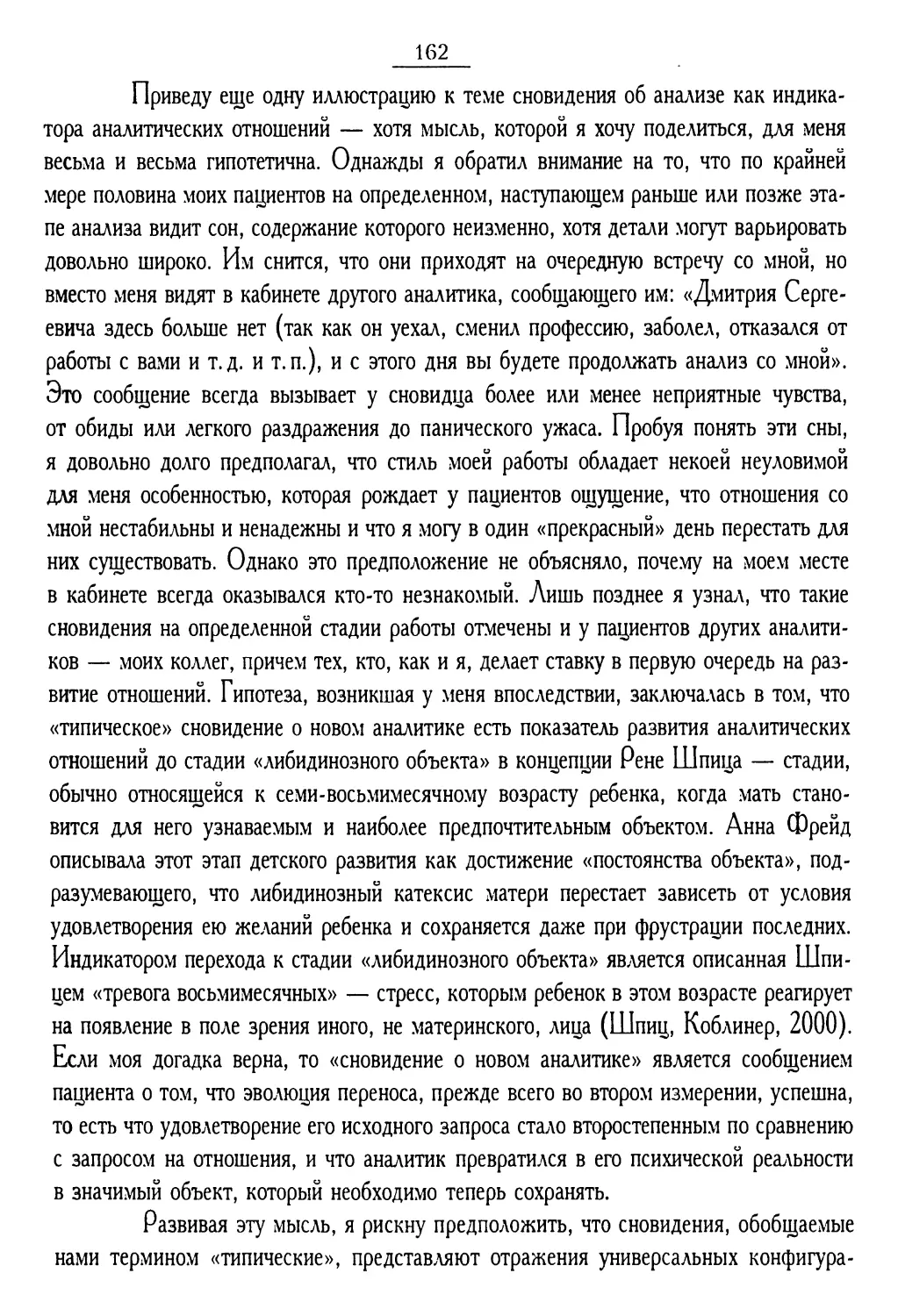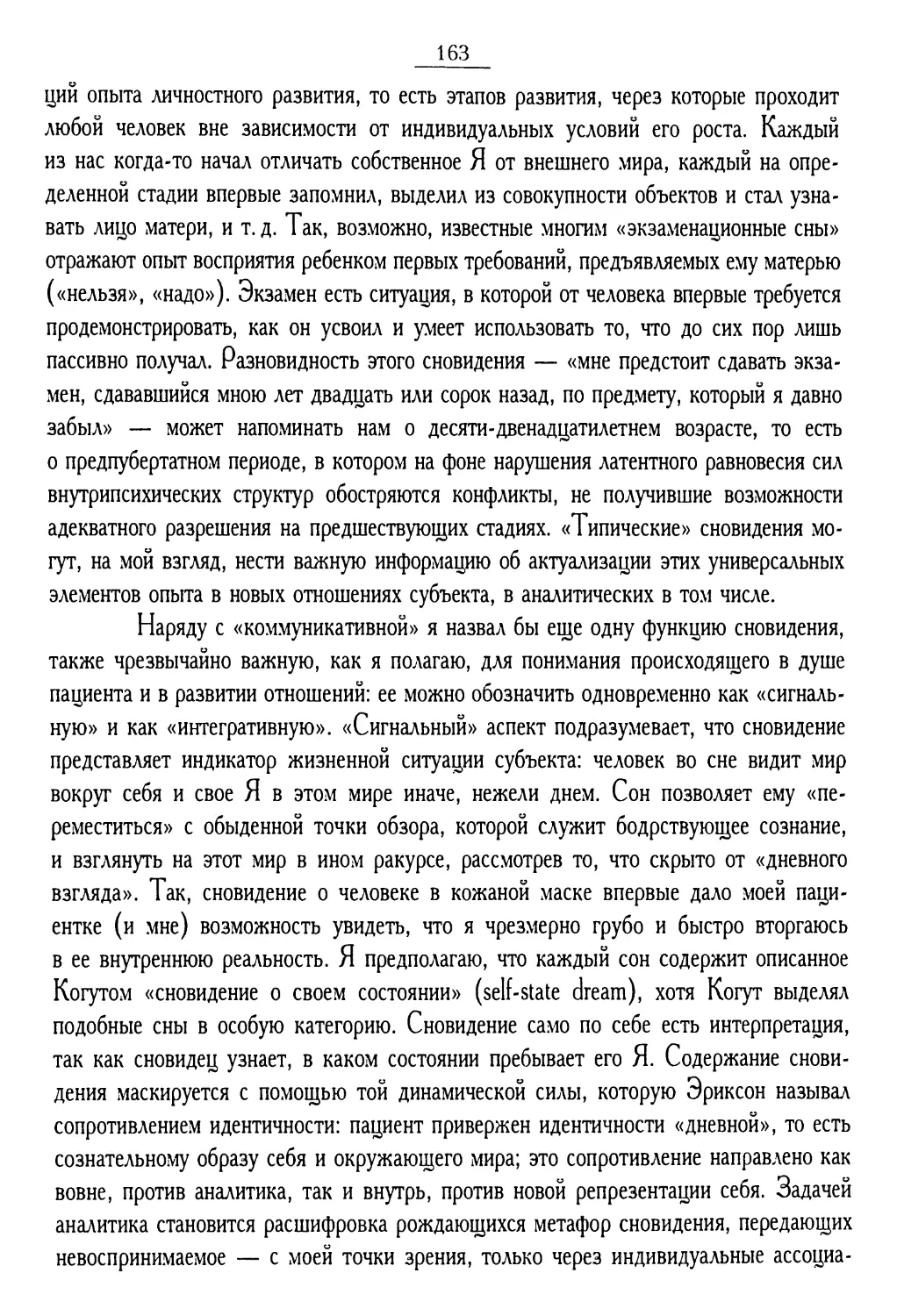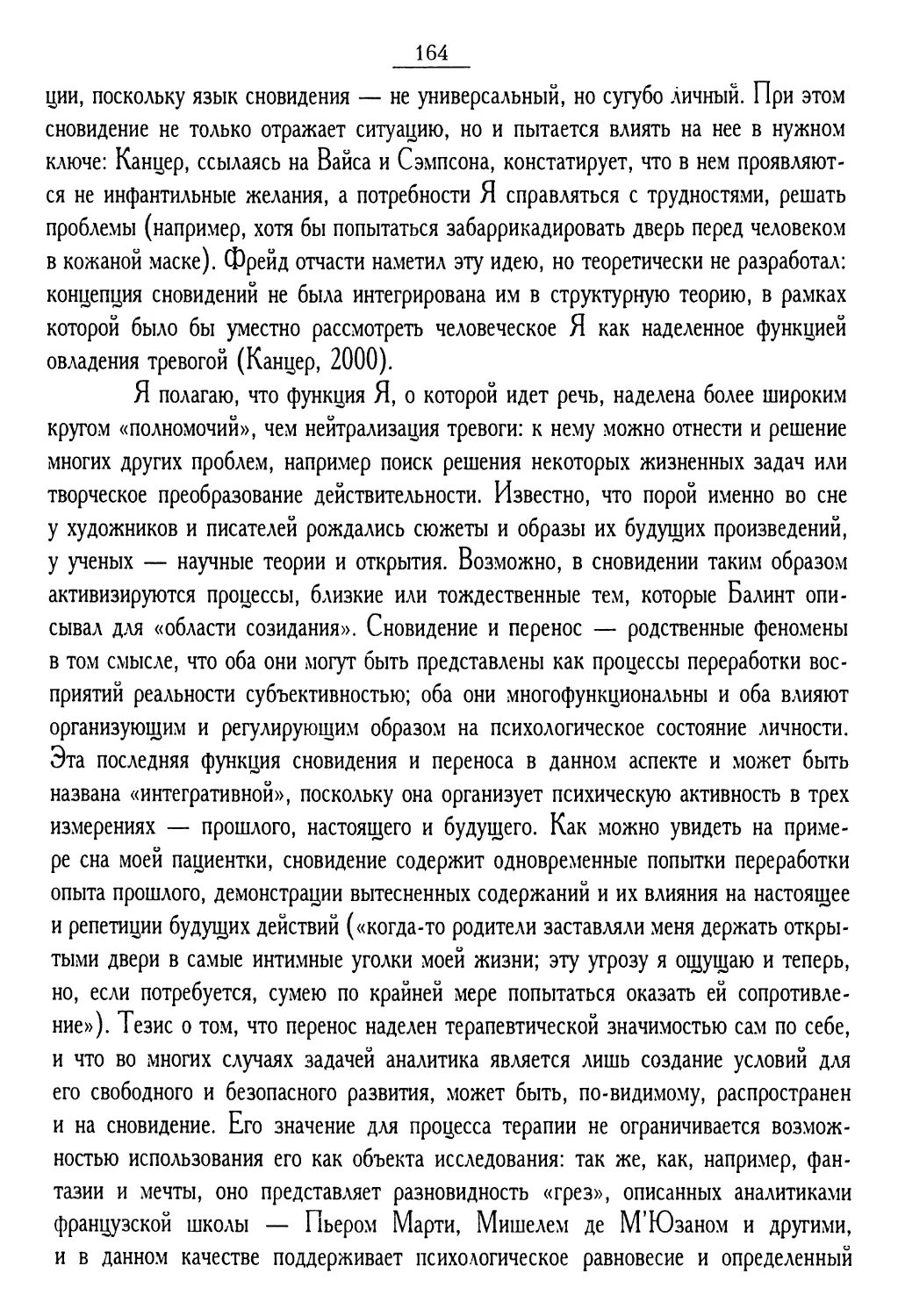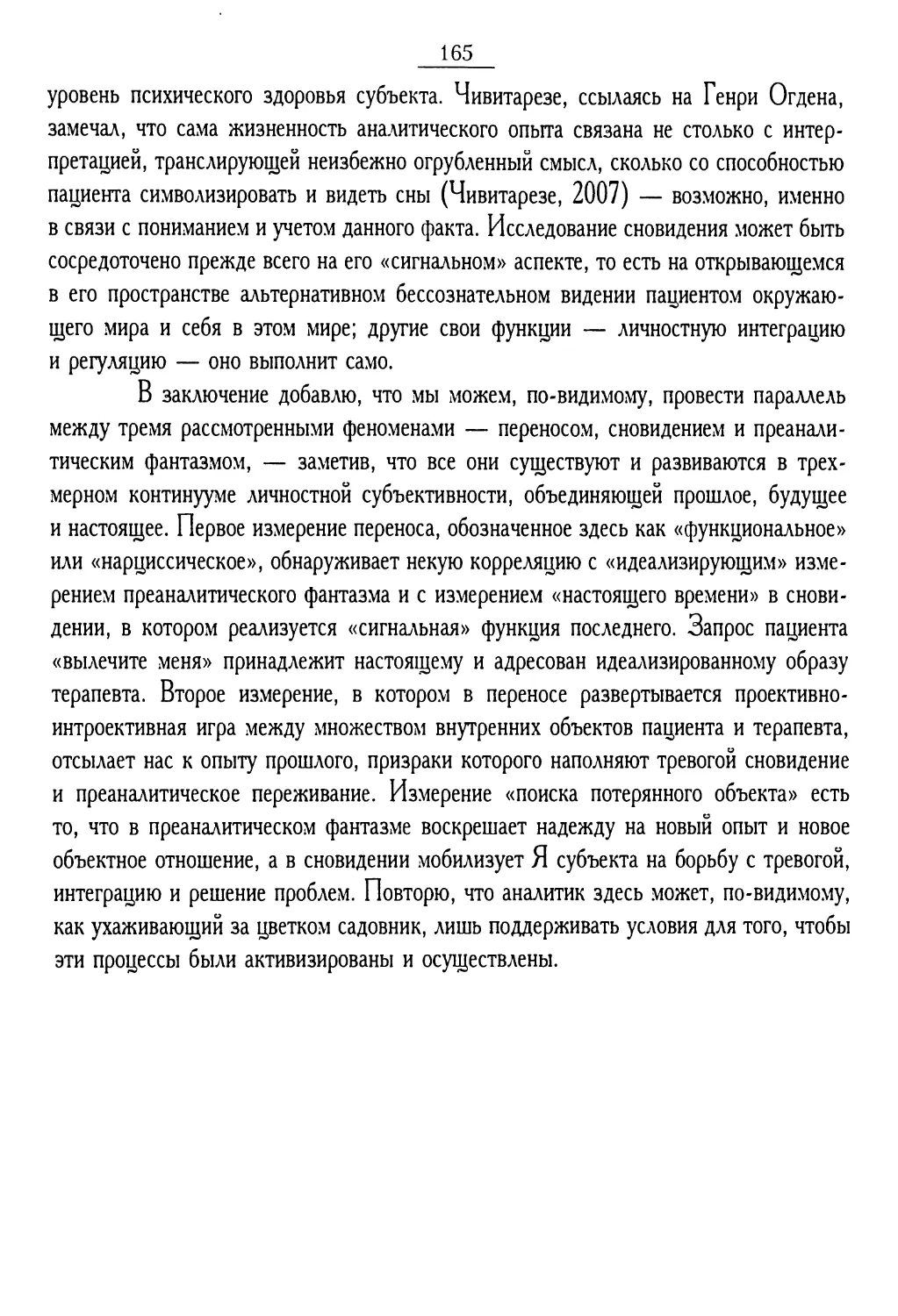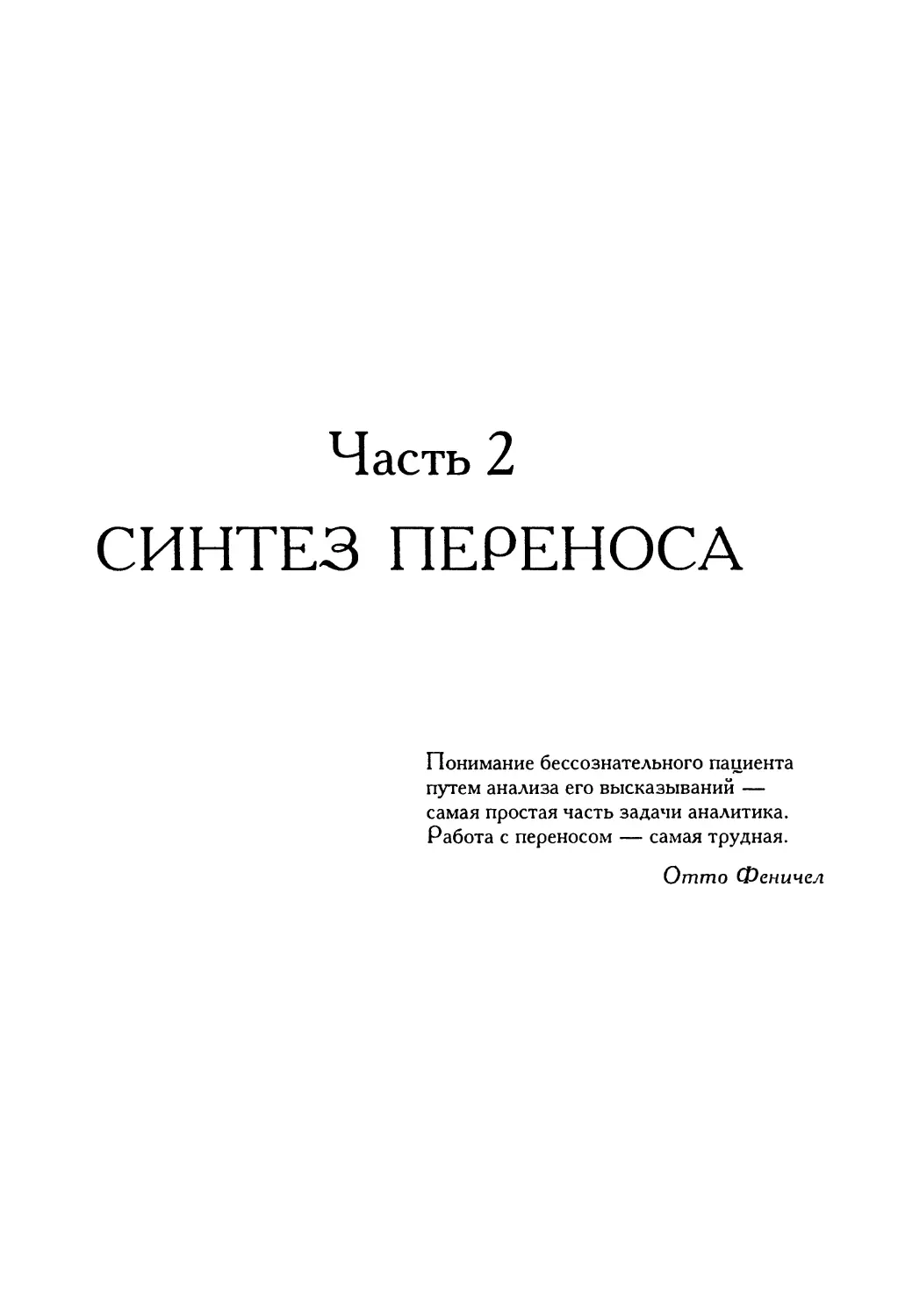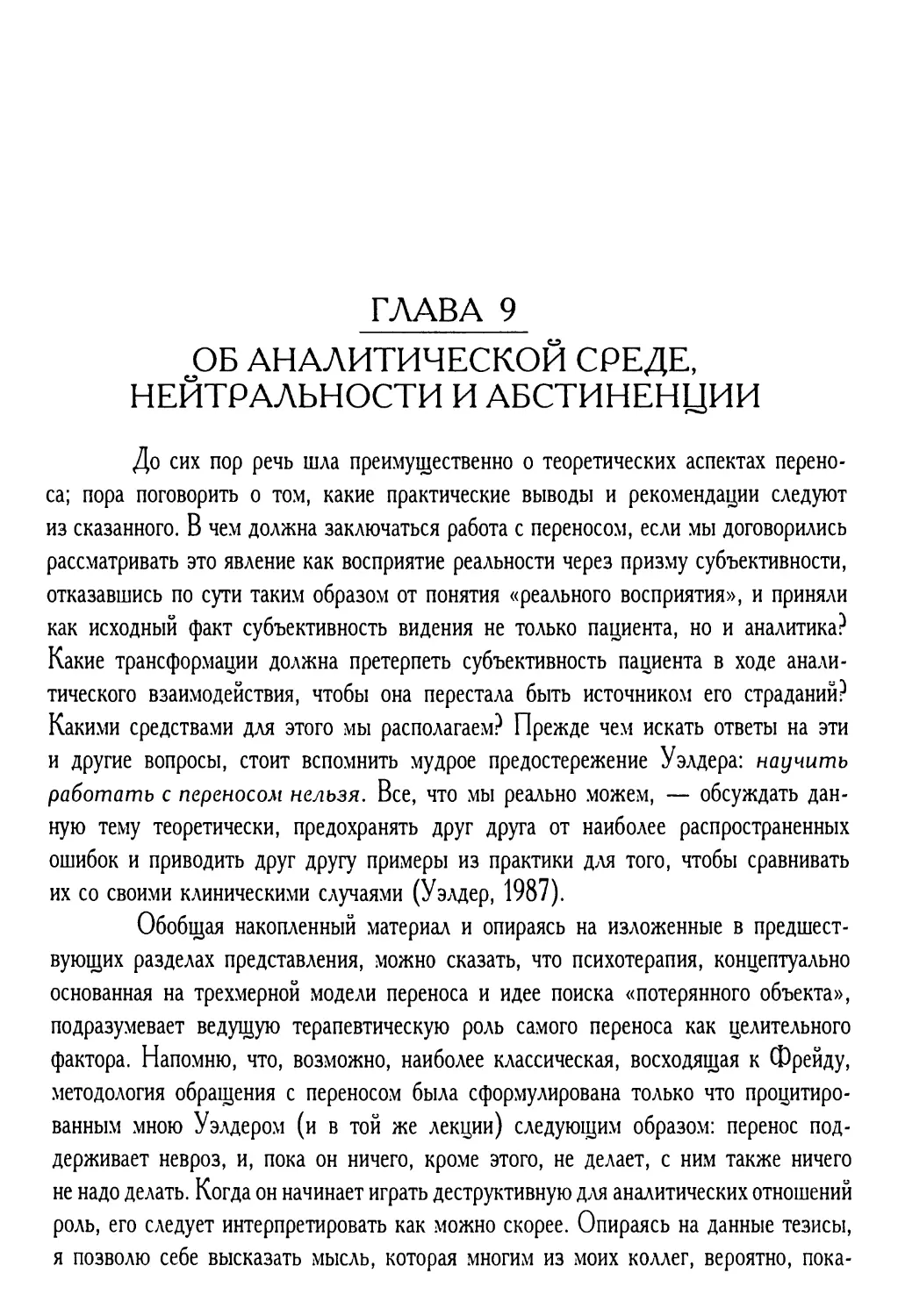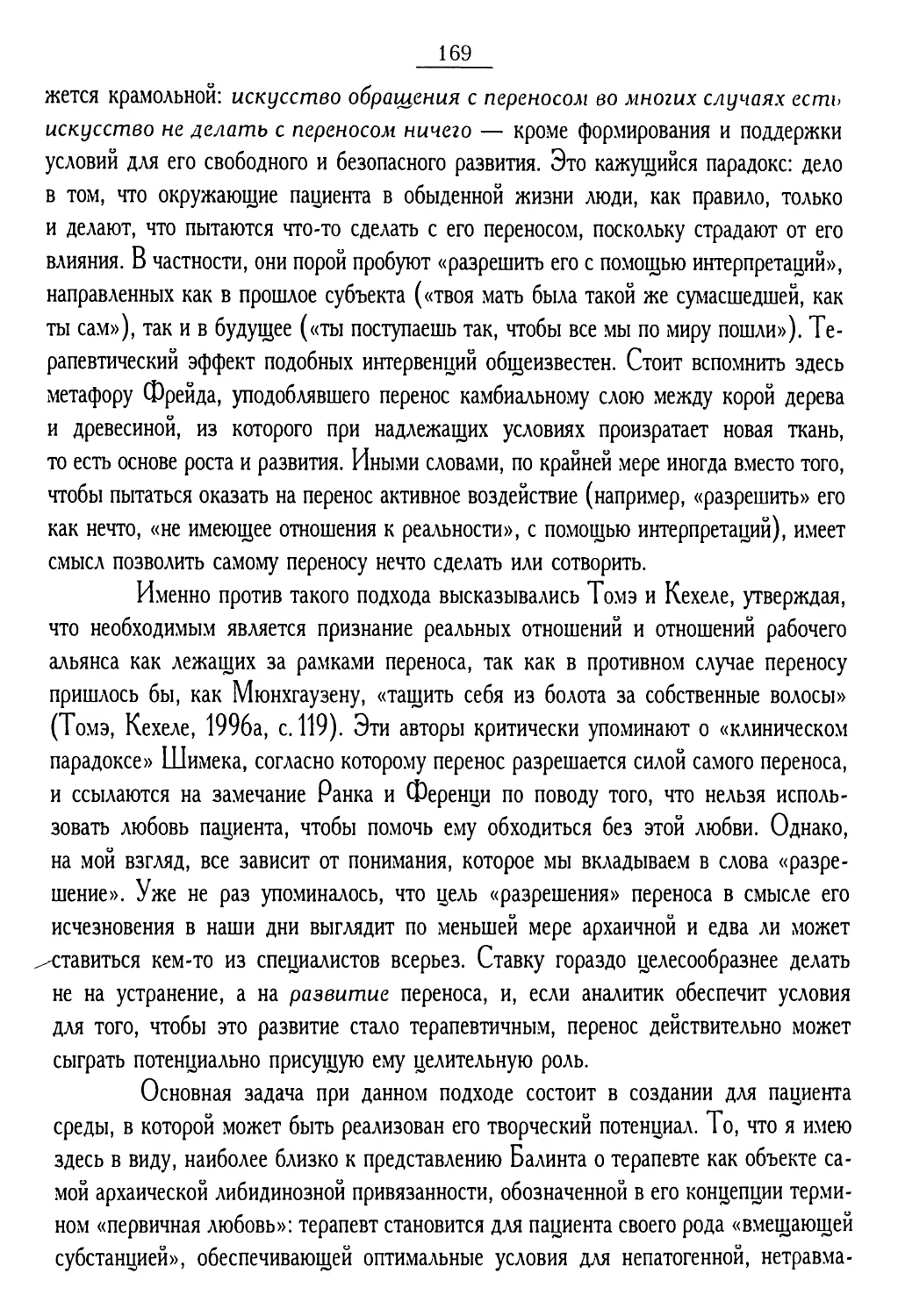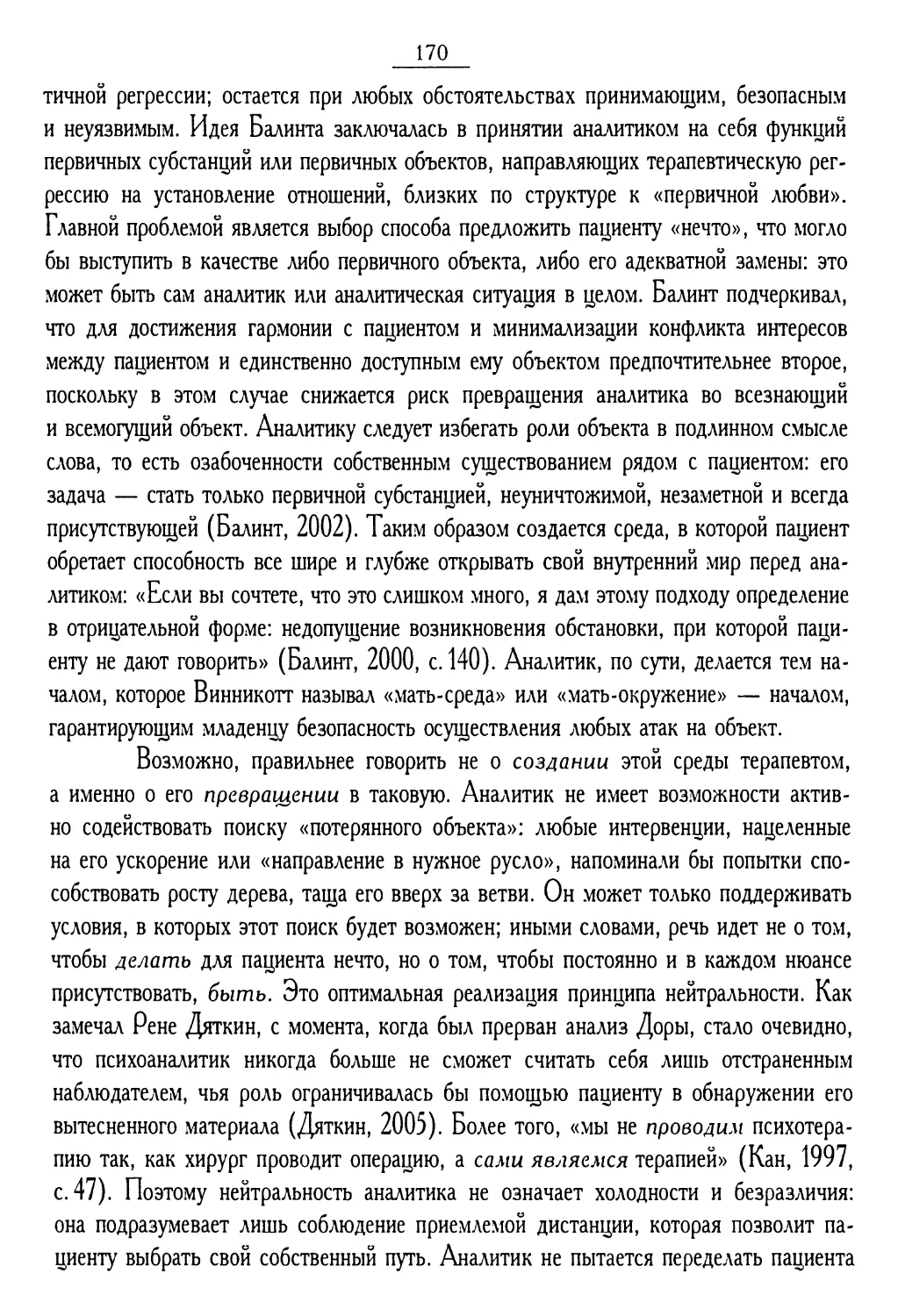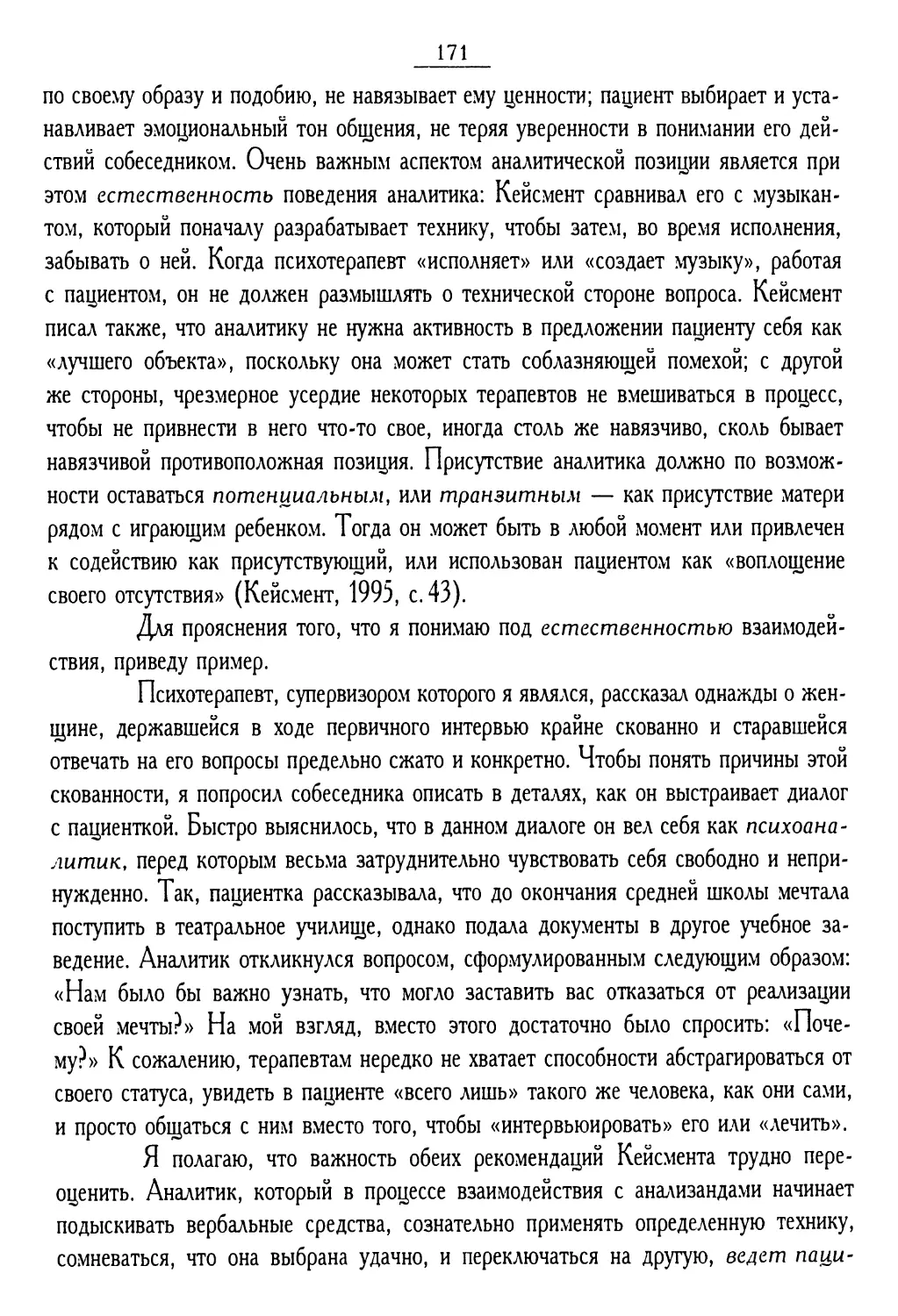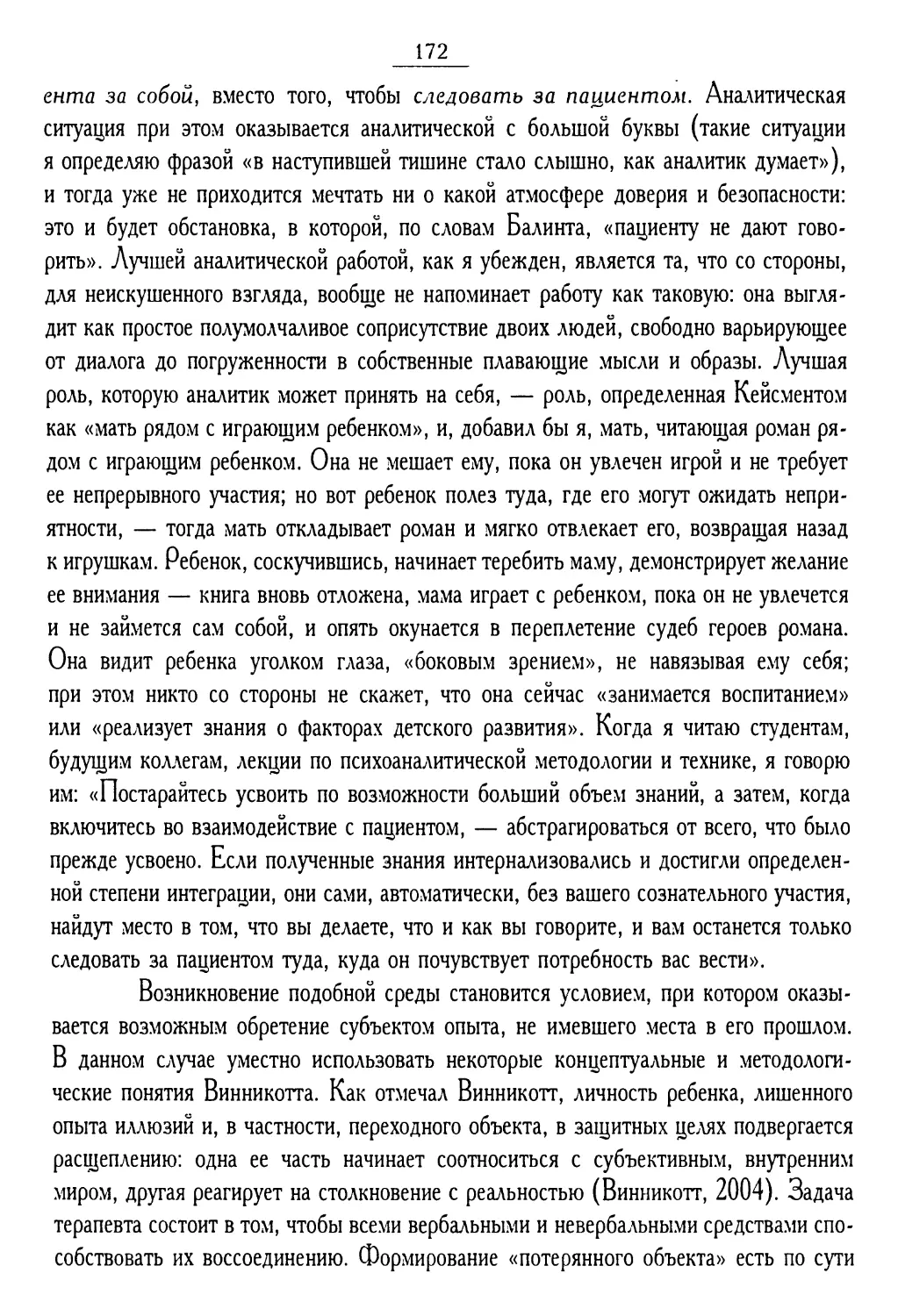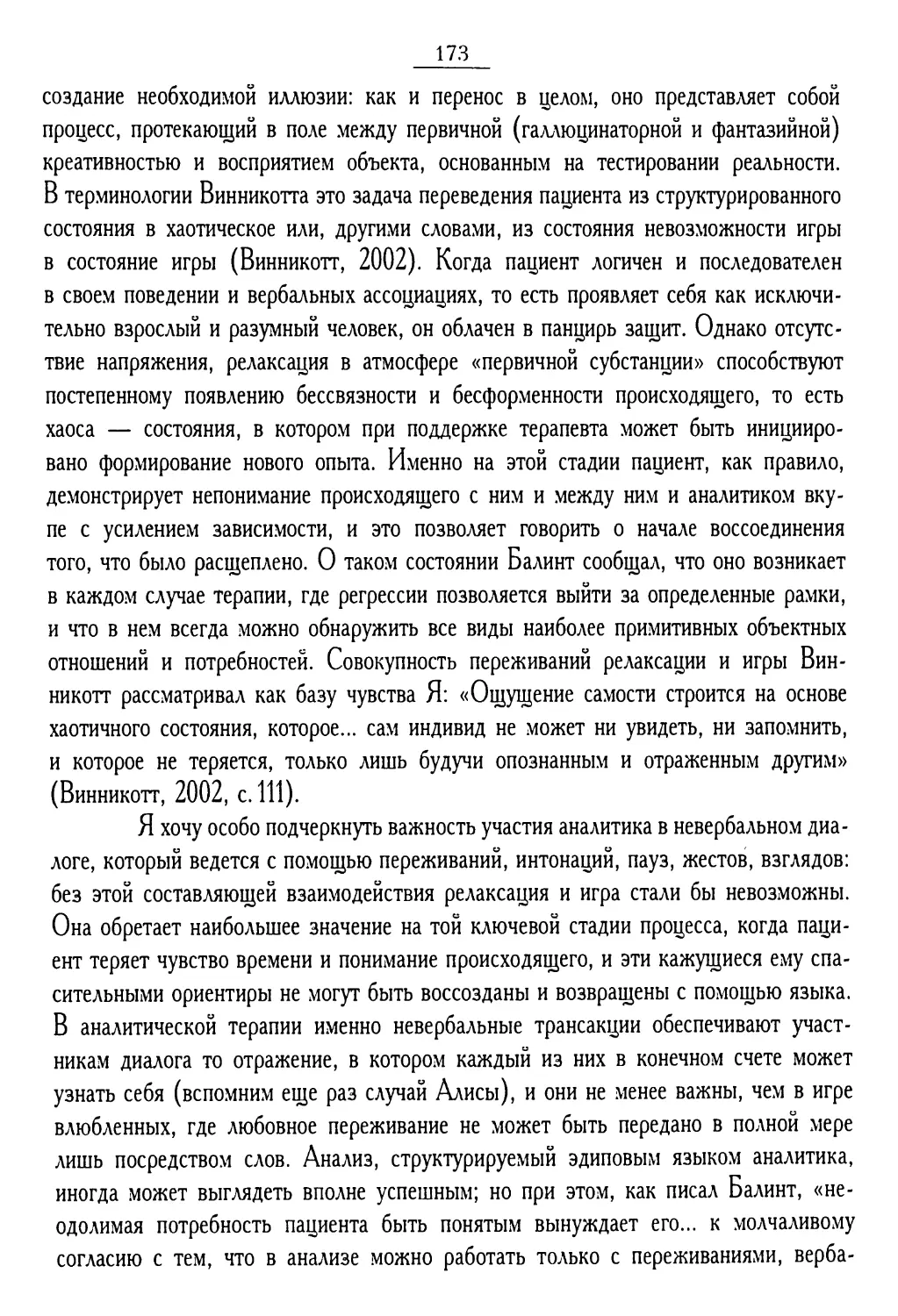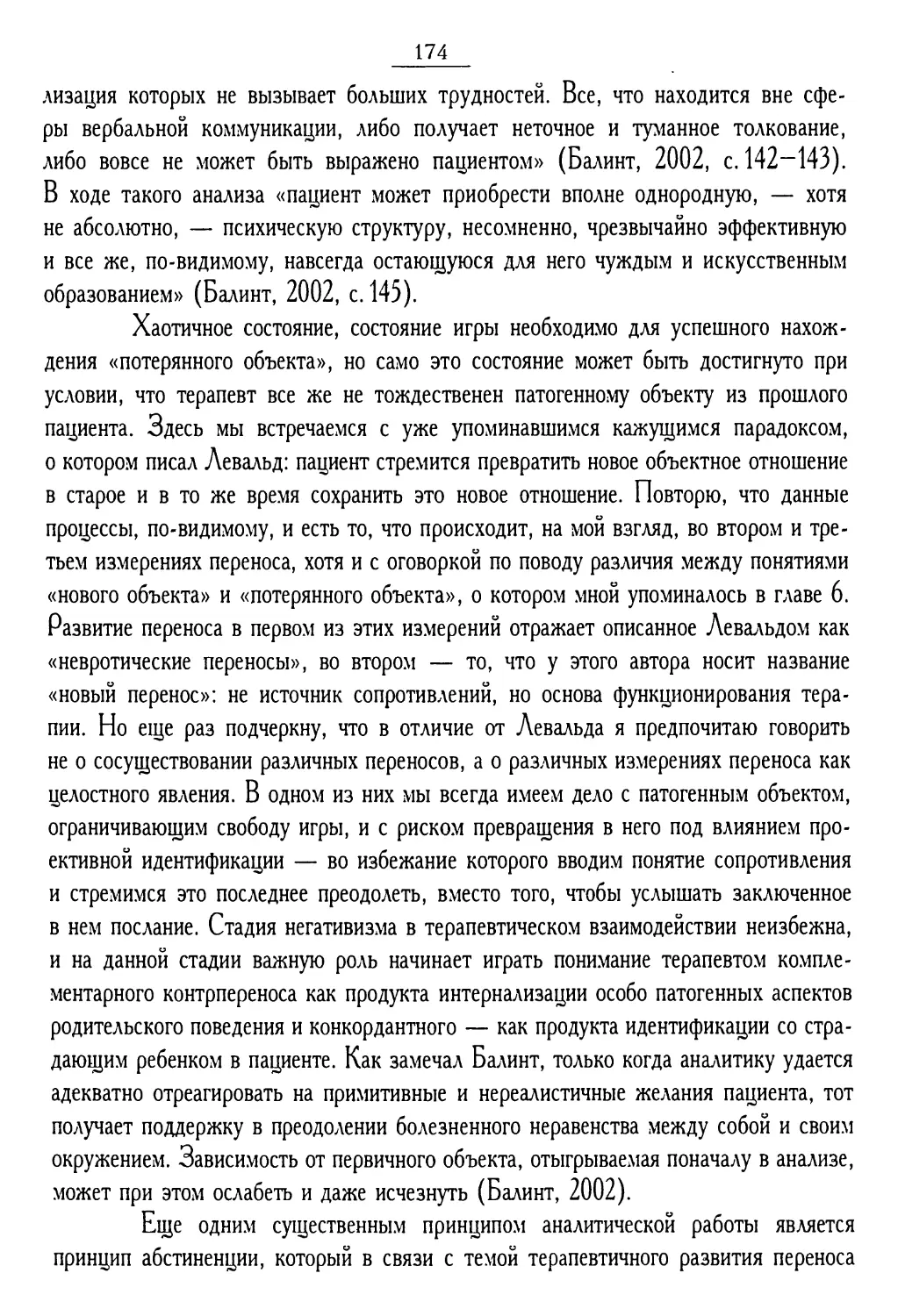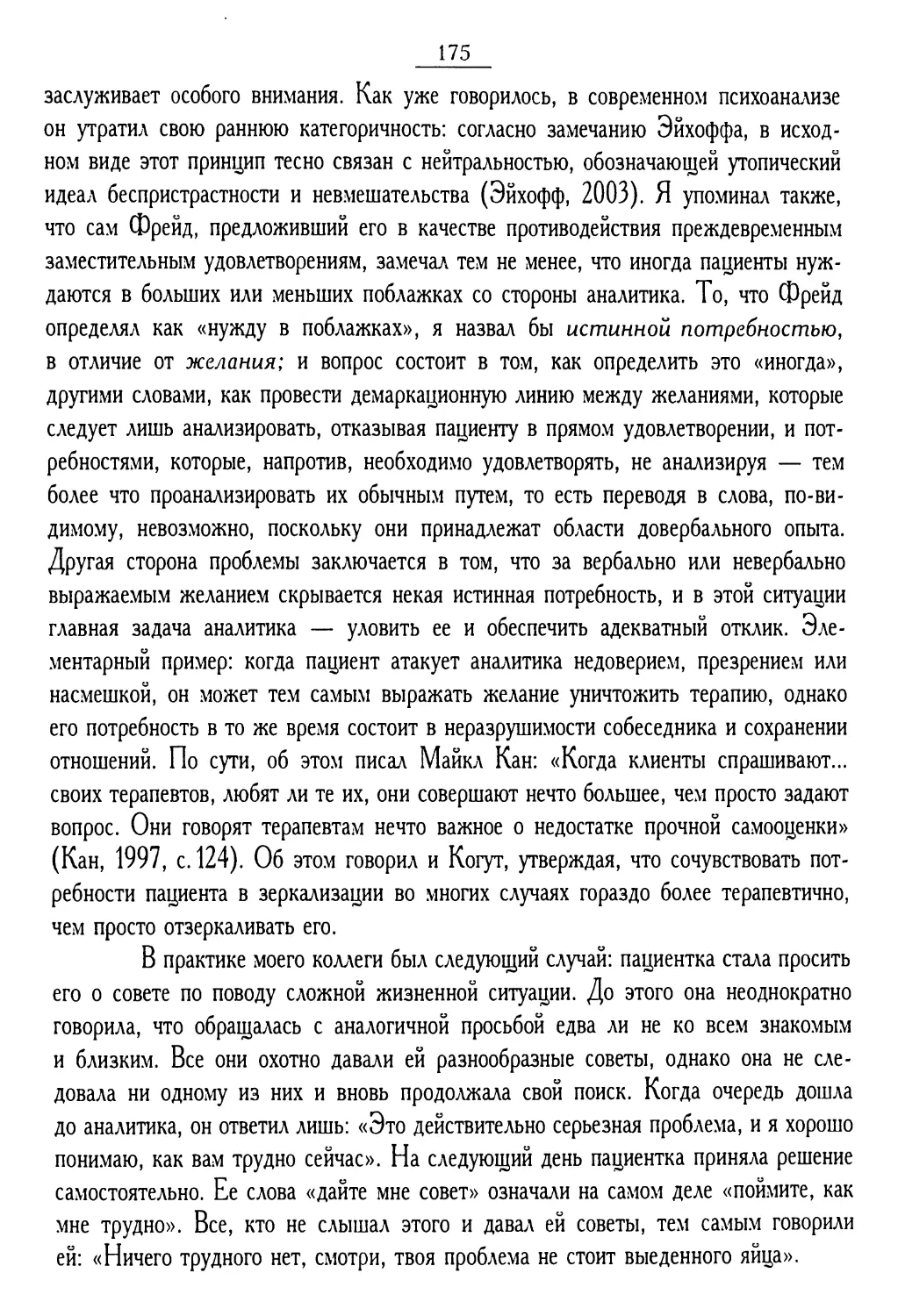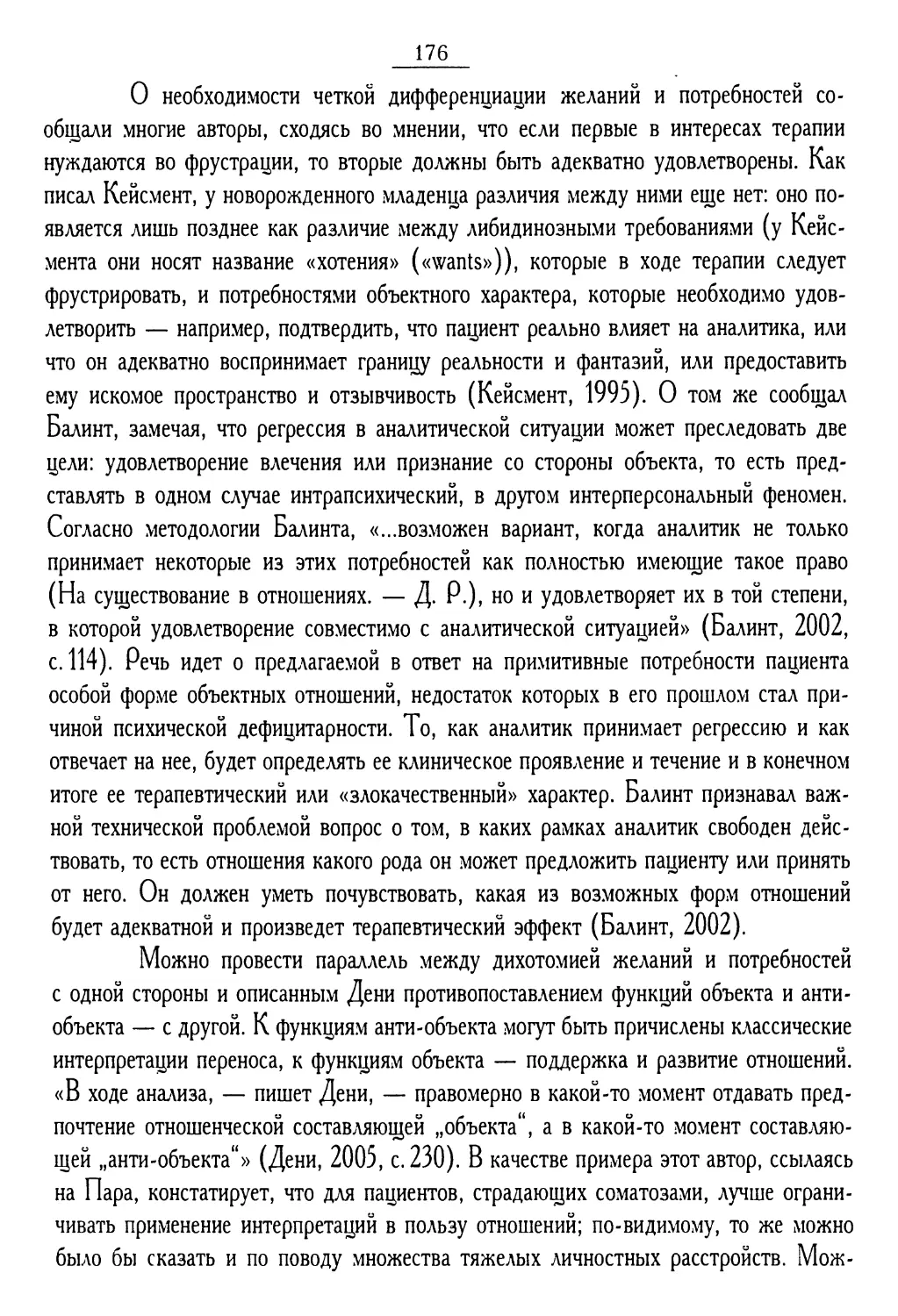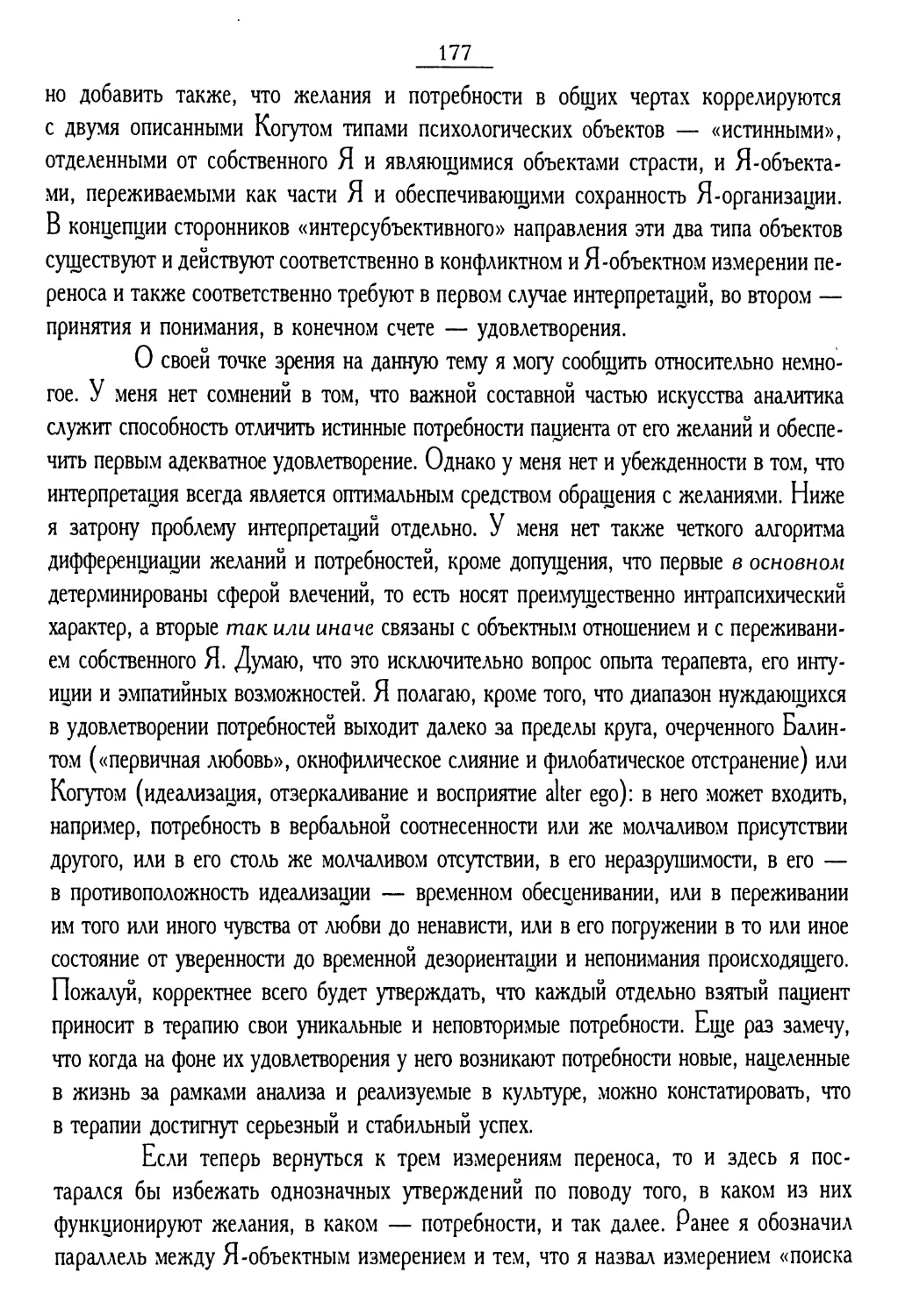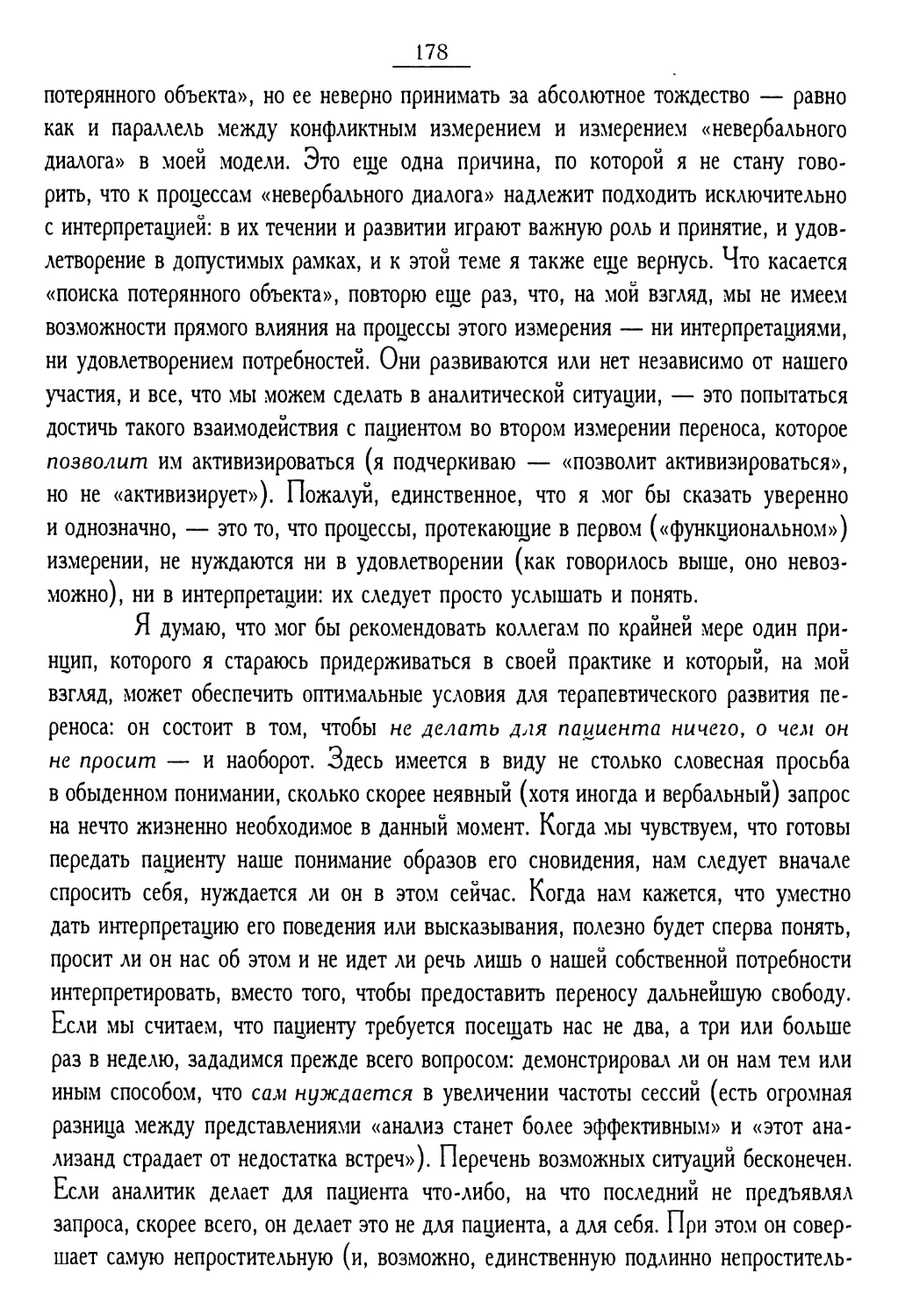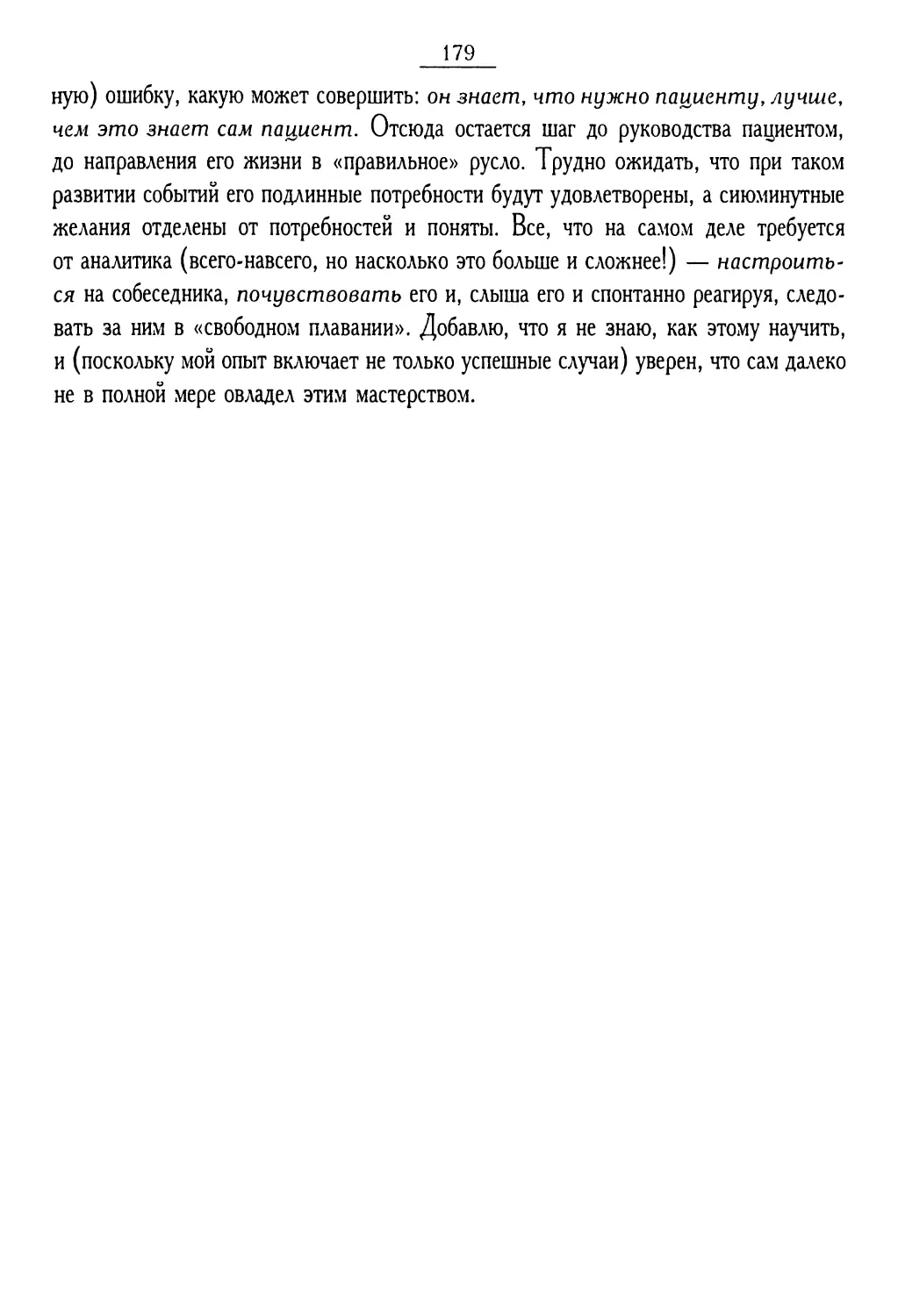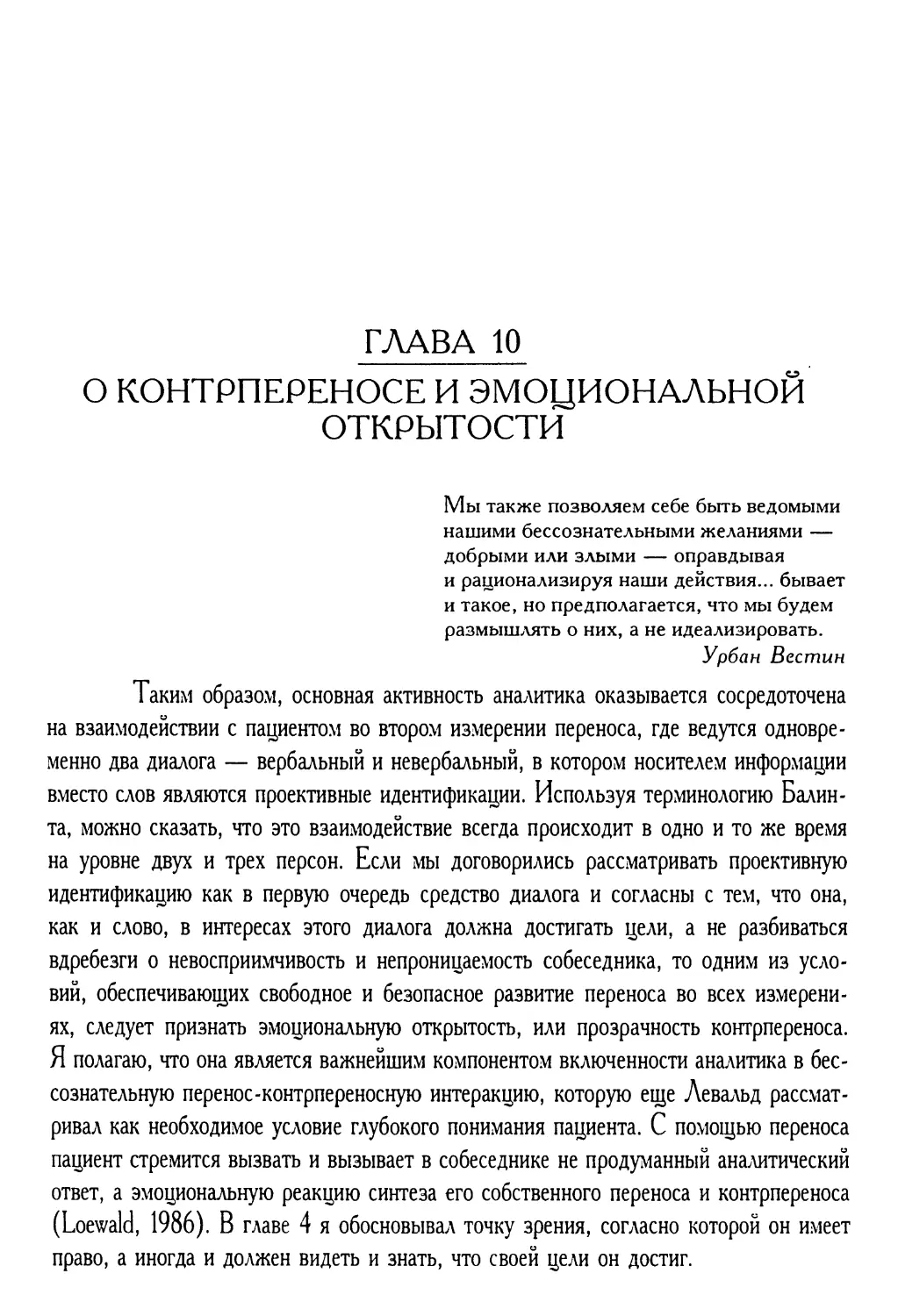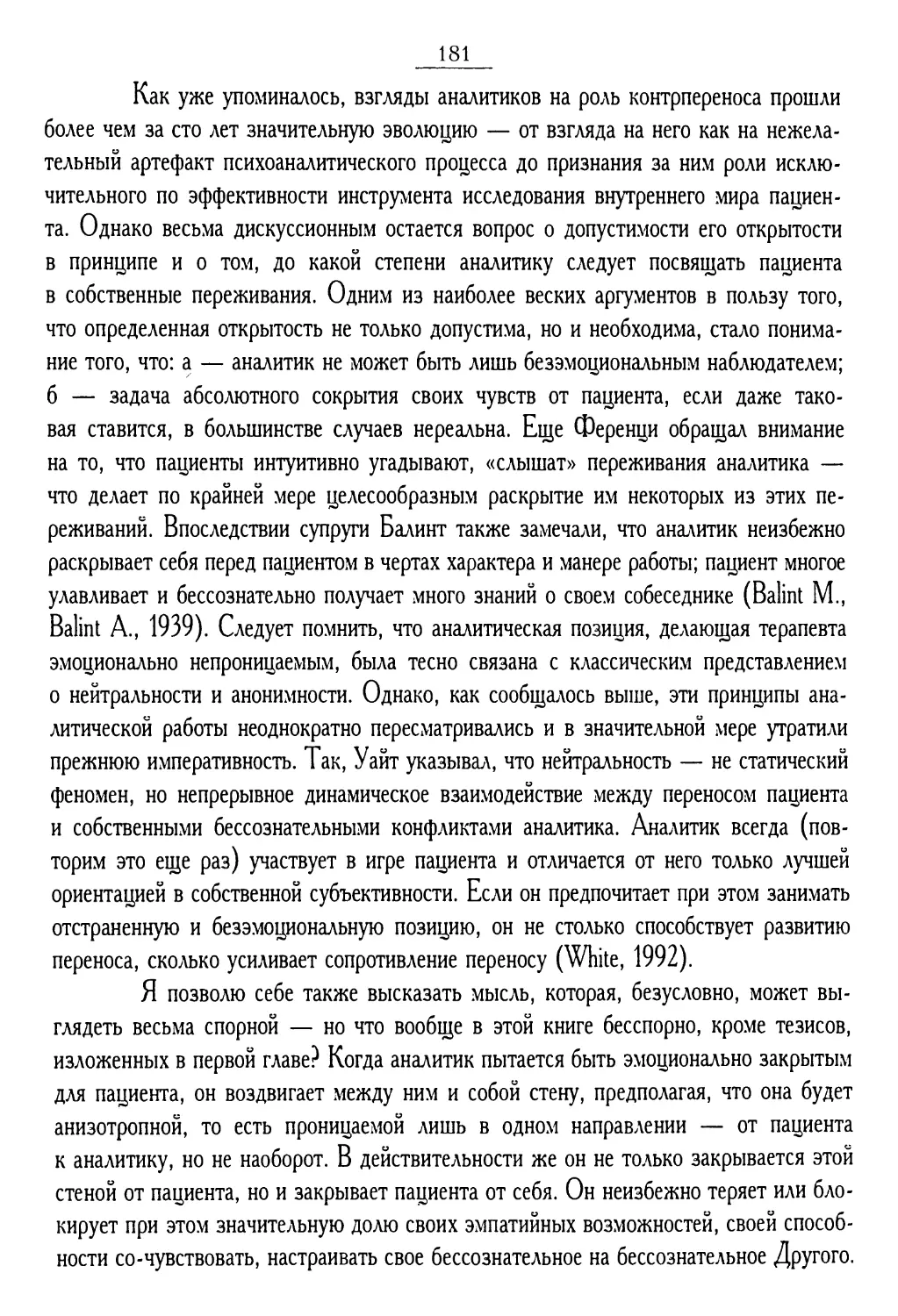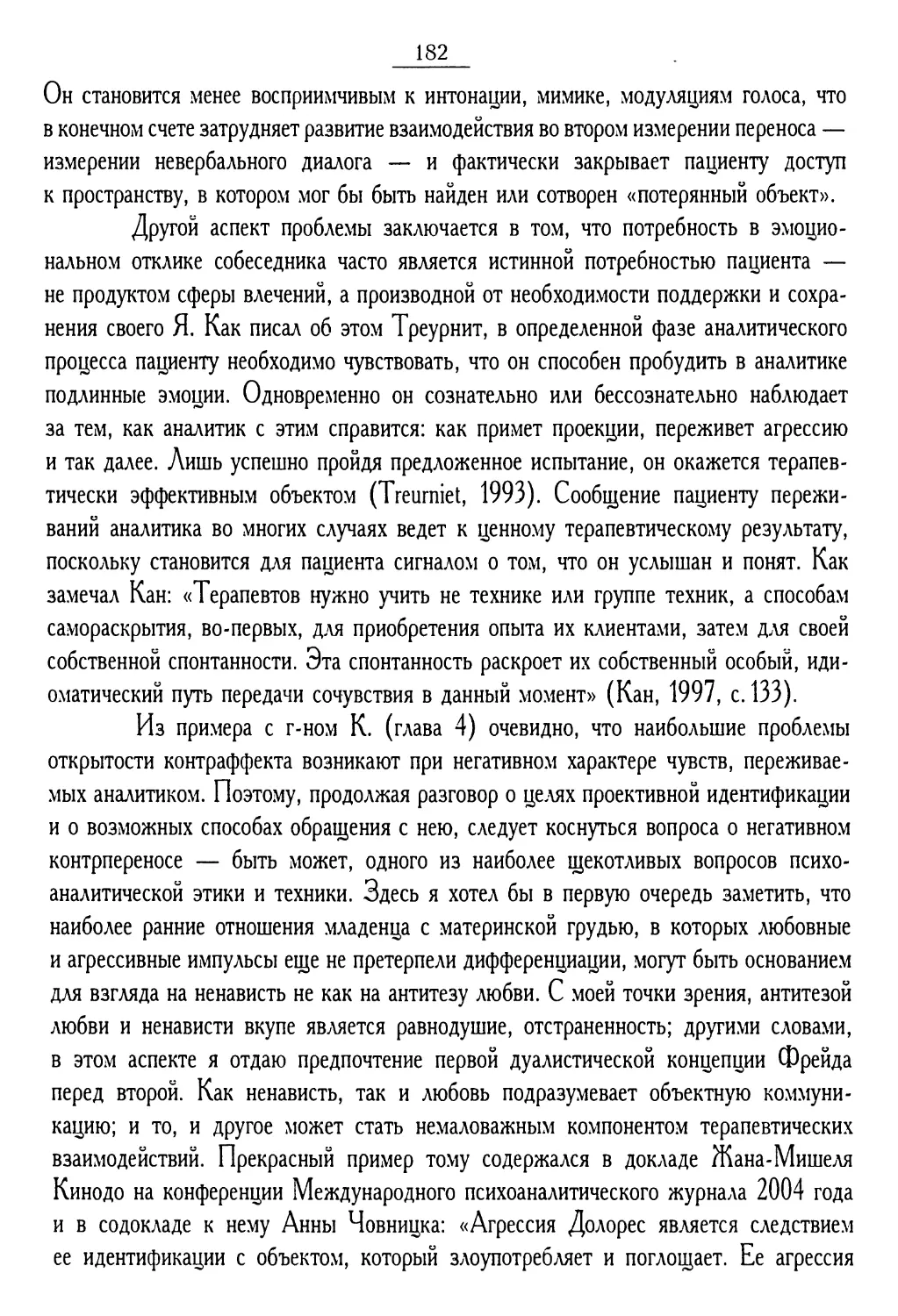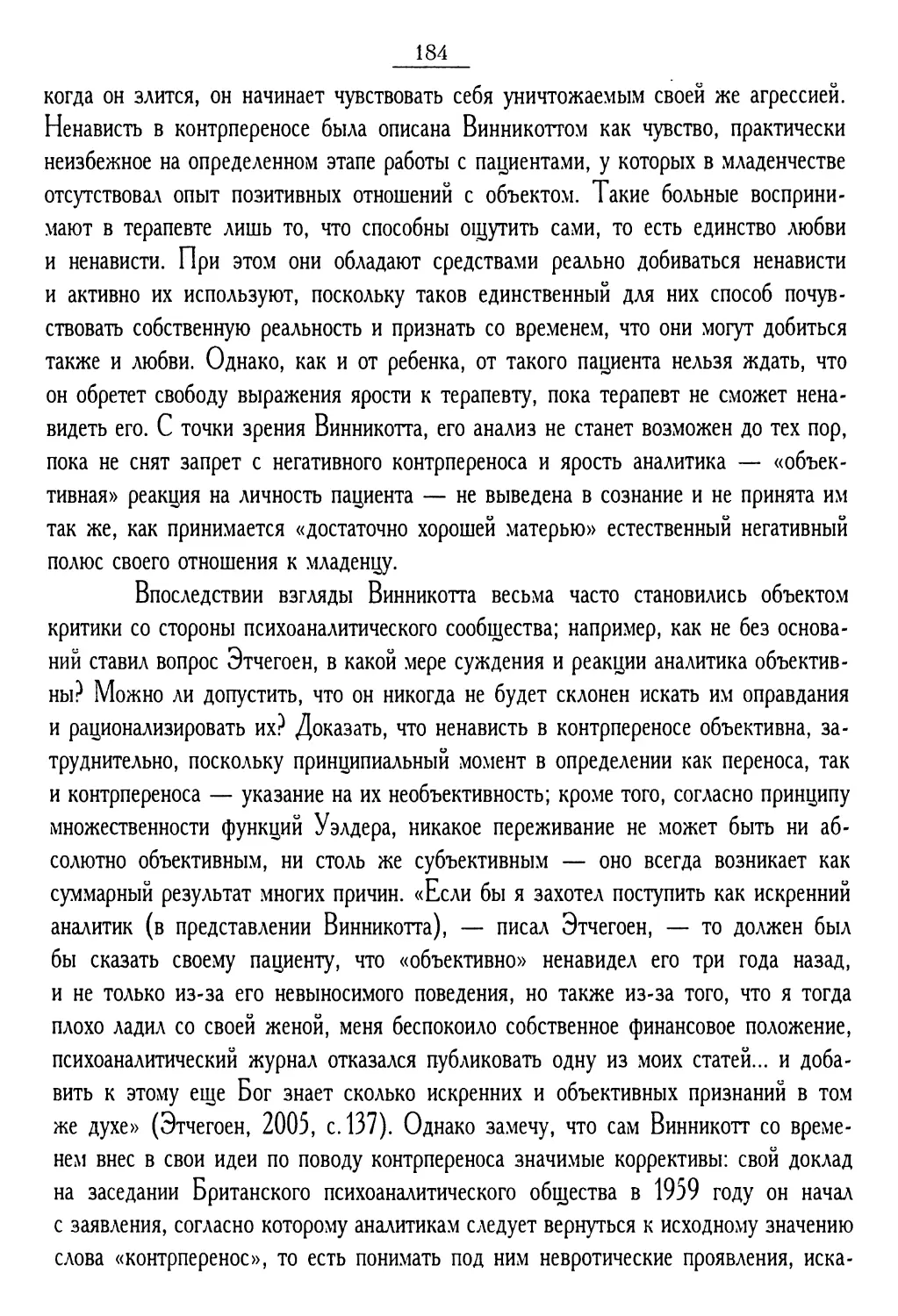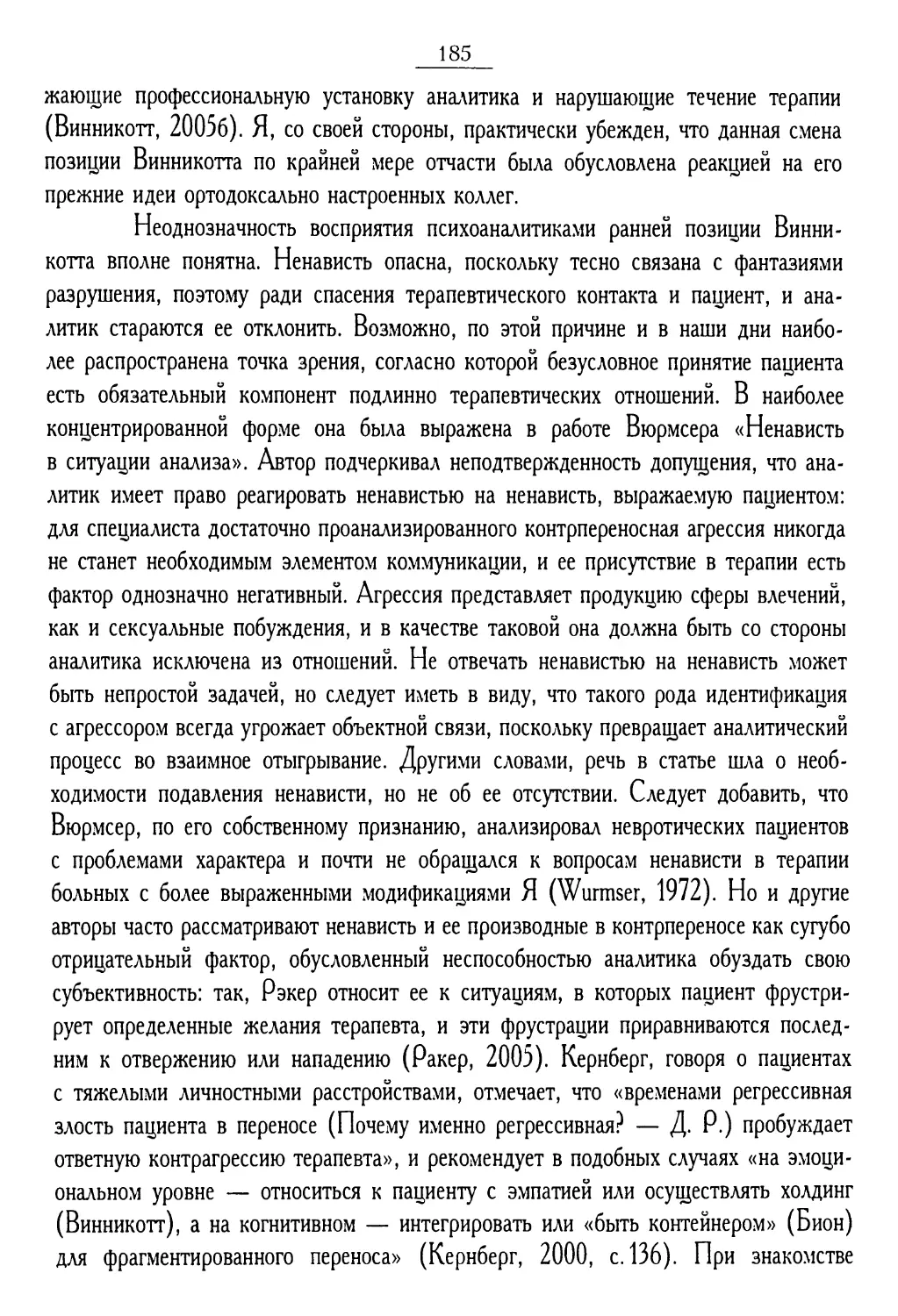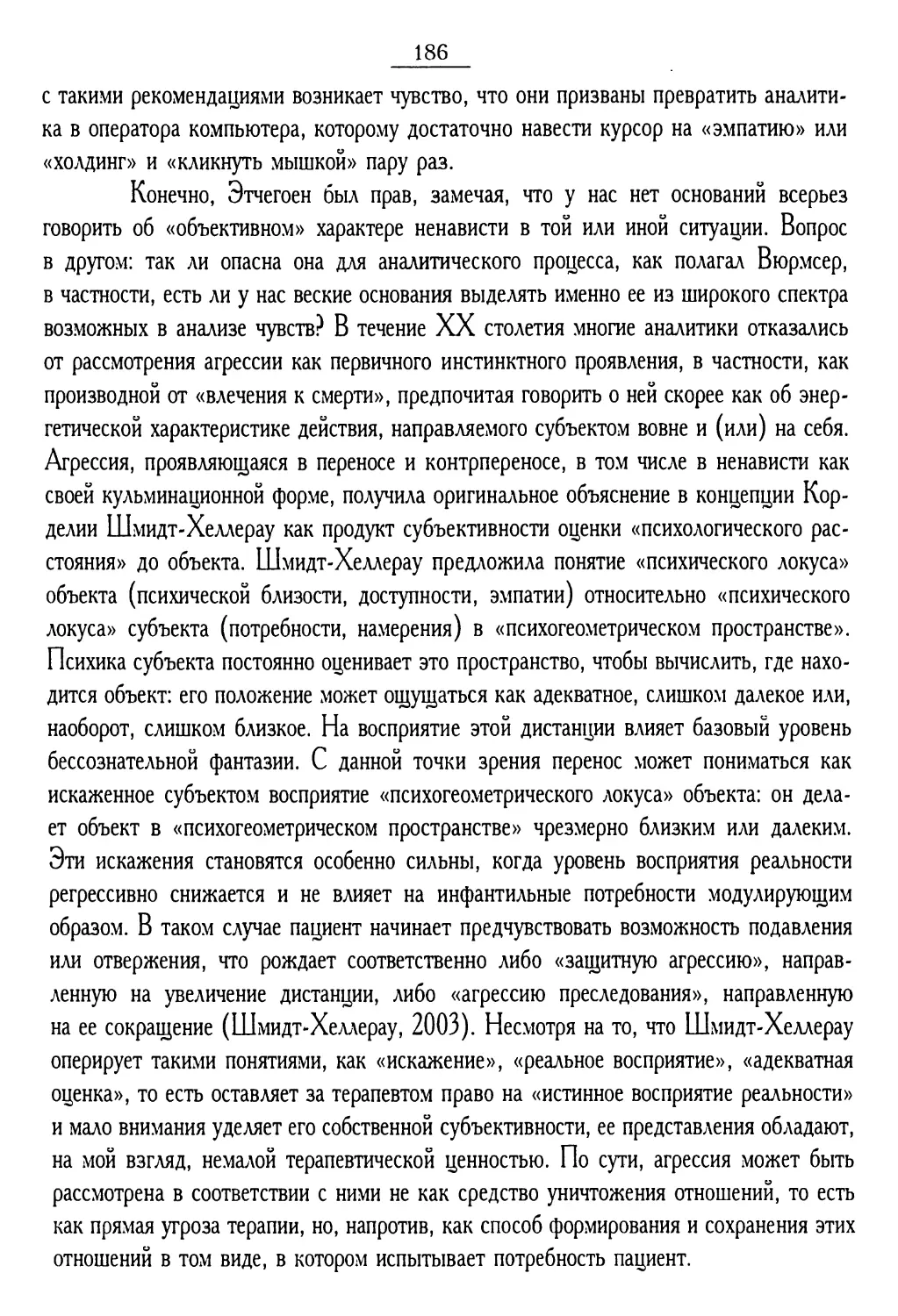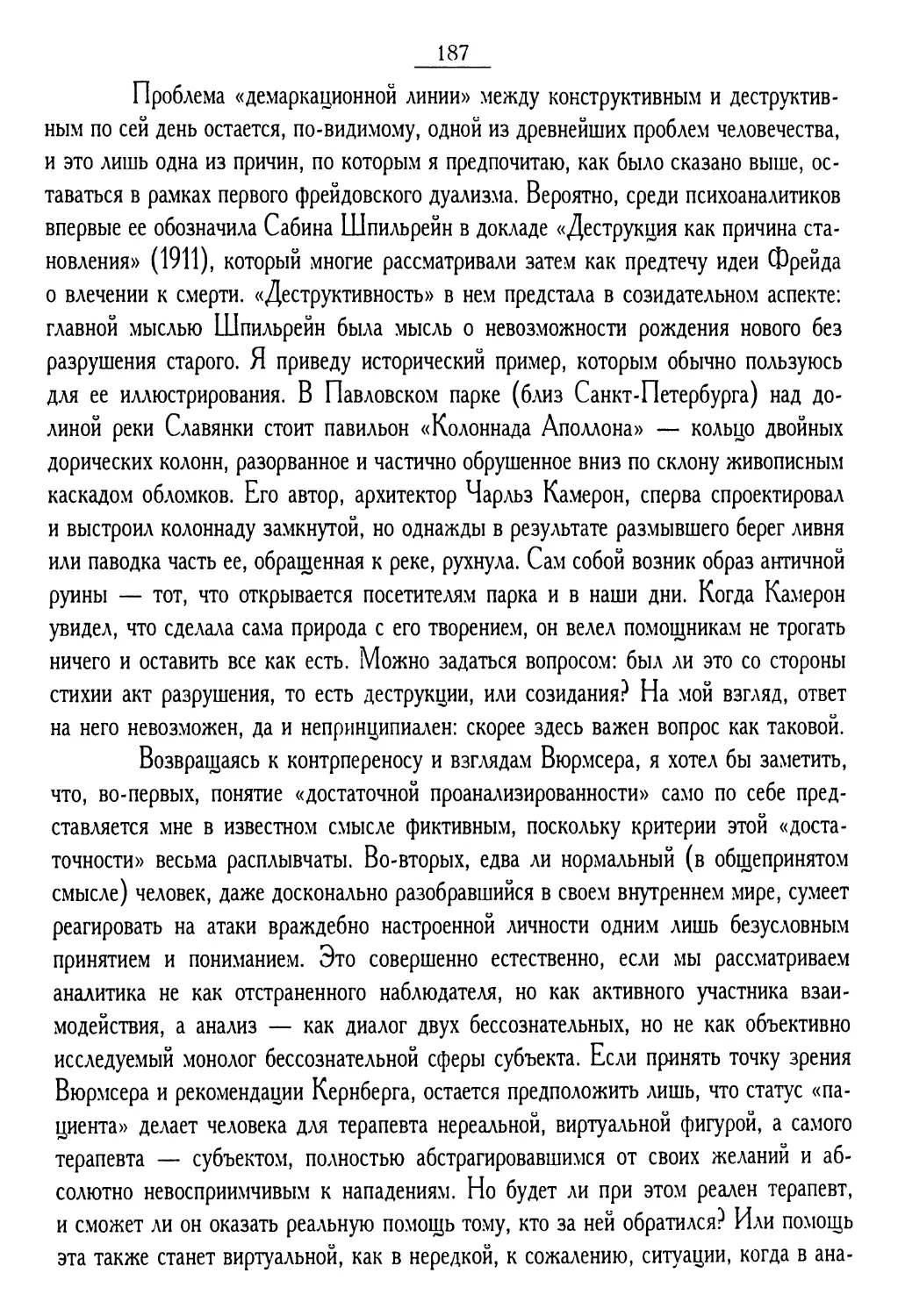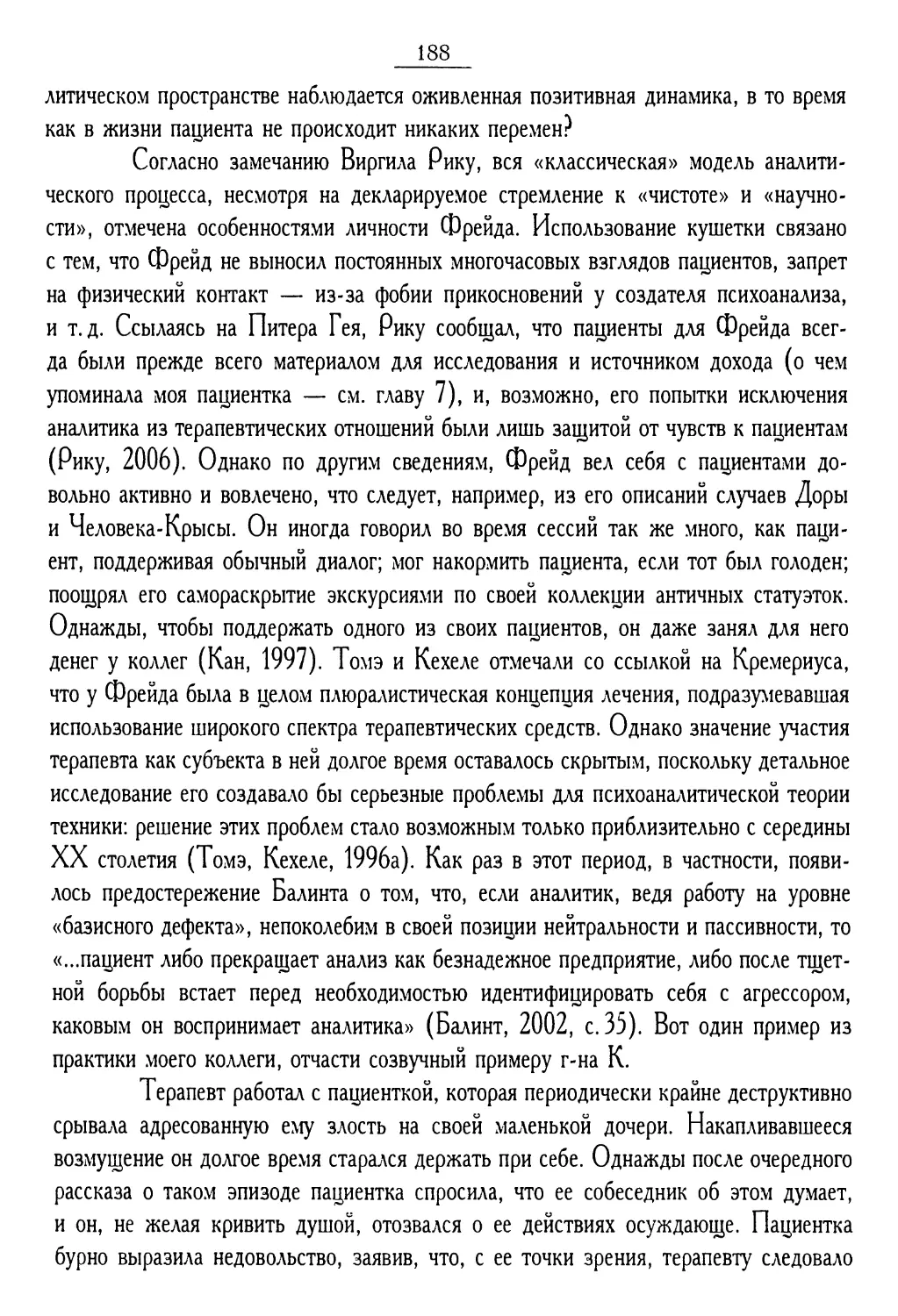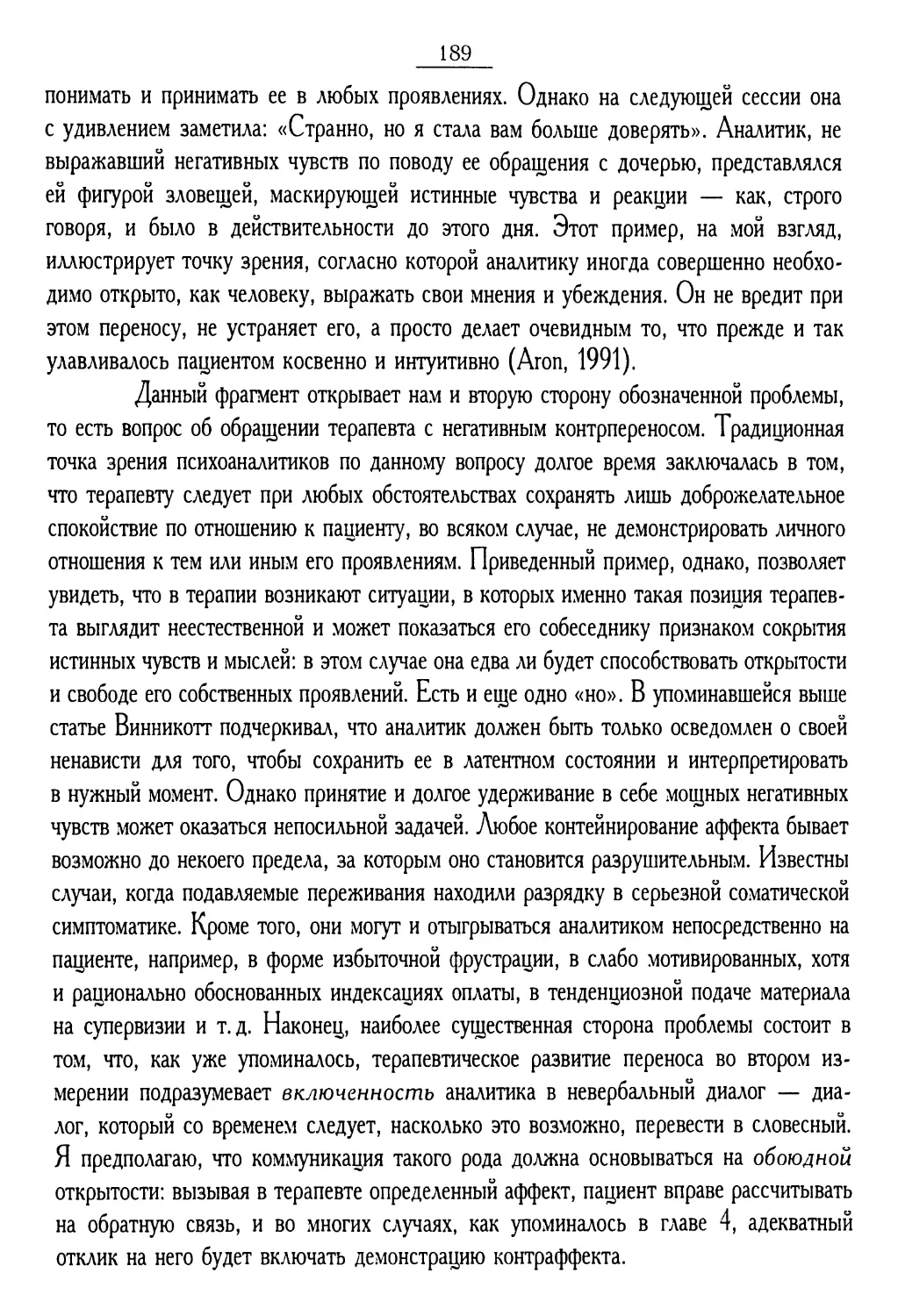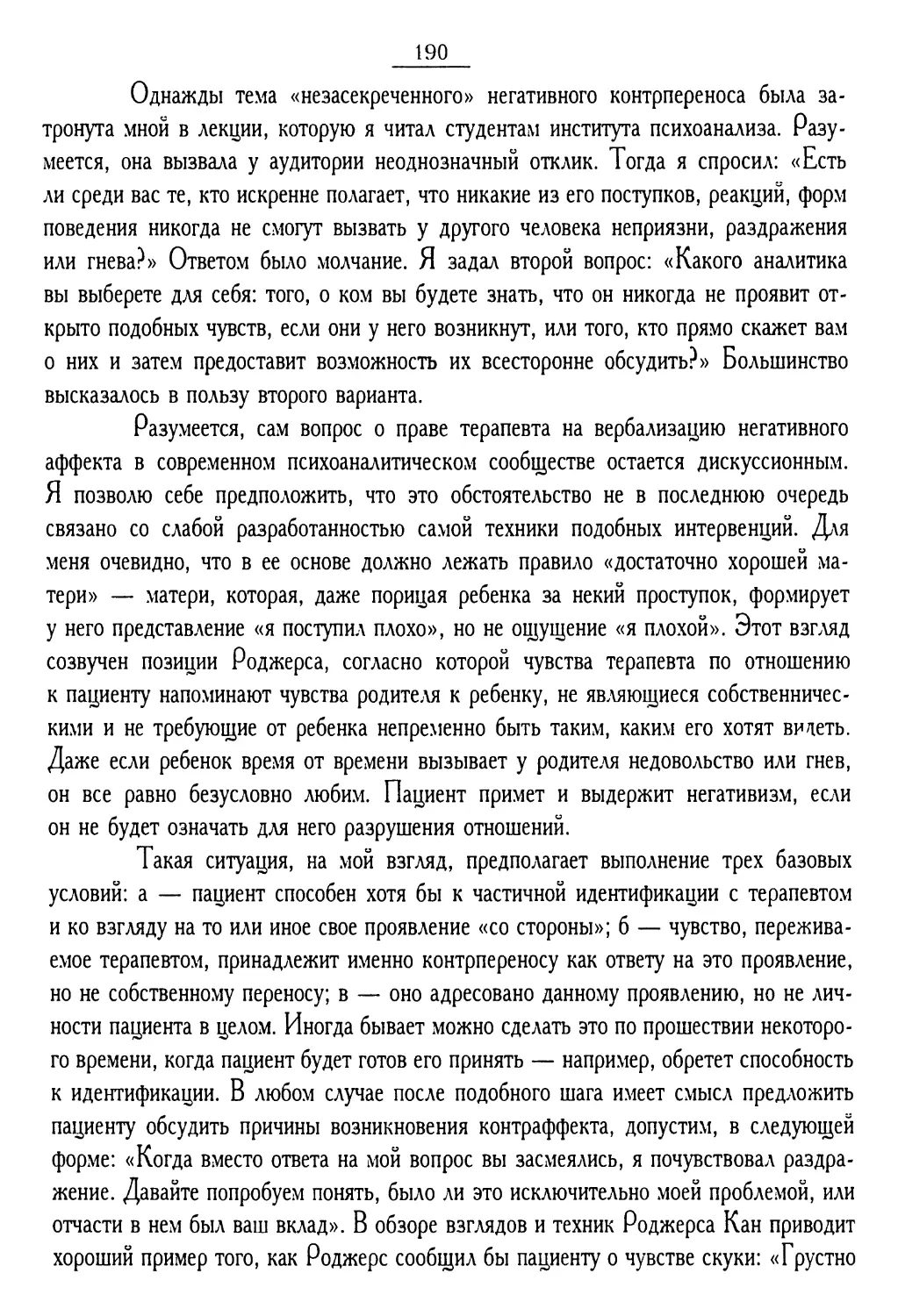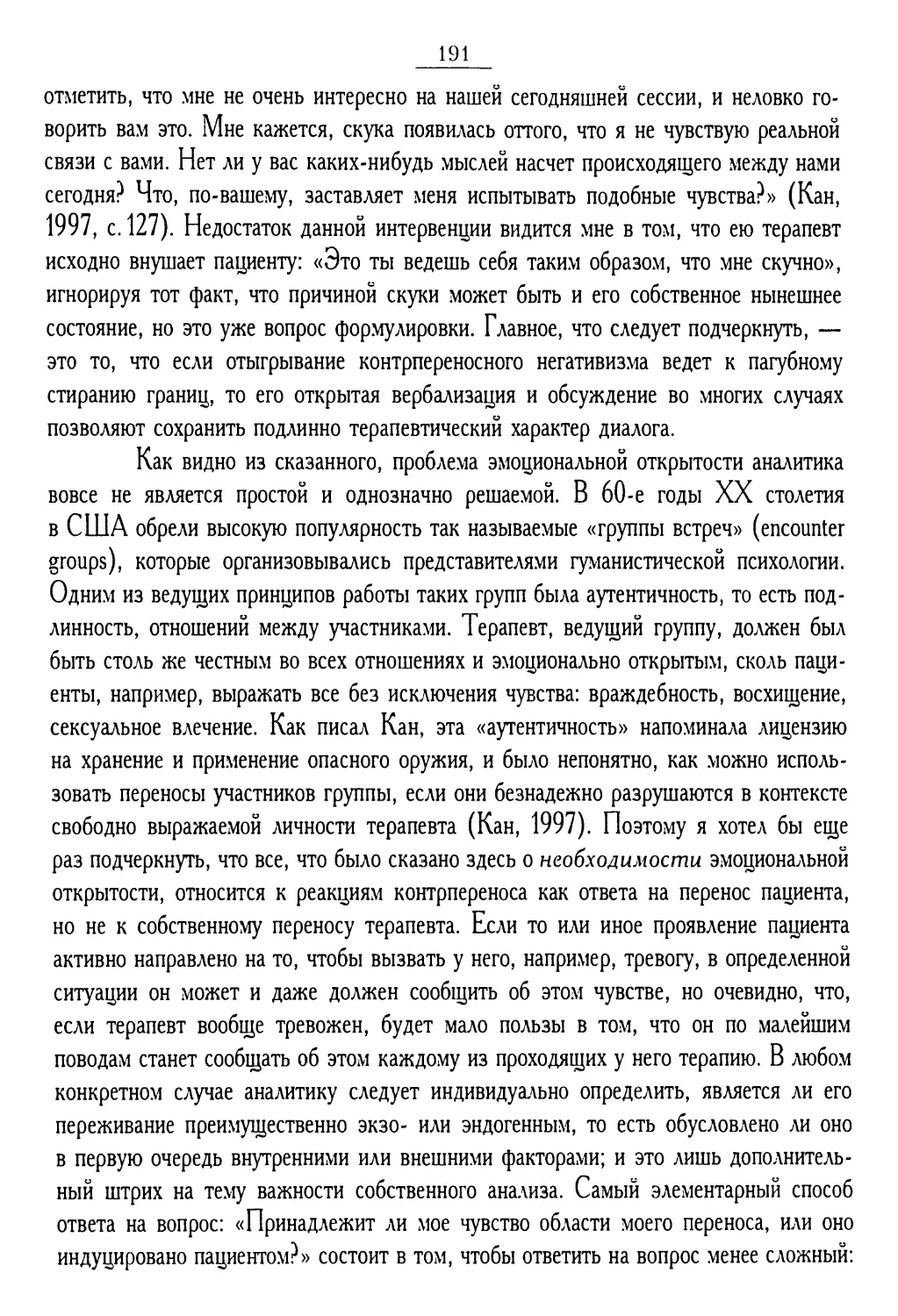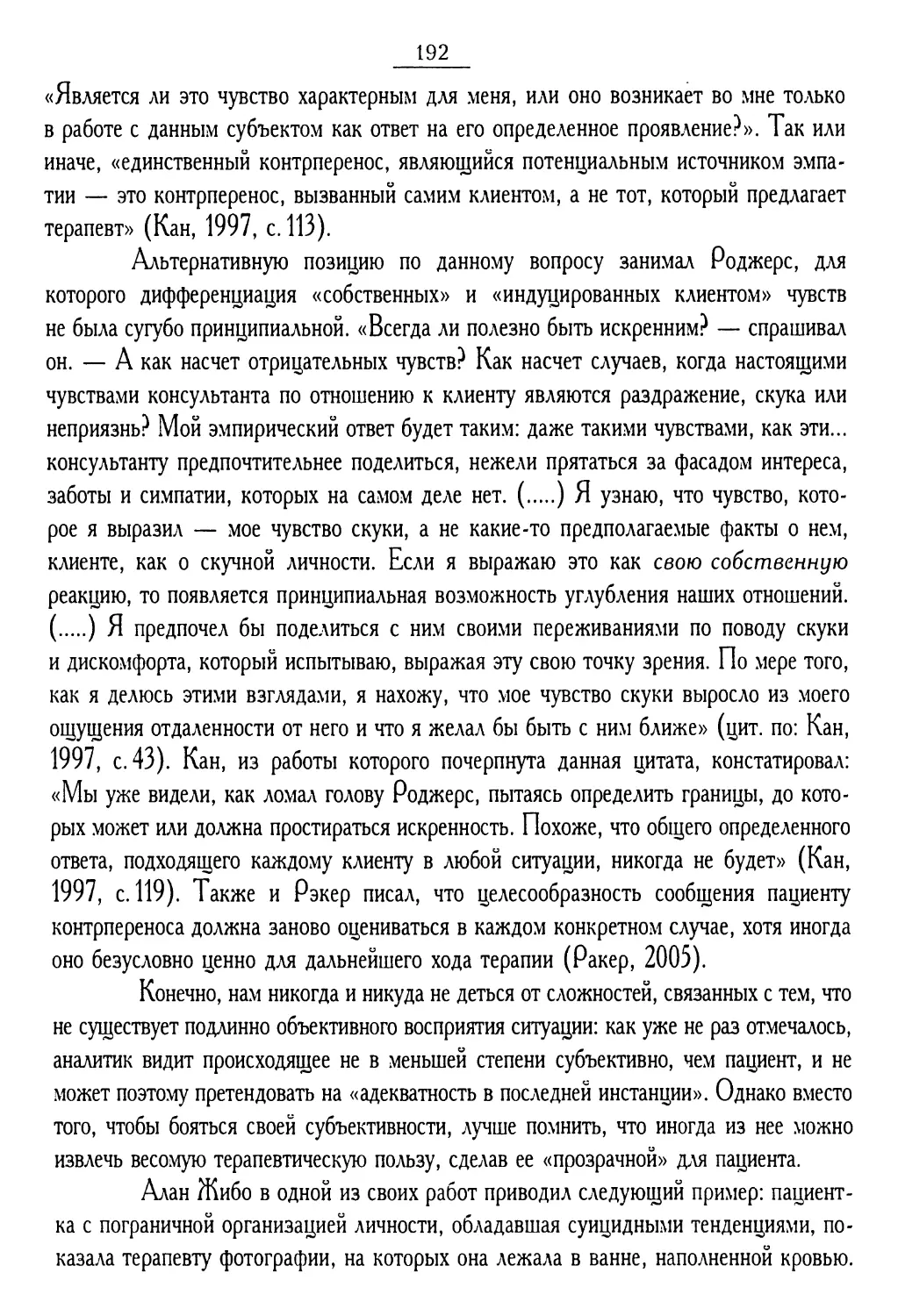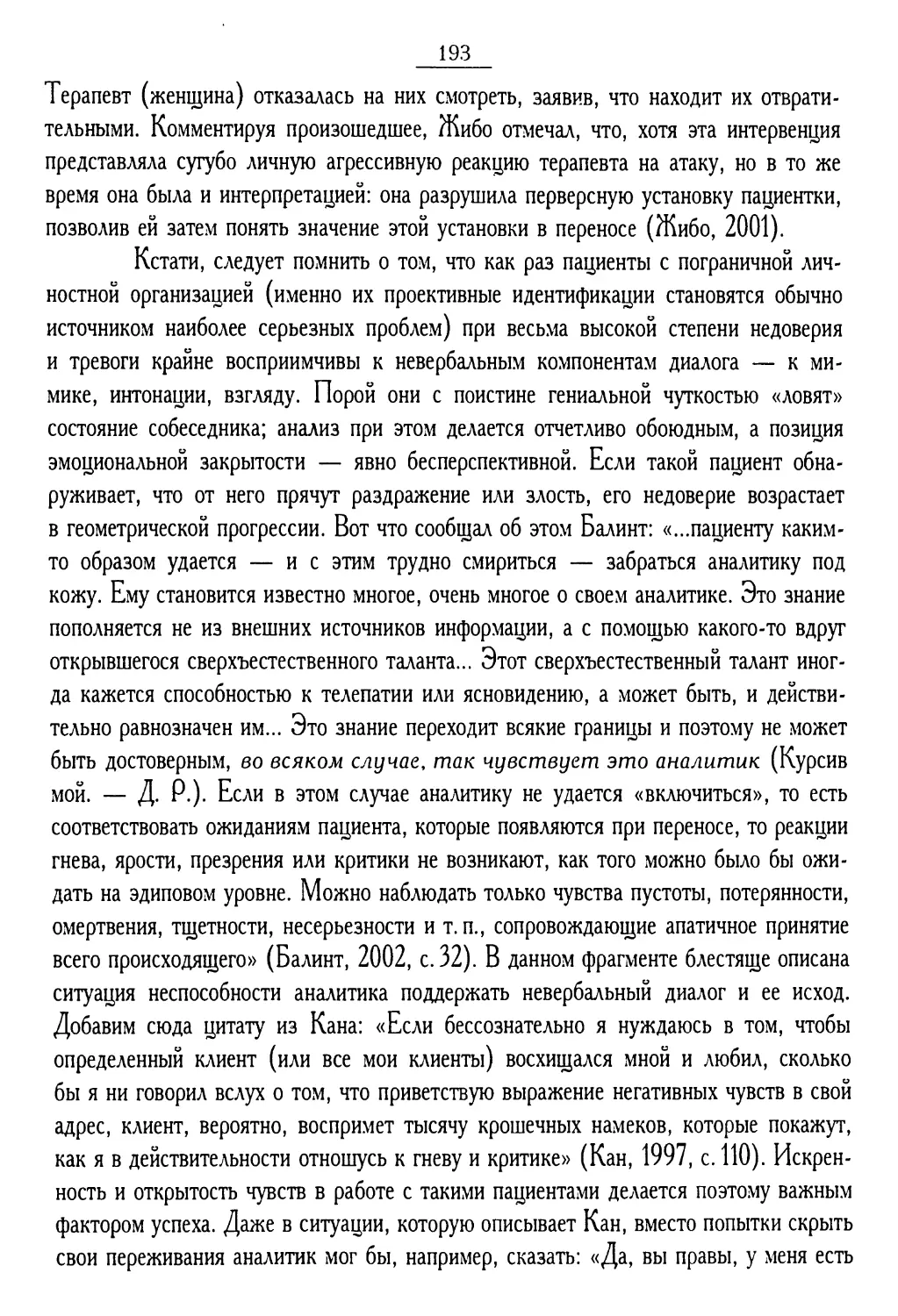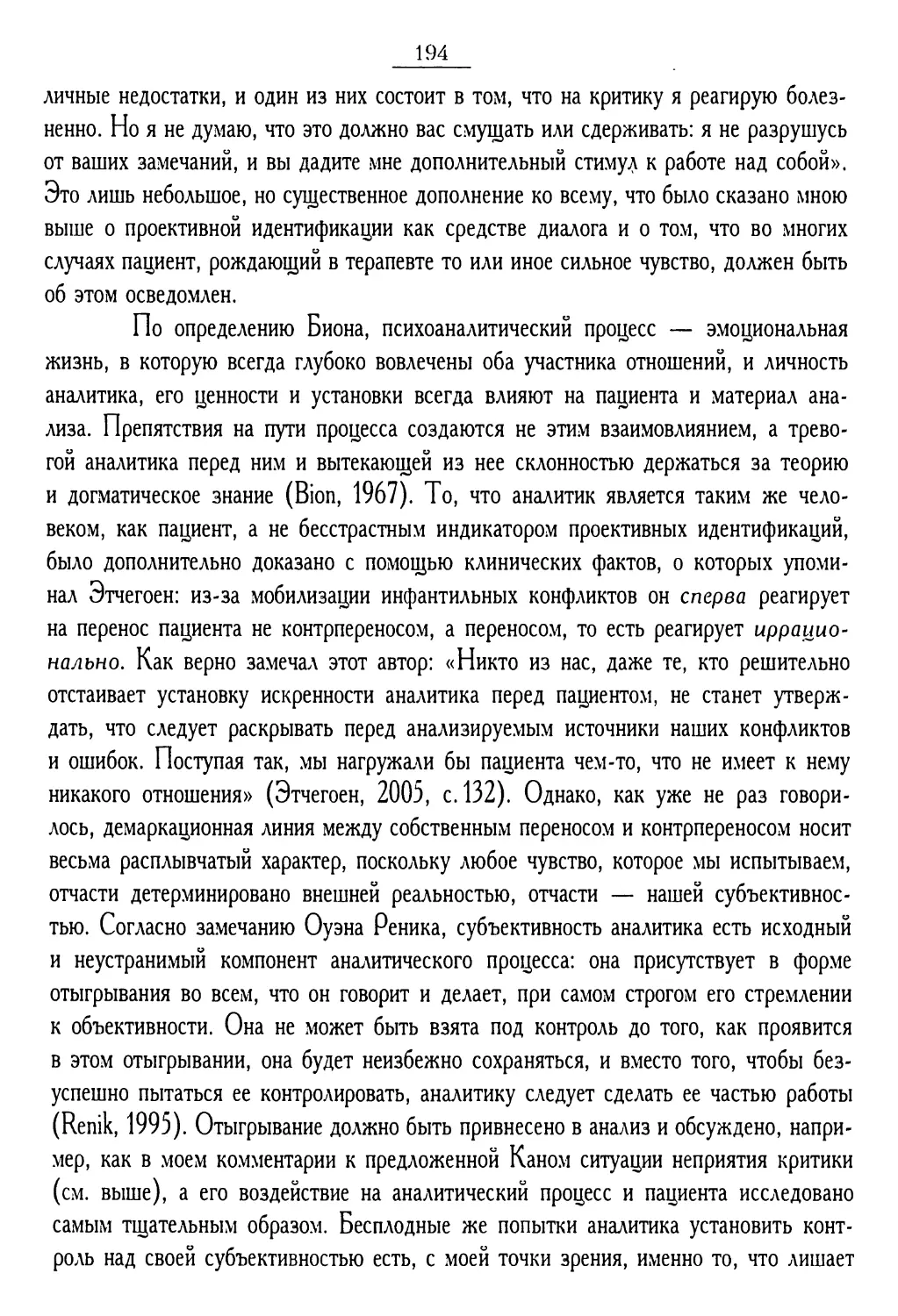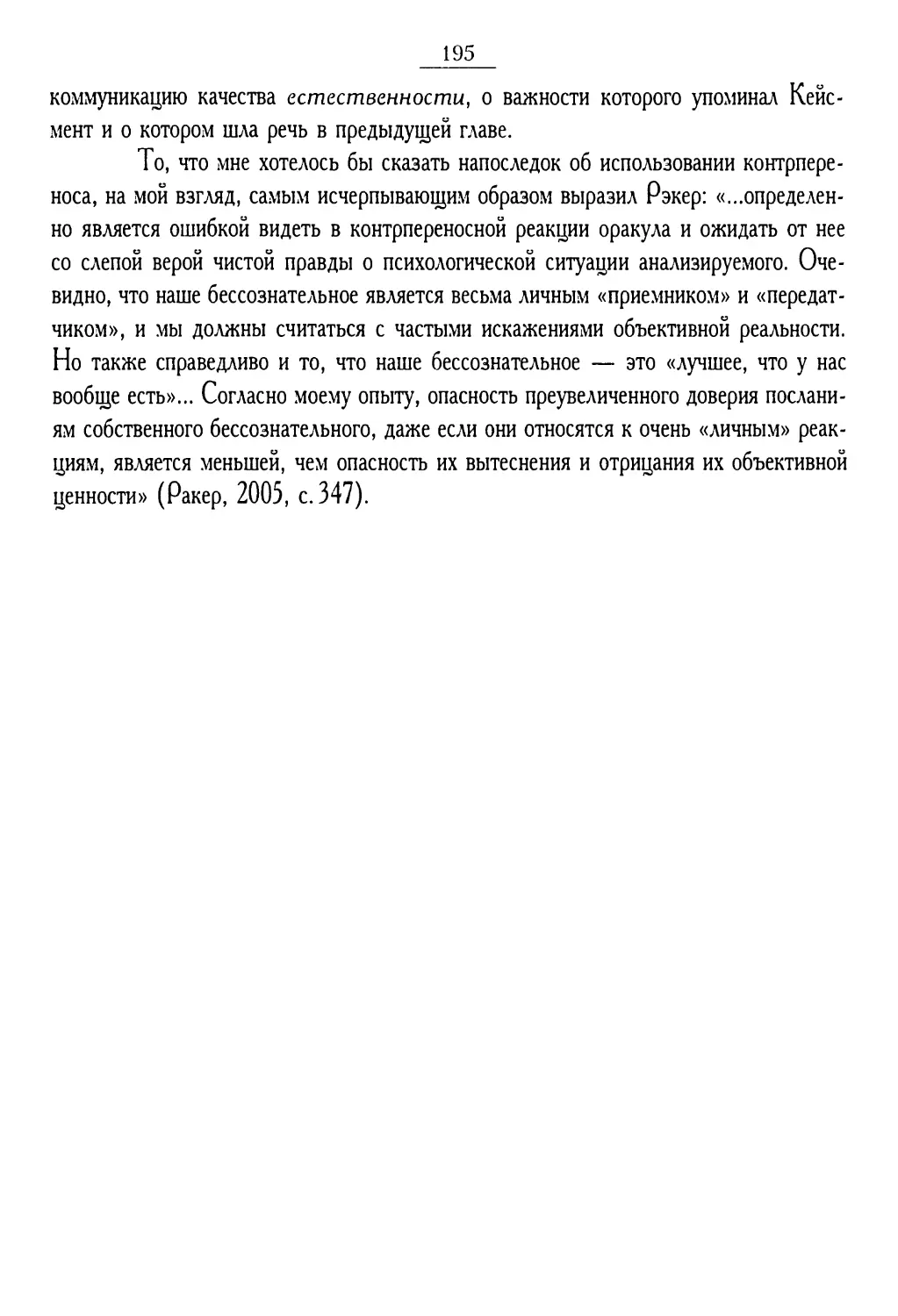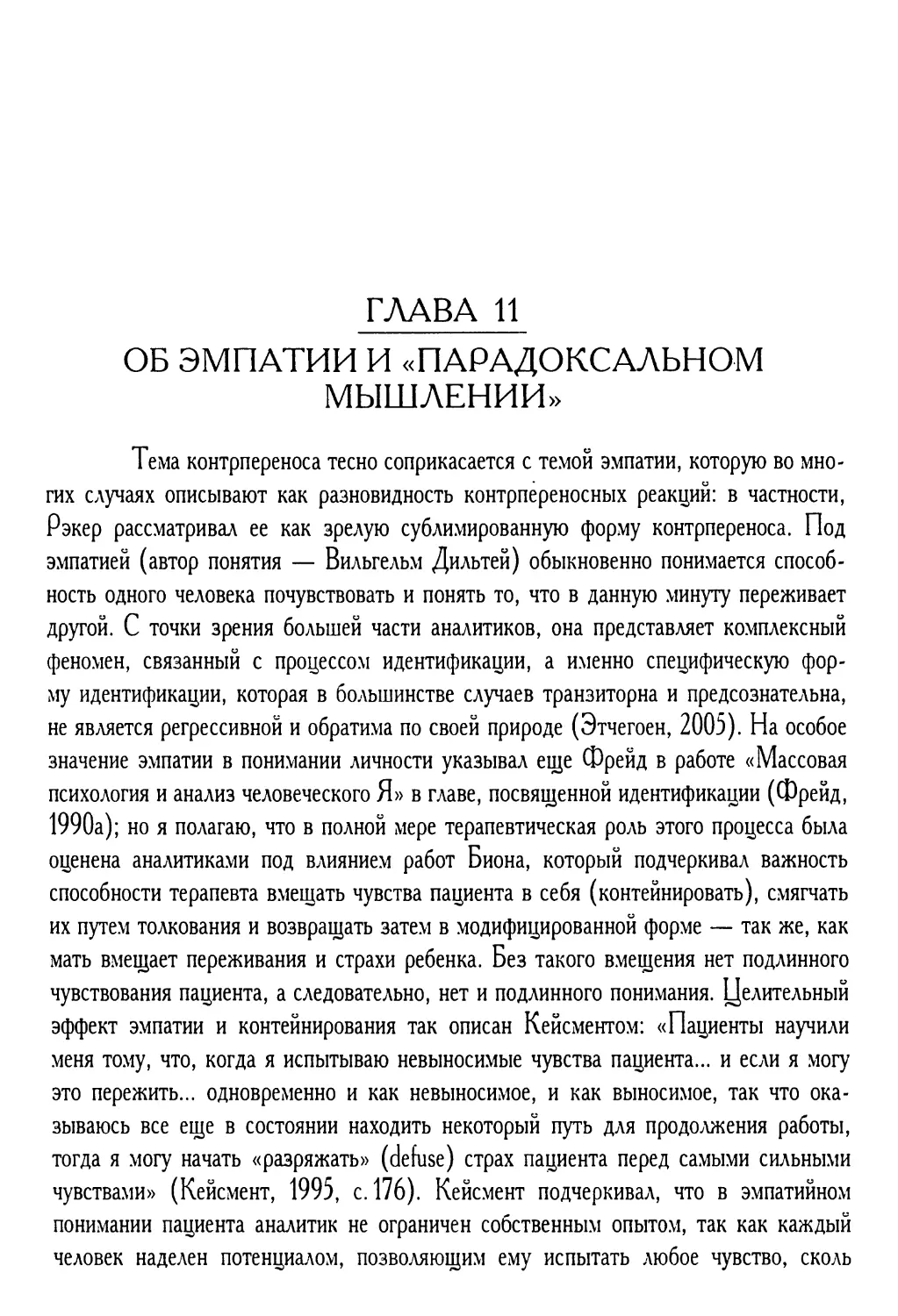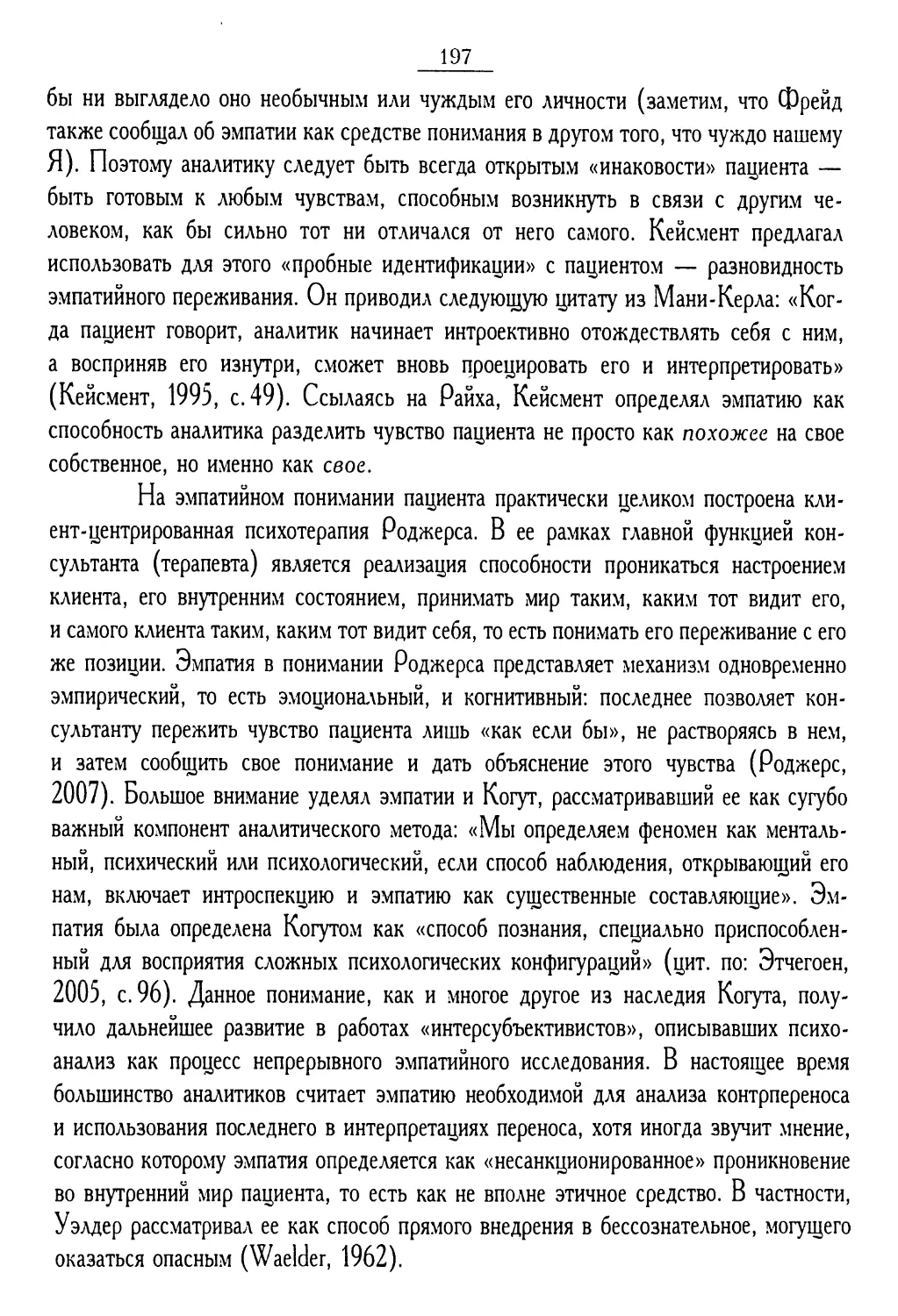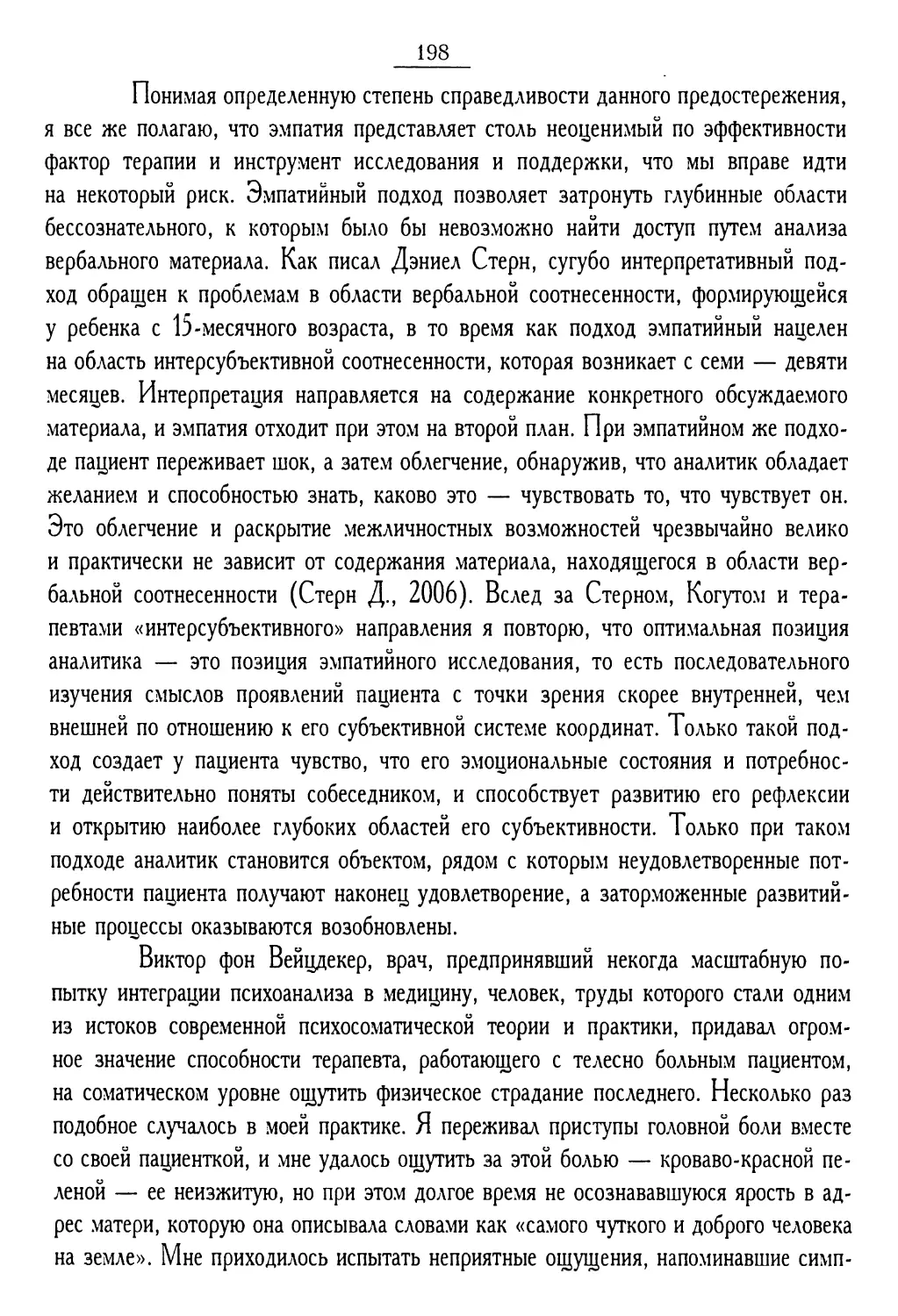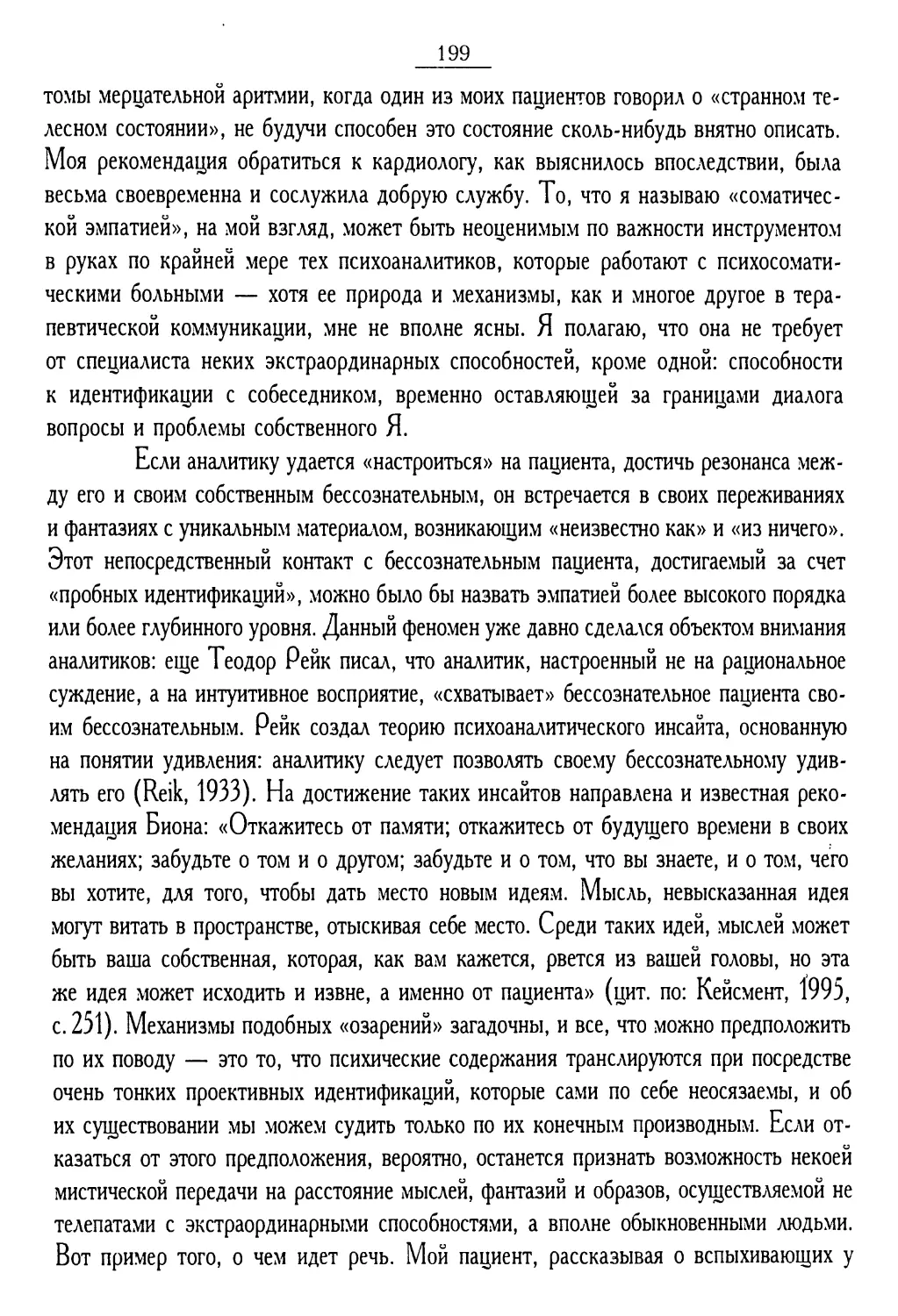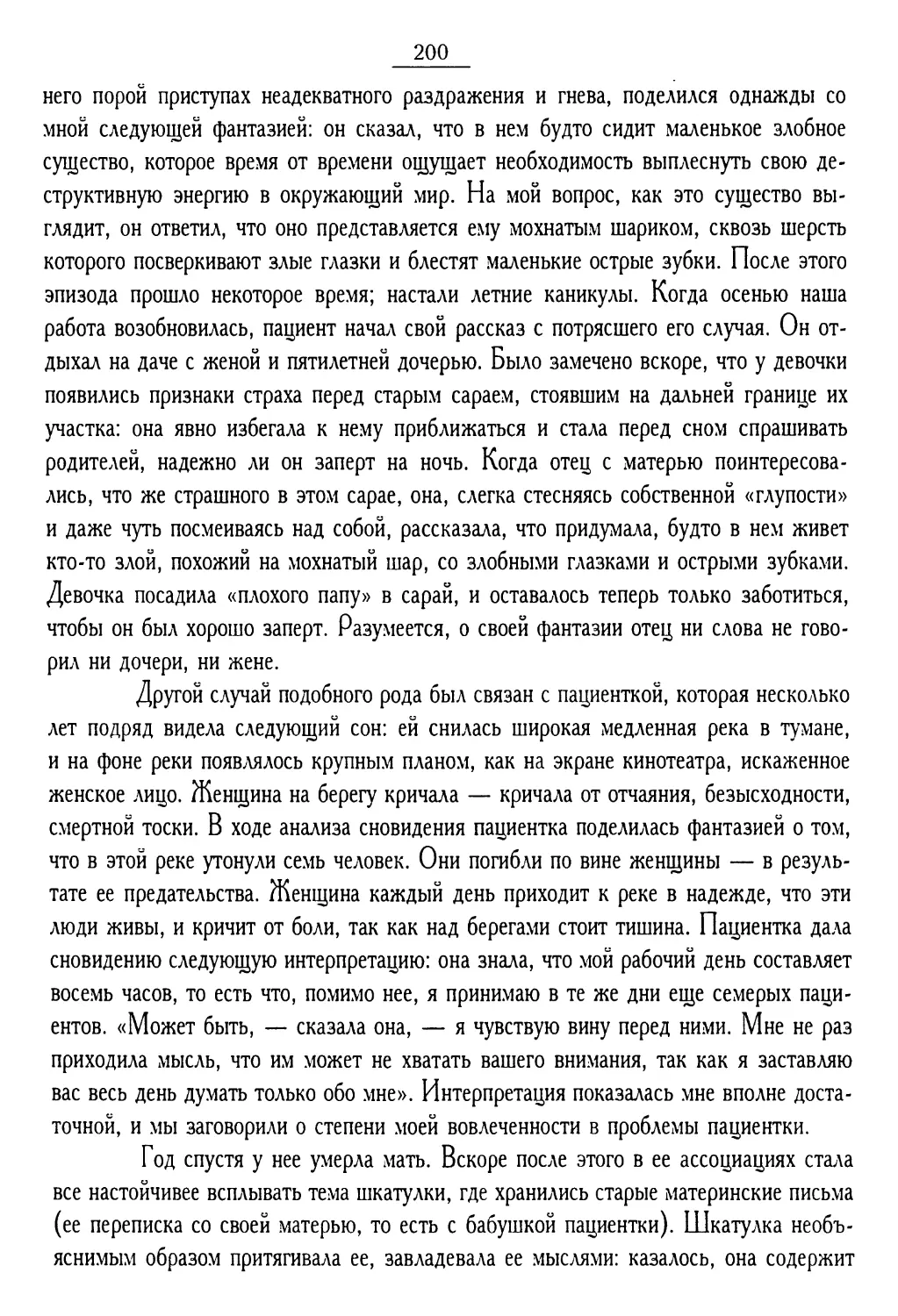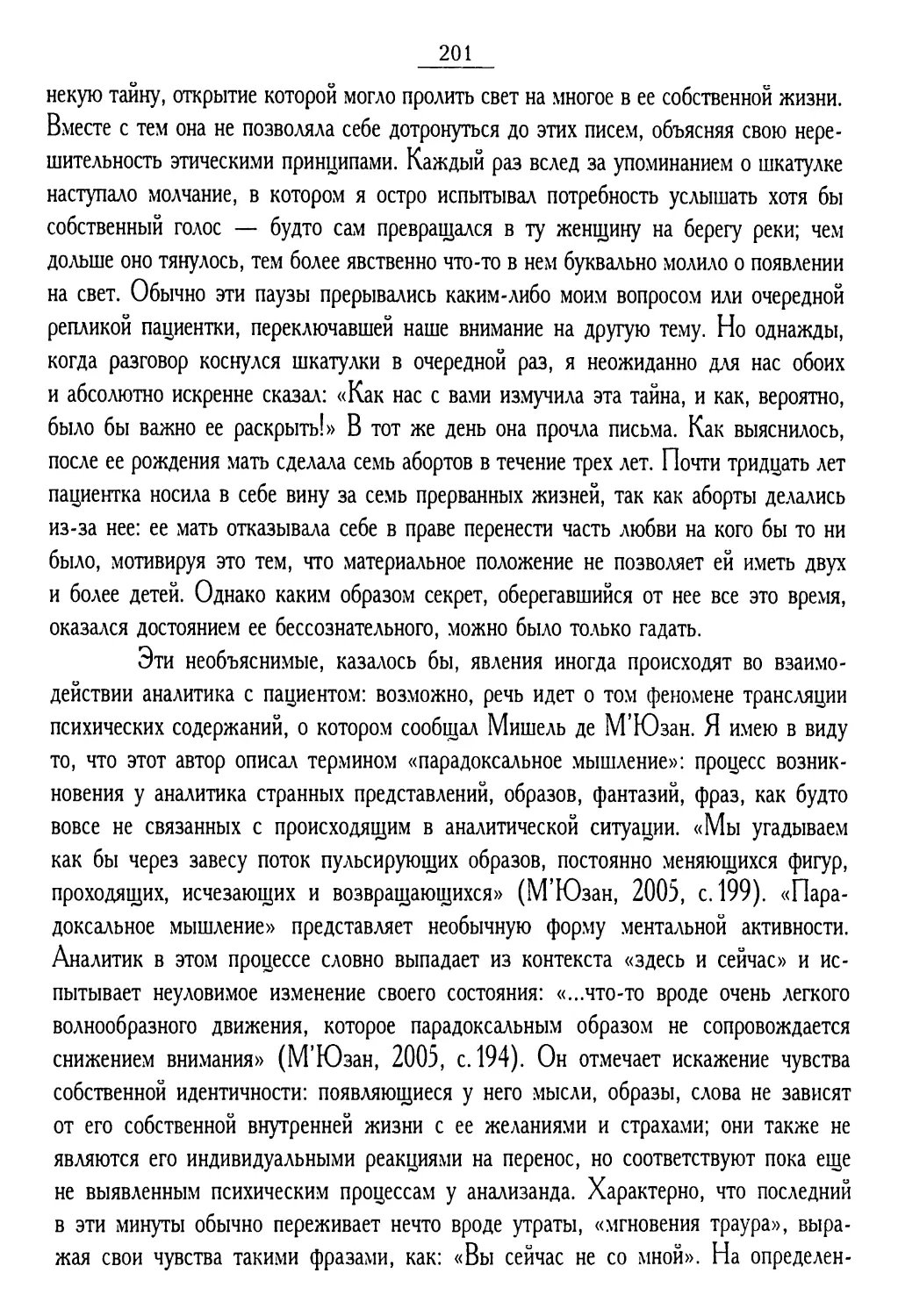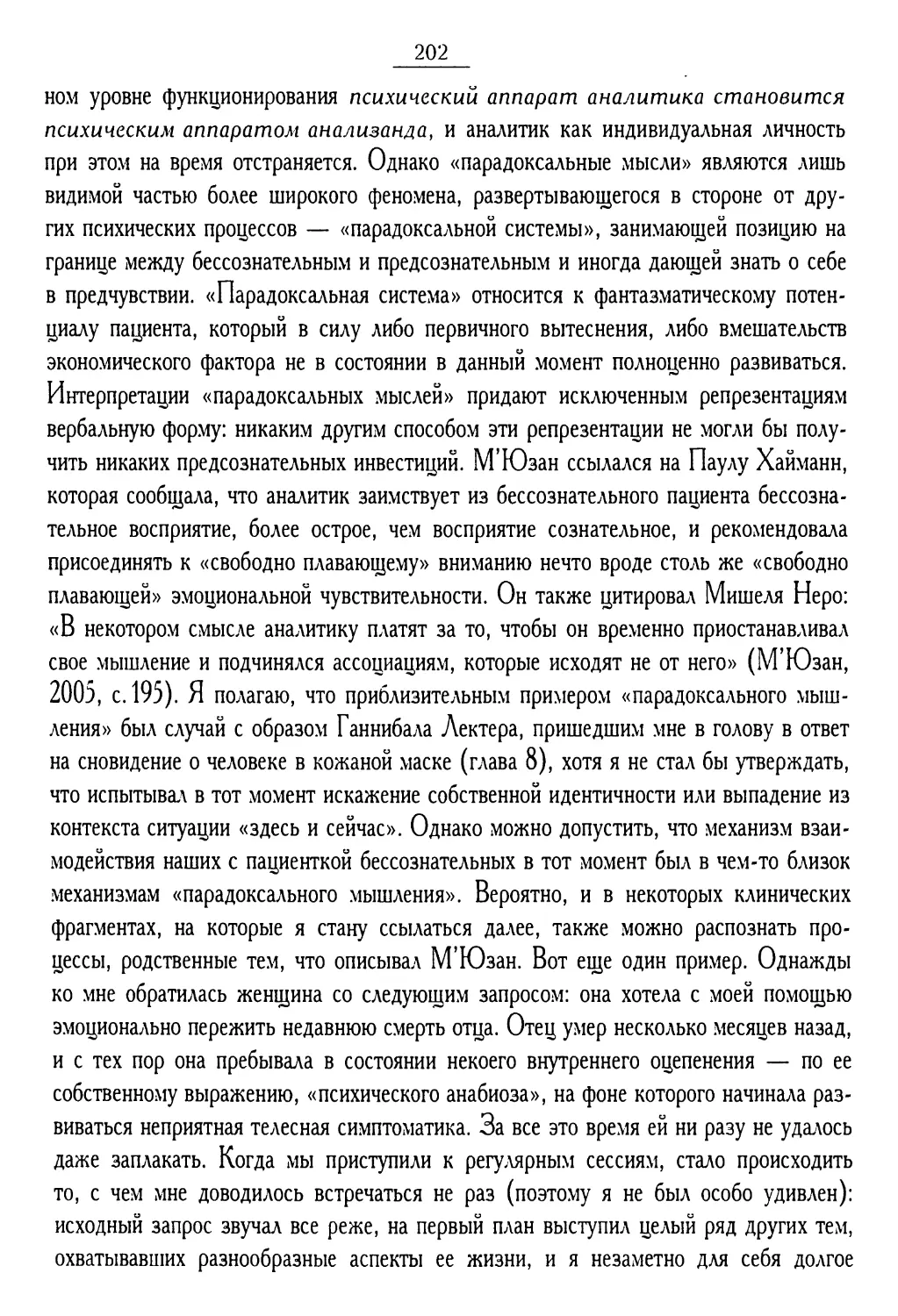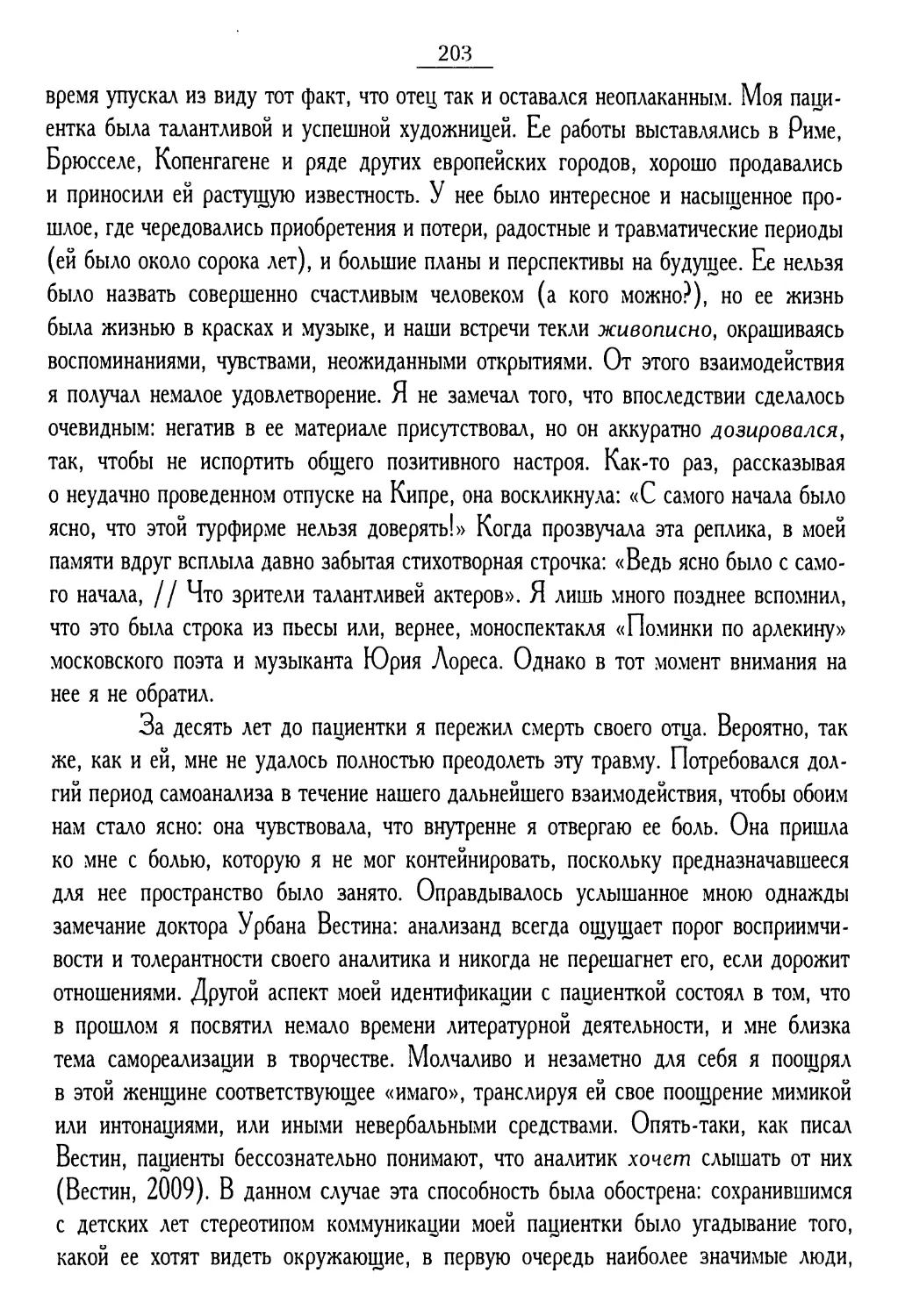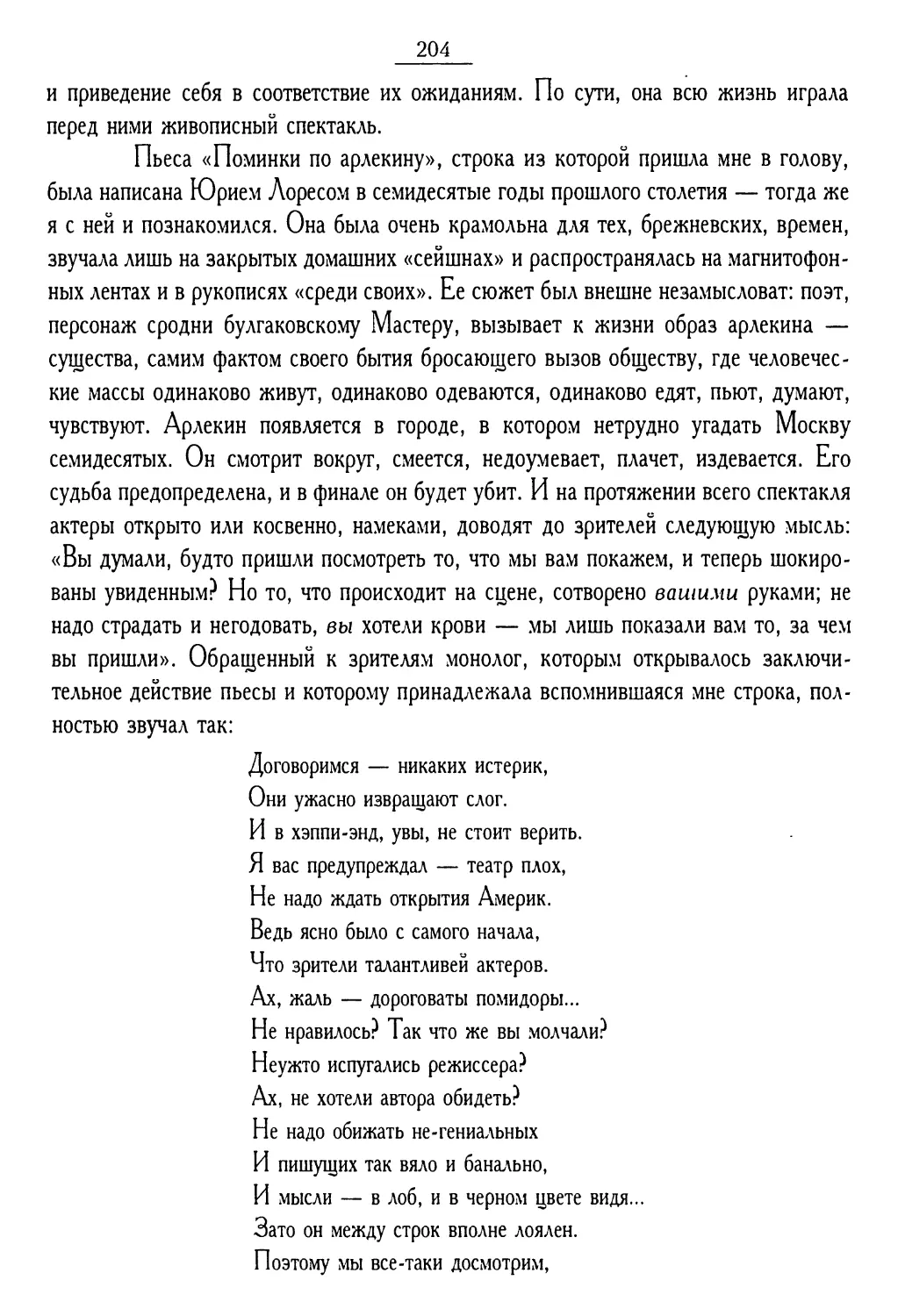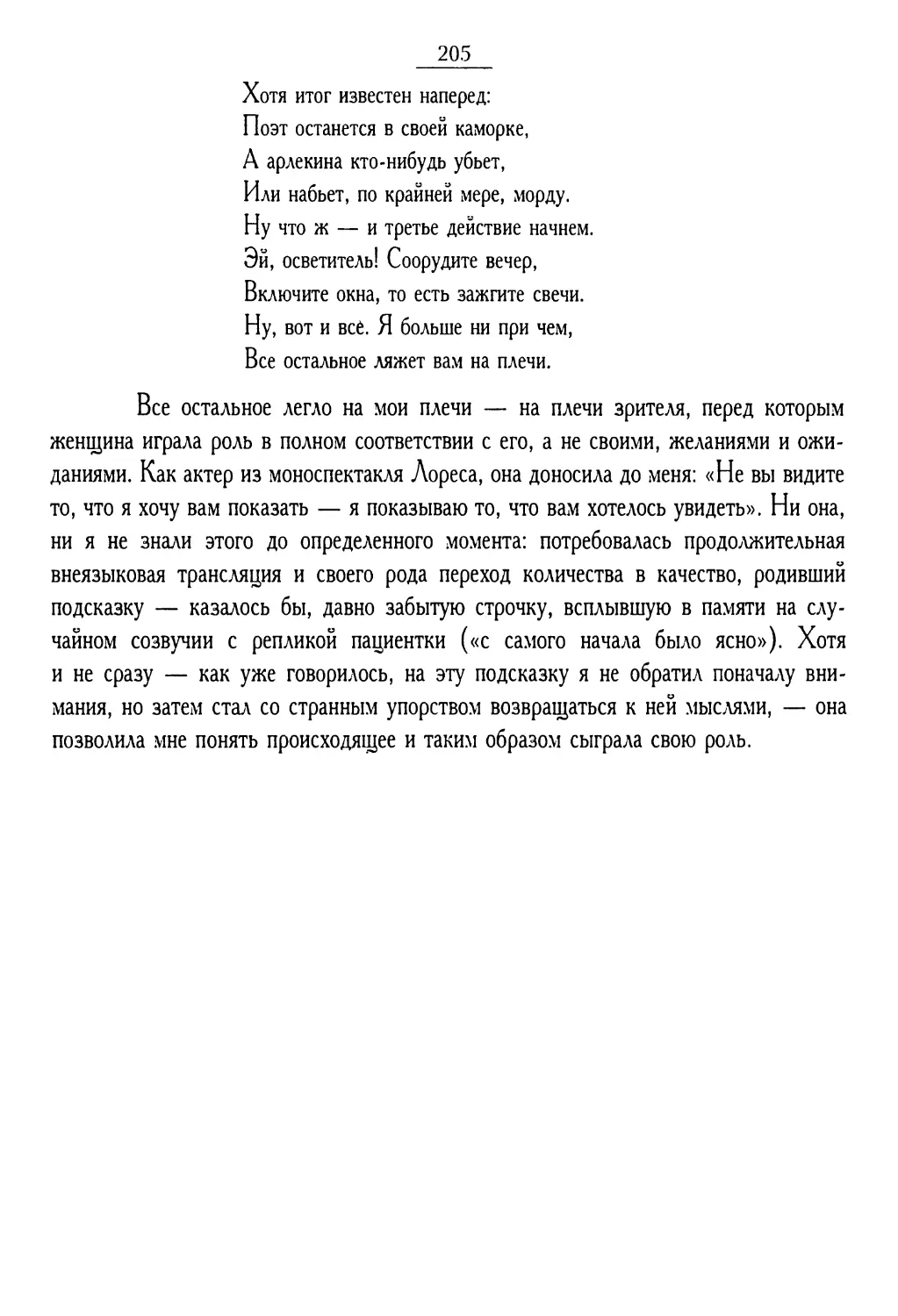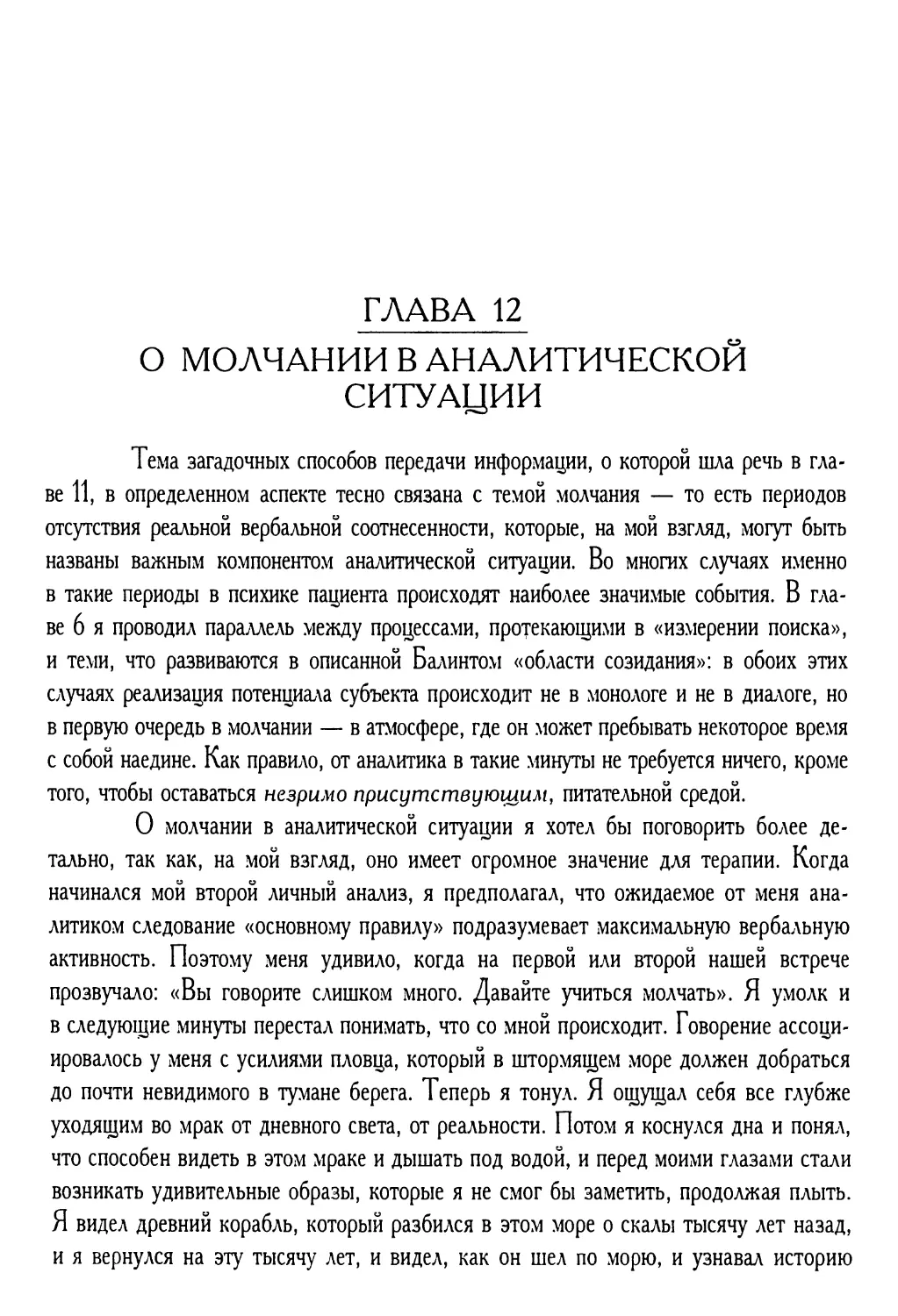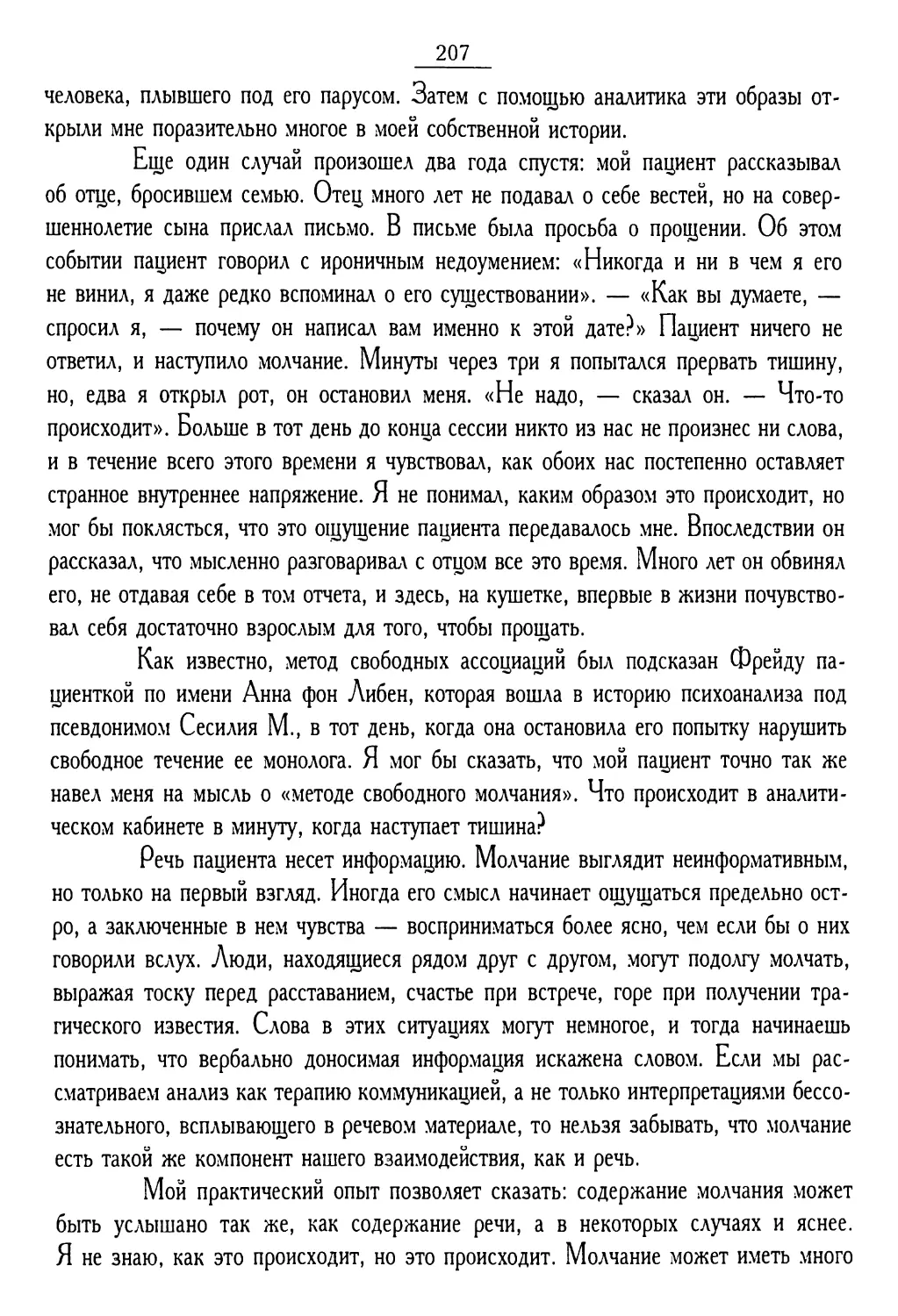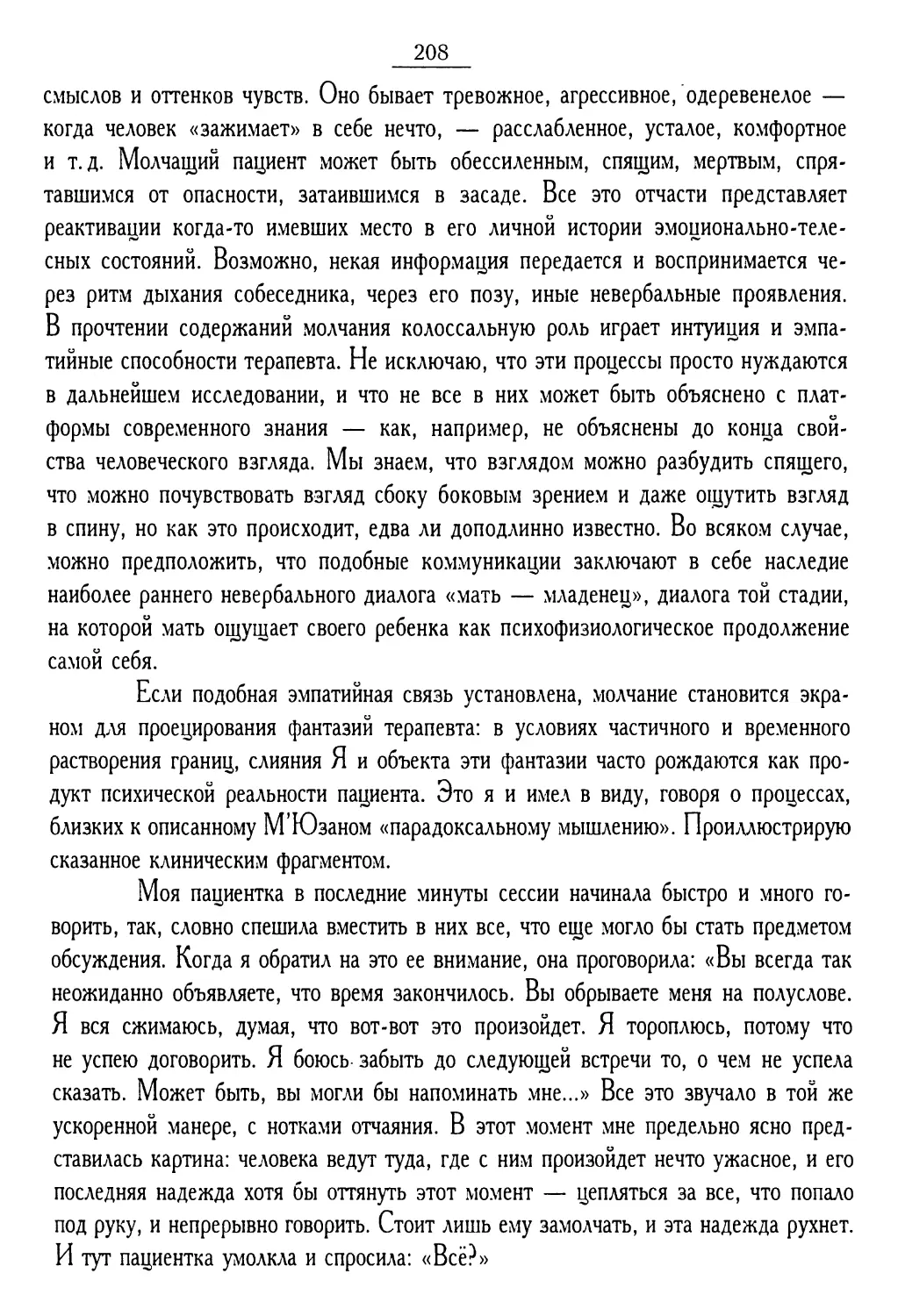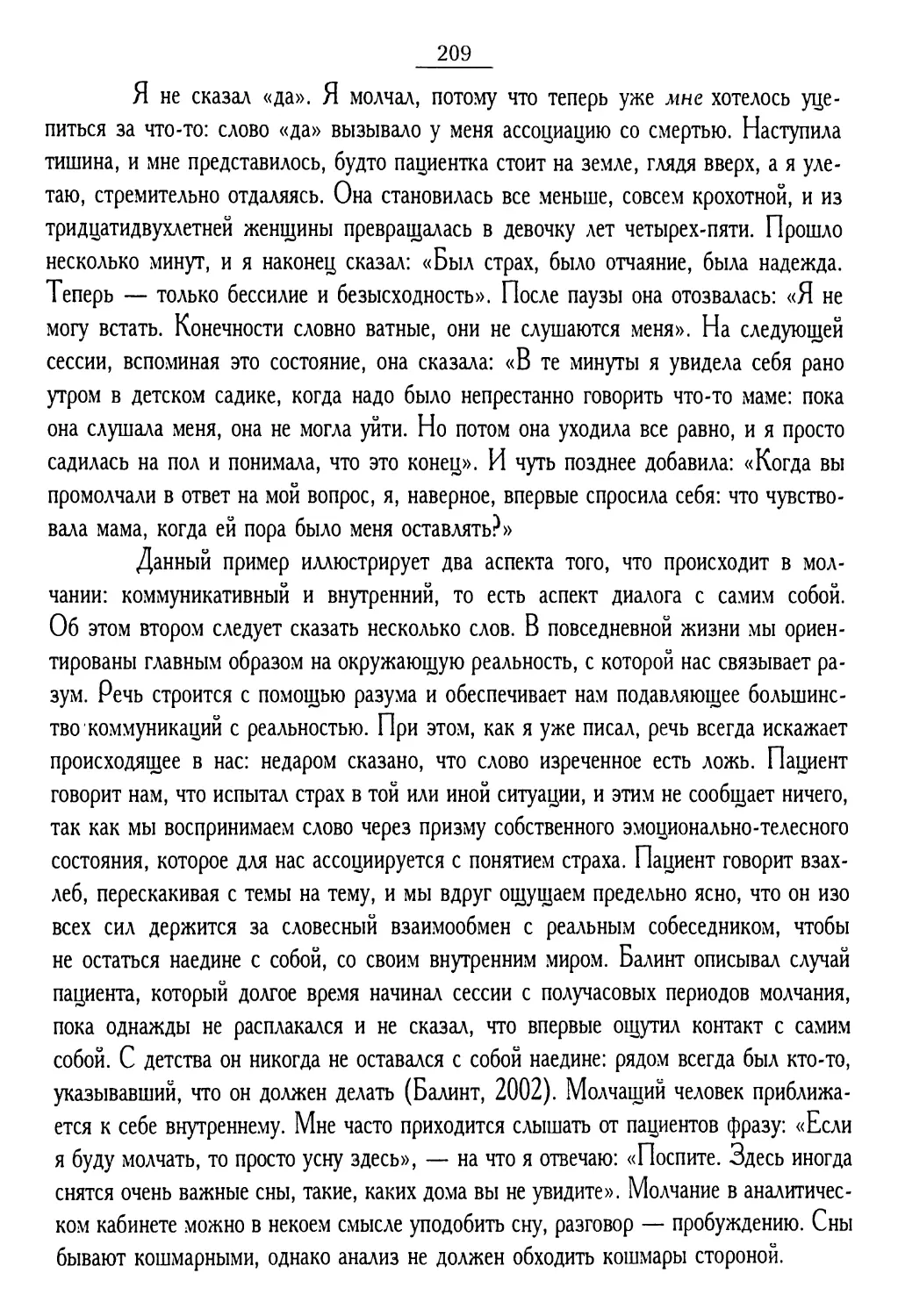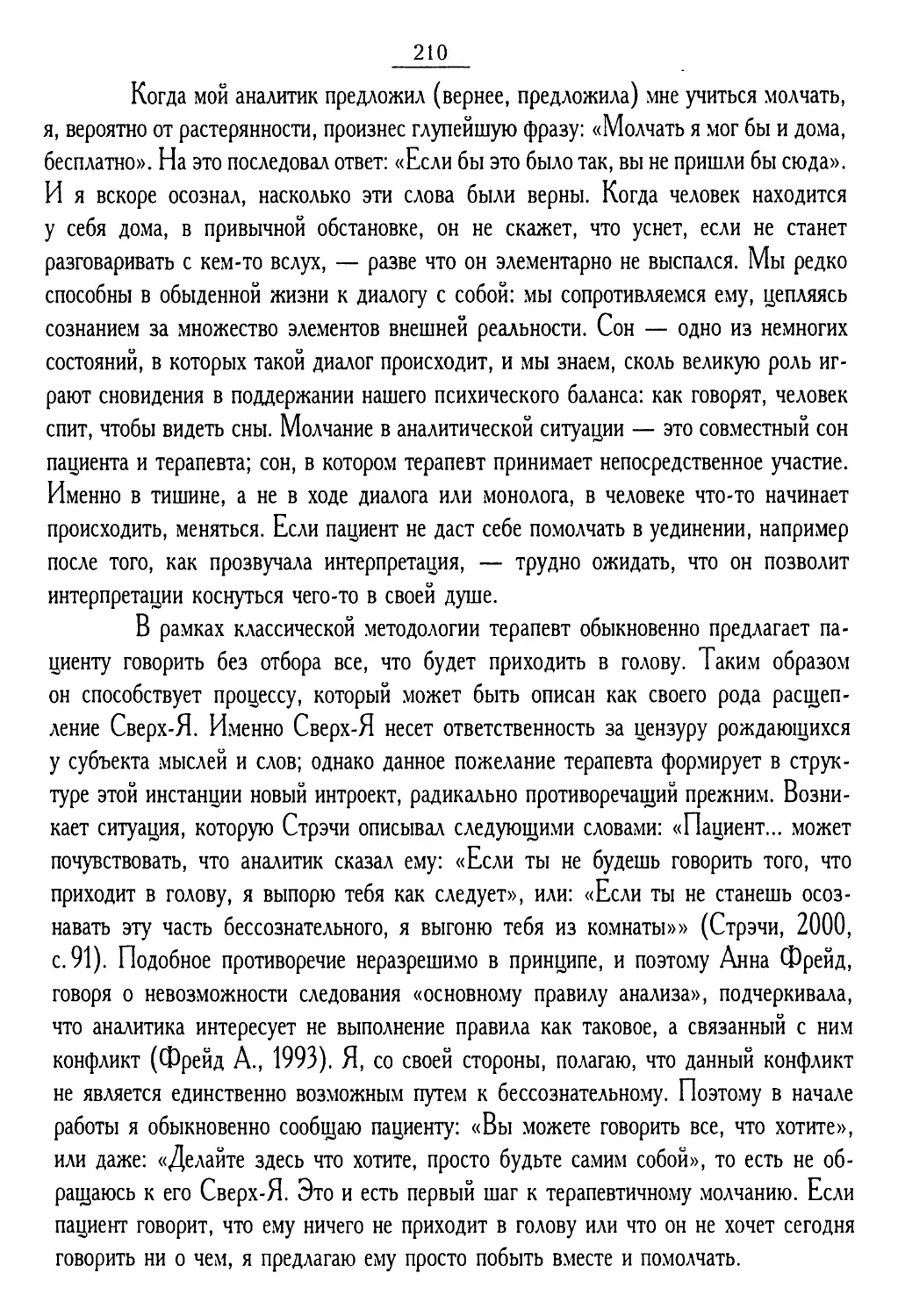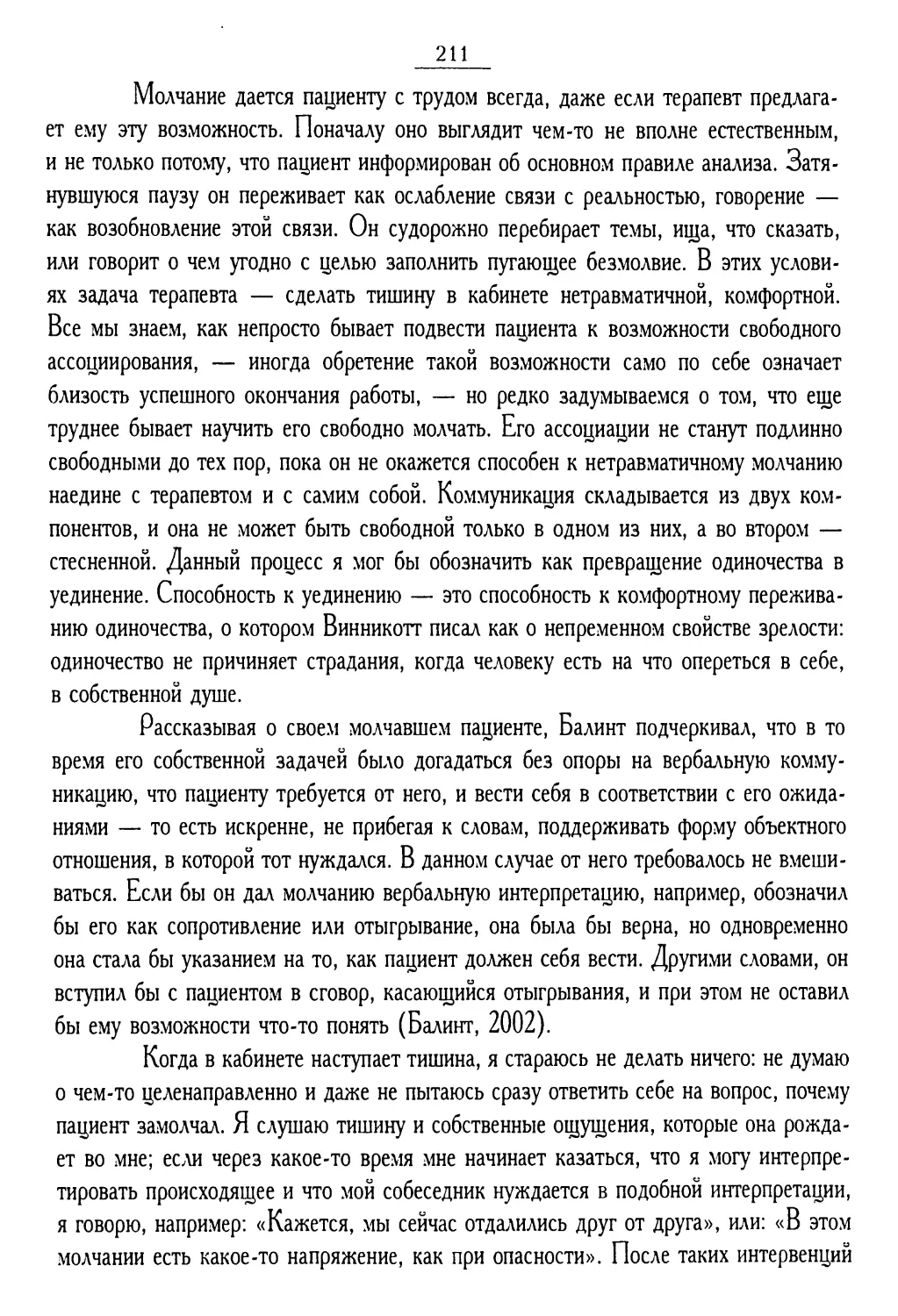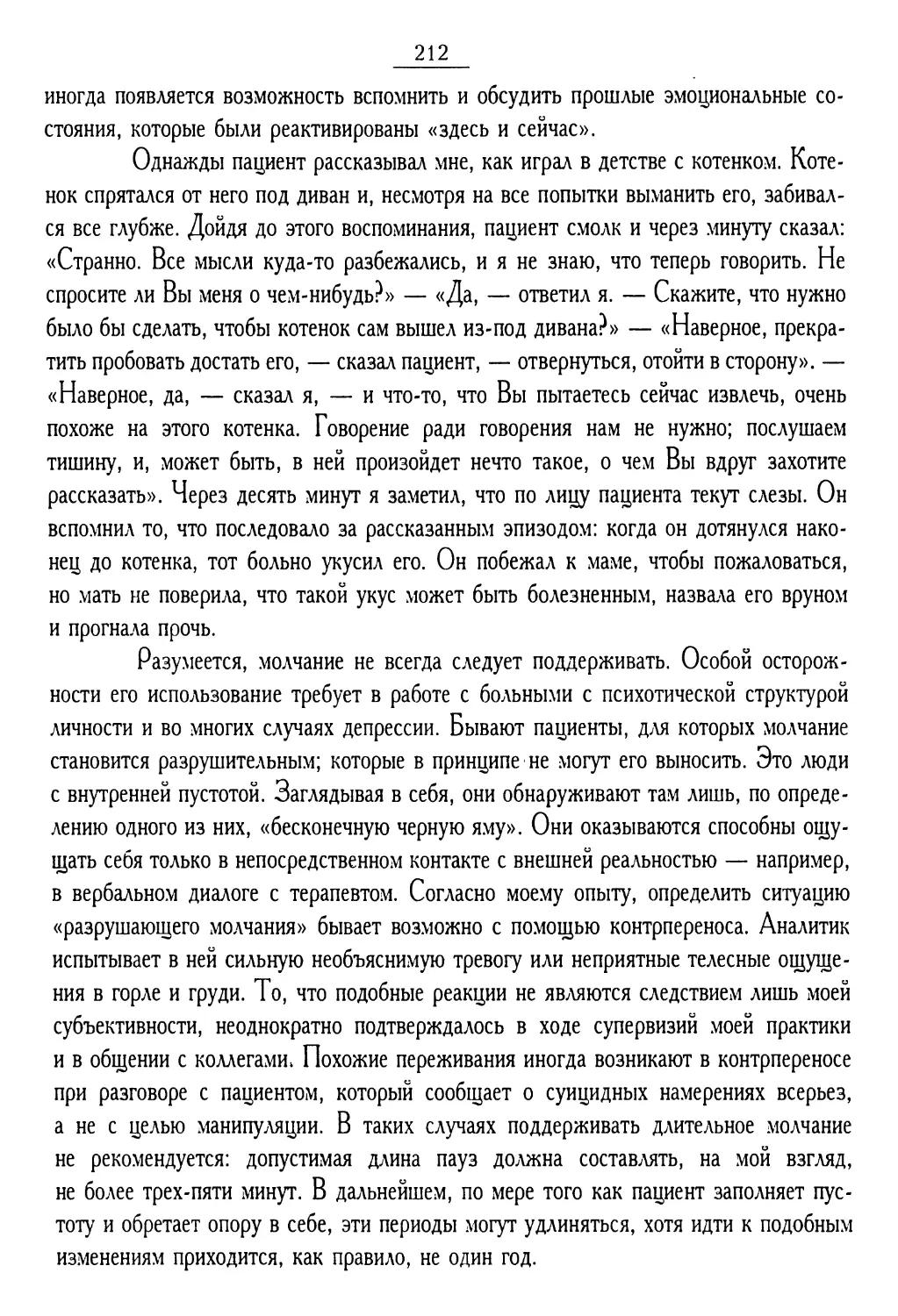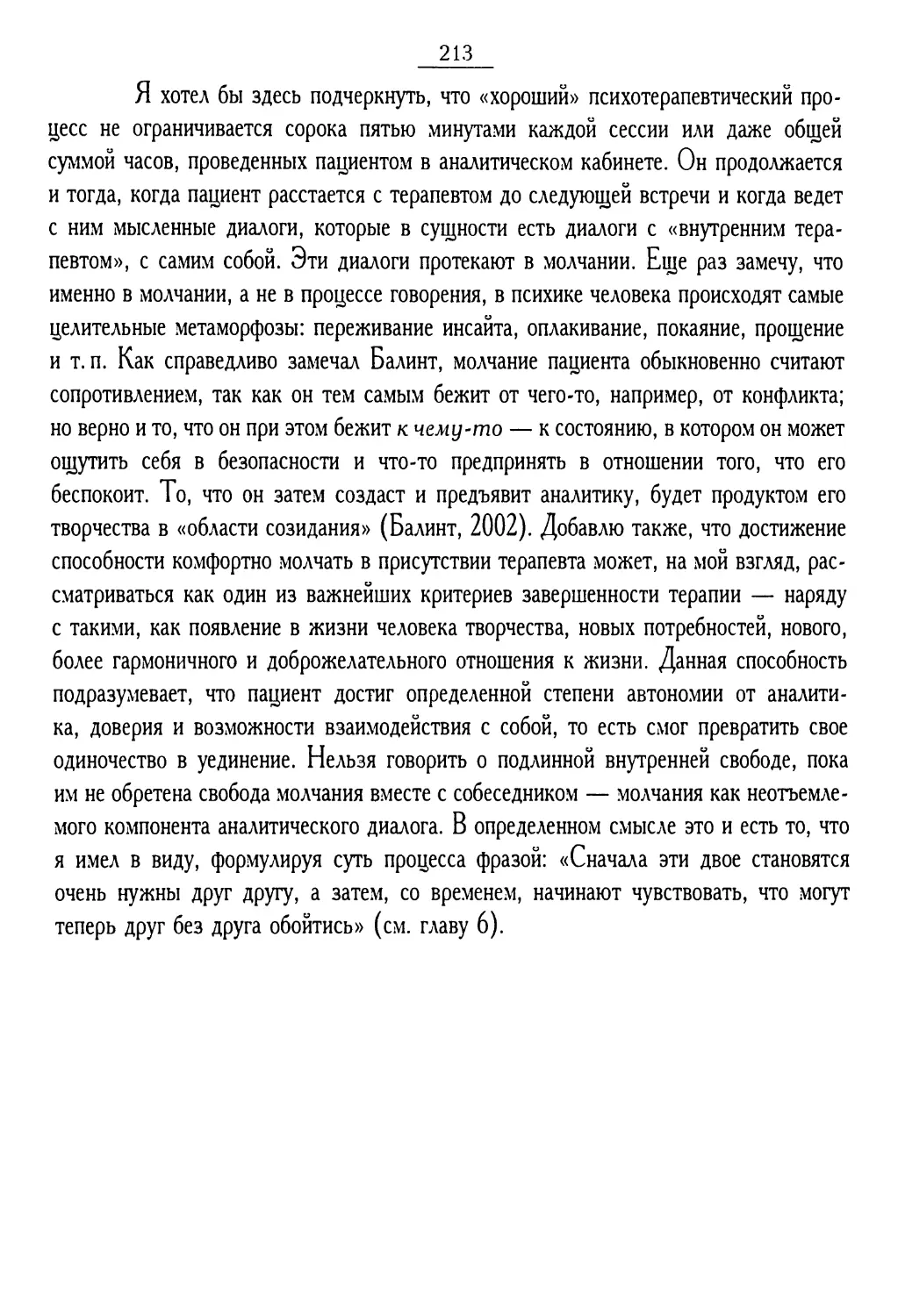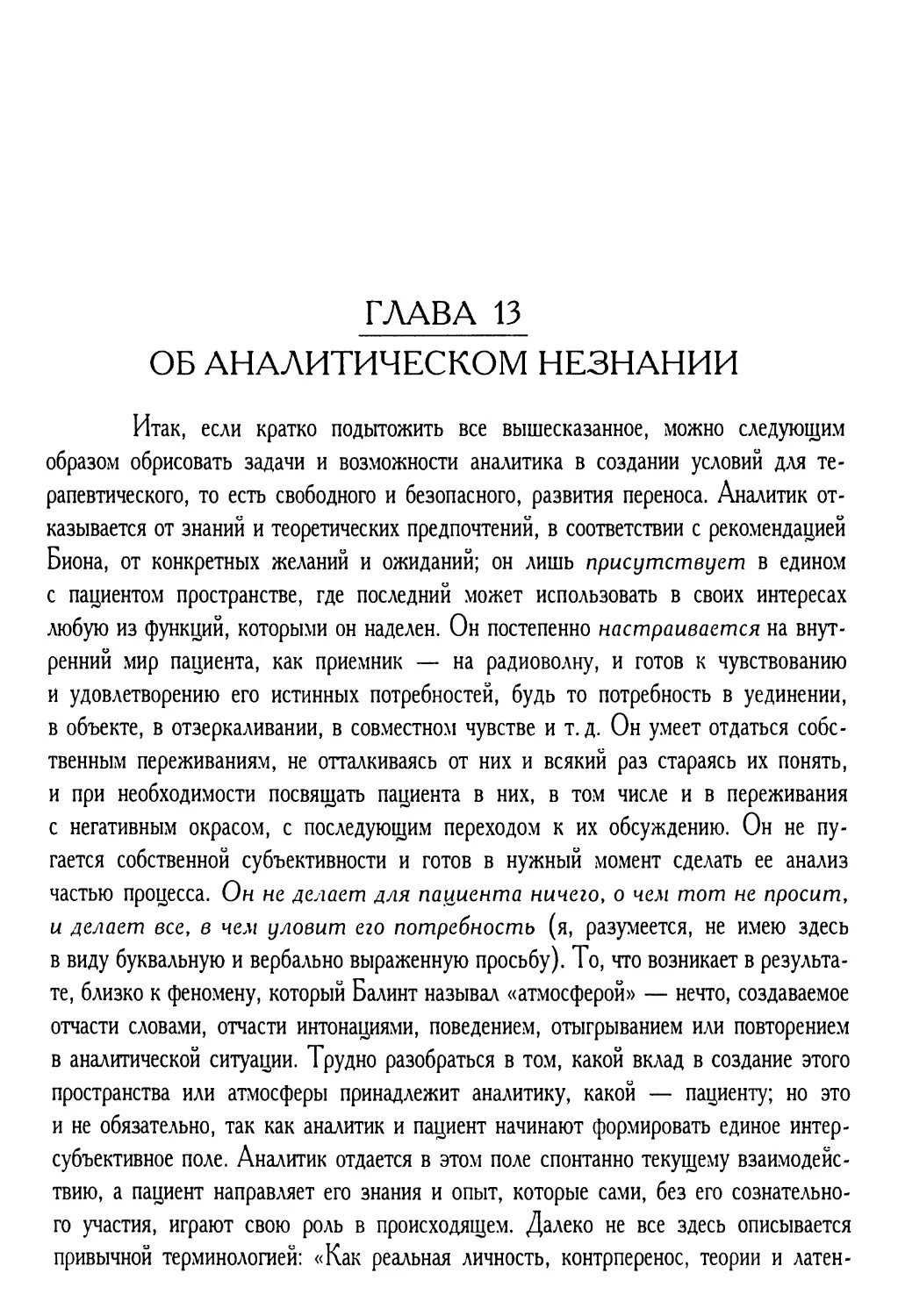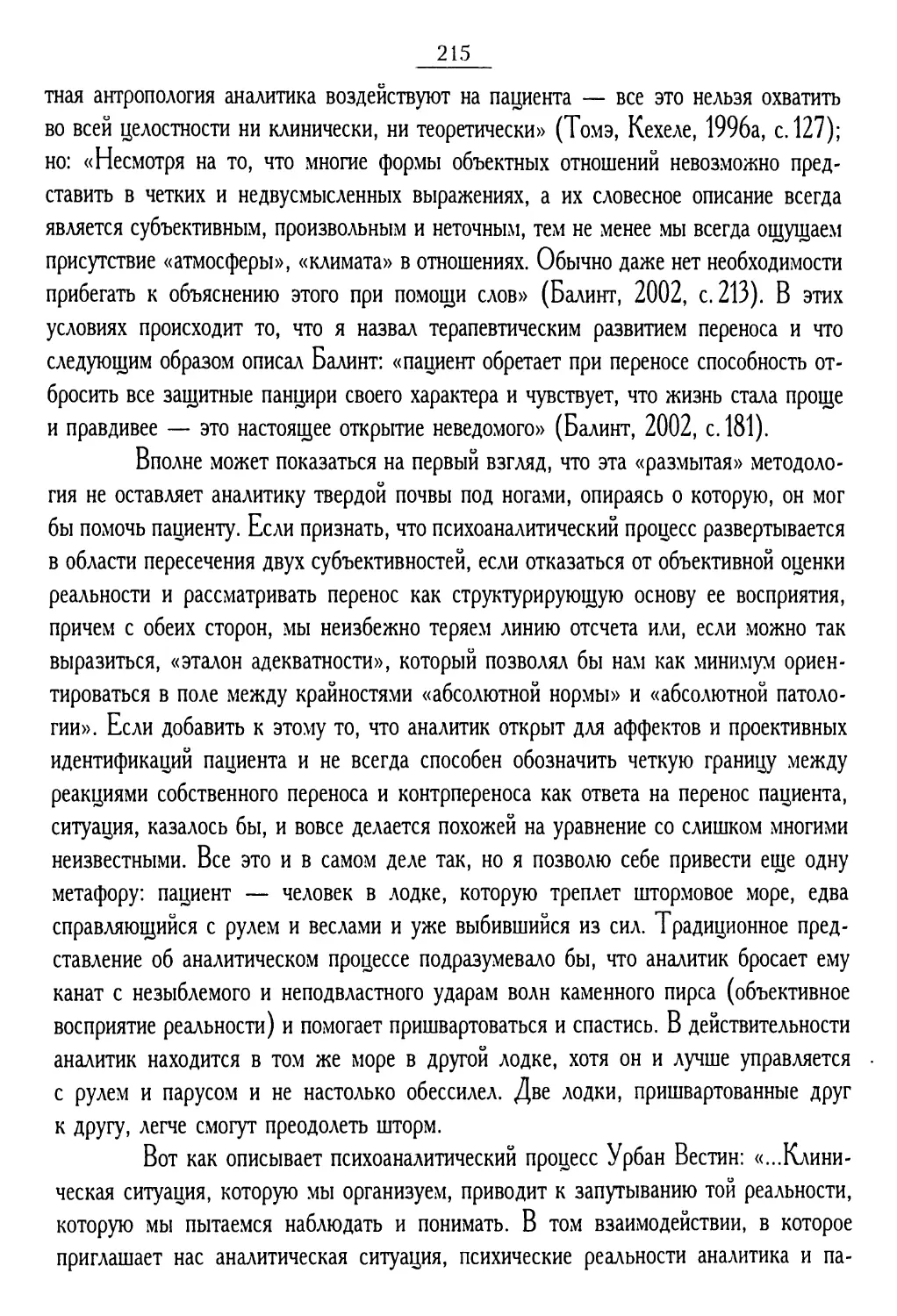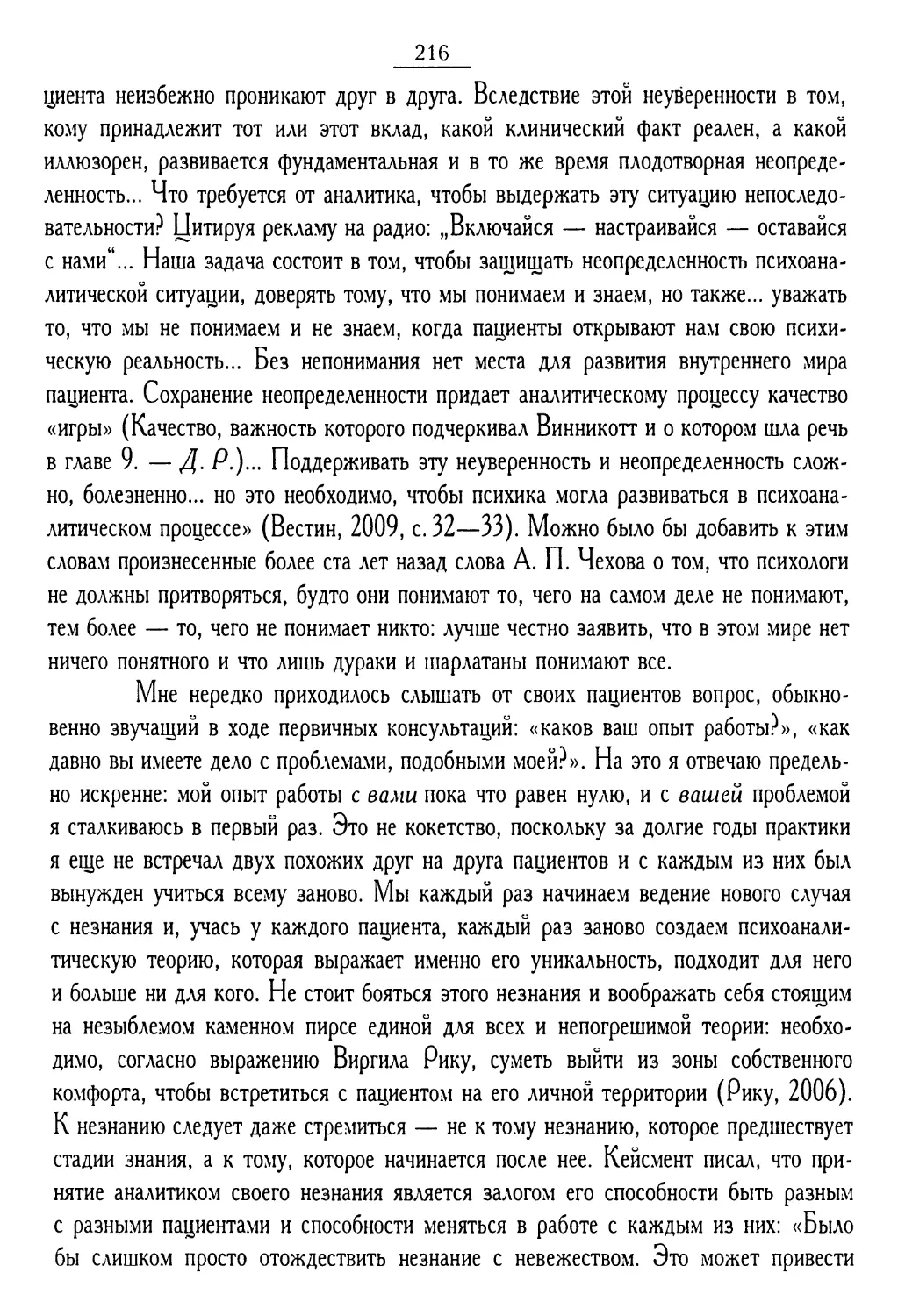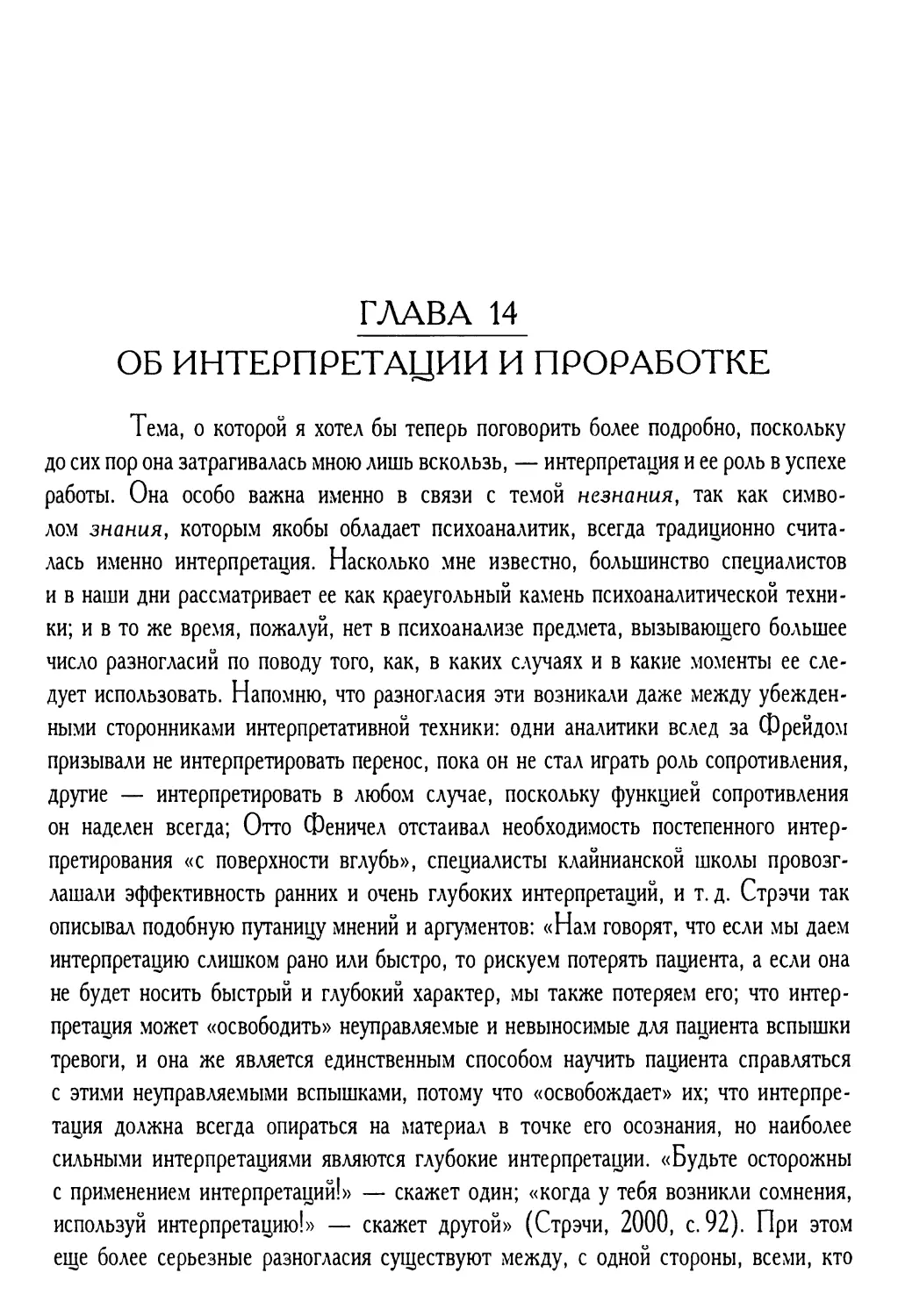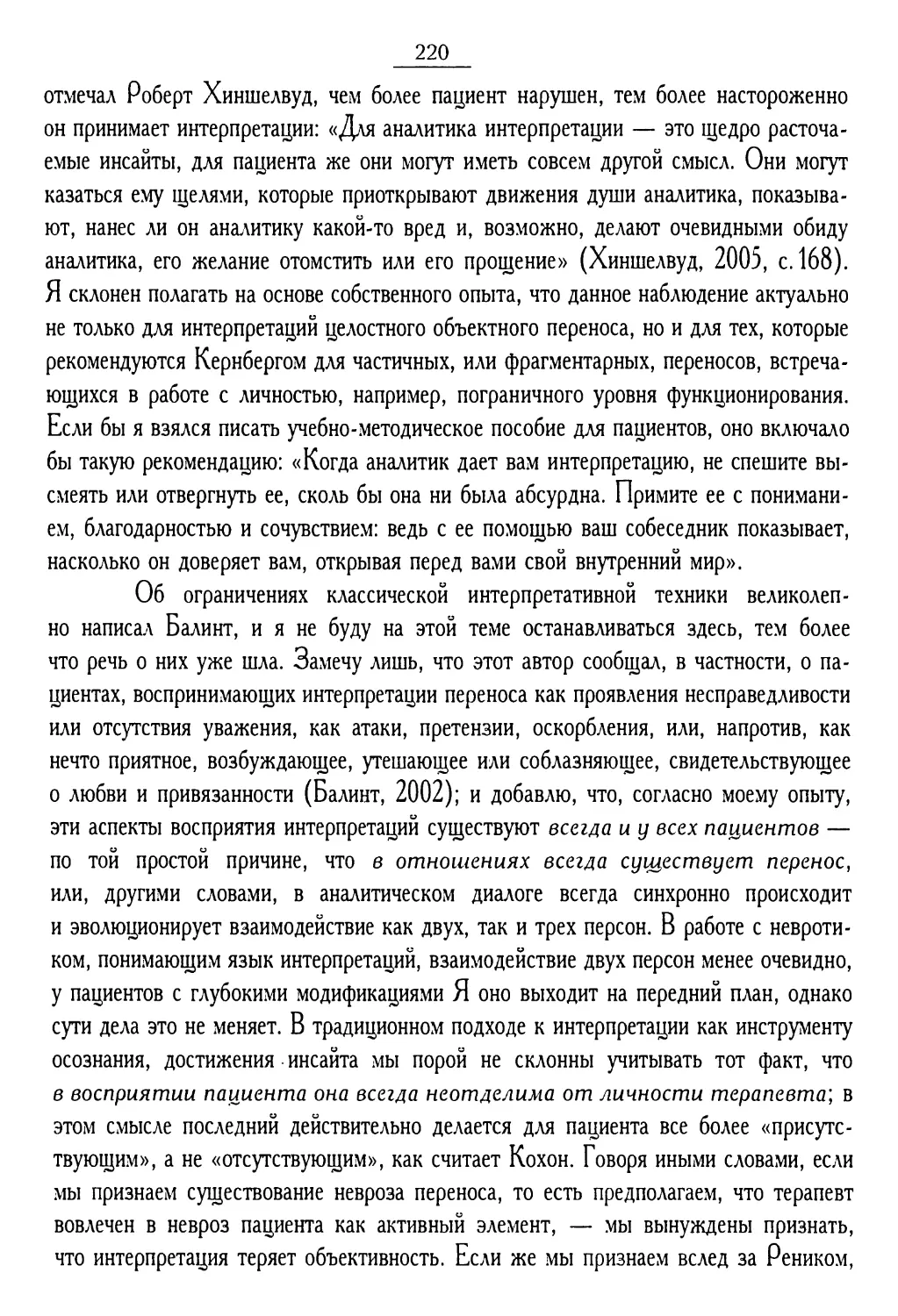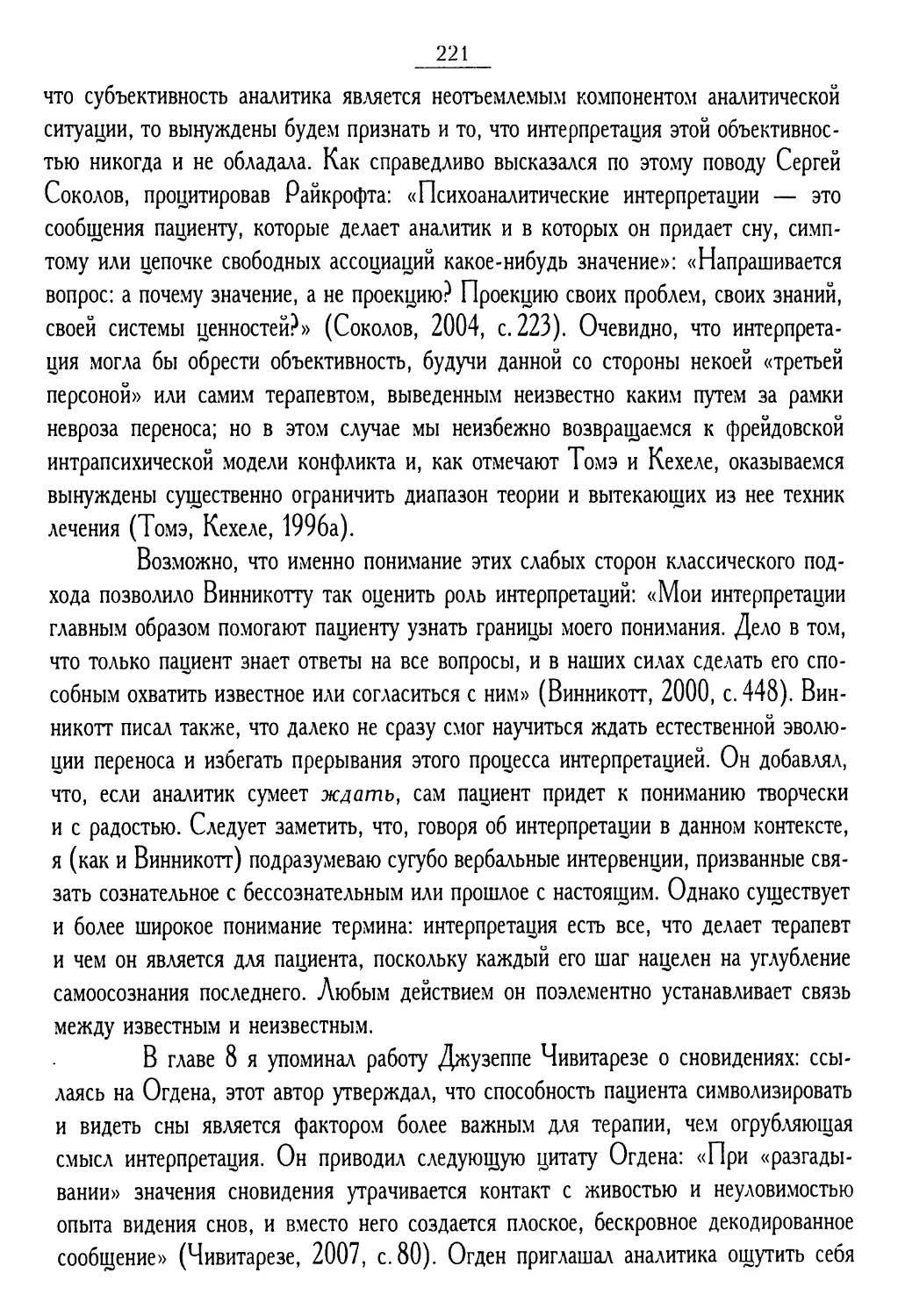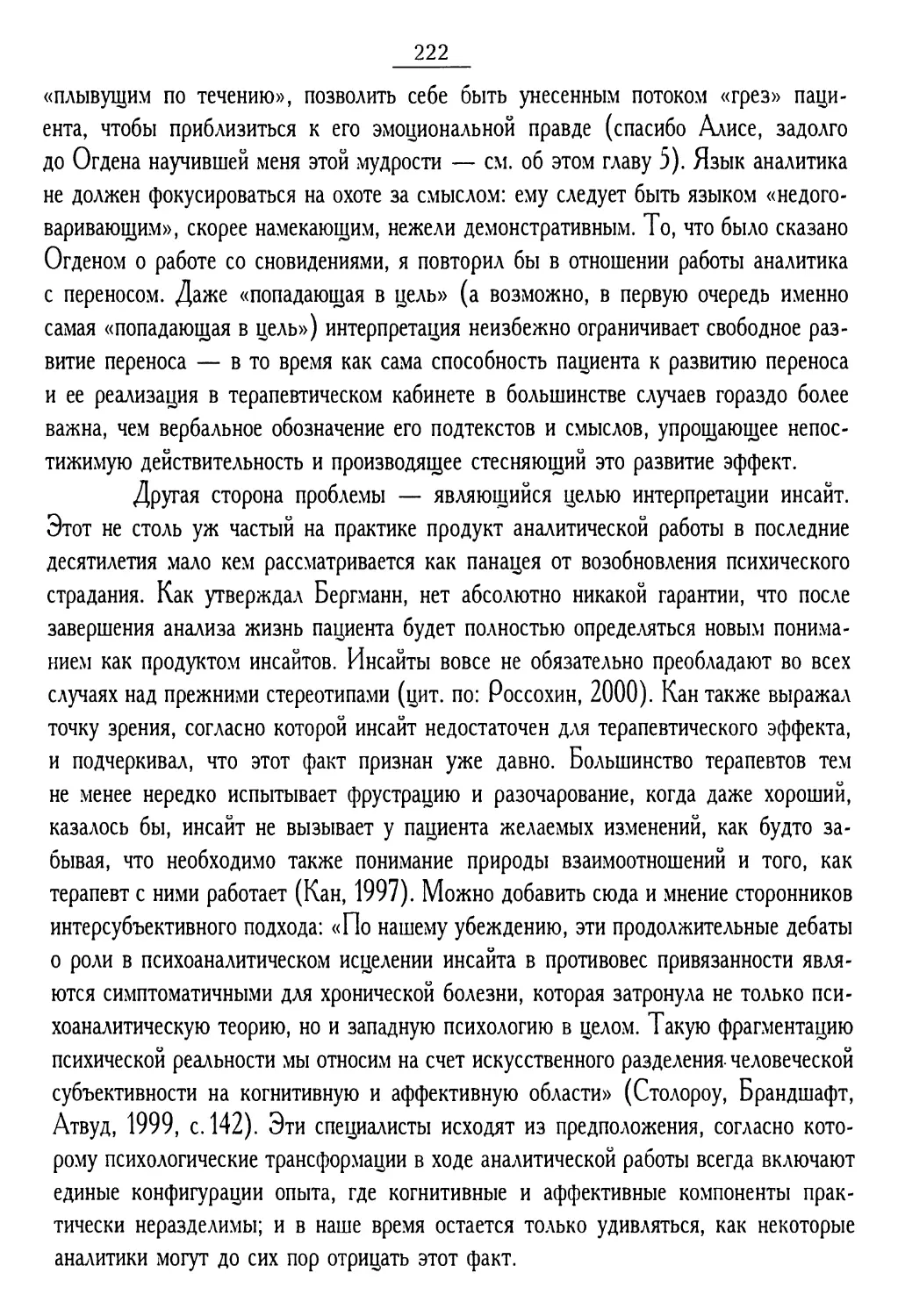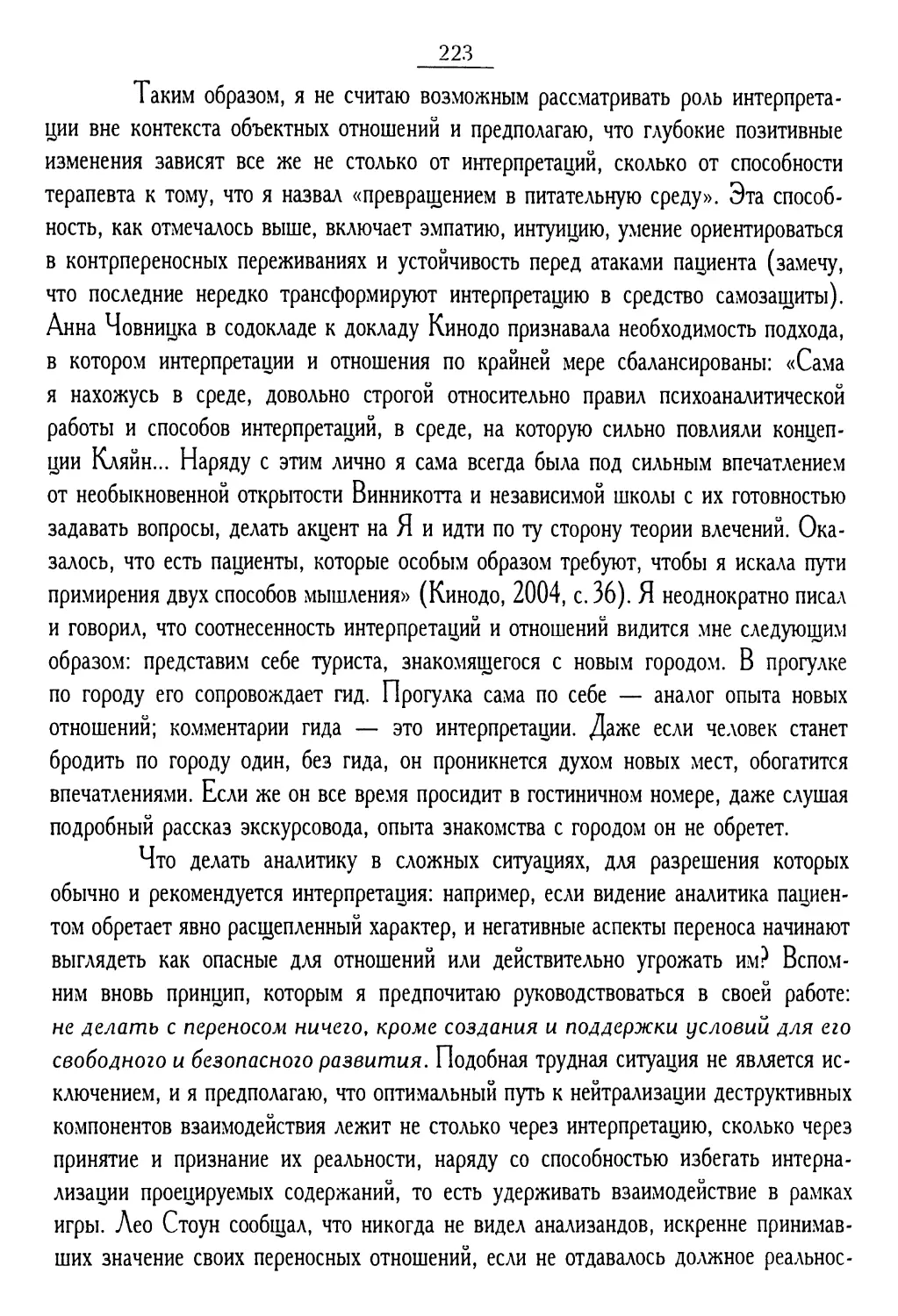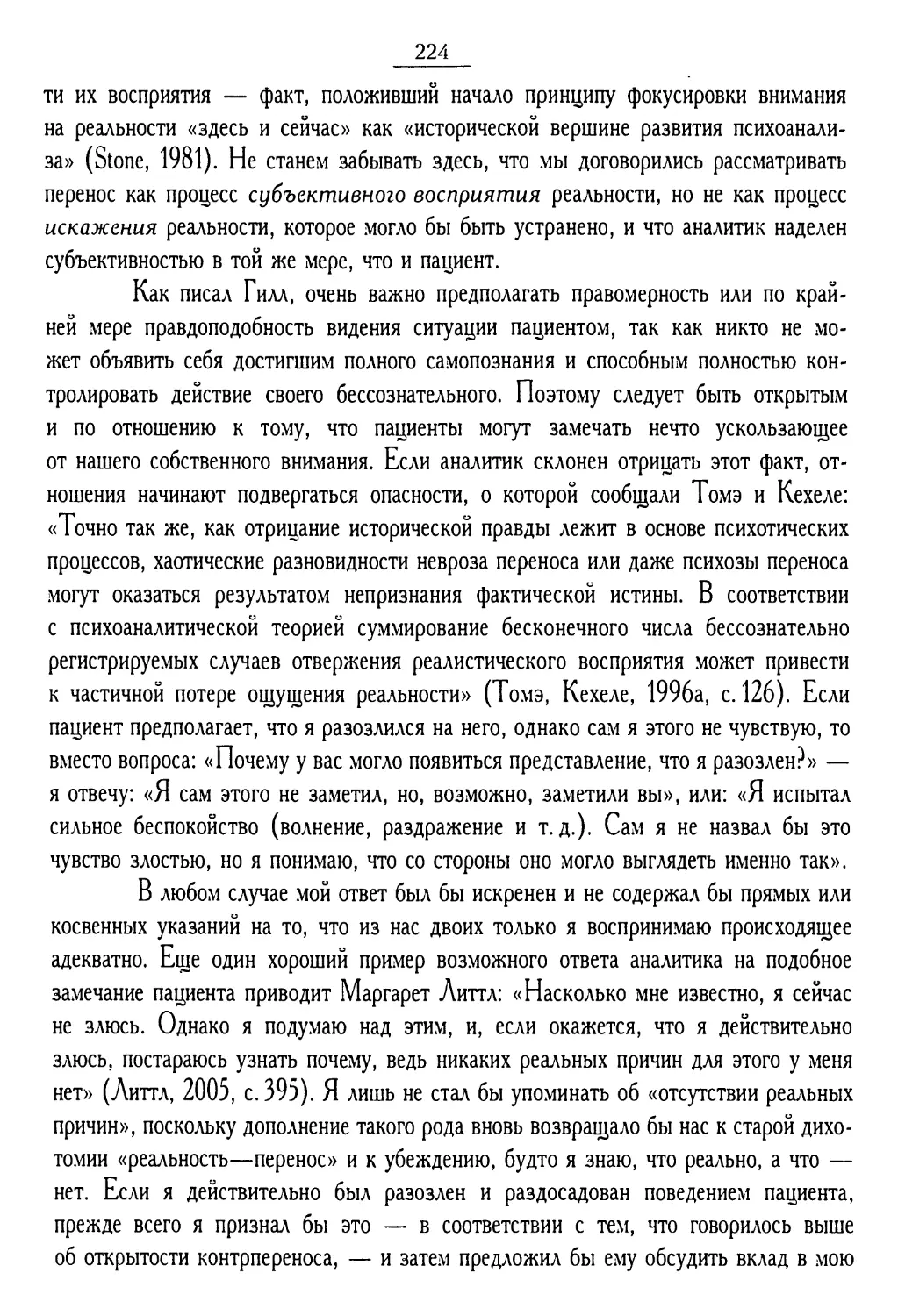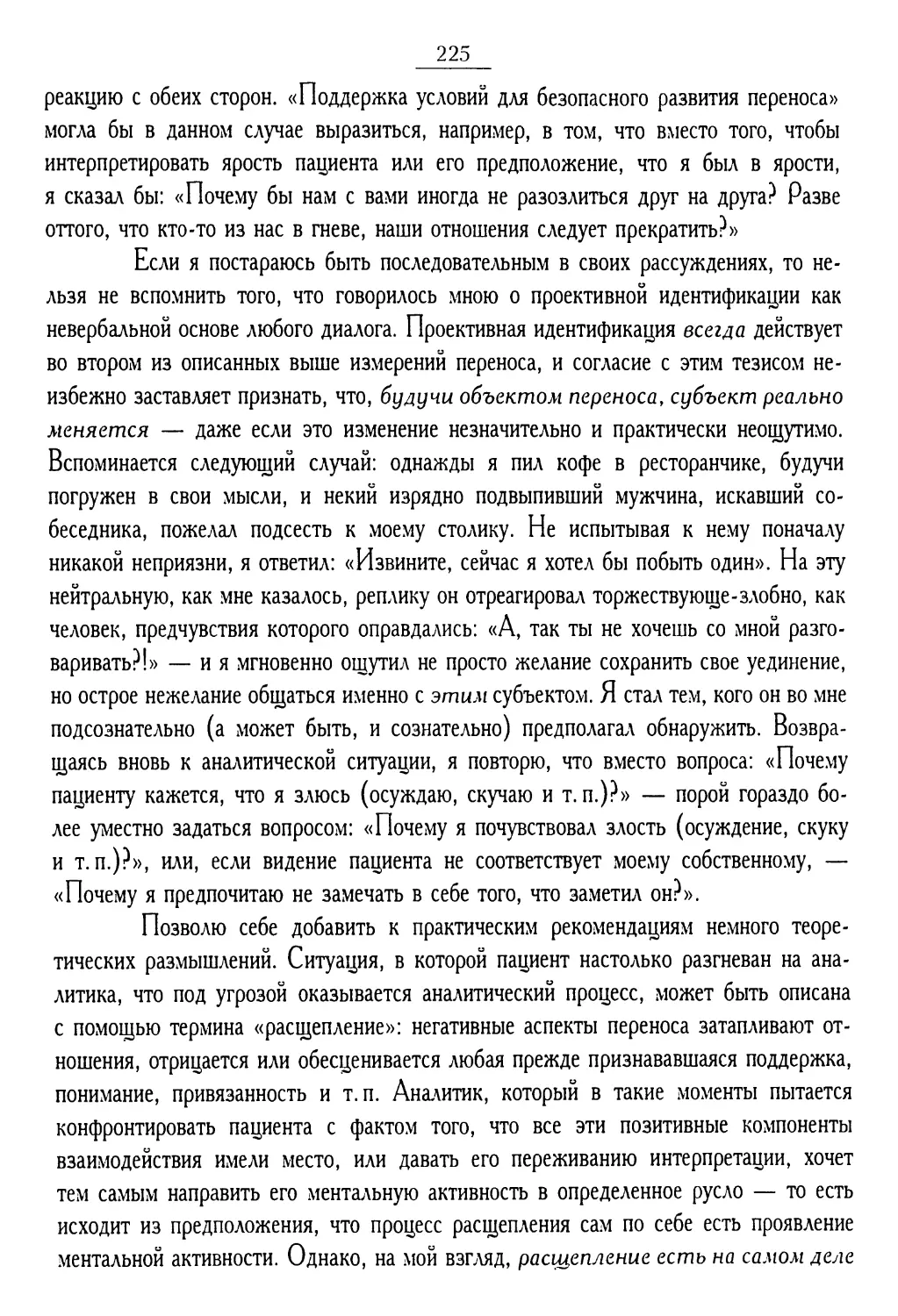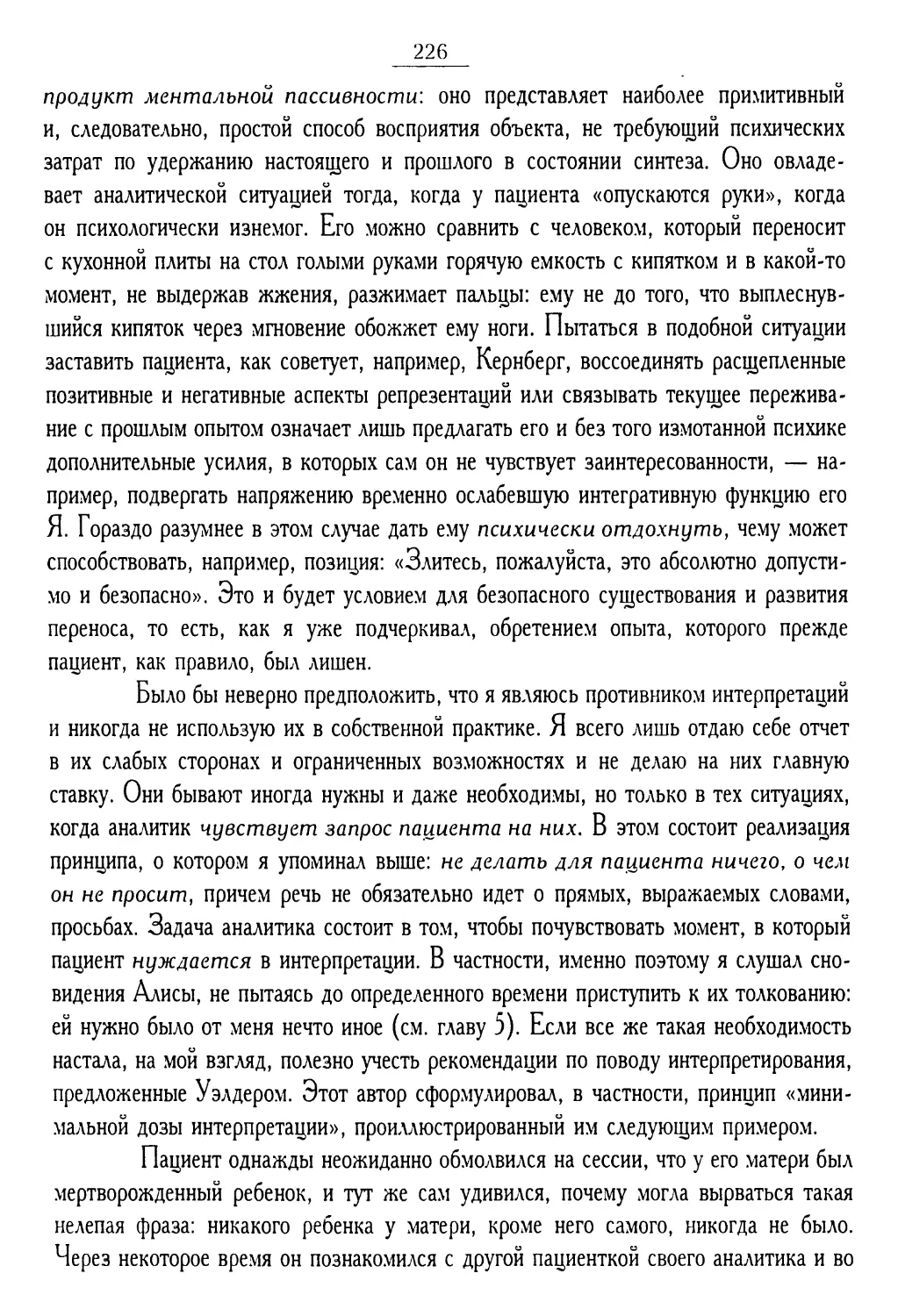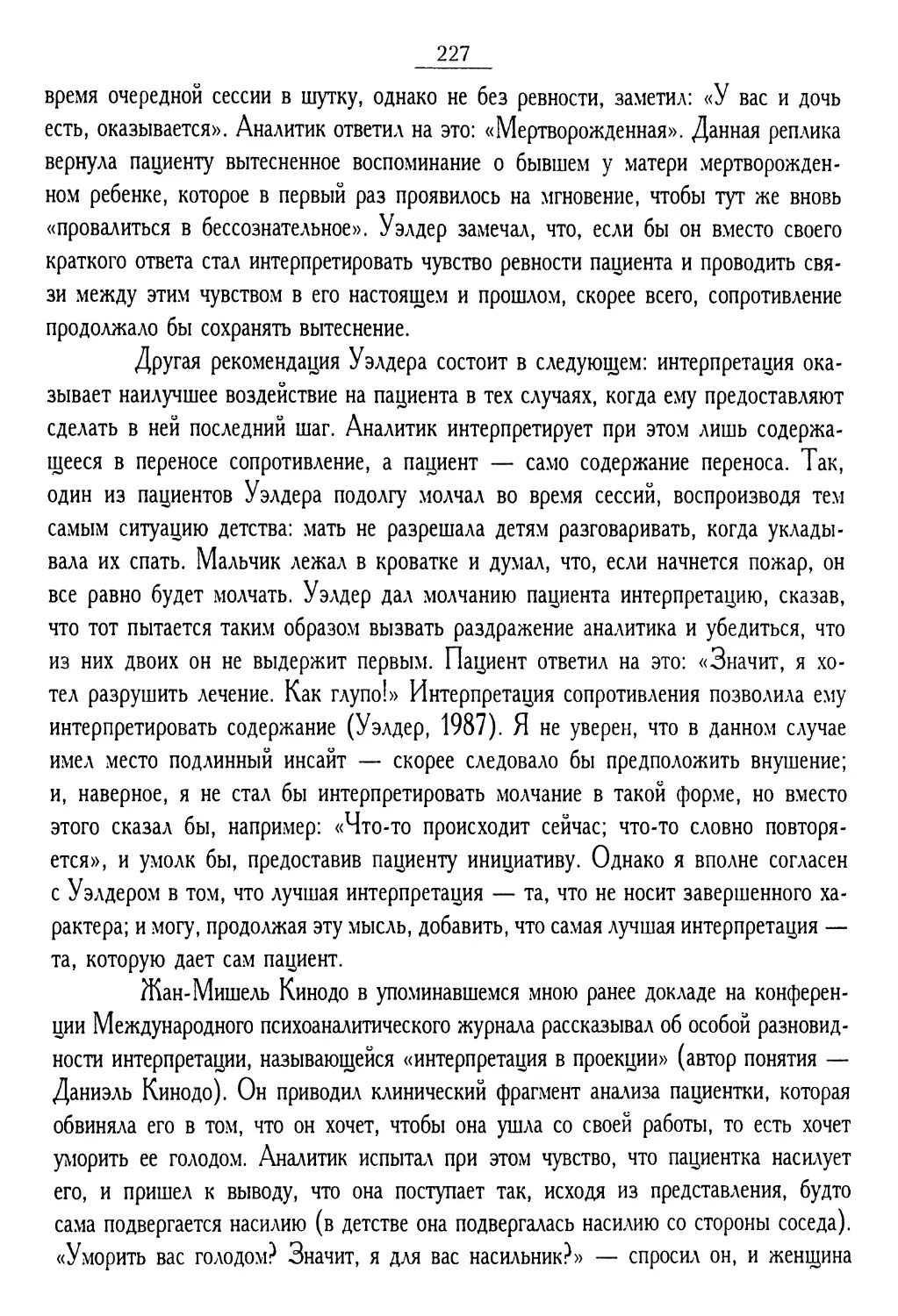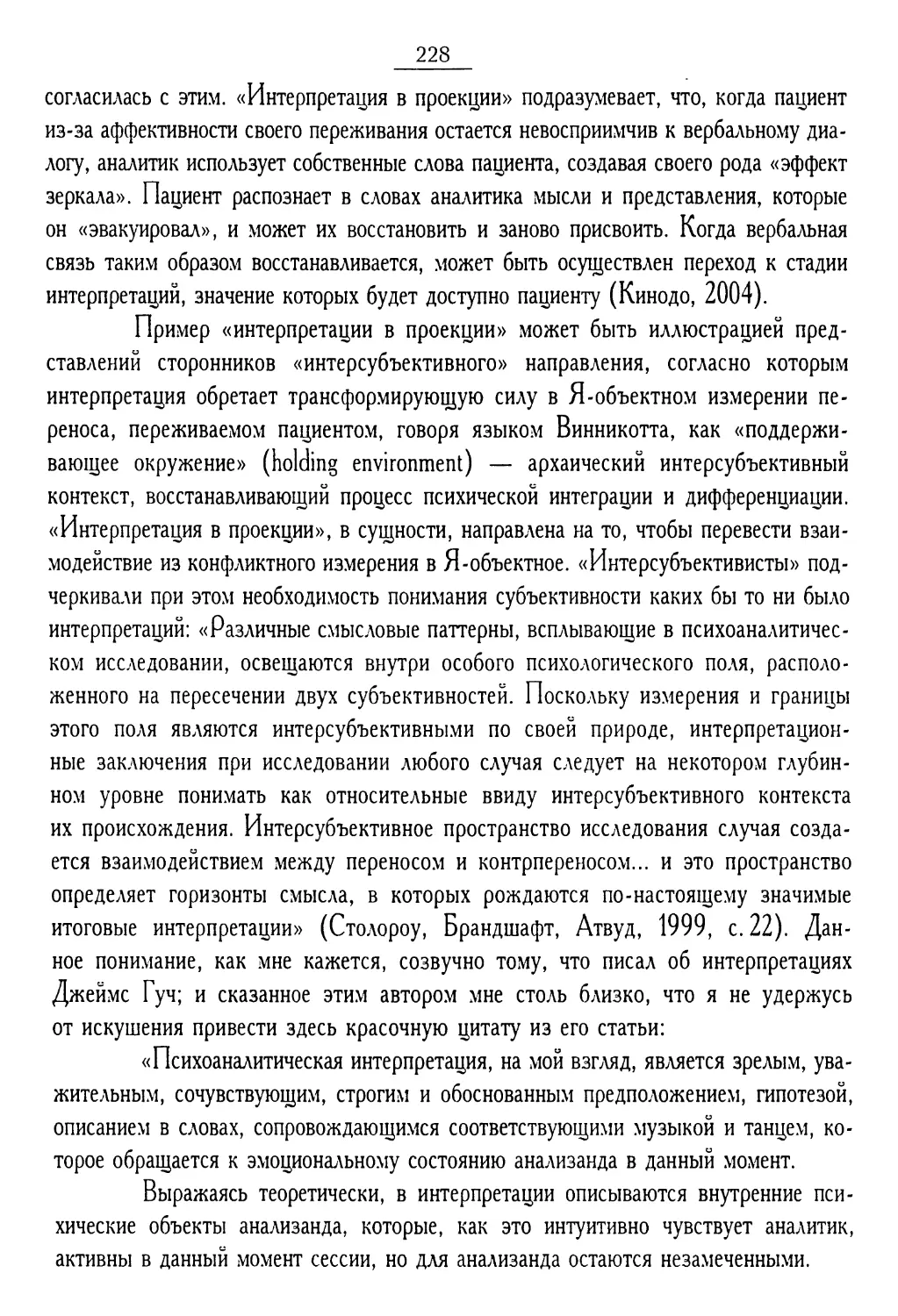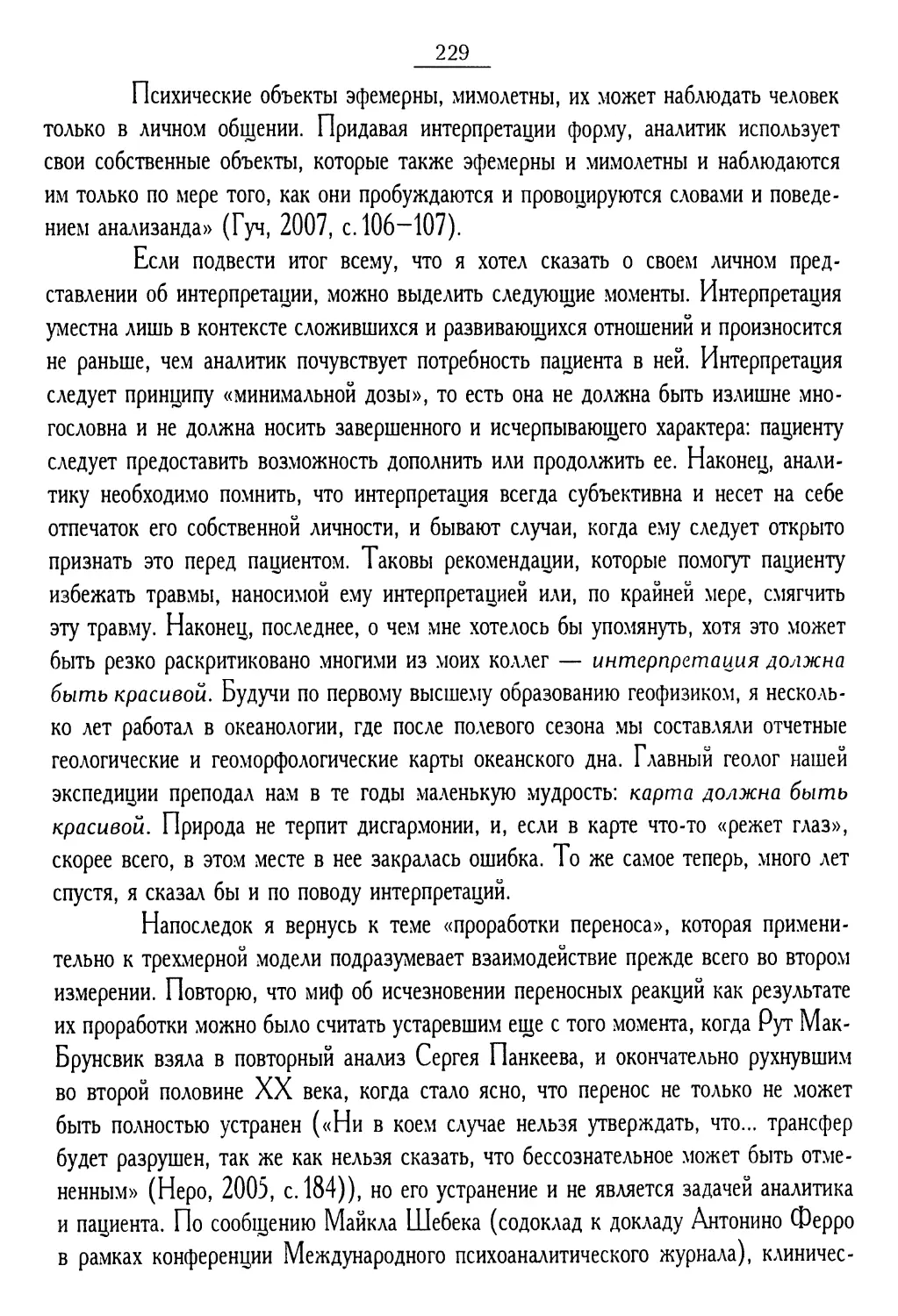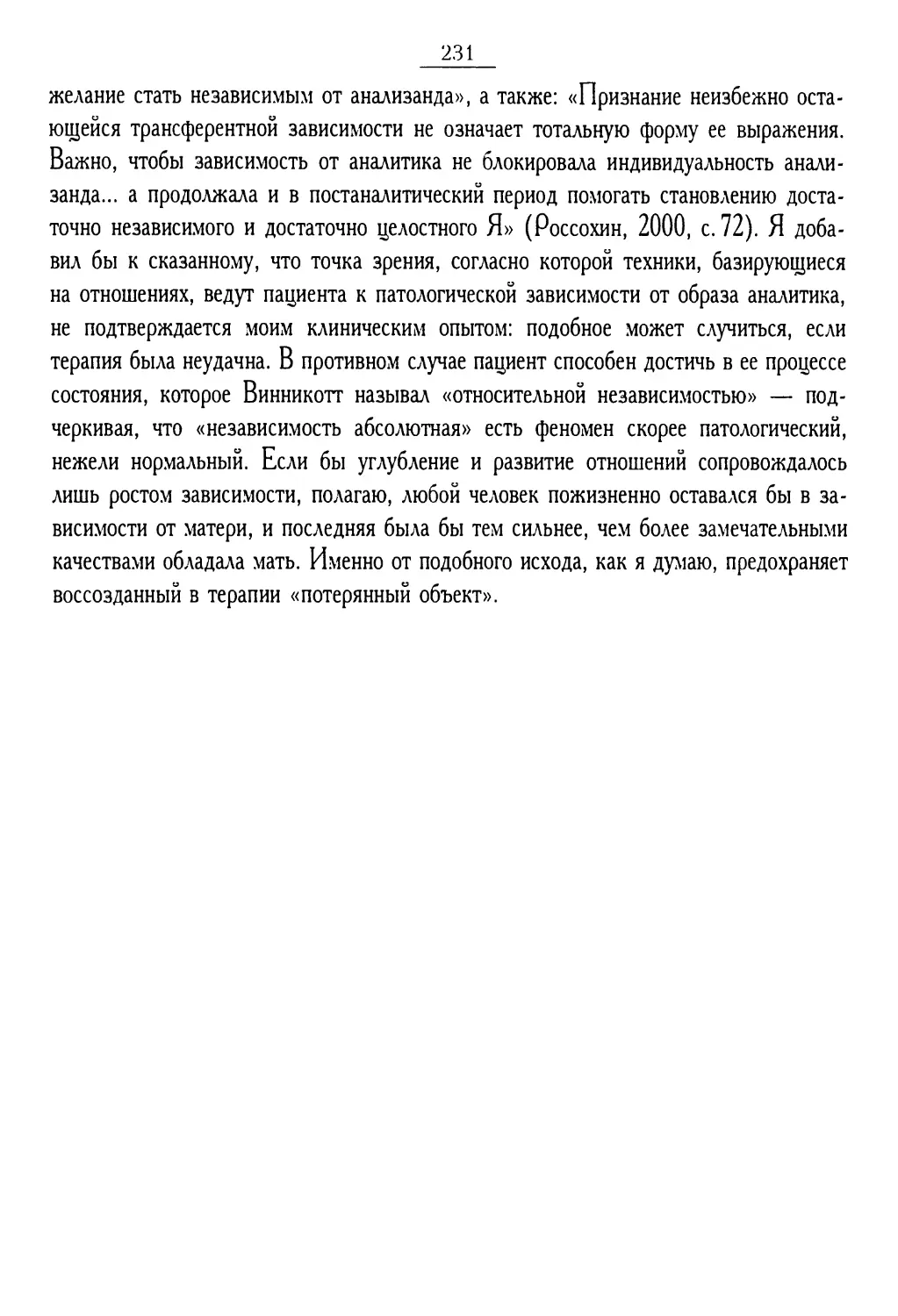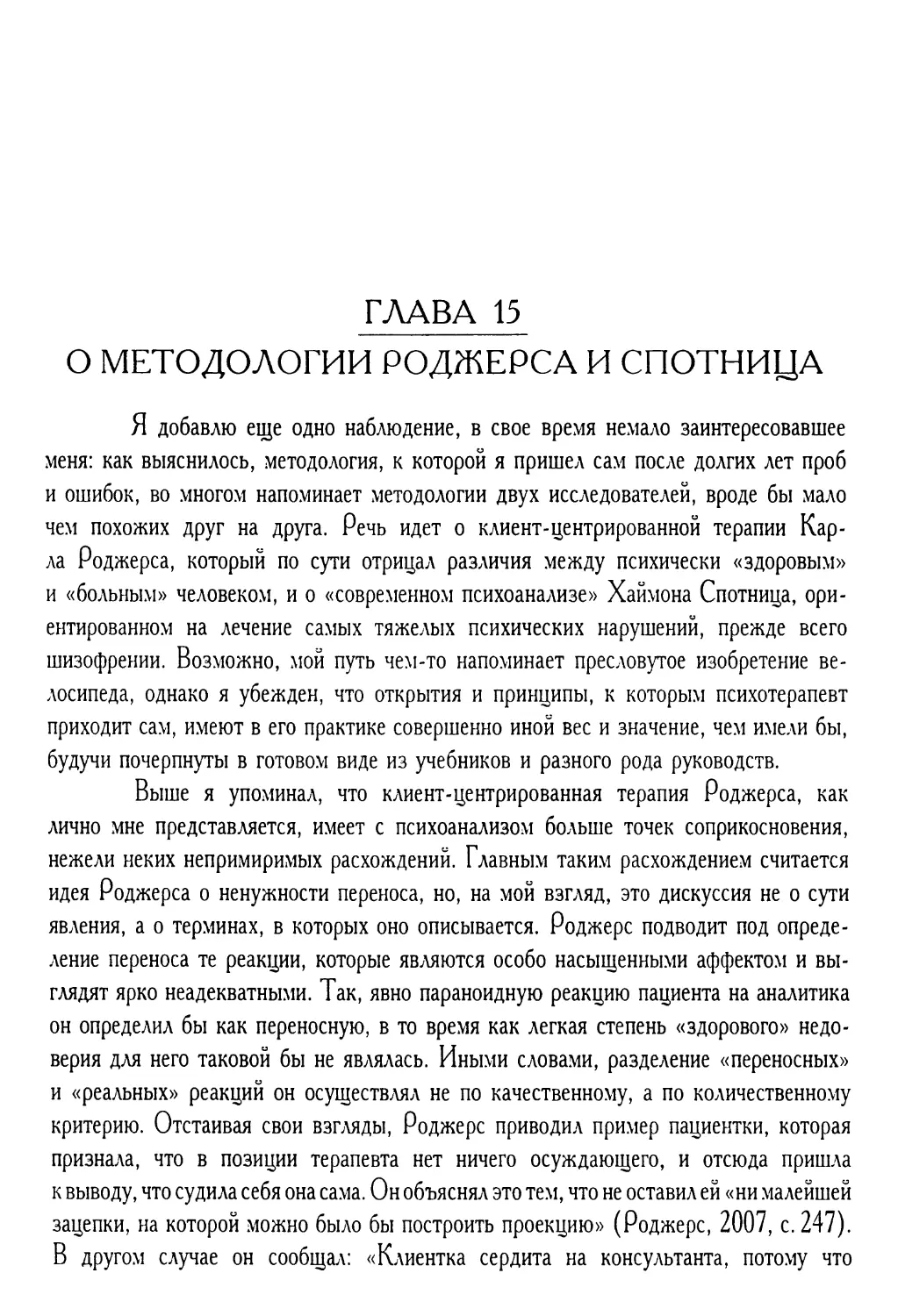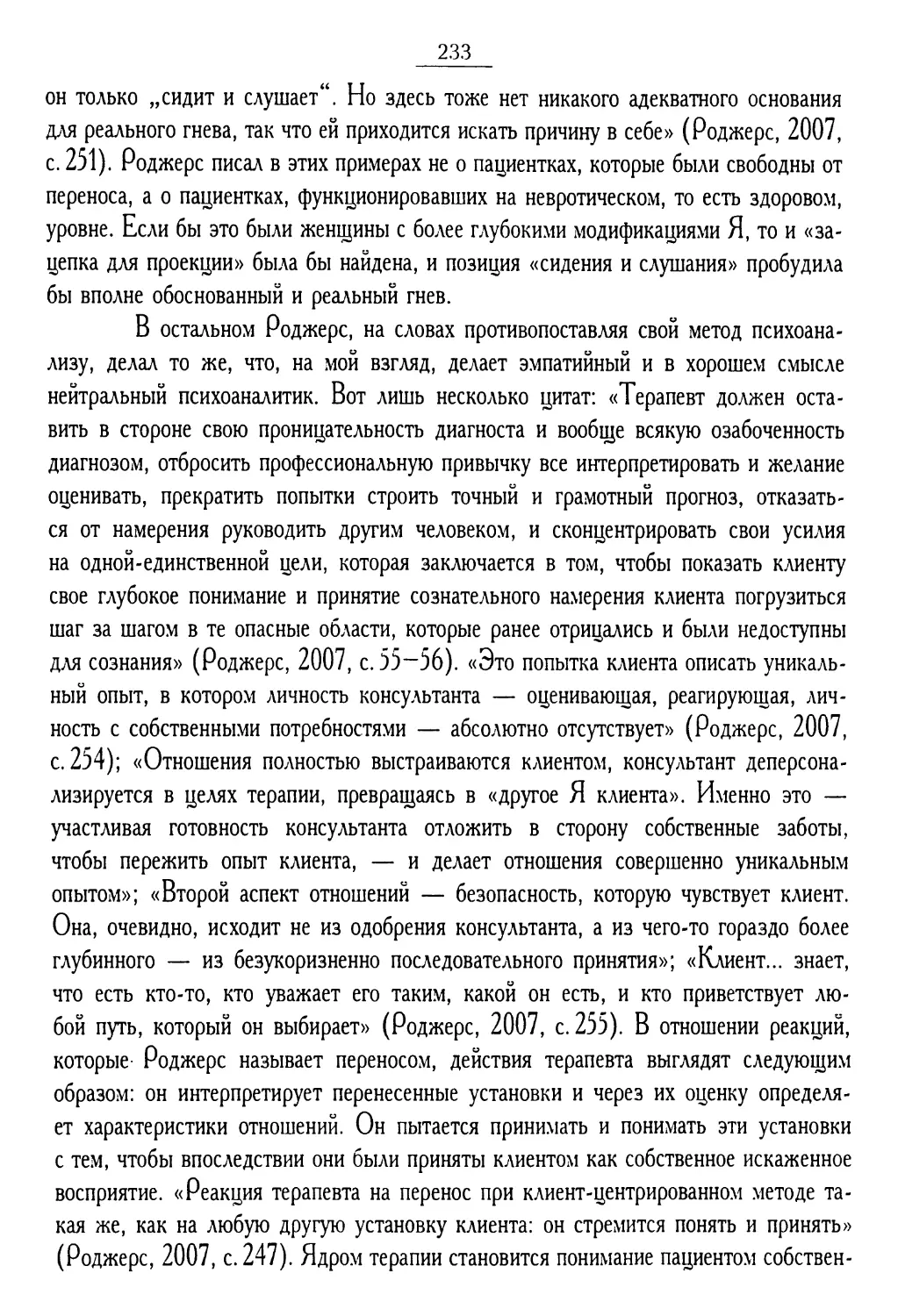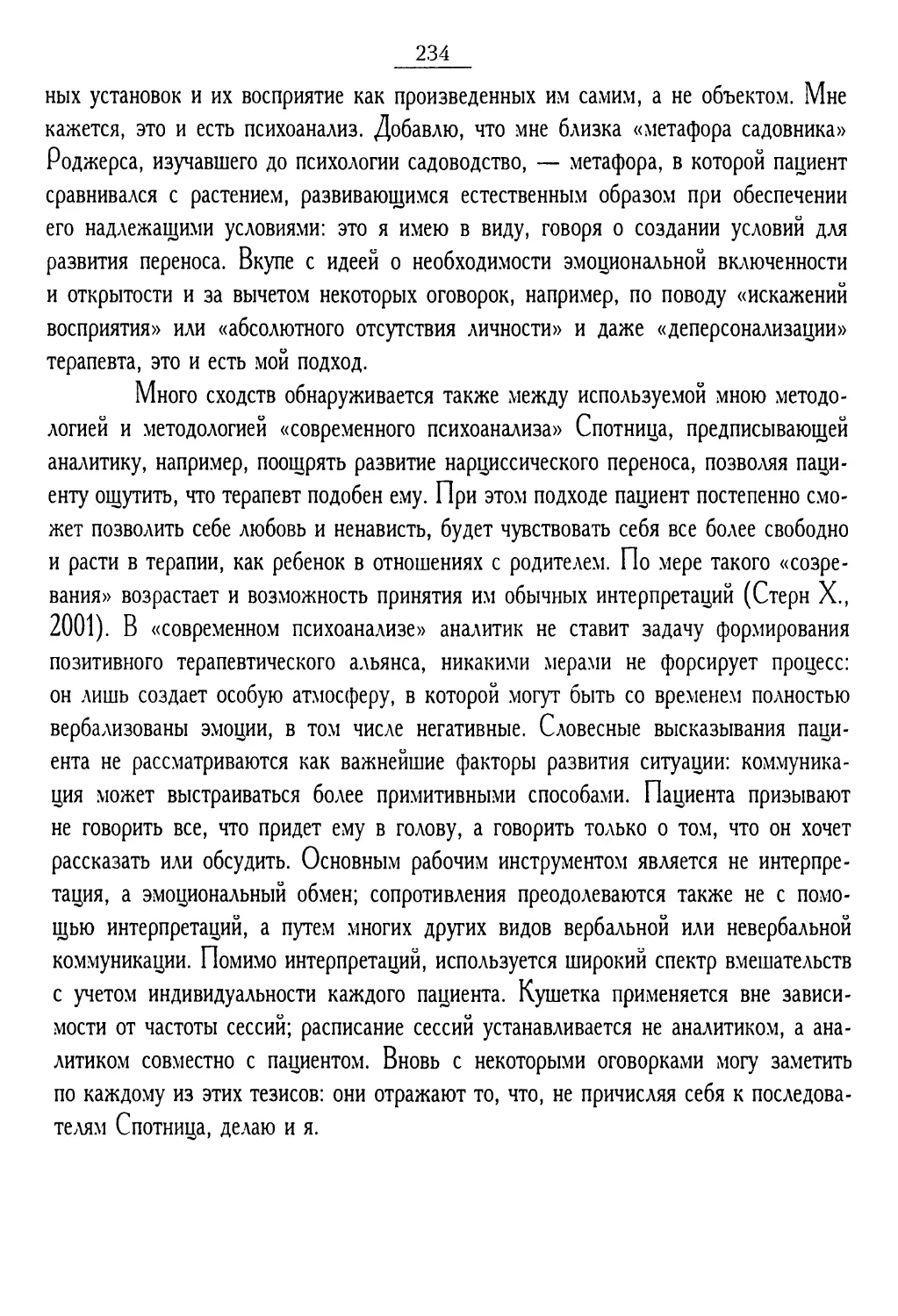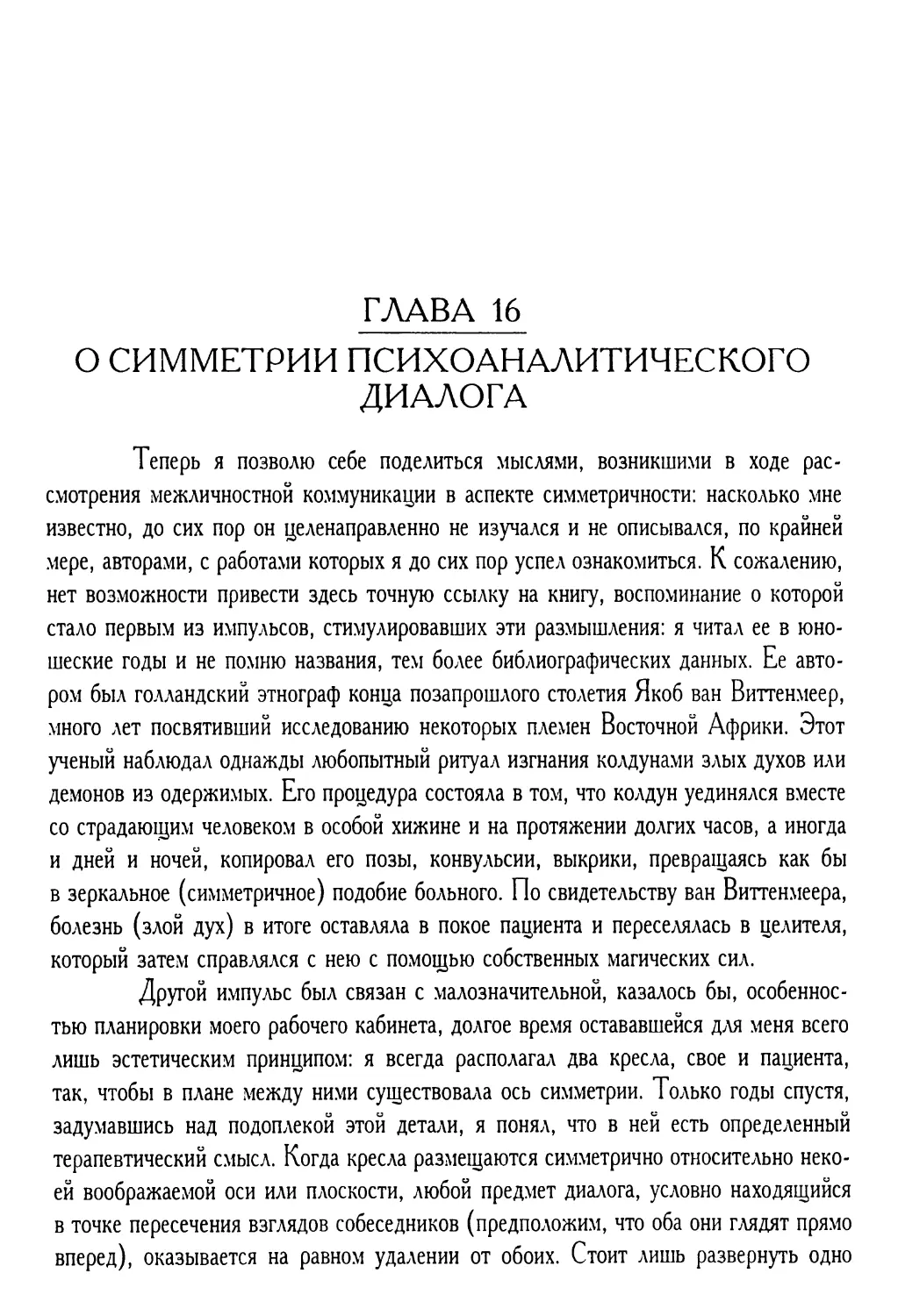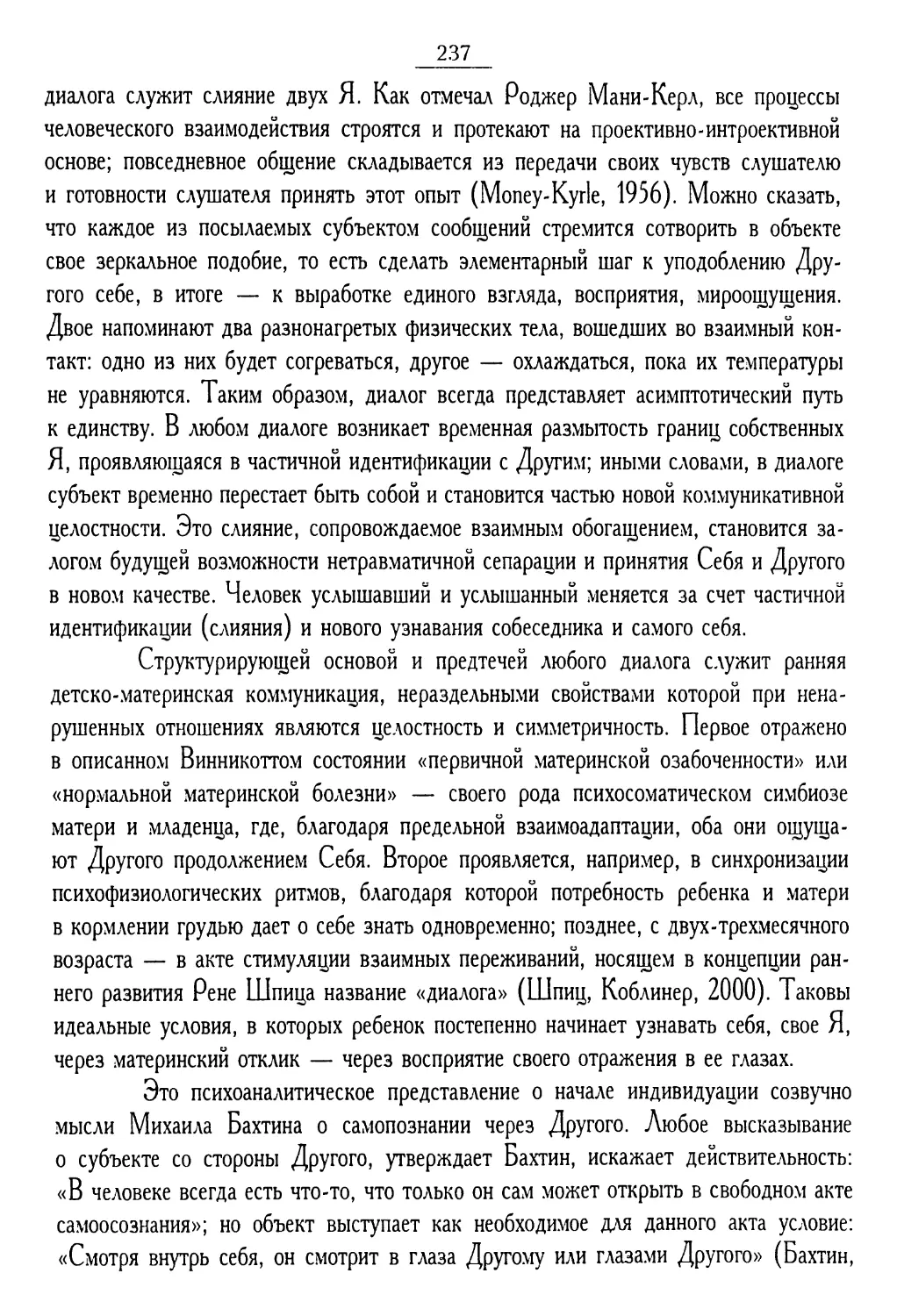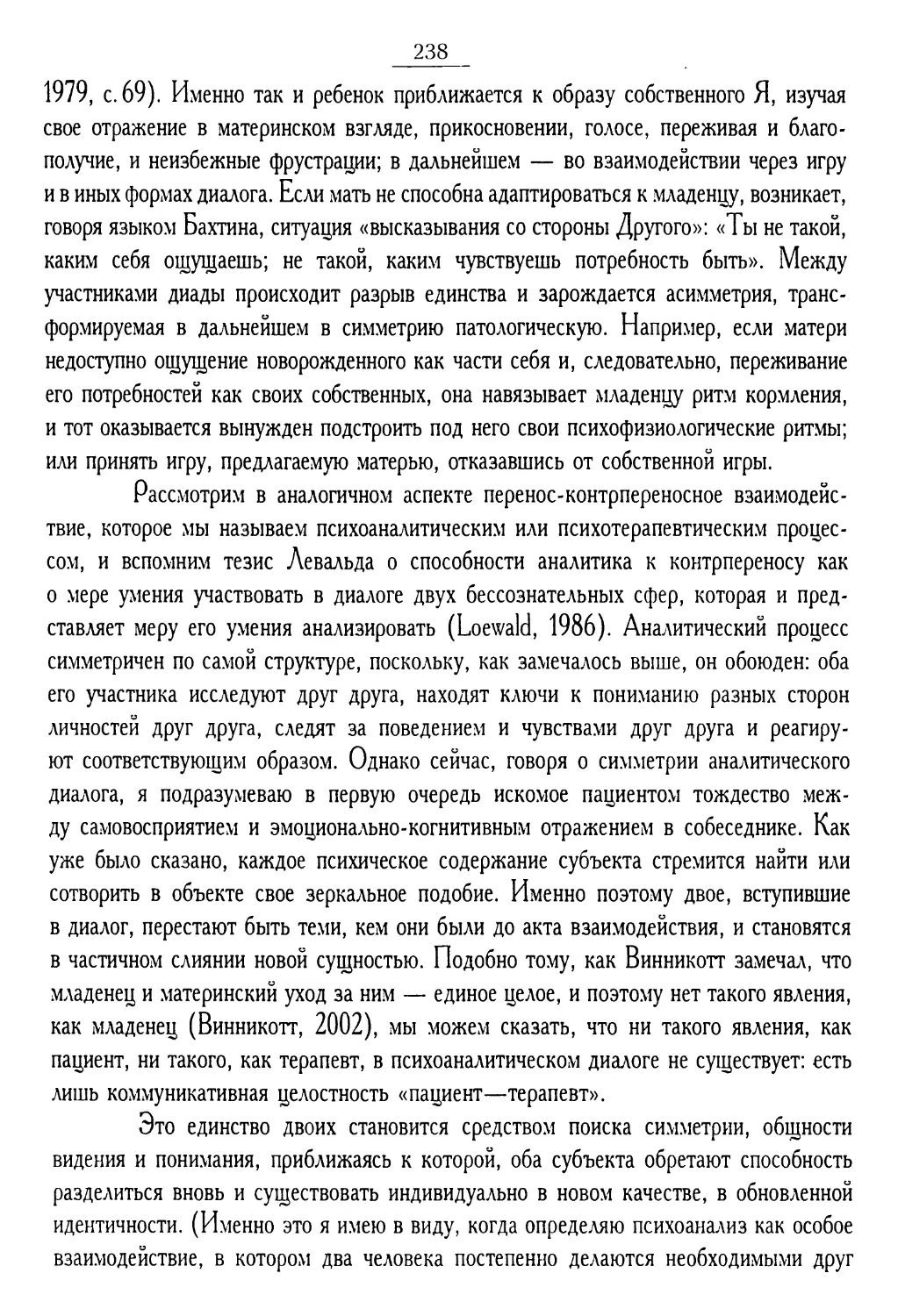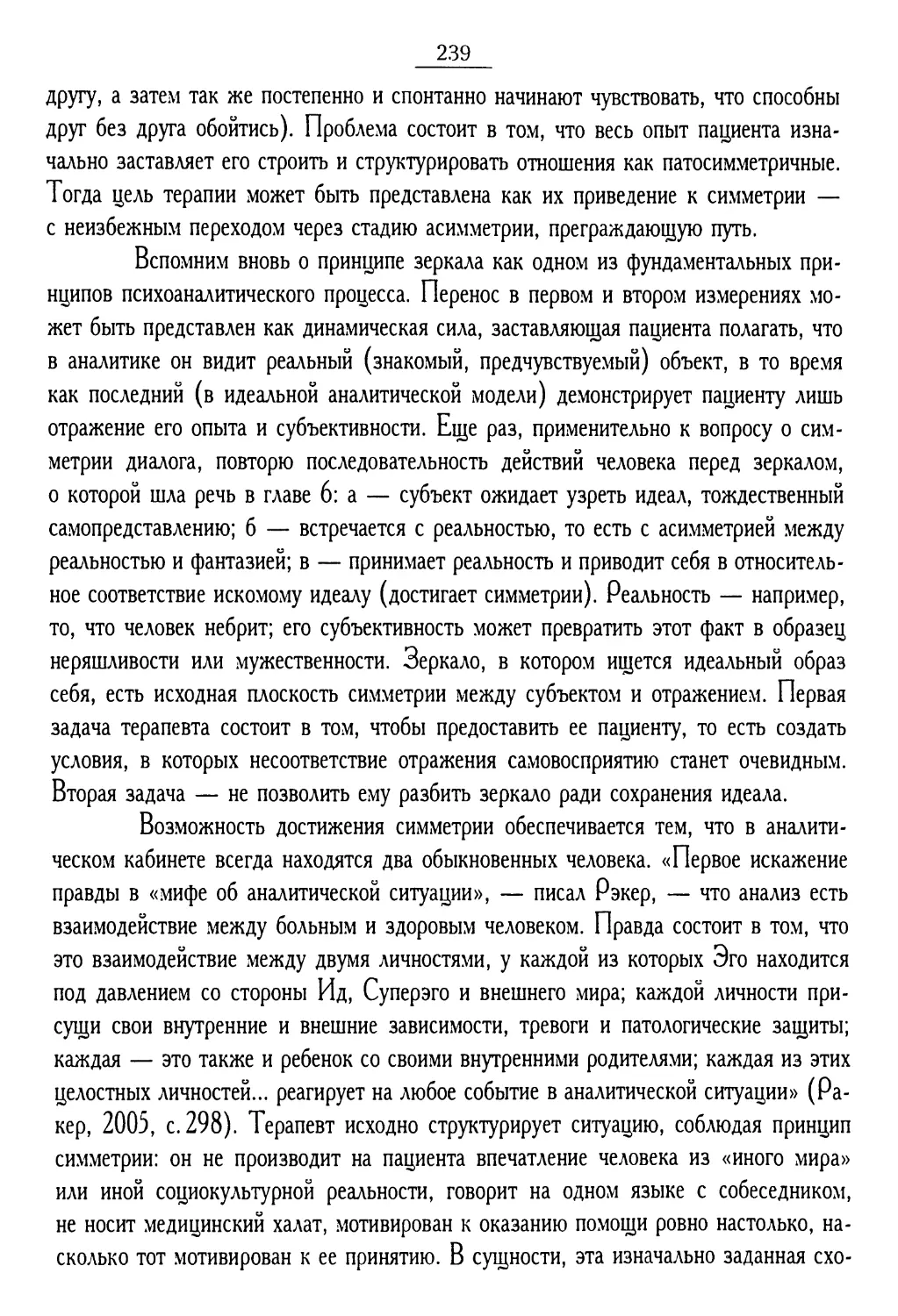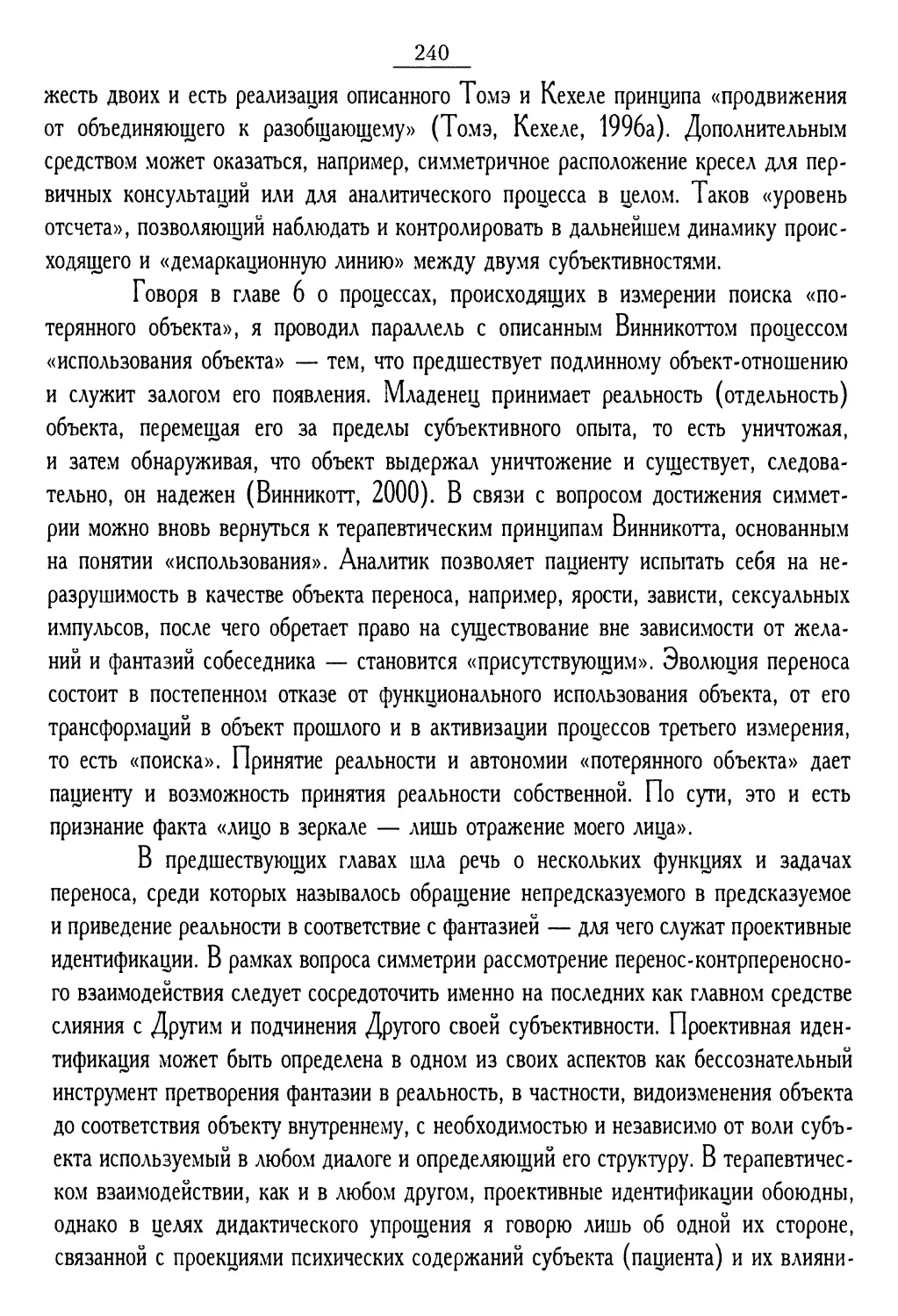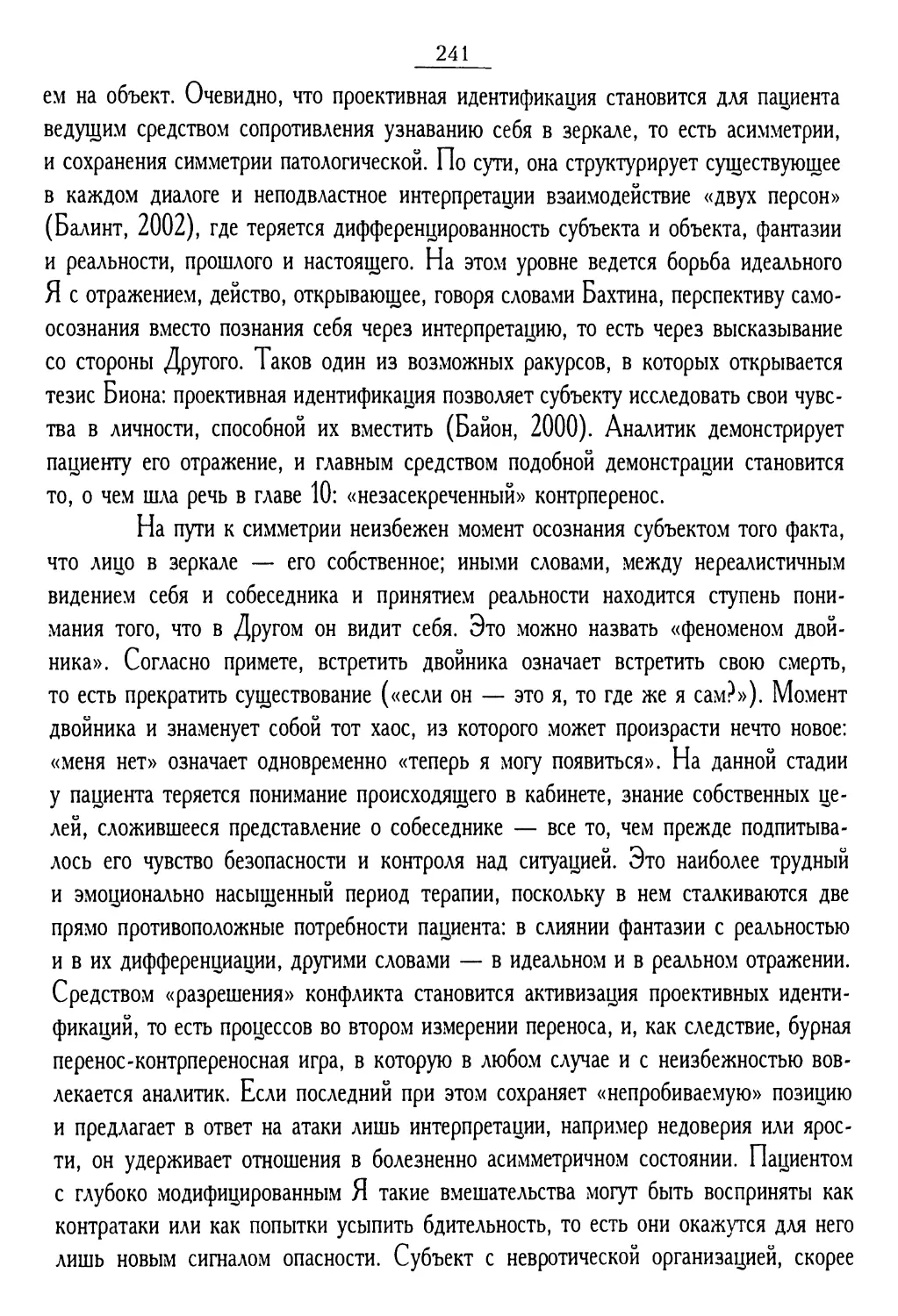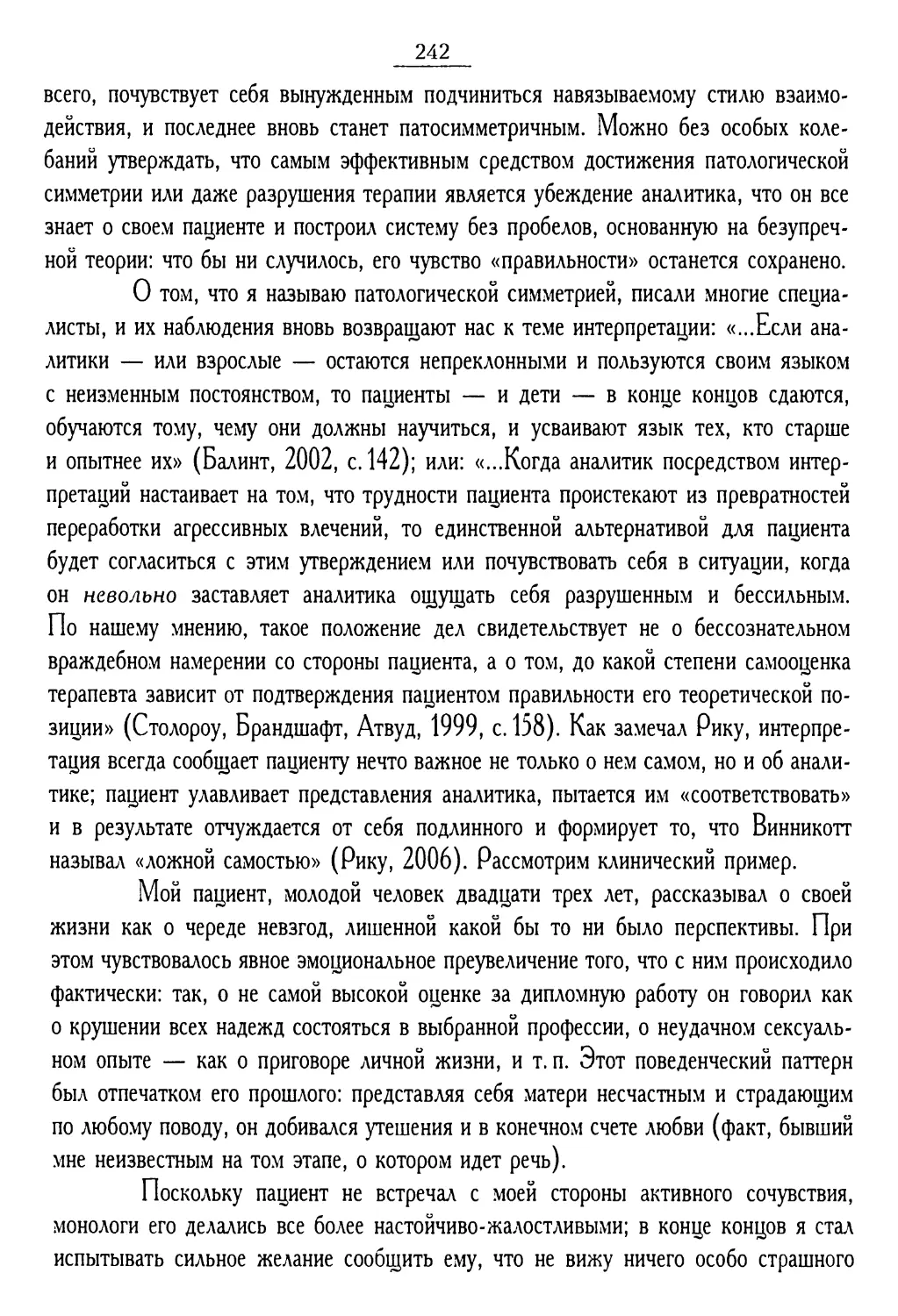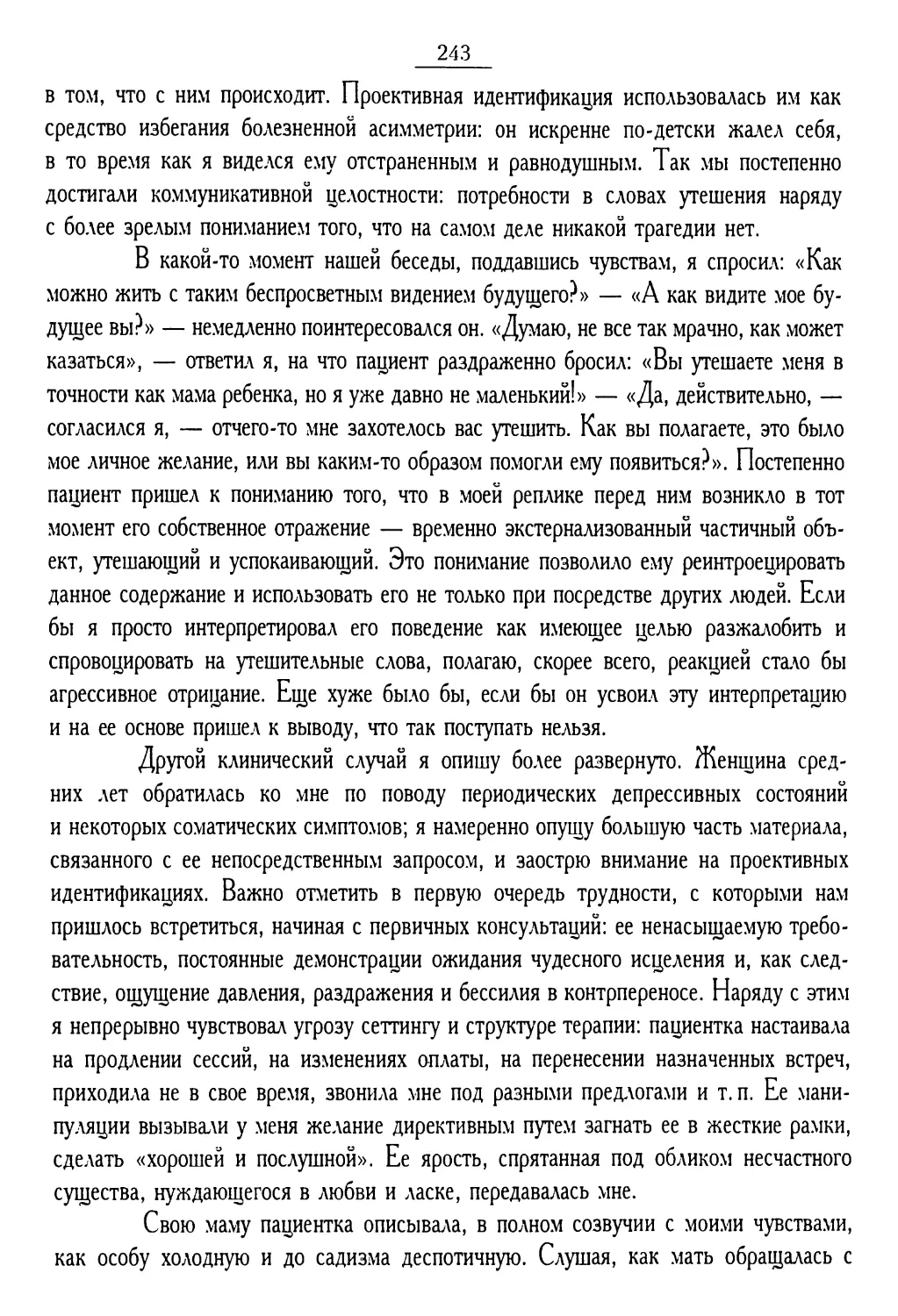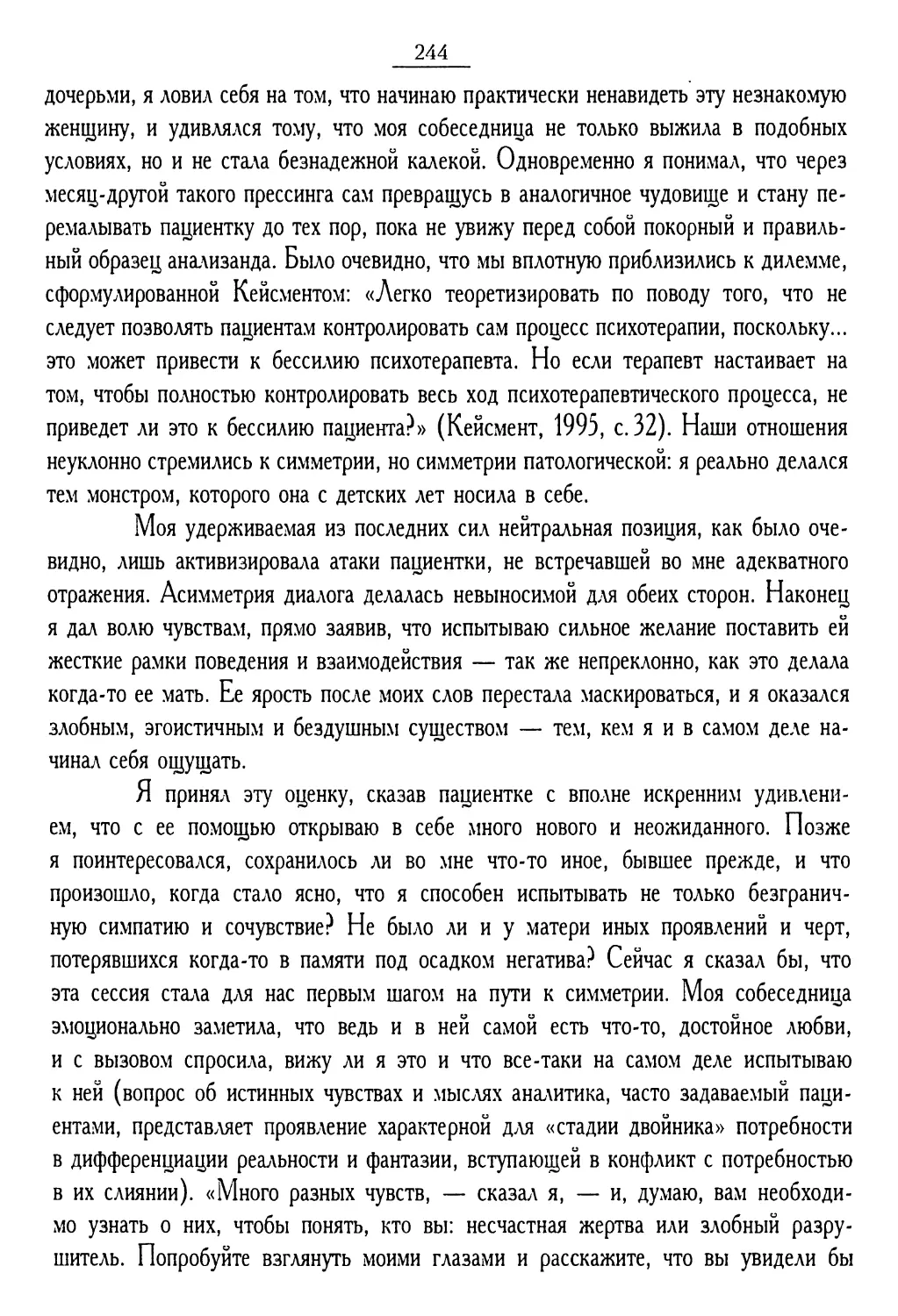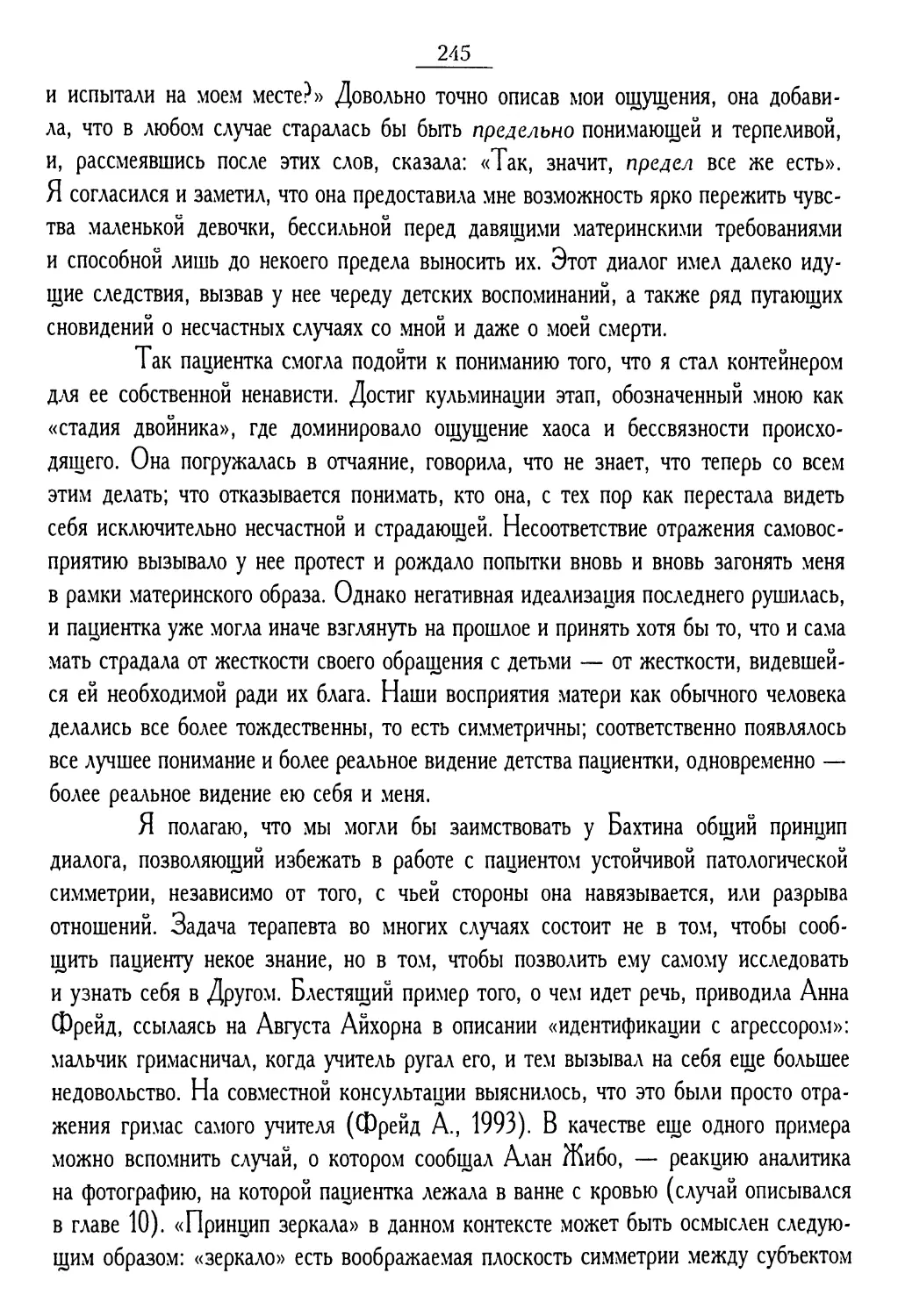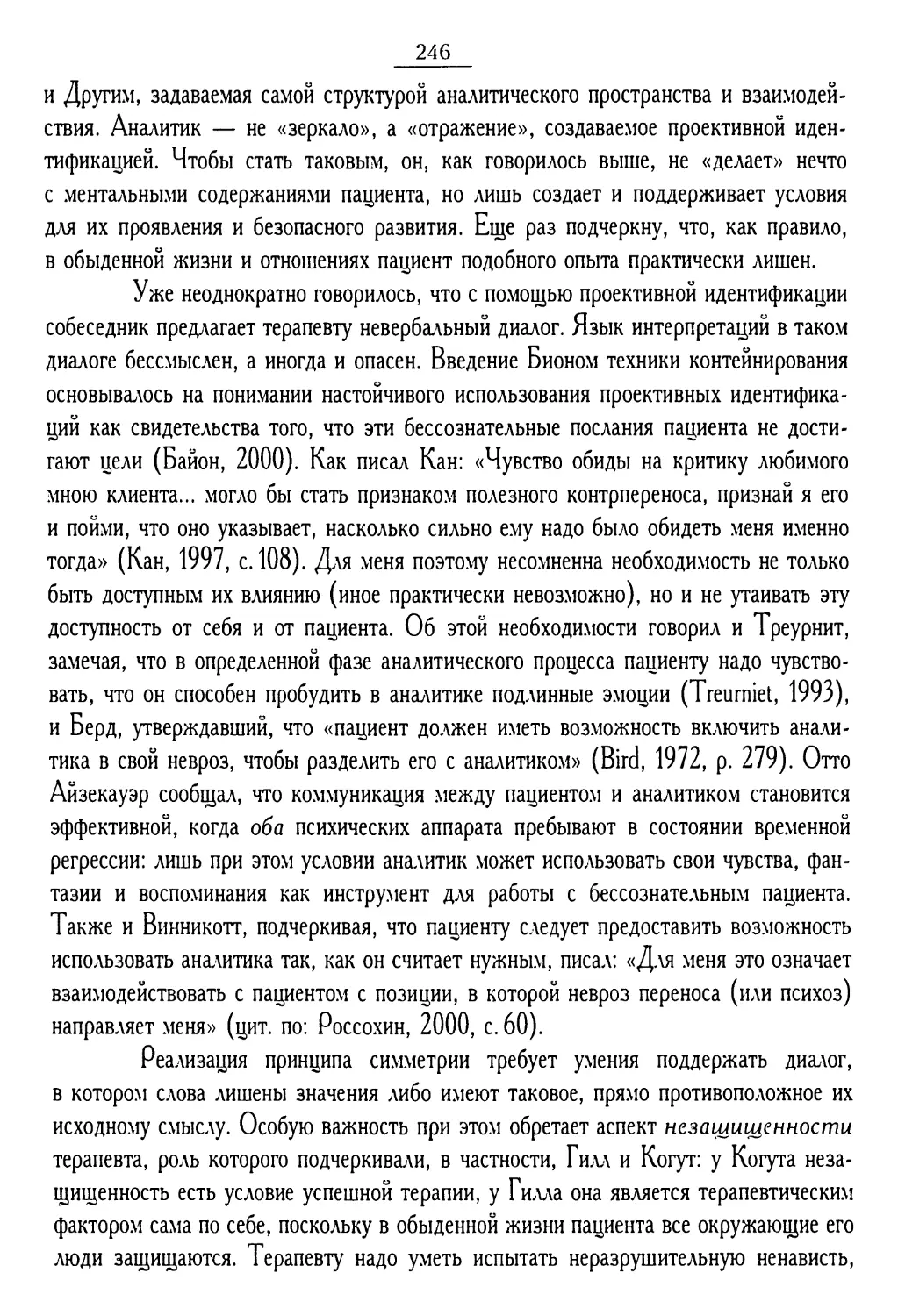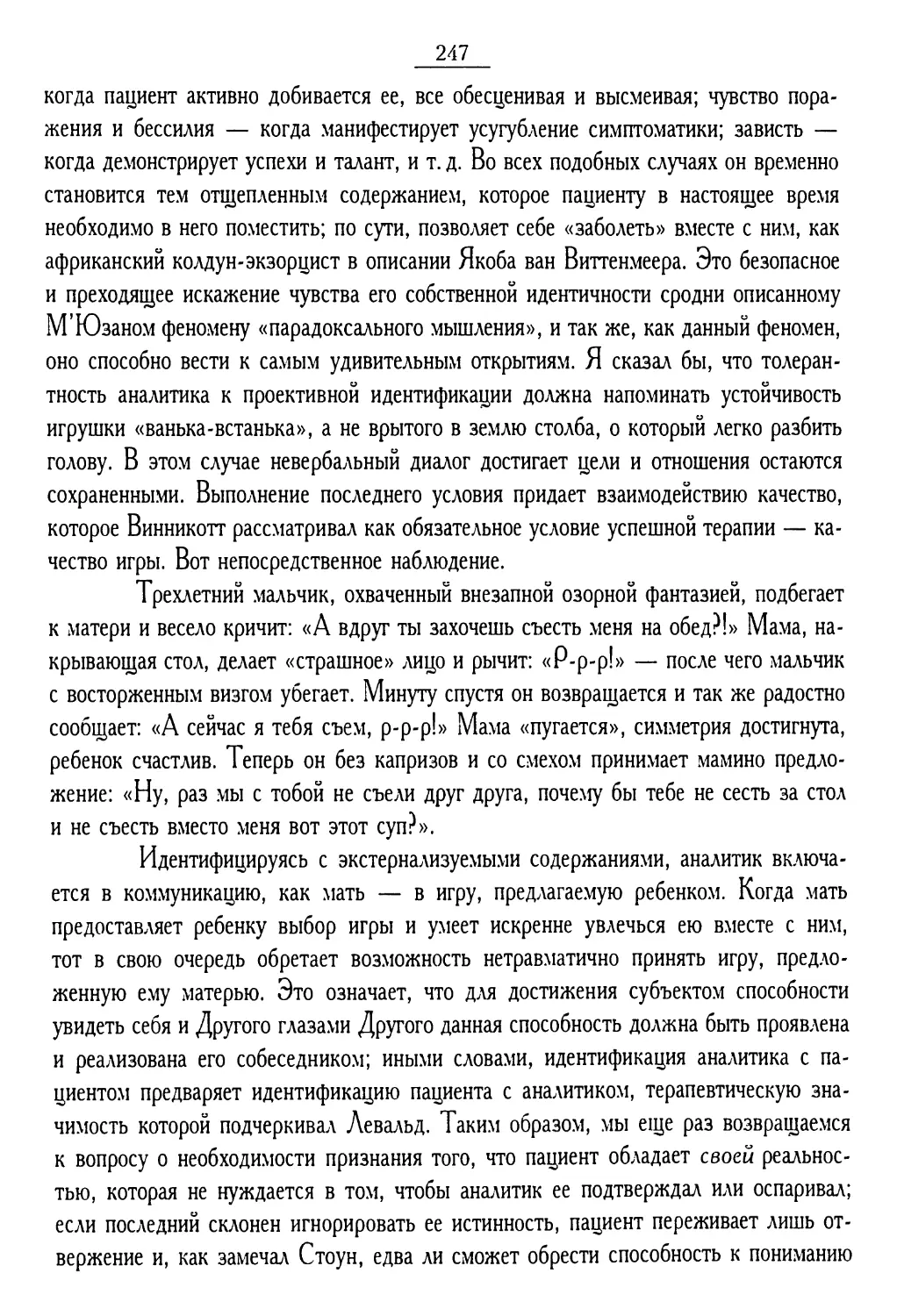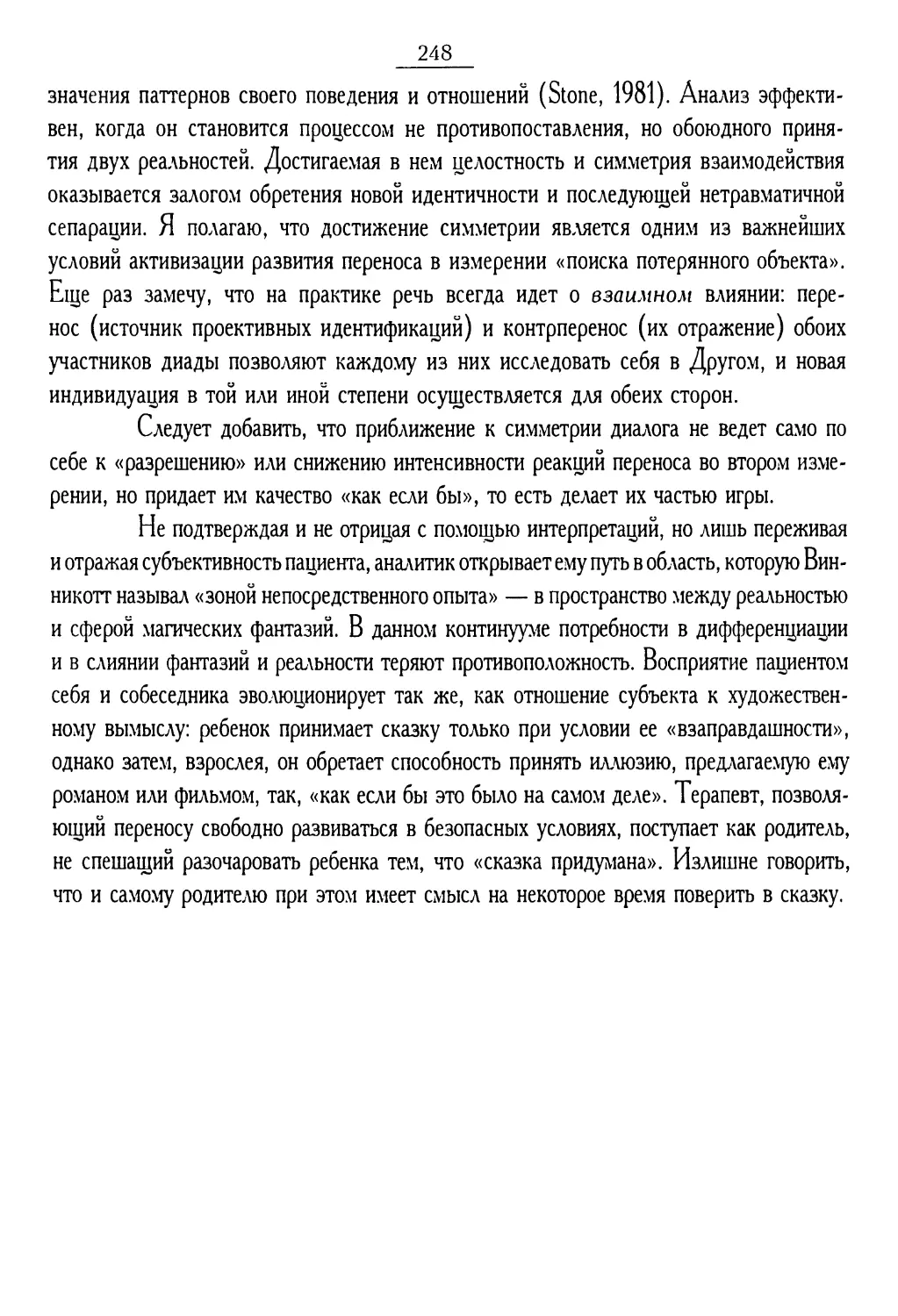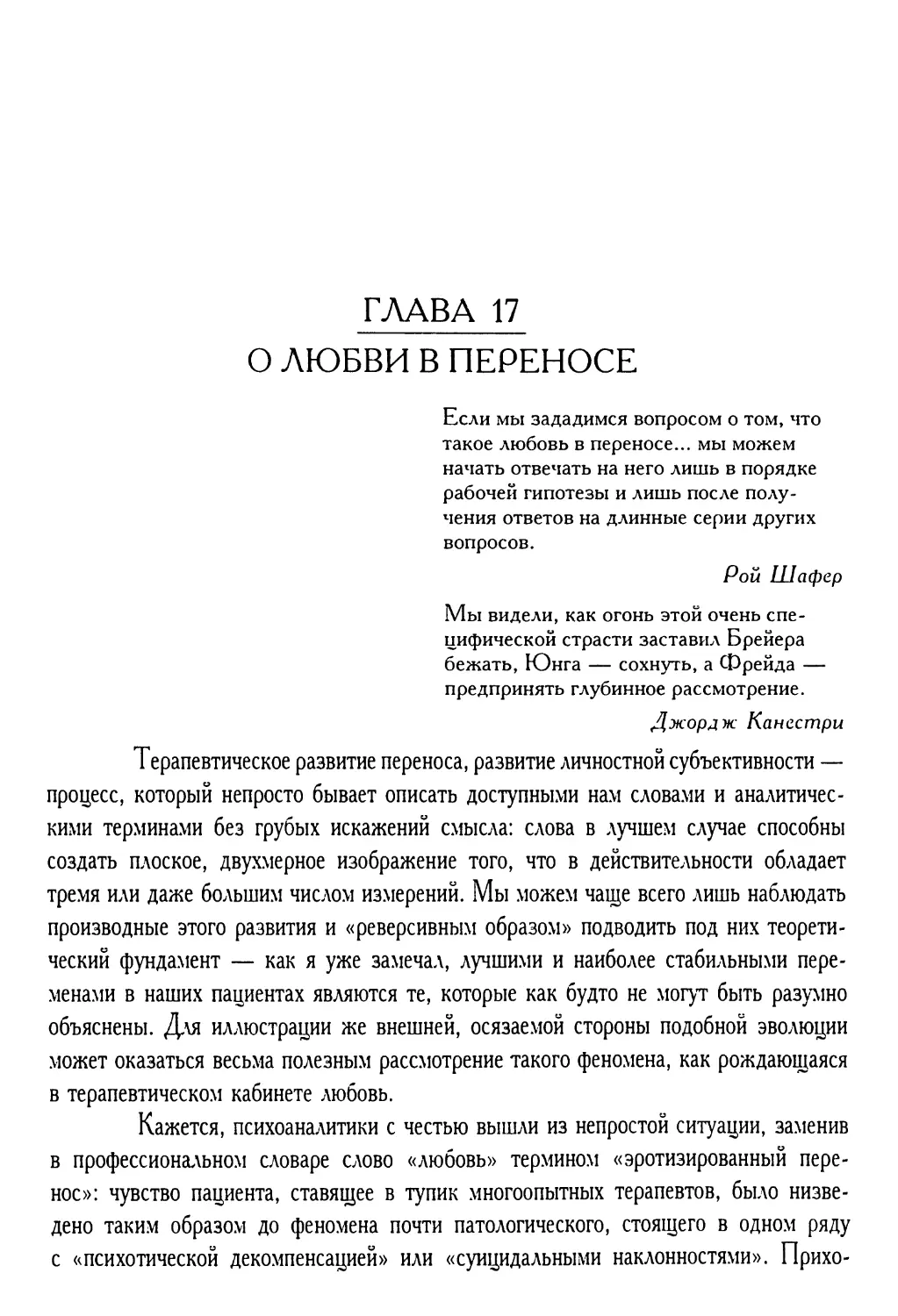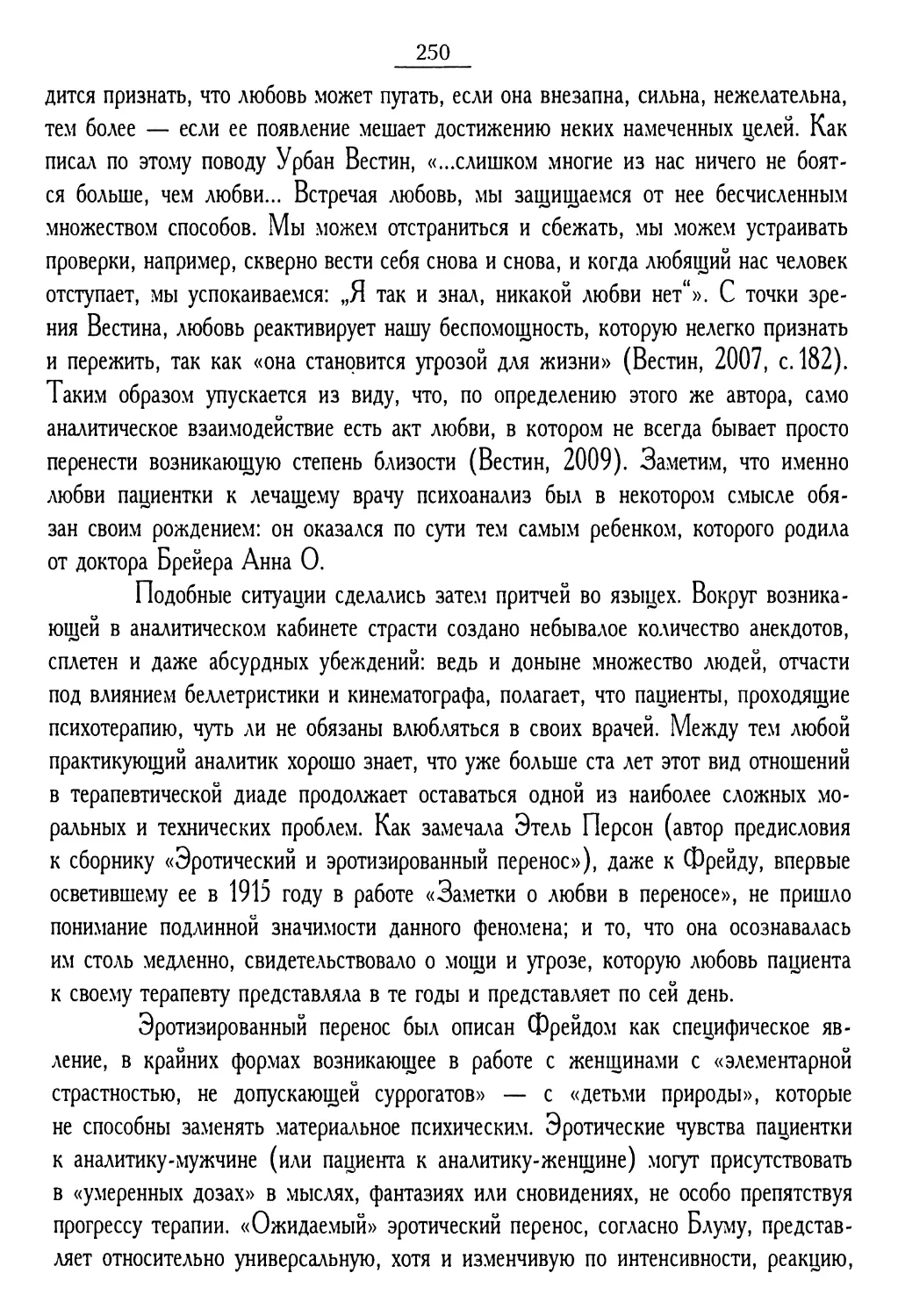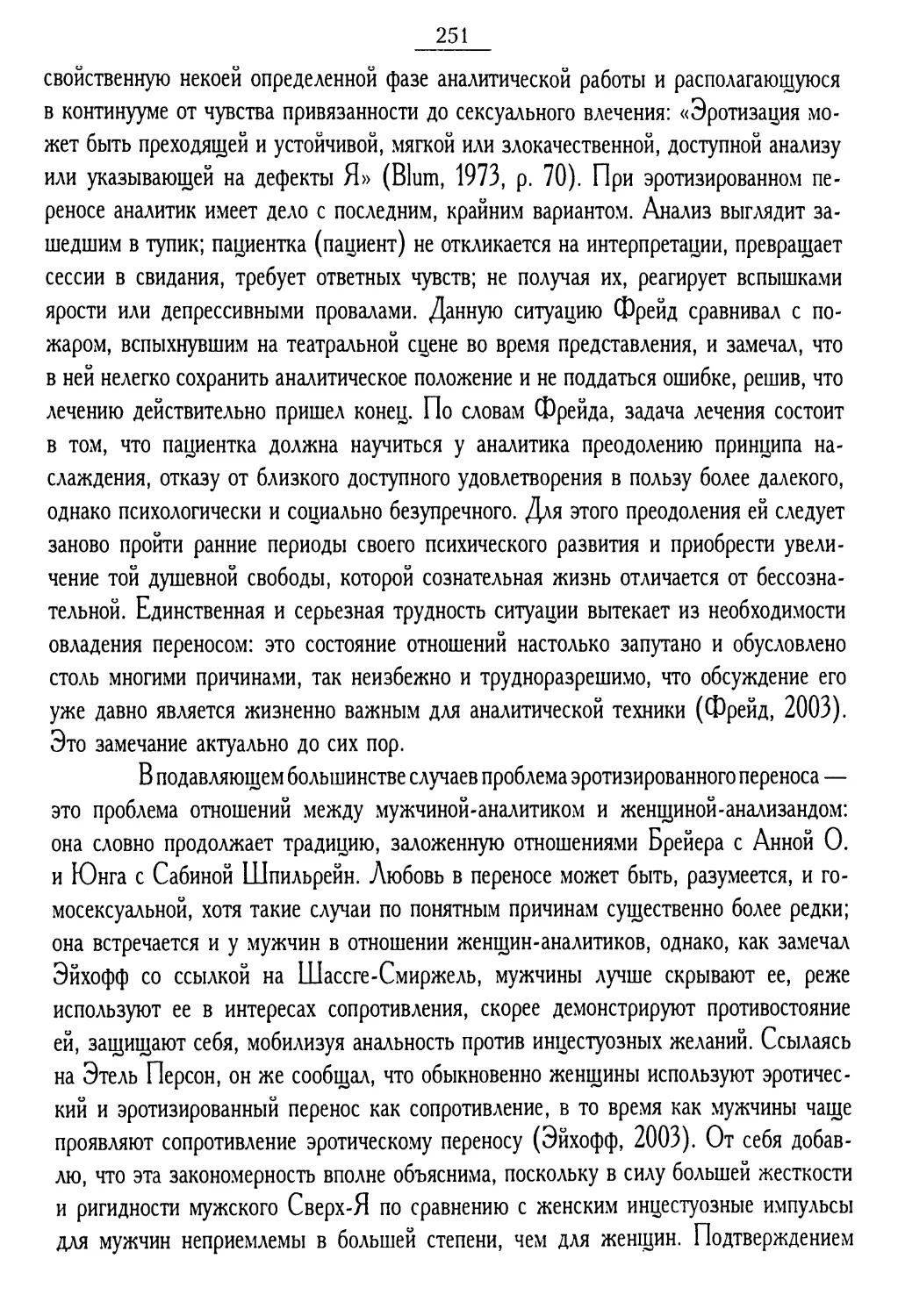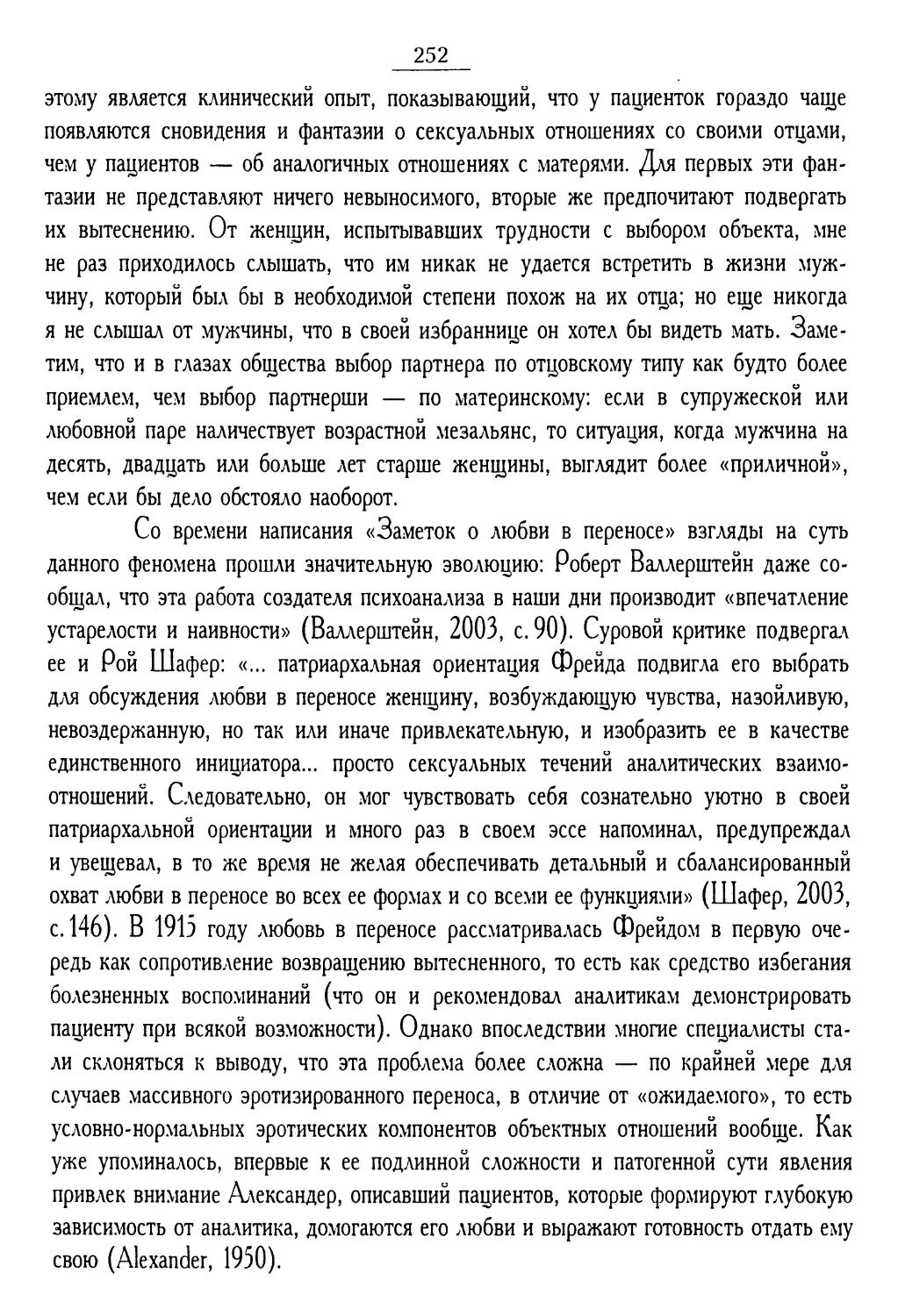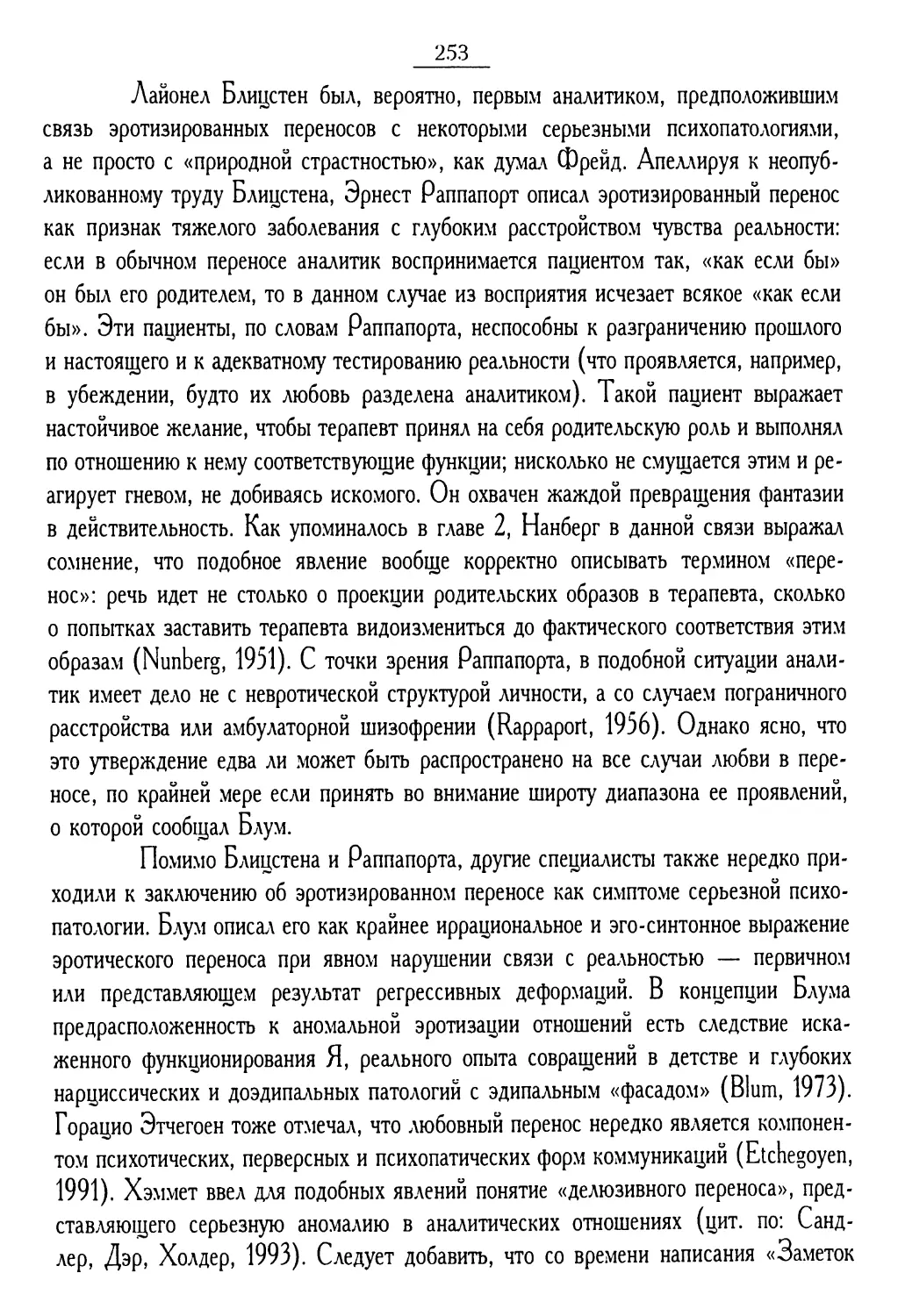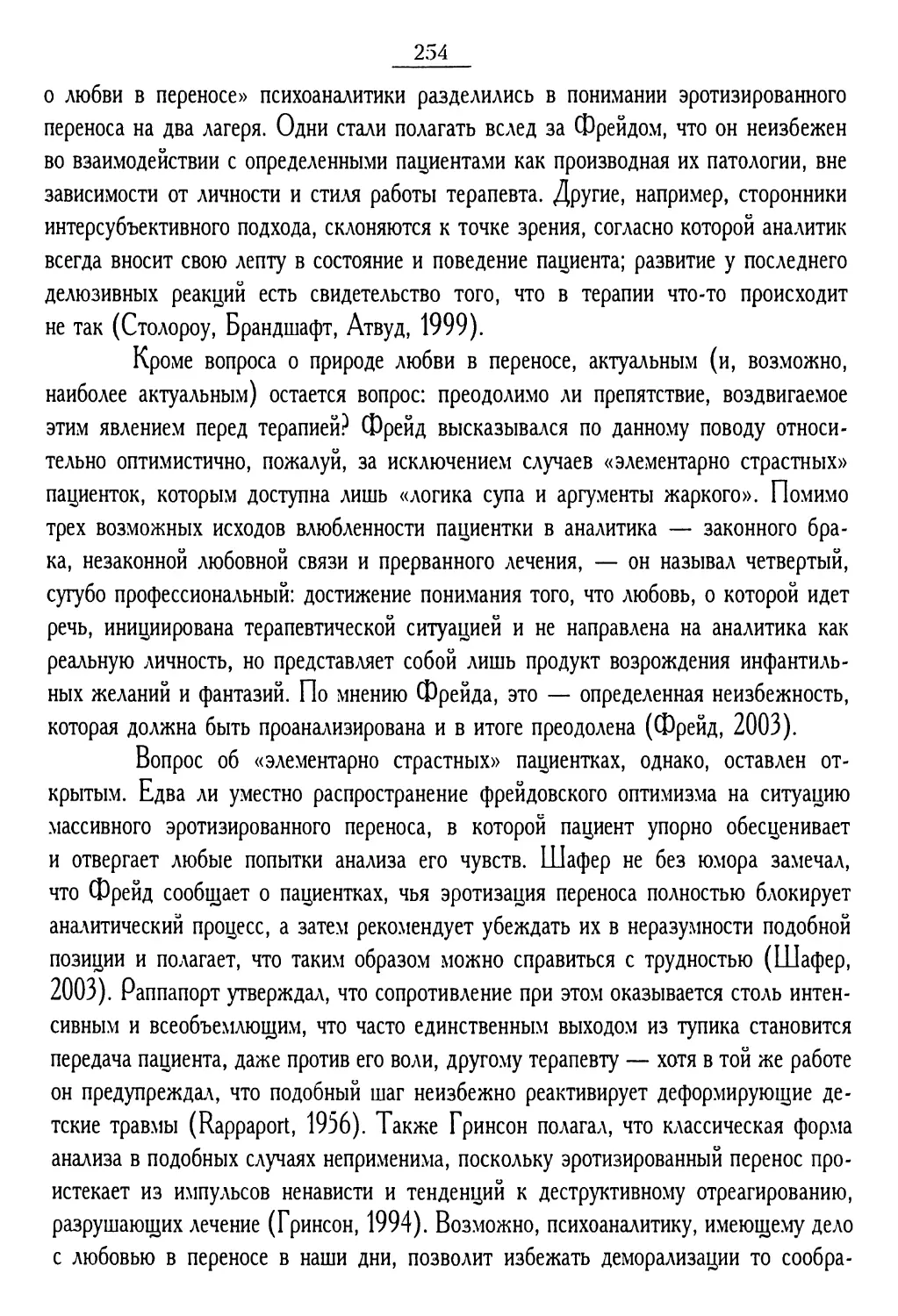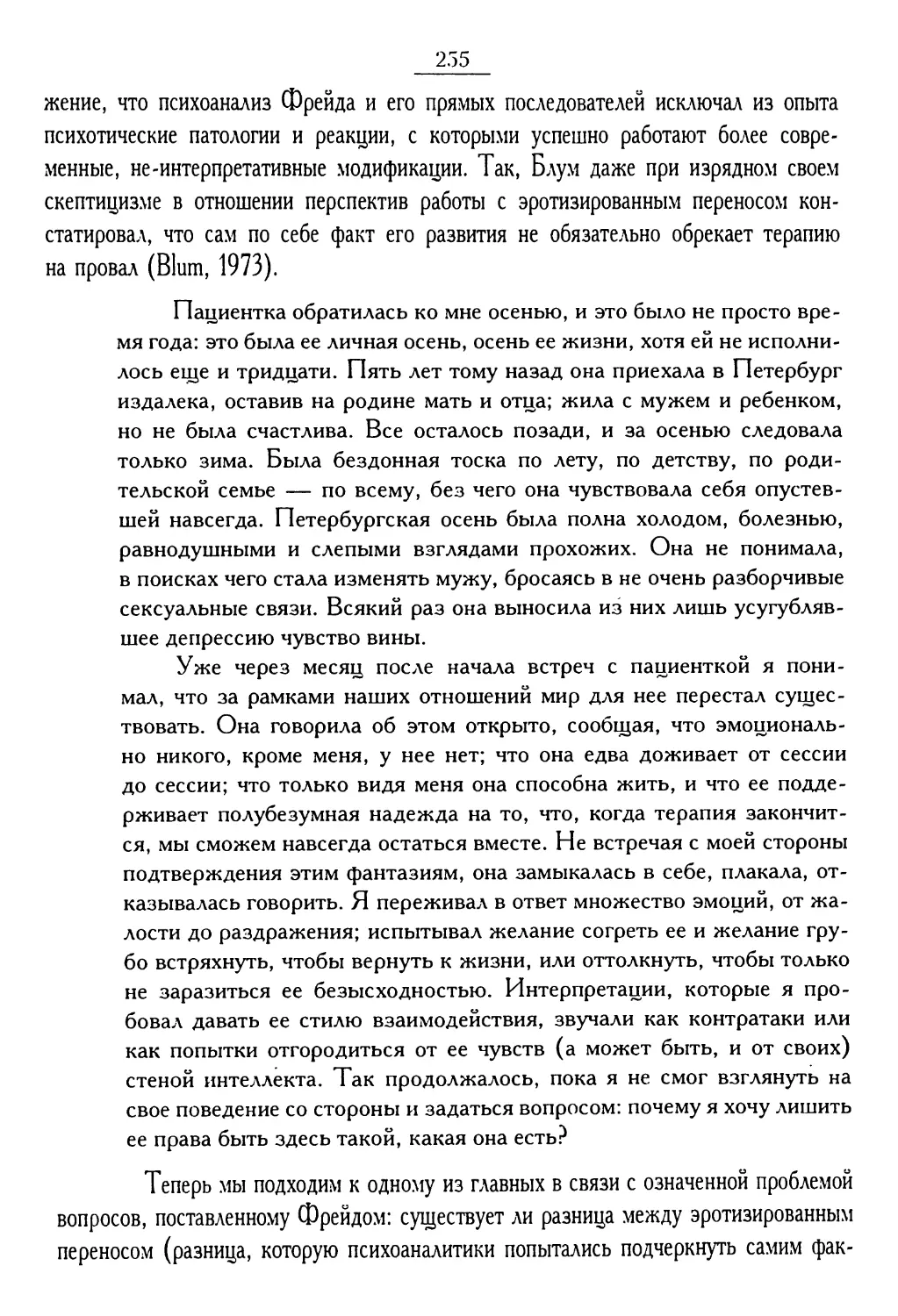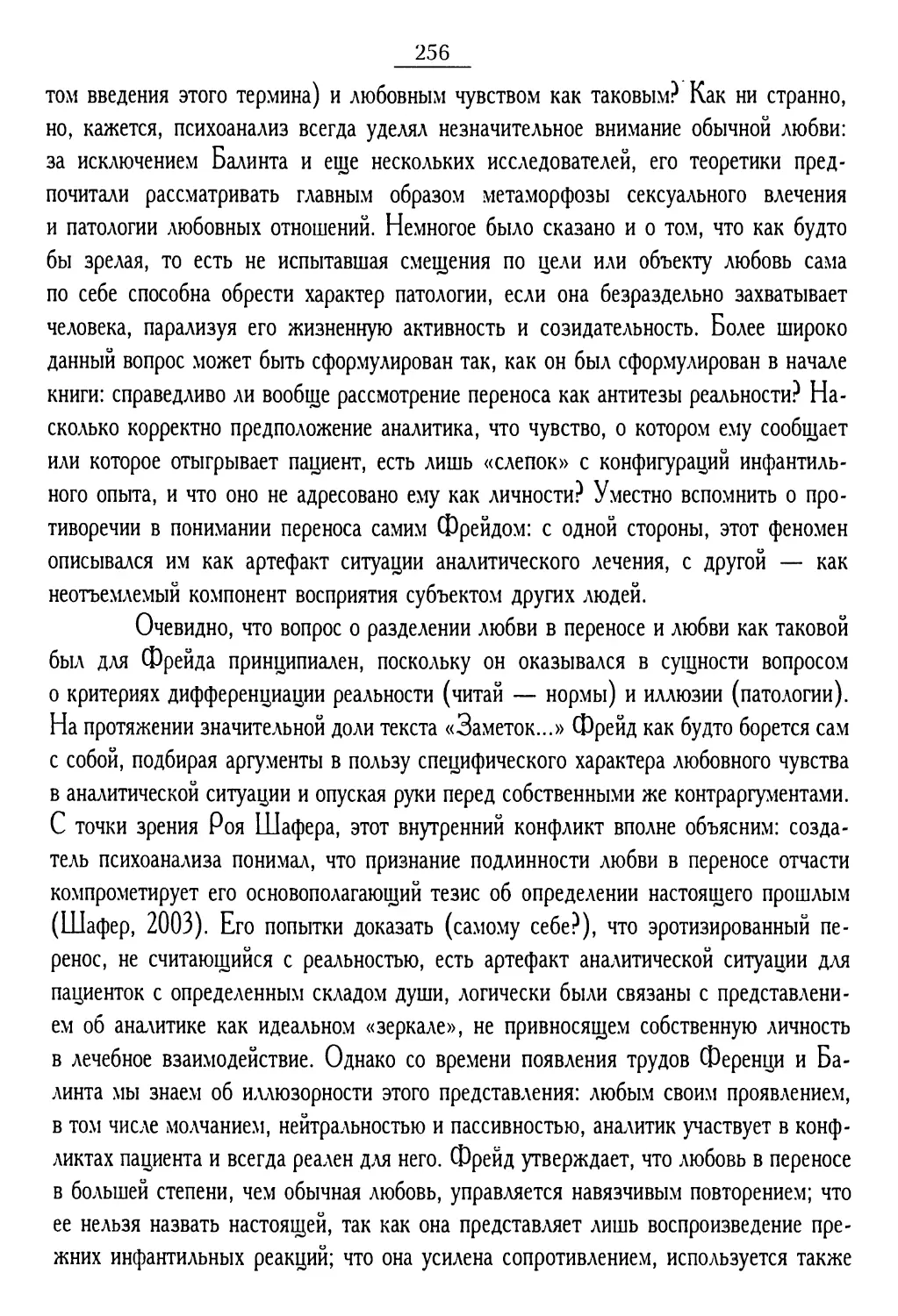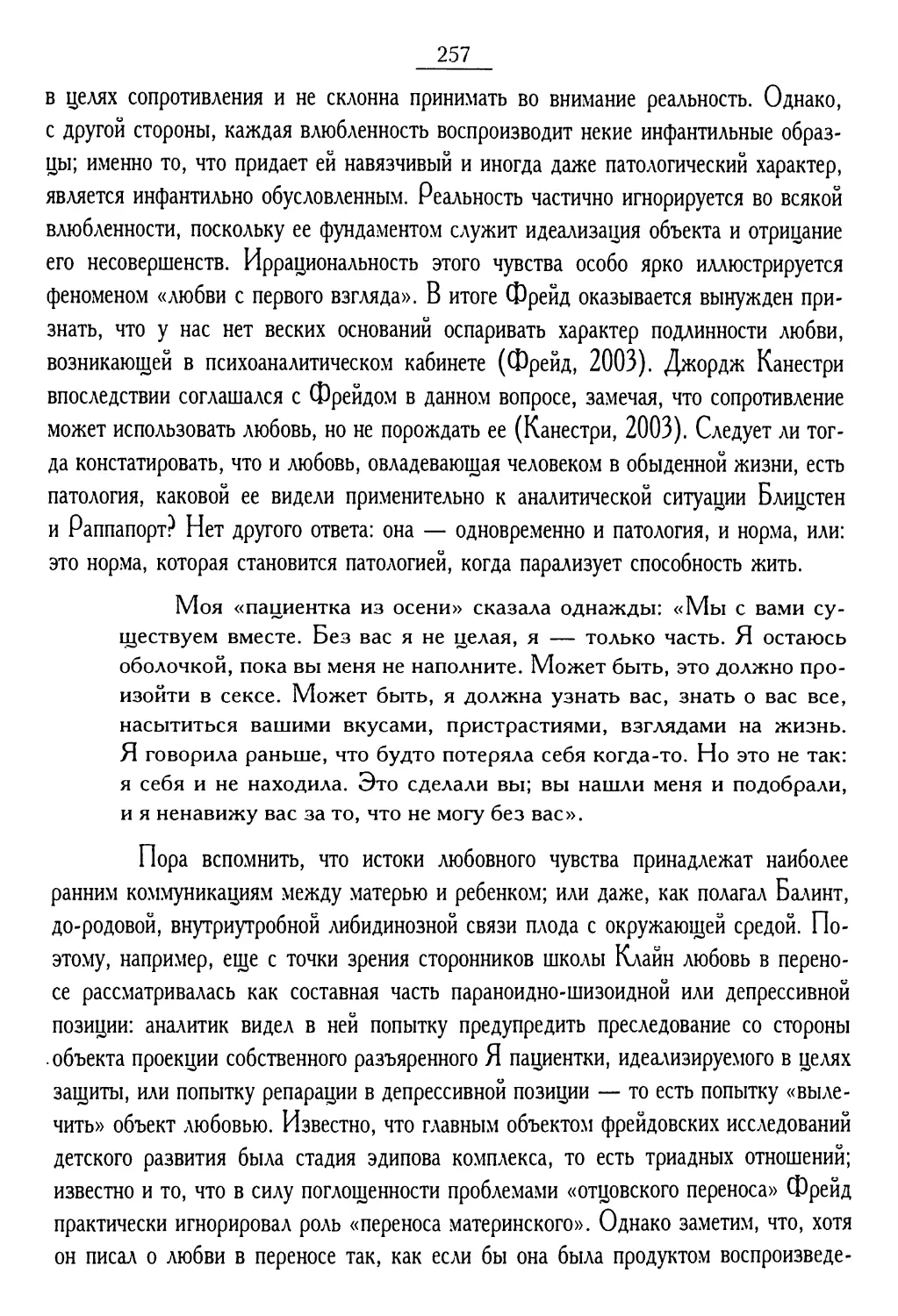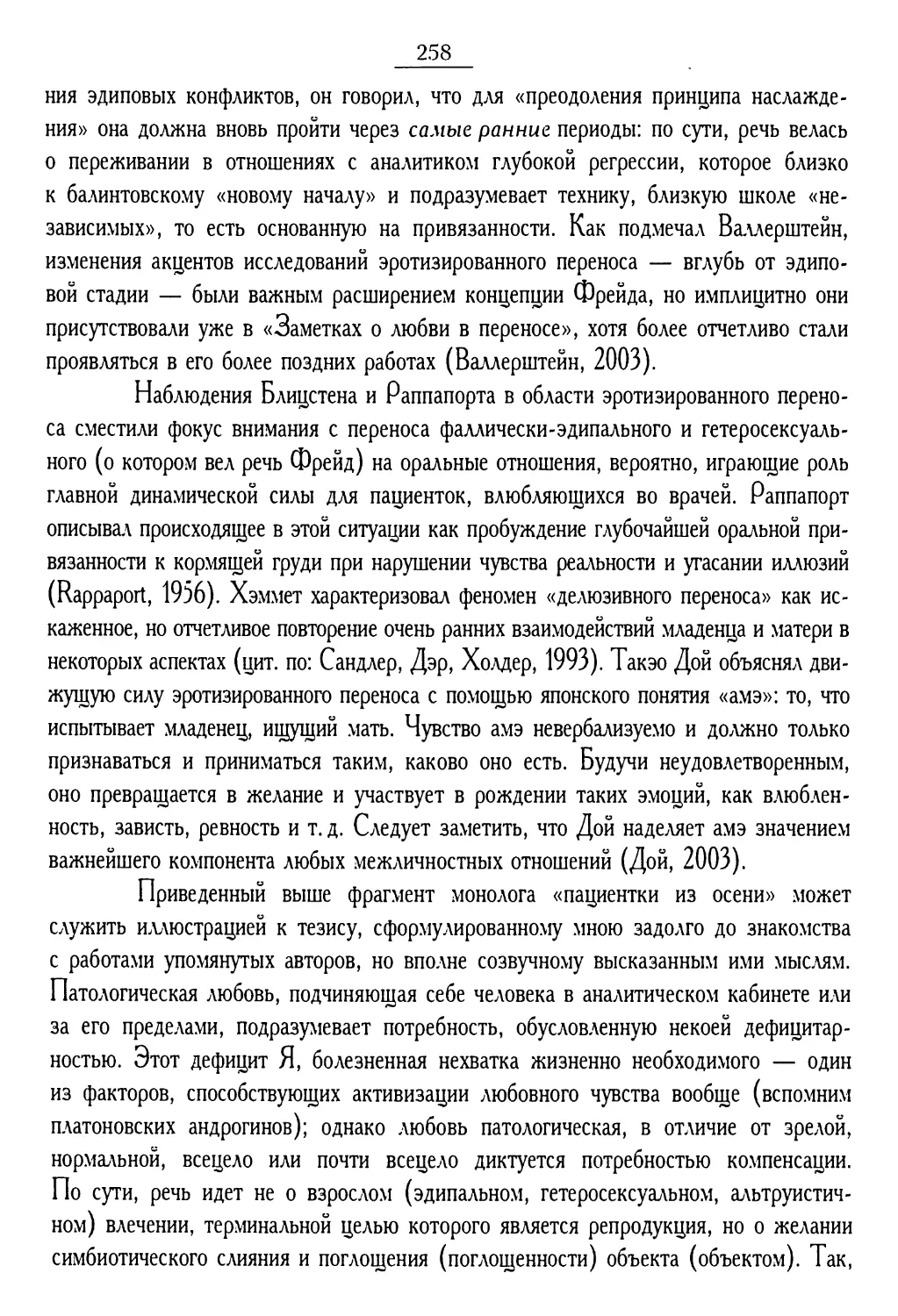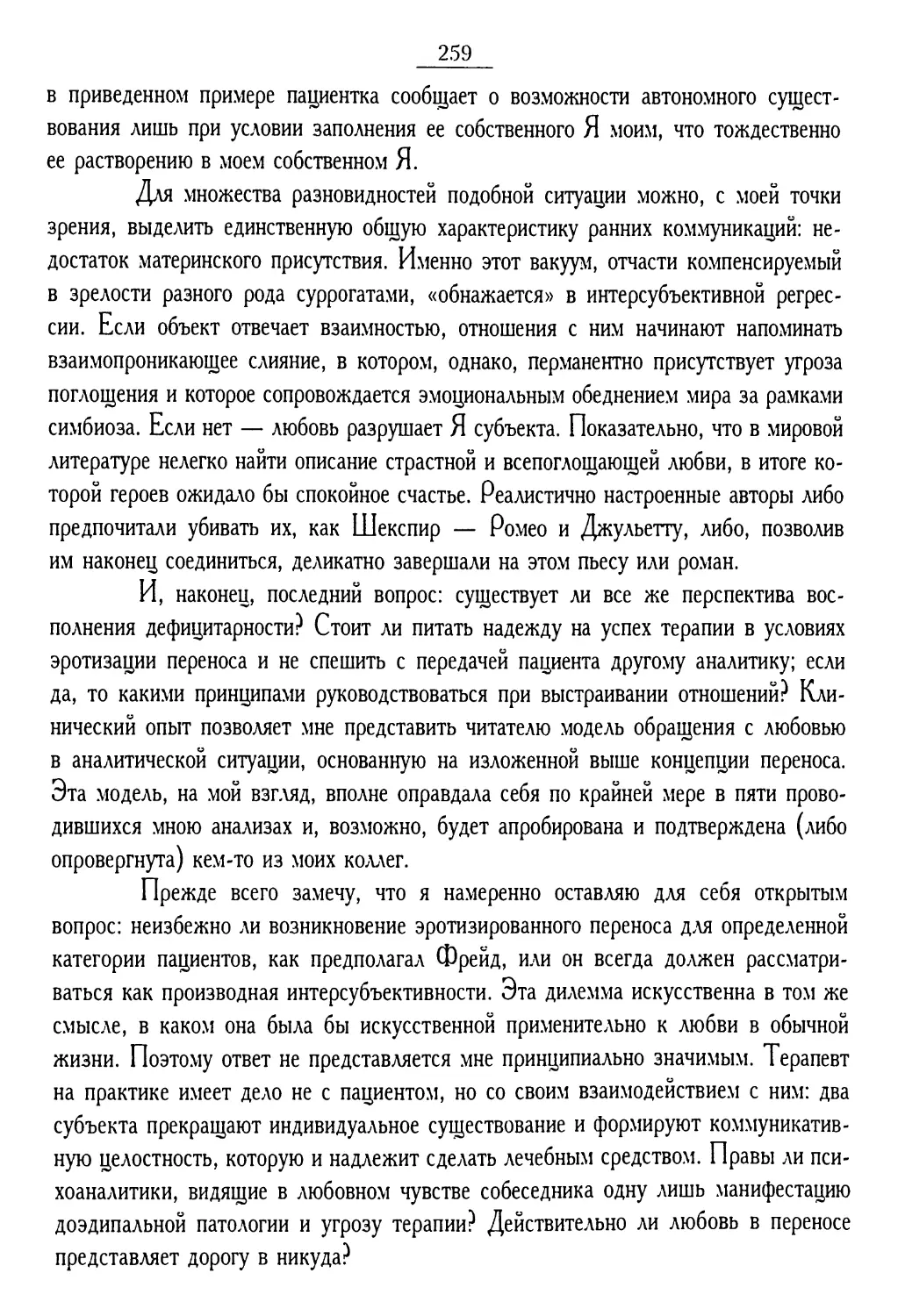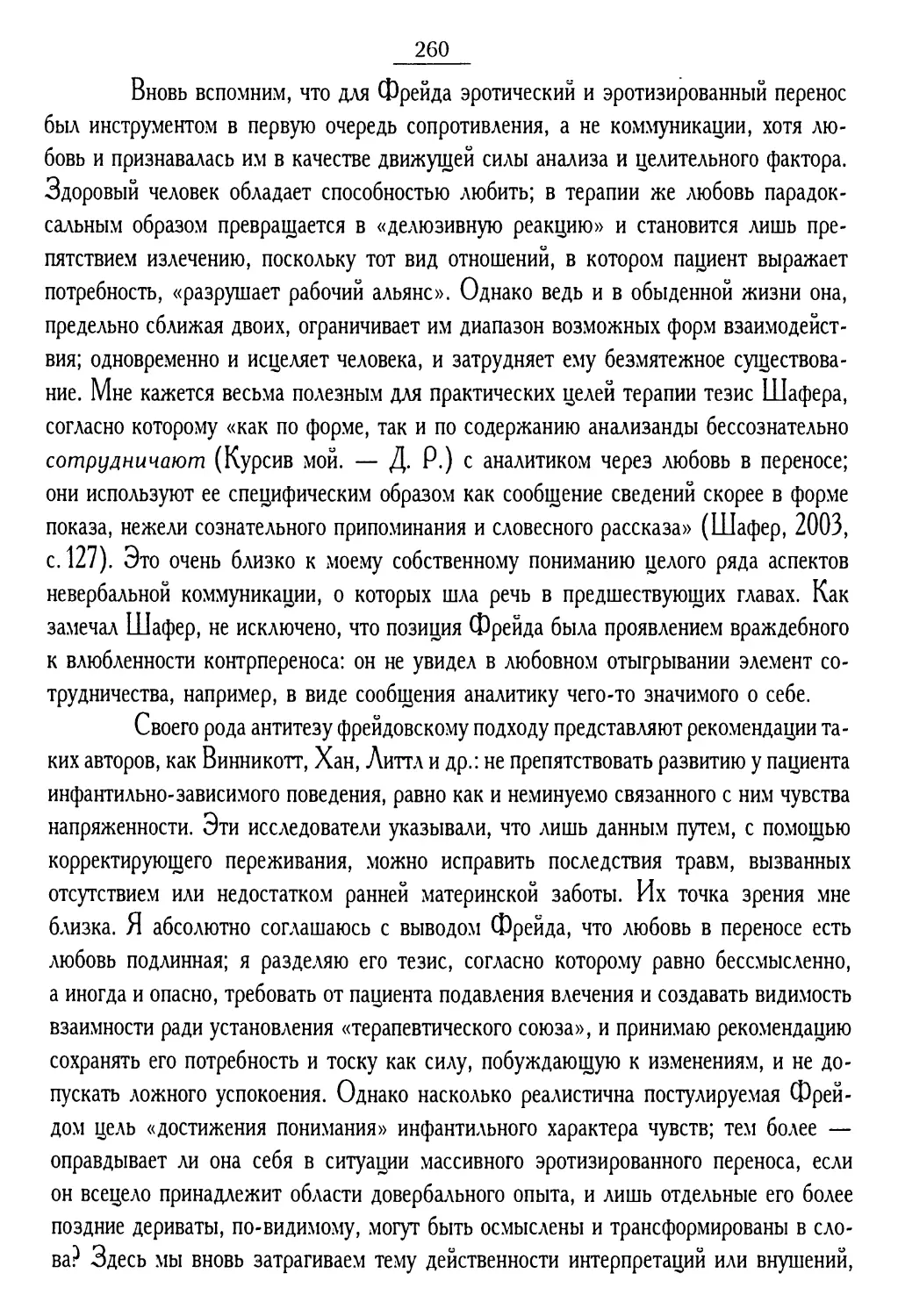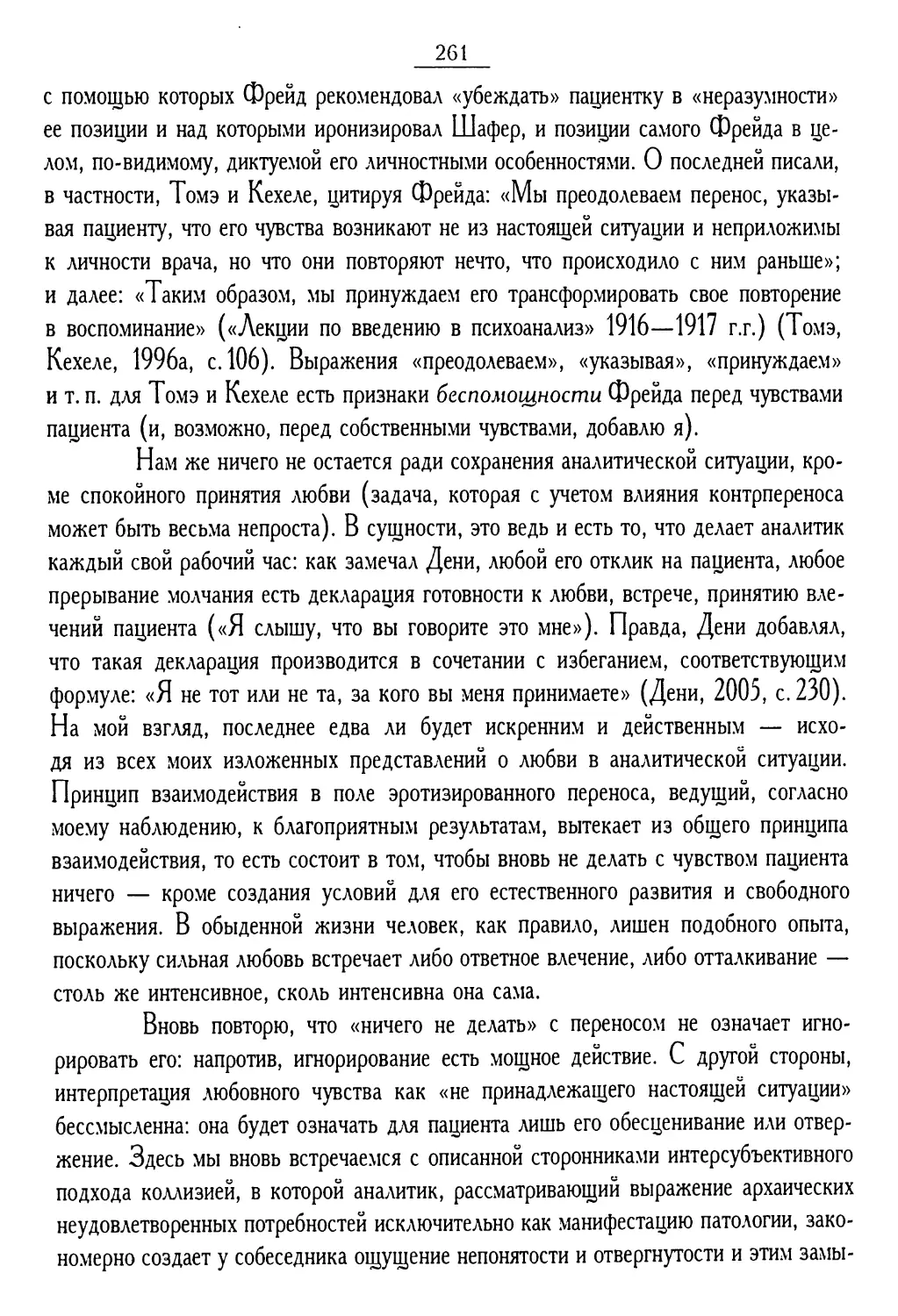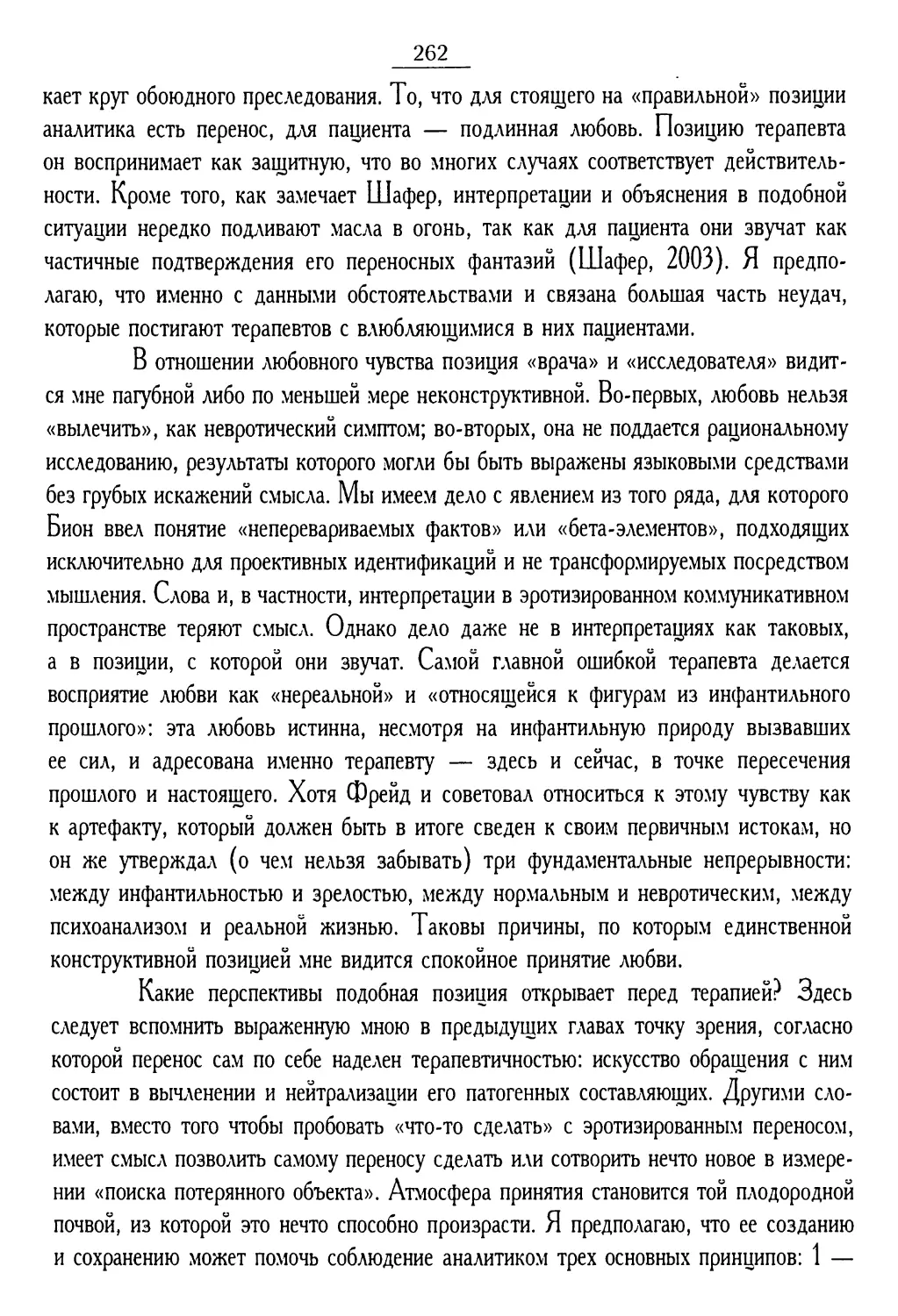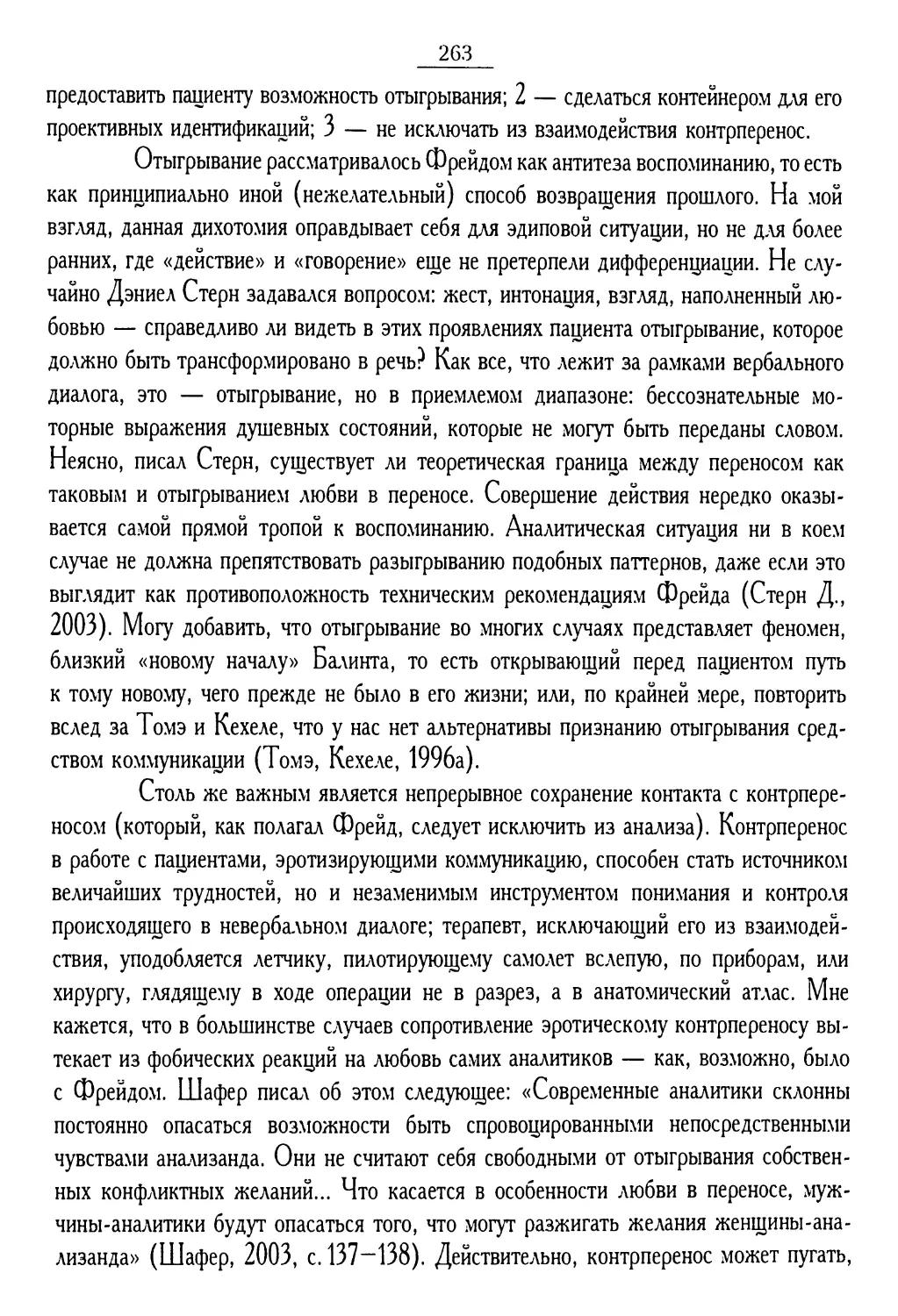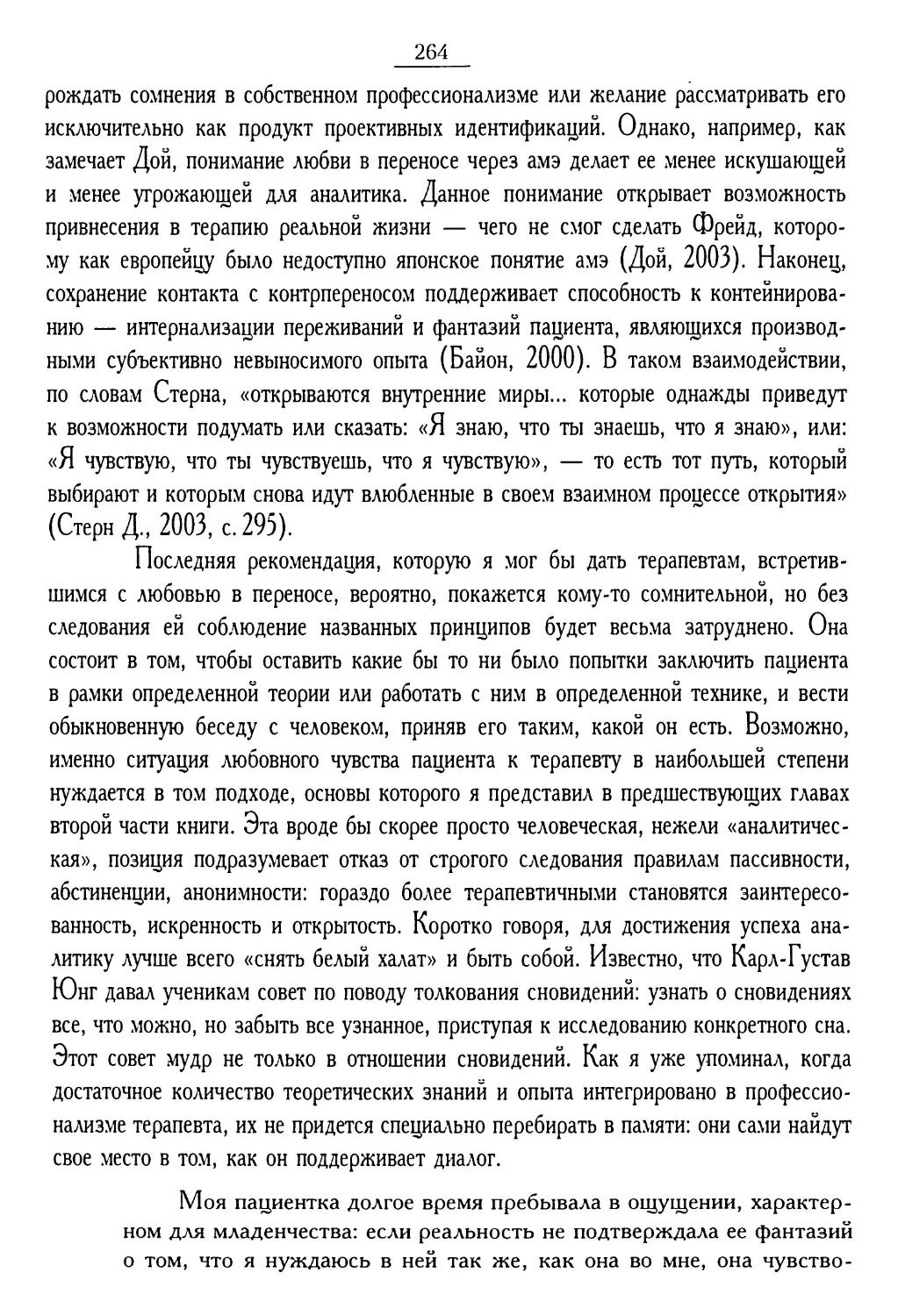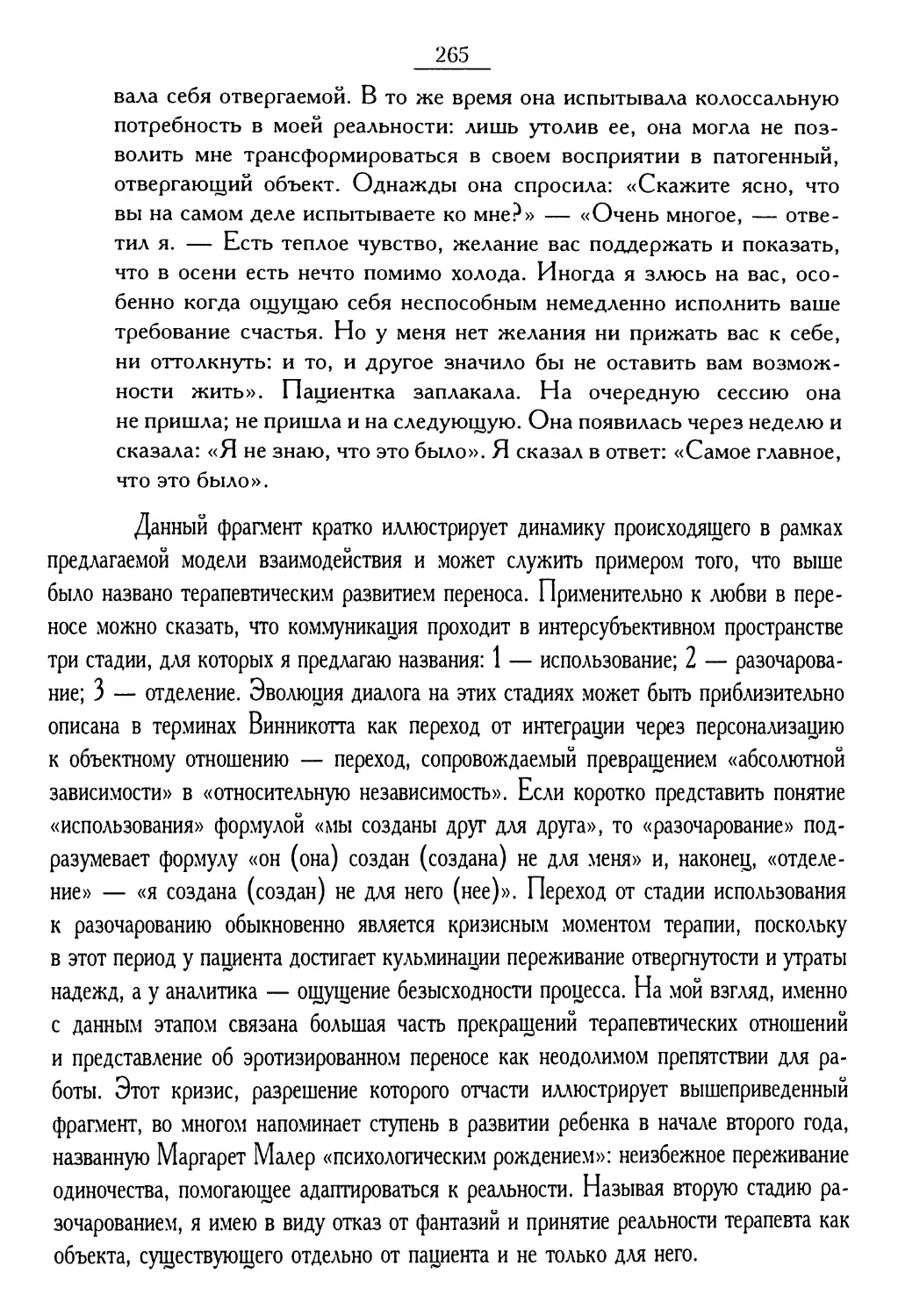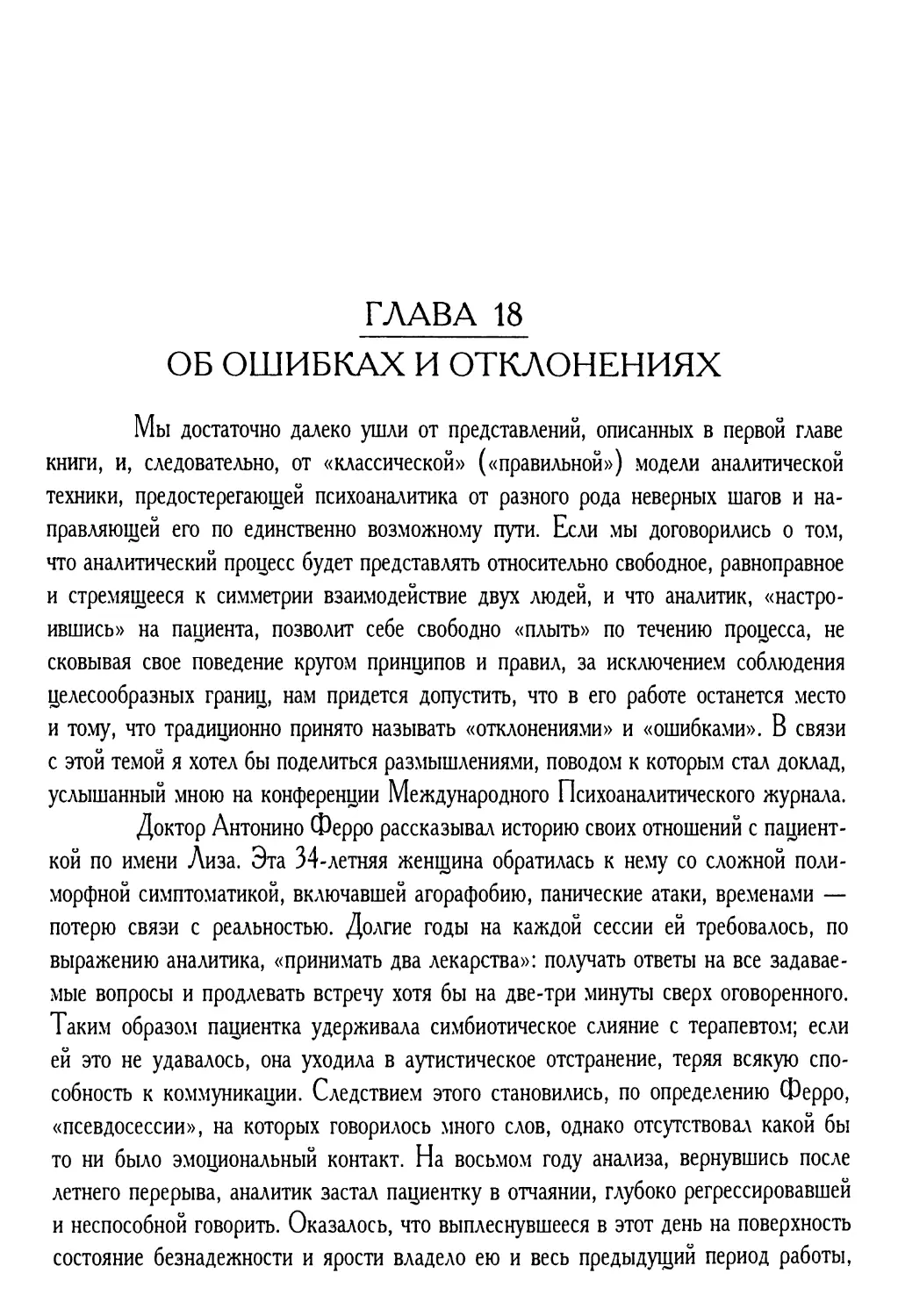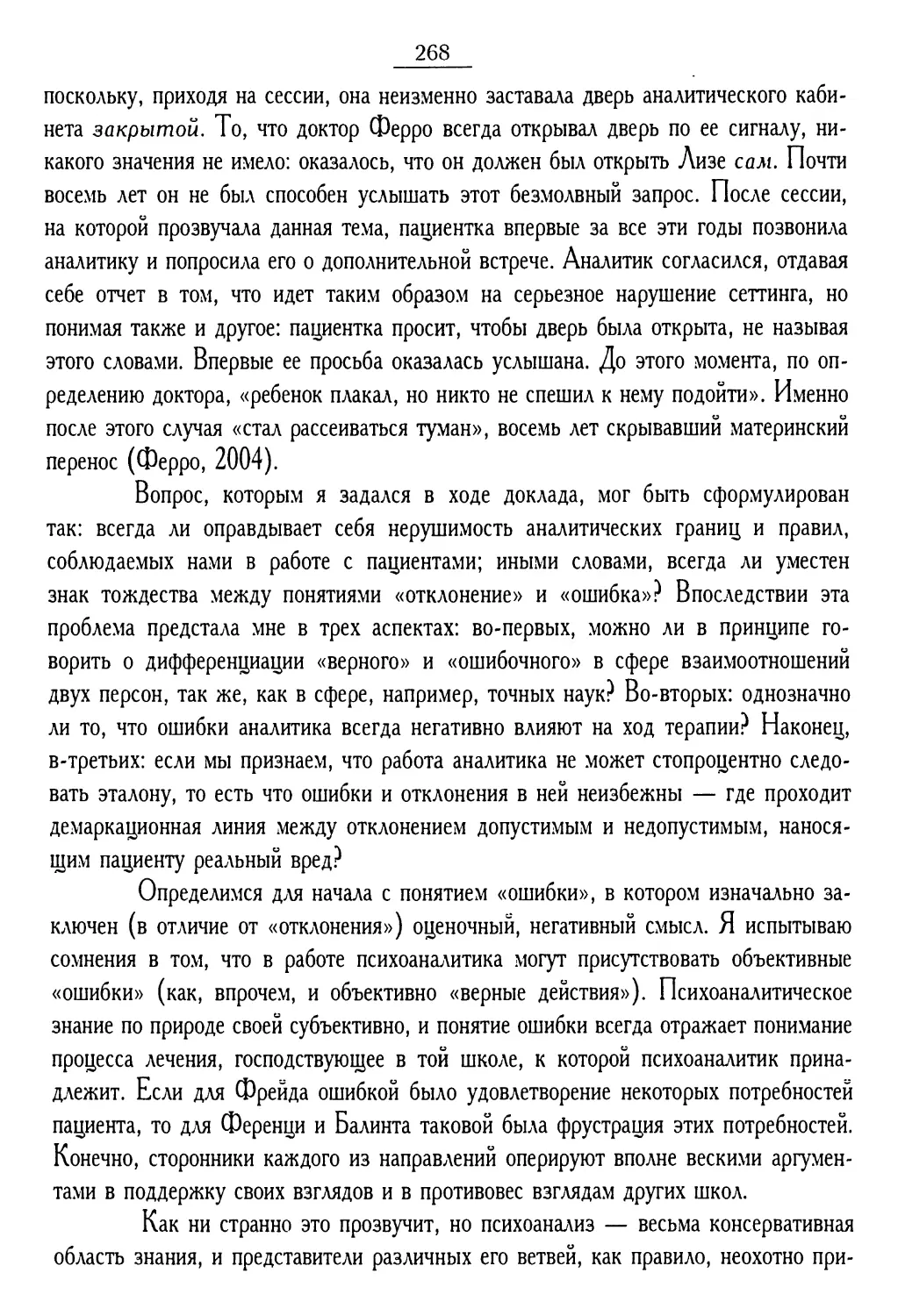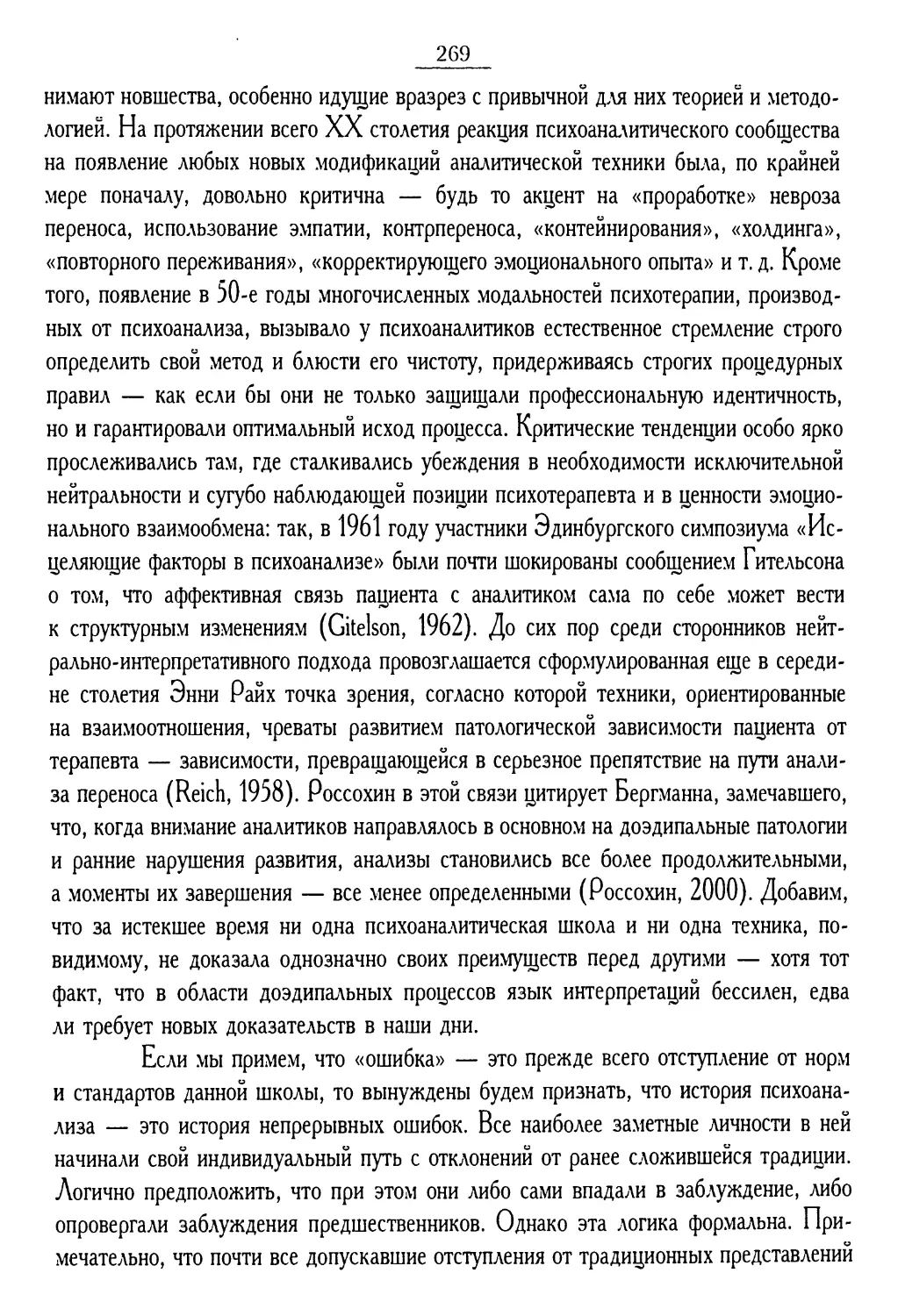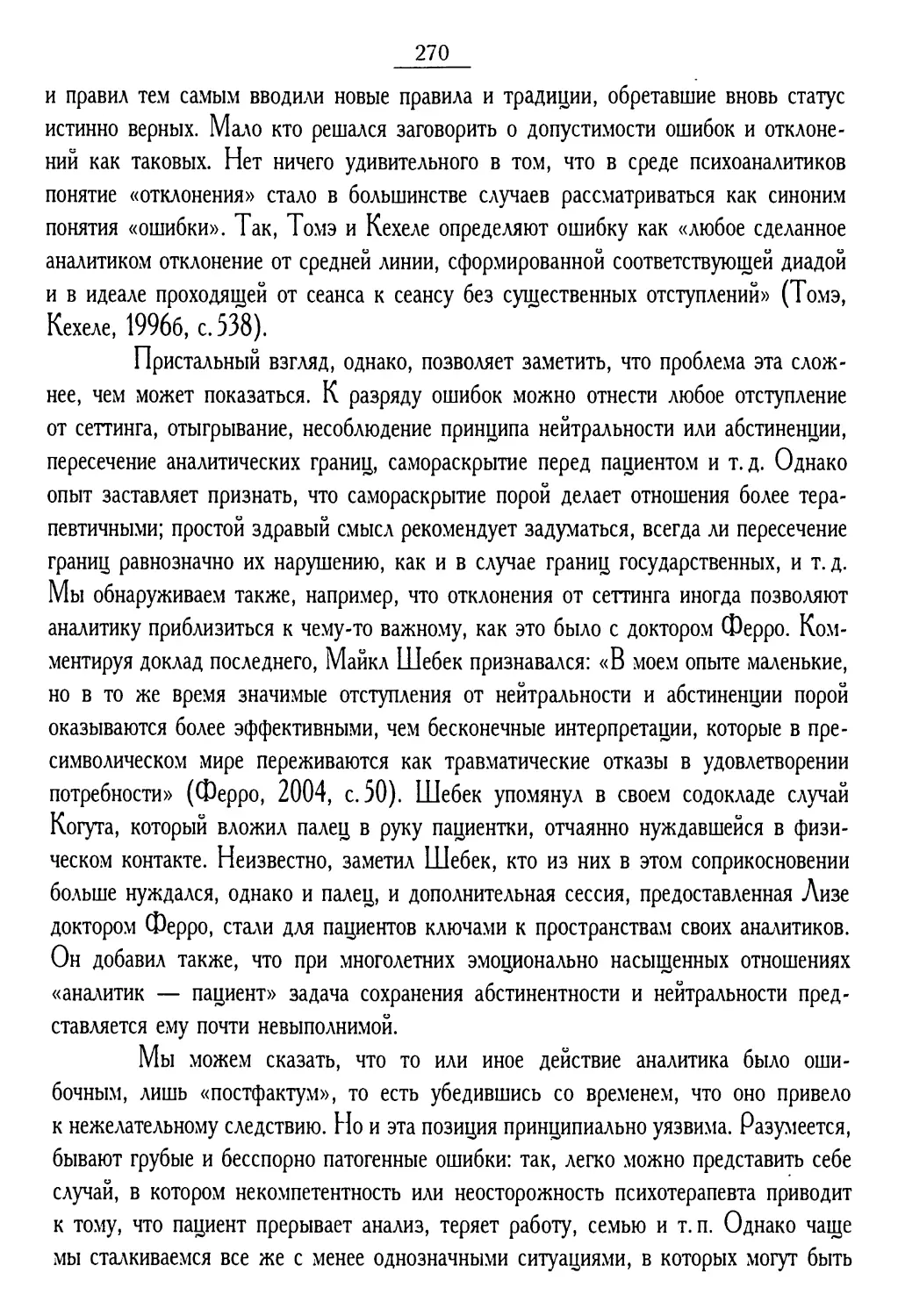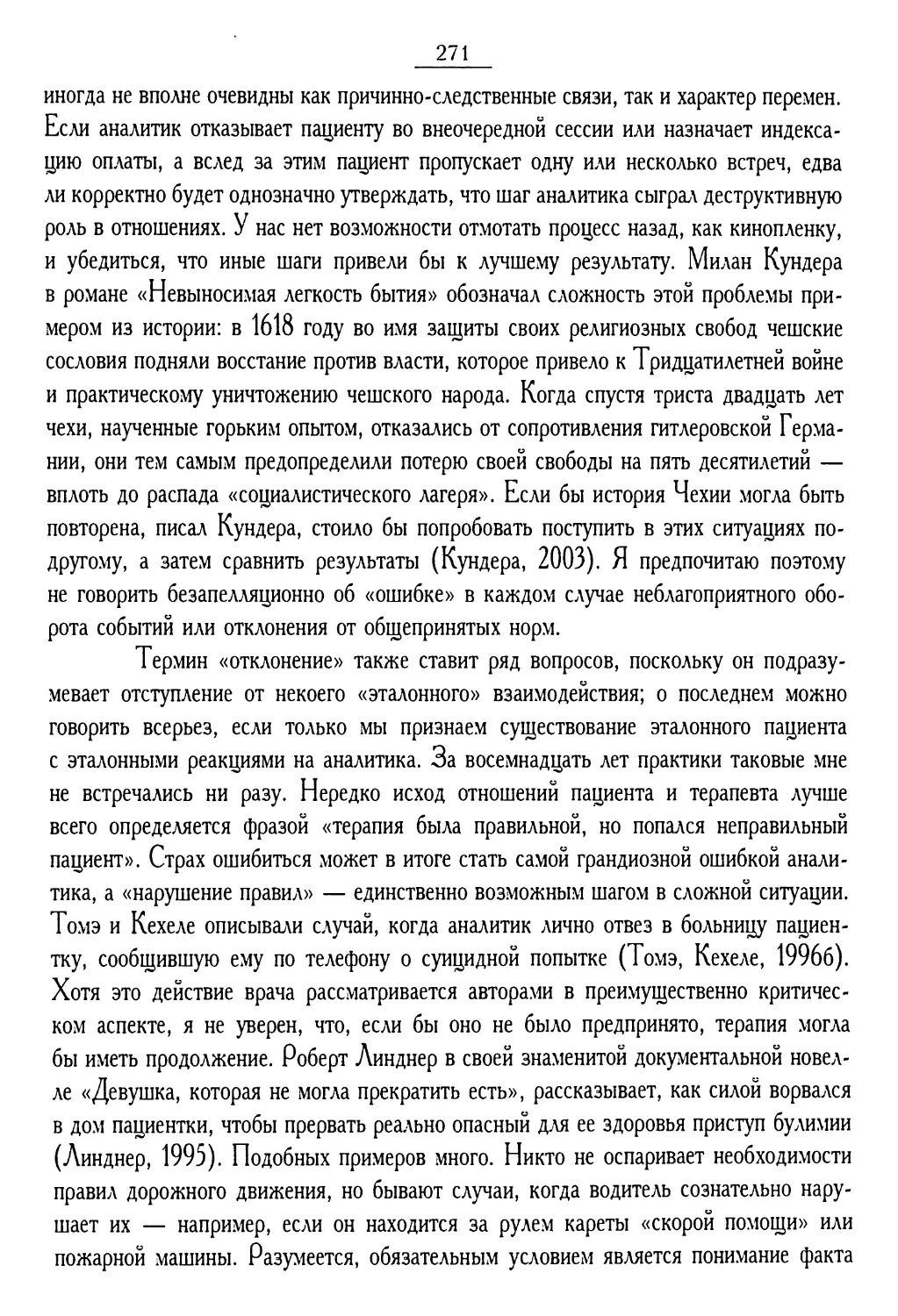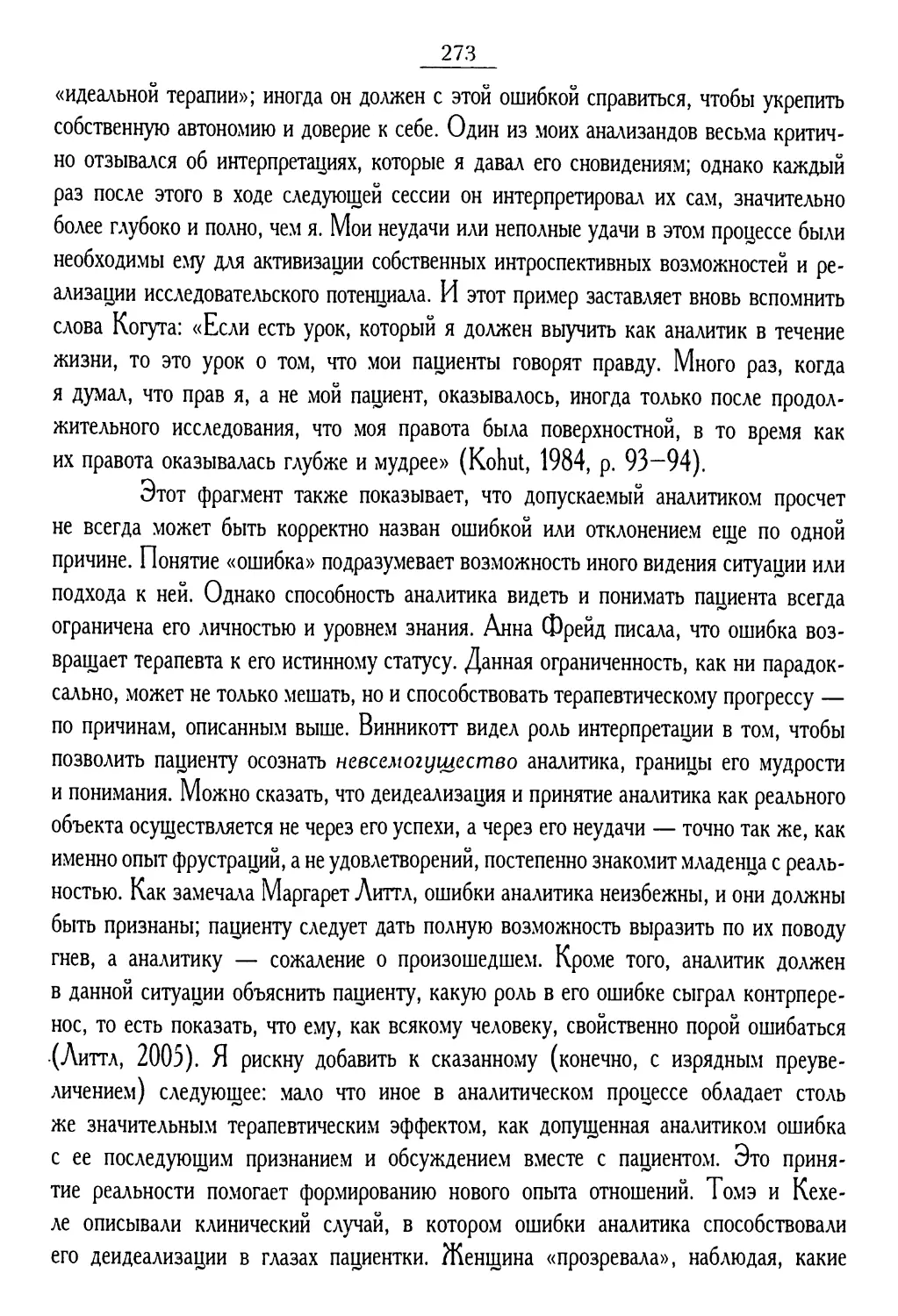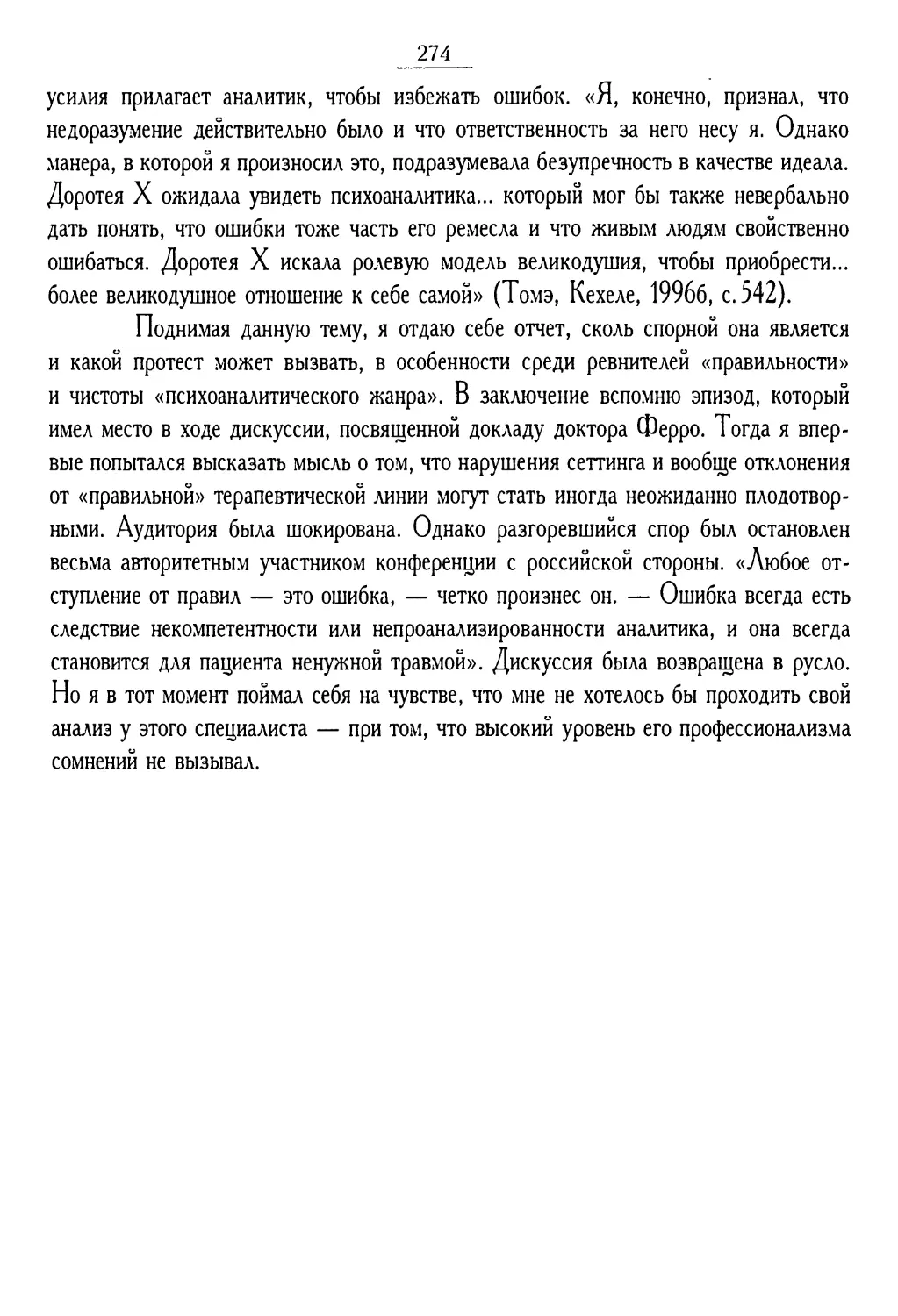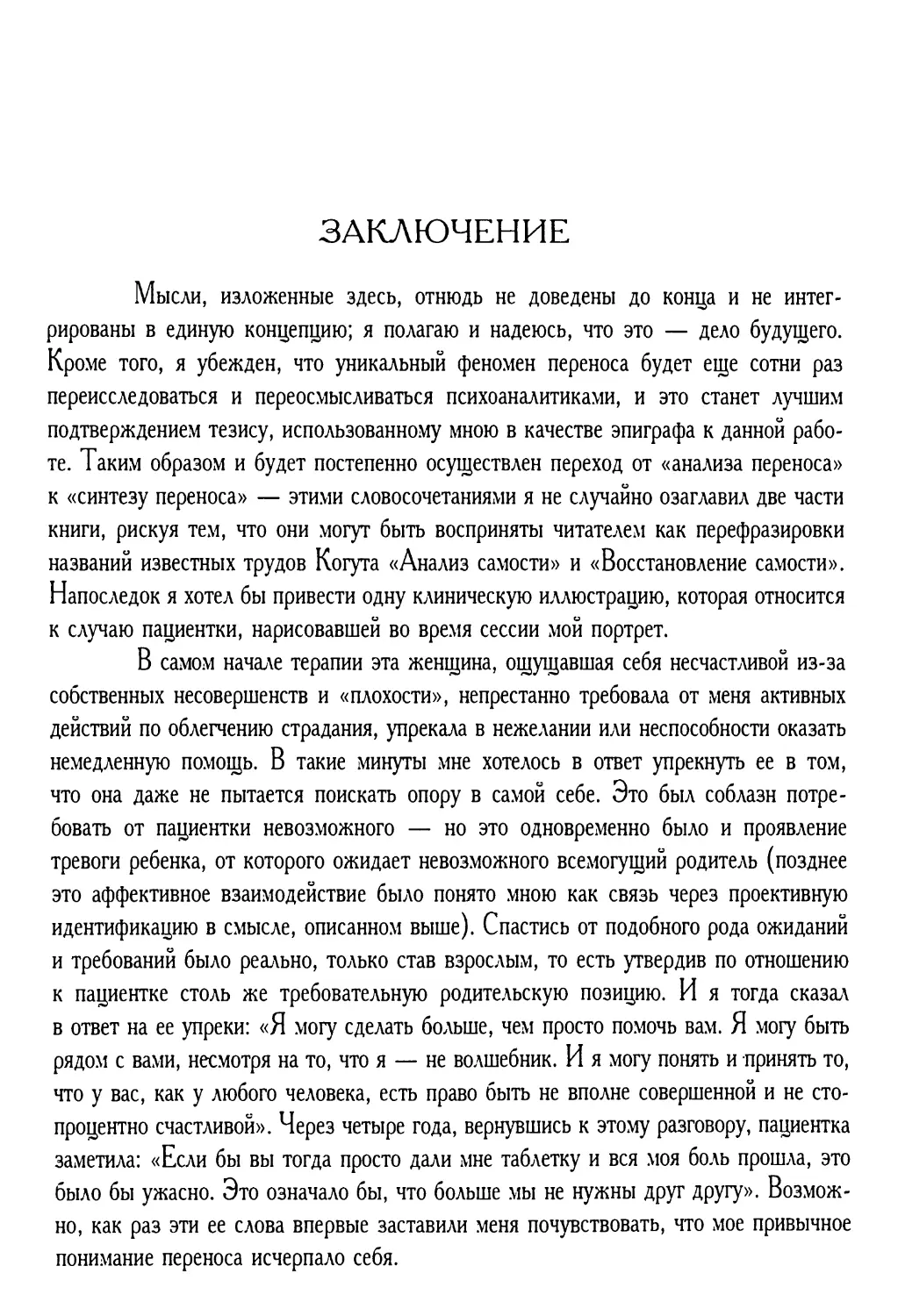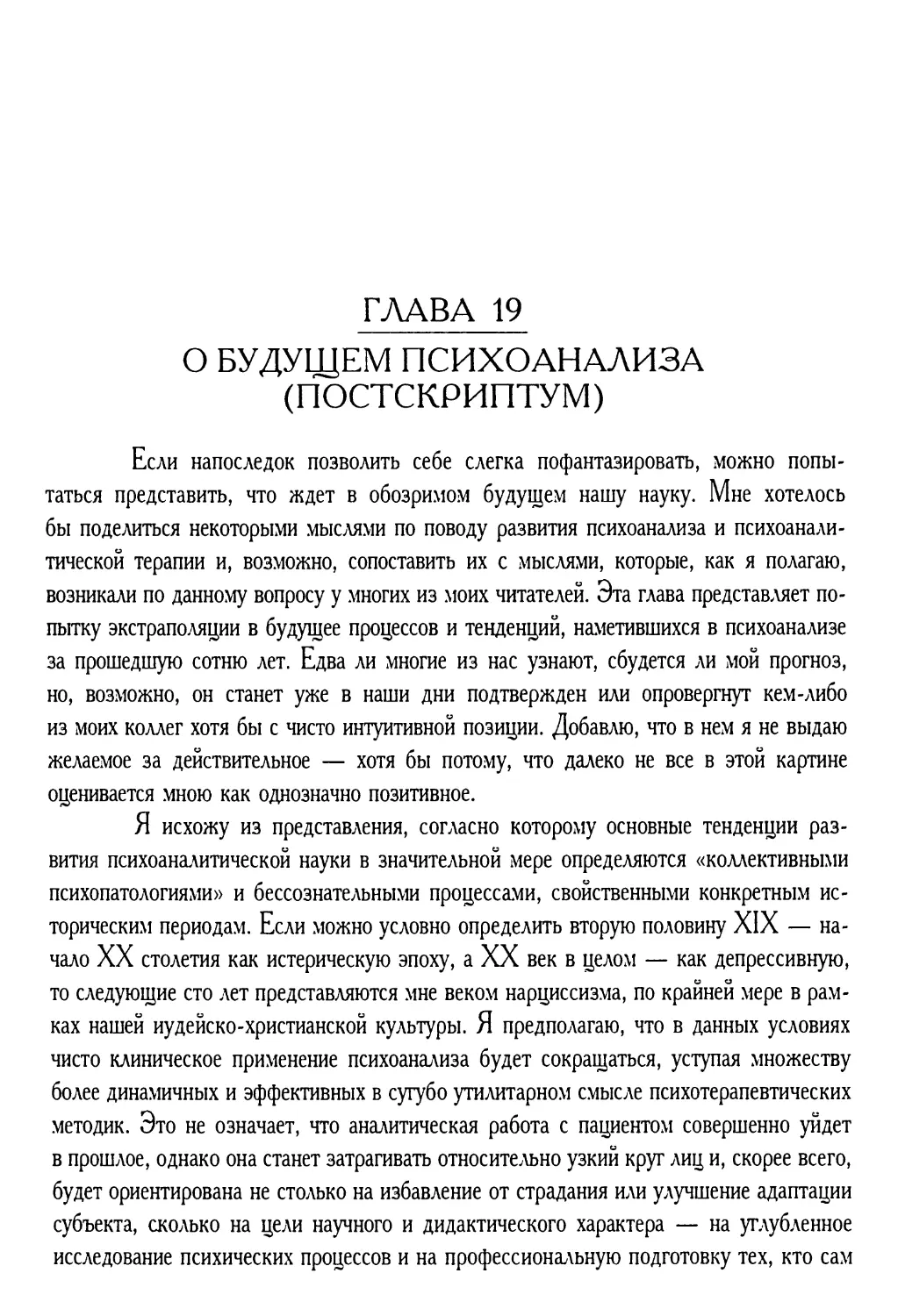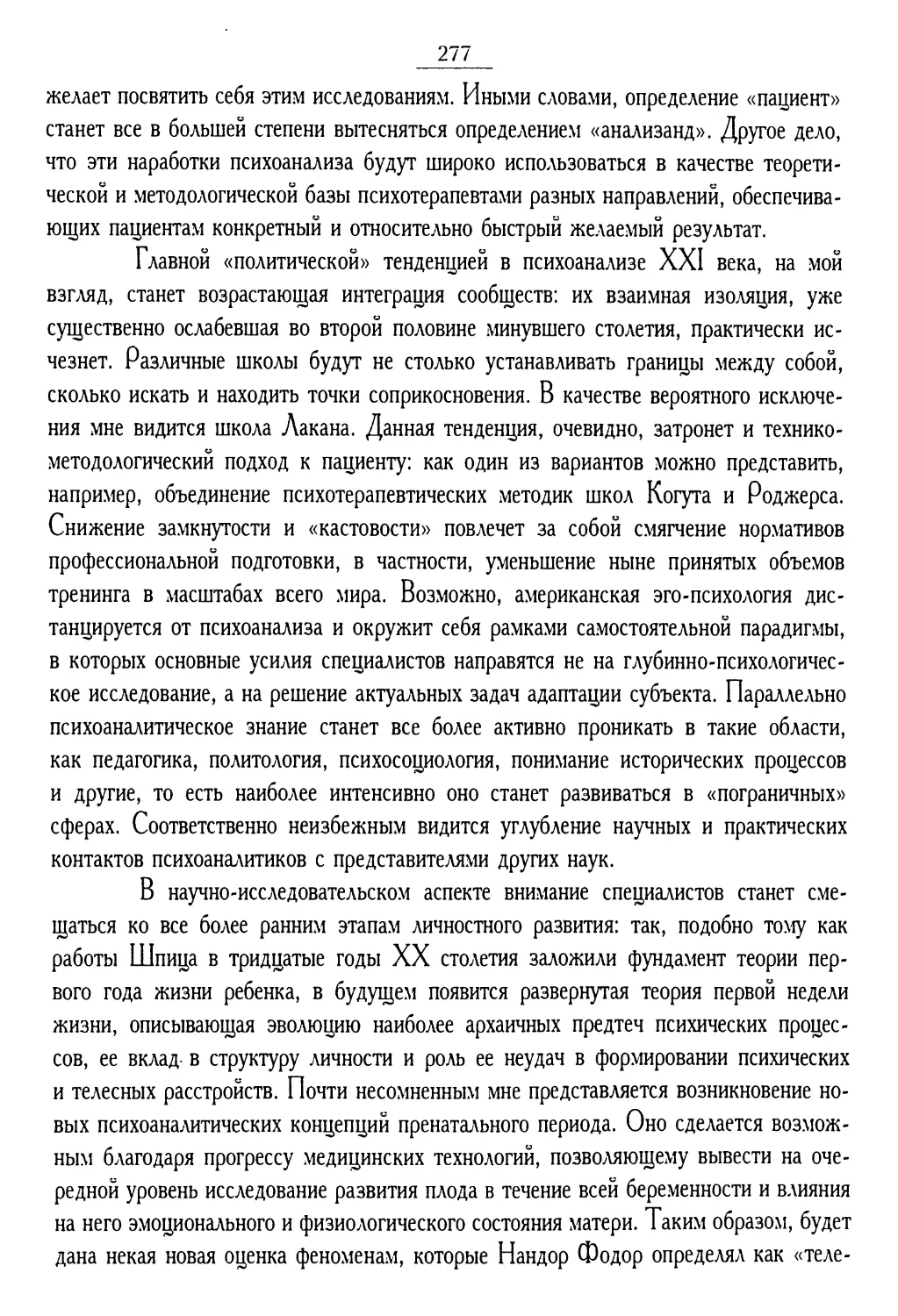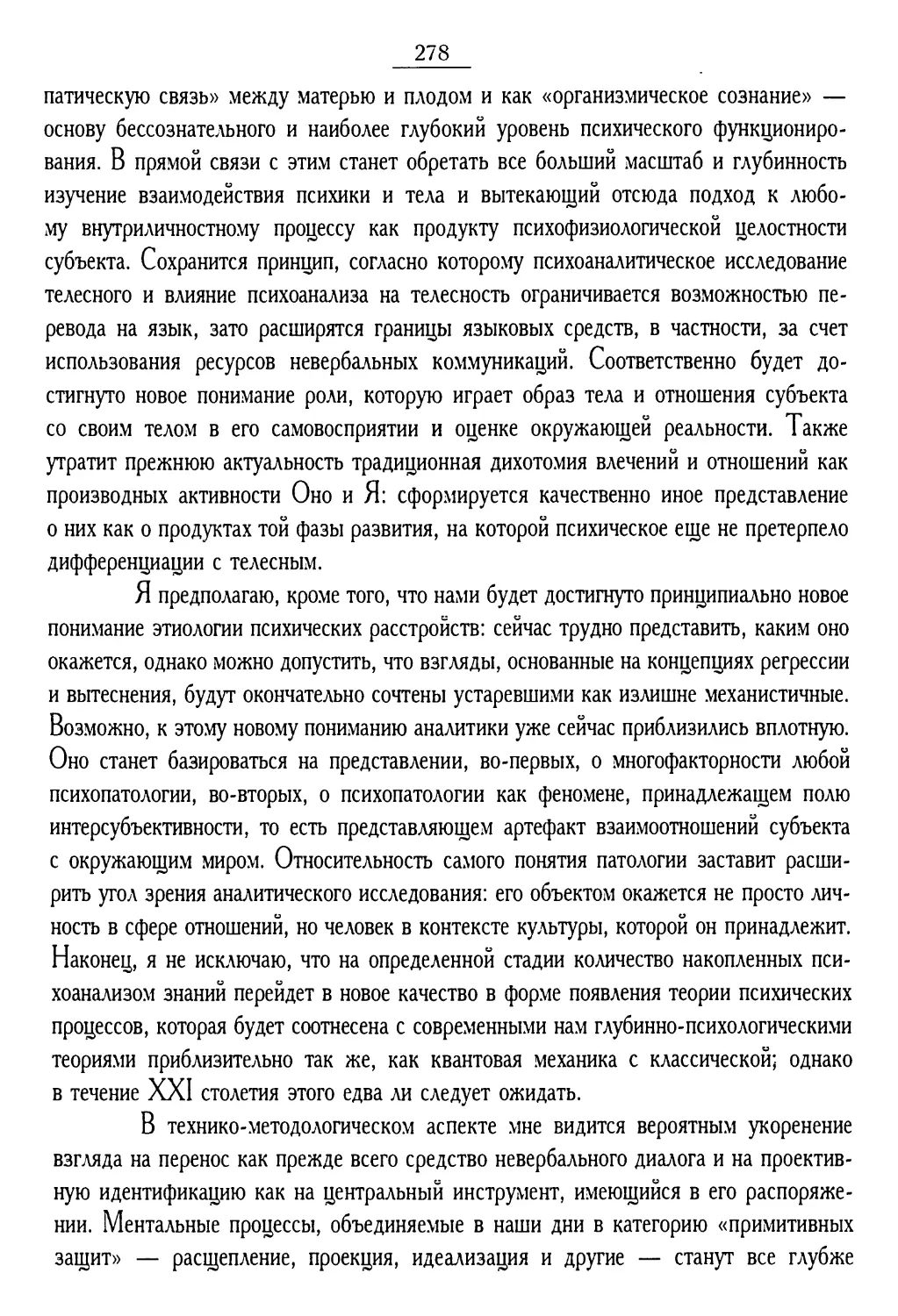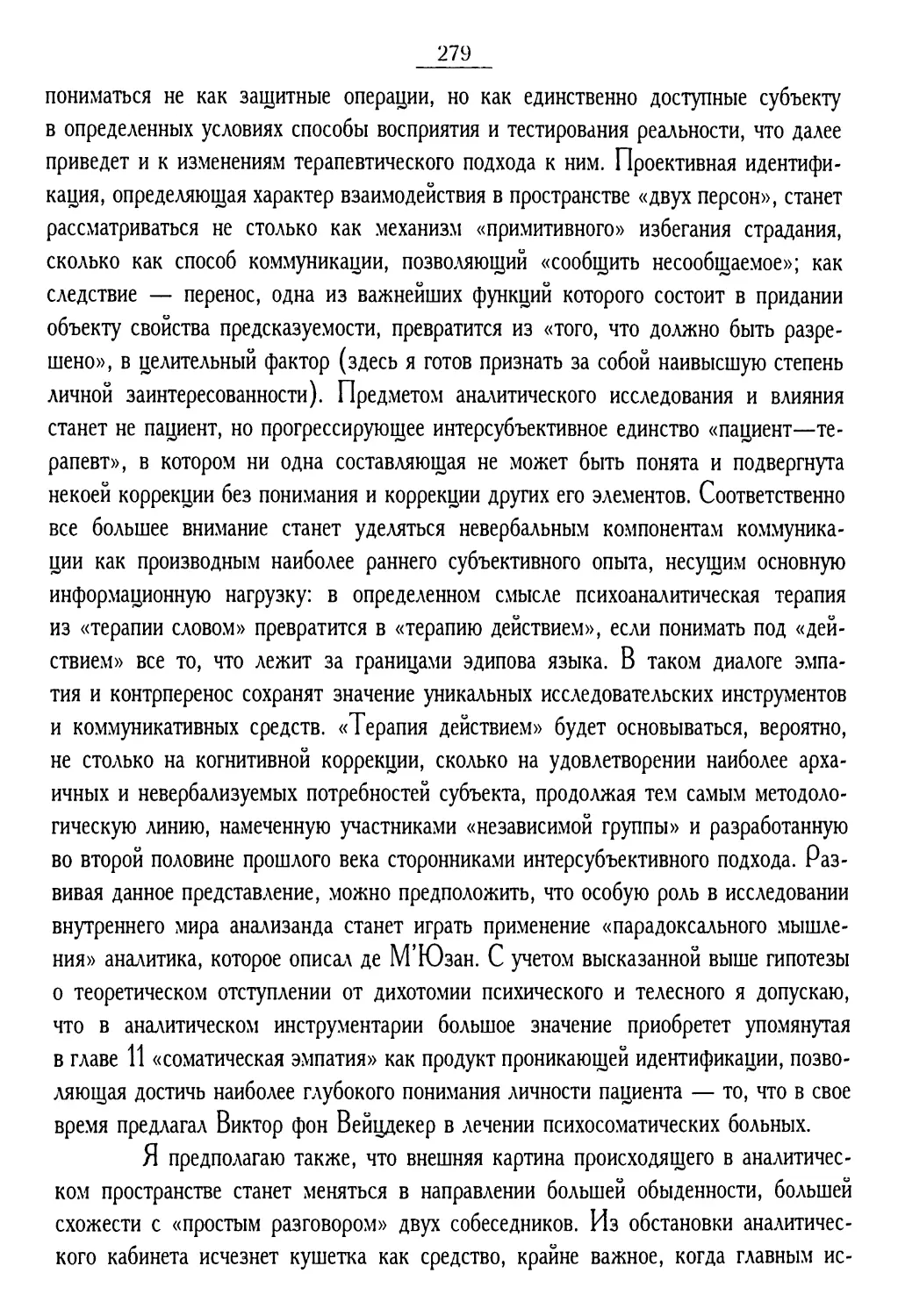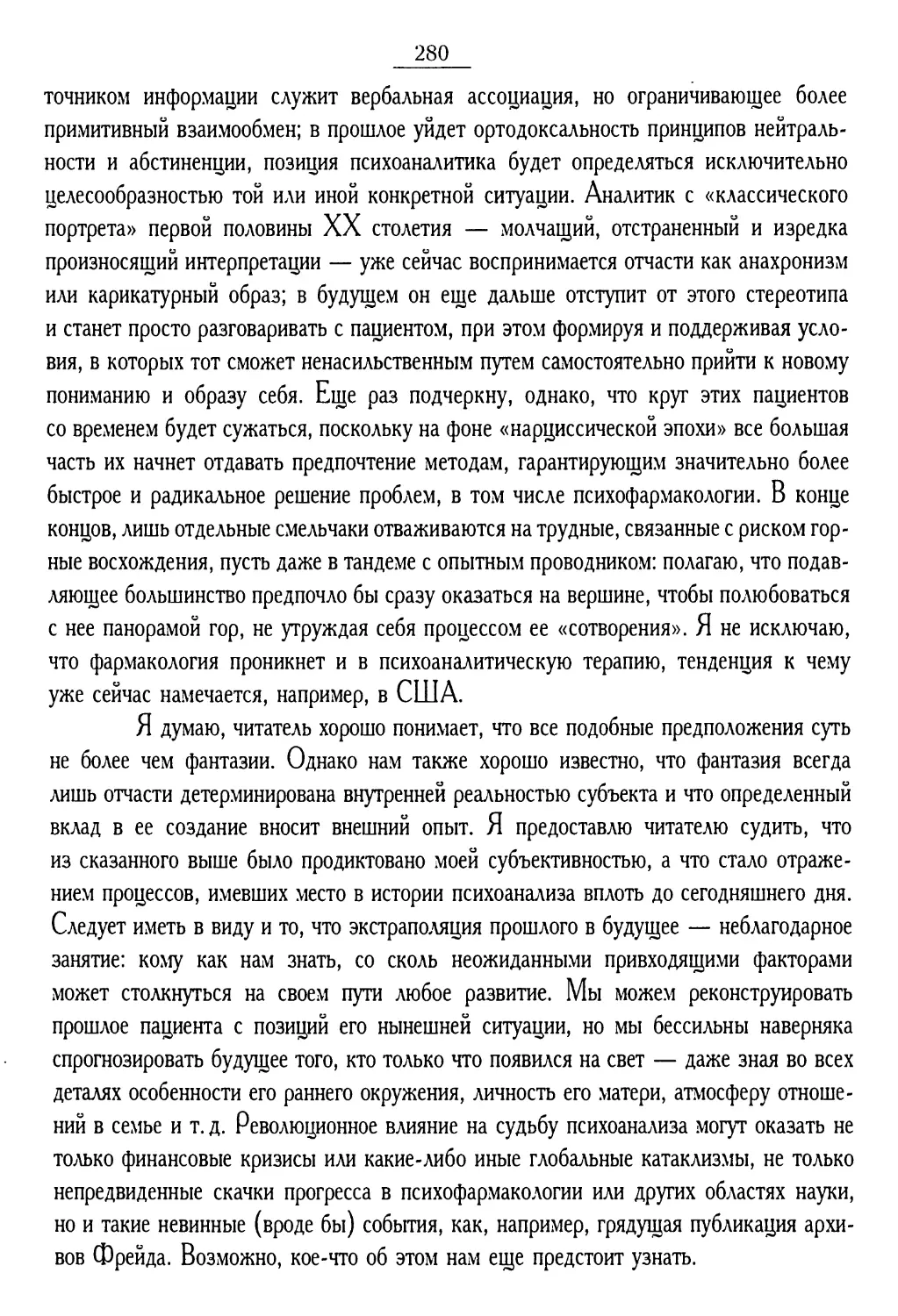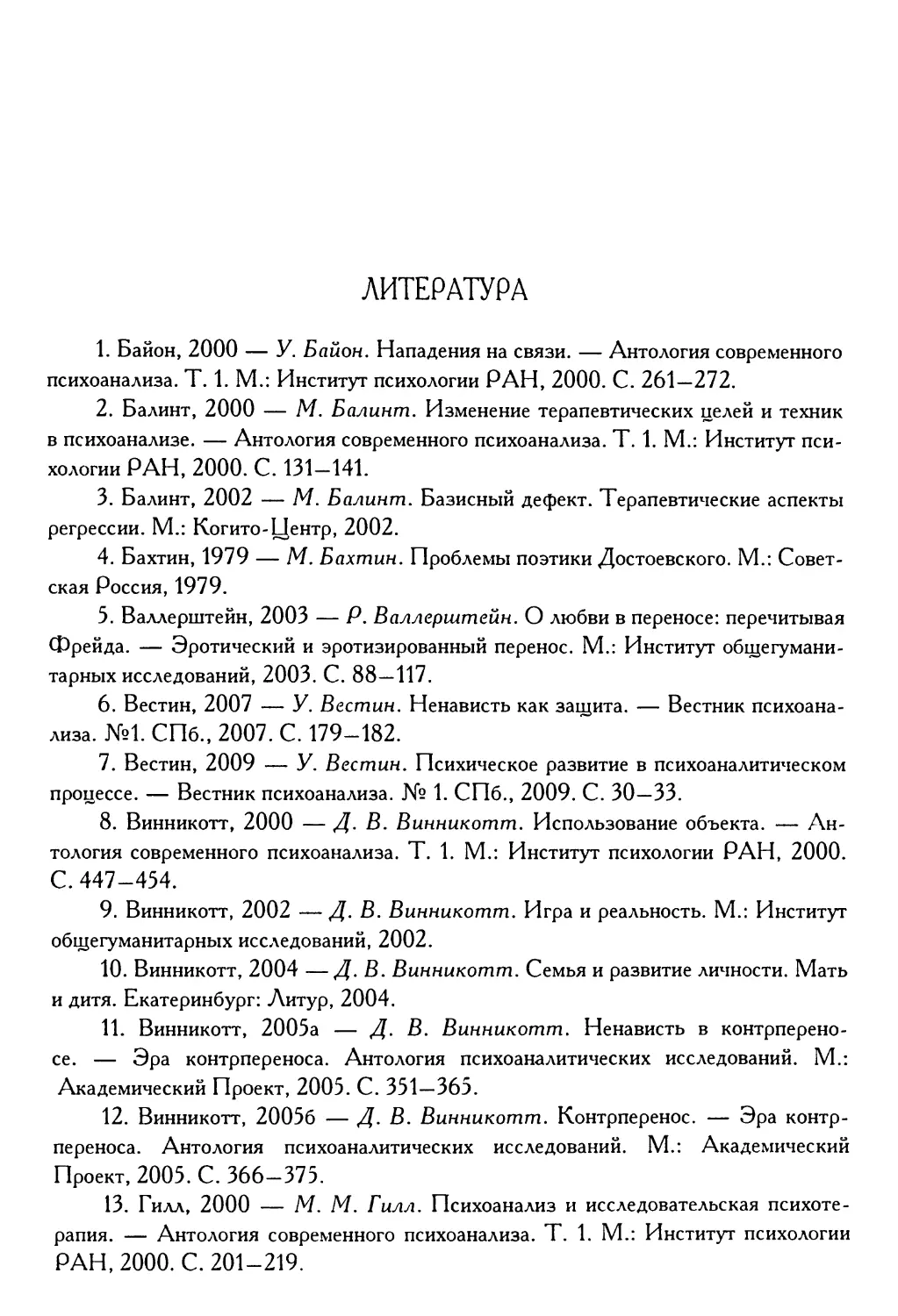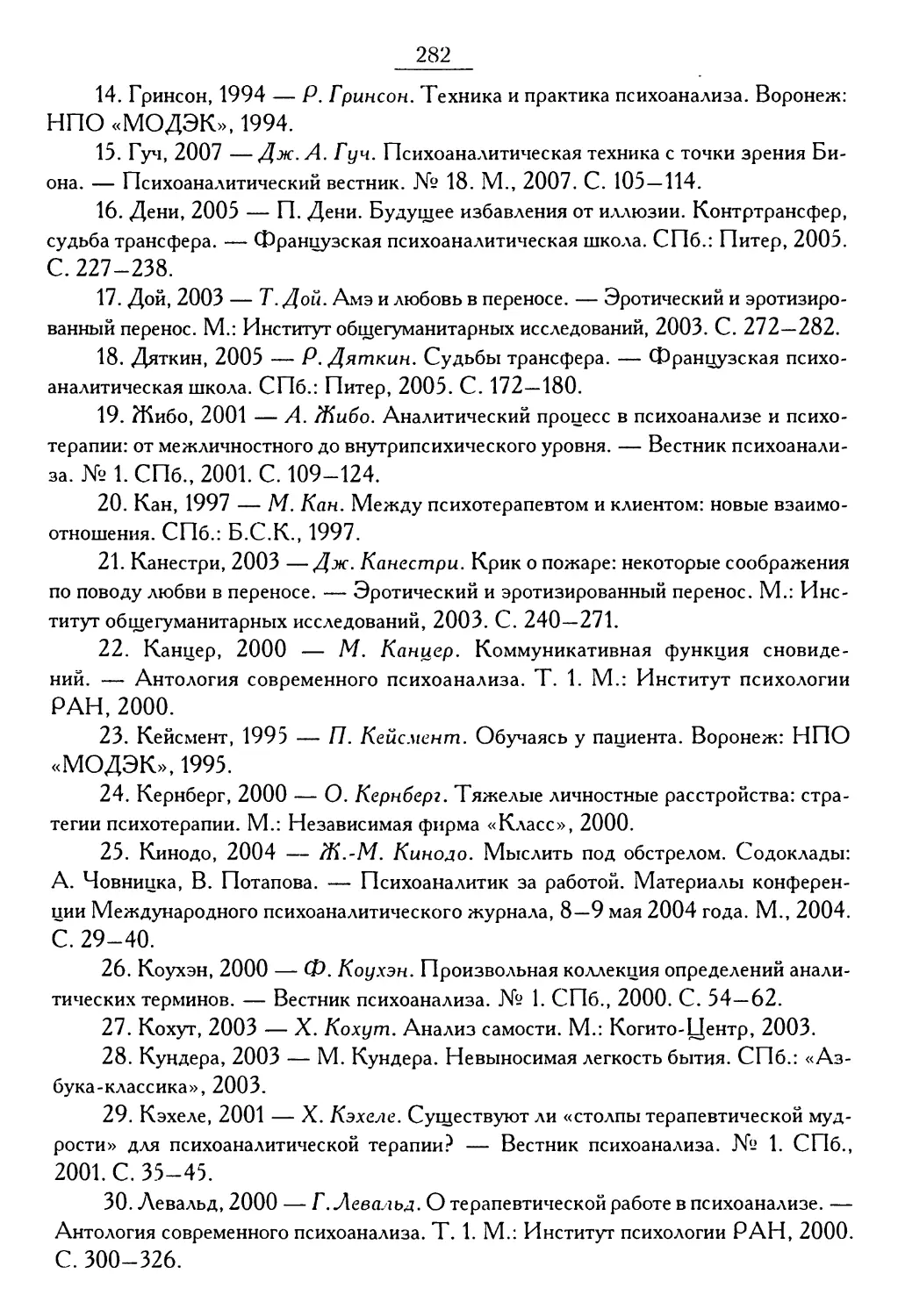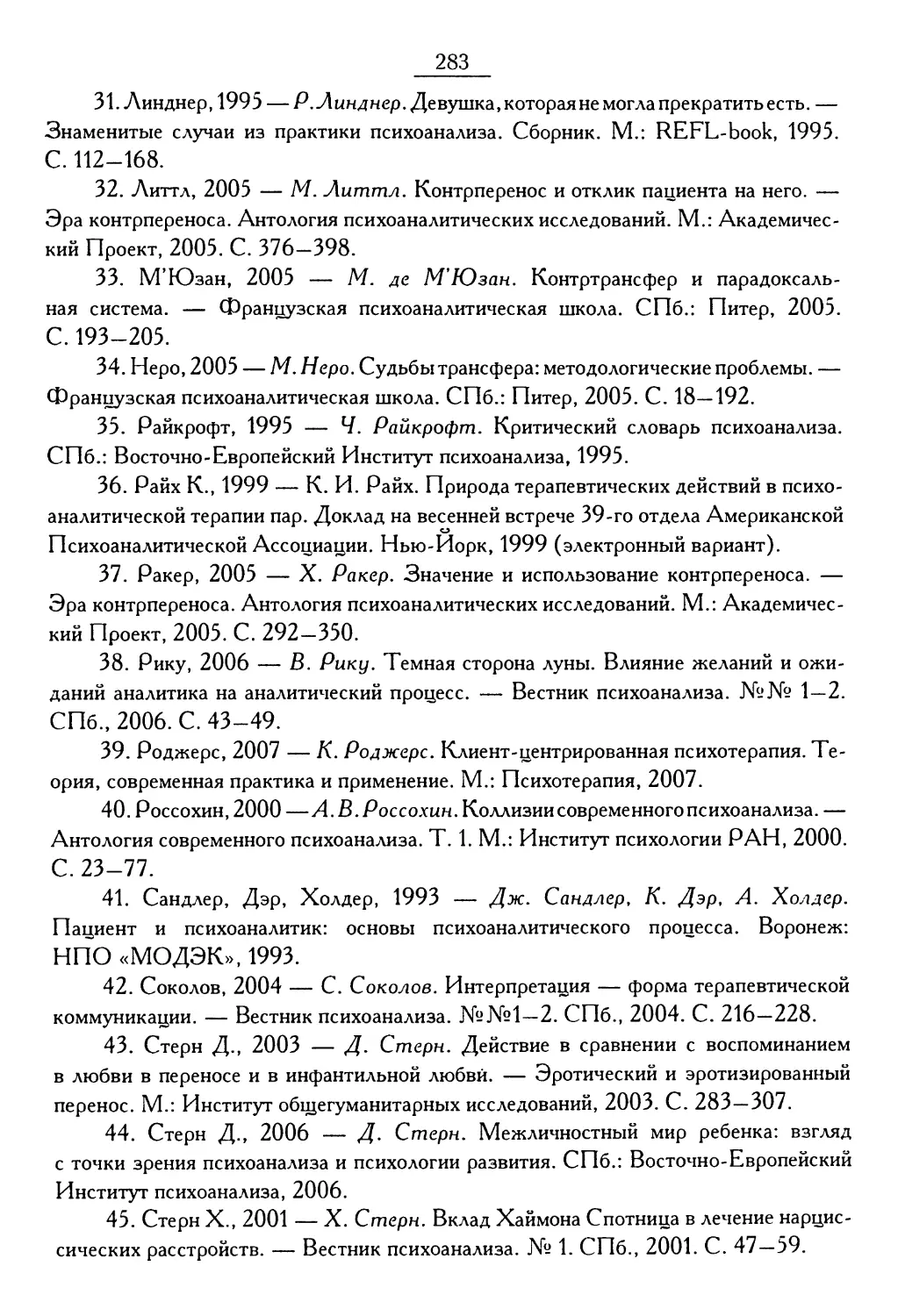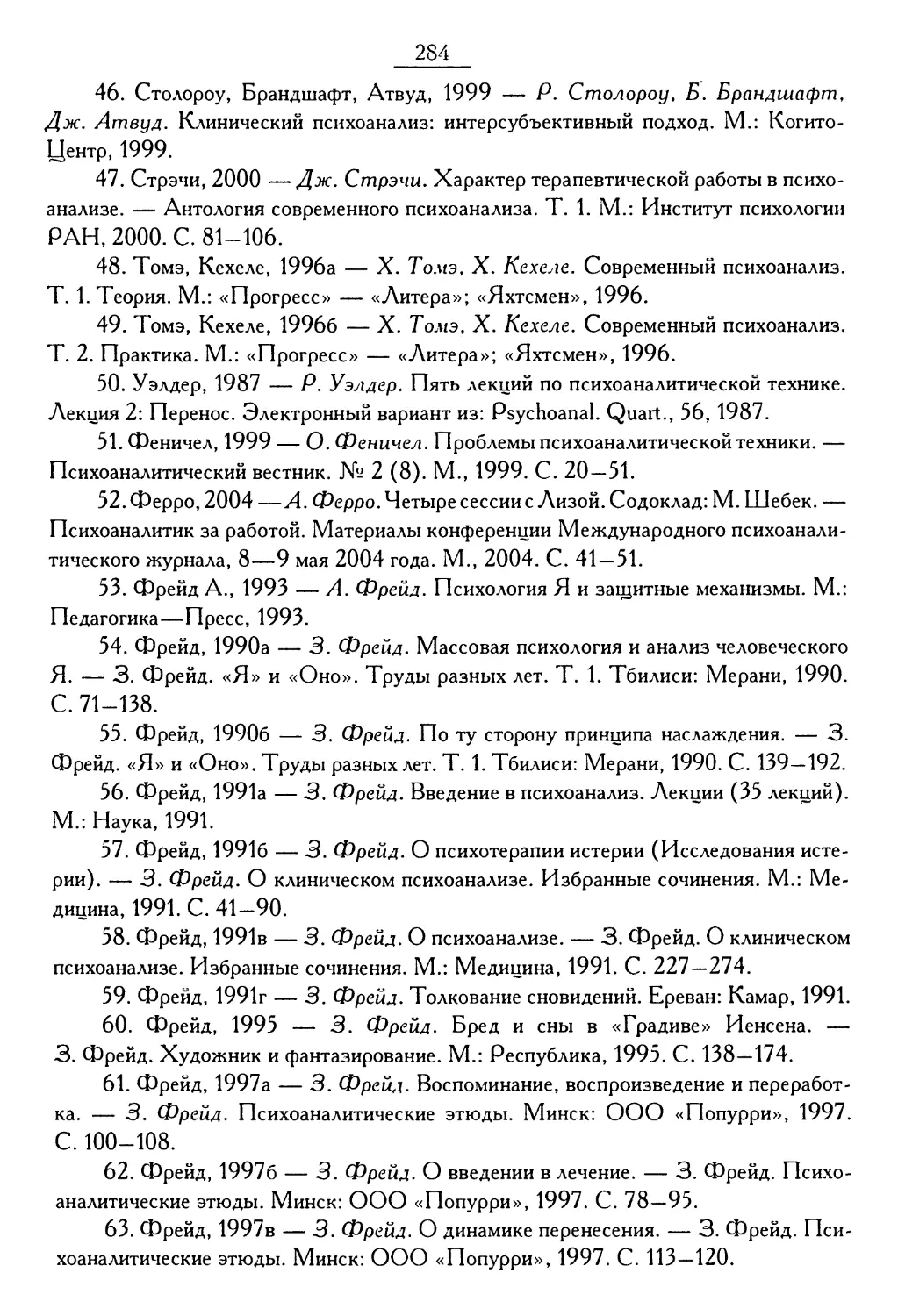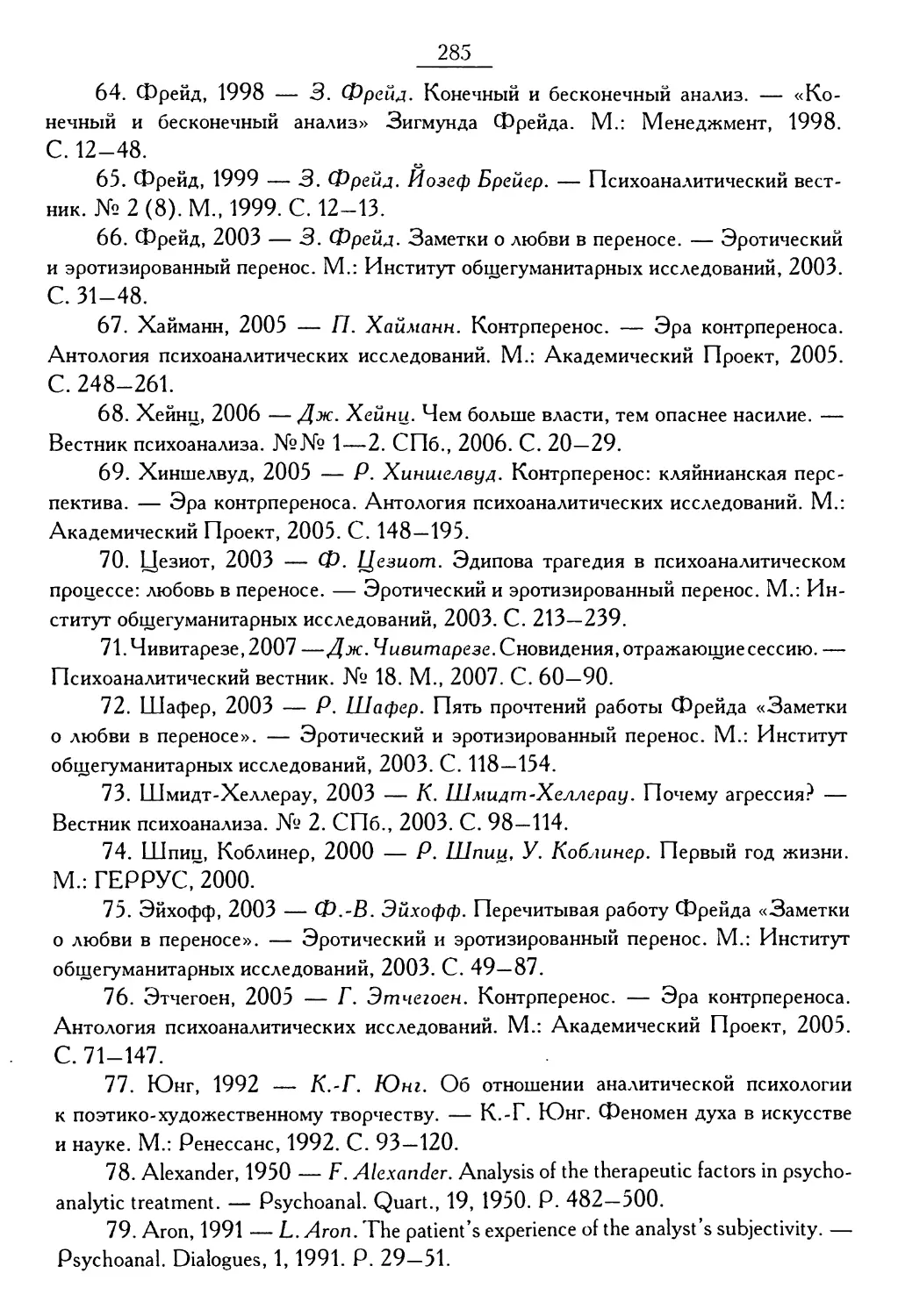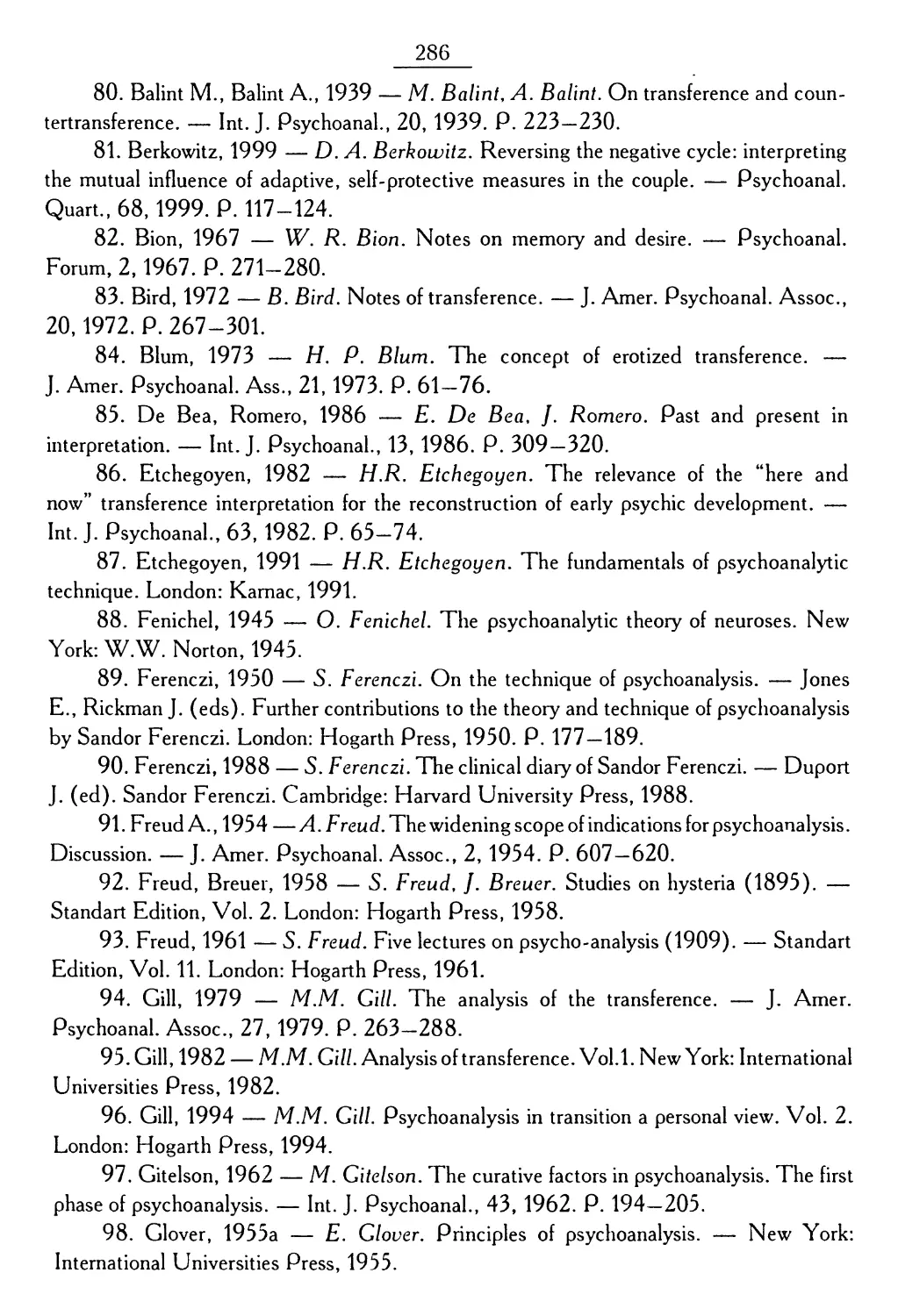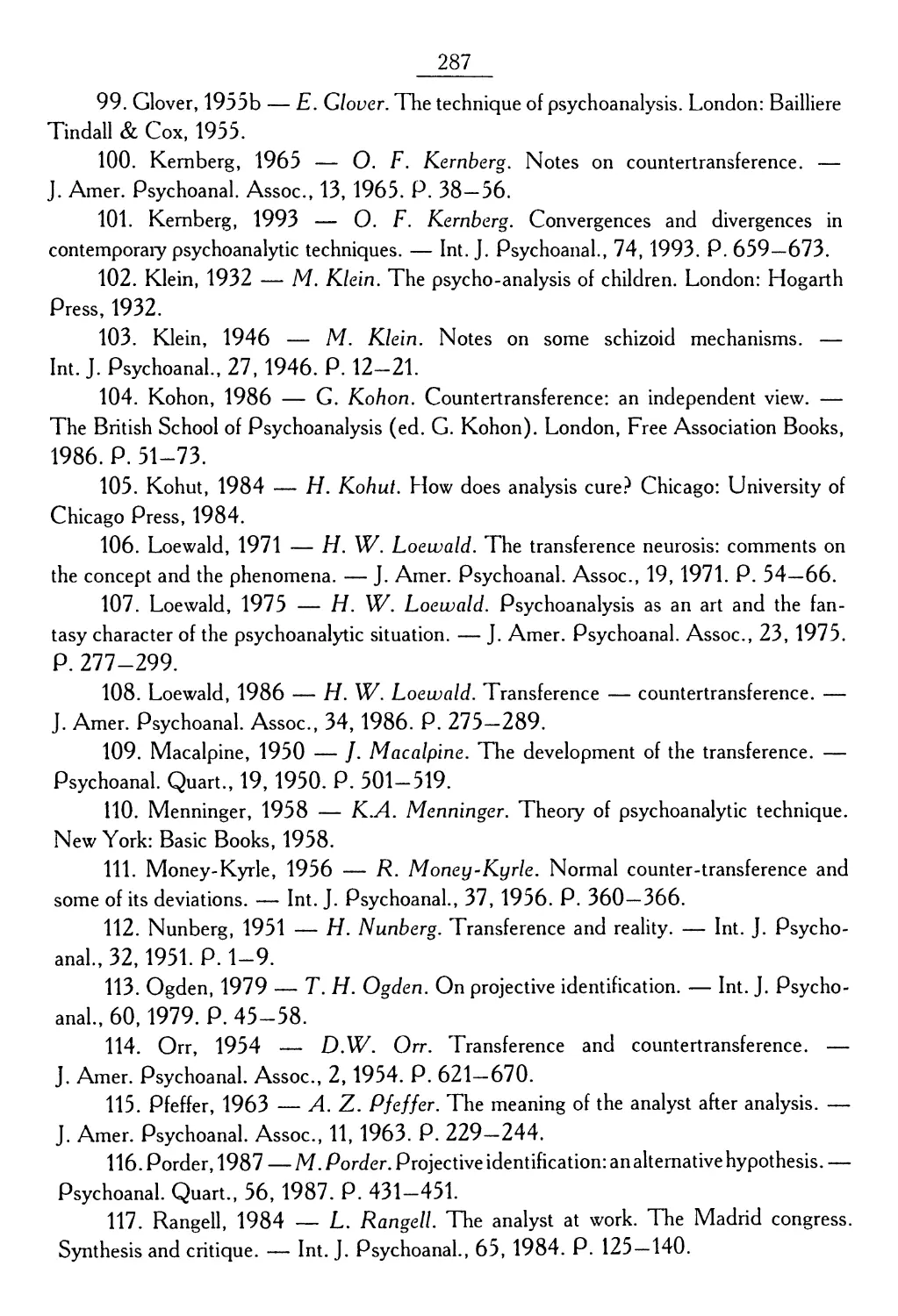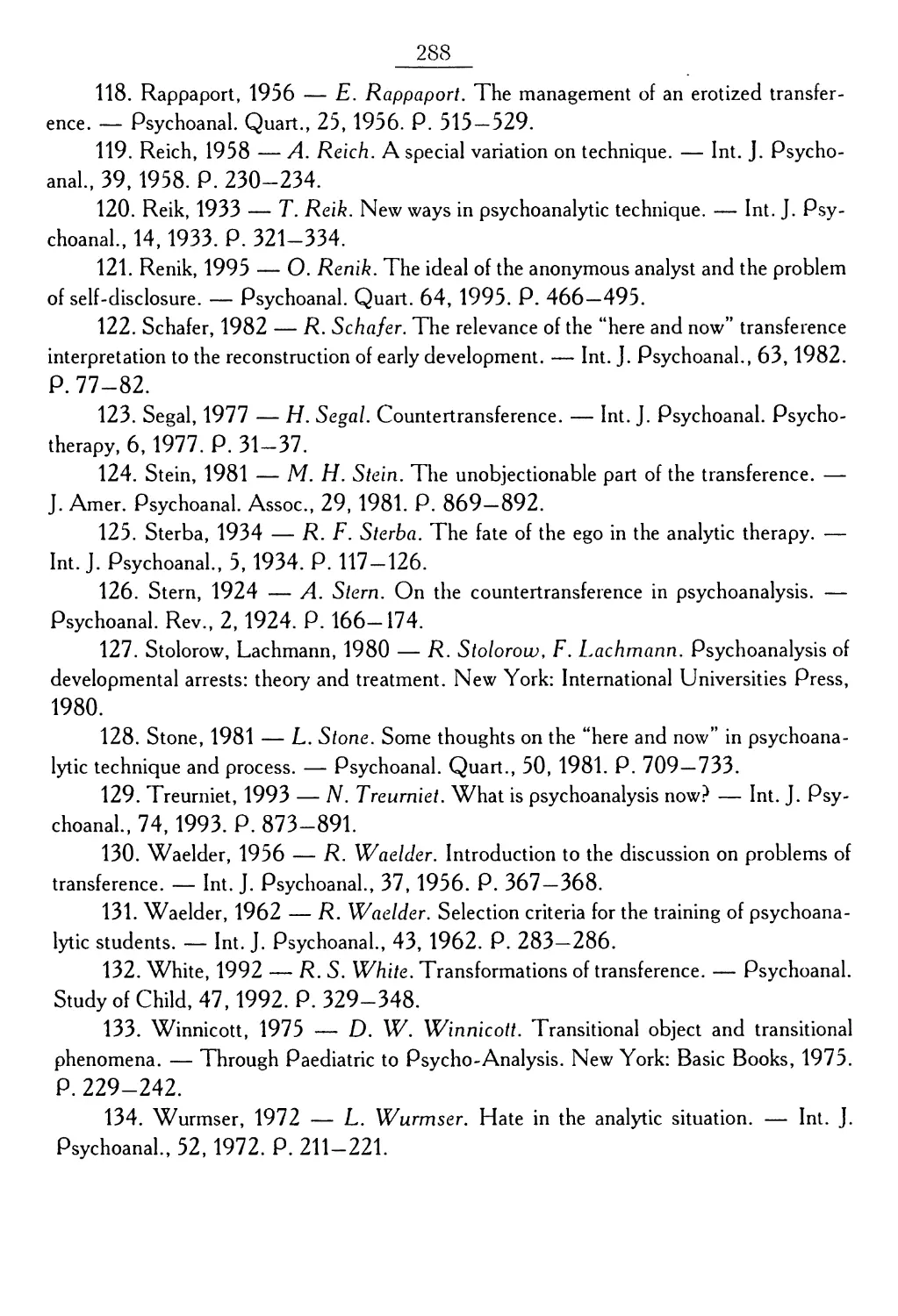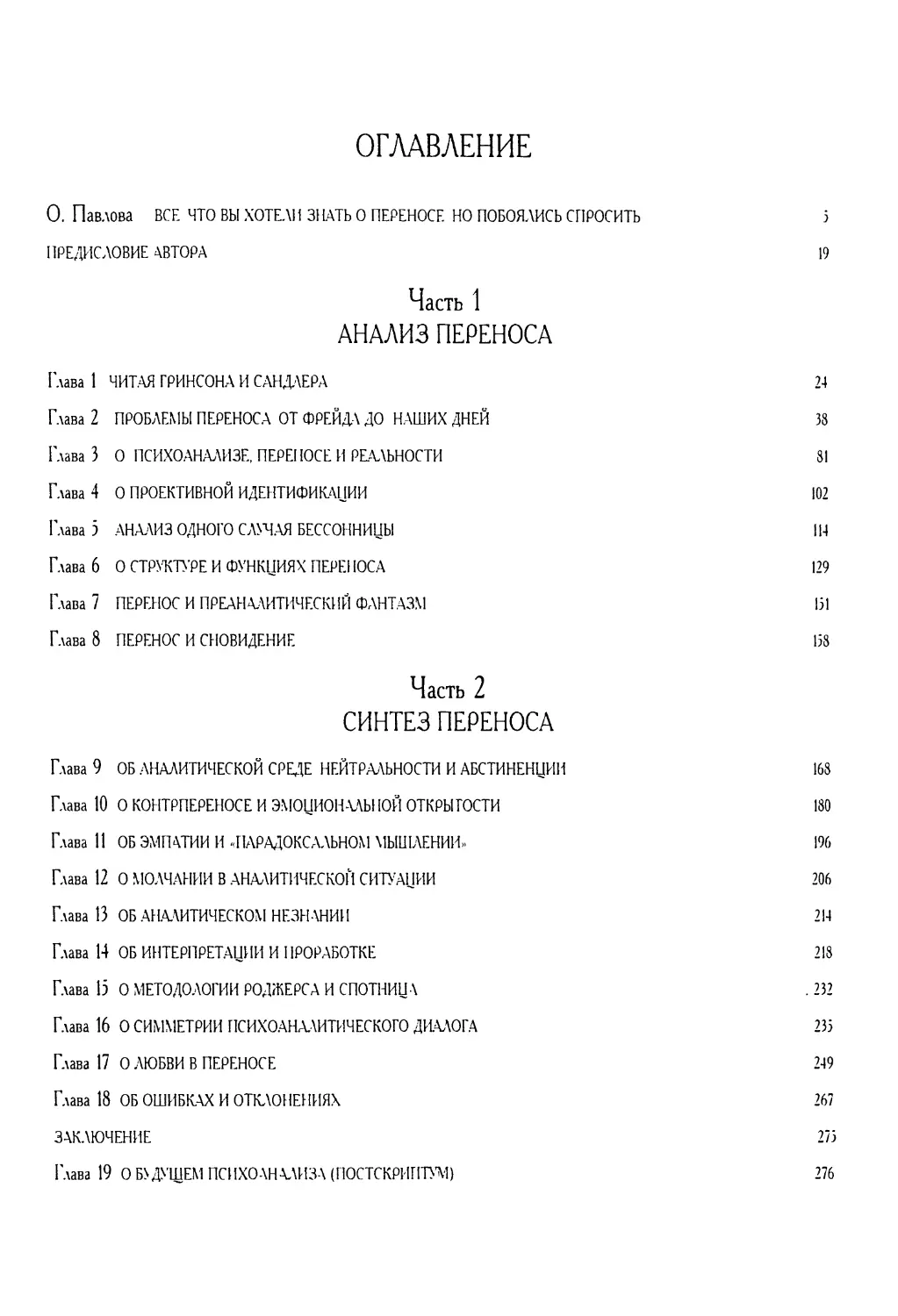Автор: Рожденственский Д.С.
Теги: социальная (общая) психология историческая психология личность психология семьи, быта, воспитания детей психоанализ
ISBN: 978-5-904378-11-0
Год: 2011
Текст
Д.С. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В пространстве
переноса
переноса
В ПРОСТРАНСТВЕ
ПЕРЕНОСА
Д. С. Рождественский
В ПРОСТРАНСТВЕ
ПЕРЕЙДЯ
Санкт-Петербург
2011
ББК 88.5
Рож 62
Рождественский Дмитрий Сергеевич
Рож 62 В пространстве переноса. - СПб: ИП Седова Е. Б., 2011,292 с.
ISBN 978-5-904378-11-0
Новая книга известного петербургского психоаналитика Д.С. Рождественского посвящена одному из важнейших вопросов терапевтической теории и практики - феномену переноса (трансфера). Для своего исследования автор использует обширный материал зарубежных аналитиков: от представителей «классического» психоанализа до современных психотерапевтов, внесших наибольший вклад в изучение явлений переноса и контрпсрсно-са Многолетний собственный опыт работы автора в качестве практикующего специалиста представляет несомненный интерес для читателей. Наблюдения и размышления, изложенные в книге, делают се увлекательной и полезной для всех (от начинающих до опытных профессионалов) интересующихся актуальными проблемами современного психоанализа.
ББК 88.5
Рож 62
ISBN 978-5-904378-11-0
© Д.С. Рождественский, 2011.
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ПЕРЕНОСЕ, НО ПОБОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ
О морские города! На стогнах ваших я вижу граждан, женщин и мужчин, чьи руки и ноги туго связаны прочными узами, связаны людьми, которые не поймут вашего языка, и лишь между собою сможете вы слезными жалобами, вздохами и стенаниями оплакивать ваши мучения и утраченную вами свободу. Ибо те, кто связал вас, не поймут вашего языка, как и вы не поймете их.
Из записных книжек Леонардо да Винчи
В современном психоанализе феномен переноса концептуализируется в трех основных парадигмах мышления, представляющих собой эволюционный ряд в истории развития психоаналитических взглядов: классической (теории влечения), с позиций теорий объектных отношений и в русле интерсубъективного похода1. Читая монографию Дмитрия Рождественского, очень скоро понимаешь, что для генерации собственных идей автор использует объединенное теоретическое пространство. В нем он проводит сопоставление и сравнение различных идей, концепций и технических приемов работы, и постепенно, в ходе исследовательского процесса, рождаются новые теоретические предположения или конкретный, реально применимый технический инструментарий. Впрочем, нельзя не отметить, что основной средой, стимулирующей авторские идеи, конечно же, является балин-товская школа. Рождественский de facto является последователем М. Балинта, продлевая парадигму балинтовского мышления и развивая технику работы, предложенную им. Однако
1 В понятии «интерсубъективный психоанализ» мной объединены многие современные направления и школы психоанализа, общим фактором и трансверсалью которых является интерсубъективность, то есть понимание аналитической ситуации как встречи двух взаимодействующих разных по своей природе миров: бионовское, балинтовское, теории психоаналитического поля, интерсубъективный подход Столороу, Атвуда, Брандшафта и многие др.
6
я рискну сказать, что течение психоаналитической мысли Рождественского не замыкается в данном узком русле, но обогащается и расширяется автором до концептуализации интерсубъективного поля психоанализа, находящегося сегодня в авангарде психоаналитической идеологии. Итак, что же составляет ценность и новизну монографии Дмитрия Рождественского, выделяет ее среди множества разнообразных работ, связанных с одной из центральных тем психоанализа — переносом?
В процессе освоения психоаналитической теории — как в период инициального обучения, так и в дальнейшей профессионализации — практикующим психоаналитически ориентированным специалистам приходится находиться в информационном потоке постоянно изменяющейся психоаналитической концептуализации. Ее изучение крайне важно в силу постоянного привноса меняющих теорию и практику исследований, модернизирующих и адаптирующих их в соответствии с особенностями психического универсума человека данного этапа культуры и социума. И мне приятно отметить вклад Рождественского в развитие теории и практики работы с переносом, тем более, что за весь период существования психоанализа2 мы фактически не имеем хоть сколько-нибудь значимых достижений на отечественной почве.
С другой стороны, нужно отметить основную трудность в психоаналитическом обучении и «повышении квалификации» через изучение литературных источников — весьма редко удается извлечь из опубликованных текстов самый необходимый ингредиент — «Как же работать с пациентом? Что делать в том или ином случае психоаналитической практики?». В психоаналитических институтах предлагается изучить теорию, которая не отвечает на этот вопрос и дает лишь косвенные намеки на то, как же надо «психоте-рапевтизировать»3. Затем предлагается перейти к ознакомлению с практическими приемами, что чаще всего происходит в русле изучения давно устаревших доктрин, ныне уже весьма далеких от практики и техники сегодняшней психоаналитической терапии и уж тем более — от будней современного клинического специалиста. С горечью надо отметить, что нет учебников или какой-либо другой литературы на русском языке, которые могли бы стать опорными в этом моменте, и здесь монография Рождественского удачно и адекватно заполняет пробел, если не сказать «зияющую дыру». Она поистине открывает двери в «святая святых» психоаналитического кабинета. Автор смело делится с нами своим опытом, как позитивным, так и негативным, и, что немаловажно, не игнорирует и не скрывает свои промахи4, внимательно и подробнейшим образом изучая
." Достаточно упомянуть Лу Андреас-Саломэ и Сабину Шпильрейн, автора всемирно известной работы «Деструкция как причина становления» (1912), ставшей фундаментом для всех дальнейших, в том числе фрейдовских, исследований влечения к смерти.
3 Изучение техники психоаналитической работы на базе отечественных вузов имеет ряд своих проблем, связанных, прежде всего, с недостаточным количеством времени, отводимого на анализ, и теоретическими предпочтениями обучающего аналитика, ограниченными рамками, как правило, одного из направлений в психоанализе, что вполне естественно. Опыт других клинических парадигм, о котором можно узнать из литературы, расширяет видение психоаналитического процесса.
4 Следуя примеру П. Кейсмента.
7
и исследуя их, извлекает из них пользу для себя и читающего, что создает атмосферу искреннего диалога автора с читателем в процессе реальной работы.
Трансформация теоретических взглядов и непосредственных технических подходов к переносу, связанная с развитием психоаналитической теории и клинической работы, потребовала пересмотра концептуализации в переносе и техник работы с ними. Рождественский переосмысливает теорию и практику в компаративном ключе, прослеживая канву базовых теоретических моментов, касающихся объекта его исследования, воссоздает тонкую структуру феномена переноса и делает новаторские теоретические выводы, совмещая их с мнениями многих других исследователей в психоанализе, органично вписывая их в мозаичный контекст аппарата психоанализа.
В первых двух главах монографии подробно и ясно описана история развития взглядов на перенос, с разных позиций рассмотрены дефиниции многих теоретиков психоанализа, благодаря чему спектр значений понятия «перенос» становится вполне отчетливым.
В книге Рождественского много вопросов: часть из них ставит автор, другие — возникают в результате прочтения. И это само по себе хорошо, потому что психоанализ — это «философия непонимания»9, в теоретическом плане всегда оставляющая возможность отвечать на поставленный вопрос еще и еще раз, до бесконечности* 6, а в практическом плане предписывающая аналитику сомневаться и не быть до конца уверенным ни в чем. Эта открытость стиля Рождественского, в отличие от герметичных текстов, «закрывающих двери мышления» окончательной и бесповоротной конкретизацией, в то время как эти «двери» должны быть как раз открытыми, — крайне необходима, чтобы текла река психоаналитических идей и зарождалось новое, улучшенное понимание, приближающее нас к истине. Автору близка маевтика сократовской исследовательской позиции — быть босым (то есть невооруженным, в ослабленной позиции) с факелом в поиске вопросов и ответов. Он выступает за неопределенность аналитической ситуации, где аналитик отказывается от уверенности в своих знаниях, силах, умении, несмотря на то, что такая уверенность традиционно навязывается ему, да и сам он желал бы ею располагать. К бионовским рекомендациям для аналитика «быть без памяти и желаний», Рождественский прибавляет еще одно — «с нуля» узнавать каждого нового пациента, без каких-либо сравнений с тем, что уже встречалось в его практике.
Внимательнейшим образом Рождественский просматривает динамику и факторы развития взглядов на перенос от помехи в лечении, его вреда и учета на заре психоанализа к интерпретативным аспектам интрапсихических содержаний и в дальнейшем к смещению акцентов в сторону интерсубъективности. Анализ данной эволюции психоаналитических теорий и связанных с ними техник работы с переносом позволяет автору сделать определенные выводы относительно понимания терапевтических функций переноса.
Рождественский не только теоретизирует, но и предлагает на основе своих идей «другие» технические подходы, находящиеся в русле современных приемов клинической
3 У. Бион.
6 См. фрейдовскую концепцию пупа сновидения.
8
работы, специфики проблем личности нашего времени, и, что немаловажно, акцентируется именно на аспектах психотерапевтической психоаналитической работы, которая в последнее время в мире и, в частности, в нашей стране, активно развивается, будучи менее «энергоемкой» по сравнению с психоанализом, который требует много времени и денежных затрат как при подготовке специалистов, так и в случае лечения для пациентов, и перешел в разряд совсем уж элитарного лечения для избранных.
Красной нитью через все размышления Рождественского тянется важный ключевой вопрос, уверенного ответа на который в настоящий момент еще нет в психоанализе: что же является основным инструментом или способом исцеления в переносе: интерпретация или исцеляющие отношения? В ситуации выбора: интерпретировать или взращивать пациента в атмосфере переноса — Д. Рождественский для себя лично выбирает последнее. Он не директивным и не навязывающим способом рассказывает о своих взглядах, предлагая методологию организации, работы и разрешения переноса в метафоре чашки Петри, необходимой для «исправления» психических дефектов и зарубцевания ран: возвращение в процессе психотерапии назад к точке повреждения, прохождения заново не пройденных или пройденных, но сбойно, этапов психоэмоционального развития.
Интересна и спорна предлагаемая Рождественским метафора психоаналитического лечения как альпинизма, где целью является не покорение вершины, а процесс восхождения. В связи с этим мне хотелось бы вспомнить Св. Августина, еще в средневековье предостерегавшего человечество о беде, поджидающей его при следовании нарциссическим целям. В «Исповеди» Августин рассказывает, как он был вынужден постепенно расстаться с мечтой о святости и совершенстве. Нарциссическая волна природы человека, по его мнению, должна разбиться об утес осознания предопределенного природой собственного несовершенства, и признание дефектности становится одним из ключевых моментов в истории любого человека. Августин отдает себе отчет в том, что никогда в жизни не будет безукоризненным и что не стремление к совершенству является путем к спасению для человеческой особи. В своем учении святой отец говорит о том, что символически понимаемый смысл и содержание жизни не в восхождении на гору (метафора совершенствования), а в странствии: пилигрим Св. Августина всегда в пути, в поиске себя. Конечно же, «слова как муаровый шелк», и «все зависит от того, под каким углом на него взглянуть» (как писал Джон Фаулз в «Женщине французского лейтенанта»); возможно (и скорее всего наверняка), у автора есть и другие объяснения, но метафора на первый взгляд выглядит пропитанной духом своего времени, ее нарциссическая подоплека достаточно хорошо просматривается, и хочется резюмировать, что все мы дети своего времени — эры нарциссизма.
В своей книге Дмитрий Рождественский организует исследовательский процесс главного инструмента психоанализа — переноса, используя свой богатый и долгий психотерапевтический опыт в соответствии с той психоаналитической «методологией», которую он смело раскрывает перед читателями и которая составляет основу его клинической практики и мастерства. Автор постепенно движется от анализа (изучающего расчленения)
9
в сторону синтеза (интеграции частей, воссоединения), результатом которого становится новое единство — сплав его собственной теории и практики. В книге поднимаются сложные и извечные терапевтические проблемы и вопросы тонкостей подходов к неизбежно возникающим в терапии ситуациям (к примеру, удовлетворять или анализировать потребности пациента), рассчитанные на хорошее вчувствование, понимание происходящего и осмысленное действование со стороны аналитика. Вряд ли когда-либо найдутся точные и конкретные ответы для всех сложных эпизодов психотерапевтической работы, обозначающие «приметы», что конкретно нужно делать, но попытки приблизиться к оптимальному решению посредством обсуждения условий его принятия — крайне важны. Таким конкретным вкладом в разрешение данной проблемы видится накопленный практический опыт многих специалистов, в этом случае терапевтические разрешения ситуаций, которыми изобилует данная монография — большое подспорье в клинической работе, несомненно полезный опыт, который может помочь, обогатив техническую кладовую практикующего психоаналитическую терапию специалиста.
Тонкие психологизмы клинических виньеток, мастерски прописанные рукой автора, не только предлагают нам психотерапевтические идентификации, но оказываются неожиданно плодотворными и в теоретическом плане, они могут порождать интересные идеи у читающего при их осмыслении. Фрагмент, посвященный демонстрации автором действия проективной идентификации в случае бессонницы, заставил меня задуматься об особенностях переноса при комплексе мертвой матери7. Случай пациентки Алисы отозвался во мне «воспоминанием» о концепции А. Грина и ее продолжении А. Моделлом8 (идея о «мертвом отце»). Происходящее в психотерапевтическом контексте с пациенткой и психоаналитиком представляется мне активацией «мертвых объектов» во внутреннем мире Алисы, далее в переносе и в душе аналитика: образа матери пациентки в процессе анализа, вслед за которой «восстает» «мертвый эдипов отец» с той стороны этого мира. Тогда, если все объекты «мертвы», включая аналитика, который вовлечен в эту игру, закономерно предположение, что существует какая-то особая форма переноса — «мертвый перенос», при котором основная цель и средство — передача с помощью проективной идентификации мертвого интернализованного объекта пациентом аналитику для реанимации. Такая своего рода зона мертвенности в психической вселенной пациента, при встрече с которой аналитик (что, как показывает практика, нередко происходит в случае таких расстройств) по-разному и в разной степени «засыпает» — то ли защищается, то ли отыгрывает в контрпереносе, идентифицируясь со своим пациентом, — вследствие своих реакций на установившуюся мертвую область в отношениях.
7 Концепция А. Грина см. в: The Dead Mother: The Work Of Andre Green, edited by Gregorio Kohon, published in association with the institute of psycho- analysis. London: Routledge, 2000.
8 Modell A. The dead mother syndrome and the reconstruction of trauma / The Dead Mother: The Work Of Andre Green, edited by Gregorio Kohon, published in association with the institute of psycho- analysis. London: Routledge, 2000.
10
В плане клинических осмыслений Дмитрия Рождественского «за кадром» психоаналитического сеанса нельзя не отметить, что в тексте в полной мере раскрыта сущность множественности психоаналитического взаимодействия, самая сердцевина ее интерсубъективного содержания. В связи с этим хочется сказать, что автор придерживается парадигмы многослойности чувственного и интеллектуального понимания происходящего в процессе работы. Вскрывать слои психоаналитического видения — это довольно трудная, хотя и весьма увлекательная задача, которая вполне ему удается. Здесь нельзя не вспомнить шутку любимого всеми нами Шрека, который говорит, что «мы, людоеды, как лук» — и в ответ на вопрос: «Что, такие горькие?» — отвечает: «Нет, многослойные». Психоаналитическое осмысление — как горько, так и многопланово. Именно эта идея в самом своем эссенциальном виде и находит отражение в трехмерной концепции переноса, предложенной Рождественским. Именно эта, выдвинутая и обоснованная автором модель переноса, не похожая в теоретическом плане ни на одну из существующих на настоящий момент концептуализаций трансфера, является самым «цимесом» данной работы и составляет ядро как теоретического, так и клинического подхода автора.
Трехмерная модель переноса соткана из трех независимых, но взаимопроникающих умозрительных пространств развития психоаналитического «действа». Каждый из этих переносных слоев имеет свою систему коммуникативных координат (функциональную, невербальную и внутриобъектную), определяемых соответствующими векторами: сверхидеализации, проективной идентификации и поиска потерянного, несуществующего в реальности объекта. Эта трехмерная структура переноса по своей организации и специфике взаимодействия на каждом уровне, как мне видится, незримо обращена ко второй топике 3. Фрейда (модель личности) и соотносима с ней. Можно провести параллели между слоями переноса и инстанциями сознательного, предсознательного (дескриптивного бессознательного) и динамического бессознательного, где процесс анализа идет с постепенным погружением аналитического взаимодействия в бессознательные мотивации и вовлекает во взаимодействие все более глубинные сферы личности. Стадийность переноса видится в прокреативной метафоре последовательных фаз: осеменения (аналитик создает все предпосылки — питательную среду — для зарождения объекта), затем вынашивания объекта (пациентом и, возможно, частично аналитиком?) и хаоса (в пациенте) как момента рождения. Не случайно Рождественский останавливается на подробном обсуждении стадии хаоса в переносе. «Только из хаоса рождается танцующая звезда» (Ницше), здесь автор видит ключевой момент переносного контекста: неизбежность ее возникновения и главную задачу аналитика. Это состояние эмоционального хаоса мы часто наблюдаем у своих пациентов в момент снятия нарциссического панциря, который носился столь долго, что уже почти прирос, стал второй кожей. Панциря между мной и мной, а не мной и окружающей средой, то есть предохраняющего и изолирующего человека от его собственных чувств, эмоций и других содержаний бессознательного. Затопление чувствами ментальной сферы вследствие «устранения» кожуха — отнюдь не приятное ощущение для пациента,
и
оно дезорганизует его и держит в напряженном состоянии бессилия и беспомощности, не позволяя думать, действовать, принимать решения, получать удовольствие как он/она это делали ранее. Поэтому, на мой взгляд, Рождественский поднял важный вопрос, который не особенно привлекает внимание в теоретических изысканиях в психоанализе, но на деле оказывает большое влияние на возможность успешного продолжения терапии. Человек, конечно же, приходит к психоаналитику не с мыслью о том, что ему станет хуже в терапии, а необходимое в терапии состояние хаоса переживается достаточно долго и «инвалидизирует» основательно, и здесь крайне необходимо понимание происходящего обеими сторонами в анализе.
Стоит остановиться особо на третьем измерении, о котором пытается говорить и думать Дмитрий Рождественский, — на этой весьма неопределенной виртуальной реальности переноса, где нет реального объектного отношения и есть объект, никогда не существовавший в реальности. Поиск потерянного внутреннего объекта и обсуждающиеся Рождественским попытки пациента «обнаружить или сотворить истинно необходимый объект, не переживавшийся в реальности» — предлагаются как важные фокусы психоаналитической работы в пространстве третьего измерения переноса и носят весьма дискуссионный характер. Можно предположить также, наряду с упомянутой гипотезой, что идет не поиск самого «рапрошманного»9 объекта, существование которого подвергается большому сомнению, а обнаружение и восстановление утерянной связи в ситуации наличия «плохого» объекта в репрезентационном мире, когда объектные отношения с ним носят негативный характер или разорваны (информация о них отрицаема, эвакуирована). Ситуация с этим объектом, находящимся на границе своего существования, вызывает ассоциации с потерянными ключами: они где-то находятся после того как их потеряли, но их уже не найти, поэтому их для потерявшего нет. Как один из вариантов прочтения данного фрагмента монографии, направленность происходящего в анализе мне видится скорее как постепенное изменение полярности поля, существующего в репрезентационном мире между Я- и объект-репрезентацией в процессе терапевтической работы, что приводит к возрождению и активизации объекта привязанности и связи с ним. Данный теоретический вертекс Рождественского дает новое видение фигуры аналитика и его функций в терапии. Аналитик становится новосотворенным внутренним объектом, жизнетворящей созидающей фантазией/функцией, основная задача и цель которого — быть проводником по неизведанным мирам самого пациента, отчасти напоминающего по стилю участия во взаимодействии с другим Чеширского кота из «Алисы в стране чудес» Л. Кэррола: «Говорят, ищи — и ты найдешь, но никто не говорит, что именно ты найдешь».
С другой стороны, согласно Рождественскому, в этой точке зарождения протообъект вмещает в себя то, что потом будет самостью (идентичностью, собственным Я), и
9 Здесь я образовала прилагательное от французского слова rapprochement, переводящегося как сближение, примирение, приближение, и я не имею в виду подфазу воссоединения по М. Малер.
12
то представление об объекте, которое в дальнейшем обусловит внешние связи и коммуникации. Феномены переноса рассматриваются Рождественским как латентно существующие и зарождающиеся «между строк». Автор рассматривает психоаналитическое взаимодействие как процесс создания потерянного объекта в терапевте, при этом терапевт используется в качестве зеркала, отражающего собственные образы пациента, и это наводит на мысль, что этот искомый объект и есть сам субъект, то есть его самость, а не объект отношений — Другой. Тогда возможен и закономерен следующий вопрос. Что ищет человек: потерянного себя или утраченного Другого? Возможно, в данной точке происходит странное событие — совмещение того, что «находится на концах отрезка», и мы попадаем в удивительный мир петли Мебиуса, где две разные поверхности (поиск собственного Я и поиск объекта) становятся одной.
Акцент на созидающем, творящем аспекте переноса, предложенное к овладению «искусство не делать с переносом ничего», — достаточно неожиданная практика, хотя и вполне может быть понятной. Здесь можно провести аналогию с той помощью, которую психоаналитик способен оказать горюющему человеку: мы не можем ничего сделать: ни ускорить процесс, ни уменьшить боль, — мы можем просто быть рядом, сопереживая и разделяя страдания, как «банши»10, помогающая принять смерть.
Определенно интересна теоретическая позиция Дмитрия Рождественского в отношении проективной идентификации и плотно связанных с ней воззрений на контрперенос. В своей книге автор выступает в поддержку осторожной и обдуманной эмоциональной открытости и искренности разделения чувств, разумно объясняя свои выводы и технические приемы необходимостью поддержания аналитического процесса и оказания оптимальной и адекватной проблемам и нарушениям помощи пациенту в атмосфере взаимного уважения и принятия человеческой «встречи», без которых, не трудно себе представить, в какую игру превращается психоаналитическое взаимодействие. Вообще, много хороших и добрых слов сказано Рождественским в поддержку до сих пор гонимого «бедненького» контрпереноса (особенно в случаях негативных его проявлений): о работе с ним как во внутрипсихическом аспекте — понимании и проработке, так и вовне в аналитических «действиях» в процессе анализа, и о необходимости акций аналитика, связанных с контрпереносными реакциями в работе с пациентом. Автор ратует за выражение чувств аналитиком, причем в центре рассмотрения оказывается область самого трудного — негативных агрессивных проявлений, как у психотерапевта, так и у пациента. Пропагандируя искренность эмоционального обмена, что все реже и реже встречается в современном мире и не так-то легко дается людям, Рождественский отстаивает живое интерсубъективное психоаналитическое поле, возникающее в процессе взаимодействия двух людей, вклад каждого из которых необходим. Пикантные темы, острые моменты и темные углы концепции контрпереноса не смущают автора. Проблемы выражения чувств аналитиком для пациента, и в особенности негативных, странные совпадения в жизни пациентов, поражающие до глубины души за
10 Мифическая фигура ирландского эпоса, появляется в момент смерти.
13
гадочные способы передачи информации: семейные тайны, о которых пациенты не могут знать, но которые вопреки всему владеют ими на бессознательном уровне — именно эти труднодоступные темы, замалчиваемые по негласному психоаналитическому «сговору» в силу неудобства их обсуждения и близкого «запаха» инфернальности (отсылки к магии, волшебству, экстрасенсорике, от которых психоанализ старательно и сознательно пытается отмежеваться), привлекают внимание Рождественского.
Хочется думать, что в книге Рождественского каждый читатель увидит что-то свое, что «зацепит» его, заставит остановить мгновение и задуматься. Отмечу многогранность и многозначность текста, несмотря на четко выраженную и изложенную позицию автора. В силу этой особенности текста, способствующей его открытости к прочтению, каждый читающий будет понимать изложенное через призму своей субъективности, а значит, как-то по-своему. Поэтому все, что написано в данном предисловии, есть всего лишь одна из возможных граней восприятия книги.
Дмитрий Рождественский ищет и указывает на очаги зарождения многих психических феноменов в ранних отношениях индивида, в архаике невербального диалога «мать-младенец». Однако в этом ключе хочется отметить, что, как всегда в психоанализе, упускаются из рассмотрения социальные и культурные контексты. Возможно, пока еще достаточно сложно изучать в психоанализе междисциплинарный кросскультурно-истори-ческий контекст, из которого можно было бы выделить факторы влияния и совместить их с имеющимися в психоанализе. Однако о многих проблемах, о которых размышляет Рождественский, можно было бы подумать и в социокультурном ключе с обращением к коллективному бессознательному. Может быть, это и звучит несколько фантастично, но кто знает, как проявляется в нас наш далекий предок — древний человек, какими навыками выживания в дикой природе мы сумеем воспользоваться, если нам удастся исследовать переносные контексты вглубь истории не только данного индивида, но и вида, и активизировать эту память?
Наверное, нелегко адептам «лечения словом», приверженным классическим моделям психоанализа, будет читать, а тем более встроить в свой теоретический аппарат технику и практику работы, предлагаемую в данной монографии Дмитрием Рождественским. Аспекты «врачевания молчанием» входят в идеологическую конфронтацию с целеполагающими установками в психоанализе. Новое видение и новые формы работы, предлагаемые автором, — отказ от работы с сопротивлением пациента, которая заменяется на эмпатическое присоединение и ожидание проявления всплывающих и устраненных содержаний бессознательного. Молчание, вообще как феномен, рассматривается Рождественским полярно общепринятому в психоанализе: «движение от» (психические содержания осознания и переживания, которых хочется избежать) заменяется на «движение к». Вся картина наблюдения совершенно меняет свой смысл и значение, это аналогично тому, с чем мы сталкиваемся, когда рассматриваем картинки «фигура-фон», где проступают по очереди совершенно разные образы, включенные совместно в изображение.
14
О потребностях. Во глубине души, давно забытые, покрытые слоем пыли и множественными более поздними наслоениями других желаний, они хранятся до лучших времен, как спящая красавица, ждущая своего королевича, как простейший организм, впавший в анабиоз и приостановивший ход своего развития в надежде на изменение внешних обстоятельств в благоприятную для продолжения жизни сторону. Потребности и желания — феномен мира человека и важная (но часто упускаемая) деталь аналитического опыта. Обнаружение, исследование и способствование удовлетворению аналитиком истинных потребностей человека, пришедшего за помощью, — на этих аспектах останавливает внимание читателя Дмитрий Рождественский, обращая наш взгляд к этим ускользающим и тонким взаимодействиям «аналитик — пациент». В монографии прописан манифест о потребностях — проблема не в том, чтобы их удовлетворить, эта задача не самая трудная. По мнению автора, самая большая аналитическая трудность и в то же время цель — создать балинтовскую атмосферу для их проявления к жизни в погребенных недрах человека.
Хочется уточнить вертексы понимания психопатологии в связи с позицией автора относительно трансформации человеческой субъективности под воздействием психоаналитического лечения. Он склонен видеть в этой трансформации в большей степени развитие человеческой личности, чем изменения, привнесенные в универсум психической вселенной в процессе работы. Если допустимо сравнить психическое нарушение в личности с ржавчиной по металлу, то болезнь можно было бы определить как коррозию личности, насморк, который в некоторых случаях резонно было бы устранить. Хочется задать вопрос автору монографии: не стоит ли ввести дифференцированный подход для разных психопатологий, где в одном варианте можно было бы говорить о необходимом доразвитии личности (к примеру, многие нарушения, имеющие в своей основе проблемы доэдипального уровня), и невротические конфликты, разрешение которых подобно лечению инфлюенцы. Или же человек останется сопливым навсегда и анализ позволит ему смириться с истечением жидкости, если он реже будет шмыгать носом?
Преаналитический опыт, инициальная ситуация и их осмысление весьма редко попадают в фокус проблематизации факторов психоаналитического пространства, по этой причине выпадают важные и необходимые аспекты: заложенная отношенческая предиспозиция пациента, ожидаемые интеракции, специфика сопротивления переносу, с которыми аналитику неизбежно придется иметь дело в дальнейшем на протяжении всего процесса. Все эти вопросы и проблемы затронуты Дмитрием Рождественским, его осмысление вне-аналитической ситуации созвучно современному пониманию инициального сновидения — в нем заложено многое такое, что еще предстоит открыть в процессе исследования аналитику, то, что он расшифрует лишь спустя долгое время в анализе. Думается, стоит подхватить эту инициативу автора — и продолжить рассмотрение моментов «Квента Сильмариллион»11 психоаналитического взаимодействия.
11 Аллюзия восходит к сборнику мифов и легенд Средиземья, написанному Дж. Р. Р. Толкиеном, представляющему собой предысторию «Властелина колец». Думается, последнее произведение весьма известно широкому кругу читателей, а Сильмариллион остается как правило не прочтенным, хотя в нем все завязки будущих историй.
15
Тема сна пропитывает всю книгу, становясь отправной точкой объяснения происходящего, хорошей аналогией и метафорой, проясняющей суть многих поставленных вопросов. И, пожалуй, самое важное здесь то, что Рождественский обращает нас к пониманию и переживанию человеческого опыта (в том числе и психоаналитического) как опыта сугубо субъективного. «Все, что видится вовне, — только некий сон во сне» (Э. По) — все, что человек осознает в процессе своей жизнедеятельности, может быть представлено в какой-то степени как сон12. Отталкиваясь от канцеровских идей о коммуникативных функциях сновидения, фактически занимающих оппозиционное положение в отношении «эгоизма сна» 3. Фрейда, Д. Рождественский предлагает нам поразмышлять о переносных контекстах, продленных в сновидении: о фигуре аналитика и отражении аналитических отношений в зеркалах сна, особо мотивируя это активным творением сна со стороны субъекта, заложенным в языковых оборотах речи некоторых народов. В связи с этим или в подтверждение наших аналитических современных «прозрений» о природе сновидений можно продолжить интересные размышления автора небольшой ремаркой, отсылающей нас в далекое прошлое. Наша европейская культура, под воздействием которой или в условиях которой формировался психический мир человека, его идентичность, имеет античные корни. Древние знали и отмечали то, что психоанализ в современности открывает заново: функцию исполнения желаний (Гиппократ), функцию отражения структуры личности (Гераклит: во сне каждый из нас возвращается в свой собственный мир). Коммуникативная функция также была описана в древности, правда, она требует интерпретации и, соответственно, некоторых поправок, связанных с особенностями мировосприятия людей древности. Профессор Роуз в исследовании «Первобытная культура в Греции» на основе анализа описаний сновидений, в изобилии содержащихся в античных текстах, выделяет три типа донаучного видения функций сновидения: 1) сновидение рассматривается как переход в параллельно существующий другой мир и действие в нем сновидящего, 2) отношение к сну как к тому, что видится душой или одной из душ человека, когда она покидает тело и обозревает происходящее в душевном мире (других сферах), и 3) символическая интерпретация сновидений13. Сновидение в античной культуре принимает форму визита к спящему некой фигуры сна, фигуры, которая, по их мнению, существует объективно, независимо от спящего человека. Однако, напомним, она является производной от него самого, одной из его душ (в соответствии со второй функцией сновидения, упомянутой выше). Если принять, что античные жители не имели того более или менее четкого представления об эмоциональной сфере, которое мы имеем сегодня, и воспринимали собственную психическую вселенную и происходящее в ней как параллельно существующий мир и трактовали ими воспринимаемое в системе декодировки, доступной их сознанию через мифологическое пространство, то параллели напрашиваются сами собой. Со времен античности ситуация остается неизменной: человек, в данном случае пациент, творит отдельный от реальности происходящего мир — простран
12 Не случайно, наверное, в латыни и английском языке сон и мечта обозначаются одним словом.
13 Доддс Е. Греки и иррациональное. М.; СПб.: Университетская книга, 2000.
16
ство переноса (как во сне, так и в дневном бытии), в нем он сам является фигурой сна/ дневного сна, воспринимаемой им самим отдельно от себя в результате действия проективной идентификации. Объективный мир, действия человека в нем, отношения с другими, собственные ощущения (все это имеет свои аналогии в пространстве аналитических отношений) оказываются преломленными через символизирующую линзу, аналитик становится «оракулом», расшифровывающим то, что пациент о себе понять не в силах.
Этически сложные, напряженные в плане хрупкости и «ходьбы по лезвию бритвы» как для аналитика, так и для пациента моменты эротического переноса со всей осторожностью и тонкостью деталей внимательнейшим образом рассматриваются Дмитрием Рождественским в свете его идей, связанных с трехмерной моделью переноса. Думается, здесь хорошо было бы провести границу между любовью, направленной на непосредственную сексуальную реализацию (сексуальную страсть), и любовью как базовым фактором привязанности в человеческих отношениях, интересом к миру (катексис), способностью созидать и получать адекватное удовольствие. Отчасти, если психоаналитик работает с пациентом, а не отказывается от него в самом начале пути, у него тоже существует любовь к этому человеку: я имею в виду ту любовь амэ, о которой говорит Рождественский, — любовь, рожденная в пространстве переноса усилиями обеих сторон. Автор предлагает отнестись к любви в атмосфере встречи двух личностей как к ингредиенту «здорового» аналитического поля, или, вообще, поля нормальных не деструктивных человеческих отношений. Кто знает, может, вся «кутерьма» в нашем мире испокон веков идет не за возможность быть любимым, а за возможность любить? И если человек открывает в себе такую способность в отношениях с аналитиком, позволяет себе эту роскошь в наше пропитанное нарциссизмом время, не опасается превратностей судьбы, то он находит себе нужный объект (вновь открывает потерянный или никогда не существующий объект, как говорит о нем Д. Рождественский) и драйв, которые впоследствии могут быть перенаправлены. Другими словами, они найдут себе субъект вне аналитических отношений, как это должно было случиться в далеком детстве, когда мальчик или девочка в пубертатный период перенаправляют свои влечения с родителей на своих сверстников. Нужно ли непомерными усилиями преодолевать любовь в переносе, если она в процессе естественного развития проходит аналогичные трансформации? Может, лучше заняться в аналитической работе разработкой методов и способов, чтобы перенаправить ее? В связи с этим можно сказать, что любовь, как и все в мире, что собственно и постулирует психоанализ, существует в определенном фрейме. «Достаточно хорошая»14 мать принимает любовь ребенка, мягко указывая ему на границы дозволенного, которые принято соблюдать в культуре, дабы не нарушать табу инцеста. Эротизированный перенос — что это? Новый заход в старую проблему непережитого эдипова комплекса или же доэдипальное симбиотическое слияние с матерью? Стремление ребенка к матери, его желание обнять и поцеловать ее, обретут разный смысл в зависимости от того, какая струна зазвучит в сексуальном «отсеке» души матери, и она станет воспринимать его
14 Термин Д. Винникотта.
17
«движения» к ней как сексуальные проявления и ограничивать их или же позволит им проявиться, если чувствует, что эта активность ее дитяти движима желаниями человеческого внимания и тепла. Так и аналитик, находясь во власти своих (в разных парадигмах психоанализа — различных) теоретических предпочтений и схем (эдипового конфликта, к примеру), может видеть эротизацию переноса там, где на самом деле скрываются потребности в человеческой близости и интимности. Кажется, мы уже договорились искать, раскрывать и взращивать истинные скрытые потребности? Почему же в этом случае в сексуальных контекстах мы упираемся в плоскостное видение, хотя поток влечений, скрывающий в себе потребности, — многослоен? Это вопросы, на которые еще предстоит ответить и которые будит книга Дмитрия Рождественского.
Идеи автора о симметрии психоаналитического взаимодействия, на мой взгляд, — интересное инновационное привнесение в теорию практики психоанализа. Однако к ним, несомненно, необходимо дополнение — небольшое объяснение, важность которого обусловлена сменой мыслительного ракурса, обеспечивающего проникновение в суть проблемы. Концепция симметрии Д. Рождественского видится мне не как «экзот», то есть нечто оторванное и инородное; такое ощущение скорее возникнет, если эту идею попытаться применить в пределах классических базовых теорий психоанализа. Однако предложенная идея симметрии достаточно логично вписывается в современную теорию бессознательного И. Матте-Бланко, а точнее — применяется к выдвинутому им одному из центральных свойств бессознательного — принципу симметрииь. Возможно, теоретические размышления о симметричности психоаналитического диалога и вызовут некоторое недоумение и недопонимание или даже отрицание, что вполне естественно, если пытаться подходить к осмыслению изложенного Д. Рождественским, имея в голове представление о симметрии с позиции сознания — логики симметрии, где она представлена равенством, сходством и подобием. Но стоит попытаться взглянуть на концепцию симметричности психоаналитических взаимодействий и отношений под другим углом видения, в системе координат бинарной логики, свойственной бессознательному. Как следует из теоретического конструирования свойств бессознательного, предложенного И. Матте-Бланко, здесь симметричность рассматривается в другой логике, нацеленной на поиск сходства, идентичности и генерализацию, и где центральный принцип — равенство целого и части. И тогда симметрическая специфика психоаналитического диалога Рождественского становится/видится экстраполяцией особенностей бессознательных внутриличностных объектных отношений на внешние социальные интеракции (в том числе и в аналитическом процессе).
Исследуя все глубже один из центральных феноменов психоанализа — перенос, делая новые теоретические и практические открытия, мы обнаруживаем другие измерения пространства переноса. И это не красивые слова, а сама сущность многозначного явления «перенос», навсегда прочно и плотно связанного как в теоретическом плане, так *
ь Матте-Бланко И. Бессознательное как бесконечная совокупность (1975) (Matte Blanco, I. The Unconscious as Infinite Sets. London: Karmac, 1975.
18
и в практическом жизненном исполнении с бессознательным. В современном психоанализе бессознательное носит многомерный характер, И. Матте-Бланко уже давно доказал, что оно имеет большее, чем четыре, привычных для нашего сознания, измерений. Чтобы лучше понять сказанное, Матте-Бланко иллюстрирует свою мысль незатейливым примером из геометрии16. Он предлагает обратить внимание на то, что квадрат и линия под ним, изображенные на внутренней грани бумажного куба, разномерные17 существа будут воспринимать совершенно по-разному. Пытаясь применить этот подход к теории переноса и самому явлению, можно предположить, что познавая все новые, большие количества измерений в своем человеческом бессознательном — как теоретически его изучая, так и познавая в непосредственной практике клинической работы, — мы меняем свои взгляды, что неизбежно приводит к изменению самого объекта исследования, в данном случае — переноса, и он видится нам в совершенном ином свете и новом ключе.
Кто знает, как будет выглядеть «квадрат и линия под ним» — перенос — глазами аналитика XXX века, n-мерного существа, располагающего накопленными за три века теоретическими и практическими психоаналитическими знаниями, если уже сейчас тот взгляд, который предлагает в своей монографии Дмитрий Рождественский, кажется крамольным и еретическим по отношению к постулатам «святой церкви» классического психоанализа? А это значит, что автор, предлагая свои гипотезы, вынуждает нас воспринимать объект своего изучения — перенос — совсем не так, как мы привыкли, и увидеть новое измерение — нечто Другое, что пошатнет или заставит нас изменить имеющуюся у нас концептуальную систему психоаналитических мировоззрений.
Павлова Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры общей и практической психологии МИАПП г. Москва, член правления, руководитель комитета клинического психоанализа, действительный член МОО «Русское психоаналитическое общество», г. Москва
16 Матте- Бланко И. Думать, чувствовать и быть. Критические размышления о фундаментальной антиномии человека и мира (1988)(Ма//е Blanco, I. Thinking, Feeling and Being. London and New York: Routledge, 1988.
1z Одномерные, двухмерные и т. д.
Речь идет о появлении возможности для дальнейшего проникновения психоанализа в области, которые не были должным образом исследованы из-за недостаточного внимания к происходящему здесь и теперь.
Хельмут Томэ,Хорст Кехеле
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Понятие переноса более ста лет остается центральным и ключевым понятием клинического психоанализа и психоаналитической терапии различных модификаций, и этим его значимость не исчерпывается. Выйдя за рамки чисто психоаналитической парадигмы, оно проникло в большинство психотерапевтических модальностей как важная составляющая их теоретических основ, вне зависимости от того, расценивается в них перенос как фактор, препятствующий прогрессу или, наоборот, обеспечивающий его, игнорируется он или активно используется, служит средством манипуляций или объектом исследования. Без учета переноса какие бы то ни было попытки глубинного изучения тех или иных аспектов межличностных коммуникаций выглядели бы в наши дни по меньшей мере наивными. Тем более примечателен тот факт, что понимание этого феномена в рамках разных концепций и школ обнаруживает различия настолько существенные, что поневоле возникает вопрос: ведется ли во всех этих случаях речь об одном и том же явлении, или данный термин просто превратился в некий обобщающе-описательный ярлык для целого диапазона ментальных функций и процессов? Едва ли на него возможен однозначный ответ.
Когда я учился на первом курсе института психоанализа, нам читали лекции по психоаналитической пропедевтике, в которых суть явления переноса раскрывалась как воспроизведение инфантильных реакций — импульсов, защит, фантазий, поведенческих паттернов, — некогда сформированных пациентом по отношению к значимым лицам из своего раннего окружения и «ошибочно» адресуемых им людям во взаимодействии «здесь и сейчас». Данное определение подразумевало взгляд на перенос как на антитезу «реальному» восприятию объекта и позволяло весьма просто сформулировать алгоритм психоаналитического процесса: очевидно, что эти «ошибочные» реакции пациента на аналитика надлежало отделить от «реальных», как плевелы от зерен, и «разрешить» их, то есть интерпретировать с привлечением знаний о раннем опыте развития и, таким образом, пресечь их пагубное
20
влияние на текущую жизнь. Другими словами, перенос рассматривался как фактор, осложняющий отношения субъекта и потому подлежащий устранению. Позднее, с годами собственной практики, я все сильнее начинал ощущать, насколько упрощены эти тезисы и формулировки и какое количество новых вопросов в связи с ними ставит действительность. Что такое пресловутое «реальное» восприятие? Каковы критерии «ошибочности»? Если пациент демонстрирует недовольство тем, что аналитик опоздал на очередную сессию, и если, напротив, спокойно соглашается, что каждый человек может опоздать на одну-две минуты — какая из этих двух реакций соответствует реальности, а какая служит признаком влияния переноса? Далее: разве те эмоциональные и поведенческие стереотипы, которые мы оцениваем как «адекватные» и «уместные», не были также сформированы прошлым опытом субъекта? Что следует понимать под «разрешением» переносных реакций, если мы рассматриваем их как неотъемлемую составляющую отношений и универсальный компонент мироощущения личности? На многие из этих вопросов я находил ответы в литературных источниках, доступ к которым на российском книжном рынке с середины 90-х годов XX столетия неуклонно расширялся и которые позволяли мне знакомиться со взглядами на перенос таких непохожих исследователей, как Клайн, Кернберг, Когут, Винникотт, Санд-лер; и, наверное, было вполне естественно, что каждый найденный мною ответ не упрощал, а еще более усложнял в моих глазах смысл и сущность исследуемого феномена.
Однажды в кругу коллег (не тех, с кем я работаю в Санкт-Петербургском центре психоанализа и кто достаточно хорошо знает меня и мои взгляды, а тех, с которыми мне довелось общаться в рамках одной из конференций) я обмолвился, что на некоем этапе своей практической деятельности перестал понимать, что такое перенос. На это один из присутствовавших недоуменно спросил: «Если вы не понимаете, что такое перенос, то как же тогда вы с ним работаете?» Я отшутился, ответив что-то вроде «сам удивляюсь», хотя мог бы сказать, например, что неандертальцы едва ли понимали, что такое огонь, но это не мешало им обращаться с ним гораздо искуснее современного человека: добывать, поддерживать, переносить с места на место и так далее. Однако прозвучавший вопрос давно стал моим собственным вопросом к себе: как я работаю с переносом? В последующие годы у меня постепенно стало складываться что-то вроде личной концепции этого явления (возможно, сказано слишком громко) и оформилась в общих чертах «теория техники» взаимодействия с ним: этими соображениями я и хочу поделиться с читателем. В каких-то аспектах они совпадают или почти совпадают со взглядами других авторов, в каких-то — противоречат им. Но необходимо помнить, что мысли, которые будут высказаны здесь, ни в коем случае нельзя назвать окончательно сформированными: они служат мне лишь импульсами к дальнейшим исследованиям в обозначенном направлении и к новым обобщениям опыта. С другой стороны, они в определенном смысле подводят итог восемнадцатилетнему периоду моей клинической практики: этот итог можно обозначить как появление приблизительного представления о том, что такое перенос по сути, какова его роль в аналитических отношениях и какой терапевтической значимостью он наделен.
21
Строго говоря, данную книгу лишь с определенной натяжкой можно определить как монографию. Процентов пятьдесят-шестьдесят ее содержания фигурировало ранее в моих статьях и докладах, посвященных теоретическим проблемам понятий переноса, контрпереноса, проективной идентификации, а также некоторым вопросам методики и техники психоаналитической терапии. Она представляет лишь попытку объединения в нечто целостное — прежде всего для самого себя — того, о чем я думал, писал и говорил в последнее десятилетие, и читателю судить, насколько эта попытка удалась.
В заключение предисловия я хочу поблагодарить всех, кто прямо или косвенно способствовал написанию этой работы: Ректора Восточно-Европейского института психоанализа профессора Михаила Решетникова; руководителя Санкт-Петербургского центра психоанализа (в стенах которого я веду психоаналитическую практику с 1997 года, то есть с момента его основания) Владимира Шамова; других моих коллег — Юрия Баранова, Юлию Бердникову, Ольгу Волкову, Марию Машовец, Сергея Соколова; моего первого психоаналитика — Ирину Лукину, и второго — Нонну Славинскую-Холи (США); моего первого супервизора — Людмилу Топорову, и еще многих, чьи имена перечислить здесь весьма сложно. Моя отдельная благодарность — моей жене Ирине Порошиной; и, наконец, благодарность эксклюзивная и, вероятно, по справедливости первоочередная — моим пациентам, в диалоге с которыми я провел с 1993 по 2010 год в общей сложности больше восемнадцати тысяч часов и которые постепенно, проявив завидную выдержку и снисхождение к моей ортодоксально -аналитической позиции, заставили меня отказаться от однозначного и «школьного» понимания того, что такое перенос.
Часть 1
АНАЛИЗ ПЕРЕНОСА
ГЛАВА 1
ЧИТАЯ ГРИНСОНА И САНДЛЕРА
Давайте договоримся перед тем, как отправиться в путь, что все мы — и читатели, и автор — являемся достаточно компетентными и опытными аналитиками, не делающими элементарных ошибок.
Микаэль Балинт
В обзорной статье Андрея Россохина, предваряющей первый том «Антологии современного психоанализа», присутствует ссылка на яркое описание классического проявления переноса, данное Гловером: атмосфера сотрудничества между аналитиком и пациентом внезапно или постепенно рассеивается, пациент как будто теряет интерес к процессу терапии, становится враждебен или молчалив. Радикально меняется его прежнее отношение к собеседнику, он выказывает признаки глубокого сопротивления, адресует аналитику наиболее примитивные переживания, одновременно противясь их осознанию и признанию: так выглядит закономерное завершение психоаналитического «медового месяца», описанного Блэкуортом, и вступление в свои права «трансферного невроза», или невроза переноса (Россохин, 2000). Однако, несмотря на наглядность представленной картины, приходится признать: если нам потребуется объяснить человеку, незнакомому с психоаналитической терминологией, что такое перенос, мы поймем, что без учета исторического развития данного понятия в рамках различных школ и течений сделать это довольно непросто. В последующих главах я попытаюсь дать краткий обзор этой темы; здесь же замечу только, что существует немало нюансов и оттенков понимания феномена переноса, определяющих различия в отношении к нему представителей разных направлений психотерапии и в особенностях методологии и техники практического подхода. Его рассматривают как универсальный компонент коммуникаций и как нежелательный артефакт лечения, как главную динамическую силу терапии и как главное же препятствие на ее пути; одни
25
настаивают на возможно более быстром его разрешении, другие — на сохранении и поддержке, третьи — на его манипулятивном использовании в интересах пациента. Очевидно, что если в широком кругу психотерапевтических модальностей приняты столь непохожие друг на друга взгляды на то, как следует обращаться с переносом, то и сам смысл этого явления в представлениях терапевтов подвержен вариациям.
Существует, однако, если можно так выразиться, «стержневое» определение данного термина — определение переноса как явления, понимание и анализ которого традиционно рассматривается как центральная задача психоаналитического процесса. Обозначая его, я умышленно стану апеллировать в первую очередь к двум источникам, с которых, по сути, начиналось психоаналитическое образование в России в 90-е годы XX века и которые, на мой взгляд, остаются образцами ортодоксального освещения целого ряда понятий этой науки: к учебникам Ральфа Гринсона «Техника и практика психоанализа» и Джозефа Сандлера с соавторами «Пациент и психоаналитик: основы психоаналитического процесса». Я предполагаю, что каждый, кто читает сейчас эти строки, знаком с названными книгами, а значит, и с нижеследующими формулировками; но все же приведу их — отчасти для того, чтобы соблюсти традицию, отчасти — чтобы задать исходную точку отсчета для дальнейшего поиска. Итак:
Перенос (трансфер) — одно из основных понятий психоаналитической теории и практики: бессознательный психический процесс, заключающийся в перемещении на новый объект чувств, представлений, фантазий, импульсов, психических защит, первоначально сформированных по отношению к более раннему объекту — как правило, объекту из инфантильного прошлого, то есть из раннего окружения ребенка.
Применительно к психоаналитическому процессу термин «перенос» подразумевает отношение анализанда (пациента) к аналитику как к объекту из прошлого; проецирование в аналитика представлений либо внутренних объектов, сформированных ранее путем интроекций; наделение аналитика значимостью другого (предшествовавшего) объекта.
Перенос в более широком понимании может быть определен как отношение субъекта к объекту, детерминированное его личностным опытом.
Следующие классические формулировки предлагает Чарльз Райкрофт, ав- • тор «Критического словаря психоанализа», в подготовке которого к публикации на русском языке мне в свое время довелось принимать непосредственное участие.
Перенос — это:
1. Процесс, который включает в себя: перемещение на своего аналитика чувств, представлений и пр., связанных с людьми из прошлого; отношение к аналитику как к объекту своего прошлого...
26
2. Душевное состояние пациента в результате 1.
3. Более широко — эмоциональное отношение пациента к своему аналитику. (...) Отношение пациента к аналитику как к отцу, матери и т. д. называется отношением переноса, в отличие от аналитических отношений, представляющих собой совокупность отношений между аналитиком и пациентом, включая признание последним истинного характера договора и взаимодействия между ним и реальной личностью аналитика (Райкрофт, 1995, с.205—206).
Здесь хочется прервать цитирование и задаться вопросом: но разве не родители пациента или не другие близкие ему взрослые люди учили его еще в детстве серьезно относиться к договоренностям и обещаниям разного рода, признавать их «истинный характер» и соблюдать устанавливаемые ими условия? Если так, то чем же в данном случае «аналитические» отношения будут принципиально отличаться от «переноса»? Впрочем, ответить на это я попытаюсь ниже.
Филлис Коухэн в «Произвольной коллекции определений аналитических терминов» сообщает, что перенос есть
«повторение по отношению к аналитику старых, обычно детских установок по отношению к тем людям из детства пациента, которые были когда-то особо важны для него (Райх, 1972)»; «проживание прошлого заново, неверное понимание настоящего в терминах прошедшего... Пассивное и непроизвольное повторение инфантильных чувств, изначально направленных на важные первичные фигуры из раннего окружения, оживленная проекция на новые фигуры... поиск моста через межпсихическое пространство... прямо через эмоции... без обращения к изощренным и социализированным способам выражения, таким, как язык, музыка и искусство (Мерло и Нельсон, 1965)» (Коухэн, 2000, С. 59).
Подытоживая сложившиеся во второй половине XX столетия взгляды, Сандлер с соавторами выделяют два основных психоаналитических подхода к феномену переноса:
1. Перенос — это явление, охватывающее все неуместные мысли, фантазии, желания, чувства, возникающие у пациента по отношению к аналитику (более широко — у субъекта по отношению к объекту); неуместность их связана с тем, что они являются продуктами возрождения прошлого опыта, то есть не имеют прямого отношения к нынешней реальности.
2. Перенос — это явление, включающее в себя ВСЕ аспекты отношения пациента к аналитику (субъекта к объекту), поскольку ВСЕ
27
стороны данного отношения так или иначе являются повторением прошлых взаимодействий (Сандлер, Дэр, Холдер, 1993).
Сами цитируемые здесь авторы описывают перенос как специфическую иллюзию, которая развивается в отношении другого лица, неведомо для субъекта представляющего в некоторых своих чертах воспроизведение значимой фигуры из прошлого. Следует заметить, что Сандлер с соавторами рекомендуют ясно отличать общую тенденцию субъекта к повторению ранних отношений в настоящем, выражающуюся, например, в особенностях характера (капризности, агрессивности, робости, покорности и т. д.), от процесса появления чувств, мыслей, фантазий и т. д. в адрес другого лица, не объясняемых реальностью личности последнего и ситуации в целом. С их точки зрения, только этот второй процесс может быть корректно описан термином «перенос»: если пациент вообще недоверчив, то его недоверие в адрес терапевта не является реакцией переноса. Однако Гринсон для описания явлений такого рода предлагает понятие «генерализованный перенос», полагая, что реакцию следует рассматривать как переносную во всех случаях, когда она воспроизводит нечто из прошлого субъекта и не имеет прямого отношения к настоящему (Гринсон, 1994).
Уже из этого предельно редуцированного обзора определений видно, насколько существенны разночтения, допускаемые исследователями в отношении того, что они называют переносом. Теперь, исходя из тех же соображений, которыми я предварил данный фрагмент, добавлю к нему еще несколько страниц из «учебника» — учебника, который мог бы быть написан для читателя, незнакомого с психоанализом, в частности, с классическими представлениями о переносе и о таких вещах, как невроз переноса, сопротивление переноса, классификация его реакций и техника работы с ним.
) Природа переноса может быть упрощенно объяснена следую-) щим образом: использование приобретенного ранее для реагирования / на новое является по сути универсальной тенденцией любой жизни. / Встретившись с неизвестным объектом или незнакомой ситуацией / и идентифицируя их с целью выбора линии поведения, чувствования / и т. д., человек бессознательно применяет опыт, накопленный в про-/ шлом. Характерным свойством бессознательного, согласно замечанию ( Патрика Кейсмента, является отношение к знакомым элементам в не-( знакомой ситуации как к знакам. Эти знаки могут быть сигналами, f предупреждающими об опасности или, напротив, констатирующими ( безопасность: в любом случае незнакомое воспринимается так, словно ( оно известно (Кейсмент, 1995).
28
По Гринсону, субъект связывает прежние объектные представления с новыми таким образом, чтобы достичь удовлетворения некоей потребности: поиск последнего и служит основным мотивом формирования переноса. Повторение психического события в этом процессе есть навязчивая попытка добиться разрядки некоего конфликта из прошлого, недоступного сознательному вспоминанию (Гринсон, 1994).
Иными словами, развивая реакцию переноса, субъект воспроизводит в действии или чувстве по отношению к объекту нечто вытесненное или исходно бессознательное вместо того, чтобы вызвать его в сознание. Это можно назвать способом возврата к прошлому в обход воспоминаний о нем.
Данный процесс имеет место во всех без исключения отношениях субъекта; психоаналитическая же ситуация подразумевает создание условий, в которых он делается особо нагляден. Так, если, например, в детстве будущего пациента мать воспринималась им как фигура опасно непредсказуемая — например, он не мог никогда достоверно предвидеть, за что будет обласкан ею, а за что наказан, — можно ожидать, что в процессе психотерапии он станет постоянно пытаться контролировать собеседника, предугадывать его реакции, как бы стараясь добиться реванша, и, разумеется, болезненно переживать свои неудачи в подобных попытках. Отчасти это напоминает компульсивную потребность вновь и вновь дотрагиваться пальцем до больного зуба, в основе которой лежит осознаваемая или подспудная надежда ощутить при очередном прикосновении, что боли нет.
Реакции переноса классифицируются по разным критериям в зависимости от того, какой из них наиболее актуален для описания происходящего в данной конкретной ситуации. Согласно обобщениям, представленным в ряде источников (Гринсон, 1994; Райкрофт, 1995; Сандлер, Дэр, Холдер, 1993 и др.), используемыми чаще всего являются следующие классификации:
1. По объекту: в зависимости от первичного объекта реакции перенос может быть описан как отцовский, материнский, сиблинговый (то есть братско-сестринский) или комбинированный. Пол и личностное сходство объекта переноса с первичным объектом при этом играют роль преимущественно на ранней стадии коммуникации; впоследствии они делаются менее значимыми.
2. По стадиям развития либидинозной (психосексуальной) организации: в зависимости от того, опыт отношений какой стадии переживается субъектом в текущий момент или какой из стадий принадлежит интроецированный объект, перенос может описываться как
29
оральный, анальный, эдипальный и т.д. Данная дифференциация носит весьма условный характер, поскольку обычно в отношении субъекта к объекту присутствуют отпечатки всех стадий.
3. По критерию объектности: в зависимости от того, воспринимается ли объект как личность, наделенная для субъекта эмоциональной значимостью, или лишь как недостающая функция (часть, продолжение) самого субъекта, реакции переноса делятся на объектные и нарциссические. Нарциссические формы переноса подразумевают способность воспринимать объект в сугубо функциональном аспекте, то есть он обладает значимостью в качестве источника удовлетворения той или иной потребности субъекта, но не сам по себе.
4. По качеству реакций: перенос может быть разделен на негативный и позитивный в зависимости от того, адресует субъект объекту преимущественно ненависть или любовь в тех или иных производных, испытывает ли к нему отрицательные или положительные чувства. О негативном переносе речь идет в ситуации отношения, в котором доминируют недоверие, раздражение, зависть и т. д., о позитивном — в ситуации преобладания уважения, доверия, симпатии и т.д. О проблемных сторонах позитивного переноса говорят обычно при нарцисси-ческой идеализации объекта или в случае эротизации отношений: и то, и другое способно стать источником сильных сопротивлений. Следует помнить, что у невротиков перенос чаще всего амбивалентен, то есть содержит как позитивные, так и негативные компоненты:в противном случае мы имеем дело с расщепленным восприятием объекта как спутником наиболее болезненных состояний. Поэтому, в частности, Отто Феничел в работе «Проблемы психоаналитической техники» выражал сомнение в правомерности подобной дифференциации реакций переноса, подчеркивая, что они способны как минимум превращаться одна в другую: позитивная — в негативную, и наоборот (Феничел, 1999).
Помимо перечисленных существуют и другие, более специфические классификации форм переноса, используемые для описания особых аспектов психоаналитического взаимодействия. Сюда можно отнести, например, деление переноса на его целостные формы, при которых аналитик становится экраном для проекций целостных родительских или иных образов, и частичные, или парциальные, при которых проецируются лишь отдельные компоненты или черты ранних объектов. Особое место занимает так называемая структурная классификация, которая применяется к разновидности переноса, описанной Анной Фрейд как «экстернализация»: согласно данному подходу, речь может идти о переносе Я, Оно или Сверх-Я в зависимости от того, какая из
30
этих внутренних инстанций психики в текущий момент проецируется в терапевта. Перенос Я подразумевает экстернализацию определенных функций этой структуры, например контроля инстинктных импульсов или тестирования реальности; пациент как бы временно перепоручает их терапевту — скажем, перестает сам следить за своим поведением на сессиях или за своевременностью оплаты. При переносе Сверх-Я терапевт может восприниматься им как оценивающая или чрезмерно критичная фигура, в то время как сам он отказывается от оценки своих чувств, желаний или поступков. Также при переносе Оно пациент приписывает терапевту свои собственные инстинктные (агрессивные или либидинозные) импульсы и мобилизует против них защитные механизмы как против угрозы, исходящей извне.
С помощью разных вариантов классификаций той или иной переносной реакции может быть также дано комбинированное определение для более полного описания. Так, можно говорить об «анальном материнском переносе Сверх-Я», если пациент ожидает от терапевта критики, которой мать подвергала его в двух-трехлетнем возрасте, приучая к порядку туалетных отправлений. Однако подобные сложные характеристики переноса, по крайней мере в литературе, встречаются относительно редко.
Важным понятием психоаналитической теории и клинической практики является сопротивление переноса. Обыкновенно с помощью этого термина описывается использование переноса в качестве инструмента сопротивления либо вспоминанию прошлого опыта, либо встрече с тревогой — тревогой, связанной с перспективой прекращения терапевтических отношений и с необходимостью отказа от чувства безопасности, которое обеспечивает пребывание в анализе. Другое его понимание — использование переноса в целях избегания превращения бессознательных содержаний в сознательные (Райкрофт, 1995).
Коухэн, ссылаясь на Гринсона, определяет сопротивление переноса как продукт враждебных чувств вытесненного прошлого или запретных сексуальных стремлений детства, рождающих тенденции к бессознательной борьбе против аналитической работы (Коухэн, 2000).
В целом же в классическом психоанализе предпочитают говорить о сопротивлении переноса как о способе выражения инфантильных желаний и защит в связи с реакцией пациента на фигуру терапевта (Сандлер, Дэр, Холдер, 1993).
В любом случае данное словосочетание призвано подчеркнуть тесную связь реакций переноса с функциями сопротивления. Как упоминалось выше, перенос как таковой с ортодоксальной точки зрения
31
является средством переживания или действия вместо воспоминания, то есть сопротивлением последнему.
Гринсон выделяет две главные формы сопротивлений переноса согласно их функциональному назначению: защитные и удовлетворяющие — в соответствии с представлениями Анны Фрейд о «переносе защит» и переносе в классическом понимании как продукте сферы влечений (Гринсон, 1994). В первом случае субъект воспроизводит способы защит, которыми он пользовался в детстве в отношениях со значимыми лицами. Характерным проявлением этих сопротивлений служит, например, чрезмерно «разумное» и «послушное» поведение в терапии, которое прежде спасало его от родительского гнева, а ныне может быть ошибочно принято терапевтом за признак хорошего рабочего альянса. Во втором случае пациент ищет и ждет от терапевта не помощи в осознании природы и источника собственных инфантильных желаний, а их косвенного или прямого удовлетворения. Так, при эротизации переноса он может пытаться соблазнить терапевта и реагировать яростью или депрессией при неудаче этих попыток; при мазохис-тических тенденциях — посещать сессии с целью лишь самонаказания и страдания, но не выздоровления. Нарциссический пациент будет искать в терапии не понимания себя, а подпитки в виде восхищения со стороны терапевта или идеализации последнего ради обретения чувства защиты и опоры, и т. д.
В качестве особой разновидности сопротивления переноса, выполняющей как защитную, так и удовлетворяющую функцию, рассматривается отыгрывание вовне (Гринсон, 1994). Как и любая другая реакция переноса, оно представляет замену воспоминанию, отражая потребность субъекта «сделать, вместо того чтобы осознать». В большинстве случаев отыгрыванию вовне подлежат чувства любви и ненависти в различных производных, которые пациент под давлением тревоги не способен выразить в отношениях с аналитиком. Сложность работы с подобными явлениями состоит прежде всего в том, что последний может о них попросту не знать. Одной из наиболее распространенных и внешне безобидных форм отыгрывания вовне являются рассказы пациента о своей терапии. Обычно в них озвучивается то, что не было вербализовано в аналитической ситуации. Так, пациент может восхищенно отзываться о терапевте в беседах со знакомыми и близкими людьми, поскольку на сессиях предпочитает фокусировать внимание на его недостатках, или, наоборот, выражает недовольство лишь за рамками сессий, опасаясь, что у терапевта оно вызовет гнев.
32
Здесь я лишь хотел бы заметить, что предложенная Гринсоном (и восходящая к Анне Фрейд) классификация выглядит в наши дни несколько архаичной, так как в действительности между понятиями удовлетворения и защиты трудно провести четкую демаркационную линию — так же, как между понятиями потребности в инстинк-тной разрядке и потребности в объектном отношении. Другими словами, любая защита в конечном счете нацелена на удовлетворение некоей потребности; так, «разумность» и «послушание», о которых шла речь, призваны удовлетворить потребность субъекта в безопасности. Точно так же можно сказать, что «удовлетворяющие» сопротивления переноса в определенном аспекте всегда выполняют защитную функцию: например, эротизация отношений и сопровождающие ее попытки соблазнить аналитика могут служить целям избавления от невыносимого переживания одиночества или внутренней пустоты. Отыгрывание вовне (а равно и внутрь аналитической ситуации), сочетающее защиту с поиском удовлетворения, как раз является наилучшей иллюстрацией к этому тезису. Но вернемся к нашему «учебнику для начинающих».
) Работа с переносом традиционно рассматривается как важней-/ шая часть психоаналитического процесса. Ее базовый принцип состоит ) в создании условий для развития реакций переноса и их последующей ) проработке. В аналитической ситуации необходимо отличать отноше-/ ния переноса от отношений рабочих, или терапевтических, основанных / на реальном восприятии аналитика пациентом, готовности пациента ( к сотрудничеству и взаимодействии в рамках контракта (Райкрофт, / 1995). Аналитическая ситуация строится таким образом, чтобы пе-/ реносный компонент отношений мог быть идентифицирован и стал / доступен пониманию. Аналитик способствует развитию и проявлению / переноса с помощью простейших технических мер: анонимности, отно-г сительной пассивности и нейтральности. Последовательно решаемыми / задачами являются: распознавание переноса; конфронтация пациента / с переносным характером реакции; прояснение реакции; интерпрета-/ ция реакции; детальная проработка, подразумевающая реконструкцию ( прошлого опыта и анализ источника переноса (Гринсон, 1994).
Оговорюсь: судя по всему, Гринсон не склонен рассматривать данную схему как универсальную на все случаи в практике, и она необходима ему лишь для того, чтобы более или менее обобщенно рассуждать о технике работы с переносом как таковой. Естественно, во-первых, что каждый терапевт по мере накопления и интеграции опыта вырабатывает индивидуальный подход к обозначенным принципам или, точнее сказать, индивидуальный стиль следования им. Во-вторых, личностные особенности каждого пациента заставляют психоаналитика всякий раз вносить
33
в свою технику определенные коррективы, и это особенно справедливо для работы с пациентами, которые страдают тяжелыми психическими патологиями. Для подобных видоизменений ортодоксального алгоритма аналитического процесса Курт Айсслер в свое время предложил термин «параметры». Мы же продолжаем пока вести речь о классической психоаналитической модели, для того, чтобы впоследствии попробовать отклониться от нее.
Задача распознавания переносных реакций подразумевает дифференциацию общего восприятия пациентом аналитика на перенос и реальный компонент, то есть реальные реакции на личность собеседника и на аналитическую ситуацию в целом. Обычно в качестве ведущего критерия идентификации реакций переноса используется их неадекватность — несоответствие реальности терапевтических отношений. Когда аналитик договаривается с пациентом о частоте, времени и месте встреч, об их оплате, получает его согласие на следование основному правилу психоанализа (свободное ассоциирование), информирует о мотивах своей пассивности и т. д. — он задает некий условный эталон будущего взаимодействия. В дальнейшем всякое отклонение последнего от этого эталона — пропуски сессий, опоздания, забывание об оплате, просьбы о наводящих вопросах или советах — может рассматриваться как признак активизации переноса. Неадекватность может проявляться также в характере и интенсивности чувств, выражаемых пациентом — например, в веселье либо чрезмерном спокойствии при рассказе о неприятном или даже трагичном событии. В любом случае, если его эмоции не соответствуют ситуации или более (менее) сильны, чем это было бы уместно, аналитик предполагает роль переноса.
Другим важным признаком переносных реакций служит их повторяемость. Повторяться может тема свободных ассоциаций, принимаемая пациентом поза, жест, действие (опоздание, манера оплаты и т. д.). Эти невербальные послания часто с трудом поддаются проработке и иногда сохраняются на протяжении всего аналитического процесса. Как отмечает Гринсон, их устойчивость связана обыкновенно с потребностью пациента скрывать за ними некий весьма глубинный и нередко травматичный, а иногда и вовсе непереводимый на язык слов материал (Гринсон, 1994).
Как сообщает Роберт Уэлдер, признаки переноса могут весьма широко варьироваться по форме выражения и интенсивности. Иногда он проявляется просто в том, что пациент всегда вовремя приходит на сессии и регулярно и аккуратно платит за них. В других случаях
34
индикатором его развития делаются мелодраматические взрывы страстей, приносимые аналитику подарки, ухудшение состояния пациента или, наоборот, исчезновение симптомов. Первыми сигналами развития переноса могут становиться удлиняющиеся паузы в речи пациента, его чувство смущения, погруженность в себя, новые, прежде нехарактерные для него переживания и т. д. и т. п. По сути, все, что только может происходить между двумя личностями, может быть и выражением переноса (Уэлдер, 1987).
Еще одно отличительное свойство реакций переноса — амбивалентность как осадок инфантильной расщепленности объекта. Она легко наблюдаема, когда в ходе работы противоположные чувства к аналитику сменяют друг друга или сосуществуют одновременно. Характерным примером подобного сосуществования может служить нередко звучащая из уст пациента в начале терапии фраза: «Я пока не готов рассказать вам о себе все». В ней прослеживается и негативное восприятие терапевта как человека, которому нельзя доверить нечто потаенное, и позитивное — как человека, которому со временем все-таки можно будет это доверить. Ситуация осложняется, если один из полюсов амбивалентности не проявлен в отношениях «здесь и сейчас», поскольку, например, вытеснен или отыгрывается вовне.
На ранней стадии аналитического взаимодействия реакции переноса, как правило, неупорядоченны и спорадичны. Однако последовательное соблюдение аналитиком упоминавшихся выше принципов абстиненции и нейтральности вкупе с анонимностью и относительной пассивностью со временем способствует их постепенному группированию в своего рода целостный дубликат инфантильного невроза. Эта совокупность чувств, желаний, фантазий, проявляющихся все более интенсивно и продолжительно и фокусирующихся на личности аналитика и на аналитической ситуации в целом, обозначается термином «невроз переноса» («трансферный невроз»). Чарльз Райкрофт описывает подобное состояние как «эмоциональную захваченность пациента аналитиком» (Райкрофт, 1995, с. 205). Проблематика пациента оказывается, таким образом, воспроизведена в рамках аналитического процесса, и первоочередным объектом исследования становится происходящее «здесь и сейчас».
Я полагаю, что хорошей иллюстрацией к данному фрагменту может служить следующий пример из моей практики.
Моя пациентка в детстве чувствовала себя «без остатка» поглощаемой материнской любовью; невозможность нормального выхода
35
из симбиоза рождала у нее ощущение «ускользания» отца как эдипова объекта. Спустя двадцать лет, выйдя замуж, она весьма болезненно переживала «окончательную потерю отца». В ходе терапии ее восприятие аналитика (меня) было заметно эротизировано; в то же время она выражала понимание того, что, если бы я пошел ее либидинозному желанию навстречу и прямо удовлетворил его, вместо новых отношений в ее жизни возникла бы пустота. Впоследствии ей приснилось, что она исчезает в пасти гигантской акулы, и любящий мужчина бессилен ей помочь. Сновидение «графически» отразило невроз переноса: в акуле пациентка легко распознала свою мать, но одновременно и аналитическую ситуацию, так же «поглощавшую» ее и так же не оставлявшую шансов на удовлетворение. Проблематика наших отношений, таким образом, воспроизводила проблематику девочки четырех-пятилетне-го возраста. Это было наследие классической ситуации, многократно описанной теоретиками Я-психологии: идеалы эдиповой фазы вступали в противоречие с доэдиповыми идеалами; удовлетворение первых усиливало сепарационную тревогу, удовлетворение вторых в ущерб первым ставило под удар нарциссический баланс. Пустота, видевшаяся пациентке за реализацией эротических фантазий, означала: если бы я «превратился в ее отца», она «потеряла бы во мне мать».
/ Нередки ситуации, когда по мере развития невроза переноса ) проблематика пациента за пределами аналитического кабинета слабеет / и даже исчезает вовсе. Окружающие люди начинают воспринимать-) ся им более реально и адекватно, так как аналитик, обретающий для ) него все большую эмоциональную значимость, «перетягивает» на себя ) и соответствующую долю субъективизма. Работа в это время может ) стать особенно продуктивной, поскольку такая ситуация дает аналити-\ ку максимальные возможности для проработки связанных с переносом \ сопротивлений. В рамках ортодоксального подхода само понятие «пси-\ хоанализ» (в отличие от «психоаналитической терапии») подразумева-\ ет в методологическом аспекте: а — возможно более полное развитие ( невроза переноса; б — его разрешение с помощью интерпретаций.
Забегая вперед, замечу, что обе эти составляющие определения классического психоанализа во второй половине XX века неоднократно подвергались пересмотру. Не исключено, что именно их некритичное поначалу принятие, просуществовавшее весьма долгое время, явилось основанием для замечания Роберта Сто-лороу с соавторами: «В конечном итоге концепция переноса стала использоваться как аргумент для принижения непсихоаналитических направлений терапии и оправдания
36
неудач психоаналитического лечения» (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999, с. 49). Многие специалисты впоследствии сошлись во мнении, что «возможно более полное развитие невроза переноса» далеко не всегда клинически оправданно и способствует успеху лечения, и что его «неполнота» сама по себе еще не превращает психоанализ в психоаналитическую или какую-либо иную психотерапию. Даже само понятие «невроз переноса» до сих пор принимается неоднозначно. В 2002 году, будучи участником Международного психоаналитического конгресса в Санкт-Петербурге, я, как и многие мои коллеги, стал свидетелем крайне интересной дискуссии на тему «существует ли невроз переноса в классическом понимании?», спонтанно возникшей между Гарольдом Стерном из США («разумеется, существует») и Хорстом Кехеле из Германии («разумеется, нет»). Не менее дискуссионным остается в наши дни вопрос о том, насколько реально его «интерпретативное разрешение» (читай — устранение). Целый ряд исследований, которых я коснусь ниже более детально, свидетельствует не только о сохранении большинства реакций переноса в постаналитический период, но и о значительном повышении их интенсивности. Психоаналитики, стоящие на наиболее реалистичных позициях, рассуждая о критериях успеха, предпочитают говорить не об устранении переноса, а об обретении пациентом понимания его и способности им управлять.
/ Когда реакция переноса распознана и идентифицирована, следу-( ющим шагом становится конфронтация, то есть демонстрация ее как ( не соответствующей реальности или негативно влияющей на процесс, г Реакция переноса, пребывающая в согласии с установками Я субъек-/ та (Я-синтонная), должна явным для пациента образом войти с ними г в противоречие, то есть сделаться Я-дистонной. Обычно с этой целью г аналитик позволяет реакции проявиться неоднократно, а связанному / с ней сопротивлению или аффекту — повысить интенсивность на-/ столько, чтобы стать очевидным. Так, пациент может неосознанно / ограничивать круг тем своих ассоциаций, пока не сумеет (или пока ( аналитик не поможет ему) ощутить это как следствие недостаточного f доверия. Когда его недоверие станет предметом обсуждения, аналитик ( может задать вопрос: «Чем оно вызвано?», или: «Может быть, я не Г сделал чего-то, что позволило бы вам меньше опасаться меня?». Если ( пациент затруднится с ответом, это станет для него поводом спросить ( у себя: «Почему мне так сложно доверять?».
( Прояснением Гринсон называет всестороннее исследование ( чувств, мыслей, образов, фантазий, скрытых за реакцией переноса. I В продолжении приведенного примера таковым может стать изучение ( мотивов недоверия и знакомство с ними во всех возможных аспек-( тах. Аналитик может прояснять ситуацию с помощью вопросов: «Как
37
/ я мог бы использовать во вред вам то, что услышал бы от вас?», «Ка-? кие причины могли бы заставить меня так поступить?», «Как можно / было бы вам застраховаться от последствий этого?», и т. д.
? Интерпретация — это следующий за прояснением шаг, направ-/ ленный на установление связи между сознанием и временно недоступ-/ ними бессознательными содержаниями психики. Интерпретация пе-/ реноса обычно подразумевает связь переживаемого «здесь и теперь» / с опытом прошлого. Чтобы ее провести, аналитик может спросить, / например: «По отношению к кому раньше Вы могли испытывать / такие опасения?», или просто: «Не напоминают ли Вам эти чувства / что-либо пережитое прежде?», или сказать, что, возможно, когда-то, / в иной ситуации, подобные чувства и защиты были вполне уместны. / Однако лучше всего, если пациент сумеет самостоятельно обнаружить / эту связь, то есть если она не будет навязана терапевтом с помощью 2 реплик вроде: «Вы не доверяете мне, как в детстве не доверяли отцу». / Если пациент не готов к подобной интерпретации, она может быть / воспринята им как попытка терапевта убежать от реальности возник-/ ших в кабинете отношений.
/ Проработка, следующая за принятием интерпретации и ее эмо-/ циональным отреагированием, включает многократное повторение ( предшествующих стадий работы с целью анализа возвращающихся / и вновь появляющихся сопротивлений, а в итоге — детальное вспо-( минание и реконструкцию не только отдельных фрагментов прошло-/ го пациента, но и целых жизненных ситуаций. В ходе этого процесса ( воскрешаются воспоминания об отношениях со значимыми людьми, / об их развитии и о сопутствующих им переживаниях, тревогах, оби-( дах, желаниях, фантазиях и т.д. Успешное завершение проработки, ? по сути, и является завершением психоанализа, поскольку осозна-( ние субъектом влияний собственного прошлого на настоящее служит г залогом его адаптации и реального восприятия окружающего мира ( и людей (Гринсон, 1994).
Вот (разумеется, в предельно сокращенном виде) то, что я знал о переносе и сопряженных с ним понятиях через год после того, как впервые вошел в аудиторию института психоанализа. Именно с этим багажом представлений я приступил к работе со своим первым пациентом, которая продолжалась около четырех лет. Я до сих пор не знаю, как оценивать результат того опыта, но, кажется, именно он заронил в мою душу зерно первого сомнения в том, что вышеприведенные формулировки и тезисы на сто процентов исчерпывают тему «перенос и техника обращения с ним».
ГЛАВА 2
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕНОСА: ОТ ФРЕЙДА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Он не вспоминает, что остановился, растерянный и беспомощный, в своем инфантильном сексуальном исследовании, а рассказывает множество запутанных сновидений и мыслей, являющихся ему, жалуется, что ему ничего не удается и что судьба преследует его, не давая возможности довести до конца ни одного предприятия. Он не вспоминает, что очень сильно стыдился определенных сексуальных проявлений и боялся, что они раскроются, а показывает, что стыдится лечения, которому подвергается, и больше всего старается скрыть его, и т. д.
Зигмунд Фрейд
Приступая к разговору о переносе, нельзя не отметить в первую очередь, что описание этого понятия затруднено одним немаловажным фактором. Он заключается в том, что с момента возникновения самого раннего представления о данном феномене и до сегодняшнего дня его понимание, равно как и понимание его роли в аналитическом (и не только) процессе, пребывает в непрерывном развитии. Как замечают по данному поводу Хельмут Томэ и Хорст Кехеле, «не так просто понять, как сместился взгляд на перенос от представления о нем как об основном препятствии лечению до самого могущественного средства лечения» (Томэ, Кехеле, 1996а, с. 94). Поэтому для начала стоит хотя бы кратко вспомнить, как эволюционировали взгляды психоаналитиков на перенос в течение прошедших лет.
Должно быть, в том, что касается терапевтического использования переноса, пальму первенства следует по справедливости отдать Иозефу Брейеру. В лечении Берты Паппенгейм, вошедшей в историю под псевдонимом Анна О., Брейер сделал,
39
по-видимому, все возможное для того, чтобы обратить именно это явление на благо своей пациентке, однако ему недоставало понимания сути происходящего. Возможно, он был первым в истории врачом, столь глубоко вошедшим во внутренний мир пациента, но он не сумел вовремя увидеть, что стал для Анны О. заменой умершего отца, вторгаясь в ее «вечернее сознание» и тем поддерживая иллюзию его жизни. В сущности, Брейер активно манипулировал переносом, не осознавая в полной мере, насколько подобные действия могут быть опасны, и оказался беспомощен в ситуации, когда (как сказали бы много лет спустя) невроз переноса трансформировался в психоз. Впоследствии, в 1914 году, в «Очерке истории психоаналитического движения» Фрейд описал перенос Анны О. как «неблагоприятное событие», которое встревожило Брейера, не сумевшего распознать универсальный характер этого явления, и заставило его прервать лечение. Еще позднее, в «Автобиографическом исследовании» (1925), он упоминал о любви Анны О. к Брейеру как о чувстве, которое тот не смог связать с ее заболеванием; в том же году, в посвященном Брейеру некрологе, добавлял: «...у меня появились основания предполагать, что от продолжения работы по изучению неврозов его отвращают иные, исключительно эмоциональные соображения. Он столкнулся с неизбежным переносом пациента на терапевта и не смог осмыслить безличную природу этого феномена» (Фрейд, 1999, с. 13).
Термин «перенос» Фрейд впервые использовал в 1895 году (то есть через 13 лет после разрыва отношений Брейера и Анны О.), сообщая о своих попытках вызвать у пациентки вербальные ассоциации. Цель психоаналитического лечения в тот период времени виделась ему в том, чтобы помочь больному раскрыть через ассоциации и эмоциональные реакции связь между текущими симптомами и ощущениями — с одной стороны, переживаниями прошлой жизни — с другой. Диссоциация прошлого опыта и связанных с ним чувств была в представлении Фрейда важным фактором генезиса невротических расстройств. Первым открытием на пути к пониманию переноса стало открытие сопротивления воспоминаниям (ассоциациям), которое активизировалось при приближении к бессознательным конфликтам пациента и, очевидно, было обязано своей силой оживлению бессознательных желаний и их перенесению на фигуру врача. Фрейд заметил, что в ходе лечения в отношении пациента к врачу происходит некое изменение, начинающее мешать процессу свободного выговаривания. «Большая часть больных, для которых такое лечение подходило бы, уклоняются от разговора с врачом, как только у них забрезжит догадка, в каком направлении будет двигаться это исследование... У решивших отдаться врачу и отнестись к нему с доверием... вряд ли удается избежать, чтобы личное отношение больного к врачу, хотя бы на некоторое время, не вышло бы непристойным образом
40
на первый план». О данной трудности Фрейд рассуждал в то время как о следствии определенных недочетов или недостатков практикуемого метода, выявляющихся в работе с невротиками: «Благоразумным будет считать, что они (Недостатки. — Д. Р.) обоснованы предпосылками неврозов, которые должны быть излечимы, и что указанные недостатки будут встречаться при всякой врачебной деятельности, протекающей с интенсивной озабоченностью о больном и вызывающей у него психическое изменение» (Фрейд, 19916, с. 51—52).
Перемена в отношении пациента к аналитику, о которой шла речь, очевидно, представляла серьезное препятствие для достижения успеха. Подобные эмоциональные реакции Фрейд и назвал переносом. Перенос был определен им как отношение, возникающее вследствие «фальшивой» («неправильной») связи между объектом ранее переживавшихся (как правило, сексуальных) желаний и объектом новым, то есть аналитиком. Чувства, связанные с вытесненными желаниями, как бы всплывали вновь на поверхность и вновь переживались в настоящем. Именно в данном аспекте Фрейд рассматривал загадочную склонность некоторых пациенток развивать невротическую привязанность к лечащему врачу.
Как известно, на ранней стадии своей аналитической практики Фрейд применял процедуру легкого надавливания ладонью на лоб пациентки, должного способствовать появлению наиболее важных воспоминаний или ассоциаций; известно и то, что данная процедура помогала не всегда. О ее неудачах Фрейд писал позднее как о следствии того, что «в том месте, где как раз ведется исследование, действительно ничего нельзя получить», или того, что аналитик и пациентка «натолкнулись на преодолеваемое лишь позже сопротивление» (Фрейд, 19916, с. 87). В качестве третьего варианта возможной причины неуспеха — и наихудшего препятствия, с которым может столкнуться лечение — он называл нарушенное отношение пациентки к врачу, при котором разрушается и ее готовность к искреннему сотрудничеству. Фрейд сообщал о трех основных случаях, в которых становится возможен такой поворот событий: личное отчуждение больной в связи с представлением, что врач пренебрег ею или оскорбил ее; страх чрезмерного привыкания к личности врача вплоть до возникновения сексуальной зависимости от него; наконец, боязнь перенесения на врача мучительных представлений, возникающих из самого содержания анализа, то есть появления «фальшивой» или «неправильной» связи. Эта последняя ситуация виделась Фрейду как наиболее трудная для разрешения (Фрейд, 19916).
Описывая историю лечения Доры (Иды Бауэр), Фрейд изобразил данное явление в следующем виде: «Причиной определенного истерического симптома у одной из моих пациенток являлось... желание, чтобы мужчина, с которым она
41
тогда беседовала (Господин К. — Д. Р.), сердечно бы ее обнял и насильно поцеловал. Однажды, по окончании сеанса, у больной возникает такое же желание по отношению ко мне; она от этого в ужасе, проводит бессонную ночь, и в следующий раз она, хотя и не отказывается от лечения, совершенно непригодна для работы. ...Содержание желания сначала возникло в сознании больной без воспоминаний о второстепенных обстоятельствах, которые могли бы отнести это желание в прошлое; имеющееся теперь желание было связано с моей личностью... При этом мезальянсе, который я называю ложным соединением (Курсив мой. — Д. Р.), просыпается тот самый аффект, который в свое время заставил больную изгнать недозволенное желание. Узнав это, я могу о каждом подобном посягательстве на мою личность предположить, что это опять был перенос и неверное соединение» (Фрейд, 19916, с. 87—88). Дора прекратила лечение внезапно, что было для Фрейда полной неожиданностью: лишь позднее он понял, что не смог вовремя оценить свидетельства развития тяжелого негативного переноса. Неудачная попытка рассмотреть его стала фатальной для отношений: Дора отомстила господину К. в лице своего аналитика, бросив его так же, как господин К. бросил ее саму. В послесловии к посвященному Доре «Анализу одного случая истерии» (1905) Фрейд подчеркнул значение переноса для успеха лечения и высказал идею о том, что задачей аналитика является «разрешение» «фальшивой связи» через выведение ее в область сознания.
Фрейд признавал, что в анализе Доры ему не удалось справиться с переносом, и характеризовал данную ситуацию как серьезную техническую проблему. Методология преодоления .подобных сопротивлений была представлена им следующим образом: надлежало устранять подобный «вновь возникший симптом» как старый, по старому же образцу. Препятствие на пути лечения должно было стать осознанным пациенткой; затем — что еще более трудно — следовало побудить ее сделать сообщение, в котором речь шла бы о личных отношениях, где некое третье лицо совпадало бы с личностью врача. Пациентке предстояло преодолеть при этом мучительный аффект, связанный с тем, что она могла иметь определенное желание, воспринимаемое ею как абсолютно недопустимое. Однако именно таким путем больные обучаются осознавать, что при подобных переносах прежних образов на врача дело состоит в «принуждении» и в «заблуждении», которые рассеиваются с окончанием анализа (Фрейд, 19916). Много позднее в изданном уже посмертно «Очерке психоанализа» (1938) Фрейд писал: «Для пациента незабываемо то, что он пережил в форме переноса; это переживание несет в себе большую силу убеждения, чем все, что он мог получить другими путями» (цит. по: Кан, 1997, с. 37).
42
Подчеркнем, что в начале XX столетия перенос рассматривался Фрейдом как производная неудачной любовной (сексуальной) жизни больного и нежелательный артефакт аналитической ситуации, однако затем именно за ним признавалась и сила, способствующая излечению. Читая лекции о психоанализе в Университете Кларка в 1909 году, Фрейд так описывал данное явление: «Всякий раз, когда мы исследуем невротика психоаналитически, у последнего наблюдается неприятное (Курсив мой. — Д. Р.) явление переноса, то есть больной переносит на врача целую массу нежных и очень часто смешанных с враждебностью стремлений. Это не вызывается какими-либо реальными отношениями и должно быть отнесено на основании всех деталей появления к давним, сделавшимся бессознательными, фантазиям-желаниям. Гу часть своей душевной жизни, которую больной не может более вспомнить, он снова переживает в своем отношении к врачу, и только благодаря такому переживанию убеждается в существовании и в могуществе этих бессознательных сексуальных (Курсив мой. — Д. Р.) стремлений. Симптомы, представляющие собой — воспользуемся сравнением из химии — осадки прежних любовных (в широком смысле слова) переживаний, могут быть растворены только при высокой температуре переживаний при наличии переноса и только тогда переведены в другие продукты психики. Врач играет роль каталитического фермента при этой реакции, по прекрасному выражению Ференци, того фермента, который на время притягивает к себе освобождающиеся аффекты» (Фрейд, 1991в, с. 269—270). Позднее он также писал в работе «Бред и сны в „Градиве“ Йенсена»: «При возврате любви, если мы объединяем под словом „любовь" все многообразные компоненты сексуального влечения, происходит выздоровление, и этот возврат необходим, ибо симптомы, из-за которых было предпринято лечение, — не что иное, как остаток более ранней борьбы за вытеснение или за возвращение, и они могут быть уничтожены или смыты только новым приливом тех же страстей» (Фрейд, 1995, с. 173).
В рамках упомянутых лекций 1909 года Фрейд обозначил свое видение целей работы психоаналитика, отвечая на вопрос о судьбе проявляющихся в переносе и затем освобождаемых с помощью психоанализа бессознательных желаний. По его словам, чаще всего эти желания исчезают под влиянием разумной душевной деятельности и лучших стремлений противоположной направленности: их вытеснение заменяется осуждением. Второй возможный исход состоит в том, что они могут обрести новую ориентацию — сублимироваться, направляя энергию инфантильных позывов на высшие, несексуальные цели, более отдаленные и более ценные в социальном отношении. Наконец, часть этих желаний может найти прямое зрелое удовлетворение (Фрейд, 1991в). По крайней мере к 1912 году Фрейд уже рассматривал перенос
43
как существенную часть аналитического процесса, утверждая, что в конечном счете преодолевать любой конфликт необходимо в границах переноса.
Таким образом, Фрейд определил перенос как переиздание или своего рода факсимиле импульсов и фантазий, вызываемое у пациента аналитической процедурой и имеющее ту особенность, что в нем лицо, бывшее некогда их объектом, замещалось личностью аналитика. В этом процессе как будто оживлялась целая серия психических переживаний прошлого, которые начинали выступать теперь как продукт настоящего момента. Фрейд замечал, что некоторые из переносов обладают содержанием, ничем не отличающимся от содержания исходной модели — если не считать того, что на самом деле они представляют лишь замену реальных желаний и чувств. Другие из них имеют более сложную структуру, изобретательно используя в качестве отправной точки некую реальную особенность личности аналитика или иных аспектов аналитического взаимодействия. В последнем случае аналитику приходится иметь дело не с новыми впечатлениями, а с восстановлением старых впечатлений в новом варианте. Отсюда вытекала и рекомендация, согласно которой аналитику следовало избегать создания для пациента ситуации неизбежности повторения прошлого опыта — для того, чтобы позволить его воспоминаниям сохраниться в изначальном виде и не допустить их смешивания с реальными впечатлениями. С точки зрения Фрейда, подлинный перенос (в идеале) подразумевал свободное от любых влияний реальности воспроизведение воспоминаний, актуализированных как опыт в настоящем.
Фрейд неоднократно подчеркивал, что перенос не является специфическим продуктом аналитической ситуации и далеко не ограничивается ее рамками. В тех же лекциях 1909 года он сообщал: «Не думайте, что явление переноса... создается под влиянием психоанализа. Перенос наступает при всех человеческих отношениях, так же как в отношении больного к врачу, самопроизвольно; он повсюду является истинным носителем терапевтического влияния, и он действует тем сильнее, чем менее мы догадываемся о его наличии. Психоанализ, следовательно, не создает переноса, а только открывает его сознанию и овладевает им, чтобы направить психические процессы к желаемой цели» (Фрейд, 1991в, с. 270). Позднее он упоминал в статье «Воспоминание, воспроизведение и переработка» (1914), что «...анализируемый находится во власти навязчивого воспроизведения, заменяющего импульс к воспоминанию не только в длительных отношениях к врачу, но и во всех других проявлениях деятельности и отношений своей жизни, например, выбирая во время лечения объект любви, беря на себя какую-нибудь задачу, вступая в какое-нибудь предприятие... Чем сильнее сопротивление, тем больше воспоминание заменяется
44
действием (воспроизведения)» (Фрейд, 1997а, с. 104). В той же работе Фрейд заметил, что наиболее интенсивные переносы чаще всего встречаются в непсихоаналитических лечебницах для нервнобольных.
В 1912 году в работе «О динамике переноса» (в русском переводе — «О динамике перенесения») Фрейд сформулировал идею о природе переноса, согласно которой каждый человек в течение жизни обретает определенные особенности в изживании своей любовной жизни (влечений), существующие как одно или несколько клише. Они повторяются, отчасти меняются под влиянием новых впечатлений, однако полностью развивается лишь та часть этих душевных движений, которая обращена к реальности и подчинена сознанию. Другая их часть, отрезанная от сознания и реальности, либо развивается в фантазии, либо принадлежит бессознательному. Она пребывает как бы в выжидательной позиции и в процессе психоаналитического лечения обращается на аналитика как подходящую для этого личность, придерживаясь исходных клише. В той же статье Фрейд разделил понятия переносов позитивных и негативных; позитивные в свою очередь были подразделены им на способствующие аналитическому процессу (перенос осознаваемых дружеских или нежных чувств, «не вызывающий возражений») и на препятствующие ему (осознаваемый или вытесняемый эротический перенос как продукт сопротивления, требующий интерпретаций). Негативные реакции описывались им как продукт переноса на аналитика враждебных чувств, в качестве экстремальной формы которых выступала паранойя. С точки зрения Фрейда, особенности переноса определяются спецификой невроза в каждом конкретном случае; однако притом он отмечал, что с большей или меньшей степенью выраженности эти разновидности реакций сочетаются друг с другом у всех пациентов. Одновременное присутствие противоположных чувств позволяет им использовать одно для защиты от другого, если последнее вызывает беспокойство — например, испытывать к аналитику враждебность ввиду неприемлемости любви к нему (Фрейд, 1997в).
Годом позднее, в статье «О введении в лечение» (1913), Фрейд вновь коснулся темы, развернутой им в лекциях в Университете Кларка — роли переноса в процессе исцеления. Он писал, что психоаналитическое лечение мобилизует для преодоления сопротивления энергию, готовую проявиться в виде переноса, то есть питать душевные движения, отрезанные от сознания и находящиеся в «выжидательной позиции». Задача врача состоит в том, чтобы своевременными разъяснениями показывать пациенту пути, по которым следует направить эту энергию. Нередко перенос сам по себе устраняет симптомы — временно, пока он сохраняется; однако это результат не психоанализа, а внушения. Психоаналитическое лечение подразуме
45
вает, что перенос должен нацелить свою силу на преодоление сопротивления. Только тогда после «разрушения» переноса (как того требует его разрешение) состояние болезни становится невозможным (Фрейд, 1997б).
Пожалуй, главным аспектом развития взглядов Фрейда к середине 10-х годов XX века можно считать то, что перенос перестал рассматриваться им исключительно как препятствие лечению и открылся с неожиданной стороны — как косвенный союзник аналитика и пациента, как необходимое условие устранения невротических симптомов. Согласно новому представлению, во многих случаях он играет решающую позитивную роль как фактор, рождающий веру в будущий успех лечения — не только у пациента, но и у врача. В «Лекциях по введению в психоанализ» 1916 — 1917 г.г. он замечал, что перенос возникает с самого начала терапии и на некоторое время остается важнейшим условием ее успешного протекания, и сравнивал его с камбиальным слоем в древесном стволе между древесиной и корой, из которого непрерывно образуется новая древесная ткань, увеличивающая объем ствола (Фрейд, 1991а). Я хотел бы особо сосредоточить внимание читателя на этом тезисе, вернуться к которому нам еще предстоит.
С другой стороны, тогда же Фрейдом было описано «сопротивление переноса» — сопротивление, возникающее именно как результат развития переноса, в отличие от сопротивлений, связанных с необходимостью подавления болезненных или опасных импульсов и воспоминаний. Фрейд отмечал, что перенос сам по себе может стать сопротивлением, если существует неравновесие между повторением в текущем опыте и способностью или желанием пациента заместить содержание переноса воспоминанием, или по крайней мере соотнести одно с другим. Перенос служит поначалу фактором целебного влияния и движущей силой совместной работы, заменяя желание пациента быть излеченным: в «Лекциях по введению в психоанализ» он описывался Фрейдом как характерное для ранней фазы возрастание интереса пациента к аналитику и самому процессу. Однако позднее, когда он утрачивает аффективную умеренность, перестает сдерживаться или преобразуется во враждебность, он становится главным средством сопротивления, иногда парализуя стремление пациента к изменению и ставя под удар терапию. Дело в том, сообща^х Фрейд, что при любом неврозе большая часть либидо уходит в бессознательное, отворачиваясь от реальности, и, когда аналитическая работа следует за ним, начинается неизбежная борьба. Силы, вызвавшие регрессию либидо, мобилизуются против анализа в форме сопротивлений, проявляющихся в негативном переносе либо в эротическом («позитивное перенесение вытесненных эротических душевных движений») (Фрейд, 1997в). Фрейд последовательно проводил различие между анализом переноса как
46
чисто технической мерой, нацеленной на нейтрализацию сопротивлений, и так называемым «лечебным переносом» — особым эмоциональным состоянием, в котором пациент соглашается расстаться с болезненным симптомом из любви к психоаналитику и в связи с чувством зависимости от него. Поэтому в статье «О введении в лечение» он рекомендовал коллегам не интерпретировать (не разрушать) перенос, пока тот не используется в целях сопротивления, и даже вообще избегать интерпретаций, пока существует «не вызывающий возражений» позитивный перенос, или «раппорт» (Фрейд, 1997б).
Здесь хочется, забегая слегка вперед, коснуться более поздней критики, которой были подвергнуты некоторые аспекты данных представлений Фрейда. Как отмечал, в частности, Роберт Валлерштейн, фрейдовские дихотомии негативного и позитивного переноса или сублимированного и непосредственно сексуального (либиди-нозного) переноса в течение XX века устарели. Большинство подобных психических феноменов в действительности подразумевает континуум, а не дуализм — в том числе первичные и вторичные процессы мышления, сознательное и бессознательное, инстинктивные и адаптивные детерминанты поведения. Позиция переноса в каждый момент анализа в наши дни рассматривается как окрашенная эксклюзивными объектными отношениями и обладающая особой эмоциональной валентностью, характеризуемой сложной смесью или слиянием аффектов (Валлерштейн, 2003).
Значительное количество замечаний коснулось описанных Фрейдом переносов, «не вызывающих возражений» — чувств симпатии, уважения и интереса пациента к аналитику, которые Фрейд рассматривал как союзников анализа, не подвергая при этом сомнению их происхождение из сферы сексуальных переживаний. Отто Феничел в работе «Проблемы психоаналитической техники» отмечал, что любой перенос связан с тем, что субъект не реагирует на воздействия извне разумно, а привязывает их к неким ситуациям из прошлого. Позитивный перенос может приветствоваться как мотив для преодоления сопротивлений, но все же это перенос, и неминуемо настанет время, когда он сам начнет функционировать как сопротивление — что должно быть рано или поздно продемонстрировано пациенту (Феничел, 1999). Макс Штейн называл фрейдовское представление о «не вызывающей возражений» части переноса концепцией, вводящей психоаналитиков в опасное заблуждение, поскольку она призвана затуманить важные элементы аналитического взаимодействия. С точки зрения Штейна, опасность здесь заключена в вызывающей взаимное восхищение и соблазняющей взаимосвязи переноса и контрпереноса: слишком трудно побороть искушение сохранить от анализа уютную ситуацию, где господствуют обоюдное уважение, дружественность и т.д. (Stein, 1981).
47
Фактически продолжая обозначенную тему, Роберт Столороу с соавторами — Бернардом Брандшафтом и Джорджем Атвудом — отмечают, ссылаясь на Генри Рэкера и Мертона Гилла, что в работах Фрейда, на которых основано классическое понимание сопротивления переноса, содержатся по сути две противоречащие друг другу модели отношений переноса и сопротивления. Согласно одной из них, перенос понимается как сопротивление работе воспоминания и используется как замена воспоминанию, то есть он возникает из сопротивления; в другой же модели он выступает как область, где и должна совершаться работа. В первом случае перенос описывается как производная от сопротивления, во втором — наоборот. По крайней мере, как сообщают названные авторы, «...модель взаимоотношений между переносом и сопротивлением, где повторение — это защита против воспоминания, является реликтом археологической метафоры Фрейда для аналитического процесса. Эта модель в чистом виде должна быть оставлена как теоретический и терапевтический анахронизм» (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999, с. 62).
Вернемся, однако, к Фрейду. Высказанная в работе «О динамике переноса» идея о том, что особенности переноса определяются спецификой переживаемого невроза, а не общими для всех пациентов условиями психоаналитического процесса, получила дальнейшее развитие в трудах создателя психоанализа с введением понятия невроза переноса (трансферного невроза). В работе 1914 года «Воспоминание, воспроизведение и переработка» Фрейд подчеркнул с помощью этого термина, что ранние переживания пациента, ставшие первопричиной появления невроза, способны оказывать решающее влияние и на формирование его отношения к аналитику. Использование переноса при этом становится для него главным средством сдержать навязчивое воспроизведение и превратить его в воспоминание. «Мы обезвреживаем эту навязчивость... предоставляя ей известное право, допуская ее в определенной области. Мы предоставляем ей перенесение в качестве поля сражения, на котором ей разрешается развернуться с полной свободой, и от нее требуется показать нам все скрытые патогенные влечения анализируемого. Если пациент считается с необходимыми условиями лечения, то нам всегда удается дать новые условия перенесения всем симптомам болезни, заменить общий невроз неврозом перенесения (Курсив мой. — Д. Р.), от которого больной излечивается благодаря терапевтической работе. Перенесение создает, таким образом, промежуточное царство между болезнью и жизнью, через которое и совершается переход от первой к последней» (Фрейд, 1997а, с. 107).
Тема невроза переноса была далее развита Фрейдом в «Лекциях по введению в психоанализ» (1916—1917), где он сообщал, что на определенной стадии
48
работы лечение полностью захватывает пациента и вся новая продукция его болезни концентрируется на единственном пункте — на отношении к терапевту. Перенос обретает при этом новую интенсивность, и аналитик имеет дело уже не с первоначальным неврозом, но с неврозом вновь созданным, трансформированным и занявшим место прежнего. Все симптомы теряют при этом свое первоначальное значение и обретают новый смысл в связи с переносом (Фрейд, 1991а). Невроз переноса в понимании Фрейда наделяется для терапии центральным значением; задачей врача теперь становится создание всех условий для усиления проявлений переноса и перевода их в невроз переноса, который сосредотачивает инфантильный невроз на личности аналитика. В ходе последующей проработки должно быть достигнуто разрешение этого искусственного невроза путем полного осознания пациентом его инфантильного происхождения, что и ведет в итоге к полному и окончательному излечению.
Данное понятие получило новое освещение в 1920 году в работе «По ту сторону принципа наслаждения», где Фрейд сообщал, что пациент с необходимостью повторяет вытесненный материал переживаний своего прошлого как нечто, происходящее с ним в данный момент, а не как происходившее когда-то — хотя аналитик предпочел бы, чтобы это было именно так. Такое воспроизведение прошлого опыта, с точки зрения Фрейда, всегда основано на неких имевших место в раннем детстве травматичных эпизодах сексуальной жизни, неизбежно проигрываемых заново в сфере отношения больного к лечащему врачу. Когда в терапии наступает эта стадия, можно говорить, что прежний невроз вытеснен новым — неврозом переноса. Его возникновение теперь объяснялось как следствие биологически укорененной
тенденции к так называемому «навязчивому повторению» — продукту «влечения к смерти». Сам перенос есть характерный пример такого навязчивого повторения, которое в неврозе переноса усиливается многократно. Задачей терапевта является
как можно более глубокое проникновение в воспоминания, оставляющее как можно меньше места для повторения (Фрейд, 19906). Далеко не все аналитики приняли новую фрейдовскую метапсихологию — дуализм Эроса и Танатоса, однако в дальнейшем именно либидинозное и агрессивное влечения как производные этих полюсов были признаны большинством из них доминирующими источниками человеческих мотиваций и главными содержаниями переноса.
Представления Фрейда о неврозе переноса в дальнейшем стали концептуальной базой методологии и техники классического психоанализа: в рамках ортодоксальной модели его процедура подразумевала теперь возможно более полное
развитие невроза переноса и последующее его разрешение с помощью интерпрета
49
ций. Следует заметить, что сперва Фрейд полагал, будто открытие бессознательных содержаний и сообщение их пациенту само по себе должно быть достаточным для успеха терапии: не случайно в его ранних работах столь часто встречаются апелляции к «разъяснению», «убеждению» и т.д. Однако клинический опыт со временем демонстрировал, что объяснение само по себе не предполагает осознания: пациент продолжает бессознательно «цепляться» в реакциях и представлениях за прежние паттерны, в частности, так как невроз переноса не позволяет ему воспринимать собеседника как объективного и беспристрастного наблюдателя. Как следствие, возникло техническое понятие «проработки» — своего рода эмоциональной утилизации возможных инсайтов и их интеграции личностью. Невроз переноса вкупе с его последовательной и детальной проработкой сделался стержнем психоаналитического процесса. Как позднее замечал Джеймс Стрэчи, скорее всего, необходимость в постоянном анализе переноса возникла под влиянием открытия усиливающегося стремления переноса «поглотить» анализ. Невроз пациента начинает включать в себя аналитика как свою составную часть, но это и открывает последнему новые возможности: вместо того, чтобы работать с прежними конфликтами, исход которых предопределен, врач оказывается главным действующим лицом в актуальной современной ситуации. Если ему удастся помочь пациенту в этих новых конфликтах выбрать некое новое решение вместо старого, то даже после прекращения анализа тот никогда не будет страдать от прежнего невроза (Стрэчи, 2000).
Стоит заметить, что впоследствии сам термин «навязчивое повторение» многие авторы рассматривали как весьма неудачный. Обобщая критические замечания в его адрес, Сандлер с соавторами констатировали, что с помощью данного понятия часто совершаются попытки объяснить распространенную человеческую тенденцию вновь и вновь использовать ранее выработанные модели поведения, и что психоаналитики, к сожалению, склонны возводить чисто описательные понятия в ранг всеобъясняющих принципов. Кроме того, сама по себе тенденция к повторению вовсе не является некоей «навязчивостью» в психиатрическом смысле (Сандлер, Дэр, Холдер, 1993). Некоторая неоднозначность связана и с термином «невроз переноса»: другое его понимание отсылает нас к простейшей фрейдовской классификации психических расстройств, согласно которой последние подразделяются на «неврозы переноса» и «нарциссические неврозы». С точки зрения Фрейда, только при первых — например, при конверсионной истерии, истерии страха, маниакальном неврозе — пациенты способны к развитию доступных исследованию реакций переноса, в то время как при вторых (которые могли бы быть сегодня определены скорее всего как тяжелые нарциссические патологии или функциональные психозы) такой
50
способностью они не обладают ввиду разрыва связей либидинозной организации с миром объектов. Фрейд полагал, что «нарциссические неврозы» представляют результат возврата к очень ранним механизмам психического функционирования — механизмам, действовавшим еще до формирования способности субъекта строить отношения с окружающими и любить их, отделяя от собственной личности. Отсюда проистекало и ограничение возможностей психоаналитического метода как инструмента, использующего в целях лечения прежде всего перенос. Лишь дальнейшие исследования показали, что и эта дихотомия не вполне обоснованна, так как к развитию переноса способны все пациенты, независимо от характера и тяжести психопатологий, хотя при заболеваниях из ряда «нарциссических неврозов» он порой обретает непривычные для психоаналитиков формы: о них будет подробнее сказано впереди. В течение XX века классическая концепция многократно пересматривалась и модифицировалась многими аналитиками, которые продемонстрировали возможность лечения тяжелых психопатологий без развития и проработки невроза переноса. Сама идея о необходимости «возможно более полного развития невроза переноса» в наши дни рассматривается в основном как устаревшая, и, более того, для многих пациентов это «полное развитие» считается не только не соответствующим терапевтическим целям, но и элементарно опасным, поскольку оно неизбежно подразумевает ослабление и без того хрупкого и неустойчивого Я.
Томэ и Кехеле выражали сомнение в правомерности самого понятия «невроза переноса» в классическом смысле: данный термин Фрейда подразумевал, что перенос в «общечеловеческом» понимании, в том виде, в каком он является компонентом любых отношений, под влиянием аналитической ситуации превращается в особые отношения при наличии особой же невротической готовности. С точки зрения этих авторов, о неврозе переноса есть смысл говорить, если предположить, что этот термин описывает все явления переноса на основе современной теории неврозов. Едва ли корректно было бы видеть принципиальные различия между отдельными его явлениями, например, ситуативными фантазиями и переносной невротической трансформацией симптомов (Томэ, Кехеле, 1996а).
Добавим, что взгляды Фрейда на перенос были охарактеризованы целым рядом исследователей как не отличавшиеся стабильностью: согласно предположению Орра, говоря об этом феномене, он использовал данный термин для обозначения весьма разных явлений, объединенных лишь тем, что все они оказались повторением некогда пережитого опыта. Еще на основе случая Доры Фрейд впервые определил перенос как отдельную категорию психических процессов и как ключ к анализу невроза. Однако в то время он представлял для анализа проблему сугубо техническую.
51
В дальнейшем Фрейд использовал понятие переноса весьма свободно, описывая его в одних случаях как «раппорт» — особую эмоциональную связь наподобие той, что возникает между гипнотизером и гипнотиком, в других — как воспроизведение инфантильного невроза, в третьих — как некоторые промежуточные разновидности аффективных коммуникаций, то есть как явления не вполне одинаковой природы и сущности (Огг, 1954). С 1920 года перенос понимается Фрейдом как продукт «навязчивого повторения», наконец в 1925 году на страницах «Автобиографического исследования» он предстает как чрезвычайно важная ментальная структура и универсальный феномен психики, от которого зависит успех всех медицинских влияний, и феномен, в целом фактически доминирующий в любых отношениях субъекта с его социальным окружением. Этот последний тезис, к сожалению, в дальнейших трудах Фрейда развития не получил. Тем не менее в «Очерке психоанализа», опубликованном уже после смерти автора, Фрейд подвел некоторые итоги исследованиям переноса в психоаналитической ситуации, обозначив следующие характеристики данного феномена: а — амбивалентность; б — перевоплощение фигур из детства пациента в личность аналитика; в — принятие аналитиком роли нового Сверх-Я, исправляющего ошибки раннего воспитания; г — смешение настоящего и прошлого в неврозе переноса. Задачей аналитика в этих условиях становится вызволение пациента из плена угрожающих иллюзий и демонстрация ему того факта, что все или почти все его восприятия реальной жизни несут в себе отражение жизни прошлой.
Как отмечают многие авторы, открытие переноса Фрейдом решило целый ряд важных для понимания работы человеческой психики проблем: появилась возможность реконструкции генезиса психических нарушений в межличностном поле и диагностики невротической готовности реагирования, так как в отношении пациента к аналитику стало возможно наблюдать интернализованные конфликты, проявляющие себя как повторяющиеся паттерны мыслей и поведения — паттерны, которые превращаются в переносе в объектные отношения и наблюдаются в момент зарождения. Однако Фрейд существенно ограничивал возможности использования собственного открытия, исходя из «монадического» представления о пациенте как носителе сугубо интрапсихического конфликта. Основой классической психоаналитической техники была ортодоксальная концепция невроза переноса, стержнем которой являлось представление о переносе как продукте исключительно внутренних проблем анализанда, порожденных патогенным опытом его прошлого. Говоря языком Балинта, это было понимание явления с позиции психологии одной персоны. В частности, именно на данном понимании основывался идеал «разрешения» переноса — идеал, являвшийся составной частью «монадической» модели лечения и по
52
этой причине, согласно справедливому замечанию Томэ и Кехеле, в реальности не существующий (Томэ, Кехеле, 1996а).
Надо иметь в виду, что классическое психоаналитическое понимание переноса формировалось в тот период развития новой науки, когда психическая деятельность рассматривалась как проявление преимущественно хаотичной активности влечений. Сексуальные импульсы, адресованные значимому когда-то для субъекта лицу, Фрейд рассматривал как либидинозный катексис данного образа; перенос же считался своего рода транспортировкой либидинозной энергии из памяти о первоначальном объекте в личность психоаналитика как нового объекта инстинктных побуждений. Однако далее становилось очевидно, что перенос не может быть корректно описан как производная исключительно инстинктной сферы. Даже такой убежденный сторонник классического подхода, как Роберт Уэлдер, замечал, что, хотя пациенты действительно переносят на аналитика любовь и ненависть, но они проявляют и такие чувства, которые невозможно рассматривать просто как детерминанты либидинозных или деструктивных позывов: например, убежденность в магическом всемогуществе терапевта или отношение к нему как к личному слуге, наряду с поваром, шофером и садовником (Уэлдер, 1987). Новое внимание, уделяемое анализу переноса в связи с возникновением и развитием Я-психологии, оказалось причиной того, что многие исследователи начали расширять и дополнять традиционное понимание этого феномена для более полного и глубинного описания некоторых клинических явлений. Один из крупнейших вкладов в новый этап изучения переноса принадлежал Анне Фрейд.
Анна Фрейд, чье имя стоит у истоков Я-психологии, в работе «Психология Я и защитные механизмы» предложила новую классификацию переноса, подразделяющую его реакции на два типа. Один из них соответствует традиционному взгляду на перенос как прямую производную сферы влечений: «Пациент обнаруживает, что его отношения с аналитиком осложняются пылкими эмоциями, например любовью, ненавистью, ревностью, тревогой, которые не оправданы фактами реальной ситуации. Сам пациент сопротивляется этим эмоциям, чувствует стыд, унижение и т.д., когда они проявляются помимо его воли... Дальнейшее исследование обнаруживает истинный характер этих эмоций — они представляют собой вторжения Оно». Реакции другого типа описывались Анной Фрейд термином «перенос защит»: воспроизведение способов или механизмов, с помощью которых субъект оборонялся в детстве от болезненных последствий своих сексуальных или агрессивных побуждений. «Навязчивое повторение... затрагивает не только предшествовавшие импульсы Оно, но также и предшествовавшие защитные меры против
53
инстинктов. Таким образом, пациент переносит не только неискаженные детские импульсы Оно... он также переносит импульсы Оно во всех тех искаженных формах, которые они приобрели, когда он был еще ребенком. В крайнем случае может быть так, что сам инстинктивный импульс вообще не участвует в переносе; в нем участвует лишь определенная защита, принятая Я против некоторых позитивных или негативных установок либидо» (Фрейд А., 1993, с. 19-20). Данная формулировка расширяла «классическое» определение, согласно которому, например, враждебность не рассматривалась как повторение мер против тревоги, принимавшихся ребенком, то есть способ адаптации и функционирования, но являлась лишь средством недопущения неприемлемых желаний и чувств в адрес объекта. Анна Фрейд сообщала также, что интерпретации второго типа переноса в анализе более плодотворны, чем первого, так как с их помощью достигается двойной успех: понимание не только агрессивного или либидинозного импульса, принадлежащего Оно, но и защиты Я против последнего. Однако при этом она подчеркивала, что именно с интерпретациями переноса защит связана главная трудность аналитической работы, поскольку эти реакции являются для пациента Я-синтонными и не воспринимаются им как нечто чуждое и, следовательно, заслуживающее внимания.
Анна Фрейд выделяла также особо такую форму активности, как «действие в переносе» или «отреагирование переноса», при которой перенос, будучи усилен, ищет каналы разрядки в повседневной жизни пациента. Последний обыкновенно перестает при этом соблюдать правила аналитического лечения и проигрывает в повседневном поведении инстинктные импульсы и защитные реакции, включенные в перенесенные аффекты; чувства и побуждения, адресованные терапевту, оказываются направлены на лиц, составляющих ближайшее окружение больного. Разыгрывается сценарий, «...при котором, строго говоря, границы анализа уже оставлены позади» (Фрейд А., 1993, с. 22). Еще один психический процесс, описанный Анной Фрейд как особая форма переноса, получил в ее концепции наименование «экстернализа-ция» (значение термина раскрывалось выше, в главе 1). Экстернализация представляет механизм разрешения конфликта между интрапсихическими инстанциями — Я, Оно и Сверх-Я, — путем проективного превращения его в конфликт внешний; с точки зрения Анны Фрейд, хотя механизм этот носит регрессивный характер, его следует четко отделять от повторения защитных, адаптивных или удовлетворяющих действий, истоки которых принадлежат инфантильному прошлому субъекта.
Именно по этой последней причине далеко не все аналитики согласились с тем, что экстернализация может быть рассмотрена как разновидность переноса — исходя из представления о переносе именно как продукте возрождения прошло
54
го опыта. Однако надо иметь в виду, что даже в исследованиях, проводившихся ортодоксальными последователями Фрейда, не всегда очевидно различие между экстернализацией и переносом в классическом понимании. По сути не что иное как экстернализацию имели в виду и Фрейд, и Франц Александер, когда писали, что во многих случаях перенос превращает аналитика в часть Сверх-Я пациента, и это становится важным двигателем терапии. Несогласие аналитика действовать в рамках навязываемой ему роли может рассматриваться как основа для последующих интерпретаций, призванных изменить поведенческие стереотипы пациента. Позднее, однако, Александер активно применял технику, предписывавшую врачу, наоборот, занимать позицию, не препятствующую экстернализации, и влиять на пациента, манипулируя переносом: вполне естественна резкая критика, которой подвергли подход Александера «классические» специалисты на Парижском психиатрическом конгрессе в 1950 году.
Вслед за Анной Фрейд в 30-е годы XX столетия переносу стало уделяться возрастающее внимание как Я-психологами, так и сторонниками «классического» психоанализа. Джеймс Стрэчи, один из наиболее видных представителей «английской школы», предложил в 1934 году расширенное понимание переноса как результата действия в аналитической ситуации проекций и интроекций. С точки зрения Стрэчи, перенос предполагает проекцию в аналитика плохого внутреннего объекта (жестокого Сверх-Я) и его последующую реинтроекцию. Чтобы разорвать возникающий при этом порочный круг, Стрэчи предложил технику «мутационных интерпретаций» переноса, ориентированных на качественное интроективное изменение Сверх-Я. С их помощью аналитик, являясь одновременно объектом переноса и субъектом интерпретации, помогает пациенту отличить реальный объект от фантазийного и смягчить жестокость Сверх-Я. В понимании Стрэчи «мутационные интерпретации» являются единственным подлинно эффективным терапевтическим фактором (Стрэчи, 2000). Стрэчи показывал, таким образом, что аналитик исполняет роль не только наблюдателя, но и активного участника отношений, и обозначал переход от понимания аналитической работы как сфокусированной на сопротивлении к пониманию ее как сфокусированной на переносе. Наиболее аффективно насыщенные компоненты переноса делались исходным пунктом Д;\я интерпретаций; сопротивление при этом фактически рассматривалось как одно из проявлений негативного переноса. Эта линия была впоследствии продолжена школой Мелани Клайн.
В тридцатые — сороковые годы XX века Мелани Клайн разработала концепцию депрессивной позиции, в сороковые — пятидесятые — теорию бессознательных фантазий, концепцию параноидно-шизоидной позиции и проективной
55
идентификации как одного из сопутствующих ей примитивных защитных механизмов. Клайн и ее последователи концептуализировали перенос как манифестацию механизма проекции; в частности, Рэкер описывал его как проекцию отвергаемых внутренних объектов, преобразующую невыносимые интрапсихические конфликты в конфликты внешние. Бессознательная фантазия в теории Клайн есть связующее звено между инстинктами и мышлением и первичное содержание психических процессов; содержание бессознательных фантазий изначально связано с телом и представляет инстинктные цели, направленные на объект. Интерпретации проявляющихся в переносе фантазий составили основу аналитической техники школы Клайн, рассматривавшей поведение человека как повторение опыта самых ранних отношений ребенка с материнской грудью (первого года жизни) (Klein, 1932). Техника предполагала постановку акцента на быстрое и полное развитие невроза переноса и его возможно более ранние и систематические интерпретации со ссылками на глубинный генетический материал. Перенос, ставший в рамках данной школы основным объектом исследования и основным же терапевтическим инструментом, практически вытеснил из теории и методологии понятие сопротивления — в противовес методологии Я-психологов, отстаивавших необходимость последовательного анализа сопротивлений переноса «от поверхности вглубь», согласно принципу Феничела, и сосредоточения внимания на актуальных проблемах аналитических отношений.
Аналитики не раз критически обращали внимание на то, что в концепции Клайн бессознательные фантазии, проявляющиеся в переносе, «внеисторичны» и неизменны — что в свое время даже способствовало появлению профессионального анекдота: «В чем различие между классическим и клайнианским анализом? В первом случае — если аналитик во время сессии умрет, пациент ничего не заметит; во втором — если умрет пациент, аналитик ничего не заметит». Эти фантазии присутствуют в переносе всегда, проявляют себя со значительной интенсивностью и не маскируются сопротивлениями, что дает аналитику основания работать с ними с помощью глубинных интерпретаций на самых ранних стадиях анализа. Ситуация «здесь и теперь» понимается при этом как перенос в смысле элементарных повторений, не имеющих поступательного развития. Однако, как подчеркивают Томэ и Кехеле, весьма сомнительно, чтобы бессознательной части опыта субъекта было корректно приписывать особое вневременное и внеисторичное существование: у бессознательного нет своего собственного, автономного бытия, не связанного с историчностью человеческого бытия и опыта в целом (Томэ, Кехеле, 1996а). В отношении «мутационных интерпретаций» Стрэчи как «единственного подлинно эффективного
56
фактора» Кехеле замечает лишь, что концепция эта так и не получила эмпирического подтверждения (Кэхеле, 2001).
Но представления Стрэчи и Клайн способствовали возникновению выраженной тенденции к дальнейшему расширению понятия, в которое существенный вклад внесли такие исследователи, как Эдвард Гловер, Ральф Гринсон и другие. Гловер подчеркивал тотальное значение переноса, утверждая, что пациент перемещает на аналитика не только чувства и фантазии, но и все, что он когда-либо узнавал и забывал в течение своего развития (Glover, 1955а). Гринсон полагал, что к явлению переноса может быть причислена любая реакция субъекта, стереотип которой был сформирован в прошлом: введенный им термин «генерализованный перенос», упоминавшийся в первой главе, является наглядной иллюстрацией к этому тезису (Гринсон, 1994). В итоге своего рода синтез точек зрения Стрэчи и Клайн привел к тому, что некоторые аналитики стали рассматривать любые проявления пациента как видоизмененное повторение раннего детского опыта и воздерживаться в практике от любых интервенций, не затрагивающих перенос.
Поскольку, однако, подобное расширение понятия переноса не делало его более ясным, многие специалисты стали выступать в пользу возврата к более узким и четким определениям. Как замечал, в частности, Перл Кинг, акцент на интерпретации переноса как текущих в широком смысле отношений «здесь и сейчас» автоматически исключает использование многих ключевых технических понятий Фрейда. Понятие «переноса» по сути игнорируется, уравниваясь с понятием «отношений», и аналитик интерпретирует отношения, в то время как поддерживается иллюзия, что он «работает с переносом» (цит. по: Жибо, 2001). Роберт Уэлдер ограничивал понимание переноса исключительно рамками психоаналитической ситуации. Согласно взгляду Уэлдера, к переносу следует относить лишь попытки пациента оживить и реактивизировать в ходе анализа события и фантазии своего детства, «анимируя» их в контексте отношения к аналитику. Таким образом, перенос превращался в явление сугубо регрессивное и развивающееся как артефакт психоаналитического эксперимента, то есть строго определенной ситуации и техники (Waelder, 1956). Я-психологи предпочитали обозначать термином «перенос» только то, что в аналитической ситуации не является новым, то есть «переиздания» интрапсихических конфликтов, происходящие из прошлых объектных отношений и возбуждающиеся в процессе лечения. В отличие от них любой новый материал следует относить к какому-либо из понятий, связанных с «реальностью» и «рабочим альянсом». Прошлое при этом становится главным или даже единственным объектом внимания; интерпретации должны ориентироваться исключительно на прошлое и основываться на инт-
57
рапсихической модели конфликта. Лео Рэнджелл подчеркивал в традициях данной парадигмы, что происходящее «здесь и сейчас» важно лишь постольку, поскольку оно исходит из прошлого и ведет обратно к нему же. Рудольф Левенштайн, еще один из представителей Я-психологии, поддерживал точку зрения, согласно которой перенос вне аналитического кабинета не может корректно описываться в тех же терминах, что используются для его описания в отношениях «аналитик — пациент».
Специфический характер явления переноса в аналитическом процессе в отличие от повседневных взаимодействий и отношений субъекта объяснялся Полем Дени как следствие парадоксальной позиции аналитика, который одновременно предлагает себя пациенту в качестве объекта инвестиций и отстраняется от этого инвестирования для его исследования — то есть вносит в него беспорядок, выступая в одном лице как объект и как «анти-объект». Сугубо ирреальный характер ситуации заставляет пациента искать пути ее переустройства, в процессе чего (Дени ссылается на Мишеля Неро) рождается перенос как попытка овладеть избыточным возбуждением. В обыденной жизни человек редко встречается с подобной парадоксальной коммуникацией. Согласно Неро, перенос отклоняет чрезмерно грубое влияние возбуждений, заменяя их теми, которыми субъект ранее успел овладеть. Анализ переноса состоит в последовательной дезорганизации его приспособлений, которая создает условия для развертывания совокупности переносных реакций, препятствуя повторению одной-единственной (Дени, 2005).
Уже из сказанного видно, сколь серьезные расхождения обнаруживались среди последователей Фрейда во взглядах на феномен, являющийся по сути своей стержнем клинической психоаналитической теории и практики — даже во взглядах, объединенных пониманием переноса как повторения прошлого в настоящем. К данному перечню можно было бы добавить версии переноса, выдвинутые Отто Феничелом, Вильгельмом Райхом и многими другими: относительно полный обзор этих представлений приведен в статье Андрея Россохина (Россохин, 2000). Возможно, отчасти это было следствием нестабильности взглядов самого основателя психоанализа, о которой шла речь выше. Значение термина «перенос» стало во многом зависеть от контекста, в котором он использовался. С одной стороны, было очевидно, что его не следовало ограничивать рамками аналитической ситуации, так как последняя лишь позволяла наиболее ярко высветить то, что наблюдалось и функционировало и за ее пределами; с другой — его едва ли имело смысл расширять бесконечно, поскольку в этом случае под сомнением оказывалась ценность самого термина. Подобное различие пониманий не могло не стать причиной столь же весомой неоднородности используемых методик и техник. Как справедливо заме
58
тил по этому поводу Брайан Берд, «ничто в анализе не известно меньше, чем ответ на вопрос, как аналитики действительно используют перенос в своей каждодневной работе с пациентами. Можно предположить, что, поскольку концепции переноса у аналитиков значительно различаются в зависимости от их собственного опыта, для разных аналитиков перенос может означать совершенно разные вещи... Между первыми аналитиками существовало множество разногласий, и все они, как я подозреваю, в основном сводились к разногласиям по поводу обращения с переносом» (Bird, 1972, Р. 270-271).
Так или иначе, большая часть «классически» ориентированных аналитиков, по-видимому, смогла объединиться вокруг «классического» же определения переноса, данного Феничелом: «Пациент неправильно понимает настоящее в терминах прошлого и затем вместо того чтобы вспоминать прошедшее, он стремится, без осознания причин своих действий, пережить прошлое, и пережить его более удовлетворительно, чем он делал это в детстве» (цит. по: Россохин, 2000, с. 27). Из данного определения вытекал и методологический подход Феничела, изложенный им в работе «Психоаналитическая теория неврозов»: «Реакция аналитика на перенос — такая же, как и на любую другую установку пациента: он его интерпретирует. Он видит в этой установке производную бессознательных импульсов и пытается показать их пациенту» (Fenichel, 1945, р. 30). Согласно Феничелу, систематическая и последовательная интерпретативная работа внутри и вне структуры переноса может быть определена как обучение анализанда производить менее искаженный материал, пока не будут распознаны его основные инстинктивные конфликты. Еще один сторонник «классической» версии Роберт Уэлдер определил перенос следующим образом: «Можно сказать, что это попытка пациента оживить и повторно разыграть... в отношениях с аналитиком ситуации и фантазии детства» (Waelder, 1956, р. 367). Уэлдер представил его как «специфический феномен, который может способствовать психоанализу или сделать его невозможным, который может быть чрезвычайно полезным инструментом или препятствием, который может оказать содействие в приведении анализа к успешному завершению или же полностью разрушить его». По Уэлдеру, перенос подразумевает, что пациент откликается на слова и действия аналитика в соответствии не с реальностью, но со своими автоматическими инфантильными паттернами, которые были по некоей необходимости сформированы в его отношениях с окружающими людьми в раннем детстве. Соответственно, одной из наиболее важных целей психоаналитического лечения является разрыв этих паттернов и их замена способностью откликаться на внешние стимулы реально обоснованными реакциями (Уэлдер, 1987).
59
Методология подхода к переносу была во многом определена работами Мертона Гилла, принятыми психоаналитическим сообществом неоднозначно, но оставившими затем глубочайший след в большинстве терапевтических техник. Гиллу принадлежит «энциклопедическое» определение психоаналитического метода, согласно которому «психоанализ — это техника, применяемая нейтральным аналитиком и приводящая к развитию регрессивного невроза переноса и окончательному разрешению этого невроза при помощи одной лишь техники интерпретации» (Гилл, 2000, с. 204). Анализ переноса «здесь и сейчас» Гилл рассматривал как центральную техническую задачу и главный фокус аналитической работы. Перенос в понимании Гилла служил основным средством выражения сопротивления, поэтому анализ сопротивлений для него был тождествен анализу переноса. Гилл выделял два основных типа сопротивлений: 1 — сопротивление переносу, которое делилось в свою очередь на сопротивление осознанию переноса и сопротивление вовлечению в перенос, и 2 — сопротивление разрешению переноса. Согласно предложенной им модели, аналитику следовало помогать возможно более полному развитию невроза переноса с помощью интерпретаций сопротивлений первого типа. Эти интерпретации «здесь и сейчас» способствуют обретению пациентом нового опыта, который вместе с более глубоким пониманием происходящего играет ключевую роль в разрешении переноса. Генетическим интерпретациям, отсылающим пациента к прошлому, Гилл придавал второстепенное значение: в отличие от ортодоксальных теоретиков техники он подчеркивал межличностный характер аналитической ситуации и указывал на необходимость учета реальности, то есть повышенного внимания к аналитическому настоящему (Gill, 1979).
Работы Гилла во многом способствовали смещению аналитического внимания с прошлого на настоящее, то есть на актуальную ситуацию «здесь и сейчас». Лео Стоун писал позднее, что акцент на проблеме «здесь и сейчас» есть историческая вершина развития психоанализа, и что тенденция начинать анализ переноса в «здесь и сейчас» сколь можно раньше представляет важный компонент прогрессивно развивающегося психоаналитического метода (Stone, 1981). Де Беа и Ромеро, отвечая на вопрос, следует ли уделять первостепенное внимание исследованию настоящего или реконструкциям прошлого, утверждали, что объектом внимания всегда должен делаться перенос «здесь и сейчас», то есть в точке взаимодействия прошлого и настоящего (De Bea, Romero, 1986). С пятидесятых годов XX столетия основной упор в классической аналитической технике стал делаться на полное развитие невроза переноса и его интерпретативную проработку с постепенным разрешением; в отличие от техники, предпочитаемой Я-психологами, анализ переноса «здесь и сейчас» стал
60
предшествовать интерпретациям с позиций прошлого, то есть вопрос «что происходит в данный момент?» стал задаваться раньше, чем вопрос «что материал пациента говорит о его прошлом?». Классическое для пятидесятых — шестидесятых годов XX столетия понимание «разрешения невроза переноса» принадлежало Карлу Мен-нингеру: анализ начинается с того, что пациент реагирует на аналитика как на мать, отца, брата и т. д. Со временем интенсивность этой иллюзии ослабевает, аналитик в большей степени становится для пациента «доктором, который его терпеливо выслушал». Он теряет в глазах пациента прежнее магическое всемогущество и делается взамен объектом все более благосклонного и реалистичного отношения (Menninger, 1958). На данном этапе, как отмечал Сандлер с соавторами, использование термина «перенос» в зависимости от контекста описываемой ситуации преследовало одну из следующих четырех целей:
1. Обозначение возникновения в новой форме пережитых в детстве чувств и реакций, направленных на психоаналитика.
2. Обозначение возникновения в новой форме пережитых в детстве чувств и реакций вкупе с описанными Анной Фрейд «переносами защит» и экстернализациями.
3. Обозначение всех «несоответствующих реальности» мыслей, реакций, чувств, фантазий, представляющих собой оживление прошлого.
4. Обозначение отношения пациента к психоаналитику как такового и во всех аспектах. Последнее определение призывало рассматривать все стороны отношения как детерминированные прошлым пациента, а все его ассоциации и формы поведения — как непосредственно связанные с фигурой аналитика (Сандлер, Дэр, Холдер, 1993).
Следует заметить, что для многих специалистов идея о необходимости развития возможно более интенсивного невроза переноса выглядела по крайней мере весьма спорной. Анна Фрейд еще в тридцатые годы XX столетия скептически отзывалась об аналитических техниках, чрезмерно концентрированных на переносе: «Нет сомнений в том, что пациенты, находясь в состоянии интенсифицированного переноса, которому этот метод благоприятствует, продуцируют обильный материал из глубочайших слоев Оно. Но при этом они переходят границы ситуации анализа. Я больше не остается вовне, его энергия не уменьшена, сила не снижена, оно не сохраняет позицию объективного наблюдения, при которой не принимает активного участия в происходящем... оно действует, вместо того чтобы анализировать. Но это означает, что подобная техника, с использованием которой были связаны надежды достичь более глубокого понимания наших пациентов, с терапевтической точки зрения приводит к разочарованию, которого с теоретической точки зрения следовало
61
ожидать в результате действия в переносе» (Фрейд А., 1993, с. 25). Именно понимание опасностей ситуации, в которой невроз переноса может блокировать аналитическую работу, способствовало появлению в те же тридцатые годы предложенной Штерба техники «терапевтического расщепления Я», которая подразумевала ориентацию усилий аналитика не только на развитие переноса с сопутствующими переживаниями, но и на поддержку «разумной», наблюдающей и осмысливающей части Я пациента. Штерба разработал концепцию терапевтического союза как временного взаимодействия наблюдающего Я анализанда с аналитиком, возникающего под влиянием интерпретаций сопротивления переносу и основанного на временном и частичном выходе анализанда из отношений переноса и его способности увидеть происходящее более объективно. Такое расщепление делается возможным благодаря способности пациента к идентификации наблюдающей части Я с Я аналитика. Идентификация ведет к пониманию пациентом совместной аналитической работы, которая, будучи интернализована им, становится основой для последующей интеграции Я (Sterba, 1934).
Теперь настало время упомянуть, что реальный клинический опыт уже в первой трети XX века все более отчетливо ставил перед аналитиками вопрос: в какой степени является возможным «разрешение переноса» как главная цель аналитического процесса и всегда ли интерпретация служит оптимальным средством ее достижения? Проблема «переносных остатков» впервые была сформулирована Рут Мак-Брунсвик, которая в 1926 году начала повторный анализ бывшего пациента Фрейда Сергея Панкеева после серьезного рецидива его прежнего невроза. Уже тогда стало очевидно, что потенциал переноса сохраняется в течение многих лет после завершения анализа. Сам Фрейд в работе «Анализ конечный и бесконечный» (1937) задавался вопросом: почему после анализа некоторые пациенты, у которых, казалось бы, «все проанализировано», вновь развивают отношения, наполненные страстями и показывающие, что их психические конфликты вечны? С точки зрения Фрейда, причина состояла в том, что что-то в этих случаях ускользнуло от анализа или не поддалось ему (Фрейд, 1998). Однако многие аналитики имели, по-видимому, веские причины сомневаться в том, что классическая интерпретативная техника вообще должна рассматриваться как наилучший подход ко всем разновидностям проявляющихся в переносе проблем. В их практической работе акцент смещался на развитие и поддержку терапевтических отношений. Заметим, что значимость эмоциональной связи между участниками лечебной диады не отрицалась и Фрейдом: в «Автобиографическом исследовании», упоминая о своей практике гипноза, он отмечал, что результаты гипнотического воздействия неоднократно стирались при
62
нарушениях личных отношений между врачом и пациентом. Последние оказывались более сильны, нежели катарсический эффект.
Одним из первых соратников Фрейда, критически пересмотревшим понимание психоаналитической работы как процесса интерпретативного разрешения переносных конфликтов, стал Шандор Ференци. Вместе с Отто Ранком он ввел в терапевтическую технику новшество: вместо реконструкции прошлого опыта пациента приоритет стал отдаваться текущим актуальным переживаниям, раскрывающимся в переносе. Ференци проявил себя противником «интерпретационного фанатизма», превращающего анализ в бесплодную интеллектуализацию. С его точки зрения, эффективность аналитического лечения почти полностью зависела от интенсивности повторного переживания опыта, который не был сознательно пережит в прошлом. Ференци и Ранк рекомендовали поощрять и поддерживать проявляющиеся в переносе чувства, в то же время избегая интерпретаций и создавая предельно комфортную для пациента атмосферу отношений. В этой атмосфере должна была осуществиться компенсация его инфантильных травм (Ferenczi, 1950). Подобная методика была раскритикована большинством аналитиков как потакающая инфантильным желаниям пациентов и препятствующая возможности беспристрастно и объективно эти желания исследовать: несмотря на то, что Ференци был защитником принципа абстиненции, он испытывал в то же время чрезвычайно высокую потребность помогать и лечить людей, что подталкивало его к причудливым экспериментам по снятию напряженности переноса, вплоть до обмена физическими ласками. Однако, возможно, именно эти эксперименты в конечном счете и заставили многих психотерапевтов уделить новое внимание фактору отношений. Развитие теории объектных отношений, в известной степени обязанной своим появлением Ференци и Ранку, со временем способствовало смещению акцентов и выработке нового подхода к аналитическому процессу.
В дальнейшем методология Ференци, Ранка и интегрировавшей идеи последнего «филадельфийской группы» стала основой «клиент-центрированной» модели терапии Карла Роджерса. Главным терапевтическим инструментом последней была эмпатия — способность терапевта (на языке Роджерса — консультанта, так как, не будучи врачом, он не рассматривал неврозы как болезни) к со-чувствованию. Функции консультанта подразумевали реализацию способности проникнуться настроением пациента (на языке Роджерса — клиента), его внутренним состоянием, принятие мира клиента таким, каким тот его видит, и принятие самого клиента таким, каким он видит себя. Роджерс исходил из представления, что невротик — это человек, который более всего нуждается в любви, и что задача терапевта — дать ему тот опыт любви, которого он был лишен.
63
Роджерс выражал своеобразное отношение к понятию переноса, рассматривая его не как универсальный компонент коммуникации, но скорее как нежелательный артефакт терапевтической ситуации в отдельных случаях. С его точки зрения, именно возможность терапии без отношений переноса заслуживает пристального внимания, так как разрешение переноса происходит слишком медленно. «Нормальное» отсутствие переноса он описывал как взаимодействие, в котором «отношение к консультанту (Со стороны пациента. — Д. Р.) носит спокойный характер» — фон, на котором тем не менее могут проявляться, например, опасения, раздражение, дружеское расположение, то есть «незначительные аффекты, несколько отличающиеся по интенсивности от обычного эмоционального фона» (Роджерс, 2007, с. 243— 244). Под переносом Роджерс понимал «гораздо более сильные эмоциональные установки» (Роджерс, 2007, с. 244): боязнь, враждебность, желание зависимости или любовных отношений. Он сообщал, что был лично знаком с консультантами, к которым обращались тысячи клиентов, и только в немногих случаях им приходилось сталкиваться с явлениями, которые подошли бы под описание переноса Фрейдом. Поясняя последнее утверждение, Роджерс цитировал «Автобиографическое исследование», где Фрейд подчеркивал, что чувства пациента к аналитику могут «варьироваться от крайних проявлений пылкой страсти, чувственной любви до необузданных выражений озлобленного вызова и ненависти» (Роджерс, 2007, с. 245). Он не задавался вопросом, почему переносом могут быть названы только эти крайности и почему данный термин не будет корректен для описания более умеренных переживаний; кроме того, в той же работе Фрейд писал, что перенос проявляется и в виде «умеренной расположенности», однако для Роджерса это не перенос. Однако, хотя Роджерс убежденно противопоставлял свою методологию психоаналитической, на мой взгляд, между «клиент-центрированной» терапией и психоанализом можно обнаружить (или создать) больше точек соприкосновения, чем разногласий: речь об этом пойдет впереди.
Итак, «классический» интерпретативный подход однозначно принимался далеко не всеми аналитиками, и определенные теоретические и технические модификации его были неизбежны. Многие изменения оказались не в последнюю очередь связаны с тем, что к середине XX века рядом исследователей была описана новая форма переноса, принципиально отличавшаяся от той, о которой говорил Фрейд: перенос как проявление примитивных производных наиболее раннего единства младенца и матери. Понятие переноса в том значении, в каком Фрейд его формулировал, разрабатывалось в контексте психоанализа пациентов, страдавших неврозами, то есть лиц с относительно ^модифицированным Я и вполне развитой способное-
64
тью к выстраиванию нормальных объектных отношений. Такие пациенты обладают возможностью интернализации и интроспекции, что обуславливает их восприимчивость к интерпретациям и делает их внутренний мир доступным для классического психоаналитического инструментария. Однако существовала и широкая категория пациентов, неспособных к формированию «полноценного» объектного переноса (тех, кто был классифицирован Фрейдом как носители «нарциссических неврозов») или не достигших той степени дифференциации от объекта, которая могла бы обеспечивать им достаточно реалистичное восприятие последнего. Переносы этих пациентов питались опытом не эдипова уровня, на котором язык интерпретаций и вообще вербальный язык имеют значение, но уровней гораздо более глубоких и архаичных. Анализ, основанный на интерпретациях, был поэтому к ним неприменим.
Явление, о котором идет речь, оказалось в поле зрения психоаналитиков прежде всего в таких формах, как эротизированный и психотический перенос. Их специфика заключалась в весьма высокой (по сравнению с обычными формами переноса) степени отсутствия реалистичности. Впоследствии они стали рассматриваться обыкновенно как продукты регрессивного оживления наиболее примитивных конфигураций отношений, происходящего либо вследствие психопатологии, либо в связи с некими особенностями аналитической ситуации (либо по обеим причинам одновременно). Предполагалось, что эти и подобные формы переноса детерминированы столь сильными защитными или адаптивными изменениями в функционировании Я и Сверх-Я, что субъект утрачивает под их влиянием восприятие реальности. Эротизированный перенос был впервые описан Фрейдом в 1915 году как внезапно возникающая любовь пациентки к врачу, существенно осложнявшая или делавшая невозможным процесс анализа. О подобных пациентах Фрейд писал как о людях, наделенных чрезмерной природной страстностью (Фрейд, 2003), и лишь в 1950 году Александер заговорил об истинной проблематике субъекта, развивающего столь сильную психологическую зависимость от аналитика (Alexander, 1950). Эрнест Раппапорт рассматривал такую эротизацию переноса как признак серьезного нарушения чувства реальности, сопутствующего тяжелым формам психопатологий (Rappaport, 1956). Нанберг высказывал точку зрения, согласно которой этот вид отношений в диаде вообще не может описываться как продукт переноса, так как пациентка не проецирует на аналитика образ отца (матери), но пытается заставить его реально видоизмениться до соответствия таковому (Nunberg, 1951). Содержащееся в переносе желание в данном случае столь глобально, что перед ним не способны как будто устоять никакие внутренние границы. Классическая модель психоанализа для таких пациентов была непригодна, поскольку они были не в состоянии выдерживать требования аналитической ситуации и формировать устойчивый альянс.
65
Термин «психотический перенос» был введен для описания случаев, в которых в восприятии аналитика пациентом более или менее отчетливо наблюдались признаки психоза. Как уже упоминалось, Фрейд придерживался точки зрения, согласно которой психозы («нарциссические неврозы») представляют производную тех наиболее ранних стадий развития, на которых еще не была сформирована способность субъекта отделять себя от другого человека, строить отношения и любить. Фрейд предполагал, что при «нарциссических неврозах» происходит либидинозный декатексис объектов внешнего мира и чрезмерная ли-бидинозная инвестиция собственного Я. Этот перенос отличается от невротического тем, что его объектом оказывается собственное Я субъекта. Начиная с Нанберга, описавшего явления переноса у пациента с кататонической шизофренией, все большее число аналитиков сходилось во мнении, что перенос при психозах все же существует, и дело не в его отсутствии, а в сложности проблемы его распознавания и интерпретации — например, при манифестации пациентом симптомов отстраненности, грандиозности и т.д. Эта сложность связана с тем, что, когда психотик приближается к объекту своей любви или ненависти, он начинает испытывать затруднения в выборе отношения к нему. Данная ситуация позволяет сделать шаг к пониманию переживаний ребенка, пытающегося провести первую границу между Я и He-Я. В 1963 году Сирлз сообщал о страдавшем шизофренией пациенте, что процесс дифференциации Я и He-Я был столь затруднен для него, что он не столько ощущал сходство терапевта с отцом или матерью в неких аспектах, сколько действовал на основе положения, что терапевт и есть его отец или мать. Однако, как полагает например Сандлер с соавторами, нет особых оснований предполагать, что психотический перенос обладает специфическим или характерным наполнением: он просто в меньшей степени ограничен реальностью, чем перенос при патологиях невротического уровня. Манифестируемое в переносе желание, которому невротический пациент способен сопротивляться или позволяет проявиться в форме сновидения, мечты или фантазии, при психотическом разрыве с реальностью может породить ложное убеждение (Сандлер, Дэр, Холдер, 1993). То же можно сказать, очевидно, и о временных психотических (или близких к таковым) реакциях у тех пациентов, которые не страдают психозами — реакциях, объединенных Литтлом и Хэмметом в категорию «делю-зивных переносов». Эти авторы высказывали точку зрения, согласно которой подобные явления, создающие серьезные аномалии в аналитической коммуникации, представляют искаженное, но весьма отчетливое повторение некоторых аспектов очень ранних отношений в детско-материнской диаде.
66
«Общим знаменателем» для делюзивных реакций, переносов при психозах и эротизированных переносов, как видно, является ослабленная способность субъекта сопоставлять иллюзию с реальностью аналитической ситуации (так, высокая степень эротизации переноса нередко сопровождается убеждением пациента, что его любовь разделена терапевтом, который «просто скован профессиональными предрассудками»). Пациент либо не обладает возможностями интроспекции и критического взгляда на ситуацию «со стороны», либо временно их утрачивает; иными словами, из его видения происходящего исчезает всякий намек на «как если бы». Фактически он воспроизводит поведение ребенка на той стадии, на которой еще не сформированы фундаментальные различия между Я и He-Я, между желанием и его реализацией, между фантазией и реальностью. Таковы основания, позволяющие предположить, что истоки подобных реакций принадлежат самой ранней фазе развития личности — недифференцированной целостности «мать-дитя».
Эти формы переноса, латентно присутствующие в любом психотерапевтическом диалоге и проявляющиеся при определенной степени регрессии не только в анализах «глубоко нарушенных» пациентов, со временем были признаны чрезвычайно важным компонентом аналитических отношений — как отмечал, например, Треурнит, может быть, более значимым, чем традиционный эдипов перенос. Речь шла о коммуникации в условиях первичной нераздельности Я и объекта — о взаимодействии, предполагающем иногда, по определению Треурнита, атмосферу отношений более материнскую, чем та, что создавалась в прошлом настоящей матерью. Надежная позиция и эмпатия терапевта формируют для пациента пространство, в котором зависимость не означает недостатка свободы; продолжительность анализов (и, по-видимому, эффективность) увеличилась именно в связи с открытием этих переносов, представляющих наиболее примитивные производные раннего детско-материнского единства (Treurniet, 1993). Такое понимание некоторых составляющих переноса сделалось важной альтернативой представлениям Фрейда о «навязчивом повторении» и оказало существенное влияние на развитие аналитических техник.
Подобные компоненты переноса, неподвластные «классической» технике, стали в середине XX века объектом новой методологии, разработанной такими аналитиками, как Винникотт, Хан, Литтл, и предписывающей терапевту не препятствовать развитию у пациента инфантильно-зависимого поведения в целях достижения «корректирующего эмоционального переживания» (определение Франца Александера). Правомерность подобного подхода многими специалистами не была признана, однако исследования производных наиболее раннего опыта субъекта в аналитической ситуации послужили основанием для появления идей об уникальной коммуникатив
67
ной и терапевтической значимости переноса. В таких переносах содержится потребность, которая должна быть удовлетворена в допустимых рамках — подобно тому, как удовлетворяются нужды младенца в невербальном взаимодействии с матерью. В частности, Винникотт видел одну из главных изначальных задач аналитика как раз в том, чтобы стать для пациента своего рода первичным объектом — «достаточно хорошей матерью» — через достижение предельной адаптации к его потребностям.
Практически то же самое, по-видимому, имел в виду непосредственный ученик Ференци — Микаэль Балинт, убежденно отстаивавший терапевтическую значимость объектного фактора: «Все, что в ходе терапии приводит к изменениям в психике пациента, инициируется событиями в сфере отношений... между двумя людьми. Этот фундаментальный факт мог отрицаться только до тех пор, пока в фокус внимания исследования попадали... пациенты, обладающие достаточно сильной структурой Эго» (Балинт, 2002, с. 19). С точки зрения Балинта, терапия оказывает влияние прежде всего на Сверх-Я пациента, которое в известном смысле представлено суммой психических шрамов, оставленных возбуждающими, но не приносящими удовлетворения объектами из его младенчества, детства и юношества. Его преобразование возможно лишь через приобретение новых интроектов за счет частичной или полной интроекции аналитика, за которой следует идентификация с ним — в этом аспекте позиция Балинта созвучна позиции Стрэчи, также видевшего путь к выздоровлению в модификациях Сверх-Я. К сожалению, замечал Балинт, мы ничего не знаем о том, как можно избавить пациента от уже существующих интроектов и идентификаций (Балинт, 2002).
Методология Балинта основывалась на концепции «базисного дефекта» — своего рода исходного недостатка или изъяна в структуре личности, определяющего диапазон доступных субъекту форм отношений. Задачей терапевта в рамках этой методологии было создание для пациента условий, в которых «базисный дефект» станет проявлять себя менее активно и в конечном счете «зарубцуется». Главная роль в данном процессе отводилась регрессии, которая позволяла проявиться в переносе самым примитивным потребностям субъекта, не получившим адекватного удовлетворения в его детстве. Балинт последовательно критиковал стереотипные интерпретации переноса как повторения или воспроизведения прошлого, видя в этом явлении качественно новый для пациента тип отношений, обогащенный элементами не переживавшегося прежде опыта: «Основная черта преобладающего в нашей технике в настоящее время стиля состоит в интерпретировании всего, насколько это возможно, как переноса, что таит соблазн стать для наших пациентов могущественными и всезнающими объектами, подталкивая их — или вынуждая —
68
к регрессии в окнофилический мир (Окнофилия — «прилипающая» зависимость. — Д. Р.). Этот мир предоставляет более чем достаточно возможностей для установления отношений зависимости, тогда как для совершения самостоятельных открытий их явно недостает» (Балинт, 2002, с. 221). О классическом подходе в целом он отзывался еще более радикально: «Если я верно представляю себе положение вещей, то «правильная техника» — это химера из ночного кошмара» (Балинт, 2002, с. 18). В качестве альтернативы «интерпретационному фанатизму» классической техники Балинт разработал технику, ориентированную в первую очередь на развитие и поддержку регрессии пациента — вплоть до повторного переживания наиболее ранних патогенных объектных отношений, которые некогда повлекли за собой формирование «базисного дефекта». С точки зрения Балинта, такое переживание рядом с надежным и безопасным объектом — аналитиком — способно даже без полной вербализации опыта устранить последствия базальных травм или патологий отношений и возобновить личностное развитие: пациент сможет со временем отказаться от своих компульсивных паттернов и начать последнее «с чистого листа». Балинт при этом особо подчеркивал, что интерпретации переноса играют позитивную роль только на фоне возобновленного развития; на более ранних стадиях они нежелательны, так как разрушают регрессивный процесс.
С начала пятидесятых годов XX века психоаналитики «независимой группы», к которой принадлежали Винникотт и Балинт, и «интерперсонального» направления, яркими представителями которого являлись, например, Гринберг и Митчелл, активно критиковали классическое понимание переноса и разрабатывали его новые концепции с позиции «психологии двух и более персон», учитывающие роль и влияние аналитика. Мертон Гилл также дистанцировался от своих прежних взглядов, согласно которым главным или единственным терапевтическим инструментом аналитика оставалась интерпретация, и подтвердил ценность отношений и непосредственных эмоциональных переживаний, разворачиваемых пациентом в переносе. Продолжая традицию Ференци, Гилл разработал терапевтическую технику, основанную на повторном переживании, или ре-переживании: «Перенос является прежде • всего результатом усилий пациента осуществить свои-желания, а терапевтическая выгода проистекает главным образом из переживания заново этих желаний в переносе и из понимания, что они в значительной степени определяются чем-то существовавшим раньше у пациента, и переживаются как нечто новое в их исследовании вместе с аналитиком — единственным, на кого эти желания теперь направлены» (Gill, 1982, р. 44). Гилл подчеркивал, что для того, чтобы повторное переживание имело терапевтический эффект, оно должно быть не только испытано пациентом
69
в присутствии терапевта, но и открыто выражено ему. Терапевт при этом помогает пациенту соприкоснуться с пережитым чувством, делает выражение его безопасным и обсуждает его вместе с пациентом в заинтересованной и лишенной признаков осуждения и защиты форме. Если для Фрейда главная ценность переноса состояла в том, что он помогает пациенту вспомнить нечто, то для Титула она была в том, что перенос позволяет заново пережить. Главная терапевтическая возможность заключается при этом в том, что переживаемое в отношении аналитика чувство в ответ получает новую, не-патогенную реакцию. Однако, поскольку пациент сопротивляется обнаружению и переживанию переноса, преодоление данного сопротивления делается наиболее важной и тонкой задачей аналитика: здесь его инструментом и становятся интерпретации сопротивлений переносу и разрешению переноса, о которых ранее шла речь. Обсуждение прошлого опыта пациента также не лишено значения, поскольку оно помогает понять происходящее «здесь и сейчас», однако именно последнее обладает терапевтической эффективностью. При этом характер возникающих в аналитической ситуации отношений является фактором, определяющим успех терапии, так как от него зависит возможность повторного переживания. Методология Гилла таким образом стала продуктом своего рода синтеза подходов, акцентированных на интерпретативном разрешении переноса, с одной стороны, и на эмоциональном переживании — с другой.
«Постклассическое» представление о сущности и природе переноса получило новое продолжение в работах Хайнца Когута, развившего многие тезисы Винникотта. Когут опирался в своих исследованиях на нарциссическую проблематику пациентов с несовершенной психологической структурой, формирующих особую зависимость от терапии и терапевта. Данная зависимость не могла быть описана термином «перенос» в традиционном смысле, так как терапевт для пациента являлся не экраном для проекции структуры, а ее заменой; проанализировать подобное отношение обычным путем было невозможно — его следовало просто понять и признать. Когут сформулировал для этих феноменов понятие Я-объектного переноса — средства воссоздания во взаимодействии с аналитиком прерванных в детстве объектных связей. Все человеческие отношения и сам жизненный цикл в понимании Когута есть история бессознательных процессов такого поиска и нахождения Я-объектов — попыток воссоздания архаичных отношений, в которых Я и объект нераздельны. Нарциссические формы переноса, представляющие вариации в рамках интерактивного единства, существуют как производные от базовых потребностей ребенка: грандиозно-эксгибиционистской (быть отраженным в своих главных желаемых достоинствах), идеализирующей (потребности в идеализированном роди
70
тельском imago) и потребности alter ego (быть похожим на значимых других). Если данные потребности в отношениях ребенка с родителем сталкиваются с частым или травматичным неудовлетворением, они не интегрируются в развивающуюся личность и продолжают существовать в примитивной форме. В работе «Анализ самости» Когут описывал случаи сопротивления пациентов вовлечению в эти архаические переносы, вызываемого тревогой дезинтеграции и потребностью сохранить хрупкое, склонное к фрагментации Я. Пациент испытывает страх, что всплывающие в переносе потребности вновь приведут его к отвержению и депривации, как было в детстве, и болезненно переживает уязвимость собственных психических структур: подобные сопротивления не могут быть всецело сведены к интрапсихическим процессам. Исследования Когута таким образом еще раз подчеркивали роль фактора интерсубъективности в отношениях аналитика и пациента (Кохут, 2003).
Растущие объемы исследований позволили аналитикам к середине XX столетия признать еще один долгое время отрицавшийся факт: сколь бы тщательно терапевт ни придерживался в работе с пациентом принципов анонимности и нейтральности, он неизбежно оказывает влияние на перенос. Классическая модель техники предписывала минимизировать подобное влияние, в идеале — сводить его к нулю во имя возможности наблюдать явления переноса в «чистом» виде, то есть как производные исключительно внутренней реальности пациента; поэтому, когда в конце сороковых годов XX века Александер, Френч и Вайс стали настаивать на рассмотрении не только возможности, но и необходимости влияния аналитика на развитие невроза переноса, их позиция была жестко раскритикована. Однако еще сам Фрейд подчеркива^х роль, которую в процессе любого лечения играет внушение, тесно связанное с личностью терапевта. Терапевт использует внушение как производную от родительского авторитета; перенос делает пациента внушаемым, и внушение становится инструментом управления переносом. В «Лекциях по введению в психоанализ» Фрейд писал, что психоаналитическое лечение применяет внушение для изменения результата конфликтов, являющихся источниками симптома. Аналитик берет внушение в свои руки и руководит им настолько, насколько пациент поддается его воздействию (Фрейд, 1991а).
Впоследствии тезис о том, что в психоаналитической диаде каждый участник сознательно или бессознательно влияет на другого, фигурировал в работах многих авторов: Биона, Балинта, Винникотта, Сандлера и др. Сторонники интерперсонального направления Гринберг и Митчелл подчеркивали полную взаимозависимость переноса и контрпереноса, что вело к технической рекомендации фокусировать внимание на обеих этих составляющих взаимодействия. «Интерсубъ
71
ективисты», основавшие свою школу на понимании диады как неделимого целого, описывали аналитический процесс как встречу двух субъективностей, находящихся во взаимоотражающей связи, а перенос и контрперенос — как единую интерсубъективную систему со взаимным реципрокным влиянием. В настоящее время признано, в частности, что одним из наиболее сильно воздействующих на перенос факторов является используемый аналитиком технический подход: Вильгельм Райх еще в 1933 году замечал, что перенос служит верным зеркалом технических предпочтений терапевта. Роберт Уэлдер сообщал по данному поводу: «Так как полное развитие переноса есть следствие аналитической ситуации и аналитической техники, изменения этой ситуации или техники ведут к значительным изменениям явлений переноса» (Waelder, 1956, р. 367). Эдвард Гловер особо подчеркивал роль интерпретативных вмешательств аналитика: «Невроз переноса подпитывается... за счет интерпретаций переноса; другими словами, перенос, начинаясь фрагментарно, имеет тенденцию выстраиваться на основании интерпретаций» (Glover, 1955b, р. 130). Также Макалпайн писала о том, что перенос никогда не возникает и не развивается спонтанно и независимо от личности аналитика, его поведения и применяемой им техники. Она выражала удивление, что, несмотря на фундаментальные различия мнений о природе переноса, аналитики до сих пор (Работа Макалпайн относится к 1950 году. — Д. Р.) пребывают в преимущественном взаимном согласии, что он представляет спонтанно возникающее явление. Макалпайн, со своей стороны, показала, что перенос и регрессия всегда отражают аналитическую ситуацию, и перечислила 15 факторов, оказывающих на них определяющее влияние (Macalpine, 1950). Томэ и Кехеле цитируют Кремериуса, который в 1982 году критически отзывался об аналитиках, неспособных признать роль своей личности в характере переноса и предпочитающих видеть в нем неизбежный эндопсихический процесс. Как замечают эти авторы, «сам по себе тот факт, что каждая из школ описывает свои типичные виды переноса, говорит в пользу влияния аналитика на содержание переноса, но сами школы не делают никаких выводов из этого факта». И далее: «Если рассмотреть полностью текущие отношения переноса в самом широком смысле, придется признать интеракционный биперсональный подход и, следовательно, влияние аналитика на перенос... То, чем мы здесь располагаем, — это изменение перспективы, которая давно начала незаметно развиваться в психоаналитической практике» (Томэ, Кехеле, 1996а, с. 118).
Новое понимание роли аналитика в развитии переноса способствовало в 70-е — 80-е годы XX века формированию в психоанализе «интерсубъективного» направления, представители которого дали продолжение многим идеям Винникотта
72
и Когута. Ныне это направление может рассматриваться, вероятно, как одна из наиболее современных «ветвей» психоанализа. Понятие «интерсубъективности» было основано на гипотезе о том, что все происходящее между аналитиком и пациентом определяется взаимным влиянием; в частности, перенос не может рассматриваться вне контекста конкретной ситуации. Исследования, проводившиеся Робертом Столороу и Фрэнком Лачманом, подтвердили, что центральные мотивационные структуры, которые мобилизуются в аналитическом процессе — не патологические производные влечений, а подавленные и заторможенные развитийные потребности, проявляющие себя в коммуникации; то, что может быть принято за подобные производные, — не что иное как попытки пациента продемонстрировать вновь возникающие сексуальные или самоутверждающие аспекты собственного Я как достижения развития (Stolorow, Lachmann, 1980). Эти же авторы подчеркивали, что рассмотрение переноса исключительно или главным образом как защитных экстернализаций в духе Мелани Клайн ограничивает его определение лишь единственной функцией из множества возможных и приводит к отрицанию других его измерений и многих значений. Архаические формы переноса, о которых писали Когут, Винникотт, Балинт и близкие им исследователи, лучше понимать не как манифестации проективных механизмов либо производные регрессии или смещения, но скорее как детерминанты неких задержек развития, связанных с фиксациями на стадиях неполной дифференциации Я и объекта. «Интерсубъективисты» подчеркивали, что сам по себе перенос является выражением не неких смещений из прошлого, но продолжающегося влияния некоторых организующих принципов, сформированных всем инфантильным опытом субъекта. Перенос — это не биологически детерминированная тенденция к повторению прошлого, как предполагал Фрейд, но скорее проявление универсального стремления психики к организации опыта и конструированию смыслов; он может быть описан как ряд одновременных влияний разных способов и уровней функционирования организации личности, находящихся в процессе сложного взаимодействия (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999).
Представители «интерсубъективного» направления едва ли могли претендовать на то, чтобы радикально перебороть консерватизм других направлений и школ с их устоявшимися за многие десятилетия теоретическими взглядами и традициями. Однако общее признание роли интерсубъективности в аналитической диаде привело к тому, что в 60-е и 70-е годы многие аналитики подвергли пересмотру свои прежние взгляды: так, Ганс Левальд, видный представитель Я-психологии, еще в 1962 году описывавший цель психоанализа как разрешение невроза переноса через возрождение инфантильного невроза, с 1971 года сместил внимание
73
на фактор отношений, в частности, на процесс взаимодействия пациента с аналитиком как «новым объектом» — в чем оказался отчасти созвучен Балинту с его идеей терапевтической интроекции образа аналитика (Левальд, 2000). Все более активно стало обсуждаться расширение самого понятия переноса, а аналитические техники — в большей степени, нежели прежде, опираться на диадность. В 1954 году Орр писал: «Развитие, интерпретация и разрешение невроза переноса в аналитических отношениях все еще является признаком психоанализа для большинства сегодняшних аналитиков», однако «для значительного меньшинства это не так или, по крайней мере, требует существенных дополнений или модификаций» (Огг, 1954, р. 646). Гловер подвергал сомнению существование «невроза переноса» в общепринятом среди аналитиков значении (Glover, 1955а); Горацио Этчегоен характеризовал перенос как продукт весьма сложного взаимодействия прошлого и настоящего (Etchegoyen, 1982). Брайан Берд замечал, что «на перенос наносят ярлыки, но его редко описывают; чаще всего его называют проекцией или повторением прошлого, но эти ярлыки не слишком хорошо определяют его» (Bird, 1972, р. 301), и констатировал, что уже к 1952 году для многих психоаналитиков стал возможен отказ от традиционной концепции невроза переноса и от «классического» обращения с ним. Сам Берд представил перенос как универсальную ментальную функцию, лежащую в основе любых человеческих межличностных связей, а также как одну из основных инстанций психики, в некоторых аспектах обладающую характеристиками доминирующей функции Я. Невроз переноса в понимании Берда — это уже не просто связная совокупность переносных реакций, но качественно новая «редакция» инфантильного невроза, включающая аналитика как компонент интрапсихической структуры. В своих взглядах на сущность переноса Берд опирался на идеи Фрейда, высказанные в «Автобиографическом исследовании», но не получившие в основном дальнейшего развития (Bird, 1972).
В целом во второй половине XX века в психоанализе обозначилась тенденция к смещению внимания с интрапсихических аспектов происходящего на межличностные. Перенос перестал рассматриваться как продукт исключительно внутренней реальности субъекта, влияние которого может быть нейтрализовано путем одних интерпретаций. Пониманию этого способствовало, в частности, признание аналитиками того факта, что невроз переноса невозможно проработать вплоть до окончательного разрешения: ряд исследований постаналитического периода убедительно показал, что после завершения анализа перенос сохраняется в пассивном состоянии и в готовности активизироваться в связи с появлением любого подходящего объекта. Кроме того, нередко по окончании аналитических отношений отмечалась интенсификация
74
остаточных симптомов, иногда и полное воспроизведение симптоматики, которая ранее заставила пациента обратиться за помощью (Pfeffer, 1963). «Разрешение» переноса в смысле «исчезновения» оказалось мифом, происхождение которого следующим образом объяснял Бергманн: говоря о судьбе переноса, Фрейд использовал слово «Losung» — «решение», «разгадка» — термин, соответствующий пониманию психоанализа как научного поиска корней проблемы. В английском языке этому термину наиболее соответствовало бы слово «solution», то есть «решение», однако он был переведен как «resolve» — «разрешение» как «устранение», например, конфликта (цит. по: Россохин, 2000). Остроумное объяснение это, однако, не позволяет не заметить, что по крайней мере в некоторых своих работах — например, «О введении в лечение» (1913) — Фрейд затрагивал проблему разрешения переноса именно в смысле его устранения, который едва ли может быть сведен к неточностям перевода: «Только тогда становится невозможным состояние болезни, когда перенесение снова разрушается, как того требует его разрешение (Курсив мой. — Д. Р.)» (Фрейд, 19976, с. 95).
Так или иначе, трудно отрицать, что классический тезис об «интерпретационной проработке и окончательном разрешении» переноса к концу XX века стал выглядеть по крайней мере слишком архаичным. Как писал Мишель Неро, «ни в коем случае нельзя утверждать, что через саму интерпретацию трансфер будет разрушен, так же как нельзя сказать, что бессознательное может быть отмененным» (Неро, 2005, с. 184). Столороу с соавторами отмечали, что никем и никогда не была убедительно продемонстрирована возможность либо необходимость окончательного устранения инфантильных желаний, потребностей или фантазий (Столороу, Бранд-шафт, Атвуд, 1999). Брайан Берд также подчеркивал, что при принятии взгляда на перенос как на универсальную функцию Я следует признать, что «разрешено» может быть лишь его содержание, но не он сам; другими словами, анализ может в некоторых аспектах влиять на перенос как функцию, но это влияние в итоге не подразумевает его исчезновения (Bird, 1972). «Разрешение переноса» стало пониматься в основном как установление в процессе анализа новых отношений, позволяющих пациенту по его завершении вступать в принципиально новые объектные связи — связи, в которых инфантильные прототипы и паттерны уже не являются доминирующими. Из компульсивного повторения, не оставляющего субъекту выбора, перенос превращается в одну из осознаваемых им возможностей (White, 1992). Представитель французской школы Поль Дени описывал завершение анализа переноса, или его «ликвидацию», следующим образом: «По выражению Мориса Буве, имеет место „идентификация наблюдающей части Я с самим терапевтом" или „с наиболее
75
регрессивными формами идентификации, такими, как инкорпорация", которые затем эволюционируют в направлении „более проработанных и гибких разновидностей идентификации" и, наконец, „через увеличение силы и индивидуальности Я такая едва уловимая форма идентификации становится, в свою очередь, ненужной, и субъект живет своей собственной жизнью"», оговариваясь, однако, что «вопрос о возможности подобной целостной и полной ликвидации остается открытым» (Дени, 2005, с. 234). Но главным изменением традиционного подхода к данной проблеме стало, по-видимому, понимание того, что «окончательное разрешение» не всегда является целью терапии и путем к улучшению функционирования личности; и это понимание в наши дни так или иначе заставляет каждого практикующего специалиста задаваться вопросом о том, в чем тогда состоит цель и каков ведущий к ней путь.
В связи с означенным вопросом мне кажется важным обратить особое внимание на точку зрения Левальда по поводу роли переноса в аналитической терапии. Левальд признавал значимость невроза переноса как идеальной конструкции, организующей сложное множество событий и задающей некий порядок в отношении их хаотической констелляции: иными словами, невроз переноса есть основа порядка (Loewald, 1971). В его понимании перенос является не основанием для активного упорства человека в собственной психической незрелости (как полагал, например, Сильверберг, на которого Левальд ссылался), но важным фактором, с помощью которого достигается зрелость и интегрируется реальность. Согласно Левальду, психическое здоровье зависит в первую очередь от оптимальной коммуникации между бессознательной и предсознательной сферой, то есть между инфантильными и зрелыми стадиями и структурами. Пациент изначально испытывает потребность в развитии переноса для их воссоединения и, как следствие, новой трансформации первичных психических процессов во вторичные. Способствуя неврозу переноса, терапевт помогает регрессии, прорывающей защитную изоляцию между вышеназванными сферами. Таким образом во взаимодействии с терапевтом создаются условия для повторного катексиса предсознательных идей и переживаний, что в итоге позволяет пациенту перейти на более совершенный уровень организации психической жизни (Левальд, 2000). Я делаю акцент на данном взгляде, поскольку он подчеркивает, что еще в середине XX века у исследователей возникли основания увидеть в переносе нечто большее, нежели просто источник сопротивления или даже ключ к трудностям и конфликтам личности: он был признан терапевтическим фактором как таковым.
После Фрейда, еще в десятые годы прошлого столетия писавшего о переносе как о союзнике лечения, а не только о препятствии на его пути, о терапев
76
тической функции этого явления сообщали в разное время и в различных смыслах многие аналитики. Она отчетливо прослеживалась, например, в упоминавшейся выше концепции Я-объектного переноса Когута; его наследники, «интерсубъективисты», рассматривали перенос как проявление организующей активности, с помощью которого пациент ассимилирует аналитические отношения в тематические структуры субъективного мира. Как уже говорилось, в «интерсубъективной версии» перенос выражает влияние организующих принципов, выкристаллизовавшихся из ранних переживаний. Столороу с соавторами называет следующие задачи этого явления: исполнять желания и стремления индивида, обеспечивать моральное ограничение и самонаказание, адаптировать к реальности, восстановить ненадежные, склонные к дезинтеграции образы себя и объекта и защитно отразить конфликтные или угрожающие конфигурации опыта (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999). К взглядам сторонников «интерсубъективного подхода», как и к моделям терапии Винникотта и Балинта, вернуться нам еще предстоит.
Добавлю еще один аспект к этой картине эволюции психоанализа: качественно новый этап ее был связан с опровержением Вайсом и Сэмпсоном приоритетов техник, основанных на фрустрациях во имя «возможно более интенсивного и полного развития невроза переноса». Речь шла об абсолютизации принципа абстиненции, который был впервые сформулирован Фрейдом в 1919 году в прочитанной в Будапеште лекции «Пути психоаналитической терапии». Хотя Фрейд описыва^х его как важный принцип противодействия преждевременным заместительным удовлетворениям, он же замечал, что пациентам необходимо тем не менее давать некоторые поблажки в соответствии с их индивидуальностью и природой конкретного случая. Но, несмотря на эту оговорку, фрустрационные техники прочно и надолго укоренились в классической методологии. Приводимые Вайсом и Сэмпсоном экспериментальные данные, напротив, убедительно демонстрировали выгоду от компенсации фрустраций. Эти авторы рекомендовали использовать любые возможности, чтобы избежать возникновения у пациента чувства обиды, потери самоуважения или уверенности в себе. Таково было новое подкрепление идеям Ференци, который еще в 1932 году писал, что ригидное следование правилам и якобы «сугубо профессиональное» отношение к пациенту сами по себе могут не только актуализировать инфантильные травмы, но и стать причиной новых (Ferenczi, 1950). К сожалению, как замечали Томэ и Кехеле, комментируя позицию Вайса и Сэмпсона, фрустрационная теория оказалась чрезмерно консервативной в ущерб терапевтической эффективности (Томэ, Кехеле, 19966). Тем не менее в целом за последние десятилетия психоанализ все же стал склоняться в сторону большей сбалансированности жесткого профессионализма
77
с человечностью, отходить от псевдонаучного идолопоклонства. В частности, господствовавшие в нем поначалу концепции нейтральности, абстиненции, анонимности в наши дни в значительной мере утратили классическую категоричность.
Чтобы завершить тему эволюции подходов к означенной проблеме к концу XX века, необходимо сказать несколько слов и о контрпереносе, который рассматривается в наши дни, как правило, в тесной связи с переносными реакциями. Взгляды на данное явление также прошли за сто лет непростой путь — от представления о нем как весьма нежелательном артефакте психоаналитического лечения до признания за ним роли уникального диагностического и терапевтического средства (что, впрочем, также не является бесспорным). Известно, что отношение Фрейда к контрпереносу было весьма негативным; с его точки зрения, аналитику следовало исключить всякий контрперенос посредством личного анализа, самоанализа и глубокого постижения теории. Позиция Фрейда долгое время оказывала решающее влияние на позиции его последователей, многие из которых считали недопустимыми любые чувства к пациентам. Так, еще в начале сороковых годов Роберт Уэлдер сообщал в лекции, посвященной переносу: «Аналитик не реагирует эмоционально на слова и действия пациента... Я говорю об этом буквально; я не имею в виду, что он просто не показывает своих чувств», и даже утверждал, что «...контрперенос может происходить лишь в анализе, который проводят неопытные аналитики» (Уэлдер, 1987). Известно, что, когда в 1948 году на заседании Аргентинской психоаналитической ассоциации Генри Рэкер рассказа^х о своем сильном переживании в адрес пациента, реакцией аудитории была тревога и общее ощущение неловкости, как если бы речь зашла о чем-то неприличном: Рэкеру даже посоветовали пройти повторный анализ. С другой стороны, известно также, что еще Ференци ставил под сомнение рекомендацию Фрейда контролировать контрперенос, замечая, что такая позиция неизбежно окажет сдерживающее и тормозящее влияние на свободное течение психических процессов аналитика. Ференци, по-видимому, первым высказал идею о том, что контрперенос может помочь аналитику понять пациента — в те времена, когда главная ставка в аналитической работе делалась на разум и строгое научное мышление.
Конечно, предлагавшаяся Фрейдом модель коммуникации была теоретическим идеалом: невозможно не испытывать ровно никаких чувств к человеку, обратившемуся к тебе за помощью, раскрывающему перед тобой наиболее интимные стороны своей личности и жизни и проявляющему себя при всем том достаточно эмоционально. Рой Шафер отмечал в данной связи явную непоследовательность Фрейда, утверждавшего, что все человеческие отношения более или менее окра
78
шены детскими переносами, но в то же время исключавшего лишь аналитиков из этого фундаментального правила. Об отношении Фрейда к контрпереносу Шафер отзывался следующим образом: «...мы сталкиваемся с неким отколовшимся рационалистическим предрассудком... можно сказать, контрпереносом к контрпереносу», и характеризовал подход Фрейда как «явно рудиментарный» (Шафер, 2003, с. 134). Дальнейшие изменения во взглядах на явление контрпереноса были во многом связаны с трансформациями смысла, вкладываемого в само его понятие. Паула Хайманн положила начало тенденции к пониманию любых чувств аналитика к пациенту как принадлежащих контрпереносу: не исключено, что эта позиция была лишь реакцией на противоположную крайность в традициях Фрейда. Может показаться, что она не учитывала возможных проблем собственного переноса терапевта как производной его личного инфантильного опыта. Стерн еще в 1924 году предложил отделять реакции контрпереноса, основанные на личностных конфликтах аналитика и разрушающие понимание (собственный перенос аналитика), от реакций, возникающих как отклик на перенос пациента и помогающих пониманию (Stern, 1924). Однако Хайманн утверждала, что между переносом аналитика и контрпереносом как ответом на перенос пациента можно провести концептуальные различия лишь в теории, в то время как в реальной практике эти компоненты всегда слиты воедино (Хайманн, 2005). Данное замечание трудно назвать некорректным: любое чувство, переживаемое аналитиком (и вообще кем бы то ни было) в диалоге, является одновременно и экзо-, и эндогенным, то есть отчасти оно обусловлено его личными особенностями, отчасти же индуцировано извне.
В дальнейшем этот постклассический подход существенно переменился; новое понимание контрпереноса стало опираться на концепцию проективной идентификации и подразумевать под контрпереносными исключительно те переживания, которые пациент реально индуцирует в терапевте. Именно такой взгляд превратил контрперенос в глазах аналитиков в важный источник материала, недоступного другим средствам. Как утверждал еще Левальд, способность к контрпереносу есть мера умения аналитика анализировать; контрперенос представляет техническое условие для его отзывчивости к любви и ненависти пациента. Эффективная интерпретация рождается как следствие истинного понимания, которое возникает только при условии резонанса между двумя бессознательными (Loewald, 1986). Однако, с учетом проблематики дифференциации переноса и контрпереноса, о которой говорила Хайманн, данная точка зрения внушала опасение, что анализ станет опираться на материал терапевта в большей степени, чем на материал пациента. Мишель Неро даже выдвигал версию, согласно которой перенос аналитика, включающий в себя его
79
имплицитный запрос и стиль психоаналитического мышления, предшествует переносу пациента. Давид Берковиц, ссылаясь на Сандлера, замечал, что представление о проективной идентификации, то есть о том, что пациент помещает в аналитика некоторые части собственного Я, недостаточно для понимания переносно-контрпе-реносного взаимодействия. Поэтому Сандлер ввел понятие «ролевой отзывчивости», согласно которому контрперенос формируется как компромисс между собственными тенденциями аналитика и той ролью, которую ему навязывает пациент (Berkowitz, 1999). В настоящее время по-прежнему не достигнуто согласие в вопросе о том, следует ли обобщать понятием контрпереноса все без исключения чувства, мысли, фантазии аналитика и корректно ли проводить демаркационную линию между сугубо личными его реакциями и реакциями, «индуцированными» извне.
По мнению Кернберга, главное разногласие современных психоаналитических школ касается вопроса о том, как надлежит использовать контрперенос в терапии и следует ли уделять ему внимание наравне с переносом. Так или иначе, как отмечает он далее, практически все аналитики во второй половине — конце XX века стали включать в терапевтический процесс исследование собственных аффективных реакций. Родилась точка зрения, согласно которой во многих случаях контрперенос не должен оставаться секретом для пациента: например, Кристофер Боллас замечал, что, делясь с пациентом отдельными наблюдениями, относящимися к собственным переживаниям, аналитик открывает возможность подхода к определенным аспектам его Я, в противном случае недоступным для исследования. Кроме того, возникла общая тенденция к применению результатов анализа контрпереноса при формулировании интерпретаций переноса: так отразилось в аналитической технике признание роли проективной идентификации как средства бессознательных защитных интеракций (Kemberg, 1993).
С понятием переноса до сих пор связано множество вопросов, в том числе таких, которыми задавался Рене Дяткин: «Именуют ли трансфером (Переносом. — Д. Р.) репликацию инфантильного невроза, и нужно ли от этого «исцелять» пациента? Не является ли он структурой, соответствующей обстоятельствам, формирующейся в процессе обмена между психоаналитиком и пациентом и исчезающей, когда обмен прекращается? Или же это частная форма более общего процесса?» (Дяткин, 2005, с. 172). Важнейшие проблемы стратегии психоаналитического лечения, рано или поздно возникающие перед каждым психотерапевтом, так сформулированы Лео Рэнджеллом: стоят ли по-прежнему на первом месте в фокусе внимания аналитика сопротивления и защитные механизмы, как полагали, например, Анна Фрейд и Отто Феничел, или пора признать провозглашаемое большинством специалистов
80
первенство переноса? Как осуществить выбор между интрапсихическим и интерактивным (или трансакционным) пониманием переноса и, следовательно, между интрапсихической и интерактивной моделью терапии? Делать ли главный акцент на реконструировании прошлого, или сосредоточить усилия на анализе происходящего «здесь и сейчас» (Rangell, 1984)? В настоящее время, согласно замечаниям Кернберга, развитие психоанализа происходит в направлении обобщения и синтеза различных подходов и техник. Основные тенденции — систематический анализ сопротивлений характера и их отношения к переносу, более ранние интерпретации переноса «здесь и сейчас», более тщательное исследование материала «от поверхности вглубь» и избегание ранних генетических интерпретаций. Противоречия при этом сглаживаются через поиск компромиссов (Kemberg, 1993). Анализируя и обобщая пути развития психоанализа в последние десятилетия, Россохин также отмечает: «Психоанализ все больше эволюционирует в направлении интеграции субъ-ект-объектного и субъект-субъектного представлений о взаимодействии аналитика и пациента, интеграции «психологии одной персоны» и «психологии двух персон», а в технической плоскости — интеграции таких казавшихся полностью противоположными инструментов аналитической техники, как интерпретации и взаимоотношения... Такой интегрирующий разные методологические парадигмы экологический подход и должен лежать в основании научного исследования психоаналитического процесса» (Россохин, 2000, с. 74).
Разумеется, я не претендую на то, чтобы в рамках этой главы исчерпывающим образом изложить историю представлений о переносе или хотя бы перечислить когда-либо сформулированные концепции. Я попытался лишь предварительно познакомить читателя с рядом аспектов, в которых может рассматриваться это явление, и создать у него первичное представление о сложности последнего и неоднозначности ответов на большинство связанных с ним вопросов. На мой взгляд, это необходимо для лучшего понимания того, почему существует множество подходов к личности в рамках одной и той же (психоаналитической) парадигмы и множество вариаций понимания переноса и техники обращения с ним. Главное же, на что мне хотелось обратить здесь внимание читателя, — это тезисы: а — об ограничениях «классических» интерпретативных техник в области примитивных доэдипальных переносов; б — о содержащихся в этих переносах архаичных неудовлетворенных потребностях; в — о влиянии личности аналитика на развитие и содержание переноса; г — о переносе как значимом факторе восстановления или достижения личностной интеграции и здоровья. На эти тезисы я буду опираться, делясь далее своими представлениями о переносе и работе с ним.
ГЛАВА 3
О ПСИХОАНАЛИЗЕ, ПЕРЕНОСЕ И РЕАЛЬНОСТИ
Весь аналитический опыт показывает его изменчивым, появляющимся вновь, разнообразным. Напрашивается образ блуждающего огонька, он вспыхивает во множестве различных мест...
Мишель Неро (о переносе)
С определенных пор в ходе аналитической практики у меня стало складываться ощущение, что некоторые мои пациенты (по крайней мере те, с кем я работаю уже не первый год) посещают меня вовсе не для того, чтобы решить именно ту проблему, с которой обратились когда-то. Мужчина, пришедший с желанием избавиться от боязни езды в метро, продолжал анализ четыре года после того, как предмет его беспокойства растворился бесследно; женщина, страдавшая от беспричинных вспышек раздражения по отношению к близким, на некоей стадии перестала придавать им прежнее значение и всецело сосредоточилась на прояснении ряда аспектов происходящего между нами. Во многих случаях, удовлетворив или обесценив исходный запрос, они затруднялись сформулировать новый и объясняли просто, что «анализ уже стал частью жизни», либо «я пока не чувствую себя готовым (готовой) с вами расстаться», а иногда через год или два терапии не могли вспомнить, что их ко мне привело. Одна моя пациентка как-то раз сказала: «Даже странно, что все эти тревоги так мучили меня когда-то. Мне сейчас важнее всего понять, кем вы стали для меня». Словом, все происходило в точности так, как описывал Фрейд, утверждая, что невроз переноса заменяет желание пациента быть излеченным, или Балинт: «...их интерес к анализу все более и более отдаляется от их собственных проблем и страданий, которые и заставили их изначально искать помощи у аналитика... их надежды, связанные с аналитиком, вырастают до размеров, которые выходят за любые реалистические рамки... Кратко характеризуя эту ситуацию в одной фразе, можно
82
сказать, что прошлое почти утратило свое значение для пациента; все внимание сосредоточено только на аналитическом настоящем» (Балинт, 2002, с. 116). Но о каких именно «надеждах, связанных с аналитиком», идет речь в этой цитате, если «интерес все более отдаляется от собственных проблем и страданий»? Я сказал бы, что симптомы, которые манифестировались моими пациентами на ранних этапах, начинали со временем выглядеть лишь поводами к обращению; перспектива избавления от них словно бы отступала на второй или даже третий план перед чем-то несоизмеримо более значимым. Должен при этом особо подчеркнуть, что подобная ситуация как будто мало зависела или даже не зависела совершенно от того, были они довольны терапией или разочарованы, преобладали ли в их отношении ко мне переживания позитивные или негативные. Полагаю, что многие из моих коллег использовали бы для ее объяснения термин «психологическая зависимость», но, на мой взгляд, слово «зависимость» скорее само нуждается в объяснении, чем объясняет все до конца.
Было и еще одно наблюдение, которое заставило меня задуматься над тем, что в сущности происходит между мною и обратившимся ко мне человеком. Моя пациентка однажды, на втором или третьем году терапии, произнесла следующее: «Я не понимаю, что вы делаете. Я бы сказала, что ничего. Вы слушаете, о чем-то спрашиваете, иногда говорите о своих чувствах или ассоциациях. У меня не было каких-то ошеломляющих прозрений, инсайтов. Я не могу сказать, что осознала в себе что-то, о чем прежде не подозревала. Но я меняюсь. Я уже не такая, какой была до анализа. И я не понимаю, как это случилось». Подобные слова мне приходилось слышать от анализандов не раз, и им я стал обязан пришедшей мне однажды в голову парадоксальной мыслью, которая по сей день актуальна для меня: о наилучших результатах аналитического процесса можно говорить тогда, когда пациент не понимает, как и за счет чего они были достигнуты. Если ответ на этот вопрос у него имеется (например: «я изменился после прозрения, вызванного вашей интерпретацией»), то, скорее всего, подлинных изменений нет.
Вопросы, которыми я стал задаваться со временем все чаще, формулировались приблизительно следующим образом. Во-первых, какая сила или потребность годами удерживает человека в психоаналитической терапии даже тогда, когда нет более или менее осязаемых результатов последней (замечу, кстати, что во многих случаях люди осознанно выбирают для решения своих проблем именно психоанализ, хотя извещены о том, что куда быстрее им могла бы помочь, например, современная фармакология)? Во-вторых — почему исход аналитического процесса бывает иногда непредсказуем; почему пациенты, выглядевшие поначалу «неаналитичными»
83
по целому ряду важных критериев, порой прогрессируют куда более успешно, чем те, для которых прогноз был оптимален, казалось бы, во всех аспектах? Наконец, каковы главные терапевтические факторы в психоанализе и в чем состоит суть «исцеления»; другими словами, как я мог бы объяснить происходящее в анализе своей пациентке, если бы возникла подобная необходимость? Множество беспорядочных и фрагментарных мыслей, возникавших у меня по этим поводам, по мере концентрации и структурирования выдвигало на первый план вопрос о том, какую роль в ходе терапии играет перенос.
Одна из наиболее непоколебимых традиций психоаналитического сообщества — и я искренне надеюсь, что она не уйдет в прошлое, сколь бы заманчивым ни выглядел для некоторых подобный исход, — состоит в том, что изучение психоанализа начинается для кандидата с прохождения собственного анализа. Как правило, данное требование объясняется необходимостью досконально разобраться в своей внутренней реальности, прежде чем коснуться внутреннего мира другого человека — дабы не отягощать его проблематику своей собственной. Кроме того, именно на кушетке будущий аналитик непосредственно знакомится с искусством анализа, с методическими и техническими нюансами работы — со всем тем, чему едва ли можно научиться на основе одних только аудиторных занятий. Наконец, анализ имеет огромное значение как ритуал или обряд посвящения, значение не меньшее, чем воинская присяга для будущего офицера или клятва Гиппократа для врача. Но я рискну предположить, что существует и еще одно, не менее веское, основание для тезиса «психоаналитик должен быть проанализирован». Понимание своих личностных особенностей и ознакомление с техникой анализа не есть единственные цели аналитического процесса, и психоанализ — не только средство, но и сам по себе важнейшая цель, цель самого себя. Целью психоаналитического процесса является психоаналитический, процесс как таковой.
Эта точка зрения (признаюсь, субъективная и нечасто разделяемая другими) на первый взгляд может показаться абсурдной. Однако поясню ее следующим примером: не вполне верно утверждать, что цель альпиниста заключается в том, чтобы побывать на вершине. Его цель состоит в восхождении, в противном случае было бы неизмеримо разумнее и проще забросить его на вершину с помощью вертолета. Психоанализ можно уподобить восхождению со всеми его неизбежными трудностями, в финале которого перед человеком распахиваются новые жизненные горизонты и перспективы, открытые собственными силами; восхождению в связке с опытным проводником — аналитиком, который не тащит его вверх веревкой, предоставляет двигаться самостоятельно, но при этом обучает навыкам и ежесе
84
кундно готов подстраховать в случае срыва. Подобное восхождение совершается в развитии отношений и в их последовательном анализе, то есть в работе с переносом в первую очередь. Психоанализ, изучаемый исключительно по материалам лекций и семинаров, остается для человека отвлеченной теоретической конструкцией, пока он не пропущен им через глубины собственной личности, через призму своего Я.
Обстоит ли дело иначе, если к психоанализу обращается не кандидат — будущий аналитик, а пациент «с улицы», заинтересованный не в тонкостях процесса, а «всего лишь» в избавлении от невротического страдания? Нуждается ли он исключительно в том, чтобы «оказаться на вершине», или процесс «восхождения» не менее, а иногда и более, важен для него? Я склоняюсь ко второму варианту ответа, и его обоснование является одной из задач данной книги; сам же по себе он может отчасти объяснить ту особенность проводившихся мною анализов, с рассказа о которой я начинал эту главу. Если «альпинистская» метафора покажется читателю чрезмерно романтичной, то есть далекой от жизненных реалий, я предложу более прозаичную аналогию: человек берет в руки роман не для того, чтобы знать, чем он закончится, но прежде всего для того, чтобы не спеша следовать за его героями по долгим путям их судеб и приключений. Он наслаждается процессом чтения и неизвестностью, ожидающей его, вместо того, чтобы пробежать глазами аннотацию с кратким содержанием произведения или заглянуть на последнюю страницу и сразу узнать все.
«Чтение» или «восхождение», то есть аналитическое взаимодействие, обретает таким образом некую малопонятную пока самоценность, и это предположение вновь возвращает нас к тезису о переносе как факторе, способствующем психологической зрелости и интеграции, и к давней дихотомии «терапии интерпретациями» и «терапии отношениями» — иными словами, к вопросу о том, что в психоанализе является главным целительным началом. Как уже упоминалось, на этот счет в сообществе аналитиков до сих пор нет устойчивого консенсуса, несмотря на наметившийся в последний период времени синтез взаимно противоречивых подходов. Специалисты, отводящие первую роль интерпретациям, считают психоанализ, ориентированный на развитие отношений, «бесконечным» и эксплуатирующим зависимость пациента от процесса. Терапевты, отстаивающие эксклюзивную значимость отношений, подчеркивают, что влияние интерпретаций ограничено рамками эдиповой коммуникации, то есть пространства, где нечто может быть вербализовано без искажений смысла и одинаково воспринято двумя людьми, говорящими на взрослом языке. Более примитивное взаимодействие имеет место в области, где интерпретации теряют смысл. Образно говоря, фраза «предмет, находящийся перед нами, — красного цвета», —
85
это интерпретация; однако слова не могут объяснить, что такое красный цвет, и для человека, лишенного зрения, они останутся лишь колебанием воздуха.
Моя собственная позиция в данном вопросе претерпела по мере накопления опыта ряд изменений. Психоаналитическое образование, полученное мною, изначально подразумевало «классический» подход к проблеме. Мои представления о зарождении психических патологий основывались на постулате, согласно которому на той или иной стадии в нормальный ход развития ребенка вмешивается некий травмирующий фактор, подобно тому, как, например, нормальная работа желудка бывает нарушена приемом некачественной пищи. Однако все это время я гнал от себя чувство, что я бессилен что-либо поделать с этим фактом, поскольку у меня нет машины времени, позволяющей вернуться к соответствующему отрезку детства пациента и нейтрализовать пагубное вмешательство. Я располагал только настоящим. И тогда постепенно проблема стала видеться мне в ином ракурсе: за основу альтернативного взгляда я принял то, что наше понимание психопатологии строго субъективно.
Мне хотелось бы, чтобы позиция, которую я выскажу, была нормально понята читателями — во избежание бесплодных дискуссий. Я полагаю, что со взрослой точки зрения психика новорожденного младенца функционирует абсолютно неадекватно. Это не вполне привычный для большей части моих коллег взгляд, тем более что — я подчеркиваю — он не претендует на объективность. Гораздо более корректной выглядит выдвинутая Винникоттом концепция «зрелости каждого возраста», согласно которой ребенок на любой стадии развития является зрелой личностью именно в рамках этой стадии (Винникотт, 2004). Однако, возможно, и всякая психопатология, если она не связана с органическим нарушением мозгового субстрата, существует лишь с той или иной «точки зрения»: например, как я полагаю, если бы современный цивилизованный человек оказался в обществе индейцев Амазонии или папуасов Новой Гвинеи, он обрел бы среди них статус «душевнобольного». Будучи взрослыми, мы могли бы то же самое сказать о младенце. Он не оценивает реальность, не контролирует свои инстинктные импульсы. Он живет в мире фантазий или галлюцинаций. Он абсолютно не способен к автономному существованию. Он не «психически болен» — я вообще порой сомневаюсь в правомерности применения к проблемам души понятия болезни, — но его психика не успела созреть. Далее — во взаимодействии с матерью — начинается путь ребенка к психическому «здоровью», то есть постепенное увеличение способности воспринимать реальность и адаптироваться к ней. В случае расстройства детско-материнской связи на каком-либо этапе развития происходит не «формирование психопатологии» (поскольку она существовала изначально), но прекращение или замедление «выздоравливания» в оп
86
ределенном аспекте. Если принять развитие ребенка за процесс «выздоравливания», то, очевидно, справедливо и обратное: психотерапия взрослого пациента может быть описана как процесс возобновления некогда приостановленного развития.
Взгляд этот, конечно, не нов: его можно обнаружить у множества клиницистов, придерживающихся психоаналитической парадигмы. Стрэчи описывал окончательный результат аналитической терапии как возобновление эволюции психического аппарата, прерванной на инфантильной стадии; и я напомню, что главным трансформирующим фактором при этом, с точки зрения автора, являются интерпретации, ориентированные на изменение Сверх-Я. Все прочие перемены в личности и жизнедеятельности субъекта представляют лишь «автоматические» следствия последнего (Стрэчи, 2000). Близкого принципа придерживался Левальд: «Если понятие структурного изменения в личности пациента что-нибудь значит, оно должно означать, что во время психоаналитического терапевтического процесса возобновляется развитие Эго» (Левальд, 2000, с. 300). Как упоминалось в предыдущей главе, «интерсубъективисты» рассматривали проявляемые в терапевтических отношениях мотивации пациента как подавленные или задержанные развитийные стремления, нуждающиеся в свободе. Идет ли речь о трансформациях Я или Сверх-Я, данные тезисы позволили мне понять: я могу помочь обратившемуся ко мне человеку, если обеспечу ему условия взаимодействия, в которых заторможенные или остановленные процессы могут быть возобновлены.
Используя проведенную Левальдом параллель между эволюцией объектных отношений и развитием терапевтической коммуникации, я добавлю, что мать не дает младенцу вербальных интерпретаций: до определенного момента взаимодействие с помощью слов между ними не существует или, по крайней мере, не носит взрослого характера. Их диалог — принципиально иного рода. Некоторые «интерпретативные» элементы появляются в нем лишь на седьмом — восьмом месяце, то есть в возрасте, в котором ребенок обретает способность воспринимать первые материнские ограничения и оценки («можно» — «нельзя», «хорошо» — «плохо»). Речь идет о формировании ранних идеалов и интроектов. Именно понимая важность отношений предшествующего этапа, Винникотт видел одну из первостепенных задач терапевта в том, чтобы взять на себя по отношению к пациенту роль «достаточно хорошей матери», эмпатийно понимающей и своевременно удовлетворяющей его потребности, а Балинт — в создании «атмосферы» для безопасной регрессии и проявления архаических конфигураций опыта.
Как упоминалось во второй главе, Балинт различал влияние на терапевтический процесс факторов объектных отношений и интерпретаций, подчеркивая,
87
что последние имеют смысл не при регрессии, а только после нее на фоне возобновленного развития. Он также неоднократно замечал, что выдержать напряжение интернализации способно лишь Я с надежной структурой, не разрушаемое интерпретацией и не прибегающее к защитам типа отыгрывания, проекции или отрицания. Опорой классического анализа является разумное Я, способное принять интерпретацию именно как таковую, а не как нападение или отвержение, и позволить ей оказать влияние, то есть справиться с тем, что Фрейд назвал проработкой. Таким Я не обладают пациенты, которых обыкновенно называют «тяжелыми шизоидами», «глубоко нарушенными», «расщепленными», «в высшей степени нарциссическими» — пациенты, истоки чьих расстройств расположены дальше и глубже уровня эдипова конфликта и чье восприятие аналитика существенно отличается от того, которое ожидается на эдиповом уровне (Балинт, 2002). Позднее я вернусь к проблеме интерпретаций не раз, пока же замечу только, что их роль видится мне чрезвычайно важной, но лишь при условии установленных и развитых отношений. Говоря об отношениях, мы всегда прямо или косвенно затрагиваем перенос.
Однажды ко мне обратилась женщина с невротической симптоматикой. В ходе нашей работы на первый план довольно скоро выступила ее повышенная потребность в моей реальности. Она могла взаимодействовать со мной лишь в непрерывном диалоге, постоянно подтверждающем, что я есть, и сообщала о невыносимом чувстве падения в бездну всякий раз, когда в кабинете наступало молчание. Она часто говорила о пустоте периодов между сессиями, и не только говорила, но и звонила мне то и дело в течение этих периодов под разнообразными предлогами: ей было необходимо таким образом убеждаться, что я существую и не забываю о ней. Уже тогда мне начинало казаться, что и сами симптомы ее были на деле одним из таких предлогов. Я чувствовал жалость, порой раздражение, как человек, у которого на плече бессильно повис спутник, даже не пробующий самостоятельно держаться на ногах. С другой стороны, я испытывал за женщину тревогу и неоднократно ловил себя на желании сделаться для нее своего рода подпоркой, даже отдавая себе отчет в том, что становлюсь объектом манипуляции: я не мог отделаться от ощущения, что она не выживет без меня. Не стану описывать здесь всех аспектов процесса, но расскажу, что произошло год спустя. Во время очередной встречи пациентка достала из принесенной папки карандаш и лист бумаги и в течение сорока пяти минут в ходе беседы рисовала мой портрет. Она сказала, что унесет его с собой и будет смотреть на него, если опять почувствует себя плохо. Используя термин Винникотта, можно сказать, что рисунок стал для
88
нее переходным объектом. Думаю, это было само по себе существенным успехом, хотя до стабильной поддерживающей интернализации в то время было еще весьма далеко.
Я привык ранее понимать перенос как повторение прошлого опыта в настоящем, и, возможно, именно описанная ситуация продемонстрировала, что моему пониманию чего-то недостает. Можно ли было назвать произошедшее на этой сессии проявлением переноса? Полагаю, что да, даже при традиционном взгляде на перенос как элемент коммуникации, лежащий за рамками того, что имеет отношение к реальности ситуации и оговаривается терапевтическим контрактом. Но было ли это повторением прошлого? Это было скорее обретением опыта, которого моя пациентка в прошлом была лишена. В ее детстве мать не допускала замены себе — ни игрушкой, ни соской, ни кем-либо из близких людей. Девочка не обладала возможностью развить и использовать фантазию, которая позволяла бы ей иногда обходиться без реального материнского присутствия. Без подобной внутренней поддержки ее одиночество оставалось травматичным: я бы сказал, что у него не было шансов превратиться в уединение. Она создала в диалоге со мной то, чего не существовало: образ «достаточно хорошей матери», подразумевающий поддержку оптимального баланса фрустрации и удовлетворения и ставший частью ее Я, хотя и остающийся пока элементом внешней реальности. Лишь несколько лет спустя я познакомился с книгой Балинта «Базисный дефект», в частности, с описанием случая пациентки, которая впервые в жизни позволила себе совершить кувырок через голову (Балинт, 2000): то, что сделала моя собеседница, было по сути к этому весьма близко. Я обратил внимание на тот факт, что Балинт также рассматривал действие пациентки как проявление переноса, подчеркивая, что в данном случае оно оказалось не повторением прошлого, но чем-то принципиально иным. Также позднее мне пришлось узнать и то, что и Гилл, и Когут во многих случаях описывали перенос не как повторение того, что переживалось пациентом в прежних отношениях, но как повторное разыгрывание в стремлении достичь желаемого переживания: другими словами, аналитик может играть для него роль не реально существовавшего родителя, но родителя, в котором он всегда испытывал потребность и не мог ее утолить.
Приведенный фрагмент клинического случая стал для меня одним из импульсов к новым попыткам понять, что происходит в восприятии аналитика пациентом в ходе терапии. Каким образом я, объект изначально ненадежный, способный существовать для моей собеседницы лишь в реальности аналитической ситуации и исчезающий за ее пределами, был трансформирован в того, кто есть всегда, вне зависимости от времени и места? Как родилась связь, которой не было ранее в ее опыте? У меня
89
были основания предполагать (не стану приводить их здесь), что подобное видоизменение переноса оказалось следствием не интерпретаций или других интервенций с моей стороны, но неких спонтанных и временно неосязаемых процессов, протекавших в нашем диалоге и в наших субъективных мирах. Значительно позднее, через годы практики, у меня стало складываться убеждение, что перенос — явление многогранное, сложное, охватывающее все аспекты восприятия субъектом другой личности и служащее фундаментом любых отношений — способен к саморазвитию и может не только воспроизводить прошлое, но и формировать настоящее и в определенном смысле будущее. У целого ряда авторов я встретил гипотезы, как нельзя более созвучные моим впечатлениям: таков, например, был тезис Балинта о переносе как всеобъемлющем типе отношений с принципиально новыми по сравнению с прошлым опытом элементами. То же можно сказать о взглядах «интерсубъективистов», объединяющих понятием переноса целый ряд одновременных влияний различных уровней и способов функционирования личностной организации. О моих собственных представлениях по поводу содержания и структуры переноса будет сказано впереди.
Насколько мне известно, для многих современных аналитиков базовый подход к переносу и обращению с ним построен на «постклассической» позиции, следующим образом сформулированной Отто Кернбергом. Существует реальность аналитической ситуации и существует перенос как искажение восприятия этой реальности пациентом. И то, и другое контролируется аналитиком. Пациенты с глубокими дефектами Я особо сильно искажают реальность и не отличают прошлые объектные отношения от новых и актуальных, так как их проблема состоит в недостаточной интеграции собственного Я и недостаточной же дифференциации Я и объекта. Эмоциональные особенности таких пациентов отражают либидинозные и агрессивные составляющие интернализованных объектных отношений. Их невроз переноса представляет активизацию инфантильного Я. Примитивные переносы выступают в виде сопротивлений и фактически определяют тяжесть интрапсихических и межличностных нарушений. В них проявлено множество внутренних отношений между отщепленными или диссоциированными частями Я и настолько же диссоциированными, фантастичными и искаженными объектными репрезентациями. Защитные механизмы активизируются как средства сопротивлений переноса. Задачей аналитика являются интерпретации этих переносов «здесь и сейчас» для прояснения искажений восприятия реальности, в частности, восприятия того, что происходит в кабинете. Позднее, когда примитивные переносы сменятся целостным переносом более высокого уровня, возможен переход к генетическим интерпретациям и реконструкциям (Кернберг, 2000). Я веду речь о модели работы именно с «глубоко нарушенными»
90
пациентами, поскольку на их примере наиболее наглядной становится схема: пациент искажает реальность, в то время как аналитик воспринимает ее вполне адекватно. Интерпретации аналитика постепенно позволяют пациенту также адекватно воспринять реальность, что и будет тождественно его выздоровлению. Игнорируется факт, здраво подмеченный Анной Фрейд: аналитик и пациент — два человека равного взрослого статуса, состоящие друг с другом во взрослых личных отношениях, и если аналитики этого подчас не склойны признавать, то, скорее всего, по причине некоторых враждебных реакций со стороны пациентов, которые они предпочитают приписывать переносу (Freud А., 1954).
Здесь я хотел бы пока особо остановиться на понятии «реальности», «реальных» отношений, которые в классической парадигме принято рассматривать как антитезу отношениям переносным. На мой взгляд, его определение на сегодняшний день может вызывать не меньше вопросов, чем определение переноса, поскольку два этих поля в психоанализе всегда взаимно соотнесены, и проблемы одного из них не могут решаться при неразрешенности проблем другого. Существует ли, однако, четкая демаркационная линия между ними? Если принять за ведущий критерий дифференциации «реальных» и «переносных» реакций то, что последние неадекватны ситуации, то обозначить в свою очередь критерий «адекватности» значительно сложнее. Когда мы встречаем на улице человека в явно экстравагантном или даже эпатажном костюме, кто-то из нас спокойно думает: «что ж, каждый имеет право одеваться как хочет», кто-то восхитится: «вот что значит независимость от общественного мнения!», кто-то испытает раздражение, и т.д. Какая из перечисленных реакций будет «адекватной»? Если пациент явно не готов с первых встреч раскрывать перед собеседником подробности своей сексуальной жизни, является ли его недоверие адекватным (мог бы кто-то из нас легко и непринужденно делиться подобными вещами с практически незнакомым человеком?) или нет (ожидает осуждения, наказания, насмешки, как в детские годы)? К тому же в подобном случае аналитик рискует повести процесс слишком далеко по нежелательному пути, поскольку будет вынужден исходить из предположения, что его собственное видение реальности и понимание адекватности является неким эталоном. «Реальными» часто называют отношения рабочего альянса, тем самым противопоставляя их «переносным»; однако, как отмечали, например, Томэ и Кехеле, если мы рассматриваем перенос как объектное отношение, то и рабочий альянс также представляет собой объектное отношение с бессознательными компонентами и также нуждается в интерпретации (Томэ, Кехеле, 1996а). Это то же самое, что Фениче^х писал по поводу переносов, «не вызывающих возражений». Если же в качестве критерия адекватности выбрать
91
принадлежность реакции пациента его прошлому, а не текущему моменту, то мы и вовсе попадем в тупик, так как самые нормальные и адаптивные паттерны поведения и реагирования — так называемые социальные автоматизмы — рождались у него не «здесь и сейчас», а в том же прошлом, в процессе воспитания и социализации, и в отношениях не с нами, а с прежними значимыми людьми.
Два вопроса нуждаются в ответах. Что имеется в виду, когда мы рассуждаем о реальном восприятии, о восприятии, не искаженном прошлым опытом — ведь если нет определения реальности, то не может быть и суждений об ее искажениях? Реальность — это совокупность физических фактов: кабинет, кушетка, письменный стол, два кресла и два расположившихся в них человека; все, что лежит за рамками этой совокупности, то есть отношение этих двоих к происходящему, их чувства друг к другу, их субъективное восприятие ситуации, — неоднозначно. Если каким-то путем исключить из отношения пациента к аналитику сопротивление переноса, негативный перенос, эротизированный перенос плюс то, что Фрейд называл переносами, «не вызывающими возражений», что же останется тогда? По-видимому, чисто функциональное восприятие собеседника, с каким нередко приходится встречаться в процессе психотерапии «психосоматической» личности или субъекта с выраженным нарциссическим радикалом. Почему именно оно будет «адекватным» или «реальным»? Еще один вопрос: почему «более реальное восприятие» рассматривается как универсальный фактор улучшения психического здоровья и стабильности? Всегда ли это так?
Когда моя пациентка «пустела» или «исчезала», не имея возможности общаться со мной в периоды между сессиями, либо «падала в бездну» во время возникающих в нашем диалоге пауз, я мог квалифицировать ее восприятие меня как «переносное», ибо оно воспроизводило очень раннюю ситуацию отношений с матерью, делавшей дочку беспомощной перед лицом одиночества за счет чрезмерных инвестиций реальностью в виде кормящей груди и укачивающих рук. Но можно ли говорить, что, «отпустив» меня и создав портрет, который заменил мой реальный образ и стал для нее гарантом моего существования и поддержки, она стала ближе к реальности текущей ситуации, нежели прежде? Она стала в некотором смысле дальше от нее, так же, как ребенок, спокойно засыпающий с любимой игрушкой, более далек от действительной безопасности, чем ребенок в непосредственном присутствии матери. Как любой человек, я смертен; я мог просто оставить профессию, переехать на жительство в другой город; я мог бы еще по множеству причин покинуть пациентку, не доведя работу до конца. Портрет стал для нее «переходным объектом», принадлежащим, говоря терминами Винникотта, области «непосредствен
92
ного опыта», или сфере иллюзий, той, через которую младенец обретает способность к нетравматичному принятию реальности. Он сделался символом моего присутствия, позволившем этой женщине превратить одиночество в уединение, то есть важным целебным фактором, как любая иллюзия, даруемая нам культурой — традицией, религией, искусством. Заметим, что и перенос представляет явление, принадлежащее данной области, так как он, как и религия и искусство, функционирует в переходном пространстве между фантазией («терапевт — мой родитель») и реальностью («терапевт — всего лишь терапевт»). «Реальность иллюзии» есть промежуточная область опыта, принадлежность которой к реальности внутренней или реальности внешней не обсуждается — об этих словах Винникотта едва ли помнят терапевты, совершающие умозаключение: «То, что мой пациент настроен дружелюбно и уважительно, говорит о его зрелом, то есть реальном, восприятии; а то, что он на меня порой сердится, — это проявление его внутренней реальности, то есть перенос».
Многие авторы критически рассматривали понятие реальности применительно к аналитической ситуации. Брайан Берд в свое время охарактеризовал его следующей фразой: «Реальность — сложное слово, употребляя которое, трудно удовлетворить кого-либо или даже себя самого». Берд подчеркивал при этом, что сам он использует данный термин для обозначения непосредственного влияния аналитика на пациента — в отличие от влияния через субъективные представления пациента об аналитике. Однако далее, затрагивая феномен контрпереноса, он писал: «Ничто не представляет собой всего лишь «реальной» реакции аналитика на пациента; именно то, что кажется наиболее реальным, содержит в себе наиболее важные аспекты переноса (Выделено мной. — Д. Р.)» (Bird, 1972, р. 282). Также Левальд подчеркивал, что «чистой» реальности без переноса не существует: в любых «реальных» отношениях принимает участие перенос бессознательных образов на современные объекты (Левальд, 2000). Джордж Канестри, ссылаясь на Маннони, констатировал, что аналитики так и не выработали адекватного лексикона для описания уникальной природы реальности переноса: такие понятия, как «действительный», «воображаемый», «фиктивный», недостаточны для отражения специфических аспектов аналитических переживаний (Канестри, 2003). Когут описал аналитическую ситуацию как не являющуюся реальной в обычном смысле слова: ее реальность — специфическая, напоминающая реальность артистического переживания в театре. Реальность чувств в переносе — квазихарактеристическая, косвенная, связанная с иной реальностью в прошлом (Кохут, 2003). Фидиас Цези-от предлагал понимать под реальностью драму, которая происходит в рамках сессии и достигает сознания в виде аффектов, варьирующих от тревожности до нежнейших
93
сантиментов. С точки зрения этого автора, данное переживание в своей подлинности и есть более или менее прямая презентация бессознательного (Цезиот, 2003).
Я полагаю, что практические выводы из сказанного очевидны: еще Лео Стоун сообщал, что не встречал анализандов, которые бы искренне приняли значение своих переносных отношений или поведения, если не отдавалось должное реальным аспектам последних. Поэтому аналитику надлежит владеть искусством перехода от отношений переноса к реальности и наоборот (Stone, 1981). Давид Берковиц отмечал, что в наши дни аналитики, по контрасту с акцентом Гринсона на переносе как искажении, все чаще говорят о соответствии переноса актуальным стимулам — что делает его, согласно определению Гилла, «достоверным» (Berkowitz, 1999). О необходимости понимания этого факта писал и Отто Феничел, приводя в работе «Проблемы психоаналитической техники» следующий пример: пациент спрашивал аналитика, когда же будет результат работы, на что аналитик неизменно отвечал, что этими вопросами он хочет его истязать и убить. Помимо того, что подобная интерпретация содержания переноса опережала интерпретацию защиты (нарушение одного из сформулированных Феничелом базовых принципов аналитической терапии), она игнорировала фактическую обоснованность вопросов пациента, что делало продуктивный анализ переноса невозможным (Феничел, 1999). Теперь я приведу пример противоположной ситуации, демонстрирующий иное развитие событий:
Пациент: Вы в прошлый раз не сказали мне «до свидания». Мне было очень тревожно, я почувствовал в этом ваше желание больше не видеться со мной...
Терапевт: Почему я мог бы не хотеть вас больше видеть?
Пациент: Не знаю. Но то, что приходит... ну, я подумал, может быть, я такой трудный клиент. То, что мое состояние не улучшается, может быть, поэтому.
Терапевт: Гм, я понимаю, да, я уже после вашего ухода вспомнил, что забыл попрощаться. Да, если не говорят «до свидания», может возникнуть чувство, что в тебе что-то не так и тебя не хотят видеть. (Пауза). Вам это чувство знакомо, не так ли?
Терапевт знал, что, когда пациенту было пять лет, от них с матерью ушел отец; знал он и то, что пациент в те годы винил в случившемся себя, полагая, что причиной всему стало его «плохое поведение» и «неисправимость». Однако прямая генетическая интерпретация тревоги могла бы быть мысленно «переведена» пациентом следующим образом: «То, что вы чувствуете по отношению ко мне, — ерунда, никак не связанная с реальностью. Все дело в вашем прошлом; давайте-ка говорить
94
о нем, а не о том, что происходит здесь». Он убедился бы, что его переживание с точки зрения терапевта неадекватно и что терапевт не намерен обсуждать происходящее в кабинете. Результат продолжения этой ситуации нетрудно предугадать.
Преимущества ответа, данного терапевтом, состояли в следующем. Во-первых, пациент не получил ощущения, что его личное толкование ситуации отвергнуто и что собеседник противопоставил ему свое. Во-вторых, слова терапевта не подтверждали версию пациента, но, не будучи и прямым возражением, оставляли свободу развитию переноса. В-третьих, не отсылая пациента прямо к событиям детства, терапевт дал ему возможность вернуться к ним самостоятельно (как отмечает Кан, ссылаясь на Гилла, такие отсылки создают опасность соблазнения интеллектуализациями (Кан, 1997)). В данном случае пациент оказался внутренне готов провести параллель между фигурами терапевта и отца, покинувшего его когда-то. Если бы эта готовность еще не созрела, генетическая интерпретация, скорее всего, стала бы преждевременной: она была бы либо отвергнута, либо принята как представление, не затрагивающее чувств.
Нельзя не принимать во внимание тот факт, что каждый человек воспринимает реальность через призму субъективности: другого восприятия нет. Еще в предисловии к данной работе я обрисовал гипотетическую ситуацию с опозданием аналитика на сессию: один пациент мог бы отреагировать на нее критически, другой же — спокойно, не придавая одной или двум минутам принципиального значения, и мы не станем однозначно утверждать, что в одном случае реакция была полностью адекватна, а в другом детерминирована переносом. Можно даже сказать, что расчленять проявления субъекта на переносные как уходящие корнями в инфантильный период и реальные как обусловленные всецело текущей ситуацией — все равно что в лице человека пытаться отделить черты, сохранившиеся с детства, от черт, обретенных в зрелости. Понимание этого наиболее актуально, если мы имеем дело с пациентами с глубокими личностными дефектами: мы можем более или менее приблизительно дифференцировать «перенос» и «реальность», когда речь идет о проблематике эдипального уровня, но и в таком случае данная дифференциация не будет корректной на сто процентов. Казалось бы, ничто не может быть с большей уверенностью отнесено к категории «реальных» реакций, чем слово «здравствуйте», с которым пациент входит в кабинет аналитика. Но и это слово будет наполнено разным неосознаваемым смыслом в зависимости от субъективности того, кто его произносит. Из уст депрессивной личности оно прозвучит как просьба о помощи. Пациентка с истерическим радикалом вложит в него соблазняющий подтекст. Для параноидного субъекта оно станет лишь вы
95
ражением соблюдения межличностных стандартов коммуникации, без которого не обойтись в мире, где никогда никому нельзя доверять.
Столороу с соавторами отмечали, что традиционный взгляд на перенос как на «искажение аналитической реальности» был оспорен еще Швабером, писавшим, что он встроен в «иерархически упорядоченную позицию двойной реальности»: реальности, переживаемой пациентом, и реальности, переживаемой аналитиком, причем последняя считается более объективной. Однако единственная реальность, доступная для эмпатии и интроспекции, — субъективная реальность и психологическое поле, создаваемое во взаимодействии аналитика и пациента. Концепция объективной реальности — частный случай того, что Столороу, Брандшафт и Атвуд называют «конкретизацией», то есть символического преобразования конфигураций субъективного опыта в события и сущности, которые полагаются объективно воспринимаемыми и известными. Когда аналитики придерживаются представления об объективной реальности и переносе как ее искажении, они затемняют тем самым реальность субъективную, которая, наоборот, должна быть освещена (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999).
Дихотомия «перенос — реальность» по сути оказывается такой же ложной, как и дихотомия «прошлое — настоящее». Прошлое не является антитезой настоящему, так как оно непрерывно и повсеместно в нем присутствует; настоящее создано прошлым. Реальность субъекта создана и структурирована переносом. Соотнесенность реального и переносного и их взаимодействие могут быть пояснены следующим примером. Мы не можем видеть силовых линий магнитного поля, но если мы положим на магнит лист бумаги и рассыплем по нему мелкие железные опилки, последние лягут в соответствии с этими линиями. Силовые линии — это перенос как сила, структурирующая жизненный опыт субъекта. Железные опилки — бесчисленное множество элементов реальности. Их нельзя представить как антитезу силовым линиям. И именно благодаря им невидимые линии эти становятся видны.
Мне кажется очень точным замечание Майкла Кана, сравнивавшего перенос с сонатой. Соната — музыкальное произведение, в самом начале которого звучат все его темы, появляющиеся в нем дальше в тех или иных вариациях, в развитии и повторении. Эти изначально заданные темы структурируют произведение в целом, и постепенно возрастает их понимание и оценка слушателями. «Одна из причин „вечности" звучания музыки того периода, — пишет Кан (имея в виду XVIII — XIX века. — Д. Р.), — сила такого построения» (Кан, 1997, с. 33). В сущности, о переносе можно сказать то же, что и о сновидении: я имею в виду тот классический тезис, согласно которому в построении сновидения инфантильный опыт структурирует «дневные остатки». Еще в «Толковании сновидений» Фрейд
96
сформулировал «топографическую теорию переноса», показав, что интрапсихичес-кие события формируют основу клинических явлений переноса. Перенос — как и при формировании сновидений «сверху» — приводится в «движение» некими реальными «дневными остатками» (Фрейд, 1991г). Инфантильный опыт субъекта есть исходная тема, звучащая в развитии и различных вариациях в течение всей «сонаты» его жизни. «Они (Человеческие жизни. — Д. Р.) скомпонованы так же, как музыкальное сочинение. Человек, ведомый чувством красоты, превращает случайное событие... в мотив, который навсегда останется в композиции его жизни. Он возвращается к нему, повторяет его, изменяет, развивает, как композитор — тему своей сонаты», — так описал течение человеческих судеб Милан Кундера в романе «Невыносимая легкость бытия» (Кундера, 2003, с. 60).
Противопоставление переноса и реальности стало некогда причиной появления правила, предписывающего аналитикам тщательно оберегать свою анонимность перед пациентами, например, не отвечать на их вопросы о своей личной жизни, пристрастиях, взглядах и т. п. Данное правило основывается на предположении, что реальное знание пациента о личности терапевта «загрязняет экран» для его проекций и, следовательно, препятствует развитию переноса. Мой собственный опыт не подтверждает, что такого рода опасения имеют под собой твердую почву. Функционирование переноса очень мало зависит от реального знания о собеседнике: как силовые линии магнитного поля, оно структурирует эту реальность, преломляет ее в призме субъективности пациента. Если в его отношении к аналитику доминирует, например, недоверие, оно не исчезнет оттого лишь, что он станет располагать фактами, свидетельствующими, что человеку этому можно доверять: знание не обретет доступа к глубинным слоям психики. Этим фактам он даст собственную интерпретацию, диктуемую переносом. Если он создал фантазию, что аналитик так же одинок, как он сам, ей не повредит информация о семье и круге друзей: ведь и среди людей можно страдать от чувства одиночества. В анализе происходит то, что Берковиц описывал в контексте брачных отношений: оба партнера по браку интерпретируют действия и слова друг друга согласно своим уникальным организующим принципам, имеющим множество детерминант (Berkowitz, 1999). Я никоим образом не призываю коллег детально знакомить пациентов со своей личной жизнью, хотя бы потому, что не она является объектом исследования; я хочу лишь подчеркнуть, что абсолютизация принципа анонимности представляется мне не вполне оправданной, и во многих случаях бывает гораздо терапевтичнее ответить пациенту, чем уклониться или задать встречный вопрос. Вот клинический фрагмент, которым я попробую проиллюстрировать сказанное.
97
Моя пациентка, болезненно переживавшая одиночество и беспомощность в чужом для себя городе Петербурге, неоднократно сообщала о страдании, которое вызывает у нее моя отчужденная и безразличная позиция, мое глубокое равнодушие к ее проблемам. Ее представление настолько не соответствовало тому, что я «на самом деле» испытывал в общении с ней, что однажды я не смог справиться с чувством горечи («как абсурдны и несправедливы подобные обвинения в мой адрес!») и заметил вслух: «Бывает очень больно, когда искренне желаешь помочь, поддержать, а в тебе видят одно равнодушие и более ничего». Помолчав, она ответила: «Как профессионально и автоматично вы это произнесли».
Добавлю, что в тот день я впервые задумался о факте, на который прежде просто не обращал внимания: ведь за рамками встреч с этой женщиной я и вправду абстрагировался от ее проблем, переключаясь на следующего пациента, а потом на следующего, а по окончании рабочего дня — на свои личные дела, на свою жизнь. Так была ли она неправа? Я не сумел вовремя учесть тезиса, подчеркнутого выше: иллюзия переноса — то, принадлежность чего к реальности внутренней или внешней не подлежит обсуждению. Лишь позднее я познакомился с работами психоаналитиков «интерсубъективной» школы, в частности, с позицией, согласно которой «переживание пациентом терапевтических взаимоотношений формируется обеими сторонами: как посредством вкладов аналитика, так и посредством смысловых структур пациента, в которые они ассимилируются. (...) С этой точки зрения реальность восприятий пациентом аналитика не оспаривается и не требует подтверждения (Курсив мой. — Д. Р.). Наоборот, эти восприятия служат отправными точками для исследования смыслов и организующих принципов, структурирующих психическую реальность пациента» (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999, с. 68-69).
Я могу предложить теперь определение переноса, которое наверняка вызовет несогласие у большинства моих коллег, однако другие определения, на мой взгляд, не исчерпывают сути феномена — несмотря на их гораздо большую четкость и конкретику. Перенос есть процесс восприятия реальности через призму субъективности. Мне могут возразить, что в таком случае в восприятии субъектом других людей нет ничего, кроме переноса, и в определенном смысле они будут правы. Реальность — лишь то, что «данный человек в данную минуту находится передо мной». Как писали Томэ и Кехеле, многие аналитики в наше время понимают перенос как всю совокупность объектных отношений пациента к терапевту
98
(Томэ, Кехеле, 1996а), хотя выше я упоминал и точку зрения Алана Жибо, согласно которой уравнивание понятий переноса и отношений лишает аналитика опоры и возможности использования многих ключевых элементов техники Фрейда (Жибо, 2001) (в дальнейшем я попытаюсь показать, что все же притом аналитик обретает нечто взамен). Вот что писал об этом Мертон Гилл: «Под переносом в течение долгого времени понимали не отношения между аналитиком и пациентом, а скорее искажение пациентом ситуации между аналитиком и пациентом. Я говорю «искажение ситуации», а не «искажение отношений», потому что разговор об отношениях подразумевает двух человек, занятых друг другом, в то время как согласно взгляду, поддерживавшемуся в течение долгого времени, перенос — это не отношения между двумя людьми, но скорее рассказанное видение аналитика анализируемым... Ведь именно аналитик определяет, что такое перенос, и, несомненно, основной принцип психоанализа заключается в том, что мы никогда не можем быть безошибочно уверены в нашей собственной мотивации» (Gill, 1994, р. 35~36).
Последнее замечание Гилла особо важно. Психоаналитик работает с целостным восприятием своей личности пациентом, с целостным отношением к себе со стороны пациента, с его субъективностью, и самая большая ошибка, на которую он способен, — забыть или проигнорировать тот факт, что сам он также наделен субъективностью и так же, как его пациент, воспринимает реальность только через нее. О подобной узурпации права на восприятие реальности сторонники «интерсубъективного» подхода писали: «Мы уже предупреждали... об определенной опасности, содержащейся в концепции „реальных" отношений между аналитиком и пациентом, в которой перенос рассматривается как искажение. Опасность проистекает из того факта, что суждения о том, что является „действительно истинным" и что есть искажение этой истины, обычно полностью отдаются на усмотрение аналитика... Терапевты часто привлекают концепцию искажения в тех случаях, когда чувства презрения или восхищения, испытываемые пациентом, противоречат их восприятию себя и тем ожиданиям, которые требуются им для поддержания своего собственного хорошего самочувствия» (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999, с. 58). Как сообщал Урбан Вестин, невозможно понять субъективность пациента без учета влияния субъективности аналитика (Вестин, 2009). Также Патрик Кейсмент замечал, что нельзя счесть нормальной ситуацию, где аналитик считает себя правым независимо от того, согласен ли с ним пациент. Истина нередко утверждается им как догма, и даже отказ пациента признать ее может быть истолкован аналитиком как доказательство ее правильности и лишнее свидетельство сопротивления, в то время как последнее исходит от него самого (Кейсмент, 1995).
99
Может показаться, что, признав субъективность собственного видения вкупе с неправомерностью дифференциации «реальных отношений» (например, отношений рабочего альянса) и «переноса», аналитик лишается главной своей опоры, некой «линии отсчета», позволявшей ему сохранять ориентацию в личностном пространстве себя и пациента. Это действительно так, и Жибо был прав, утверждая, что в этом случае нам приходится жертвовать целым рядом составляющих классической техники. Но это не означает уменьшения наших возможностей. Вновь проводя параллель с альпинистским восхождением, можно сказать, что проводник так же, как и тот, кого он ведет в горы, не знаком с предстоящим маршрутом: он всего лишь имеет больше опыта в обращении со снаряжением и больше навыков движения по льду и скалам. Если бы аналитик обладал способностью к абсолютной объективности, вероятно, у него отыскались бы средства обучить этому и пациента, что позволило бы говорить о разрешении переноса в смысле исчезновения. Перенос как процесс восприятия реальности через субъективность не может быть разрешен, но он может трансформироваться с эволюцией субъективности (как я попытался показать на примере пациентки, нарисовавшей мой портрет), и эти трансформации могут обретать как целительный, так и болезнетворный характер — в зависимости от способов подхода к нему. О переносе в данном аспекте можно сказать почти слово в слово то, что Кеннет Райх говорил о влюбленности: она есть начало и катализатор будущего партнерства, она регрессивна, часто неконтролируема, но может предоставить основу для роста развивающихся и углубляющихся отношений. Каждый партнер во влюбленной паре обладает невольной способностью проецировать в другого отрицаемые аспекты своих ранних переживаний, воспроизводимых в межличностном контексте через перекрестные проекции и интроекции (Райх К., 1999). Развивающиеся в аналитическом процессе отношения создают контекст, в котором субъективность обоих участников может быть конструктивно изменена.
Одно из окон Института психоанализа, в котором я работаю, выходит в узкий и глубокий внутренний двор. Это типичный двор старого Петербурга, каких очень много в стороне от «фасадов города»: глухие брандмауэры, серые стены с подслеповатыми окнами, над ними — нагромождение крыш, еще выше — небо, где стелется то фабричный дым, то дождь или снег. Неуютный и безрадостный пейзаж этот все-таки наделен некой особой эстетикой, и, глядя на него, я понимаю, что у одного человека он может вызвать лишь хандру и депрессивное настроение, однако другой — со своим субъективизмом и мировосприятием — ощутит здесь подлинный петербургский дух, genius loci, непохожий на атмосферу, например, Невского проспекта, и вспомнит Достоевского, и, возможно, даже узнает Рас
100
кольникова в случайно забредшем сюда прохожем. Реальность, которая предстает их взглядам, — одна и та же, но окрашена она по-разному. Если первый из двух этих гипотетических субъектов сможет с течением времени увидеть ее глазами второго — это и будет целительная трансформация субъективности (переноса) и — если она произошла под влиянием анализа, то есть в контексте развивающихся между ними отношений, — несомненный терапевтический успех.
Пример с портретом может также служить иллюстрацией к следующему тезису. Классическое представление о переносе как продукте регрессии, смещения и проекции основывалось на понимании его как искажения реального видения. Однако взгляд на перенос как фактор структурирования реальности позволяет нам говорить о нем как о феномене, не носящем сугубо регрессивного характера — в том смысле, что он по крайней мере не всегда оказывается проявлением «возврата» к неким инфантильным стереотипам адаптации и функционирования. Человеческая субъективность рождается в детстве, но каждый год, каждый месяц и каждый день жизни вносит в нее свой вклад, меняет ее; перенос, с которым мы взаимодействуем сегодня, встретившись с пациентом в очередной раз, был сформирован вчера, а не тогда, когда пациенту было два, три или четыре года. Можно сказать и наоборот: предположение, что субъективность способна к изменениям, заставляет усомниться в том, что она всецело предопределена прошлым. Понятие переноса подразумевает с моей точки зрения лишь то, что на обретение нового опыта оказывают определенное влияние архаические факторы, но не то, что субъект возвращается к своим ранним способам отношений. Продолжая развивать эту мысль, я добавлю, что едва ли перенос может корректно характеризоваться такими ярлыками, как «отцовский», «материнский», «сиблинговый», или «эдипов» и «доэдипов»: в нем всегда сплавлены воедино влияния всех значимых лиц из наиболее раннего и позднего окружения субъекта и всех этапов его личностного развития, особенности каждого из которых были отчасти детерминированы предшествовавшим этапом и предопределили особенности этапа последующего. В целях дидактического упрощения мы можем брать за основу тот его аспект, который выглядит в текущий момент наиболее очевидным — например, говорить о «материнском переносе» в ситуации, когда в реакциях пациента нам видится тенденция к симбиотическому слиянию, — но при этом неизбежно и порой неоправданно упускать из виду множество иных его смыслов и сторон.
Подведем некий предварительный итог. В любом случае перенос не может быть целиком сведен к элементарному появлению «иррациональных призраков прошлого» в «реальном настоящем». Стереотипы личностной организации и функ
101
ционирования, наблюдаемые нами у пациентов, безусловно, имеют отношение к детскому опыту, но потребности, фантазии, защиты, поведенческие паттерны зрелого человека далеко не идентичны таковым у ребенка. Как писал об этом Рене Дяткин: «Значительная часть желаний, реактивированных аналитической ситуацией, восходит к началу жизни, но эта реактивация не есть больше отступательное движение, а является новаторским опытом, который мобилизует психический аппарат в его самых живых аспектах (Что, вероятно, и произошло в случае моей пациентки. — Д. Р.). Необязательно отличать «инфантильные части» психики, абсолютные желания детства, остающиеся активными компонентами, воодушевляющими и болезненными, от всей психической креативности» (Дяткин, 2005, с. 179). Со своей же стороны я еще раз сказал бы, что говорить о переносе как повторении прошлого в настоящем — все равно что говорить о повторении детских черт в лице взрослого субъекта. Аналитик имеет дело не с повторением, но с постоянным присутствием прошлого опыта, трансформированного развитием и интегрированного в структуру настоящего, причем, как показывает эпизод с портретом, опыта не только в действительности имевшего место, но также желанного и недоступного, возможно, не переживавшегося ребенком даже в фантазиях — в соответствии с пониманием переноса Гиллом и Когутом как выражения неудовлетворенной потребности. Это соединение прошлого и настоящего — фактор, обеспечивающий возможность их взаимного влияния, что в свою очередь становится и залогом возможности трансформаций субъективности в аналитическом взаимодействии.
Отметим ради справедливости, что данная мысль не нова: ее выражал Кейсмент, когда определял перенос как область пересечения настоящего и прошлого опыта, все находящееся в которой может бессознательно восприниматься как принадлежащее в равной степени и настоящему, и прошлому (Кейсмент, 1995). Этчегоен, описавший перенос как результат сложного взаимодействия прошлого и настоящего, подчеркивал, что эти категории всегда взаимозависимы, причем не только прошлое трансформирует настоящее, но и настоящее модифицирует прошлое (Etchegoyen, 1982). Близкую идею высказывал также Рой Шафер, утверждавший, что прошлое и настоящее не могут рассматриваться как независимые переменные (цит. по: Россохин, 2000), и Треурнит, сообщавший, что психическое настоящее способно оказывать на психическое прошлое организующее влияние (Treumiet, 1993). Этот тезис немаловажен для понимания того, о чем далее пойдет речь.
ГЛАВА 4
О ПРОЕКТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Выше я упоминал, что перенос представляет собой явление, принадлежащее переходному пространству между магической фантазией и реальностью — пространству «непосредственного опыта», разделяющему и одновременно соединяющему две эти сферы и позволяющему нам утверждать, что реальность всегда субъективна. На мой взгляд, рассуждая об этом пространстве, где фантазия трансформируется в реальность, невозможно обойти вниманием феномен проективной идентификации как чрезвычайно важного компонента любого диалога. Механизм проективной идентификации может быть приближенно представлен следующим образом: субъект не просто проецирует в объект некоторые собственные психические содержания, но при этом бессознательно строит взаимодействие с последними так, что заставляет объект реально измениться вплоть до соответствия проекциям. В дальнейшем я не раз стану возвращаться к этому явлению и, в частности, попытаюсь показать, какую роль проективная идентификация играет в переносе, в жизни субъекта и в психоаналитическом процессе.
Следует сразу заметить, что представления об этом феномене до сих пор носят крайне разноречивый характер. За семь десятков лет исследователи как будто так и не пришли к консенсусу по его поводу, и, судя по некоторым сообщениям, его концепция остается одной из наиболее туманных в психоанализе (Ogden, 1979). Мелани Клайн, предложившая в свое время данный термин для обозначения наиболее раннего способа отношений младенца с грудью, подчеркивала, что понимание и даже описание столь примитивного процесса затруднено его довербальностью (Klein, 1946). Теория Клайн основывалась на представлении о значимости наиболее раннего страха преследования и шизоидных механизмов и была обращена к младенческим фантазиям о внедрении в мать либо, наоборот, о внедрении матери в свое тело; однако клай-нианский подход не зря критиковался впоследствии как грешащий дедуктивностью, то есть тенденцией переходить от теоретических построений к клиническому опыту,
103
а не наоборот (Томэ, Кехеле, 1996б). В дальнейшем теория проективной идентификации разрабатывалась Уилфредом Бионом, Дональдом Мельтцером и другими авторами; Роджер Мани-Керл использовал ее для понимания процесса контрпереноса. Огден определял ее как группу бессознательных фантазий и соответствующих им объектных отношений, призванных отторгнуть нежелательные аспекты собственного Я, переместив их в другого человека, и восстановить модифицированную версию того, что было отторгнуто (Ogden, 1979). Нет однозначного мнения о том, следует ли говорить о проективной идентификации как о сугубо специфическом защитном механизме или как об обыкновенной проекции в условиях частичного слияния Я и объекта. Как сообщает Голдштейн: «Проективная идентификация — более примитивный процесс, чем проекция, подразумевающий по крайней мере некоторое затуманивание границ Эго в области проекции. Именно это затуманивание границ Эго позволяет проецирующему держаться за свою проекцию, чувствовать себя с ней заодно и продолжать с ней идентифицироваться. В контрасте с этим проекция, как считается, происходит при четко различаемых границах Эго. Тут проецирующий ощущает мало идентификации с проекцией... и остается в стороне от объекта проекции» (цит. по: Коухэн, 2000, с. 59). Отто Кернберг также описывал проективную идентификацию как примитивную форму проекции, главной функцией которой является экстернализация «плохих», то есть преимущественно агрессивных, образов собственного Я и объекта, и которая в наиболее типичном случае проявляется в переносе как сильное недоверие к терапевту и страх перед ним. Следствием действия проективной идентификации оказывается размывание границ между Я и объектом и сохранение эмпатийной связи Я с проецируемым содержанием (Kemberg, 1965). Проективная идентификация призвана вызвать в терапевте некоторые эмоциональные состояния, дополняющие аффективное состояние пациента, и желание действовать определенным образом, соответствующим требованиям переноса. Терапевт при этом чувствует нападение, а пациент садистически контролирует его и подчиняет своему влиянию (Кернберг, 2000). Аффект, вызываемый в аналитике с помощью проективной идентификации, Леон Гринберг называл проективной контридентификацией, сообщая также, что она «возникает особым образом как результат чрезмерной проективной идентификации со стороны анализируемого... Аналитик в подобной ситуации испытывает ощущение пассивного «подведения» к разыгрыванию (to enact) той роли, которая активно — хотя и бессознательно — «навязывается» ему анализируемым» (цит. по: Этчегоен, 2005, с. 107). С большими или меньшими оговорками, но долгое время большинство психоаналитиков рассматривало этот процесс как примитивную попытку переместить в объект «неприемлемую» часть себя (фрагмент Я, внутренний
104
объект, инстинктный импульс и т.д.), представляющую угрозу для Я, и как механизм защиты, призванный уберечь ядро личности от распада за счет индуцирования собственных «плохих» свойств в объекте и обретения контроля над ним.
Известно, сколько трудностей приходится преодолевать терапевту, особенно начинающему, когда он сталкивается с влиянием проективной идентификации в ходе практики. Множество вопросов, требующих безотлагательного решения, встает перед ним: как разделить в хаосе переживаний собственные аффекты и те, что индуцированы атаками пациента, как отреагировать на них, чтобы сохранить терапевтическую связь, не утонуть в контрпереносе и не допустить разрушительного отыгрывания с обеих сторон. Клайнианская теория с ее «фантазиями внедрения» может зачастую служить ему успокоительным средством, но оказывает невеликую практическую помощь. В этом отношении явно более ценными стали появившиеся в середине XX столетия идеи о проективной идентификации как о своего рода коммуникативном феномене — идеи, позволяющие психоаналитику через понимание природы и механизмов навязываемой интеракции занять в последней конструктивную позицию. Как уже упоминалось, те, кто развивал «интерсубъективное» направление, подчеркивали, что явления переноса неправомерно сводить лишь к защитным экстернализациям в духе школы Клайн, тем самым отрицая множество других их функций и измерений. По сути, именно через понятия проективной и интроективной идентификации была объяснена способность к эмпатии и значительная часть иных взаимодействий в терапевтической диаде.
Уилфред Бион, внесший существенный вклад в развитие концепции феномена проективной идентификации, замечал, что каждый человек использует ее механизм в нормальной степени, и что она наряду с интроективной идентификацией представляет основу личностного развития. Однако далее он сообщал об ощущении, возникавшем у него в ходе некоторых терапевтических сессий: его пациенты как будто чувствовали присутствие в аналитическом пространстве некоего объекта, который не позволяет им данным механизмом пользоваться. Эти пациенты вели себя так, как если бы аналитик неким образом препятствовал внедрению в себя частей их личности. В частности, Бион описывал одного своего пациента, стремившегося избавиться от невыносимого страха смерти. Он расщеплял свой страх и направлял его части в аналитика, полагая, что, если они достаточно долго пребудут в этом «контейнере», то изменятся под влиянием его психики, и затем их станет можно реинтроециро-вать в смягченном виде. Со стороны аналитика, однако, он ощущал отказ принять в себя эти части, что лишь заставляло его усиливать свои попытки. Реконструкция ранней сцены, проявившей себя в переносе, была осуществлена Бионом следующим образом: когда ребенок переживал подлинный страх смерти, мать отвечала на его
105
эмоции лишь с сознанием своего долга, в то время как от нее требовалось также пережить этот страх и при этом выдержать его, остаться уравновешенной. Не будучи способна вынести подобных чувств, она препятствовала их проникновению в себя. Бион предложил взгляд на проективную идентификацию как на уникальное средство связи с объектом, с помощью которого пациент предлагает терапевту разделить невыносимое переживание — страх, ярость, печаль — с тем, чтобы впоследствии реинтернализовать его в смягченной форме. Экстернализация здесь преследует цель вызвать в терапевте (матери) определенное психическое состояние, которое не может быть вербализовано или сообщено иными способами (Байон, 2000). Гипотеза Биона созвучна более позднему взгляду сторонников «интерсубъективного» подхода: с точки зрения последних, состояние спутанности Я и объекта в проективной идентификации есть не проявление защитной проекции или общей слабости Я, но лишь манифестация пробуждения специфической потребности — потребности погружения в отношения архаической связанности, посредством которой могут быть возобновлены или восстановлены такие нарушенные развитийные процессы, как самоартикуля-ция и очерчивание границ собственного Я (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999).
Оригинальную версию проективной идентификации предложил Майкл Пордер. Этот автор описал ее как действующее одновременно на двух уровнях компромиссное образование, ядром которого является защитная «идентификация с агрессором» или «обращение пассивного в активное». Суть данного механизма Пордер видел в том, что на поверхностном (или предсознательном) уровне пациент манифестирует восприятие собеседника как грандиозного родителя, невербальными средствами видоизменяя его поведение до соответствующих форм, однако на более глубинном (бессознательном) уровне в то же время использует идентификацию с патогенными (садистическими) аспектами родительского образа, и через это «повторение с инверсией ролей» вызывает у собеседника чувства, схожие с теми, что переживались им самим в детские годы. Идентификация с агрессором является для него единственным способом защититься от фантазии, что он станет беспомощной жертвой (Porder, 1987). Весьма похожее видение процессов проективной идентификации формулировал Кернберг, который описывал их как быстрые колебания между состояниями проецирования Я- и объект-репрезентаций, сопровождаемые колебаниями идентификаций с объект- и Я-репрезентациями. Иными словами, пациент то проецирует в аналитика образ садистического родителя, становясь при этом испуганным ребенком, то наоборот, вызывая у него соответствующие реакции контрпереноса (Кернберг, 2000). Различие представлений Кернберга и Пордера состоит лишь в том, что первый рассматривает эти идентификации как влияющие
106
на аналитика поочередно, а второй — как влияющие синхронно и заставляющие его таким образом испытать сложную смесь чувств. Подобное переживание в контрпереносе, вызываемое «единством слабого ребенка и требовательного родителя» в личности пациента, часто бывает связано с ситуацией, так изображенной Балинтом: «Несмотря на то, что обычно пациент в сравнении с аналитиком ощущает себя слабым и гораздо менее важным, значение имеет только он... и это значение приобретает колоссальные масштабы. Все должно вращаться только вокруг его желаний, импульсов и потребностей, только его интересы все время должны находиться в фокусе внимания» (Балинт, 2002, с. 115). Ниже я проиллюстрирую примерами из своей практики некоторые варианты влияния такого стереотипа на терапевта. Добавлю, что, согласно утверждению Балинта, данный паттерн является основным во всех случаях — без исключений, хотя интенсивность и продолжительность его функционирования могут варьировать для разных пациентов.
Данное представление позволяет взглянуть на проективную идентификацию не как на инструмент патологической защитной активности, но как на неотъемлемую составляющую любого взаимодействия, и признать, кроме того, что проецироваться в объект могут производные не только негативного, но и позитивного опыта отношений. Последний факт констатировался еще Анной Фрейд: «Механизм проекции нарушает наши человеческие отношения, когда мы проецируем нашу собственную ревность и приписываем другим людям наши собственные агрессивные действия. Но он может также действовать и иным образом, позволяя нам формировать дружеские привязанности и тем самым укреплять наши отношения друг с другом» (Фрейд А., 1993, с. 97). Другое дело, что избыток травматичного опыта, нередко присутствующий в анамнезе пациентов с глубокими модификациями Я, во многих случаях заставляет их использовать проективную идентификацию именно как защиту, позволяющую (с точки зрения Кернберга) держать объект под контролем и вызывать в нем преимущественно негативный контраффект. Влияние проективной идентификации особенно наглядно во взаимодействии с пограничной личностью, которая постоянно озабочена соответствием реальности своим проекциям и с помощью этого механизма подобного соответствия добивается. Такова причина, по которой данный ментальный процесс в наиболее ярких своих проявлениях был признан даже критерием диагностики некоторых психических нарушений и отнесен к категории «примитивных защит».
Мне кажется, однако, что защитный аспект есть лишь один, и, возможно, далеко не самый важный, из ряда аспектов, в которых данное явление может рассматриваться. Моя точка зрения возникла в результате своего рода синтеза представлений Биона и Пордера вкупе с опытом практики. Я склонен понимать проективную
107
идентификацию прежде всего как бессознательную попытку пациента донести до собеседника то, что подверглось вытеснению или принадлежит области довербального опыта: она начинает активно и болезненно видоизменять отношения, когда пациент переживает «глухоту» аналитика, его неспособность к восприятию. Проективная идентификация предстает, таким образом, ценным элементом терапевтических связей. Невербальный диалог, в который включаются чувства и действия аналитика — диалог мимикой, интонациями, жестами, взглядами, — присутствует в терапии всегда, но для модифицированного Я он имеет особое значение. Пациент с пограничной личностной структурой ориентирован в принципе на действие, а не на говорение: он «беседует» с терапевтом прежде всего именно на этом уровне, «читает» собеседника более внимательно, нежели слушает, и сообщает ему о себе без слов больше, чем может сказать. Таким образом он как будто предлагает аналитику: «Раз ты не в состоянии понять мои слова, переживи то, что было со мною; ощути, каково мне пришлось когда-то, и тогда узнаешь, в чем я больше всего нуждаюсь теперь».
Я приведу пример весьма упрощенный, но в принципе иллюстрирующий суть «коммуникативного» понимания проективной идентификации: нам, очевидно, знакома ситуация, когда человека обидел тот, кто сильнее его, и человек срывает злость на том, кто слабее. С позиции общепринятых моральных и этических норм она, безусловно, неприемлема, и подобное действие однозначно заслуживает осуждения. Но глубинный подход позволяет увидеть в акте «срывания злости» нечто неожиданное: таким путем человек жалуется. Он не способен выразить пережитую боль словами, поскольку на него давят определенные социальные установки — например, стереотипы ложной маскулинности, — и избирает идентификацию с агрессором, чтобы заставить другого пережить аналогичную боль: дать почувствовать, вместо того, чтобы рассказать. С этой целью он помещает в другого неприемлемую часть собственного Я (в данном примере ту, что не сумела оказать агрессору должного сопротивления и вступила в конфликт с «маскулинным Я»). Нечто близкое, хотя и гораздо более тонко, проделывает пациент с аналитиком.
Явление, о котором идет речь, весьма близко, а в некоторых аспектах, возможно, и тождественно тому, что Кейсмент называл «коммуникацией путем воздействия». Как сообщал Кейсмент, пациенты часто ведут себя таким образом, что рождают у терапевта чувства, которые не могут быть переданы словами. Они нуждаются в возможности такого действия, ибо для них это важный способ связи, без которого многое осталось бы невысказанным. Эта коммуникация обретает особое значение, когда транслируется то, что относится к невыразимым переживаниям или к довербальному опыту. Кейсмент выделяет четыре ступени ее формирования: 1 — па
108
циент переживает чувство, которое он не может высказать и с которым не способен справиться; 2 — у пациента возникает бессознательная фантазия о переложении этого чувства на другого человека, чтобы избавиться от него или совладать с ним; 3 — рождается «напряжение взаимодействия», цель которого — заставить другого испытать нечто; 4 — между двумя людьми создается аффективный резонанс. Если аналитику удастся найти способ интерпретации подобной коммуникации, у пациента возникает ощущение, что он услышан и что между ним и собеседником установлен продуктивный контакт (Кейсмент, 1995).
Добавлю, что с помощью проективной идентификации человек может сообщать собеседнику не только о прошлых, но и об актуальных переживаниях, которые по тем или иным причинам он не способен открыто вербализовать. Анна Фрейд описывала пациентку, которая долго и настойчиво упрекала аналитика в чрезмерной скрытности. При этом она часто задавала ему весьма личные вопросы, на которые он не полагал возможным отвечать; в результате у аналитика и впрямь появлялось ощущение, что он крайне скрытен. Это поведение пациентки объяснялось тем, что она сама вытесняла, то есть бессознательно скрывала от аналитика, очень личный материал и ожидала упреков в свой адрес (Фрейд А., 1993). Данный пример приводился Анной Фрейд в рамках темы «идентификации с агрессором», однако, на мой взгляд, он хорошо иллюстрирует и коммуникативную функцию проективной идентификации: «Я не могу рассказать вам, какую тревогу во мне рождает моя скрытность; но попробуйте услышать меня, испытав это на себе».
В моей практике было несколько случаев, позволивших мне с годами убедиться в правомерности такого понимания проективной идентификации. Первым и, вероятно, наиболее иллюстративным из них стал случай пациента, которого я назову г-ном К. Он страдал личностным расстройством, характер которого заставлял предполагать наличие опыта крайне патогенных отношений с родителями в раннем детстве. Однако прямых данных, которые могли бы подтвердить эту версию, не было, поскольку ни о детских годах, ни о матери г-н К. ничего не помнил (отец в семье отсутствовал). Его первое воспоминание относилось ко дню ее похорон: в то время пациенту было около девяти лет. Ни одного более раннего эпизода его память не сохранила.
Первые месяцы нашей работы характеризовались отсутствием какой бы то ни было позитивной динамики. Практически с первых встреч г-н К. занял и настойчиво демонстрировал позицию зависимости и подчинения, приписывая мне магические свойства — умение видеть насквозь, дар исцелять — и активно навязывая чувство полной ответственности за его жизнь и судьбу. Любые попытки проработать эту идеализацию воспринимались им как манипулятивные и резко отвергались. Не находя
109
немедленного облегчения, он звонил мне домой (иногда среди ночи) с разнообразными жалобами и претензиями, караулил у дверей офиса, где я вел прием; часто приходил на сессии часа за полтора-два до назначенного времени и на столько же задерживался в приемной по окончании встреч, наблюдая в перерывах за мной и посещавшими меня пациентами. Его монологи превращались в нескончаемый поток насмешек, подозрений, упреков в нежелании понимать проблему и в ухудшении своего состояния. Вскоре я чувствовал себя преследуемым, виноватым, действительно бессильным понять его потребности и достичь реального успеха. Особую мою тревогу вызывала возможность деструктивных отыгрываний, причем не только со стороны г-на К., но и с моей собственной: не раз я боролся с искушением избавиться от «неудобного» и «бесперспективного» пациента, подняв ему оплату терапии. Я пытался защититься от переживания профессиональной несостоятельности, тщательно контролируя свои эмоции и придавая особое значение соблюдению аналитических правил и границ («я все делаю правильно, и если в терапии что-то происходит не так, то не по моей вине»). Моя беспомощность усугублялась тем, что я не мог решиться открыто признать перед г-ном К. собственные чувства: такой шаг казался мне окончательной распиской в непрофессионализме. Моя отстраненность и закрытость в то же время лишь способствовала росту интенсивности, с которой он атаковал меня. Наконец во время сессий у меня все чаще стало появляться ощущение нереальности происходящего (замечу, что одной из составных частей симптоматики г-на К. была дереализация), и я обнаружил, что содержание этих встреч иногда исчезало из моей памяти полностью — как исчезла из памяти пациента вся его жизнь вплоть до дня материнской смерти.
В ходе консультирования по случаю г-на К. мой супервизор предположил, что, возможно, пациент заставляет меня таким путем окунуться в его собственное детство — пережить испытанное им самим перед подавляющей и непредсказуемой матерью. Было похоже, что идентификация с агрессором, сопровождаемая смещением импульсов на новый объект, несла смысл: «Ощути, каково мне было». Адекватный ответ, вероятно, подразумевал бы не только ощущение как таковое, но и его демонстрацию, открытость контраффекта. В то время подобная установка вызывала у меня мощное сопротивление, поскольку мое аналитическое образование было весьма ортодоксальным и диктовало мне принципы «зеркала» и «абстиненции» в их наиболее консервативной форме. Для меня стал своего рода откровением тезис, изложенный Томэ и Кехеле во втором томе «Современного психоанализа», — тезис о том, что «при некоторых условиях пациент может... или даже должен знать, какой контрперенос он вызвал у аналитика» (Томэ, Кехеле, 19966, с. 168), равно как и терапевтический принцип Гилла, согласно которому аналитику следует позволять себе спонтанность
110
вместо того, чтобы удерживаться на позиции «чистого экрана». Гилл подчеркивал, что, если терапевт строго ограничивает свое поведение, он теряет способность реализовать в по,хной мере свои когнитивные и креативные возможности (Gill, 1982).
Позднее я стал полностью разделять, а затем и активно пропагандировать в ходе преподавательской и супервизорской деятельности точку зрения, согласно которой «описание психоаналитиком своих переживаний не имеет ничего общего с исповедью о личной жизни... Посвящение пациента при определенных условиях в контрперенос означает тщательное описание крайне значимого процесса, который предоставляет новые терапевтические возможности» (Томэ, Кехеле, 19966, с. 169). В случае г-на К. моей задачей было показать пациенту, что он достиг своей цели, не уничтожив ни меня, ни себя. Достичь цели, не уничтожая — такова в принципе задача любого диалога. Мне удалось, хотя и не сразу, начать сообщать пациенту о таких своих переживаниях, как гнев, обида, тревога, и подключать его к открытому обсуждению этих эмоциональных состояний. Из наших отношений стала уходить прежняя напряженность, и, похоже, для г-на К. это было нечто куда большее, чем простое обретение контротш надо мной (как, вероятно, предположил бы Кернберг). Он стал вести себя более спокойно, как человек, который смог добиться чего-то существенного («Теперь мы можем наконец поговорить об этом»). Однажды он сказал: «Вам, должно быть, нелегко выдержать такого, как я, но ведь и мне трудно». В ходе дальнейшей работы пациент восстановил в памяти эпизоды детства, окрашенные чувством бессилия перед матерью, непонимания ее требований, а также мучительным ощущением своего несоответствия ее запросам и идеалам; мечты о материнской смерти и поиск спасения в самоконтроле и попытках установить шаткий своего рода «сеттинг» семейных отношений. Практически все это переживалось мною под давлением атак проективной идентификации. Индуцирование контрпереноса стало для него последним средством невербального диалога: «Я не могу передать главное словами, но я дам тебе это пережить».
Добавлю, что, возможно, именно случай г-на К. стал для меня первой вехой на пути к новому пониманию такого феномена, как сопротивление — «противодействие превращению бессознательных процессов в сознательные, возникающее во время психоаналитического лечения» (Райкрофт, 1995, с. 186). Это понимание можно кратко выразить следующим образом: сопротивление представляет не интра-психический, но интерсубъективный, то есть межличностный, процесс, и в данном качестве оно всегда несет адресованную аналитику информацию; другими словами, нет сопротивления — есть сообщение. Оно является не тем, с чем следует «бороться» и что должно быть в итоге «устранено», но тем, что надлежит принять и услышать.
Ill
Мой опыт показывает, что обыкновенно пациенты отзываются на эмоциональный отклик «сопротивлению» с благодарностью и позволяют себе затем новую степень интроспекции, в то время как попытки его преодоления с помощью интерпретаций чаще ведут лишь к укреплению защитного панциря, призванного оберегать status quo. Вот еще один клинический фрагмент.
Женщина среднего возраста обратилась ко мне по причине хронически преследовавшего ее чувства «неуверенности в себе» или «неуверенности в окружающем мире» — чувства, о котором она долгое время не могла сообщить ничего конкретного и образного. Несколько месяцев она приходила на наши встречи два раза в неделю, ложилась на кушетку и рассказывала о текущих проблемах и делах. С каждым днем у меня все отчетливее проявлялось чувство, что пациентка плохо понимает, зачем эти беседы ей нужны, и продолжает вести их скорее по инерции, чем под влиянием искренней заинтересованности. В то же время сказать подобное и о себе я не мог: напротив, я ощущал, что за кажущимся безразличием этой женщины к себе, ко мне, к анализу, ко всей окружающей действительности спрятан богатейший внутренний мир и огромный креативный потенциал, который мне — вопреки принципу нейтральности — очень хотелось помочь ей реализовать. Она не раз подчеркивала, что легко прерывает отношения, если перестает испытывать в них истинную потребность, также не раз говорила, что уже не знает, зачем встречается со мной; в результате я понимал, что любая наша сессия может оказаться последней, и понимал, что подобный исход стал бы для меня серьезной профессиональной фрустрацией. Эта ситуация была весьма нетипична, поскольку мне не свойственно желать для пациента того, чего сам он для себя не/Желает. И именно данная нетипичность заставила меня однажды в ртвет сказать следующее: «Теперь я расскажу вам о том, что сейчас происходит. Я не знаю, что делать. Я чувствую, что у нашей работы есть перспектива, и в то же время ее как будто нет, потому что она ускользает. Когда вы приходите, я все время жду, что вы скажете: „Мне больше ничего не нужно", и никогда не бываю уверен, что мы увидимся в следующий раз. Я растерян, потому что не вижу, что впереди; каждый очередной шаг я делаю словно во тьму, где может оказаться обрыв. И тогда мне хочется замереть на месте, ничего не хотеть, никуда не двигаться: так безопаснее». Я произнес эти слова и замолчал, готовый к тому, что сейчас она встанет с кушетки и распрощается, но в то же время меня не покидала надежда, что произойдет нечто иное. Пациентка тоже долго молчала и наконец ответила: «Все, что вы сказали сей
112
час, — это мои чувства. У жизни есть перспектива — и ее нет, потому что я не решаюсь сделать шаг. Это то, с чем я живу всю жизнь».
Дополнительной иллюстрацией к данной теме может послужить фрагмент из клинической практики моего коллеги.
Рассказывая о детстве, его пациентка начинала неудержимо рыдать, и рыдала так, что он чувствовал себя физически раздавливаемым. По его собственному признанию, ощущение в эти минуты было такое, словно по нему проезжал асфальтовый каток. Наконец настал момент, когда, не выдержав, он почти крикнул: «Прекратите, я не могу больше этого слышать!». Наступила тишина, и через несколько секунд терапевт спросил: «Что сейчас произошло?» — «Я понимаю, — сказала женщина, — должно быть, это невыносимо». —«Я тоже понимаю, — ответил терапевт. — Теперь я понимаю, как невыносимо было вам, когда мама собирала вас с сестрами и заставляла слушать ее жалобы на жизнь, захлебывалась слезами и требовала, чтобы вы разделяли ее страдание».
Можно считать, что он не имел права на подобную реакцию и добился бы большего успеха, оставаясь спокойным и сдержанным: нет возможности отмотать аналитический процесс в обратном направлении, как магнитофонную ленту, и посмотреть, как он стал бы развиваться, если бы не произошел этот эпизод. Однако я допускаю, что в таком случае пациентка еще долгое время не могла бы почувствовать, что ее переживание действительно понято собеседником.
Каковы практические выводы из сказанного до сих пор? Во-первых, видно, что в процессе аналитического взаимодействия внутренний диалог пациента превращается в диалог между пациентом и терапевтом, и трудности, испытываемые последним, есть лишь отражение страдания больного, которое существовало в его жизни до развития невроза переноса. Во-вторых, терапевтическое значение имеет уже сам по себе новый опыт пациента — опыт частичной передачи собственной боли другому человеку вкупе с пониманием того, что этот другой способен испытать все, включая ненависть, и при этом не погибнуть. Мать г-на К. заставляла его контейнировать собственные «плохие» чувства без права на их разрядку; в терапии г-н К. экстернализовал этот пугающий «контейнер», дабы убедиться в возможности его приоткрыть. Пациент с пограничной структурой, каковым являлся мой собеседник, всегда обладает достаточным ресурсом «здоровой» части Я, без которого контакт с терапевтом стал бы невозможен; другими словами, он — не только ребенок, но и зрелый субъект. Ребенок желает отдать тяжелую ношу взрослому спутнику лишь ради того, чтобы избавиться от нее, и переживания спутника его мало забо-
из
тят; но взрослый, передавая свой груз другому взрослому, будет беспокоиться еще и о том, чтобы другой ощутил вес груза. Если он почувствует, что его страдание разделено и принято, он сможет со временем вновь принять свою ношу на себя, но она уже не будет столь тяжела. Для пациентов с глубокими модификациями Я подобная невербальная интеракция становится бессознательной попыткой добиться понимания там, где его не достичь иными средствами. Проективная идентификация, выглядящая лишь как досадная помеха терапии, может в таком случае стать важным источником материала для реконструирования прошлого, а способность терапевта услышать и поддержать предлагаемый диалог, возможно даже, — единственным путем к установлению альянса. Я полагаю в связи со сказанным здесь, что аналитику следует уметь посвящать пациента в контрперенос и лишь затем расшифровывать собственные чувства для того, чтобы позднее вернуть их пациенту в интерпретации. В противном случае связь в аналитической диаде может оказаться прерванной.
Добавлю к сказанному: я полностью разделяю точку зрения Рэкера, согласно которой вопрос о целесообразности сообщения пациенту о контрпереносных чувствах всегда должен решаться индивидуально в каждом конкретном случае (Ракер, 2005). Многое здесь зависит от того, что, кому, когда, как и с какой целью сообщается: ниже мы еще вернемся к этому вопросу, в частности, в связи с проблемой информирования пациента о негативном контрпереносе. Здесь же я хотел бы заметить, что достаточно глубокая разработка той модели взаимодействия, о которой шла речь в данной главе, могла бы стать решением важной методологической проблемы, о которой упоминал Дэниел Стерн. Этот исследователь замечал, что аналитики, общающиеся со взрослыми пациентами, традиционно работают со словами, повествовательными интерпретациями и смыслами — с «крупными единицами поведения», состоящими из согласованных совокупностей значений. В отличие от них те, кто имеет дело с младенцами, ведут работу с «малыми единицами» длительностью в секунды: это то, что можно было бы обозначить понятием «микроанализ». Проблема заключается в том, чтобы найти способ «перебросить мост» через пропасть между этими подходами, то есть найти неясный повествовательный смысл «малых единиц» (Стерн Д., 2006). Взгляд, модуляция голоса, интонация, поза, жест, другие средства, используемые проективной идентификацией, и есть подобные «малые единицы»: знание их языка как уникального средства передачи невербальной информации и умение переводить с него на язык слов могло бы сыграть роль такого «моста». Впрочем, полагаю, что это — задача, для которой едва ли может быть выработана унифицированная методика и техника: ее решение останется сугубо индивидуальным для каждого терапевта, в той мере, в какой индивидуален он сам. Кое-что о своих попытках такого рода я намерен рассказать в следующей главе.
ГЛАВА 5
АНАЛИЗ ОДНОГО СЛУЧАЯ БЕССОННИЦЫ
Я попытаюсь использовать описание этого клинического случая для того, чтобы продемонстрировать место проективной идентификации в структуре переноса и ее роль в терапевтическом взаимодействии. Пациентку, о которой пойдет речь, я назвал для себя Алисой, и, как будет видно, выбор имени не был случаен. У этой терапии было не совсем обычное завершение: до сих пор не знаю, расценивать ли ее как успешную или признать, что я заблудился на сей раз, словно в лабиринте, — по крайней мере, вопросов здесь возникло больше, чем было найдено ответов. Я показал Алисе, как мог, истоки ее проблем, и она как будто бы смогла использовать их осознание себе во благо, и все же иногда мне думается, что произошедшее за этот период между нами легче объяснить с помощью рационализации, нежели понять до конца.
Алиса, женщина двадцати четырех лет, замужняя, неработающая, обратилась ко мне за помощью по весьма прозаической причине: ее изводила бессонница. Уже около года ей, как правило, удавалось засыпать лишь под утро; сон длился не более четырех часов, после чего она ощущала себя разбитой и смертельно уставшей. Она и вправду выглядела осунувшейся, словно прозрачной, как бывает от чрезмерного утомления. Спать ей хотелось последнее время практически постоянно, однако, ложась в постель, она будто сама себе не позволяла забыться и расслабиться: ее не отпускало непонятное напряжение, которое не снималось ни сексом, ни рюмкой коньяка на ночь. Врачи не находили у нее никаких органических отклонений, ставили диагнозы от неврастении до депрессии, выписывали снотворные препараты, но решить проблему в корне были явно бессильны. «У меня такое чувство, — сказала она, описывая свое состояние, — что я не могу заставить себя перешагнуть какую-то грань, чтобы уснуть; этот шаг вроде бы не так уж труден, но каждый раз в последнюю секунду я словно останавливаю себя».
Алиса не сумела точно определить, с какого времени проблема стала обретать для нее актуальность. Трудности с засыпанием в той или иной мере пресле
115
довали ее и раньше, при том. что спать она хотела, сколько себя помнила: «Я не выспалась за всю жизнь». Одним из наиболее мучительных воспоминаний детства для нее был утренний подъем в детсад: она старалась спрятаться под одеялом, стать крохотной и незаметной, но мама была неумолима: «Ты уже большая девочка». В школе на уроках она клевала носом, к негодованию учителей; в институт почти никогда не являлась к первой паре, так как засыпала не ранее трех часов ночи и лишь около девяти утра заставляла себя открыть глаза. Этот режим в итоге сделался для нее привычным. Впоследствии, однако, сон стал приходить еще позже, а дневное ощущение разбитости усиливалось. Проблема требовала решения также и потому, что в перспективе Алиса планировала выйти на работу по специальности. Уже два года после диплома она вела жизнь домохозяйки, но не собиралась оставаться в этой роли до конца дней.
Бессонница — или, говоря профессиональным языком, нарушение засыпания — не лучший объект для психоаналитической терапии, если она не ситуативна, а является симптомом, например, вегетативно-функционального расстройства. Как известно, еще Фрейд относил подобную проблематику к разряду актуальных неврозов, недоступных изобретенному им методу. Однако развитие психосоматической медицины в тридцатые годы помогло решить эту задачу, переместив акцент исследования с символического значения симптома на условия его формирования. С другой стороны, диагноз сам по себе мало что говорит о перспективах лечения: огромную роль для исхода последнего играет мотивация кандидата, его психологическая любознательность, способность к отношениям и т. д. Меня несколько смущал перманентный характер проблемы, но более важными казались следующие предварительные выводы: очевидно, что я не имею дело ни с психотической, ни с пограничной патологией; девушка неплохо мотивирована к работе, свободно и связно излагает мысли, озвучивает чувства; по-видимому, склонна к интроспекции. Последнее подтверждалось ее словами о невозможности перешагнуть некий порог между явью и сном. Одновременно эти слова позволяли допустить чисто психическую природу страдания — что не противоречило результатам обследований. В основе реактивных нарушений подобного рода лежат, как правило, вполне доступные осознанию конфликты. «Я попробую вам помочь, — сказал я Алисе, — но будем говорить не только о бессоннице. Скорее всего, она — следствие многого, что происходит в вас, и нам необходимо узнать об этом как можно больше. Бессонница любит неосвещенные закоулки в душе; когда ей станет не хватать их, она уйдет».
Я опущу многие аспекты прошлой и нынешней жизни А-хисы и сосредоточу внимание на главном. Она была единственным ребенком в семье. Воспоминаний
116
об отце — помощнике капитана торгового судна — у нее практически не осталось, так как он умер, когда девочке было пять лет. Образ его запечатлелся в ее памяти как «вечно ускользающий». Когда отец вновь уходил в море на полгода, побыв дома месяц или два, ей не сообщалось об этом заранее; лишь позднее она начинала понимать, что папа опять надолго (может быть, навсегда?) исчез, и втайне переживала, полагая, что всему виной ее вечное непослушание и капризы. Напротив, мать, по ее словам, «навязчиво присутствовала рядом». Это присутствие Алиса ощущала как постоянный контроль: даже в детском саду она чувствовала себя более свободно, как ни мучительно было ей просыпаться и идти туда по утрам.
Из ее рассказов можно было сделать вывод, что, глядя на дочь, мама обращала внимание не столько на нее, сколько на то, все ли в ней в порядке (используем приблизительную аналогию: с подобной разницей видят картину в музее посетитель и реставратор). Непорядком могли быть разные вещи: не собранный с вечера портфель, насморк, чернила на пальцах и т.д. На любой из них ей указывалось мягко, но в такой форме, что он тут же заслонял собой все. Алиса помнила, в частности, какую досаду испытывала, подбегая к маме поделиться школьными впечатлениями и слыша в ответ: «Хорошо, но почему у тебя ногти плохо подстрижены?» — «После этого, — говорила она, — пропадало всякое желание продолжать». Если она позволяла себе выразить злость или обиду, мать реагировала отрицанием: «Нет-нет, ты же не сердишься, ты ведь умница». Когда девочка начинала излишне досаждать матери, мешать ей заниматься хозяйством, та неизменно сообщала: «Вот когда ты была совсем маленькая, ты мне никаких хлопот не достав;\яла, все время спала. А как заворочаешься, запищишь — я тебя покачаю, и ты опять засыпаешь».
Слушая пациента в ходе интервью, я избегаю поспешных выводов, но волей-неволей строю предварительные догадки о природе его проблем — хотя в дальнейшем они нередко оказываются ложными. Последние слова Алисы заставляли вспомнить о случаях отношений, в которых мать чрезмерно навязывает ребенку себя как реальный объект — тем самым препятствуя развитию его фантазийной активности. Вместо того чтобы обретать способность удовлетворяться фантазией об укачивающих материнских руках, то есть засыпать с помощью интроекта, ребенок будет по-прежнему требовать укачивания реального. Данный стиль взаимодействия в детско-материнской диаде, если я не ошибался, роднил Алису с женщиной, нарисовавшей когда-то мой портрет (о ней шла речь в главе 3).
Но вернусь к рассказу пациентки.
Смерть отца как будто не оставила Алисе глубоких впечатлений. Все было, как она вспоминала, тихо и буднично. Он болел, лежал в комнате, куда ее пускали
117
редко. Она помнила запах лекарств, его неподвижное осунувшееся лицо, полузакрытые глаза. Мать говорила: «Папа отдыхает». Потом в доме появилось много незнакомых людей, и большое трюмо в передней завесили черным покрывалом. С тех пор только фотография осталась в гостиной, и она рассматривала ее с удивлением: лицо было не похоже на то, что сохранилось в ее памяти. Когда отец снился Алисе, он был не таким, как на фото, а таким, каким запомнился ей напоследок — «почти состарившимся». На самом деле умер он в тридцать с небольшим лет.
Так в связи с отцом мы впервые коснулись темы сновидений. Алиса упомянула о них поначалу вскользь, как бы не предполагая, что это может заинтересовать меня. Ее немного удивило, что я стал расспрашивать о деталях сна, но отвечала она охотно, даже воодушевленно. В тот раз я заметил на прощание, что сны могут оказать неоценимую помощь в нашей работе. Я не помню, что она сказала на это, но помню, что как-то по-особому взглянула на меня, уходя.
С этого времени сны стали главным предметом монологов Ашсы. Ее рассказы о них оставляли любопытное впечатление: они напоминали откровения об иной жизни как антитезе серому, утомительному бытию, о желанном и недосягаемом состоянии умиротворенности. Интересна была и манера повествования: пациентка как бы вправду засыпала при этом, не закрывая глаз. Она могла путешествовать по своим сновидениям, казалось, бесконечно — едва изложив содержание одного, переходила к следующему; словно не особо задумывалась, что из этого можно извлечь, но получала удовольствие от самого процесса перебирания их в памяти. Я и не заметил, в какой момент оставил попытки уловить смысл в разворачиваемой ею череде образов и вместе с ней «поплыл по течению». Вскоре, однако, я почувствовал, что тоже засыпаю; чтобы встряхнуться, воспользовался паузой и поинтересовался, чем для нее являются сны. «О, — сказала она, — это загадочный, завораживающий мир, это как другое пространство. Оно завлекает. Я люблю вспоминать все, что я там видела. Иногда это даже помогает уснуть».
Что бы ни говорил пациент в ходе сессии, его рассказ преследует определенную цель, даже если она вынесена за рамки его сознания. Важно понять, к удовлетворению какого желания он при этом стремится. Я не раз задавался вопросом, для чего Алиса разворачивает передо мной, одну за другой, картины своих сновидений, не пытаясь с моей помощью разгадать их, но, конечно, не мог озвучить его в такой именно форме. Когда человека спрашивают: «Зачем вы говорите об этом?», он слышит: «Не надо об этом говорить». Повинуясь наитию, я сказал девушке: «Какое интересное ощущение: своими снами вы меня будто мягко уводите из реальности». Она задумалась, но тут же, улыбнувшись, возразила: «А может быть, на
118
оборот, веду вас в нее?» — «В нее?» — «Ну да, ведь сны — это тоже реальность, только измененная, с другой стороны...» — «И вам хотелось бы, чтобы я побывал там с вами?» — «Да. Там столько неповторимых вещей, столько загадок. Я многое не могу передать словами: оно ускользает. Если бы вы сами смогли увидеть...».
В это охотно верилось: даже то, что она передавала лишь словами, производило впечатление. Сны Алисы были действительно яркими, причудливыми, и то напоминали сюжеты сказок Гофмана или гоголевские фантасмагории, то заставляли вспомнить о вымышленных, но предельно реальных мирах Свифта. Алиса бродила по городам, где вместо людей жили птицы на человечьих ногах и лошади со слоновьими хоботами; блуждала в старых, покинутых обитателями домах, где самые узнаваемые и обыденные запахи и звуки ее собственной прошлой жизни сочетались с совершенно незнакомым и нарушающим все законы пространственной геометрии расположением коридоров и комнат. Она испытывала приятную жуть, спускаясь в пещеры, где обитали крохотные черные создания вроде чертиков, неизвестные науке и «древние, как сама жизнь»; шла бесконечной зеркальной галереей, в которой платья на ней вдруг менялись сами собой; играла с таинственными узорами и многоугольниками, оживающими в ее руках и превращающимися в разноцветных котят. То был в самом деле бездонный мир — мир ее бессознательного, полный чудных образов и красок. Однако в том, что происходило, одна странность настораживала меня.
Сновидения пациентов меня весьма занимают и, как правило, стимулируют к активной работе: разгадке скрытых содержаний, интерпретации конфликтов и т. д. Но сны Алисы, как ни странно, оказывали скорее усыпляющее действие: я вовсе не грешил против истины, сообщив девушке о чувстве утраты реальности. Несколько раз я почти задремывал в течение ее монологов и лишь в самый последний момент усилием воли заставлял себя «вынырнуть». Что могло быть причиной сонливости, отнюдь для меня не характерной? Следовало, по-видимому, обратить больше внимания на невербальные аспекты происходящего. В течение сессии пациентка почти неотрывно смотрела мне в глаза; также неизменно, с некоторым запаздыванием, копировала мою позу — клала ногу на ногу, подпирала подбородок кистью. Кроме усыпления, это создавало смутное ощущение преследования. Какая-то мысль тем временем кружилась на окраине моего сознания — что-то, сказанное Алисой прежде, будто ключик к нынешней ситуации, — и я не мог ни отвязаться от нее, ни ее ухватить.
Сон хотелось стряхнуть. Я спросил что-то — Ахиса ответила; я переменил позу в кресле, но минуту спустя она в точности повторила мое движение. Еще одна попытка через некоторое время — и вновь тот же результат. При этом
119
она продолжала говорить ровным голосом, с плавными модуляциями, перемежая повествование недлинными паузами. Я улавливал не столько смысл произносимого, сколько интонацию и ритм. Вкупе с повторением жестов и неотводимым взглядом это создавало гипнотический, усыпляющий эффект. Мне внезапно пришло в голову, что мои ощущения и действия напоминают реакцию не желающего спать ребенка на колыбельную. Вправду ли Алиса приглашала меня таким образом к совместному путешествию в иную реальность, в завлекающий мир сновидений? Или целью ее было другое — ослабить мое внимание, разрушить контроль?
Было очевидно, что слова в этом диалоге теряют смысл: разговор велся на языке проективных идентификаций. Трудно, а порой и невозможно бывает справиться с теми содержаниями, что пациент помещает в тебя тончайшими невербальными средствами — интонацией, мимикой, жестом. Разумеется, речь в нашем случае не шла о примитивной защите, о внедрении в объект собственной «неприемлемой части», как предположили бы сторонники кернберговского понимания феномена: это была именно коммуникация, в которой нечто должно было быть мне сообщено. Здесь вспоминалась скорее теория Биона, или концепция проективной идентификации как способа слияния с объектом, поиска себя в нем, вызываемого потребностью в совместном переживании. Алиса сама как будто дремала, вспоминая детство или рассказывая сны; засыпал и я вместе с ней, становясь продолжением ее самой, позволяя охватить себя ее границами. Точно так же она делалась продолжением меня, кладя, как и я, ногу на ногу или подпирая ладонью щеку.
Как я уже упоминал, проективная идентификация в моем понимании есть путь к тому, чтобы быть услышанным без слов; донести до собеседника то, что невозможно вспомнить и рассказать, например, заставить его пережить пережитое тобой в глубоком детстве, не облекаемом в сознательные воспоминания. Пожалуй, вопрос, которым я задавался изначально — с какой целью пациентка пытается меня усыпить? — следовало изменить и спросить: почему я так сопротивляюсь тому, чтобы уснуть? Откуда берется мое желание не только проснуться, но и разбудить ее, приняв иную позу или другим способом обозначив границу между нами? Моя ли это тревога, или же ее собственная, исходящая из детского опыта? Или я испытываю то же самое нетерпение, с каким мать торопилась разбудить ее по утрам, чтобы отвести в садик? Наконец, является ли мое засыпание попыткой отстраниться от нее или, наоборот, соединиться с ней «в другом мире», за гранью реальности? Все эти вопросы, разумеется, оставались без ответов.
Уже около месяца пациентка посещала мой кабинет трижды в неделю, и было заметно, насколько этот процесс сам по себе необходим ей. Она напоминала
120
человека, утоляющего наконец долго мучившую его жажду. Заканчивала сессии она с видимой неохотой: «Я только-только себя здесь почувствую ребенком, которому все позволено, а подходит время — и все, вы со мной как со взрослой». Со стороны показалось бы, что ничего не происходит. Алиса ложилась на кушетку (работа теперь велась с кушеткой), говорила о своих мыслях и фантазиях, о жизни прошлой и настоящей — так, будто не ждала никаких ответных реакций; рассказывала сны, не требуя от меня их толкования. Я почти не вмешивался, лишь изредка задавал проясняющие вопросы; в остальном — слушал и молчал. Иногда мысли отвлекались на совершенно посторонние темы. Я не мешал им, зная уже, что любая попытка вернуться в «здесь и теперь» повлечет реакцию засыпания, справиться с которой будет непросто. Мое внимание было в подлинном смысле плавающим. На очередной сессии, однако, пациентка наконец заставила меня проснуться: она сообщила, что видела сегодня неприятный, отчетливо запомнившийся сон, который показался ей чрезвычайно важным. Она хотела наконец узнать, что я об этом думаю. Приведу далее небольшой фрагмент нашего диалога.
Алиса. Мне снилось, что я нахожусь в парикмахерской, где мне делают новую прическу. В парикмахере я узнаю преподавателя из моего института, но почему-то это меня совершенно не удивляет. У него в кресле, перед зеркалом, спиной ко мне сидит незнакомая женщина. Парикмахер показывает мне на нее и говорит: «Ты же ее хорошо знаешь». Я отрицаю это, он продолжает настаивать; тогда я раздраженно кричу: «При чем тут я? Вы же ничего не знаете, вы сами-то себя не можете узнать». Тогда он тоже смотрится в зеркало и говорит: «Я — это я». А я начинаю спорить с ним: «Нет, не вы; смотрите внимательнее». Вот и все, потом я проснулась. Что из этого можно извлечь?
Я. Вы уже знаете, чтобы понять сновидение, нужны ваши ассоциации к нему...
Алиса. Да, но я не знаю, с чего начать.
Я. Для начала могли бы вы сказать, отчего именно этот сон показался вам столь важным?
Алиса. Он какой-то странный... и неприятный. Мне редко снятся неприятные сны — такие, что хочется проснуться.
Я. Что в нем было неприятно?
Алиса. Чувство близящегося кошмара. Его еще нет, но он вот-вот накатит, буквально ниоткуда. Так и случилось бы, если бы я не проснулась... (Молчание).
Я (после паузы). Продолжайте, пожалуйста. Что-нибудь еще?
Алиса. Я не понимаю, почему вдруг этот человек оказался парик
121
махером. Не вижу никакой связи. Почему он вообще мне приснился? Я его едва помню, он у нас на первом курсе преподавал математику, никаких эмоций у меня не вызывал. Я должна была увидеть в этом сне кого-то... (Молчание).
Я. Должны были увидеть кого-то?..
Алиса. Это предчувствие кошмара появилось, когда он стал поворачиваться к зеркалу. Кажется, я могла заметить в зеркале лицо, но это было бы не его лицо, а... (Пауза). Все, дальше мыслей нет.
Я. Что можно было бы сказать о той женщине?
Алиса. Она незнакома мне... Больше ничего.
В тот раз мы недалеко продвинулись в понимании этого сна. Ассоциации Алисы поначалу были словно заблокированы: ей просто ничего не приходило в голову. Она долго не могла что-либо внятно сообщить по поводу преподавателя математики, пока не вспомнила вдруг, что его звали, как и меня, Дмитрием Сергеевичем; но это открытие еще никак не проливало свет на происходящее. Лицо в зеркале оставалось пугающей загадкой. В отношении женщины она продолжала настаивать, что та совершенно неузнаваема. Тогда я предложил Алисе попытаться мысленно нарисовать ее портрет, зная по опыту, что в его чертах непременно мелькнет нечто знакомое. На это пациентка некоторое время спустя сказала: «Никак не могу увидеть ее со стороны», и затем: «Мне кажется только, что она не похожа на меня».
Я. Следовательно, вы сравниваете себя с ней и, видимо, предполагаете, что могли бы быть похожи. Скажите, кого нельзя увидеть со стороны?
Алиса. Самого себя — если не смотреть в зеркало. Но если долго разглядывать свое отражение, начинает казаться, что видишь кого-то другого...
Я. Причем совершенно неузнаваемого. Мне сейчас вспомнилось, как удивленно вы сказали однажды, что сами себя здесь не узнаете...
Алиса. Да, меня удивило тогда, насколько мне просто было бы уснуть у вас на кушетке. Я была совершенно расслаблена, почти засыпала и не боялась этого, пока вы не спрашивали о чем-то...
Я. Мои вопросы заставляли этого бояться?
Алиса. Бояться — не вполне то слово... не знаю, почему оно вырвалось. Но когда вы их задавали, я сразу понимала, что сна на самом деле нет.
Я. То есть если вы не могли показать мне, что спите, то и сами
разуверялись в этом, не так ли?
122
Алиса. Да. Господи, это то же самое, что бывает по ночам, когда я стараюсь уснуть...
Принцип зеркала в психоанализе подразумевает коммуникацию, позволяющую пациенту видеть в аналитике лишь собственное отражение. Хотя пациент и не отдает себе в том отчета, именно сновидение способно иногда приблизить увиденное к порогу сознания: одна из функций сновидения состоит как раз в том, чтобы показать человеку происходящее с ним в ракурсе, недоступном бодрствующему сознанию, разумеется, в завуалированной форме. Алиса «не узнавала себя» не из-за непривычно расслабленного самоощущения — скорее, наоборот, из-за того, что я не отзеркаливал ее «маленькой» и «спящей», какой она склонна была себя чувствовать рядом со мной. Говоря «не боюсь засыпать здесь», она подразумевала «боюсь здесь не уснуть»; и, вглядываясь в свое отражение, видела незнакомое лицо, которое не позволяло переступить порог сна. С другой стороны, и я сопротивлялся узнаванию себя в пациентке, переживая засыпание как нечто чуждое себе и прилагая усилия, чтобы остаться в реальности. Сновидение сообщало нам об этом репликой: «Вы сами-то себя узнать не можете!». Однако что за «незнакомое отражение» не давало Алисе засыпать по ночам?
Как-то раз она отправилась с мамой гулять в парк культуры и отдыха, где среди аттракционов был павильон кривых зеркал. Поведя дочку к зеркалу, мать пошутила: «Вот такая ты и есть, узнаешь себя?» Она протестовала, злилась (как в сновидении в ответ на слова: «Ты ведь знаешь эту женщину!»); говорила: «Дома я в зеркале другая». — «Дома у нас зеркало кривое, — отвечала мама, — а это правильное». Вернувшись домой в тот день, Алиса долго рассматривала себя в зеркальном трюмо. В конце концов у нее и впрямь возникло ощущение, что видит она не себя. Она не знала, кто был перед ней. Пациентка вспомнила эту историю в связи со сновидением, вернувшись к нему месяц спустя. «По этой или какой-то иной причине, — сказала она, — но позднее я много думала о зеркалах: появилась мысль, что там другой мир, где мы видим себя иначе или в самом деле оказываемся другими. И что для тех, кто там обитает, зеркала — окна в наш мир...»
Глядясь в терапевта, пациент видит собственное отражение, хотя предполагает, что перед ним — реальный объект. Если долго вглядываться в зеркало, перестаешь узнавать свое лицо: оно начинает казаться чужим, незнакомым. Как все это похоже на то, что происходит во сне! Сновидение, как и зеркало, позволяет взглянуть на себя со стороны, увидеть то, что нельзя увидеть иначе, что недоступно для бодрствующего разума. Человек может не узнавать во сне себя, предполагать, что видит других людей, не отдавая себе отчета, что все они — его внутренние объекты, персонифицированные ментальные содержания.
123
Алиса с этого дня стала нередко делиться со мной фантазиями о своем Зазеркалье — «параллельном мире». «Все это и безумно притягивает, и пугает одновременно, — сказала она однажды, — сон и зеркало — как будто разные двери в одно пространство, перед которыми я всякий раз стою в нерешительности». — «Страшно войти туда, — добавил я, — но и страшно не суметь этого сделать». — «Я теперь понимаю, — ответила Алиса, — почему у меня тогда вырвалось слово „боюсь“. Вопросы, которыми вы меня останавливали, — это как предостерегающие оклики, когда я оказывалась на грани. Я боюсь, что, переступив ее, когда-нибудь не смогу вернуться назад».
Она произнесла это таким тоном, что мне стало не по себе. Ей будто и впрямь открывалось что-то потустороннее, что для дневного сознания недосягаемо. Помню, я даже произнес в ответ нечто рационально-разумное то ли про законы оптики, то ли про механизмы сновидений. Мне вновь хотелось уцепиться за реальность. Помолчав, она ответила очень спокойно лишь: «Может быть, с той стороны наша логика выглядит так же абсурдно?»
В ту минуту меня посетила мысль, что я имею дело с психотической личностью, вернее, что анализ коснулся психотического ядра. Не следовало ли остановиться? Но, с другой стороны, были ли у меня веские основания считать свою пациентку безумнее тех, кто верит, например, в загробную жизнь либо в переселение душ, или тех, кто подвержен суевериям? Вероятно, мое предположение диктовалось тревогой: как будто, пытаясь удерживать пациентку в моей реальности, я сам избегал к чему-то слишком приближаться.
В последующие дни Алиса уже иронизировала над своими фантазиями, словно почувствовав, что, по ее собственному определению, «забрела куда-то не туда»; ее поведение на сессиях стало теперь заметно менее регрессивным, ассоциации — более интеллектуальными. Но затронутый материал уже, как выдавленная из тюбика зубная паста, не хотел прятаться обратно. Было очевидно, что мы на пороге темы смерти, то есть жизни «по ту сторону» некоей грани. Ключевым моментом этой части работы стала сессия, на которой она рассказала сновидение о встрече с отцом. Вновь он не бьъ\ похож на свою фотографию в гостиной, и она спрашивала: «Почему ты на карточке не такой?» — «Потому что на ней я в другом месте, — говорил он, — а каким я тебе больше нравлюсь?» Ей следовало сделать выбор, и она чувствовала чудовищную тревогу: ведь в зависимости от ответа она навсегда осталась бы там или здесь.
«Я вспомнила еще одно, — сказала она, — когда отец умирал, мне говорили: не беспокой его, он отдыхает... но точно те же слова я слышала от мамы
124
прежде, когда он просто ложился спать. И зеркало, они тогда завесили зеркало черным покрывалом, а я безумно хотела заглянуть за него, чтобы увидеть то, что видеть нельзя... Но это было так страшно, что я не решилась».
«Как и в вашем сне про парикмахерскую, — сказал я, — но все же что это могло бы быть?»
«Я не помню, откуда у меня появилась эта мысль, может быть, я слышала от кого-то, что есть такая примета, или сама себе напридумывала... Как будто зеркало закрывают, потому что в нем можно увидеть того, кто умер».
«Да, так же, как вы видите умершего отца во сне. Переступить грань сна — это все равно что заглянуть за покрывало...»
«Да, он опять ускользнул от меня... за эту грань. Мне раньше не верилось в его смерть: я представляла, что он жив где-то, только стал выглядеть совершенно иначе. Я мечтала встретить и узнать его... — Она долго молчала. — Когда я пытаюсь заснуть и будто останавливаю себя, это так похоже на мои колебания в сновидении. Я не могу выбрать: остаться в жизни или пойти вслед за отцом».
«Вы...»
«Нет-нет, вы не поняли: это просто ассоциация, то, что пришло в голову. Я не собираюсь умирать, но спать и видеть сны — это так чудесно. Когда отец снится мне, я иногда понимаю, что сплю, но говорю себе: ну и что? Теперь он здесь, и здесь я могу видеться с ним...»
Опять было молчание; и молчали мы, как я чувствовал, не вместе — поодиночке, каждый о своем. Десять минут спустя по дыханию пациентки я понял, что она спит.
Мне пришлось разбудить ее к концу сессии, хотя и не хотелось этого делать. Кажется, она была немного смущена. В следующий раз, вернувшись к этому событию, она сказала, что я исчез для нее в те минуты, как и кабинет, и кушетка — вообще все. Она не помнила, что ей снилось, зато поделилась пришедшей позднее фантазией: она представила себя в центре сферы, зеркальной изнутри. «Я со всех сторон, — сказала она, — всюду одна только я». — «И вы узнаете себя?» — «Нет, ведь узнать себя можно, если есть с чем сравнивать; а там, кроме меня, нет совсем ничего. Но зато нет и проблемы выбора...»
В этой фантазии весьма легко угадывалось мироощущение младенца, который распространяет свое Я повсеместно, отрицая внешнюю реальность; возможно, даже младенца в материнской утробе. То же происходит с человеком во сне, где его либидо полностью оторвано от объектного мира: куда бы он ни глядел, он всюду видит одного себя, персонализированного во множестве образов сновидения. Пока мать
125
окружает будущего ребенка со всех сторон, он может безопасно спать. После неизбежно деление на себя и мир вокруг; зеркало размыкается, превращаясь из сферы в плоскость, отсекая реальность от отражения. Мать становится для младенца первым зеркалом, глядясь в которое, он обретает свою реальность, получает представление о себе как отдельном от объекта. Было похоже, что оставаться по эту сторону зеркала для Алисы означало быть рядом с матерью, сделать шаг в Зазеркалье — предпочесть мир отца; то есть пугавший ее выбор был по сути выбором между симбиозом и эдиповой привязанностью. Но как могло возникнуть ощущение неправильного отражения — того, что не позволяло ей утвердиться в своей идентичности и перешагнуть эдипов порог?
Анализ нашего взаимодействия в терапии со временем помог ответить на этот вопрос. Очевидно, мать Алисы отличалась повышенной боязливостью по отношению к девочке, точнее — к любым проявлениям ее индивидуальности, самости. Комфортнее всего она чувствовала себя, когда ребенок спал. При всех эмоциональных вспышках, капризах, других попытках добиться внимания она усыпляла дочь вместо того, чтобы отразить («Заворочаешься — я тебя покачаю, и ты опять засыпаешь»). Если ребенок испуган, рассержен, он вправе ожидать, что его эмоции будут адекватно отзеркалены матерью: «Ты испугался», «Ты сердишься» — что означает: «я тебя вижу, понимаю». В данном случае, однако, отклик в подобных ситуациях был иным: «Нет-нет, ты ведь не сердишься» (не боишься, и т.п.). Не желая просыпаться, чтобы отправиться в детсад, она слышала по-взрослому непререкаемое: «Ты уже большая девочка», — хотя таковой себя в те минуты не ощущала. Мама не была способна принять дочку как личность, со всеми ее радостями, потребностями, тревогами — она либо искала в ней собственное отражение, навязывала ей свою реальность, либо «фрагментировала» ее Я («Мама, я сегодня получила пять!» — «Хорошо, но почему у тебя ногти плохо подстрижены?»). Я предполагаю, что тот образ незнакомой женщины из сновидения о парикмахерской, с которым Алиса сравнивала себя, не видя сходства, и был «отзеркаливающим» образом матери. Отражаясь в нем, девочка не узнавала себя.
Перенос, долгое время определявший особенности нашего взаимодействия, имел структуру, достаточно сложную для всестороннего описания в рамках данной главы; я выделю лишь основные его грани. Пусть это станет еще одной иллюстрацией к тезису, согласно которому субъективность всегда представляет недифференцированный сплав реально имевшего место и желаемого, недосягаемого опыта отношений с целым кругом значимых для ребенка объектов. С одной стороны, обратившись ко мне за помощью, пациентка реализовала наконец фантазию о встрече с отцом,
126
который не умер, а просто стал «выглядеть иначе». Охотно ассоциируя и неуклонно соблюдая условия контракта, она демонстрировала детскую, подчиненную позицию, подстраховывалась от моего возможного «ускользания»: напомню, что исчезновения отца в детстве переживались ею как результат собственной непослушности, «плохо-сти». Позволяя себе «дремать» в моем присутствии, она показывала, что готова наконец переступить барьер, который не способна преодолеть ночью — то есть «прийти к отцу в Зазеркалье». В другом аспекте я оставался «контролирующей матерью». Алиса была послушно засыпающей дочкой, я — взрослым, радующимся, что ребенок не доставляет ему больших хлопот. Вместе с тем она искала и не находила во мне свое подлинное отражение. «Узнай себя!» — требовал я в ее сновидении и в кабинете одновременно, и слышал в ответ: «Дома я в зеркале не такая! Если наши зеркала кривые, как можем мы с Вами узнать себя, понять, кто мы есть?»
Сновидение о парикмахерской, возможно, требовало бы в контексте этой темы более пристального внимания, поскольку оно могло бы быть расценено как индикатор наших коммуникативных проблем. Как замечал Джузеппе Чивитарезе, сновидения, в которых аналитик предстает пациенту в своем собственном образе, свидетельствуют о неких трудноуловимых нарушениях аналитических отношений, чаще всего об уходе из них качества «как если бы». «Такие сновидения могут возникать в значимые моменты отношений, когда на карту поставлены поворотные пункты развития или возможности для психологического роста» (Чивитарезе, 2007, с. 81). Они говорят о необходимости коррекций сеттинга, который бессознательно воспринимается как искаженный, или при потребности избежать тупиковой ситуации; они представляют попытку проработать и разрешить то, что становится травматогенным в отношениях переноса и контрпереноса и проявляется на последней или нескольких последних перед ними сессиях — например, несвоевременные интерпретации, утрата аналитиком «внутреннего сеттинга» и т. д. Сновидение Алисы, вероятно, еще не было сигналом о грубом нарушении ситуации, поскольку мой образ был подменен в нем образом преподавателя математики, однако идентичность наших имен и отчеств могла бы позволить мне услышать ее тревогу по поводу того, что нечто подобное может произойти. К сожалению, в то время с мыслями Чивитарезе я еще не был знаком.
То, что и я также «не узнавал себя» в зеркале пациентки, может объясняться по-разному. Если взять за основу концепцию проективной идентификации Пордера, речь о которой шла выше, возможно, на особо глубоком бессознательном уровне пациентка сама идентифицировалась с матерью, стремясь усыпить меня потоком ассоциаций и не интересуясь моими ответным реакциями. Я испытывал
127
в эти минуты сильное желание проснуться, заявить о себе, завладеть вниманием, однако она лишь продолжала меня убаюкивать, чтобы я «не причинял хлопот». Неуклонное повторение жестов заставляло вспомнить о технике нейролингвистического программирования, и я только позднее понял, какие слова Алисы при этом маячили где-то на окраине моего сознания. Это были слова «мать навязчиво присутствовала рядом». Тревога, которую я ощущал, была тревогой ребенка, пытающегося уцепиться за реальность, как за соломинку. Если в моих представлениях о функции проективной идентификации есть рациональное зерно, можно допустить, что пациентка заставляла меня именно таким образом пережить и почувствовать то, чего она не могла вербализовать.
Другой вариант понимания заключается в том, что в рамках комплементарного контрпереноса я принимал материнскую роль и так же, как мать, навязывал пациентке реальность, отталкивал, пытался найти в ней себя вместо ее самой. Она копировала мои жесты, выказывая потребность в симбиотическом слиянии; я же сопротивлялся симбиозу — сменой позы, настойчивым желанием проснуться и разбудить ее, сухой интонацией реплики: «На сегодня все». Ее отклик на последнюю — «вы со мной как со взрослой!» — напоминал нам о мучительных пробуждениях «уже большой» девочки, которой пора, несмотря ни на что, отправляться в детский сад. Мать, препятствующая индивидуации ребенка, нередко под давлением псевдосоциальных норм подталкивает его к преждевременной сепарации: «В этом возрасте правильные дети не должны так липнуть к маме». Наконец, я не исключаю, что справедливы могут быть оба ответа. Все происходившее между матерью и дочерью было обоюдно, все — симметрично. Обе они смотрелись друг в друга, как в зеркало; обе искали друг в друге свою реальность и не могли отыскать.
Добавлю несколько слов о дальнейших событиях, хотя они и не имеют прямого отношения к теме этой главы и этой книги. Мы встречались с Алисой около полутора лет. Сновидение о парикмахерской, прозвучавшее на втором месяце нашей работы, за это время существенно расширило свой смысл. В парикмахерскую приходят для того, чтобы, обретя истинное Я, начать узнавать себя в зеркалах. Моя пациентка начала себя узнавать — все глубже. Ее перестало тяготить предчувствие бессонницы; ей удавалось засыпать без помощи снотворного, и не только под утро. Как я предполагал, улучшение было результатом анализа тревоги перехода к эдиповой ситуации, то есть шага за ту грань, откуда нет возврата к незавершенному самооб-ретению, к симбиозу. В настоящее время я сказал бы, что главным терапевтическим фактором в этом процессе стал все же перенос, вернее, его постепенное видоизменение. Алиса стала говорить о возможности скорого окончания терапии. Мы
128
планировали обсудить этот вопрос до конца года. Но уже на последнюю в ноябре сессию она не пришла.
Я упоминал, что анализ этот имел не вполне обычное завершение — по крайней мере, в моем восприятии. Алиса сообщила незадолго до нашей последней встречи, что ложится спать теперь без страха и спит так, будто отсыпается за всю предшествующую жизнь. В тот день я услышал от нее поразившую меня фразу: «Может быть, на самом деле я только сейчас просыпаюсь?». От попытки прояснить эти слова она уклонилась и больше не возвращалась к ним. Однако с тех пор я часто спрашивал себя: не были ли все мои версии и выводы всего лишь успокоительными рационализациями? Как бы ни отнеслись к этому мои коллеги и читатели, меня нередко посещает мысль, что наука, умея истолковать все на свете, далеко не все способна постичь. И, возможно, то, что мы в силу профессионального снобизма относим к разряду мистики или суеверий, в действительности просто недоступно имеющимся в нашем распоряжении средствам исследования? Кто знает наверняка, не расположен ли за гранью зеркала и за порогом сна иной мир, параллельный нашему, — мир со своими законами, гармонией и логикой, куда мы можем порой лишь мельком заглядывать? И не помог ли я Алисе, сам того не подозревая, переступить эту грань?..
ГЛАВА 6
О СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИЯХ ПЕРЕНОСА
Как в генезисе, так и в процессе переноса к проявляющим и обновляющим обстоятельствам аналитической ситуации следует относиться даже еще серьезнее, чем к прошлому и его частичному повторению, потому что возможность изменения, а следовательно, и будущего развития пациента и его болезни существует только в настоящем.
Хельмут Томэ,Хорст Кехеле
В первых строках главы 3 я упоминал, что мне нередко приходилось наблюдать загадочные трансформации изначального запроса, с которым пациент обращается к психоаналитической терапии; ситуации, в которых запрос этот со временем забывается им или, будучи удовлетворен, отступает на дальний план. В анализе Алисы проблема бессонницы практически до конца сохраняла свое значение как источник мотивации. Однако из вышеприведенного описания ее случая читатель может вывести, что данная мотивация едва ли была единственной: я не случайно обратил внимание на то, что эта женщина в процессе терапии словно утоляла долго мучившую ее жажду. Бессонница и в самом деле выглядела иногда лишь поводом для продления наших с ней отношений — отношений, в которых она получала возможность пригласить меня в мир своих снов, без страха глядеть в зеркала, узнавая себя; наконец, встретить и обрести «не умершего, а лишь изменившего внешность» отца. Могли ли эти потребности быть удовлетворены с помощью, например, снотворных препаратов? Я также попытался показать, какую роль в перенос-контрпереносном взаимодействии играет проективная идентификация и как это взаимодействие меняется по мере развития отношений. Данное изменение, на мой взгляд, было наиболее ярко продемонстрировано случаем, когда Алиса позволила себе уснуть: в определенном смысле этот эпизод имел значение, близкое к значению эпизода с сессией, на которой появился мой портрет.
130
Другое важное наблюдение было сделано некогда женщиной, о которой я также упоминал в начале главы 3 — женщиной, не понимавшей, за счет чего в ней происходят изменения. В рамках того же монолога, который я цитировал, она сказала следующее: «Удивительно: ведь я почти не говорила вам ничего такого, что не проговаривала до вас сама, наедине с собой, мысленно или вслух. И вы тоже нечасто произносили что-то, чего я не могла бы сказать себе и без вас. Но я становлюсь другой, и это может значить только то, что между нами творится нечто важное не на уровне слов».
Мне много раз приходилось слышать от своих пациентов вопрос, как правило, звучавший на ранних консультациях: «Что будет происходить в нашей терапии?», или: «В чем будет состоять суть этого процесса?». Долгие годы он ставил меня в тупик, так как я не обладал даром пророчества и никогда не мог заранее рассказать собеседнику, в чем будет заключаться суть и содержание моей работы именно с ним; я отвечал всегда, что предугадать это невозможно, поскольку среди проведенных мною анализов до сих пор не было даже двух, хотя бы отдаленно схожих между собой. Однако недавно, вновь услышав тот же вопрос от очередного кандидата, я неожиданно для самого себя нашел ответ, которым пользуюсь теперь в подобных ситуациях; и этот ответ, на мой взгляд, лучше всего позволяет объяснить сущность психоаналитического подхода к личности. Я ответил: «Психоанализ — это процесс общения, в ходе которого два человека сначала постепенно становятся очень нужны друг другу, а затем так же постепенно и спонтанно начинают чувствовать, что теперь могут друг без друга обойтись».
Уже упоминалось, что классически ориентированные специалисты, как правило, со значительным скепсисом воспринимают идеи о целительной роли аналитических отношений как таковых: последние в большинстве случаев рассматриваются ими лишь как фон, необходимый для развертывания интерпретативной активности. Пример тому — описанная выше реакция психоаналитического сообщества на замечание Гительсона о возможности структурных изменений за счет аффективной связи между аналитиком и пациентом. Однако в наши дни подобная возможность принимается во внимание все чаще, и, возвращаясь таким образом к вопросу о терапевтической значимости переноса, я хочу сразу заметить, что было бы чрезмерным упрощением говорить об этом явлении лишь как о «ключе», открывающем аналитику путь к инфантильным конфликтам или личностным дефектам пациента. Перенос в нынешнем моем понимании представляет феномен с важнейшими задачами и функциями; и именно незримое порой выполнение этих функций объясняет терпение, с которым пациенты проходят анализ, даже не видя «реального» результата в ближайшей перспективе. Речь здесь
131
идет прежде всего о тех особых формах или составляющих переноса, о которых было упомянуто в главе 2: о производных раннего единства матери и младенца. Я напомню, что Треурнит говорил о данных архаических компонентах отношений как о факторе, создающем в кабинете аналитика атмосферу «еще более материнскую, чем когда-либо созданная настоящей матерью»: «Аналитик... бессознательно признается первичным объектом, иначе зачем еще люди были бы так безнадежно увлечены прохождением аналитических сеансов... несмотря на все разочарование, утрату иллюзий..., если бы они в конце концов не получали базального удовлетворения?» (Treumiet, 1993, р. 890). Я упоминал также Столороу, Брандшафта и Атвуда, рассматривавших перенос как пример организующей активности, с помощью которой пациент ассимилирует аналитические отношения в тематические структуры личного мира; Левальда, который описал данное явление как развивающееся отношение с объектом в двух аспектах: удовлетворения потребности во взаимодействии психического аппарата с объектным миром и установления контакта между бессознательным и предсознательным. Кеннет Райх, комментируя концепцию Левальда, подчеркивал, что именно этот двойной аспект делает перенос творческим процессом (Райх К., 1999). Работы Рэкера в 50-е — 60-е годы XX века стали важной вехой в развитии идеи о том, что эффективное аналитическое взаимодействие подразумевает не только раскрытие бессознательных фантазий или убеждений, но и сотворение новой психической реальности в рамках эмоционально насыщенной коммуникации. Несмотря на определенную разницу в научных взглядах и приоритетах, все эти авторы сходятся в версии, согласно которой у пациента изначально существует потребность в переносе, и ее удовлетворение может обратиться во благо ему.
Мне кажется, что особого внимания в данном контексте заслуживает введенное Когутом понятие Я-объектного переноса, получившее затем новое развитие в работах сторонников «интерсубъективного» направления — переноса, с помощью которого пациент стремится воссоздать в отношениях с аналитиком некогда прерванные связи с первичным объектом. Вот что писали о его роли эти исследователи: «Термин „лечение переносом" традиционно употреблялся в уничижительном смысле как указание на то, что пациент „вылечился" под действием непроанализированного влияния бессознательной инстинктивной привязанности к аналитику. Нам же, напротив, хотелось бы подчеркнуть здесь вездесущую целительную роль, которую временами оказывает непроговоренное, непроанализированное Я-объектное измерение переноса. Мы считаем, что каждый несущий изменения терапевтический момент, даже связанный с интерпретацией сопротивления и конфликта, включает важнейший элемент Я-объектного лечения переносом» (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999, с. 70).
132
Речь идет об особой форме зависимости, активизирующейся в аналитических отношениях: Когут подчеркивал, что аналитик в данной ситуации становится не экраном для проекции психического содержания, а заменой этого содержания, и что подобная зависимость не может быть проанализирована или уменьшена, но ее следует просто понять и признать. Он же отмечал, что потребности, ищущие удовлетворения в рамках отношений такого рода, проявляются в переносах большинства пациентов (Кохут, 2003). Также Столороу с соавторами утверждали, что Я-объектный перенос есть измерение, приложимое ко всем без исключения формам переноса. Мой собственный клинический опытпозволяетмнебезусловносогласитьсясэтимтезисом:то,что «интерсубъективисты» назвали Я-объектным измерением, видимым или невидимым образом существует в отношениях всегда и является неотъемлемым компонентом любых взаимодействий, от эдипальных до психотических. В этом смысле аналитик и атмосфера его кабинета вкупе становятся тем, что Винникотт описывал термином «мать-среда» или «мать-окружение» — то есть пространством, способствующим возобновлению прерванных или заторможенных по той или иной причине процессов. Речь идет о том «психическом росте» или «развитии» личности в аналитическом взаимодействии, которого я касался в главе 3; и основой его становится связь, осуществляемая переносом.
Переходя далее к собственному взгляду на феномен переноса, я хотел бы сразу подчеркнуть, что мое видение ни в коем случае не подразумевает обесценивания иных представлений: я предлагаю не столько новое понимание этого явления, сколько новый ракурс, в котором оно может быть рассмотрено. Впрочем, назвать его «новым» можно лишь с натяжкой, поскольку, как будет видно далее, почти каждая высказанная мною мысль находит множество более или менее отдаленных созвучий в работах целого ряда авторов. Итак, для начала повторю: я понимаю перенос как процесс восприятия реальности через призму субъективности, или, другими словами, перенос является структурирующей основой реального восприятия. Здесь очевидна двойственность: в первом из этих определений речь идет о переносе как процессе, во втором — как об основе процесса. Обращаясь к примеру с магнитом и железными опилками, который был приведен в главе 3, я мог бы продолжить данную аналогию следующим образом: магнитное поле само по себе есть процесс, и оно же задает структуру распределения опилок вдоль своих силовых линий, то есть является основой этого распределения. С этой точки зрения перенос равномерно заполняет все коммуникативное пространство, не оставляя места для «абсолютно реального» и «объективного» восприятия. Аналитик в моем понимании работает не с «реакциями переноса», идентифицированными как таковые и отделенными от «реальных» реакций, а с целостным и сугубо субъективным восприятием себя
133
и всей аналитической ситуации со стороны пациента; в противном случае он находится в плену небезопасного заблуждения, как и тогда, когда забывает, что и сам он рассматривает пациента и аналитическую ситуацию исключительно через призму собственной субъективности. Говоря об исходно существующей потребности в переносе, я имею в виду очень простую вещь: потребность в субъективности видения, другими словами — потребность в иллюзии. Как отмечал Винникотт, реальность не может быть воспринята такой, какова она есть, без подстраховки иллюзиями; так, для ребенка именно вынужденное принятие реальности становится самой сильной травмой. Я полагаю, например, что одной из важнейших для каждого человека иллюзий является иллюзия бессмертия: если бы мы в полной мере осознавали конечность собственного бытия, мы утратили бы возможность активно жить и творить. Как известно из мифа, Персей не окаменел от взгляда Горгоны потому, что смотрел не прямо на нее, а на ее отражение в своем щите. Проблемы личности начинаются тогда, когда ее потребность в субъективности восприятия не получает того удовлетворения, в котором нуждается: например, встречает непонимание, осуждение или попытки нейтрализации, в том числе в форме интерпретаций «переноса» или «примитивных защит».
Термин «перенос» был введен Фрейдом для описания определенных реакций, рассматривавшихся им как «неправильные» или «неадекватные» и, следовательно, подлежащих четкому отделению от реакций «нормальных», «отвечающих реальности». Вероятно, если я отказываюсь от такой дифференциации, мне следовало бы заменить его другим термином, хотя бы «субъективность»; но я не стану этого делать и сохраню в дальнейшем тексте слово «перенос» как более привычное, рассчитывая, что читатель не забудет, какой смысл я в него вкладываю. Вслед за авторами «интерсубъективного» направления, чье понимание переноса очень близко моему, я стану рассматривать это явление с точки зрения множественности его функций и измерений. Мне кажется, что анализ отношений, возникающих в аналитической диаде, позволяет увидеть функции и задачи переноса в следующих главных аспектах: во-первых, он является инструментом поиска прошлого в настоящем, призванного превратить нечто непредсказуемое в предсказуемое. Напомню, что предсказуемость описывалась Винникоттом как важная характеристика того мира, в котором младенец способен нетравматично расстаться с переживанием всемогущества и принять реальность и свое место в ней. Во-вторых, он обеспечивает коммуникацию между фантазией и реальностью и, следовательно, открывает путь в область иллюзий, о ценности которых также сообщал Винникотт, — в сферу, становящуюся основой инициации «непосредственного опыта» (Винникотт, 2002). Перенос — явление, принадлежащее пространству между магической фантазией
134
и депрессивно окрашенной реальностью — как уже упоминалось, есть образец того, что Винникотт назвал «реальностью иллюзии»: «промежуточная область, принадлежность которой к внутренней или внешней реальности не обсуждается» (Winnicott, 1975, р. 242). И здесь мне представляется уместным вновь вспомнить Левальда, сообщавшего о неврозе переноса как порождении иллюзии — об игре, специфическое влияние которой определяется одновременным восприятием ее как реальности и как плода воображения; об игре, в рамках которой совместно двумя людьми заново вырабатывается внутренняя история жизни пациента (Loewald, 1975). Поэтому, в-третьих, перенос есть инструмент для благотворного влияния на прошлое, трансформации прошлого и сотворения новой реальности, другими словами, для утоления объектного голода, неутоленного в детстве. Вот то, что, с моей точки зрения, хорошо согласуется с описаниями переноса как творческого процесса. Этот последний и, по-видимому, наиболее важный аспект я раскрою теперь более широко.
Если мы обратимся вновь к случаям, описанным в предыдущих главах (г-н К., пациентка с портретом, Алиса), то нам будет легче заметить, что поведение пациента почти всегда может быть описано упрощенной схемой, в которую оно укладывается с большей или меньшей степенью очевидности. Пациент выражает желание устранения или облегчения своего страдания; пациент с определенного момента начинает вести себя таким образом, словно пытается затруднить терапевту выстраивание необходимой для этого коммуникации (здесь обычно принято усматривать сопротивление переноса, хотя, например, «усыпление», которому подвергала меня Алиса, едва ли может быть корректно описано этим термином); терапевт постоянно чувствует надежду пациента, что это затруднение будет преодолено. Такое впечатление, будто каждая из этих трех тенденций противоречит двум другим: препятствование отношениям не способствует излечению, желание излечения вступает в конфликт с потребностью в отношениях, так как с выздоровлением пациента последние, очевидно, будут прекращены. Однако (я вновь позволю себе эту параллель) почти такой же треугольник тенденций существует у альпиниста, совершающего восхождение. Ставя как будто целью достичь вершины, он выбирает для этого самый трудный маршрут (вместо того, чтобы, скажем, подняться на нее на вертолете); когда же вершина достигнута, испытывает наряду с торжеством странное чувство опустошенности, как бы осознав вдруг, что стремился-то он не к ней как таковой. Если же вернуться к аналитической ситуации, я предполагаю, что все три названные тенденции принадлежат (или, по крайней мере, касаются) области переноса. Я сказал бы, что в них проявлены три измерения пространства переноса, процессы в которых во всех трех
135
случаях имеют непосредственное отношение к прошлому опыту субъекта, но ни в коем случае не сводятся к его простому повторению — как уже было отмечено в третьей главе. Как и для физического пространства, эти измерения дают нам своего рода систему координат, позволяющую (разумеется, не в математическом смысле) определять точку «местоположения» субъекта в психической реальности на разных этапах развития отношений. Прежде чем я попытаюсь теоретически описать процессы, протекающие в этих трех измерениях, приведу небольшой фрагмент сессии.
Паииентка (в крайне возбужденном состоянии). Сегодня утром случилась ужасная вещь. У меня кончились деньги на балансе телефона, а мне надо было послать смс-ку подруге, и подвернулся один из двух телефонов мужа. Он иногда уходит на работу, оставляя один из них дома, и так было и сегодня. Я взяла его, отослала сообщение, и тут, не знаю, зачем... Меня будто кто-то за руку дернул... Я открыла сообщения, адресованные ему. И я поняла, что у него есть женщина. У меня давно возникали такие подозрения, но сегодня... Она пишет ему: «Я схожу с ума, я не видела тебя почти неделю». Потом: «Я хочу быть с тобой»... (Долгая пауза, слезы). И я... посмотрела сообщения, посланные им. На этот номер телефона. Он ей писал: «Сейчас не могу, наберись терпения». Называл ее котенком... Наверное, он просто забыл удалить все это из телефона, все это писалось вчера. Зачем я только... Я просто не знаю, как быть, что мне делать теперь... (Долгая пауза). Вы можете сказать, что мне делать? Я не знаю. Я хочу сохранить семью. Понимаете, ведь мне сейчас надо идти домой, а там... Что я ему скажу? Можете вы хоть теперь как-то помочь мне, что-то посоветовать? Две недели назад у меня появилось чувство, что вы не можете меня понять, вы так неопределенно хмыкнули, когда я рассказывала, как он нужен мне, как мне нужна моя семья — именно с ним... Я люблю его, а вы этим хмыканьем тогда будто намекнули, что нам было бы лучше расстаться. Неужели вы не понимаете, что для меня это был бы конец всему?.. (Слезы).
Терапевт. Я думаю, что вы правы. В тот раз, о котором вы вспомнили, я действительно под влиянием рассказа о вашей ссоре поддался чувству: у меня возникло желание спасти вас от мужа. Теперь я думаю, что эти отношения по-настоящему дороги вам.
Паииентка. То есть теперь вы понимаете, что развод невозможен? Ведь я вместе с этим человеком уже больше пятнадцати лет, у нас дочь, которая любит нас обоих.
Терапевт. Я понимаю, что вы сейчас переживаете возможность развода как катастрофу, после которой не будет ничего.
136
Пациентка. Да, это будет катастрофа.
Терапевт. И вы в панике.
Пациентка. Да, это паника, потому что я не знаю, как мне себя вести. Делать вид, что я ничего не знаю? Или сказать ему? Что я ему скажу? Можете вы хоть теперь дать мне какой-то совет, если вы меня действительно понимаете? Что мне делать?
Терапевт. Мне жаль, что я не всеведущ и не всемогущ.
Пациентка. Но неужели вы даже не... Скажите, а ваша жена когда-нибудь изменяла вам?
Терапевт. Я думаю, вы спрашиваете, вправду ли я способен почувствовать, насколько вам сейчас больно.
Пациентка. Хорошо, а если бы изменила и вы бы об этом узнали? Что на моем месте сделали бы вы?
Терапевт. Я убил бы ее любовника.
Пациентка. Я иногда не понимаю, когда вы шутите, а когда нет. Я же не могу так и в самом деле поступить. Вы это серьезно? Мне сейчас возвращаться домой, к нему.
Терапевт. Как видите, мой опыт для вас бесполезен.
Пациентка. Черт возьми, но как же быть мне? Что мне делать?
Терапевт. Я очень остро испытываю сейчас две вещи: желание немедленно вам помочь, что-то сделать, и одновременно полную беспомощность. Можете вы понять эти мои чувства?
Пациентка. Желание немедленно что-то сделать и беспомощность — это и есть то, что чувствую я.
Терапевт. Вы смогли передать это мне. И вы ведь не впервые переживаете это, не так ли?
Пациентка. Я не... Вы, наверное, хотите сказать, что о моей матери... То есть это тот случай с матерью, который я... то есть я думала, что случай... (Сбивается; несколько слов звучат невнятно). Это все сейчас как-то не так... слишком далеко.
Терапевт. Да, далеко, прошло тридцать лет. И очень близко, потому что так же, как теперь, вы были в панике и не могли понять, что делать, и вам казалось, что с мамой что-то произошло, что она попала под машину или ее кто-то убил, и случилась катастрофа, после которой не будет ничего, кроме черной пустоты...
Пациентка. Но тогда мама просто задержалась на работе, дело было просто в моей необузданной фантазии, а теперь... Конечно, в панике трудно принять решение. (Долгая пауза).
Терапевт. Мне кажется, какое-то напряжение отпускает нас обоих.
137
Пациентка. Мне все-таки после вас идти домой. Я не могу что-то советовать сама себе. Вы вообще никогда не даете советов? Интересно, почему? Или только советы типа «убить»? (Оба смеются).
Терапевт. Я могу дать совет только в одном случае: когда уверен, что он не повредит. Я не знаю вашего мужа лично — только с ваших слов. Мне известны случаи, когда распад семьи открывал перед ее членами новые дороги, даже при том, что сперва он воспринимался как катастрофа. Один совет я вам все же дам, вот он: когда поедете домой, попробуйте позволить разжаться пружине внутри себя. Попробуйте к себе прислушаться. Может быть, вы что-то услышите, что-то найдете внутри. И тогда чужие советы станут вам не нужны.
На следующей сессии пациентка сообщила о разговоре, который состоялся у нее с мужем в тот день. Ситуация была чрезвычайно трудной, и она имела свое продолжение, нелегкое для обоих супругов; но ко всему прочему пациентка сказала терапевту, что благодарна ему. Он словно был рядом с ней — и по дороге домой, и в течение всего разговора, и его невидимое присутствие помогло ей найти слова, ни об одном из которых она не может пожалеть.
Можно легко заметить, что данная беседа не была «подлинно аналитической»: ортодоксальный психоаналитик, вероятно, сохранял бы большую пассивность, не стал бы отвечать на вопросы пациентки, особенно фразами вроде «я убил бы ее любовника», и, очевидно, уделял бы максимальное внимание производным инфантильного опыта, активизировавшимся в нынешней ситуации, одним словом, предпочитал бы поддержке исследование. Заранее соглашаясь с этим, я предпочел заменить слово «аналитик» на «терапевт». Я привел этот фрагмент потому, что, как мне кажется, происходившее в данном диалоге хорошо иллюстрирует процессы во всех трех измерениях переноса; он по сути демонстрирует то, с чего начинается психотерапия и чем она завершается, и в определенном смысле является целостным анализом, сконцентрированным, сжатым до объема десяти или пятнадцати минут.
Первое измерение переноса обыкновенно наиболее отчетливо воспринимается в ходе первых встреч с пациентом: оно подразумевает восприятие терапевта как фигуры грандиозной и всемогущей, как бы воскрешающей архаичные родительские imago, и соответствующим образом более или менее ярко отражается в контрпереносе. Именно эта сторона восприятия проявляется в исходном запросе, который пациент озвучивает, впервые войдя в кабинет, и который выглядит иногда, как я отмечал выше, не более чем поводом для формирования коммуникации. В приведенном примере такой запрос заключается в настойчивом требовании пациентки «дайте
138
мне совет, что мне делать». Можно заметить, что в течение беседы он не то чтобы потерял актуальность, но будто несколько отодвинулся на второй план; по крайней мере, снизилась интенсивность его звучания, и в материале пациентки, помимо изна-чального слепого требования, стали появляться новые оттенки: интерес к личности терапевта, готовность понять и принять его чувства, способность хотя бы попытаться сопоставить прошлое и настоящее. Это означает, что развитие переноса продолжилось не только в первом измерении, но и в двух других, речь о которых пойдет впереди; часто случается и так, что именно два других измерения становятся главными в его эволюции, и тогда происходит то, о чем я упоминал в начале главы 3 — забывание или обесценивание исходного запроса. Первое измерение может быть описано с помощью прилагательного «функциональное» или «нарцисси-ческое», поскольку аналитик как отдельная личность в нем не присутствует: он интересен пациенту лишь как обладатель магического дара исцеления, то есть как функция. В этом измерении протекает и развивается большинство функциональных, как правило, краткосрочных отношений, в которых объект сам по себе не представляет для нас интереса: я имею в виду отношения с продавцом, у которого мы совершаем покупку, с нотариусом, заверяющим необходимый документ, и т. д. Я рискну добавить, что поиск, осуществляемый в этом измерении пациентом, обречен на неуспех, так как требование «вылечите меня» невыполнимо. Разочарование неизбежно, ибо на самом деле речь идет не об избавлении от симптома или получении волшебного совета, но о неутолимой жажде — поиске идеального состояния собственного Я, которое должен обеспечить идеальный объект.
(Я достаточно вольно, как читатель, должно быть, успел заметить, обращаюсь с понятием человеческого Я, используя его и там, где речь идет о чувстве себя или о том, что принято описывать термином «self», «самость», и там, где, возможно, следовало бы применить понятие Эго как основы личности или как интрапсихической инстанции в рамках структурной модели психического аппарата. Я делаю это намеренно, и делаю потому, что в большинстве случаев у меня нет ясного понимания, какой из терминов был бы наиболее уместен для описания сущности, о которой идет речь. Границы между понятиями Я, Эго или «самости» видятся мне, даже при их четкой теоретической дифференциации, весьма размытыми, и я предоставляю читателю самому определить и распределить для себя смыслы того, что здесь обозначено символом Я).
Второе измерение переноса в предлагаемой модели отчасти созвучно понятию «конфликтного» измерения, которое было введено интерсубъективной аналитической школой и противопоставлено «Я-объектному» в качестве силы, разрушающей диалог
139
(«интерсубъективисты» описывают перенос двумя измерениями). Аналитик помогает развиваться процессам в этом измерении, придерживаясь «парадоксальной позиции», описанной Дени — то есть одновременно предлагая себя пациенту в качестве объекта инвестиций и отстраняясь от этого инвестирования, другими словами, выступая как объект и вместе с тем антиобъект. Согласно Неро, на которого Дени ссылается, такая парадоксальная ситуация способствует развитию переноса как средства, позволяющего овладеть избыточным возбуждением (Дени, 2005). Я предпочитаю все же говорить не о развитии переноса в смысле его проявления, но об активизации процессов во втором из трех его измерений. Эти процессы наиболее удобно описывать, используя концепцию проективной идентификации. Происходящее во втором измерении нередко выглядит с большей или меньшей очевидностью как атаки пациента, выраженные в открытой ярости, в зависти, в неспособности доверять, в негативных терапевтических реакциях и т.д.; согласно определению Берда — попытки уничтожить аналитика, «представляющие в неврозе переноса собственные интрапсихические деструктивные сражения пациента, его попытки убить определенные аспекты себя самого» (Bird, 1972, р. 295). Де Беа и Ромеро характеризовали подобную ситуацию как «оккупацию настоящего прошлым»: «Анализанд будет стремиться использовать проективную идентификацию с целью... заставить психоаналитика попасть в паутину его экстернализованных психических конфликтов. Этими средствами он бессознательно пытается включить аналитика в свою защитную организацию, что в случае успеха... приведет к усилению патологии» (De Bea, Romero, 1986, р. 315). Мой взгляд совпадает с процитированным тезисом за исключением одного нюанса. Вопрос в том, что следует понимать под словом «успех», то есть какую цель в действительности преследует пациент.
Напомню, что мое представление о проективной идентификации как о сложном коммуникативном феномене (а не «примитивном защитном механизме») опирается на взгляды Биона и Пордера, чьи концепции, с моей точки зрения, хорошо оправдывают себя в клинической практике. Своего рода синтез этих взглядов позволяет представить проективную идентификацию как процесс, разворачивающийся одновременно на двух уровнях (их можно условно обозначить как предсознательный и бессознательный). На предсознательном, более очевидном, пациент манифестирует восприятие аналитика как доминирующей родительской фигуры, невербальными проявлениями заставляя его при этом реально видоизменяться до соответствия эк-стернализованным содержаниям. Он таким образом превращает непредсказуемое в предсказуемое (как упоминалось выше, в этом состоит одна из важнейших задач переноса). На бессознательном уровне он в то же время идентифицируется с садо-
140
мазохистическими аспектами поведения родителя и таким образом трансформирует объект в ребенка, переживающего опыт субъекта. Эти действия могут выглядеть как попытки взять реванш в не поддающейся вспоминанию травматической ситуации, но, на мой взгляд, они есть нечто большее: они являются для пациента средством сообщения аналитику о себе того, что не может быть сообщено с помощью слов, поскольку вытеснено или принадлежит области довербального опыта. Именно здесь аналитик встречается с тем, что принято называть сопротивлением и что мне кажется (как я упоминал в главе 4) более конструктивным понимать как послание. В приведенном выше клиническом фрагменте пациентка бессознательно транслировала этим способом терапевту свои переживания актуального характера, резонирующие с ее переживанием тридцатилетней давности (возможно, не единственным). Допускаю, что терапевт, на советы которого она возлагала в ту минуту последнюю надежду, отказом прямо удовлетворить ее запрос воскрешал чувство невосполнимой потери, охватившее ее, когда мать не вернулась с работы вовремя. Вопрос пациентки «Что же мне делать?», возникший в связи с предполагаемой изменой мужа, мог иметь второй смысл: «Что же мне делать, чтобы вы меня сейчас не оставили, чтобы вы все-таки дали мне этот столь необходимый совет?».
Я предполагаю, что именно с данным измерением коммуникации бывает связана большая часть реакций как конкордантного, так и комплементарного контр-переноса. Поэтому развертывающиеся в нем процессы могут служить важнейшим источником материала, способствующего пониманию переживаний пациента и реконструкциям его ранних объектных отношений в наиболее значимых аспектах. Мне представляется не вполне обоснованным утверждение Рэкера, согласно которому только конкордантный контрперенос носит «полезный» характер, в то время как комплементарный является «препятствующим», «обструктивным»: в дальнейшем я намерен продемонстрировать важность последнего на некоторых клинических примерах. Также я вновь подчеркну, что проективная идентификация служит структурирующей основой любых отношений, поскольку каждый из участников поведенческого диалога, всегда сопровождающего диалог вербальный, играет некую роль с целью достичь соответствия образа партнера собственной фантазии о нем: как отмечают, в частности, Томэ и Кехеле, ссылаясь на Мейснера, проективная идентификация «превращается в метафору, произвольно переведенную в термины «вмещающий» и «вмещаемый», которые применимы почти к любой форме отношений» (Томэ, Кехеле, 19966, с. 214). Однако она начинает все более деспотично подчинять себе эти отношения, когда пациент (или просто человек) болезненно переживает неспособность собеседника к восприятию и пониманию: так государственная власть
141
может быть внешне почти незаметна, пока государство живет в покое и довольствии, но ее активность становится очевидной для всех его граждан в период войны. Аналитик, разумеется, не может вовсе отказаться от роли, которую ему бессознательно предлагает пациент: это не в его силах. В его силах лишь не позволить происходящему выйти за рамки игры, то есть не допустить превращения проецируемых пациентом содержаний в часть своего Я. Именно последнее таило бы в себе опасность развития событий в направлении, описанном Де Беа и Ромеро: пациент ищет убежище в прошлом, заново переживая его как настоящее, и при этом теряет то, что в текущих переживаниях является новым. Проективная идентификация вынуждает аналитика запутаться в экстернализованных психических конфликтах пациента, что ведет обычно к усилению психопатологии (De Bea, Romero, 1986).
Очевидно, что проективная идентификация может стать важнейшим источником материала для реконструирования прошлого опыта пациента, а способность аналитика услышать и поддержать предлагаемый невербальный диалог — нередко единственным путем к становлению альянса. Некоторые вопросы стратегии и техники такого диалога были затронуты мной в главе 4, других я коснусь в следующих главах. Здесь замечу лишь, что в этой коммуникации крайне важную роль играет включенность аналитика чувствами и действиями — мимикой, жестом, взглядом, интонацией, — подразумевающая достаточную степень открытости перед пациентом, то есть реальность. Речь идет об описанных Балинтом «формальных элементах» поведения как проявлениях объектных отношений (Balint, 1950). О неоднозначности понятия реальности в аналитической ситуации говорилось выше; я добавлю к сказанному предположение, что восприятие пациентом аналитика как реального объекта непосредственно связано с проективными идентификациями и даже в определенном смысле детерминировано ими. Потребность пациента в реальности обычно наиболее отчетливо наблюдается в те периоды, когда он начинает активно интересоваться личностью аналитика, его семьей, представлениями, убеждениями, биографией и т. д. Томэ и Кехеле выражают по поводу данной ситуации точку зрения, согласно которой пациент старается глубже узнать своего аналитика ради идентификации с ним как с идеализированным объектом, и цитируют в этой связи Штерба: «Побуждение к такой идентификации исходит от аналитика... Идентификация с аналитиком основывается, во-первых, на желании пациента выздороветь, во-вторых, на позитивном переносе» (Томэ, Кехеле, 19966, с. 130-131). Не оспаривая эти тезисы, я предлагаю лишь взглянуть на процесс в ином аспекте: во многих случаях потребность в реальности наиболее ярко манифестируется пациентом именно на фоне глобального подчинения диалога проективной идентификации, что отмечалось и многими из моих кол
142
лег. Это выглядит скорее не как производная позитивных компонентов переноса, но как некая борьба с самим собой, как отчаянные попытки удержать образ аналитика от окончательного превращения в патогенную фигуру из собственного детства. Однако, как упоминалось выше, включенность аналитика в невербальную коммуникацию и поддержка диалога с его стороны подразумевает, что он открыт для экстернализуемых содержаний, доступен влиянию проективной идентификации и готов соответствовать реальности пациента, не навязывая взамен своей.
Третье измерение остается для меня наиболее гипотетичным и неясным, так как оно, по-видимому, не подразумевает реального объектного отношения, протекающие в нем процессы не могут быть обычным путем вербализованы, и я могу строить версии о сути последних лишь по некоторым их производным. Его можно условно обозначить как измерение «нового объекта» или «новых отношений», но я предлагаю следующее определение: в этом измерении ведется поиск потерянного объекта, от успешности которого и зависит в конечном счете результат терапии. Значимость взаимодействия с аналитиком как объектом реальным, успокаивающим, контейнирующим, отделенным от угрожающих родительских образов подчеркивалась многими авторами, но акценты при этом в большинстве случаев делались на интернализации объекта и нового способа отношений, на целительном влиянии непроговариваемого Я-объектного измерения переноса и т. д. Я же хочу сказать о другом. Течение некоторых клинических случаев из моей практики позволило мне ощутить, что все эти, безусловно, важные процессы не были бы достаточно эффективны, если бы пациент не пребывал одновременно в некоем состоянии поиска. Это — поиск объекта отношений, которых у него не существовало никогда; пролонгированная попытка обнаружить или сотворить истинно необходимый объект, не переживавшийся в реальности. В данном аспекте речь идет не столько о том, что аналитик дает пациенту нечто, сколько о том, что пациент создает нечто в своем аналитике; и именно этот нюанс позволяет говорить о происходящем в анализе как о реактивации «замороженных» в прошлом процессов. В клиническом фрагменте, где шла речь о женщине, заподозрившей мужа в измене, признаком развития событий в третьем измерении, вероятно, были ее слова благодарности в адрес терапевта. Я также полагаю, что подобная попытка созидания удалась и пациентке, нарисовавшей в ходе сессии мой портрет. В «обыденной» жизни пациента, то есть за рамками анализа, эти успехи обыкновенно проявляются в росте его креативного потенциала, например, в появлении склонности к художественному, научному творчеству, или в возникновении новых, прежде отсутствовавших, потребностей: человек, далекий от мира искусства, начинает испытывать интерес к театру, кино, литературе, трудого
143
лик, не мысливший себя вне мира работы, все чаще чувствует потребность в уединении на природе, и т. д. Как уже замечалось, при этом он не отдает себе внятного отчета, каким образом данное изменение произошло.
Почему я предпочитаю говорить о «потерянном», а не о «новом» объекте, если он никогда не существовал в действительности? Мне кажется, что человек испытывает потребность в гармонии мировосприятия и самоощущения, даже если ее не было в его реальном опыте и она не отражена в его сознании: данная потребность пронизывает всю психофизиологическую структуру индивида. Если человек стремится найти нечто, следовательно, он потерял. Мы можем допустить, что подлинно необходимый опыт отношений все же имел место в его прошлом, хотя бы во взаимодействии младенца, например, с «хорошей грудью» или с околоплодной средой как объектом балинтовской «первичной любви». Как замечал Этчегоен, «новый опыт» пациента всегда возникает на основе более раннего позитивного опыта или позитивных аспектов совокупности первичного опыта, даже если пациент об этом позитивном опыте ничего не знает: это предположение согласуется с идеей Уэлдера о множественной детерминированности психических актов (Этчегоен, 2005). Если исходить из данного предположения, то словосочетание «потерянный объект» выглядит более оправданным, но, на мой взгляд, сути это не меняет. Существовал и существует отсутствующий и в то же самое время жизненно необходимый ему объект. Позволю себе провести следующую параллель: на протяжении всей своей истории человечество ищет Бога потому, что без него в картине мира остается болезненно переживаемый пробел.
Похоже, что близкое по смыслу явление следующим образом описал Кейсмент: «Часто наблюдается постоянно присутствующая бессознательная надежда найти кого-то, способного отреагировать на соответствующие знаки пациента относительно необходимой помощи» (Кейсмент, 1995, с. 194). Кейсмент также подчеркивал, что у человека существует врожденный, органично присущий поиск того, что необходимо ему для выживания, роста и здорового развития. Если этот поиск безрезультатен или на его пути возникло неодолимое препятствие, рождается «патологическая» реакция; но даже при этом сохраняется здоровая «знаковая схема», указывающая на потребности, которые не были адекватно приняты в прошлом. При отсутствии структуры, в рамках которой пациент мог бы нормально преодолеть ключевые фазы развития, ему остается поиск такой структуры в отношениях с терапевтом — например, поиск пространства или отзывчивости. В этом состоит его первоочередная потребность, которая должна быть удовлетворена (Кейсмент, 1995). Еще один, возможно, близкий смысл обозначил в книге «Работа негатива» Андре Грин, заметив, что объект не создает влечений — он сам частично создан ими и является условием
144
их существования. Через проявляющиеся влечения создается объект, уже существующий, но прежде не воспринимавшийся: так, согласно концепции Винникотта, формируется «найденный-созданный объект» (found-created object) (цит. по тексту содоклада Виктории Потаповой к докладу Жан-Мишеля Кинодо в рамках конференции «Психоаналитик за работой» (Кинодо, 2004)). По поводу механизмов такого созидания едва ли можно сказать что-то уверенно, но, может быть, здесь было бы уместно вспомнить тезис Дэниела Стерна о формировании внутренних объектов из повторяющихся «малых паттернов взаимодействия». Стерн полагает, что эти объекты, названные им «репрезентациями обобщенного взаимодействия», — не люди, не части и даже не аспекты людей: скорее они конструируются из паттернов переживания самости во взаимодействии с другим (Стерн Д., 2006).
Я не исключаю, что слова «поиск» или «попытка создания» применительно к процессам, о которых мы сейчас говорим, использованы не вполне удачно, так как они подразумевают некую целенаправленную активность. Возможно, «потерянный объект» вызревает с течением времени наподобие плода в ходе беременности или «автономного комплекса», через понятие которого Карл-Густав Юнг объяснял феномен творчества — «наподобие некоего произрастающего в душе человека живого существа» (Юнг, 1992, с. 108). Для меня также остается открытым вопрос о «предтече потерянного объекта», о «семени», из которого он начинает вызревать, и я ограничусь понятием «потребность». Для «автономного комплекса» в концепции Юнга таким «семенем» становится архетип коллективного бессознательного, но архетип в моем понимании и есть потребность, реализуемая в процессе переживания и структурирования онтогенетического опыта — например, архетип Матери или Бога.
Происходящее в третьем измерении можно (с большой степенью приближения) соотнести с созиданием «нового объекта» в концепции Левальда. Напомню, что, с точки зрения этого автора, достигаемые в терапии структурные изменения личности пациента подразумевают возобновление развития его Я. Левальд описывал следующий парадокс: «Пациент стремится превратить новое объектное отношение в старое и в то же время сохранить это новое объектное отношение на различных этапах своего сопротивления» (Левальд, 2000, с. 303). Если пациент выдержит новое отношение, предлагаемое ему аналитиком, он сможет перевести невроз переноса в регрессивный кризис, который заставит его заново встретиться с инфантильными страхами и конфликтами. Левальд подчеркивал, что он говорит не об открытии новых объектов, а о новом открытии объекта: он использовал понятие «нового объекта» в том смысле, что пациент в коммуникации с терапевтом вновь открывает для себя наиболее ранние пути развития отношений, ведущие к формированию нового восприятия
145
объекта и самого себя. Он устанавливает контакт с терапевтом как с представителем реальности более высокого уровня; терапевт же предлагает пациенту себя как более зрелую личность, способную сочувствовать (чувствовать совместно с пациентом) и видеть в его переживаниях нечто весьма значимое (Левальд, 2000).
Если провести параллель между наблюдениями Левальда и предложенной мной «трехмерной моделью», можно сказать, что речь в приведенной цитате идет в сущности о развитии переноса во втором и третьем измерениях: «невербального диалога», то есть проективных идентификаций, и «поиска потерянного объекта». Но принципиальное различие между «новым объектом» и моим видением «поиска потерянного объекта» может быть упрощенно сформулировано следующим образом: «потерянный объект» не берется пациентом у терапевта, а создается им в терапевте. Как сообщал об этом Дяткин: «Регулярные встречи с аналитиком становятся настолько надежным внешним посредником инвестирования, что сам практикующий врач отступает на задний план. Скорее воображаемый, нежели воспринимаемый, он становится поддержкой (Курсив мой. — Д. Р.) психической активности другого» (Дяткин, 2005, с. 180). Речь идет не о пассивном получении необходимого, но об активном его сотворении, и именно данное обстоятельство придает аналитическому процессу самоценность, о которой я писал в главе 3. Альпинист создает свою вершину, восходя к ней; этого созидания не было бы, если бы он просто оказался на ней тем или иным способом. Как горный проводник не несет его на спине, но лишь обеспечивает страховку, так и терапевт не столько дает пациенту новый опыт отношений, сколько обеспечивает условия для появления этого опыта. Позволю себе использовать еще одно сравнение в стиле Роджерса: садовник помогает цветку вырасти, пропалывая и взрыхляя почву, но все-таки в первую очередь цветок растет сам.
Я полагаю, что процессы третьего измерения наиболее близки к происходящему в описанной Балинтом «области созидания»: «Здесь субъект предоставлен самому себе, и главная его забота состоит в том, чтобы сотворить нечто вне себя самого. Нечто, что должно быть создано, может быть, хотя и необязательно, объектом» (Балинт, 2002, с. 39). Протекающие в этой области психические процессы реализуются в произведениях художественного творчества (наиболее яркий и частый пример), в математических и философских изысканиях, во всех сферах, где требуется постижение и понимание; здесь же формируются предпосылки психических и физических расстройств. Балинт подчеркивал, что мы очень мало знаем об этой области, поскольку в ней не существует внешних объектов и отношений, и аналитик оказывается ограничен наблюдениями за субъектом, который уже покинул ее пределы. Анализ становится возможен лишь тогда, когда появляется объект, например, в виде произведения
146
искусства или новой мысли — того, о чем можно говорить словами. Поэтому, описывая пациента в рамках «области созидания», Балинт характеризовал данную ситуацию как неподвластную техническим средствам аналитика: «Мы не можем быть вместе с ним (Пациентом. — Д. Р.), когда совершается работа созидания, но мы можем быть с ним в моменты до этого и сразу после этого, и вдобавок мы можем наблюдать за ним снаружи, когда он совершает эту работу» (Балинт, 2002, с. 42—43). Он добавлял также, что субъект в этой области не совсем одинок: в ней присутствует некая «предтеча» или «зародыш» создаваемого объекта — «протообъект» или «объект-эмбрион», который настолько примитивен, что не может быть назван целостным или организованным. Только когда завершена работа созидания, он обретает структуру и целостность, открывая возможность вербальных, то есть эдиповых, интеракций с ним. Возможно, интеракции более примитивного уровня происходят всегда, но их трудно исследовать и тем более адекватно описать (Балинт, 2002).
Не вполне понимая, что из себя представляет «протообъект», я предпочитаю все же говорить пока о «потребности». Я согласен, что эти, может быть, наиболее важные для терапии процессы вынуждены протекать в основном без нашего участия, и именно поэтому я говорю об измерении, в котором ведется поиск «потерянного объекта», как о не подразумевающем реальной объектной связи (сколь ни парадоксально это звучит). Мне кажется, кроме того, что здесь обозначается некая параллель с идеей Винникотта о формировании объекта: младенец переносит созданный фантазией объект за пределы своего Я (в концепции Винникотта это «использование объекта») и затем позволяет ему существовать в качестве Не-Я. Субъект образует связь с объектом (то, что происходит, согласно моему представлению, в первом измерении); уничтожает объект (во втором измерении); убеждается, что объект выжил и позволяет строить с собой нормальные отношения. Заметим, что, говоря о первом шаге к реальности, Винникотт ведет речь не об отношении к объекту, а именно о его использовании (Винникотт, 2000). Для такого использования объекту надлежит быть реальным, а не просто воплощать проекции пациента; иными словами, объект должен быть.
Развивая тезисы Винникотта об аналитике как переходном объекте, Грегорио Кохон писал о значимости его «постепенно нарастающего отсутствия», достигаемого путем интерпретативного разрешения переноса. С точки зрения Кохона, успех анализа определяется не идентификацией пациента с аналитиком или интроекцией последнего, а обретением пациентом способности оставаться в одиночестве, важность которой для зрелой личности подчеркивал Винникотт. Пациенту следует в ходе терапии принять тот факт, что первичный объект — это объект, который никогда
147
не будет найден (Kohon, 1986). Если я правильно понимаю мысль Кохона, то не могу принять ее без значимой оговорки: на мой взгляд, то, что этот автор называет «нарастающим отсутствием», есть на самом деле все более нарастающее присутствие — не как функции, но именно как объекта отношений. Пациент использует терапевта, чтобы создать новый объект: снова подчеркну, что он не берет этот объект у терапевта (что действительно означало бы для последнего стать «отсутствующим»), а использует его как благотворную питательную среду. Он выращивает «потерянный объект» в терапевте; можно сказать, что он создает «потерянный объект», глядясь в терапевта, как в зеркало. Последовательность действий человека, подходящего к зеркалу, может быть описана следующим алгоритмом: 1 — он приближается к нему в предсознательной надежде узреть идеал, соответствующий самовоспри-ятию; 2 — он злится на зеркало или на свое отражение в нем, видя то, что видит; 3 — он приводит свою внешность в порядок, достигая, насколько это возможно, соответствия искомому идеалу. В принципе, это и есть процессы в трех измерениях переноса. Если Левальд говорит, что новый объект существует постольку, поскольку он делает нечто, то я полагаю, что объект сперва существует. Ведь и объект патогенный, в который пациент превращает терапевта во втором измерении, сперва появляется, а уже потом совершает нечто разрушительное в отношении субъекта.
К тезису, согласно которому перенос представляет феномен, активизирующийся в точке взаимодействия прошлого и настоящего, я добавил бы: и будущего. Процессы, протекающие в трех его измерениях, приводятся в действие прошлым, настоящим и будущим субъекта одновременно. Активность «функционального» измерения всецело обусловлена настоящим (сиюминутной потребностью); невербальная коммуникация, разворачивающаяся во втором измерении, детерминирована прошлым; наконец, поиск «потерянного объекта» устремлен в будущее. Таким образом, перенос — вневременное явление, в котором прошлое, настоящее и будущее, взаимно воздействуя друг на друга, позволяют достичь большей, чем прежде, гармонии между собой, согласованности и привлекательности. О модификациях прошлого под влиянием настоящего в ситуации анализа сообщали многие авторы: психоаналитический метод открывает психическую реальность прошлого, которая, в отличие от реальности физической, изменчива. Одной из главных целей анализа поэтому является новая концептуализация фактов прошлого (Etchegoyen, 1982; Treurniet, 1993). Настоящее при этом также рассматривается не как объективная реальность, независимая от прошлого, а как продукт анализа и реальность психическая; аналитик размышляет с вневременной точки зрения, рассматривая факты «здесь и сейчас» как согласованную вневременную версию прошлого и настоящего. То, что ранее описи-
148
валось термином «терапевтическая регрессия», впоследствии стало признаваться как особый тип развития личности: в аналитическом процессе возникает вневременная форма опыта и понимания, способствующая этому развитию. Прошлое при этом появляется как никогда ранее не переживавшееся, а настоящее становится таким, каким оно не могло бы стать без анализа и без этого прошлого (Schafer, 1982). К сказанному можно добавить, что и будущее также возникает и трансформируется в анализе как психическая реальность, и оно непосредственно зависит от тех изменений, которым подвергаются прошлое и настоящее. Как я уже замечал, аналитик не может быть непосредственным участником процессов, протекающих в измерении «поиска потерянного объекта», и прямо влиять на них, ускоряя или регулируя; в его силах лишь обеспечивать и поддерживать коммуникацию с пациентом, структура которой задается проективными идентификациями, то есть взаимодействовать во втором измерении. Но именно от этой коммуникации, по-видимому, и зависит развитие переноса в третьем измерении: если аналитик способен понять язык пациента и поддержать диалог на этом языке, поиск будет осуществлен и, возможно, успешно завершен.
Выше я упоминал, что второе измерение переноса в моем понимании созвучно «конфликтному» измерению, описанному «интерсубъективистами»; приблизительное созвучие при желании можно уловить и между понятиями Я-объектного измерения и третьего измерения в предлагаемой мной модели. Тем не менее есть принципиальная разница между «интерсубъективным» видением происходящего в этих измерениях и моим. Сторонники интерсубъективного подхода сообщают, что отнош ения в анализе подвержены неизбежным колебаниям между двумя полюсами переноса — конфликтным и Я-объектным; когда одно из измерений выступает на первый план, второе «уходит в тень». При манифестации конфликтного измерения пациент переживает неспособность аналитика обеспечить необходимые Я-объектные функции, и рождается сопротивление появлению центральных Я-объектных потребностей. Важнейшей составляющей работы при этом становится интерпретативное истолкование бессознательной организующей активности пациента, что ведет к структурной реорганизации. Когда манифестируется Я-объектное измерение, происходит не реорганизация, а формирование психической структуры в контексте специфической связи между пациентом и аналитиком, то есть возобновление прерванного развития. Я склонен предполагать, что на самом деле этих колебаний нет или они существуют только во внешних проявлениях, то есть измерения переноса функционируют всегда синхронно. Так, пациент может превращать аналитика в объект яростных атак, обвинять его, делать мишенью насмешек и так далее; но в этих действиях одновременно присутствует и потребность в том, чтобы аналитик выдержал все и сохранился. Едва
149
ли справедливо утверждать, как делают Столороу, Брандшафт и Атвуд, что в это время Я-объектное измерение затруднено или аннулировано тем, что пациент воспринимает как актуальный или приближающийся Я-объектный провал со стороны аналитика. Разумеется, мое предположение усложняет поиск ответа на вопрос, в какие периоды успех анализа требует интерпретаций, а в какие — лишь эмпатийного понимания и принятия потребностей пациента: к данной проблеме я еще вернусь.
Чтобы прояснить, что я имею в виду под развитием психических процессов в каждом из трех названных измерений, приведу гипотетические примеры. Ситуация, в которой данное развитие происходит только в первом, «функциональном», измерении, очевидно, могла бы выглядеть следующим образом: аналитик и пациент ведут беседы об актуальных проблемах последнего, в этих беседах звучат здравые рассуждения, фигурируют конкретные советы и рекомендации, восприятие собеседника не выходит за рамки уважительного отношения («Возможно, корни вашей тревоги принадлежат той драме, что разыгрывалась в вашем детстве между вами и матерью?» — «Да-да, вы, конечно, правы, это вполне возможно»). Если психические процессы развиваются лишь во втором измерении, аналитическая ситуация начинает напоминать поле битвы: все ее нюансы определяются такими переживаниями, как влюбленность, недоверие, ярость, зависть, другими негативными и позитивными чувствами, причем аналитик в данном случае явно неспособен избежать идентификации с проецируемыми содержаниями. В обоих этих случаях взаимодействие, говоря языком Винникотта, теряет качество игры, и анализ оказывается обречен на скорое и безуспешное завершение: в первом — в связи с пониманием пациентом того, что, кроме умных мыслей и советов, он едва ли сможет получить что-то ценное от аналитика; во втором — комментарии излишни. Что касается третьего измерения, то, по-видимому, представить картину развития переноса только в нем одном невозможно: оно слишком тесно связано с процессами, происходящими в двух вышеназванных. Такое развитие выглядело бы само по себе как некая магическая метаморфоза, происходящая с человеком за счет одного лишь физического присутствия собеседника. Но в действительности, как было сказано, перенос всегда существует и эволюционирует во всех трех измерениях, и его судьба зависит от того, как аналитик станет обращаться с тем, что происходит в первых двух.
Напоследок вновь затрону тему содержащегося в переносе креативного начала. Брайан Берд, описывавший перенос как силу, противостоящую вытеснению и дающую пациенту возможность использовать прошлое в настоящем, называл в качестве одной из его функций активизацию способности к синтезу и творчеству. Как упоминалось выше, и Левальд сообщал о «творческом повторении» в переносе, которое необходимо
150
отличать от «навязчивого повторения»: оно представляет реорганизацию самых ранних жизненных переживаний любви, и именно оно делает аналитика «новым объектом». Я вполне согласен с данными тезисами, как и с идеей Балинта о креативности субъекта в «области созидания»: на мой взгляд, процессы третьего измерения подразумевают реализацию творческого потенциала. Возможно, Винникотт вкладывал близкий смысл в тезис о формировании нового опыта в условиях, обеспечивающих хаос — временную и обратимую дезинтеграцию личности, бессвязность и бесформенность происходящего в аналитическом кабинете (Винникотт, 2002). Новая структура не способна возникнуть из старой непосредственно: между ними всегда присутствует стадия хаоса. Хаос — то, из чего может начать произрастать нечто новое; эта стадия в успешной аналитической терапии неизбежна, и одна из главных задач аналитика состоит в том, чтобы создать условия для ее наступления. Эта задача и решается во втором измерении переноса с помощью описанной Дени «парадоксальной позиции» на фоне понимания, принятия, незащищенности и неразрушимости. Обыкновенно главным индикатором того, что эта стадия достигнута, становятся такие слова пациента, как «я не знаю, зачем прихожу к вам, но не могу отказаться от этого», «я перестал понимать, что между нами (со мной) происходит» (что означает «я ожидал волшебного избавления от боли и одновременно привычного для себя болезненного сценария отношений»), а также частичная утрата им ориентации во времени: например, ощущение «бесконечной» сессии, возникшее на ее десятой минуте, или, наоборот, звучащая при ее завершении фраза: «мне казалось, что прошло не больше пятнадцати минут».
Добавлю к сказанному, что процессы в третьем измерении, по-видимому, могут протекать достаточно долгое время без внешних проявлений. Ситуация, в которой в аналитической работе месяцами «не наблюдается динамики», может оказаться в итоге наиболее результативной: возможно, в это время формируется «из ничего» потерянный объект. Я не полагаю, что это происходит с неизбежностью в каждом случае, поскольку творчество не подразумевает заданного результата. Как сообщал Балинт по поводу «области созидания», исход процесса, преобразующего «протообъект» в полноценный объект, непредсказуем: «Нам неизвестно, почему этот процесс успешно завершается в одних случаях и заканчивается неудачей в других» (Балинт, 2002, с. 41). Поэтому даже самый благоприятный прогноз на основе интервьюирования потенциального пациента не гарантирует успеха в предстоящей работе. От терапевта здесь зависит обеспечение оптимальной «питательной среды» для формирования объекта: в этом, на мой взгляд, состоит условие, на фоне выполнения которого могут решаться другие терапевтические задачи. Позднее я поделюсь некоторыми мыслями о возможной методологии и технике этого процесса.
ГЛАВА 7
ПЕРЕНОС И ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ФАНТАЗМ
Весьма нередко приходится слышать о том, что ведущие технические принципы психоанализа — пассивность аналитика, абстиненция, анонимность и т. д. — призваны «способствовать развитию переноса». Точно так же в докладах психотерапевтов в ходе конференций или супервизий иногда звучат фразы наподобие «перенос сформировался на втором месяце терапии» или «пациент неспособен к переносу» (последнее, видимо, подразумевает наличие глубокой нарциссической патологии). Мне кажется, что такие утверждения не вполне корректны: слова «развитие» и «формирование» следовало бы заменить в них на «проявление» или «манифестацию». Работая с пациентом, терапевт создает условия не для «возникновения» переноса, а лишь для того, чтобы он сделался наглядным; и даже не он как таковой, но то, что происходит во втором его измерении. Сам перенос существует изначально и играет не последнюю роль в решении человека обратиться к психоаналитику; однако, пока он еще не направлен на реальный объект в лице последнего, то есть остается преимущественно интрапсихическим феноменом, для него правильнее будет предложить иное наименование. Позволю себе использовать для его обозначения термин «преаналитический фантазм».
Я начну эту главу с истории, которая на первый взгляд может показаться почти анекдотической. Однажды мне позвонила некая женщина; заявив крайне напористым тоном, что ей необходима консультация, она сразу вслед за тем выразила убеждение, что большинство психотерапевтов являются шарлатанами, и попыталась подвергнуть меня настоящему допросу, начав с того, имеется ли у меня ученая степень и каков мой рабочий стаж. Я остановил ее, объяснив, что на все вопросы предпочел бы ответить на очной встрече, и предложил прийти ко мне через четыре дня. Она нехотя согласилась, однако за несколько часов до назначенного времени позвонила вновь и категорично сообщила, что в моей помощи больше не нуждается. «Что ж, — сказал я, — нет так нет, но в чем причина столь радикальной перемены
152
решения?» На это она ответила: «Все эти дни, пока я ждала, я мысленно разговаривала с вами. И вы при этом говорили мне такие вещи и таким тоном, что стало ясно: вы меня никогда не поймете, и рассчитывать на вас я не могу».
Я еще раз подчеркну: случай этот анекдотичен только на первый взгляд, так как ясно было, что манера моей собеседницы, определяемая ее субъективностью, повлияла на мои интонации, модуляции голоса, содержание произносимых фраз; все это было ею воспринято, и ее «мысленный разговор» со мной развивался как экстраполяция данного восприятия. Но, возможно, именно он стал для меня импульсом к размышлению о том, что происходит в душе человека между появлением первой мысли о необходимости обращения к психотерапевту и первой встречей с ним. В моей памяти сохранился собственный опыт ожидания начала анализа, несмотря на то, что прошло более десяти лет. Я помню, сколь сильно было мое воодушевление от осознания того факта, что я стану проходить свой второй анализ у зарубежного профессионала с огромным опытом («зарубежного» для меня в те годы означало «настоящего», опыт же его был огромным по той простой причине, что другим он быть, конечно, не мог). Я предвкушал инсайты и озарения, вызываемые его будущими немногословными и точными интерпретациями, и все сильнее беспокоился о том, смогу ли я быть перед этим все видящим насквозь человеком полностью искренним и устою ли перед соблазном уберечь от его внимания наиболее личные темы и секреты. Я уже слышал холодные интонации, с которыми он произносит: «Вы чего-то не договариваете! Я не смогу работать с вами, пока вы не будете откровенны со мной!», или, если я решаюсь на полную откровенность: «Как это неблагоразумно и смешно! Вам непременно и как можно быстрее следует отказаться от подобного поведения!». Я даже не успевал заметить, как мой поначалу мудрый и все понимающий собеседник превращался в моем представлении в жестокого критика и цензора желаний, поступков и фантазий. Когда настал день и я вошел в кабинет, меня встретила улыбчивая, располагающая к себе женщина; я испытывал немалое волнение и растерянность и, вероятно, поэтому спросил: «Мне сразу ложиться на кушетку?» Она рассмеялась и сказала: «Вам так не хочется меня видеть? Может быть, сначала просто поговорим?» С этого началась работа, длившаяся восемь лет.
Можно таким образом сказать, что еще задолго до фактического обращения к терапевту, возможно, с первой мысли о его необходимости, человек уже пребывает в терапевтической ситуации: вольно или невольно у него формируется представление о будущем процессе, и одним из наиболее важных для него становится вопрос: «Каким будет мой доктор и как все будет происходить?». В фантазиях он репетирует паттерны взаимодействия; фрустрация ожидания активизирует сопротивление.
153
Он сознательно или неосознанно ждет от терапевта волшебства; данная фаза нередко сменяется фазой неверия в возможность помощи. Нередко в этом обстоятельстве кроется причина того, что, уже договорившись о встрече, потенциальный пациент неожиданно (иногда и для самого себя) отказывается от нее. Однако именно этот «преаналитический» период, если кандидату удается его успешно преодолеть, может оказаться источником важного материала, дающего аналитику своего рода запасной ключ к пониманию сопротивления и переноса. Если сравнить психоаналитический процесс с исследованиями археолога, реконструирующего древнюю культуру по отдельным фрагментам жилищ, останкам кухонной утвари и оружия, то переживания и фантазии преаналитической фазы могут быть уподоблены найденной им фреске или барельефу с изображением жизни и быта той эпохи. Приведу в качестве иллюстрации клинический фрагмент.
Однажды ко мне обратилась женщина, испытывавшая, по ее словам, боль от «беспробудного одиночества» и как будто понимавшая, что причина его кроется не только в объективных обстоятельствах. Я предложил ей предварительную беседу через неделю, в определенный день и час. Она согласилась, однако накануне назначенной даты прислала сообщение со следующим текстом: «Дмитрий Сергеевич, к сожалению, из-за проблем на работе прийти к вам завтра не смогу». Вопроса об альтернативной возможности встречи в тексте не было. Я ответил ей сообщением, содержавшим одно слово: «Понимаю». Через пять минут она написала: «Вы меня раскусили. Я приду».
Она ощущала себя плохой. Быть плохой в ее понимании означало быть нужной для окружающих только из соображений конкретной пользы, которую она могла бы им приносить. Ради этого она всегда готова была отказываться от собственных интересов, желаний, перспектив, по сути — от своего Я. Главным ее жизненным вопросом всегда был вопрос о том, не причиняет ли она кому-нибудь неудобств самим фактом своего существования. Легко догадаться, насколько тщательно она следовала с самого начала договоренности о границах нашего взаимодействия. Она соглашалась со всеми моими пожеланиями, аккуратно платила, начинала и заканчивала сессии всегда вовремя и много рассказывала о себе и своей жизни, причем в том, как она это делала, была характерная особенность: я не мог уловить в ее интонациях даже оттенка надежды на помощь с моей стороны. Она говорила, глядя в сторону или себе под ноги, как бы не замечая моего присутствия, наедине с собой. Она не столько предъявляла запрос на улучшение, сколько констатировала печальный жизненный итог. В этой коммуникации мне отводилась роль наблюдателя, но не собеседника. Более того, если я заострял внимание на текущем
154
моменте, например, спрашивал о происходящем между нами или вслух замечал, что она словно оберегает меня от чего-то, она пугалась и отвечала лишь: «Я не знаю». Я чувствовал себя исследователем, перед которым оказался любопытный материал для анализа, и только; материал, покорно предоставляющий себя и при этом лишенный права чего-то ожидать и на что-либо претендовать.
Эта женщина родилась внебрачным ребенком от случайной связи, что считалось позором в этнической группе, к которой она принадлежала. Когда мать забеременела ею, то отказалась от аборта только из религиозных соображений. В дальнейшем дочь непре-станно чувствовала себя бессильной, отвергнутой обществом и бесправной. Она обратилась в анализ с давно сформированным представлением о том, как ей следует вести себя, чтобы терапевт был ею доволен: он станет хорошо с ней обходиться лишь при условии, что она будет абсолютно идеальна в его глазах. Эта тема стала доступна для проговаривания спустя несколько месяцев. Я спросил, появилось ли у нее теперь ощущение, что желаемое достигнуто. Пациентка ответила, что даже сейчас ей страшно сказать «да» и на этом успокоиться, и впервые сообщила, что на первой нашей встрече я сам оказался настолько не соответствующим ее ожиданиям, что она почти отказалась от намерения пойти ко мне в анализ. Если бы мое односложное телефонное сообщение не продемонстрировало ей способности к пониманию, она не стала бы больше звонить.
Она рассказала в дальнейшем, что, когда впервые задумалась о необходимости психотерапевтической помощи и обратилась в поисках вариантов к справочнику, ее выбор остановился на институте психоанализа. Однако еще долгое время после этого она откладывала первый шаг. Тревога перед неизвестностью побуждала ее сначала хоть что-то узнать о психоаналитическом методе. С этой целью она приобрела несколько весьма разнородных книг, от «Толкования сновидений» до «Клиент-центрированной терапии» Роджерса, и, по ее словам, вынесла из их чтения чувство «полного мозгового хаоса». Наиболее понятной для нее оказалась книга о жизни Фрейда (автора которой ей вспомнить не удалось). Поскольку Фрейд, вне всяких сомнений, являлся центральной фигурой в психоанализе, воображение стало рисовать ей будущего аналитика именно в его облике. Доктор Фрейд был безусловно гениален, проницателен и настолько умен, что ему ничего не стоило разложить ее проблемы по полочкам и объяснить их природу в терминах либидинозной теории. Разумеется, после этого они должны были уйти.
Тревога ее тем не менее не отступала, наоборот, усиливалась. Пациентку пугала, во-первых, необходимость (как она сама выразилась) «выворачивать наизнанку перед мужчиной свою сексуальность». Во-вторых, пристрастие Фрейда к ко
155
каину заставляло ее задаваться вопросом: можно ли доверять методу, изобретенному наркоманом? Она узнала из книги также, что основатель психоанализа всегда был в большей степени исследователем, чем врачом, и что пациенты являлись для него скорее источником материала для научных концепций, чем людьми, нуждавшимися в помощи. Будущего своего аналитика она стала невольно представлять холодным и отстраненным ученым, разглядывающим пациента как редкий вид бактерии, о котором он напишет блестящую статью, да еще берущим за это немалые деньги. Она заранее злилась на него и тут же одергивала себя, понимая, что все может оказаться не так; и все равно сомневалась. Два раза за это время она решала, что ее желание обратиться к психоаналитику — пустой каприз, что от него надо отказаться, во-первых, потому, что она страдает не больше, чем миллионы других людей, во-вторых — потому, что у нее не так много денег, чтобы тратить их на эфемерные проблемы душевного дискомфорта. Еще сильнее она злилась на себя за нерешительность, отдавая себе отчет, что таким образом теряет шанс хотя бы попытаться что-то изменить в своей жизни. Не выдержав наконец этого круговорота чувств, она обратилась в центр психологической консультации, где, судя по рекламе, ей обещали квалифицированную и быструю помощь. Ее приняла женщина-психотерапевт, которая выслушала ее, покивала и посоветовала больше любить себя, уделять себе больше внимания и почаще бывать в театрах, компаниях и ночных клубах. Злость и ощущение своей брошенности и ненужности теперь сконцентрировались вокруг этого разговора и образа собеседницы, и будущий психоаналитик был временно спасен.
Вскоре после этого она пришла в институт психоанализа, где ей назвали мое имя в числе нескольких других. Пятиминутная встреча со мной разочаровала ее, поскольку она не обнаружила во мне даже отдаленного сходства с мудрым и проницательным ученым. Разумеется, она не сказала об этом ни слова, и после договоренности о более длительной беседе покинула кабинет, почти уверенная, что больше сюда не придет. Однако, по ее собственному выражению, демон искушения не оставлял ее все эти дни в покое, нашептывая: «Что тебе стоит лишь попробовать? Может быть, как раз с таким терапевтом ты и не будешь чувствовать себя просто исследуемым материалом?» — в то время как другой демон — демон здравомыслия — угрожающе вопрошал: «А имеешь ли ты право на то, чтобы тебя воспринимали как нечто большее?» Если бы победил демон искушения, она просто пришла бы ко мне в назначенный день, если бы верх одержал демон здравомыслия — она бы просто не пришла. Но уставшие от борьбы демоны выбрали компромисс, который и реализовался в посланном мне сообщении: оно стало неосознанным призывом к тому, чтобы я понял происходящее в ее душе.
156
С помощью данного клинического фрагмента я попытался показать, как пре-аналитические переживания субъекта раскрывают его индивидуальный опыт. Образ Фрейда в восприятии пациентки был в ряде аспектов почти тождественен архаичному материнскому «imago», сформированному как идеальная объектная репрезентация и вкупе как отражение реальности в виде отчуждения и подавляемой враждебности к нежеланному ребенку. Ее тревога и недоверие, вызванные сведениями о пристрастии Фрейда к кокаину, стали воспроизведением ранней тревоги перед объектом, не преодолевшим своего собственного инфантилизма и патологической зависимости от псевдоморальных культурных стандартов. Относительно безопасная связь с таким объектом возможна лишь при условии эмоциональной стерильности, фактического отказа от собственного Я и подчинения диктуемым правилам. Все это в дальнейшем отразилось в нашем взаимодействии: возвращаясь к метафоре Кана, можно сказать, что преаналитический фантазм напоминает ту музыкальную тему в начале сонаты, которая далее развивается и звучит в различных вариациях. Однако ранний опыт отношений пациентки все же не был настолько деструктивен, чтобы убить в ней саму потребность в отношениях других, более живых, теплых и эмпатийных. Потребность в обретении нового опыта, как не раз упоминалось, и становится той динамической силой, которая приводит человека в терапевтический кабинет.
Выше я говорил о том, что перенос имеет смысл рассматривать в качестве не антитезы реальному восприятию, но его структурирующей основы. Продолжая, можно добавить, что сам перенос структурируется преаналитическим фантазмом: последний начинает играть в аналитической ситуации роль «магнитного поля», вдоль силовых линий которого концентрируются «намагниченные частицы» — элементы реальности. Так рождается субъективное восприятие реальности, которое мы называем переносом. В этом процессе теряет актуальность дихотомия реального и воображаемого, прошлого и настоящего. Пример пациентки, представлявшей меня доктором Фрейдом, позволяет видеть, что преаналитическое переживание разворачивается в трехмерном континууме, измерения которого могут быть описаны следующим образом: идеализирующее, то есть связанное с грандиозным объектом (Фрейд гениален); конфликтное — своего рода тень пугающих призраков прошлого; третье, устремленное не в прошлое, а в будущее, пронизанное надеждой на новое отношение и на обретение недополученного. Вступая во взаимодействие с реальностью, они и становятся основой для активизации переноса в трех измерениях — соответственно функционального запроса, невербального диалога (проективных идентификаций) и поиска «потерянного объекта», — о которых шла речь в предыдущей главе.
157
Следует добавить еще несколько слов о реакции пациента на первую встречу с терапевтом. Когда он впервые переступает порог аналитического кабинета и видит перед собой человека, о котором столько думал (или не думал) в последние дни, недели или месяцы, его фантазии в большей или меньшей степени неизбежно обнаруживают расхождение с реальностью. Это открытие может рождать удовлетворение, поскольку частично нейтрализует тревогу, исходящую от призраков собственного прошлого, или нести разочарование, поскольку реальный психоаналитик не способен оказаться тождественным идеальному и грандиозному родительскому «имаго». Я предполагаю, что оба этих переживания всегда сопутствуют первой встрече пациента с терапевтом: во всех случаях имеет место своего рода синтез удовлетворения и фрустрации или даже некое удовлетворение мазохистического характера. Его можно представить как тонкую смесь разочарования и наслаждения, которую испытывает человек, долгие годы лишь рисовавший в воображении собор Нотр-Дам-де-Пари и наконец видящий его воочию перед собой. Однако в большинстве случаев этот эмоциональный мини-катарсис имеет побочный эффект, который я попробовал бы сравнить с аннигиляционной вспышкой: предваряющие фантазмы не выдерживают атак реальности и «проваливаются обратно в бессознательное», как сны вскоре после пробуждения. Тогда путем к их исследованию становится работа с переносом, в которой вскоре делаются доступными наблюдению их дериваты.
ГЛАВА 8
ПЕРЕНОС И СНОВИДЕНИЕ
Говоря о переносе, трудно вовсе обойти вниманием тему сновидений, так как связь между этими ментальными процессами уже давно является одним из важнейших объектов психоаналитических исследований. Сновидения высвечивают конфликты, во многом определяющие характер и особенности развития переноса, они же отражают и успехи, и неудачи этого развития: примером тому может служить сновидение Алисы о парикмахерской, о котором рассказывалось в главе 5. О сновидении, как и о переносе, в наши дни можно сказать, что оно выполняет, по-видимому, много важных для субъекта функций, которые до сих пор остаются предметом пристального изучения и множества научных дискуссий. Одна из функций, общих для сновидения и переноса, — это функция коммуникации, которой посвящена, например, работа Марка Канцера (Канцер, 2000).
Как известно, Фрейд предпочитал рассматривать сновидение преимущественно как продукт инфантильного опыта, хотя уже в «Толковании сновидений» можно найти немало данных в пользу актуальности присутствующих в нем желаний из настоящего времени и мотивов коммуникативного характера. Тем не менее в итоге Фрейдом была сохранена концепция первичности инфантильных желаний, связь которых с текущим опытом, то есть с «дневными остатками», была уподоблена им связи капиталиста-инвестора с предпринимателем. «Дневные остатки» предстали как связующее звено между бодрствующим и сновидческим мышлением. К 1933 году Фрейд сформулировал теорию генезиса сновидений «сверху» (из «дневных остатков») и «снизу» (из детских бессознательных желаний), поставив его таким образом «на две ноги», как ранее невроз в своем классическом определении. Строго говоря, предположение Фрейда о том, что инфантильный опыт сновидца «инвестирует» во сне его «дневные остатки», созвучно изложенному выше пониманию переноса как фактора, структурирующего восприятие реальности: наша субъективность, уходящая корнями в прошлое, и есть тот инвестор, который питающим и организующим образом влияет на нашу повседневную жизнь.
159
Впоследствии теория сновидений Фрейда, в том числе концепция «исполнения инфантильных желаний» как ее составная часть, неоднократно подвергалась критике. Было установлено, что сновидческая активность не представ;\яет некую особую форму мышления, но подчиняется общим принципам психического функционирования: так, много общего было выявлено между процессами бодрствующего мечтания и видения снов. Существенно расширилось понятие «дневных остатков», что позволило находить связи между содержанием сновидений и событиями, имевшими место значительно ранее, нежели в несколько последних дней или недель: дихотомия инфантильного и актуального опыта сменилась «концепцией ассоциативной сети», согласно которой прошлое и настоящее субъекта сплетены во множестве пластов. Новые исследования постоянно обнаруживали новые аспекты и функции сновидения — в частности, решения текущих проблем, овладения актуальными конфликтами и т.д. В качестве основной его функции стали называть развитие, регуляцию и реставрацию нарушенных психических процессов и структур (Канцер, 2000). Сновидец пытается воздействовать на реальность, то есть он активен так же, как человек мечтающий или фантазирующий. Это признают, в отличие от нас, например, некоторые уроженцы республики Беларусь, говорящие на одном из местных диалектов: вместо «я видел сон» (то есть видел со стороны нечто, от меня не зависящее) или «мне приснилось» (то есть опять-таки пришло неизвестно откуда) они берут на себя ответственность за свои сновидения, используя активный оборот «я сню (приснил) сон».
Аспект, который в рамках разговора о переносе интересен для нас более всего — это описанная Канцером коммуникативная функция сновидения. У Фрейда сновидение как способ галлюцинаторного удовлетворения предстает явлением инт-рапсихическим: оно абсолютно эгоистично, Я сновидца в нем скрыто за другими образами посредством идентификации. Современная теория сновидений учитывает не только раннюю теорию влечений, рассматривающую объект через призму желаний субъекта, но и результаты исследований в рамках теории объектных отношений, позволяющие предполагать, что сновидение не всегда что-то говорит сновидцу только о нем самом, как бы вырванном из контекста межличностных коммуникаций. Оно призвано поддерживать его связи с интроецированными объектами и косвенным образом с внешним миром. Сновидение отражает стремление субъекта к контакту с реальностью, сохранившейся в «дневных остатках». Можно сказать, что оно ответственно за одновременное выполнение двух противонаправленных функций: нарцисси-ческой (уйти в себя, изолироваться от мира объектов) и коммуникативной (сохранить контакт с реальностью). Канцер описывал этот процесс следующим образом: спящий
160
человек покидает объект, интроецируя его, и затем спит с интроецированным объектом. Предтечей этого объекта был переходный объект, с которым ребенок засыпал в отсутствие матери; впоследствии его роль играют содержания, инкорпорируемые субъектом перед сном — еда, снотворное, алкоголь и т.п. (Канцер, 2000). Перенос, который также призван одновременно изолировать субъекта от реальности с помощью «призмы иллюзий» и через эту же «призму» сохранить связь с реальностью, может быть рассмотрен как промежуточное звено между состояниями сна и бодрствования: уместно вспомнить здесь, например, сновидение моей пациентки о гигантской акуле, упомянутое в главе 1. Тезис «каждый человек видит реальность через призму субъективности» может быть иначе выражен словами «никто никогда не бодрствует абсолютно; все, что мы воспринимаем, есть отчасти наш сон».
Вероятно, наиболее важная для нас сейчас тема — это тема сновидений пациента об анализе и о своем аналитике. Я полагаю вслед за Фрейдом, что аналитик участвует в каждом сне, который видит пациент в ходе терапии, если существует эмоциональная включенность последнего в аналитические отношения — даже когда его присутствие не распознается, он стоит рядом со сновидцем. Однако наибольший объем информации об особенностях развития и характере переноса присутствует в сновидениях, отражающих сам аналитический процесс. Канцер рассматривал сновидения о ситуации анализа как попытки пациента сообщить аналитику нечто важное (еще Ференци предполагал, что человек видит сны, чтобы рассказать их затем тому, кто в них присутствовал, и это его желание и является главным «двигателем» сновидческой активности), и приводил в качестве примера сон пациентки, в котором она пыталась приблизиться к аналитику, но увязала ногами в незатвердевшем бетоне (интерпретациях, сковывавших ее активность и спонтанность). Версия, согласно которой «нечто важное», что необходимо передать, есть сообщение о дефектах аналитических отношений, вполне созвучна представлению Чивитарезе о «сновидениях, отражающих сессию», упоминавшемуся мной в главе 5. Я напомню, что с точки зрения Чивитарезе сновидения, в которых аналитик участвует в своем «незашифрованном» образе, свидетельствуют о неких трудноуловимых дефектах сеттинга и коммуникации, чаще всего о потере отношениями качества «как если бы», то есть игры (Чивитарезе, 2007). Полагаю, что во многих случаях и даже, возможно, в их большинстве это действительно так; но едва ли имеет смысл возводить этот тезис в ранг универсального объяснения. Появление во сне аналитика, не замещенного каким-либо образом, согласно моему опыту, может свидетельствовать о существенном успехе развития переноса, то есть об активизации «поиска потерянного объекта», при которой аналитик, как я упоминать выше, становится для пациента
161
более «присутствующим», поддерживающим и надежным. Иногда оно становится первым индикатором того, что терапия близится к успешному завершению. Иногда же, напротив, именно нарушение атмосферы доверия и безопасности отражено в его появлении в сновидениях пациента в образе, который позволяет последнему сохранить отношения — за счет неузнавания аналитика в ночном преследователе или мучителе. Приведу следующий пример.
Однажды студентка, учившаяся в институте, где я преподаю, и проходившая у меня дидактический анализ, рассказала сон, в котором среди ночи ее разбудил стук в дверь. Кто-то пытался ворваться в ее квартиру. Она пробовала забаррикадироваться, но безуспешно: дверь вскоре слетела с петель, и перед нею появился человек, чье лицо было целиком закрыто кожаной маской с прорезями для глаз. На этом она проснулась. Когда я спросил, не вызывает ли подобная маска у нее каких-либо ассоциаций, она ответила после секундной заминки: «Может быть, что-то в таком роде носят хоккейные вратари, но это похоже лишь отдаленно». В свою очередь я поймал себя на том, что мне вспомнился персонаж Энтони Хопкинса из фильма «Молчание ягнят» — доктор-людоед Ганнибал Лектер — в эпизоде, где на него надета полицейскими маска-намордник: именно такая маска мне представилась в картине данного сна. Я рассказал об этом собеседнице, оговорившись, что, возможно, речь идет только о моей личной фантазии, не имеющей отношения к ее переживаниям; но она ответила: «Это то самое. Я сама не знаю, почему не сказала этого сразу. Это ведь было первое, что мелькнуло у меня в голове». Следующую сессию она начала с того, что воскликнула: «Как же я сразу не догадалась! Когда я возвращалась от вас домой, все встало на свои места: вы — доктор, и вы — лектор». Сновидение отразило тревогу, в которой наяву женщина не отдавала себе отчета: как выяснилось, некоторые вопросы и комментарии, звучавшие из моих уст на последних перед этим случаем сессиях, рождали у нее ощущение, что я проникаю в некоторые аспекты ее личной жизни слишком глубоко и настойчиво. Это можно было бы назвать переносом в «классическом» смысле, в смысле «искажения», поскольку в ее детстве окружающие никогда не оставляли ей права на собственное пространство, например, на какие бы то ни было секреты, но в данном случае значения это не имело: мои интервенции действительно внушали ей тревогу, то есть для нее они были реально чрезмерно проникающими. Привлечение концепции «искажения» здесь едва ли уместно, так как, судя по всему, проективные идентификации превратили меня в родителя, не умеющего почувствовать и принять потребность ребенка в автономии. Она не позволяла себе ощутить в связи с этим какое бы то ни было недовольство в мой адрес, поскольку таковое в ее представлении поставило бы под угрозу существующий альянс.
162
Приведу еще одну иллюстрацию к теме сновидения об анализе как индикатора аналитических отношений — хотя мысль, которой я хочу поделиться, для меня весьма и весьма гипотетична. Однажды я обратил внимание на то, что по крайней мере половина моих пациентов на определенном, наступающем раньше или позже этапе анализа видит сон, содержание которого неизменно, хотя детали могут варьировать довольно широко. Им снится, что они приходят на очередную встречу со мной, но вместо меня видят в кабинете другого аналитика, сообщающего им: «Дмитрия Сергеевича здесь больше нет (так как он уехал, сменил профессию, заболел, отказался от работы с вами и т.д. и т.п.), и с этого дня вы будете продолжать анализ со мной». Это сообщение всегда вызывает у сновидца более или менее неприятные чувства, от обиды или легкого раздражения до панического ужаса. Пробуя понять эти сны, я довольно долго предполагал, что стиль моей работы обладает некоей неуловимой для меня особенностью, которая рождает у пациентов ощущение, что отношения со мной нестабильны и ненадежны и что я могу в один «прекрасный» день перестать для них существовать. Однако это предположение не объясняло, почему на моем месте в кабинете всегда оказывался кто-то незнакомый. Лишь позднее я узнал, что такие сновидения на определенной стадии работы отмечены и у пациентов других аналитиков — моих коллег, причем тех, кто, как и я, делает ставку в первую очередь на развитие отношений. Гипотеза, возникшая у меня впоследствии, заключалась в том, что «типическое» сновидение о новом аналитике есть показатель развития аналитических отношений до стадии «либидинозного объекта» в концепции Рене Шпица — стадии, обычно относящейся к семи-восьмимесячному возрасту ребенка, когда мать становится для него узнаваемым и наиболее предпочтительным объектом. Анна Фрейд описывала этот этап детского развития как достижение «постоянства объекта», подразумевающего, что либидинозный катексис матери перестает зависеть от условия удовлетворения ею желаний ребенка и сохраняется даже при фрустрации последних. Индикатором перехода к стадии «либидинозного объекта» является описанная Шпицем «тревога восьмимесячных» — стресс, которым ребенок в этом возрасте реагирует на появление в поле зрения иного, не материнского, лица (Шпиц, Коблинер, 2000). Если моя догадка верна, то «сновидение о новом аналитике» является сообщением пациента о том, что эволюция переноса, прежде всего во втором измерении, успешна, то есть что удовлетворение его исходного запроса стало второстепенным по сравнению с запросом на отношения, и что аналитик превратился в его психической реальности в значимый объект, который необходимо теперь сохранять.
Развивая эту мысль, я рискну предположить, что сновидения, обобщаемые нами термином «типические», представляют отражения универсальных конфигура
163
ций опыта личностного развития, то есть этапов развития, через которые проходит любой человек вне зависимости от индивидуальных условий его роста. Каждый из нас когда-то начал отличать собственное Я от внешнего мира, каждый на определенной стадии впервые запомнил, выделил из совокупности объектов и стал узнавать лицо матери, и т.д. Так, возможно, известные многим «экзаменационные сны» отражают опыт восприятия ребенком первых требований, предъявляемых ему матерью («нельзя», «надо»). Экзамен есть ситуация, в которой от человека впервые требуется
продемонстрировать, как он усвоил и умеет использовать то, что до сих пор лишь пассивно получал. Разновидность этого сновидения — «мне предстоит сдавать экзамен, сдававшийся мною лет двадцать или сорок назад, по предмету, который я давно забыл» — может напоминать нам о десяти-двенадцатилетнем возрасте, то есть о предпубертатном периоде, в котором на фоне нарушения латентного равновесия сил внутрипсихических структур обостряются конфликты, не получившие возможности адекватного разрешения на предшествующих стадиях. «Типические» сновидения могут, на мой взгляд, нести важную информацию об актуализации этих универсальных
элементов опыта в новых отношениях субъекта, в аналитических в том числе.
Наряду с «коммуникативной» я назвал бы еще одну функцию сновидения,
также чрезвычайно важную, как я полагаю, для понимания происходящего в душе
пациента и в развитии отношений: ее можно обозначить одновременно как «сигналь
ную» и как «интегративную». «Сигнальный» аспект подразумевает, что сновидение
представляет индикатор жизненной ситуации субъекта: человек во сне видит мир вокруг себя и свое Я в этом мире иначе, нежели днем. Сон позволяет ему «переместиться» с обыденной точки обзора, которой служит бодрствующее сознание,
и взглянуть на этот мир в ином ракурсе, рассмотрев то, что скрыто от «дневного взгляда». Так, сновидение о человеке в кожаной маске впервые дало моей пациентке (и мне) возможность увидеть, что я чрезмерно грубо и быстро вторгаюсь в ее внутреннюю реальность. Я предполагаю, что каждый сон содержит описанное Когутом «сновидение о своем состоянии» (self-state dream), хотя Когут выделял подобные сны в особую категорию. Сновидение само по себе есть интерпретация, так как сновидец узнает, в каком состоянии пребывает его Я. Содержание сновидения маскируется с помощью той динамической силы, которую Эриксон называл сопротивлением идентичности: пациент привержен идентичности «дневной», то есть сознательному образу себя и окружающего мира; это сопротивление направлено как вовне, против аналитика, так и внутрь, против новой репрезентации себя. Задачей аналитика становится расшифровка рождающихся метафор сновидения, передающих невоспринимаемое — с моей точки зрения, только через индивидуальные ассоциа
164
ции, поскольку язык сновидения — не универсальный, но сугубо личный. При этом сновидение не только отражает ситуацию, но и пытается влиять на нее в нужном ключе: Канцер, ссылаясь на Вайса и Сэмпсона, констатирует, что в нем проявляются не инфантильные желания, а потребности Я справляться с трудностями, решать проблемы (например, хотя бы попытаться забаррикадировать дверь перед человеком в кожаной маске). Фрейд отчасти наметил эту идею, но теоретически не разработал: концепция сновидений не была интегрирована им в структурную теорию, в рамках которой было бы уместно рассмотреть человеческое Я как наделенное функцией овладения тревогой (Канцер, 2000).
Я полагаю, что функция Я, о которой идет речь, наделена более широким кругом «полномочий», чем нейтрализация тревоги: к нему можно отнести и решение многих других проблем, например поиск решения некоторых жизненных задач или творческое преобразование действительности. Известно, что порой именно во сне у художников и писателей рождались сюжеты и образы их будущих произведений, у ученых — научные теории и открытия. Возможно, в сновидении таким образом активизируются процессы, близкие или тождественные тем, которые Балинт описывал для «области созидания». Сновидение и перенос — родственные феномены в том смысле, что оба они могут быть представлены как процессы переработки восприятий реальности субъективностью; оба они многофункциональны и оба влияют организующим и регулирующим образом на психологическое состояние личности. Эта последняя функция сновидения и переноса в данном аспекте и может быть названа «интегративной», поскольку она организует психическую активность в трех измерениях — прошлого, настоящего и будущего. Как можно увидеть на примере сна моей пациентки, сновидение содержит одновременные попытки переработки опыта прошлого, демонстрации вытесненных содержаний и их влияния на настоящее и репетиции будущих действий («когда-то родители заставляли меня держать открытыми двери в самые интимные уголки моей жизни; эту угрозу я ощущаю и теперь, но, если потребуется, сумею по крайней мере попытаться оказать ей сопротивление»). Тезис о том, что перенос наделен терапевтической значимостью сам по себе, и что во многих случаях задачей аналитика является лишь создание условий для его свободного и безопасного развития, может быть, по-видимому, распространен и на сновидение. Его значение для процесса терапии не ограничивается возможностью использования его как объекта исследования: так же, как, например, фантазии и мечты, оно представляет разновидность «грез», описанных аналитиками французской школы — Пьером Марти, Мишелем де М’Юзаном и другими, и в данном качестве поддерживает психологическое равновесие и определенный
165
уровень психического здоровья субъекта. Чивитарезе, ссылаясь на Генри Огдена, замечал, что сама жизненность аналитического опыта связана не столько с интерпретацией, транслирующей неизбежно огрубленный смысл, сколько со способностью пациента символизировать и видеть сны (Чивитарезе, 2007) — возможно, именно в связи с пониманием и учетом данного факта. Исследование сновидения может быть сосредоточено прежде всего на его «сигнальном» аспекте, то есть на открывающемся в его пространстве альтернативном бессознательном видении пациентом окружающего мира и себя в этом мире; другие свои функции — личностную интеграцию и регуляцию — оно выполнит само.
В заключение добавлю, что мы можем, по-видимому, провести параллель между тремя рассмотренными феноменами — переносом, сновидением и преанали-тическим фантазмом, — заметив, что все они существуют и развиваются в трехмерном континууме личностной субъективности, объединяющей прошлое, будущее и настоящее. Первое измерение переноса, обозначенное здесь как «функциональное» или «нарциссическое», обнаруживает некую корреляцию с «идеализирующим» измерением преаналитического фантазма и с измерением «настоящего времени» в сновидении, в котором реализуется «сигнальная» функция последнего. Запрос пациента «вылечите меня» принадлежит настоящему и адресован идеализированному образу терапевта. Второе измерение, в котором в переносе развертывается проективно-интроективная игра между множеством внутренних объектов пациента и терапевта, отсылает нас к опыту прошлого, призраки которого наполняют тревогой сновидение и преаналитическое переживание. Измерение «поиска потерянного объекта» есть то, что в преаналитическом фантазме воскрешает надежду на новый опыт и новое объектное отношение, а в сновидении мобилизует Я субъекта на борьбу с тревогой, интеграцию и решение проблем. Повторю, что аналитик здесь может, по-видимому, как ухаживающий за цветком садовник, лишь поддерживать условия для того, чтобы эти процессы были активизированы и осуществлены.
СИНТЕЗ ПЕРЕНОСА
Понимание бессознательного пациента путем анализа его высказываний — самая простая часть задачи аналитика. Работа с переносом — самая трудная.
Отто Феничел
ГЛАВА 9
ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ, НЕЙТРАЛЬНОСТИ И АБСТИНЕНЦИИ
До сих пор речь шла преимущественно о теоретических аспектах переноса; пора поговорить о том, какие практические выводы и рекомендации следуют из сказанного. В чем должна заключаться работа с переносом, если мы договорились рассматривать это явление как восприятие реальности через призму субъективности, отказавшись по сути таким образом от понятия «реального восприятия», и приняли как исходный факт субъективность видения не только пациента, но и аналитика? Какие трансформации должна претерпеть субъективность пациента в ходе аналитического взаимодействия, чтобы она перестала быть источником его страданий? Какими средствами для этого мы располагаем? Прежде чем искать ответы на эти и другие вопросы, стоит вспомнить мудрое предостережение Уэлдера: научить работать с переносом нельзя. Все, что мы реально можем, — обсуждать данную тему теоретически, предохранять друг друга от наиболее распространенных ошибок и приводить друг другу примеры из практики для того, чтобы сравнивать их со своими клиническими случаями (Уэлдер, 1987).
Обобщая накопленный материал и опираясь на изложенные в предшествующих разделах представления, можно сказать, что психотерапия, концептуально основанная на трехмерной модели переноса и идее поиска «потерянного объекта», подразумевает ведущую терапевтическую роль самого переноса как целительного фактора. Напомню, что, возможно, наиболее классическая, восходящая к Фрейду, методология обращения с переносом была сформулирована только что процитированным мною Уэлдером (и в той же лекции) следующим образом: перенос поддерживает невроз, и, пока он ничего, кроме этого, не делает, с ним также ничего не надо делать. Когда он начинает играть деструктивную для аналитических отношений роль, его следует интерпретировать как можно скорее. Опираясь на данные тезисы, я позволю себе высказать мысль, которая многим из моих коллег, вероятно, пока
169
жется крамольной: искусство обращения с переносом во многих случаях есть искусство не делать с переносом ничего — кроме формирования и поддержки условий для его свободного и безопасного развития. Это кажущийся парадокс: дело в том, что окружающие пациента в обыденной жизни люди, как правило, только и делают, что пытаются что-то сделать с его переносом, поскольку страдают от его влияния. В частности, они порой пробуют «разрешить его с помощью интерпретаций», направленных как в прошлое субъекта («твоя мать была такой же сумасшедшей, как ты сам»), так и в будущее («ты поступаешь так, чтобы все мы по миру пошли»). Терапевтический эффект подобных интервенций общеизвестен. Стоит вспомнить здесь метафору Фрейда, уподоблявшего перенос камбиальному слою между корой дерева и древесиной, из которого при надлежащих условиях произратает новая ткань, то есть основе роста и развития. Иными словами, по крайней мере иногда вместо того, чтобы пытаться оказать на перенос активное воздействие (например, «разрешить» его как нечто, «не имеющее отношения к реальности», с помощью интерпретаций), имеет смысл позволить самому переносу нечто сделать или сотворить.
Именно против такого подхода высказывались Томэ и Кехеле, утверждая, что необходимым является признание реальных отношений и отношений рабочего альянса как лежащих за рамками переноса, так как в противном случае переносу пришлось бы, как Мюнхгаузену, «тащить себя из болота за собственные волосы» (Томэ, Кехеле, 1996а, с. 119). Эти авторы критически упоминают о «клиническом парадоксе» Шимека, согласно которому перенос разрешается силой самого переноса, и ссылаются на замечание Ранка и Ференци по поводу того, что нельзя использовать любовь пациента, чтобы помочь ему обходиться без этой любви. Однако, на мой взгляд, все зависит от понимания, которое мы вкладываем в слова «разрешение». Уже не раз упоминалось, что цель «разрешения» переноса в смысле его исчезновения в наши дни выглядит по меньшей мере архаичной и едва ли может ^ставиться кем-то из специалистов всерьез. Ставку гораздо целесообразнее делать не на устранение, а на развитие переноса, и, если аналитик обеспечит условия для того, чтобы это развитие стало терапевтичным, перенос действительно может сыграть потенциально присущую ему целительную роль.
Основная задача при данном подходе состоит в создании для пациента среды, в которой может быть реализован его творческий потенциал. То, что я имею здесь в виду, наиболее близко к представлению Балинта о терапевте как объекте самой архаической либидинозной привязанности, обозначенной в его концепции термином «первичная любовь»: терапевт становится для пациента своего рода «вмещающей субстанцией», обеспечивающей оптимальные условия для непатогенной, нетравма
170
тичной регрессии; остается при любых обстоятельствах принимающим, безопасным и неуязвимым. Идея Балинта заключалась в принятии аналитиком на себя функций первичных субстанций или первичных объектов, направляющих терапевтическую регрессию на установление отношений, близких по структуре к «первичной любви». Главной проблемой является выбор способа предложить пациенту «нечто», что могло бы выступить в качестве либо первичного объекта, либо его адекватной замены: это может быть сам аналитик или аналитическая ситуация в целом. Балинт подчеркивал, что для достижения гармонии с пациентом и минимализации конфликта интересов между пациентом и единственно доступным ему объектом предпочтительнее второе, поскольку в этом случае снижается риск превращения аналитика во всезнающий и всемогущий объект. Аналитику следует избегать роли объекта в подлинном смысле слова, то есть озабоченности собственным существованием рядом с пациентом: его задача — стать только первичной субстанцией, неуничтожимой, незаметной и всегда присутствующей (Балинт, 2002). Таким образом создается среда, в которой пациент обретает способность все шире и глубже открывать свой внутренний мир перед аналитиком: «Если вы сочтете, что это слишком много, я дам этому подходу определение в отрицательной форме: недопущение возникновения обстановки, при которой пациенту не дают говорить» (Балинт, 2000, с. 140). Аналитик, по сути, делается тем началом, которое Винникотт называл «мать-среда» или «мать-окружение» — началом, гарантирующим младенцу безопасность осуществления любых атак на объект.
Возможно, правильнее говорить не о создании этой среды терапевтом, а именно о его превращении в таковую. Аналитик не имеет возможности активно содействовать поиску «потерянного объекта»: любые интервенции, нацеленные на его ускорение или «направление в нужное русло», напоминали бы попытки способствовать росту дерева, таща его вверх за ветви. Он может только поддерживать условия, в которых этот поиск будет возможен; иными словами, речь идет не о том, чтобы делать для пациента нечто, но о том, чтобы постоянно и в каждом нюансе присутствовать, быть. Это оптимальная реализация принципа нейтральности. Как замечал Рене Дяткин, с момента, когда был прерван анализ Доры, стало очевидно, что психоаналитик никогда больше не сможет считать себя лишь отстраненным наблюдателем, чья роль ограничивалась бы помощью пациенту в обнаружении его вытесненного материала (Дяткин, 2005). Более того, «мы не проводим психотерапию так, как хирург проводит операцию, а сами являемся терапией» (Кан, 1997, с. 47). Поэтому нейтральность аналитика не означает холодности и безразличия: она подразумевает лишь соблюдение приемлемой дистанции, которая позволит пациенту выбрать свой собственный путь. Аналитик не пытается переделать пациента
171
по своему образу и подобию, не навязывает ему ценности; пациент выбирает и устанавливает эмоциональный тон общения, не теряя уверенности в понимании его действий собеседником. Очень важным аспектом аналитической позиции является при этом естественность поведения аналитика: Кейсмент сравнивал его с музыкантом, который поначалу разрабатывает технику, чтобы затем, во время исполнения, забывать о ней. Когда психотерапевт «исполняет» или «создает музыку», работая с пациентом, он не должен размышлять о технической стороне вопроса. Кейсмент писал также, что аналитику не нужна активность в предложении пациенту себя как «лучшего объекта», поскольку она может стать соблазняющей помехой; с другой же стороны, чрезмерное усердие некоторых терапевтов не вмешиваться в процесс, чтобы не привнести в него что-то свое, иногда столь же навязчиво, сколь бывает навязчивой противоположная позиция. Присутствие аналитика должно по возможности оставаться потенциальным, или транзитным — как присутствие матери рядом с играющим ребенком. Тогда он может быть в любой момент или привлечен к содействию как присутствующий, или использован пациентом как «воплощение своего отсутствия» (Кейсмент, 1995, с. 43).
Для прояснения того, что я понимаю под естественностью взаимодействия, приведу пример.
Психотерапевт, супервизором которого я являлся, рассказал однажды о женщине, державшейся в ходе первичного интервью крайне скованно и старавшейся отвечать на его вопросы предельно сжато и конкретно. Чтобы понять причины этой скованности, я попросил собеседника описать в деталях, как он выстраивает диалог с пациенткой. Быстро выяснилось, что в данном диалоге он вел себя как психоаналитик, перед которым весьма затруднительно чувствовать себя свободно и непринужденно. Так, пациентка рассказывала, что до окончания средней школы мечтала поступить в театральное училище, однако подала документы в другое учебное заведение. Аналитик откликнулся вопросом, сформулированным следующим образом: «Нам было бы важно узнать, что могло заставить вас отказаться от реализации своей мечты?» На мой взгляд, вместо этого достаточно было спросить: «Почему?» К сожалению, терапевтам нередко не хватает способности абстрагироваться от своего статуса, увидеть в пациенте «всего лишь» такого же человека, как они сами, и просто общаться с ним вместо того, чтобы «интервьюировать» его или «лечить».
Я полагаю, что важность обеих рекомендаций Кейсмента трудно переоценить. Аналитик, который в процессе взаимодействия с анализандами начинает подыскивать вербальные средства, сознательно применять определенную технику, сомневаться, что она выбрана удачно, и переключаться на другую, ведет паци
172
ента за собой, вместо того, чтобы следовать за пациентом. Аналитическая ситуация при этом оказывается аналитической с большой буквы (такие ситуации я определяю фразой «в наступившей тишине стало слышно, как аналитик думает»), и тогда уже не приходится мечтать ни о какой атмосфере доверия и безопасности: это и будет обстановка, в которой, по словам Балинта, «пациенту не дают говорить». Лучшей аналитической работой, как я убежден, является та, что со стороны, для неискушенного взгляда, вообще не напоминает работу как таковую: она выглядит как простое полумолчаливое соприсутствие двоих людей, свободно варьирующее от диалога до погруженности в собственные плавающие мысли и образы. Лучшая роль, которую аналитик может принять на себя, — роль, определенная Кейсментом как «мать рядом с играющим ребенком», и, добавил бы я, мать, читающая роман рядом с играющим ребенком. Она не мешает ему, пока он увлечен игрой и не требует ее непрерывного участия; но вот ребенок полез туда, где его могут ожидать неприятности, — тогда мать откладывает роман и мягко отвлекает его, возвращая назад к игрушкам. Ребенок, соскучившись, начинает теребить маму, демонстрирует желание ее внимания — книга вновь отложена, мама играет с ребенком, пока он не увлечется и не займется сам собой, и опять окунается в переплетение судеб героев романа. Она видит ребенка уголком глаза, «боковым зрением», не навязывая ему себя; при этом никто со стороны не скажет, что она сейчас «занимается воспитанием» или «реализует знания о факторах детского развития». Когда я читаю студентам, будущим коллегам, лекции по психоаналитической методологии и технике, я говорю им: «Постарайтесь усвоить по возможности больший объем знаний, а затем, когда включитесь во взаимодействие с пациентом, — абстрагироваться от всего, что было прежде усвоено. Если полученные знания интернализовались и достигли определенной степени интеграции, они сами, автоматически, без вашего сознательного участия, найдут место в том, что вы делаете, что и как вы говорите, и вам останется только следовать за пациентом туда, куда он почувствует потребность вас вести».
Возникновение подобной среды становится условием, при котором оказывается возможным обретение субъектом опыта, не имевшего места в его прошлом. В данном случае уместно использовать некоторые концептуальные и методологические понятия Винникотта. Как отмечал Винникотт, личность ребенка, лишенного опыта иллюзий и, в частности, переходного объекта, в защитных целях подвергается расщеплению: одна ее часть начинает соотноситься с субъективным, внутренним миром, другая реагирует на столкновение с реальностью (Винникотт, 2004). Задача терапевта состоит в том, чтобы всеми вербальными и невербальными средствами способствовать их воссоединению. Формирование «потерянного объекта» есть по сути
173
создание необходимой иллюзии: как и перенос в целом, оно представляет собой процесс, протекающий в поле между первичной (галлюцинаторной и фантазийной) креативностью и восприятием объекта, основанным на тестировании реальности. В терминологии Винникотта это задача переведения пациента из структурированного состояния в хаотическое или, другими словами, из состояния невозможности игры в состояние игры (Винникотт, 2002). Когда пациент логичен и последователен в своем поведении и вербальных ассоциациях, то есть проявляет себя как исключительно взрослый и разумный человек, он облачен в панцирь защит. Однако отсутствие напряжения, релаксация в атмосфере «первичной субстанции» способствуют постепенному появлению бессвязности и бесформенности происходящего, то есть хаоса — состояния, в котором при поддержке терапевта может быть инициировано формирование нового опыта. Именно на этой стадии пациент, как правило, демонстрирует непонимание происходящего с ним и между ним и аналитиком вкупе с усилением зависимости, и это позволяет говорить о начале воссоединения того, что было расщеплено. О таком состоянии Балинт сообщал, что оно возникает в каждом случае терапии, где регрессии позволяется выйти за определенные рамки, и что в нем всегда можно обнаружить все виды наиболее примитивных объектных отношений и потребностей. Совокупность переживаний релаксации и игры Винникотт рассматривал как базу чувства Я: «Ощущение самости строится на основе хаотичного состояния, которое... сам индивид не может ни увидеть, ни запомнить, и которое не теряется, только лишь будучи опознанным и отраженным другим» (Винникотт, 2002, с. 111).
Я хочу особо подчеркнуть важность участия аналитика в невербальном диалоге, который ведется с помощью переживаний, интонаций, пауз, жестов, взглядов: без этой составляющей взаимодействия релаксация и игра стали бы невозможны. Она обретает наибольшее значение на той ключевой стадии процесса, когда пациент теряет чувство времени и понимание происходящего, и эти кажущиеся ему спасительными ориентиры не могут быть воссозданы и возвращены с помощью языка. В аналитической терапии именно невербальные трансакции обеспечивают участникам диалога то отражение, в котором каждый из них в конечном счете может узнать себя (вспомним еще раз случай Алисы), и они не менее важны, чем в игре влюбленных, где любовное переживание не может быть передано в полной мере лишь посредством слов. Анализ, структурируемый эдиповым языком аналитика, иногда может выглядеть вполне успешным; но при этом, как писал Балинт, «неодолимая потребность пациента быть понятым вынуждает его... к молчаливому согласию с тем, что в анализе можно работать только с переживаниями, верба
174
лизация которых не вызывает больших трудностей. Все, что находится вне сферы вербальной коммуникации, либо получает неточное и туманное толкование, либо вовсе не может быть выражено пациентом» (Балинт, 2002, с. 142-143). В ходе такого анализа «пациент может приобрести вполне однородную, — хотя не абсолютно, — психическую структуру, несомненно, чрезвычайно эффективную и все же, по-видимому, навсегда остающуюся для него чуждым и искусственным образованием» (Балинт, 2002, с. 145).
Хаотичное состояние, состояние игры необходимо для успешного нахождения «потерянного объекта», но само это состояние может быть достигнуто при условии, что терапевт все же не тождественен патогенному объекту из прошлого пациента. Здесь мы встречаемся с уже упоминавшимся кажущимся парадоксом, о котором писал Левальд: пациент стремится превратить новое объектное отношение в старое и в то же время сохранить это новое отношение. Повторю, что данные процессы, по-видимому, и есть то, что происходит, на мой взгляд, во втором и третьем измерениях переноса, хотя и с оговоркой по поводу различия между понятиями «нового объекта» и «потерянного объекта», о котором мной упоминалось в главе 6. Развитие переноса в первом из этих измерений отражает описанное Левальдом как «невротические переносы», во втором — то, что у этого автора носит название «новый перенос»: не источник сопротивлений, но основа функционирования терапии. Но еще раз подчеркну, что в отличие от Левальда я предпочитаю говорить не о сосуществовании различных переносов, а о различных измерениях переноса как целостного явления. В одном из них мы всегда имеем дело с патогенным объектом, ограничивающим свободу игры, и с риском превращения в него под влиянием проективной идентификации — во избежание которого вводим понятие сопротивления и стремимся это последнее преодолеть, вместо того, чтобы услышать заключенное в нем послание. Стадия негативизма в терапевтическом взаимодействии неизбежна, и на данной стадии важную роль начинает играть понимание терапевтом комплементарного контрпереноса как продукта интернализации особо патогенных аспектов родительского поведения и конкордантного — как продукта идентификации со страдающим ребенком в пациенте. Как замечал Балинт, только когда аналитику удается адекватно отреагировать на примитивные и нереалистичные желания пациента, тот получает поддержку в преодолении болезненного неравенства между собой и своим окружением. Зависимость от первичного объекта, отыгрываемая поначалу в анализе, может при этом ослабеть и даже исчезнуть (Балинт, 2002).
Еще одним существенным принципом аналитической работы является принцип абстиненции, который в связи с темой терапевтичного развития переноса
175
заслуживает особого внимания. Как уже говорилось, в современном психоанализе он утратил свою раннюю категоричность: согласно замечанию Эйхоффа, в исходном виде этот принцип тесно связан с нейтральностью, обозначающей утопический идеал беспристрастности и невмешательства (Эйхофф, 2003). Я упоминал также, что сам Фрейд, предложивший его в качестве противодействия преждевременным заместительным удовлетворениям, замечал тем не менее, что иногда пациенты нуждаются в больших или меньших поблажках со стороны аналитика. То, что Фрейд определя;\ как «нужду в поблажках», я назвал бы истинной потребностью, в отличие от желания; и вопрос состоит в том, как определить это «иногда», другими словами, как провести демаркационную линию между желаниями, которые следует лишь анализировать, отказывая пациенту в прямом удовлетворении, и потребностями, которые, напротив, необходимо удовлетворять, не анализируя — тем более что проанализировать их обычным путем, то есть переводя в слова, по-ви-димому, невозможно, поскольку они принадлежат области довербального опыта. Другая сторона проблемы заключается в том, что за вербально или невербально выражаемым желанием скрывается некая истинная потребность, и в этой ситуации главная задача аналитика — уловить ее и обеспечить адекватный отклик. Элементарный пример: когда пациент атакует аналитика недоверием, презрением или насмешкой, он может тем самым выражать желание уничтожить терапию, однако его потребность в то же время состоит в неразрушимости собеседника и сохранении отношений. По сути, об этом писал Майкл Кан: «Когда клиенты спрашивают... своих терапевтов, любят ли те их, они совершают нечто большее, чем просто задают вопрос. Они говорят терапевтам нечто важное о недостатке прочной самооценки» (Кан, 1997, с. 124). Об этом говорил и Когут, утверждая, что сочувствовать потребности пациента в зеркализации во многих случаях гораздо более терапевтично, чем просто отзеркаливать его.
В практике моего коллеги был следующий случай: пациентка стала просить его о совете по поводу сложной жизненной ситуации. До этого она неоднократно говорила, что обращалась с аналогичной просьбой едва ли не ко всем знакомым и близким. Все они охотно давали ей разнообразные советы, однако она не следовала ни одному из них и вновь продо;\жала свой поиск. Когда очередь дошла до аналитика, он ответил лишь: «Это действительно серьезная проблема, и я хорошо понимаю, как вам трудно сейчас». На следующий день пациентка приняла решение самостоятельно. Ее слова «дайте мне совет» означали на самом деле «поймите, как мне трудно». Все, кто не слышал этого и давал ей советы, тем самым говорили ей: «Ничего трудного нет, смотри, твоя проблема не стоит выеденного яйца».
176
О необходимости четкой дифференциации желаний и потребностей сообщали многие авторы, сходясь во мнении, что если первые в интересах терапии нуждаются во фрустрации, то вторые должны быть адекватно удовлетворены. Как писал Кейсмент, у новорожденного младенца различия между ними еще нет: оно появляется лишь позднее как различие между либидинозными требованиями (у Кейс-мента они носят название «хотения» («wants»)), которые в ходе терапии следует фрустрировать, и потребностями объектного характера, которые необходимо удовлетворить — например, подтвердить, что пациент реально влияет на аналитика, или что он адекватно воспринимает границу реальности и фантазий, или предоставить ему искомое пространство и отзывчивость (Кейсмент, 1995). О том же сообщал Балинт, замечая, что регрессия в аналитической ситуации может преследовать две цели: удовлетворение влечения или признание со стороны объекта, то есть представлять в одном случае интрапсихический, в другом интерперсональный феномен. Согласно методологии Балинта, «...возможен вариант, когда аналитик не только принимает некоторые из этих потребностей как полностью имеющие такое право (На существование в отношениях. — Д. Р.), но и удовлетворяет их в той степени, в которой удовлетворение совместимо с аналитической ситуацией» (Балинт, 2002, с. 114). Речь идет о предлагаемой в ответ на примитивные потребности пациента особой форме объектных отношений, недостаток которых в его прошлом стал причиной психической дефицитарности. То, как аналитик принимает регрессию и как отвечает на нее, будет определять ее клиническое проявление и течение и в конечном итоге ее терапевтический или «злокачественный» характер. Балинт признавал важной технической проблемой вопрос о том, в каких рамках аналитик свободен действовать, то есть отношения какого рода он может предложить пациенту или принять от него. Он должен уметь почувствовать, какая из возможных форм отношений будет адекватной и произведет терапевтический эффект (Балинт, 2002).
Можно провести параллель между дихотомией желаний и потребностей с одной стороны и описанным Дени противопоставлением функций объекта и анти-объекта — с другой. К функциям анти-объекта могут быть причислены классические интерпретации переноса, к функциям объекта — поддержка и развитие отношений. «В ходе анализа, — пишет Дени, — правомерно в какой-то момент отдавать предпочтение отношенческой составляющей „объекта", а в какой-то момент составляющей „анти-объекта"» (Дени, 2005, с. 230). В качестве примера этот автор, ссылаясь на Пара, констатирует, что для пациентов, страдающих соматозами, лучше ограничивать применение интерпретаций в пользу отношений; по-видимому, то же можно было бы сказать и по поводу множества тяжелых личностных расстройств. Мож
177
но добавить также, что желания и потребности в общих чертах коррелируются с двумя описанными Когутом типами психологических объектов — «истинными», отделенными от собственного Я и являющимися объектами страсти, и Я-объекта-ми, переживаемыми как части Я и обеспечивающими сохранность Я-организации. В концепции сторонников «интерсубъективного» направления эти два типа объектов существуют и действуют соответственно в конфликтном и Я-объектном измерении переноса и также соответственно требуют в первом случае интерпретаций, во втором — принятия и понимания, в конечном счете — удовлетворения.
О своей точке зрения на данную тему я могу сообщить относительно немногое. У меня нет сомнений в том, что важной составной частью искусства аналитика служит способность отличить истинные потребности пациента от его желаний и обеспечить первым адекватное удовлетворение. Однако у меня нет и убежденности в том, что интерпретация всегда является оптимальным средством обращения с желаниями. Ниже я затрону проблему интерпретаций отдельно. У меня нет также четкого алгоритма дифференциации желаний и потребностей, кроме допущения, что первые в основном детерминированы сферой влечений, то есть носят преимущественно интрапсихический характер, а вторые так или иначе связаны с объектным отношением и с переживанием собственного Я. Думаю, что это исключительно вопрос опыта терапевта, его интуиции и эмпатийных возможностей. Я полагаю, кроме того, что диапазон нуждающихся в удовлетворении потребностей выходит далеко за пределы круга, очерченного Балинтом («первичная любовь», окнофилическое слияние и филобатическое отстранение) и,хи Когутом (идеализация, отзеркаливание и восприятие alter ego): в него может входить, например, потребность в вербальной соотнесенности или же молчаливом присутствии другого, или в его столь же молчаливом отсутствии, в его неразрушимости, в его — в противоположность идеализации — временном обесценивании, или в переживании им того или иного чувства от любви до ненависти, или в его погружении в то или иное состояние от уверенности до временной дезориентации и непонимания происходящего. Пожалуй, корректнее всего будет утверждать, что каждый отдельно взятый пациент приносит в терапию свои уникальные и неповторимые потребности. Еще раз замечу, что когда на фоне их удовлетворения у него возникают потребности новые, нацеленные в жизнь за рамками анализа и реализуемые в культуре, можно констатировать, что в терапии достигнут серьезный и стабильный успех.
Если теперь вернуться к трем измерениям переноса, то и здесь я постарался бы избежать однозначных утверждений по поводу того, в каком из них функционируют желания, в каком — потребности, и так далее. Ранее я обозначил параллель между Я-объектным измерением и тем, что я назвал измерением «поиска
178
потерянного объекта», но ее неверно принимать за абсолютное тождество — равно как и параллель между конфликтным измерением и измерением «невербального диалога» в моей модели. Это еще одна причина, по которой я не стану говорить, что к процессам «невербального диалога» надлежит подходить исключительно с интерпретацией: в их течении и развитии играют важную роль и принятие, и удовлетворение в допустимых рамках, и к этой теме я также еще вернусь. Что касается «поиска потерянного объекта», повторю еще раз, что, на мой взгляд, мы не имеем возможности прямого влияния на процессы этого измерения — ни интерпретациями, ни удовлетворением потребностей. Они развиваются или нет независимо от нашего участия, и все, что мы можем сделать в аналитической ситуации, — это попытаться достичь такого взаимодействия с пациентом во втором измерении переноса, которое позволит им активизироваться (я подчеркиваю — «позволит активизироваться», но не «активизирует»). Пожалуй, единственное, что я мог бы сказать уверенно и однозначно, — это то, что процессы, протекающие в первом («функциональном») измерении, не нуждаются ни в удовлетворении (как говорилось выше, оно невозможно), ни в интерпретации: их следует просто услышать и понять.
Я думаю, что мог бы рекомендовать коллегам по крайней мере один принцип, которого я стараюсь придерживаться в своей практике и который, на мой взгляд, может обеспечить оптимальные условия для терапевтического развития переноса: он состоит в том, чтобы не делать для пациента ничего, о чем он не просит — и наоборот. Здесь имеется в виду не столько словесная просьба в обыденном понимании, сколько скорее неявный (хотя иногда и вербальный) запрос на нечто жизненно необходимое в данный момент. Когда мы чувствуем, что готовы передать пациенту наше понимание образов его сновидения, нам следует вначале спросить себя, нуждается ли он в этом сейчас. Когда нам кажется, что уместно дать интерпретацию его поведения или высказывания, полезно будет сперва понять, просит ли он нас об этом и не идет ли речь лишь о нашей собственной потребности интерпретировать, вместо того, чтобы предоставить переносу дальнейшую свободу. Если мы считаем, что пациенту требуется посещать нас не два, а три или больше раз в неделю, зададимся прежде всего вопросом: демонстрировал ли он нам тем или иным способом, что сам нуждается в увеличении частоты сессий (есть огромная разница между представлениями «анализ станет более эффективным» и «этот ана-лизанд страдает от недостатка встреч»). Перечень возможных ситуаций бесконечен. Если аналитик делает для пациента что-либо, на что последний не предъявлял запроса, скорее всего, он делает это не для пациента, а для себя. При этом он совершает самую непростительную (и, возможно, единственную подлинно непроститель
179
ную) ошибку, какую может совершить: он знает, что нужно пациенту, лучше, чем это знает сам пациент. Отсюда остается шаг до руководства пациентом, до направления его жизни в «правильное» русло. Трудно ожидать, что при таком развитии событий его подлинные потребности будут удовлетворены, а сиюминутные желания отделены от потребностей и поняты. Все, что на самом деле требуется от аналитика (всего-навсего, но насколько это больше и сложнее!) — настроиться на собеседника, почувствовать его и, слыша его и спонтанно реагируя, следовать за ним в «свободном плавании». Добавлю, что я не знаю, как этому научить, и (поскольку мой опыт включает не только успешные случаи) уверен, что сам далеко не в полной мере овладел этим мастерством.
ГЛАВА 10
О КОНТРПЕРЕНОСЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТКРЫТОСТИ
Мы также позволяем себе быть ведомыми нашими бессознательными желаниями — добрыми или злыми — оправдывая и рационализируя наши действия... бывает и такое, но предполагается, что мы будем размышлять о них, а не идеализировать.
Урбан Вестин
Таким образом, основная активность аналитика оказывается сосредоточена на взаимодействии с пациентом во втором измерении переноса, где ведутся одновременно два диалога — вербальный и невербальный, в котором носителем информации вместо слов являются проективные идентификации. Используя терминологию Балинта, можно сказать, что это взаимодействие всегда происходит в одно и то же время на уровне двух и трех персон. Если мы договорились рассматривать проективную идентификацию как в первую очередь средство диалога и согласны с тем, что она, как и слово, в интересах этого диалога должна достигать цели, а не разбиваться вдребезги о невосприимчивость и непроницаемость собеседника, то одним из условий, обеспечивающих свободное и безопасное развитие переноса во всех измерениях, следует признать эмоциональную открытость, или прозрачность контрпереноса. Я полагаю, что она является важнейшим компонентом включенности аналитика в бессознательную перенос-контрпереносную интеракцию, которую еще Левальд рассматривал как необходимое условие глубокого понимания пациента. С помощью переноса пациент стремится вызвать и вызывает в собеседнике не продуманный аналитический ответ, а эмоциональную реакцию синтеза его собственного переноса и контрпереноса (Loewald, 1986). В главе 4 я обосновывал точку зрения, согласно которой он имеет право, а иногда и должен видеть и знать, что своей цели он достиг.
181
Как уже упоминалось, взгляды аналитиков на роль контрпереноса прошли более чем за сто лет значительную эволюцию — от взгляда на него как на нежелательный артефакт психоаналитического процесса до признания за ним роли исключительного по эффективности инструмента исследования внутреннего мира пациента. Однако весьма дискуссионным остается вопрос о допустимости его открытости в принципе и о том, до какой степени аналитику следует посвящать пациента в собственные переживания. Одним из наиболее веских аргументов в пользу того, что определенная открытость не только допустима, но и необходима, стало понимание того, что: а — аналитик не может быть лишь безэмоциональным наблюдателем; б — задача абсолютного сокрытия своих чувств от пациента, если даже таковая ставится, в большинстве случаев нереальна. Еще Ференци обращал внимание на то, что пациенты интуитивно угадывают, «слышат» переживания аналитика — что делает по крайней мере целесообразным раскрытие им некоторых из этих переживаний. Впоследствии супруги Балинт также замечали, что аналитик неизбежно раскрывает себя перед пациентом в чертах характера и манере работы; пациент многое улавливает и бессознательно получает много знаний о своем собеседнике (Balint М., Balint А., 1939). Следует помнить, что аналитическая позиция, делающая терапевта эмоционально непроницаемым, была тесно связана с классическим представлением о нейтральности и анонимности. Однако, как сообщалось выше, эти принципы аналитической работы неоднократно пересматривались и в значительной мере утратили прежнюю императивность. Так, Уайт указывал, что нейтральность — не статический феномен, но непрерывное динамическое взаимодействие между переносом пациента и собственными бессознательными конфликтами аналитика. Аналитик всегда (повторим это еще раз) участвует в игре пациента и отличается от него только лучшей ориентацией в собственной субъективности. Если он предпочитает при этом занимать отстраненную и безэмоциональную позицию, он не столько способствует развитию переноса, сколько усиливает сопротивление переносу (White, 1992).
Я позволю себе также высказать мысль, которая, безусловно, может выглядеть весьма спорной — но что вообще в этой книге бесспорно, кроме тезисов, изложенных в первой главе? Когда аналитик пытается быть эмоционально закрытым для пациента, он воздвигает между ним и собой стену, предполагая, что она будет анизотропной, то есть проницаемой лишь в одном направлении — от пациента к аналитику, но не наоборот. В действительности же он не только закрывается этой стеной от пациента, но и закрывает пациента от себя. Он неизбежно теряет или блокирует при этом значительную долю своих эмпатийных возможностей, своей способности со-чувствовать, настраивать свое бессознательное на бессознательное Другого.
182
Он становится менее восприимчивым к интонации, мимике, модуляциям голоса, что в конечном счете затрудняет развитие взаимодействия во втором измерении переноса — измерении невербального диалога — и фактически закрывает пациенту доступ к пространству, в котором мог бы быть найден или сотворен «потерянный объект».
Другой аспект проблемы заключается в том, что потребность в эмоциональном отклике собеседника часто является истинной потребностью пациента — не продуктом сферы влечений, а производной от необходимости поддержки и сохранения своего Я. Как писал об этом Треурнит, в определенной фазе аналитического процесса пациенту необходимо чувствовать, что он способен пробудить в аналитике подлинные эмоции. Одновременно он сознательно или бессознательно наблюдает за тем, как аналитик с этим справится: как примет проекции, переживет агрессию и так далее. Лишь успешно пройдя предложенное испытание, он окажется терапевтически эффективным объектом (Treurniet, 1993). Сообщение пациенту переживаний аналитика во многих случаях ведет к ценному терапевтическому результату, поскольку становится для пациента сигналом о том, что он услышан и понят. Как замечал Кан: «Терапевтов нужно учить не технике или группе техник, а способам самораскрытия, во-первых, для приобретения опыта их клиентами, затем для своей собственной спонтанности. Эта спонтанность раскроет их собственный особый, идиоматический путь передачи сочувствия в данный момент» (Кан, 1997, с. 133).
Из примера с г-ном К. (глава 4) очевидно, что наибольшие проблемы открытости контраффекта возникают при негативном характере чувств, переживаемых аналитиком. Поэтому, продолжая разговор о целях проективной идентификации и о возможных способах обращения с нею, следует коснуться вопроса о негативном контрпереносе — быть может, одного из наиболее щекотливых вопросов психоаналитической этики и техники. Здесь я хотел бы в первую очередь заметить, что наиболее ранние отношения младенца с материнской грудью, в которых любовные и агрессивные импульсы еще не претерпели дифференциации, могут быть основанием для взгляда на ненависть не как на антитезу любви. С моей точки зрения, антитезой любви и ненависти вкупе яв;\яется равнодушие, отстраненность; другими словами, в этом аспекте я отдаю предпочтение первой дуалистической концепции Фрейда перед второй. Как ненависть, так и любовь подразумевает объектную коммуникацию; и то, и другое может стать немаловажным компонентом терапевтических взаимодействий. Прекрасный пример тому содержался в докладе Жана-Мишеля Кинодо на конференции Международного психоаналитического журнала 2004 года и в содокладе к нему Анны Човницка: «Агрессия Долорес является следствием ее идентификации с объектом, который злоупотребляет и поглощает. Ее агрессия
183
служит защитой от злоупотребления и аннигиляции. Мне кажется, что... склонность Долорес агрессивно атаковать своего аналитика, особенно все хорошее и обнадеживающее, можно понять как симптом ее выхода из состояния интроверсии. При этом атака — необходимая реакция» (Кинодо, 2004, с. 38).
Как уже говорилось, психотерапевты, имеющие дело с пациентами с глубокими модификациями Я, в первую очередь с теми, чья личностная структура принадлежит пограничному континууму, хорошо знают, какие неприязненные чувства могут быть индуцированы их проективными идентификациями. Едва ли кто-то из аналитиков в наши дни с полной серьезностью примет цитировавшееся выше высказывание Уэлдера о том, что контрперенос присутствует в анализах, которые ведут неопытные терапевты. Хотя невозможно провести четкую границу между переносом аналитика как продуктом его субъективности и контрпереносом как его откликом на субъективность пациента, я стану говорить о контрпереносе как явлении, основной вклад в которое принадлежит все-таки субъективности Другого, то есть о тех переживаниях, которые становятся не производными неких «слепых пятен», недостаточно проработанных в личном анализе, но адекватным откликом на реальное поведение реального человека. Даже «прекрасно проанализированному» специалисту, как я полагаю, присуща определенная степень нарциссической уязвимости, и его Я может быть болезненно затронуто равнодушием пациента или пренебрежением, издевкой, насмешкой, демонстративным сознательным сопротивлением и так далее. Реальность в подобных ситуациях часто доминирует над субъективностью (надеюсь, читатель поймет, что я подразумеваю под реальностью в данном контексте). Ненависть же сама по себе не является ни патологическим, ни ненормальным феноменом: все мы наделены способностью ненавидеть, и она так же развивается в нас с детских лет, как и способность любить.
Здесь трудно обойти вниманием одну из наиболее известных работ Вин-никотта — «Ненависть в контрпереносе» (Винникотт, 2005а). В 1948 году этот исследователь вызвал шок у части ортодоксального аналитического сообщества, заявив, что аналитик не должен отрицать собственное право ненавидеть пациента. Данная идея продолжала представление Винникотта о психоаналитическом процессе как аналоге процесса развития отношений в детско-материнской диаде. С его точки зрения, мать имеет право и основание не только любить, но и ненавидеть своего младенца, и должна переносить ненависть, не вытесняя ее и не отыгрывая в действии; если она не обладает таковой способностью, то наносит ребенку серьезный вред или занимается саморазрушением, «впадая в мазохизм». Материнская ненависть нужна ребенку ради свободы выявления ненависти собственной: если его ласкают,
184
когда он злится, он начинает чувствовать себя уничтожаемым своей же агрессией. Ненависть в контрпереносе была описана Винникоттом как чувство, практически неизбежное на определенном этапе работы с пациентами, у которых в младенчестве отсутствовал опыт позитивных отношений с объектом. Такие больные воспринимают в терапевте лишь то, что способны ощутить сами, то есть единство любви и ненависти. При этом они обладают средствами реально добиваться ненависти и активно их используют, поскольку таков единственный для них способ почувствовать собственную реальность и признать со временем, что они могут добиться также и любви. Однако, как и от ребенка, от такого пациента нельзя ждать, что он обретет свободу выражения ярости к терапевту, пока терапевт не сможет ненавидеть его. С точки зрения Винникотта, его анализ не станет возможен до тех пор, пока не снят запрет с негативного контрпереноса и ярость аналитика — «объективная» реакция на личность пациента — не выведена в сознание и не принята им так же, как принимается «достаточно хорошей матерью» естественный негативный полюс своего отношения к младенцу.
Впоследствии взгляды Винникотта весьма часто становились объектом критики со стороны психоаналитического сообщества; например, как не без оснований ставил вопрос Этчегоен, в какой мере суждения и реакции аналитика объективны? Можно ли допустить, что он никогда не будет склонен искать им оправдания и рационализировать их? Доказать, что ненависть в контрпереносе объективна, затруднительно, поскольку принципиальный момент в определении как переноса, так и контрпереноса — указание на их необъективность; кроме того, согласно принципу множественности функций Уэлдера, никакое переживание не может быть ни абсолютно объективным, ни столь же субъективным — оно всегда возникает как суммарный результат многих причин. «Если бы я захоте^х поступить как искренний аналитик (в представлении Винникотта), — писал Этчегоен, — то должен был бы сказать своему пациенту, что «объективно» ненавидел его три года назад, и не только из-за его невыносимого поведения, но также из-за того, что я тогда плохо ладил со своей женой, меня беспокоило собственное финансовое положение, психоаналитический журнал отказался публиковать одну из моих статей... и добавить к этому еще Бог знает сколько искренних и объективных признаний в том же духе» (Этчегоен, 2005, с. 137). Однако замечу, что сам Винникотт со временем внес в свои идеи по поводу контрпереноса значимые коррективы: свой доклад на заседании Британского психоаналитического общества в 1959 году он начал с заявления, согласно которому аналитикам следует вернуться к исходному значению слова «контрперенос», то есть понимать под ним невротические проявления, иска
185
жающие профессиональную установку аналитика и нарушающие течение терапии (Винникотт, 20056). Я, со своей стороны, практически убежден, что данная смена позиции Винникотта по крайней мере отчасти была обусловлена реакцией на его прежние идеи ортодоксально настроенных коллег.
Неоднозначность восприятия психоаналитиками ранней позиции Винникотта вполне понятна. Ненависть опасна, поскольку тесно связана с фантазиями разрушения, поэтому ради спасения терапевтического контакта и пациент, и аналитик стараются ее отклонить. Возможно, по этой причине и в наши дни наиболее распространена точка зрения, согласно которой безусловное принятие пациента есть обязательный компонент подлинно терапевтических отношений. В наиболее концентрированной форме она была выражена в работе Вюрмсера «Ненависть в ситуации анализа». Автор подчеркивал неподтвержденность допущения, что аналитик имеет право реагировать ненавистью на ненависть, выражаемую пациентом: для специалиста достаточно проанализированного контрпереносная агрессия никогда не станет необходимым элементом коммуникации, и ее присутствие в терапии есть фактор однозначно негативный. Агрессия представляет продукцию сферы влечений, как и сексуальные побуждения, и в качестве таковой она должна быть со стороны аналитика исключена из отношений. Не отвечать ненавистью на ненависть может быть непростой задачей, но следует иметь в виду, что такого рода идентификация с агрессором всегда угрожает объектной связи, поскольку превращает аналитический процесс во взаимное отыгрывание. Другими словами, речь в статье шла о необходимости подавления ненависти, но не об ее отсутствии. Следует добавить, что Вюрмсер, по его собственному признанию, анализировал невротических пациентов с проблемами характера и почти не обращался к вопросам ненависти в терапии больных с более выраженными модификациями Я (Wurmser, 1972). Но и другие авторы часто рассматривают ненависть и ее производные в контрпереносе как сугубо отрицательный фактор, обусловленный неспособностью аналитика обуздать свою субъективность: так, Рэкер относит ее к ситуациям, в которых пациент фрустри-рует определенные желания терапевта, и эти фрустрации приравниваются последним к отвержению или нападению (Ракер, 2005). Кернберг, говоря о пациентах с тяжелыми личностными расстройствами, отмечает, что «временами регрессивная злость пациента в переносе (Почему именно регрессивная? — Д. Р.) пробуждает ответную контрагрессию терапевта», и рекомендует в подобных случаях «на эмоциональном уровне — относиться к пациенту с эмпатией или осуществлять холдинг (Винникотт), а на когнитивном — интегрировать или «быть контейнером» (Бион) для фрагментированного переноса» (Кернберг, 2000, с. 136). При знакомстве
186
с такими рекомендациями возникает чувство, что они призваны превратить аналитика в оператора компьютера, которому достаточно навести курсор на «эмпатию» или «холдинг» и «кликнуть мышкой» пару раз.
Конечно, Этчегоен был прав, замечая, что у нас нет оснований всерьез говорить об «объективном» характере ненависти в той или иной ситуации. Вопрос в другом: так ли опасна она для аналитического процесса, как полагал Вюрмсер, в частности, есть ли у нас веские основания выделять именно ее из широкого спектра возможных в анализе чувств? В течение XX столетия многие аналитики отказались от рассмотрения агрессии как первичного инстинктного проявления, в частности, как производной от «влечения к смерти», предпочитая говорить о ней скорее как об энергетической характеристике действия, направляемого субъектом вовне и (или) на себя. Агрессия, проявляющаяся в переносе и контрпереносе, в том числе в ненависти как своей кульминационной форме, получила оригинальное объяснение в концепции Корделии Шмидт-Хеллерау как продукт субъективности оценки «психологического расстояния» до объекта. Шмидт-Хеллерау предложила понятие «психического локуса» объекта (психической близости, доступности, эмпатии) относительно «психического локуса» субъекта (потребности, намерения) в «психогеометрическом пространстве». Психика субъекта постоянно оценивает это пространство, чтобы вычислить, где находится объект: его положение может ощущаться как адекватное, слишком далекое или, наоборот, слишком близкое. На восприятие этой дистанции влияет базовый уровень бессознательной фантазии. С данной точки зрения перенос может пониматься как искаженное субъектом восприятие «психогеометрического локуса» объекта: он делает объект в «психогеометрическом пространстве» чрезмерно близким или далеким. Эти искажения становятся особенно сильны, когда уровень восприятия реальности регрессивно снижается и не влияет на инфантильные потребности модулирующим образом. В таком случае пациент начинает предчувствовать возможность подавления или отвержения, что рождает соответственно либо «защитную агрессию», направленную на увеличение дистанции, либо «агрессию преследования», направленную на ее сокращение (Шмидт-Хеллерау, 2003). Несмотря на то, что Шмидт-Хеллерау оперирует такими понятиями, как «искажение», «реальное восприятие», «адекватная оценка», то есть оставляет за терапевтом право на «истинное восприятие реальности» и мало внимания уделяет его собственной субъективности, ее представления обладают, на мой взгляд, немалой терапевтической ценностью. По сути, агрессия может быть рассмотрена в соответствии с ними не как средство уничтожения отношений, то есть как прямая угроза терапии, но, напротив, как способ формирования и сохранения этих отношений в том виде, в котором испытывает потребность пациент.
187
Проблема «демаркационной линии» между конструктивным и деструктивным по сей день остается, по-видимому, одной из древнейших проблем человечества, и это лишь одна из причин, по которым я предпочитаю, как было сказано выше, оставаться в рамках первого фрейдовского дуализма. Вероятно, среди психоаналитиков впервые ее обозначила Сабина Шпильрейн в докладе «Деструкция как причина становления» (1911), который многие рассматривали затем как предтечу идеи Фрейда о влечении к смерти. «Деструктивность» в нем предстала в созидательном аспекте: главной мыслью Шпильрейн была мысль о невозможности рождения нового без разрушения старого. Я приведу исторический пример, которым обычно пользуюсь для ее иллюстрирования. В Павловском парке (близ Санкт-Петербурга) над долиной реки Славянки стоит павильон «Колоннада Аполлона» — кольцо двойных дорических колонн, разорванное и частично обрушенное вниз по склону живописным каскадом обломков. Его автор, архитектор Чарльз Камерон, сперва спроектировал и выстроил колоннаду замкнутой, но однажды в результате размывшего берег ливня или паводка часть ее, обращенная к реке, рухнула. Сам собой возник образ античной руины — тот, что открывается посетителям парка и в наши дни. Когда Камерон увидел, что сделала сама природа с его творением, он велел помощникам не трогать ничего и оставить все как есть. Можно задаться вопросом: был ли это со стороны стихии акт разрушения, то есть деструкции, или созидания? На мой взгляд, ответ на него невозможен, да и непринципиален: скорее здесь важен вопрос как таковой.
Возвращаясь к контрпереносу и взглядам Вюрмсера, я хотел бы заметить, что, во-первых, понятие «достаточной проанализированное™» само по себе представляется мне в известном смысле фиктивным, поскольку критерии этой «достаточности» весьма расплывчаты. Во-вторых, едва ли нормальный (в общепринятом смысле) человек, даже досконально разобравшийся в своем внутреннем мире, сумеет реагировать на атаки враждебно настроенной личности одним лишь безусловным принятием и пониманием. Это совершенно естественно, если мы рассматриваем аналитика не как отстраненного наблюдателя, но как активного участника взаимодействия, а анализ — как диалог двух бессознательных, но не как объективно исследуемый монолог бессознательной сферы субъекта. Если принять точку зрения Вюрмсера и рекомендации Кернберга, остается предположить лишь, что статус «пациента» делает человека для терапевта нереальной, виртуальной фигурой, а самого терапевта — субъектом, полностью абстрагировавшимся от своих желаний и абсолютно невосприимчивым к нападениям. Но будет ли при этом реален терапевт, и сможет ли он оказать реальную помощь тому, кто за ней обратился? Или помощь эта также станет виртуальной, как в нередкой, к сожалению, ситуации, когда в ана
188
литическом пространстве наблюдается оживленная позитивная динамика, в то время как в жизни пациента не происходит никаких перемен?
Согласно замечанию Виргила Рику, вся «классическая» модель аналитического процесса, несмотря на декларируемое стремление к «чистоте» и «научности», отмечена особенностями личности Фрейда. Использование кушетки связано с тем, что Фрейд не выносил постоянных многочасовых взглядов пациентов, запрет на физический контакт — из-за фобии прикосновений у создателя психоанализа, и т.д. Ссылаясь на Питера Гея, Рику сообщал, что пациенты для Фрейда всегда были прежде всего материалом для исследования и источником дохода (о чем упоминала моя пациентка — см. главу 7), и, возможно, его попытки исключения аналитика из терапевтических отношений были лишь защитой от чувств к пациентам (Рику, 2006). Однако по другим сведениям, Фрейд вел себя с пациентами довольно активно и вовлечено, что следует, например, из его описаний случаев Доры и Человека-Крысы. Он иногда говорил во время сессий так же много, как пациент, поддерживая обычный диалог; мог накормить пациента, если тот был голоден; поощрял его самораскрытие экскурсиями по своей коллекции античных статуэток. Однажды, чтобы поддержать одного из своих пациентов, он даже занял для него денег у коллег (Кан, 1997). Томэ и Кехеле отмечали со ссылкой на Кремериуса, что у Фрейда была в целом плюралистическая концепция лечения, подразумевавшая использование широкого спектра терапевтических средств. Однако значение участия терапевта как субъекта в ней долгое время оставалось скрытым, поскольку детальное исследование его создавало бы серьезные проблемы для психоаналитической теории техники: решение этих проблем стало возможным только приблизительно с середины XX столетия (Томэ, Кехеле, 1996а). Как раз в этот период, в частности, появилось предостережение Балинта о том, что, если аналитик, ведя работу на уровне «базисного дефекта», непоколебим в своей позиции нейтральности и пассивности, то «...пациент либо прекращает анализ как безнадежное предприятие, либо после тщетной борьбы встает перед необходимостью идентифицировать себя с агрессором, каковым он воспринимает аналитика» (Балинт, 2002, с. 35). Вот один пример из практики моего коллеги, отчасти созвучный примеру г-на К.
Терапевт работал с пациенткой, которая периодически крайне деструктивно срывала адресованную ему злость на своей маленькой дочери. Накапливавшееся возмущение он долгое время старался держать при себе. Однажды после очередного рассказа о таком эпизоде пациентка спросила, что ее собеседник об этом думает, и он, не желая кривить душой, отозвался о ее действиях осуждающе. Пациентка бурно выразила недовольство, заявив, что, с ее точки зрения, терапевту следовало
189
понимать и принимать ее в любых проявлениях. Однако на следующей сессии она с удивлением заметила: «Странно, но я стала вам больше доверять». Аналитик, не выражавший негативных чувств по поводу ее обращения с дочерью, представлялся ей фигурой зловещей, маскирующей истинные чувства и реакции — как, строго говоря, и было в действительности до этого дня. Этот пример, на мой взгляд, иллюстрирует точку зрения, согласно которой аналитику иногда совершенно необходимо открыто, как человеку, выражать свои мнения и убеждения. Он не вредит при этом переносу, не устраняет его, а просто делает очевидным то, что прежде и так улавливалось пациентом косвенно и интуитивно (Aron, 1991).
Данный фрагмент открывает нам и вторую сторону обозначенной проблемы, то есть вопрос об обращении терапевта с негативным контрпереносом. Традиционная точка зрения психоаналитиков по данному вопросу долгое время заключалась в том, что терапевту следует при любых обстоятельствах сохранять лишь доброжелательное спокойствие по отношению к пациенту, во всяком случае, не демонстрировать личного отношения к тем или иным его проявлениям. Приведенный пример, однако, позволяет увидеть, что в терапии возникают ситуации, в которых именно такая позиция терапевта выглядит неестественной и может показаться его собеседнику признаком сокрытия истинных чувств и мыслей: в этом случае она едва ли будет способствовать открытости и свободе его собственных проявлений. Есть и еще одно «но». В упоминавшейся выше статье Винникотт подчеркивал, что аналитик должен быть только осведомлен о своей ненависти для того, чтобы сохранить ее в латентном состоянии и интерпретировать в нужный момент. Однако принятие и долгое удерживание в себе мощных негативных чувств может оказаться непосильной задачей. Любое контейнирование аффекта бывает возможно до некоего предела, за которым оно становится разрушительным. Известны случаи, когда подавляемые переживания находили разрядку в серьезной соматической симптоматике. Кроме того, они могут и отыгрываться аналитиком непосредственно на пациенте, например, в форме избыточной фрустрации, в слабо мотивированных, хотя и рационально обоснованных индексациях оплаты, в тенденциозной подаче материала на супервизии и т.д. Наконец, наиболее существенная сторона проблемы состоит в том, что, как уже упоминалось, терапевтическое развитие переноса во втором измерении подразумевает включенность аналитика в невербальный диалог — диалог, который со временем следует, насколько это возможно, перевести в словесный. Я предполагаю, что коммуникация такого рода должна основываться на обоюдной открытости: вызывая в терапевте определенный аффект, пациент вправе рассчитывать на обратную связь, и во многих случаях, как упоминалось в главе 4, адекватный отклик на него будет включать демонстрацию контраффекта.
190
Однажды тема «незасекреченного» негативного контрпереноса была затронута мной в лекции, которую я читал студентам института психоанализа. Разумеется, она вызвала у аудитории неоднозначный отклик. Тогда я спросил: «Есть ли среди вас те, кто искренне полагает, что никакие из его поступков, реакций, форм поведения никогда не смогут вызвать у другого человека неприязни, раздражения или гнева?» Ответом было молчание. Я задал второй вопрос: «Какого аналитика вы выберете для себя: того, о ком вы будете знать, что он никогда не проявит открыто подобных чувств, если они у него возникнут, или того, кто прямо скажет вам о них и затем предоставит возможность их всесторонне обсудить?» Большинство высказалось в пользу второго варианта.
Разумеется, сам вопрос о праве терапевта на вербализацию негативного аффекта в современном психоаналитическом сообществе остается дискуссионным. Я позволю себе предположить, что это обстоятельство не в последнюю очередь связано со слабой разработанностью самой техники подобных интервенций. Для меня очевидно, что в ее основе должно лежать правило «достаточно хорошей матери» — матери, которая, даже порицая ребенка за некий проступок, формирует у него представление «я поступил плохо», но не ощущение «я плохой». Этот взгляд созвучен позиции Роджерса, согласно которой чувства терапевта по отношению к пациенту напоминают чувства родителя к ребенку, не являющиеся собственническими и не требующие от ребенка непременно быть таким, каким его хотят вметь. Даже если ребенок время от времени вызывает у родителя недовольство или гнев, он все равно безусловно любим. Пациент примет и выдержит негативизм, если он не будет означать для него разрушения отношений.
Такая ситуация, на мой взгляд, предполагает выполнение трех базовых условий: а — пациент способен хотя бы к частичной идентификации с терапевтом и ко взгляду на то или иное свое проявление «со стороны»; б — чувство, переживаемое терапевтом, принадлежит именно контрпереносу как ответу на это проявление, но не собственному переносу; в — оно адресовано данному проявлению, но не личности пациента в целом. Иногда бывает можно сделать это по прошествии некоторого времени, когда пациент будет готов его принять — например, обретет способность к идентификации. В любом случае после подобного шага имеет смысл предложить пациенту обсудить причины возникновения контраффекта, допустим, в следующей форме: «Когда вместо ответа на мой вопрос вы засмеялись, я почувствовал раздражение. Давайте попробуем понять, было ли это исключительно моей проблемой, или отчасти в нем был ваш вклад». В обзоре взглядов и техник Роджерса Кан приводит хороший пример того, как Роджерс сообщил бы пациенту о чувстве скуки: «Грустно
191
отметить, что мне не очень интересно на нашей сегодняшней сессии, и неловко говорить вам это. Мне кажется, скука появилась оттого, что я не чувствую реальной связи с вами. Нет ли у вас каких-нибудь мыслей насчет происходящего между нами сегодня? Что, по-вашему, заставляет меня испытывать подобные чувства?» (Кан, 1997, с. 127). Недостаток данной интервенции видится мне в том, что ею терапевт исходно внушает пациенту: «Это ты ведешь себя таким образом, что мне скучно», игнорируя тот факт, что причиной скуки может быть и его собственное нынешнее состояние, но это уже вопрос формулировки. Главное, что следует подчеркнуть, — это то, что если отыгрывание контрпереносного негативизма ведет к пагубному стиранию границ, то его открытая вербализация и обсуждение во многих случаях позволяют сохранить подлинно терапевтический характер диалога.
Как видно из сказанного, проблема эмоциональной открытости аналитика вовсе не является простой и однозначно решаемой. В 60-е годы XX столетия в США обрели высокую популярность так называемые «группы встреч» (encounter groups), которые организовывались представителями гуманистической психологии. Одним из ведущих принципов работы таких групп была аутентичность, то есть подлинность, отношений между участниками. Терапевт, ведущий группу, должен был быть столь же честным во всех отношениях и эмоционально открытым, сколь пациенты, например, выражать все без исключения чувства: враждебность, восхищение, сексуальное влечение. Как писал Кан, эта «аутентичность» напоминала лицензию на хранение и применение опасного оружия, и было непонятно, как можно использовать переносы участников группы, если они безнадежно разрушаются в контексте свободно выражаемой личности терапевта (Кан, 1997). Поэтому я хотел бы еще раз подчеркнуть, что все, что было сказано здесь о необходимости эмоциональной открытости, относится к реакциям контрпереноса как ответа на перенос пациента, но не к собственному переносу терапевта. Если то или иное проявление пациента активно направлено на то, чтобы вызвать у него, например, тревогу, в определенной ситуации он может и даже должен сообщить об этом чувстве, но очевидно, что, если терапевт вообще тревожен, будет мало пользы в том, что он по малейшим поводам станет сообщать об этом каждому из проходящих у него терапию. В любом конкретном случае аналитику следует индивидуально определить, является ли его переживание преимущественно экзо- или эндогенным, то есть обусловлено ли оно в первую очередь внутренними или внешними факторами; и это лишь дополнительный штрих на тему важности собственного анализа. Самый элементарный способ ответа на вопрос: «Принадлежит ли мое чувство области моего переноса, или оно индуцировано пациентом?» состоит в том, чтобы ответить на вопрос менее сложный:
192
«Является ли это чувство характерным для меня, или оно возникает во мне только в работе с данным субъектом как ответ на его определенное проявление?». Так или иначе, «единственный контрперенос, являющийся потенциальным источником эмпатии — это контрперенос, вызванный самим клиентом, а не тот, который предлагает терапевт» (Кан, 1997, с. ИЗ).
Альтернативную позицию по данному вопросу занимал Роджерс, для которого дифференциация «собственных» и «индуцированных клиентом» чувств не была сугубо принципиальной. «Всегда ли полезно быть искренним? — спрашивал он. — А как насчет отрицательных чувств? Как насчет случаев, когда настоящими чувствами консультанта по отношению к клиенту являются раздражение, скука или неприязнь? Мой эмпирический ответ будет таким: даже такими чувствами, как эти... консультанту предпочтительнее поделиться, нежели прятаться за фасадом интереса, заботы и симпатии, которых на самом деле нет. (...) Я узнаю, что чувство, кото-
рое я выразил — мое чувство скуки, а не какие-то предполагаемые факты о нем, клиенте, как о скучной личности. Если я выражаю это как свою собственную реакцию, то появляется принципиальная возможность углубления наших отношений. (...) Я предпочел бы поделиться с ним своими переживаниями по поводу скуки
и дискомфорта, который испытываю, выражая эту свою точку зрения. По мере того, как я делюсь этими взглядами, я нахожу, что мое чувство скуки выросло из моего ощущения отдаленности от него и что я желал бы быть с ним ближе» (цит. по: Кан, 1997, с. 43). Кан, из работы которого почерпнута данная цитата, констатировал: «Мы уже видели, как ломал голову Роджерс, пытаясь определить границы, до которых может или должна простираться искренность. Похоже, что общего определенного ответа, подходящего каждому клиенту в любой ситуации, никогда не будет» (Кан, 1997, с. 119). Также и Рэкер писал, что целесообразность сообщения пациенту контрпереноса должна заново оцениваться в каждом конкретном случае, хотя иногда оно безусловно ценно для дальнейшего хода терапии (Ракер, 2005).
Конечно, нам никогда и никуда не деться от сложностей, связанных с тем, что не существует подлинно объективного восприятия ситуации: как уже не раз отмечалось, аналитик видит происходящее не в меньшей степени субъективно, чем пациент, и не может поэтому претендовать на «адекватность в последней инстанции». Однако вместо того, чтобы бояться своей субъективности, лучше помнить, что иногда из нее можно извлечь весомую терапевтическую пользу, сделав ее «прозрачной» для пациента.
Алан Жибо в одной из своих работ приводил следующий пример: пациентка с пограничной организацией личности, обладавшая суицидными тенденциями, показала терапевту фотографии, на которых она лежала в ванне, наполненной кровью.
193
Терапевт (женщина) отказалась на них смотреть, заявив, что находит их отвратительными. Комментируя произошедшее, Жибо отмечал, что, хотя эта интервенция представляла сугубо личную агрессивную реакцию терапевта на атаку, но в то же время она была и интерпретацией: она разрушила перверсную установку пациентки, позволив ей затем понять значение этой установки в переносе (Жибо, 2001).
Кстати, следует помнить о том, что как раз пациенты с пограничной личностной организацией (именно их проективные идентификации становятся обычно источником наиболее серьезных проблем) при весьма высокой степени недоверия и тревоги крайне восприимчивы к невербальным компонентам диалога — к мимике, интонации, взгляду. Порой они с поистине гениальной чуткостью «ловят» состояние собеседника; анализ при этом делается отчетливо обоюдным, а позиция эмоциональной закрытости — явно бесперспективной. Если такой пациент обнаруживает, что от него прячут раздражение или злость, его недоверие возрастает в геометрической прогрессии. Вот что сообщал об этом Балинт: «...пациенту каким-то образом удается — и с этим трудно смириться — забраться аналитику под кожу. Ему становится известно многое, очень многое о своем аналитике. Это знание пополняется не из внешних источников информации, а с помощью какого-то вдруг открывшегося сверхъестественного таланта... Этот сверхъестественный талант иногда кажется способностью к телепатии или ясновидению, а может быть, и действительно равнозначен им... Это знание переходит всякие границы и поэтому не может быть достоверным, во всяком случае, так чувствует это аналитик (Курсив мой. — Д. Р.). Если в этом случае аналитику не удается «включиться», то есть соответствовать ожиданиям пациента, которые появляются при переносе, то реакции гнева, ярости, презрения или критики не возникают, как того можно было бы ожидать на эдиповом уровне. Можно наблюдать только чувства пустоты, потерянности, омертвения, тщетности, несерьезности и т.п., сопровождающие апатичное принятие всего происходящего» (Балинт, 2002, с. 32). В данном фрагменте блестяще описана ситуация неспособности аналитика поддержать невербальный диалог и ее исход. Добавим сюда цитату из Кана: «Если бессознательно я нуждаюсь в том, чтобы определенный клиент (или все мои клиенты) восхищался мной и любил, сколько бы я ни говорил вслух о том, что приветствую выражение негативных чувств в свой адрес, клиент, вероятно, воспримет тысячу крошечных намеков, которые покажут, как я в действительности отношусь к гневу и критике» (Кан, 1997, с. 110). Искренность и открытость чувств в работе с такими пациентами делается поэтому важным фактором успеха. Даже в ситуации, которую описывает Кан, вместо попытки скрыть свои переживания аналитик мог бы, например, сказать: «Да, вы правы, у меня есть
194
личные недостатки, и один из них состоит в том, что на критику я реагирую болезненно. Но я не думаю, что это должно вас смущать или сдерживать: я не разрушусь от ваших замечаний, и вы дадите мне дополнительный стимул к работе над собой». Это лишь небольшое, но существенное дополнение ко всему, что было сказано мною выше о проективной идентификации как средстве диалога и о том, что во многих случаях пациент, рождающий в терапевте то или иное сильное чувство, должен быть об этом осведомлен.
По определению Биона, психоаналитический процесс — эмоциональная жизнь, в которую всегда глубоко вовлечены оба участника отношений, и личность аналитика, его ценности и установки всегда влияют на пациента и материал анализа. Препятствия на пути процесса создаются не этим взаимовлиянием, а тревогой аналитика перед ним и вытекающей из нее склонностью держаться за теорию и догматическое знание (Bion, 1967). То, что аналитик является таким же человеком, как пациент, а не бесстрастным индикатором проективных идентификаций, было дополнительно доказано с помощью клинических фактов, о которых упоминал Этчегоен: из-за мобилизации инфантильных конфликтов он сперва реагирует на перенос пациента не контрпереносом, а переносом, то есть реагирует иррационально. Как верно замечал этот автор: «Никто из нас, даже те, кто решительно отстаивает установку искренности аналитика перед пациентом, не станет утверждать, что следует раскрывать перед анализируемым источники наших конфликтов и ошибок. Поступая так, мы нагружали бы пациента чем-то, что не имеет к нему никакого отношения» (Этчегоен, 2005, с. 132). Однако, как уже не раз говорилось, демаркационная линия между собственным переносом и контрпереносом носит весьма расплывчатый характер, поскольку любое чувство, которое мы испытываем, отчасти детерминировано внешней реальностью, отчасти — нашей субъективностью. Согласно замечанию Оуэна Реника, субъективность аналитика есть исходный и неустранимый компонент аналитического процесса: она присутствует в форме отыгрывания во всем, что он говорит и делает, при самом строгом его стремлении к объективности. Она не может быть взята под контроль до того, как проявится в этом отыгрывании, она будет неизбежно сохраняться, и вместо того, чтобы безуспешно пытаться ее контролировать, аналитику следует сделать ее частью работы (Renik, 1995). Отыгрывание должно быть привнесено в анализ и обсуждено, например, как в моем комментарии к предложенной Каном ситуации неприятия критики (см. выше), а его воздействие на аналитический процесс и пациента исследовано самым тщательным образом. Бесплодные же попытки аналитика установить контроль над своей субъективностью есть, с моей точки зрения, именно то, что лишает
195
коммуникацию качества естественности, о важности которого упоминал Кейсмент и о котором шла речь в предыдущей главе.
То, что мне хотелось бы сказать напоследок об использовании контрпереноса, на мой взгляд, самым исчерпывающим образом выразил Рэкер: «...определенно является ошибкой видеть в контрпереносной реакции оракула и ожидать от нее со слепой верой чистой правды о психологической ситуации анализируемого. Очевидно, что наше бессознательное является весьма личным «приемником» и «передатчиком», и мы должны считаться с частыми искажениями объективной реальности. Но также справедливо и то, что наше бессознательное — это «лучшее, что у нас вообще есть»... Согласно моему опыту, опасность преувеличенного доверия посланиям собственного бессознательного, даже если они относятся к очень «личным» реакциям, является меньшей, чем опасность их вытеснения и отрицания их объективной ценности» (Ракер, 2005, с. 347).
ГЛАВА И
ОБ ЭМПАТИИ И «ПАРАДОКСАЛЬНОМ МЫШЛЕНИИ»
Тема контрпереноса тесно соприкасается с темой эмпатии, которую во многих случаях описывают как разновидность контрпереносных реакций: в частности, Рэкер рассматривал ее как зрелую сублимированную форму контрпереноса. Под эмпатией (автор понятия — Вильгельм Дильтей) обыкновенно понимается способность одного человека почувствовать и понять то, что в данную минуту переживает другой. С точки зрения большей части аналитиков, она представляет комплексный феномен, связанный с процессом идентификации, а именно специфическую форму идентификации, которая в большинстве случаев транзиторна и предсознательна, не является регрессивной и обратима по своей природе (Этчегоен, 2005). На особое значение эмпатии в понимании личности указывал еще Фрейд в работе «Массовая психология и анализ человеческого Я» в главе, посвященной идентификации (Фрейд, 1990а); но я полагаю, что в полной мере терапевтическая роль этого процесса была оценена аналитиками под влиянием работ Биона, который подчеркивал важность способности терапевта вмещать чувства пациента в себя (контейнировать), смягчать их путем толкования и возвращать затем в модифицированной форме — так же, как мать вмещает переживания и страхи ребенка. Без такого вмещения нет подлинного чувствования пациента, а следовательно, нет и подлинного понимания. Целительный эффект эмпатии и контейнирования так описан Кейсментом: «Пациенты научили меня тому, что, когда я испытываю невыносимые чувства пациента... и если я могу это пережить... одновременно и как невыносимое, и как выносимое, так что оказываюсь все еще в состоянии находить некоторый путь для продолжения работы, тогда я могу начать «разряжать» (defuse) страх пациента перед самыми сильными чувствами» (Кейсмент, 1995, с. 176). Кейсмент подчеркивал, что в эмпатийном понимании пациента аналитик не ограничен собственным опытом, так как каждый человек наделен потенциалом, позволяющим ему испытать любое чувство, сколь
197
бы ни выглядело оно необычным или чуждым его личности (заметим, что Фрейд также сообщал об эмпатии как средстве понимания в другом того, что чуждо нашему Я). Поэтому аналитику следует быть всегда открытым «инаковости» пациента — быть готовым к любым чувствам, способным возникнуть в связи с другим человеком, как бы сильно тот ни отличался от него самого. Кейсмент предлагал использовать для этого «пробные идентификации» с пациентом — разновидность эмпатийного переживания. Он приводил следующую цитату из Мани-Керла: «Когда пациент говорит, аналитик начинает интроективно отождествлять себя с ним, а восприняв его изнутри, сможет вновь проецировать его и интерпретировать» (Кейсмент, 1995, с. 49). Ссылаясь на Райха, Кейсмент определял эмпатию как способность аналитика разделить чувство пациента не просто как похожее на свое собственное, но именно как свое.
На эмпатийном понимании пациента практически целиком построена кли-ент-центрированная психотерапия Роджерса. В ее рамках главной функцией консультанта (терапевта) является реализация способности проникаться настроением клиента, его внутренним состоянием, принимать мир таким, каким тот видит его, и самого клиента таким, каким тот видит себя, то есть понимать его переживание с его же позиции. Эмпатия в понимании Роджерса представляет механизм одновременно эмпирический, то есть эмоциональный, и когнитивный: последнее позволяет консультанту пережить чувство пациента лишь «как если бы», не растворяясь в нем, и затем сообщить свое понимание и дать объяснение этого чувства (Роджерс, 2007). Большое внимание уделял эмпатии и Когут, рассматривавший ее как сугубо важный компонент аналитического метода: «Мы определяем феномен как ментальный, психический или психологический, если способ наблюдения, открывающий его нам, включает интроспекцию и эмпатию как существенные составляющие». Эмпатия была определена Когутом как «способ познания, специально приспособленный для восприятия сложных психологических конфигураций» (цит. по: Этчегоен, 2005, с. 96). Данное понимание, как и многое другое из наследия Когута, получило дальнейшее развитие в работах «интерсубъективистов», описывавших психоанализ как процесс непрерывного эмпатийного исследования. В настоящее время большинство аналитиков считает эмпатию необходимой для анализа контрпереноса и использования последнего в интерпретациях переноса, хотя иногда звучит мнение, согласно которому эмпатия определяется как «несанкционированное» проникновение во внутренний мир пациента, то есть как не вполне этичное средство. В частности, Уэлдер рассматривал ее как способ прямого внедрения в бессознательное, могущего оказаться опасным (Waelder, 1962).
198
Понимая определенную степень справедливости данного предостережения, я все же полагаю, что эмпатия представляет столь неоценимый по эффективности фактор терапии и инструмент исследования и поддержки, что мы вправе идти на некоторый риск. Эмпатийный подход позволяет затронуть глубинные области бессознательного, к которым было бы невозможно найти доступ путем анализа вербального материала. Как писал Дэниел Стерн, сугубо интерпретативный подход обращен к проблемам в области вербальной соотнесенности, формирующейся у ребенка с 15-месячного возраста, в то время как подход эмпатийный нацелен на область интерсубъективной соотнесенности, которая возникает с семи — девяти месяцев. Интерпретация направляется на содержание конкретного обсуждаемого материала, и эмпатия отходит при этом на второй план. При эмпатийном же подходе пациент переживает шок, а затем облегчение, обнаружив, что аналитик обладает желанием и способностью знать, каково это — чувствовать то, что чувствует он. Это облегчение и раскрытие межличностных возможностей чрезвычайно велико и практически не зависит от содержания материала, находящегося в области вербальной соотнесенности (Стерн Д., 2006). Вслед за Стерном, Когутом и терапевтами «интерсубъективного» направления я повторю, что оптимальная позиция аналитика — это позиция эмпатийного исследования, то есть последовательного изучения смыслов проявлений пациента с точки зрения скорее внутренней, чем внешней по отношению к его субъективной системе координат. Только такой подход создает у пациента чувство, что его эмоциональные состояния и потребности действительно поняты собеседником, и способствует развитию его рефлексии и открытию наиболее глубоких областей его субъективности. Только при таком подходе аналитик становится объектом, рядом с которым неудовлетворенные потребности пациента получают наконец удовлетворение, а заторможенные развитий-ные процессы оказываются возобновлены.
Виктор фон Вейцдекер, врач, предпринявший некогда масштабную попытку интеграции психоанализа в медицину, человек, труды которого стали одним из истоков современной психосоматической теории и практики, придавал огромное значение способности терапевта, работающего с телесно больным пациентом, на соматическом уровне ощутить физическое страдание последнего. Несколько раз подобное случалось в моей практике. Я переживал приступы головной боли вместе со своей пациенткой, и мне удалось ощутить за этой болью — кроваво-красной пеленой — ее неизжитую, но при этом долгое время не осознававшуюся ярость в адрес матери, которую она описывала словами как «самого чуткого и доброго человека на земле». Мне приходилось испытать неприятные ощущения, напоминавшие симп
199
томы мерцательной аритмии, когда один из моих пациентов говорил о «странном телесном состоянии», не будучи способен это состояние сколь-нибудь внятно описать. Моя рекомендация обратиться к кардиологу, как выяснилось впоследствии, была весьма своевременна и сослужила добрую службу. То, что я называю «соматической эмпатией», на мой взгляд, может быть неоценимым по важности инструментом в руках по крайней мере тех психоаналитиков, которые работают с психосоматическими больными — хотя ее природа и механизмы, как и многое другое в терапевтической коммуникации, мне не вполне ясны. Я полагаю, что она не требует от специалиста неких экстраординарных способностей, кроме одной: способности к идентификации с собеседником, временно оставляющей за границами диалога вопросы и проблемы собственного Я.
Если аналитику удается «настроиться» на пациента, достичь резонанса между его и своим собственным бессознательным, он встречается в своих переживаниях и фантазиях с уникальным материалом, возникающим «неизвестно как» и «из ничего». Этот непосредственный контакт с бессознательным пациента, достигаемый за счет «пробных идентификаций», можно было бы назвать эмпатией более высокого порядка или более глубинного уровня. Данный феномен уже давно сделался объектом внимания аналитиков: еще Теодор Рейк писал, что аналитик, настроенный не на рациональное суждение, а на интуитивное восприятие, «схватывает» бессознательное пациента своим бессознательным. Рейк создал теорию психоаналитического инсайта, основанную на понятии удивления: аналитику следует позволять своему бессознательному удивлять его (Reik, 1933). На достижение таких инсайтов направлена и известная рекомендация Биона: «Откажитесь от памяти; откажитесь от будущего времени в своих желаниях; забудьте о том и о другом; забудьте и о том, что вы знаете, и о том, чего вы хотите, для того, чтобы дать место новым идеям. Мысль, невысказанная идея могут витать в пространстве, отыскивая себе место. Среди таких идей, мыслей может быть ваша собственная, которая, как вам кажется, рвется из вашей головы, но эта же идея может исходить и извне, а именно от пациента» (цит. по: Кейсмент, 1995, с. 251). Механизмы подобных «озарений» загадочны, и все, что можно предположить по их поводу — это то, что психические содержания транслируются при посредстве очень тонких проективных идентификаций, которые сами по себе неосязаемы, и об их существовании мы можем судить только по их конечным производным. Если отказаться от этого предположения, вероятно, останется признать возможность некоей мистической передачи на расстояние мыслей, фантазий и образов, осуществляемой не телепатами с экстраординарными способностями, а вполне обыкновенными людьми. Вот пример того, о чем идет речь. Мой пациент, рассказывая о вспыхивающих у
200
него порой приступах неадекватного раздражения и гнева, поделился однажды со мной следующей фантазией: он сказал, что в нем будто сидит маленькое злобное существо, которое время от времени ощущает необходимость выплеснуть свою деструктивную энергию в окружающий мир. На мой вопрос, как это существо выглядит, он ответил, что оно представляется ему мохнатым шариком, сквозь шерсть которого посверкивают злые глазки и блестят маленькие острые зубки. После этого эпизода прошло некоторое время; настали летние каникулы. Когда осенью наша работа возобновилась, пациент начал свой рассказ с потрясшего его случая. Он отдыхал на даче с женой и пятилетней дочерью. Было замечено вскоре, что у девочки появились признаки страха перед старым сараем, стоявшим на дальней границе их участка: она явно избегала к нему приближаться и стала перед сном спрашивать родителей, надежно ли он заперт на ночь. Когда отец с матерью поинтересовались, что же страшного в этом сарае, она, слегка стесняясь собственной «глупости» и даже чуть посмеиваясь над собой, рассказала, что придумала, будто в нем живет кто-то злой, похожий на мохнатый шар, со злобными глазками и острыми зубками. Девочка посадила «плохого папу» в сарай, и оставалось теперь только заботиться, чтобы он был хорошо заперт. Разумеется, о своей фантазии отец ни слова не говорил ни дочери, ни жене.
Другой случай подобного рода был связан с пациенткой, которая несколько лет подряд видела следующий сон: ей снилась широкая медленная река в тумане, и на фоне реки появлялось крупным планом, как на экране кинотеатра, искаженное женское лицо. Женщина на берегу кричала — кричала от отчаяния, безысходности, смертной тоски. В ходе анализа сновидения пациентка поделилась фантазией о том, что в этой реке утонули семь человек. Они погибли по вине женщины — в результате ее предательства. Женщина каждый день приходит к реке в надежде, что эти люди живы, и кричит от боли, так как над берегами стоит тишина. Пациентка дала сновидению следующую интерпретацию: она знала, что мой рабочий день составляет восемь часов, то есть что, помимо нее, я принимаю в те же дни еще семерых пациентов. «Может быть, — сказала она, — я чувствую вину перед ними. Мне не раз приходила мысль, что им может не хватать вашего внимания, так как я заставляю вас весь день думать только обо мне». Интерпретация показалась мне вполне достаточной, и мы заговорили о степени моей вовлеченности в проблемы пациентки.
Год спустя у нее умерла мать. Вскоре после этого в ее ассоциациях стала все настойчивее всплывать тема шкатулки, где хранились старые материнские письма (ее переписка со своей матерью, то есть с бабушкой пациентки). Шкатулка необъяснимым образом притягивала ее, завладевала ее мыслями: казалось, она содержит
201
некую тайну, открытие которой могло пролить свет на многое в ее собственной жизни. Вместе с тем она не позволяла себе дотронуться до этих писем, объясняя свою нерешительность этическими принципами. Каждый раз вслед за упоминанием о шкатулке наступало молчание, в котором я остро испытывал потребность услышать хотя бы собственный голос — будто сам превращался в ту женщину на берегу реки; чем дольше оно тянулось, тем более явственно что-то в нем буквально молило о появлении на свет. Обычно эти паузы прерывались каким-либо моим вопросом или очередной репликой пациентки, переключавшей наше внимание на другую тему. Но однажды, когда разговор коснулся шкатулки в очередной раз, я неожиданно для нас обоих и абсолютно искренне сказал: «Как нас с вами измучила эта тайна, и как, вероятно, было бы важно ее раскрыть!» В тот же день она прочла письма. Как выяснилось, после ее рождения мать сделала семь абортов в течение трех лет. Почти тридцать лет пациентка носила в себе вину за семь прерванных жизней, так как аборты делались из-за нее: ее мать отказывала себе в праве перенести часть любви на кого бы то ни было, мотивируя это тем, что материальное положение не позволяет ей иметь двух и более детей. Однако каким образом секрет, оберегавшийся от нее все это время, оказался достоянием ее бессознательного, можно было только гадать.
Эти необъяснимые, казалось бы, явления иногда происходят во взаимодействии аналитика с пациентом: возможно, речь идет о том феномене трансляции психических содержаний, о котором сообщал Мишель де М’Юзан. Я имею в виду то, что этот автор описал термином «парадоксальное мышление»: процесс возникновения у аналитика странных представлений, образов, фантазий, фраз, как будто вовсе не связанных с происходящим в аналитической ситуации. «Мы угадываем как бы через завесу поток пульсирующих образов, постоянно меняющихся фигур, проходящих, исчезающих и возвращающихся» (М’Юзан, 2005, с. 199). «Парадоксальное мышление» представляет необычную форму ментальной активности. Аналитик в этом процессе словно выпадает из контекста «здесь и сейчас» и испытывает неуловимое изменение своего состояния: «...что-то вроде очень легкого волнообразного движения, которое парадоксальным образом не сопровождается снижением внимания» (М’Юзан, 2005, с. 194). Он отмечает искажение чувства собственной идентичности: появляющиеся у него мысли, образы, слова не зависят от его собственной внутренней жизни с ее желаниями и страхами; они также не являются его индивидуальными реакциями на перенос, но соответствуют пока еще не выявленным психическим процессам у анализанда. Характерно, что последний в эти минуты обычно переживает нечто вроде утраты, «мгновения траура», выражая свои чувства такими фразами, как: «Вы сейчас не со мной». На определен
202
ном уровне функционирования психический аппарат аналитика становится психическим аппаратом анализанда, и аналитик как индивидуальная личность при этом на время отстраняется. Однако «парадоксальные мысли» являются лишь видимой частью более широкого феномена, развертывающегося в стороне от других психических процессов — «парадоксальной системы», занимающей позицию на границе между бессознательным и предсознательным и иногда дающей знать о себе в предчувствии. «Парадоксальная система» относится к фантазматическому потенциалу пациента, который в силу либо первичного вытеснения, либо вмешательств экономического фактора не в состоянии в данный момент полноценно развиваться. Интерпретации «парадоксальных мыслей» придают исключенным репрезентациям вербальную форму: никаким другим способом эти репрезентации не могли бы получить никаких предсознательных инвестиций. М’Юзан ссылался на Паулу Хайманн, которая сообщала, что аналитик заимствует из бессознательного пациента бессознательное восприятие, более острое, чем восприятие сознательное, и рекомендовала присоединять к «свободно плавающему» вниманию нечто вроде столь же «свободно плавающей» эмоциональной чувствительности. Он также цитировал Мишеля Неро: «В некотором смысле аналитику платят за то, чтобы он временно приостанавливал свое мышление и подчинялся ассоциациям, которые исходят не от него» (М’Юзан, 2005, с. 195). Я полагаю, что приблизительным примером «парадоксального мышления» был случай с образом Ганнибала Лектера, пришедшим мне в голову в ответ на сновидение о человеке в кожаной маске (глава 8), хотя я не стал бы утверждать, что испытывал в тот момент искажение собственной идентичности или выпадение из контекста ситуации «здесь и сейчас». Однако можно допустить, что механизм взаимодействия наших с пациенткой бессознательных в тот момент бьь\ в чем-то близок механизмам «парадоксального мышления». Вероятно, и в некоторых клинических фрагментах, на которые я стану ссылаться далее, также можно распознать процессы, родственные тем, что описывал М’Юзан. Вот еще один пример. Однажды ко мне обратилась женщина со следующим запросом: она хотела с моей помощью эмоционально пережить недавнюю смерть отца. Отец умер несколько месяцев назад, и с тех пор она пребывала в состоянии некоего внутреннего оцепенения — по ее собственному выражению, «психического анабиоза», на фоне которого начинала развиваться неприятная телесная симптоматика. За все это время ей ни разу не удалось даже заплакать. Когда мы приступили к регулярным сессиям, стало происходить то, с чем мне доводилось встречаться не раз (поэтому я не был особо удивлен): исходный запрос звучал все реже, на первый план выступил целый ряд других тем, охватывавших разнообразные аспекты ее жизни, и я незаметно для себя долгое
203
время упускал из виду тот факт, что отец так и оставался неоплаканным. Моя пациентка была талантливой и успешной художницей. Ее работы выставлялись в Риме, Брюсселе, Копенгагене и ряде других европейских городов, хорошо продавались и приносили ей растущую известность. У нее было интересное и насыщенное прошлое, где чередовались приобретения и потери, радостные и травматические периоды (ей было около сорока лет), и большие планы и перспективы на будущее. Ее нельзя было назвать совершенно счастливым человеком (а кого можно?), но ее жизнь была жизнью в красках и музыке, и наши встречи текли живописно, окрашиваясь воспоминаниями, чувствами, неожиданными открытиями. От этого взаимодействия я получал немалое удовлетворение. Я не замечал того, что впоследствии сделалось очевидным: негатив в ее материале присутствовал, но он аккуратно дозировался, так, чтобы не испортить общего позитивного настроя. Как-то раз, рассказывая о неудачно проведенном отпуске на Кипре, она воскликнула: «С самого начала было ясно, что этой турфирме нельзя доверять!» Когда прозвучала эта реплика, в моей памяти вдруг всплыла давно забытая стихотворная строчка: «Ведь ясно было с самого начала, // Что зрители талантливей актеров». Я лишь много позднее вспомнил, что это была строка из пьесы или, вернее, моноспектакля «Поминки по арлекину» московского поэта и музыканта Юрия Лореса. Однако в тот момент внимания на нее я не обратил.
За десять лет до пациентки я пережил смерть своего отца. Вероятно, так же, как и ей, мне не удалось полностью преодолеть эту травму. Потребовался долгий период самоанализа в течение нашего дальнейшего взаимодействия, чтобы обоим нам стало ясно: она чувствовала, что внутренне я отвергаю ее боль. Она пришла ко мне с болью, которую я не мог контейнировать, поскольку предназначавшееся для нее пространство было занято. Оправдывалось услышанное мною однажды замечание доктора Урбана Вестина: анализанд всегда ощущает порог восприимчивости и толерантности своего аналитика и никогда не перешагнет его, если дорожит отношениями. Другой аспект моей идентификации с пациенткой состоял в том, что в прошлом я посвятил немало времени литературной деятельности, и мне близка тема самореализации в творчестве. Молчаливо и незаметно для себя я поощрял в этой женщине соответствующее «имаго», транслируя ей свое поощрение мимикой или интонациями, или иными невербальными средствами. Опять-таки, как писал Вестин, пациенты бессознательно понимают, что аналитик хочет слышать от них (Вестин, 2009). В данном случае эта способность была обострена: сохранившимся с детских лет стереотипом коммуникации моей пациентки было угадывание того, какой ее хотят видеть окружающие, в первую очередь наиболее значимые люди,
204
и приведение себя в соответствие их ожиданиям. По сути, она всю жизнь играла перед ними живописный спектакль.
Пьеса «Поминки по арлекину», строка из которой пришла мне в голову, была написана Юрием Лоресом в семидесятые годы прошлого столетия — тогда же я с ней и познакомился. Она была очень крамольна для тех, брежневских, времен, звучала лишь на закрытых домашних «сейшнах» и распространялась на магнитофонных лентах и в рукописях «среди своих». Ее сюжет был внешне незамысловат: поэт, персонаж сродни булгаковскому Мастеру, вызывает к жизни образ арлекина — существа, самим фактом своего бытия бросающего вызов обществу, где человеческие массы одинаково живут, одинаково одеваются, одинаково едят, пьют, думают, чувствуют. Арлекин появляется в городе, в котором нетрудно угадать Москву семидесятых. Он смотрит вокруг, смеется, недоумевает, плачет, издевается. Его судьба предопределена, и в финале он будет убит. И на протяжении всего спектакля актеры открыто или косвенно, намеками, доводят до зрителей следующую мысль: «Вы думали, будто пришли посмотреть то, что мы вам покажем, и теперь шокированы увиденным? Но то, что происходит на сцене, сотворено вашими руками; не надо страдать и негодовать, вы хотели крови — мы лишь показали вам то, за чем вы пришли». Обращенный к зрителям монолог, которым открывалось заключительное действие пьесы и которому принадлежала вспомнившаяся мне строка, полностью звучал так:
Договоримся — никаких истерик, Они ужасно извращают слог. И в хэппи-энд, увы, не стоит верить. Я вас предупреждал — театр плох, Не надо ждать открытия Америк. Ведь ясно было с самого начала, Что зрители талантливей актеров. Ах, жаль — дороговаты помидоры... Не нравилось? Так что же вы молчали? Неужто испугались режиссера?
Ах, не хотели автора обидеть? Не надо обижать не-гениальных И пишущих так вяло и банально, И мысли — в лоб, и в черном цвете видя... Зато он между строк вполне лоялен. Поэтому мы все-таки досмотрим,
205
Хотя итог известен наперед:
Поэт останется в своей каморке, А арлекина кто-нибудь убьет, Или набьет, по крайней мере, морду. Ну что ж — и третье действие начнем. Эй, осветитель! Соорудите вечер, Включите окна, то есть зажгите свечи. Ну, вот и все. Я больше ни при чем, Все остальное ляжет вам на плечи.
Все остальное легло на мои плечи — на плечи зрителя, перед которым женщина играла роль в полном соответствии с его, а не своими, желаниями и ожиданиями. Как актер из моноспектакля Лореса, она доносила до меня: «Не вы видите то, что я хочу вам показать — я показываю то, что вам хотелось увидеть». Ни она, ни я не знали этого до определенного момента: потребовалась продолжительная внеязыковая трансляция и своего рода переход количества в качество, родивший подсказку — казалось бы, давно забытую строчку, всплывшую в памяти на случайном созвучии с репликой пациентки («с самого начала было ясно»). Хотя и не сразу — как уже говорилось, на эту подсказку я не обратил поначалу внимания, но затем стал со странным упорством возвращаться к ней мыслями, — она позволила мне понять происходящее и таким образом сыграла свою роль.
ГЛАВА 12
О МОЛЧАНИИ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Тема загадочных способов передачи информации, о которой шла речь в главе И, в определенном аспекте тесно связана с темой молчания — то есть периодов отсутствия реальной вербальной соотнесенности, которые, на мой взгляд, могут быть названы важным компонентом аналитической ситуации. Во многих случаях именно в такие периоды в психике пациента происходят наиболее значимые события. В главе 6 я проводил параллель между процессами, протекающими в «измерении поиска», и теми, что развиваются в описанной Балинтом «области созидания»: в обоих этих случаях реализация потенциала субъекта происходит не в монологе и не в диалоге, но в первую очередь в молчании — в атмосфере, где он может пребывать некоторое время с собой наедине. Как правило, от аналитика в такие минуты не требуется ничего, кроме того, чтобы оставаться незримо присутствующим, питательной средой.
О молчании в аналитической ситуации я хотел бы поговорить более детально, так как, на мой взгляд, оно имеет огромное значение для терапии. Когда начинался мой второй личный анализ, я предполагал, что ожидаемое от меня аналитиком следование «основному правилу» подразумевает максимальную вербальную активность. Поэтому меня удивило, когда на первой или второй нашей встрече прозвучало: «Вы говорите слишком много. Давайте учиться молчать». Я умолк и в следующие минуты перестал понимать, что со мной происходит. Говорение ассоциировалось у меня с усилиями пловца, который в штормящем море должен добраться до почти невидимого в тумане берега. Теперь я тонул. Я ощущал себя все глубже уходящим во мрак от дневного света, от реальности. Потом я коснулся дна и понял, что способен видеть в этом мраке и дышать под водой, и перед моими глазами стали возникать удивительные образы, которые я не смог бы заметить, продолжая плыть. Я видел древний корабль, который разбился в этом море о скалы тысячу лет назад, и я вернулся на эту тысячу лет, и видел, как он шел по морю, и узнавал историю
207
человека, плывшего под его парусом. Затем с помощью аналитика эти образы открыли мне поразительно многое в моей собственной истории.
Еще один случай произошел два года спустя: мой пациент рассказывал об отце, бросившем семью. Отец много лет не подавал о себе вестей, но на совершеннолетие сына прислал письмо. В письме была просьба о прощении. Об этом событии пациент говорил с ироничным недоумением: «Никогда и ни в чем я его не винил, я даже редко вспоминал о его существовании». — «Как вы думаете, — спросил я, — почему он написал вам именно к этой дате?» Пациент ничего не ответил, и наступило молчание. Минуты через три я попытался прервать тишину, но, едва я открыл рот, он остановил меня. «Не надо, — сказал он. — Что-то происходит». Больше в тот день до конца сессии никто из нас не произнес ни слова, и в течение всего этого времени я чувствовал, как обоих нас постепенно оставляет странное внутреннее напряжение. Я не понимал, каким образом это происходит, но мог бы поклясться, что это ощущение пациента передавалось мне. Впоследствии он рассказал, что мысленно разговаривал с отцом все это время. Много лет он обвиня^х его, не отдавая себе в том отчета, и здесь, на кушетке, впервые в жизни почувствовал себя достаточно взрослым для того, чтобы прощать.
Как известно, метод свободных ассоциаций был подсказан Фрейду пациенткой по имени Анна фон Либен, которая вошла в историю психоанализа под псевдонимом Сесилия М., в тот день, когда она остановила его попытку нарушить свободное течение ее монолога. Я мог бы сказать, что мой пациент точно так же навел меня на мысль о «методе свободного молчания». Что происходит в аналитическом кабинете в минуту, когда наступает тишина?
Речь пациента несет информацию. Молчание выглядит неинформативным, но только на первый взгляд. Иногда его смысл начинает ощущаться предельно остро, а заключенные в нем чувства — восприниматься более ясно, чем если бы о них говорили вслух. Люди, находящиеся рядом друг с другом, могут подолгу молчать, выражая тоску перед расставанием, счастье при встрече, горе при получении трагического известия. Слова в этих ситуациях могут немногое, и тогда начинаешь понимать, что вербально доносимая информация искажена словом. Если мы рассматриваем анализ как терапию коммуникацией, а не только интерпретациями бессознательного, всплывающего в речевом материале, то нельзя забывать, что молчание есть такой же компонент нашего взаимодействия, как и речь.
Мой практический опыт позволяет сказать: содержание молчания может быть услышано так же, как содержание речи, а в некоторых случаях и яснее. Я не знаю, как это происходит, но это происходит. Молчание может иметь много
208
смыслов и оттенков чувств. Оно бывает тревожное, агрессивное, одеревенелое — когда человек «зажимает» в себе нечто, — расслабленное, усталое, комфортное и т.д. Молчащий пациент может быть обессиленным, спящим, мертвым, спрятавшимся от опасности, затаившимся в засаде. Все это отчасти представляет реактивации когда-то имевших место в его личной истории эмоционально-телесных состояний. Возможно, некая информация передается и воспринимается через ритм дыхания собеседника, через его позу, иные невербальные проявления. В прочтении содержаний молчания колоссальную роль играет интуиция и эмпа-тийные способности терапевта. Не исключаю, что эти процессы просто нуждаются в дальнейшем исследовании, и что не все в них может быть объяснено с платформы современного знания — как, например, не объяснены до конца свойства человеческого взгляда. Мы знаем, что взглядом можно разбудить спящего, что можно почувствовать взгляд сбоку боковым зрением и даже ощутить взгляд в спину, но как это происходит, едва ли доподлинно известно. Во всяком случае, можно предположить, что подобные коммуникации заключают в себе наследие наиболее раннего невербального диалога «мать — младенец», диалога той стадии, на которой мать ощущает своего ребенка как психофизиологическое продолжение самой себя.
Если подобная эмпатийная связь установлена, молчание становится экраном для проецирования фантазий терапевта: в условиях частичного и временного растворения границ, слияния Я и объекта эти фантазии часто рождаются как продукт психической реальности пациента. Это я и имел в виду, говоря о процессах, близких к описанному М’Юзаном «парадоксальному мышлению». Проиллюстрирую сказанное клиническим фрагментом.
Моя пациентка в последние минуты сессии начинала быстро и много говорить, так, словно спешила вместить в них все, что еще могло бы стать предметом обсуждения. Когда я обратил на это ее внимание, она проговорила: «Вы всегда так неожиданно объявляете, что время закончилось. Вы обрываете меня на полуслове. Я вся сжимаюсь, думая, что вот-вот это произойдет. Я тороплюсь, потому что не успею договорить. Я боюсь забыть до следующей встречи то, о чем не успела сказать. Может быть, вы могли бы напоминать мне...» Все это звучало в той же ускоренной манере, с нотками отчаяния. В этот момент мне предельно ясно представилась картина: человека ведут туда, где с ним произойдет нечто ужасное, и его последняя надежда хотя бы оттянуть этот момент — цепляться за все, что попало под руку, и непрерывно говорить. Стоит лишь ему замолчать, и эта надежда рухнет. И тут пациентка умолкла и спросила: «Всё?»
209
Я не сказал «да». Я молчал, потому что теперь уже мне хотелось уцепиться за что-то: слово «да» вызывало у меня ассоциацию со смертью. Наступила тишина, и мне представилось, будто пациентка стоит на земле, глядя вверх, а я улетаю, стремительно отдаляясь. Она становилась все меньше, совсем крохотной, и из тридцатидвухлетней женщины превращалась в девочку лет четырех-пяти. Прошло несколько минут, и я наконец сказал: «Был страх, было отчаяние, была надежда. Теперь — только бессилие и безысходность». После паузы она отозвалась: «Я не могу встать. Конечности словно ватные, они не слушаются меня». На следующей сессии, вспоминая это состояние, она сказала: «В те минуты я увидела себя рано утром в детском садике, когда надо было непрестанно говорить что-то маме: пока она слушала меня, она не могла уйти. Но потом она уходила все равно, и я просто садилась на пол и понимала, что это конец». И чуть позднее добавила: «Когда вы промолчали в ответ на мой вопрос, я, наверное, впервые спросила себя: что чувствовала мама, когда ей пора было меня оставлять?»
Данный пример иллюстрирует два аспекта того, что происходит в молчании: коммуникативный и внутренний, то есть аспект диалога с самим собой. Об этом втором следует сказать несколько слов. В повседневной жизни мы ориентированы главным образом на окружающую реальность, с которой нас связывает разум. Речь строится с помощью разума и обеспечивает нам подавляющее большинство коммуникаций с реальностью. При этом, как я уже писал, речь всегда искажает происходящее в нас: недаром сказано, что слово изреченное есть ложь. Пациент говорит нам, что испытал страх в той или иной ситуации, и этим не сообщает ничего, так как мы воспринимаем слово через призму собственного эмоционально-телесного состояния, которое для нас ассоциируется с понятием страха. Пациент говорит взахлеб, перескакивая с темы на тему, и мы вдруг ощущаем предельно ясно, что он изо всех сил держится за словесный взаимообмен с реальным собеседником, чтобы не остаться наедине с собой, со своим внутренним миром. Балинт описывал случай пациента, который долгое время начинал сессии с получасовых периодов молчания, пока однажды не расплакался и не сказал, что впервые ощутил контакт с самим собой. С детства он никогда не оставался с собой наедине: рядом всегда был кто-то, указывавший, что он должен делать (Балинт, 2002). Молчащий человек приближается к себе внутреннему. Мне часто приходится слышать от пациентов фразу: «Если я буду молчать, то просто усну здесь», — на что я отвечаю: «Поспите. Здесь иногда снятся очень важные сны, такие, каких дома вы не увидите». Молчание в аналитическом кабинете можно в некоем смысле уподобить сну, разговор — пробуждению. Сны бывают кошмарными, однако анализ не должен обходить кошмары стороной.
210
Когда мой аналитик предложил (вернее, предложила) мне учиться молчать, я, вероятно от растерянности, произнес глупейшую фразу: «Молчать я мог бы и дома, бесплатно». На это последовал ответ: «Если бы это было так, вы не пришли бы сюда». И я вскоре осознал, насколько эти слова были верны. Когда человек находится у себя дома, в привычной обстановке, он не скажет, что уснет, если не станет разговаривать с кем-то вслух, — разве что он элементарно не выспался. Мы редко способны в обыденной жизни к диалогу с собой: мы сопротивляемся ему, цепляясь сознанием за множество элементов внешней реальности. Сон — одно из немногих состояний, в которых такой диалог происходит, и мы знаем, сколь великую роль играют сновидения в поддержании нашего психического баланса: как говорят, человек спит, чтобы видеть сны. Молчание в аналитической ситуации — это совместный сон пациента и терапевта; сон, в котором терапевт принимает непосредственное участие. Именно в тишине, а не в ходе диалога или монолога, в человеке что-то начинает происходить, меняться. Если пациент не даст себе помолчать в уединении, например после того, как прозвучала интерпретация, — трудно ожидать, что он позволит интерпретации коснуться чего-то в своей душе.
В рамках классической методологии терапевт обыкновенно предлагает пациенту говорить без отбора все, что будет приходить в голову. Таким образом он способствует процессу, который может быть описан как своего рода расщепление Сверх-Я. Именно Сверх-Я несет ответственность за цензуру рождающихся у субъекта мыслей и слов; однако данное пожелание терапевта формирует в структуре этой инстанции новый интроект, радикально противоречащий прежним. Возникает ситуация, которую Стрэчи описывал следующими словами: «Пациент... может почувствовать, что аналитик сказал ему: «Если ты не будешь говорить того, что приходит в голову, я выпорю тебя как следует», или: «Если ты не станешь осознавать эту часть бессознательного, я выгоню тебя из комнаты»» (Стрэчи, 2000, с. 91). Подобное противоречие неразрешимо в принципе, и поэтому Анна Фрейд, говоря о невозможности следования «основному правилу анализа», подчеркивала, что аналитика интересует не выполнение правила как таковое, а связанный с ним конфликт (Фрейд А., 1993). Я, со своей стороны, полагаю, что данный конфликт не является единственно возможным путем к бессознательному. Поэтому в начале работы я обыкновенно сообщаю пациенту: «Вы можете говорить все, что хотите», или даже: «Делайте здесь что хотите, просто будьте самим собой», то есть не обращаюсь к его Сверх-Я. Это и есть первый шаг к терапевтичному молчанию. Если пациент говорит, что ему ничего не приходит в голову или что он не хочет сегодня говорить ни о чем, я предлагаю ему просто побыть вместе и помолчать.
211
Молчание дается пациенту с трудом всегда, даже если терапевт предлагает ему эту возможность. Поначалу оно выглядит чем-то не вполне естественным, и не только потому, что пациент информирован об основном правиле анализа. Затянувшуюся паузу он переживает как ослабление связи с реальностью, говорение — как возобновление этой связи. Он судорожно перебирает темы, ища, что сказать, или говорит о чем угодно с целью заполнить пугающее безмолвие. В этих условиях задача терапевта — сделать тишину в кабинете нетравматичной, комфортной. Все мы знаем, как непросто бывает подвести пациента к возможности свободного ассоциирования, — иногда обретение такой возможности само по себе означает близость успешного окончания работы, — но редко задумываемся о том, что еще труднее бывает научить его свободно молчать. Его ассоциации не станут подлинно свободными до тех пор, пока он не окажется способен к нетравматичному молчанию наедине с терапевтом и с самим собой. Коммуникация складывается из двух компонентов, и она не может быть свободной только в одном из них, а во втором — стесненной. Данный процесс я мог бы обозначить как превращение одиночества в уединение. Способность к уединению — это способность к комфортному переживанию одиночества, о котором Винникотт писал как о непременном свойстве зрелости: одиночество не причиняет страдания, когда человеку есть на что опереться в себе, в собственной душе.
Рассказывая о своем молчавшем пациенте, Балинт подчеркивал, что в то время его собственной задачей было догадаться без опоры на вербальную коммуникацию, что пациенту требуется от него, и вести себя в соответствии с его ожиданиями — то есть искренне, не прибегая к словам, поддерживать форму объектного отношения, в которой тот нуждался. В данном случае от него требовалось не вмешиваться. Если бы он дал молчанию вербальную интерпретацию, например, обозначил бы его как сопротивление или отыгрывание, она была бы верна, но одновременно она стала бы указанием на то, как пациент должен себя вести. Другими словами, он вступил бы с пациентом в сговор, касающийся отыгрывания, и при этом не оставил бы ему возможности что-то понять (Балинт, 2002).
Когда в кабинете наступает тишина, я стараюсь не делать ничего: не думаю о чем-то целенаправленно и даже не пытаюсь сразу ответить себе на вопрос, почему пациент замолчал. Я слушаю тишину и собственные ощущения, которые она рождает во мне; если через какое-то время мне начинает казаться, что я могу интерпретировать происходящее и что мой собеседник нуждается в подобной интерпретации, я говорю, например: «Кажется, мы сейчас отдалились друг от друга», или: «В этом молчании есть какое-то напряжение, как при опасности». После таких интервенций
212
иногда появляется возможность вспомнить и обсудить прошлые эмоциональные состояния, которые были реактивированы «здесь и сейчас».
Однажды пациент рассказывал мне, как играл в детстве с котенком. Котенок спрятался от него под диван и, несмотря на все попытки выманить его, забивался все глубже. Дойдя до этого воспоминания, пациент смолк и через минуту сказал: «Странно. Все мысли куда-то разбежались, и я не знаю, что теперь говорить. Не спросите ли Вы меня о чем-нибудь?» — «Да, — ответил я. — Скажите, что нужно было бы сделать, чтобы котенок сам вышел из-под дивана?» — «Наверное, прекратить пробовать достать его, — сказал пациент, — отвернуться, отойти в сторону». — «Наверное, да, — сказал я, — и что-то, что Вы пытаетесь сейчас извлечь, очень похоже на этого котенка. Говорение ради говорения нам не нужно; послушаем тишину, и, может быть, в ней произойдет нечто такое, о чем Вы вдруг захотите рассказать». Через десять минут я заметил, что по лицу пациента текут слезы. Он вспомнил то, что последовало за рассказанным эпизодом: когда он дотянулся наконец до котенка, тот больно укусил его. Он побежал к маме, чтобы пожаловаться, но мать не поверила, что такой укус может быть болезненным, назвала его вруном и прогнала прочь.
Разумеется, молчание не всегда следует поддерживать. Особой осторожности его использование требует в работе с больными с психотической структурой личности и во многих случаях депрессии. Бывают пациенты, для которых молчание становится разрушительным; которые в принципе не могут его выносить. Это люди с внутренней пустотой. Заглядывая в себя, они обнаруживают там лишь, по определению одного из них, «бесконечную черную яму». Они оказываются способны ощущать себя только в непосредственном контакте с внешней реальностью — например, в вербальном диалоге с терапевтом. Согласно моему опыту, определить ситуацию «разрушающего молчания» бывает возможно с помощью контрпереноса. Аналитик испытывает в ней сильную необъяснимую тревогу или неприятные телесные ощущения в горле и груди. То, что подобные реакции не являются следствием лишь моей субъективности, неоднократно подтверждалось в ходе супервизий моей практики и в общении с коллегами. Похожие переживания иногда возникают в контрпереносе при разговоре с пациентом, который сообщает о суицидных намерениях всерьез, а не с целью манипуляции. В таких случаях поддерживать длительное молчание не рекомендуется: допустимая длина пауз должна составлять, на мой взгляд, не более трех-пяти минут. В дальнейшем, по мере того как пациент заполняет пустоту и обретает опору в себе, эти периоды могут удлиняться, хотя идти к подобным изменениям приходится, как правило, не один год.
213
Я хотел бы здесь подчеркнуть, что «хороший» психотерапевтический процесс не ограничивается сорока пятью минутами каждой сессии или даже общей суммой часов, проведенных пациентом в аналитическом кабинете. Он продолжается и тогда, когда пациент расстается с терапевтом до следующей встречи и когда ведет с ним мысленные диалоги, которые в сущности есть диалоги с «внутренним терапевтом», с самим собой. Эти диалоги протекают в молчании. Еще раз замечу, что именно в молчании, а не в процессе говорения, в психике человека происходят самые целительные метаморфозы: переживание инсайта, оплакивание, покаяние, прощение и т. п. Как справедливо замечал Балинт, молчание пациента обыкновенно считают сопротивлением, так как он тем самым бежит от чего-то, например, от конфликта; но верно и то, что он при этом бежит к чему-то — к состоянию, в котором он может ощутить себя в безопасности и что-то предпринять в отношении того, что его беспокоит. То, что он затем создаст и предъявит аналитику, будет продуктом его творчества в «области созидания» (Балинт, 2002). Добавлю также, что достижение способности комфортно молчать в присутствии терапевта может, на мой взгляд, рассматриваться как один из важнейших критериев завершенности терапии — наряду с такими, как появление в жизни человека творчества, новых потребностей, нового, более гармоничного и доброжелательного отношения к жизни. Данная способность подразумевает, что пациент достиг определенной степени автономии от аналитика, доверия и возможности взаимодействия с собой, то есть смог превратить свое одиночество в уединение. Нельзя говорить о подлинной внутренней свободе, пока им не обретена свобода молчания вместе с собеседником — молчания как неотъемлемого компонента аналитического диалога. В определенном смысле это и есть то, что я имел в виду, формулируя суть процесса фразой: «Сначала эти двое становятся очень нужны друг другу, а затем, со временем, начинают чувствовать, что могут теперь друг без друга обойтись» (см. главу 6).
ГЛАВА 13
ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ НЕЗНАНИИ
Итак, если кратко подытожить все вышесказанное, можно следующим образом обрисовать задачи и возможности аналитика в создании условий для терапевтического, то есть свободного и безопасного, развития переноса. Аналитик отказывается от знаний и теоретических предпочтений, в соответствии с рекомендацией Биона, от конкретных желаний и ожиданий; он лишь присутствует в едином с пациентом пространстве, где последний может использовать в своих интересах любую из функций, которыми он наделен. Он постепенно настраивается на внутренний мир пациента, как приемник — на радиоволну, и готов к чувствованию и удовлетворению его истинных потребностей, будь то потребность в уединении, в объекте, в отзеркаливании, в совместном чувстве и т.д. Он умеет отдаться собственным переживаниям, не отталкиваясь от них и всякий раз стараясь их понять, и при необходимости посвящать пациента в них, в том числе и в переживания с негативным окрасом, с последующим переходом к их обсуждению. Он не пугается собственной субъективности и готов в нужный момент сделать ее анализ частью процесса. Он не делает для пациента ничего, о чем тот не просит, и делает все, в чем уловит его потребность (я, разумеется, не имею здесь в виду буквальную и вербально выраженную просьбу). То, что возникает в результате, близко к феномену, который Балинт называл «атмосферой» — нечто, создаваемое отчасти словами, отчасти интонациями, поведением, отыгрыванием или повторением в аналитической ситуации. Трудно разобраться в том, какой вклад в создание этого пространства или атмосферы принадлежит аналитику, какой — пациенту; но это и не обязательно, так как аналитик и пациент начинают формировать единое интер-субъективное поле. Аналитик отдается в этом поле спонтанно текущему взаимодействию, а пациент направляет его знания и опыт, которые сами, без его сознательного участия, играют свою роль в происходящем. Далеко не все здесь описывается привычной терминологией: «Как реальная личность, контрперенос, теории и латен
215
тная антропология аналитика воздействуют на пациента — все это нельзя охватить во всей целостности ни клинически, ни теоретически» (Томэ, Кехеле, 1996а, с. 127); но: «Несмотря на то, что многие формы объектных отношений невозможно представить в четких и недвусмысленных выражениях, а их словесное описание всегда является субъективным, произвольным и неточным, тем не менее мы всегда ощущаем присутствие «атмосферы», «климата» в отношениях. Обычно даже нет необходимости прибегать к объяснению этого при помощи слов» (Балинт, 2002, с. 213). В этих условиях происходит то, что я назвал терапевтическим развитием переноса и что следующим образом описал Балинт: «пациент обретает при переносе способность отбросить все защитные панцири своего характера и чувствует, что жизнь стала проще и правдивее — это настоящее открытие неведомого» (Балинт, 2002, с. 181).
Вполне может показаться на первый взгляд, что эта «размытая» методология не оставляет аналитику твердой почвы под ногами, опираясь о которую, он мог бы помочь пациенту. Если признать, что психоаналитический процесс развертывается в области пересечения двух субъективностей, если отказаться от объективной оценки реальности и рассматривать перенос как структурирующую основу ее восприятия, причем с обеих сторон, мы неизбежно теряем линию отсчета или, если можно так выразиться, «эталон адекватности», который позволял бы нам как минимум ориентироваться в поле между крайностями «абсолютной нормы» и «абсолютной патологии». Если добавить к этому то, что аналитик открыт для аффектов и проективных идентификаций пациента и не всегда способен обозначить четкую границу между реакциями собственного переноса и контрпереноса как ответа на перенос пациента, ситуация, казалось бы, и вовсе делается похожей на уравнение со слишком многими неизвестными. Все это и в самом деле так, но я позволю себе привести еще одну метафору: пациент — человек в лодке, которую треплет штормовое море, едва справляющийся с рулем и веслами и уже выбившийся из сил. Традиционное представление об аналитическом процессе подразумевало бы, что аналитик бросает ему канат с незыблемого и неподвластного ударам волн каменного пирса (объективное восприятие реальности) и помогает пришвартоваться и спастись. В действительности аналитик находится в том же море в другой лодке, хотя он и лучше управляется с рулем и парусом и не настолько обессилел. Две лодки, пришвартованные друг к другу, легче смогут преодолеть шторм.
Вот как описывает психоаналитический процесс Урбан Вестин: «...Клиническая ситуация, которую мы организуем, приводит к запутыванию той реальности, которую мы пытаемся наблюдать и понимать. В том взаимодействии, в которое приглашает нас аналитическая ситуация, психические реальности аналитика и па
216
циента неизбежно проникают друг в друга. Вследствие этой неуверенности в том, кому принадлежит тот или этот вклад, какой клинический факт реален, а какой иллюзорен, развивается фундаментальная и в то же время плодотворная неопределенность... Что требуется от аналитика, чтобы выдержать эту ситуацию непоследовательности? Цитируя рекламу на радио: „Включайся — настраивайся — оставайся с нами"... Наша задача состоит в том, чтобы защищать неопределенность психоаналитической ситуации, доверять тому, что мы понимаем и знаем, но также... уважать то, что мы не понимаем и не знаем, когда пациенты открывают нам свою психическую реальность... Без непонимания нет места для развития внутреннего мира пациента. Сохранение неопределенности придает аналитическому процессу качество «игры» (Качество, важность которого подчеркивал Винникотт и о котором шла речь в главе 9. — Д. Р.)... Поддерживать эту неуверенность и неопределенность сложно, болезненно... но это необходимо, чтобы психика могла развиваться в психоаналитическом процессе» (Вестин, 2009, с. 32—33). Можно было бы добавить к этим словам произнесенные более ста лет назад слова А. П. Чехова о том, что психологи не должны притворяться, будто они понимают то, чего на самом деле не понимают, тем более — то, чего не понимает никто: лучше честно заявить, что в этом мире нет ничего понятного и что лишь дураки и шарлатаны понимают все.
Мне нередко приходилось слышать от своих пациентов вопрос, обыкновенно звучащий в ходе первичных консультаций: «каков ваш опыт работы?», «как давно вы имеете дело с проблемами, подобными моей?». На это я отвечаю предельно искренне: мой опыт работы с вами пока что равен нулю, и с вашей проблемой я сталкиваюсь в первый раз. Это не кокетство, поскольку за долгие годы практики я еще не встречал двух похожих друг на друга пациентов и с каждым из них был вынужден учиться всему заново. Мы каждый раз начинаем ведение нового случая с незнания и, учась у каждого пациента, каждый раз заново создаем психоаналитическую теорию, которая выражает именно его уникальность, подходит для него и больше ни для кого. Не стоит бояться этого незнания и воображать себя стоящим на незыблемом каменном пирсе единой для всех и непогрешимой теории: необходимо, согласно выражению Виргила Рику, суметь выйти из зоны собственного комфорта, чтобы встретиться с пациентом на его личной территории (Рику, 2006). К незнанию следует даже стремиться — не к тому незнанию, которое предшествует стадии знания, а к тому, которое начинается после нее. Кейсмент писал, что принятие аналитиком своего незнания является залогом его способности быть разным с разными пациентами и способности меняться в работе с каждым из них: «Было бы слишком просто отождествить незнание с невежеством. Это может привести
217
психотерапевтов к поиску оправдания в иллюзии, будто бы они все понимают. Но если они смогут вынести ношу незнания, то поймут, что качество их работы зависит от способности пережить чувство незнания, или некомпетентности, и готовности ждать (продолжать ожидать), пока не начнет вырисовываться что-то значимое и релевантное (подходящее). Только таким образом можно избежать риска навязать пациенту самообман преждевременного понимания, который в результате ничего не даст, кроме защиты терапевта от неприятного ощущения, вызванного сознанием того, что он чего-то не знает» (Кейсмент, 1995, с. 15~16). Я добавлю, что, отказываясь от незнания, мы теряем ту уникальную способность удивляться, о которой говорил Теодор Рейк, и рано или поздно уничтожаем ситуацию, где, согласно замечанию Вестина, «пациенты могут вызвать у нас желание сделать или сказать нечто для нас совершенно неожиданное» и где мы задаемся вопросом, ведущим нас иногда к самым поразительным открытиям: «Почему я это сделал (сказал)?» (Вестин, 2009, с. 30).
ГЛАВА 14
ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРОРАБОТКЕ
Тема, о которой я хотел бы теперь поговорить более подробно, поскольку до сих пор она затрагивалась мною лишь вскользь, — интерпретация и ее роль в успехе работы. Она особо важна именно в связи с темой незнания, так как символом знания, которым якобы обладает психоаналитик, всегда традиционно считалась именно интерпретация. Насколько мне известно, большинство специалистов и в наши дни рассматривает ее как краеугольный камень психоаналитической техники; и в то же время, пожалуй, нет в психоанализе предмета, вызывающего большее число разногласий по поводу того, как, в каких случаях и в какие моменты ее следует использовать. Напомню, что разногласия эти возникали даже между убежденными сторонниками интерпретативной техники: одни аналитики вслед за Фрейдом призывали не интерпретировать перенос, пока он не стал играть роль сопротивления, другие — интерпретировать в любом случае, поскольку функцией сопротивления он наделен всегда; Отто Феничел отстаивал необходимость постепенного интерпретирования «с поверхности вглубь», специалисты клайнианской школы провозглашали эффективность ранних и очень глубоких интерпретаций, и т. д. Стрэчи так описывал подобную путаницу мнений и аргументов: «Нам говорят, что если мы даем интерпретацию слишком рано или быстро, то рискуем потерять пациента, а если она не будет носить быстрый и глубокий характер, мы также потеряем его; что интерпретация может «освободить» неуправляемые и невыносимые для пациента вспышки тревоги, и она же является единственным способом научить пациента справляться с этими неуправляемыми вспышками, потому что «освобождает» их; что интерпретация должна всегда опираться на материал в точке его осознания, но наиболее сильными интерпретациями являются глубокие интерпретации. «Будьте осторожны с применением интерпретаций!» — скажет один; «когда у тебя возникли сомнения, используй интерпретацию!» — скажет другой» (Стрэчи, 2000, с. 92). При этом еще более серьезные разногласия существуют между, с одной стороны, всеми, кто
219
все же признает за интерпретацией главную терапевтическую ценность, с другой — теми, кто настроен по отношению к ней весьма осторожно или даже скептически. Дискуссия, развертывающаяся между ними, — это дискуссия по поводу того, какой все же фактор должен быть признан в аналитической работе подлинно целительным: привязанность или инсайт.
Сторонники интерпретативных техник делают основной упор на инсайт, то есть на когнитивный фактор, и в рамках этого подхода роль интерпретаций так оценивал Кернберг: «Силы Эго пациента растут на самом деле не потому, что здесь и теперь удовлетворяются его нужды, оставленные без ответа там и тогда, но потому, что он понимает прошлые фрустрации и ограничения в контексте патологических реакций, импульсов и защит, которые активизировались при травматических обстоятельствах детства и способствовали развитию и фиксации слабости Эго» (Кернберг, 2000, с. 158). Можно дискутировать о том, насколько корректно говорить о «развитии слабости Эго» как о развитии чего-то, чего прежде не существовало, но речь о другом. Наиболее значимой для аналитических техник разновидностью интерпретации традиционно считается интерпретация переноса; и именно с ней, как показало время, было связано много мифов, прежде всего мифов о ее чудодейственной силе. Согласно замечанию Кехеле, интерпретации переноса «здесь и сейчас» весьма долго считались высочайшим достижением психоаналитической работы (напомню, что Стоун отзывался о них в свое время как об исторической вершине развития психоанализа), однако впоследствии многочисленные исследования показали, что их значение сильно переоценивалось. Интерпретация переноса далеко не всегда способствует укреплению терапевтического альянса и даже может нанести ему вред. Она не получает большего аффективного отклика, чем другие интерпретации, не обязательно углубляет переживание и чаще, чем другие интерпретации, вызывает у пациента защитную реакцию (Кэхеле, 2001). Во многих случаях она может быть просто опасной: об этом предупреждала, например, Джейн Хейнц, сообщавшая о вероятности того, что «...пациент настолько будет ранен или обижен вторжением аналитика, включившего яркие фары психоаналитического понимания, в его ядерную самость, что он, как смертельно раненная кошка, уйдет из кабинета навсегда и забьется в угол, зализывая раны... Каждый раз, как мы раскрываем рот, нам надо напоминать себе, что наши слова, гипотезы, интерпретации, как бы мы их ни называли, могут восприниматься людьми с нарциссическими ранами или недостаточно сильным Эго как приносящее боль проникновение в их душу» (Хейнц, 2006, с. 24~25).
В наше время известно, что недостатки интерпретативных техник тем ярче дают о себе знать, чем более глубокими модификациями затронуто Я пациента. Как
220
отмечал Роберт Хиншелвуд, чем более пациент нарушен, тем более настороженно он принимает интерпретации: «Для аналитика интерпретации — это щедро расточаемые инсайты, для пациента же они могут иметь совсем другой смысл. Они могут казаться ему щелями, которые приоткрывают движения души аналитика, показывают, нанес ли он аналитику какой-то вред и, возможно, делают очевидными обиду аналитика, его желание отомстить или его прощение» (Хиншелвуд, 2005, с. 168). Я склонен полагать на основе собственного опыта, что данное наблюдение актуально не только для интерпретаций целостного объектного переноса, но и для тех, которые рекомендуются Кернбергом для частичных, или фрагментарных, переносов, встречающихся в работе с личностью, например, пограничного уровня функционирования. Если бы я взялся писать учебно-методическое пособие для пациентов, оно включало бы такую рекомендацию: «Когда аналитик дает вам интерпретацию, не спешите высмеять или отвергнуть ее, сколь бы она ни была абсурдна. Примите ее с пониманием, благодарностью и сочувствием: ведь с ее помощью ваш собеседник показывает, насколько он доверяет вам, открывая перед вами свой внутренний мир».
Об ограничениях классической интерпретативной техники великолепно написал Балинт, и я не буду на этой теме останавливаться здесь, тем более что речь о них уже шла. Замечу лишь, что этот автор сообщал, в частности, о пациентах, воспринимающих интерпретации переноса как проявления несправедливости или отсутствия уважения, как атаки, претензии, оскорбления, или, напротив, как нечто приятное, возбуждающее, утешающее или соблазняющее, свидетельствующее о любви и привязанности (Балинт, 2002); и добавлю, что, согласно моему опыту, эти аспекты восприятия интерпретаций существуют всегда и у всех пациентов — по той простой причине, что в отношениях всегда существует перенос, или, другими словами, в аналитическом диалоге всегда синхронно происходит и эволюционирует взаимодействие как двух, так и трех персон. В работе с невротиком, понимающим язык интерпретаций, взаимодействие двух персон менее очевидно, у пациентов с глубокими модификациями Я оно выходит на передний план, однако сути дела это не меняет. В традиционном подходе к интерпретации как инструменту осознания, достижения инсайта мы порой не склонны учитывать тот факт, что в восприятии пациента она всегда неотделима от личности терапевта; в этом смысле последний действительно делается для пациента все более «присутствующим», а не «отсутствующим», как считает Кохон. Говоря иными словами, если мы признаем существование невроза переноса, то есть предполагаем, что терапевт вовлечен в невроз пациента как активный элемент, — мы вынуждены признать, что интерпретация теряет объективность. Если же мы признаем вслед за Реником,
221
что субъективность аналитика является неотъемлемым компонентом аналитической ситуации, то вынуждены будем признать и то, что интерпретация этой объективностью никогда и не обладала. Как справедливо высказался по этому поводу Сергей Соколов, процитировав Райкрофта: «Психоаналитические интерпретации — это сообщения пациенту, которые делает аналитик и в которых он придает сну, симптому или цепочке свободных ассоциаций какое-нибудь значение»: «Напрашивается вопрос: а почему значение, а не проекцию? Проекцию своих проблем, своих знаний, своей системы ценностей?» (Соколов, 2004, с. 223). Очевидно, что интерпретация могла бы обрести объективность, будучи данной со стороны некоей «третьей персоной» или самим терапевтом, выведенным неизвестно каким путем за рамки невроза переноса; но в этом случае мы неизбежно возвращаемся к фрейдовской интрапсихической модели конфликта и, как отмечают Томэ и Кехеле, оказываемся вынуждены существенно ограничить диапазон теории и вытекающих из нее техник лечения (Томэ, Кехеле, 1996а).
Возможно, что именно понимание этих слабых сторон классического подхода позволило Винникотту так оценить роль интерпретаций: «Мои интерпретации главным образом помогают пациенту узнать границы моего понимания. Дело в том, что только пациент знает ответы на все вопросы, и в наших силах сделать его способным охватить известное или согласиться с ним» (Винникотт, 2000, с. 448). Винникотт писал также, что далеко не сразу смог научиться ждать естественной эволюции переноса и избегать прерывания этого процесса интерпретацией. Он добавлял, что, если аналитик сумеет ждать, сам пациент придет к пониманию творчески и с радостью. Следует заметить, что, говоря об интерпретации в данном контексте, я (как и Винникотт) подразумеваю сугубо вербальные интервенции, призванные связать сознательное с бессознательным или прошлое с настоящим. Однако существует и более широкое понимание термина: интерпретация есть все, что делает терапевт и чем он является для пациента, поскольку каждый его шаг нацелен на углубление самоосознания последнего. Любым действием он поэлементно устанавливает связь между известным и неизвестным.
В главе 8 я упоминал работу Джузеппе Чивитарезе о сновидениях: ссылаясь на Огдена, этот автор утверждал, что способность пациента символизировать и видеть сны является фактором более важным для терапии, чем огрубляющая смысл интерпретация. Он приводил следующую цитату Огдена: «При «разгадывании» значения сновидения утрачивается контакт с живостью и неуловимостью опыта видения снов, и вместо него создается плоское, бескровное декодированное сообщение» (Чивитарезе, 2007, с. 80). Огден приглашал аналитика ощутить себя
222
«плывущим по течению», позволить себе быть унесенным потоком «грез» пациента, чтобы приблизиться к его эмоциональной правде (спасибо Алисе, задолго до Огдена научившей меня этой мудрости — см. об этом главу 5). Язык аналитика не должен фокусироваться на охоте за смыслом: ему следует быть языком «недоговаривающим», скорее намекающим, нежели демонстративным. То, что было сказано Огденом о работе со сновидениями, я повторил бы в отношении работы аналитика с переносом. Даже «попадающая в цель» (а возможно, в первую очередь именно самая «попадающая в цель») интерпретация неизбежно ограничивает свободное развитие переноса — в то время как сама способность пациента к развитию переноса и ее реализация в терапевтическом кабинете в большинстве случаев гораздо более важна, чем вербальное обозначение его подтекстов и смыслов, упрощающее непостижимую действительность и производящее стесняющий это развитие эффект.
Другая сторона проблемы — являющийся целью интерпретации инсайт. Этот не столь уж частый на практике продукт аналитической работы в последние десятилетия мало кем рассматривается как панацея от возобновления психического страдания. Как утверждал Бергманн, нет абсолютно никакой гарантии, что после завершения анализа жизнь пациента будет полностью определяться новым пониманием как продуктом инсайтов. Инсайты вовсе не обязательно преобладают во всех случаях над прежними стереотипами (цит. по: Россохин, 2000). Кан также выражал точку зрения, согласно которой инсайт недостаточен для терапевтического эффекта, и подчеркивал, что этот факт признан уже давно. Большинство терапевтов тем не менее нередко испытывает фрустрацию и разочарование, когда даже хороший, казалось бы, инсайт не вызывает у пациента желаемых изменений, как будто забывая, что необходимо также понимание природы взаимоотношений и того, как терапевт с ними работает (Кан, 1997). Можно добавить сюда и мнение сторонников интерсубъективного подхода: «По нашему убеждению, эти продолжительные дебаты о роли в психоаналитическом исцелении инсайта в противовес привязанности являются симптоматичными для хронической болезни, которая затронула не только психоаналитическую теорию, но и западную психологию в целом. Такую фрагментацию психической реальности мы относим на счет искусственного разделения-человеческой субъективности на когнитивную и аффективную области» (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999, с. 142). Эти специалисты исходят из предположения, согласно которому психологические трансформации в ходе аналитической работы всегда включают единые конфигурации опыта, где когнитивные и аффективные компоненты практически неразделимы; и в наше время остается только удивляться, как некоторые аналитики могут до сих пор отрицать этот факт.
223
Таким образом, я не считаю возможным рассматривать роль интерпретации вне контекста объектных отношений и предполагаю, что глубокие позитивные изменения зависят все же не столько от интерпретаций, сколько от способности терапевта к тому, что я назвал «превращением в питательную среду». Эта способность, как отмечалось выше, включает эмпатию, интуицию, умение ориентироваться в контрпереносных переживаниях и устойчивость перед атаками пациента (замечу, что последние нередко трансформируют интерпретацию в средство самозащиты). Анна Човницка в содокладе к докладу Кинодо признавала необходимость подхода, в котором интерпретации и отношения по крайней мере сбалансированы: «Сама я нахожусь в среде, довольно строгой относительно правил психоаналитической работы и способов интерпретаций, в среде, на которую сильно повлияли концепции Кляйн... Наряду с этим лично я сама всегда была под сильным впечатлением от необыкновенной открытости Винникотта и независимой школы с их готовностью задавать вопросы, делать акцент на Я и идти по ту сторону теории влечений. Оказалось, что есть пациенты, которые особым образом требуют, чтобы я искала пути примирения двух способов мышления» (Кинодо, 2004, с. 36). Я неоднократно писал и говорил, что соотнесенность интерпретаций и отношений видится мне следующим образом: представим себе туриста, знакомящегося с новым городом. В прогулке по городу его сопровождает гид. Прогулка сама по себе — аналог опыта новых отношений; комментарии гида — это интерпретации. Даже если человек станет бродить по городу один, без гида, он проникнется духом новых мест, обогатится впечатлениями. Если же он все время просидит в гостиничном номере, даже слушая подробный рассказ экскурсовода, опыта знакомства с городом он не обретет.
Что делать аналитику в сложных ситуациях, для разрешения которых обычно и рекомендуется интерпретация: например, если видение аналитика пациентом обретает явно расщепленный характер, и негативные аспекты переноса начинают выглядеть как опасные для отношений или действительно угрожать им? Вспомним вновь принцип, которым я предпочитаю руководствоваться в своей работе: не делать с переносом ничего, кроме создания и поддержки условий для его свободного и безопасного развития. Подобная трудная ситуация не является исключением, и я предполагаю, что оптимальный путь к нейтрализации деструктивных компонентов взаимодействия лежит не столько через интерпретацию, сколько через принятие и признание их реальности, наряду со способностью избегать интернализации проецируемых содержаний, то есть удерживать взаимодействие в рамках игры. Лео Стоун сообщал, что никогда не видел анализандов, искренне принимавших значение своих переносных отношений, если не отдавалось должное реальное-
224
ти их восприятия — факт, положивший начало принципу фокусировки внимания на реальности «здесь и сейчас» как «исторической вершине развития психоанализа» (Stone, 1981). Не станем забывать здесь, что мы договорились рассматривать перенос как процесс субъективного восприятия реальности, но не как процесс искажения реальности, которое могло бы быть устранено, и что аналитик наделен субъективностью в той же мере, что и пациент.
Как писал Гилл, очень важно предполагать правомерность или по крайней мере правдоподобность видения ситуации пациентом, так как никто не может объявить себя достигшим полного самопознания и способным полностью контролировать действие своего бессознательного. Поэтому следует быть открытым и по отношению к тому, что пациенты могут замечать нечто ускользающее от нашего собственного внимания. Если аналитик склонен отрицать этот факт, отношения начинают подвергаться опасности, о которой сообщали Томэ и Кехеле: «Точно так же, как отрицание исторической правды лежит в основе психотических процессов, хаотические разновидности невроза переноса или даже психозы переноса могут оказаться результатом непризнания фактической истины. В соответствии с психоаналитической теорией суммирование бесконечного числа бессознательно регистрируемых случаев отвержения реалистического восприятия может привести к частичной потере ощущения реальности» (Томэ, Кехеле, 1996а, с. 126). Если пациент предполагает, что я разозлился на него, однако сам я этого не чувствую, то вместо вопроса: «Почему у вас могло появиться представление, что я разозлен?» — я отвечу: «Я сам этого не заметил, но, возможно, заметили вы», или: «Я испытал сильное беспокойство (волнение, раздражение и т.д.). Сам я не назвал бы это чувство злостью, но я понимаю, что со стороны оно могло выглядеть именно так».
В любом случае мой ответ был бы искренен и не содержал бы прямых или косвенных указаний на то, что из нас двоих только я воспринимаю происходящее адекватно. Еще один хороший пример возможного ответа аналитика на подобное замечание пациента приводит Маргарет Литтл: «Насколько мне известно, я сейчас не злюсь. Однако я подумаю над этим, и, если окажется, что я действительно злюсь, постараюсь узнать почему, ведь никаких реальных причин для этого у меня нет» (Литтл, 2005, с. 395). Я лишь не стал бы упоминать об «отсутствии реальных причин», поскольку дополнение такого рода вновь возвращало бы нас к старой дихотомии «реальность—перенос» и к убеждению, будто я знаю, что реально, а что — нет. Если я действительно был разозлен и раздосадован поведением пациента, прежде всего я признал бы это — в соответствии с тем, что говорилось выше об открытости контрпереноса, — и затем предложил бы ему обсудить вклад в мою
225
реакцию с обеих сторон. «Поддержка условий для безопасного развития переноса» могла бы в данном случае выразиться, например, в том, что вместо того, чтобы интерпретировать ярость пациента или его предположение, что я был в ярости, я сказал бы: «Почему бы нам с вами иногда не разозлиться друг на друга? Разве оттого, что кто-то из нас в гневе, наши отношения следует прекратить?»
Если я постараюсь быть последовательным в своих рассуждениях, то нельзя не вспомнить того, что говорилось мною о проективной идентификации как невербальной основе любого диалога. Проективная идентификация всегда действует во втором из описанных выше измерений переноса, и согласие с этим тезисом неизбежно заставляет признать, что, будучи объектом переноса, субъект реально меняется — даже если это изменение незначительно и практически неощутимо. Вспоминается следующий случай: однажды я пил кофе в ресторанчике, будучи погружен в свои мысли, и некий изрядно подвыпивший мужчина, искавший собеседника, пожелал подсесть к моему столику. Не испытывая к нему поначалу никакой неприязни, я ответил: «Извините, сейчас я хотел бы побыть один». На эту нейтральную, как мне казалось, реплику он отреагировал торжествующе-злобно, как человек, предчувствия которого оправдались: «А, так ты не хочешь со мной разговаривать?!» — и я мгновенно ощутил не просто желание сохранить свое уединение, но острое нежелание общаться именно с этим субъектом. Я стал тем, кого он во мне подсознательно (а может быть, и сознательно) предполагал обнаружить. Возвращаясь вновь к аналитической ситуации, я повторю, что вместо вопроса: «Почему пациенту кажется, что я злюсь (осуждаю, скучаю и т.п.)?» — порой гораздо более уместно задаться вопросом: «Почему я почувствовал злость (осуждение, скуку и т.п.)?», или, если видение пациента не соответствует моему собственному, — «Почему я предпочитаю не замечать в себе того, что заметил он?».
Позволю себе добавить к практическим рекомендациям немного теоретических размышлений. Ситуация, в которой пациент настолько разгневан на аналитика, что под угрозой оказывается аналитический процесс, может быть описана с помощью термина «расщепление»: негативные аспекты переноса затапливают отношения, отрицается или обесценивается любая прежде признававшаяся поддержка, понимание, привязанность и т.п. Аналитик, который в такие моменты пытается конфронтировать пациента с фактом того, что все эти позитивные компоненты взаимодействия имели место, или давать его переживанию интерпретации, хочет тем самым направить его ментальную активность в определенное русло — то есть исходит из предположения, что процесс расщепления сам по себе есть проявление ментальной активности. Однако, на мой взгляд, расщепление есть на самом деле
226
продукт ментальной пассивности: оно представляет наиболее примитивный и, следовательно, простой способ восприятия объекта, не требующий психических затрат по удержанию настоящего и прошлого в состоянии синтеза. Оно овладевает аналитической ситуацией тогда, когда у пациента «опускаются руки», когда он психологически изнемог. Его можно сравнить с человеком, который переносит с кухонной плиты на стол голыми руками горячую емкость с кипятком и в какой-то момент, не выдержав жжения, разжимает пальцы: ему не до того, что выплеснувшийся кипяток через мгновение обожжет ему ноги. Пытаться в подобной ситуации заставить пациента, как советует, например, Кернберг, воссоединять расщепленные позитивные и негативные аспекты репрезентаций или связывать текущее переживание с прошлым опытом означает лишь предлагать его и без того измотанной психике дополнительные усилия, в которых сам он не чувствует заинтересованности, — например, подвергать напряжению временно ослабевшую интегративную функцию его Я. Гораздо разумнее в этом случае дать ему психически отдохнуть, чему может способствовать, например, позиция: «Злитесь, пожалуйста, это абсолютно допустимо и безопасно». Это и будет условием для безопасного существования и развития переноса, то есть, как я уже подчеркивал, обретением опыта, которого прежде пациент, как правило, был лишен.
Было бы неверно предположить, что я являюсь противником интерпретаций и никогда не использую их в собственной практике. Я всего лишь отдаю себе отчет в их слабых сторонах и ограниченных возможностях и не делаю на них главную ставку. Они бывают иногда нужны и даже необходимы, но только в тех ситуациях, когда аналитик чувствует запрос пациента на них. В этом состоит реализация принципа, о котором я упоминал выше: не делать для пациента ничего, о чем он не просит, причем речь не обязательно идет о прямых, выражаемых словами, просьбах. Задача аналитика состоит в том, чтобы почувствовать момент, в который пациент нуждается в интерпретации. В частности, именно поэтому я слушал сновидения Алисы, не пытаясь до определенного времени приступить к их толкованию: ей нужно было от меня нечто иное (см. главу 5). Если все же такая необходимость настала, на мой взгляд, полезно учесть рекомендации по поводу интерпретирования, предложенные Уэлдером. Этот автор сформулировал, в частности, принцип «минимальной дозы интерпретации», проиллюстрированный им следующим примером.
Пациент однажды неожиданно обмолвился на сессии, что у его матери был мертворожденный ребенок, и тут же сам удивился, почему могла вырваться такая нелепая фраза: никакого ребенка у матери, кроме него самого, никогда не было. Через некоторое время он познакомился с другой пациенткой своего аналитика и во
227
время очередной сессии в шутку, однако не без ревности, заметил: «У вас и дочь есть, оказывается». Аналитик ответил на это: «Мертворожденная». Данная реплика вернула пациенту вытесненное воспоминание о бывшем у матери мертворожденном ребенке, которое в первый раз проявилось на мгновение, чтобы тут же вновь «провалиться в бессознательное». Уэлдер замечал, что, если бы он вместо своего краткого ответа стал интерпретировать чувство ревности пациента и проводить связи между этим чувством в его настоящем и прошлом, скорее всего, сопротивление продолжало бы сохранять вытеснение.
Другая рекомендация Уэлдера состоит в следующем: интерпретация оказывает наилучшее воздействие на пациента в тех случаях, когда ему предоставляют сделать в ней последний шаг. Аналитик интерпретирует при этом лишь содержащееся в переносе сопротивление, а пациент — само содержание переноса. Так, один из пациентов Уэлдера подолгу молчал во время сессий, воспроизводя тем самым ситуацию детства: мать не разрешала детям разговаривать, когда укладывала их спать. Мальчик лежал в кроватке и думал, что, если начнется пожар, он все равно будет молчать. Уэлдер дал молчанию пациента интерпретацию, сказав, что тот пытается таким образом вызвать раздражение аналитика и убедиться, что из них двоих он не выдержит первым. Пациент ответил на это: «Значит, я хотел разрушить лечение. Как глупо!» Интерпретация сопротивления позволила ему интерпретировать содержание (Уэлдер, 1987). Я не уверен, что в данном случае имел место подлинный инсайт — скорее следовало бы предположить внушение; и, наверное, я не стал бы интерпретировать молчание в такой форме, но вместо этого сказал бы, например: «Что-то происходит сейчас; что-то словно повторяется», и умолк бы, предоставив пациенту инициативу. Однако я вполне согласен с Уэлдером в том, что лучшая интерпретация — та, что не носит завершенного характера; и могу, продолжая эту мысль, добавить, что самая лучшая интерпретация — та, которую дает сам пациент.
Жан-Мишель Кинодо в упоминавшемся мною ранее докладе на конференции Международного психоаналитического журнала рассказывал об особой разновидности интерпретации, называющейся «интерпретация в проекции» (автор понятия — Даниэль Кинодо). Он приводил клинический фрагмент анализа пациентки, которая обвиняла его в том, что он хочет, чтобы она ушла со своей работы, то есть хочет уморить ее голодом. Аналитик испытал при этом чувство, что пациентка насилует его, и пришел к выводу, что она поступает так, исходя из представления, будто сама подвергается насилию (в детстве она подвергалась насилию со стороны соседа). «Уморить вас голодом? Значит, я ддя вас насильник?» — спросил он, и женщина
228
согласилась с этим. «Интерпретация в проекции» подразумевает, что, когда пациент из-за аффективности своего переживания остается невосприимчив к вербальному диалогу, аналитик использует собственные слова пациента, создавая своего рода «эффект зеркала». Пациент распознает в словах аналитика мысли и представления, которые он «эвакуировал», и может их восстановить и заново присвоить. Когда вербальная связь таким образом восстанавливается, может быть осуществлен переход к стадии интерпретаций, значение которых будет доступно пациенту (Кинодо, 2004).
Пример «интерпретации в проекции» может быть иллюстрацией представлений сторонников «интерсубъективного» направления, согласно которым интерпретация обретает трансформирующую силу в Я-объектном измерении переноса, переживаемом пациентом, говоря языком Винникотта, как «поддерживающее окружение» (holding environment) — архаический интерсубъективный контекст, восстанавливающий процесс психической интеграции и дифференциации. «Интерпретация в проекции», в сущности, направлена на то, чтобы перевести взаимодействие из конфликтного измерения в Я-объектное. «Интерсубъективисты» подчеркивали при этом необходимость понимания субъективности каких бы то ни было интерпретаций: «Различные смысловые паттерны, всплывающие в психоаналитическом исследовании, освещаются внутри особого психологического поля, расположенного на пересечении двух субъективностей. Поскольку измерения и границы этого поля являются интерсубъективными по своей природе, интерпретационные заключения при исследовании любого случая следует на некотором глубинном уровне понимать как относительные ввиду интерсубъективного контекста их происхождения. Интерсубъективное пространство исследования случая создается взаимодействием между переносом и контрпереносом... и это пространство определяет горизонты смысла, в которых рождаются по-настоящему значимые итоговые интерпретации» (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999, с. 22). Данное понимание, как мне кажется, созвучно тому, что писал об интерпретациях Джеймс Гуч; и сказанное этим автором мне столь близко, что я не удержусь от искушения привести здесь красочную цитату из его статьи:
«Психоаналитическая интерпретация, на мой взгляд, является зрелым, уважительным, сочувствующим, строгим и обоснованным предположением, гипотезой, описанием в словах, сопровождающимся соответствующими музыкой и танцем, которое обращается к эмоциональному состоянию анализанда в данный момент.
Выражаясь теоретически, в интерпретации описываются внутренние психические объекты анализанда, которые, как это интуитивно чувствует аналитик, активны в данный момент сессии, но для анализанда остаются незамеченными.
229
Психические объекты эфемерны, мимолетны, их может наблюдать человек только в личном общении. Придавая интерпретации форму, аналитик использует свои собственные объекты, которые также эфемерны и мимолетны и наблюдаются им только по мере того, как они пробуждаются и провоцируются словами и поведением анализанда» (Гуч, 2007, с. 106-107).
Если подвести итог всему, что я хотел сказать о своем личном представлении об интерпретации, можно выделить следующие моменты. Интерпретация уместна лишь в контексте сложившихся и развивающихся отношений и произносится не раньше, чем аналитик почувствует потребность пациента в ней. Интерпретация следует принципу «минимальной дозы», то есть она не должна быть излишне многословна и не должна носить завершенного и исчерпывающего характера: пациенту следует предоставить возможность дополнить или продолжить ее. Наконец, аналитику необходимо помнить, что интерпретация всегда субъективна и несет на себе отпечаток его собственной личности, и бывают случаи, когда ему следует открыто признать это перед пациентом. Таковы рекомендации, которые помогут пациенту избежать травмы, наносимой ему интерпретацией или, по крайней мере, смягчить эту травму. Наконец, последнее, о чем мне хотелось бы упомянуть, хотя это может быть резко раскритиковано многими из моих коллег — интерпретация должна быть красивой. Будучи по первому высшему образованию геофизиком, я несколько лет работал в океанологии, где после полевого сезона мы составляли отчетные геологические и геоморфологические карты океанского дна. Главный геолог нашей экспедиции преподал нам в те годы маленькую мудрость: карта должна быть красивой. Природа не терпит дисгармонии, и, если в карте что-то «режет глаз», скорее всего, в этом месте в нее закралась ошибка. То же самое теперь, много лет спустя, я сказал бы и по поводу интерпретаций.
Напоследок я вернусь к теме «проработки переноса», которая применительно к трехмерной модели подразумевает взаимодействие прежде всего во втором измерении. Повторю, что миф об исчезновении переносных реакций как результате их проработки можно было считать устаревшим еще с того момента, когда Рут Мак-Брунсвик взяла в повторный анализ Сергея Панкеева, и окончательно рухнувшим во второй половине XX века, когда стало ясно, что перенос не только не может быть полностью устранен («Ни в коем случае нельзя утверждать, что... трансфер будет разрушен, так же как нельзя сказать, что бессознательное может быть отмененным» (Неро, 2005, с. 184)), но его устранение и не является задачей аналитика и пациента. По сообщению Майкла Шебека (содоклад к докладу Антонино Ферро в рамках конференции Международного психоаналитического журнала), клиничес
230
кий опыт показывает, что главные желания и фантазии, формирующие перенос, в основном остаются неизменными на протяжении всей аналитической работы. Изменения затрагивают только ответы Я и Сверх-Я на эти желания; снижается их давление, они не столь сильно и часто отыгрываются, как ранее, и лучше контейнируются (Ферро, 2004). Это естественно, поскольку человеческая субъективность не может быть радикально изменена в ходе анализа, и такое изменение ей и не требуется. Она не столько меняется, сколько развивается — точно так же, как развивается человек по мере взросления, оставаясь при этом самим собой.
По мере того, как возрастала роль отношений в психоаналитической технике, аналитик начинал все в большей степени становиться для анализанда эквивалентом первичных объектов; проблема «разрешения переноса» при этом теряла свой исходный смысл. Поэтому, как полагали «интерсубъективисты», недопустимо требование, чтобы аналитические отношения завершались без остаточных переносных чувств: попытки «убрать все следы переноса» могут неблагоприятно повлиять на успех анализа и даже разрушить его. В отношении инфантильных желаний, потребностей, фантазий никогда не было убедительно показано, что они могут или должны быть устранены. Оставшаяся любовь и (или) ненависть к аналитику, включая ее архаические корни, может быть признана и принята: ее не надо стремиться уничтожить, если она не оказывает на жизнь пациента патогенного влияния (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999). Также и Россохин определяет постаналитические переносные реакции («трансферентные остатки») как необходимую для дальнейшего личностного развития реальность постаналитического периода. По окончании даже успешного анализа пациент использует продолжающееся внутреннее взаимодействие с аналитиком для сохранения устойчивости, равновесия и способности к развитию (Россохин, 2000).
Комментируя методологию «независимых», Треурнита и других исследователей, делающих ставку на отношения и привязанность, Россохин пишет: «Трудно понять, о какой реальной независимости анализанда от влияния аналитика после завершения анализа может идти речь в таком случае. Поощрение создания „более материнской атмосферы, чем когда-либо созданной настоящей матерью” (Треурнит) способно, на мой взгляд, приводить к ситуации, когда „всецело благой” образ аналитика становится единственным надежным объектом... В результате мы рискуем получить замену одной (деструктивной) зависимости анализанда другой — конструктивной, но все же зависимостью» (Россохин, 2000, с. 70). Однако далее он предполагает: «Может быть, за желанием, чтобы пациент был полностью независим от аналитика после анализа и, соответственно, за техническими рекомендациями, направленными на полное разрешение переноса, стоит наше контртрансферентное
231
желание стать независимым от анализанда», а также: «Признание неизбежно остающейся трансферентной зависимости не означает тотальную форму ее выражения. Важно, чтобы зависимость от аналитика не блокировала индивидуальность анализанда... а продолжала и в постаналитический период помогать становлению достаточно независимого и достаточно целостного Я» (Россохин, 2000, с. 72). Я добавил бы к сказанному, что точка зрения, согласно которой техники, базирующиеся на отношениях, ведут пациента к патологической зависимости от образа аналитика, не подтверждается моим клиническим опытом: подобное может случиться, если терапия была неудачна. В противном случае пациент способен достичь в ее процессе состояния, которое Винникотт называл «относительной независимостью» — подчеркивая, что «независимость абсолютная» есть феномен скорее патологический, нежели нормальный. Если бы углубление и развитие отношений сопровождалось лишь ростом зависимости, полагаю, любой человек пожизненно оставался бы в зависимости от матери, и последняя была бы тем сильнее, чем более замечательными качествами обладала мать. Именно от подобного исхода, как я думаю, предохраняет воссозданный в терапии «потерянный объект».
ГЛАВА 15
О МЕТОДОЛОГИИ РОДЖЕРСА И СПОТНИЦА
Я добавлю еще одно наблюдение, в свое время немало заинтересовавшее меня: как выяснилось, методология, к которой я пришел сам после долгих лет проб и ошибок, во многом напоминает методологии двух исследователей, вроде бы мало чем похожих друг на друга. Речь идет о клиент-центрированной терапии Карла Роджерса, который по сути отрица^х различия между психически «здоровым» и «больным» человеком, и о «современном психоанализе» Хаймона Спотница, ориентированном на лечение самых тяжелых психических нарушений, прежде всего шизофрении. Возможно, мой путь чем-то напоминает пресловутое изобретение велосипеда, однако я убежден, что открытия и принципы, к которым психотерапевт приходит сам, имеют в его практике совершенно иной вес и значение, чем имели бы, будучи почерпнуты в готовом виде из учебников и разного рода руководств.
Выше я упоминал, что клиент-центрированная терапия Роджерса, как лично мне представляется, имеет с психоанализом больше точек соприкосновения, нежели неких непримиримых расхождений. Главным таким расхождением считается идея Роджерса о ненужности переноса, но, на мой взгляд, это дискуссия не о сути явления, а о терминах, в которых оно описывается. Роджерс подводит под определение переноса те реакции, которые явтхяются особо насыщенными аффектом и выглядят ярко неадекватными. Так, явно параноидную реакцию пациента на аналитика он определил бы как переносную, в то время как легкая степень «здорового» недоверия для него таковой бы не являлась. Иными словами, разделение «переносных» и «реальных» реакций он осуществлял не по качественному, а по количественному критерию. Отстаивая свои взгляды, Роджерс приводил пример пациентки, которая признала, что в позиции терапевта нет ничего осуждающего, и отсюда пришла к выводу, что судила себя она сама. Он объясня^х это тем, что не оставил ей «ни малейшей зацепки, на которой можно было бы построить проекцию» (Роджерс, 2007, с. 247). В другом случае он сообщал: «Клиентка сердита на консультанта, потому что
233
он только „сидит и слушает Но здесь тоже нет никакого адекватного основания для реального гнева, так что ей приходится искать причину в себе» (Роджерс, 2007, с. 251). Роджерс писал в этих примерах не о пациентках, которые были свободны от переноса, а о пациентках, функционировавших на невротическом, то есть здоровом, уровне. Если бы это были женщины с более глубокими модификациями Я, то и «зацепка для проекции» была бы найдена, и позиция «сидения и слушания» пробудила бы вполне обоснованный и реальный гнев.
В остальном Роджерс, на словах противопоставляя свой метод психоанализу, делал то же, что, на мой взгляд, делает эмпатийный и в хорошем смысле нейтральный психоаналитик. Вот лишь несколько цитат: «Терапевт должен оставить в стороне свою проницательность диагноста и вообще всякую озабоченность диагнозом, отбросить профессиональную привычку все интерпретировать и желание оценивать, прекратить попытки строить точный и грамотный прогноз, отказаться от намерения руководить другим человеком, и сконцентрировать свои усилия на одной-единственной цели, которая заключается в том, чтобы показать клиенту свое глубокое понимание и принятие сознательного намерения клиента погрузиться шаг за шагом в те опасные области, которые ранее отрицались и были недоступны Д;\я сознания» (Роджерс, 2007, с. 55~56). «Это попытка клиента описать уникальный опыт, в котором личность консультанта — оценивающая, реагирующая, личность с собственными потребностями — абсолютно отсутствует» (Роджерс, 2007, с. 254); «Отношения полностью выстраиваются клиентом, консультант деперсонализируется в целях терапии, превращаясь в «другое Я клиента». Именно это — участливая готовность консультанта отложить в сторону собственные заботы, чтобы пережить опыт клиента, — и делает отношения совершенно уникальным опытом»; «Второй аспект отношений — безопасность, которую чувствует клиент. Она, очевидно, исходит не из одобрения консультанта, а из чего-то гораздо более глубинного — из безукоризненно последовательного принятия»; «Клиент... знает, что есть кто-то, кто уважает его таким, какой он есть, и кто приветствует любой путь, который он выбирает» (Роджерс, 2007, с. 255). В отношении реакций, которые Роджерс называет переносом, действия терапевта выглядят следующим образом: он интерпретирует перенесенные установки и через их оценку определяет характеристики отношений. Он пытается принимать и понимать эти установки с тем, чтобы впоследствии они были приняты клиентом как собственное искаженное восприятие. «Реакция терапевта на перенос при клиент-центрированном методе такая же, как на любую другую установку клиента: он стремится понять и принять» (Роджерс, 2007, с. 247). Ядром терапии становится понимание пациентом собствен
234
ных установок и их восприятие как произведенных им самим, а не объектом. Мне кажется, это и есть психоанализ. Добавлю, что мне близка «метафора садовника» Роджерса, изучавшего до психологии садоводство, — метафора, в которой пациент сравнивался с растением, развивающимся естественным образом при обеспечении его надлежащими условиями: это я имею в виду, говоря о создании условий для развития переноса. Вкупе с идеей о необходимости эмоциональной включенности и открытости и за вычетом некоторых оговорок, например, по поводу «искажений восприятия» или «абсолютного отсутствия личности» и даже «деперсонализации» терапевта, это и есть мой подход.
Много сходств обнаруживается также между используемой мною методологией и методологией «современного психоанализа» Спотница, предписывающей аналитику, например, поощрять развитие нарциссического переноса, позволяя пациенту ощутить, что терапевт подобен ему. При этом подходе пациент постепенно сможет позволить себе любовь и ненависть, будет чувствовать себя все более свободно и расти в терапии, как ребенок в отношениях с родителем. По мере такого «созревания» возрастает и возможность принятия им обычных интерпретаций (Стерн X., 2001). В «современном психоанализе» аналитик не ставит задачу формирования позитивного терапевтического альянса, никакими мерами не форсирует процесс: он лишь создает особую атмосферу, в которой могут быть со временем полностью вербализованы эмоции, в том числе негативные. Словесные высказывания пациента не рассматриваются как важнейшие факторы развития ситуации: коммуникация может выстраиваться более примитивными способами. Пациента призывают не говорить все, что придет ему в голову, а говорить только о том, что он хочет рассказать или обсудить. Основным рабочим инструментом является не интерпретация, а эмоциональный обмен; сопротивления преодолеваются также не с помощью интерпретаций, а путем многих других видов вербальной или невербальной коммуникации. Помимо интерпретаций, используется широкий спектр вмешательств с учетом индивидуальности каждого пациента. Кушетка применяется вне зависимости от частоты сессий; расписание сессий устанавливается не аналитиком, а аналитиком совместно с пациентом. Вновь с некоторыми оговорками могу заметить по каждому из этих тезисов: они отражают то, что, не причисляя себя к последователям Спотница, делаю и я.
ГЛАВА 16
О СИММЕТРИИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА
Теперь я позволю себе поделиться мыслями, возникшими в ходе рассмотрения межличностной коммуникации в аспекте симметричности: насколько мне известно, до сих пор он целенаправленно не изучался и не описывался, по крайней мере, авторами, с работами которых я до сих пор успел ознакомиться. К сожалению, нет возможности привести здесь точную ссылку на книгу, воспоминание о которой стало первым из импульсов, стимулировавших эти размышления: я читал ее в юношеские годы и не помню названия, тем более библиографических данных. Ее автором был голландский этнограф конца позапрошлого столетия Якоб ван Виттенмеер, много лет посвятивший исследованию некоторых племен Восточной Африки. Этот ученый наблюдал однажды любопытный ритуал изгнания колдунами злых духов или демонов из одержимых. Его процедура состояла в том, что колдун уединялся вместе со страдающим человеком в особой хижине и на протяжении долгих часов, а иногда и дней и ночей, копировал его позы, конвульсии, выкрики, превращаясь как бы в зеркальное (симметричное) подобие больного. По свидетельству ван Виттенмеера, болезнь (злой дух) в итоге оставляла в покое пациента и переселялась в целителя, который затем справлялся с нею с помощью собственных магических сил.
Другой импульс был связан с малозначительной, казалось бы, особенностью планировки моего рабочего кабинета, долгое время остававшейся для меня всего лишь эстетическим принципом: я всегда располагал два кресла, свое и пациента, так, чтобы в плане между ними существовала ось симметрии. Только годы спустя, задумавшись над подоплекой этой детали, я понял, что в ней есть определенный терапевтический смысл. Когда кресла размещаются симметрично относительно некоей воображаемой оси или плоскости, любой предмет диалога, условно находящийся в точке пересечения взглядов собеседников (предположим, что оба они глядят прямо вперед), оказывается на равном удалении от обоих. Стоит лишь развернуть одно
236
из кресел под иным углом, возникает ощущение дисгармонии и нарушения паритетного сотрудничества: либо пациент «отодвигает» от себя проблему, предоставляя терапевту решать ее в одиночестве, либо, наоборот, остается с проблемой наедине, в то время как терапевт наблюдает издали и со стороны.
Впоследствии симметрия взаимодействия и отношений в ситуации анализа стала представляться мне важнейшим терапевтическим фактором, а «принцип симметрии», реализуемый поначалу лишь в расположении кресел, стал для меня одним из главных принципов психоаналитической (и не только) коммуникации. Здесь и далее предлагаю понимать под симметрией качество взаимодействия, при котором любые фантазии, чувства, импульсы субъекта находят зеркальное отражение в его собеседнике, и любой предмет диалога оказывается одинаково репрезентирован для обоих: например, некое событие, вызвавшее радость одного участника, вызывает радость в другом (а не тревогу или зависть). Патологической симметрией, или патосимметрией, я назову симметрию вынужденную, устанавливаемую во избежание болезненной асимметрии. Рассмотрим в качестве примера фрагмент отношений в гипотетической супружеской паре.
Муж сообщает жене о будущей длительной командировке, которая значит для него довольно многое: она обещает интересную работу, перспективу служебного роста и т. д. Жена, однако, не разделяет энтузиазма супруга, поскольку для нее его поездка не означает ничего, кроме долгой разлуки. В то же время муж не понимает, чем опечалена жена, так как сам он готов целиком отдаться предстоящему мероприятию. Очевидно, что в определенном аспекте в отношениях пары существует выраженная асимметрия, следствием которой может стать болезненный конфликт. Во из-t бежание боли и ради сохранения гармонии совместной жизни каждая из сторон может в данной ситуации заставить себя репрессировать собственные чувства и интересы: либо жена внушит себе, что работа является для мужа главным делом, и она не имеет права на несогласие с этим фактом в какой бы то ни было форме, либо муж станет в будущем воспринимать подобные командировки исключительно в аспекте разлуки и сопровождающих таковую негативных эмоций. Оба этих варианта могут быть определены как патосимметричные. Под;\инная симметрия диалога будет достигнута, если оба супруга проявят способность к эмпатии и испытают в связи с командировкой амбивалентное чувство: радость — с одной стороны, печаль — с другой.
Я предполагаю, что симметрия есть то качество, к которому стремится любое взаимодействие двоих субъектов; приближение к нему осуществляется через диалог, ведущийся как вербальными, так и невербальными средствами. Искомой фикцией (на языке Вайхингера — ведущей и заведомо недосягаемой целью)
237
диалога служит слияние двух Я. Как отмечал Роджер Мани-Керл, все процессы человеческого взаимодействия строятся и протекают на проективно-интроективной основе; повседневное общение складывается из передачи своих чувств слушателю и готовности слушателя принять этот опыт (Money-Kyde, 1956). Можно сказать, что каждое из посылаемых субъектом сообщений стремится сотворить в объекте свое зеркальное подобие, то есть сделать элементарный шаг к уподоблению Другого себе, в итоге — к выработке единого взгляда, восприятия, мироощущения. Двое напоминают два разнонагретых физических тела, вошедших во взаимный контакт: одно из них будет согреваться, другое — охлаждаться, пока их температуры не уравняются. Таким образом, диалог всегда представляет асимптотический путь к единству. В любом диалоге возникает временная размытость границ собственных Я, проявляющаяся в частичной идентификации с Другим; иными словами, в диалоге субъект временно перестает быть собой и становится частью новой коммуникативной целостности. Это слияние, сопровождаемое взаимным обогащением, становится залогом будущей возможности нетравматичной сепарации и принятия Себя и Другого в новом качестве. Человек услышавший и услышанный меняется за счет частичной идентификации (слияния) и нового узнавания собеседника и самого себя.
Структурирующей основой и предтечей любого диалога служит ранняя детско-материнская коммуникация, нераздельными свойствами которой при ненарушенных отношениях являются целостность и симметричность. Первое отражено в описанном Винникоттом состоянии «первичной материнской озабоченности» или «нормальной материнской болезни» — своего рода психосоматическом симбиозе матери и младенца, где, благодаря предельной взаимоадаптации, оба они ощущают Другого продолжением Себя. Второе проявляется, например, в синхронизации психофизиологических ритмов, благодаря которой потребность ребенка и матери в кормлении грудью дает о себе знать одновременно; позднее, с двух-трехмесячного возраста — в акте стимуляции взаимных переживаний, носящем в концепции раннего развития Рене Шпица название «диалога» (Шпиц, Коблинер, 2000). Таковы идеальные условия, в которых ребенок постепенно начинает узнавать себя, свое Я, через материнский отклик — через восприятие своего отражения в ее глазах.
Это психоаналитическое представление о начале индивидуации созвучно мысли Михаила Бахтина о самопознании через Другого. Любое высказывание о субъекте со стороны Другого, утверждает Бахтин, искажает действительность: «В человеке всегда есть что-то, что только он сам может открыть в свободном акте самоосознания»; но объект выступает как необходимое для данного акта условие: «Смотря внутрь себя, он смотрит в глаза Другому или глазами Другого» (Бахтин,
238
1979, с. 69). Именно так и ребенок приближается к образу собственного Я, изучая свое отражение в материнском взгляде, прикосновении, голосе, переживая и благополучие, и неизбежные фрустрации; в дальнейшем — во взаимодействии через игру и в иных формах диалога. Если мать не способна адаптироваться к младенцу, возникает, говоря языком Бахтина, ситуация «высказывания со стороны Другого»: «Ты не такой, каким себя ощущаешь; не такой, каким чувствуешь потребность быть». Между участниками диады происходит разрыв единства и зарождается асимметрия, трансформируемая в дальнейшем в симметрию патологическую. Например, если матери недоступно ощущение новорожденного как части себя и, следовательно, переживание его потребностей как своих собственных, она навязывает младенцу ритм кормления, и тот оказывается вынужден подстроить под него свои психофизиологические ритмы; или принять игру, предлагаемую матерью, отказавшись от собственной игры.
Рассмотрим в аналогичном аспекте перенос-контрпереносное взаимодействие, которое мы называем психоаналитическим или психотерапевтическим процессом, и вспомним тезис Левальда о способности аналитика к контрпереносу как о мере умения участвовать в диалоге двух бессознательных сфер, которая и представляет меру его умения анализировать (Loewald, 1986). Аналитический процесс симметричен по самой структуре, поскольку, как замечалось выше, он обоюден: оба его участника исследуют друг друга, находят ключи к пониманию разных сторон личностей друг друга, следят за поведением и чувствами друг друга и реагируют соответствующим образом. Однако сейчас, говоря о симметрии аналитического диалога, я подразумеваю в первую очередь искомое пациентом тождество между самовосприятием и эмоционально-когнитивным отражением в собеседнике. Как уже было сказано, каждое психическое содержание субъекта стремится найти или сотворить в объекте свое зеркальное подобие. Именно поэтому двое, вступившие в диалог, перестают быть теми, кем они были до акта взаимодействия, и становятся в частичном слиянии новой сущностью. Подобно тому, как Винникотт замечал, что младенец и материнский уход за ним — единое целое, и поэтому нет такого явления, как младенец (Винникотт, 2002), мы можем сказать, что ни такого явления, как пациент, ни такого, как терапевт, в психоаналитическом диалоге не существует: есть лишь коммуникативная целостность «пациент—терапевт».
Это единство двоих становится средством поиска симметрии, общности видения и понимания, приближаясь к которой, оба субъекта обретают способность разделиться вновь и существовать индивидуально в новом качестве, в обновленной идентичности. (Именно это я имею в виду, когда определяю психоанализ как особое взаимодействие, в котором два человека постепенно делаются необходимыми друг
239
другу, а затем так же постепенно и спонтанно начинают чувствовать, что способны друг без друга обойтись). Проблема состоит в том, что весь опыт пациента изначально заставляет его строить и структурировать отношения как патосимметричные. Тогда цель терапии может быть представлена как их приведение к симметрии — с неизбежным переходом через стадию асимметрии, преграждающую путь.
Вспомним вновь о принципе зеркала как одном из фундаментальных принципов психоаналитического процесса. Перенос в первом и втором измерениях может быть представлен как динамическая сила, заставляющая пациента полагать, что в аналитике он видит реальный (знакомый, предчувствуемый) объект, в то время как последний (в идеальной аналитической модели) демонстрирует пациенту лишь отражение его опыта и субъективности. Еще раз, применительно к вопросу о симметрии диалога, повторю последовательность действий человека перед зеркалом, о которой шла речь в главе 6: а — субъект ожидает узреть идеал, тождественный самопредставлению; б — встречается с реальностью, то есть с асимметрией между реальностью и фантазией; в — принимает реальность и приводит себя в относительное соответствие искомому идеалу (достигает симметрии). Реальность — например, то, что человек небрит; его субъективность может превратить этот факт в образец неряшливости или мужественности. Зеркало, в котором ищется идеальный образ себя, есть исходная плоскость симметрии между субъектом и отражением. Первая задача терапевта состоит в том, чтобы предоставить ее пациенту, то есть создать условия, в которых несоответствие отражения самовосприятию станет очевидным. Вторая задача — не позволить ему разбить зеркало ради сохранения идеала.
Возможность достижения симметрии обеспечивается тем, что в аналитическом кабинете всегда находятся два обыкновенных человека. «Первое искажение правды в «мифе об аналитической ситуации», — писал Рэкер, — что анализ есть взаимодействие между больным и здоровым человеком. Правда состоит в том, что это взаимодействие между двумя личностями, у каждой из которых Эго находится под давлением со стороны Ид, Суперэго и внешнего мира; каждой личности присущи свои внутренние и внешние зависимости, тревоги и патологические защиты; каждая — это также и ребенок со своими внутренними родителями; каждая из этих целостных личностей... реагирует на любое событие в аналитической ситуации» (Ракер, 2005, с. 298). Терапевт исходно структурирует ситуацию, соблюдая принцип симметрии: он не производит на пациента впечатление человека из «иного мира» или иной социокультурной реальности, говорит на одном языке с собеседником, не носит медицинский халат, мотивирован к оказанию помощи ровно настолько, насколько тот мотивирован к ее принятию. В сущности, эта изначально заданная схо
240
жесть двоих и есть реализация описанного Томэ и Кехеле принципа «продвижения от объединяющего к разобщающему» (Томэ, Кехеле, 1996а). Дополнительным средством может оказаться, например, симметричное расположение кресел для первичных консультаций или для аналитического процесса в целом. Таков «уровень отсчета», позволяющий наблюдать и контролировать в дальнейшем динамику происходящего и «демаркационную линию» между двумя субъективностями.
Говоря в главе 6 о процессах, происходящих в измерении поиска «потерянного объекта», я проводил параллель с описанным Винникоттом процессом «использования объекта» — тем, что предшествует подлинному объект-отношению и служит залогом его появления. Младенец принимает реальность (отдельность) объекта, перемещая его за пределы субъективного опыта, то есть уничтожая, и затем обнаруживая, что объект выдержал уничтожение и существует, следовательно, он надежен (Винникотт, 2000). В связи с вопросом достижения симметрии можно вновь вернуться к терапевтическим принципам Винникотта, основанным на понятии «использования». Аналитик позволяет пациенту испытать себя на неразрушимость в качестве объекта переноса, например, ярости, зависти, сексуальных импульсов, после чего обретает право на существование вне зависимости от желаний и фантазий собеседника — становится «присутствующим». Эволюция переноса состоит в постепенном отказе от функционального использования объекта, от его трансформаций в объект прошлого и в активизации процессов третьего измерения, то есть «поиска». Принятие реальности и автономии «потерянного объекта» дает пациенту и возможность принятия реальности собственной. По сути, это и есть признание факта «лицо в зеркале — лишь отражение моего лица».
В предшествующих главах шла речь о нескольких функциях и задачах переноса, среди которых называлось обращение непредсказуемого в предсказуемое и приведение реальности в соответствие с фантазией — для чего служат проективные идентификации. В рамках вопроса симметрии рассмотрение перенос-контрпереносно-го взаимодействия следует сосредоточить именно на последних как главном средстве слияния с Другим и подчинения Другого своей субъективности. Проективная идентификация может быть определена в одном из своих аспектов как бессознательный инструмент претворения фантазии в реальность, в частности, видоизменения объекта до соответствия объекту внутреннему, с необходимостью и независимо от воли субъекта используемый в любом диалоге и определяющий его структуру. В терапевтическом взаимодействии, как и в любом другом, проективные идентификации обоюдны, однако в целях дидактического упрощения я говорю лишь об одной их стороне, связанной с проекциями психических содержаний субъекта (пациента) и их влияни
241
ем на объект. Очевидно, что проективная идентификация становится для пациента ведущим средством сопротивления узнаванию себя в зеркале, то есть асимметрии, и сохранения симметрии патологической. По сути, она структурирует существующее в каждом диалоге и неподвластное интерпретации взаимодействие «двух персон» (Балинт, 2002), где теряется дифференцированность субъекта и объекта, фантазии и реальности, прошлого и настоящего. На этом уровне ведется борьба идеального Я с отражением, действо, открывающее, говоря словами Бахтина, перспективу само-осознания вместо познания себя через интерпретацию, то есть через высказывание со стороны Другого. Таков один из возможных ракурсов, в которых открывается тезис Биона: проективная идентификация позволяет субъекту исследовать свои чувства в личности, способной их вместить (Байон, 2000). Аналитик демонстрирует пациенту его отражение, и главным средством подобной демонстрации становится то, о чем шла речь в главе 10: «незасекреченный» контрперенос.
На пути к симметрии неизбежен момент осознания субъектом того факта, что лицо в зеркале — его собственное; иными словами, между нереалистичным видением себя и собеседника и принятием реальности находится ступень понимания того, что в Другом он видит себя. Это можно назвать «феноменом двойника». Согласно примете, встретить двойника означает встретить свою смерть, то есть прекратить существование («если он — это я, то где же я сам?»). Момент двойника и знаменует собой тот хаос, из которого может произрасти нечто новое: «меня нет» означает одновременно «теперь я могу появиться». На данной стадии у пациента теряется понимание происходящего в кабинете, знание собственных целей, сложившееся представление о собеседнике — все то, чем прежде подпитывалось его чувство безопасности и контроля над ситуацией. Это наиболее трудный и эмоционально насыщенный период терапии, поскольку в нем сталкиваются две прямо противоположные потребности пациента: в слиянии фантазии с реальностью и в их дифференциации, другими словами — в идеальном и в реальном отражении. Средством «разрешения» конфликта становится активизация проективных идентификаций, то есть процессов во втором измерении переноса, и, как следствие, бурная перенос-контрпереносная игра, в которую в любом случае и с неизбежностью вовлекается аналитик. Если последний при этом сохраняет «непробиваемую» позицию и предлагает в ответ на атаки лишь интерпретации, например недоверия или ярости, он удерживает отношения в болезненно асимметричном состоянии. Пациентом с глубоко модифицированным Я такие вмешательства могут быть восприняты как контратаки или как попытки усыпить бдительность, то есть они окажутся для него лишь новым сигналом опасности. Субъект с невротической организацией, скорее
242
всего, почувствует себя вынужденным подчиниться навязываемому стилю взаимодействия, и последнее вновь станет патосимметричным. Можно без особых колебаний утверждать, что самым эффективным средством достижения патологической симметрии или даже разрушения терапии является убеждение аналитика, что он все знает о своем пациенте и построил систему без пробелов, основанную на безупречной теории: что бы ни случилось, его чувство «правильности» останется сохранено.
О том, что я называю патологической симметрией, писали многие специалисты, и их наблюдения вновь возвращают нас к теме интерпретации: «...Если аналитики — или взрослые — остаются непреклонными и пользуются своим языком с неизменным постоянством, то пациенты — и дети — в конце концов сдаются, обучаются тому, чему они должны научиться, и усваивают язык тех, кто старше и опытнее их» (Балинт, 2002, с. 142); или: «...Когда аналитик посредством интерпретаций настаивает на том, что трудности пациента проистекают из превратностей переработки агрессивных влечений, то единственной альтернативой для пациента будет согласиться с этим утверждением или почувствовать себя в ситуации, когда он невольно заставляет аналитика ощущать себя разрушенным и бессильным. По нашему мнению, такое положение дел свидетельствует не о бессознательном враждебном намерении со стороны пациента, а о том, до какой степени самооценка терапевта зависит от подтверждения пациентом правильности его теоретической позиции» (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999, с. 158). Как замечал Рику, интерпретация всегда сообщает пациенту нечто важное не только о нем самом, но и об аналитике; пациент улавливает представления аналитика, пытается им «соответствовать» и в результате отчуждается от себя подлинного и формирует то, что Винникотт называл «ложной самостью» (Рику, 2006). Рассмотрим клинический пример.
Мой пациент, молодой человек двадцати трех лет, рассказывал о своей жизни как о череде невзгод, лишенной какой бы то ни было перспективы. При этом чувствовалось явное эмоциональное преувеличение того, что с ним происходило фактически: так, о не самой высокой оценке за дипломную работу он говорил как о крушении всех надежд состояться в выбранной профессии, о неудачном сексуальном опыте — как о приговоре личной жизни, и т. п. Этот поведенческий паттерн был отпечатком его прошлого: представляя себя матери несчастным и страдающим по любому поводу, он добивался утешения и в конечном счете любви (факт, бывший мне неизвестным на том этапе, о котором идет речь).
Поскольку пациент не встречал с моей стороны активного сочувствия, монологи его делались все более настойчиво-жалостливыми; в конце концов я стал испытывать сильное желание сообщить ему, что не вижу ничего особо страшного
243
в том, что с ним происходит. Проективная идентификация использовалась им как средство избегания болезненной асимметрии: он искренне по-детски жалел себя, в то время как я виделся ему отстраненным и равнодушным. Так мы постепенно достигали коммуникативной целостности: потребности в словах утешения наряду с более зрелым пониманием того, что на самом деле никакой трагедии нет.
В какой-то момент нашей беседы, поддавшись чувствам, я спросил: «Как можно жить с таким беспросветным видением будущего?» — «А как видите мое будущее вы?» — немедленно поинтересовался он. «Думаю, не все так мрачно, как может казаться», — ответил я, на что пациент раздраженно бросил: «Вы утешаете меня в точности как мама ребенка, но я уже давно не маленький!» — «Да, действительно, — согласился я, — отчего-то мне захотелось вас утешить. Как вы полагаете, это было мое личное желание, или вы каким-то образом помогли ему появиться?». Постепенно пациент пришел к пониманию того, что в моей реплике перед ним возникло в тот момент его собственное отражение — временно экстернализованный частичный объект, утешающий и успокаивающий. Это понимание позволило ему реинтроецировать данное содержание и использовать его не только при посредстве других людей. Если бы я просто интерпретировал его поведение как имеющее целью разжалобить и спровоцировать на утешительные слова, полагаю, скорее всего, реакцией стало бы агрессивное отрицание. Еще хуже было бы, если бы он усвоил эту интерпретацию и на ее основе пришел к выводу, что так поступать нельзя.
Другой клинический случай я опишу более развернуто. Женщина средних лет обратилась ко мне по поводу периодических депрессивных состояний и некоторых соматических симптомов; я намеренно опущу большую часть материала, связанного с ее непосредственным запросом, и заострю внимание на проективных идентификациях. Важно отметить в первую очередь трудности, с которыми нам пришлось встретиться, начиная с первичных консультаций: ее ненасыщаемую требовательность, постоянные демонстрации ожидания чудесного исцеления и, как следствие, ощущение давления, раздражения и бессилия в контрпереносе. Наряду с этим я непрерывно чувствовал угрозу сеттингу и структуре терапии: пациентка настаивала на продлении сессий, на изменениях оплаты, на перенесении назначенных встреч, приходила не в свое время, звонила мне под разными предлогами и т. п. Ее манипуляции вызывали у меня желание директивным путем загнать ее в жесткие рамки, сделать «хорошей и послушной». Ее ярость, спрятанная под обликом несчастного существа, нуждающегося в любви и ласке, передавалась мне.
Свою маму пациентка описывала, в полном созвучии с моими чувствами, как особу холодную и до садизма деспотичную. Слушая, как мать обращалась с
244
дочерьми, я ловил себя на том, что начинаю практически ненавидеть эту незнакомую женщину, и удивлялся тому, что моя собеседница не только выжила в подобных условиях, но и не стала безнадежной калекой. Одновременно я понимал, что через месяц-другой такого прессинга сам превращусь в аналогичное чудовище и стану перемалывать пациентку до тех пор, пока не увижу перед собой покорный и правильный образец анализанда. Было очевидно, что мы вплотную приблизились к дилемме, сформулированной Кейсментом: «Легко теоретизировать по поводу того, что не следует позволять пациентам контролировать сам процесс психотерапии, поскольку... это может привести к бессилию психотерапевта. Но если терапевт настаивает на том, чтобы полностью контролировать весь ход психотерапевтического процесса, не приведет ли это к бессилию пациента?» (Кейсмент, 1995, с. 32). Наши отношения неуклонно стремились к симметрии, но симметрии патологической: я реально делался тем монстром, которого она с детских лет носила в себе.
Моя удерживаемая из последних сил нейтральная позиция, как было очевидно, лишь активизировала атаки пациентки, не встречавшей во мне адекватного отражения. Асимметрия диалога делалась невыносимой для обеих сторон. Наконец я дал волю чувствам, прямо заявив, что испытываю сильное желание поставить ей жесткие рамки поведения и взаимодействия — так же непреклонно, как это делала когда-то ее мать. Ее ярость после моих слов перестала маскироваться, и я оказался злобным, эгоистичным и бездушным существом — тем, кем я и в самом деле начинал себя ощущать.
Я принял эту оценку, сказав пациентке с вполне искренним удивлением, что с ее помощью открываю в себе много нового и неожиданного. Позже я поинтересовался, сохранилось ли во мне что-то иное, бывшее прежде, и что произошло, когда стало ясно, что я способен испытывать не только безграничную симпатию и сочувствие? Не было ли и у матери иных проявлений и черт, потерявшихся когда-то в памяти под осадком негатива? Сейчас я сказал бы, что эта сессия стала для нас первым шагом на пути к симметрии. Моя собеседница эмоционально заметила, что ведь и в ней самой есть что-то, достойное любви, и с вызовом спросила, вижу ли я это и что все-таки на самом деле испытываю к ней (вопрос об истинных чувствах и мыслях аналитика, часто задаваемый пациентами, представляет проявление характерной для «стадии двойника» потребности в дифференциации реальности и фантазии, вступающей в конфликт с потребностью в их слиянии). «Много разных чувств, — сказал я, — и, думаю, вам необходимо узнать о них, чтобы понять, кто вы: несчастная жертва или злобный разрушитель. Попробуйте взглянуть моими глазами и расскажите, что вы увидели бы
245
и испытали на моем месте?» Довольно точно описав мои ощущения, она добавила, что в любом случае старалась бы быть предельно понимающей и терпеливой, и, рассмеявшись после этих слов, сказала: «Так, значит, предел все же есть». Я согласился и заметил, что она предоставила мне возможность ярко пережить чувства маленькой девочки, бессильной перед давящими материнскими требованиями и способной лишь до некоего предела выносить их. Этот диалог имел далеко идущие следствия, вызвав у нее череду детских воспоминаний, а также ряд пугающих сновидений о несчастных случаях со мной и даже о моей смерти.
Так пациентка смогла подойти к пониманию того, что я стал контейнером для ее собственной ненависти. Достиг кульминации этап, обозначенный мною как «стадия двойника», где доминировало ощущение хаоса и бессвязности происходящего. Она погружалась в отчаяние, говорила, что не знает, что теперь со всем этим делать; что отказывается понимать, кто она, с тех пор как перестала видеть себя исключительно несчастной и страдающей. Несоответствие отражения самовосприятию вызывало у нее протест и рождало попытки вновь и вновь загонять меня в рамки материнского образа. Однако негативная идеализация последнего рушилась, и пациентка уже могла иначе взглянуть на прошлое и принять хотя бы то, что и сама мать страдала от жесткости своего обращения с детьми — от жесткости, видевшейся ей необходимой ради их блага. Наши восприятия матери как обычного человека делались все более тождественны, то есть симметричны; соответственно появлялось все лучшее понимание и более реальное видение детства пациентки, одновременно — более реальное видение ею себя и меня.
Я полагаю, что мы могли бы заимствовать у Бахтина общий принцип диалога, позволяющий избежать в работе с пациентом устойчивой патологической симметрии, независимо от того, с чьей стороны она навязывается, или разрыва отношений. Задача терапевта во многих случаях состоит не в том, чтобы сообщить пациенту некое знание, но в том, чтобы позволить ему самому исследовать и узнать себя в Другом. Блестящий пример того, о чем идет речь, приводила Анна Фрейд, ссылаясь на Августа Айхорна в описании «идентификации с агрессором»: мальчик гримасничал, когда учитель ругал его, и тем вызывал на себя еще большее недовольство. На совместной консультации выяснилось, что это были просто отражения гримас самого учителя (Фрейд А., 1993). В качестве еще одного примера можно вспомнить случай, о котором сообщал Алан Жибо, — реакцию аналитика на фотографию, на которой пациентка лежала в ванне с кровью (случай описывался в главе 10). «Принцип зеркала» в данном контексте может быть осмыслен следующим образом: «зеркало» есть воображаемая плоскость симметрии между субъектом
246
и Другим, задаваемая самой структурой аналитического пространства и взаимодействия. Аналитик — не «зеркало», а «отражение», создаваемое проективной идентификацией. Чтобы стать таковым, он, как говорилось выше, не «делает» нечто с ментальными содержаниями пациента, но лишь создает и поддерживает условия для их проявления и безопасного развития. Еще раз подчеркну, что, как правило, в обыденной жизни и отношениях пациент подобного опыта практически лишен.
Уже неоднократно говорилось, что с помощью проективной идентификации собеседник предлагает терапевту невербальный диалог. Язык интерпретаций в таком диалоге бессмыслен, а иногда и опасен. Введение Бионом техники контейнирования основывалось на понимании настойчивого использования проективных идентификаций как свидетельства того, что эти бессознательные послания пациента не достигают цели (Байон, 2000). Как писал Кан: «Чувство обиды на критику любимого мною клиента... могло бы стать признаком полезного контрпереноса, признай я его и пойми, что оно указывает, насколько сильно ему надо было обидеть меня именно тогда» (Кан, 1997, с. 108). Для меня поэтому несомненна необходимость не только быть доступным их влиянию (иное практически невозможно), но и не утаивать эту доступность от себя и от пациента. Об этой необходимости говорил и Треурнит, замечая, что в определенной фазе аналитического процесса пациенту надо чувствовать, что он способен пробудить в аналитике подлинные эмоции (Treurniet, 1993), и Берд, утверждавший, что «пациент должен иметь возможность включить аналитика в свой невроз, чтобы разделить его с аналитиком» (Bird, 1972, р. 279). Отто Айзекауэр сообщал, что коммуникация между пациентом и аналитиком становится эффективной, когда оба психических аппарата пребывают в состоянии временной регрессии: лишь при этом условии аналитик может использовать свои чувства, фантазии и воспоминания как инструмент для работы с бессознательным пациента. Также и Винникотт, подчеркивая, что пациенту следует предоставить возможность использовать аналитика так, как он считает нужным, писал: «Для меня это означает взаимодействовать с пациентом с позиции, в которой невроз переноса (или психоз) направляет меня» (цит. по: Россохин, 2000, с. 60).
Реализация принципа симметрии требует умения поддержать диалог, в котором слова лишены значения либо имеют таковое, прямо противоположное их исходному смыслу. Особую важность при этом обретает аспект незащищенности терапевта, роль которого подчеркивали, в частности, Гилл и Когут: у Когута незащищенность есть условие успешной терапии, у Гилла она является терапевтическим фактором сама по себе, поскольку в обыденной жизни пациента все окружающие его люди защищаются. Терапевту надо уметь испытать неразрушительную ненависть,
247
когда пациент активно добивается ее, все обесценивая и высмеивая; чувство поражения и бессилия — когда манифестирует усугубление симптоматики; зависть — когда демонстрирует успехи и талант, и т. д. Во всех подобных случаях он временно становится тем отщепленным содержанием, которое пациенту в настоящее время необходимо в него поместить; по сути, позволяет себе «заболеть» вместе с ним, как африканский колдун-экзорцист в описании Якоба ван Виттенмеера. Это безопасное и преходящее искажение чувства его собственной идентичности сродни описанному М’Юзаном феномену «парадоксального мышления», и так же, как данный феномен, оно способно вести к самым удивительным открытиям. Я сказал бы, что толерантность аналитика к проективной идентификации должна напоминать устойчивость игрушки «ванька-встанька», а не врытого в землю столба, о который легко разбить голову. В этом случае невербальный диалог достигает цели и отношения остаются сохраненными. Выполнение последнего условия придает взаимодействию качество, которое Винникотт рассматривал как обязательное условие успешной терапии — качество игры. Вот непосредственное наблюдение.
Трехлетний мальчик, охваченный внезапной озорной фантазией, подбегает к матери и весело кричит: «А вдруг ты захочешь съесть меня на обед?!» Мама, накрывающая стол, делает «страшное» лицо и рычит: «Р-р-р!» — после чего мальчик с восторженным визгом убегает. Минуту спустя он возвращается и так же радостно сообщает: «А сейчас я тебя съем, р-р-р!» Мама «пугается», симметрия достигнута, ребенок счастлив. Теперь он без капризов и со смехом принимает мамино предложение: «Ну, раз мы с тобой не съели друг друга, почему бы тебе не сесть за стол и не съесть вместо меня вот этот суп?».
Идентифицируясь с экстернализуемыми содержаниями, аналитик включается в коммуникацию, как мать — в игру, предлагаемую ребенком. Когда мать предоставляет ребенку выбор игры и умеет искренне увлечься ею вместе с ним, тот в свою очередь обретает возможность нетравматично принять игру, предложенную ему матерью. Это означает, что для достижения субъектом способности увидеть себя и Другого глазами Другого данная способность должна быть проявлена и реализована его собеседником; иными словами, идентификация аналитика с пациентом предваряет идентификацию пациента с аналитиком, терапевтическую значимость которой подчеркивал Левальд. Таким образом, мы еще раз возвращаемся к вопросу о необходимости признания того, что пациент обладает своей реальностью, которая не нуждается в том, чтобы аналитик ее подтверждал или оспаривал; если последний склонен игнорировать ее истинность, пациент переживает лишь отвержение и, как замечал Стоун, едва ли сможет обрести способность к пониманию
248
значения паттернов своего поведения и отношений (Stone, 1981). Анализ эффективен, когда он становится процессом не противопоставления, но обоюдного принятия двух реальностей. Достигаемая в нем целостность и симметрия взаимодействия оказывается залогом обретения новой идентичности и последующей нетравматичной сепарации. Я полагаю, что достижение симметрии является одним из важнейших условий активизации развития переноса в измерении «поиска потерянного объекта». Еще раз замечу, что на практике речь всегда идет о взаимном влиянии: перенос (источник проективных идентификаций) и контрперенос (их отражение) обоих участников диады позволяют каждому из них исследовать себя в Другом, и новая индивидуация в той или иной степени осуществляется для обеих сторон.
Следует добавить, что приближение к симметрии диалога не ведет само по себе к «разрешению» или снижению интенсивности реакций переноса во втором измерении, но придает им качество «как если бы», то есть делает их частью игры.
Не подтверждая и не отрицая с помощью интерпретаций, но лишь переживая и отражая субъективность пациента, аналитик открывает ему путь в область, которую Винникотт называл «зоной непосредственного опыта» — в пространство между реальностью и сферой магических фантазий. В данном континууме потребности в дифференциации и в слиянии фантазий и реальности теряют противоположность. Восприятие пациентом себя и собеседника эволюционирует так же, как отношение субъекта к художественному вымыслу: ребенок принимает сказку только при условии ее «взаправдашности», однако затем, взрослея, он обретает способность принять иллюзию, предлагаемую ему романом или фильмом, так, «как если бы это было на самом деле». Терапевт, позволяющий переносу свободно развиваться в безопасных условиях, поступает как родитель, не спешащий разочаровать ребенка тем, что «сказка придумана». Излишне говорить, что и самому родителю при этом имеет смысл на некоторое время поверить в сказку.
ГЛАВА 17
О ЛЮБВИ В ПЕРЕНОСЕ
Если мы зададимся вопросом о том, что такое любовь в переносе... мы можем начать отвечать на него лишь в порядке рабочей гипотезы и лишь после получения ответов на длинные серии других вопросов.
Рой Шафер
Мы видели, как огонь этой очень специфической страсти заставил Брейера бежать, Юнга — сохнуть, а Фрейда — предпринять глубинное рассмотрение.
Джордж Канестри
Терапевтическое развитие переноса, развитие личностной субъективности — процесс, который непросто бывает описать доступными нам словами и аналитическими терминами без грубых искажений смысла: слова в лучшем случае способны создать плоское, двухмерное изображение того, что в действительности обладает тремя или даже большим числом измерений. Мы можем чаще всего лишь наблюдать производные этого развития и «реверсивным образом» подводить под них теоретический фундамент — как я уже замечал, лучшими и наиболее стабильными переменами в наших пациентах являются те, которые как будто не могут быть разумно объяснены. Для иллюстрации же внешней, осязаемой стороны подобной эволюции может оказаться весьма полезным рассмотрение такого феномена, как рождающаяся в терапевтическом кабинете любовь.
Кажется, психоаналитики с честью вышли из непростой ситуации, заменив в профессиональном словаре слово «любовь» термином «эротизированный перенос»: чувство пациента, ставящее в тупик многоопытных терапевтов, было низведено таким образом до феномена почти патологического, стоящего в одном ряду с «психотической декомпенсацией» или «суицидальными наклонностями». Прихо
250
дится признать, что любовь может пугать, если она внезапна, сильна, нежелательна, тем более — если ее появление мешает достижению неких намеченных целей. Как писал по этому поводу Урбан Вестин, «...слишком многие из нас ничего не боятся больше, чем любви... Встречая любовь, мы защищаемся от нее бесчисленным множеством способов. Мы можем отстраниться и сбежать, мы можем устраивать проверки, например, скверно вести себя снова и снова, и когда любящий нас человек отступает, мы успокаиваемся: „Я так и знал, никакой любви нет“». С точки зрения Вестина, любовь реактивирует нашу беспомощность, которую нелегко признать и пережить, так как «она становится угрозой для жизни» (Вестин, 2007, с. 182). Таким образом упускается из виду, что, по определению этого же автора, само аналитическое взаимодействие есть акт любви, в котором не всегда бывает просто перенести возникающую степень близости (Вестин, 2009). Заметим, что именно любви пациентки к лечащему врачу психоанализ был в некотором смысле обязан своим рождением: он оказался по сути тем самым ребенком, которого родила от доктора Брейера Анна О.
Подобные ситуации сделались затем притчей во языцех. Вокруг возникающей в аналитическом кабинете страсти создано небывалое количество анекдотов, сплетен и даже абсурдных убеждений: ведь и доныне множество людей, отчасти под влиянием беллетристики и кинематографа, полагает, что пациенты, проходящие психотерапию, чуть ли не обязаны влюбляться в своих врачей. Между тем любой практикующий аналитик хорошо знает, что уже больше ста лет этот вид отношений в терапевтической диаде продолжает оставаться одной из наиболее сложных моральных и технических проблем. Как замечала Этель Персон (автор предисловия к сборнику «Эротический и эротизированный перенос»), даже к Фрейду, впервые осветившему ее в 1915 году в работе «Заметки о любви в переносе», не пришло понимание подлинной значимости данного феномена; и то, что она осознавалась им столь медленно, свидетельствовало о мощи и угрозе, которую любовь пациента к своему терапевту представляла в те годы и представляет по сей день.
Эротизированный перенос был описан Фрейдом как специфическое явление, в крайних формах возникающее в работе с женщинами с «элементарной страстностью, не допускающей суррогатов» — с «детьми природы», которые не способны заменять материальное психическим. Эротические чувства пациентки к аналитику-мужчине (или пациента к аналитику-женщине) могут присутствовать в «умеренных дозах» в мыслях, фантазиях или сновидениях, не особо препятствуя прогрессу терапии. «Ожидаемый» эротический перенос, согласно Блуму, представляет относительно универсальную, хотя и изменчивую по интенсивности, реакцию,
251
свойственную некоей определенной фазе аналитической работы и располагающуюся в континууме от чувства привязанности до сексуального влечения: «Эротизация может быть преходящей и устойчивой, мягкой или злокачественной, доступной анализу или указывающей на дефекты Я» (Blum, 1973, р. 70). При эротизированном переносе аналитик имеет дело с последним, крайним вариантом. Анализ выглядит зашедшим в тупик; пациентка (пациент) не откликается на интерпретации, превращает сессии в свидания, требует ответных чувств; не получая их, реагирует вспышками ярости или депрессивными провалами. Данную ситуацию Фрейд сравнивал с пожаром, вспыхнувшим на театральной сцене во время представления, и замечал, что в ней нелегко сохранить аналитическое положение и не поддаться ошибке, решив, что лечению действительно пришел конец. По словам Фрейда, задача лечения состоит в том, что пациентка должна научиться у аналитика преодолению принципа наслаждения, отказу от близкого доступного удовлетворения в пользу более далекого, однако психологически и социально безупречного. Для этого преодоления ей следует заново пройти ранние периоды своего психического развития и приобрести увеличение той душевной свободы, которой сознательная жизнь отличается от бессознательной. Единственная и серьезная трудность ситуации вытекает из необходимости овладения переносом: это состояние отношений настолько запутано и обусловлено столь многими причинами, так неизбежно и трудноразрешимо, что обсуждение его уже давно является жизненно важным для аналитической техники (Фрейд, 2003). Это замечание актуально до сих пор.
В подавляющем большинстве случаев проблема эротизированного переноса — это проблема отношений между мужчиной-аналитиком и женщиной-анализандом: она словно продолжает традицию, заложенную отношениями Брейера с Анной О. и Юнга с Сабиной Шпильрейн. Любовь в переносе может быть, разумеется, и гомосексуальной, хотя такие случаи по понятным причинам существенно более редки; она встречается и у мужчин в отношении женщин-аналитиков, однако, как замечал Эйхофф со ссылкой на Шассге-Смиржель, мужчины лучше скрывают ее, реже используют ее в интересах сопротивления, скорее демонстрируют противостояние ей, защищают себя, мобилизуя анальность против инцестуозных желаний. Ссылаясь на Этель Персон, он же сообщал, что обыкновенно женщины используют эротический и эротизированный перенос как сопротивление, в то время как мужчины чаще проявляют сопротивление эротическому переносу (Эйхофф, 2003). От себя добавлю, что эта закономерность вполне объяснима, поскольку в силу большей жесткости и ригидности мужского Сверх-Я по сравнению с женским инцестуозные импульсы для мужчин неприемлемы в большей степени, чем для женщин. Подтверждением
252
этому является клинический опыт, показывающий, что у пациенток гораздо чаще появляются сновидения и фантазии о сексуальных отношениях со своими отцами, чем у пациентов — об аналогичных отношениях с матерями. Для первых эти фантазии не представляют ничего невыносимого, вторые же предпочитают подвергать их вытеснению. От женщин, испытывавших трудности с выбором объекта, мне не раз приходилось слышать, что им никак не удается встретить в жизни мужчину, который был бы в необходимой степени похож на их отца; но еще никогда я не слышал от мужчины, что в своей избраннице он хотел бы видеть мать. Заметим, что и в глазах общества выбор партнера по отцовскому типу как будто более приемлем, чем выбор партнерши — по материнскому: если в супружеской или любовной паре наличествует возрастной мезальянс, то ситуация, когда мужчина на десять, двадцать или больше лет старше женщины, выглядит более «приличной», чем если бы дело обстояло наоборот.
Со времени написания «Заметок о любви в переносе» взгляды на суть данного феномена прошли значительную эволюцию: Роберт Валлерштейн даже сообщал, что эта работа создателя психоанализа в наши дни производит «впечатление устарелости и наивности» (Валлерштейн, 2003, с. 90). Суровой критике подвергал ее и Рой Шафер: «... патриархальная ориентация Фрейда подвигла его выбрать для обсуждения любви в переносе женщину, возбуждающую чувства, назойливую, невоздержанную, но так или иначе привлекательную, и изобразить ее в качестве единственного инициатора... просто сексуальных течений аналитических взаимоотношений. Следовательно, он мог чувствовать себя сознательно уютно в своей патриархальной ориентации и много раз в своем эссе напоминал, предупреждал и увещевал, в то же время не желая обеспечивать детальный и сбалансированный охват любви в переносе во всех ее формах и со всеми ее функциями» (Шафер, 2003, с. 146). В 1915 году любовь в переносе рассматривалась Фрейдом в первую очередь как сопротивление возвращению вытесненного, то есть как средство избегания болезненных воспоминаний (что он и рекомендовал аналитикам демонстрировать пациенту при всякой возможности). Однако впоследствии многие специалисты стали склоняться к выводу, что эта проблема более сложна — по крайней мере для случаев массивного эротизированного переноса, в отличие от «ожидаемого», то есть условно-нормальных эротических компонентов объектных отношений вообще. Как уже упоминалось, впервые к ее подлинной сложности и патогенной сути явления привлек внимание Александер, описавший пациентов, которые формируют глубокую зависимость от аналитика, домогаются его любви и выражают готовность отдать ему свою (Alexander, 1950).
253
Лайонел Блицстен был, вероятно, первым аналитиком, предположившим связь эротизированных переносов с некоторыми серьезными психопатологиями, а не просто с «природной страстностью», как думал Фрейд. Апеллируя к неопубликованному труду Блицстена, Эрнест Раппапорт описал эротизированный перенос как признак тяжелого заболевания с глубоким расстройством чувства реальности: если в обычном переносе аналитик воспринимается пациентом так, «как если бы» он был его родителем, то в данном случае из восприятия исчезает всякое «как если бы». Эти пациенты, по словам Раппапорта, неспособны к разграничению прошлого и настоящего и к адекватному тестированию реальности (что проявляется, например, в убеждении, будто их любовь разделена аналитиком). Такой пациент выражает настойчивое желание, чтобы терапевт принял на себя родительскую роль и выполнял по отношению к нему соответствующие функции; нисколько не смущается этим и реагирует гневом, не добиваясь искомого. Он охвачен жаждой превращения фантазии в действительность. Как упоминалось в главе 2, Нанберг в данной связи выражал сомнение, что подобное явление вообще корректно описывать термином «перенос»: речь идет не столько о проекции родительских образов в терапевта, сколько о попытках заставить терапевта видоизмениться до фактического соответствия этим образам (Nunberg, 1951). С точки зрения Раппапорта, в подобной ситуации аналитик имеет дело не с невротической структурой личности, а со случаем пограничного расстройства или амбулаторной шизофрении (Rappaport, 1956). Однако ясно, что это утверждение едва ли может быть распространено на все случаи любви в переносе, по крайней мере если принять во внимание широту диапазона ее проявлений, о которой сообщал Блум.
Помимо Блицстена и Раппапорта, другие специалисты также нередко приходили к заключению об эротизированном переносе как симптоме серьезной психопатологии. Блум описал его как крайнее иррациональное и эго-синтонное выражение эротического переноса при явном нарушении связи с реальностью — первичном или представляющем результат регрессивных деформаций. В концепции Блума предрасположенность к аномальной эротизации отношений есть следствие искаженного функционирования Я, реального опыта совращений в детстве и глубоких нарциссических и доэдипальных патологий с эдипальным «фасадом» (Blum, 1973). Горацио Этчегоен тоже отмечал, что любовный перенос нередко является компонентом психотических, перверсных и психопатических форм коммуникаций (Etchegoyen, 1991). Хэммет ввел для подобных явлений понятие «делюзивного переноса», представляющего серьезную аномалию в аналитических отношениях (цит. по: Сандлер, Дэр, Холдер, 1993). Следует добавить, что со времени написания «Заметок
254
о любви в переносе» психоаналитики разделились в понимании эротизированного переноса на два лагеря. Одни стали полагать вслед за Фрейдом, что он неизбежен во взаимодействии с определенными пациентами как производная их патологии, вне зависимости от личности и стиля работы терапевта. Другие, например, сторонники интерсубъективного подхода, склоняются к точке зрения, согласно которой аналитик всегда вносит свою лепту в состояние и поведение пациента; развитие у последнего делюзивных реакций есть свидетельство того, что в терапии что-то происходит не так (Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999).
Кроме вопроса о природе любви в переносе, актуальным (и, возможно, наиболее актуальным) остается вопрос: преодолимо ли препятствие, воздвигаемое этим явлением перед терапией? Фрейд высказывался по данному поводу относительно оптимистично, пожалуй, за исключением случаев «элементарно страстных» пациенток, которым доступна лишь «логика супа и аргументы жаркого». Помимо трех возможных исходов влюбленности пациентки в аналитика — законного брака, незаконной любовной связи и прерванного лечения, — он называл четвертый, сугубо профессиональный: достижение понимания того, что любовь, о которой идет речь, инициирована терапевтической ситуацией и не направлена на аналитика как реальную личность, но представляет собой лишь продукт возрождения инфантильных желаний и фантазий. По мнению Фрейда, это — определенная неизбежность, которая должна быть проанализирована и в итоге преодолена (Фрейд, 2003).
Вопрос об «элементарно страстных» пациентках, однако, оставлен открытым. Едва ли уместно распространение фрейдовского оптимизма на ситуацию массивного эротизированного переноса, в которой пациент упорно обесценивает и отвергает любые попытки анализа его чувств. Шафер не без юмора замечал, что Фрейд сообщает о пациентках, чья эротизация переноса полностью блокирует аналитический процесс, а затем рекомендует убеждать их в неразумности подобной позиции и полагает, что таким образом можно справиться с трудностью (Шафер, 2003). Раппапорт утверждал, что сопротивление при этом оказывается столь интенсивным и всеобъемлющим, что часто единственным выходом из тупика становится передача пациента, даже против его воли, другому терапевту — хотя в той же работе он предупреждал, что подобный шаг неизбежно реактивирует деформирующие детские травмы (Rappaport, 1956). Также Гринсон полагал, что классическая форма анализа в подобных случаях неприменима, поскольку эротизированный перенос проистекает из импульсов ненависти и тенденций к деструктивному отреагированию, разрушающих лечение (Гринсон, 1994). Возможно, психоаналитику, имеющему дело с любовью в переносе в наши дни, позволит избежать деморализации то сообра
255
жение, что психоанализ Фрейда и его прямых последователей исключал из опыта психотические патологии и реакции, с которыми успешно работают более современные, не-интерпретативные модификации. Так, Блум даже при изрядном своем скептицизме в отношении перспектив работы с эротизированным переносом констатировал, что сам по себе факт его развития не обязательно обрекает терапию на провал (Blum, 1973).
Пациентка обратилась ко мне осенью, и это было не просто время года: это была ее личная осень, осень ее жизни, хотя ей не исполнилось еще и тридцати. Пять лет тому назад она приехала в Петербург издалека, оставив на родине мать и отца; жила с мужем и ребенком, но не была счастлива. Все осталось позади, и за осенью следовала только зима. Была бездонная тоска по лету, по детству, по родительской семье — по всему, без чего она чувствовала себя опустевшей навсегда. Петербургская осень была полна холодом, болезнью, равнодушными и слепыми взглядами прохожих. Она не понимала, в поисках чего стала изменять мужу, бросаясь в не очень разборчивые сексуальные связи. Всякий раз она выносила из них лишь усугублявшее депрессию чувство вины.
Уже через месяц после начала встреч с пациенткой я понимал, что за рамками наших отношений мир для нее перестал существовать. Она говорила об этом открыто, сообщая, что эмоционально никого, кроме меня, у нее нет; что она едва доживает от сессии до сессии; что только видя меня она способна жить, и что ее поддерживает полубезумная надежда на то, что, когда терапия закончится, мы сможем навсегда остаться вместе. Не встречая с моей стороны подтверждения этим фантазиям, она замыкалась в себе, плакала, отказывалась говорить. Я переживал в ответ множество эмоций, от жалости до раздражения; испытывал желание согреть ее и желание грубо встряхнуть, чтобы вернуть к жизни, или оттолкнуть, чтобы только не заразиться ее безысходностью. Интерпретации, которые я пробовал давать ее стилю взаимодействия, звучали как контратаки или как попытки отгородиться от ее чувств (а может быть, и от своих) стеной интеллекта. Так продолжалось, пока я не смог взглянуть на свое поведение со стороны и задаться вопросом: почему я хочу лишить ее права быть здесь такой, какая она есть?
Теперь мы подходим к одному из главных в связи с означенной проблемой вопросов, поставленному Фрейдом: существует ли разница между эротизированным переносом (разница, которую психоаналитики попытались подчеркнуть самим фак-
256
том введения этого термина) и любовным чувством как таковым? Как ни странно, но, кажется, психоанализ всегда уделял незначительное внимание обычной любви: за исключением Балинта и еще нескольких исследователей, его теоретики предпочитали рассматривать главным образом метаморфозы сексуального влечения и патологии любовных отношений. Немногое было сказано и о том, что как будто бы зрелая, то есть не испытавшая смещения по цели или объекту любовь сама по себе способна обрести характер патологии, если она безраздельно захватывает человека, парализуя его жизненную активность и созидательность. Более широко данный вопрос может быть сформулирован так, как он был сформулирован в начале книги: справедливо ли вообще рассмотрение переноса как антитезы реальности? Насколько корректно предположение аналитика, что чувство, о котором ему сообщает или которое отыгрывает пациент, есть лишь «слепок» с конфигураций инфантильного опыта, и что оно не адресовано ему как личности? Уместно вспомнить о противоречии в понимании переноса самим Фрейдом: с одной стороны, этот феномен описывался им как артефакт ситуации аналитического лечения, с другой — как неотъемлемый компонент восприятия субъектом других людей.
Очевидно, что вопрос о разделении любви в переносе и любви как таковой был для Фрейда принципиален, поскольку он оказывался в сущности вопросом о критериях дифференциации реальности (читай — нормы) и иллюзии (патологии). На протяжении значительной доли текста «Заметок...» Фрейд как будто борется сам с собой, подбирая аргументы в пользу специфического характера любовного чувства в аналитической ситуации и опуская руки перед собственными же контраргументами. С точки зрения Роя Шафера, этот внутренний конфликт вполне объясним: создатель психоанализа понимал, что признание подлинности любви в переносе отчасти компрометирует его основополагающий тезис об определении настоящего прошлым (Шафер, 2003). Его попытки доказать (самому себе?), что эротизированный перенос, не считающийся с реальностью, есть артефакт аналитической ситуации для пациенток с определенным складом души, логически были связаны с представлением об аналитике как идеальном «зеркале», не привносящем собственную личность в лечебное взаимодействие. Однако со времени появления трудов Ференци и Балинта мы знаем об иллюзорности этого представления: любым своим проявлением, в том числе молчанием, нейтральностью и пассивностью, аналитик участвует в конфликтах пациента и всегда реален для него. Фрейд утверждает, что любовь в переносе в большей степени, чем обычная любовь, управляется навязчивым повторением; что ее нельзя назвать настоящей, так как она представтуяет лишь воспроизведение прежних инфантильных реакций; что она усилена сопротивлением, используется также
251
в целях сопротивления и не склонна принимать во внимание реальность. Однако, с другой стороны, каждая влюбленность воспроизводит некие инфантильные образцы; именно то, что придает ей навязчивый и иногда даже патологический характер, является инфантильно обусловленным. Реальность частично игнорируется во всякой влюбленности, поскольку ее фундаментом служит идеализация объекта и отрицание его несовершенств. Иррациональность этого чувства особо ярко иллюстрируется феноменом «любви с первого взгляда». В итоге Фрейд оказывается вынужден признать, что у нас нет веских оснований оспаривать характер подлинности любви, возникающей в психоаналитическом кабинете (Фрейд, 2003). Джордж Канестри впоследствии соглашался с Фрейдом в данном вопросе, замечая, что сопротивление может использовать любовь, но не порождать ее (Канестри, 2003). Следует ли тогда констатировать, что и любовь, овладевающая человеком в обыденной жизни, есть патология, каковой ее видели применительно к аналитической ситуации Блицстен и Раппапорт? Нет другого ответа: она — одновременно и патология, и норма, или: это норма, которая становится патологией, когда парализует способность жить.
Моя «пациентка из осени» сказала однажды: «Мы с вами существуем вместе. Без вас я не целая, я — только часть. Я остаюсь оболочкой, пока вы меня не наполните. Может быть, это должно произойти в сексе. Может быть, я должна узнать вас, знать о вас все, насытиться вашими вкусами, пристрастиями, взглядами на жизнь. Я говорила раньше, что будто потеряла себя когда-то. Но это не так: я себя и не находила. Это сделали вы; вы нашли меня и подобрали, и я ненавижу вас за то, что не могу без вас».
Пора вспомнить, что истоки любовного чувства принадлежат наиболее ранним коммуникациям между матерью и ребенком; или даже, как полагал Балинт, до-родовой, внутриутробной либидинозной связи плода с окружающей средой. Поэтому, например, еще с точки зрения сторонников школы Клайн любовь в переносе рассматривалась как составная часть параноидно-шизоидной или депрессивной позиции: аналитик видел в ней попытку предупредить преследование со стороны объекта проекции собственного разъяренного Я пациентки, идеализируемого в целях защиты, или попытку репарации в депрессивной позиции — то есть попытку «вылечить» объект любовью. Известно, что главным объектом фрейдовских исследований детского развития была стадия эдипова комплекса, то есть триадных отношений; известно и то, что в силу поглощенности проблемами «отцовского переноса» Фрейд практически игнорировал роль «переноса материнского». Однако заметим, что, хотя он писал о любви в переносе так, как если бы она была продуктом воспроизведе
258
ния эдиповых конфликтов, он говорил, что для «преодоления принципа наслаждения» она должна вновь пройти через самые ранние периоды: по сути, речь велась о переживании в отношениях с аналитиком глубокой регрессии, которое близко к балинтовскому «новому началу» и подразумевает технику, близкую школе «независимых», то есть основанную на привязанности. Как подмечал Валлерштейн, изменения акцентов исследований эротизированного переноса — вглубь от эдиповой стадии — были важным расширением концепции Фрейда, но имплицитно они присутствовали уже в «Заметках о любви в переносе», хотя более отчетливо стали проявляться в его более поздних работах (Валлерштейн, 2003).
Наблюдения Блицстена и Раппапорта в области эротизированного переноса сместили фокус внимания с переноса фаллически-эдипального и гетеросексуального (о котором вел речь Фрейд) на оральные отношения, вероятно, играющие роль главной динамической силы для пациенток, влюбляющихся во врачей. Раппапорт описывал происходящее в этой ситуации как пробуждение глубочайшей оральной привязанности к кормящей груди при нарушении чувства реальности и угасании иллюзий (Rappaport, 1956). Хэммет характеризовал феномен «делюзивного переноса» как искаженное, но отчетливое повторение очень ранних взаимодействий младенца и матери в некоторых аспектах (цит. по: Сандлер, Дэр, Хомер, 1993). Такэо Дой объяснял движущую силу эротизированного переноса с помощью японского понятия «амэ»: то, что испытывает младенец, ищущий мать. Чувство амэ невербализуемо и должно только признаваться и приниматься таким, каково оно есть. Будучи неудовлетворенным, оно превращается в желание и участвует в рождении таких эмоций, как влюбленность, зависть, ревность и т. д. Следует заметить, что Дой наде,\яет амэ значением важнейшего компонента любых межличностных отношений (Дой, 2003).
Приведенный выше фрагмент монолога «пациентки из осени» может служить иллюстрацией к тезису, сформулированному мною задолго до знакомства с работами упомянутых авторов, но вполне созвучному высказанным ими мыслям. Патологическая любовь, подчиняющая себе человека в аналитическом кабинете или за его пределами, подразумевает потребность, обусловленную некоей дефицитар-ностью. Этот дефицит Я, болезненная нехватка жизненно необходимого — один из факторов, способствующих активизации любовного чувства вообще (вспомним платоновских андрогинов); однако любовь патологическая, в отличие от зрелой, нормальной, всецело или почти всецело диктуется потребностью компенсации. По сути, речь идет не о взрослом (эдипальном, гетеросексуальном, альтруистичном) влечении, терминальной целью которого является репродукция, но о желании симбиотического слияния и поглощения (поглощенности) объекта (объектом). Так,
259
в приведенном примере пациентка сообщает о возможности автономного существования лишь при условии заполнения ее собственного Я моим, что тождественно ее растворению в моем собственном Я.
Для множества разновидностей подобной ситуации можно, с моей точки зрения, выделить единственную общую характеристику ранних коммуникаций: недостаток материнского присутствия. Именно этот вакуум, отчасти компенсируемый в зрелости разного рода суррогатами, «обнажается» в интерсубъективной регрессии. Если объект отвечает взаимностью, отношения с ним начинают напоминать взаимопроникающее слияние, в котором, однако, перманентно присутствует угроза поглощения и которое сопровождается эмоциональным обеднением мира за рамками симбиоза. Если нет — любовь разрушает Я субъекта. Показательно, что в мировой литературе нелегко найти описание страстной и всепоглощающей любви, в итоге которой героев ожидало бы спокойное счастье. Реалистично настроенные авторы либо предпочитали убивать их, как Шекспир — Ромео и Джульетту, либо, позволив им наконец соединиться, деликатно завершали на этом пьесу или роман.
И, наконец, последний вопрос: существует ли все же перспектива восполнения дефицитарности? Стоит ли питать надежду на успех терапии в условиях эротизации переноса и не спешить с передачей пациента другому аналитику; если да, то какими принципами руководствоваться при выстраивании отношений? Клинический опыт позволяет мне представить читателю модель обращения с любовью в аналитической ситуации, основанную на изложенной выше концепции переноса. Эта модель, на мой взгляд, вполне оправдала себя по крайней мере в пяти проводившихся мною анализах и, возможно, будет апробирована и подтверждена (либо опровергнута) кем-то из моих коллег.
Прежде всего замечу, что я намеренно оставляю для себя открытым вопрос: неизбежно ли возникновение эротизированного переноса для определенной категории пациентов, как предполага,\ Фрейд, или он всегда должен рассматриваться как производная интерсубъективности. Эта дилемма искусственна в том же смысле, в каком она была бы искусственной применительно к любви в обычной жизни. Поэтому ответ не представляется мне принципиально значимым. Терапевт на практике имеет дело не с пациентом, но со своим взаимодействием с ним: два субъекта прекращают индивидуальное существование и формируют коммуникативную целостность, которую и надлежит сделать лечебным средством. Правы ли психоаналитики, видящие в любовном чувстве собеседника одну лишь манифестацию доэдипальной патологии и угрозу терапии? Действительно ли любовь в переносе представляет дорогу в никуда?
260
Вновь вспомним, что для Фрейда эротический и эротизированный перенос был инструментом в первую очередь сопротивления, а не коммуникации, хотя любовь и признавалась им в качестве движущей силы анализа и целительного фактора. Здоровый человек обладает способностью любить; в терапии же любовь парадоксальным образом превращается в «делюзивную реакцию» и становится лишь препятствием излечению, поскольку тот вид отношений, в котором пациент выражает потребность, «разрушает рабочий альянс». Однако ведь и в обыденной жизни она, предельно сближая двоих, ограничивает им диапазон возможных форм взаимодействия; одновременно и исцеляет человека, и затрудняет ему безмятежное существование. Мне кажется весьма полезным для практических целей терапии тезис Шафера, согласно которому «как по форме, так и по содержанию анализанды бессознательно сотрудничают (Курсив мой. — Д. Р.) с аналитиком через любовь в переносе; они используют ее специфическим образом как сообщение сведений скорее в форме показа, нежели сознательного припоминания и словесного рассказа» (Шафер, 2003, с. 127). Это очень близко к моему собственному пониманию целого ряда аспектов невербальной коммуникации, о которых шла речь в предшествующих главах. Как замечал Шафер, не исключено, что позиция Фрейда была проявлением враждебного к влюбленности контрпереноса: он не увидел в любовном отыгрывании элемент сотрудничества, например, в виде сообщения аналитику чего-то значимого о себе.
Своего рода антитезу фрейдовскому подходу представляют рекомендации таких авторов, как Винникотт, Хан, Литтл и др.: не препятствовать развитию у пациента инфантильно-зависимого поведения, равно как и неминуемо связанного с ним чувства напряженности. Эти исследователи указывали, что лишь данным путем, с помощью корректирующего переживания, можно исправить последствия травм, вызванных отсутствием или недостатком ранней материнской заботы. Их точка зрения мне близка. Я абсолютно соглашаюсь с выводом Фрейда, что любовь в переносе есть любовь подлинная; я разделяю его тезис, согласно которому равно бессмысленно, а иногда и опасно, требовать от пациента подавления влечения и создавать видимость взаимности ради установления «терапевтического союза», и принимаю рекомендацию сохранять его потребность и тоску как силу, побуждающую к изменениям, и не допускать ложного успокоения. Однако насколько реалистична постулируемая Фрейдом цель «достижения понимания» инфантильного характера чувств; тем более — оправдывает ли она себя в ситуации массивного эротизированного переноса, если он всецело принадлежит области довербального опыта, и лишь отдельные его более поздние дериваты, по-видимому, могут быть осмыслены и трансформированы в слова? Здесь мы вновь затрагиваем тему действенности интерпретаций или внушений,
261
с помощью которых Фрейд рекомендовал «убеждать» пациентку в «неразумности» ее позиции и над которыми иронизировал Шафер, и позиции самого Фрейда в целом, по-видимому, диктуемой его личностными особенностями. О последней писали, в частности, Томэ и Кехеле, цитируя Фрейда: «Мы преодолеваем перенос, указывая пациенту, что его чувства возникают не из настоящей ситуации и неприложимы к личности врача, но что они повторяют нечто, что происходило с ним раньше»; и далее: «Таким образом, мы принуждаем его трансформировать свое повторение в воспоминание» («Лекции по введению в психоанализ» 1916—1917 г.г.) (Томэ, Кехеле, 1996а, с. 106). Выражения «преодолеваем», «указывая», «принуждаем» и т. п. для Томэ и Кехеле есть признаки беспомощности Фрейда перед чувствами пациента (и, возможно, перед собственными чувствами, добавлю я).
Нам же ничего не остается ради сохранения аналитической ситуации, кроме спокойного принятия любви (задача, которая с учетом влияния контрпереноса может быть весьма непроста). В сущности, это ведь и есть то, что делает аналитик каждый свой рабочий час: как замечал Дени, любой его отклик на пациента, любое прерывание молчания есть декларация готовности к любви, встрече, принятию влечений пациента («Я слышу, что вы говорите это мне»). Правда, Дени добавлял, что такая декларация Производится в сочетании с избеганием, соответствующим формуле: «Я не тот или не та, за кого вы меня принимаете» (Дени, 2005, с. 230). На мой взгляд, последнее едва ли будет искренним и действенным — исходя из всех моих изложенных представлений о любви в аналитической ситуации. Принцип взаимодействия в поле эротизированного переноса, ведущий, согласно моему наблюдению, к благоприятным результатам, вытекает из общего принципа взаимодействия, то есть состоит в том, чтобы вновь не делать с чувством пациента ничего — кроме создания условий для его естественного развития и свободного выражения. В обыденной жизни человек, как правило, лишен подобного опыта, поскольку сильная любовь встречает либо ответное влечение, либо отталкивание — столь же интенсивное, сколь интенсивна она сама.
Вновь повторю, что «ничего не делать» с переносом не означает игнорировать его: напротив, игнорирование есть мощное действие. С другой стороны, интерпретация любовного чувства как «не принадлежащего настоящей ситуации» бессмысленна: она будет означать д,ля пациента лишь его обесценивание или отвержение. Здесь мы вновь встречаемся с описанной сторонниками интерсубъективного подхода коллизией, в которой аналитик, рассматривающий выражение архаических неудовлетворенных потребностей исключительно как манифестацию патологии, закономерно создает у собеседника ощущение непонятости и отвергнутое™ и этим замы
262
кает круг обоюдного преследования. То, что для стоящего на «правильной» позиции аналитика есть перенос, для пациента — подлинная любовь. Позицию терапевта он воспринимает как защитную, что во многих случаях соответствует действительности. Кроме того, как замечает Шафер, интерпретации и объяснения в подобной ситуации нередко подливают масла в огонь, так как для пациента они звучат как частичные подтверждения его переносных фантазий (Шафер, 2003). Я предполагаю, что именно с данными обстоятельствами и связана большая часть неудач, которые постигают терапевтов с влюбляющимися в них пациентами.
В отношении любовного чувства позиция «врача» и «исследователя» видится мне пагубной либо по меньшей мере неконструктивной. Во-первых, любовь нельзя «вылечить», как невротический симптом; во-вторых, она не поддается рациональному исследованию, результаты которого могли бы быть выражены языковыми средствами без грубых искажений смысла. Мы имеем дело с явлением из того ряда, для которого Бион ввел понятие «неперевариваемых фактов» или «бета-элементов», подходящих исключительно для проективных идентификаций и не трансформируемых посредством мышления. Слова и, в частности, интерпретации в эротизированном коммуникативном пространстве теряют смысл. Однако дело даже не в интерпретациях как таковых, а в позиции, с которой они звучат. Самой главной ошибкой терапевта делается восприятие любви как «нереальной» и «относящейся к фигурам из инфантильного прошлого»: эта любовь истинна, несмотря на инфантильную природу вызвавших ее сил, и адресована именно терапевту — здесь и сейчас, в точке пересечения прошлого и настоящего. Хотя Фрейд и советовал относиться к этому чувству как к артефакту, который должен быть в итоге сведен к своим первичным истокам, но он же утверждал (о чем нельзя забывать) три фундаментальные непрерывности: между инфантильностью и зрелостью, между нормальным и невротическим, между психоанализом и реальной жизнью. Таковы причины, по которым единственной конструктивной позицией мне видится спокойное принятие любви.
Какие перспективы подобная позиция открывает перед терапией? Здесь следует вспомнить выраженную мною в предыдущих главах точку зрения, согласно которой перенос сам по себе наделен терапевтичностью: искусство обращения с ним состоит в вычленении и нейтрализации его патогенных составляющих. Другими словами, вместо того чтобы пробовать «что-то сделать» с эротизированным переносом, имеет смысл позволить самому переносу сделать или сотворить нечто новое в измерении «поиска потерянного объекта». Атмосфера принятия становится той плодородной почвой, из которой это нечто способно произрасти. Я предполагаю, что ее созданию и сохранению может помочь соблюдение аналитиком трех основных принципов: 1 —
263
предоставить пациенту возможность отыгрывания; 2 — сделаться контейнером для его проективных идентификаций; 3 — не исключать из взаимодействия контрперенос.
Отыгрывание рассматривалось Фрейдом как антитеза воспоминанию, то есть как принципиально иной (нежелательный) способ возвращения прошлого. На мой взгляд, данная дихотомия оправдывает себя для эдиповой ситуации, но не для более ранних, где «действие» и «говорение» еще не претерпели дифференциации. Не случайно Дэниел Стерн задавался вопросом: жест, интонация, взгляд, наполненный любовью — справедливо ли видеть в этих проявлениях пациента отыгрывание, которое должно быть трансформировано в речь? Как все, что лежит за рамками вербального диалога, это — отыгрывание, но в приемлемом диапазоне: бессознательные моторные выражения душевных состояний, которые не могут быть переданы словом. Неясно, писал Стерн, существует ли теоретическая граница между переносом как таковым и отыгрыванием любви в переносе. Совершение действия нередко оказывается самой прямой тропой к воспоминанию. Аналитическая ситуация ни в коем случае не должна препятствовать разыгрыванию подобных паттернов, даже если это выглядит как противоположность техническим рекомендациям Фрейда (Стерн Д., 2003). Могу добавить, что отыгрывание во многих случаях представляет феномен, близкий «новому началу» Балинта, то есть открывающий перед пациентом путь к тому новому, чего прежде не было в его жизни; или, по крайней мере, повторить вслед за Томэ и Кехеле, что у нас нет альтернативы признанию отыгрывания средством коммуникации (Томэ, Кехеле, 1996а).
Столь же важным яв,\яется непрерывное сохранение контакта с контрпереносом (который, как полагал Фрейд, следует исключить из анализа). Контрперенос в работе с пациентами, эротизирующими коммуникацию, способен стать источником величайших трудностей, но и незаменимым инструментом понимания и контроля происходящего в невербальном диалоге; терапевт, исключающий его из взаимодействия, уподобляется летчику, пилотирующему самолет вслепую, по приборам, или хирургу, глядящему в ходе операции не в разрез, а в анатомический атлас. Мне кажется, что в большинстве случаев сопротивление эротическому контрпереносу вытекает из фобических реакций на любовь самих аналитиков — как, возможно, было с Фрейдом. Шафер писал об этом следующее: «Современные аналитики склонны постоянно опасаться возможности быть спровоцированными непосредственными чувствами анализанда. Они не считают себя свободными от отыгрывания собственных конфликтных желаний... Что касается в особенности любви в переносе, мужчины-аналитики будут опасаться того, что могут разжигать желания женщины-ана-лизанда» (Шафер, 2003, с. 137~138). Действительно, контрперенос может пугать,
264
рождать сомнения в собственном профессионализме или желание рассматривать его исключительно как продукт проективных идентификаций. Однако, например, как замечает Дой, понимание любви в переносе через амэ делает ее менее искушающей и менее угрожающей для аналитика. Данное понимание открывает возможность привнесения в терапию реальной жизни — чего не смог сделать Фрейд, которому как европейцу было недоступно японское понятие амэ (Дой, 2003). Наконец, сохранение контакта с контрпереносом поддерживает способность к контейнирова-нию — интернализации переживаний и фантазий пациента, являющихся производными субъективно невыносимого опыта (Байон, 2000). В таком взаимодействии, по словам Стерна, «открываются внутренние миры... которые однажды приведут к возможности подумать или сказать: «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю», или: «Я чувствую, что ты чувствуешь, что я чувствую», — то есть тот путь, который выбирают и которым снова идут влюбленные в своем взаимном процессе открытия» (Стерн Д., 2003, С. 295).
Последняя рекомендация, которую я мог бы дать терапевтам, встретившимся с любовью в переносе, вероятно, покажется кому-то сомнительной, но без следования ей соблюдение названных принципов будет весьма затруднено. Она состоит в том, чтобы оставить какие бы то ни было попытки заключить пациента в рамки определенной теории или работать с ним в определенной технике, и вести обыкновенную беседу с человеком, приняв его таким, какой он есть. Возможно, именно ситуация любовного чувства пациента к терапевту в наибольшей степени нуждается в том подходе, основы которого я представил в предшествующих главах второй части книги. Эта вроде бы скорее просто человеческая, нежели «аналитическая», позиция подразумевает отказ от строгого следования правилам пассивности, абстиненции, анонимности: гораздо более терапевтичными становятся заинтересованность, искренность и открытость. Коротко говоря, для достижения успеха аналитику лучше всего «снять белый халат» и быть собой. Известно, что Карл-Густав Юнг давал ученикам совет по поводу толкования сновидений: узнать о сновидениях все, что можно, но забыть все узнанное, приступая к исследованию конкретного сна. Этот совет мудр не только в отношении сновидений. Как я уже упоминал, когда достаточное количество теоретических знаний и опыта интегрировано в профессионализме терапевта, их не придется специально перебирать в памяти: они сами найдут свое место в том, как он поддерживает диалог.
Моя пациентка долгое время пребывала в ощущении, характерном для младенчества: если реальность не подтверждала ее фантазий о том, что я нуждаюсь в ней так же, как она во мне, она чувство
265
вала себя отвергаемой. В то же время она испытывала колоссальную потребность в моей реальности: лишь утолив ее, она могла не позволить мне трансформироваться в своем восприятии в патогенный, отвергающий объект. Однажды она спросила: «Скажите ясно, что вы на самом деле испытываете ко мне?» — «Очень многое, — ответил я. — Есть теплое чувство, желание вас поддержать и показать, что в осени есть нечто помимо холода. Иногда я злюсь на вас, особенно когда ощущаю себя неспособным немедленно исполнить ваше требование счастья. Но у меня нет желания ни прижать вас к себе, ни оттолкнуть: и то, и другое значило бы не оставить вам возможности жить». Пациентка заплакала. На очередную сессию она не пришла; не пришла и на следующую. Она появилась через неделю и сказала: «Я не знаю, что это было». Я сказал в ответ: «Самое главное, что это было».
Данный фрагмент кратко иллюстрирует динамику происходящего в рамках предлагаемой модели взаимодействия и может служить примером того, что выше было названо терапевтическим развитием переноса. Применительно к любви в переносе можно сказать, что коммуникация проходит в интерсубъективном пространстве три стадии, для которых я предлагаю названия: 1 — использование; 2 — разочарование; 3 — отделение. Эволюция диалога на этих стадиях может быть приблизительно описана в терминах Винникотта как переход от интеграции через персонализацию к объектному отношению — переход, сопровождаемый превращением «абсолютной зависимости» в «относительную независимость». Если коротко представить понятие «использования» формулой «мы созданы друг для друга», то «разочарование» подразумевает формулу «он (она) создан (создана) не для меня» и, наконец, «отделение» — «я создана (создан) не для него (нее)». Переход от стадии использования к разочарованию обыкновенно является кризисным моментом терапии, поскольку в этот период у пациента достигает кульминации переживание отвергнутое™ и утраты надежд, а у аналитака — ощущение безысходное™ процесса. На мой взгляд, именно с данным этапом связана большая часть прекращений терапевтаческих отаошений и представление об эротизированном переносе как неодолимом препятствии для работы. Этот кризис, разрешение которого отчаста иллюстрирует вышеприведенный фрагмент, во многом напоминает ступень в развитии ребенка в начале второго года, названную Маргарет Малер «психологическим рождением»: неизбежное переживание одиночества, помогающее адаптароваться к реальное™. Называя вторую стадию разочарованием, я имею в виду отказ от фантазий и принятие реальное™ терапевта как объекта, существующего отдельно от пациента и не только для него.
266
Если кризис удается преодолеть, на стадии отделения пациент интерна-лизует взаимодействие и достигает частичной компенсации дефицита. Нормальный процесс отделения подразумевает, что его яростная потребность в ответном чувстве, в слиянии, превращается в печаль утраты. Нечто близкое мы испытываем, вспоминая то хорошее, что было в нашей жизни и уже никогда не вернется — однако это не значит, что в ней не появится другое, столь же светлое и желанное. Можно сказать, что любовь к аналитику отчасти трансформируется у пациента в любовь к себе. Депрессия становится грустью, а одиночество — уединением. Любовь не исчезает, но обретает характер чувства, скорее обогащающего личность, чем уничтожающего ее.
Последние мои встречи с пациенткой пришлись на сентябрь и октябрь на четвертом году терапии. Она рассказывала о летнем отпуске, который провела в Черногории. «Странно, — сказала она в заключение, — люди, побывав там, где им было хорошо, умеют брать это хорошее с собой. Для меня это всегда было страданием; прежде, расставаясь с чем-то, я только теряла». — «А сейчас?» — спросил я. Она достала из сумочки несколько красивых камней и сказала: «Я хочу один из них подарить вам. Я хорошо вспоминаю это лето. Мне было жаль, что там не было вас, и немного грустно, что нам с вами не поехать куда-нибудь вместе. Но я уже все равно буду чувствовать как бы ваше присутствие рядом, а этот сердолик — вам, чтобы вы чувствовали мое». Когда мы прощались в последний раз, я спросил: «Какая осень в Петербурге?» Она ответила: «Петербург вообще очень осенний город».
ГЛАВА 18
ОБ ОШИБКАХ И ОТКЛОНЕНИЯХ
Мы достаточно далеко ушли от представлений, описанных в первой главе книги, и, следовательно, от «классической» («правильной») модели аналитической техники, предостерегающей психоаналитика от разного рода неверных шагов и направляющей его по единственно возможному пути. Если мы договорились о том, что аналитический процесс будет представлять относительно свободное, равноправное и стремящееся к симметрии взаимодействие двух людей, и что аналитик, «настроившись» на пациента, позволит себе свободно «плыть» по течению процесса, не сковывая свое поведение кругом принципов и правил, за исключением соблюдения целесообразных границ, нам придется допустить, что в его работе останется место и тому, что традиционно принято называть «отклонениями» и «ошибками». В связи с этой темой я хотел бы поделиться размышлениями, поводом к которым стал доклад, услышанный мною на конференции Международного Психоаналитического журнала.
Доктор Антонино Ферро рассказывал историю своих отношений с пациенткой по имени Лиза. Эта 34-летняя женщина обратилась к нему со сложной полиморфной симптоматикой, включавшей агорафобию, панические атаки, временами — потерю связи с реальностью. Долгие годы на каждой сессии ей требовалось, по выражению аналитика, «принимать два лекарства»: получать ответы на все задаваемые вопросы и продлевать встречу хотя бы на две-три минуты сверх оговоренного. Таким образом пациентка удерживала симбиотическое слияние с терапевтом; если ей это не удавалось, она уходила в аутистическое отстранение, теряя всякую способность к коммуникации. Следствием этого становились, по определению Ферро, «псевдосессии», на которых говорилось много слов, однако отсутствовал какой бы то ни было эмоциональный контакт. На восьмом году анализа, вернувшись после летнего перерыва, аналитик застал пациентку в отчаянии, глубоко регрессировавшей и неспособной говорить. Оказалось, что выплеснувшееся в этот день на поверхность состояние безнадежности и ярости владело ею и весь предыдущий период работы,
268
поскольку, приходя на сессии, она неизменно заставала дверь аналитического кабинета закрытой. То, что доктор Ферро всегда открывал дверь по ее сигналу, никакого значения не имело: оказалось, что он должен был открыть Лизе сам. Почти восемь лет он не был способен услышать этот безмолвный запрос. После сессии, на которой прозвучала данная тема, пациентка впервые за все эти годы позвонила аналитику и попросила его о дополнительной встрече. Аналитик согласился, отдавая себе отчет в том, что идет таким образом на серьезное нарушение сеттинга, но понимая также и другое: пациентка просит, чтобы дверь была открыта, не называя этого словами. Впервые ее просьба оказалась услышана. До этого момента, по определению доктора, «ребенок плакал, но никто не спешил к нему подойти». Именно после этого случая «стал рассеиваться туман», восемь лет скрывавший материнский перенос (Ферро, 2004).
Вопрос, которым я задался в ходе доклада, мог быть сформулирован так: всегда ли оправдывает себя нерушимость аналитических границ и правил, соблюдаемых нами в работе с пациентами; иными словами, всегда ли уместен знак тождества между понятиями «отклонение» и «ошибка»? Впоследствии эта проблема предстала мне в трех аспектах: во-первых, можно ли в принципе говорить о дифференциации «верного» и «ошибочного» в сфере взаимоотношений двух персон, так же, как в сфере, например, точных наук? Во-вторых: однозначно ли то, что ошибки аналитика всегда негативно влияют на ход терапии? Наконец, в-третьих: если мы признаем, что работа аналитика не может стопроцентно следовать эталону, то есть что ошибки и отклонения в ней неизбежны — где проходит демаркационная линия между отклонением допустимым и недопустимым, наносящим пациенту реальный вред?
Определимся для начала с понятием «ошибки», в котором изначально заключен (в отличие от «отклонения») оценочный, негативный смысл. Я испытываю сомнения в том, что в работе психоаналитика могут присутствовать объективные «ошибки» (как, впрочем, и объективно «верные действия»). Психоаналитическое знание по природе своей субъективно, и понятие ошибки всегда отражает понимание процесса лечения, господствующее в той школе, к которой психоаналитик принадлежит. Если для Фрейда ошибкой было удовлетворение некоторых потребностей пациента, то для Ференци и Балинта таковой была фрустрация этих потребностей. Конечно, сторонники каждого из направлений оперируют вполне вескими аргументами в поддержку своих взглядов и в противовес взглядам других школ.
Как ни странно это прозвучит, но психоанализ — весьма консервативная область знания, и представители различных его ветвей, как правило, неохотно при
269
нимают новшества, особенно идущие вразрез с привычной для них теорией и методологией. На протяжении всего XX столетия реакция психоаналитического сообщества на появление любых новых модификаций аналитической техники была, по крайней мере поначалу, довольно критична — будь то акцент на «проработке» невроза переноса, использование эмпатии, контрпереноса, «контейнирования», «холдинга», «повторного переживания», «корректирующего эмоционального опыта» и т.д. Кроме того, появление в 50-е годы многочисленных модальностей психотерапии, производных от психоанализа, вызывало у психоаналитиков естественное стремление строго определить свой метод и блюсти его чистоту, придерживаясь строгих процедурных правил — как если бы они не только защищали профессиональную идентичность, но и гарантировали оптимальный исход процесса. Критические тенденции особо ярко прослеживались там, где сталкивались убеждения в необходимости исключительной нейтральности и сугубо наблюдающей позиции психотерапевта и в ценности эмоционального взаимообмена: так, в 1961 году участники Эдинбургского симпозиума «Исцеляющие факторы в психоанализе» были почти шокированы сообщением Гительсона о том, что аффективная связь пациента с аналитиком сама по себе может вести к структурным изменениям (Gitelson, 1962). До сих пор среди сторонников нейтрально-интерпретативного подхода провозглашается сформулированная еще в середине столетия Энни Райх точка зрения, согласно которой техники, ориентированные на взаимоотношения, чреваты развитием патологической зависимости пациента от терапевта — зависимости, превращающейся в серьезное препятствие на пути анализа переноса (Reich, 1958). Россохин в этой связи цитирует Бергманна, замечавшего, что, когда внимание аналитиков направлялось в основном на доэдипальные патологии и ранние нарушения развития, анализы становились все более продолжительными, а моменты их завершения — все менее определенными (Россохин, 2000). Добавим, что за истекшее время ни одна психоаналитическая школа и ни одна техника, по-видимому, не доказала однозначно своих преимуществ перед другими — хотя тот факт, что в области доэдипальных процессов язык интерпретаций бессилен, едва ли требует новых доказательств в наши дни.
Если мы примем, что «ошибка» — это прежде всего отступление от норм и стандартов данной школы, то вынуждены будем признать, что история психоанализа — это история непрерывных ошибок. Все наиболее заметные личности в ней начинали свой индивидуальный путь с отклонений от ранее сложившейся традиции. Логично предположить, что при этом они либо сами впадали в заблуждение, либо опровергали заблуждения предшественников. Однако эта логика формальна. Примечательно, что почти все допускавшие отступления от традиционных представлений
270
и правил тем самым вводили новые правила и традиции, обретавшие вновь статус истинно верных. Мало кто решался заговорить о допустимости ошибок и отклонений как таковых. Нет ничего удивительного в том, что в среде психоаналитиков понятие «отклонения» стало в большинстве случаев рассматриваться как синоним понятия «ошибки». Так, Томэ и Кехеле определяют ошибку как «любое сделанное аналитиком отклонение от средней линии, сформированной соответствующей диадой и в идеале проходящей от сеанса к сеансу без существенных отступлений» (Томэ, Кехеле, 1996б, с. 538).
Пристальный взгляд, однако, позволяет заметить, что проблема эта сложнее, чем может показаться. К разряду ошибок можно отнести любое отступление от сеттинга, отыгрывание, несоблюдение принципа нейтральности или абстиненции, пересечение аналитических границ, самораскрытие перед пациентом и т.д. Однако опыт заставляет признать, что самораскрытие порой делает отношения более тера-певтичными; простой здравый смысл рекомендует задуматься, всегда ли пересечение границ равнозначно их нарушению, как и в случае границ государственных, и т. д. Мы обнаруживаем также, например, что отклонения от сеттинга иногда позволяют аналитику приблизиться к чему-то важному, как это было с доктором Ферро. Комментируя доклад последнего, Майкл Шебек признавался: «В моем опыте маленькие, но в то же время значимые отступления от нейтральности и абстиненции порой оказываются более эффективными, чем бесконечные интерпретации, которые в пре-символическом мире переживаются как травматические отказы в удовлетворении потребности» (Ферро, 2004, с. 50). Шебек упомянул в своем содокладе случай Когута, который вложил палец в руку пациентки, отчаянно нуждавшейся в физическом контакте. Неизвестно, заметил Шебек, кто из них в этом соприкосновении больше нуждался, однако и палец, и дополнительная сессия, предоставленная Лизе доктором Ферро, стали для пациентов ключами к пространствам своих аналитиков. Он добавил также, что при многолетних эмоционально насыщенных отношениях «аналитик — пациент» задача сохранения абстинентности и нейтральности представляется ему почти невыполнимой.
Мы можем сказать, что то или иное действие аналитика было ошибочным, лишь «постфактум», то есть убедившись со временем, что оно привело к нежелательному следствию. Но и эта позиция принципиально уязвима. Разумеется, бывают грубые и бесспорно патогенные ошибки: так, легко можно представить себе случай, в котором некомпетентность или неосторожность психотерапевта приводит к тому, что пациент прерывает анализ, теряет работу, семью и т. п. Однако чаще мы сталкиваемся все же с менее однозначными ситуациями, в которых могут быть
271
иногда не вполне очевидны как причинно-следственные связи, так и характер перемен. Если аналитик отказывает пациенту во внеочередной сессии или назначает индексацию оплаты, а вслед за этим пациент пропускает одну или несколько встреч, едва ли корректно будет однозначно утверждать, что шаг аналитика сыграл деструктивную роль в отношениях. У нас нет возможности отмотать процесс назад, как кинопленку, и убедиться, что иные шаги привели бы к лучшему результату. Милан Кундера в романе «Невыносимая легкость бытия» обозначал сложность этой проблемы примером из истории: в 1618 году во имя защиты своих религиозных свобод чешские сословия подняли восстание против власти, которое привело к Тридцатилетней войне и практическому уничтожению чешского народа. Когда спустя триста двадцать лет чехи, наученные горьким опытом, отказались от сопротивления гитлеровской Германии, они тем самым предопределили потерю своей свободы на пять десятилетий — вплоть до распада «социалистического лагеря». Если бы история Чехии могла быть повторена, писал Кундера, стоило бы попробовать поступить в этих ситуациях по-другому, а затем сравнить результаты (Кундера, 2003). Я предпочитаю поэтому не говорить безапелляционно об «ошибке» в каждом случае неблагоприятного оборота событий или отклонения от общепринятых норм.
Термин «отклонение» также ставит ряд вопросов, поскольку он подразумевает отступление от некоего «эталонного» взаимодействия; о последнем можно говорить всерьез, если только мы признаем существование эталонного пациента с эталонными реакциями на аналитика. За восемнадцать лет практики таковые мне не встречались ни разу. Нередко исход отношений пациента и терапевта лучше всего определяется фразой «терапия была правильной, но попался неправильный пациент». Страх ошибиться может в итоге стать самой грандиозной ошибкой аналитика, а «нарушение правил» — единственно возможным шагом в сложной ситуации. Томэ и Кехеле описывали случай, когда аналитик лично отвез в больницу пациентку, сообщившую ему по телефону о суицидной попытке (Томэ, Кехеле, 1996б). Хотя это действие врача рассматривается авторами в преимущественно критическом аспекте, я не уверен, что, если бы оно не было предпринято, терапия могла бы иметь продолжение. Роберт Линднер в своей знаменитой документальной новелле «Девушка, которая не могла прекратить есть», рассказывает, как силой ворвался в дом пациентки, чтобы прервать реально опасный для ее здоровья приступ булимии (Линднер, 1995). Подобных примеров много. Никто не оспаривает необходимости правил дорожного движения, но бывают случаи, когда водитель сознательно нарушает их — например, если он находится за рулем кареты «скорой помощи» или пожарной машины. Разумеется, обязательным условием является понимание факта
272
нарушения вкупе с пониманием того, почему оно в данной ситуации необходимо. Я рискнул бы сказать, что нарушение допустимо, но не до понимания причин его недопустимости, а после него.
Наконец, история психоаналитической практики демонстрирует немало случаев, в которых именно отклонение от «эталонных» стандартов становилось, по-видимому, источником позитивных перемен. В данном случае я веду речь даже не о сознательных и мотивированных отступлениях от правил, а о спонтанных, неосознанных — то есть о действиях, которые в наибольшей степени подходят под определение «ошибки». Томэ и Кехеле приводили следующий пример: пациент рассказывал о том, как он узнал, что его возлюбленная собирается выйти замуж за его друга. По словам пациента, он вел себя в этой ситуации так, как будто была парализована его способность к агрессивным реакциям. Аналитик, не совладав с собственными чувствами, удивился вслух: неужели у него не нашлось ни единого крепкого слова для друга? Пациент был встревожен этой интервенцией и пытался отрицать, что в его адрес имела место какая-либо критика. Он вновь ощутил себя парализованным, точнее — кастрированным. После этого в анализе появилось новое содержание переноса, со временем признанное обеими сторонами, что позволило выйти на проблему кастрационной тревоги (Томэ, Кехеле, 19966).
Данный фрагмент, возвращающий нас к теме «прозрачности контрпереноса», отчасти созвучен эпизоду с реакцией аналитика на фотографии пациентки в ванне с кровью, о котором упоминал Жибо (см. главу 10). Можно допустить, что в обоих этих случаях результаты могли бы быть рано или поздно достигнуты и более «правильным» путем, но можно допустить и то, что вмешательство, нарушившее принцип нейтральности, стало в них в определенном смысле катализатором прогресса.
Подобно тому, как аналитики говорят о переносе как о препятствии анализу и одновременно динамическом факторе прогресса, можно сказать, что ошибки аналитика нарушают «идеальность» терапевтических связей и в то же время стимулируют их развитие, быть может, именно посредством нарушений идеальности. Винникотт писал о категории пациентов, работа с которыми, будучи безошибочной, никогда не станет продуктивной. Я вспомнил бы здесь и концепцию Когута, согласно которой именно эмпатийные просчеты Я-объектов в итоге становятся стимулом для развития ребенком необходимых функций собственного Я. Структуры Я строятся в терапии так же, как в детстве, и, если терапевт по большей части эмпатичен к переживаниям пациента, он создает условия для их выстраивания: важным фактором здесь яв,\яется его неполное совершенство. Иногда пациент должен пережить ошибку аналитика, чтобы открыть нечто новое, не мобилизуемое в условиях
273
«идеальной терапии»; иногда он должен с этой ошибкой справиться, чтобы укрепить собственную автономию и доверие к себе. Один из моих анализандов весьма критично отзывался об интерпретациях, которые я давал его сновидениям; однако каждый раз после этого в ходе следующей сессии он интерпретировал их сам, значительно более глубоко и полно, чем я. Мои неудачи или неполные удачи в этом процессе были необходимы ему для активизации собственных интроспективных возможностей и реализации исследовательского потенциала. И этот пример заставляет вновь вспомнить слова Когута: «Если есть урок, который я должен выучить как аналитик в течение жизни, то это урок о том, что мои пациенты говорят правду. Много раз, когда я думал, что прав я, а не мой пациент, оказывалось, иногда только после продолжительного исследования, что моя правота была поверхностной, в то время как их правота оказывалась глубже и мудрее» (Kohut, 1984, р. 93—94).
Этот фрагмент также показывает, что допускаемый аналитиком просчет не всегда может быть корректно назван ошибкой или отклонением еще по одной причине. Понятие «ошибка» подразумевает возможность иного видения ситуации или подхода к ней. Однако способность аналитика видеть и понимать пациента всегда ограничена его личностью и уровнем знания. Анна Фрейд писала, что ошибка возвращает терапевта к его истинному статусу. Данная ограниченность, как ни парадоксально, может не только мешать, но и способствовать терапевтическому прогрессу — по причинам, описанным выше. Винникотт видел роль интерпретации в том, чтобы позволить пациенту осознать невсемогущество аналитика, границы его мудрости и понимания. Можно сказать, что деидеализация и принятие аналитика как реального объекта осуществляется не через его успехи, а через его неудачи — точно так же, как именно опыт фрустраций, а не удовлетворений, постепенно знакомит младенца с реальностью. Как замечала Маргарет Литтл, ошибки аналитика неизбежны, и они должны быть признаны; пациенту следует дать полную возможность выразить по их поводу гнев, а аналитику — сожаление о произошедшем. Кроме того, аналитик должен в данной ситуации объяснить пациенту, какую роль в его ошибке сыграл контрперенос, то есть показать, что ему, как всякому человеку, свойственно порой ошибаться (Литтл, 2005). Я рискну добавить к сказанному (конечно, с изрядным преувеличением) следующее: мало что иное в аналитическом процессе обладает столь же значительным терапевтическим эффектом, как допущенная аналитиком ошибка с ее последующим признанием и обсуждением вместе с пациентом. Это принятие реальности помогает формированию нового опыта отношений. Томэ и Кехеле описывали клинический случай, в котором ошибки аналитика способствовали его деидеализации в глазах пациентки. Женщина «прозревала», наблюдая, какие
274
усилия прилагает аналитик, чтобы избежать ошибок. «Я, конечно, признал, что недоразумение действительно было и что ответственность за него несу я. Однако манера, в которой я произносил это, подразумевала безупречность в качестве идеала. Доротея X ожидала увидеть психоаналитика... который мог бы также невербально дать понять, что ошибки тоже часть его ремесла и что живым людям свойственно ошибаться. Доротея X искала ролевую модель великодушия, чтобы приобрести... более великодушное отношение к себе самой» (Томэ, Кехеле, 19966, с. 542).
Поднимая данную тему, я отдаю себе отчет, сколь спорной она является и какой протест может вызвать, в особенности среди ревнителей «правильности» и чистоты «психоаналитического жанра». В заключение вспомню эпизод, который имел место в ходе дискуссии, посвященной докладу доктора Ферро. Тогда я впервые попытался высказать мысль о том, что нарушения сеттинга и вообще отклонения от «правильной» терапевтической линии могут стать иногда неожиданно плодотворными. Аудитория была шокирована. Однако разгоревшийся спор был остановлен весьма авторитетным участником конференции с российской стороны. «Любое отступление от правил — это ошибка, — четко произнес он. — Ошибка всегда есть следствие некомпетентности или непроанализированное™ аналитика, и она всегда становится для пациента ненужной травмой». Дискуссия была возвращена в русло. Но я в тот момент поймал себя на чувстве, что мне не хотелось бы проходить свой анализ у этого специалиста — при том, что высокий уровень его профессионализма сомнений не вызывал.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мысли, изложенные здесь, отнюдь не доведены до конца и не интегрированы в единую концепцию; я полагаю и надеюсь, что это — дело будущего. Кроме того, я убежден, что уникальный феномен переноса будет еще сотни раз переисследоваться и переосмысливаться психоаналитиками, и это станет лучшим подтверждением тезису, использованному мною в качестве эпиграфа к данной работе. Таким образом и будет постепенно осуществлен переход от «анализа переноса» к «синтезу переноса» — этими словосочетаниями я не случайно озаглавил две части книги, рискуя тем, что они могут быть восприняты читателем как перефразировки названий известных трудов Когута «Анализ самости» и «Восстановление самости». Напоследок я хотел бы привести одну клиническую иллюстрацию, которая относится к случаю пациентки, нарисовавшей во время сессии мой портрет.
В самом начале терапии эта женщина, ощущавшая себя несчастливой из-за собственных несовершенств и «плохости», непрестанно требовала от меня активных действий по облегчению страдания, упрекала в нежелании или неспособности оказать немедленную помощь. В такие минуты мне хотелось в ответ упрекнуть ее в том, что она даже не пытается поискать опору в самой себе. Это был соблазн потребовать от пациентки невозможного — но это одновременно было и проявление тревоги ребенка, от которого ожидает невозможного всемогущий родитель (позднее это аффективное взаимодействие было понято мною как связь через проективную идентификацию в смысле, описанном выше). Спастись от подобного рода ожиданий и требований было реально, только став взрослым, то есть утвердив по отношению к пациентке столь же требовательную родительскую позицию. И я тогда сказал в ответ на ее упреки: «Я могу сделать больше, чем просто помочь вам. Я могу быть рядом с вами, несмотря на то, что я — не волшебник. И я могу понять и принять то, что у вас, как у любого человека, есть право быть не вполне совершенной и не стопроцентно счастливой». Через четыре года, вернувшись к этому разговору, пациентка заметила: «Если бы вы тогда просто дали мне таблетку и вся моя боль прошла, это было бы ужасно. Это означало бы, что больше мы не нужны друг другу». Возможно, как раз эти ее слова впервые заставили меня почувствовать, что мое привычное понимание переноса исчерпало себя.
ГЛАВА 19
О БУДУЩЕМ ПСИХОАНАЛИЗА (ПОСТСКРИПТУМ)
Если напоследок позволить себе слегка пофантазировать, можно попытаться представить, что ждет в обозримом будущем нашу науку. Мне хотелось бы поделиться некоторыми мыслями по поводу развития психоанализа и психоаналитической терапии и, возможно, сопоставить их с мыслями, которые, как я полагаю, возникали по данному вопросу у многих из моих читателей. Эта глава представляет попытку экстраполяции в будущее процессов и тенденций, наметившихся в психоанализе за прошедшую сотню лет. Едва ли многие из нас узнают, сбудется ли мой прогноз, но, возможно, он станет уже в наши дни подтвержден или опровергнут кем-либо из моих коллег хотя бы с чисто интуитивной позиции. Добавлю, что в нем я не выдаю желаемое за действительное — хотя бы потому, что далеко не все в этой картине оценивается мною как однозначно позитивное.
Я исхожу из представления, согласно которому основные тенденции развития психоаналитической науки в значительной мере определяются «коллективными психопатологиями» и бессознательными процессами, свойственными конкретным историческим периодам. Если можно условно определить вторую половину XIX — начало XX столетия как истерическую эпоху, а XX век в целом — как депрессивную, то следующие сто лет представляются мне веком нарциссизма, по крайней мере в рамках нашей иудейско-христианской культуры. Я предполагаю, что в данных условиях чисто клиническое применение психоанализа будет сокращаться, уступая множеству более динамичных и эффективных в сугубо утилитарном смысле психотерапевтических методик. Это не означает, что аналитическая работа с пациентом совершенно уйдет в прошлое, однако она станет затрагивать относительно узкий круг лиц и, скорее всего, будет ориентирована не столько на избавление от страдания или улучшение адаптации субъекта, сколько на цели научного и дидактического характера — на углубленное исследование психических процессов и на профессиональную подготовку тех, кто сам
277
желает посвятить себя этим исследованиям. Иными словами, определение «пациент» станет все в большей степени вытесняться определением «анализанд». Другое дело, что эти наработки психоанализа будут широко использоваться в качестве теоретической и методологической базы психотерапевтами разных направлений, обеспечивающих пациентам конкретный и относительно быстрый желаемый результат.
Главной «политической» тенденцией в психоанализе XXI века, на мой взгляд, станет возрастающая интеграция сообществ: их взаимная изоляция, уже существенно ослабевшая во второй половине минувшего столетия, практически исчезнет. Различные школы будут не столько устанавливать границы между собой, сколько искать и находить точки соприкосновения. В качестве вероятного исключения мне видится школа Лакана. Данная тенденция, очевидно, затронет и техникометодологический подход к пациенту: как один из вариантов можно представить, например, объединение психотерапевтических методик школ Когута и Роджерса. Снижение замкнутости и «кастовости» повлечет за собой смягчение нормативов профессиональной подготовки, в частности, уменьшение ныне принятых объемов тренинга в масштабах всего мира. Возможно, американская эго-психология дистанцируется от психоанализа и окружит себя рамками самостоятельной парадигмы, в которых основные усилия специалистов направятся не на глубинно-психологическое исследование, а на решение актуальных задач адаптации субъекта. Параллельно психоаналитическое знание станет все более активно проникать в такие области, как педагогика, политология, психосоциология, понимание исторических процессов и другие, то есть наиболее интенсивно оно станет развиваться в «пограничных» сферах. Соответственно неизбежным видится углубление научных и практических контактов психоаналитиков с представителями других наук.
В научно-исследовательском аспекте внимание специалистов станет смещаться ко все более ранним этапам личностного развития: так, подобно тому как работы Шпица в тридцатые годы XX столетия заложили фундамент теории первого года жизни ребенка, в будущем появится развернутая теория первой недели жизни, описывающая эволюцию наиболее архаичных предтеч психических процессов, ее вклад- в структуру личности и роль ее неудач в формировании психических и телесных расстройств. Почти несомненным мне представляется возникновение новых психоаналитических концепций пренатального периода. Оно сделается возможным благодаря прогрессу медицинских технологий, позволяющему вывести на очередной уровень исследование развития плода в течение всей беременности и влияния на него эмоционального и физиологического состояния матери. Таким образом, будет дана некая новая оценка феноменам, которые Пандор Фодор определял как «теле
278
патическую связь» между матерью и плодом и как «организмическое сознание» — основу бессознательного и наиболее глубокий уровень психического функционирования. В прямой связи с этим станет обретать все больший масштаб и глубинность изучение взаимодействия психики и тела и вытекающий отсюда подход к любому внутриличностному процессу как продукту психофизиологической целостности субъекта. Сохранится принцип, согласно которому психоаналитическое исследование телесного и влияние психоанализа на телесность ограничивается возможностью перевода на язык, зато расширятся границы языковых средств, в частности, за счет использования ресурсов невербальных коммуникаций. Соответственно будет достигнуто новое понимание роли, которую играет образ тела и отношения субъекта со своим телом в его самовосприятии и оценке окружающей реальности. Также утратит прежнюю актуальность традиционная дихотомия влечений и отношений как производных активности Оно и Я: сформируется качественно иное представление о них как о продуктах той фазы развития, на которой психическое еще не претерпело дифференциации с телесным.
Я предполагаю, кроме того, что нами будет достигнуто принципиально новое понимание этиологии психических расстройств: сейчас трудно представить, каким оно окажется, однако можно допустить, что взгляды, основанные на концепциях регрессии и вытеснения, будут окончательно сочтены устаревшими как излишне механистичные. Возможно, к этому новому пониманию аналитики уже сейчас приблизились вплотную. Оно станет базироваться на представлении, во-первых, о многофакторности любой психопатологии, во-вторых, о психопатологии как феномене, принадлежащем полю интерсубъективности, то есть представляющем артефакт взаимоотношений субъекта с окружающим миром. Относительность самого понятия патологии заставит расширить угол зрения аналитического исследования: его объектом окажется не просто личность в сфере отношений, но человек в контексте культуры, которой он принадлежит. Наконец, я не исключаю, что на определенной стадии количество накопленных психоанализом знаний перейдет в новое качество в форме появления теории психических процессов, которая будет соотнесена с современными нам глубинно-психологическими теориями приблизительно так же, как квантовая механика с классической; однако в течение XXI столетия этого едва ли следует ожидать.
В технико-методологическом аспекте мне видится вероятным укоренение взгляда на перенос как прежде всего средство невербального диалога и на проективную идентификацию как на центральный инструмент, имеющийся в его распоряжении. Ментальные процессы, объединяемые в наши дни в категорию «примитивных защит» — расщепление, проекция, идеализация и другие — станут все глубже
279
пониматься не как защитные операции, но как единственно доступные субъекту в определенных условиях способы восприятия и тестирования реальности, что далее приведет и к изменениям терапевтического подхода к ним. Проективная идентификация, определяющая характер взаимодействия в пространстве «двух персон», станет рассматриваться не столько как механизм «примитивного» избегания страдания, сколько как способ коммуникации, позволяющий «сообщить несообщаемое»; как следствие — перенос, одна из важнейших функций которого состоит в придании объекту свойства предсказуемости, превратится из «того, что должно быть разрешено», в целительный фактор (здесь я готов признать за собой наивысшую степень личной заинтересованности). Предметом аналитического исследования и влияния станет не пациент, но прогрессирующее интерсубъективное единство «пациент—терапевт», в котором ни одна составляющая не может быть понята и подвергнута некоей коррекции без понимания и коррекции других его элементов. Соответственно все большее внимание станет уделяться невербальным компонентам коммуникации как производным наиболее раннего субъективного опыта, несущим основную информационную нагрузку: в определенном смысле психоаналитическая терапия из «терапии словом» превратится в «терапию действием», если понимать под «действием» все то, что лежит за границами эдипова языка. В таком диалоге эмпатия и контрперенос сохранят значение уникальных исследовательских инструментов и коммуникативных средств. «Терапия действием» будет основываться, вероятно, не столько на когнитивной коррекции, сколько на удовлетворении наиболее архаичных и невербализуемых потребностей субъекта, продолжая тем самым методологическую линию, намеченную участниками «независимой группы» и разработанную во второй половине прошлого века сторонниками интерсубъективного подхода. Развивая данное представление, можно предположить, что особую роль в исследовании внутреннего мира анализанда станет играть применение «парадоксального мышления» аналитика, которое описал де М’Юзан. С учетом высказанной выше гипотезы о теоретическом отступлении от дихотомии психического и телесного я допускаю, что в аналитическом инструментарии большое значение приобретет упомянутая в главе И «соматическая эмпатия» как продукт проникающей идентификации, позволяющая достичь наиболее глубокого понимания личности пациента — то, что в свое время предлагал Виктор фон Вейцдекер в лечении психосоматических больных.
Я предполагаю также, что внешняя картина происходящего в аналитическом пространстве станет меняться в направлении большей обыденности, большей схожести с «простым разговором» двух собеседников. Из обстановки аналитического кабинета исчезнет кушетка как средство, крайне важное, когда главным ис
280
точником информации служит вербальная ассоциация, но ограничивающее более примитивный взаимообмен; в прошлое уйдет ортодоксальность принципов нейтральности и абстиненции, позиция психоаналитика будет определяться исключительно целесообразностью той или иной конкретной ситуации. Аналитик с «классического портрета» первой половины XX столетия — молчащий, отстраненный и изредка произносящий интерпретации — уже сейчас воспринимается отчасти как анахронизм или карикатурный образ; в будущем он еще дальше отступит от этого стереотипа и станет просто разговаривать с пациентом, при этом формируя и поддерживая условия, в которых тот сможет ненасильственным путем самостоятельно прийти к новому пониманию и образу себя. Еще раз подчеркну, однако, что круг этих пациентов со временем будет сужаться, поскольку на фоне «нарциссической эпохи» все большая часть их начнет отдавать предпочтение методам, гарантирующим значительно более быстрое и радикальное решение проблем, в том числе психофармакологии. В конце концов, лишь отдельные смельчаки отваживаются на трудные, связанные с риском горные восхождения, пусть даже в тандеме с опытным проводником: полагаю, что подавляющее большинство предпочло бы сразу оказаться на вершине, чтобы полюбоваться с нее панорамой гор, не утруждая себя процессом ее «сотворения». Я не исключаю, что фармакология проникнет и в психоаналитическую терапию, тенденция к чему уже сейчас намечается, например, в США.
Я думаю, читатель хорошо понимает, что все подобные предположения суть не более чем фантазии. Однако нам также хорошо известно, что фантазия всегда лишь отчасти детерминирована внутренней реальностью субъекта и что определенный вклад в ее создание вносит внешний опыт. Я предоставлю читателю судить, что из сказанного выше было продиктовано моей субъективностью, а что стало отражением процессов, имевших место в истории психоанализа вплоть до сегодняшнего дня. Следует иметь в виду и то, что экстраполяция прошлого в будущее — неблагодарное занятие: кому как нам знать, со сколь неожиданными привходящими факторами может столкнуться на своем пути любое развитие. Мы можем реконструировать прошлое пациента с позиций его нынешней ситуации, но мы бессильны наверняка спрогнозировать будущее того, кто только что появился на свет — даже зная во всех деталях особенности его раннего окружения, личность его матери, атмосферу отношений в семье и т. д. Революционное влияние на судьбу психоанализа могут оказать не только финансовые кризисы или какие-либо иные глобальные катаклизмы, не только непредвиденные скачки прогресса в психофармакологии или других областях науки, но и такие невинные (вроде бы) события, как, например, грядущая публикация архивов Фрейда. Возможно, кое-что об этом нам еще предстоит узнать.
ЛИТЕРАТУРА
1. Байон, 2000 — У. Байон. Нападения на связи. — Антология современного психоанализа. Т. 1. М.: Институт психологии РАН, 2000. С. 261—272.
2. Балинт, 2000 — М. Балинт. Изменение терапевтических целей и техник в психоанализе. — Антология современного психоанализа. Т. 1. М.: Институт психологии РАН, 2000. С. 131—141.
3. Балинт, 2002 — М. Балинт. Базисный дефект. Терапевтические аспекты регрессии. М.: Когито-Центр, 2002.
4. Бахтин, 1979 — М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советская Россия, 1979.
5. Валлерштейн, 2003 — Р. Валлерштейн. О любви в переносе: перечитывая Фрейда. — Эротический и эротизированный перенос. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2003. С. 88—117.
6. Вестин, 2007 — У. Вестин. Ненависть как защита. — Вестник психоанализа. №1. СПб., 2007. С. 179-182.
7. Вестин, 2009 — У. Вестин. Психическое развитие в психоаналитическом процессе. — Вестник психоанализа. № 1. СПб., 2009. С. 30—33.
8. Винникотт, 2000 — Д. В. Винникотт. Использование объекта. — Антология современного психоанализа. Т. 1. М.: Институт психологии РАН, 2000. С. 447-454.
9. Винникотт, 2002 — Д. В. Винникотт. Игра и реальность. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2002.
10. Винникотт, 2004 —Д. В. Винникотт. Семья и развитие личности. Мать и дитя. Екатеринбург: Литур, 2004.
И. Винникотт, 2005а — Д. В. Винникотт. Ненависть в контрпереносе. — Эра контрпереноса. Антология психоаналитических исследований. М.: Академический Проект, 2005. С. 351—365.
12. Винникотт, 20056 — Д. В. Винникотт. Контрперенос. — Эра контрпереноса. Антология психоаналитических исследований. М.: Академический Проект, 2005. С. 366-375.
13. Гилл, 2000 — М. М. Гилл. Психоанализ и исследовательская психотерапия. — Антология современного психоанализа. Т. 1. М.: Институт психологии РАН, 2000. С. 201-219.
282
14. Гринсон, 1994 — Р. Гринсон. Техника и практика психоанализа. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1994.
15. Гуч, 2007 — Дж. А. Гуч. Психоаналитическая техника с точки зрения Биона. — Психоаналитический вестник. № 18. М., 2007. С. 105—114.
16. Дени, 2005 — П. Дени. Будущее избавления от иллюзии. Контртрансфер, судьба трансфера. — Французская психоаналитическая школа. СПб.: Питер, 2005. С. 227-238.
17. Дой, 2003 — Т. Дой. Амэ и любовь в переносе. — Эротический и эротизированный перенос. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2003. С. 272—282.
18. Дяткин, 2005 — Р. Дяткин. Судьбы трансфера. — Французская психоаналитическая школа. СПб.: Питер, 2005. С. 172—180.
19. Жибо, 2001 — А. Жибо. Аналитический процесс в психоанализе и психотерапии: от межличностного до внутрипсихического уровня. — Вестник психоанализа. № 1. СПб., 2001. С. 109-124.
20. Кан, 1997 — М. Кан. Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения. СПб.: Б.С.К., 1997.
21. Канестри, 2003 —Дж. Канестри. Крик о пожаре: некоторые соображения по поводу любви в переносе. — Эротический и эротизированный перенос. М.: Институт обще гуманитарных исследований, 2003. С. 240—271.
22. Канцер, 2000 — М. Каниер. Коммуникативная функция сновидений. — Антология современного психоанализа. Т. 1. М.: Институт психологии РАН, 2000.
23. Кейсмент, 1995 — П. Кейсмент. Обучаясь у пациента. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995.
24. Кернберг, 2000 — О. Кернберг. Тяжелые личностные расстройства: стратегии психотерапии. М.: Независимая фирма «Класс», 2000.
25. Кинодо, 2004 — Ж.-М. Кинодо. Мыслить под обстрелом. Содоклады: А. Човницка, В. Потапова. — Психоаналитик за работой. Материалы конференции Международного психоаналитического журнала, 8—9 мая 2004 года. М., 2004. С. 29-40.
26. Коухэн, 2000 — Ф. Коухэн. Произвольная коллекция определений аналитических терминов. — Вестник психоанализа. № 1. СПб., 2000. С. 54—62.
27. Кохут, 2003 — X. Кохут. Анализ самости. М.: Когито-Центр, 2003.
28. Кундера, 2003 — М. Кундера. Невыносимая легкость бытия. СПб.: «Азбука-классика», 2003.
29. Кэхеле, 2001 — X. Кэхеле. Существуют ли «столпы терапевтической мудрости» для психоаналитической терапии? — Вестник психоанализа. № 1. СПб., 2001. С. 35-45.
30. Левальд, 2000 — Г.Левальд. О терапевтической работе в психоанализе. — Антология современного психоанализа. Т. 1. М.: Институт психологии РАН, 2000. С. 300-326.
283
31. Линднер, 1995 — Р. Линднер. Девушка, которая не могла прекратить есть. — Знаменитые случаи из практики психоанализа. Сборник. М.: REFL-book, 1995. С. 112-168.
32. Литтл, 2005 — М. Литтл. Контрперенос и отклик пациента на него. — Эра контрпереноса. Антология психоаналитических исследований. М.: Академический Проект, 2005. С. 376—398.
33. М’Юзан, 2005 — М. де М’Юзан. Контртрансфер и парадоксальная система. — Французская психоаналитическая школа. СПб.: Питер, 2005. С. 193-205.
34. Неро, 2005 — М. Неро. Судьбы трансфера: методологические проблемы. — Французская психоаналитическая школа. СПб.: Питер, 2005. С. 18—192.
35. Райкрофт, 1995 — Ч. Райкрофт. Критический словарь психоанализа. СПб.: Восточно-Европейский Институт психоанализа, 1995.
36. Райх К., 1999 — К. И. Райх. Природа терапевтических действий в психоаналитической терапии пар. Доклад на весенней встрече 39-го отдела Американской Психоаналитической Ассоциации. Нью-Йорк, 1999 (электронный вариант).
37. Ракер, 2005 — X. Ракер. Значение и использование контрпереноса. — Эра контрпереноса. Антология психоаналитических исследований. М.: Академический Проект, 2005. С. 292—350.
38. Рику, 2006 — В. Рику. Темная сторона луны. Влияние желаний и ожиданий аналитика на аналитический процесс. — Вестник психоанализа. №№ 1—2. СПб., 2006. С. 43-49.
39. Роджерс, 2007 — К. Роджерс. Клиент-центрированная психотерапия. Теория, современная практика и применение. М.: Психотерапия, 2007.
40. Россохин, 2000 —А. В. Россохин. Коллизии современного психоанализа. — Антология современного психоанализа. Т. 1. М.: Институт психологии РАН, 2000. С. 23-77.
41. Сандлер, Дэр, Холдер, 1993 — Дж. Сандлер, К. Дэр, А. Холдер. Пациент и психоаналитик: основы психоаналитического процесса. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1993.
42. Соколов, 2004 — С. Соколов. Интерпретация — форма терапевтической коммуникации. — Вестник психоанализа. №№1—2. СПб., 2004. С. 216—228.
43. Стерн Д., 2003 — Д. Стерн. Действие в сравнении с воспоминанием в любви в переносе и в инфантильной любви. — Эротический и эротизированный перенос. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2003. С. 283-307.
44. Стерн Д., 2006 — Д. Стерн. Межличностный мир ребенка: взгляд с точки зрения психоанализа и психологии развития. СПб.: Восточно-Европейский Институт психоанализа, 2006.
45. Стерн X., 2001 — X. Стерн. Вклад Хаймона Спотница в лечение нарцис-сических расстройств. — Вестник психоанализа. № 1. СПб., 2001. С. 47-59.
284
46. Столороу, Брандшафт, Атвуд, 1999 — Р. Столороу, Б. Брандшафт, Дж. Атвуд. Клинический психоанализ: интерсубъективный подход. М.: Когито-Центр, 1999.
47. Стрэчи, 2000 —Дж. Стрэчи. Характер терапевтической работы в психоанализе. — Антология современного психоанализа. Т. 1. М.: Институт психологии РАН, 2000. С. 81-106.
48. Томэ, Кехеле, 1996а — X. Томэ, X. Кехеле. Современный психоанализ. Т. 1. Теория. М.: «Прогресс» — «Литера»; «Яхтсмен», 1996.
49. Томэ, Кехеле, 19966 — X. Томэ, X. Кехеле. Современный психоанализ. Т. 2. Практика. М.: «Прогресс» — «Литера»; «Яхтсмен», 1996.
50. Уэлдер, 1987 — Р. Уэлдер. Пять лекций по психоаналитической технике. Лекция 2: Перенос. Электронный вариант из: PsychoanaL Quart., 56, 1987.
51. Феничел, 1999 — О. Феничел. Проблемы психоаналитической техники. — Психоаналитический вестник. № 2 (8). М., 1999. С. 20—51.
52. Ферро, 2004 —А. Ферро. Четыре сессии с Лизой. Содоклад: М. Шебек. — Психоаналитик за работой. Материалы конференции Международного психоаналитического журнала, 8—9 мая 2004 года. М., 2004. С. 41—51.
53. Фрейд А., 1993 — А. Фрейд. Психология Я и защитные механизмы. М.: Педагогика—Пресс, 1993.
54. Фрейд, 1990а — 3. Фрейд. Массовая психология и анализ человеческого Я. — 3. Фрейд. «Я» и «Оно». Труды разных лет. Т. 1. Тбилиси: Мерани, 1990. С. 71-138.
55. Фрейд, 19906 — 3. Фрейд. По ту сторону принципа наслаждения. — 3. Фрейд. «Я» и «Оно». Труды разных лет. Т. 1. Тбилиси: Мерани, 1990. С. 139—192.
56. Фрейд, 1991а — 3. Фрейд. Введение в психоанализ. Лекции (35 лекций). М.: Наука, 1991.
57. Фрейд, 19916 — 3. Фрейд. О психотерапии истерии (Исследования истерии). — 3. Фрейд. О клиническом психоанализе. Избранные сочинения. М.: Медицина, 1991. С. 41—90.
58. Фрейд, 1991в — 3. Фрейд. О психоанализе. — 3. Фрейд. О клиническом психоанализе. Избранные сочинения. М.: Медицина, 1991. С. 227—274.
59. Фрейд, 1991г — 3. Фрейд. Толкование сновидений. Ереван: Камар, 1991.
60. Фрейд, 1995 — 3. Фрейд. Бред и сны в «Градиве» Йенсена. — 3. Фрейд. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. С. 138—174.
61. Фрейд, 1997а — 3. Фрейд. Воспоминание, воспроизведение и переработка. — 3. Фрейд. Психоаналитические этюды. Минск: ООО «Попурри», 1997. С. 100-108.
62. Фрейд, 19976 — 3. Фрейд. О введении в лечение. — 3. Фрейд. Психоаналитические этюды. Минск: ООО «Попурри», 1997. С. 78—95.
63. Фрейд, 1997в — 3. Фрейд. О динамике перенесения. — 3. Фрейд. Психоаналитические этюды. Минск: ООО «Попурри», 1997. С. 113—120.
285
64. Фрейд, 1998 — 3. Фрейд. Конечный и бесконечный анализ. — «Конечный и бесконечный анализ» Зигмунда Фрейда. М.: Менеджмент, 1998. С. 12-48.
65. Фрейд, 1999 — 3. Фрейд. Иозеф Брейер. — Психоаналитический вестник. № 2 (8). М., 1999. С. 12-13.
66. Фрейд, 2003 — 3. Фрейд. Заметки о любви в переносе. — Эротический и эротизированный перенос. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2003. С. 31-48.
67. Хайманн, 2005 — П. Хайманн. Контрперенос. — Эра контрпереноса. Антология психоаналитических исследований. М.: Академический Проект, 2005. С. 248-261.
68. Хейнц, 2006 — Дж. Хейни. Чем больше власти, тем опаснее насилие. — Вестник психоанализа. №№ 1—2. СПб., 2006. С. 20—29.
69. Хиншелвуд, 2005 — Р. Хиншелвуд. Контрперенос: кляйнианская перспектива. — Эра контрпереноса. Антология психоаналитических исследований. М.: Академический Проект, 2005. С. 148—195.
70. Цезиот, 2003 — Ф. Цезиот. Эдипова трагедия в психоаналитическом процессе: любовь в переносе. — Эротический и эротизированный перенос. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2003. С. 213—239.
71. Чивитарезе, 2007 —Дж. Чивитарезе. Сновидения, отражающие сессию. — Психоаналитический вестник. № 18. М., 2007. С. 60—90.
72. Шафер, 2003 — Р. Шафер. Пять прочтений работы Фрейда «Заметки о любви в переносе». — Эротический и эротизированный перенос. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2003. С. 118—154.
73. Шмидт-Хеллерау, 2003 — К. Шмидт-Хеллерау. Почему агрессия? — Вестник психоанализа. № 2. СПб., 2003. С. 98—114.
74. Шпиц, Коблинер, 2000 — Р. Шпии, У. Коблинер. Первый год жизни, м.: ГЕРРУС,~2000.
75. Эйхофф, 2003 — Ф.-В. Эйхофф. Перечитывая работу Фрейда «Заметки о любви в переносе». — Эротический и эротизированный перенос. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2003. С. 49—87.
76. Этчегоен, 2005 — Г. Этчегоен. Контрперенос. — Эра контрпереноса. Антология психоаналитических исследований. М.: Академический Проект, 2005. С. 71-147.
77. Юнг, 1992 — К.-Г. Юнг. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству. — К.-Г. Юнг. Феномен духа в искусстве и науке. М.: Ренессанс, 1992. С. 93—120.
78. Alexander, 1950 — F. Alexander. Analysis of the therapeutic factors in psychoanalytic treatment. — Psychoanal. Quart., 19, 1950. P. 482—500.
79. Aron, 1991 — L. Aron. The patient’s experience of the analyst’s subjectivity. — Psychoanal. Dialogues, 1, 1991. P. 29—51.
286
80. Balint M., Balint A., 1939 — M. Balint, A. Balint. On transference and countertransference. — Int. J. Psychoanal., 20, 1939. P. 223—230.
81. Berkowitz, 1999 — D. A. Berkowitz. Reversing the negative cycle: interpreting the mutual influence of adaptive, self-protective measures in the couple. — Psychoanal. Quart., 68,1999. P. 117-124.
82. Bion, 1967 — W. R. Bion. Notes on memory and desire. — Psychoanal. Forum, 2,1967. P. 271-280.
83. Bird, 1972 — B. Bird. Notes of transference. — J. Amer. Psychoanal. Assoc., 20,1972. P. 267-301.
84. Blum, 1973 — H. P. Blum. The concept of erotized transference. — J. Amer. Psychoanal. Ass., 21, 1973. P. 61—76.
85. De Bea, Romero, 1986 — E. De Bea, J. Romero. Past and present in interpretation. — Int. J. Psychoanal., 13, 1986. P. 309—320.
86. Etchegoyen, 1982 — H.R. Etchegoyen. The relevance of the “here and now” transference interpretation for the reconstruction of early psychic development. — Int. J. Psychoanal., 63, 1982. P. 65-74.
87. Etchegoyen, 1991 — H.R. Etchegoyen. The fundamentals of psychoanalytic technique. London: Kamac, 1991.
88. Fenichel, 1945 — O. Fenichel. The psychoanalytic theory of neuroses. New York: W.W. Norton, 1945.
89. Ferenczi, 1950 — S. Ferenczi. On the technique of psychoanalysis. — Jones E., Rickman J. (eds). Further contributions to the theory and technique of psychoanalysis by Sandor Ferenczi. London: Hogarth Press, 1950. P. 177—189.
90. Ferenczi, 1988 — S. Ferenczi. The clinical diary of Sandor Ferenczi. — Duport J. (ed). Sandor Ferenczi. Cambridge: Harvard University Press, 1988.
91. Freud A., 1954 — A. Freud. The widening scope of indications for psychoanalysis. Discussion. — J. Amer. Psychoanal. Assoc., 2, 1954. P. 607—620.
92. Freud, Breuer, 1958 — S. Freud, J. Breuer. Studies on hysteria (1895). — Standart Edition, Vol. 2. London: Hogarth Press, 1958.
93. Freud, 1961 — S. Freud. Five lectures on psycho-analysis (1909). — Standart Edition, Vol. 11. London: Hogarth Press, 1961.
94. Gill, 1979 — M.M. Gill. The analysis of the transference. — J. Amer. Psychoanal. Assoc., 27, 1979. P. 263—288.
95. Gill, 1982 — M.M. Gill. Analysis of transference. Vol.l. New York: International Universities Press, 1982.
96. Gill, 1994 — M.M. Gill. Psychoanalysis in transition a personal view. Vol. 2. London: Hogarth Press, 1994.
97. Gitelson, 1962 — M. Gitelson. The curative factors in psychoanalysis. The first phase of psychoanalysis. — Int. J. Psychoanal., 43, 1962. P. 194—205.
98. Glover, 1955a — E. Glover. Principles of psychoanalysis. — New York: International Universities Press, 1955.
287
99. Glover, 1955b — E. Clover. The technique of psychoanalysis. London: Bailliere Tindall & Cox, 1955.
100. Kemberg, 1965 — O. F. Kernberg. Notes on countertransference. — J. Amer. Psychoanal. Assoc., 13, 1965. P. 38—56.
101. Kemberg, 1993 — O. F. Kernberg. Convergences and divergences in contemporary psychoanalytic techniques. — Int. J. Psychoanal., 74, 1993. P. 659—673.
102. Klein, 1932 — M. Klein. The psycho-analysis of children. London: Hogarth Press, 1932.
103. Klein, 1946 — M. Klein. Notes on some schizoid mechanisms. — Int. J. Psychoanal., 27, 1946. P. 12-21.
104. Kohon, 1986 — G. Kohon. Countertransference: an independent view. — The British School of Psychoanalysis (ed. G. Kohon). London, Free Association Books, 1986. P. 51-73.
105. Kohut, 1984 — H. Kohut. How does analysis cure? Chicago: University of Chicago Press, 1984.
106. Loewald, 1971 — H. W. Loewald. The transference neurosis: comments on the concept and the phenomena. — J. Amer. Psychoanal. Assoc., 19, 1971. P. 54—66.
107. Loewald, 1975 — H. W. Loewald. Psychoanalysis as an art and the fantasy character of the psychoanalytic situation. — J. Amer. Psychoanal. Assoc., 23, 1975. P. 277-299.
108. Loewald, 1986 — H. W. Loewald. Transference — countertransference. — J. Amer. Psychoanal. Assoc., 34, 1986. P. 275—289.
109. Macalpine, 1950 — J. Macalpine. The development of the transference. — Psychoanal. Quart., 19, 1950. P. 501—519.
110. Menninger, 1958 — K.A. Menninger. Theory of psychoanalytic technique. New York: Basic Books, 1958.
111. Money-Kyrle, 1956 — R. Money-Kyrle. Normal counter-transference and some of its deviations. — Int. J. Psychoanal., 37, 1956. P. 360—366.
112. Nunberg, 1951 — H. Nunberg. Transference and reality. — Int. J. Psychoanal., 32,1951. P. 1-9.
113. Ogden, 1979 — T. H. Ogden. On projective identification. — Int. J. Psychoanal., 60,1979. P. 45-58.
114. Orr, 1954 — D.W. Orr. Transference and countertransference. — J. Amer. Psychoanal. Assoc., 2, 1954. P. 621—670.
115. Pfeffer, 1963 — A. Z. Pfeffer. The meaning of the analyst after analysis. — J. Amer. Psychoanal. Assoc., 11, 1963. P. 229—244.
116. Porder, 1987 — M. Porder. Projective identification: an alternative hypothesis. — Psychoanal. Quart., 56, 1987. P. 431—451.
117. Rangell, 1984 — L. Ranged. The analyst at work. The Madrid congress. Synthesis and critique. — Int. J. Psychoanal., 65, 1984. P. 125 — 140.
288
118. Rappaport, 1956 — E. Rappaport. The management of an erotized transference. — Psychoanal. Quart., 25, 1956. P. 515—529.
119. Reich, 1958 — A. Reich. A special variation on technique. — Int. J. Psychoanal., 39,1958. P. 230-234.
120. Reik, 1933 — T. Reik. New ways in psychoanalytic technique. — Int. J. Psychoanal., 14,1933. P. 321-334.
121. Renik, 1995 — O. Renik. The ideal of the anonymous analyst and the problem of self-disclosure. — Psychoanal. Quart. 64, 1995. P. 466—495.
122. Schafer, 1982 — R. Schafer. The relevance of the “here and now” transference interpretation to the reconstruction of early development. — Int. J. Psychoanal., 63,1982. P. 77-82.
123. Segal, 1977 — H. Segal. Countertransference. — Int. J. Psychoanal. Psychotherapy, 6, 1977. P. 31-37.
124. Stein, 1981 — M. H. Stein. The unobjectionable part of the transference. — J. Amer. Psychoanal. Assoc., 29, 1981. P. 869—892.
125. Sterba, 1934 — R. F. Sterba. The fate of the ego in the analytic therapy. — Int. J. Psychoanal., 5, 1934. P. 117-126.
126. Stern, 1924 — A. Stern. On the countertransference in psychoanalysis. — Psychoanal. Rev., 2, 1924. P. 166—174.
127. Stolorow, Lachmann, 1980 — R. Stoloroiv, F. Lachmann. Psychoanalysis of developmental arrests: theory and treatment. New York: International Universities Press, 1980.
128. Stone, 1981 — L. Stone. Some thoughts on the “here and now” in psychoanalytic technique and process. — Psychoanal. Quart., 50, 1981. P. 709—733.
129. Treurniet, 1993 — N. Treurniet. What is psychoanalysis now? — Int. J. Psychoanal., 74,1993. P. 873-891.
130. Waelder, 1956 — R. Waelder. Introduction to the discussion on problems of transference. — Int. J. Psychoanal., 37, 1956. P. 367—368.
131. Waelder, 1962 — R. Waelder. Selection criteria for the training of psychoanalytic students. — Int. J. Psychoanal., 43, 1962. P. 283—286.
132. White, 1992 — R. S. White. Transformations of transference. — Psychoanal. Study of Child, 47,1992. P. 329-348.
133. Winnicott, 1975 — D. W. Winnicott. Transitional object and transitional phenomena. — Through Paediatric to Psycho-Analysis. New York: Basic Books, 1975. P. 229-242.
134. Wurmser, 1972 — L. Wurmser. Hate in the analytic situation. — Int. J. Psychoanal., 52,1972. P. 211-221.
ОГЛАВЛЕНИЕ
О. Павлова ВСЕ ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ПЕРЕНОСЕ НО ПОБОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ 5
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 19
Часть 1
АНАЛИЗ ПЕРЕНОСА
Глава 1 ЧИТАЯ ГРИНСОНА И САНДАЕРА 24
Глава 2 ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕНОСА ОТ ФРЕЙДА ДО НАШИХ ДНЕЙ 38
Глава 3 О ПСИХОАНАЛИЗЕ, ПЕРЕНОСЕ И РЕАЛЬНОСТИ 81
Глава 4 О ПРОЕКТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 102
Глава 5 АНАЛИЗ ОДНОГО СЛУЧАЯ БЕССОННИЦЫ 114
Глава 6 О СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИЯХ ПЕРЕ1 ЮСА 129
Глава 7 ПЕРЕНОС И ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ФАНТАЗМ 151
Глава 8 ПЕРЕНОС И СНОВИДЕНИЕ 158
Часть 2
СИНТЕЗ ПЕРЕНОСА
Глава 9 ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ НЕЙТРАЛЬНОСТИ И АБСТИНЕНЦИИ 168
Глава 10 О КОНТРПЕРЕНОСЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТКРЫТОСТИ 180
Глава 11 ОБ ЭМПАТИИ И «ПАРАДОКСАЛЬНОМ МЫШЛЕНИИ» 196
Глава 12 О МОЛЧАНИИ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 206
Глава 13 ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ НЕЗНАНИИ 214
Глава 14 ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРОРАБОТКЕ 218
Глава 15 О МЕТОДОЛОГИИ РОДЖЕРСА И СПОТНИЦА . 232
Глава 16 О СИММЕТРИИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 235
Глава 17 О ЛЮБВИ В ПЕРЕНОСЕ 249
Глава 18 ОБ ОШИБКАХ И ОТКЛОНЕНИЯХ 267
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 275
Глава 19 О БУДУЩЕМ ПСИХОАНАЛИЗА (ПОСТСКРИПТУМ) 276
Дмитрий Сергеевич Рождественский
В пространстве переноса
Редактор: О. Абрамович Компьютерная верстка: И. Кабаев Обложка: И. Кабаев
Подписано в печать 00 00.2011, Формат 60x90 1/16, 18 усл п. л.
Тираж 1000 экз
Отпечатано в типографии А-Принт
Санкл-Петербург, ул Б.Монетная , д. 16
Рождественский Дмитрий Сергеевич Психолог-консультант психоаналитической ориентации, обучающий аналитик и супервизор Национальной Федереции Психоанализа, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой Истории психоанализа
Восточно-Европейского института Психоанализа, член Европейской Ассоциации Психотерапии.
ISBN 978-5-904378-11-0
9 785904 37811