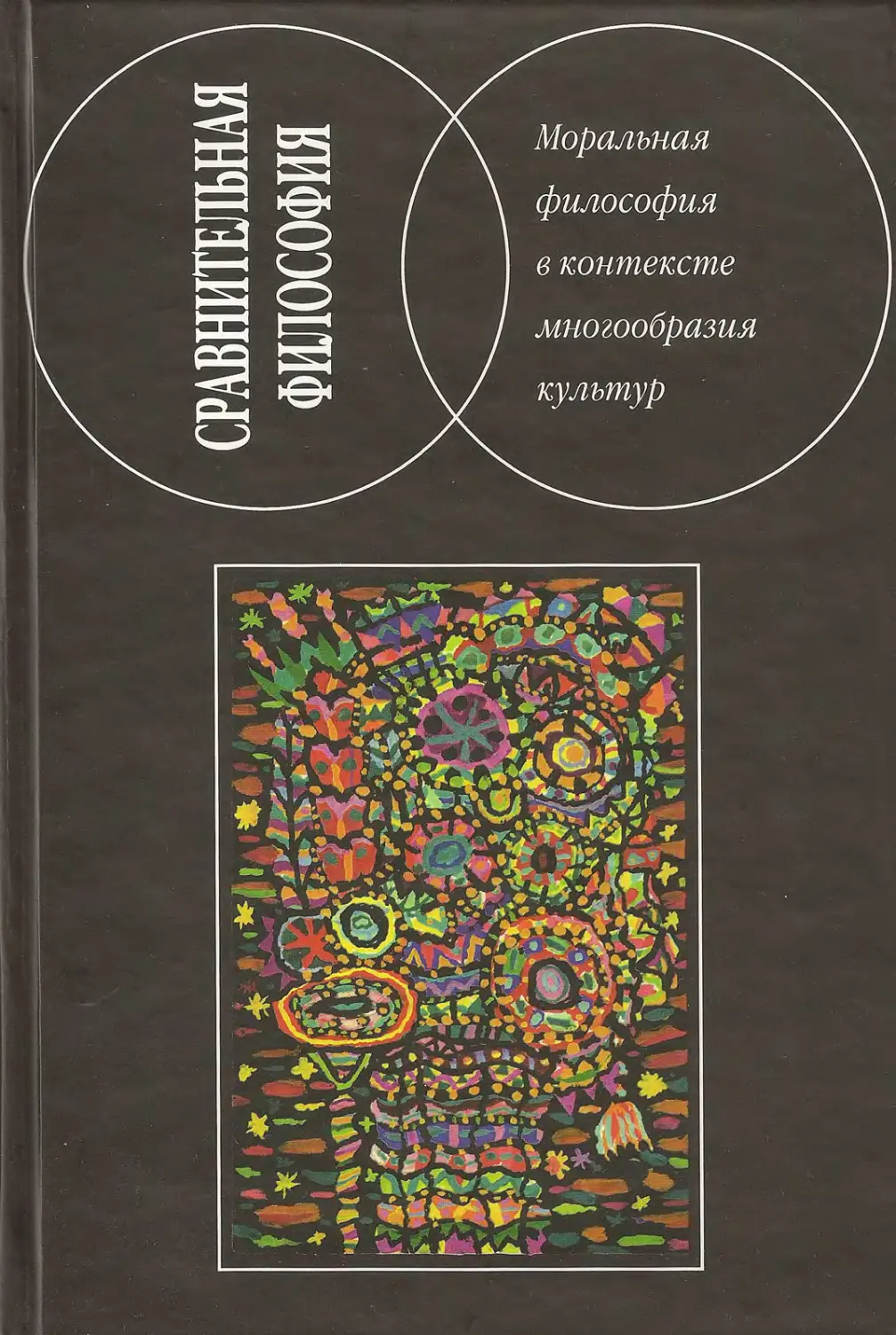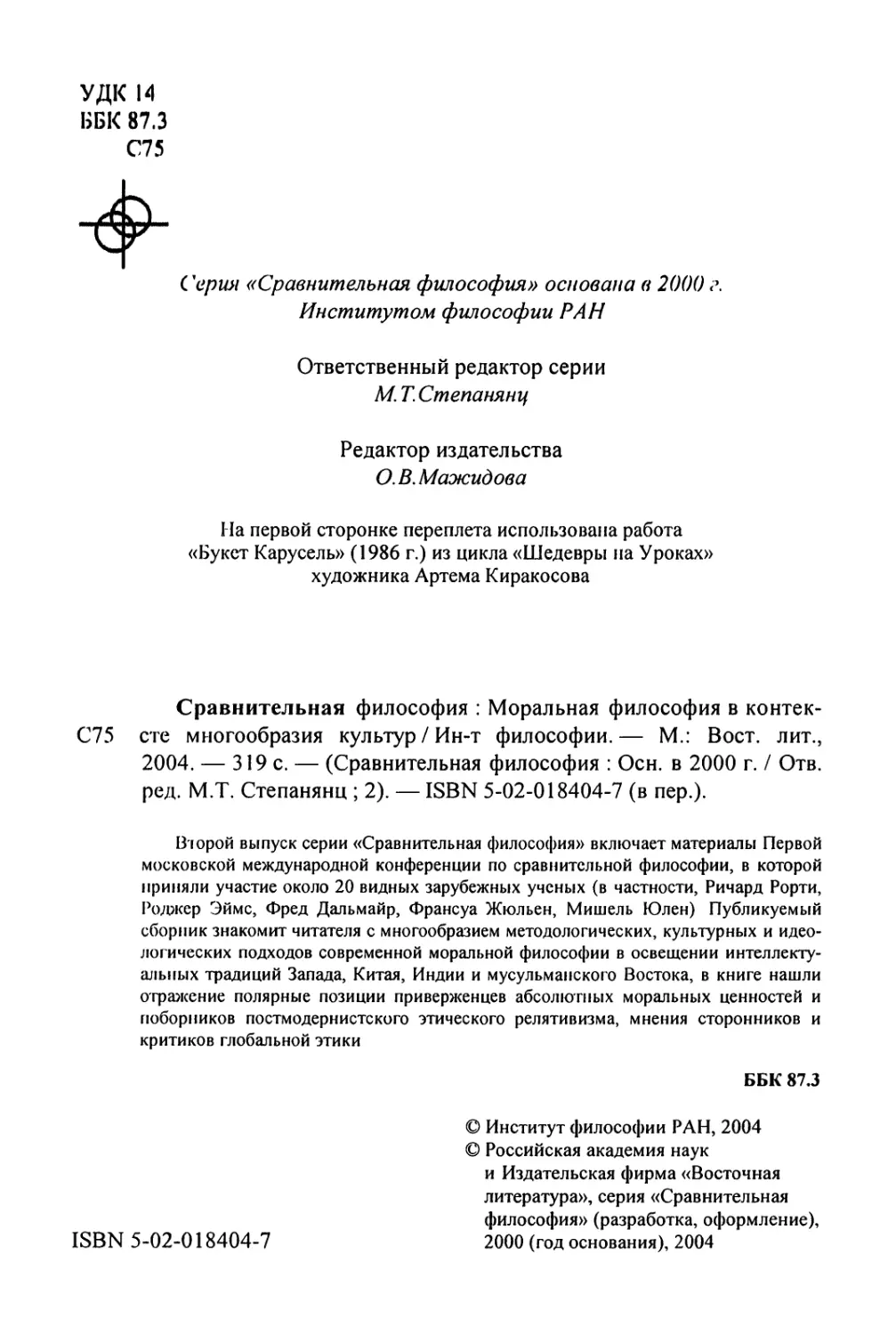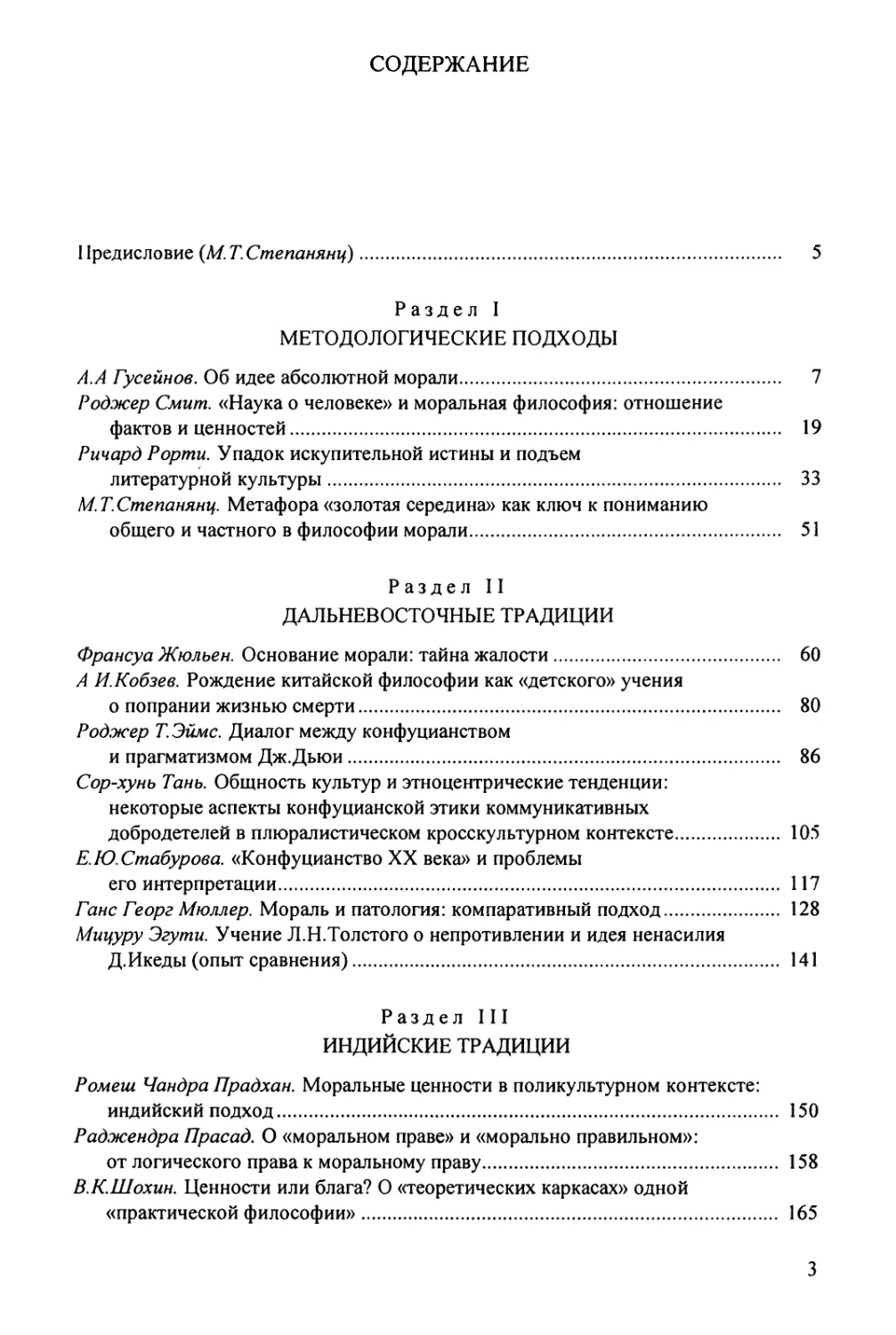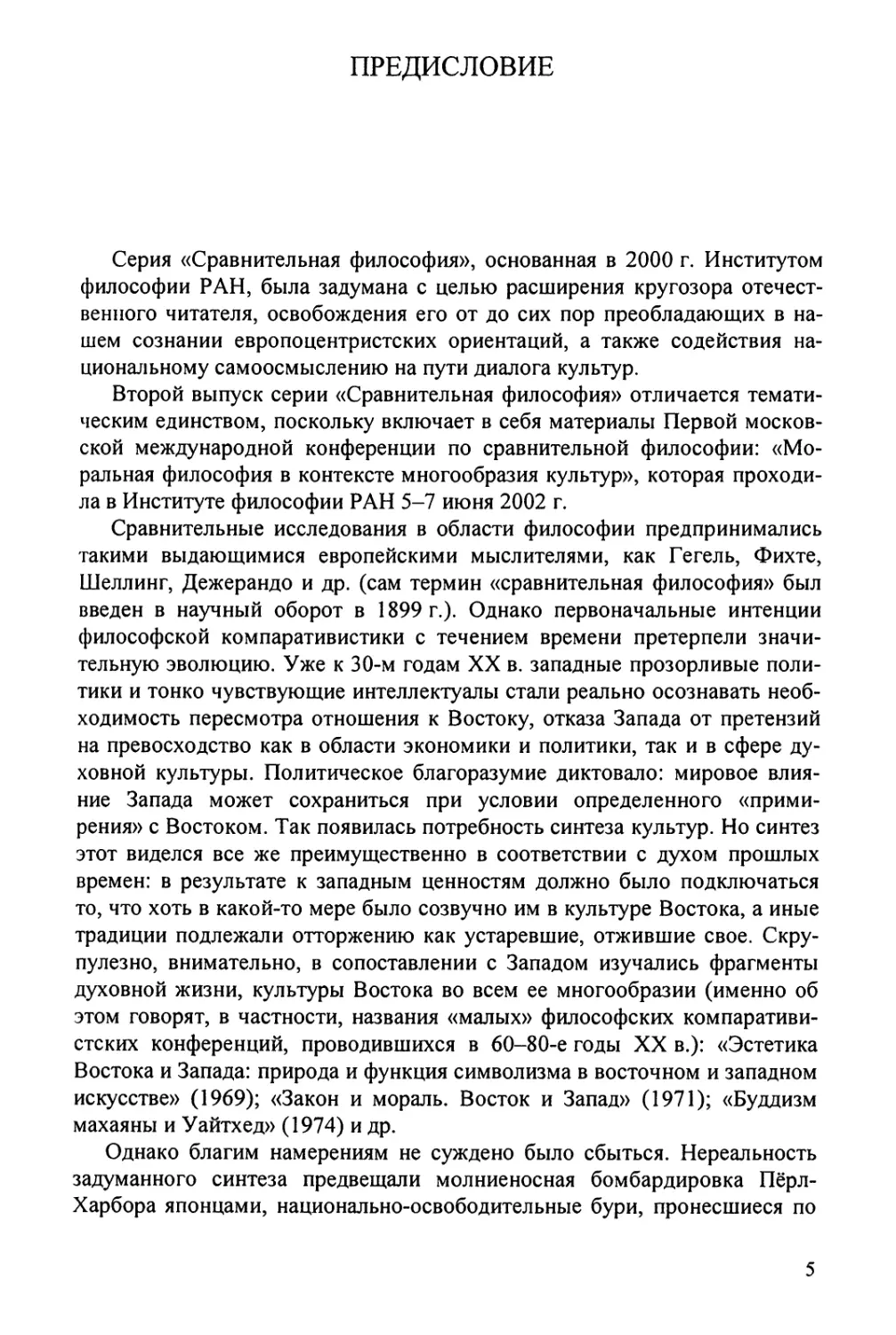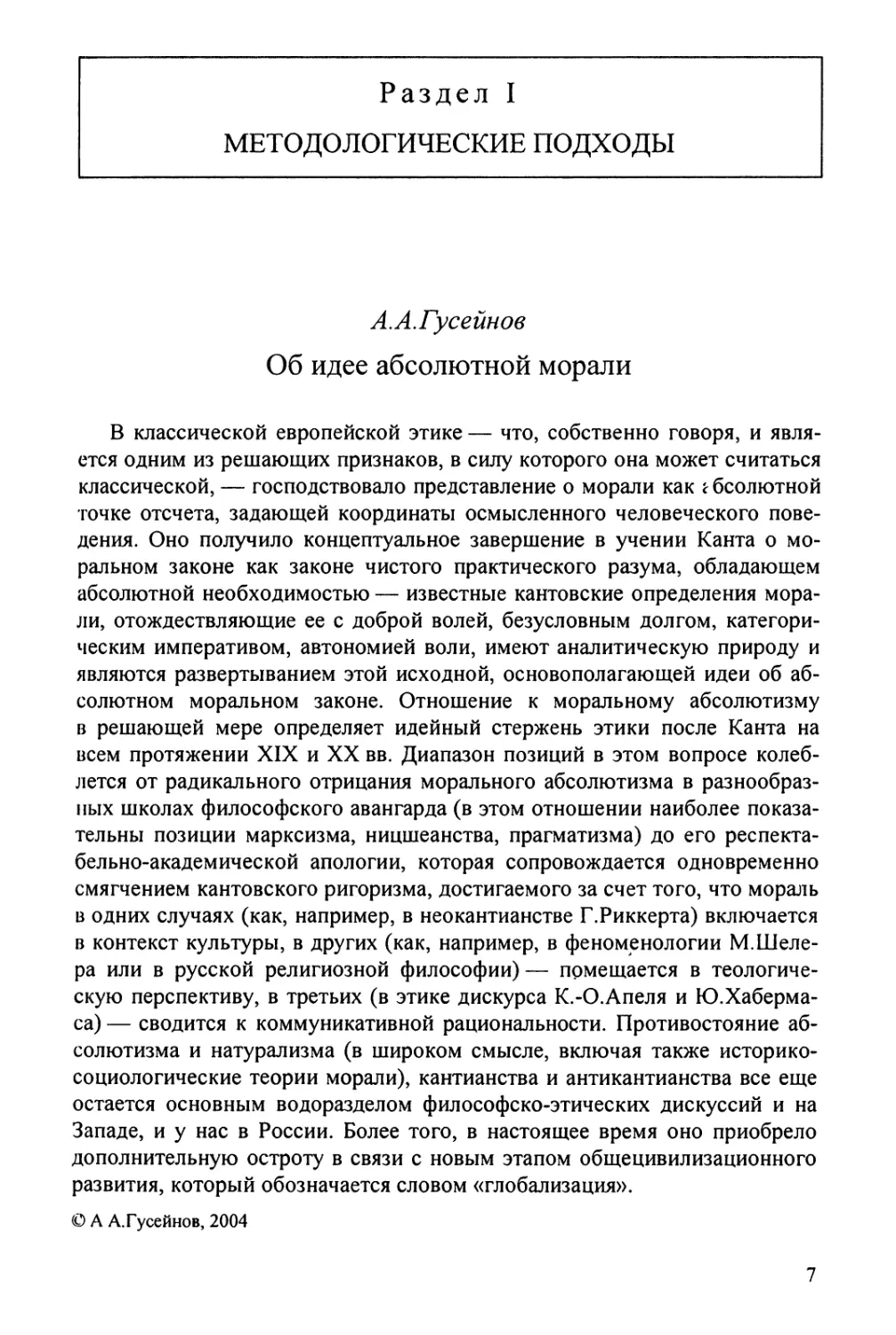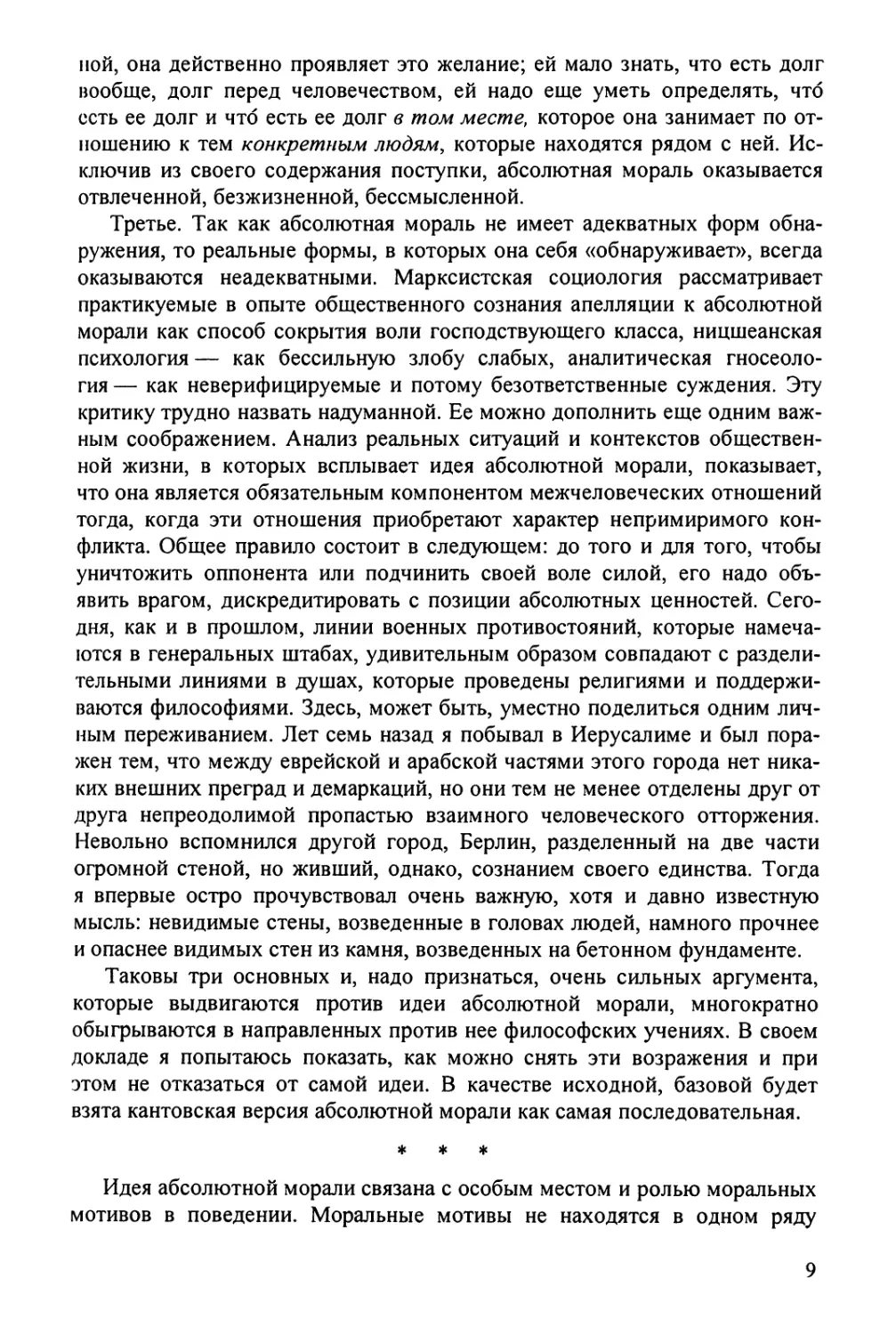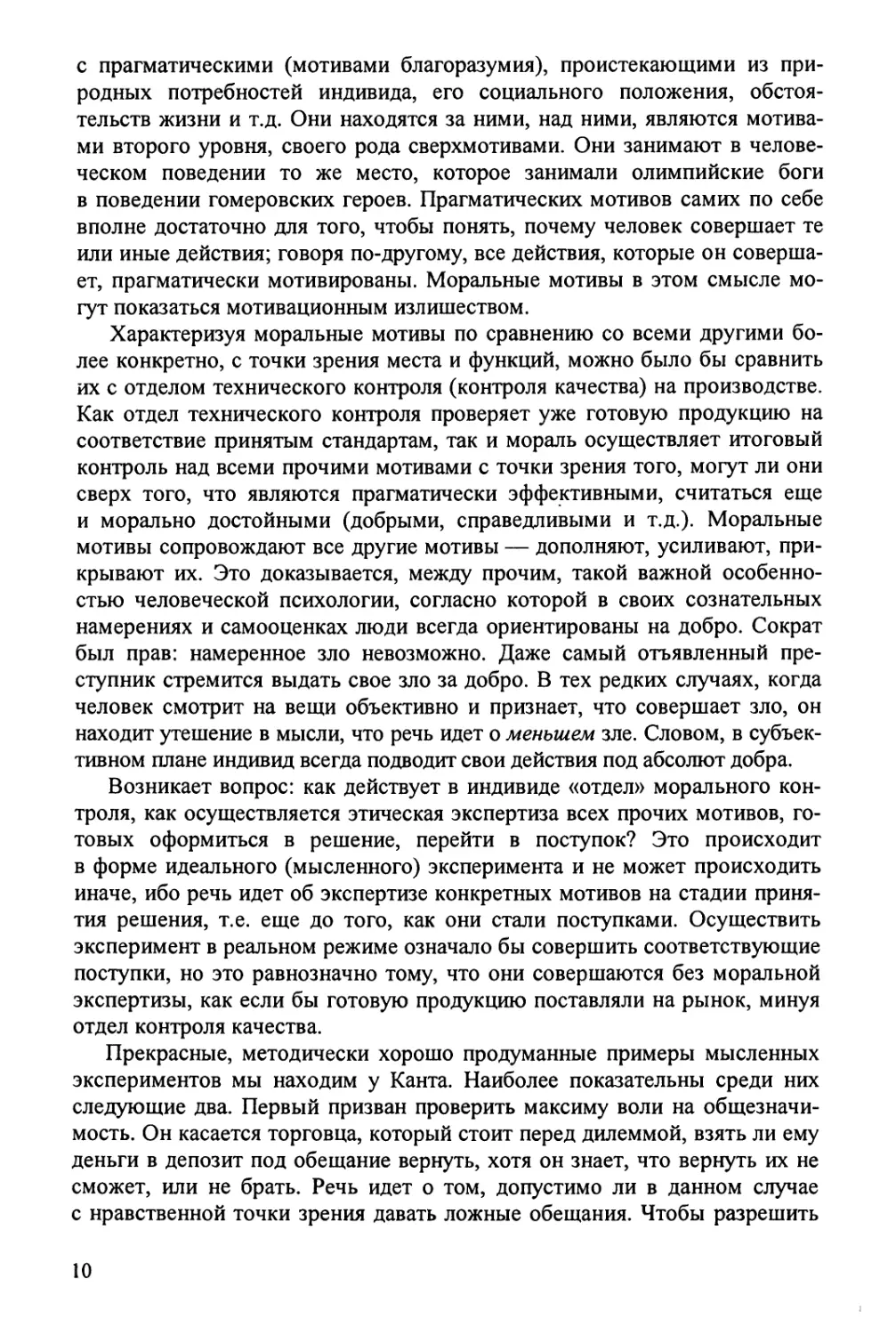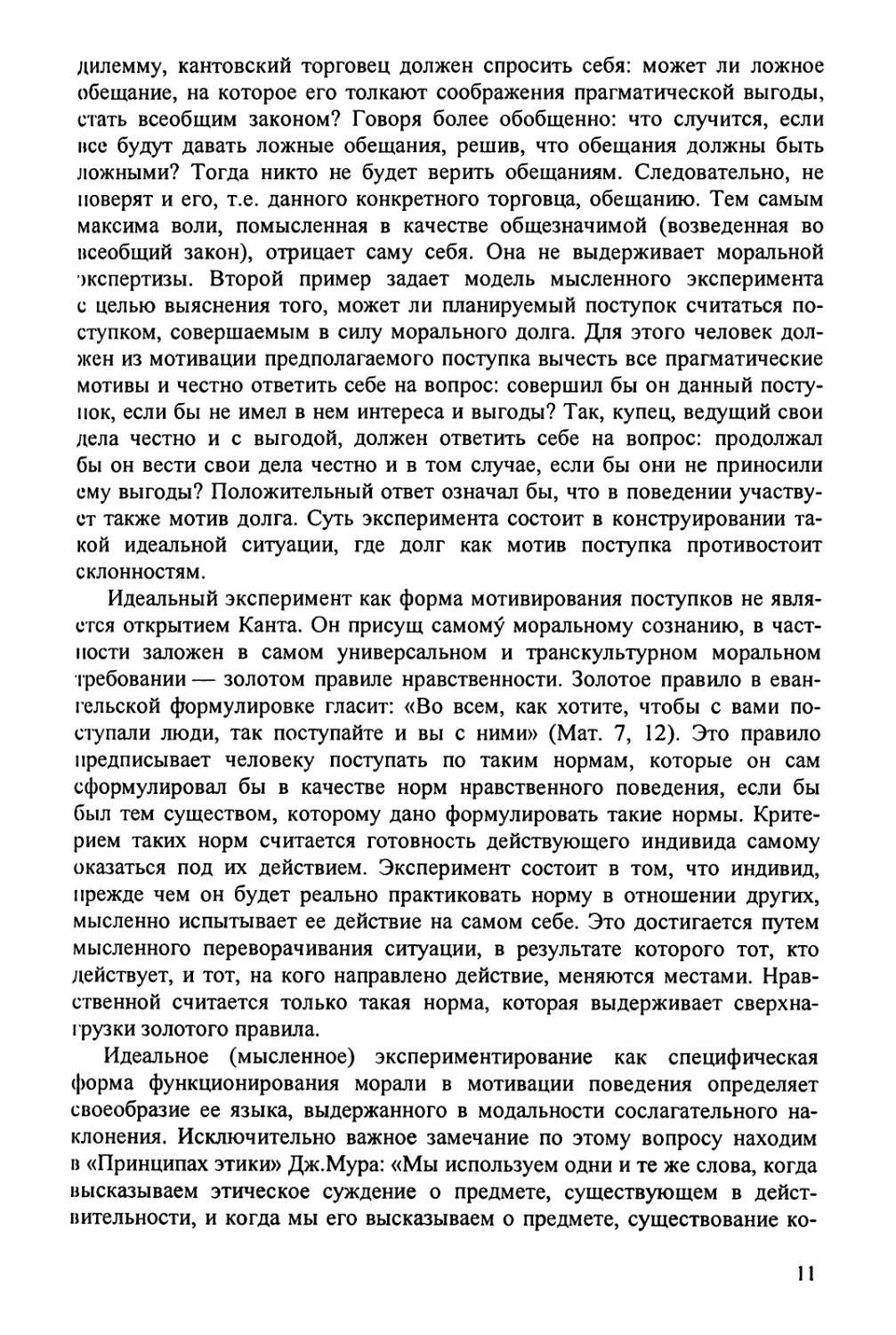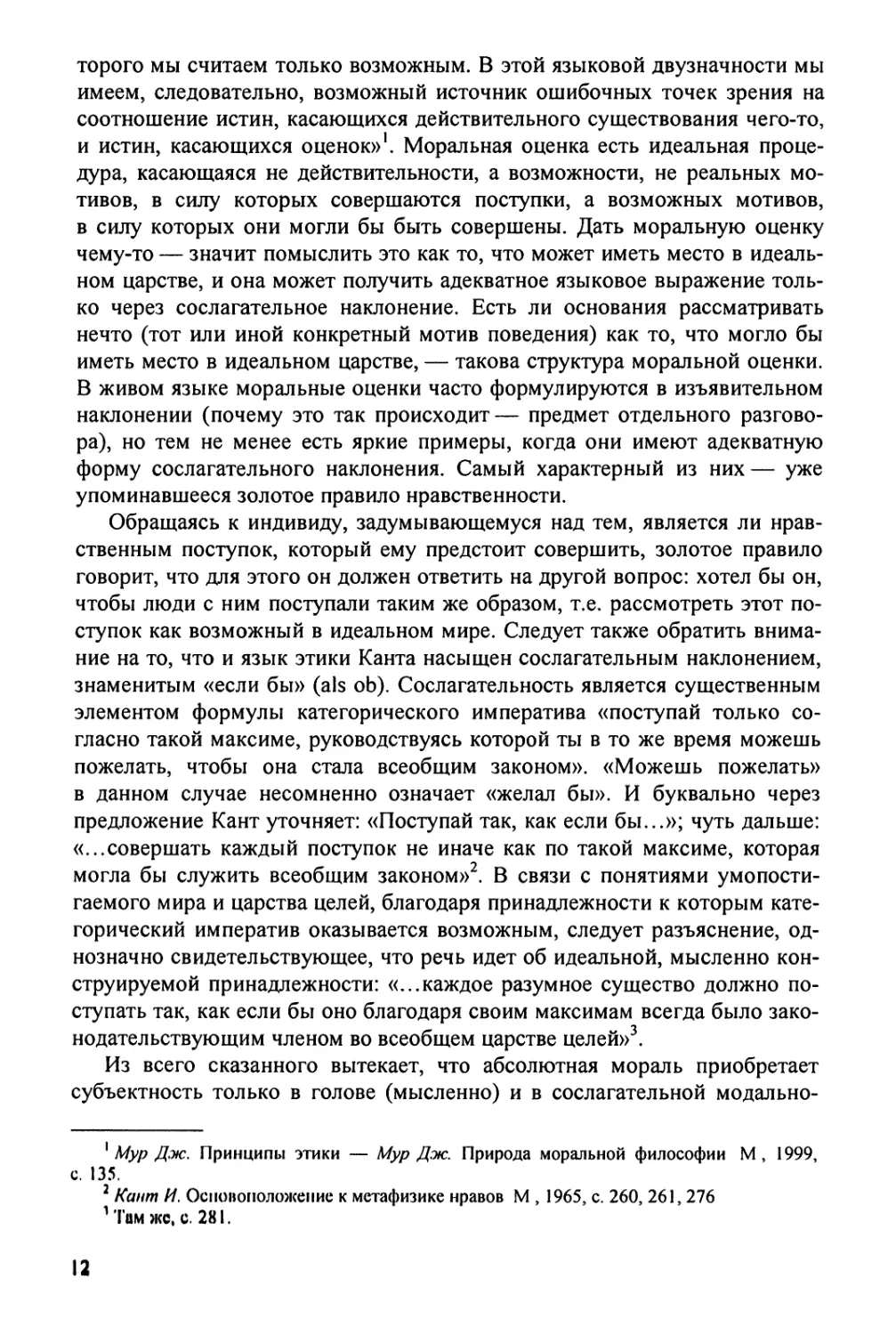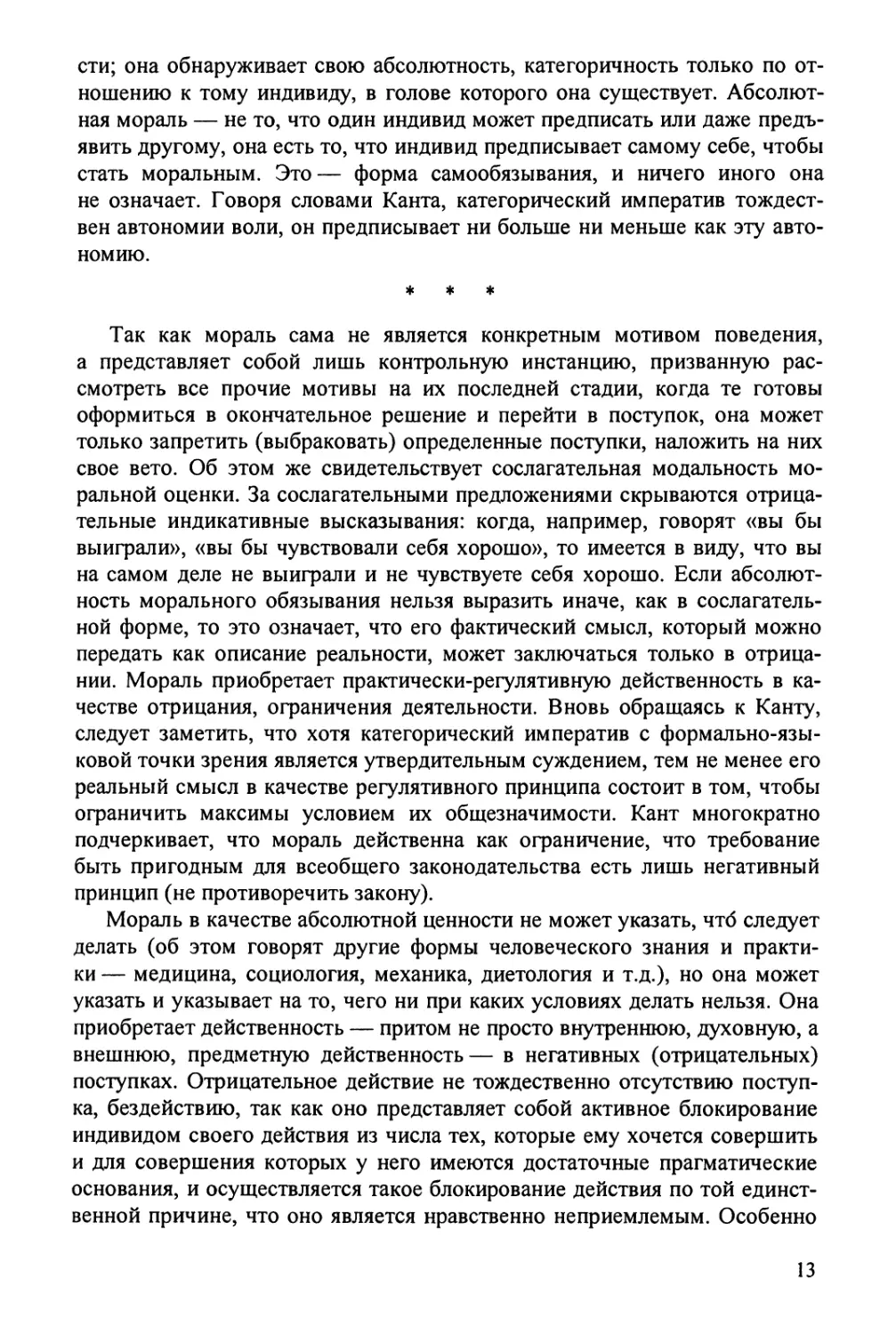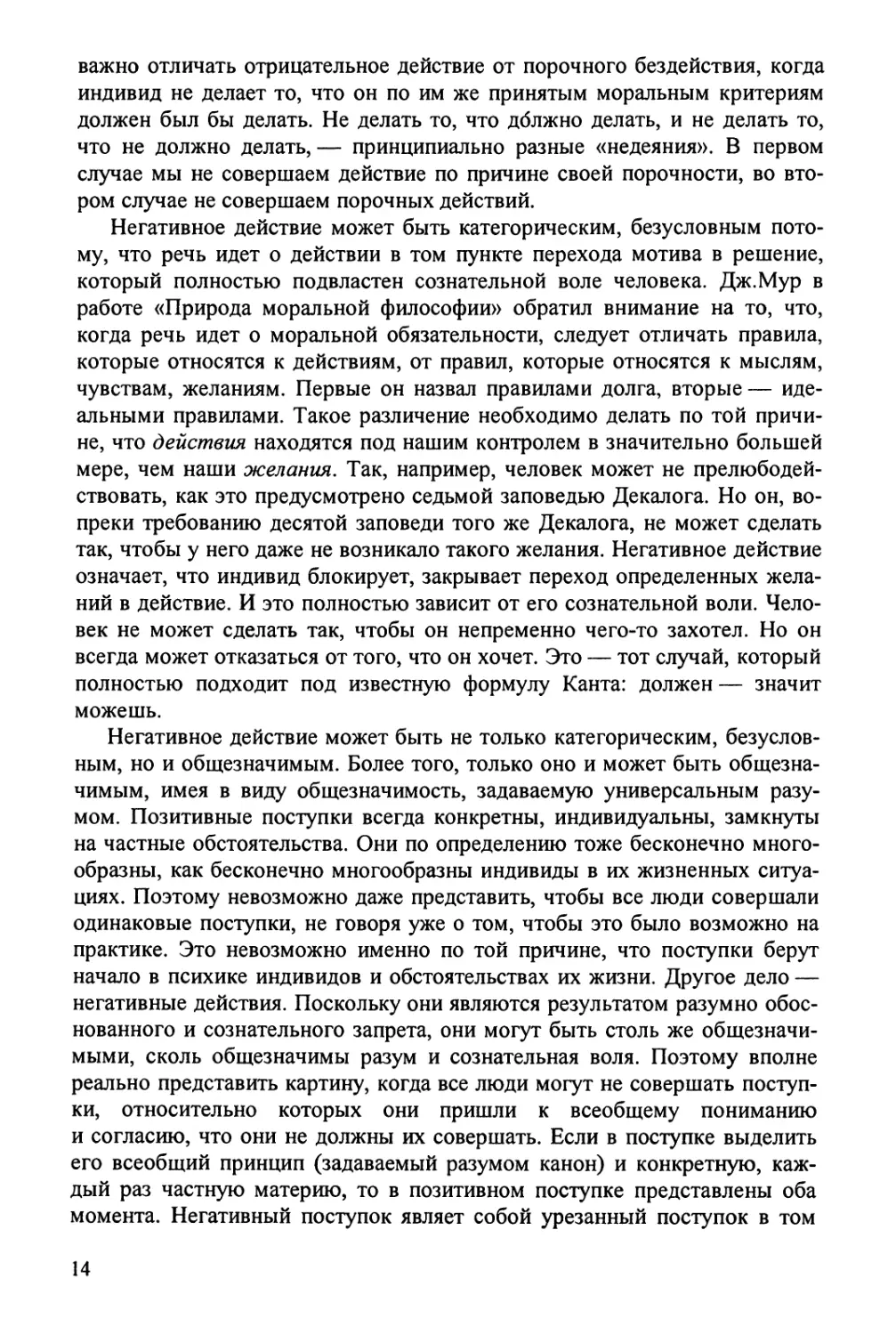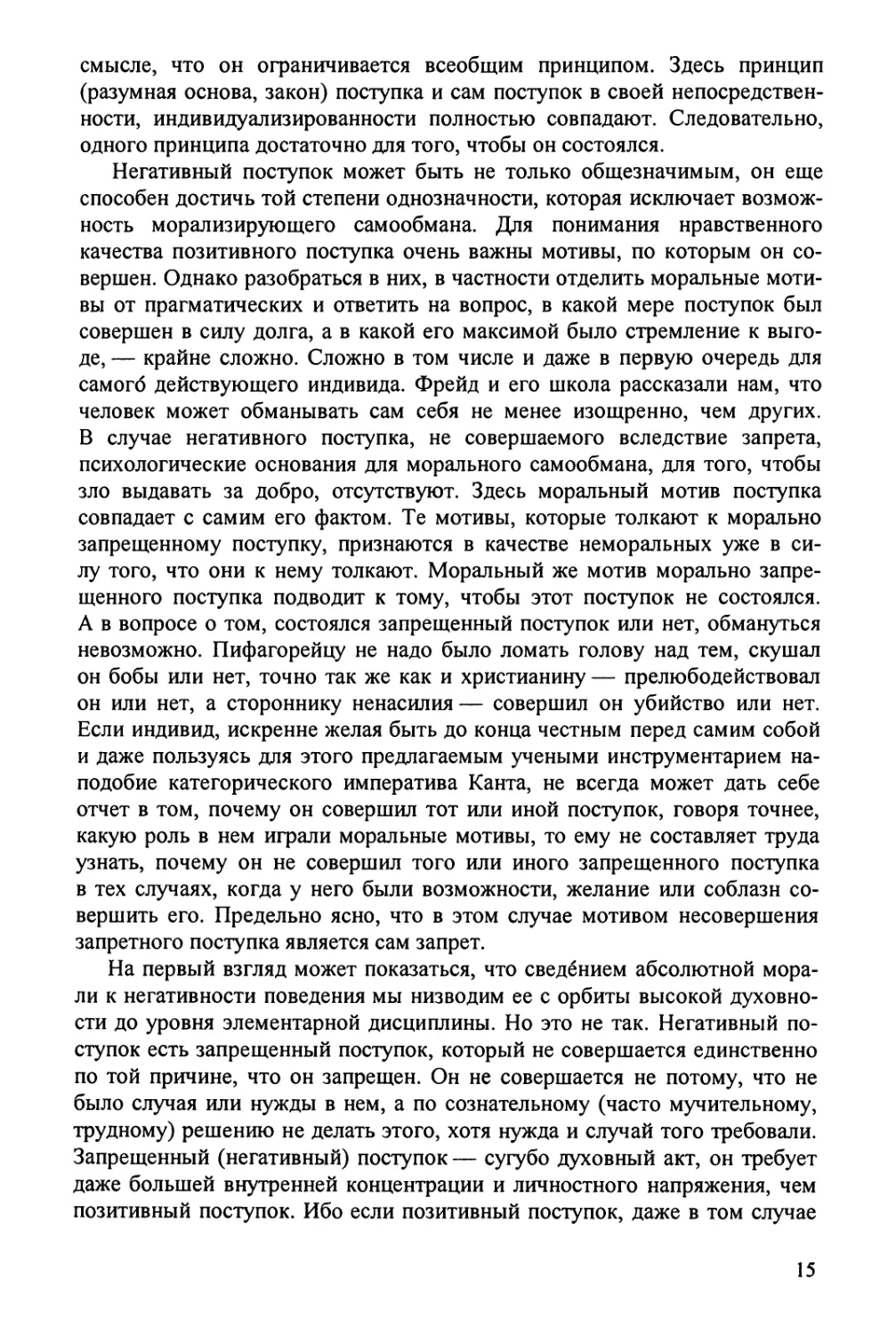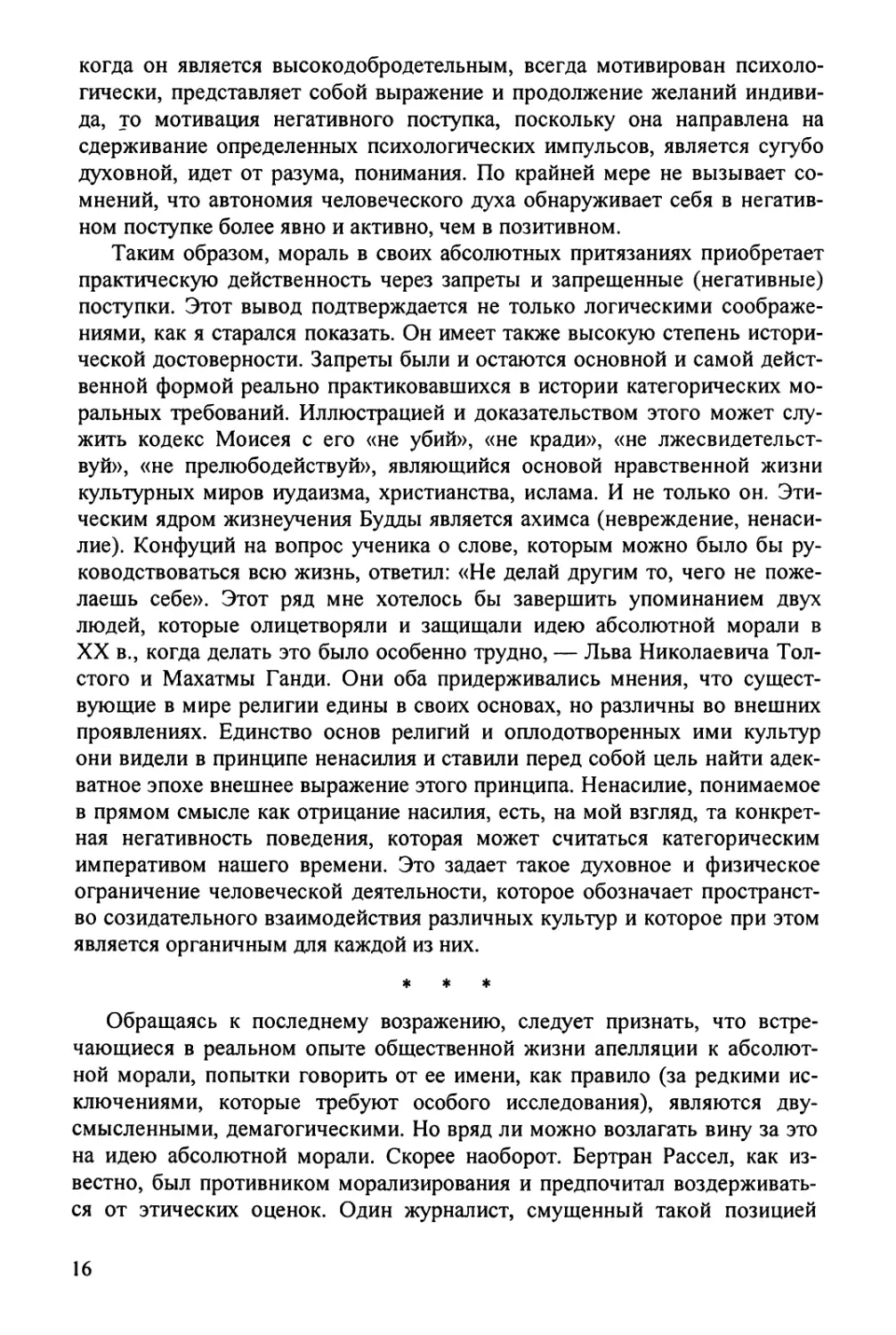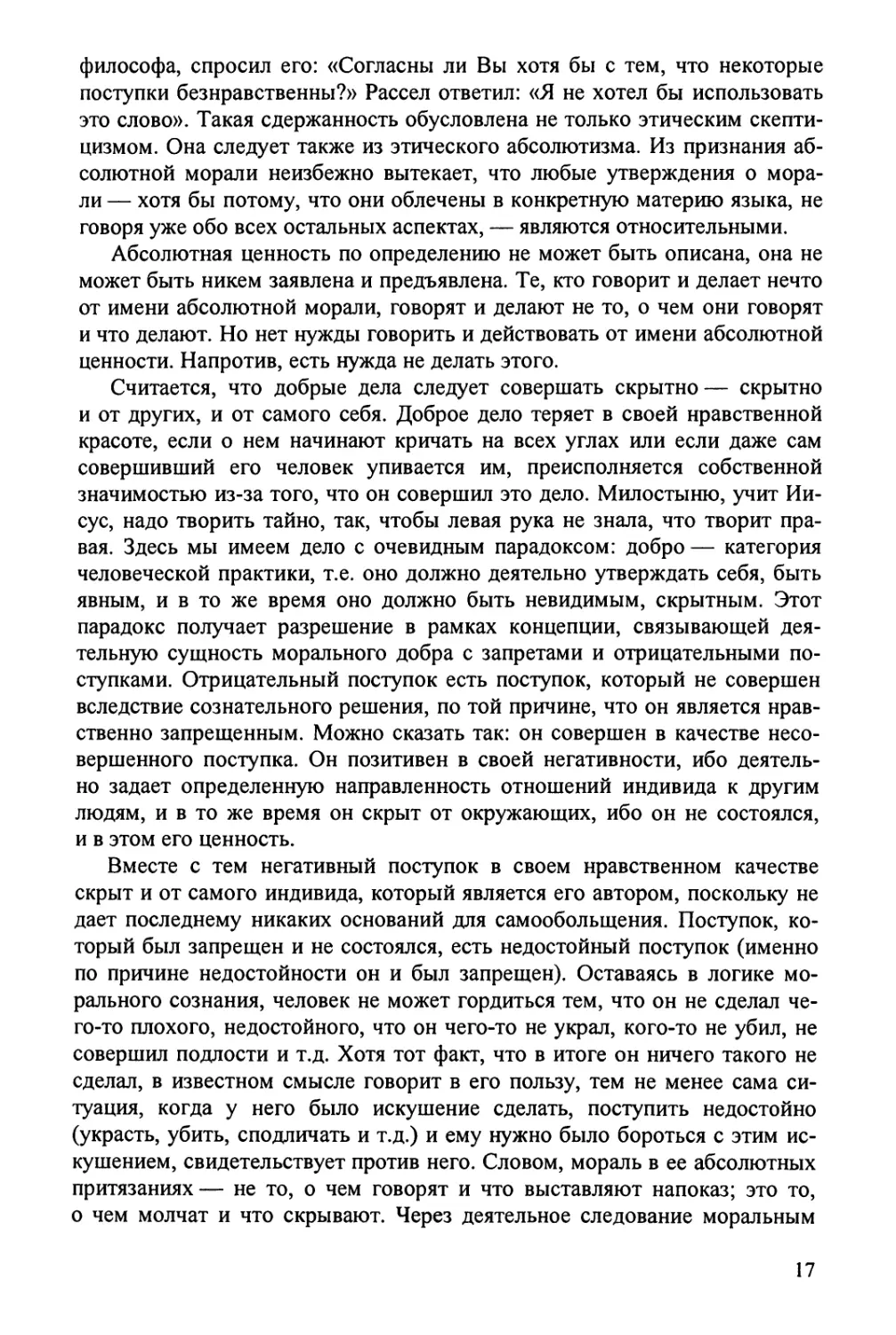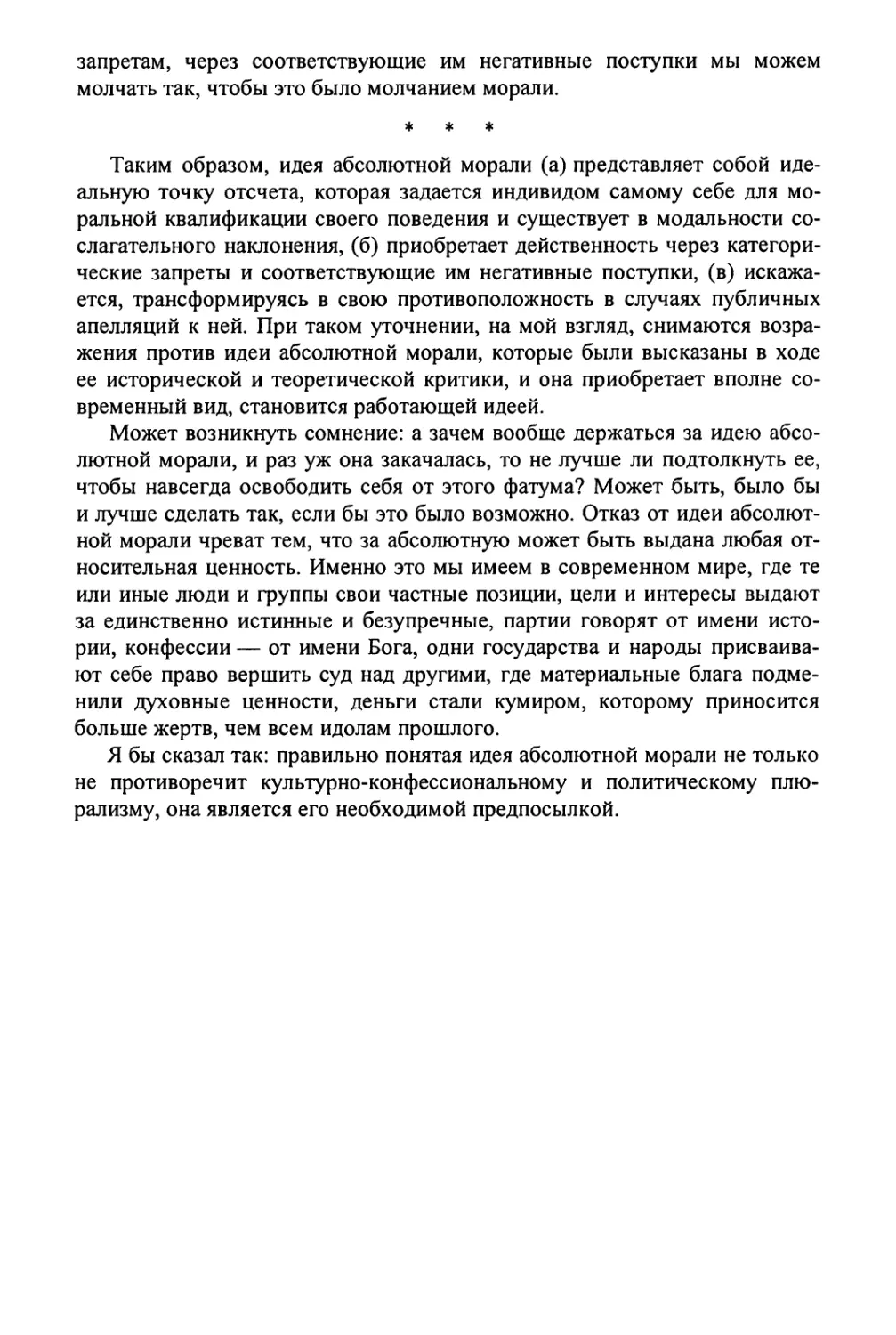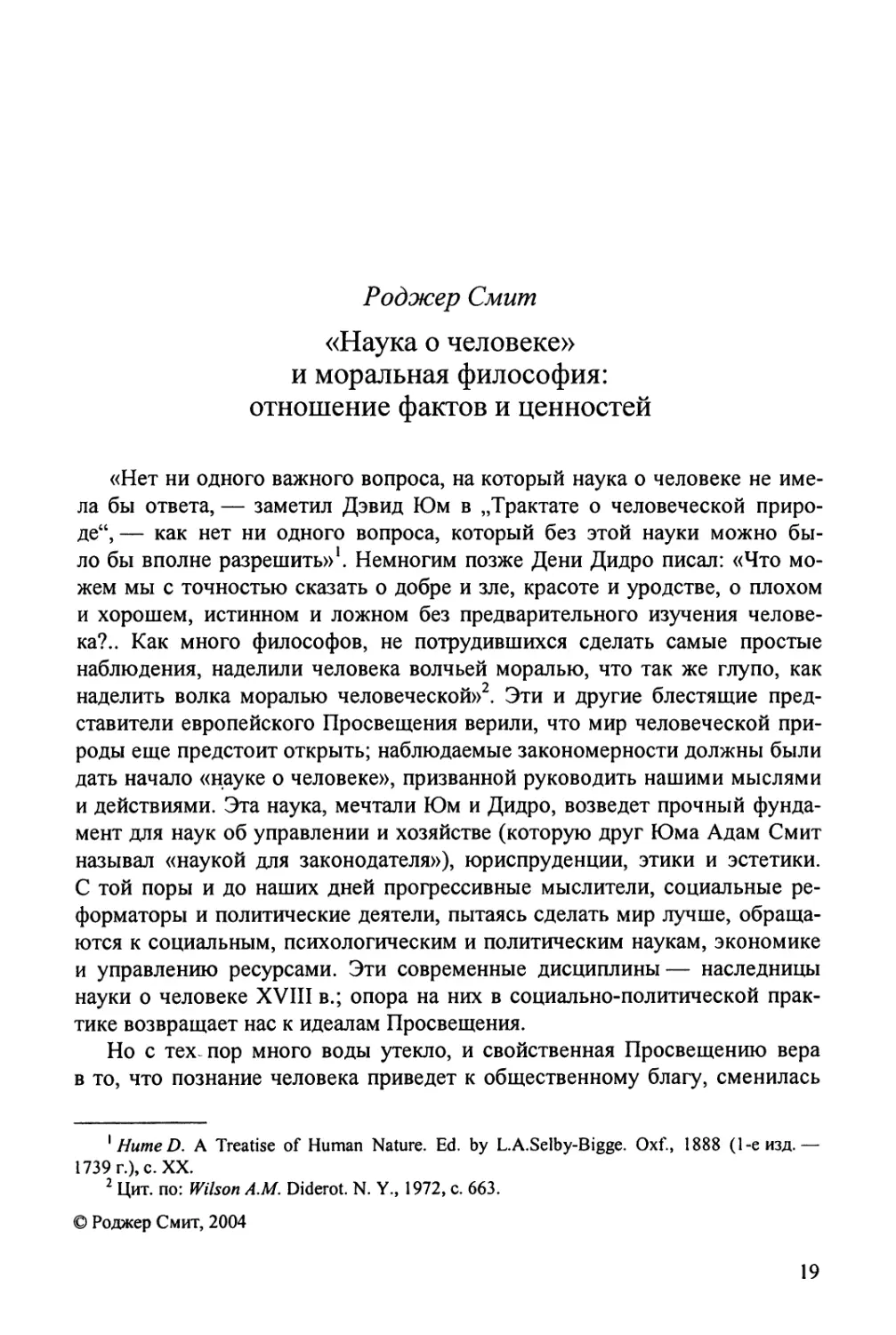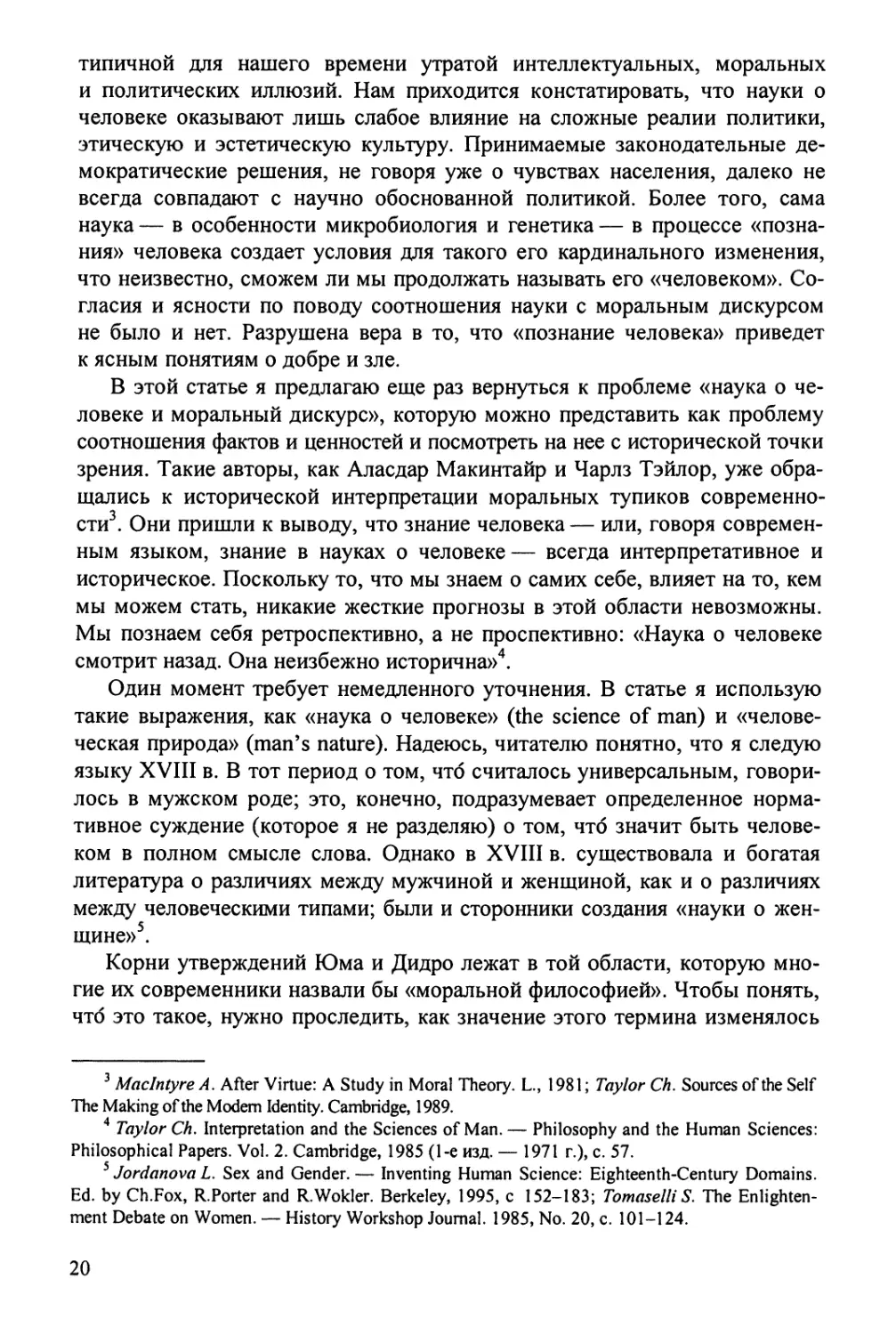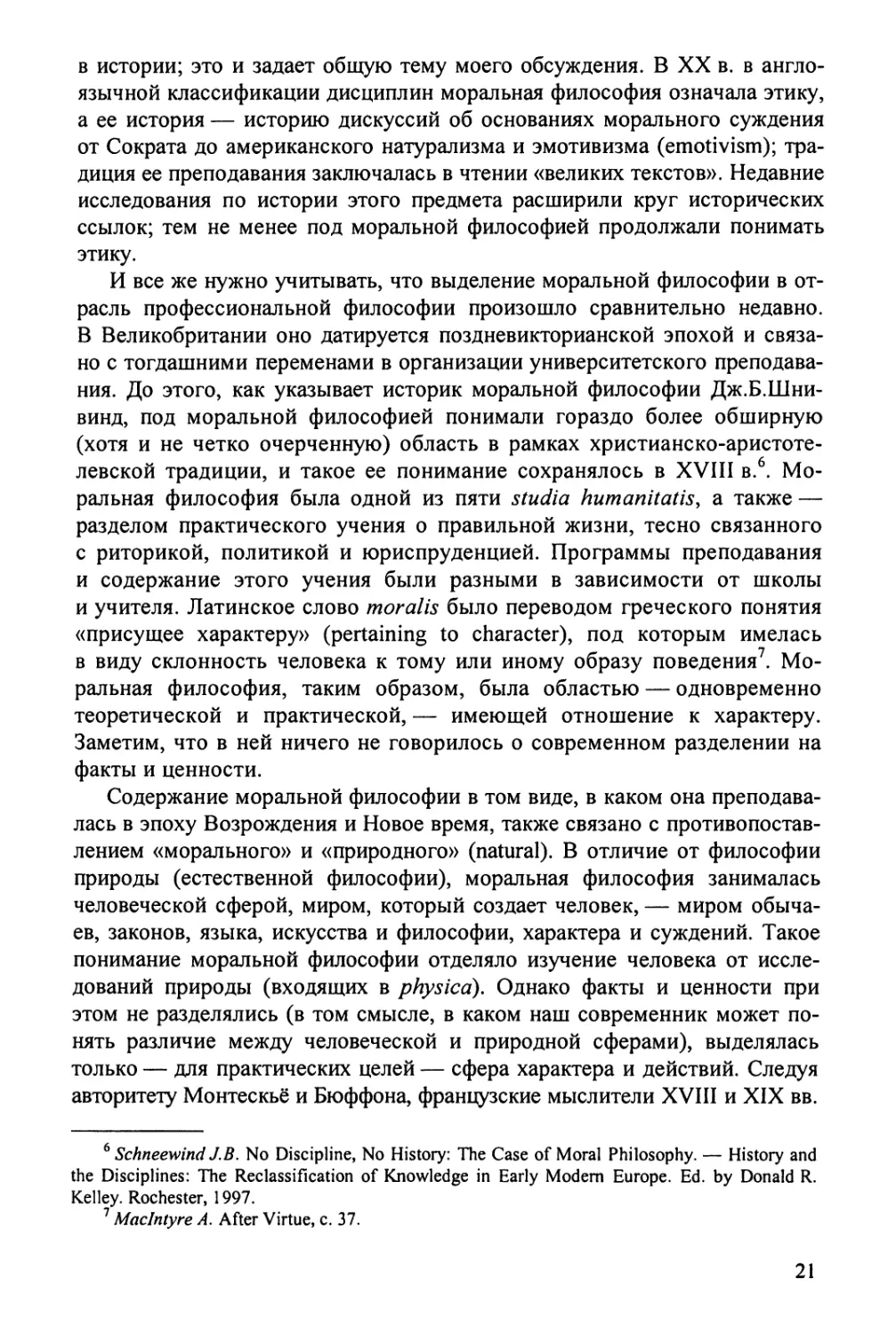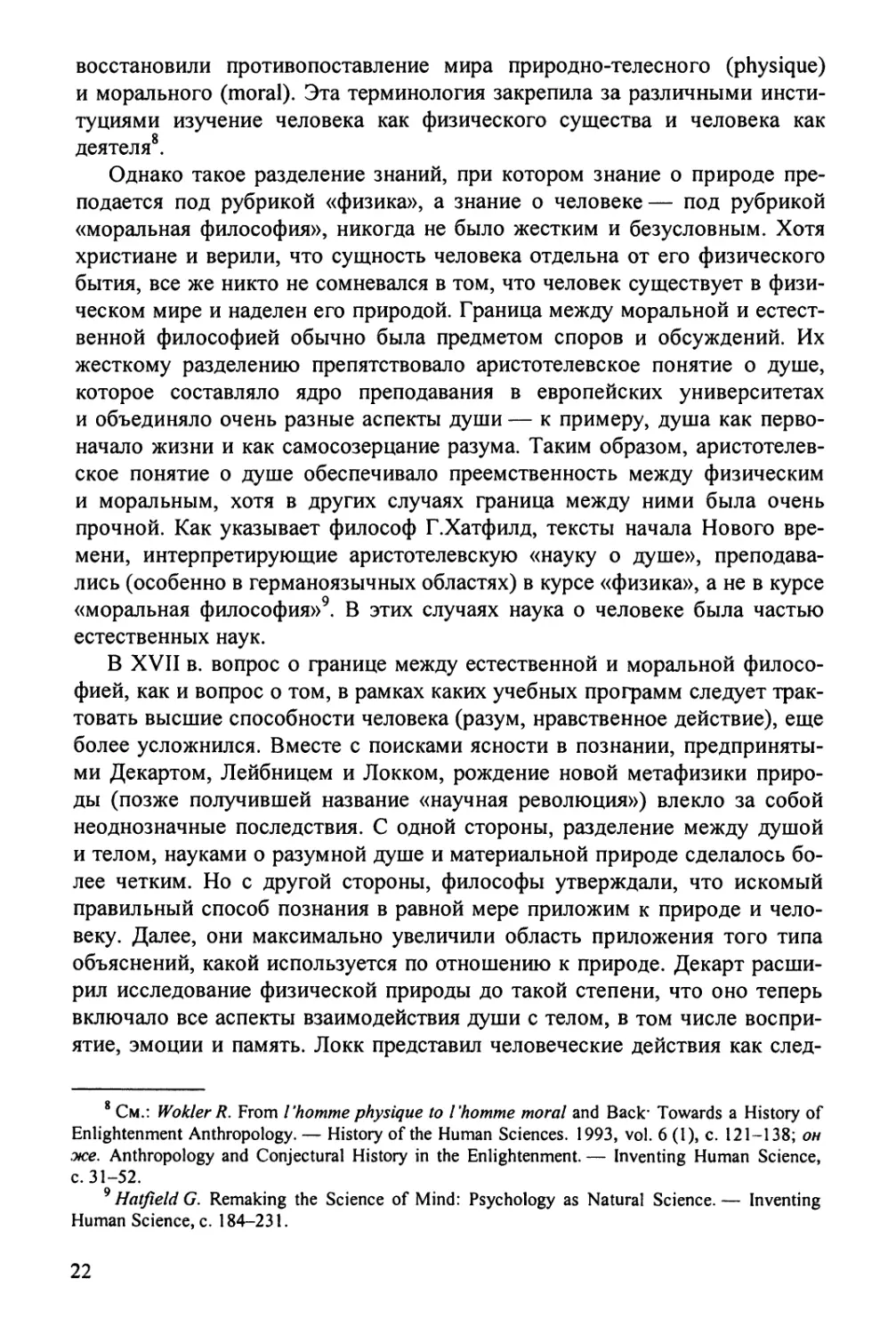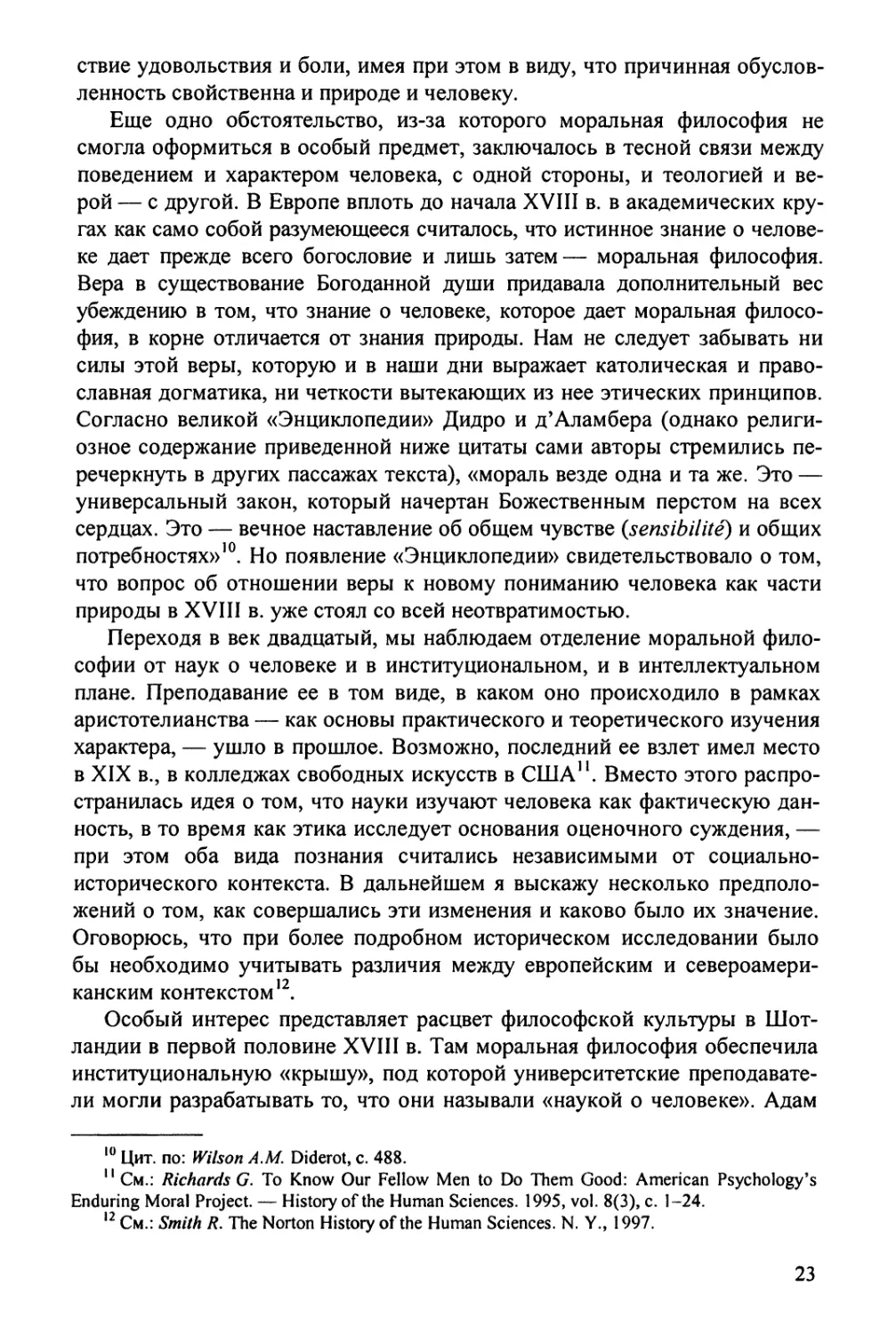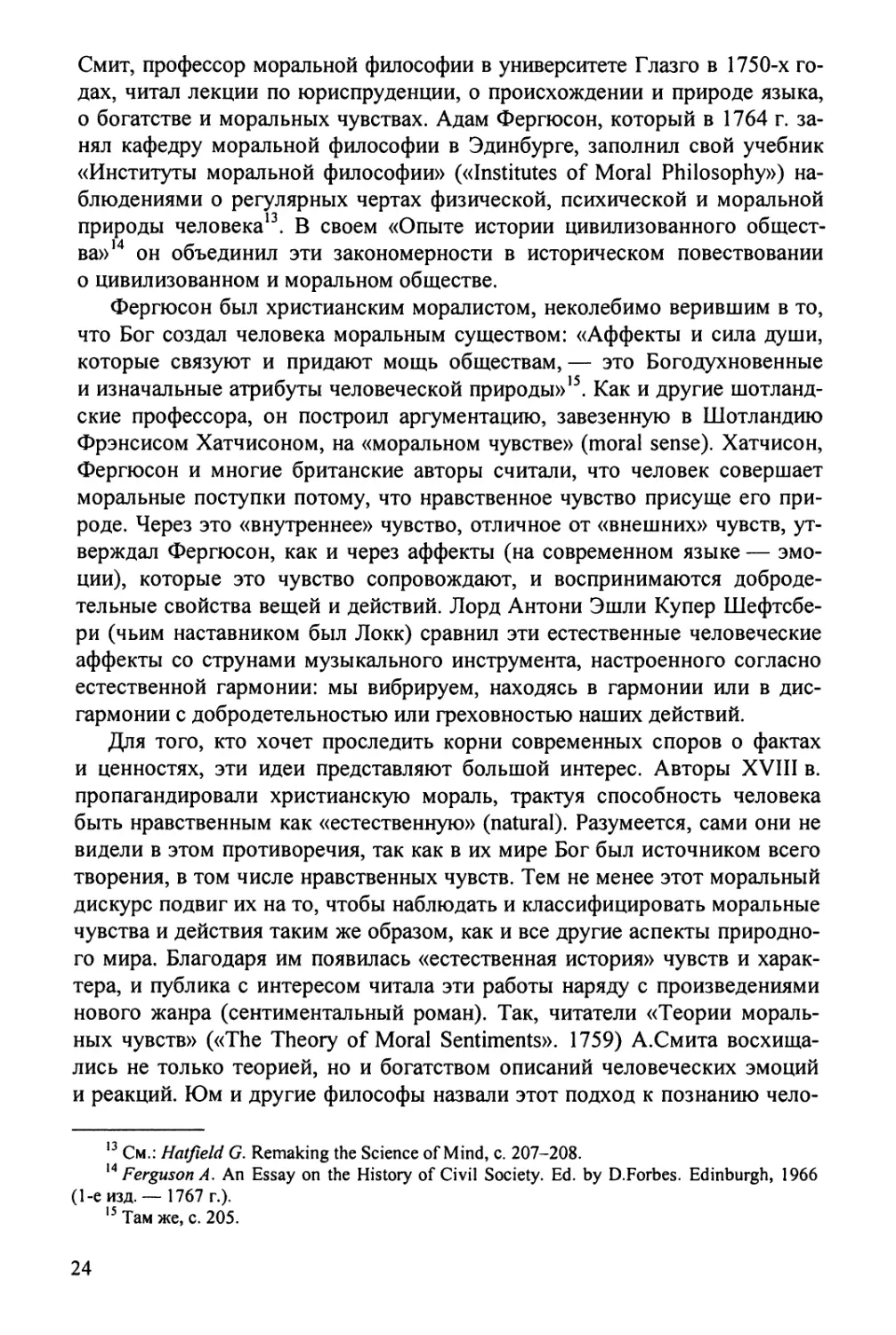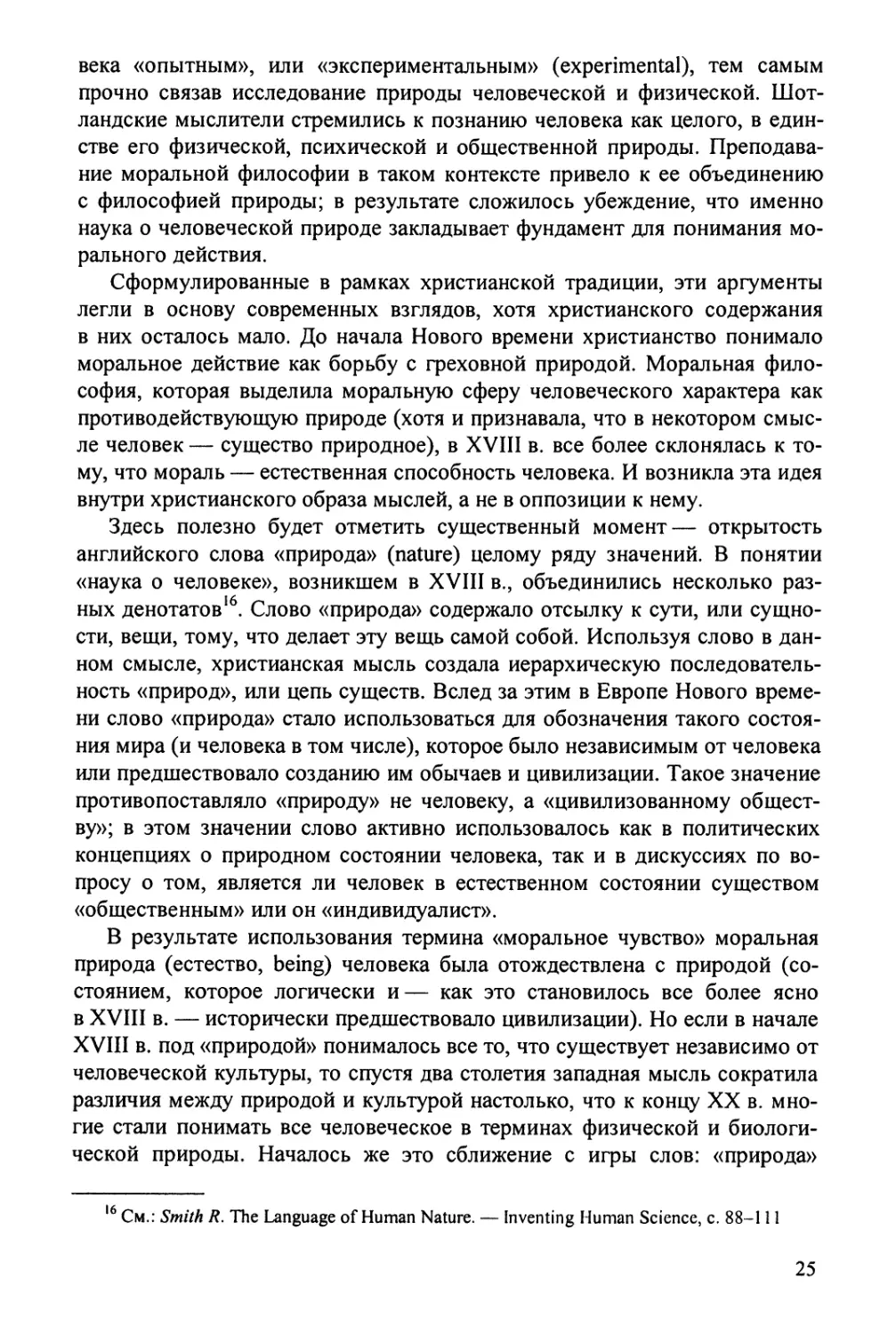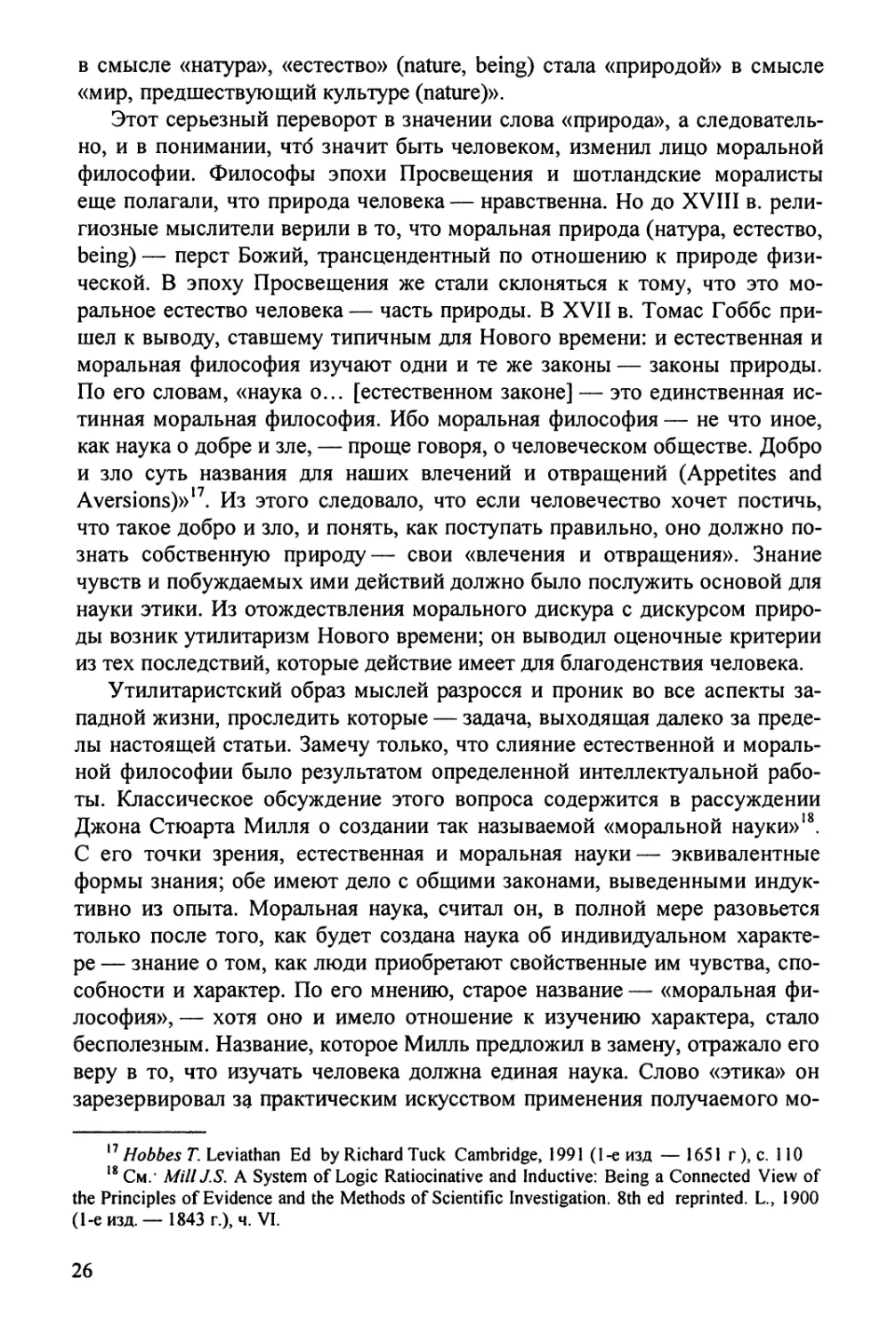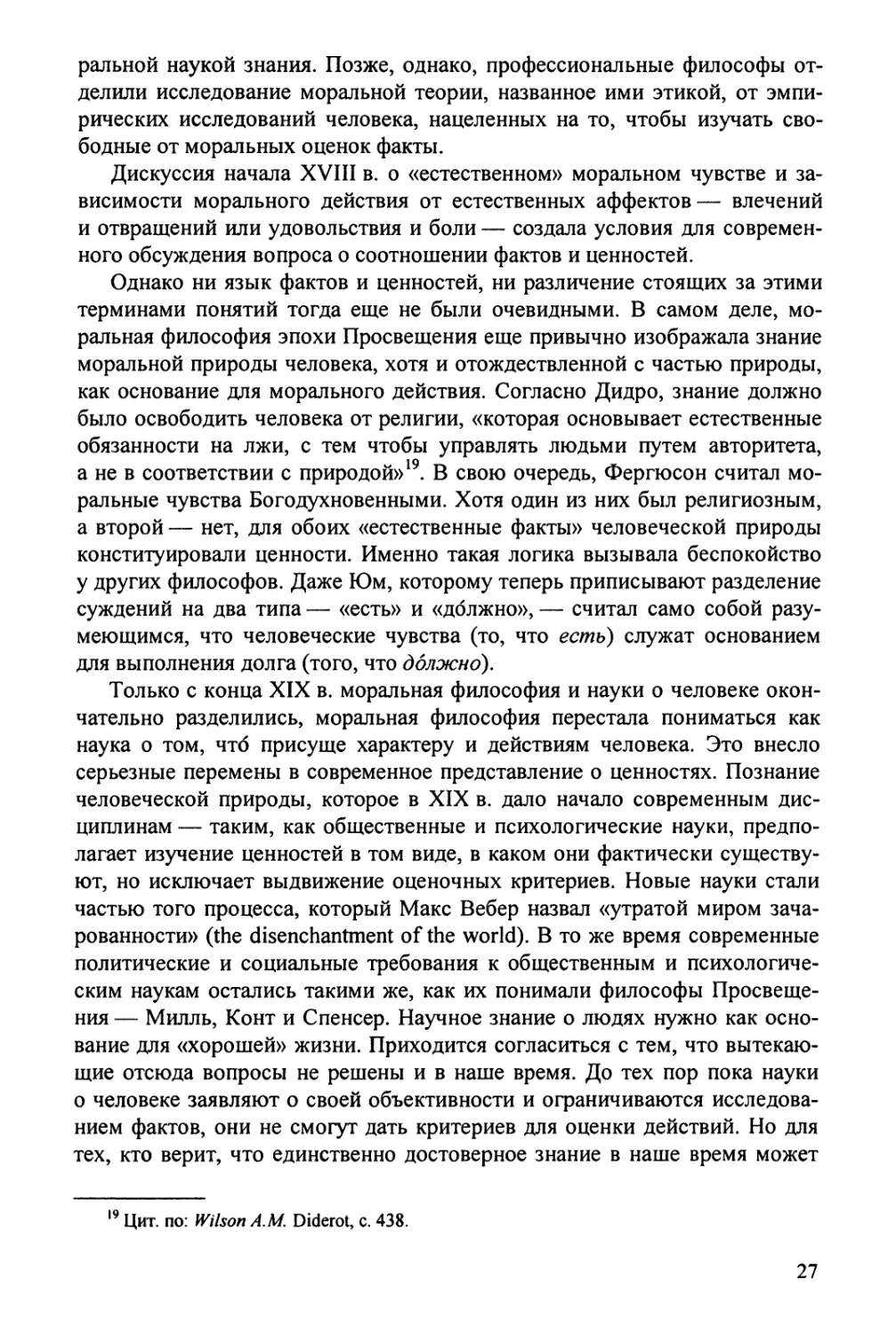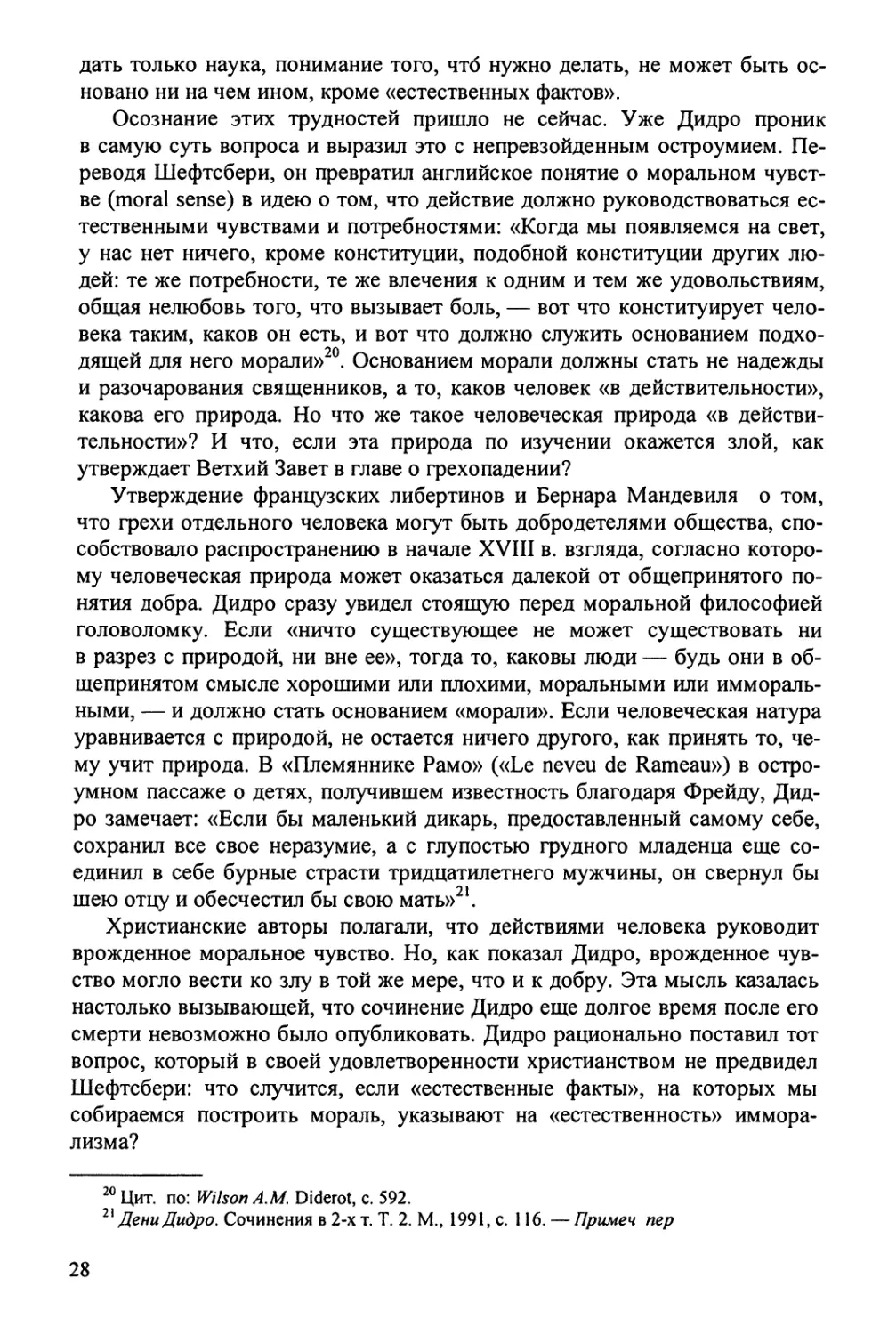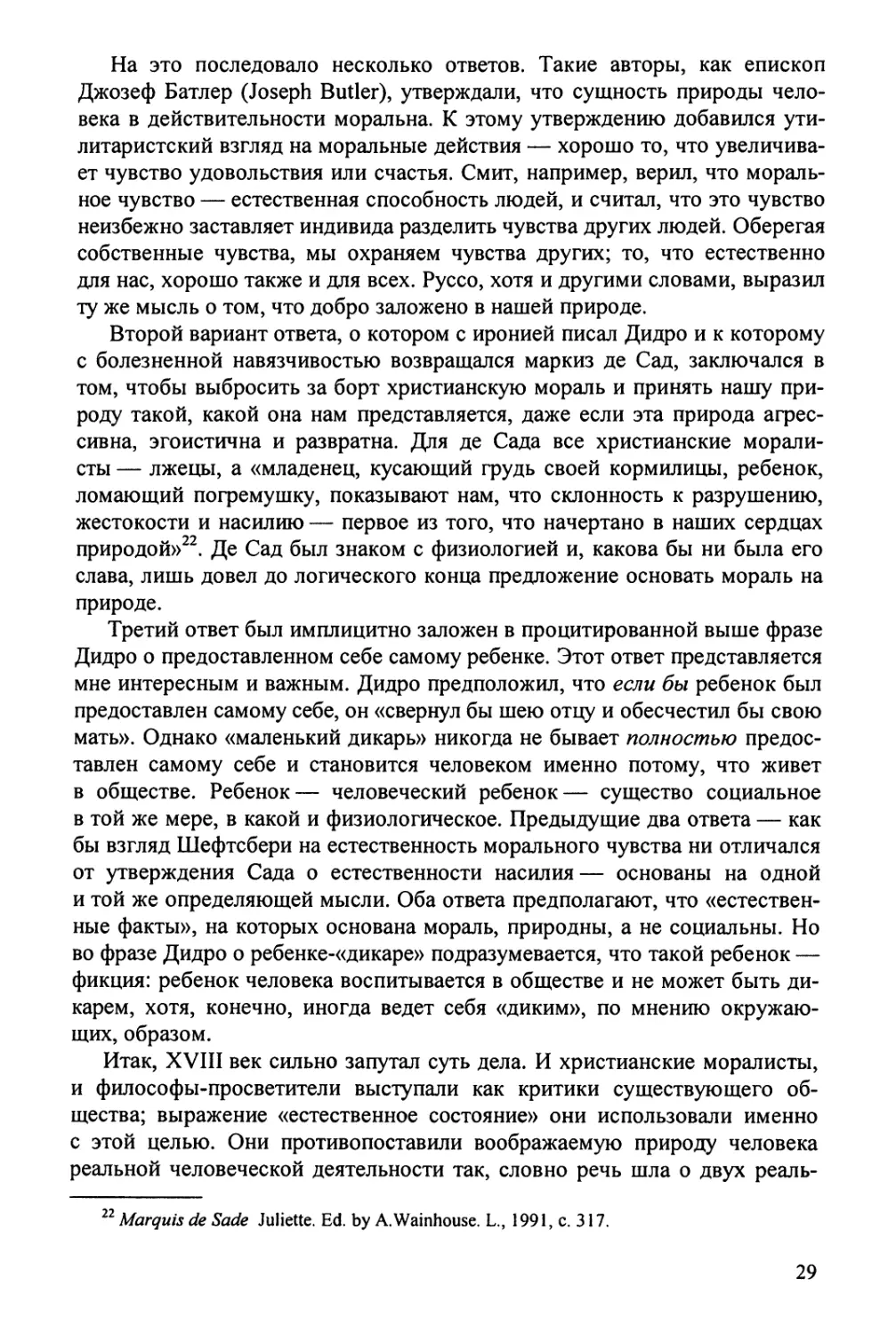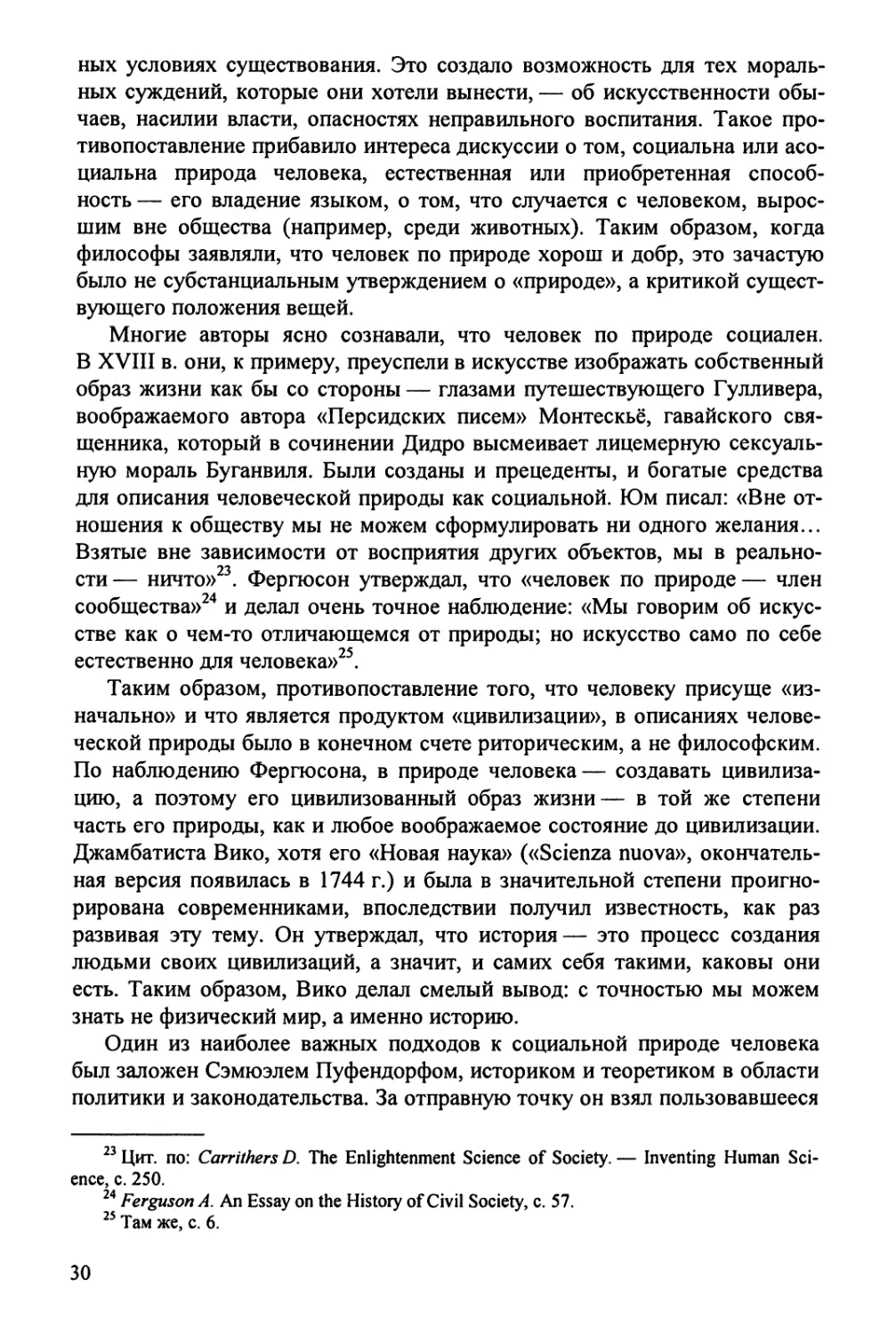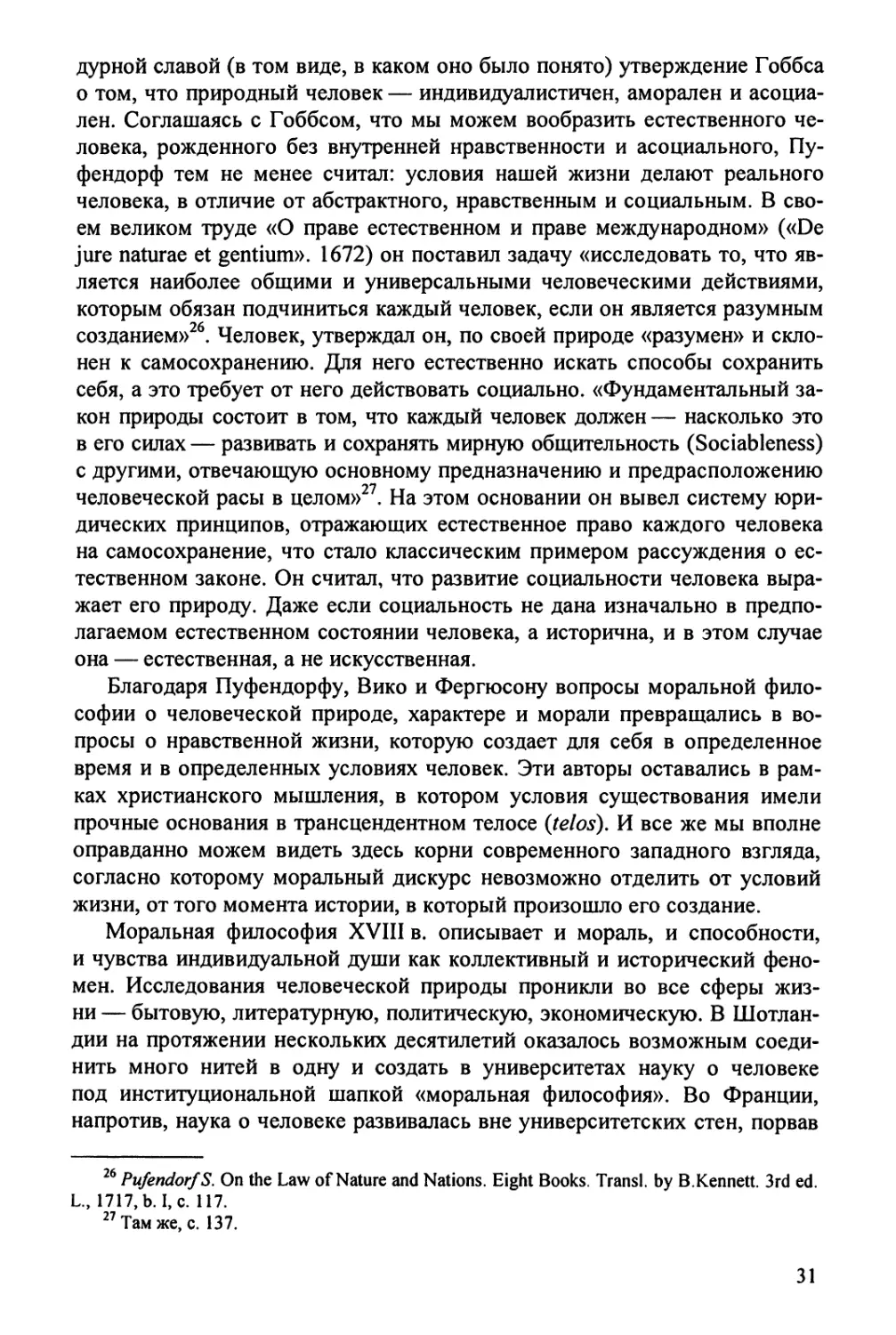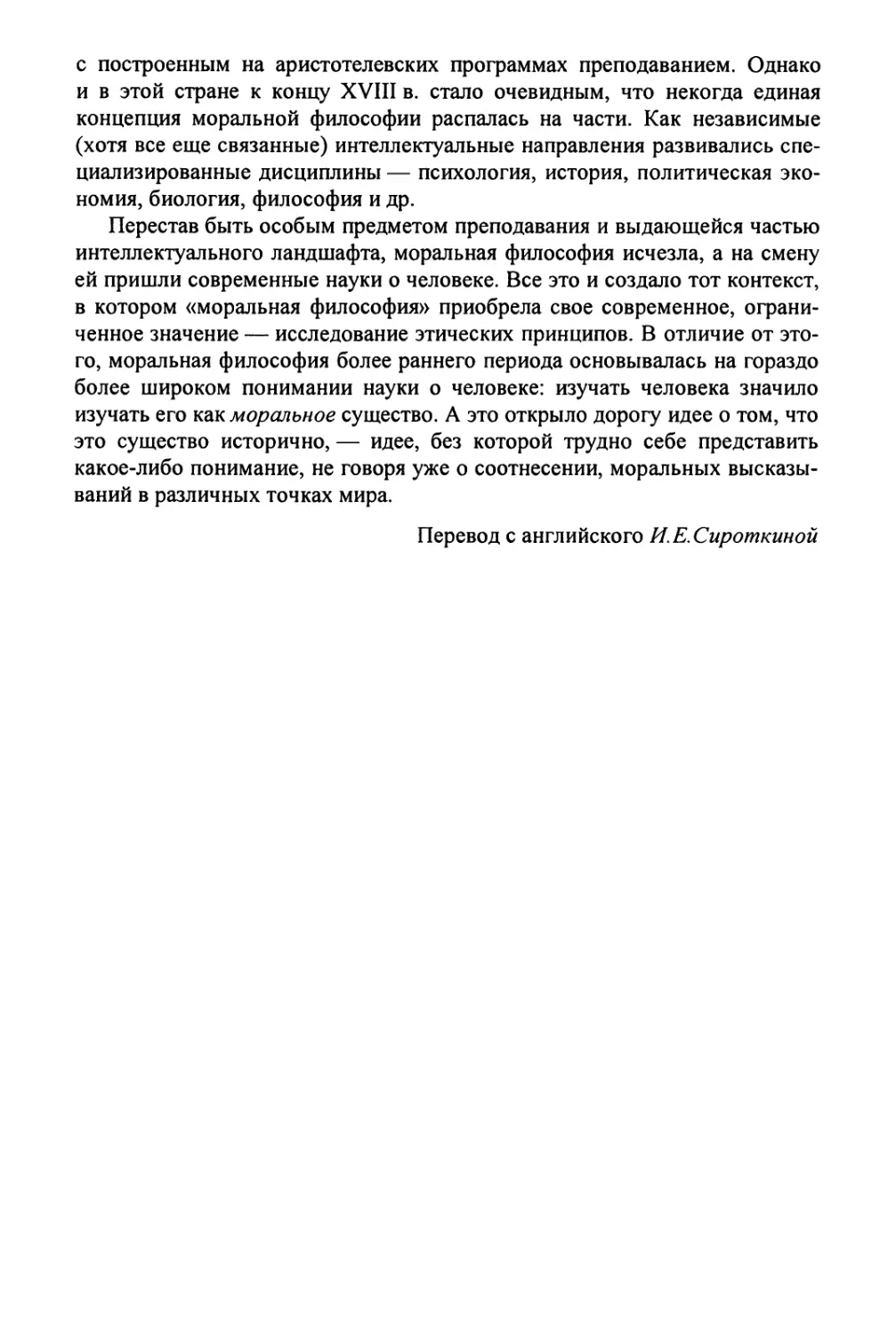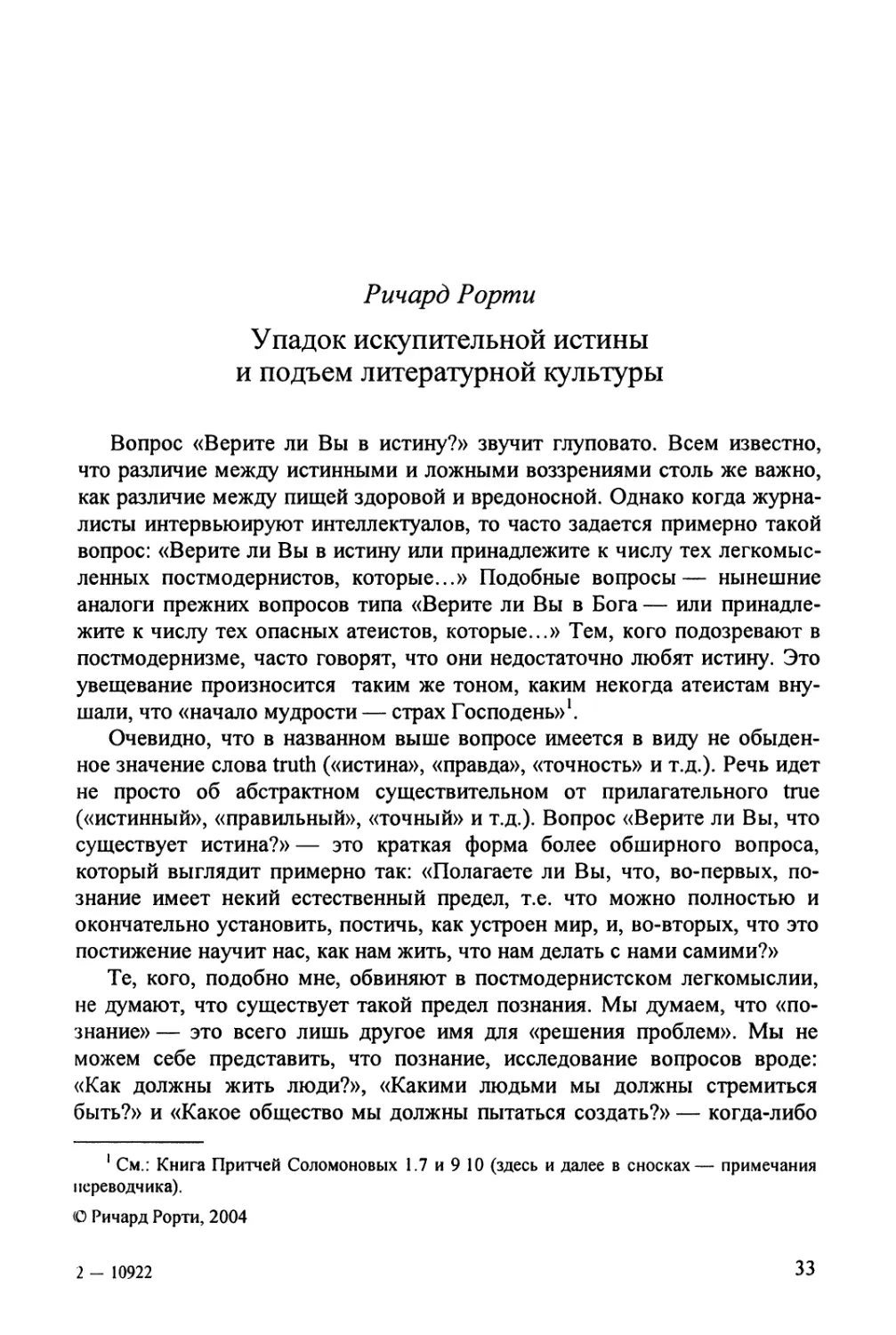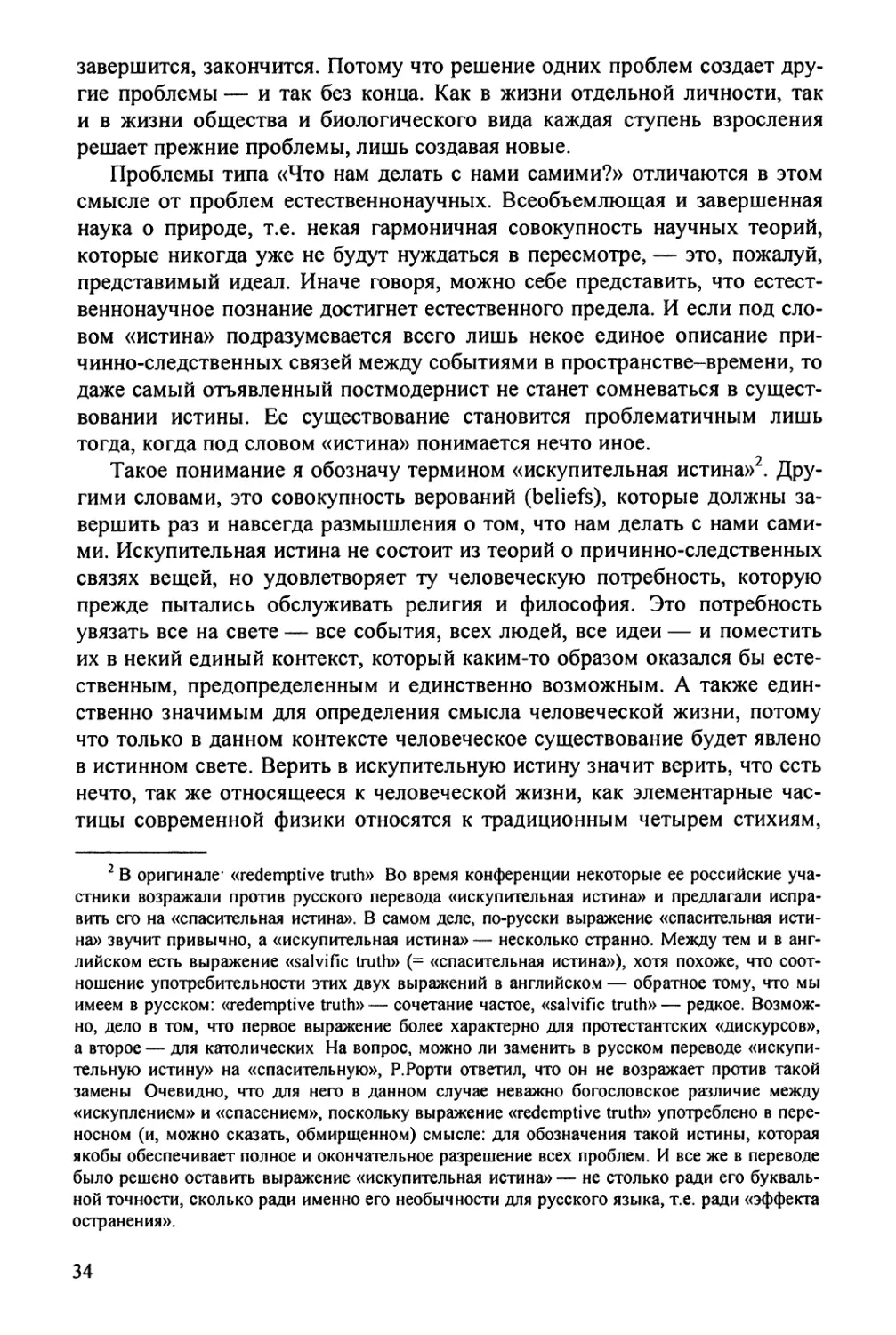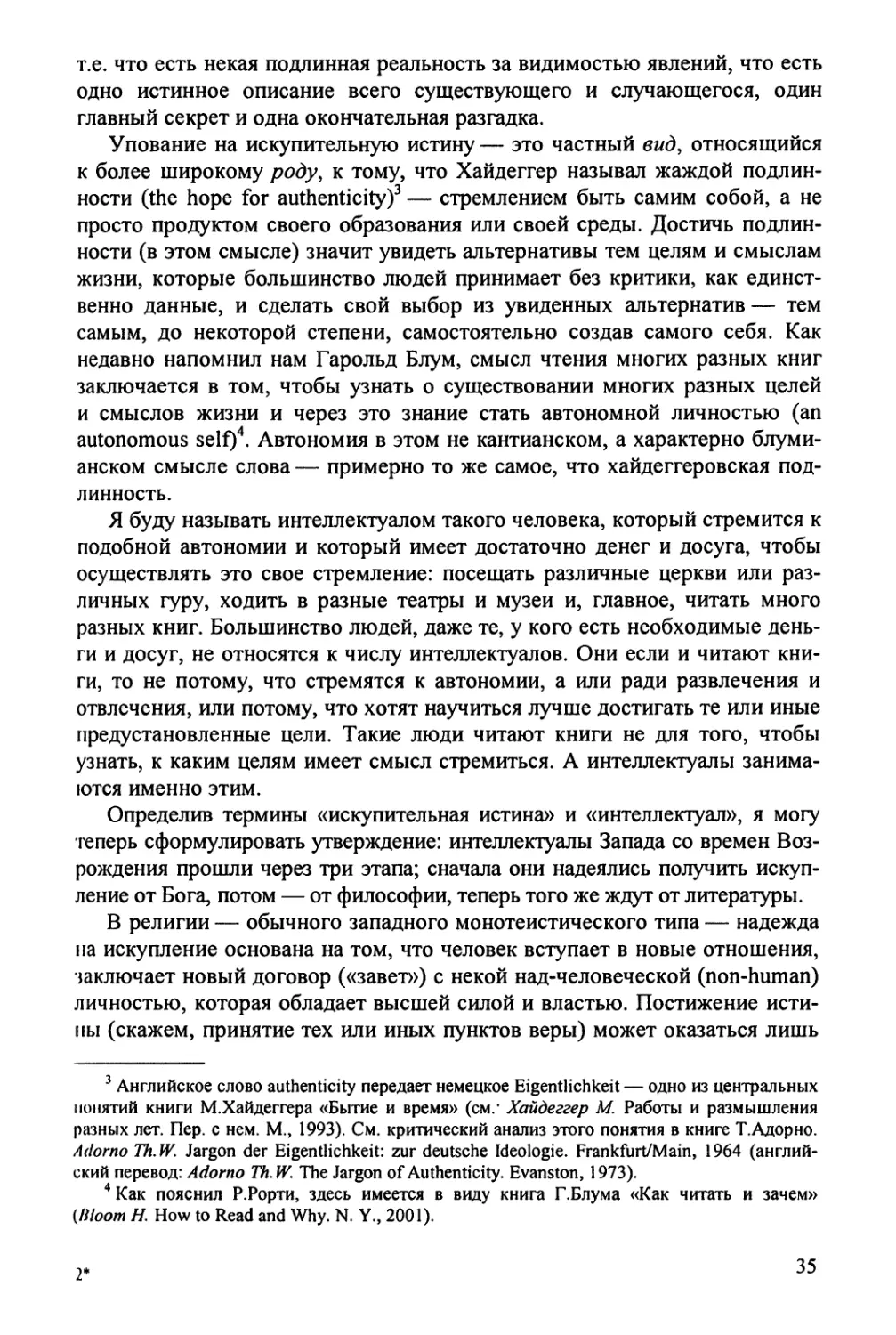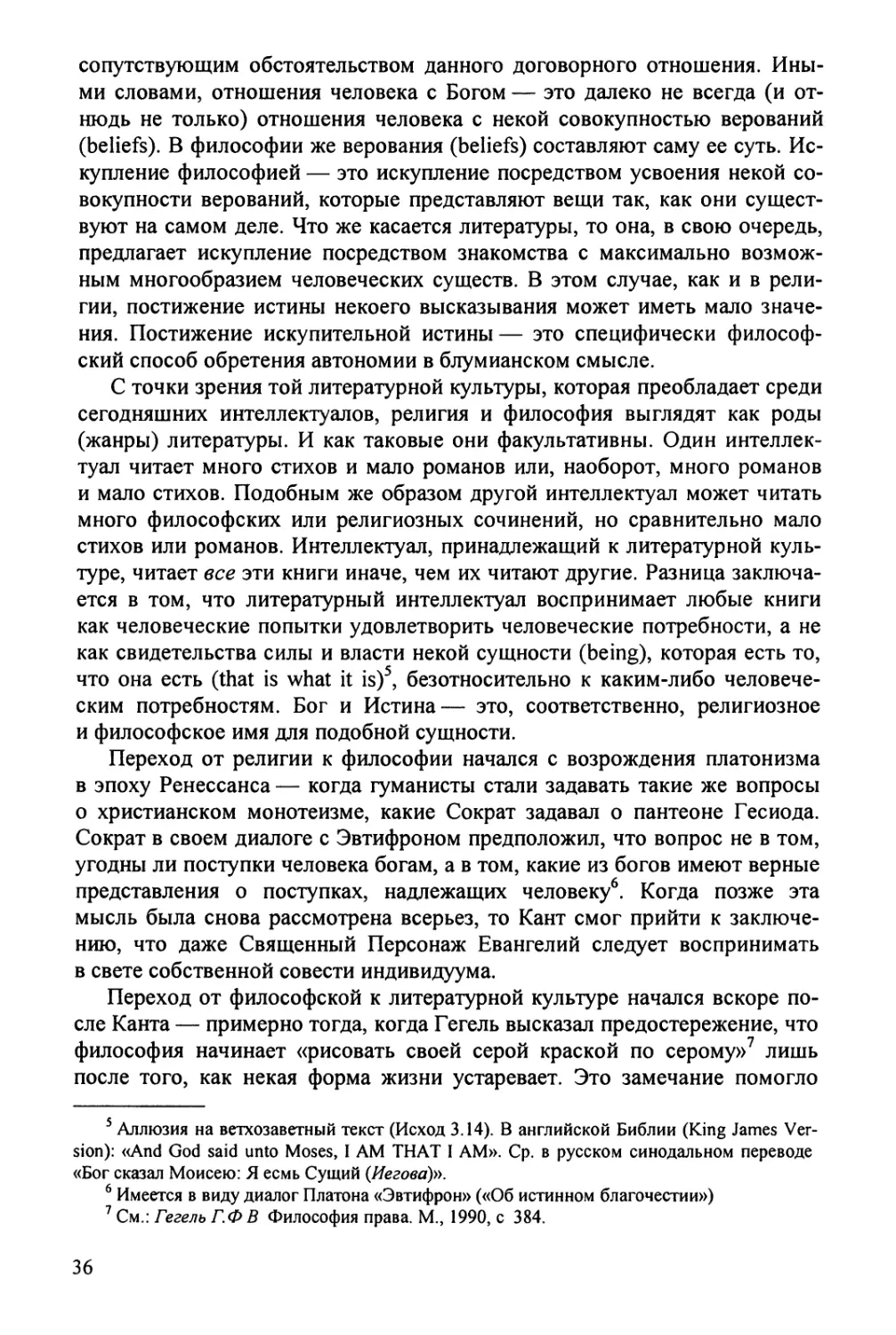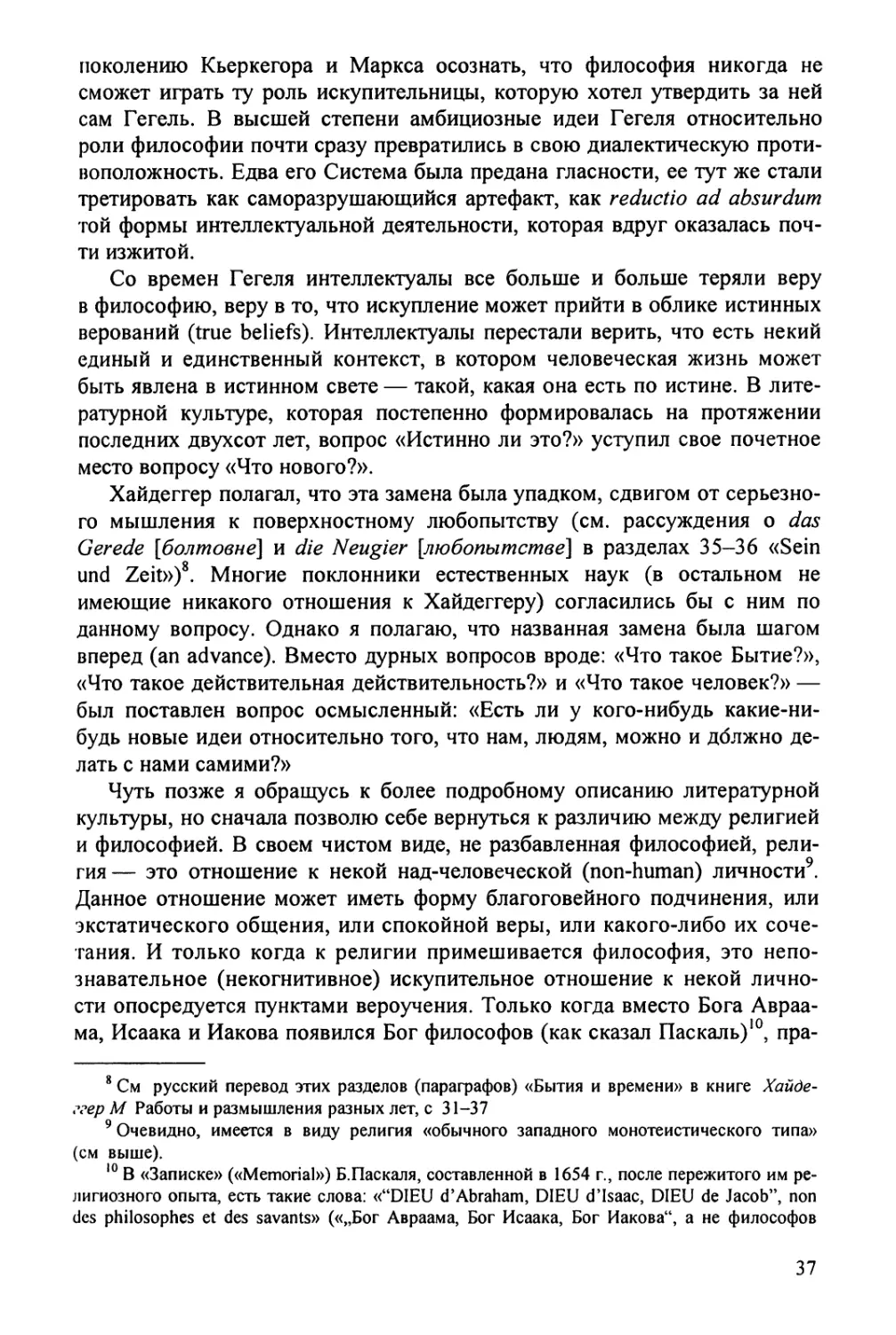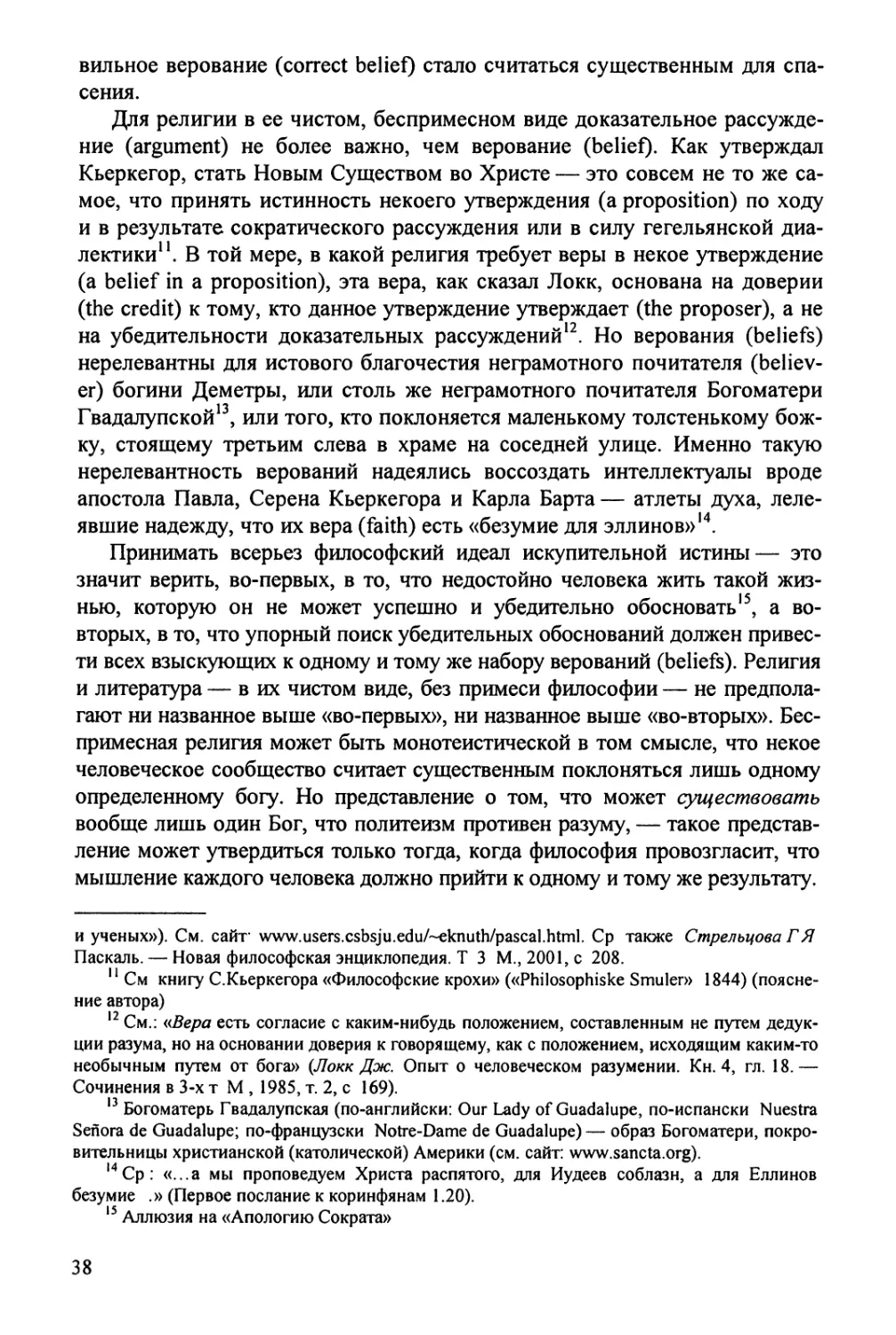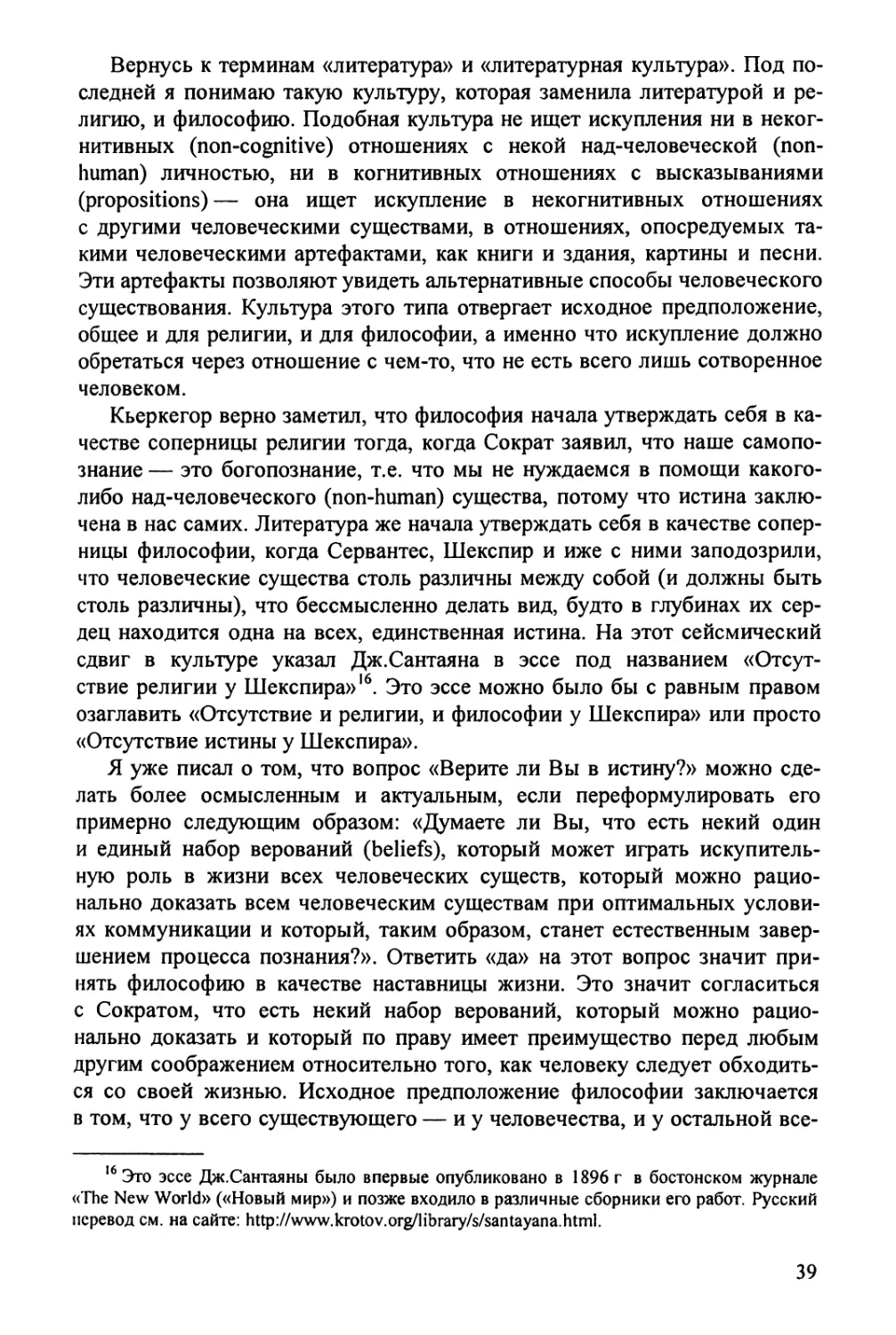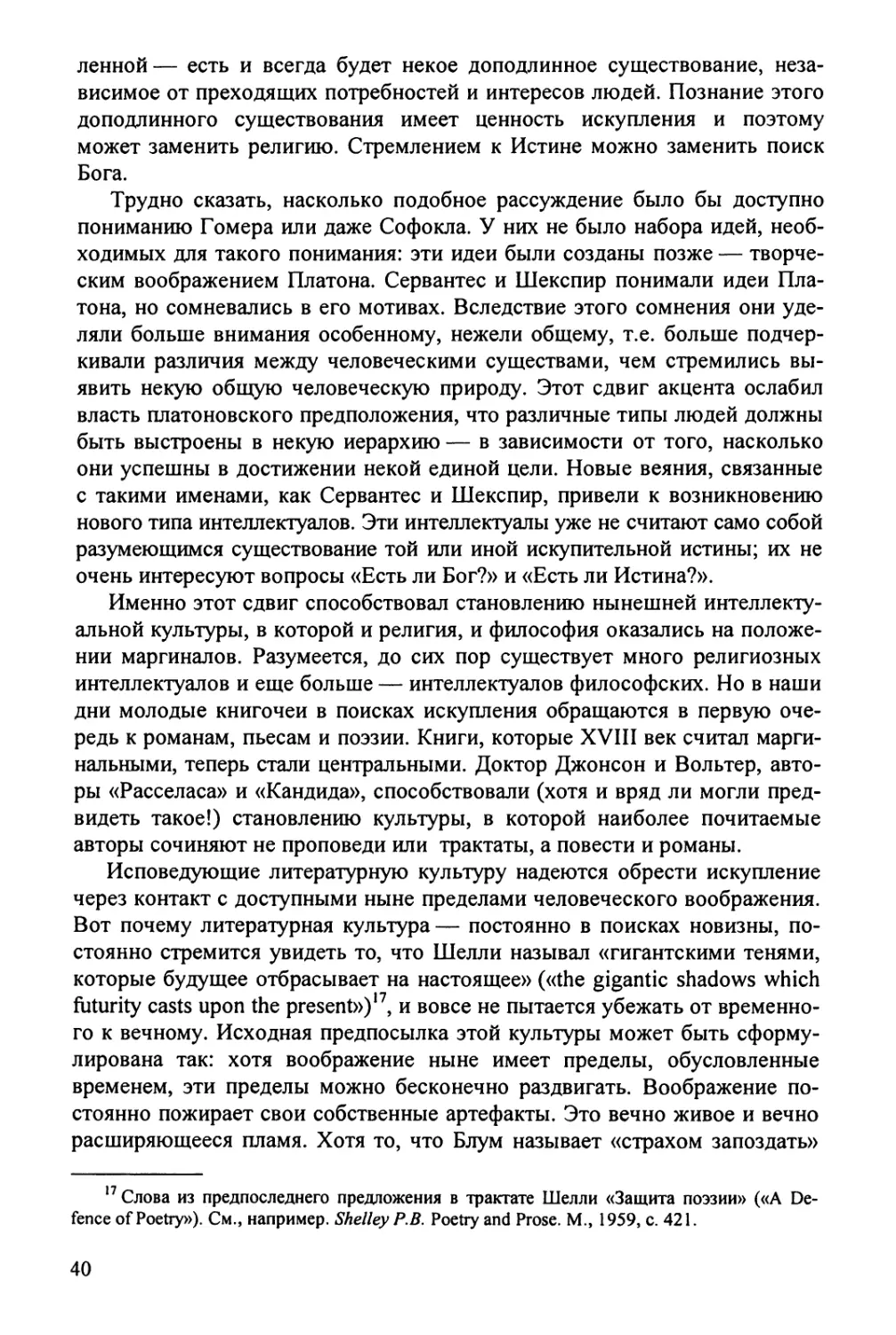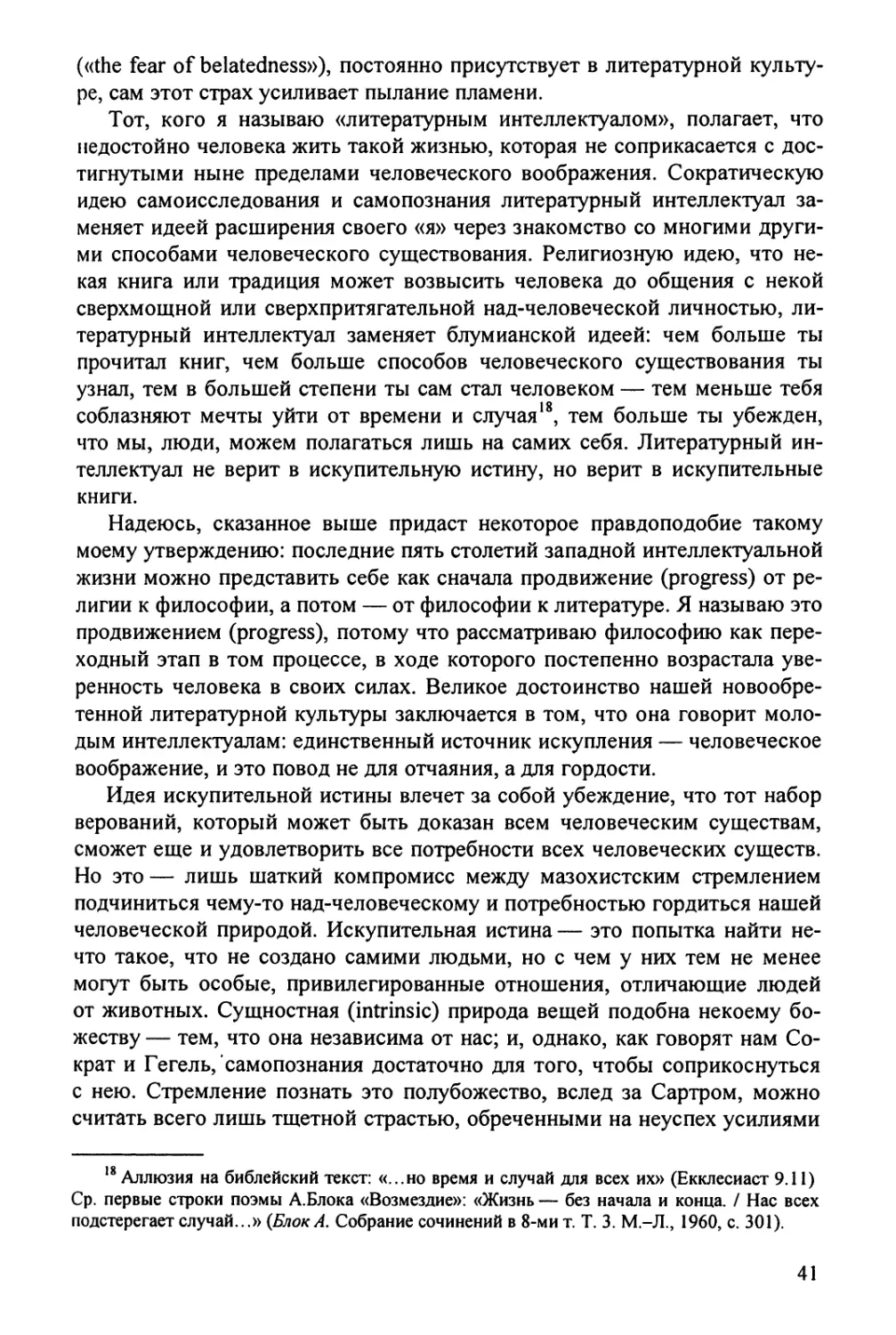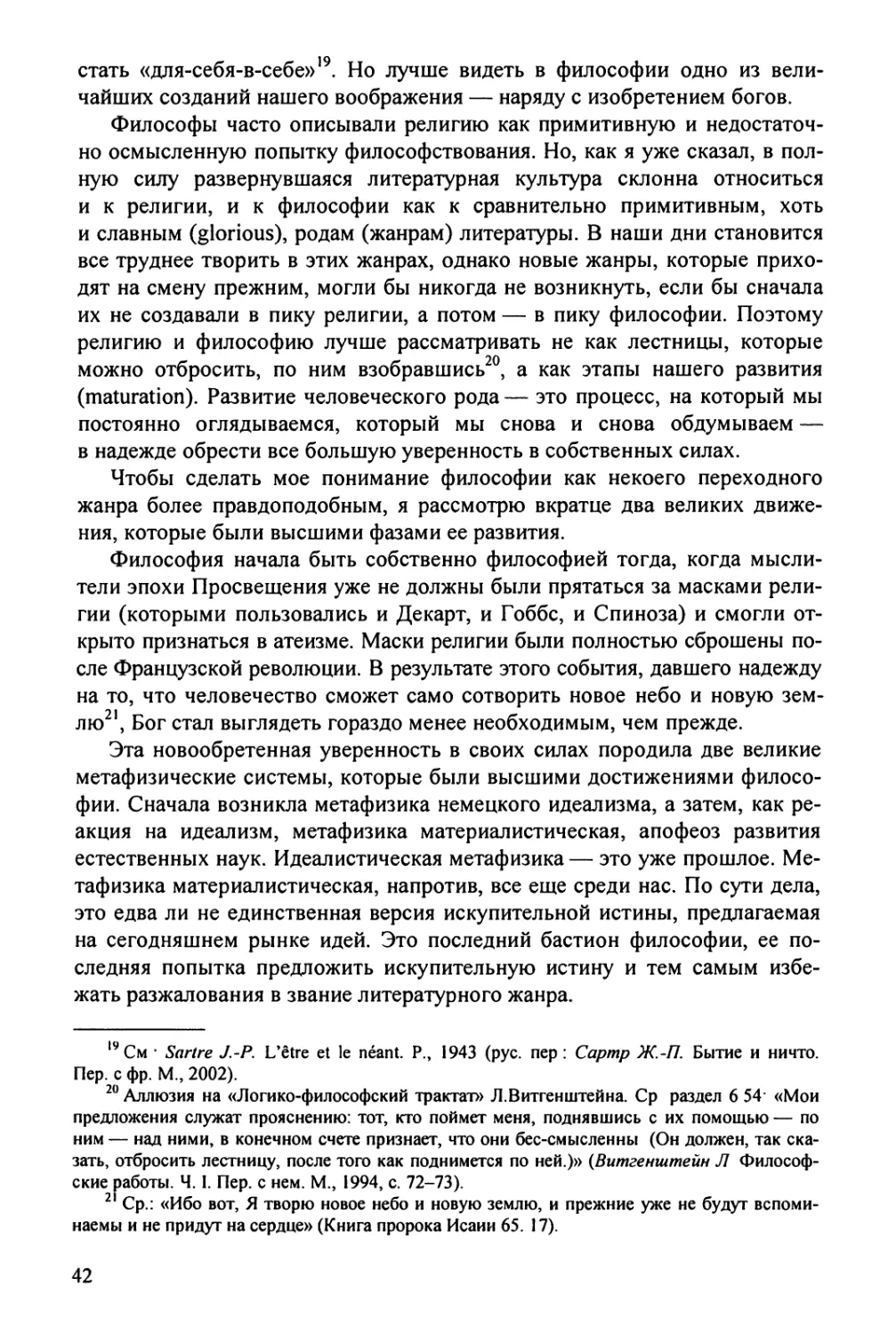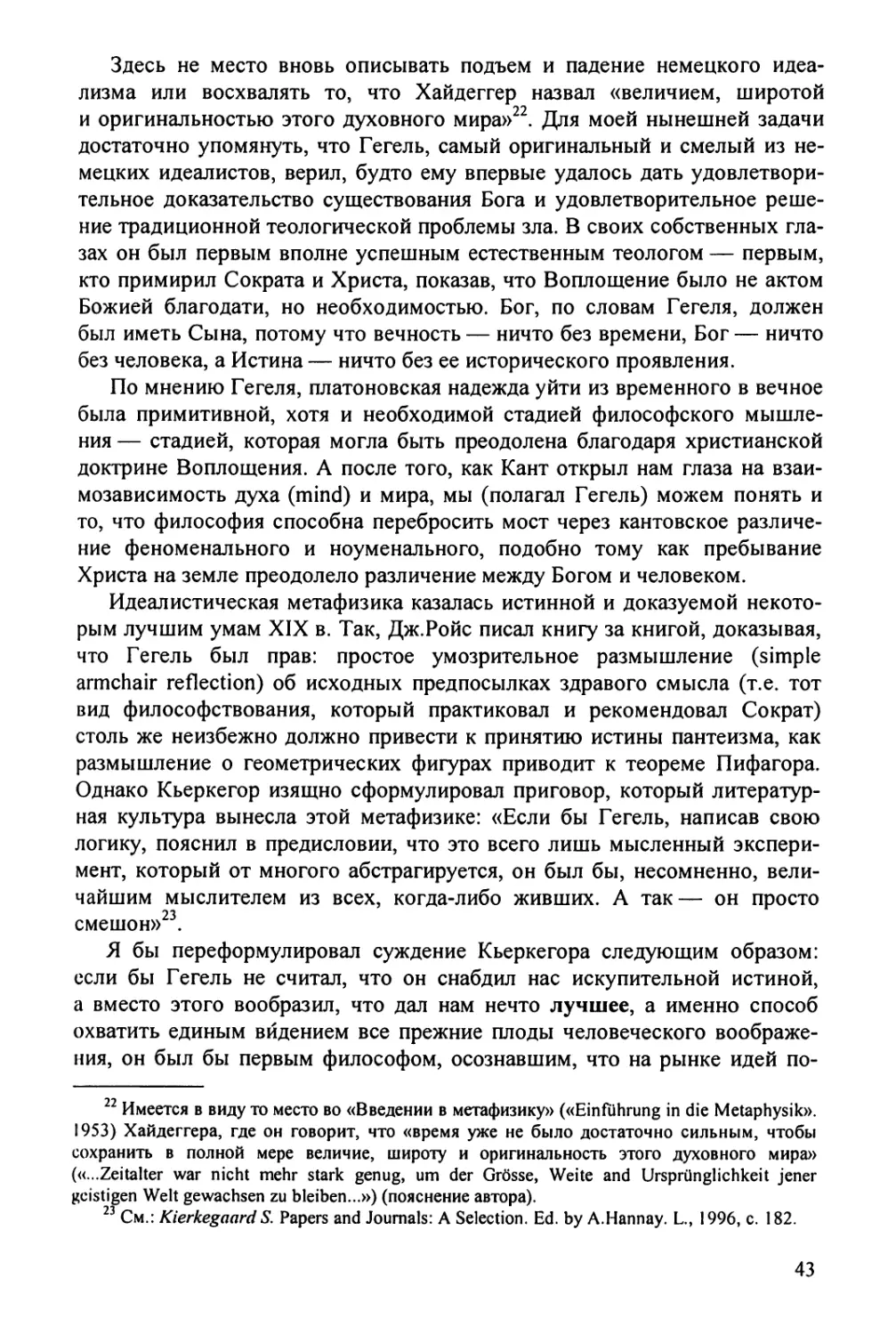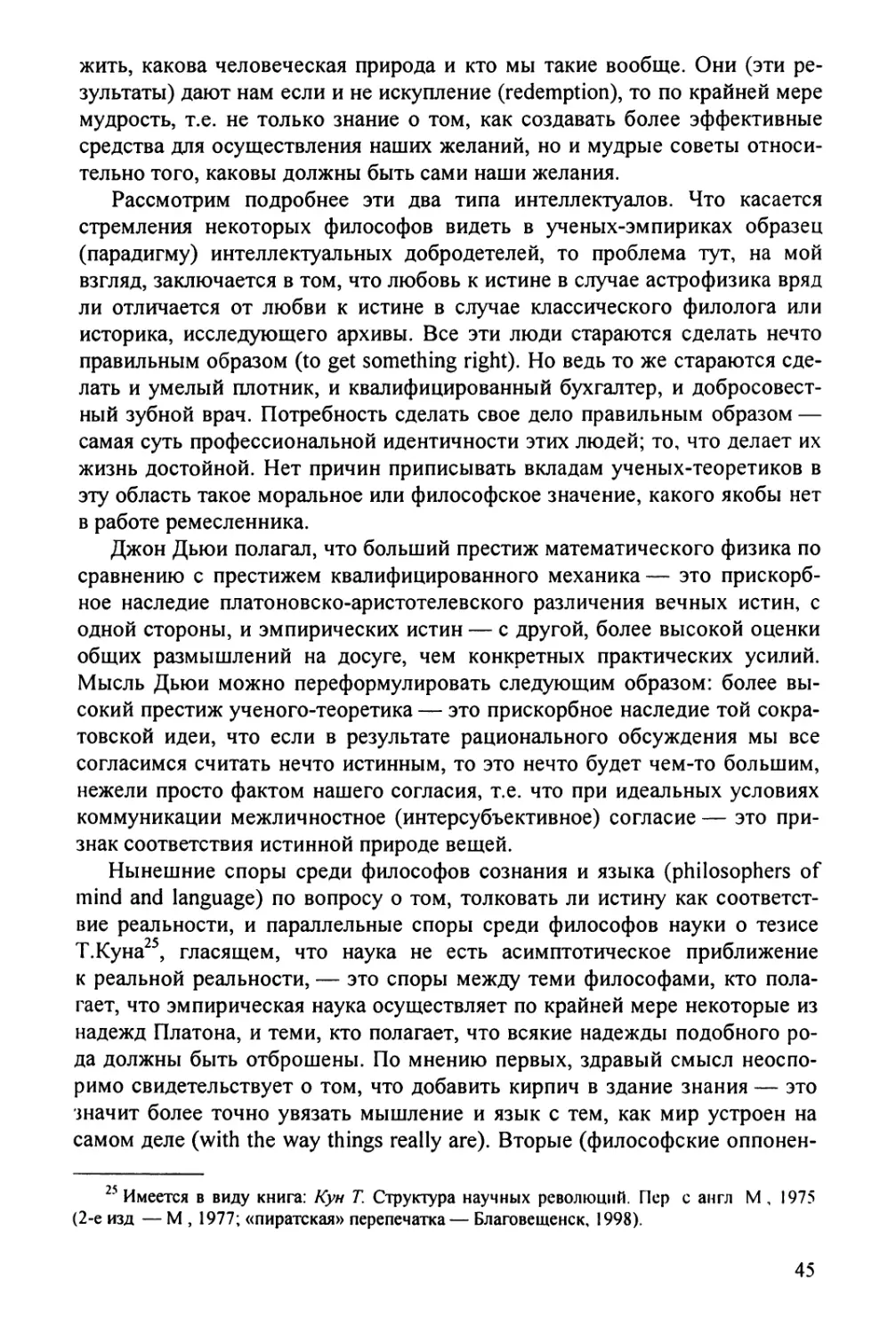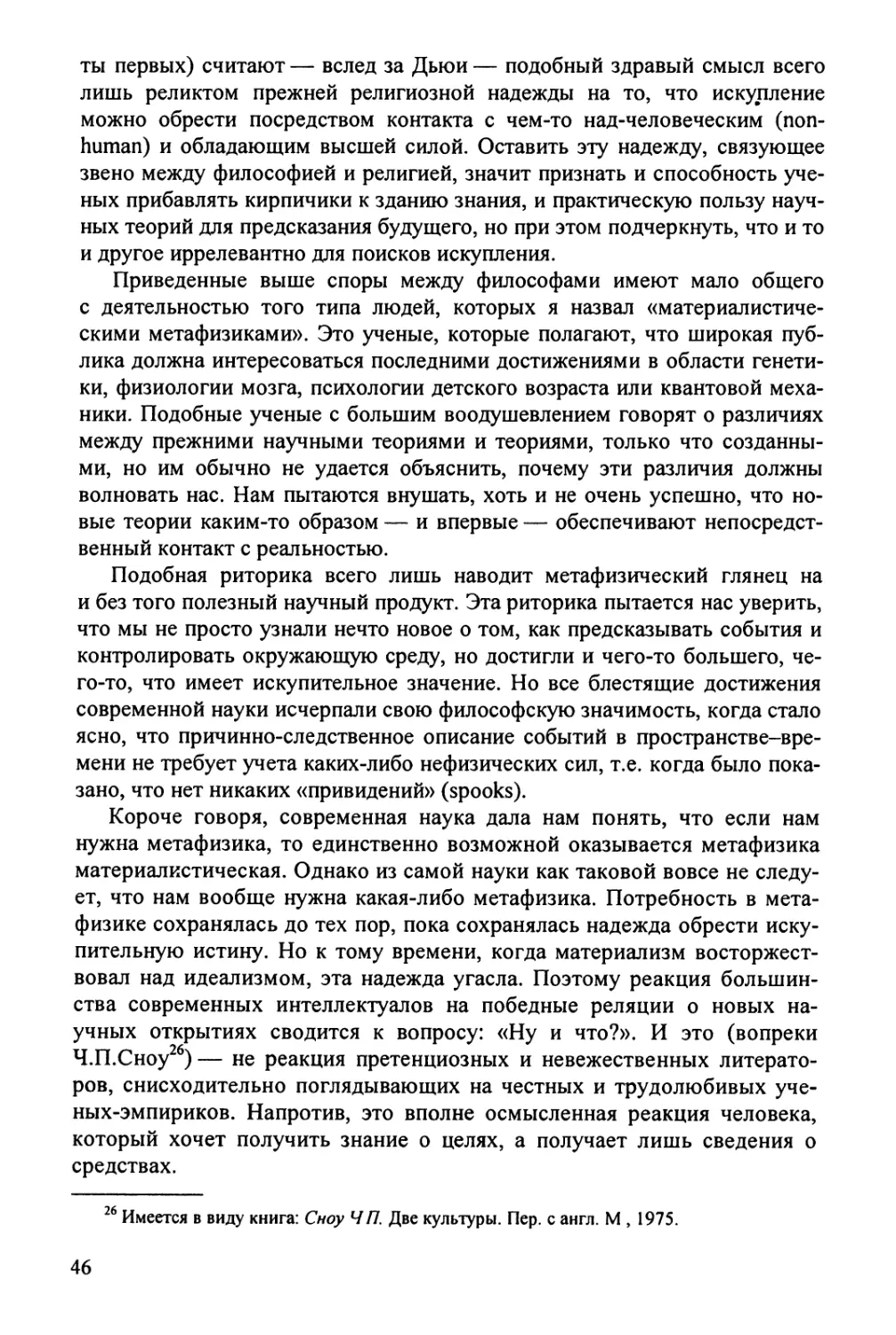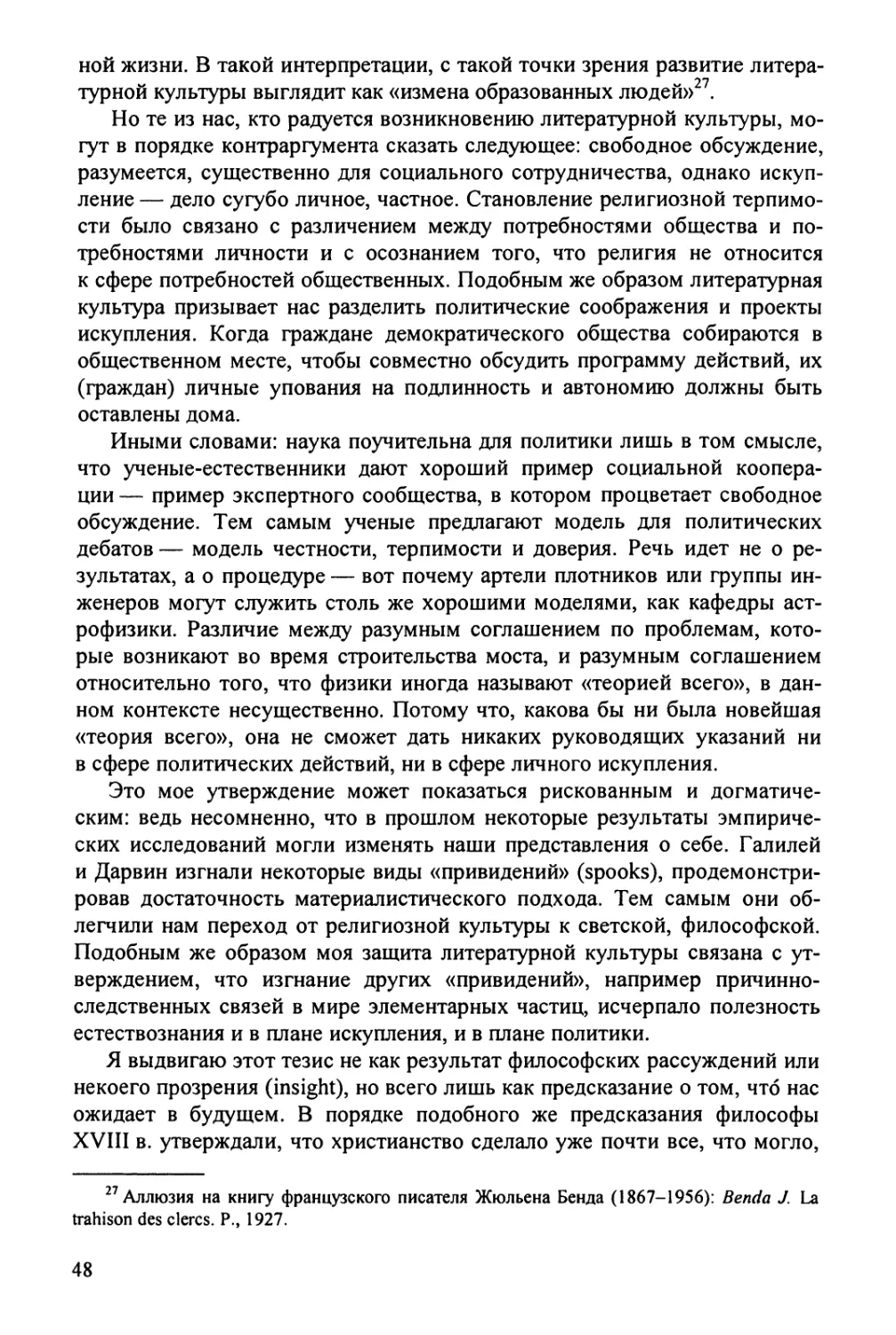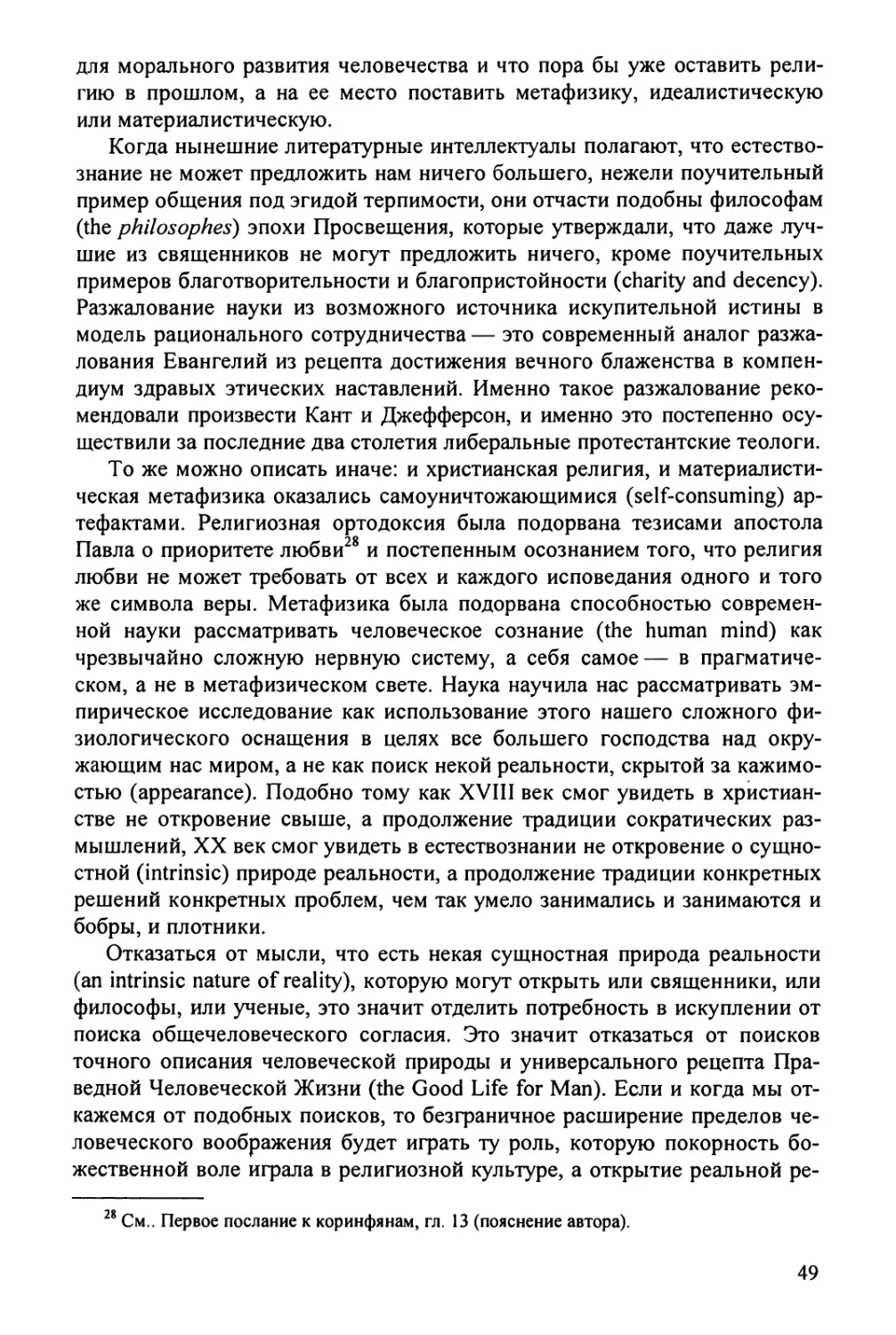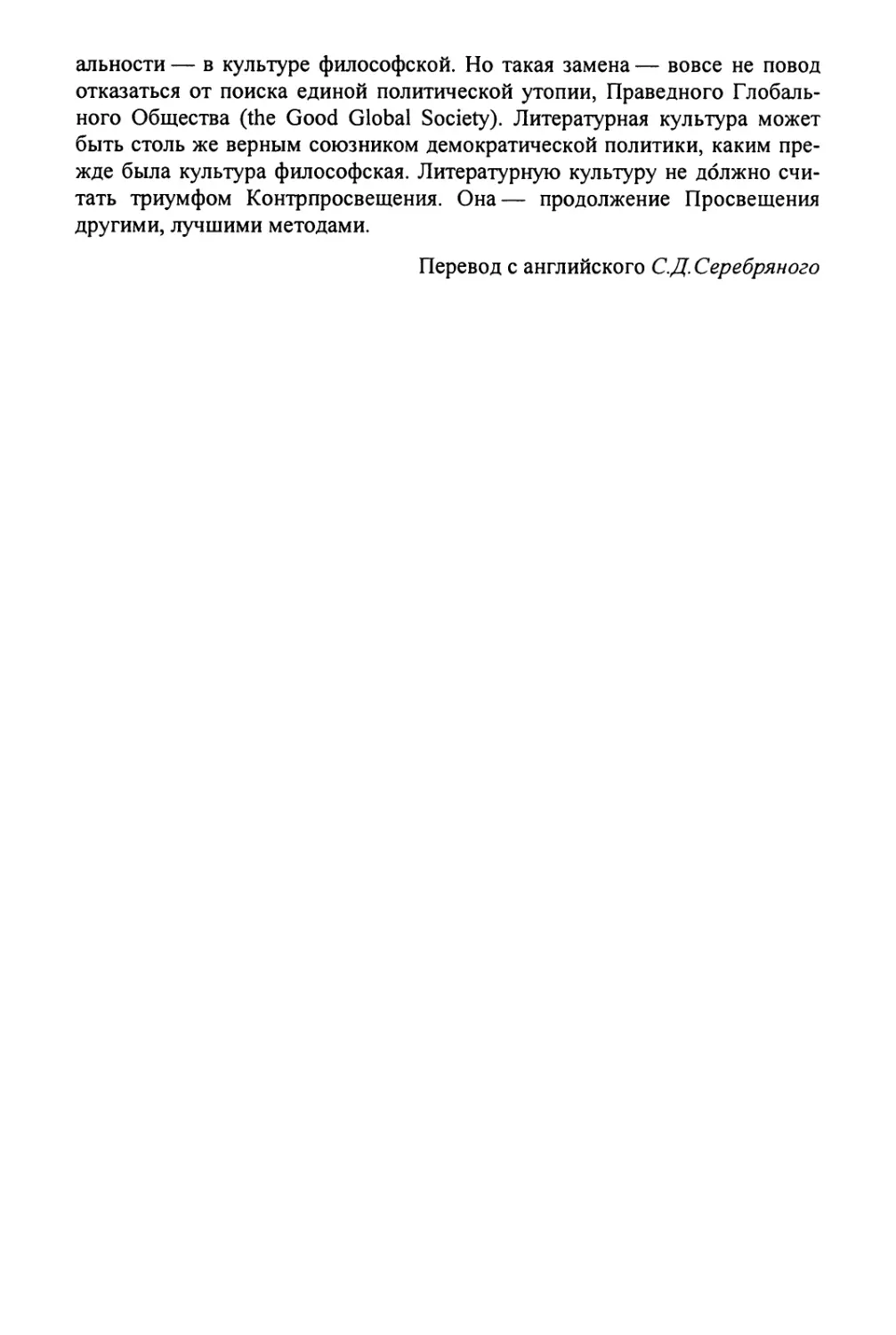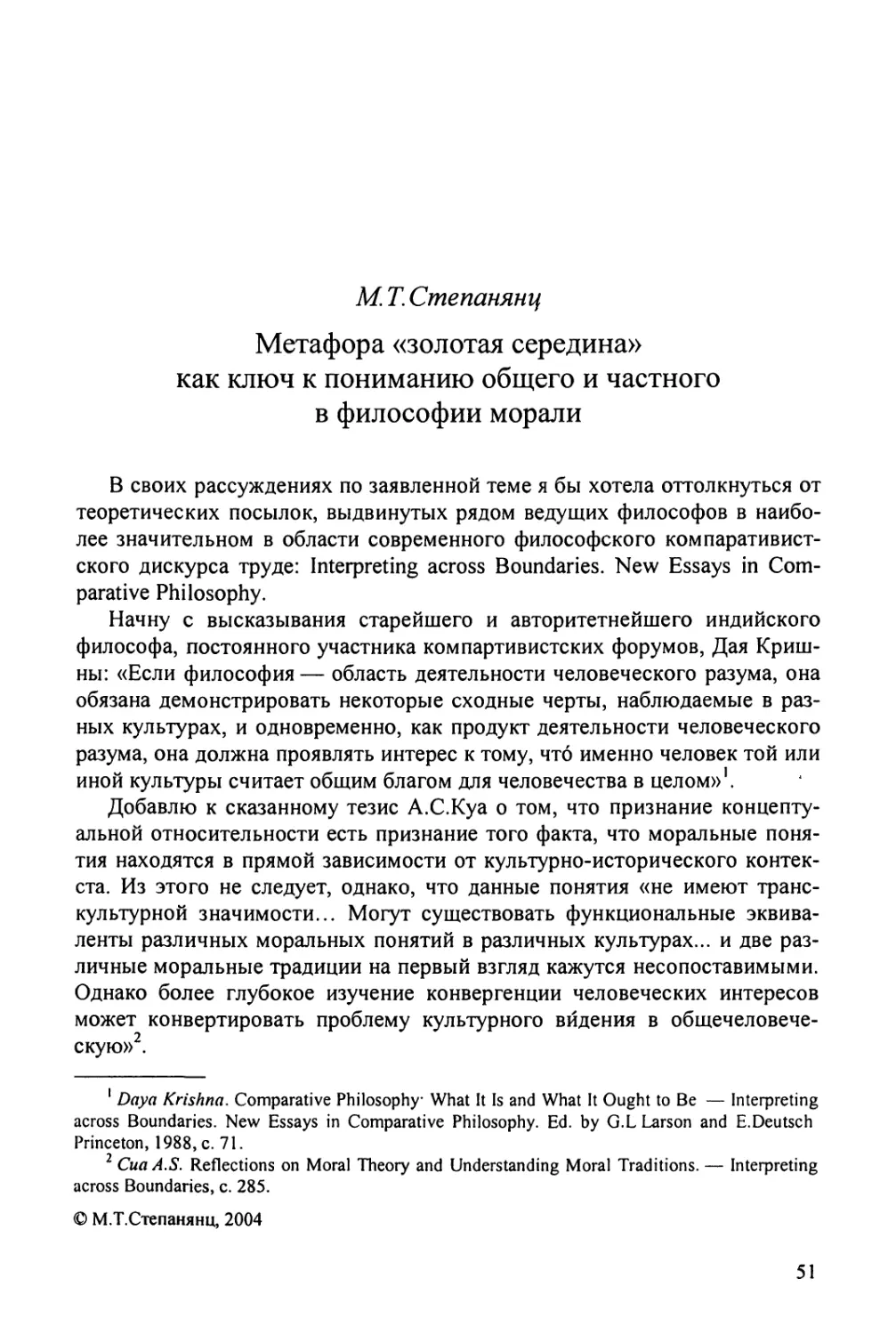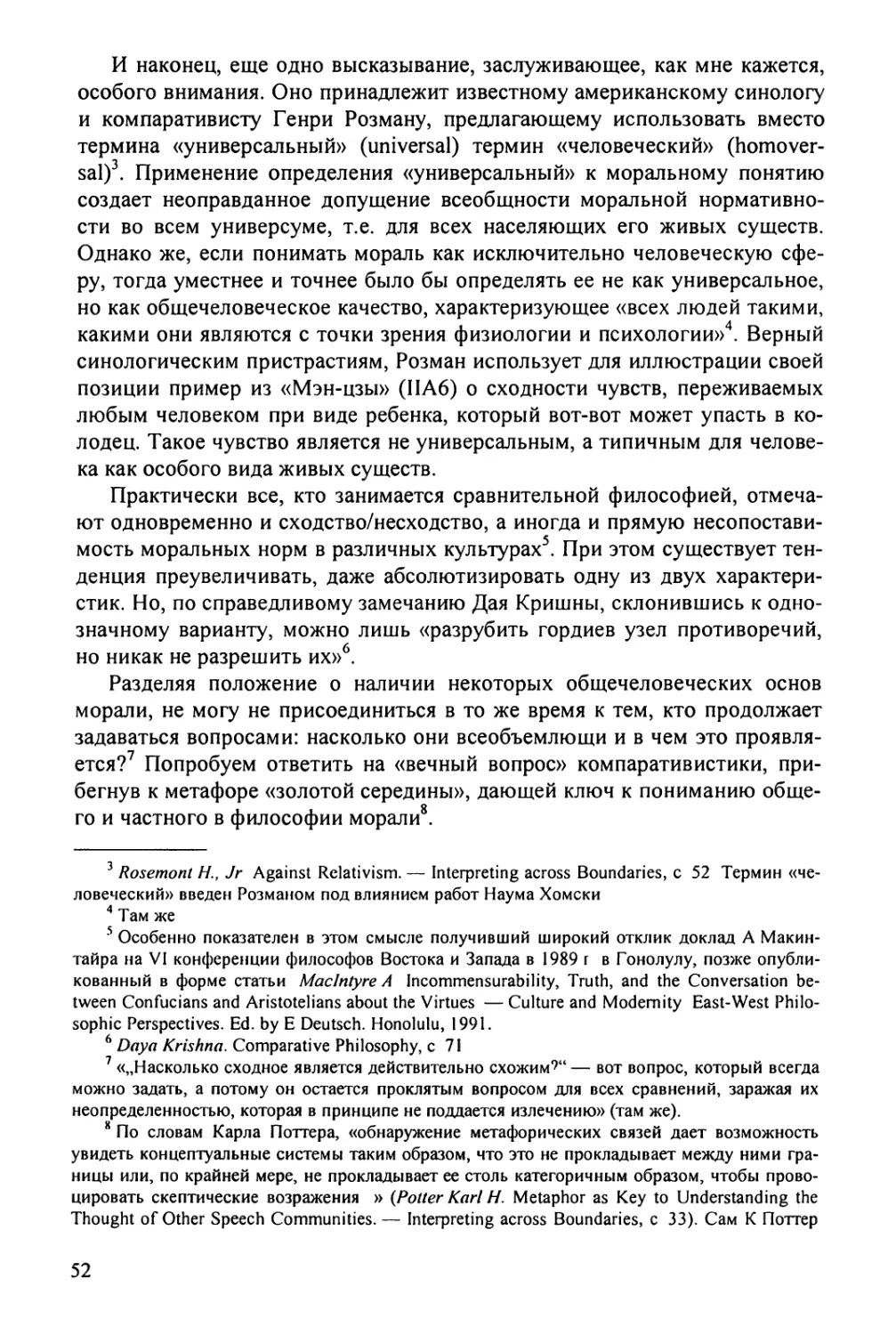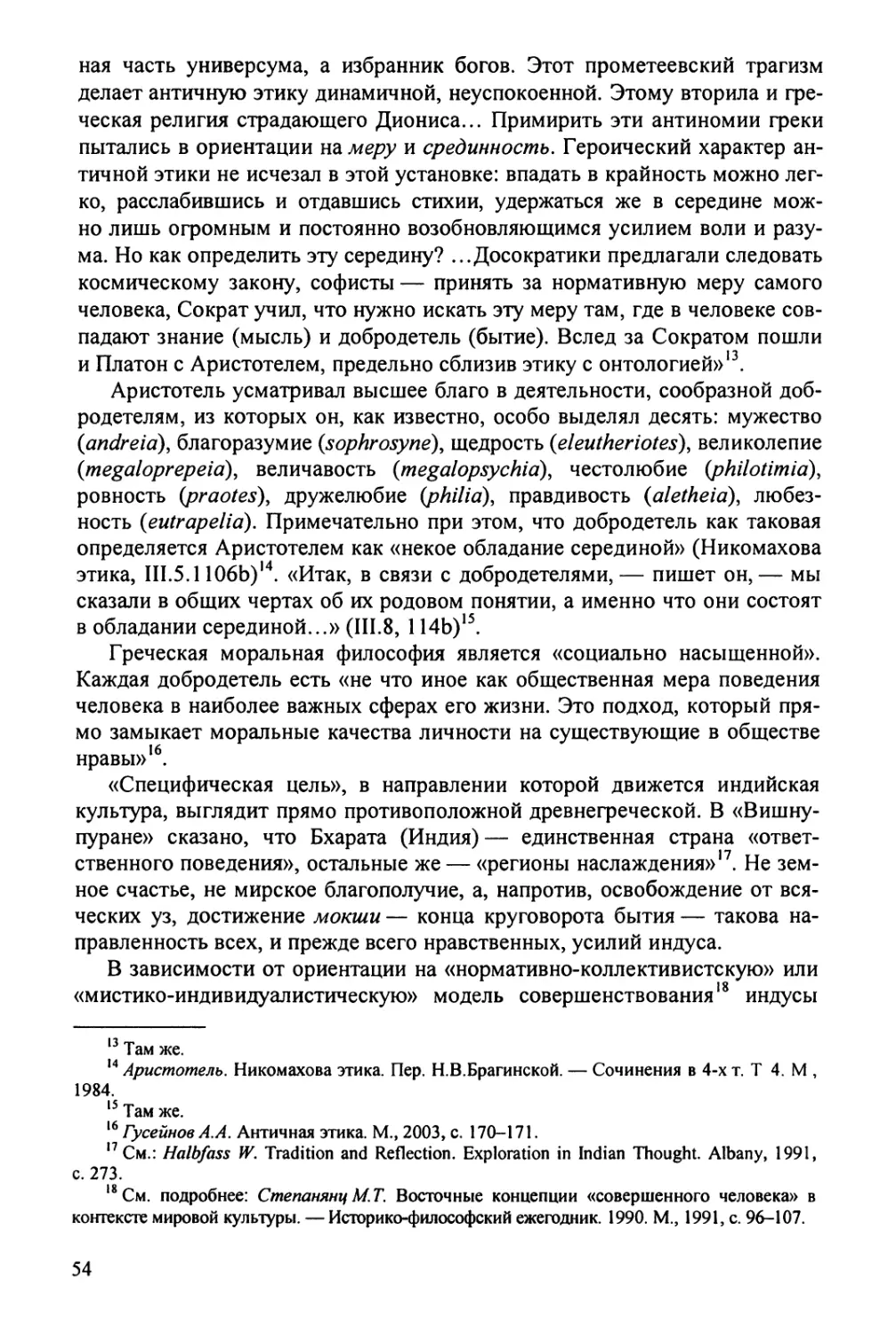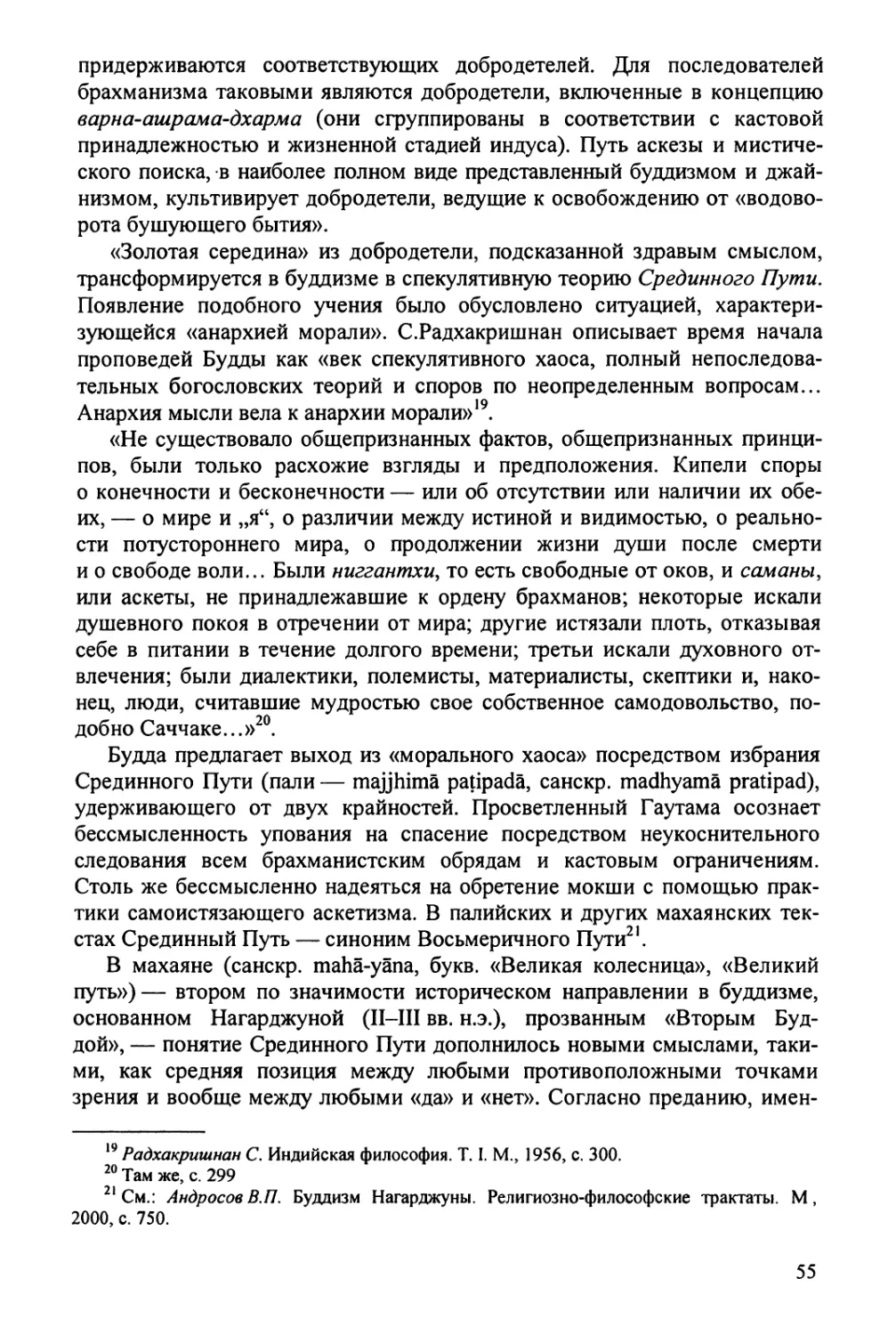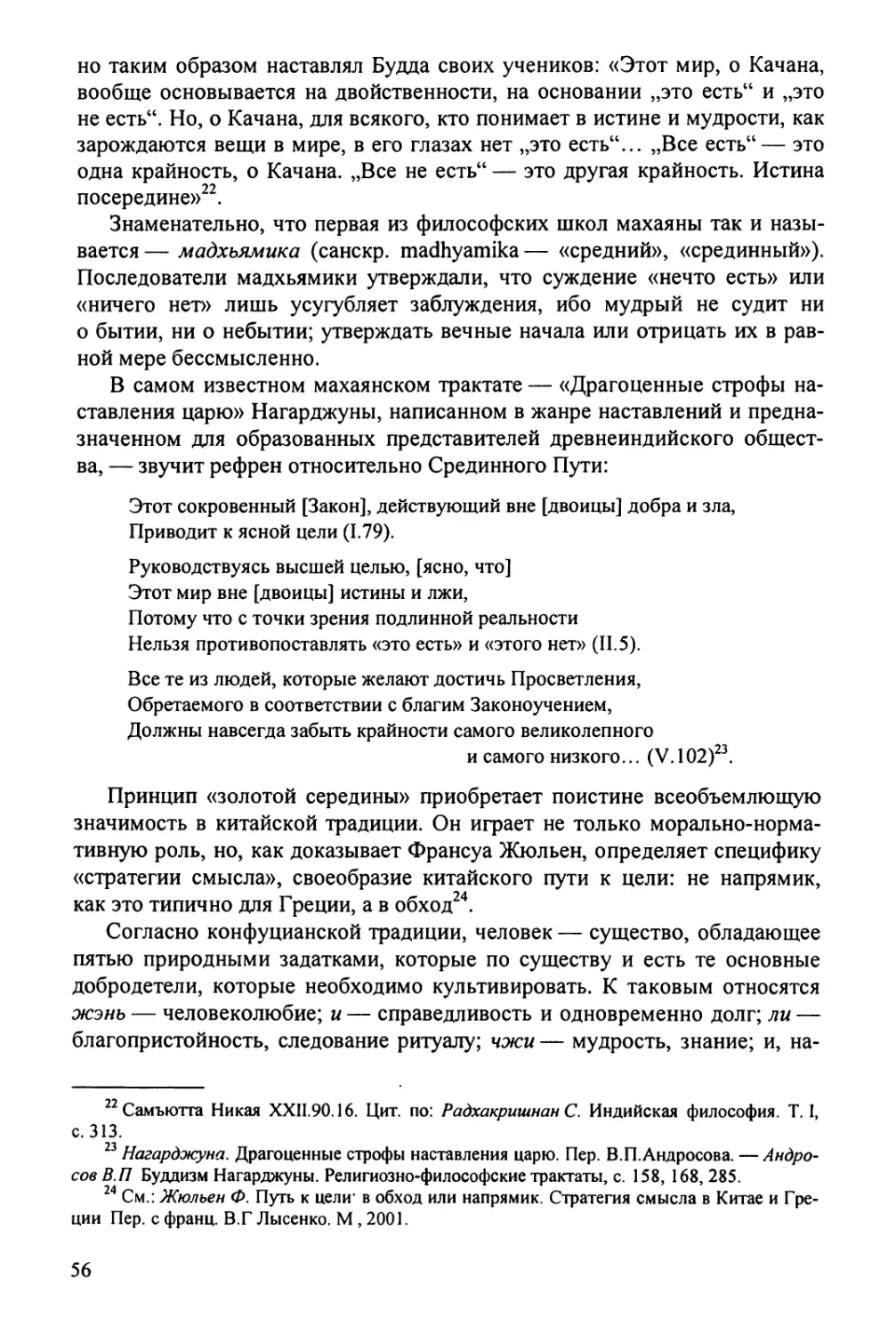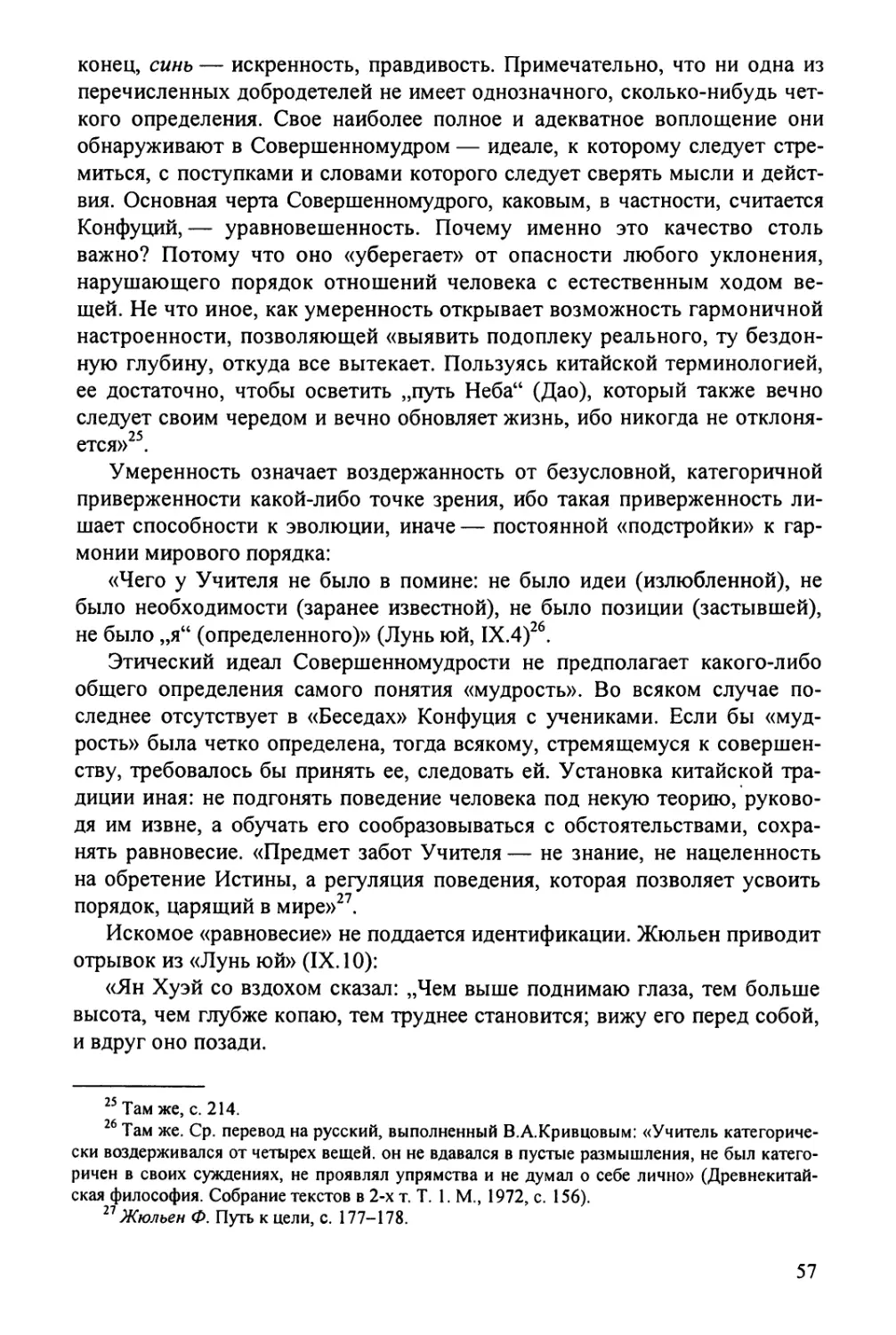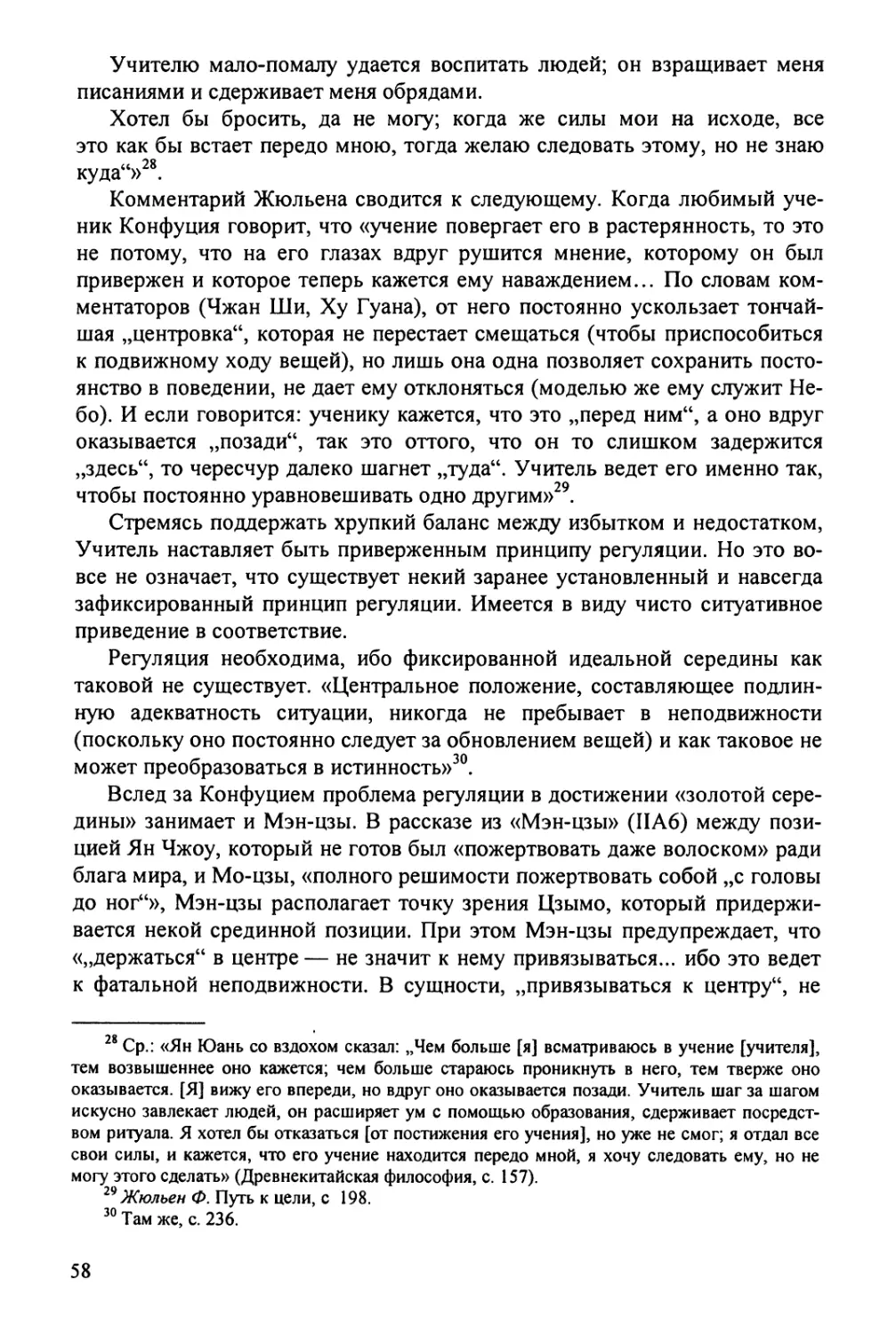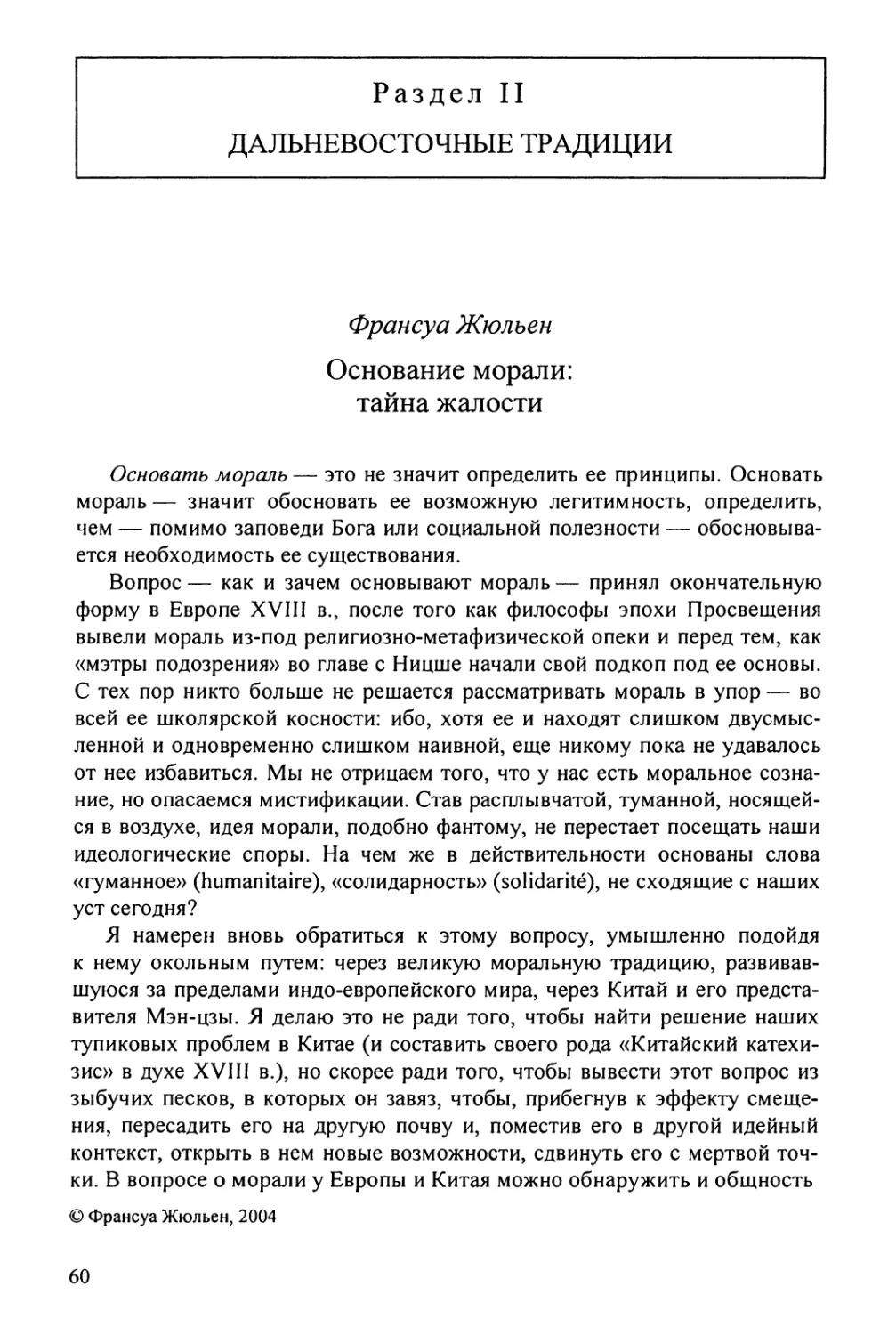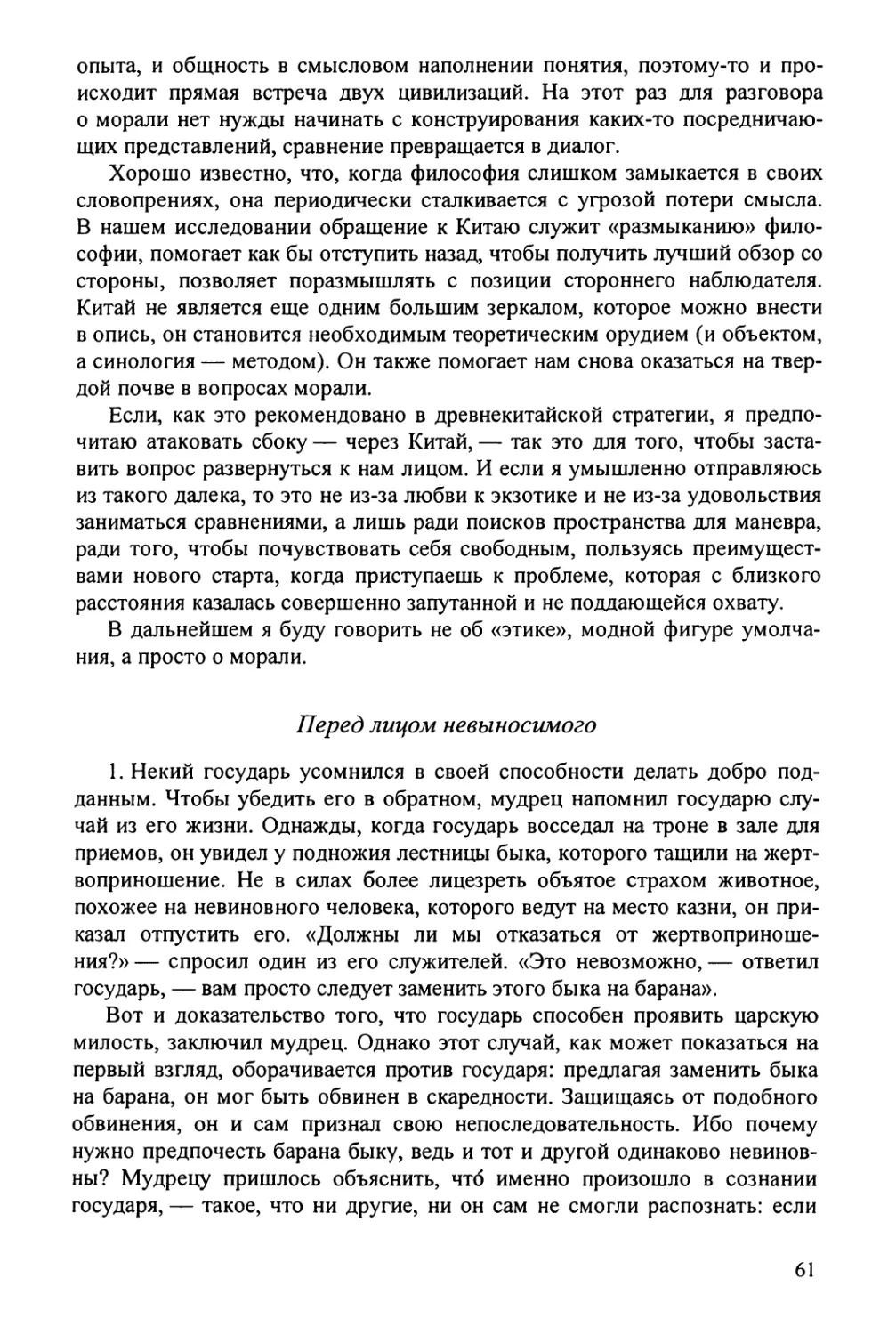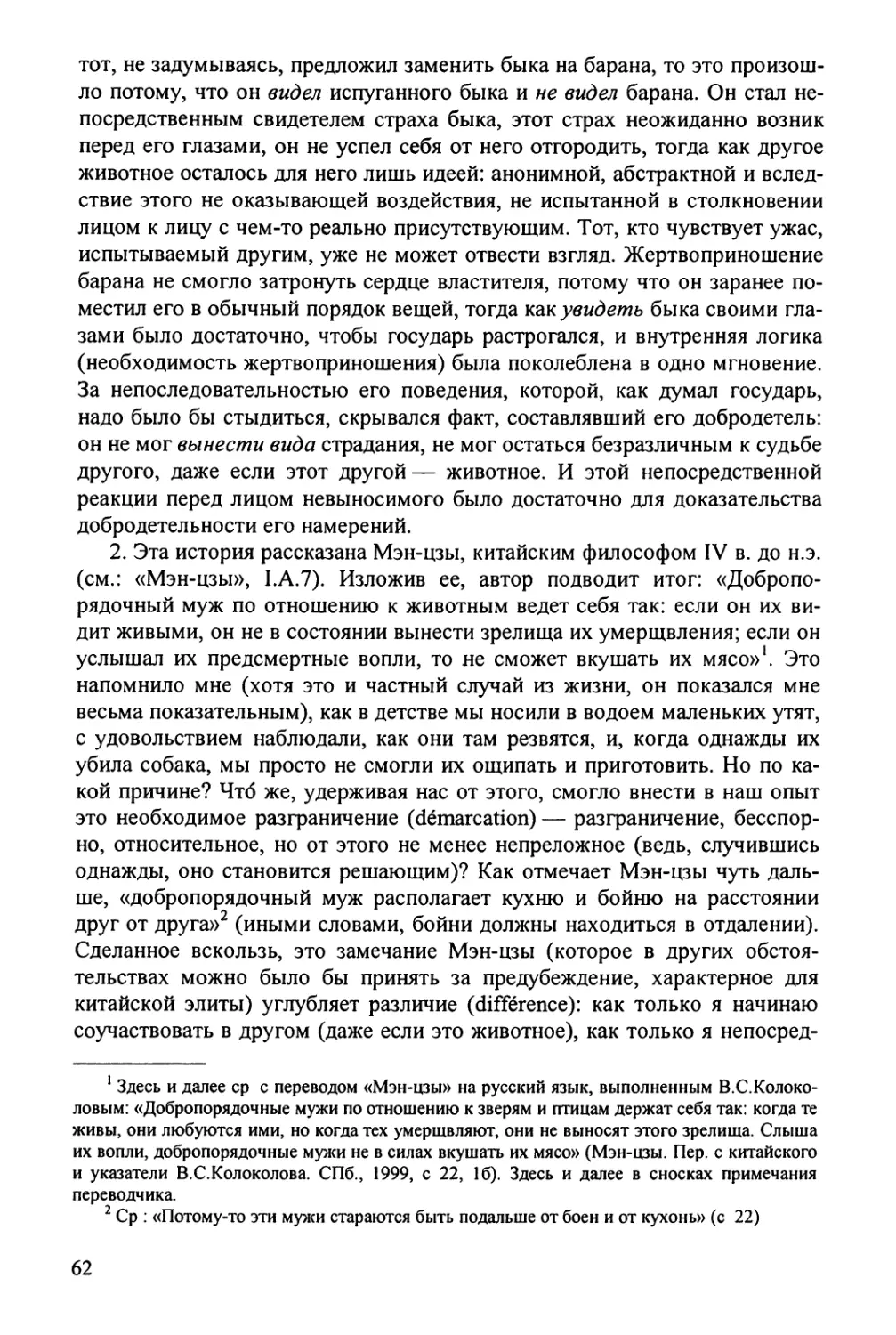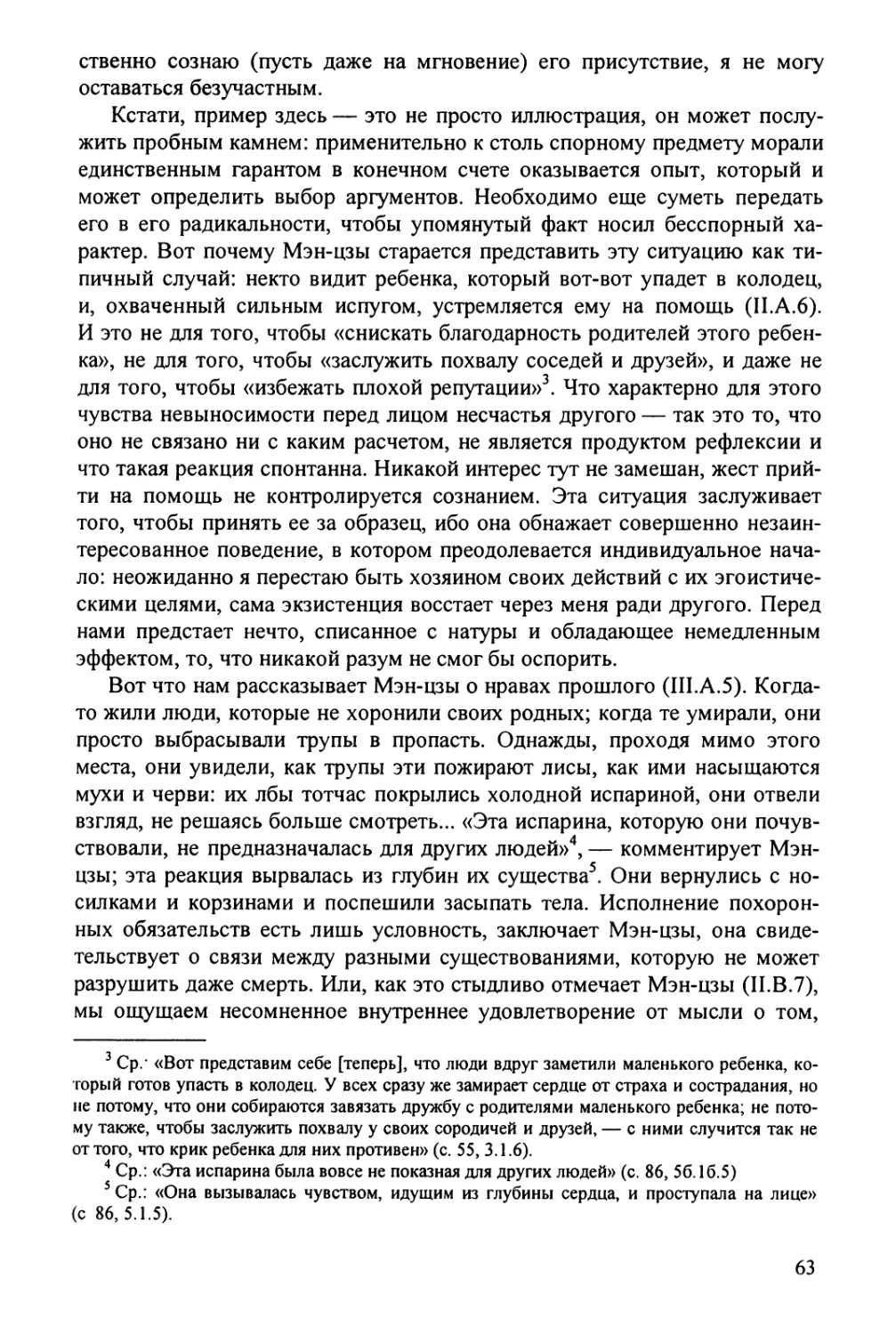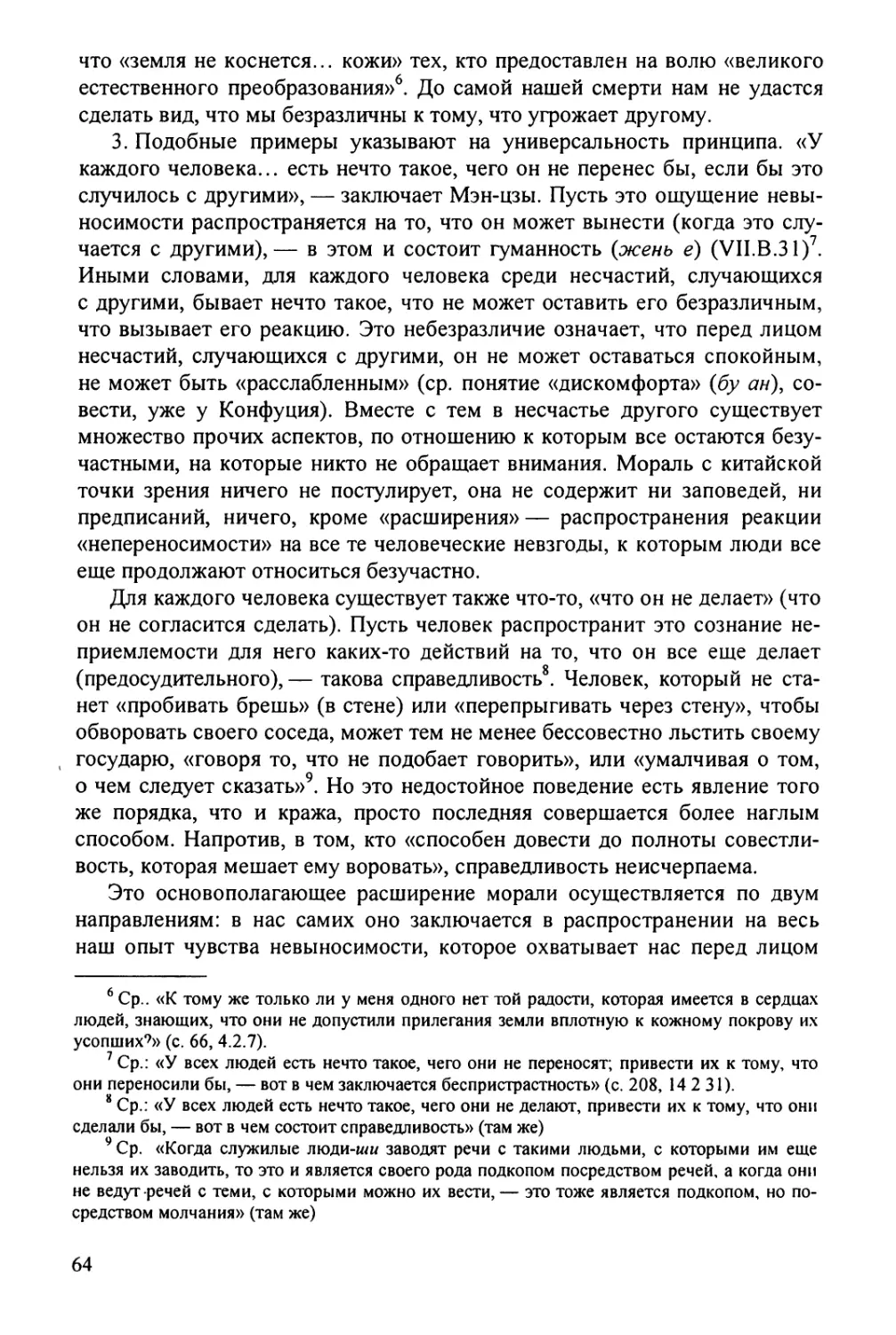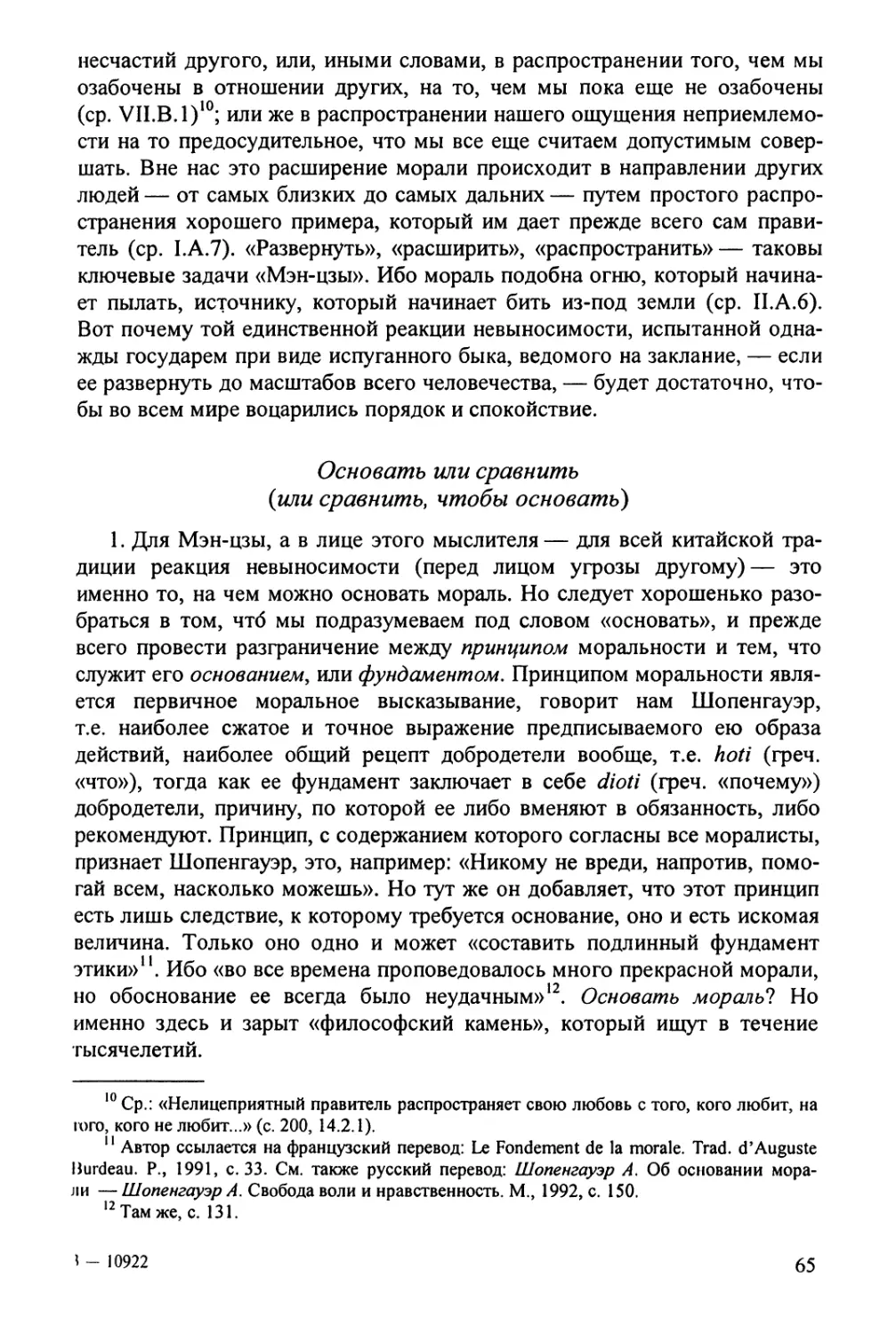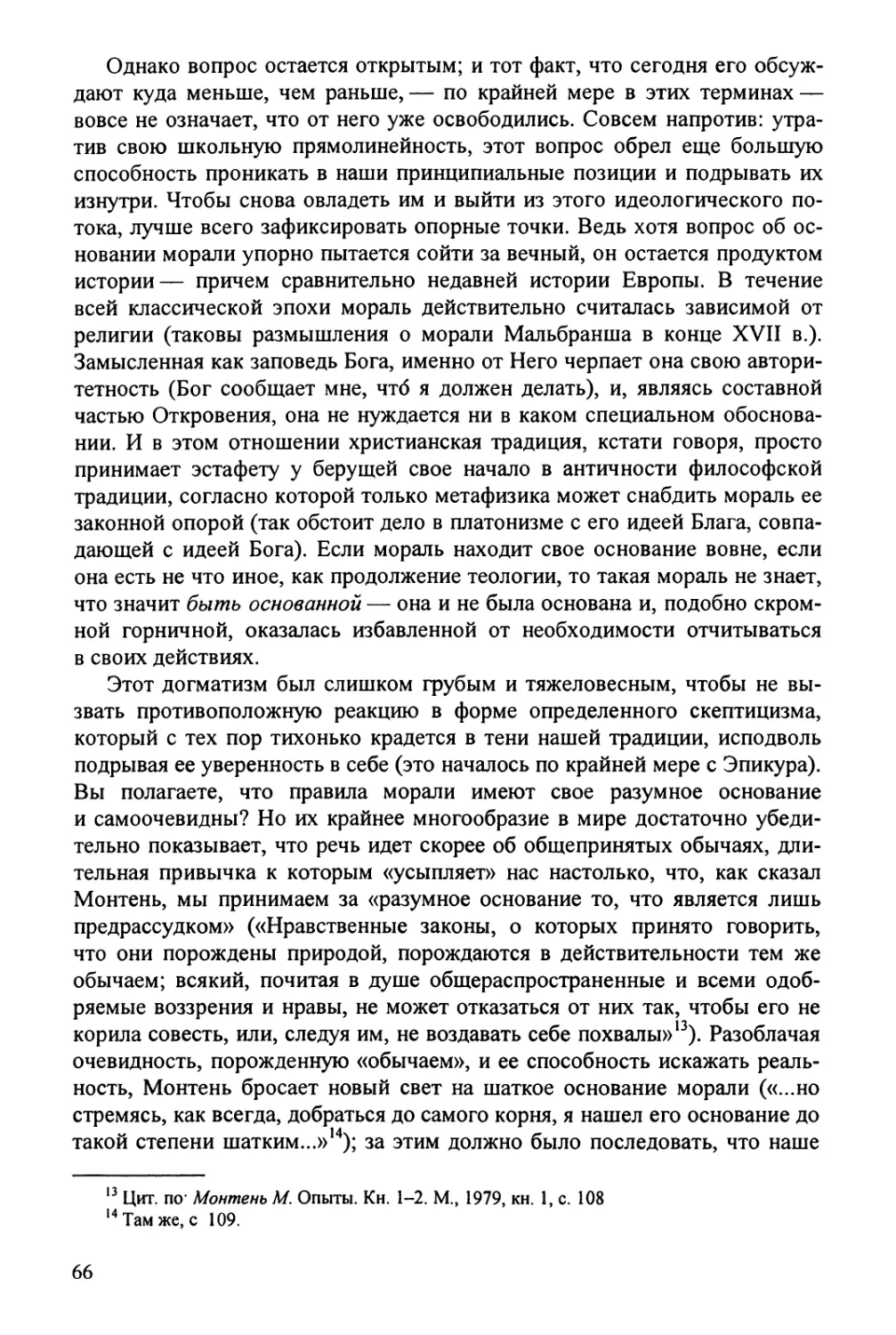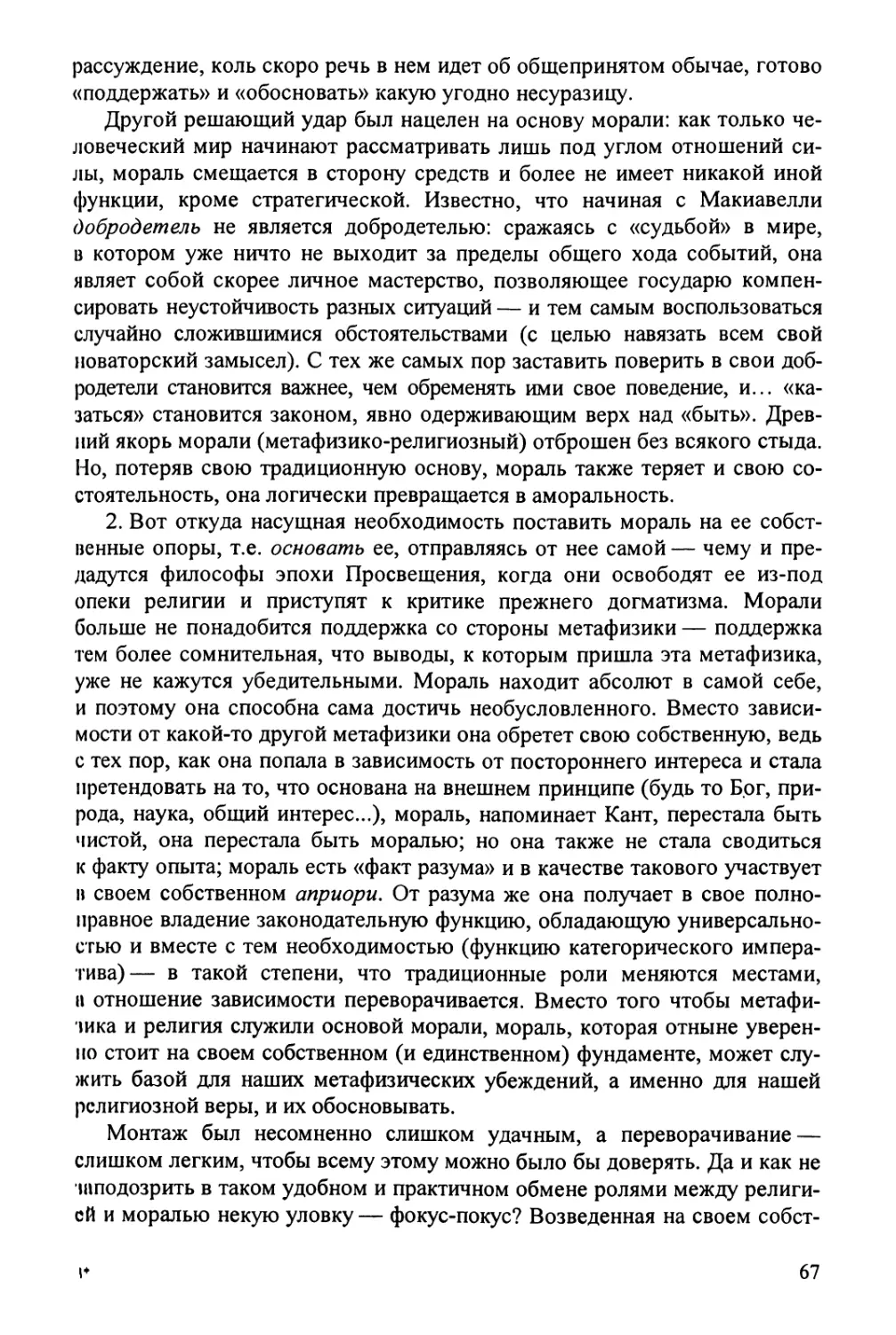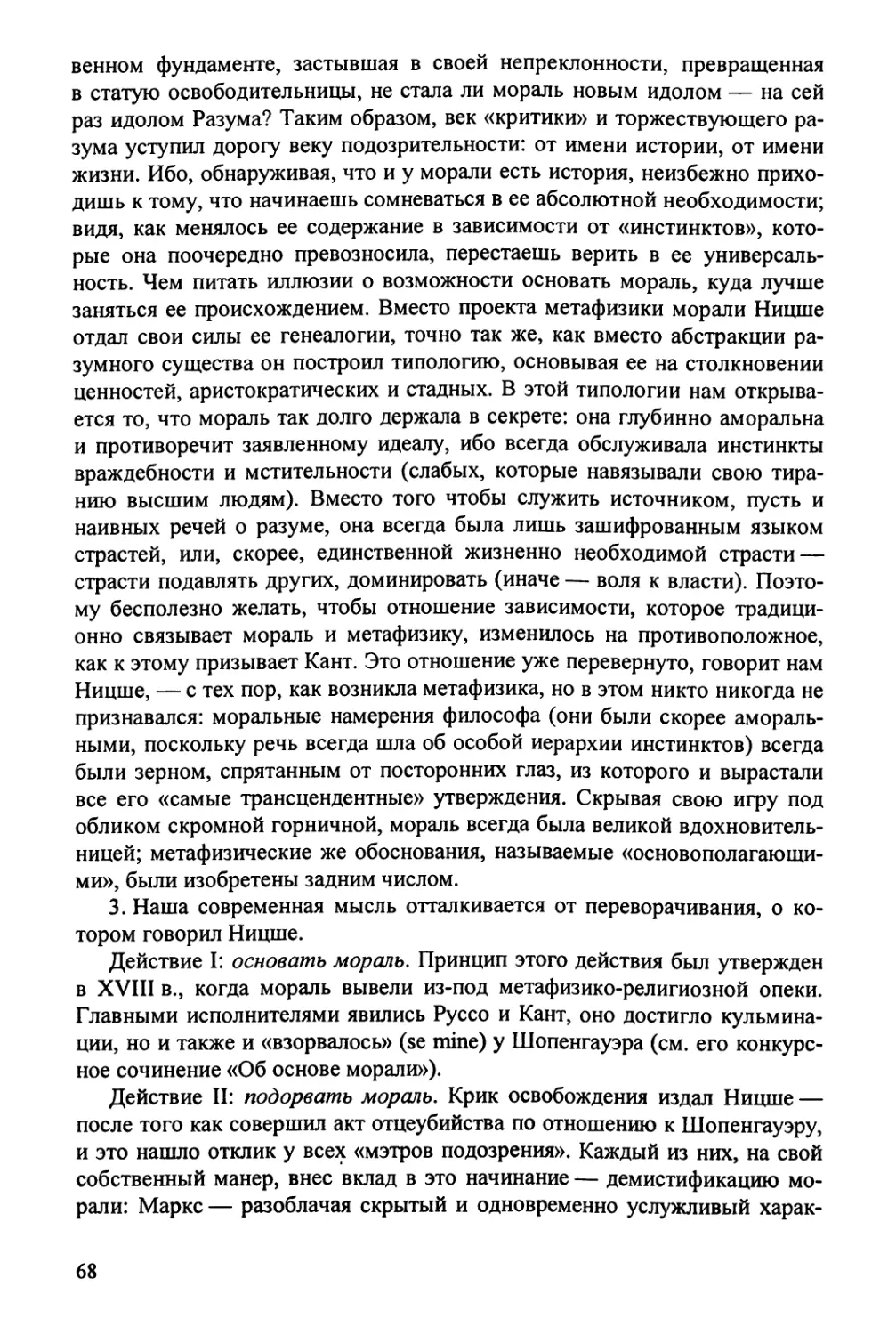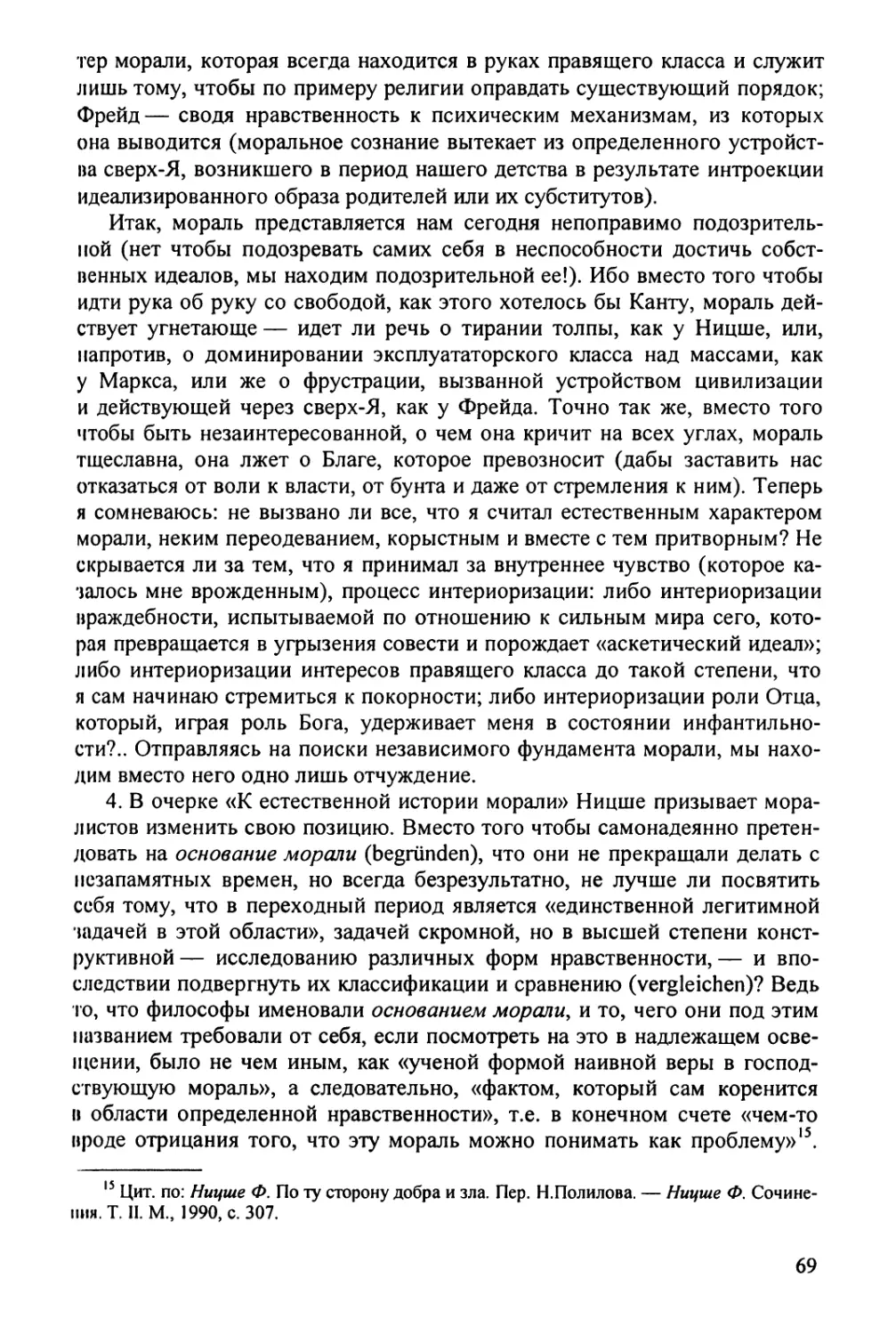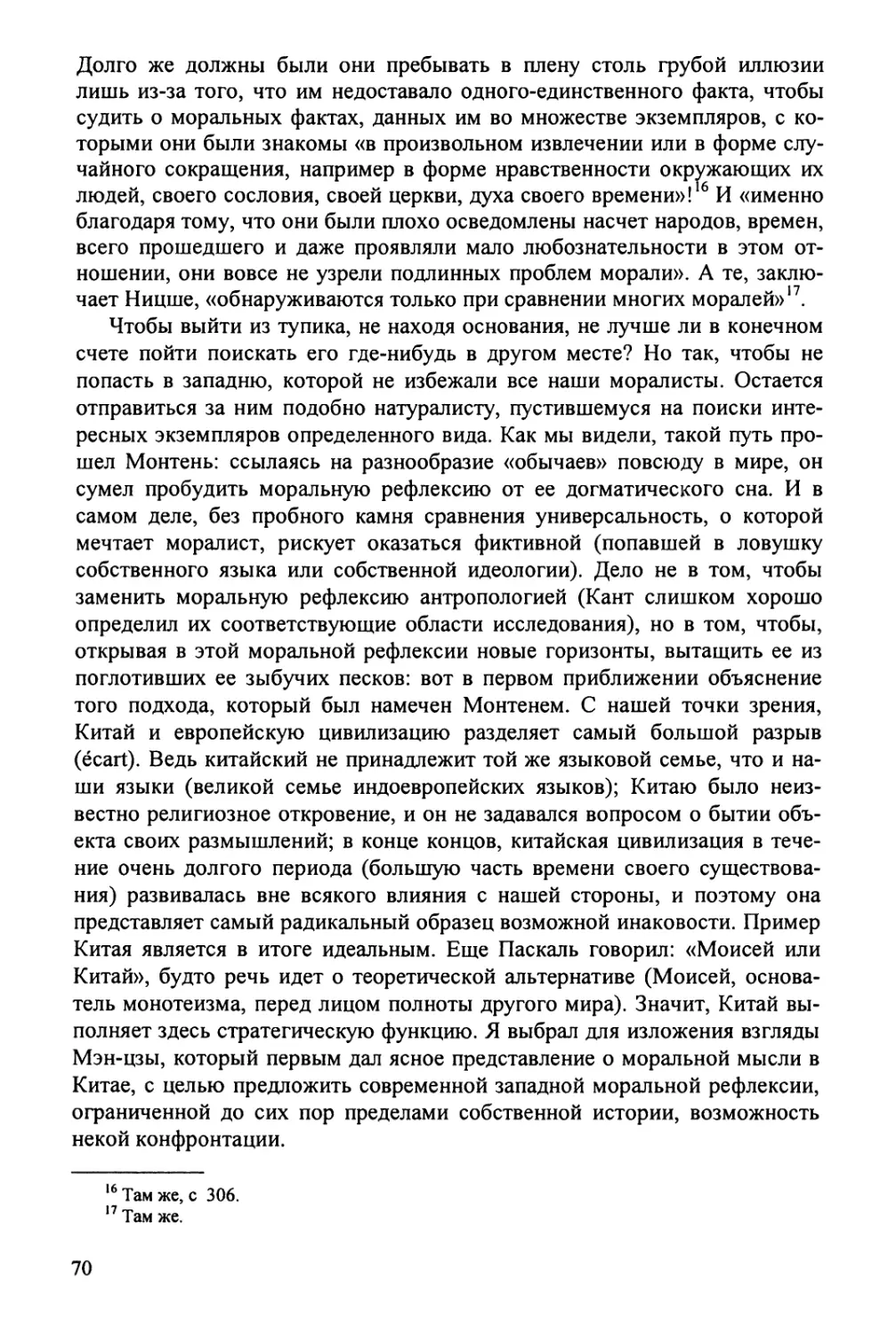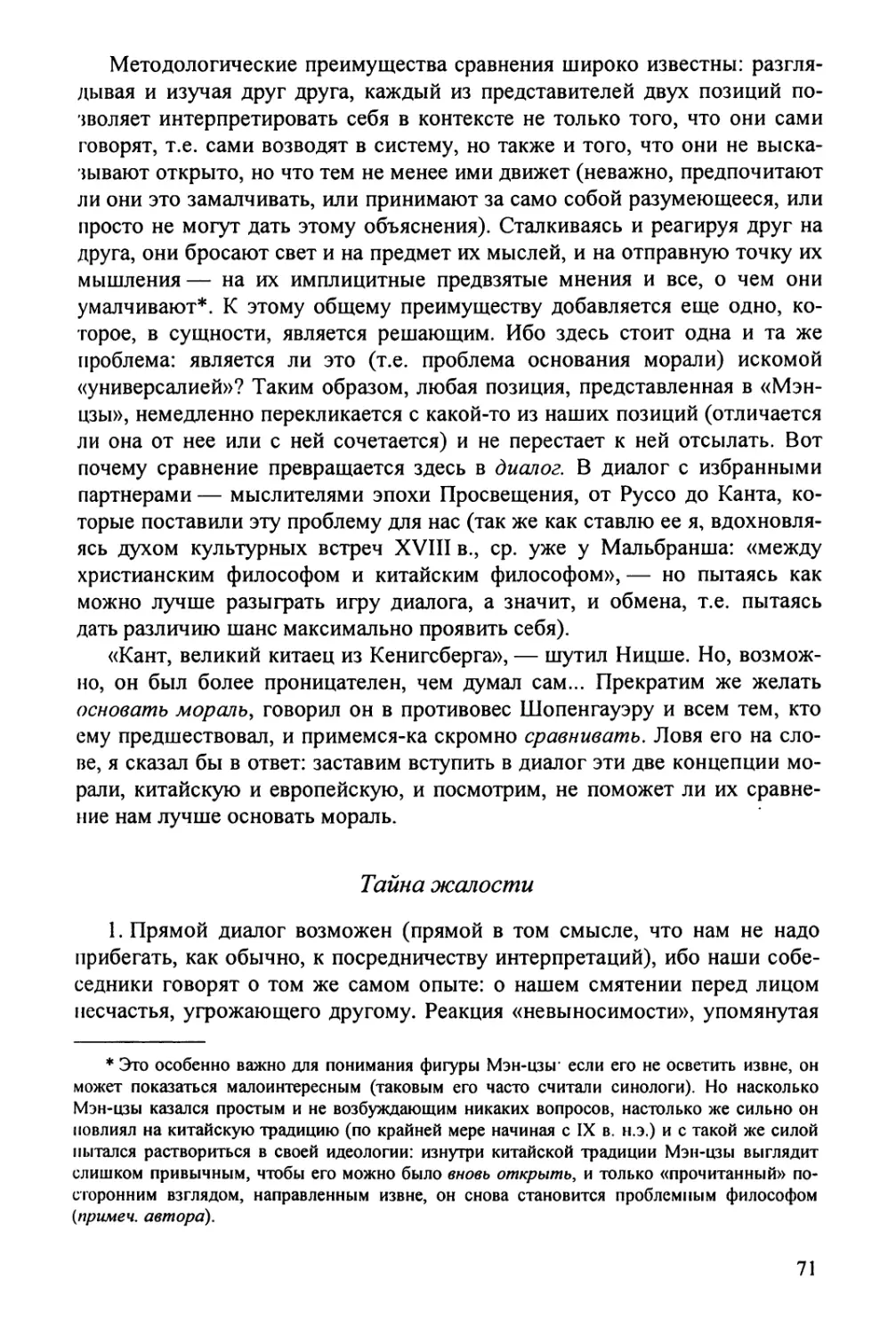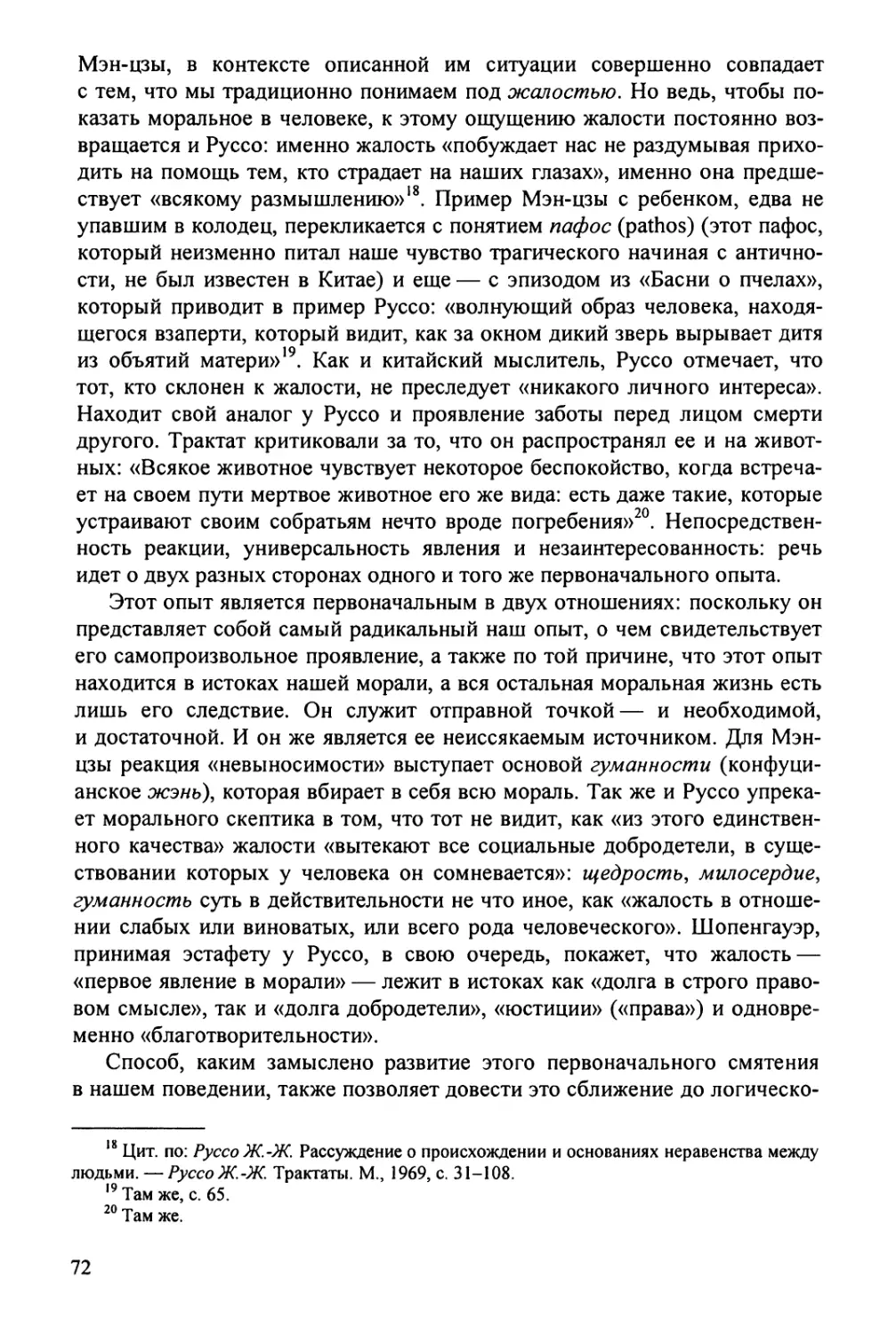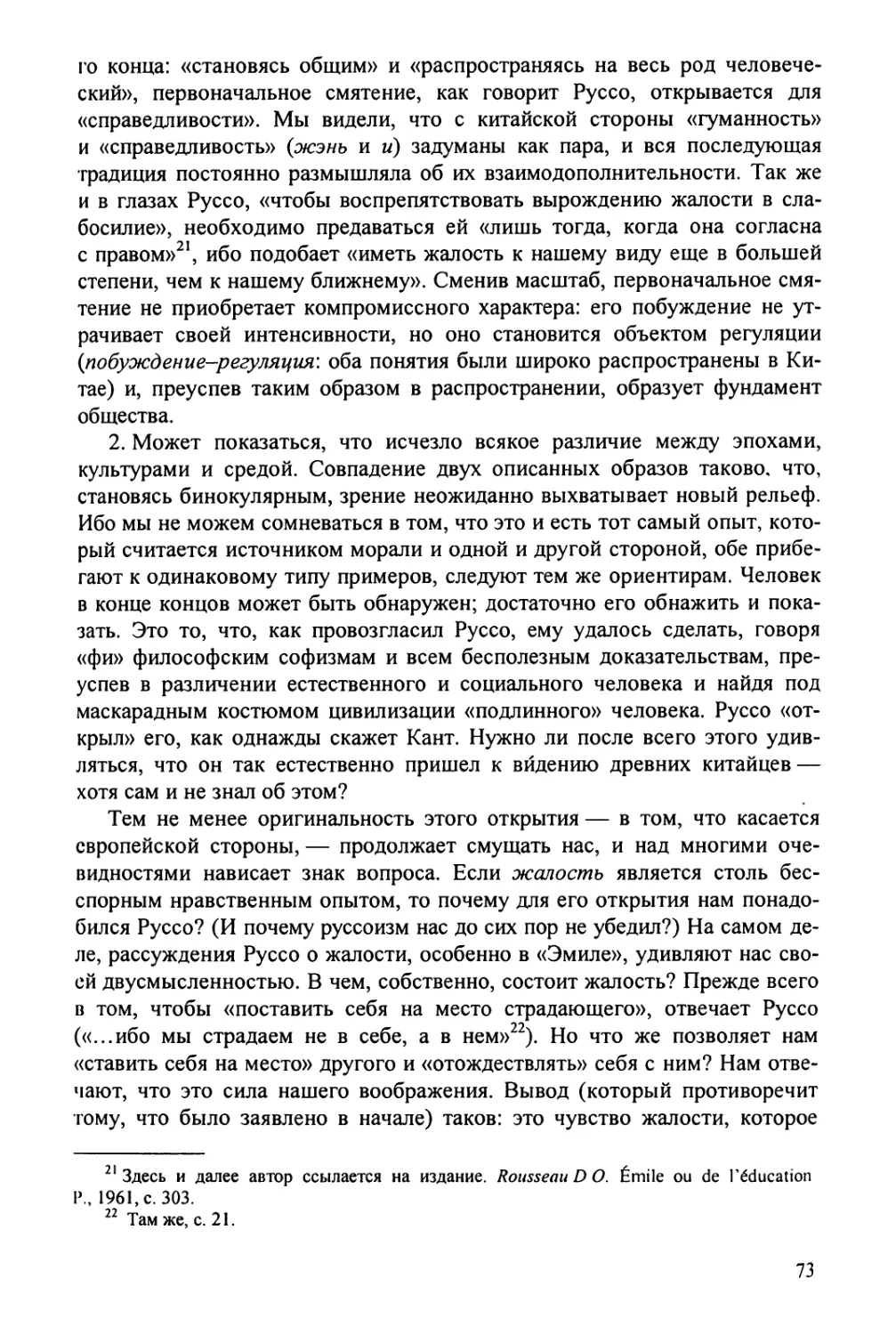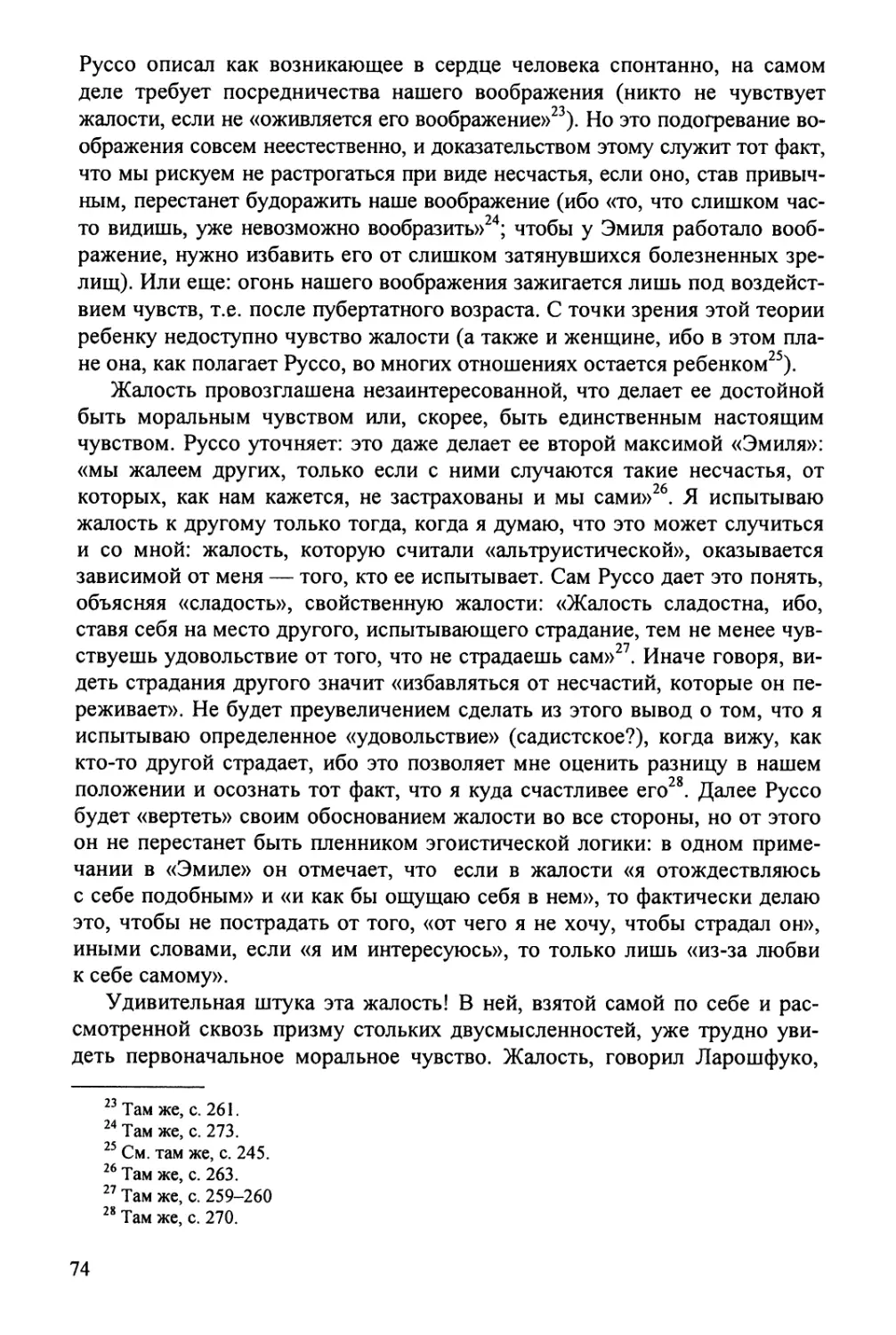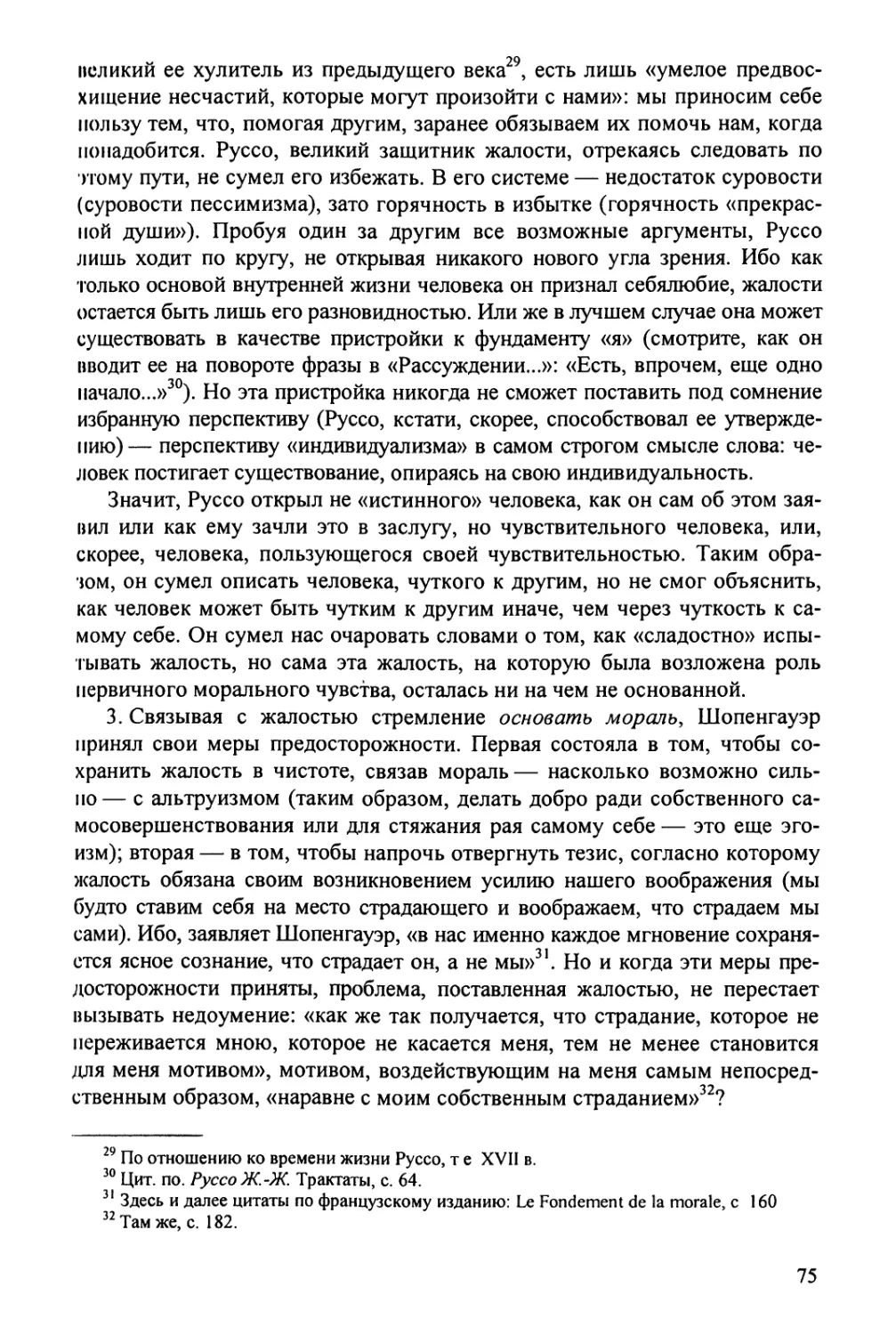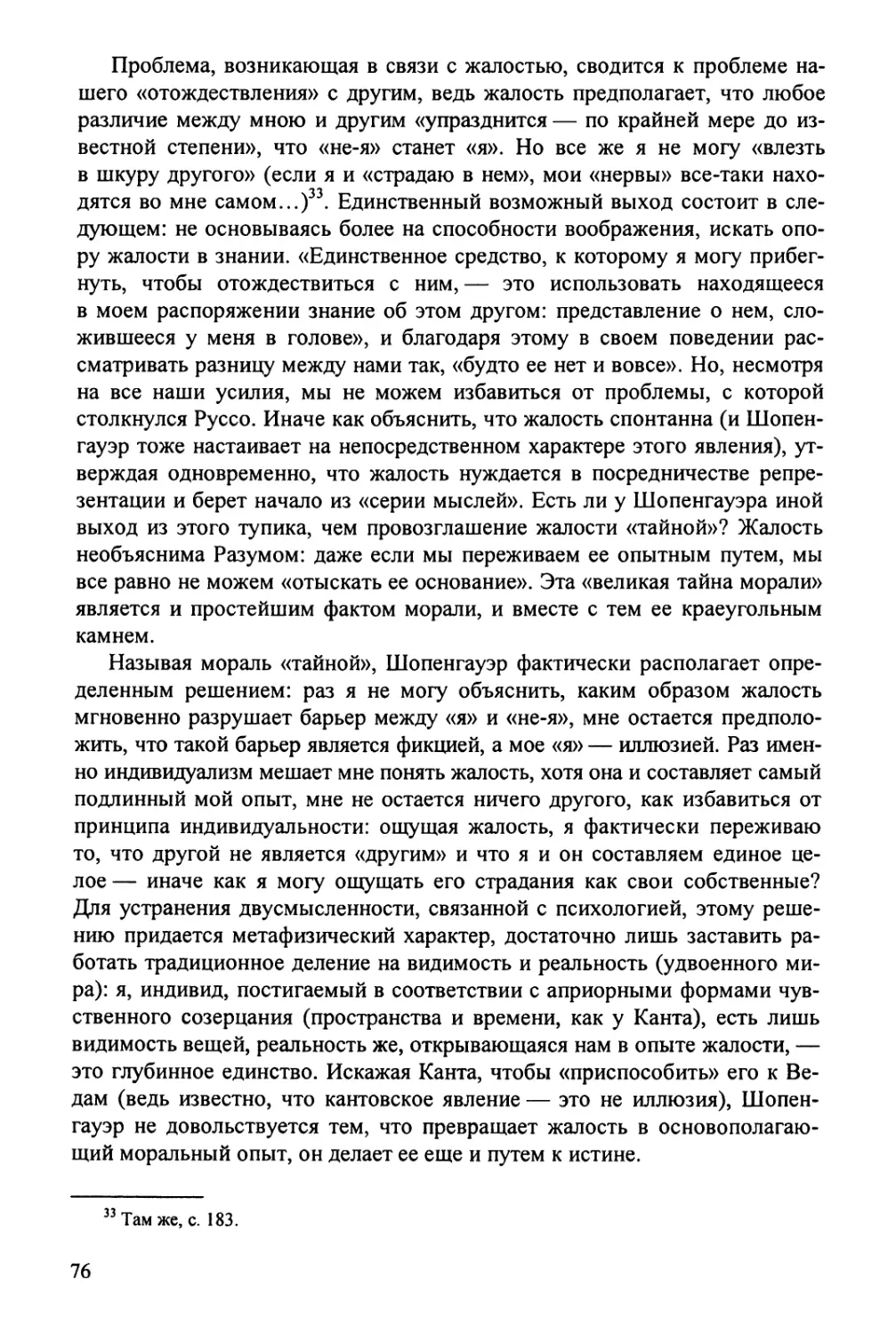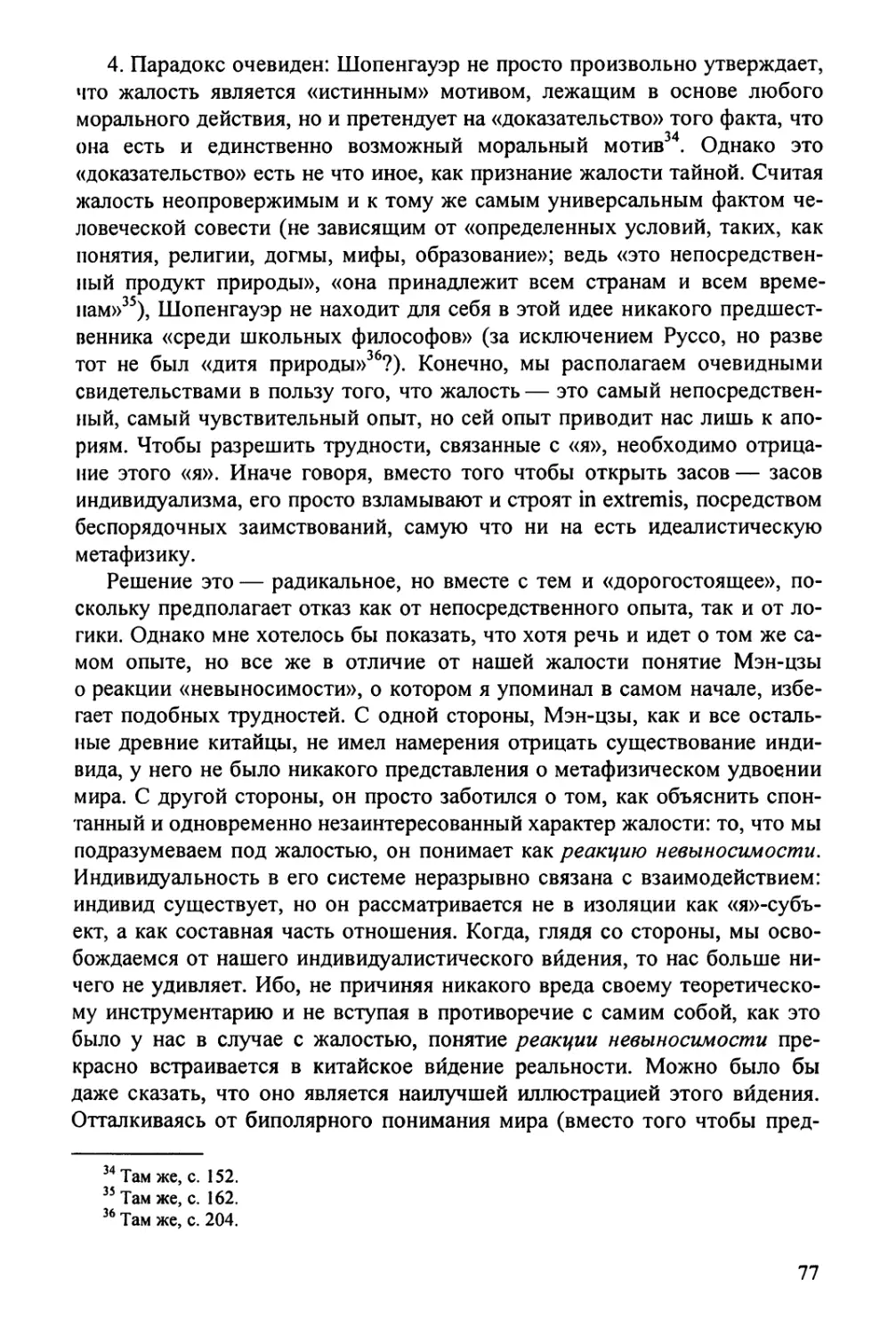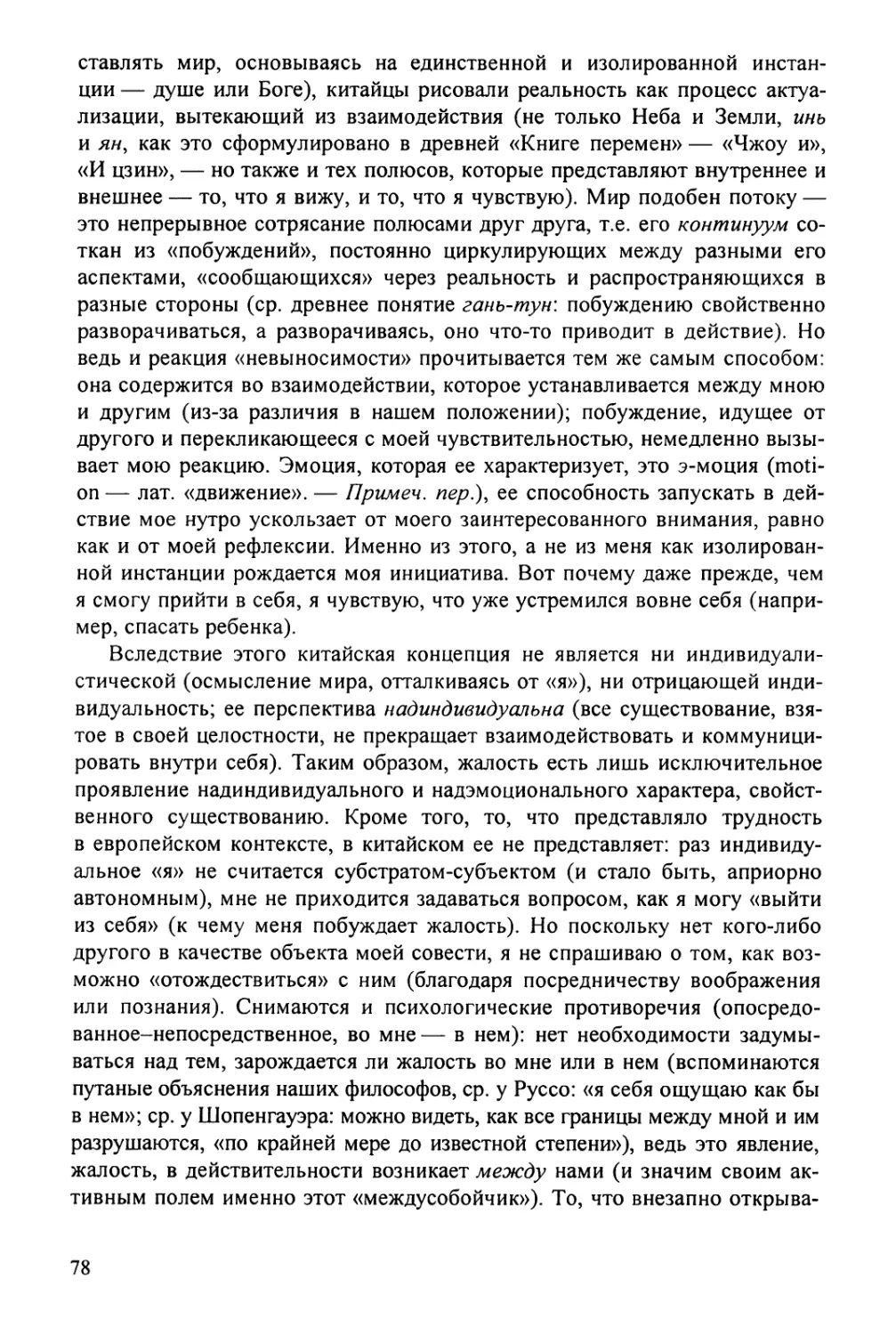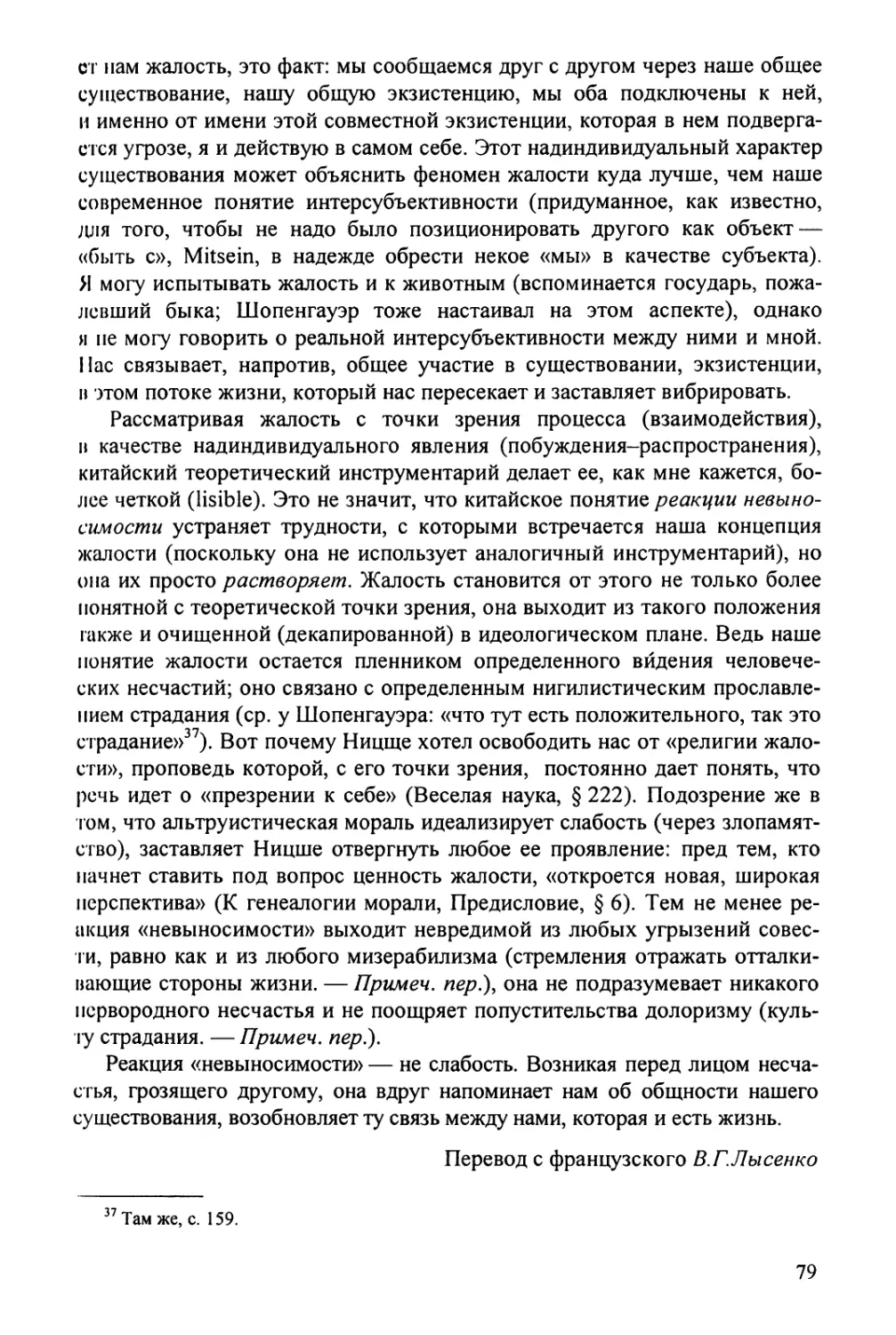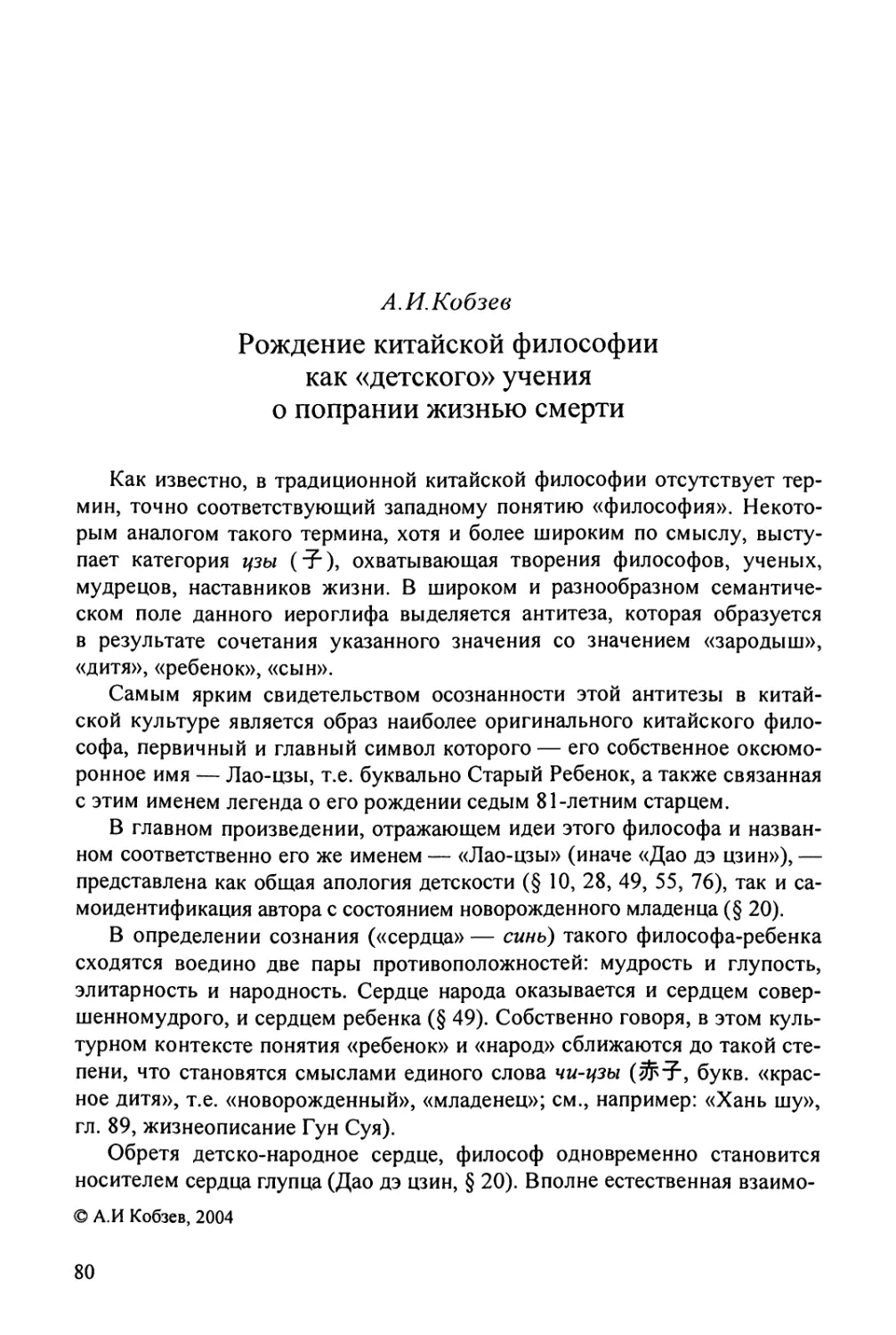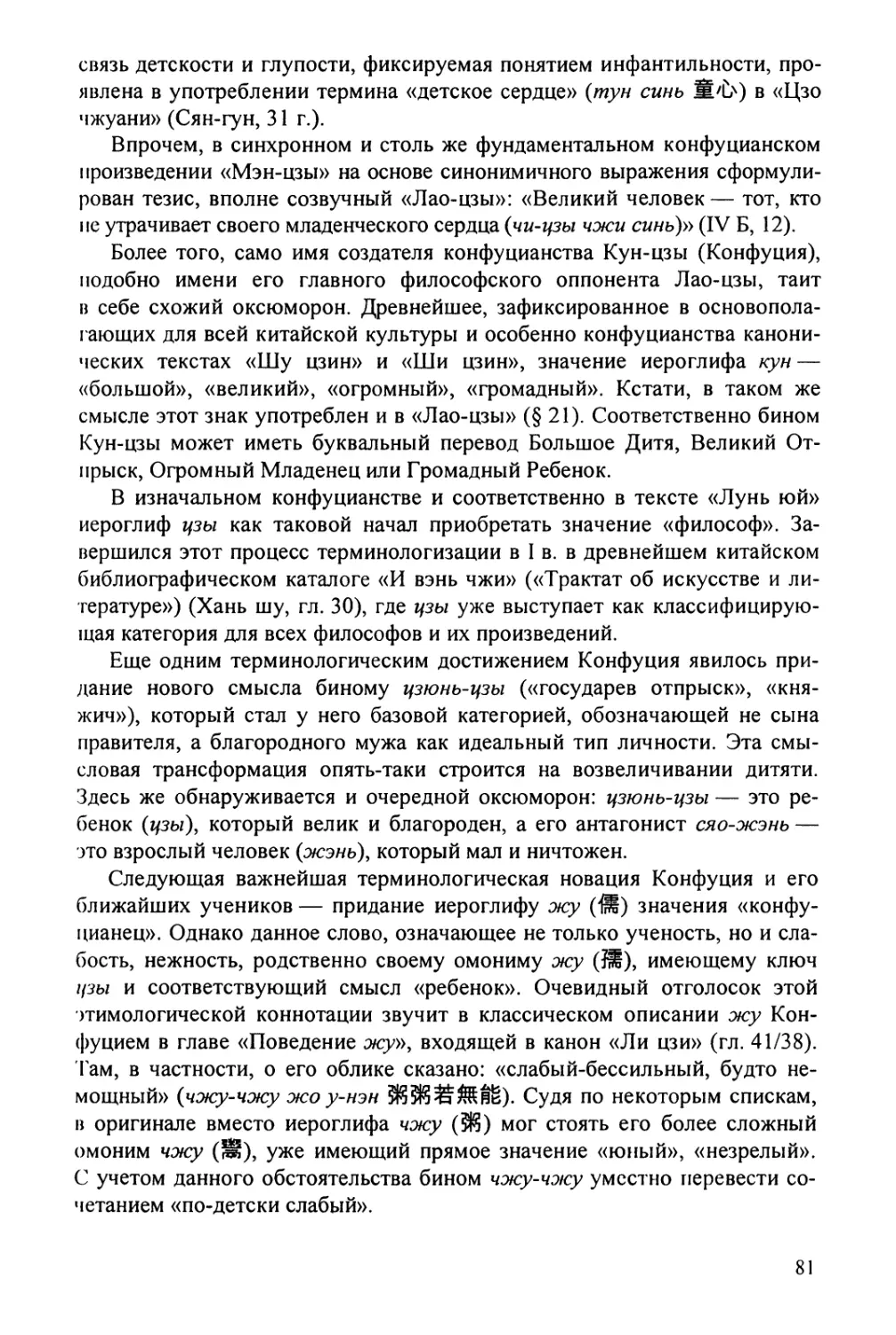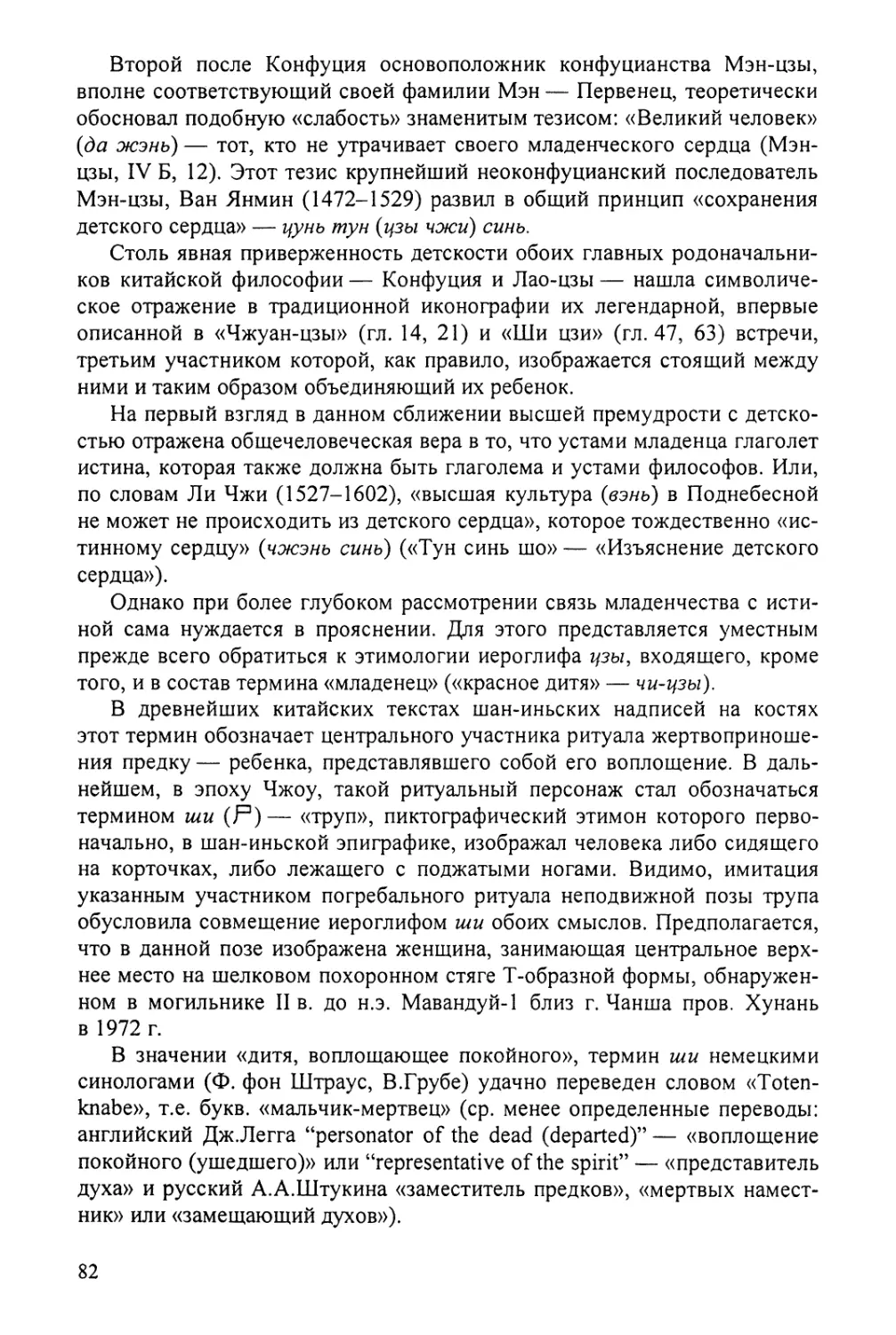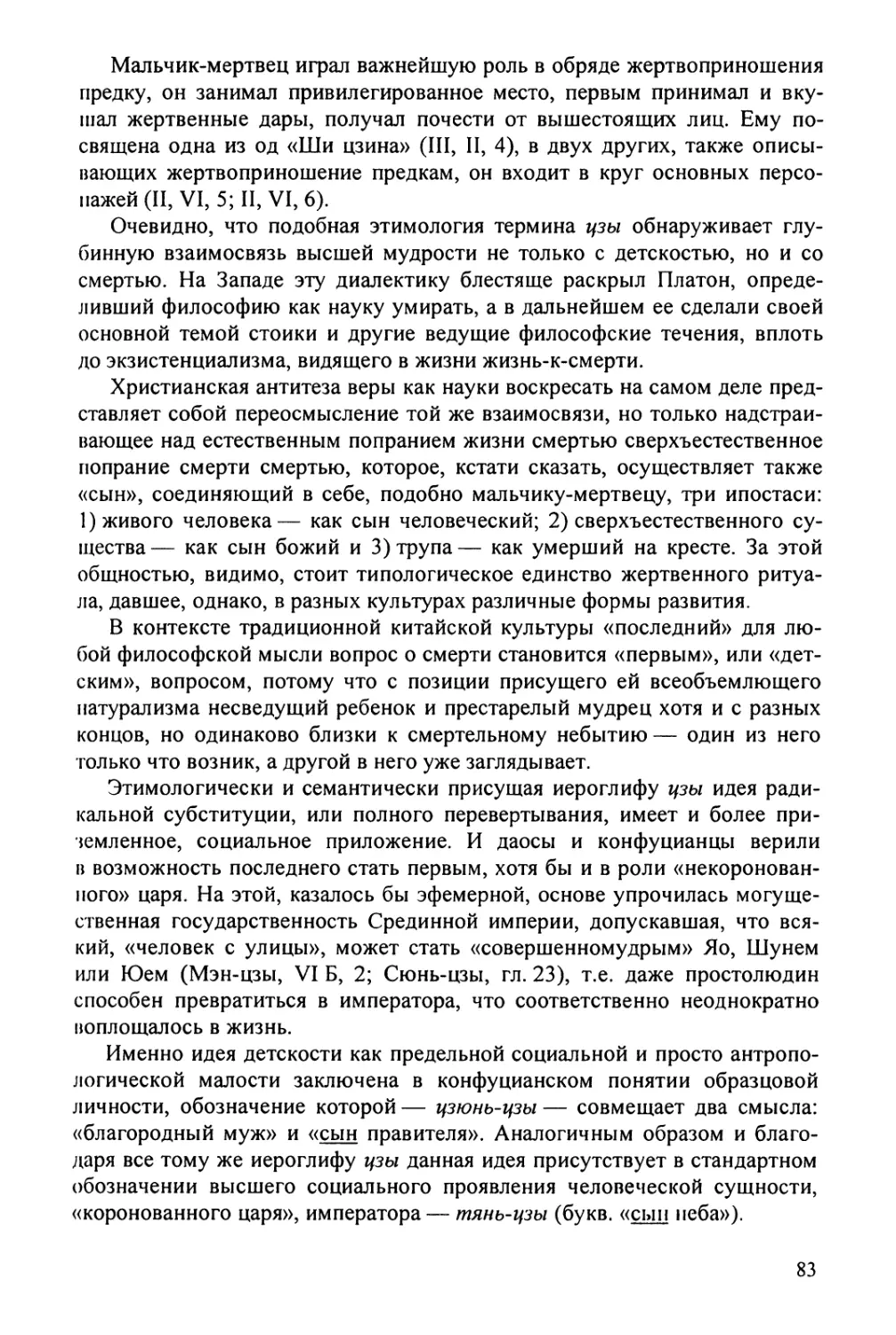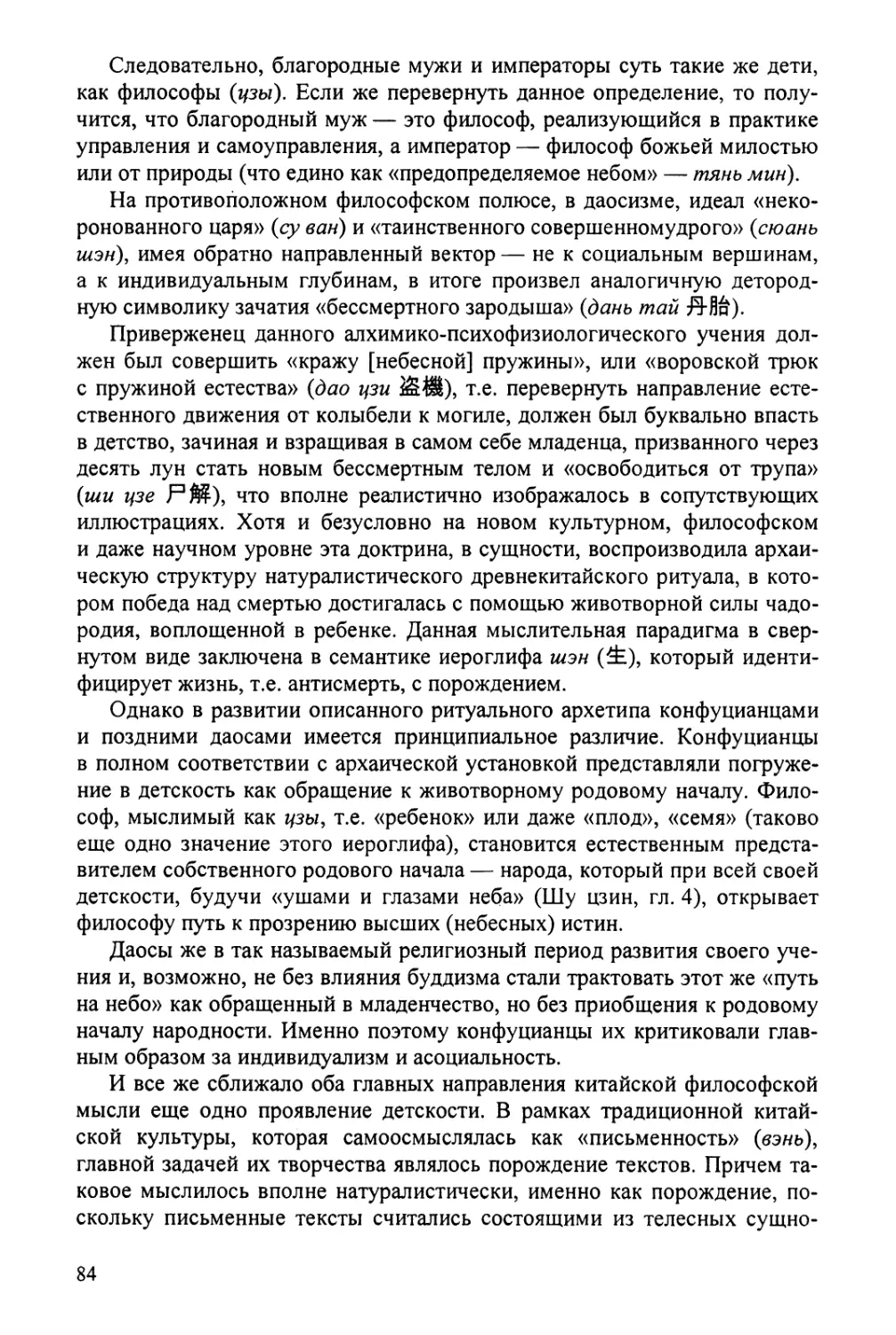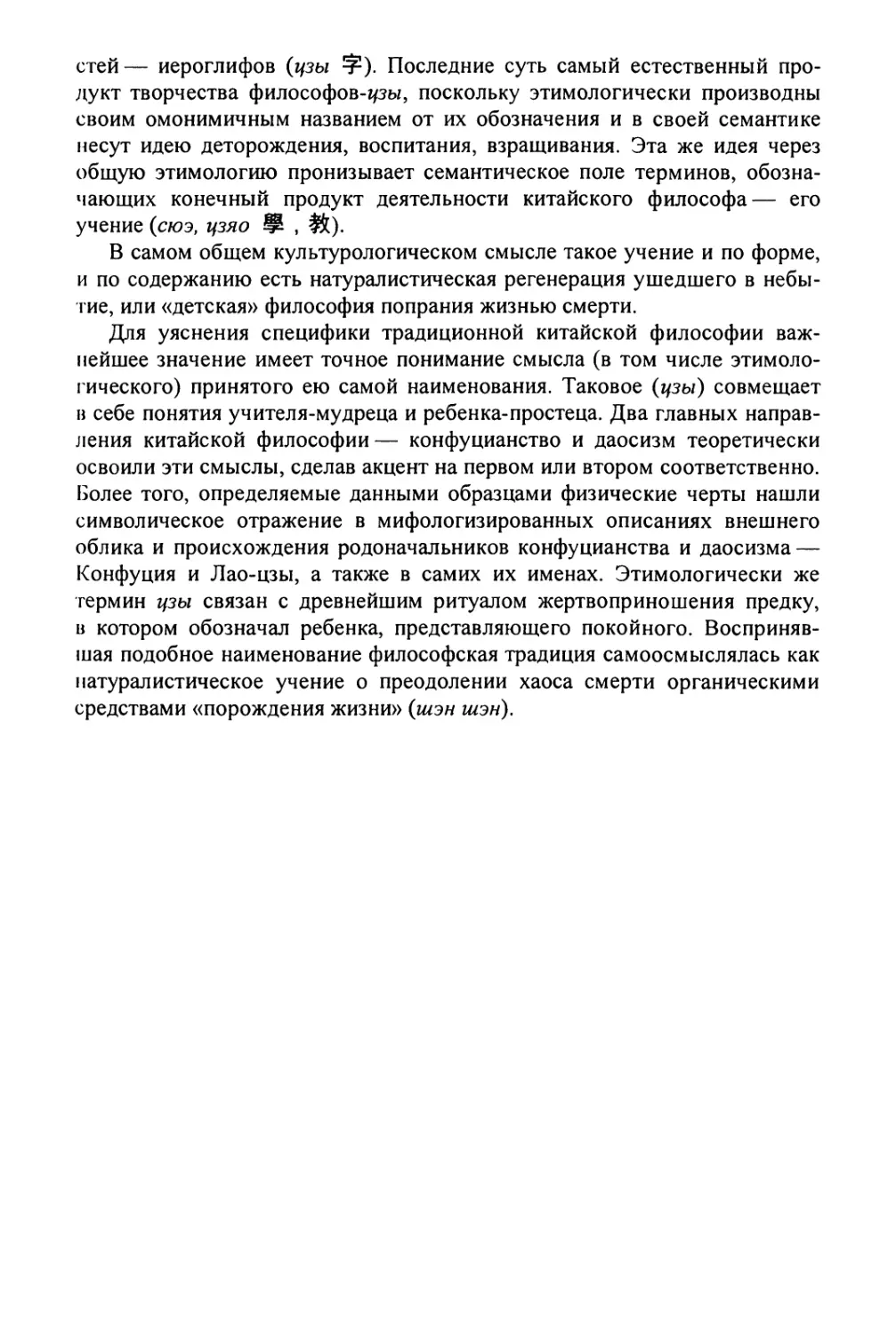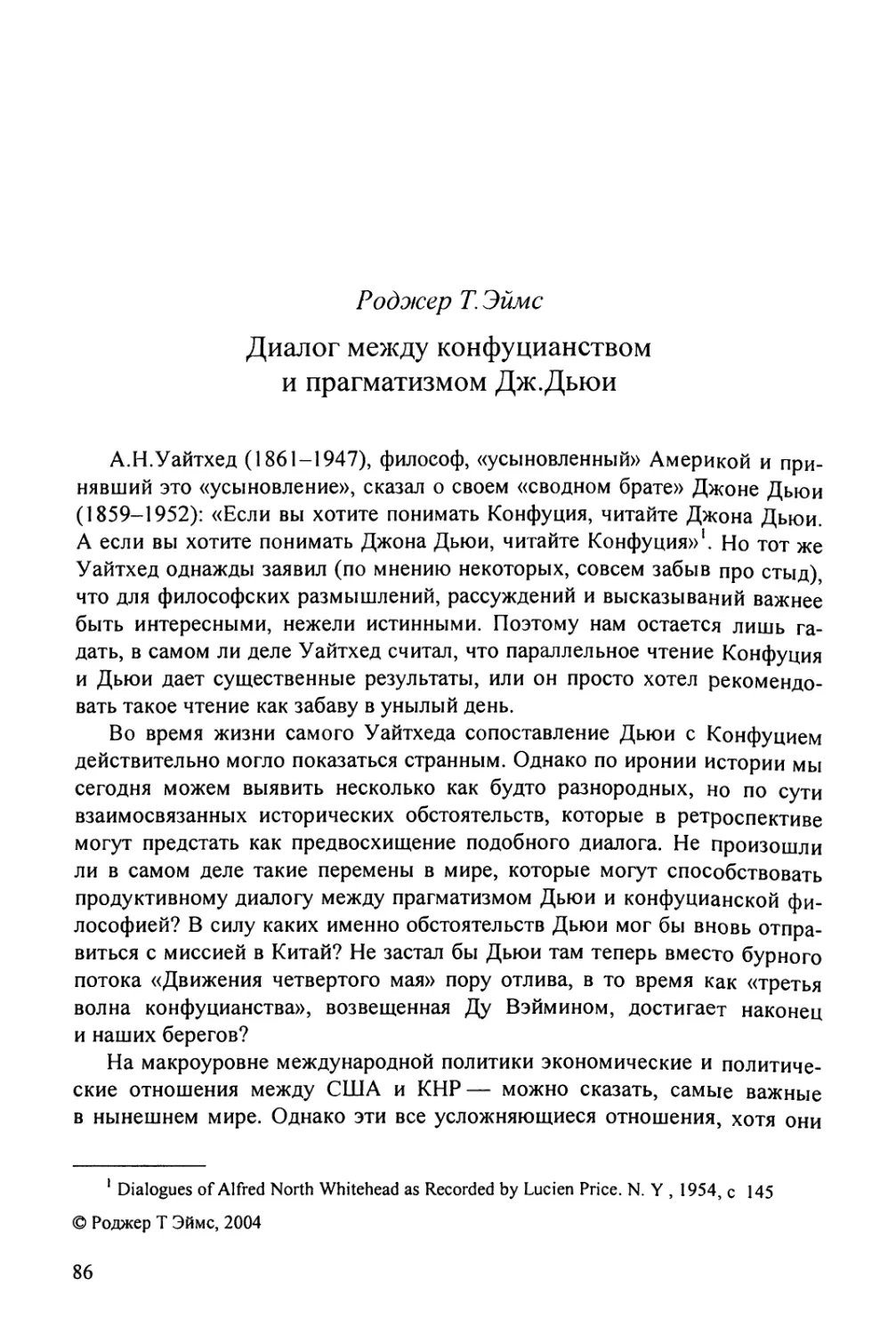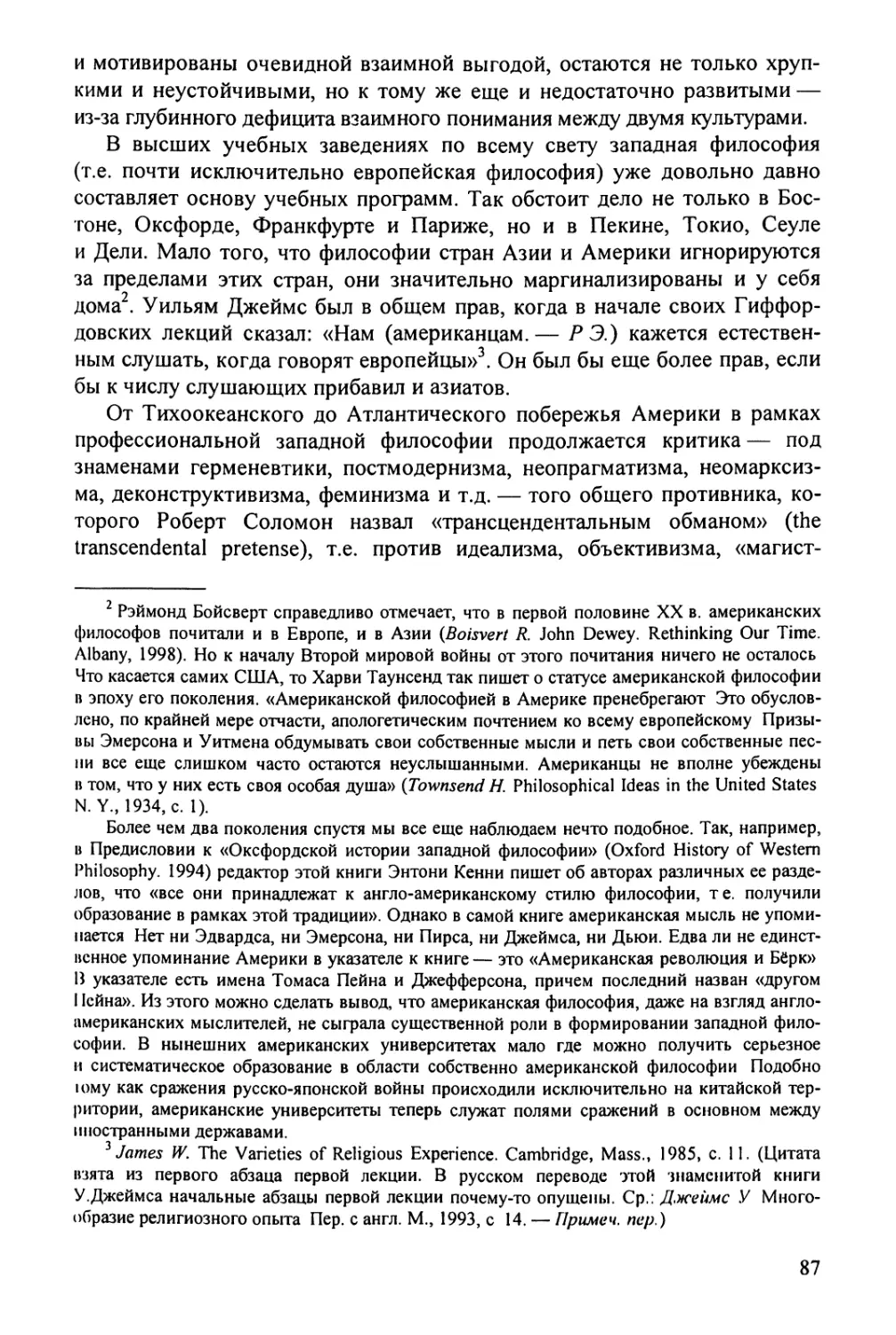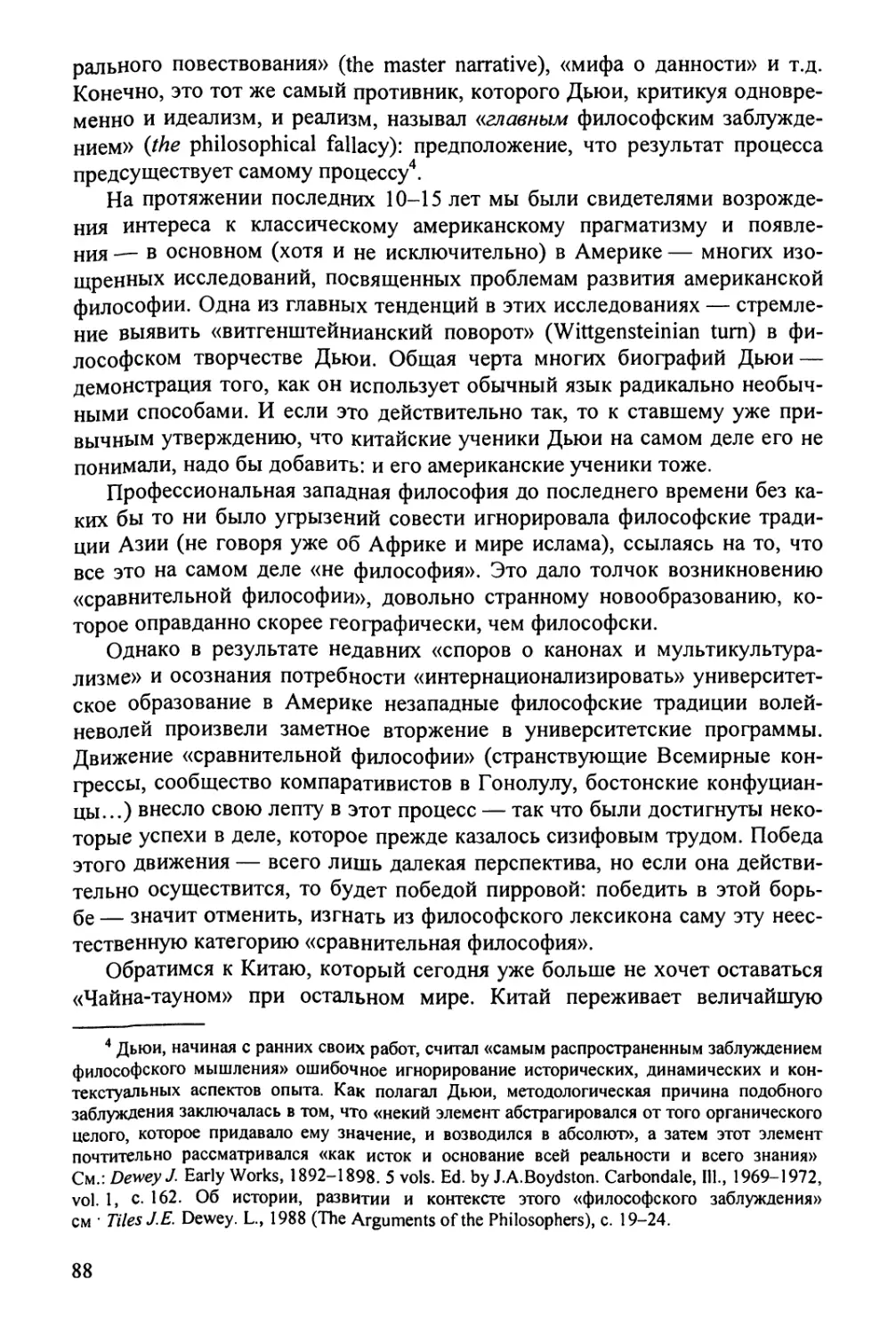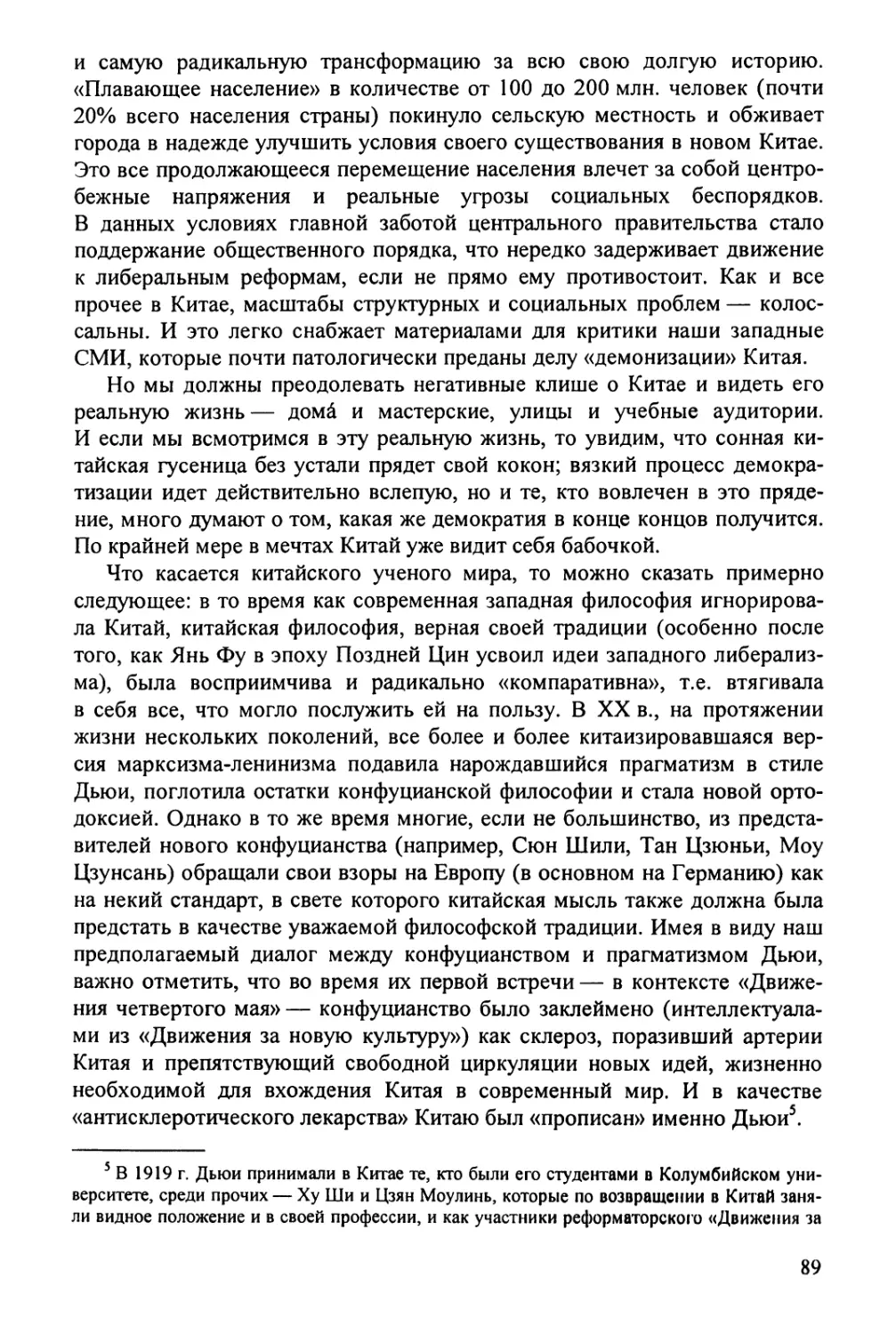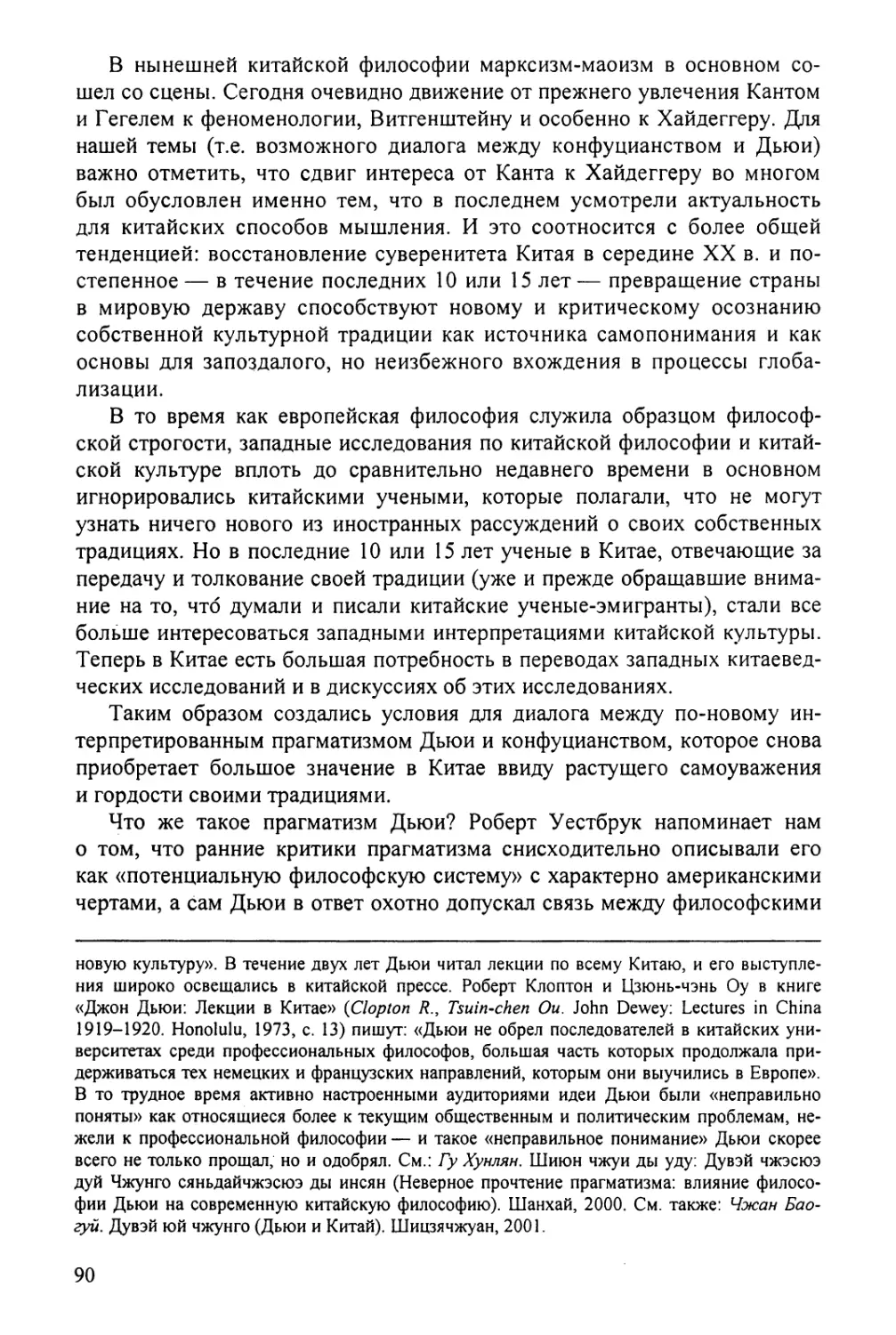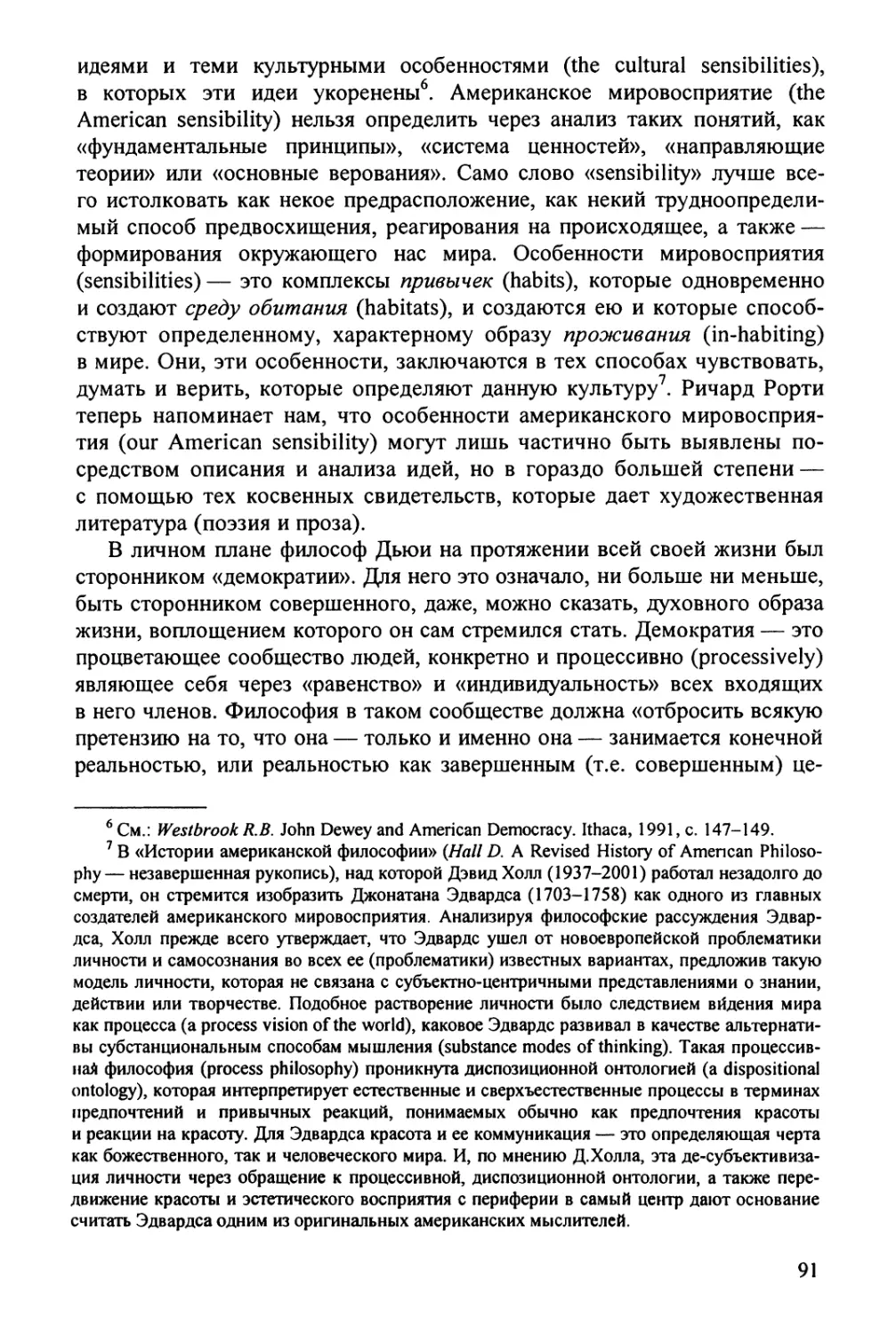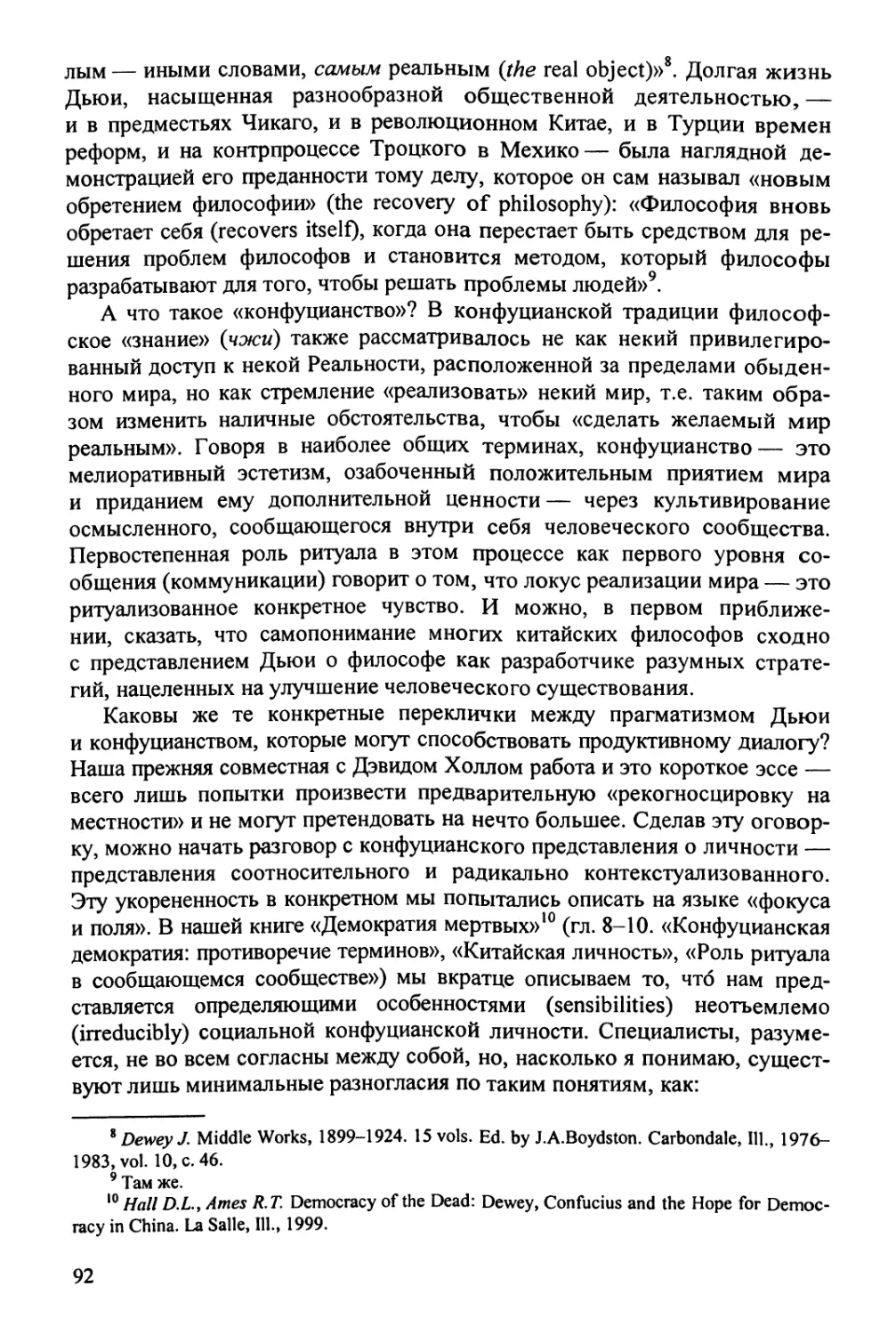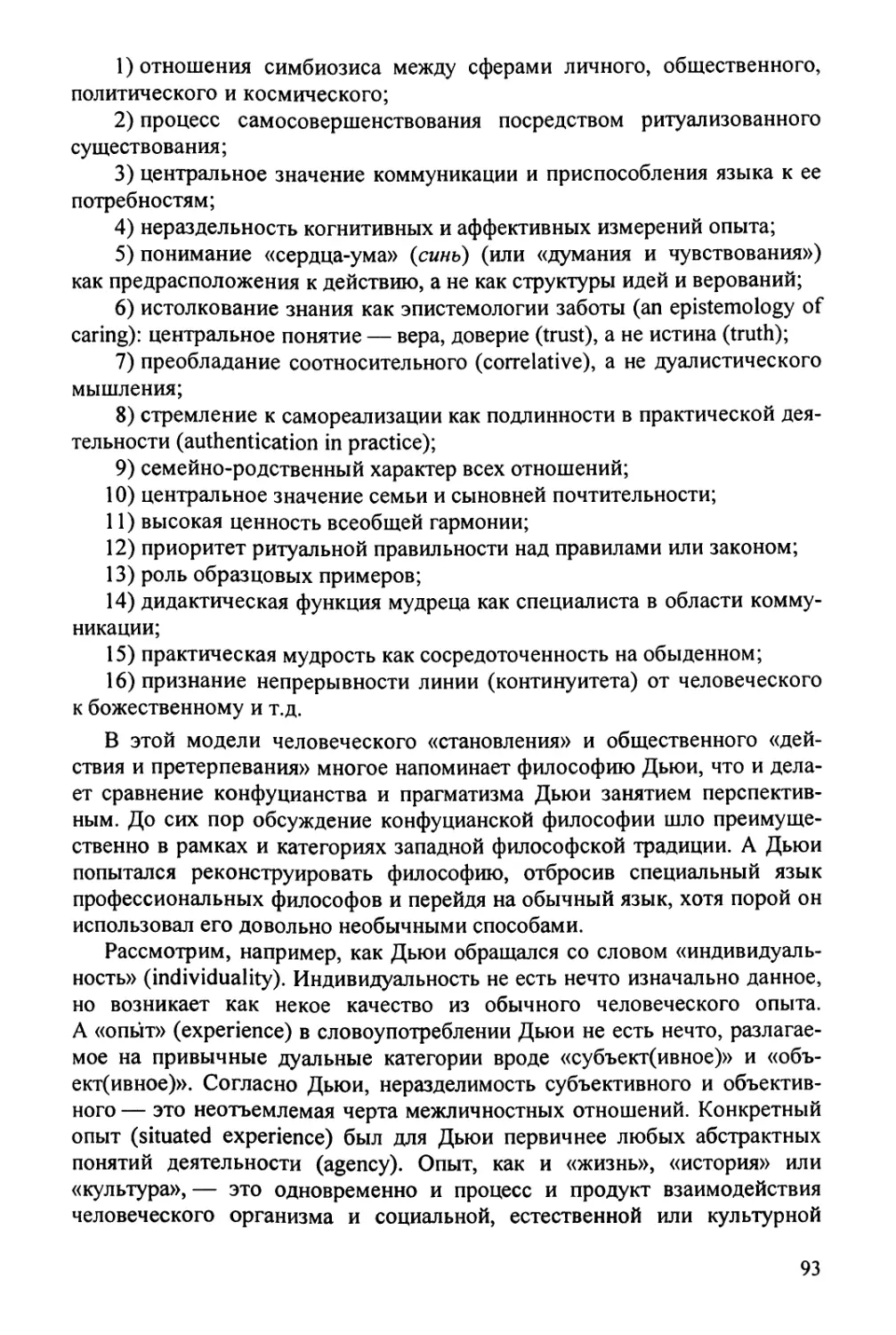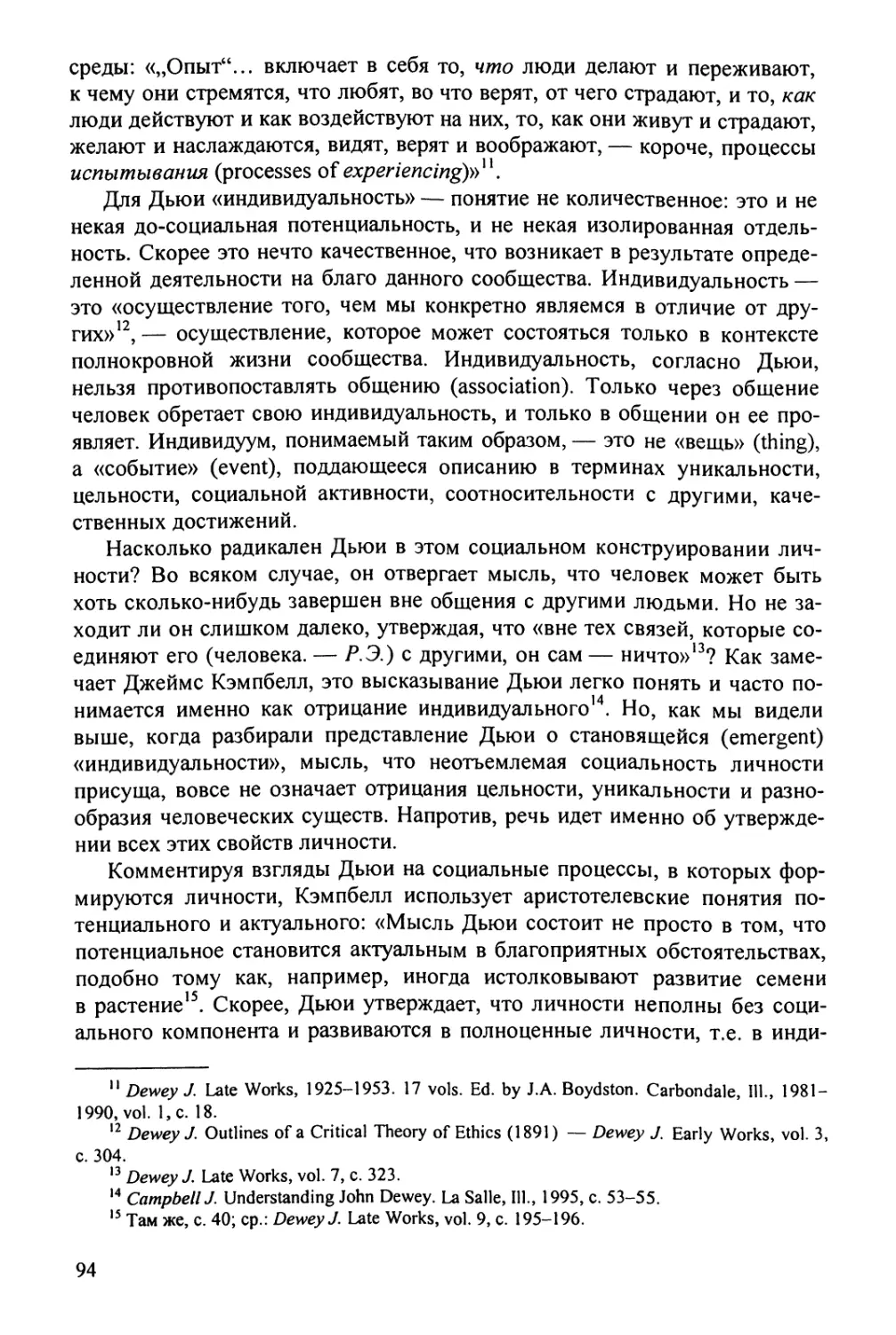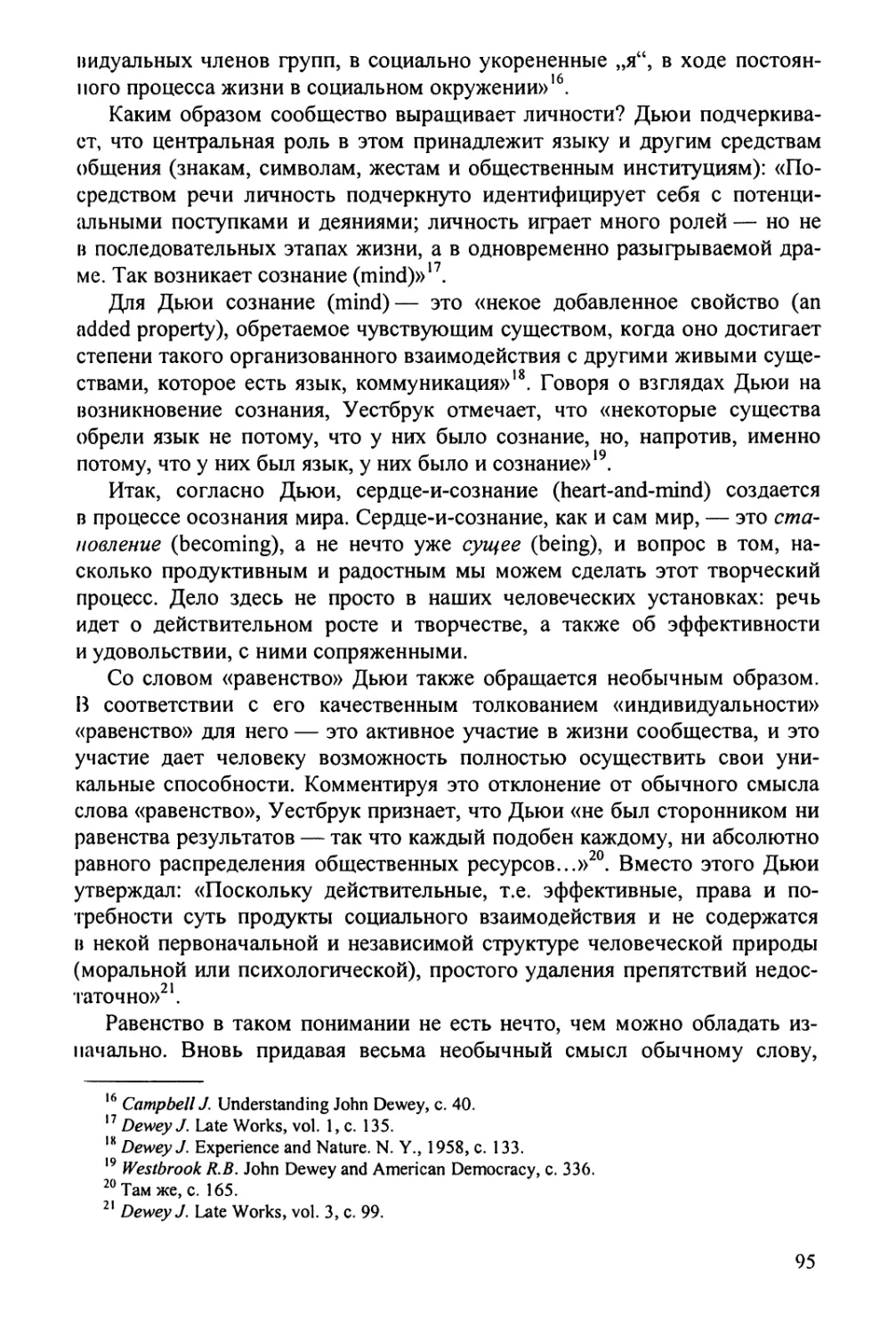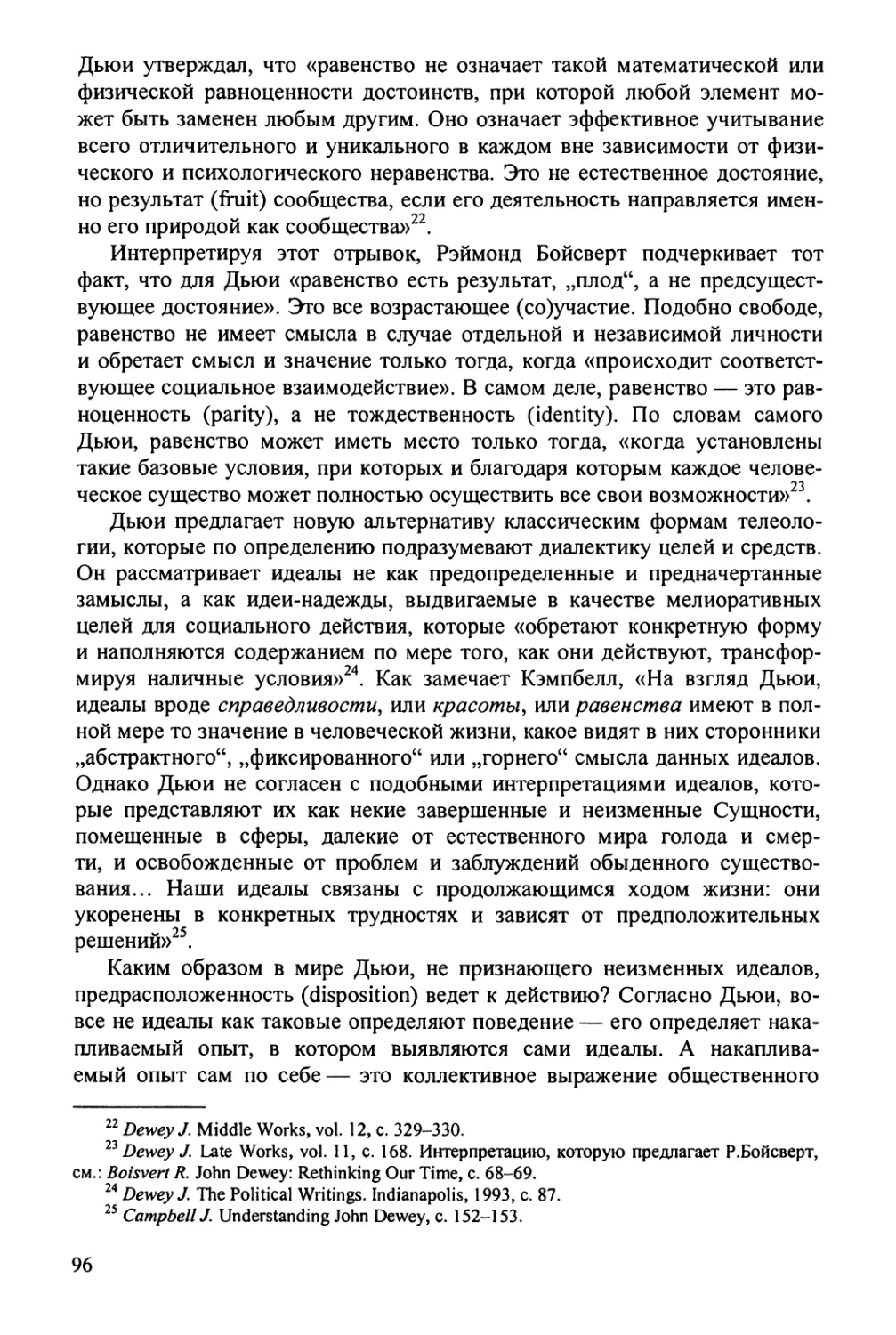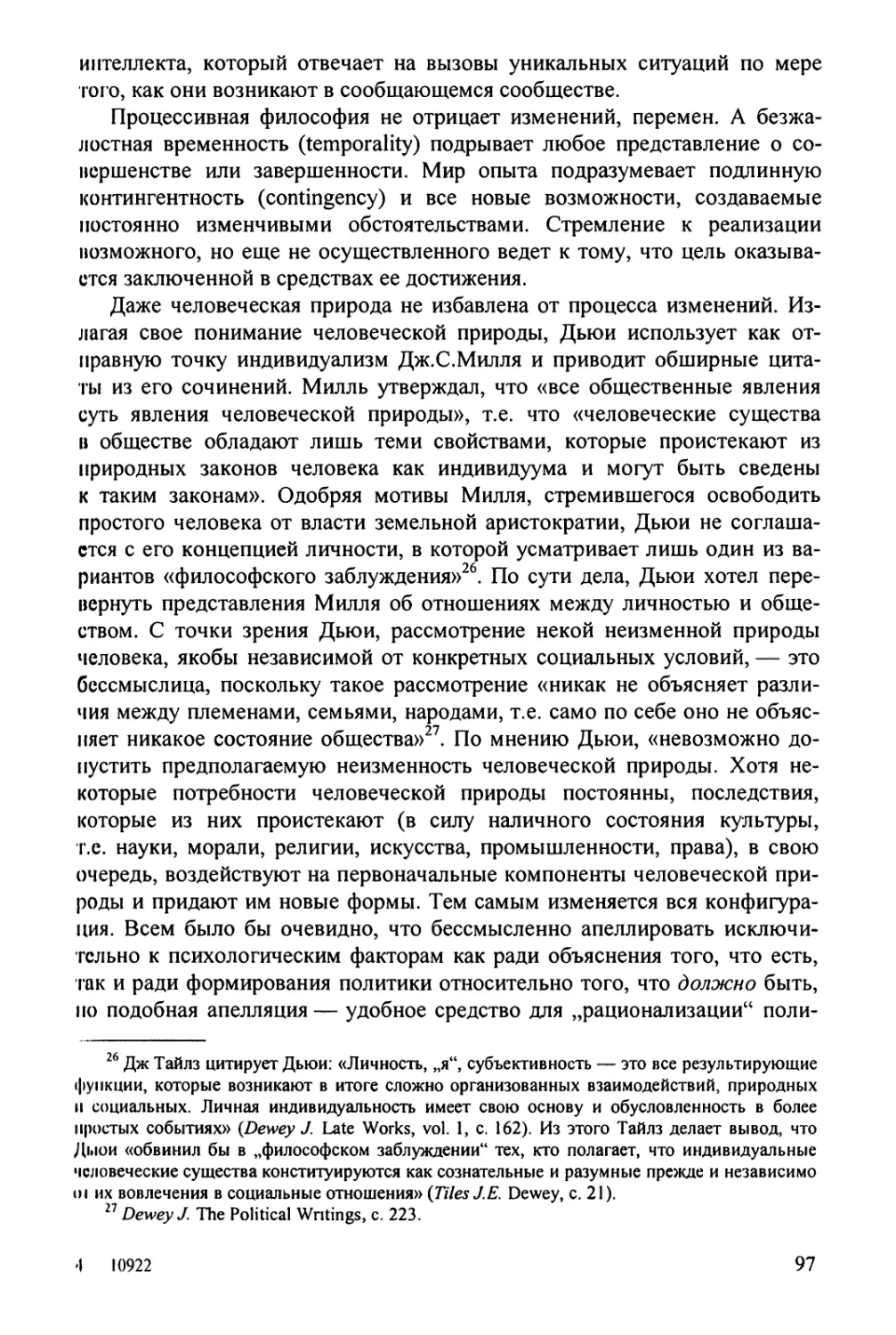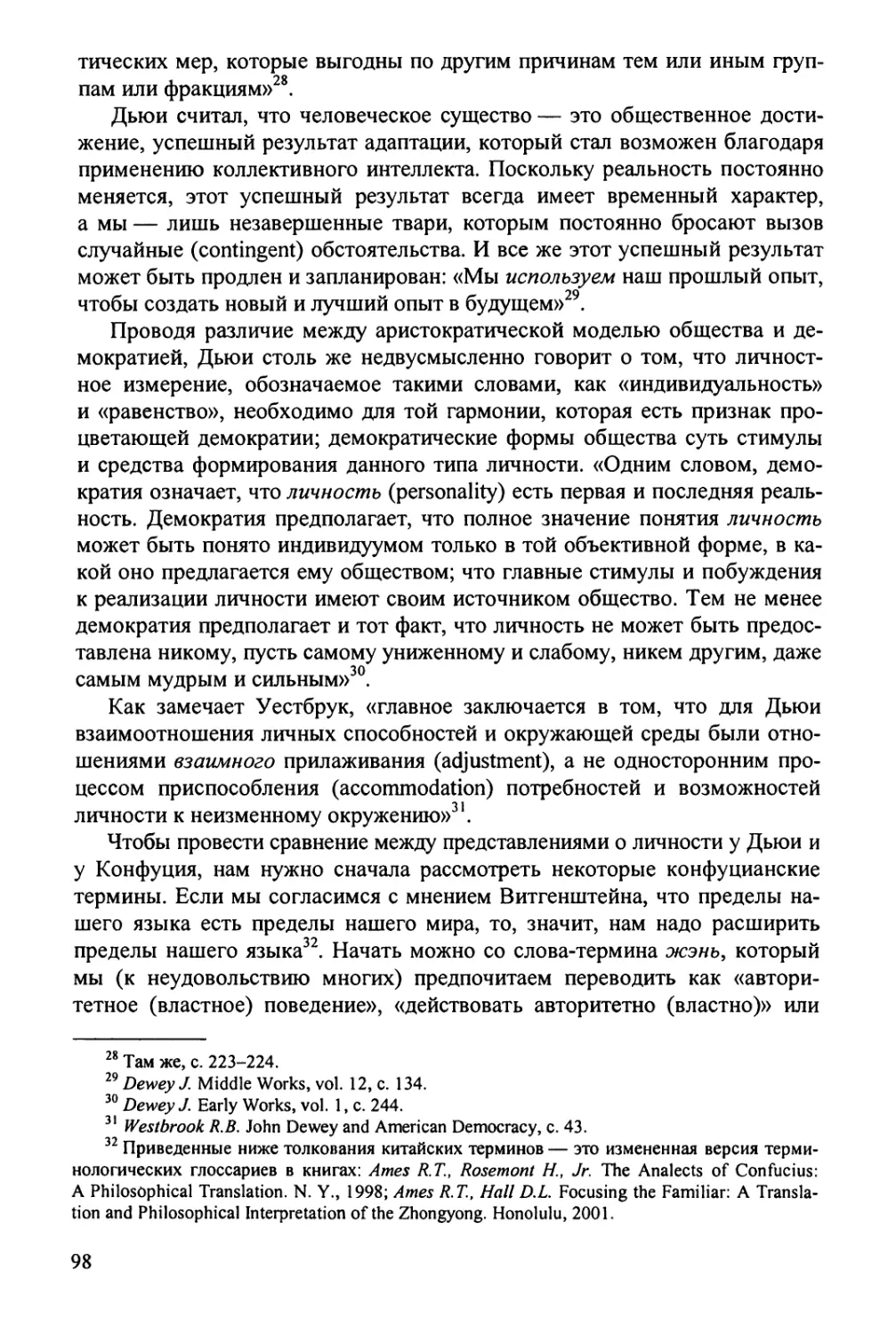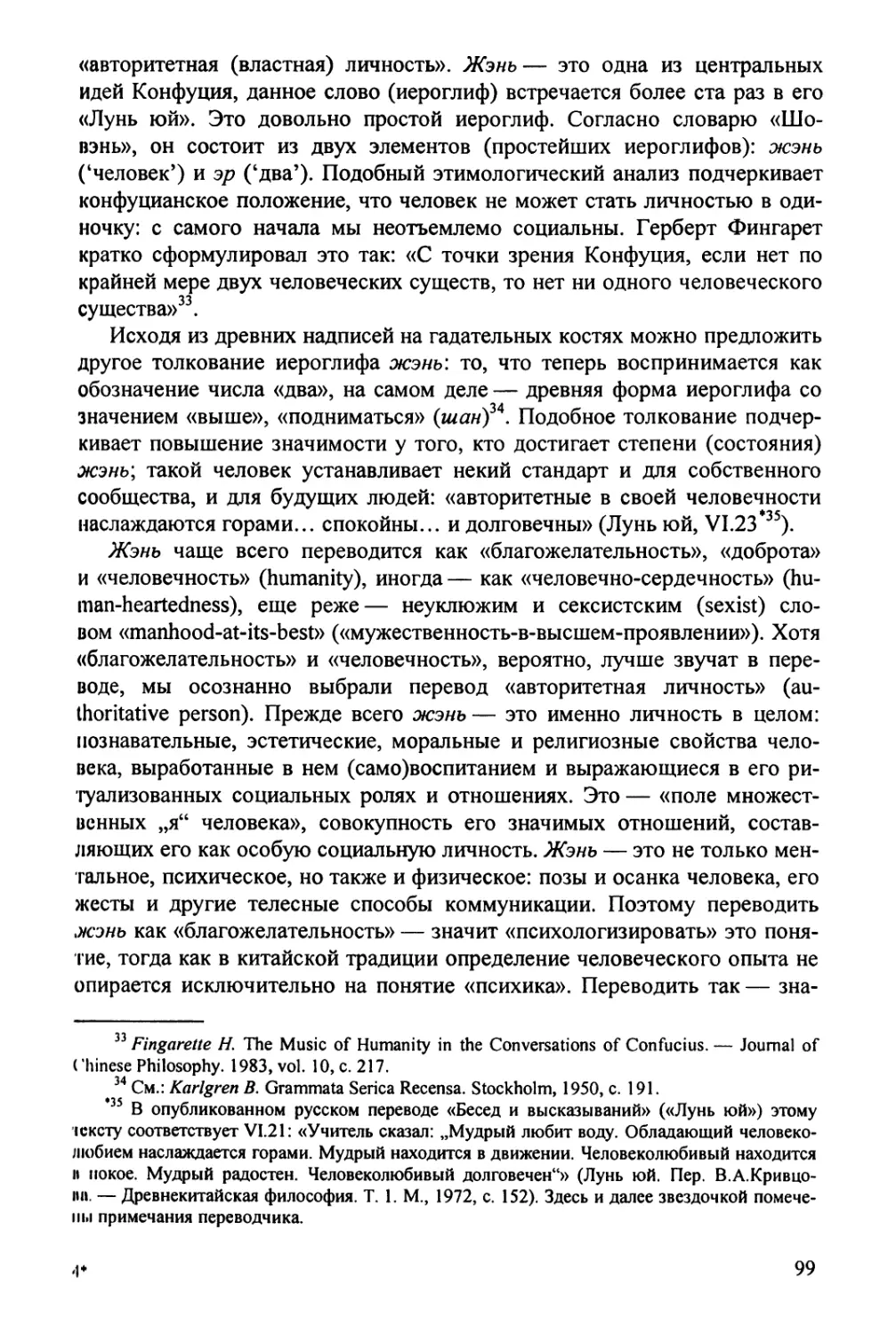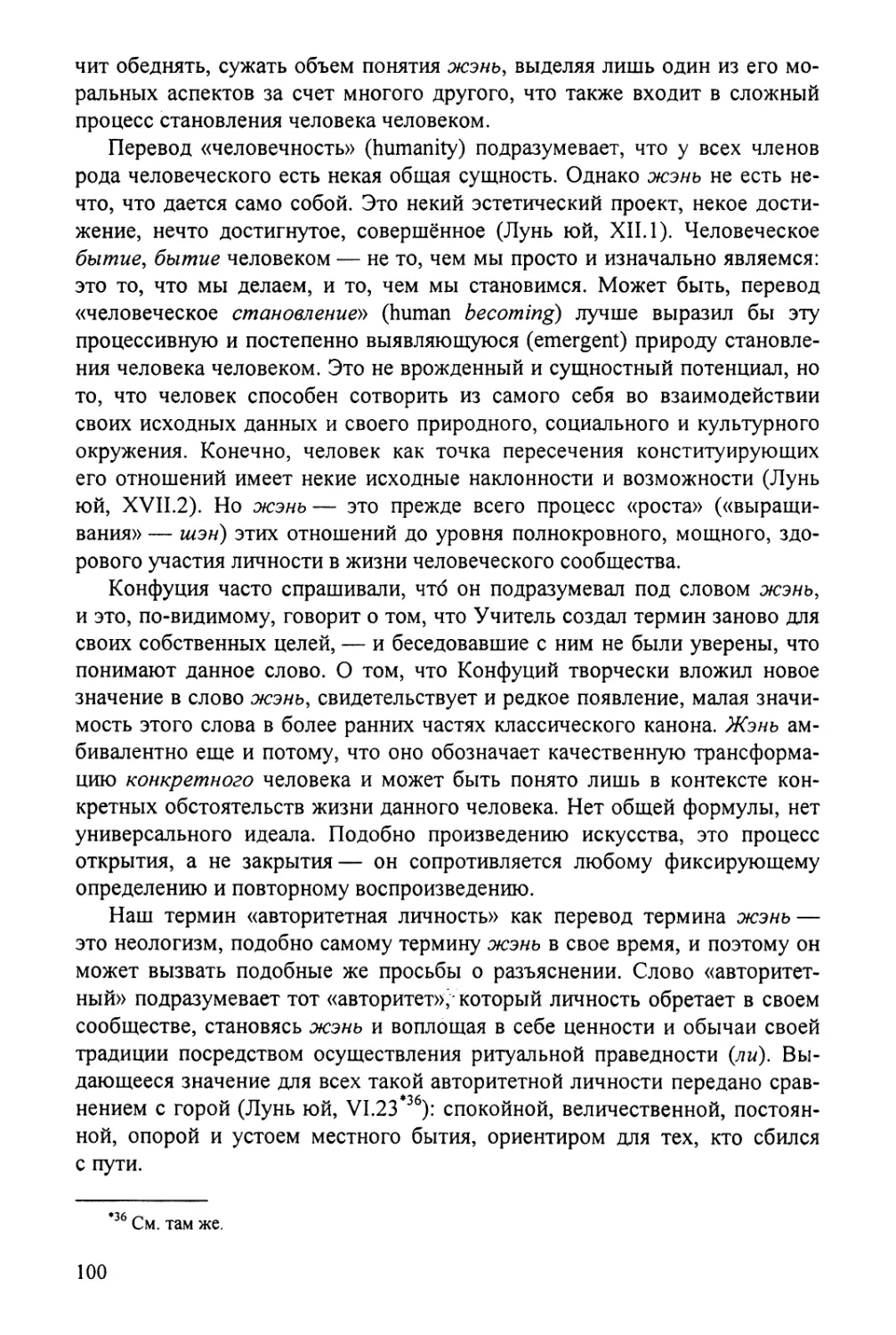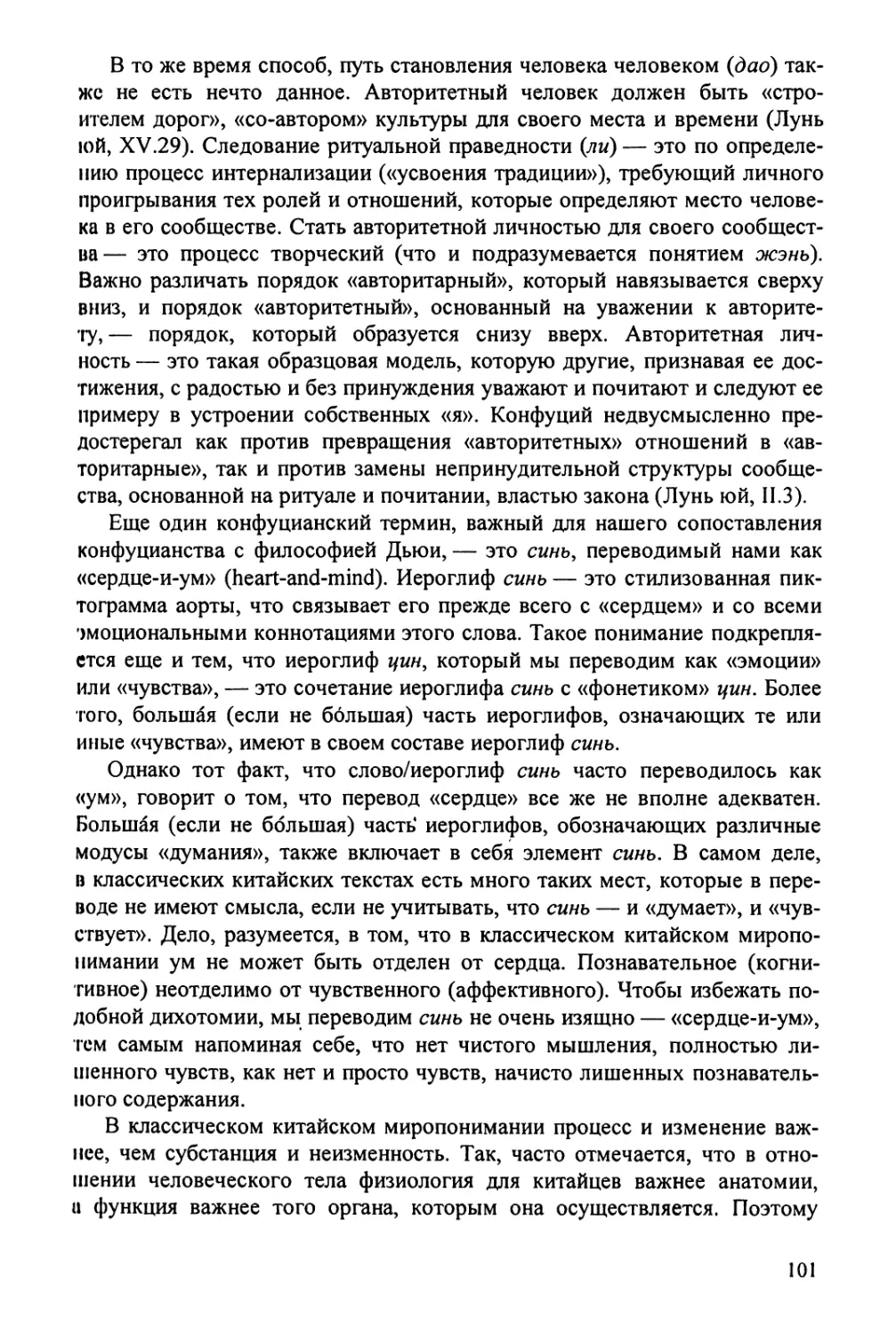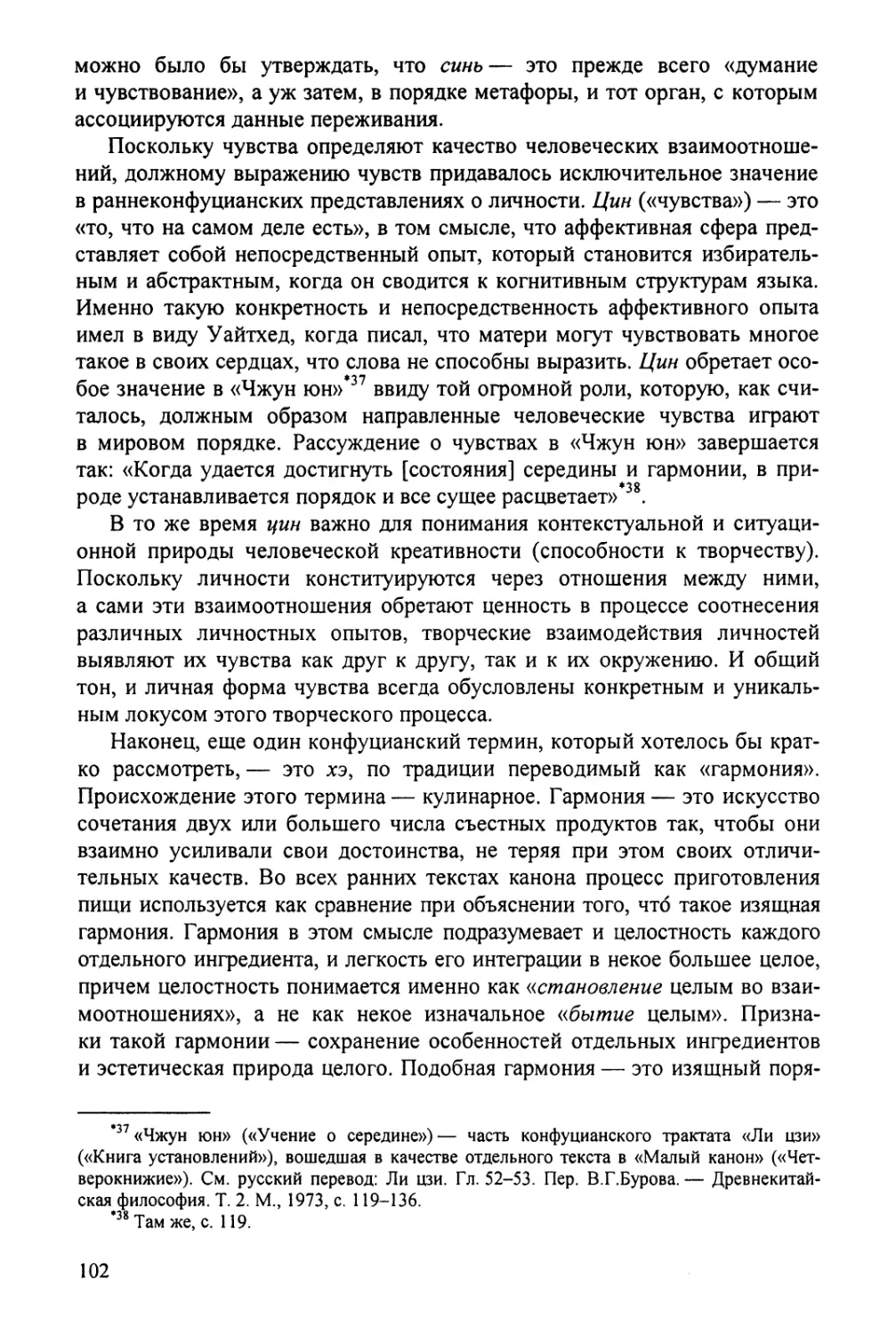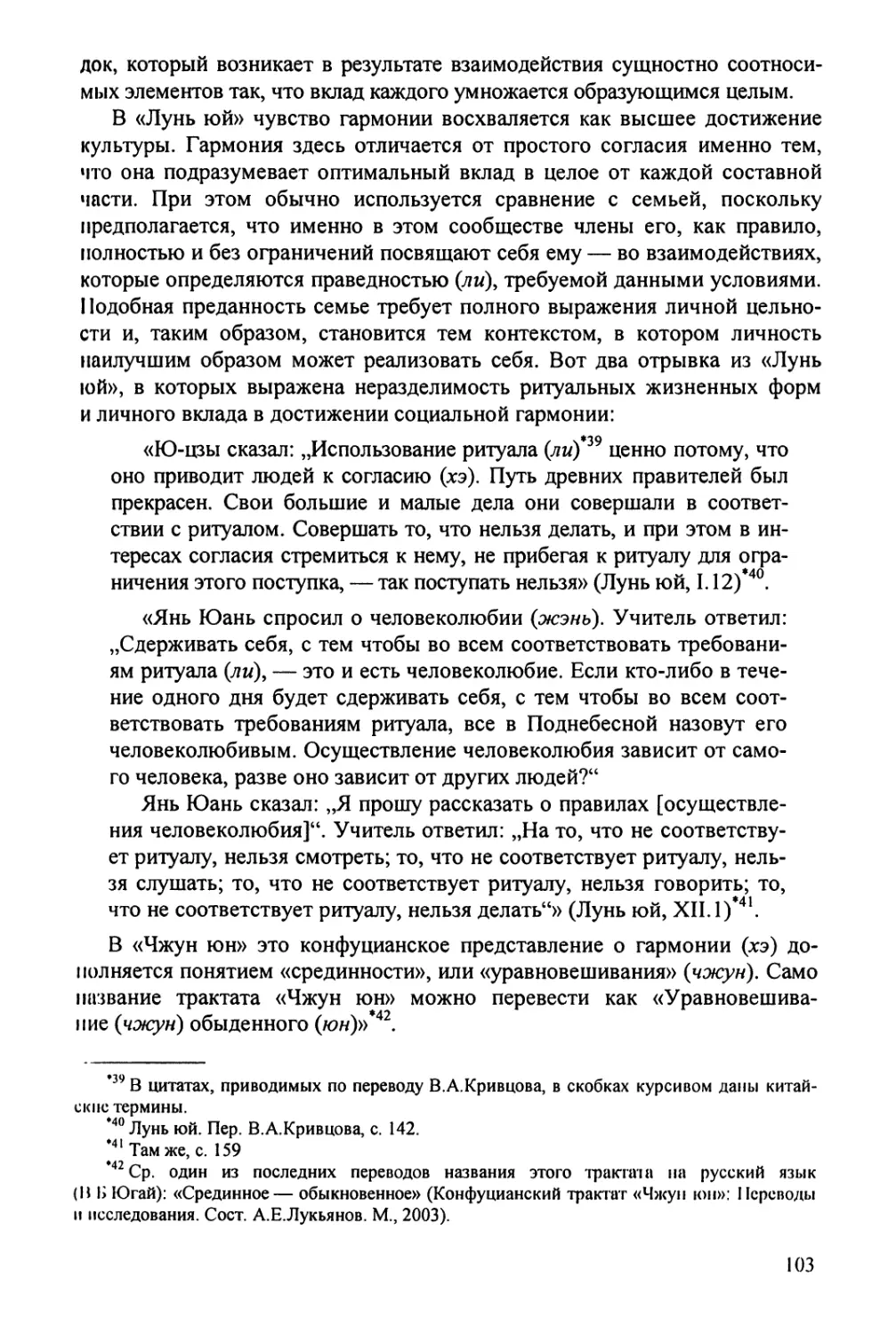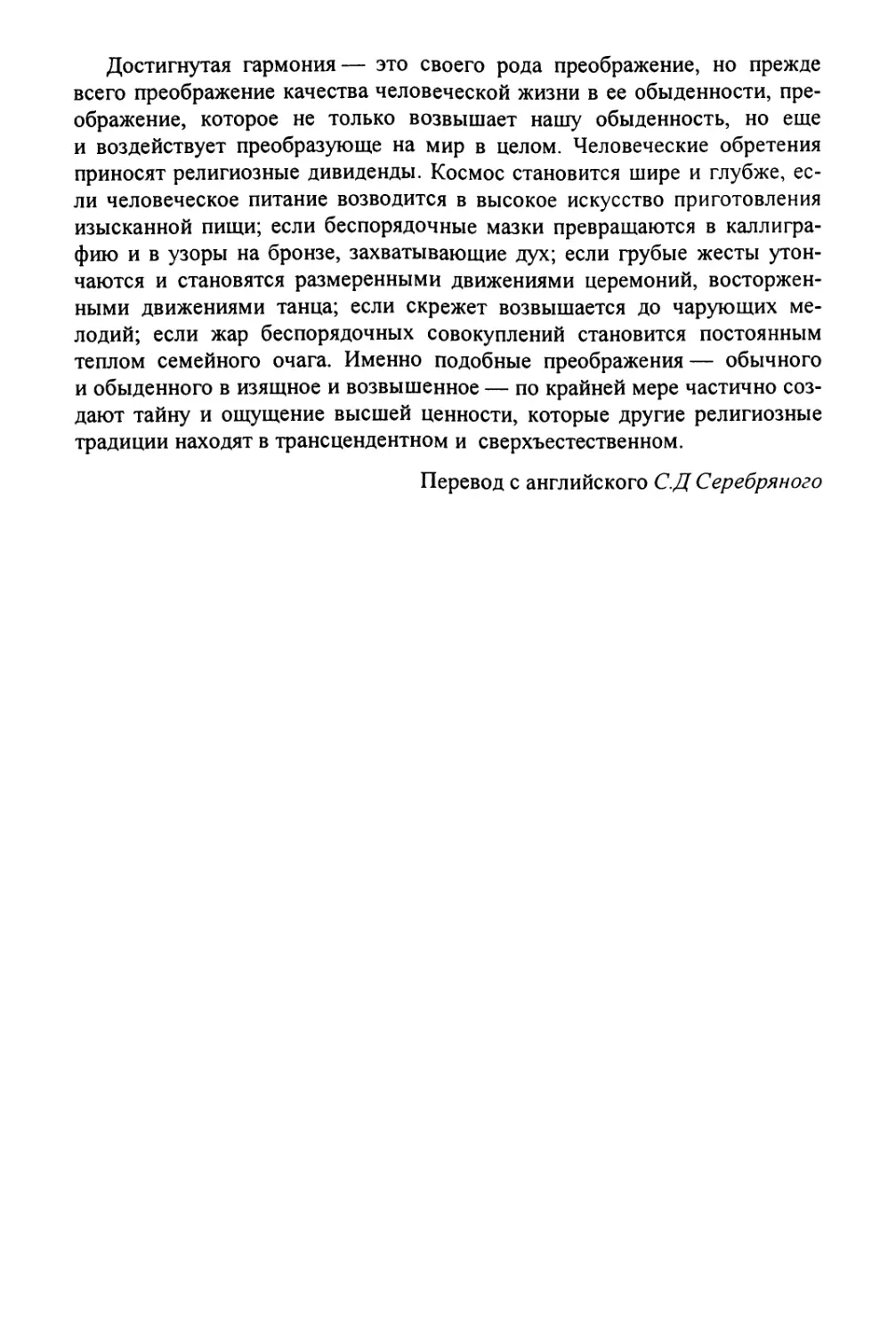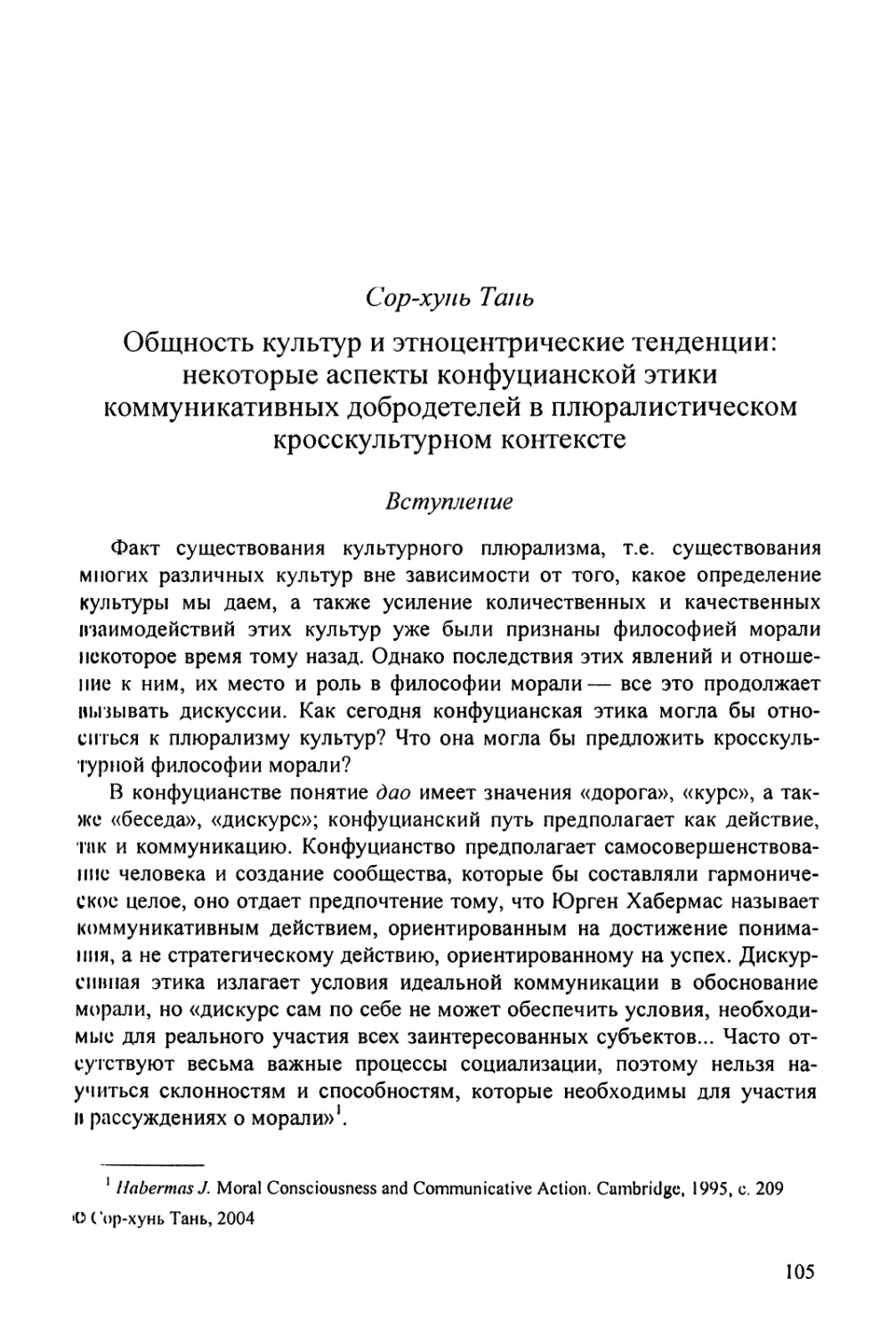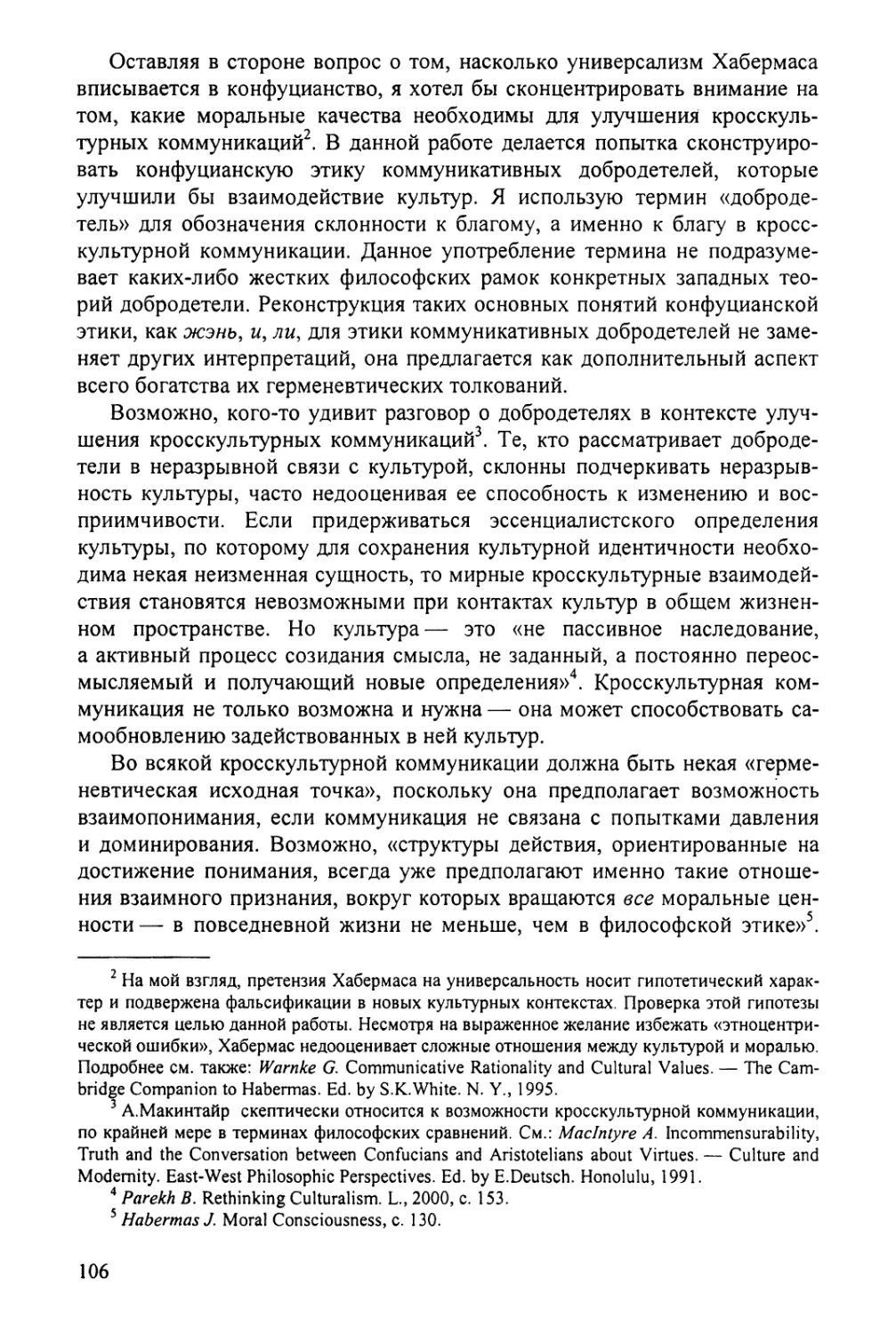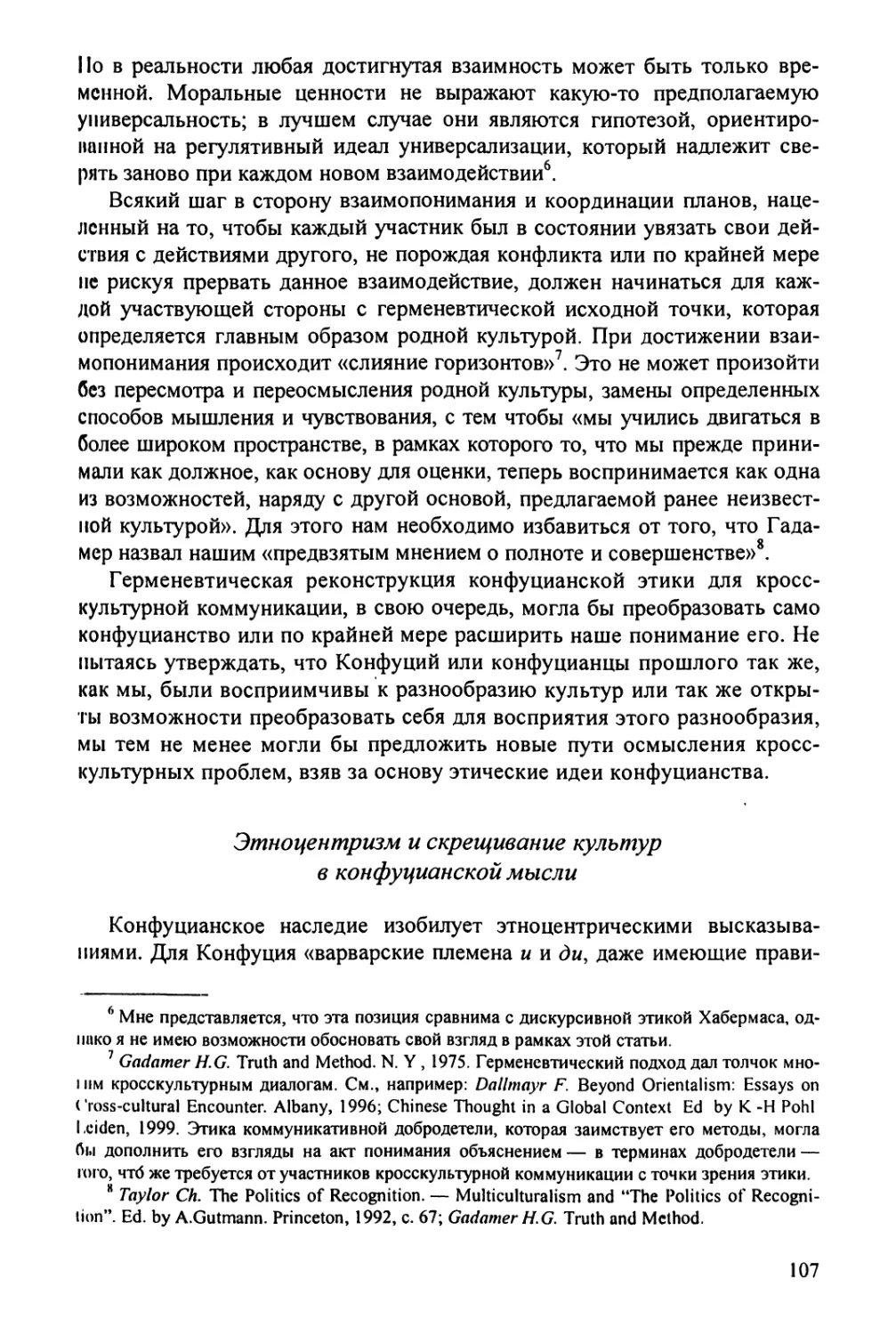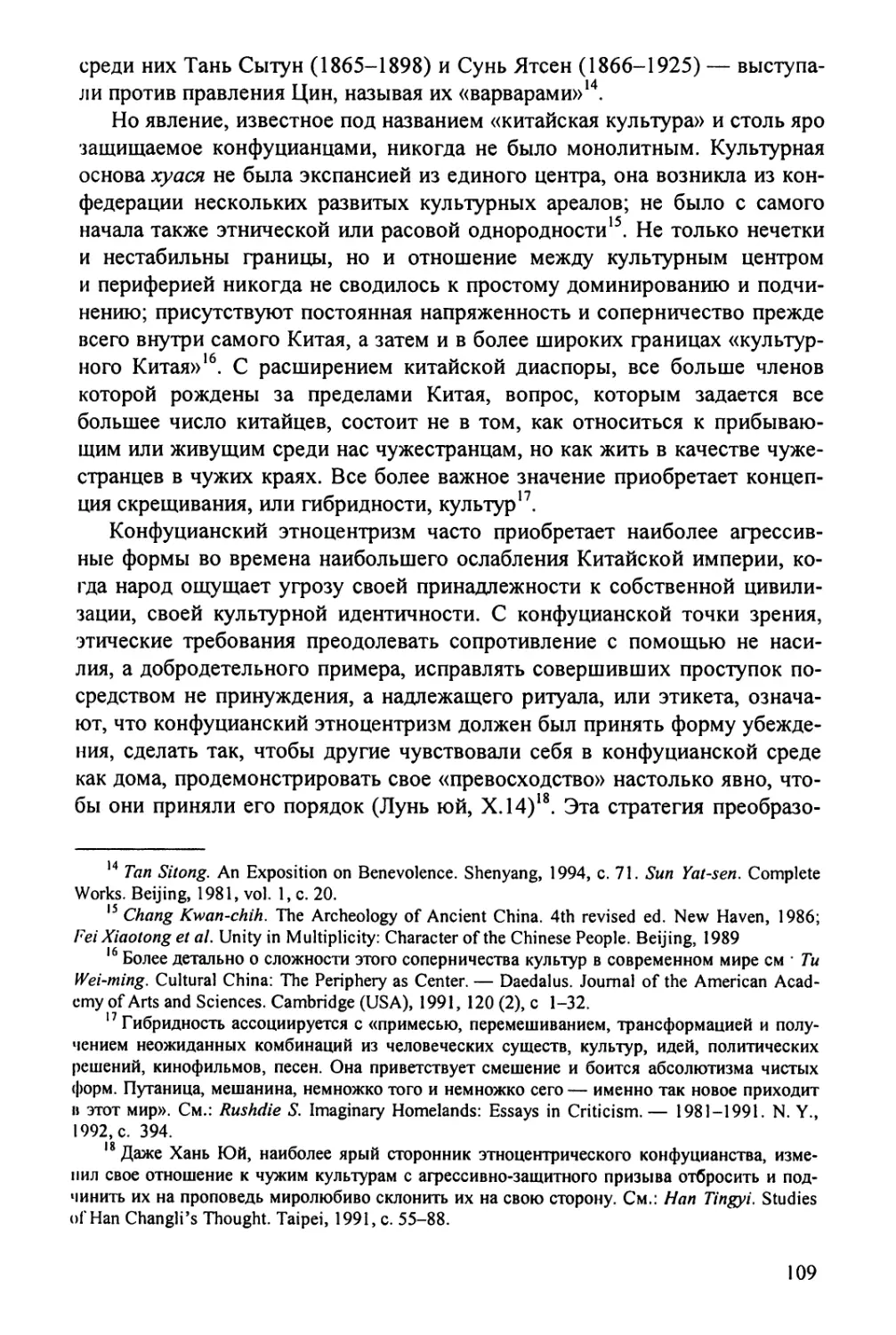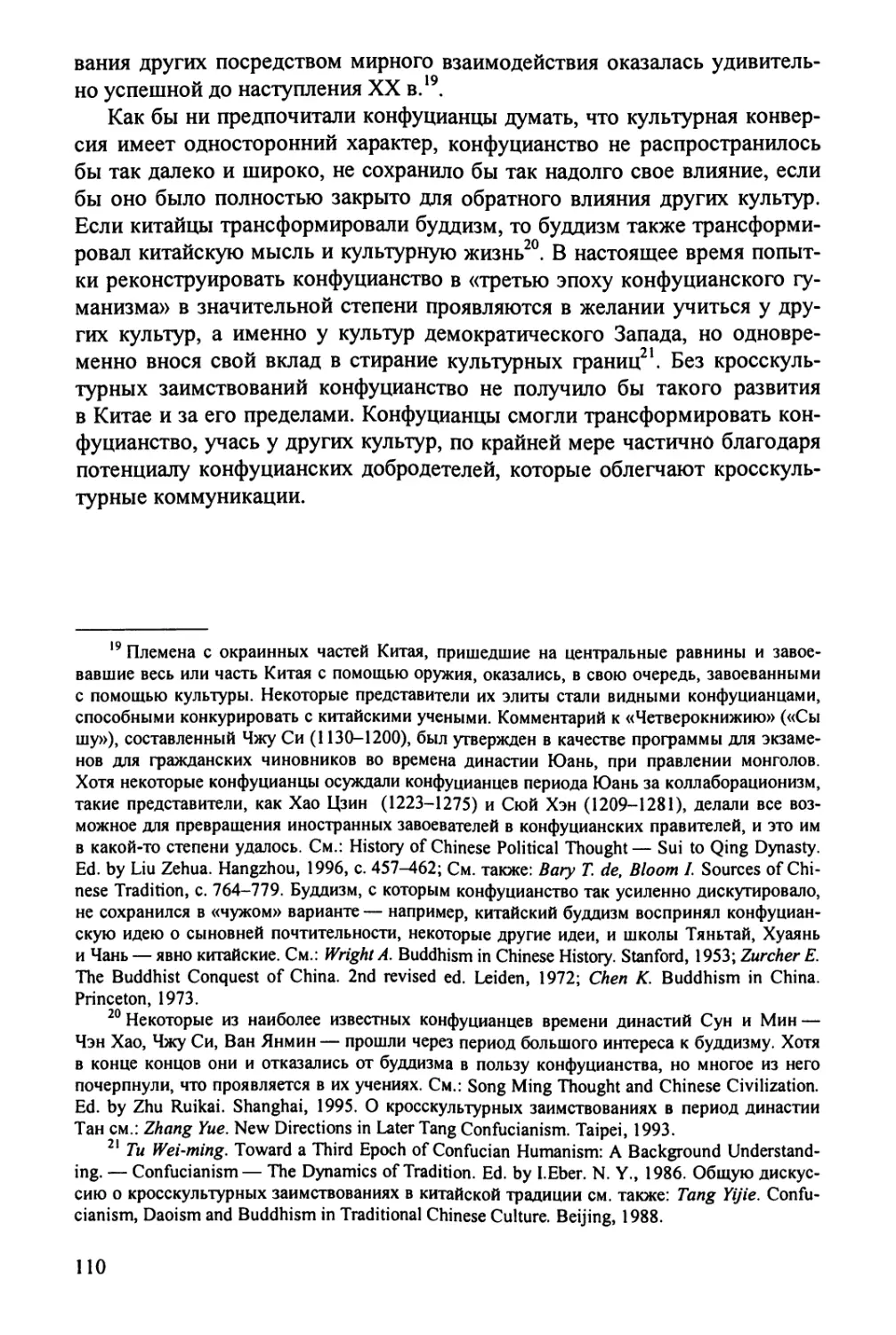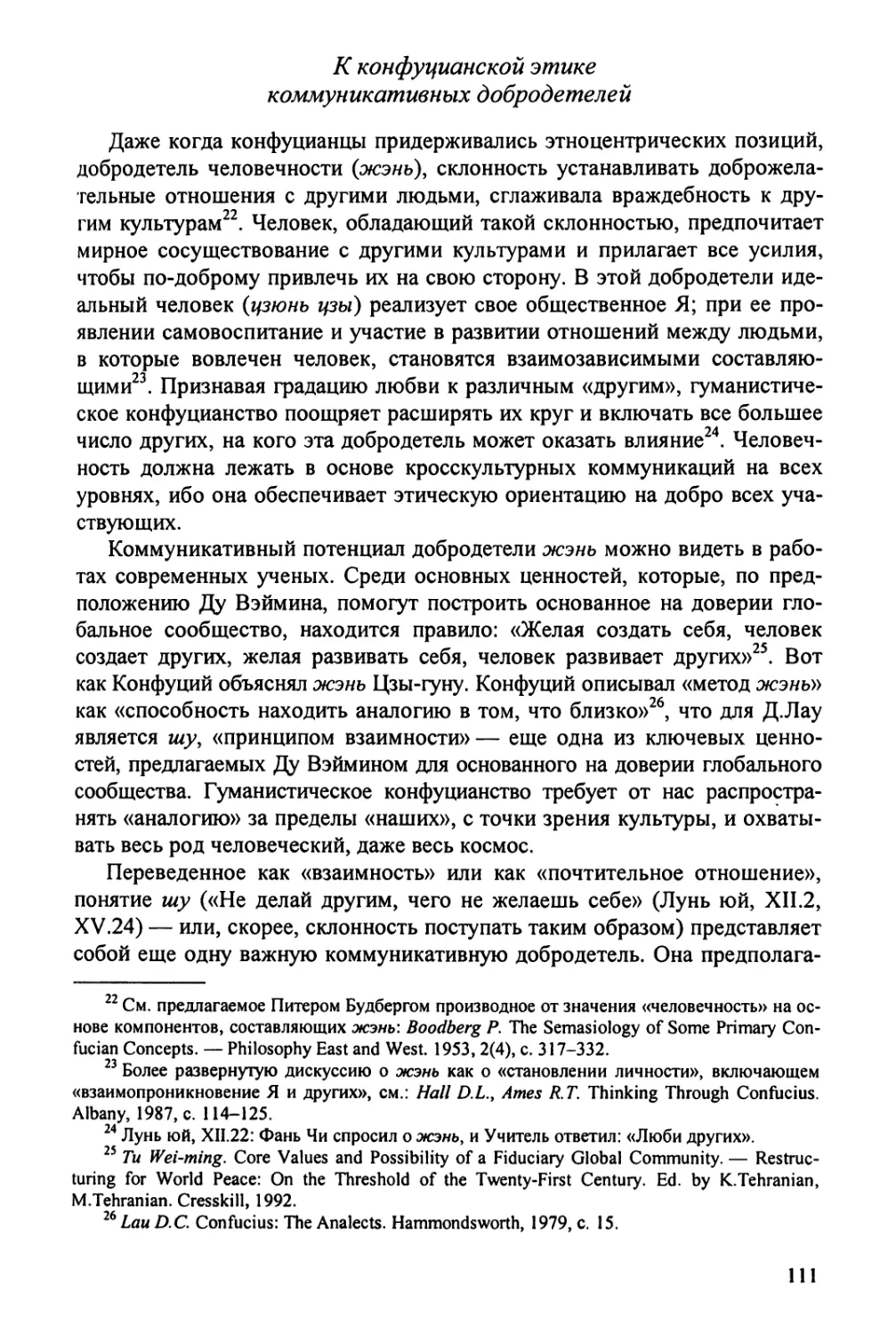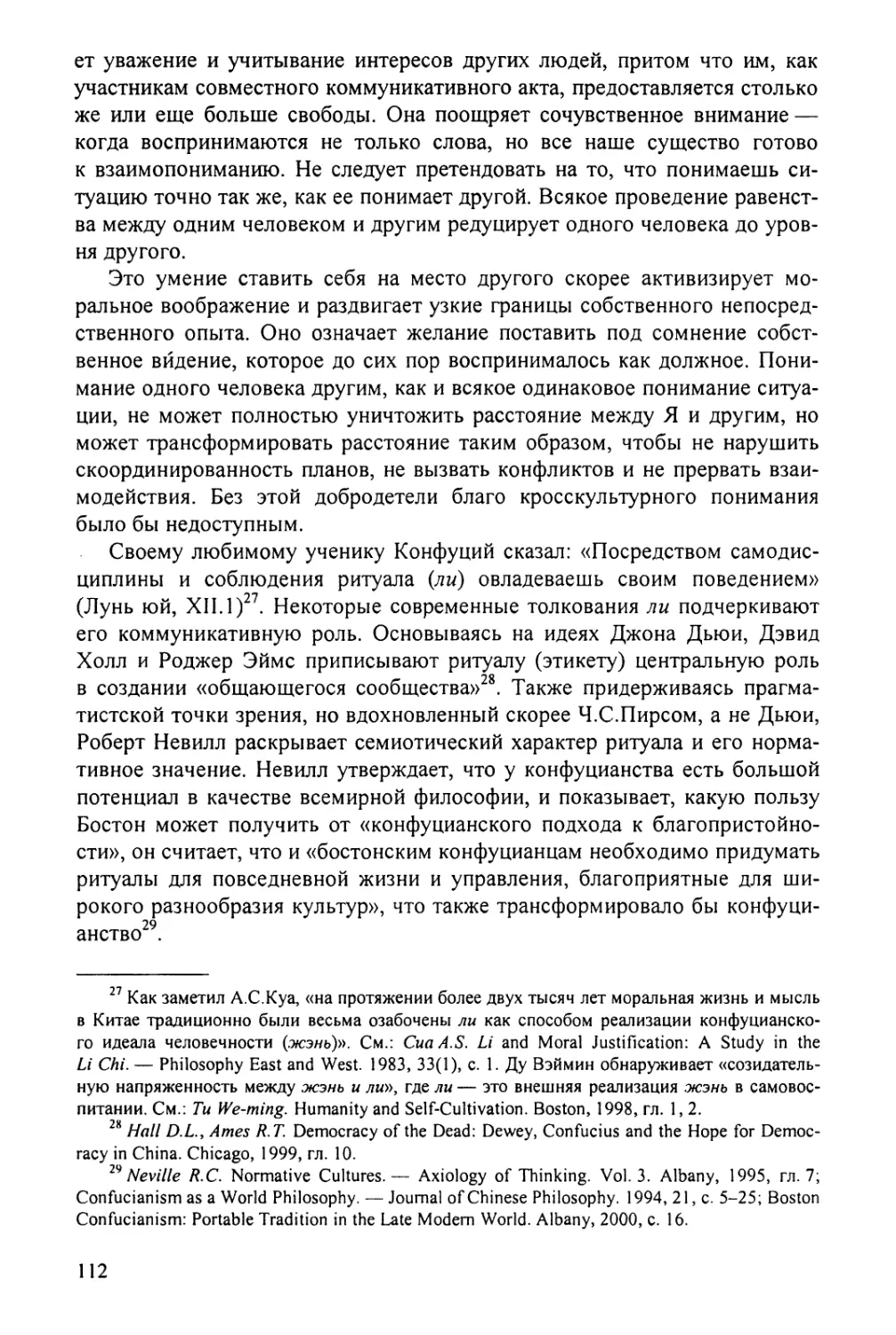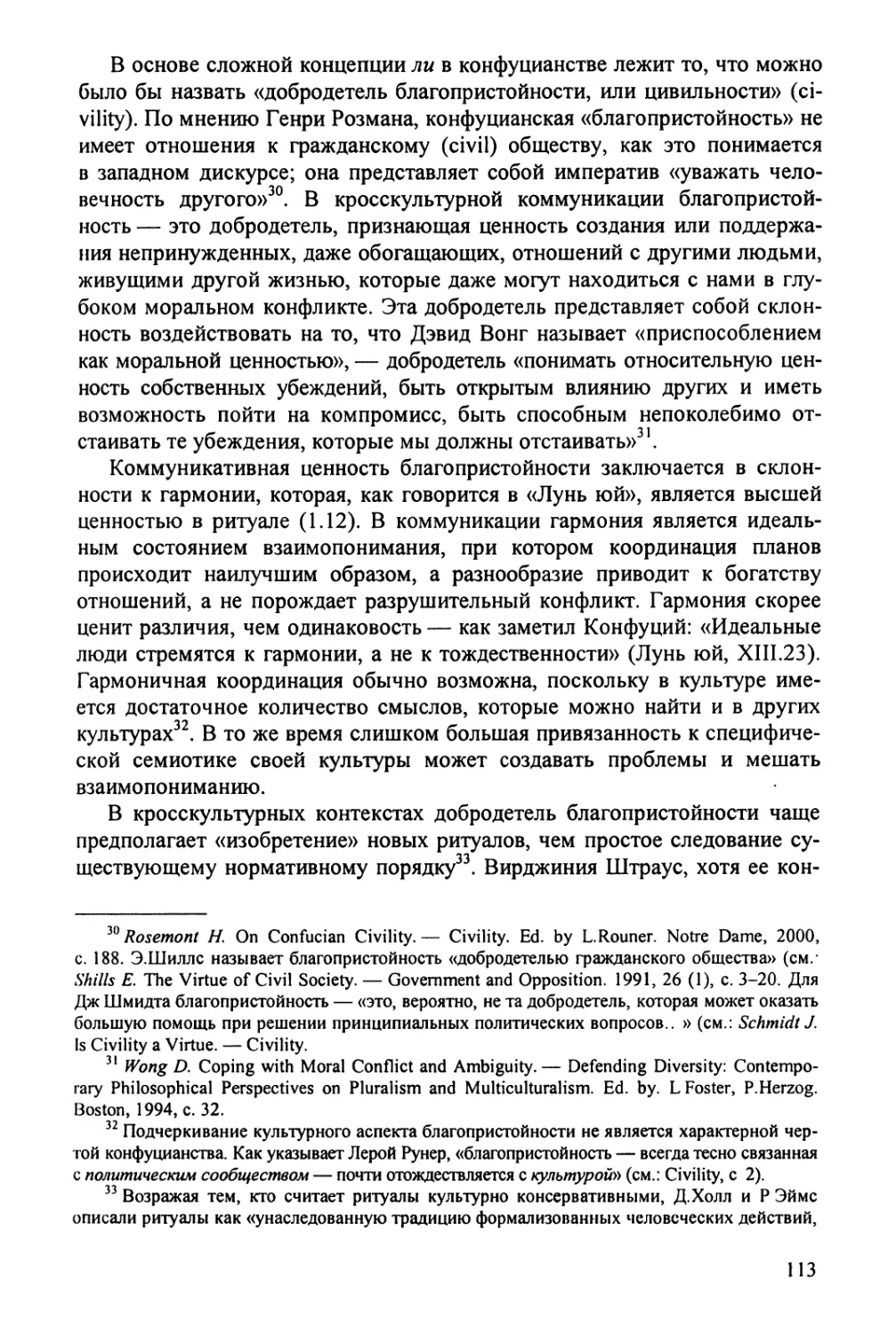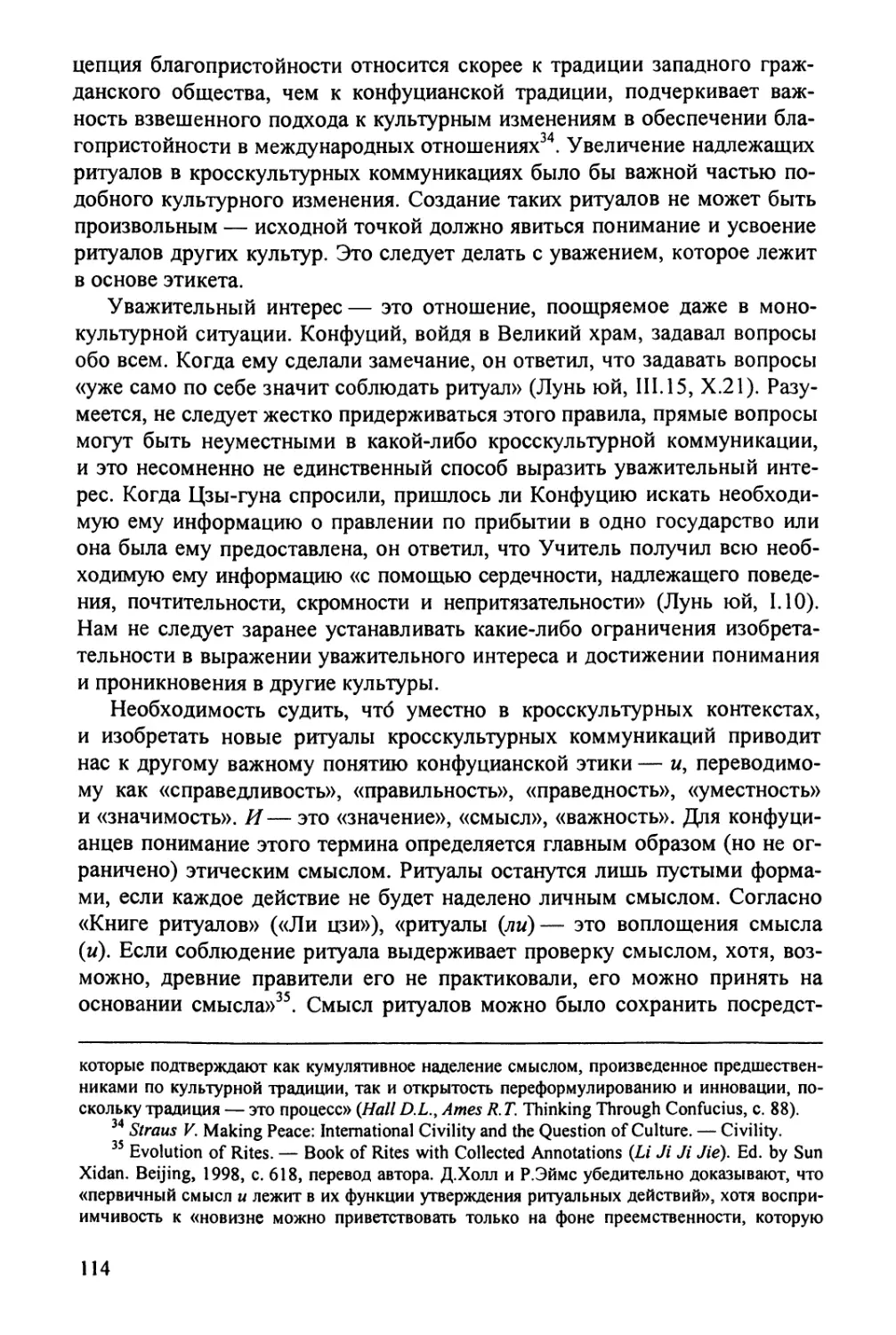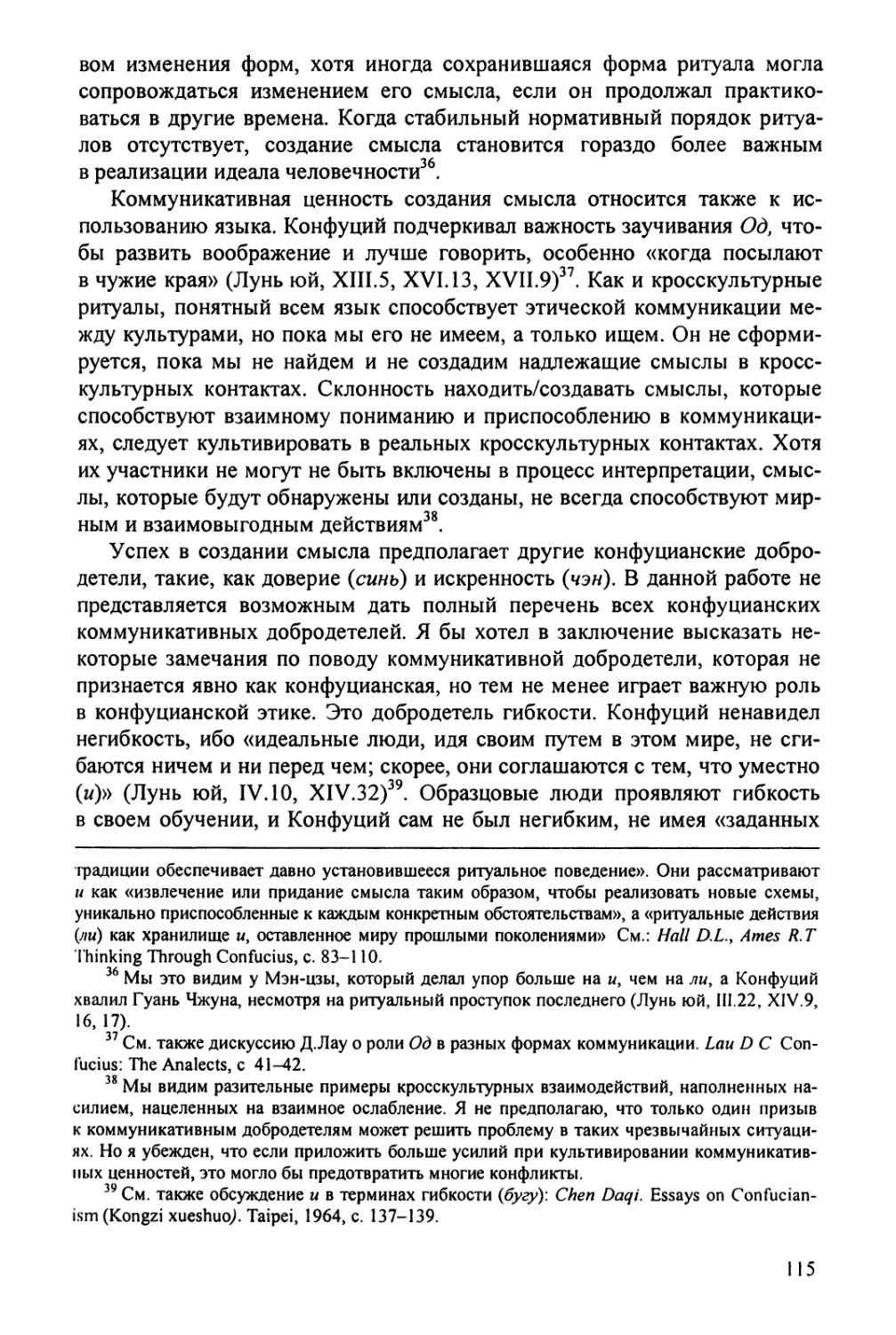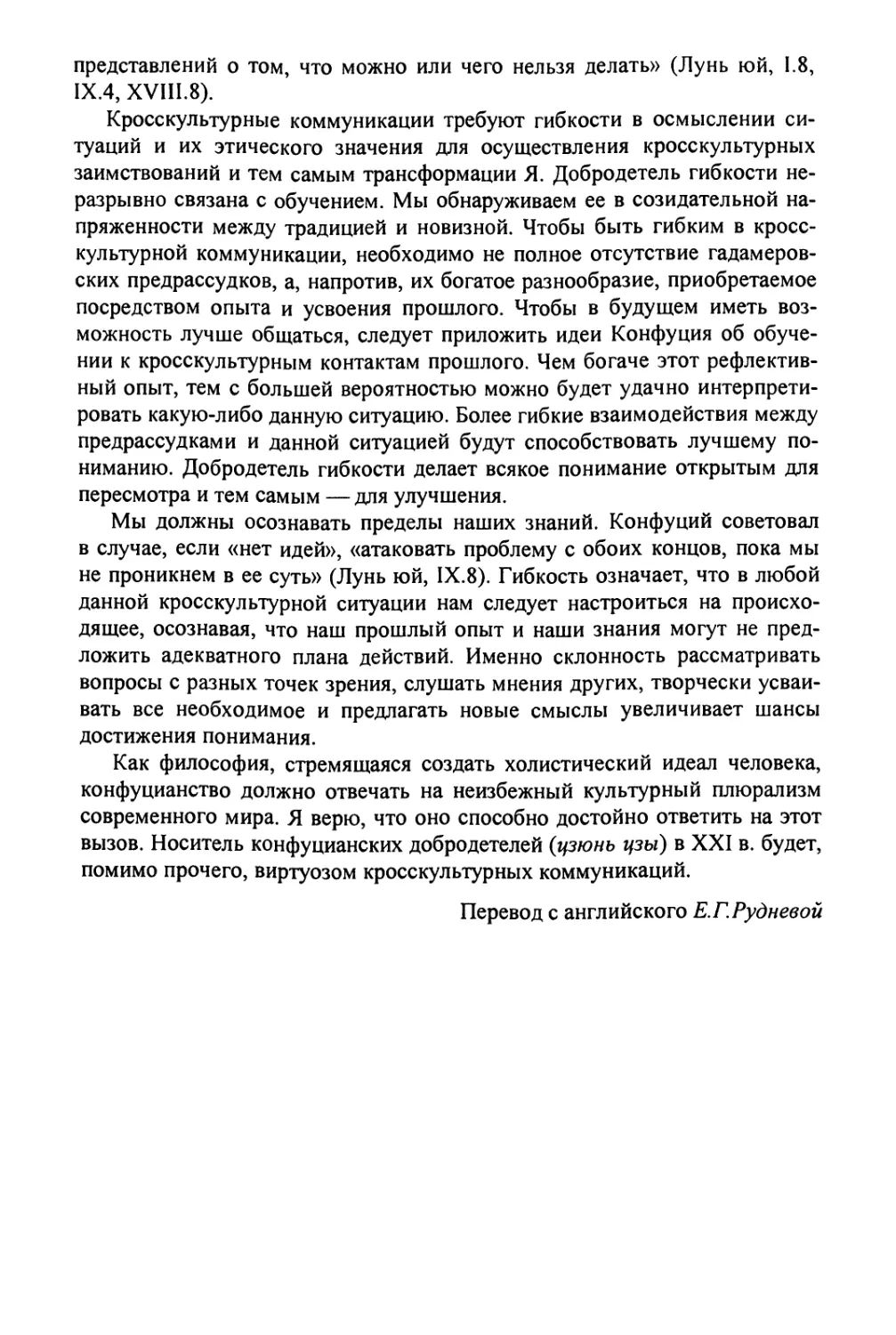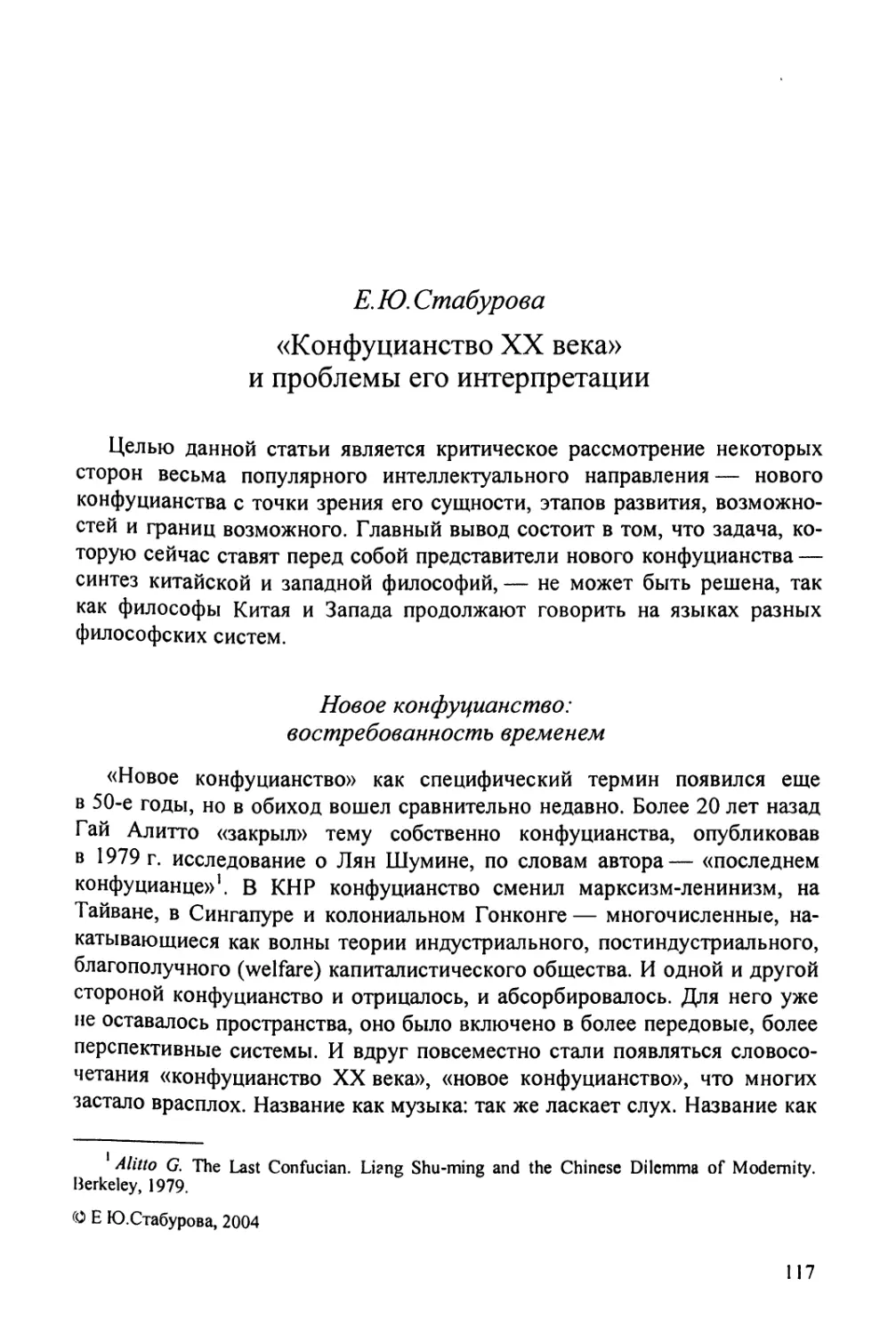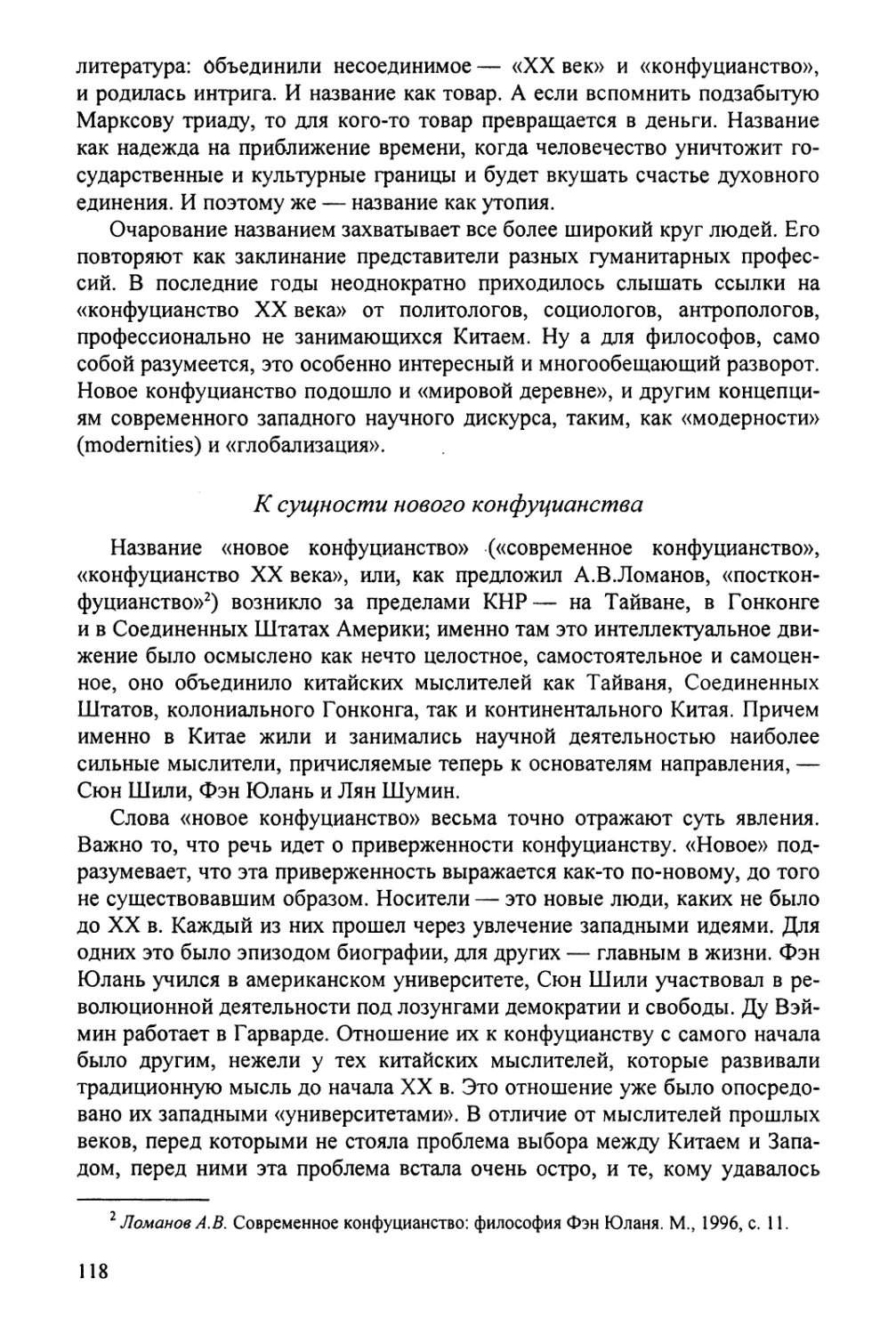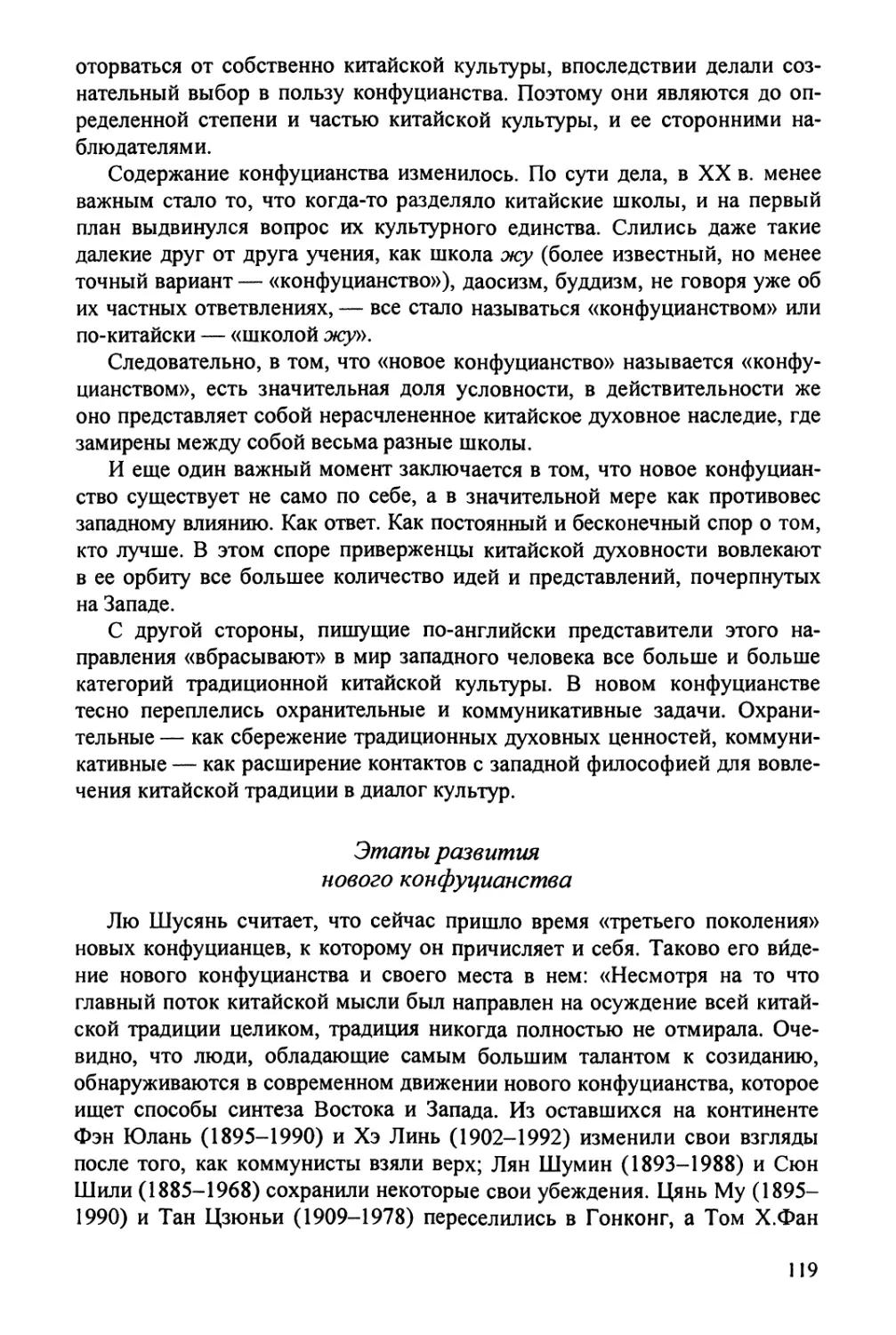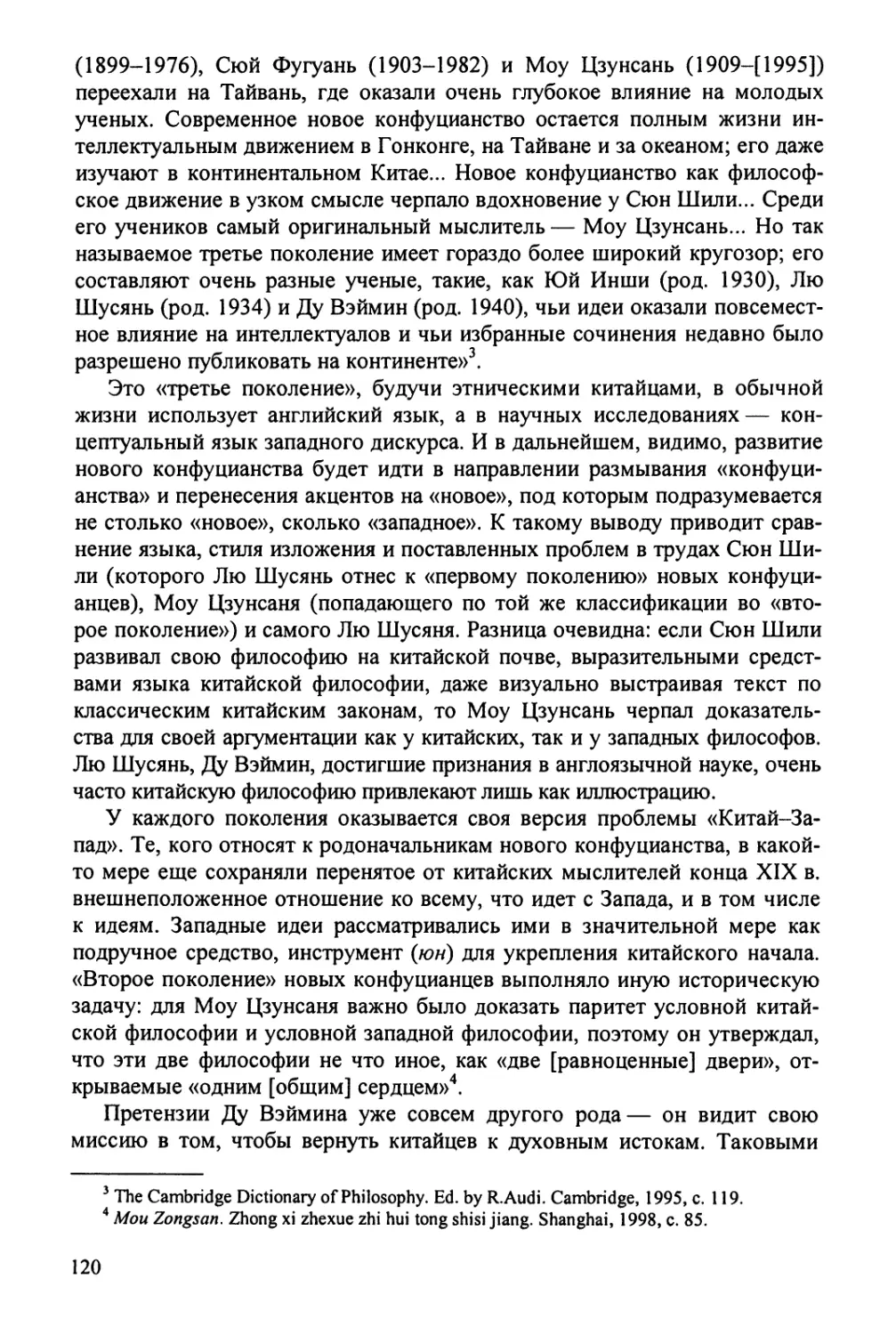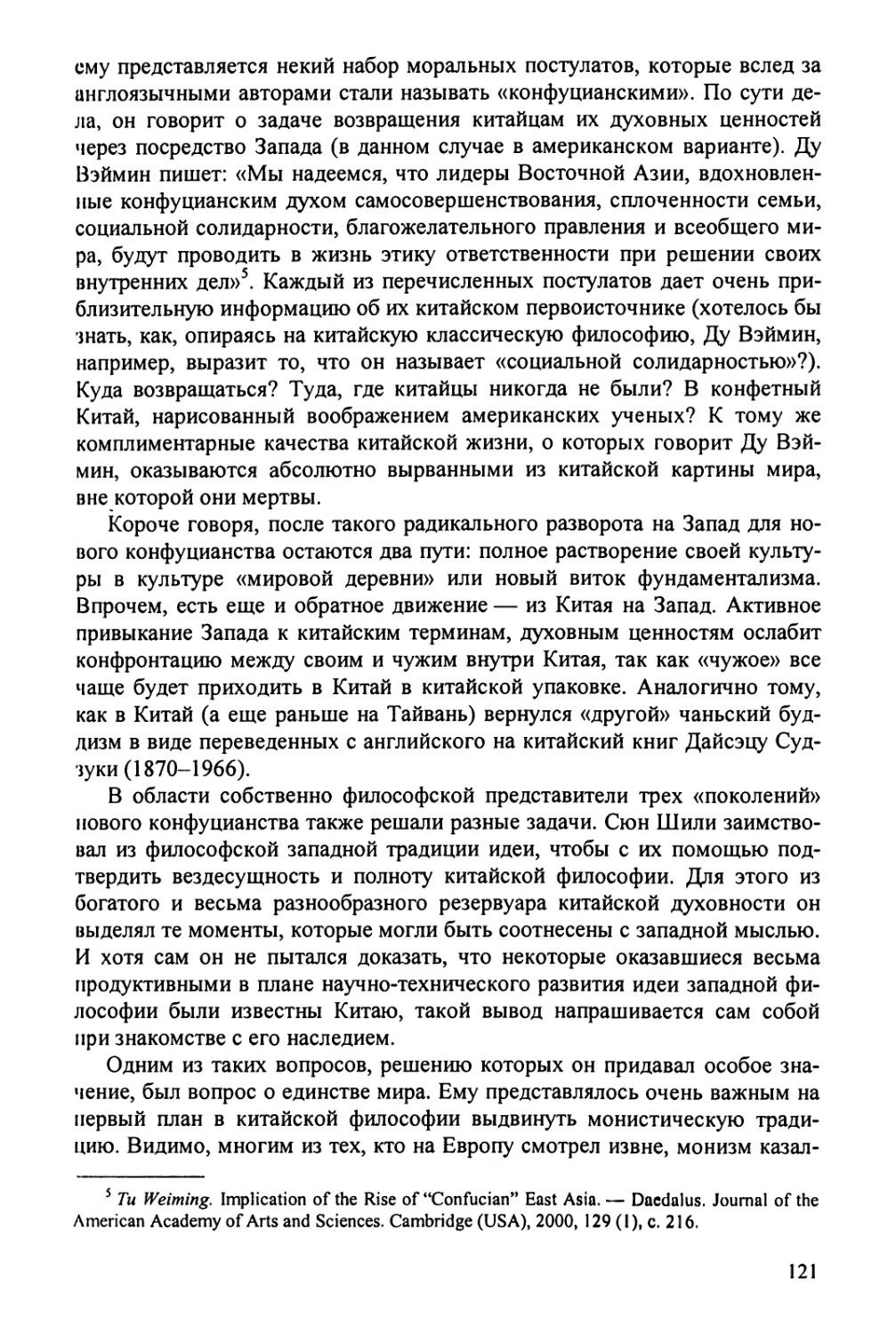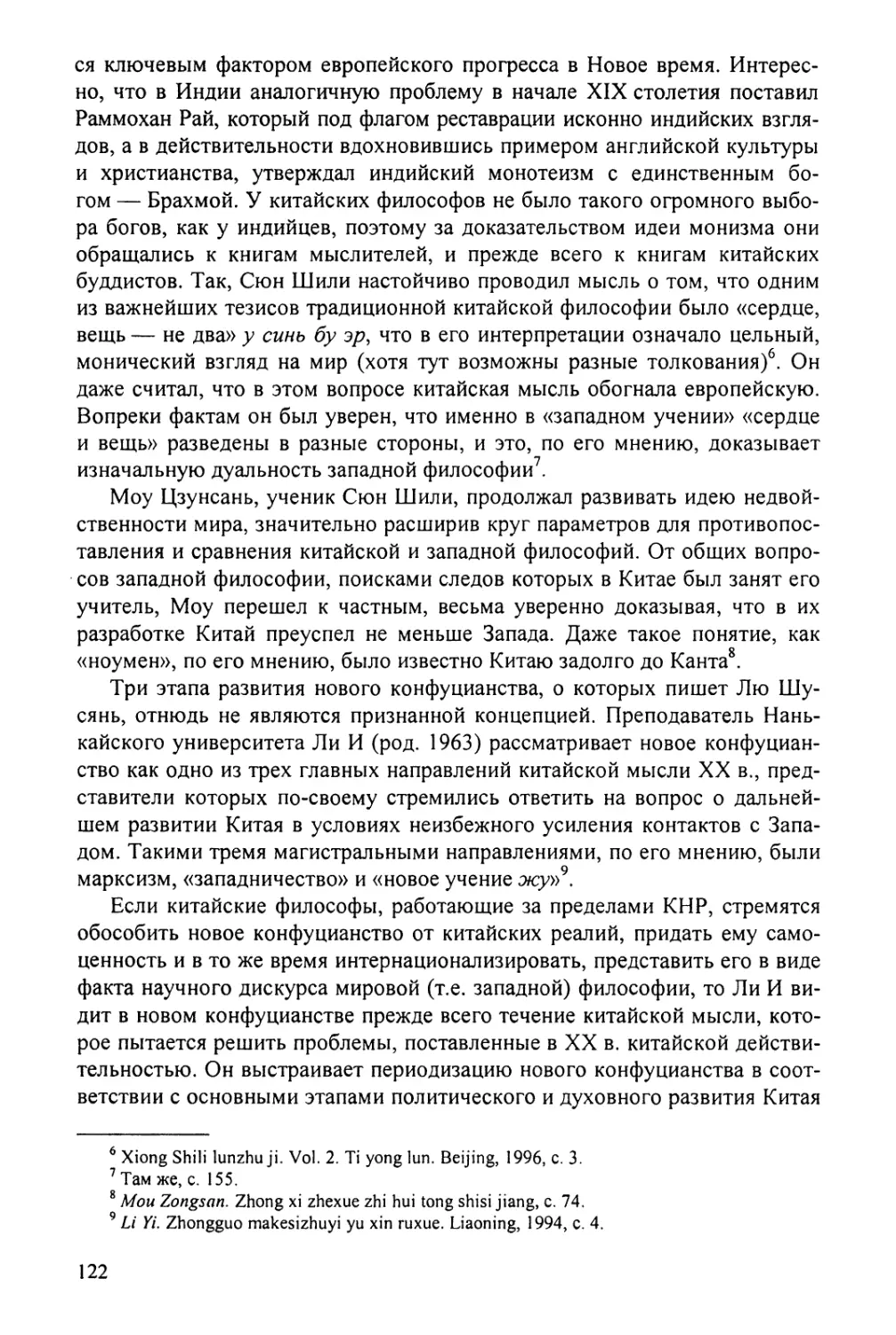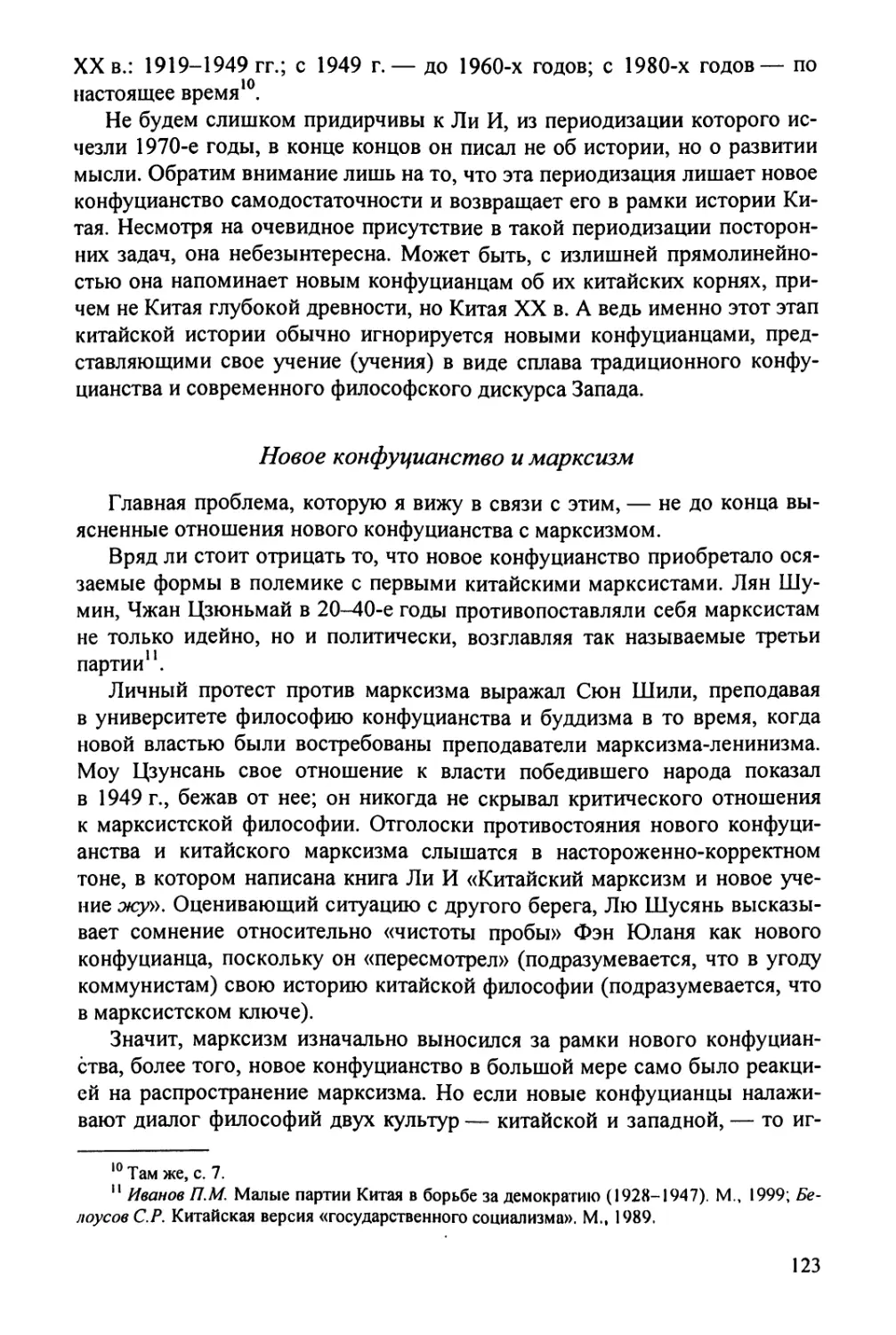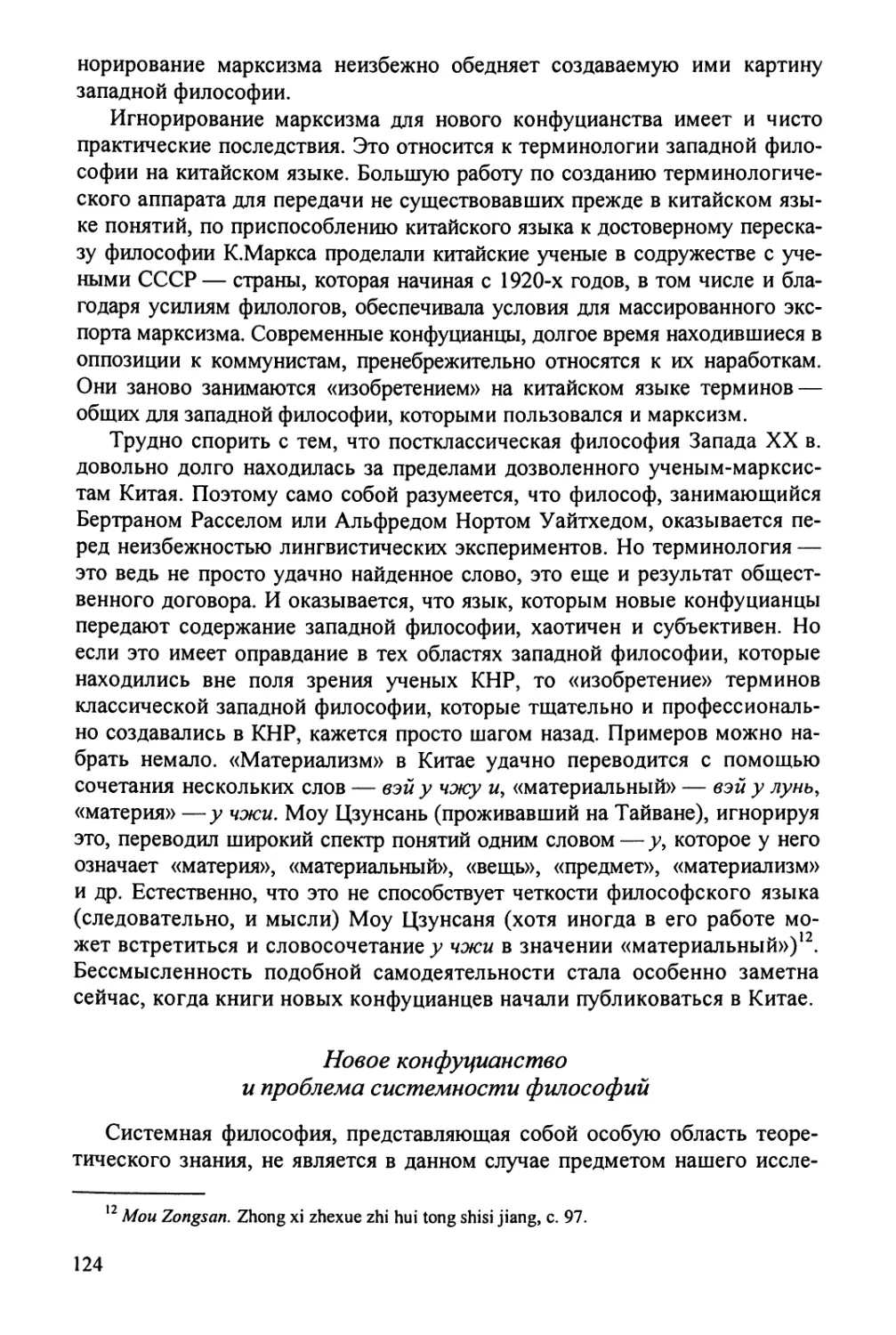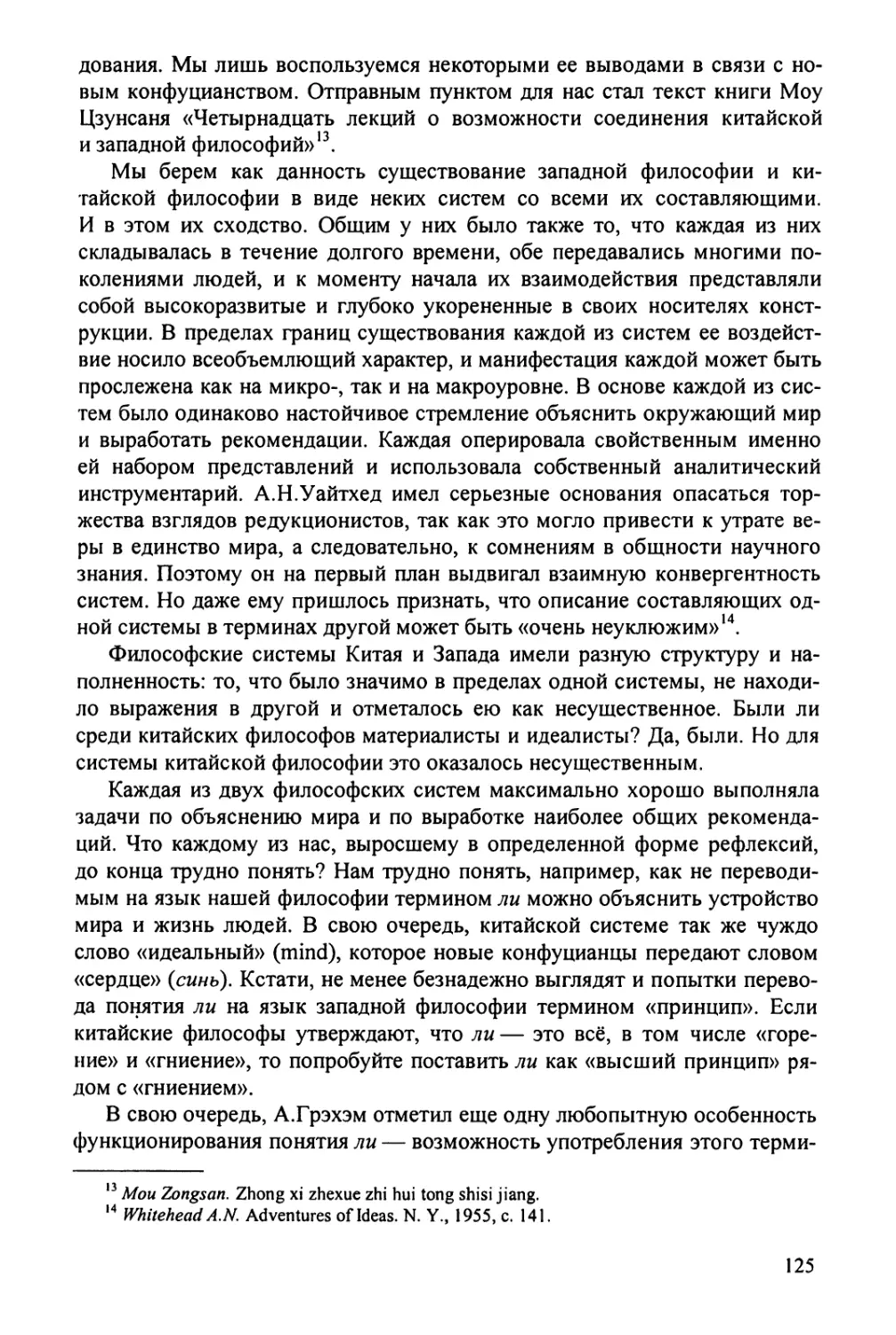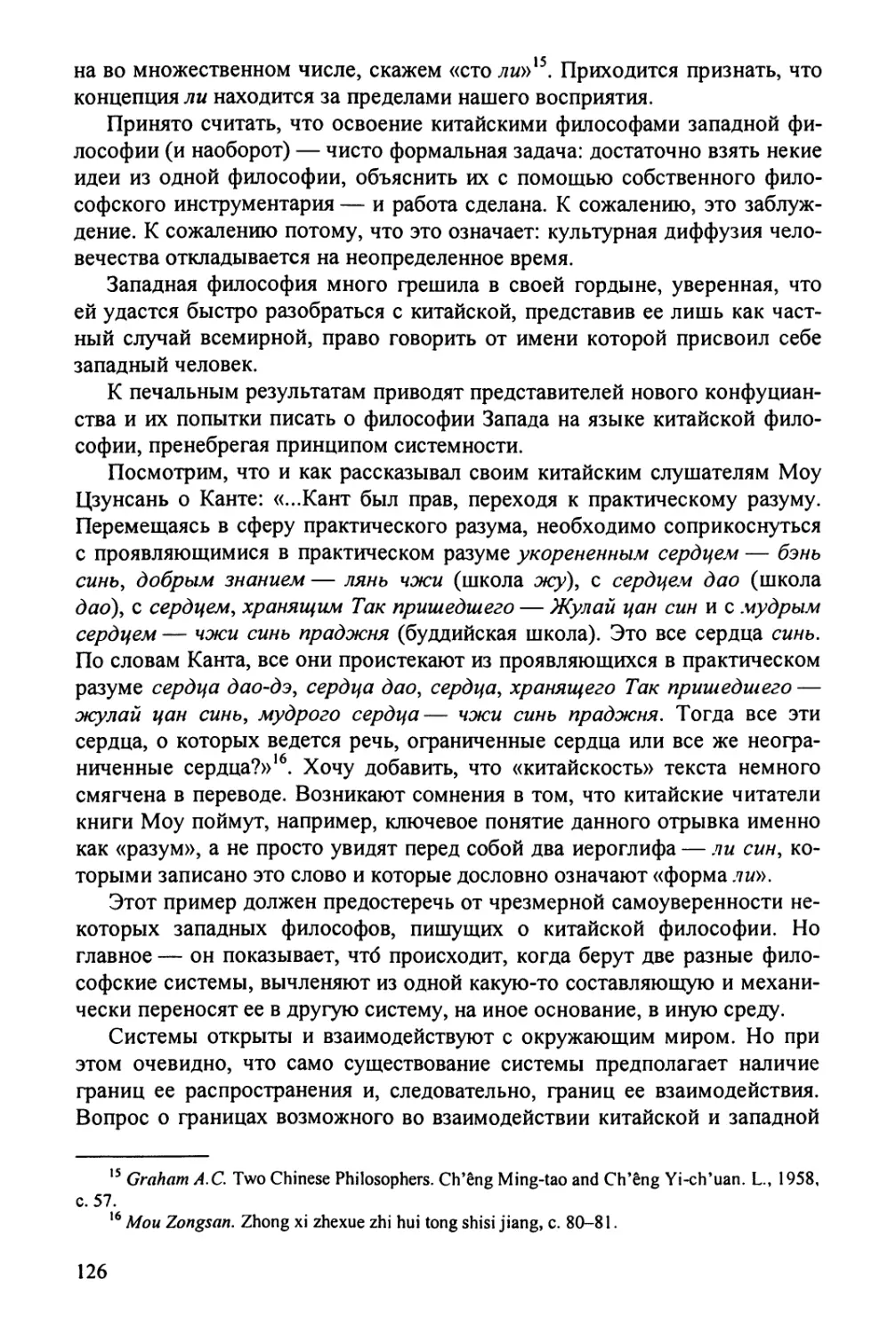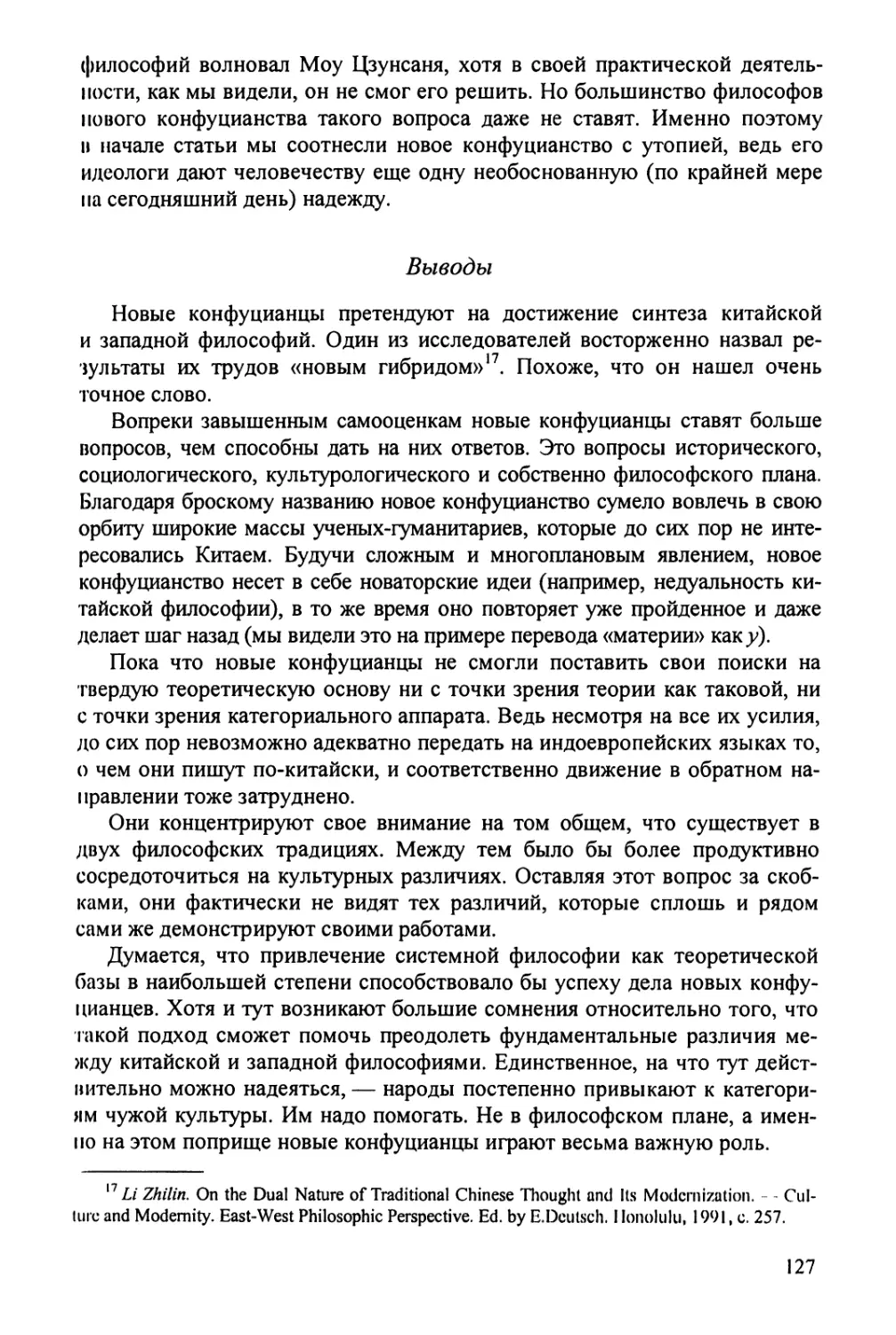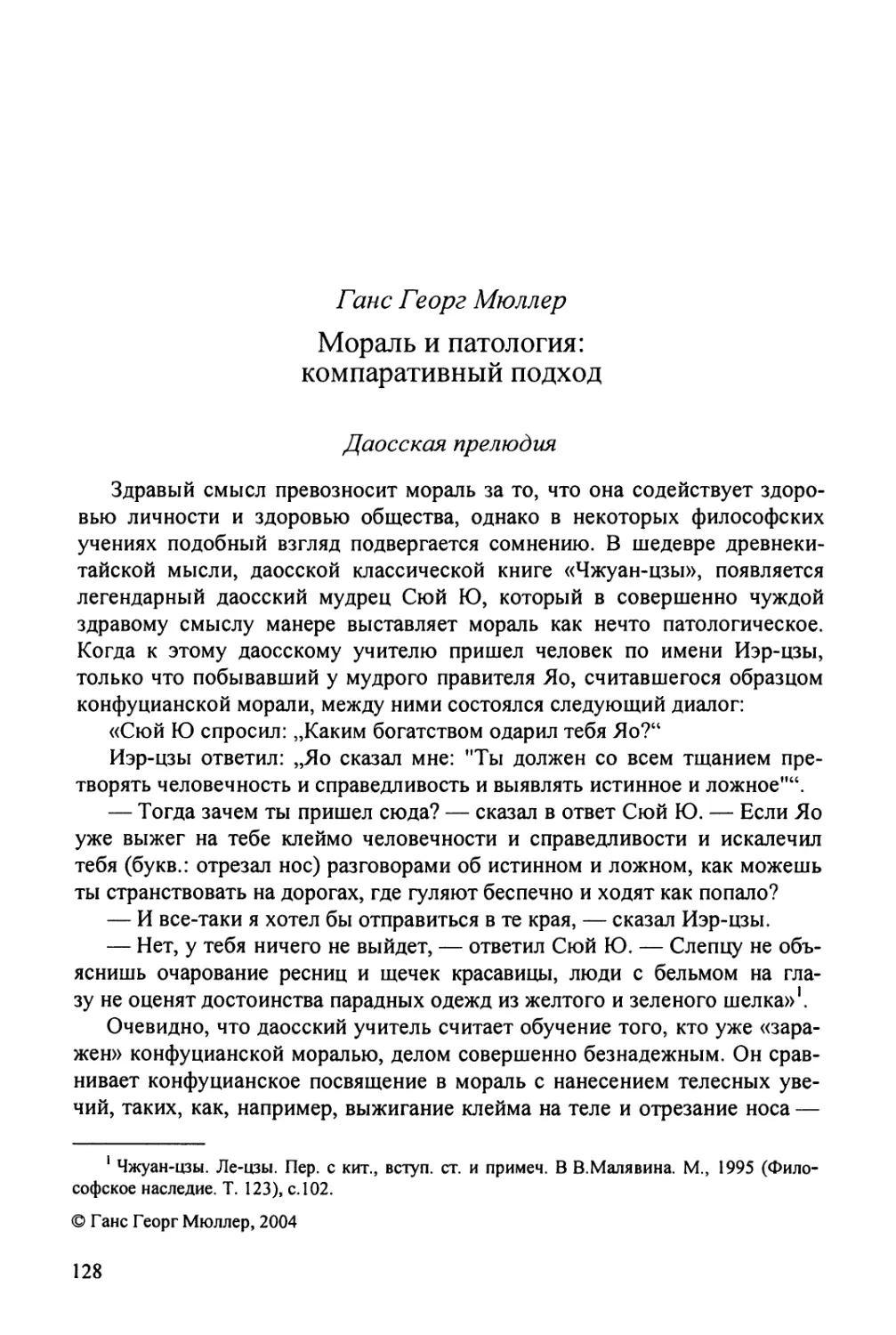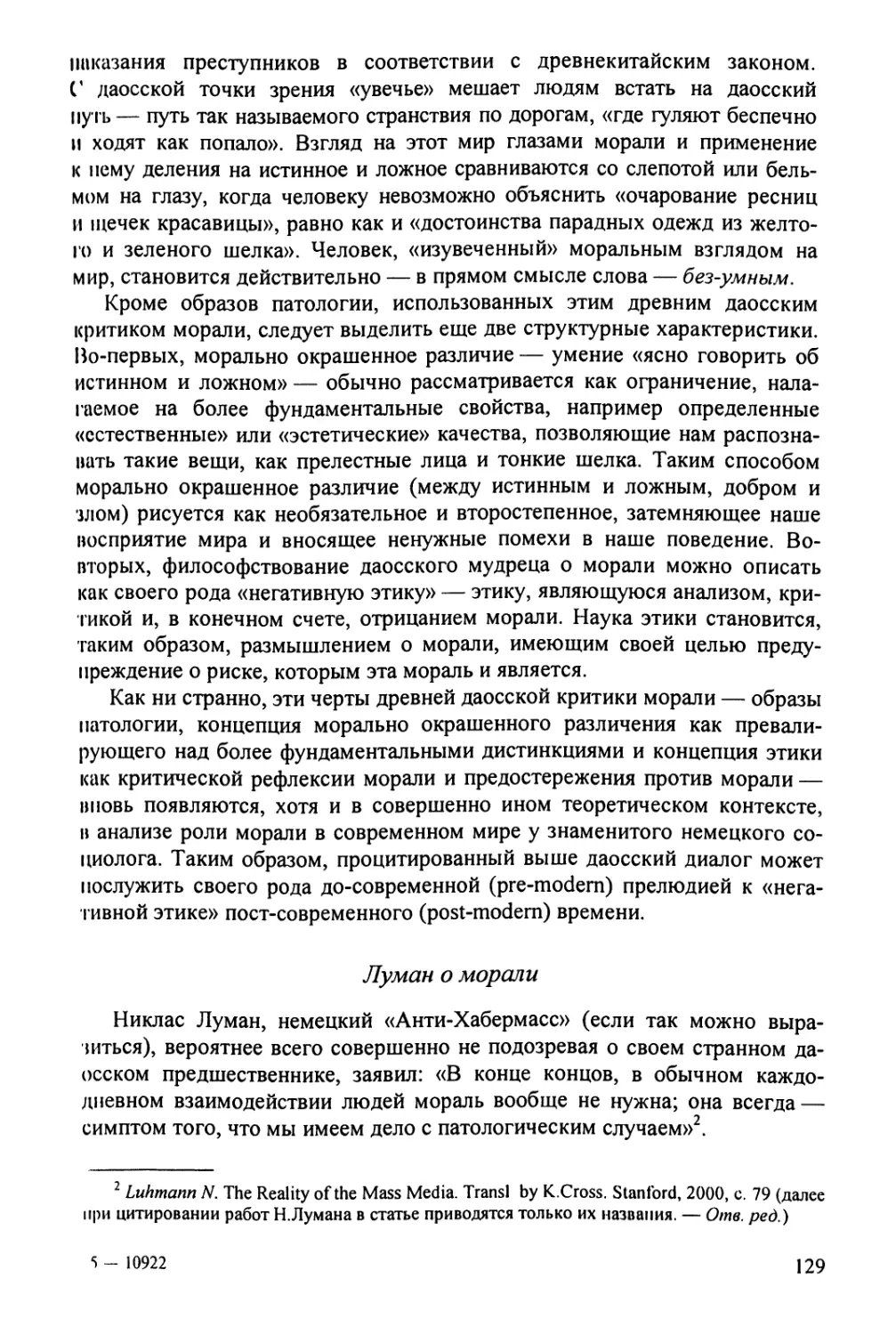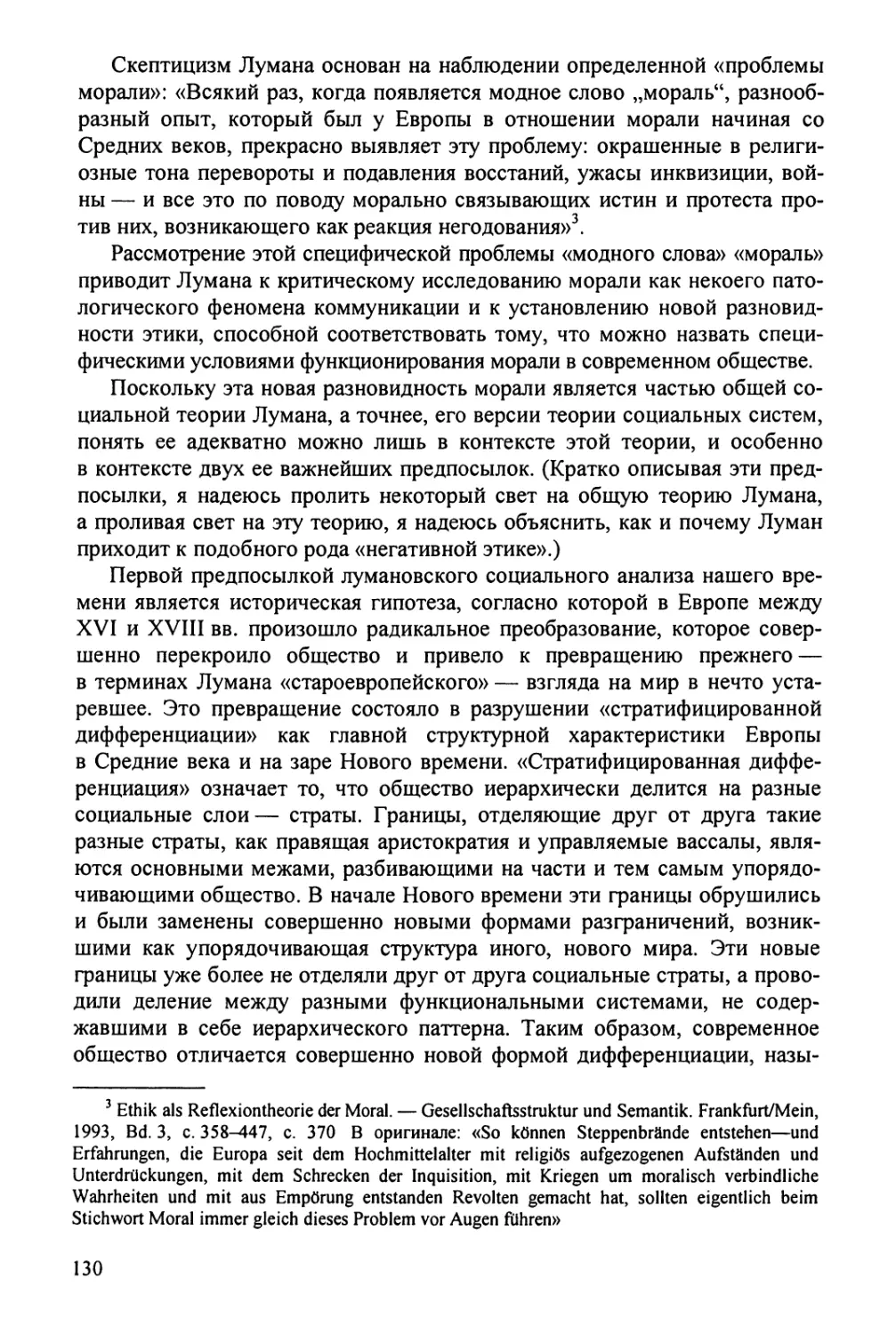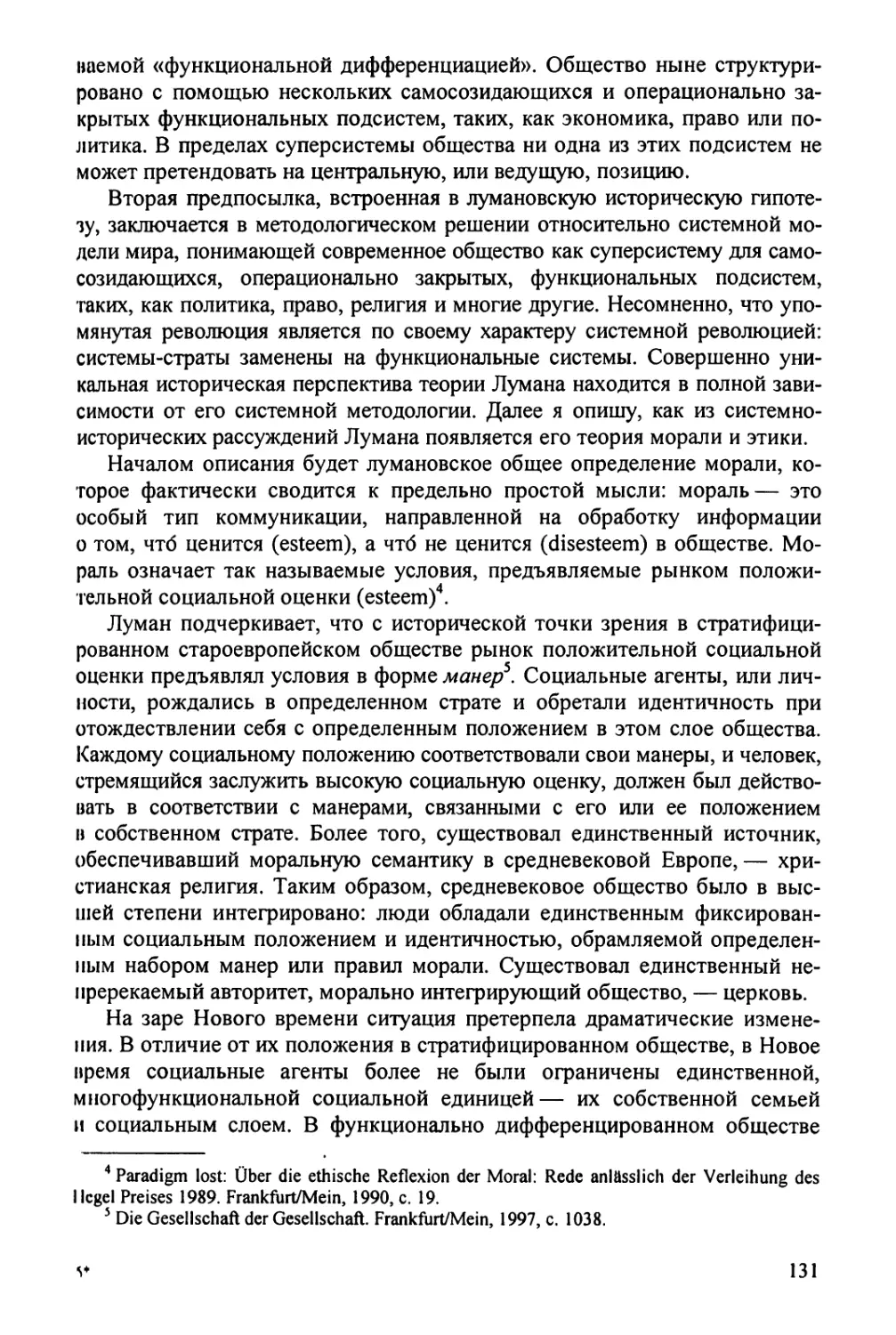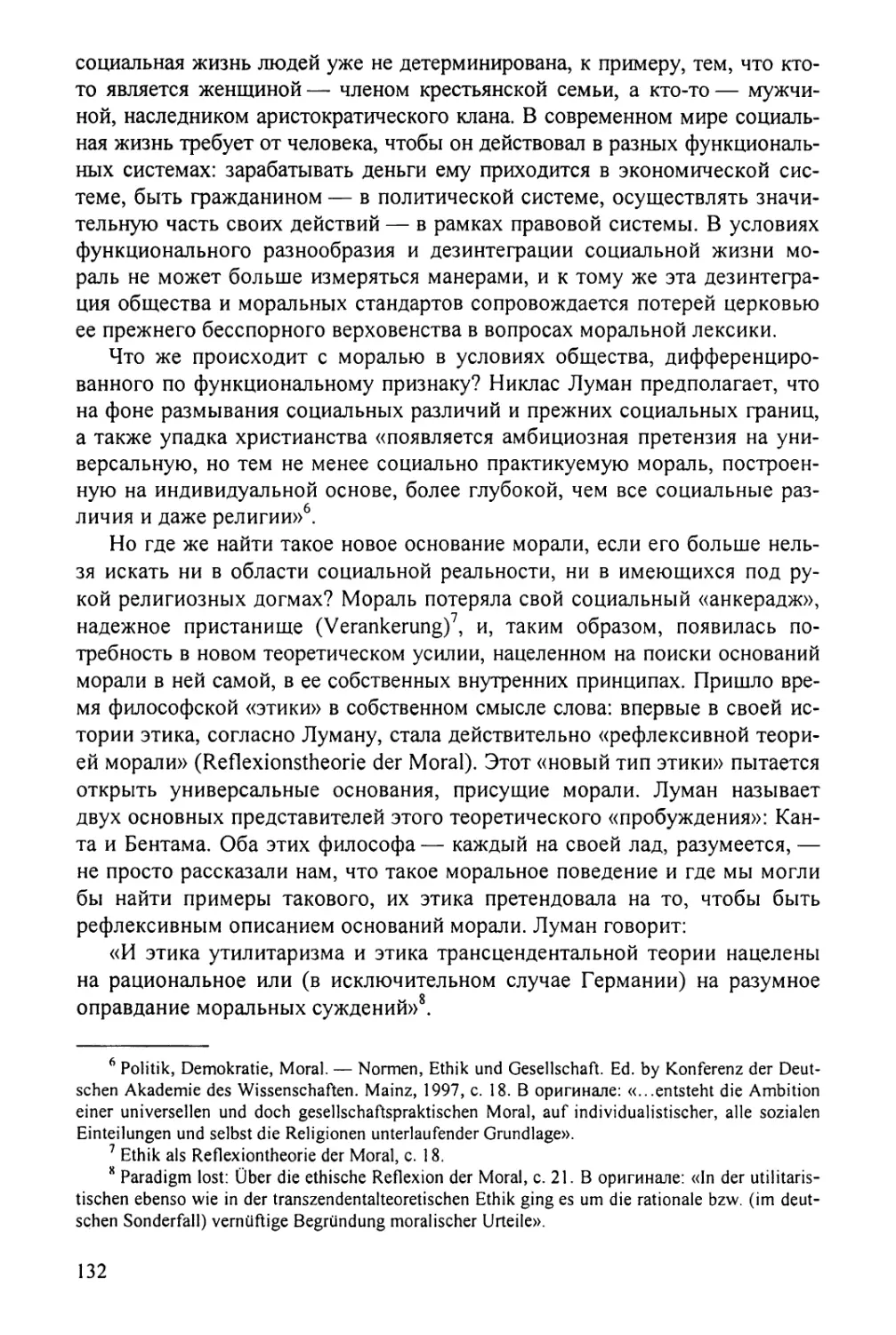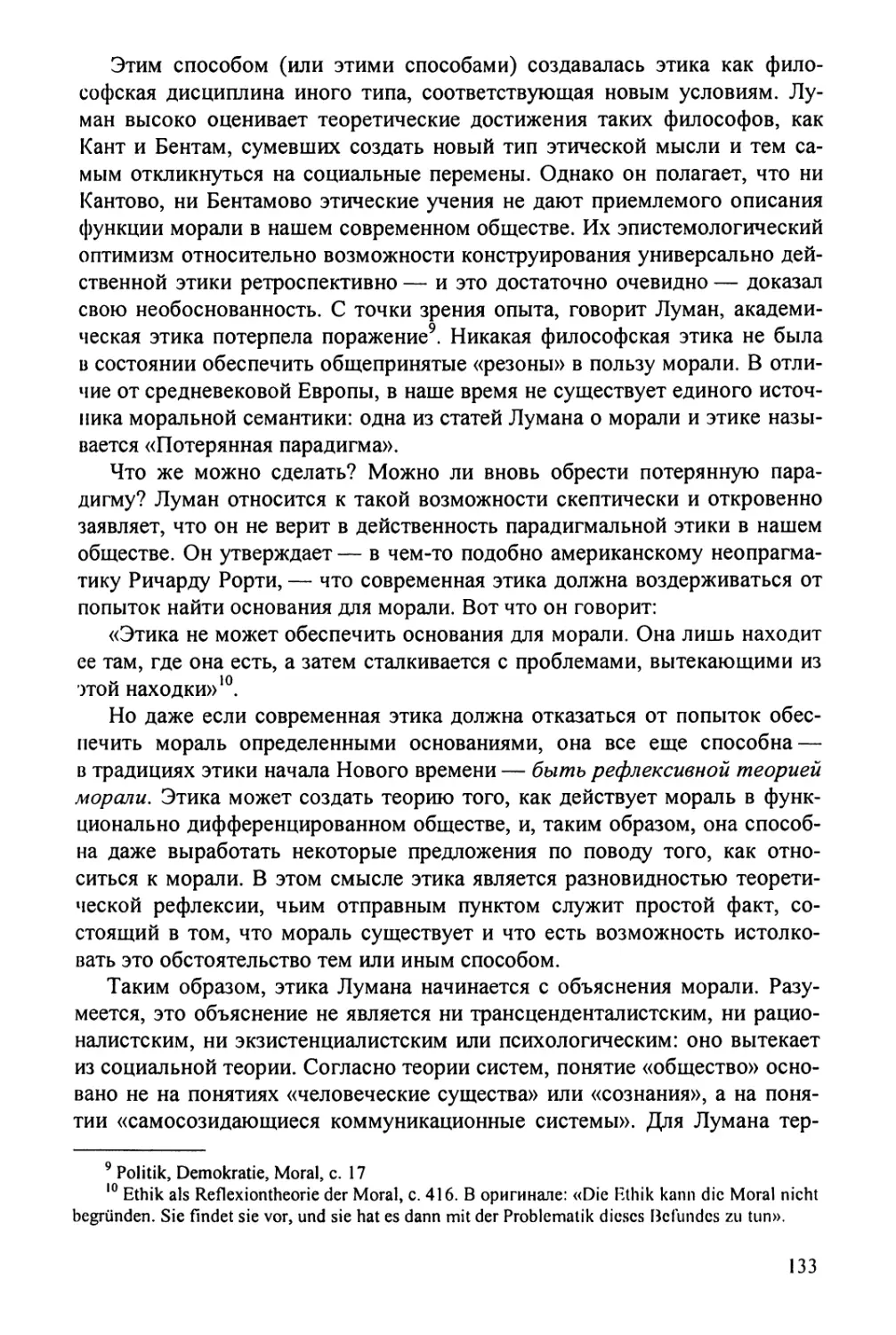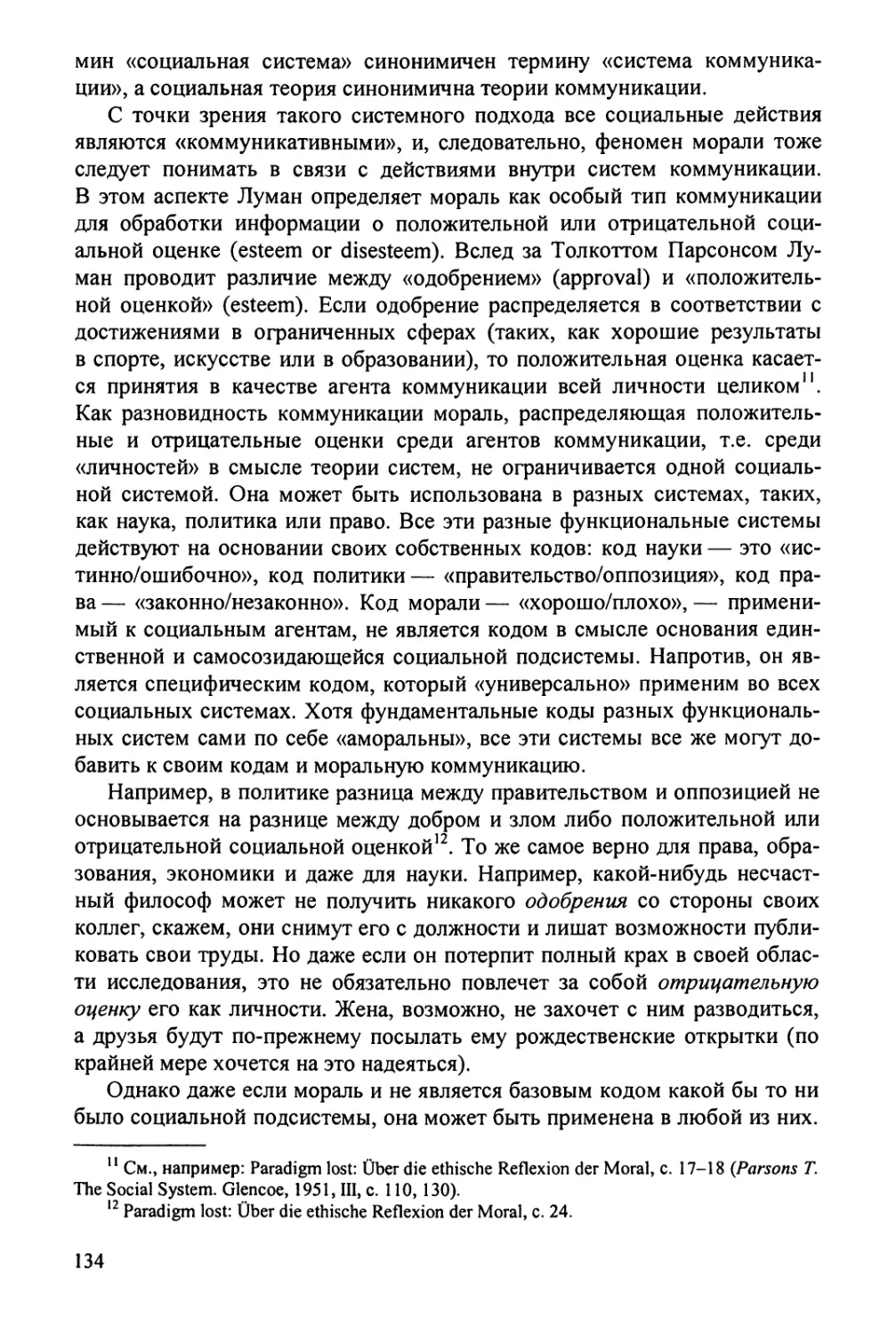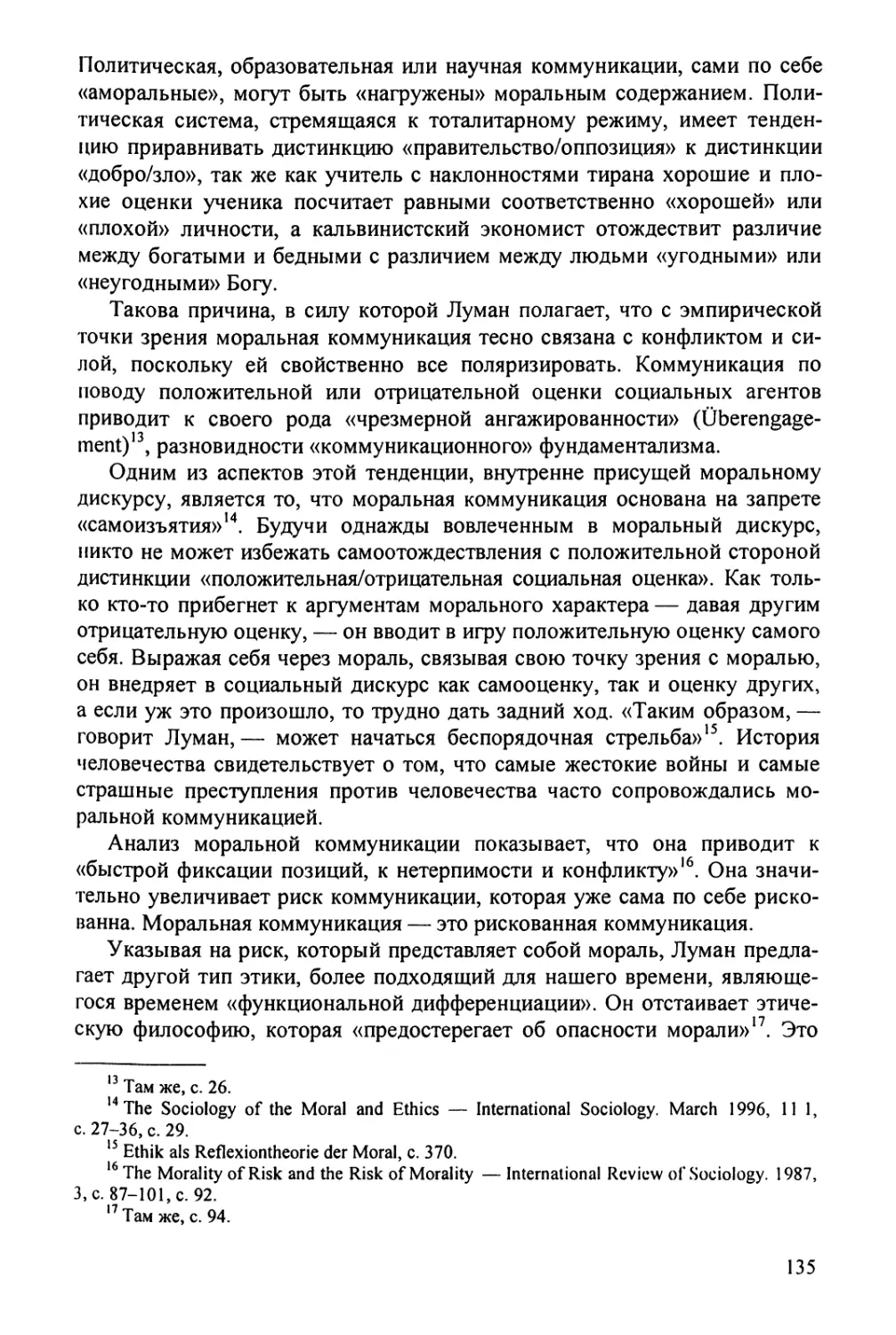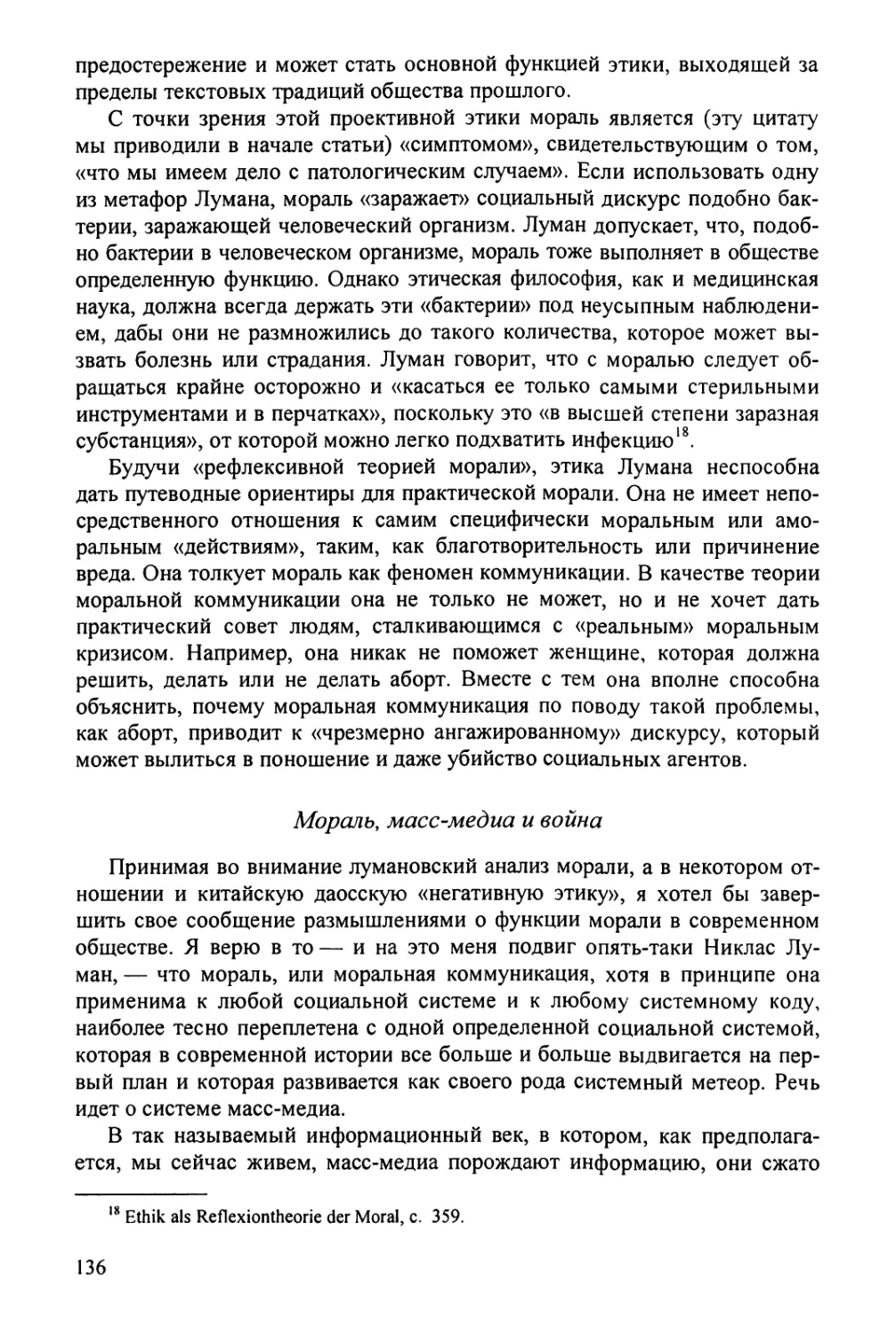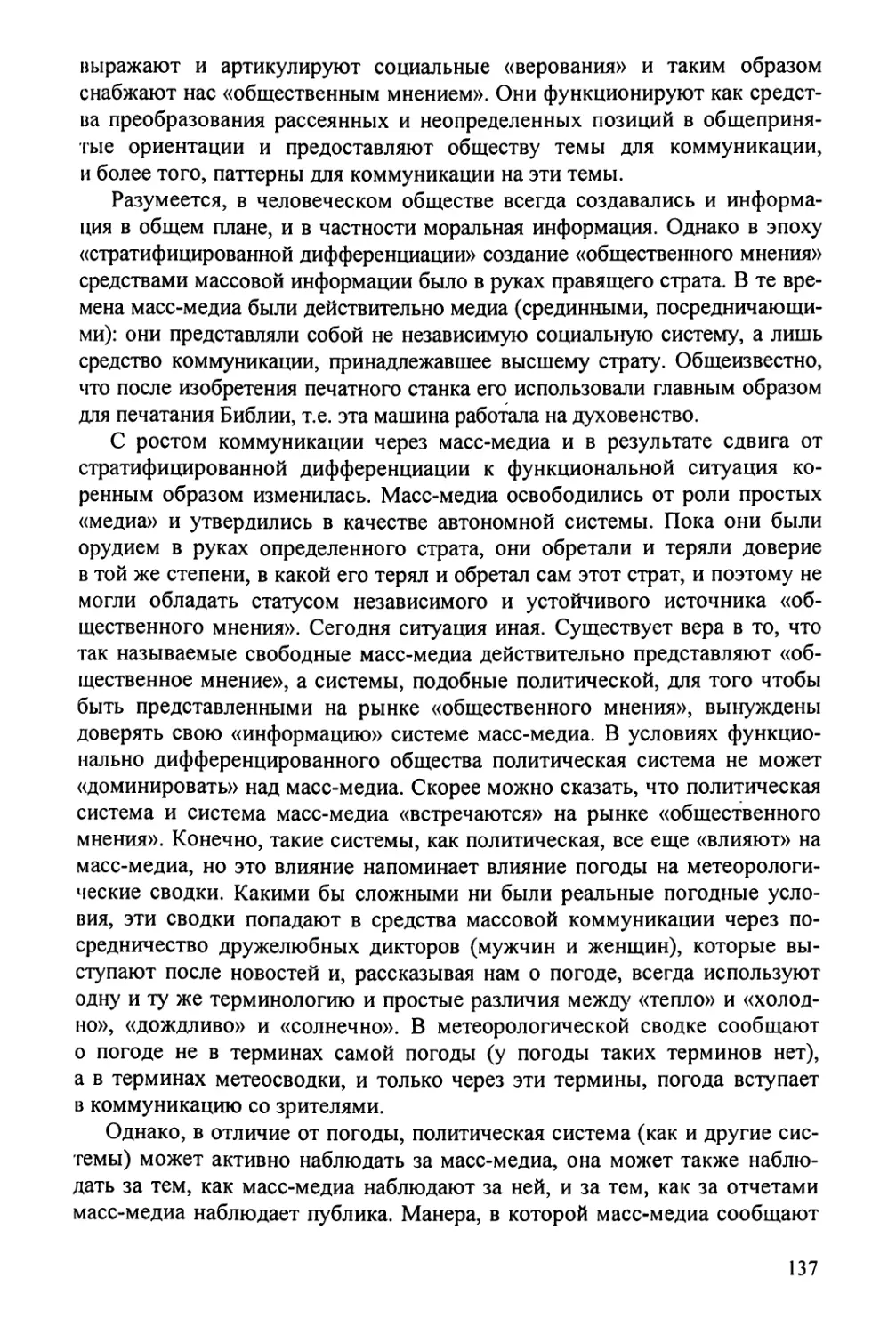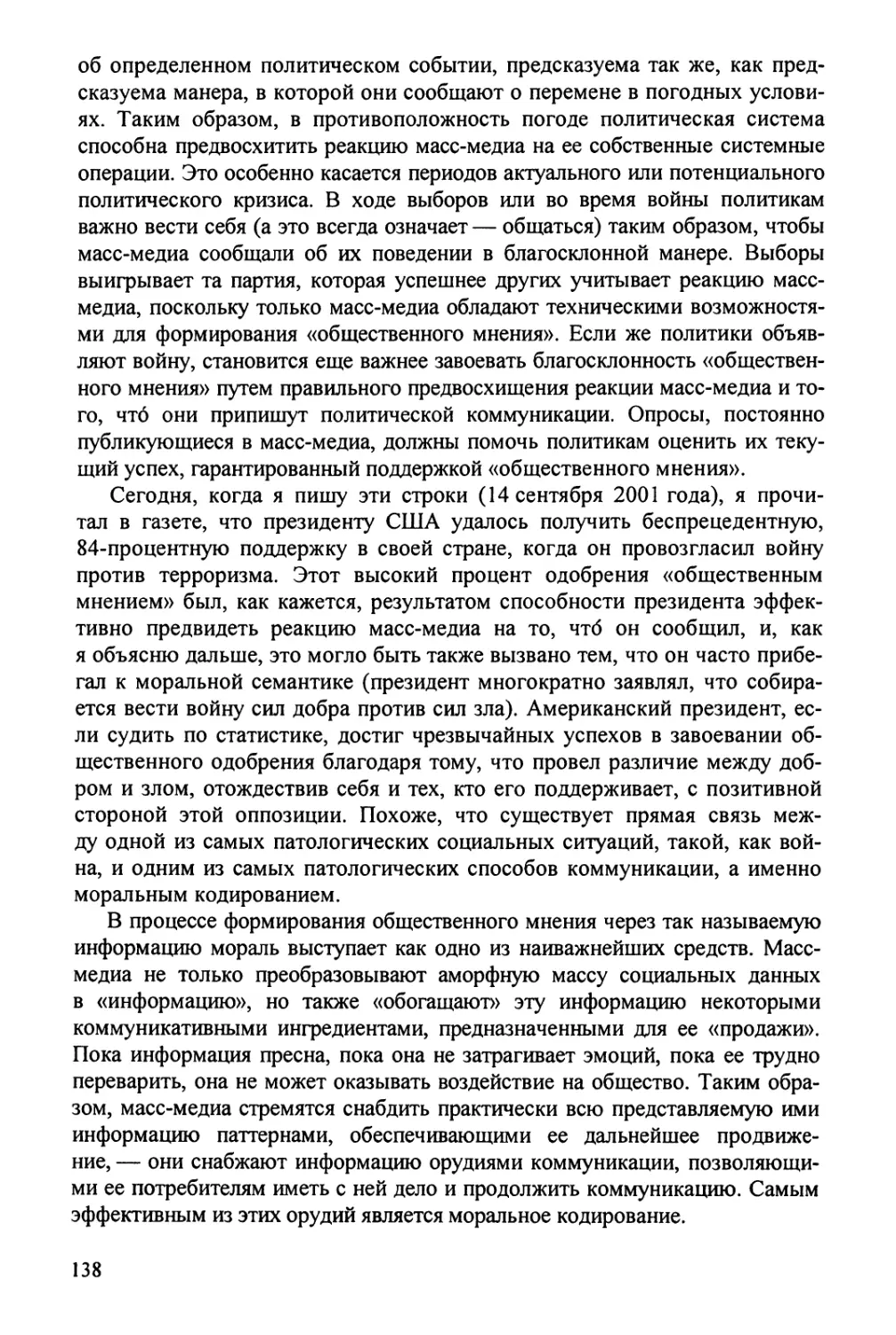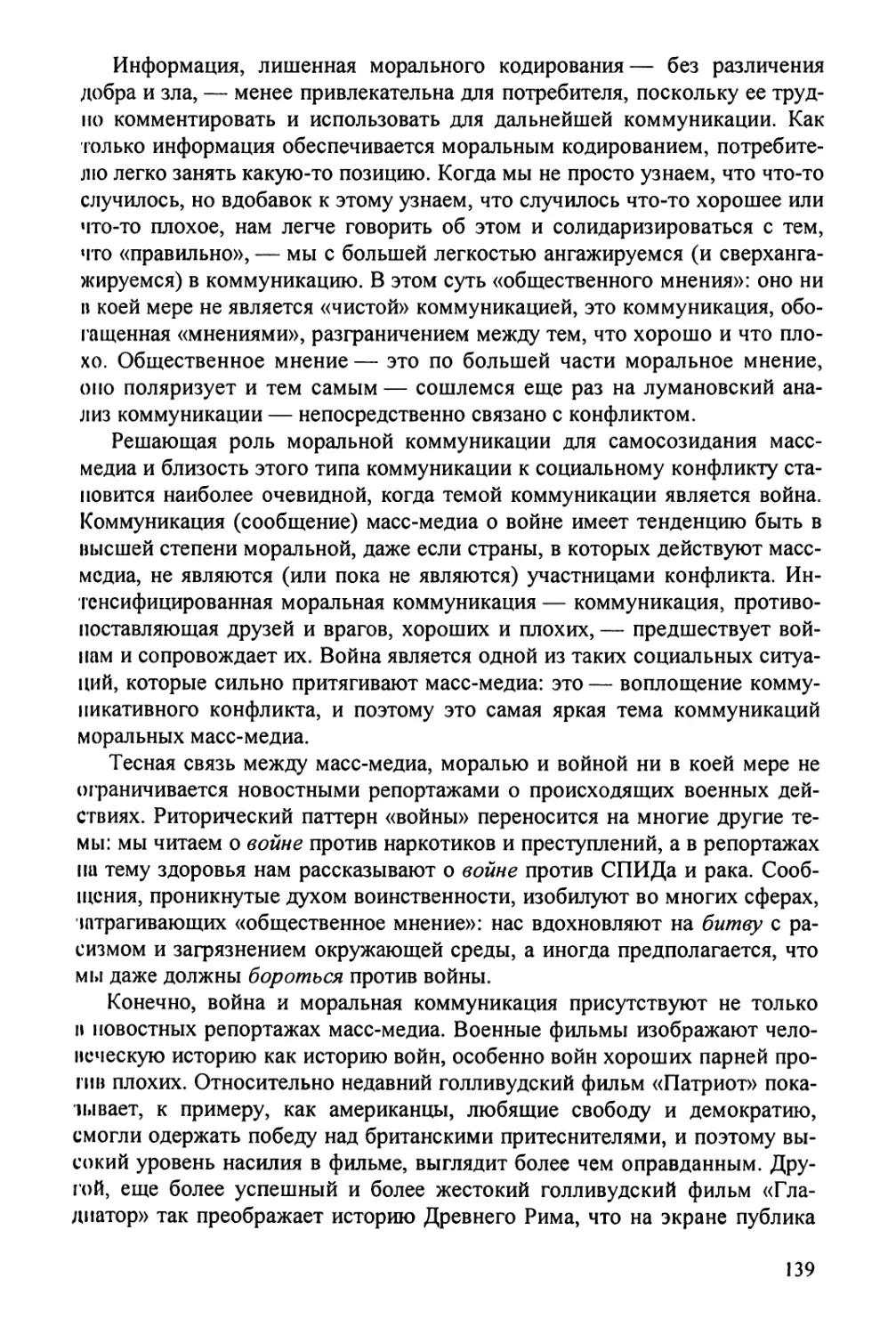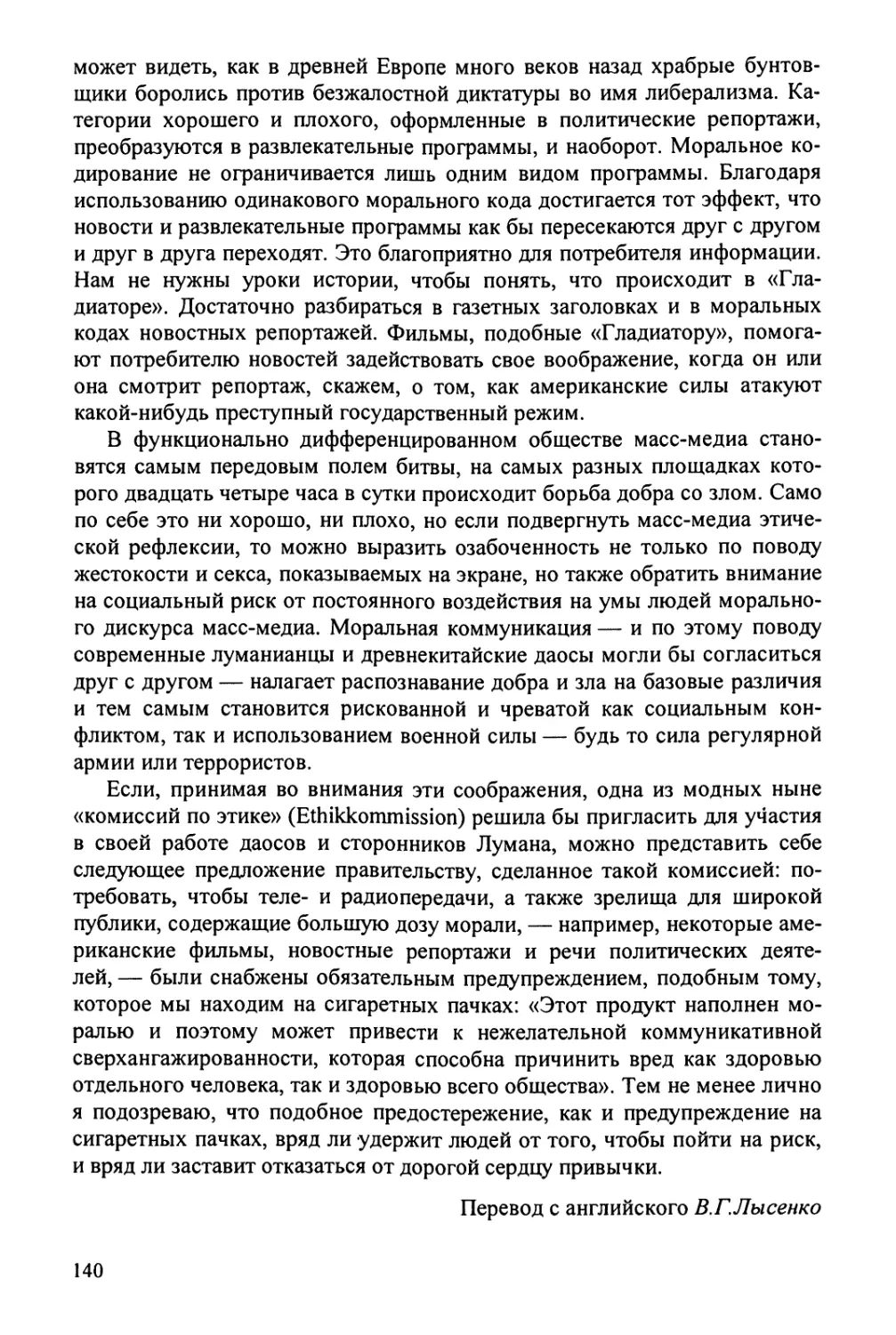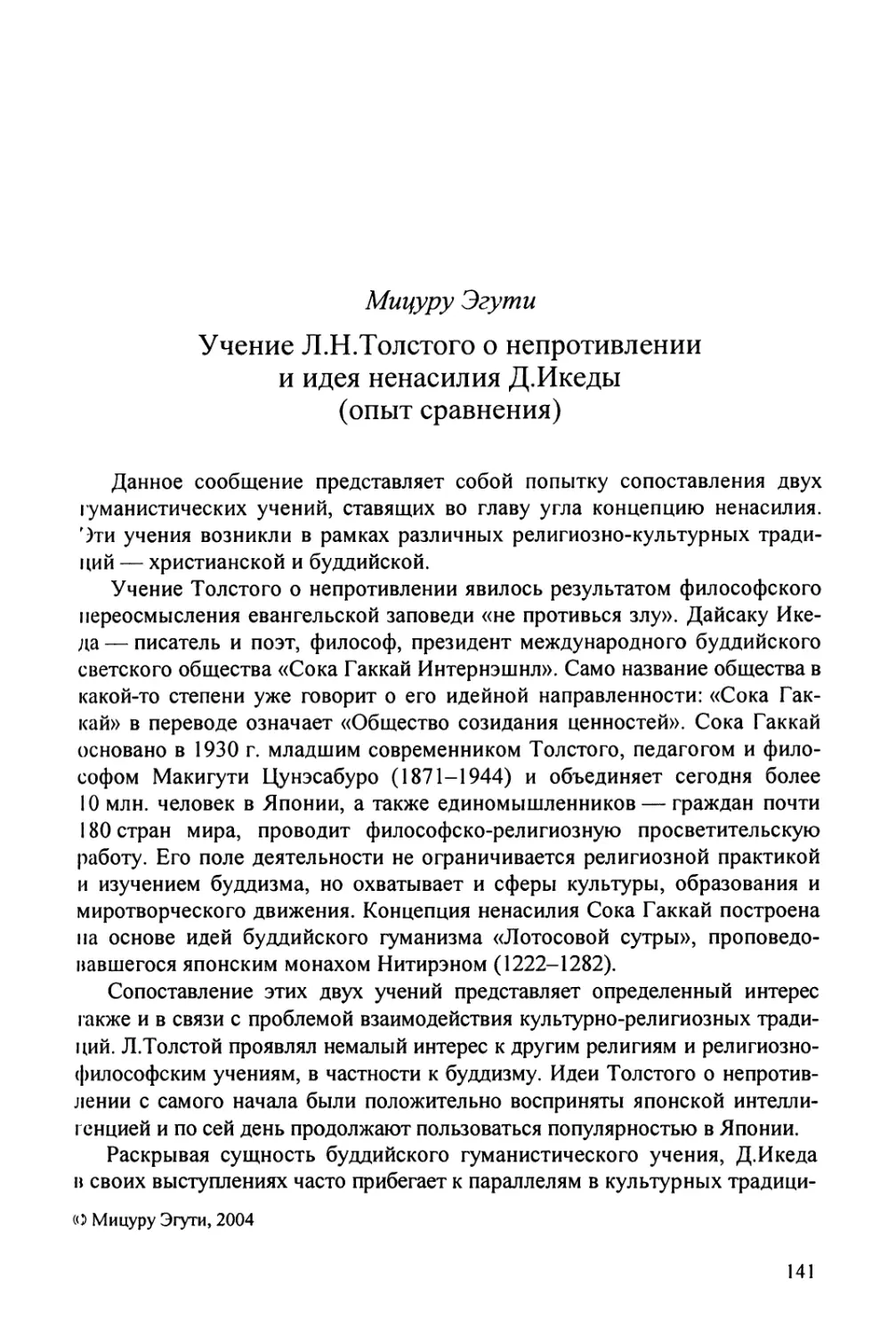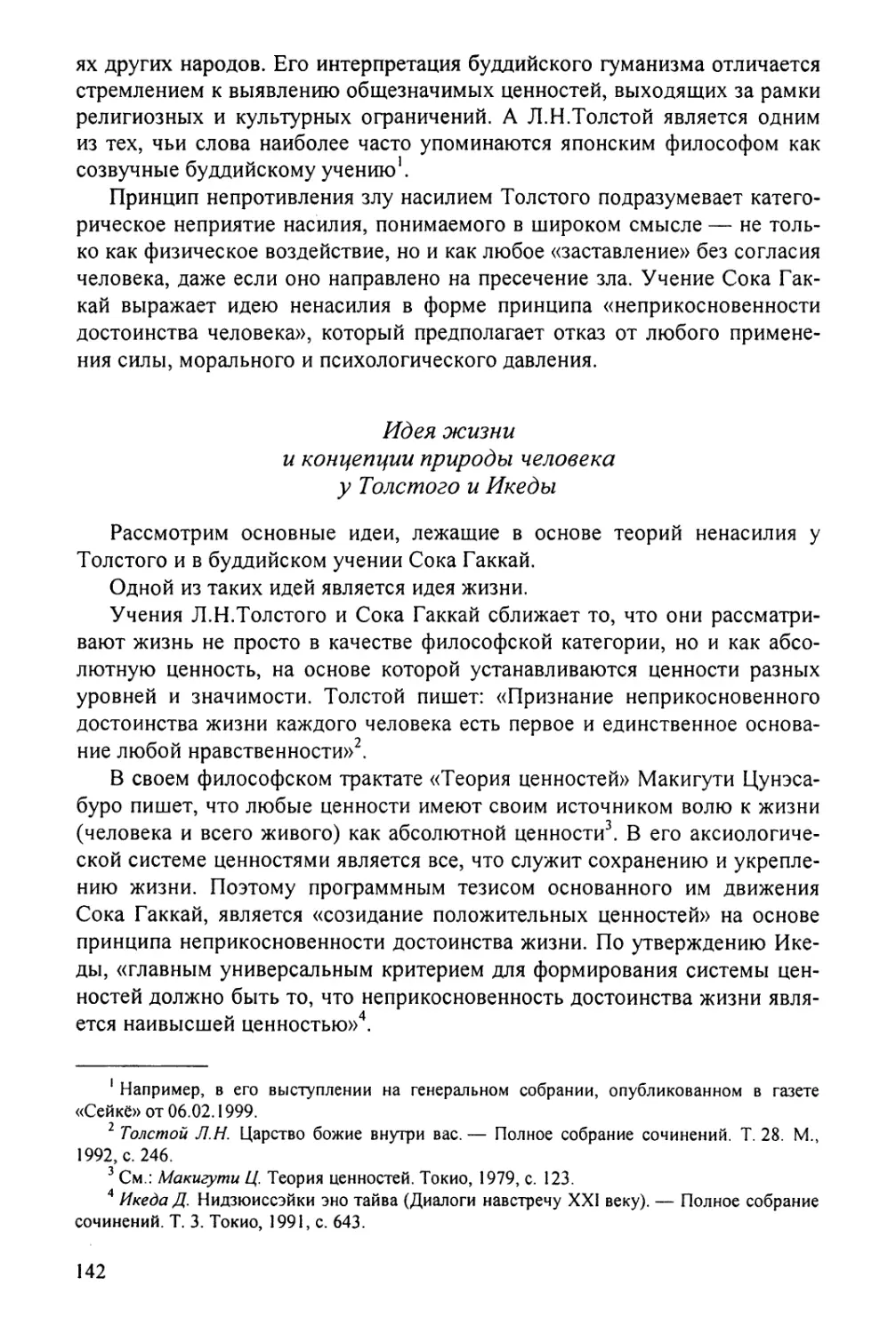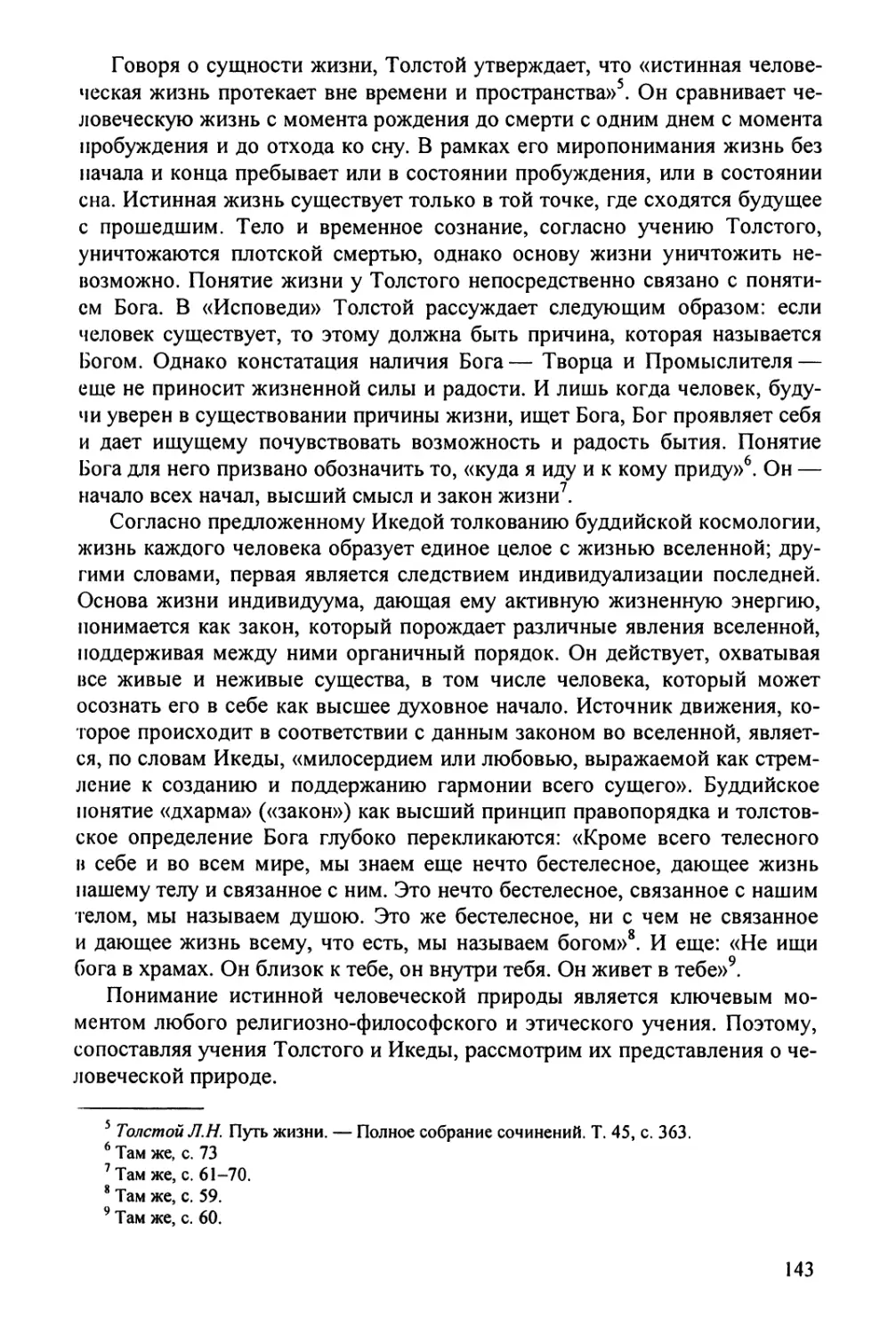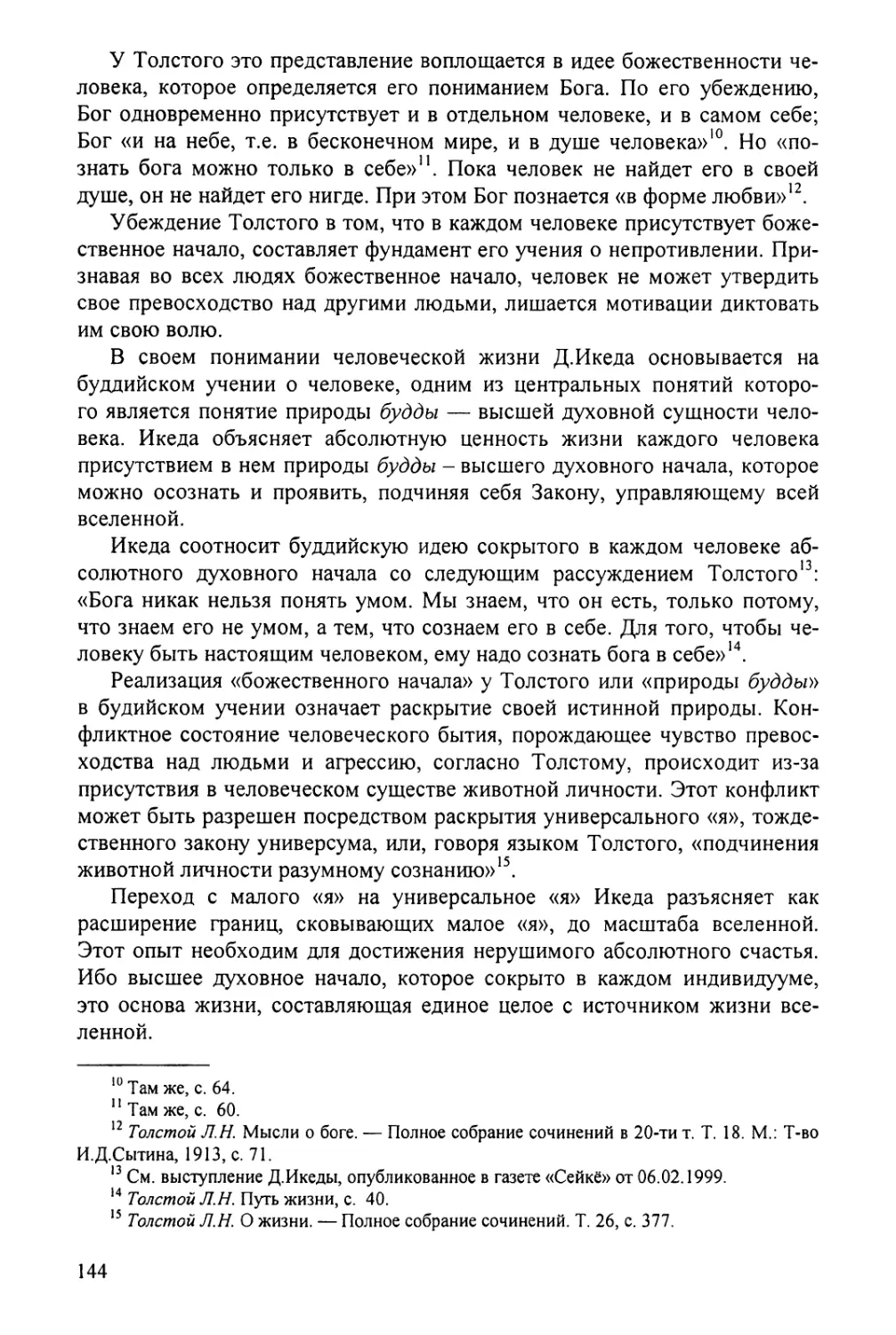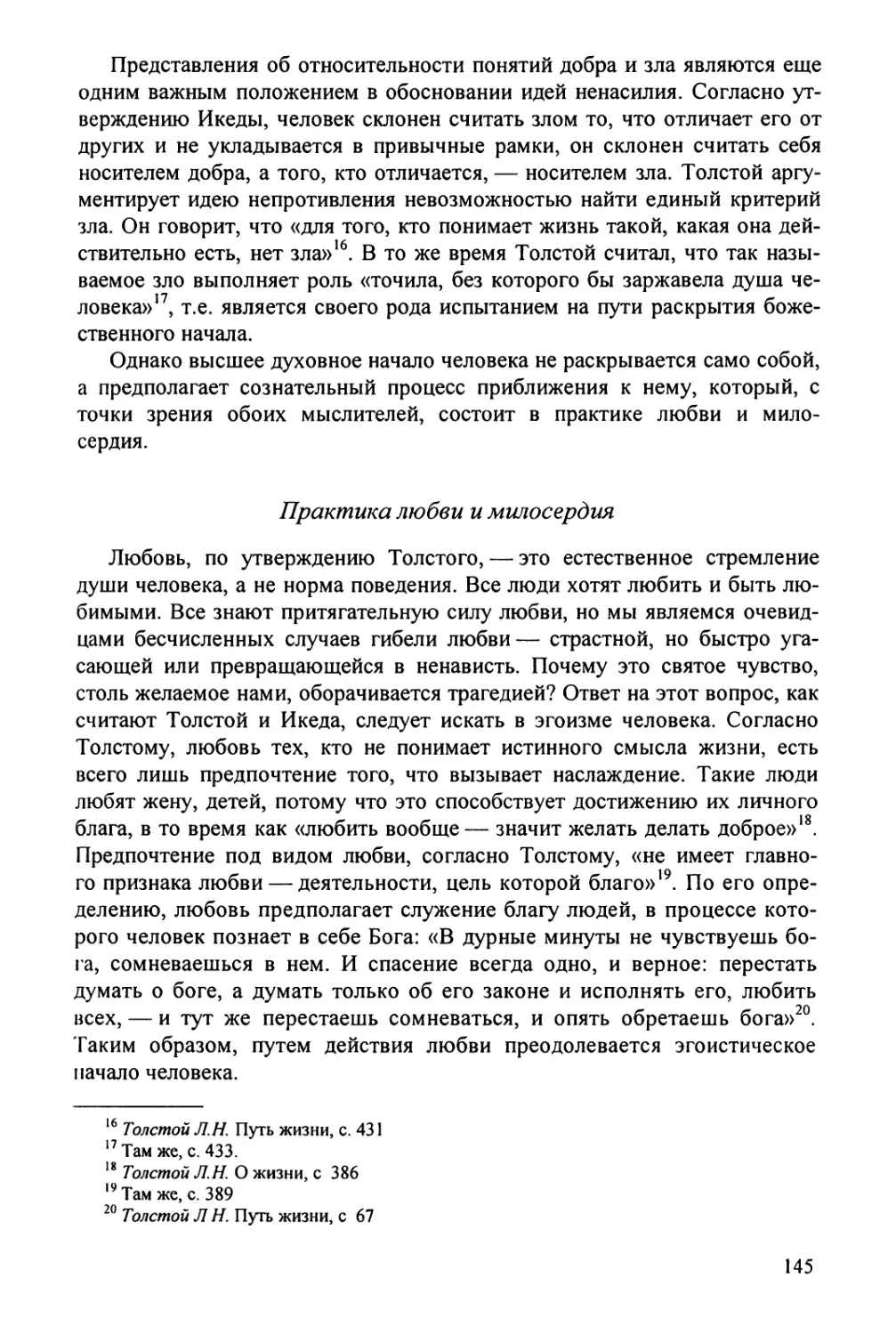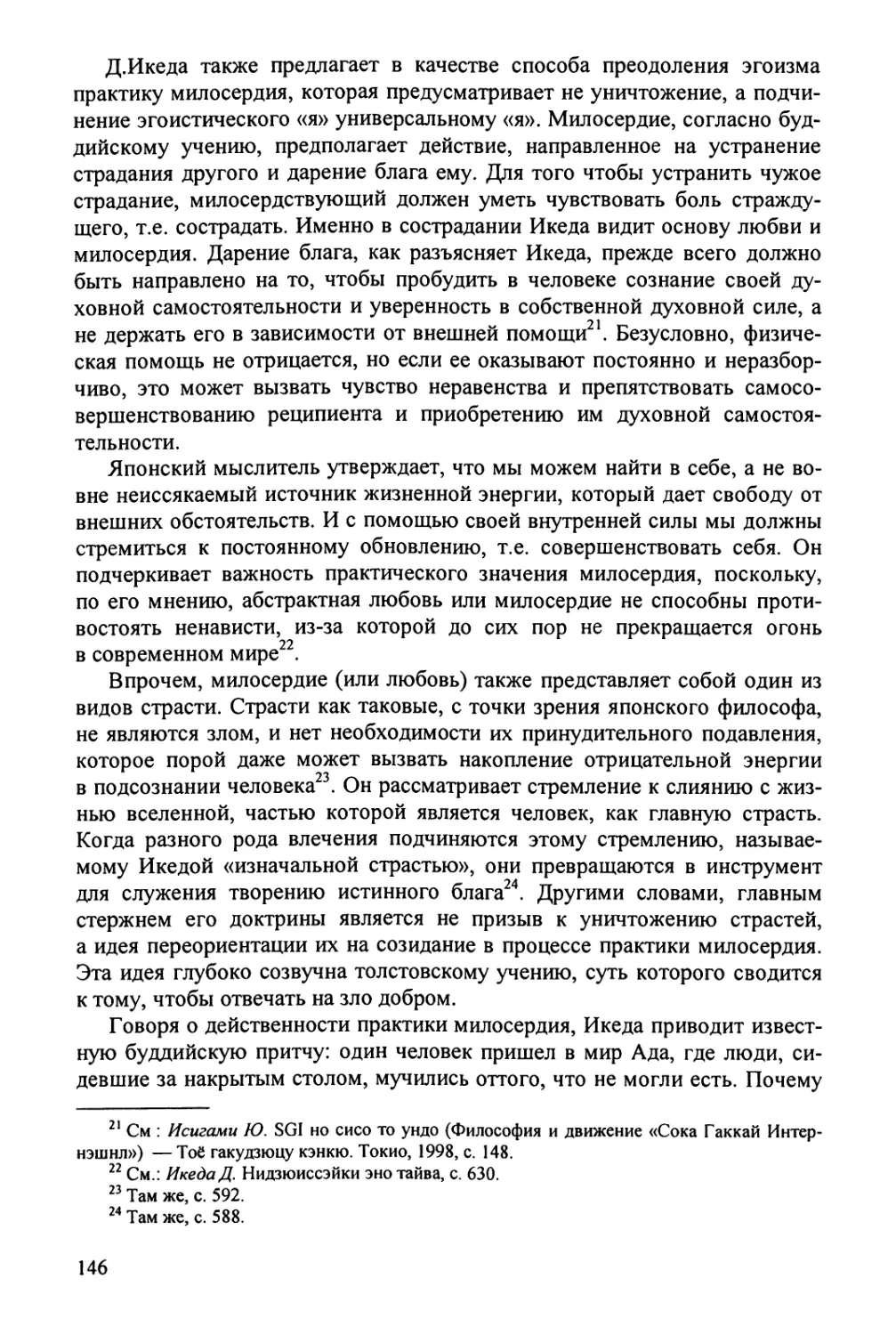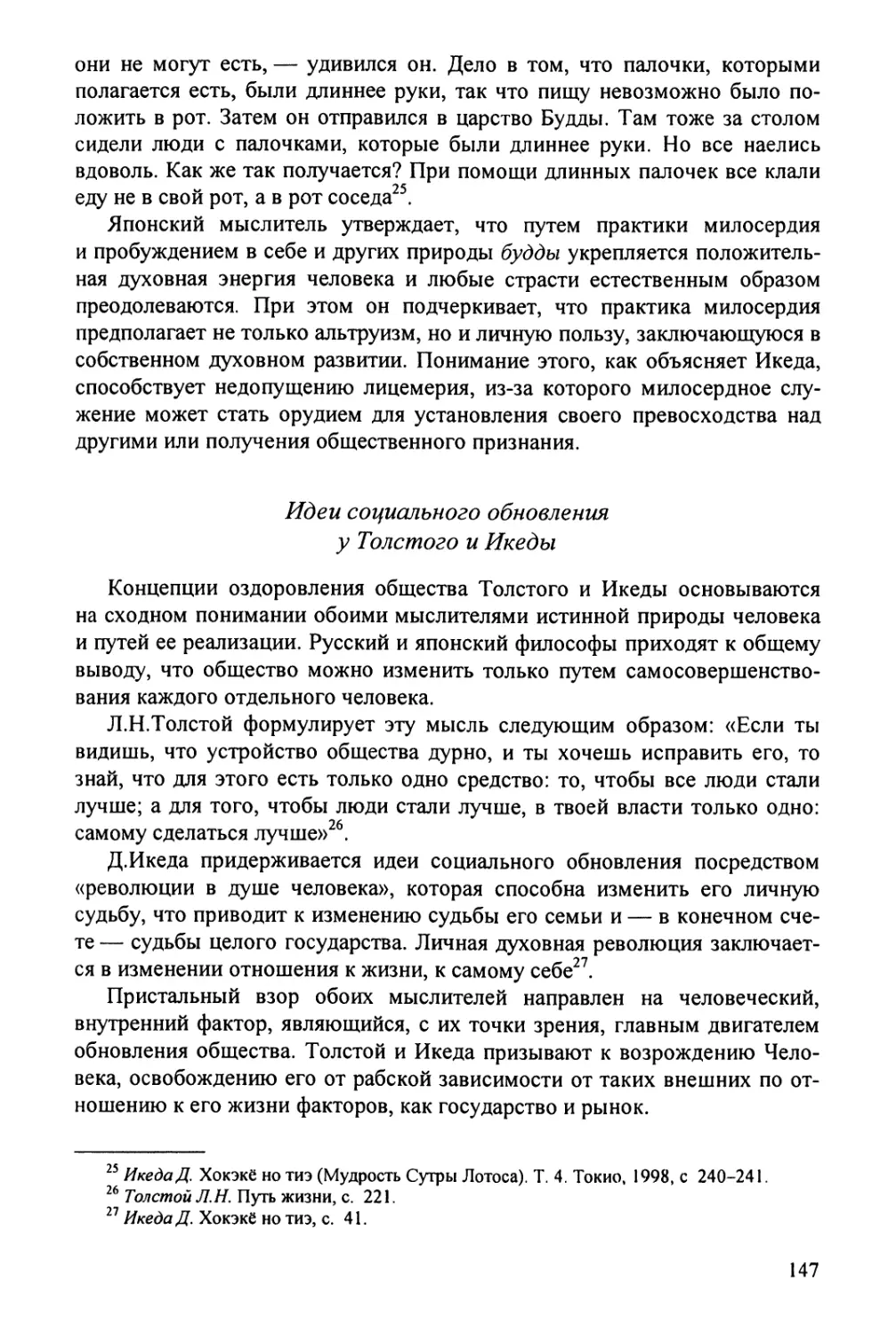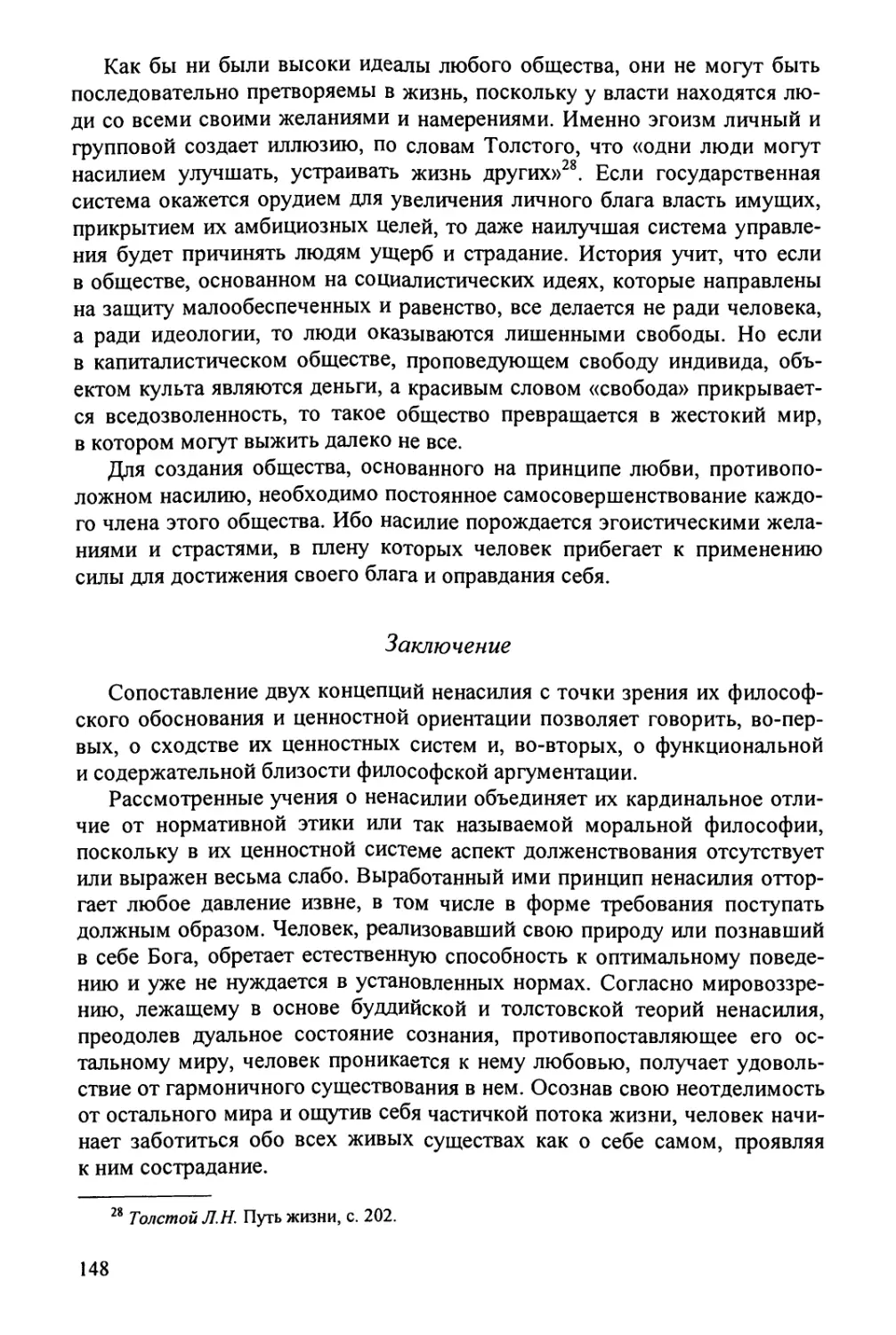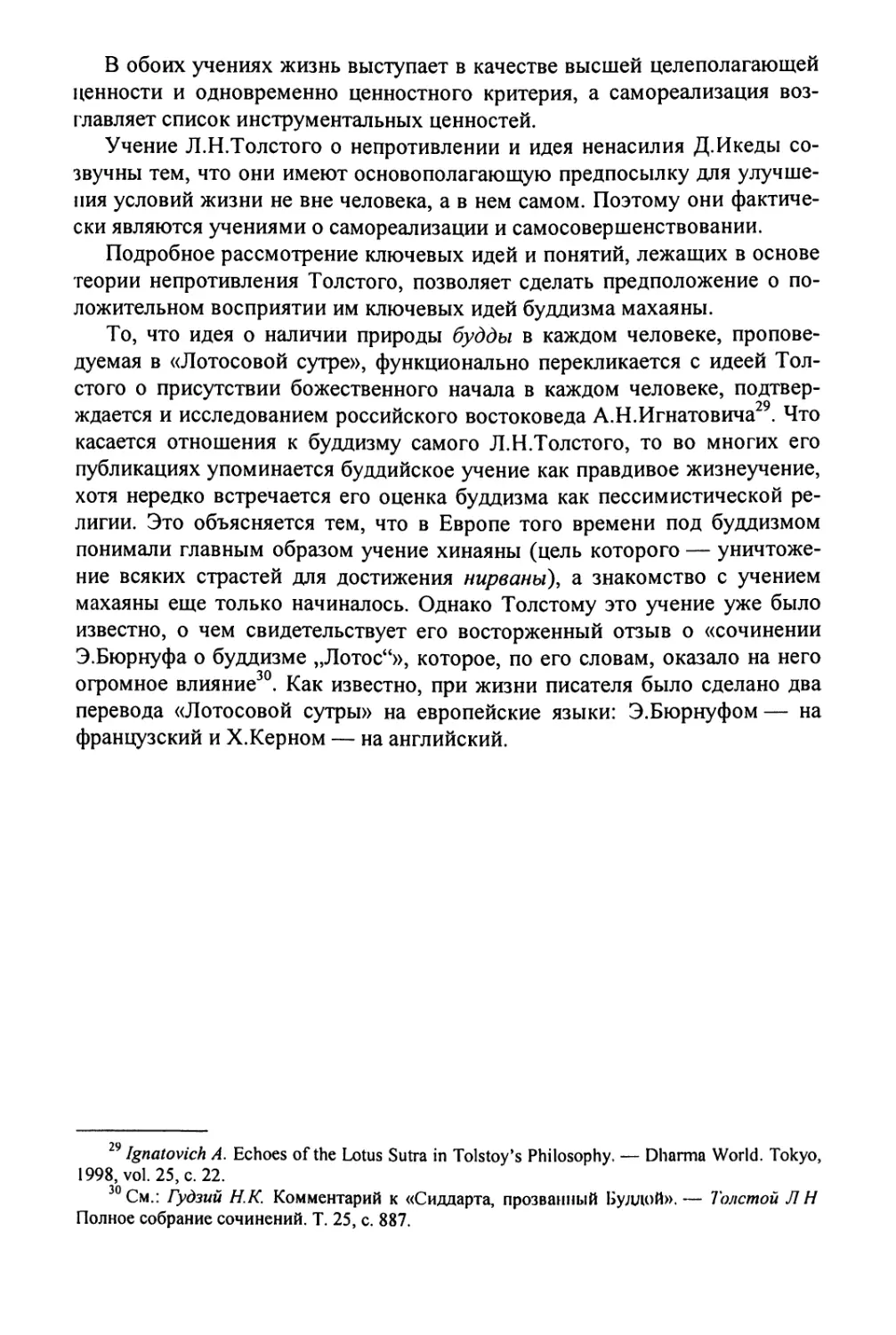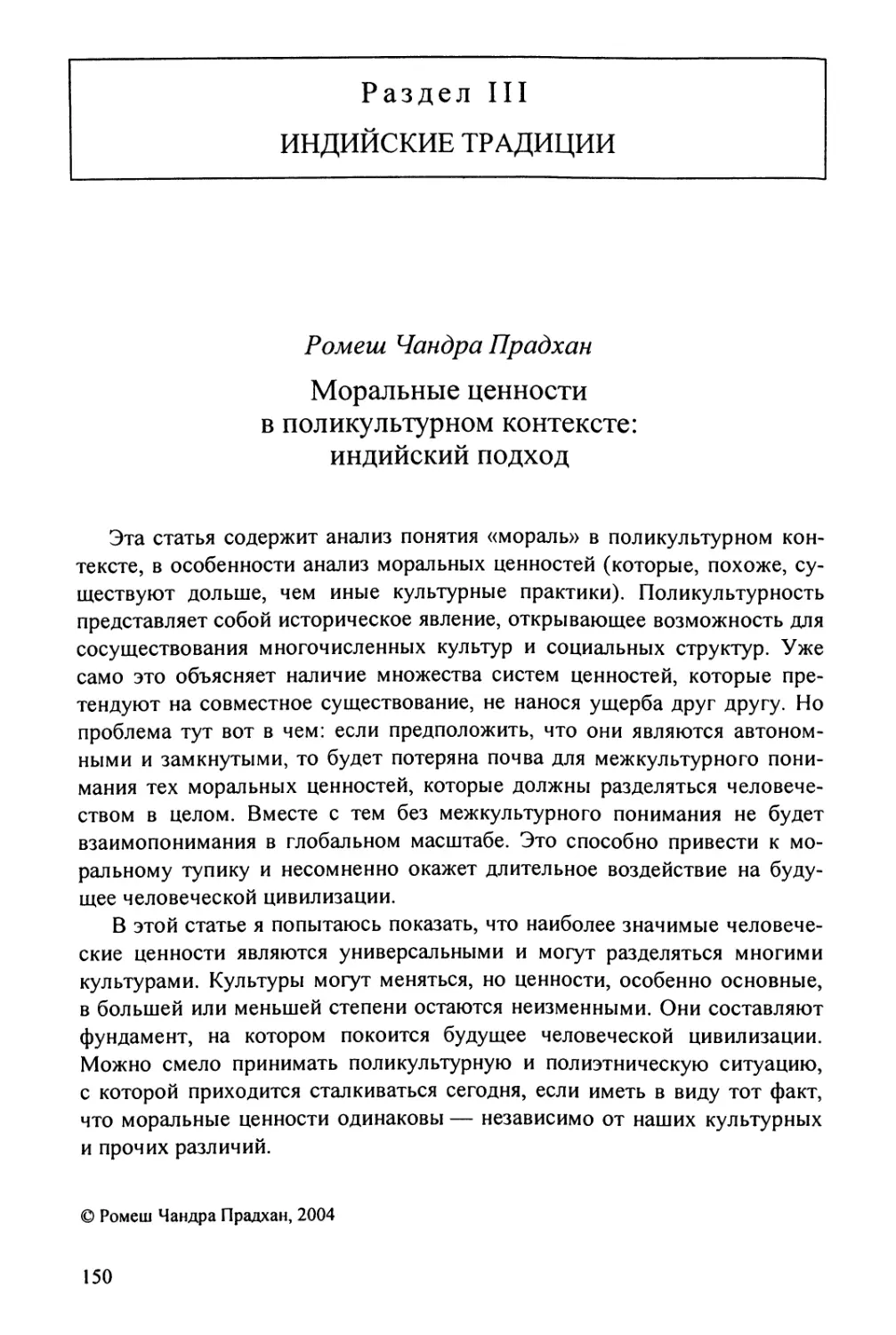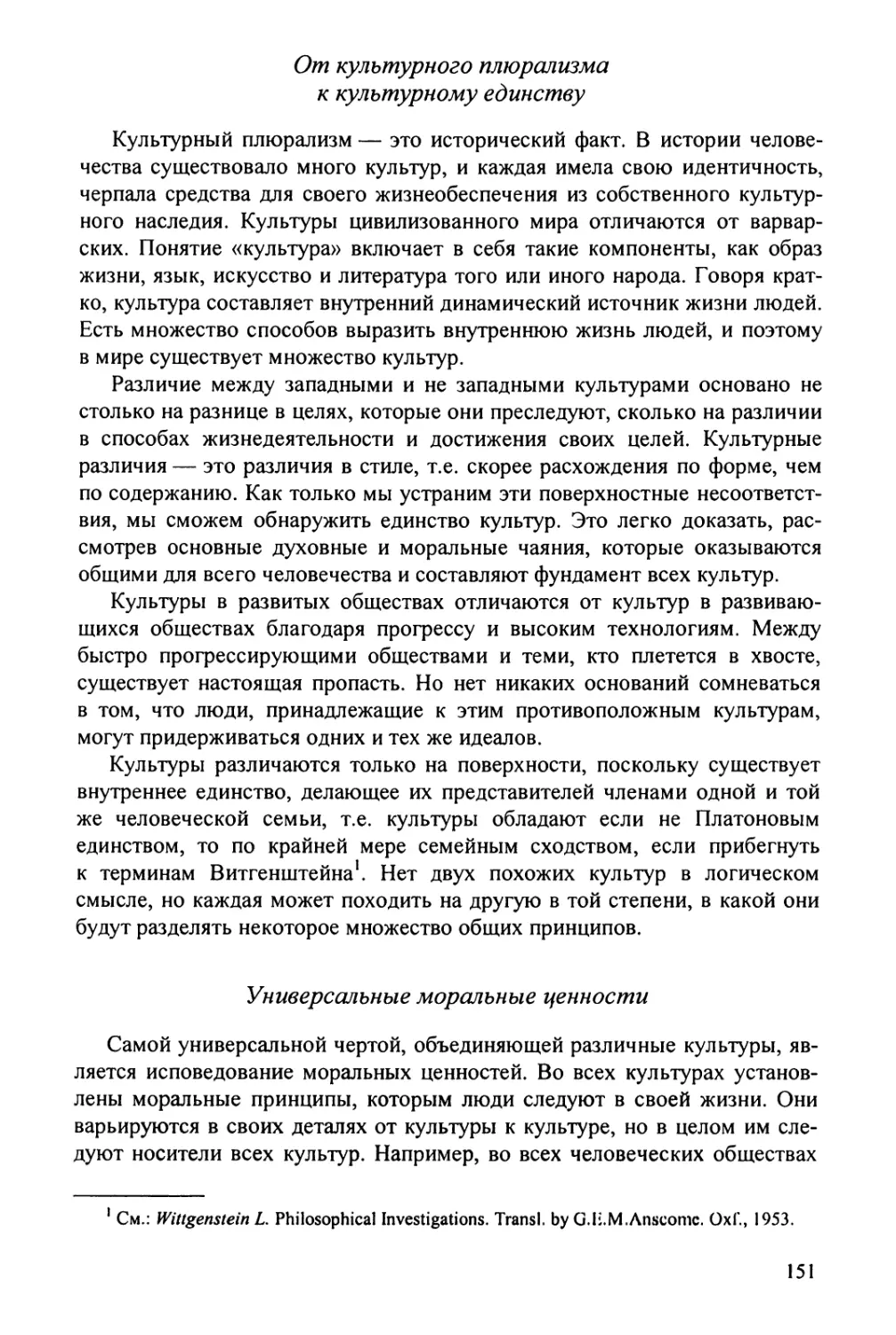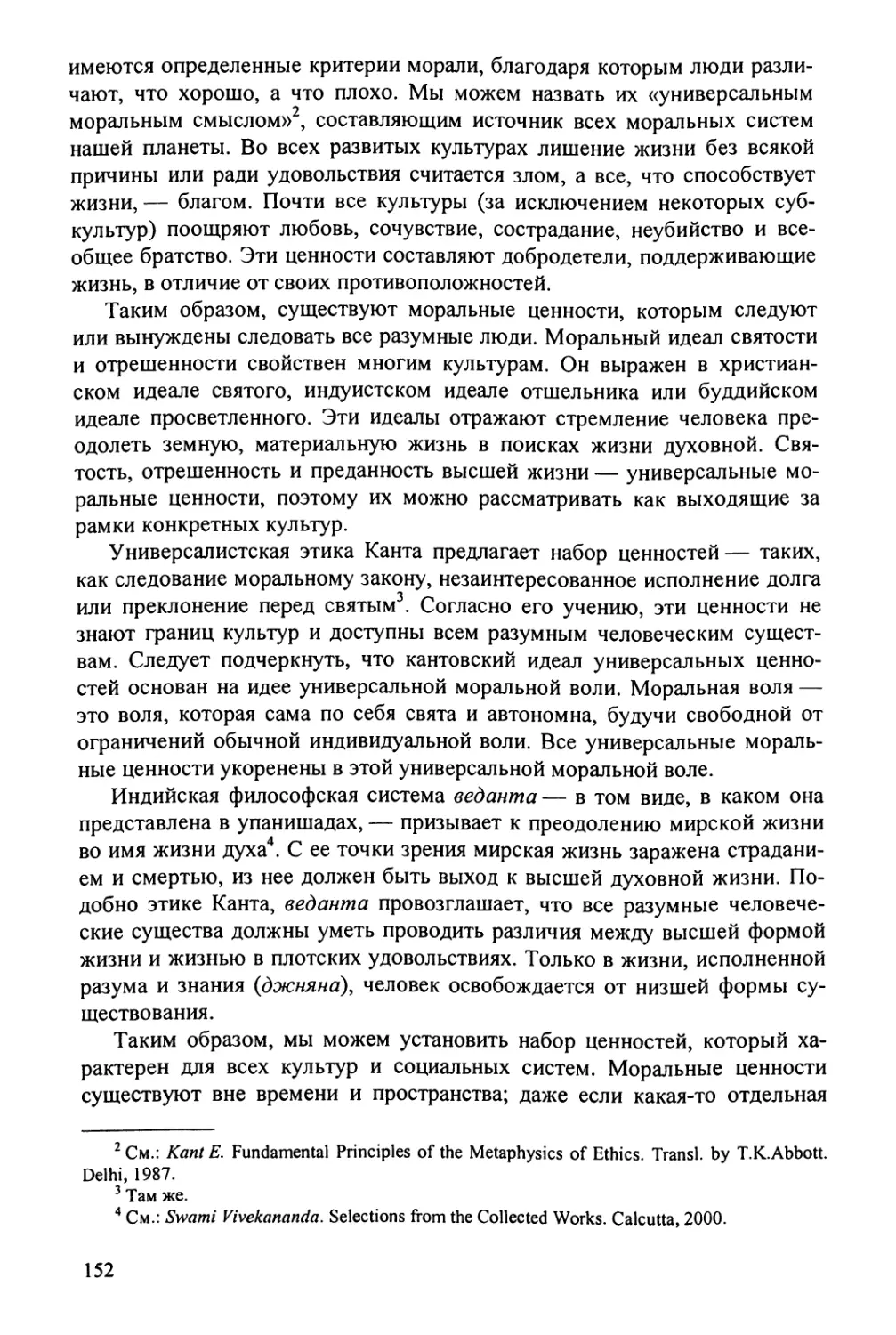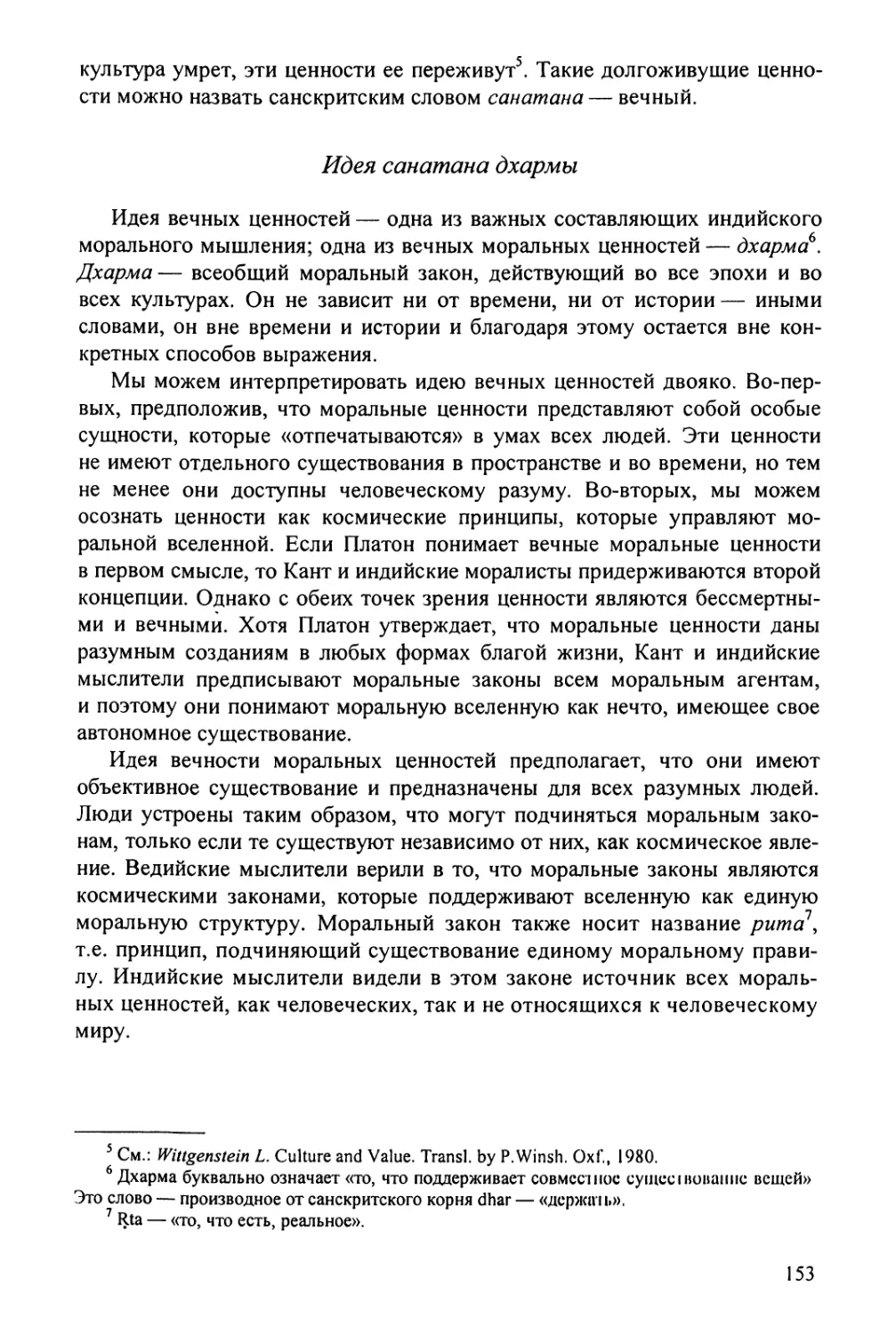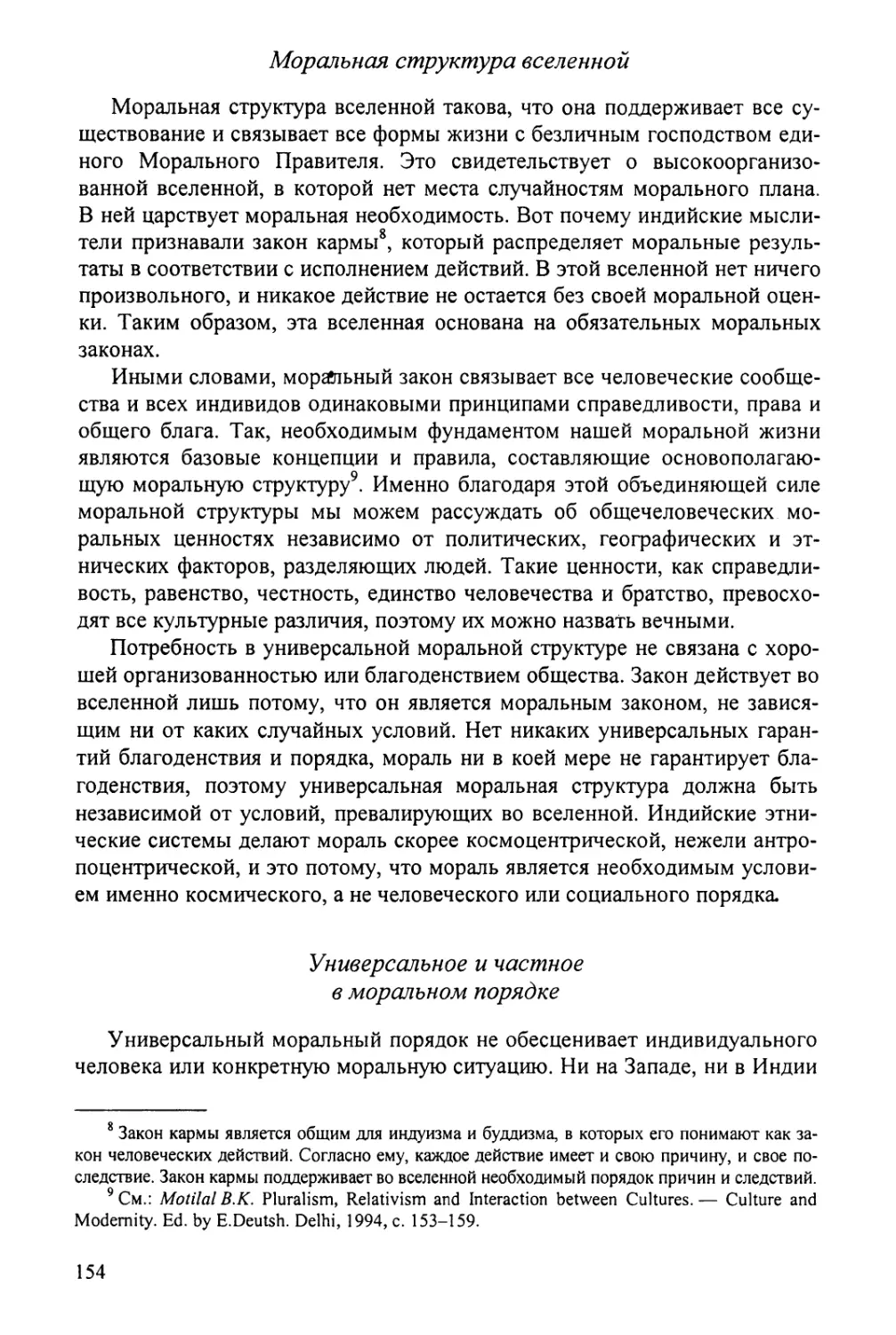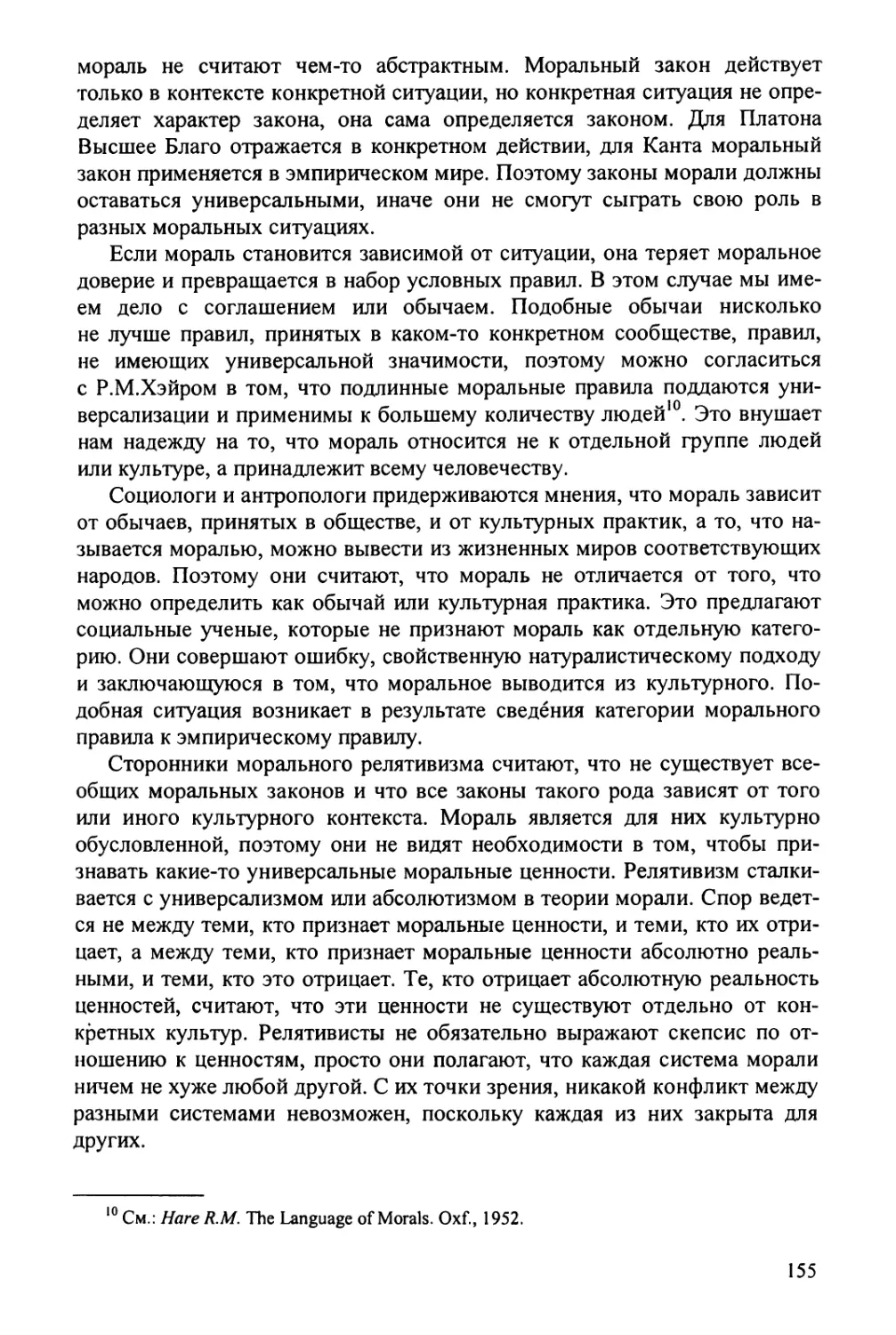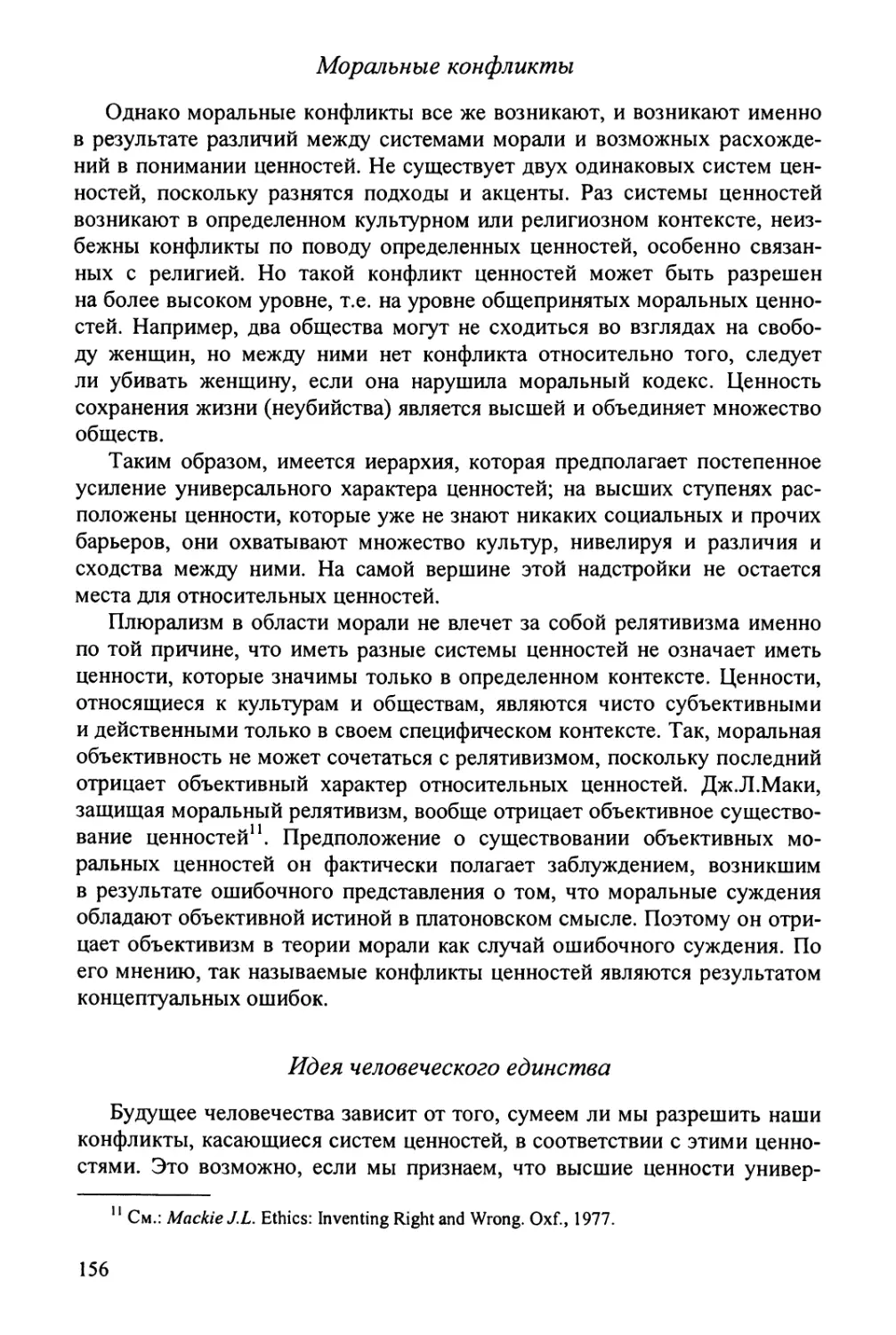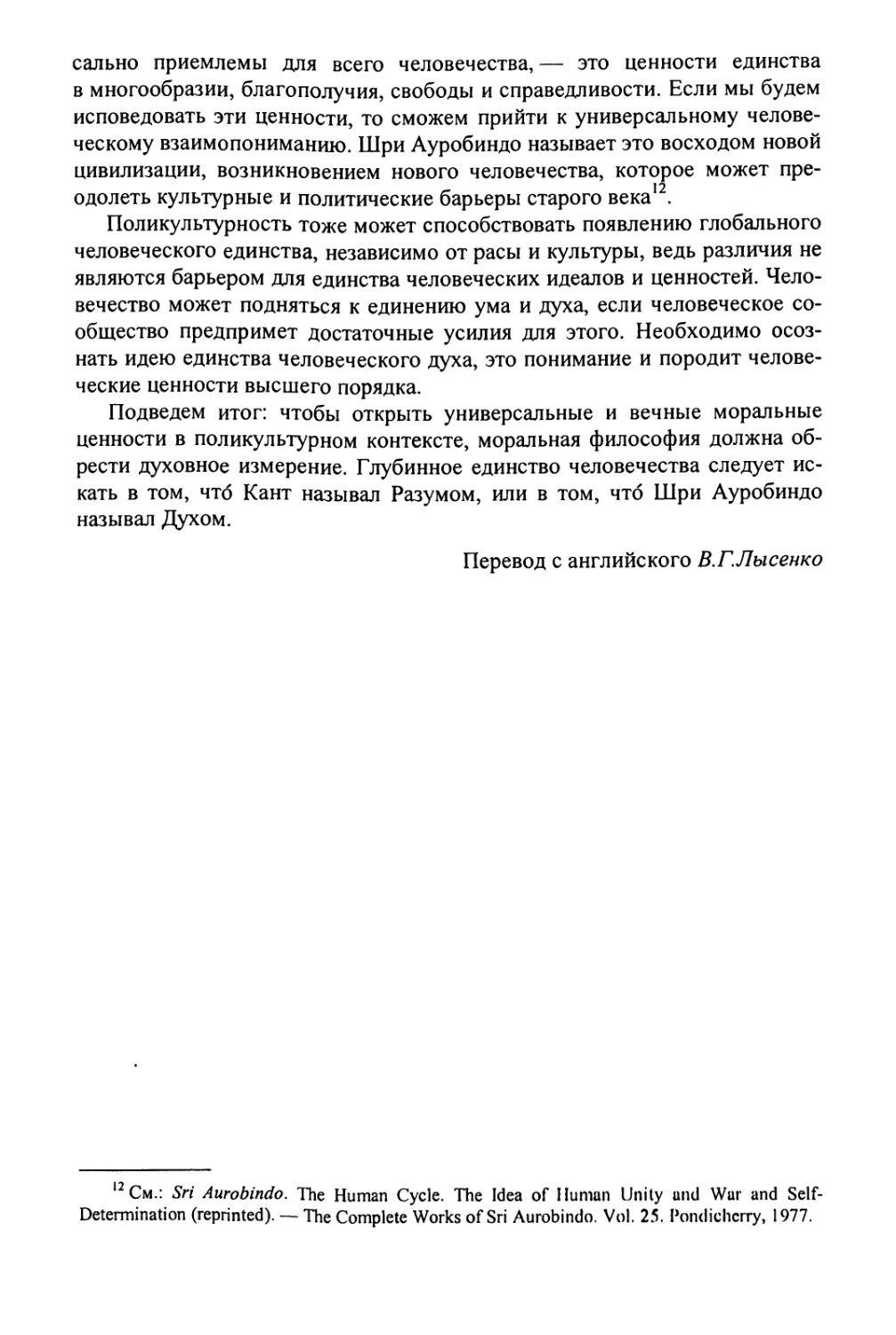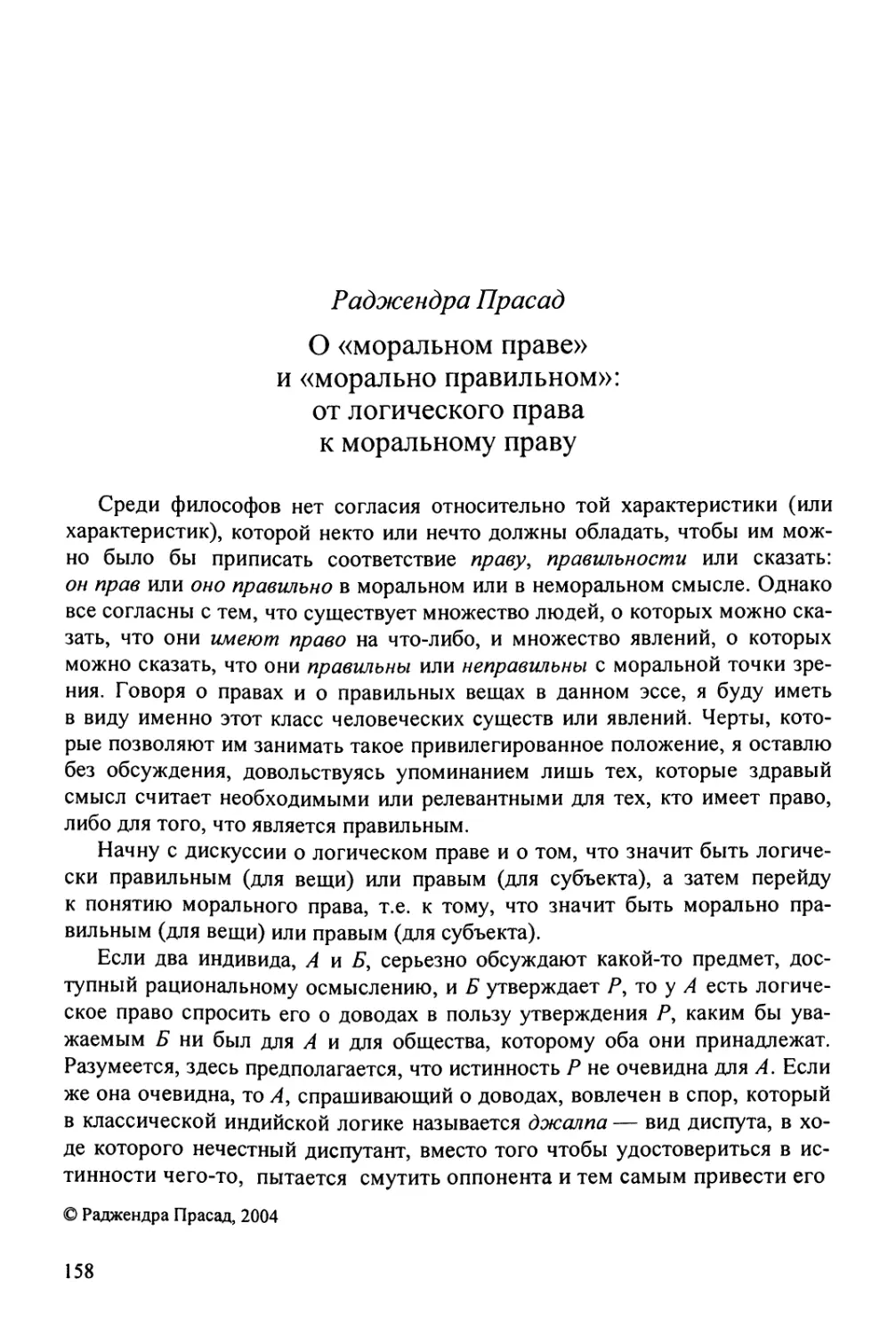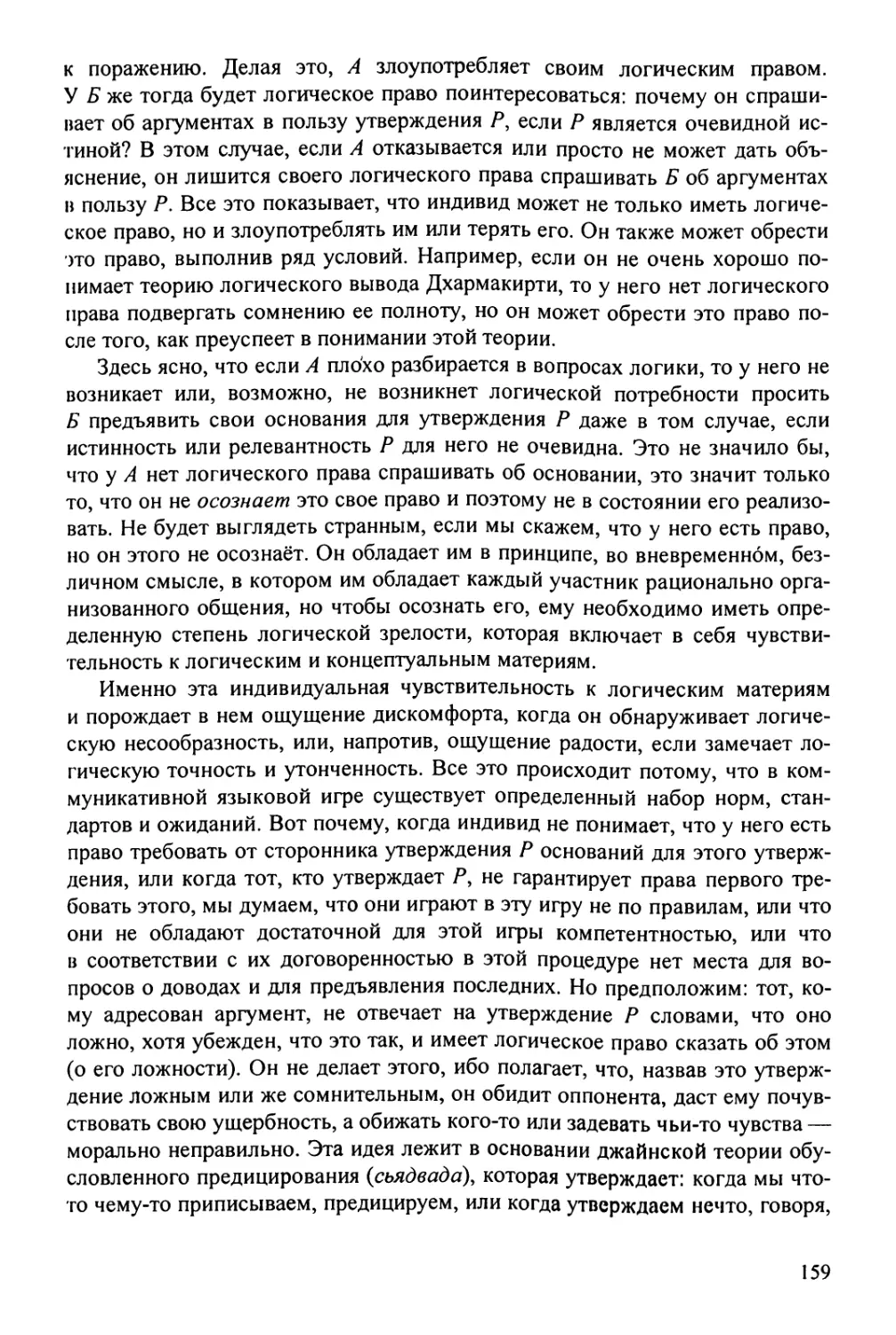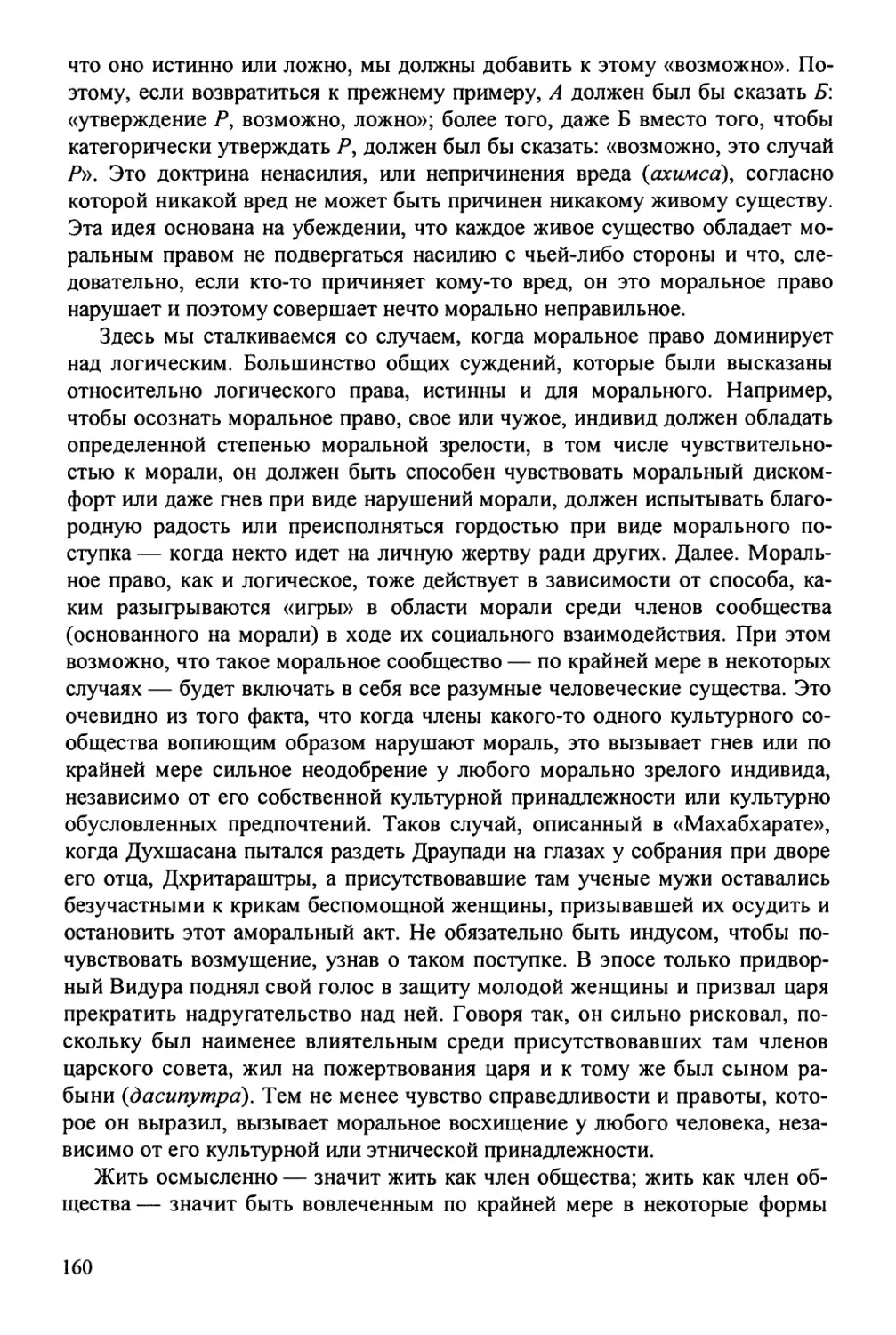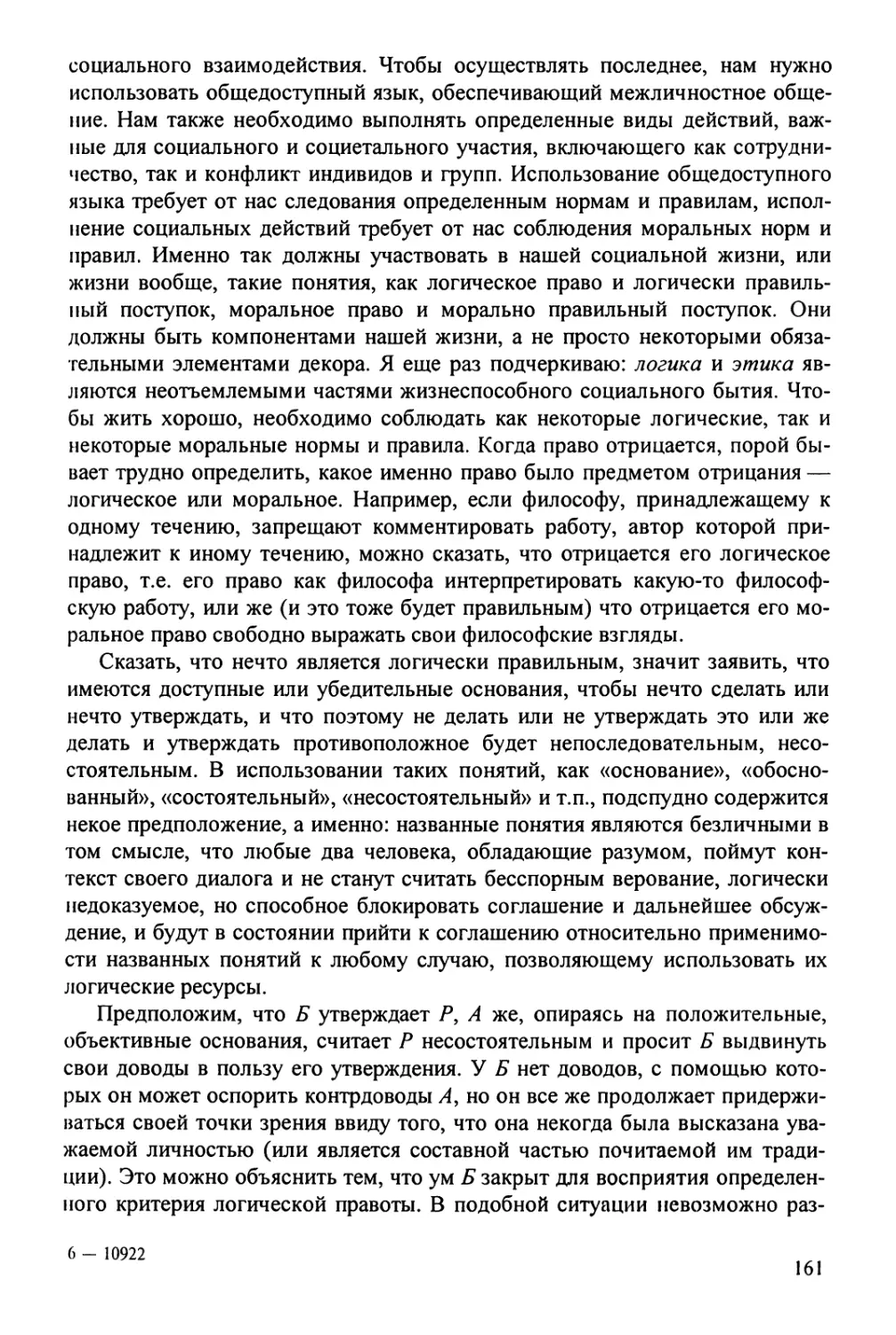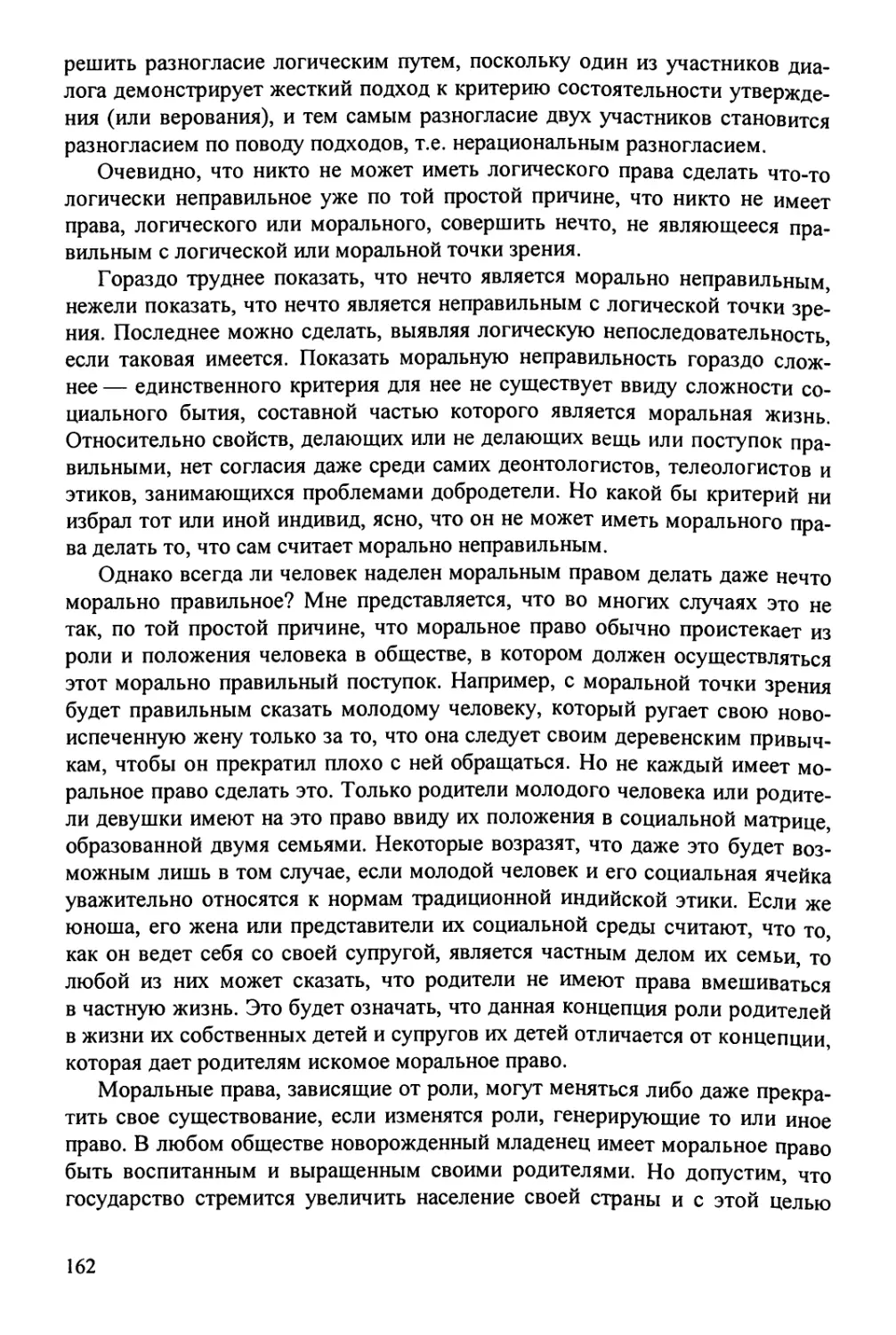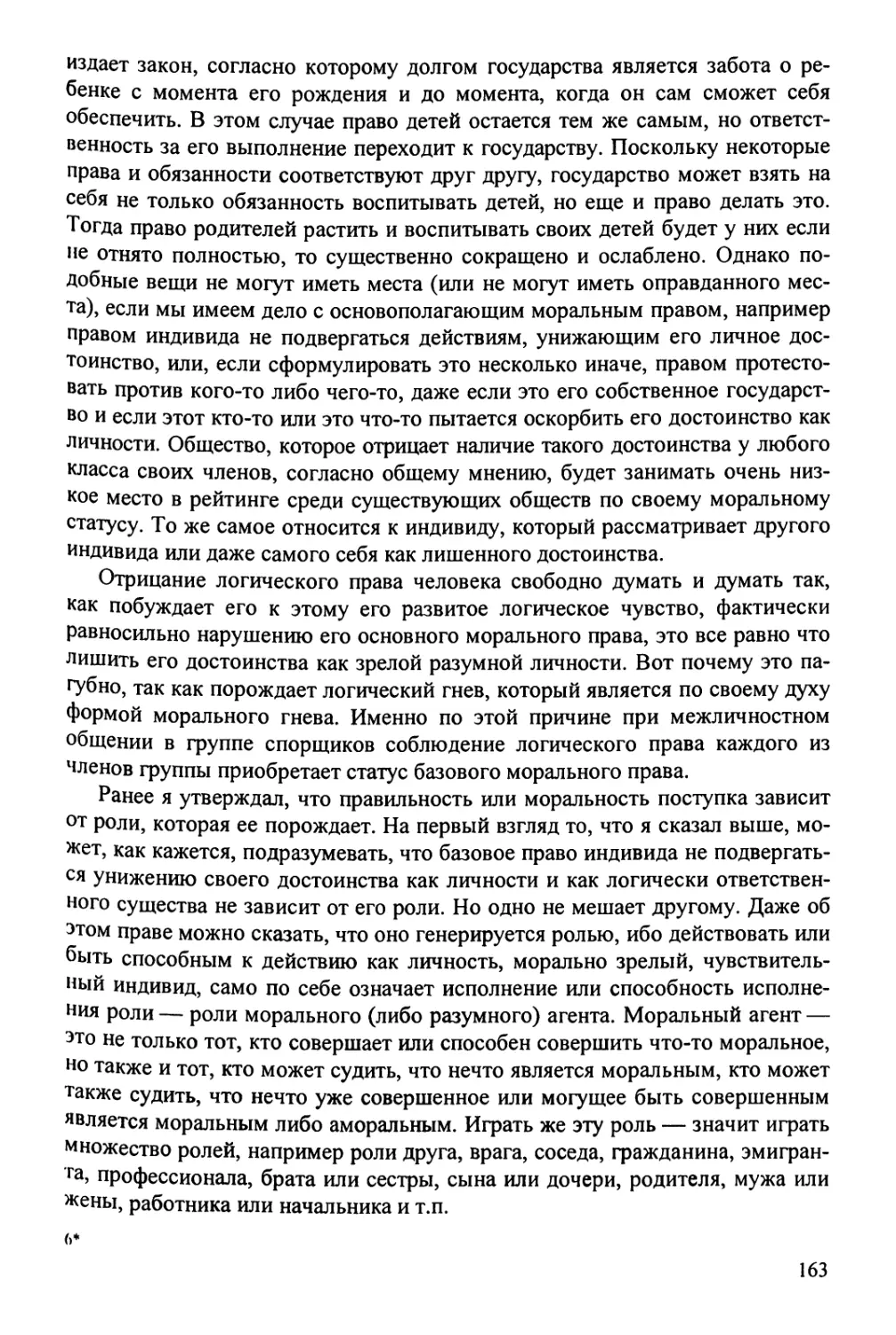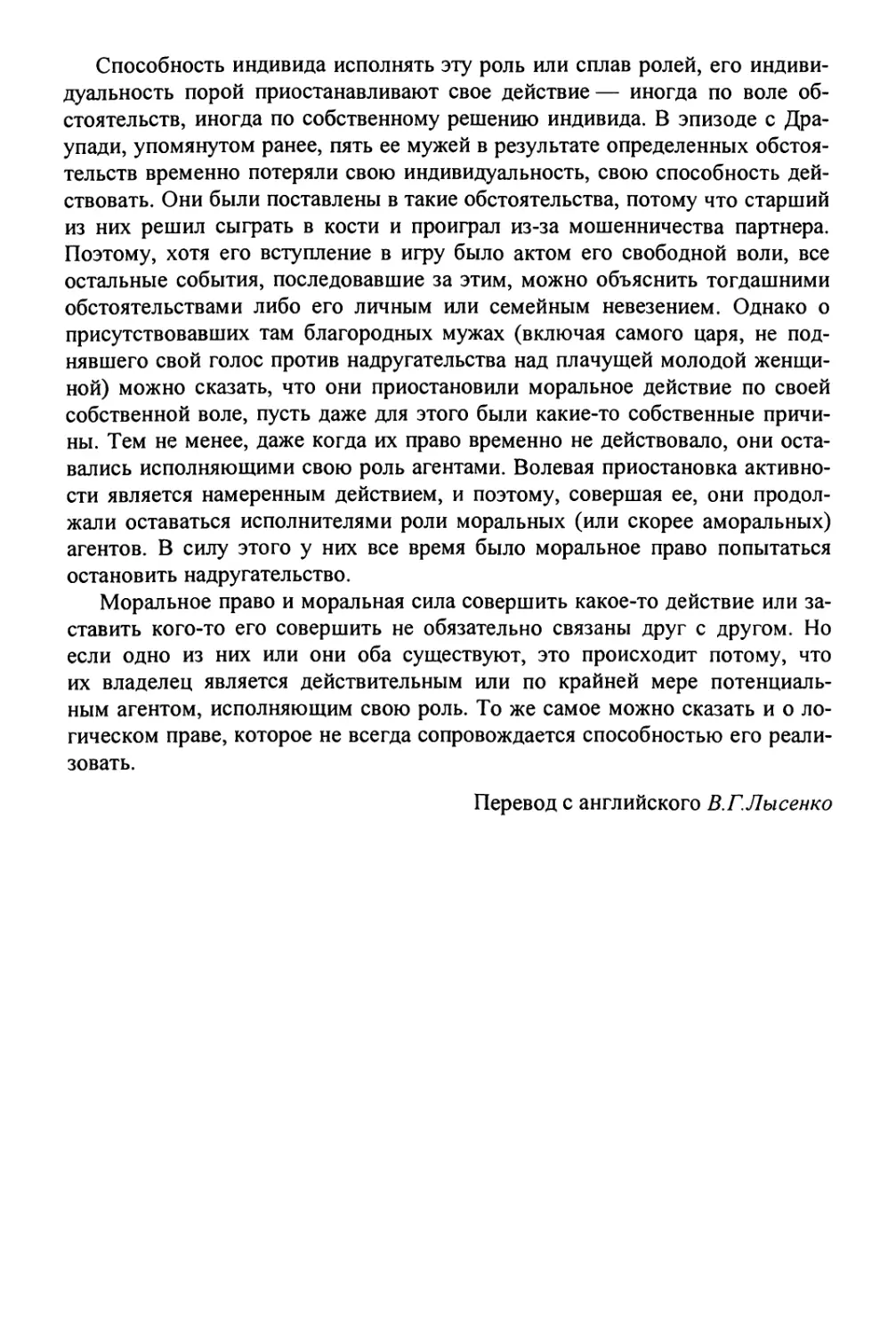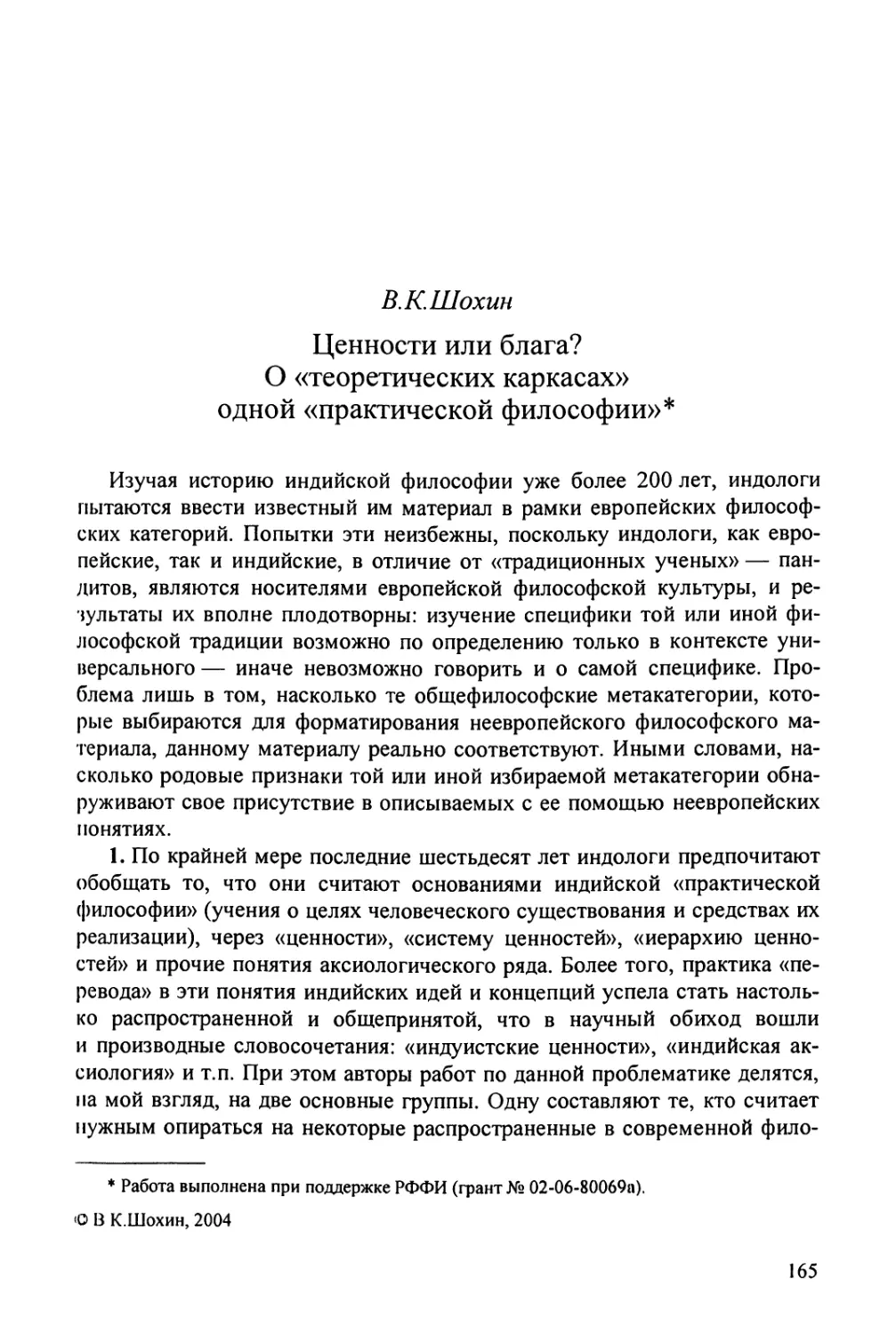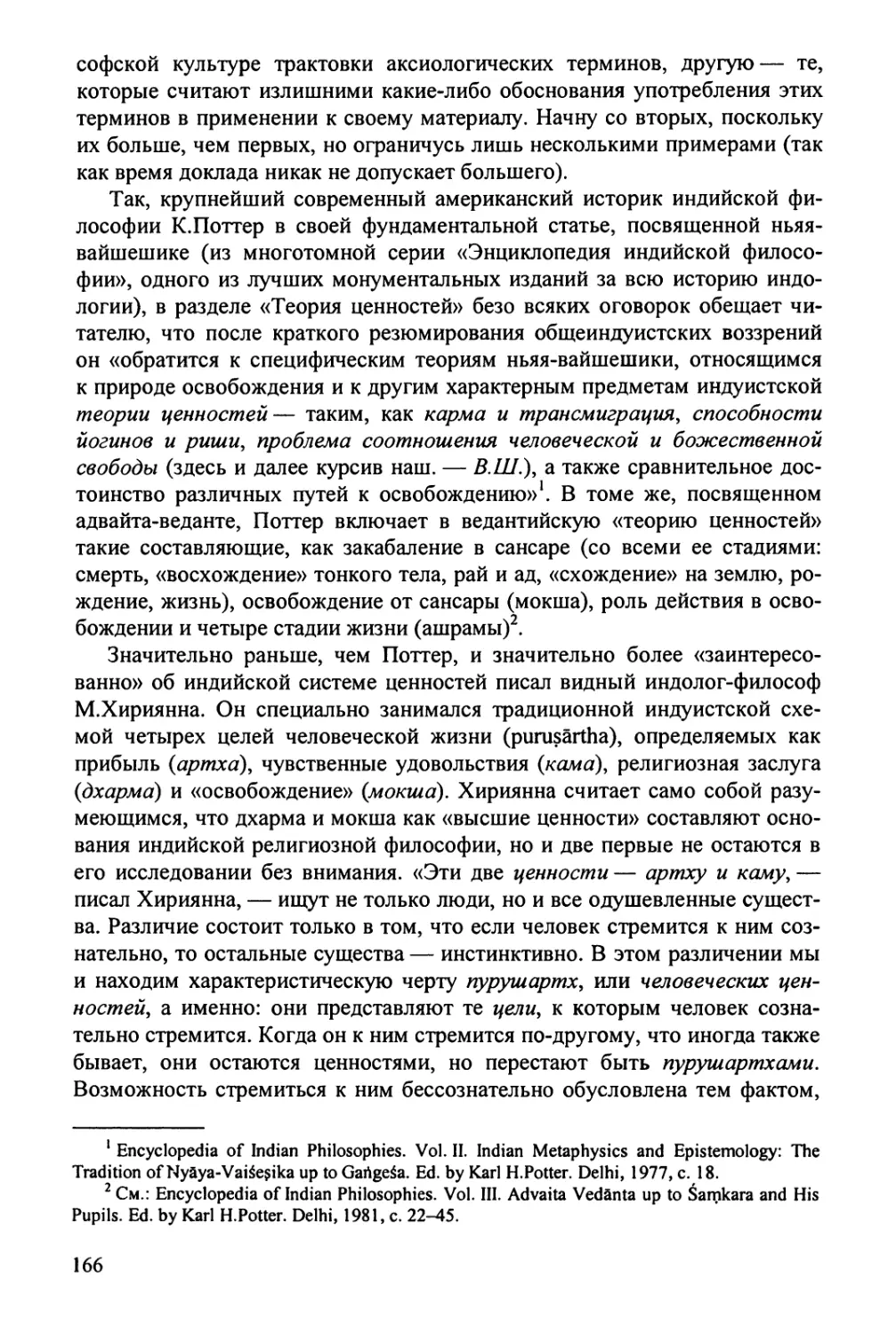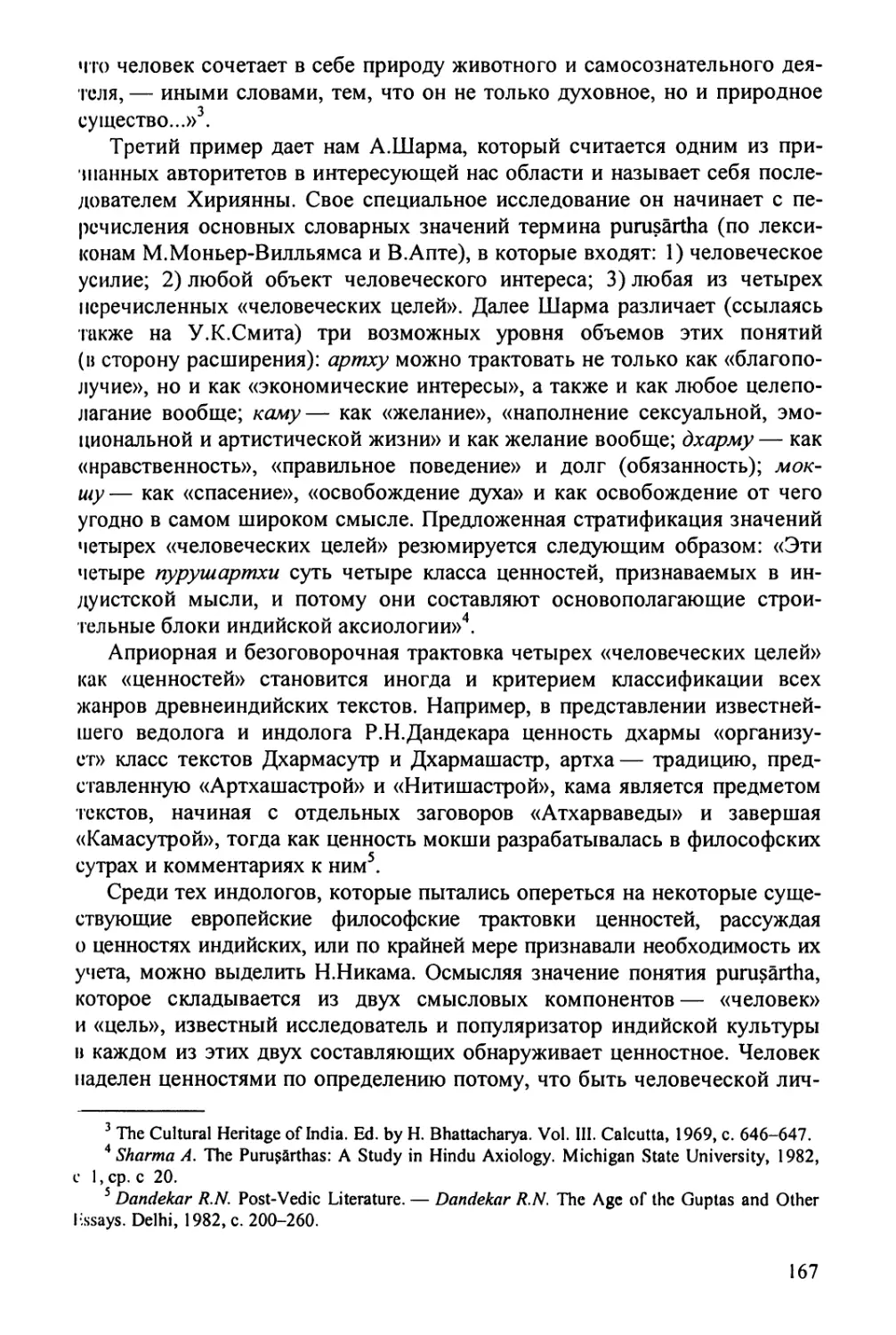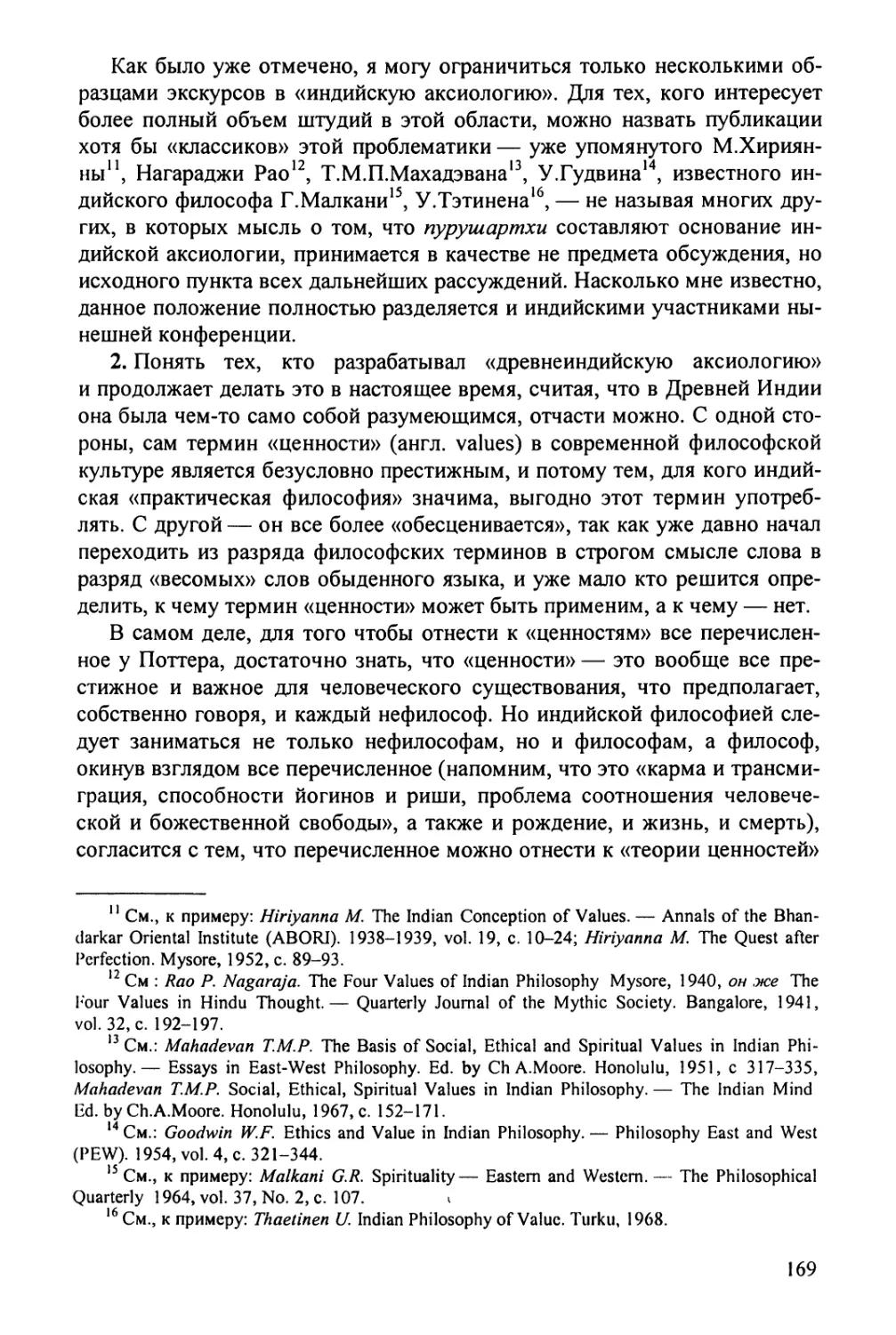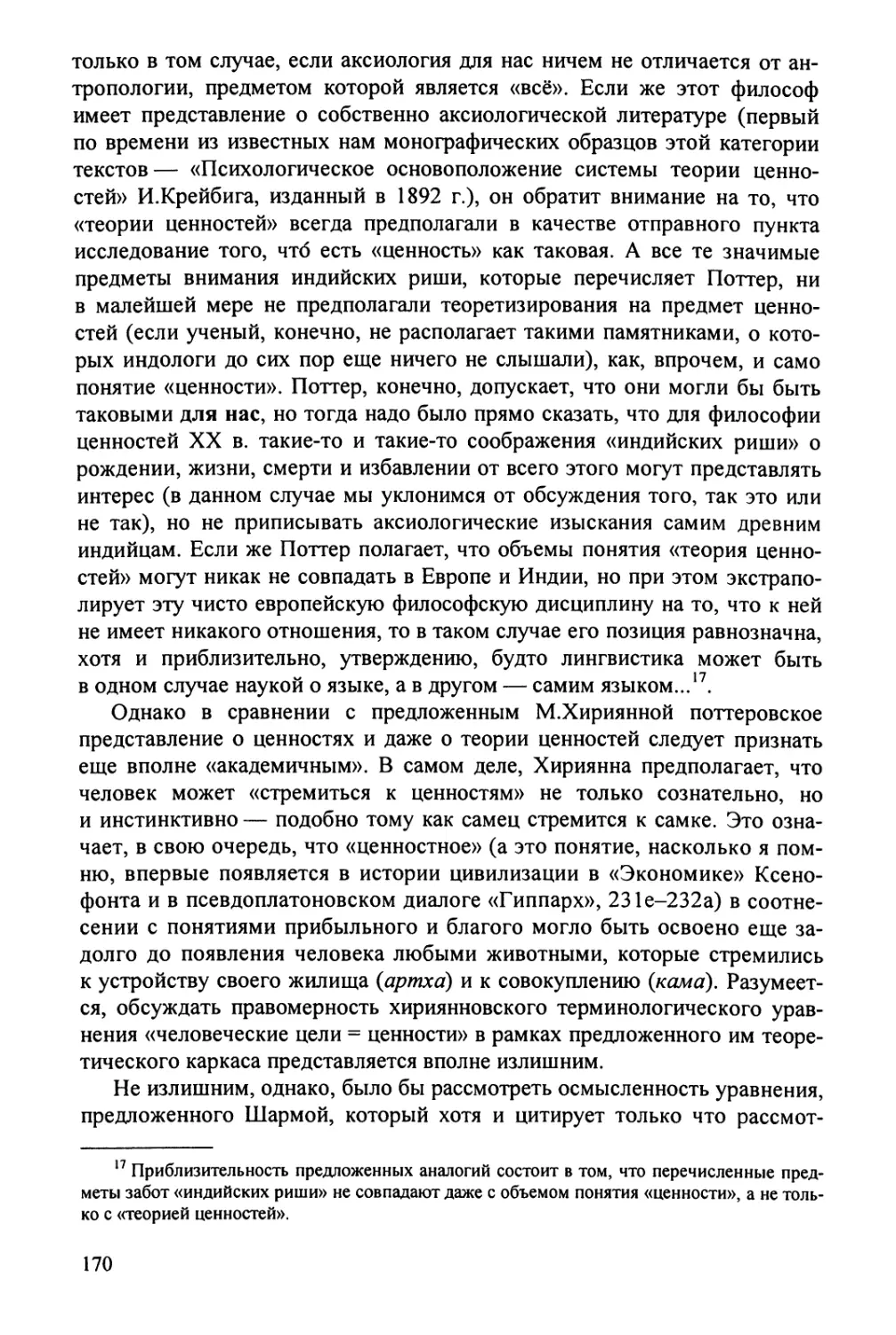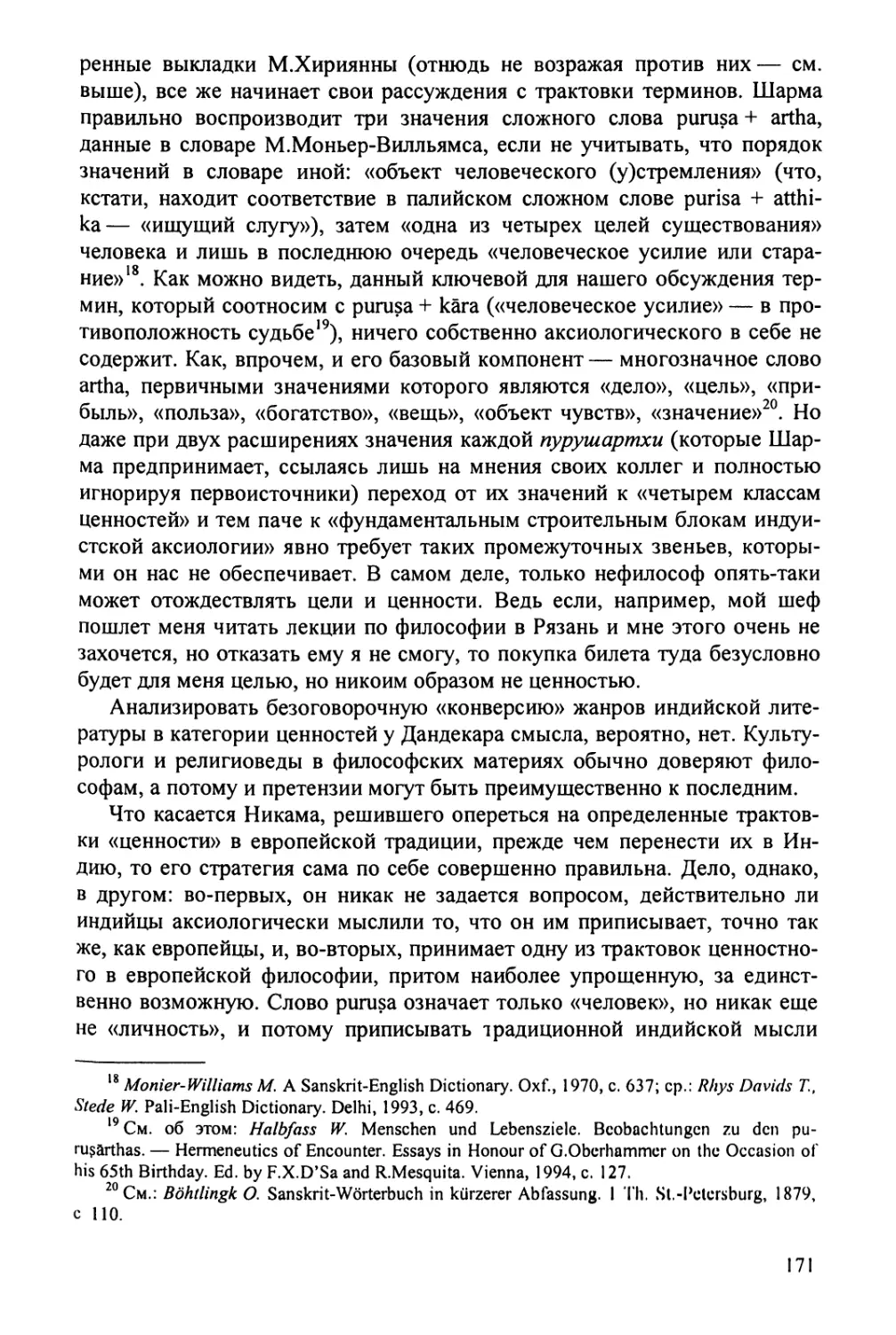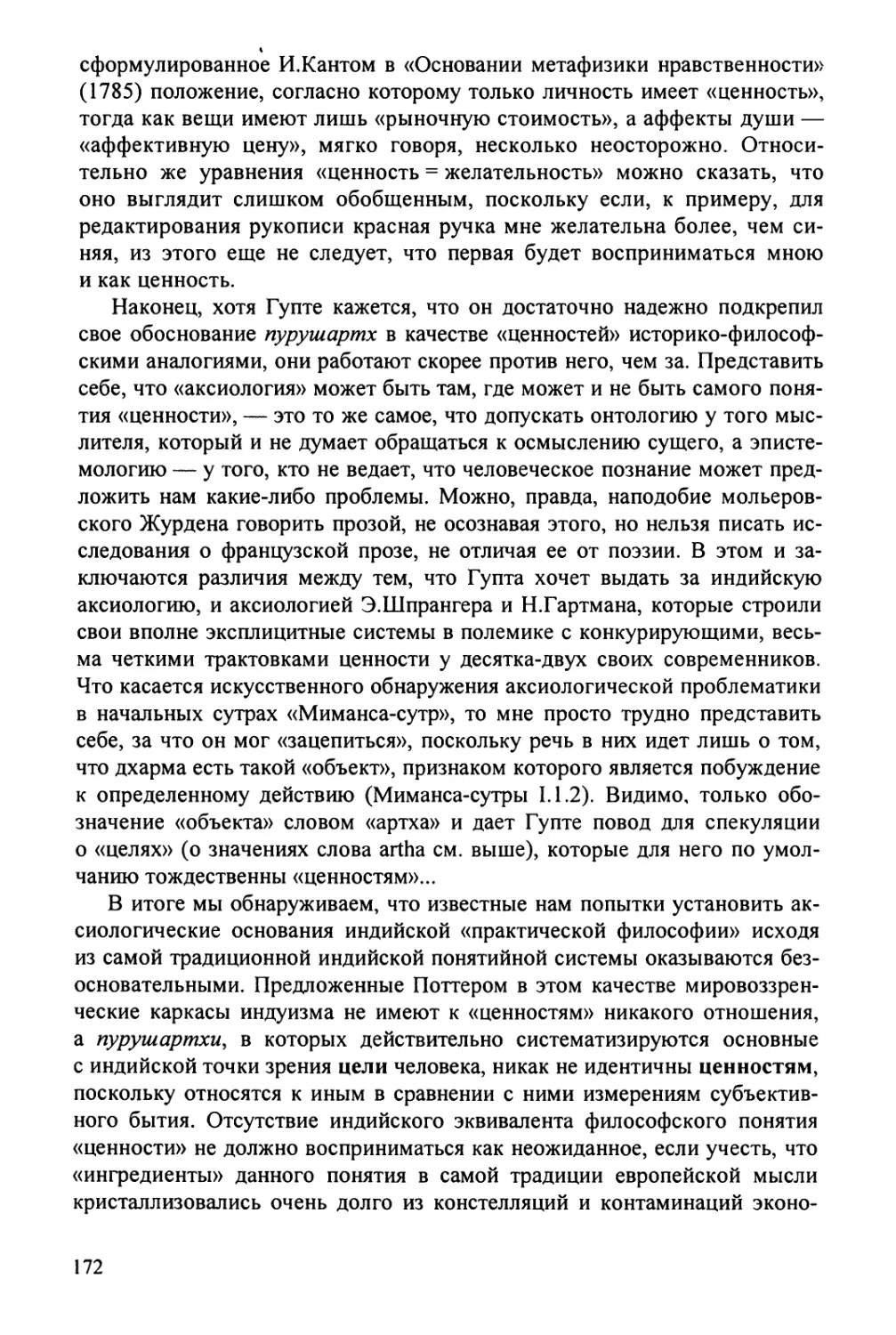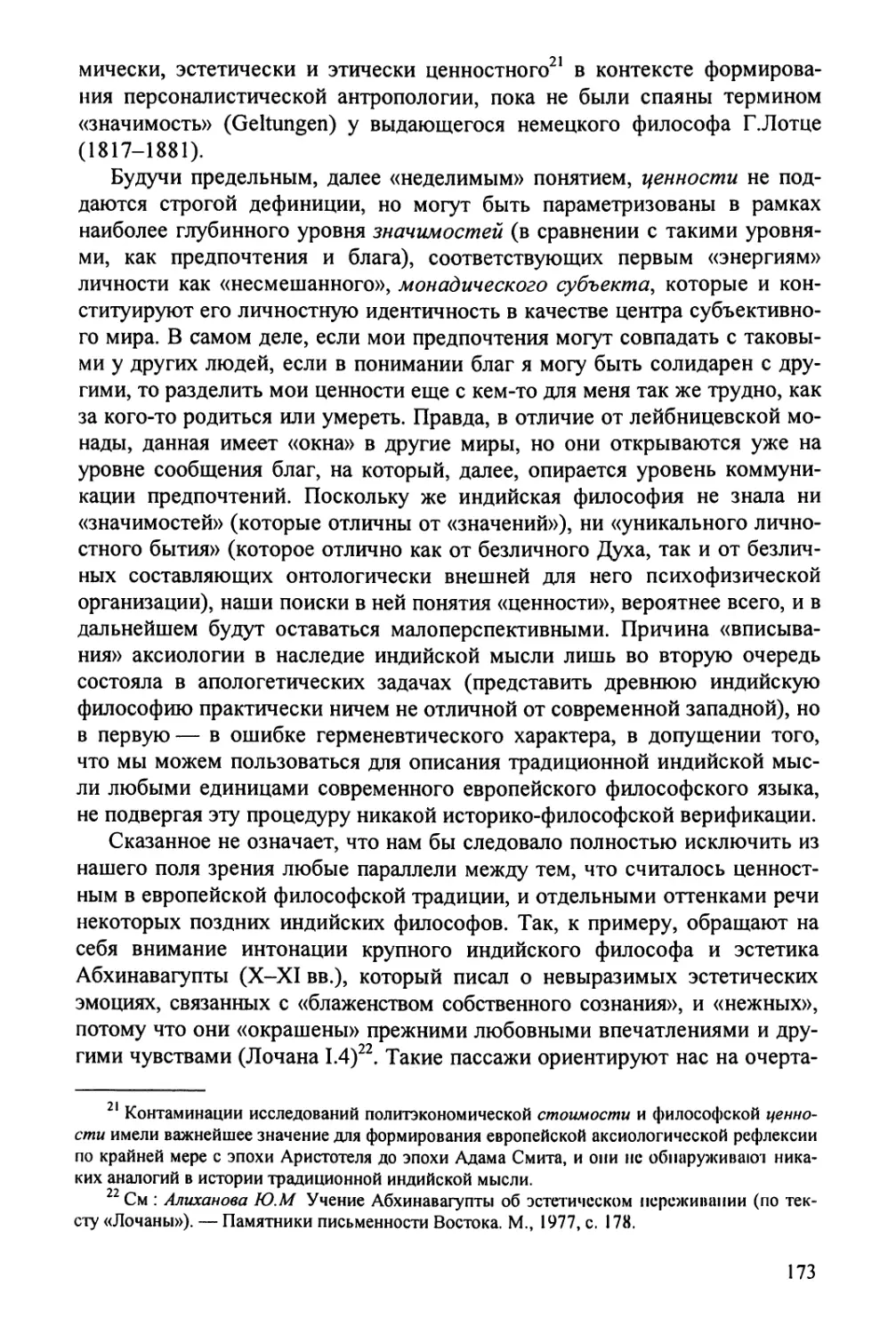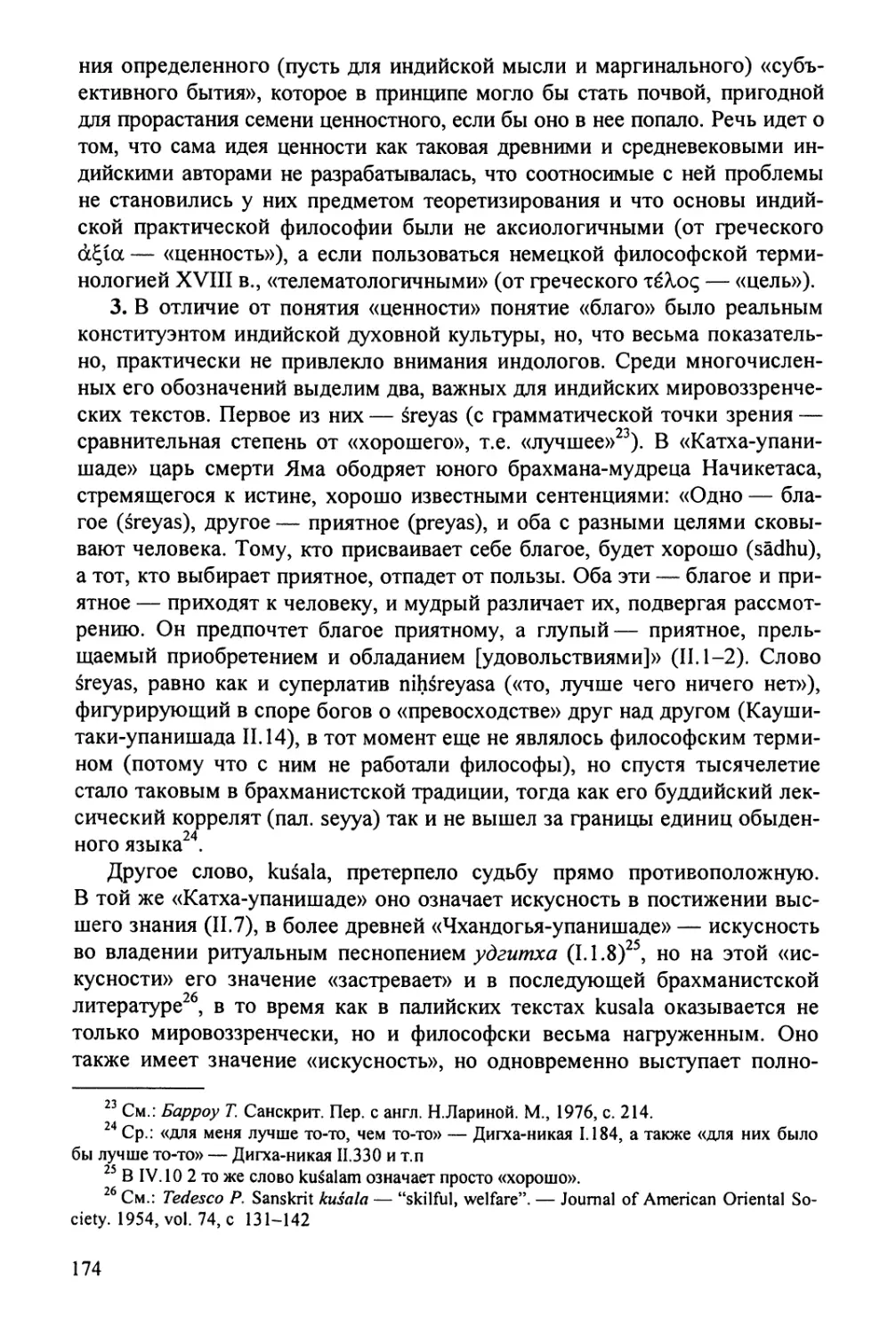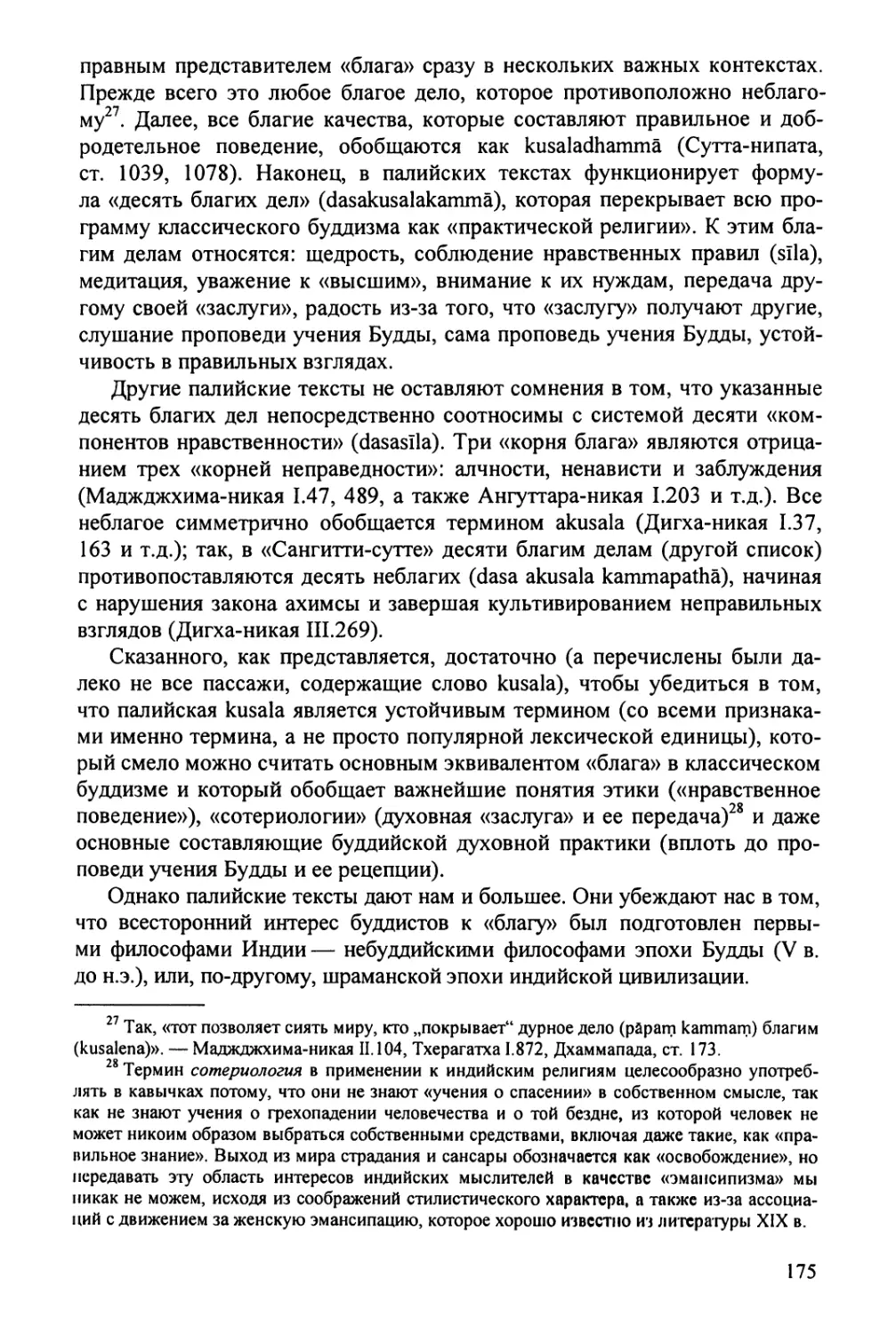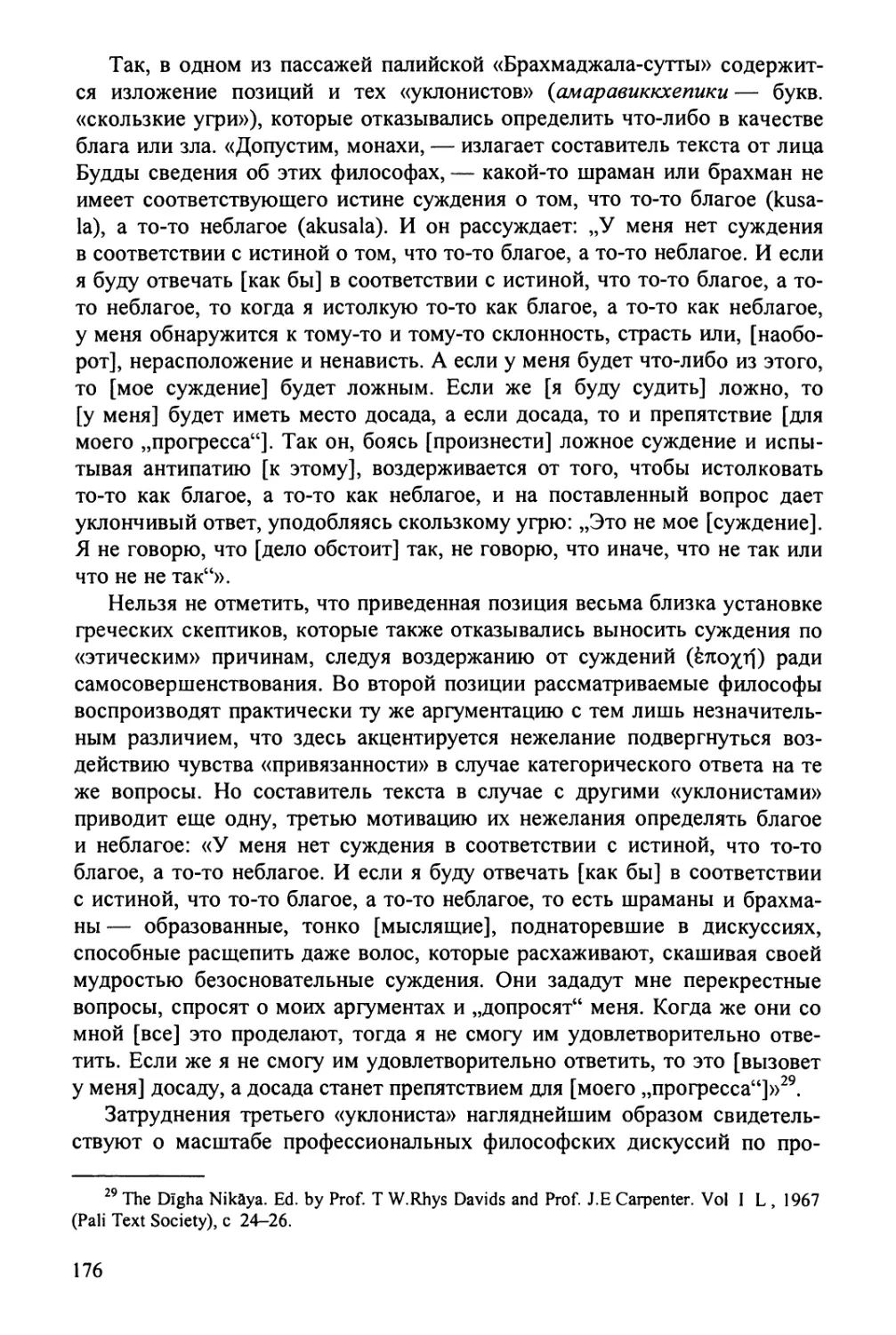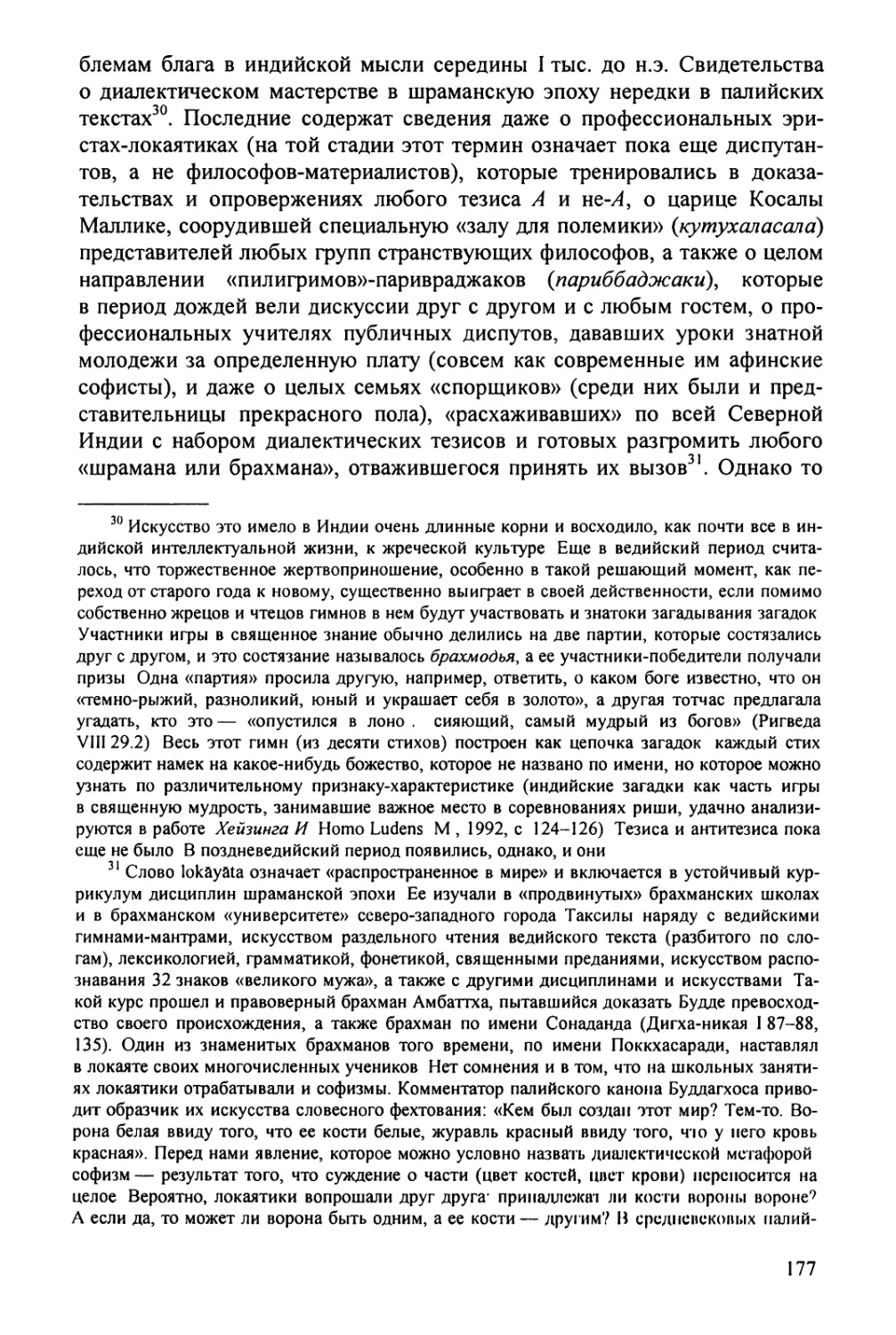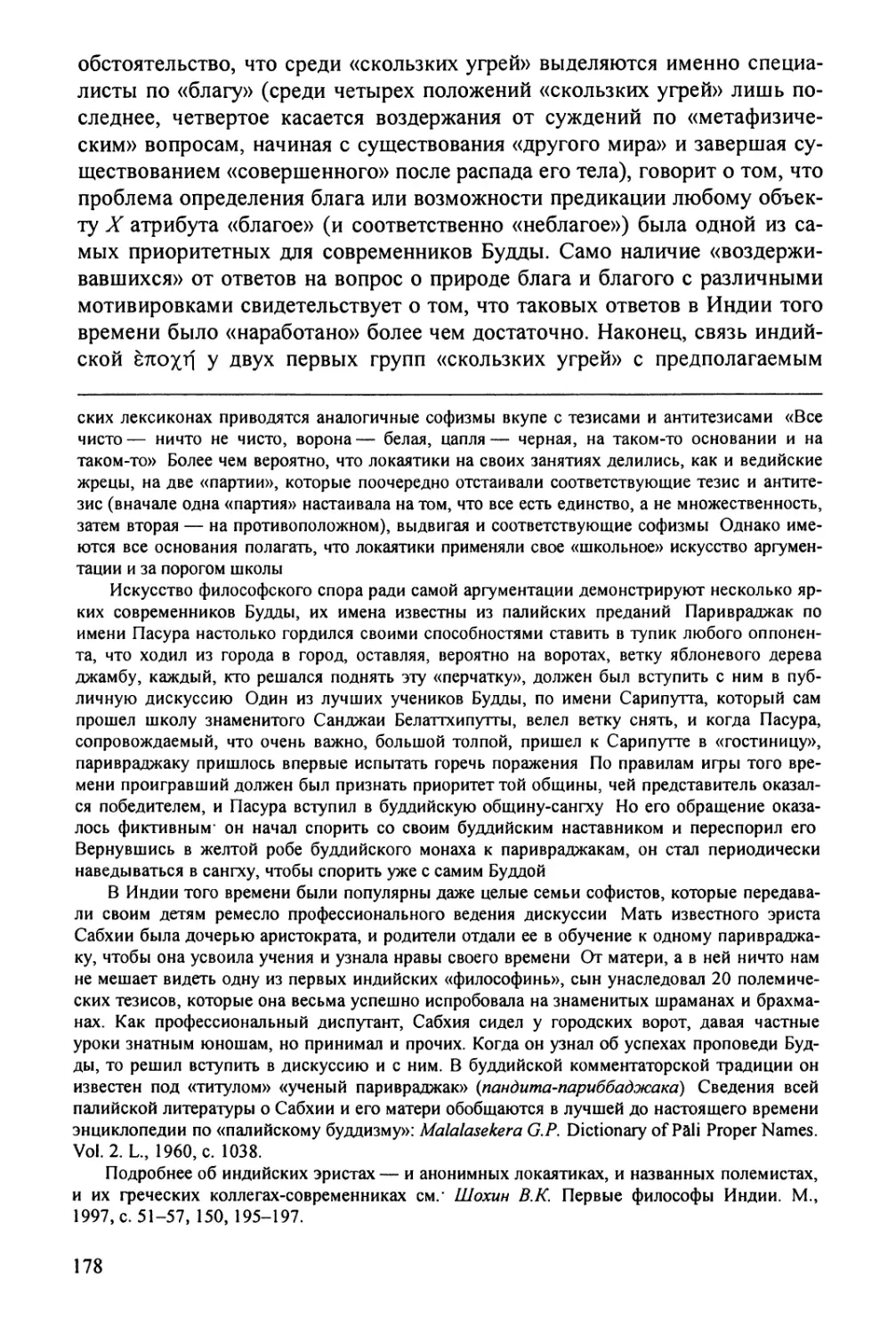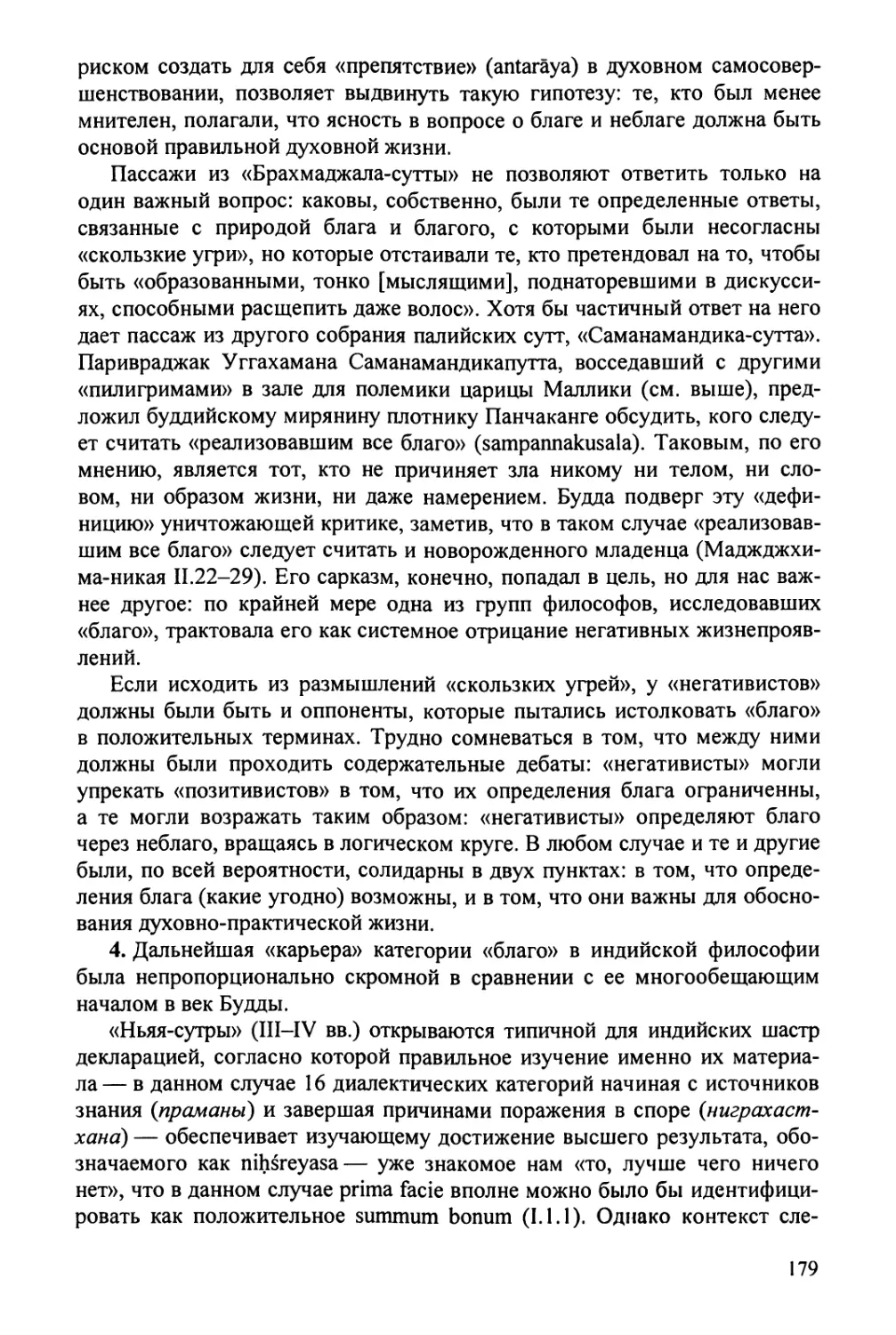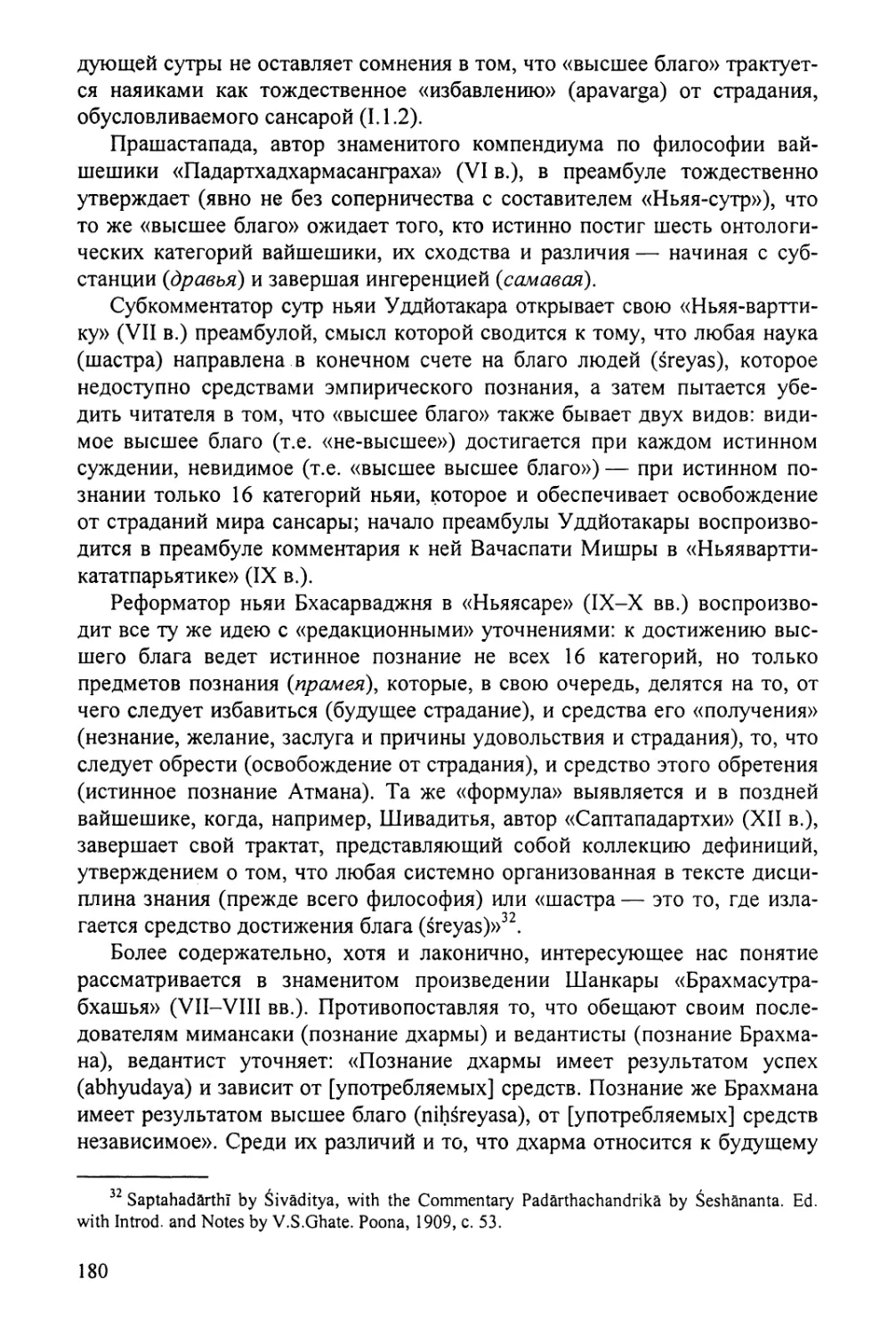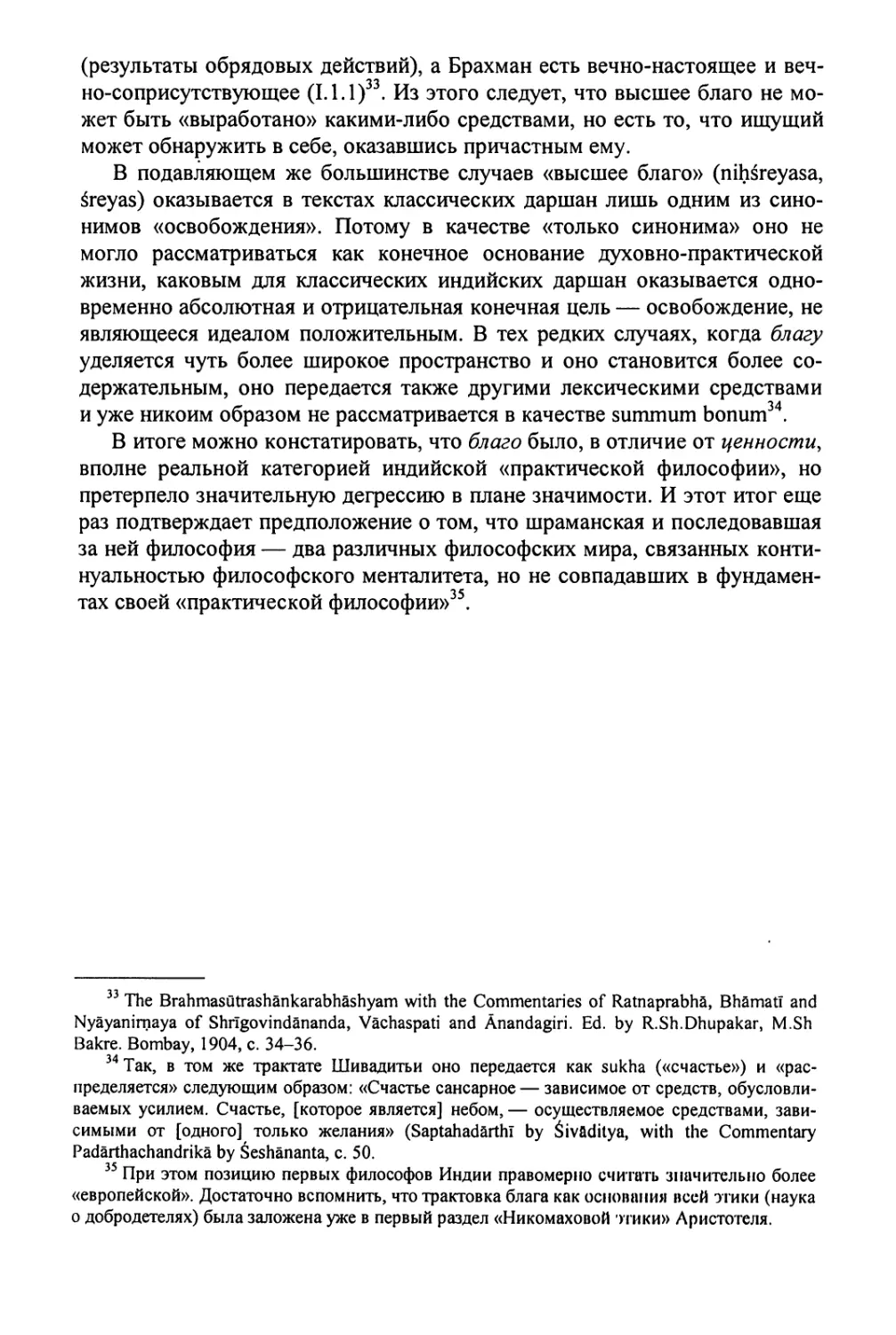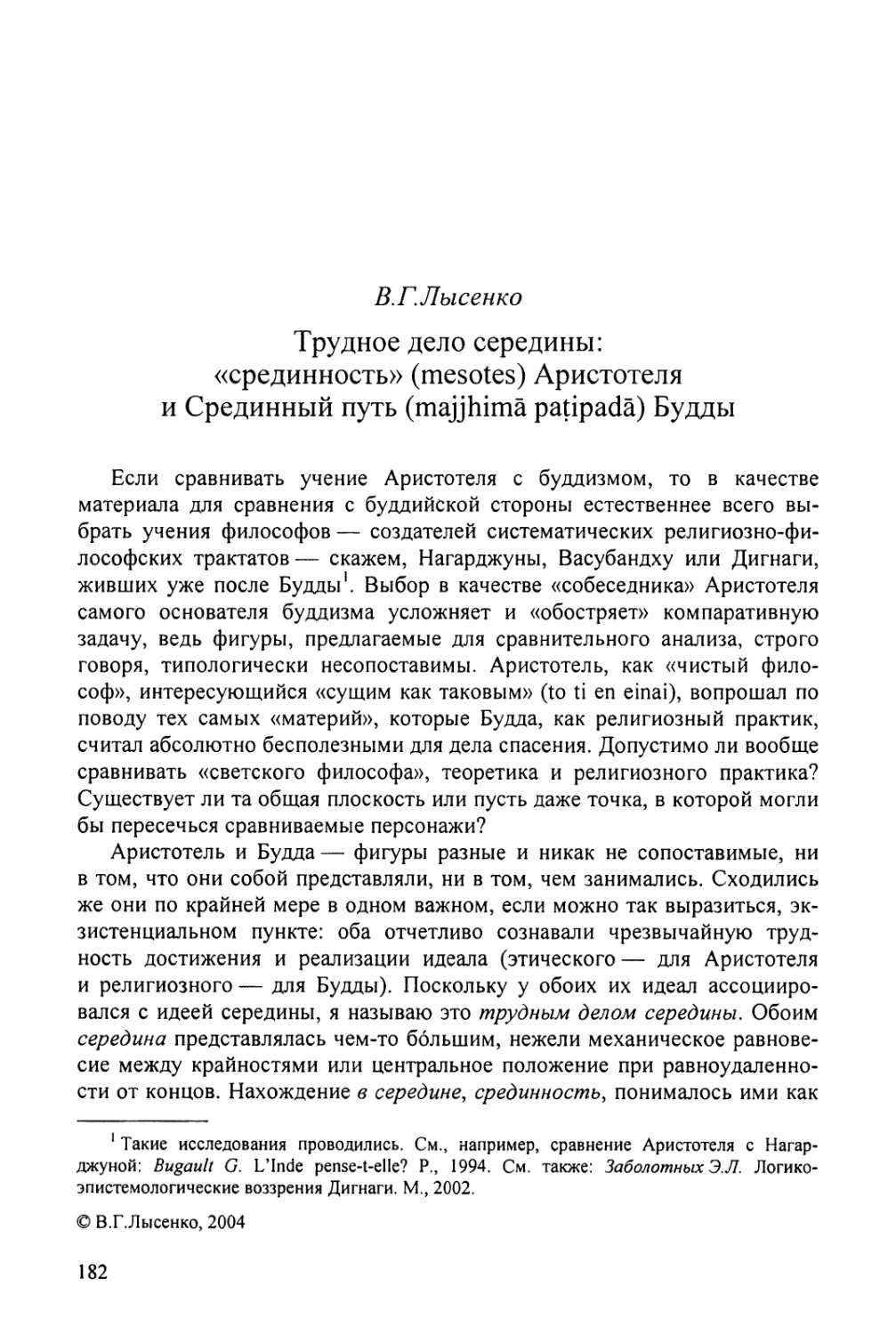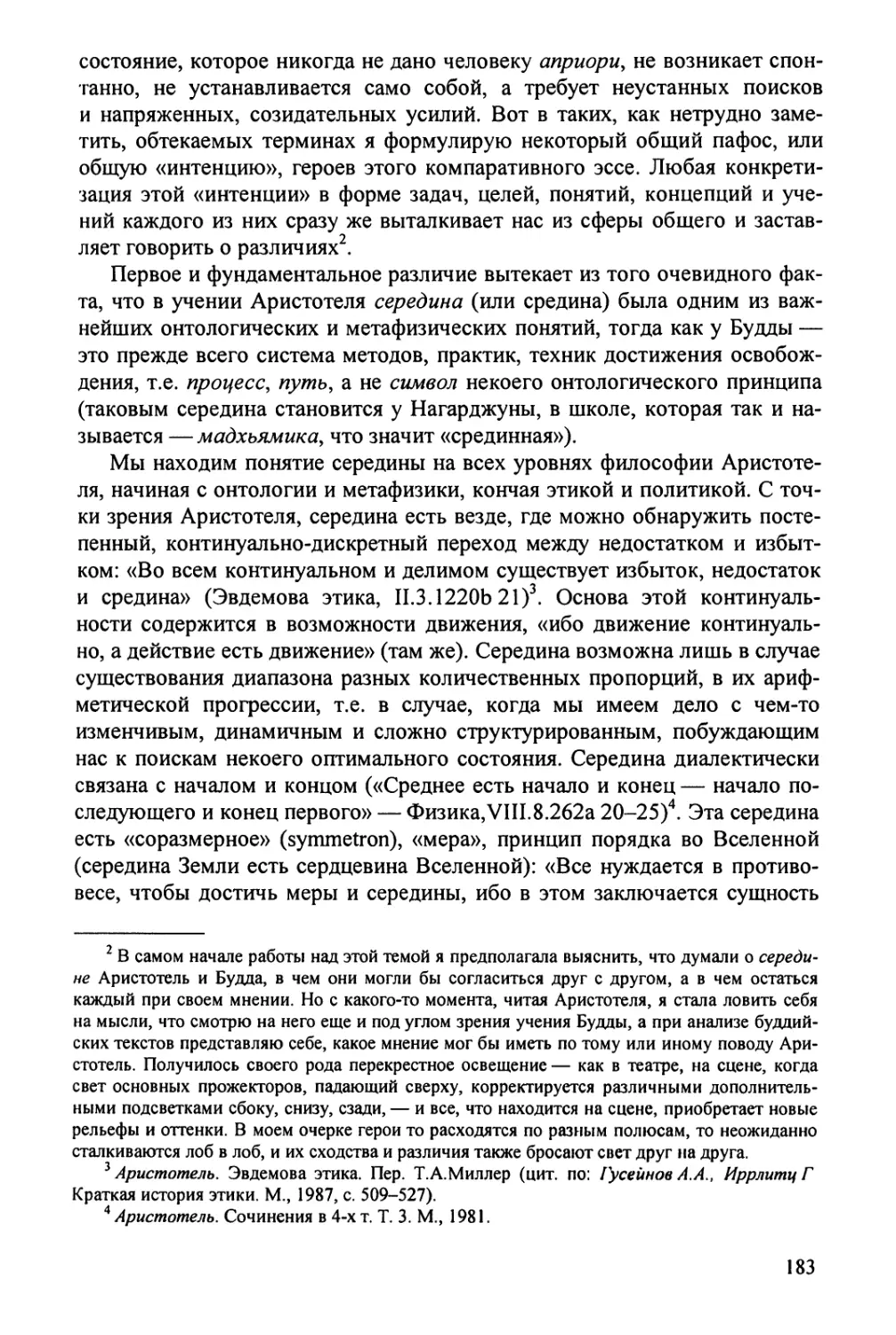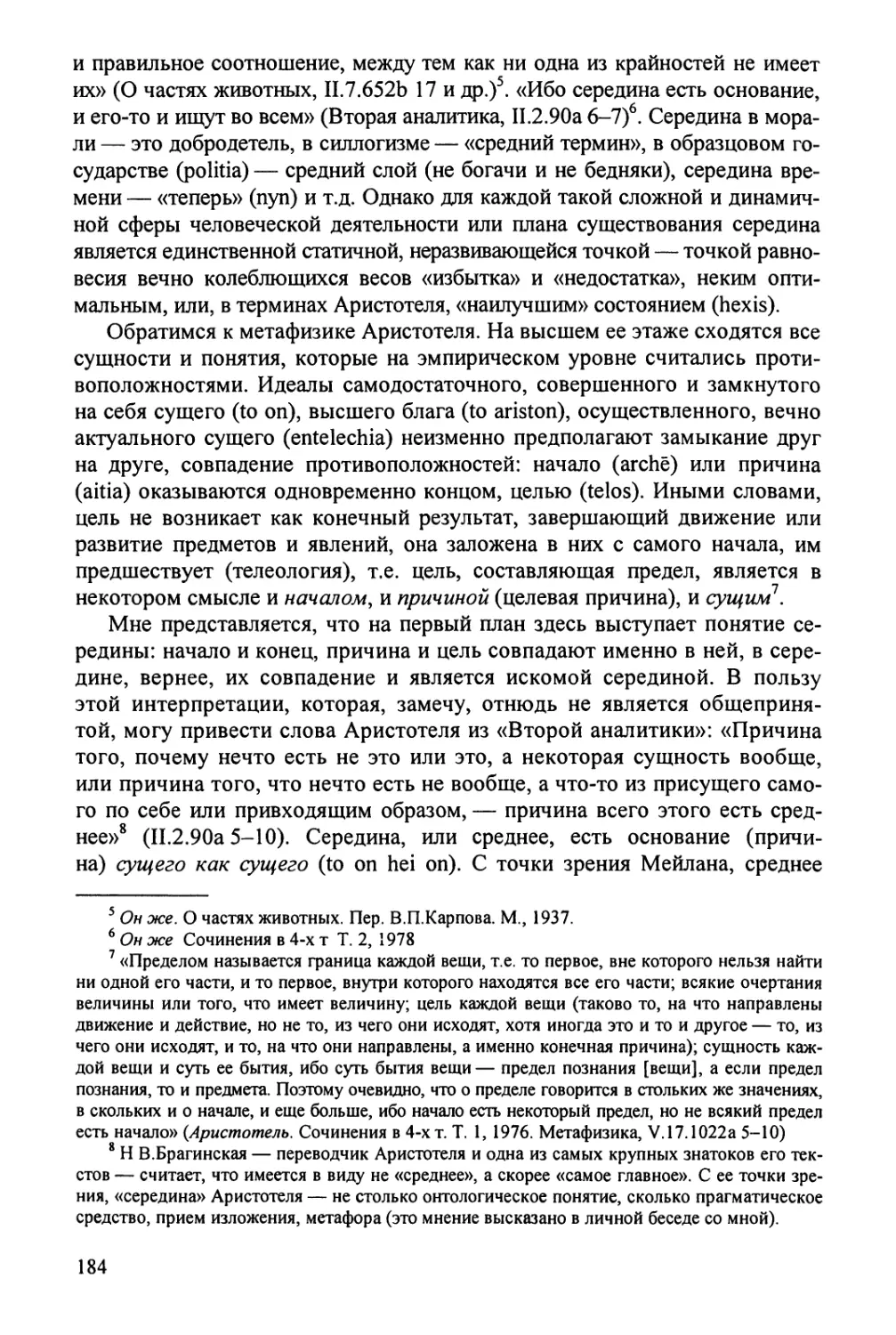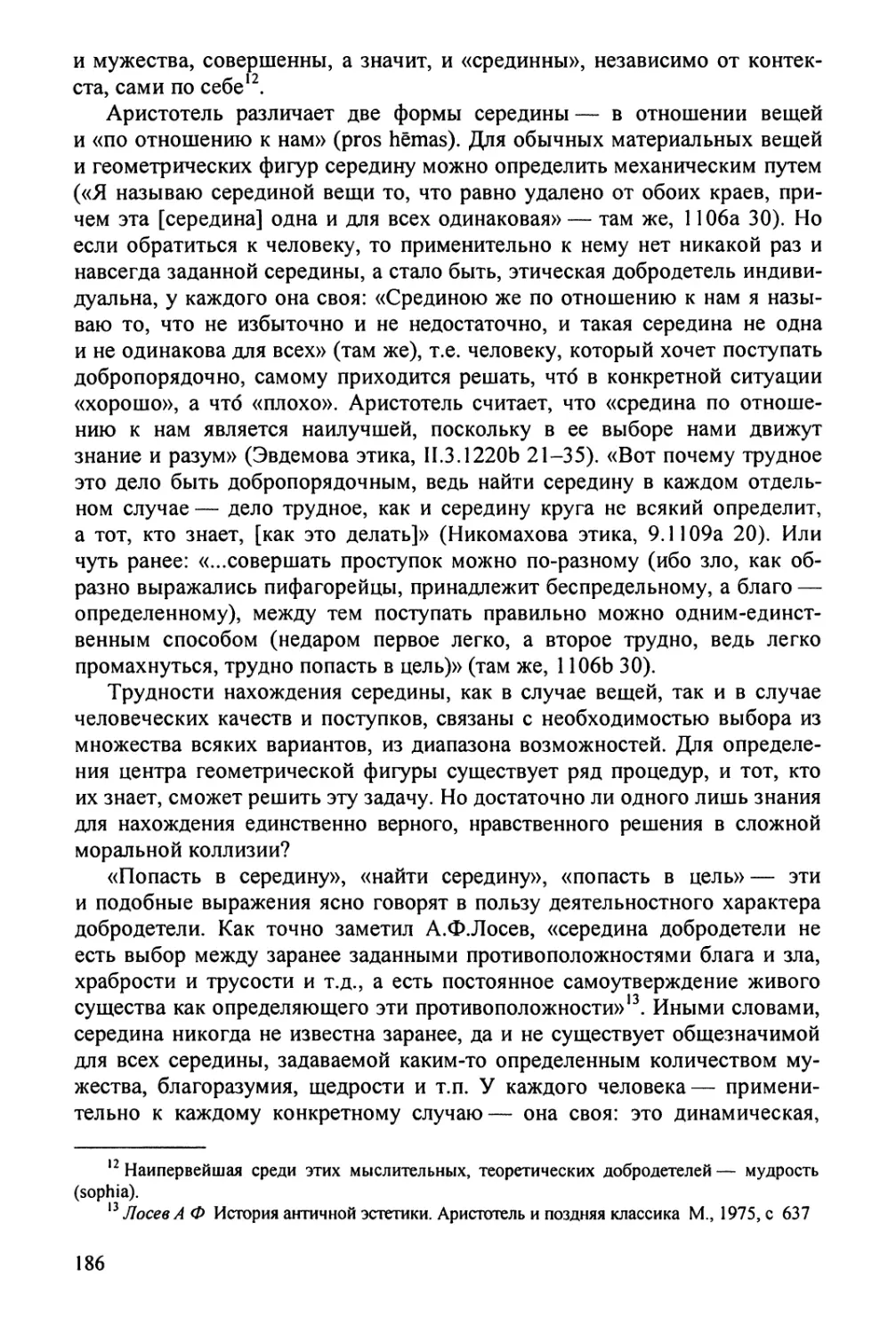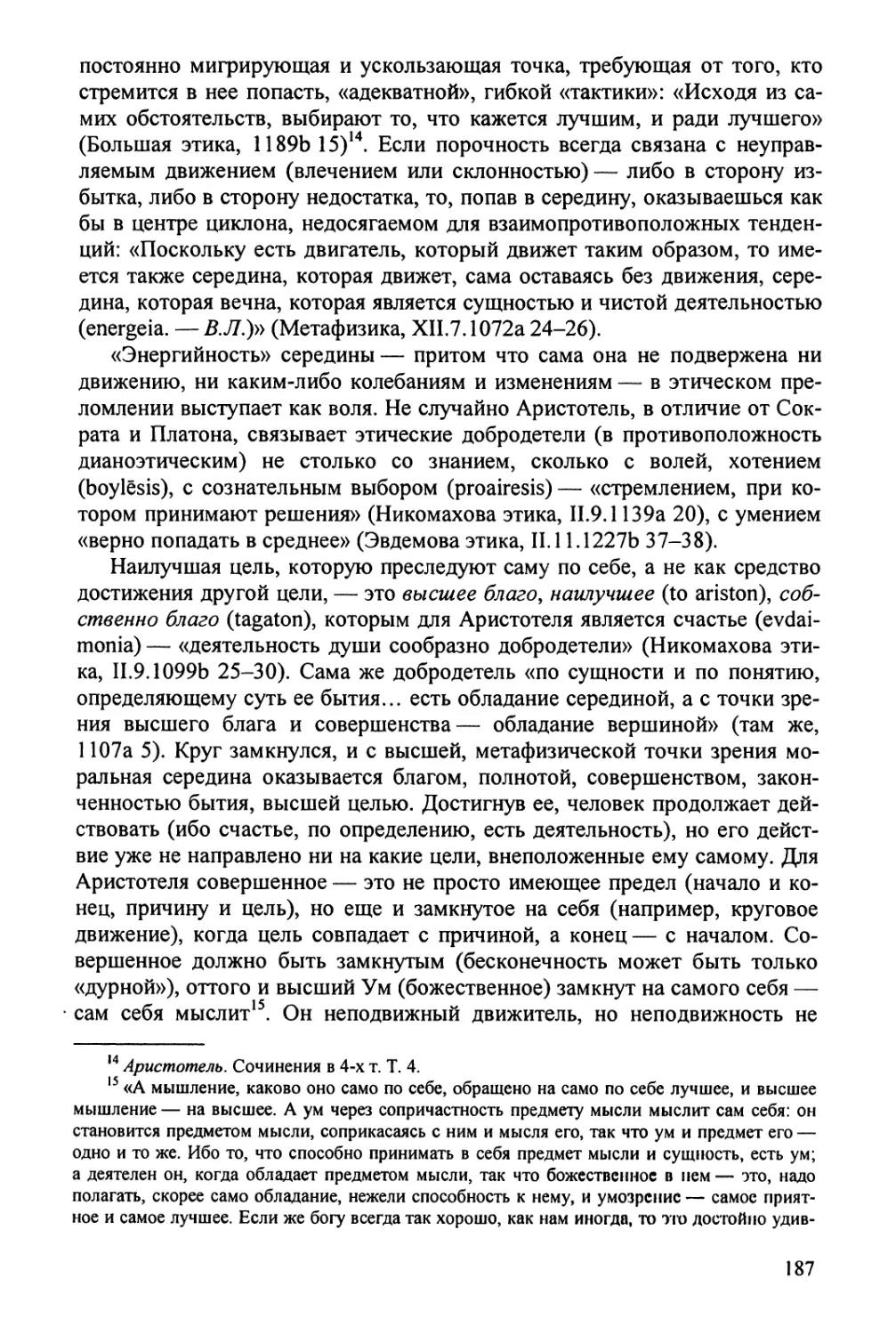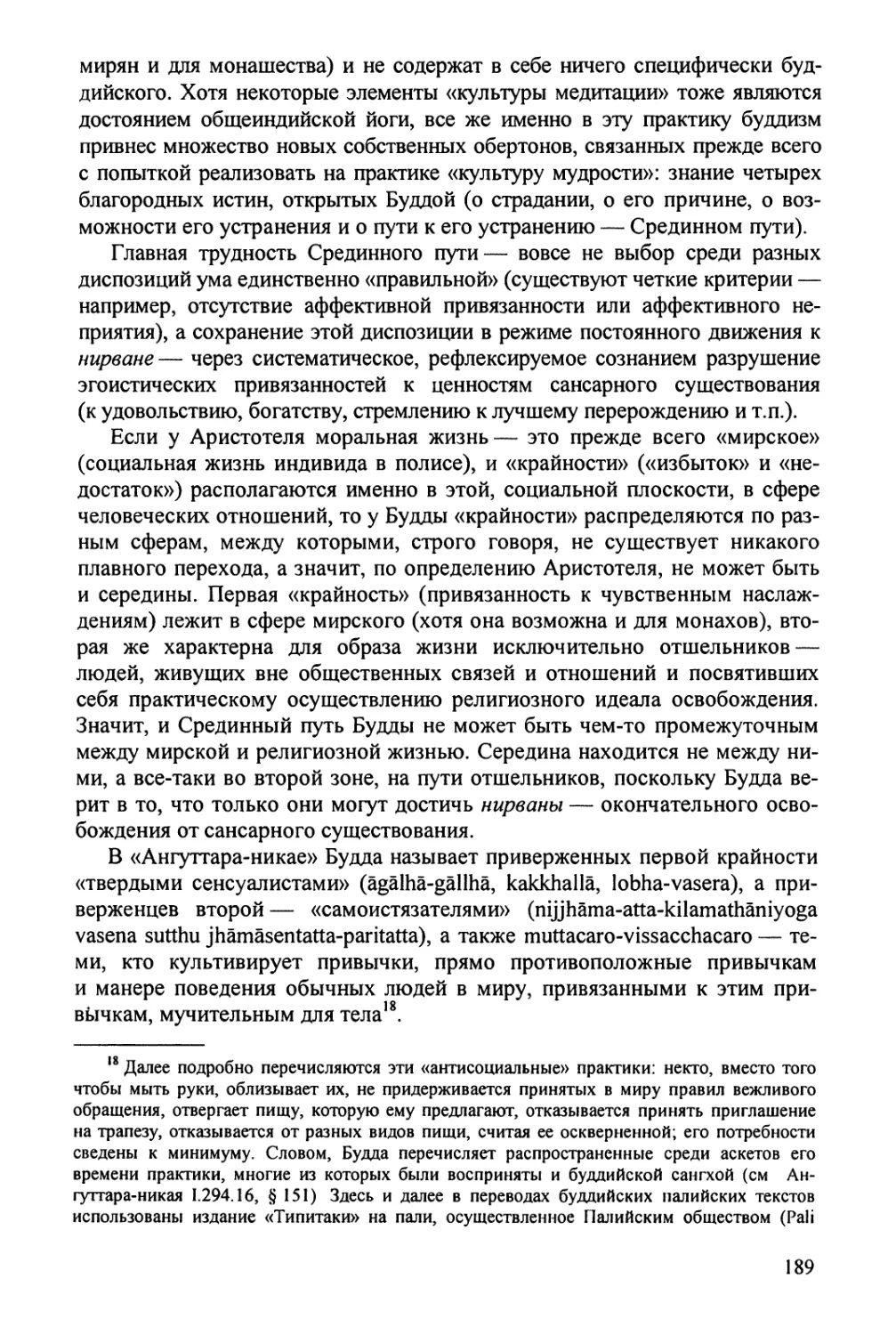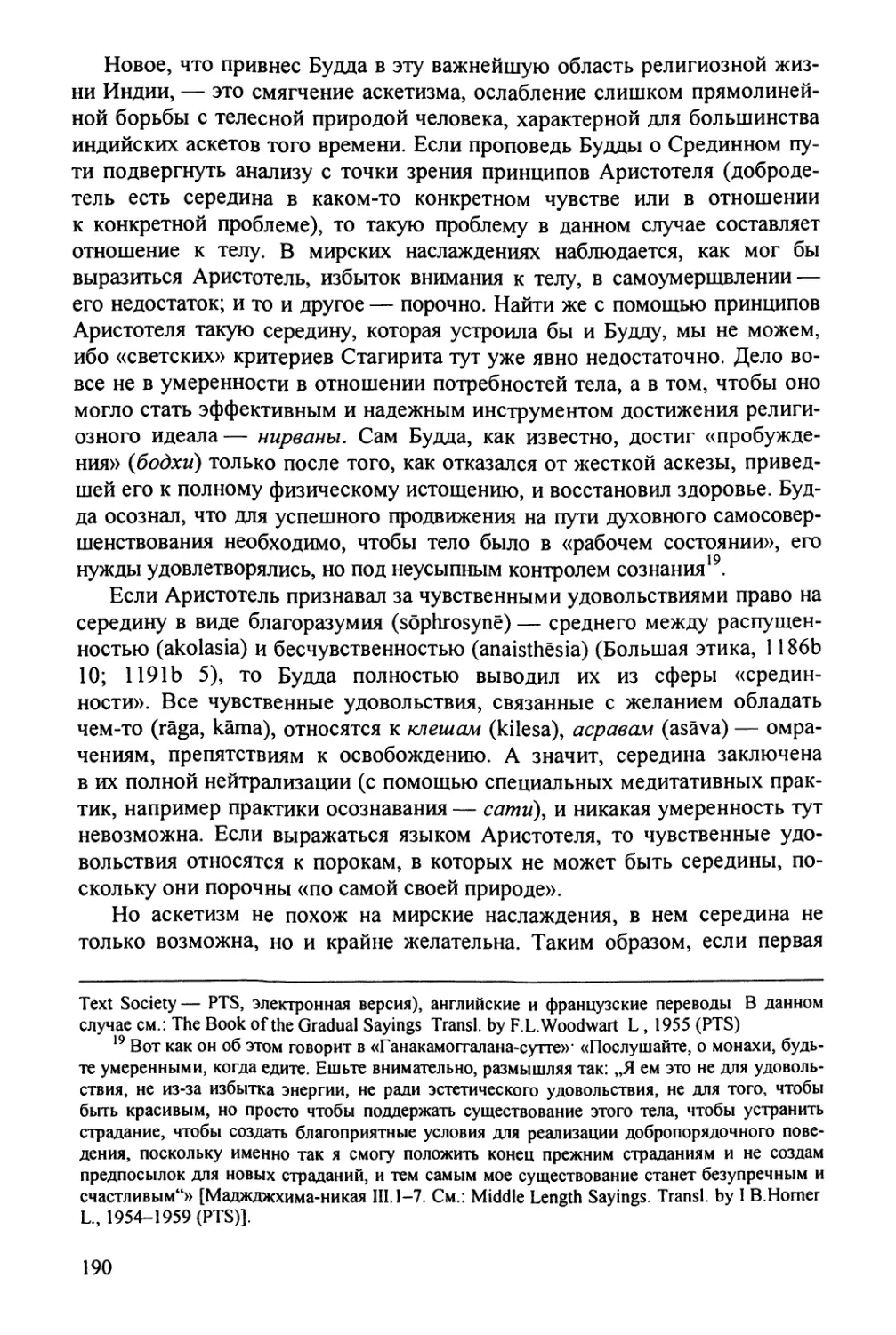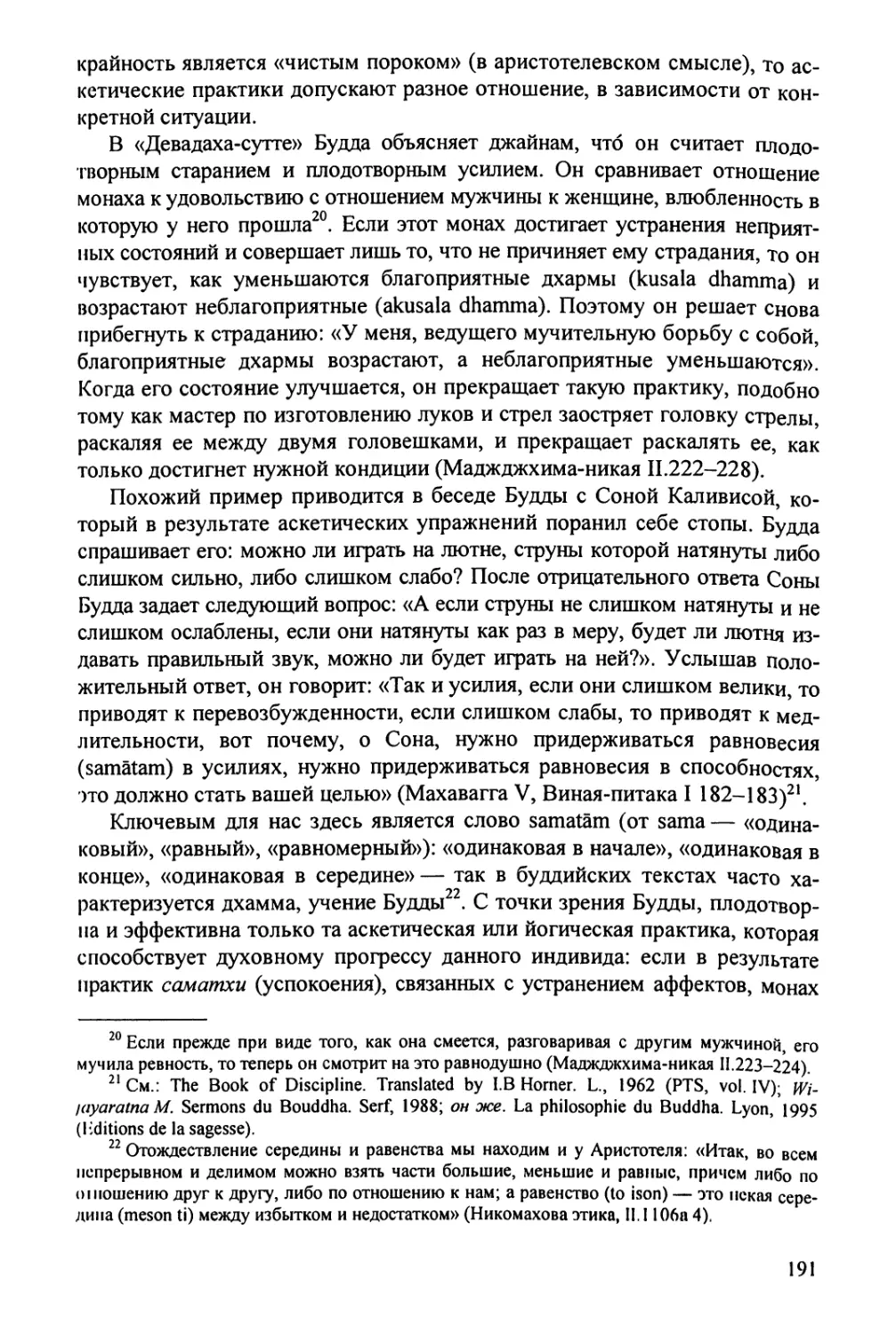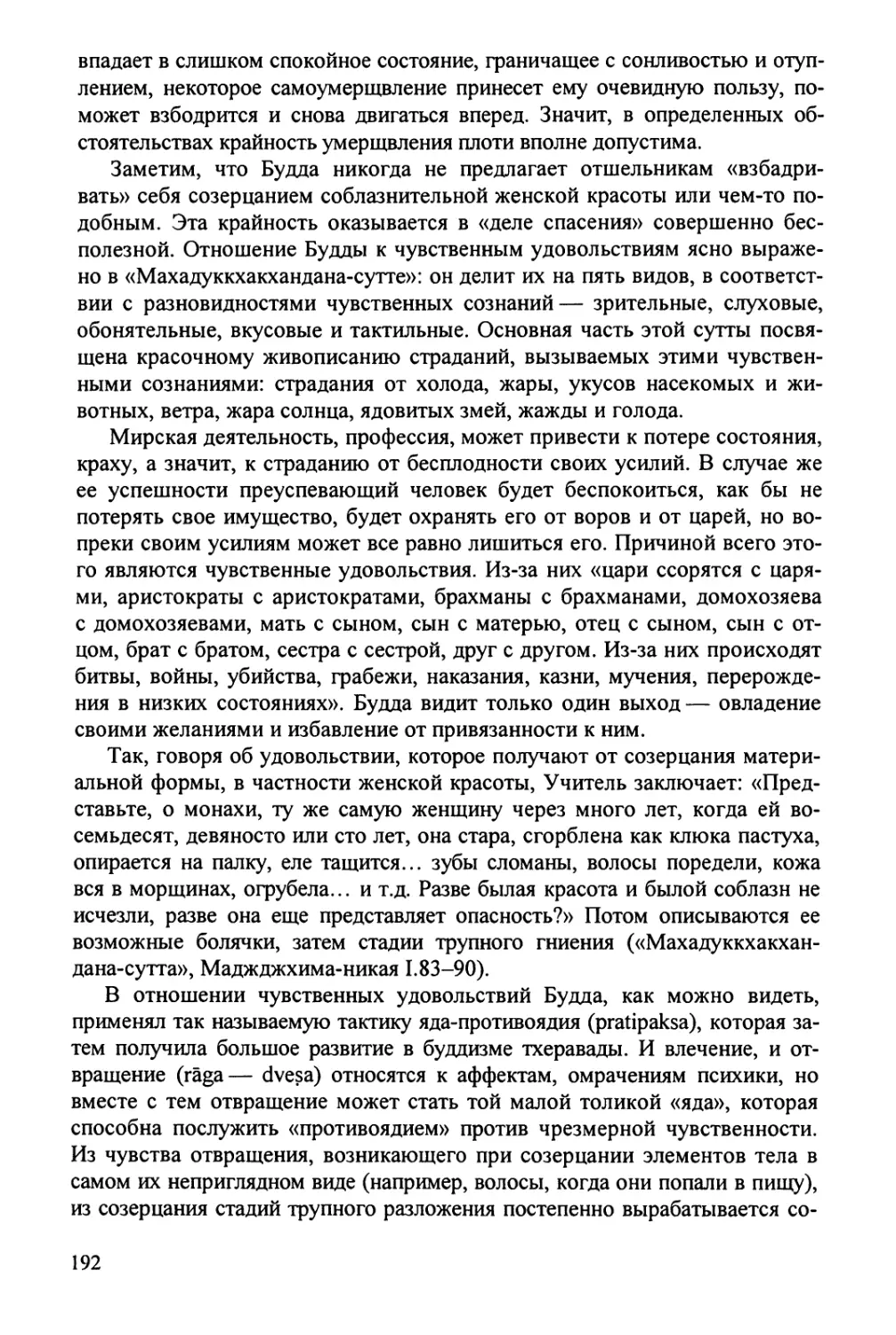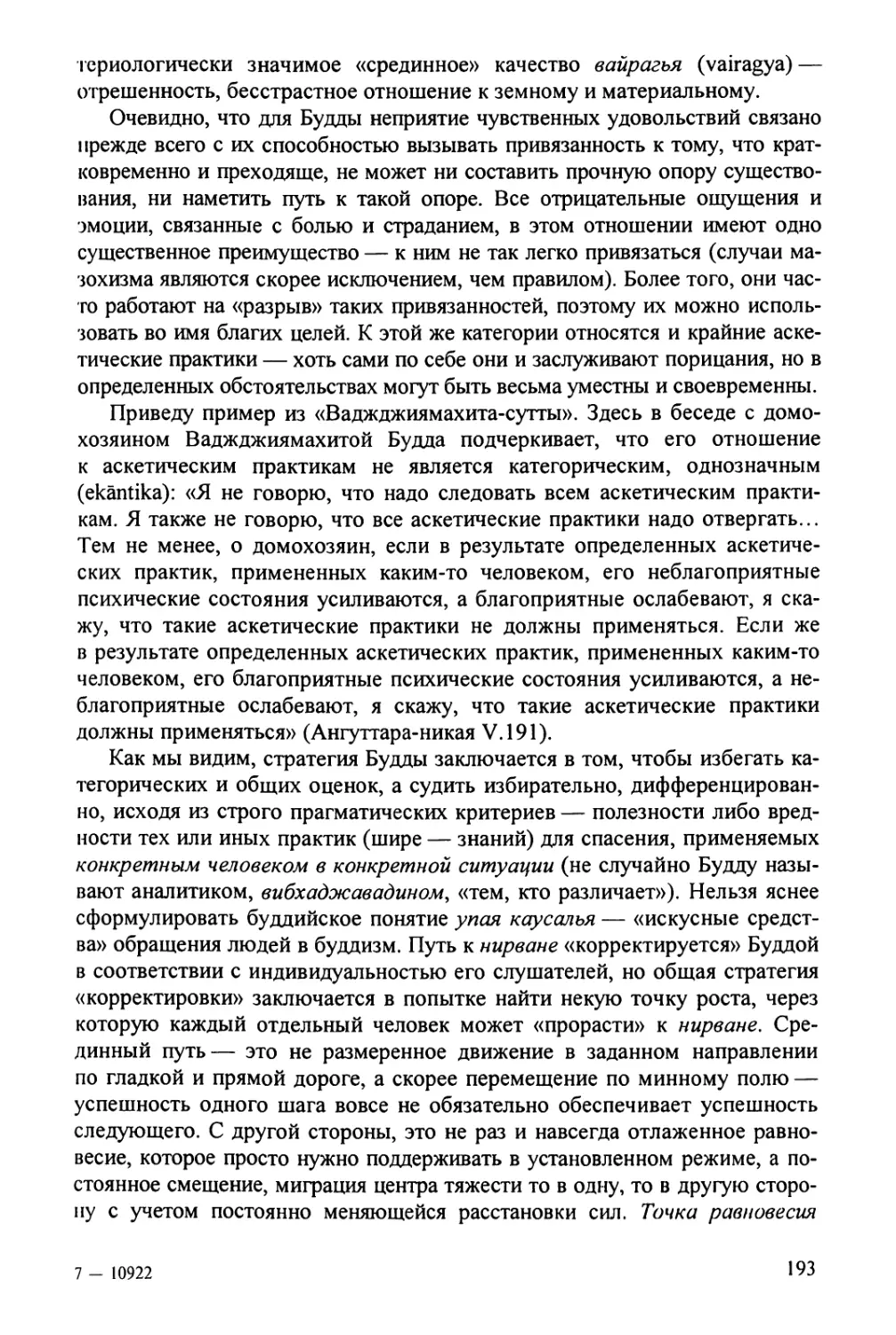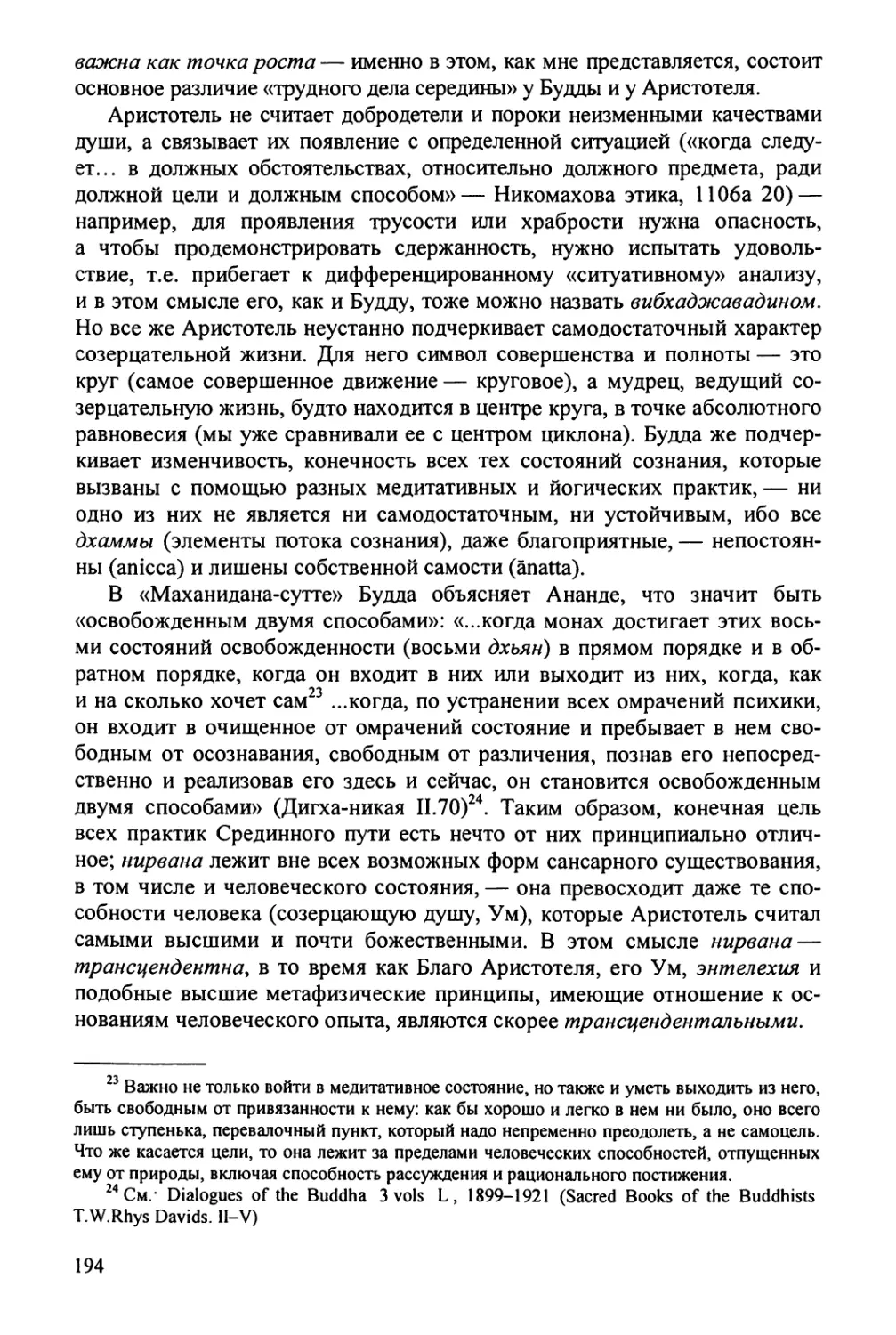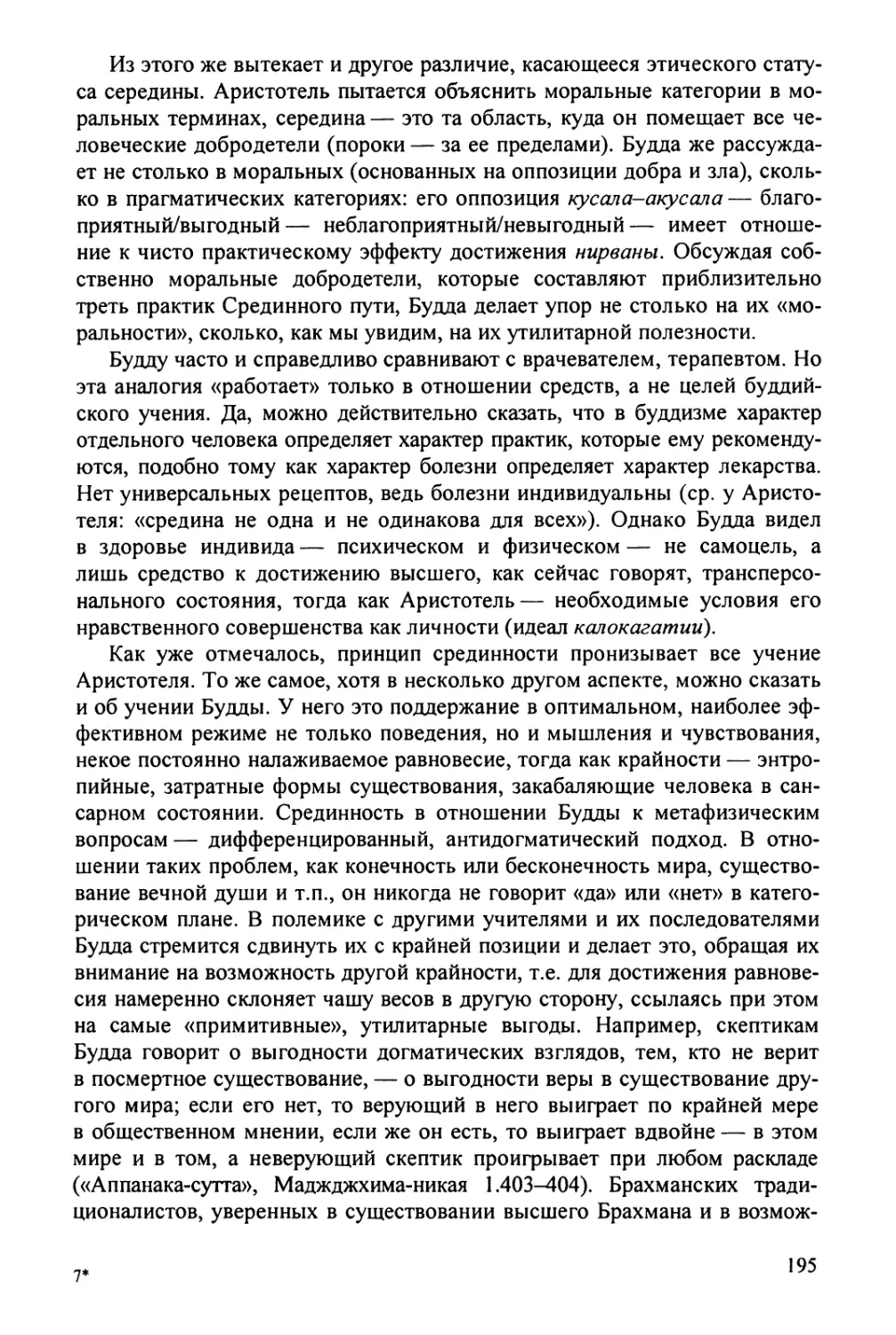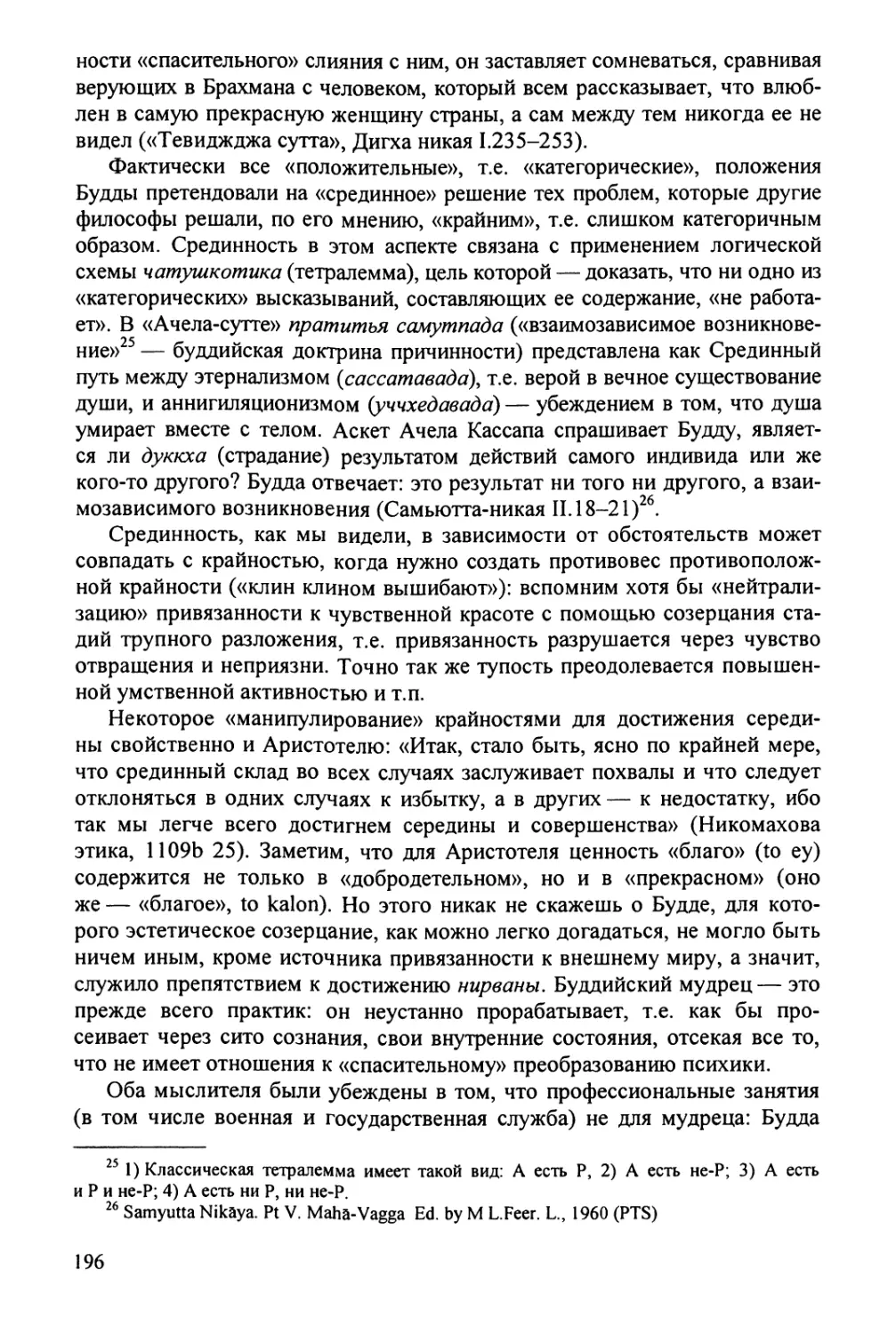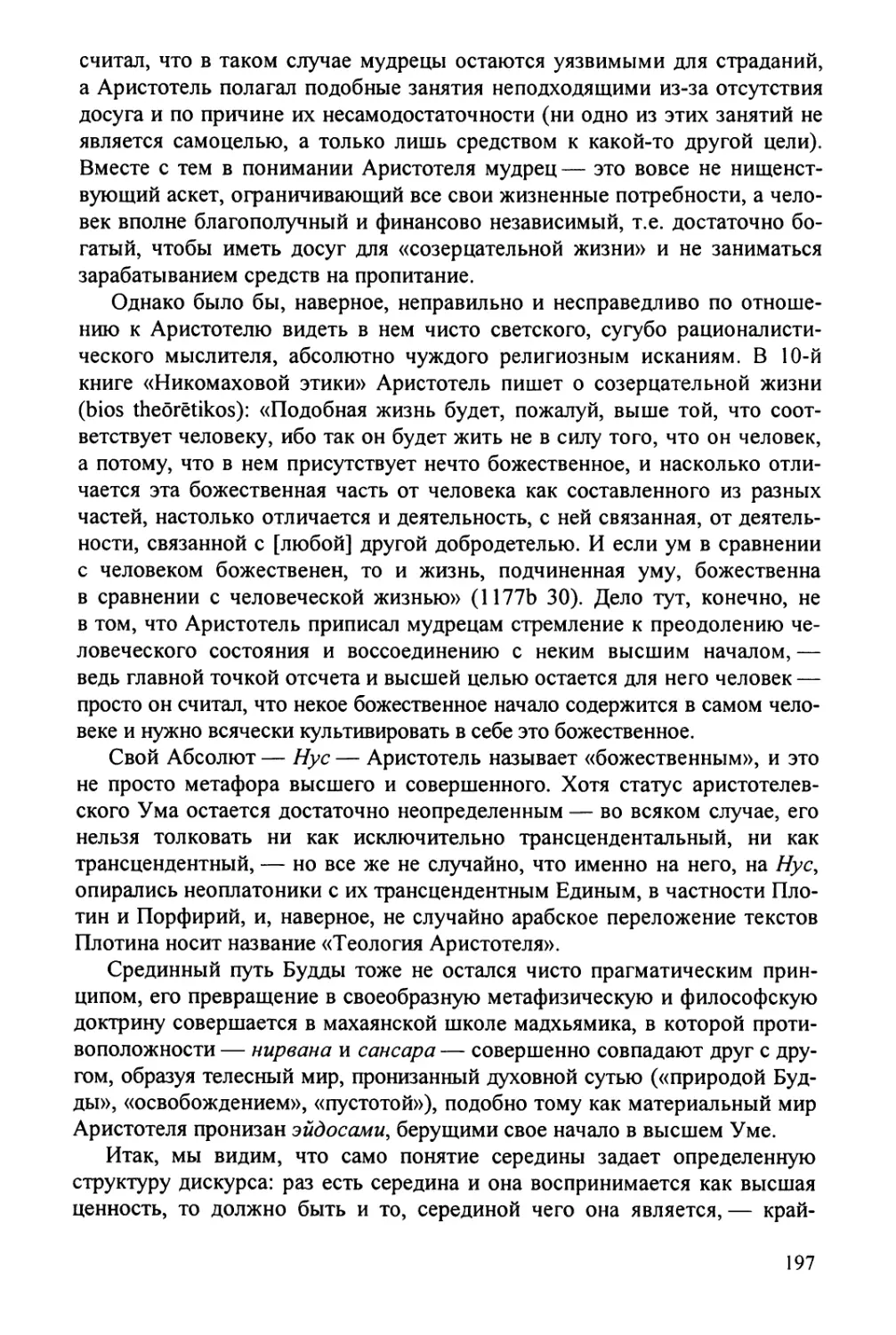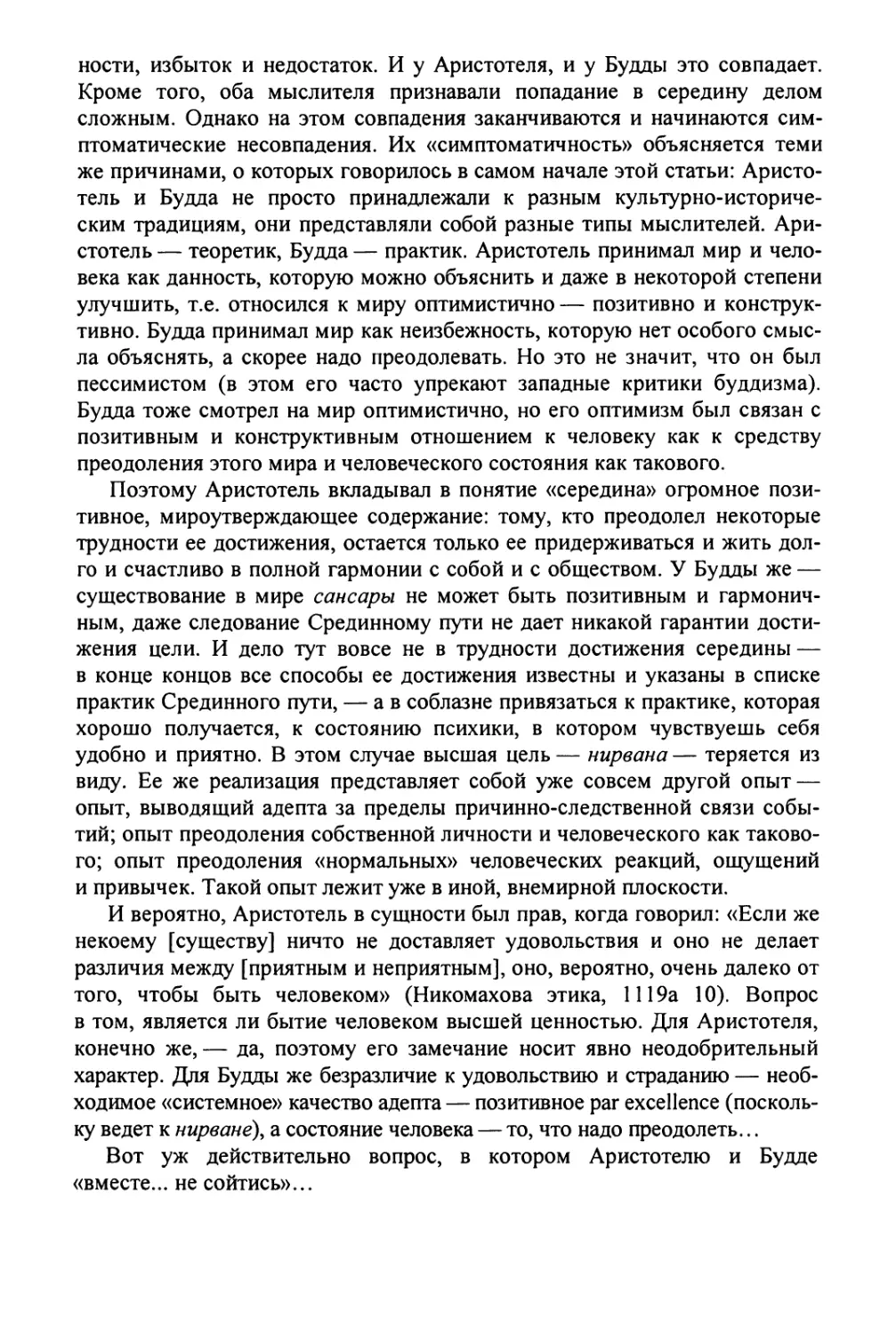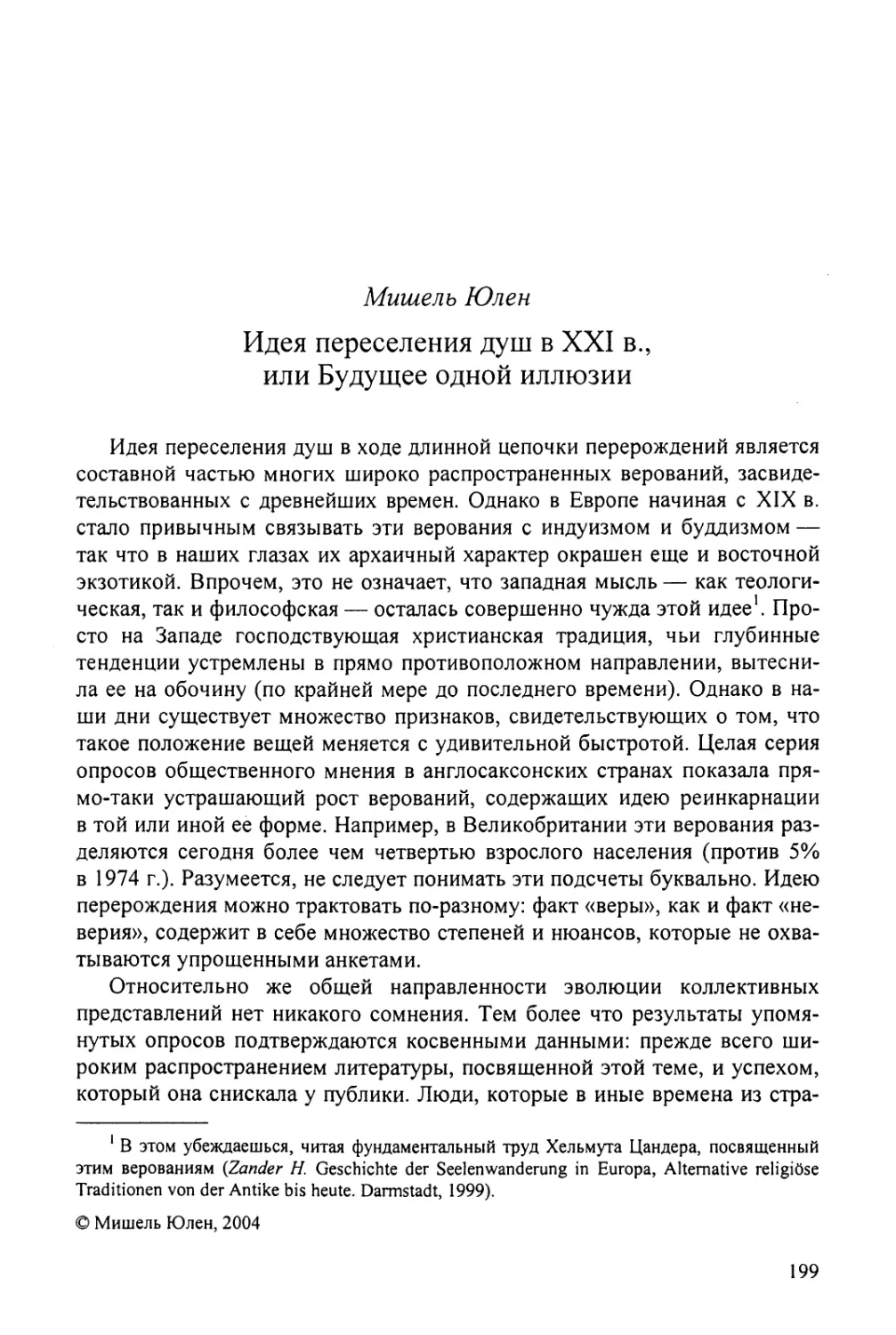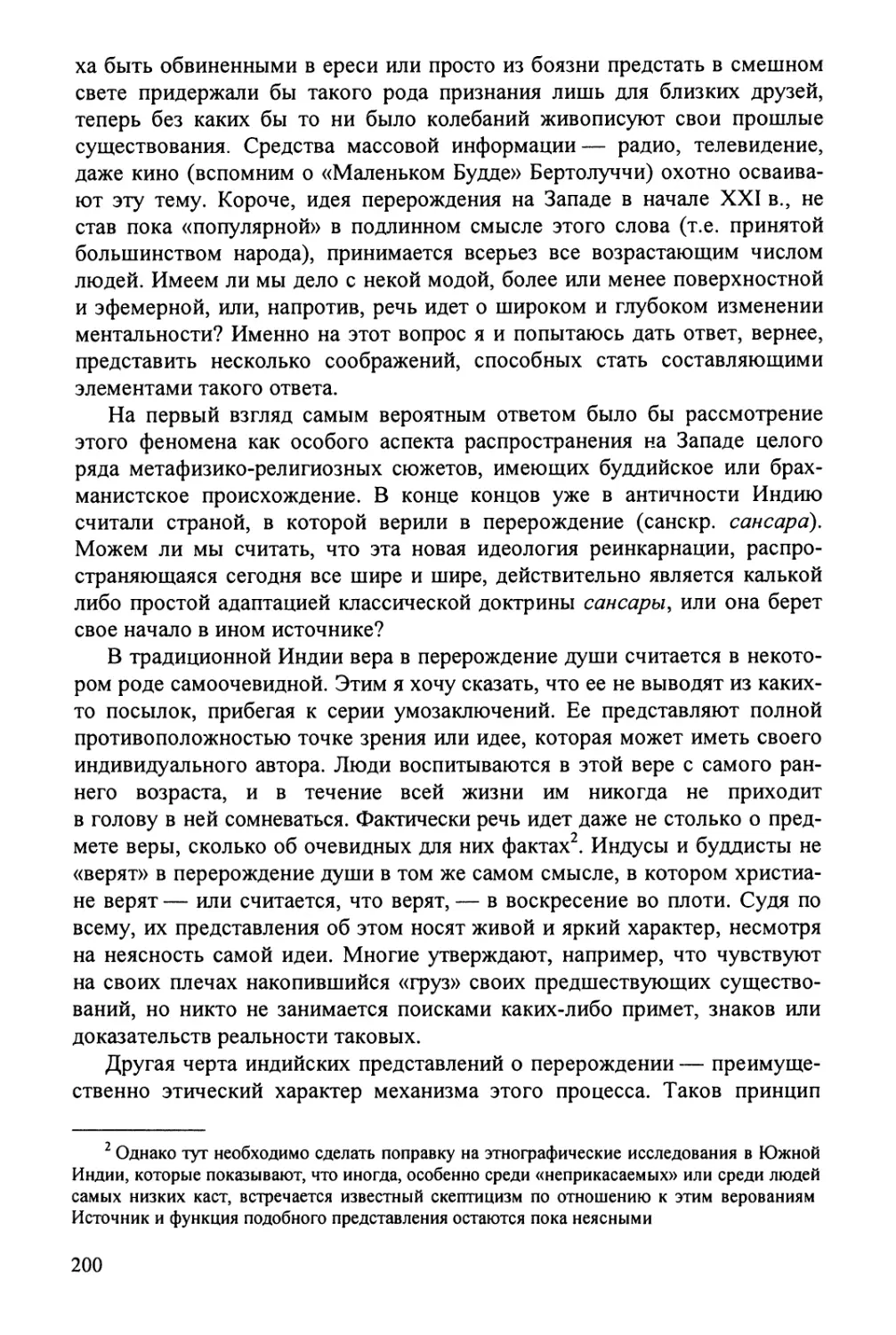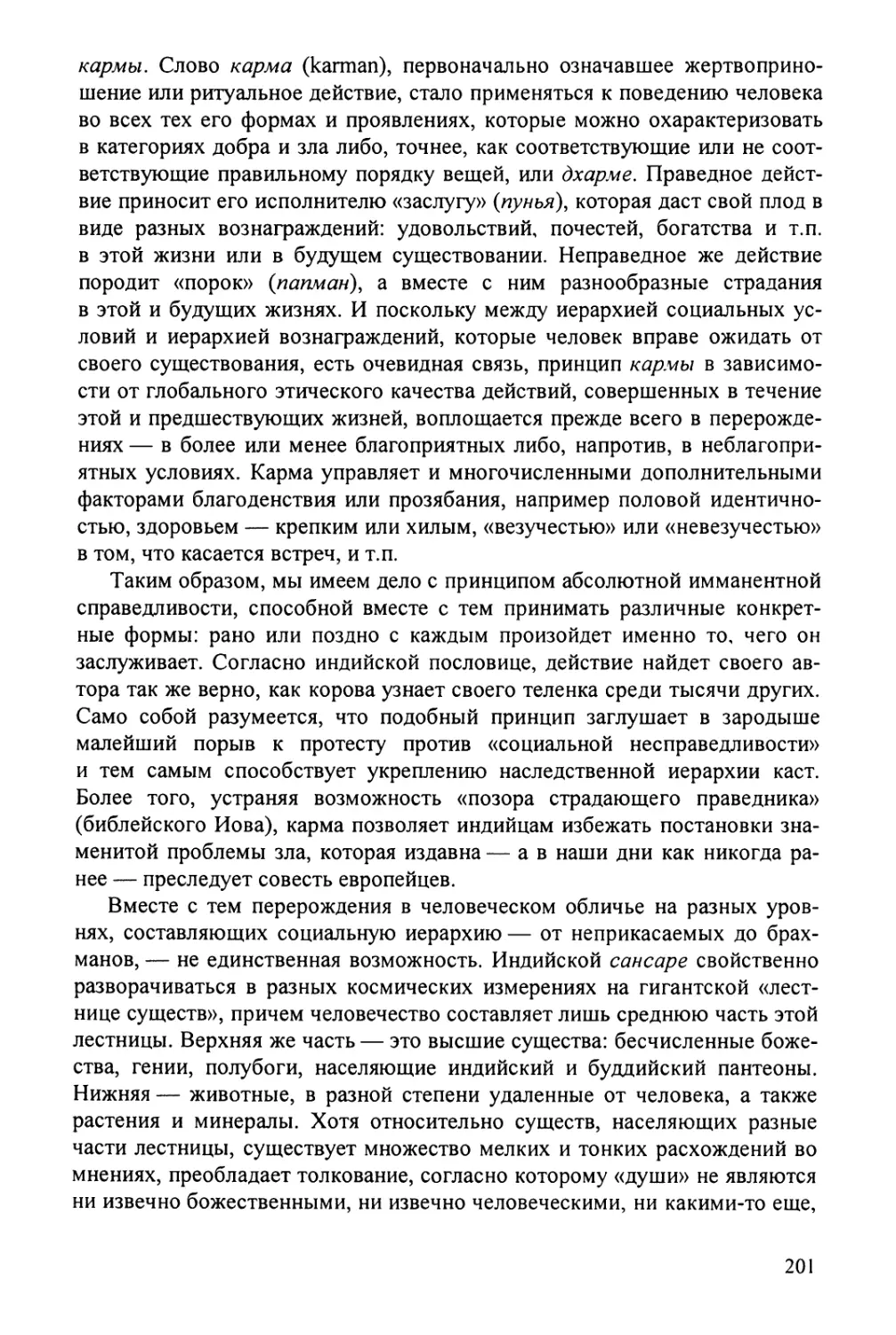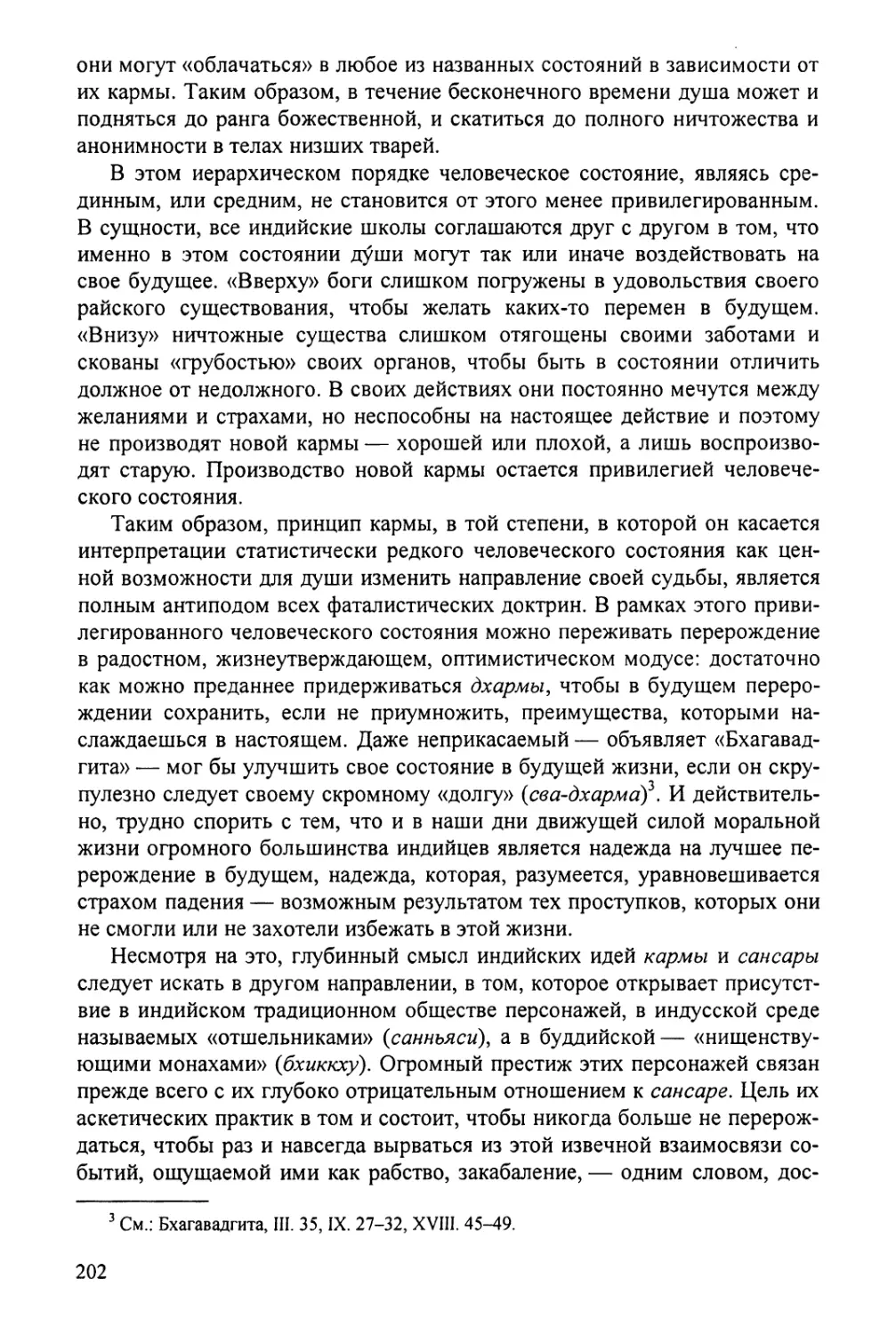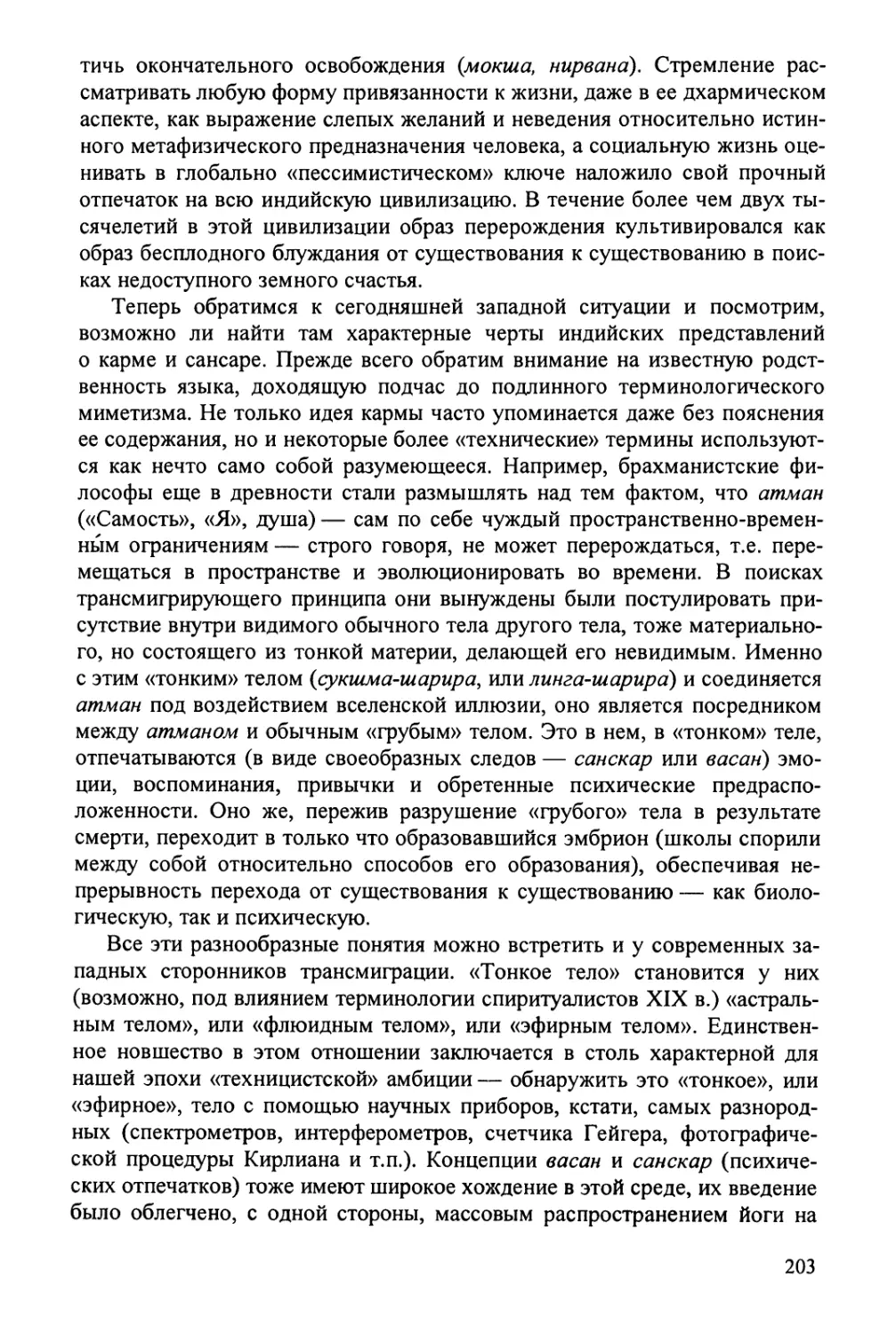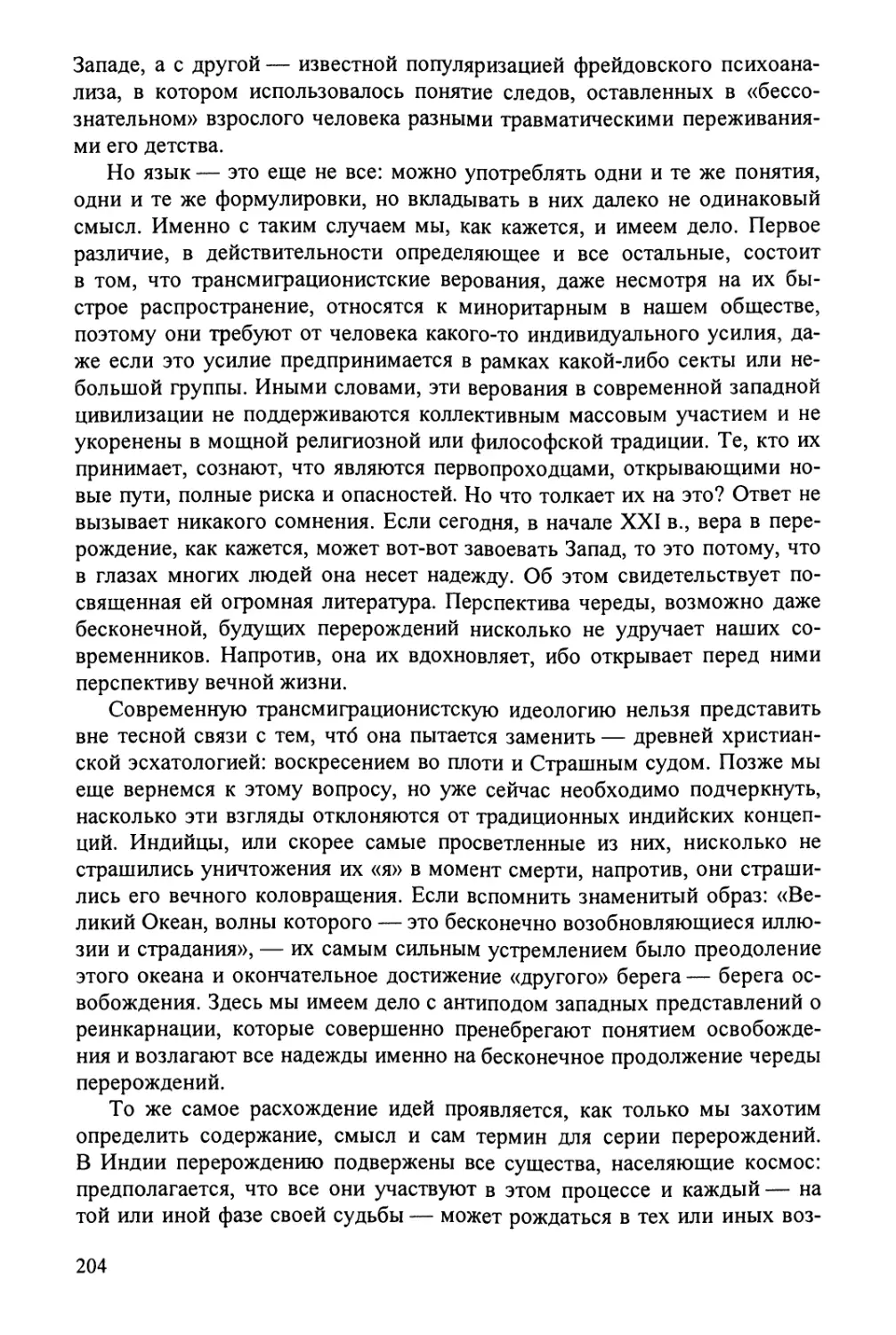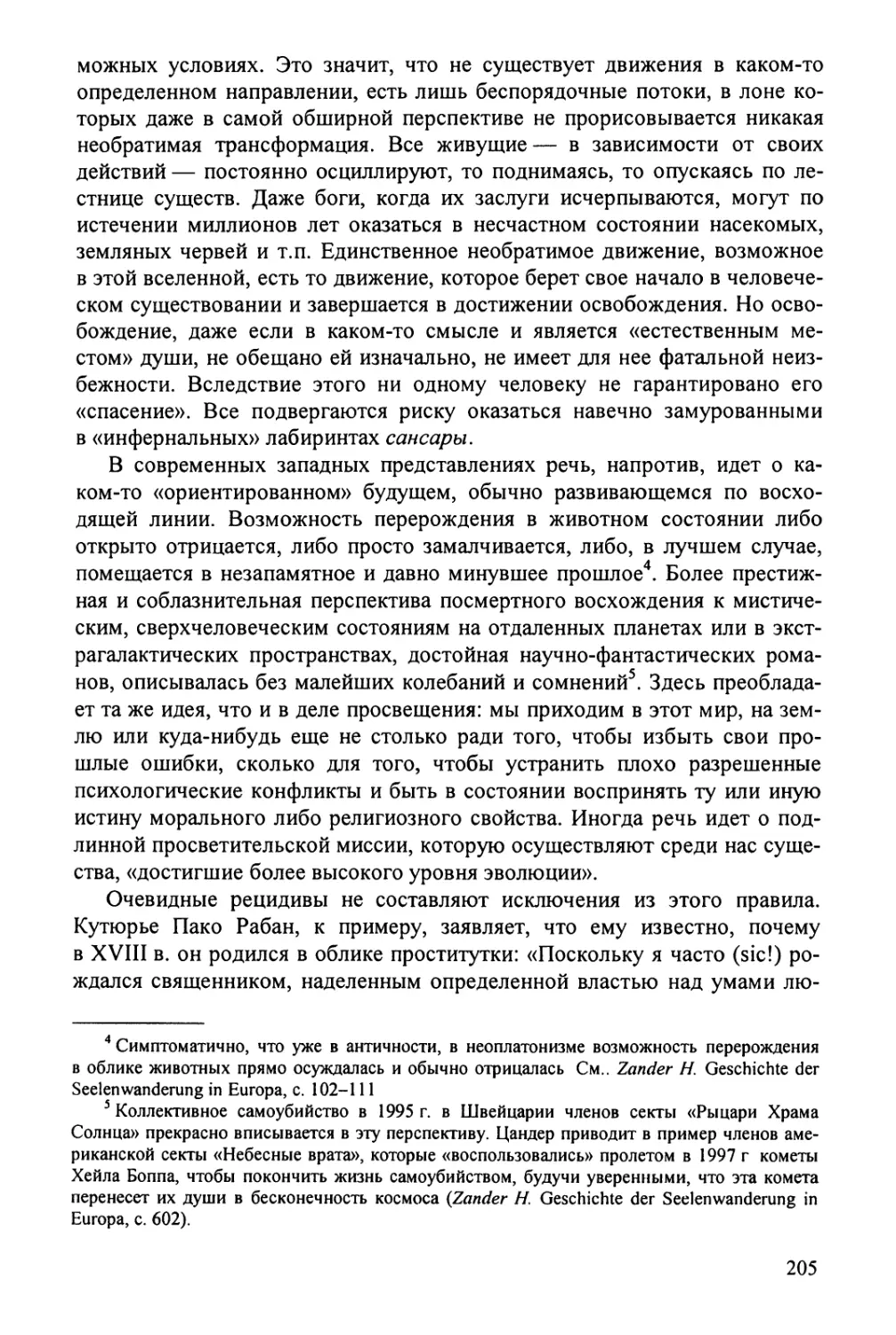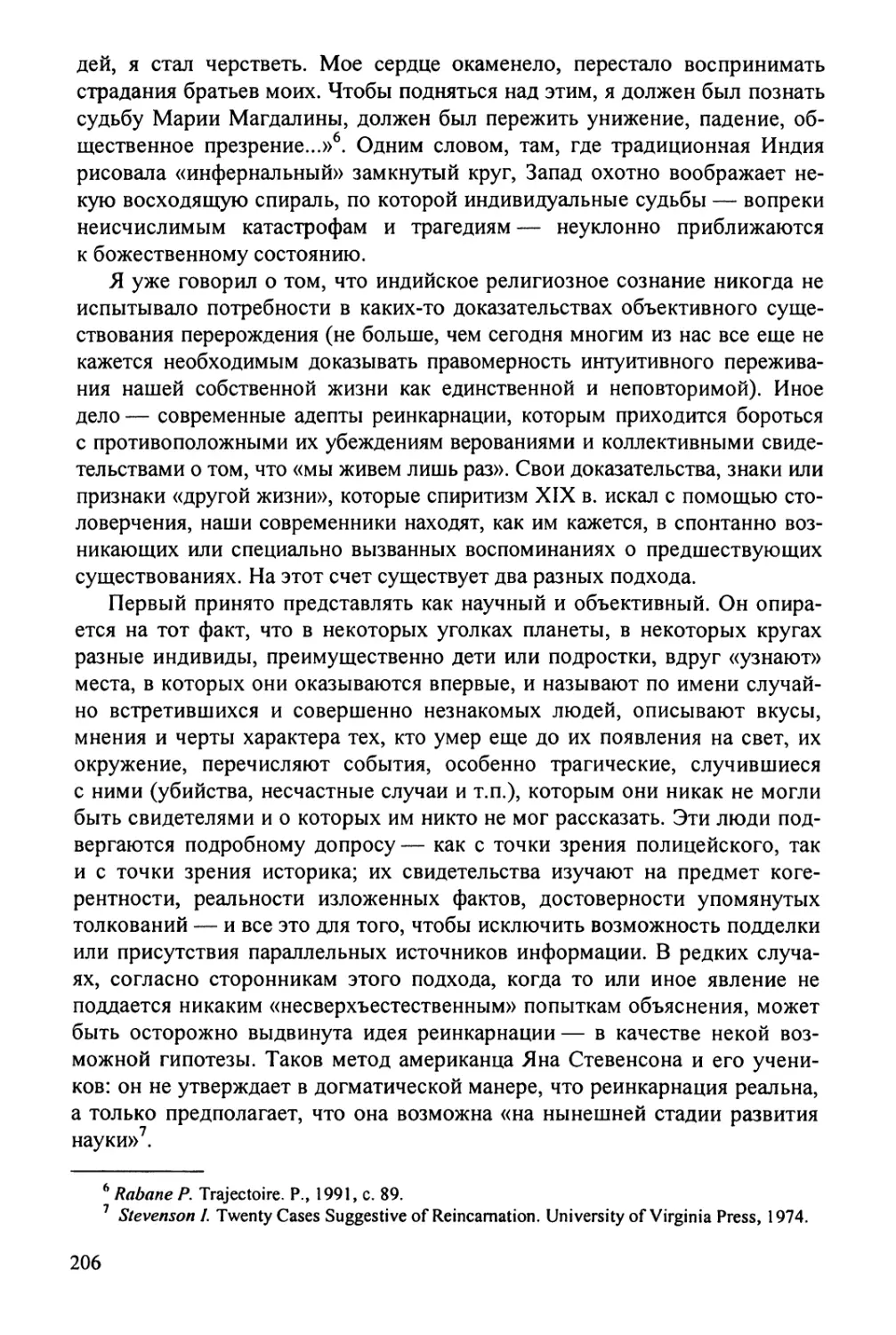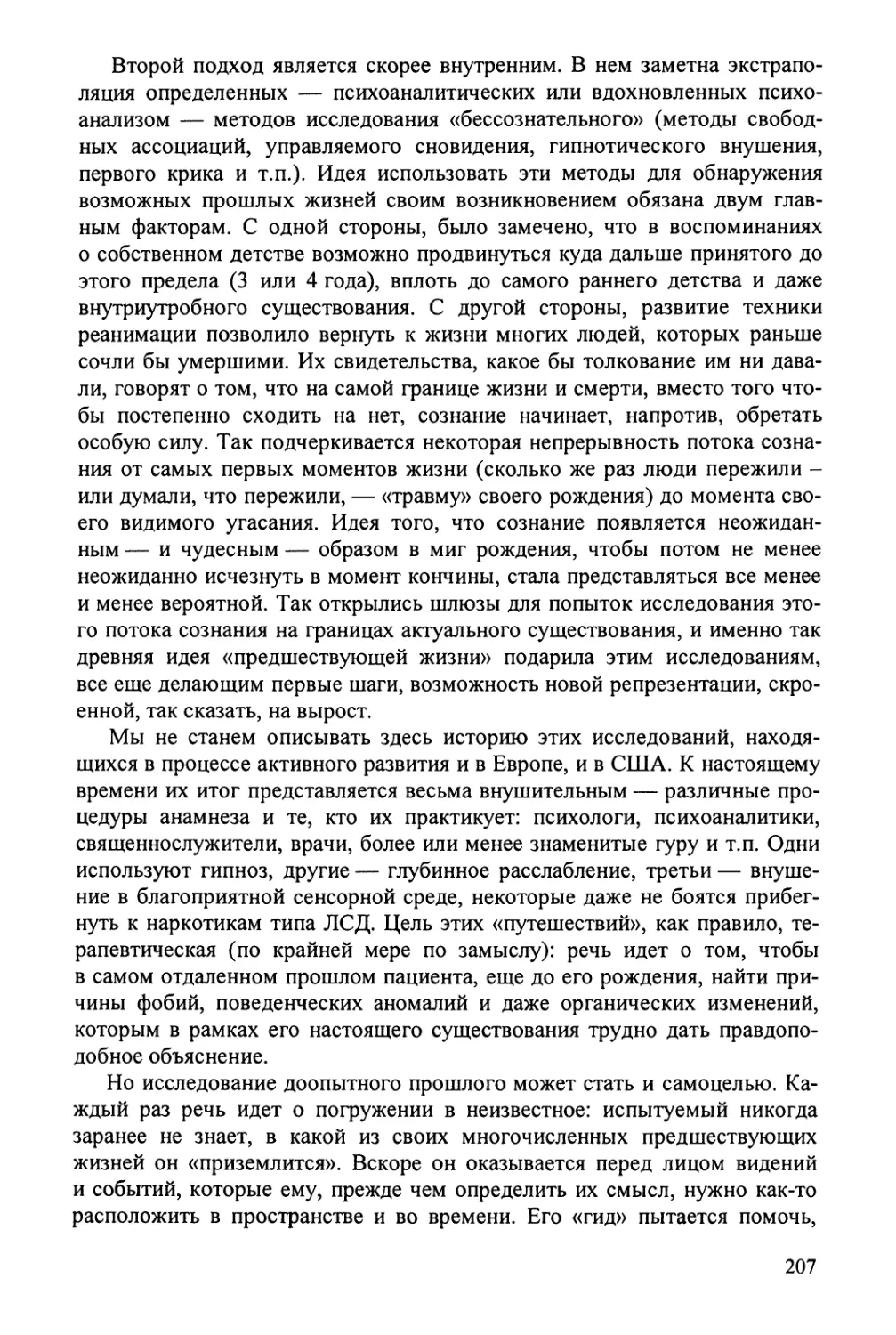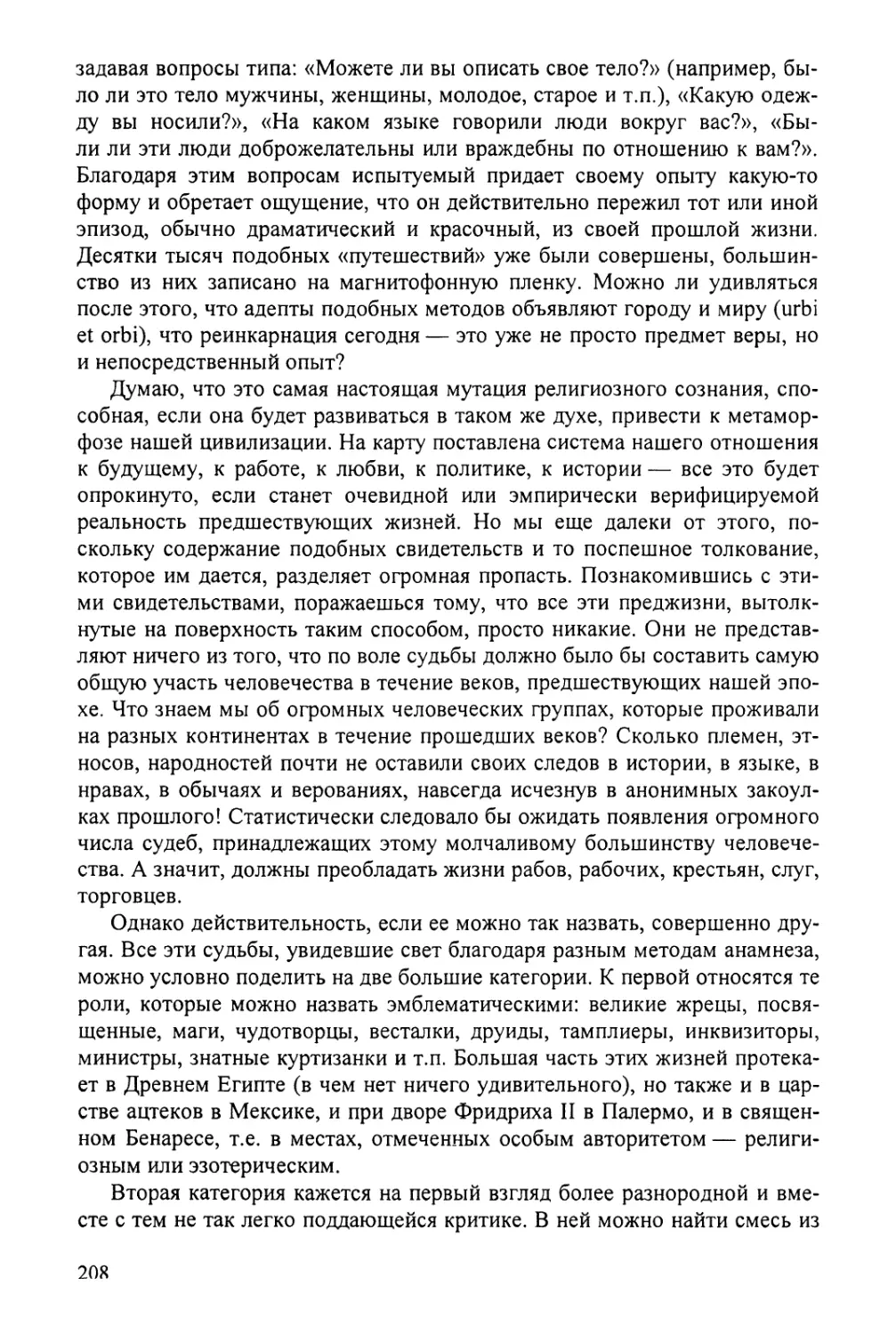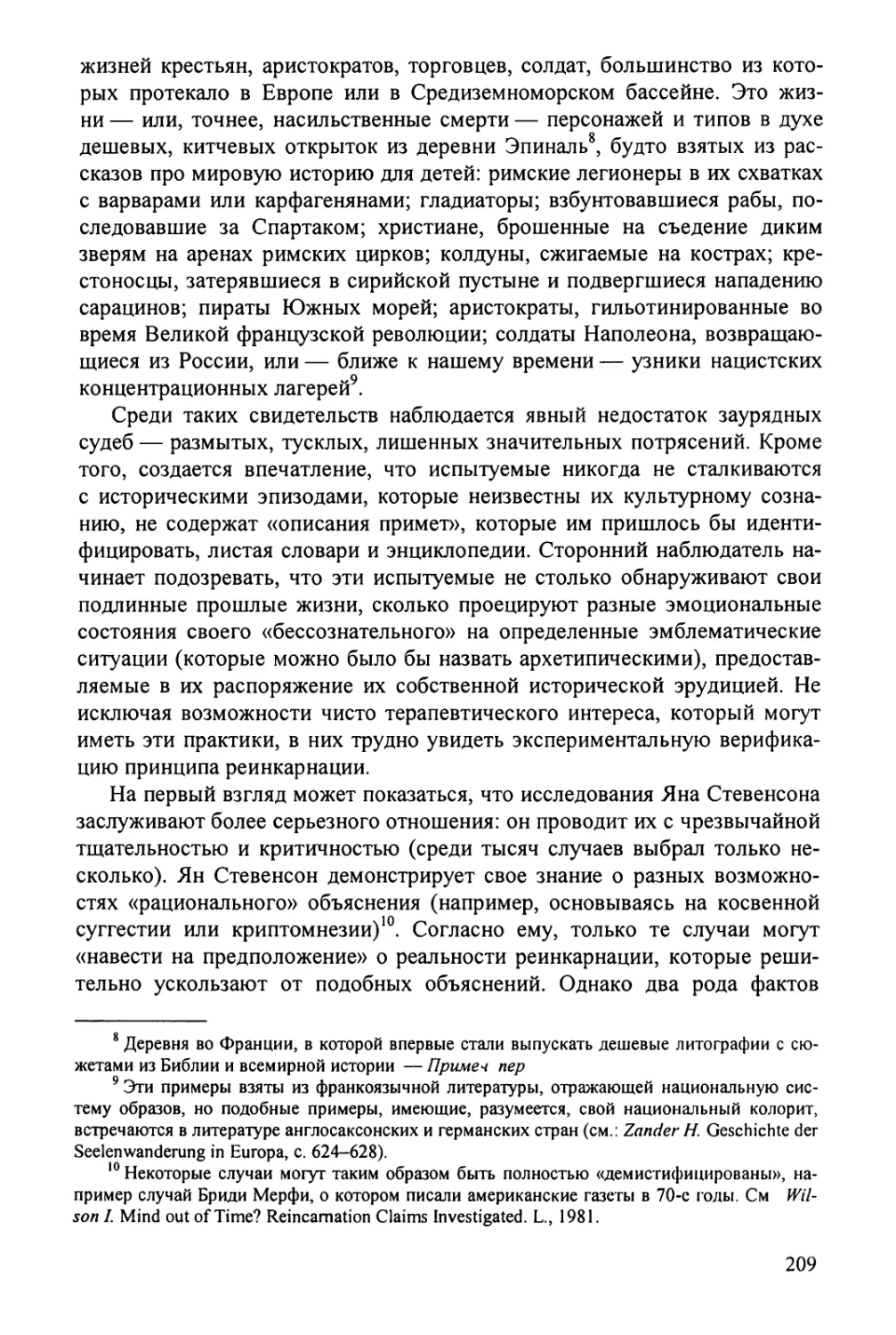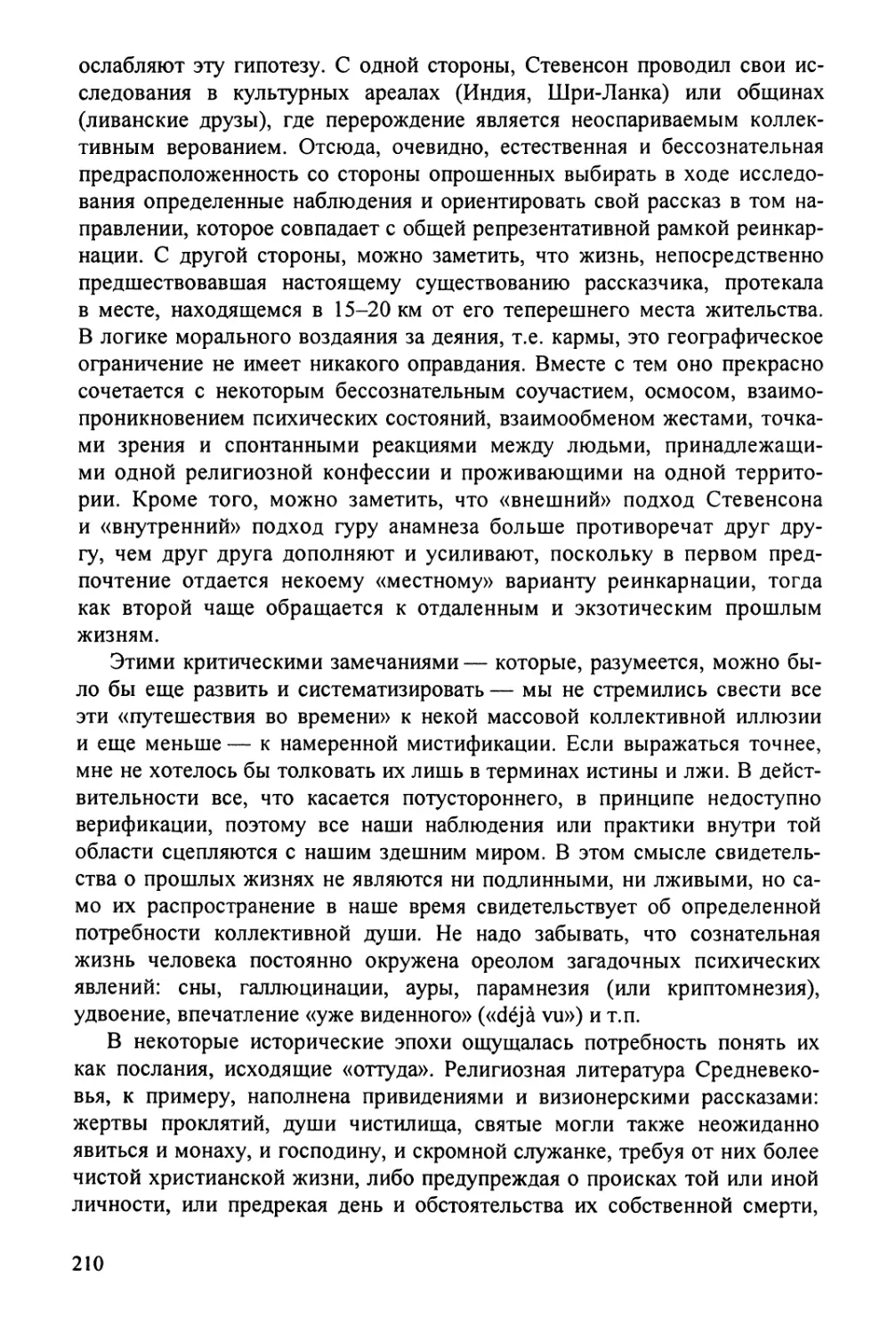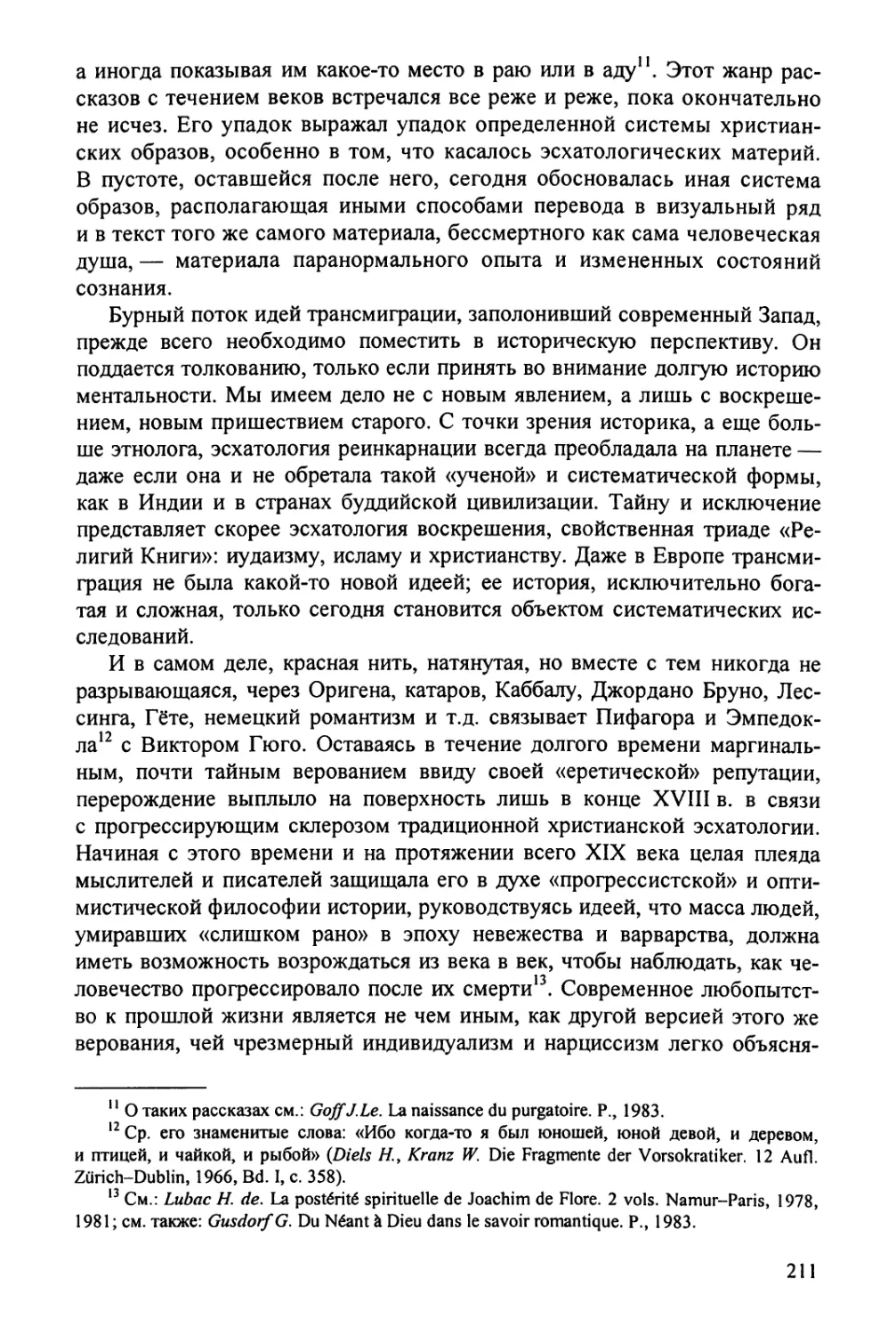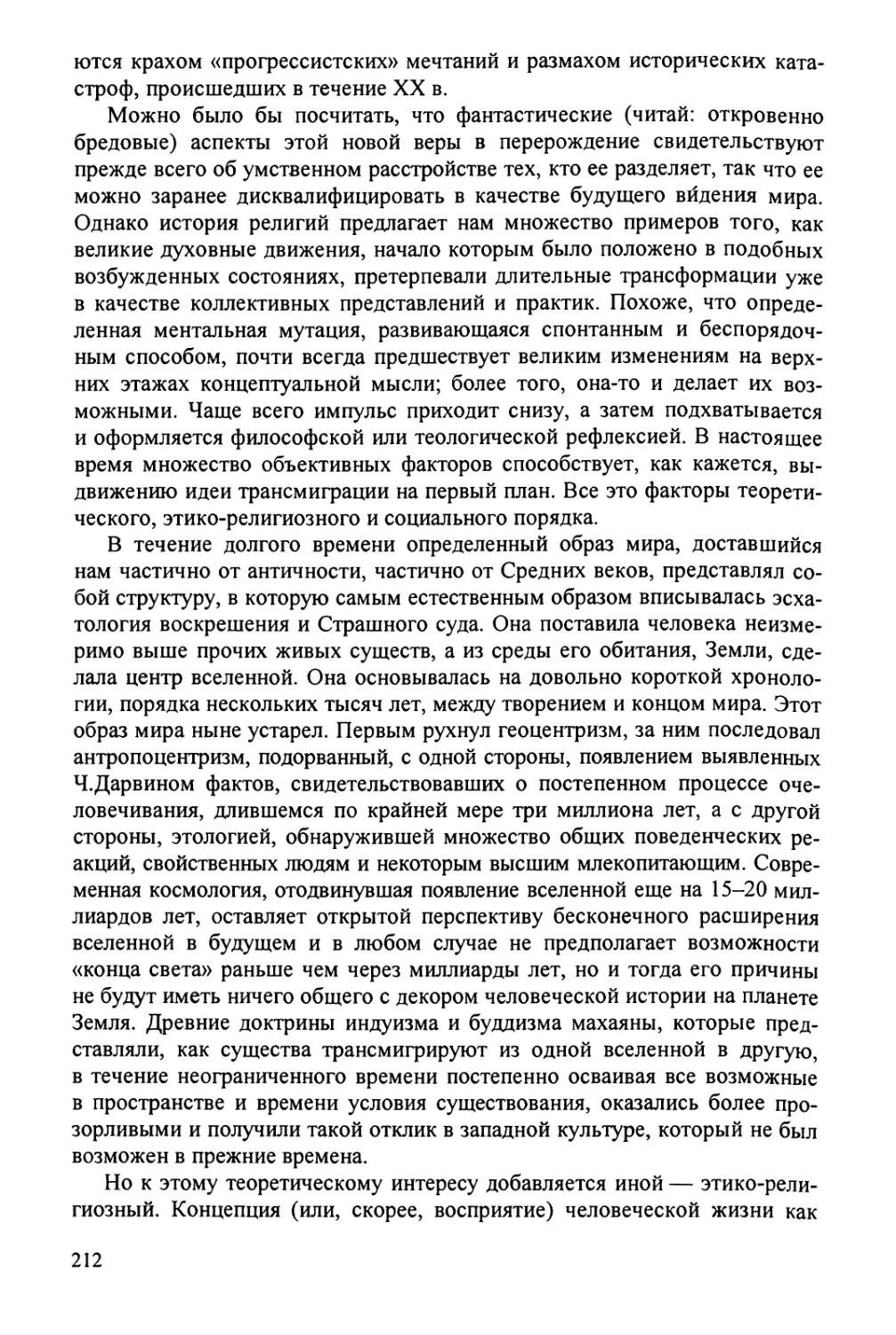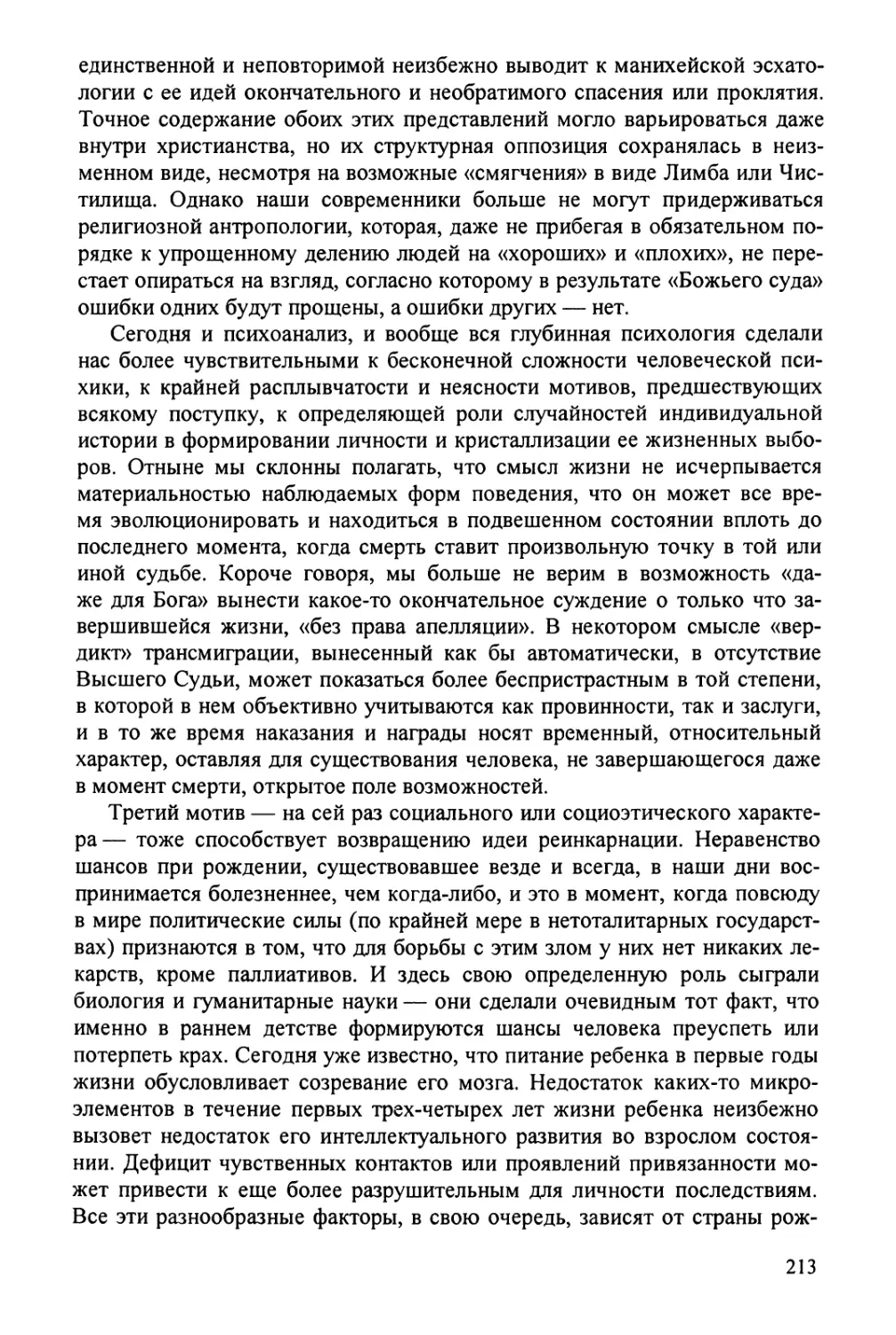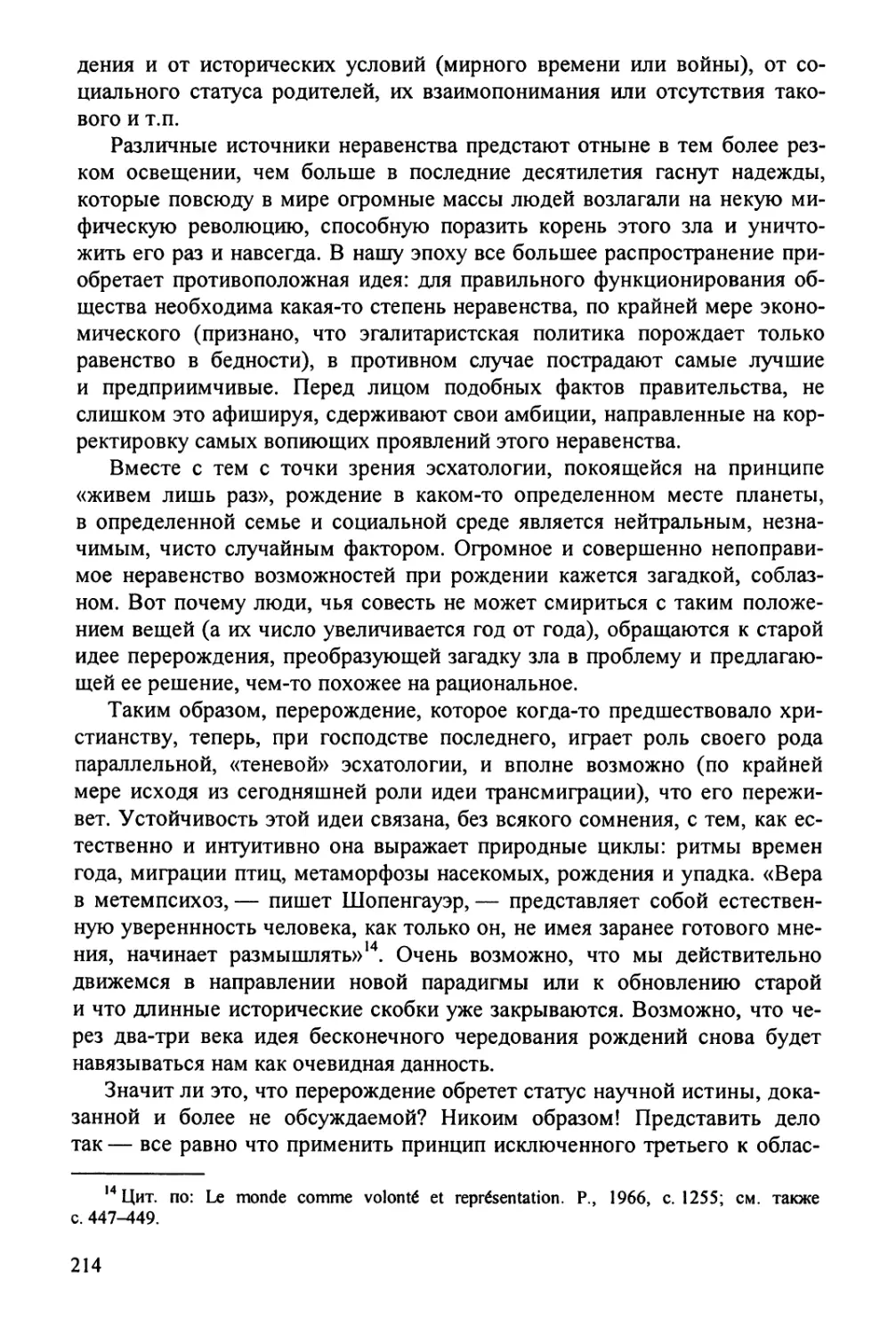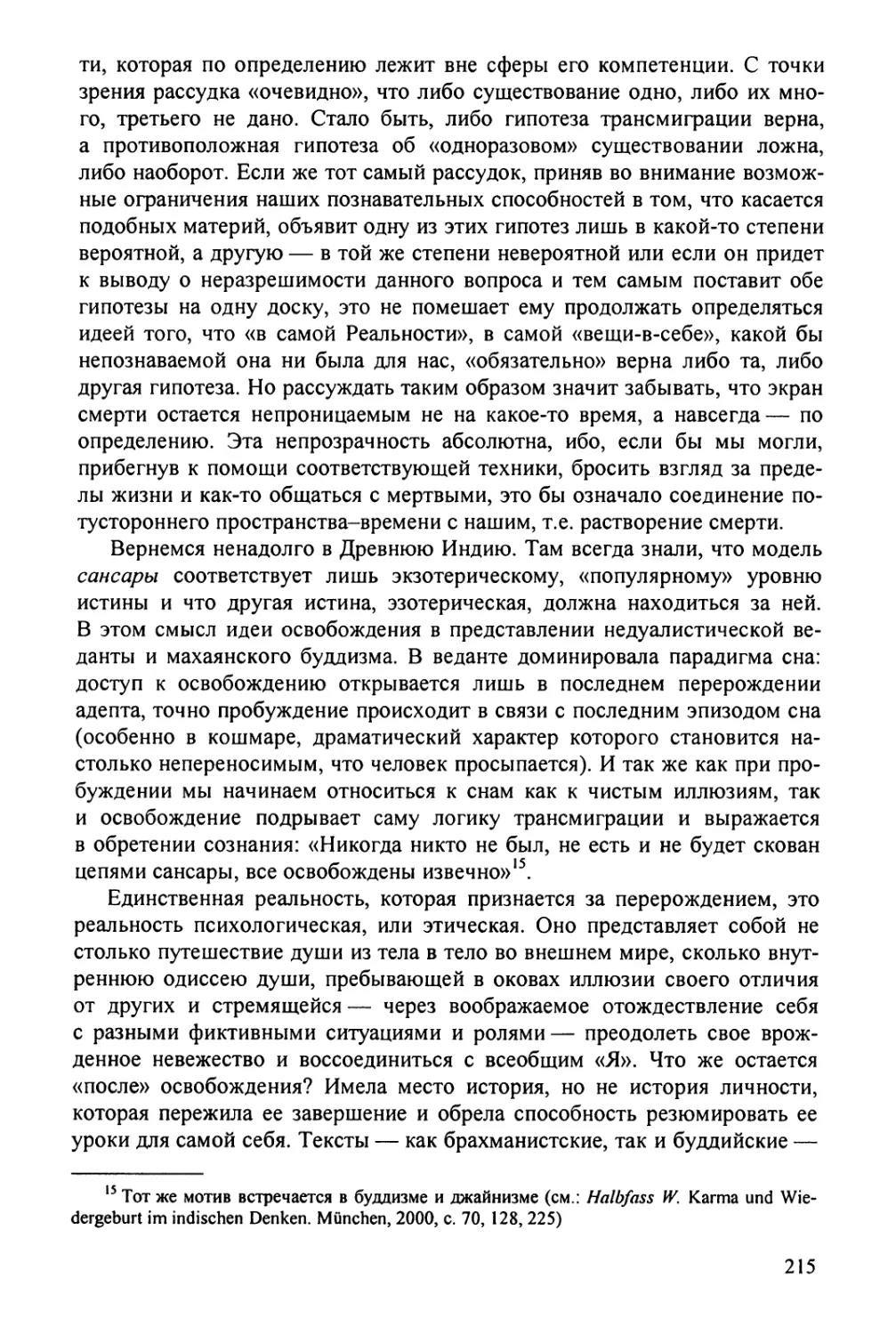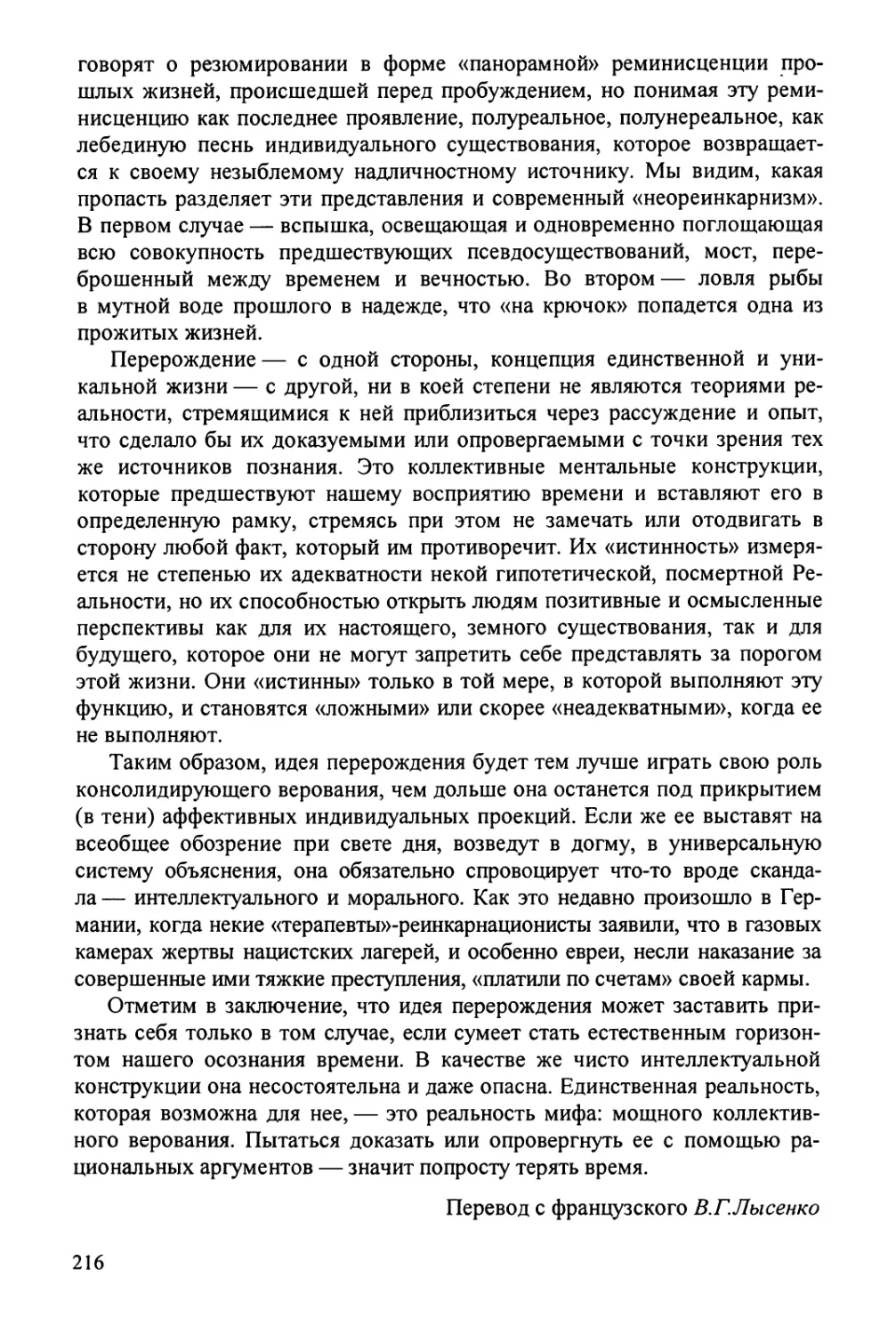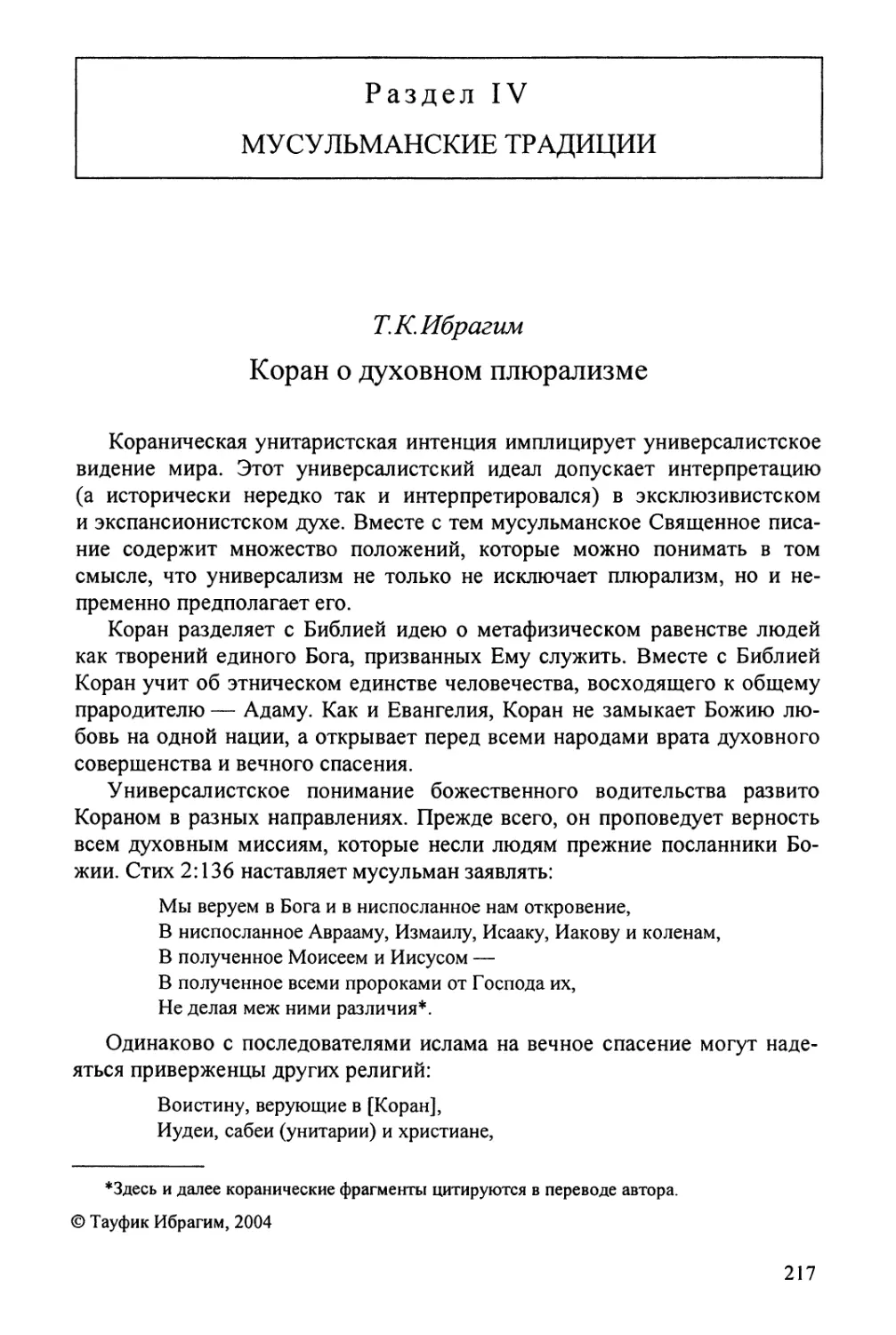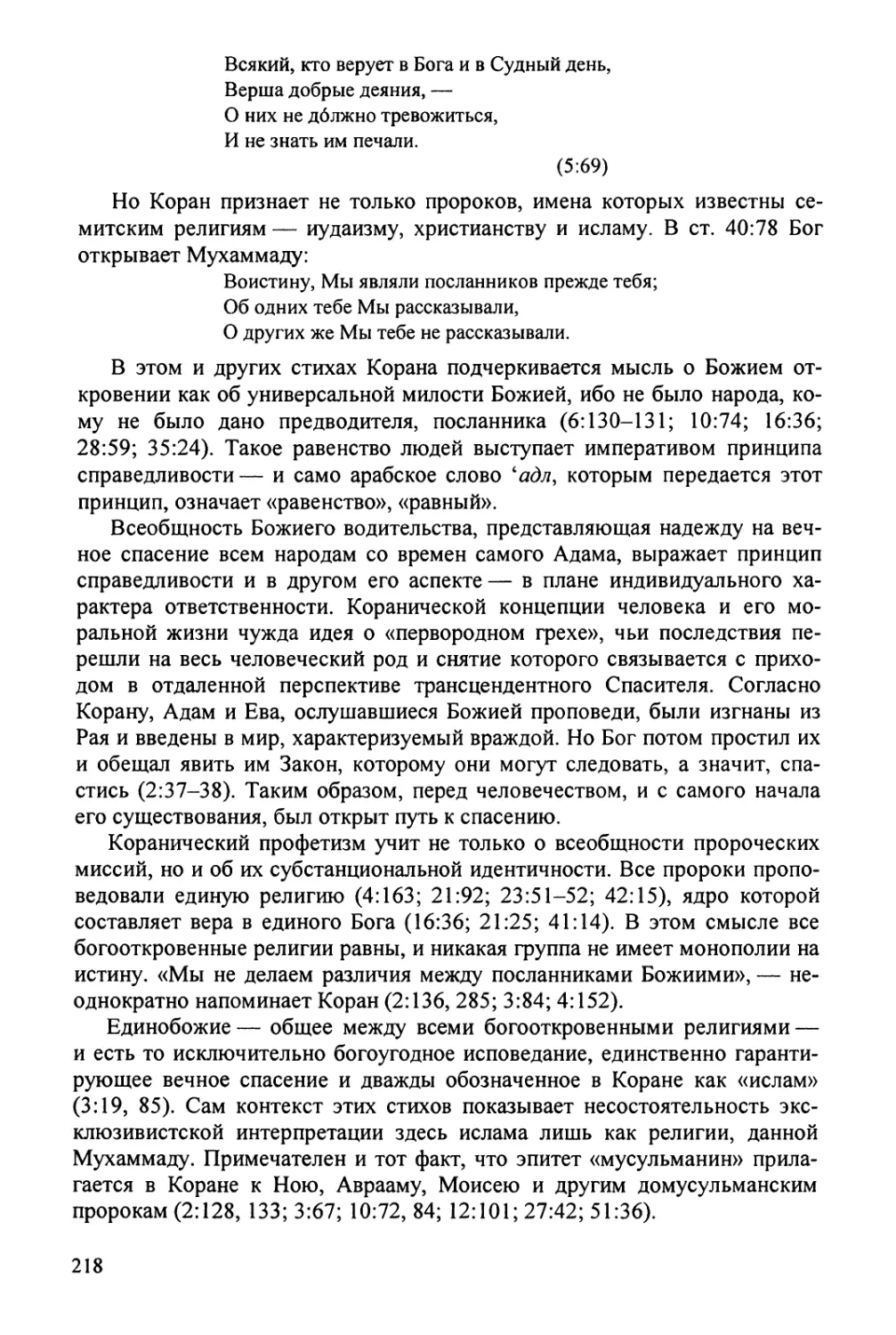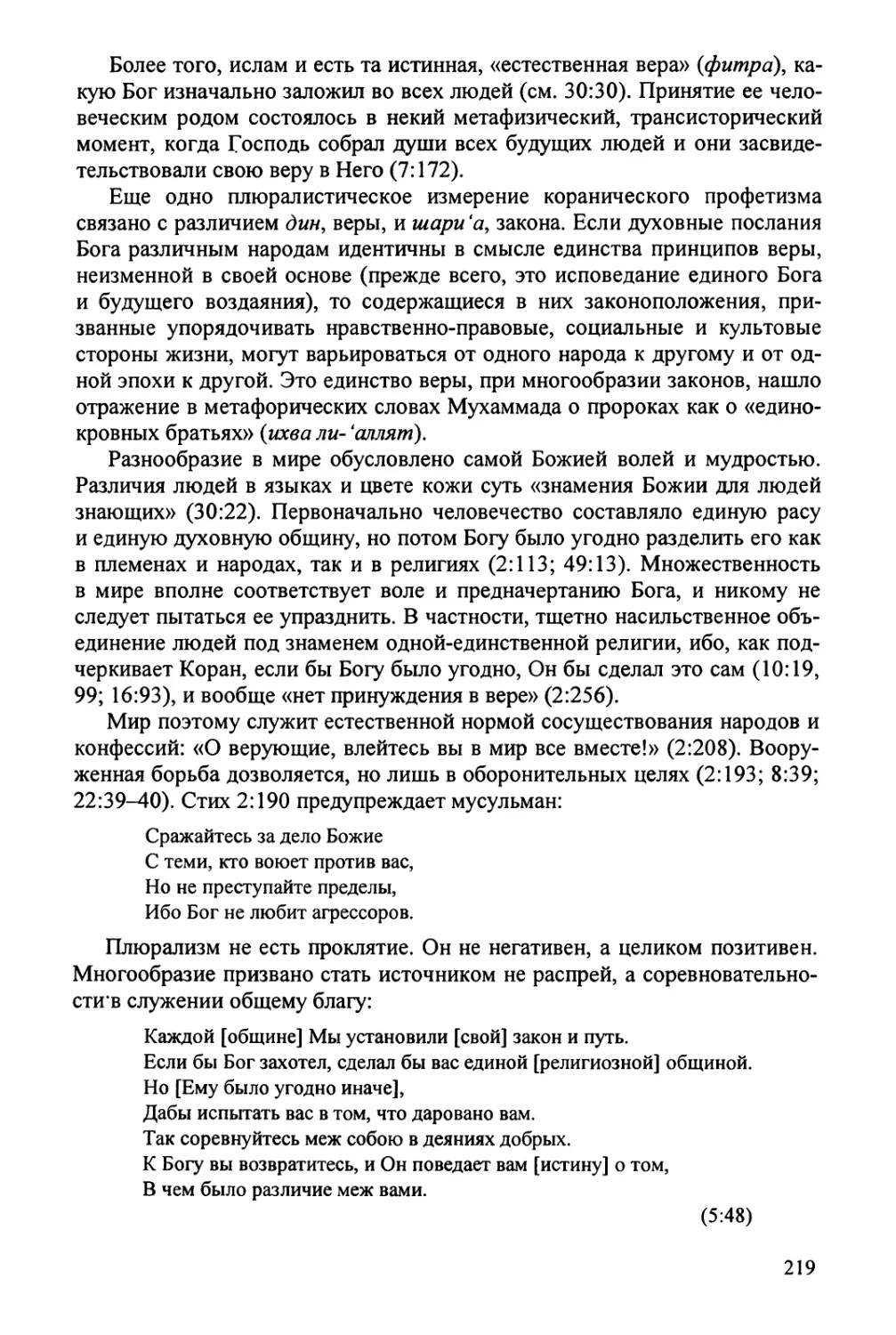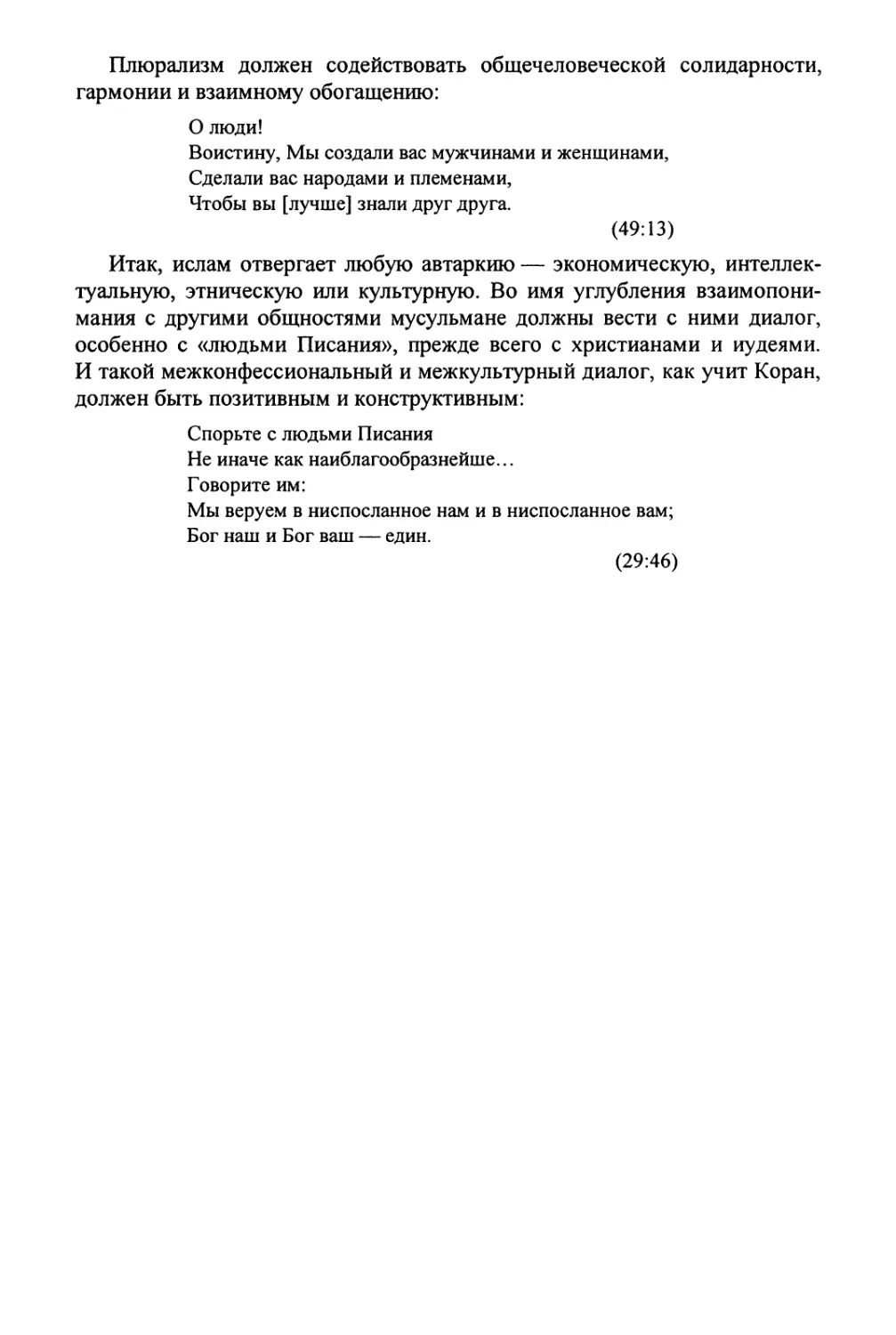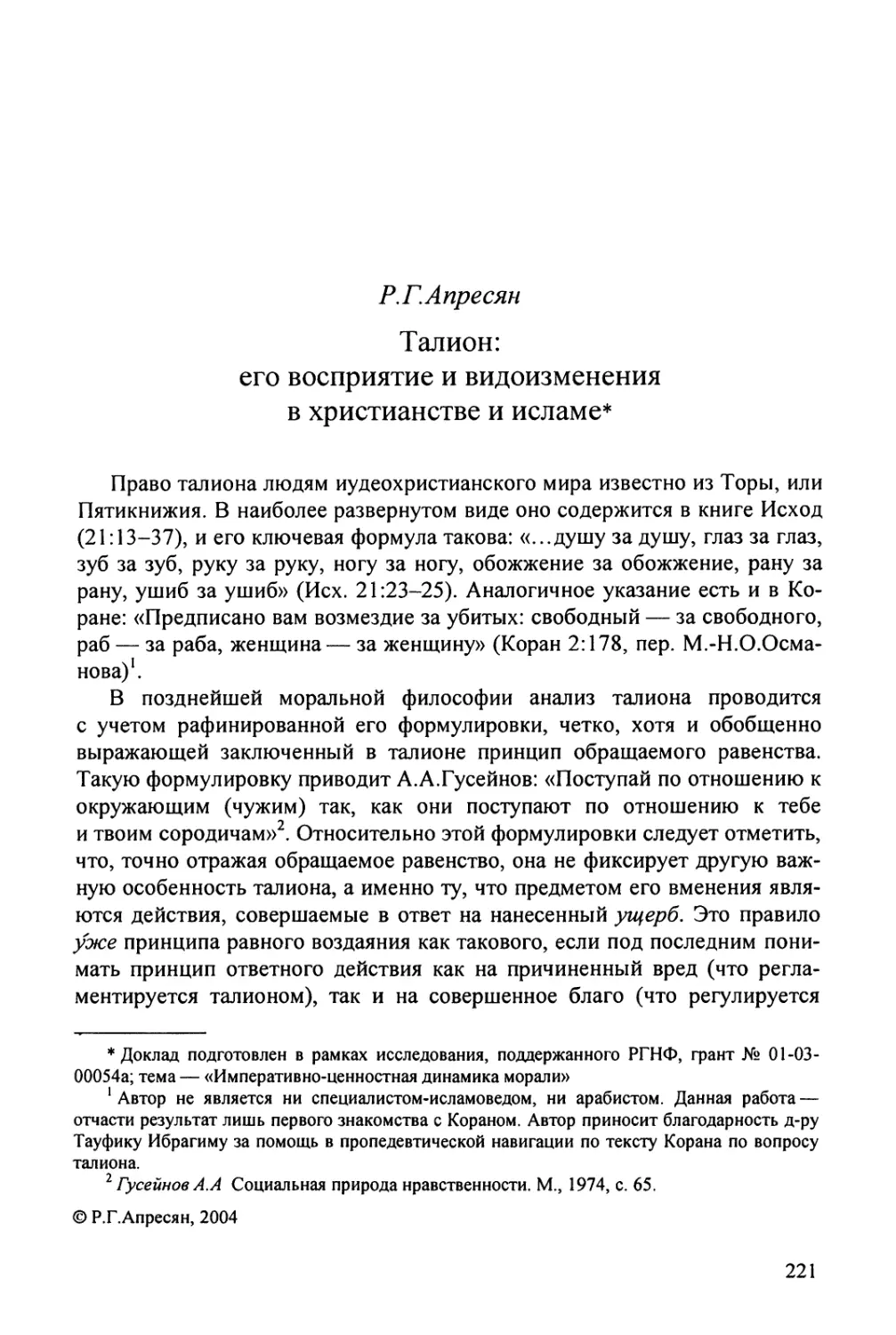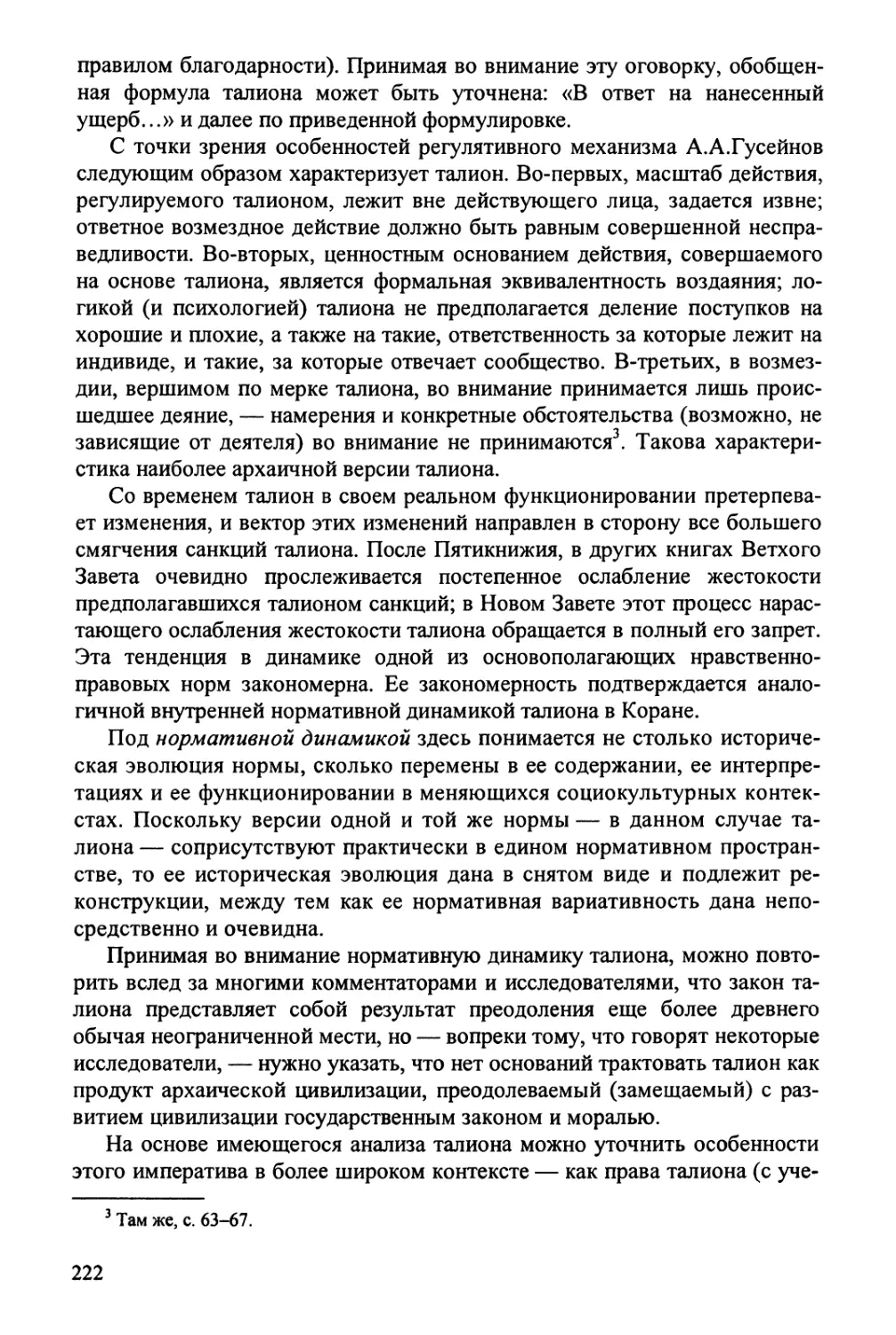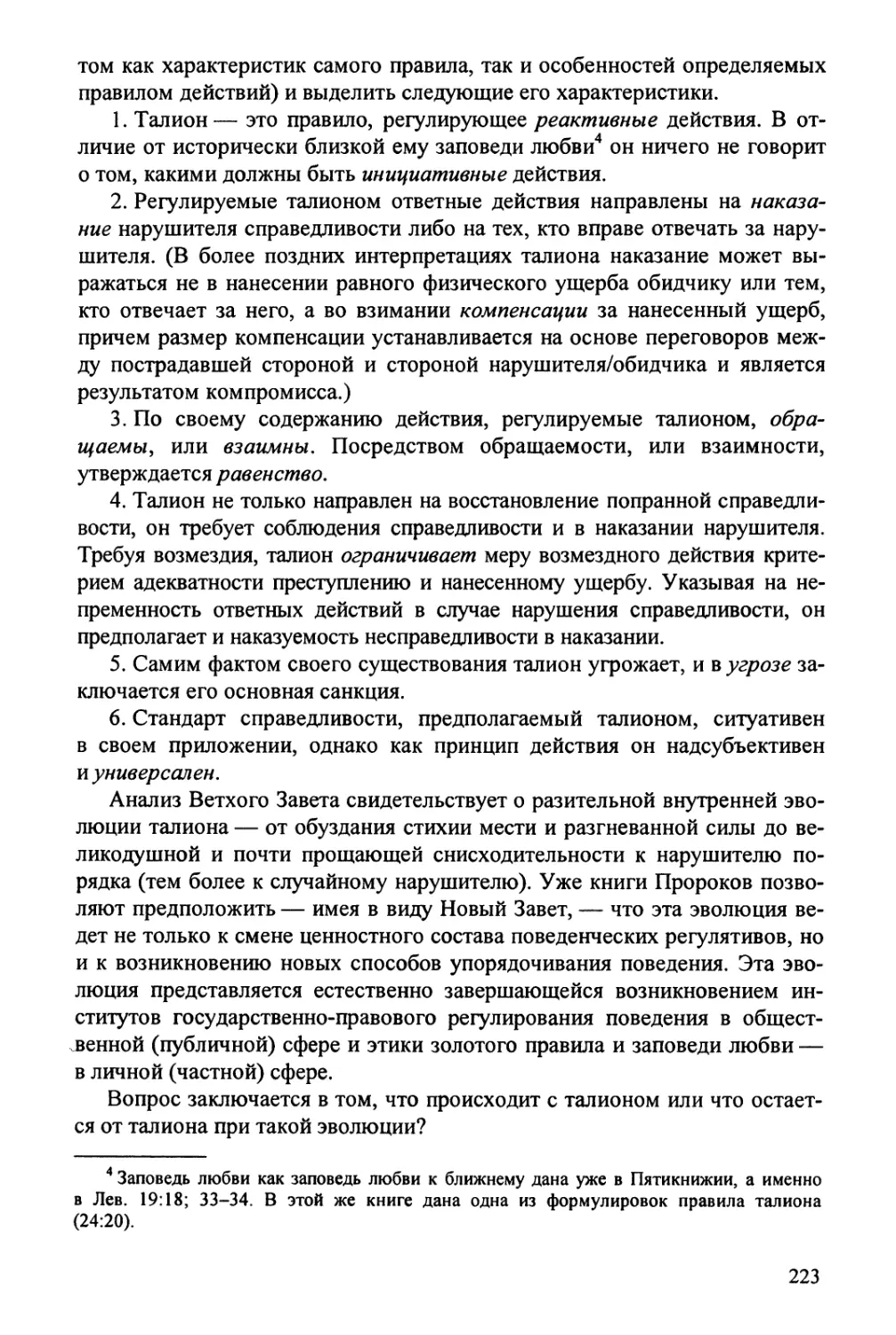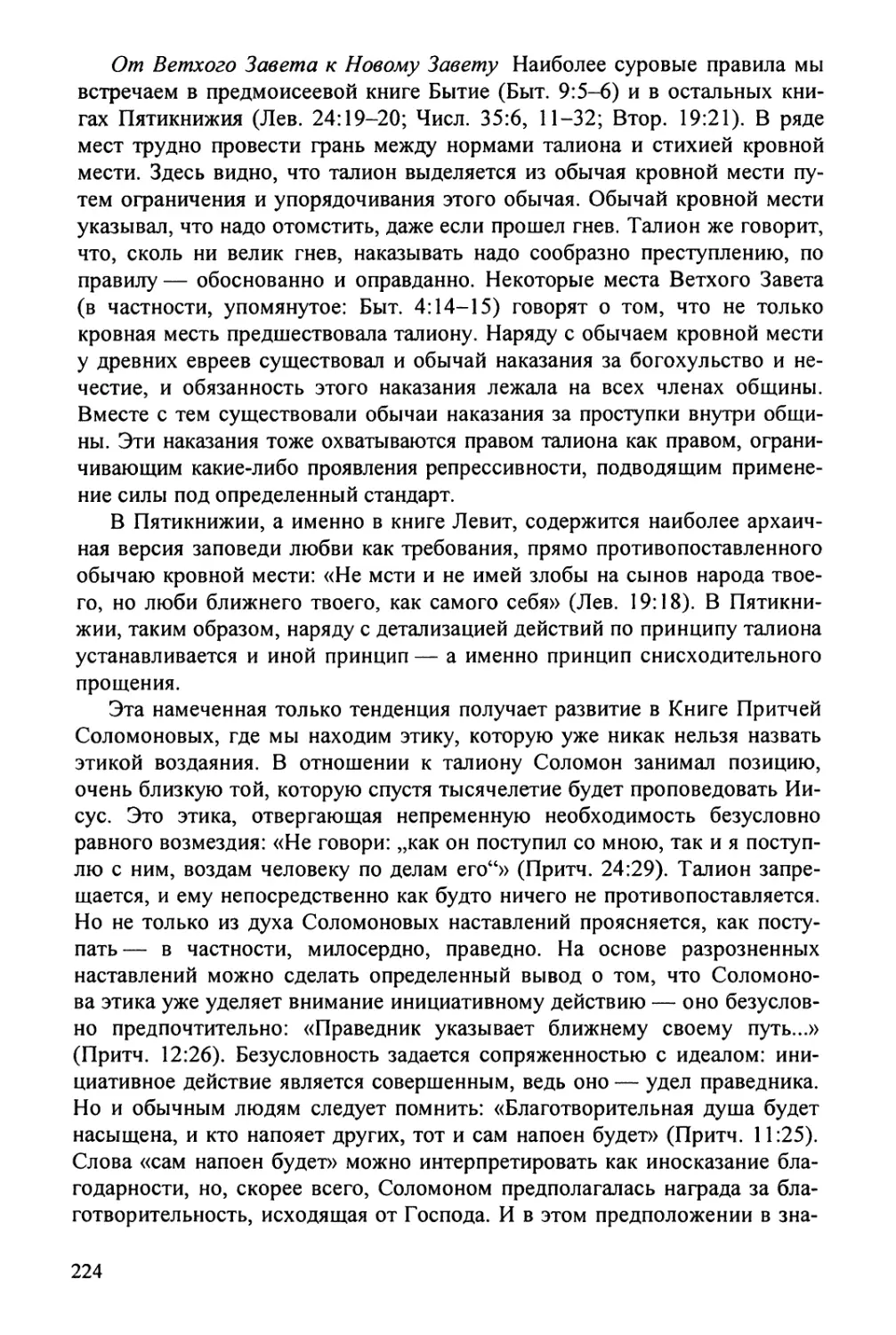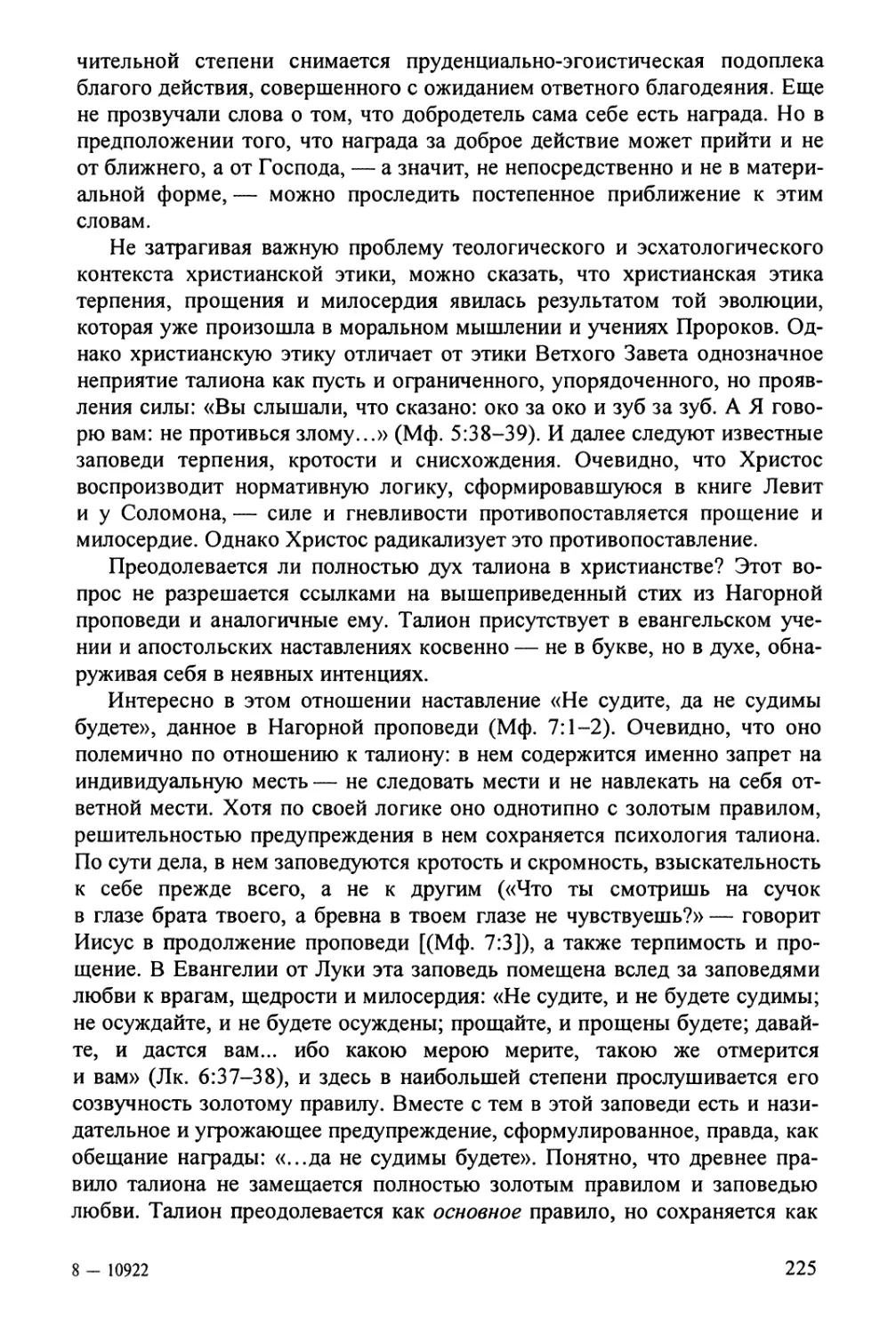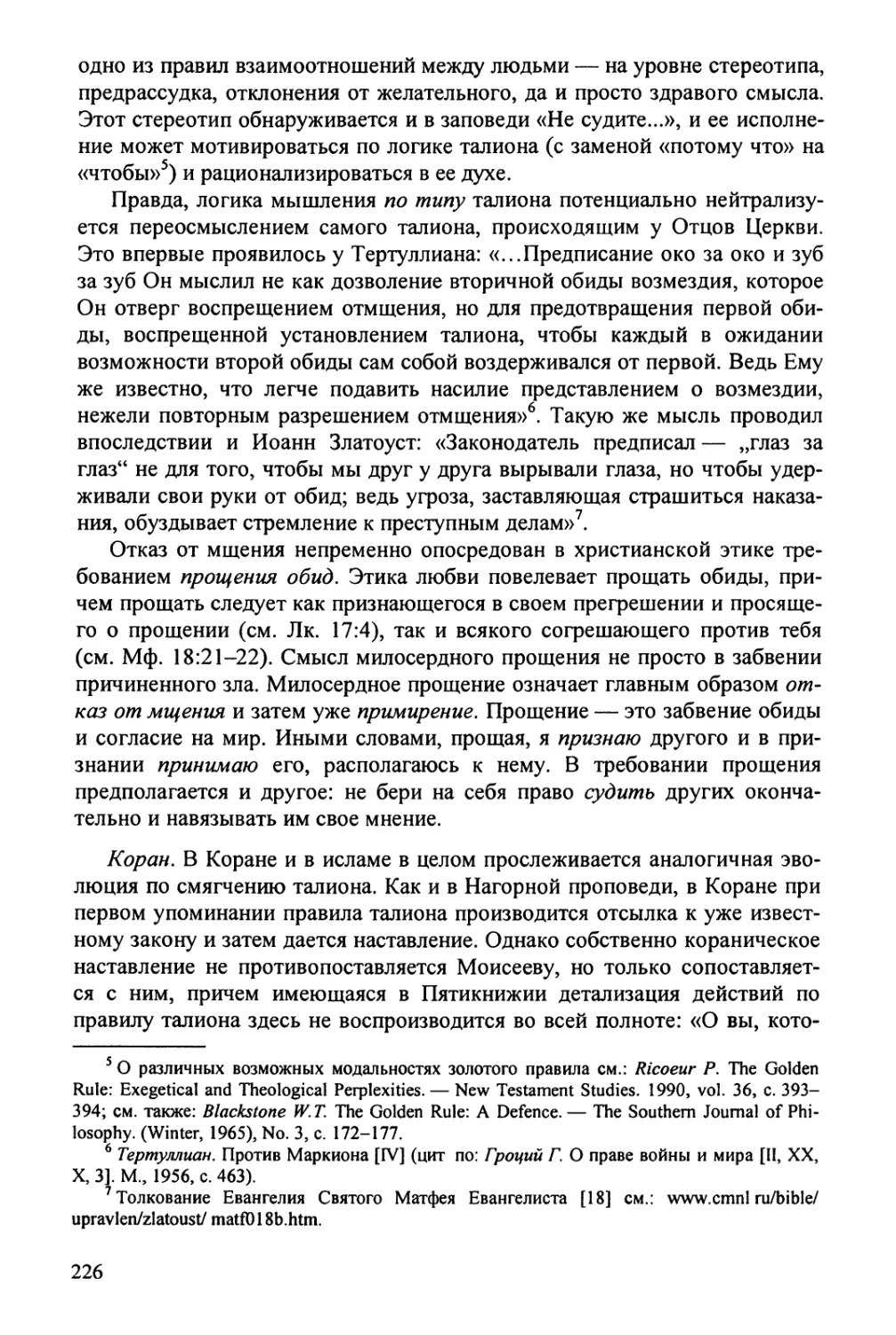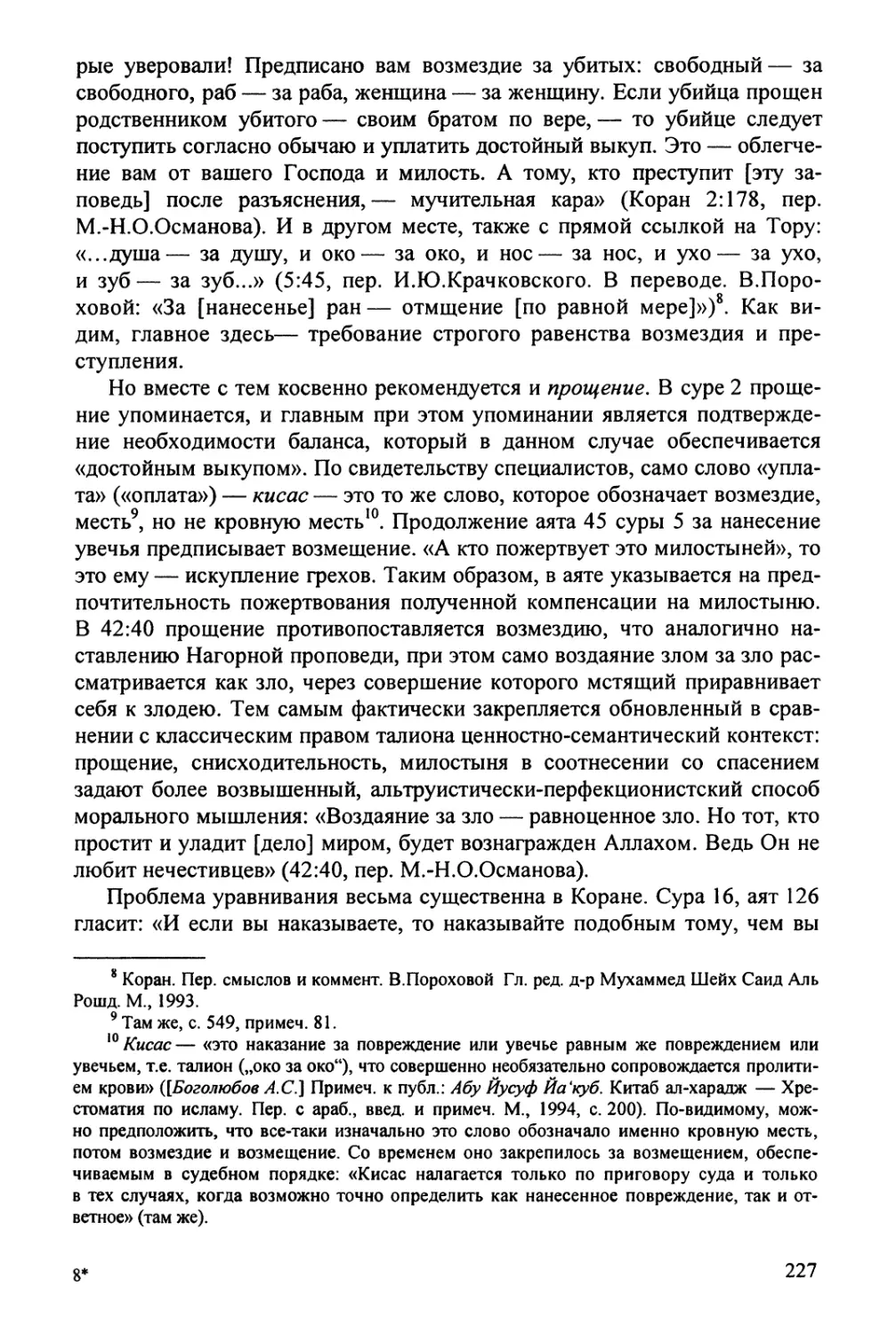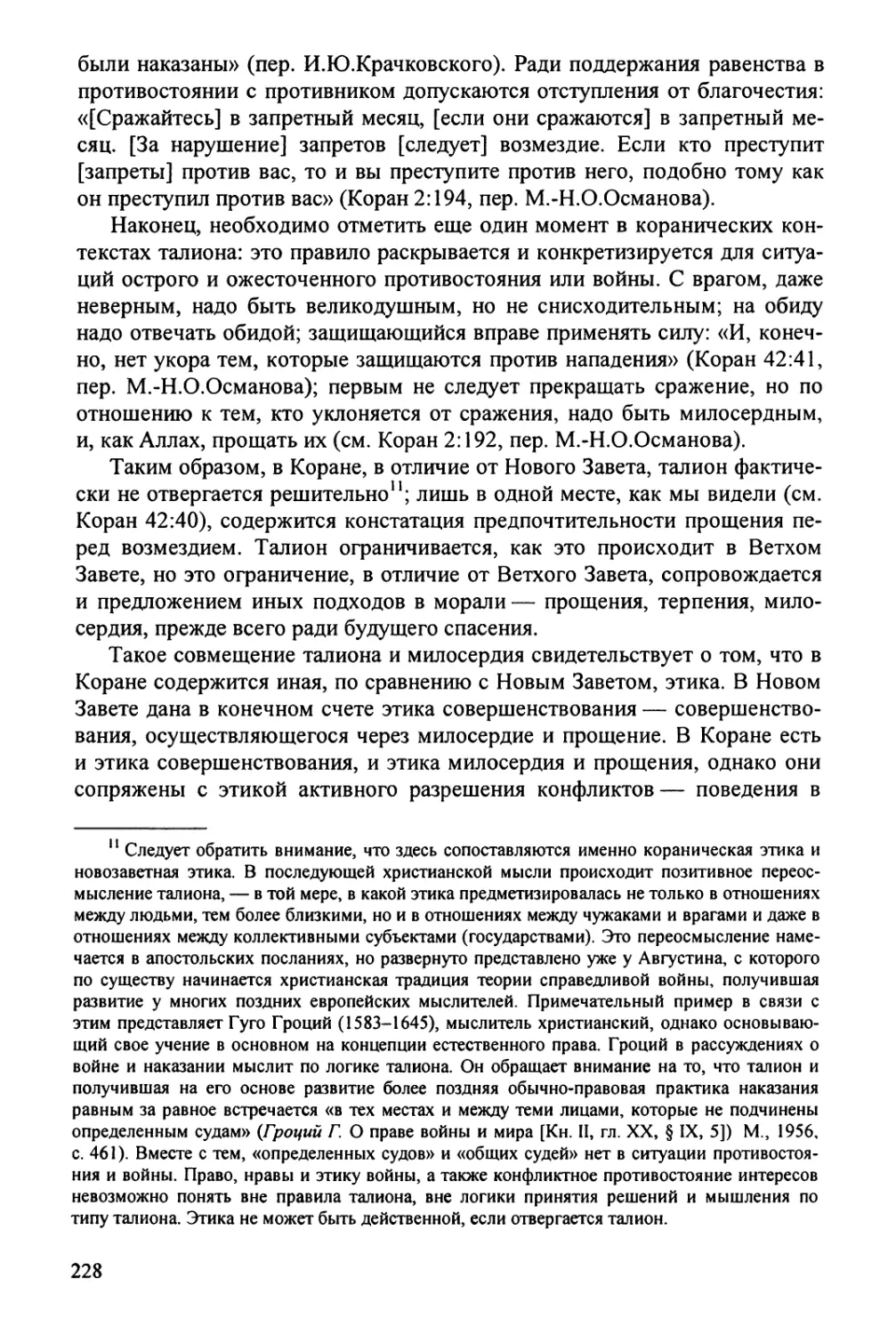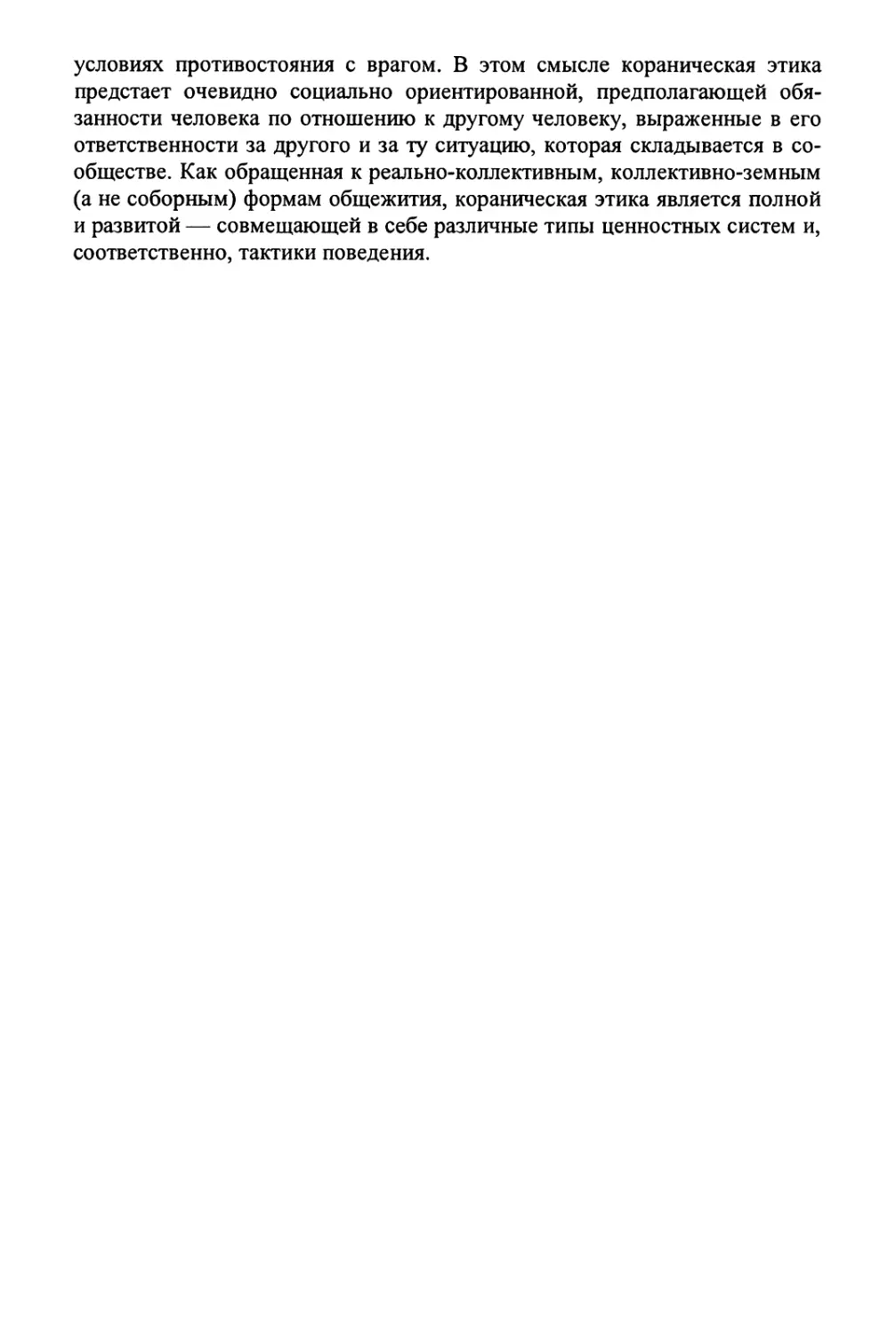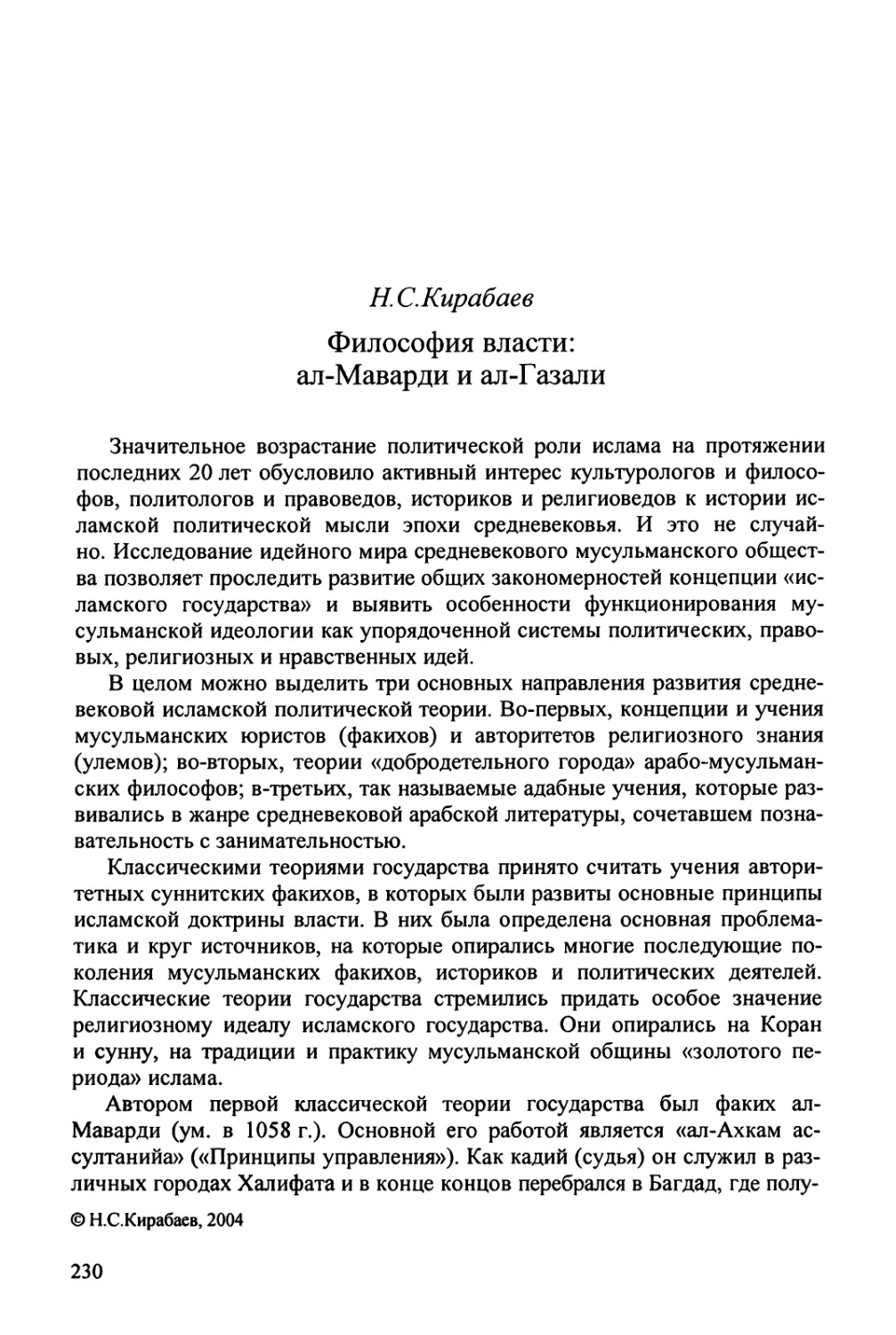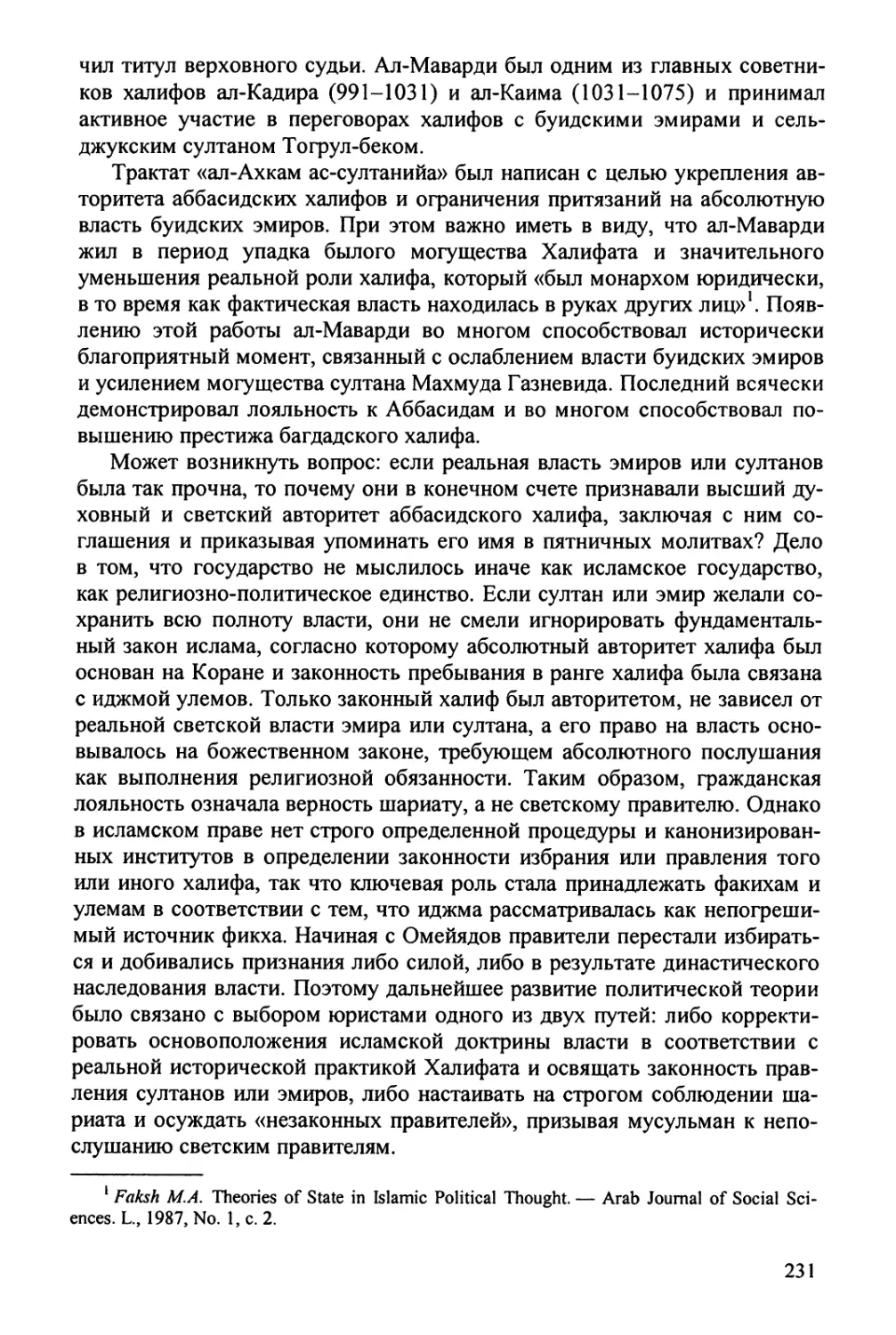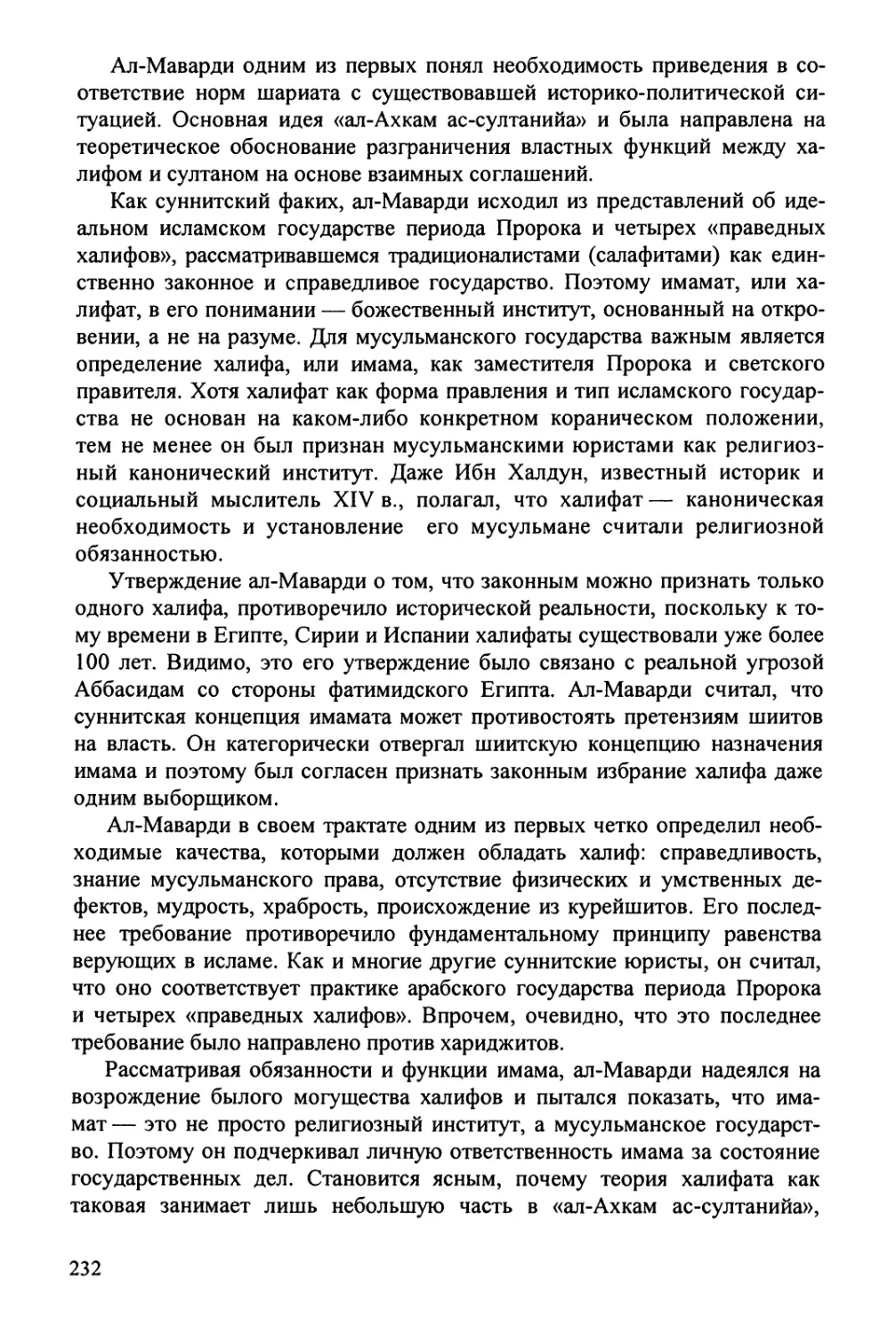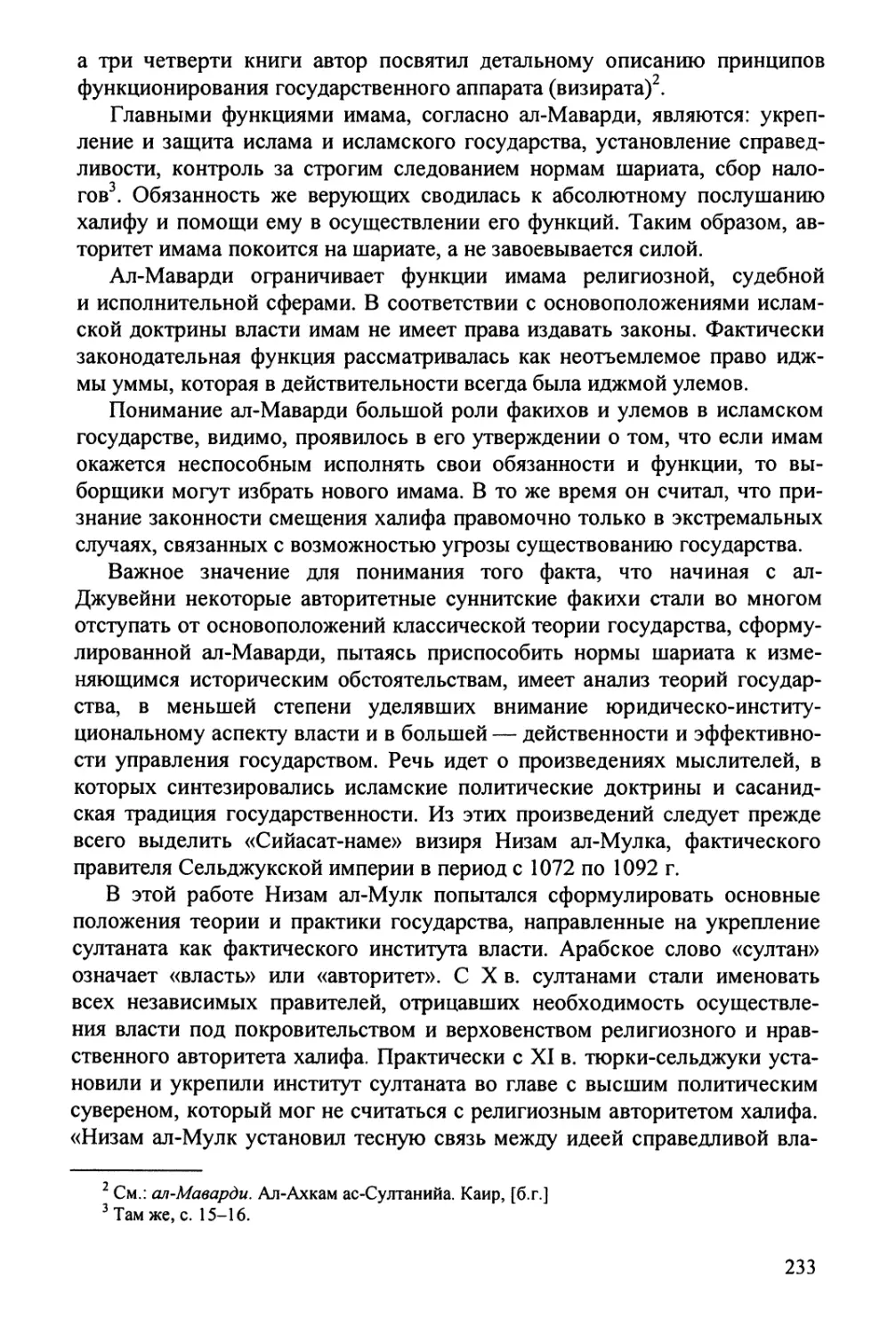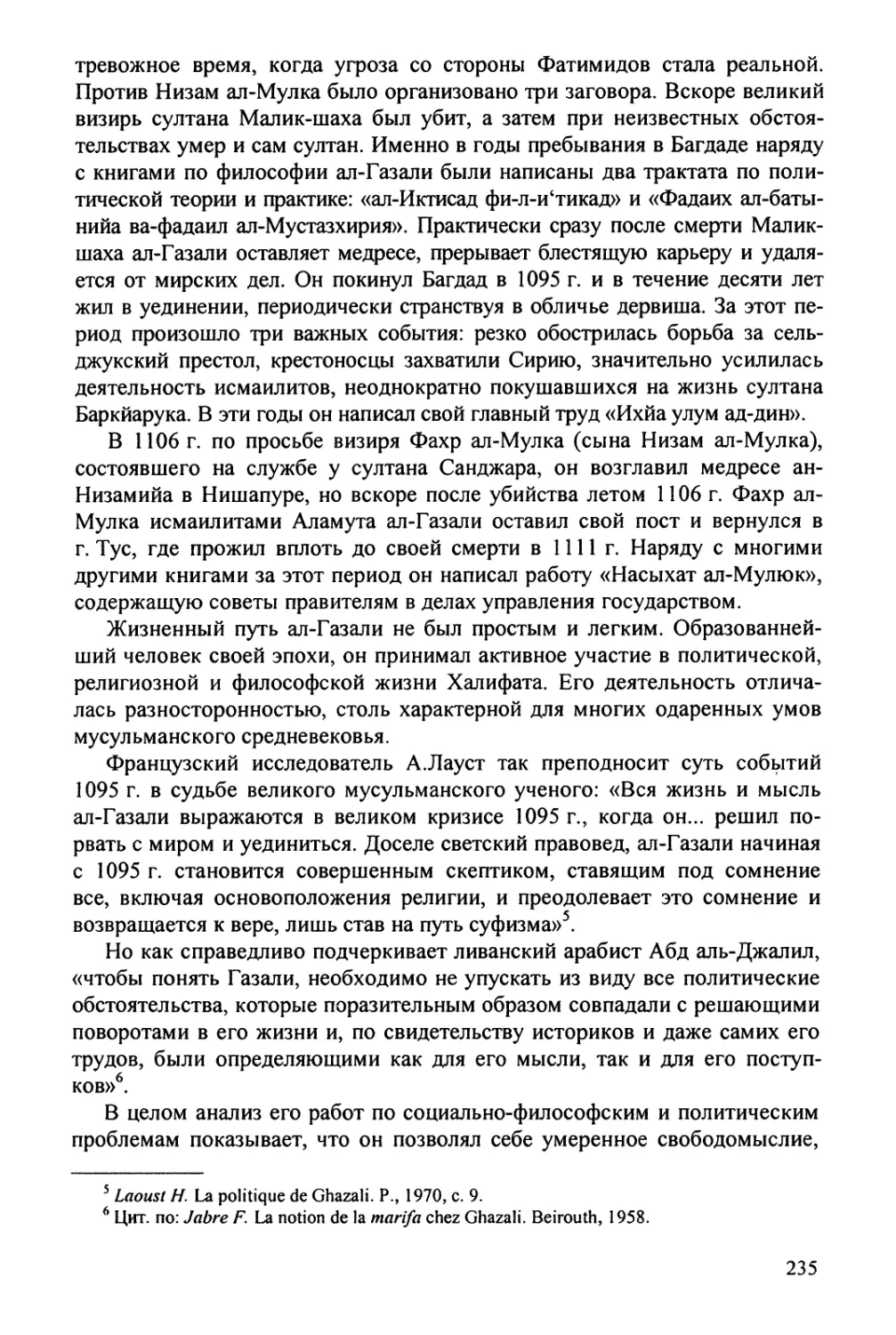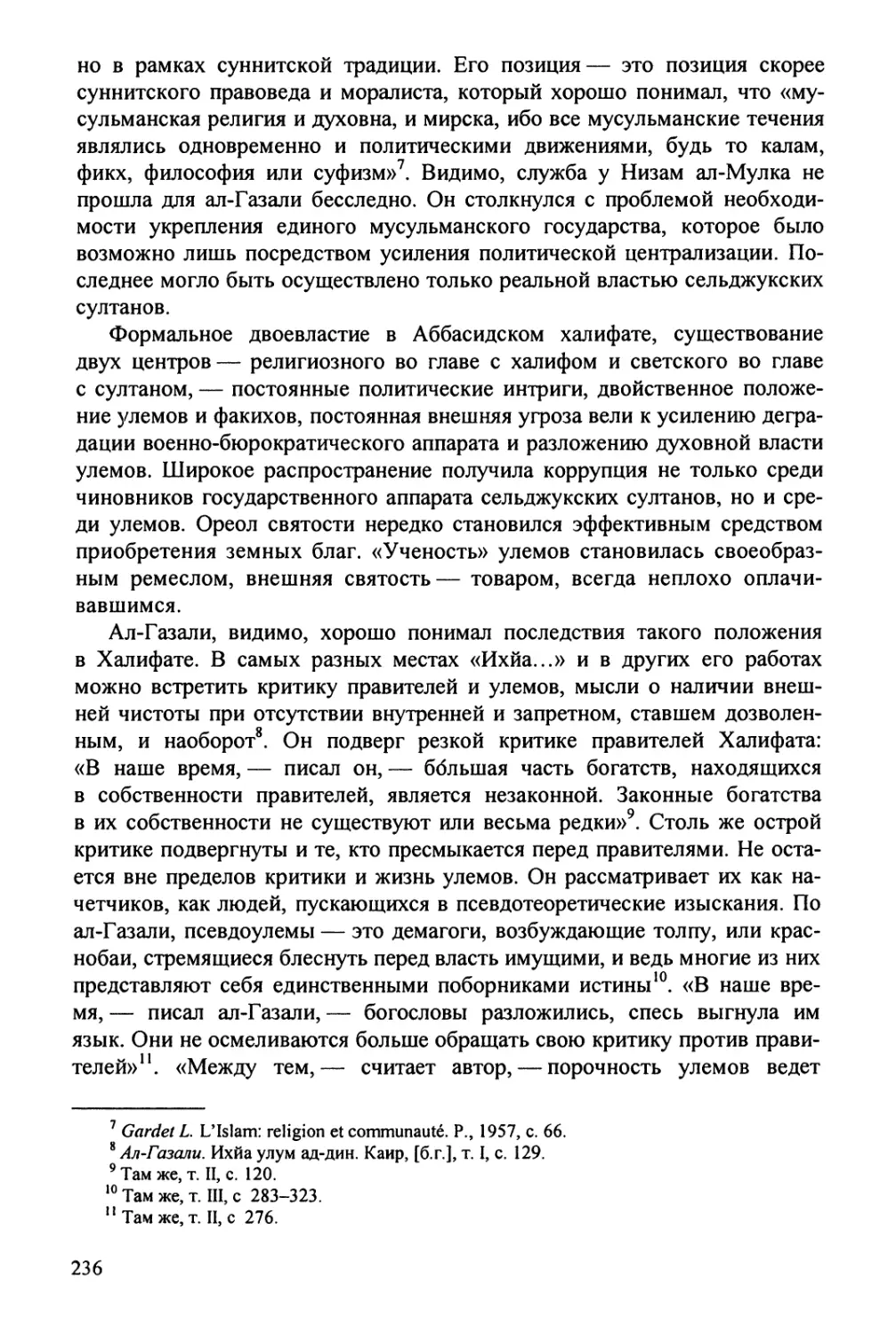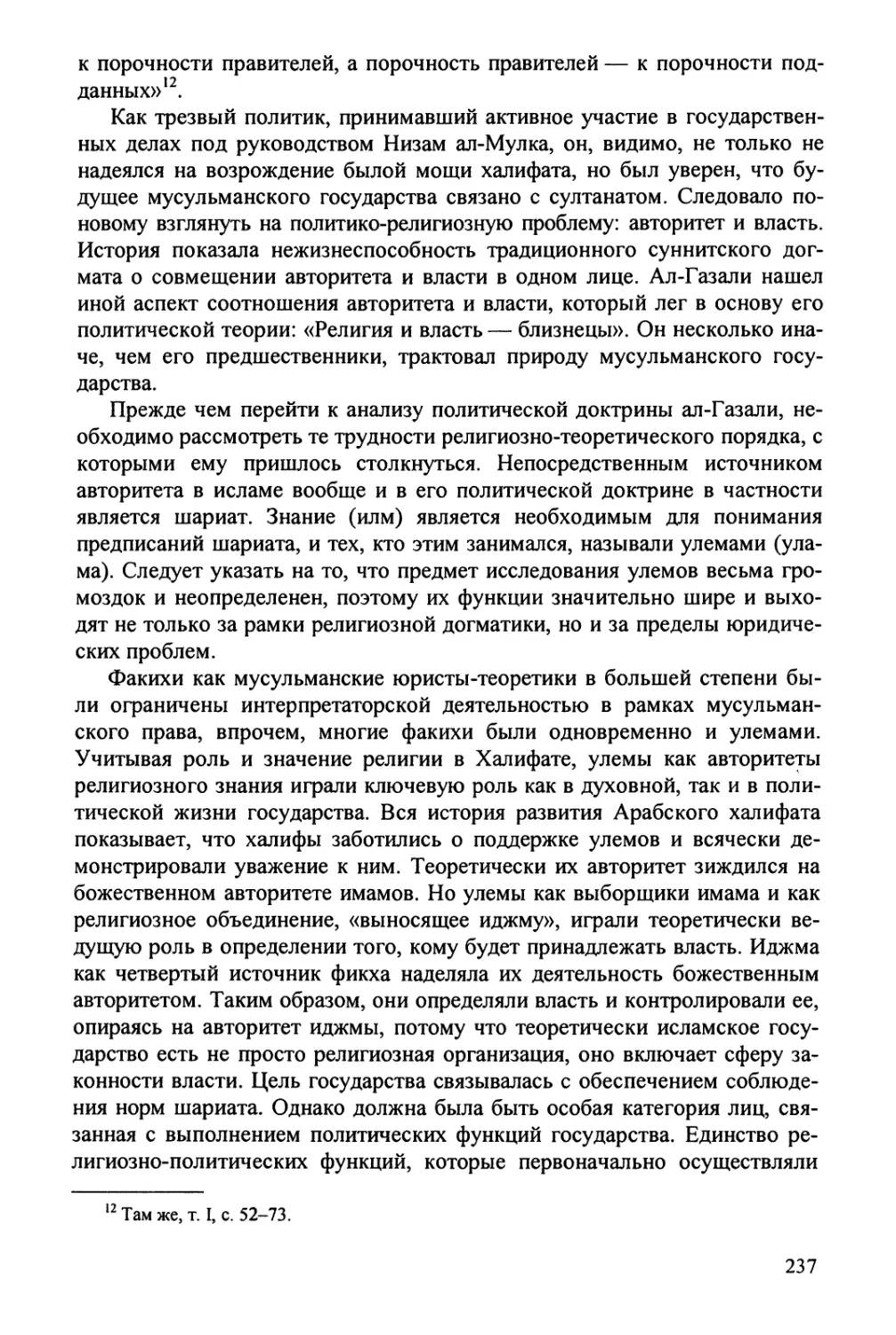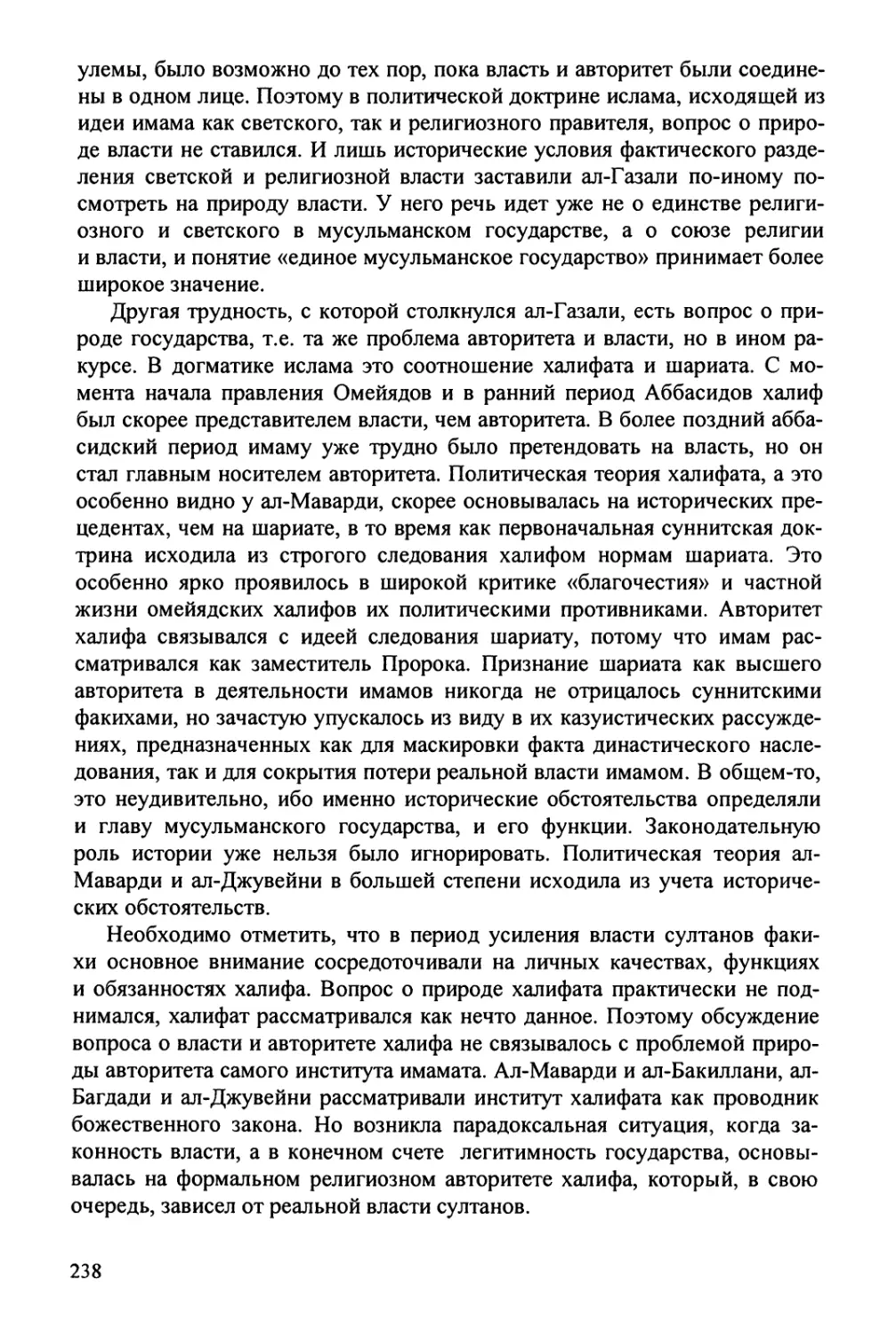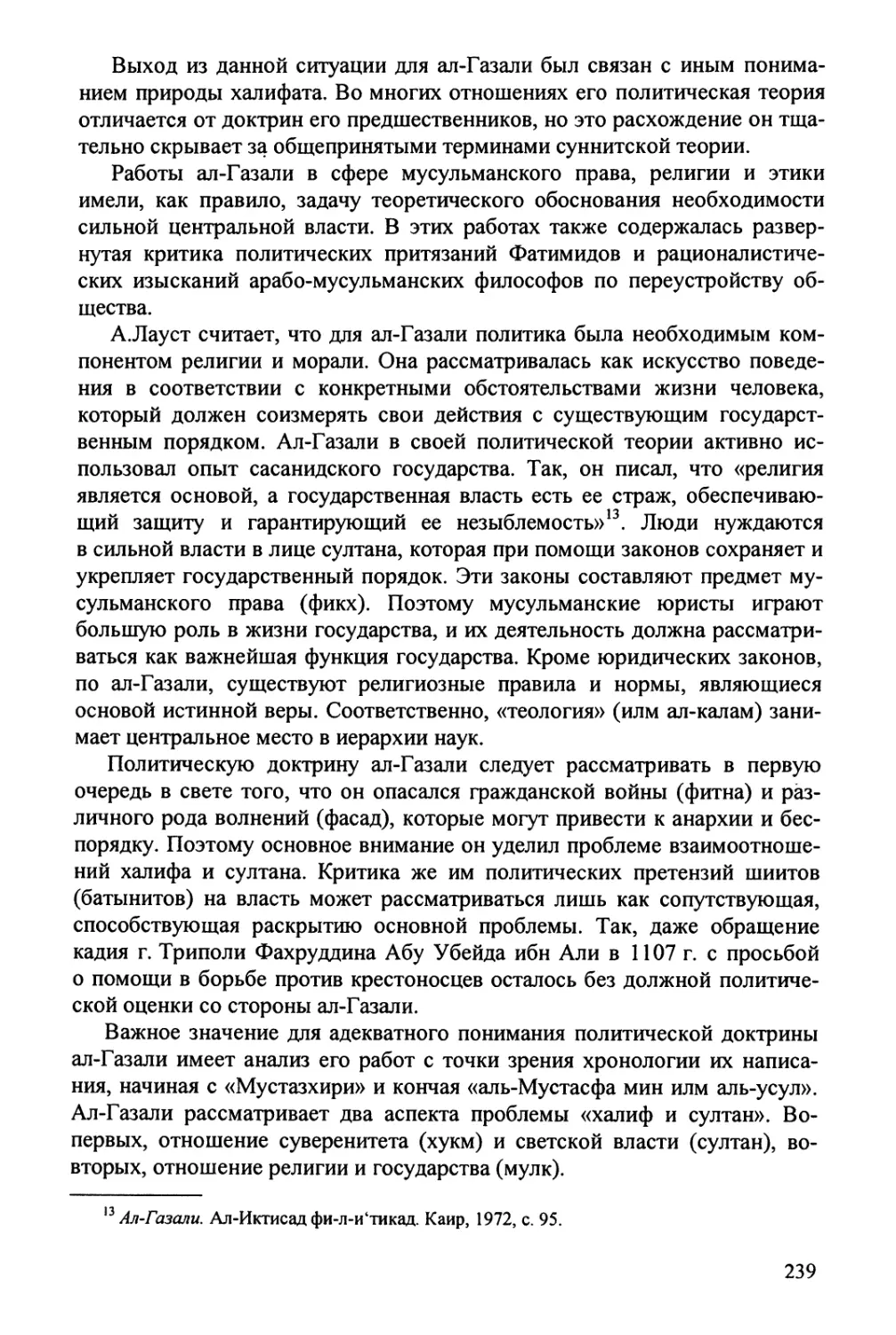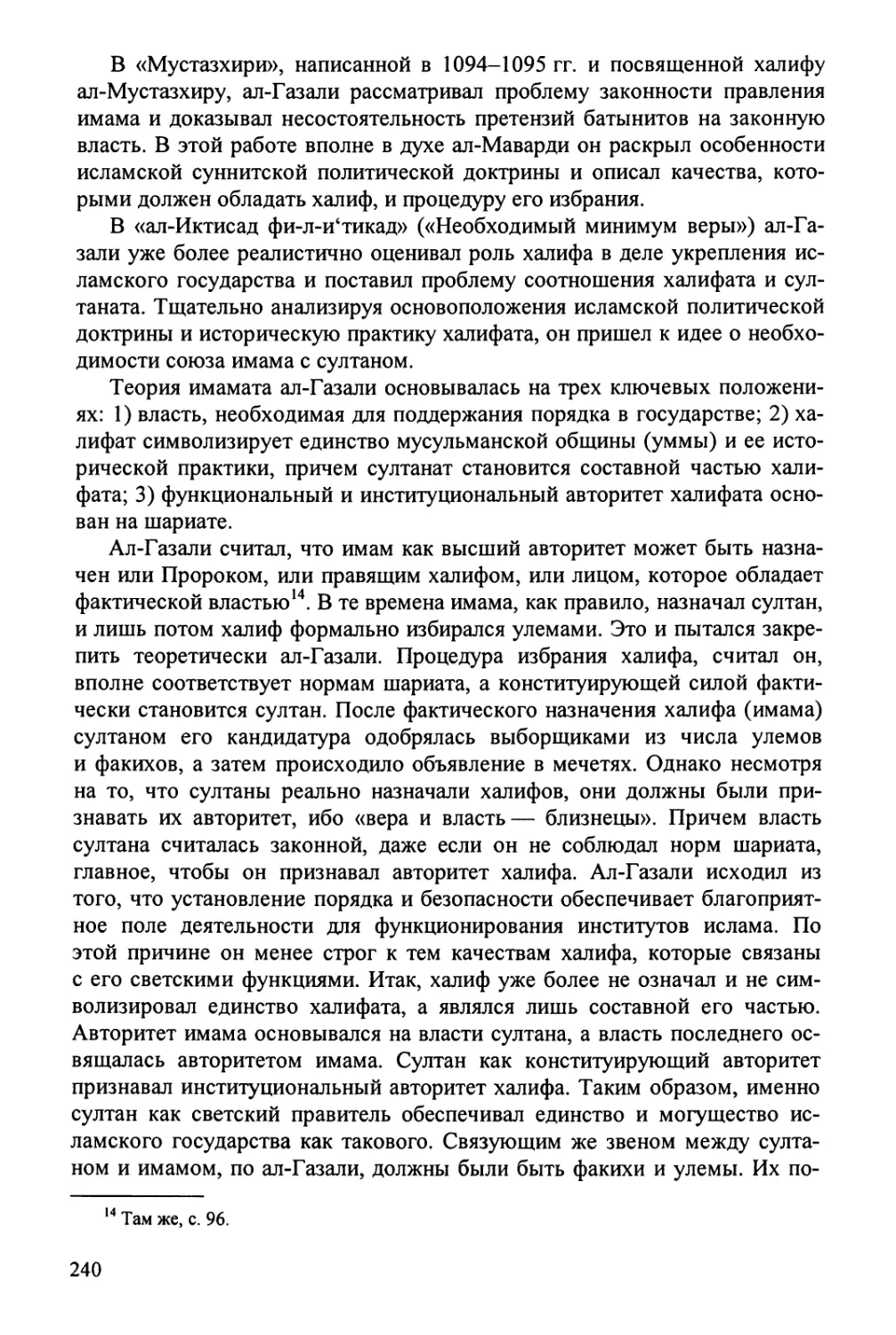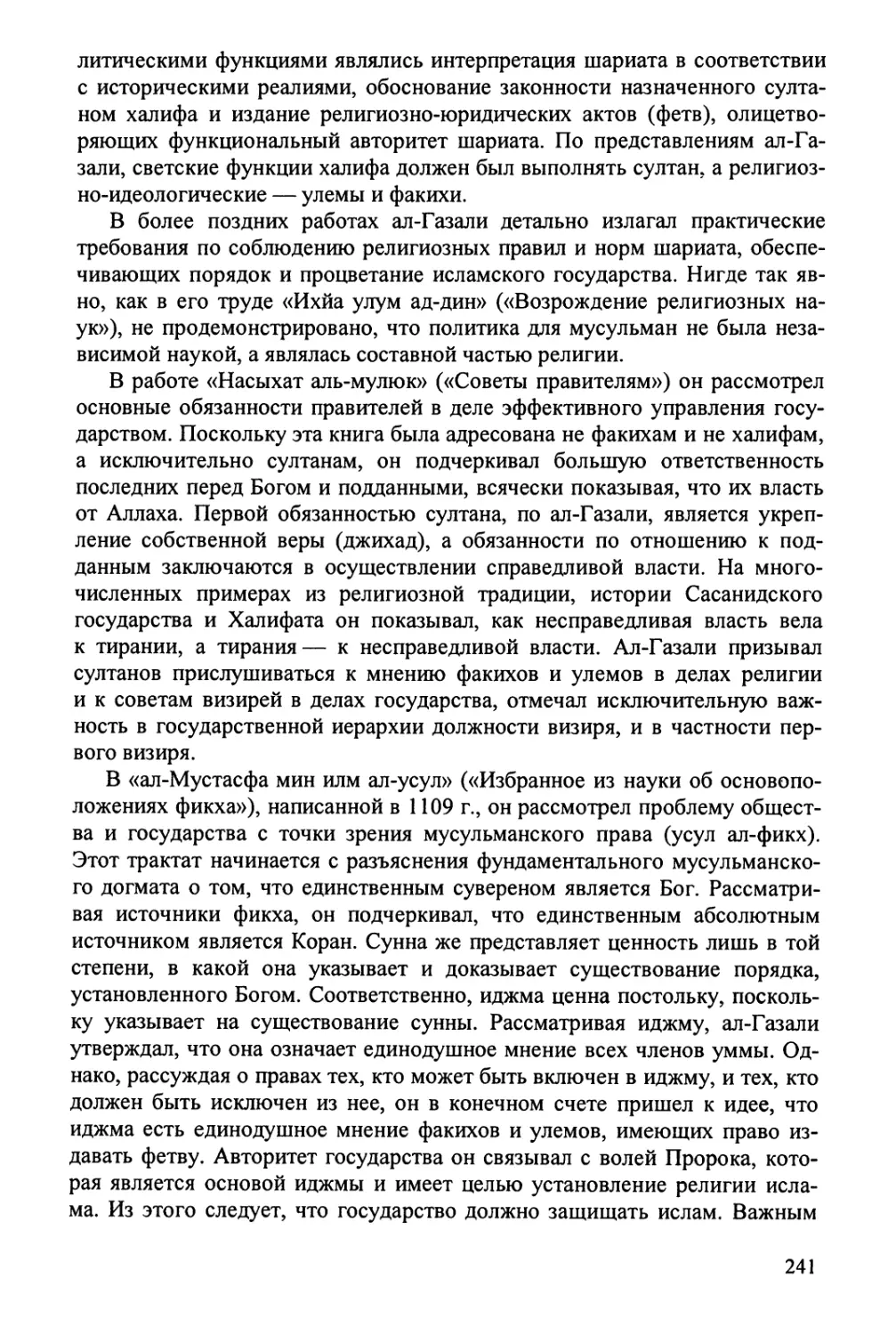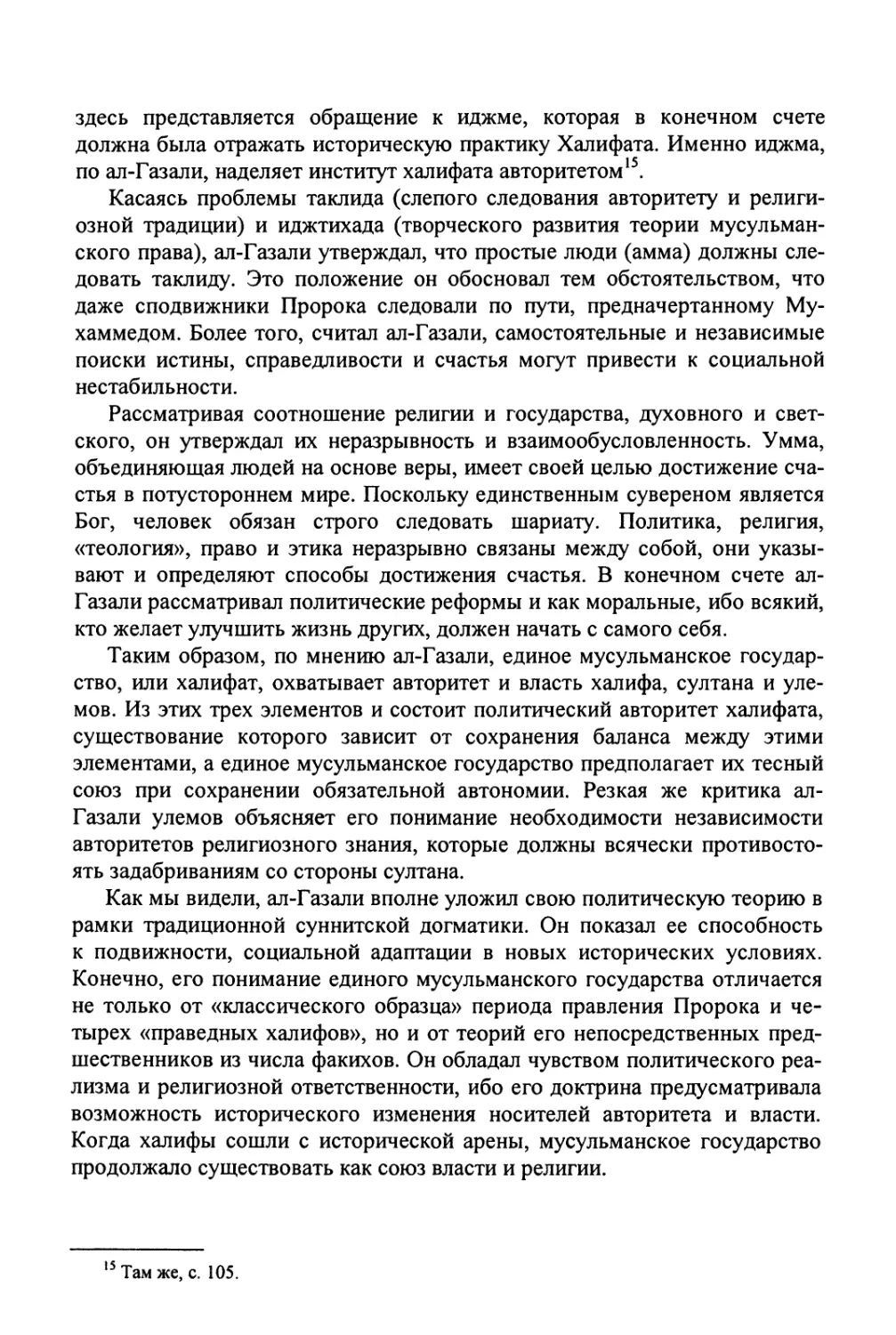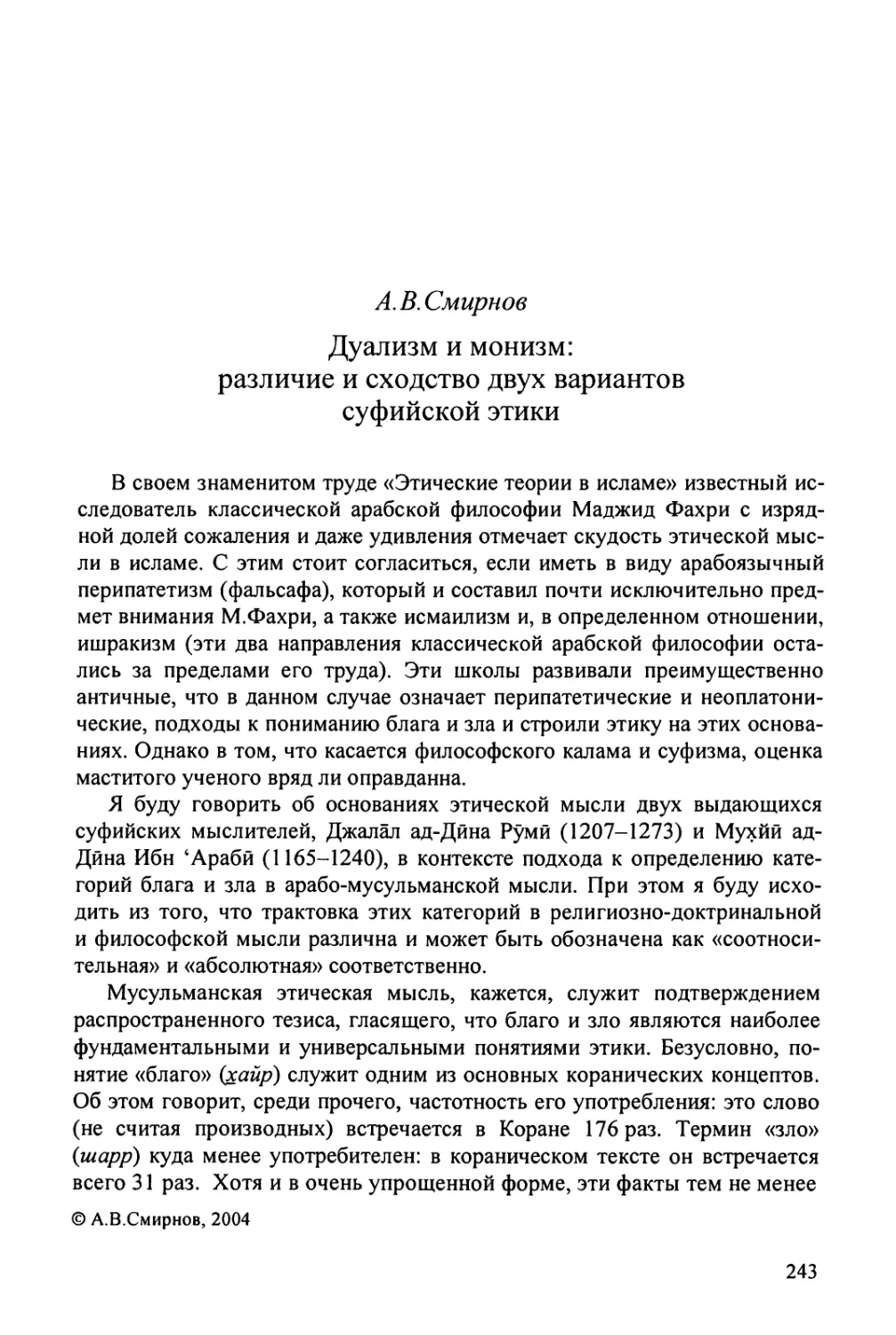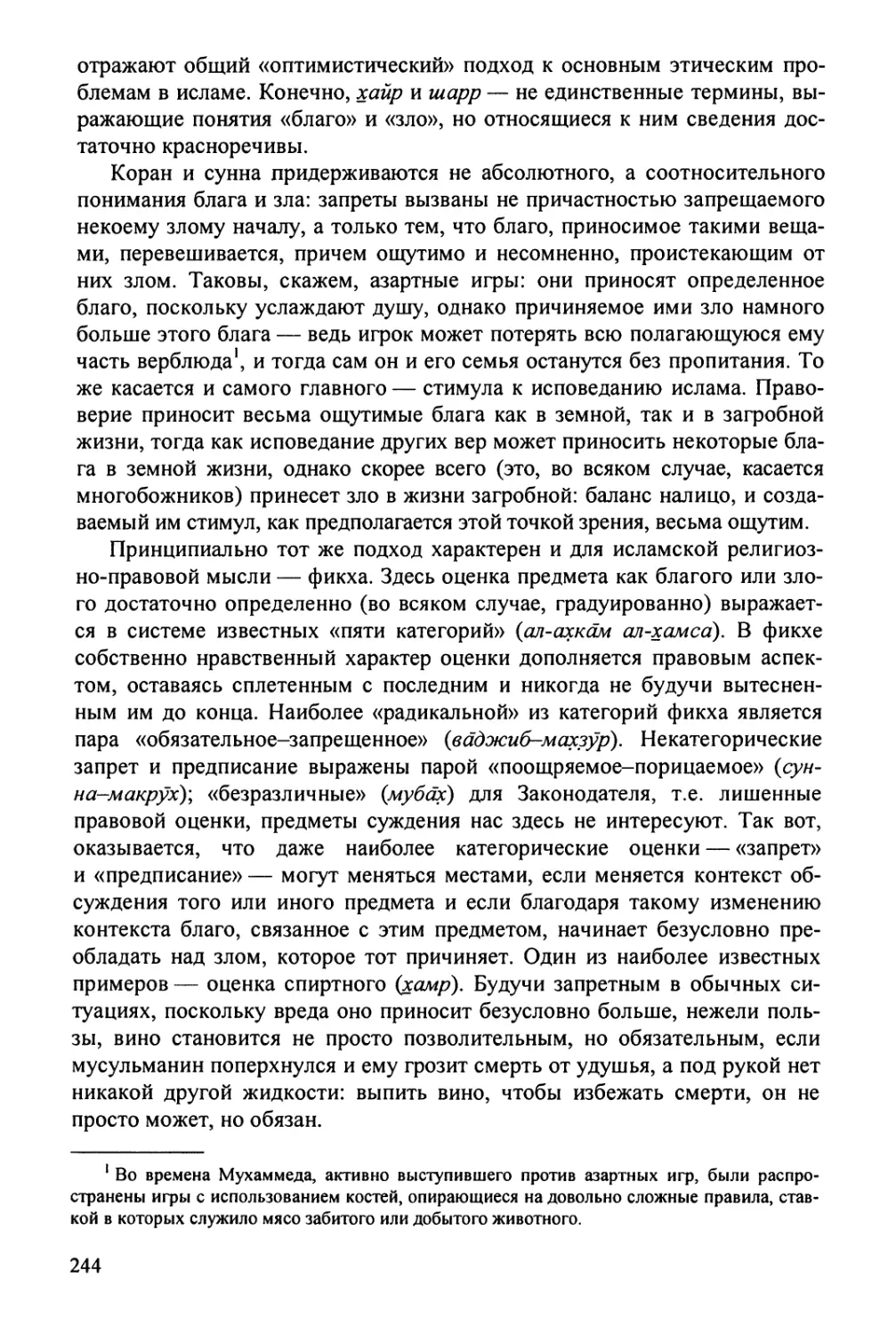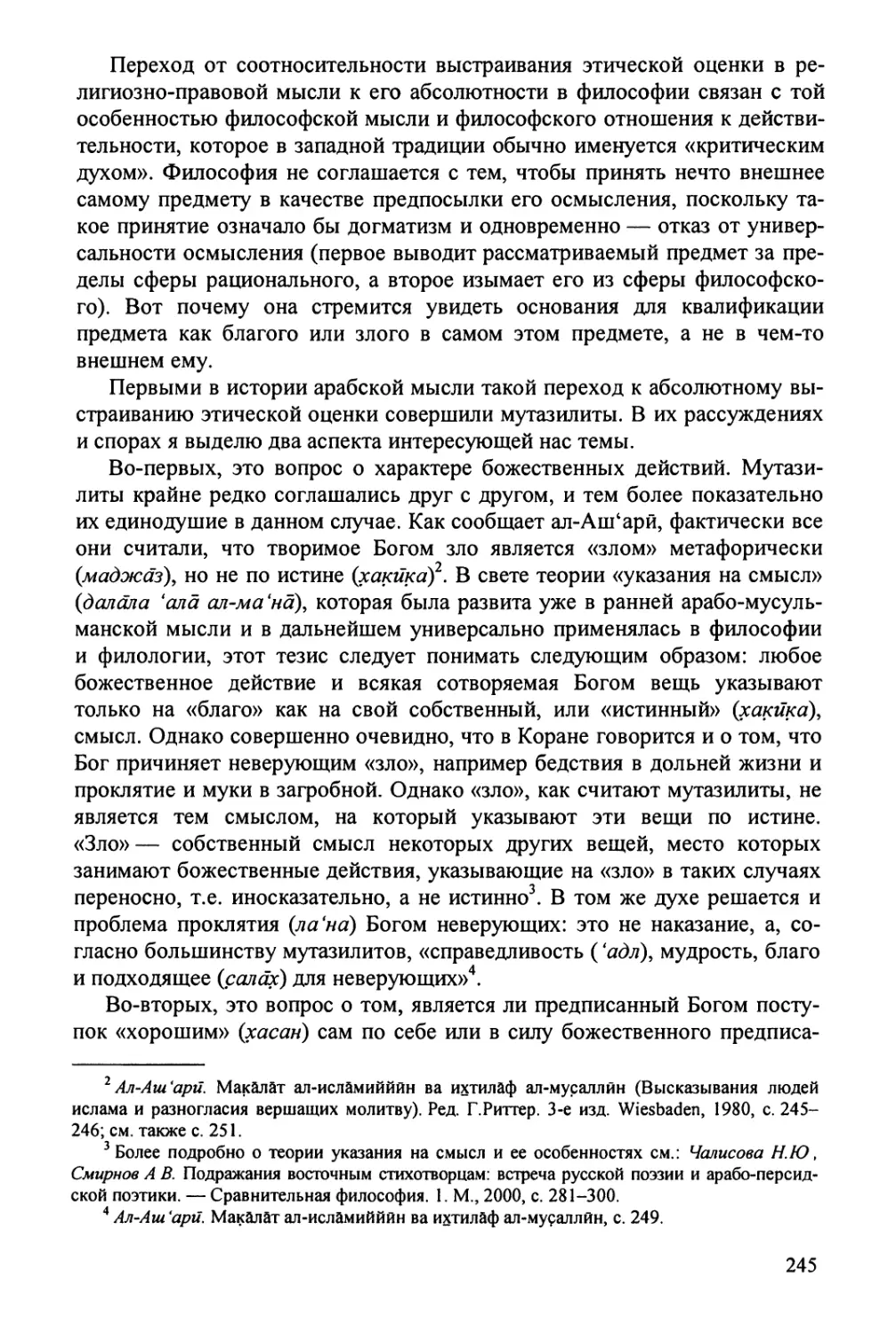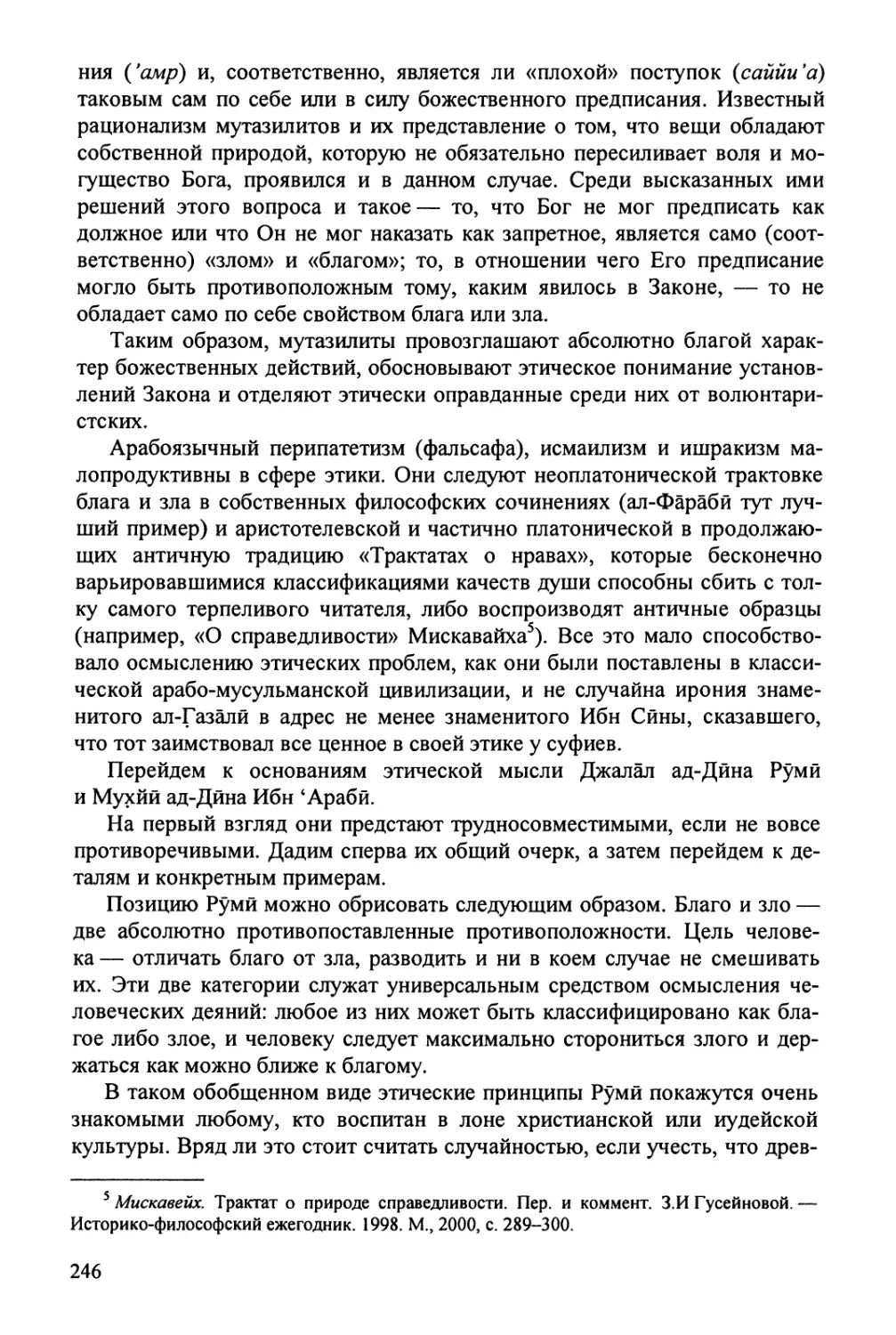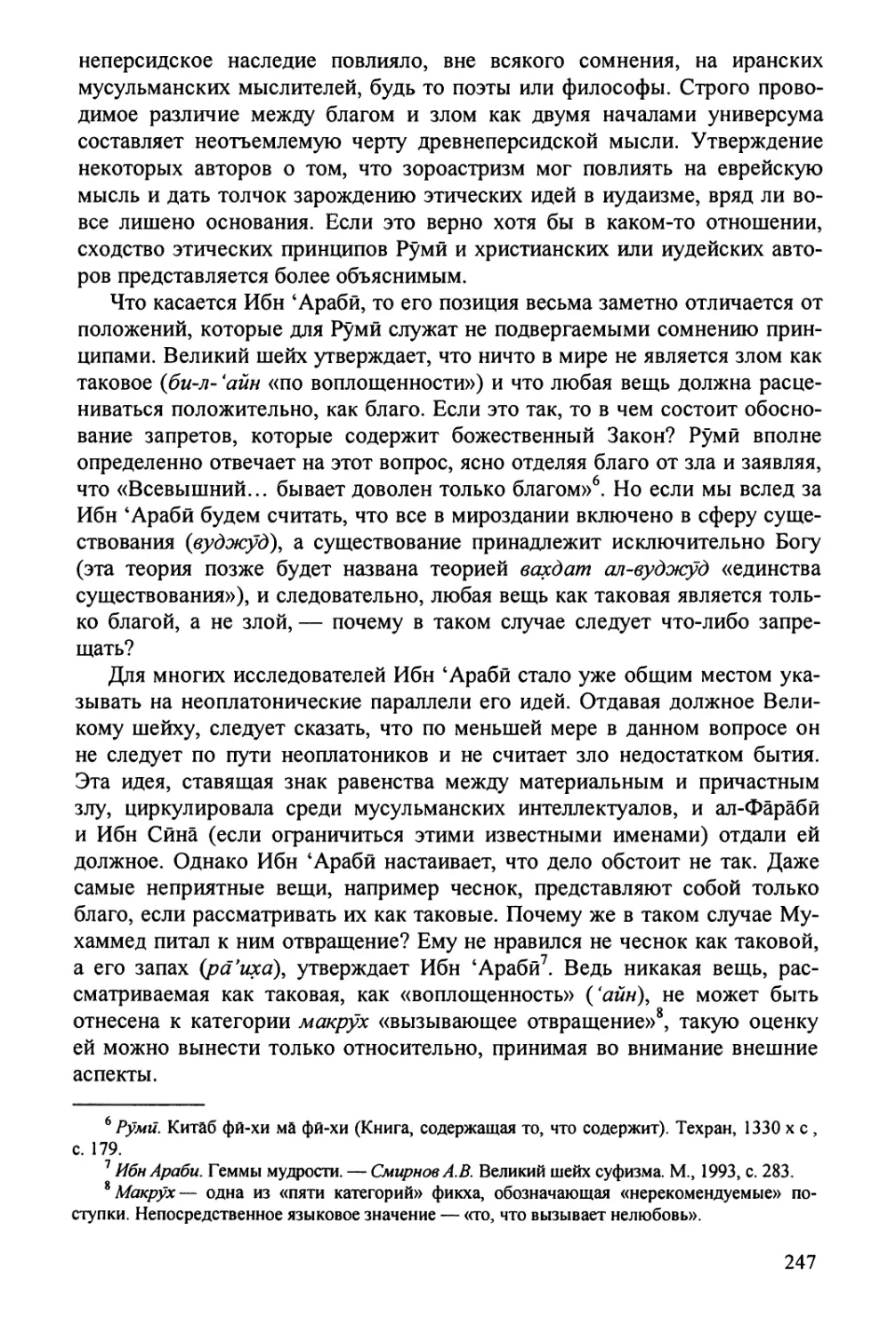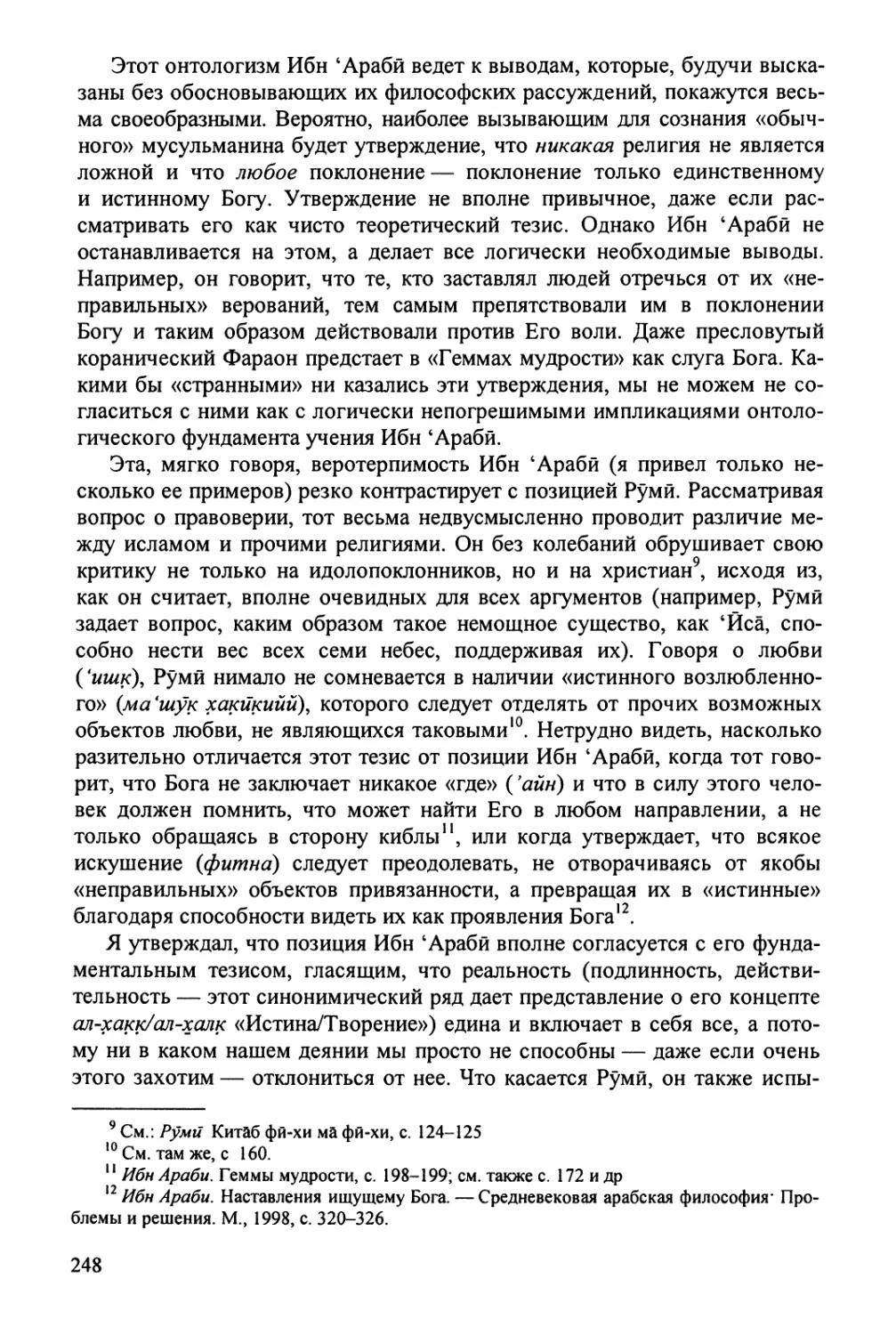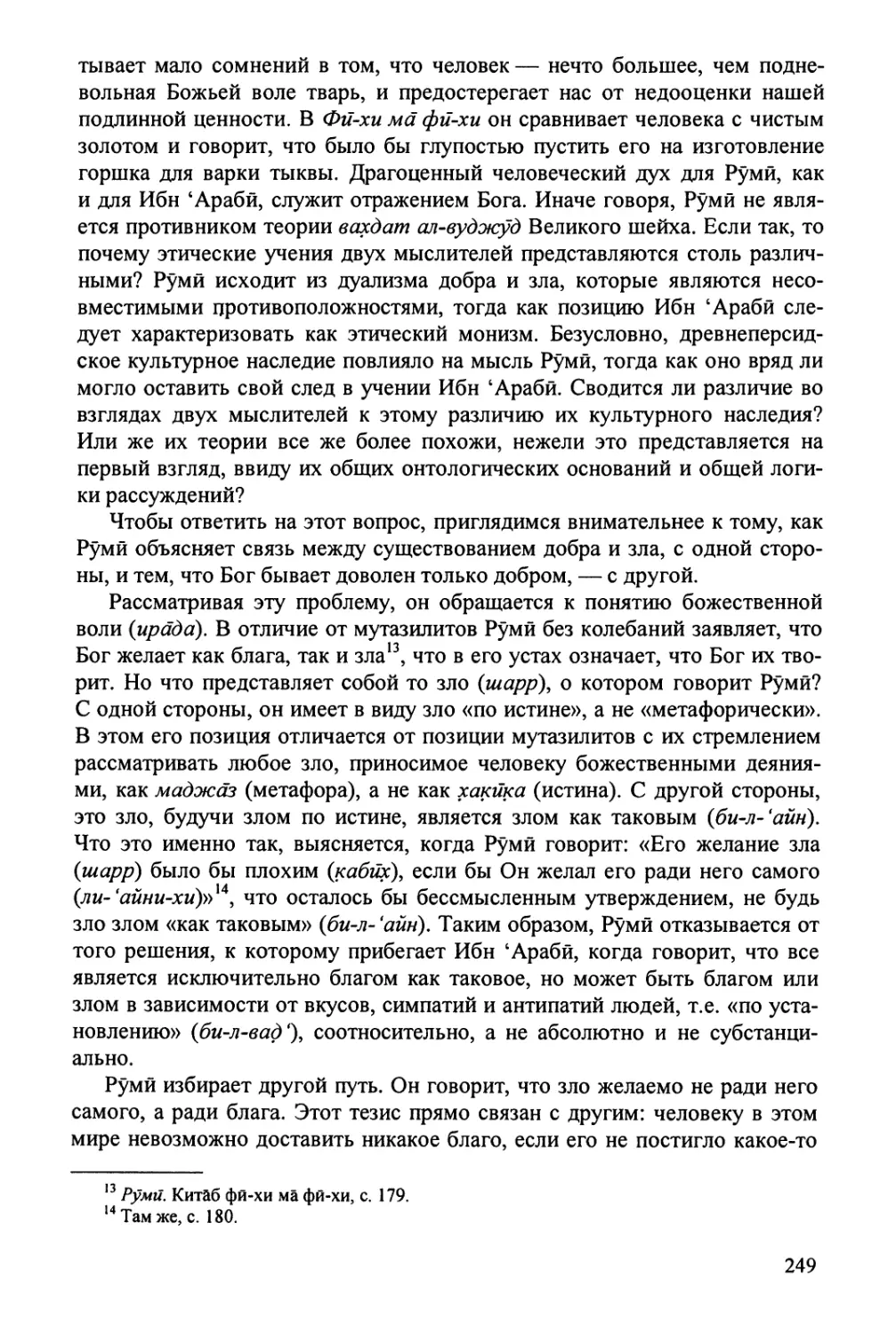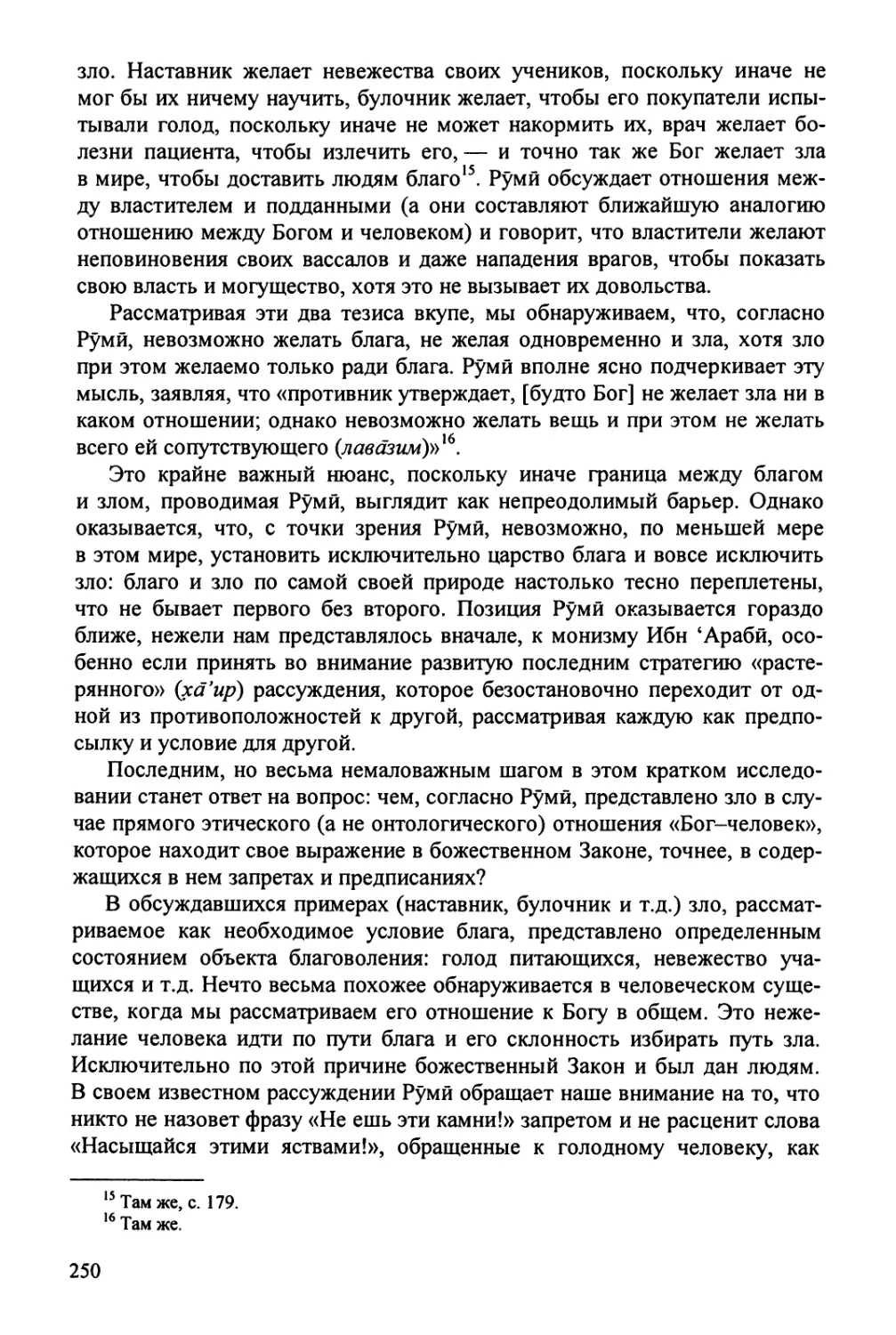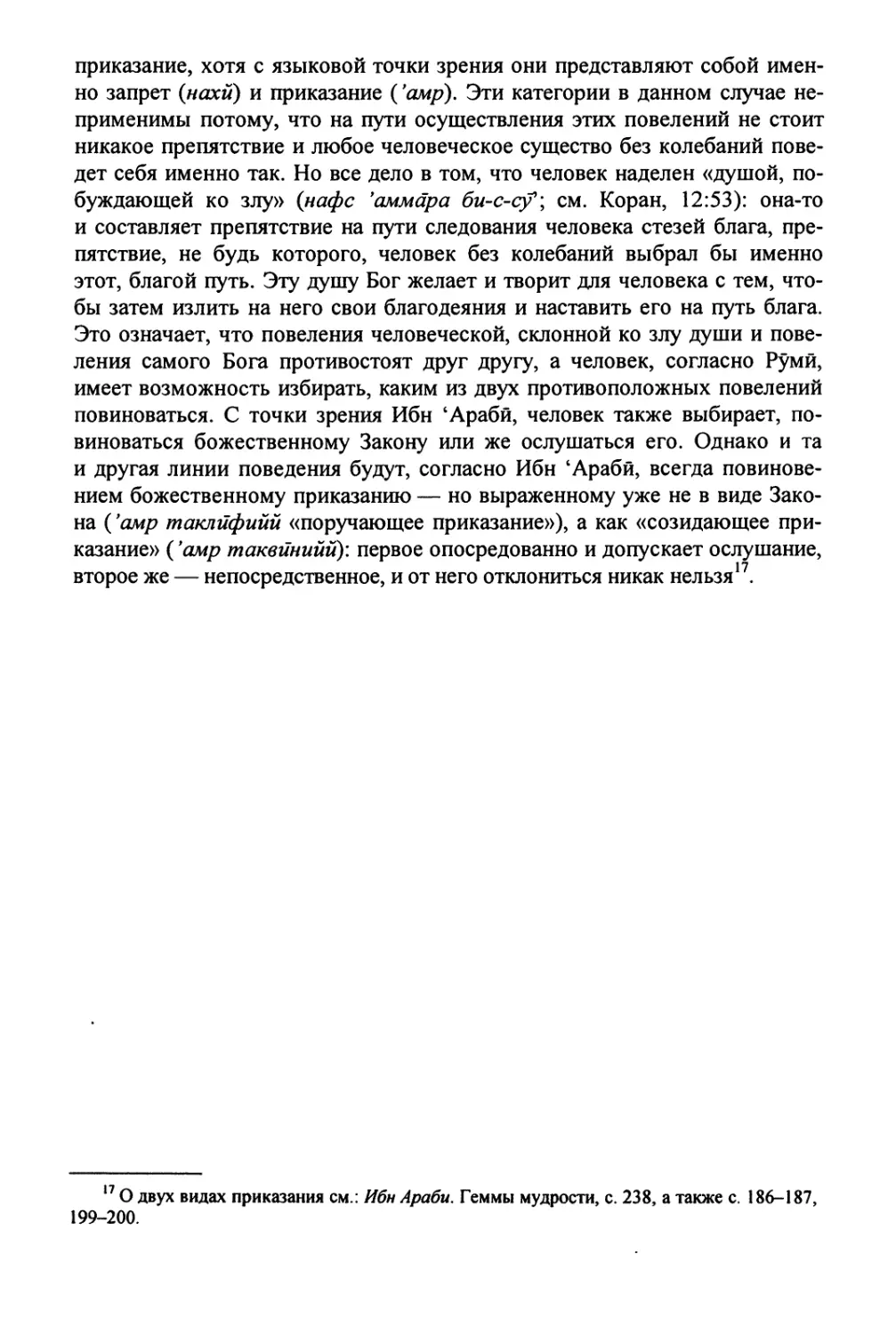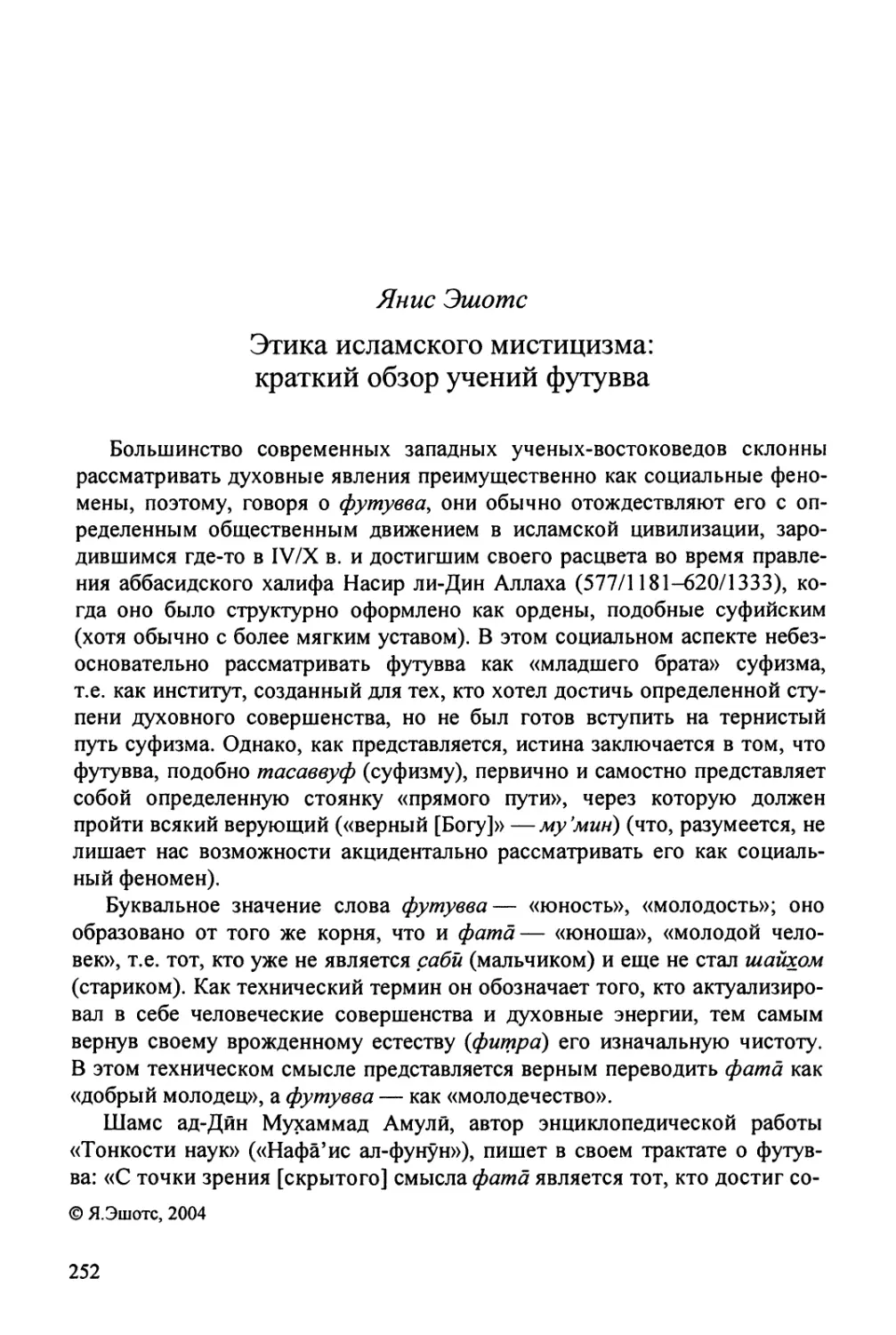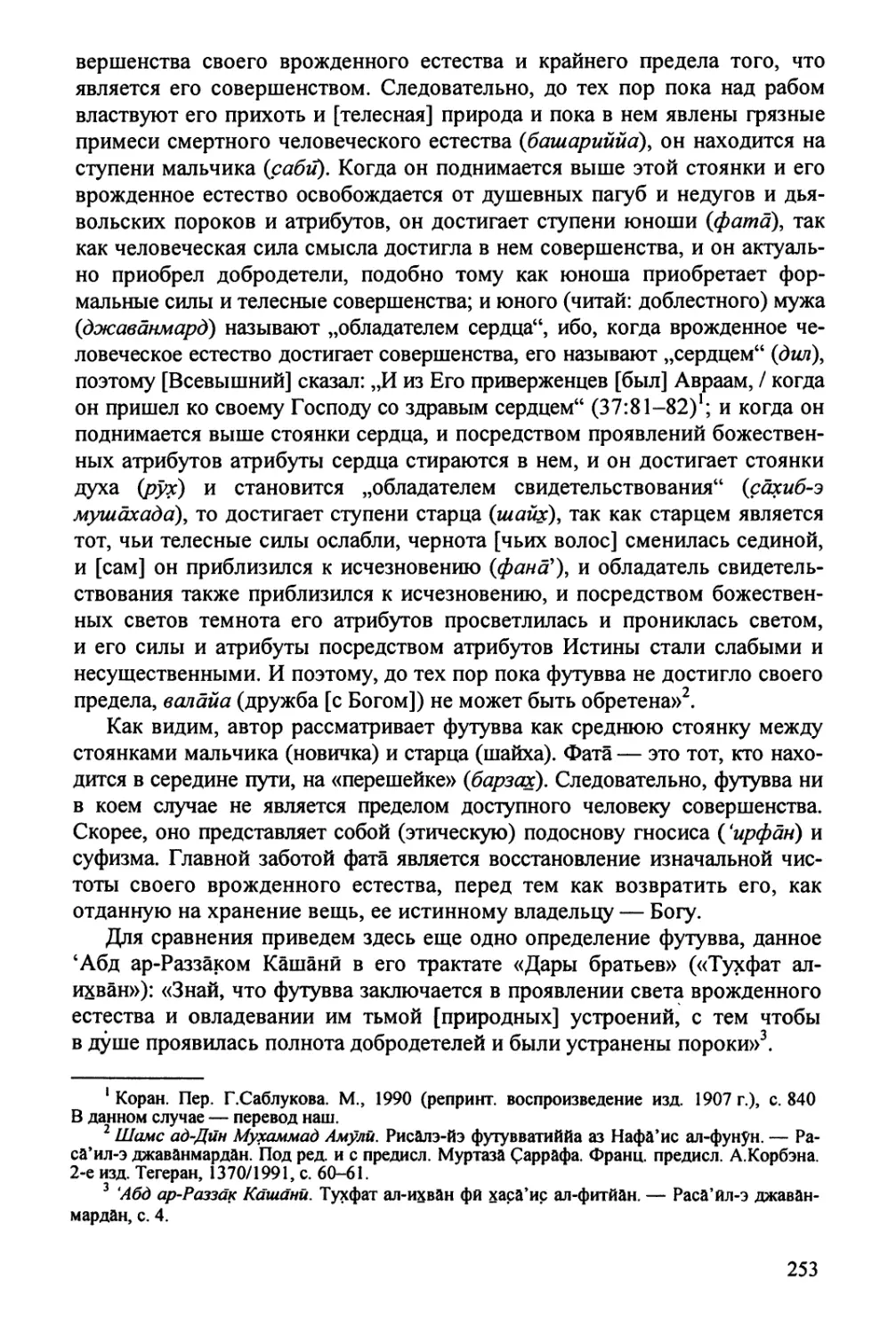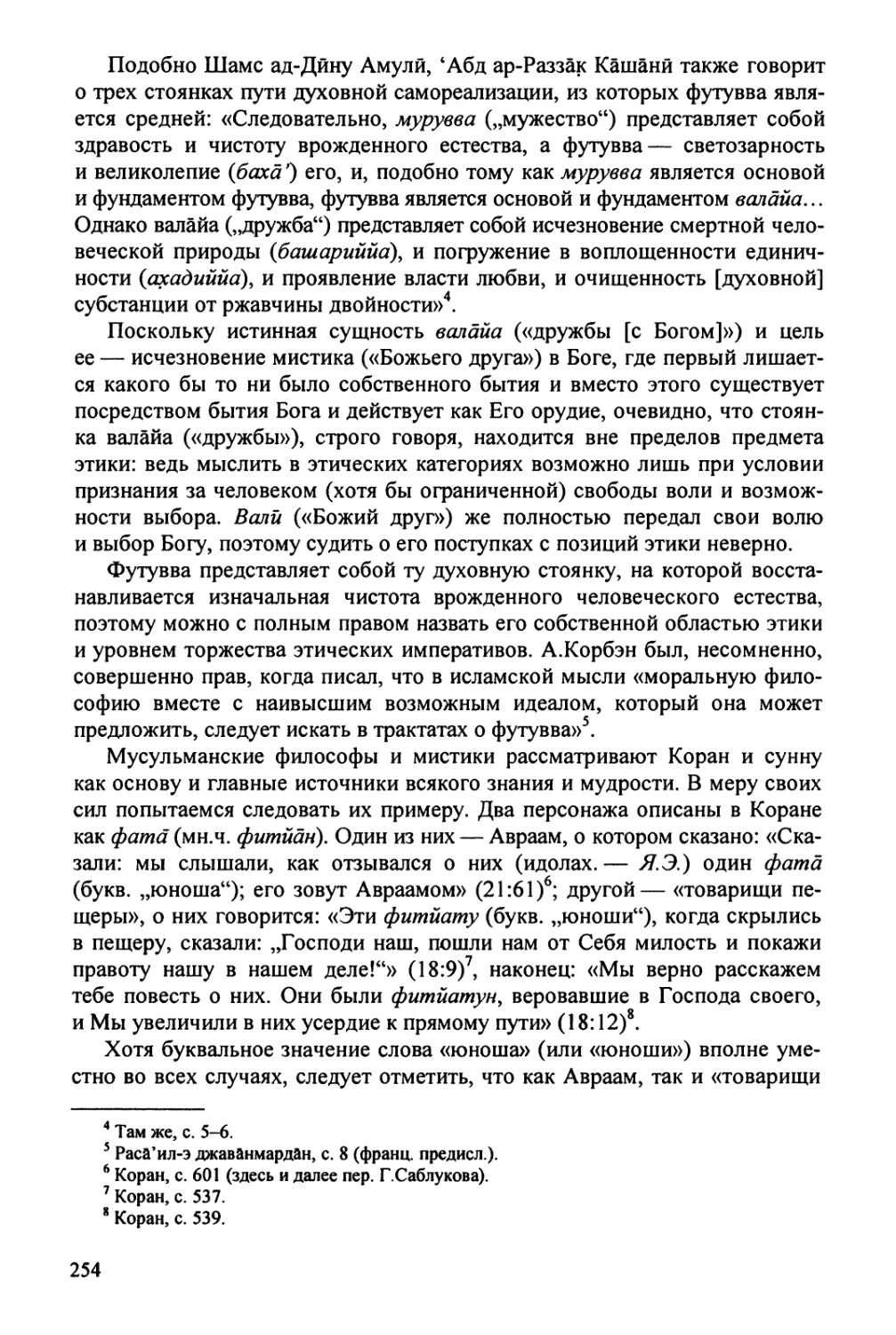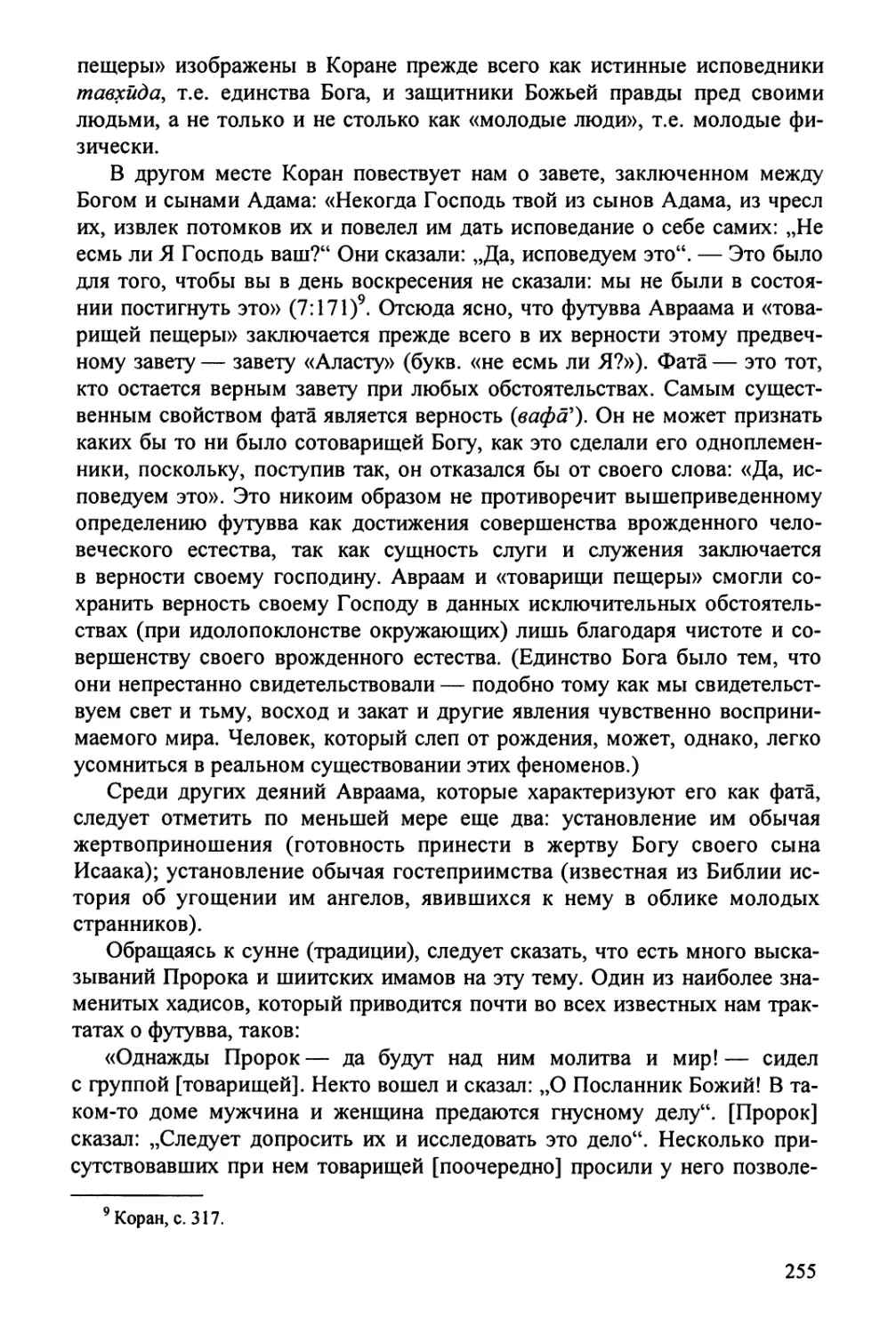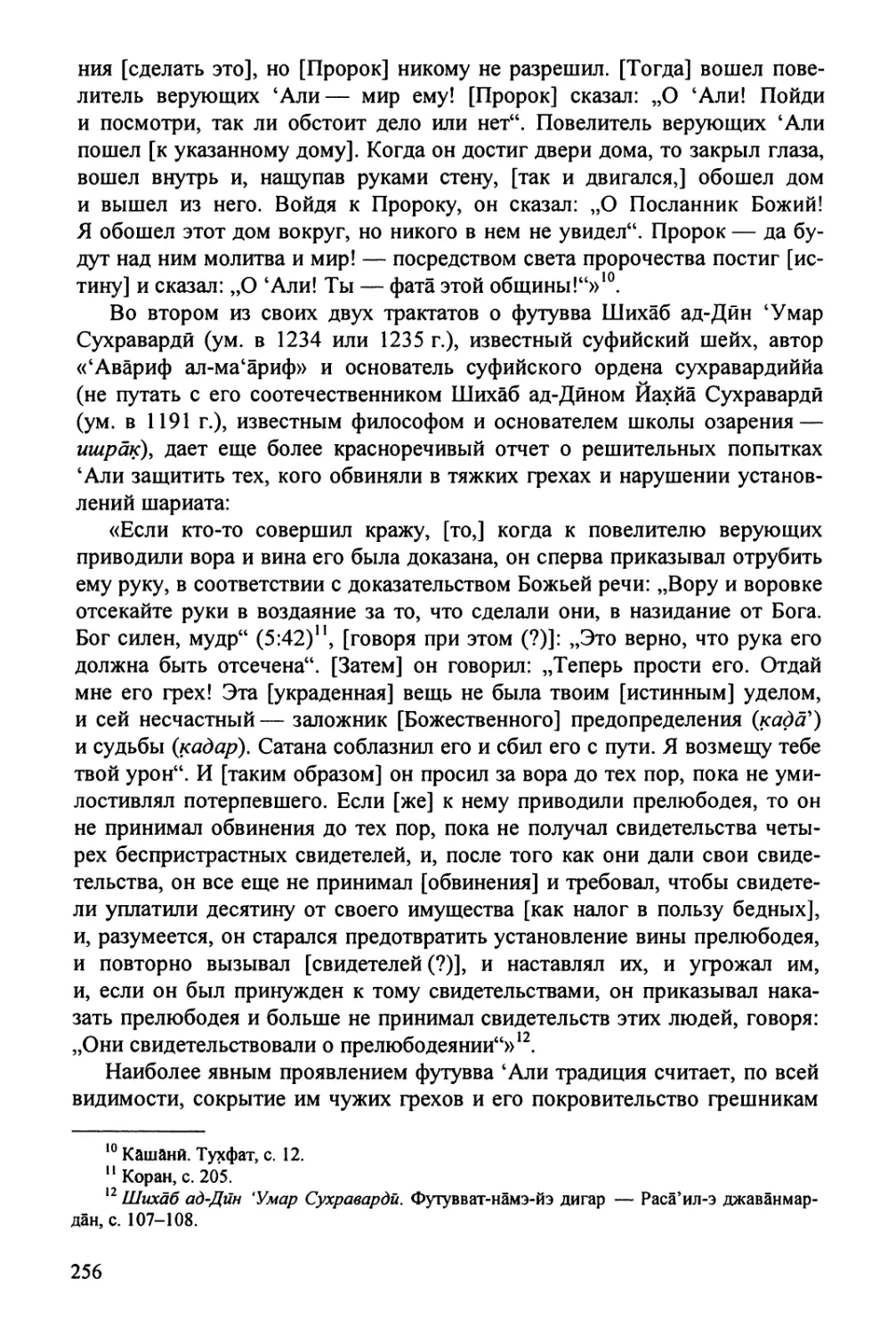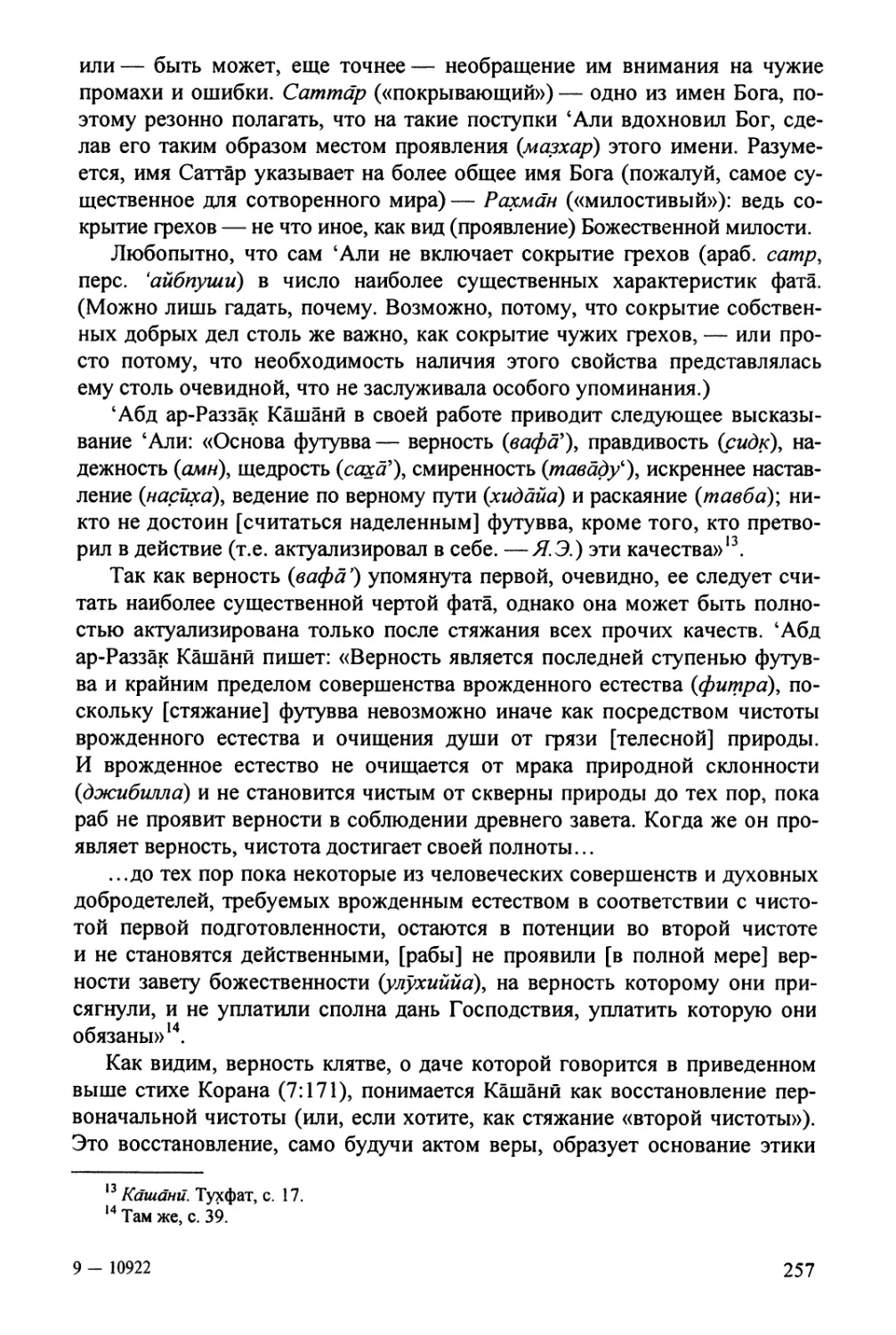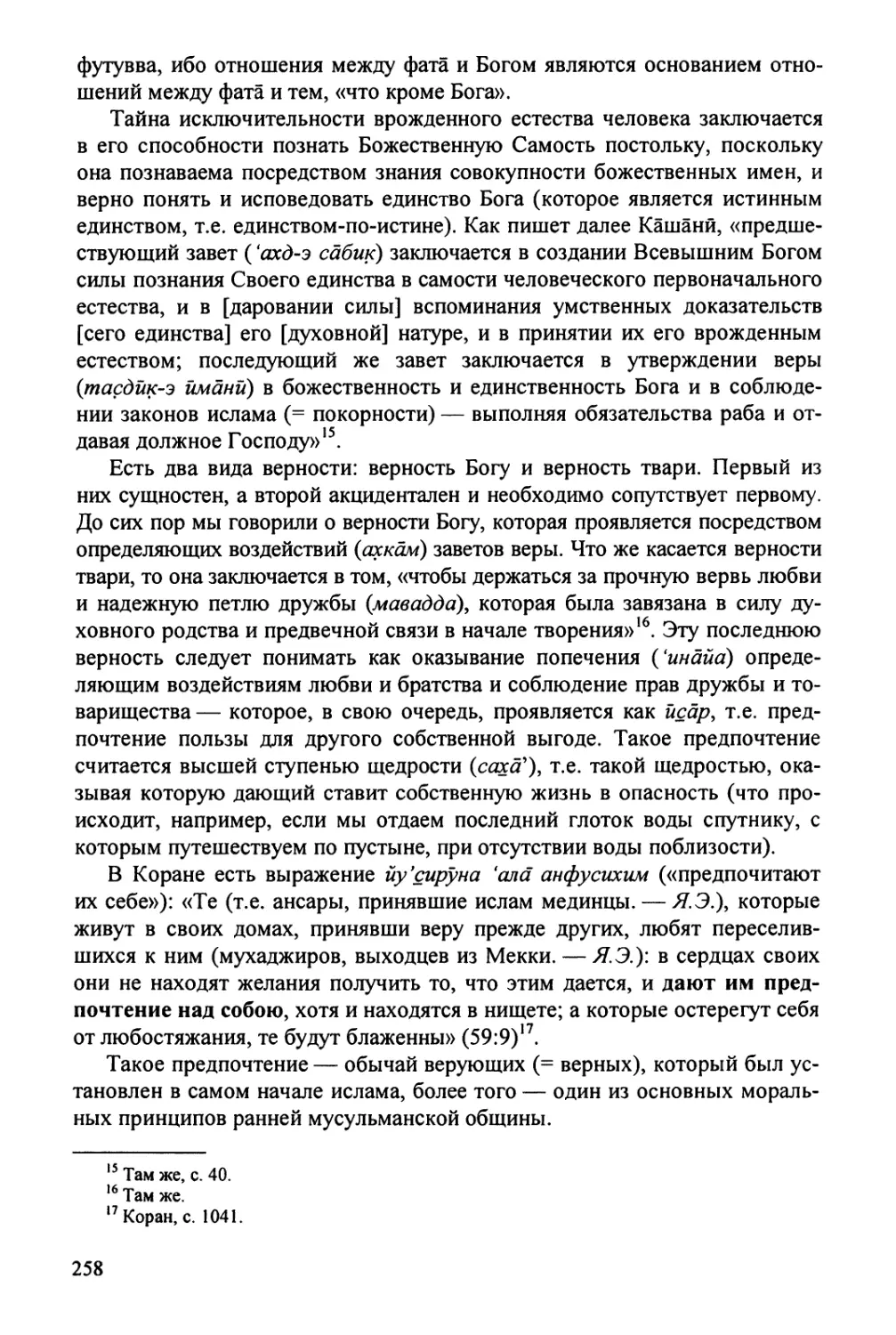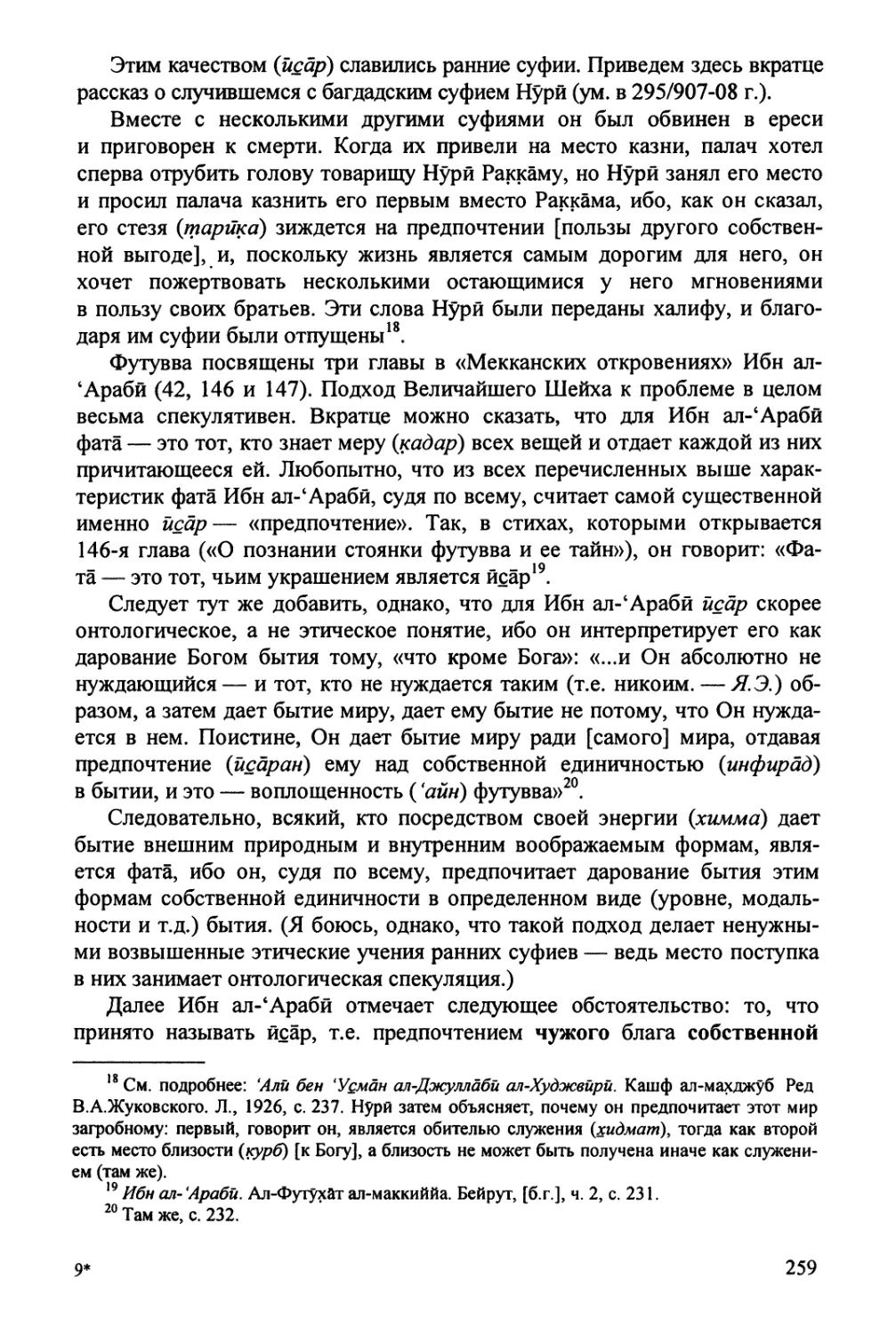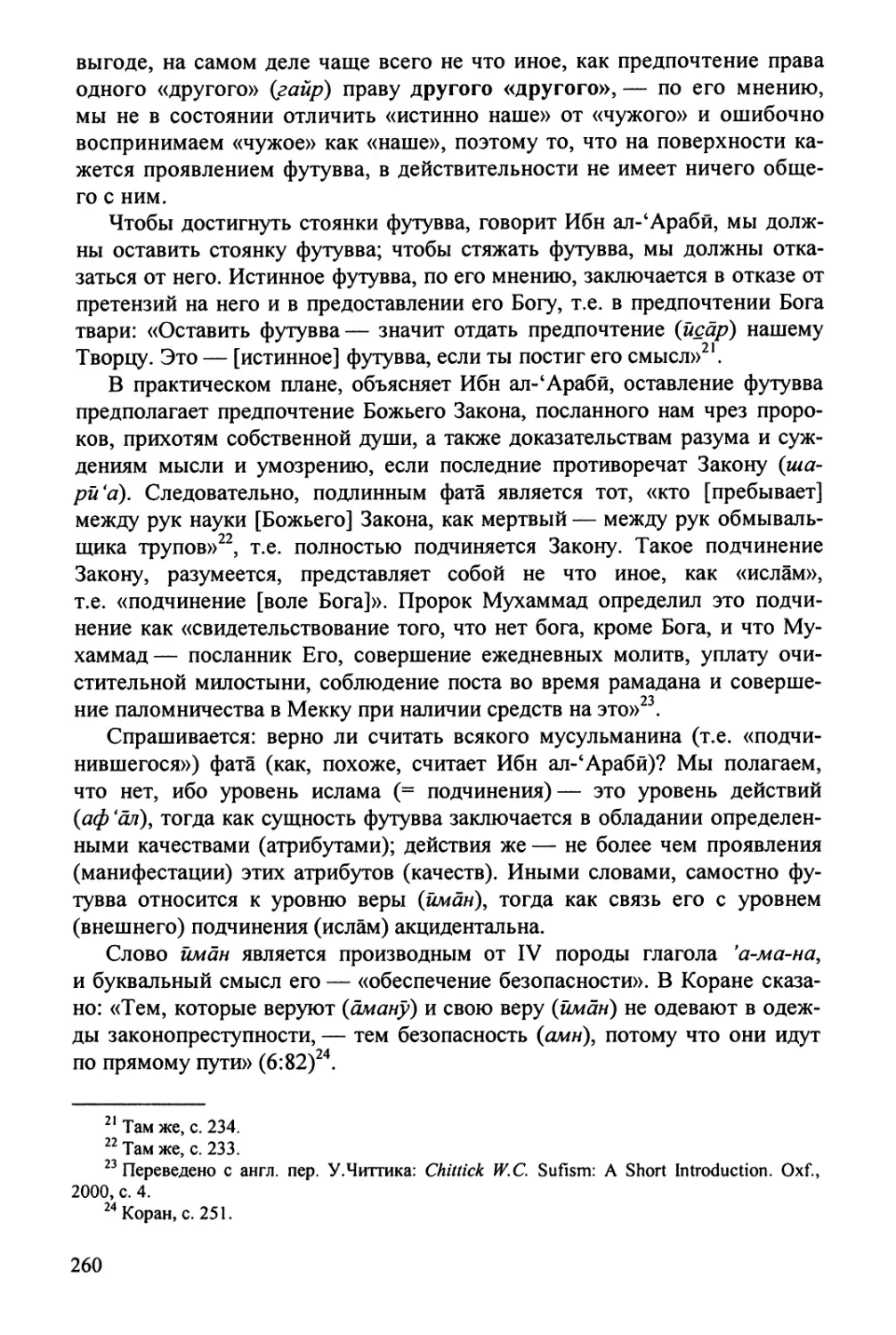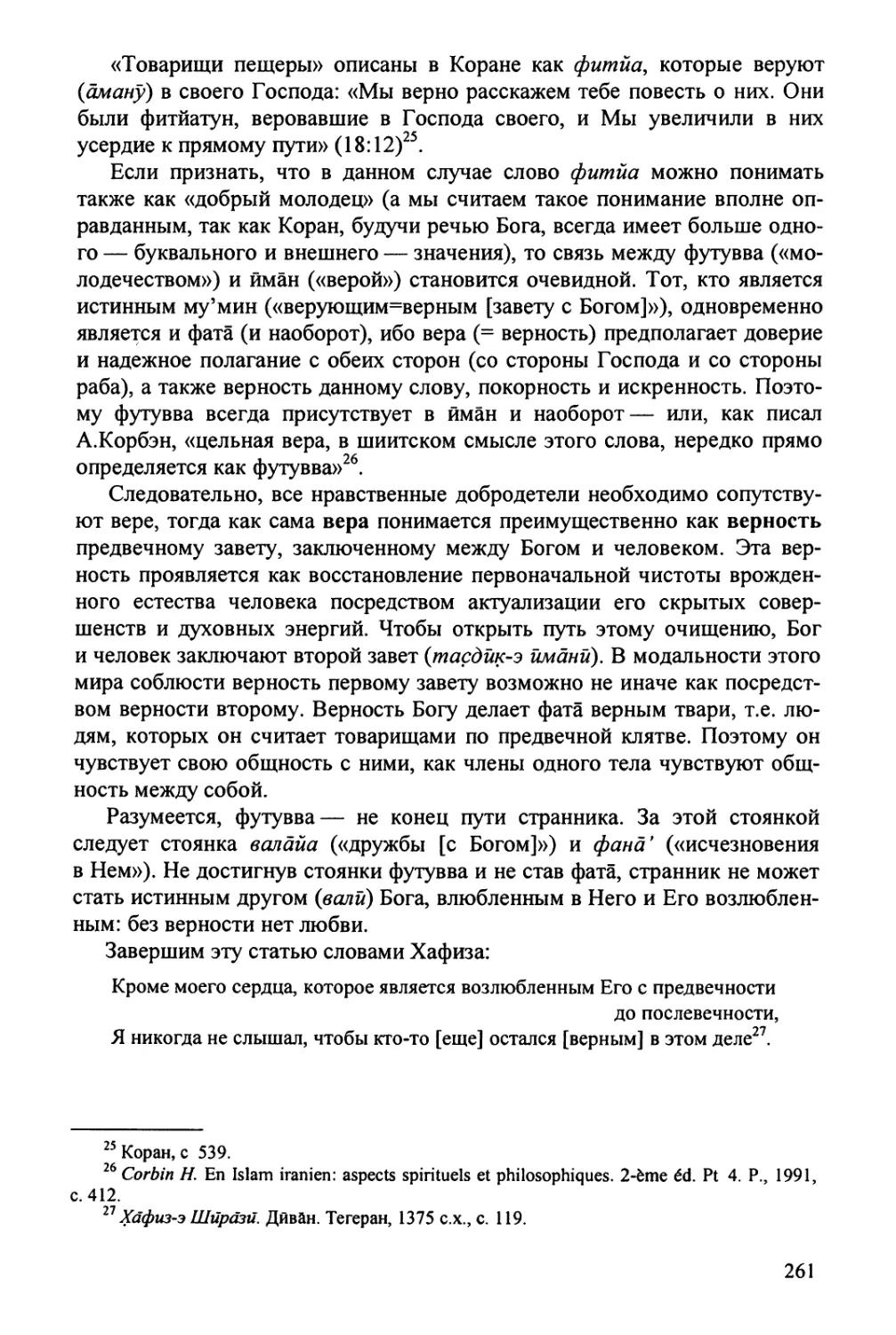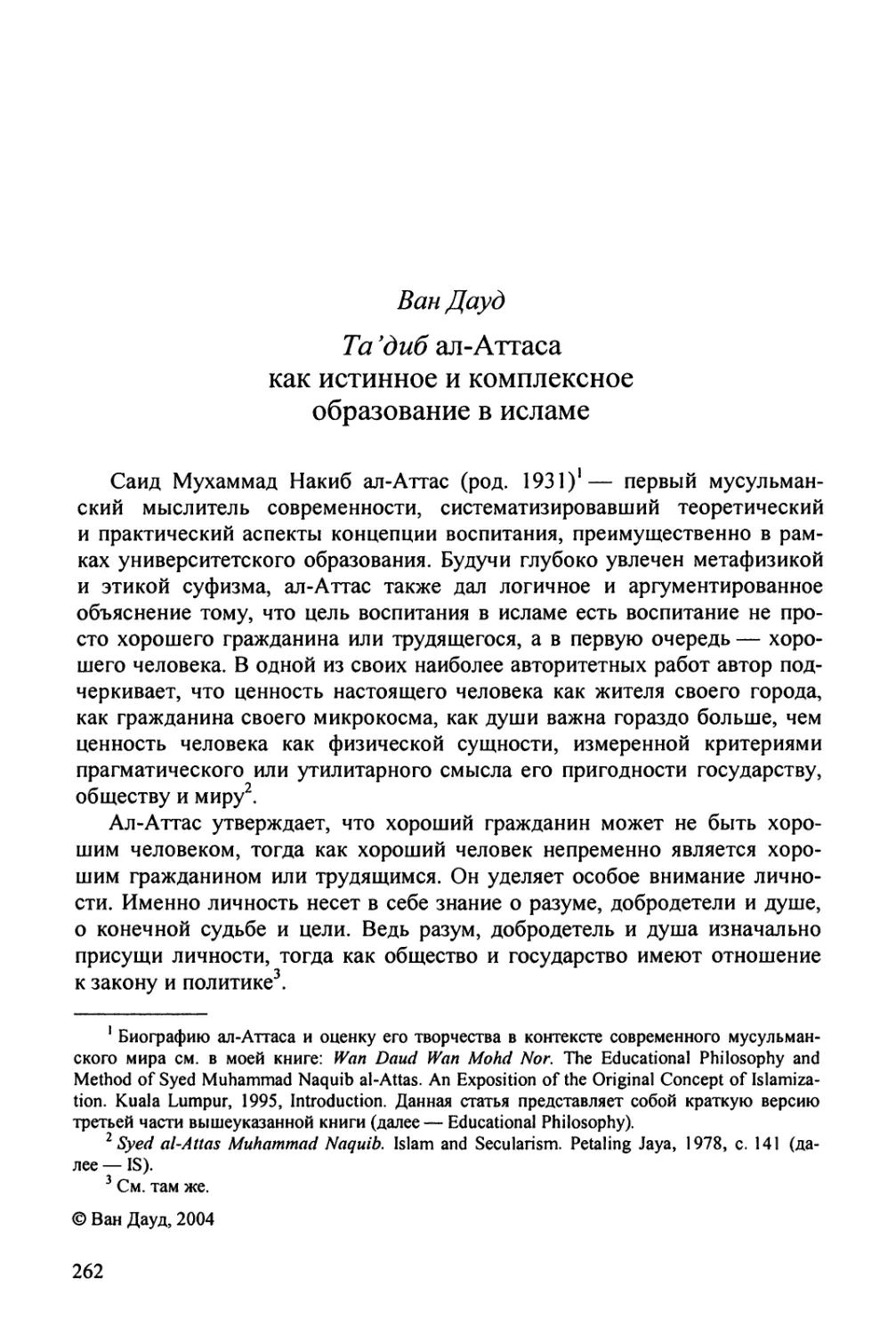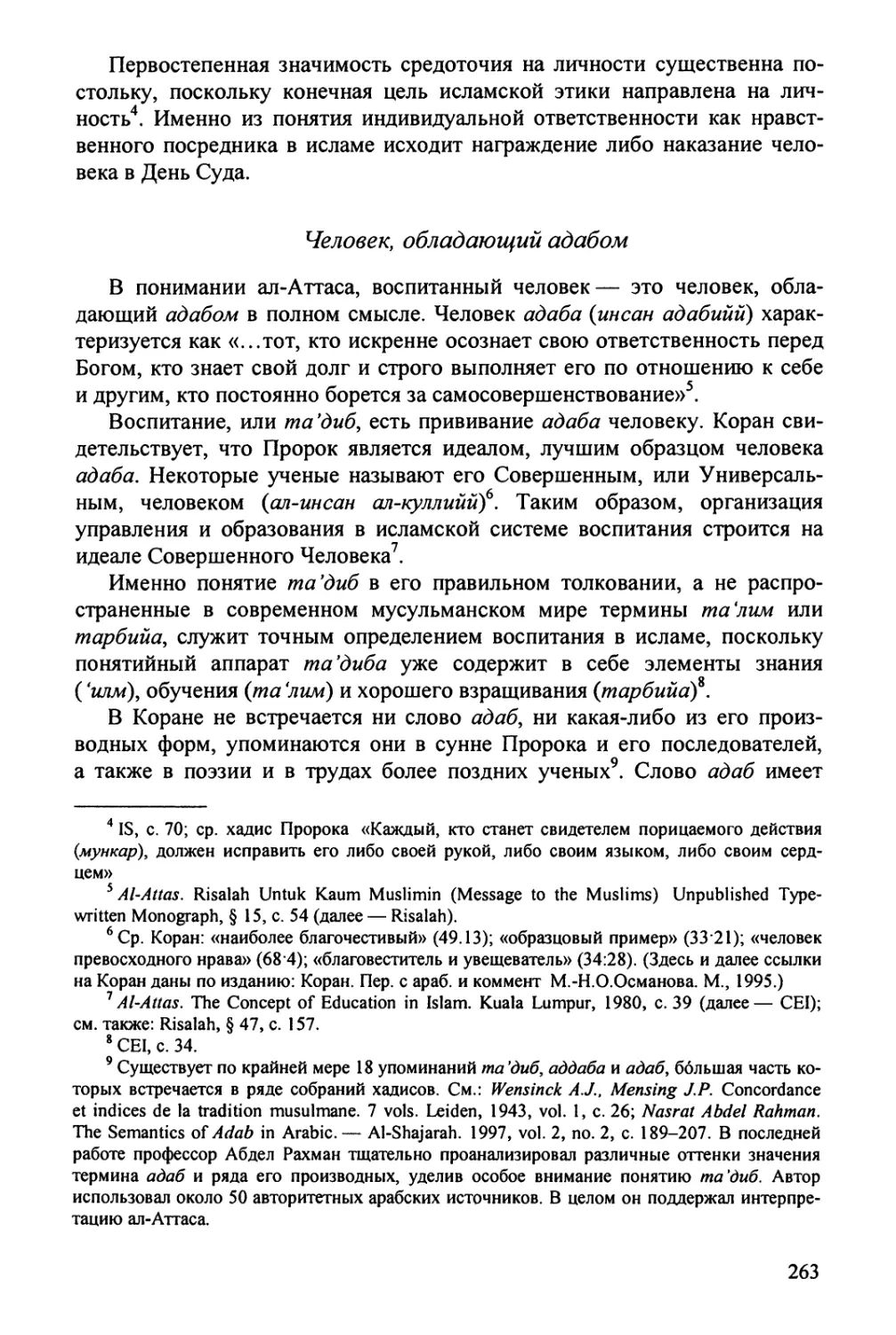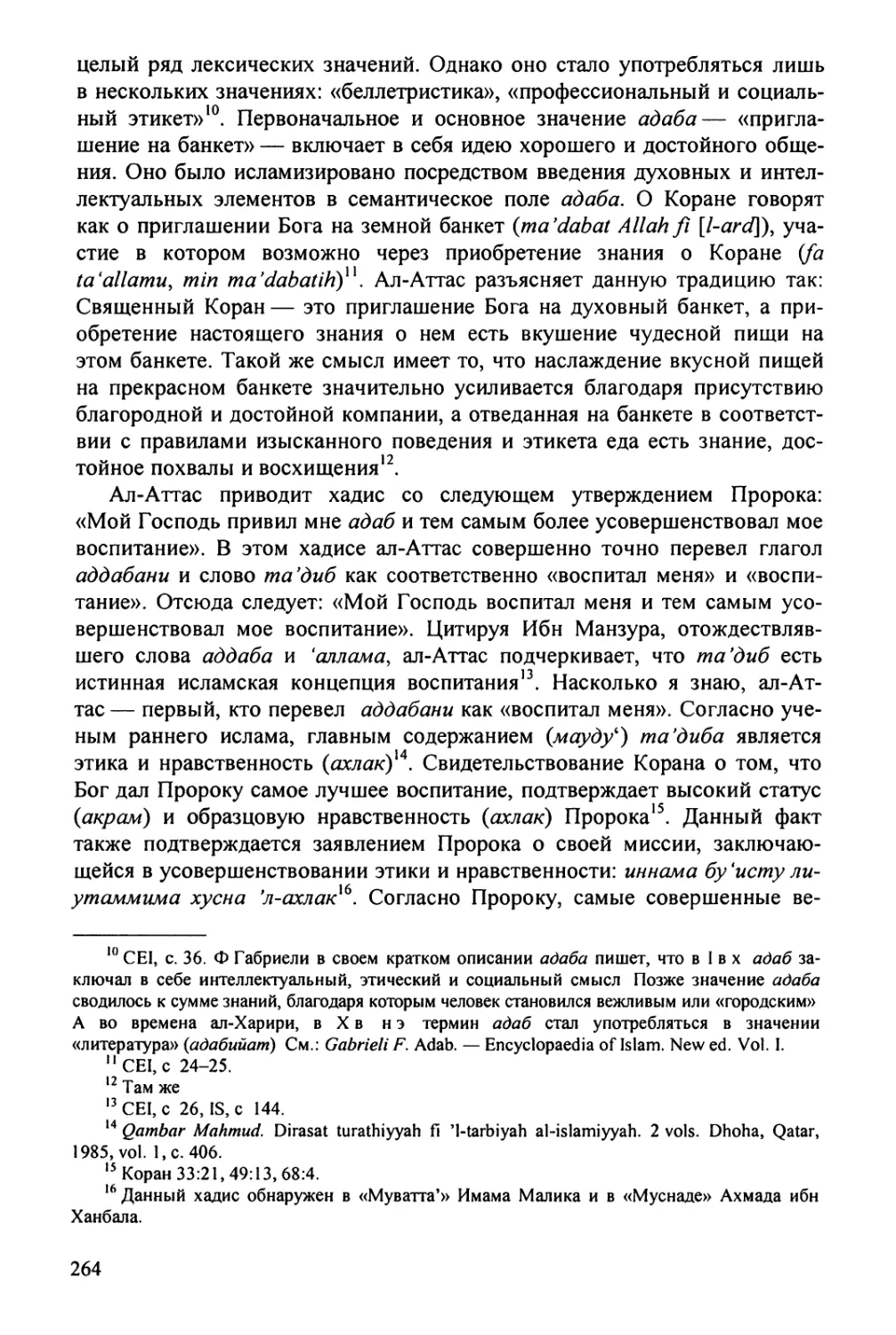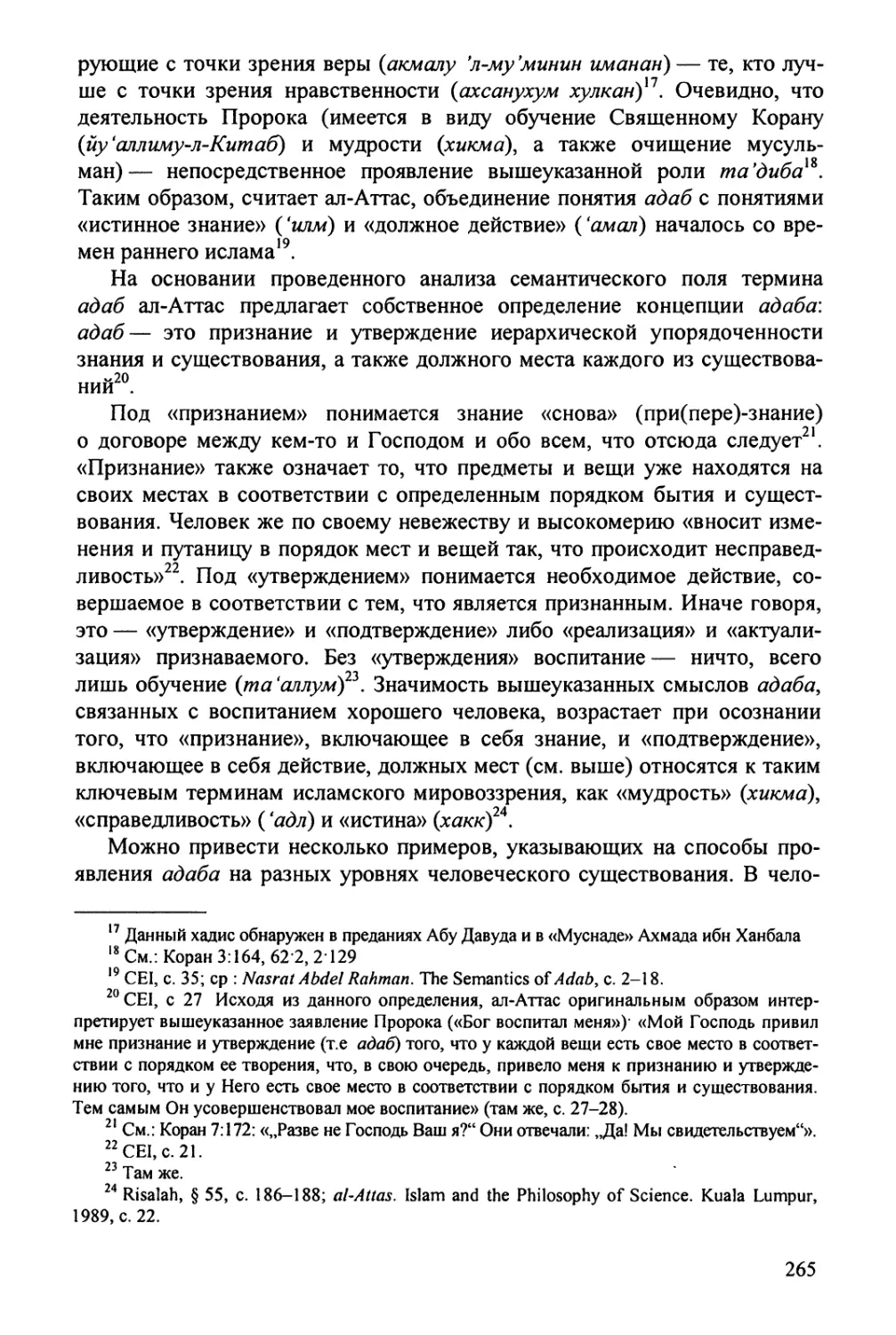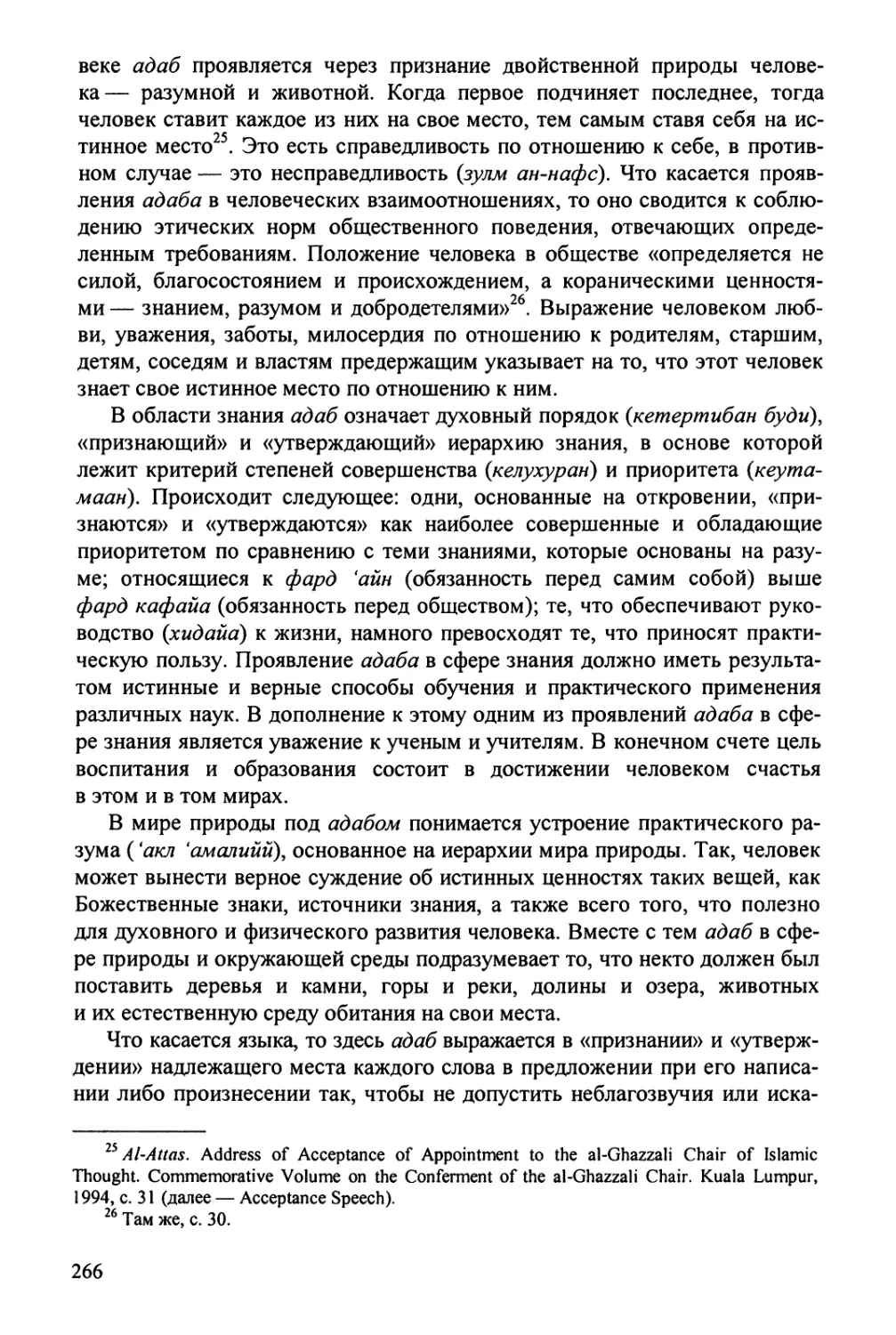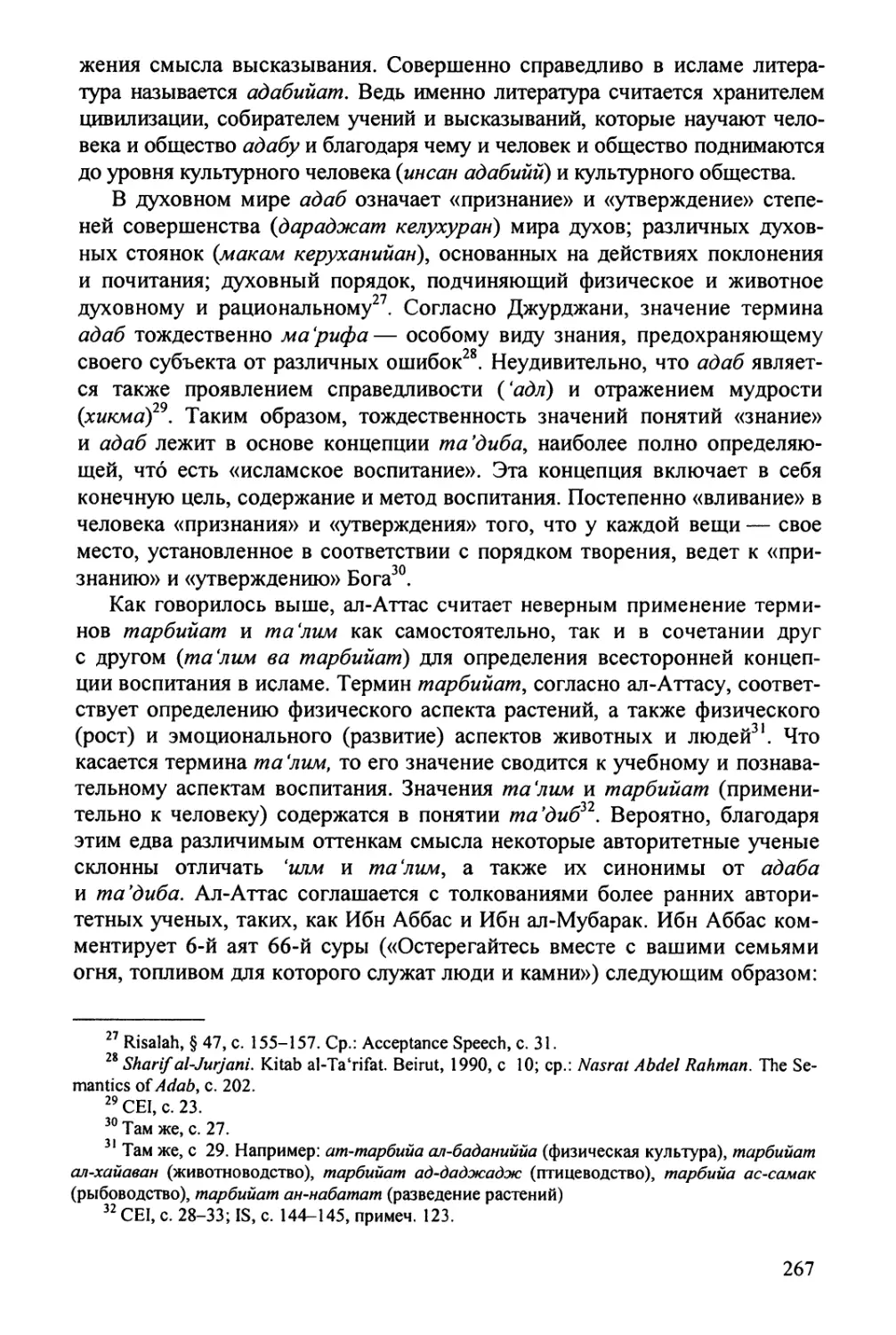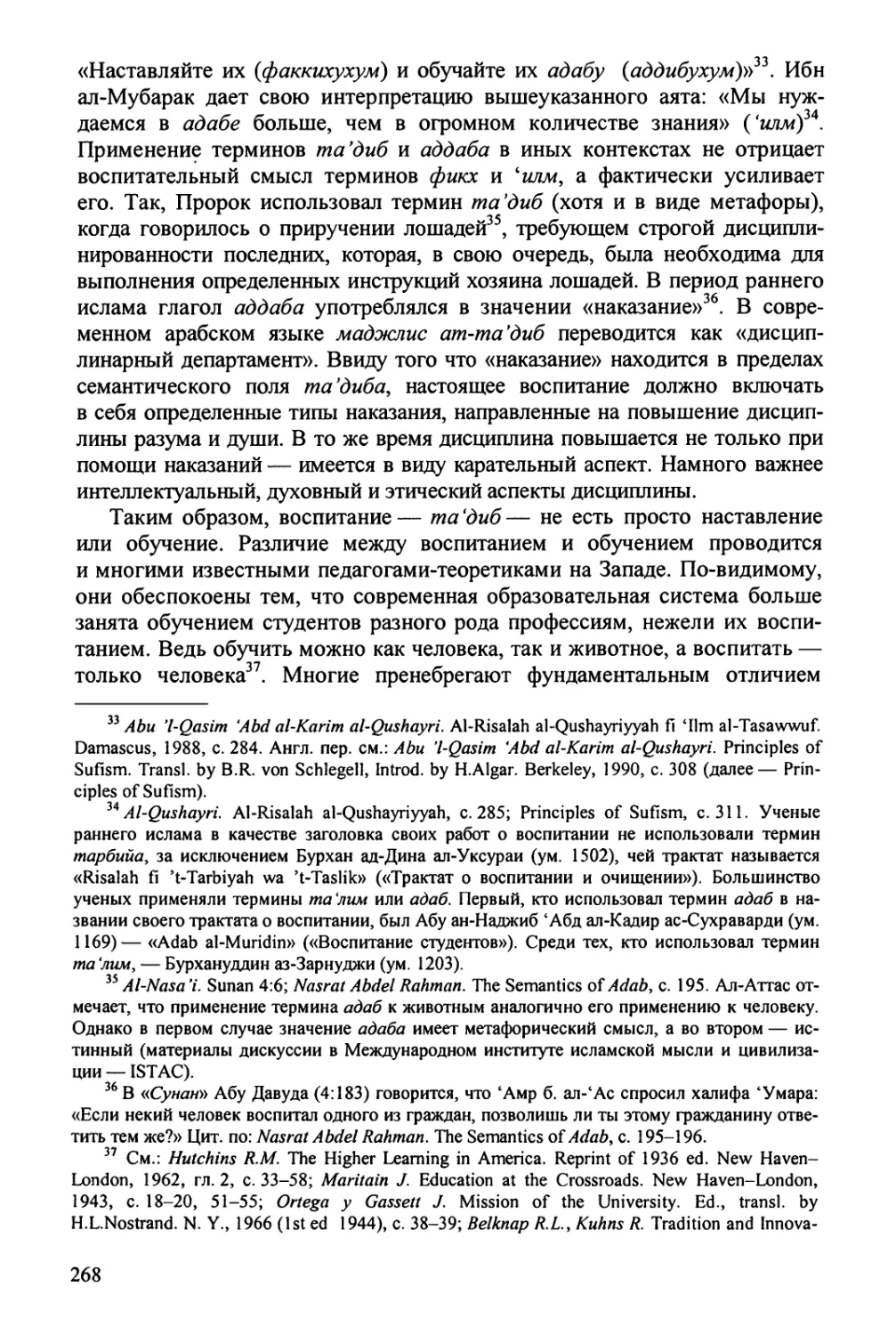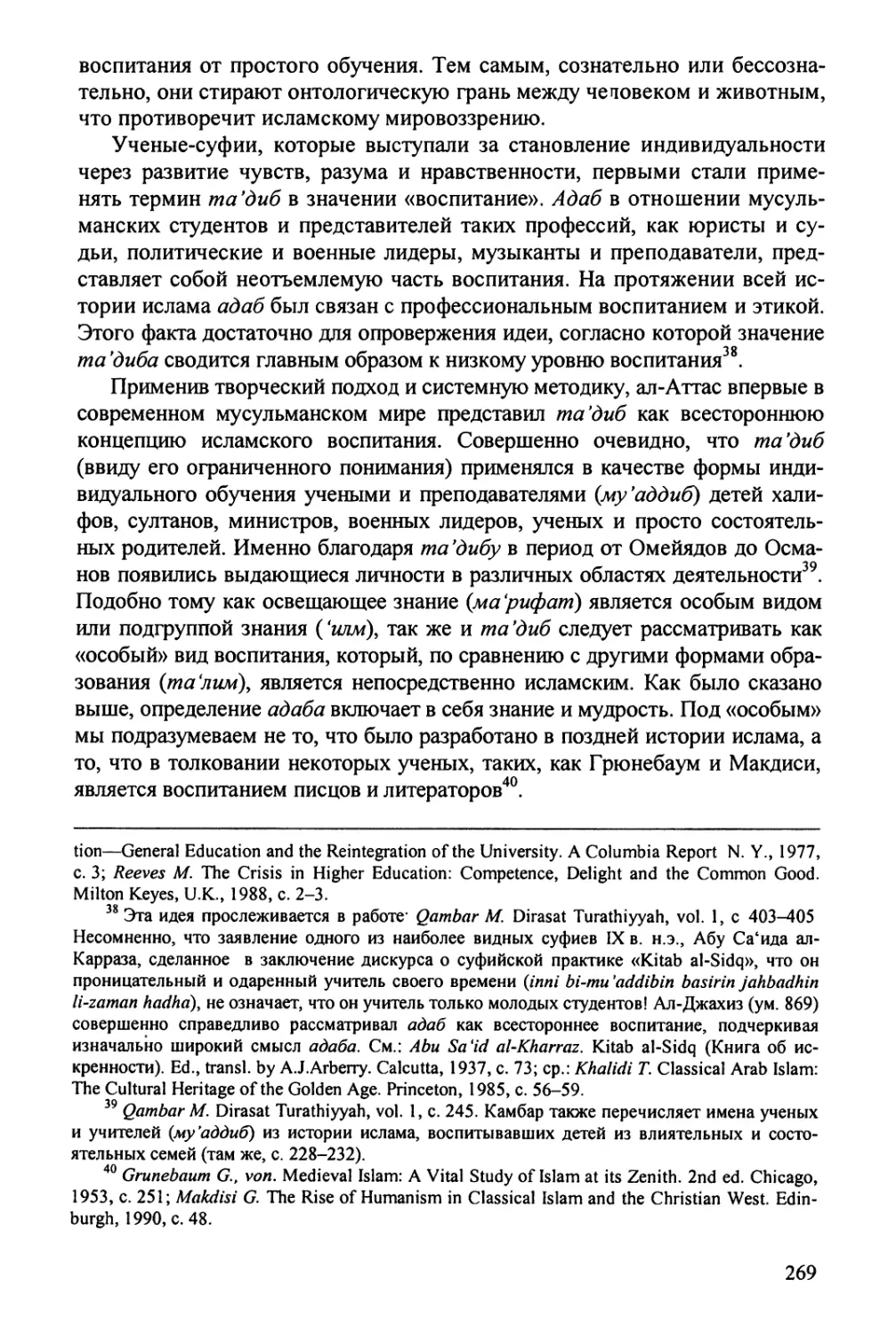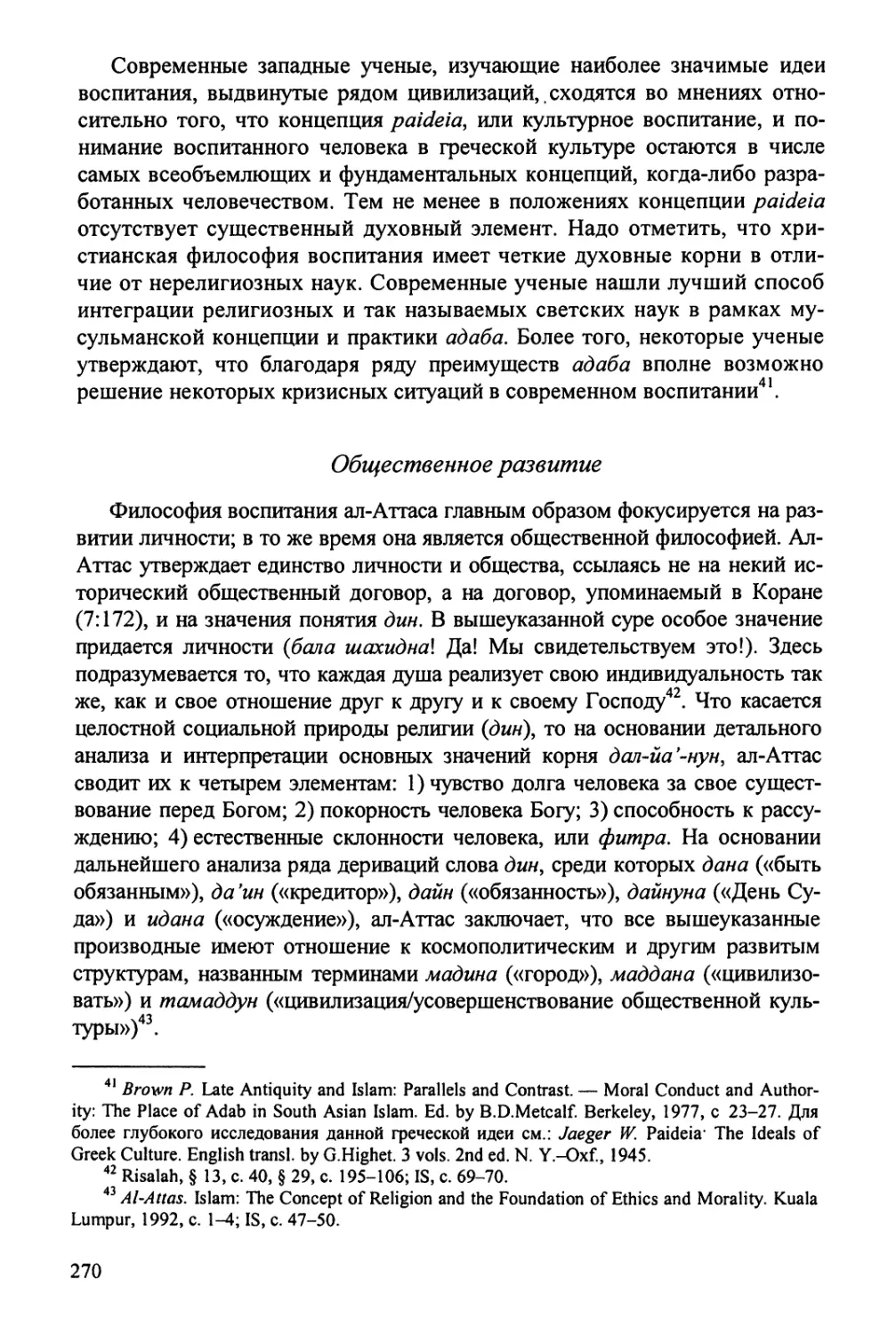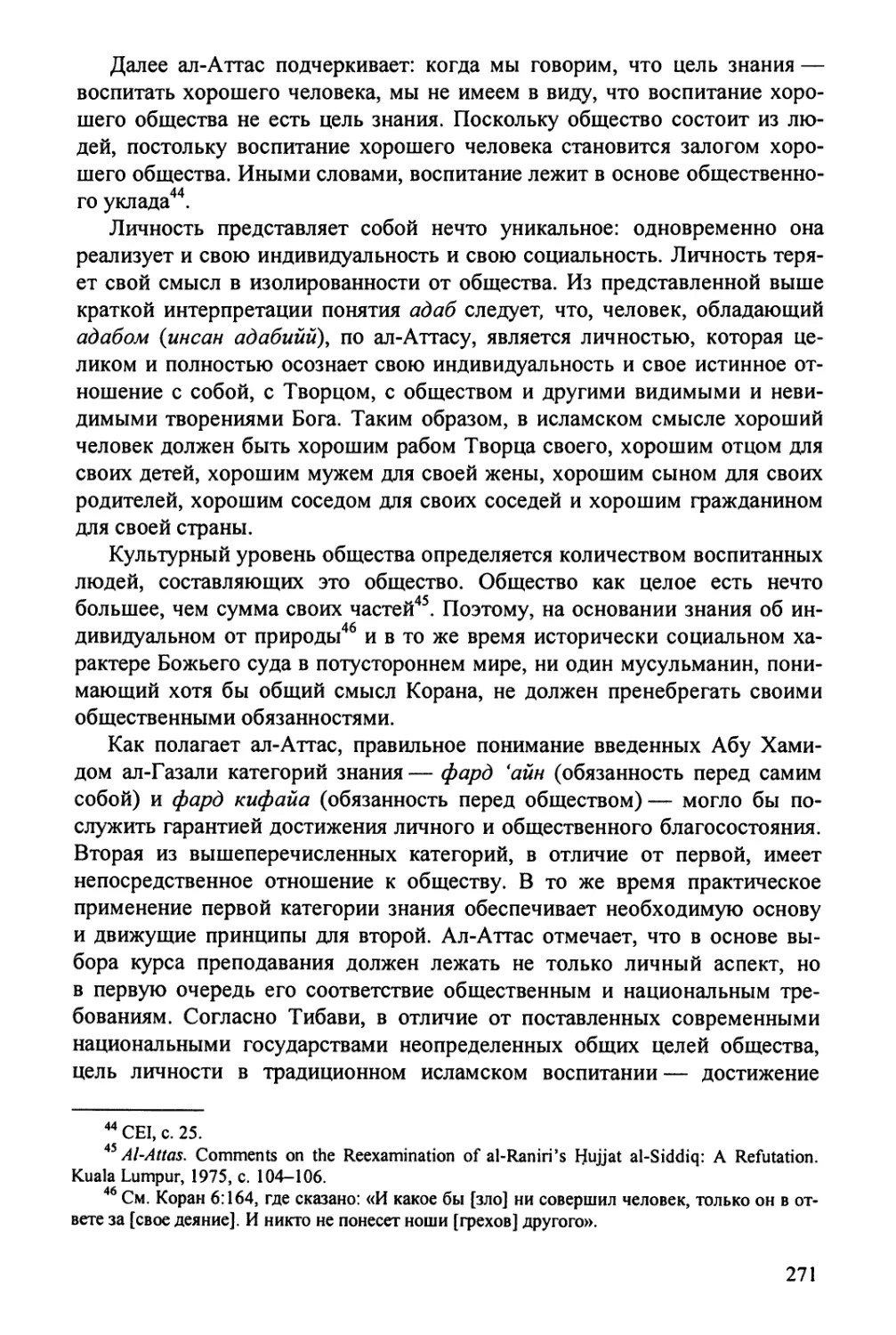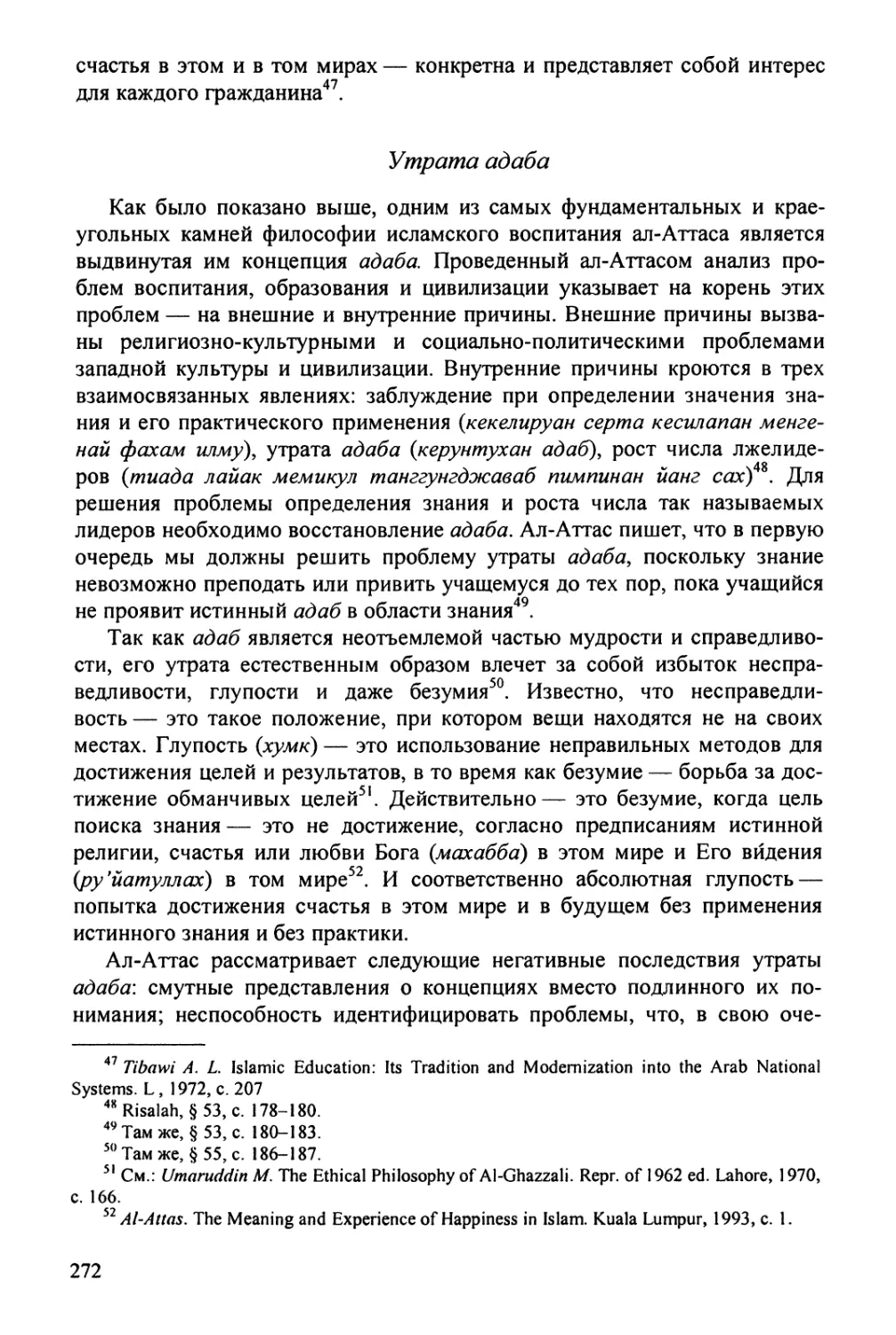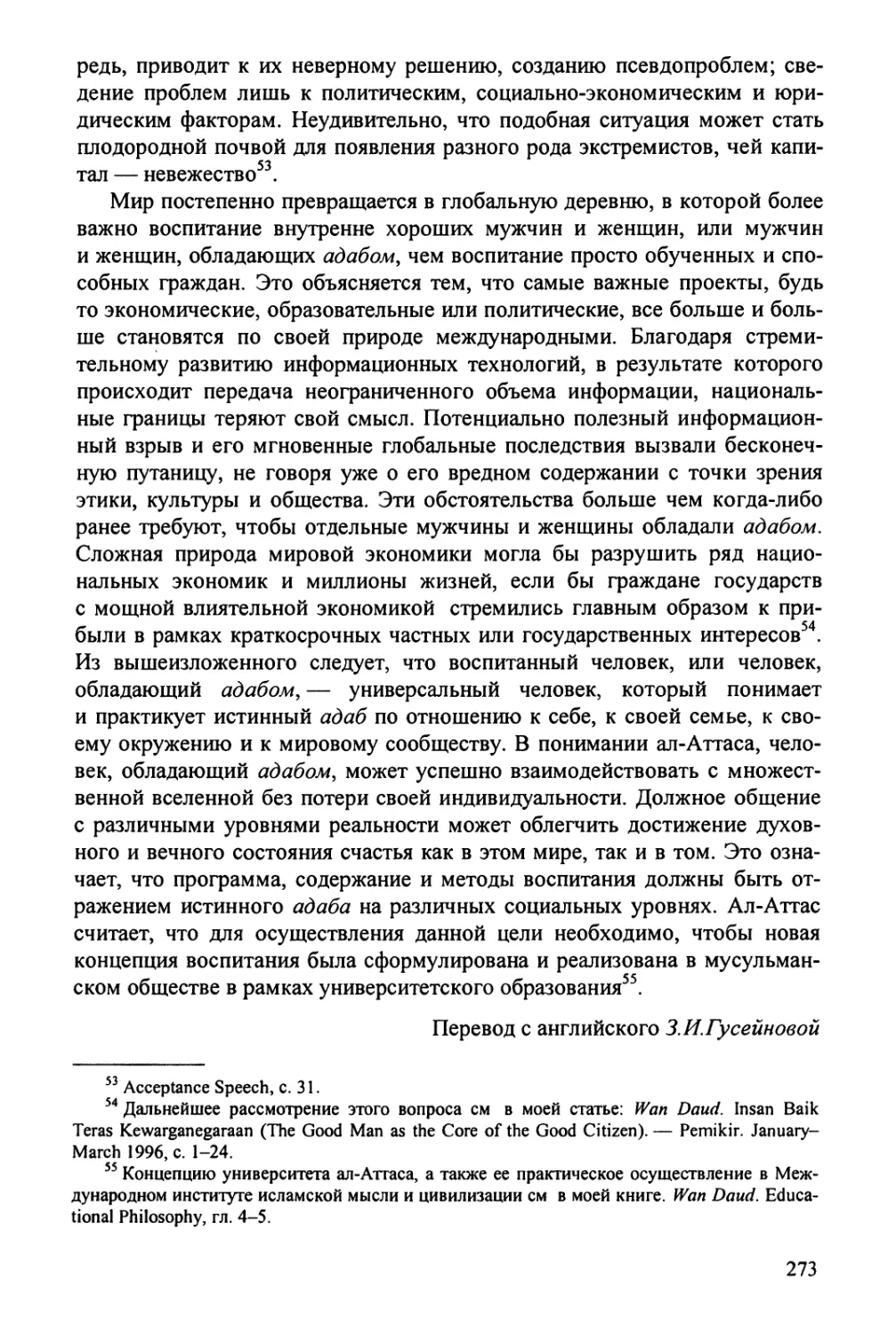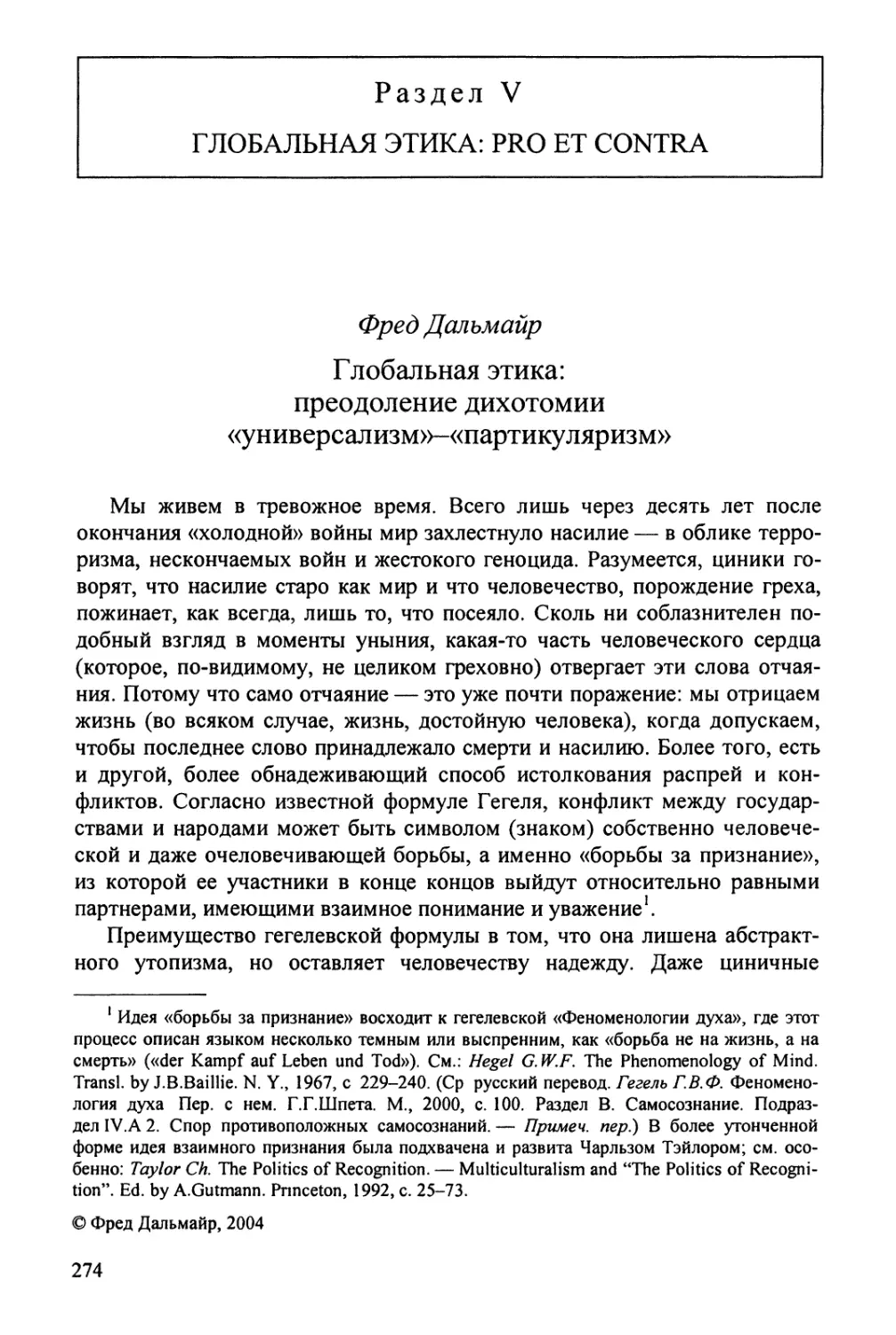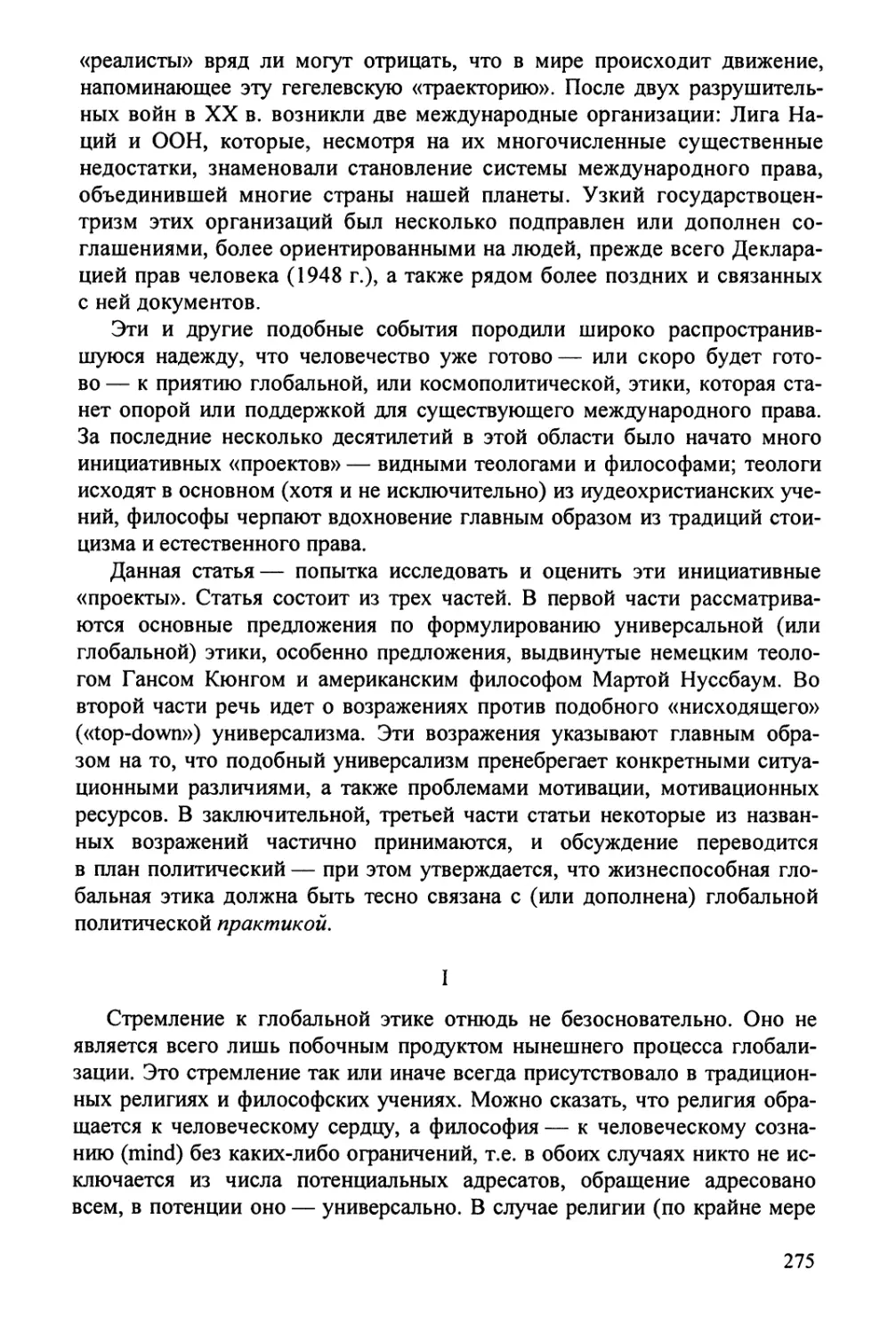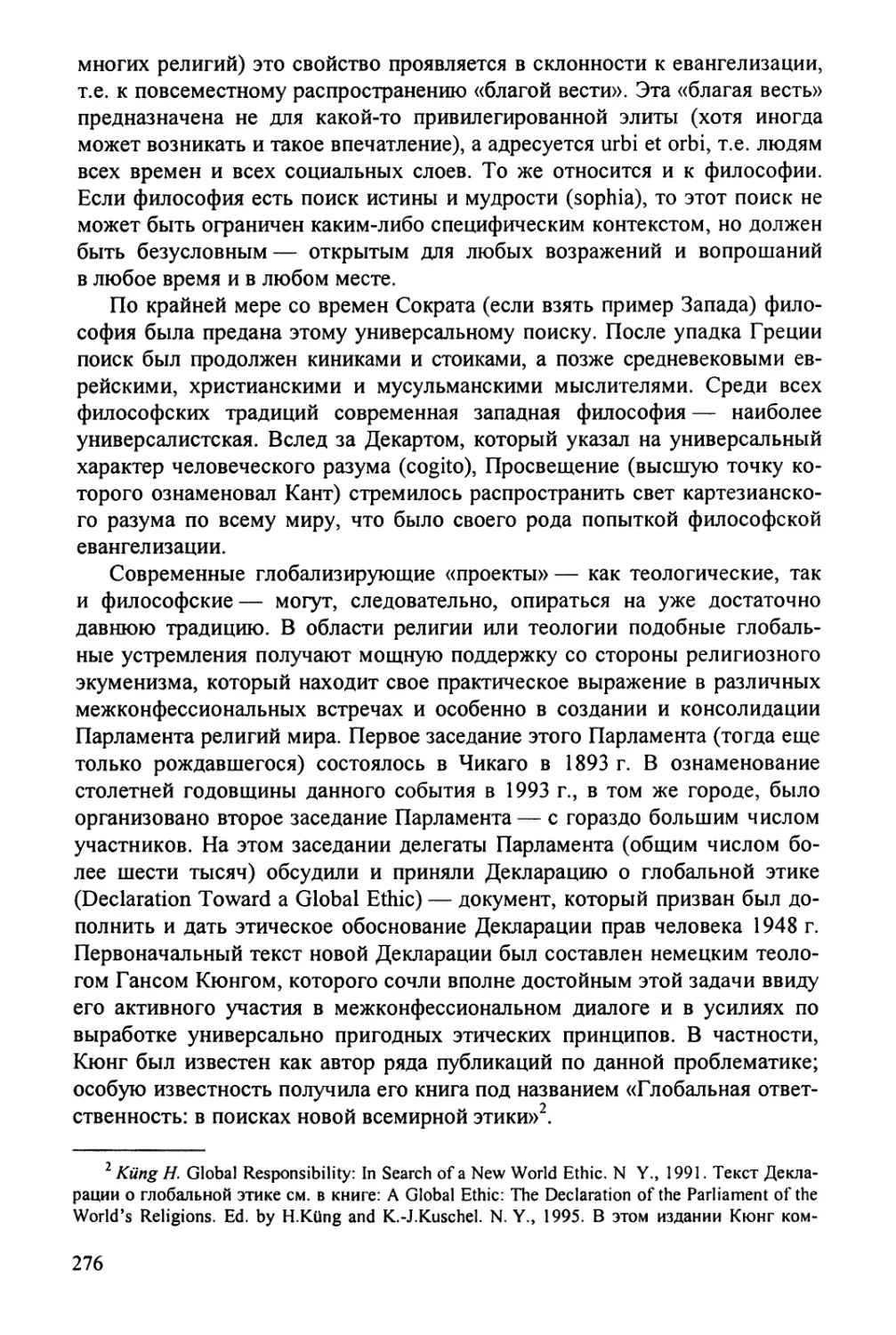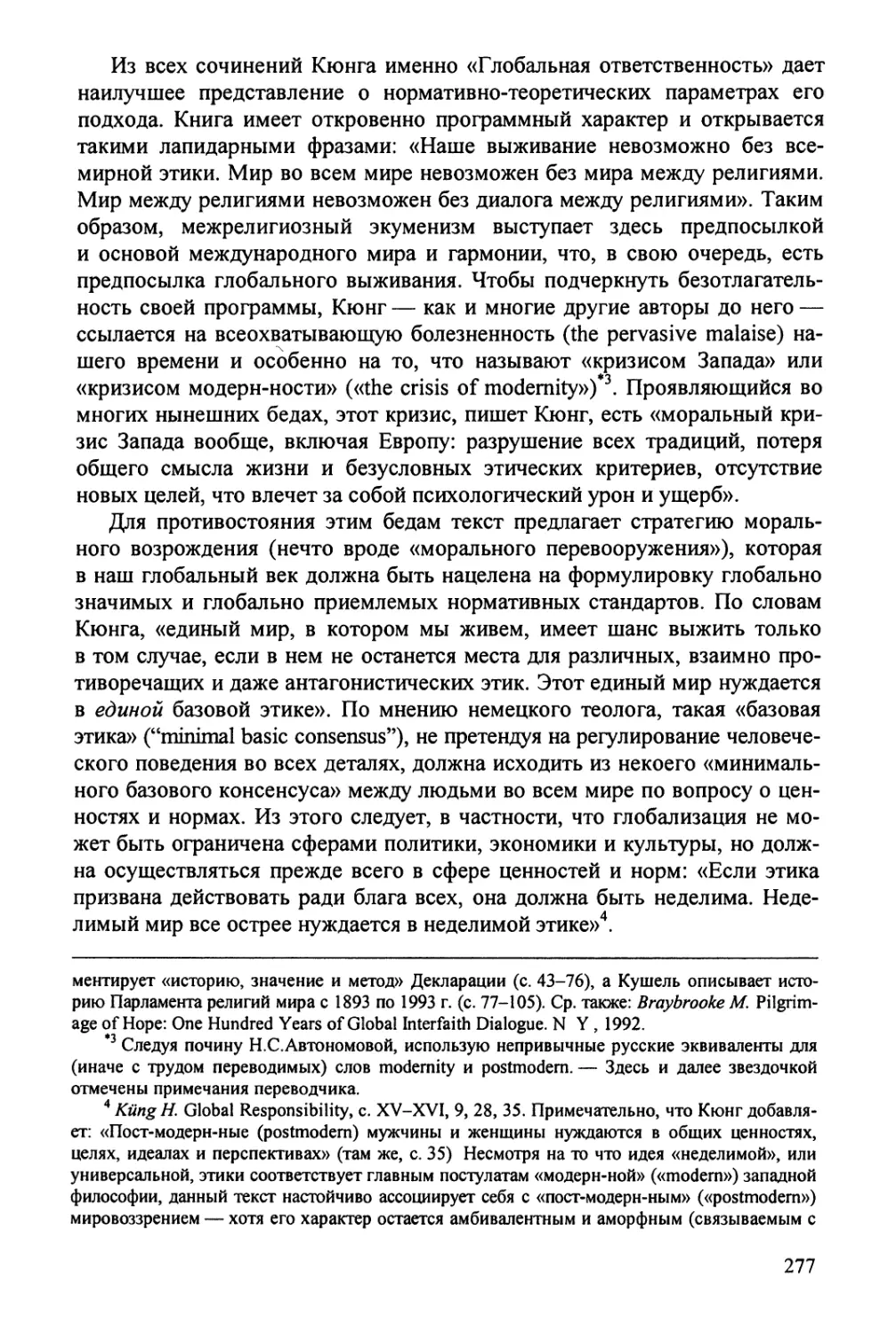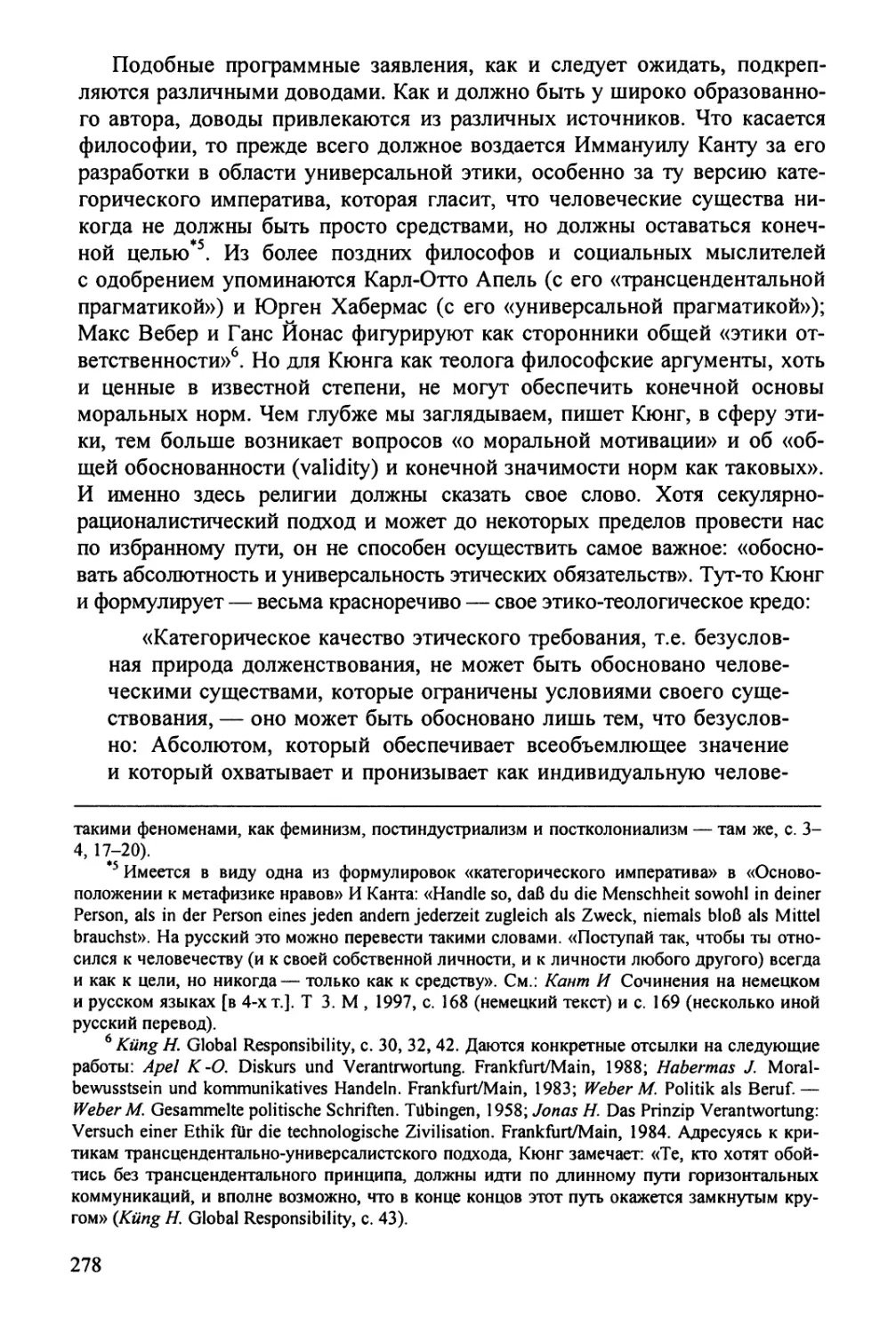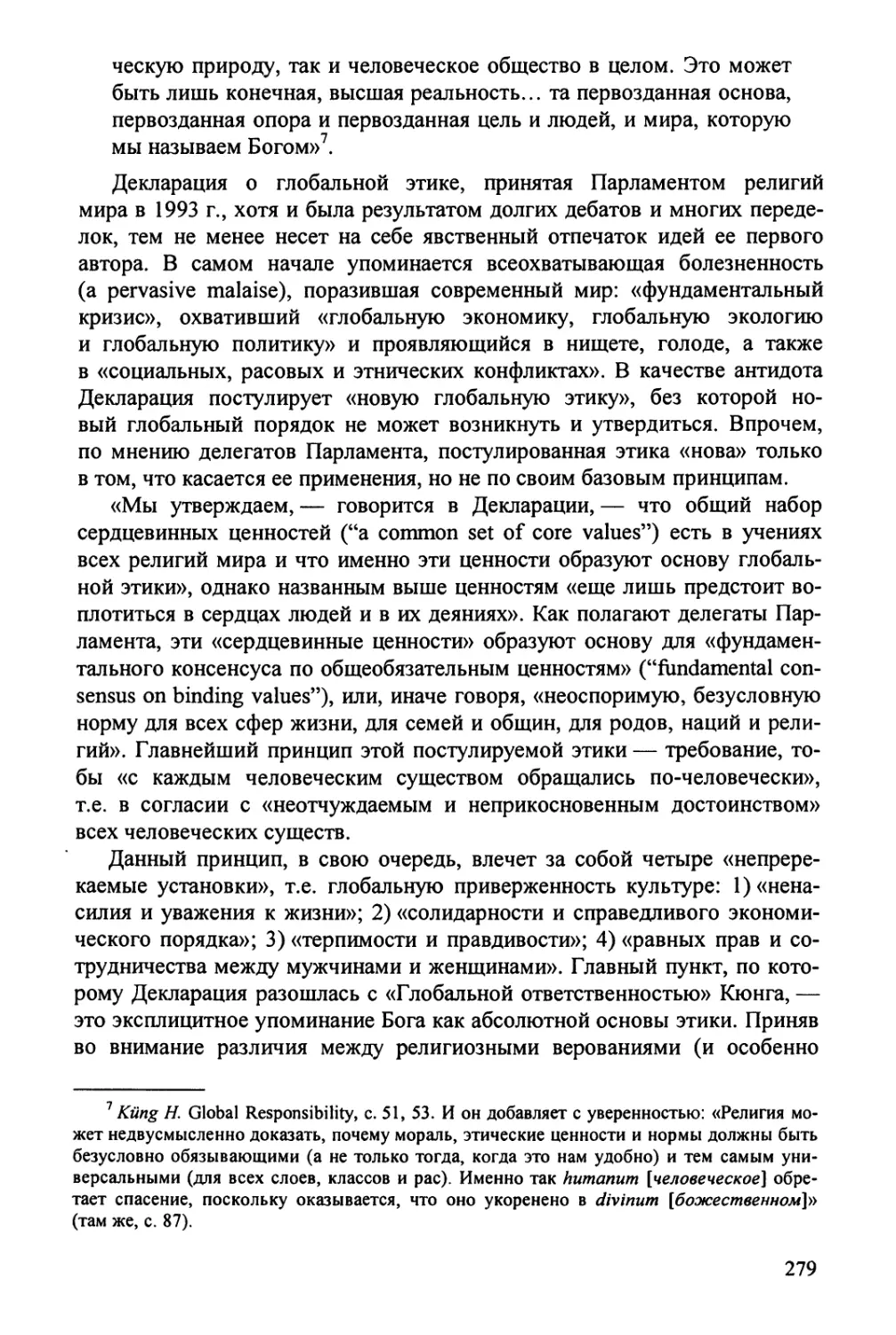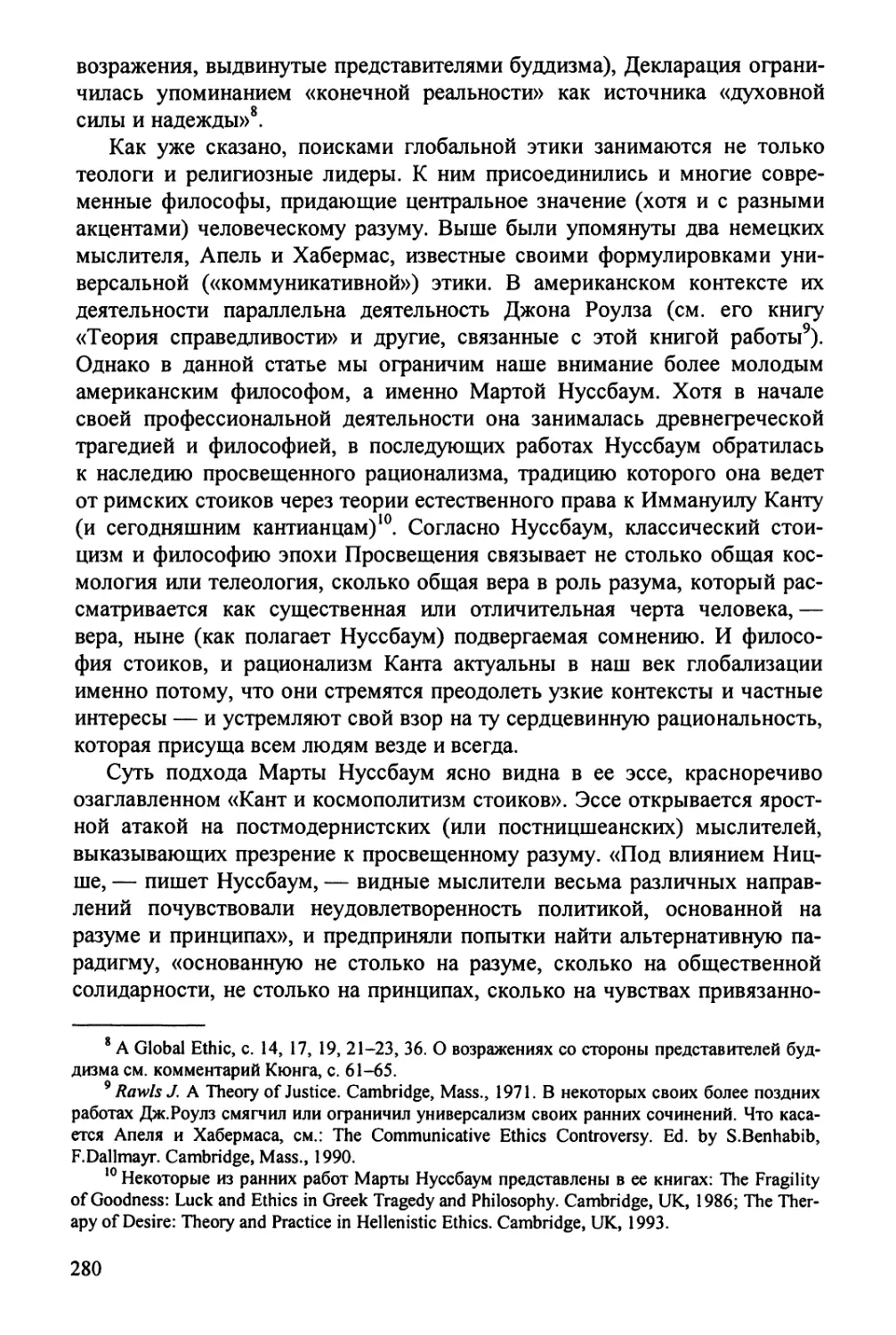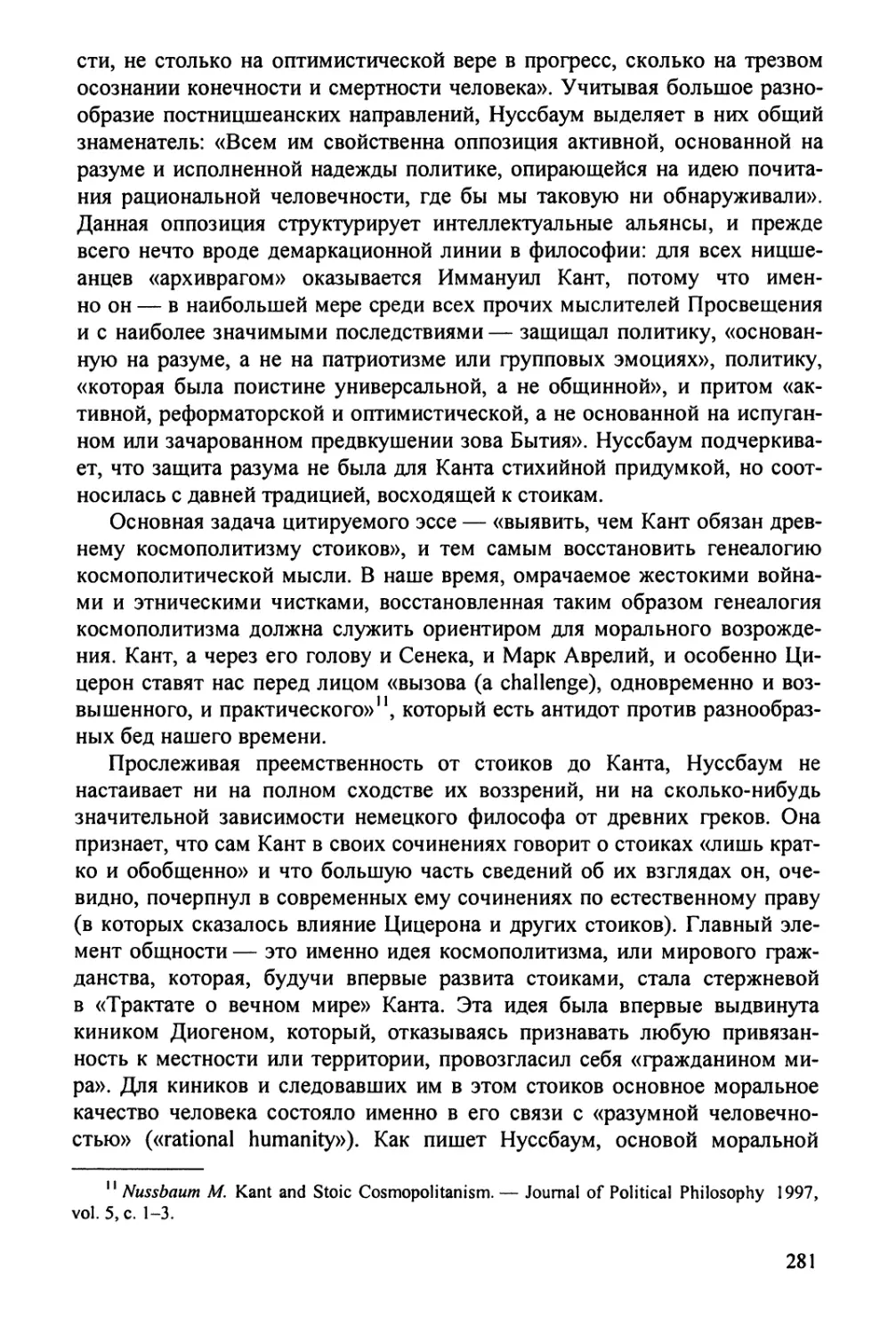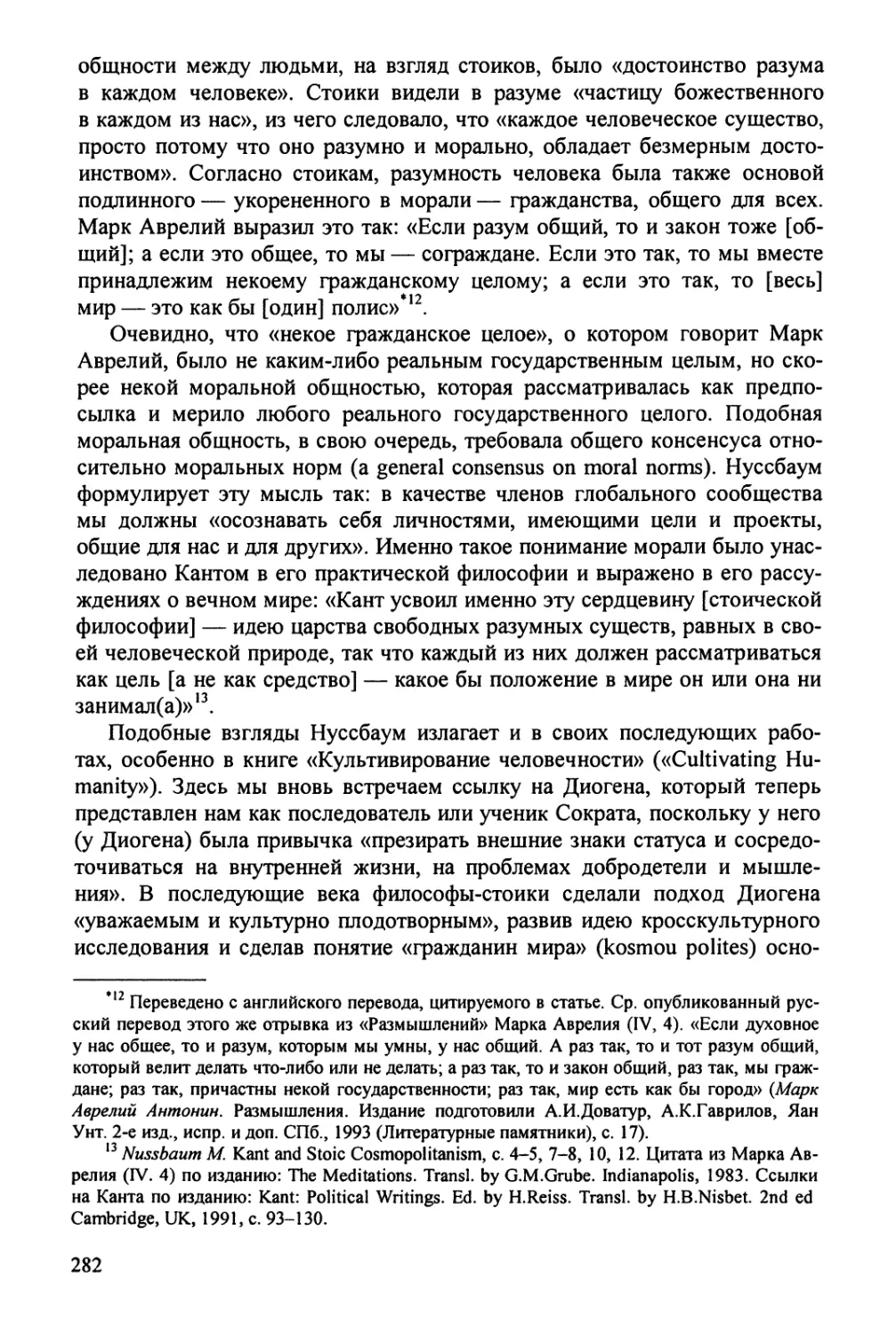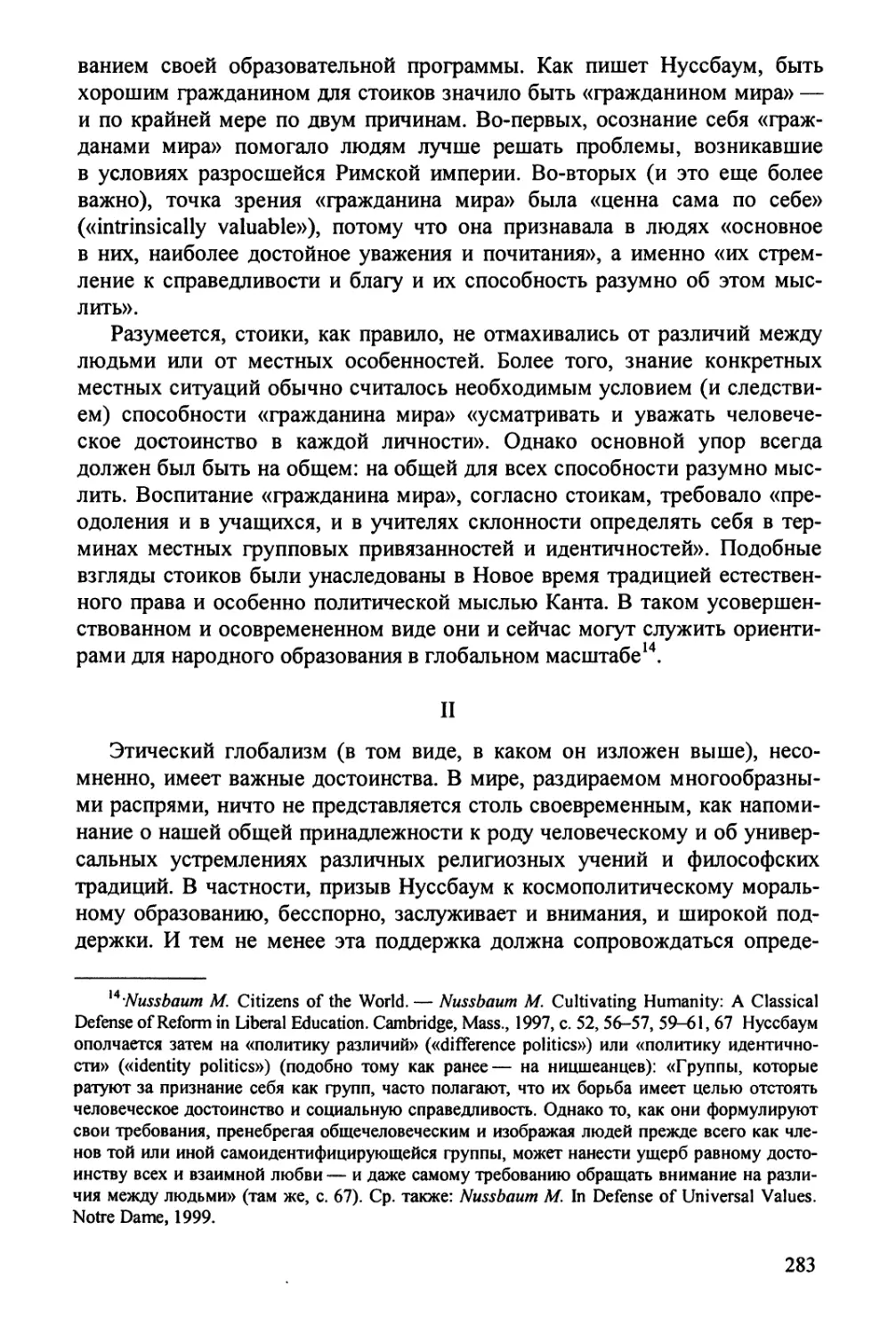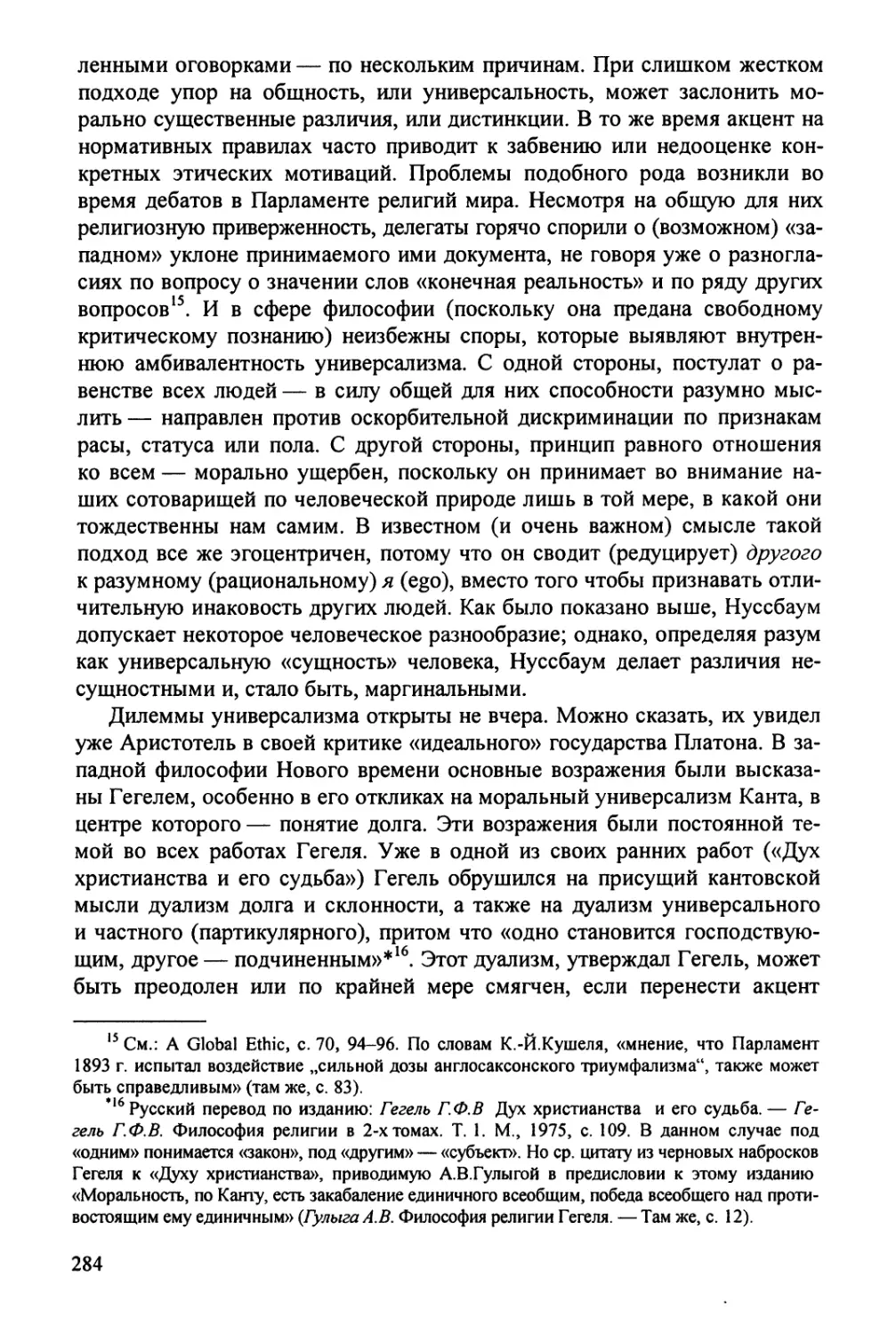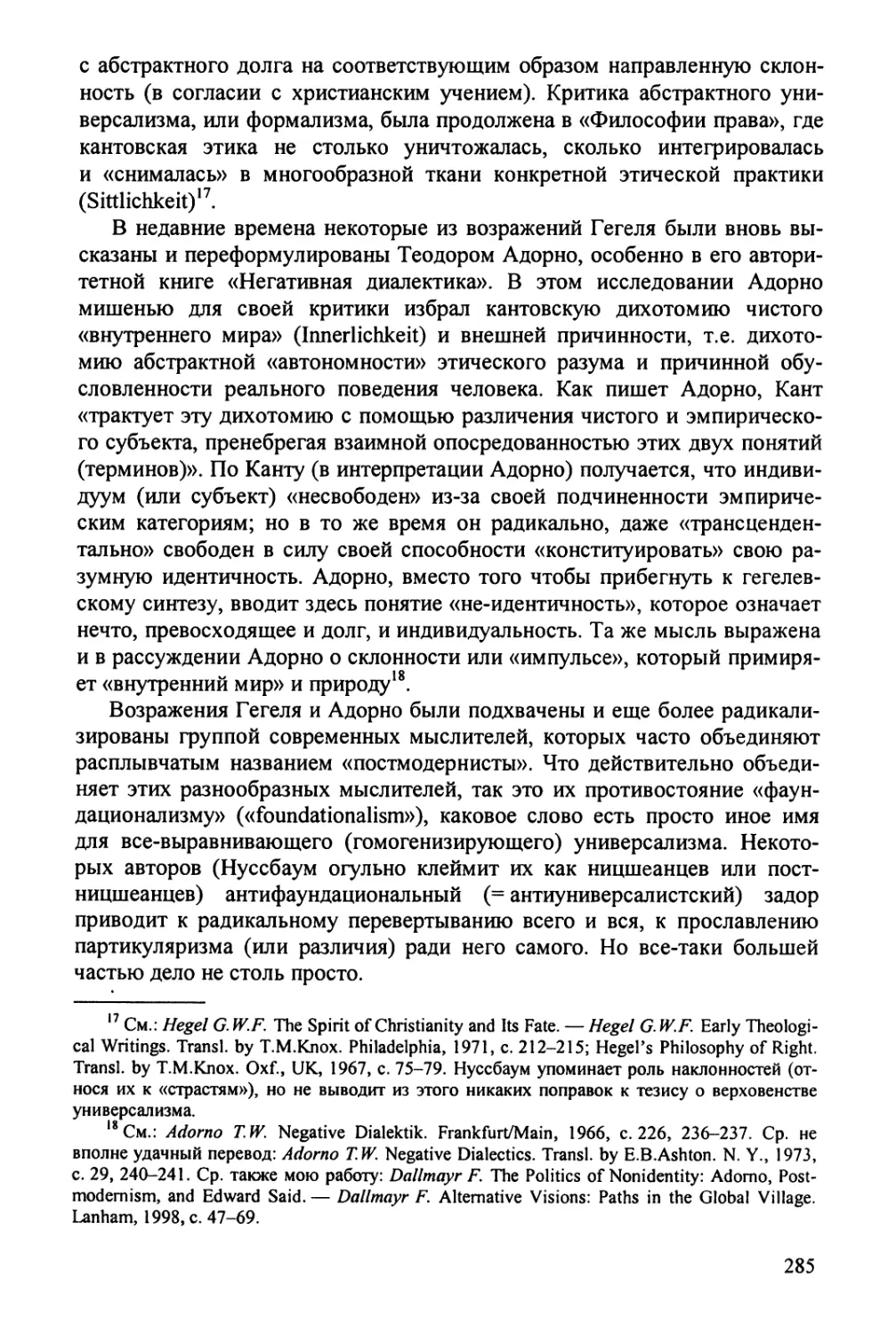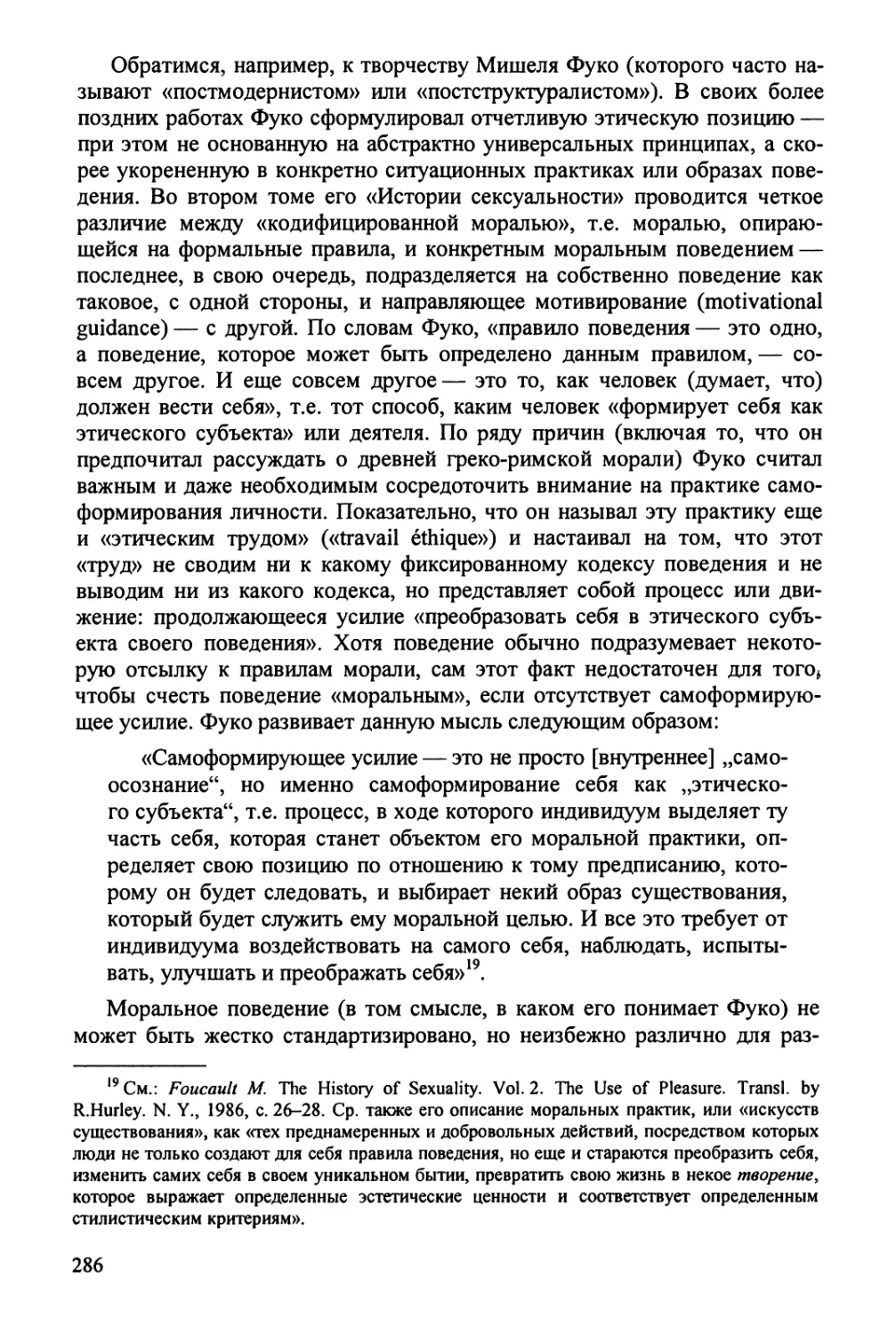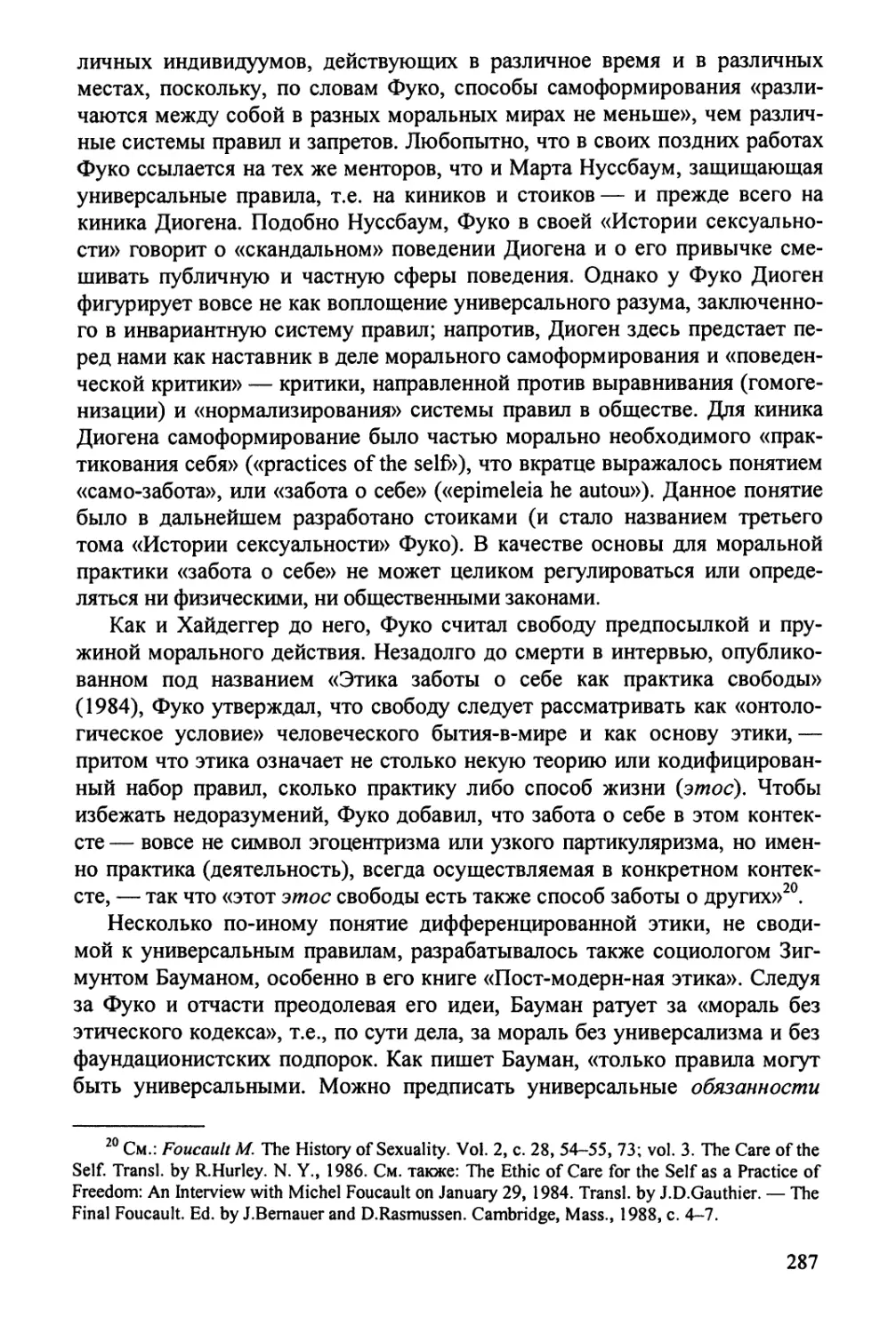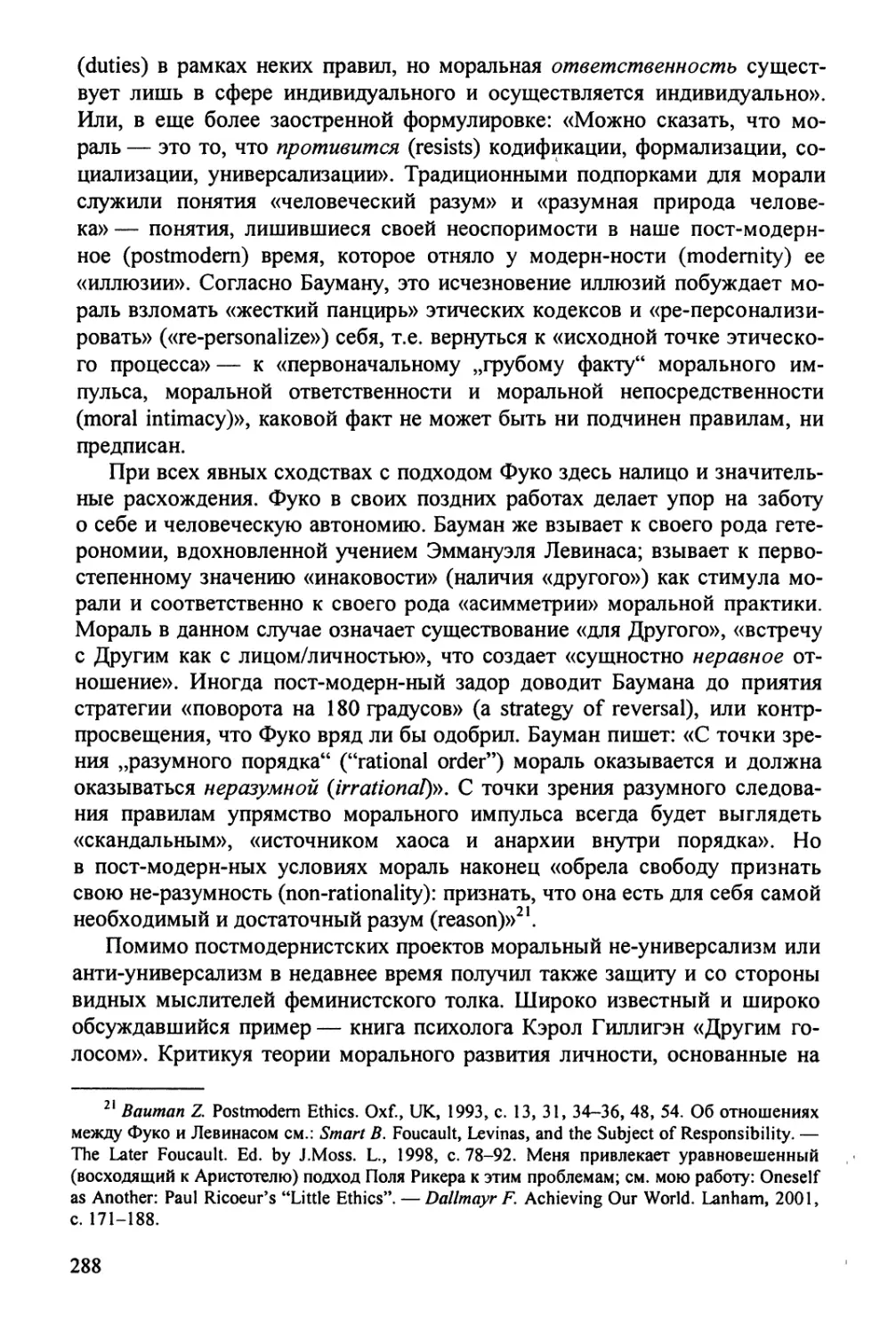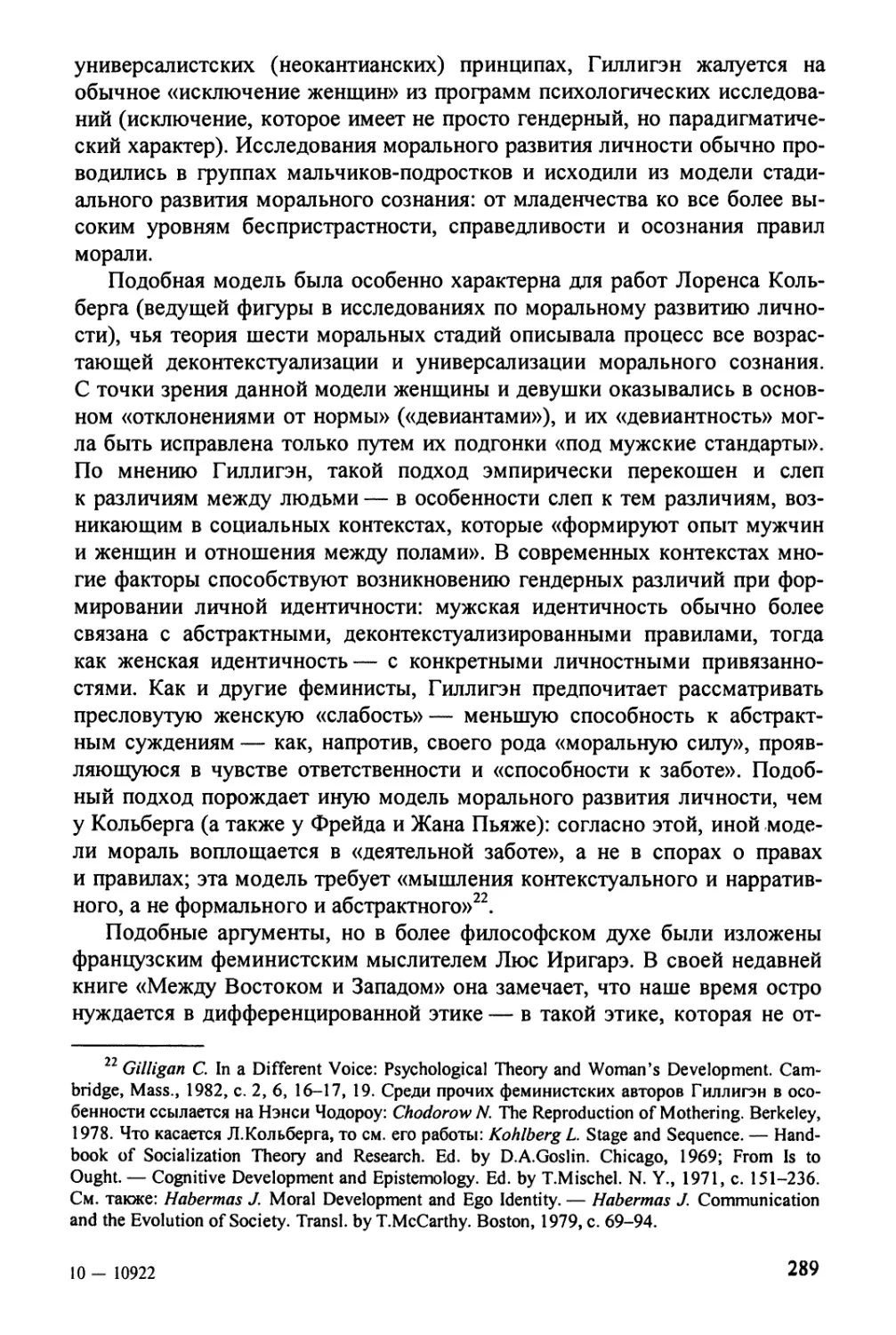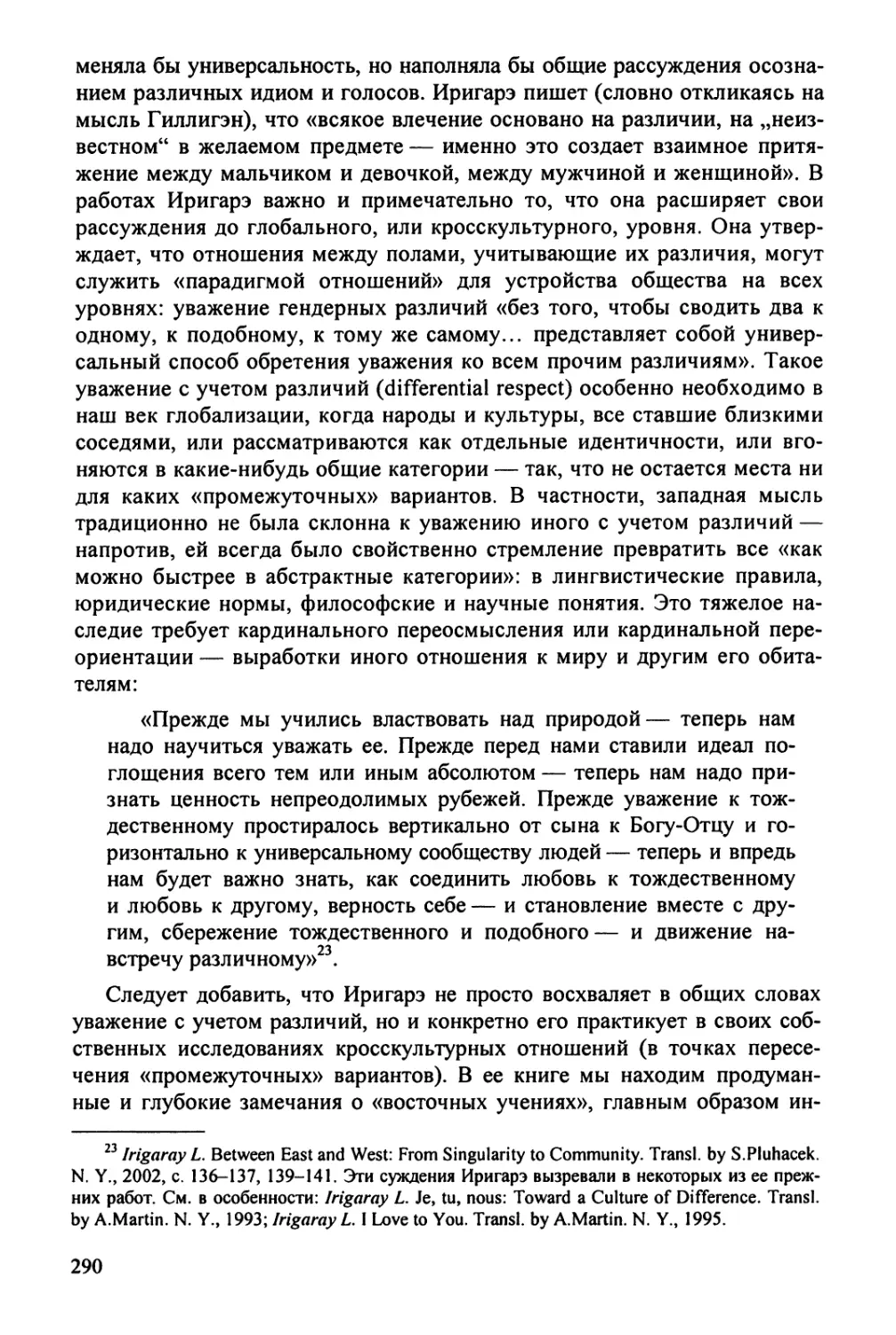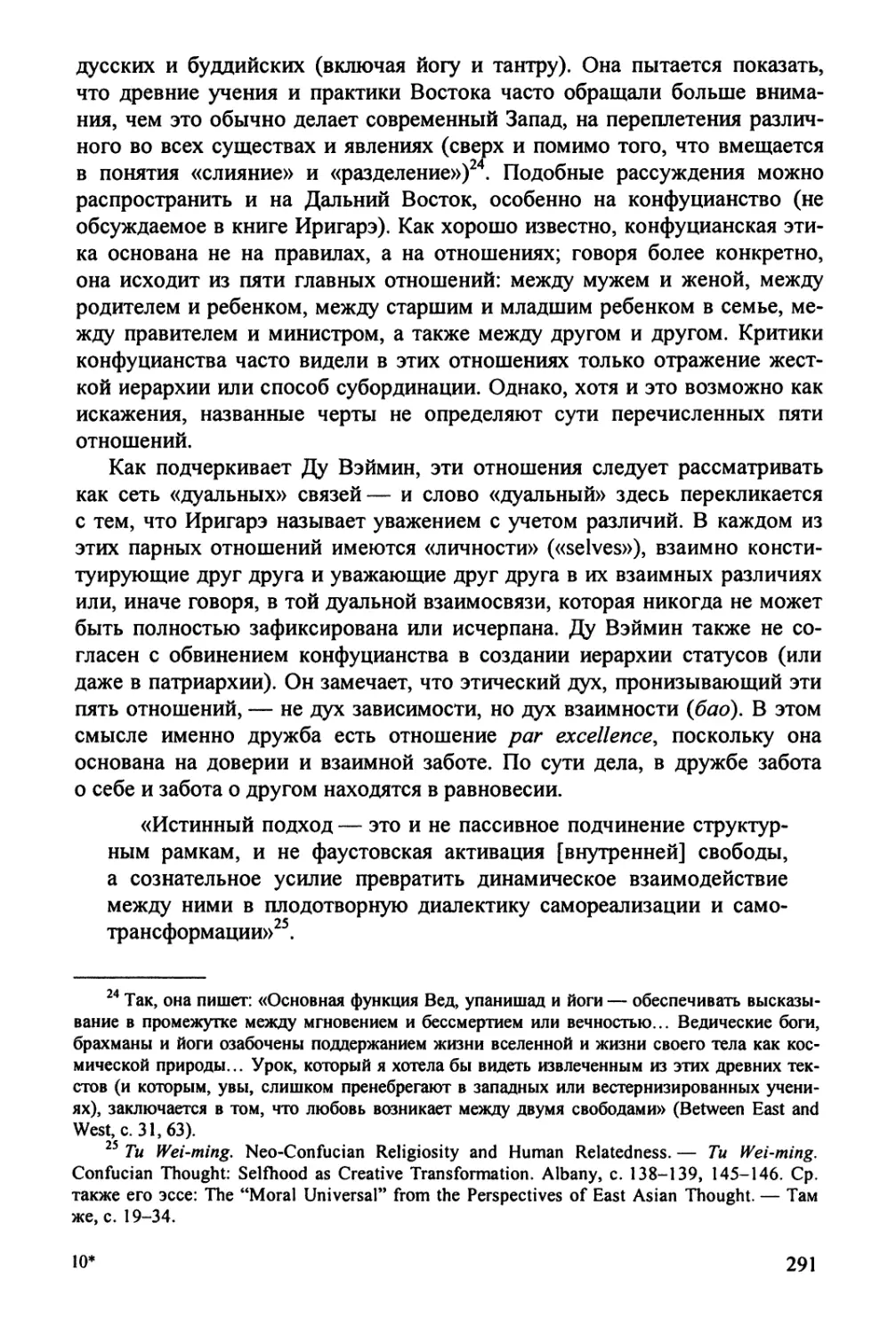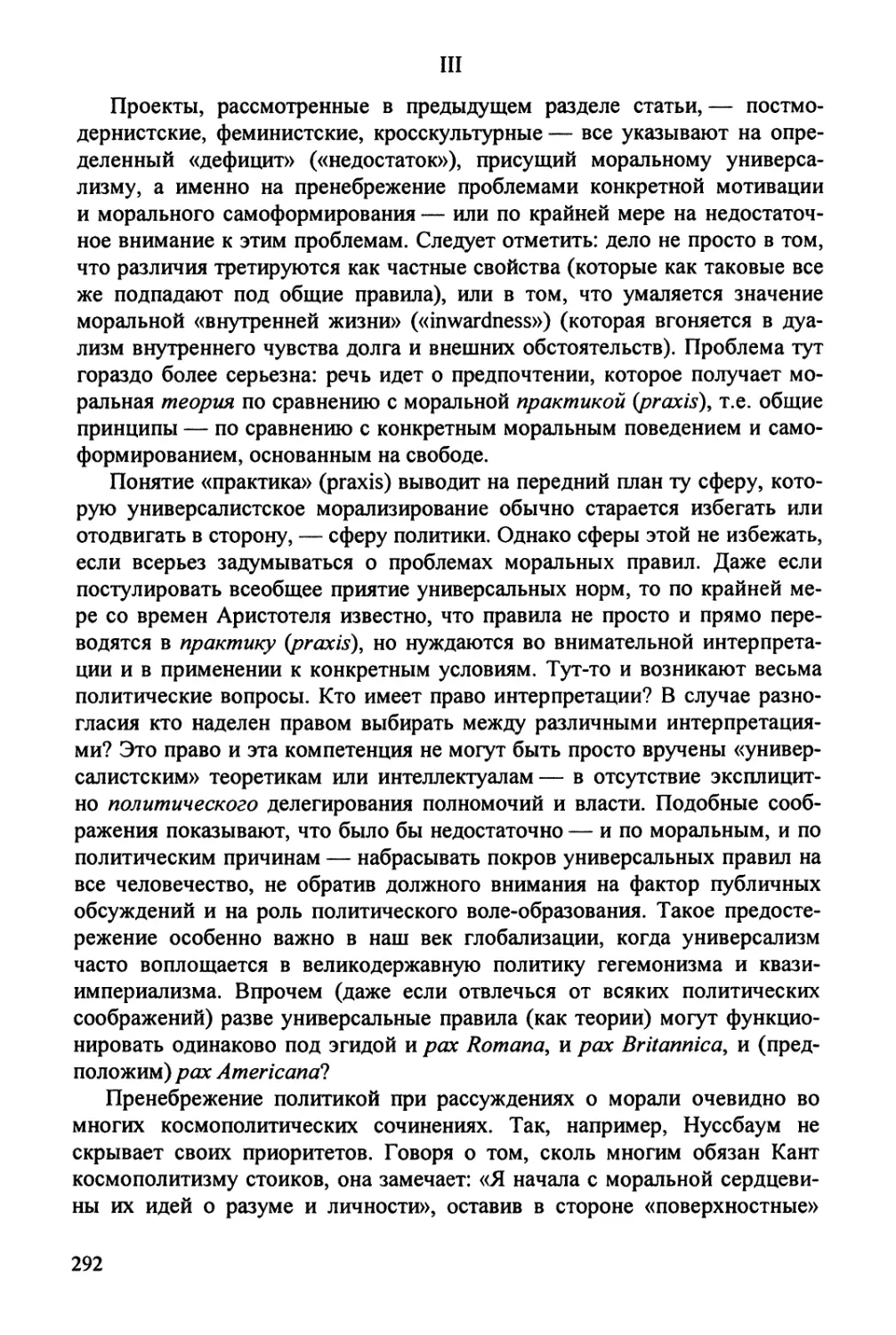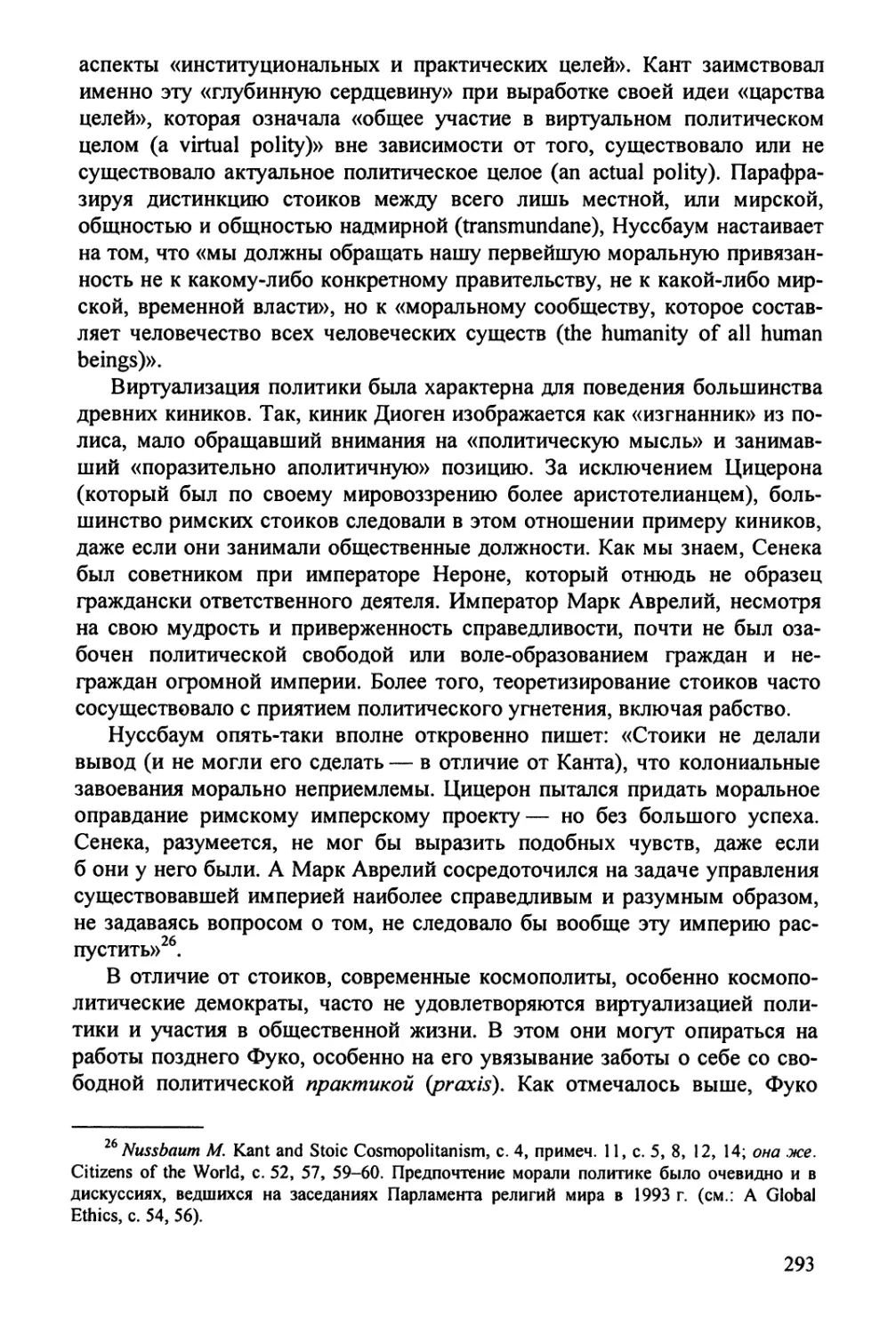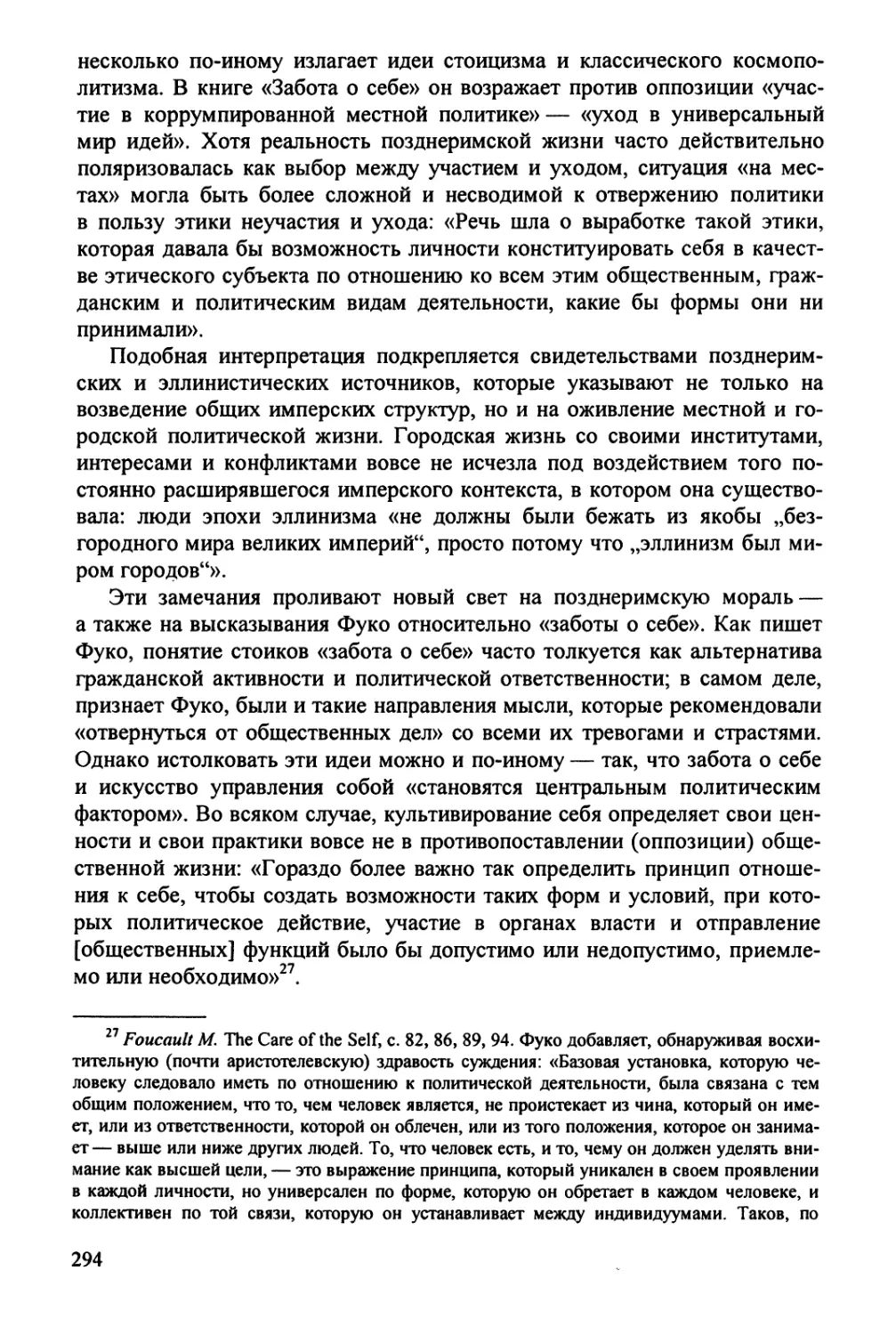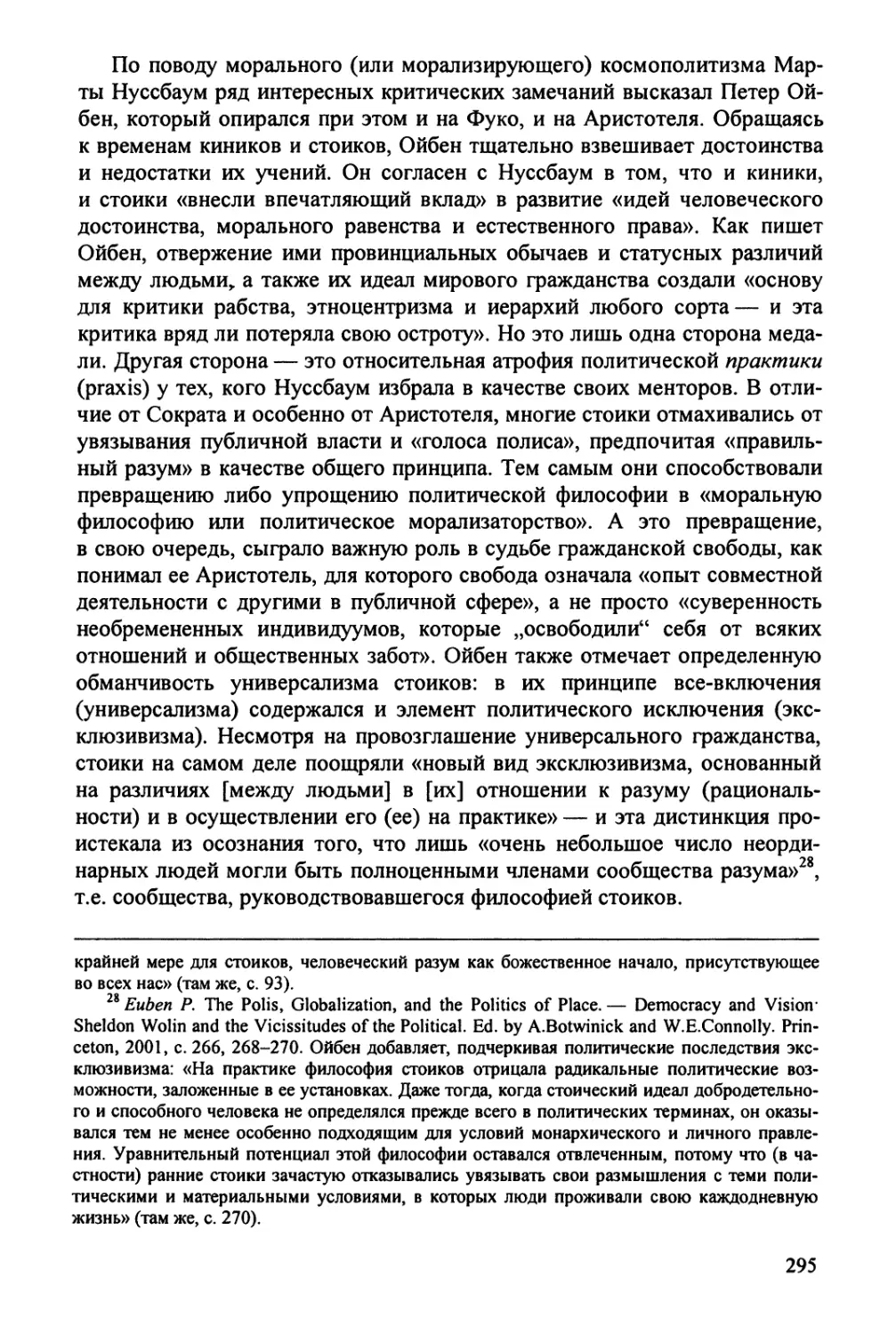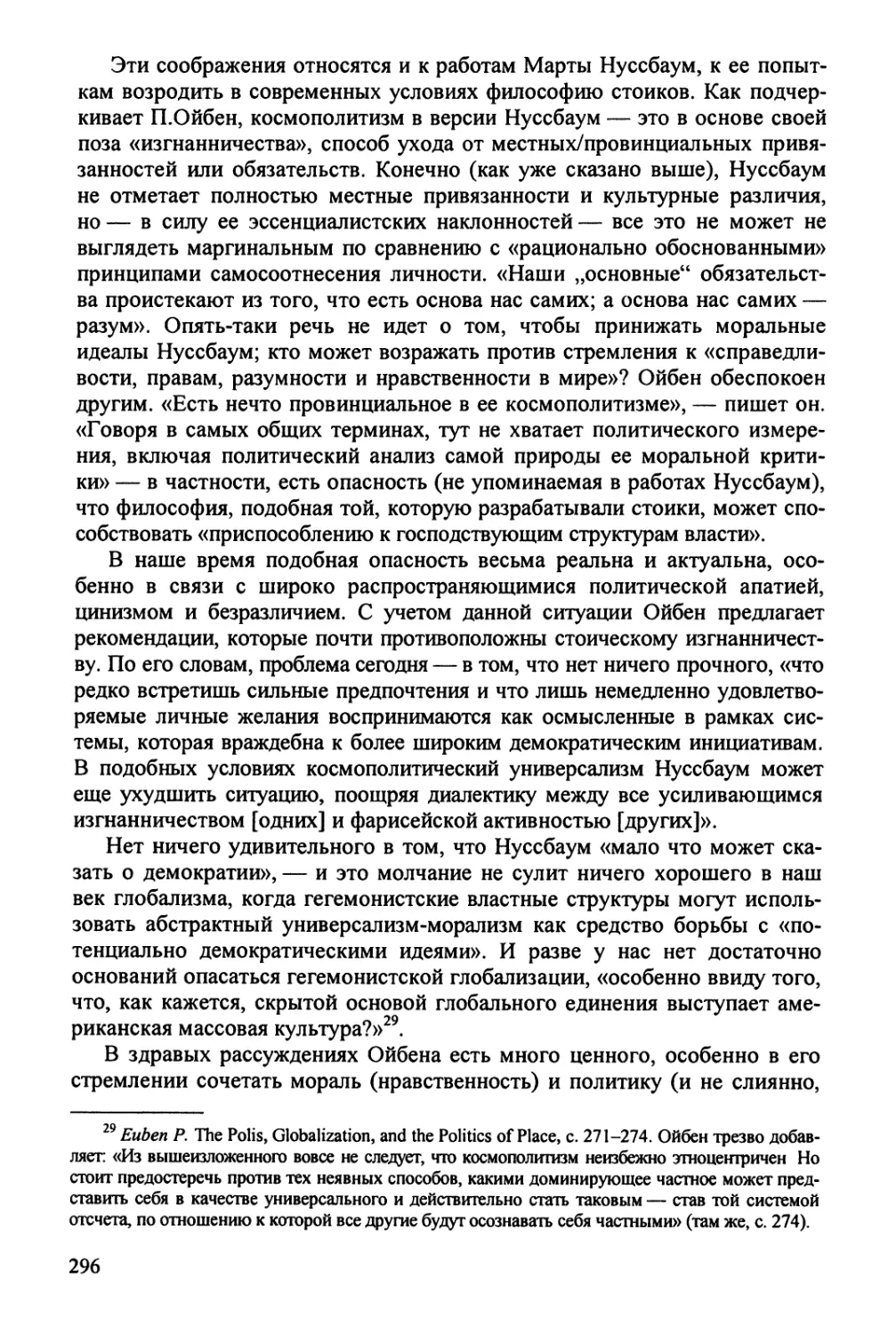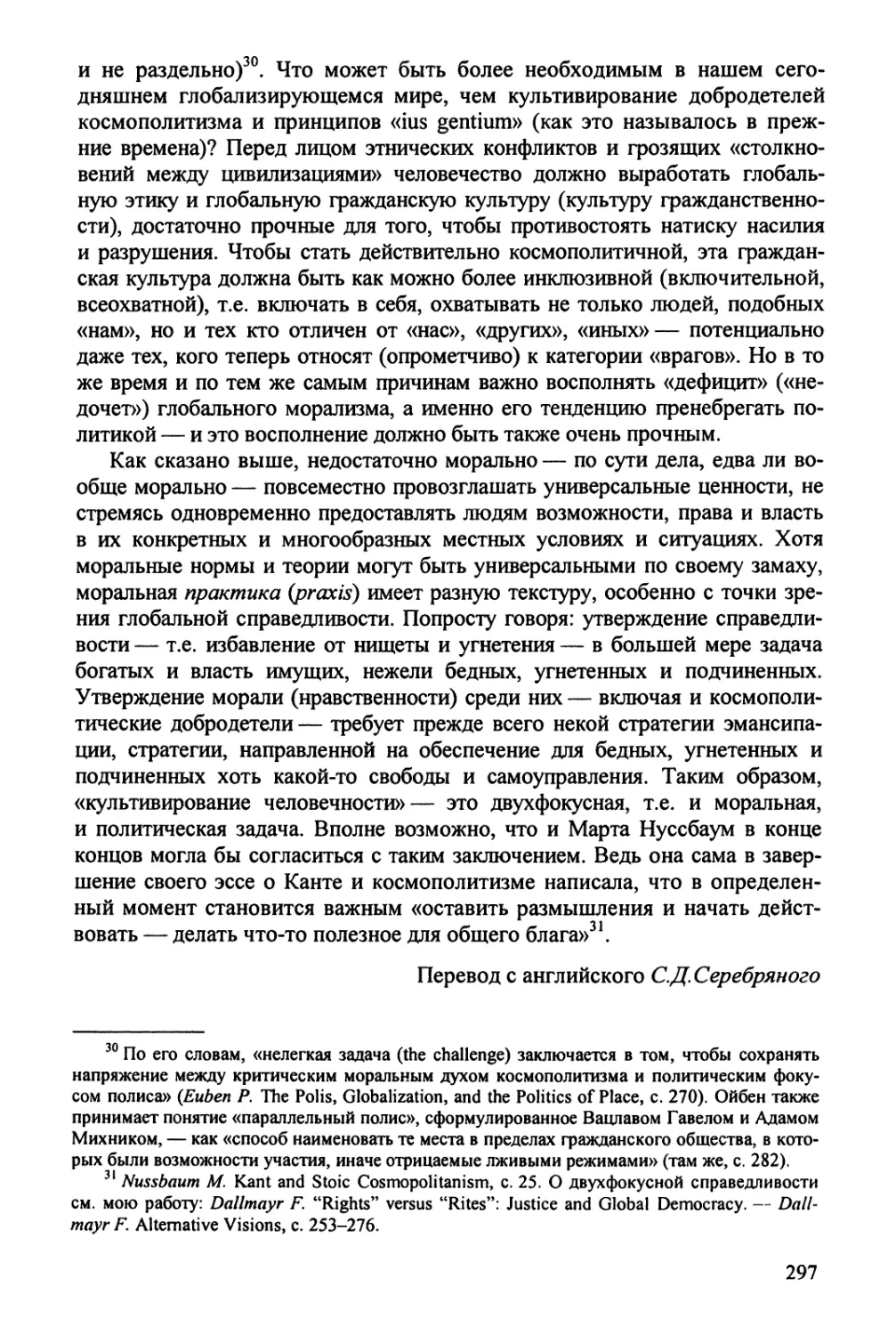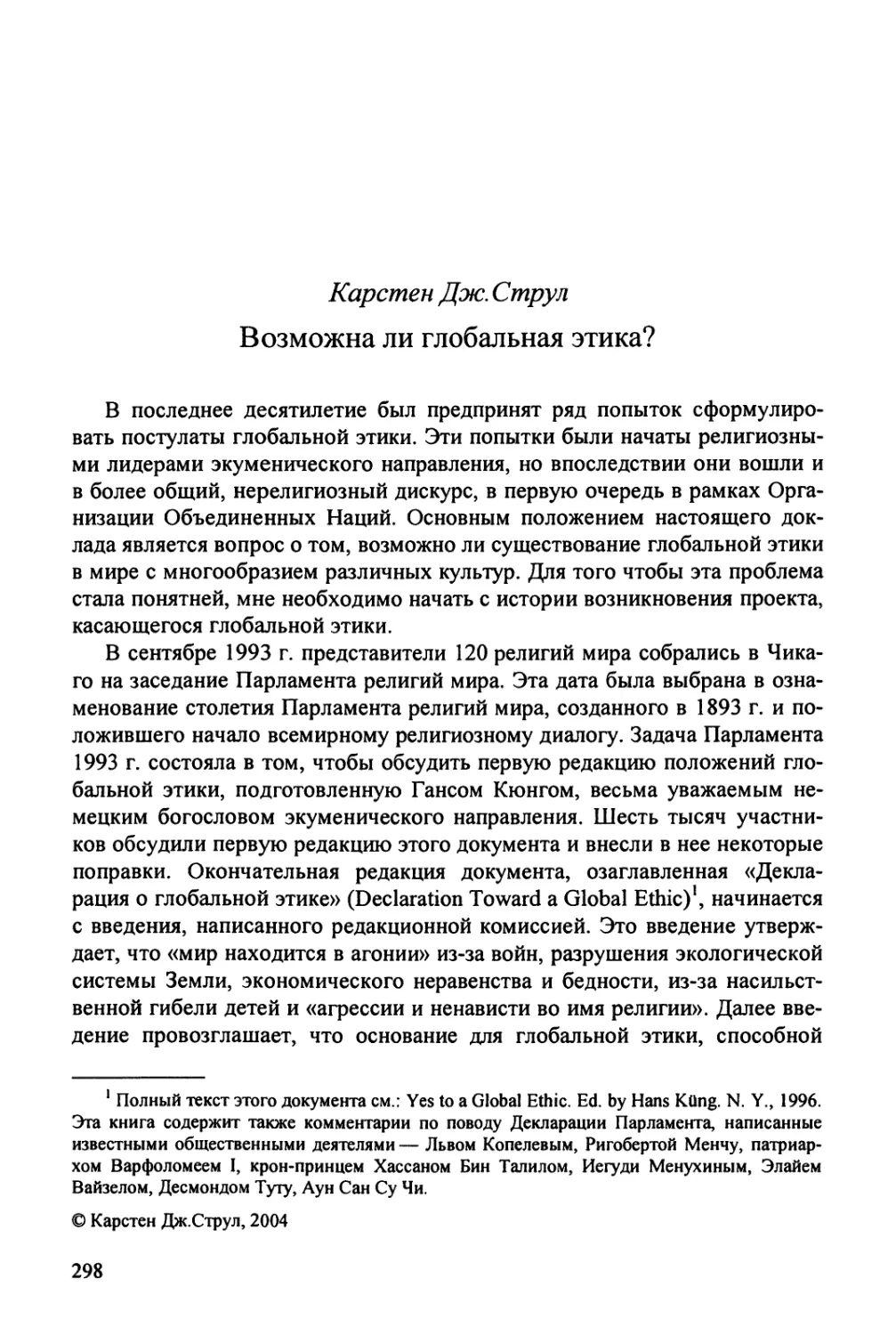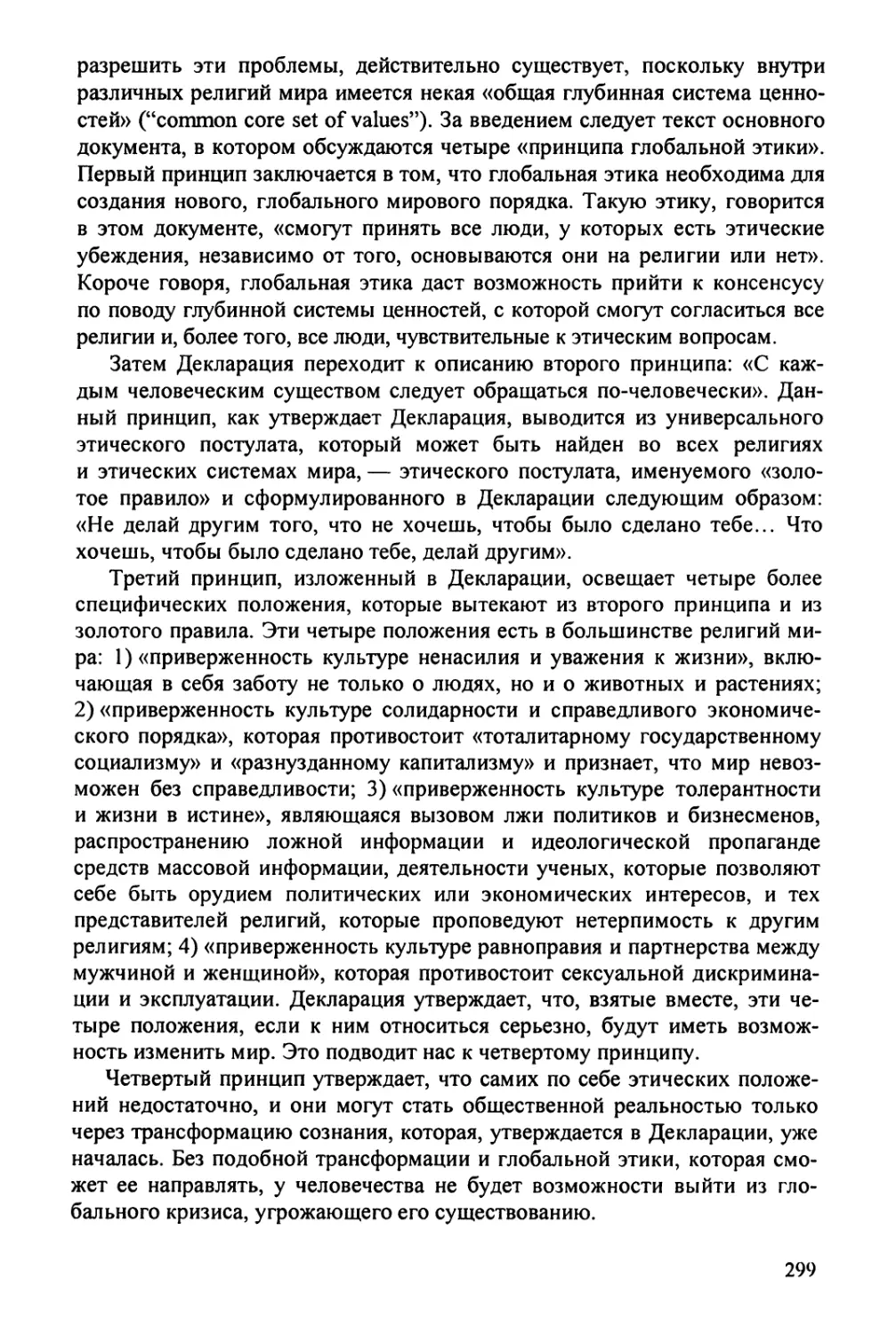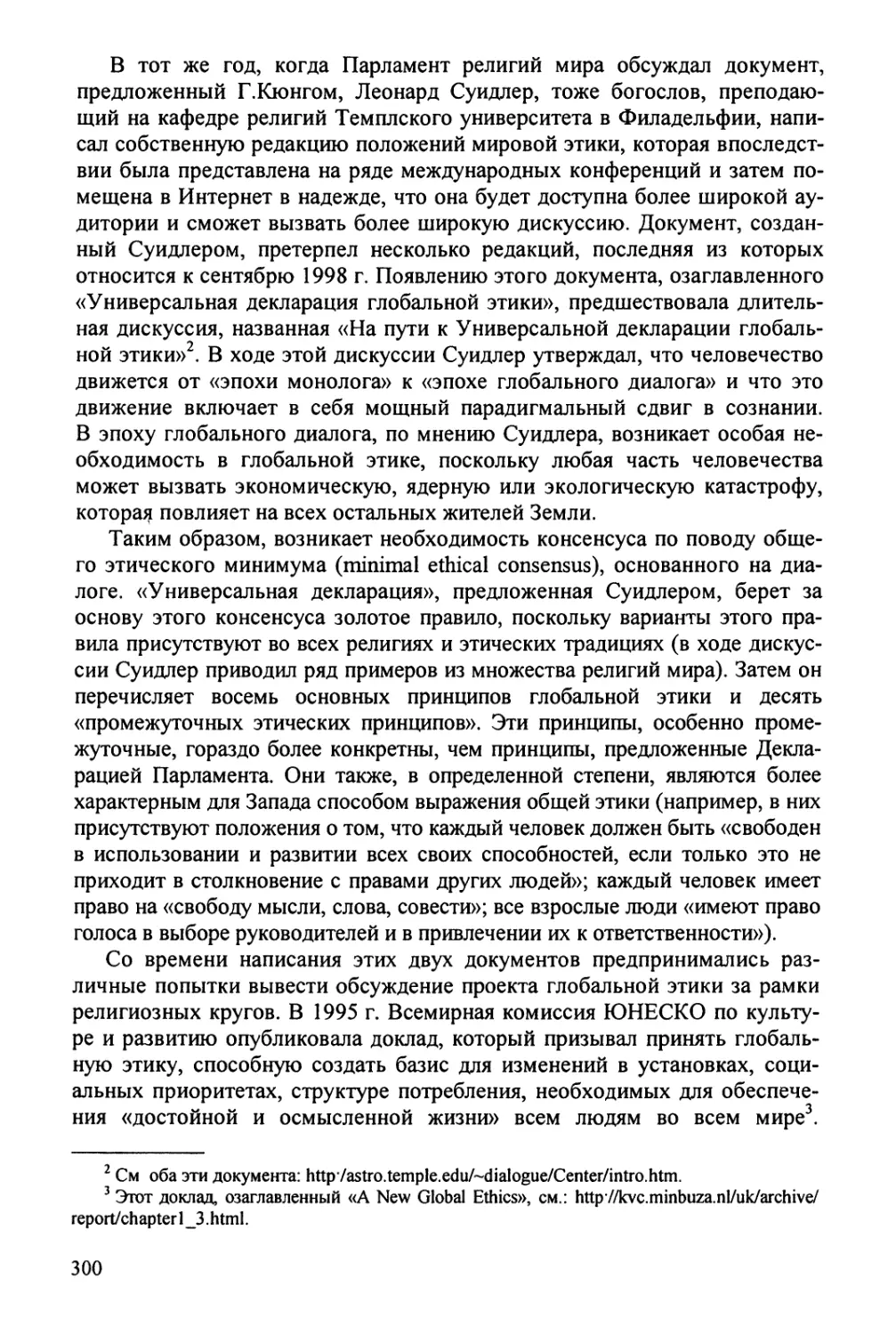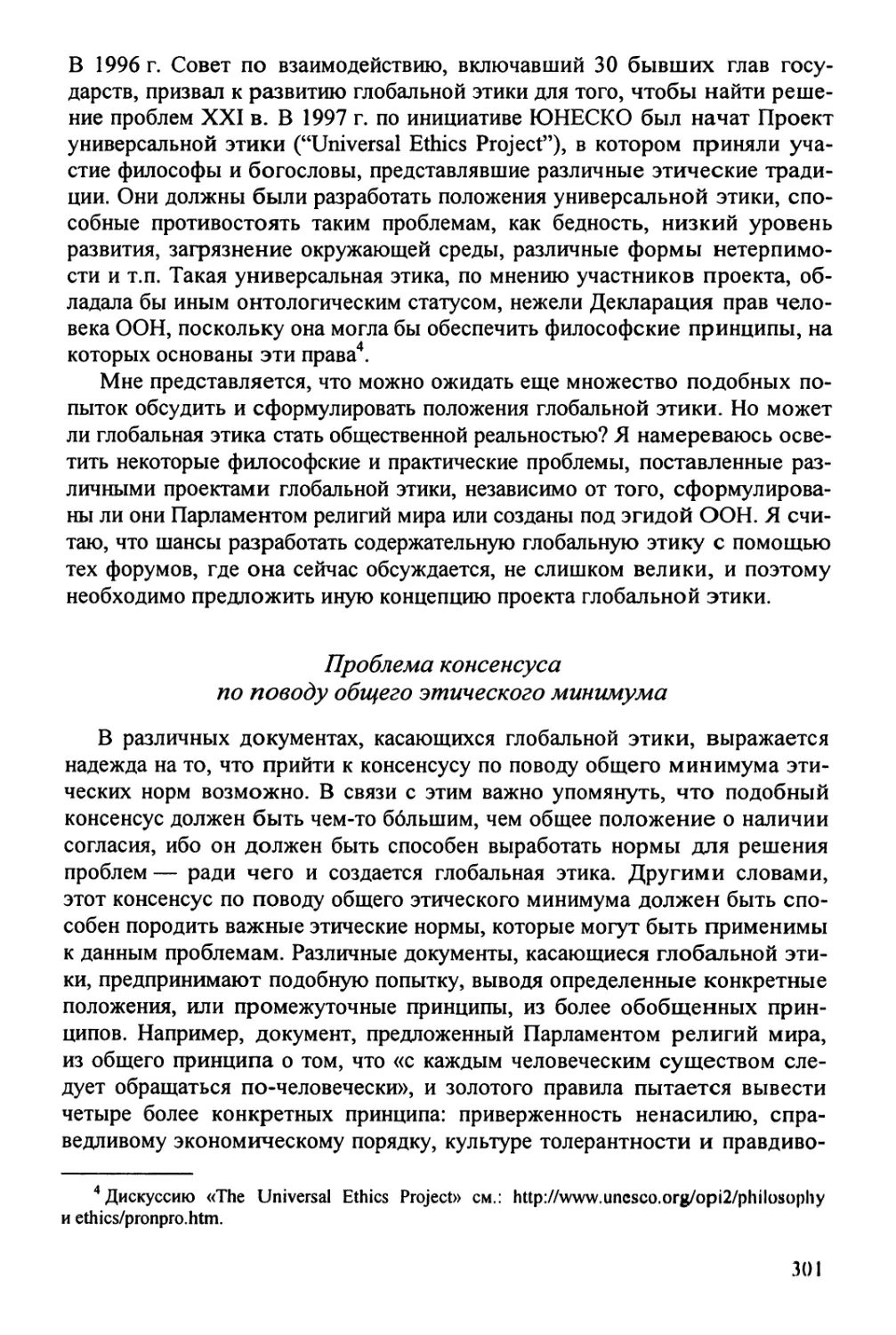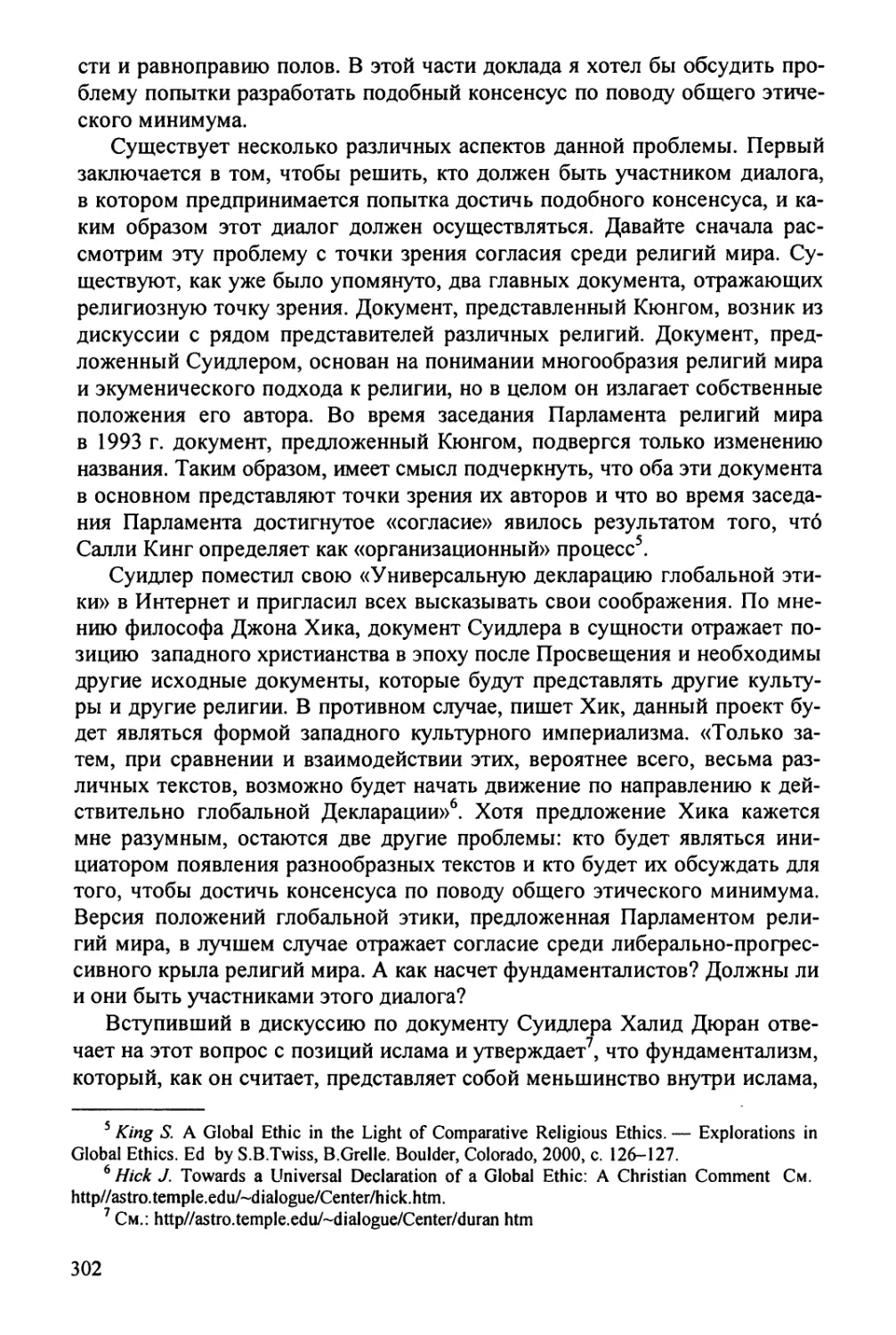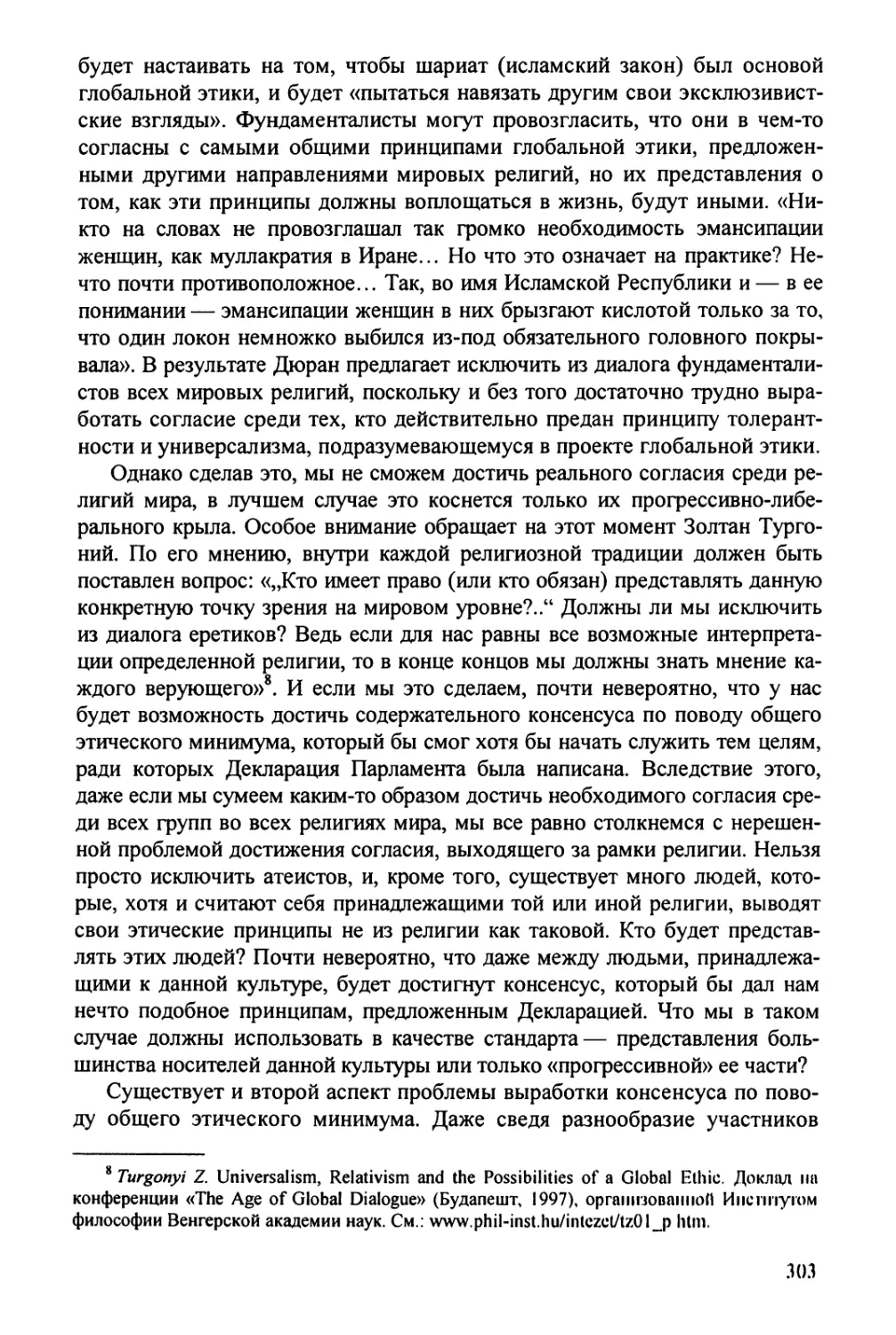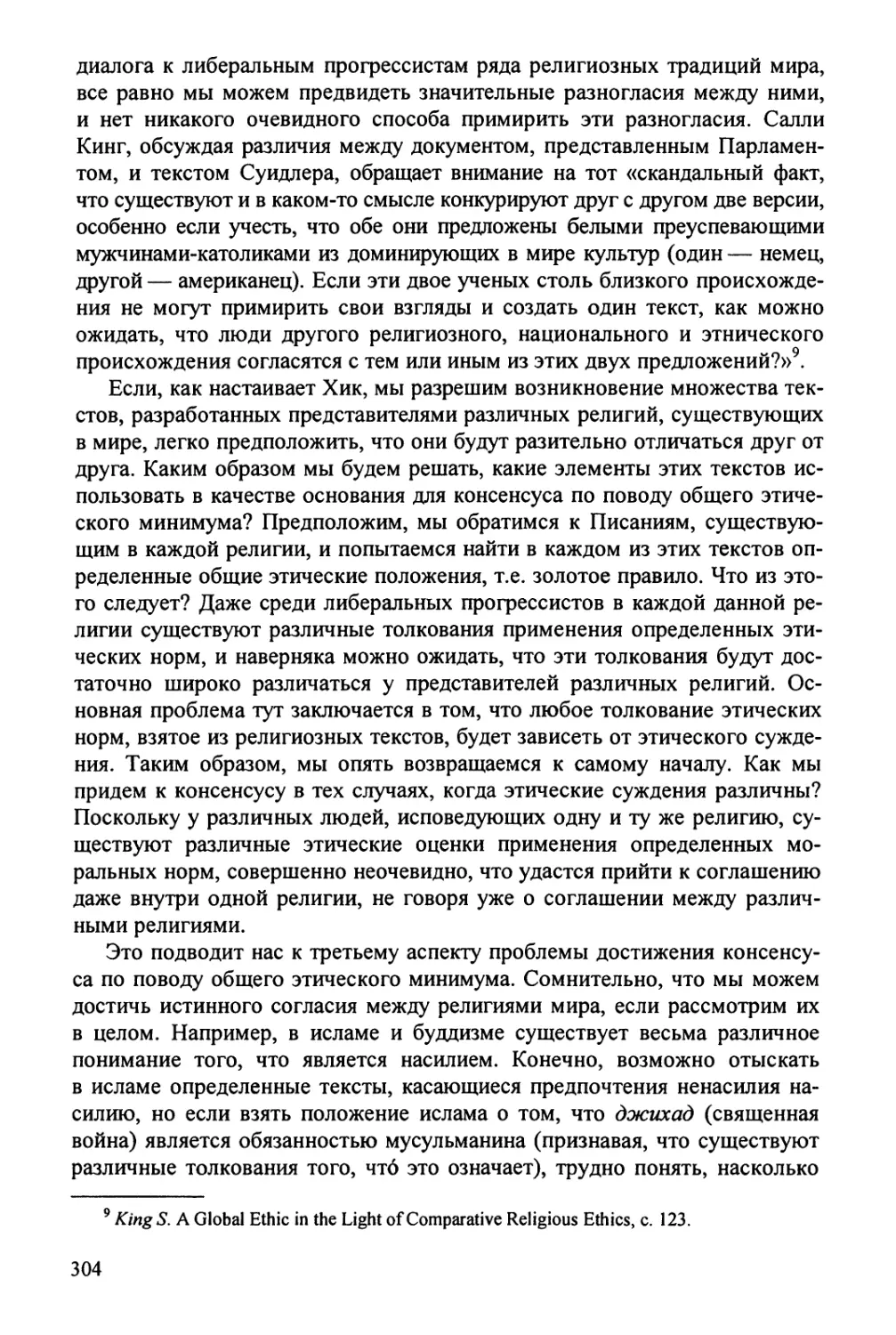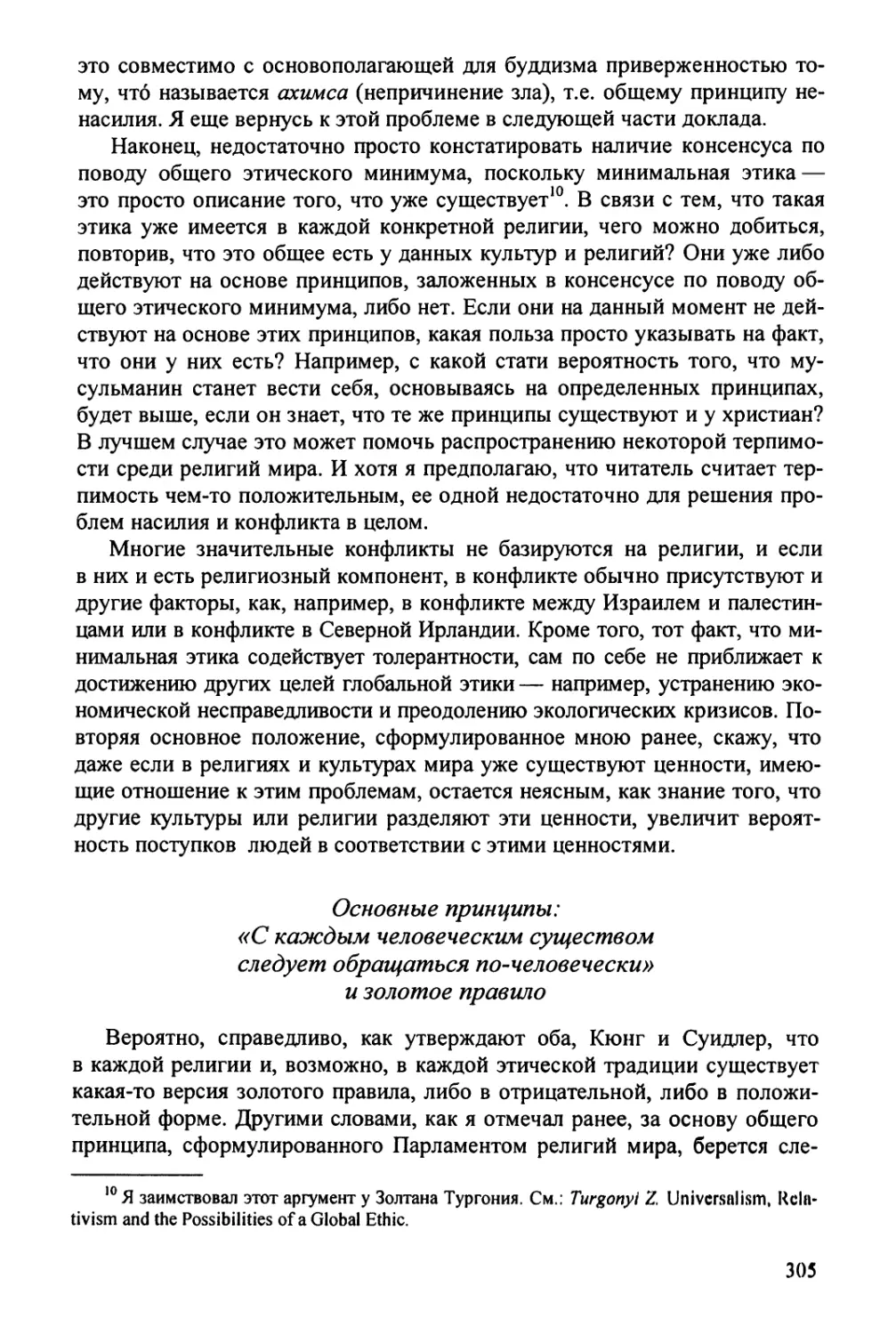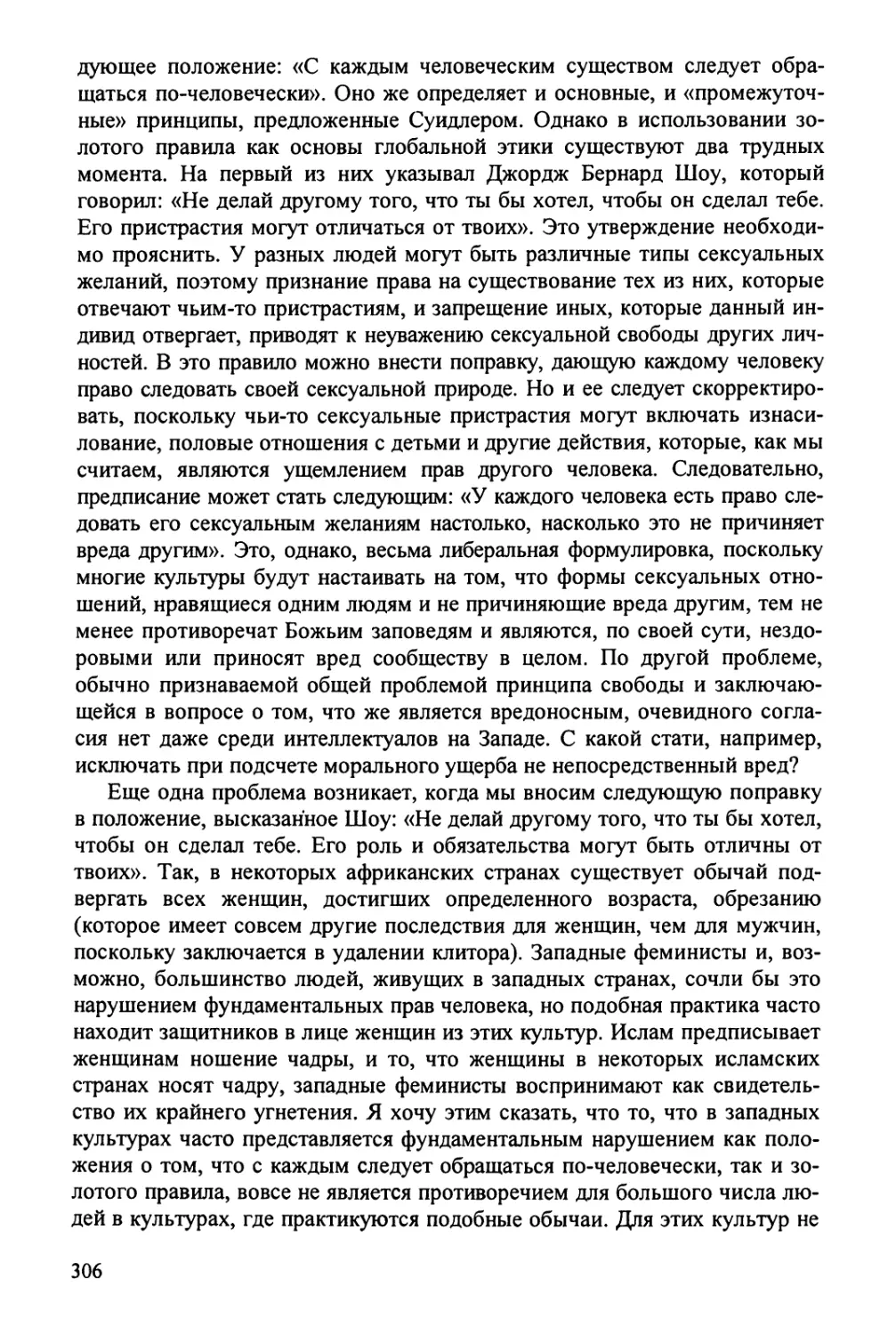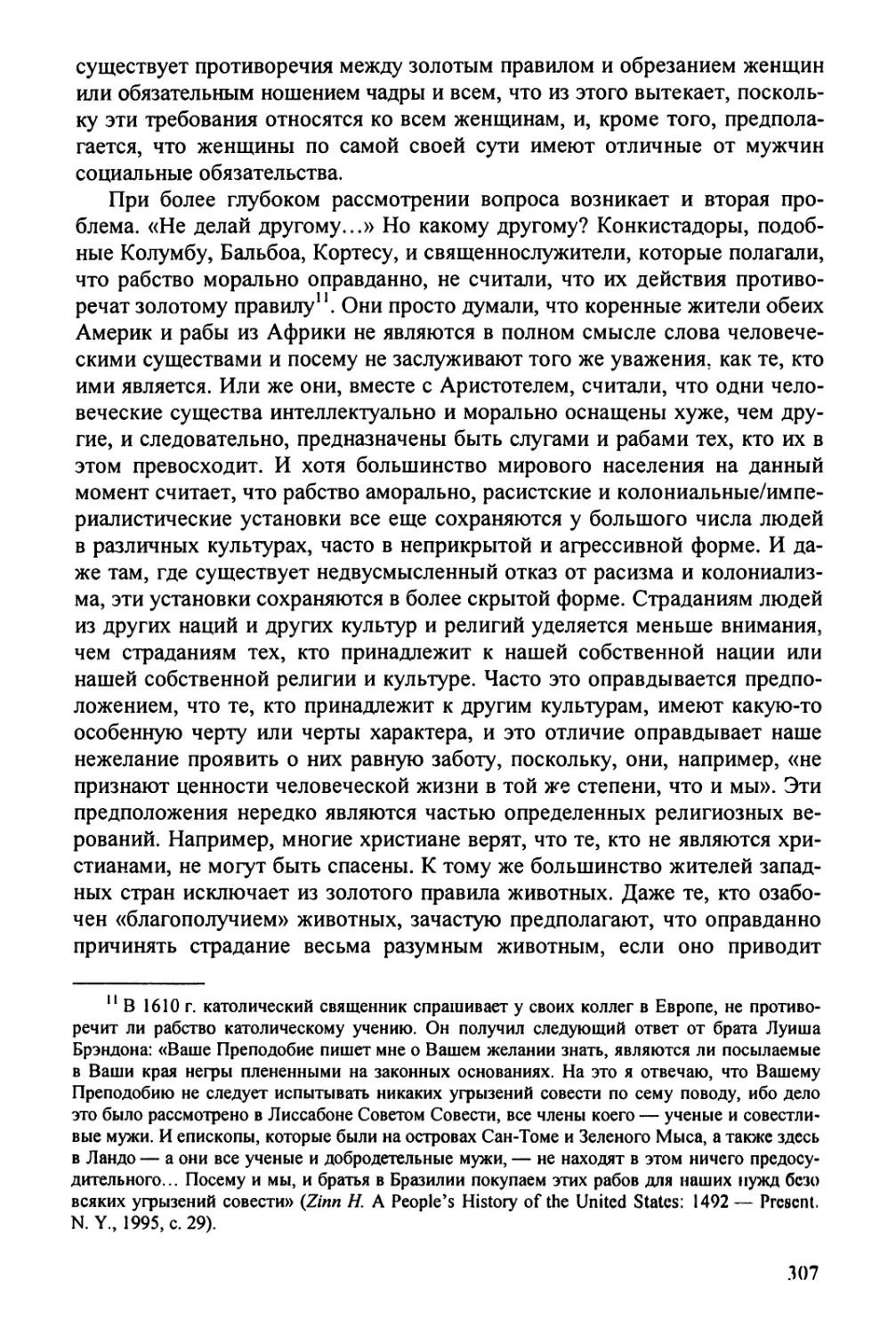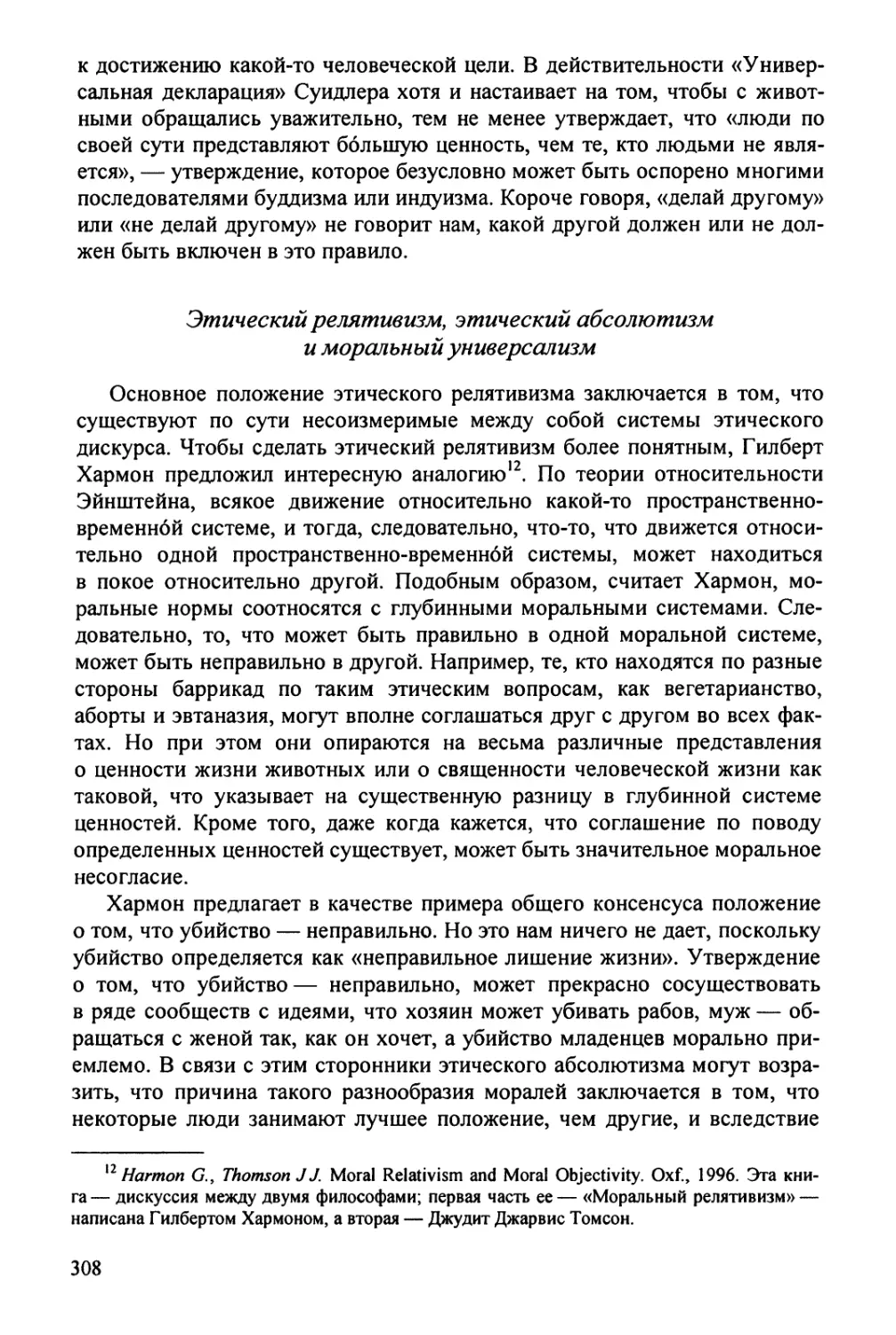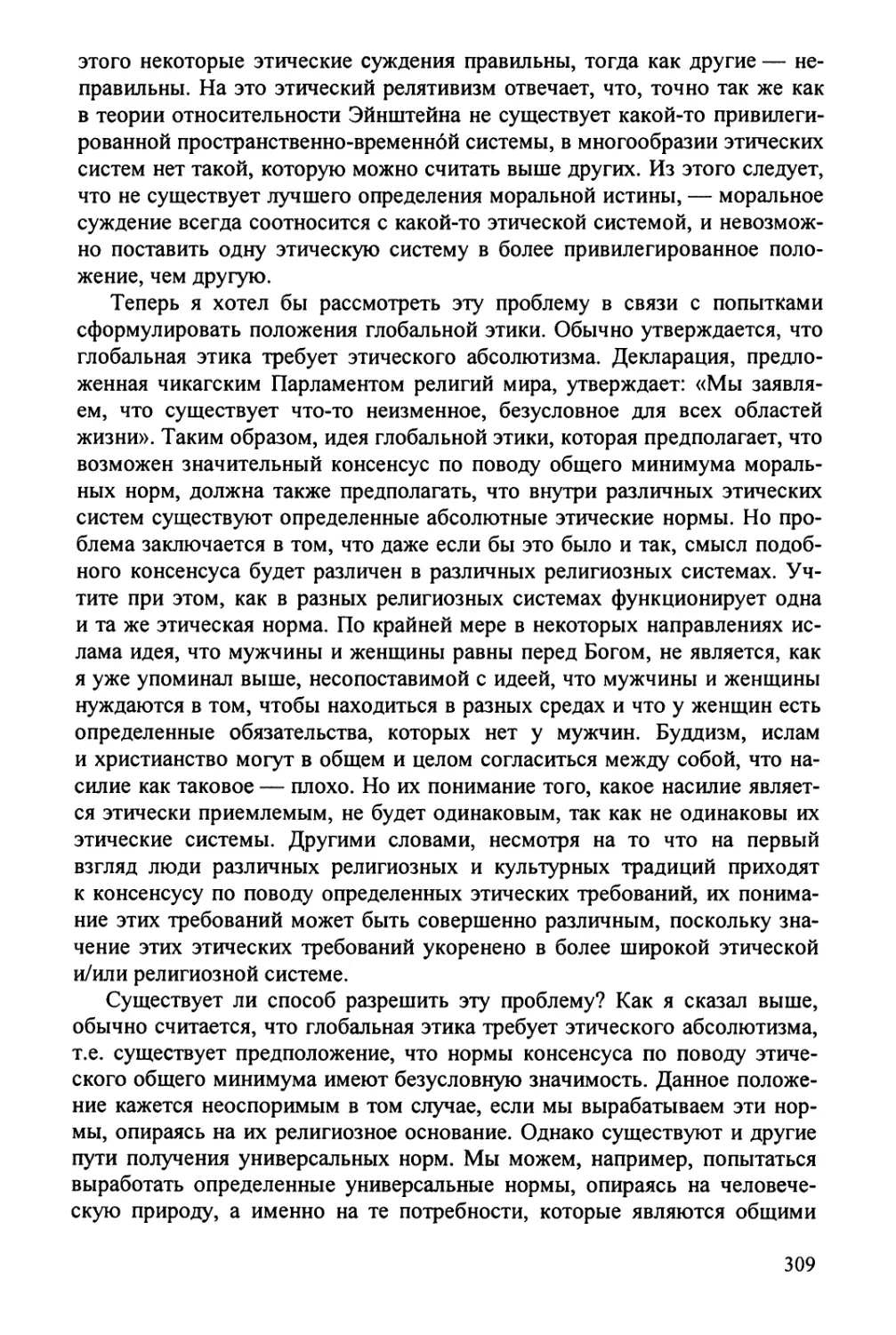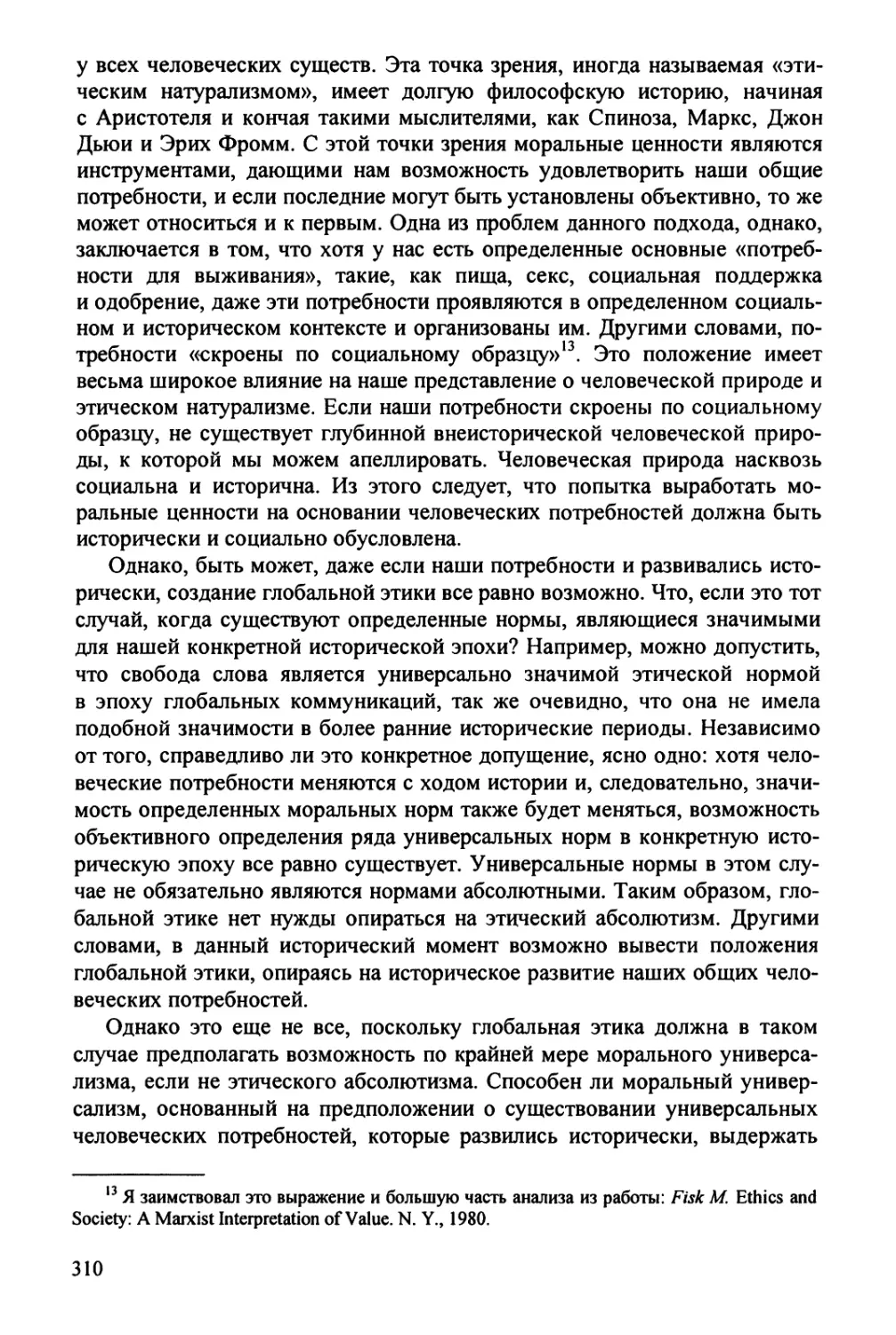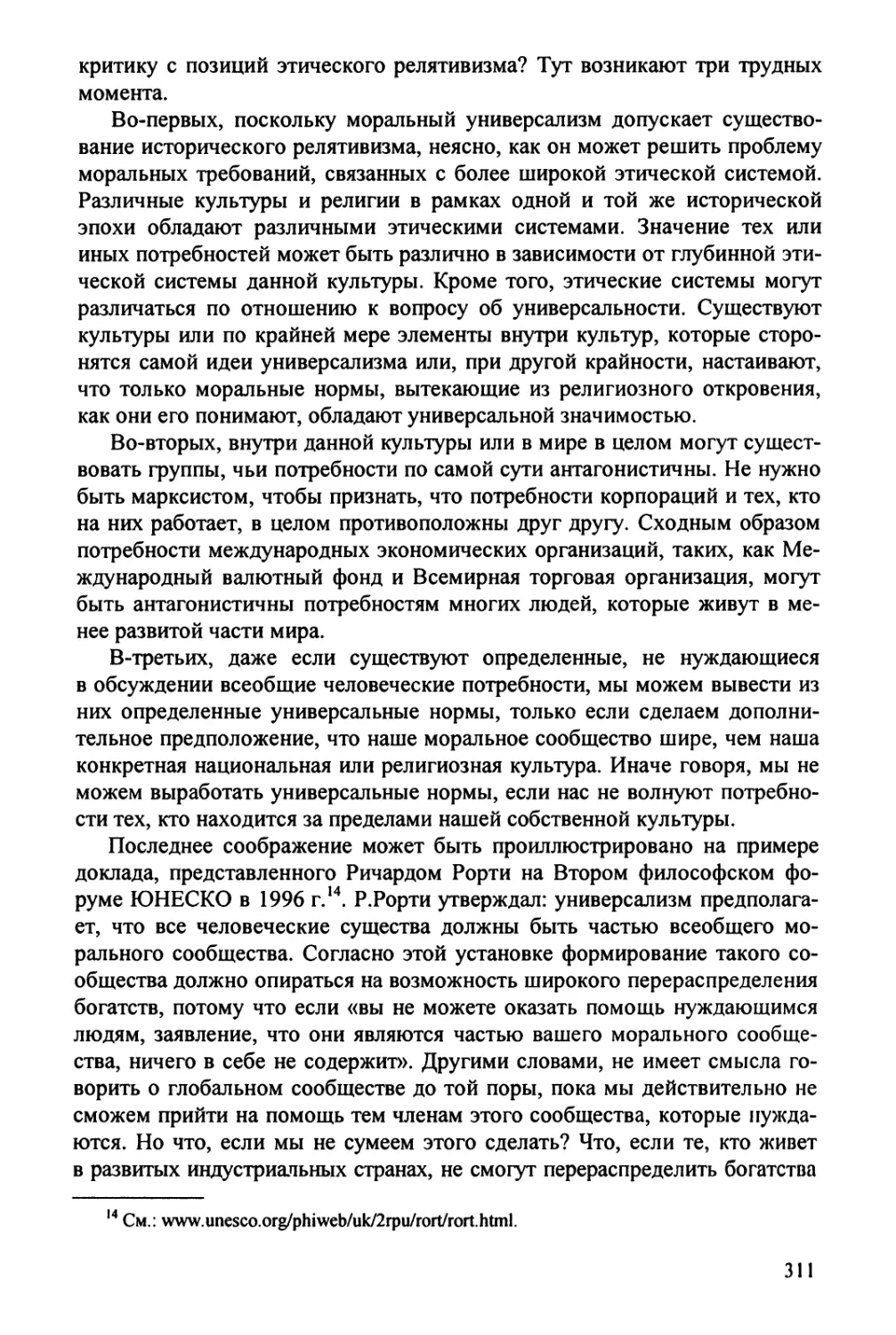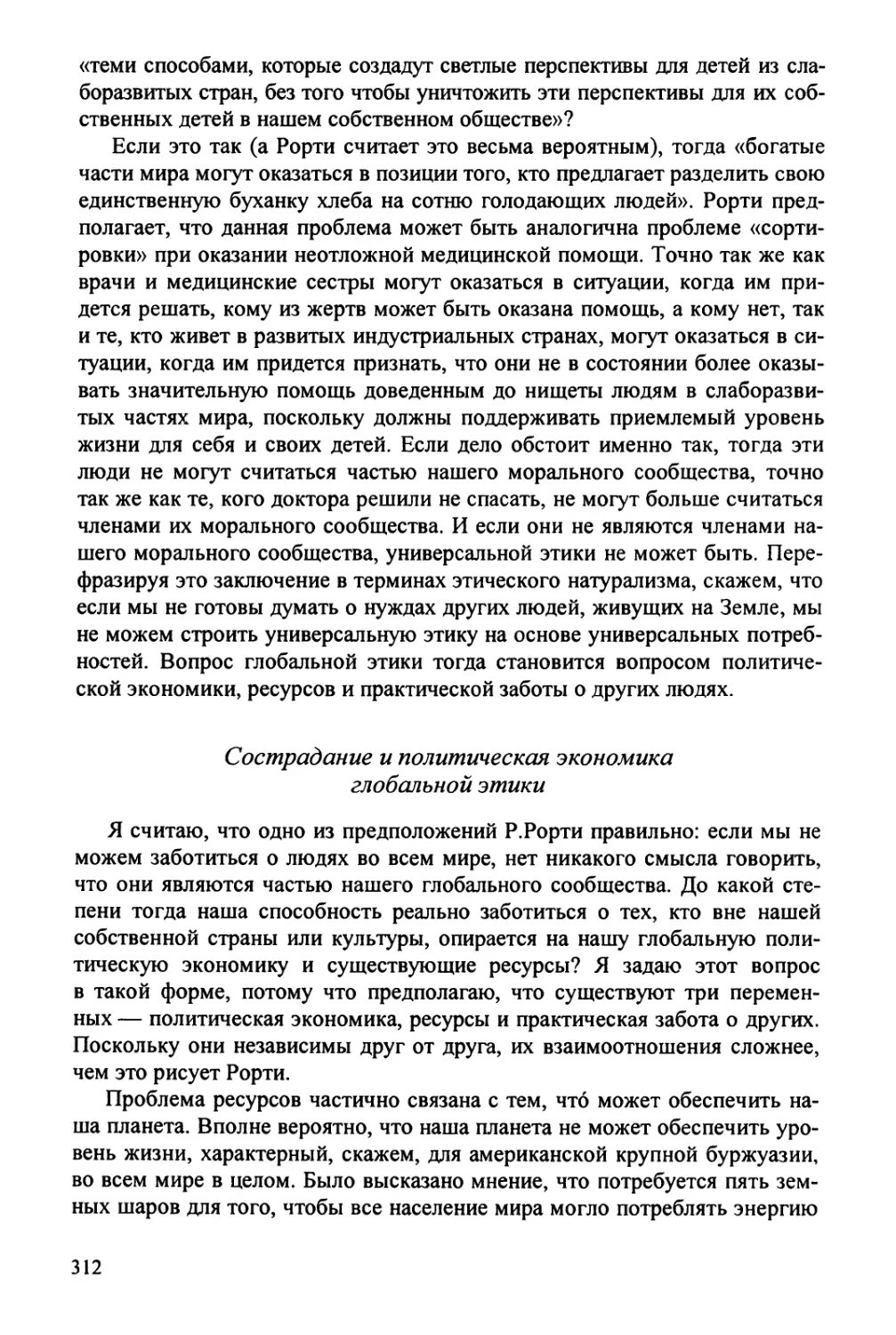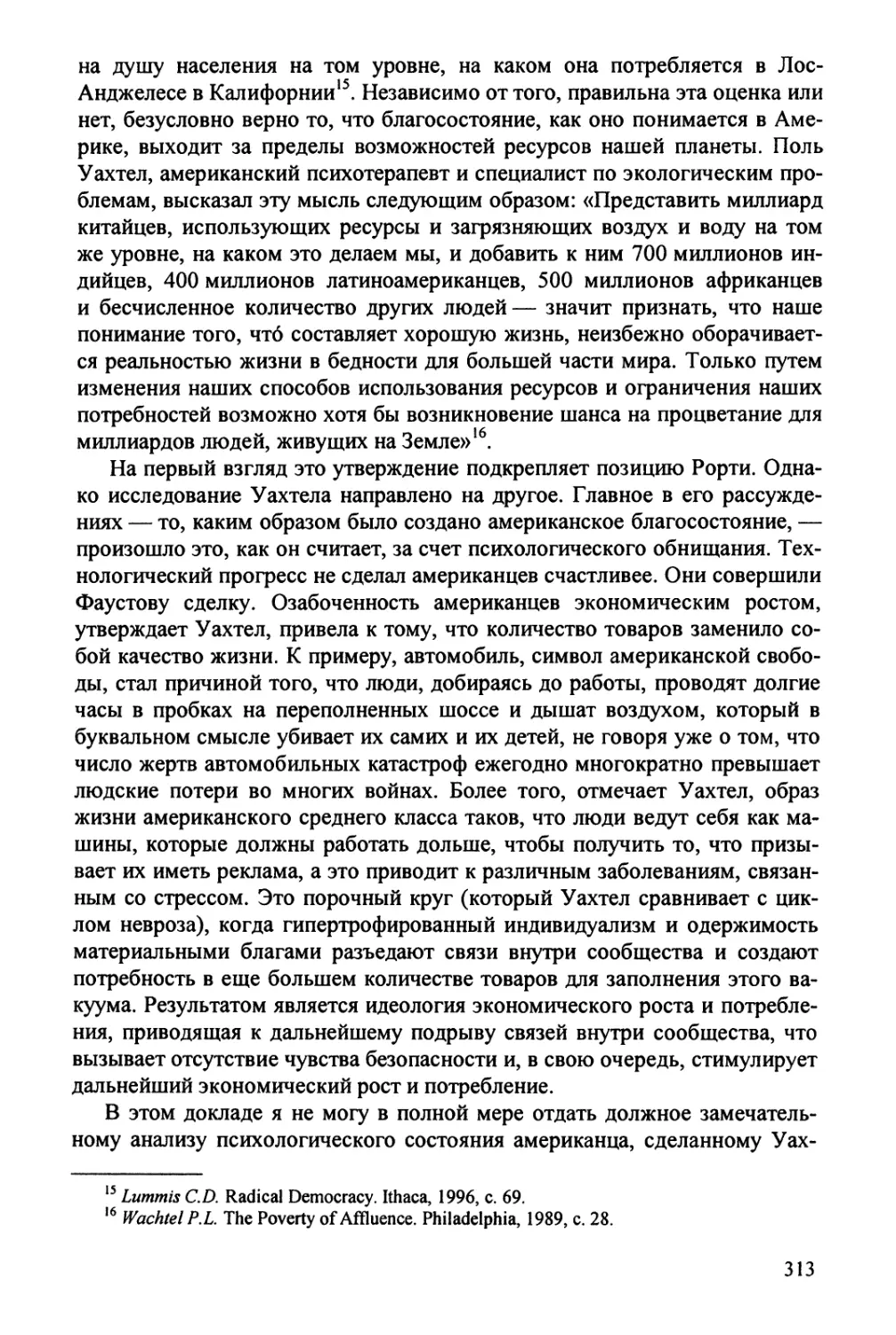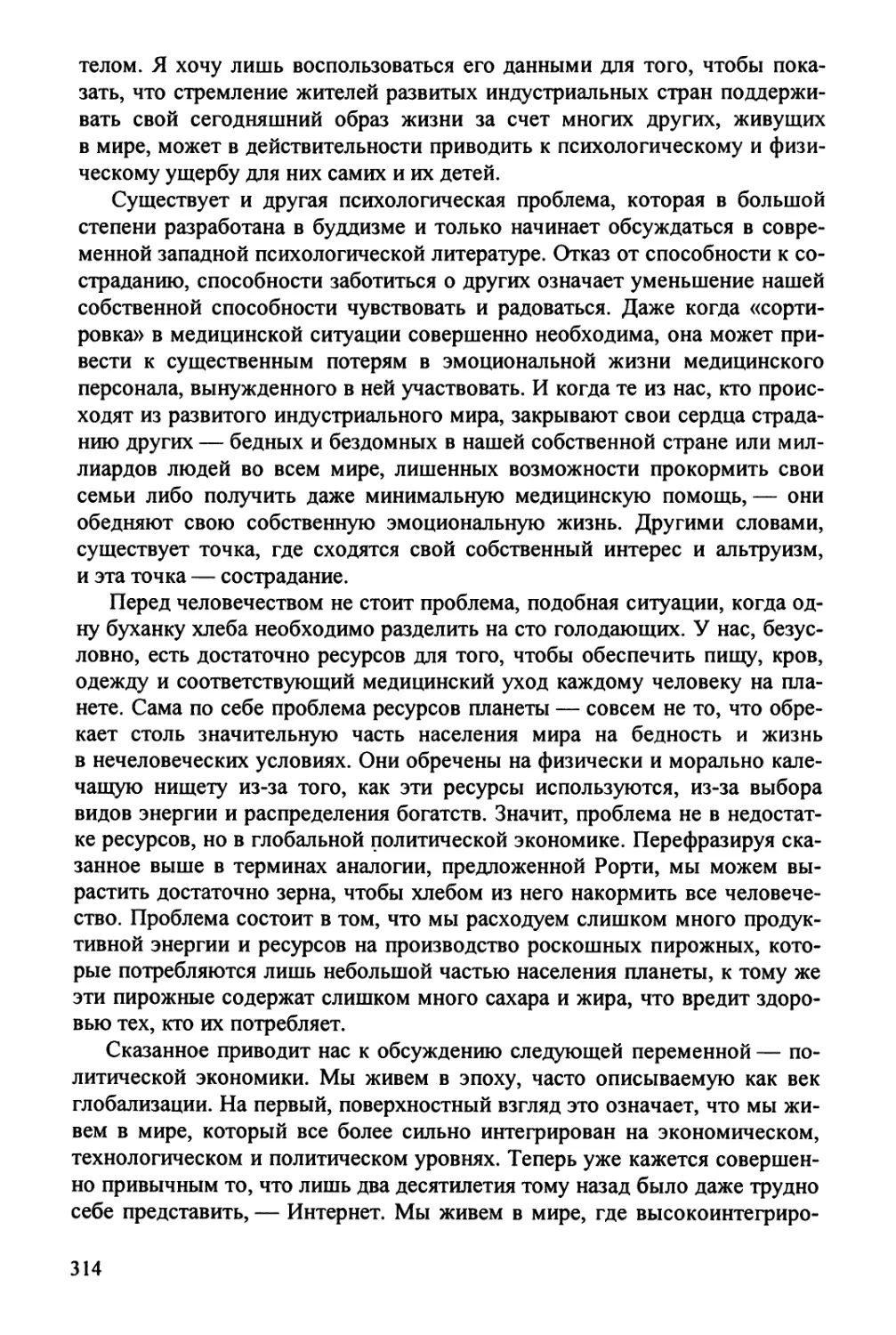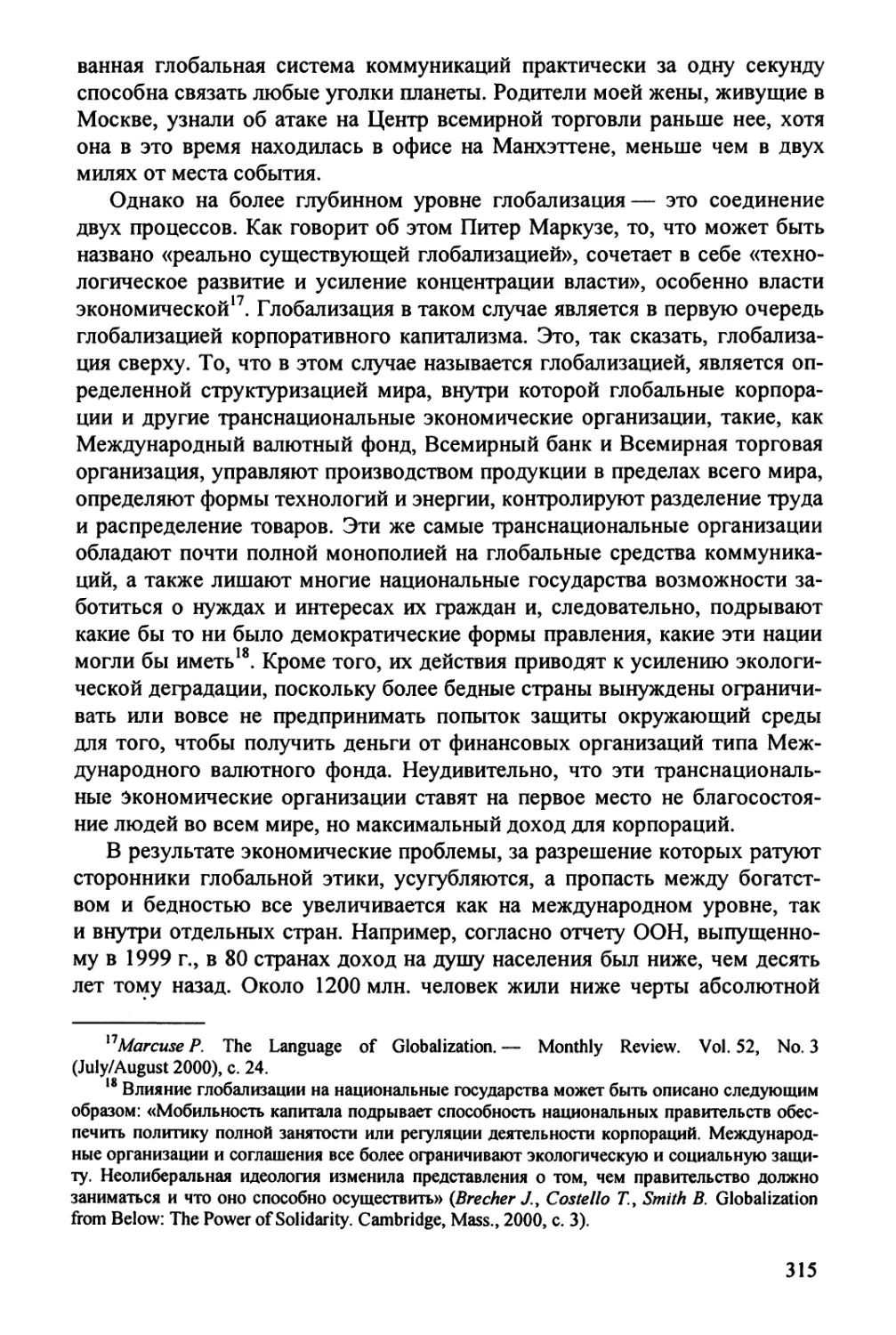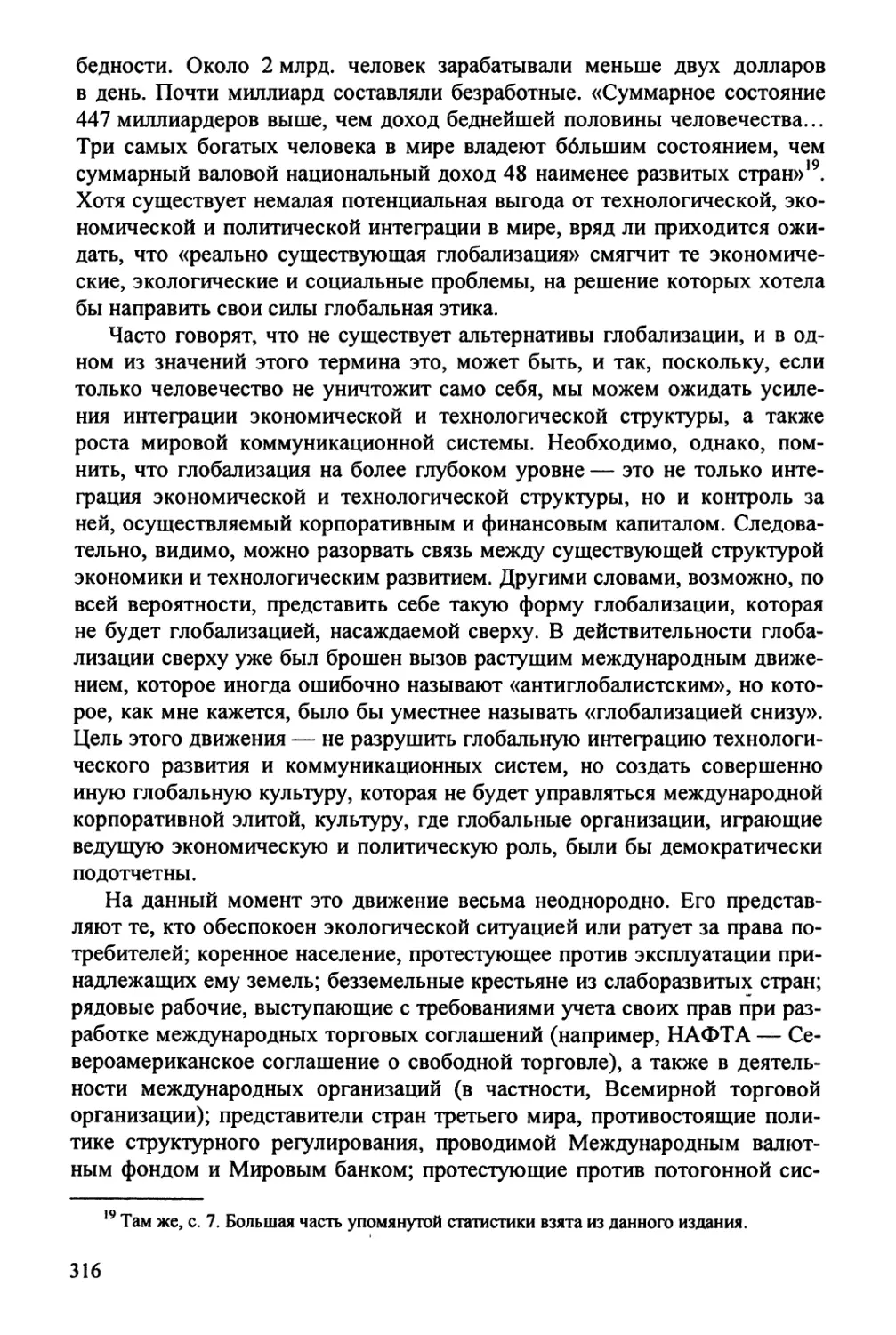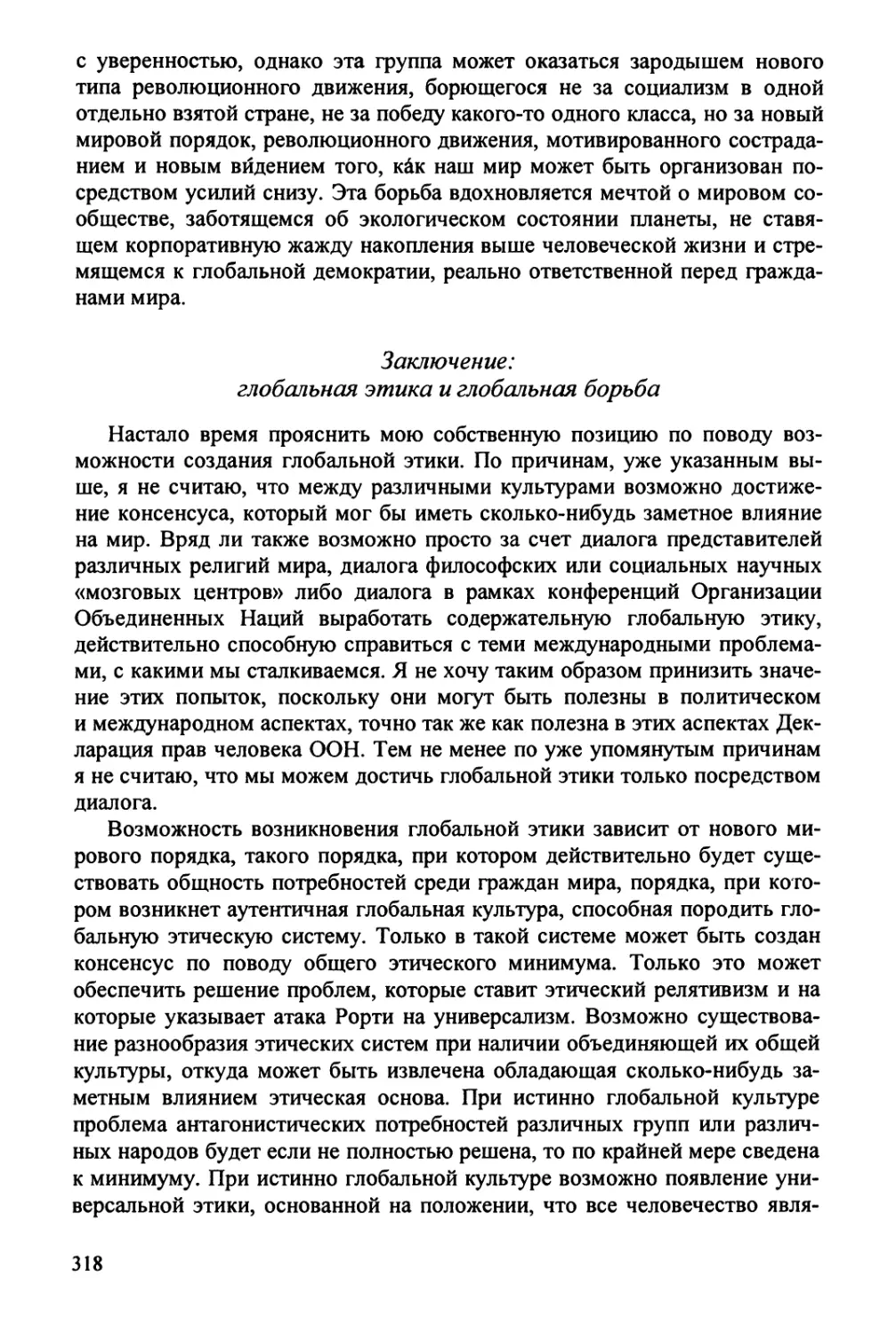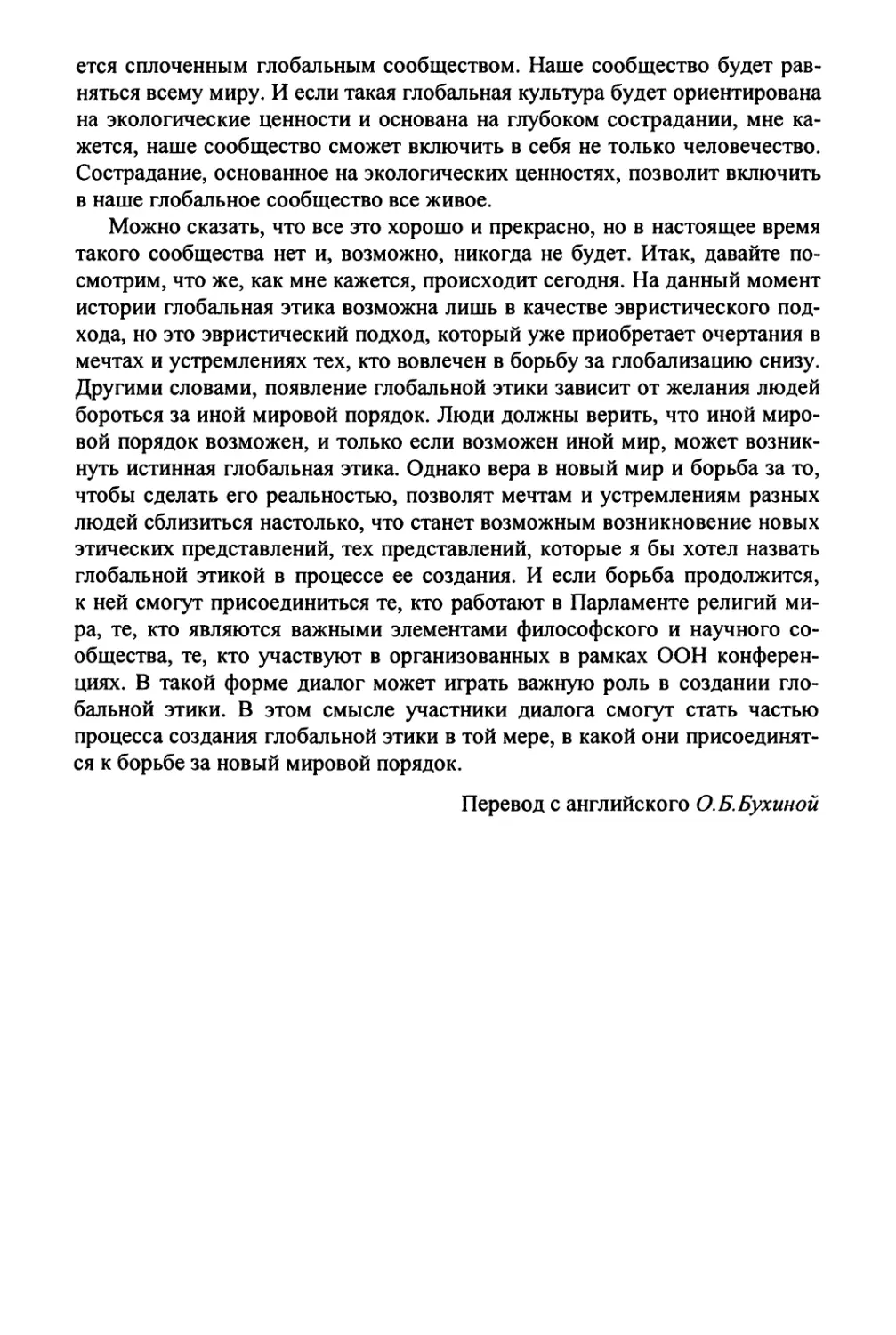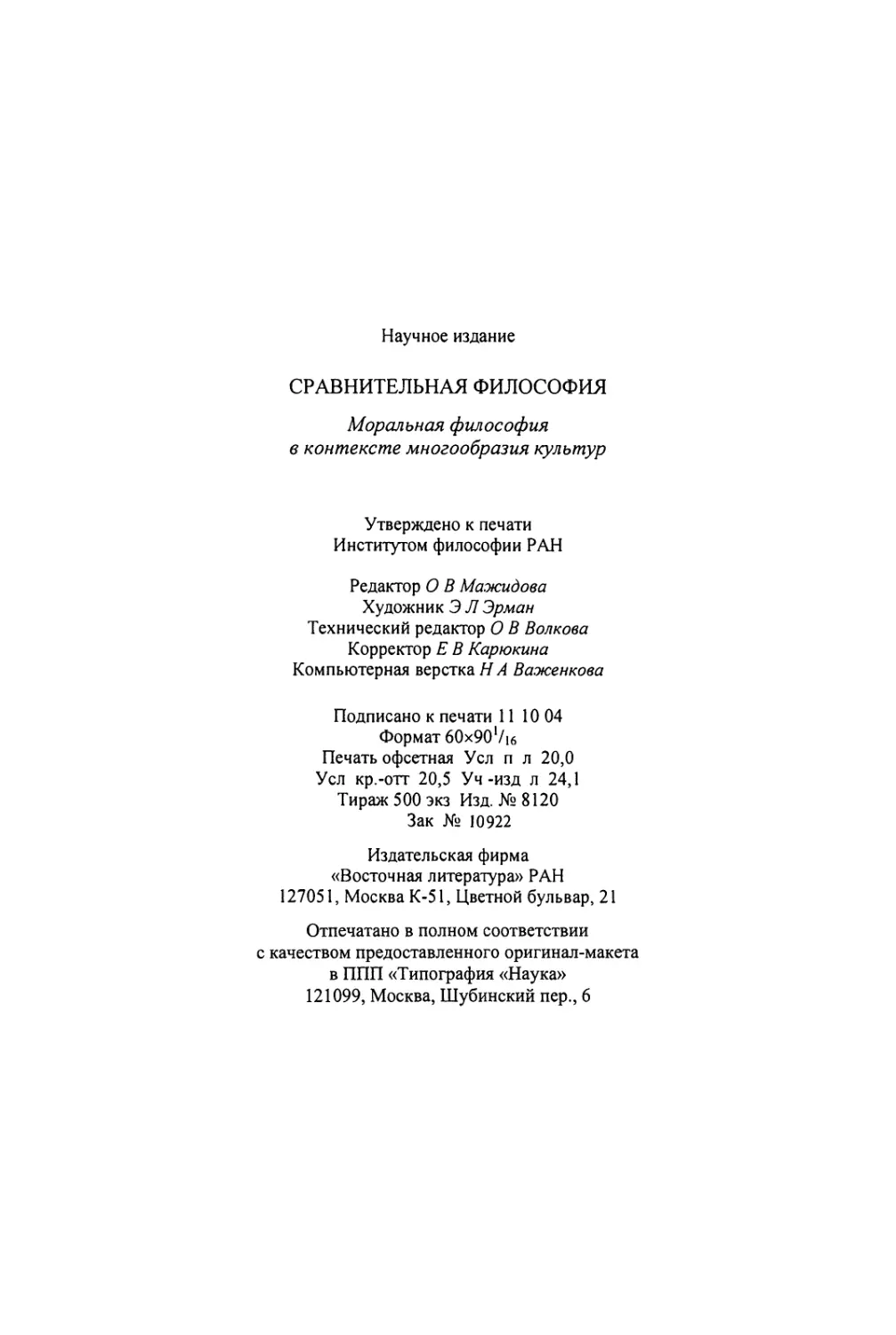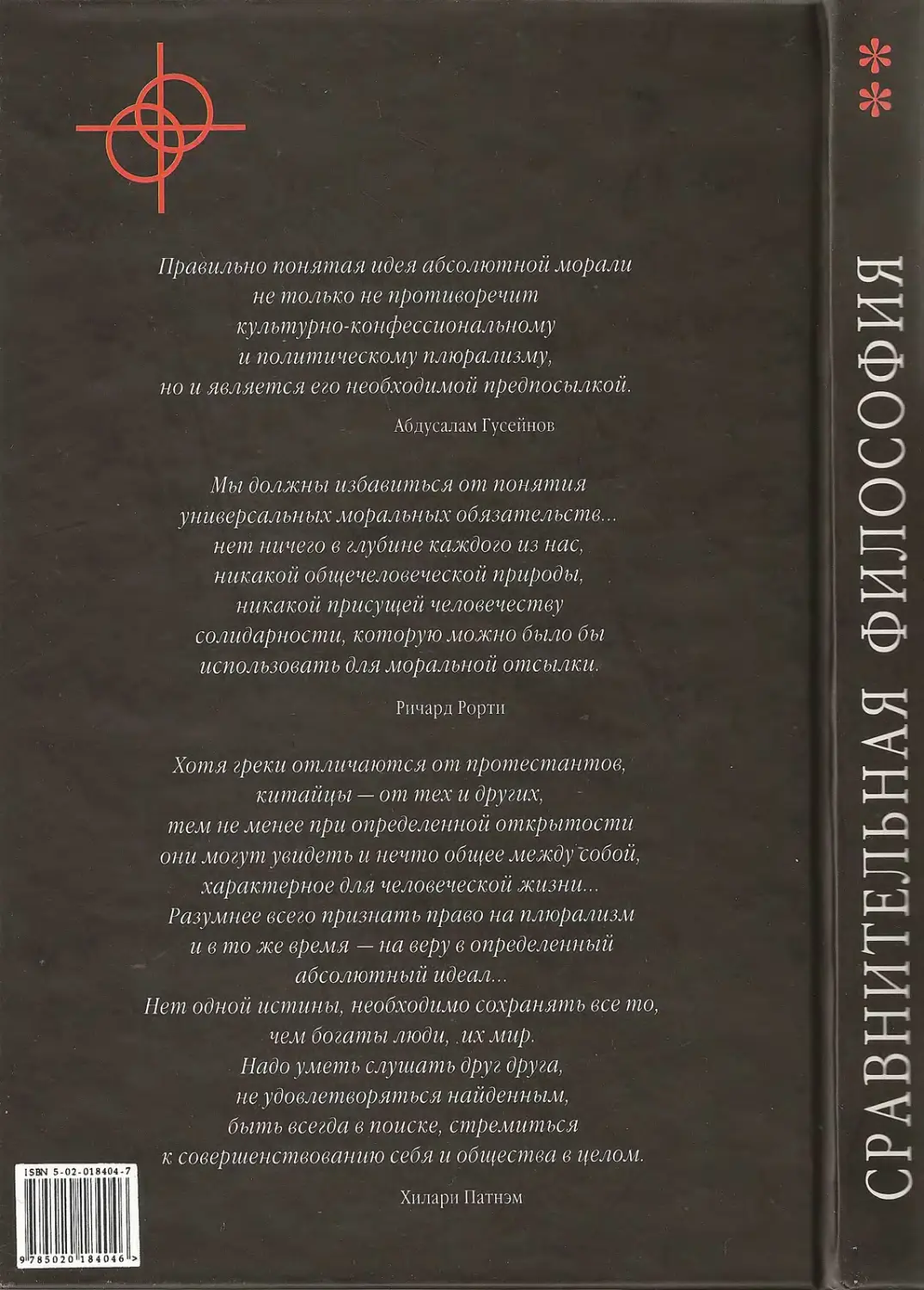Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Моральная философия в контексте многообразия культур
МОСКВА Издательская фирма «ВОСТОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА» РАН
2004
УДК м ББК 87.3 С75
Серия «Сравнительная философия» основана в 2000 г. Институтом философии РАН
Ответственный редактор серии М. Т. Степанянц
Редактор издательства О.В.Мажидова
11а первой сторонке переплета использована работа «Букет Карусель» (1986 г.) из цикла «Шедевры на Уроках» художника Артема Киракосова
Сравнительная философия : Моральная философия в контек- С75 сте многообразия культур/Ин-т философии.— М.: Вост. лит., 2004. — 319 с. — (Сравнительная философия : Осн. в 2000 г. / Отв. ред. М.Т. Степанянц ; 2). — ISBN 5-02-018404-7 (в пер.).
Вюрой выпуск серии «Сравнительная философия» включает материалы Первой московской международной конференции по сравнительной философии, в которой приняли участие около 20 видных зарубежных ученых (в частности, Ричард Рорти, Роджер Эймс, Фред Дальмайр, Франсуа Жюльен, Мишель Юлен) Публикуемый сборник знакомит читателя с многообразием методологических, культурных и идеологических подходов современной моральной философии в освещении интеллектуальных традиций Запада, Китая, Индии и мусульманского Востока, в книге нашли отражение полярные позиции приверженцев абсолютных моральных ценностей и поборников постмодернистского этического релятивизма, мнения сторонников и критиков глобальной этики
ББК 87.3
© Институт философии РАН, 2004 © Российская академия наук
и Издательская фирма «Восточная литература», серия «Сравнительная философия» (разработка, оформление), ISBN 5-02-018404-7 2000 (год основания), 2004
СОДЕРЖАНИЕ
11редисловие (М Т. Степанянц) 5
Раздел I МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
A.А Гусейнов. Об идее абсолютной морали 7
Роджер Смит. «Наука о человеке» и моральная философия: отношение
фактов и ценностей 19
Ричард Рорти. Упадок искупительной истины и подъем
литературной культуры 33
М. Т. Степанянц. Метафора «золотая середина» как ключ к пониманию
общего и частного в философии морали 51
Раздел II ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ
Франсуа Жюльен. Основание морали: тайна жалости 60
А И.Кобзев. Рождение китайской философии как «детского» учения
о попрании жизнью смерти 80
Роджер Т.Эймс. Диалог между конфуцианством
и прагматизмом Дж.Дьюи 86
Сор-хунь Тань. Общность культур и этноцентрические тенденции: некоторые аспекты конфуцианской этики коммуникативных
добродетелей в плюралистическом кросскультурном контексте 105
Е.Ю.Стабурова. «Конфуцианство XX века» и проблемы
его интерпретации 117
Ганс Георг Мюллер. Мораль и патология: компаративный подход 128
Мицуру Эгути. Учение Л.Н.Толстого о непротивлении и идея ненасилия
Д.Икеды (опыт сравнения) 141
Раздел III ИНДИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ
Ромеги Чандра Прадхан. Моральные ценности в поликультурном контексте:
индийский подход 150
Раджендра Прасад. О «моральном праве» и «морально правильном»:
от логического права к моральному праву 158
B.К.Шохин. Ценности или блага? О «теоретических каркасах» одной «практической философии» 165
3
В.Г.Лысенко. Трудное дело середины: «срединность» (mesotes) Аристотеля
и Срединный путь (majjhimä patipadä) Будды 182
Мишель Юлен Идея переселения душ в XXI в., или Будущее
одной иллюзии 199
Раздел IV МУСУЛЬМАНСКИЕ ТРАДИЦИИ
Т.К.Ибрагим Коран о духовном плюрализме 217
Р.Г.Апресян. Талион: его восприятие и видоизменения в христианстве
и исламе 221
Н.С.Кирабаев. Философия власти: Ал-Маварди и ал-Газали 230
А.В.Смирнов. Дуализм и монизм: различие и сходство двух вариантов
суфийской этики 243
Янис Эшотс. Этика исламского мистицизма: краткий обзор
учений футувва 252
Ван Дауд. Та ’диб ал-Аттаса как истинное и комплексное
образование в исламе 262
Раздел V ГЛОБАЛЬНАЯ ЭТИКА: PRO ET CONTRA
ФредДальмайр Глобальная этика: преодоление дихотомии
«универсализм»-«партикуляризм» 274
Карстен Дж.Струл. Возможна ли глобальная этика? 298
ПРЕДИСЛОВИЕ
Серия «Сравнительная философия», основанная в 2000 г. Институтом философии РАН, была задумана с целью расширения кругозора отечественного читателя, освобождения его от до сих пор преобладающих в нашем сознании европоцентристских ориентаций, а также содействия национальному самоосмыслению на пути диалога культур.
Второй выпуск серии «Сравнительная философия» отличается тематическим единством, поскольку включает в себя материалы Первой московской международной конференции по сравнительной философии: «Моральная философия в контексте многообразия культур», которая проходила в Институте философии РАН 5-7 июня 2002 г.
Сравнительные исследования в области философии предпринимались такими выдающимися европейскими мыслителями, как Гегель, Фихте, Шеллинг, Дежерандо и др. (сам термин «сравнительная философия» был введен в научный оборот в 1899 г.). Однако первоначальные интенции философской компаративистики с течением времени претерпели значительную эволюцию. Уже к 30-м годам XX в. западные прозорливые политики и тонко чувствующие интеллектуалы стали реально осознавать необходимость пересмотра отношения к Востоку, отказа Запада от претензий на превосходство как в области экономики и политики, так и в сфере духовной культуры. Политическое благоразумие диктовало: мировое влияние Запада может сохраниться при условии определенного «примирения» с Востоком. Так появилась потребность синтеза культур. Но синтез этот виделся все же преимущественно в соответствии с духом прошлых времен: в результате к западным ценностям должно было подключаться то, что хоть в какой-то мере было созвучно им в культуре Востока, а иные традиции подлежали отторжению как устаревшие, отжившие свое. Скрупулезно, внимательно, в сопоставлении с Западом изучались фрагменты духовной жизни, культуры Востока во всем ее многообразии (именно об этом говорят, в частности, названия «малых» философских компаративистских конференций, проводившихся в 60-80-е годы XX в.): «Эстетика Востока и Запада: природа и функция символизма в восточном и западном искусстве» (1969); «Закон и мораль. Восток и Запад» (1971); «Буддизм махаяны и Уайтхед» (1974) и др.
Однако благим намерениям не суждено было сбыться. Нереальность задуманного синтеза предвещали молниеносная бомбардировка Пёрл- Харбора японцами, национально-освободительные бури, пронесшиеся по
5
многим афро-азиатским странам, упорство молодых суверенных государств в отстаивании своей линии в мировой политике (движение неприсоединения — в первую очередь). Вероятно, последним фактором на пути к «отрезвлению» явились события конца 70-80-х годов, получившие условное название «возрожденческого», или «фундаменталистского», взрыва, самым сильным и неожиданным из которых была Иранская революция 1978-1979 гг. Традиции прошлого угрожающе напоминали о себе, как бы предупреждая о невозможности прогресса на путях искусственного синтеза.
В последние два-три десятилетия философская компаративистика демонстрирует понимание происходящих в мире перемен. Она приобретает особое значение в связи с нарастанием критического отношения к различным аспектам современной техногенной цивилизации и поиском новых цивилизационных парадигм.
Для России сравнительный анализ философских учений Востока и Запада имеет не только академический смысл, если учитывать «срединное» ее расположение, подсказывающее целесообразность опоры как на культуру Запада, так и на духовные традиции Востока. Впервые проведенная в России масштабная конференция философов-компаративистов использовала опыт наиболее авторитетных международных форумов— Конференций философов Востока и Запада (East-West Philosophers’ Conferences), проводимых с 1939 г. в Гонолулу. В Московской конференции приняли участие около 20 видных зарубежных ученых (в частности, Ричард Рорти, Роджер Эймс, Фред Дальмайр, Франсуа Жюльен, Мишель Юлен), некоторые из них неоднократно участвовали в упомянутых конференциях на Гавайях. Данный выпуск знакомит читателя с многообразием методологических, культурных и идеологических подходов в современной моральной философии: в сборнике нашли отражение полярные позиции приверженцев абсолютных моральных ценностей и поборников постмодернистского этического релятивизма; в него включены статьи, посвященные интеллектуальным традициям Запада, Китая, Индии и мусульманского Востока; в нем представлено мнение сторонников и критиков глобальной этики и т.д.
В заключение необходимо отметить, что указанная конференция была проведена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Института Открытое общество (Фонд Сороса), а также при содействии Культурного центра им. Дж.Неру при Посольстве Республики Индия и Культурного центра Исламской Республики Иран в Москве.
М. Т. Степанянц
Раздел I МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
А.А.Гусейнов Об идее абсолютной морали
В классической европейской этике — что, собственно говоря, и является одним из решающих признаков, в силу которого она может считаться классической, — господствовало представление о морали как с бсолютной точке отсчета, задающей координаты осмысленного человеческого поведения. Оно получило концептуальное завершение в учении Канта о моральном законе как законе чистого практического разума, обладающем абсолютной необходимостью — известные кантовские определения морали, отождествляющие ее с доброй волей, безусловным долгом, категорическим императивом, автономией воли, имеют аналитическую природу и являются развертыванием этой исходной, основополагающей идеи об абсолютном моральном законе. Отношение к моральному абсолютизму в решающей мере определяет идейный стержень этики после Канта на всем протяжении XIX и XX вв. Диапазон позиций в этом вопросе колеблется от радикального отрицания морального абсолютизма в разнообразных школах философского авангарда (в этом отношении наиболее показательны позиции марксизма, ницшеанства, прагматизма) до его респектабельно-академической апологии, которая сопровождается одновременно смягчением кантовского ригоризма, достигаемого за счет того, что мораль в одних случаях (как, например, в неокантианстве Г.Риккерта) включается в контекст культуры, в других (как, например, в феноменологии М.Шеле- ра или в русской религиозной философии)— помещается в теологическую перспективу, в третьих (в этике дискурса К.-О.Апеля и Ю.Хаберма- са) — сводится к коммуникативной рациональности. Противостояние абсолютизма и натурализма (в широком смысле, включая также историкосоциологические теории морали), кантианства и антикантианства все еще остается основным водоразделом философско-этических дискуссий и на Западе, и у нас в России. Более того, в настоящее время оно приобрело дополнительную остроту в связи с новым этапом общецивилизационного развития, который обозначается словом «глобализация».
© А А. Гусейнов, 2004
7
Глобализация— слишком сложная тема, чтобы затрагивать ее мимоходом. Я бы хотел только обратить внимание на одно очевидное обстоятельство. Деятельность людей в тех жизненно важных аспектах, которые определяются уровнем развития науки и техники, становится системно организованной, единой в масштабе всего человечества. Но в той части, в какой деятельность людей зависит от их ценностного выбора, этикокультурной идентичности, человечество остается цивилизационно разделенным, расколотым. В качестве выхода из этого противоречия предлагаются два основных конкурирующих сценария: первый ориентирован на доминирование ценностей одной — западноевропейской — культуры, второй предлагает равноправный диалог всех культур. Оба сценария имеют то общее, что они явно или неявно опираются на идею абсолютной морали. В случае с первым это бросается в глаза: отдать предпочтение одной системе ценностей перед другими — значит признать, что она имеет преимущество перед ними по некоему принятому за абсолют критерию или сама воплощает этот критерий. Но и диалог различных систем ценностей возможен только при предположении, что эти системы ценностей или считают себя равнозначными перед лицом некой возвышающейся над ними абсолютной моральной инстанции, или каждая из них отождествляет себя с такой инстанцией, и тогда соединение культур в диалоге выглядит как некое сообщество абсолютов наподобие встречи глав государств на Генеральной Ассамблее ООН.
Таковы общие соображения, в силу которых мне показалось уместным представить на компаративистском форуме доклад на тему: возможна ли в современном плюралистическом мире абсолютная мораль?
* * *
Среди возражений, направленных против идеи абсолютной морали, наиболее основательными, на мой взгляд, являются следующие три.
Первое. Абсолютная мораль не может быть эксплицирована, ибо это предполагало бы наличие абсолютного субъекта. Известен парадокс совершенства: святой, считающий себя святым, святым не является. Поэтому если даже предположить существование безусловного закона, то возникают вопросы: кто может нам сказать, в чем он состоит, и кто может обоснованно предъявить его к исполнению?
Второе. Абсолютная мораль, как и все абсолютное, обречена на то, чтобы оставаться в мире мысли, да и там она может находиться постольку, поскольку, говоря словами Витгенштейна, она не умещается в пределы языка. В любом случае она не может воплотиться в адекватных поступках, так как поступок всегда привязан к конкретному индивиду и конкретным обстоятельствам, он не только единичен, он еще и единствен. Как ни важны в поступке лежащие в его основании общие правила, намного важнее частные обстоятельства, которые формируют его особенный вид. Моральная личность не ограничивается желанием быть мораль¬
8
ной, она действенно проявляет это желание; ей мало знать, что есть долг вообще, долг перед человечеством, ей надо еще уметь определять, что есть ее долг и что есть ее долг в том месте, которое она занимает по отношению к тем конкретным людям, которые находятся рядом с ней. Исключив из своего содержания поступки, абсолютная мораль оказывается отвлеченной, безжизненной, бессмысленной.
Третье. Так как абсолютная мораль не имеет адекватных форм обнаружения, то реальные формы, в которых она себя «обнаруживает», всегда оказываются неадекватными. Марксистская социология рассматривает практикуемые в опыте общественного сознания апелляции к абсолютной морали как способ сокрытия воли господствующего класса, ницшеанская психология— как бессильную злобу слабых, аналитическая гносеология — как неверифицируемые и потому безответственные суждения. Эту критику трудно назвать надуманной. Ее можно дополнить еще одним важным соображением. Анализ реальных ситуаций и контекстов общественной жизни, в которых всплывает идея абсолютной морали, показывает, что она является обязательным компонентом межчеловеческих отношений тогда, когда эти отношения приобретают характер непримиримого конфликта. Общее правило состоит в следующем: до того и для того, чтобы уничтожить оппонента или подчинить своей воле силой, его надо объявить врагом, дискредитировать с позиции абсолютных ценностей. Сегодня, как и в прошлом, линии военных противостояний, которые намечаются в генеральных штабах, удивительным образом совпадают с разделительными линиями в душах, которые проведены религиями и поддерживаются философиями. Здесь, может быть, уместно поделиться одним личным переживанием. Лет семь назад я побывал в Иерусалиме и был поражен тем, что между еврейской и арабской частями этого города нет никаких внешних преград и демаркаций, но они тем не менее отделены друг от друга непреодолимой пропастью взаимного человеческого отторжения. Невольно вспомнился другой город, Берлин, разделенный на две части огромной стеной, но живший, однако, сознанием своего единства. Тогда я впервые остро прочувствовал очень важную, хотя и давно известную мысль: невидимые стены, возведенные в головах людей, намного прочнее и опаснее видимых стен из камня, возведенных на бетонном фундаменте.
Таковы три основных и, надо признаться, очень сильных аргумента, которые выдвигаются против идеи абсолютной морали, многократно обыгрываются в направленных против нее философских учениях. В своем докладе я попытаюсь показать, как можно снять эти возражения и при этом не отказаться от самой идеи. В качестве исходной, базовой будет взята кантовская версия абсолютной морали как самая последовательная.
* * *
Идея абсолютной морали связана с особым местом и ролью моральных мотивов в поведении. Моральные мотивы не находятся в одном ряду
9
с прагматическими (мотивами благоразумия), проистекающими из природных потребностей индивида, его социального положения, обстоятельств жизни и т.д. Они находятся за ними, над ними, являются мотивами второго уровня, своего рода сверхмотивами. Они занимают в человеческом поведении то же место, которое занимали олимпийские боги в поведении гомеровских героев. Прагматических мотивов самих по себе вполне достаточно для того, чтобы понять, почему человек совершает те или иные действия; говоря по-другому, все действия, которые он совершает, прагматически мотивированы. Моральные мотивы в этом смысле могут показаться мотивационным излишеством.
Характеризуя моральные мотивы по сравнению со всеми другими более конкретно, с точки зрения места и функций, можно было бы сравнить их с отделом технического контроля (контроля качества) на производстве. Как отдел технического контроля проверяет уже готовую продукцию на соответствие принятым стандартам, так и мораль осуществляет итоговый контроль над всеми прочими мотивами с точки зрения того, могут ли они сверх того, что являются прагматически эффективными, считаться еще и морально достойными (добрыми, справедливыми и т.д.). Моральные мотивы сопровождают все другие мотивы — дополняют, усиливают, прикрывают их. Это доказывается, между прочим, такой важной особенностью человеческой психологии, согласно которой в своих сознательных намерениях и самооценках люди всегда ориентированы на добро. Сократ был прав: намеренное зло невозможно. Даже самый отъявленный преступник стремится выдать свое зло за добро. В тех редких случаях, когда человек смотрит на вещи объективно и признает, что совершает зло, он находит утешение в мысли, что речь идет о меньшем зле. Словом, в субъективном плане индивид всегда подводит свои действия под абсолют добра.
Возникает вопрос: как действует в индивиде «отдел» морального контроля, как осуществляется этическая экспертиза всех прочих мотивов, готовых оформиться в решение, перейти в поступок? Это происходит в форме идеального (мысленного) эксперимента и не может происходить иначе, ибо речь идет об экспертизе конкретных мотивов на стадии принятия решения, т.е. еще до того, как они стали поступками. Осуществить эксперимент в реальном режиме означало бы совершить соответствующие поступки, но это равнозначно тому, что они совершаются без моральной экспертизы, как если бы готовую продукцию поставляли на рынок, минуя отдел контроля качества.
Прекрасные, методически хорошо продуманные примеры мысленных экспериментов мы находим у Канта. Наиболее показательны среди них следующие два. Первый призван проверить максиму воли на общезначимость. Он касается торговца, который стоит перед дилеммой, взять ли ему деньги в депозит под обещание вернуть, хотя он знает, что вернуть их не сможет, или не брать. Речь идет о том, допустимо ли в данном случае с нравственной точки зрения давать ложные обещания. Чтобы разрешить
10
дилемму, кантовский торговец должен спросить себя: может ли ложное обещание, на которое его толкают соображения прагматической выгоды, стать всеобщим законом? Говоря более обобщенно: что случится, если нее будут давать ложные обещания, решив, что обещания должны быть ложными? Тогда никто не будет верить обещаниям. Следовательно, не поверят и его, т.е. данного конкретного торговца, обещанию. Тем самым максима воли, помысленная в качестве общезначимой (возведенная во всеобщий закон), отрицает саму себя. Она не выдерживает моральной •жепертизы. Второй пример задает модель мысленного эксперимента с целью выяснения того, может ли планируемый поступок считаться поступком, совершаемым в силу морального долга. Для этого человек должен из мотивации предполагаемого поступка вычесть все прагматические мотивы и честно ответить себе на вопрос: совершил бы он данный поступок, если бы не имел в нем интереса и выгоды? Так, купец, ведущий свои дела честно и с выгодой, должен ответить себе на вопрос: продолжал бы он вести свои дела честно и в том случае, если бы они не приносили ему выгоды? Положительный ответ означал бы, что в поведении участвует также мотив долга. Суть эксперимента состоит в конструировании такой идеальной ситуации, где долг как мотив поступка противостоит склонностям.
Идеальный эксперимент как форма мотивирования поступков не является открытием Канта. Он присущ самому моральному сознанию, в частности заложен в самом универсальном и транскультурном моральном требовании — золотом правиле нравственности. Золотое правило в евангельской формулировке гласит: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мат. 7, 12). Это правило предписывает человеку поступать по таким нормам, которые он сам сформулировал бы в качестве норм нравственного поведения, если бы был тем существом, которому дано формулировать такие нормы. Критерием таких норм считается готовность действующего индивида самому оказаться под их действием. Эксперимент состоит в том, что индивид, прежде чем он будет реально практиковать норму в отношении других, мысленно испытывает ее действие на самом себе. Это достигается путем мысленного переворачивания ситуации, в результате которого тот, кто действует, и тот, на кого направлено действие, меняются местами. Нравственной считается только такая норма, которая выдерживает сверхнагрузки золотого правила.
Идеальное (мысленное) экспериментирование как специфическая форма функционирования морали в мотивации поведения определяет своеобразие ее языка, выдержанного в модальности сослагательного наклонения. Исключительно важное замечание по этому вопросу находим в «Принципах этики» Дж.Мура: «Мы используем одни и те же слова, когда высказываем этическое суждение о предмете, существующем в действительности, и когда мы его высказываем о предмете, существование ко¬
11
торого мы считаем только возможным. В этой языковой двузначности мы имеем, следовательно, возможный источник ошибочных точек зрения на соотношение истин, касающихся действительного существования чего-то, и истин, касающихся оценок»1. Моральная оценка есть идеальная процедура, касающаяся не действительности, а возможности, не реальных мотивов, в силу которых совершаются поступки, а возможных мотивов, в силу которых они могли бы быть совершены. Дать моральную оценку чему-то — значит помыслить это как то, что может иметь место в идеальном царстве, и она может получить адекватное языковое выражение только через сослагательное наклонение. Есть ли основания рассматривать нечто (тот или иной конкретный мотив поведения) как то, что могло бы иметь место в идеальном царстве, — такова структура моральной оценки. В живом языке моральные оценки часто формулируются в изъявительном наклонении (почему это так происходит— предмет отдельного разговора), но тем не менее есть яркие примеры, когда они имеют адекватную форму сослагательного наклонения. Самый характерный из них— уже упоминавшееся золотое правило нравственности.
Обращаясь к индивиду, задумывающемуся над тем, является ли нравственным поступок, который ему предстоит совершить, золотое правило говорит, что для этого он должен ответить на другой вопрос: хотел бы он, чтобы люди с ним поступали таким же образом, т.е. рассмотреть этот поступок как возможный в идеальном мире. Следует также обратить внимание на то, что и язык этики Канта насыщен сослагательным наклонением, знаменитым «если бы» (als ob). Сослагательность является существенным элементом формулы категорического императива «поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». «Можешь пожелать» в данном случае несомненно означает «желал бы». И буквально через предложение Кант уточняет: «Поступай так, как если бы...»; чуть дальше: «...совершать каждый поступок не иначе как по такой максиме, которая могла бы служить всеобщим законом»2. В связи с понятиями умопостигаемого мира и царства целей, благодаря принадлежности к которым категорический императив оказывается возможным, следует разъяснение, однозначно свидетельствующее, что речь идет об идеальной, мысленно конструируемой принадлежности: «...каждое разумное существо должно поступать так, как если бы оно благодаря своим максимам всегда было законодательствующим членом во всеобщем царстве целей»3.
Из всего сказанного вытекает, что абсолютная мораль приобретает субъектность только в голове (мысленно) и в сослагательной модально¬
1 Мур Дж. Принципы этики — Мур Дж. Природа моральной философии М, 1999, с. 135,
2 Кант И. Основоположение к метафизике нравов М , 1965, с. 260, 261, 276
1 'Гам же, с 281.
12
сти; она обнаруживает свою абсолютность, категоричность только по отношению к тому индивиду, в голове которого она существует. Абсолютная мораль — не то, что один индивид может предписать или даже предъявить другому, она есть то, что индивид предписывает самому себе, чтобы стать моральным. Это— форма самообязывания, и ничего иного она не означает. Говоря словами Канта, категорический императив тождествен автономии воли, он предписывает ни больше ни меньше как эту автономию.
* * *
Так как мораль сама не является конкретным мотивом поведения, а представляет собой лишь контрольную инстанцию, призванную рассмотреть все прочие мотивы на их последней стадии, когда те готовы оформиться в окончательное решение и перейти в поступок, она может только запретить (выбраковать) определенные поступки, наложить на них свое вето. Об этом же свидетельствует сослагательная модальность моральной оценки. За сослагательными предложениями скрываются отрицательные индикативные высказывания: когда, например, говорят «вы бы выиграли», «вы бы чувствовали себя хорошо», то имеется в виду, что вы на самом деле не выиграли и не чувствуете себя хорошо. Если абсолютность морального обязывания нельзя выразить иначе, как в сослагательной форме, то это означает, что его фактический смысл, который можно передать как описание реальности, может заключаться только в отрицании. Мораль приобретает практически-регулятивную действенность в качестве отрицания, ограничения деятельности. Вновь обращаясь к Канту, следует заметить, что хотя категорический императив с формально-языковой точки зрения является утвердительным суждением, тем не менее его реальный смысл в качестве регулятивного принципа состоит в том, чтобы ограничить максимы условием их общезначимости. Кант многократно подчеркивает, что мораль действенна как ограничение, что требование быть пригодным для всеобщего законодательства есть лишь негативный принцип (не противоречить закону).
Мораль в качестве абсолютной ценности не может указать, что следует делать (об этом говорят другие формы человеческого знания и практики — медицина, социология, механика, диетология и т.д.), но она может указать и указывает на то, чего ни при каких условиях делать нельзя. Она приобретает действенность — притом не просто внутреннюю, духовную, а внешнюю, предметную действенность— в негативных (отрицательных) поступках. Отрицательное действие не тождественно отсутствию поступка, бездействию, так как оно представляет собой активное блокирование индивидом своего действия из числа тех, которые ему хочется совершить и для совершения которых у него имеются достаточные прагматические основания, и осуществляется такое блокирование действия по той единственной причине, что оно является нравственно неприемлемым. Особенно
13
важно отличать отрицательное действие от порочного бездействия, когда индивид не делает то, что он по им же принятым моральным критериям должен был бы делать. Не делать то, что дблжно делать, и не делать то, что не должно делать,— принципиально разные «недеяния». В первом случае мы не совершаем действие по причине своей порочности, во втором случае не совершаем порочных действий.
Негативное действие может быть категорическим, безусловным потому, что речь идет о действии в том пункте перехода мотива в решение, который полностью подвластен сознательной воле человека. Дж.Мур в работе «Природа моральной философии» обратил внимание на то, что, когда речь идет о моральной обязательности, следует отличать правила, которые относятся к действиям, от правил, которые относятся к мыслям, чувствам, желаниям. Первые он назвал правилами долга, вторые — идеальными правилами. Такое различение необходимо делать по той причине, что действия находятся под нашим контролем в значительно большей мере, чем наши желания. Так, например, человек может не прелюбодействовать, как это предусмотрено седьмой заповедью Декалога. Но он, вопреки требованию десятой заповеди того же Декалога, не может сделать так, чтобы у него даже не возникало такого желания. Негативное действие означает, что индивид блокирует, закрывает переход определенных желаний в действие. И это полностью зависит от его сознательной воли. Человек не может сделать так, чтобы он непременно чего-то захотел. Но он всегда может отказаться от того, что он хочет. Это — тот случай, который полностью подходит под известную формулу Канта: должен— значит можешь.
Негативное действие может быть не только категорическим, безусловным, но и общезначимым. Более того, только оно и может быть общезначимым, имея в виду общезначимость, задаваемую универсальным разумом. Позитивные поступки всегда конкретны, индивидуальны, замкнуты на частные обстоятельства. Они по определению тоже бесконечно многообразны, как бесконечно многообразны индивиды в их жизненных ситуациях. Поэтому невозможно даже представить, чтобы все люди совершали одинаковые поступки, не говоря уже о том, чтобы это было возможно на практике. Это невозможно именно по той причине, что поступки берут начало в психике индивидов и обстоятельствах их жизни. Другое дело — негативные действия. Поскольку они являются результатом разумно обоснованного и сознательного запрета, они могут быть столь же общезначимыми, сколь общезначимы разум и сознательная воля. Поэтому вполне реально представить картину, когда все люди могут не совершать поступки, относительно которых они пришли к всеобщему пониманию и согласию, что они не должны их совершать. Если в поступке выделить его всеобщий принцип (задаваемый разумом канон) и конкретную, каждый раз частную материю, то в позитивном поступке представлены оба момента. Негативный поступок являет собой урезанный поступок в том
14
смысле, что он ограничивается всеобщим принципом. Здесь принцип (разумная основа, закон) поступка и сам поступок в своей непосредственности, индивидуализированности полностью совпадают. Следовательно, одного принципа достаточно для того, чтобы он состоялся.
Негативный поступок может быть не только общезначимым, он еще способен достичь той степени однозначности, которая исключает возможность морализирующего самообмана. Для понимания нравственного качества позитивного поступка очень важны мотивы, по которым он совершен. Однако разобраться в них, в частности отделить моральные мотивы от прагматических и ответить на вопрос, в какой мере поступок был совершен в силу долга, а в какой его максимой было стремление к выгоде, — крайне сложно. Сложно в том числе и даже в первую очередь для самого действующего индивида. Фрейд и его школа рассказали нам, что человек может обманывать сам себя не менее изощренно, чем других. В случае негативного поступка, не совершаемого вследствие запрета, психологические основания для морального самообмана, для того, чтобы зло выдавать за добро, отсутствуют. Здесь моральный мотив поступка совпадает с самим его фактом. Те мотивы, которые толкают к морально запрещенному поступку, признаются в качестве неморальных уже в силу того, что они к нему толкают. Моральный же мотив морально запрещенного поступка подводит к тому, чтобы этот поступок не состоялся. А в вопросе о том, состоялся запрещенный поступок или нет, обмануться невозможно. Пифагорейцу не надо было ломать голову над тем, скушал он бобы или нет, точно так же как и христианину — прелюбодействовал он или нет, а стороннику ненасилия — совершил он убийство или нет. Если индивид, искренне желая быть до конца честным перед самим собой и даже пользуясь для этого предлагаемым учеными инструментарием наподобие категорического императива Канта, не всегда может дать себе отчет в том, почему он совершил тот или иной поступок, говоря точнее, какую роль в нем играли моральные мотивы, то ему не составляет труда узнать, почему он не совершил того или иного запрещенного поступка в тех случаях, когда у него были возможности, желание или соблазн совершить его. Предельно ясно, что в этом случае мотивом несовершения запретного поступка является сам запрет.
На первый взгляд может показаться, что сведёнием абсолютной морали к негативности поведения мы низводим ее с орбиты высокой духовности до уровня элементарной дисциплины. Но это не так. Негативный поступок есть запрещенный поступок, который не совершается единственно по той причине, что он запрещен. Он не совершается не потому, что не было случая или нужды в нем, а по сознательному (часто мучительному, трудному) решению не делать этого, хотя нужда и случай того требовали. Запрещенный (негативный) поступок — сугубо духовный акт, он требует даже большей внутренней концентрации и личностного напряжения, чем позитивный поступок. Ибо если позитивный поступок, даже в том случае
15
когда он является высоко добродетельным, всегда мотивирован психологически, представляет собой выражение и продолжение желаний индивида, jo мотивация негативного поступка, поскольку она направлена на сдерживание определенных психологических импульсов, является сугубо духовной, идет от разума, понимания. По крайней мере не вызывает сомнений, что автономия человеческого духа обнаруживает себя в негативном поступке более явно и активно, чем в позитивном.
Таким образом, мораль в своих абсолютных притязаниях приобретает практическую действенность через запреты и запрещенные (негативные) поступки. Этот вывод подтверждается не только логическими соображениями, как я старался показать. Он имеет также высокую степень исторической достоверности. Запреты были и остаются основной и самой действенной формой реально практиковавшихся в истории категорических моральных требований. Иллюстрацией и доказательством этого может служить кодекс Моисея с его «не убий», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не прелюбодействуй», являющийся основой нравственной жизни культурных миров иудаизма, христианства, ислама. И не только он. Этическим ядром жизнеучения Будды является ахимса (невреждение, ненасилие). Конфуций на вопрос ученика о слове, которым можно было бы руководствоваться всю жизнь, ответил: «Не делай другим то, чего не пожелаешь себе». Этот ряд мне хотелось бы завершить упоминанием двух людей, которые олицетворяли и защищали идею абсолютной морали в XX в., когда делать это было особенно трудно, — Льва Николаевича Толстого и Махатмы Ганди. Они оба придерживались мнения, что существующие в мире религии едины в своих основах, но различны во внешних проявлениях. Единство основ религий и оплодотворенных ими культур они видели в принципе ненасилия и ставили перед собой цель найти адекватное эпохе внешнее выражение этого принципа. Ненасилие, понимаемое в прямом смысле как отрицание насилия, есть, на мой взгляд, та конкретная негативность поведения, которая может считаться категорическим императивом нашего времени. Это задает такое духовное и физическое ограничение человеческой деятельности, которое обозначает пространство созидательного взаимодействия различных культур и которое при этом является органичным для каждой из них.
* * *
Обращаясь к последнему возражению, следует признать, что встречающиеся в реальном опыте общественной жизни апелляции к абсолютной морали, попытки говорить от ее имени, как правило (за редкими исключениями, которые требуют особого исследования), являются двусмысленными, демагогическими. Но вряд ли можно возлагать вину за это на идею абсолютной морали. Скорее наоборот. Бертран Рассел, как известно, был противником морализирования и предпочитал воздерживаться от этических оценок. Один журналист, смущенный такой позицией
16
философа, спросил его: «Согласны ли Вы хотя бы с тем, что некоторые поступки безнравственны?» Рассел ответил: «Я не хотел бы использовать это слово». Такая сдержанность обусловлена не только этическим скептицизмом. Она следует также из этического абсолютизма. Из признания абсолютной морали неизбежно вытекает, что любые утверждения о морали — хотя бы потому, что они облечены в конкретную материю языка, не говоря уже обо всех остальных аспектах, — являются относительными.
Абсолютная ценность по определению не может быть описана, она не может быть никем заявлена и предъявлена. Те, кто говорит и делает нечто от имени абсолютной морали, говорят и делают не то, о чем они говорят и что делают. Но нет нужды говорить и действовать от имени абсолютной ценности. Напротив, есть нужда не делать этого.
Считается, что добрые дела следует совершать скрытно— скрытно и от других, и от самого себя. Доброе дело теряет в своей нравственной красоте, если о нем начинают кричать на всех углах или если даже сам совершивший его человек упивается им, преисполняется собственной значимостью из-за того, что он совершил это дело. Милостыню, учит Иисус, надо творить тайно, так, чтобы левая рука не знала, что творит правая. Здесь мы имеем дело с очевидным парадоксом: добро — категория человеческой практики, т.е. оно должно деятельно утверждать себя, быть явным, и в то же время оно должно быть невидимым, скрытным. Этот парадокс получает разрешение в рамках концепции, связывающей деятельную сущность морального добра с запретами и отрицательными поступками. Отрицательный поступок есть поступок, который не совершен вследствие сознательного решения, по той причине, что он является нравственно запрещенным. Можно сказать так: он совершен в качестве несовершенного поступка. Он позитивен в своей негативности, ибо деятельно задает определенную направленность отношений индивида к другим людям, и в то же время он скрыт от окружающих, ибо он не состоялся, и в этом его ценность.
Вместе с тем негативный поступок в своем нравственном качестве скрыт и от самого индивида, который является его автором, поскольку не дает последнему никаких оснований для самообольщения. Поступок, который был запрещен и не состоялся, есть недостойный поступок (именно по причине недостойности он и был запрещен). Оставаясь в логике морального сознания, человек не может гордиться тем, что он не сделал чего-то плохого, недостойного, что он чего-то не украл, кого-то не убил, не совершил подлости и т.д. Хотя тот факт, что в итоге он ничего такого не сделал, в известном смысле говорит в его пользу, тем не менее сама ситуация, когда у него было искушение сделать, поступить недостойно (украсть, убить, сподличать и т.д.) и ему нужно было бороться с этим искушением, свидетельствует против него. Словом, мораль в ее абсолютных притязаниях— не то, о чем говорят и что выставляют напоказ; это то, о чем молчат и что скрывают. Через деятельное следование моральным
17
запретам, через соответствующие им негативные поступки мы можем молчать так, чтобы это было молчанием морали.
* * *
Таким образом, идея абсолютной морали (а) представляет собой идеальную точку отсчета, которая задается индивидом самому себе для моральной квалификации своего поведения и существует в модальности сослагательного наклонения, (б) приобретает действенность через категорические запреты и соответствующие им негативные поступки, (в) искажается, трансформируясь в свою противоположность в случаях публичных апелляций к ней. При таком уточнении, на мой взгляд, снимаются возражения против идеи абсолютной морали, которые были высказаны в ходе ее исторической и теоретической критики, и она приобретает вполне современный вид, становится работающей идеей.
Может возникнуть сомнение: а зачем вообще держаться за идею абсолютной морали, и раз уж она закачалась, то не лучше ли подтолкнуть ее, чтобы навсегда освободить себя от этого фатума? Может быть, было бы и лучше сделать так, если бы это было возможно. Отказ от идеи абсолютной морали чреват тем, что за абсолютную может быть выдана любая относительная ценность. Именно это мы имеем в современном мире, где те или иные люди и группы свои частные позиции, цели и интересы выдают за единственно истинные и безупречные, партии говорят от имени истории, конфессии — от имени Бога, одни государства и народы присваивают себе право вершить суд над другими, где материальные блага подменили духовные ценности, деньги стали кумиром, которому приносится больше жертв, чем всем идолам прошлого.
Я бы сказал так: правильно понятая идея абсолютной морали не только не противоречит культурно-конфессиональному и политическому плюрализму, она является его необходимой предпосылкой.
Роджер Смит
«Наука о человеке» и моральная философия: отношение фактов и ценностей
«Нет ни одного важного вопроса, на который наука о человеке не имела бы ответа, — заметил Дэвид Юм в „Трактате о человеческой природе“, — как нет ни одного вопроса, который без этой науки можно было бы вполне разрешить»1. Немногим позже Дени Дидро писал: «Что можем мы с точностью сказать о добре и зле, красоте и уродстве, о плохом и хорошем, истинном и ложном без предварительного изучения человека?.. Как много философов, не потрудившихся сделать самые простые наблюдения, наделили человека волчьей моралью, что так же глупо, как наделить волка моралью человеческой»2. Эти и другие блестящие представители европейского Просвещения верили, что мир человеческой природы еще предстоит открыть; наблюдаемые закономерности должны были дать начало «науке о человеке», призванной руководить нашими мыслями и действиями. Эта наука, мечтали Юм и Дидро, возведет прочный фундамент для наук об управлении и хозяйстве (которую друг Юма Адам Смит называл «наукой для законодателя»), юриспруденции, этики и эстетики. С той поры и до наших дней прогрессивные мыслители, социальные реформаторы и политические деятели, пытаясь сделать мир лучше, обращаются к социальным, психологическим и политическим наукам, экономике и управлению ресурсами. Эти современные дисциплины— наследницы науки о человеке XVIII в.; опора на них в социально-политической практике возвращает нас к идеалам Просвещения.
Но с тех пор много воды утекло, и свойственная Просвещению вера в то, что познание человека приведет к общественному благу, сменилась
1 Hume D. A Treatise of Human Nature. Ed. by L.A.Selby-Bigge. Oxf., 1888 (1-еизд.— 1739 г.), с. XX.
2 Цит. по: Wilson A.M. Diderot. N. Y., 1972, с. 663.
© Роджер Смит, 2004
19
типичной для нашего времени утратой интеллектуальных, моральных и политических иллюзий. Нам приходится констатировать, что науки о человеке оказывают лишь слабое влияние на сложные реалии политики, этическую и эстетическую культуру. Принимаемые законодательные демократические решения, не говоря уже о чувствах населения, далеко не всегда совпадают с научно обоснованной политикой. Более того, сама наука — в особенности микробиология и генетика — в процессе «познания» человека создает условия для такого его кардинального изменения, что неизвестно, сможем ли мы продолжать называть его «человеком». Согласия и ясности по поводу соотношения науки с моральным дискурсом не было и нет. Разрушена вера в то, что «познание человека» приведет к ясным понятиям о добре и зле.
В этой статье я предлагаю еще раз вернуться к проблеме «наука о человеке и моральный дискурс», которую можно представить как проблему соотношения фактов и ценностей и посмотреть на нее с исторической точки зрения. Такие авторы, как Аласдар Макинтайр и Чарлз Тэйлор, уже обращались к исторической интерпретации моральных тупиков современности3. Они пришли к выводу, что знание человека— или, говоря современным языком, знание в науках о человеке— всегда интерпретативное и историческое. Поскольку то, что мы знаем о самих себе, влияет на то, кем мы можем стать, никакие жесткие прогнозы в этой области невозможны. Мы познаем себя ретроспективно, а не проспективно: «Наука о человеке смотрит назад. Она неизбежно исторична»4.
Один момент требует немедленного уточнения. В статье я использую такие выражения, как «наука о человеке» (the science of man) и «человеческая природа» (man’s nature). Надеюсь, читателю понятно, что я следую языку XVIII в. В тот период о том, что считалось универсальным, говорилось в мужском роде; это, конечно, подразумевает определенное нормативное суждение (которое я не разделяю) о том, что значит быть человеком в полном смысле слова. Однако в XVIII в. существовала и богатая литература о различиях между мужчиной и женщиной, как и о различиях между человеческими типами; были и сторонники создания «науки о женщине»5.
Корни утверждений Юма и Дидро лежат в той области, которую многие их современники назвали бы «моральной философией». Чтобы понять, что это такое, нужно проследить, как значение этого термина изменялось
3 MacIntyre A. After Virtue: A Study in Moral Theory. L., 1981 ; Taylor Ch. Sources of the Self The Making of the Modem Identity. Cambridge, 1989.
4 Taylor Ch. Interpretation and the Sciences of Man. — Philosophy and the Human Sciences: Philosophical Papers. Vol. 2. Cambridge, 1985 (1-е изд. — 1971 г.), с. 57.
5 Jordanova L. Sex and Gender. — Inventing Human Science: Eighteenth-Century Domains. Ed. by Ch.Fox, R.Porter and R.Wokler. Berkeley, 1995, с 152-183; TomaselliS. The Enlightenment Debate on Women. — History Workshop Journal. 1985, No. 20, c. 101-124.
20
в истории; это и задает общую тему моего обсуждения. В XX в. в англоязычной классификации дисциплин моральная философия означала этику, а ее история — историю дискуссий об основаниях морального суждения от Сократа до американского натурализма и эмотивизма (emotivism); традиция ее преподавания заключалась в чтении «великих текстов». Недавние исследования по истории этого предмета расширили круг исторических ссылок; тем не менее под моральной философией продолжали понимать этику.
И все же нужно учитывать, что выделение моральной философии в отрасль профессиональной философии произошло сравнительно недавно. В Великобритании оно датируется поздневикторианской эпохой и связано с тогдашними переменами в организации университетского преподавания. До этого, как указывает историк моральной философии Дж.Б.Шни- винд, под моральной философией понимали гораздо более обширную (хотя и не четко очерченную) область в рамках христианско-аристотелевской традиции, и такое ее понимание сохранялось в XVIII в.6. Моральная философия была одной из пяти studia humanitatis, а также — разделом практического учения о правильной жизни, тесно связанного с риторикой, политикой и юриспруденцией. Программы преподавания и содержание этого учения были разными в зависимости от школы и учителя. Латинское слово moralis было переводом греческого понятия «присущее характеру» (pertaining to character), под которым имелась в виду склонность человека к тому или иному образу поведения7. Моральная философия, таким образом, была областью — одновременно теоретической и практической, — имеющей отношение к характеру. Заметим, что в ней ничего не говорилось о современном разделении на факты и ценности.
Содержание моральной философии в том виде, в каком она преподавалась в эпоху Возрождения и Новое время, также связано с противопоставлением «морального» и «природного» (natural). В отличие от философии природы (естественной философии), моральная философия занималась человеческой сферой, миром, который создает человек, — миром обычаев, законов, языка, искусства и философии, характера и суждений. Такое понимание моральной философии отделяло изучение человека от исследований природы (входящих в physica). Однако факты и ценности при этом не разделялись (в том смысле, в каком наш современник может понять различие между человеческой и природной сферами), выделялась только — для практических целей — сфера характера и действий. Следуя авторитету Монтескьё и Бюффона, французские мыслители XVIII и XIX вв.
6 Schneewind J.В. No Discipline, No History: The Case of Moral Philosophy. — History and the Disciplines: The Reclassification of Knowledge in Early Modern Europe. Ed. by Donald R. Kelley. Rochester, 1997.
7 MacIntyre A. After Virtue, c. 37.
21
восстановили противопоставление мира природно-телесного (physique) и морального (moral). Эта терминология закрепила за различными институциями изучение человека как физического существа и человека как деятеля8.
Однако такое разделение знаний, при котором знание о природе преподается под рубрикой «физика», а знание о человеке— под рубрикой «моральная философия», никогда не было жестким и безусловным. Хотя христиане и верили, что сущность человека отдельна от его физического бытия, все же никто не сомневался в том, что человек существует в физическом мире и наделен его природой. Граница между моральной и естественной философией обычно была предметом споров и обсуждений. Их жесткому разделению препятствовало аристотелевское понятие о душе, которое составляло ядро преподавания в европейских университетах и объединяло очень разные аспекты души — к примеру, душа как первоначало жизни и как самосозерцание разума. Таким образом, аристотелевское понятие о душе обеспечивало преемственность между физическим и моральным, хотя в других случаях граница между ними была очень прочной. Как указывает философ Г.Хатфилд, тексты начала Нового времени, интерпретирующие аристотелевскую «науку о душе», преподавались (особенно в германоязычных областях) в курсе «физика», а не в курсе «моральная философия»9. В этих случаях наука о человеке была частью естественных наук.
В XVII в. вопрос о границе между естественной и моральной философией, как и вопрос о том, в рамках каких учебных программ следует трактовать высшие способности человека (разум, нравственное действие), еще более усложнился. Вместе с поисками ясности в познании, предпринятыми Декартом, Лейбницем и Локком, рождение новой метафизики природы (позже получившей название «научная революция») влекло за собой неоднозначные последствия. С одной стороны, разделение между душой и телом, науками о разумной душе и материальной природе сделалось более четким. Но с другой стороны, философы утверждали, что искомый правильный способ познания в равной мере приложим к природе и человеку. Далее, они максимально увеличили область приложения того типа объяснений, какой используется по отношению к природе. Декарт расширил исследование физической природы до такой степени, что оно теперь включало все аспекты взаимодействия души с телом, в том числе восприятие, эмоции и память. Локк представил человеческие действия как след¬
8 См.: Wokler R. From l’homme physique to l’homme moral and Back* Towards a History of Enlightenment Anthropology. — History of the Human Sciences. 1993, vol. 6 (1), c. 121-138; он же. Anthropology and Conjectural History in the Enlightenment. — Inventing Human Science, c. 31-52.
9 Hatfield G. Remaking the Science of Mind: Psychology as Natural Science.— Inventing Human Science, с. 184-231.
22
ствие удовольствия и боли, имея при этом в виду, что причинная обусловленность свойственна и природе и человеку.
Еще одно обстоятельство, из-за которого моральная философия не смогла оформиться в особый предмет, заключалось в тесной связи между поведением и характером человека, с одной стороны, и теологией и верой — с другой. В Европе вплоть до начала XVIII в. в академических кругах как само собой разумеющееся считалось, что истинное знание о человеке дает прежде всего богословие и лишь затем — моральная философия. Вера в существование Богоданной души придавала дополнительный вес убеждению в том, что знание о человеке, которое дает моральная философия, в корне отличается от знания природы. Нам не следует забывать ни силы этой веры, которую и в наши дни выражает католическая и православная догматика, ни четкости вытекающих из нее этических принципов. Согласно великой «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера (однако религиозное содержание приведенной ниже цитаты сами авторы стремились перечеркнуть в других пассажах текста), «мораль везде одна и та же. Это — универсальный закон, который начертан Божественным перстом на всех сердцах. Это — вечное наставление об общем чувстве {sensibilité) и общих потребностях»10. Но появление «Энциклопедии» свидетельствовало о том, что вопрос об отношении веры к новому пониманию человека как части природы в XVIII в. уже стоял со всей неотвратимостью.
Переходя в век двадцатый, мы наблюдаем отделение моральной философии от наук о человеке и в институциональном, и в интеллектуальном плане. Преподавание ее в том виде, в каком оно происходило в рамках аристотелианства — как основы практического и теоретического изучения характера, — ушло в прошлое. Возможно, последний ее взлет имел место в XIX в., в колледжах свободных искусств в США11. Вместо этого распространилась идея о том, что науки изучают человека как фактическую данность, в то время как этика исследует основания оценочного суждения, — при этом оба вида познания считались независимыми от социальноисторического контекста. В дальнейшем я выскажу несколько предположений о том, как совершались эти изменения и каково было их значение. Оговорюсь, что при более подробном историческом исследовании было бы необходимо учитывать различия между европейским и североамериканским контекстом12.
Особый интерес представляет расцвет философской культуры в Шотландии в первой половине XVIII в. Там моральная философия обеспечила институциональную «крышу», под которой университетские преподаватели могли разрабатывать то, что они называли «наукой о человеке». Адам
10 Цит. по: Wilson A.M. Diderot, с. 488.
11 См.: Richards G. То Know Our Fellow Men to Do Them Good: American Psychology’s Enduring Moral Project. — History of the Human Sciences. 1995, vol. 8(3), c. 1-24.
12 Cm.: Smith R. The Norton History of the Human Sciences. N. Y., 1997.
23
Смит, профессор моральной философии в университете Глазго в 1750-х годах, читал лекции по юриспруденции, о происхождении и природе языка, о богатстве и моральных чувствах. Адам Фергюсон, который в 1764 г. занял кафедру моральной философии в Эдинбурге, заполнил свой учебник «Институты моральной философии» («Institutes of Moral Philosophy») наблюдениями о регулярных чертах физической, психической и моральной природы человека13. В своем «Опыте истории цивилизованного общества»14 он объединил эти закономерности в историческом повествовании о цивилизованном и моральном обществе.
Фергюсон был христианским моралистом, неколебимо верившим в то, что Бог создал человека моральным существом: «Аффекты и сила души, которые связуют и придают мощь обществам, — это Богодухновенные и изначальные атрибуты человеческой природы»15. Как и другие шотландские профессора, он построил аргументацию, завезенную в Шотландию Фрэнсисом Хатчисоном, на «моральном чувстве» (moral sense). Хатчисон, Фергюсон и многие британские авторы считали, что человек совершает моральные поступки потому, что нравственное чувство присуще его природе. Через это «внутреннее» чувство, отличное от «внешних» чувств, утверждал Фергюсон, как и через аффекты (на современном языке — эмоции), которые это чувство сопровождают, и воспринимаются добродетельные свойства вещей и действий. Лорд Антони Эшли Купер Шефтсбе- ри (чьим наставником был Локк) сравнил эти естественные человеческие аффекты со струнами музыкального инструмента, настроенного согласно естественной гармонии: мы вибрируем, находясь в гармонии или в дисгармонии с добродетельностью или греховностью наших действий.
Для того, кто хочет проследить корни современных споров о фактах и ценностях, эти идеи представляют большой интерес. Авторы XVIII в. пропагандировали христианскую мораль, трактуя способность человека быть нравственным как «естественную» (natural). Разумеется, сами они не видели в этом противоречия, так как в их мире Бог был источником всего творения, в том числе нравственных чувств. Тем не менее этот моральный дискурс подвиг их на то, чтобы наблюдать и классифицировать моральные чувства и действия таким же образом, как и все другие аспекты природного мира. Благодаря им появилась «естественная история» чувств и характера, и публика с интересом читала эти работы наряду с произведениями нового жанра (сентиментальный роман). Так, читатели «Теории моральных чувств» («The Theory of Moral Sentiments». 1759) А.Смита восхищались не только теорией, но и богатством описаний человеческих эмоций и реакций. Юм и другие философы назвали этот подход к познанию чело¬
13 См.: Hatfield G. Remaking the Science of Mind, c. 207-208.
14 Ferguson A. An Essay on the History of Civil Society. Ed. by D.Forbes. Edinburgh, 1966 (1-е изд. — 1767 г.).
15 Там же, с. 205.
24
века «опытным», или «экспериментальным» (experimental), тем самым прочно связав исследование природы человеческой и физической. Шотландские мыслители стремились к познанию человека как целого, в единстве его физической, психической и общественной природы. Преподавание моральной философии в таком контексте привело к ее объединению с философией природы; в результате сложилось убеждение, что именно наука о человеческой природе закладывает фундамент для понимания морального действия.
Сформулированные в рамках христианской традиции, эти аргументы легли в основу современных взглядов, хотя христианского содержания в них осталось мало. До начала Нового времени христианство понимало моральное действие как борьбу с греховной природой. Моральная философия, которая выделила моральную сферу человеческого характера как противодействующую природе (хотя и признавала, что в некотором смысле человек — существо природное), в XVIII в. все более склонялась к тому, что мораль — естественная способность человека. И возникла эта идея внутри христианского образа мыслей, а не в оппозиции к нему.
Здесь полезно будет отметить существенный момент— открытость английского слова «природа» (nature) целому ряду значений. В понятии «наука о человеке», возникшем в XVIII в., объединились несколько разных денотатов16. Слово «природа» содержало отсылку к сути, или сущности, вещи, тому, что делает эту вещь самой собой. Используя слово в данном смысле, христианская мысль создала иерархическую последовательность «природ», или цепь существ. Вслед за этим в Европе Нового времени слово «природа» стало использоваться для обозначения такого состояния мира (и человека в том числе), которое было независимым от человека или предшествовало созданию им обычаев и цивилизации. Такое значение противопоставляло «природу» не человеку, а «цивилизованному обществу»; в этом значении слово активно использовалось как в политических концепциях о природном состоянии человека, так и в дискуссиях по вопросу о том, является ли человек в естественном состоянии существом «общественным» или он «индивидуалист».
В результате использования термина «моральное чувство» моральная природа (естество, being) человека была отождествлена с природой (состоянием, которое логически и— как это становилось все более ясно в XVIII в. — исторически предшествовало цивилизации). Но если в начале XVIII в. под «природой» понималось все то, что существует независимо от человеческой кулыуры, то спустя два столетия западная мысль сократила различия между природой и культурой настолько, что к концу XX в. многие стали понимать все человеческое в терминах физической и биологической природы. Началось же это сближение с игры слов: «природа»
16 См.: Smith R. The Language of Human Nature. — Inventing Human Science, c. 88-111
25
в смысле «натура», «естество» (nature, being) стала «природой» в смысле «мир, предшествующий культуре (nature)».
Этот серьезный переворот в значении слова «природа», а следовательно, и в понимании, что значит быть человеком, изменил лицо моральной философии. Философы эпохи Просвещения и шотландские моралисты еще полагали, что природа человека — нравственна. Но до XVIII в. религиозные мыслители верили в то, что моральная природа (натура, естество, being) — перст Божий, трансцендентный по отношению к природе физической. В эпоху Просвещения же стали склоняться к тому, что это моральное естество человека— часть природы. В XVII в. Томас Гоббс пришел к выводу, ставшему типичным для Нового времени: и естественная и моральная философия изучают одни и те же законы — законы природы. По его словам, «наука о... [естественном законе] — это единственная истинная моральная философия. Ибо моральная философия — не что иное, как наука о добре и зле, — проще говоря, о человеческом обществе. Добро и зло суть названия для наших влечений и отвращений (Appetites and Aversions)»17. Из этого следовало, что если человечество хочет постичь, что такое добро и зло, и понять, как поступать правильно, оно должно познать собственную природу— свои «влечения и отвращения». Знание чувств и побуждаемых ими действий должно было послужить основой для науки этики. Из отождествления морального дискура с дискурсом природы возник утилитаризм Нового времени; он выводил оценочные критерии из тех последствий, которые действие имеет для благоденствия человека.
Утилитаристский образ мыслей разросся и проник во все аспекты западной жизни, проследить которые — задача, выходящая далеко за пределы настоящей статьи. Замечу только, что слияние естественной и моральной философии было результатом определенной интеллектуальной работы. Классическое обсуждение этого вопроса содержится в рассуждении Джона Стюарта Милля о создании так называемой «моральной науки»18. С его точки зрения, естественная и моральная науки— эквивалентные формы знания; обе имеют дело с общими законами, выведенными индуктивно из опыта. Моральная наука, считал он, в полной мере разовьется только после того, как будет создана наука об индивидуальном характере — знание о том, как люди приобретают свойственные им чувства, способности и характер. По его мнению, старое название — «моральная философия», — хотя оно и имело отношение к изучению характера, стало бесполезным. Название, которое Милль предложил в замену, отражало его веру в то, что изучать человека должна единая наука. Слово «этика» он зарезервировал зз практическим искусством применения получаемого мо¬
17 Hobbes Т. Leviathan Ed by Richard Tuck Cambridge, 1991 (1-е изд — 1651 г ), с. 110
18 См/ MillJ.S. A System of Logic Ratiocinative and Inductive: Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation. 8th ed reprinted. L., 1900 (1-е изд. — 1843 г.), ч. VI.
26
ральной наукой знания. Позже, однако, профессиональные философы отделили исследование моральной теории, названное ими этикой, от эмпирических исследований человека, нацеленных на то, чтобы изучать свободные от моральных оценок факты.
Дискуссия начала XVIII в. о «естественном» моральном чувстве и зависимости морального действия от естественных аффектов— влечений и отвращений или удовольствия и боли — создала условия для современного обсуждения вопроса о соотношении фактов и ценностей.
Однако ни язык фактов и ценностей, ни различение стоящих за этими терминами понятий тогда еще не были очевидными. В самом деле, моральная философия эпохи Просвещения еще привычно изображала знание моральной природы человека, хотя и отождествленной с частью природы, как основание для морального действия. Согласно Дидро, знание должно было освободить человека от религии, «которая основывает естественные обязанности на лжи, с тем чтобы управлять людьми путем авторитета, а не в соответствии с природой»19. В свою очередь, Фергюсон считал моральные чувства Богодухновенными. Хотя один из них был религиозным, а второй — нет, для обоих «естественные факты» человеческой природы конституировали ценности. Именно такая логика вызывала беспокойство у других философов. Даже Юм, которому теперь приписывают разделение суждений на два типа — «есть» и «должно», — считал само собой разумеющимся, что человеческие чувства (то, что есть) служат основанием для выполнения долга (того, что должно).
Только с конца XIX в. моральная философия и науки о человеке окончательно разделились, моральная философия перестала пониматься как наука о том, чтб присуще характеру и действиям человека. Это внесло серьезные перемены в современное представление о ценностях. Познание человеческой природы, которое в XIX в. дало начало современным дисциплинам — таким, как общественные и психологические науки, предполагает изучение ценностей в том виде, в каком они фактически существуют, но исключает выдвижение оценочных критериев. Новые науки стали частью того процесса, который Макс Вебер назвал «утратой миром зача- рованности» (the disenchantment of the world). В то же время современные политические и социальные требования к общественным и психологическим наукам остались такими же, как их понимали философы Просвещения — Милль, Конт и Спенсер. Научное знание о людях нужно как основание для «хорошей» жизни. Приходится согласиться с тем, что вытекающие отсюда вопросы не решены и в наше время. До тех пор пока науки о человеке заявляют о своей объективности и ограничиваются исследованием фактов, они не смогут дать критериев для оценки действий. Но для тех, кто верит, что единственно достоверное знание в наше время может
19 Цит. по: Wilson A.M. Diderot, с. 438.
27
дать только наука, понимание того, чт<5 нужно делать, не может быть основано ни на чем ином, кроме «естественных фактов».
Осознание этих трудностей пришло не сейчас. Уже Дидро проник в самую суть вопроса и выразил это с непревзойденным остроумием. Переводя Шефтсбери, он превратил английское понятие о моральном чувстве (moral sense) в идею о том, что действие должно руководствоваться естественными чувствами и потребностями: «Когда мы появляемся на свет, у нас нет ничего, кроме конституции, подобной конституции других людей: те же потребности, те же влечения к одним и тем же удовольствиям, общая нелюбовь того, что вызывает боль, — вот что конституирует человека таким, каков он есть, и вот что должно служить основанием подходящей для него морали»20. Основанием морали должны стать не надежды и разочарования священников, а то, каков человек «в действительности», какова его природа. Но что же такое человеческая природа «в действительности»? И что, если эта природа по изучении окажется злой, как утверждает Ветхий Завет в главе о грехопадении?
Утверждение французских либертинов и Бернара Мандевиля о том, что грехи отдельного человека могут быть добродетелями общества, способствовало распространению в начале XVIII в. взгляда, согласно которому человеческая природа может оказаться далекой от общепринятого понятия добра. Дидро сразу увидел стоящую перед моральной философией головоломку. Если «ничто существующее не может существовать ни в разрез с природой, ни вне ее», тогда то, каковы люди — будь они в общепринятом смысле хорошими или плохими, моральными или имморальными, — и должно стать основанием «морали». Если человеческая натура уравнивается с природой, не остается ничего другого, как принять то, чему учит природа. В «Племяннике Рамо» («Le neveu de Rameau») в остроумном пассаже о детях, получившем известность благодаря Фрейду, Дидро замечает: «Если бы маленький дикарь, предоставленный самому себе, сохранил все свое неразумие, а с глупостью грудного младенца еще соединил в себе бурные страсти тридцатилетнего мужчины, он свернул бы шею отцу и обесчестил бы свою мать»21.
Христианские авторы полагали, что действиями человека руководит врожденное моральное чувство. Но, как показал Дидро, врожденное чувство могло вести ко злу в той же мере, что и к добру. Эта мысль казалась настолько вызывающей, что сочинение Дидро еще долгое время после его смерти невозможно было опубликовать. Дидро рационально поставил тот вопрос, который в своей удовлетворенности христианством не предвидел Шефтсбери: что случится, если «естественные факты», на которых мы собираемся построить мораль, указывают на «естественность» имморализма?
20 Цит. по: Wilson A.M. Diderot, с. 592.
21 Дени Дидро. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М., 1991, с. 116. — Примеч пер
28
На это последовало несколько ответов. Такие авторы, как епископ Джозеф Батлер (Joseph Butler), утверждали, что сущность природы человека в действительности моральна. К этому утверждению добавился утилитаристский взгляд на моральные действия — хорошо то, что увеличивает чувство удовольствия или счастья. Смит, например, верил, что моральное чувство — естественная способность людей, и считал, что это чувство неизбежно заставляет индивида разделить чувства других людей. Оберегая собственные чувства, мы охраняем чувства других; то, что естественно для нас, хорошо также и для всех. Руссо, хотя и другими словами, выразил ту же мысль о том, что добро заложено в нашей природе.
Второй вариант ответа, о котором с иронией писал Дидро и к которому с болезненной навязчивостью возвращался маркиз де Сад, заключался в том, чтобы выбросить за борт христианскую мораль и принять нашу природу такой, какой она нам представляется, даже если эта природа агрессивна, эгоистична и развратна. Для де Сада все христианские моралисты — лжецы, а «младенец, кусающий грудь своей кормилицы, ребенок, ломающий погремушку, показывают нам, что склонность к разрушению, жестокости и насилию — первое из того, что начертано в наших сердцах природой»22. Де Сад был знаком с физиологией и, какова бы ни была его слава, лишь довел до логического конца предложение основать мораль на природе.
Третий ответ был имплицитно заложен в процитированной выше фразе Дидро о предоставленном себе самому ребенке. Этот ответ представляется мне интересным и важным. Дидро предположил, что если бы ребенок был предоставлен самому себе, он «свернул бы шею отцу и обесчестил бы свою мать». Однако «маленький дикарь» никогда не бывает полностью предоставлен самому себе и становится человеком именно потому, что живет в обществе. Ребенок— человеческий ребенок— существо социальное в той же мере, в какой и физиологическое. Предыдущие два ответа — как бы взгляд Шефтсбери на естественность морального чувства ни отличался от утверждения Сада о естественности насилия— основаны на одной и той же определяющей мысли. Оба ответа предполагают, что «естественные факты», на которых основана мораль, природны, а не социальны. Но во фразе Дидро о ребенке-«дикаре» подразумевается, что такой ребенок — фикция: ребенок человека воспитывается в обществе и не может быть дикарем, хотя, конечно, иногда ведет себя «диким», по мнению окружающих, образом.
Итак, XVIII век сильно запутал суть дела. И христианские моралисты, и философы-просветители выступали как критики существующего общества; выражение «естественное состояние» они использовали именно с этой целью. Они противопоставили воображаемую природу человека реальной человеческой деятельности так, словно речь шла о двух реаль¬
22 Marquis de Sade Juliette. Ed. by A.Wainhouse. L., 1991, с. 317.
29
ных условиях существования. Это создало возможность для тех моральных суждений, которые они хотели вынести, — об искусственности обычаев, насилии власти, опасностях неправильного воспитания. Такое противопоставление прибавило интереса дискуссии о том, социальна или асоциальна природа человека, естественная или приобретенная способность — его владение языком, о том, что случается с человеком, выросшим вне общества (например, среди животных). Таким образом, когда философы заявляли, что человек по природе хорош и добр, это зачастую было не субстанциальным утверждением о «природе», а критикой существующего положения вещей.
Многие авторы ясно сознавали, что человек по природе социален. В XVIII в. они, к примеру, преуспели в искусстве изображать собственный образ жизни как бы со стороны— глазами путешествующего Гулливера, воображаемого автора «Персидских писем» Монтескьё, гавайского священника, который в сочинении Дидро высмеивает лицемерную сексуальную мораль Буганвиля. Были созданы и прецеденты, и богатые средства для описания человеческой природы как социальной. Юм писал: «Вне отношения к обществу мы не можем сформулировать ни одного желания... Взятые вне зависимости от восприятия других объектов, мы в реальности— ничто»23. Фергюсон утверждал, что «человек по природе— член сообщества»24 и делал очень точное наблюдение: «Мы говорим об искусстве как о чем-то отличающемся от природы; но искусство само по себе естественно для человека»25.
Таким образом, противопоставление того, что человеку присуще «изначально» и что является продуктом «цивилизации», в описаниях человеческой природы было в конечном счете риторическим, а не философским. По наблюдению Фергюсона, в природе человека— создавать цивилизацию, а поэтому его цивилизованный образ жизни— в той же степени часть его природы, как и любое воображаемое состояние до цивилизации. Джамбатиста Вико, хотя его «Новая наука» («Scienza nuova», окончательная версия появилась в 1744 г.) и была в значительной степени проигнорирована современниками, впоследствии получил известность, как раз развивая эту тему. Он утверждал, что история— это процесс создания людьми своих цивилизаций, а значит, и самих себя такими, каковы они есть. Таким образом, Вико делал смелый вывод: с точностью мы можем знать не физический мир, а именно историю.
Один из наиболее важных подходов к социальной природе человека был заложен Сэмюэлем Пуфендорфом, историком и теоретиком в области политики и законодательства. За отправную точку он взял пользовавшееся
23 Цит. по: Carrithers D. The Enlightenment Science of Society. — Inventing Human Science, c. 250.
24 Ferguson A. An Essay on the History of Civil Society, c. 57.
25 Там же, с. 6.
30
дурной славой (в том виде, в каком оно было понято) утверждение Гоббса о том, что природный человек — индивидуалистичен, аморален и асоциален. Соглашаясь с Гоббсом, что мы можем вообразить естественного человека, рожденного без внутренней нравственности и асоциального, Пу- фендорф тем не менее считал: условия нашей жизни делают реального человека, в отличие от абстрактного, нравственным и социальным. В своем великом труде «О праве естественном и праве международном» («De jure naturae et gentium». 1672) он поставил задачу «исследовать то, что является наиболее общими и универсальными человеческими действиями, которым обязан подчиниться каждый человек, если он является разумным созданием»26. Человек, утверждал он, по своей природе «разумен» и склонен к самосохранению. Для него естественно искать способы сохранить себя, а это требует от него действовать социально. «Фундаментальный закон природы состоит в том, что каждый человек должен — насколько это в его силах — развивать и сохранять мирную общительность (Sociableness) с другими, отвечающую основному предназначению и предрасположению человеческой расы в целом»27. На этом основании он вывел систему юридических принципов, отражающих естественное право каждого человека на самосохранение, что стало классическим примером рассуждения о естественном законе. Он считал, что развитие социальности человека выражает его природу. Даже если социальность не дана изначально в предполагаемом естественном состоянии человека, а исторична, и в этом случае она — естественная, а не искусственная.
Благодаря Пуфендорфу, Вико и Фергюсону вопросы моральной философии о человеческой природе, характере и морали превращались в вопросы о нравственной жизни, которую создает для себя в определенное время и в определенных условиях человек. Эти авторы оставались в рамках христианского мышления, в котором условия существования имели прочные основания в трансцендентном телосе (telos). И все же мы вполне оправданно можем видеть здесь корни современного западного взгляда, согласно которому моральный дискурс невозможно отделить от условий жизни, от того момента истории, в который произошло его создание.
Моральная философия XVIII в. описывает и мораль, и способности, и чувства индивидуальной души как коллективный и исторический феномен. Исследования человеческой природы проникли во все сферы жизни — бытовую, литературную, политическую, экономическую. В Шотландии на протяжении нескольких десятилетий оказалось возможным соединить много нитей в одну и создать в университетах науку о человеке под институциональной шапкой «моральная философия». Во Франции, напротив, наука о человеке развивалась вне университетских стен, порвав
26 PufendorfS. On the Law of Nature and Nations. Eight Books. Transi, by B.Kennett. 3rd ed. L., 1717, b. I, c. 117.
27 Там же, с. 137.
31
с построенным на аристотелевских программах преподаванием. Однако и в этой стране к концу XVIII в. стало очевидным, что некогда единая концепция моральной философии распалась на части. Как независимые (хотя все еще связанные) интеллектуальные направления развивались специализированные дисциплины — психология, история, политическая экономия, биология, философия и др.
Перестав быть особым предметом преподавания и выдающейся частью интеллектуального ландшафта, моральная философия исчезла, а на смену ей пришли современные науки о человеке. Все это и создало тот контекст, в котором «моральная философия» приобрела свое современное, ограниченное значение — исследование этических принципов. В отличие от этого, моральная философия более раннего периода основывалась на гораздо более широком понимании науки о человеке: изучать человека значило изучать его как моральное существо. А это открыло дорогу идее о том, что это существо исторично, — идее, без которой трудно себе представить какое-либо понимание, не говоря уже о соотнесении, моральных высказываний в различных точках мира.
Перевод с английского И.Е.Сироткиной
Ричард Рорти
Упадок искупительной истины и подъем литературной культуры
Вопрос «Верите ли Вы в истину?» звучит глуповато. Всем известно, что различие между истинными и ложными воззрениями столь же важно, как различие между пищей здоровой и вредоносной. Однако когда журналисты интервьюируют интеллектуалов, то часто задается примерно такой вопрос: «Верите ли Вы в истину или принадлежите к числу тех легкомысленных постмодернистов, которые...» Подобные вопросы— нынешние аналоги прежних вопросов типа «Верите ли Вы в Бога — или принадлежите к числу тех опасных атеистов, которые...» Тем, кого подозревают в постмодернизме, часто говорят, что они недостаточно любят истину. Это увещевание произносится таким же тоном, каким некогда атеистам внушали, что «начало мудрости — страх Господень»1.
Очевидно, что в названном выше вопросе имеется в виду не обыденное значение слова truth («истина», «правда», «точность» и т.д.). Речь идет не просто об абстрактном существительном от прилагательного true («истинный», «правильный», «точный» и т.д.). Вопрос «Верите ли Вы, что существует истина?»— это краткая форма более обширного вопроса, который выглядит примерно так: «Полагаете ли Вы, что, во-первых, познание имеет некий естественный предел, т.е. что можно полностью и окончательно установить, постичь, как устроен мир, и, во-вторых, что это постижение научит нас, как нам жить, что нам делать с нами самими?»
Те, кого, подобно мне, обвиняют в постмодернистском легкомыслии, не думают, что существует такой предел познания. Мы думаем, что «познание»— это всего лишь другое имя для «решения проблем». Мы не можем себе представить, что познание, исследование вопросов вроде: «Как должны жить люди?», «Какими людьми мы должны стремиться быть?» и «Какое общество мы должны пытаться создать?» — когда-либо
1 См.: Книга Притчей Соломоновых 1.7 и 9 10 (здесь и далее в сносках— примечания переводчика).
(О Ричард Рорти, 2004
2 - 10922
33
завершится, закончится. Потому что решение одних проблем создает другие проблемы — и так без конца. Как в жизни отдельной личности, так и в жизни общества и биологического вида каждая ступень взросления решает прежние проблемы, лишь создавая новые.
Проблемы типа «Что нам делать с нами самими?» отличаются в этом смысле от проблем естественнонаучных. Всеобъемлющая и завершенная наука о природе, т.е. некая гармоничная совокупность научных теорий, которые никогда уже не будут нуждаться в пересмотре, — это, пожалуй, представимый идеал. Иначе говоря, можно себе представить, что естественнонаучное познание достигнет естественного предела. И если под словом «истина» подразумевается всего лишь некое единое описание причинно-следственных связей между событиями в пространстве-времени, то даже самый отъявленный постмодернист не станет сомневаться в существовании истины. Ее существование становится проблематичным лишь тогда, когда под словом «истина» понимается нечто иное.
Такое понимание я обозначу термином «искупительная истина»2. Другими словами, это совокупность верований (beliefs), которые должны завершить раз и навсегда размышления о том, что нам делать с нами самими. Искупительная истина не состоит из теорий о причинно-следственных связях вещей, но удовлетворяет ту человеческую потребность, которую прежде пытались обслуживать религия и философия. Это потребность увязать все на свете — все события, всех людей, все идеи — и поместить их в некий единый контекст, который каким-то образом оказался бы естественным, предопределенным и единственно возможным. А также единственно значимым для определения смысла человеческой жизни, потому что только в данном контексте человеческое существование будет явлено в истинном свете. Верить в искупительную истину значит верить, что есть нечто, так же относящееся к человеческой жизни, как элементарные частицы современной физики относятся к традиционным четырем стихиям,
2 В оригинале* «redemptive truth» Во время конференции некоторые ее российские участники возражали против русского перевода «искупительная истина» и предлагали исправить его на «спасительная истина». В самом деле, по-русски выражение «спасительная истина» звучит привычно, а «искупительная истина» — несколько странно. Между тем и в английском есть выражение «salvific truth» (= «спасительная истина»), хотя похоже, что соотношение употребительности этих двух выражений в английском — обратное тому, что мы имеем в русском: «redemptive truth» — сочетание частое, «salvific truth»— редкое. Возможно, дело в том, что первое выражение более характерно для протестантских «дискурсов», а второе — для католических На вопрос, можно ли заменить в русском переводе «искупительную истину» на «спасительную», Р.Рорти ответил, что он не возражает против такой замены Очевидно, что для него в данном случае неважно богословское различие между «искуплением» и «спасением», поскольку выражение «redemptive truth» употреблено в переносном (и, можно сказать, обмирщенном) смысле: для обозначения такой истины, которая якобы обеспечивает полное и окончательное разрешение всех проблем. И все же в переводе было решено оставить выражение «искупительная истина» — не столько ради его буквальной точности, сколько ради именно его необычности для русского языка, т.е. ради «эффекта остранения».
34
т.е. что есть некая подлинная реальность за видимостью явлений, что есть одно истинное описание всего существующего и случающегося, один главный секрет и одна окончательная разгадка.
Упование на искупительную истину— это частный вид, относящийся к более широкому роду, к тому, что Хайдеггер называл жаждой подлинности (the hope for authenticity)3 — стремлением быть самим собой, а не просто продуктом своего образования или своей среды. Достичь подлинности (в этом смысле) значит увидеть альтернативы тем целям и смыслам жизни, которые большинство людей принимает без критики, как единственно данные, и сделать свой выбор из увиденных альтернатив— тем самым, до некоторой степени, самостоятельно создав самого себя. Как недавно напомнил нам Гарольд Блум, смысл чтения многих разных книг заключается в том, чтобы узнать о существовании многих разных целей и смыслов жизни и через это знание стать автономной личностью (ап autonomous self)4. Автономия в этом не кантианском, а характерно блуми- анском смысле слова — примерно то же самое, что хайдеггеровская подлинность.
Я буду называть интеллектуалом такого человека, который стремится к подобной автономии и который имеет достаточно денег и досуга, чтобы осуществлять это свое стремление: посещать различные церкви или различных гуру, ходить в разные театры и музеи и, главное, читать много разных книг. Большинство людей, даже те, у кого есть необходимые деньги и досуг, не относятся к числу интеллектуалов. Они если и читают книги, то не потому, что стремятся к автономии, а или ради развлечения и отвлечения, или потому, что хотят научиться лучше достигать те или иные предустановленные цели. Такие люди читают книги не для того, чтобы узнать, к каким целям имеет смысл стремиться. А интеллектуалы занимаются именно этим.
Определив термины «искупительная истина» и «интеллектуал», я могу теперь сформулировать утверждение: интеллектуалы Запада со времен Возрождения прошли через три этапа; сначала они надеялись получить искупление от Бога, потом — от философии, теперь того же ждут от литературы.
В религии — обычного западного монотеистического типа — надежда на искупление основана на том, что человек вступает в новые отношения, заключает новый договор («завет») с некой над-человеческой (non-human) личностью, которая обладает высшей силой и властью. Постижение истины (скажем, принятие тех или иных пунктов веры) может оказаться лишь
3 Английское слово authenticity передает немецкое Eigentlichkeit — одно из центральных понятий книги М.Хайдеггера «Бытие и время» (см/ Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. Пер. с нем. М., 1993). См. критический анализ этого понятия в книге Т.Адорно. Adorno Th.W. Jargon der Eigentlichkeit: zur deutsche Ideologie. Frankfurt/Main, 1964 (английский перевод: Adorno Th. W. The Jargon of Authenticity. Evanston, 1973).
4 Как пояснил Р.Рорти, здесь имеется в виду книга Г.Блума «Как читать и зачем» (Шоот Я. How to Read and Why. N. Y., 2001).
2*
35
сопутствующим обстоятельством данного договорного отношения. Иными словами, отношения человека с Богом — это далеко не всегда (и отнюдь не только) отношения человека с некой совокупностью верований (beliefs). В философии же верования (beliefs) составляют саму ее суть. Искупление философией — это искупление посредством усвоения некой совокупности верований, которые представляют вещи так, как они существуют на самом деле. Что же касается литературы, то она, в свою очередь, предлагает искупление посредством знакомства с максимально возможным многообразием человеческих существ. В этом случае, как и в религии, постижение истины некоего высказывания может иметь мало значения. Постижение искупительной истины — это специфически философский способ обретения автономии в блумианском смысле.
С точки зрения той литературной культуры, которая преобладает среди сегодняшних интеллектуалов, религия и философия выглядят как роды (жанры) литературы. И как таковые они факультативны. Один интеллектуал читает много стихов и мало романов или, наоборот, много романов и мало стихов. Подобным же образом другой интеллектуал может читать много философских или религиозных сочинений, но сравнительно мало стихов или романов. Интеллектуал, принадлежащий к литературной культуре, читает все эти книги иначе, чем их читают другие. Разница заключается в том, что литературный интеллектуал воспринимает любые книги как человеческие попытки удовлетворить человеческие потребности, а не как свидетельства силы и власти некой сущности (being), которая есть то, что она есть (that is what it is)5, безотносительно к каким-либо человеческим потребностям. Бог и Истина— это, соответственно, религиозное и философское имя для подобной сущности.
Переход от религии к философии начался с возрождения платонизма в эпоху Ренессанса — когда гуманисты стали задавать такие же вопросы о христианском монотеизме, какие Сократ задавал о пантеоне Гесиода. Сократ в своем диалоге с Эвтифроном предположил, что вопрос не в том, угодны ли поступки человека богам, а в том, какие из богов имеют верные представления о поступках, надлежащих человеку6. Когда позже эта мысль была снова рассмотрена всерьез, то Кант смог прийти к заключению, что даже Священный Персонаж Евангелий следует воспринимать в свете собственной совести индивидуума.
Переход от философской к литературной культуре начался вскоре после Канта — примерно тогда, когда Гегель высказал предостережение, что философия начинает «рисовать своей серой краской по серому»7 лишь после того, как некая форма жизни устаревает. Это замечание помогло
5 Аллюзия на ветхозаветный текст (Исход 3.14). В английской Библии (King James Version): «And God said unto Moses, I AM THAT I AM». Ср. в русском синодальном переводе «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (Иегова)».
6 Имеется в виду диалог Платона «Эвтифрон» («Об истинном благочестии»)
7 См.: Гегель Г.ФВ Философия права. М., 1990, с 384.
36
поколению Кьеркегора и Маркса осознать, что философия никогда не сможет играть ту роль искупительницы, которую хотел утвердить за ней сам Гегель. В высшей степени амбициозные идеи Гегеля относительно роли философии почти сразу превратились в свою диалектическую противоположность. Едва его Система была предана гласности, ее тут же стали третировать как саморазрушающийся артефакт, как reductio ad absurdum той формы интеллектуальной деятельности, которая вдруг оказалась почти изжитой.
Со времен Гегеля интеллектуалы все больше и больше теряли веру в философию, веру в то, что искупление может прийти в облике истинных верований (true beliefs). Интеллектуалы перестали верить, что есть некий единый и единственный контекст, в котором человеческая жизнь может быть явлена в истинном свете — такой, какая она есть по истине. В литературной культуре, которая постепенно формировалась на протяжении последних двухсот лет, вопрос «Истинно ли это?» уступил свое почетное место вопросу «Что нового?».
Хайдеггер полагал, что эта замена была упадком, сдвигом от серьезного мышления к поверхностному любопытству (см. рассуждения о das Gerede [болтовне] и die Neugier [любопытстве] в разделах 35-36 «Sein und Zeit»)8. Многие поклонники естественных наук (в остальном не имеющие никакого отношения к Хайдеггеру) согласились бы с ним по данному вопросу. Однако я полагаю, что названная замена была шагом вперед (an advance). Вместо дурных вопросов вроде: «Что такое Бытие?», «Что такое действительная действительность?» и «Что такое человек?» — был поставлен вопрос осмысленный: «Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь новые идеи относительно того, что нам, людям, можно и должно делать с нами самими?»
Чуть позже я обращусь к более подробному описанию литературной культуры, но сначала позволю себе вернуться к различию между религией и философией. В своем чистом виде, не разбавленная философией, религия — это отношение к некой над-человеческой (non-human) личности9. Данное отношение может иметь форму благоговейного подчинения, или экстатического общения, или спокойной веры, или какого-либо их сочетания. И только когда к религии примешивается философия, это непознавательное (некогнитивное) искупительное отношение к некой личности опосредуется пунктами вероучения. Только когда вместо Бога Авраама, Исаака и Иакова появился Бог философов (как сказал Паскаль)10, пра¬
8 См русский перевод этих разделов (параграфов) «Бытия и времени» в книге Хайдеггер М Работы и размышления разных лет, с 31-37
9 Очевидно, имеется в виду религия «обычного западного монотеистического типа» (см выше).
10 В «Записке» («Memorial») Б.Паскаля, составленной в 1654 г., после пережитого им религиозного опыта, есть такие слова: «“DIEU d’Abraham, DIEU d’Isaac, DIEU de Jacob”, non des philosophes et des savants» («„Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова“, а не философов
37
вильное верование (correct belief) стало считаться существенным для спасения.
Для религии в ее чистом, беспримесном виде доказательное рассуждение (argument) не более важно, чем верование (belief). Как утверждал Кьеркегор, стать Новым Существом во Христе — это совсем не то же самое, что принять истинность некоего утверждения (a proposition) по ходу и в результате сократического рассуждения или в силу гегельянской диалектики11. В той мере, в какой религия требует веры в некое утверждение (a belief in a proposition), эта вера, как сказал Локк, основана на доверии (the credit) к тому, кто данное утверждение утверждает (the proposer), а не на убедительности доказательных рассуждений12. Но верования (beliefs) нерелевантны для истового благочестия неграмотного почитателя (believer) богини Деметры, или столь же неграмотного почитателя Богоматери Гвадалупской13, или того, кто поклоняется маленькому толстенькому божку, стоящему третьим слева в храме на соседней улице. Именно такую нерелевантность верований надеялись воссоздать интеллектуалы вроде апостола Павла, Серена Кьеркегора и Карла Барта — атлеты духа, лелеявшие надежду, что их вера (faith) есть «безумие для эллинов»14.
Принимать всерьез философский идеал искупительной истины— это значит верить, во-первых, в то, что недостойно человека жить такой жизнью, которую он не может успешно и убедительно обосновать15, а во- вторых, в то, что упорный поиск убедительных обоснований должен привести всех взыскующих к одному и тому же набору верований (beliefs). Религия и литература — в их чистом виде, без примеси философии — не предполагают ни названное выше «во-первых», ни названное выше «во-вторых». Беспримесная религия может быть монотеистической в том смысле, что некое человеческое сообщество считает существенным поклоняться лишь одному определенному богу. Но представление о том, что может существовать вообще лишь один Бог, что политеизм противен разуму, — такое представление может утвердиться только тогда, когда философия провозгласит, что мышление каждого человека должно прийти к одному и тому же результату.
и ученых»). См. сайт- www.users.csbsju.edu/~eknuth/pascal.html. Ср также Стрельцова Г Я Паскаль. — Новая философская энциклопедия. Т 3 М., 2001, с 208.
11 См книгу С.Кьеркегора «Философские крохи» («Philosophiske Smuler» 1844) (пояснение автора)
12 См.: «Вера есть согласие с каким-нибудь положением, составленным не путем дедукции разума, но на основании доверия к говорящему, как с положением, исходящим каким-то необычным путем от бога» (Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. Кн. 4, гл. 18.— Сочинения в 3-х т М , 1985, т. 2, с 169).
13 Богоматерь Гвадалупская (по-английски: Our Lady of Guadalupe, по-испански Nuestra Senora de Guadalupe; по-французски Notre-Dame de Guadalupe) — образ Богоматери, покровительницы христианской (католической) Америки (см. сайт: www.sancta.org).
14Ср: «...а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие .» (Первое послание к коринфянам 1.20).
15 Аллюзия на «Апологию Сократа»
38
Вернусь к терминам «литература» и «литературная культура». Под последней я понимаю такую культуру, которая заменила литературой и религию, и философию. Подобная культура не ищет искупления ни в некогнитивных (non-cognitive) отношениях с некой над-человеческой (nonhuman) личностью, ни в когнитивных отношениях с высказываниями (propositions) — она ищет искупление в некогнитивных отношениях с другими человеческими существами, в отношениях, опосредуемых такими человеческими артефактами, как книги и здания, картины и песни. Эти артефакты позволяют увидеть альтернативные способы человеческого существования. Культура этого типа отвергает исходное предположение, общее и для религии, и для философии, а именно что искупление должно обретаться через отношение с чем-то, что не есть всего лишь сотворенное человеком.
Кьеркегор верно заметил, что философия начала утверждать себя в качестве соперницы религии тогда, когда Сократ заявил, что наше самопознание — это богопознание, т.е. что мы не нуждаемся в помощи какого- либо над-человеческого (non-human) существа, потому что истина заключена в нас самих. Литература же начала утверждать себя в качестве соперницы философии, когда Сервантес, Шекспир и иже с ними заподозрили, что человеческие существа столь различны между собой (и должны быть столь различны), что бессмысленно делать вид, будто в глубинах их сердец находится одна на всех, единственная истина. На этот сейсмический сдвиг в культуре указал Дж.Сантаяна в эссе под названием «Отсутствие религии у Шекспира»16. Это эссе можно было бы с равным правом озаглавить «Отсутствие и религии, и философии у Шекспира» или просто «Отсутствие истины у Шекспира».
Я уже писал о том, что вопрос «Верите ли Вы в истину?» можно сделать более осмысленным и актуальным, если переформулировать его примерно следующим образом: «Думаете ли Вы, что есть некий один и единый набор верований (beliefs), который может играть искупительную роль в жизни всех человеческих существ, который можно рационально доказать всем человеческим существам при оптимальных условиях коммуникации и который, таким образом, станет естественным завершением процесса познания?». Ответить «да» на этот вопрос значит принять философию в качестве наставницы жизни. Это значит согласиться с Сократом, что есть некий набор верований, который можно рационально доказать и который по праву имеет преимущество перед любым другим соображением относительно того, как человеку следует обходиться со своей жизнью. Исходное предположение философии заключается в том, что у всего существующего — и у человечества, и у остальной все¬
16 Это эссе Дж.Сантаяны было впервые опубликовано в 1896 г в бостонском журнале «The New World» («Новый мир») и позже входило в различные сборники его работ. Русский перевод см. на сайте: http://www.krotov.Org/library/s/santayana.html.
39
ленной— есть и всегда будет некое доподлинное существование, независимое от преходящих потребностей и интересов людей. Познание этого доподлинного существования имеет ценность искупления и поэтому может заменить религию. Стремлением к Истине можно заменить поиск Бога.
Трудно сказать, насколько подобное рассуждение было бы доступно пониманию Гомера или даже Софокла. У них не было набора идей, необходимых для такого понимания: эти идеи были созданы позже — творческим воображением Платона. Сервантес и Шекспир понимали идеи Платона, но сомневались в его мотивах. Вследствие этого сомнения они уделяли больше внимания особенному, нежели общему, т.е. больше подчеркивали различия между человеческими существами, чем стремились выявить некую общую человеческую природу. Этот сдвиг акцента ослабил власть платоновского предположения, что различные типы людей должны быть выстроены в некую иерархию — в зависимости от того, насколько они успешны в достижении некой единой цели. Новые веяния, связанные с такими именами, как Сервантес и Шекспир, привели к возникновению нового типа интеллектуалов. Эти интеллектуалы уже не считают само собой разумеющимся существование той или иной искупительной истины; их не очень интересуют вопросы «Есть ли Бог?» и «Есть ли Истина?».
Именно этот сдвиг способствовал становлению нынешней интеллектуальной культуры, в которой и религия, и философия оказались на положении маргиналов. Разумеется, до сих пор существует много религиозных интеллектуалов и еще больше — интеллектуалов философских. Но в наши дни молодые книгочеи в поисках искупления обращаются в первую очередь к романам, пьесам и поэзии. Книги, которые XVIII век считал маргинальными, теперь стали центральными. Доктор Джонсон и Вольтер, авторы «Расселаса» и «Кандида», способствовали (хотя и вряд ли могли предвидеть такое!) становлению культуры, в которой наиболее почитаемые авторы сочиняют не проповеди или трактаты, а повести и романы.
Исповедующие литературную культуру надеются обрести искупление через контакт с доступными ныне пределами человеческого воображения. Вот почему литературная культура — постоянно в поисках новизны, постоянно стремится увидеть то, что Шелли называл «гигантскими тенями, которые будущее отбрасывает на настоящее» («the gigantic shadows which futurity casts upon the present»)17, и вовсе не пытается убежать от временного к вечному. Исходная предпосылка этой культуры может быть сформулирована так: хотя воображение ныне имеет пределы, обусловленные временем, эти пределы можно бесконечно раздвигать. Воображение постоянно пожирает свои собственные артефакты. Это вечно живое и вечно расширяющееся пламя. Хотя то, что Блум называет «страхом запоздать»
17 Слова из предпоследнего предложения в трактате Шелли «Защита поэзии» («А Defence of Poetry»). См., например. Shelley Р.В. Poetry and Prose. М., 1959, с. 421.
40
(«the fear of belatedness»), постоянно присутствует в литературной культуре, сам этот страх усиливает пылание пламени.
Тот, кого я называю «литературным интеллектуалом», полагает, что недостойно человека жить такой жизнью, которая не соприкасается с достигнутыми ныне пределами человеческого воображения. Сократическую идею самоисследования и самопознания литературный интеллектуал заменяет идеей расширения своего «я» через знакомство со многими другими способами человеческого существования. Религиозную идею, что некая книга или традиция может возвысить человека до общения с некой сверхмощной или сверхпритягательной над-человеческой личностью, литературный интеллектуал заменяет блумианской идеей: чем больше ты прочитал книг, чем больше способов человеческого существования ты узнал, тем в большей степени ты сам стал человеком — тем меньше тебя соблазняют мечты уйти от времени и случая18, тем больше ты убежден, что мы, люди, можем полагаться лишь на самих себя. Литературный интеллектуал не верит в искупительную истину, но верит в искупительные книги.
Надеюсь, сказанное выше придаст некоторое правдоподобие такому моему утверждению: последние пять столетий западной интеллектуальной жизни можно представить себе как сначала продвижение (progress) от религии к философии, а потом — от философии к литературе. Я называю это продвижением (progress), потому что рассматриваю философию как переходный этап в том процессе, в ходе которого постепенно возрастала уверенность человека в своих силах. Великое достоинство нашей новообре- тенной литературной культуры заключается в том, что она говорит молодым интеллектуалам: единственный источник искупления — человеческое воображение, и это повод не для отчаяния, а для гордости.
Идея искупительной истины влечет за собой убеждение, что тот набор верований, который может быть доказан всем человеческим существам, сможет еще и удовлетворить все потребности всех человеческих существ. Но это— лишь шаткий компромисс между мазохистским стремлением подчиниться чему-то над-человеческому и потребностью гордиться нашей человеческой природой. Искупительная истина — это попытка найти нечто такое, что не создано самими людьми, но с чем у них тем не менее могут быть особые, привилегированные отношения, отличающие людей от животных. Сущностная (intrinsic) природа вещей подобна некоему божеству — тем, что она независима от нас; и, однако, как говорят нам Сократ и Гегель, 'самопознания достаточно для того, чтобы соприкоснуться с нею. Стремление познать это полубожество, вслед за Сартром, можно считать всего лишь тщетной страстью, обреченными на неуспех усилиями
18 Аллюзия на библейский текст: «...но время и случай для всех их» (Екклесиаст 9.11) Ср. первые строки поэмы А.Блока «Возмездие»: «Жизнь — без начала и конца. / Нас всех подстерегает случай...» (БлокА. Собрание сочинений в 8-ми т. Т. 3. М.-Л., 1960, с. 301).
41
стать «для-себя-в-себе»19. Но лучше видеть в философии одно из величайших созданий нашего воображения — наряду с изобретением богов.
Философы часто описывали религию как примитивную и недостаточно осмысленную попытку философствования. Но, как я уже сказал, в полную силу развернувшаяся литературная культура склонна относиться и к религии, и к философии как к сравнительно примитивным, хоть и славным (glorious), родам (жанрам) литературы. В наши дни становится все труднее творить в этих жанрах, однако новые жанры, которые приходят на смену прежним, могли бы никогда не возникнуть, если бы сначала их не создавали в пику религии, а потом — в пику философии. Поэтому религию и философию лучше рассматривать не как лестницы, которые можно отбросить, по ним взобравшись20, а как этапы нашего развития (maturation). Развитие человеческого рода — это процесс, на который мы постоянно оглядываемся, который мы снова и снова обдумываем — в надежде обрести все большую уверенность в собственных силах.
Чтобы сделать мое понимание философии как некоего переходного жанра более правдоподобным, я рассмотрю вкратце два великих движения, которые были высшими фазами ее развития.
Философия начала быть собственно философией тогда, когда мыслители эпохи Просвещения уже не должны были прятаться за масками религии (которыми пользовались и Декарт, и Гоббс, и Спиноза) и смогли открыто признаться в атеизме. Маски религии были полностью сброшены после Французской революции. В результате этого события, давшего надежду на то, что человечество сможет само сотворить новое небо и новую землю21, Бог стал выглядеть гораздо менее необходимым, чем прежде.
Эта новообретенная уверенность в своих силах породила две великие метафизические системы, которые были высшими достижениями философии. Сначала возникла метафизика немецкого идеализма, а затем, как реакция на идеализм, метафизика материалистическая, апофеоз развития естественных наук. Идеалистическая метафизика — это уже прошлое. Метафизика материалистическая, напротив, все еще среди нас. По сути дела, это едва ли не единственная версия искупительной истины, предлагаемая на сегодняшнем рынке идей. Это последний бастион философии, ее последняя попытка предложить искупительную истину и тем самым избежать разжалования в звание литературного жанра.
19 См • Sartre J.-P. L’être et le néant. P., 1943 (рус. пер : Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Пер. с фр. М., 2002).
20 Аллюзия на «Логико-философский трактат» Л.Витгенштейна. Ср раздел 6 54- «Мои предложения служат прояснению: тот, кто поймет меня, поднявшись с их помощью — по ним — над ними, в конечном счете признает, что они бес-смысленны (Он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как поднимется по ней.)» {Витгенштейн Л Философские работы. Ч. I. Пер. с нем. М., 1994, с. 72-73).
21 Ср.: «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце» (Книга пророка Исаии 65. 17).
42
Здесь не место вновь описывать подъем и падение немецкого идеализма или восхвалять то, что Хайдеггер назвал «величием, широтой и оригинальностью этого духовного мира»22. Для моей нынешней задачи достаточно упомянуть, что Гегель, самый оригинальный и смелый из немецких идеалистов, верил, будто ему впервые удалось дать удовлетворительное доказательство существования Бога и удовлетворительное решение традиционной теологической проблемы зла. В своих собственных глазах он был первым вполне успешным естественным теологом — первым, кто примирил Сократа и Христа, показав, что Воплощение было не актом Божией благодати, но необходимостью. Бог, по словам Гегеля, должен был иметь Сына, потому что вечность — ничто без времени, Бог — ничто без человека, а Истина — ничто без ее исторического проявления.
По мнению Гегеля, платоновская надежда уйти из временного в вечное была примитивной, хотя и необходимой стадией философского мышления — стадией, которая могла быть преодолена благодаря христианской доктрине Воплощения. А после того, как Кант открыл нам глаза на взаимозависимость духа (mind) и мира, мы (полагал Гегель) можем понять и то, что философия способна перебросить мост через кантовское различение феноменального и ноуменального, подобно тому как пребывание Христа на земле преодолело различение между Богом и человеком.
Идеалистическая метафизика казалась истинной и доказуемой некоторым лучшим умам XIX в. Так, Дж.Ройс писал книгу за книгой, доказывая, что Гегель был прав: простое умозрительное размышление (simple armchair reflection) об исходных предпосылках здравого смысла (т.е. тот вид философствования, который практиковал и рекомендовал Сократ) столь же неизбежно должно привести к принятию истины пантеизма, как размышление о геометрических фигурах приводит к теореме Пифагора. Однако Кьеркегор изящно сформулировал приговор, который литературная культура вынесла этой метафизике: «Если бы Гегель, написав свою логику, пояснил в предисловии, что это всего лишь мысленный эксперимент, который от многого абстрагируется, он был бы, несомненно, величайшим мыслителем из всех, когда-либо живших. А так— он просто смешон»23.
Я бы переформулировал суждение Кьеркегора следующим образом: если бы Гегель не считал, что он снабдил нас искупительной истиной, а вместо этого вообразил, что дал нам нечто лучшее, а именно способ охватить единым вйдением все прежние плоды человеческого воображения, он был бы первым философом, осознавшим, что на рынке идей по¬
22 Имеется в виду то место во «Введении в метафизику» («Einführung in die Metaphysik». 1953) Хайдеггера, где он говорит, что «время уже не было достаточно сильным, чтобы сохранить в полной мере величие, широту и оригинальность этого духовного мира» («...Zeitalter war nicht mehr stark genug, um der Grösse, Weite and Ursprünglichkeit jener geistigen Welt gewachsen zu bleiben...») (пояснение автора).
23 См.: Kierkegaard S. Papers and Journals: A Selection. Ed. by A.Hannay. L., 1996, с. 182.
43
явился культурный продукт лучше, чем философия. Он был бы первым философом, сознательно заменившим философию литературой, подобно тому как Сократ и Платон были первыми, кто сознательно заменил религию философией. Но вместо этого Гегель утверждал, что он открыл Абсолютную Истину, и люди вроде Дж.Ройса восприняли это утверждение с такой серьезностью, которая ныне выглядит и трогательной, и смешной. Так что на долю Ницше (в его «Рождении трагедии») выпало сказать нам, что мы должны отвергнуть исходные предпосылки, общие и для Сократа, и для Гегеля. Как полагал Ницше, мысль о том, что наше самопознание есть познание Бога, была в свое время большим творческим достижением. Однако теперь полезность этой мысли себя исчерпала.
Во временном интервале между Гегелем и Ницше возникло второе из двух великих философских движений, упомянутых выше. Его линия преемственности восходит к Демокриту и Лукрецию, подобно тому как линия преемственности Гегеля восходит к Пармениду и Плотину. Это была попытка заменить и религию, и сократическое мышление естествознанием; попытка извлечь из эмпирического познания именно то, что, согласно Сократу, оно никогда не могло дать, — искупительную истину.
К середине XIX в. стало ясно, что математика и опытные науки — это единственные области культуры, в которых можно надеяться достичь единодушного, рационального согласия, — единственные дисциплины, способные вырабатывать такие верования (beliefs), которые не будут опровергнуты по ходу истории. Естествознание стало выглядеть единственным источником таких утверждений, которые были вероятными кандидатами на статус догадок (insight) о том, каков мир сам по себе (the way things are in themselves), безотносительно к каким-либо зигзагам человеческой истории. Многим интеллектуалам единое естествознание (unified natural science) все еще кажется ответом на молитвы Сократа24.
Подобный проект придания искупительного статуса эмпирической науке все еще привлекателен для двух типов нынешних интеллектуалов. Первый тип — это те философы, кто утверждает, что естественные науки способны достичь такой объективной истины, которая не достижима ни для одной другой сферы культуры. Подобные философы обычно утверждают также, что ученый-естественник — это примерный (парадигматический) обладатель таких интеллектуальных добродетелей (прежде всего — любви к истине), которые было бы тщетно искать в среде литературных критиков. Второй тип интеллектуалов, унаследовавших идеи позитивистов XIX в., — это ученые, которые заявляют, что последние достижения в их области имеют большое философское значение: например, что недавние результаты в эволюционной биологии или когнитивистике сообщают нам гораздо больше, чем просто новые сведения о своих предметах. Эти научные результаты якобы говорят нам нечто о том, как нам
24 Имеются в виду слова Сократа в конце диалога «Федон» (пояснение автора).
44
жить, какова человеческая природа и кто мы такие вообще. Они (эти результаты) дают нам если и не искупление (redemption), то по крайней мере мудрость, т.е. не только знание о том, как создавать более эффективные средства для осуществления наших желаний, но и мудрые советы относительно того, каковы должны быть сами наши желания.
Рассмотрим подробнее эти два типа интеллектуалов. Что касается стремления некоторых философов видеть в ученых-эмпириках образец (парадигму) интеллектуальных добродетелей, то проблема тут, на мой взгляд, заключается в том, что любовь к истине в случае астрофизика вряд ли отличается от любви к истине в случае классического филолога или историка, исследующего архивы. Все эти люди стараются сделать нечто правильным образом (to get something right). Но ведь то же стараются сделать и умелый плотник, и квалифицированный бухгалтер, и добросовестный зубной врач. Потребность сделать свое дело правильным образом — самая суть профессиональной идентичности этих людей; то, что делает их жизнь достойной. Нет причин приписывать вкладам ученых-теоретиков в эту область такое моральное или философское значение, какого якобы нет в работе ремесленника.
Джон Дьюи полагал, что больший престиж математического физика по сравнению с престижем квалифицированного механика — это прискорбное наследие платоновско-аристотелевского различения вечных истин, с одной стороны, и эмпирических истин — с другой, более высокой оценки общих размышлений на досуге, чем конкретных практических усилий. Мысль Дьюи можно переформулировать следующим образом: более высокий престиж ученого-теоретика — это прискорбное наследие той сократовской идеи, что если в результате рационального обсуждения мы все согласимся считать нечто истинным, то это нечто будет чем-то большим, нежели просто фактом нашего согласия, т.е. что при идеальных условиях коммуникации межличностное (интерсубъективное) согласие — это признак соответствия истинной природе вещей.
Нынешние споры среди философов сознания и языка (philosophers of mind and language) по вопросу о том, толковать ли истину как соответствие реальности, и параллельные споры среди философов науки о тезисе Т.Куна25, гласящем, что наука не есть асимптотическое приближение к реальной реальности, — это споры между теми философами, кто полагает, что эмпирическая наука осуществляет по крайней мере некоторые из надежд Платона, и теми, кто полагает, что всякие надежды подобного рода должны быть отброшены. По мнению первых, здравый смысл неоспоримо свидетельствует о том, что добавить кирпич в здание знания — это значит более точно увязать мышление и язык с тем, как мир устроен на самом деле (with the way things really are). Вторые (философские оппонен¬
25 Имеется в виду книга: Кун Т. Структура научных революций. Пер с англ М , 1975 (2-е изд — М , 1977; «пиратская» перепечатка— Благовещенск, 1998).
45
ты первых) считают — вслед за Дьюи — подобный здравый смысл всего лишь реликтом прежней религиозной надежды на то, что искупление можно обрести посредством контакта с чем-то над-человеческим (nonhuman) и обладающим высшей силой. Оставить эту надежду, связующее звено между философией и религией, значит признать и способность ученых прибавлять кирпичики к зданию знания, и практическую пользу научных теорий для предсказания будущего, но при этом подчеркнуть, что и то и другое иррелевантно для поисков искупления.
Приведенные выше споры между философами имеют мало общего с деятельностью того типа людей, которых я назвал «материалистическими метафизиками». Это ученые, которые полагают, что широкая публика должна интересоваться последними достижениями в области генетики, физиологии мозга, психологии детского возраста или квантовой механики. Подобные ученые с большим воодушевлением говорят о различиях между прежними научными теориями и теориями, только что созданными, но им обычно не удается объяснить, почему эти различия должны волновать нас. Нам пытаются внушать, хоть и не очень успешно, что новые теории каким-то образом — и впервые — обеспечивают непосредственный контакт с реальностью.
Подобная риторика всего лишь наводит метафизический глянец на и без того полезный научный продукт. Эта риторика пытается нас уверить, что мы не просто узнали нечто новое о том, как предсказывать события и контролировать окружающую среду, но достигли и чего-то большего, чего-то, что имеет искупительное значение. Но все блестящие достижения современной науки исчерпали свою философскую значимость, когда стало ясно, что причинно-следственное описание событий в пространстве-времени не требует учета каких-либо нефизических сил, т.е. когда было показано, что нет никаких «привидений» (spooks).
Короче говоря, современная наука дала нам понять, что если нам нужна метафизика, то единственно возможной оказывается метафизика материалистическая. Однако из самой науки как таковой вовсе не следует, что нам вообще нужна какая-либо метафизика. Потребность в метафизике сохранялась до тех пор, пока сохранялась надежда обрести искупительную истину. Но к тому времени, когда материализм восторжествовал над идеализмом, эта надежда угасла. Поэтому реакция большинства современных интеллектуалов на победные реляции о новых научных открытиях сводится к вопросу: «Ну и что?». И это (вопреки Ч.П.Сноу26) — не реакция претенциозных и невежественных литераторов, снисходительно поглядывающих на честных и трудолюбивых уче- ных-эмпириков. Напротив, это вполне осмысленная реакция человека, который хочет получить знание о целях, а получает лишь сведения о средствах.
26 Имеется в виду книга: Сноу ЧП. Две культуры. Пер. с англ. М , 1975.
46
Платон и Гегель пытались дать нам нечто более интересное, чем физика. И это были похвальные попытки найти некую искупительную дисциплину, которая заменила бы религию. А материалистическая метафизика — это всего лишь попытки физики прыгнуть выше своей головы. Современная наука— это прекрасный и творческий способ (инструмент) описания мира, блестяще справляющийся с той задачей, для которой он был создан, а именно предсказывать и контролировать явления. Но этот инструмент не должен претендовать на обладание искупительной силой, на что претендовала его поверженная соперница — идеалистическая метафизика.
Мы, философы, которых обвиняют в том, что у нас нет достаточного уважения к объективной истине, те, кого материалистические метафизики любят называть «постмодернистскими релятивистами», — мы думаем об объективности как об интерсубъективности. Поэтому мы вполне можем согласиться с тем, что ученые обретают объективную истину таким способом, каким литераторы ее никогда не добудут: просто потому, что ученые организованы в такие экспертные сообщества, какие литературные интеллектуалы и не должны пытаться создавать. Вы можете организовать экспертное сообщество, если вы согласны в том, что вы хотите получить, но не тогда, когда вы пытаетесь понять, к какому образу жизни вам следует стремиться. Мы знаем, для каких целей предназначены научные теории. Но ни теперь, ни когда-либо в будущем мы не сможем сказать, для каких целей предназначены романы, стихи и пьесы. Потому что подобные книги непрестанно переопределяют наши цели.
До сих пор я ничего не говорил об отношениях между литературной культурой и политикой. Но в заключение хочу обратиться к этой теме. Потому что спор между теми, кто видит в литературной культуре благо, и теми, кто видит в ней зло, это в основном спор о том, какая культура будет в большей степени способствовать созданию и сохранению того климата терпимости, которым отличаются демократические общества.
У тех, кто полагает, что должное уважение к объективной истине (и тем самым — к науке) важно для поддержания в обществе климата терпимости и доброй воли, есть убедительный довод: свободное обсуждение (argument) существенно и для науки, и для демократии. Идет ли речь о выборе между альтернативными научными теориями или между альтернативными законодательными инициативами, мы хотим, чтобы люди основывали свои решения на свободном обсуждении — на обсуждении, исходящем из предпосылок, которые могут быть приняты каждым, кто возьмет на себя труд о них задуматься.
Священники редко прибегали к подобному свободному обсуждению. И литературные интеллектуалы тоже. Поэтому есть соблазн видеть в предпочтении литературы науке отрицание свободы обсуждений — ради догматических рассуждений, т.е. откат к чему-то, что будет слишком напоминать предфилософский, религиозный этап западной интеллектуаль¬
47
ной жизни. В такой интерпретации, с такой точки зрения развитие литературной культуры выглядит как «измена образованных людей»27.
Но те из нас, кто радуется возникновению литературной культуры, могут в порядке контраргумента сказать следующее: свободное обсуждение, разумеется, существенно для социального сотрудничества, однако искупление — дело сугубо личное, частное. Становление религиозной терпимости было связано с различением между потребностями общества и потребностями личности и с осознанием того, что религия не относится к сфере потребностей общественных. Подобным же образом литературная культура призывает нас разделить политические соображения и проекты искупления. Когда граждане демократического общества собираются в общественном месте, чтобы совместно обсудить программу действий, их (граждан) личные упования на подлинность и автономию должны быть оставлены дома.
Иными словами: наука поучительна для политики лишь в том смысле, что ученые-естественники дают хороший пример социальной кооперации — пример экспертного сообщества, в котором процветает свободное обсуждение. Тем самым ученые предлагают модель для политических дебатов — модель честности, терпимости и доверия. Речь идет не о результатах, а о процедуре — вот почему артели плотников или группы инженеров могут служить столь же хорошими моделями, как кафедры астрофизики. Различие между разумным соглашением по проблемам, которые возникают во время строительства моста, и разумным соглашением относительно того, что физики иногда называют «теорией всего», в данном контексте несущественно. Потому что, какова бы ни была новейшая «теория всего», она не сможет дать никаких руководящих указаний ни в сфере политических действий, ни в сфере личного искупления.
Это мое утверждение может показаться рискованным и догматическим: ведь несомненно, что в прошлом некоторые результаты эмпирических исследований могли изменять наши представления о себе. Галилей и Дарвин изгнали некоторые виды «привидений» (spooks), продемонстрировав достаточность материалистического подхода. Тем самым они облегчили нам переход от религиозной культуры к светской, философской. Подобным же образом моя защита литературной культуры связана с утверждением, что изгнание других «привидений», например причинно- следственных связей в мире элементарных частиц, исчерпало полезность естествознания и в плане искупления, и в плане политики.
Я выдвигаю этот тезис не как результат философских рассуждений или некоего прозрения (insight), но всего лишь как предсказание о том, что нас ожидает в будущем. В порядке подобного же предсказания философы XVIII в. утверждали, что христианство сделало уже почти все, что могло,
27 Аллюзия на книгу французского писателя Жюльена Бенда (1867-1956): Benda J. La trahison des clercs. P., 1927.
48
для морального развития человечества и что пора бы уже оставить религию в прошлом, а на ее место поставить метафизику, идеалистическую или материалистическую.
Когда нынешние литературные интеллектуалы полагают, что естествознание не может предложить нам ничего большего, нежели поучительный пример общения под эгидой терпимости, они отчасти подобны философам (the philosophes) эпохи Просвещения, которые утверждали, что даже лучшие из священников не могут предложить ничего, кроме поучительных примеров благотворительности и благопристойности (charity and decency). Разжалование науки из возможного источника искупительной истины в модель рационального сотрудничества — это современный аналог разжалования Евангелий из рецепта достижения вечного блаженства в компендиум здравых этических наставлений. Именно такое разжалование рекомендовали произвести Кант и Джефферсон, и именно это постепенно осуществили за последние два столетия либеральные протестантские теологи.
То же можно описать иначе: и христианская религия, и материалистическая метафизика оказались самоуничтожающимися (self-consuming) артефактами. Религиозная ортодоксия была подорвана тезисами апостола Павла о приоритете любви28 и постепенным осознанием того, что религия любви не может требовать от всех и каждого исповедания одного и того же символа веры. Метафизика была подорвана способностью современной науки рассматривать человеческое сознание (the human mind) как чрезвычайно сложную нервную систему, а себя самое— в прагматическом, а не в метафизическом свете. Наука научила нас рассматривать эмпирическое исследование как использование этого нашего сложного физиологического оснащения в целях все большего господства над окружающим нас миром, а не как поиск некой реальности, скрытой за кажимостью (appearance). Подобно тому как XVIII век смог увидеть в христианстве не откровение свыше, а продолжение традиции сократических размышлений, XX век смог увидеть в естествознании не откровение о сущностной (intrinsic) природе реальности, а продолжение традиции конкретных решений конкретных проблем, чем так умело занимались и занимаются и бобры, и плотники.
Отказаться от мысли, что есть некая сущностная природа реальности (an intrinsic nature of reality), которую могут открыть или священники, или философы, или ученые, это значит отделить потребность в искуплении от поиска общечеловеческого согласия. Это значит отказаться от поисков точного описания человеческой природы и универсального рецепта Праведной Человеческой Жизни (the Good Life for Man). Если и когда мы откажемся от подобных поисков, то безграничное расширение пределов человеческого воображения будет играть ту роль, которую покорность божественной воле играла в религиозной культуре, а открытие реальной ре¬
28 См.. Первое послание к коринфянам, гл. 13 (пояснение автора).
49
альности — в культуре философской. Но такая замена — вовсе не повод отказаться от поиска единой политической утопии, Праведного Глобального Общества (the Good Global Society). Литературная культура может быть столь же верным союзником демократической политики, каким прежде была культура философская. Литературную культуру не должно считать триумфом Контрпросвещения. Она— продолжение Просвещения другими, лучшими методами.
Перевод с английского С.Д.Серебряного
М. Т. Степанянц
Метафора «золотая середина» как ключ к пониманию общего и частного в философии морали
В своих рассуждениях по заявленной теме я бы хотела оттолкнуться от теоретических посылок, выдвинутых рядом ведущих философов в наиболее значительном в области современного философского компаративистского дискурса труде: Interpreting across Boundaries. New Essays in Comparative Philosophy.
Начну с высказывания старейшего и авторитетнейшего индийского философа, постоянного участника компартивистских форумов, Дая Кришны: «Если философия — область деятельности человеческого разума, она обязана демонстрировать некоторые сходные черты, наблюдаемые в разных культурах, и одновременно, как продукт деятельности человеческого разума, она должна проявлять интерес к тому, что именно человек той или иной культуры считает общим благом для человечества в целом»1.
Добавлю к сказанному тезис А.С.Куа о том, что признание концептуальной относительности есть признание того факта, что моральные понятия находятся в прямой зависимости от культурно-исторического контекста. Из этого не следует, однако, что данные понятия «не имеют транскультурной значимости... Могут существовать функциональные эквиваленты различных моральных понятий в различных культурах... и две различные моральные традиции на первый взгляд кажутся несопоставимыми. Однако более глубокое изучение конвергенции человеческих интересов может конвертировать проблему культурного видения в общечеловеческую»2.
1 Daya Krishna. Comparative Philosophy What It Is and What It Ought to Be — Interpreting across Boundaries. New Essays in Comparative Philosophy. Ed. by G.L Larson and E.Deutsch Princeton, 1988, c. 71.
2 CuaA.S. Reflections on Moral Theory and Understanding Moral Traditions. — Interpreting across Boundaries, c. 285.
О М.Т.Степанянц, 2004
51
И наконец, еще одно высказывание, заслуживающее, как мне кажется, особого внимания. Оно принадлежит известному американскому синологу и компаративисту Генри Розману, предлагающему использовать вместо термина «универсальный» (universal) термин «человеческий» (homover- sal)3. Применение определения «универсальный» к моральному понятию создает неоправданное допущение всеобщности моральной нормативности во всем универсуме, т.е. для всех населяющих его живых существ. Однако же, если понимать мораль как исключительно человеческую сферу, тогда уместнее и точнее было бы определять ее не как универсальное, но как общечеловеческое качество, характеризующее «всех людей такими, какими они являются с точки зрения физиологии и психологии»4. Верный синологическим пристрастиям, Розман использует для иллюстрации своей позиции пример из «Мэн-цзы» (IIA6) о сходности чувств, переживаемых любым человеком при виде ребенка, который вот-вот может упасть в колодец. Такое чувство является не универсальным, а типичным для человека как особого вида живых существ.
Практически все, кто занимается сравнительной философией, отмечают одновременно и сходство/несходство, а иногда и прямую несопоставимость моральных норм в различных культурах5. При этом существует тенденция преувеличивать, даже абсолютизировать одну из двух характеристик. Но, по справедливому замечанию Дая Кришны, склонившись к однозначному варианту, можно лишь «разрубить гордиев узел противоречий, но никак не разрешить их»6.
Разделяя положение о наличии некоторых общечеловеческих основ морали, не могу не присоединиться в то же время к тем, кто продолжает задаваться вопросами: насколько они всеобъемлющи и в чем это проявляется?7 Попробуем ответить на «вечный вопрос» компаративистики, прибегнув к метафоре «золотой середины», дающей ключ к пониманию общего и частного в философии морали8.
3 Rosemont H., Jr Against Relativism. — Interpreting across Boundaries, с 52 Термин «человеческий» введен Розманом под влиянием работ Наума Хомски
4 Там же
5 Особенно показателен в этом смысле получивший широкий отклик доклад А Макин- тайра на VI конференции философов Востока и Запада в 1989 г в Гонолулу, позже опубликованный в форме статьи MacIntyre A Incommensurability, Truth, and the Conversation between Confucians and Aristotelians about the Virtues — Culture and Modernity East-West Philosophic Perspectives. Ed. by E Deutsch. Honolulu, 1991.
6 Daya Krishna. Comparative Philosophy, с 71
7 «„Насколько сходное является действительно схожим7“ — вот вопрос, который всегда можно задать, а потому он остается проклятым вопросом для всех сравнений, заражая их неопределенностью, которая в принципе не поддается излечению» (там же).
х По словам Карла Поттера, «обнаружение метафорических связей дает возможность увидеть концептуальные системы таким образом, что это не прокладывает между ними границы или, по крайней мере, не прокладывает ее столь категоричным образом, чтобы провоцировать скептические возражения » {Potter Karl Н. Metaphor as Key to Understanding the Thought of Other Speech Communities. — Interpreting across Boundaries, с 33). Сам К Поттер
52
Почему именно «золотая середина» становится расхожей метафорой? Причиной тому, прежде всего, природа человека. Аристотель (с именем которого принцип «золотой середины» связан столь неразрывно, что его принято называть «аристотелевским») отмечал в качестве первой особенности человеческого бытия целесообразность деятельности человека, ее направленность на достижение блага. Он разделял традиционную для школы своего учителя Платона точку зрения: «У всех действий цель одна — благо и... все прочее должно делаться ради блага»9.
Как существо разумное и обладающее волей, человек не может двигаться к цели, не выработав стратегии действий. Инстинкт самосохранения и трезвый расчет, личный опыт, а также исторический, пережитый и переданный предками10— все подсказывает умеренность, сбалансированность настроений и поступков в качестве оптимального средства достижения цели.
Хотя, как кажется, все культуры признают ценность «золотой середины», в каждой указанный принцип как норма морали предстает в конкретном культурном контексте.
В Древней Греции, с которой, как принято считать, начинается история западной культуры, под целью целей человеческой деятельности понималось высшее благо— эвдемония: «Счастье есть высшее благо... это деятельность превосходной души...» Счастье должно означать «деятельность совершенной жизни в согласии с совершенной добродетелью» (Эвдемова этика, II.1219а 30-35)".
Античность, включая человека в космос, в то же время стремилась с помощью этических нормативов отрегулировать его пребывание в нем таким образом, чтобы «обезвредить разрушительную силу индивидуальности», склонную впадать в «дерзость» нарушения космического порядка12. «Но с другой стороны, — справедливо отмечает А.Доброхотов, — оставаясь человеком, нельзя довольствоваться только своим „топосом“, предписанным судьбой. Ведь человек в понимании греков — не ординар¬
ссылается на другую работу, в которой утверждается, что «концептуальная система представляет собой последовательную систему метафорических понятий, в которой „метафора“ есть понимание и переживание одного рода вещей в терминах другого» (Lcikoff G, Johnson М. Metaphors We Live By Chicago, 1980, c. 5).
9 Платон. Горгий — Собрание сочинений в 4-х т T 1 М , 1990, с 543, 500а.
10 Ср/ «Мы есть то, чем прошлое сделало нас, осознаем мы это или нет, и мы не можем удалить от себя... части самих себя, которые образованы нашим отношением к каждой формирующей стадии в нашей истории. Если это так, тогда даже героическое общество все еще является неизбежной частью всех нас, и мы рассказываем историю, которая является нашей собственной историей, когда мы пересматриваем прошлое общество в формировании нашей собственной культуры» (Макинтайр А. После добродетели. М., 2000, с. 179).
11 Аристотель. Эвдемова этика. Пер Т А Миллер (цит. по: Гусейнов А. А , Иррлитц Г Краткая история этики. М , 1987, с. 518).
12 Доброхотов A.J1. Этика европейского нравственного самосознания — Этическая мысль М., 2000, с 71-72.
53
ная часть универсума, а избранник богов. Этот прометеевский трагизм делает античную этику динамичной, неуспокоенной. Этому вторила и греческая религия страдающего Диониса... Примирить эти антиномии греки пытались в ориентации шмеру и срединность. Героический характер античной этики не исчезал в этой установке: впадать в крайность можно легко, расслабившись и отдавшись стихии, удержаться же в середине можно лишь огромным и постоянно возобновляющимся усилием воли и разума. Но как определить эту середину? ...Досократики предлагали следовать космическому закону, софисты — принять за нормативную меру самого человека, Сократ учил, что нужно искать эту меру там, где в человеке совпадают знание (мысль) и добродетель (бытие). Вслед за Сократом пошли и Платон с Аристотелем, предельно сблизив этику с онтологией»13.
Аристотель усматривал высшее благо в деятельности, сообразной добродетелям, из которых он, как известно, особо выделял десять: мужество (iandreia), благоразумие (,sophrosyne), щедрость (eleutheriotes), великолепие Сmegaloprepeia), величавость (megalopsychia), честолюбие (philotimia), ровность (praotes), дружелюбие (philia), правдивость (aletheia), любезность (eutrapelia). Примечательно при этом, что добродетель как таковая определяется Аристотелем как «некое обладание серединой» (Никомахова этика, III.5.1106Ь)14. «Итак, в связи с добродетелями, — пишет он, — мы сказали в общих чертах об их родовом понятии, а именно что они состоят в обладании серединой...» (III.8, 114Ь)15.
Греческая моральная философия является «социально насыщенной». Каждая добродетель есть «не что иное как общественная мера поведения человека в наиболее важных сферах его жизни. Это подход, который прямо замыкает моральные качества личности на существующие в обществе нравы»16.
«Специфическая цель», в направлении которой движется индийская культура, выглядит прямо противоположной древнегреческой. В «Вишну- пуране» сказано, что Бхарата (Индия)— единственная страна «ответственного поведения», остальные же — «регионы наслаждения»17. Не земное счастье, не мирское благополучие, а, напротив, освобождение от всяческих уз, достижение мокши — конца круговорота бытия — такова направленность всех, и прежде всего нравственных, усилий индуса.
В зависимости от ориентации на «нормативно-коллективистскую» или «мистико-индивидуалистическую» модель совершенствования18 индусы
13 Там же.
14 Аристотель. Никомахова этика. Пер. Н.В.Брагинской. — Сочинения в 4-х т. Т 4. М , 1984.
15 Там же.
16 Гусейнов A.A. Античная этика. М., 2003, с. 170-171.
17 См.: Halbfass W. Tradition and Reflection. Exploration in Indian Thought. Albany, 1991, c. 273.
18См. подробнее: СтепанянцМ.Т. Восточные концепции «совершенного человека» в контексте мировой культуры. — Историко-философский ежегодник. 1990. М., 1991, с. 96-107.
54
придерживаются соответствующих добродетелей. Для последователей брахманизма таковыми являются добродетели, включенные в концепцию варна-ашрама-дхарма (они сгруппированы в соответствии с кастовой принадлежностью и жизненной стадией индуса). Путь аскезы и мистического поиска, в наиболее полном виде представленный буддизмом и джайнизмом, культивирует добродетели, ведущие к освобождению от «водоворота бушующего бытия».
«Золотая середина» из добродетели, подсказанной здравым смыслом, трансформируется в буддизме в спекулятивную теорию Срединного Пути. Появление подобного учения было обусловлено ситуацией, характеризующейся «анархией морали». С.Радхакришнан описывает время начала проповедей Будды как «век спекулятивного хаоса, полный непоследовательных богословских теорий и споров по неопределенным вопросам... Анархия мысли вела к анархии морали»19.
«Не существовало общепризнанных фактов, общепризнанных принципов, были только расхожие взгляды и предположения. Кипели споры о конечности и бесконечности — или об отсутствии или наличии их обеих, — о мире и „я“, о различии между истиной и видимостью, о реальности потустороннего мира, о продолжении жизни души после смерти и о свободе воли... Были ниггантхи, то есть свободные от оков, и саманы, или аскеты, не принадлежавшие к ордену брахманов; некоторые искали душевного покоя в отречении от мира; другие истязали плоть, отказывая себе в питании в течение долгого времени; третьи искали духовного отвлечения; были диалектики, полемисты, материалисты, скептики и, наконец, люди, считавшие мудростью свое собственное самодовольство, подобно Саччаке...»20.
Будда предлагает выход из «морального хаоса» посредством избрания Срединного Пути (пали — majjhimä patipadä, санскр. madhyamä pratipad), удерживающего от двух крайностей. Просветленный Гаутама осознает бессмысленность упования на спасение посредством неукоснительного следования всем брахманистским обрядам и кастовым ограничениям. Столь же бессмысленно надеяться на обретение мокши с помощью практики самоистязающего аскетизма. В палийских и других махаянских текстах Срединный Путь — синоним Восьмеричного Пути21.
В махаяне (санскр. mahä-yäna, букв. «Великая колесница», «Великий путь»)— втором по значимости историческом направлении в буддизме, основанном Нагарджуной (II-III вв. н.э.), прозванным «Вторым Буддой», — понятие Срединного Пути дополнилось новыми смыслами, такими, как средняя позиция между любыми противоположными точками зрения и вообще между любыми «да» и «нет». Согласно преданию, имен¬
19 Радхакришнан С. Индийская философия. T. I. М., 1956, с. 300.
20 Там же, с. 299
21 См.: Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны. Религиозно-философские трактаты. М, 2000, с. 750.
55
но таким образом наставлял Будда своих учеников: «Этот мир, о Качана, вообще основывается на двойственности, на основании „это есть“ и „это не есть“. Но, о Качана, для всякого, кто понимает в истине и мудрости, как зарождаются вещи в мире, в его глазах нет „это есть“... „Все есть“ — это одна крайность, о Качана. „Все не есть“ — это другая крайность. Истина посередине»22.
Знаменательно, что первая из философских школ махаяны так и называется — мадхъямика (санскр. madhyamika — «средний», «срединный»). Последователи мадхьямики утверждали, что суждение «нечто есть» или «ничего нет» лишь усугубляет заблуждения, ибо мудрый не судит ни о бытии, ни о небытии; утверждать вечные начала или отрицать их в равной мере бессмысленно.
В самом известном махаянском трактате — «Драгоценные строфы наставления царю» Нагарджуны, написанном в жанре наставлений и предназначенном для образованных представителей древнеиндийского общества, — звучит рефрен относительно Срединного Пути:
Этот сокровенный [Закон], действующий вне [двоицы] добра и зла,
Приводит к ясной цели (1.79).
Руководствуясь высшей целью, [ясно, что]
Этот мир вне [двоицы] истины и лжи,
Потому что с точки зрения подлинной реальности Нельзя противопоставлять «это есть» и «этого нет» (II.5).
Все те из людей, которые желают достичь Просветления,
Обретаемого в соответствии с благим Законоучением,
Должны навсегда забыть крайности самого великолепного
и самого низкого... (V.102)23.
Принцип «золотой середины» приобретает поистине всеобъемлющую значимость в китайской традиции. Он играет не только морально-нормативную роль, но, как доказывает Франсуа Жюльен, определяет специфику «стратегии смысла», своеобразие китайского пути к цели: не напрямик, как это типично для Греции, а в обход24.
Согласно конфуцианской традиции, человек — существо, обладающее пятью природными задатками, которые по существу и есть те основные добродетели, которые необходимо культивировать. К таковым относятся жэнъ — человеколюбие; и — справедливость и одновременно долг; ли — благопристойность, следование ритуалу; чжи — мудрость, знание; и, на¬
22Самъютга Никая XXII.90.16. Цит. по: Радхакришнан С. Индийская философия. T. I, с. 313.
23 Нагарджуна. Драгоценные строфы наставления царю. Пер. В.П.Андросова. — Андросов В.П Буддизм Нагарджуны. Религиозно-философские трактаты, с. 158, 168, 285.
24 См.: Жюльен Ф. Путь к цели’ в обход или напрямик. Стратегия смысла в Китае и Греции Пер. с франц. В.Г Лысенко. М , 2001.
56
конец, синь — искренность, правдивость. Примечательно, что ни одна из перечисленных добродетелей не имеет однозначного, сколько-нибудь четкого определения. Свое наиболее полное и адекватное воплощение они обнаруживают в Совершенномудром — идеале, к которому следует стремиться, с поступками и словами которого следует сверять мысли и действия. Основная черта Совершенномудрого, каковым, в частности, считается Конфуций,— уравновешенность. Почему именно это качество столь важно? Потому что оно «уберегает» от опасности любого уклонения, нарушающего порядок отношений человека с естественным ходом вещей. Не что иное, как умеренность открывает возможность гармоничной настроенности, позволяющей «выявить подоплеку реального, ту бездонную глубину, откуда все вытекает. Пользуясь китайской терминологией, ее достаточно, чтобы осветить „путь Неба“ (Дао), который также вечно следует своим чередом и вечно обновляет жизнь, ибо никогда не отклоняется»25.
Умеренность означает воздержанность от безусловной, категоричной приверженности какой-либо точке зрения, ибо такая приверженность лишает способности к эволюции, иначе — постоянной «подстройки» к гармонии мирового порядка:
«Чего у Учителя не было в помине: не было идеи (излюбленной), не было необходимости (заранее известной), не было позиции (застывшей), не было „я“ (определенного)» (Лунь юй, IX.4)26.
Этический идеал Совершенномудрости не предполагает какого-либо общего определения самого понятия «мудрость». Во всяком случае последнее отсутствует в «Беседах» Конфуция с учениками. Если бы «мудрость» была четко определена, тогда всякому, стремящемуся к совершенству, требовалось бы принять ее, следовать ей. Установка китайской традиции иная: не подгонять поведение человека под некую теорию, руководя им извне, а обучать его сообразовываться с обстоятельствами, сохранять равновесие. «Предмет забот Учителя — не знание, не нацеленность на обретение Истины, а регуляция поведения, которая позволяет усвоить порядок, царящий в мире»27.
Искомое «равновесие» не поддается идентификации. Жюльен приводит отрывок из «Лунь юй» (IX. 10):
«Ян Хуэй со вздохом сказал: „Чем выше поднимаю глаза, тем больше высота, чем глубже копаю, тем труднее становится; вижу его перед собой, и вдруг оно позади.
25 Там же, с. 214.
26 Там же. Ср. перевод на русский, выполненный В.А.Кривцовым: «Учитель категорически воздерживался от четырех вещей, он не вдавался в пустые размышления, не был категоричен в своих суждениях, не проявлял упрямства и не думал о себе лично» (Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. Т. 1. М., 1972, с. 156).
11 Жюльен Ф. Путь к цели, с. 177-178.
57
Учителю мало-помалу удается воспитать людей; он взращивает меня писаниями и сдерживает меня обрядами.
Хотел бы бросить, да не могу; когда же силы мои на исходе, все это как бы встает передо мною, тогда желаю следовать этому, но не знаю куда“»28.
Комментарий Жюльена сводится к следующему. Когда любимый ученик Конфуция говорит, что «учение повергает его в растерянность, то это не потому, что на его глазах вдруг рушится мнение, которому он был привержен и которое теперь кажется ему наваждением... По словам комментаторов (Чжан Ши, Ху Гуана), от него постоянно ускользает тончайшая „центровка“, которая не перестает смещаться (чтобы приспособиться к подвижному ходу вещей), но лишь она одна позволяет сохранить постоянство в поведении, не дает ему отклоняться (моделью же ему служит Небо). И если говорится: ученику кажется, что это „перед ним“, а оно вдруг оказывается „позади“, так это оттого, что он то слишком задержится „здесь“, то чересчур далеко шагнет „туда“. Учитель ведет его именно так, чтобы постоянно уравновешивать одно другим»29.
Стремясь поддержать хрупкий баланс между избытком и недостатком, Учитель наставляет быть приверженным принципу регуляции. Но это вовсе не означает, что существует некий заранее установленный и навсегда зафиксированный принцип регуляции. Имеется в виду чисто ситуативное приведение в соответствие.
Регуляция необходима, ибо фиксированной идеальной середины как таковой не существует. «Центральное положение, составляющее подлинную адекватность ситуации, никогда не пребывает в неподвижности (поскольку оно постоянно следует за обновлением вещей) и как таковое не может преобразоваться в истинность»30.
Вслед за Конфуцием проблема регуляции в достижении «золотой середины» занимает и Мэн-цзы. В рассказе из «Мэн-цзы» (IIA6) между позицией Ян Чжоу, который не готов был «пожертвовать даже волоском» ради блага мира, и Мо-цзы, «полного решимости пожертвовать собой „с головы до ног“», Мэн-цзы располагает точку зрения Цзымо, который придерживается некой срединной позиции. При этом Мэн-цзы предупреждает, что «„держаться“ в центре — не значит к нему привязываться... ибо это ведет к фатальной неподвижности. В сущности, „привязываться к центру“, не
28 Ср.: «Ян Юань со вздохом сказал: „Чем больше [я] всматриваюсь в учение [учителя], тем возвышеннее оно кажется; чем больше стараюсь проникнуть в него, тем тверже оно оказывается. [Я] вижу его впереди, но вдруг оно оказывается позади. Учитель шаг за шагом искусно завлекает людей, он расширяет ум с помощью образования, сдерживает посредством ритуала. Я хотел бы отказаться [от постижения его учения], но уже не смог; я отдал все свои силы, и кажется, что его учение находится передо мной, я хочу следовать ему, но не могу этого сделать» (Древнекитайская философия, с. 157).
29 Жюльен Ф. Путь к цели, с 198.
30 Там же, с. 236.
58
отдавая должное равновесию (с точки зрения, зависящей от обстоятельств, у цюянъ), — это так же нелепо, как „привязаться к единственной возможности“: „осуществляя одну, упускаешь сто“ и именно этим „нарушаешь“ Путь»31.
Таковы вкратце обусловленные целями разных культур и особенностями их развития различные, но единые в своей основе составляющие «золотой середины».
31 Там же.
Раздел II ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ
Франсуа Жюльен
Основание морали: тайна жалости
Основать мораль — это не значит определить ее принципы. Основать мораль— значит обосновать ее возможную легитимность, определить, чем — помимо заповеди Бога или социальной полезности — обосновывается необходимость ее существования.
Вопрос— как и зачем основывают мораль— принял окончательную форму в Европе XVIII в., после того как философы эпохи Просвещения вывели мораль из-под религиозно-метафизической опеки и перед тем, как «мэтры подозрения» во главе с Ницше начали свой подкоп под ее основы. С тех пор никто больше не решается рассматривать мораль в упор — во всей ее школярской косности: ибо, хотя ее и находят слишком двусмысленной и одновременно слишком наивной, еще никому пока не удавалось от нее избавиться. Мы не отрицаем того, что у нас есть моральное сознание, но опасаемся мистификации. Став расплывчатой, туманной, носящейся в воздухе, идея морали, подобно фантому, не перестает посещать наши идеологические споры. На чем же в действительности основаны слова «гуманное» (humanitaire), «солидарность» (solidarité), не сходящие с наших уст сегодня?
Я намерен вновь обратиться к этому вопросу, умышленно подойдя к нему окольным путем: через великую моральную традицию, развивавшуюся за пределами индо-европейского мира, через Китай и его представителя Мэн-цзы. Я делаю это не ради того, чтобы найти решение наших тупиковых проблем в Китае (и составить своего рода «Китайский катехизис» в духе XVIII в.), но скорее ради того, чтобы вывести этот вопрос из зыбучих песков, в которых он завяз, чтобы, прибегнув к эффекту смещения, пересадить его на другую почву и, поместив его в другой идейный контекст, открыть в нем новые возможности, сдвинуть его с мертвой точки. В вопросе о морали у Европы и Китая можно обнаружить и общность
О Франсуа Жюльен, 2004
60
опыта, и общность в смысловом наполнении понятия, поэтому-то и происходит прямая встреча двух цивилизаций. На этот раз для разговора о морали нет нужды начинать с конструирования каких-то посредничающих представлений, сравнение превращается в диалог.
Хорошо известно, что, когда философия слишком замыкается в своих словопрениях, она периодически сталкивается с угрозой потери смысла. В нашем исследовании обращение к Китаю служит «размыканию» философии, помогает как бы отступить назад, чтобы получить лучший обзор со стороны, позволяет поразмышлять с позиции стороннего наблюдателя. Китай не является еще одним большим зеркалом, которое можно внести в опись, он становится необходимым теоретическим орудием (и объектом, а синология — методом). Он также помогает нам снова оказаться на твердой почве в вопросах морали.
Если, как это рекомендовано в древнекитайской стратегии, я предпочитаю атаковать сбоку — через Китай, — так это для того, чтобы заставить вопрос развернуться к нам лицом. И если я умышленно отправляюсь из такого далека, то это не из-за любви к экзотике и не из-за удовольствия заниматься сравнениями, а лишь ради поисков пространства для маневра, ради того, чтобы почувствовать себя свободным, пользуясь преимуществами нового старта, когда приступаешь к проблеме, которая с близкого расстояния казалась совершенно запутанной и не поддающейся охвату.
В дальнейшем я буду говорить не об «этике», модной фигуре умолчания, а просто о морали.
Перед лицом невыносимого
1. Некий государь усомнился в своей способности делать добро подданным. Чтобы убедить его в обратном, мудрец напомнил государю случай из его жизни. Однажды, когда государь восседал на троне в зале для приемов, он увидел у подножия лестницы быка, которого тащили на жертвоприношение. Не в силах более лицезреть объятое страхом животное, похожее на невиновного человека, которого ведут на место казни, он приказал отпустить его. «Должны ли мы отказаться от жертвоприношения?» — спросил один из его служителей. «Это невозможно, — ответил государь, — вам просто следует заменить этого быка на барана».
Вот и доказательство того, что государь способен проявить царскую милость, заключил мудрец. Однако этот случай, как может показаться на первый взгляд, оборачивается против государя: предлагая заменить быка на барана, он мог быть обвинен в скаредности. Защищаясь от подобного обвинения, он и сам признал свою непоследовательность. Ибо почему нужно предпочесть барана быку, ведь и тот и другой одинаково невиновны? Мудрецу пришлось объяснить, чтб именно произошло в сознании государя, — такое, что ни другие, ни он сам не смогли распознать: если
61
тот, не задумываясь, предложил заменить быка на барана, то это произошло потому, что он видел испуганного быка и не видел барана. Он стал непосредственным свидетелем страха быка, этот страх неожиданно возник перед его глазами, он не успел себя от него отгородить, тогда как другое животное осталось для него лишь идеей: анонимной, абстрактной и вследствие этого не оказывающей воздействия, не испытанной в столкновении лицом к лицу с чем-то реально присутствующим. Тот, кто чувствует ужас, испытываемый другим, уже не может отвести взгляд. Жертвоприношение барана не смогло затронуть сердце властителя, потому что он заранее поместил его в обычный порядок вещей, тогда как увидеть быка своими глазами было достаточно, чтобы государь растрогался, и внутренняя логика (необходимость жертвоприношения) была поколеблена в одно мгновение. За непоследовательностью его поведения, которой, как думал государь, надо было бы стыдиться, скрывался факт, составлявший его добродетель: он не мог вынести вида страдания, не мог остаться безразличным к судьбе другого, даже если этот другой— животное. И этой непосредственной реакции перед лицом невыносимого было достаточно для доказательства добродетельности его намерений.
2. Эта история рассказана Мэн-цзы, китайским философом IV в. до н.э. (см.: «Мэн-цзы», I.A.7). Изложив ее, автор подводит итог: «Добропорядочный муж по отношению к животным ведет себя так: если он их видит живыми, он не в состоянии вынести зрелища их умерщвления; если он услышал их предсмертные вопли, то не сможет вкушать их мясо»1. Это напомнило мне (хотя это и частный случай из жизни, он показался мне весьма показательным), как в детстве мы носили в водоем маленьких утят, с удовольствием наблюдали, как они там резвятся, и, когда однажды их убила собака, мы просто не смогли их ощипать и приготовить. Но по какой причине? Чтб же, удерживая нас от этого, смогло внести в наш опыт это необходимое разграничение (démarcation) — разграничение, бесспорно, относительное, но от этого не менее непреложное (ведь, случившись однажды, оно становится решающим)? Как отмечает Мэн-цзы чуть дальше, «добропорядочный муж располагает кухню и бойню на расстоянии друг от друга»2 (иными словами, бойни должны находиться в отдалении). Сделанное вскользь, это замечание Мэн-цзы (которое в других обстоятельствах можно было бы принять за предубеждение, характерное для китайской элиты) углубляет различие (différence): как только я начинаю соучаствовать в другом (даже если это животное), как только я непосред¬
1 Здесь и далее ср с переводом «Мэн-цзы» на русский язык, выполненным В.С.Колоко- ловым: «Добропорядочные мужи по отношению к зверям и птицам держат себя так: когда те живы, они любуются ими, но когда тех умерщвляют, они не выносят этого зрелища. Слыша их вопли, добропорядочные мужи не в силах вкушать их мясо» (Мэн-цзы. Пер. с китайского и указатели В.С.Колоколова. СПб., 1999, с 22, 16). Здесь и далее в сносках примечания переводчика.
2 Ср : «Потому-то эти мужи стараются быть подальше от боен и от кухонь» (с 22)
62
ственно сознаю (пусть даже на мгновение) его присутствие, я не могу оставаться безучастным.
Кстати, пример здесь — это не просто иллюстрация, он может послужить пробным камнем: применительно к столь спорному предмету морали единственным гарантом в конечном счете оказывается опыт, который и может определить выбор аргументов. Необходимо еще суметь передать его в его радикальности, чтобы упомянутый факт носил бесспорный характер. Вот почему Мэн-цзы старается представить эту ситуацию как типичный случай: некто видит ребенка, который вот-вот упадет в колодец, и, охваченный сильным испугом, устремляется ему на помощь (II.A.6). И это не для того, чтобы «снискать благодарность родителей этого ребенка», не для того, чтобы «заслужить похвалу соседей и друзей», и даже не для того, чтобы «избежать плохой репутации»3. Что характерно для этого чувства невыносимости перед лицом несчастья другого — так это то, что оно не связано ни с каким расчетом, не является продуктом рефлексии и что такая реакция спонтанна. Никакой интерес тут не замешан, жест прийти на помощь не контролируется сознанием. Эта ситуация заслуживает того, чтобы принять ее за образец, ибо она обнажает совершенно незаинтересованное поведение, в котором преодолевается индивидуальное начало: неожиданно я перестаю быть хозяином своих действий с их эгоистическими целями, сама экзистенция восстает через меня ради другого. Перед нами предстает нечто, списанное с натуры и обладающее немедленным эффектом, то, что никакой разум не смог бы оспорить.
Вот что нам рассказывает Мэн-цзы о нравах прошлого (III.A.5). Когда- то жили люди, которые не хоронили своих родных; когда те умирали, они просто выбрасывали трупы в пропасть. Однажды, проходя мимо этого места, они увидели, как трупы эти пожирают лисы, как ими насыщаются мухи и черви: их лбы тотчас покрылись холодной испариной, они отвели взгляд, не решаясь больше смотреть... «Эта испарина, которую они почувствовали, не предназначалась для других людей»4, — комментирует Мэн- цзы; эта реакция вырвалась из глубин их существа5. Они вернулись с носилками и корзинами и поспешили засыпать тела. Исполнение похоронных обязательств есть лишь условность, заключает Мэн-цзы, она свидетельствует о связи между разными существованиями, которую не может разрушить даже смерть. Или, как это стыдливо отмечает Мэн-цзы (II.В.7), мы ощущаем несомненное внутреннее удовлетворение от мысли о том,
3 Ср.- «Вот представим себе [теперь], что люди вдруг заметили маленького ребенка, который готов упасть в колодец. У всех сразу же замирает сердце от страха и сострадания, но не потому, что они собираются завязать дружбу с родителями маленького ребенка; не потому также, чтобы заслужить похвалу у своих сородичей и друзей, — с ними случится так не оттого, что крик ребенка для них противен» (с. 55, 3.1.6).
4 Ср.: «Эта испарина была вовсе не показная для других людей» (с. 86, 56.16.5)
5 Ср.: «Она вызывалась чувством, идущим из глубины сердца, и проступала на лице» (с 86,5.1.5).
63
что «земля не коснется... кожи» тех, кто предоставлен на волю «великого естественного преобразования»6. До самой нашей смерти нам не удастся сделать вид, что мы безразличны к тому, что угрожает другому.
3. Подобные примеры указывают на универсальность принципа. «У каждого человека... есть нечто такое, чего он не перенес бы, если бы это случилось с другими», — заключает Мэн-цзы. Пусть это ощущение невыносимости распространяется на то, что он может вынести (когда это случается с другими),— в этом и состоит гуманность (жень е) (VII.B.31)7. Иными словами, для каждого человека среди несчастий, случающихся с другими, бывает нечто такое, что не может оставить его безразличным, что вызывает его реакцию. Это небезразличие означает, что перед лицом несчастий, случающихся с другими, он не может оставаться спокойным, не может быть «расслабленным» (ср. понятие «дискомфорта» (бу ан), совести, уже у Конфуция). Вместе с тем в несчастье другого существует множество прочих аспектов, по отношению к которым все остаются безучастными, на которые никто не обращает внимания. Мораль с китайской точки зрения ничего не постулирует, она не содержит ни заповедей, ни предписаний, ничего, кроме «расширения»— распространения реакции «непереносимости» на все те человеческие невзгоды, к которым люди все еще продолжают относиться безучастно.
Для каждого человека существует также что-то, «что он не делает» (что он не согласится сделать). Пусть человек распространит это сознание неприемлемости для него каких-то действий на то, что он все еще делает (предосудительного), — такова справедливость8. Человек, который не станет «пробивать брешь» (в стене) или «перепрыгивать через стену», чтобы обворовать своего соседа, может тем не менее бессовестно льстить своему государю, «говоря то, что не подобает говорить», или «умалчивая о том, о чем следует сказать»9. Но это недостойное поведение есть явление того же порядка, что и кража, просто последняя совершается более наглым способом. Напротив, в том, кто «способен довести до полноты совестливость, которая мешает ему воровать», справедливость неисчерпаема.
Это основополагающее расширение морали осуществляется по двум направлениям: в нас самих оно заключается в распространении на весь наш опыт чувства невыносимости, которое охватывает нас перед лицом
6 Ср.. «К тому же только ли у меня одного нет той радости, которая имеется в сердцах людей, знающих, что они не допустили прилегания земли вплотную к кожному покрову их усопших9» (с. 66, 4.2.7).
7 Ср.: «У всех людей есть нечто такое, чего они не переносят; привести их к тому, что они переносили бы, — вот в чем заключается беспристрастность» (с. 208, 14 2 31).
8 Ср.: «У всех людей есть нечто такое, чего они не делают, привести их к тому, что они сделали бы, — вот в чем состоит справедливость» (там же)
9 Ср. «Когда служилые люди-мм заводят речи с такими людьми, с которыми им еще нельзя их заводить, то это и является своего рода подкопом посредством речей, а когда они не ведут речей с теми, с которыми можно их вести, — это тоже является подкопом, но посредством молчания» (там же)
64
несчастий другого, или, иными словами, в распространении того, чем мы озабочены в отношении других, на то, чем мы пока еще не озабочены (ср. VII.B.1)10; или же в распространении нашего ощущения неприемлемости на то предосудительное, что мы все еще считаем допустимым совершать. Вне нас это расширение морали происходит в направлении других людей — от самых близких до самых дальних — путем простого распространения хорошего примера, который им дает прежде всего сам правитель (ср. I.A.7). «Развернуть», «расширить», «распространить» — таковы ключевые задачи «Мэн-цзы». Ибо мораль подобна огню, который начинает пылать, источнику, который начинает бить из-под земли (ср. II.A.6). Вот почему той единственной реакции невыносимости, испытанной однажды государем при виде испуганного быка, ведомого на заклание, — если ее развернуть до масштабов всего человечества, — будет достаточно, чтобы во всем мире воцарились порядок и спокойствие.
Основать ши сравнить (или сравнить, чтобы основать)
1. Для Мэн-цзы, а в лице этого мыслителя — для всей китайской традиции реакция невыносимости (перед лицом угрозы другому)— это именно то, на чем можно основать мораль. Но следует хорошенько разобраться в том, чтб мы подразумеваем под словом «основать», и прежде всего провести разграничение между принципом моральности и тем, что служит его основанием, или фундаментом. Принципом моральности является первичное моральное высказывание, говорит нам Шопенгауэр, т.е. наиболее сжатое и точное выражение предписываемого ею образа действий, наиболее общий рецепт добродетели вообще, т.е. hoti (греч. «что»), тогда как ее фундамент заключает в себе dioti (греч. «почему») добродетели, причину, по которой ее либо вменяют в обязанность, либо рекомендуют. Принцип, с содержанием которого согласны все моралисты, признает Шопенгауэр, это, например: «Никому не вреди, напротив, помогай всем, насколько можешь». Но тут же он добавляет, что этот принцип есть лишь следствие, к которому требуется основание, оно и есть искомая величина. Только оно одно и может «составить подлинный фундамент этики»11. Ибо «во все времена проповедовалось много прекрасной морали, но обоснование ее всегда было неудачным»12. Основать мораль? Но именно здесь и зарыт «философский камень», который ищут в течение тысячелетий.
10 Ср.: «Нелицеприятный правитель распространяет свою любовь с того, кого любит, на юге, кого не любит...» (с. 200, 14.2.1).
11 Автор ссылается на французский перевод: Le Fondement de la morale. Trad. d’Auguste Uurdeau. P., 1991, c. 33. См. также русский перевод: Шопенгауэр А. Об основании морали — Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М., 1992, с. 150.
12 Там же, с. 131.
1 - 10922
65
Однако вопрос остается открытым; и тот факт, что сегодня его обсуждают куда меньше, чем раньше, — по крайней мере в этих терминах — вовсе не означает, что от него уже освободились. Совсем напротив: утратив свою школьную прямолинейность, этот вопрос обрел еще большую способность проникать в наши принципиальные позиции и подрывать их изнутри. Чтобы снова овладеть им и выйти из этого идеологического потока, лучше всего зафиксировать опорные точки. Ведь хотя вопрос об основании морали упорно пытается сойти за вечный, он остается продуктом истории— причем сравнительно недавней истории Европы. В течение всей классической эпохи мораль действительно считалась зависимой от религии (таковы размышления о морали Мальбранша в конце XVII в.). Замысленная как заповедь Бога, именно от Него черпает она свою авторитетность (Бог сообщает мне, чтб я должен делать), и, являясь составной частью Откровения, она не нуждается ни в каком специальном обосновании. И в этом отношении христианская традиция, кстати говоря, просто принимает эстафету у берущей свое начало в античности философской традиции, согласно которой только метафизика может снабдить мораль ее законной опорой (так обстоит дело в платонизме с его идеей Блага, совпадающей с идеей Бога). Если мораль находит свое основание вовне, если она есть не что иное, как продолжение теологии, то такая мораль не знает, что значит быть основанной — она и не была основана и, подобно скромной горничной, оказалась избавленной от необходимости отчитываться в своих действиях.
Этот догматизм был слишком грубым и тяжеловесным, чтобы не вызвать противоположную реакцию в форме определенного скептицизма, который с тех пор тихонько крадется в тени нашей традиции, исподволь подрывая ее уверенность в себе (это началось по крайней мере с Эпикура). Вы полагаете, что правила морали имеют свое разумное основание и самоочевидны? Но их крайнее многообразие в мире достаточно убедительно показывает, что речь идет скорее об общепринятых обычаях, длительная привычка к которым «усыпляет» нас настолько, что, как сказал Монтень, мы принимаем за «разумное основание то, что является лишь предрассудком» («Нравственные законы, о которых принято говорить, что они порождены природой, порождаются в действительности тем же обычаем; всякий, почитая в душе общераспространенные и всеми одобряемые воззрения и нравы, не может отказаться от них так, чтобы его не корила совесть, или, следуя им, не воздавать себе похвалы»13). Разоблачая очевидность, порожденную «обычаем», и ее способность искажать реальность, Монтень бросает новый свет на шаткое основание морали («...но стремясь, как всегда, добраться до самого корня, я нашел его основание до такой степени шатким...»14); за этим должно было последовать, что наше
13 Цит. по’ Монтень М. Опыты. Кн. 1-2. М., 1979, кн. 1, с. 108
14 Там же, с 109.
66
рассуждение, коль скоро речь в нем идет об общепринятом обычае, готово «поддержать» и «обосновать» какую угодно несуразицу.
Другой решающий удар был нацелен на основу морали: как только человеческий мир начинают рассматривать лишь под углом отношений силы, мораль смещается в сторону средств и более не имеет никакой иной функции, кроме стратегической. Известно, что начиная с Макиавелли добродетель не является добродетелью: сражаясь с «судьбой» в мире, в котором уже ничто не выходит за пределы общего хода событий, она являет собой скорее личное мастерство, позволяющее государю компенсировать неустойчивость разных ситуаций — и тем самым воспользоваться случайно сложившимися обстоятельствами (с целью навязать всем свой новаторский замысел). С тех же самых пор заставить поверить в свои добродетели становится важнее, чем обременять ими свое поведение, и... «казаться» становится законом, явно одерживающим верх над «быть». Древний якорь морали (метафизико-религиозный) отброшен без всякого стыда. Но, потеряв свою традиционную основу, мораль также теряет и свою состоятельность, она логически превращается в аморальность.
2. Вот откуда насущная необходимость поставить мораль на ее собственные опоры, т.е. основать ее, отправляясь от нее самой — чему и предадутся философы эпохи Просвещения, когда они освободят ее из-под опеки религии и приступят к критике прежнего догматизма. Морали больше не понадобится поддержка со стороны метафизики — поддержка тем более сомнительная, что выводы, к которым пришла эта метафизика, уже не кажутся убедительными. Мораль находит абсолют в самой себе, и поэтому она способна сама достичь необусловленного. Вместо зависимости от какой-то другой метафизики она обретет свою собственную, ведь с тех пор, как она попала в зависимость от постороннего интереса и стала претендовать на то, что основана на внешнем принципе (будь то Бог, природа, наука, общий интерес...), мораль, напоминает Кант, перестала быть чистой, она перестала быть моралью; но она также не стала сводиться к факту опыта; мораль есть «факт разума» и в качестве такового участвует в своем собственном априори. От разума же она получает в свое полноправное владение законодательную функцию, обладающую универсальностью и вместе с тем необходимостью (функцию категорического императива)— в такой степени, что традиционные роли меняются местами, а отношение зависимости переворачивается. Вместо того чтобы метафизика и религия служили основой морали, мораль, которая отныне уверенно стоит на своем собственном (и единственном) фундаменте, может служить базой для наших метафизических убеждений, а именно для нашей религиозной веры, и их обосновывать.
Монтаж был несомненно слишком удачным, а переворачивание — слишком легким, чтобы всему этому можно было бы доверять. Да и как не заподозрить в таком удобном и практичном обмене ролями между религией и моралью некую уловку— фокус-покус? Возведенная на своем собст¬
67
венном фундаменте, застывшая в своей непреклонности, превращенная в статую освободительницы, не стала ли мораль новым идолом — на сей раз идолом Разума? Таким образом, век «критики» и торжествующего разума уступил дорогу веку подозрительности: от имени истории, от имени жизни. Ибо, обнаруживая, что и у морали есть история, неизбежно приходишь к тому, что начинаешь сомневаться в ее абсолютной необходимости; видя, как менялось ее содержание в зависимости от «инстинктов», которые она поочередно превозносила, перестаешь верить в ее универсальность. Чем питать иллюзии о возможности основать мораль, куда лучше заняться ее происхождением. Вместо проекта метафизики морали Ницше отдал свои силы ее генеалогии, точно так же, как вместо абстракции разумного существа он построил типологию, основывая ее на столкновении ценностей, аристократических и стадных. В этой типологии нам открывается то, что мораль так долго держала в секрете: она глубинно аморальна и противоречит заявленному идеалу, ибо всегда обслуживала инстинкты враждебности и мстительности (слабых, которые навязывали свою тиранию высшим людям). Вместо того чтобы служить источником, пусть и наивных речей о разуме, она всегда была лишь зашифрованным языком страстей, или, скорее, единственной жизненно необходимой страсти — страсти подавлять других, доминировать (иначе — воля к власти). Поэтому бесполезно желать, чтобы отношение зависимости, которое традиционно связывает мораль и метафизику, изменилось на противоположное, как к этому призывает Кант. Это отношение уже перевернуто, говорит нам Ницше, — с тех пор, как возникла метафизика, но в этом никто никогда не признавался: моральные намерения философа (они были скорее аморальными, поскольку речь всегда шла об особой иерархии инстинктов) всегда были зерном, спрятанным от посторонних глаз, из которого и вырастали все его «самые трансцендентные» утверждения. Скрывая свою игру под обликом скромной горничной, мораль всегда была великой вдохновительницей; метафизические же обоснования, называемые «основополагающими», были изобретены задним числом.
3. Наша современная мысль отталкивается от переворачивания, о котором говорил Ницше.
Действие I: основать мораль. Принцип этого действия был утвержден в XVIII в., когда мораль вывели из-под метафизико-религиозной опеки. Главными исполнителями явились Руссо и Кант, оно достигло кульминации, но и также и «взорвалось» (se mine) у Шопенгауэра (см. его конкурсное сочинение «Об основе морали»).
Действие II: подорвать мораль. Крик освобождения издал Ницше — после того как совершил акт отцеубийства по отношению к Шопенгауэру, и это нашло отклик у всех «мэтров подозрения». Каждый из них, на свой собственный манер, внес вклад в это начинание — демистификацию морали: Маркс — разоблачая скрытый и одновременно услужливый харак¬
68
тер морали, которая всегда находится в руках правящего класса и служит лишь тому, чтобы по примеру религии оправдать существующий порядок; Фрейд— сводя нравственность к психическим механизмам, из которых она выводится (моральное сознание вытекает из определенного устройства сверх-Я, возникшего в период нашего детства в результате интроекции идеализированного образа родителей или их субститутов).
Итак, мораль представляется нам сегодня непоправимо подозрительной (нет чтобы подозревать самих себя в неспособности достичь собственных идеалов, мы находим подозрительной ее!). Ибо вместо того чтобы идти рука об руку со свободой, как этого хотелось бы Канту, мораль действует угнетающе — идет ли речь о тирании толпы, как у Ницше, или, напротив, о доминировании эксплуататорского класса над массами, как у Маркса, или же о фрустрации, вызванной устройством цивилизации и действующей через сверх-Я, как у Фрейда. Точно так же, вместо того чтобы быть незаинтересованной, о чем она кричит на всех углах, мораль тщеславна, она лжет о Благе, которое превозносит (дабы заставить нас отказаться от воли к власти, от бунта и даже от стремления к ним). Теперь я сомневаюсь: не вызвано ли все, что я считал естественным характером морали, неким переодеванием, корыстным и вместе с тем притворным? Не скрывается ли за тем, что я принимал за внутреннее чувство (которое казалось мне врожденным), процесс интериоризации: либо интериоризации враждебности, испытываемой по отношению к сильным мира сего, которая превращается в угрызения совести и порождает «аскетический идеал»; либо интериоризации интересов правящего класса до такой степени, что я сам начинаю стремиться к покорности; либо интериоризации роли Отца, который, играя роль Бога, удерживает меня в состоянии инфантильности?.. Отправляясь на поиски независимого фундамента морали, мы находим вместо него одно лишь отчуждение.
4. В очерке «К естественной истории морали» Ницше призывает моралистов изменить свою позицию. Вместо того чтобы самонадеянно претендовать на основание морали (begründen), что они не прекращали делать с незапамятных времен, но всегда безрезультатно, не лучше ли посвятить себя тому, что в переходный период является «единственной легитимной задачей в этой области», задачей скромной, но в высшей степени конструктивной — исследованию различных форм нравственности, — и впоследствии подвергнуть их классификации и сравнению (vergleichen)? Ведь то, что философы именовали основанием морали, и то, чего они под этим названием требовали от себя, если посмотреть на это в надлежащем освещении, было не чем иным, как «ученой формой наивной веры в господствующую мораль», а следовательно, «фактом, который сам коренится в области определенной нравственности», т.е. в конечном счете «чем-то ироде отрицания того, что эту мораль можно понимать как проблему»15.
15 Цит. по: Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Пер. Н.Полилова. — Ницше Ф. Сочинения. Т. II. М., 1990, с. 307.
69
Долго же должны были они пребывать в плену столь грубой иллюзии лишь из-за того, что им недоставало одного-единственного факта, чтобы судить о моральных фактах, данных им во множестве экземпляров, с которыми они были знакомы «в произвольном извлечении или в форме случайного сокращения, например в форме нравственности окружающих их людей, своего сословия, своей церкви, духа своего времени»! 6 И «именно благодаря тому, что они были плохо осведомлены насчет народов, времен, всего прошедшего и даже проявляли мало любознательности в этом отношении, они вовсе не узрели подлинных проблем морали». А те, заключает Ницше, «обнаруживаются только при сравнении многих моралей»17.
Чтобы выйти из тупика, не находя основания, не лучше ли в конечном счете пойти поискать его где-нибудь в другом месте? Но так, чтобы не попасть в западню, которой не избежали все наши моралисты. Остается отправиться за ним подобно натуралисту, пустившемуся на поиски интересных экземпляров определенного вида. Как мы видели, такой путь прошел Монтень: ссылаясь на разнообразие «обычаев» повсюду в мире, он сумел пробудить моральную рефлексию от ее догматического сна. И в самом деле, без пробного камня сравнения универсальность, о которой мечтает моралист, рискует оказаться фиктивной (попавшей в ловушку собственного языка или собственной идеологии). Дело не в том, чтобы заменить моральную рефлексию антропологией (Кант слишком хорошо определил их соответствующие области исследования), но в том, чтобы, открывая в этой моральной рефлексии новые горизонты, вытащить ее из поглотивших ее зыбучих песков: вот в первом приближении объяснение того подхода, который был намечен Монтенем. С нашей точки зрения, Китай и европейскую цивилизацию разделяет самый большой разрыв (écart). Ведь китайский не принадлежит той же языковой семье, что и наши языки (великой семье индоевропейских языков); Китаю было неизвестно религиозное откровение, и он не задавался вопросом о бытии объекта своих размышлений; в конце концов, китайская цивилизация в течение очень долгого периода (большую часть времени своего существования) развивалась вне всякого влияния с нашей стороны, и поэтому она представляет самый радикальный образец возможной инаковости. Пример Китая является в итоге идеальным. Еще Паскаль говорил: «Моисей или Китай», будто речь идет о теоретической альтернативе (Моисей, основатель монотеизма, перед лицом полноты другого мира). Значит, Китай выполняет здесь стратегическую функцию. Я выбрал для изложения взгляды Мэн-цзы, который первым дал ясное представление о моральной мысли в Китае, с целью предложить современной западной моральной рефлексии, ограниченной до сих пор пределами собственной истории, возможность некой конфронтации.
16 Там же, с 306.
17 Там же.
70
Методологические преимущества сравнения широко известны: разглядывая и изучая друг друга, каждый из представителей двух позиций позволяет интерпретировать себя в контексте не только того, что они сами говорят, т.е. сами возводят в систему, но также и того, что они не высказывают открыто, но что тем не менее ими движет (неважно, предпочитают ли они это замалчивать, или принимают за само собой разумеющееся, или просто не могут дать этому объяснения). Сталкиваясь и реагируя друг на друга, они бросают свет и на предмет их мыслей, и на отправную точку их мышления— на их имплицитные предвзятые мнения и все, о чем они умалчивают*. К этому общему преимуществу добавляется еще одно, которое, в сущности, является решающим. Ибо здесь стоит одна и та же проблема: является ли это (т.е. проблема основания морали) искомой «универсалией»? Таким образом, любая позиция, представленная в «Мэн- цзы», немедленно перекликается с какой-то из наших позиций (отличается ли она от нее или с ней сочетается) и не перестает к ней отсылать. Вот почему сравнение превращается здесь в диалог. В диалог с избранными партнерами — мыслителями эпохи Просвещения, от Руссо до Канта, которые поставили эту проблему для нас (так же как ставлю ее я, вдохновляясь духом культурных встреч XVIII в., ср. уже у Мальбранша: «между христианским философом и китайским философом»,— но пытаясь как можно лучше разыграть игру диалога, а значит, и обмена, т.е. пытаясь дать различию шанс максимально проявить себя).
«Кант, великий китаец из Кенигсберга», — шутил Ницше. Но, возможно, он был более проницателен, чем думал сам... Прекратим же желать основать мораль, говорил он в противовес Шопенгауэру и всем тем, кто ему предшествовал, и примемся-ка скромно сравнивать. Ловя его на слове, я сказал бы в ответ: заставим вступить в диалог эти две концепции морали, китайскую и европейскую, и посмотрим, не поможет ли их сравнение нам лучше основать мораль.
Тайна жалости
1. Прямой диалог возможен (прямой в том смысле, что нам не надо прибегать, как обычно, к посредничеству интерпретаций), ибо наши собеседники говорят о том же самом опыте: о нашем смятении перед лицом несчастья, угрожающего другому. Реакция «невыносимости», упомянутая
* Это особенно важно для понимания фигуры Мэн-цзьг если его не осветить извне, он может показаться малоинтересным (таковым его часто считали синологи). Но насколько Мэн-цзы казался простым и не возбуждающим никаких вопросов, настолько же сильно он повлиял на китайскую традицию (по крайней мере начиная с IX в. н.э.) и с такой же силой пытался раствориться в своей идеологии: изнутри китайской традиции Мэн-цзы выглядит слишком привычным, чтобы его можно было вновь открыть, и только «прочитанный» посторонним взглядом, направленным извне, он снова становится проблемным философом {примеч. автора).
71
Мэн-цзы, в контексте описанной им ситуации совершенно совпадает с тем, что мы традиционно понимаем под жалостью. Но ведь, чтобы показать моральное в человеке, к этому ощущению жалости постоянно возвращается и Руссо: именно жалость «побуждает нас не раздумывая приходить на помощь тем, кто страдает на наших глазах», именно она предшествует «всякому размышлению»18. Пример Мэн-цзы с ребенком, едва не упавшим в колодец, перекликается с понятием пафос (pathos) (этот пафос, который неизменно питал наше чувство трагического начиная с античности, не был известен в Китае) и еще — с эпизодом из «Басни о пчелах», который приводит в пример Руссо: «волнующий образ человека, находящегося взаперти, который видит, как за окном дикий зверь вырывает дитя из объятий матери»19. Как и китайский мыслитель, Руссо отмечает, что тот, кто склонен к жалости, не преследует «никакого личного интереса». Находит свой аналог у Руссо и проявление заботы перед лицом смерти другого. Трактат критиковали за то, что он распространял ее и на животных: «Всякое животное чувствует некоторое беспокойство, когда встречает на своем пути мертвое животное его же вида: есть даже такие, которые устраивают своим собратьям нечто вроде погребения»20. Непосредственность реакции, универсальность явления и незаинтересованность: речь идет о двух разных сторонах одного и того же первоначального опыта.
Этот опыт является первоначальным в двух отношениях: поскольку он представляет собой самый радикальный наш опыт, о чем свидетельствует его самопроизвольное проявление, а также по той причине, что этот опыт находится в истоках нашей морали, а вся остальная моральная жизнь есть лишь его следствие. Он служит отправной точкой— и необходимой, и достаточной. И он же является ее неиссякаемым источником. Для Мэн- цзы реакция «невыносимости» выступает основой гуманности (конфуцианское жэнь), которая вбирает в себя всю мораль. Так же и Руссо упрекает морального скептика в том, что тот не видит, как «из этого единственного качества» жалости «вытекают все социальные добродетели, в существовании которых у человека он сомневается»: щедрость, милосердие, гуманность суть в действительности не что иное, как «жалость в отношении слабых или виноватых, или всего рода человеческого». Шопенгауэр, принимая эстафету у Руссо, в свою очередь, покажет, что жалость — «первое явление в морали» — лежит в истоках как «долга в строго правовом смысле», так и «долга добродетели», «юстиции» («права») и одновременно «благотворительности».
Способ, каким замыслено развитие этого первоначального смятения в нашем поведении, также позволяет довести это сближение до логическо¬
18 Цит. по: Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. — Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969, с. 31-108.
19 Там же, с. 65.
20 Там же.
72
го конца: «становясь общим» и «распространяясь на весь род человеческий», первоначальное смятение, как говорит Руссо, открывается для «справедливости». Мы видели, что с китайской стороны «гуманность» и «справедливость» (жэнъ и и) задуманы как пара, и вся последующая традиция постоянно размышляла об их взаимодополнительности. Так же и в глазах Руссо, «чтобы воспрепятствовать вырождению жалости в слабосилие», необходимо предаваться ей «лишь тогда, когда она согласна с правом»21, ибо подобает «иметь жалость к нашему виду еще в большей степени, чем к нашему ближнему». Сменив масштаб, первоначальное смятение не приобретает компромиссного характера: его побуждение не утрачивает своей интенсивности, но оно становится объектом регуляции (побуждение-регуляция: оба понятия были широко распространены в Китае) и, преуспев таким образом в распространении, образует фундамент общества.
2. Может показаться, что исчезло всякое различие между эпохами, культурами и средой. Совпадение двух описанных образов таково, что, становясь бинокулярным, зрение неожиданно выхватывает новый рельеф. Ибо мы не можем сомневаться в том, что это и есть тот самый опыт, который считается источником морали и одной и другой стороной, обе прибегают к одинаковому типу примеров, следуют тем же ориентирам. Человек в конце концов может быть обнаружен; достаточно его обнажить и показать. Это то, что, как провозгласил Руссо, ему удалось сделать, говоря «фи» философским софизмам и всем бесполезным доказательствам, преуспев в различении естественного и социального человека и найдя под маскарадным костюмом цивилизации «подлинного» человека. Руссо «открыл» его, как однажды скажет Кант. Нужно ли после всего этого удивляться, что он так естественно пришел к вйдению древних китайцев — хотя сам и не знал об этом?
Тем не менее оригинальность этого открытия— в том, что касается европейской стороны,— продолжает смущать нас, и над многими очевидностями нависает знак вопроса. Если жалость является столь бесспорным нравственным опытом, то почему для его открытия нам понадобился Руссо? (И почему руссоизм нас до сих пор не убедил?) На самом деле, рассуждения Руссо о жалости, особенно в «Эмиле», удивляют нас своей двусмысленностью. В чем, собственно, состоит жалость? Прежде всего в том, чтобы «поставить себя на место страдающего», отвечает Руссо («...ибо мы страдаем не в себе, а в нем»22). Но что же позволяет нам «ставить себя на место» другого и «отождествлять» себя с ним? Нам отвечают, что это сила нашего воображения. Вывод (который противоречит тому, что было заявлено в начале) таков: это чувство жалости, которое
21 Здесь и далее автор ссылается на издание. Rousseau D О. Émile ou de l’éducation P., 1961, с. 303.
22 Там же, с. 21.
73
Руссо описал как возникающее в сердце человека спонтанно, на самом деле требует посредничества нашего воображения (никто не чувствует жалости, если не «оживляется его воображение»23). Но это подогревание воображения совсем неестественно, и доказательством этому служит тот факт, что мы рискуем не растрогаться при виде несчастья, если оно, став привычным, перестанет будоражить наше воображение (ибо «то, что слишком часто видишь, уже невозможно вообразить»24; чтобы у Эмиля работало воображение, нужно избавить его от слишком затянувшихся болезненных зрелищ). Или еще: огонь нашего воображения зажигается лишь под воздействием чувств, т.е. после пубертатного возраста. С точки зрения этой теории ребенку недоступно чувство жалости (а также и женщине, ибо в этом плане она, как полагает Руссо, во многих отношениях остается ребенком25).
Жалость провозглашена незаинтересованной, что делает ее достойной быть моральным чувством или, скорее, быть единственным настоящим чувством. Руссо уточняет: это даже делает ее второй максимой «Эмиля»: «мы жалеем других, только если с ними случаются такие несчастья, от которых, как нам кажется, не застрахованы и мы сами»26. Я испытываю жалость к другому только тогда, когда я думаю, что это может случиться и со мной: жалость, которую считали «альтруистической», оказывается зависимой от меня — того, кто ее испытывает. Сам Руссо дает это понять, объясняя «сладость», свойственную жалости: «Жалость сладостна, ибо, ставя себя на место другого, испытывающего страдание, тем не менее чувствуешь удовольствие от того, что не страдаешь сам»27. Иначе говоря, видеть страдания другого значит «избавляться от несчастий, которые он переживает». Не будет преувеличением сделать из этого вывод о том, что я испытываю определенное «удовольствие» (садистское?), когда вижу, как кто-то другой страдает, ибо это позволяет мне оценить разницу в нашем положении и осознать тот факт, что я куда счастливее его28. Далее Руссо будет «вертеть» своим обоснованием жалости во все стороны, но от этого он не перестанет быть пленником эгоистической логики: в одном примечании в «Эмиле» он отмечает, что если в жалости «я отождествляюсь с себе подобным» и «и как бы ощущаю себя в нем», то фактически делаю это, чтобы не пострадать от того, «от чего я не хочу, чтобы страдал он», иными словами, если «я им интересуюсь», то только лишь «из-за любви к себе самому».
Удивительная штука эта жалость! В ней, взятой самой по себе и рассмотренной сквозь призму стольких двусмысленностей, уже трудно увидеть первоначальное моральное чувство. Жалость, говорил Ларошфуко,
23 Там же, с. 261.
24 Там же, с. 273.
25 См. там же, с. 245.
26 Там же, с. 263.
27 Там же, с. 259-260
28 Там же, с. 270.
74
иеликий ее хулитель из предыдущего века29, есть лишь «умелое предвосхищение несчастий, которые могут произойти с нами»: мы приносим себе пользу тем, что, помогая другим, заранее обязываем их помочь нам, когда понадобится. Руссо, великий защитник жалости, отрекаясь следовать по тгому пути, не сумел его избежать. В его системе — недостаток суровости (суровости пессимизма), зато горячность в избытке (горячность «прекрасной души»). Пробуя один за другим все возможные аргументы, Руссо лишь ходит по кругу, не открывая никакого нового угла зрения. Ибо как только основой внутренней жизни человека он признал себялюбие, жалости остается быть лишь его разновидностью. Или же в лучшем случае она может существовать в качестве пристройки к фундаменту «я» (смотрите, как он вводит ее на повороте фразы в «Рассуждении...»: «Есть, впрочем, еще одно начало...»30). Но эта пристройка никогда не сможет поставить под сомнение избранную перспективу (Руссо, кстати, скорее, способствовал ее утверждению)— перспективу «индивидуализма» в самом строгом смысле слова: человек постигает существование, опираясь на свою индивидуальность.
Значит, Руссо открыл не «истинного» человека, как он сам об этом заявил или как ему зачли это в заслугу, но чувствительного человека, или, скорее, человека, пользующегося своей чувствительностью. Таким образом, он сумел описать человека, чуткого к другим, но не смог объяснить, как человек может быть чутким к другим иначе, чем через чуткость к самому себе. Он сумел нас очаровать словами о том, как «сладостно» испытывать жалость, но сама эта жалость, на которую была возложена роль первичного морального чувства, осталась ни на чем не основанной.
3. Связывая с жалостью стремление основать мораль, Шопенгауэр принял свои меры предосторожности. Первая состояла в том, чтобы сохранить жалость в чистоте, связав мораль— насколько возможно сильно— с альтруизмом (таким образом, делать добро ради собственного самосовершенствования или для стяжания рая самому себе — это еще эгоизм); вторая — в том, чтобы напрочь отвергнуть тезис, согласно которому жалость обязана своим возникновением усилию нашего воображения (мы будто ставим себя на место страдающего и воображаем, что страдаем мы сами). Ибо, заявляет Шопенгауэр, «в нас именно каждое мгновение сохраняется ясное сознание, что страдает он, а не мы»31. Но и когда эти меры предосторожности приняты, проблема, поставленная жалостью, не перестает вызывать недоумение: «как же так получается, что страдание, которое не переживается мною, которое не касается меня, тем не менее становится для меня мотивом», мотивом, воздействующим на меня самым непосредственным образом, «наравне с моим собственным страданием»32?
29 По отношению ко времени жизни Руссо, т е XVII в.
30 Цит. по. Руссо Ж. -Ж. Трактаты, с. 64.
31 Здесь и далее цитаты по французскому изданию: Le Fondement de la morale, c 160
32 Там же, с. 182.
75
Проблема, возникающая в связи с жалостью, сводится к проблеме нашего «отождествления» с другим, ведь жалость предполагает, что любое различие между мною и другим «упразднится — по крайней мере до известной степени», что «не-я» станет «я». Но все же я не могу «влезть в шкуру другого» (если я и «страдаю в нем», мои «нервы» все-таки находятся во мне самом...)33. Единственный возможный выход состоит в следующем: не основываясь более на способности воображения, искать опору жалости в знании. «Единственное средство, к которому я могу прибегнуть, чтобы отождествиться с ним, — это использовать находящееся в моем распоряжении знание об этом другом: представление о нем, сложившееся у меня в голове», и благодаря этому в своем поведении рассматривать разницу между нами так, «будто ее нет и вовсе». Но, несмотря на все наши усилия, мы не можем избавиться от проблемы, с которой столкнулся Руссо. Иначе как объяснить, что жалость спонтанна (и Шопенгауэр тоже настаивает на непосредственном характере этого явления), утверждая одновременно, что жалость нуждается в посредничестве репрезентации и берет начало из «серии мыслей». Есть ли у Шопенгауэра иной выход из этого тупика, чем провозглашение жалости «тайной»? Жалость необъяснима Разумом: даже если мы переживаем ее опытным путем, мы все равно не можем «отыскать ее основание». Эта «великая тайна морали» является и простейшим фактом морали, и вместе с тем ее краеугольным камнем.
Называя мораль «тайной», Шопенгауэр фактически располагает определенным решением: раз я не могу объяснить, каким образом жалость мгновенно разрушает барьер между «я» и «не-я», мне остается предположить, что такой барьер является фикцией, а мое «я» — иллюзией. Раз именно индивидуализм мешает мне понять жалость, хотя она и составляет самый подлинный мой опыт, мне не остается ничего другого, как избавиться от принципа индивидуальности: ощущая жалость, я фактически переживаю то, что другой не является «другим» и что я и он составляем единое целое— иначе как я могу ощущать его страдания как свои собственные? Для устранения двусмысленности, связанной с психологией, этому решению придается метафизический характер, достаточно лишь заставить работать традиционное деление на видимость и реальность (удвоенного мира): я, индивид, постигаемый в соответствии с априорными формами чувственного созерцания (пространства и времени, как у Канта), есть лишь видимость вещей, реальность же, открывающаяся нам в опыте жалости, — это глубинное единство. Искажая Канта, чтобы «приспособить» его к Ведам (ведь известно, что кантовское явление — это не иллюзия), Шопенгауэр не довольствуется тем, что превращает жалость в основополагающий моральный опыт, он делает ее еще и путем к истине.
33 Там же, с. 183.
76
4. Парадокс очевиден: Шопенгауэр не просто произвольно утверждает, что жалость является «истинным» мотивом, лежащим в основе любого морального действия, но и претендует на «доказательство» того факта, что она есть и единственно возможный моральный мотив34. Однако это «доказательство» есть не что иное, как признание жалости тайной. Считая жалость неопровержимым и к тому же самым универсальным фактом человеческой совести (не зависящим от «определенных условий, таких, как понятия, религии, догмы, мифы, образование»; ведь «это непосредственный продукт природы», «она принадлежит всем странам и всем временам»35), Шопенгауэр не находит для себя в этой идее никакого предшественника «среди школьных философов» (за исключением Руссо, но разве тот не был «дитя природы»36?). Конечно, мы располагаем очевидными свидетельствами в пользу того, что жалость — это самый непосредственный, самый чувствительный опыт, но сей опыт приводит нас лишь к апориям. Чтобы разрешить трудности, связанные с «я», необходимо отрицание этого «я». Иначе говоря, вместо того чтобы открыть засов — засов индивидуализма, его просто взламывают и строят in extremis, посредством беспорядочных заимствований, самую что ни на есть идеалистическую метафизику.
Решение это — радикальное, но вместе с тем и «дорогостоящее», поскольку предполагает отказ как от непосредственного опыта, так и от логики. Однако мне хотелось бы показать, что хотя речь и идет о том же самом опыте, но все же в отличие от нашей жалости понятие Мэн-цзы о реакции «невыносимости», о котором я упоминал в самом начале, избегает подобных трудностей. С одной стороны, Мэн-цзы, как и все остальные древние китайцы, не имел намерения отрицать существование индивида, у него не было никакого представления о метафизическом удвоении мира. С другой стороны, он просто заботился о том, как объяснить спонтанный и одновременно незаинтересованный характер жалости: то, что мы подразумеваем под жалостью, он понимает как реакцию невыносимости. Индивидуальность в его системе неразрывно связана с взаимодействием: индивид существует, но он рассматривается не в изоляции как «я»-субъ- ект, а как составная часть отношения. Когда, глядя со стороны, мы освобождаемся от нашего индивидуалистического вйдения, то нас больше ничего не удивляет. Ибо, не причиняя никакого вреда своему теоретическому инструментарию и не вступая в противоречие с самим собой, как это было у нас в случае с жалостью, понятие реакции невыносимости прекрасно встраивается в китайское вйдение реальности. Можно было бы даже сказать, что оно является наилучшей иллюстрацией этого вйдения. Отталкиваясь от биполярного понимания мира (вместо того чтобы пред¬
34 Там же, с. 152.
35 Там же, с. 162.
36 Там же, с. 204.
77
ставлять мир, основываясь на единственной и изолированной инстанции — душе или Боге), китайцы рисовали реальность как процесс актуализации, вытекающий из взаимодействия (не только Неба и Земли, инь и ян, как это сформулировано в древней «Книге перемен» — «Чжоу и», «И цзин», — но также и тех полюсов, которые представляют внутреннее и внешнее — то, что я вижу, и то, что я чувствую). Мир подобен потоку — это непрерывное сотрясание полюсами друг друга, т.е. его континуум соткан из «побуждений», постоянно циркулирующих между разными его аспектами, «сообщающихся» через реальность и распространяющихся в разные стороны (ср. древнее понятие гань-тун: побуждению свойственно разворачиваться, а разворачиваясь, оно что-то приводит в действие). Но ведь и реакция «невыносимости» прочитывается тем же самым способом: она содержится во взаимодействии, которое устанавливается между мною и другим (из-за различия в нашем положении); побуждение, идущее от другого и перекликающееся с моей чувствительностью, немедленно вызывает мою реакцию. Эмоция, которая ее характеризует, это э-моция (motion — лат. «движение». — Примеч. пер.), ее способность запускать в действие мое нутро ускользает от моего заинтересованного внимания, равно как и от моей рефлексии. Именно из этого, а не из меня как изолированной инстанции рождается моя инициатива. Вот почему даже прежде, чем я смогу прийти в себя, я чувствую, что уже устремился вовне себя (например, спасать ребенка).
Вследствие этого китайская концепция не является ни индивидуалистической (осмысление мира, отталкиваясь от «я»), ни отрицающей индивидуальность; ее перспектива надиндивидуальна (все существование, взятое в своей целостности, не прекращает взаимодействовать и коммуници- ровать внутри себя). Таким образом, жалость есть лишь исключительное проявление надиндивидуального и надэмоционального характера, свойственного существованию. Кроме того, то, что представляло трудность в европейском контексте, в китайском ее не представляет: раз индивидуальное «я» не считается субстратом-субъектом (и стало быть, априорно автономным), мне не приходится задаваться вопросом, как я могу «выйти из себя» (к чему меня побуждает жалость). Но поскольку нет кого-либо другого в качестве объекта моей совести, я не спрашиваю о том, как возможно «отождествиться» с ним (благодаря посредничеству воображения или познания). Снимаются и психологические противоречия (опосредо- ванное-непосредственное, во мне— в нем): нет необходимости задумываться над тем, зарождается ли жалость во мне или в нем (вспоминаются путаные объяснения наших философов, ср. у Руссо: «я себя ощущаю как бы в нем»; ср. у Шопенгауэра: можно видеть, как все границы между мной и им разрушаются, «по крайней мере до известной степени»), ведь это явление, жалость, в действительности возникает между нами (и значим своим активным полем именно этот «междусобойчик»). То, что внезапно открыва-
78
ст нам жалость, это факт: мы сообщаемся друг с другом через наше общее существование, нашу общую экзистенцию, мы оба подключены к ней, и именно от имени этой совместной экзистенции, которая в нем подвергается угрозе, я и действую в самом себе. Этот надиндивидуальный характер существования может объяснить феномен жалости куда лучше, чем наше современное понятие интерсубъективности (придуманное, как известно, для того, чтобы не надо было позиционировать другого как объект — «быть с», Mitsein, в надежде обрести некое «мы» в качестве субъекта). >1 могу испытывать жалость и к животным (вспоминается государь, пожалевший быка; Шопенгауэр тоже настаивал на этом аспекте), однако и не могу говорить о реальной интерсубъективности между ними и мной. Нас связывает, напротив, общее участие в существовании, экзистенции, в этом потоке жизни, который нас пересекает и заставляет вибрировать.
Рассматривая жалость с точки зрения процесса (взаимодействия), в качестве надиндивидуального явления (побуждения-распространения), китайский теоретический инструментарий делает ее, как мне кажется, более четкой (lisible). Это не значит, что китайское понятие реакции невыносимости устраняет трудности, с которыми встречается наша концепция жалости (поскольку она не использует аналогичный инструментарий), но она их просто растворяет. Жалость становится от этого не только более понятной с теоретической точки зрения, она выходит из такого положения также и очищенной (декапированной) в идеологическом плане. Ведь наше понятие жалости остается пленником определенного вйдения человеческих несчастий; оно связано с определенным нигилистическим прославлением страдания (ср. у Шопенгауэра: «что тут есть положительного, так это страдание»37). Вот почему Ницще хотел освободить нас от «религии жалости», проповедь которой, с его точки зрения, постоянно дает понять, что речь идет о «презрении к себе» (Веселая наука, § 222). Подозрение же в том, что альтруистическая мораль идеализирует слабость (через злопамятство), заставляет Ницше отвергнуть любое ее проявление: пред тем, кто начнет ставить под вопрос ценность жалости, «откроется новая, широкая перспектива» (К генеалогии морали, Предисловие, § 6). Тем не менее реакция «невыносимости» выходит невредимой из любых угрызений совести, равно как и из любого мизерабилизма (стремления отражать отталкивающие стороны жизни. — Примеч. пер.), она не подразумевает никакого первородного несчастья и не поощряет попустительства долоризму (культу страдания. — Примеч. пер.).
Реакция «невыносимости» — не слабость. Возникая перед лицом несчастья, грозящего другому, она вдруг напоминает нам об общности нашего существования, возобновляет ту связь между нами, которая и есть жизнь.
Перевод с французского В.Г.Лысенко
37 Там же, с. 159.
79
А.И.Кобзев
Рождение китайской философии как «детского» учения о попрании жизнью смерти
Как известно, в традиционной китайской философии отсутствует термин, точно соответствующий западному понятию «философия». Некоторым аналогом такого термина, хотя и более широким по смыслу, выступает категория цзы (“?*), охватывающая творения философов, ученых, мудрецов, наставников жизни. В широком и разнообразном семантическом поле данного иероглифа выделяется антитеза, которая образуется в результате сочетания указанного значения со значением «зародыш», «дитя», «ребенок», «сын».
Самым ярким свидетельством осознанности этой антитезы в китайской культуре является образ наиболее оригинального китайского философа, первичный и главный символ которого — его собственное оксюмо- ронное имя — Лао-цзы, т.е. буквально Старый Ребенок, а также связанная с этим именем легенда о его рождении седым 81-летним старцем.
В главном произведении, отражающем идеи этого философа и названном соответственно его же именем — «Лао-цзы» (иначе «Дао дэ цзин»), — представлена как общая апология детскости (§ 10, 28, 49, 55, 76), так и самоидентификация автора с состоянием новорожденного младенца (§ 20).
В определении сознания («сердца» — синь) такого философа-ребенка сходятся воедино две пары противоположностей: мудрость и глупость, элитарность и народность. Сердце народа оказывается и сердцем совершенномудрого, и сердцем ребенка (§ 49). Собственно говоря, в этом культурном контексте понятия «ребенок» и «народ» сближаются до такой степени, что становятся смыслами единого слова чи-цзы (#?, букв, «красное дитя», т.е. «новорожденный», «младенец»; см., например: «Хань шу», гл. 89, жизнеописание Гун Суя).
Обретя детско-народное сердце, философ одновременно становится носителем сердца глупца (Дао дэ цзин, § 20). Вполне естественная взаимо¬
© А.И Кобзев, 2004
80
связь детскости и глупости, фиксируемая понятием инфантильности, проявлена в употреблении термина «детское сердце» (тун синь 1Ё4>) в «Цзо чжуани» (Сян-гун, 31 г.).
Впрочем, в синхронном и столь же фундаментальном конфуцианском произведении «Мэн-цзы» на основе синонимичного выражения сформулирован тезис, вполне созвучный «Лао-цзы»: «Великий человек— тот, кто не утрачивает своего младенческого сердца (чи-гры чжи синь)» (IV Б, 12).
Более того, само имя создателя конфуцианства Кун-цзы (Конфуция), подобно имени его главного философского оппонента Лао-цзы, таит в себе схожий оксюморон. Древнейшее, зафиксированное в основополагающих для всей китайской культуры и особенно конфуцианства канонических текстах «Шу цзин» и «Ши цзин», значение иероглифа кун — «большой», «великий», «огромный», «громадный». Кстати, в таком же смысле этот знак употреблен и в «Лао-цзы» (§21). Соответственно бином Кун-цзы может иметь буквальный перевод Большое Дитя, Великий Отпрыск, Огромный Младенец или Громадный Ребенок.
В изначальном конфуцианстве и соответственно в тексте «Лунь юй» иероглиф цзы как таковой начал приобретать значение «философ». Завершился этот процесс терминологизации в 1 в. в древнейшем китайском библиографическом каталоге «И вэнь чжи» («Трактат об искусстве и литературе») (Хань шу, гл. 30), где цзы уже выступает как классифицирующая категория для всех философов и их произведений.
Еще одним терминологическим достижением Конфуция явилось придание нового смысла биному цзюнь-цзы («государев отпрыск», «княжич»), который стал у него базовой категорией, обозначающей не сына правителя, а благородного мужа как идеальный тип личности. Эта смысловая трансформация опять-таки строится на возвеличивании дитяти. Здесь же обнаруживается и очередной оксюморон: цзюнь-цзы — это ребенок (цзы), который велик и благороден, а его антагонист сяо-жэнь — это взрослый человек (,жэнъ), который мал и ничтожен.
Следующая важнейшая терминологическая новация Конфуция и его ближайших учеников — придание иероглифу жу (111) значения «конфуцианец». Однако данное слово, означающее не только ученость, но и слабость, нежность, родственно своему омониму жу (Ж), имеющему ключ цзы и соответствующий смысл «ребенок». Очевидный отголосок этой этимологической коннотации звучит в классическом описании жу Конфуцием в главе «Поведение жу», входящей в канон «Ли цзи» (гл. 41/38). Там, в частности, о его облике сказано: «слабый-бессильный, будто немощный» (чжу-чжу жоу-нэн 3Sli$3ë$Sib). Судя по некоторым спискам, в оригинале вместо иероглифа чжу (Я?) мог стоять его более сложный омоним чжу (да), уже имеющий прямое значение «юный», «незрелый». С учетом данного обстоятельства бином чжу-чэ/су уместно перевести сочетанием «по-детски слабый».
81
Второй после Конфуция основоположник конфуцианства Мэн-цзы,
вполне соответствующий своей фамилии Мэн — Первенец, теоретически
обосновал подобную «слабость» знаменитым тезисом: «Великий человек»
(да жэнь) —- тот, кто не утрачивает своего младенческого сердца (Мэн-
цзы, IV Б, 12). Этот тезис крупнейший неоконфуцианский последователь
Мэн-цзы, Ван Янмин (1472-1529) развил в общий принцип «сохранения
детского сердца» — цунь тун (цзы чжи) синь.
Столь явная приверженность детскости обоих главных родоначальни¬
ков китайской философии ——Конфуция и Лао-цзы ——нашла символиче¬
ское отражение в традиционной иконографии их легендарной, впервые
описанной в «Чжуан-цзы» (гл. 14, 21) и «Ши цзи» (гл. 47, 63) встречи,
третьим участником которой, как правило, изображается стоящий между
ними и таким образом объединяющий их ребенок.
На первый взгляд в данном сближении высшей премудрости с детско¬
стью отражена общечеловеческая вера в то, что устами младенца глаголет
истина, которая также должна быть глаголема и устами философов. Или,
по словам Ли Чжи (1527-1602), «высшая культура (вэнь) в Поднебесной
не может не происходить из детского сердца», которое тождественно «ис¬
тинному сердцу» (чжэнь синь) («Тун синь шо» — «Изъяснение детского
сердца»).
Однако при более глубоком рассмотрении связь младенчества с исти¬
ной сама нуждается в прояснении. Для этого представляется уместным
прежде всего обратиться к этимологии иероглифа цзы, входящего, кроме
того, и в состав термина «младенец» («красное дитя» —- чи-цзы).
В древнейших китайских текстах шан-иньских надписей на костях
этот термин обозначает центрального участника ритуала жертвоприноше¬
ния предку —- ребенка, представлявшего собой его воплощение. В даль¬
нейшем, в эпоху Чжоу, такой ритуальный персонаж стал обозначаться
термином ши (尸)一«труп», пиктографический этимон которого перво¬
начально, в шан~иньской эпиграфике, изображал человека либо сидящего
на корточках, либо лежащего с поджатыми ногами. Видимо, имитация
указанным участником погребального ритуала неподвижной позы трупа
обусловила совмещение иероглифом ши обоих смыслов. Предполагается,
что в данной позе изображена женщина, занимающая центральное верх¬
нее место на шелковом похоронном стяге Т-образной формы, обнаружен¬
ном в могильнике II в. до н.э. Мавандуй-1 близ г. Чанша пров. Хунань
в 1972 г.
В значении《дитя, воплощающее покойного», термин ши немецкими
синологами (Ф. фон Штраус, В.Грубе) удачно переведен словом «Toten¬
knabe», т.е. букв, «мальчик-мертвец» (ср. менее определенные переводы:
английский Дж.Легга “personator of the dead (departed)” 一 «воплощение
покойного (ушедшего)» или “representative of the spirit” 一 «представитель
духа» и русский А.А.Штукина «заместитель предков», «мертвых намест¬
ник» или «замещающий духов»).
82
Мальчик-мертвец играл важнейшую роль в обряде жертвоприношения предку, он занимал привилегированное место, первым принимал и вкушал жертвенные дары, получал почести от вышестоящих лиц. Ему посвящена одна из од «Ши цзина» (III, II, 4), в двух других, также описывающих жертвоприношение предкам, он входит в круг основных персонажей (II, VI, 5; II, VI, 6).
Очевидно, что подобная этимология термина цзы обнаруживает глубинную взаимосвязь высшей мудрости не только с детскостью, но и со смертью. На Западе эту диалектику блестяще раскрыл Платон, определивший философию как науку умирать, а в дальнейшем ее сделали своей основной темой стоики и другие ведущие философские течения, вплоть до экзистенциализма, видящего в жизни жизнь-к-смерти.
Христианская антитеза веры как науки воскресать на самом деле представляет собой переосмысление той же взаимосвязи, но только надстраивающее над естественным попранием жизни смертью сверхъестественное попрание смерти смертью, которое, кстати сказать, осуществляет также «сын», соединяющий в себе, подобно мальчику-мертвецу, три ипостаси:
1) живого человека— как сын человеческий; 2) сверхъестественного существа — как сын божий и 3) трупа — как умерший на кресте. За этой общностью, видимо, стоит типологическое единство жертвенного ритуала, давшее, однако, в разных культурах различные формы развития.
В контексте традиционной китайской культуры «последний» для любой философской мысли вопрос о смерти становится «первым», или «детским», вопросом, потому что с позиции присущего ей всеобъемлющего натурализма несведущий ребенок и престарелый мудрец хотя и с разных концов, но одинаково близки к смертельному небытию — один из него только что возник, а другой в него уже заглядывает.
Этимологически и семантически присущая иероглифу цзы идея радикальной субституции, или полного перевертывания, имеет и более приземленное, социальное приложение. И даосы и конфуцианцы верили в возможность последнего стать первым, хотя бы и в роли «некоронованного» царя. На этой, казалось бы эфемерной, основе упрочилась могущественная государственность Срединной империи, допускавшая, что всякий, «человек с улицы», может стать «совершенномудрым» Яо, Шунем или Юем (Мэн-цзы, VI Б, 2; Сюнь-цзы, гл. 23), т.е. даже простолюдин способен превратиться в императора, что соответственно неоднократно воплощалось в жизнь.
Именно идея детскости как предельной социальной и просто антропологической малости заключена в конфуцианском понятии образцовой личности, обозначение которой— цзюнъ-цзы— совмещает два смысла: «благородный муж» и «сын правителя». Аналогичным образом и благодаря все тому же иероглифу цзы данная идея присутствует в стандартном обозначении высшего социального проявления человеческой сущности, «коронованного царя», императора — тянъ-цзы (букв, «сын неба»).
83
Следовательно, благородные мужи и императоры суть такие же дети,
как философы (цзы). Если же перевернуть данное определение, то полу¬
чится, что благородный муж — это философ, реализующийся в практике
управления и самоуправления, а император — философ божьей милостью
или от природы (что едино как «предопределяемое небом» — тянъ мин).
На противоположном философском полюсе, в даосизме, идеал «неко¬
ронованного царя» (су ван) и «таинственного совершенномудрого» (сюань
шэн), имея обратно направленный вектор — не к социальным вершинам,
а к индивидуальным глубинам, в итоге произвел аналогичную детород¬
ную символику зачатия «бессмертного зародыша» {дань тай 丹月台).
Приверженец данного алхимико-психофизиологического учения дол¬
жен был совершить «кражу [небесной] пружины», или «воровской трюк
с пружиной естества» {дао цзи 盗機),т.е. перевернуть направление есте¬
ственного движения от колыбели к могиле, должен был буквально впасть
в детство, зачиная и взращивая в самом себе младенца, призванного через
десять лун стать новым бессмертным телом и «освободиться от трупа»
(гии цзе 尸解),что вполне реалистично изображалось в сопутствующих
иллюстрациях. Хотя и безусловно на новом культурном, философском
и даже научном уровне эта доктрина, в сущности, воспроизводила архаи¬
ческую структуру натуралистического древнекитайского ритуала, в кото¬
ром победа над смертью достигалась с помощью животворной силы чадо¬
родия, воплощенной в ребенке. Данная мыслительная парадигма в свер¬
нутом виде заключена в семантике иероглифа шэн (生),который иденти¬
фицирует жизнь, т.е. антисмерть, с порождением.
Однако в развитии описанного ритуального архетипа конфуцианцами
и поздними даосами имеется принципиальное различие. Конфуцианцы
в полном соответствии с архаической установкой представляли погруже¬
ние в детскость как обращение к животворному родовому началу. Фило¬
соф, мыслимый как цзы, т.е. «ребенок» или даже «плод》,《семя» (таково
еще одно значение этого иероглифа), становится естественным предста¬
вителем собственного родового начала — народа, который при всей своей
детскости, будучи «ушами и глазами неба» (Шу цзин, гл. 4),открывает
философу путь к прозрению высших (небесных) истин.
Даосы же в так называемый религиозный период развития своего уче¬
ния и, возможно, не без влияния буддизма стали трактовать этот же «путь
на небо» как обращенный в младенчество, но без приобщения к родовому
началу народности. Именно поэтому конфуцианцы их критиковали глав¬
ным образом за индивидуализм и асоциальность.
И все же сближало оба главных направления китайской философской
мысли еще одно проявление детскости. В рамках традиционной китай¬
ской культуры, которая самоосмыслялась как «письменность» (вэнь),
главной задачей их творчества являлось порождение текстов. Причем та¬
ковое мыслилось вполне натуралистически, именно как порождение, по¬
скольку письменные тексты считались состоящими из телесных сущно-
84
стей— иероглифов (цзы $). Последние суть самый естественный продукт творчества философов-г/зы, поскольку этимологически производны своим омонимичным названием от их обозначения и в своей семантике несут идею деторождения, воспитания, взращивания. Эта же идея через общую этимологию пронизывает семантическое поле терминов, обозначающих конечный продукт деятельности китайского философа— его учение (сюэ, цзяо Щ , Ш).
В самом общем культурологическом смысле такое учение и по форме, и по содержанию есть натуралистическая регенерация ушедшего в небытие, или «детская» философия попрания жизнью смерти.
Для уяснения специфики традиционной китайской философии важнейшее значение имеет точное понимание смысла (в том числе этимологического) принятого ею самой наименования. Таковое (цзы) совмещает в себе понятия учителя-мудреца и ребенка-простеца. Два главных направления китайской философии— конфуцианство и даосизм теоретически освоили эти смыслы, сделав акцент на первом или втором соответственно. Более того, определяемые данными образцами физические черты нашли символическое отражение в мифологизированных описаниях внешнего облика и происхождения родоначальников конфуцианства и даосизма — Конфуция и Лао-цзы, а также в самих их именах. Этимологически же термин цзы связан с древнейшим ритуалом жертвоприношения предку, в котором обозначал ребенка, представляющего покойного. Воспринявшая подобное наименование философская традиция самоосмыслялась как натуралистическое учение о преодолении хаоса смерти органическими средствами «порождения жизни» (гиэн ьиэн).
Родэюер Т. Эймс
Диалог между конфуцианством и прагматизмом Дж.Дьюи
А.Н.Уайтхед (1861-1947), философ, «усыновленный» Америкой и принявший это «усыновление», сказал о своем «сводном брате» Джоне Дьюи (1859-1952): «Если вы хотите понимать Конфуция, читайте Джона Дьюи. А если вы хотите понимать Джона Дьюи, читайте Конфуция»1. Но тот же Уайтхед однажды заявил (по мнению некоторых, совсем забыв про стыд), что для философских размышлений, рассуждений и высказываний важнее быть интересными, нежели истинными. Поэтому нам остается лишь гадать, в самом ли деле Уайтхед считал, что параллельное чтение Конфуция и Дьюи дает существенные результаты, или он просто хотел рекомендовать такое чтение как забаву в унылый день.
Во время жизни самого Уайтхеда сопоставление Дьюи с Конфуцием действительно могло показаться странным. Однако по иронии истории мы сегодня можем выявить несколько как будто разнородных, но по сути взаимосвязанных исторических обстоятельств, которые в ретроспективе могут предстать как предвосхищение подобного диалога. Не произошли ли в самом деле такие перемены в мире, которые могут способствовать продуктивному диалогу между прагматизмом Дьюи и конфуцианской философией? В силу каких именно обстоятельств Дьюи мог бы вновь отправиться с миссией в Китай? Не застал бы Дьюи там теперь вместо бурного потока «Движения четвертого мая» пору отлива, в то время как «третья волна конфуцианства», возвещенная Ду Вэймином, достигает наконец и наших берегов?
На макроуровне международной политики экономические и политические отношения между США и КНР— можно сказать, самые важные в нынешнем мире. Однако эти все усложняющиеся отношения, хотя они
1 Dialogues of Alfred North Whitehead as Recorded by Lucien Price. N. Y , 1954, с 145 © Роджер T Эймс, 2004
86
и мотивированы очевидной взаимной выгодой, остаются не только хрупкими и неустойчивыми, но к тому же еще и недостаточно развитыми — из-за глубинного дефицита взаимного понимания между двумя культурами.
В высших учебных заведениях по всему свету западная философия (т.е. почти исключительно европейская философия) уже довольно давно составляет основу учебных программ. Так обстоит дело не только в Бостоне, Оксфорде, Франкфурте и Париже, но и в Пекине, Токио, Сеуле и Дели. Мало того, что философии стран Азии и Америки игнорируются за пределами этих стран, они значительно маргинализированы и у себя дома2. Уильям Джеймс был в общем прав, когда в начале своих Гиффор- довских лекций сказал: «Нам (американцам.— Р Э.) кажется естественным слушать, когда говорят европейцы»3. Он был бы еще более прав, если бы к числу слушающих прибавил и азиатов.
От Тихоокеанского до Атлантического побережья Америки в рамках профессиональной западной философии продолжается критика— под знаменами герменевтики, постмодернизма, неопрагматизма, неомарксизма, деконструктивизма, феминизма и т.д. — того общего противника, которого Роберт Соломон назвал «трансцендентальным обманом» (the transcendental pretense), т.е. против идеализма, объективизма, «магист¬
2 Рэймонд Бойсверт справедливо отмечает, что в первой половине XX в. американских философов почитали и в Европе, и в Азии {Boisvert R. John Dewey. Rethinking Our Time. Albany, 1998). Но к началу Второй мировой войны от этого почитания ничего не осталось Что касается самих США, то Харви Таунсенд так пишет о статусе американской философии в эпоху его поколения. «Американской философией в Америке пренебрегают Это обусловлено, по крайней мере отчасти, апологетическим почтением ко всему европейскому Призывы Эмерсона и Уитмена обдумывать свои собственные мысли и петь свои собственные песни все еще слишком часто остаются неуслышанными. Американцы не вполне убеждены в том, что у них есть своя особая душа» {Townsend Н. Philosophical Ideas in the United States N. Y., 1934, с. 1).
Более чем два поколения спустя мы все еще наблюдаем нечто подобное. Так, например, в Предисловии к «Оксфордской истории западной философии» (Oxford History of Western Philosophy. 1994) редактор этой книги Энтони Кенни пишет об авторах различных ее разделов, что «все они принадлежат к англо-американскому стилю философии, те. получили образование в рамках этой традиции». Однако в самой книге американская мысль не упоминается Нет ни Эдвардса, ни Эмерсона, ни Пирса, ни Джеймса, ни Дьюи. Едва ли не единственное упоминание Америки в указателе к книге — это «Американская революция и Бёрк» В указателе есть имена Томаса Пейна и Джефферсона, причем последний назван «другом 11сйна». Из этого можно сделать вывод, что американская философия, даже на взгляд англо- американских мыслителей, не сыграла существенной роли в формировании западной философии. В нынешних американских университетах мало где можно получить серьезное и систематическое образование в области собственно американской философии Подобно юму как сражения русско-японской войны происходили исключительно на китайской территории, американские университеты теперь служат полями сражений в основном между иностранными державами.
3 James W. The Varieties of Religious Experience. Cambridge, Mass., 1985, c. 11. (Цитата взята из первого абзаца первой лекции. В русском переводе этой знаменитой книги У.Джеймса начальные абзацы первой лекции почему-то опущены. Ср.: Джеймс У Многообразие религиозного опыта Пер. с англ. М., 1993, с 14. — Примеч. пер.)
87
рального повествования» (the master narrative), «мифа о данности» и т.д. Конечно, это тот же самый противник, которого Дьюи, критикуя одновременно и идеализм, и реализм, называл «главным философским заблуждением» (the philosophical fallacy): предположение, что результат процесса предсуществует самому процессу4.
На протяжении последних 10-15 лет мы были свидетелями возрождения интереса к классическому американскому прагматизму и появления — в основном (хотя и не исключительно) в Америке — многих изощренных исследований, посвященных проблемам развития американской философии. Одна из главных тенденций в этих исследованиях — стремление выявить «витгенштейнианский поворот» (Wittgensteinian tum) в философском творчестве Дьюи. Общая черта многих биографий Дьюи — демонстрация того, как он использует обычный язык радикально необычными способами. И если это действительно так, то к ставшему уже привычным утверждению, что китайские ученики Дьюи на самом деле его не понимали, надо бы добавить: и его американские ученики тоже.
Профессиональная западная философия до последнего времени без каких бы то ни было угрызений совести игнорировала философские традиции Азии (не говоря уже об Африке и мире ислама), ссылаясь на то, что все это на самом деле «не философия». Это дало толчок возникновению «сравнительной философии», довольно странному новообразованию, которое оправданно скорее географически, чем философски.
Однако в результате недавних «споров о канонах и мультикультура- лизме» и осознания потребности «интернационализировать» университетское образование в Америке незападные философские традиции волей- неволей произвели заметное вторжение в университетские программы. Движение «сравнительной философии» (странствующие Всемирные конгрессы, сообщество компаративистов в Гонолулу, бостонские конфуцианцы...) внесло свою лепту в этот процесс — так что были достигнуты некоторые успехи в деле, которое прежде казалось сизифовым трудом. Победа этого движения — всего лишь далекая перспектива, но если она действительно осуществится, то будет победой пирровой: победить в этой борьбе — значит отменить, изгнать из философского лексикона саму эту неестественную категорию «сравнительная философия».
Обратимся к Китаю, который сегодня уже больше не хочет оставаться «Чайна-тауном» при остальном мире. Китай переживает величайшую
4 Дьюи, начиная с ранних своих работ, считал «самым распространенным заблуждением философского мышления» ошибочное игнорирование исторических, динамических и контекстуальных аспектов опыта. Как полагал Дьюи, методологическая причина подобного заблуждения заключалась в том, что «некий элемент абстрагировался от того органического целого, которое придавало ему значение, и возводился в абсолют», а затем этот элемент почтительно рассматривался «как исток и основание всей реальности и всего знания» См.: Dewey J. Early Works, 1892-1898. 5 vols. Ed. by J.A.Boydston. Carbondale, 111., 1969-1972, vol. 1, с. 162. Об истории, развитии и контексте этого «философского заблуждения» см • Tiles J.E. Dewey. L., 1988 (The Arguments of the Philosophers), c. 19-24.
88
и самую радикальную трансформацию за всю свою долгую историю. «Плавающее население» в количестве от 100 до 200 млн. человек (почти 20% всего населения страны) покинуло сельскую местность и обживает города в надежде улучшить условия своего существования в новом Китае. Это все продолжающееся перемещение населения влечет за собой центробежные напряжения и реальные угрозы социальных беспорядков. В данных условиях главной заботой центрального правительства стало поддержание общественного порядка, что нередко задерживает движение к либеральным реформам, если не прямо ему противостоит. Как и все прочее в Китае, масштабы структурных и социальных проблем — колоссальны. И это легко снабжает материалами для критики наши западные СМИ, которые почти патологически преданы делу «демонизации» Китая.
Но мы должны преодолевать негативные клише о Китае и видеть его реальную жизнь— дом£ и мастерские, улицы и учебные аудитории. И если мы всмотримся в эту реальную жизнь, то увидим, что сонная китайская гусеница без устали прядет свой кокон; вязкий процесс демократизации идет действительно вслепую, но и те, кто вовлечен в это прядение, много думают о том, какая же демократия в конце концов получится. По крайней мере в мечтах Китай уже видит себя бабочкой.
Что касается китайского ученого мира, то можно сказать примерно следующее: в то время как современная западная философия игнорировала Китай, китайская философия, верная своей традиции (особенно после того, как Янь Фу в эпоху Поздней Цин усвоил идеи западного либерализма), была восприимчива и радикально «компаративна», т.е. втягивала в себя все, что могло послужить ей на пользу. В XX в., на протяжении жизни нескольких поколений, все более и более китаизировавшаяся версия марксизма-ленинизма подавила нарождавшийся прагматизм в стиле Дьюи, поглотила остатки конфуцианской философии и стала новой ортодоксией. Однако в то же время многие, если не большинство, из представителей нового конфуцианства (например, Сюн Шили, Тан Цзюньи, Моу Цзунсань) обращали свои взоры на Европу (в основном на Германию) как на некий стандарт, в свете которого китайская мысль также должна была предстать в качестве уважаемой философской традиции. Имея в виду наш предполагаемый диалог между конфуцианством и прагматизмом Дьюи, важно отметить, что во время их первой встречи — в контексте «Движения четвертого мая» — конфуцианство было заклеймено (интеллектуалами из «Движения за новую культуру») как склероз, поразивший артерии Китая и препятствующий свободной циркуляции новых идей, жизненно необходимой для вхождения Китая в современный мир. И в качестве «антисклеротического лекарства» Китаю был «прописан» именно Дьюи5.
5 В 1919 г. Дьюи принимали в Китае те, кто были его студентами в Колумбийском университете, среди прочих — Ху Ши и Цзян Моулинь, которые по возвращении в Китай заняли видное положение и в своей профессии, и как участники реформаторского «Движения за
89
В нынешней китайской философии марксизм-маоизм в основном со¬
шел со сцены. Сегодня очевидно движение от прежнего увлечения Кантом
и Гегелем к феноменологии, Витгенштейну и особенно к Хайдеггеру. Для
нашей темы (т.е. возможного диалога между конфуцианством и Дьюи)
важно отметить, что сдвиг интереса от Канта к Хайдеггеру во многом
был обусловлен именно тем, что в последнем усмотрели актуальность
для китайских способов мышления. И это соотносится с более общей
тенденцией: восстановление суверенитета Китая в середине XX в. и по¬
степенное ——в течение последних 10 или 15 лет— превращение страны
в мировую державу способствуют новому и критическому осознанию
собственной культурной традиции как источника самопонимания и как
основы для запоздалого, но неизбежного вхождения в процессы глоба¬
лизации.
В то время как европейская философия служила образцом философ¬
ской строгости, западные исследования по китайской философии и китай¬
ской культуре вплоть до сравнительно недавнего времени в основном
игнорировались китайскими учеными, которые полагали, что не могут
узнать ничего нового из иностранных рассуждений о своих собственных
традициях. Но в последние 10 или 15 лет ученые в Китае, отвечающие за
передачу и толкование своей традиции (уже и прежде обращавшие внима¬
ние на то, что думали и писали китайские ученые-эмигранты), стали все
больше интересоваться западными интерпретациями китайской культуры.
Теперь в Китае есть большая потребность в переводах западных китаевед-
ческих исследований и в дискуссиях об этих исследованиях.
Таким образом создались условия для диалога между по-новому ин¬
терпретированным прагматизмом Дьюи и конфуцианством, которое снова
приобретает большое значение в Китае ввиду растущего самоуважения
и гордости своими традициями.
Что же такое прагматизм Дьюи? Роберт Уестбрук напоминает нам
о том, что ранние критики прагматизма снисходительно описывали его
как «потенциальную философскую систему» с характерно американскими
чертами, а сам Дьюи в ответ охотно допускал связь между философскими
новую культуру». В течение двух лет Дьюи читал лекции по всему Китаю, и его выступле-
ния широко освещались в китайской прессе. Роберт Клоптон и Цзюнь-чэнь Оу в книге
«Джон Дьюи: Лекции в Китае» (Clopton R., Tsuin-chen Ou. John Dewey: Lectures in China
1919-1920. Honolulu, 1973, c. 13) пишут: «Дьюи не обрел последователей в китайских уни¬
верситетах среди профессиональных философов, большая часть которых продолжала при¬
держиваться тех немецких и французских направлений, которым они выучились в Европе».
В то трудное время активно настроенными аудиториями идеи Дьюи были «неправильно
поняты» как относящиеся более к текущим общественным и политическим проблемам, не¬
жели к профессиональной философии ——и такое «неправильное понимание» Дьюи скорее
всего не только прощал, но и одобрял. См.: Гу Хунляи. Шиюн чжуи ды уду: Дувэй чжэсюэ
дуй Чжунго сяньдайчжэсюэ ды инсян (Неверное прочтение прагматизма: влияние филосо¬
фии Дьюи на современную китайскую философию). Шанхай, 2000. См. также: Чжан Бао-
гуй. Дувэй юй чжунго (Дьюи и Китай). Шицзячжуан, 2001.
90
идеями и теми культурными особенностями (the cultural sensibilities), в которых эти идеи укоренены6. Американское мировосприятие (the American sensibility) нельзя определить через анализ таких понятий, как «фундаментальные принципы», «система ценностей», «направляющие теории» или «основные верования». Само слово «sensibility» лучше всего истолковать как некое предрасположение, как некий трудноопределимый способ предвосхищения, реагирования на происходящее, а также — формирования окружающего нас мира. Особенности мировосприятия (sensibilities) — это комплексы привычек (habits), которые одновременно и создают среду обитания (habitats), и создаются ею и которые способствуют определенному, характерному образу проживания (in-habiting) в мире. Они, эти особенности, заключаются в тех способах чувствовать, думать и верить, которые определяют данную культуру7. Ричард Рорти теперь напоминает нам, что особенности американского мировосприятия (our American sensibility) могут лишь частично быть выявлены посредством описания и анализа идей, но в гораздо большей степени — с помощью тех косвенных свидетельств, которые дает художественная литература (поэзия и проза).
В личном плане философ Дьюи на протяжении всей своей жизни был сторонником «демократии». Для него это означало, ни больше ни меньше, быть сторонником совершенного, даже, можно сказать, духовного образа жизни, воплощением которого он сам стремился стать. Демократия — это процветающее сообщество людей, конкретно и процессивно (processively) являющее себя через «равенство» и «индивидуальность» всех входящих в него членов. Философия в таком сообществе должна «отбросить всякую претензию на то, что она — только и именно она — занимается конечной реальностью, или реальностью как завершенным (т.е. совершенным) це¬
6 См.: Westbrook R.B. John Dewey and American Democracy. Ithaca, 1991, c. 147-149.
7 В «Истории американской философии» (Hall D. A Revised History of American Philosophy— незавершенная рукопись), над которой Дэвид Холл (1937-2001) работал незадолго до смерти, он стремится изобразить Джонатана Эдвардса (1703-1758) как одного из главных создателей американского мировосприятия. Анализируя философские рассуждения Эдвардса, Холл прежде всего утверждает, что Эдвардс ушел от новоевропейской проблематики личности и самосознания во всех ее (проблематики) известных вариантах, предложив такую модель личности, которая не связана с субъектно-центричными представлениями о знании, действии или творчестве. Подобное растворение личности было следствием вйдения мира как процесса (a process vision of the world), каковое Эдвардс развивал в качестве альтернативы субстанциональным способам мышления (substance modes of thinking). Такая процессив- наД философия (process philosophy) проникнута диспозиционной онтологией (a dispositional ontology), которая интерпретирует естественные и сверхъестественные процессы в терминах предпочтений и привычных реакций, понимаемых обычно как предпочтения красоты и реакции на красоту. Для Эдвардса красота и ее коммуникация — это определяющая черта как божественного, так и человеческого мира. И, по мнению Д.Холла, эта де-субъективиза- ция личности через обращение к процессивной, диспозиционной онтологии, а также передвижение красоты и эстетического восприятия с периферии в самый центр дают основание считать Эдвардса одним из оригинальных американских мыслителей.
91
лым — иными словами, самым реальным {the real object)»8. Долгая жизнь Дьюи, насыщенная разнообразной общественной деятельностью, — и в предместьях Чикаго, и в революционном Китае, и в Турции времен реформ, и на контрпроцессе Троцкого в Мехико— была наглядной демонстрацией его преданности тому делу, которое он сам называл «новым обретением философии» (the recovery of philosophy): «Философия вновь обретает себя (recovers itself), когда она перестает быть средством для решения проблем философов и становится методом, который философы разрабатывают для того, чтобы решать проблемы людей»9.
А что такое «конфуцианство»? В конфуцианской традиции философское «знание» {чжи) также рассматривалось не как некий привилегированный доступ к некой Реальности, расположенной за пределами обыденного мира, но как стремление «реализовать» некий мир, т.е. таким образом изменить наличные обстоятельства, чтобы «сделать желаемый мир реальным». Говоря в наиболее общих терминах, конфуцианство— это мелиоративный эстетизм, озабоченный положительным приятием мира и приданием ему дополнительной ценности— через культивирование осмысленного, сообщающегося внутри себя человеческого сообщества. Первостепенная роль ритуала в этом процессе как первого уровня сообщения (коммуникации) говорит о том, что локус реализации мира — это ритуализованное конкретное чувство. И можно, в первом приближении, сказать, что самопонимание многих китайских философов сходно с представлением Дьюи о философе как разработчике разумных стратегий, нацеленных на улучшение человеческого существования.
Каковы же те конкретные переклички между прагматизмом Дьюи и конфуцианством, которые могут способствовать продуктивному диалогу? Наша прежняя совместная с Дэвидом Холлом работа и это короткое эссе — всего лишь попытки произвести предварительную «рекогносцировку на местности» и не могут претендовать на нечто большее. Сделав эту оговорку, можно начать разговор с конфуцианского представления о личности — представления соотносительного и радикально контекстуализованного. Эту укорененность в конкретном мы попытались описать на языке «фокуса и поля». В нашей книге «Демократия мертвых»10 (гл. 8-10. «Конфуцианская демократия: противоречие терминов», «Китайская личность», «Роль ритуала в сообщающемся сообществе») мы вкратце описываем то, чтб нам представляется определяющими особенностями (sensibilities) неотъемлемо (irreducibly) социальной конфуцианской личности. Специалисты, разумеется, не во всем согласны между собой, но, насколько я понимаю, существуют лишь минимальные разногласия по таким понятиям, как:
8 Dewey J. Middle Works, 1899-1924. 15 vols. Ed. by J.A.Boydston. Carbondale, 111., 1976- 1983, vol. 10, с. 46.
9 Там же.
10 Hall D.i., Ames R.T. Democracy of the Dead: Dewey, Confucius and the Hope for Democracy in China. La Salle, 111., 1999.
92
1) отношения симбиозиса между сферами личного, общественного, политического и космического;
2) процесс самосовершенствования посредством ритуализованного существования;
3) центральное значение коммуникации и приспособления языка к ее потребностям;
4) нераздельность когнитивных и аффективных измерений опыта;
5) понимание «сердца-ума» {синь) (или «думания и чувствования») как предрасположения к действию, а не как структуры идей и верований;
6) истолкование знания как эпистемологии заботы (an epistemology of caring): центральное понятие — вера, доверие (trust), а не истина (truth);
7) преобладание соотносительного (correlative), а не дуалистического мышления;
8) стремление к самореализации как подлинности в практической деятельности (authentication in practice);
9) семейно-родственный характер всех отношений;
10) центральное значение семьи и сыновней почтительности;
11) высокая ценность всеобщей гармонии;
12) приоритет ритуальной правильности над правилами или законом;
13) роль образцовых примеров;
14) дидактическая функция мудреца как специалиста в области коммуникации;
15) практическая мудрость как сосредоточенность на обыденном;
16) признание непрерывности линии (континуитета) от человеческого к божественному и т.д.
В этой модели человеческого «становления» и общественного «действия и претерпевания» многое напоминает философию Дьюи, что и делает сравнение конфуцианства и прагматизма Дьюи занятием перспективным. До сих пор обсуждение конфуцианской философии шло преимущественно в рамках и категориях западной философской традиции. А Дьюи попытался реконструировать философию, отбросив специальный язык профессиональных философов и перейдя на обычный язык, хотя порой он использовал его довольно необычными способами.
Рассмотрим, например, как Дьюи обращался со словом «индивидуальность» (individuality). Индивидуальность не есть нечто изначально данное, но возникает как некое качество из обычного человеческого опыта. А «опыт» (experience) в словоупотреблении Дьюи не есть нечто, разлагаемое на привычные дуальные категории вроде «субъект(ивное)» и «объективное)». Согласно Дьюи, неразделимость субъективного и объективного — это неотъемлемая черта межличностных отношений. Конкретный опыт (situated experience) был для Дьюи первичнее любых абстрактных понятий деятельности (agency). Опыт, как и «жизнь», «история» или «культура»,— это одновременно и процесс и продукт взаимодействия человеческого организма и социальной, естественной или культурной
93
среды: «„Опыт“... включает в себя то, что люди делают и переживают, к чему они стремятся, что любят, во что верят, от чего страдают, и то, как люди действуют и как воздействуют на них, то, как они живут и страдают, желают и наслаждаются, видят, верят и воображают, — короче, процессы испытывания (processes of experiencing)»'1.
Для Дьюи «индивидуальность» — понятие не количественное: это и не некая до-социальная потенциальность, и не некая изолированная отдельность. Скорее это нечто качественное, что возникает в результате определенной деятельности на благо данного сообщества. Индивидуальность — это «осуществление того, чем мы конкретно являемся в отличие от других»12, — осуществление, которое может состояться только в контексте полнокровной жизни сообщества. Индивидуальность, согласно Дьюи, нельзя противопоставлять общению (association). Только через общение человек обретает свою индивидуальность, и только в общении он ее проявляет. Индивидуум, понимаемый таким образом, — это не «вещь» (thing), а «событие» (event), поддающееся описанию в терминах уникальности, цельности, социальной активности, соотносительности с другими, качественных достижений.
Насколько радикален Дьюи в этом социальном конструировании личности? Во всяком случае, он отвергает мысль, что человек может быть хоть сколько-нибудь завершен вне общения с другими людьми. Но не заходит ли он слишком далеко, утверждая, что «вне тех связей, которые соединяют его (человека. — Р.Э.) с другими, он сам — ничто»13? Как замечает Джеймс Кэмпбелл, это высказывание Дьюи легко понять и часто понимается именно как отрицание индивидуального14. Но, как мы видели выше, когда разбирали представление Дьюи о становящейся (emergent) «индивидуальности», мысль, что неотъемлемая социальность личности присуща, вовсе не означает отрицания цельности, уникальности и разнообразия человеческих существ. Напротив, речь идет именно об утверждении всех этих свойств личности.
Комментируя взгляды Дьюи на социальные процессы, в которых формируются личности, Кэмпбелл использует аристотелевские понятия потенциального и актуального: «Мысль Дьюи состоит не просто в том, что потенциальное становится актуальным в благоприятных обстоятельствах, подобно тому как, например, иногда истолковывают развитие семени в растение15. Скорее, Дьюи утверждает, что личности неполны без социального компонента и развиваются в полноценные личности, т.е. в инди-
11 Dewey J. Late Works, 1925-1953. 17 vols. Ed. by J.A. Boydston. Carbondale, 111., 1981— 1990, vol. l,c. 18.
12 Dewey J. Outlines of a Critical Theory of Ethics (1891) — Dewey J. Early Works, vol. 3, c. 304.
13 Dewey J. Late Works, vol. 7, c. 323.
14 Campbell J. Understanding John Dewey. La Salle, 111., 1995, c. 53-55.
15 Там же, с. 40; ср.: Dewey J. Late Works, vol. 9, c. 195-196.
94
нидуальных членов групп, в социально укорененные „я“, в ходе постоянного процесса жизни в социальном окружении»16.
Каким образом сообщество выращивает личности? Дьюи подчеркивает, что центральная роль в этом принадлежит языку и другим средствам общения (знакам, символам, жестам и общественным институциям): «Посредством речи личность подчеркнуто идентифицирует себя с потенциальными поступками и деяниями; личность играет много ролей — но не в последовательных этапах жизни, а в одновременно разыгрываемой драме. Так возникает сознание (mind)»17.
Для Дьюи сознание (mind)— это «некое добавленное свойство (ап added property), обретаемое чувствующим существом, когда оно достигает степени такого организованного взаимодействия с другими живыми существами, которое есть язык, коммуникация»18. Говоря о взглядах Дьюи на возникновение сознания, Уестбрук отмечает, что «некоторые существа обрели язык не потому, что у них было сознание, но, напротив, именно потому, что у них был язык, у них было и сознание»19.
Итак, согласно Дьюи, сердце-и-сознание (heart-and-mind) создается в процессе осознания мира. Сердце-и-сознание, как и сам мир, — это становление (becoming), а не нечто уже сущее (being), и вопрос в том, насколько продуктивным и радостным мы можем сделать этот творческий процесс. Дело здесь не просто в наших человеческих установках: речь идет о действительном росте и творчестве, а также об эффективности и удовольствии, с ними сопряженными.
Со словом «равенство» Дьюи также обращается необычным образом. В соответствии с его качественным толкованием «индивидуальности» «равенство» для него — это активное участие в жизни сообщества, и это участие дает человеку возможность полностью осуществить свои уникальные способности. Комментируя это отклонение от обычного смысла слова «равенство», Уестбрук признает, что Дьюи «не был сторонником ни равенства результатов — так что каждый подобен каждому, ни абсолютно равного распределения общественных ресурсов...»20. Вместо этого Дьюи утверждал: «Поскольку действительные, т.е. эффективные, права и потребности суть продукты социального взаимодействия и не содержатся в некой первоначальной и независимой структуре человеческой природы (моральной или психологической), простого удаления препятствий недостаточно»21.
Равенство в таком понимании не есть нечто, чем можно обладать изначально. Вновь придавая весьма необычный смысл обычному слову,
16 Campbell J. Understanding John Dewey, с. 40.
17 Dewey J. Late Works, vol. 1, c. 135.
,K Dewey J. Experience and Nature. N. Y., 1958, с. 133.
19 Westbrook R.B. John Dewey and American Democracy, c. 336.
20 Там же, с. 165.
21 Dewey J. Late Works, vol. 3, c. 99.
95
Дьюи утверждал, что «равенство не означает такой математической или физической равноценности достоинств, при которой любой элемент может быть заменен любым другим. Оно означает эффективное учитывание всего отличительного и уникального в каждом вне зависимости от физического и психологического неравенства. Это не естественное достояние, но результат (fruit) сообщества, если его деятельность направляется именно его природой как сообщества»22.
Интерпретируя этот отрывок, Рэймонд Бойсверт подчеркивает тот факт, что для Дьюи «равенство есть результат, „плод“, а не предсущест- вующее достояние». Это все возрастающее (со)участие. Подобно свободе, равенство не имеет смысла в случае отдельной и независимой личности и обретает смысл и значение только тогда, когда «происходит соответствующее социальное взаимодействие». В самом деле, равенство — это равноценность (parity), а не тождественность (identity). По словам самого Дьюи, равенство может иметь место только тогда, «когда установлены такие базовые условия, при которых и благодаря которым каждое человеческое существо может полностью осуществить все свои возможности»23.
Дьюи предлагает новую альтернативу классическим формам телеологии, которые по определению подразумевают диалектику целей и средств. Он рассматривает идеалы не как предопределенные и предначертанные замыслы, а как идеи-надежды, выдвигаемые в качестве мелиоративных целей для социального действия, которые «обретают конкретную форму и наполняются содержанием по мере того, как они действуют, трансформируя наличные условия»24. Как замечает Кэмпбелл, «На взгляд Дьюи, идеалы вроде справедливости, или красоты, или равенства имеют в полной мере то значение в человеческой жизни, какое видят в них сторонники „абстрактного“, „фиксированного“ или „горнего“ смысла данных идеалов. Однако Дьюи не согласен с подобными интерпретациями идеалов, которые представляют их как некие завершенные и неизменные Сущности, помещенные в сферы, далекие от естественного мира голода и смерти, и освобожденные от проблем и заблуждений обыденного существования... Наши идеалы связаны с продолжающимся ходом жизни: они укоренены в конкретных трудностях и зависят от предположительных решений»25.
Каким образом в мире Дьюи, не признающего неизменных идеалов, предрасположенность (disposition) ведет к действию? Согласно Дьюи, вовсе не идеалы как таковые определяют поведение — его определяет накапливаемый опыт, в котором выявляются сами идеалы. А накапливаемый опыт сам по себе — это коллективное выражение общественного
22 Dewey J. Middle Works, vol. 12, с. 329-330.
23 Dewey J. Late Works, vol. 11, c. 168. Интерпретацию, которую предлагает Р.Бойсверт, см.: Boisvert R. John Dewey: Rethinking Our Time, c. 68-69.
24 Dewey J. The Political Writings. Indianapolis, 1993, c. 87.
25 Campbell J. Understanding John Dewey, c. 152-153.
96
интеллекта, который отвечает на вызовы уникальных ситуаций по мере того, как они возникают в сообщающемся сообществе.
Процессивная философия не отрицает изменений, перемен. А безжалостная временность (temporality) подрывает любое представление о со- исршенстве или завершенности. Мир опыта подразумевает подлинную контингентность (contingency) и все новые возможности, создаваемые постоянно изменчивыми обстоятельствами. Стремление к реализации иозможного, но еще не осуществленного ведет к тому, что цель оказывается заключенной в средствах ее достижения.
Даже человеческая природа не избавлена от процесса изменений. Излагая свое понимание человеческой природы, Дьюи использует как отправную точку индивидуализм Дж.С.Милля и приводит обширные цитаты из его сочинений. Милль утверждал, что «все общественные явления суть явления человеческой природы», т.е. что «человеческие существа в обществе обладают лишь теми свойствами, которые проистекают из природных законов человека как индивидуума и могут быть сведены к таким законам». Одобряя мотивы Милля, стремившегося освободить простого человека от власти земельной аристократии, Дьюи не соглашается с его концепцией личности, в которой усматривает лишь один из вариантов «философского заблуждения»26. По сути дела, Дьюи хотел перевернуть представления Милля об отношениях между личностью и обществом. С точки зрения Дьюи, рассмотрение некой неизменной природы человека, якобы независимой от конкретных социальных условий, — это бессмыслица, поскольку такое рассмотрение «никак не объясняет различия между племенами, семьями, народами, т.е. само по себе оно не объясняет никакое состояние общества»27. По мнению Дьюи, «невозможно допустить предполагаемую неизменность человеческой природы. Хотя некоторые потребности человеческой природы постоянны, последствия, которые из них проистекают (в силу наличного состояния культуры, т.е. науки, морали, религии, искусства, промышленности, права), в свою очередь, воздействуют на первоначальные компоненты человеческой природы и придают им новые формы. Тем самым изменяется вся конфигурация. Всем было бы очевидно, что бессмысленно апеллировать исключительно к психологическим факторам как ради объяснения того, что есть, гак и ради формирования политики относительно того, что должно быть, но подобная апелляция — удобное средство для „рационализации“ поли¬
26 Дж Тайлз цитирует Дьюи: «Личность, „я“, субъективность — это все результирующие функции, которые возникают в итоге сложно организованных взаимодействий, природных и социальных. Личная индивидуальность имеет свою основу и обусловленность в более простых событиях» {Dewey J. Late Works, vol. 1, с. 162). Из этого Тайлз делает вывод, что Дыои «обвинил бы в „философском заблуждении“ тех, кто полагает, что индивидуальные человеческие существа конституируются как сознательные и разумные прежде и независимо см их вовлечения в социальные отношения» {Tiles J.E. Dewey, с. 21).
27 Dewey J. The Political Writings, c. 223.
A 10922
97
тических мер, которые выгодны по другим причинам тем или иным группам или фракциям»28.
Дьюи считал, что человеческое существо — это общественное достижение, успешный результат адаптации, который стал возможен благодаря применению коллективного интеллекта. Поскольку реальность постоянно меняется, этот успешный результат всегда имеет временный характер, а мы — лишь незавершенные твари, которым постоянно бросают вызов случайные (contingent) обстоятельства. И все же этот успешный результат может быть продлен и запланирован: «Мы используем наш прошлый опыт, чтобы создать новый и лучший опыт в будущем»29.
Проводя различие между аристократической моделью общества и демократией, Дьюи столь же недвусмысленно говорит о том, что личностное измерение, обозначаемое такими словами, как «индивидуальность» и «равенство», необходимо для той гармонии, которая есть признак процветающей демократии; демократические формы общества суть стимулы и средства формирования данного типа личности. «Одним словом, демократия означает, что личность (personality) есть первая и последняя реальность. Демократия предполагает, что полное значение понятия личность может быть понято индивидуумом только в той объективной форме, в какой оно предлагается ему обществом; что главные стимулы и побуждения к реализации личности имеют своим источником общество. Тем не менее демократия предполагает и тот факт, что личность не может быть предоставлена никому, пусть самому униженному и слабому, никем другим, даже самым мудрым и сильным»30.
Как замечает Уестбрук, «главное заключается в том, что для Дьюи взаимоотношения личных способностей и окружающей среды были отношениями взаимного прилаживания (adjustment), а не односторонним процессом приспособления (accommodation) потребностей и возможностей личности к неизменному окружению»31.
Чтобы провести сравнение между представлениями о личности у Дьюи и у Конфуция, нам нужно сначала рассмотреть некоторые конфуцианские термины. Если мы согласимся с мнением Витгенштейна, что пределы нашего языка есть пределы нашего мира, то, значит, нам надо расширить пределы нашего языка32. Начать можно со слова-термина жэнь, который мы (к неудовольствию многих) предпочитаем переводить как «авторитетное (властное) поведение», «действовать авторитетно (властно)» или
28 Там же, с. 223-224.
29 Dewey J. Middle Works, vol. 12, с. 134.
30 Dewey J. Early Works, vol. 1, c. 244.
31 Westbrook R.B. John Dewey and American Democracy, c. 43.
32 Приведенные ниже толкования китайских терминов — это измененная версия терминологических глоссариев в книгах: Ames R.T., Rosemont H., Jr. The Analects of Confucius: A Philosophical Translation. N. Y., 1998; Ames R.T., Hall D.L. Focusing the Familiar: A Translation and Philosophical Interpretation of the Zhongyong. Honolulu, 2001.
98
«авторитетная (властная) личность». Жэнь— это одна из центральных идей Конфуция, данное слово (иероглиф) встречается более ста раз в его «Лунь юй». Это довольно простой иероглиф. Согласно словарю «Шо- вэнь», он состоит из двух элементов (простейших иероглифов): жэнь (‘человек’) и эр (‘два’). Подобный этимологический анализ подчеркивает конфуцианское положение, что человек не может стать личностью в одиночку: с самого начала мы неотъемлемо социальны. Герберт Фингарет кратко сформулировал это так: «С точки зрения Конфуция, если нет по крайней мере двух человеческих существ, то нет ни одного человеческого существа»33.
Исходя из древних надписей на гадательных костях можно предложить другое толкование иероглифа жэнь: то, что теперь воспринимается как обозначение числа «два», на самом деле — древняя форма иероглифа со значением «выше», «подниматься» (шан)34. Подобное толкование подчеркивает повышение значимости у того, кто достигает степени (состояния) жэнь; такой человек устанавливает некий стандарт и для собственного сообщества, и для будущих людей: «авторитетные в своей человечности наслаждаются горами... спокойны... и долговечны» (Лунь юй, VI.23*35).
Жэнь чаще всего переводится как «благожелательность», «доброта» и «человечность» (humanity), иногда — как «человечно-сердечность» (hu- man-heartedness), еще реже— неуклюжим и сексистским (sexist) словом «manhood-at-its-best» («мужественность-в-высшем-проявлении»). Хотя «благожелательность» и «человечность», вероятно, лучше звучат в переводе, мы осознанно выбрали перевод «авторитетная личность» (authoritative person). Прежде всего жэнь — это именно личность в целом: познавательные, эстетические, моральные и религиозные свойства человека, выработанные в нем (само)воспитанием и выражающиеся в его ри- гуализованных социальных ролях и отношениях. Это — «поле множественных „я“ человека», совокупность его значимых отношений, составляющих его как особую социальную личность. Жэнь — это не только ментальное, психическое, но также и физическое: позы и осанка человека, его жесты и другие телесные способы коммуникации. Поэтому переводить жэнь как «благожелательность» — значит «психологизировать» это понятие, тогда как в китайской традиции определение человеческого опыта не опирается исключительно на понятие «психика». Переводить так — зна¬
33 Fingarette Н. The Music of Humanity in the Conversations of Confucius. — Journal of Chinese Philosophy. 1983, vol. 10, c. 217.
34 Cm.: Karlgren B. Grammata Serica Recensa. Stockholm, 1950, c. 191.
*35 В опубликованном русском переводе «Бесед и высказываний» («Лунь юй») этому 1сксту соответствует VI.21: «Учитель сказал: „Мудрый любит воду. Обладающий человеколюбием наслаждается горами. Мудрый находится в движении. Человеколюбивый находится il покое. Мудрый радостен. Человеколюбивый долговечен“» (Лунь юй. Пер. В.А.Кривцо- 1ш. — Древнекитайская философия. Т. 1. М., 1972, с. 152). Здесь и далее звездочкой помечены примечания переводчика.
'V
99
чит обеднять, сужать объем понятия жэнь, выделяя лишь один из его мо¬
ральных аспектов за счет многого другого, что также входит в сложный
процесс становления человека человеком.
Перевод «человечность» (humanity) подразумевает, что у всех членов
рода человеческого есть некая общая сущность. Однако жэнь не есть не¬
что, что дается само собой. Это некий эстетический проект, некое дости¬
жение, нечто достигнутое, совершённое (Лунь юй, XII.1). Человеческое
бытие, бытие человеком — не то, чем мы просто и изначально являемся:
это то, что мы делаем, и то, чем мы становимся. Может быть, перевод
«человеческое становление» (human becoming) лучше выразил бы эту
процессивную и постепенно выявляющуюся (emergent) природу становле¬
ния человека человеком. Это не врожденный и сущностный потенциал, но
то, что человек способен сотворить из самого себя во взаимодействии
своих исходных данных и своего природного, социального и культурного
окружения. Конечно, человек как точка пересечения конституирующих
его отношений имеет некие исходные наклонности и возможности (Лунь
юй, XVII.2). Но жэнь— это прежде всего процесс «роста» («выращи¬
вания» —шэн) этих отношений до уровня полнокровного, мощного, здо¬
рового участия личности в жизни человеческого сообщества.
Конфуция часто спрашивали, что он подразумевал под словом жэнь,
и это, по-видимому, говорит о том, что Учитель создал термин заново для
своих собственных целей, — и беседовавшие с ним не были уверены, что
понимают данное слово. О том, что Конфуций творчески вложил новое
значение в слово жэнь, свидетельствует и редкое появление, малая значи¬
мость этого слова в более ранних частях классического канона. Жэнь ам¬
бивалентно еще и потому, что оно обозначает качественную трансформа¬
цию конкретного человека и может быть понято лишь в контексте кон¬
кретных обстоятельств жизни данного человека. Нет общей формулы, нет
универсального идеала. Подобно произведению искусства, это процесс
открытия, а не закрытия— он сопротивляется любому 中иксирующему
определению и повторному воспроизведению.
Наш термин «авторитетная личность» как перевод термина жэнь —
это неологизм, подобно самому термину жэнь в свое время, и поэтому он
может вызвать подобные же просьбы о разъяснении. Слово «авторитет¬
ный» подразумевает тот «авторитет»,-который личность обретает в своем
сообществе, становясь жэнь и воплощая в себе ценности и обычаи своей
традиции посредством осуществления ритуальной праведности (ли). Вы¬
дающееся значение для всех такой авторитетной личности передано срав¬
нением с горой (Лунь юй, VI.23*36): спокойной, величественной, постоян¬
ной, опорой и устоем местного бытия, ориентиром для тех, кто сбился
с пути.
*36 См. там же.
100
В то же время способ, путь становления человека человеком (дао) также не есть нечто данное. Авторитетный человек должен быть «строителем дорог», «со-автором» культуры для своего места и времени (Лунь юй, XV.29). Следование ритуальной праведности (ли) — это по определению процесс интернализации («усвоения традиции»), требующий личного проигрывания тех ролей и отношений, которые определяют место человека в его сообществе. Стать авторитетной личностью для своего сообщества— это процесс творческий (что и подразумевается понятием жэнь). Важно различать порядок «авторитарный», который навязывается сверху вниз, и порядок «авторитетный», основанный на уважении к авторитету, — порядок, который образуется снизу вверх. Авторитетная личность — это такая образцовая модель, которую другие, признавая ее достижения, с радостью и без принуждения уважают и почитают и следуют ее примеру в устроении собственных «я». Конфуций недвусмысленно предостерегал как против превращения «авторитетных» отношений в «авторитарные», так и против замены непринудительной структуры сообщества, основанной на ритуале и почитании, властью закона (Лунь юй, II.3).
Еще один конфуцианский термин, важный для нашего сопоставления конфуцианства с философией Дьюи, — это синь, переводимый нами как «сердце-и-ум» (heart-and-mind). Иероглиф синь — это стилизованная пиктограмма аорты, что связывает его прежде всего с «сердцем» и со всеми эмоциональными коннотациями этого слова. Такое понимание подкрепляется еще и тем, что иероглиф цин, который мы переводим как «эмоции» или «чувства», — это сочетание иероглифа синь с «фонетиком» цин. Более того, больная (если не большая) часть иероглифов, означающих те или иные «чувства», имеют в своем составе иероглиф синь.
Однако тот факт, что слово/иероглиф синь часто переводилось как «ум», говорит о том, что перевод «сердце» все же не вполне адекватен. Большйя (если не большая) часть’ иероглифов, обозначающих различные модусы «думания», также включает в себя элемент синь. В самом деле, в классических китайских текстах есть много таких мест, которые в переводе не имеют смысла, если не учитывать, что синь — и «думает», и «чувствует». Дело, разумеется, в том, что в классическом китайском миропонимании ум не может быть отделен от сердца. Познавательное (когнитивное) неотделимо от чувственного (аффективного). Чтобы избежать подобной дихотомии, мы переводим синь не очень изящно — «сердце-и-ум», гем самым напоминая себе, что нет чистого мышления, полностью лишенного чувств, как нет и просто чувств, начисто лишенных познавательного содержания.
В классическом китайском миропонимании процесс и изменение важнее, чем субстанция и неизменность. Так, часто отмечается, что в отношении человеческого тела физиология для китайцев важнее анатомии, и функция важнее того органа, которым она осуществляется. Поэтому
101
можно было бы утверждать, что синь— это прежде всего «думание
и чувствование», а уж затем, в порядке метафоры, и тот орган, с которым
ассоциируются данные переживания.
Поскольку чувства определяют качество человеческих взаимоотноше¬
ний, должному выражению чувств придавалось исключительное значение
в раннеконфуцианских представлениях о личности. Цин («чувства») —- это
«то, что на самом деле есть», в том смысле, что аффективная сфера пред¬
ставляет собой непосредственный опыт, который становится избиратель¬
ным и абстрактным, когда он сводится к когнитивным структурам языка.
Именно такую конкретность и непосредственность аффективного опыта
имел в виду Уайтхед, когда писал, что матери могут чувствовать многое
такое в своих сердцах, что слова не способны выразить. Цин обретает осо¬
бое значение в «Чжун юн»*37 ввиду той огромной роли, которую, как счи¬
талось, должным образом направленные человеческие чувства играют
в мировом порядке. Рассуждение о чувствах в «Чжун юн» завершается
так: «Когда удается достигнуть [состояния] середины и гармонии, в при¬
роде устанавливается порядок и все сущее расцветает»*38.
В то же время цин важно для понимания контекстуальной и ситуаци¬
онной природы человеческой креативности (способности к творчеству).
Поскольку личности конституируются через отношения между ними,
а сами эти взаимоотношения обретают ценность в процессе соотнесения
различных личностных опытов, творческие взаимодействия личностей
выявляют их чувства как друг к другу, так и к их окружению. И общий
тон, и личная форма чувства всегда обусловлены конкретным и уникаль¬
ным локусом этого творческого процесса.
Наконец, еще один конфуцианский термин, который хотелось бы крат¬
ко рассмотреть,— это хэ, по традиции переводимый как «гармония».
Происхождение этого термина— кулинарное. Гармония— это искусство
сочетания двух или большего числа съестных продуктов так, чтобы они
взаимно усиливали свои достоинства, не теряя при этом своих отличи¬
тельных качеств. Во всех ранних текстах канона процесс приготовления
пищи используется как сравнение при объяснении того, что такое изящная
гармония. Гармония в этом смысле подразумевает и целостность каждого
отдельного ингредиента, и легкость его интеграции в некое большее целое,
причем целостность понимается именно как «становление целым во взаи¬
моотношениях», а не как некое изначальное «бытие целым». Призна¬
ки такой гармонии — сохранение особенностей отдельных ингредиентов
и эстетическая природа целого. Подобная гармония — это изящный поря-
*31 «Чжун юн» («Учение о середине») — часть конфуцианского трактата «Ли цзи»
(«Книга установлений»), вошедшая в качестве отдельного текста в «Малый канон» («Чет-
верокнижие»). См. русский перевод: Ли цзи. Гл. 52-53. Пер. В.Г.Бурова.——Древнекитай¬
ская философия. Т. 2. М., 1973, с. 119-136.
*38 Там же, с. 119.
102
док, который возникает в результате взаимодействия сущностно соотносимых элементов так, что вклад каждого умножается образующимся целым.
В «Лунь юй» чувство гармонии восхваляется как высшее достижение культуры. Гармония здесь отличается от простого согласия именно тем, что она подразумевает оптимальный вклад в целое от каждой составной части. При этом обычно используется сравнение с семьей, поскольку предполагается, что именно в этом сообществе члены его, как правило, полностью и без ограничений посвящают себя ему — во взаимодействиях, которые определяются праведностью {ли), требуемой данными условиями. Подобная преданность семье требует полного выражения личной цельности и, таким образом, становится тем контекстом, в котором личность наилучшим образом может реализовать себя. Вот два отрывка из «Лунь юй», в которых выражена неразделимость ритуальных жизненных форм и личного вклада в достижении социальной гармонии:
«Ю-цзы сказал: „Использование ритуала {ли)*29 ценно потому, что оно приводит людей к согласию (хэ). Путь древних правителей был прекрасен. Свои большие и малые дела они совершали в соответствии с ритуалом. Совершать то, что нельзя делать, и при этом в интересах согласия стремиться к нему, не прибегая к ритуалу для ограничения этого поступка, — так поступать нельзя» (Лунь юй, 1.12)*40.
«Янь Юань спросил о человеколюбии {жэнь). Учитель ответил: „Сдерживать себя, с тем чтобы во всем соответствовать требованиям ритуала {ли), — это и есть человеколюбие. Если кто-либо в течение одного дня будет сдерживать себя, с тем чтобы во всем соответствовать требованиям ритуала, все в Поднебесной назовут его человеколюбивым. Осуществление человеколюбия зависит от самого человека, разве оно зависит от других людей?“
Янь Юань сказал: „Я прошу рассказать о правилах [осуществления человеколюбия]“. Учитель ответил: „На то, что не соответствует ритуалу, нельзя смотреть; то, что не соответствует ритуалу, нельзя слушать; то, что не соответствует ритуалу, нельзя говорить; то, что не соответствует ритуалу, нельзя делать“» (Лунь юй, XII. I)*41.
В «Чжун юн» это конфуцианское представление о гармонии (хэ) дополняется понятием «срединности», или «уравновешивания» {чжун). Само название трактата «Чжун юн» можно перевести как «Уравновешивание {чжун) обыденного {юн)»*А2.
*39 В цитатах, приводимых по переводу В.А.Кривцова, в скобках курсивом даны китайские термины.
40 Лунь юй. Пер. В.А.Кривцова, с. 142.
|41 Там же, с. 159
М2Ср. один из последних переводов названия этого трактат на русский язык (В 1> Югай): «Срединное— обыкновенное» (Конфуцианский трактат «Чжун юн»: Переводы и исследования. Сост. А.Е.Лукьянов. М., 2003).
103
Достигнутая гармония— это своего рода преображение, но прежде всего преображение качества человеческой жизни в ее обыденности, преображение, которое не только возвышает нашу обыденность, но еще и воздействует преобразующе на мир в целом. Человеческие обретения приносят религиозные дивиденды. Космос становится шире и глубже, если человеческое питание возводится в высокое искусство приготовления изысканной пищи; если беспорядочные мазки превращаются в каллиграфию и в узоры на бронзе, захватывающие дух; если грубые жесты утончаются и становятся размеренными движениями церемоний, восторженными движениями танца; если скрежет возвышается до чарующих мелодий; если жар беспорядочных совокуплений становится постоянным теплом семейного очага. Именно подобные преображения— обычного и обыденного в изящное и возвышенное — по крайней мере частично создают тайну и ощущение высшей ценности, которые другие религиозные традиции находят в трансцендентном и сверхъестественном.
Перевод с английского С.Д Серебряного
Сор-хупь Тань
Общность культур и этноцентрические тенденции: некоторые аспекты конфуцианской этики коммуникативных добродетелей в плюралистическом кросскультурном контексте
Вступление
Факт существования культурного плюрализма, т.е. существования многих различных культур вне зависимости от того, какое определение культуры мы даем, а также усиление количественных и качественных взаимодействий этих культур уже были признаны философией морали некоторое время тому назад. Однако последствия этих явлений и отношение к ним, их место и роль в философии морали— все это продолжает вызывать дискуссии. Как сегодня конфуцианская этика могла бы относиться к плюрализму культур? Что она могла бы предложить кросскуль- турной философии морали?
В конфуцианстве понятие дао имеет значения «дорога», «курс», а также «беседа», «дискурс»; конфуцианский путь предполагает как действие, гак и коммуникацию. Конфуцианство предполагает самосовершенствование человека и создание сообщества, которые бы составляли гармоническое целое, оно отдает предпочтение тому, что Юрген Хабермас называет коммуникативным действием, ориентированным на достижение понимания, а не стратегическому действию, ориентированному на успех. Дискурсивная этика излагает условия идеальной коммуникации в обоснование морали, но «дискурс сам по себе не может обеспечить условия, необходимые для реального участия всех заинтересованных субъектов... Часто отсутствуют весьма важные процессы социализации, поэтому нельзя научиться склонностям и способностям, которые необходимы для участия в рассуждениях о морали»1.
1 Habermas J. Moral Consciousness and Communicative Action. Cambridge, 1995, c. 209 •О Сор-хунь Тань, 2004
105
Оставляя в стороне вопрос о том, насколько универсализм Хабермаса
вписывается в конфуцианство, я хотел бы сконцентрировать внимание на
том, какие моральные качества необходимы для улучшения кросскуль-
турных коммуникаций2. В данной работе делается попытка сконструиро¬
вать конфуцианскую этику коммуникативных добродетелей, которые
улучшили бы взаимодействие культур. Я использую термин «доброде¬
тель» для обозначения склонности к благому, а именно к благу в кросс¬
культур ной коммуникации. Данное употребление термина не подразуме¬
вает каких-либо жестких философских рамок конкретных западных тео¬
рий добродетели. Реконструкция таких основных понятий конфуцианской
этики, как жэнь, и, ли,для этики коммуникативных добродетелей не заме¬
няет других интерпретаций, она предлагается как дополнительный аспект
всего богатства их герменевтических толкований.
Возможно, кого-то удивит разговор о добродетелях в контексте улуч¬
шения кросскультурных коммуникаций3. Те, кто рассматривает доброде¬
тели в неразрывной связи с культурой, склонны подчеркивать неразрыв¬
ность культуры, часто недооценивая ее способность к изменению и вос¬
приимчивости. Если придерживаться эссенциалистского определения
культуры, по которому для сохранения культурной идентичности необхо¬
дима некая неизменная сущность, то мирные кросскультурные взаимодей¬
ствия становятся невозможными при контактах культур в общем жизнен¬
ном пространстве. Но культура— это «не пассивное наследование,
а активный процесс созидания смысла, не заданный, а постоянно переос¬
мысляемый и получающий новые определения»4. Кросскультурная ком¬
муникация не только возможна и нужна — она может способствовать са¬
мообновлению задействованных в ней культур.
Во всякой кросскультурной коммуникации должна быть некая «герме¬
невтическая исходная точка», поскольку она предполагает возможность
взаимопонимания, если коммуникация не связана с попытками давления
и доминирования. Возможно, «структуры действия, ориентированные на
достижение понимания, всегда уже предполагают именно такие отноше¬
ния взаимного признания, вокруг которых вращаются все моральные цен¬
ности—в повседневной жизни не меньше, чем в философской этике»5.
2 На мой взгляд, претензия Хабермаса на универсальность носит гипотетический харак¬
тер и подвержена фальсификации в новых культурных контекстах. Проверка этой гипотезы
не является целью данной работы. Несмотря на выраженное желание избежать «этноцентри¬
ческой ошибки», Хабермас недооценивает сложные отношения между культурой и моралью.
Подробнее см. также: Warnke G. Communicative Rationality and Cultural Values. — The Cam¬
bridge Companion to Habermas. Ed. by S.K.White. N. Y., 1995.
3 А.Макинтайр скептически относится к возможности кросскультурной коммуникации,
по крайней мере в терминах философских сравнений. См.: MacIntyre A. Incommensurability,
Truth and the Conversation between Confucians and Aristotelians about Virtues. — Culture and
Modernity. East-West Philosophic Perspectives. Ed. by E.Deutsch. Honolulu, 1991.
4 Parekh B. Rethinking Culturalism. L., 2000, с. 153.
5 Habermas J. Moral Consciousness, с. 130.
106
Mo в реальности любая достигнутая взаимность может быть только временной. Моральные ценности не выражают какую-то предполагаемую универсальность; в лучшем случае они являются гипотезой, ориентированной на регулятивный идеал универсализации, который надлежит сверять заново при каждом новом взаимодействии6.
Всякий шаг в сторону взаимопонимания и координации планов, нацеленный на то, чтобы каждый участник был в состоянии увязать свои действия с действиями другого, не порождая конфликта или по крайней мере не рискуя прервать данное взаимодействие, должен начинаться для каждой участвующей стороны с герменевтической исходной точки, которая определяется главным образом родной культурой. При достижении взаимопонимания происходит «слияние горизонтов»7. Это не может произойти без пересмотра и переосмысления родной культуры, замены определенных способов мышления и чувствования, с тем чтобы «мы учились двигаться в более широком пространстве, в рамках которого то, что мы прежде принимали как должное, как основу для оценки, теперь воспринимается как одна из возможностей, наряду с другой основой, предлагаемой ранее неизвестной культурой». Для этого нам необходимо избавиться от того, что Гада- мер назвал нашим «предвзятым мнением о полноте и совершенстве»8.
Герменевтическая реконструкция конфуцианской этики для кросс- культурной коммуникации, в свою очередь, могла бы преобразовать само конфуцианство или по крайней мере расширить наше понимание его. Не пытаясь утверждать, что Конфуций или конфуцианцы прошлого так же, как мы, были восприимчивы к разнообразию культур или так же открыты возможности преобразовать себя для восприятия этого разнообразия, мы тем не менее могли бы предложить новые пути осмысления кросс- культурных проблем, взяв за основу этические идеи конфуцианства.
Этноцентризм и скрещивание культур в конфуцианской мысли
Конфуцианское наследие изобилует этноцентрическими высказываниями. Для Конфуция «варварские племена и и ди, даже имеющие прави¬
6 Мне представляется, что эта позиция сравнима с дискурсивной этикой Хабермаса, однако я не имею возможности обосновать свой взгляд в рамках этой статьи.
7 Gadamer H.G. Truth and Method. N. Y , 1975. Герменевтический подход дал толчок мно- I им кросскультурным диалогам. См., например: Dollmayr F. Beyond Orientalism: Essays on Cross-cultural Encounter. Albany, 1996; Chinese Thought in a Global Context Ed by К -H Pohl Leiden, 1999. Этика коммуникативной добродетели, которая заимствует его методы, могла бы дополнить его взгляды на акт понимания объяснением — в терминах добродетели — «»го, чтб же требуется от участников кросскультурной коммуникации с точки зрения этики.
8 Taylor Ch. The Politics of Recognition. — Multiculturalism and “The Politics of Recognition”. Ed. by A.Gutmann. Princeton, 1992, c. 67; Gadamer H.G. Truth and Method.
107
телей, не так жизнеспособны, как различные китайские государства, лишенные правителей» (Лунь юй, III.5)9. Мэн-цзы «слышал, что китайцы наставляют варваров на свой путь, но не слышал, чтобы китайцы вставали на путь варваров» (Мэн-цзы, III.A.4)10. Хань Юй (768-824), защищая ортодоксальное конфуцианство, говорил, что буддизм — это «культ варварского народа»11. Для Хань Юя отклонение от конфуцианского пути означало не просто отрицание китайской культуры, он считал это отходом от человеческой природы12.
У конфуцианцев периода поздних династий мы находим такую же настороженность и желание защититься, если не такую же язвительность, в отношении «варварских» культур. Ван Фучжи (1619-1692) утверждал, что «не будет бесчестным обмануть их, не будет бесчеловечным убить их, не будет этически неправильным ограбить их»13. Даже после того, как маньчжуры правили Китаем в течение более двух столетий, китайцы —
9 Использованы переводы на английский язык, выполненные Р Эймсом и Г.Розманом- мл.: The Analects of Confucius: A Philosophical Translation. Transi, by R.T.Ames and H.Rose- mont, Jr. N. Y., 1998.
10Английский перевод «Мэн-цзы» по изданию: Lau DC Mencius Hong Kong, 1984, c. 107, 109.
11 Cm.: Complete Works of Han Changli. Shanghai, 1935 (Sibu Beiyao, vol. 196), гл. 39, c. 333. Англ. пер. см.: Вагу T. de, Bloom /. Sources of Chinese Tradition. 2nd ed. N. Y., 1999, с. 583-584.
То, что Будда «не говорил на языке Китая и носил одежды другого покроя», беспокоило Хань Юя не меньше, чем то, что учение буддизма «не имело отношения к принятым нормам древних (китайских) императоров». Хань Юй не был первым, кто начал нападки на буддизм в таком духе. Как только буддизм получил достаточное распространение в Китае и стал соперничать в идеологической борьбе и стремиться к власти и материальным благам, он стал подвергаться сильной критике со стороны конфуцианцев. См.: Ки Cheng-mei Kathy. Northern Liang Buddhism and the Development of Buddhist Ideology by Taiwu Emperor of the Northern Wei. — Chung-Hwa Buddhist Journal. 2000, 13, с 227-266. Пример одной из первых дискуссий такого рода между буддизмом и конфуцианством можно найти в произведении “Mouzi lihou luri\ Дата создания его неизвестна, но оно часто цитируется, чтобы показать развитие буддизма в Китае в конце династии Хань. См.: Вагу T. de, Bloom /. Sources of Chinese Tradition, c. 425
12 Хань Юй часто говорил о представителях других культур как о животных. Для него «люди — это хозяева варваров и животных», хотя он подчеркивал также, что хозяева не должны обижать тех, кто находится в их власти, и что мудрецы относятся ко всем (в том числе к варварам и животным) одинаково гуманно (Complete Works, гл. 11, с. 133). Хань Юй завершил свой трактат «Юань Дао» такими словами: «Сделайте людей из этого народа, сожгите их книги, превратите их жилища в дома, освободите от старых правителей и направьте их...» (там же, с. 131). На английский язык (см.: Вагу T. de, Bloom /. Sources of Chinese Tradition, c. 573) название «Юань дао» переведено как «Основы морального пути» (“Essentials of the Moral Way”). Хань Юй не первый низвел варваров до положения животных. В «Цзо чжуань», комментарии к «Вёснам и осеням» («Чунь цю»), читаем. «Западные варвары — это звери».
13 On Reading (Sima Guang’s) Comprehensive History of China. Shanghai, 1936, c. 607. Однако это было бы отступлением от учения Конфуция, по которому следует придерживаться собственных норм поведения благородного человека, даже если находишься среди «варваров» (Лунь юй, IX. 14). См. также: Xunzi. Vol. 1. Transi, by J.Knoblock. Stanford, 1988, с. 154.
108
среди них Тань Сытун (1865-1898) и Сунь Ятсен (1866-1925) — выступали против правления Цин, называя их «варварами»14.
Но явление, известное под названием «китайская культура» и столь яро защищаемое конфуцианцами, никогда не было монолитным. Культурная основа хуася не была экспансией из единого центра, она возникла из конфедерации нескольких развитых культурных ареалов; не было с самого начала также этнической или расовой однородности15. Не только нечетки и нестабильны границы, но и отношение между культурным центром и периферией никогда не сводилось к простому доминированию и подчинению; присутствуют постоянная напряженность и соперничество прежде всего внутри самого Китая, а затем и в более широких границах «культурного Китая»16. С расширением китайской диаспоры, все больше членов которой рождены за пределами Китая, вопрос, которым задается все большее число китайцев, состоит не в том, как относиться к прибывающим или живущим среди нас чужестранцам, но как жить в качестве чужестранцев в чужих краях. Все более важное значение приобретает концепция скрещивания, или гибридности, культур17.
Конфуцианский этноцентризм часто приобретает наиболее агрессивные формы во времена наибольшего ослабления Китайской империи, когда народ ощущает угрозу своей принадлежности к собственной цивилизации, своей культурной идентичности. С конфуцианской точки зрения, этические требования преодолевать сопротивление с помощью не насилия, а добродетельного примера, исправлять совершивших проступок посредством не принуждения, а надлежащего ритуала, или этикета, означают, что конфуцианский этноцентризм должен был принять форму убеждения, сделать так, чтобы другие чувствовали себя в конфуцианской среде как дома, продемонстрировать свое «превосходство» настолько явно, чтобы они приняли его порядок (Лунь юй, Х.14)18. Эта стратегия преобразо¬
14 Tan Sitong. An Exposition on Benevolence. Shenyang, 1994, с. 71. Sun Yat-sen. Complete Works. Beijing, 1981, vol. 1, с. 20.
15 Chang Kwan-chih. The Archeology of Ancient China. 4th revised ed. New Haven, 1986; Fei Xiaotong et al. Unity in Multiplicity: Character of the Chinese People. Beijing, 1989
16 Более детально о сложности этого соперничества культур в современном мире см • Tu Wei-ming. Cultural China: The Periphery as Center. — Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences. Cambridge (USA), 1991, 120 (2), с 1-32.
17 Гибридность ассоциируется с «примесью, перемешиванием, трансформацией и получением неожиданных комбинаций из человеческих существ, культур, идей, политических решений, кинофильмов, песен. Она приветствует смешение и боится абсолютизма чистых форм. Путаница, мешанина, немножко того и немножко сего — именно так новое приходит в этот мир». См.: Rushdie S. Imaginary Homelands: Essays in Criticism. — 1981-1991. N. Y., 1992, с. 394.
18 Даже Хань Юй, наиболее ярый сторонник этноцентрического конфуцианства, изменил свое отношение к чужим культурам с агрессивно-защитного призыва отбросить и подчинить их на проповедь миролюбиво склонить их на свою сторону. См.: Han Tingyi. Studies of Han Changli’s Thought. Taipei, 1991, c. 55-88.
109
вания других посредством мирного взаимодействия оказалась удивительно успешной до наступления XX в.19.
Как бы ни предпочитали конфуцианцы думать, что культурная конверсия имеет односторонний характер, конфуцианство не распространилось бы так далеко и широко, не сохранило бы так надолго свое влияние, если бы оно было полностью закрыто для обратного влияния других культур. Если китайцы трансформировали буддизм, то буддизм также трансформировал китайскую мысль и культурную жизнь20. В настоящее время попытки реконструировать конфуцианство в «третью эпоху конфуцианского гуманизма» в значительной степени проявляются в желании учиться у других культур, а именно у культур демократического Запада, но одновременно внося свой вклад в стирание культурных границ21. Без кросскуль- турных заимствований конфуцианство не получило бы такого развития в Китае и за его пределами. Конфуцианцы смогли трансформировать конфуцианство, учась у других культур, по крайней мере частично благодаря потенциалу конфуцианских добродетелей, которые облегчают кросскуль- турные коммуникации.
19 Племена с окраинных частей Китая, пришедшие на центральные равнины и завоевавшие весь или часть Китая с помощью оружия, оказались, в свою очередь, завоеванными с помощью культуры. Некоторые представители их элиты стали видными конфуцианцами, способными конкурировать с китайскими учеными. Комментарий к «Четверокнижию» («Сы шу»), составленный Чжу Си (1130-1200), был утвержден в качестве программы для экзаменов для гражданских чиновников во времена династии Юань, при правлении монголов. Хотя некоторые конфуцианцы осуждали конфуцианцев периода Юань за коллаборационизм, такие представители, как Хао Цзин (1223-1275) и Сюй Хэн (1209-1281), делали все возможное для превращения иностранных завоевателей в конфуцианских правителей, и это им в какой-то степени удалось. См.: History of Chinese Political Thought— Sui to Qing Dynasty. Ed. by Liu Zehua. Hangzhou, 1996, c. 457-462; См. также: Bary T de, Bloom /. Sources of Chinese Tradition, c. 764-779. Буддизм, с которым конфуцианство так усиленно дискутировало, не сохранился в «чужом» варианте — например, китайский буддизм воспринял конфуцианскую идею о сыновней почтительности, некоторые другие идеи, и школы Тяньтай, Хуаянь и Чань — явно китайские. См.: Wright A. Buddhism in Chinese History. Stanford, 1953; Zürcher E. The Buddhist Conquest of China. 2nd revised ed. Leiden, 1972; Chen K. Buddhism in China. Princeton, 1973.
20 Некоторые из наиболее известных конфуцианцев времени династий Сун и Мин — Чэн Хао, Чжу Си, Ван Янмин — прошли через период большого интереса к буддизму. Хотя в конце концов они и отказались от буддизма в пользу конфуцианства, но многое из него почерпнули, что проявляется в их учениях. См.: Song Ming Thought and Chinese Civilization. Ed. by Zhu Ruikai. Shanghai, 1995. О кросскультурных заимствованиях в период династии Тан см.: Zhang Yue. New Directions in Later Tang Confucianism. Taipei, 1993.
21 Tu Wei-ming. Toward a Third Epoch of Confucian Humanism: A Background Understanding. — Confucianism— The Dynamics of Tradition. Ed. by I.Eber. N. Y., 1986. Общую дискуссию о кросскультурных заимствованиях в китайской традиции см. также: Tang Yijie. Confucianism, Daoism and Buddhism in Traditional Chinese Culture. Beijing, 1988.
110
К конфуцианской этике коммуникативных добродетелей
Даже когда конфуцианцы придерживались этноцентрических позиций, добродетель человечности (жэнь), склонность устанавливать доброжелательные отношения с другими людьми, сглаживала враждебность к другим культурам22. Человек, обладающий такой склонностью, предпочитает мирное сосуществование с другими культурами и прилагает все усилия, чтобы по-доброму привлечь их на свою сторону. В этой добродетели идеальный человек (цзюнь цзы) реализует свое общественное Я; при ее проявлении самовоспитание и участие в развитии отношений между людьми, в которые вовлечен человек, становятся взаимозависимыми составляющими23. Признавая градацию любви к различным «другим», гуманистическое конфуцианство поощряет расширять их круг и включать все большее число других, на кого эта добродетель может оказать влияние24. Человечность должна лежать в основе кросскультурных коммуникаций на всех уровнях, ибо она обеспечивает этическую ориентацию на добро всех участвующих.
Коммуникативный потенциал добродетели жэнь можно видеть в работах современных ученых. Среди основных ценностей, которые, по предположению Ду Вэймина, помогут построить основанное на доверии глобальное сообщество, находится правило: «Желая создать себя, человек создает других, желая развивать себя, человек развивает других»25. Вот как Конфуций объяснял жэнь Цзы-гуну. Конфуций описывал «метод жэнь» как «способность находить аналогию в том, что близко»26, что для Д.Лау является гиу, «принципом взаимности» — еще одна из ключевых ценностей, предлагаемых Ду Вэймином для основанного на доверии глобального сообщества. Гуманистическое конфуцианство требует от нас распространять «аналогию» за пределы «наших», с точки зрения культуры, и охватывать весь род человеческий, даже весь космос.
Переведенное как «взаимность» или как «почтительное отношение», понятие шу («Не делай другим, чего не желаешь себе» (Лунь юй, XII.2, XV.24) — или, скорее, склонность поступать таким образом) представляет собой еще одну важную коммуникативную добродетель. Она предполага¬
22 См. предлагаемое Питером Будбергом производное от значения «человечность» на основе компонентов, составляющих жэнь: Boodberg Р. The Semasiology of Some Primary Con- fucian Concepts. — Philosophy East and West. 1953,2(4), c. 317-332.
23 Более развернутую дискуссию о жэнь как о «становлении личности», включающем «взаимопроникновение Я и других», см.: Hall D.L., Ames R.T. Thinking Through Confucius. Albany, 1987, c. 114-125.
24 Лунь юй, XII.22: Фань Чи спросил о жэнь, и Учитель ответил: «Люби других».
25 Tu Wei-ming. Core Values and Possibility of a Fiduciary Global Community. — Restructuring for World Peace: On the Threshold of the Twenty-First Century. Ed. by K.Tehranian, M.Tehranian. Cresskill, 1992.
26 Lau D.C. Confucius: The Analects. Hammondsworth, 1979, c. 15.
Ill
ет уважение и учитывание интересов других людей, притом что им, как
участникам совместного коммуникативного акта, предоставляется столько
же или еще больше свободы. Она поощряет сочувственное внимание —
когда воспринимаются не только слова, но все наше существо готово
к взаимопониманию. Не следует претендовать на то, что понимаешь си¬
туацию точно так же, как ее понимает другой. Всякое проведение равенст¬
ва между одним человеком и другим редуцирует одного человека до уров¬
ня другого.
Это умение ставить себя на место другого скорее активизирует мо¬
ральное воображение и раздвигает узкие границы собственного непосред¬
ственного опыта. Оно означает желание поставить под сомнение собст¬
венное видение, которое до сих пор воспринималось как должное. Пони¬
мание одного человека другим, как и всякое одинаковое понимание ситуа¬
ции, не может полностью уничтожить расстояние между Я и другим, но
может трансформировать расстояние таким образом, чтобы не нарушить
скоординированность планов, не вызвать конфликтов и не прервать взаи¬
модействия. Без этой добродетели благо кросскультурного понимания
было бы недоступным.
Своему любимому ученику Конфуций сказал: «Посредством самодис¬
циплины и соблюдения ритуала (ли) овладеваешь своим поведением»
(Лунь юй, XII.I)27. Некоторые современные толкования ли подчеркивают
его коммуникативную роль. Основываясь на идеях Джона Дьюи, Дэвид
Холл и Роджер Эймс приписывают ритуалу (этикету) центральную роль
в создании «общающегося сообщества»28. Также придерживаясь прагма-
тистской точки зрения, но вдохновленный скорее Ч.С.Пирсом, а не Дьюи,
Роберт Невилл раскрывает семиотический характер ритуала и его норма¬
тивное значение. Невилл утверждает, что у конфуцианства есть большой
потенциал в качестве всемирной философии, и показывает, какую пользу
Бостон может получить от «конфуцианского подхода к благопристойно¬
сти», он считает, что и «бостонским конфуцианцам необходимо придумать
ритуалы для повседневной жизни и управления, благоприятные для ши¬
рокого разнообразия культур», что также трансформировало бы конфуци-
29
анство .
27 Как заметил А.С.Куа, «на протяжении более двух тысяч лет моральная жизнь и мысль
в Китае традиционно были весьма озабочены ли как способом реализации конфуцианско¬
го идеала человечности (жэнь)». См.: Сиа A.S. Li and Moral Justification: A Study in the
Li Chi. — Philosophy East and West. 1983, 33(1), с. 1. Ду Вэймин обнаруживает «созидатель¬
ную напряженность между жэнь и ли», где ли 一 это внешняя реализация жэнь в самовос¬
питании. См.: Tu We~ming. Humanity and Self-Cultivation. Boston, 1998, гл. 1, 2.
28 Hall D.L,Ames R.T. Democracy of the Dead: Dewey, Confucius and the Hope for Democ¬
racy in China. Chicago, 1999, гл. 10.
29 Neville R.C. Normative Cultures. 一 Axiology of Thinking. Vol. 3. Albany, 1995, гл. 7;
Confucianism as a World Philosophy. — Journal of Chinese Philosophy. 1994, 21, c. 5-25; Boston
Confucianism: Portable Tradition in the Late Modem World. Albany, 2000, c. 16.
112
В основе сложной концепции ли в конфуцианстве лежит то, что можно было бы назвать «добродетель благопристойности, или цивильности» (civility). По мнению Генри Розмана, конфуцианская «благопристойность» не имеет отношения к гражданскому (civil) обществу, как это понимается в западном дискурсе; она представляет собой императив «уважать человечность другого»30. В кросскультурной коммуникации благопристойность — это добродетель, признающая ценность создания или поддержания непринужденных, даже обогащающих, отношений с другими людьми, живущими другой жизнью, которые даже могут находиться с нами в глубоком моральном конфликте. Эта добродетель представляет собой склонность воздействовать на то, что Дэвид Вонг называет «приспособлением как моральной ценностью», — добродетель «понимать относительную ценность собственных убеждений, быть открытым влиянию других и иметь возможность пойти на компромисс, быть способным непоколебимо отстаивать те убеждения, которые мы должны отстаивать»31.
Коммуникативная ценность благопристойности заключается в склонности к гармонии, которая, как говорится в «Лунь юй», является высшей ценностью в ритуале (1.12). В коммуникации гармония является идеальным состоянием взаимопонимания, при котором координация планов происходит наилучшим образом, а разнообразие приводит к богатству отношений, а не порождает разрушительный конфликт. Гармония скорее ценит различия, чем одинаковость — как заметил Конфуций: «Идеальные люди стремятся к гармонии, а не к тождественности» (Лунь юй, XIII.23). Гармоничная координация обычно возможна, поскольку в культуре имеется достаточное количество смыслов, которые можно найти и в других культурах32. В то же время слишком большая привязанность к специфической семиотике своей культуры может создавать проблемы и мешать взаимопониманию.
В кросскультурных контекстах добродетель благопристойности чаще предполагает «изобретение» новых ритуалов, чем простое следование существующему нормативному порядку33. Вирджиния Штраус, хотя ее кон¬
30 Rosemont Н. On Confucian Civility.— Civility. Ed. by L.Rouner. Notre Dame, 2000, c. 188. Э.Шиллс называет благопристойность «добродетелью гражданского общества» (см/ Shills Е. The Virtue of Civil Society. — Government and Opposition. 1991, 26 (1), c. 3-20. Для Дж Шмидта благопристойность — «это, вероятно, не та добродетель, которая может оказать большую помощь при решении принципиальных политических вопросов.. » (см/ Schmidt J. Is Civility a Virtue. — Civility.
31 Wong D. Coping with Moral Conflict and Ambiguity. — Defending Diversity: Contemporary Philosophical Perspectives on Pluralism and Multiculturalism. Ed. by. L Foster, P.Herzog. Boston, 1994, c. 32.
32 Подчеркивание культурного аспекта благопристойности не является характерной чертой конфуцианства. Как указывает Лерой Рунер, «благопристойность — всегда тесно связанная с политическим сообществом — почти отождествляется с культурой» (см/ Civility, с 2).
33 Возражая тем, кто считает ритуалы культурно консервативными, Д.Холл и Р Эймс описали ритуалы как «унаследованную традицию формализованных человеческих действий,
113
цепция благопристойности относится скорее к традиции западного гражданского общества, чем к конфуцианской традиции, подчеркивает важность взвешенного подхода к культурным изменениям в обеспечении благопристойности в международных отношениях34. Увеличение надлежащих ритуалов в кросскультурных коммуникациях было бы важной частью подобного культурного изменения. Создание таких ритуалов не может быть произвольным — исходной точкой должно явиться понимание и усвоение ритуалов других культур. Это следует делать с уважением, которое лежит в основе этикета.
Уважительный интерес — это отношение, поощряемое даже в монокультурной ситуации. Конфуций, войдя в Великий храм, задавал вопросы обо всем. Когда ему сделали замечание, он ответил, что задавать вопросы «уже само по себе значит соблюдать ритуал» (Лунь юй, III. 15, Х.21). Разумеется, не следует жестко придерживаться этого правила, прямые вопросы могут быть неуместными в какой-либо кросскультурной коммуникации, и это несомненно не единственный способ выразить уважительный интерес. Когда Цзы-гуна спросили, пришлось ли Конфуцию искать необходимую ему информацию о правлении по прибытии в одно государство или она была ему предоставлена, он ответил, что Учитель получил всю необходимую ему информацию «с помощью сердечности, надлежащего поведения, почтительности, скромности и непритязательности» (Лунь юй, 1.10). Нам не следует заранее устанавливать какие-либо ограничения изобретательности в выражении уважительного интереса и достижении понимания и проникновения в другие культуры.
Необходимость судить, чтб уместно в кросскультурных контекстах, и изобретать новые ритуалы кросскультурных коммуникаций приводит нас к другому важному понятию конфуцианской этики — м, переводимому как «справедливость», «правильность», «праведность», «уместность» и «значимость». И— это «значение», «смысл», «важность». Для конфуцианцев понимание этого термина определяется главным образом (но не ограничено) этическим смыслом. Ритуалы останутся лишь пустыми формами, если каждое действие не будет наделено личным смыслом. Согласно «Книге ритуалов» («Ли цзи»), «ритуалы (ли)— это воплощения смысла (и). Если соблюдение ритуала выдерживает проверку смыслом, хотя, возможно, древние правители его не практиковали, его можно принять на основании смысла»35. Смысл ритуалов можно было сохранить посредст¬
которые подтверждают как кумулятивное наделение смыслом, произведенное предшественниками по культурной традиции, так и открытость переформулированию и инновации, поскольку традиция — это процесс» {Hall D.L., Ames R. Т. Thinking Tlirough Confucius, с. 88).
34 Straus V. Making Peace: International Civility and the Question of Culture. — Civility.
35 Evolution of Rites. — Book of Rites with Collected Annotations {Li Ji Ji Jie). Ed. by Sun Xidan. Beijing, 1998, c. 618, перевод автора. Д.Холл и Р.Эймс убедительно доказывают, что «первичный смысл и лежит в их функции утверждения ритуальных действий», хотя восприимчивость к «новизне можно приветствовать только на фоне преемственности, которую
114
вом изменения форм, хотя иногда сохранившаяся форма ритуала могла сопровождаться изменением его смысла, если он продолжал практиковаться в другие времена. Когда стабильный нормативный порядок ритуалов отсутствует, создание смысла становится гораздо более важным в реализации идеала человечности36.
Коммуникативная ценность создания смысла относится также к использованию языка. Конфуций подчеркивал важность заучивания Од, чтобы развить воображение и лучше говорить, особенно «когда посылают в чужие края» (Лунь юй, XIII.5, XVI. 13, XVII.9)37. Как и кросскультурные ритуалы, понятный всем язык способствует этической коммуникации между культурами, но пока мы его не имеем, а только ищем. Он не сформируется, пока мы не найдем и не создадим надлежащие смыслы в кросс- культурных контактах. Склонность находить/создавать смыслы, которые способствуют взаимному пониманию и приспособлению в коммуникациях, следует культивировать в реальных кросскультурных контактах. Хотя их участники не могут не быть включены в процесс интерпретации, смыслы, которые будут обнаружены или созданы, не всегда способствуют мир-
38
ным и взаимовыгодным действиям .
Успех в создании смысла предполагает другие конфуцианские добродетели, такие, как доверие (синь) и искренность (чэн). В данной работе не представляется возможным дать полный перечень всех конфуцианских коммуникативных добродетелей. Я бы хотел в заключение высказать некоторые замечания по поводу коммуникативной добродетели, которая не признается явно как конфуцианская, но тем не менее играет важную роль в конфуцианской этике. Это добродетель гибкости. Конфуций ненавидел негибкость, ибо «идеальные люди, идя своим путем в этом мире, не сгибаются ничем и ни перед чем; скорее, они соглашаются с тем, что уместно (и)» (Лунь юй, IV. 10, XIV.32)39. Образцовые люди проявляют гибкость в своем обучении, и Конфуций сам не был негибким, не имея «заданных
традиции обеспечивает давно установившееся ритуальное поведение». Они рассматривают и как «извлечение или придание смысла таким образом, чтобы реализовать новые схемы, уникально приспособленные к каждым конкретным обстоятельствам», а «ритуальные действия (ли) как хранилище и, оставленное миру прошлыми поколениями» См.: Hall D.L., Ames R.T Thinking Through Confucius, c. 83-110.
36 Мы это видим у Мэн-цзы, который делал упор больше на и, чем на ли, а Конфуций хвалил Гуань Чжуна, несмотря на ритуальный проступок последнего (Лунь юй, III.22, XIV.9, 16, 17).
37 См. также дискуссию Д.Лау о роли Од в разных формах коммуникации. Lau D С Confucius: The Analects, с 41-42.
38 Мы видим разительные примеры кросскультурных взаимодействий, наполненных насилием, нацеленных на взаимное ослабление. Я не предполагаю, что только один призыв к коммуникативным добродетелям может решить проблему в таких чрезвычайных ситуациях. Но я убежден, что если приложить больше усилий при культивировании коммуникативных ценностей, это могло бы предотвратить многие конфликты.
39 См. также обсуждение и в терминах гибкости (бугу): Chen Daqi. Essays on Confucianism (Kongzi xueshuo). Taipei, 1964, c. 137-139.
115
представлений о том, что можно или чего нельзя делать» (Лунь юй, 1.8, IX.4, XVIII.8).
Кросскультурные коммуникации требуют гибкости в осмыслении ситуаций и их этического значения для осуществления кросскультурных заимствований и тем самым трансформации Я. Добродетель гибкости неразрывно связана с обучением. Мы обнаруживаем ее в созидательной напряженности между традицией и новизной. Чтобы быть гибким в кросс- культурной коммуникации, необходимо не полное отсутствие гадамеров- ских предрассудков, а, напротив, их богатое разнообразие, приобретаемое посредством опыта и усвоения прошлого. Чтобы в будущем иметь возможность лучше общаться, следует приложить идеи Конфуция об обучении к кросскультурным контактам прошлого. Чем богаче этот рефлективный опыт, тем с большей вероятностью можно будет удачно интерпретировать какую-либо данную ситуацию. Более гибкие взаимодействия между предрассудками и данной ситуацией будут способствовать лучшему пониманию. Добродетель гибкости делает всякое понимание открытым для пересмотра и тем самым — для улучшения.
Мы должны осознавать пределы наших знаний. Конфуций советовал в случае, если «нет идей», «атаковать проблему с обоих концов, пока мы не проникнем в ее суть» (Лунь юй, IX.8). Гибкость означает, что в любой данной кросскультурной ситуации нам следует настроиться на происходящее, осознавая, что наш прошлый опыт и наши знания могут не предложить адекватного плана действий. Именно склонность рассматривать вопросы с разных точек зрения, слушать мнения других, творчески усваивать все необходимое и предлагать новые смыслы увеличивает шансы достижения понимания.
Как философия, стремящаяся создать холистический идеал человека, конфуцианство должно отвечать на неизбежный культурный плюрализм современного мира. Я верю, что оно способно достойно ответить на этот вызов. Носитель конфуцианских добродетелей (цзюнъ цзы) в XXI в. будет, помимо прочего, виртуозом кросскультурных коммуникаций.
Перевод с английского Е.Г. Рудневой
Е. Ю. Стабурова
«Конфуцианство XX века» и проблемы его интерпретации
Целью данной статьи является критическое рассмотрение некоторых сторон весьма популярного интеллектуального направления— нового конфуцианства с точки зрения его сущности, этапов развития, возможностей и границ возможного. Главный вывод состоит в том, что задача, которую сейчас ставят перед собой представители нового конфуцианства — синтез китайской и западной философий, — не может быть решена, так как философы Китая и Запада продолжают говорить на языках разных философских систем.
Новое конфуцианство: востребованность временем
«Новое конфуцианство» как специфический термин появился еще в 50-е годы, но в обиход вошел сравнительно недавно. Более 20 лет назад Гай Алитто «закрыл» тему собственно конфуцианства, опубликовав в 1979 г. исследование о Лян Шумине, по словам автора— «последнем конфуцианце»1. В КНР конфуцианство сменил марксизм-ленинизм, на Тайване, в Сингапуре и колониальном Гонконге— многочисленные, накатывающиеся как волны теории индустриального, постиндустриального, благополучного (welfare) капиталистического общества. И одной и другой стороной конфуцианство и отрицалось, и абсорбировалось. Для него уже не оставалось пространства, оно было включено в более передовые, более перспективные системы. И вдруг повсеместно стали появляться словосочетания «конфуцианство XX века», «новое конфуцианство», что многих застало врасплох. Название как музыка: так же ласкает слух. Название как
1 Alitto G. The Last Confucian. Liang Shu-ming and the Chinese Dilemma of Modernity. Berkeley, 1979.
(О E Ю.Стабурова, 2004
117
литература: объединили несоединимое — «XX век» и «конфуцианство»,
и родилась интрига. И название как товар. А если вспомнить подзабытую
Марксову триаду, то для кого-то товар превращается в деньги. Название
как надежда на приближение времени, когда человечество уничтожит го¬
сударственные и культурные границы и будет вкушать счастье духовного
единения. И поэтому же — название как утопия.
Очарование названием захватывает все более широкий круг людей. Его
повторяют как заклинание представители разных гуманитарных профес¬
сий. В последние годы неоднократно приходилось слышать ссылки на
«конфуцианство XX века» от политологов, социологов, антропологов,
профессионально не занимающихся Китаем. Ну а для философов, само
собой разумеется, это особенно интересный и многообещающий разворот.
Новое конфуцианство подошло и «мировой деревне», и другим концепци¬
ям современного западного научного дискурса, таким, как «модерности»
(modernities) и «глобализация».
К сущности нового конфуцианства
Название «новое конфуцианство» («современное конфуцианство»,
«конфуцианство XX века», или, как предложил А.В.Ломанов, «посткон-
фуцианство»2) возникло за пределами КНР— на Тайване, в Гонконге
и в Соединенных Штатах Америки; именно там это интеллектуальное дви¬
жение было осмыслено как нечто целостное, самостоятельное и самоцен¬
ное, оно объединило китайских мыслителей как Тайваня, Соединенных
Штатов, колониального Гонконга, так и континентального Китая. Причем
именно в Китае жили и занимались научной деятельностью наиболее
сильные мыслители, причисляемые теперь к основателям направления,—
Сюн Шили, Фэн Юлань и Лян Шумин.
Слова «новое конфуцианство» весьма точно отражают суть явления.
Важно то, что речь идет о приверженности конфуцианству. «Новое» под¬
разумевает, что эта приверженность выражается как-то по-новому, до того
не существовавшим образом. Носители — это новые люди, каких не было
до XX в. Каждый из них прошел через увлечение западными идеями. Для
одних это было эпизодом биографии, для других — главным в жизни. Фэн
Юлань учился в американском университете, Сюн Шили участвовал в ре¬
волюционной деятельности под лозунгами демократии и свободы. Ду Вэй-
мин работает в Гарварде. Отношение их к конфуцианству с самого начала
было другим, нежели у тех китайских мыслителей, которые развивали
традиционную мысль до начала XX в. Это отношение уже было опосредо¬
вано их западными «университетами》.В отличие от мыслителей прошлых
веков, перед которыми не стояла проблема выбора между Китаем и Запа¬
дом, перед ними эта проблема встала очень остро, и те, кому удавалось
2 Ломаное A.B. Современное конфуцианство: философия Фэн Юланя. М., 1996, с. 11.
118
оторваться от собственно китайской культуры, впоследствии делали сознательный выбор в пользу конфуцианства. Поэтому они являются до определенной степени и частью китайской культуры, и ее сторонними наблюдателями.
Содержание конфуцианства изменилось. По сути дела, в XX в. менее важным стало то, что когда-то разделяло китайские школы, и на первый план выдвинулся вопрос их культурного единства. Слились даже такие далекие друг от друга учения, как школа жу (более известный, но менее точный вариант — «конфуцианство»), даосизм, буддизм, не говоря уже об их частных ответвлениях, — все стало называться «конфуцианством» или по-китайски — «школой жу».
Следовательно, в том, что «новое конфуцианство» называется «конфуцианством», есть значительная доля условности, в действительности же оно представляет собой нерасчлененное китайское духовное наследие, где замирены между собой весьма разные школы.
И еще один важный момент заключается в том, что новое конфуцианство существует не само по себе, а в значительной мере как противовес западному влиянию. Как ответ. Как постоянный и бесконечный спор о том, кто лучше. В этом споре приверженцы китайской духовности вовлекают в ее орбиту все большее количество идей и представлений, почерпнутых на Западе.
С другой стороны, пишущие по-английски представители этого направления «вбрасывают» в мир западного человека все больше и больше категорий традиционной китайской культуры. В новом конфуцианстве тесно переплелись охранительные и коммуникативные задачи. Охранительные — как сбережение традиционных духовных ценностей, коммуникативные — как расширение контактов с западной философией для вовлечения китайской традиции в диалог культур.
Этапы развития нового конфуцианства
Лю Шусянь считает, что сейчас пришло время «третьего поколения» новых конфуцианцев, к которому он причисляет и себя. Таково его видение нового конфуцианства и своего места в нем: «Несмотря на то что главный поток китайской мысли был направлен на осуждение всей китайской традиции целиком, традиция никогда полностью не отмирала. Очевидно, что люди, обладающие самым большим талантом к созиданию, обнаруживаются в современном движении нового конфуцианства, которое ищет способы синтеза Востока и Запада. Из оставшихся на континенте Фэн Юлань (1895-1990) и Хэ Линь (1902-1992) изменили свои взгляды после того, как коммунисты взяли верх; Лян Шумин (1893-1988) и Сюн Шили (1885-1968) сохранили некоторые свои убеждения. Цянь Му (1895— 1990) и Тан Цзюньи (1909-1978) переселились в Гонконг, а Том Х.Фан
119
(1899-1976), Сюй Фугуань (1903-1982) и Моу Цзунсань (1909-[1995]) переехали на Тайвань, где оказали очень глубокое влияние на молодых ученых. Современное новое конфуцианство остается полным жизни интеллектуальным движением в Гонконге, на Тайване и за океаном; его даже изучают в континентальном Китае... Новое конфуцианство как философское движение в узком смысле черпало вдохновение у Сюн Шили... Среди его учеников самый оригинальный мыслитель— Моу Цзунсань... Но так называемое третье поколение имеет гораздо более широкий кругозор; его составляют очень разные ученые, такие, как Юй Инши (род. 1930), Лю Шусянь (род. 1934) и Ду Вэймин (род. 1940), чьи идеи оказали повсеместное влияние на интеллектуалов и чьи избранные сочинения недавно было разрешено публиковать на континенте»3.
Это «третье поколение», будучи этническими китайцами, в обычной жизни использует английский язык, а в научных исследованиях— концептуальный язык западного дискурса. И в дальнейшем, видимо, развитие нового конфуцианства будет идти в направлении размывания «конфуцианства» и перенесения акцентов на «новое», под которым подразумевается не столько «новое», сколько «западное». К такому выводу приводит сравнение языка, стиля изложения и поставленных проблем в трудах Сюн Шили (которого Лю Шусянь отнес к «первому поколению» новых конфуцианцев), Моу Цзунсаня (попадающего по той же классификации во «второе поколение») и самого Лю Шусяня. Разница очевидна: если Сюн Шили развивал свою философию на китайской почве, выразительными средствами языка китайской философии, даже визуально выстраивая текст по классическим китайским законам, то Моу Цзунсань черпал доказательства для своей аргументации как у китайских, так и у западных философов. Лю Шусянь, Ду Вэймин, достигшие признания в англоязычной науке, очень часто китайскую философию привлекают лишь как иллюстрацию.
У каждого поколения оказывается своя версия проблемы «Китай-За- пад». Те, кого относят к родоначальникам нового конфуцианства, в какой- то мере еще сохраняли перенятое от китайских мыслителей конца XIX в. внешнеположенное отношение ко всему, что идет с Запада, и в том числе к идеям. Западные идеи рассматривались ими в значительной мере как подручное средство, инструмент (юн) для укрепления китайского начала. «Второе поколение» новых конфуцианцев выполняло иную историческую задачу: для Моу Цзунсаня важно было доказать паритет условной китайской философии и условной западной философии, поэтому он утверждал, что эти две философии не что иное, как «две [равноценные] двери», открываемые «одним [общим] сердцем»4.
Претензии Ду Вэймина уже совсем другого рода— он видит свою миссию в том, чтобы вернуть китайцев к духовным истокам. Таковыми
3 The Cambridge Dictionary of Philosophy. Ed. by R.Audi. Cambridge, 1995, c. 119.
4 Мои Zongsan. Zhong xi zhexue zhi hui tong shisi jiang. Shanghai, 1998, c. 85.
120
ему представляется некий набор моральных постулатов, которые вслед за англоязычными авторами стали называть «конфуцианскими». По сути дела, он говорит о задаче возвращения китайцам их духовных ценностей через посредство Запада (в данном случае в американском варианте). Ду Вэймин пишет: «Мы надеемся, что лидеры Восточной Азии, вдохновленные конфуцианским духом самосовершенствования, сплоченности семьи, социальной солидарности, благожелательного правления и всеобщего мира, будут проводить в жизнь этику ответственности при решении своих внутренних дел»5. Каждый из перечисленных постулатов дает очень приблизительную информацию об их китайском первоисточнике (хотелось бы знать, как, опираясь на китайскую классическую философию, Ду Вэймин, например, выразит то, что он называет «социальной солидарностью»?). Куда возвращаться? Туда, где китайцы никогда не были? В конфетный Китай, нарисованный воображением американских ученых? К тому же комплиментарные качества китайской жизни, о которых говорит Ду Вэймин, оказываются абсолютно вырванными из китайской картины мира, вне которой они мертвы.
Короче говоря, после такого радикального разворота на Запад для нового конфуцианства остаются два пути: полное растворение своей культуры в культуре «мировой деревни» или новый виток фундаментализма. Впрочем, есть еще и обратное движение — из Китая на Запад. Активное привыкание Запада к китайским терминам, духовным ценностям ослабит конфронтацию между своим и чужим внутри Китая, так как «чужое» все чаще будет приходить в Китай в китайской упаковке. Аналогично тому, как в Китай (а еще раньше на Тайвань) вернулся «другой» чаньский буддизм в виде переведенных с английского на китайский книг Дайсэцу Суд- зуки (1870-1966).
В области собственно философской представители трех «поколений» нового конфуцианства также решали разные задачи. Сюн Шили заимствовал из философской западной традиции идеи, чтобы с их помощью подтвердить вездесущность и полноту китайской философии. Для этого из богатого и весьма разнообразного резервуара китайской духовности он выделял те моменты, которые могли быть соотнесены с западной мыслью. И хотя сам он не пытался доказать, что некоторые оказавшиеся весьма продуктивными в плане научно-технического развития идеи западной философии были известны Китаю, такой вывод напрашивается сам собой при знакомстве с его наследием.
Одним из таких вопросов, решению которых он придавал особое значение, был вопрос о единстве мира. Ему представлялось очень важным на первый план в китайской философии выдвинуть монистическую традицию. Видимо, многим из тех, кто на Европу смотрел извне, монизм казал¬
5 Tu Weiming. Implication of the Rise of “Confucian” East Asia. — Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences. Cambridge (USA), 2000, 129 (1), c. 216.
121
ся ключевым фактором европейского прогресса в Новое время. Интерес¬
но, что в Индии аналогичную проблему в начале XIX столетия поставил
Раммохан Рай, который под флагом реставрации исконно индийских взгля¬
дов, а в действительности вдохновившись примером английской культуры
и христианства, утверждал индийский монотеизм с единственным бо¬
гом —Брахмой. У китайских философов не было такого огромного выбо¬
ра богов, как у индийцев, поэтому за доказательством идеи монизма они
обращались к книгам мыслителей, и прежде всего к книгам китайских
буддистов. Так, Сюн Шили настойчиво проводил мысль о том, что одним
из важнейших тезисов традиционной китайской философии было «сердце,
вещь — не два» у синь бу эр, что в его интерпретации означало цельный,
монический взгляд на мир (хотя тут возможны разные толкования)6. Он
даже считал, что в этом вопросе китайская мысль обогнала европейскую.
Вопреки фактам он был уверен, что именно в «западном учении» «сердце
и вещь» разведены в разные стороны, и это, по его мнению, доказывает
изначальную дуальность западной философии7.
Моу Цзунсань, ученик Сюн Шили, продолжал развивать идею недвой-
ственности мира, значительно расширив круг параметров для противопос¬
тавления и сравнения китайской и западной философий. От общих вопро¬
сов западной философии, поисками следов которых в Китае был занят его
учитель, Моу перешел к частным, весьма уверенно доказывая, что в их
разработке Китай преуспел не меньше Запада. Даже такое понятие, как
«ноумен», по его мнению, было известно Китаю задолго до Канта8.
Три этапа развития нового конфуцианства, о которых пишет Лю Шу-
сянь, отнюдь не являются признанной концепцией. Преподаватель Нань-
кайского университета Ли И (род. 1963) рассматривает новое конфуциан¬
ство как одно из трех главных направлений китайской мысли XX в., пред¬
ставители которых по-своему стремились ответить на вопрос о дальней-
шем развитии Китая в условиях неизбежного усиления контактов с Запа¬
дом. Такими тремя магистральными направлениями, по его мнению, были
марксизм, «западничество» и «новое учение жу»9.
Если китайские философы, работающие за пределами КНР, стремятся
обособить новое конфуцианство от китайских реалий, придать ему само¬
ценность и в то же время интернационализировать, представить его в виде
факта научного дискурса мировой (т.е. западной) философии, то Ли И ви¬
дит в новом конфуцианстве прежде всего течение китайской мысли, кото¬
рое пытается решить проблемы, поставленные в XX в. китайской действи¬
тельностью. Он выстраивает периодизацию нового конфуцианства в соот¬
ветствии с основными этапами политического и духовного развития Китая
6 Xiong Shili lunzhu ji. Vol. 2. Ti yong lun. Beijing, 1996, c. 3.
7 Там же, с. 155.
8 Mou Zongsan. Zhong xi zhexue zhi hui tong shisi jiang, c. 74.
9 Li Yi. Zhongguo makesizhuyi yu xin ruxue. Liaoning, 1994, c. 4.
122
XX в.: 1919-1949 гг.; с 1949 г.— до 1960-х годов; с 1980-х годов— по настоящее время10.
Не будем слишком придирчивы к Ли И, из периодизации которого исчезли 1970-е годы, в конце концов он писал не об истории, но о развитии мысли. Обратим внимание лишь на то, что эта периодизация лишает новое конфуцианство самодостаточности и возвращает его в рамки истории Китая. Несмотря на очевидное присутствие в такой периодизации посторонних задач, она небезынтересна. Может быть, с излишней прямолинейностью она напоминает новым конфуцианцам об их китайских корнях, причем не Китая глубокой древности, но Китая XX в. А ведь именно этот этап китайской истории обычно игнорируется новыми конфуцианцами, представляющими свое учение (учения) в виде сплава традиционного конфуцианства и современного философского дискурса Запада.
Новое конфуцианство и марксизм
Главная проблема, которую я вижу в связи с этим, — не до конца выясненные отношения нового конфуцианства с марксизмом.
Вряд ли стоит отрицать то, что новое конфуцианство приобретало осязаемые формы в полемике с первыми китайскими марксистами. Лян Шу- мин, Чжан Цзюньмай в 20-40-е годы противопоставляли себя марксистам не только идейно, но и политически, возглавляя так называемые третьи партии11.
Личный протест против марксизма выражал Сюн Шили, преподавая в университете философию конфуцианства и буддизма в то время, когда новой властью были востребованы преподаватели марксизма-ленинизма. Моу Цзунсань свое отношение к власти победившего народа показал в 1949 г., бежав от нее; он никогда не скрывал критического отношения к марксистской философии. Отголоски противостояния нового конфуцианства и китайского марксизма слышатся в настороженно-корректном тоне, в котором написана книга Ли И «Китайский марксизм и новое учение жу». Оценивающий ситуацию с другого берега, Лю Шусянь высказывает сомнение относительно «чистоты пробы» Фэн Юланя как нового конфуцианца, поскольку он «пересмотрел» (подразумевается, что в угоду коммунистам) свою историю китайской философии (подразумевается, что в марксистском ключе).
Значит, марксизм изначально выносился за рамки нового конфуцианства, более того, новое конфуцианство в большой мере само было реакцией на распространение марксизма. Но если новые конфуцианцы налаживают диалог философий двух культур — китайской и западной, — то иг¬
10 Там же, с. 7.
11 Иванов П.М. Малые партии Китая в борьбе за демократию (1928-1947). М., 1999; Белоусов С.Р. Китайская версия «государственного социализма». М., 1989.
123
норирование марксизма неизбежно обедняет создаваемую ими картину западной философии.
Игнорирование марксизма для нового конфуцианства имеет и чисто практические последствия. Это относится к терминологии западной философии на китайском языке. Большую работу по созданию терминологического аппарата для передачи не существовавших прежде в китайском языке понятий, по приспособлению китайского языка к достоверному пересказу философии К.Маркса проделали китайские ученые в содружестве с учеными СССР— страны, которая начиная с 1920-х годов, в том числе и благодаря усилиям филологов, обеспечивала условия для массированного экспорта марксизма. Современные конфуцианцы, долгое время находившиеся в оппозиции к коммунистам, пренебрежительно относятся к их наработкам. Они заново занимаются «изобретением» на китайском языке терминов — общих для западной философии, которыми пользовался и марксизм.
Трудно спорить с тем, что постклассическая философия Запада XX в. довольно долго находилась за пределами дозволенного ученым-марксис- там Китая. Поэтому само собой разумеется, что философ, занимающийся Бертраном Расселом или Альфредом Нортом Уайтхедом, оказывается перед неизбежностью лингвистических экспериментов. Но терминология — это ведь не просто удачно найденное слово, это еще и результат общественного договора. И оказывается, что язык, которым новые конфуцианцы передают содержание западной философии, хаотичен и субъективен. Но если это имеет оправдание в тех областях западной философии, которые находились вне поля зрения ученых КНР, то «изобретение» терминов классической западной философии, которые тщательно и профессионально создавались в КНР, кажется просто шагом назад. Примеров можно набрать немало. «Материализм» в Китае удачно переводится с помощью сочетания нескольких слов — вэй у чжу и, «материальный» — вэй у лунь, «материя» —у чжи. Моу Цзунсань (проживавший на Тайване), игнорируя это, переводил широкий спектр понятий одним словом — у, которое у него означает «материя», «материальный», «вещь», «предмет», «материализм» и др. Естественно, что это не способствует четкости философского языка (следовательно, и мысли) Моу Цзунсаня (хотя иногда в его работе может встретиться и словосочетание у чжи в значении «материальный»)12. Бессмысленность подобной самодеятельности стала особенно заметна сейчас, когда книги новых конфуцианцев начали публиковаться в Китае.
Новое конфуцианство и проблема системности философий
Системная философия, представляющая собой особую область теоретического знания, не является в данном случае предметом нашего иссле¬
12 Мои Zongsan. Zhong xi zhexue zhi hui tong shisi jiang, c. 97.
124
дования. Мы лишь воспользуемся некоторыми ее выводами в связи с новым конфуцианством. Отправным пунктом для нас стал текст книги Моу Цзунсаня «Четырнадцать лекций о возможности соединения китайской и западной философий»13.
Мы берем как данность существование западной философии и китайской философии в виде неких систем со всеми их составляющими. И в этом их сходство. Общим у них было также то, что каждая из них складывалась в течение долгого времени, обе передавались многими поколениями людей, и к моменту начала их взаимодействия представляли собой высокоразвитые и глубоко укорененные в своих носителях конструкции. В пределах границ существования каждой из систем ее воздействие носило всеобъемлющий характер, и манифестация каждой может быть прослежена как на микро-, так и на макроуровне. В основе каждой из систем было одинаково настойчивое стремление объяснить окружающий мир и выработать рекомендации. Каждая оперировала свойственным именно ей набором представлений и использовала собственный аналитический инструментарий. А.Н.Уайтхед имел серьезные основания опасаться торжества взглядов редукционистов, так как это могло привести к утрате веры в единство мира, а следовательно, к сомнениям в общности научного знания. Поэтому он на первый план выдвигал взаимную конвергентность систем. Но даже ему пришлось признать, что описание составляющих одной системы в терминах другой может быть «очень неуклюжим»14.
Философские системы Китая и Запада имели разную структуру и наполненность: то, что было значимо в пределах одной системы, не находило выражения в другой и отметалось ею как несущественное. Были ли среди китайских философов материалисты и идеалисты? Да, были. Но для системы китайской философии это оказалось несущественным.
Каждая из двух философских систем максимально хорошо выполняла задачи по объяснению мира и по выработке наиболее общих рекомендаций. Что каждому из нас, выросшему в определенной форме рефлексий, до конца трудно понять? Нам трудно понять, например, как не переводимым на язык нашей философии термином ли можно объяснить устройство мира и жизнь людей. В свою очередь, китайской системе так же чуждо слово «идеальный» (mind), которое новые конфуцианцы передают словом «сердце» (синь). Кстати, не менее безнадежно выглядят и попытки перевода понятия ли на язык западной философии термином «принцип». Если китайские философы утверждают, что ли — это всё, в том числе «горение» и «гниение», то попробуйте поставить ли как «высший принцип» рядом с «гниением».
В свою очередь, А.Грэхэм отметил еще одну любопытную особенность функционирования понятия ли — возможность употребления этого терми¬
13 Мои Zongsan. Zhong xi zhexue zhi hui tong shisi jiang.
14 Whitehead A.N. Adventures of Ideas. N. Y., 1955, с. 141.
125
на во множественном числе, скажем «сто ли»15. Приходится признать, что концепция ли находится за пределами нашего восприятия.
Принято считать, что освоение китайскими философами западной философии (и наоборот) — чисто формальная задача: достаточно взять некие идеи из одной философии, объяснить их с помощью собственного философского инструментария — и работа сделана. К сожалению, это заблуждение. К сожалению потому, что это означает: культурная диффузия человечества откладывается на неопределенное время.
Западная философия много грешила в своей гордыне, уверенная, что ей удастся быстро разобраться с китайской, представив ее лишь как частный случай всемирной, право говорить от имени которой присвоил себе западный человек.
К печальным результатам приводят представителей нового конфуцианства и их попытки писать о философии Запада на языке китайской философии, пренебрегая принципом системности.
Посмотрим, что и как рассказывал своим китайским слушателям Моу Цзунсань о Канте: «...Кант был прав, переходя к практическому разуму. Перемещаясь в сферу практического разума, необходимо соприкоснуться с проявляющимися в практическом разуме укорененным сердцем — бэнь синь, добрым знанием — лянь чжи (школа жу), с сердцем дао (школа дао\ с сердцем, хранящим Так пришедшего — Жулай цан син и с мудрым сердцем — чжи синь праджня (буддийская школа). Это все сердца синь. По словам Канта, все они проистекают из проявляющихся в практическом разуме сердца дао-дэ, сердца дао, сердца, хранящего Так пришедшего — жулай цан синь, мудрого сердца— чжи синь праджня. Тогда все эти сердца, о которых ведется речь, ограниченные сердца или все же неограниченные сердца?»16. Хочу добавить, что «китайскость» текста немного смягчена в переводе. Возникают сомнения в том, что китайские читатели книги Моу поймут, например, ключевое понятие данного отрывка именно как «разум», а не просто увидят перед собой два иероглифа — ли син, которыми записано это слово и которые дословно означают «форма ли».
Этот пример должен предостеречь от чрезмерной самоуверенности некоторых западных философов, пишущих о китайской философии. Но главное — он показывает, чтб происходит, когда берут две разные философские системы, вычленяют из одной какую-то составляющую и механически переносят ее в другую систему, на иное основание, в иную среду.
Системы открыты и взаимодействуют с окружающим миром. Но при этом очевидно, что само существование системы предполагает наличие границ ее распространения и, следовательно, границ ее взаимодействия. Вопрос о границах возможного во взаимодействии китайской и западной
15 Graham A.C. Two Chinese Philosophers. Ch’êng Ming-tao and Ch’êng Yi-ch’uan. L., 1958, с. 57.
16 Mou Zongsan. Zhong xi zhexue zhi hui tong shisi jiang, c. 80-81.
126
философий волновал Моу Цзунсаня, хотя в своей практической деятельности, как мы видели, он не смог его решить. Но большинство философов нового конфуцианства такого вопроса даже не ставят. Именно поэтому в начале статьи мы соотнесли новое конфуцианство с утопией, ведь его идеологи дают человечеству еще одну необоснованную (по крайней мере на сегодняшний день) надежду.
Выводы
Новые конфуцианцы претендуют на достижение синтеза китайской и западной философий. Один из исследователей восторженно назвал результаты их трудов «новым гибридом»17. Похоже, что он нашел очень точное слово.
Вопреки завышенным самооценкам новые конфуцианцы ставят больше вопросов, чем способны дать на них ответов. Это вопросы исторического, социологического, культурологического и собственно философского плана. Благодаря броскому названию новое конфуцианство сумело вовлечь в свою орбиту широкие массы ученых-гуманитариев, которые до сих пор не интересовались Китаем. Будучи сложным и многоплановым явлением, новое конфуцианство несет в себе новаторские идеи (например, недуальность китайской философии), в то же время оно повторяет уже пройденное и даже делает шаг назад (мы видели это на примере перевода «материи» как у).
Пока что новые конфуцианцы не смогли поставить свои поиски на твердую теоретическую основу ни с точки зрения теории как таковой, ни с точки зрения категориального аппарата. Ведь несмотря на все их усилия, до сих пор невозможно адекватно передать на индоевропейских языках то, о чем они пишут по-китайски, и соответственно движение в обратном направлении тоже затруднено.
Они концентрируют свое внимание на том общем, что существует в двух философских традициях. Между тем было бы более продуктивно сосредоточиться на культурных различиях. Оставляя этот вопрос за скобками, они фактически не видят тех различий, которые сплошь и рядом сами же демонстрируют своими работами.
Думается, что привлечение системной философии как теоретической базы в наибольшей степени способствовало бы успеху дела новых конфуцианцев. Хотя и тут возникают большие сомнения относительно того, что такой подход сможет помочь преодолеть фундаментальные различия между китайской и западной философиями. Единственное, на что тут действительно можно надеяться, — народы постепенно привыкают к категориям чужой культуры. Им надо помогать. Не в философском плане, а именно на этом поприще новые конфуцианцы играют весьма важную роль.
17 Li Zhilin. On the Dual Nature of Traditional Chinese Thought and Its Modernization. - - Cul- turc and Modernity. East-West Philosophic Perspective. Ed. by E.Dcutsch. I lonolulu, 1991, c. 257.
127
Ганс Георг Мюллер
Мораль и патология: компаративный подход
Даосская прелюдш
Здравый смысл превозносит мораль за то, что она содействует здоровью личности и здоровью общества, однако в некоторых философских учениях подобный взгляд подвергается сомнению. В шедевре древнекитайской мысли, даосской классической книге «Чжуан-цзы», появляется легендарный даосский мудрец Сюй Ю, который в совершенно чуждой здравому смыслу манере выставляет мораль как нечто патологическое. Когда к этому даосскому учителю пришел человек по имени Иэр-цзы, только что побывавший у мудрого правителя Яо, считавшегося образцом конфуцианской морали, между ними состоялся следующий диалог:
«Сюй Ю спросил: „Каким богатством одарил тебя Яо?“
Иэр-цзы ответил: „Яо сказал мне: "Ты должен со всем тщанием претворять человечность и справедливость и выявлять истинное и ложное"“.
— Тогда зачем ты пришел сюда? — сказал в ответ Сюй Ю. — Если Яо уже выжег на тебе клеймо человечности и справедливости и искалечил тебя (букв.: отрезал нос) разговорами об истинном и ложном, как можешь ты странствовать на дорогах, где гуляют беспечно и ходят как попало?
— И все-таки я хотел бы отправиться в те края, — сказал Иэр-цзы.
— Нет, у тебя ничего не выйдет, — ответил Сюй Ю. — Слепцу не объяснишь очарование ресниц и щечек красавицы, люди с бельмом на глазу не оценят достоинства парадных одежд из желтого и зеленого шелка»1.
Очевидно, что даосский учитель считает обучение того, кто уже «заражен» конфуцианской моралью, делом совершенно безнадежным. Он сравнивает конфуцианское посвящение в мораль с нанесением телесных увечий, таких, как, например, выжигание клейма на теле и отрезание носа —
1 Чжуан-цзы. Ле-цзы. Пер. с кит., вступ. ст. и примеч. В В.Малявина. М., 1995 (Философское наследие. Т. 123), с. 102.
© Ганс Георг Мюллер, 2004
128
наказания преступников в соответствии с древнекитайским законом. С1 даосской точки зрения «увечье» мешает людям встать на даосский муть — путь так называемого странствия по дорогам, «где гуляют беспечно и ходят как попало». Взгляд на этот мир глазами морали и применение к нему деления на истинное и ложное сравниваются со слепотой или бельмом на глазу, когда человеку невозможно объяснить «очарование ресниц и щечек красавицы», равно как и «достоинства парадных одежд из желтого и зеленого шелка». Человек, «изувеченный» моральным взглядом на мир, становится действительно — в прямом смысле слова — без-умным.
Кроме образов патологии, использованных этим древним даосским критиком морали, следует выделить еще две структурные характеристики. Во-первых, морально окрашенное различие — умение «ясно говорить об истинном и ложном» — обычно рассматривается как ограничение, налагаемое на более фундаментальные свойства, например определенные «естественные» или «эстетические» качества, позволяющие нам распознавать такие вещи, как прелестные лица и тонкие шелка. Таким способом морально окрашенное различие (между истинным и ложным, добром и злом) рисуется как необязательное и второстепенное, затемняющее наше восприятие мира и вносящее ненужные помехи в наше поведение. Во- вторых, философствование даосского мудреца о морали можно описать как своего рода «негативную этику» — этику, являющуюся анализом, критикой и, в конечном счете, отрицанием морали. Наука этики становится, таким образом, размышлением о морали, имеющим своей целью предупреждение о риске, которым эта мораль и является.
Как ни странно, эти черты древней даосской критики морали — образы патологии, концепция морально окрашенного различения как превалирующего над более фундаментальными дистинкциями и концепция этики как критической рефлексии морали и предостережения против морали — вновь появляются, хотя и в совершенно ином теоретическом контексте, в анализе роли морали в современном мире у знаменитого немецкого социолога. Таким образом, процитированный выше даосский диалог может послужить своего рода до-современной (pre-modem) прелюдией к «негативной этике» пост-современного (post-modem) времени.
Луман о морали
Никлас Луман, немецкий «Анти-Хабермасс» (если так можно выразиться), вероятнее всего совершенно не подозревая о своем странном даосском предшественнике, заявил: «В конце концов, в обычном каждодневном взаимодействии людей мораль вообще не нужна; она всегда — симптом того, что мы имеем дело с патологическим случаем»2.
2 Luhmann N. The Reality of the Mass Media. Transi by K.Cross. Stanford, 2000, c. 79 (далее при цитировании работ Н.Лумана в статье приводятся только их названия. — Отв. ред.)
5 - 10922
129
Скептицизм Лумана основан на наблюдении определенной «проблемы морали»: «Всякий раз, когда появляется модное слово „мораль“, разнообразный опыт, который был у Европы в отношении морали начиная со Средних веков, прекрасно выявляет эту проблему: окрашенные в религиозные тона перевороты и подавления восстаний, ужасы инквизиции, войны — и все это по поводу морально связывающих истин и протеста против них, возникающего как реакция негодования»3.
Рассмотрение этой специфической проблемы «модного слова» «мораль» приводит Лумана к критическому исследованию морали как некоего патологического феномена коммуникации и к установлению новой разновидности этики, способной соответствовать тому, что можно назвать специфическими условиями функционирования морали в современном обществе.
Поскольку эта новая разновидность морали является частью общей социальной теории Лумана, а точнее, его версии теории социальных систем, понять ее адекватно можно лишь в контексте этой теории, и особенно в контексте двух ее важнейших предпосылок. (Кратко описывая эти предпосылки, я надеюсь пролить некоторый свет на общую теорию Лумана, а проливая свет на эту теорию, я надеюсь объяснить, как и почему Луман приходит к подобного рода «негативной этике».)
Первой предпосылкой лумановского социального анализа нашего времени является историческая гипотеза, согласно которой в Европе между XVI и XVIII вв. произошло радикальное преобразование, которое совершенно перекроило общество и привело к превращению прежнего — в терминах Лумана «староевропейского» — взгляда на мир в нечто устаревшее. Это превращение состояло в разрушении «стратифицированной дифференциации» как главной структурной характеристики Европы в Средние века и на заре Нового времени. «Стратифицированная дифференциация» означает то, что общество иерархически делится на разные социальные слои— страты. Границы, отделяющие друг от друга такие разные страты, как правящая аристократия и управляемые вассалы, являются основными межами, разбивающими на части и тем самым упорядочивающими общество. В начале Нового времени эти границы обрушились и были заменены совершенно новыми формами разграничений, возникшими как упорядочивающая структура иного, нового мира. Эти новые границы уже более не отделяли друг от друга социальные страты, а проводили деление между разными функциональными системами, не содержавшими в себе иерархического паттерна. Таким образом, современное общество отличается совершенно новой формой дифференциации, назы-
3 Ethik als Reflexiontheorie der Moral. — Gesellschaftsstruktur und Semantik. Frankfurt/Mein, 1993, Bd. 3, c. 358-447, c. 370 В оригинале: «So können Steppenbrände entstehen—und Erfahrungen, die Europa seit dem Hochmittelalter mit religiös aufgezogenen Aufständen und Unterdrückungen, mit dem Schrecken der Inquisition, mit Kriegen um moralisch verbindliche Wahrheiten und mit aus Empörung entstanden Revolten gemacht hat, sollten eigentlich beim Stichwort Moral immer gleich dieses Problem vor Augen führen»
130
наемой «функциональной дифференциацией». Общество ныне структурировано с помощью нескольких самосозидающихся и операционально закрытых функциональных подсистем, таких, как экономика, право или политика. В пределах суперсистемы общества ни одна из этих подсистем не может претендовать на центральную, или ведущую, позицию.
Вторая предпосылка, встроенная в лумановскую историческую гипотезу, заключается в методологическом решении относительно системной модели мира, понимающей современное общество как суперсистему для самосозидающихся, операционально закрытых, функциональных подсистем, таких, как политика, право, религия и многие другие. Несомненно, что упомянутая революция является по своему характеру системной революцией: системы-страты заменены на функциональные системы. Совершенно уникальная историческая перспектива теории Лумана находится в полной зависимости от его системной методологии. Далее я опишу, как из системноисторических рассуждений Лумана появляется его теория морали и этики.
Началом описания будет лумановское общее определение морали, которое фактически сводится к предельно простой мысли: мораль— это особый тип коммуникации, направленной на обработку информации о том, чтб ценится (esteem), а чтб не ценится (disesteem) в обществе. Мораль означает так называемые условия, предъявляемые рынком положительной социальной оценки (esteem)4.
Луман подчеркивает, что с исторической точки зрения в стратифицированном староевропейском обществе рынок положительной социальной оценки предъявлял условия в форме манер5. Социальные агенты, или личности, рождались в определенном страте и обретали идентичность при отождествлении себя с определенным положением в этом слое общества. Каждому социальному положению соответствовали свои манеры, и человек, стремящийся заслужить высокую социальную оценку, должен был действовать в соответствии с манерами, связанными с его или ее положением в собственном страте. Более того, существовал единственный источник, обеспечивавший моральную семантику в средневековой Европе, — христианская религия. Таким образом, средневековое общество было в высшей степени интегрировано: люди обладали единственным фиксированным социальным положением и идентичностью, обрамляемой определенным набором манер или правил морали. Существовал единственный непререкаемый авторитет, морально интегрирующий общество, — церковь.
На заре Нового времени ситуация претерпела драматические изменения. В отличие от их положения в стратифицированном обществе, в Новое иремя социальные агенты более не были ограничены единственной, многофункциональной социальной единицей— их собственной семьей и социальным слоем. В функционально дифференцированном обществе
4 Paradigm lost: Über die ethische Reflexion der Moral: Rede anlässlich der Verleihung des Hegel Preises 1989. Frankfurt/Mein, 1990, c. 19.
5 Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt/Mein, 1997, c. 1038.
131
социальная жизнь людей уже не детерминирована, к примеру, тем, что кто-
то является женщиной — членом крестьянской семьи, а кто-то ——мужчи¬
ной, наследником аристократического клана. В современном мире социаль¬
ная жизнь требует от человека, чтобы он действовал в разных функциональ¬
ных системах: зарабатывать деньги ему приходится в экономической сис¬
теме, быть гражданином ——в политической системе, осуществлять значи¬
тельную часть своих действий ——в рамках правовой системы. В условиях
функционального разнообразия и дезинтеграции социальной жизни мо¬
раль не может больше измеряться манерами, и к тому же эта дезинтегра¬
ция общества и моральных стандартов сопровождается потерей церковью
ее прежнего бесспорного верховенства в вопросах моральной лексики.
Что же происходит с моралью в условиях общества, дифференциро¬
ванного по функциональному признаку? Никлас Луман предполагает, что
на фоне размывания социальных различий и прежних социальных границ,
а также упадка христианства «появляется амбициозная претензия на уни¬
версальную, но тем не менее социально практикуемую мораль, построен¬
ную на индивидуальной основе, более глубокой, чем все социальные раз¬
личия и даже религии»6.
Но где же найти такое новое основание морали, если его больше нель¬
зя искать ни в области социальной реальности, ни в имеющихся под ру¬
кой религиозных догмах? Мораль потеряла свой социальный «анкерадж»,
надежное пристанище (Verankerung)7, и, таким образом, появилась по¬
требность в новом теоретическом усилии, нацеленном на поиски оснований
морали в ней самой, в ее собственных внутренних принципах. Пришло вре¬
мя философской «этики» в собственном смысле слова: впервые в своей ис¬
тории этика, согласно Луману, стала действительно «рефлексивной теори¬
ей морали» (Reflexionstheorie der Moral). Этот «новый тип этики》пытается
открыть универсальные основания, присущие морали. Луман называет
двух основных представителей этого теоретического «пробуждения»: Кан¬
та и Бентама. Оба этих философа ——каждый на своей лад, разумеется,——
не просто рассказали нам, что такое моральное поведение и где мы могли
бы найти примеры такового, их этика претендовала на то, чтобы быть
рефлексивным описанием оснований морали. Луман говорит:
«И этика утилитаризма и этика трансцендентальной теории нацелены
на рациональное или (в исключительном случае Германии) на разумное
оправдание моральных суждений»8.
6 Politik, Demokratie, Moral. — Normen, Ethik und Gesellschaft. Ed. by Konferenz der Deut¬
schen Akademie des Wissenschaften. Mainz, 1997, c. 18. В оригинале: «...entsteht die Ambition
einer universellen und doch gesellschaftspraktischen Moral, auf individualistischer, alle sozialen
Einteilungen und selbst die Religionen unterlaufender Grundlage».
7 Ethik als Reflexiontheorie der Moral, с. 18.
8 Paradigm lost: Über die ethische Reflexion der Moral, c. 21. В оригинале: «In der utilitaris¬
tischen ebenso wie in der transzendentalteoretischen Ethik ging es um die rationale bzw. (im deut¬
schen Sonderfall) vernüftige Begründung moralischer Urteile».
132
Этим способом (или этими способами) создавалась этика как философская дисциплина иного типа, соответствующая новым условиям. Лу- ман высоко оценивает теоретические достижения таких философов, как Кант и Бентам, сумевших создать новый тип этической мысли и тем самым откликнуться на социальные перемены. Однако он полагает, что ни Кантово, ни Бентамово этические учения не дают приемлемого описания функции морали в нашем современном обществе. Их эпистемологический оптимизм относительно возможности конструирования универсально действенной этики ретроспективно — и это достаточно очевидно — доказал свою необоснованность. С точки зрения опыта, говорит Луман, академическая этика потерпела поражение9. Никакая философская этика не была в состоянии обеспечить общепринятые «резоны» в пользу морали. В отличие от средневековой Европы, в наше время не существует единого источника моральной семантики: одна из статей Лумана о морали и этике называется «Потерянная парадигма».
Что же можно сделать? Можно ли вновь обрести потерянную парадигму? Луман относится к такой возможности скептически и откровенно заявляет, что он не верит в действенность парадигмальной этики в нашем обществе. Он утверждает — в чем-то подобно американскому неопрагматику Ричарду Рорти, — что современная этика должна воздерживаться от попыток найти основания для морали. Вот что он говорит:
«Этика не может обеспечить основания для морали. Она лишь находит ее там, где она есть, а затем сталкивается с проблемами, вытекающими из этой находки»10.
Но даже если современная этика должна отказаться от попыток обеспечить мораль определенными основаниями, она все еще способна — в традициях этики начала Нового времени — быть рефлексивной теорией морали. Этика может создать теорию того, как действует мораль в функционально дифференцированном обществе, и, таким образом, она способна даже выработать некоторые предложения по поводу того, как относиться к морали. В этом смысле этика является разновидностью теоретической рефлексии, чьим отправным пунктом служит простой факт, состоящий в том, что мораль существует и что есть возможность истолковать это обстоятельство тем или иным способом.
Таким образом, этика Лумана начинается с объяснения морали. Разумеется, это объяснение не является ни трансценденталистским, ни рационалистским, ни экзистенциалистским или психологическим: оно вытекает из социальной теории. Согласно теории систем, понятие «общество» основано не на понятиях «человеческие существа» или «сознания», а на понятии «самосозидающиеся коммуникационные системы». Для Лумана тер¬
9 Politik, Demokratie, Moral, с. 17
10 Ethik als Reflexiontheorie der Moral, c. 416. В оригинале: «Die Ethik kann die Moral nicht begründen. Sie findet sie vor, und sie hat es dann mit der Problematik dieses Befundes zu tun».
133
мин «социальная система» синонимичен термину «система коммуникации», а социальная теория синонимична теории коммуникации.
С точки зрения такого системного подхода все социальные действия являются «коммуникативными», и, следовательно, феномен морали тоже следует понимать в связи с действиями внутри систем коммуникации. В этом аспекте Луман определяет мораль как особый тип коммуникации для обработки информации о положительной или отрицательной социальной оценке (esteem or disesteem). Вслед за Толкоттом Парсонсом Луман проводит различие между «одобрением» (approval) и «положительной оценкой» (esteem). Если одобрение распределяется в соответствии с достижениями в ограниченных сферах (таких, как хорошие результаты в спорте, искусстве или в образовании), то положительная оценка касается принятия в качестве агента коммуникации всей личности целиком11. Как разновидность коммуникации мораль, распределяющая положительные и отрицательные оценки среди агентов коммуникации, т.е. среди «личностей» в смысле теории систем, не ограничивается одной социальной системой. Она может быть использована в разных системах, таких, как наука, политика или право. Все эти разные функциональные системы действуют на основании своих собственных кодов: код науки — это «истинно/ошибочно», код политики — «правительство/оппозиция», код права — «законно/незаконно». Код морали — «хорошо/плохо», — применимый к социальным агентам, не является кодом в смысле основания единственной и самосозидающейся социальной подсистемы. Напротив, он является специфическим кодом, который «универсально» применим во всех социальных системах. Хотя фундаментальные коды разных функциональных систем сами по себе «аморальны», все эти системы все же могут добавить к своим кодам и моральную коммуникацию.
Например, в политике разница между правительством и оппозицией не основывается на разнице между добром и злом либо положительной или отрицательной социальной оценкой12. То же самое верно для права, образования, экономики и даже для науки. Например, какой-нибудь несчастный философ может не получить никакого одобрения со стороны своих коллег, скажем, они снимут его с должности и лишат возможности публиковать свои труды. Но даже если он потерпит полный крах в своей области исследования, это не обязательно повлечет за собой отрицательную оценку его как личности. Жена, возможно, не захочет с ним разводиться, а друзья будут по-прежнему посылать ему рождественские открытки (по крайней мере хочется на это надеяться).
Однако даже если мораль и не является базовым кодом какой бы то ни было социальной подсистемы, она может быть применена в любой из них.
11 См., например: Paradigm lost: Über die ethische Reflexion der Moral, c. 17-18 (Parsons T. The Social System. Glencoe, 1951, III, с. 110, 130).
12 Paradigm lost: Über die ethische Reflexion der Moral, с. 24.
134
Политическая, образовательная или научная коммуникации, сами по себе «аморальные», могут быть «нагружены» моральным содержанием. Политическая система, стремящаяся к тоталитарному режиму, имеет тенденцию приравнивать дистинкцию «правительство/оппозиция» к дистинкции «добро/зло», так же как учитель с наклонностями тирана хорошие и плохие оценки ученика посчитает равными соответственно «хорошей» или «плохой» личности, а кальвинистский экономист отождествит различие между богатыми и бедными с различием между людьми «угодными» или «неугодными» Богу.
Такова причина, в силу которой Луман полагает, что с эмпирической точки зрения моральная коммуникация тесно связана с конфликтом и силой, поскольку ей свойственно все поляризировать. Коммуникация по поводу положительной или отрицательной оценки социальных агентов приводит к своего рода «чрезмерной ангажированности» (Überengagement)13, разновидности «коммуникационного» фундаментализма.
Одним из аспектов этой тенденции, внутренне присущей моральному дискурсу, является то, что моральная коммуникация основана на запрете «самоизъятия»14. Будучи однажды вовлеченным в моральный дискурс, никто не может избежать самоотождествления с положительной стороной дистинкции «положительная/отрицательная социальная оценка». Как только кто-то прибегнет к аргументам морального характера — давая другим отрицательную оценку, — он вводит в игру положительную оценку самого себя. Выражая себя через мораль, связывая свою точку зрения с моралью, он внедряет в социальный дискурс как самооценку, так и оценку других, а если уж это произошло, то трудно дать задний ход. «Таким образом, — говорит Луман,— может начаться беспорядочная стрельба»15. История человечества свидетельствует о том, что самые жестокие войны и самые страшные преступления против человечества часто сопровождались моральной коммуникацией.
Анализ моральной коммуникации показывает, что она приводит к «быстрой фиксации позиций, к нетерпимости и конфликту»16. Она значительно увеличивает риск коммуникации, которая уже сама по себе рискованна. Моральная коммуникация — это рискованная коммуникация.
Указывая на риск, который представляет собой мораль, Луман предлагает другой тип этики, более подходящий для нашего времени, являющегося временем «функциональной дифференциации». Он отстаивает этическую философию, которая «предостерегает об опасности морали»17. Это
13 Там же, с. 26.
14 The Sociology of the Moral and Ethics — International Sociology. March 1996, 111, c. 27-36, c. 29.
15 Ethik als Reflexiontheorie der Moral, с. 370.
16 The Morality of Risk and the Risk of Morality — International Review of Sociology. 1987, 3, c. 87-101, c. 92.
17 Там же, с. 94.
135
предостережение и может стать основной функцией этики, выходящей за пределы текстовых традиций общества прошлого.
С точки зрения этой проективной этики мораль является (эту цитату мы приводили в начале статьи) «симптомом», свидетельствующим о том, «что мы имеем дело с патологическим случаем». Если использовать одну из метафор Лумана, мораль «заражает» социальный дискурс подобно бактерии, заражающей человеческий организм. Луман допускает, что, подобно бактерии в человеческом организме, мораль тоже выполняет в обществе определенную функцию. Однако этическая философия, как и медицинская наука, должна всегда держать эти «бактерии» под неусыпным наблюдением, дабы они не размножились до такого количества, которое может вызвать болезнь или страдания. Луман говорит, что с моралью следует обращаться крайне осторожно и «касаться ее только самыми стерильными инструментами и в перчатках», поскольку это «в высшей степени заразная субстанция», от которой можно легко подхватить инфекцию18.
Будучи «рефлексивной теорией морали», этика Лумана неспособна дать путеводные ориентиры для практической морали. Она не имеет непосредственного отношения к самим специфически моральным или аморальным «действиям», таким, как благотворительность или причинение вреда. Она толкует мораль как феномен коммуникации. В качестве теории моральной коммуникации она не только не может, но и не хочет дать практический совет людям, сталкивающимся с «реальным» моральным кризисом. Например, она никак не поможет женщине, которая должна решить, делать или не делать аборт. Вместе с тем она вполне способна объяснить, почему моральная коммуникация по поводу такой проблемы, как аборт, приводит к «чрезмерно ангажированному» дискурсу, который может вылиться в поношение и даже убийство социальных агентов.
Мораль, масс-медиа и война
Принимая во внимание лумановский анализ морали, а в некотором отношении и китайскую даосскую «негативную этику», я хотел бы завершить свое сообщение размышлениями о функции морали в современном обществе. Я верю в то— и на это меня подвиг опять-таки Никлас Луман, — что мораль, или моральная коммуникация, хотя в принципе она применима к любой социальной системе и к любому системному коду, наиболее тесно переплетена с одной определенной социальной системой, которая в современной истории все больше и больше выдвигается на первый план и которая развивается как своего рода системный метеор. Речь идет о системе масс-медиа.
В так называемый информационный век, в котором, как предполагается, мы сейчас живем, масс-медиа порождают информацию, они сжато
18 Ethik als Reflexiontheorie der Moral, с. 359.
136
выражают и артикулируют социальные «верования» и таким образом снабжают нас «общественным мнением». Они функционируют как средства преобразования рассеянных и неопределенных позиций в общепринятые ориентации и предоставляют обществу темы для коммуникации, и более того, паттерны для коммуникации на эти темы.
Разумеется, в человеческом обществе всегда создавались и информация в общем плане, и в частности моральная информация. Однако в эпоху «стратифицированной дифференциации» создание «общественного мнения» средствами массовой информации было в руках правящего страта. В те времена масс-медиа были действительно медиа (срединными, посредничающими): они представляли собой не независимую социальную систему, а лишь средство коммуникации, принадлежавшее высшему страту. Общеизвестно, что после изобретения печатного станка его использовали главным образом для печатания Библии, т.е. эта машина работала на духовенство.
С ростом коммуникации через масс-медиа и в результате сдвига от стратифицированной дифференциации к функциональной ситуация коренным образом изменилась. Масс-медиа освободились от роли простых «медиа» и утвердились в качестве автономной системы. Пока они были орудием в руках определенного страта, они обретали и теряли доверие в той же степени, в какой его терял и обретал сам этот страт, и поэтому не могли обладать статусом независимого и устойчивого источника «общественного мнения». Сегодня ситуация иная. Существует вера в то, что так называемые свободные масс-медиа действительно представляют «общественное мнение», а системы, подобные политической, для того чтобы быть представленными на рынке «общественного мнения», вынуждены доверять свою «информацию» системе масс-медиа. В условиях функционально дифференцированного общества политическая система не может «доминировать» над масс-медиа. Скорее можно сказать, что политическая система и система масс-медиа «встречаются» на рынке «общественного мнения». Конечно, такие системы, как политическая, все еще «влияют» на масс-медиа, но это влияние напоминает влияние погоды на метеорологические сводки. Какими бы сложными ни были реальные погодные условия, эти сводки попадают в средства массовой коммуникации через посредничество дружелюбных дикторов (мужчин и женщин), которые выступают после новостей и, рассказывая нам о погоде, всегда используют одну и ту же терминологию и простые различия между «тепло» и «холодно», «дождливо» и «солнечно». В метеорологической сводке сообщают о погоде не в терминах самой погоды (у погоды таких терминов нет), а в терминах метеосводки, и только через эти термины, погода вступает в коммуникацию со зрителями.
Однако, в отличие от погоды, политическая система (как и другие системы) может активно наблюдать за масс-медиа, она может также наблюдать за тем, как масс-медиа наблюдают за ней, и за тем, как за отчетами масс-медиа наблюдает публика. Манера, в которой масс-медиа сообщают
137
об определенном политическом событии, предсказуема так же, как предсказуема манера, в которой они сообщают о перемене в погодных условиях. Таким образом, в противоположность погоде политическая система способна предвосхитить реакцию масс-медиа на ее собственные системные операции. Это особенно касается периодов актуального или потенциального политического кризиса. В ходе выборов или во время войны политикам важно вести себя (а это всегда означает — общаться) таким образом, чтобы масс-медиа сообщали об их поведении в благосклонной манере. Выборы выигрывает та партия, которая успешнее других учитывает реакцию масс- медиа, поскольку только масс-медиа обладают техническими возможностями для формирования «общественного мнения». Если же политики объявляют войну, становится еще важнее завоевать благосклонность «общественного мнения» путем правильного предвосхищения реакции масс-медиа и того, что они припишут политической коммуникации. Опросы, постоянно публикующиеся в масс-медиа, должны помочь политикам оценить их текущий успех, гарантированный поддержкой «общественного мнения».
Сегодня, когда я пишу эти строки (14 сентября 2001 года), я прочитал в газете, что президенту США удалось получить беспрецедентную, 84-процентную поддержку в своей стране, когда он провозгласил войну против терроризма. Этот высокий процент одобрения «общественным мнением» был, как кажется, результатом способности президента эффективно предвидеть реакцию масс-медиа на то, чтб он сообщил, и, как я объясню дальше, это могло быть также вызвано тем, что он часто прибегал к моральной семантике (президент многократно заявлял, что собирается вести войну сил добра против сил зла). Американский президент, если судить по статистике, достиг чрезвычайных успехов в завоевании общественного одобрения благодаря тому, что провел различие между добром и злом, отождествив себя и тех, кто его поддерживает, с позитивной стороной этой оппозиции. Похоже, что существует прямая связь между одной из самых патологических социальных ситуаций, такой, как война, и одним из самых патологических способов коммуникации, а именно моральным кодированием.
В процессе формирования общественного мнения через так называемую информацию мораль выступает как одно из наиважнейших средств. Масс- медиа не только преобразовывают аморфную массу социальных данных в «информацию», но также «обогащают» эту информацию некоторыми коммуникативными ингредиентами, предназначенными для ее «продажи». Пока информация пресна, пока она не затрагивает эмоций, пока ее трудно переварить, она не может оказывать воздействие на общество. Таким образом, масс-медиа стремятся снабдить практически всю представляемую ими информацию паттернами, обеспечивающими ее дальнейшее продвижение, — они снабжают информацию орудиями коммуникации, позволяющими ее потребителям иметь с ней дело и продолжить коммуникацию. Самым эффективным из этих орудий является моральное кодирование.
138
Информация, лишенная морального кодирования— без различения добра и зла, — менее привлекательна для потребителя, поскольку ее трудно комментировать и использовать для дальнейшей коммуникации. Как только информация обеспечивается моральным кодированием, потребителю легко занять какую-то позицию. Когда мы не просто узнаем, что что-то случилось, но вдобавок к этому узнаем, что случилось что-то хорошее или что-то плохое, нам легче говорить об этом и солидаризироваться с тем, что «правильно», — мы с большей легкостью ангажируемся (и сверханга- жируемся) в коммуникацию. В этом суть «общественного мнения»: оно ни п коей мере не является «чистой» коммуникацией, это коммуникация, обогащенная «мнениями», разграничением между тем, что хорошо и что плохо. Общественное мнение — это по большей части моральное мнение, оно поляризует и тем самым — сошлемся еще раз на лумановский анализ коммуникации — непосредственно связано с конфликтом.
Решающая роль моральной коммуникации для самосозидания масс- медиа и близость этого типа коммуникации к социальному конфликту становится наиболее очевидной, когда темой коммуникации является война. Коммуникация (сообщение) масс-медиа о войне имеет тенденцию быть в высшей степени моральной, даже если страны, в которых действуют масс- медиа, не являются (или пока не являются) участницами конфликта. Интенсифицированная моральная коммуникация — коммуникация, противопоставляющая друзей и врагов, хороших и плохих, — предшествует войнам и сопровождает их. Война является одной из таких социальных ситуаций, которые сильно притягивают масс-медиа: это — воплощение коммуникативного конфликта, и поэтому это самая яркая тема коммуникаций моральных масс-медиа.
Тесная связь между масс-медиа, моралью и войной ни в коей мере не ограничивается новостными репортажами о происходящих военных действиях. Риторический паттерн «войны» переносится на многие другие темы: мы читаем о войне против наркотиков и преступлений, а в репортажах на тему здоровья нам рассказывают о войне против СПИДа и рака. Сообщения, проникнутые духом воинственности, изобилуют во многих сферах, затрагивающих «общественное мнение»: нас вдохновляют на битву с расизмом и загрязнением окружающей среды, а иногда предполагается, что мы даже должны бороться против войны.
Конечно, война и моральная коммуникация присутствуют не только и новостных репортажах масс-медиа. Военные фильмы изображают человеческую историю как историю войн, особенно войн хороших парней прошв плохих. Относительно недавний голливудский фильм «Патриот» показывает, к примеру, как американцы, любящие свободу и демократию, смогли одержать победу над британскими притеснителями, и поэтому высокий уровень насилия в фильме, выглядит более чем оправданным. Другой, еще более успешный и более жестокий голливудский фильм «Гладиатор» так преображает историю Древнего Рима, что на экране публика
139
может видеть, как в древней Европе много веков назад храбрые бунтовщики боролись против безжалостной диктатуры во имя либерализма. Категории хорошего и плохого, оформленные в политические репортажи, преобразуются в развлекательные программы, и наоборот. Моральное кодирование не ограничивается лишь одним видом программы. Благодаря использованию одинакового морального кода достигается тот эффект, что новости и развлекательные программы как бы пересекаются друг с другом и друг в друга переходят. Это благоприятно для потребителя информации. Нам не нужны уроки истории, чтобы понять, что происходит в «Гладиаторе». Достаточно разбираться в газетных заголовках и в моральных кодах новостных репортажей. Фильмы, подобные «Гладиатору», помогают потребителю новостей задействовать свое воображение, когда он или она смотрит репортаж, скажем, о том, как американские силы атакуют какой-нибудь преступный государственный режим.
В функционально дифференцированном обществе масс-медиа становятся самым передовым полем битвы, на самых разных площадках которого двадцать четыре часа в сутки происходит борьба добра со злом. Само по себе это ни хорошо, ни плохо, но если подвергнуть масс-медиа этической рефлексии, то можно выразить озабоченность не только по поводу жестокости и секса, показываемых на экране, но также обратить внимание на социальный риск от постоянного воздействия на умы людей морального дискурса масс-медиа. Моральная коммуникация — и по этому поводу современные луманианцы и древнекитайские даосы могли бы согласиться друг с другом — налагает распознавание добра и зла на базовые различия и тем самым становится рискованной и чреватой как социальным конфликтом, так и использованием военной силы — будь то сила регулярной армии или террористов.
Если, принимая во внимания эти соображения, одна из модных ныне «комиссий по этике» (Ethikkommission) решила бы пригласить для участия в своей работе даосов и сторонников Лумана, можно представить себе следующее предложение правительству, сделанное такой комиссией: потребовать, чтобы теле- и радиопередачи, а также зрелища для широкой публики, содержащие большую дозу морали, — например, некоторые американские фильмы, новостные репортажи и речи политических деятелей, — были снабжены обязательным предупреждением, подобным тому, которое мы находим на сигаретных пачках: «Этот продукт наполнен моралью и поэтому может привести к нежелательной коммуникативной сверхангажированности, которая способна причинить вред как здоровью отдельного человека, так и здоровью всего общества». Тем не менее лично я подозреваю, что подобное предостережение, как и предупреждение на сигаретных пачках, вряд ли удержит людей от того, чтобы пойти на риск, и вряд ли заставит отказаться от дорогой сердцу привычки.
Перевод с английского В.Г.Лысенко
140
Мицуру Эгути
Учение Л.Н.Толстого о непротивлении и идея ненасилия Д.Икеды (опыт сравнения)
Данное сообщение представляет собой попытку сопоставления двух гуманистических учений, ставящих во главу угла концепцию ненасилия. Эти учения возникли в рамках различных религиозно-культурных традиций — христианской и буддийской.
Учение Толстого о непротивлении явилось результатом философского переосмысления евангельской заповеди «не противься злу». Дайсаку Ике- да — писатель и поэт, философ, президент международного буддийского светского общества «Сока Гаккай Интернэшнл». Само название общества в какой-то степени уже говорит о его идейной направленности: «Сока Гаккай» в переводе означает «Общество созидания ценностей». Сока Гаккай основано в 1930 г. младшим современником Толстого, педагогом и философом Макигути Цунэсабуро (1871-1944) и объединяет сегодня более 10 млн. человек в Японии, а также единомышленников — граждан почти 180 стран мира, проводит философско-религиозную просветительскую работу. Его поле деятельности не ограничивается религиозной практикой и изучением буддизма, но охватывает и сферы культуры, образования и миротворческого движения. Концепция ненасилия Сока Гаккай построена на основе идей буддийского гуманизма «Лотосовой сутры», проповедовавшегося японским монахом Нитирэном (1222-1282).
Сопоставление этих двух учений представляет определенный интерес также и в связи с проблемой взаимодействия культурно-религиозных традиций. Л.Толстой проявлял немалый интерес к другим религиям и религиознофилософским учениям, в частности к буддизму. Идеи Толстого о непротивлении с самого начала были положительно восприняты японской интеллигенцией и по сей день продолжают пользоваться популярностью в Японии.
Раскрывая сущность буддийского гуманистического учения, Д.Икеда в своих выступлениях часто прибегает к параллелям в культурных традици¬
(О Мицуру Эгути, 2004
141
ях других народов. Его интерпретация буддийского гуманизма отличается
стремлением к выявлению общезначимых ценностей, выходящих за рамки
религиозных и культурных ограничений. A JI.H.Толстой является одним
из тех, чьи слова наиболее часто упоминаются японским философом как
созвучные буддийскому учению1.
Принцип непротивления злу насилием Толстого подразумевает катего¬
рическое неприятие насилия, понимаемого в широком смысле — не толь¬
ко как физическое воздействие, но и как любое «заставление» без согласия
человека, даже если оно направлено на пресечение зла. Учение Сока Гак-
кай выражает идею ненасилия в форме принципа «неприкосновенности
достоинства человека», который предполагает отказ от любого примене¬
ния силы, морального и психологического давления.
Идея жизни
и концепции природы человека
у Толстого и Икеды
Рассмотрим основные идеи, лежащие в основе теорий ненасилия у
Толстого и в буддийском учении Сока Гаккай.
Одной из таких идей является идея жизни.
Учения JI.H.Толстого и Сока Гаккай сближает то, что они рассматри¬
вают жизнь не просто в качестве философской категории, но и как абсо¬
лютную ценность, на основе которой устанавливаются ценности разных
уровней и значимости. Толстой пишет: «Признание неприкосновенно厂о
достоинства жизни каждого человека есть первое и единственное основа¬
ние любой нравственности»2.
В своем философском трактате «Теория ценностей» Макигути Цунэса-
буро пишет, что любые ценности имеют своим источником волю к жизни
(человека и всего живого) как абсолютной ценности3. В его аксиологиче¬
ской системе ценностями является все, что служит сохранению и укрепле¬
нию жизни. Поэтому программным тезисом основанного им движения
Сока Гаккай, является «созидание положительных ценностей» на основе
принципа неприкосновенности достоинства жизни. По утверждению Ике¬
ды, «главным универсальным критерием для формирования системы цен¬
ностей должно быть то, что неприкосновенность достоинства жизни явля¬
ется наивысшей ценностью»4.
1 Например, в его выступлении на генеральном собрании, опубликованном в газете
«Сейкб» от 06.02.1999.
2 Толстой Л.Н. Царство божие внутри вас. — Полное собрание сочинений. Т. 28. М.,
1992, с. 246.
3 См.: Макигути Ц. Теория ценностей. Токио, 1979, с. 123.
4 Икеда Д. Нидзюиссэйки эно тайва (Диалоги навстречу XXI веку).——Полное собрание
сочинений. Т. 3. Токио, 1991, с. 643.
142
Говоря о сущности жизни, Толстой утверждает, что «истинная человеческая жизнь протекает вне времени и пространства»5. Он сравнивает человеческую жизнь с момента рождения до смерти с одним днем с момента пробуждения и до отхода ко сну. В рамках его миропонимания жизнь без начала и конца пребывает или в состоянии пробуждения, или в состоянии сна. Истинная жизнь существует только в той точке, где сходятся будущее с прошедшим. Тело и временное сознание, согласно учению Толстого, уничтожаются плотской смертью, однако основу жизни уничтожить невозможно. Понятие жизни у Толстого непосредственно связано с понятием Бога. В «Исповеди» Толстой рассуждает следующим образом: если человек существует, то этому должна быть причина, которая называется Богом. Однако констатация наличия Бога— Творца и Промыслителя — еще не приносит жизненной силы и радости. И лишь когда человек, будучи уверен в существовании причины жизни, ищет Бога, Бог проявляет себя и дает ищущему почувствовать возможность и радость бытия. Понятие Бога для него призвано обозначить то, «куда я иду и к кому приду»6. Он — начало всех начал, высший смысл и закон жизни7.
Согласно предложенному Икедой толкованию буддийской космологии, жизнь каждого человека образует единое целое с жизнью вселенной; другими словами, первая является следствием индивидуализации последней. Основа жизни индивидуума, дающая ему активную жизненную энергию, понимается как закон, который порождает различные явления вселенной, поддерживая между ними органичный порядок. Он действует, охватывая все живые и неживые существа, в том числе человека, который может осознать его в себе как высшее духовное начало. Источник движения, которое происходит в соответствии с данным законом во вселенной, является, по словам Икеды, «милосердием или любовью, выражаемой как стремление к созданию и поддержанию гармонии всего сущего». Буддийское понятие «дхарма» («закон») как высший принцип правопорядка и толстовское определение Бога глубоко перекликаются: «Кроме всего телесного в себе и во всем мире, мы знаем еще нечто бестелесное, дающее жизнь нашему телу и связанное с ним. Это нечто бестелесное, связанное с нашим телом, мы называем душою. Это же бестелесное, ни с чем не связанное и дающее жизнь всему, что есть, мы называем богом»8. И еще: «Не ищи бога в храмах. Он близок к тебе, он внутри тебя. Он живет в тебе»9.
Понимание истинной человеческой природы является ключевым моментом любого религиозно-философского и этического учения. Поэтому, сопоставляя учения Толстого и Икеды, рассмотрим их представления о человеческой природе.
5 Толстой JI.H. Путь жизни. — Полное собрание сочинений. Т. 45, с. 363.
6 Там же, с. 73
7 Там же, с. 61-70.
8 Там же, с. 59.
9 Там же, с. 60.
143
У Толстого это представление воплощается в идее божественности че¬
ловека, которое определяется его пониманием Бога. По его убеждению,
Бог одновременно присутствует и в отдельном человеке, и в самом себе;
Бог «и на небе, т.е. в бесконечном мире, и в душе человека»10. Но «по¬
знать бога можно только в себе»11. Пока человек не найдет его в своей
душе, он не найдет его нигде. При этом Бог познается «в форме любви»12.
Убеждение Толстого в том, что в каждом человеке присутствует боже¬
ственное начало, составляет фундамент его учения о непротивлении. При¬
знавая во всех людях божественное начало, человек не может утвердить
свое превосходство над другими людьми, лишается мотивации диктовать
им свою волю.
В своем понимании человеческой жизни Д.Икеда основывается на
буддийском учении о человеке, одним из центральных понятий которо¬
го является понятие природы будды — высшей духовной сущности чело¬
века. И кеда объясняет абсолютную ценность жизни каждого человека
присутствием в нем природы будды - высшего духовного начала, которое
можно осознать и проявить, подчиняя себя Закону, управляющему всей
вселенной.
Икеда соотносит буддийскую идею сокрытого в каждом человеке аб¬
солютного духовного начала со следующим рассуждением Толстого13:
«Бога никак нельзя понять умом. Мы знаем, что он есть, только потому,
что знаем его не умом, а тем, что сознаем его в себе. Для того, чтобы че¬
ловеку быть настоящим человеком, ему надо сознать бога в себе»14.
Реализация «божественного начала» у Толстого или «природы будды»
в будийском учении означает раскрытие своей истинной природы. Кон¬
фликтное состояние человеческого бытия, порождающее чувство превос¬
ходства над людьми и агрессию, согласно Толстому, происходит из-за
присутствия в человеческом существе животной личности. Этот конфликт
может быть разрешен посредством раскрытия универсального《я》,тожде¬
ственного закону универсума, или, говоря языком Толстого, «подчинения
животной личности разумному сознанию»15.
Переход с малого «я» на универсальное «я» Икеда разъясняет как
расширение границ, сковывающих малое «я», до масштаба вселенной.
Этот опыт необходим для достижения нерушимого абсолютного счастья.
Ибо высшее духовное начало, которое сокрыто в каждом индивидууме,
это основа жизни, составляющая единое целое с источником жизни все¬
ленной.
10 Там же, с. 64.
11 Там же, с. 60.
12 Толстой Л.И. Мысли о боге. — Полное собрание сочинений в 20-ти т. Т. 18. М.: Т-во
И.Д.Сытина, 1913, с. 71.
13 См. выступление Д.Икеды, опубликованное в газете «Сейкё» от 06.02.1999.
14 Толстой Л.Н. Путь жизни, с. 40.
15 Толстой Л.Н. О жизни. — Полное собрание сочинений. 丁. 26, с. 377.
144
Представления об относительности понятий добра и зла являются еще одним важным положением в обосновании идей ненасилия. Согласно утверждению Икеды, человек склонен считать злом то, что отличает его от других и не укладывается в привычные рамки, он склонен считать себя носителем добра, а того, кто отличается, — носителем зла. Толстой аргументирует идею непротивления невозможностью найти единый критерий зла. Он говорит, что «для того, кто понимает жизнь такой, какая она действительно есть, нет зла»16. В то же время Толстой считал, что так называемое зло выполняет роль «точила, без которого бы заржавела душа человека»17, т.е. является своего рода испытанием на пути раскрытия божественного начала.
Однако высшее духовное начало человека не раскрывается само собой, а предполагает сознательный процесс приближения к нему, который, с точки зрения обоих мыслителей, состоит в практике любви и милосердия.
Практика любви и милосердия
Любовь, по утверждению Толстого, — это естественное стремление души человека, а не норма поведения. Все люди хотят любить и быть любимыми. Все знают притягательную силу любви, но мы являемся очевидцами бесчисленных случаев гибели любви— страстной, но быстро угасающей или превращающейся в ненависть. Почему это святое чувство, столь желаемое нами, оборачивается трагедией? Ответ на этот вопрос, как считают Толстой и Икеда, следует искать в эгоизме человека. Согласно Толстому, любовь тех, кто не понимает истинного смысла жизни, есть всего лишь предпочтение того, что вызывает наслаждение. Такие люди любят жену, детей, потому что это способствует достижению их личного блага, в то время как «любить вообще — значит желать делать доброе»18. Предпочтение под видом любви, согласно Толстому, «не имеет главного признака любви — деятельности, цель которой благо»19. По его определению, любовь предполагает служение благу людей, в процессе которого человек познает в себе Бога: «В дурные минуты не чувствуешь бога, сомневаешься в нем. И спасение всегда одно, и верное: перестать думать о боге, а думать только об его законе и исполнять его, любить всех, — и тут же перестаешь сомневаться, и опять обретаешь бога»20. Таким образом, путем действия любви преодолевается эгоистическое начало человека.
16 Толстой Л. Н. Путь жизни, с. 431
17 Там же, с. 433.
18 Толстой JJ.H. О жизни, с 386
19 Там же, с. 389
20 Толстой JIН. Путь жизни, с 67
145
Д.Икеда также предлагает в качестве способа преодоления эгоизма практику милосердия, которая предусматривает не уничтожение, а подчинение эгоистического «я» универсальному «я». Милосердие, согласно буддийскому учению, предполагает действие, направленное на устранение страдания другого и дарение блага ему. Для того чтобы устранить чужое страдание, милосердствующий должен уметь чувствовать боль страждущего, т.е. сострадать. Именно в сострадании Икеда видит основу любви и милосердия. Дарение блага, как разъясняет Икеда, прежде всего должно быть направлено на то, чтобы пробудить в человеке сознание своей духовной самостоятельности и уверенность в собственной духовной силе, а не держать его в зависимости от внешней помощи21. Безусловно, физическая помощь не отрицается, но если ее оказывают постоянно и неразборчиво, это может вызвать чувство неравенства и препятствовать самосовершенствованию реципиента и приобретению им духовной самостоятельности.
Японский мыслитель утверждает, что мы можем найти в себе, а не вовне неиссякаемый источник жизненной энергии, который дает свободу от внешних обстоятельств. И с помощью своей внутренней силы мы должны стремиться к постоянному обновлению, т.е. совершенствовать себя. Он подчеркивает важность практического значения милосердия, поскольку, по его мнению, абстрактная любовь или милосердие не способны противостоять ненависти, из-за которой до сих пор не прекращается огонь в современном мире22.
Впрочем, милосердие (или любовь) также представляет собой один из видов страсти. Страсти как таковые, с точки зрения японского философа, не являются злом, и нет необходимости их принудительного подавления, которое порой даже может вызвать накопление отрицательной энергии в подсознании человека23. Он рассматривает стремление к слиянию с жизнью вселенной, частью которой является человек, как главную страсть. Когда разного рода влечения подчиняются этому стремлению, называемому Икедой «изначальной страстью», они превращаются в инструмент для служения творению истинного блага24. Другими словами, главным стержнем его доктрины является не призыв к уничтожению страстей, а идея переориентации их на созидание в процессе практики милосердия. Эта идея глубоко созвучна толстовскому учению, суть которого сводится к тому, чтобы отвечать на зло добром.
Говоря о действенности практики милосердия, Икеда приводит известную буддийскую притчу: один человек пришел в мир Ада, где люди, сидевшие за накрытым столом, мучились оттого, что не могли есть. Почему
21 См : Исигами Ю. SGI но сисо то ундо (Философия и движение «Сока Гаккай Интернэшнл») — Toö гакудзюцу кэнкю. Токио, 1998, с. 148.
22 См.: Икеда Д. Нидзюиссэйки эно тайва, с. 630.
23 Там же, с. 592.
24 Там же, с. 588.
146
они не могут есть, — удивился он. Дело в том, что палочки, которыми полагается есть, были длиннее руки, так что пищу невозможно было положить в рот. Затем он отправился в царство Будды. Там тоже за столом сидели люди с палочками, которые были длиннее руки. Но все наелись вдоволь. Как же так получается? При помощи длинных палочек все клали еду не в свой рот, а в рот соседа25.
Японский мыслитель утверждает, что путем практики милосердия и пробуждением в себе и других природы будды укрепляется положительная духовная энергия человека и любые страсти естественным образом преодолеваются. При этом он подчеркивает, что практика милосердия предполагает не только альтруизм, но и личную пользу, заключающуюся в собственном духовном развитии. Понимание этого, как объясняет Икеда, способствует недопущению лицемерия, из-за которого милосердное служение может стать орудием для установления своего превосходства над другими или получения общественного признания.
Идеи социального обновления у Толстого и Икеды
Концепции оздоровления общества Толстого и Икеды основываются на сходном понимании обоими мыслителями истинной природы человека и путей ее реализации. Русский и японский философы приходят к общему выводу, что общество можно изменить только путем самосовершенствования каждого отдельного человека.
JT.H.Толстой формулирует эту мысль следующим образом: «Если ты видишь, что устройство общества дурно, и ты хочешь исправить его, то знай, что для этого есть только одно средство: то, чтобы все люди стали лучше; а для того, чтобы люди стали лучше, в твоей власти только одно: самому сделаться лучше»26.
Д.Икеда придерживается идеи социального обновления посредством «революции в душе человека», которая способна изменить его личную судьбу, что приводит к изменению судьбы его семьи и — в конечном счете — судьбы целого государства. Личная духовная революция заключается в изменении отношения к жизни, к самому себе27.
Пристальный взор обоих мыслителей направлен на человеческий, внутренний фактор, являющийся, с их точки зрения, главным двигателем обновления общества. Толстой и Икеда призывают к возрождению Человека, освобождению его от рабской зависимости от таких внешних по отношению к его жизни факторов, как государство и рынок.
25 Икеда Д. Хокэкё но тиэ (Мудрость Сутры Лотоса). Т. 4. Токио, 1998, с 240-241.
26 Толстой Л.Н. Путь жизни, с. 221.
27 Икеда Д. Хокэкб но тиэ, с. 41.
147
Как бы ни были высоки идеалы любого общества, они не могут быть последовательно претворяемы в жизнь, поскольку у власти находятся люди со всеми своими желаниями и намерениями. Именно эгоизм личный и групповой создает иллюзию, по словам Толстого, что «одни люди могут насилием улучшать, устраивать жизнь других»28. Если государственная система окажется орудием для увеличения личного блага власть имущих, прикрытием их амбициозных целей, то даже наилучшая система управления будет причинять людям ущерб и страдание. История учит, что если в обществе, основанном на социалистических идеях, которые направлены на защиту малообеспеченных и равенство, все делается не ради человека, а ради идеологии, то люди оказываются лишенными свободы. Но если в капиталистическом обществе, проповедующем свободу индивида, объектом культа являются деньги, а красивым словом «свобода» прикрывается вседозволенность, то такое общество превращается в жестокий мир, в котором могут выжить далеко не все.
Для создания общества, основанного на принципе любви, противоположном насилию, необходимо постоянное самосовершенствование каждого члена этого общества. Ибо насилие порождается эгоистическими желаниями и страстями, в плену которых человек прибегает к применению силы для достижения своего блага и оправдания себя.
Заключение
Сопоставление двух концепций ненасилия с точки зрения их философского обоснования и ценностной ориентации позволяет говорить, во-первых, о сходстве их ценностных систем и, во-вторых, о функциональной и содержательной близости философской аргументации.
Рассмотренные учения о ненасилии объединяет их кардинальное отличие от нормативной этики или так называемой моральной философии, поскольку в их ценностной системе аспект долженствования отсутствует или выражен весьма слабо. Выработанный ими принцип ненасилия отторгает любое давление извне, в том числе в форме требования поступать должным образом. Человек, реализовавший свою природу или познавший в себе Бога, обретает естественную способность к оптимальному поведению и уже не нуждается в установленных нормах. Согласно мировоззрению, лежащему в основе буддийской и толстовской теорий ненасилия, преодолев дуальное состояние сознания, противопоставляющее его остальному миру, человек проникается к нему любовью, получает удовольствие от гармоничного существования в нем. Осознав свою неотделимость от остального мира и ощутив себя частичкой потока жизни, человек начинает заботиться обо всех живых существах как о себе самом, проявляя к ним сострадание.
28 Толстой Л.Н. Путь жизни, с. 202.
148
В обоих учениях жизнь выступает в качестве высшей целеполагающей ценности и одновременно ценностного критерия, а самореализация возглавляет список инструментальных ценностей.
Учение Л.Н.Толстого о непротивлении и идея ненасилия Д.Икеды созвучны тем, что они имеют основополагающую предпосылку для улучшения условий жизни не вне человека, а в нем самом. Поэтому они фактически являются учениями о самореализации и самосовершенствовании.
Подробное рассмотрение ключевых идей и понятий, лежащих в основе теории непротивления Толстого, позволяет сделать предположение о положительном восприятии им ключевых идей буддизма махаяны.
То, что идея о наличии природы будды в каждом человеке, проповедуемая в «Лотосовой сутре», функционально перекликается с идеей Толстого о присутствии божественного начала в каждом человеке, подтверждается и исследованием российского востоковеда А.Н.Игнатовича29. Что касается отношения к буддизму самого Л.Н.Толстого, то во многих его публикациях упоминается буддийское учение как правдивое жизнеучение, хотя нередко встречается его оценка буддизма как пессимистической религии. Это объясняется тем, что в Европе того времени под буддизмом понимали главным образом учение хинаяны (цель которого — уничтожение всяких страстей для достижения нирваны), а знакомство с учением махаяны еще только начиналось. Однако Толстому это учение уже было известно, о чем свидетельствует его восторженный отзыв о «сочинении Э.Бюрнуфа о буддизме „Лотос“», которое, по его словам, оказало на него огромное влияние30. Как известно, при жизни писателя было сделано два перевода «Лотосовой сутры» на европейские языки: Э.Бюрнуфом — на французский и Х.Керном — на английский.
29 Ignatovich A. Echoes of the Lotus Sutra in Tolstoy’s Philosophy. — Dharma World. Tokyo, 1998, vol. 25, c. 22.
30 См.: Гудзий H.K. Комментарий к «Сиддарта, прозванный Ьуддой».— Толстой Л Н Полное собрание сочинений. Т. 25, с. 887.
Раздел III ИНДИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ
Ромеш Чандра Прадхан
Моральные ценности в поликультурном контексте: индийский подход
Эта статья содержит анализ понятия «мораль» в поликультурном контексте, в особенности анализ моральных ценностей (которые, похоже, существуют дольше, чем иные культурные практики). Пол и культурность представляет собой историческое явление, открывающее возможность для сосуществования многочисленных культур и социальных структур. Уже само это объясняет наличие множества систем ценностей, которые претендуют на совместное существование, не нанося ущерба друг другу. Но проблема тут вот в чем: если предположить, что они являются автономными и замкнутыми, то будет потеряна почва для межкультурного понимания тех моральных ценностей, которые должны разделяться человечеством в целом. Вместе с тем без межкультурного понимания не будет взаимопонимания в глобальном масштабе. Это способно привести к моральному тупику и несомненно окажет длительное воздействие на будущее человеческой цивилизации.
В этой статье я попытаюсь показать, что наиболее значимые человеческие ценности являются универсальными и могут разделяться многими культурами. Культуры могут меняться, но ценности, особенно основные, в большей или меньшей степени остаются неизменными. Они составляют фундамент, на котором покоится будущее человеческой цивилизации. Можно смело принимать пол и культурную и полиэтническую ситуацию, с которой приходится сталкиваться сегодня, если иметь в виду тот факт, что моральные ценности одинаковы — независимо от наших культурных и прочих различий.
© Ромеш Чандра Прадхан, 2004
150
От культурного плюрализма к культурному единству
Культурный плюрализм — это исторический факт. В истории человечества существовало много культур, и каждая имела свою идентичность, черпала средства для своего жизнеобеспечения из собственного культурного наследия. Культуры цивилизованного мира отличаются от варварских. Понятие «культура» включает в себя такие компоненты, как образ жизни, язык, искусство и литература того или иного народа. Говоря кратко, культура составляет внутренний динамический источник жизни людей. Есть множество способов выразить внутреннюю жизнь людей, и поэтому в мире существует множество культур.
Различие между западными и не западными культурами основано не столько на разнице в целях, которые они преследуют, сколько на различии в способах жизнедеятельности и достижения своих целей. Культурные различия — это различия в стиле, т.е. скорее расхождения по форме, чем по содержанию. Как только мы устраним эти поверхностные несоответствия, мы сможем обнаружить единство культур. Это легко доказать, рассмотрев основные духовные и моральные чаяния, которые оказываются общими для всего человечества и составляют фундамент всех культур.
Культуры в развитых обществах отличаются от культур в развивающихся обществах благодаря прогрессу и высоким технологиям. Между быстро прогрессирующими обществами и теми, кто плетется в хвосте, существует настоящая пропасть. Но нет никаких оснований сомневаться в том, что люди, принадлежащие к этим противоположным культурам, могут придерживаться одних и тех же идеалов.
Культуры различаются только на поверхности, поскольку существует внутреннее единство, делающее их представителей членами одной и той же человеческой семьи, т.е. культуры обладают если не Платоновым единством, то по крайней мере семейным сходством, если прибегнуть к терминам Витгенштейна1. Нет двух похожих культур в логическом смысле, но каждая может походить на другую в той степени, в какой они будут разделять некоторое множество общих принципов.
Универсальные моральные ценности
Самой универсальной чертой, объединяющей различные культуры, является исповедование моральных ценностей. Во всех культурах установлены моральные принципы, которым люди следуют в своей жизни. Они варьируются в своих деталях от культуры к культуре, но в целом им следуют носители всех культур. Например, во всех человеческих обществах
1 См.: Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Transi, by G.H.M.Anscomc. Oxf., 1953.
151
имеются определенные критерии морали, благодаря которым люди различают, что хорошо, а что плохо. Мы можем назвать их «универсальным моральным смыслом»2, составляющим источник всех моральных систем нашей планеты. Во всех развитых культурах лишение жизни без всякой причины или ради удовольствия считается злом, а все, что способствует жизни, — благом. Почти все культуры (за исключением некоторых субкультур) поощряют любовь, сочувствие, сострадание, неубийство и всеобщее братство. Эти ценности составляют добродетели, поддерживающие жизнь, в отличие от своих противоположностей.
Таким образом, существуют моральные ценности, которым следуют или вынуждены следовать все разумные люди. Моральный идеал святости и отрешенности свойствен многим культурам. Он выражен в христианском идеале святого, индуистском идеале отшельника или буддийском идеале просветленного. Эти идеалы отражают стремление человека преодолеть земную, материальную жизнь в поисках жизни духовной. Святость, отрешенность и преданность высшей жизни — универсальные моральные ценности, поэтому их можно рассматривать как выходящие за рамки конкретных культур.
Универсалистская этика Канта предлагает набор ценностей — таких, как следование моральному закону, незаинтересованное исполнение долга или преклонение перед святым3. Согласно его учению, эти ценности не знают границ культур и доступны всем разумным человеческим существам. Следует подчеркнуть, что кантовский идеал универсальных ценностей основан на идее универсальной моральной воли. Моральная воля — это воля, которая сама по себя свята и автономна, будучи свободной от ограничений обычной индивидуальной воли. Все универсальные моральные ценности укоренены в этой универсальной моральной воле.
Индийская философская система веданта — в том виде, в каком она представлена в упанишадах, — призывает к преодолению мирской жизни во имя жизни духа4. С ее точки зрения мирская жизнь заражена страданием и смертью, из нее должен быть выход к высшей духовной жизни. Подобно этике Канта, веданта провозглашает, что все разумные человеческие существа должны уметь проводить различия между высшей формой жизни и жизнью в плотских удовольствиях. Только в жизни, исполненной разума и знания (джняна), человек освобождается от низшей формы существования.
Таким образом, мы можем установить набор ценностей, который характерен для всех культур и социальных систем. Моральные ценности существуют вне времени и пространства; даже если какая-то отдельная
2 См.: Kant E. Fundamental Principles of the Metaphysics of Ethics. Transi, by T.K.Abbott. Delhi, 1987.
3 Там же.
4 См.: Swami Vivekananda. Selections from the Collected Works. Calcutta, 2000.
152
культура умрет, эти ценности ее переживут5. Такие долгоживущие ценности можно назвать санскритским словом санатана — вечный.
Идея санатана дхармы
Идея вечных ценностей — одна из важных составляющих индийского морального мышления; одна из вечных моральных ценностей — дхарма5. Дхарма— всеобщий моральный закон, действующий во все эпохи и во всех культурах. Он не зависит ни от времени, ни от истории— иными словами, он вне времени и истории и благодаря этому остается вне конкретных способов выражения.
Мы можем интерпретировать идею вечных ценностей двояко. Во-первых, предположив, что моральные ценности представляют собой особые сущности, которые «отпечатываются» в умах всех людей. Эти ценности не имеют отдельного существования в пространстве и во времени, но тем не менее они доступны человеческому разуму. Во-вторых, мы можем осознать ценности как космические принципы, которые управляют моральной вселенной. Если Платон понимает вечные моральные ценности в первом смысле, то Кант и индийские моралисты придерживаются второй концепции. Однако с обеих точек зрения ценности являются бессмертными и вечными. Хотя Платон утверждает, что моральные ценности даны разумным созданиям в любых формах благой жизни, Кант и индийские мыслители предписывают моральные законы всем моральным агентам, и поэтому они понимают моральную вселенную как нечто, имеющее свое автономное существование.
Идея вечности моральных ценностей предполагает, что они имеют объективное существование и предназначены для всех разумных людей. Люди устроены таким образом, что могут подчиняться моральным законам, только если те существуют независимо от них, как космическое явление. Ведийские мыслители верили в то, что моральные законы являются космическими законами, которые поддерживают вселенную как единую моральную структуру. Моральный закон также носит название puma1, т.е. принцип, подчиняющий существование единому моральному правилу. Индийские мыслители видели в этом законе источник всех моральных ценностей, как человеческих, так и не относящихся к человеческому миру.
5 См.: Wittgenstein L. Culture and Value. Transi, by P.Winsh. Oxf., 1980.
6 Дхарма буквально означает «то, что поддерживает совмссшос сущее июианис вещей» Это слово — производное от санскритского корня dhar — «держан.».
7 Rta — «то, что есть, реальное».
153
Моральная структура вселенной
Моральная структура вселенной такова, что она поддерживает все су¬
ществование и связывает все формы жизни с безличным господством еди¬
ного Морального Правителя. Это свидетельствует о высокоорганизо¬
ванной вселенной, в которой нет места случайностям морального плана.
В ней царствует моральная необходимость. Вот почему индийские мысли¬
тели признавали закон кармы8, который распределяет моральные резуль¬
таты в соответствии с исполнением действий. В этой вселенной нет ничего
произвольного, и никакое действие не остается без своей моральной оцен¬
ки. Таким образом, эта вселенная основана на обязательных моральных
законах.
Иными словами, моральный закон связывает все человеческие сообще¬
ства и всех индивидов одинаковыми принципами справедливости, права и
общего блага. Так, необходимым фундаментом нашей моральной жизни
являются базовые концепции и правила, составляющие основополагаю¬
щую моральную структуру9. Именно благодаря этой объединяющей силе
моральной структуры мы можем рассуждать об общечеловеческих мо¬
ральных ценностях независимо от политических, географических и эт¬
нических факторов, разделяющих людей. Такие ценности, как справедли¬
вость, равенство, честность, единство человечества и братство, превосхо-
дят все культурные различия, поэтому их можно назвать вечными.
Потребность в универсальной моральной структуре не связана с хоро¬
шей организованностью или благоденствием общества. Закон действует во
вселенной лишь потому, что он является моральным законом, не завися¬
щим ни от каких случайных условий. Нет никаких универсальных гаран¬
тий благоденствия и порядка, мораль ни в коей мере не гарантирует бла¬
годенствия, поэтому универсальная моральная структура должна быть
независимой от условий, превалирующих во вселенной. Индийские этни¬
ческие системы делают мораль скорее космоцентрической, нежели антро¬
поцентрической, и это потому, что мораль является необходимым услови¬
ем именно космического, а не человеческого или социального порядка
Универсальное и частное
в моральном порядке
Универсальный моральный порядок не обесценивает индивидуального
человека или конкретную моральную ситуацию. Ни на Западе, ни в Индии
8 Закон кармы является общим для индуизма и буддизма, в которых его понимают как за¬
кон человеческих действий. Согласно ему, каждое действие имеет и свою причину, и свое по¬
следствие. Закон кармы поддерживает во вселенной необходимый порядок причин и следствий.
9 См.: Motilal В.К. Pluralism, Relativism and Interaction between Cultures. — Culture and
Modernity. Ed. by E.Deutsh. Delhi, 1994, c. 153-159.
154
мораль не считают чем-то абстрактным. Моральный закон действует только в контексте конкретной ситуации, но конкретная ситуация не определяет характер закона, она сама определяется законом. Для Платона Высшее Благо отражается в конкретном действии, для Канта моральный закон применяется в эмпирическом мире. Поэтому законы морали должны оставаться универсальными, иначе они не смогут сыграть свою роль в разных моральных ситуациях.
Если мораль становится зависимой от ситуации, она теряет моральное доверие и превращается в набор условных правил. В этом случае мы имеем дело с соглашением или обычаем. Подобные обычаи нисколько не лучше правил, принятых в каком-то конкретном сообществе, правил, не имеющих универсальной значимости, поэтому можно согласиться с Р.М.Хэйром в том, что подлинные моральные правила поддаются универсализации и применимы к большему количеству людей10. Это внушает нам надежду на то, что мораль относится не к отдельной группе людей или культуре, а принадлежит всему человечеству.
Социологи и антропологи придерживаются мнения, что мораль зависит от обычаев, принятых в обществе, и от культурных практик, а то, что называется моралью, можно вывести из жизненных миров соответствующих народов. Поэтому они считают, что мораль не отличается от того, что можно определить как обычай или культурная практика. Это предлагают социальные ученые, которые не признают мораль как отдельную категорию. Они совершают ошибку, свойственную натуралистическому подходу и заключающуюся в том, что моральное выводится из культурного. Подобная ситуация возникает в результате сведёния категории морального правила к эмпирическому правилу.
Сторонники морального релятивизма считают, что не существует всеобщих моральных законов и что все законы такого рода зависят от того или иного культурного контекста. Мораль является для них культурно обусловленной, поэтому они не видят необходимости в том, чтобы признавать какие-то универсальные моральные ценности. Релятивизм сталкивается с универсализмом или абсолютизмом в теории морали. Спор ведется не между теми, кто признает моральные ценности, и теми, кто их отрицает, а между теми, кто признает моральные ценности абсолютно реальными, и теми, кто это отрицает. Те, кто отрицает абсолютную реальность ценностей, считают, что эти ценности не существуют отдельно от конкретных культур. Релятивисты не обязательно выражают скепсис по отношению к ценностям, просто они полагают, что каждая система морали ничем не хуже любой другой. С их точки зрения, никакой конфликт между разными системами невозможен, поскольку каждая из них закрыта для других.
10 См.: Hare R.M. The Language of Morals. Oxf., 1952.
155
Моральные конфликты
Однако моральные конфликты все же возникают, и возникают именно в результате различий между системами морали и возможных расхождений в понимании ценностей. Не существует двух одинаковых систем ценностей, поскольку разнятся подходы и акценты. Раз системы ценностей возникают в определенном культурном или религиозном контексте, неизбежны конфликты по поводу определенных ценностей, особенно связанных с религией. Но такой конфликт ценностей может быть разрешен на более высоком уровне, т.е. на уровне общепринятых моральных ценностей. Например, два общества могут не сходиться во взглядах на свободу женщин, но между ними нет конфликта относительно того, следует ли убивать женщину, если она нарушила моральный кодекс. Ценность сохранения жизни (неубийства) является высшей и объединяет множество обществ.
Таким образом, имеется иерархия, которая предполагает постепенное усиление универсального характера ценностей; на высших ступенях расположены ценности, которые уже не знают никаких социальных и прочих барьеров, они охватывают множество культур, нивелируя и различия и сходства между ними. На самой вершине этой надстройки не остается места для относительных ценностей.
Плюрализм в области морали не влечет за собой релятивизма именно по той причине, что иметь разные системы ценностей не означает иметь ценности, которые значимы только в определенном контексте. Ценности, относящиеся к культурам и обществам, являются чисто субъективными и действенными только в своем специфическом контексте. Так, моральная объективность не может сочетаться с релятивизмом, поскольку последний отрицает объективный характер относительных ценностей. Дж.Л.Маки, защищая моральный релятивизм, вообще отрицает объективное существование ценностей11. Предположение о существовании объективных моральных ценностей он фактически полагает заблуждением, возникшим в результате ошибочного представления о том, что моральные суждения обладают объективной истиной в платоновском смысле. Поэтому он отрицает объективизм в теории морали как случай ошибочного суждения. По его мнению, так называемые конфликты ценностей являются результатом концептуальных ошибок.
Идея человеческого единства
Будущее человечества зависит от того, сумеем ли мы разрешить наши конфликты, касающиеся систем ценностей, в соответствии с этими ценностями. Это возможно, если мы признаем, что высшие ценности универ¬
11 См.: MackieJ.L. Ethics: Inventing Right and Wrong. Oxf., 1977.
156
сально приемлемы для всего человечества, — это ценности единства в многообразии, благополучия, свободы и справедливости. Если мы будем исповедовать эти ценности, то сможем прийти к универсальному человеческому взаимопониманию. Шри Ауробиндо называет это восходом новой цивилизации, возникновением нового человечества, которое может преодолеть культурные и политические барьеры старого века12.
Поликультурность тоже может способствовать появлению глобального человеческого единства, независимо от расы и культуры, ведь различия не являются барьером для единства человеческих идеалов и ценностей. Человечество может подняться к единению ума и духа, если человеческое сообщество предпримет достаточные усилия для этого. Необходимо осознать идею единства человеческого духа, это понимание и породит человеческие ценности высшего порядка.
Подведем итог: чтобы открыть универсальные и вечные моральные ценности в поликультурном контексте, моральная философия должна обрести духовное измерение. Глубинное единство человечества следует искать в том, что Кант называл Разумом, или в том, что Шри Ауробиндо называл Духом.
Перевод с английского В.Г.Лысенко
12 См.: Sri Aurobindo. The Human Cycle. The Idea of Human Unity and War and Self- Determination (reprinted). — The Complete Works of Sri Aurobindo. Vol. 25. Pondicherry, 1977.
Раджендра Прасад
О «моральном праве» и «морально правильном»: от логического права к моральному праву
Среди философов нет согласия относительно той характеристики (или характеристик), которой некто или нечто должны обладать, чтобы им можно было бы приписать соответствие праву, правильности или сказать: он прав или оно правильно в моральном или в неморальном смысле. Однако все согласны с тем, что существует множество людей, о которых можно сказать, что они имеют право на что-либо, и множество явлений, о которых можно сказать, что они правильны или неправильны с моральной точки зрения. Говоря о правах и о правильных вещах в данном эссе, я буду иметь в виду именно этот класс человеческих существ или явлений. Черты, которые позволяют им занимать такое привилегированное положение, я оставлю без обсуждения, довольствуясь упоминанием лишь тех, которые здравый смысл считает необходимыми или релевантными для тех, кто имеет право, либо для того, что является правильным.
Начну с дискуссии о логическом праве и о том, что значит быть логически правильным (для вещи) или правым (для субъекта), а затем перейду к понятию морального права, т.е. к тому, что значит быть морально правильным (для вещи) или правым (для субъекта).
Если два индивида, А и Б, серьезно обсуждают какой-то предмет, доступный рациональному осмыслению, и Б утверждает Р, то у А есть логическое право спросить его о доводах в пользу утверждения Р, каким бы уважаемым Б ни был для А и для общества, которому оба они принадлежат. Разумеется, здесь предполагается, что истинность Р не очевидна для А. Если же она очевидна, то А, спрашивающий о доводах, вовлечен в спор, который в классической индийской логике называется джалпа — вид диспута, в ходе которого нечестный диспутант, вместо того чтобы удостовериться в истинности чего-то, пытается смутить оппонента и тем самым привести его
© Раджендра Прасад, 2004
158
к поражению. Делая это, А злоупотребляет своим логическим правом. У Б же тогда будет логическое право поинтересоваться: почему он спрашивает об аргументах в пользу утверждения Р, если Р является очевидной истиной? В этом случае, если А отказывается или просто не может дать объяснение, он лишится своего логического права спрашивать Б об аргументах в пользу Р. Все это показывает, что индивид может не только иметь логическое право, но и злоупотреблять им или терять его. Он также может обрести это право, выполнив ряд условий. Например, если он не очень хорошо понимает теорию логического вывода Дхармакирти, то у него нет логического права подвергать сомнению ее полноту, но он может обрести это право после того, как преуспеет в понимании этой теории.
Здесь ясно, что если А плохо разбирается в вопросах логики, то у него не возникает или, возможно, не возникнет логической потребности просить Б предъявить свои основания для утверждения Р даже в том случае, если истинность или релевантность Р для него не очевидна. Это не значило бы, что у А нет логического права спрашивать об основании, это значит только то, что он не осознает это свое право и поэтому не в состоянии его реализовать. Не будет выглядеть странным, если мы скажем, что у него есть право, но он этого не осознаёт. Он обладает им в принципе, во вневременном, безличном смысле, в котором им обладает каждый участник рационально организованного общения, но чтобы осознать его, ему необходимо иметь определенную степень логической зрелости, которая включает в себя чувствительность к логическим и концептуальным материям.
Именно эта индивидуальная чувствительность к логическим материям и порождает в нем ощущение дискомфорта, когда он обнаруживает логическую несообразность, или, напротив, ощущение радости, если замечает логическую точность и утонченность. Все это происходит потому, что в коммуникативной языковой игре существует определенный набор норм, стандартов и ожиданий. Вот почему, когда индивид не понимает, что у него есть право требовать от сторонника утверждения Р оснований для этого утверждения, или когда тот, кто утверждает Р, не гарантирует права первого требовать этого, мы думаем, что они играют в эту игру не по правилам, или что они не обладают достаточной для этой игры компетентностью, или что в соответствии с их договоренностью в этой процедуре нет места для вопросов о доводах и для предъявления последних. Но предположим: тот, кому адресован аргумент, не отвечает на утверждение Р словами, что оно ложно, хотя убежден, что это так, и имеет логическое право сказать об этом (о его ложности). Он не делает этого, ибо полагает, что, назвав это утверждение ложным или же сомнительным, он обидит оппонента, даст ему почувствовать свою ущербность, а обижать кого-то или задевать чьи-то чувства — морально неправильно. Эта идея лежит в основании джайнской теории обусловленного предицирования (сьядвада), которая утверждает: когда мы что- то чему-то приписываем, предицируем, или когда утверждаем нечто, говоря,
159
что оно истинно или ложно, мы должны добавить к этому «возможно». Поэтому, если возвратиться к прежнему примеру, А должен был бы сказать Б: «утверждение Р, возможно, ложно»; более того, даже Б вместо того, чтобы категорически утверждать Р, должен был бы сказать: «возможно, это случай Р». Это доктрина ненасилия, или непричинения вреда (ахымса), согласно которой никакой вред не может быть причинен никакому живому существу. Эта идея основана на убеждении, что каждое живое существо обладает моральным правом не подвергаться насилию с чьей-либо стороны и что, следовательно, если кто-то причиняет кому-то вред, он это моральное право нарушает и поэтому совершает нечто морально неправильное.
Здесь мы сталкиваемся со случаем, когда моральное право доминирует над логическим. Большинство общих суждений, которые были высказаны относительно логического права, истинны и для морального. Например, чтобы осознать моральное право, свое или чужое, индивид должен обладать определенной степенью моральной зрелости, в том числе чувствительностью к морали, он должен быть способен чувствовать моральный дискомфорт или даже гнев при виде нарушений морали, должен испытывать благородную радость или преисполняться гордостью при виде морального поступка — когда некто идет на личную жертву ради других. Далее. Моральное право, как и логическое, тоже действует в зависимости от способа, каким разыгрываются «игры» в области морали среди членов сообщества (основанного на морали) в ходе их социального взаимодействия. При этом возможно, что такое моральное сообщество — по крайней мере в некоторых случаях — будет включать в себя все разумные человеческие существа. Это очевидно из того факта, что когда члены какого-то одного культурного сообщества вопиющим образом нарушают мораль, это вызывает гнев или по крайней мере сильное неодобрение у любого морально зрелого индивида, независимо от его собственной культурной принадлежности или культурно обусловленных предпочтений. Таков случай, описанный в «Махабхарате», когда Духшасана пытался раздеть Драупади на глазах у собрания при дворе его отца, Дхритараштры, а присутствовавшие там ученые мужи оставались безучастными к крикам беспомощной женщины, призывавшей их осудить и остановить этот аморальный акт. Не обязательно быть индусом, чтобы почувствовать возмущение, узнав о таком поступке. В эпосе только придворный Видура поднял свой голос в защиту молодой женщины и призвал царя прекратить надругательство над ней. Говоря так, он сильно рисковал, поскольку был наименее влиятельным среди присутствовавших там членов царского совета, жил на пожертвования царя и к тому же был сыном рабыни (дасипутра). Тем не менее чувство справедливости и правоты, которое он выразил, вызывает моральное восхищение у любого человека, независимо от его культурной или этнической принадлежности.
Жить осмысленно — значит жить как член общества; жить как член общества— значит быть вовлеченным по крайней мере в некоторые формы
160
социального взаимодействия. Чтобы осуществлять последнее, нам нужно использовать общедоступный язык, обеспечивающий межличностное общение. Нам также необходимо выполнять определенные виды действий, важные для социального и социетального участия, включающего как сотрудничество, так и конфликт индивидов и групп. Использование общедоступного языка требует от нас следования определенным нормам и правилам, исполнение социальных действий требует от нас соблюдения моральных норм и правил. Именно так должны участвовать в нашей социальной жизни, или жизни вообще, такие понятия, как логическое право и логически правильный поступок, моральное право и морально правильный поступок. Они должны быть компонентами нашей жизни, а не просто некоторыми обязательными элементами декора. Я еще раз подчеркиваю: логика и этика являются неотъемлемыми частями жизнеспособного социального бытия. Чтобы жить хорошо, необходимо соблюдать как некоторые логические, так и некоторые моральные нормы и правила. Когда право отрицается, порой бывает трудно определить, какое именно право было предметом отрицания — логическое или моральное. Например, если философу, принадлежащему к одному течению, запрещают комментировать работу, автор которой принадлежит к иному течению, можно сказать, что отрицается его логическое право, т.е. его право как философа интерпретировать какую-то философскую работу, или же (и это тоже будет правильным) что отрицается его моральное право свободно выражать свои философские взгляды.
Сказать, что нечто является логически правильным, значит заявить, что имеются доступные или убедительные основания, чтобы нечто сделать или нечто утверждать, и что поэтому не делать или не утверждать это или же делать и утверждать противоположное будет непоследовательным, несостоятельным. В использовании таких понятий, как «основание», «обоснованный», «состоятельный», «несостоятельный» и т.п., подспудно содержится некое предположение, а именно: названные понятия являются безличными в том смысле, что любые два человека, обладающие разумом, поймут контекст своего диалога и не станут считать бесспорным верование, логически недоказуемое, но способное блокировать соглашение и дальнейшее обсуждение, и будут в состоянии прийти к соглашению относительно применимости названных понятий к любому случаю, позволяющему использовать их логические ресурсы.
Предположим, что Б утверждает Р, А же, опираясь на положительные, объективные основания, считает Р несостоятельным и просит Б выдвинуть свои доводы в пользу его утверждения. У Б нет доводов, с помощью которых он может оспорить контрдоводы А, но он все же продолжает придерживаться своей точки зрения ввиду того, что она некогда была высказана уважаемой личностью (или является составной частью почитаемой им традиции). Это можно объяснить тем, что ум Б закрыт для восприятия определенного критерия логической правоты. В подобной ситуации невозможно раз¬
6 - 10922
161
решить разногласие логическим путем, поскольку один из участников диалога демонстрирует жесткий подход к критерию состоятельности утверждения (или верования), и тем самым разногласие двух участников становится разногласием по поводу подходов, т.е. нерациональным разногласием.
Очевидно, что никто не может иметь логического права сделать что-то логически неправильное уже по той простой причине, что никто не имеет права, логического или морального, совершить нечто, не являющееся правильным с логической или моральной точки зрения.
Гораздо труднее показать, что нечто является морально неправильным, нежели показать, что нечто является неправильным с логической точки зрения. Последнее можно сделать, выявляя логическую непоследовательность, если таковая имеется. Показать моральную неправильность гораздо сложнее — единственного критерия для нее не существует ввиду сложности социального бытия, составной частью которого является моральная жизнь. Относительно свойств, делающих или не делающих вещь или поступок правильными, нет согласия даже среди самих деонтологистов, телеологистов и этиков, занимающихся проблемами добродетели. Но какой бы критерий ни избрал тот или иной индивид, ясно, что он не может иметь морального права делать то, что сам считает морально неправильным.
Однако всегда ли человек наделен моральным правом делать даже нечто морально правильное? Мне представляется, что во многих случаях это не так, по той простой причине, что моральное право обычно проистекает из роли и положения человека в обществе, в котором должен осуществляться этот морально правильный поступок. Например, с моральной точки зрения будет правильным сказать молодому человеку, который ругает свою новоиспеченную жену только за то, что она следует своим деревенским привычкам, чтобы он прекратил плохо с ней обращаться. Но не каждый имеет моральное право сделать это. Только родители молодого человека или родители девушки имеют на это право ввиду их положения в социальной матрице, образованной двумя семьями. Некоторые возразят, что даже это будет возможным лишь в том случае, если молодой человек и его социальная ячейка уважительно относятся к нормам традиционной индийской этики. Если же юноша, его жена или представители их социальной среды считают, что то, как он ведет себя со своей супругой, является частным делом их семьи, то любой из них может сказать, что родители не имеют права вмешиваться в частную жизнь. Это будет означать, что данная концепция роли родителей в жизни их собственных детей и супругов их детей отличается от концепции, которая дает родителям искомое моральное право.
Моральные права, зависящие от роли, могут меняться либо даже прекратить свое существование, если изменятся роли, генерирующие то или иное право. В любом обществе новорожденный младенец имеет моральное право быть воспитанным и выращенным своими родителями. Но допустим, что государство стремится увеличить население своей страны и с этой целью
162
издает закон, согласно которому долгом государства является забота о ребенке с момента его рождения и до момента, когда он сам сможет себя обеспечить. В этом случае право детей остается тем же самым, но ответственность за его выполнение переходит к государству. Поскольку некоторые права и обязанности соответствуют друг другу, государство может взять на себя не только обязанность воспитывать детей, но еще и право делать это. Тогда право родителей растить и воспитывать своих детей будет у них если не отнято полностью, то существенно сокращено и ослаблено. Однако подобные вещи не могут иметь места (или не могут иметь оправданного места), если мы имеем дело с основополагающим моральным правом, например правом индивида не подвергаться действиям, унижающим его личное достоинство, или, если сформулировать это несколько иначе, правом протестовать против кого-то либо чего-то, даже если это его собственное государство и если этот кто-то или это что-то пытается оскорбить его достоинство как личности. Общество, которое отрицает наличие такого достоинства у любого класса своих членов, согласно общему мнению, будет занимать очень низкое место в рейтинге среди существующих обществ по своему моральному статусу. То же самое относится к индивиду, который рассматривает другого индивида или даже самого себя как лишенного достоинства.
Отрицание логического права человека свободно думать и думать так, как побуждает его к этому его развитое логическое чувство, фактически равносильно нарушению его основного морального права, это все равно что лишить его достоинства как зрелой разумной личности. Вот почему это пагубно, так как порождает логический гнев, который является по своему духу формой морального гнева. Именно по этой причине при межличностном общении в группе спорщиков соблюдение логического права каждого из членов группы приобретает статус базового морального права.
Ранее я утверждал, что правильность или моральность поступка зависит °т роли, которая ее порождает. На первый взгляд то, что я сказал выше, может, как кажется, подразумевать, что базовое право индивида не подвергаться унижению своего достоинства как личности и как логически ответственного существа не зависит от его роли. Но одно не мешает другому. Даже об этом праве можно сказать, что оно генерируется ролью, ибо действовать или быть способным к действию как личность, морально зрелый, чувствительный индивид, само по себе означает исполнение или способность исполнения роли — роли морального (либо разумного) агента. Моральный агент — это не только тот, кто совершает или способен совершить что-то моральное, но также и тот, кто может судить, что нечто является моральным, кто может также судить, что нечто уже совершенное или могущее быть совершенным является моральным либо аморальным. Играть же эту роль — значит играть множество ролей, например роли друга, врага, соседа, гражданина, эмигранта, профессионала, брата или сестры, сына или дочери, родителя, мужа или жены, работника или начальника и т.п.
(>*
163
Способность индивида исполнять эту роль или сплав ролей, его индивидуальность порой приостанавливают свое действие— иногда по воле обстоятельств, иногда по собственному решению индивида. В эпизоде с Дра- упади, упомянутом ранее, пять ее мужей в результате определенных обстоятельств временно потеряли свою индивидуальность, свою способность действовать. Они были поставлены в такие обстоятельства, потому что старший из них решил сыграть в кости и проиграл из-за мошенничества партнера. Поэтому, хотя его вступление в игру было актом его свободной воли, все остальные события, последовавшие за этим, можно объяснить тогдашними обстоятельствами либо его личным или семейным невезением. Однако о присутствовавших там благородных мужах (включая самого царя, не поднявшего свой голос против надругательства над плачущей молодой женщиной) можно сказать, что они приостановили моральное действие по своей собственной воле, пусть даже для этого были какие-то собственные причины. Тем не менее, даже когда их право временно не действовало, они оставались исполняющими свою роль агентами. Волевая приостановка активности является намеренным действием, и поэтому, совершая ее, они продолжали оставаться исполнителями роли моральных (или скорее аморальных) агентов. В силу этого у них все время было моральное право попытаться остановить надругательство.
Моральное право и моральная сила совершить какое-то действие или заставить кого-то его совершить не обязательно связаны друг с другом. Но если одно из них или они оба существуют, это происходит потому, что их владелец является действительным или по крайней мере потенциальным агентом, исполняющим свою роль. То же самое можно сказать и о логическом праве, которое не всегда сопровождается способностью его реализовать.
Перевод с английского В.Г.Лысенко
В. К. Шохин
Ценности или блага? О «теоретических каркасах» одной «практической философии»*
Изучая историю индийской философии уже более 200 лет, индологи пытаются ввести известный им материал в рамки европейских философских категорий. Попытки эти неизбежны, поскольку индологи, как европейские, так и индийские, в отличие от «традиционных ученых» — пан- дитов, являются носителями европейской философской культуры, и результаты их вполне плодотворны: изучение специфики той или иной философской традиции возможно по определению только в контексте универсального— иначе невозможно говорить и о самой специфике. Проблема лишь в том, насколько те общефилософские метакатегории, которые выбираются для форматирования неевропейского философского материала, данному материалу реально соответствуют. Иными словами, насколько родовые признаки той или иной избираемой метакатегории обнаруживают свое присутствие в описываемых с ее помощью неевропейских понятиях.
1. По крайней мере последние шестьдесят лет индологи предпочитают обобщать то, что они считают основаниями индийской «практической философии» (учения о целях человеческого существования и средствах их реализации), через «ценности», «систему ценностей», «иерархию ценностей» и прочие понятия аксиологического ряда. Более того, практика «перевода» в эти понятия индийских идей и концепций успела стать настолько распространенной и общепринятой, что в научный обиход вошли и производные словосочетания: «индуистские ценности», «индийская аксиология» и т.п. При этом авторы работ по данной проблематике делятся, на мой взгляд, на две основные группы. Одну составляют те, кто считает нужным опираться на некоторые распространенные в современной фило¬
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 02-06-80069п). 'О В К.Шохин, 2004
165
софской культуре трактовки аксиологических терминов, другую— те, которые считают излишними какие-либо обоснования употребления этих терминов в применении к своему материалу. Начну со вторых, поскольку их больше, чем первых, но ограничусь лишь несколькими примерами (так как время доклада никак не допускает большего).
Так, крупнейший современный американский историк индийской философии К.Поттер в своей фундаментальной статье, посвященной ньяя- вайшешике (из многотомной серии «Энциклопедия индийской философии», одного из лучших монументальных изданий за всю историю индологии), в разделе «Теория ценностей» безо всяких оговорок обещает читателю, что после краткого резюмирования общеиндуистских воззрений он «обратится к специфическим теориям ньяя-вайшешики, относящимся к природе освобождения и к другим характерным предметам индуистской теории ценностей— таким, как карма и трансмиграция, способности йогинов и риши, проблема соотношения человеческой и божественной свободы (здесь и далее курсив наш. — В.Ш.), а также сравнительное достоинство различных путей к освобождению»1. В томе же, посвященном адвайта-веданте, Поттер включает в ведантийскую «теорию ценностей» такие составляющие, как закабаление в сансаре (со всеми ее стадиями: смерть, «восхождение» тонкого тела, рай и ад, «схождение» на землю, рождение, жизнь), освобождение от сансары (мокша), роль действия в освобождении и четыре стадии жизни (ашрамы)2.
Значительно раньше, чем Поттер, и значительно более «заинтересованно» об индийской системе ценностей писал видный индолог-философ М.Хириянна. Он специально занимался традиционной индуистской схемой четырех целей человеческой жизни (purusärtha), определяемых как прибыль (артха), чувственные удовольствия (кама), религиозная заслуга {дхарма) и «освобождение» {мокша). Хириянна считает само собой разумеющимся, что дхарма и мокша как «высшие ценности» составляют основания индийской религиозной философии, но и две первые не остаются в его исследовании без внимания. «Эти две ценности — артху и кому, — писал Хириянна, — ищут не только люди, но и все одушевленные существа. Различие состоит только в том, что если человек стремится к ним сознательно, то остальные существа — инстинктивно. В этом различении мы и находим характеристическую черту пурушартх, или человеческих ценностей, а именно: они представляют те цели, к которым человек сознательно стремится. Когда он к ним стремится по-другому, что иногда также бывает, они остаются ценностями, но перестают быть пурушартхами. Возможность стремиться к ним бессознательно обусловлена тем фактом,
1 Encyclopedia of Indian Philosophies. Vol. II. Indian Metaphysics and Epistemology: The Tradition of Nyâya-Vaiéeçika up to Garigeéa. Ed. by Karl H.Potter. Delhi, 1977, c. 18.
2 Cm.: Encyclopedia of Indian Philosophies. Vol. III. Advaita Vedänta up to Samkara and His Pupils. Ed. by Karl H.Potter. Delhi, 1981, c. 22-45.
166
что человек сочетает в себе природу животного и самосознательного деятеля, — иными словами, тем, что он не только духовное, но и природное существо...»3.
Третий пример дает нам А.Шарма, который считается одним из признанных авторитетов в интересующей нас области и называет себя последователем Хириянны. Свое специальное исследование он начинает с перечисления основных словарных значений термина purusärtha (по лексиконам М.Моньер-Вилльямса и В.Апте), в которые входят: 1) человеческое усилие; 2) любой объект человеческого интереса; 3) любая из четырех перечисленных «человеческих целей». Далее Шарма различает (ссылаясь также на У.К.Смита) три возможных уровня объемов этих понятий (в сторону расширения): артху можно трактовать не только как «благополучие», но и как «экономические интересы», а также и как любое целепо- лагание вообще; кому— как «желание», «наполнение сексуальной, эмоциональной и артистической жизни» и как желание вообще; дхарму — как «нравственность», «правильное поведение» и долг (обязанность); мокшу— как «спасение», «освобождение духа» и как освобождение от чего угодно в самом широком смысле. Предложенная стратификация значений четырех «человеческих целей» резюмируется следующим образом: «Эти четыре пурушартхи суть четыре класса ценностей, признаваемых в индуистской мысли, и потому они составляют основополагающие строительные блоки индийской аксиологии»4.
Априорная и безоговорочная трактовка четырех «человеческих целей» как «ценностей» становится иногда и критерием классификации всех жанров древнеиндийских текстов. Например, в представлении известнейшего ведолога и индолога Р.Н.Дандекара ценность дхармы «организует» класс текстов Дхармасутр и Дхармашастр, артха — традицию, представленную «Артхашастрой» и «Нитишастрой», кама является предметом текстов, начиная с отдельных заговоров «Атхарваведы» и завершая «Камасутрой», тогда как ценность мокши разрабатывалась в философских сутрах и комментариях к ним5.
Среди тех индологов, которые пытались опереться на некоторые существующие европейские философские трактовки ценностей, рассуждая о ценностях индийских, или по крайней мере признавали необходимость их учета, можно выделить Н.Никама. Осмысляя значение понятия purusärtha, которое складывается из двух смысловых компонентов— «человек» и «цель», известный исследователь и популяризатор индийской культуры в каждом из этих двух составляющих обнаруживает ценностное. Человек наделен ценностями по определению потому, что быть человеческой лич¬
3 The Cultural Heritage of India. Ed. by H. Bhattacharya. Vol. III. Calcutta, 1969, c. 646-647.
4 Sharma A. The Puruçârthas: A Study in Hindu Axiology. Michigan State University, 1982, с 1, ср. с 20.
5 Dandekar R.N. Post-Vedic Literature. — Dandekar R.N. The Age of the Guptas and Other Essays. Delhi, 1982, c. 200-260.
167
ностью — уже значит обладать ценностью. Что же касается цели, то она
укоренена в желании, а здесь «мы можем сказать, что все (курсив авто¬
ра. —В.Ш.) вещи имеют ценность, поскольку они непосредственно соот¬
носятся с сознательным удовлетворением [желания], — все вещи, которые
„желаемы44, и все, которые „желательны'4. И то и другое суть ценности. Но
индийская культура не совершает „натуралистической ошибки“ и не гово¬
рит, что вещь „желательна“, потому что „желаема“》6.
В отличие от подавляющего большинства авторов Шанти Натх Гупта
учитывает концептуальные проблемы с «индийской аксиологией», но пы¬
тается их обойти. Он открывает свою монографию «Индийское понятие
ценностей» (1982) уяснением словарного значения «ценности» (по Окс¬
фордскому словарю: «Ценность есть достоинство, полезность, желатель¬
ность, а также качества, на которые опирается вышеназванное»7) и исто¬
рическим экскурсом в историю данного понятия в европейской филосо$ии,
причем различает субъективистские концепции (определения ценности че¬
рез психологические состояния индивидов у И.Бентама, Дж.С.Милля,
Г.Сиджвика и Г.Спенсера) и объективистские (наиболее последовательная
у Н.Гартмана: ценности суть определенные сущности, в которых все су¬
щее «участвует»), а также опыты разграничения ценностей «внутренних»
и «инструментальных» (у У.Урбана) и прочие аксиологические дистинк-
ции. Вывод, к которому приходит автор, казалось бы, не может оправдать
название его книги: древние индийцы знали систему ценностей, но не зна¬
ли самого понятия «ценность». Поэтому «древнеиндийскую аксиологию»
надо еще реконструировать. Первые ее признаки Гупта обнаруживает в
«Миманса-сутрах» (1.1 Л-4), где благо определяется как то, что приносит
счастье (а потому критерием ценности выступает желательность или удо¬
вольствие8). Основную сферу этой дисциплины он видит в дискуссиях
представителей различных отраслей знания о том, какая из четырех «чело¬
веческих целей» имела приоритет над остальными (в «Артхашастре»,
«Камасутре», Дхармашастрах) и как возможна их гармонизация в случае
«конфликта ценностей»9. Среди параллелей между индийской и западной
аксиологией Гупта выделяет совпадение индийских концепций со схемами
Э.Шпрангера, который различал типы человека «экономического», «эсте¬
тического», «социального» и «религиозного», и с онтологической аксио¬
логией Н.Гартмана — в том, что высшие ценности, духовные (им соответ¬
ствуют в индийской мысли дхарма и мокша), должны опираться на низ¬
шие, «материальные» (им соответствуют в индийской мысли артха и ка-
ма), как на свой «онтологический базис»10.
6 Nikam N.A. Some Concepts of Indian Culture. Simla, 1967, c. 55-56.
7 Gupta Shanti Nath. The Indian Concept of Values. Manohar, 1978, c. 7.
8 Там же, с. 41.
9 Там же, с. 43.
10 Там же, с. 28-29, 160.
168
Как было уже отмечено, я могу ограничиться только несколькими образцами экскурсов в «индийскую аксиологию». Для тех, кого интересует более полный объем штудий в этой области, можно назвать публикации хотя бы «классиков» этой проблематики — уже упомянутого М.Хириян- ны11, Нагараджи Рао12, Т.М.П.Махадэвана13, У.Гудвина14, известного индийского философа Г.Малкани15, У.Тэтинена16, — не называя многих других, в которых мысль о том, что пурушартхи составляют основание индийской аксиологии, принимается в качестве не предмета обсуждения, но исходного пункта всех дальнейших рассуждений. Насколько мне известно, данное положение полностью разделяется и индийскими участниками нынешней конференции.
2. Понять тех, кто разрабатывал «древнеиндийскую аксиологию» и продолжает делать это в настоящее время, считая, что в Древней Индии она была чем-то само собой разумеющимся, отчасти можно. С одной стороны, сам термин «ценности» (англ. values) в современной философской культуре является безусловно престижным, и потому тем, для кого индийская «практическая философия» значима, выгодно этот термин употреблять. С другой — он все более «обесценивается», так как уже давно начал переходить из разряда философских терминов в строгом смысле слова в разряд «весомых» слов обыденного языка, и уже мало кто решится определить, к чему термин «ценности» может быть применим, а к чему — нет.
В самом деле, для того чтобы отнести к «ценностям» все перечисленное у Поттера, достаточно знать, что «ценности» — это вообще все престижное и важное для человеческого существования, что предполагает, собственно говоря, и каждый нефилософ. Но индийской философией следует заниматься не только нефилософам, но и философам, а философ, окинув взглядом все перечисленное (напомним, что это «карма и трансмиграция, способности йогинов и риши, проблема соотношения человеческой и божественной свободы», а также и рождение, и жизнь, и смерть), согласится с тем, что перечисленное можно отнести к «теории ценностей»
11 См., к примеру: Hiriyanna М. The Indian Conception of Values. — Annals of the Bhan- darkar Oriental Institute (ABORI). 1938-1939, vol. 19, c. 10-24; Hiriyanna M. The Quest after Perfection. Mysore, 1952, c. 89-93.
12 Cm : Rao P. Nagaraja. The Four Values of Indian Philosophy Mysore, 1940, он же The I;our Values in Hindu Thought.— Quarterly Journal of the Mythic Society. Bangalore, 1941, vol. 32, c. 192-197.
13 Cm.: Mahadevan T.M.P. The Basis of Social, Ethical and Spiritual Values in Indian Philosophy.— Essays in East-West Philosophy. Ed. by Ch A.Moore. Honolulu, 1951, с 317-335, Mahadevan T.M.P. Social, Ethical, Spiritual Values in Indian Philosophy. — The Indian Mind Ed. by Ch.A.Moore. Honolulu, 1967, c. 152-171.
14 Cm.: Goodwin W.F. Ethics and Value in Indian Philosophy. — Philosophy East and West (PEW). 1954, vol. 4, c. 321-344.
15 См., к примеру: Malkani G.R. Spirituality— Eastern and Western. — The Philosophical Quarterly 1964, vol. 37, No. 2, c. 107. i
16 См., к примеру: Thaetinen U. Indian Philosophy of Value. Turku, 1968.
169
только в том случае, если аксиология для нас ничем не отличается от антропологии, предметом которой является «всё». Если же этот философ имеет представление о собственно аксиологической литературе (первый по времени из известных нам монографических образцов этой категории текстов— «Психологическое основоположение системы теории ценностей» И.Крейбига, изданный в 1892 г.), он обратит внимание на то, что «теории ценностей» всегда предполагали в качестве отправного пункта исследование того, чтб есть «ценность» как таковая. А все те значимые предметы внимания индийских риши, которые перечисляет Поттер, ни в малейшей мере не предполагали теоретизирования на предмет ценностей (если ученый, конечно, не располагает такими памятниками, о которых индологи до сих пор еще ничего не слышали), как, впрочем, и само понятие «ценности». Поттер, конечно, допускает, что они могли бы быть таковыми для нас, но тогда надо было прямо сказать, что для философии ценностей XX в. такие-то и такие-то соображения «индийских риши» о рождении, жизни, смерти и избавлении от всего этого могут представлять интерес (в данном случае мы уклонимся от обсуждения того, так это или не так), но не приписывать аксиологические изыскания самим древним индийцам. Если же Поттер полагает, что объемы понятия «теория ценностей» могут никак не совпадать в Европе и Индии, но при этом экстраполирует эту чисто европейскую философскую дисциплину на то, что к ней не имеет никакого отношения, то в таком случае его позиция равнозначна, хотя и приблизительно, утверждению, будто лингвистика может быть в одном случае наукой о языке, а в другом — самим языком...17.
Однако в сравнении с предложенным М.Хириянной поттеровское представление о ценностях и даже о теории ценностей следует признать еще вполне «академичным». В самом деле, Хириянна предполагает, что человек может «стремиться к ценностям» не только сознательно, но и инстинктивно— подобно тому как самец стремится к самке. Это означает, в свою очередь, что «ценностное» (а это понятие, насколько я помню, впервые появляется в истории цивилизации в «Экономике» Ксенофонта и в псевдоплатоновском диалоге «Гиппарх», 231е-232а) в соотнесении с понятиями прибыльного и благого могло быть освоено еще задолго до появления человека любыми животными, которые стремились к устройству своего жилища (артха) и к совокуплению (кама). Разумеется, обсуждать правомерность хириянновского терминологического уравнения «человеческие цели = ценности» в рамках предложенного им теоретического каркаса представляется вполне излишним.
Не излишним, однако, было бы рассмотреть осмысленность уравнения, предложенного Шармой, который хотя и цитирует только что рассмот¬
17 Приблизительность предложенных аналогий состоит в том, что перечисленные предметы забот «индийских риши» не совпадают даже с объемом понятия «ценности», а не только с «теорией ценностей».
170
ренные выкладки М.Хириянны (отнюдь не возражая против них— см. выше), все же начинает свои рассуждения с трактовки терминов. Шарма правильно воспроизводит три значения сложного слова purusa + artha, данные в словаре М.Моньер-Вилльямса, если не учитывать, что порядок значений в словаре иной: «объект человеческого (у)стремления» (что, кстати, находит соответствие в палийском сложном слове purisa + atthi- ka— «ищущий слугу»), затем «одна из четырех целей существования» человека и лишь в последнюю очередь «человеческое усилие или старание»18. Как можно видеть, данный ключевой для нашего обсуждения термин, который соотносим с purusa + kära («человеческое усилие» — в противоположность судьбе19), ничего собственно аксиологического в себе не содержит. Как, впрочем, и его базовый компонент — многозначное слово artha, первичными значениями которого являются «дело», «цель», «прибыль», «польза», «богатство», «вещь», «объект чувств», «значение»20. Но даже при двух расширениях значения каждой пурушартхи (которые Шарма предпринимает, ссылаясь лишь на мнения своих коллег и полностью игнорируя первоисточники) переход от их значений к «четырем классам ценностей» и тем паче к «фундаментальным строительным блокам индуистской аксиологии» явно требует таких промежуточных звеньев, которыми он нас не обеспечивает. В самом деле, только нефилософ опять-таки может отождествлять цели и ценности. Ведь если, например, мой шеф пошлет меня читать лекции по философии в Рязань и мне этого очень не захочется, но отказать ему я не смогу, то покупка билета туда безусловно будет для меня целью, но никоим образом не ценностью.
Анализировать безоговорочную «конверсию» жанров индийской литературы в категории ценностей у Дандекара смысла, вероятно, нет. Культурологи и религиоведы в философских материях обычно доверяют философам, а потому и претензии могут быть преимущественно к последним.
Что касается Никама, решившего опереться на определенные трактовки «ценности» в европейской традиции, прежде чем перенести их в Индию, то его стратегия сама по себе совершенно правильна. Дело, однако, в другом: во-первых, он никак не задается вопросом, действительно ли индийцы аксиологически мыслили то, что он им приписывает, точно так же, как европейцы, и, во-вторых, принимает одну из трактовок ценностного в европейской философии, притом наиболее упрощенную, за единственно возможную. Слово purusa означает только «человек», но никак еще не «личность», и потому приписывать традиционной индийской мысли
18 Monier-Williams М. A Sanskrit-English Dictionary. Oxf., 1970, с. 637; ср.: Rhys Davids T., Stede W. Pali-English Dictionary. Delhi, 1993, c. 469.
19 См. об этом: Halbfass W. Menschen und Lebensziele. Beobachtungen zu den pu- ru^arthas. — Hermeneutics of Encounter. Essays in Honour of G.Oberhammer on the Occasion of his 65th Birthday. Ed. by F.X.D’Sa and R.Mesquita. Vienna, 1994, c. 127.
20 Cm.: BöhtlingkO. Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Abfassung. 1 Th. St.-Petersburg, 1879, с 110.
171
сформулированное И.Кантом в «Основании метафизики нравственности» (1785) положение, согласно которому только личность имеет «ценность», тогда как вещи имеют лишь «рыночную стоимость», а аффекты души — «аффективную цену», мягко говоря, несколько неосторожно. Относительно же уравнения «ценность = желательность» можно сказать, что оно выглядит слишком обобщенным, поскольку если, к примеру, для редактирования рукописи красная ручка мне желательна более, чем синяя, из этого еще не следует, что первая будет восприниматься мною и как ценность.
Наконец, хотя Гупте кажется, что он достаточно надежно подкрепил свое обоснование пурушартх в качестве «ценностей» историко-философскими аналогиями, они работают скорее против него, чем за. Представить себе, что «аксиология» может быть там, где может и не быть самого понятия «ценности», — это то же самое, что допускать онтологию у того мыслителя, который и не думает обращаться к осмыслению сущего, а эпистемологию — у того, кто не ведает, что человеческое познание может предложить нам какие-либо проблемы. Можно, правда, наподобие мольеров- ского Журдена говорить прозой, не осознавая этого, но нельзя писать исследования о французской прозе, не отличая ее от поэзии. В этом и заключаются различия между тем, что Гупта хочет выдать за индийскую аксиологию, и аксиологией Э.Шпрангера и Н.Гартмана, которые строили свои вполне эксплицитные системы в полемике с конкурирующими, весьма четкими трактовками ценности у десятка-двух своих современников. Что касается искусственного обнаружения аксиологической проблематики в начальных сутрах «Миманса-сутр», то мне просто трудно представить себе, за что он мог «зацепиться», поскольку речь в них идет лишь о том, что дхарма есть такой «объект», признаком которого является побуждение к определенному действию (Миманса-сутры 1.1.2). Видимо, только обозначение «объекта» словом «артха» и дает Гупте повод для спекуляции о «целях» (о значениях слова artha см. выше), которые для него по умолчанию тождественны «ценностям»...
В итоге мы обнаруживаем, что известные нам попытки установить аксиологические основания индийской «практической философии» исходя из самой традиционной индийской понятийной системы оказываются безосновательными. Предложенные Поттером в этом качестве мировоззренческие каркасы индуизма не имеют к «ценностям» никакого отношения, а пурушартхи, в которых действительно систематизируются основные с индийской точки зрения цели человека, никак не идентичны ценностям, поскольку относятся к иным в сравнении с ними измерениям субъективного бытия. Отсутствие индийского эквивалента философского понятия «ценности» не должно восприниматься как неожиданное, если учесть, что «ингредиенты» данного понятия в самой традиции европейской мысли кристаллизовались очень долго из констелляций и контаминаций эконо¬
172
мически, эстетически и этически ценностного21 в контексте формирования персоналистической антропологии, пока не были спаяны термином «значимость» (Geltungen) у выдающегося немецкого философа Г.Лотце (1817-1881).
Будучи предельным, далее «неделимым» понятием, ценности не поддаются строгой дефиниции, но могут быть параметризованы в рамках наиболее глубинного уровня значимостей (в сравнении с такими уровнями, как предпочтения и блага), соответствующих первым «энергиям» личности как «несмешанного», монадического субъекта, которые и конституируют его личностную идентичность в качестве центра субъективного мира. В самом деле, если мои предпочтения могут совпадать с таковыми у других людей, если в понимании благ я могу быть солидарен с другими, то разделить мои ценности еще с кем-то для меня так же трудно, как за кого-то родиться или умереть. Правда, в отличие от лейбницевской монады, данная имеет «окна» в другие миры, но они открываются уже на уровне сообщения благ, на который, далее, опирается уровень коммуникации предпочтений. Поскольку же индийская философия не знала ни «значимостей» (которые отличны от «значений»), ни «уникального личностного бытия» (которое отлично как от безличного Духа, так и от безличных составляющих онтологически внешней для него психофизической организации), наши поиски в ней понятия «ценности», вероятнее всего, и в дальнейшем будут оставаться малоперспективными. Причина «вписывания» аксиологии в наследие индийской мысли лишь во вторую очередь состояла в апологетических задачах (представить древнюю индийскую философию практически ничем не отличной от современной западной), но в первую — в ошибке герменевтического характера, в допущении того, что мы можем пользоваться для описания традиционной индийской мысли любыми единицами современного европейского философского языка, не подвергая эту процедуру никакой историко-философской верификации.
Сказанное не означает, что нам бы следовало полностью исключить из нашего поля зрения любые параллели между тем, что считалось ценностным в европейской философской традиции, и отдельными оттенками речи некоторых поздних индийских философов. Так, к примеру, обращают на себя внимание интонации крупного индийского философа и эстетика Абхинавагупты (X-XI вв.), который писал о невыразимых эстетических эмоциях, связанных с «блаженством собственного сознания», и «нежных», потому что они «окрашены» прежними любовными впечатлениями и другими чувствами (Лочана I.4)22. Такие пассажи ориентируют нас на очерта¬
21 Контаминации исследований политэкономической стоимости и философской ценности имели важнейшее значение для формирования европейской аксиологической рефлексии по крайней мере с эпохи Аристотеля до эпохи Адама Смита, и они не обнаруживают никаких аналогий в истории традиционной индийской мысли.
22 См : Алиханова Ю.М Учение Абхинавагупты об эстетическом переживании (по тексту «Лочаны»). — Памятники письменности Востока. М., 1977, с. 178.
173
ния определенного (пусть для индийской мысли и маргинального) «субъективного бытия», которое в принципе могло бы стать почвой, пригодной для прорастания семени ценностного, если бы оно в нее попало. Речь идет о том, что сама идея ценности как таковая древними и средневековыми индийскими авторами не разрабатывалась, что соотносимые с ней проблемы не становились у них предметом теоретизирования и что основы индийской практической философии были не аксиологичными (от греческого ocÇla — «ценность»), а если пользоваться немецкой философской терминологией XVIII в., «телематологичными» (от греческого xéXoq — «цель»).
3. В отличие от понятия «ценности» понятие «благо» было реальным конституэнтом индийской духовной культуры, но, что весьма показательно, практически не привлекло внимания индологов. Среди многочисленных его обозначений выделим два, важных для индийских мировоззренческих текстов. Первое из них — sreyas (с грамматической точки зрения — сравнительная степень от «хорошего», т.е. «лучшее»23). В «Катха-упани- шаде» царь смерти Яма ободряет юного брахмана-мудреца Начикетаса, стремящегося к истине, хорошо известными сентенциями: «Одно — благое (sreyas), другое — приятное (preyas), и оба с разными целями сковывают человека. Тому, кто присваивает себе благое, будет хорошо (sädhu), а тот, кто выбирает приятное, отпадет от пользы. Оба эти — благое и приятное — приходят к человеку, и мудрый различает их, подвергая рассмотрению. Он предпочтет благое приятному, а глупый— приятное, прельщаемый приобретением и обладанием [удовольствиями]» (И. 1-2). Слово sreyas, равно как и суперлатив nihsreyasa («то, лучше чего ничего нет»), фигурирующий в споре богов о «превосходстве» друг над другом (Кауши- таки-упанишада 11.14), в тот момент еще не являлось философским термином (потому что с ним не работали философы), но спустя тысячелетие стало таковым в брахманистской традиции, тогда как его буддийский лексический коррелят (пал. seyya) так и не вышел за границы единиц обыденного языка24.
Другое слово, kusala, претерпело судьбу прямо противоположную. В той же «Катха-упанишаде» оно означает искусность в постижении высшего знания (II.7), в более древней «Чхандогья-упанишаде» — искусность во владении ритуальным песнопением удгитха (1.1.8)25, но на этой «искусности» его значение «застревает» и в последующей брахманистской литературе26, в то время как в палийских текстах kusala оказывается не только мировоззренчески, но и философски весьма нагруженным. Оно также имеет значение «искусность», но одновременно выступает полно-
23 См.: Барроу Т. Санскрит. Пер. с англ. Н.Лариной. М., 1976, с. 214.
24 Ср.: «для меня лучше то-то, чем то-то» — Дигха-никая 1.184, а также «для них было бы лучше то-то» — Дигха-никая 11.330 и т.п
25 В IV. 10 2 то же слово kusalam означает просто «хорошо».
26 См.: Tedesco P. Sanskrit kusala — “skilful, welfare”. — Journal of American Oriental Society. 1954, vol. 74, с 131-142
174
правным представителем «блага» сразу в нескольких важных контекстах. Прежде всего это любое благое дело, которое противоположно неблагому27. Далее, все благие качества, которые составляют правильное и добродетельное поведение, обобщаются как kusaladhammä (Сутта-нипата, ст. 1039, 1078). Наконец, в палийских текстах функционирует формула «десять благих дел» (dasakusalakammä), которая перекрывает всю программу классического буддизма как «практической религии». К этим благим делам относятся: щедрость, соблюдение нравственных правил (slla), медитация, уважение к «высшим», внимание к их нуждам, передача другому своей «заслуги», радость из-за того, что «заслугу» получают другие, слушание проповеди учения Будды, сама проповедь учения Будды, устойчивость в правильных взглядах.
Другие палийские тексты не оставляют сомнения в том, что указанные десять благих дел непосредственно соотносимы с системой десяти «компонентов нравственности» (dasasïla). Три «корня блага» являются отрицанием трех «корней неправедности»: алчности, ненависти и заблуждения (Маджджхима-никая 1.47, 489, а также Ангуттара-никая 1.203 и т.д.). Все неблагое симметрично обобщается термином akusala (Дигха-никая 1.37, 163 и т.д.); так, в «Сангитти-сутте» десяти благим делам (другой список) противопоставляются десять неблагих (dasa akusala kammapathä), начиная с нарушения закона ахимсы и завершая культивированием неправильных взглядов (Дигха-никая III.269).
Сказанного, как представляется, достаточно (а перечислены были далеко не все пассажи, содержащие слово kusala), чтобы убедиться в том, что палийская kusala является устойчивым термином (со всеми признаками именно термина, а не просто популярной лексической единицы), который смело можно считать основным эквивалентом «блага» в классическом буддизме и который обобщает важнейшие понятия этики («нравственное поведение»), «сотериологии» (духовная «заслуга» и ее передача)28 и даже основные составляющие буддийской духовной практики (вплоть до проповеди учения Будды и ее рецепции).
Однако палийские тексты дают нам и большее. Они убеждают нас в том, что всесторонний интерес буддистов к «благу» был подготовлен первыми философами Индии — небуддийскими философами эпохи Будды (V в. до н.э.), или, по-другому, шраманской эпохи индийской цивилизации.
27 Так, «тот позволяет сиять миру, кто „покрывает“ дурное дело (päpam kammarn) благим (kusalena)». — Маджджхима-никая 11.104, Тхерагатха 1.872, Дхаммапада, ст. 173.
28 Термин сотериология в применении к индийским религиям целесообразно употреблять в кавычках потому, что они не знают «учения о спасении» в собственном смысле, так как не знают учения о грехопадении человечества и о той бездне, из которой человек не может никоим образом выбраться собственными средствами, включая даже такие, как «правильное знание». Выход из мира страдания и сансары обозначается как «освобождение», но передавать эту область интересов индийских мыслителей в качестве «эмансипизма» мы никак не можем, исходя из соображений стилистического характера, а также из-за ассоциаций с движением за женскую эмансипацию, которое хорошо известно из литературы XIX в.
175
Так, в одном из пассажей палийской «Брахмаджала-сутты» содержится изложение позиций и тех «уклонистов» (амаравикюсепики— букв, «скользкие угри»), которые отказывались определить что-либо в качестве блага или зла. «Допустим, монахи, — излагает составитель текста от лица Будды сведения об этих философах, — какой-то шраман или брахман не имеет соответствующего истине суждения о том, что то-то благое (kusa- 1а), а то-то неблагое (akusala). И он рассуждает: „У меня нет суждения в соответствии с истиной о том, что то-то благое, а то-то неблагое. И если я буду отвечать [как бы] в соответствии с истиной, что то-то благое, а то- то неблагое, то когда я истолкую то-то как благое, а то-то как неблагое, у меня обнаружится к тому-то и тому-то склонность, страсть или, [наоборот], нерасположение и ненависть. А если у меня будет что-либо из этого, то [мое суждение] будет ложным. Если же [я буду судить] ложно, то [у меня] будет иметь место досада, а если досада, то и препятствие [для моего „прогресса“]. Так он, боясь [произнести] ложное суждение и испытывая антипатию [к этому], воздерживается от того, чтобы истолковать то-то как благое, а то-то как неблагое, и на поставленный вопрос дает уклончивый ответ, уподобляясь скользкому угрю: „Это не мое [суждение]. Я не говорю, что [дело обстоит] так, не говорю, что иначе, что не так или что не не так“».
Нельзя не отметить, что приведенная позиция весьма близка установке греческих скептиков, которые также отказывались выносить суждения по «этическим» причинам, следуя воздержанию от суждений (ёлохл) ради самосовершенствования. Во второй позиции рассматриваемые философы воспроизводят практически ту же аргументацию с тем лишь незначительным различием, что здесь акцентируется нежелание подвергнуться воздействию чувства «привязанности» в случае категорического ответа на те же вопросы. Но составитель текста в случае с другими «уклонистами» приводит еще одну, третью мотивацию их нежелания определять благое и неблагое: «У меня нет суждения в соответствии с истиной, что то-то благое, а то-то неблагое. И если я буду отвечать [как бы] в соответствии с истиной, что то-то благое, а то-то неблагое, то есть шраманы и брахманы— образованные, тонко [мыслящие], поднаторевшие в дискуссиях, способные расщепить даже волос, которые расхаживают, скашивая своей мудростью безосновательные суждения. Они зададут мне перекрестные вопросы, спросят о моих аргументах и „допросят“ меня. Когда же они со мной [все] это проделают, тогда я не смогу им удовлетворительно ответить. Если же я не смогу им удовлетворительно ответить, то это [вызовет у меня] досаду, а досада станет препятствием для [моего „прогресса“]»29.
Затруднения третьего «уклониста» нагляднейшим образом свидетельствуют о масштабе профессиональных философских дискуссий по про¬
29 The Dlgha Nikaya. Ed. by Prof. T W.Rhys Davids and Prof. J.E Carpenter. Vol I L „ 1967 (Pali Text Society), с 24-26.
176
блемам блага в индийской мысли середины I тыс. до н.э. Свидетельства о диалектическом мастерстве в шраманскую эпоху нередки в палийских текстах30. Последние содержат сведения даже о профессиональных эри- стах-локаятиках (на той стадии этот термин означает пока еще диспутантов, а не философов-материалистов), которые тренировались в доказательствах и опровержениях любого тезиса А и не-Л, о царице Косалы Маллике, соорудившей специальную «залу для полемики» (кутухаласала) представителей любых групп странствующих философов, а также о целом направлении «пилигримов»-паривраджаков (париббаджаки), которые в период дождей вели дискуссии друг с другом и с любым гостем, о профессиональных учителях публичных диспутов, дававших уроки знатной молодежи за определенную плату (совсем как современные им афинские софисты), и даже о целых семьях «спорщиков» (среди них были и представительницы прекрасного пола), «расхаживавших» по всей Северной Индии с набором диалектических тезисов и готовых разгромить любого «шрамана или брахмана», отважившегося принять их вызов31. Однако то
30 Искусство это имело в Индии очень длинные корни и восходило, как почти все в индийской интеллектуальной жизни, к жреческой культуре Еще в ведийский период считалось, что торжественное жертвоприношение, особенно в такой решающий момент, как переход от старого года к новому, существенно выиграет в своей действенности, если помимо собственно жрецов и чтецов гимнов в нем будут участвовать и знатоки загадывания загадок Участники игры в священное знание обычно делились на две партии, которые состязались друг с другом, и это состязание называлось брахмодья, а ее участники-победители получали призы Одна «партия» просила другую, например, ответить, о каком боге известно, что он «темно-рыжий, разноликий, юный и украшает себя в золото», а другая тотчас предлагала угадать, кто это— «опустился в лоно . сияющий, самый мудрый из богов» (Ригведа VIII 29.2) Весь этот гимн (из десяти стихов) построен как цепочка загадок каждый стих содержит намек на какое-нибудь божество, которое не названо по имени, но которое можно узнать по различительному признаку-характеристике (индийские загадки как часть игры в священную мудрость, занимавшие важное место в соревнованиях риши, удачно анализируются в работе Хейзинга И Homo Ludens М , 1992, с 124-126) Тезиса и антитезиса пока еще не было В поздневедийский период появились, однако, и они
31 Слово lokayata означает «распространенное в мире» и включается в устойчивый кур- рикулум дисциплин шраманской эпохи Ее изучали в «продвинутых» брахманских школах и в брахманском «университете» северо-западного города Таксилы наряду с ведийскими гимнами-мантрами, искусством раздельного чтения ведийского текста (разбитого по слогам), лексикологией, грамматикой, фонетикой, священными преданиями, искусством распознавания 32 знаков «великого мужа», а также с другими дисциплинами и искусствами Такой курс прошел и правоверный брахман Амбатгха, пытавшийся доказать Будде превосходство своего происхождения, а также брахман по имени Сонаданда (Дигха-никая I 87-88, 135). Один из знаменитых брахманов того времени, по имени Поккхасаради, наставлял в локаяте своих многочисленных учеников Нет сомнения и в том, что на школьных занятиях локаятики отрабатывали и софизмы. Комментатор палийского канона Буддагхоса приводит образчик их искусства словесного фехтования: «Кем был создан этот мир? Тем-то. Ворона белая ввиду того, что ее кости белые, журавль красный ввиду того, ч ю у него кровь красная». Перед нами явление, которое можно условно назвать диалектической метафорой софизм — результат того, что суждение о части (цвет костей, цвет крови) переносится на целое Вероятно, локаятики вопрошали друг друга' принадлежа’! ли кости вороны вороне9 А если да, то может ли ворона быть одним, а ее кости — другим? В средневековых палий-
177
обстоятельство, что среди «скользких угрей» выделяются именно специалисты по «благу» (среди четырех положений «скользких угрей» лишь последнее, четвертое касается воздержания от суждений по «метафизическим» вопросам, начиная с существования «другого мира» и завершая существованием «совершенного» после распада его тела), говорит о том, что проблема определения блага или возможности предикации любому объекту X атрибута «благое» (и соответственно «неблагое») была одной из самых приоритетных для современников Будды. Само наличие «воздерживавшихся» от ответов на вопрос о природе блага и благого с различными мотивировками свидетельствует о том, что таковых ответов в Индии того времени было «наработано» более чем достаточно. Наконец, связь индийской 87ioxrj у двух первых групп «скользких угрей» с предполагаемым
ских лексиконах приводятся аналогичные софизмы вкупе с тезисами и антитезисами «Все чисто— ничто не чисто, ворона— белая, цапля— черная, на таком-то основании и на таком-то» Более чем вероятно, что локаятики на своих занятиях делились, как и ведийские жрецы, на две «партии», которые поочередно отстаивали соответствующие тезис и антитезис (вначале одна «партия» настаивала на том, что все есть единство, а не множественность, затем вторая — на противоположном), выдвигая и соответствующие софизмы Однако имеются все основания полагать, что локаятики применяли свое «школьное» искусство аргументации и за порогом школы
Искусство философского спора ради самой аргументации демонстрируют несколько ярких современников Будды, их имена известны из палийских преданий Паривраджак по имени Пасура настолько гордился своими способностями ставить в тупик любого оппонента, что ходил из города в город, оставляя, вероятно на воротах, ветку яблоневого дерева джамбу, каждый, кто решался поднять эту «перчатку», должен был вступить с ним в публичную дискуссию Один из лучших учеников Будды, по имени Сарипутта, который сам прошел школу знаменитого Санджаи Белаттхипутты, велел ветку снять, и когда Пасура, сопровождаемый, что очень важно, большой толпой, пришел к Сарипутте в «гостиницу», паривраджаку пришлось впервые испытать горечь поражения По правилам игры того времени проигравший должен был признать приоритет той общины, чей представитель оказался победителем, и Пасура вступил в буддийскую общину-сангху Но его обращение оказалось фиктивным’ он начал спорить со своим буддийским наставником и переспорил его Вернувшись в желтой робе буддийского монаха к паривраджакам, он стал периодически наведываться в сангху, чтобы спорить уже с самим Буддой
В Индии того времени были популярны даже целые семьи софистов, которые передавали своим детям ремесло профессионального ведения дискуссии Мать известного эриста Сабхии была дочерью аристократа, и родители отдали ее в обучение к одному паривраджаку, чтобы она усвоила учения и узнала нравы своего времени От матери, а в ней ничто нам не мешает видеть одну из первых индийских «философинь», сын унаследовал 20 полемических тезисов, которые она весьма успешно испробовала на знаменитых шраманах и брахманах. Как профессиональный диспутант, Сабхия сидел у городских ворот, давая частные уроки знатным юношам, но принимал и прочих. Когда он узнал об успехах проповеди Будды, то решил вступить в дискуссию и с ним. В буддийской комментаторской традиции он известен под «титулом» «ученый паривраджак» (пандита-париббаджака) Сведения всей палийской литературы о Сабхии и его матери обобщаются в лучшей до настоящего времени энциклопедии по «палийскому буддизму»: Malalasekera G.P. Dictionary of Pali Proper Names. Vol. 2. L., 1960, с. 1038.
Подробнее об индийских эристах — и анонимных локаятиках, и названных полемистах, и их греческих коллегах-современниках см.* Шохин В.К. Первые философы Индии. М., 1997, с. 51-57, 150, 195-197.
178
риском создать для себя «препятствие» (antaräya) в духовном самосовершенствовании, позволяет выдвинуть такую гипотезу: те, кто был менее мнителен, полагали, что ясность в вопросе о благе и неблаге должна быть основой правильной духовной жизни.
Пассажи из «Брахмаджала-сутты» не позволяют ответить только на один важный вопрос: каковы, собственно, были те определенные ответы, связанные с природой блага и благого, с которыми были несогласны «скользкие угри», но которые отстаивали те, кто претендовал на то, чтобы быть «образованными, тонко [мыслящими], поднаторевшими в дискуссиях, способными расщепить даже волос». Хотя бы частичный ответ на него дает пассаж из другого собрания палийских сутт, «Саманамандика-сутта». Паривраджак Уггахамана Саманамандикапутта, восседавший с другими «пилигримами» в зале для полемики царицы Маллики (см. выше), предложил буддийскому мирянину плотнику Панчаканге обсудить, кого следует считать «реализовавшим все благо» (sampannakusala). Таковым, по его мнению, является тот, кто не причиняет зла никому ни телом, ни словом, ни образом жизни, ни даже намерением. Будда подверг эту «дефиницию» уничтожающей критике, заметив, что в таком случае «реализовавшим все благо» следует считать и новорожденного младенца (Маджджхи- ма-никая Н.22-29). Его сарказм, конечно, попадал в цель, но для нас важнее другое: по крайней мере одна из групп философов, исследовавших «благо», трактовала его как системное отрицание негативных жизнепрояв- лений.
Если исходить из размышлений «скользких угрей», у «негативистов» должны были быть и оппоненты, которые пытались истолковать «благо» в положительных терминах. Трудно сомневаться в том, что между ними должны были проходить содержательные дебаты: «негативисты» могли упрекать «позитивистов» в том, что их определения блага ограниченны, а те могли возражать таким образом: «негативисты» определяют благо через неблаго, вращаясь в логическом круге. В любом случае и те и другие были, по всей вероятности, солидарны в двух пунктах: в том, что определения блага (какие угодно) возможны, и в том, что они важны для обоснования духовно-практической жизни.
4. Дальнейшая «карьера» категории «благо» в индийской философии была непропорционально скромной в сравнении с ее многообещающим началом в век Будды.
«Ньяя-сутры» (III—IV вв.) открываются типичной для индийских шастр декларацией, согласно которой правильное изучение именно их материала— в данном случае 16 диалектических категорий начиная с источников знания (праманы) и завершая причинами поражения в споре (ниграхаст- хана) — обеспечивает изучающему достижение высшего результата, обозначаемого как nihsreyasa— уже знакомое нам «то, лучше чего ничего нет», что в данном случае prima facie вполне можно было бы идентифицировать как положительное summum bonum (1.1.1). Однако контекст сле¬
179
дующей сутры не оставляет сомнения в том, что «высшее благо» трактует¬
ся наяиками как тождественное «избавлению» (apavarga) от страдания,
обусловливаемого сансарой (1.1.2).
Прашастапада, автор знаменитого компендиума по философии вай-
шешики «Падартхадхармасанграха》(VI в.), в преамбуле тождественно
утверждает (явно не без соперничества с составителем «Ньяя-сутр»), что
то же «высшее благо» ожидает того, кто истинно постиг шесть онтологи¬
ческих категорий вайшешики, их сходства и различия — начиная с суб¬
станции (дравья) и завершая ингеренцией (самавая).
Субкомментатор сутр ньяи Уддйотакара открывает свою «Ньяя-вартти-
ку» (VII в.) преамбулой, смысл которой сводится к тому, что любая наука
(шастра) направлена в конечном счете на благо людей (sreyas), которое
недоступно средствами эмпирического познания, а затем пытается убе¬
дить читателя в том, что «высшее благо» также бывает двух видов: види¬
мое высшее благо (т.е.《не-высшее》) достигается при каждом истинном
суждении, невидимое (т.е.《высшее высшее благо»)——при истинном по¬
знании только 16 категорий ньяи, которое и обеспечивает освобождение
от страданий мира сансары; начало преамбулы Уддйотакары воспроизво¬
дится в преамбуле комментария к ней Вачаспати Мишры в «Ньяявартти-
кататпарьятике» (IX в.).
Реформатор ньяи Бхасарваджня в «Ньяясаре» (IX-X вв.) воспроизво¬
дит все ту же идею с «редакционными》уточнениями: к достижению выс¬
шего блага ведет истинное познание не всех 16 категорий, но только
предметов познания (прамея), которые, в свою очередь, делятся на то, от
чего следует избавиться (будущее страдание), и средства его «получения»
(незнание, желание, заслуга и причины удовольствия и страдания), то, что
следует обрести (освобождение от страдания), и средство этого обретения
(истинное познание Атмана). Та же «формула» выявляется и в поздней
вайшешике, когда, например, Шивадитья, автор «Саптападартхи》(XII в.),
завершает свой трактат, представляющий собой коллекцию дефиниций,
утверждением о том, что любая системно организованная в тексте дисци¬
плина знания (прежде всего философия) или «шастра ——это то, где изла¬
гается средство достижения блага (sreyas)»32.
Более содержательно, хотя и лаконично, интересующее нас понятие
рассматривается в знаменитом произведении Шанкары «Брахмасутра-
бхашья» (VII—VIII вв.). Противопоставляя то, что обещают своим после¬
дователям мимансаки (познание дхармы) и ведантисты (познание Брахма¬
на), ведантист уточняет: «Познание дхармы имеет результатом успех
(abhyudaya) и зависит от [употребляемых] средств. Познание же Брахмана
имеет результатом высшее благо (nihsreyasa), от [употребляемых] средств
независимое». Среди их различий и то, что дхарма относится к будущему
32 SaptahadarthI by Sivaditya, with the Commentary Padarthachandrika by Seshânanta. Ed.
with In trod, and Notes by V.S.Ghate. Poona, 1909, c. 53.
180
(результаты обрядовых действий), а Брахман есть вечно-настоящее и веч- но-соприсутствующее (1.1 Л)33. Из этого следует, что высшее благо не может быть «выработано» какими-либо средствами, но есть то, что ищущий может обнаружить в себе, оказавшись причастным ему.
В подавляющем же большинстве случаев «высшее благо» (nihsreyasa, éreyas) оказывается в текстах классических даршан лишь одним из синонимов «освобождения». Потому в качестве «только синонима» оно не могло рассматриваться как конечное основание духовно-практической жизни, каковым для классических индийских даршан оказывается одновременно абсолютная и отрицательная конечная цель — освобождение, не являющееся идеалом положительным. В тех редких случаях, когда благу уделяется чуть более широкое пространство и оно становится более содержательным, оно передается также другими лексическими средствами и уже никоим образом не рассматривается в качестве summum bonum34.
В итоге можно констатировать, что благо было, в отличие от ценности, вполне реальной категорией индийской «практической философии», но претерпело значительную дегрессию в плане значимости. И этот итог еще раз подтверждает предположение о том, что шраманская и последовавшая за ней философия — два различных философских мира, связанных континуальностью философского менталитета, но не совпадавших в фундаментах своей «практической философии»35.
33 The Brahmasütrashänkarabhäshyam with the Commentaries of Ratnaprabhâ, Bhâmatï and Nyäyanimaya of Shrigovindänanda, Vächaspati and Änandagiri. Ed. by R.Sh.Dhupakar, M.Sh Bakre. Bombay, 1904, c. 34-36.
34 Так, в том же трактате Шивадитьи оно передается как sukha («счастье») и «распределяется» следующим образом: «Счастье сансарное — зависимое от средств, обусловливаемых усилием. Счастье, [которое является] небом, — осуществляемое средствами, зависимыми от [одного] только желания» (Saptahadârthï by Sivaditya, with the Commentary Padärthachandrikä by Seshänanta, c. 50.
35 При этом позицию первых философов Индии правомерно считать значительно более «европейской». Достаточно вспомнить, что трактовка блага как основания всей этики (наука о добродетелях) была заложена уже в первый раздел «Никомаховой этики» Аристотеля.
В.Г.Лысенко
Трудное дело середины:
«срединность» (mesotes) Аристотеля
и Срединный путь (majjhimâ patipadâ) Будды
Если сравнивать учение Аристотеля с буддизмом, то в качестве
материала для сравнения с буддийской стороны естественнее всего вы¬
брать учения философов ——создателей систематических религиозно-фи¬
лософских трактатов— скажем, Нагарджуны, Васубандху или Дигнаги,
живших уже после Будды1. Выбор в качестве «собеседника» Аристотеля
самого основателя буддизма усложняет и «обостряет» компаративную
задачу, ведь фигуры, предлагаемые для сравнительного анализа, строго
говоря, типологически несопоставимы. Аристотель, как «чистый фило¬
соф», интересующийся «сущим как таковым» (to ti en einai), вопрошал по
поводу тех самых «материй», которые Будда, как религиозный практик,
считал абсолютно бесполезными для дела спасения. Допустимо ли вообще
сравнивать «светского философа», теоретика и религиозного практика?
Существует ли та общая плоскость или пусть даже точка, в которой могли
бы пересечься сравниваемые персонажи?
Аристотель и Будда— фигуры разные и никак не сопоставимые, ни
в том, что они собой представляли, ни в том, чем занимались. Сходились
же они по крайней мере в одном важном, если можно так выразиться, эк¬
зистенциальном пункте: оба отчетливо сознавали чрезвычайную труд¬
ность достижения и реализации идеала (этического— для Аристотеля
и религиозного — для Будды). Поскольку у обоих их идеал ассоцииро¬
вался с идеей середины, я называю это трудным делом середины. Обоим
середина представлялась чем-то большим, нежели механическое равнове¬
сие между крайностями или центральное положение при равноудаленно-
сти от концов. Нахождение в середине,срединность, понималось ими как
1 Такие исследования проводились. См., например, сравнение Аристотеля с Нагар-
джуной: Bugault G. L’Inde pense-t-elle? P., 1994. См. также: Заболотных Э.Л. Логико¬
эпистемологические воззрения Дигнаги. М., 2002.
© В.Г.Лысенко, 2004
182
состояние, которое никогда не дано человеку априори, не возникает спонтанно, не устанавливается само собой, а требует неустанных поисков и напряженных, созидательных усилий. Вот в таких, как нетрудно заметить, обтекаемых терминах я формулирую некоторый общий пафос, или общую «интенцию», героев этого компаративного эссе. Любая конкретизация этой «интенции» в форме задач, целей, понятий, концепций и учений каждого из них сразу же выталкивает нас из сферы общего и заставляет говорить о различиях2.
Первое и фундаментальное различие вытекает из того очевидного факта, что в учении Аристотеля середина (или средина) была одним из важнейших онтологических и метафизических понятий, тогда как у Будды — это прежде всего система методов, практик, техник достижения освобождения, т.е. процесс, путь, а не символ некоего онтологического принципа (таковым середина становится у Нагарджуны, в школе, которая так и называется — мадхъямика, что значит «срединная»).
Мы находим понятие середины на всех уровнях философии Аристотеля, начиная с онтологии и метафизики, кончая этикой и политикой. С точки зрения Аристотеля, середина есть везде, где можно обнаружить постепенный, континуально-дискретный переход между недостатком и избытком: «Во всем континуальном и делимом существует избыток, недостаток и средина» (Эвдемова этика, II.3.1220b 21)3. Основа этой континуальности содержится в возможности движения, «ибо движение континуально, а действие есть движение» (там же). Середина возможна лишь в случае существования диапазона разных количественных пропорций, в их арифметической прогрессии, т.е. в случае, когда мы имеем дело с чем-то изменчивым, динамичным и сложно структурированным, побуждающим нас к поискам некоего оптимального состояния. Середина диалектически связана с началом и концом («Среднее есть начало и конец — начало последующего и конец первого» — Физика,VIII.8.262а 20-25)4. Эта середина есть «соразмерное» (symmetron), «мера», принцип порядка во Вселенной (середина Земли есть сердцевина Вселенной): «Все нуждается в противовесе, чтобы достичь меры и середины, ибо в этом заключается сущность
2 В самом начале работы над этой темой я предполагала выяснить, что думали о середине Аристотель и Будда, в чем они могли бы согласиться друг с другом, а в чем остаться каждый при своем мнении. Но с какого-то момента, читая Аристотеля, я стала ловить себя на мысли, что смотрю на него еще и под углом зрения учения Будды, а при анализе буддийских текстов представляю себе, какое мнение мог бы иметь по тому или иному поводу Аристотель. Получилось своего рода перекрестное освещение — как в театре, на сцене, когда свет основных прожекторов, падающий сверху, корректируется различными дополнительными подсветками сбоку, снизу, сзади, — и все, что находится на сцене, приобретает новые рельефы и оттенки. В моем очерке герои то расходятся по разным полюсам, то неожиданно сталкиваются лоб в лоб, и их сходства и различия также бросают свет друг на друга.
3 Аристотель. Эвдемова этика. Пер. Т.А.Миллер (цит. по: /Усеинов A.A., Иррлитц Г Краткая история этики. М., 1987, с. 509-527).
4 Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 3. М., 1981.
183
и правильное соотношение, между тем как ни одна из крайностей не имеет их» (О частях животных, И.7.652Ь 17 и др.)5- «Ибо середина есть основание, и его-то и ищут во всем» (Вторая аналитика, Н.2.90а 6-7)6. Середина в морали — это добродетель, в силлогизме — «средний термин», в образцовом государстве (politia) — средний слой (не богачи и не бедняки), середина времени — «теперь» (пуп) и т.д. Однако для каждой такой сложной и динамичной сферы человеческой деятельности или плана существования середина является единственной статичной, неразвивающейся точкой — точкой равновесия вечно колеблющихся весов «избытка» и «недостатка», неким оптимальным, или, в терминах Аристотеля, «наилучшим» состоянием (hexis).
Обратимся к метафизике Аристотеля. На высшем ее этаже сходятся все сущности и понятия, которые на эмпирическом уровне считались противоположностями. Идеалы самодостаточного, совершенного и замкнутого на себя сущего (to on), высшего блага (to ariston), осуществленного, вечно актуального сущего (entelechia) неизменно предполагают замыкание друг на друге, совпадение противоположностей: начало (arche) или причина (aitia) оказываются одновременно концом, целью (telos). Иными словами, цель не возникает как конечный результат, завершающий движение или развитие предметов и явлений, она заложена в них с самого начала, им предшествует (телеология), т.е. цель, составляющая предел, является в некотором смысле и началом, и причиной (целевая причина), и сущим1.
Мне представляется, что на первый план здесь выступает понятие середины: начало и конец, причина и цель совпадают именно в ней, в середине, вернее, их совпадение и является искомой серединой. В пользу этой интерпретации, которая, замечу, отнюдь не является общепринятой, могу привести слова Аристотеля из «Второй аналитики»: «Причина того, почему нечто есть не это или это, а некоторая сущность вообще, или причина того, что нечто есть не вообще, а что-то из присущего самого по себе или привходящим образом, — причина всего этого есть среднее»8 (II.2.90а 5-10). Середина, или среднее, есть основание (причина) сущего как сущего (to on hei on). С точки зрения Мейлана, среднее
5 Он же. О частях животных. Пер. В.П.Карпова. М., 1937.
6 Он же Сочинения в 4-х т Т. 2, 1978
7 «Пределом называется граница каждой вещи, т.е. то первое, вне которого нельзя найти ни одной его части, и то первое, внутри которого находятся все его части; всякие очертания величины или того, что имеет величину; цель каждой вещи (таково то, на что направлены движение и действие, но не то, из чего они исходят, хотя иногда это и то и другое — то, из чего они исходят, и то, на что они направлены, а именно конечная причина); сущность каждой вещи и суть ее бытия, ибо суть бытия вещи— предел познания [вещи], а если предел познания, то и предмета. Поэтому очевидно, что о пределе говорится в стольких же значениях, в скольких и о начале, и еще больше, ибо начало есть некоторый предел, но не всякий предел есть начало» (Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 1, 1976. Метафизика, V.17.1022а 5-10)
8 Н В.Брагинская — переводчик Аристотеля и одна из самых крупных знатоков его текстов — считает, что имеется в виду не «среднее», а скорее «самое главное». С ее точки зре¬
ния, «середина» Аристотеля — не столько онтологическое понятие, сколько прагматическое средство, прием изложения, метафора (это мнение высказано в личной беседе со мной).
184
у Аристотеля, когда оно доведено до предела проникновения в истинную сущность, и есть Ум9.
В моей интерпретации у Аристотеля середина является структурно-онтологическим понятием — неким совершенным, т.е. полностью реализовавшимся, чисто актуальным состоянием (энтелехией), через которое «дышит» Абсолют (Nous) и которое причастно божественному (Theos). На этих метафизических принципах, как мне представляется, основана и аристотелевская трактовка моральной середины. Предлагая такое «мета-физи- ческое» прочтение аристотелевской концепции середины, а вместе с ней и добродетели, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что оно в большей степени интуитивно, чем основано на твердой базе текстуальных свидетельств. Очень возможно, что я принимаю желаемое за действительное и вижу в построениях Стагирита бблыную стройность и пронизанность едиными принципами, чем это было у него на самом деле10.
В «Никомаховой этике» Аристотель определяет добродетель как «способность поступать наилучшим образом [во всем], что касается удовольствий и страданий, а порочность— это ее противоположность» (II.3.1104b 25)11. А «поступать наилучшим образом» для Аристотеля — это придерживаться середины в страстях, удовольствиях и страданиях. Середина— это, по определению, среднее между избытком и недостатком, которые противоположны и друг другу, и середине (Эвдемова этика,
Н.3.1220Ь 21-35). Середина есть нечто «иное», чем эти противоположности, и в применении к ней невозможны ни избыток, ни недостаток (Нико- махова этика, II.3.1104Ь 20). С количественной точки зрения середины не может быть ни слишком мало, ни слишком много, ее всегда ровно столько, сколько нужно. Вместе с тем середина возможна только в том случае, если в каком-либо качестве имеется и избыток, и недостаток. Что касается дурного (Аристотель приводит в пример злорадство, бесстыдство, злобу, а из проступков — блуд, воровство, человекоубийство), то в нем не бывает середины, ибо любое его проявление «дурно само по себе, а не за избыток и недостаток» (там же, 1107а 10). В благоразумии и мужестве не бывает избытка, поскольку в них — и середина, и наилучшее (meson kai ariston) (там же, 1 Ю7а 20-25).
Добродетели, которые устанавливаются через обнаружение середины на пути от одной крайности к другой, характерны для практической мудрости (phronesis), управляющей нашими чувствами и поведением в обыденной жизни. Аристотель называет их «этическими» (ëthikë) добродетелями. Но есть и другая категория добродетелей— «дианоэтические» (dianoetikai), которые свойственны жизни более возвышенной, созерцательной (bios theöretikos). Они, как и этические добродетели благоразумия
* MeulenJvan der. Aristoteles. Die Mitte in seinem Denken. Meisenheim, 1951, c. 124-125.
Как я уже говорила, Н.В.Брагинская высказала сомнение в правильности такой трактовки.
11 Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 4, 1980.
185
и мужества, совершенны, а значит, и «срединны», независимо от контекста, сами по себе12.
Аристотель различает две формы середины — в отношении вещей и «по отношению к нам» (pros hëmas). Для обычных материальных вещей и геометрических фигур середину можно определить механическим путем («Я называю серединой вещи то, что равно удалено от обоих краев, причем эта [середина] одна и для всех одинаковая» — там же, 1106а 30). Но если обратиться к человеку, то применительно к нему нет никакой раз и навсегда заданной середины, а стало быть, этическая добродетель индивидуальна, у каждого она своя: «Срединою же по отношению к нам я называю то, что не избыточно и не недостаточно, и такая середина не одна и не одинакова для всех» (там же), т.е. человеку, который хочет поступать добропорядочно, самому приходится решать, чтб в конкретной ситуации «хорошо», а чтб «плохо». Аристотель считает, что «средина по отношению к нам является наилучшей, поскольку в ее выборе нами движут знание и разум» (Эвдемова этика, И.3.1220Ь 21-35). «Вот почему трудное это дело быть добропорядочным, ведь найти середину в каждом отдельном случае — дело трудное, как и середину круга не всякий определит, а тот, кто знает, [как это делать]» (Никомахова этика, 9.1109а 20). Или чуть ранее: «...совершать проступок можно по-разному (ибо зло, как образно выражались пифагорейцы, принадлежит беспредельному, а благо — определенному), между тем поступать правильно можно одним-единст- венным способом (недаром первое легко, а второе трудно, ведь легко промахнуться, трудно попасть в цель)» (там же, 1106Ь 30).
Трудности нахождения середины, как в случае вещей, так и в случае человеческих качеств и поступков, связаны с необходимостью выбора из множества всяких вариантов, из диапазона возможностей. Для определения центра геометрической фигуры существует ряд процедур, и тот, кто их знает, сможет решить эту задачу. Но достаточно ли одного лишь знания для нахождения единственно верного, нравственного решения в сложной моральной коллизии?
«Попасть в середину», «найти середину», «попасть в цель»— эти и подобные выражения ясно говорят в пользу деятельностного характера добродетели. Как точно заметил А.Ф.Лосев, «середина добродетели не есть выбор между заранее заданными противоположностями блага и зла, храбрости и трусости и т.д., а есть постоянное самоутверждение живого существа как определяющего эти противоположности»13. Иными словами, середина никогда не известна заранее, да и не существует общезначимой для всех середины, задаваемой каким-то определенным количеством мужества, благоразумия, щедрости и т.п. У каждого человека— применительно к каждому конкретному случаю— она своя: это динамическая,
12 Наипервейшая среди этих мыслительных, теоретических добродетелей — мудрость (sophia).
13 Лосев А Ф История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика М., 1975, с 637
186
постоянно мигрирующая и ускользающая точка, требующая от того, кто стремится в нее попасть, «адекватной», гибкой «тактики»: «Исходя из самих обстоятельств, выбирают то, что кажется лучшим, и ради лучшего» (Большая этика, 1189b 15)14. Если порочность всегда связана с неуправляемым движением (влечением или склонностью) — либо в сторону избытка, либо в сторону недостатка, то, попав в середину, оказываешься как бы в центре циклона, недосягаемом для взаимопротивоположных тенденций: «Поскольку есть двигатель, который движет таким образом, то имеется также середина, которая движет, сама оставаясь без движения, середина, которая вечна, которая является сущностью и чистой деятельностью (energeia. — B.J7.)» (Метафизика, XII.7.1072а 24-26).
«Энергийность» середины — притом что сама она не подвержена ни движению, ни каким-либо колебаниям и изменениям — в этическом преломлении выступает как воля. Не случайно Аристотель, в отличие от Сократа и Платона, связывает этические добродетели (в противоположность дианоэтическим) не столько со знанием, сколько с волей, хотением (boylësis), с сознательным выбором (proairesis) — «стремлением, при котором принимают решения» (Никомахова этика, II.9.1139а 20), с умением «верно попадать в среднее» (Эвдемова этика, II.11.1227Ь 37-38).
Наилучшая цель, которую преследуют саму по себе, а не как средство достижения другой цели, — это высшее благо, наилучшее (to ariston), собственно благо (tagaton), которым для Аристотеля является счастье (evdai- monia) — «деятельность души сообразно добродетели» (Никомахова этика, II.9.1099b 25-30). Сама же добродетель «по сущности и по понятию, определяющему суть ее бытия... есть обладание серединой, а с точки зрения высшего блага и совершенства— обладание вершиной» (там же, 1107а 5). Круг замкнулся, и с высшей, метафизической точки зрения моральная середина оказывается благом, полнотой, совершенством, законченностью бытия, высшей целью. Достигнув ее, человек продолжает действовать (ибо счастье, по определению, есть деятельность), но его действие уже не направлено ни на какие цели, внеположенные ему самому. Для Аристотеля совершенное — это не просто имеющее предел (начало и конец, причину и цель), но еще и замкнутое на себя (например, круговое движение), когда цель совпадает с причиной, а конец— с началом. Совершенное должно быть замкнутым (бесконечность может быть только «дурной»), оттого и высший Ум (божественное) замкнут на самого себя — сам себя мыслит15. Он неподвижный движитель, но неподвижность не
14 Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 4.
15 «А мышление, каково оно само по себе, обращено на само по себе лучшее, и высшее мышление— на высшее. А ум через сопричастность предмету мысли мыслит сам себя: он становится предметом мысли, соприкасаясь с ним и мысля его, так что ум и предмет его — одно и то же. Ибо то, что способно принимать в себя предмет мысли и сущность, есть ум; а деятелен он, когда обладает предметом мысли, так что божественное в нем — это, надо полагать, скорее само обладание, нежели способность к нему, и умозрение — самое приятное и самое лучшее. Если же богу всегда так хорошо, как нам иногда, то это достойно удив¬
187
означает здесь абсолютной неактивности, это лишь отсутствие физическо¬
го движения, перемещения в пространстве. Ум деятелен и занят тем, что
мыслит самый совершенный предмет, т.е. самого себя, — иными словами,
субъект отождествляется с объектом. Ум — не противоположность дея¬
тельности, а высшее ее выражение, бездействие в действии.
А теперь обратимся к Будде, к его проповедям, как их передают нам
тексты палийского канона «Типитака» (прежде всего тексты «Виная-
питаки》и «Сутта-питаки»)16. Вот как звучит его знаменитая проповедь
о Срединном пути: «Есть, о братья, две крайности, которых должен избе¬
гать удалившийся от мира. Какие эти две крайности? Одна крайность
предполагает жизнь, погруженную в желания, связанную с мирскими на-
слаждениями; эта жизнь низкая, темная, заурядная, неблагая, бесполезная.
Другая крайность предполагает жизнь в самоистязании; эта жизнь испол¬
ненная страдания, неблагая, бесполезная. Избегая этих двух крайностей,
Татхагата (букв. «Так ушедший» — эпитет Будды. — В.Л.) во время про¬
светления постиг Срединный путь — путь, способствующий постижению,
способствующий пониманию, ведущий к умиротворению, к высшему зна¬
нию, к просветлению, к нирване»17.
Срединный путь прямо отождествляется с Дхаммой (Дхармой)——Уче¬
нием Будды, Законом, поэтому, когда тексты характеризуют Дхамму как
«глубокую, незримую, труднопостижимую, благую, совершенную, невы¬
водимую путем рассуждения и логического исследования, тонкую, дос¬
тупную только для знатоков», они косвенно указывают на трудности сле¬
дования Срединному пути. Срединный путь представляет собой систему
духовно-практических правил, регулирующих взгляды, намерения, речь,
действия, образ жизни, усилия, осознавание и сосредоточение. Эти восемь
типов «правильных» практик охватывают три основные сферы жизни буд¬
дийского монаха: «культуру поведения» (слово, действие, образ жизни),
«культуру медитации» (правильное осознавание и правильная концентра¬
ция) и «культуру мудрости» (правильные намерения и правильные взгля¬
ды), из которых «этическими» (в аристотелевском смысле) можно назвать
только правила, касающиеся культуры поведения (не причини вреда, не
бери чужого, не лги, не опьяняй себя, не прелюбодействуй; а также добро¬
детели щедрости, благонравия, смирения, очищения и т.п.). Все эти «эти¬
ческие» добродетели являются общеиндийскими нормами поведения (и для
ления; если же лучше, то это достойно еще большего удивления. И именно так пребывает он.
И жизнь поистине присуща ему, ибо деятельность ума— это жизнь, а бог есть деятельность; и
деятельность его, какова она сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы говорим
поэтому, что бог есть вечное, наилучшее живое существо, так что ему присущи жизнь и не¬
прерывное и вечное существование, и именно это есть бог» (Метафизика, XII.7, 15-30).
16 Тексты палийского канона создавались и редактировались в течение многих веков.
Древнейшие из них относятся к III一II вв. до н.э.
17 Отрывок из «Магавагги» в пер. В.Вертоградовой (Хрестоматия по истории Древнего
Востока. Ч. 2. М., 1980, с. 136).
188
мирян и для монашества) и не содержат в себе ничего специфически буддийского. Хотя некоторые элементы «культуры медитации» тоже являются достоянием общеиндийской йоги, все же именно в эту практику буддизм привнес множество новых собственных обертонов, связанных прежде всего с попыткой реализовать на практике «культуру мудрости»: знание четырех благородных истин, открытых Буддой (о страдании, о его причине, о возможности его устранения и о пути к его устранению — Срединном пути).
Главная трудность Срединного пути— вовсе не выбор среди разных диспозиций ума единственно «правильной» (существуют четкие критерии — например, отсутствие аффективной привязанности или аффективного неприятия), а сохранение этой диспозиции в режиме постоянного движения к нирване— через систематическое, рефлексируемое сознанием разрушение эгоистических привязанностей к ценностям сансарного существования (к удовольствию, богатству, стремлению к лучшему перерождению и т.п.).
Если у Аристотеля моральная жизнь— это прежде всего «мирское» (социальная жизнь индивида в полисе), и «крайности» («избыток» и «недостаток») располагаются именно в этой, социальной плоскости, в сфере человеческих отношений, то у Будды «крайности» распределяются по разным сферам, между которыми, строго говоря, не существует никакого плавного перехода, а значит, по определению Аристотеля, не может быть и середины. Первая «крайность» (привязанность к чувственным наслаждениям) лежит в сфере мирского (хотя она возможна и для монахов), вторая же характерна для образа жизни исключительно отшельников — людей, живущих вне общественных связей и отношений и посвятивших себя практическому осуществлению религиозного идеала освобождения. Значит, и Срединный путь Будды не может быть чем-то промежуточным между мирской и религиозной жизнью. Середина находится не между ними, а все-таки во второй зоне, на пути отшельников, поскольку Будда верит в то, что только они могут достичь нирваны — окончательного освобождения от сансарного существования.
В «Ангуттара-никае» Будда называет приверженных первой крайности «твердыми сенсуалистами» (ägälhä-gällhä, kakkhallä, lobha-vasera), а приверженцев второй — «самоистязателями» (nijjhäma-atta-kilamathäniyoga vasena sutthu jhämäsentatta-paritatta), а также muttacaro-vissacchacaro — теми, кто культивирует привычки, прямо противоположные привычкам и манере поведения обычных людей в миру, привязанными к этим привычкам, мучительным для тела18.
18 Далее подробно перечисляются эти «антисоциальные» практики: некто, вместо того чтобы мыть руки, облизывает их, не придерживается принятых в миру правил вежливого обращения, отвергает пищу, которую ему предлагают, отказывается принять приглашение на трапезу, отказывается от разных видов пищи, считая ее оскверненной; его потребности сведены к минимуму. Словом, Будда перечисляет распространенные среди аскетов его времени практики, многие из которых были восприняты и буддийской сангхой (см Ан- гутгара-никая 1.294.16, § 151) Здесь и далее в переводах буддийских палийских текстов использованы издание «Типитаки» на пали, осуществленное Палийским обществом (Pali
189
Новое, что привнес Будда в эту важнейшую область религиозной жизни Индии, — это смягчение аскетизма, ослабление слишком прямолинейной борьбы с телесной природой человека, характерной для большинства индийских аскетов того времени. Если проповедь Будды о Срединном пути подвергнуть анализу с точки зрения принципов Аристотеля (добродетель есть середина в каком-то конкретном чувстве или в отношении к конкретной проблеме), то такую проблему в данном случае составляет отношение к телу. В мирских наслаждениях наблюдается, как мог бы выразиться Аристотель, избыток внимания к телу, в самоумерщвлении — его недостаток; и то и другое — порочно. Найти же с помощью принципов Аристотеля такую середину, которая устроила бы и Будду, мы не можем, ибо «светских» критериев Стагирита тут уже явно недостаточно. Дело вовсе не в умеренности в отношении потребностей тела, а в том, чтобы оно могло стать эффективным и надежным инструментом достижения религиозного идеала— нирваны. Сам Будда, как известно, достиг «пробуждения» (бодхи) только после того, как отказался от жесткой аскезы, приведшей его к полному физическому истощению, и восстановил здоровье. Будда осознал, что для успешного продвижения на пути духовного самосовершенствования необходимо, чтобы тело было в «рабочем состоянии», его нужды удовлетворялись, но под неусыпным контролем сознания19.
Если Аристотель признавал за чувственными удовольствиями право на середину в виде благоразумия (sôphrosynë) — среднего между распущенностью (akolasia) и бесчувственностью (anaisthësia) (Большая этика, 1186Ь 10; 1191b 5), то Будда полностью выводил их из сферы «средин- ности». Все чувственные удовольствия, связанные с желанием обладать чем-то (räga, käma), относятся к клешам (kilesa), асравам (asäva) — омрачениям, препятствиям к освобождению. А значит, середина заключена в их полной нейтрализации (с помощью специальных медитативных практик, например практики осознавания — сати), и никакая умеренность тут невозможна. Если выражаться языком Аристотеля, то чувственные удовольствия относятся к порокам, в которых не может быть середины, поскольку они порочны «по самой своей природе».
Но аскетизм не похож на мирские наслаждения, в нем середина не только возможна, но и крайне желательна. Таким образом, если первая
Text Society— PTS, электронная версия), английские и французские переводы В данном случае см.: The Book of the Gradual Sayings Transi, by F.L.Woodwart L , 1955 (PTS)
19 Вот как он об этом говорит в «Ганакамоггалана-сутте»’ «Послушайте, о монахи, будьте умеренными, когда едите. Ешьте внимательно, размышляя так: „Я ем это не для удовольствия, не из-за избытка энергии, не ради эстетического удовольствия, не для того, чтобы быть красивым, но просто чтобы поддержать существование этого тела, чтобы устранить страдание, чтобы создать благоприятные условия для реализации добропорядочного поведения, поскольку именно так я смогу положить конец прежним страданиям и не создам предпосылок для новых страданий, и тем самым мое существование станет безупречным и счастливым“» [Маджджхима-никая III. 1-7. См.: Middle Length Sayings. Transi, by I В.Homer L., 1954-1959 (PTS)].
190
крайность является «чистым пороком» (в аристотелевском смысле), то аскетические практики допускают разное отношение, в зависимости от конкретной ситуации.
В «Девадаха-сутте» Будда объясняет джайнам, что он считает плодотворным старанием и плодотворным усилием. Он сравнивает отношение монаха к удовольствию с отношением мужчины к женщине, влюбленность в которую у него прошла20. Если этот монах достигает устранения неприятных состояний и совершает лишь то, что не причиняет ему страдания, то он чувствует, как уменьшаются благоприятные дхармы (kusala dhamma) и возрастают неблагоприятные (akusala dhamma). Поэтому он решает снова прибегнуть к страданию: «У меня, ведущего мучительную борьбу с собой, благоприятные дхармы возрастают, а неблагоприятные уменьшаются». Когда его состояние улучшается, он прекращает такую практику, подобно тому как мастер по изготовлению луков и стрел заостряет головку стрелы, раскаляя ее между двумя головешками, и прекращает раскалять ее, как только достигнет нужной кондиции (Маджджхима-никая Н.222-228).
Похожий пример приводится в беседе Будды с Соной Каливисой, который в результате аскетических упражнений поранил себе стопы. Будда спрашивает его: можно ли играть на лютне, струны которой натянуты либо слишком сильно, либо слишком слабо? После отрицательного ответа Соны Будда задает следующий вопрос: «А если струны не слишком натянуты и не слишком ослаблены, если они натянуты как раз в меру, будет ли лютня издавать правильный звук, можно ли будет играть на ней?». Услышав положительный ответ, он говорит: «Так и усилия, если они слишком велики, то приводят к перевозбужденности, если слишком слабы, то приводят к медлительности, вот почему, о Сона, нужно придерживаться равновесия (samätam) в усилиях, нужно придерживаться равновесия в способностях, это должно стать вашей целью» (Махавагга V, Виная-питака I 182-183)21.
Ключевым для нас здесь является слово samatäm (от sama — «одинаковый», «равный», «равномерный»): «одинаковая в начале», «одинаковая в конце», «одинаковая в середине» — так в буддийских текстах часто характеризуется дхамма, учение Будды22. С точки зрения Будды, плодотворна и эффективна только та аскетическая или йогическая практика, которая способствует духовному прогрессу данного индивида: если в результате практик саматхи (успокоения), связанных с устранением аффектов, монах
20 Если прежде при виде того, как она смеется, разговаривая с другим мужчиной, его мучила ревность, то теперь он смотрит на это равнодушно (Маджджхима-никая И.223-224).
21 См.: The Book of Discipline. Translated by I.B Horner. L., 1962 (PTS, vol. IV); Wi- layaratna M. Sermons du Bouddha. Serf, 1988; он же. La philosophie du Buddha. Lyon, 1995 (Editions de la sagesse).
22 Отождествление середины и равенства мы находим и у Аристотеля: «Итак, во всем непрерывном и делимом можно взять части большие, меньшие и равные, причем либо по ni ношению друг к другу, либо по отношению к нам; а равенство (to ison) — это некая середина (meson ti) между избытком и недостатком» (Никомахова этика, II. 1106а 4).
191
впадает в слишком спокойное состояние, граничащее с сонливостью и отуплением, некоторое самоумерщвление принесет ему очевидную пользу, поможет взбодрится и снова двигаться вперед. Значит, в определенных обстоятельствах крайность умерщвления плоти вполне допустима.
Заметим, что Будда никогда не предлагает отшельникам «взбадривать» себя созерцанием соблазнительной женской красоты или чем-то подобным. Эта крайность оказывается в «деле спасения» совершенно бесполезной. Отношение Будды к чувственным удовольствиям ясно выражено в «Махадуккхакхандана-сутте»: он делит их на пять видов, в соответствии с разновидностями чувственных сознаний— зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и тактильные. Основная часть этой сутты посвящена красочному живописанию страданий, вызываемых этими чувственными сознаниями: страдания от холода, жары, укусов насекомых и животных, ветра, жара солнца, ядовитых змей, жажды и голода.
Мирская деятельность, профессия, может привести к потере состояния, краху, а значит, к страданию от бесплодности своих усилий. В случае же ее успешности преуспевающий человек будет беспокоиться, как бы не потерять свое имущество, будет охранять его от воров и от царей, но вопреки своим усилиям может все равно лишиться его. Причиной всего этого являются чувственные удовольствия. Из-за них «цари ссорятся с царями, аристократы с аристократами, брахманы с брахманами, домохозяева с домохозяевами, мать с сыном, сын с матерью, отец с сыном, сын с отцом, брат с братом, сестра с сестрой, друг с другом. Из-за них происходят битвы, войны, убийства, грабежи, наказания, казни, мучения, перерождения в низких состояниях». Будда видит только один выход — овладение своими желаниями и избавление от привязанности к ним.
Так, говоря об удовольствии, которое получают от созерцания материальной формы, в частности женской красоты, Учитель заключает: «Представьте, о монахи, ту же самую женщину через много лет, когда ей восемьдесят, девяносто или сто лет, она стара, сгорблена как клюка пастуха, опирается на палку, еле тащится... зубы сломаны, волосы поредели, кожа вся в морщинах, огрубела... и т.д. Разве былая красота и былой соблазн не исчезли, разве она еще представляет опасность?» Потом описываются ее возможные болячки, затем стадии трупного гниения («Махадуккхакхан- дана-сутта», Маджджхима-никая 1.83-90).
В отношении чувственных удовольствий Будда, как можно видеть, применял так называемую тактику яда-противоядия (pratipaksa), которая затем получила большое развитие в буддизме тхеравады. И влечение, и отвращение (räga— dvesa) относятся к аффектам, омрачениям психики, но вместе с тем отвращение может стать той малой толикой «яда», которая способна послужить «противоядием» против чрезмерной чувственности. Из чувства отвращения, возникающего при созерцании элементов тела в самом их неприглядном виде (например, волосы, когда они попали в пищу), из созерцания стадий трупного разложения постепенно вырабатывается со-
192
териологически значимое «срединное» качество вайрагъя (vairagya) — отрешенность, бесстрастное отношение к земному и материальному.
Очевидно, что дня Будды неприятие чувственных удовольствий связано прежде всего с их способностью вызывать привязанность к тому, что кратковременно и преходяще, не может ни составить прочную опору существования, ни наметить путь к такой опоре. Все отрицательные ощущения и эмоции, связанные с болью и страданием, в этом отношении имеют одно существенное преимущество — к ним не так легко привязаться (случаи мазохизма являются скорее исключением, чем правилом). Более того, они часто работают на «разрыв» таких привязанностей, поэтому их можно использовать во имя благих целей. К этой же категории относятся и крайние аскетические практики — хоть сами по себе они и заслуживают порицания, но в определенных обстоятельствах могут быть весьма уместны и своевременны.
Приведу пример из «Ваджджиямахита-сутты». Здесь в беседе с домохозяином Ваджджиямахитой Будда подчеркивает, что его отношение к аскетическим практикам не является категорическим, однозначным (ekäntika): «Я не говорю, что надо следовать всем аскетическим практикам. Я также не говорю, что все аскетические практики надо отвергать... Тем не менее, о домохозяин, если в результате определенных аскетических практик, примененных каким-то человеком, его неблагоприятные психические состояния усиливаются, а благоприятные ослабевают, я скажу, что такие аскетические практики не должны применяться. Если же в результате определенных аскетических практик, примененных каким-то человеком, его благоприятные психические состояния усиливаются, а неблагоприятные ослабевают, я скажу, что такие аскетические практики должны применяться» (Ангуттара-никая V.191).
Как мы видим, стратегия Будды заключается в том, чтобы избегать категорических и общих оценок, а судить избирательно, дифференцированно, исходя из строго прагматических критериев — полезности либо вредности тех или иных практик (шире — знаний) для спасения, применяемых конкретным человеком в конкретной ситуации (не случайно Будду называют аналитиком, вибхаджавадином, «тем, кто различает»). Нельзя яснее сформулировать буддийское понятие упая каусалъя — «искусные средства» обращения людей в буддизм. Путь к нирване «корректируется» Буддой в соответствии с индивидуальностью его слушателей, но общая стратегия «корректировки» заключается в попытке найти некую точку роста, через которую каждый отдельный человек может «прорасти» к нирване. Срединный путь— это не размеренное движение в заданном направлении по гладкой и прямой дороге, а скорее перемещение по минному полю — успешность одного шага вовсе не обязательно обеспечивает успешность следующего. С другой стороны, это не раз и навсегда отлаженное равновесие, которое просто нужно поддерживать в установленном режиме, а постоянное смещение, миграция центра тяжести то в одну, то в другую сторону с учетом постоянно меняющейся расстановки сил. Точка равновесия
7 - 10922
193
важна как точка роста — именно в этом, как мне представляется, состоит основное различие «трудного дела середины» у Будды и у Аристотеля.
Аристотель не считает добродетели и пороки неизменными качествами души, а связывает их появление с определенной ситуацией («когда следует... в должных обстоятельствах, относительно должного предмета, ради должной цели и должным способом»— Никомахова этика, 1106а 20) — например, для проявления трусости или храбрости нужна опасность, а чтобы продемонстрировать сдержанность, нужно испытать удовольствие, т.е. прибегает к дифференцированному «ситуативному» анализу, и в этом смысле его, как и Будду, тоже можно назвать вибхаджавадином. Но все же Аристотель неустанно подчеркивает самодостаточный характер созерцательной жизни. Для него символ совершенства и полноты — это круг (самое совершенное движение — круговое), а мудрец, ведущий созерцательную жизнь, будто находится в центре круга, в точке абсолютного равновесия (мы уже сравнивали ее с центром циклона). Будда же подчеркивает изменчивость, конечность всех тех состояний сознания, которые вызваны с помощью разных медитативных и йогических практик, — ни одно из них не является ни самодостаточным, ни устойчивым, ибо все дхаммы (элементы потока сознания), даже благоприятные, — непостоянны (anicca) и лишены собственной самости (änatta).
В «Маханидана-сутте» Будда объясняет Ананде, что значит быть «освобожденным двумя способами»: «...когда монах достигает этих восьми состояний освобожденности (восьми дхьян) в прямом порядке и в обратном порядке, когда он входит в них или выходит из них, когда, как и на сколько хочет сам23 ...когда, по устранении всех омрачений психики, он входит в очищенное от омрачений состояние и пребывает в нем свободным от осознавания, свободным от различения, познав его непосредственно и реализовав его здесь и сейчас, он становится освобожденным двумя способами» (Дигха-никая II.70)24. Таким образом, конечная цель всех практик Срединного пути есть нечто от них принципиально отличное; нирвана лежит вне всех возможных форм сансарного существования, в том числе и человеческого состояния, — она превосходит даже те способности человека (созерцающую душу, Ум), которые Аристотель считал самыми высшими и почти божественными. В этом смысле нирвана — трансцендентна, в то время как Благо Аристотеля, его Ум, энтелехия и подобные высшие метафизические принципы, имеющие отношение к основаниям человеческого опыта, являются скорее трансцендентальными.
23 Важно не только войти в медитативное состояние, но также и уметь выходить из него, быть свободным от привязанности к нему: как бы хорошо и легко в нем ни было, оно всего лишь ступенька, перевалочный пункт, который надо непременно преодолеть, а не самоцель. Что же касается цели, то она лежит за пределами человеческих способностей, отпущенных ему от природы, включая способность рассуждения и рационального постижения.
24 См.* Dialogues of the Buddha 3 vols L, 1899-1921 (Sacred Books of the Buddhists T.W.Rhys Davids. 1I-V)
194
Из этого же вытекает и другое различие, касающееся этического статуса середины. Аристотель пытается объяснить моральные категории в моральных терминах, середина — это та область, куда он помещает все человеческие добродетели (пороки — за ее пределами). Будда же рассуждает не столько в моральных (основанных на оппозиции добра и зла), сколько в прагматических категориях: его оппозиция кусала-акусала — благоприятный/выгодный — неблагоприятный/невыгодный — имеет отношение к чисто практическому эффекту достижения нирваны. Обсуждая собственно моральные добродетели, которые составляют приблизительно треть практик Срединного пути, Будда делает упор не столько на их «моральности», сколько, как мы увидим, на их утилитарной полезности.
Будду часто и справедливо сравнивают с врачевателем, терапевтом. Но эта аналогия «работает» только в отношении средств, а не целей буддийского учения. Да, можно действительно сказать, что в буддизме характер отдельного человека определяет характер практик, которые ему рекомендуются, подобно тому как характер болезни определяет характер лекарства. Нет универсальных рецептов, ведь болезни индивидуальны (ср. у Аристотеля: «средина не одна и не одинакова для всех»). Однако Будда видел в здоровье индивида — психическом и физическом — не самоцель, а лишь средство к достижению высшего, как сейчас говорят, трансперсонального состояния, тогда как Аристотель— необходимые условия его нравственного совершенства как личности (идеал калокагатии).
Как уже отмечалось, принцип срединности пронизывает все учение Аристотеля. То же самое, хотя в несколько другом аспекте, можно сказать и об учении Будды. У него это поддержание в оптимальном, наиболее эффективном режиме не только поведения, но и мышления и чувствования, некое постоянно налаживаемое равновесие, тогда как крайности — энтропийные, затратные формы существования, закабаляющие человека в сан- сарном состоянии. Срединность в отношении Будды к метафизическим вопросам — дифференцированный, антидогматический подход. В отношении таких проблем, как конечность или бесконечность мира, существование вечной души и т.п., он никогда не говорит «да» или «нет» в категорическом плане. В полемике с другими учителями и их последователями Будда стремится сдвинуть их с крайней позиции и делает это, обращая их внимание на возможность другой крайности, т.е. для достижения равновесия намеренно склоняет чашу весов в другую сторону, ссылаясь при этом на самые «примитивные», утилитарные выгоды. Например, скептикам Будда говорит о выгодности догматических взглядов, тем, кто не верит в посмертное существование, — о выгодности веры в существование другого мира; если его нет, то верующий в него выиграет по крайней мере в общественном мнении, если же он есть, то выиграет вдвойне — в этом мире и в том, а неверующий скептик проигрывает при любом раскладе («Аппанака-сутта», Маджджхима-никая 1.403-404). Брахманских традиционалистов, уверенных в существовании высшего Брахмана и в возмож¬
7*
195
ности «спасительного» слияния с ним, он заставляет сомневаться, сравнивая верующих в Брахмана с человеком, который всем рассказывает, что влюблен в самую прекрасную женщину страны, а сам между тем никогда ее не видел («Тевиджджа сутта», Дигха никая 1.235-253).
Фактически все «положительные», т.е. «категорические», положения Будды претендовали на «срединное» решение тех проблем, которые другие философы решали, по его мнению, «крайним», т.е. слишком категоричным образом. Срединность в этом аспекте связана с применением логической схемы чатушкотика (тетралемма), цель которой — доказать, что ни одно из «категорических» высказываний, составляющих ее содержание, «не работает». В «Ачела-сутте» пратитъя самутпада («взаимозависимое возникновение»25 — буддийская доктрина причинности) представлена как Срединный путь между этернализмом (сассатавада), т.е. верой в вечное существование души, и аннигиляционизмом (уччхедавада) — убеждением в том, что душа умирает вместе с телом. Аскет Ачела Кассапа спрашивает Будду, является ли дуккха (страдание) результатом действий самого индивида или же кого-то другого? Будда отвечает: это результат ни того ни другого, а взаимозависимого возникновения (Самьютта-никая II.18-21)26.
Срединность, как мы видели, в зависимости от обстоятельств может совпадать с крайностью, когда нужно создать противовес противоположной крайности («клин клином вышибают»): вспомним хотя бы «нейтрализацию» привязанности к чувственной красоте с помощью созерцания стадий трупного разложения, т.е. привязанность разрушается через чувство отвращения и неприязни. Точно так же тупость преодолевается повышенной умственной активностью и т.п.
Некоторое «манипулирование» крайностями для достижения середины свойственно и Аристотелю: «Итак, стало быть, ясно по крайней мере, что срединный склад во всех случаях заслуживает похвалы и что следует отклоняться в одних случаях к избытку, а в других — к недостатку, ибо так мы легче всего достигнем середины и совершенства» (Никомахова этика, 1109b 25). Заметим, что для Аристотеля ценность «благо» (to еу) содержится не только в «добродетельном», но и в «прекрасном» (оно же — «благое», to kalon). Но этого никак не скажешь о Будде, для которого эстетическое созерцание, как можно легко догадаться, не могло быть ничем иным, кроме источника привязанности к внешнему миру, а значит, служило препятствием к достижению нирваны. Буддийский мудрец — это прежде всего практик: он неустанно прорабатывает, т.е. как бы просеивает через сито сознания, свои внутренние состояния, отсекая все то, что не имеет отношения к «спасительному» преобразованию психики.
Оба мыслителя были убеждены в том, что профессиональные занятия (в том числе военная и государственная служба) не для мудреца: Будда
25 1) Классическая тетралемма имеет такой вид: А есть Р, 2) А есть не-Р; 3) А есть и Р и не-Р; 4) А есть ни Р, ни не-Р.
26 Samyutta Nikaya. Pt V. Maha-Vagga Ed. by M L.Feer. L., 1960 (PTS)
196
считал, что в таком случае мудрецы остаются уязвимыми для страданий, а Аристотель полагал подобные занятия неподходящими из-за отсутствия досуга и по причине их несамодостаточности (ни одно из этих занятий не является самоцелью, а только лишь средством к какой-то другой цели). Вместе с тем в понимании Аристотеля мудрец — это вовсе не нищенствующий аскет, ограничивающий все свои жизненные потребности, а человек вполне благополучный и финансово независимый, т.е. достаточно богатый, чтобы иметь досуг для «созерцательной жизни» и не заниматься зарабатыванием средств на пропитание.
Однако было бы, наверное, неправильно и несправедливо по отношению к Аристотелю видеть в нем чисто светского, сугубо рационалистического мыслителя, абсолютно чуждого религиозным исканиям. В 10-й книге «Никомаховой этики» Аристотель пишет о созерцательной жизни (bios theôrëtikos): «Подобная жизнь будет, пожалуй, выше той, что соответствует человеку, ибо так он будет жить не в силу того, что он человек, а потому, что в нем присутствует нечто божественное, и насколько отличается эта божественная часть от человека как составленного из разных частей, настолько отличается и деятельность, с ней связанная, от деятельности, связанной с [любой] другой добродетелью. И если ум в сравнении с человеком божественен, то и жизнь, подчиненная уму, божественна в сравнении с человеческой жизнью» (1177b 30). Дело тут, конечно, не в том, что Аристотель приписал мудрецам стремление к преодолению человеческого состояния и воссоединению с неким высшим началом, — ведь главной точкой отсчета и высшей целью остается для него человек — просто он считал, что некое божественное начало содержится в самом человеке и нужно всячески культивировать в себе это божественное.
Свой Абсолют — Нус — Аристотель называет «божественным», и это не просто метафора высшего и совершенного. Хотя статус аристотелевского Ума остается достаточно неопределенным — во всяком случае, его нельзя толковать ни как исключительно трансцендентальный, ни как трансцендентный, — но все же не случайно, что именно на него, на Нус, опирались неоплатоники с их трансцендентным Единым, в частности Плотин и Порфирий, и, наверное, не случайно арабское переложение текстов Плотина носит название «Теология Аристотеля».
Срединный путь Будды тоже не остался чисто прагматическим принципом, его превращение в своеобразную метафизическую и философскую доктрину совершается в махаянской школе мадхьямика, в которой противоположности — нирвана и сансара — совершенно совпадают друг с другом, образуя телесный мир, пронизанный духовной сутью («природой Будды», «освобождением», «пустотой»), подобно тому как материальный мир Аристотеля пронизан эйдосами, берущими свое начало в высшем Уме.
Итак, мы видим, что само понятие середины задает определенную структуру дискурса: раз есть середина и она воспринимается как высшая ценность, то должно быть и то, серединой чего она является, — край¬
197
ности, избыток и недостаток. И у Аристотеля, и у Будды это совпадает. Кроме того, оба мыслителя признавали попадание в середину делом сложным. Однако на этом совпадения заканчиваются и начинаются симптоматические несовпадения. Их «симптоматичность» объясняется теми же причинами, о которых говорилось в самом начале этой статьи: Аристотель и Будда не просто принадлежали к разным культурно-историческим традициям, они представляли собой разные типы мыслителей. Аристотель — теоретик, Будда — практик. Аристотель принимал мир и человека как данность, которую можно объяснить и даже в некоторой степени улучшить, т.е. относился к миру оптимистично — позитивно и конструктивно. Будда принимал мир как неизбежность, которую нет особого смысла объяснять, а скорее надо преодолевать. Но это не значит, что он был пессимистом (в этом его часто упрекают западные критики буддизма). Будда тоже смотрел на мир оптимистично, но его оптимизм был связан с позитивным и конструктивным отношением к человеку как к средству преодоления этого мира и человеческого состояния как такового.
Поэтому Аристотель вкладывал в понятие «середина» огромное позитивное, мироутверждающее содержание: тому, кто преодолел некоторые трудности ее достижения, остается только ее придерживаться и жить долго и счастливо в полной гармонии с собой и с обществом. У Будды же — существование в мире сансары не может быть позитивным и гармоничным, даже следование Срединному пути не дает никакой гарантии достижения цели. И дело тут вовсе не в трудности достижения середины — в конце концов все способы ее достижения известны и указаны в списке практик Срединного пути, — а в соблазне привязаться к практике, которая хорошо получается, к состоянию психики, в котором чувствуешь себя удобно и приятно. В этом случае высшая цель — нирвана — теряется из виду. Ее же реализация представляет собой уже совсем другой опыт — опыт, выводящий адепта за пределы причинно-следственной связи событий; опыт преодоления собственной личности и человеческого как такового; опыт преодоления «нормальных» человеческих реакций, ощущений и привычек. Такой опыт лежит уже в иной, внемирной плоскости.
И вероятно, Аристотель в сущности был прав, когда говорил: «Если же некоему [существу] ничто не доставляет удовольствия и оно не делает различия между [приятным и неприятным], оно, вероятно, очень далеко от того, чтобы быть человеком» (Никомахова этика, 1119а 10). Вопрос в том, является ли бытие человеком высшей ценностью. Для Аристотеля, конечно же, — да, поэтому его замечание носит явно неодобрительный характер. Для Будды же безразличие к удовольствию и страданию — необходимое «системное» качество адепта — позитивное par excellence (поскольку ведет к нирване), а состояние человека — то, что надо преодолеть...
Вот уж действительно вопрос, в котором Аристотелю и Будде «вместе... не сойтись»...
Мишель Юлен
Идея переселения душ в XXI в.,
или Будущее одной иллюзии
Идея переселения душ в ходе длинной цепочки перерождений является
составной частью многих широко распространенных верований, засвиде¬
тельствованных с древнейших времен. Однако в Европе начиная с XIX в.
стало привычным связывать эти верования с индуизмом и буддизмом ——
так что в наших глазах их архаичный характер окрашен еще и восточной
экзотикой. Впрочем, это не означает, что западная мысль ——как теологи¬
ческая, так и философская ——осталась совершенно чужда этой идее1. Про¬
сто на Западе господствующая христианская традиция, чьи глубинные
тенденции устремлены в прямо противоположном направлении, вытесни¬
ла ее на обочину (по крайней мере до последнего времени). Однако в на¬
ши дни существует множество признаков, свидетельствующих о том, что
такое положение вещей меняется с удивительной быстротой. Целая серия
опросов общественного мнения в англосаксонских странах показала пря¬
мо-таки устрашающий рост верований, содержащих идею реинкарнации
в той или иной ее форме. Например, в Великобритании эти верования раз¬
деляются сегодня более чем четвертью взрослого населения (против 5%
в 1974 г.). Разумеется, не следует понимать эти подсчеты буквально. Идею
перерождения можно трактовать по-разному: факт «веры», как и факт «не-
верия», содержит в себе множество степеней и нюансов, которые не охва¬
тываются упрощенными анкетами.
Относительно же общей направленности эволюции коллективных
представлений нет никакого сомнения. Тем более что результаты упомя¬
нутых опросов подтверждаются косвенными данными: прежде всего ши¬
роким распространением литературы, посвященной этой теме, и успехом,
который она снискала у публики. Люди, которые в иные времена из стра-
1 В этом убеждаешься, читая фундаментальный труд Хельмута Цандера, посвященный
этим верованиям {Zander H. Geschichte der Seelen Wanderung in Europa, Alternative religiöse
Traditionen von der Antike bis heute. Darmstadt, 1999).
© Мишель Юлен, 2004
199
ха быть обвиненными в ереси или просто из боязни предстать в смешном свете придержали бы такого рода признания лишь для близких друзей, теперь без каких бы то ни было колебаний живописуют свои прошлые существования. Средства массовой информации— радио, телевидение, даже кино (вспомним о «Маленьком Будде» Бертолуччи) охотно осваивают эту тему. Короче, идея перерождения на Западе в начале XXI в., не став пока «популярной» в подлинном смысле этого слова (т.е. принятой большинством народа), принимается всерьез все возрастающим числом людей. Имеем ли мы дело с некой модой, более или менее поверхностной и эфемерной, или, напротив, речь идет о широком и глубоком изменении ментальности? Именно на этот вопрос я и попытаюсь дать ответ, вернее, представить несколько соображений, способных стать составляющими элементами такого ответа.
На первый взгляд самым вероятным ответом было бы рассмотрение этого феномена как особого аспекта распространения на Западе целого ряда метафизико-религиозных сюжетов, имеющих буддийское или брах- манистское происхождение. В конце концов уже в античности Индию считали страной, в которой верили в перерождение (санскр. сансара). Можем ли мы считать, что эта новая идеология реинкарнации, распространяющаяся сегодня все шире и шире, действительно является калькой либо простой адаптацией классической доктрины сансары, или она берет свое начало в ином источнике?
В традиционной Индии вера в перерождение души считается в некотором роде самоочевидной. Этим я хочу сказать, что ее не выводят из каких- то посылок, прибегая к серии умозаключений. Ее представляют полной противоположностью точке зрения или идее, которая может иметь своего индивидуального автора. Люди воспитываются в этой вере с самого раннего возраста, и в течение всей жизни им никогда не приходит в голову в ней сомневаться. Фактически речь идет даже не столько о предмете веры, сколько об очевидных для них фактах2. Индусы и буддисты не «верят» в перерождение души в том же самом смысле, в котором христиане верят — или считается, что верят, — в воскресение во плоти. Судя по всему, их представления об этом носят живой и яркий характер, несмотря на неясность самой идеи. Многие утверждают, например, что чувствуют на своих плечах накопившийся «груз» своих предшествующих существований, но никто не занимается поисками каких-либо примет, знаков или доказательств реальности таковых.
Другая черта индийских представлений о перерождении — преимущественно этический характер механизма этого процесса. Таков принцип
2 Однако тут необходимо сделать поправку на этнографические исследования в Южной Индии, которые показывают, что иногда, особенно среди «неприкасаемых» или среди людей самых низких каст, встречается известный скептицизм по отношению к этим верованиям Источник и функция подобного представления остаются пока неясными
200
кармы. Слово карма (karman), первоначально означавшее жертвоприношение или ритуальное действие, стало применяться к поведению человека во всех тех его формах и проявлениях, которые можно охарактеризовать в категориях добра и зла либо, точнее, как соответствующие или не соответствующие правильному порядку вещей, или дхарме. Праведное действие приносит его исполнителю «заслугу» (пунъя), которая даст свой плод в виде разных вознаграждений: удовольствий, почестей, богатства и т.п. в этой жизни или в будущем существовании. Неправедное же действие породит «порок» (папман), а вместе с ним разнообразные страдания в этой и будущих жизнях. И поскольку между иерархией социальных условий и иерархией вознаграждений, которые человек вправе ожидать от своего существования, есть очевидная связь, принцип кармы в зависимости от глобального этического качества действий, совершенных в течение этой и предшествующих жизней, воплощается прежде всего в перерождениях — в более или менее благоприятных либо, напротив, в неблагоприятных условиях. Карма управляет и многочисленными дополнительными факторами благоденствия или прозябания, например половой идентичностью, здоровьем — крепким или хилым, «везучестью» или «невезучестью» в том, что касается встреч, и т.п.
Таким образом, мы имеем дело с принципом абсолютной имманентной справедливости, способной вместе с тем принимать различные конкретные формы: рано или поздно с каждым произойдет именно то, чего он заслуживает. Согласно индийской пословице, действие найдет своего автора так же верно, как корова узнает своего теленка среди тысячи других. Само собой разумеется, что подобный принцип заглушает в зародыше малейший порыв к протесту против «социальной несправедливости» и тем самым способствует укреплению наследственной иерархии каст. Более того, устраняя возможность «позора страдающего праведника» (библейского Иова), карма позволяет индийцам избежать постановки знаменитой проблемы зла, которая издавна — а в наши дни как никогда ранее — преследует совесть европейцев.
Вместе с тем перерождения в человеческом обличье на разных уровнях, составляющих социальную иерархию — от неприкасаемых до брахманов, — не единственная возможность. Индийской сансаре свойственно разворачиваться в разных космических измерениях на гигантской «лестнице существ», причем человечество составляет лишь среднюю часть этой лестницы. Верхняя же часть — это высшие существа: бесчисленные божества, гении, полубоги, населяющие индийский и буддийский пантеоны. Нижняя — животные, в разной степени удаленные от человека, а также растения и минералы. Хотя относительно существ, населяющих разные части лестницы, существует множество мелких и тонких расхождений во мнениях, преобладает толкование, согласно которому «души» не являются ни извечно божественными, ни извечно человеческими, ни какими-то еще,
201
они могут «облачаться» в любое из названных состояний в зависимости от
их кармы. Таким образом, в течение бесконечного времени душа может и
подняться до ранга божественной, и скатиться до полного ничтожества и
анонимности в телах низших тварей.
В этом иерархическом порядке человеческое состояние, являясь сре¬
динным, или средним, не становится от этого менее привилегированным.
В сущности, все индийские школы соглашаются друг с другом в том, что
именно в этом состоянии души могут так или иначе воздействовать на
свое будущее. «Вверху» боги слишком погружены в удовольствия своего
райского существования, чтобы желать каких-то перемен в будущем.
«Внизу» ничтожные существа слишком отягощены своими заботами и
скованы «грубостью» своих органов, чтобы быть в состоянии отличить
должное от недолжного. В своих действиях они постоянно мечутся между
желаниями и страхами, но неспособны на настоящее действие и поэтому
не производят новой кармы — хорошей или плохой, а лишь воспроизво¬
дят старую. Производство новой кармы остается привилегией человече¬
ского состояния.
Таким образом, принцип кармы, в той степени, в которой он касается
интерпретации статистически редкого человеческого состояния как цен¬
ной возможности для души изменить направление своей судьбы, является
полным антиподом всех фаталистических доктрин. В рамках этого приви¬
легированного человеческого состояния можно переживать перерождение
в радостном, жизнеутверждающем, оптимистическом модусе: достаточно
как можно преданнее придерживаться дхармы,чтобы в будущем переро¬
ждении сохранить, если не приумножить,преимущества, которыми на¬
слаждаешься в настоящем. Даже неприкасаемый — объявляет «Бхагавад-
гита» ——мог бы улучшить свое состояние в будущей жизни, если он скру¬
пулезно следует своему скромному «долгу» (сва-дхарма)3. И действитель¬
но, трудно спорить с тем, что и в наши дни движущей силой моральной
жизни огромного большинства индийцев является надежда на лучшее пе¬
рерождение в будущем, надежда, которая, разумеется, уравновешивается
страхом падения — возможным результатом тех проступков, которых они
не смогли или не захотели избежать в этой жизни.
Несмотря на это, глубинный смысл индийских идей кармы и сансары
следует искать в другом направлении, в том, которое открывает присутст¬
вие в индийском традиционном обществе персонажей, в индусской среде
называемых «отшельниками» (санньяси), а в буддийской— «нищенству¬
ющими монахами» (бхиккху). Огромный престиж этих персонажей связан
прежде всего с их глубоко отрицательным отношением к сансаре. Цель их
аскетических практик в том и состоит, чтобы никогда больше не перерож¬
даться, чтобы раз и навсегда вырваться из этой извечной взаимосвязи со¬
бытий, ощущаемой ими как рабство, закабаление, 一 одним словом, дос-
3 См.: Бхагавадгита, III. 35, IX. 27-32, XVIII. 45-49.
202
тичь окончательного освобождения (мокша, нирвана). Стремление рассматривать любую форму привязанности к жизни, даже в ее дхармическом аспекте, как выражение слепых желаний и неведения относительно истинного метафизического предназначения человека, а социальную жизнь оценивать в глобально «пессимистическом» ключе наложило свой прочный отпечаток на всю индийскую цивилизацию. В течение более чем двух тысячелетий в этой цивилизации образ перерождения культивировался как образ бесплодного блуждания от существования к существованию в поисках недоступного земного счастья.
Теперь обратимся к сегодняшней западной ситуации и посмотрим, возможно ли найти там характерные черты индийских представлений о карме и сансаре. Прежде всего обратим внимание на известную родственность языка, доходящую подчас до подлинного терминологического миметизма. Не только идея кармы часто упоминается даже без пояснения ее содержания, но и некоторые более «технические» термины используются как нечто само собой разумеющееся. Например, брахманистские философы еще в древности стали размышлять над тем фактом, что атман («Самость», «Я», душа) — сам по себе чуждый пространственно-временным ограничениям — строго говоря, не может перерождаться, т.е. перемещаться в пространстве и эволюционировать во времени. В поисках трансмигрирующего принципа они вынуждены были постулировать присутствие внутри видимого обычного тела другого тела, тоже материального, но состоящего из тонкой материи, делающей его невидимым. Именно с этим «тонким» телом (сукшма-шарира, или линга-шарира) и соединяется атман под воздействием вселенской иллюзии, оно является посредником между атманом и обычным «грубым» телом. Это в нем, в «тонком» теле, отпечатываются (в виде своеобразных следов — санскар или васан) эмоции, воспоминания, привычки и обретенные психические предрасположенности. Оно же, пережив разрушение «грубого» тела в результате смерти, переходит в только что образовавшийся эмбрион (школы спорили между собой относительно способов его образования), обеспечивая непрерывность перехода от существования к существованию — как биологическую, так и психическую.
Все эти разнообразные понятия можно встретить и у современных западных сторонников трансмиграции. «Тонкое тело» становится у них (возможно, под влиянием терминологии спиритуалистов XIX в.) «астральным телом», или «флюидным телом», или «эфирным телом». Единственное новшество в этом отношении заключается в столь характерной для нашей эпохи «техницистской» амбиции — обнаружить это «тонкое», или «эфирное», тело с помощью научных приборов, кстати, самых разнородных (спектрометров, интерферометров, счетчика Гейгера, фотографической процедуры Кирлиана и т.п.). Концепции васан и санскар (психических отпечатков) тоже имеют широкое хождение в этой среде, их введение было облегчено, с одной стороны, массовым распространением йоги на
203
Западе, а с другой — известной популяризацией фрейдовского психоанализа, в котором использовалось понятие следов, оставленных в «бессознательном» взрослого человека разными травматическими переживаниями его детства.
Но язык — это еще не все: можно употреблять одни и те же понятия, одни и те же формулировки, но вкладывать в них далеко не одинаковый смысл. Именно с таким случаем мы, как кажется, и имеем дело. Первое различие, в действительности определяющее и все остальные, состоит в том, что трансмиграционистские верования, даже несмотря на их быстрое распространение, относятся к миноритарным в нашем обществе, поэтому они требуют от человека какого-то индивидуального усилия, даже если это усилие предпринимается в рамках какой-либо секты или небольшой группы. Иными словами, эти верования в современной западной цивилизации не поддерживаются коллективным массовым участием и не укоренены в мощной религиозной или философской традиции. Те, кто их принимает, сознают, что являются первопроходцами, открывающими новые пути, полные риска и опасностей. Но что толкает их на это? Ответ не вызывает никакого сомнения. Если сегодня, в начале XXI в., вера в перерождение, как кажется, может вот-вот завоевать Запад, то это потому, что в глазах многих людей она несет надежду. Об этом свидетельствует посвященная ей огромная литература. Перспектива череды, возможно даже бесконечной, будущих перерождений нисколько не удручает наших современников. Напротив, она их вдохновляет, ибо открывает перед ними перспективу вечной жизни.
Современную трансмиграционистскую идеологию нельзя представить вне тесной связи с тем, чтб она пытается заменить — древней христианской эсхатологией: воскресением во плоти и Страшным судом. Позже мы еще вернемся к этому вопросу, но уже сейчас необходимо подчеркнуть, насколько эти взгляды отклоняются от традиционных индийских концепций. Индийцы, или скорее самые просветленные из них, нисколько не страшились уничтожения их «я» в момент смерти, напротив, они страшились его вечного коловращения. Если вспомнить знаменитый образ: «Великий Океан, волны которого — это бесконечно возобновляющиеся иллюзии и страдания», — их самым сильным устремлением было преодоление этого океана и окончательное достижение «другого» берега — берега освобождения. Здесь мы имеем дело с антиподом западных представлений о реинкарнации, которые совершенно пренебрегают понятием освобождения и возлагают все надежды именно на бесконечное продолжение череды перерождений.
То же самое расхождение идей проявляется, как только мы захотим определить содержание, смысл и сам термин для серии перерождений. В Индии перерождению подвержены все существа, населяющие космос: предполагается, что все они участвуют в этом процессе и каждый — на той или иной фазе своей судьбы — может рождаться в тех или иных воз¬
204
можных условиях. Это значит, что не существует движения в каком-то определенном направлении, есть лишь беспорядочные потоки, в лоне которых даже в самой обширной перспективе не прорисовывается никакая необратимая трансформация. Все живущие— в зависимости от своих действий — постоянно осциллируют, то поднимаясь, то опускаясь по лестнице существ. Даже боги, когда их заслуги исчерпываются, могут по истечении миллионов лет оказаться в несчастном состоянии насекомых, земляных червей и т.п. Единственное необратимое движение, возможное в этой вселенной, есть то движение, которое берет свое начало в человеческом существовании и завершается в достижении освобождения. Но освобождение, даже если в каком-то смысле и является «естественным местом» души, не обещано ей изначально, не имеет для нее фатальной неизбежности. Вследствие этого ни одному человеку не гарантировано его «спасение». Все подвергаются риску оказаться навечно замурованными в «инфернальных» лабиринтах сансары.
В современных западных представлениях речь, напротив, идет о каком-то «ориентированном» будущем, обычно развивающемся по восходящей линии. Возможность перерождения в животном состоянии либо открыто отрицается, либо просто замалчивается, либо, в лучшем случае, помещается в незапамятное и давно минувшее прошлое4. Более престижная и соблазнительная перспектива посмертного восхождения к мистическим, сверхчеловеческим состояниям на отдаленных планетах или в экст- рагалактических пространствах, достойная научно-фантастических романов, описывалась без малейших колебаний и сомнений5. Здесь преобладает та же идея, что и в деле просвещения: мы приходим в этот мир, на землю или куда-нибудь еще не столько ради того, чтобы избыть свои прошлые ошибки, сколько для того, чтобы устранить плохо разрешенные психологические конфликты и быть в состоянии воспринять ту или иную истину морального либо религиозного свойства. Иногда речь идет о подлинной просветительской миссии, которую осуществляют среди нас существа, «достигшие более высокого уровня эволюции».
Очевидные рецидивы не составляют исключения из этого правила. Кутюрье Пако Рабан, к примеру, заявляет, что ему известно, почему в XVIII в. он родился в облике проститутки: «Поскольку я часто (sic!) рождался священником, наделенным определенной властью над умами лю¬
4 Симптоматично, что уже в античности, в неоплатонизме возможность перерождения в облике животных прямо осуждалась и обычно отрицалась См.. Zander H. Geschichte der Seelen Wanderung in Europa, c. 102-111
5 Коллективное самоубийство в 1995 г. в Швейцарии членов секты «Рыцари Храма Солнца» прекрасно вписывается в эту перспективу. Цандер приводит в пример членов американской секты «Небесные врата», которые «воспользовались» пролетом в 1997 г кометы Хейла Боппа, чтобы покончить жизнь самоубийством, будучи уверенными, что эта комета перенесет их души в бесконечность космоса {Zander H. Geschichte der Seelenwanderung in Europa, с. 602).
205
дей, я стал черстветь. Мое сердце окаменело, перестало воспринимать страдания братьев моих. Чтобы подняться над этим, я должен был познать судьбу Марии Магдалины, должен был пережить унижение, падение, общественное презрение...»6. Одним словом, там, где традиционная Индия рисовала «инфернальный» замкнутый круг, Запад охотно воображает некую восходящую спираль, по которой индивидуальные судьбы — вопреки неисчислимым катастрофам и трагедиям— неуклонно приближаются к божественному состоянию.
Я уже говорил о том, что индийское религиозное сознание никогда не испытывало потребности в каких-то доказательствах объективного существования перерождения (не больше, чем сегодня многим из нас все еще не кажется необходимым доказывать правомерность интуитивного переживания нашей собственной жизни как единственной и неповторимой). Иное дело — современные адепты реинкарнации, которым приходится бороться с противоположными их убеждениям верованиями и коллективными свидетельствами о том, что «мы живем лишь раз». Свои доказательства, знаки или признаки «другой жизни», которые спиритизм XIX в. искал с помощью столоверчения, наши современники находят, как им кажется, в спонтанно возникающих или специально вызванных воспоминаниях о предшествующих существованиях. На этот счет существует два разных подхода.
Первый принято представлять как научный и объективный. Он опирается на тот факт, что в некоторых уголках планеты, в некоторых кругах разные индивиды, преимущественно дети или подростки, вдруг «узнают» места, в которых они оказываются впервые, и называют по имени случайно встретившихся и совершенно незнакомых людей, описывают вкусы, мнения и черты характера тех, кто умер еще до их появления на свет, их окружение, перечисляют события, особенно трагические, случившиеся с ними (убийства, несчастные случаи и т.п.), которым они никак не могли быть свидетелями и о которых им никто не мог рассказать. Эти люди подвергаются подробному допросу— как с точки зрения полицейского, так и с точки зрения историка; их свидетельства изучают на предмет когерентности, реальности изложенных фактов, достоверности упомянутых толкований — и все это для того, чтобы исключить возможность подделки или присутствия параллельных источников информации. В редких случаях, согласно сторонникам этого подхода, когда то или иное явление не поддается никаким «несверхъестественным» попыткам объяснения, может быть осторожно выдвинута идея реинкарнации — в качестве некой возможной гипотезы. Таков метод американца Яна Стевенсона и его учеников: он не утверждает в догматической манере, что реинкарнация реальна, а только предполагает, что она возможна «на нынешней стадии развития науки»7.
6 Rabane P. Trajectoire. Р., 1991, с. 89.
1 Stevenson /. Twenty Cases Suggestive of Reincarnation. University of Virginia Press, 1974.
206
Второй подход является скорее внутренним. В нем заметна экстраполяция определенных — психоаналитических или вдохновленных психоанализом — методов исследования «бессознательного» (методы свободных ассоциаций, управляемого сновидения, гипнотического внушения, первого крика и т.п.). Идея использовать эти методы для обнаружения возможных прошлых жизней своим возникновением обязана двум главным факторам. С одной стороны, было замечено, что в воспоминаниях о собственном детстве возможно продвинуться куда дальше принятого до этого предела (3 или 4 года), вплоть до самого раннего детства и даже внутриутробного существования. С другой стороны, развитие техники реанимации позволило вернуть к жизни многих людей, которых раньше сочли бы умершими. Их свидетельства, какое бы толкование им ни давали, говорят о том, что на самой границе жизни и смерти, вместо того чтобы постепенно сходить на нет, сознание начинает, напротив, обретать особую силу. Так подчеркивается некоторая непрерывность потока сознания от самых первых моментов жизни (сколько же раз люди пережили - или думали, что пережили, — «травму» своего рождения) до момента своего видимого угасания. Идея того, что сознание появляется неожиданным — и чудесным — образом в миг рождения, чтобы потом не менее неожиданно исчезнуть в момент кончины, стала представляться все менее и менее вероятной. Так открылись шлюзы для попыток исследования этого потока сознания на границах актуального существования, и именно так древняя идея «предшествующей жизни» подарила этим исследованиям, все еще делающим первые шаги, возможность новой репрезентации, скроенной, так сказать, на вырост.
Мы не станем описывать здесь историю этих исследований, находящихся в процессе активного развития и в Европе, и в США. К настоящему времени их итог представляется весьма внушительным — различные процедуры анамнеза и те, кто их практикует: психологи, психоаналитики, священнослужители, врачи, более или менее знаменитые гуру и т.п. Одни используют гипноз, другие — глубинное расслабление, третьи — внушение в благоприятной сенсорной среде, некоторые даже не боятся прибегнуть к наркотикам типа ЛСД. Цель этих «путешествий», как правило, терапевтическая (по крайней мере по замыслу): речь идет о том, чтобы в самом отдаленном прошлом пациента, еще до его рождения, найти причины фобий, поведенческих аномалий и даже органических изменений, которым в рамках его настоящего существования трудно дать правдоподобное объяснение.
Но исследование доопытного прошлого может стать и самоцелью. Каждый раз речь идет о погружении в неизвестное: испытуемый никогда заранее не знает, в какой из своих многочисленных предшествующих жизней он «приземлится». Вскоре он оказывается перед лицом видений и событий, которые ему, прежде чем определить их смысл, нужно как-то расположить в пространстве и во времени. Его «гид» пытается помочь,
207
задавая вопросы типа: «Можете ли вы описать свое тело?» (например, бы¬
ло ли это тело мужчины, женщины, молодое, старое и т.п.), «Какую одеж¬
ду вы носили?»,«На каком языке говорили люди вокруг вас?», «Бы¬
ли ли эти люди доброжелательны или враждебны по отношению к вам?».
Благодаря этим вопросам испытуемый придает своему опыту какую-то
форму и обретает ощущение, что он действительно пережил тот или иной
эпизод, обычно драматический и красочный, из своей прошлой жизни.
Десятки тысяч подобных «путешествий» уже были совершены, большин¬
ство из них записано на магнитофонную пленку. Можно ли удивляться
после этого, что адепты подобных методов объявляют городу и миру (urbi
et orbi), что реинкарнация сегодня — это уже не просто предмет веры, но
и непосредственный опыт?
Думаю, что это самая настоящая мутация религиозного сознания, спо¬
собная, если она будет развиваться в таком же духе, привести к метамор¬
фозе нашей цивилизации. На карту поставлена система нашего отношения
к будущему, к работе, к любви, к политике, к истории — все это будет
опрокинуто, если станет очевидной или эмпирически верифицируемой
реальность предшествующих жизней. Но мы еще далеки от этого, по¬
скольку содержание подобных свидетельств и то поспешное толкование,
которое им дается, разделяет огромная пропасть. Познакомившись с эти¬
ми свидетельствами, поражаешься тому, что все эти преджизни, вытолк-
нутые на поверхность таким способом, просто никакие. Они не представ¬
ляют ничего из того, что по воле судьбы должно было бы составить самую
общую участь человечества в течение веков, предшествующих нашей эпо¬
хе. Что знаем мы об огромных человеческих группах, которые проживали
на разных континентах в течение прошедших веков? Сколько племен, эт¬
носов, народностей почти не оставили своих следов в истории, в языке, в
нравах, в обычаях и верованиях, навсегда исчезнув в анонимных закоул¬
ках прошлого! Статистически следовало бы ожидать появления огромного
числа судеб, принадлежащих этому молчаливому большинству человече¬
ства. А значит, должны преобладать жизни рабов, рабочих, крестьян, слуг,
торговцев.
Однако действительность, если ее можно так назвать, совершенно дру¬
гая. Все эти судьбы, увидевшие свет благодаря разным методам анамнеза,
можно условно поделить на две большие категории. К первой относятся те
роли, которые можно назвать эмблематическими: великие жрецы, посвя¬
щенные, маги, чудотворцы, весталки, друиды, тамплиеры, инквизиторы,
министры, знатные куртизанки и т.п. Большая часть этих жизней протека¬
ет в Древнем Египте (в чем нет ничего удивительного), но также и в цар¬
стве ацтеков в Мексике, и при дворе Фридриха II в Палермо, и в священ¬
ном Бенаресе, т.е. в местах, отмеченных особым авторитетом — религи¬
озным или эзотерическим.
Вторая категория кажется на первый взгляд более разнородной и вме¬
сте с тем не так легко поддающейся критике. В ней можно найти смесь из
208
жизней крестьян, аристократов, торговцев, солдат, большинство из которых протекало в Европе или в Средиземноморском бассейне. Это жизни — или, точнее, насильственные смерти — персонажей и типов в духе дешевых, китчевых открыток из деревни Эпиналь8, будто взятых из рассказов про мировую историю для детей: римские легионеры в их схватках с варварами или карфагенянами; гладиаторы; взбунтовавшиеся рабы, последовавшие за Спартаком; христиане, брошенные на съедение диким зверям на аренах римских цирков; колдуны, сжигаемые на кострах; крестоносцы, затерявшиеся в сирийской пустыне и подвергшиеся нападению сарацинов; пираты Южных морей; аристократы, гильотинированные во время Великой французской революции; солдаты Наполеона, возвращающиеся из России, или — ближе к нашему времени — узники нацистских концентрационных лагерей9.
Среди таких свидетельств наблюдается явный недостаток заурядных судеб — размытых, тусклых, лишенных значительных потрясений. Кроме того, создается впечатление, что испытуемые никогда не сталкиваются с историческими эпизодами, которые неизвестны их культурному сознанию, не содержат «описания примет», которые им пришлось бы идентифицировать, листая словари и энциклопедии. Сторонний наблюдатель начинает подозревать, что эти испытуемые не столько обнаруживают свои подлинные прошлые жизни, сколько проецируют разные эмоциональные состояния своего «бессознательного» на определенные эмблематические ситуации (которые можно было бы назвать архетипическими), предоставляемые в их распоряжение их собственной исторической эрудицией. Не исключая возможности чисто терапевтического интереса, который могут иметь эти практики, в них трудно увидеть экспериментальную верификацию принципа реинкарнации.
На первый взгляд может показаться, что исследования Яна Стевенсона заслуживают более серьезного отношения: он проводит их с чрезвычайной тщательностью и критичностью (среди тысяч случаев выбрал только несколько). Ян Стевенсон демонстрирует свое знание о разных возможностях «рационального» объяснения (например, основываясь на косвенной суггестии или криптомнезии)10. Согласно ему, только те случаи могут «навести на предположение» о реальности реинкарнации, которые решительно ускользают от подобных объяснений. Однако два рода фактов
8 Деревня во Франции, в которой впервые стали выпускать дешевые литографии с сюжетами из Библии и всемирной истории — Прпмеч пер
9 Эти примеры взяты из франкоязычной литературы, отражающей национальную систему образов, но подобные примеры, имеющие, разумеется, свой национальный колорит, встречаются в литературе англосаксонских и германских стран (см.: Zander H. Geschichte der Seelenwanderung in Europa, с. 624-628).
10 Некоторые случаи могут таким образом быть полностью «демистифицированы», например случай Бриди Мерфи, о котором писали американские газеты в 70-с годы. См Wilson!. Mind out of Time? Reincarnation Claims Investigated. L., 1981.
209
ослабляют эту гипотезу. С одной стороны, Стевенсон проводил свои исследования в культурных ареалах (Индия, Шри-Ланка) или общинах (ливанские друзы), где перерождение является неоспариваемым коллективным верованием. Отсюда, очевидно, естественная и бессознательная предрасположенность со стороны опрошенных выбирать в ходе исследования определенные наблюдения и ориентировать свой рассказ в том направлении, которое совпадает с общей репрезентативной рамкой реинкарнации. С другой стороны, можно заметить, что жизнь, непосредственно предшествовавшая настоящему существованию рассказчика, протекала в месте, находящемся в 15-20 км от его теперешнего места жительства. В логике морального воздаяния за деяния, т.е. кармы, это географическое ограничение не имеет никакого оправдания. Вместе с тем оно прекрасно сочетается с некоторым бессознательным соучастием, осмосом, взаимопроникновением психических состояний, взаимообменом жестами, точками зрения и спонтанными реакциями между людьми, принадлежащими одной религиозной конфессии и проживающими на одной территории. Кроме того, можно заметить, что «внешний» подход Стевенсона и «внутренний» подход гуру анамнеза больше противоречат друг другу, чем друг друга дополняют и усиливают, поскольку в первом предпочтение отдается некоему «местному» варианту реинкарнации, тогда как второй чаще обращается к отдаленным и экзотическим прошлым жизням.
Этими критическими замечаниями — которые, разумеется, можно было бы еще развить и систематизировать — мы не стремились свести все эти «путешествия во времени» к некой массовой коллективной иллюзии и еще меньше — к намеренной мистификации. Если выражаться точнее, мне не хотелось бы толковать их лишь в терминах истины и лжи. В действительности все, что касается потустороннего, в принципе недоступно верификации, поэтому все наши наблюдения или практики внутри той области сцепляются с нашим здешним миром. В этом смысле свидетельства о прошлых жизнях не являются ни подлинными, ни лживыми, но само их распространение в наше время свидетельствует об определенной потребности коллективной души. Не надо забывать, что сознательная жизнь человека постоянно окружена ореолом загадочных психических явлений: сны, галлюцинации, ауры, парамнезия (или криптомнезия), удвоение, впечатление «уже виденного» («déjà vu») и т.п.
В некоторые исторические эпохи ощущалась потребность понять их как послания, исходящие «оттуда». Религиозная литература Средневековья, к примеру, наполнена привидениями и визионерскими рассказами: жертвы проклятий, души чистилища, святые могли также неожиданно явиться и монаху, и господину, и скромной служанке, требуя от них более чистой христианской жизни, либо предупреждая о происках той или иной личности, или предрекая день и обстоятельства их собственной смерти,
210
а иногда показывая им какое-то место в раю или в аду11. Этот жанр рассказов с течением веков встречался все реже и реже, пока окончательно не исчез. Его упадок выражал упадок определенной системы христианских образов, особенно в том, что касалось эсхатологических материй. В пустоте, оставшейся после него, сегодня обосновалась иная система образов, располагающая иными способами перевода в визуальный ряд и в текст того же самого материала, бессмертного как сама человеческая душа, — материала паранормального опыта и измененных состояний сознания.
Бурный поток идей трансмиграции, заполонивший современный Запад, прежде всего необходимо поместить в историческую перспективу. Он поддается толкованию, только если принять во внимание долгую историю ментальности. Мы имеем дело не с новым явлением, а лишь с воскрешением, новым пришествием старого. С точки зрения историка, а еще больше этнолога, эсхатология реинкарнации всегда преобладала на планете — даже если она и не обретала такой «ученой» и систематической формы, как в Индии и в странах буддийской цивилизации. Тайну и исключение представляет скорее эсхатология воскрешения, свойственная триаде «Религий Книги»: иудаизму, исламу и христианству. Даже в Европе трансмиграция не была какой-то новой идеей; ее история, исключительно богатая и сложная, только сегодня становится объектом систематических исследований.
И в самом деле, красная нить, натянутая, но вместе с тем никогда не разрывающаяся, через Оригена, катаров, Каббалу, Джордано Бруно, Лессинга, Гёте, немецкий романтизм и т.д. связывает Пифагора и Эмпедокла12 с Виктором Гюго. Оставаясь в течение долгого времени маргинальным, почти тайным верованием ввиду своей «еретической» репутации, перерождение выплыло на поверхность лишь в конце XVIII в. в связи с прогрессирующим склерозом традиционной христианской эсхатологии. Начиная с этого времени и на протяжении всего XIX века целая плеяда мыслителей и писателей защищала его в духе «прогрессистской» и оптимистической философии истории, руководствуясь идеей, что масса людей, умиравших «слишком рано» в эпоху невежества и варварства, должна иметь возможность возрождаться из века в век, чтобы наблюдать, как человечество прогрессировало после их смерти13. Современное любопытство к прошлой жизни является не чем иным, как другой версией этого же верования, чей чрезмерный индивидуализм и нарциссизм легко объясня¬
11 О таких рассказах см.: GoffJ.Le. La naissance du purgatoire. P., 1983.
12 Ср. его знаменитые слова: «Ибо когда-то я был юношей, юной девой, и деревом, и птицей, и чайкой, и рыбой» (Diels Я, Kranz W. Die Fragmente der Vorsokratiker. 12 Aufl. Zürich-Dublin, 1966, Bd. I, c. 358).
13 Cm.: Lubac H. de. La postérité spirituelle de Joachim de Flore. 2 vols. Namur-Paris, 1978, 1981 ; см. также: Gusdorf G. Du Néant à Dieu dans le savoir romantique. P., 1983.
211
ются крахом «прогрессистских» мечтаний и размахом исторических катастроф, происшедших в течение XX в.
Можно было бы посчитать, что фантастические (читай: откровенно бредовые) аспекты этой новой веры в перерождение свидетельствуют прежде всего об умственном расстройстве тех, кто ее разделяет, так что ее можно заранее дисквалифицировать в качестве будущего вйдения мира. Однако история религий предлагает нам множество примеров того, как великие духовные движения, начало которым было положено в подобных возбужденных состояниях, претерпевали длительные трансформации уже в качестве коллективных представлений и практик. Похоже, что определенная ментальная мутация, развивающаяся спонтанным и беспорядочным способом, почти всегда предшествует великим изменениям на верхних этажах концептуальной мысли; более того, она-то и делает их возможными. Чаще всего импульс приходит снизу, а затем подхватывается и оформляется философской или теологической рефлексией. В настоящее время множество объективных факторов способствует, как кажется, выдвижению идеи трансмиграции на первый план. Все это факторы теоретического, этико-религиозного и социального порядка.
В течение долгого времени определенный образ мира, доставшийся нам частично от античности, частично от Средних веков, представлял собой структуру, в которую самым естественным образом вписывалась эсхатология воскрешения и Страшного суда. Она поставила человека неизмеримо выше прочих живых существ, а из среды его обитания, Земли, сделала центр вселенной. Она основывалась на довольно короткой хронологии, порядка нескольких тысяч лет, между творением и концом мира. Этот образ мира ныне устарел. Первым рухнул геоцентризм, за ним последовал антропоцентризм, подорванный, с одной стороны, появлением выявленных
Ч.Дарвином фактов, свидетельствовавших о постепенном процессе очеловечивания, длившемся по крайней мере три миллиона лет, а с другой стороны, этологией, обнаружившей множество общих поведенческих реакций, свойственных людям и некоторым высшим млекопитающим. Современная космология, отодвинувшая появление вселенной еще на 15-20 миллиардов лет, оставляет открытой перспективу бесконечного расширения вселенной в будущем и в любом случае не предполагает возможности «конца света» раньше чем через миллиарды лет, но и тогда его причины не будут иметь ничего общего с декором человеческой истории на планете Земля. Древние доктрины индуизма и буддизма махаяны, которые представляли, как существа трансмигрируют из одной вселенной в другую, в течение неограниченного времени постепенно осваивая все возможные в пространстве и времени условия существования, оказались более прозорливыми и получили такой отклик в западной культуре, который не был возможен в прежние времена.
Но к этому теоретическому интересу добавляется иной — этико-религиозный. Концепция (или, скорее, восприятие) человеческой жизни как
212
единственной и неповторимой неизбежно выводит к манихейской эсхатологии с ее идей окончательного и необратимого спасения или проклятия. Точное содержание обоих этих представлений могло варьироваться даже внутри христианства, но их структурная оппозиция сохранялась в неизменном виде, несмотря на возможные «смягчения» в виде Лимба или Чистилища. Однако наши современники больше не могут придерживаться религиозной антропологии, которая, даже не прибегая в обязательном порядке к упрощенному делению людей на «хороших» и «плохих», не перестает опираться на взгляд, согласно которому в результате «Божьего суда» ошибки одних будут прощены, а ошибки других — нет.
Сегодня и психоанализ, и вообще вся глубинная психология сделали нас более чувствительными к бесконечной сложности человеческой психики, к крайней расплывчатости и неясности мотивов, предшествующих всякому поступку, к определяющей роли случайностей индивидуальной истории в формировании личности и кристаллизации ее жизненных выборов. Отныне мы склонны полагать, что смысл жизни не исчерпывается материальностью наблюдаемых форм поведения, что он может все время эволюционировать и находиться в подвешенном состоянии вплоть до последнего момента, когда смерть ставит произвольную точку в той или иной судьбе. Короче говоря, мы больше не верим в возможность «даже для Бога» вынести какое-то окончательное суждение о только что завершившейся жизни, «без права апелляции». В некотором смысле «вердикт» трансмиграции, вынесенный как бы автоматически, в отсутствие Высшего Судьи, может показаться более беспристрастным в той степени, в которой в нем объективно учитываются как провинности, так и заслуги, и в то же время наказания и награды носят временный, относительный характер, оставляя для существования человека, не завершающегося даже в момент смерти, открытое поле возможностей.
Третий мотив — на сей раз социального или социоэтического характера— тоже способствует возвращению идеи реинкарнации. Неравенство шансов при рождении, существовавшее везде и всегда, в наши дни воспринимается болезненнее, чем когда-либо, и это в момент, когда повсюду в мире политические силы (по крайней мере в нетоталитарных государствах) признаются в том, что для борьбы с этим злом у них нет никаких лекарств, кроме паллиативов. И здесь свою определенную роль сыграли биология и гуманитарные науки — они сделали очевидным тот факт, что именно в раннем детстве формируются шансы человека преуспеть или потерпеть крах. Сегодня уже известно, что питание ребенка в первые годы жизни обусловливает созревание его мозга. Недостаток каких-то микроэлементов в течение первых трех-четырех лет жизни ребенка неизбежно вызовет недостаток его интеллектуального развития во взрослом состоянии. Дефицит чувственных контактов или проявлений привязанности может привести к еще более разрушительным для личности последствиям. Все эти разнообразные факторы, в свою очередь, зависят от страны рож¬
213
дения и от исторических условий (мирного времени или войны), от социального статуса родителей, их взаимопонимания или отсутствия такового и т.п.
Различные источники неравенства предстают отныне в тем более резком освещении, чем больше в последние десятилетия гаснут надежды, которые повсюду в мире огромные массы людей возлагали на некую мифическую революцию, способную поразить корень этого зла и уничтожить его раз и навсегда. В нашу эпоху все большее распространение приобретает противоположная идея: для правильного функционирования общества необходима какая-то степень неравенства, по крайней мере экономического (признано, что эгалитаристская политика порождает только равенство в бедности), в противном случае пострадают самые лучшие и предприимчивые. Перед лицом подобных фактов правительства, не слишком это афишируя, сдерживают свои амбиции, направленные на корректировку самых вопиющих проявлений этого неравенства.
Вместе с тем с точки зрения эсхатологии, покоящейся на принципе «живем лишь раз», рождение в каком-то определенном месте планеты, в определенной семье и социальной среде является нейтральным, незначимым, чисто случайным фактором. Огромное и совершенно непоправимое неравенство возможностей при рождении кажется загадкой, соблазном. Вот почему люди, чья совесть не может смириться с таким положением вещей (а их число увеличивается год от года), обращаются к старой идее перерождения, преобразующей загадку зла в проблему и предлагающей ее решение, чем-то похожее на рациональное.
Таким образом, перерождение, которое когда-то предшествовало христианству, теперь, при господстве последнего, играет роль своего рода параллельной, «теневой» эсхатологии, и вполне возможно (по крайней мере исходя из сегодняшней роли идеи трансмиграции), что его переживет. Устойчивость этой идеи связана, без всякого сомнения, с тем, как естественно и интуитивно она выражает природные циклы: ритмы времен года, миграции птиц, метаморфозы насекомых, рождения и упадка. «Вера в метемпсихоз, — пишет Шопенгауэр, — представляет собой естественную увереннность человека, как только он, не имея заранее готового мнения, начинает размышлять»14. Очень возможно, что мы действительно движемся в направлении новой парадигмы или к обновлению старой и что длинные исторические скобки уже закрываются. Возможно, что через два-три века идея бесконечного чередования рождений снова будет навязываться нам как очевидная данность.
Значит ли это, что перерождение обретет статус научной истины, доказанной и более не обсуждаемой? Никоим образом! Представить дело так — все равно что применить принцип исключенного третьего к облас¬
,4Цит. по: Le monde comme volonté et représentation. P., 1966, c. 1255; см. также c. 447-449.
214
ти, которая по определению лежит вне сферы его компетенции. С точки зрения рассудка «очевидно», что либо существование одно, либо их много, третьего не дано. Стало быть, либо гипотеза трансмиграции верна, а противоположная гипотеза об «одноразовом» существовании ложна, либо наоборот. Если же тот самый рассудок, приняв во внимание возможные ограничения наших познавательных способностей в том, что касается подобных материй, объявит одну из этих гипотез лишь в какой-то степени вероятной, а другую — в той же степени невероятной или если он придет к выводу о неразрешимости данного вопроса и тем самым поставит обе гипотезы на одну доску, это не помешает ему продолжать определяться идеей того, что «в самой Реальности», в самой «вещи-в-себе», какой бы непознаваемой она ни была для нас, «обязательно» верна либо та, либо другая гипотеза. Но рассуждать таким образом значит забывать, что экран смерти остается непроницаемым не на какое-то время, а навсегда— по определению. Эта непрозрачность абсолютна, ибо, если бы мы могли, прибегнув к помощи соответствующей техники, бросить взгляд за пределы жизни и как-то общаться с мертвыми, это бы означало соединение потустороннего пространства-времени с нашим, т.е. растворение смерти.
Вернемся ненадолго в Древнюю Индию. Там всегда знали, что модель сансары соответствует лишь экзотерическому, «популярному» уровню истины и что другая истина, эзотерическая, должна находиться за ней. В этом смысл идеи освобождения в представлении недуалистической веданты и махаянского буддизма. В веданте доминировала парадигма сна: доступ к освобождению открывается лишь в последнем перерождении адепта, точно пробуждение происходит в связи с последним эпизодом сна (особенно в кошмаре, драматический характер которого становится настолько непереносимым, что человек просыпается). И так же как при пробуждении мы начинаем относиться к снам как к чистым иллюзиям, так и освобождение подрывает саму логику трансмиграции и выражается в обретении сознания: «Никогда никто не был, не есть и не будет скован цепями сансары, все освобождены извечно»15.
Единственная реальность, которая признается за перерождением, это реальность психологическая, или этическая. Оно представляет собой не столько путешествие души из тела в тело во внешнем мире, сколько внутреннюю одиссею души, пребывающей в оковах иллюзии своего отличия от других и стремящейся — через воображаемое отождествление себя с разными фиктивными ситуациями и ролями— преодолеть свое врожденное невежество и воссоединиться с всеобщим «Я». Что же остается «после» освобождения? Имела место история, но не история личности, которая пережила ее завершение и обрела способность резюмировать ее уроки для самой себя. Тексты — как брахманистские, так и буддийские —
15 Тот же мотив встречается в буддизме и джайнизме (см.: Halbfass W\ Karma und Wiedergeburt im indischen Denken. München, 2000, c. 70, 128, 225)
215
говорят о резюмировании в форме «панорамной» реминисценции прошлых жизней, происшедшей перед пробуждением, но понимая эту реминисценцию как последнее проявление, полуреальное, полунереальное, как лебединую песнь индивидуального существования, которое возвращается к своему незыблемому надличностному источнику. Мы видим, какая пропасть разделяет эти представления и современный «неореинкарнизм». В первом случае — вспышка, освещающая и одновременно поглощающая всю совокупность предшествующих псевдосуществований, мост, переброшенный между временем и вечностью. Во втором — ловля рыбы в мутной воде прошлого в надежде, что «на крючок» попадется одна из прожитых жизней.
Перерождение— с одной стороны, концепция единственной и уникальной жизни — с другой, ни в коей степени не являются теориями реальности, стремящимися к ней приблизиться через рассуждение и опыт, что сделало бы их доказуемыми или опровергаемыми с точки зрения тех же источников познания. Это коллективные ментальные конструкции, которые предшествуют нашему восприятию времени и вставляют его в определенную рамку, стремясь при этом не замечать или отодвигать в сторону любой факт, который им противоречит. Их «истинность» измеряется не степенью их адекватности некой гипотетической, посмертной Реальности, но их способностью открыть людям позитивные и осмысленные перспективы как для их настоящего, земного существования, так и для будущего, которое они не могут запретить себе представлять за порогом этой жизни. Они «истинны» только в той мере, в которой выполняют эту функцию, и становятся «ложными» или скорее «неадекватными», когда ее не выполняют.
Таким образом, идея перерождения будет тем лучше играть свою роль консолидирующего верования, чем дольше она останется под прикрытием (в тени) аффективных индивидуальных проекций. Если же ее выставят на всеобщее обозрение при свете дня, возведут в догму, в универсальную систему объяснения, она обязательно спровоцирует что-то вроде скандала— интеллектуального и морального. Как это недавно произошло в Германии, когда некие «терапевты»-реинкарнационисты заявили, что в газовых камерах жертвы нацистских лагерей, и особенно евреи, несли наказание за совершенные ими тяжкие преступления, «платили по счетам» своей кармы.
Отметим в заключение, что идея перерождения может заставить признать себя только в том случае, если сумеет стать естественным горизонтом нашего осознания времени. В качестве же чисто интеллектуальной конструкции она несостоятельна и даже опасна. Единственная реальность, которая возможна для нее, — это реальность мифа: мощного коллективного верования. Пытаться доказать или опровергнуть ее с помощью рациональных аргументов — значит попросту терять время.
Перевод с французского В.Г.Лысеико
216
Раздел IV МУСУЛЬМАНСКИЕ ТРАДИЦИИ
Т. К. Ибрагим Коран о духовном плюрализме
Кораническая унитаристская интенция имплицирует универсалистское видение мира. Этот универсалистский идеал допускает интерпретацию (а исторически нередко так и интерпретировался) в эксклюзивистском и экспансионистском духе. Вместе с тем мусульманское Священное писание содержит множество положений, которые можно понимать в том смысле, что универсализм не только не исключает плюрализм, но и непременно предполагает его.
Коран разделяет с Библией идею о метафизическом равенстве людей как творений единого Бога, призванных Ему служить. Вместе с Библией Коран учит об этническом единстве человечества, восходящего к общему прародителю — Адаму. Как и Евангелия, Коран не замыкает Божию любовь на одной нации, а открывает перед всеми народами врата духовного совершенства и вечного спасения.
Универсалистское понимание божественного водительства развито Кораном в разных направлениях. Прежде всего, он проповедует верность всем духовным миссиям, которые несли людям прежние посланники Божий. Стих 2:136 наставляет мусульман заявлять:
Мы веруем в Бога и в ниспосланное нам откровение,
В ниспосланное Аврааму, Измаилу, Исааку, Иакову и коленам,
В полученное Моисеем и Иисусом —
В полученное всеми пророками от Господа их,
Не делая меж ними различия*.
Одинаково с последователями ислама на вечное спасение могут надеяться приверженцы других религий:
Воистину, верующие в [Коран],
Иудеи, сабеи (унитарии) и христиане,
*3десь и далее коранические фрагменты цитируются в переводе автора.
© Тауфик Ибрагим, 2004
217
Всякий, кто верует в Бога и в Судный день,
Верша добрые деяния, —
О них не дблжно тревожиться,
И не знать им печали.
(5:69)
Но Коран признает не только пророков, имена которых известны семитским религиям — иудаизму, христианству и исламу. В ст. 40:78 Бог открывает Мухаммаду:
Воистину, Мы являли посланников прежде тебя;
Об одних тебе Мы рассказывали,
О других же Мы тебе не рассказывали.
В этом и других стихах Корана подчеркивается мысль о Божием откровении как об универсальной милости Божией, ибо не было народа, кому не было дано предводителя, посланника (6:130-131; 10:74; 16:36; 28:59; 35:24). Такое равенство людей выступает императивом принципа справедливости— и само арабское слово ‘адл, которым передается этот принцип, означает «равенство», «равный».
Всеобщность Божиего водительства, представляющая надежду на вечное спасение всем народам со времен самого Адама, выражает принцип справедливости и в другом его аспекте— в плане индивидуального характера ответственности. Коранической концепции человека и его моральной жизни чужда идея о «первородном грехе», чьи последствия перешли на весь человеческий род и снятие которого связывается с приходом в отдаленной перспективе трансцендентного Спасителя. Согласно Корану, Адам и Ева, ослушавшиеся Божией проповеди, были изгнаны из Рая и введены в мир, характеризуемый враждой. Но Бог потом простил их и обещал явить им Закон, которому они могут следовать, а значит, спастись (2:37-38). Таким образом, перед человечеством, и с самого начала его существования, был открыт путь к спасению.
Коранический профетизм учит не только о всеобщности пророческих миссий, но и об их субстанциональной идентичности. Все пророки проповедовали единую религию (4:163; 21:92; 23:51-52; 42:15), ядро которой составляет вера в единого Бога (16:36; 21:25; 41:14). В этом смысле все богооткровенные религии равны, и никакая группа не имеет монополии на истину. «Мы не делаем различия между посланниками Божиими», — неоднократно напоминает Коран (2:136, 285; 3:84; 4:152).
Единобожие — общее между всеми богооткровенными религиями — и есть то исключительно богоугодное исповедание, единственно гарантирующее вечное спасение и дважды обозначенное в Коране как «ислам» (3:19, 85). Сам контекст этих стихов показывает несостоятельность экс- клюзивистской интерпретации здесь ислама лишь как религии, данной Мухаммаду. Примечателен и тот факт, что эпитет «мусульманин» прилагается в Коране к Ною, Аврааму, Моисею и другим домусульманским пророкам (2:128, 133; 3:67; 10:72, 84; 12:101; 27:42; 51:36).
218
Более того, ислам и есть та истинная, «естественная вера» (фитра), какую Бог изначально заложил во всех людей (см. 30:30). Принятие ее человеческим родом состоялось в некий метафизический, трансисторический момент, когда Господь собрал души всех будущих людей и они засвидетельствовали свою веру в Него (7:172).
Еще одно плюралистическое измерение коранического профетизма связано с различием дин, веры, и ьиари ‘а, закона. Если духовные послания Бога различным народам идентичны в смысле единства принципов веры, неизменной в своей основе (прежде всего, это исповедание единого Бога и будущего воздаяния), то содержащиеся в них законоположения, призванные упорядочивать нравственно-правовые, социальные и культовые стороны жизни, могут варьироваться от одного народа к другому и от одной эпохи к другой. Это единство веры, при многообразии законов, нашло отражение в метафорических словах Мухаммада о пророках как о «единокровных братьях» (шва ли- ‘аллят).
Разнообразие в мире обусловлено самой Божией волей и мудростью. Различия людей в языках и цвете кожи суть «знамения Божии для людей знающих» (30:22). Первоначально человечество составляло единую расу и единую духовную общину, но потом Богу было угодно разделить его как в племенах и народах, так и в религиях (2:113; 49:13). Множественность в мире вполне соответствует воле и предначертанию Бога, и никому не следует пытаться ее упразднить. В частности, тщетно насильственное объединение людей под знаменем одной-единственной религии, ибо, как подчеркивает Коран, если бы Богу было угодно, Он бы сделал это сам (10:19, 99; 16:93), и вообще «нет принуждения в вере» (2:256).
Мир поэтому служит естественной нормой сосуществования народов и конфессий: «О верующие, влейтесь вы в мир все вместе!» (2:208). Вооруженная борьба дозволяется, но лишь в оборонительных целях (2:193; 8:39; 22:39-40). Стих 2:190 предупреждает мусульман:
Сражайтесь за дело Божие С теми, кто воюет против вас,
Но не преступайте пределы,
Ибо Бог не любит агрессоров.
Плюрализм не есть проклятие. Он не негативен, а целиком позитивен. Многообразие призвано стать источником не распрей, а соревновательно- сти в служении общему благу:
Каждой [общине] Мы установили [свой] закон и путь.
Если бы Бог захотел, сделал бы вас единой [религиозной] общиной.
Но [Ему было угодно иначе],
Дабы испытать вас в том, что даровано вам.
Так соревнуйтесь меж собою в деяниях добрых.
К Богу вы возвратитесь, и Он поведает вам [истину] о том,
В чем было различие меж вами.
(5:48)
219
Плюрализм должен содействовать общечеловеческой солидарности, гармонии и взаимному обогащению:
О люди!
Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами,
Сделали вас народами и племенами,
Чтобы вы [лучше] знали друг друга.
(49:13)
Итак, ислам отвергает любую автаркию — экономическую, интеллектуальную, этническую или культурную. Во имя углубления взаимопонимания с другими общностями мусульмане должны вести с ними диалог, особенно с «людьми Писания», прежде всего с христианами и иудеями. И такой межконфессиональный и межкультурный диалог, как учит Коран, должен быть позитивным и конструктивным:
Спорьте с людьми Писания
Не иначе как наиблагообразнейше...
Говорите им:
Мы веруем в ниспосланное нам и в ниспосланное вам;
Бог наш и Бог ваш — един.
(29:46)
Р.Г.Апресян
Талион: его восприятие и видоизменения в христианстве и исламе*
Право талиона людям иудеохристианского мира известно из Торы, или Пятикнижия. В наиболее развернутом виде оно содержится в книге Исход (21:13-37), и его ключевая формула такова: «...душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб» (Исх. 21:23-25). Аналогичное указание есть и в Коране: «Предписано вам возмездие за убитых: свободный — за свободного, раб — за раба, женщина— за женщину» (Коран 2:178, пер. М.-Н.О.Осма- нова)1.
В позднейшей моральной философии анализ талиона проводится с учетом рафинированной его формулировки, четко, хотя и обобщенно выражающей заключенный в талионе принцип обращаемого равенства. Такую формулировку приводит A.A.Гусейнов: «Поступай по отношению к окружающим (чужим) так, как они поступают по отношению к тебе и твоим сородичам»2. Относительно этой формулировки следует отметить, что, точно отражая обращаемое равенство, она не фиксирует другую важную особенность талиона, а именно ту, что предметом его вменения являются действия, совершаемые в ответ на нанесенный ущерб. Это правило уже принципа равного воздаяния как такового, если под последним понимать принцип ответного действия как на причиненный вред (что регламентируется талионом), так и на совершенное благо (что регулируется
* Доклад подготовлен в рамках исследования, поддержанного РГНФ, грант № 01-03- 00054а; тема — «Императивно-ценностная динамика морали»
1 Автор не является ни специалистом-исламоведом, ни арабистом. Данная работа — отчасти результат лишь первого знакомства с Кораном. Автор приносит благодарность д-ру Тауфику Ибрагиму за помощь в пропедевтической навигации по тексту Корана по вопросу талиона.
2 Гусейнов А.А Социальная природа нравственности. М., 1974, с. 65.
© Р.Г.Апресян, 2004
221
правилом благодарности). Принимая во внимание эту оговорку, обобщенная формула талиона может быть уточнена: «В ответ на нанесенный ущерб...» и далее по приведенной формулировке.
С точки зрения особенностей регулятивного механизма А.А.Гусейнов следующим образом характеризует талион. Во-первых, масштаб действия, регулируемого талионом, лежит вне действующего лица, задается извне; ответное возмездное действие должно быть равным совершенной несправедливости. Во-вторых, ценностным основанием действия, совершаемого на основе талиона, является формальная эквивалентность воздаяния; логикой (и психологией) талиона не предполагается деление поступков на хорошие и плохие, а также на такие, ответственность за которые лежит на индивиде, и такие, за которые отвечает сообщество. В-третьих, в возмездии, вершимом по мерке талиона, во внимание принимается лишь происшедшее деяние, — намерения и конкретные обстоятельства (возможно, не зависящие от деятеля) во внимание не принимаются3. Такова характеристика наиболее архаичной версии талиона.
Со временем талион в своем реальном функционировании претерпевает изменения, и вектор этих изменений направлен в сторону все большего смягчения санкций талиона. После Пятикнижия, в других книгах Ветхого Завета очевидно прослеживается постепенное ослабление жестокости предполагавшихся талионом санкций; в Новом Завете этот процесс нарастающего ослабления жестокости талиона обращается в полный его запрет. Эта тенденция в динамике одной из основополагающих нравственноправовых норм закономерна. Ее закономерность подтверждается аналогичной внутренней нормативной динамикой талиона в Коране.
Под нормативной динамикой здесь понимается не столько историческая эволюция нормы, сколько перемены в ее содержании, ее интерпретациях и ее функционировании в меняющихся социокультурных контекстах. Поскольку версии одной и той же нормы — в данном случае талиона — соприсутствуют практически в едином нормативном пространстве, то ее историческая эволюция дана в снятом виде и подлежит реконструкции, между тем как ее нормативная вариативность дана непосредственно и очевидна.
Принимая во внимание нормативную динамику талиона, можно повторить вслед за многими комментаторами и исследователями, что закон талиона представляет собой результат преодоления еще более древнего обычая неограниченной мести, но — вопреки тому, что говорят некоторые исследователи, — нужно указать, что нет оснований трактовать талион как продукт архаической цивилизации, преодолеваемый (замещаемый) с развитием цивилизации государственным законом и моралью.
На основе имеющегося анализа талиона можно уточнить особенности этого императива в более широком контексте — как права талиона (с уче¬
3 Там же, с. 63-67.
222
том как характеристик самого правила, так и особенностей определяемых правилом действий) и выделить следующие его характеристики.
1. Талион— это правило, регулирующее реактивные действия. В отличие от исторически близкой ему заповеди любви4 он ничего не говорит о том, какими должны быть инициативные действия.
2. Регулируемые талионом ответные действия направлены на наказание нарушителя справедливости либо на тех, кто вправе отвечать за нарушителя. (В более поздних интерпретациях талиона наказание может выражаться не в нанесении равного физического ущерба обидчику или тем, кто отвечает за него, а во взимании компенсации за нанесенный ущерб, причем размер компенсации устанавливается на основе переговоров между пострадавшей стороной и стороной нарушителя/обидчика и является результатом компромисса.)
3. По своему содержанию действия, регулируемые талионом, обращаемы, или взаимны. Посредством обращаемости, или взаимности, утверждается равенство.
4. Талион не только направлен на восстановление попранной справедливости, он требует соблюдения справедливости и в наказании нарушителя. Требуя возмездия, талион ограничивает меру возмездного действия критерием адекватности преступлению и нанесенному ущербу. Указывая на не- пременность ответных действий в случае нарушения справедливости, он предполагает и наказуемость несправедливости в наказании.
5. Самим фактом своего существования талион угрожает, и в угрозе заключается его основная санкция.
6. Стандарт справедливости, предполагаемый талионом, ситуативен в своем приложении, однако как принцип действия он надсубъективен и универсален.
Анализ Ветхого Завета свидетельствует о разительной внутренней эволюции талиона — от обуздания стихии мести и разгневанной силы до великодушной и почти прощающей снисходительности к нарушителю порядка (тем более к случайному нарушителю). Уже книги Пророков позволяют предположить — имея в виду Новый Завет, — что эта эволюция ведет не только к смене ценностного состава поведенческих регулятивов, но и к возникновению новых способов упорядочивания поведения. Эта эволюция представляется естественно завершающейся возникновением институтов государственно-правового регулирования поведения в общественной (публичной) сфере и этики золотого правила и заповеди любви — в личной (частной) сфере.
Вопрос заключается в том, что происходит с талионом или что остается от талиона при такой эволюции?
4 Заповедь любви как заповедь любви к ближнему дана уже в Пятикнижии, а именно в Лев. 19:18; 33-34. В этой же книге дана одна из формулировок правила талиона (24:20).
223
От Ветхого Завета к Новому Завету Наиболее суровые правила мы встречаем в предмоисеевой книге Бытие (Быт. 9:5-6) и в остальных книгах Пятикнижия (Лев. 24:19-20; Числ. 35:6, 11-32; Втор. 19:21). В ряде мест трудно провести грань между нормами талиона и стихией кровной мести. Здесь видно, что талион выделяется из обычая кровной мести путем ограничения и упорядочивания этого обычая. Обычай кровной мести указывал, что надо отомстить, даже если прошел гнев. Талион же говорит, что, сколь ни велик гнев, наказывать надо сообразно преступлению, по правилу — обоснованно и оправданно. Некоторые места Ветхого Завета (в частности, упомянутое: Быт. 4:14-15) говорят о том, что не только кровная месть предшествовала талиону. Наряду с обычаем кровной мести у древних евреев существовал и обычай наказания за богохульство и нечестие, и обязанность этого наказания лежала на всех членах общины. Вместе с тем существовали обычаи наказания за проступки внутри общины. Эти наказания тоже охватываются правом талиона как правом, ограничивающим какие-либо проявления репрессивности, подводящим применение силы под определенный стандарт.
В Пятикнижии, а именно в книге Левит, содержится наиболее архаичная версия заповеди любви как требования, прямо противопоставленного обычаю кровной мести: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19:18). В Пятикнижии, таким образом, наряду с детализацией действий по принципу талиона устанавливается и иной принцип — а именно принцип снисходительного прощения.
Эта намеченная только тенденция получает развитие в Книге Притчей Соломоновых, где мы находим этику, которую уже никак нельзя назвать этикой воздаяния. В отношении к талиону Соломон занимал позицию, очень близкую той, которую спустя тысячелетие будет проповедовать Иисус. Это этика, отвергающая непременную необходимость безусловно равного возмездия: «Не говори: „как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его“» (Притч. 24:29). Талион запрещается, и ему непосредственно как будто ничего не противопоставляется. Но не только из духа Соломоновых наставлений проясняется, как поступать— в частности, милосердно, праведно. На основе разрозненных наставлений можно сделать определенный вывод о том, что Соломонова этика уже уделяет внимание инициативному действию — оно безусловно предпочтительно: «Праведник указывает ближнему своему путь...» (Притч. 12:26). Безусловность задается сопряженностью с идеалом: инициативное действие является совершенным, ведь оно — удел праведника. Но и обычным людям следует помнить: «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет» (Притч. 11:25). Слова «сам напоен будет» можно интерпретировать как иносказание благодарности, но, скорее всего, Соломоном предполагалась награда за благотворительность, исходящая от Господа. И в этом предположении в зна¬
224
чительной степени снимается пруденциально-эгоистическая подоплека благого действия, совершенного с ожиданием ответного благодеяния. Еще не прозвучали слова о том, что добродетель сама себе есть награда. Но в предположении того, что награда за доброе действие может прийти и не от ближнего, а от Господа, — а значит, не непосредственно и не в материальной форме, — можно проследить постепенное приближение к этим словам.
Не затрагивая важную проблему теологического и эсхатологического контекста христианской этики, можно сказать, что христианская этика терпения, прощения и милосердия явилась результатом той эволюции, которая уже произошла в моральном мышлении и учениях Пророков. Однако христианскую этику отличает от этики Ветхого Завета однозначное неприятие талиона как пусть и ограниченного, упорядоченного, но проявления силы: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому...» (Мф. 5:38-39). И далее следуют известные заповеди терпения, кротости и снисхождения. Очевидно, что Христос воспроизводит нормативную логику, сформировавшуюся в книге Левит и у Соломона, — силе и гневливости противопоставляется прощение и милосердие. Однако Христос радикализует это противопоставление.
Преодолевается ли полностью дух талиона в христианстве? Этот вопрос не разрешается ссылками на вышеприведенный стих из Нагорной проповеди и аналогичные ему. Талион присутствует в евангельском учении и апостольских наставлениях косвенно — не в букве, но в духе, обнаруживая себя в неявных интенциях.
Интересно в этом отношении наставление «Не судите, да не судимы будете», данное в Нагорной проповеди (Мф. 7:1-2). Очевидно, что оно полемично по отношению к талиону: в нем содержится именно запрет на индивидуальную месть — не следовать мести и не навлекать на себя ответной мести. Хотя по своей логике оно однотипно с золотым правилом, решительностью предупреждения в нем сохраняется психология талиона. По сути дела, в нем заповедуются кротость и скромность, взыскательность к себе прежде всего, а не к другим («Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» — говорит Иисус в продолжение проповеди [(Мф. 7:3]), а также терпимость и прощение. В Евангелии от Луки эта заповедь помещена вслед за заповедями любви к врагам, щедрости и милосердия: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам... ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лк. 6:37-38), и здесь в наибольшей степени прослушивается его созвучность золотому правилу. Вместе с тем в этой заповеди есть и назидательное и угрожающее предупреждение, сформулированное, правда, как обещание награды: «...да не судимы будете». Понятно, что древнее правило талиона не замещается полностью золотым правилом и заповедью любви. Талион преодолевается как основное правило, но сохраняется как
8 - 10922
225
одно из правил взаимоотношений между людьми — на уровне стереотипа, предрассудка, отклонения от желательного, да и просто здравого смысла. Этот стереотип обнаруживается и в заповеди «Не судите...», и ее исполнение может мотивироваться по логике талиона (с заменой «потому что» на «чтобы»5) и рационализироваться в ее духе.
Правда, логика мышления по типу талиона потенциально нейтрализуется переосмыслением самого талиона, происходящим у Отцов Церкви. Это впервые проявилось у Тертуллиана: «...Предписание око за око и зуб за зуб Он мыслил не как дозволение вторичной обиды возмездия, которое Он отверг воспрещением отмщения, но для предотвращения первой обиды, воспрещенной установлением талиона, чтобы каждый в ожидании возможности второй обиды сам собой воздерживался от первой. Ведь Ему же известно, что легче подавить насилие представлением о возмездии, нежели повторным разрешением отмщения»6. Такую же мысль проводил впоследствии и Иоанн Златоуст: «Законодатель предписал— „глаз за глаз“ не для того, чтобы мы друг у друга вырывали глаза, но чтобы удерживали свои руки от обид; ведь угроза, заставляющая страшиться наказания, обуздывает стремление к преступным делам»7.
Отказ от мщения непременно опосредован в христианской этике требованием прощения обид. Этика любви повелевает прощать обиды, причем прощать следует как признающегося в своем прегрешении и просящего о прощении (см. Лк. 17:4), так и всякого согрешающего против тебя (см. Мф. 18:21-22). Смысл милосердного прощения не просто в забвении причиненного зла. Милосердное прощение означает главным образом отказ от мщения и затем уже примирение. Прощение — это забвение обиды и согласие на мир. Иными словами, прощая, я признаю другого и в признании принимаю его, располагаюсь к нему. В требовании прощения предполагается и другое: не бери на себя право судить других окончательно и навязывать им свое мнение.
Коран. В Коране и в исламе в целом прослеживается аналогичная эволюция по смягчению талиона. Как и в Нагорной проповеди, в Коране при первом упоминании правила талиона производится отсылка к уже известному закону и затем дается наставление. Однако собственно кораническое наставление не противопоставляется Моисееву, но только сопоставляется с ним, причем имеющаяся в Пятикнижии детализация действий по правилу талиона здесь не воспроизводится во всей полноте: «О вы, кото¬
5 О различных возможных модальностях золотого правила см.: Ricoeur P. The Golden Rule: Exegetical and Theological Perplexities. — New Testament Studies. 1990, vol. 36, c. 393- 394; см. также: Blackstone W.T. The Golden Rule: A Defence. — The Southern Journal of Philosophy. (Winter, 1965), No. 3, c. 172-177.
6 Тертуллиан. Против Маркиона [IV] (цит по: Гроций Г. О праве войны и мира [II, XX, X, 3]. М., 1956, с. 463).
7 Толкование Евангелия Святого Матфея Евангелиста [18] см.: www.cmnl ru/bible/ upravlen/zlatoust/ matfD18b.htm.
226
рые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых: свободный— за свободного, раб — за раба, женщина — за женщину. Если убийца прощен родственником убитого — своим братом по вере, — то убийце следует поступить согласно обычаю и уплатить достойный выкуп. Это — облегчение вам от вашего Господа и милость. А тому, кто преступит [эту заповедь] после разъяснения,— мучительная кара» (Коран 2:178, пер. М.-Н.О.Османова). И в другом месте, также с прямой ссылкой на Тору: «...душа— за душу, и око— за око, и нос— за нос, и ухо— за ухо, и зуб— за зуб...» (5:45, пер. И.Ю.Крачковского. В переводе. В.Пороховой: «За [нанесенье] ран— отмщение [по равной мере]»)8. Как видим, главное здесь— требование строгого равенства возмездия и преступления.
Но вместе с тем косвенно рекомендуется и прощение. В суре 2 прощение упоминается, и главным при этом упоминании является подтверждение необходимости баланса, который в данном случае обеспечивается «достойным выкупом». По свидетельству специалистов, само слово «уплата» («оплата») — кисас — это то же слово, которое обозначает возмездие, месть9, но не кровную месть10. Продолжение аята 45 суры 5 за нанесение увечья предписывает возмещение. «А кто пожертвует это милостыней», то это ему — искупление грехов. Таким образом, в аяте указывается на предпочтительность пожертвования полученной компенсации на милостыню. В 42:40 прощение противопоставляется возмездию, что аналогично наставлению Нагорной проповеди, при этом само воздаяние злом за зло рассматривается как зло, через совершение которого мстящий приравнивает себя к злодею. Тем самым фактически закрепляется обновленный в сравнении с классическим правом талиона ценностно-семантический контекст: прощение, снисходительность, милостыня в соотнесении со спасением задают более возвышенный, альтруистически-перфекционистский способ морального мышления: «Воздаяние за зло — равноценное зло. Но тот, кто простит и уладит [дело] миром, будет вознагражден Аллахом. Ведь Он не любит нечестивцев» (42:40, пер. М.-Н.О.Османова).
Проблема уравнивания весьма существенна в Коране. Сура 16, аят 126 гласит: «И если вы наказываете, то наказывайте подобным тому, чем вы
8 Коран. Пер. смыслов и коммент. В.Пороховой Гл. ред. д-р Мухаммед Шейх Саид Аль Рошд. М., 1993.
9 Там же, с. 549, примеч. 81.
10 Кисас — «это наказание за повреждение или увечье равным же повреждением или увечьем, т.е. талион („око за око“), что совершенно необязательно сопровождается пролитием крови» ([Боголюбов A.C.] Примеч. к публ.: Абу Йусуф Йа‘куб. Китаб ал-харадж — Хрестоматия по исламу. Пер. с араб., введ. и примеч. М., 1994, с. 200). По-видимому, можно предположить, что все-таки изначально это слово обозначало именно кровную месть, потом возмездие и возмещение. Со временем оно закрепилось за возмещением, обеспечиваемым в судебном порядке: «Кисас налагается только по приговору суда и только в тех случаях, когда возможно точно определить как нанесенное повреждение, так и ответное» (там же).
8*
227
были наказаны» (пер. И.Ю.Крачковского). Ради поддержания равенства в противостоянии с противником допускаются отступления от благочестия: «[Сражайтесь] в запретный месяц, [если они сражаются] в запретный месяц. [За нарушение] запретов [следует] возмездие. Если кто преступит [запреты] против вас, то и вы преступите против него, подобно тому как он преступил против вас» (Коран 2:194, пер. М.-Н.О.Османова).
Наконец, необходимо отметить еще один момент в коранических контекстах талиона: это правило раскрывается и конкретизируется для ситуаций острого и ожесточенного противостояния или войны. С врагом, даже неверным, надо быть великодушным, но не снисходительным; на обиду надо отвечать обидой; защищающийся вправе применять силу: «И, конечно, нет укора тем, которые защищаются против нападения» (Коран 42:41, пер. М.-Н.О.Османова); первым не следует прекращать сражение, но по отношению к тем, кто уклоняется от сражения, надо быть милосердным, и, как Аллах, прощать их (см. Коран 2:192, пер. М.-Н.О.Османова).
Таким образом, в Коране, в отличие от Нового Завета, талион фактически не отвергается решительно11; лишь в одной месте, как мы видели (см. Коран 42:40), содержится констатация предпочтительности прощения перед возмездием. Талион ограничивается, как это происходит в Ветхом Завете, но это ограничение, в отличие от Ветхого Завета, сопровождается и предложением иных подходов в морали — прощения, терпения, милосердия, прежде всего ради будущего спасения.
Такое совмещение талиона и милосердия свидетельствует о том, что в Коране содержится иная, по сравнению с Новым Заветом, этика. В Новом Завете дана в конечном счете этика совершенствования — совершенствования, осуществляющегося через милосердие и прощение. В Коране есть и этика совершенствования, и этика милосердия и прощения, однако они сопряжены с этикой активного разрешения конфликтов— поведения в
11 Следует обратить внимание, что здесь сопоставляются именно кораническая этика и новозаветная этика. В последующей христианской мысли происходит позитивное переосмысление талиона, — в той мере, в какой этика предметизировалась не только в отношениях между людьми, тем более близкими, но и в отношениях между чужаками и врагами и даже в отношениях между коллективными субъектами (государствами). Это переосмысление намечается в апостольских посланиях, но развернуто представлено уже у Августина, с которого по существу начинается христианская традиция теории справедливой войны, получившая развитие у многих поздних европейских мыслителей. Примечательный пример в связи с этим представляет Гуго Гроций (1583-1645), мыслитель христианский, однако основывающий свое учение в основном на концепции естественного права. Гроций в рассуждениях о войне и наказании мыслит по логике талиона. Он обращает внимание на то, что талион и получившая на его основе развитие более поздняя обычно-правовая практика наказания равным за равное встречается «в тех местах и между теми лицами, которые не подчинены определенным судам» (Гроций Г. О праве войны и мира [Кн. II, гл. XX, § IX, 5]) М., 1956, с. 461). Вместе с тем, «определенных судов» и «общих судей» нет в ситуации противостояния и войны. Право, нравы и этику войны, а также конфликтное противостояние интересов невозможно понять вне правила талиона, вне логики принятия решений и мышления по типу талиона. Этика не может быть действенной, если отвергается талион.
228
условиях противостояния с врагом. В этом смысле кораническая этика предстает очевидно социально ориентированной, предполагающей обязанности человека по отношению к другому человеку, выраженные в его ответственности за другого и за ту ситуацию, которая складывается в сообществе. Как обращенная к реально-коллективным, коллективно-земным (а не соборным) формам общежития, кораническая этика является полной и развитой — совмещающей в себе различные типы ценностных систем и, соответственно, тактики поведения.
Н. С.Кирабаев
Философия власти: ал-Маварди и ал-Газали
Значительное возрастание политической роли ислама на протяжении последних 20 лет обусловило активный интерес культурологов и философов, политологов и правоведов, историков и религиоведов к истории исламской политической мысли эпохи средневековья. И это не случайно. Исследование идейного мира средневекового мусульманского общества позволяет проследить развитие общих закономерностей концепции «исламского государства» и выявить особенности функционирования мусульманской идеологии как упорядоченной системы политических, правовых, религиозных и нравственных идей.
В целом можно выделить три основных направления развития средневековой исламской политической теории. Во-первых, концепции и учения мусульманских юристов (факихов) и авторитетов религиозного знания (улемов); во-вторых, теории «добродетельного города» арабо-мусульманских философов; в-третьих, так называемые адабные учения, которые развивались в жанре средневековой арабской литературы, сочетавшем позна- вательность с занимательностью.
Классическими теориями государства принято считать учения авторитетных суннитских факихов, в которых были развиты основные принципы исламской доктрины власти. В них была определена основная проблематика и круг источников, на которые опирались многие последующие поколения мусульманских факихов, историков и политических деятелей. Классические теории государства стремились придать особое значение религиозному идеалу исламского государства. Они опирались на Коран и сунну, на традиции и практику мусульманской общины «золотого периода» ислама.
Автором первой классической теории государства был факих ал- Маварди (ум. в 1058 г.). Основной его работой является «ал-Ахкам ас- султанийа» («Принципы управления»). Как кадий (судья) он служил в различных городах Халифата и в конце концов перебрался в Багдад, где полу¬
© Н.С.Кирабаев, 2004
230
чил титул верховного судьи. Ал-Маварди был одним из главных советников халифов ал-Кадира (991-1031) и ал-Каима (1031-1075) и принимал активное участие в переговорах халифов с буидскими эмирами и сельджукским султаном Тогрул-беком.
Трактат «ал-Ахкам ас-султанийа» был написан с целью укрепления авторитета аббасидских халифов и ограничения притязаний на абсолютную власть буидских эмиров. При этом важно иметь в виду, что ал-Маварди жил в период упадка былого могущества Халифата и значительного уменьшения реальной роли халифа, который «был монархом юридически, в то время как фактическая власть находилась в руках других лиц»1. Появлению этой работы ал-Маварди во многом способствовал исторически благоприятный момент, связанный с ослаблением власти буидских эмиров и усилением могущества султана Махмуда Газневида. Последний всячески демонстрировал лояльность к Аббасидам и во многом способствовал повышению престижа багдадского халифа.
Может возникнуть вопрос: если реальная власть эмиров или султанов была так прочна, то почему они в конечном счете признавали высший духовный и светский авторитет аббасидского халифа, заключая с ним соглашения и приказывая упоминать его имя в пятничных молитвах? Дело в том, что государство не мыслилось иначе как исламское государство, как религиозно-политическое единство. Если султан или эмир желали сохранить всю полноту власти, они не смели игнорировать фундаментальный закон ислама, согласно которому абсолютный авторитет халифа был основан на Коране и законность пребывания в ранге халифа была связана с иджмой улемов. Только законный халиф был авторитетом, не зависел от реальной светской власти эмира или султана, а его право на власть основывалось на божественном законе, требующем абсолютного послушания как выполнения религиозной обязанности. Таким образом, гражданская лояльность означала верность шариату, а не светскому правителю. Однако в исламском праве нет строго определенной процедуры и канонизированных институтов в определении законности избрания или правления того или иного халифа, так что ключевая роль стала принадлежать факихам и улемам в соответствии с тем, что иджма рассматривалась как непогрешимый источник фикха. Начиная с Омейядов правители перестали избираться и добивались признания либо силой, либо в результате династического наследования власти. Поэтому дальнейшее развитие политической теории было связано с выбором юристами одного из двух путей: либо корректировать основоположения исламской доктрины власти в соответствии с реальной исторической практикой Халифата и освящать законность правления султанов или эмиров, либо настаивать на строгом соблюдении шариата и осуждать «незаконных правителей», призывая мусульман к непослушанию светским правителям.
1 Faksh М.А. Theories of State in Islamic Political Thought. — Arab Journal of Social Sciences. L., 1987, No. 1, c. 2.
231
Ал-Маварди одним из первых понял необходимость приведения в соответствие норм шариата с существовавшей историко-политической ситуацией. Основная идея «ал-Ахкам ас-султанийа» и была направлена на теоретическое обоснование разграничения властных функций между халифом и султаном на основе взаимных соглашений.
Как суннитский факих, ал-Маварди исходил из представлений об идеальном исламском государстве периода Пророка и четырех «праведных халифов», рассматривавшемся традиционалистами (салафитами) как единственно законное и справедливое государство. Поэтому имамат, или халифат, в его понимании — божественный институт, основанный на откровении, а не на разуме. Для мусульманского государства важным является определение халифа, или имама, как заместителя Пророка и светского правителя. Хотя халифат как форма правления и тип исламского государства не основан на каком-либо конкретном кораническом положении, тем не менее он был признан мусульманскими юристами как религиозный канонический институт. Даже Ибн Халдун, известный историк и социальный мыслитель XIV в., полагал, что халифат— каноническая необходимость и установление его мусульмане считали религиозной обязанностью.
Утверждение ал-Маварди о том, что законным можно признать только одного халифа, противоречило исторической реальности, поскольку к тому времени в Египте, Сирии и Испании халифаты существовали уже более 100 лет. Видимо, это его утверждение было связано с реальной угрозой Аббасидам со стороны фатимидского Египта. Ал-Маварди считал, что суннитская концепция имамата может противостоять претензиям шиитов на власть. Он категорически отвергал шиитскую концепцию назначения имама и поэтому был согласен признать законным избрание халифа даже одним выборщиком.
Ал-Маварди в своем трактате одним из первых четко определил необходимые качества, которыми должен обладать халиф: справедливость, знание мусульманского права, отсутствие физических и умственных дефектов, мудрость, храбрость, происхождение из курейшитов. Его последнее требование противоречило фундаментальному принципу равенства верующих в исламе. Как и многие другие суннитские юристы, он считал, что оно соответствует практике арабского государства периода Пророка и четырех «праведных халифов». Впрочем, очевидно, что это последнее требование было направлено против хариджитов.
Рассматривая обязанности и функции имама, ал-Маварди надеялся на возрождение былого могущества халифов и пытался показать, что имамат — это не просто религиозный институт, а мусульманское государство. Поэтому он подчеркивал личную ответственность имама за состояние государственных дел. Становится ясным, почему теория халифата как таковая занимает лишь небольшую часть в «ал-Ахкам ас-султанийа»,
232
а три четверти книги автор посвятил детальному описанию принципов функционирования государственного аппарата (визирата)2.
Главными функциями имама, согласно ал-Маварди, являются: укрепление и защита ислама и исламского государства, установление справедливости, контроль за строгим следованием нормам шариата, сбор налогов3. Обязанность же верующих сводилась к абсолютному послушанию халифу и помощи ему в осуществлении его функций. Таким образом, авторитет имама покоится на шариате, а не завоевывается силой.
Ал-Маварди ограничивает функции имама религиозной, судебной и исполнительной сферами. В соответствии с основоположениями исламской доктрины власти имам не имеет права издавать законы. Фактически законодательная функция рассматривалась как неотъемлемое право идж- мы уммы, которая в действительности всегда была иджмой улемов.
Понимание ал-Маварди большой роли факихов и улемов в исламском государстве, видимо, проявилось в его утверждении о том, что если имам окажется неспособным исполнять свои обязанности и функции, то выборщики могут избрать нового имама. В то же время он считал, что признание законности смещения халифа правомочно только в экстремальных случаях, связанных с возможностью угрозы существованию государства.
Важное значение для понимания того факта, что начиная с ал- Джувейни некоторые авторитетные суннитские факихи стали во многом отступать от основоположений классической теории государства, сформулированной ал-Маварди, пытаясь приспособить нормы шариата к изменяющимся историческим обстоятельствам, имеет анализ теорий государства, в меньшей степени уделявших внимание юридическо-институ- циональному аспекту власти и в большей — действенности и эффективности управления государством. Речь идет о произведениях мыслителей, в которых синтезировались исламские политические доктрины и сасанид- ская традиция государственности. Из этих произведений следует прежде всего выделить «Сийасат-наме» визиря Низам ал-Мулка, фактического правителя Сельджукской империи в период с 1072 по 1092 г.
В этой работе Низам ал-Мулк попытался сформулировать основные положения теории и практики государства, направленные на укрепление султаната как фактического института власти. Арабское слово «султан» означает «власть» или «авторитет». С X в. султанами стали именовать всех независимых правителей, отрицавших необходимость осуществления власти под покровительством и верховенством религиозного и нравственного авторитета халифа. Практически с XI в. тюрки-сельджуки установили и укрепили институт султаната во главе с высшим политическим сувереном, который мог не считаться с религиозным авторитетом халифа. «Низам ал-Мулк установил тесную связь между идеей справедливой вла¬
2 См.: ал-Маварди. Ал-Ахкам ас-Султанийа. Каир, [б.г.]
3 Там же, с. 15-16.
233
сти, фактическим царствованием, понятием истинной религии и необходимостью стабильного и процветающего государства»4. Он признавал халифат лишь как религиозный институт и халифа только как религиозного главу, но в то же время рассматривал власть султана как освященную божественным авторитетом. Это, конечно, всецело противоречило теории ал-Маварди, ставшей к тому времени общепринятой среди большинства суннитских юристов. Поэтому Низам ал-Мулк привлек к религиозно-юридическому обоснованию своих идей, нашедших отражение в «Сийасат- наме», известных факихов-шафиитов ал-Джувейни (1028-1085), ал-Газа- ли (1058-1111) и других, для которых во многих городах Халифата были основаны медресе ан-Низамийа. Его покровительство наиболее авторитетным факихам-шафиитам обеспечило султану Малик-шаху широкую поддержку со стороны приверженцев шафиизма в ряде районов халифата Аббасидов.
Опора Низам ал-Мулка на шафиитских факихов преследовала еще и цель ограничить притязания на власть как со стороны правителей фати- мидского Египта, так и Аламутского государства исмаилитов. Поэтому неудивительно, что ал-Джувейни защищал основоположения суннитской политической доктрины вполне в духе ал-Маварди, но в отличие от последнего стремился обосновать законность правления султанов. Утверждение шиитских имамов о том, что Пророк тайно назначил Али своим заместителем, категорически отвергалось ал-Джувейни. Он считал, что в религиозной традиции ничего об этом не говорится и, более того, иджма поддерживает противоположную точку зрения, состоящую в том, что халиф всегда должен избираться, а не назначаться. Согласно ал-Джувейни, ни один образованный человек (алим) не может отрицать того факта, что на протяжении длительного времени в истории исламского государства халифа именно выбирали. Однако, учитывая реальную практику перехода власти от одного халифа к другому с периода Омейядов, он, как и ал-Ма- варди, допускал возможность избрания имама даже одним выборщиком из числа улемов. Но при этом ал-Джувейни в отличие от ал-Маварди преследует другую цель, которая становится очевидной тогда, когда он утверждает, что возможно одновременное существование двух халифов при условии, что они территориально находятся далеко друг от друга.
После смерти ал-Джувейни в 1085 г. его идеи получили дальнейшее развитие в трудах другого факиха-шафиита, ал-Газали. Около 1080 г. ал- Газали окончил медресе ан-Низамийа в Нишапуре, где учился под руководством ал-Джувейни. После смерти своего учителя он перешел на службу к Низам ал-Мулку, который вскоре послал его преподавать фикх в медресе ан-Низамийа в Багдаде. Несмотря на молодость ал-Газали, популярность его росла. Как и его наставник имам ал-Харамайн ал-Джу- вейни, ал-Газали стал опорой государственной религии, но уже в весьма
4 Faksh МЛ. Theories of State in Islamic Political Thought, c. 4.
234
тревожное время, когда угроза со стороны Фатимидов стала реальной. Против Низам ал-Мулка было организовано три заговора. Вскоре великий визирь султана Малик-шаха был убит, а затем при неизвестных обстоятельствах умер и сам султан. Именно в годы пребывания в Багдаде наряду с книгами по философии ал-Газали были написаны два трактата по политической теории и практике: «ал-Иктисад фи-л-и‘тикад» и «Фадаих ал-баты- нийа ва-фадаил ал-Мустазхирия». Практически сразу после смерти Малик- шаха ал-Газали оставляет медресе, прерывает блестящую карьеру и удаляется от мирских дел. Он покинул Багдад в 1095 г. и в течение десяти лет жил в уединении, периодически странствуя в обличье дервиша. За этот период произошло три важных события: резко обострилась борьба за сельджукский престол, крестоносцы захватили Сирию, значительно усилилась деятельность исмаилитов, неоднократно покушавшихся на жизнь султана Баркйарука. В эти годы он написал свой главный труд «Ихйа улум ад-дин».
В 1106 г. по просьбе визиря Фахр ал-Мулка (сына Низам ал-Мулка), состоявшего на службе у султана Санджара, он возглавил медресе ан- Низамийа в Нишапуре, но вскоре после убийства летом 1106 г. Фахр ал- Мулка исмаилитами Аламута ал-Газали оставил свой пост и вернулся в г. Туе, где прожил вплоть до своей смерти в 1111г. Наряду с многими другими книгами за этот период он написал работу «Насыхат ал-Мулюю>, содержащую советы правителям в делах управления государством.
Жизненный путь ал-Газали не был простым и легким. Образованнейший человек своей эпохи, он принимал активное участие в политической, религиозной и философской жизни Халифата. Его деятельность отличалась разносторонностью, столь характерной для многих одаренных умов мусульманского средневековья.
Французский исследователь А.Лауст так преподносит суть событий 1095 г. в судьбе великого мусульманского ученого: «Вся жизнь и мысль ал-Газали выражаются в великом кризисе 1095 г., когда он... решил порвать с миром и уединиться. Доселе светский правовед, ал-Газали начиная с 1095 г. становится совершенным скептиком, ставящим под сомнение все, включая основоположения религии, и преодолевает это сомнение и возвращается к вере, лишь став на путь суфизма»5.
Но как справедливо подчеркивает ливанский арабист Абд аль-Джалил, «чтобы понять Газали, необходимо не упускать из виду все политические обстоятельства, которые поразительным образом совпадали с решающими поворотами в его жизни и, по свидетельству историков и даже самих его трудов, были определяющими как для его мысли, так и для его поступков»6.
В целом анализ его работ по социально-философским и политическим проблемам показывает, что он позволял себе умеренное свободомыслие,
5 Laoust H. La politique de Ghazali. P., 1970, c. 9.
6 Цит. no: Jabre F. La notion de la marifa chez Ghazali. Beirouth, 1958.
235
но в рамках суннитской традиции. Его позиция— это позиция скорее суннитского правоведа и моралиста, который хорошо понимал, что «мусульманская религия и духовна, и мирска, ибо все мусульманские течения являлись одновременно и политическими движениями, будь то калам, фикх, философия или суфизм»7. Видимо, служба у Низам ал-Мулка не прошла для ал-Газали бесследно. Он столкнулся с проблемой необходимости укрепления единого мусульманского государства, которое было возможно лишь посредством усиления политической централизации. Последнее могло быть осуществлено только реальной властью сельджукских султанов.
Формальное двоевластие в Аббасидском халифате, существование двух центров— религиозного во главе с халифом и светского во главе с султаном, — постоянные политические интриги, двойственное положение улемов и факихов, постоянная внешняя угроза вели к усилению деградации военно-бюрократического аппарата и разложению духовной власти улемов. Широкое распространение получила коррупция не только среди чиновников государственного аппарата сельджукских султанов, но и среди улемов. Ореол святости нередко становился эффективным средством приобретения земных благ. «Ученость» улемов становилась своеобразным ремеслом, внешняя святость— товаром, всегда неплохо оплачивавшимся.
Ал-Газали, видимо, хорошо понимал последствия такого положения в Халифате. В самых разных местах «Ихйа...» и в других его работах можно встретить критику правителей и улемов, мысли о наличии внешней чистоты при отсутствии внутренней и запретном, ставшем дозволенным, и наоборот8. Он подверг резкой критике правителей Халифата: «В наше время, — писал он, — бблыная часть богатств, находящихся в собственности правителей, является незаконной. Законные богатства в их собственности не существуют или весьма редки»9. Столь же острой критике подвергнуты и те, кто пресмыкается перед правителями. Не остается вне пределов критики и жизнь улемов. Он рассматривает их как начетчиков, как людей, пускающихся в псевдотеоретические изыскания. По ал-Газали, псевдоулемы — это демагоги, возбуждающие толпу, или краснобаи, стремящиеся блеснуть перед власть имущими, и ведь многие из них представляют себя единственными поборниками истины10. «В наше время,— писал ал-Газали,— богословы разложились, спесь выгнула им язык. Они не осмеливаются больше обращать свою критику против правителей»11. «Между тем,— считает автор, — порочность улемов ведет
7 Gardet L. L’Islam: religion et communauté. P., 1957, c. 66.
8 Ал-Газали. Ихйа улум ад-дин. Каир, [б.г.], т. I, с. 129.
9 Там же, т. II, с. 120.
10 Там же, т. III, с 283-323.
11 Там же, т. И, с 276.
236
к порочности правителей, а порочность правителей — к порочности подданных»12.
Как трезвый политик, принимавший активное участие в государственных делах под руководством Низам ал-Мулка, он, видимо, не только не надеялся на возрождение былой мощи халифата, но был уверен, что будущее мусульманского государства связано с султанатом. Следовало по- новому взглянуть на политико-религиозную проблему: авторитет и власть. История показала нежизнеспособность традиционного суннитского догмата о совмещении авторитета и власти в одном лице. Ал-Газали нашел иной аспект соотношения авторитета и власти, который лег в основу его политической теории: «Религия и власть — близнецы». Он несколько иначе, чем его предшественники, трактовал природу мусульманского государства.
Прежде чем перейти к анализу политической доктрины ал-Газали, необходимо рассмотреть те трудности религиозно-теоретического порядка, с которыми ему пришлось столкнуться. Непосредственным источником авторитета в исламе вообще и в его политической доктрине в частности является шариат. Знание (илм) является необходимым для понимания предписаний шариата, и тех, кто этим занимался, называли улемами (ула- ма). Следует указать на то, что предмет исследования улемов весьма громоздок и неопределенен, поэтому их функции значительно шире и выходят не только за рамки религиозной догматики, но и за пределы юридических проблем.
Факихи как мусульманские юристы-теоретики в большей степени были ограничены интерпретаторской деятельностью в рамках мусульманского права, впрочем, многие факихи были одновременно и улемами. Учитывая роль и значение религии в Халифате, улемы как авторитеты религиозного знания играли ключевую роль как в духовной, так и в политической жизни государства. Вся история развития Арабского халифата показывает, что халифы заботились о поддержке улемов и всячески демонстрировали уважение к ним. Теоретически их авторитет зиждился на божественном авторитете имамов. Но улемы как выборщики имама и как религиозное объединение, «выносящее иджму», играли теоретически ведущую роль в определении того, кому будет принадлежать власть. Иджма как четвертый источник фикха наделяла их деятельность божественным авторитетом. Таким образом, они определяли власть и контролировали ее, опираясь на авторитет иджмы, потому что теоретически исламское государство есть не просто религиозная организация, оно включает сферу законности власти. Цель государства связывалась с обеспечением соблюдения норм шариата. Однако должна была быть особая категория лиц, связанная с выполнением политических функций государства. Единство религиозно-политических функций, которые первоначально осуществляли
12 Там же, т. I, с. 52-73.
237
улемы, было возможно до тех пор, пока власть и авторитет были соединены в одном лице. Поэтому в политической доктрине ислама, исходящей из идеи имама как светского, так и религиозного правителя, вопрос о природе власти не ставился. И лишь исторические условия фактического разделения светской и религиозной власти заставили ал-Газали по-иному посмотреть на природу власти. У него речь идет уже не о единстве религиозного и светского в мусульманском государстве, а о союзе религии и власти, и понятие «единое мусульманское государство» принимает более широкое значение.
Другая трудность, с которой столкнулся ал-Газали, есть вопрос о природе государства, т.е. та же проблема авторитета и власти, но в ином ракурсе. В догматике ислама это соотношение халифата и шариата. С момента начала правления Омейядов и в ранний период Аббасидов халиф был скорее представителем власти, чем авторитета. В более поздний абба- сидский период имаму уже трудно было претендовать на власть, но он стал главным носителем авторитета. Политическая теория халифата, а это особенно видно у ал-Маварди, скорее основывалась на исторических прецедентах, чем на шариате, в то время как первоначальная суннитская доктрина исходила из строгого следования халифом нормам шариата. Это особенно ярко проявилось в широкой критике «благочестия» и частной жизни омейядских халифов их политическими противниками. Авторитет халифа связывался с идеей следования шариату, потому что имам рассматривался как заместитель Пророка. Признание шариата как высшего авторитета в деятельности имамов никогда не отрицалось суннитскими факихами, но зачастую упускалось из виду в их казуистических рассуждениях, предназначенных как для маскировки факта династического наследования, так и для сокрытия потери реальной власти имамом. В общем-то, это неудивительно, ибо именно исторические обстоятельства определяли и главу мусульманского государства, и его функции. Законодательную роль истории уже нельзя было игнорировать. Политическая теория ал- Маварди и ал-Джувейни в большей степени исходила из учета исторических обстоятельств.
Необходимо отметить, что в период усиления власти султанов факи- хи основное внимание сосредоточивали на личных качествах, функциях и обязанностях халифа. Вопрос о природе халифата практически не поднимался, халифат рассматривался как нечто данное. Поэтому обсуждение вопроса о власти и авторитете халифа не связывалось с проблемой природы авторитета самого института имамата. Ал-Маварди и ал-Бакиллани, ал- Багдади и ал-Джувейни рассматривали институт халифата как проводник божественного закона. Но возникла парадоксальная ситуация, когда законность власти, а в конечном счете легитимность государства, основывалась на формальном религиозном авторитете халифа, который, в свою очередь, зависел от реальной власти султанов.
238
Выход из данной ситуации для ал-Газали был связан с иным пониманием природы халифата. Во многих отношениях его политическая теория отличается от доктрин его предшественников, но это расхождение он тщательно скрывает за общепринятыми терминами суннитской теории.
Работы ал-Газали в сфере мусульманского права, религии и этики имели, как правило, задачу теоретического обоснования необходимости сильной центральной власти. В этих работах также содержалась развернутая критика политических притязаний Фатимидов и рационалистических изысканий арабо-мусульманских философов по переустройству общества.
А.Лауст считает, что для ал-Газали политика была необходимым компонентом религии и морали. Она рассматривалась как искусство поведения в соответствии с конкретными обстоятельствами жизни человека, который должен соизмерять свои действия с существующим государственным порядком. Ал-Газали в своей политической теории активно использовал опыт сасанидского государства. Так, он писал, что «религия является основой, а государственная власть есть ее страж, обеспечивающий защиту и гарантирующий ее незыблемость»13. Люди нуждаются в сильной власти в лице султана, которая при помощи законов сохраняет и укрепляет государственный порядок. Эти законы составляют предмет мусульманского права (фикх). Поэтому мусульманские юристы играют большую роль в жизни государства, и их деятельность должна рассматриваться как важнейшая функция государства. Кроме юридических законов, по ал-Газали, существуют религиозные правила и нормы, являющиеся основой истинной веры. Соответственно, «теология» (илм ал-калам) занимает центральное место в иерархии наук.
Политическую доктрину ал-Газали следует рассматривать в первую очередь в свете того, что он опасался гражданской войны (фитна) и различного рода волнений (фасад), которые могут привести к анархии и беспорядку. Поэтому основное внимание он уделил проблеме взаимоотношений халифа и султана. Критика же им политических претензий шиитов (батынитов) на власть может рассматриваться лишь как сопутствующая, способствующая раскрытию основной проблемы. Так, даже обращение кадия г. Триполи Фахруддина Абу Убейда ибн Али в 1107 г. с просьбой о помощи в борьбе против крестоносцев осталось без должной политической оценки со стороны ал-Газали.
Важное значение для адекватного понимания политической доктрины ал-Газали имеет анализ его работ с точки зрения хронологии их написания, начиная с «Мустазхири» и кончая «аль-Мустасфа мин илм аль-усул». Ал-Газали рассматривает два аспекта проблемы «халиф и султан». Во- первых, отношение суверенитета (хукм) и светской власти (султан), во- вторых, отношение религии и государства (мулк).
13 Ал-Газали. Ал-Иктисад фи-л-и‘тикад. Каир, 1972, с. 95.
239
В «Мустазхири», написанной в 1094-1095 гг. и посвященной халифу ал-Мустазхиру, ал-Газали рассматривал проблему законности правления имама и доказывал несостоятельность претензий батынитов на законную власть. В этой работе вполне в духе ал-Маварди он раскрыл особенности исламской суннитской политической доктрины и описал качества, которыми должен обладать халиф, и процедуру его избрания.
В «ал-Иктисад фи-л-и‘тикад» («Необходимый минимум веры») ал-Газали уже более реалистично оценивал роль халифа в деле укрепления исламского государства и поставил проблему соотношения халифата и султаната. Тщательно анализируя основоположения исламской политической доктрины и историческую практику халифата, он пришел к идее о необходимости союза имама с султаном.
Теория имамата ал-Газали основывалась на трех ключевых положениях: 1) власть, необходимая для поддержания порядка в государстве; 2) халифат символизирует единство мусульманской общины (уммы) и ее исторической практики, причем султанат становится составной частью халифата; 3) функциональный и институциональный авторитет халифата основан на шариате.
Ал-Газали считал, что имам как высший авторитет может быть назначен или Пророком, или правящим халифом, или лицом, которое обладает фактической властью14. В те времена имама, как правило, назначал султан, и лишь потом халиф формально избирался улемами. Это и пытался закрепить теоретически ал-Газали. Процедура избрания халифа, считал он, вполне соответствует нормам шариата, а конституирующей силой фактически становится султан. После фактического назначения халифа (имама) султаном его кандидатура одобрялась выборщиками из числа улемов и факихов, а затем происходило объявление в мечетях. Однако несмотря на то, что султаны реально назначали халифов, они должны были признавать их авторитет, ибо «вера и власть— близнецы». Причем власть султана считалась законной, даже если он не соблюдал норм шариата, главное, чтобы он признавал авторитет халифа. Ал-Газали исходил из того, что установление порядка и безопасности обеспечивает благоприятное поле деятельности для функционирования институтов ислама. По этой причине он менее строг к тем качествам халифа, которые связаны с его светскими функциями. Итак, халиф уже более не означал и не символизировал единство халифата, а являлся лишь составной его частью. Авторитет имама основывался на власти султана, а власть последнего освящалась авторитетом имама. Султан как конституирующий авторитет признавал институциональный авторитет халифа. Таким образом, именно султан как светский правитель обеспечивал единство и могущество исламского государства как такового. Связующим же звеном между султаном и имамом, по ал-Газали, должны были быть факихи и улемы. Их по¬
14 Там же, с. 96.
240
литическими функциями являлись интерпретация шариата в соответствии с историческими реалиями, обоснование законности назначенного султаном халифа и издание религиозно-юридических актов (фетв), олицетворяющих функциональный авторитет шариата. По представлениям ал-Га- зали, светские функции халифа должен был выполнять султан, а религиозно-идеологические — улемы и факихи.
В более поздних работах ал-Газали детально излагал практические требования по соблюдению религиозных правил и норм шариата, обеспечивающих порядок и процветание исламского государства. Нигде так явно, как в его труде «Ихйа улум ад-дин» («Возрождение религиозных наук»), не продемонстрировано, что политика для мусульман не была независимой наукой, а являлась составной частью религии.
В работе «Насыхат аль-мулюк» («Советы правителям») он рассмотрел основные обязанности правителей в деле эффективного управления государством. Поскольку эта книга была адресована не факихам и не халифам, а исключительно султанам, он подчеркивал большую ответственность последних перед Богом и подданными, всячески показывая, что их власть от Аллаха. Первой обязанностью султана, по ал-Газали, является укрепление собственной веры (джихад), а обязанности по отношению к подданным заключаются в осуществлении справедливой власти. На многочисленных примерах из религиозной традиции, истории Сасанидского государства и Халифата он показывал, как несправедливая власть вела к тирании, а тирания— к несправедливой власти. Ал-Газали призывал султанов прислушиваться к мнению факихов и улемов в делах религии и к советам визирей в делах государства, отмечал исключительную важность в государственной иерархии должности визиря, и в частности первого визиря.
В «ал-Мустасфа мин илм ал-усул» («Избранное из науки об основоположениях фикха»), написанной в 1109 г., он рассмотрел проблему общества и государства с точки зрения мусульманского права (усул ал-фикх). Этот трактат начинается с разъяснения фундаментального мусульманского догмата о том, что единственным сувереном является Бог. Рассматривая источники фикха, он подчеркивал, что единственным абсолютным источником является Коран. Сунна же представляет ценность лишь в той степени, в какой она указывает и доказывает существование порядка, установленного Богом. Соответственно, иджма ценна постольку, поскольку указывает на существование сунны. Рассматривая иджму, ал-Газали утверждал, что она означает единодушное мнение всех членов уммы. Однако, рассуждая о правах тех, кто может быть включен в иджму, и тех, кто должен быть исключен из нее, он в конечном счете пришел к идее, что иджма есть единодушное мнение факихов и улемов, имеющих право издавать фетву. Авторитет государства он связывал с волей Пророка, которая является основой иджмы и имеет целью установление религии ислама. Из этого следует, что государство должно защищать ислам. Важным
241
здесь представляется обращение к иджме, которая в конечном счете должна была отражать историческую практику Халифата. Именно иджма, по ал-Газали, наделяет институт халифата авторитетом15.
Касаясь проблемы таклида (слепого следования авторитету и религиозной традиции) и иджтихада (творческого развития теории мусульманского права), ал-Газали утверждал, что простые люди (амма) должны следовать таклиду. Это положение он обосновал тем обстоятельством, что даже сподвижники Пророка следовали по пути, предначертанному Мухаммедом. Более того, считал ал-Газали, самостоятельные и независимые поиски истины, справедливости и счастья могут привести к социальной нестабильности.
Рассматривая соотношение религии и государства, духовного и светского, он утверждал их неразрывность и взаимообусловленность. Умма, объединяющая людей на основе веры, имеет своей целью достижение счастья в потустороннем мире. Поскольку единственным сувереном является Бог, человек обязан строго следовать шариату. Политика, религия, «теология», право и этика неразрывно связаны между собой, они указывают и определяют способы достижения счастья. В конечном счете ал- Газали рассматривал политические реформы и как моральные, ибо всякий, кто желает улучшить жизнь других, должен начать с самого себя.
Таким образом, по мнению ал-Газали, единое мусульманское государство, или халифат, охватывает авторитет и власть халифа, султана и улемов. Из этих трех элементов и состоит политический авторитет халифата, существование которого зависит от сохранения баланса между этими элементами, а единое мусульманское государство предполагает их тесный союз при сохранении обязательной автономии. Резкая же критика ал- Газали улемов объясняет его понимание необходимости независимости авторитетов религиозного знания, которые должны всячески противостоять задабриваниям со стороны султана.
Как мы видели, ал-Газали вполне уложил свою политическую теорию в рамки традиционной суннитской догматики. Он показал ее способность к подвижности, социальной адаптации в новых исторических условиях. Конечно, его понимание единого мусульманского государства отличается не только от «классического образца» периода правления Пророка и четырех «праведных халифов», но и от теорий его непосредственных предшественников из числа факихов. Он обладал чувством политического реализма и религиозной ответственности, ибо его доктрина предусматривала возможность исторического изменения носителей авторитета и власти. Когда халифы сошли с исторической арены, мусульманское государство продолжало существовать как союз власти и религии.
15 Там же, с. 105.
A.B.Смирнов
Дуализм и монизм: различие и сходство двух вариантов суфийской этики
В своем знаменитом труде «Этические теории в исламе» известный исследователь классической арабской философии Маджид Фахри с изрядной долей сожаления и даже удивления отмечает скудость этической мысли в исламе. С этим стоит согласиться, если иметь в виду арабоязычный перипатетизм (фальсафа), который и составил почти исключительно предмет внимания М.Фахри, а также исмаилизм и, в определенном отношении, ишракизм (эти два направления классической арабской философии остались за пределами его труда). Эти школы развивали преимущественно античные, что в данном случае означает перипатетические и неоплатонические, подходы к пониманию блага и зла и строили этику на этих основаниях. Однако в том, что касается философского калама и суфизма, оценка маститого ученого вряд ли оправданна.
Я буду говорить об основаниях этической мысли двух выдающихся суфийских мыслителей, Джалал ад-Дйна Румй (1207-1273) и Мухйй ад- Дйна Ибн ‘Арабй (1165-1240), в контексте подхода к определению категорий блага и зла в арабо-мусульманской мысли. При этом я буду исходить из того, что трактовка этих категорий в религиозно-доктринальной и философской мысли различна и может быть обозначена как «соотносительная» и «абсолютная» соответственно.
Мусульманская этическая мысль, кажется, служит подтверждением распространенного тезиса, гласящего, что благо и зло являются наиболее фундаментальными и универсальными понятиями этики. Безусловно, понятие «благо» (хайр) служит одним из основных коранических концептов. Об этом говорит, среди прочего, частотность его употребления: это слово (не считая производных) встречается в Коране 176 раз. Термин «зло» (шарр) куда менее употребителен: в кораническом тексте он встречается всего 31 раз. Хотя и в очень упрощенной форме, эти факты тем не менее
© A.B.Смирнов, 2004
243
отражают общий «оптимистический» подход к основным этическим проблемам в исламе. Конечно, хайр и шарр — не единственные термины, выражающие понятия «благо» и «зло», но относящиеся к ним сведения достаточно красноречивы.
Коран и сунна придерживаются не абсолютного, а соотносительного понимания блага и зла: запреты вызваны не причастностью запрещаемого некоему злому началу, а только тем, что благо, приносимое такими вещами, перевешивается, причем ощутимо и несомненно, проистекающим от них злом. Таковы, скажем, азартные игры: они приносят определенное благо, поскольку услаждают душу, однако причиняемое ими зло намного больше этого блага — ведь игрок может потерять всю полагающуюся ему часть верблюда1, и тогда сам он и его семья останутся без пропитания. То же касается и самого главного — стимула к исповеданию ислама. Правоверие приносит весьма ощутимые блага как в земной, так и в загробной жизни, тогда как исповедание других вер может приносить некоторые блага в земной жизни, однако скорее всего (это, во всяком случае, касается многобожников) принесет зло в жизни загробной: баланс налицо, и создаваемый им стимул, как предполагается этой точкой зрения, весьма ощутим.
Принципиально тот же подход характерен и для исламской религиозно-правовой мысли — фикха. Здесь оценка предмета как благого или злого достаточно определенно (во всяком случае, градуированно) выражается в системе известных «пяти категорий» (ал-ахкам ал-хамса). В фикхе собственно нравственный характер оценки дополняется правовым аспектом, оставаясь сплетенным с последним и никогда не будучи вытесненным им до конца. Наиболее «радикальной» из категорий фикха является пара «обязательное-запрещенное» (<тджиб-махзур). Некатегорические запрет и предписание выражены парой «поощряемое-порицаемое» (сун- на-макрух); «безразличные» (мубах) для Законодателя, т.е. лишенные правовой оценки, предметы суждения нас здесь не интересуют. Так вот, оказывается, что даже наиболее категорические оценки — «запрет» и «предписание» — могут меняться местами, если меняется контекст обсуждения того или иного предмета и если благодаря такому изменению контекста благо, связанное с этим предметом, начинает безусловно преобладать над злом, которое тот причиняет. Один из наиболее известных примеров — оценка спиртного (хамр). Будучи запретным в обычных ситуациях, поскольку вреда оно приносит безусловно больше, нежели пользы, вино становится не просто позволительным, но обязательным, если мусульманин поперхнулся и ему грозит смерть от удушья, а под рукой нет никакой другой жидкости: выпить вино, чтобы избежать смерти, он не просто может, но обязан.
1 Во времена Мухаммеда, активно выступившего против азартных игр, были распространены игры с использованием костей, опирающиеся на довольно сложные правила, ставкой в которых служило мясо забитого или добытого животного.
244
Переход от соотносительности выстраивания этической оценки в религиозно-правовой мысли к его абсолютности в философии связан с той особенностью философской мысли и философского отношения к действительности, которое в западной традиции обычно именуется «критическим духом». Философия не соглашается с тем, чтобы принять нечто внешнее самому предмету в качестве предпосылки его осмысления, поскольку такое принятие означало бы догматизм и одновременно — отказ от универсальности осмысления (первое выводит рассматриваемый предмет за пределы сферы рационального, а второе изымает его из сферы философского). Вот почему она стремится увидеть основания для квалификации предмета как благого или злого в самом этом предмете, а не в чем-то внешнем ему.
Первыми в истории арабской мысли такой переход к абсолютному выстраиванию этической оценки совершили мутазилиты. В их рассуждениях и спорах я выделю два аспекта интересующей нас темы.
Во-первых, это вопрос о характере божественных действий. Мутазилиты крайне редко соглашались друг с другом, и тем более показательно их единодушие в данном случае. Как сообщает ал-Аш‘арй, фактически все они считали, что творимое Богом зло является «злом» метафорически (маджаз), но не по истине (хакйка)2. В свете теории «указания на смысл» (далала ‘ала ал-ма 'на), которая была развита уже в ранней арабо-мусульманской мысли и в дальнейшем универсально применялась в философии и филологии, этот тезис следует понимать следующим образом: любое божественное действие и всякая сотворяемая Богом вещь указывают только на «благо» как на свой собственный, или «истинный» {хакйка), смысл. Однако совершенно очевидно, что в Коране говорится и о том, что Бог причиняет неверующим «зло», например бедствия в дольней жизни и проклятие и муки в загробной. Однако «зло», как считают мутазилиты, не является тем смыслом, на который указывают эти вещи по истине. «Зло»— собственный смысл некоторых других вещей, место которых занимают божественные действия, указывающие на «зло» в таких случаях переносно, т.е. иносказательно, а не истинно3. В том же духе решается и проблема проклятия (па'на) Богом неверующих: это не наказание, а, согласно большинству мутазилитов, «справедливость ( ‘адл), мудрость, благо и подходящее (салах) для неверующих»4.
Во-вторых, это вопрос о том, является ли предписанный Богом поступок «хорошим» (хасан) сам по себе или в силу божественного предписа¬
2Ал-Аги'арй. Макалат ал-исламийййн ва ихтилаф ал-мусаллйн (Высказывания людей ислама и разногласия вершащих молитву). Ред. Г.Риттер. 3-е изд. Wiesbaden, 1980, с. 245- 246; см. также с. 251.
3 Более подробно о теории указания на смысл и ее особенностях см.: Чалисова Н.Ю, Смирнов А В. Подражания восточным стихотворцам: встреча русской поэзии и арабо-персидской поэтики. — Сравнительная философия. 1. М., 2000, с. 281-300.
4 Ал-Aul *арй. Макалат ал-исламийййн ва ихтилаф ал-мураллйн, с. 249.
245
ния ('амр) и, соответственно, является ли «плохой» поступок (саййи'а) таковым сам по себе или в силу божественного предписания. Известный рационализм мутазилитов и их представление о том, что вещи обладают собственной природой, которую не обязательно пересиливает воля и могущество Бога, проявился и в данном случае. Среди высказанных ими решений этого вопроса и такое— то, что Бог не мог предписать как должное или что Он не мог наказать как запретное, является само (соответственно) «злом» и «благом»; то, в отношении чего Его предписание могло быть противоположным тому, каким явилось в Законе, — то не обладает само по себе свойством блага или зла.
Таким образом, мутазилиты провозглашают абсолютно благой характер божественных действий, обосновывают этическое понимание установлений Закона и отделяют этически оправданные среди них от волюнтаристских.
Арабоязычный перипатетизм (фальсафа), исмаилизм и ишракизм малопродуктивны в сфере этики. Они следуют неоплатонической трактовке блага и зла в собственных философских сочинениях (ал-Фарабй тут лучший пример) и аристотелевской и частично платонической в продолжающих античную традицию «Трактатах о нравах», которые бесконечно варьировавшимися классификациями качеств души способны сбить с толку самого терпеливого читателя, либо воспроизводят античные образцы (например, «О справедливости» Мискавайха5). Все это мало способствовало осмыслению этических проблем, как они были поставлены в классической арабо-мусульманской цивилизации, и не случайна ирония знаменитого ал-Газалй в адрес не менее знаменитого Ибн Сйны, сказавшего, что тот заимствовал все ценное в своей этике у суфиев.
Перейдем к основаниям этической мысли Джал ал ад-Дйна Румй и Мухйй ад-Дйна Ибн ‘Арабй.
На первый взгляд они предстают трудносовместимыми, если не вовсе противоречивыми. Дадим сперва их общий очерк, а затем перейдем к деталям и конкретным примерам.
Позицию Румй можно обрисовать следующим образом. Благо и зло — две абсолютно противопоставленные противоположности. Цель человека — отличать благо от зла, разводить и ни в коем случае не смешивать их. Эти две категории служат универсальным средством осмысления человеческих деяний: любое из них может быть классифицировано как благое либо злое, и человеку следует максимально сторониться злого и держаться как можно ближе к благому.
В таком обобщенном виде этические принципы Румй покажутся очень знакомыми любому, кто воспитан в лоне христианской или иудейской культуры. Вряд ли это стоит считать случайностью, если учесть, что древ¬
5 Мискавеих. Трактат о природе справедливости. Пер. и коммент. 3.И Гусейновой.— Историко-философский ежегодник. 1998. М., 2000, с. 289-300.
246
неперсидское наследие повлияло, вне всякого сомнения, на иранских мусульманских мыслителей, будь то поэты или философы. Строго проводимое различие между благом и злом как двумя началами универсума составляет неотъемлемую черту древнеперсидской мысли. Утверждение некоторых авторов о том, что зороастризм мог повлиять на еврейскую мысль и дать толчок зарождению этических идей в иудаизме, вряд ли вовсе лишено основания. Если это верно хотя бы в каком-то отношении, сходство этических принципов Румй и христианских или иудейских авторов представляется более объяснимым.
Что касается Ибн ‘Арабй, то его позиция весьма заметно отличается от положений, которые для Румй служат не подвергаемыми сомнению принципами. Великий шейх утверждает, что ничто в мире не является злом как таковое (би-л- ‘айн «по воплощенности») и что любая вещь должна расцениваться положительно, как благо. Если это так, то в чем состоит обоснование запретов, которые содержит божественный Закон? Румй вполне определенно отвечает на этот вопрос, ясно отделяя благо от зла и заявляя, что «Всевышний... бывает доволен только благом»6. Но если мы вслед за Ибн ‘Арабй будем считать, что все в мироздании включено в сферу существования (вуджуд), а существование принадлежит исключительно Богу (эта теория позже будет названа теорией вахдат ал-вуджуд «единства существования»), и следовательно, любая вещь как таковая является только благой, а не злой, — почему в таком случае следует что-либо запрещать?
Для многих исследователей Ибн ‘Арабй стало уже общим местом указывать на неоплатонические параллели его идей. Отдавая должное Великому шейху, следует сказать, что по меньшей мере в данном вопросе он не следует по пути неоплатоников и не считает зло недостатком бытия. Эта идея, ставящая знак равенства между материальным и причастным злу, циркулировала среди мусульманских интеллектуалов, и ал-Фарабй и Ибн Сйна (если ограничиться этими известными именами) отдали ей должное. Однако Ибн ‘Арабй настаивает, что дело обстоит не так. Даже самые неприятные вещи, например чеснок, представляют собой только благо, если рассматривать их как таковые. Почему же в таком случае Мухаммед питал к ним отвращение? Ему не нравился не чеснок как таковой, а его запах (ра’иха), утверждает Ибн ‘Арабй7. Ведь никакая вещь, рассматриваемая как таковая, как «воплощенность» {‘айн), не может быть отнесена к категории макрух «вызывающее отвращение»8, такую оценку ей можно вынести только относительно, принимая во внимание внешние аспекты.
6 Румй. Китаб фй-хи ма фй-хи (Книга, содержащая то, что содержит). Техран, 1330 х с , с. 179.
7 Ибн Арабй. Геммы мудрости. — Смирнов A.B. Великий шейх суфизма. М., 1993, с. 283.
8 Макрух — одна из «пяти категорий» фикха, обозначающая «нерекомендуемые» поступки. Непосредственное языковое значение — «то, что вызывает нелюбовь».
247
Этот онтологизм Ибн ‘Арабй ведет к выводам, которые, будучи высказаны без обосновывающих их философских рассуждений, покажутся весьма своеобразными. Вероятно, наиболее вызывающим для сознания «обычного» мусульманина будет утверждение, что никакая религия не является ложной и что любое поклонение— поклонение только единственному и истинному Богу. Утверждение не вполне привычное, даже если рассматривать его как чисто теоретический тезис. Однако Ибн ‘Арабй не останавливается на этом, а делает все логически необходимые выводы. Например, он говорит, что те, кто заставлял людей отречься от их «неправильных» верований, тем самым препятствовали им в поклонении Богу и таким образом действовали против Его воли. Даже пресловутый коранический Фараон предстает в «Геммах мудрости» как слуга Бога. Какими бы «странными» ни казались эти утверждения, мы не можем не согласиться с ними как с логически непогрешимыми импликациями онтологического фундамента учения Ибн ‘Арабй.
Эта, мягко говоря, веротерпимость Ибн ‘Арабй (я привел только несколько ее примеров) резко контрастирует с позицией Румй. Рассматривая вопрос о правоверии, тот весьма недвусмысленно проводит различие между исламом и прочими религиями. Он без колебаний обрушивает свою критику не только на идолопоклонников, но и на христиан9, исходя из, как он считает, вполне очевидных для всех аргументов (например, Румй задает вопрос, каким образом такое немощное существо, как ‘Йса, способно нести вес всех семи небес, поддерживая их). Говоря о любви (‘игик), Румй нимало не сомневается в наличии «истинного возлюбленного» (ма'шук хакйкийи), которого следует отделять от прочих возможных объектов любви, не являющихся таковыми10. Нетрудно видеть, насколько разительно отличается этот тезис от позиции Ибн ‘Арабй, когда тот говорит, что Бога не заключает никакое «где» ( 'айн) и что в силу этого человек должен помнить, что может найти Его в любом направлении, а не только обращаясь в сторону киблы11, или когда утверждает, что всякое искушение (фитна) следует преодолевать, не отворачиваясь от якобы «неправильных» объектов привязанности, а превращая их в «истинные» благодаря способности видеть их как проявления Бога12.
Я утверждал, что позиция Ибн ‘Арабй вполне согласуется с его фундаментальным тезисом, гласящим, что реальность (подлинность, действительность — этот синонимический ряд дает представление о его концепте ал-хакк/ал-халк «Истина/Творение») едина и включает в себя все, а потому ни в каком нашем деянии мы просто не способны — даже если очень этого захотим — отклониться от нее. Что касается Румй, он также испы¬
9 См.: Румй Китаб фй-хи ма фй-хи, с. 124-125
10 См. там же, с 160.
11 Ибн Арабй. Геммы мудрости, с. 198-199; см. также с. 172 и др
12 Ибн Арабы. Наставления ищущему Бога. — Средневековая арабская философия* Про* блемы и решения. М., 1998, с. 320-326.
248
тывает мало сомнений в том, что человек — нечто большее, чем подневольная Божьей воле тварь, и предостерегает нас от недооценки нашей подлинной ценности. В Фй-хи ма фй-хи он сравнивает человека с чистым золотом и говорит, что было бы глупостью пустить его на изготовление горшка для варки тыквы. Драгоценный человеческий дух для Румй, как и для Ибн ‘Арабй, служит отражением Бога. Иначе говоря, Румй не является противником теории вахдат ал-вуджуд Великого шейха. Если так, то почему этические учения двух мыслителей представляются столь различными? Румй исходит из дуализма добра и зла, которые являются несовместимыми противоположностями, тогда как позицию Ибн ‘Арабй следует характеризовать как этический монизм. Безусловно, древнеперсидское культурное наследие повлияло на мысль Румй, тогда как оно вряд ли могло оставить свой след в учении Ибн ‘Арабй. Сводится ли различие во взглядах двух мыслителей к этому различию их культурного наследия? Или же их теории все же более похожи, нежели это представляется на первый взгляд, ввиду их общих онтологических оснований и общей логики рассуждений?
Чтобы ответить на этот вопрос, приглядимся внимательнее к тому, как Румй объясняет связь между существованием добра и зла, с одной стороны, и тем, что Бог бывает доволен только добром, — с другой.
Рассматривая эту проблему, он обращается к понятию божественной воли (ирада). В отличие от мутазилитов Румй без колебаний заявляет, что Бог желает как блага, так и зла13, что в его устах означает, что Бог их творит. Но что представляет собой то зло Ошарр), о котором говорит Румй? С одной стороны, он имеет в виду зло «по истине», а не «метафорически». В этом его позиция отличается от позиции мутазилитов с их стремлением рассматривать любое зло, приносимое человеку божественными деяниями, как маджаз (метафора), а не как хакйка (истина). С другой стороны, это зло, будучи злом по истине, является злом как таковым (би-л-‘айн). Что это именно так, выясняется, когда Румй говорит: «Его желание зла (шарр) было бы плохим (кабйх), если бы Он желал его ради него самого (пи-‘айни-хи)»ы, что осталось бы бессмысленным утверждением, не будь зло злом «как таковым» (би-л-(айн). Таким образом, Румй отказывается от того решения, к которому прибегает Ибн ‘Арабй, когда говорит, что все является исключительно благом как таковое, но может быть благом или злом в зависимости от вкусов, симпатий и антипатий людей, т.е. «по установлению» (би-л-вад(), соотносительно, а не абсолютно и не субстанциально.
Румй избирает другой путь. Он говорит, что зло желаемо не ради него самого, а ради блага. Этот тезис прямо связан с другим: человеку в этом мире невозможно доставить никакое благо, если его не постигло какое-то
13 Румй. Китаб фй-хи ма фй-хи, с. 179.
14 Там же, с. 180.
249
зло. Наставник желает невежества своих учеников, поскольку иначе не мог бы их ничему научить, булочник желает, чтобы его покупатели испытывали голод, поскольку иначе не может накормить их, врач желает болезни пациента, чтобы излечить его,— и точно так же Бог желает зла в мире, чтобы доставить людям благо15. Румй обсуждает отношения между властителем и подданными (а они составляют ближайшую аналогию отношению между Богом и человеком) и говорит, что властители желают неповиновения своих вассалов и даже нападения врагов, чтобы показать свою власть и могущество, хотя это не вызывает их довольства.
Рассматривая эти два тезиса вкупе, мы обнаруживаем, что, согласно Румй, невозможно желать блага, не желая одновременно и зла, хотя зло при этом желаемо только ради блага. Румй вполне ясно подчеркивает эту мысль, заявляя, что «противник утверждает, [будто Бог] не желает зла ни в каком отношении; однако невозможно желать вещь и при этом не желать всего ей сопутствующего (павазпм)»16.
Это крайне важный нюанс, поскольку иначе граница между благом и злом, проводимая Румй, выглядит как непреодолимый барьер. Однако оказывается, что, с точки зрения Румй, невозможно, по меньшей мере в этом мире, установить исключительно царство блага и вовсе исключить зло: благо и зло по самой своей природе настолько тесно переплетены, что не бывает первого без второго. Позиция Румй оказывается гораздо ближе, нежели нам представлялось вначале, к монизму Ибн ‘Арабй, особенно если принять во внимание развитую последним стратегию «растерянного» (ха’up) рассуждения, которое безостановочно переходит от одной из противоположностей к другой, рассматривая каждую как предпосылку и условие для другой.
Последним, но весьма немаловажным шагом в этом кратком исследовании станет ответ на вопрос: чем, согласно Румй, представлено зло в случае прямого этического (а не онтологического) отношения «Бог-человек», которое находит свое выражение в божественном Законе, точнее, в содержащихся в нем запретах и предписаниях?
В обсуждавшихся примерах (наставник, булочник и т.д.) зло, рассматриваемое как необходимое условие блага, представлено определенным состоянием объекта благоволения: голод питающихся, невежество учащихся и т.д. Нечто весьма похожее обнаруживается в человеческом существе, когда мы рассматриваем его отношение к Богу в общем. Это нежелание человека идти по пути блага и его склонность избирать путь зла. Исключительно по этой причине божественный Закон и был дан людям. В своем известном рассуждении Румй обращает наше внимание на то, что никто не назовет фразу «Не ешь эти камни!» запретом и не расценит слова «Насыщайся этими яствами!», обращенные к голодному человеку, как
15 Там же, с. 179.
16 Там же.
250
приказание, хотя с языковой точки зрения они представляют собой именно запрет (нахй) и приказание ( 'амр). Эти категории в данном случае неприменимы потому, что на пути осуществления этих повелений не стоит никакое препятствие и любое человеческое существо без колебаний поведет себя именно так. Но все дело в том, что человек наделен «душой, побуждающей ко злу» (нафс ’аммара би-c-cf; см. Коран, 12:53): она-то и составляет препятствие на пути следования человека стезей блага, препятствие, не будь которого, человек без колебаний выбрал бы именно этот, благой путь. Эту душу Бог желает и творит для человека с тем, чтобы затем излить на него свои благодеяния и наставить его на путь блага. Это означает, что повеления человеческой, склонной ко злу души и повеления самого Бога противостоят друг другу, а человек, согласно Румй, имеет возможность избирать, каким из двух противоположных повелений повиноваться. С точки зрения Ибн ‘Арабй, человек также выбирает, повиноваться божественному Закону или же ослушаться его. Однако и та и другая линии поведения будут, согласно Ибн ‘Арабй, всегда повиновением божественному приказанию — но выраженному уже не в виде Закона ( 'амр таклйфийй «поручающее приказание»), а как «созидающее приказание» ( 'амр таквйнийй): первое опосредованно и допускает ослушание, второе же — непосредственное, и от него отклониться никак нельзя17.
17 О двух видах приказания см.: Ибн Арабы. Геммы мудрости, с. 238, а также с. 186-187, 199-200.
Янис Эшотс
Этика исламского мистицизма: краткий обзор учений футувва
Большинство современных западных ученых-востоковедов склонны рассматривать духовные явления преимущественно как социальные феномены, поэтому, говоря о футувва, они обычно отождествляют его с определенным общественным движением в исламской цивилизации, зародившимся где-то в IV/X в. и достигшим своего расцвета во время правления аббасидского халифа Насир ли-Дин Аллаха (577/1181-620/1333), когда оно было структурно оформлено как ордены, подобные суфийским (хотя обычно с более мягким уставом). В этом социальном аспекте небезосновательно рассматривать футувва как «младшего брата» суфизма, т.е. как институт, созданный для тех, кто хотел достичь определенной ступени духовного совершенства, но не был готов вступить на тернистый путь суфизма. Однако, как представляется, истина заключается в том, что футувва, подобно тасаввуф (суфизму), первично и самостно представляет собой определенную стоянку «прямого пути», через которую должен пройти всякий верующий («верный [Богу]» —му’мин) (что, разумеется, не лишает нас возможности акцидентально рассматривать его как социальный феномен).
Буквальное значение слова футувва— «юность», «молодость»; оно образовано от того же корня, что и фата— «юноша», «молодой человек», т.е. тот, кто уже не является сабй (мальчиком) и еще не стал шайхом (стариком). Как технический термин он обозначает того, кто актуализировал в себе человеческие совершенства и духовные энергии, тем самым вернув своему врожденному естеству (фитра) его изначальную чистоту. В этом техническом смысле представляется верным переводить фата как «добрый молодец», а футувва — как «молодечество».
Шаме ад-Дйн Мухаммад Амулй, автор энциклопедической работы «Тонкости наук» («Нафа’ис ал-фунун»), пишет в своем трактате о футувва: «С точки зрения [скрытого] смысла фата является тот, кто достиг со¬
© Я.Эшотс, 2004
252
вершенства своего врожденного естества и крайнего предела того, что является его совершенством. Следовательно, до тех пор пока над рабом властвуют его прихоть и [телесная] природа и пока в нем явлены грязные примеси смертного человеческого естества (багиариййа), он находится на ступени мальчика (саби). Когда он поднимается выше этой стоянки и его врожденное естество освобождается от душевных пагуб и недугов и дьявольских пороков и атрибутов, он достигает ступени юноши (фата), так как человеческая сила смысла достигла в нем совершенства, и он актуально приобрел добродетели, подобно тому как юноша приобретает формальные силы и телесные совершенства; и юного (читай: доблестного) мужа (джавйнмард) называют „обладателем сердца“, ибо, когда врожденное человеческое естество достигает совершенства, его называют „сердцем“ (дил), поэтому [Всевышний] сказал: „И из Его приверженцев [был] Авраам, / когда он пришел ко своему Господу со здравым сердцем“ (37:81-82)и когда он поднимается выше стоянки сердца, и посредством проявлений божественных атрибутов атрибуты сердца стираются в нем, и он достигает стоянки духа (рух) и становится „обладателем свидетельствования“ (сахиб-э мушахада), то достигает ступени старца (шайх), так как старцем является тот, чьи телесные силы ослабли, чернота [чьих волос] сменилась сединой, и [сам] он приблизился к исчезновению (фана'), и обладатель свидетельствования также приблизился к исчезновению, и посредством божественных светов темнота его атрибутов просветлилась и прониклась светом, и его силы и атрибуты посредством атрибутов Истины стали слабыми и несущественными. И поэтому, до тех пор пока футувва не достигло своего предела, валайа (дружба [с Богом]) не может быть обретена»2.
Как видим, автор рассматривает футувва как среднюю стоянку между стоянками мальчика (новичка) и старца (шайха). Фата — это тот, кто находится в середине пути, на «перешейке» (барзах). Следовательно, футувва ни в коем случае не является пределом доступного человеку совершенства. Скорее, оно представляет собой (этическую) подоснову гносиса ( ‘ирфбн) и суфизма. Главной заботой фата является восстановление изначальной чистоты своего врожденного естества, перед тем как возвратить его, как отданную на хранение вещь, ее истинному владельцу — Богу.
Для сравнения приведем здесь еще одно определение футувва, данное ‘Абд ар-Раззаком Кашанй в его трактате «Дары братьев» («Тухфат ал- ихван»): «Знай, что футувва заключается в проявлении света врожденного естества и овладевании им тьмой [природных] устроений, с тем чтобы в душе проявилась полнота добродетелей и были устранены пороки»3.
1 Коран. Пер. Г.Саблукова. М., 1990 (репринт, воспроизведение изд. 1907 г.), с. 840 В данном случае — перевод наш.
2 Шаме ад-Дйн Мухаммад Амулй. Рисалэ-йэ футувватиййа аз Нафа’ис ал-фунун. — Раса’ил-э джаванмардан. Под ред. и с предисл. Муртаза Саррафа. Франц. предисл. А.Корбэна. 2-е изд. Тегеран, 1370/1991, с. 60-61.
3 ‘Абд ар-Раззак Кашанй. Тухфат ал-ихван фй хаса’ис ал-фитйан. — Раса’йл-э джаванмардан, с. 4.
253
Подобно Шаме ад-Дйну Амулй, ‘Абд ар-Раззйк Кйшйнй также говорит о трех стоянках пути духовной самореализации, из которых футувва является средней: «Следовательно, мурувва („мужество“) представляет собой здравость и чистоту врожденного естества, а футувва— светозарность и великолепие (баха ') его, и, подобно тому как мурувва является основой и фундаментом футувва, футувва является основой и фундаментом валййа... Однако валййа („дружба“) представляет собой исчезновение смертной человеческой природы (башариййа), и погружение в воплощенности единичности (.ахадиййа), и проявление власти любви, и очищенность [духовной] субстанции от ржавчины двойности»4.
Поскольку истинная сущность валййа («дружбы [с Богом]») и цель ее — исчезновение мистика («Божьего друга») в Боге, где первый лишается какого бы то ни было собственного бытия и вместо этого существует посредством бытия Бога и действует как Его орудие, очевидно, что стоянка валййа («дружбы»), строго говоря, находится вне пределов предмета этики: ведь мыслить в этических категориях возможно лишь при условии признания за человеком (хотя бы ограниченной) свободы воли и возможности выбора. Вали («Божий друг») же полностью передал свои волю и выбор Богу, поэтому судить о его поступках с позиций этики неверно.
Футувва представляет собой ту духовную стоянку, на которой восстанавливается изначальная чистота врожденного человеческого естества, поэтому можно с полным правом назвать его собственной областью этики и уровнем торжества этических императивов. А.Корбэн был, несомненно, совершенно прав, когда писал, что в исламской мысли «моральную философию вместе с наивысшим возможным идеалом, который она может предложить, следует искать в трактатах о футувва»5.
Мусульманские философы и мистики рассматривают Коран и сунну как основу и главные источники всякого знания и мудрости. В меру своих сил попытаемся следовать их примеру. Два персонажа описаны в Коране как фата (мн.ч. фитййн). Один из них — Авраам, о котором сказано: «Сказали: мы слышали, как отзывался о них (идолах. — Я.Э.) один фата (букв, „юноша“); его зовут Авраамом» (21:61)6; другой— «товарищи пещеры», о них говорится: «Эти фитйату (букв, „юноши“), когда скрылись в пещеру, сказали: „Господи наш, пошли нам от Себя милость и покажи правоту нашу в нашем деле!“» (18:9)7, наконец: «Мы верно расскажем тебе повесть о них. Они были фитйатун, веровавшие в Господа своего, и Мы увеличили в них усердие к прямому пути» (18:12)8.
Хотя буквальное значение слова «юноша» (или «юноши») вполне уместно во всех случаях, следует отметить, что как Авраам, так и «товарищи
4 Там же, с. 5-6.
5 Раса’ил-э джаванмардан, с. 8 (франц. предисл.).
6 Коран, с. 601 (здесь и далее пер. Г.Саблукова).
7 Коран, с. 537.
8 Коран, с. 539.
254
пещеры» изображены в Коране прежде всего как истинные исповедники тавхйда, т.е. единства Бога, и защитники Божьей правды пред своими людьми, а не только и не столько как «молодые люди», т.е. молодые физически.
В другом месте Коран повествует нам о завете, заключенном между Богом и сынами Адама: «Некогда Господь твой из сынов Адама, из чресл их, извлек потомков их и повелел им дать исповедание о себе самих: „Не есмь ли Я Господь ваш?“ Они сказали: „Да, исповедуем это“. — Это было для того, чтобы вы в день воскресения не сказали: мы не были в состоянии постигнуть это» (7:171)9. Отсюда ясно, что футувва Авраама и «товарищей пещеры» заключается прежде всего в их верности этому предвечному завету — завету «Аласту» (букв, «не есмь ли Я?»). Фата — это тот, кто остается верным завету при любых обстоятельствах. Самым существенным свойством фата является верность (<вафа’). Он не может признать каких бы то ни было сотоварищей Богу, как это сделали его одноплеменники, поскольку, поступив так, он отказался бы от своего слова: «Да, исповедуем это». Это никоим образом не противоречит вышеприведенному определению футувва как достижения совершенства врожденного человеческого естества, так как сущность слуги и служения заключается в верности своему господину. Авраам и «товарищи пещеры» смогли сохранить верность своему Господу в данных исключительных обстоятельствах (при идолопоклонстве окружающих) лишь благодаря чистоте и совершенству своего врожденного естества. (Единство Бога было тем, что они непрестанно свидетельствовали — подобно тому как мы свидетельствуем свет и тьму, восход и закат и другие явления чувственно воспринимаемого мира. Человек, который слеп от рождения, может, однако, легко усомниться в реальном существовании этих феноменов.)
Среди других деяний Авраама, которые характеризуют его как фата, следует отметить по меньшей мере еще два: установление им обычая жертвоприношения (готовность принести в жертву Богу своего сына Исаака); установление обычая гостеприимства (известная из Библии история об угощении им ангелов, явившихся к нему в облике молодых странников).
Обращаясь к сунне (традиции), следует сказать, что есть много высказываний Пророка и шиитских имамов на эту тему. Один из наиболее знаменитых хадисов, который приводится почти во всех известных нам трактатах о футувва, таков:
«Однажды Пророк— да будут над ним молитва и мир!— сидел с группой [товарищей]. Некто вошел и сказал: „О Посланник Божий! В таком-то доме мужчина и женщина предаются гнусному делу“. [Пророк] сказал: „Следует допросить их и исследовать это дело“. Несколько присутствовавших при нем товарищей [поочередно] просили у него позволе¬
9 Коран, с. 317.
255
ния [сделать это], но [Пророк] никому не разрешил. [Тогда] вошел повелитель верующих ‘Али— мир ему! [Пророк] сказал: „О ‘Али! Пойди и посмотри, так ли обстоит дело или нет“. Повелитель верующих ‘Али пошел [к указанному дому]. Когда он достиг двери дома, то закрыл глаза, вошел внутрь и, нащупав руками стену, [так и двигался,] обошел дом и вышел из него. Войдя к Пророку, он сказал: „О Посланник Божий! Я обошел этот дом вокруг, но никого в нем не увидел“. Пророк — да будут над ним молитва и мир! — посредством света пророчества постиг [истину] и сказал: „О ‘Али! Ты — фата этой общины!“»10.
Во втором из своих двух трактатов о футувва Шихаб ад-Дйн ‘Умар Сухравардй (ум. в 1234 или 1235 г.), известный суфийский шейх, автор «‘Авариф ал-ма‘ариф» и основатель суфийского ордена сухравардиййа (не путать с его соотечественником Шихаб ад-Дйном Йахйа Сухравардй (ум. в 1191 г.), известным философом и основателем школы озарения — ишрак), дает еще более красноречивый отчет о решительных попытках ‘Али защитить тех, кого обвиняли в тяжких грехах и нарушении установлений шариата:
«Если кто-то совершил кражу, [то,] когда к повелителю верующих приводили вора и вина его была доказана, он сперва приказывал отрубить ему руку, в соответствии с доказательством Божьей речи: „Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что сделали они, в назидание от Бога. Бог силен, мудр“ (5:42)п, [говоря при этом (?)]: „Это верно, что рука его должна быть отсечена“. [Затем] он говорил: „Теперь прости его. Отдай мне его грех! Эта [украденная] вещь не была твоим [истинным] уделом, и сей несчастный — заложник [Божественного] предопределения ({када’) и судьбы (кадар). Сатана соблазнил его и сбил его с пути. Я возмещу тебе твой урон“. И [таким образом] он просил за вора до тех пор, пока не умилостивлял потерпевшего. Если [же] к нему приводили прелюбодея, то он не принимал обвинения до тех пор, пока не получал свидетельства четырех беспристрастных свидетелей, и, после того как они дали свои свидетельства, он все еще не принимал [обвинения] и требовал, чтобы свидетели уплатили десятину от своего имущества [как налог в пользу бедных], и, разумеется, он старался предотвратить установление вины прелюбодея, и повторно вызывал [свидетелей (?)], и наставлял их, и угрожал им, и, если он был принужден к тому свидетельствами, он приказывал наказать прелюбодея и больше не принимал свидетельств этих людей, говоря: „Они свидетельствовали о прелюбодеянии“»12.
Наиболее явным проявлением футувва ‘Али традиция считает, по всей видимости, сокрытие им чужих грехов и его покровительство грешникам
10 Кашанй. Тухфат, с. 12.
11 Коран, с. 205.
12 Шихдб ад-Дйн ‘Умар Сухравардй. Футувват-намэ-йэ дигар — Раса’ил-э джаванмар- дан, с. 107-108.
256
или — быть может, еще точнее — необращение им внимания на чужие промахи и ошибки. Cammâp («покрывающий») — одно из имен Бога, поэтому резонно полагать, что на такие поступки ‘Али вдохновил Бог, сделав его таким образом местом проявления (мазхар) этого имени. Разумеется, имя Саттар указывает на более общее имя Бога (пожалуй, самое существенное для сотворенного мира) — Рахман («милостивый»): ведь сокрытие грехов — не что иное, как вид (проявление) Божественной милости.
Любопытно, что сам ‘Али не включает сокрытие грехов (араб, camp, перс. 'айбпуши) в число наиболее существенных характеристик фата. (Можно лишь гадать, почему. Возможно, потому, что сокрытие собственных добрых дел столь же важно, как сокрытие чужих грехов, — или просто потому, что необходимость наличия этого свойства представлялась ему столь очевидной, что не заслуживала особого упоминания.)
‘Абд ар-Раззак Кашанй в своей работе приводит следующее высказывание ‘Али: «Основа футувва— верность (<зафй’), правдивость (сидк), надежность (амн), щедрость (саха’\ смиренность (maeàdÿ), искреннее наставление (насйха), ведение по верному пути (хидайа) и раскаяние (тавба); никто не достоин [считаться наделенным] футувва, кроме того, кто претворил в действие (т.е. актуализировал в себе. —Я.Э.) эти качества»13.
Так как верность (вафй ') упомянута первой, очевидно, ее следует считать наиболее существенной чертой фата, однако она может быть полностью актуализирована только после стяжания всех прочих качеств. ‘Абд ар-Раззак Кашанй пишет: «Верность является последней ступенью футувва и крайним пределом совершенства врожденного естества (фитра), поскольку [стяжание] футувва невозможно иначе как посредством чистоты врожденного естества и очищения души от грязи [телесной] природы. И врожденное естество не очищается от мрака природной склонности (джибилла) и не становится чистым от скверны природы до тех пор, пока раб не проявит верности в соблюдении древнего завета. Когда же он проявляет верность, чистота достигает своей полноты...
...до тех пор пока некоторые из человеческих совершенств и духовных добродетелей, требуемых врожденным естеством в соответствии с чистотой первой подготовленности, остаются в потенции во второй чистоте и не становятся действенными, [рабы] не проявили [в полной мере] верности завету божественности (улухиййа), на верность которому они присягнули, и не уплатили сполна дань Господствия, уплатить которую они обязаны»14.
Как видим, верность клятве, о даче которой говорится в приведенном выше стихе Корана (7:171), понимается Кашанй как восстановление первоначальной чистоты (или, если хотите, как стяжание «второй чистоты»). Это восстановление, само будучи актом веры, образует основание этики
13 Кашанй. Тухфат, с. 17.
14 Там же, с. 39.
9 - 10922
257
футувва, ибо отношения между фата и Богом являются основанием отношений между фата и тем, «что кроме Бога».
Тайна исключительности врожденного естества человека заключается в его способности познать Божественную Самость постольку, поскольку она познаваема посредством знания совокупности божественных имен, и верно понять и исповедовать единство Бога (которое является истинным единством, т.е. единством-по-истине). Как пишет далее Кашанй, «предшествующий завет ( ‘ахд-э сйбик) заключается в создании Всевышним Богом силы познания Своего единства в самости человеческого первоначального естества, и в [даровании силы] вспоминания умственных доказательств [сего единства] его [духовной] натуре, и в принятии их его врожденным естеством; последующий же завет заключается в утверждении веры (тасдйк-э ймани) в божественность и единственность Бога и в соблюдении законов ислама (= покорности) — выполняя обязательства раба и отдавая должное Господу»15.
Есть два вида верности: верность Богу и верность твари. Первый из них сущностей, а второй акцидентален и необходимо сопутствует первому. До сих пор мы говорили о верности Богу, которая проявляется посредством определяющих воздействий (<ахкам) заветов веры. Что же касается верности твари, то она заключается в том, «чтобы держаться за прочную вервь любви и надежную петлю дружбы (мавадда), которая была завязана в силу духовного родства и предвечной связи в начале творения»16. Эту последнюю верность следует понимать как оказывание попечения ('инайа) определяющим воздействиям любви и братства и соблюдение прав дружбы и товарищества — которое, в свою очередь, проявляется как ïiçàp, т.е. предпочтение пользы для другого собственной выгоде. Такое предпочтение считается высшей ступенью щедрости (сахй’), т.е. такой щедростью, оказывая которую дающий ставит собственную жизнь в опасность (что происходит, например, если мы отдаем последний глоток воды спутнику, с которым путешествуем по пустыне, при отсутствии воды поблизости).
В Коране есть выражение йу'сируна ‘ала анфусихим («предпочитают их себе»): «Те (т.е. ансары, принявшие ислам мединцы. — Я.Э.\ которые живут в своих домах, принявши веру прежде других, любят переселившихся к ним (мухаджиров, выходцев из Мекки. — Я.Э.): в сердцах своих они не находят желания получить то, что этим дается, и дают им предпочтение над собою, хотя и находятся в нищете; а которые остерегут себя от любостяжания, те будут блаженны» (59:9)17.
Такое предпочтение — обычай верующих (= верных), который был установлен в самом начале ислама, более того — один из основных моральных принципов ранней мусульманской общины.
15 Там же, с. 40.
16 Там же.
17 Коран, с. 1041.
258
Этим качеством (ücäp) славились ранние суфии. Приведем здесь вкратце рассказ о случившемся с багдадским суфием Нурй (ум. в 295/907-08 г.).
Вместе с несколькими другими суфиями он был обвинен в ереси и приговорен к смерти. Когда их привели на место казни, палач хотел сперва отрубить голову товарищу Нурй Раккаму, но Нурй занял его место и просил палача казнить его первым вместо Раккама, ибо, как он сказал, его стезя (тарйка) зиждется на предпочтении [пользы другого собственной выгоде], и, поскольку жизнь является самым дорогим для него, он хочет пожертвовать несколькими остающимися у него мгновениями в пользу своих братьев. Эти слова Нурй были переданы халифу, и благодаря им суфии были отпущены18.
Футувва посвящены три главы в «Мекканских откровениях» Ибн ал- ‘Арабй (42, 146 и 147). Подход Величайшего Шейха к проблеме в целом весьма спекулятивен. Вкратце можно сказать, что для Ибн ал-‘Арабй фата — это тот, кто знает меру (кадар) всех вещей и отдает каждой из них причитающееся ей. Любопытно, что из всех перечисленных выше характеристик фата Ибн ал-‘Арабй, судя по всему, считает самой существенной именно ücäp— «предпочтение». Так, в стихах, которыми открывается 146-я глава («О познании стоянки футувва и ее тайн»), он говорит: «Фата — это тот, чьим украшением является йсар19.
Следует тут же добавить, однако, что для Ибн ал-‘Арабй ücäp скорее онтологическое, а не этическое понятие, ибо он интерпретирует его как дарование Богом бытия тому, «что кроме Бога»: «...и Он абсолютно не нуждающийся — и тот, кто не нуждается таким (т.е. никоим. — Я.Э.) образом, а затем дает бытие миру, дает ему бытие не потому, что Он нуждается в нем. Поистине, Он дает бытие миру ради [самого] мира, отдавая предпочтение (ficäpan) ему над собственной единичностью (инфирбд) в бытии, и это — воплощенность ( 'айн) футувва»20.
Следовательно, всякий, кто посредством своей энергии (химма) дает бытие внешним природным и внутренним воображаемым формам, является фата, ибо он, судя по всему, предпочитает дарование бытия этим формам собственной единичности в определенном виде (уровне, модальности и т.д.) бытия. (Я боюсь, однако, что такой подход делает ненужными возвышенные этические учения ранних суфиев — ведь место поступка в них занимает онтологическая спекуляция.)
Далее Ибн ал-‘Арабй отмечает следующее обстоятельство: то, что принято называть йсар, т.е. предпочтением чужого блага собственной
18 См. подробнее: ‘Алй бен ‘Усман ал-Джуллабй ал-Худжвйрй. Кашф ал-махджуб Ред В.А.Жуковского. Л., 1926, с. 237. Нурй затем объясняет, почему он предпочитает этот мир загробному: первый, говорит он, является обителью служения (хидмат), тогда как второй есть место близости (курб) [к Богу], а близость не может быть получена иначе как служением (там же).
19 Ибн ал- ‘Арабй. Ал-Футухат ал-маккиййа. Бейрут, [б.г.], ч. 2, с. 231.
20 Там же, с. 232.
9*
259
выгоде, на самом деле чаще всего не что иное, как предпочтение права одного «другого» (гайр) праву другого «другого», — по его мнению, мы не в состоянии отличить «истинно наше» от «чужого» и ошибочно воспринимаем «чужое» как «наше», поэтому то, что на поверхности кажется проявлением футувва, в действительности не имеет ничего общего с ним.
Чтобы достигнуть стоянки футувва, говорит Ибн ал-‘Арабй, мы должны оставить стоянку футувва; чтобы стяжать футувва, мы должны отказаться от него. Истинное футувва, по его мнению, заключается в отказе от претензий на него и в предоставлении его Богу, т.е. в предпочтении Бога твари: «Оставить футувва— значит отдать предпочтение ('йсйр) нашему Творцу. Это — [истинное] футувва, если ты постиг его смысл»21.
В практическом плане, объясняет Ибн ал-‘Арабй, оставление футувва предполагает предпочтение Божьего Закона, посланного нам чрез пророков, прихотям собственной души, а также доказательствам разума и суждениям мысли и умозрению, если последние противоречат Закону (гиа- рй ‘а). Следовательно, подлинным фата является тот, «кто [пребывает] между рук науки [Божьего] Закона, как мертвый — между рук обмываль- щика трупов»22, т.е. полностью подчиняется Закону. Такое подчинение Закону, разумеется, представляет собой не что иное, как «ислам», т.е. «подчинение [воле Бога]». Пророк Мухаммад определил это подчинение как «свидетельствование того, что нет бога, кроме Бога, и что Мухаммад— посланник Его, совершение ежедневных молитв, уплату очистительной милостыни, соблюдение поста во время рамадана и совершение паломничества в Мекку при наличии средств на это»23.
Спрашивается: верно ли считать всякого мусульманина (т.е. «подчинившегося») фата (как, похоже, считает Ибн ал-‘Арабй)? Мы полагаем, что нет, ибо уровень ислама (= подчинения)— это уровень действий (аф (йл), тогда как сущность футувва заключается в обладании определенными качествами (атрибутами); действия же — не более чем проявления (манифестации) этих атрибутов (качеств). Иными словами, самостно футувва относится к уровню веры (ймйн), тогда как связь его с уровнем (внешнего) подчинения (ислам) акцидентальна.
Слово ймйн является производным от IV породы глагола 'а-ма-на, и буквальный смысл его — «обеспечение безопасности». В Коране сказано: «Тем, которые веруют (йману) и свою веру (ймйн) не одевают в одежды законопреступности, — тем безопасность (амн), потому что они идут по прямому пути» (6:82)24.
21 Там же, с. 234.
22 Там же, с. 233.
23 Переведено с англ. пер. У.Читтика: Chittick W.C. Sufîsm: A Short Introduction. Oxf., 2000, с. 4.
24 Коран, с. 251.
260
«Товарищи пещеры» описаны в Коране как фитйа, которые веруют {стану) в своего Господа: «Мы верно расскажем тебе повесть о них. Они были фитйатун, веровавшие в Господа своего, и Мы увеличили в них усердие к прямому пути» (18:12)25.
Если признать, что в данном случае слово фитйа можно понимать также как «добрый молодец» (а мы считаем такое понимание вполне оправданным, так как Коран, будучи речью Бога, всегда имеет больше одного — буквального и внешнего — значения), то связь между футувва («молодечеством») и йман («верой») становится очевидной. Тот, кто является истинным му’мин («верующим=верным [завету с Богом]»), одновременно является и фата (и наоборот), ибо вера (= верность) предполагает доверие и надежное полагание с обеих сторон (со стороны Господа и со стороны раба), а также верность данному слову, покорность и искренность. Поэтому футувва всегда присутствует в йман и наоборот— или, как писал А.Корбэн, «цельная вера, в шиитском смысле этого слова, нередко прямо определяется как футувва»26.
Следовательно, все нравственные добродетели необходимо сопутствуют вере, тогда как сама вера понимается преимущественно как верность предвечному завету, заключенному между Богом и человеком. Эта верность проявляется как восстановление первоначальной чистоты врожденного естества человека посредством актуализации его скрытых совершенств и духовных энергий. Чтобы открыть путь этому очищению, Бог и человек заключают второй завет {тасдйк-э ймйнй). В модальности этого мира соблюсти верность первому завету возможно не иначе как посредством верности второму. Верность Богу делает фата верным твари, т.е. людям, которых он считает товарищами по предвечной клятве. Поэтому он чувствует свою общность с ними, как члены одного тела чувствуют общность между собой.
Разумеется, футувва— не конец пути странника. За этой стоянкой следует стоянка валййа («дружбы [с Богом]») и фанй ' («исчезновения в Нем»). Не достигнув стоянки футувва и не став фата, странник не может стать истинным другом {вали) Бога, влюбленным в Него и Его возлюбленным: без верности нет любви.
Завершим эту статью словами Хафиза:
Кроме моего сердца, которое является возлюбленным Его с предвечности
до послевечности,
Я никогда не слышал, чтобы кто-то [еще] остался [верным] в этом деле27.
25 Коран, с 539.
26 Corbin H. En Islam iranien: aspects spirituels et philosophiques. 2-ème éd. Pt 4. P., 1991, c. 412.
27 Хафиз-э Шйразй. Дйван. Тегеран, 1375 с.х., с. 119.
261
Ван Дауд
Та'диб ал-Аттаса как истинное и комплексное образование в исламе
Саид Мухаммад Накиб ал-Аттас (род. 1931У— первый мусульманский мыслитель современности, систематизировавший теоретический и практический аспекты концепции воспитания, преимущественно в рамках университетского образования. Будучи глубоко увлечен метафизикой и этикой суфизма, ал-Аттас также дал логичное и аргументированное объяснение тому, что цель воспитания в исламе есть воспитание не просто хорошего гражданина или трудящегося, а в первую очередь — хорошего человека. В одной из своих наиболее авторитетных работ автор подчеркивает, что ценность настоящего человека как жителя своего города, как гражданина своего микрокосма, как души важна гораздо больше, чем ценность человека как физической сущности, измеренной критериями прагматического или утилитарного смысла его пригодности государству, обществу и миру2.
Ал-Аттас утверждает, что хороший гражданин может не быть хорошим человеком, тогда как хороший человек непременно является хорошим гражданином или трудящимся. Он уделяет особое внимание личности. Именно личность несет в себе знание о разуме, добродетели и душе, о конечной судьбе и цели. Ведь разум, добродетель и душа изначально присущи личности, тогда как общество и государство имеют отношение к закону и политике3.
1 Биографию ал-Аттаса и оценку его творчества в контексте современного мусульманского мира см. в моей книге: Wan Daud Wan Mohd Nor. The Educational Philosophy and Method of Syed Muhammad Naquib al-Attas. An Exposition of the Original Concept of Islamiza- tion. Kuala Lumpur, 1995, Introduction. Данная статья представляет собой краткую версию третьей части вышеуказанной книги (далее — Educational Philosophy).
2 Syed al-Attas Muhammad Naquib. Islam and Secularism. Petaling Jaya, 1978, c. 141 (далее — IS).
3 См. там же.
© Ван Дауд, 2004
262
Первостепенная значимость средоточия на личности существенна постольку, поскольку конечная цель исламской этики направлена на личность4. Именно из понятия индивидуальной ответственности как нравственного посредника в исламе исходит награждение либо наказание человека в День Суда.
Человек, обладающий адабом
В понимании ал-Аттаса, воспитанный человек— это человек, обладающий адабом в полном смысле. Человек адаба (инсан адабийй) характеризуется как «...тот, кто искренне осознает свою ответственность перед Богом, кто знает свой долг и строго выполняет его по отношению к себе и другим, кто постоянно борется за самосовершенствование»5.
Воспитание, или та ’див, есть прививание адаба человеку. Коран свидетельствует, что Пророк является идеалом, лучшим образцом человека адаба. Некоторые ученые называют его Совершенным, или Универсальным, человеком (ал-инсан ал-куллийй)в. Таким образом, организация управления и образования в исламской системе воспитания строится на идеале Совершенного Человека7.
Именно понятие та’диб в его правильном толковании, а не распространенные в современном мусульманском мире термины та'лим или тарбийа, служит точным определением воспитания в исламе, поскольку понятийный аппарат та’диба уже содержит в себе элементы знания ( (илм), обучения (та (лим) и хорошего взращивания (mapôuüaf.
В Коране не встречается ни слово адаб, ни какая-либо из его производных форм, упоминаются они в сунне Пророка и его последователей, а также в поэзии и в трудах более поздних ученых9. Слово адаб имеет
4 IS, с. 70; ср. хадис Пророка «Каждый, кто станет свидетелем порицаемого действия (мункар), должен исправить его либо своей рукой, либо своим языком, либо своим сердцем»
5 Al-Attas. Risalah Untuk Kaum Muslimin (Message to the Muslims) Unpublished Typewritten Monograph, § 15, с. 54 (далее — Risalah).
6 Ср. Коран: «наиболее благочестивый» (49.13); «образцовый пример» (33 21); «человек превосходного нрава» (68*4); «благовеститель и увещеватель» (34:28). (Здесь и далее ссылки на Коран даны по изданию: Коран. Пер. с араб, и коммент М.-Н.О.Османова. М., 1995.)
1 Al-Attas. The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur, 1980, c. 39 (далее— CEI); см. также: Risalah, § 47, с. 157.
8 CEI, с. 34.
9 Существует по крайней мере 18 упоминаний та'дыб, аддаба и адаб, большая часть которых встречается в ряде собраний хадисов. См.: Wensinck A.J., Mensing J.P. Concordance et indices de la tradition musulmane. 7 vols. Leiden, 1943, vol. 1, c. 26; Nasrat Abdel Rahman. The Semantics of Adab in Arabie. — Al-Shajarah. 1997, vol. 2, no. 2, c. 189-207. В последней работе профессор Абдел Рахман тщательно проанализировал различные оттенки значения термина адаб и ряда его производных, уделив особое внимание понятию та'диб. Автор использовал около 50 авторитетных арабских источников. В целом он поддержал интерпретацию ал-Атгаса.
263
целый ряд лексических значений. Однако оно стало употребляться лишь в нескольких значениях: «беллетристика», «профессиональный и социальный этикет»10. Первоначальное и основное значение адаба— «приглашение на банкет» — включает в себя идею хорошего и достойного общения. Оно было исламизировано посредством введения духовных и интеллектуальных элементов в семантическое поле адаба. О Коране говорят как о приглашении Бога на земной банкет (та’dabat Allah fi [l-ard]), участие в котором возможно через приобретение знания о Коране (fa ta'allamu, min ma’dabatih)u. Ал-Аттас разъясняет данную традицию так: Священный Коран — это приглашение Бога на духовный банкет, а приобретение настоящего знания о нем есть вкушение чудесной пищи на этом банкете. Такой же смысл имеет то, что наслаждение вкусной пищей на прекрасном банкете значительно усиливается благодаря присутствию благородной и достойной компании, а отведанная на банкете в соответствии с правилами изысканного поведения и этикета еда есть знание, достойное похвалы и восхищения12.
Ал-Аттас приводит хадис со следующем утверждением Пророка: «Мой Господь привил мне адаб и тем самым более усовершенствовал мое воспитание». В этом хадисе ал-Аттас совершенно точно перевел глагол аддабани и слово та’диб как соответственно «воспитал меня» и «воспитание». Отсюда следует: «Мой Господь воспитал меня и тем самым усовершенствовал мое воспитание». Цитируя Ибн Манзура, отождествлявшего слова аддаба и 'аллама, ал-Аттас подчеркивает, что та’диб есть истинная исламская концепция воспитания13. Насколько я знаю, ал-Аттас — первый, кто перевел аддабани как «воспитал меня». Согласно ученым раннего ислама, главным содержанием (мауду‘) та’диба является этика и нравственность (салак)14. Свидетельствование Корана о том, что Бог дал Пророку самое лучшее воспитание, подтверждает высокий статус (акрам) и образцовую нравственность (ахлак) Пророка15. Данный факт также подтверждается заявлением Пророка о своей миссии, заключающейся в усовершенствовании этики и нравственности: иннама бу1исту ли- утаммима хусна ’л-ахлак]в. Согласно Пророку, самые совершенные ве¬
10 CEI, с. 36. Ф Габриели в своем кратком описании адаба пишет, что в I в х адаб заключал в себе интеллектуальный, этический и социальный смысл Позже значение адаба сводилось к сумме знаний, благодаря которым человек становился вежливым или «городским» А во времена ал-Харири, в X в н э термин адаб стал употребляться в значении «литература» (адабийат) См.: Gabrieli F. Adab. — Encyclopaedia of Islam. New ed. Vol. I.
11 CEI, с 24-25.
12 Там же
13 CEI, с 26, IS, с 144.
14 Qambar Mahmud. Dirasat turathiyyah fi ’1-tarbiyah al-islamiyyah. 2 vols. Dhoha, Qatar, 1985, vol. l,c. 406.
15 Коран 33:21,49:13, 68:4.
16 Данный хадис обнаружен в «Муватта’» Имама Малика и в «Муснаде» Ахмада ибн Ханбала.
264
рующие с точки зрения веры (акмалу ’л-му 'минин иманан) — те, кто лучше с точки зрения нравственности (ахсанухум хулкан)17. Очевидно, что деятельность Пророка (имеется в виду обучение Священному Корану (йу‘аллиму-л-Китаб) и мудрости (хикма), а также очищение мусульман)— непосредственное проявление вышеуказанной роли та’диба18. Таким образом, считает ал-Аттас, объединение понятия адаб с понятиями «истинное знание» ( 'илм) и «должное действие» ( ‘амал) началось со времен раннего ислама19.
На основании проведенного анализа семантического поля термина адаб ал-Аттас предлагает собственное определение концепции адаба: адаб— это признание и утверждение иерархической упорядоченности знания и существования, а также должного места каждого из существова- ний20.
Под «признанием» понимается знание «снова» (при(пере)-знание) о договоре между кем-то и Господом и обо всем, что отсюда следует21. «Признание» также означает то, что предметы и вещи уже находятся на своих местах в соответствии с определенным порядком бытия и существования. Человек же по своему невежеству и высокомерию «вносит изменения и путаницу в порядок мест и вещей так, что происходит несправедливость»22. Под «утверждением» понимается необходимое действие, совершаемое в соответствии с тем, что является признанным. Иначе говоря, это — «утверждение» и «подтверждение» либо «реализация» и «актуализация» признаваемого. Без «утверждения» воспитание— ничто, всего лишь обучение (та'аллум)23. Значимость вышеуказанных смыслов адаба, связанных с воспитанием хорошего человека, возрастает при осознании того, что «признание», включающее в себя знание, и «подтверждение», включающее в себя действие, должных мест (см. выше) относятся к таким ключевым терминам исламского мировоззрения, как «мудрость» (хикма), «справедливость» ( ‘адл) и «истина» (хакк)24.
Можно привести несколько примеров, указывающих на способы проявления адаба на разных уровнях человеческого существования. В чело¬
17 Данный хадис обнаружен в преданиях Абу Давуда и в «Муснаде» Ахмада ибн Ханбапа
18 См.: Коран 3:164, 62-2,2*129
19 CEI, с. 35; ср : Nasrat Abdel Rahman. The Semantics of Adab, c. 2-18.
20 CEI, с 27 Исходя из данного определения, ал-Аттас оригинальным образом интерпретирует вышеуказанное заявление Пророка («Бог воспитал меня»)' «Мой Господь привил мне признание и утверждение (т.е адаб) того, что у каждой вещи есть свое место в соответствии с порядком ее творения, что, в свою очередь, привело меня к признанию и утверждению того, что и у Него есть свое место в соответствии с порядком бытия и существования. Тем самым Он усовершенствовал мое воспитание» (там же, с. 27-28).
21 См.: Коран 7:172: «„Разве не Господь Ваш я?“ Они отвечали: „Да! Мы свидетельствуем“».
22 CEI, с. 21.
23 Там же.
24 Risaîah, § 55, с. 186-188; al-Atîas. Islam and the Philosophy of Science. Kuala Lumpur, 1989, c. 22.
265
веке адаб проявляется через признание двойственной природы человека— разумной и животной. Когда первое подчиняет последнее, тогда человек ставит каждое из них на свое место, тем самым ставя себя на истинное место25. Это есть справедливость по отношению к себе, в противном случае — это несправедливость (зулм ан-нафс). Что касается проявления адаба в человеческих взаимоотношениях, то оно сводится к соблюдению этических норм общественного поведения, отвечающих определенным требованиям. Положение человека в обществе «определяется не силой, благосостоянием и происхождением, а кораническими ценностями — знанием, разумом и добродетелями»26. Выражение человеком любви, уважения, заботы, милосердия по отношению к родителям, старшим, детям, соседям и властям предержащим указывает на то, что этот человек знает свое истинное место по отношению к ним.
В области знания адаб означает духовный порядок (кетертибан буди), «признающий» и «утверждающий» иерархию знания, в основе которой лежит критерий степеней совершенства (келухуран) и приоритета (кеута- маан). Происходит следующее: одни, основанные на откровении, «признаются» и «утверждаются» как наиболее совершенные и обладающие приоритетом по сравнению с теми знаниями, которые основаны на разуме; относящиеся к фард ‘айн (обязанность перед самим собой) выше фард кафайа (обязанность перед обществом); те, что обеспечивают руководство (хидайа) к жизни, намного превосходят те, что приносят практическую пользу. Проявление адаба в сфере знания должно иметь результатом истинные и верные способы обучения и практического применения различных наук. В дополнение к этому одним из проявлений адаба в сфере знания является уважение к ученым и учителям. В конечном счете цель воспитания и образования состоит в достижении человеком счастья в этом и в том мирах.
В мире природы под адабом понимается устроение практического разума (‘акл ‘амалийй), основанное на иерархии мира природы. Так, человек может вынести верное суждение об истинных ценностях таких вещей, как Божественные знаки, источники знания, а также всего того, что полезно для духовного и физического развития человека. Вместе с тем адаб в сфере природы и окружающей среды подразумевает то, что некто должен был поставить деревья и камни, горы и реки, долины и озера, животных и их естественную среду обитания на свои места.
Что касается языка, то здесь адаб выражается в «признании» и «утверждении» надлежащего места каждого слова в предложении при его написании либо произнесении так, чтобы не допустить неблагозвучия или иска¬
15 Al-Attas. Address of Acceptance of Appointment to the al-Ghazzali Chair of Islamic Thought. Commemorative Volume on the Conferment of the al-Ghazzali Chair. Kuala Lumpur, 1994, c. 31 (далее — Acceptance Speech).
26 Там же, с. 30.
266
жения смысла высказывания. Совершенно справедливо в исламе литература называется адабийат. Ведь именно литература считается хранителем цивилизации, собирателем учений и высказываний, которые научают человека и общество адабу и благодаря чему и человек и общество поднимаются до уровня культурного человека (инсан адабийй) и культурного общества.
В духовном мире адаб означает «признание» и «утверждение» степеней совершенства (дараджат келухуран) мира духов; различных духовных стоянок {макам керуханийан), основанных на действиях поклонения и почитания; духовный порядок, подчиняющий физическое и животное духовному и рациональному27. Согласно Джурджани, значение термина адаб тождественно ма \рифа — особому виду знания, предохраняющему своего субъекта от различных ошибок28. Неудивительно, что адаб является также проявлением справедливости (‘адл) и отражением мудрости (хикма)29. Таким образом, тождественность значений понятий «знание» и адаб лежит в основе концепции та’диба, наиболее полно определяющей, что есть «исламское воспитание». Эта концепция включает в себя конечную цель, содержание и метод воспитания. Постепенно «вливание» в человека «признания» и «утверждения» того, что у каждой вещи — свое место, установленное в соответствии с порядком творения, ведет к «признанию» и «утверждению» Бога30.
Как говорилось выше, ал-Аттас считает неверным применение терминов тарбийат и та'лим как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом {та'лим ва тарбийат) для определения всесторонней концепции воспитания в исламе. Термин тарбийат, согласно ал-Аттасу, соответствует определению физического аспекта растений, а также физического (рост) и эмоционального (развитие) аспектов животных и людей31. Что касается термина та (лим, то его значение сводится к учебному и познавательному аспектам воспитания. Значения та'лим и тарбийат (применительно к человеку) содержатся в понятии та’диб32. Вероятно, благодаря этим едва различимым оттенкам смысла некоторые авторитетные ученые склонны отличать (илм и та 'лим, а также их синонимы от адаба и та’диба. Ал-Аттас соглашается с толкованиями более ранних авторитетных ученых, таких, как Ибн Аббас и Ибн ал-Мубарак. Ибн Аббас комментирует 6-й аят 66-й суры («Остерегайтесь вместе с вашими семьями огня, топливом для которого служат люди и камни») следующим образом:
27 Risalah, § 47, с. 155-157. Ср.: Acceptance Speech, с. 31.
28 Sharif al-Jurjani. Kitab al-Ta‘rifat. Beirut, 1990, с 10; ср.: Nasrat Abdel Rahman. The Semantics of Adab, c. 202.
29 CEI, с. 23.
30 Там же, с. 27.
31 Там же, с 29. Например: ат-тарбийа ал-баданиййа (физическая культура), тарбийат ал-хайаван (животноводство), тарбийат ад-даджадж (птицеводство), тарбийа ас-самак (рыбоводство), тарбийат ан-набатат (разведение растений)
32 CEI, с. 28-33; 1S, с. 144-145, примеч. 123.
267
«Наставляйте их (факкихухум) и обучайте их адабу (аддибухум)»33. Ибн ал-Мубарак дает свою интерпретацию вышеуказанного аята: «Мы нуждаемся в адабе больше, чем в огромном количестве знания» ( (илм)ЗА. Применение терминов та’диб и аддаба в иных контекстах не отрицает воспитательный смысл терминов фикх и ‘илм, а фактически усиливает его. Так, Пророк использовал термин та'диб (хотя и в виде метафоры), когда говорилось о приручении лошадей35, требующем строгой дисциплинированности последних, которая, в свою очередь, была необходима для выполнения определенных инструкций хозяина лошадей. В период раннего ислама глагол аддаба употреблялся в значении «наказание»36. В современном арабском языке маджлис ат-та’диб переводится как «дисциплинарный департамент». Ввиду того что «наказание» находится в пределах семантического поля та’диба, настоящее воспитание должно включать в себя определенные типы наказания, направленные на повышение дисциплины разума и души. В то же время дисциплина повышается не только при помощи наказаний — имеется в виду карательный аспект. Намного важнее интеллектуальный, духовный и этический аспекты дисциплины.
Таким образом, воспитание— та'диб— не есть просто наставление или обучение. Различие между воспитанием и обучением проводится и многими известными педагогами-теоретиками на Западе. По-видимому, они обеспокоены тем, что современная образовательная система больше занята обучением студентов разного рода профессиям, нежели их воспитанием. Ведь обучить можно как человека, так и животное, а воспитать — только человека37. Многие пренебрегают фундаментальным отличием
33 Abu ’l-Qasim ‘Abd al-Karim al-Qushayri. Al-Risalah al-Qushayriyyah fi ‘Ilm al-Tasawwuf. Damascus, 1988, c. 284. Англ. пер. см.: Abu ’l-Qasim 'Abd al-Karim al-Qushayri. Principles of Sufism. Transi, by B.R. von Schlegell, Introd. by H.Algar. Berkeley, 1990, c. 308 (далее— Principles of Sufism).
34 Al-Qushayri. Al-Risalah al-Qushayriyyah, с. 285; Principles of Sufism, с. 311. Ученые раннего ислама в качестве заголовка своих работ о воспитании не использовали термин тарбийа, за исключением Бурхан ад-Дина ал-Уксураи (ум. 1502), чей трактат называется «Risalah fi ’t-Tarbiyah wa ’t-Taslik» («Трактат о воспитании и очищении»). Большинство ученых применяли термины та 1лим или адаб. Первый, кто использовал термин адаб в названии своего трактата о воспитании, был Абу ан-Наджиб ‘Абд ал-Кадир ас-Сухраварди (ум. 1169)— «Adab al-Muridin» («Воспитание студентов»). Среди тех, кто использовал термин та‘лим, — Бурхануддин аз-Зарнуджи (ум. 1203).
35 Al-Nasa 7. Sunan 4:6; Nasrat Abdel Rahman. The Semantics of Adab, c. 195. Ап-Аттас отмечает, что применение термина адаб к животным аналогично его применению к человеку. Однако в первом случае значение адаба имеет метафорический смысл, а во втором — истинный (материалы дискуссии в Международном институте исламской мысли и цивилизации — ISTAC).
36 В «Сунан» Абу Давуда (4:183) говорится, что ‘Амр б. ал-‘Ас спросил халифа ‘Умара: «Если некий человек воспитал одного из граждан, позволишь ли ты этому гражданину ответить тем же?» Цит. по: Nasrat Abdel Rahman. The Semantics of Adab, c. 195-196.
37 Cm.: Hutchins R.M. The Higher Learning in America. Reprint of 1936 ed. New Haven- London, 1962, гл. 2, c. 33-58; Maritain J. Education at the Crossroads. New Haven-London, 1943, c. 18-20, 51-55; Ortega y Gassett J. Mission of the University. Ed., transi, by H.L.Nostrand. N. Y., 1966 (1st ed 1944), c. 38-39; Belknap R.L., Kuhns R. Tradition and Innova¬
268
воспитания от простого обучения. Тем самым, сознательно или бессознательно, они стирают онтологическую грань между четовеком и животным, что противоречит исламскому мировоззрению.
Ученые-суфии, которые выступали за становление индивидуальности через развитие чувств, разума и нравственности, первыми стали применять термин та’диб в значении «воспитание». Адаб в отношении мусульманских студентов и представителей таких профессий, как юристы и судьи, политические и военные лидеры, музыканты и преподаватели, представляет собой неотъемлемую часть воспитания. На протяжении всей истории ислама адаб был связан с профессиональным воспитанием и этикой. Этого факта достаточно для опровержения идеи, согласно которой значение та ’диба сводится главным образом к низкому уровню воспитания38.
Применив творческий подход и системную методику, ал-Аттас впервые в современном мусульманском мире представил та’диб как всестороннюю концепцию исламского воспитания. Совершенно очевидно, что та’диб (ввиду его ограниченного понимания) применялся в качестве формы индивидуального обучения учеными и преподавателями (му’аддиб) детей халифов, султанов, министров, военных лидеров, ученых и просто состоятельных родителей. Именно благодаря та’дибу в период от Омейядов до Османов появились выдающиеся личности в различных областях деятельности39. Подобно тому как освещающее знание (ма 'рифат) является особым видом или подгруппой знания ( *илм), так же и та ’диб следует рассматривать как «особый» вид воспитания, который, по сравнению с другими формами образования (та‘лим), является непосредственно исламским. Как было сказано выше, определение адаба включает в себя знание и мудрость. Под «особым» мы подразумеваем не то, что было разработано в поздней истории ислама, а то, что в толковании некоторых ученых, таких, как Грюнебаум и Макдиси, является воспитанием писцов и литераторов40.
tion—General Education and the Reintegration of the University. A Columbia Report N. Y., 1977, с. 3; Reeves M. The Crisis in Higher Education: Competence, Delight and the Common Good. Milton Keyes, U.K., 1988, c. 2-3.
38 Эта идея прослеживается в работе- Qambar М. Dirasat Turathiyyah, vol. 1, с 403-405 Несомненно, что заявление одного из наиболее видных суфиев IX в. н.э., Абу Са‘ида ал- Карраза, сделанное в заключение дискурса о суфийской практике «Kitab al-Sidq», что он проницательный и одаренный учитель своего времени (inni bi-mu 'addibin basirin jahbadhin li-zaman hadha), не означает, что он учитель только молодых студентов! Ал-Джахиз (ум. 869) совершенно справедливо рассматривал адаб как всестороннее воспитание, подчеркивая изначально широкий смысл адаба. См.: Abu Sa'id al-Kharraz. Kitab al-Sidq (Книга об искренности). Ed., transi, by A.J.Arberry. Calcutta, 1937, c. 73; ср.: Khalidi T. Classical Arab Islam: TTie Cultural Heritage of the Golden Age. Princeton, 1985, c. 56-59.
39 Qambar M. Dirasat Turathiyyah, vol. 1, c. 245. Камбар также перечисляет имена ученых и учителей (му’аддиб) из истории ислама, воспитывавших детей из влиятельных и состоятельных семей (там же, с. 228-232).
40 Grunebaum G., von. Medieval Islam: A Vital Study of Islam at its Zenith. 2nd ed. Chicago, 1953, c. 251; Makdisi G. The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West. Edinburgh, 1990, c. 48.
269
Современные западные ученые, изучающие наиболее значимые идеи воспитания, выдвинутые рядом цивилизаций, сходятся во мнениях относительно того, что концепция paideia, или культурное воспитание, и понимание воспитанного человека в греческой культуре остаются в числе самых всеобъемлющих и фундаментальных концепций, когда-либо разработанных человечеством. Тем не менее в положениях концепции paideia отсутствует существенный духовный элемент. Надо отметить, что христианская философия воспитания имеет четкие духовные корни в отличие от нерелигиозных наук. Современные ученые нашли лучший способ интеграции религиозных и так называемых светских наук в рамках мусульманской концепции и практики адаба. Более того, некоторые ученые утверждают, что благодаря ряду преимуществ адаба вполне возможно решение некоторых кризисных ситуаций в современном воспитании41.
Общественное развитие
Философия воспитания ал-Аттаса главным образом фокусируется на развитии личности; в то же время она является общественной философией. Ал- Аттас утверждает единство личности и общества, ссылаясь не на некий исторический общественный договор, а на договор, упоминаемый в Коране (7:172), и на значения понятия дин. В вышеуказанной суре особое значение придается личности {бала шахидна\ Да! Мы свидетельствуем это!). Здесь подразумевается то, что каждая душа реализует свою индивидуальность так же, как и свое отношение друг к другу и к своему Господу42. Что касается целостной социальной природы религии (дин), то на основании детального анализа и интерпретации основных значений корня дал-йа’-нун, ал-Аттас сводит их к четырем элементам: 1) чувство долга человека за свое существование перед Богом; 2) покорность человека Богу; 3) способность к рассуждению; 4) естественные склонности человека, или фитра. На основании дальнейшего анализа ряда дериваций слова дин, среди которых дана («быть обязанным»), да ’ин («кредитор»), дайн («обязанность»), дайнуна («День Суда») и идана («осуждение»), ал-Аттас заключает, что все вышеуказанные производные имеют отношение к космополитическим и другим развитым структурам, названным терминами мадина («город»), маддана («цивилизовать») и тамаддун («цивилизация/усовершенствование общественной культуры»)43.
41 Brown P. Late Antiquity and Islam: Parallels and Contrast. — Moral Conduct and Authority: The Place of Adab in South Asian Islam. Ed. by B.D.Metcalf. Berkeley, 1977, с 23-27. Для более глубокого исследования данной греческой идеи см.: Jaeger W. Paideia* The Ideals of Greek Culture. English transi, by G.Highet. 3 vols. 2nd ed. N. Y.-Oxf., 1945.
42 Risalah, § 13, c. 40, § 29, c. 195-106; IS, c. 69-70.
43 Al-Attas. Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality. Kuala Lumpur, 1992, c. 1-4; IS, c. 47-50.
270
Далее ал-Аттас подчеркивает: когда мы говорим, что цель знания — воспитать хорошего человека, мы не имеем в виду, что воспитание хорошего общества не есть цель знания. Поскольку общество состоит из людей, постольку воспитание хорошего человека становится залогом хорошего общества. Иными словами, воспитание лежит в основе общественного уклада44.
Личность представляет собой нечто уникальное: одновременно она реализует и свою индивидуальность и свою социальность. Личность теряет свой смысл в изолированности от общества. Из представленной выше краткой интерпретации понятия адаб следует, что, человек, обладающий адабом (инсан адабийй), по ал-Аттасу, является личностью, которая целиком и полностью осознает свою индивидуальность и свое истинное отношение с собой, с Творцом, с обществом и другими видимыми и невидимыми творениями Бога. Таким образом, в исламском смысле хороший человек должен быть хорошим рабом Творца своего, хорошим отцом для своих детей, хорошим мужем для своей жены, хорошим сыном для своих родителей, хорошим соседом для своих соседей и хорошим гражданином для своей страны.
Культурный уровень общества определяется количеством воспитанных людей, составляющих это общество. Общество как целое есть нечто большее, чем сумма своих частей45. Поэтому, на основании знания об индивидуальном от природы46 и в то же время исторически социальном характере Божьего суда в потустороннем мире, ни один мусульманин, понимающий хотя бы общий смысл Корана, не должен пренебрегать своими общественными обязанностями.
Как полагает ал-Аттас, правильное понимание введенных Абу Хамидом ал-Газали категорий знания— фард *айн (обязанность перед самим собой) и фард кифайа (обязанность перед обществом)— могло бы послужить гарантией достижения личного и общественного благосостояния. Вторая из вышеперечисленных категорий, в отличие от первой, имеет непосредственное отношение к обществу. В то же время практическое применение первой категории знания обеспечивает необходимую основу и движущие принципы для второй. Ал-Аттас отмечает, что в основе выбора курса преподавания должен лежать не только личный аспект, но в первую очередь его соответствие общественным и национальным требованиям. Согласно Тибави, в отличие от поставленных современными национальными государствами неопределенных общих целей общества, цель личности в традиционном исламском воспитании— достижение
44 CEI, с. 25.
45 Al-Attas. Comments on the Reexamination of al-Raniri’s Hujjat al-Siddiq: A Refutation. Kuala Lumpur, 1975, c. 104-106.
46 См. Коран 6:164, где сказано: «И какое бы [зло] ни совершил человек, только он в ответе за [свое деяние]. И никто не понесет ноши [грехов] другого».
271
счастья в этом и в том мирах — конкретна и представляет собой интерес для каждого гражданина47.
Утрата адаба
Как было показано выше, одним из самых фундаментальных и краеугольных камней философии исламского воспитания ал-Аттаса является выдвинутая им концепция адаба. Проведенный ал-Аттасом анализ проблем воспитания, образования и цивилизации указывает на корень этих проблем — на внешние и внутренние причины. Внешние причины вызваны религиозно-культурными и социально-политическими проблемами западной культуры и цивилизации. Внутренние причины кроются в трех взаимосвязанных явлениях: заблуждение при определении значения знания и его практического применения (кекелируан серта кесилапан менге- най фахам илму), утрата адаба (керунтухан адаб), рост числа л жел и де- ров (тиада лайак мемикул танггунгджаваб тшпинан йанг cax)4S. Для решения проблемы определения знания и роста числа так называемых лидеров необходимо восстановление адаба. Ал-Аттас пишет, что в первую очередь мы должны решить проблему утраты адаба, поскольку знание невозможно преподать или привить учащемуся до тех пор, пока учащийся не проявит истинный адаб в области знания49.
Так как адаб является неотъемлемой частью мудрости и справедливости, его утрата естественным образом влечет за собой избыток несправедливости, глупости и даже безумия50. Известно, что несправедливость — это такое положение, при котором вещи находятся не на своих местах. Глупость (хумк)— это использование неправильных методов для достижения целей и результатов, в то время как безумие — борьба за достижение обманчивых целей51. Действительно— это безумие, когда цель поиска знания — это не достижение, согласно предписаниям истинной религии, счастья или любви Бога (махабба) в этом мире и Его вйдения (ру’йатуллах) в том мире52. И соответственно абсолютная глупость — попытка достижения счастья в этом мире и в будущем без применения истинного знания и без практики.
Ал-Аттас рассматривает следующие негативные последствия утраты адаба: смутные представления о концепциях вместо подлинного их понимания; неспособность идентифицировать проблемы, что, в свою оче¬
47 Tibawi A. L. Islamic Education: Its Tradition and Modernization into the Arab National Systems. L, 1972, c. 207
48 Risalah, § 53, c. 178-180.
49 Там же, §53, с. 180-183.
50 Там же, § 55, с. 186-187.
51 См.: Umaruddin М. The Ethical Philosophy of Al-Ghazzali. Repr. of 1962 ed. Lahore, 1970, с. 166.
52 Al-Attas. The Meaning and Experience of Happiness in Islam. Kuala Lumpur, 1993, с. 1.
272
редь, приводит к их неверному решению, созданию псевдопроблем; сведение проблем лишь к политическим, социально-экономическим и юридическим факторам. Неудивительно, что подобная ситуация может стать плодородной почвой для появления разного рода экстремистов, чей капитал — невежество53.
Мир постепенно превращается в глобальную деревню, в которой более важно воспитание внутренне хороших мужчин и женщин, или мужчин и женщин, обладающих адабом, чем воспитание просто обученных и способных граждан. Это объясняется тем, что самые важные проекты, будь то экономические, образовательные или политические, все больше и больше становятся по своей природе международными. Благодаря стремительному развитию информационных технологий, в результате которого происходит передача неограниченного объема информации, национальные границы теряют свой смысл. Потенциально полезный информационный взрыв и его мгновенные глобальные последствия вызвали бесконечную путаницу, не говоря уже о его вредном содержании с точки зрения этики, культуры и общества. Эти обстоятельства больше чем когда-либо ранее требуют, чтобы отдельные мужчины и женщины обладали адабом. Сложная природа мировой экономики могла бы разрушить ряд национальных экономик и миллионы жизней, если бы граждане государств с мощной влиятельной экономикой стремились главным образом к прибыли в рамках краткосрочных частных или государственных интересов54. Из вышеизложенного следует, что воспитанный человек, или человек, обладающий адабом, — универсальный человек, который понимает и практикует истинный адаб по отношению к себе, к своей семье, к своему окружению и к мировому сообществу. В понимании ал-Аттаса, человек, обладающий адабом, может успешно взаимодействовать с множественной вселенной без потери своей индивидуальности. Должное общение с различными уровнями реальности может облегчить достижение духовного и вечного состояния счастья как в этом мире, так и в том. Это означает, что программа, содержание и методы воспитания должны быть отражением истинного адаба на различных социальных уровнях. Ал-Аттас считает, что для осуществления данной цели необходимо, чтобы новая концепция воспитания была сформулирована и реализована в мусульманском обществе в рамках университетского образования55.
Перевод с английского 3.И.Гусейновой
53 Acceptance Speech, с. 31.
54 Дальнейшее рассмотрение этого вопроса см в моей статье: Wan Daud. Insan Baik Teras Kewarganegaraan (The Good Man as the Core of the Good Citizen). — Pemikir. January- March 1996, c. 1-24.
55 Концепцию университета ап-Аттаса, а также ее практическое осуществление в Международном институте исламской мысли и цивилизации см в моей книге. Wan Daud. Educational Philosophy, гл. 4-5.
273
Раздел V ГЛОБАЛЬНАЯ ЭТИКА: PRO ET CONTRA
Фред Далъмайр
Глобальная этика: преодоление дихотомии «универсализм»-«партикуляризм»
Мы живем в тревожное время. Всего лишь через десять лет после окончания «холодной» войны мир захлестнуло насилие — в облике терроризма, нескончаемых войн и жестокого геноцида. Разумеется, циники говорят, что насилие старо как мир и что человечество, порождение греха, пожинает, как всегда, лишь то, что посеяло. Сколь ни соблазнителен подобный взгляд в моменты уныния, какая-то часть человеческого сердца (которое, по-видимому, не целиком греховно) отвергает эти слова отчаяния. Потому что само отчаяние — это уже почти поражение: мы отрицаем жизнь (во всяком случае, жизнь, достойную человека), когда допускаем, чтобы последнее слово принадлежало смерти и насилию. Более того, есть и другой, более обнадеживающий способ истолкования распрей и конфликтов. Согласно известной формуле Гегеля, конфликт между государствами и народами может быть символом (знаком) собственно человеческой и даже очеловечивающей борьбы, а именно «борьбы за признание», из которой ее участники в конце концов выйдут относительно равными партнерами, имеющими взаимное понимание и уважение1.
Преимущество гегелевской формулы в том, что она лишена абстрактного утопизма, но оставляет человечеству надежду. Даже циничные
1 Идея «борьбы за признание» восходит к гегелевской «Феноменологии духа», где этот процесс описан языком несколько темным или выспренним, как «борьба не на жизнь, а на смерть» («der Kampf auf Leben und Tod»). Cm.: Hegel G.W.F. The Phenomenology of Mind. Transi, by J.B.Baillie. N. Y., 1967, с 229-240. (Cp русский перевод. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа Пер. с нем. Г.Г.Шпета. М., 2000, с. 100. Раздел В. Самосознание. Подраздел IV.A 2. Спор противоположных самосознаний. — Примеч. пер.) В более утонченной форме идея взаимного признания была подхвачена и развита Чарльзом Тэйлором; см. особенно: Taylor Ch. The Politics of Recognition. — Multiculturalism and “The Politics of Recognition”. Ed. by A.Gutmann. Princeton, 1992, c. 25-73.
© Фред Дальмайр, 2004
274
«реалисты» вряд ли могут отрицать, что в мире происходит движение, напоминающее эту гегелевскую «траекторию». После двух разрушительных войн в XX в. возникли две международные организации: Лига Наций и ООН, которые, несмотря на их многочисленные существенные недостатки, знаменовали становление системы международного права, объединившей многие страны нашей планеты. Узкий государствоцен- тризм этих организаций был несколько подправлен или дополнен соглашениями, более ориентированными на людей, прежде всего Декларацией прав человека (1948 г.), а также рядом более поздних и связанных с ней документов.
Эти и другие подобные события породили широко распространившуюся надежду, что человечество уже готово— или скоро будет готово — к приятию глобальной, или космополитической, этики, которая станет опорой или поддержкой для существующего международного права. За последние несколько десятилетий в этой области было начато много инициативных «проектов» — видными теологами и философами; теологи исходят в основном (хотя и не исключительно) из иудеохристианских учений, философы черпают вдохновение главным образом из традиций стоицизма и естественного права.
Данная статья— попытка исследовать и оценить эти инициативные «проекты». Статья состоит из трех частей. В первой части рассматриваются основные предложения по формулированию универсальной (или глобальной) этики, особенно предложения, выдвинутые немецким теологом Гансом Кюнгом и американским философом Мартой Нуссбаум. Во второй части речь идет о возражениях против подобного «нисходящего» («top-down») универсализма. Эти возражения указывают главным образом на то, что подобный универсализм пренебрегает конкретными ситуационными различиями, а также проблемами мотивации, мотивационных ресурсов. В заключительной, третьей части статьи некоторые из названных возражений частично принимаются, и обсуждение переводится в план политический — при этом утверждается, что жизнеспособная глобальная этика должна быть тесно связана с (или дополнена) глобальной политической практикой.
I
Стремление к глобальной этике отнюдь не безосновательно. Оно не является всего лишь побочным продуктом нынешнего процесса глобализации. Это стремление так или иначе всегда присутствовало в традиционных религиях и философских учениях. Можно сказать, что религия обращается к человеческому сердцу, а философия — к человеческому сознанию (mind) без каких-либо ограничений, т.е. в обоих случаях никто не исключается из числа потенциальных адресатов, обращение адресовано всем, в потенции оно — универсально. В случае религии (по крайне мере
275
многих религий) это свойство проявляется в склонности к евангелизации, т.е. к повсеместному распространению «благой вести». Эта «благая весть» предназначена не для какой-то привилегированной элиты (хотя иногда может возникать и такое впечатление), а адресуется urbi et orbi, т.е. людям всех времен и всех социальных слоев. То же относится и к философии. Если философия есть поиск истины и мудрости (sophia), то этот поиск не может быть ограничен каким-либо специфическим контекстом, но должен быть безусловным— открытым для любых возражений и вопрошаний в любое время и в любом месте.
По крайней мере со времен Сократа (если взять пример Запада) философия была предана этому универсальному поиску. После упадка Греции поиск был продолжен киниками и стоиками, а позже средневековыми еврейскими, христианскими и мусульманскими мыслителями. Среди всех философских традиций современная западная философия— наиболее универсалистская. Вслед за Декартом, который указал на универсальный характер человеческого разума (cogito), Просвещение (высшую точку которого ознаменовал Кант) стремилось распространить свет картезианского разума по всему миру, что было своего рода попыткой философской евангелизации.
Современные глобализирующие «проекты» — как теологические, так и философские— могут, следовательно, опираться на уже достаточно давнюю традицию. В области религии или теологии подобные глобальные устремления получают мощную поддержку со стороны религиозного экуменизма, который находит свое практическое выражение в различных межконфессиональных встречах и особенно в создании и консолидации Парламента религий мира. Первое заседание этого Парламента (тогда еще только рождавшегося) состоялось в Чикаго в 1893 г. В ознаменование столетней годовщины данного события в 1993 г., в том же городе, было организовано второе заседание Парламента— с гораздо большим числом участников. На этом заседании делегаты Парламента (общим числом более шести тысяч) обсудили и приняли Декларацию о глобальной этике (Declaration Toward a Global Ethic) — документ, который призван был дополнить и дать этическое обоснование Декларации прав человека 1948 г. Первоначальный текст новой Декларации был составлен немецким теологом Гансом Кюнгом, которого сочли вполне достойным этой задачи ввиду его активного участия в межконфессиональном диалоге и в усилиях по выработке универсально пригодных этических принципов. В частности, Кюнг был известен как автор ряда публикаций по данной проблематике; особую известность получила его книга под названием «Глобальная ответственность: в поисках новой всемирной этики»2.
2 Küng Н. Global Responsibility: In Search of a New World Ethic. N Y., 1991. Текст Декларации о глобальной этике см. в книге: A Global Ethic: The Declaration of the Parliament of the World’s Religions. Ed. by H.Küng and K.-J.Kuschel. N. Y., 1995. В этом издании Кюнг ком-
276
Из всех сочинений Кюнга именно «Глобальная ответственность» дает наилучшее представление о нормативно-теоретических параметрах его подхода. Книга имеет откровенно программный характер и открывается такими лапидарными фразами: «Наше выживание невозможно без всемирной этики. Мир во всем мире невозможен без мира между религиями. Мир между религиями невозможен без диалога между религиями». Таким образом, межрелигиозный экуменизм выступает здесь предпосылкой и основой международного мира и гармонии, что, в свою очередь, есть предпосылка глобального выживания. Чтобы подчеркнуть безотлагательность своей программы, Кюнг — как и многие другие авторы до него — ссылается на всеохватывающую болезненность (the pervasive malaise) нашего времени и особенно на то, что называют «кризисом Запада» или «кризисом модерн-ности» («the crisis of modernity»)*3. Проявляющийся во многих нынешних бедах, этот кризис, пишет Кюнг, есть «моральный кризис Запада вообще, включая Европу: разрушение всех традиций, потеря общего смысла жизни и безусловных этических критериев, отсутствие новых целей, что влечет за собой психологический урон и ущерб».
Для противостояния этим бедам текст предлагает стратегию морального возрождения (нечто вроде «морального перевооружения»), которая в наш глобальный век должна быть нацелена на формулировку глобально значимых и глобально приемлемых нормативных стандартов. По словам Кюнга, «единый мир, в котором мы живем, имеет шанс выжить только в том случае, если в нем не останется места для различных, взаимно противоречащих и даже антагонистических этик. Этот единый мир нуждается в единой базовой этике». По мнению немецкого теолога, такая «базовая этика» (“minimal basic consensus”), не претендуя на регулирование человеческого поведения во всех деталях, должна исходить из некоего «минимального базового консенсуса» между людьми во всем мире по вопросу о ценностях и нормах. Из этого следует, в частности, что глобализация не может быть ограничена сферами политики, экономики и культуры, но должна осуществляться прежде всего в сфере ценностей и норм: «Если этика призвана действовать ради блага всех, она должна быть неделима. Неделимый мир все острее нуждается в неделимой этике»4.
ментирует «историю, значение и метод» Декларации (с. 43-76), а Кушель описывает историю Парламента религий мира с 1893 по 1993 г. (с. 77-105). Ср. также: Braybrooke М. Pilgrimage of Hope: One Hundred Years of Global Interfaith Dialogue. N Y , 1992.
*3 Следуя почину Н.С.Автономовой, использую непривычные русские эквиваленты для (иначе с трудом переводимых) слов modernity и postmodem. — Здесь и далее звездочкой отмечены примечания переводчика.
4 Küng H. Global Responsibility, с. XV-XVI, 9, 28, 35. Примечательно, что Кюнг добавляет: «Пост-модерн-ные (postmodern) мужчины и женщины нуждаются в общих ценностях, целях, идеалах и перспективах» (там же, с. 35) Несмотря на то что идея «неделимой», или универсальной, этики соответствует главным постулатам «модерн-ной» («modern») западной философии, данный текст настойчиво ассоциирует себя с «пост-модерн-ным» («postmodern») мировоззрением — хотя его характер остается амбивалентным и аморфным (связываемым с
277
Подобные программные заявления, как и следует ожидать, подкрепляются различными доводами. Как и должно быть у широко образованного автора, доводы привлекаются из различных источников. Что касается философии, то прежде всего должное воздается Иммануилу Канту за его разработки в области универсальной этики, особенно за ту версию категорического императива, которая гласит, что человеческие существа никогда не должны быть просто средствами, но должны оставаться конечной целью*5. Из более поздних философов и социальных мыслителей с одобрением упоминаются Карл-Отто Апель (с его «трансцендентальной прагматикой») и Юрген Хабермас (с его «универсальной прагматикой»); Макс Вебер и Ганс Йонас фигурируют как сторонники общей «этики ответственности»6. Но для Кюнга как теолога философские аргументы, хоть и ценные в известной степени, не могут обеспечить конечной основы моральных норм. Чем глубже мы заглядываем, пишет Кюнг, в сферу этики, тем больше возникает вопросов «о моральной мотивации» и об «общей обоснованности (validity) и конечной значимости норм как таковых». И именно здесь религии должны сказать свое слово. Хотя секулярно- рационалистический подход и может до некоторых пределов провести нас по избранному пути, он не способен осуществить самое важное: «обосновать абсолютность и универсальность этических обязательств». Тут-то Кюнг и формулирует — весьма красноречиво — свое этико-теологическое кредо:
«Категорическое качество этического требования, т.е. безусловная природа долженствования, не может быть обосновано человеческими существами, которые ограничены условиями своего существования, — оно может быть обосновано лишь тем, что безусловно: Абсолютом, который обеспечивает всеобъемлющее значение и который охватывает и пронизывает как индивидуальную челове¬
такими феноменами, как феминизм, постиндустриализм и постколониализм — там же, с. 3- 4, 17-20).
*5 Имеется в виду одна из формулировок «категорического императива» в «Основоположении к метафизике нравов» И Канта: «Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden ändern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst». На русский это можно перевести такими словами. «Поступай так, чтобы ты относился к человечеству (и к своей собственной личности, и к личности любого другого) всегда и как к цели, но никогда— только как к средству». См.: Кант И Сочинения на немецком и русском языках [в 4-х т.]. Т 3. М , 1997, с. 168 (немецкий текст) и с. 169 (несколько иной русский перевод).
6 Kiing Н. Global Responsibility, с. 30, 32, 42. Даются конкретные отсылки на следующие работы: Apel К-О. Diskurs und Verantrwortung. Frankfurt/Main, 1988; Habermas J. Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt/Main, 1983; Weber M. Politik als Beruf. — Weber M. Gesammelte politische Schriften. Tübingen, 1958; Jonas H. Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt/Main, 1984. Адресуясь к критикам трансцендентально-универсалистского подхода, Кюнг замечает: «Те, кто хотят обойтись без трансцендентального принципа, должны идти по длинному пути горизонтальных коммуникаций, и вполне возможно, что в конце концов этот путь окажется замкнутым кругом» {Küng Н. Global Responsibility, с. 43).
278
ческую природу, так и человеческое общество в целом. Это может быть лишь конечная, высшая реальность... та первозданная основа, первозданная опора и первозданная цель и людей, и мира, которую мы называем Богом»7.
Декларация о глобальной этике, принятая Парламентом религий мира в 1993 г., хотя и была результатом долгих дебатов и многих переделок, тем не менее несет на себе явственный отпечаток идей ее первого автора. В самом начале упоминается всеохватывающая болезненность (a pervasive malaise), поразившая современный мир: «фундаментальный кризис», охвативший «глобальную экономику, глобальную экологию и глобальную политику» и проявляющийся в нищете, голоде, а также в «социальных, расовых и этнических конфликтах». В качестве антидота Декларация постулирует «новую глобальную этику», без которой новый глобальный порядок не может возникнуть и утвердиться. Впрочем, по мнению делегатов Парламента, постулированная этика «нова» только в том, что касается ее применения, но не по своим базовым принципам.
«Мы утверждаем, — говорится в Декларации, — что общий набор сердцевинных ценностей (“a common set of core values”) есть в учениях всех религий мира и что именно эти ценности образуют основу глобальной этики», однако названным выше ценностям «еще лишь предстоит воплотиться в сердцах людей и в их деяниях». Как полагают делегаты Парламента, эти «сердцевинные ценности» образуют основу для «фундаментального консенсуса по общеобязательным ценностям» (“fundamental consensus on binding values”), или, иначе говоря, «неоспоримую, безусловную норму для всех сфер жизни, для семей и общин, для родов, наций и религий». Главнейший принцип этой постулируемой этики— требование, то- бы «с каждым человеческим существом обращались по-человечески», т.е. в согласии с «неотчуждаемым и неприкосновенным достоинством» всех человеческих существ.
Данный принцип, в свою очередь, влечет за собой четыре «непререкаемые установки», т.е. глобальную приверженность культуре: 1) «ненасилия и уважения к жизни»; 2) «солидарности и справедливого экономического порядка»; 3) «терпимости и правдивости»; 4) «равных прав и сотрудничества между мужчинами и женщинами». Главный пункт, по которому Декларация разошлась с «Глобальной ответственностью» Кюнга, — это эксплицитное упоминание Бога как абсолютной основы этики. Приняв во внимание различия между религиозными верованиями (и особенно
7 Küng Н. Global Responsibility, с. 51, 53. И он добавляет с уверенностью: «Религия может недвусмысленно доказать, почему мораль, этические ценности и нормы должны быть безусловно обязывающими (а не только тогда, когда это нам удобно) и тем самым универсальными (для всех слоев, классов и рас). Именно так humanum [человеческое] обретает спасение, поскольку оказывается, что оно укоренено в divinum [iбожественном]» (там же, с. 87).
279
возражения, выдвинутые представителями буддизма), Декларация ограничилась упоминанием «конечной реальности» как источника «духовной силы и надежды»8.
Как уже сказано, поисками глобальной этики занимаются не только теологи и религиозные лидеры. К ним присоединились и многие современные философы, придающие центральное значение (хотя и с разными акцентами) человеческому разуму. Выше были упомянуты два немецких мыслителя, Апель и Хабермас, известные своими формулировками универсальной («коммуникативной») этики. В американском контексте их деятельности параллельна деятельность Джона Роулза (см. его книгу «Теория справедливости» и другие, связанные с этой книгой работы9). Однако в данной статье мы ограничим наше внимание более молодым американским философом, а именно Мартой Нуссбаум. Хотя в начале своей профессиональной деятельности она занималась древнегреческой трагедией и философией, в последующих работах Нуссбаум обратилась к наследию просвещенного рационализма, традицию которого она ведет от римских стоиков через теории естественного права к Иммануилу Канту (и сегодняшним кантианцам)10. Согласно Нуссбаум, классический стоицизм и философию эпохи Просвещения связывает не столько общая космология или телеология, сколько общая вера в роль разума, который рассматривается как существенная или отличительная черта человека, — вера, ныне (как полагает Нуссбаум) подвергаемая сомнению. И философия стоиков, и рационализм Канта актуальны в наш век глобализации именно потому, что они стремятся преодолеть узкие контексты и частные интересы — и устремляют свой взор на ту сердцевинную рациональность, которая присуща всем людям везде и всегда.
Суть подхода Марты Нуссбаум ясно видна в ее эссе, красноречиво озаглавленном «Кант и космополитизм стоиков». Эссе открывается яростной атакой на постмодернистских (или постницшеанских) мыслителей, выказывающих презрение к просвещенному разуму. «Под влиянием Ницше, — пишет Нуссбаум, — видные мыслители весьма различных направлений почувствовали неудовлетворенность политикой, основанной на разуме и принципах», и предприняли попытки найти альтернативную парадигму, «основанную не столько на разуме, сколько на общественной солидарности, не столько на принципах, сколько на чувствах привязанно¬
8 A Global Ethic, с. 14, 17, 19, 21-23, 36. О возражениях со стороны представителей буддизма см. комментарий Кюнга, с. 61-65.
9 Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge, Mass., 1971. В некоторых своих более поздних работах Дж.Роулз смягчил или ограничил универсализм своих ранних сочинений. Что касается Апеля и Хабермаса, см.: The Communicative Ethics Controversy. Ed. by S.Benhabib, F.Dallmayr. Cambridge, Mass., 1990.
10 Некоторые из ранних работ Марты Нуссбаум представлены в ее книгах: The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. Cambridge, UK, 1986; The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Cambridge, UK, 1993.
280
сти, не столько на оптимистической вере в прогресс, сколько на трезвом осознании конечности и смертности человека». Учитывая большое разнообразие постницшеанских направлений, Нуссбаум выделяет в них общий знаменатель: «Всем им свойственна оппозиция активной, основанной на разуме и исполненной надежды политике, опирающейся на идею почитания рациональной человечности, где бы мы таковую ни обнаруживали». Данная оппозиция структурирует интеллектуальные альянсы, и прежде всего нечто вроде демаркационной линии в философии: для всех ницшеанцев «архиврагом» оказывается Иммануил Кант, потому что именно он — в наибольшей мере среди всех прочих мыслителей Просвещения и с наиболее значимыми последствиями — защищал политику, «основанную на разуме, а не на патриотизме или групповых эмоциях», политику, «которая была поистине универсальной, а не общинной», и притом «активной, реформаторской и оптимистической, а не основанной на испуганном или зачарованном предвкушении зова Бытия». Нуссбаум подчеркивает, что защита разума не была для Канта стихийной придумкой, но соотносилась с давней традицией, восходящей к стоикам.
Основная задача цитируемого эссе — «выявить, чем Кант обязан древнему космополитизму стоиков», и тем самым восстановить генеалогию космополитической мысли. В наше время, омрачаемое жестокими войнами и этническими чистками, восстановленная таким образом генеалогия космополитизма должна служить ориентиром для морального возрождения. Кант, а через его голову и Сенека, и Марк Аврелий, и особенно Цицерон ставят нас перед лицом «вызова (a challenge), одновременно и возвышенного, и практического»11, который есть антидот против разнообразных бед нашего времени.
Прослеживая преемственность от стоиков до Канта, Нуссбаум не настаивает ни на полном сходстве их воззрений, ни на сколько-нибудь значительной зависимости немецкого философа от древних греков. Она признает, что сам Кант в своих сочинениях говорит о стоиках «лишь кратко и обобщенно» и что большую часть сведений об их взглядах он, очевидно, почерпнул в современных ему сочинениях по естественному праву (в которых сказалось влияние Цицерона и других стоиков). Главный элемент общности — это именно идея космополитизма, или мирового гражданства, которая, будучи впервые развита стоиками, стала стержневой в «Трактате о вечном мире» Канта. Эта идея была впервые выдвинута киником Диогеном, который, отказываясь признавать любую привязанность к местности или территории, провозгласил себя «гражданином мира». Для киников и следовавших им в этом стоиков основное моральное качество человека состояло именно в его связи с «разумной человечностью» («rational humanity»). Как пишет Нуссбаум, основой моральной
11 Nussbaum М. Kant and Stoic Cosmopolitanism. — Journal of Political Philosophy 1997, vol. 5, c. 1-3.
281
общности между людьми, на взгляд стоиков, было «достоинство разума в каждом человеке». Стоики видели в разуме «частицу божественного в каждом из нас», из чего следовало, что «каждое человеческое существо, просто потому что оно разумно и морально, обладает безмерным достоинством». Согласно стоикам, разумность человека была также основой подлинного — укорененного в морали — гражданства, общего для всех. Марк Аврелий выразил это так: «Если разум общий, то и закон тоже [общий]; а если это общее, то мы — сограждане. Если это так, то мы вместе принадлежим некоему гражданскому целому; а если это так, то [весь] мир — это как бы [один] полис» 12.
Очевидно, что «некое гражданское целое», о котором говорит Марк Аврелий, было не каким-либо реальным государственным целым, но скорее некой моральной общностью, которая рассматривалась как предпосылка и мерило любого реального государственного целого. Подобная моральная общность, в свою очередь, требовала общего консенсуса относительно моральных норм (а general consensus on moral norms). Нуссбаум формулирует эту мысль так: в качестве членов глобального сообщества мы должны «осознавать себя личностями, имеющими цели и проекты, общие для нас и для других». Именно такое понимание морали было унаследовано Кантом в его практической философии и выражено в его рассуждениях о вечном мире: «Кант усвоил именно эту сердцевину [стоической философии] — идею царства свободных разумных существ, равных в своей человеческой природе, так что каждый из них должен рассматриваться как цель [а не как средство] — какое бы положение в мире он или она ни занимал(а)»13.
Подобные взгляды Нуссбаум излагает и в своих последующих работах, особенно в книге «Культивирование человечности» («Cultivating Humanity»). Здесь мы вновь встречаем ссылку на Диогена, который теперь представлен нам как последователь или ученик Сократа, поскольку у него (у Диогена) была привычка «презирать внешние знаки статуса и сосредоточиваться на внутренней жизни, на проблемах добродетели и мышления». В последующие века философы-стоики сделали подход Диогена «уважаемым и культурно плодотворным», развив идею кросскультурного исследования и сделав понятие «гражданин мира» (kosmou polites) осно¬
*12 Переведено с английского перевода, цитируемого в статье. Ср. опубликованный русский перевод этого же отрывка из «Размышлений» Марка Аврелия (ÏV, 4). «Если духовное у нас общее, то и разум, которым мы умны, у нас общий. А раз так, то и тот разум общий, который велит делать что-либо или не делать; а раз так, то и закон общий, раз так, мы граждане; раз так, причастны некой государственности; раз так, мир есть как бы город» (.Марк Аврелий Антонин. Размышления. Издание подготовили А.И.Доватур, А.К.Гаврилов, Яан Унт. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1993 (Литературные памятники), с. 17).
13 Nussbaum М. Kant and Stoic Cosmopolitanism, с. 4-5, 7-8, 10, 12. Цитата из Марка Аврелия (IV. 4) по изданию: The Meditations. Transi, by G.M.Grube. Indianapolis, 1983. Ссылки на Канта по изданию: Kant: Political Writings. Ed. by H.Reiss. Transi, by H.B.Nisbet. 2nd ed Cambridge, UK, 1991, c. 93-130.
282
ванием своей образовательной программы. Как пишет Нуссбаум, быть хорошим гражданином для стоиков значило быть «гражданином мира» — и по крайней мере по двум причинам. Во-первых, осознание себя «гражданами мира» помогало людям лучше решать проблемы, возникавшие в условиях разросшейся Римской империи. Во-вторых (и это еще более важно), точка зрения «гражданина мира» была «ценна сама по себе» («intrinsically valuable»), потому что она признавала в людях «основное в них, наиболее достойное уважения и почитания», а именно «их стремление к справедливости и благу и их способность разумно об этом мыслить».
Разумеется, стоики, как правило, не отмахивались от различий между людьми или от местных особенностей. Более того, знание конкретных местных ситуаций обычно считалось необходимым условием (и следствием) способности «гражданина мира» «усматривать и уважать человеческое достоинство в каждой личности». Однако основной упор всегда должен был быть на общем: на общей для всех способности разумно мыслить. Воспитание «гражданина мира», согласно стоикам, требовало «преодоления и в учащихся, и в учителях склонности определять себя в терминах местных групповых привязанностей и идентичностей». Подобные взгляды стоиков были унаследованы в Новое время традицией естественного права и особенно политической мыслью Канта. В таком усовершенствованном и осовремененном виде они и сейчас могут служить ориентирами для народного образования в глобальном масштабе14.
II
Этический глобализм (в том виде, в каком он изложен выше), несомненно, имеет важные достоинства. В мире, раздираемом многообразными распрями, ничто не представляется столь своевременным, как напоминание о нашей общей принадлежности к роду человеческому и об универсальных устремлениях различных религиозных учений и философских традиций. В частности, призыв Нуссбаум к космополитическому моральному образованию, бесспорно, заслуживает и внимания, и широкой поддержки. И тем не менее эта поддержка должна сопровождаться опреде¬
14 Nussbaum М. Citizens of the World. — Nussbaum M. Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Cambridge, Mass., 1997, c. 52, 56-57, 59-61, 67 Нуссбаум ополчается затем на «политику различий» («difference politics») или «политику идентичности» («identity politics») (подобно тому как ранее— на ницшеанцев): «Группы, которые ратуют за признание себя как групп, часто полагают, что их борьба имеет целью отстоять человеческое достоинство и социальную справедливость. Однако то, как они формулируют свои требования, пренебрегая общечеловеческим и изображая людей прежде всего как членов той или иной самоидентифицирующейся группы, может нанести ущерб равному достоинству всех и взаимной любви — и даже самому требованию обращать внимание на различия между людьми» (там же, с. 67). Ср. также: Nussbaum М. In Defense of Universal Values. Notre Dame, 1999.
283
ленными оговорками — по нескольким причинам. При слишком жестком подходе упор на общность, или универсальность, может заслонить морально существенные различия, или дистинкции. В то же время акцент на нормативных правилах часто приводит к забвению или недооценке конкретных этических мотиваций. Проблемы подобного рода возникли во время дебатов в Парламенте религий мира. Несмотря на общую для них религиозную приверженность, делегаты горячо спорили о (возможном) «западном» уклоне принимаемого ими документа, не говоря уже о разногласиях по вопросу о значении слов «конечная реальность» и по ряду других вопросов15. И в сфере философии (поскольку она предана свободному критическому познанию) неизбежны споры, которые выявляют внутреннюю амбивалентность универсализма. С одной стороны, постулат о равенстве всех людей — в силу общей для них способности разумно мыслить — направлен против оскорбительной дискриминации по признакам расы, статуса или пола. С другой стороны, принцип равного отношения ко всем — морально ущербен, поскольку он принимает во внимание наших сотоварищей по человеческой природе лишь в той мере, в какой они тождественны нам самим. В известном (и очень важном) смысле такой подход все же эгоцентричен, потому что он сводит (редуцирует) другого к разумному (рациональному) я (ego), вместо того чтобы признавать отличительную инаковость других людей. Как было показано выше, Нуссбаум допускает некоторое человеческое разнообразие; однако, определяя разум как универсальную «сущность» человека, Нуссбаум делает различия несущностными и, стало быть, маргинальными.
Дилеммы универсализма открыты не вчера. Можно сказать, их увидел уже Аристотель в своей критике «идеального» государства Платона. В западной философии Нового времени основные возражения были высказаны Гегелем, особенно в его откликах на моральный универсализм Канта, в центре которого — понятие долга. Эти возражения были постоянной темой во всех работах Гегеля. Уже в одной из своих ранних работ («Дух христианства и его судьба») Гегель обрушился на присущий кантовской мысли дуализм долга и склонности, а также на дуализм универсального и частного (партикулярного), притом что «одно становится господствующим, другое — подчиненным»*16. Этот дуализм, утверждал Гегель, может быть преодолен или по крайней мере смягчен, если перенести акцент
15 См.: A Global Ethic, с. 70, 94-96. По словам К.-Й.Кушеля, «мнение, что Парламент 1893 г. испытал воздействие „сильной дозы англосаксонского триумфализма“, также может быть справедливым» (там же, с. 83).
*16 Русский перевод по изданию: Гегель Г.Ф.В Дух христианства и его судьба. — Гегель РФ.В. Философия религии в 2-хтомах. Т. 1. М., 1975, с. 109. В данном случае под «одним» понимается «закон», под «другим» — «субъект». Но ср. цитату из черновых набросков Гегеля к «Духу христианства», приводимую А.В.Гулыгой в предисловии к этому изданию «Моральность, по Кашу, есть закабаление единичного всеобщим, победа всеобщего над противостоящим ему единичным» (Гулыга A.B. Философия религии Гегеля. — Там же, с. 12).
284
с абстрактного долга на соответствующим образом направленную склонность (в согласии с христианским учением). Критика абстрактного универсализма, или формализма, была продолжена в «Философии права», где кантовская этика не столько уничтожалась, сколько интегрировалась и «снималась» в многообразной ткани конкретной этической практики (Sittlichkeit)17.
В недавние времена некоторые из возражений Гегеля были вновь высказаны и переформулированы Теодором Адорно, особенно в его авторитетной книге «Негативная диалектика». В этом исследовании Адорно мишенью для своей критики избрал кантовскую дихотомию чистого «внутреннего мира» (Innerlichkeit) и внешней причинности, т.е. дихотомию абстрактной «автономности» этического разума и причинной обусловленности реального поведения человека. Как пишет Адорно, Кант «трактует эту дихотомию с помощью различения чистого и эмпирического субъекта, пренебрегая взаимной опосредованностью этих двух понятий (терминов)». По Канту (в интерпретации Адорно) получается, что индивидуум (или субъект) «несвободен» из-за своей подчиненности эмпирическим категориям; но в то же время он радикально, даже «трансцендентально» свободен в силу своей способности «конституировать» свою разумную идентичность. Адорно, вместо того чтобы прибегнуть к гегелевскому синтезу, вводит здесь понятие «не-идентичность», которое означает нечто, превосходящее и долг, и индивидуальность. Та же мысль выражена и в рассуждении Адорно о склонности или «импульсе», который примиряет «внутренний мир» и природу18.
Возражения Гегеля и Адорно были подхвачены и еще более радикализированы группой современных мыслителей, которых часто объединяют расплывчатым названием «постмодернисты». Что действительно объединяет этих разнообразных мыслителей, так это их противостояние «фаун- дационализму» («foundationalism»), каковое слово есть просто иное имя для все-выравнивающего (гомогенизирующего) универсализма. Некоторых авторов (Нуссбаум огульно клеймит их как ницшеанцев или постницшеанцев) антифаундациональный (= антиуниверсалистский) задор приводит к радикальному перевертыванию всего и вся, к прославлению партикуляризма (или различия) ради него самого. Но все-таки большей частью дело не столь просто.
17 См.: Hegel G. W.F. The Spirit of Christianity and Its Fate. — Hegel G. W.F. Early Theological Writings. Transi, by T.M.Knox. Philadelphia, 1971, c. 212-215; Hegel’s Philosophy of Right. Transi, by T.M.Knox. Oxf., UK, 1967, c. 75-79. Нуссбаум упоминает роль наклонностей (относя их к «страстям»), но не выводит из этого никаких поправок к тезису о верховенстве универсализма.
18См.: Adorno T.W. Negative Dialektik. Frankfurt/Main, 1966, с. 226, 236-237. Ср. не вполне удачный перевод: Adorno T.W. Negative Dialectics. Transi, by E.B.Ashton. N. Y., 1973, с. 29, 240-241. Ср. также мою работу: Dalimayr F. The Politics of Nonidentity: Adorno, Postmodernism, and Edward Said. — Dallmayr F. Alternative Visions: Paths in the Global Village. Lanham, 1998, c. 47-69.
285
Обратимся, например, к творчеству Мишеля Фуко (которого часто называют «постмодернистом» или «постструктуралистом»). В своих более поздних работах Фуко сформулировал отчетливую этическую позицию — при этом не основанную на абстрактно универсальных принципах, а скорее укорененную в конкретно ситуационных практиках или образах поведения. Во втором томе его «Истории сексуальности» проводится четкое различие между «кодифицированной моралью», т.е. моралью, опирающейся на формальные правила, и конкретным моральным поведением — последнее, в свою очередь, подразделяется на собственно поведение как таковое, с одной стороны, и направляющее мотивирование (motivational guidance) — с другой. По словам Фуко, «правило поведения — это одно, а поведение, которое может быть определено данным правилом, — совсем другое. И еще совсем другое — это то, как человек (думает, что) должен вести себя», т.е. тот способ, каким человек «формирует себя как этического субъекта» или деятеля. По ряду причин (включая то, что он предпочитал рассуждать о древней греко-римской морали) Фуко считал важным и даже необходимым сосредоточить внимание на практике само- формирования личности. Показательно, что он называл эту практику еще и «этическим трудом» («travail éthique») и настаивал на том, что этот «труд» не сводим ни к какому фиксированному кодексу поведения и не выводим ни из какого кодекса, но представляет собой процесс или движение: продолжающееся усилие «преобразовать себя в этического субъекта своего поведения». Хотя поведение обычно подразумевает некоторую отсылку к правилам морали, сам этот факт недостаточен для того* чтобы счесть поведение «моральным», если отсутствует самоформирую- щее усилие. Фуко развивает данную мысль следующим образом:
«Самоформирующее усилие — это не просто [внутреннее] „само- осознание“, но именно самоформирование себя как „этического субъекта“, т.е. процесс, в ходе которого индивидуум выделяет ту часть себя, которая станет объектом его моральной практики, определяет свою позицию по отношению к тому предписанию, которому он будет следовать, и выбирает некий образ существования, который будет служить ему моральной целью. И все это требует от индивидуума воздействовать на самого себя, наблюдать, испытывать, улучшать и преображать себя»19.
Моральное поведение (в том смысле, в каком его понимает Фуко) не может быть жестко стандартизировано, но неизбежно различно для раз¬
19 См.: Foucault М. The History of Sexuality. Vol. 2. The Use of Pleasure. Transi, by R.Hurley. N. Y., 1986, с. 26-28. Ср. также его описание моральных практик, или «искусств существования», как «тех преднамеренных и добровольных действий, посредством которых люди не только создают д ля себя правила поведения, но еще и стараются преобразить себя, изменить самих себя в своем уникальном бытии, превратить свою жизнь в некое творение, которое выражает определенные эстетические ценности и соответствует определенным стилистическим критериям».
286
личных индивидуумов, действующих в различное время и в различных местах, поскольку, по словам Фуко, способы самоформирования «различаются между собой в разных моральных мирах не меньше», чем различные системы правил и запретов. Любопытно, что в своих поздних работах Фуко ссылается на тех же менторов, что и Марта Нуссбаум, защищающая универсальные правила, т.е. на киников и стоиков — и прежде всего на киника Диогена. Подобно Нуссбаум, Фуко в своей «Истории сексуальности» говорит о «скандальном» поведении Диогена и о его привычке смешивать публичную и частную сферы поведения. Однако у Фуко Диоген фигурирует вовсе не как воплощение универсального разума, заключенного в инвариантную систему правил; напротив, Диоген здесь предстает перед нами как наставник в деле морального самоформирования и «поведенческой критики» — критики, направленной против выравнивания (гомогенизации) и «нормализирования» системы правил в обществе. Для киника Диогена самоформирование было частью морально необходимого «прак- тикования себя» («practices of the self»), что вкратце выражалось понятием «само-забота», или «забота о себе» («epimeleia he autou»). Данное понятие было в дальнейшем разработано стоиками (и стало названием третьего тома «Истории сексуальности» Фуко). В качестве основы для моральной практики «забота о себе» не может целиком регулироваться или определяться ни физическими, ни общественными законами.
Как и Хайдеггер до него, Фуко считал свободу предпосылкой и пружиной морального действия. Незадолго до смерти в интервью, опубликованном под названием «Этика заботы о себе как практика свободы» (1984), Фуко утверждал, что свободу следует рассматривать как «онтологическое условие» человеческого бытия-в-мире и как основу этики,— притом что этика означает не столько некую теорию или кодифицированный набор правил, сколько практику либо способ жизни (этос). Чтобы избежать недоразумений, Фуко добавил, что забота о себе в этом контексте — вовсе не символ эгоцентризма или узкого партикуляризма, но именно практика (деятельность), всегда осуществляемая в конкретном контексте, — так что «этот этос свободы есть также способ заботы о других»20.
Несколько по-иному понятие дифференцированной этики, не сводимой к универсальным правилам, разрабатывалось также социологом Зиг- мунтом Бауманом, особенно в его книге «Пост-модерн-ная этика». Следуя за Фуко и отчасти преодолевая его идеи, Бауман ратует за «мораль без этического кодекса», т.е., по сути дела, за мораль без универсализма и без фаундационистских подпорок. Как пишет Бауман, «только правила могут быть универсальными. Можно предписать универсальные обязанности
20 См.: Foucault М. The History of Sexuality. Vol. 2, с. 28, 54-55, 73; vol. 3. The Care of the Self. Transi, by R.Hurley. N. Y., 1986. См. также: The Ethic of Care for the Self as a Practice of Freedom: An Interview with Michel Foucault on January 29, 1984. Transi, by J.D.Gauthier. — The Final Foucault. Ed. by J.Bemauer and D.Rasmussen. Cambridge, Mass., 1988, c. 4-7.
287
(duties) в рамках неких правил, но моральная ответственность существует лишь в сфере индивидуального и осуществляется индивидуально». Или, в еще более заостренной формулировке: «Можно сказать, что мораль — это то, что противится (resists) кодификации, формализации, социализации, универсализации». Традиционными подпорками для морали служили понятия «человеческий разум» и «разумная природа человека»— понятия, лишившиеся своей неоспоримости в наше пост-модерн- ное (postmodern) время, которое отняло у модерн-ности (modernity) ее «иллюзии». Согласно Бауману, это исчезновение иллюзий побуждает мораль взломать «жесткий панцирь» этических кодексов и «ре-персонализи- ровать» («re-personalize») себя, т.е. вернуться к «исходной точке этического процесса»— к «первоначальному „грубому факту“ морального импульса, моральной ответственности и моральной непосредственности (moral intimacy)», каковой факт не может быть ни подчинен правилам, ни предписан.
При всех явных сходствах с подходом Фуко здесь налицо и значительные расхождения. Фуко в своих поздних работах делает упор на заботу о себе и человеческую автономию. Бауман же взывает к своего рода гетерономии, вдохновленной учением Эммануэля Левинаса; взывает к первостепенному значению «инаковости» (наличия «другого») как стимула морали и соответственно к своего рода «асимметрии» моральной практики. Мораль в данном случае означает существование «для Другого», «встречу с Другим как с лицом/личностью», что создает «сущностно неравное отношение». Иногда пост-модерн-ный задор доводит Баумана до приятия стратегии «поворота на 180 градусов» (a strategy of reversal), или контрпросвещения, что Фуко вряд ли бы одобрил. Бауман пишет: «С точки зрения „разумного порядка“ (“rational order”) мораль оказывается и должна оказываться неразумной (irrational)». С точки зрения разумного следования правилам упрямство морального импульса всегда будет выглядеть «скандальным», «источником хаоса и анархии внутри порядка». Но в пост-модерн-ных условиях мораль наконец «обрела свободу признать свою не-разумность (non-rationality): признать, что она есть для себя самой необходимый и достаточный разум (reason)»21.
Помимо постмодернистских проектов моральный не-универсализм или анти-универсализм в недавнее время получил также защиту и со стороны видных мыслителей феминистского толка. Широко известный и широко обсуждавшийся пример — книга психолога Кэрол Гиллигэн «Другим голосом». Критикуя теории морального развития личности, основанные на
21 Bauman Z. Postmodern Ethics. Oxf., UK, 1993, с. 13, 31, 34-36, 48, 54. Об отношениях между Фуко и Левинасом см.: Smart В. Foucault, Levinas, and the Subject of Responsibility. — The Later Foucault. Ed. by J.Moss. L., 1998, с. 78-92. Меня привлекает уравновешенный (восходящий к Аристотелю) подход Поля Рикера к этим проблемам; см. мою работу: Oneself as Another: Paul Ricoeur’s “Little Ethics”. — Dallmayr F. Achieving Our World. Lanham, 2001, c. 171-188.
288
универсалистских (неокантианских) принципах, Гиллигэн жалуется на обычное «исключение женщин» из программ психологических исследований (исключение, которое имеет не просто гендерный, но парадигматический характер). Исследования морального развития личности обычно проводились в группах мальчиков-подростков и исходили из модели стадиального развития морального сознания: от младенчества ко все более высоким уровням беспристрастности, справедливости и осознания правил морали.
Подобная модель была особенно характерна для работ Лоренса Коль- берга (ведущей фигуры в исследованиях по моральному развитию личности), чья теория шести моральных стадий описывала процесс все возрастающей деконтекстуализации и универсализации морального сознания. С точки зрения данной модели женщины и девушки оказывались в основном «отклонениями от нормы» («девиантами»), и их «девиантность» могла быть исправлена только путем их подгонки «под мужские стандарты». По мнению Гиллигэн, такой подход эмпирически перекошен и слеп к различиям между людьми — в особенности слеп к тем различиям, возникающим в социальных контекстах, которые «формируют опыт мужчин и женщин и отношения между полами». В современных контекстах многие факторы способствуют возникновению гендерных различий при формировании личной идентичности: мужская идентичность обычно более связана с абстрактными, деконтекстуализированными правилами, тогда как женская идентичность— с конкретными личностными привязанностями. Как и другие феминисты, Гиллигэн предпочитает рассматривать пресловутую женскую «слабость»— меньшую способность к абстрактным суждениям — как, напротив, своего рода «моральную силу», проявляющуюся в чувстве ответственности и «способности к заботе». Подобный подход порождает иную модель морального развития личности, чем у Кольберга (а также у Фрейда и Жана Пьяже): согласно этой, иной модели мораль воплощается в «деятельной заботе», а не в спорах о правах и правилах; эта модель требует «мышления контекстуального и нарративного, а не формального и абстрактного»22.
Подобные аргументы, но в более философском духе были изложены французским феминистским мыслителем Люс Иригарэ. В своей недавней книге «Между Востоком и Западом» она замечает, что наше время остро нуждается в дифференцированной этике — в такой этике, которая не от¬
22 Gilligan С. In a Different Voice: Psychological Theory and Woman’s Development. Cambridge, Mass., 1982, c. 2, 6, 16-17, 19. Среди прочих феминистских авторов Гиллигэн в особенности ссылается на Нэнси Чодороу: Chodorow N. The Reproduction of Mothering. Berkeley, 1978. Что касается Л.Кольберга, то см. его работы: Kohlberg L. Stage and Sequence. — Handbook of Socialization Theory and Research. Ed. by D.A.Goslin. Chicago, 1969; From Is to Ought. — Cognitive Development and Epistemology. Ed. by T.Mischel. N. Y., 1971, с. 151-236. См. также: Habermas J. Moral Development and Ego Identity. — Habermas J. Communication and the Evolution of Society. Transi, by T.McCarthy. Boston, 1979, c. 69-94.
10 - 10922
289
меняла бы универсальность, но наполняла бы общие рассуждения осознанием различных идиом и голосов. Иригарэ пишет (словно откликаясь на мысль Гиллигэн), что «всякое влечение основано на различии, на „неизвестном“ в желаемом предмете — именно это создает взаимное притяжение между мальчиком и девочкой, между мужчиной и женщиной». В работах Иригарэ важно и примечательно то, что она расширяет свои рассуждения до глобального, или кросскультурного, уровня. Она утверждает, что отношения между полами, учитывающие их различия, могут служить «парадигмой отношений» для устройства общества на всех уровнях: уважение гендерных различий «без того, чтобы сводить два к одному, к подобному, к тому же самому... представляет собой универсальный способ обретения уважения ко всем прочим различиям». Такое уважение с учетом различий (differential respect) особенно необходимо в наш век глобализации, когда народы и культуры, все ставшие близкими соседями, или рассматриваются как отдельные идентичности, или вгоняются в какие-нибудь общие категории — так, что не остается места ни для каких «промежуточных» вариантов. В частности, западная мысль традиционно не была склонна к уважению иного с учетом различий — напротив, ей всегда было свойственно стремление превратить все «как можно быстрее в абстрактные категории»: в лингвистические правила, юридические нормы, философские и научные понятия. Это тяжелое наследие требует кардинального переосмысления или кардинальной переориентации — выработки иного отношения к миру и другим его обитателям:
«Прежде мы учились властвовать над природой— теперь нам надо научиться уважать ее. Прежде перед нами ставили идеал поглощения всего тем или иным абсолютом — теперь нам надо признать ценность непреодолимых рубежей. Прежде уважение к тождественному простиралось вертикально от сына к Богу-Отцу и горизонтально к универсальному сообществу людей — теперь и впредь нам будет важно знать, как соединить любовь к тождественному и любовь к другому, верность себе — и становление вместе с другим, сбережение тождественного и подобного— и движение навстречу различному»23.
Следует добавить, что Иригарэ не просто восхваляет в общих словах уважение с учетом различий, но и конкретно его практикует в своих собственных исследованиях кросскультурных отношений (в точках пересечения «промежуточных» вариантов). В ее книге мы находим продуманные и глубокие замечания о «восточных учениях», главным образом ин¬
23 IrigarayL. Between East and West: From Singularity to Community. Transi, by S.Pluhacek. N. Y., 2002, с. 136-137, 139-141. Эти суждения Иригарэ вызревали в некоторых из ее прежних работ. См. в особенности: Irigaray L. Je, tu, nous: Toward a Culture of Difference. Transi, by A.Martin. N. Y., 1993; Irigaray L. I Love to You. Transi, by A.Martin. N. Y., 1995.
290
дусских и буддийских (включая йогу и тантру). Она пытается показать, что древние учения и практики Востока часто обращали больше внимания, чем это обычно делает современный Запад, на переплетения различного во всех существах и явлениях (сверх и помимо того, что вмещается в понятия «слияние» и «разделение»)24. Подобные рассуждения можно распространить и на Дальний Восток, особенно на конфуцианство (не обсуждаемое в книге Иригарэ). Как хорошо известно, конфуцианская этика основана не на правилах, а на отношениях; говоря более конкретно, она исходит из пяти главных отношений: между мужем и женой, между родителем и ребенком, между старшим и младшим ребенком в семье, между правителем и министром, а также между другом и другом. Критики конфуцианства часто видели в этих отношениях только отражение жесткой иерархии или способ субординации. Однако, хотя и это возможно как искажения, названные черты не определяют сути перечисленных пяти отношений.
Как подчеркивает Ду Вэймин, эти отношения следует рассматривать как сеть «дуальных» связей— и слово «дуальный» здесь перекликается с тем, что Иригарэ называет уважением с учетом различий. В каждом из этих парных отношений имеются «личности» («selves»), взаимно конституирующие друг друга и уважающие друг друга в их взаимных различиях или, иначе говоря, в той дуальной взаимосвязи, которая никогда не может быть полностью зафиксирована или исчерпана. Ду Вэймин также не согласен с обвинением конфуцианства в создании иерархии статусов (или даже в патриархии). Он замечает, что этический дух, пронизывающий эти пять отношений, — не дух зависимости, но дух взаимности (бао). В этом смысле именно дружба есть отношение par excellence, поскольку она основана на доверии и взаимной заботе. По сути дела, в дружбе забота о себе и забота о другом находятся в равновесии.
«Истинный подход — это и не пассивное подчинение структурным рамкам, и не фаустовская активация [внутренней] свободы, а сознательное усилие превратить динамическое взаимодействие между ними в плодотворную диалектику самореализации и само- трансформации»25.
24 Так, она пишет: «Основная функция Вед, упанишад и йоги — обеспечивать высказывание в промежутке между мгновением и бессмертием или вечностью... Ведические боги, брахманы и йоги озабочены поддержанием жизни вселенной и жизни своего тела как космической природы... Урок, который я хотела бы видеть извлеченным из этих древних текстов (и которым, увы, слишком пренебрегают в западных или вестернизированных учениях), заключается в том, что любовь возникает между двумя свободами» (Between East and West, с. 31,63).
25 Tu Wei-ming. Neo-Confucian Religiosity and Human Relatedness. — Tu Wei-ming. Confucian Thought: Selfhood as Creative Transformation. Albany, с. 138-139, 145-146. Ср. также его эссе: The “Moral Universal” from the Perspectives of East Asian Thought. — Там же, с. 19-34.
10*
291
Ill
Проекты, рассмотренные в предыдущем разделе статьи,— постмодернистские, феминистские, кросскультурные — все указывают на определенный «дефицит» («недостаток»), присущий моральному универсализму, а именно на пренебрежение проблемами конкретной мотивации и морального самоформирования — или по крайней мере на недостаточное внимание к этим проблемам. Следует отметить: дело не просто в том, что различия третируются как частные свойства (которые как таковые все же подпадают под общие правила), или в том, что умаляется значение моральной «внутренней жизни» («inwardness») (которая вгоняется в дуализм внутреннего чувства долга и внешних обстоятельств). Проблема тут гораздо более серьезна: речь идет о предпочтении, которое получает моральная теория по сравнению с моральной практикой {praxis), т.е. общие принципы — по сравнению с конкретным моральным поведением и само- формированием, основанным на свободе.
Понятие «практика» (praxis) выводит на передний план ту сферу, которую универсалистское морализирование обычно старается избегать или отодвигать в сторону, — сферу политики. Однако сферы этой не избежать, если всерьез задумываться о проблемах моральных правил. Даже если постулировать всеобщее приятие универсальных норм, то по крайней мере со времен Аристотеля известно, что правила не просто и прямо переводятся в практику {praxis\ но нуждаются во внимательной интерпретации и в применении к конкретным условиям. Тут-то и возникают весьма политические вопросы. Кто имеет право интерпретации? В случае разногласия кто наделен правом выбирать между различными интерпретациями? Это право и эта компетенция не могут быть просто вручены «универсалистским» теоретикам или интеллектуалам — в отсутствие эксплицитно политического делегирования полномочий и власти. Подобные соображения показывают, что было бы недостаточно — и по моральным, и по политическим причинам — набрасывать покров универсальных правил на все человечество, не обратив должного внимания на фактор публичных обсуждений и на роль политического воле-образования. Такое предостережение особенно важно в наш век глобализации, когда универсализм часто воплощается в великодержавную политику гегемонизма и квазиимпериализма. Впрочем (даже если отвлечься от всяких политических соображений) разве универсальные правила (как теории) могут функционировать одинаково под эгидой и pax Romana, и рах Britannica, и (предположим) pax Americana'?
Пренебрежение политикой при рассуждениях о морали очевидно во многих космополитических сочинениях. Так, например, Нуссбаум не скрывает своих приоритетов. Говоря о том, сколь многим обязан Кант космополитизму стоиков, она замечает: «Я начала с моральной сердцевины их идей о разуме и личности», оставив в стороне «поверхностные»
292
аспекты «институциональных и практических целей». Кант заимствовал именно эту «глубинную сердцевину» при выработке своей идеи «царства целей», которая означала «общее участие в виртуальном политическом целом (a virtual polity)» вне зависимости от того, существовало или не существовало актуальное политическое целое (an actual polity). Парафразируя дистинкцию стоиков между всего лишь местной, или мирской, общностью и общностью надмирной (transmundane), Нуссбаум настаивает на том, что «мы должны обращать нашу первейшую моральную привязанность не к какому-либо конкретному правительству, не к какой-либо мирской, временной власти», но к «моральному сообществу, которое составляет человечество всех человеческих существ (the humanity of all human beings)».
Виртуализация политики была характерна для поведения большинства древних киников. Так, киник Диоген изображается как «изгнанник» из полиса, мало обращавший внимания на «политическую мысль» и занимавший «поразительно аполитичную» позицию. За исключением Цицерона (который был по своему мировоззрению более аристотелианцем), большинство римских стоиков следовали в этом отношении примеру киников, даже если они занимали общественные должности. Как мы знаем, Сенека был советником при императоре Нероне, который отнюдь не образец граждански ответственного деятеля. Император Марк Аврелий, несмотря на свою мудрость и приверженность справедливости, почти не был озабочен политической свободой или воле-образованием граждан и неграждан огромной империи. Более того, теоретизирование стоиков часто сосуществовало с приятием политического угнетения, включая рабство.
Нуссбаум опять-таки вполне откровенно пишет: «Стоики не делали вывод (и не могли его сделать — в отличие от Канта), что колониальные завоевания морально неприемлемы. Цицерон пытался придать моральное оправдание римскому имперскому проекту— но без большого успеха. Сенека, разумеется, не мог бы выразить подобных чувств, даже если б они у него были. А Марк Аврелий сосредоточился на задаче управления существовавшей империей наиболее справедливым и разумным образом, не задаваясь вопросом о том, не следовало бы вообще эту империю распустить»26.
В отличие от стоиков, современные космополиты, особенно космополитические демократы, часто не удовлетворяются виртуализацией политики и участия в общественной жизни. В этом они могут опираться на работы позднего Фуко, особенно на его увязывание заботы о себе со свободной политической практикой (praxis). Как отмечалось выше, Фуко
26 Nussbaum М. Kant and Stoic Cosmopolitanism, с. 4, примеч. 11, с. 5, 8, 12, 14; она же. Citizens of the World, с. 52, 57, 59-60. Предпочтение морали политике было очевидно и в дискуссиях, ведшихся на заседаниях Парламента религий мира в 1993 г. (см.. A Global Ethics, с. 54, 56).
293
несколько по-иному излагает идеи стоицизма и классического космополитизма. В книге «Забота о себе» он возражает против оппозиции «участие в коррумпированной местной политике»— «уход в универсальный мир идей». Хотя реальность позднеримской жизни часто действительно поляризовалась как выбор между участием и уходом, ситуация «на местах» могла быть более сложной и несводимой к отвержению политики в пользу этики неучастия и ухода: «Речь шла о выработке такой этики, которая давала бы возможность личности конституировать себя в качестве этического субъекта по отношению ко всем этим общественным, гражданским и политическим видам деятельности, какие бы формы они ни принимали».
Подобная интерпретация подкрепляется свидетельствами позднеримских и эллинистических источников, которые указывают не только на возведение общих имперских структур, но и на оживление местной и городской политической жизни. Городская жизнь со своими институтами, интересами и конфликтами вовсе не исчезла под воздействием того постоянно расширявшегося имперского контекста, в котором она существовала: люди эпохи эллинизма «не должны были бежать из якобы „без- городного мира великих империй“, просто потому что „эллинизм был миром городов“».
Эти замечания проливают новый свет на позднеримскую мораль — а также на высказывания Фуко относительно «заботы о себе». Как пишет Фуко, понятие стоиков «забота о себе» часто толкуется как альтернатива гражданской активности и политической ответственности; в самом деле, признает Фуко, были и такие направления мысли, которые рекомендовали «отвернуться от общественных дел» со всеми их тревогами и страстями. Однако истолковать эти идеи можно и по-иному — так, что забота о себе и искусство управления собой «становятся центральным политическим фактором». Во всяком случае, культивирование себя определяет свои ценности и свои практики вовсе не в противопоставлении (оппозиции) общественной жизни: «Гораздо более важно так определить принцип отношения к себе, чтобы создать возможности таких форм и условий, при которых политическое действие, участие в органах власти и отправление [общественных] функций было бы допустимо или недопустимо, приемлемо или необходимо»27.
27 Foucault М. The Care of the Self, с. 82, 86, 89, 94. Фуко добавляет, обнаруживая восхитительную (почти аристотелевскую) здравость суждения: «Базовая установка, которую человеку следовало иметь по отношению к политической деятельности, была связана с тем общим положением, что то, чем человек является, не проистекает из чина, который он имеет, или из ответственности, которой он облечен, или из того положения, которое он занимает— выше или ниже других людей. То, что человек есть, и то, чему он должен уделять внимание как высшей цели, — это выражение принципа, который уникален в своем проявлении в каждой личности, но универсален по форме, которую он обретает в каждом человеке, и коллективен по той связи, которую он устанавливает между индивидуумами. Таков, по
294
По поводу морального (или морализирующего) космополитизма Марты Нуссбаум ряд интересных критических замечаний высказал Петер Ой- бен, который опирался при этом и на Фуко, и на Аристотеля. Обращаясь к временам киников и стоиков, Ойбен тщательно взвешивает достоинства и недостатки их учений. Он согласен с Нуссбаум в том, что и киники, и стоики «внесли впечатляющий вклад» в развитие «идей человеческого достоинства, морального равенства и естественного права». Как пишет Ойбен, отвержение ими провинциальных обычаев и статусных различий между людьми* а также их идеал мирового гражданства создали «основу для критики рабства, этноцентризма и иерархий любого сорта— и эта критика вряд ли потеряла свою остроту». Но это лишь одна сторона медали. Другая сторона — это относительная атрофия политической практики (praxis) у тех, кого Нуссбаум избрала в качестве своих менторов. В отличие от Сократа и особенно от Аристотеля, многие стоики отмахивались от увязывания публичной власти и «голоса полиса», предпочитая «правильный разум» в качестве общего принципа. Тем самым они способствовали превращению либо упрощению политической философии в «моральную философию или политическое морализаторство». А это превращение, в свою очередь, сыграло важную роль в судьбе гражданской свободы, как понимал ее Аристотель, для которого свобода означала «опыт совместной деятельности с другими в публичной сфере», а не просто «суверенность необремененных индивидуумов, которые „освободили“ себя от всяких отношений и общественных забот». Ойбен также отмечает определенную обманчивость универсализма стоиков: в их принципе все-включения (универсализма) содержался и элемент политического исключения (экс- клюзивизма). Несмотря на провозглашение универсального гражданства, стоики на самом деле поощряли «новый вид эксклюзивизма, основанный на различиях [между людьми] в [их] отношении к разуму (рациональности) и в осуществлении его (ее) на практике» — и эта дистинкция проистекала из осознания того, что лишь «очень небольшое число неординарных людей могли быть полноценными членами сообщества разума»28, т.е. сообщества, руководствовавшегося философией стоиков.
крайней мере для стоиков, человеческий разум как божественное начало, присутствующее во всех нас» (там же, с. 93).
28 Euben P. The Polis, Globalization, and the Politics of Place. — Democracy and Vision- Sheldon Wolin and the Vicissitudes of the Political. Ed. by A.Botwinick and W.E.Connolly. Princeton, 2001, c. 266, 268-270. Ойбен добавляет, подчеркивая политические последствия эксклюзивизма: «На практике философия стоиков отрицала радикальные политические возможности, заложенные в ее установках. Даже тогда, когда стоический идеал добродетельного и способного человека не определялся прежде всего в политических терминах, он оказывался тем не менее особенно подходящим для условий монархического и личного правления. Уравнительный потенциал этой философии оставался отвлеченным, потому что (в частности) ранние стоики зачастую отказывались увязывать свои размышления с теми политическими и материальными условиями, в которых люди проживали свою каждодневную жизнь» (там же, с. 270).
295
Эти соображения относятся и к работам Марты Нуссбаум, к ее попыткам возродить в современных условиях философию стоиков. Как подчеркивает П.Ойбен, космополитизм в версии Нуссбаум — это в основе своей поза «изгнанничества», способ ухода от местных/провинциальных привязанностей или обязательств. Конечно (как уже сказано выше), Нуссбаум не отметает полностью местные привязанности и культурные различия, но— в силу ее эссенциалистских наклонностей— все это не может не выглядеть маргинальным по сравнению с «рационально обоснованными» принципами самосоотнесения личности. «Наши „основные“ обязательства проистекают из того, что есть основа нас самих; а основа нас самих — разум». Опять-таки речь не идет о том, чтобы принижать моральные идеалы Нуссбаум; кто может возражать против стремления к «справедливости, правам, разумности и нравственности в мире»? Ойбен обеспокоен другим. «Есть нечто провинциальное в ее космополитизме», — пишет он. «Говоря в самых общих терминах, тут не хватает политического измерения, включая политический анализ самой природы ее моральной критики» — в частности, есть опасность (не упоминаемая в работах Нуссбаум), что философия, подобная той, которую разрабатывали стоики, может способствовать «приспособлению к господствующим структурам власти».
В наше время подобная опасность весьма реальна и актуальна, особенно в связи с широко распространяющимися политической апатией, цинизмом и безразличием. С учетом данной ситуации Ойбен предлагает рекомендации, которые почти противоположны стоическому изгнанничеству. По его словам, проблема сегодня — в том, что нет ничего прочного, «что редко встретишь сильные предпочтения и что лишь немедленно удовлетворяемые личные желания воспринимаются как осмысленные в рамках системы, которая враждебна к более широким демократическим инициативам. В подобных условиях космополитический универсализм Нуссбаум может еще ухудшить ситуацию, поощряя диалектику между все усиливающимся изгнанничеством [одних] и фарисейской активностью [других]».
Нет ничего удивительного в том, что Нуссбаум «мало что может сказать о демократии», — и это молчание не сулит ничего хорошего в наш век глобализма, когда гегемонистские властные структуры могут использовать абстрактный универсализм-морализм как средство борьбы с «потенциально демократическими идеями». И разве у нас нет достаточно оснований опасаться гегемонистской глобализации, «особенно ввиду того, что, как кажется, скрытой основой глобального единения выступает американская массовая культура?»29.
В здравых рассуждениях Ойбена есть много ценного, особенно в его стремлении сочетать мораль (нравственность) и политику (и не слиянно,
29 Euben Р. The Polis, Globalization, and the Politics of Place, c. 271-274. Ойбен трезво добавляет: «Из вышеизложенного вовсе не следует, что космополитизм неизбежно этноцентричен Но стоит предостеречь против тех неявных способов, какими доминирующее частное может представить себя в качестве универсального и действительно стать таковым — став той системой отсчета, по отношению к которой все другие будут осознавать себя частными» (там же, с. 274).
296
и не раздельно)30. Что может быть более необходимым в нашем сегодняшнем глобализирующемся мире, чем культивирование добродетелей космополитизма и принципов «ius gentium» (как это называлось в прежние времена)? Перед лицом этнических конфликтов и грозящих «столкновений между цивилизациями» человечество должно выработать глобальную этику и глобальную гражданскую культуру (культуру гражданственности), достаточно прочные для того, чтобы противостоять натиску насилия и разрушения. Чтобы стать действительно космополитичной, эта гражданская культура должна быть как можно более инклюзивной (включительной, всеохватной), т.е. включать в себя, охватывать не только людей, подобных «нам», но и тех кто отличен от «нас», «других», «иных» — потенциально даже тех, кого теперь относят (опрометчиво) к категории «врагов». Но в то же время и по тем же самым причинам важно восполнять «дефицит» («недочет») глобального морализма, а именно его тенденцию пренебрегать политикой — и это восполнение должно быть также очень прочным.
Как сказано выше, недостаточно морально — по сути дела, едва ли вообще морально — повсеместно провозглашать универсальные ценности, не стремясь одновременно предоставлять людям возможности, права и власть в их конкретных и многообразных местных условиях и ситуациях. Хотя моральные нормы и теории могут быть универсальными по своему замаху, моральная практика (praxis) имеет разную текстуру, особенно с точки зрения глобальной справедливости. Попросту говоря: утверждение справедливости — т.е. избавление от нищеты и угнетения — в большей мере задача богатых и власть имущих, нежели бедных, угнетенных и подчиненных. Утверждение морали (нравственности) среди них — включая и космополитические добродетели — требует прежде всего некой стратегии эмансипации, стратегии, направленной на обеспечение для бедных, угнетенных и подчиненных хоть какой-то свободы и самоуправления. Таким образом, «культивирование человечности»— это двухфокусная, т.е. и моральная, и политическая задача. Вполне возможно, что и Марта Нуссбаум в конце концов могла бы согласиться с таким заключением. Ведь она сама в завершение своего эссе о Канте и космополитизме написала, что в определенный момент становится важным «оставить размышления и начать действовать — делать что-то полезное для общего блага»31.
Перевод с английского С.Д.Серебряного
30 По его словам, «нелегкая задача (the challenge) заключается в том, чтобы сохранять напряжение между критическим моральным духом космополитизма и политическим фокусом полиса» (Euben P. The Polis, Globalization, and the Politics of Place, c. 270). Ойбен также принимает понятие «параллельный полис», сформулированное Вацлавом Гавелом и Адамом Михником, — как «способ наименовать те места в пределах гражданского общества, в которых были возможности участия, иначе отрицаемые лживыми режимами» (там же, с. 282).
31 Nussbaum М. Kant and Stoic Cosmopolitanism, с. 25. О двухфокусной справедливости см. мою работу: Dalimayr F. “Rights” versus “Rites”: Justice and Global Democracy. — Dall- mayr F. Alternative Visions, с. 253-276.
297
Карстен Дж. Струл Возможна ли глобальная этика?
В последнее десятилетие был предпринят ряд попыток сформулировать постулаты глобальной этики. Эти попытки были начаты религиозными лидерами экуменического направления, но впоследствии они вошли и в более общий, нерелигиозный дискурс, в первую очередь в рамках Организации Объединенных Наций. Основным положением настоящего доклада является вопрос о том, возможно ли существование глобальной этики в мире с многообразием различных культур. Для того чтобы эта проблема стала понятней, мне необходимо начать с истории возникновения проекта, касающегося глобальной этики.
В сентябре 1993 г. представители 120 религий мира собрались в Чикаго на заседание Парламента религий мира. Эта дата была выбрана в ознаменование столетия Парламента религий мира, созданного в 1893 г. и положившего начало всемирному религиозному диалогу. Задача Парламента 1993 г. состояла в том, чтобы обсудить первую редакцию положений глобальной этики, подготовленную Гансом Кюнгом, весьма уважаемым немецким богословом экуменического направления. Шесть тысяч участников обсудили первую редакцию этого документа и внесли в нее некоторые поправки. Окончательная редакция документа, озаглавленная «Декларация о глобальной этике» (Declaration Toward a Global Ethic)1, начинается с введения, написанного редакционной комиссией. Это введение утверждает, что «мир находится в агонии» из-за войн, разрушения экологической системы Земли, экономического неравенства и бедности, из-за насильственной гибели детей и «агрессии и ненависти во имя религии». Далее введение провозглашает, что основание для глобальной этики, способной
1 Полный текст этого документа см.: Yes to a Global Ethic. Ed. by Hans Küng. N. Y., 1996. Эта книга содержит также комментарии по поводу Декларации Парламента, написанные известными общественными деятелями — Львом Копелевым, Ригобертой Менчу, патриархом Варфоломеем I, крон-принцем Хассаном Бин Тапилом, Иегуди Менухиным, Элайем Вайзелом, Десмондом Туту, Аун Сан Су Чи.
© Карстен Дж.Струл, 2004
298
разрешить эти проблемы, действительно существует, поскольку внутри различных религий мира имеется некая «общая глубинная система ценностей» (“common core set of values”). За введением следует текст основного документа, в котором обсуждаются четыре «принципа глобальной этики». Первый принцип заключается в том, что глобальная этика необходима для создания нового, глобального мирового порядка. Такую этику, говорится в этом документе, «смогут принять все люди, у которых есть этические убеждения, независимо от того, основываются они на религии или нет». Короче говоря, глобальная этика даст возможность прийти к консенсусу по поводу глубинной системы ценностей, с которой смогут согласиться все религии и, более того, все люди, чувствительные к этическим вопросам.
Затем Декларация переходит к описанию второго принципа: «С каждым человеческим существом следует обращаться по-человечески». Данный принцип, как утверждает Декларация, выводится из универсального этического постулата, который может быть найден во всех религиях и этических системах мира, — этического постулата, именуемого «золотое правило» и сформулированного в Декларации следующим образом: «Не делай другим того, что не хочешь, чтобы было сделано тебе... Что хочешь, чтобы было сделано тебе, делай другим».
Третий принцип, изложенный в Декларации, освещает четыре более специфических положения, которые вытекают из второго принципа и из золотого правила. Эти четыре положения есть в большинстве религий мира: 1 ) «приверженность культуре ненасилия и уважения к жизни», включающая в себя заботу не только о людях, но и о животных и растениях; 2) «приверженность культуре солидарности и справедливого экономического порядка», которая противостоит «тоталитарному государственному социализму» и «разнузданному капитализму» и признает, что мир невозможен без справедливости; 3) «приверженность культуре толерантности и жизни в истине», являющаяся вызовом лжи политиков и бизнесменов, распространению ложной информации и идеологической пропаганде средств массовой информации, деятельности ученых, которые позволяют себе быть орудием политических или экономических интересов, и тех представителей религий, которые проповедуют нетерпимость к другим религиям; 4) «приверженность культуре равноправия и партнерства между мужчиной и женщиной», которая противостоит сексуальной дискриминации и эксплуатации. Декларация утверждает, что, взятые вместе, эти четыре положения, если к ним относиться серьезно, будут иметь возможность изменить мир. Это подводит нас к четвертому принципу.
Четвертый принцип утверждает, что самих по себе этических положений недостаточно, и они могут стать общественной реальностью только через трансформацию сознания, которая, утверждается в Декларации, уже началась. Без подобной трансформации и глобальной этики, которая сможет ее направлять, у человечества не будет возможности выйти из глобального кризиса, угрожающего его существованию.
299
В тот же год, когда Парламент религий мира обсуждал документ, предложенный Г.Кюнгом, Леонард Суидлер, тоже богослов, преподающий на кафедре религий Темплского университета в Филадельфии, написал собственную редакцию положений мировой этики, которая впоследствии была представлена на ряде международных конференций и затем помещена в Интернет в надежде, что она будет доступна более широкой аудитории и сможет вызвать более широкую дискуссию. Документ, созданный Суидлером, претерпел несколько редакций, последняя из которых относится к сентябрю 1998 г. Появлению этого документа, озаглавленного «Универсальная декларация глобальной этики», предшествовала длительная дискуссия, названная «На пути к Универсальной декларации глобальной этики»2. В ходе этой дискуссии Суидлер утверждал, что человечество движется от «эпохи монолога» к «эпохе глобального диалога» и что это движение включает в себя мощный парадигмальный сдвиг в сознании. В эпоху глобального диалога, по мнению Суидлера, возникает особая необходимость в глобальной этике, поскольку любая часть человечества может вызвать экономическую, ядерную или экологическую катастрофу, которая повлияет на всех остальных жителей Земли.
Таким образом, возникает необходимость консенсуса по поводу общего этического минимума (minimal ethical consensus), основанного на диалоге. «Универсальная декларация», предложенная Суидлером, берет за основу этого консенсуса золотое правило, поскольку варианты этого правила присутствуют во всех религиях и этических традициях (в ходе дискуссии Суидлер приводил ряд примеров из множества религий мира). Затем он перечисляет восемь основных принципов глобальной этики и десять «промежуточных этических принципов». Эти принципы, особенно промежуточные, гораздо более конкретны, чем принципы, предложенные Декларацией Парламента. Они также, в определенной степени, являются более характерным для Запада способом выражения общей этики (например, в них присутствуют положения о том, что каждый человек должен быть «свободен в использовании и развитии всех своих способностей, если только это не приходит в столкновение с правами других людей»; каждый человек имеет право на «свободу мысли, слова, совести»; все взрослые люди «имеют право голоса в выборе руководителей и в привлечении их к ответственности»).
Со времени написания этих двух документов предпринимались различные попытки вывести обсуждение проекта глобальной этики за рамки религиозных кругов. В 1995 г. Всемирная комиссия ЮНЕСКО по культуре и развитию опубликовала доклад, который призывал принять глобальную этику, способную создать базис для изменений в установках, социальных приоритетах, структуре потребления, необходимых для обеспечения «достойной и осмысленной жизни» всем людям во всем мире3.
2 См оба эти документа: httpYastro.temple.edu/~dialogue/Center/intro.htm.
3 Этот доклад, озаглавленный «А New Global Ethics», см.: http//kvc.minbuza.nl/uk/archive/ report/chapter 1 _3 .html.
300
В 1996 г. Совет по взаимодействию, включавший 30 бывших глав государств, призвал к развитию глобальной этики для того, чтобы найти решение проблем XXI в. В 1997 г. по инициативе ЮНЕСКО был начат Проект универсальной этики (“Universal Ethics Project”), в котором приняли участие философы и богословы, представлявшие различные этические традиции. Они должны были разработать положения универсальной этики, способные противостоять таким проблемам, как бедность, низкий уровень развития, загрязнение окружающей среды, различные формы нетерпимости и т.п. Такая универсальная этика, по мнению участников проекта, обладала бы иным онтологическим статусом, нежели Декларация прав человека ООН, поскольку она могла бы обеспечить философские принципы, на которых основаны эти права4.
Мне представляется, что можно ожидать еще множество подобных попыток обсудить и сформулировать положения глобальной этики. Но может ли глобальная этика стать общественной реальностью? Я намереваюсь осветить некоторые философские и практические проблемы, поставленные различными проектами глобальной этики, независимо от того, сформулированы ли они Парламентом религий мира или созданы под эгидой ООН. Я считаю, что шансы разработать содержательную глобальную этику с помощью тех форумов, где она сейчас обсуждается, не слишком велики, и поэтому необходимо предложить иную концепцию проекта глобальной этики.
Проблема консенсуса по поводу общего этического минимума
В различных документах, касающихся глобальной этики, выражается надежда на то, что прийти к консенсусу по поводу общего минимума этических норм возможно. В связи с этим важно упомянуть, что подобный консенсус должен быть чем-то большим, чем общее положение о наличии согласия, ибо он должен быть способен выработать нормы для решения проблем— ради чего и создается глобальная этика. Другими словами, этот консенсус по поводу общего этического минимума должен быть способен породить важные этические нормы, которые могут быть применимы к данным проблемам. Различные документы, касающиеся глобальной этики, предпринимают подобную попытку, выводя определенные конкретные положения, или промежуточные принципы, из более обобщенных принципов. Например, документ, предложенный Парламентом религий мира, из общего принципа о том, что «с каждым человеческим существом следует обращаться по-человечески», и золотого правила пытается вывести четыре более конкретных принципа: приверженность ненасилию, справедливому экономическому порядку, культуре толерантности и правдиво¬
4 Дискуссию «The Universal Ethics Project» см.: http://www.uncsco.org/opi2/philosopliy и ethics/pronpro.htm.
301
сти и равноправию полов. В этой части доклада я хотел бы обсудить проблему попытки разработать подобный консенсус по поводу общего этического минимума.
Существует несколько различных аспектов данной проблемы. Первый заключается в том, чтобы решить, кто должен быть участником диалога, в котором предпринимается попытка достичь подобного консенсуса, и каким образом этот диалог должен осуществляться. Давайте сначала рассмотрим эту проблему с точки зрения согласия среди религий мира. Существуют, как уже было упомянуто, два главных документа, отражающих религиозную точку зрения. Документ, представленный Кюнгом, возник из дискуссии с рядом представителей различных религий. Документ, предложенный Суидлером, основан на понимании многообразия религий мира и экуменического подхода к религии, но в целом он излагает собственные положения его автора. Во время заседания Парламента религий мира в 1993 г. документ, предложенный Кюнгом, подвергся только изменению названия. Таким образом, имеет смысл подчеркнуть, что оба эти документа в основном представляют точки зрения их авторов и что во время заседания Парламента достигнутое «согласие» явилось результатом того, что Салли Кинг определяет как «организационный» процесс5.
Суидлер поместил свою «Универсальную декларацию глобальной этики» в Интернет и пригласил всех высказывать свои соображения. По мнению философа Джона Хика, документ Суидлера в сущности отражает позицию западного христианства в эпоху после Просвещения и необходимы другие исходные документы, которые будут представлять другие культуры и другие религии. В противном случае, пишет Хик, данный проект будет являться формой западного культурного империализма. «Только затем, при сравнении и взаимодействии этих, вероятнее всего, весьма различных текстов, возможно будет начать движение по направлению к действительно глобальной Декларации»6. Хотя предложение Хика кажется мне разумным, остаются две другие проблемы: кто будет являться инициатором появления разнообразных текстов и кто будет их обсуждать для того, чтобы достичь консенсуса по поводу общего этического минимума. Версия положений глобальной этики, предложенная Парламентом религий мира, в лучшем случае отражает согласие среди либерально-прогрессивного крыла религий мира. А как насчет фундаменталистов? Должны ли и они быть участниками этого диалога?
Вступивший в дискуссию по документу Суидлера Халид Дюран отвечает на этот вопрос с позиций ислама и утверждает7, что фундаментализм, который, как он считает, представляет собой меньшинство внутри ислама,
5 King S. A Global Ethic in the Light of Comparative Religious Ethics. — Explorations in Global Ethics. Ed by S.B.Twiss, B.Grelle. Boulder, Colorado, 2000, c. 126-127.
6 Hick J. Towards a Universal Declaration of a Global Ethic: A Christian Comment Cm. h ttp//astro. temp le. ed u/~d i al ogue/Center/h i ck. h tm.
7 Cm.: http//astro.temple.edu/~diaIogue/Center/duran htm
302
будет настаивать на том, чтобы шариат (исламский закон) был основой глобальной этики, и будет «пытаться навязать другим свои эксклюзивист- ские взгляды». Фундаменталисты могут провозгласить, что они в чем-то согласны с самыми общими принципами глобальной этики, предложенными другими направлениями мировых религий, но их представления о том, как эти принципы должны воплощаться в жизнь, будут иными. «Никто на словах не провозглашал так громко необходимость эмансипации женщин, как муллакратия в Иране... Но что это означает на практике? Нечто почти противоположное... Так, во имя Исламской Республики и — в ее понимании — эмансипации женщин в них брызгают кислотой только за то, что один локон немножко выбился из-под обязательного головного покрывала». В результате Дюран предлагает исключить из диалога фундаменталистов всех мировых религий, поскольку и без того достаточно трудно выработать согласие среди тех, кто действительно предан принципу толерантности и универсализма, подразумевающемуся в проекте глобальной этики.
Однако сделав это, мы не сможем достичь реального согласия среди религий мира, в лучшем случае это коснется только их прогрессивно-либерального крыла. Особое внимание обращает на этот момент Золтан Турго- ний. По его мнению, внутри каждой религиозной традиции должен быть поставлен вопрос: «„Кто имеет право (или кто обязан) представлять данную конкретную точку зрения на мировом уровне?..“ Должны ли мы исключить из диалога еретиков? Ведь если для нас равны все возможные интерпретации определенной религии, то в конце концов мы должны знать мнение каждого верующего»8. И если мы это сделаем, почти невероятно, что у нас будет возможность достичь содержательного консенсуса по поводу общего этического минимума, который бы смог хотя бы начать служить тем целям, ради которых Декларация Парламента была написана. Вследствие этого, даже если мы сумеем каким-то образом достичь необходимого согласия среди всех групп во всех религиях мира, мы все равно столкнемся с нерешенной проблемой достижения согласия, выходящего за рамки религии. Нельзя просто исключить атеистов, и, кроме того, существует много людей, которые, хотя и считают себя принадлежащими той или иной религии, выводят свои этические принципы не из религии как таковой. Кто будет представлять этих людей? Почти невероятно, что даже между людьми, принадлежащими к данной культуре, будет достигнут консенсус, который бы дал нам нечто подобное принципам, предложенным Декларацией. Что мы в таком случае должны использовать в качестве стандарта— представления большинства носителей данной культуры или только «прогрессивной» ее части?
Существует и второй аспект проблемы выработки консенсуса по поводу общего этического минимума. Даже сведя разнообразие участников
8 Turgonyi Z. Universalism, Relativism and the Possibilities of a Global Ethic. Доклад на конференции «The Age of Global Dialogue» (Будапешт, 1997), организованной Институтом философии Венгерской академии наук. См.: www.phil-inst.hu/intczct/tz01_p htm.
303
диалога к либеральным прогрессистам ряда религиозных традиций мира, все равно мы можем предвидеть значительные разногласия между ними, и нет никакого очевидного способа примирить эти разногласия. Салли Кинг, обсуждая различия между документом, представленным Парламентом, и текстом Суидлера, обращает внимание на тот «скандальный факт, что существуют и в каком-то смысле конкурируют друг с другом две версии, особенно если учесть, что обе они предложены белыми преуспевающими мужчинами-католиками из доминирующих в мире культур (один — немец, другой — американец). Если эти двое ученых столь близкого происхождения не могут примирить свои взгляды и создать один текст, как можно ожидать, что люди другого религиозного, национального и этнического происхождения согласятся с тем или иным из этих двух предложений?»9.
Если, как настаивает Хик, мы разрешим возникновение множества текстов, разработанных представителями различных религий, существующих в мире, легко предположить, что они будут разительно отличаться друг от друга. Каким образом мы будем решать, какие элементы этих текстов использовать в качестве основания для консенсуса по поводу общего этического минимума? Предположим, мы обратимся к Писаниям, существующим в каждой религии, и попытаемся найти в каждом из этих текстов определенные общие этические положения, т.е. золотое правило. Что из этого следует? Даже среди либеральных прогрессистов в каждой данной религии существуют различные толкования применения определенных этических норм, и наверняка можно ожидать, что эти толкования будут достаточно широко различаться у представителей различных религий. Основная проблема тут заключается в том, что любое толкование этических норм, взятое из религиозных текстов, будет зависеть от этического суждения. Таким образом, мы опять возвращаемся к самому началу. Как мы придем к консенсусу в тех случаях, когда этические суждения различны? Поскольку у различных людей, исповедующих одну и ту же религию, существуют различные этические оценки применения определенных моральных норм, совершенно неочевидно, что удастся прийти к соглашению даже внутри одной религии, не говоря уже о соглашении между различными религиями.
Это подводит нас к третьему аспекту проблемы достижения консенсуса по поводу общего этического минимума. Сомнительно, что мы можем достичь истинного согласия между религиями мира, если рассмотрим их в целом. Например, в исламе и буддизме существует весьма различное понимание того, что является насилием. Конечно, возможно отыскать в исламе определенные тексты, касающиеся предпочтения ненасилия насилию, но если взять положение ислама о том, что джихад (священная война) является обязанностью мусульманина (признавая, что существуют различные толкования того, чтб это означает), трудно понять, насколько
9 KingS. A Global Ethic in the Light of Comparative Religious Ethics, c. 123.
304
это совместимо с основополагающей для буддизма приверженностью тому, что называется ахимса (непричинение зла), т.е. общему принципу ненасилия. Я еще вернусь к этой проблеме в следующей части доклада.
Наконец, недостаточно просто констатировать наличие консенсуса по поводу общего этического минимума, поскольку минимальная этика — это просто описание того, что уже существует10. В связи с тем, что такая этика уже имеется в каждой конкретной религии, чего можно добиться, повторив, что это общее есть у данных культур и религий? Они уже либо действуют на основе принципов, заложенных в консенсусе по поводу общего этического минимума, либо нет. Если они на данный момент не действуют на основе этих принципов, какая польза просто указывать на факт, что они у них есть? Например, с какой стати вероятность того, что мусульманин станет вести себя, основываясь на определенных принципах, будет выше, если он знает, что те же принципы существуют и у христиан? В лучшем случае это может помочь распространению некоторой терпимости среди религий мира. И хотя я предполагаю, что читатель считает терпимость чем-то положительным, ее одной недостаточно для решения проблем насилия и конфликта в целом.
Многие значительные конфликты не базируются на религии, и если в них и есть религиозный компонент, в конфликте обычно присутствуют и другие факторы, как, например, в конфликте между Израилем и палестинцами или в конфликте в Северной Ирландии. Кроме того, тот факт, что минимальная этика содействует толерантности, сам по себе не приближает к достижению других целей глобальной этики — например, устранению экономической несправедливости и преодолению экологических кризисов. Повторяя основное положение, сформулированное мною ранее, скажу, что даже если в религиях и культурах мира уже существуют ценности, имеющие отношение к этим проблемам, остается неясным, как знание того, что другие культуры или религии разделяют эти ценности, увеличит вероятность поступков людей в соответствии с этими ценностями.
Основные принципы:
«С каждым человеческим существом следует обращаться по-человечески» и золотое правило
Вероятно, справедливо, как утверждают оба, Кюнг и Суидлер, что в каждой религии и, возможно, в каждой этической традиции существует какая-то версия золотого правила, либо в отрицательной, либо в положительной форме. Другими словами, как я отмечал ранее, за основу общего принципа, сформулированного Парламентом религий мира, берется сле¬
10 Я заимствовал этот аргумент у Золтана Тургония. См.: Turgonyi Z. Universal ism, Relativism and the Possibilities of a Global Ethic.
305
дующее положение: «С каждым человеческим существом следует обращаться по-человечески». Оно же определяет и основные, и «промежуточные» принципы, предложенные Суидлером. Однако в использовании золотого правила как основы глобальной этики существуют два трудных момента. На первый из них указывал Джордж Бернард Шоу, который говорил: «Не делай другому того, что ты бы хотел, чтобы он сделал тебе. Его пристрастия могут отличаться от твоих». Это утверждение необходимо прояснить. У разных людей могут быть различные типы сексуальных желаний, поэтому признание права на существование тех из них, которые отвечают чьим-то пристрастиям, и запрещение иных, которые данный индивид отвергает, приводят к неуважению сексуальной свободы других личностей. В это правило можно внести поправку, дающую каждому человеку право следовать своей сексуальной природе. Но и ее следует скорректировать, поскольку чьи-то сексуальные пристрастия могут включать изнасилование, половые отношения с детьми и другие действия, которые, как мы считаем, являются ущемлением прав другого человека. Следовательно, предписание может стать следующим: «У каждого человека есть право следовать его сексуальным желаниям настолько, насколько это не причиняет вреда другим». Это, однако, весьма либеральная формулировка, поскольку многие культуры будут настаивать на том, что формы сексуальных отношений, нравящиеся одним людям и не причиняющие вреда другим, тем не менее противоречат Божьим заповедям и являются, по своей сути, нездоровыми или приносят вред сообществу в целом. По другой проблеме, обычно признаваемой общей проблемой принципа свободы и заключающейся в вопросе о том, что же является вредоносным, очевидного согласия нет даже среди интеллектуалов на Западе. С какой стати, например, исключать при подсчете морального ущерба не непосредственный вред?
Еще одна проблема возникает, когда мы вносим следующую поправку в положение, высказанное Шоу: «Не делай другому того, что ты бы хотел, чтобы он сделал тебе. Его роль и обязательства могут быть отличны от твоих». Так, в некоторых африканских странах существует обычай подвергать всех женщин, достигших определенного возраста, обрезанию (которое имеет совсем другие последствия для женщин, чем для мужчин, поскольку заключается в удалении клитора). Западные феминисты и, возможно, большинство людей, живущих в западных странах, сочли бы это нарушением фундаментальных прав человека, но подобная практика часто находит защитников в лице женщин из этих культур. Ислам предписывает женщинам ношение чадры, и то, что женщины в некоторых исламских странах носят чадру, западные феминисты воспринимают как свидетельство их крайнего угнетения. Я хочу этим сказать, что то, что в западных культурах часто представляется фундаментальным нарушением как положения о том, что с каждым следует обращаться по-человечески, так и золотого правила, вовсе не является противоречием для большого числа людей в культурах, где практикуются подобные обычаи. Для этих культур не
306
существует противоречия между золотым правилом и обрезанием женщин или обязательным ношением чадры и всем, что из этого вытекает, поскольку эти требования относятся ко всем женщинам, и, кроме того, предполагается, что женщины по самой своей сути имеют отличные от мужчин социальные обязательства.
При более глубоком рассмотрении вопроса возникает и вторая проблема. «Не делай другому...» Но какому другому? Конкистадоры, подобные Колумбу, Бальбоа, Кортесу, и священнослужители, которые полагали, что рабство морально оправданно, не считали, что их действия противоречат золотому правилу11. Они просто думали, что коренные жители обеих Америк и рабы из Африки не являются в полном смысле слова человеческими существами и посему не заслуживают того же уважения, как те, кто ими является. Или же они, вместе с Аристотелем, считали, что одни человеческие существа интеллектуально и морально оснащены хуже, чем другие, и следовательно, предназначены быть слугами и рабами тех, кто их в этом превосходит. И хотя большинство мирового населения на данный момент считает, что рабство аморально, расистские и колониальные/империалистические установки все еще сохраняются у большого числа людей в различных культурах, часто в неприкрытой и агрессивной форме. И даже там, где существует недвусмысленный отказ от расизма и колониализма, эти установки сохраняются в более скрытой форме. Страданиям людей из других наций и других культур и религий уделяется меньше внимания, чем страданиям тех, кто принадлежит к нашей собственной нации или нашей собственной религии и культуре. Часто это оправдывается предположением, что те, кто принадлежит к другим культурам, имеют какую-то особенную черту или черты характера, и это отличие оправдывает наше нежелание проявить о них равную заботу, поскольку, они, например, «не признают ценности человеческой жизни в той же степени, что и мы». Эти предположения нередко являются частью определенных религиозных верований. Например, многие христиане верят, что те, кто не являются христианами, не могут быть спасены. К тому же большинство жителей западных стран исключает из золотого правила животных. Даже те, кто озабочен «благополучием» животных, зачастую предполагают, что оправданно причинять страдание весьма разумным животным, если оно приводит
11 В 1610 г. католический священник спрашивает у своих коллег в Европе, не противоречит ли рабство католическому учению. Он получил следующий ответ от брата Луиша Брэндона: «Ваше Преподобие пишет мне о Вашем желании знать, являются ли посылаемые в Ваши края негры плененными на законных основаниях. На это я отвечаю, что Вашему Преподобию не следует испытывать никаких угрызений совести по сему поводу, ибо дело это было рассмотрено в Лиссабоне Советом Совести, все члены коего — ученые и совестливые мужи. И епископы, которые были на островах Сан-Томе и Зеленого Мыса, а также здесь в Ландо — а они все ученые и добродетельные мужи, — не находят в этом ничего предосудительного... Посему и мы, и братья в Бразилии покупаем этих рабов для наших нужд безо всяких угрызений совести» (Zinn Н. A People’s History of the United States: 1492 — Present. N. Y., 1995, с. 29).
307
к достижению какой-то человеческой цели. В действительности «Универсальная декларация» Суидлера хотя и настаивает на том, чтобы с животными обращались уважительно, тем не менее утверждает, что «люди по своей сути представляют большую ценность, чем те, кто людьми не является», — утверждение, которое безусловно может быть оспорено многими последователями буддизма или индуизма. Короче говоря, «делай другому» или «не делай другому» не говорит нам, какой другой должен или не должен быть включен в это правило.
Этический релятивизм, этический абсолютизм и моральный универсализм
Основное положение этического релятивизма заключается в том, что существуют по сути несоизмеримые между собой системы этического дискурса. Чтобы сделать этический релятивизм более понятным, Гилберт Хармон предложил интересную аналогию12. По теории относительности Эйнштейна, всякое движение относительно какой-то пространственно- временной системе, и тогда, следовательно, что-то, что движется относительно одной пространственно-временной системы, может находиться в покое относительно другой. Подобным образом, считает Хармон, моральные нормы соотносятся с глубинными моральными системами. Следовательно, то, что может быть правильно в одной моральной системе, может быть неправильно в другой. Например, те, кто находятся по разные стороны баррикад по таким этическим вопросам, как вегетарианство, аборты и эвтаназия, могут вполне соглашаться друг с другом во всех фактах. Но при этом они опираются на весьма различные представления о ценности жизни животных или о священности человеческой жизни как таковой, что указывает на существенную разницу в глубинной системе ценностей. Кроме того, даже когда кажется, что соглашение по поводу определенных ценностей существует, может быть значительное моральное несогласие.
Хармон предлагает в качестве примера общего консенсуса положение о том, что убийство — неправильно. Но это нам ничего не дает, поскольку убийство определяется как «неправильное лишение жизни». Утверждение о том, что убийство— неправильно, может прекрасно сосуществовать в ряде сообществ с идеями, что хозяин может убивать рабов, муж — обращаться с женой так, как он хочет, а убийство младенцев морально приемлемо. В связи с этим сторонники этического абсолютизма могут возразить, что причина такого разнообразия моралей заключается в том, что некоторые люди занимают лучшее положение, чем другие, и вследствие
12 Harmon G., Thomson J J. Moral Relativism and Moral Objectivity. Oxf., 1996. Эта книга — дискуссия между двумя философами; первая часть ее — «Моральный релятивизм» — написана Гилбертом Хармоном, а вторая — Джудит Джарвис Томсон.
308
этого некоторые этические суждения правильны, тогда как другие — неправильны. На это этический релятивизм отвечает, что, точно так же как в теории относительности Эйнштейна не существует какой-то привилегированной пространственно-временной системы, в многообразии этических систем нет такой, которую можно считать выше других. Из этого следует, что не существует лучшего определения моральной истины, — моральное суждение всегда соотносится с какой-то этической системой, и невозможно поставить одну этическую систему в более привилегированное положение, чем другую.
Теперь я хотел бы рассмотреть эту проблему в связи с попытками сформулировать положения глобальной этики. Обычно утверждается, что глобальная этика требует этического абсолютизма. Декларация, предложенная чикагским Парламентом религий мира, утверждает: «Мы заявляем, что существует что-то неизменное, безусловное для всех областей жизни». Таким образом, идея глобальной этики, которая предполагает, что возможен значительный консенсус по поводу общего минимума моральных норм, должна также предполагать, что внутри различных этических систем существуют определенные абсолютные этические нормы. Но проблема заключается в том, что даже если бы это было и так, смысл подобного консенсуса будет различен в различных религиозных системах. Учтите при этом, как в разных религиозных системах функционирует одна и та же этическая норма. По крайней мере в некоторых направлениях ислама идея, что мужчины и женщины равны перед Богом, не является, как я уже упоминал выше, несопоставимой с идеей, что мужчины и женщины нуждаются в том, чтобы находиться в разных средах и что у женщин есть определенные обязательства, которых нет у мужчин. Буддизм, ислам и христианство могут в общем и целом согласиться между собой, что насилие как таковое — плохо. Но их понимание того, какое насилие является этически приемлемым, не будет одинаковым, так как не одинаковы их этические системы. Другими словами, несмотря на то что на первый взгляд люди различных религиозных и культурных традиций приходят к консенсусу по поводу определенных этических требований, их понимание этих требований может быть совершенно различным, поскольку значение этих этических требований укоренено в более широкой этической и/или религиозной системе.
Существует ли способ разрешить эту проблему? Как я сказал выше, обычно считается, что глобальная этика требует этического абсолютизма, т.е. существует предположение, что нормы консенсуса по поводу этического общего минимума имеют безусловную значимость. Данное положение кажется неоспоримым в том случае, если мы вырабатываем эти нормы, опираясь на их религиозное основание. Однако существуют и другие пути получения универсальных норм. Мы можем, например, попытаться выработать определенные универсальные нормы, опираясь на человеческую природу, а именно на те потребности, которые являются общими
309
у всех человеческих существ. Эта точка зрения, иногда называемая «этическим натурализмом», имеет долгую философскую историю, начиная с Аристотеля и кончая такими мыслителями, как Спиноза, Маркс, Джон Дьюи и Эрих Фромм. С этой точки зрения моральные ценности являются инструментами, дающими нам возможность удовлетворить наши общие потребности, и если последние могут быть установлены объективно, то же может относиться и к первым. Одна из проблем данного подхода, однако, заключается в том, что хотя у нас есть определенные основные «потребности для выживания», такие, как пища, секс, социальная поддержка и одобрение, даже эти потребности проявляются в определенном социальном и историческом контексте и организованы им. Другими словами, потребности «скроены по социальному образцу»13. Это положение имеет весьма широкое влияние на наше представление о человеческой природе и этическом натурализме. Если наши потребности скроены по социальному образцу, не существует глубинной внеисторической человеческой природы, к которой мы можем апеллировать. Человеческая природа насквозь социальна и исторична. Из этого следует, что попытка выработать моральные ценности на основании человеческих потребностей должна быть исторически и социально обусловлена.
Однако, быть может, даже если наши потребности и развивались исторически, создание глобальной этики все равно возможно. Что, если это тот случай, когда существуют определенные нормы, являющиеся значимыми для нашей конкретной исторической эпохи? Например, можно допустить, что свобода слова является универсально значимой этической нормой в эпоху глобальных коммуникаций, так же очевидно, что она не имела подобной значимости в более ранние исторические периоды. Независимо от того, справедливо ли это конкретное допущение, ясно одно: хотя человеческие потребности меняются с ходом истории и, следовательно, значимость определенных моральных норм также будет меняться, возможность объективного определения ряда универсальных норм в конкретную историческую эпоху все равно существует. Универсальные нормы в этом случае не обязательно являются нормами абсолютными. Таким образом, глобальной этике нет нужды опираться на этический абсолютизм. Другими словами, в данный исторический момент возможно вывести положения глобальной этики, опираясь на историческое развитие наших общих человеческих потребностей.
Однако это еще не все, поскольку глобальная этика должна в таком случае предполагать возможность по крайней мере морального универсализма, если не этического абсолютизма. Способен ли моральный универсализм, основанный на предположении о существовании универсальных человеческих потребностей, которые развились исторически, выдержать
13 Я заимствовал это выражение и большую часть анализа из работы: Fisk М. Ethics and Society: A Marxist Interpretation of Value. N. Y., 1980.
310
критику с позиций этического релятивизма? Тут возникают три трудных момента.
Во-первых, поскольку моральный универсализм допускает существование исторического релятивизма, неясно, как он может решить проблему моральных требований, связанных с более широкой этической системой. Различные культуры и религии в рамках одной и той же исторической эпохи обладают различными этическими системами. Значение тех или иных потребностей может быть различно в зависимости от глубинной этической системы данной культуры. Кроме того, этические системы могут различаться по отношению к вопросу об универсальности. Существуют культуры или по крайней мере элементы внутри культур, которые сторонятся самой идеи универсализма или, при другой крайности, настаивают, что только моральные нормы, вытекающие из религиозного откровения, как они его понимают, обладают универсальной значимостью.
Во-вторых, внутри данной культуры или в мире в целом могут существовать группы, чьи потребности по самой сути антагонистичны. Не нужно быть марксистом, чтобы признать, что потребности корпораций и тех, кто на них работает, в целом противоположны друг другу. Сходным образом потребности международных экономических организаций, таких, как Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация, могут быть антагонистичны потребностям многих людей, которые живут в менее развитой части мира.
В-третьих, даже если существуют определенные, не нуждающиеся в обсуждении всеобщие человеческие потребности, мы можем вывести из них определенные универсальные нормы, только если сделаем дополнительное предположение, что наше моральное сообщество шире, чем наша конкретная национальная или религиозная культура. Иначе говоря, мы не можем выработать универсальные нормы, если нас не волнуют потребности тех, кто находится за пределами нашей собственной культуры.
Последнее соображение может быть проиллюстрировано на примере доклада, представленного Ричардом Рорти на Втором философском форуме ЮНЕСКО в 1996 г.14. Р.Рорти утверждал: универсализм предполагает, что все человеческие существа должны быть частью всеобщего морального сообщества. Согласно этой установке формирование такого сообщества должно опираться на возможность широкого перераспределения богатств, потому что если «вы не можете оказать помощь нуждающимся людям, заявление, что они являются частью вашего морального сообщества, ничего в себе не содержит». Другими словами, не имеет смысла говорить о глобальном сообществе до той поры, пока мы действительно не сможем прийти на помощь тем членам этого сообщества, которые нуждаются. Но что, если мы не сумеем этого сделать? Что, если те, кто живет в развитых индустриальных странах, не смогут перераспределить богатства
14 См.: www.unesco.org/phiweb/uk/2фu/roгt/гoгt.html.
311
«теми способами, которые создадут светлые перспективы для детей из слаборазвитых стран, без того чтобы уничтожить эти перспективы для их собственных детей в нашем собственном обществе»?
Если это так (а Рорти считает это весьма вероятным), тогда «богатые части мира могут оказаться в позиции того, кто предлагает разделить свою единственную буханку хлеба на сотню голодающих людей». Рорти предполагает, что данная проблема может быть аналогична проблеме «сортировки» при оказании неотложной медицинской помощи. Точно так же как врачи и медицинские сестры могут оказаться в ситуации, когда им придется решать, кому из жертв может быть оказана помощь, а кому нет, так и те, кто живет в развитых индустриальных странах, могут оказаться в ситуации, когда им придется признать, что они не в состоянии более оказывать значительную помощь доведенным до нищеты людям в слаборазвитых частях мира, поскольку должны поддерживать приемлемый уровень жизни для себя и своих детей. Если дело обстоит именно так, тогда эти люди не могут считаться частью нашего морального сообщества, точно так же как те, кого доктора решили не спасать, не могут больше считаться членами их морального сообщества. И если они не являются членами нашего морального сообщества, универсальной этики не может быть. Перефразируя это заключение в терминах этического натурализма, скажем, что если мы не готовы думать о нуждах других людей, живущих на Земле, мы не можем строить универсальную этику на основе универсальных потребностей. Вопрос глобальной этики тогда становится вопросом политической экономики, ресурсов и практической заботы о других людях.
Сострадание и политическая экономика глобальной этики
Я считаю, что одно из предположений Р.Рорти правильно: если мы не можем заботиться о людях во всем мире, нет никакого смысла говорить, что они являются частью нашего глобального сообщества. До какой степени тогда наша способность реально заботиться о тех, кто вне нашей собственной страны или культуры, опирается на нашу глобальную политическую экономику и существующие ресурсы? Я задаю этот вопрос в такой форме, потому что предполагаю, что существуют три переменных — политическая экономика, ресурсы и практическая забота о других. Поскольку они независимы друг от друга, их взаимоотношения сложнее, чем это рисует Рорти.
Проблема ресурсов частично связана с тем, что может обеспечить наша планета. Вполне вероятно, что наша планета не может обеспечить уровень жизни, характерный, скажем, для американской крупной буржуазии, во всем мире в целом. Было высказано мнение, что потребуется пять земных шаров для того, чтобы все население мира могло потреблять энергию
312
на душу населения на том уровне, на каком она потребляется в Лос- Анджелесе в Калифорнии15. Независимо от того, правильна эта оценка или нет, безусловно верно то, что благосостояние, как оно понимается в Америке, выходит за пределы возможностей ресурсов нашей планеты. Поль Уахтел, американский психотерапевт и специалист по экологическим проблемам, высказал эту мысль следующим образом: «Представить миллиард китайцев, использующих ресурсы и загрязняющих воздух и воду на том же уровне, на каком это делаем мы, и добавить к ним 700 миллионов индийцев, 400 миллионов латиноамериканцев, 500 миллионов африканцев и бесчисленное количество других людей— значит признать, что наше понимание того, что составляет хорошую жизнь, неизбежно оборачивается реальностью жизни в бедности для большей части мира. Только путем изменения наших способов использования ресурсов и ограничения наших потребностей возможно хотя бы возникновение шанса на процветание для миллиардов людей, живущих на Земле»16.
На первый взгляд это утверждение подкрепляет позицию Рорти. Однако исследование Уахтела направлено на другое. Главное в его рассуждениях — то, каким образом было создано американское благосостояние, — произошло это, как он считает, за счет психологического обнищания. Технологический прогресс не сделал американцев счастливее. Они совершили Фаустову сделку. Озабоченность американцев экономическим ростом, утверждает Уахтел, привела к тому, что количество товаров заменило собой качество жизни. К примеру, автомобиль, символ американской свободы, стал причиной того, что люди, добираясь до работы, проводят долгие часы в пробках на переполненных шоссе и дышат воздухом, который в буквальном смысле убивает их самих и их детей, не говоря уже о том, что число жертв автомобильных катастроф ежегодно многократно превышает людские потери во многих войнах. Более того, отмечает Уахтел, образ жизни американского среднего класса таков, что люди ведут себя как машины, которые должны работать дольше, чтобы получить то, что призывает их иметь реклама, а это приводит к различным заболеваниям, связанным со стрессом. Это порочный круг (который Уахтел сравнивает с циклом невроза), когда гипертрофированный индивидуализм и одержимость материальными благами разъедают связи внутри сообщества и создают потребность в еще большем количестве товаров для заполнения этого вакуума. Результатом является идеология экономического роста и потребления, приводящая к дальнейшему подрыву связей внутри сообщества, что вызывает отсутствие чувства безопасности и, в свою очередь, стимулирует дальнейший экономический рост и потребление.
В этом докладе я не могу в полной мере отдать должное замечательному анализу психологического состояния американца, сделанному Уах-
15 Lummis C.D. Radical Democracy. Ithaca, 1996, с. 69.
16 Wachtel P.L. The Poverty of Affluence. Philadelphia, 1989, c. 28.
313
телом. Я хочу лишь воспользоваться его данными для того, чтобы показать, что стремление жителей развитых индустриальных стран поддерживать свой сегодняшний образ жизни за счет многих других, живущих в мире, может в действительности приводить к психологическому и физическому ущербу для них самих и их детей.
Существует и другая психологическая проблема, которая в большой степени разработана в буддизме и только начинает обсуждаться в современной западной психологической литературе. Отказ от способности к состраданию, способности заботиться о других означает уменьшение нашей собственной способности чувствовать и радоваться. Даже когда «сортировка» в медицинской ситуации совершенно необходима, она может привести к существенным потерям в эмоциональной жизни медицинского персонала, вынужденного в ней участвовать. И когда те из нас, кто происходят из развитого индустриального мира, закрывают свои сердца страданию других — бедных и бездомных в нашей собственной стране или миллиардов людей во всем мире, лишенных возможности прокормить свои семьи либо получить даже минимальную медицинскую помощь, — они обедняют свою собственную эмоциональную жизнь. Другими словами, существует точка, где сходятся свой собственный интерес и альтруизм, и эта точка — сострадание.
Перед человечеством не стоит проблема, подобная ситуации, когда одну буханку хлеба необходимо разделить на сто голодающих. У нас, безусловно, есть достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить пищу, кров, одежду и соответствующий медицинский уход каждому человеку на планете. Сама по себе проблема ресурсов планеты — совсем не то, что обрекает столь значительную часть населения мира на бедность и жизнь в нечеловеческих условиях. Они обречены на физически и морально калечащую нищету из-за того, как эти ресурсы используются, из-за выбора видов энергии и распределения богатств. Значит, проблема не в недостатке ресурсов, но в глобальной политической экономике. Перефразируя сказанное выше в терминах аналогии, предложенной Рорти, мы можем вырастить достаточно зерна, чтобы хлебом из него накормить все человечество. Проблема состоит в том, что мы расходуем слишком много продуктивной энергии и ресурсов на производство роскошных пирожных, которые потребляются лишь небольшой частью населения планеты, к тому же эти пирожные содержат слишком много сахара и жира, что вредит здоровью тех, кто их потребляет.
Сказанное приводит нас к обсуждению следующей переменной — политической экономики. Мы живем в эпоху, часто описываемую как век глобализации. На первый, поверхностный взгляд это означает, что мы живем в мире, который все более сильно интегрирован на экономическом, технологическом и политическом уровнях. Теперь уже кажется совершенно привычным то, что лишь два десятилетия тому назад было даже трудно себе представить, — Интернет. Мы живем в мире, где высокоинтегриро¬
314
ванная глобальная система коммуникаций практически за одну секунду способна связать любые уголки планеты. Родители моей жены, живущие в Москве, узнали об атаке на Центр всемирной торговли раньше нее, хотя она в это время находилась в офисе на Манхэттене, меньше чем в двух милях от места события.
Однако на более глубинном уровне глобализация— это соединение двух процессов. Как говорит об этом Питер Маркузе, то, что может быть названо «реально существующей глобализацией», сочетает в себе «технологическое развитие и усиление концентрации власти», особенно власти экономической17. Глобализация в таком случае является в первую очередь глобализацией корпоративного капитализма. Это, так сказать, глобализация сверху. То, что в этом случае называется глобализацией, является определенной структуризацией мира, внутри которой глобальные корпорации и другие транснациональные экономические организации, такие, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, управляют производством продукции в пределах всего мира, определяют формы технологий и энергии, контролируют разделение труда и распределение товаров. Эти же самые транснациональные организации обладают почти полной монополией на глобальные средства коммуникаций, а также лишают многие национальные государства возможности заботиться о нуждах и интересах их граждан и, следовательно, подрывают какие бы то ни было демократические формы правления, какие эти нации могли бы иметь18. Кроме того, их действия приводят к усилению экологической деградации, поскольку более бедные страны вынуждены ограничивать или вовсе не предпринимать попыток защиты окружающий среды для того, чтобы получить деньги от финансовых организаций типа Международного валютного фонда. Неудивительно, что эти транснациональные Экономические организации ставят на первое место не благосостояние людей во всем мире, но максимальный доход для корпораций.
В результате экономические проблемы, за разрешение которых ратуют сторонники глобальной этики, усугубляются, а пропасть между богатством и бедностью все увеличивается как на международном уровне, так и внутри отдельных стран. Например, согласно отчету ООН, выпущенному в 1999 г., в 80 странах доход на душу населения был ниже, чем десять лет тому назад. Около 1200 млн. человек жили ниже черты абсолютной
17Marcuse P. The Language of Globalization. — Monthly Review. Vol. 52, No. 3 (July/August 2000), c. 24.
18 Влияние глобализации на национальные государства может быть описано следующим образом: «Мобильность капитала подрывает способность национальных правительств обеспечить политику полной занятости или регуляции деятельности корпораций. Международные организации и соглашения все более ограничивают экологическую и социальную защиту. Неолиберальная идеология изменила представления о том, чем правительство должно заниматься и что оно способно осуществить» {Brecher J., Costello Г., Smith В. Globalization from Below: The Power of Solidarity. Cambridge, Mass., 2000, c. 3).
315
бедности. Около 2 млрд. человек зарабатывали меньше двух долларов в день. Почти миллиард составляли безработные. «Суммарное состояние 447 миллиардеров выше, чем доход беднейшей половины человечества... Три самых богатых человека в мире владеют ббльшим состоянием, чем суммарный валовой национальный доход 48 наименее развитых стран»19. Хотя существует немалая потенциальная выгода от технологической, экономической и политической интеграции в мире, вряд ли приходится ожидать, что «реально существующая глобализация» смягчит те экономические, экологические и социальные проблемы, на решение которых хотела бы направить свои силы глобальная этика.
Часто говорят, что не существует альтернативы глобализации, и в одном из значений этого термина это, может быть, и так, поскольку, если только человечество не уничтожит само себя, мы можем ожидать усиления интеграции экономической и технологической структуры, а также роста мировой коммуникационной системы. Необходимо, однако, помнить, что глобализация на более глубоком уровне — это не только интеграция экономической и технологической структуры, но и контроль за ней, осуществляемый корпоративным и финансовым капиталом. Следовательно, видимо, можно разорвать связь между существующей структурой экономики и технологическим развитием. Другими словами, возможно, по всей вероятности, представить себе такую форму глобализации, которая не будет глобализацией, насаждаемой сверху. В действительности глобализации сверху уже был брошен вызов растущим международным движением, которое иногда ошибочно называют «антиглобалистским», но которое, как мне кажется, было бы уместнее называть «глобализацией снизу». Цель этого движения — не разрушить глобальную интеграцию технологического развития и коммуникационных систем, но создать совершенно иную глобальную культуру, которая не будет управляться международной корпоративной элитой, культуру, где глобальные организации, играющие ведущую экономическую и политическую роль, были бы демократически подотчетны.
На данный момент это движение весьма неоднородно. Его представляют те, кто обеспокоен экологической ситуацией или ратует за права потребителей; коренное население, протестующее против эксплуатации принадлежащих ему земель; безземельные крестьяне из слаборазвитых стран; рядовые рабочие, выступающие с требованиями учета своих прав при разработке международных торговых соглашений (например, НАФТА — Североамериканское соглашение о свободной торговле), а также в деятельности международных организаций (в частности, Всемирной торговой организации); представители стран третьего мира, противостоящие политике структурного регулирования, проводимой Международным валютным фондом и Мировым банком; протестующие против потогонной сис¬
19 Там же, с. 7. Большая часть упомянутой статистики взята из данного издания.
316
темы на предприятиях, защитники малого фермерства, противостоящие торговым соглашениям, поощряющим крупный сельскохозяйственный бизнес; защитники прав человека и другие неправительственные организации. Это движение разнородно не только с точки зрения конкретных проблем, на решение которых направлены его усилия, оно весьма разнообразно и идеологически. Его представители чаще причисляют себя к анархистам, чем к марксистам. Среди них есть радикальные феминисты и разнообразные либералы. На Всемирном социальном форуме в Порту-Алегри в Бразилии в феврале 2002 г., на котором собрались 70 ООО участников из 150 стран, возникло резкое разделение между реформаторами, чьей главной целью являлись лоббирование и переговоры с международными финансовыми и торговыми организациями, и теми, кто был заинтересован в создании новых организаций, основанных на власти народа20.
Хотя это и весьма разнородное движение, тем не менее внутри него возникает некоторое согласие. Как бы ни различались его группы идеологически и по своим специфическим социальным задачам, они «объединены оппозиционным отношением к транснациональным корпорациям и политике неолиберальных правительств, обеспечивающих корпорациям возможность процветания»21. Да, это действительно разнородное движение, но оно выступило как единая сила в Сиэтле (где было свыше 50 тыс. участников протеста), в Генуе, в Праге, в Вашингтоне, в Нью-Йорке и, как уже упоминалось, в Порту-Алегри в Бразилии. Оно объединило свои усилия для решения весьма конкретных проблем, например международного давления на фармацевтические компании, которые получают прибыли благодаря высоким ценам на лекарства против СПИДа в Африке, или протеста против действий администрации Клинтона и правительства Соединенных Штатов, когда оно попыталось применить санкции по отношению к Южной Африке за то, что та проигнорировала патентные законы, связанные с этими лекарствами22. И — что особенно важно применительно к возможности создания глобальной этики— среди столь разнородных групп уже возникает тенденция к слиянию на основе общих ценностей и норм, вырабатываемых при совместной работе.
Одна из крупнейших коалиционных групп, представляющих это движение, называется «Иной мир возможен». Еще слишком рано говорить
20 Всемирный социальный форум был создан как альтернатива Всемирному экономическому форуму, который в то же самое время проходил в Нью-Йорке. Подробную информацию об этом историческом форуме см : Petras J. Porto Alegre 2002 — Monthly Review Vol. 53, No. 11 (April 2002), c. 56-61
21 Epstein В. Anarchism and Anti-Globalization. — Monthly Review. Vol. 53, No. 4 (September 2002), с 10 Статья Барбары Эпштейн— превосходный обзор идеологических и особенно анархистских тенденций в этом движении.
22 См.: Brecher J., Costello Т., Smith В. Globalization from Below, c. 26-29. Авторы обсуждают эту и ряд других ситуаций, в которых то, что они назвали «лилипутской стратегией» (в честь лилипутов у Джонатана Свифта), весьма успешно проявило себя на международном уровне, противодействуя корпоративной власти и правительствам, ей способствующим.
317
с уверенностью, однако эта группа может оказаться зародышем нового типа революционного движения, борющегося не за социализм в одной отдельно взятой стране, не за победу какого-то одного класса, но за новый мировой порядок, революционного движения, мотивированного состраданием и новым вйдением того, к£к наш мир может быть организован посредством усилий снизу. Эта борьба вдохновляется мечтой о мировом сообществе, заботящемся об экологическом состоянии планеты, не ставящем корпоративную жажду накопления выше человеческой жизни и стремящемся к глобальной демократии, реально ответственной перед гражданами мира.
Заключение: глобальная этика и глобальная борьба
Настало время прояснить мою собственную позицию по поводу возможности создания глобальной этики. По причинам, уже указанным выше, я не считаю, что между различными культурами возможно достижение консенсуса, который мог бы иметь сколько-нибудь заметное влияние на мир. Вряд ли также возможно просто за счет диалога представителей различных религий мира, диалога философских или социальных научных «мозговых центров» либо диалога в рамках конференций Организации Объединенных Наций выработать содержательную глобальную этику, действительно способную справиться с теми международными проблемами, с какими мы сталкиваемся. Я не хочу таким образом принизить значение этих попыток, поскольку они могут быть полезны в политическом и международном аспектах, точно так же как полезна в этих аспектах Декларация прав человека ООН. Тем не менее по уже упомянутым причинам я не считаю, что мы можем достичь глобальной этики только посредством диалога.
Возможность возникновения глобальной этики зависит от нового мирового порядка, такого порядка, при котором действительно будет существовать общность потребностей среди граждан мира, порядка, при котором возникнет аутентичная глобальная культура, способная породить глобальную этическую систему. Только в такой системе может быть создан консенсус по поводу общего этического минимума. Только это может обеспечить решение проблем, которые ставит этический релятивизм и на которые указывает атака Рорти на универсализм. Возможно существование разнообразия этических систем при наличии объединяющей их общей культуры, откуда может быть извлечена обладающая сколько-нибудь заметным влиянием этическая основа. При истинно глобальной культуре проблема антагонистических потребностей различных групп или различных народов будет если не полностью решена, то по крайней мере сведена к минимуму. При истинно глобальной культуре возможно появление универсальной этики, основанной на положении, что все человечество явля¬
318
ется сплоченным глобальным сообществом. Наше сообщество будет равняться всему миру. И если такая глобальная культура будет ориентирована на экологические ценности и основана на глубоком сострадании, мне кажется, наше сообщество сможет включить в себя не только человечество. Сострадание, основанное на экологических ценностях, позволит включить в наше глобальное сообщество все живое.
Можно сказать, что все это хорошо и прекрасно, но в настоящее время такого сообщества нет и, возможно, никогда не будет. Итак, давайте посмотрим, что же, как мне кажется, происходит сегодня. На данный момент истории глобальная этика возможна лишь в качестве эвристического подхода, но это эвристический подход, который уже приобретает очертания в мечтах и устремлениях тех, кто вовлечен в борьбу за глобализацию снизу. Другими словами, появление глобальной этики зависит от желания людей бороться за иной мировой порядок. Люди должны верить, что иной мировой порядок возможен, и только если возможен иной мир, может возникнуть истинная глобальная этика. Однако вера в новый мир и борьба за то, чтобы сделать его реальностью, позволят мечтам и устремлениям разных людей сблизиться настолько, что станет возможным возникновение новых этических представлений, тех представлений, которые я бы хотел назвать глобальной этикой в процессе ее создания. И если борьба продолжится, к ней смогут присоединиться те, кто работают в Парламенте религий мира, те, кто являются важными элементами философского и научного сообщества, те, кто участвуют в организованных в рамках ООН конференциях. В такой форме диалог может играть важную роль в создании глобальной этики. В этом смысле участники диалога смогут стать частью процесса создания глобальной этики в той мере, в какой они присоединятся к борьбе за новый мировой порядок.
Перевод с английского О.Б.Бухиной
Научное издание
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Моральная философия в контексте многообразия культур
Утверждено к печати Институтом философии РАН
Редактор О В Мажидова Художник Э Л Эрман Технический редактор О В Волкова Корректор Е В Карюкина Компьютерная верстка И А Важенкова
Подписано к печати 11 10 04 Формат 60x90Vi6 Печать офсетная Уел п л 20,0 Уел кр.-отт 20,5 Уч-изд л 24,1 Тираж 500 экз Изд. №8120 Зак № 10922
Издательская фирма «Восточная литература» РАН 127051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6