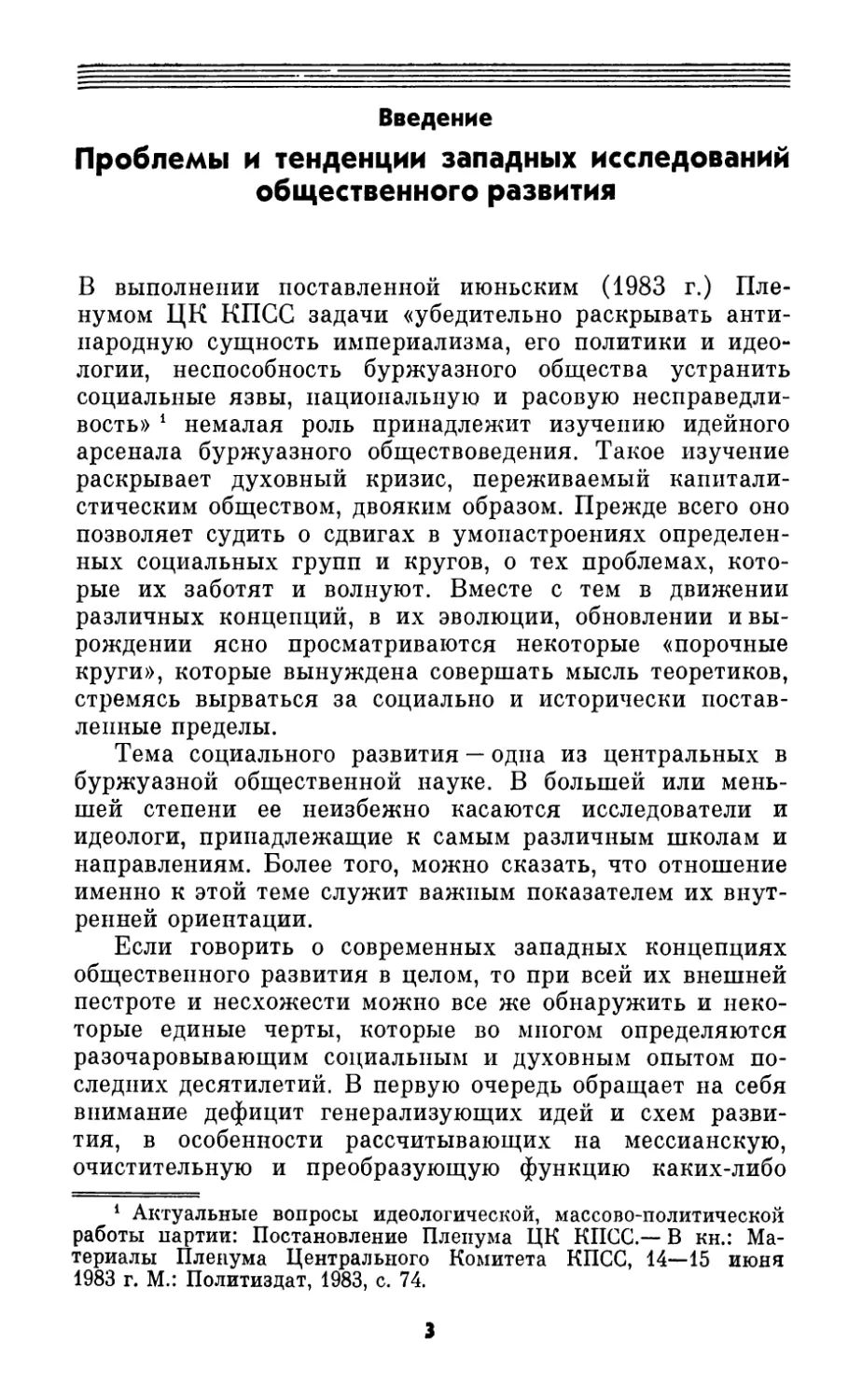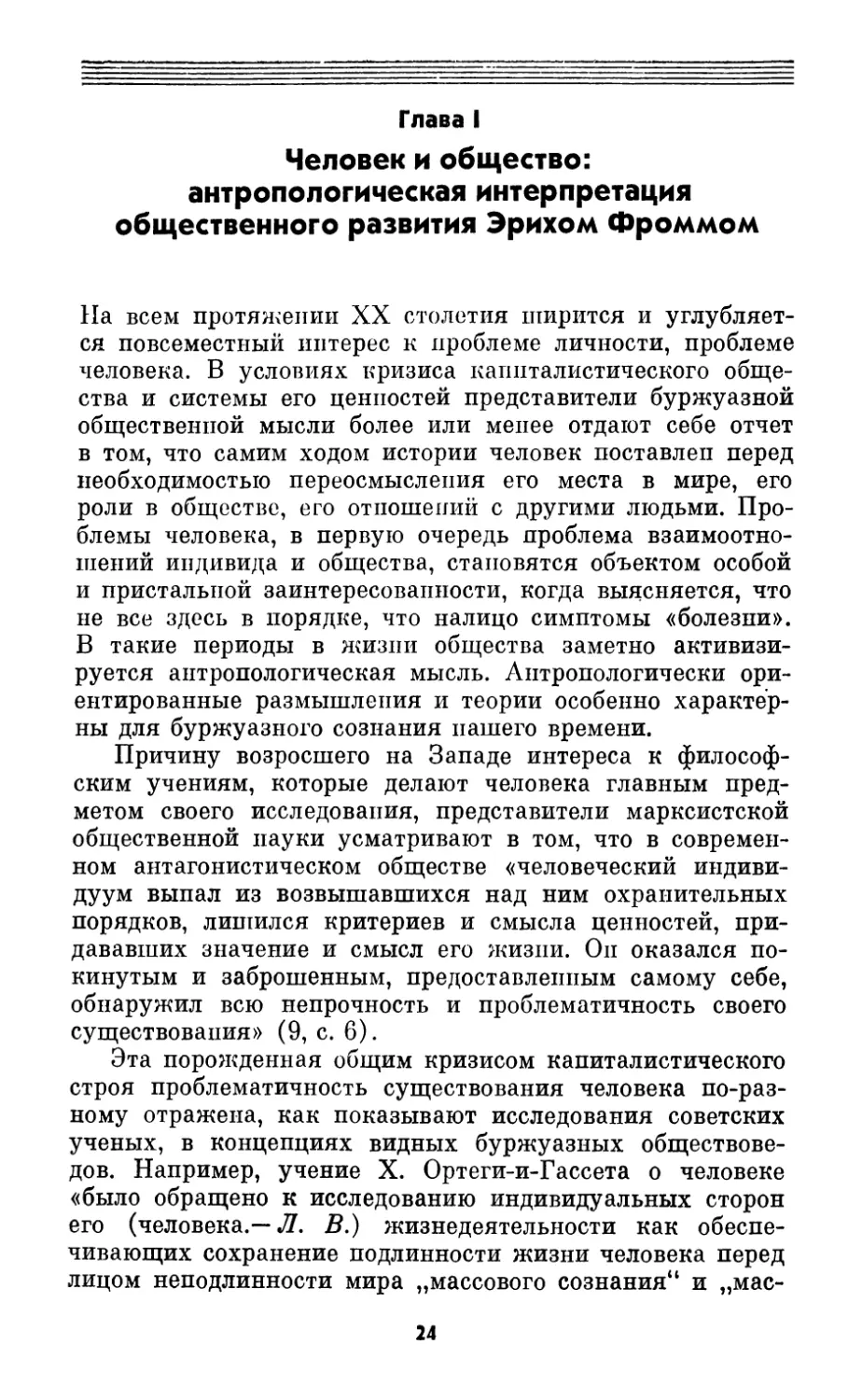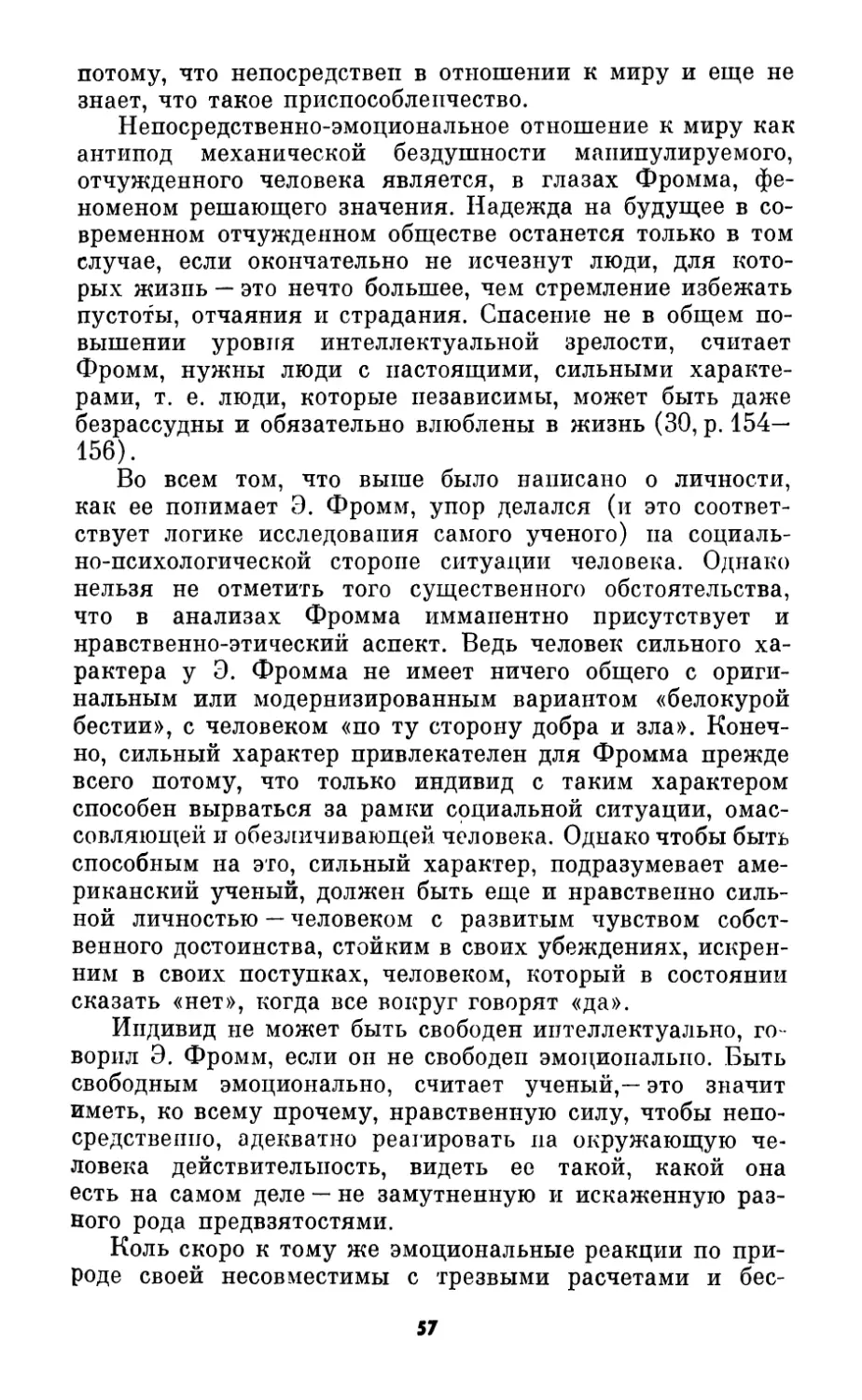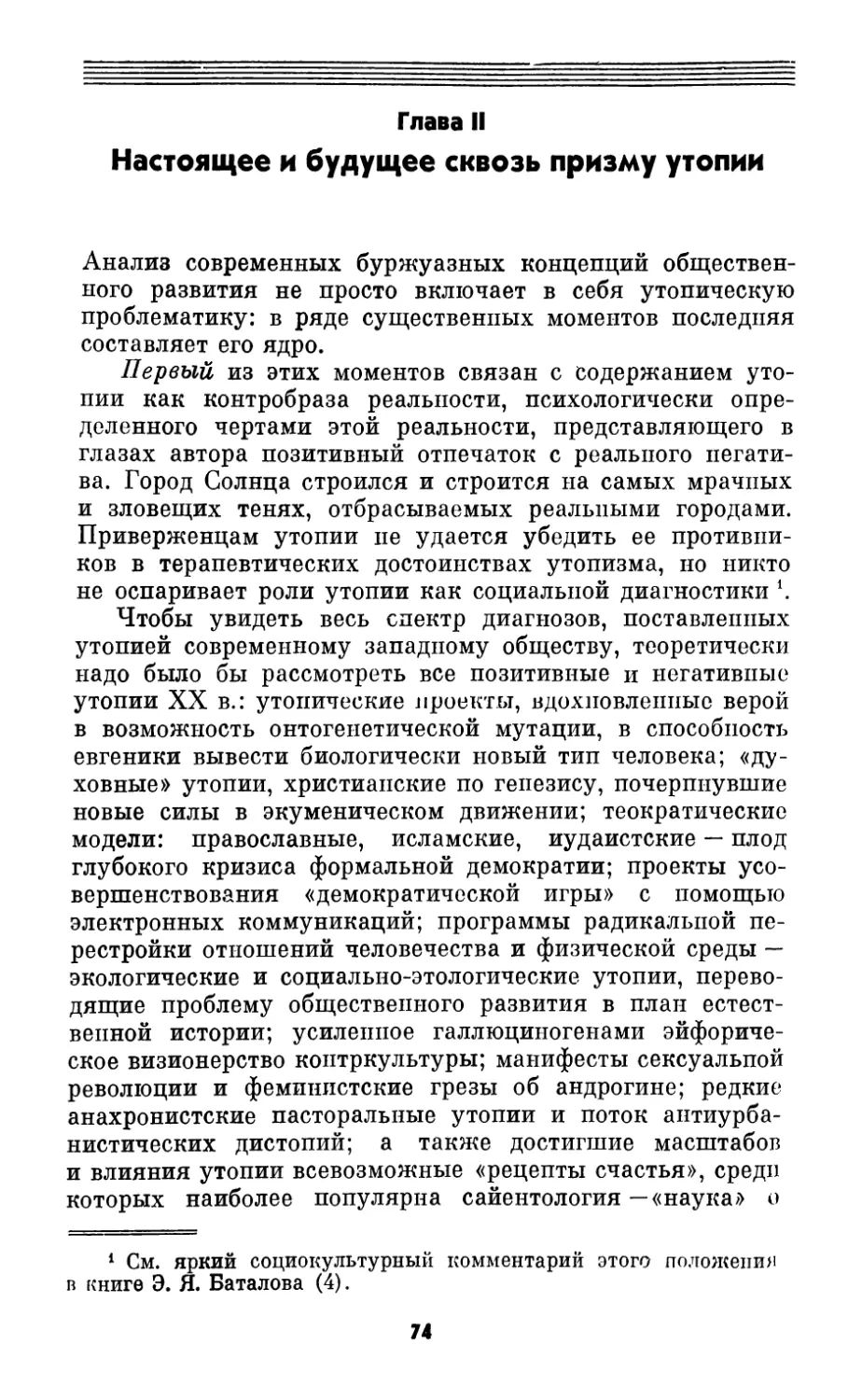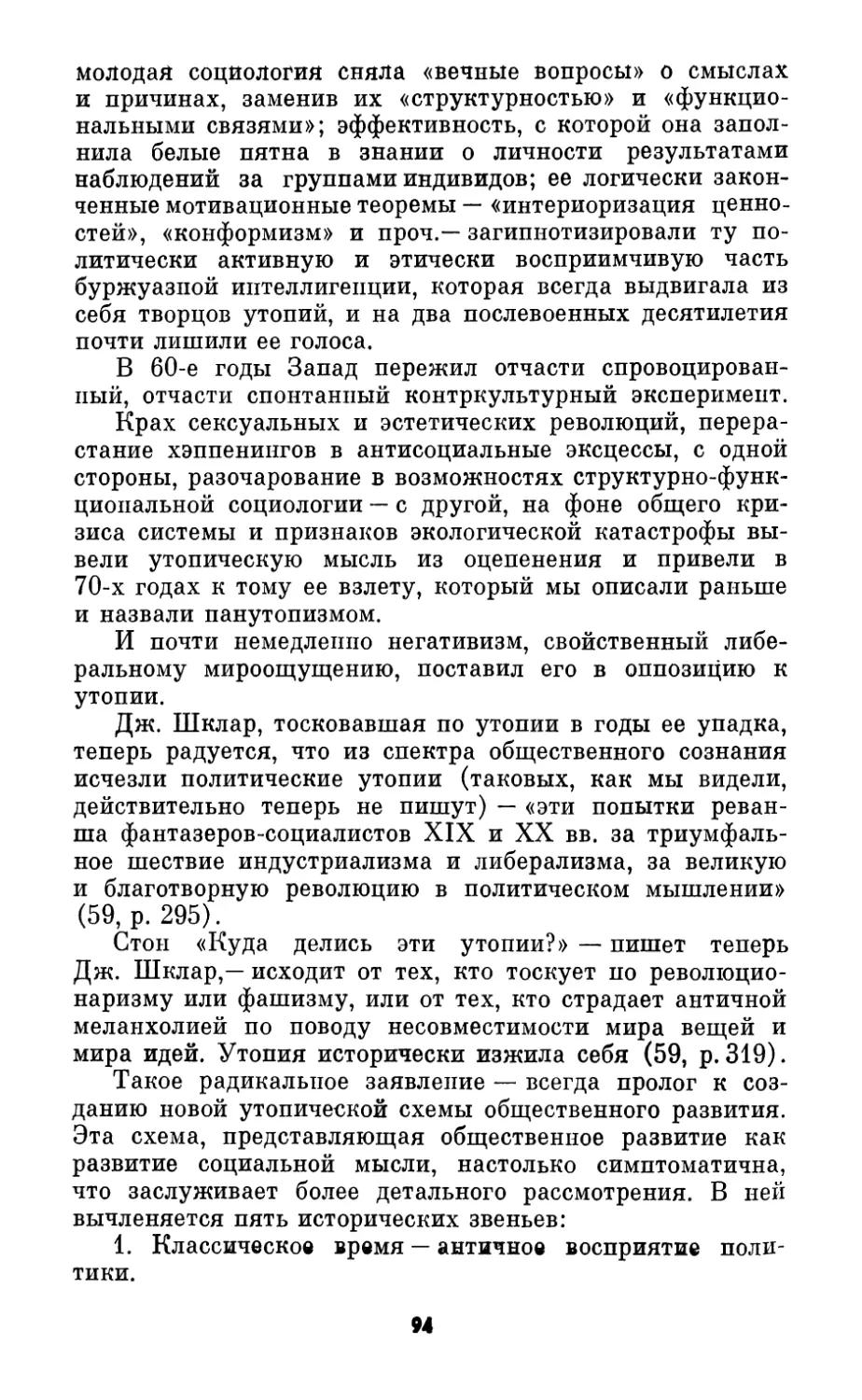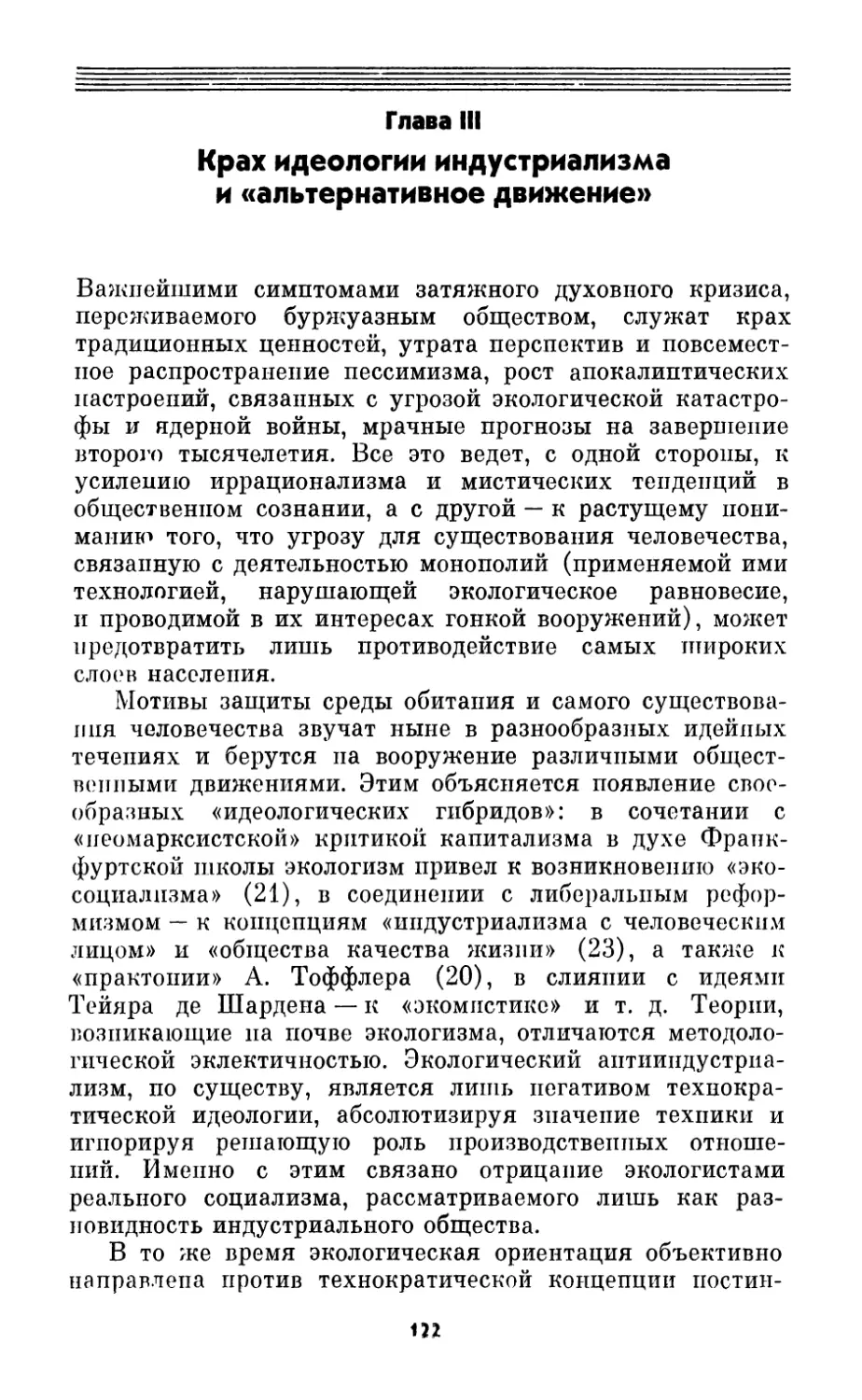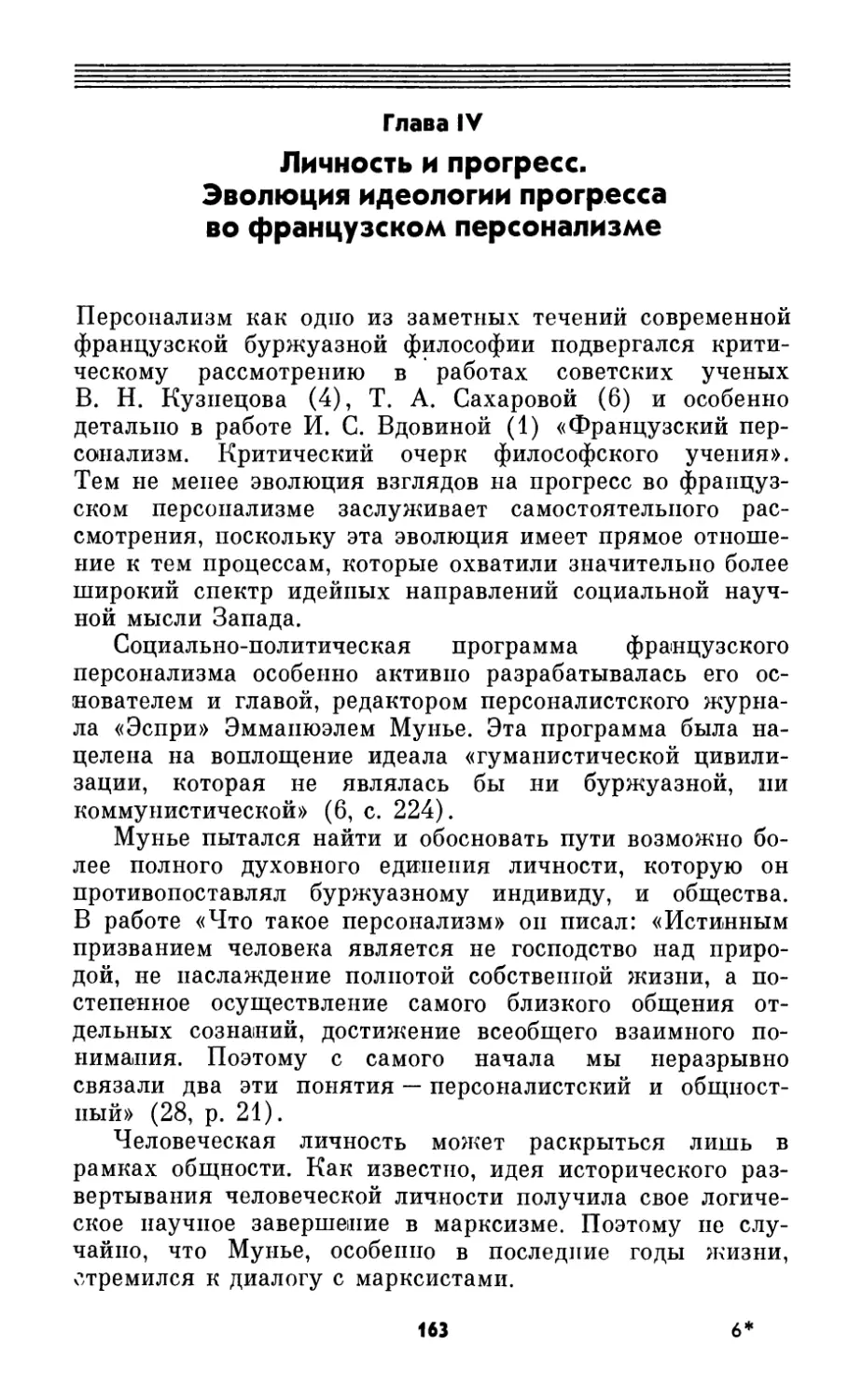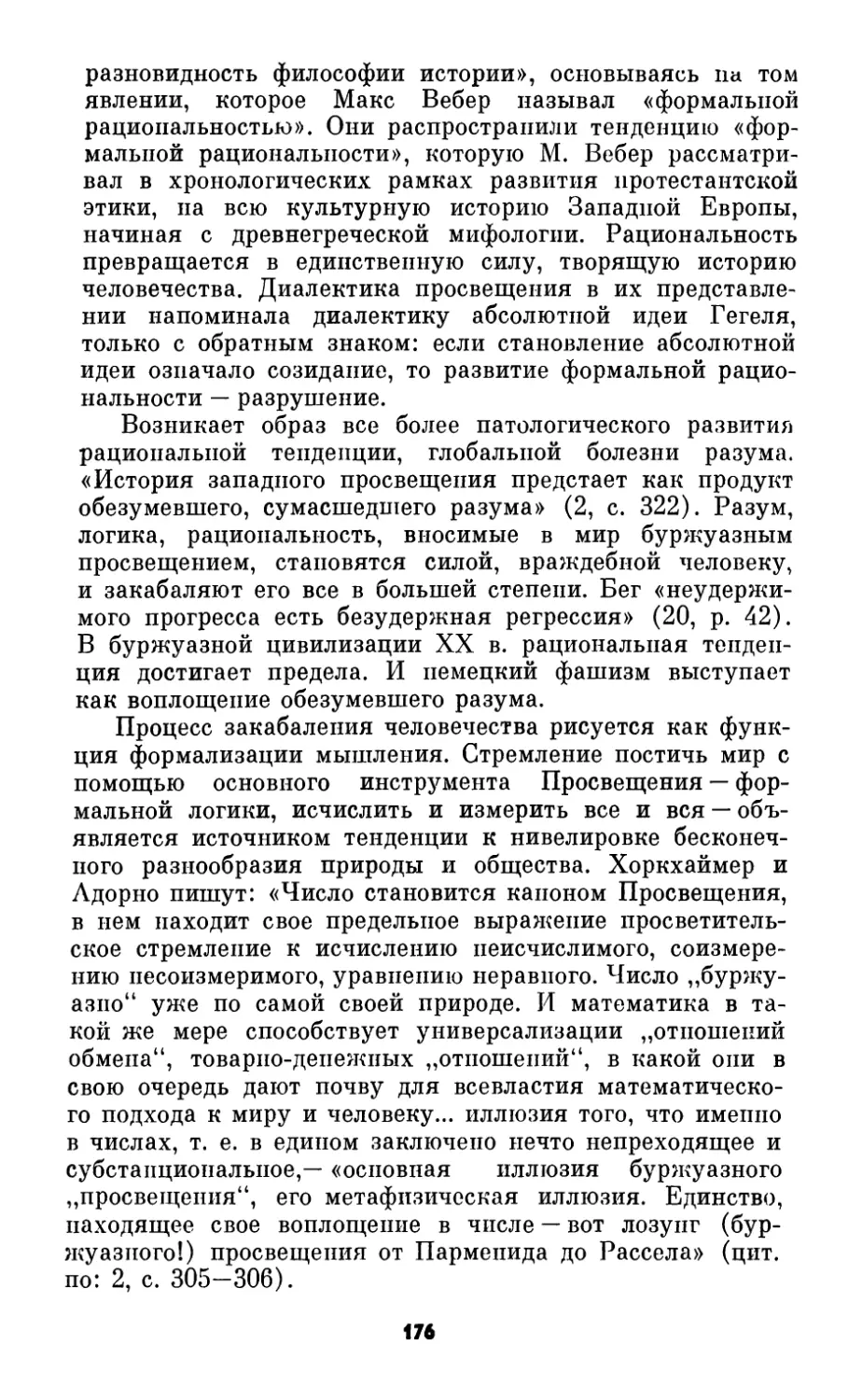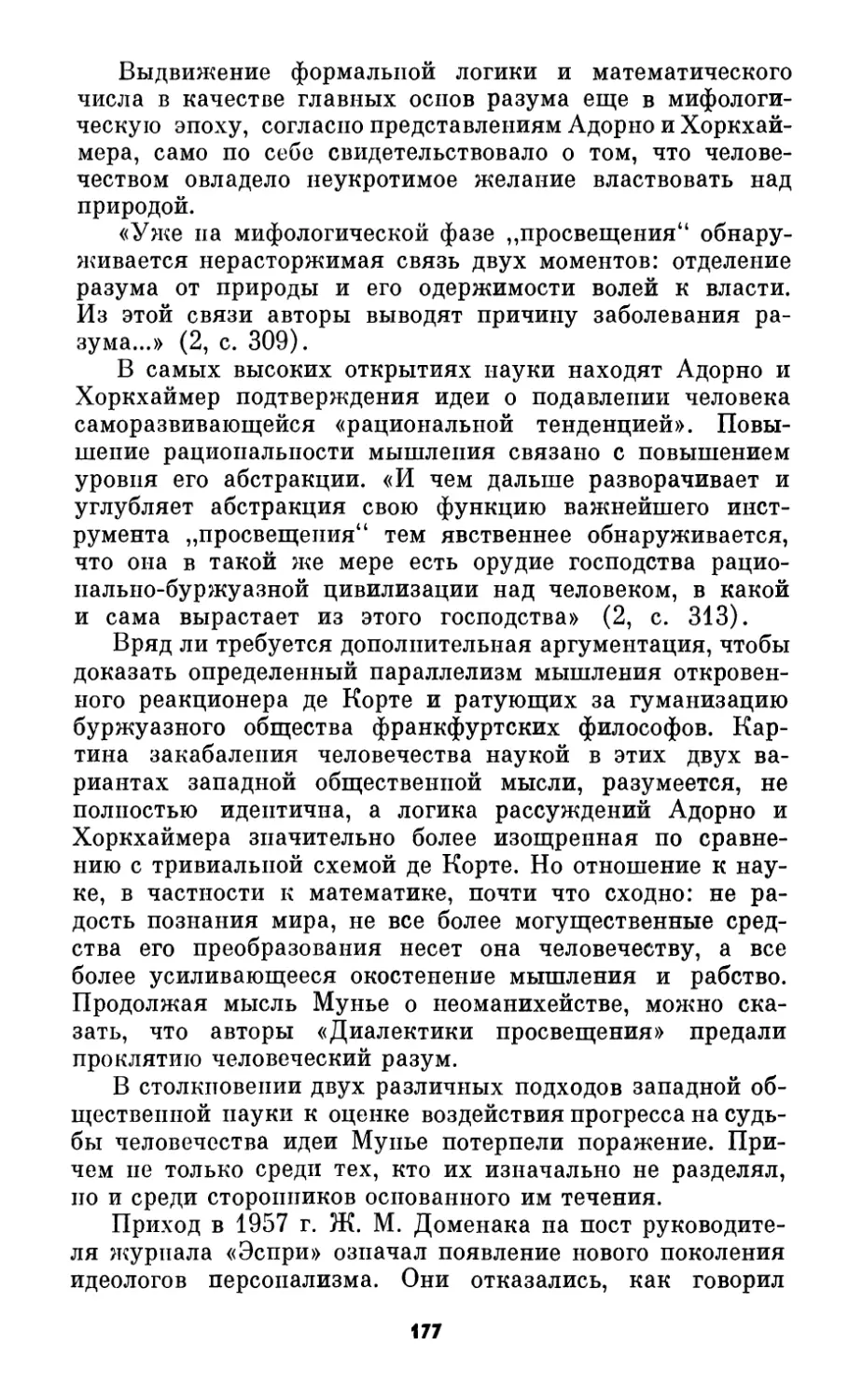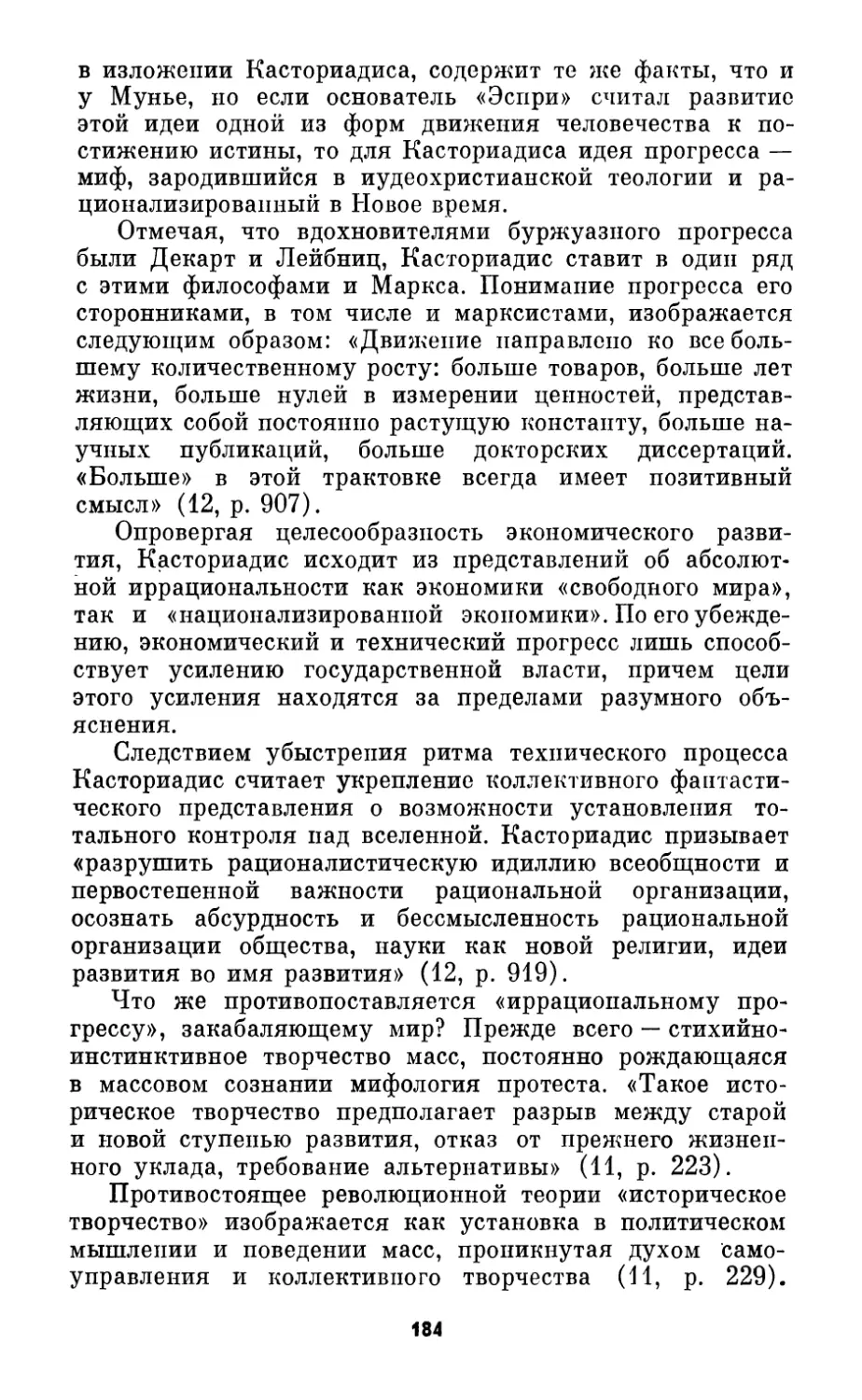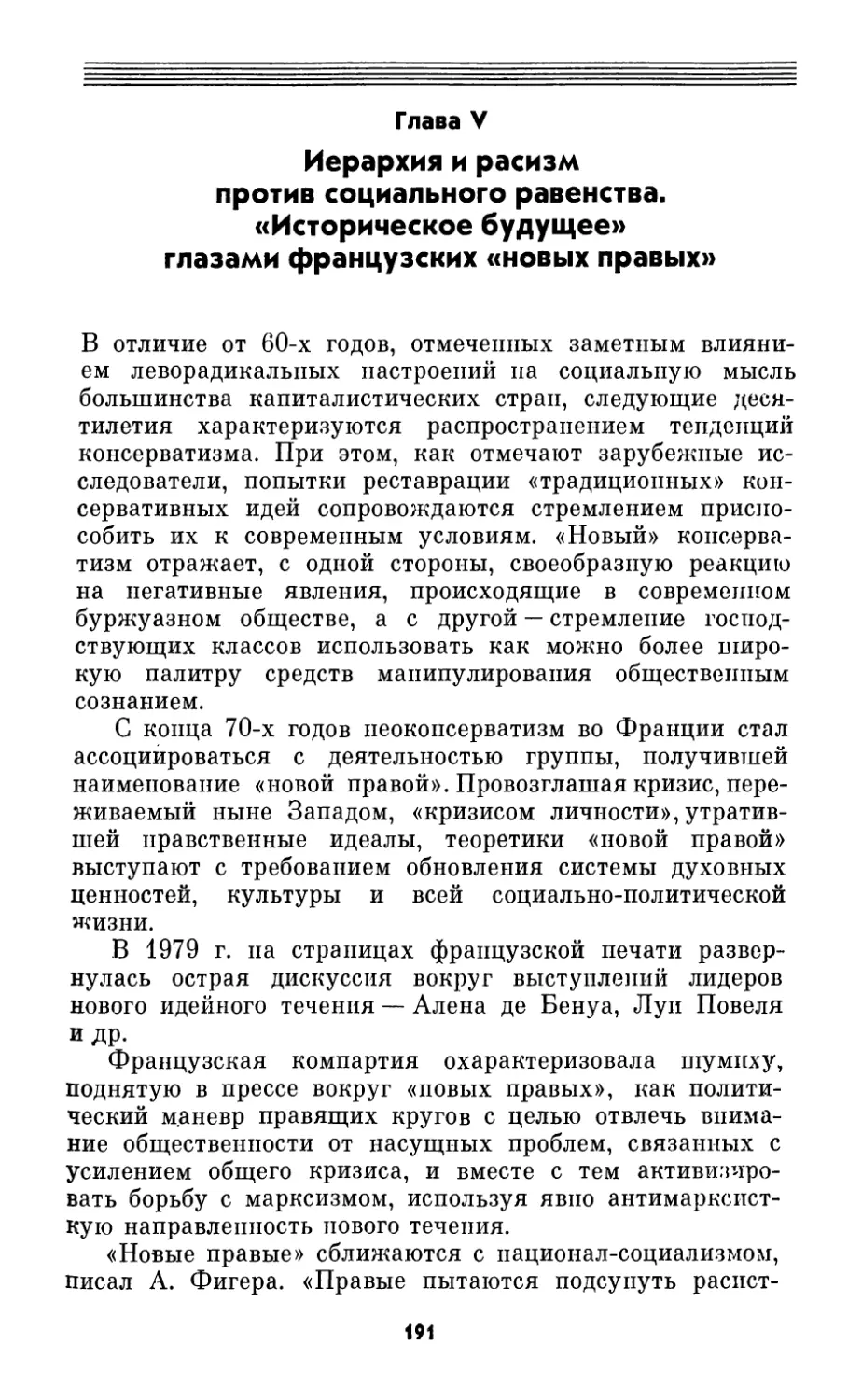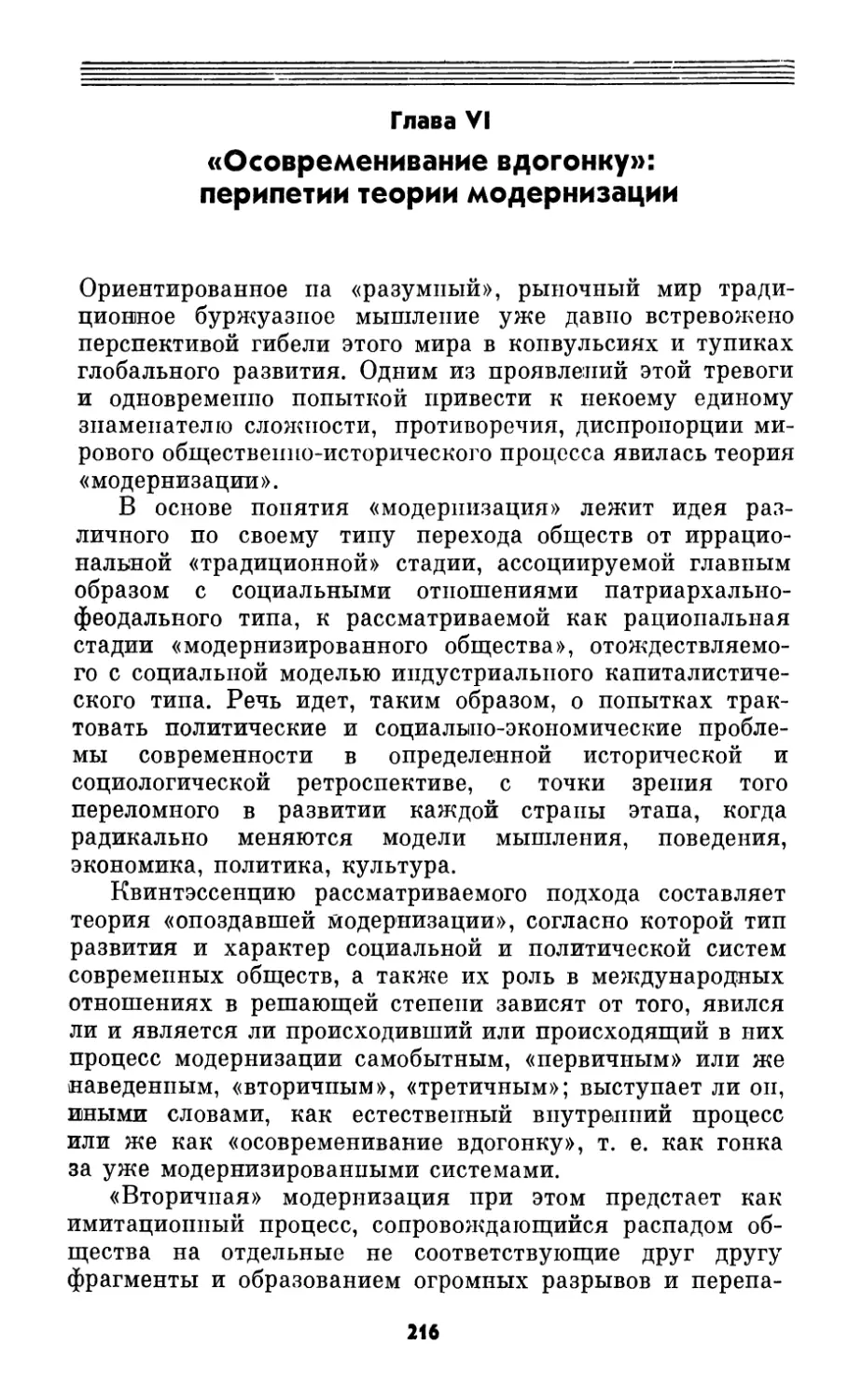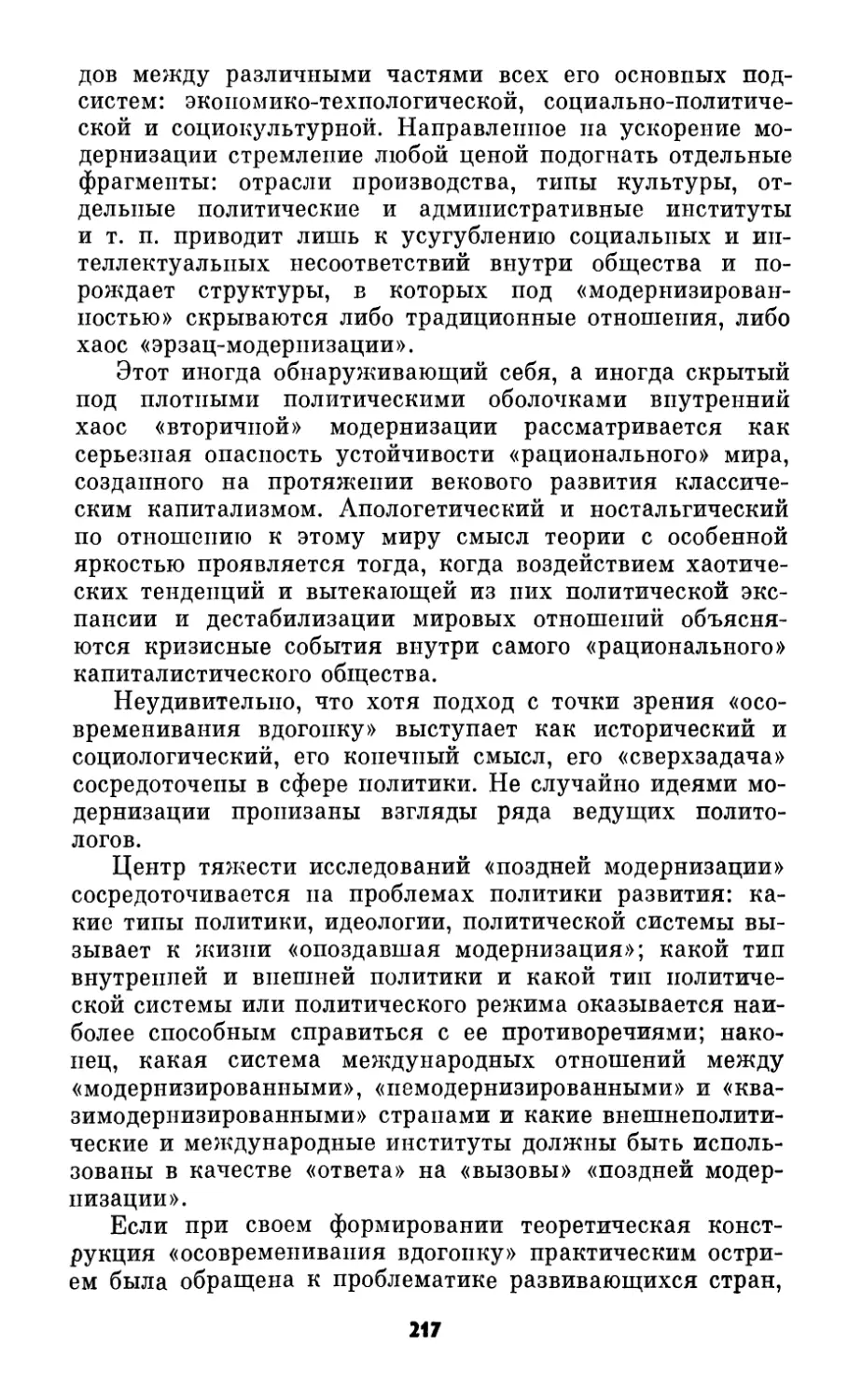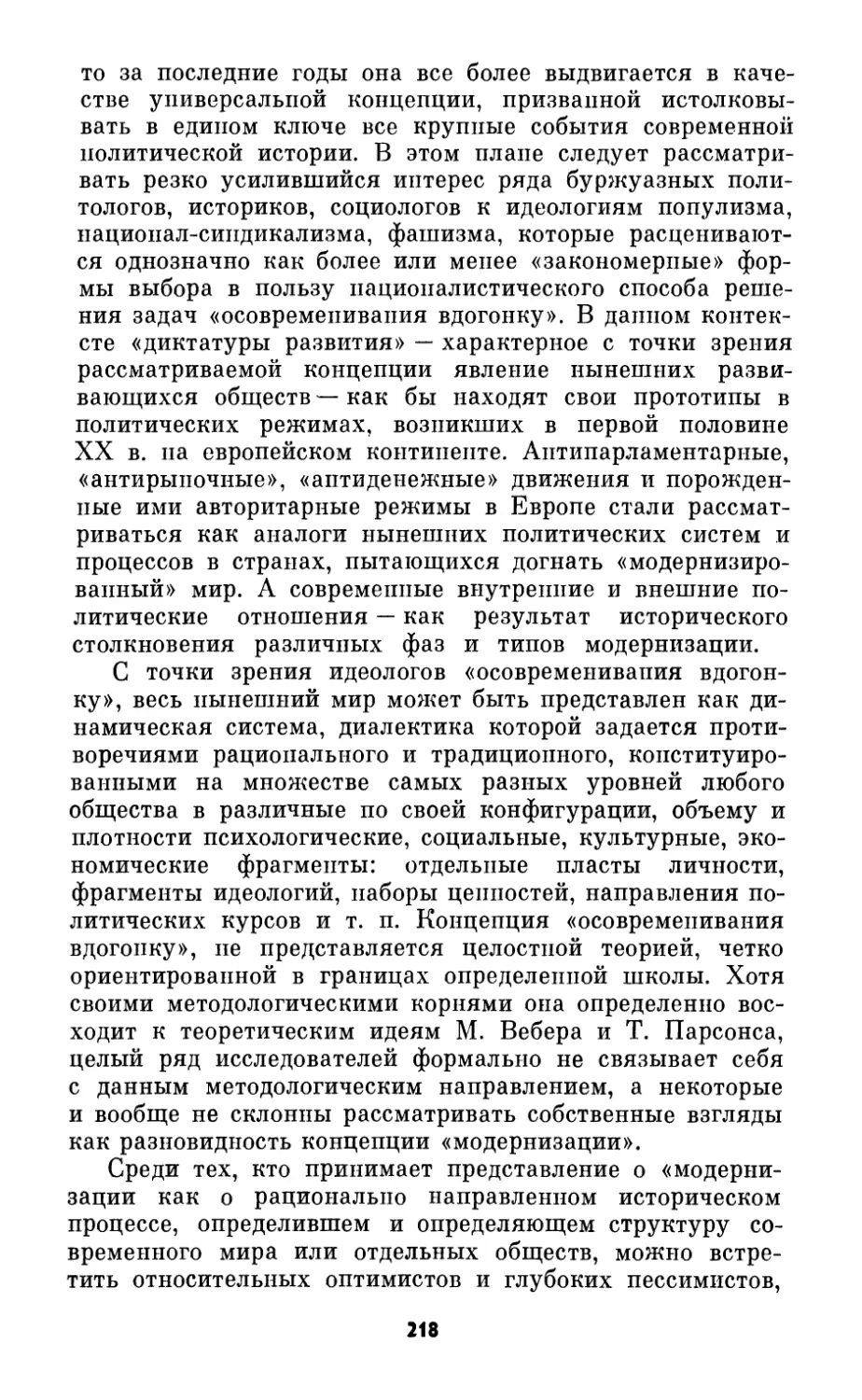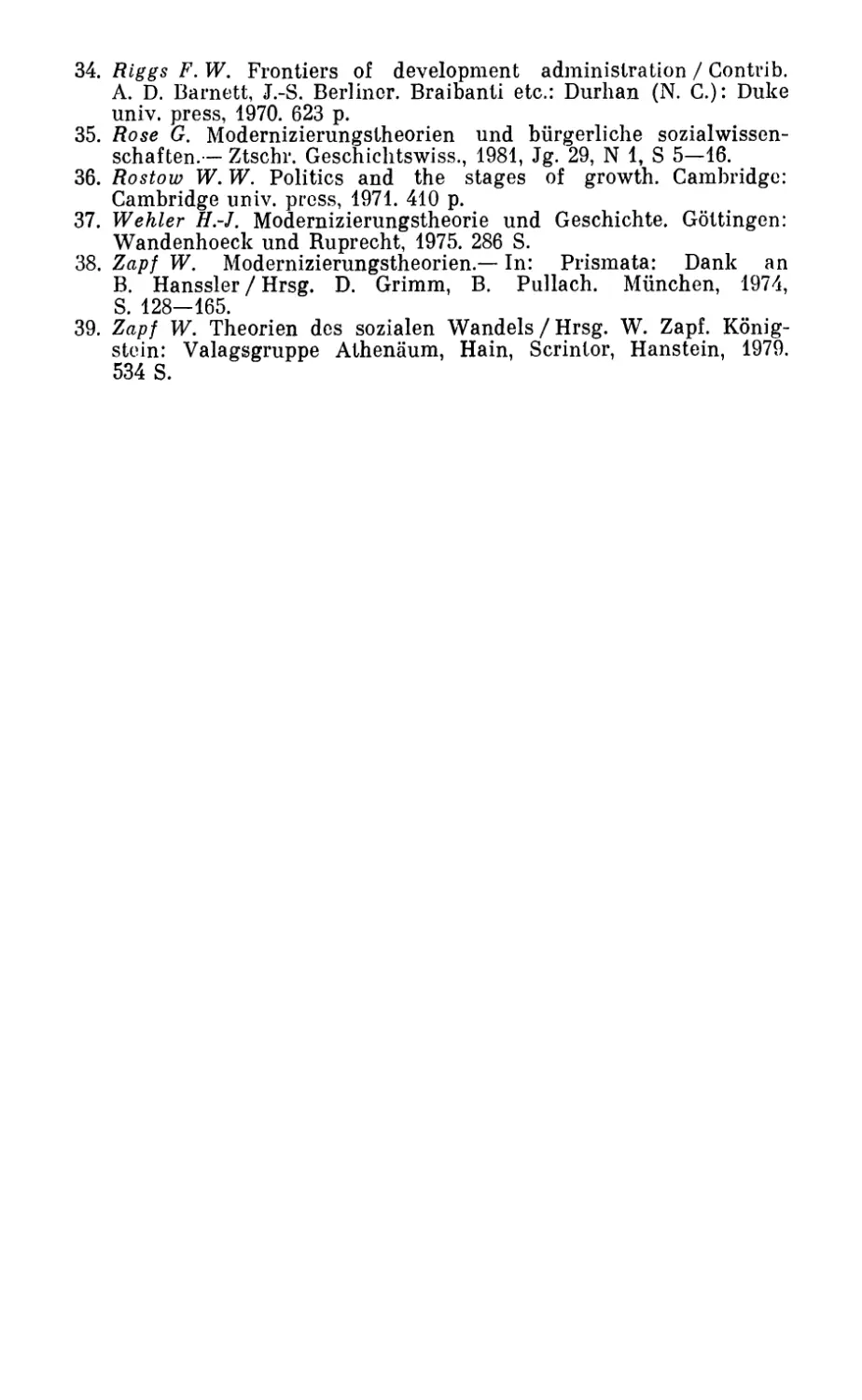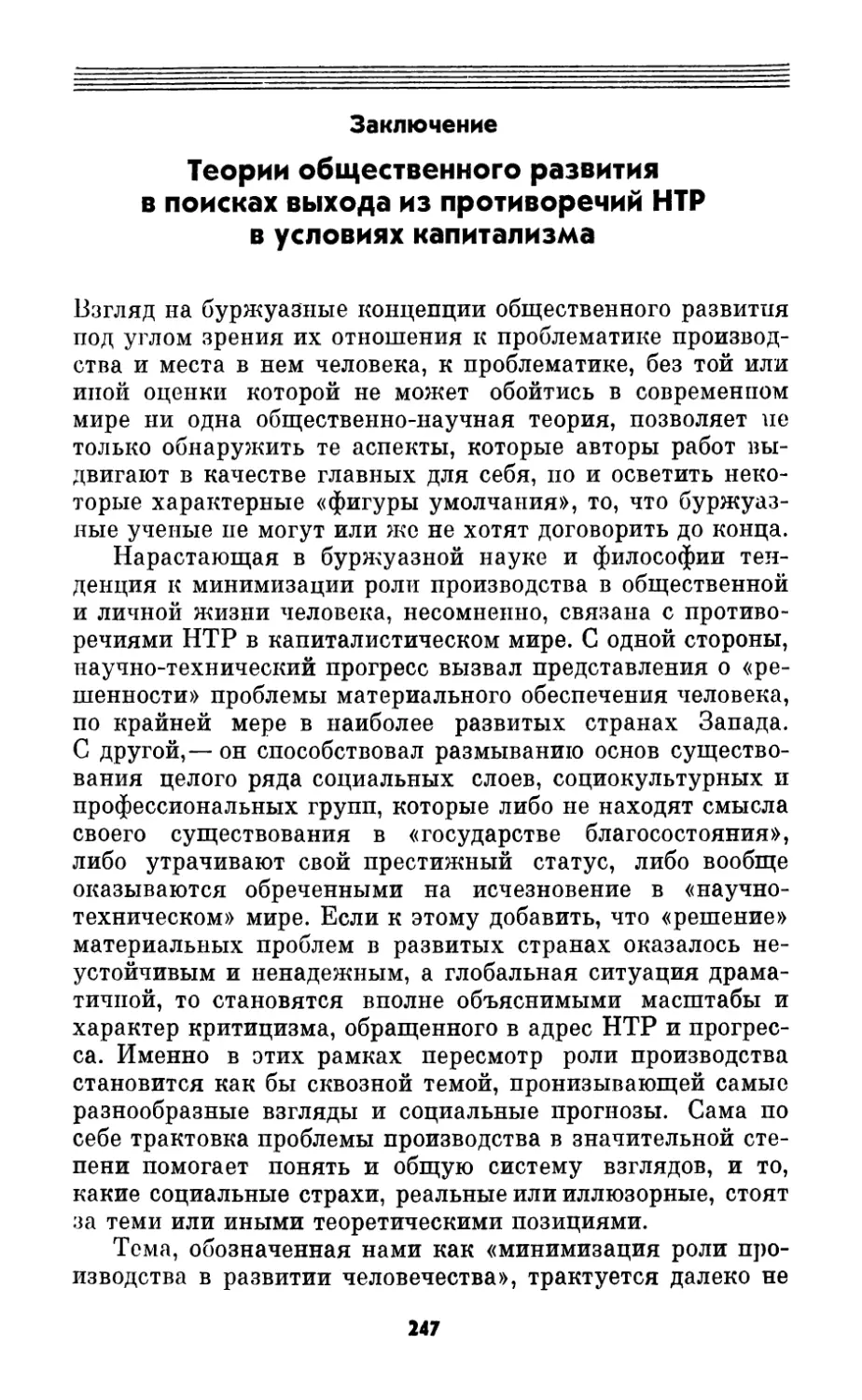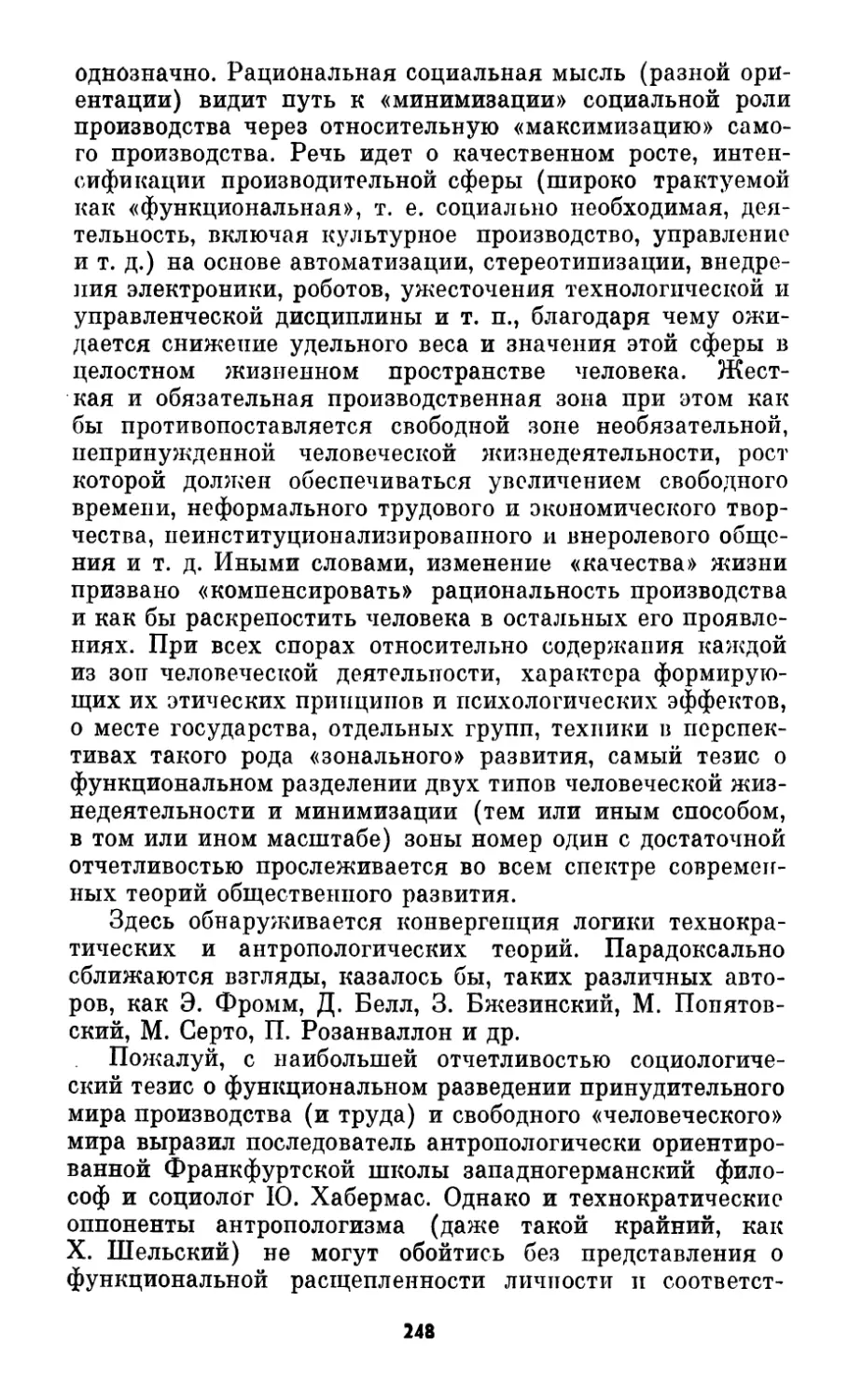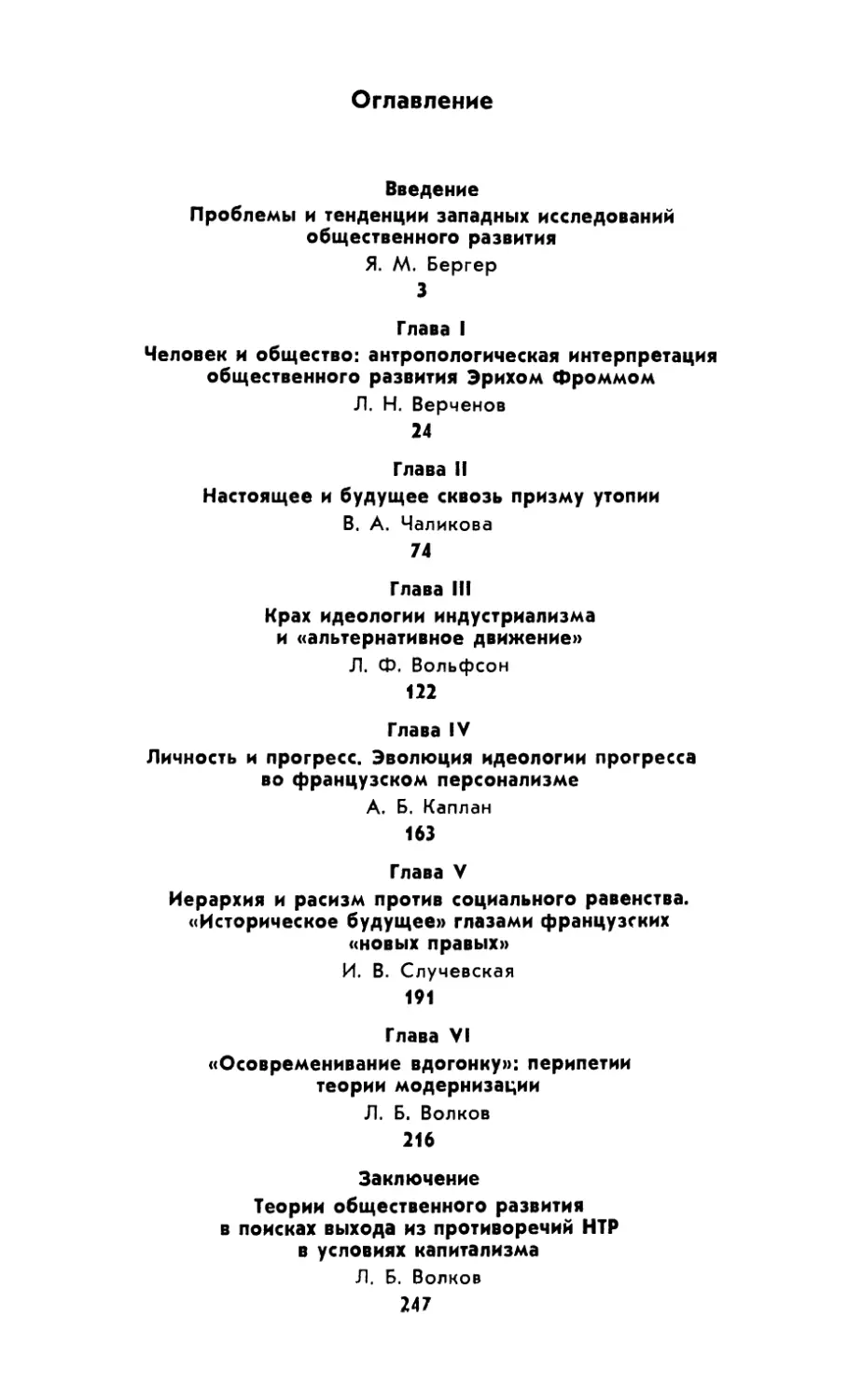Текст
Академия наук СССР
Институт научной информации
по общественным наукам
Современные
буржуазные
теории
общественного
развития
Ответственный редактор
Я. М. БЕРГЕР
Издательство «Наука»
Москва 1984
В книге критически анализируются взгляды
современных буржуазных ученых на характер и перспективы
общественного развития, показан глубокий кризис
апологетики современного капитализма, нарастание
неоконсервативных, иррациональных, антипрогрессистских настроений.
Авторы раскрывают эволюцию рассматриваемых
концепций, их отношение к современным общественным процессам.
Для научных работников, преподавателей,
пропагандистов и всех интересующихся социально-политическими и
идеологическими проблемами современности.
Современные буржуазные теории
общественного развития
Утверждено к печати Институтом научной информации
по общественным наукам АН СССР
Редактор издательства А. А. Воронин Художник О. В. Камаев
Художественный редактор С. А. Литвак
Технический редактор Н. П. Переверза
Корректор М. В. Борткова
ИБ № 26910
Сдано в набор 12.01.84. Подписано к печати 10.04.84. Т-02367.
Формат 84хЮ87з2 Бумага книжно-журнальная Гарнитура обыкновенная
Печать высокая Усл. печ. л. 13,44 Уч.-изд. л. 15,0
Усл. кр.-отт. 13,65 Тираж 4600 экз. Тип. зак. 3610
Цена 1 р. 60 к.
Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10
_ 0302020300-168
02 (042) — 84 14—-1984—II © Издательство «Наука», 1984 г.
Введение
Проблемы и тенденции западных исследований
общественного развития
В выполнении поставленной июньским (1983 г.)
Пленумом ЦК КПСС задачи «убедительно раскрывать
антинародную сущность империализма, его политики и
идеологии, неспособность буржуазного общества устранить
социальные язвы, национальную и расовую
несправедливость» 1 немалая роль принадлежит изучению идейного
арсенала буржуазного обществоведения. Такое изучение
раскрывает духовный кризис, переживаемый
капиталистическим обществом, двояким образом. Прежде всего оно
позволяет судить о сдвигах в умонастроениях
определенных социальных групп и кругов, о тех проблемах,
которые их заботят и волнуют. Вместе с тем в движении
различных концепций, в их эволюции, обновлении и
вырождении ясно просматриваются некоторые «порочные
круги», которые вынуждена совершать мысль теоретиков,
стремясь вырваться за социально и исторически
поставленные пределы.
Тема социального развития — одна из центральных в
буржуазной общественной науке. В большей или
меньшей степени ее неизбежно касаются исследователи и
идеологи, принадлежащие к самым различным школам и
направлениям. Более того, можно сказать, что отношение
именно к этой теме служит важным показателем их
внутренней ориентации.
Если говорить о современных западных концепциях
общественного развития в целом, то при всей их внешней
пестроте и несхожести можно все же обнаружить и
некоторые единые черты, которые во многом определяются
разочаровывающим социальным и духовным опытом
последних десятилетий. В первую очередь обращает на себя
внимание дефицит генерализующих идей и схем
развития, в особенности рассчитывающих на мессианскую,
очистительную и преобразующую функцию каких-либо
1 Актуальные вопросы идеологической, массово-политической
работы партии: Постановление Пленума ЦК КПСС.—- В кн.:
Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14—15 июня
1983 г. М.: Политиздат, 1983, с. 74.
3
особых социальных и политических сил, наподобие тех
маргинальных групп общества, молодежного авангарда
или народов неевропейского происхождения, которые еще
столь недавно были фаворитами «левых» интеллектуалов,
либо же, напротив, «нового» рабочего класса, работников
«третичного» и «четвертичного» секторов экономики,
«умственной элиты», пользовавшихся пристрастием
технократов. Некоторое значение сохраняют глобальные
концепции, возлагающие роль главного двигателя
человеческого прогресса па спонтанно развивающуюся технику,
ныне чаще всего — информационную. Надо, однако,
заметить, что, во-первых, кредит таких концепций
значительно убавился и что, во-вторых, сами они стали не столь
безоговорочно позитивными, как во времена теории
«постиндустриального», «технотронного» и тому подобного
общества, развивавшихся на фоне циклического
восхождения экономики. После того как в середине 70-х годов
эти теории постепенно стали сходить со сцепы, на
Западе не появилось ни одной достаточно внушительной —
хотя бы по масштабу охватываемых явлений и
процессов — социальной доктрины. Конечно, масштабность
подхода — еще далеко не гарантия создания убедительной и
надежной теоретической конструкции: для этого нужно
было бы значительно большее — преодоление социально
обусловленной методологической и мировоззренческой
ограниченности. Тем не менее отсутствие обобщающих
теоретических построений позитивного толка само по себе
служит свидетельством специфической ущербности
нынешней фазы эволюции буржуазной общественной мысли.
Далее, в этих условиях неизбежно открывается
дополнительный простор для роста упадочнических,
пессимистических, антипрогрессистских настроений. Те же самые
«левые» интеллектуалы, которые выступали
знаменосцами бунта против господствующих порядков, ныне
проповедуют отчаяние и безнадежность. Недавние либералы-
технократы перешли в стан неоконсерваторов и с тем же
самым рвением, с каким они прокламировали скорые и
благотворные перемены на всех уровнях жизни
общества — от технологии до политики и семейного уклада,
пекутся о возрождении действительных или, чаще,
мнимых ценностей прошлого, о возврате к «закону и
порядку», о религиозно-нравственном ренессансе.
Разочарование в настоящем, неверие в возможность лучшего
будущего питают и тягу к обскурантизму, ложной романтике,
иррационализму. Разумеется, мрачный по преимуществу
4
настрой социальных концепций отнюдь пе является
исключительной прерогативой нашего времени;
пессимистическое восприятие общественной перспективы
сопутствует оптимистическому на протяжении всей
человеческой истории и не раз брало над ним верх, особенно на
закатных стадиях существования цивилизаций. В этом
смысле нынешнее усиление негативистской тональности в
трактовках современного состояния западного общества и
шансов на его улучшение представляется вполне
закономерным, а предшествующий непродолжительный
подъем энтузиазма — зигзагом в преобладающей тенденции.
Отмеченные изменения не могли не сказаться на
расстановке сил в современной идеологической борьбе. В
недавнем прошлом «левые», охотно апеллировавшие к
марксистской, псевдомарксистской и вообще
«революционной» фразеологии, весьма отрицательно относились к
реальному социализму и упрекали его в тех же самых
пороках, которые они усматривали у капитализма:
в бюрократизации, этатизме, отчуждении личности и т. п.
Либеральные технократы проявляли меньше интереса к
марксистской теории, но в соответствии со своими
соображениями о детерминирующей роли технологии
возлагали большие надежды па постепенную трансформацию
социально-политической системы социализма (равно как
и капитализма) и конвергенцию противостоящих систем.
С отречением «левых» от их былой «революционности»,
а технократов — от их либерализма действительно
произошла конвергенция, но не общественных систем,
а идеологов современного капитализма на единой
антимарксистской и антисоциалистической основе.
Разумеется, далеко не во всякой социальной доктрине
идеологические и политические мотивы находятся на поверхности.
Буржуазная академическая наука, как правило, склонна
развивать свои представления в традициях строгого
объективизма. Кроме того, в ее русле работают и субъективно
честные ученые, искренне обеспокоенные ситуацией
человека в современном капиталистическом обществе и
исходящей отсюда угрозой самому существованию
человечества. Тем не менее ухудшение общей духовной
атмосферы, наблюдаемое сегодня на Западе, не может пе
сужать границы независимого мышления.
В предлагаемой вниманию читателя монографии не
ставится задача систематического рассмотрения
различных школ и направлений буржуазной мысли, имеющих
касательство к тематике общественного развития. Совер-
5
шенно очевидно, что для выполнения подобной задачи
понадобилось бы издание едва ли не энциклопедического
характера. Свою основную цель авторы видят в том, чтобы
выделить ряд наиболее существенных проблем,
обсуждение которых составляет сердцевину многих, если не
большинства работ, принадлежащих перу авторов подчас
весьма несходных ориентации, и проиллюстрировать
наиболее типичные подходы к ним, характерные для
современности, на материале, относительно менее известном
нашему читателю. Одновременно прослеживаются и
отмеченные выше тенденции: в первых трех главах речь в
основном идет о концепциях, развиваемых в духе
буржуазного гуманизма, в трех последующих — явствен
нарастающий правый поворот. Диапазон материала,
привлекаемого для реализации указанных целей, неодинаков:
в одних случаях проблема рассматривается на основе
произведений, находящихся в русле какого-либо одного
течения общественной мысли (или социальной
активности) , в других — объектом анализа служит творчество
весьма различных по своей общественной и
мировоззренческой позиции мыслителей, объединенных, однако,
некоторыми сходными установками и (или) методикой,
в-третьих, наконец, суммируются взгляды одного видного
теоретика, отразившего умонастроения немалой части
западной научной общественности и оказавшего в свою
очередь на нее заметное воздействие.
Проблема сложнейших взаимосвязей и
взаимозависимостей между личностью и обществом, складывающихся
и изменяющихся в процессе общественного развития,
всегда была и остается центральной в социальных
исследованиях любой ориентации. Особенно острой и
болезненной становится проблема отношений индивида и
общества, проблема человека тогда, когда в обществе предельно
углубляются противоречия, достигают критической точки
функциональные расстройства его жизнедеятельности.
Современный империализм, отмечалось па июньском
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, «запутался во
внутренних и межгосударственных антагонизмах,
потрясениях, конфликтах»2. Кризисное состояние нынешнего
капиталистического общества проявляется, в частности,
в том, что, как никогда раньше, это классово-эксплуата-
2 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14—
15 июня 1983 г. М.: Политиздат, 1983, с. 24.
6
торское общество отравляет духовный мир человека,
уродует и извращает его личность. «Искажение
гуманистической натуры человека — вот в чем главный грех
капитала перед человечеством» 3.
Извращающее влияние современного
антагонистического общества на человека становится той отправной
точкой, исходя из которой многие западные ученые
строят свои рассуждения о перспективах общественного
развития. В тех случаях, когда такие ученые выступают в роли
социальных критиков, их описания и интерпретации
ситуации человека превращаются в своего рода диагноз
недугов буржуазного общества. Понятно, что в силу
целого комплекса причин объективного и субъективного
характера (в частности, приверженности определенной
системе ценностей и соответствующему способу
мышления) диагноз этот более интересен и убедителен в своих
констатациях, нежели в предписаниях: наивность,
утопизм предлагаемых путей выхода из кризисного состояния
разительно контрастируют с нередко глубокими
критическими проникновениями в суть реальной ситуации.
В настоящей книге антропологическая интерпретация
общественного развития рассматривается на примере
неофрейдистской концепции известного американского
исследователя Эриха Фромма. Идеи осиовополжника
психоанализа 3. Фрейда и его различных последователей
продолжают оказывать заметное влияние практически на все
основные направления современной западной мысли.
Некоторым представителям неофрейдизма, у которых
реформированный психоанализ приобрел облик социальной
критики (а Э. Фромму здесь, бесспорно принадлежит
ведущая роль), удалось зафиксировать реальные
противоречия буржуазной действительности и впечатляюще
обрисовать болезненные коллизии в отношениях между
индивидом и обществом.
Концепция личности, разрабатывавшаяся Э. Фроммом,
в своих исходных методологических основаниях отлична
от марксистской, ставящей преодоление отчуждения
личности при капитализме в прямую зависимость от
ликвидации частной собственности на средства производства.
Вместе с тем позиция Э. Фромма противостоит как
экзистенциалистской, так и леворадикальной, с одной сторо-
3 Шахназаров Г. X. Грядущий миропорядок: о тенденциях и
перспективах международных отношений. М.: Политиздат, 1931,
с. 233.
7
ны, более определенно связывая психические недуги
личности с пороками господствующей общественной системы
и требуя их устранения, а с другой — отвергая бунт как
средство освобождения от репрессии человеческих
инстинктов.
Констатируя изначальное противоборство между
полярными началами человеческой натуры — любовью к
жизни и притяжением к смерти, бытием и обладанием —
и кладя их в основу социального характера, Э. Фромм
полагает, что реализация исходных устремлений
определяется главным образом общественными условиями.
Соответственно человеческая история рассматривается не
столько как смена господствующих
социально-экономических укладов, сколько как эволюция основных
психологических установок и мотиваций. Сдвиги в социальном,
экономическом и политическом устройстве общества, по
убеждению Фромма, эфемерны, если они не зиждутся на
«переменах в сердце». Развертывание социального
характера в историческом времени вызвало на ранней стадии
капитализма формирование авторитарности и
маниакального накопительства, а к настоящему времени —
появление «рыночного человека», меняющего свои вкусы,
пристрастия, манеры, стиль жизни в зависимости от спроса
и предложения, лишенного глубинных эмоциональных
импульсов. С этим образом соседствует или даже
совпадает образ человека-робота, лишенного подлинной
человечности, низведенного до уровня существа,
руководствующегося в своем поведении лишь самыми примитивными
инстинктами. Ясно, что и общество, составленное из
подобных существ — доведись ему некогда достигнуть
полного воплощения, перестало бы быть действительно
человеческим, ибо исчезли бы скрепы, соединяющие
людей: любовь, милосердие, сострадание, солидарность.
Психологизация исследовательского подхода к
проблеме отношений между личностью и обществом,
демонстрируемая, в частности, работами Э. Фромма, при всей
своей очевидной методологической недостаточности,
ведущей к недооценке экономического фактора, сведению
социального к личному и т. п., имеет и свои сильные
моменты, высвечивая проблему с чрезвычайно важной,
внутренней, человеческой стороны. Рассматривая в этом
аспекте вопрос о целях общественного развития, Фромм
дает на него единственно возможный для гуманистически
ориентированного ученого ответ: назначением и
оправданием прогресса могут быть только свобода и счастье че-
8
ловека. При всех тех неизбежных и, вероятно,
необходимых оговорках, которыми должна сопровождаться оценка
содержания указанных целей и особенно путей их
реализации, представляется существенным подчеркнуть
социальную значимость самой ориентации. Это особенно
важно в современных условиях, когда не лишенный
обоснований, но оттого не менее разрушительный скепсис
все более числит любые помыслы о свободе и счастье
человека в земной юдоли по разряду «дьявольских»
наваждений, а понятие гуманизма, восходящее к европейскому
Ренессансу, становится едва ли не ругательным.
Обескураживающе наивны надежды Фромма
синтезировать «гуманистический социализм» из таких
несовместимых компонентов, как средневековая
религиозно-эсхатологическая традиция и постренессансный дух научного
мышления и политической активности, как духовное
наследие Мейстера Экхарта и Будды, Карла Маркса и
Альберта Швейцера. Однако далеко не столь наивны
представления о том, что реализация «гуманистической
программы» мыслима лишь при двух непременных
условиях: ядерном разоружении и ликвидации экономической
пропасти между развитыми и развивающимися странами.
Да и сами пункты «гуманистической программы» отнюдь
не лишены «рационального зерна». Так, хотя в деле
формирования «здоровой экономики» Фромм предполагает
начать не с перестройки производственных отношений,
а с потребления, все же здесь рекомендуется не
ограничиваться разработкой и популяризацией образцов и
моделей «здорового потребления», но «решительно обуздать
право хозяев предприятий определять характер
продукции исходя лишь из интересов прибыли и расширения
производства»4. Предлагается добиваться расширения и
неуклонного осуществления антитрестовского
законодательства, ввести гарантированный трудовой доход,
бороться против бюрократизации управления и т. п. Многие из
этих требований составляют реальное содержание
программ антимонополистического движения, рабочих
партий, профсоюзов.
Разумеется, в главном — в оценке возможностей
изменить характер общества начиная с сознания,
психологии — Фромм остается утопистом. Впрочем, он и сам это
отлично сознавал, полагая, однако, что социальная уто-
4 Fromm E. To have or to be? N. Y. etc.: Harper and Row, 1976,
p. 178-179.
9
пия может Ьыть реализована так же, как современная
техника претворила в жизнь мечты о полетах человека в
воздухе и в космическом пространстве, если к этому
будут приложены те же умственные силы, энергия и
энтузиазм.
Либерально-реформистская утопия — отнюдь не
единственный и даже не преобладающий тип современного
утопического мышления. Если иметь в виду социально-
политическую ориентацию, то не менее, если не более,
широко представлены в различных формах нынешнего
буржуазного сознания утопии апологетические,
консервативные и неоконсервативные, лево- и праворадикальные.
Однако самая общая классификация еще не раскрывает
всего многообразия существующих сегодня собственно
утопических и близких к ним по ряду признаков
произведений. Западная наука по-разному трактует сам
феномен утопического мышления и его функции. В одном
варианте это мышление предстает, например, в традициях
Хейзинги как одно из самых увлекательных занятий
homo ludens: «Работа для блага будущих поколений —
одна из самых захватывающих игр. Она приносит
уважение, славу и радость общения с интересными людьми» 5.
В другом — оно выполняет более позитивные социальные
функции: социальной критики (К. Мангейм) или
социального прогнозирования (Л. Мэмфорд). В третьем
(Рюйер) утопия выступает, напротив, как способ бегства
из истории, в этом плане утопист рассматривается как
субъект, пребывающий в пограничной ситуации: на
пересечении сфер социального действия и психопатологии,
как больной, хотя и особого рода, болезнь которого
необходима для здоровья социального организма. К данной
трактовке тесно примыкает восприятие утопического
сознания как одной из форм шизофрении, базирующееся на
том, что для этого сознания особенно свойственна анти-
диалектичность, неприятие категорий целостности и
историзма, непонимание органической взаимосвязи
хорошего и дурного, стремление их развести и
абсолютизировать. Сторонники последней точки зрения подкрепляют
ее ссылками на проекты переустройства мира, в
изобилии выдвигаемые пациентами психиатрических клиник.
В этих проектах наличествуют компоненты, традиционно
присущие утопиям или антиутопиям: технократическое
5 Erasmus Ch. In s-oarch of the common good: Utopian
experiments past and future. N. Y.: Free press, 1977, p. 335.
10
управление, регламентация всех видов человеческой
деятельности, и в особенности сексуальных отношений,
система концентрационных лагерей как «рассадников
мудрости» и т. п.6
Указанные характеристики адресуются обычно ко
всему спектру утопического мышления, но проявляются
они, без сомнения, в каждом конкретном случае
неоднозначно и могут потому быть использованы в качестве
дополнительного признака для классификации. Вполне
мыслимы и иные уточняющие критерии. Так, для
сочинений, претендующих на научность, существенное
значение имеет приверженность к той или иной естественной
или общественной дисциплине (биологии, социологии,
психологии, антропологии и т. д.), школе, а для тех,
которые таких претензий не питают, важно их место в
других формах общественного сознания — религии или
искусстве.
При всем этом главным и определяющим остается
отношение к окружающей действительности. Живописание
будущего вдохновляется не только извечной тягой
человека к гармонии — социальной и эстетической, но и
сложнейшими переживаниями, связанными с прошлым и
настоящим, со страхами и фобиями, с надеждами и
упованиями, толкающими подчас к крайностям. Необходимой
предпосылкой эсхатологического пафоса утопии является
трагическое восприятие настоящего. Перед лицом
всевозрастающей пагубности неконтролируемых, стихийных
процессов — экономических, демографических,
экологических, этических и т. п.— возникает искус решений
тотальных, окончательных и, поскольку речь идет об
утопических проекциях будущего, безответственных, а также
подчас субъективно неожиданных. При таких проекциях,
представляющих весьма сложную реконструкцию
объективной реальности, происходит высвечивание тех уголков
сознания утописта, которые в иной ситуации могли бы
оставаться в тени, обнаруживается изнаночная сторона
исповедуемых им нравственных ценностей и норм. Так,
на поверку творцами наиболее жестких схем социального
контроля над поведением человека в общественной и
частной жизни оказываются не только мыслители с четко
выраженными авторитарными установками в отношении
современности, но и нередко в повседневности вполне
6 Gabel I. Ulopie et psyhopathologie.— In: Gabel I. Ideologies.
P, 1974, p. 302-312;
11
добропорядочные либералы. В последнем случае четко
выявляется двойственность моральных оценок: одна
мерка применяется к тому, что рядом, близко — во
временном и пространственном отношении, другая — к
удаленному времени и пространству.
Утопист, как правило, занимает предельные позиции в
отношении всех дихотомий современности: умеренностью
трудно поразить воображение людей. Так,
преимущественно негативная оценка научно-технического прогресса
ведет к предложениям о его полном пресечении, а
преимущественно позитивная — связывает с техникой
будущего надежды на излечение общества от всех его
болезней, в том числе от одного из тяжелейших недугов
века — атомизации бытия, распада межчеловеческого
общения. Для разрешения конфликтов между обществом
и человеком одни призывают все усилия обратить на
преобразование общества, другие — на трансформацию
природы человека, освобождение его от дурных страстей,
пороков, агрессивности. Глубокий раскол в стане
утопистов вызывает проблема выбора между ориентацией на
социальное равенство и установкой на вознаграждение
личных достоинств и заслуг, без которых немыслимо
никакое развитие.
Не менее серьезным пробным камнем оказывается
отношение утопии к разуму, рациональности, с одной
стороны, и к миру страстей, чувств человека — с другой.
Буржуазные идеологи нередко изображают утопию (а
заодно и революцию) как плод чистых эмоций, тогда как
разуму отводится исключительно роль умеренного и
осторожного советчика: «Всегда существовали глубокие и
несомненно неодолимые источники с незапамятных
времен ведущейся борьбы между Страстью и Рассудком,
между человеком-дионисийским экстремистом, с одной
стороны, и разумным, рассудочным существом — с
другой. Сердце зовет его к утопическим мечтам и
революционным исканиям, а мысль учит его осторожности,
осмотрительности и поступкам, избегающим соблазнительных
упрощепий»7. Вряд ли можно оспорить, что утопию в
немалой степени питают чувства и что к ним она в
значительной мере обращена: отсюда ее обычно яркая
образность, эмоциональная насыщенность. Еще в конце
XIX в. утопия в лице Уильяма Морриса выступила про-
7 Lasky M. Y. Utopia and revolution. Chicago; London: Univ.
Chicago press, 1976, p. XIII.
12
тив примата разума, живописуя счастливое, беззаботное
общество, полностью освободившееся от власти науки,
философии, просвещения и сложных видов искусств. Наш
век породил к тому же ряд утопий, апеллирующих не
просто к чувствам, но к чувственности, требующих
«сексуальной эмансипации» в качестве гаранта
социального освобождения (В. Рейх, Н. Браун, Г. Маркузе,
современные феминистки). И все же утверждение о
преимущественно чувственной природе утопии
представляется неверным. Утопия и рациональность отнюдь не
являются абсолютными антагонистами. Утопия вполне
способна быть рациональной, а дух рационализации в своем
крайнем выражении сам обращается в утопию:
организационную, технократическую, машинную. Предельная
рациональность, как и предельная утопия, парадоксальным
образом соединяется в своей враждебности к демократии,
представляющейся им либо тупой, неэффективной,
расхлябанной охлократией, либо, напротив, синонимом мани-
пулируемого общества. Абсолютно неправомерны и
попытки поставить знак равенства между утопическим
менталитетом и революционностью. В определенном смысле
можно даже сказать, что утопия находится в обратном
отношении к революции: чем более тщательно
разработан утопический проект, тем менее он революционен.
Утопия по самому своему определению
несбыточна. Раздвоенное сознание утописта отказывается, однако,
смириться с этой вербальио признаваемой истиной, ибо
такой акт был бы для него равносилен смирению с
неизбежностью физической смерти. Отсюда явная или
скрытая надежда на животворящую способность утопии,
если не сейчас, то в будущем. Именно такая
неумирающая надежда запечатлена Германом Гессе в
измышленном им латинском эпиграфе к своей собственной утопии:
«...ничто так настоятельно не требует передачи на суд
людей, как некоторые вещи, существование которых
недоказуемо, да и маловероятно, но которые именно
благодаря тому, что люди благоговейные и совестливые видят
их как бы существующими, хотя бы на один шаг
приближаются к бытию своему, к самой возможности
рождения своего» 8.
Еще не столь давно в буржуазной науке преобладала
идущая от К. Мангейма установка на разведение утопии
и идеологии. Ныне утопии все более присваивают роль
Гессе Г. Игра в бисер.— М.: Худ. лит., 1969, с. 33.
13
заместительницы идеологии. Такой оборот связан в
первую очередь с крушением веры в прогресс, составлявшей
некогда одну из основных идейных ценностей
буржуазного общества. Собственно говоря, подтачивание этой веры
началось еще на исходном рубеже прошлого века, когда
под огнем романтической и консервативной критики
оказались горькие плоды индустриального развития и
соответственно просвещенческая убежденность в
непогрешимой правоте Разума и Науки — мировоззренческая основа
индустриализма. Свой вклад в развенчание прогрессиз-
ма в конце XIX и в первой половине XX в. внесли
буржуазная философия (Ф. Ницше, Г. Зиммель, О.
Шпенглер, экзистенциалисты) и социология (М. Вебер, Ф.
Теннис, Э. Дюркгейм), психоанализ и антиутопия.
В наши дни дополнительными стимулами
«разочарования в прогрессе» стали фашизм и вторая мировая война,
угроза ядерного уничтожения человечества и
загрязнение окружающей среды, растущее истощение природных
ресурсов и глубочайшие диспропорции мирового
социально-экономического развития. Вместе с тем негативное
отношение к науке и технике стало своего рода
интеллектуальной модой. На научно-технический прогресс
возлагается ответственность за усугубление многих пагубных
тенденций в общественной жизни: растущее влияние
технократии и бюрократии, опасное расширение
возможностей тотального контроля над личностью и обществом с
помощью самых совершенных технических и иных средств,
стремительное распространение моделей избыточного
потребления и т. п. Но, пожалуй, самым значительным,
хотя, быть может, и не всегда четко выраженным
мотивом недовольства служит то обстоятельство, что наука не
оправдывает субъективных надежд на безотлагательное,
универсальное и окончательное постижение и устроение
мира, надежд, которые возбуждались ее особым престижем
и статусом или даже излишне оптимистическими
высказываниями отдельных ученых, своеобразной
мифологизацией, но за которые наука как институт в целом
ответственности нести не может. В этой своей ипостаси
знание привлекается как ответчик по делу об оставшихся
втуне (или никогда не существовавших) обетоваииях
истории теми, кто спокон века тщится найти пути
однозначного и бесповоротного разрешения всех проблем,
стоящих перед человечеством, и, не обретя таковых,
бросается в противоположную крайность — в убежище
иррационализма, пессимизма и скепсиса. Характеризуя
14
подобную тенденцию, Томас Манн отмечал: «Есть в
современной европейской литературе какая-то злость на
развитие человеческого мозга, которая всегда казалась
мне не чем иным, как снобистской и пошлой формой
самоотрицания... С модой „на иррациональное'4 часто
бывает связана готовность принести в жертву и
по-мошеннически отшвырнуть достижения и принципы, которые
делают не только европейца европейцем, но и человека
человеком» 9.
Генеалогия противников прогресса, как уже
упоминалось, весьма сложна, но все же в основе ее два главных
корня: религия и романтизм. Роль каждого из них не
оставалась неизменной. Первый, первоначально более
мощный религиозный корень со временем — по мере
уменьшения влияния религии и, главное, по мере ее
модернизации, приспособления к современности —
постепенно уступал питательные функции второму —
романтическому.
У истоков романтического отрицания прогресса и
науки как формы мышления и социального института
стояли поэтическое разочарование в идеалах Великой
французской революции (С. Кольридж и В. Вордсворт),
критика капитализма в сочетании с идеализацией
средневековья и культом героев (Т. Карлейль) и та же критика с
позиций индивидуалистической утопии (Р. Эмерсон).
Можно сказать, что все главные компоненты этой
традиции (с той лишь разницей, что французскую
революцию дополняет или замещает реальный социализм)
сохранились и поныне. Правда, сочетаются они по-разному,
создавая романтический антипрогрессизм и
антисциентизм различного толка: «левого» и правого, радикального
или консервативного.
Леворадикальный антипрогрессистский романтизм
больше всего свойствен некоторым бывшим активистам и
теоретикам левацких политических движений конца 60-х
годов, испытавшим крушение своих иллюзий и оттого
ставшим пессимистами и едва ли не агностиками, но
сохранившим при этом былую радикальность суждений,—
судьба отнюдь не единичная в истории общественной
мысли. Весьма показательна в этом отношении
трансформация взглядов группы французских «новых
философов». Для Андре Глюксмана, одного из лидеров этой
группы, сегодня, как и в дни парижского мая 1968 г.,
Манн Т. Письма. М.: Наука, 1975, с. 62.
15
врагом номер один остается тоталитарное государство,
однако сейчас главным объектом нападок служат знание,
рационализм, классическая философия,
представляющиеся источником и основанием господства.
«Господствовать — значит уметь господствовать... Вооруженная
наукой решительная борьба до конца за власть
распространила повсюду свои метастазы»,—заявляет А. Глюксман10.
Начав с обличения немецкой философской традиции, он
постепенно умножил число своих противников,
усматривая гносеологические корни этатизма также в
политической теории Жана Бодена, «европлатонической»
метафизике — от Аристотеля до Лейбница и аналитической
геометрии Декарта и. Другой «новый философ» Бернар-Анри
Леви, будучи полностью солидарным с Глюксманом в своем
отвращении к вечной, неуничтожимой власти,
рассматриваемой как первоисточник всех институтов и норм
человеческого общежития, призывает интеллигенцию занять
позиции антипрогрессизма и антимарксизма, отказаться
от веры в историю, от политической активности, уйти в
себя, в собственное творчество — в этом суть его идеи
«исторического пессимизма».
Особенностью современного антипрогрессизма
является наличие и распространение религиозно-романтических,
точнее — мистико-романтических форм. Характерным
примером здесь могут служить идеи контркультуры,
развиваемые профессором истории Калифорнийского
университета Теодором Роззаком. Направляя острие своей
критики против унаследованного от просветителей
секуляризованного мифа о прогрессе и современной науки
как его источника и опоры, Роззак апеллирует к поэтам-
романтикам, обладавшим, с его точки зрения,
многомерным видением мира в отличие от «одномерного» научного.
Подобно «новым философам», он усматривает прямую
связь между подавляющей человека наукой и
деспотической властью, но в отличие от них он воодушевлен
революционизирующей ролью подымающегося мистицизма,
сулящей, по его убеждению, воплощение в жизнь «новой
утопии», Апокастасиса — Великого Возрождения,
«отречение от безумной онтологии нашей культуры»12. Эта
vo Glucsmann A. Les maitres — penseurs. P.: Grasset, 1977, p. 149.
11 См.: Glucsmann A. Cynisme et passion. P.: Grasset, 1981, 383 p.
12 Roszak Th. Where the wasteland ends. Politics and
transcendence in postindustrial society. Garden City (N. Y.): Anchor press —
Doubleday, 1972, p. 458.
16
«новая утопия» ориентирована, с одной стороны, на
личность (Роззак с глубоким пиететом относится к
Бердяеву, Мунье, Марселю), а с другой —на решение
планетарных, глобальных проблем (тех же персоналистов Роззак
критикует за недостаточную экологическую
чувствительность). «В центре природы,—пишет
Роззак,—находится человеческая личность с ее уникальным проектом,
планом трансценденции ,,яи, в центре же личности —
„бог внутри нас всех"» 13. Для реализации своей утопии
Роззак взывает к «политике» в духе «мистического
анархизма», присущем, по его убеждению, Толстому, Буберу,
Уитмену, Торо, Ганди, Гудману, даоским мудрецам.
В настоящей книге идеи антипрогрессизма
непосредственно рассматриваются в двух главах. В первой из
них прослеживаются линии, ведущие от
антипрогрессизма определенного толка— «экосоциалистического» по
преимуществу — к утопическим асоциальным проектам,
с одной стороны, и к широким гражданским
инициативам — с другой. Во второй представлена противоположная
траектория: от рационалистической и прогрессистскои
утопии персонализма к самому ретроградному аытипро-
грессизму.
«Экосоциализм», подобно другим «социализмам» с
разнообразными приставками и определениями (кроме,
разумеется, научного), характеризуется
идейно-политической двойственностью: ему присуща как реально
антисоциалистическая, так и потенциально
антикапиталистическая направленность, отражающая сложный
конгломерат заблуждений и устремлений весьма пестрых по своему
составу «средних слоев» современного буржуазного
общества. Столь же сложной и неоднозначной
представляется и практическая деятельность «экологических
антипрогрессистов»: явно нежизненные проекты
«преобразования общества изнутри» сочетаются с массовыми
кампаниями в защиту окружающей среды, против угрозы
ядерного уничтожения. Будущее этих движений в
немалой степени зависит от того, какие тенденции в
конечном итоге одержат верх, от исхода борьбы, которую
ведут сегодня различные партии за интеграцию
экологического и антиядерного протеста в контекст реализации
своих политических программ.
13 Roszak Th. Person-planet: The creative disintegration of
industrial society. Garden City (N. Y.): Anchor press-Doubleday, 1979,
p. 121.
17
Эволюция социальных воззрений современного
французского персонализма, завершившаяся возобладанием
первоначально отвергавшейся консервативной критики
прогресса, науки, разума и слиянием ее с
леворадикальными мотивами, в определенной мере предвосхитила
судьбу ряда других идейных течений. В процессе такой
переориентации под влиянием теоретиков
Франкфуртской школы произошло кардинальное переосмысление
ценностей Просвещения. При этом вполне понятное и
оправданное неприятие некоторых реально
существующих негативных аспектов мировоззренческой позиции,
связанной с данной чрезвычайно сложной и
противоречивой эпохой, переросло в тотальное отрицание.
«Диалектика просвещения», сводящая последнее к
товарно-денежной этике (все можно взвесить, измерить, оценить,
купить, продать), к механистическому взгляду на мир и
математизации знания в качестве основы господства
буржуа над природой и обществом, становится
антидиалектикой. Гипертрофия отрицательных моментов в
развитии науки и разума обратилась, как отмечал еще
Э. Блох, в «экзальтацию безнадежности», в источник
пессимизма.
Праворомантический аптипрогрессизм,
перекликающийся с леворомантическим, также вдохновляется
ностальгией по цельному человеку, не испорченному столетиями
социального и духовного развития. Местопребывание
такого человека, однако, подчас определяется в
доисторических, языческих эпохах. Последующая его «порча»,
разрушение целостности, возникновение и усугубление
сложнейших противоречий личной и общественной жизни
относятся на счет не только секулярных наук, но и
христианской религии. Западногерманская поэтесса и
философ Зигрид Хунке в книге с претенциозным названием
«Послекоммунистический манифест» упрекает
«рационалистов, позитивистов и материалистов» в том, что они
«своими резкими дихотомиями и радикалистским
подрывом ценностей мира создали разрыв, проходящий сквозь
мир и сквозь человека»14. Особому порицанию и в
данном случае подвергаются «темная эпоха
Просвещения», с которой началось «угасание непреходящего
смысла жизни», и, разумеется, марксизм, обвиняемый наряду
с христианством в манихейской сосредоточенности на
14 Нипке S. Das nachkommunistische Manifest: Der dialek-
tische Unitarismus als Alternative. Stuttgart: Seewald, 1974, S. 9.
18
злом начале человека и общества. Отстаиваемый Хунке
«диалектический унитаризм» преподносится как возврат
к идее «нерасколотого единства бытия», обнаруживаемой
ею у мистиков и теологов средневековья (Иоанн Скот
Эриугена, Мейстер Экхарт, Николай Кузанский) и у
некоторых философов и поэтов нового и новейшего времени
(Джордано Бруно, Гете, Тейяр де Шардеи).
Специфический вариант праворомаытического анти-
прогрессизма представлен в настоящей книге идеями
французских «новых правых». В этом варианте
традиционно свойственная консерваторам элитарная установка,
проповедь «естественного неравенства» людей сочетаются
с апелляцией к индоевропейским корням культуры,
к дохристианским ценностям, к европоцентризму и
попросту — к расизму. И все это прикрывается флёром
научности или, точнее, наукообразия.
Как бы ни пытались нынешние «новые правые» и
«новые консерваторы» отмежеваться от
идейно-политического наследия своих духовных отцов — твердолобых
консерваторов прошлого, как бы ни стремились они
выглядеть идущими в ногу со временем, с прогрессом,
изображать себя (как это свойственно, например,
западногерманским неоконсерваторам) защитниками идеалов и
ценностей Просвещения от «агрессивного
антипросвещения» радикалов, их неизменно выдает антидемократизм,
недоверие и презрение к «массе», «толпе», «черни».
Почти два столетия не прекращаются попытки
дискредитировать лозунг равенства, поставленный Великой
французской революцией рядом с лозунгами свободы и
братства. Жозеф де Местр и Алексис де Токвиль, Якоб
Буркхардт и Ипполит Тэн, Макс Шелер и Ортега-и-Гас-
сет стремились утвердить мысль о том, что свобода и
равенство несовместимы.
Против равенства неизменно выдвигаются два
главных обвинения. Первое (восходящее еще к Аристотелю)
гласит, что всевластие черни чревато тиранией. Второе
отождествляет равенство с нивелировкой,
стандартизацией, устранением жизненного многообразия и
индивидуальной неповторимости.
И в первом и во втором случае очевидна свойственная
недиалектическому мышлению тенденция к
одностороннему рассмотрению, гиперболизации какой-либо одной
потенции реального социально-исторического процесса и
вынесению на этом основании окончательного оценочного
приговора всему процессу. Идеи тотальной уравнительно-
1*
сти, «казарменного коммунизма» сегодня вряд ли кто
станет всерьез отстаивать, кроме самых крайних,
экстремистов. Однако инвективы неоконсерваторов направлены
не только и не столько против уравниловки, сколько
против равенства в любом варианте — марксистском или
буржуазно-либеральном. Причем, как это нередко бывает,
последний — социально близкий — не только полностью
ассоциируется с первым и входит соответственно
составной частью в собирательный образ общего врага, но и
становится объектом первого удара. Американский
неоконсерватор Дж. Гилдер рассматривает либерализм в
качестве проводника социалистических идей, называя его
«криптомарксизмом» и «протосоциализмом». В
стремлении героизировать дух индивидуального
предпринимательства, готовность к риску и самопожертвованию,
которые якобы составляют основу творческой инициативы,
а отсюда и самого капитализма, он обрушивается на
либеральную интеллигенцию, в угоду коммунизму
уничтожающую «плодоносные тайны неравенства»,
проповедующую «лицемерно-стыдливый» взгляд на классовое
расслоение и «мазохистски» требующую перераспределения
материальных благ, на либеральное государство,
пытающееся осуществить какие-либо меры по контролю над
прибылями, ценами, заработной платой, по ограничению
нищеты и безработицы. «Культура пособий» объявляется
ответственной, с одной стороны, за развращение масс,
теряющих интерес к производительной деятельности,
а с другой — за рост бюрократии, паразитирующей на
социальном обеспечении. (Ненависть к государственному
регулированию экономики настолько велика, что «Новый
курс» Ф. Рузвельта расценивается как «первый
американский опыт фашизма».) Столь же негативно
трактуются и движения за женское и расовое равноправие 15.
Какова же предлагаемая альтернатива? В разных
секторах неоконсерватизма на этот счет имеются, понятно,
несколько отличающиеся соображения, при всем том.
однако, непременными атрибутами остаются
настоятельные требования порядка и дисциплины, сильной государ
ствеиной власти, социальной стабильности и
преемственности. Первое среди этих требований — порядок,
соответствующий интересам господствующего класса,—является
и главным, исходным, определяющим все остальные
Одна из основных посылок консерватора любой масти и
15 Gilder G. Wealth and poverty. N. Y.: Basic books, 1981, 306 f-
W
любой эпохи состоит в том, что человек в массе —
существо ущербное и неорганизованное, но поддающееся
исправлению и дисциплинированию при наличии сильной
руки. Порядок обеспечивается, разумеется, не одной
лишь властью: большая роль отводится «здоровым»
традициям и моральным нормам, различным
общественным институтам, включая семью, систему воспитания и
образования, церковь, общественные организации и т. п.,
которые вкупе должны пресечь разброд, шатания и
смятение в умах. Здесь-то и обнаруживается, что
рассуждения о «многообразии» и «индивидуальности» нужны
лишь до поры (да и то не всегда), а авторитарность,
создаваемая на почве консерватизма, ничем не лучше той,
что проецируется из равенства.
В прошлом консервативный порядок опирался, как
правило, на авторитет религии, церкви. Ныне такие
ссылки стали редкостью. Их место в большинстве случаев
заняла наука, точнее — некоторые концепции из области
антропологии, биологии, системного анализа, отвечающие
умонастроениям неоконсерваторов и «новых правых».
Среди них, например, можно упомянуть социальные
взгляды известного австрийского зоолога Конрада
Лоренца. Его идеи относительно биологической
обусловленности человеческого поведения, в частности склонности
«подчиняться авторитету», питают самые реакционные
построения. Прогрессивная научная общественность
Запада расценивает такие биологизаторские идеи как
«родственные фашистским» 16. В области теории систем
наибольшее внимание неоконсерваторов привлекают
утверждения о том, что иерархия представляет универсальный
принцип, действующий с равной силой в природе и
обществе. Американский социолог, профессор университета
г. Нью-Йорка Роберт Лилиенфельд, разбирая взгляды
известного специалиста по системному анализу Э. Ласло,
математически доказывающего преимущества
иерархических систем перед неиерархическими, отмечает, что в
приложении к обществу подобные взгляды фактически
проповедуют свободу командовать для тех, кто находится
на вершине иерархии, и свободу подчиняться для тех,
кто замкнут в системе17.
16 Schmidbauer W. Der Tiervergleich als burgerliche Ideologie.
Die Humanethologie von Konrad Lorenz.— In: Der neue Konserva-
tismus der siebziger Jahre. Hamburg: Rowohlt, 1974, S. 66—77.
17 Lilienfeld R. The rise of systems theory: an ideological
analysis. N. Y. etc.: John Wiley and sons, 1978, p. 174.
21
Все это в полной мере относится к французским
«новым правым», которые, однако, занимая крайний фланг
современного консервативного движения, идут в
некоторых отношениях значительно дальше своих коллег и тем
самым как бы раскрывают главные тенденции всего
движения. «Новые правые», разделяя общие для всего
консерватизма элитарные установки, открыто
распространяют идеи иерархии на межнациональные и межрасовые
отношения. Тем самым конкретно, идеологически
реализуются возможности соединения мистики биологической
детерминированности социальных характеристик
человека с мистикой «крови и почвы», предоставляемые
некорректным выходом в философию и социологию
некоторых естественнонаучных теорий. Именно о такой
опасности говорил на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС
тов. К. У. Черненко, критикуя «попытки механического
перенесения понятий и методов естественных и
технических наук па область общественных явлений, упрощенное
толкование взаимоотношений природы и общества» 18.
Теория «модернизации», анализируемая в
заключительной главе, стоит несколько особняком среди
концепций, рассматриваемых в данной книге, поскольку в числе
ее адептов находятся буржуазные ученые различной
методологической и идейной ориентации. Тем не менее и в
этом случае с полной очевидностью просматриваются те
основные тенденции, о которых говорилось выше. Как бы
ни были различны представленные здесь взгляды, сколь
бы академически они ни были выражены, не подлежит
сомнению консервативный, а в некоторых аспектах и
откровенно реакционный характер теории в целом. Такой
характер задается прежде всего исходной позицией,
точкой зрения, согласно которой моделью, образцом для
всего мира служит путь, пройденный в развитии политики,
экономики, культуры странами Запада, причем в
некоторых версиях даже не всеми, а только англосаксонскими.
Отсюда подчас вытекает та двойная мерка, о которой
упоминалось ранее в связи с характеристикой различного
ценностного подхода к утопии и современности:
поскольку путь один, но проходят его отсталые страны с
запозданием, то «либерально» допускается отступление от
демократических методов руководства этими процессами в
пользу авторитарных. Консерваторы же, реализуя свои
18 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 14—
15 июня 1983 г. М., 1983, с. 34.
22
иерархические установки в глобальном контексте,
ранжируют страны по степени их «модернизированности»,
«рационализации» и т. п., тем самым не только
схематизируя сложную картину мира, но и искажая ее, ибо
отказываются от признания определяющей роли
социально-классовой ориентации.
Настоящая монография подготовлена авторским
коллективом сотрудников Отдела научного коммунизма
Института научной информации по общественным наукам
АН СССР. Введение — Я. М. Бергер, гл. I - Л. Н. Верче-
нов, гл. II — В. А. Чаликова, гл. III — Л. В. Вольфсон,
гл. IV — А. Б. Каплан, гл. V — И. В. Случевская, гл. VI —
Л. Б. Волков, заключение — Л. Б. Волков.
Научно-вспомогательная работа выполнена В. Н. Листовской. В книге
использованы рефераты С. Г. Айвазовой, В. В. Бибихина,
Р. А. Гальцевой, Е. А. Гнедина, Л. Г. Истягина, Д. Н. Ля-
ликова, Г. Ф. Пархоменко, М. К. Петрова, И. Б. Роднян-
ской, Л. А. Седова, М. А. Султановой и др. Авторы
благодарят профессоров Э. А. Араб-Оглы, Г. А. Ашина,
В. А. Карпушииа и доцента Р. Ф. Додельцева за ценные
советы и критические замечания, способствовавшие
совершенствованию рукописи.
23
Глава I
Человек и общество:
антропологическая интерпретация
общественного развития Эрихом Фроммом
На всем протяжении XX столетия ширится и
углубляется повсеместный интерес к проблеме личности, проблеме
человека. В условиях кризиса капиталистического
общества и системы его ценностей представители буржуазной
общественной мысли более или менее отдают себе отчет
в том, что самим ходом истории человек поставлен перед
необходимостью переосмысления его места в мире, его
роли в обществе, его отношений с другими людьми.
Проблемы человека, в первую очередь проблема
взаимоотношений индивида и общества, становятся объектом особой
и пристальной заинтересованности, когда выясняется, что
не все здесь в порядке, что налицо симптомы «болезни».
В такие периоды в жизни общества заметно
активизируется антропологическая мысль. Антропологически
ориентированные размышления и теории особенно
характерны для буржуазного сознания нашего времени.
Причину возросшего на Западе интереса к
философским учениям, которые делают человека главным
предметом своего исследования, представители марксистской
общественной науки усматривают в том, что в
современном антагонистическом обществе «человеческий
индивидуум выпал из возвышавшихся над ним охранительных
порядков, лишился критериев и смысла ценностей,
придававших значение и смысл его жизни. Он оказался
покинутым и заброшенным, предоставленным самому себе,
обнаружил всю непрочность и проблематичность своего
существования» (9, с. 6).
Эта порожденная общим кризисом капиталистического
строя проблематичность существования человека
по-разному отражена, как показывают исследования советских
ученых, в концепциях видных буржуазных
обществоведов. Например, учение X. Ортеги-и-Гассета о человеке
«было обращено к исследованию индивидуальных сторон
его (человека.—«#. В.) жизнедеятельности как
обеспечивающих сохранение подлинности жизни человека перед
лицом неподлинности мира „массового сознания*1 и „мас-
24
совой культуры"» (12, с. 158), а философские конструкции
Ж.-П. Сартра отразили раскол целостного бытия
буржуазного общества, обусловивший распад общечеловеческих
связей: «Сартр создал точечный полюс атомарного
бытия ... который немыслим вне существования его
антипода — всесокрушающей и несущей смерть
индивидуальности позднекапиталистической цивилизации» (17, с. 281).
Словом, в размышлениях многих буржуазных ученых
отражены попытки осмыслить ситуацию человека в
кризисных условиях современного западного общества или
даже обосновать пути противостояния человека этим
кризисным условиям. Однако только марксистская мысль,
отмечает Р. С. Батищев (5, с. 110), дала подлинно научное
объяснение причинно-следственным связям социальных
явлений: почему люди создавали и создают такие
враждебные своему творческому деянию формы жизни, которые,
если воспользоваться словами К. Маркса, ограничивают
«человеческий разум самыми узкими рамками, делая из
него покорное орудие суеверия, накладывая на него
рабские цепи традиционных правил, лишая его всякого
величия, всякой исторической инициативы», как и почему
складывается «лишенная достоинства, неподвижная
растительная жизнь», которая вызывает «в противовес себе
дикие, слепые и необузданные силы разрушения» (1,
с. 135—136). Именно очевидность нарастания
«необузданных сил разрушения» привела к тому, что попытки
осмысления ситуации человека приобрели сегодня
поистине всеобщий характер.
Для наглядности приведем два заявления. Видный
общественный деятель, организатор и президент Римского
клуба А. Печчеи констатирует: «В мире никогда не
царил такой беспорядок, и никогда прежде в мире не было
столь большого количества различных опасностей» (14,
с. 54). Более того, «нынешняя, полная чудес и
противоречий фаза прогресса... глубоко изменила всю нашу
маленькую человеческую вселенную, поставила перед
человеком невиданные доселе задачи и грозит ему
неслыханными бедами» (14, с. 6).
В начале 1981 г. в диалоге известных советских
политических обозревателей А. Бовина и В. Кобыша была
предпринята попытка охарактеризовать начавшееся
десятилетие, «неспокойный мир восьмидесятых». В ходе
беседы прозвучала мысль о том, что «человечество
оказалось сейчас на таком отрезке своего развития, когда
стали ясно впдиы трудности роста всей меняющейся на
25
глазах планеты... В противоречиях, столкновениях, а то и
муках она рождает более совершенную цивилизацию»
(7, с. 15).
Перед нами два утверждения о сложности и
конфликтности существования современного человека, о
неоднозначном характере современного прогресса.
Зафиксируем «в уме» акцент на переломный характер современной
эпохи, определенную ее рубежыость — мотив этот, в
другой, правда, интерпретации, еще прозвучит ниже.
Совпадение констатирующих частей приведенных
диагнозов состояния нынешней действительности само по
себе симптоматично, однако — и это самое существенное
с точки зрения нашего исследования,— различие
классовых и идеологических позиций их авторов наглядно
воплощается в тональности этих диагнозов: явно
пессимистическом в первом случае и
уверенно-оптимистическом — во втором. Для немарксистских теорий
общественного развития одна из самых характерных черт —
неспособность подняться от более или менее верных
наблюдений до подлинно научного их осмысления. Эта
неспособность не в последнюю очередь обусловливается
непониманием диалектики общественного развития. Что
касается уверенно-оптимистической марксистской оценки
перспектив общественного развития, то она основана на
познании объективных исторических законов и поэтому
не подвержена колебаниям и всякого рода шараханиям
из крайности в крайность. В Отчетном докладе ЦК КПСС
XXVI съезду партии со всей определенностью было
заявлено: «Если будет мир, творческая энергия народов,
опираясь на достижения науки и техники, наверняка
решит те проблемы, которые сейчас волнуют людей.
Конечно, тогда перед нашими потомками возникнут новые,
еще более высокие задачи. Что ж, такова диалектика
прогресса, диалектика жизни» (4, с. 31).
Для многих направлений буржуазных теорий
общественного развития игнорирование диалектики прогресса
выступает сегодня в форме «искусственного
противопоставления путей общественного развития и ценностей
бытия» (22, с. 311). Конкретными проявлениями
подобного противопоставления являются взгляды тех
современных буржуазных обществоведов, которые, описывая
социальную ситуацию в развитых капиталистических
странах, вынуждены признать: с одной стороны, здесь
более или менее удалось избавить человека от бремени
заботы о куске хлеба насущного, что как будто должно
26
было бы позволить человеку активнее включиться в
социальный процесс (поскольку устранены весьма
существенные обстоятельства, которые еще в сравнительно
недавнем прошлом оказывались для подавляющего
большинства людей непреодолимым препятствием на пути
свободной и творческой реализации родовых, сущностных
черт homo sapiens), однако при этом, с другой стороны,
человеческое существование все больше лишается
смысла прежде всего из-за отсутствия идей и ценностей,
способных одухотворить повседневную жизнь и придать
сколько-нибудь весомую, жизнеутверждающую силу
ориентирам будущего.
В принципе такие буржуазные ученые достаточно
четко фиксируют реальное состояние современного
западного общества. Противоречивый, зигзагообразный и остро
проблемный характер общественного развития в условиях
антагонистической формации наглядно воплощается
сегодня в том, например, обстоятельстве, что
научно-технический прогресс сопровождается деформацией
социальной и культурной среды; показателями этой
деформации становятся, в частности, кризис человеческих
отношений, девальвация культурных норм и
нравственных критериев. Строго говоря, чем больше существование
человека насыщено смыслом, наполнено
воодушевляющими ценностями и одухотворено высокими целями, тем
интенсивнее индивид, чувствуя себя активным носителем
своих потенций, ощущает полноценность бытия. В
условиях современного капиталистического общества более
или менее нормальные отношения индивида с
социальной средой невозможны, ибо социально-экономические
отношения не соответствуют подлинному, родовому
назначению человека.
Нам в связи с этим хотелось бы остановиться на том
направлении немарксистских теорий общественного
развития, в котором главную роль играет психология.
Одним из самых наглядных примеров психологизации
проблем общественного развития явился психоанализ 3.
Фрейда. Те последователи Фрейда, которые известны как
неофрейдисты, в первую очередь К. Хорни, Э. Фромм и
Г. Салливен, попытались реформировать классический
психоанализ, перенеся центр тяжести исследований с
внутрипсихических процессов на межличностные
отношения. Главными для них стали размышления о взаимном
влиянии индивидуальной психики и социальных
институтов, о природе взаимоотношений между ними, о воз-
П
можных путях разрешения постоянно возникающих
между ними конфликтов.
Чтобы детальнее разобраться в подобного рода
размышлениях, чтобы выявить и критически
проанализировать занимающую далеко не последнее место в
современном западном обществоведении психологическую
трактовку общественного развития вообще, характера
нынешнего прогресса в частности, обратимся к
социальной теории Эриха Фромма \ который, кстати, дальше
всех неофрейдистов прошел по пути превращения
психоанализа в социальную философию. В западной
социальной науке теоретическая деятельность Э. Фромма
оценивается достаточно высоко: «Фромм внес
значительный вклад как в область социальной теории, так и в
наше понимание современного человека» (16, с. 282).
В приведенном суждении, пожалуй, не совсем точно
расставлены акценты: правильнее было бы сказать, что
значительный вклад Фромма в западную социальную науку
состоит именно в углублении понимания современного
человека в самом широком смысле слова.
В свое время западногерманский философ
(известный специалист в области современной западной
философской мысли) А. Хюбшер отметил: «Чувство угрозы
самому нашему бытию не хочет знать никакого другого
1 Эрих Фромм — известный американский ученый, область
исследования которого охватывала социальную психологию,
социологию, философию, религию, антропологию,— родился в 1900 г. в
Германии. В двадцать два года он получил степень доктора
философии в Гейдельбергском университете; в 1929—1932 гг. активно
сотрудничал в Институте социальных исследований во Франкфур-
те-на-Майне, т. е. как раз в тот период, когда там оформилась
Франкфуртская школа. Не желая оставаться в гитлеровской
Германии, в 1934 г. Фромм эмигрирует в США, навсегда связав свою
личную и научную судьбу с этой страной. Вышедшая здесь в
1941 г. книга «Бегство от свободы» сделала его знаменитым.
Америка настолько вошла в плоть и кровь Э. Фромма, что весьма
приметной особенностью, пронизывающей все его размышления,
становится безусловный «американизм»: когда Фромм говорил
«человечество», то, как правило, имел в виду американское и
западноевропейское общество, когда же он говорил «Запад», то
подразумевал США. Являясь одним из основных представителей
неофрейдизма, Фромм упорно не желал соглашаться с такой
классификацией, и предпочитал называть свои теории «гуманистическим
психоанализом», «диалектическим гуманизмом», либо в последних
своих работах — «радикальным гуманизмом». В 1974 г. он
поселяется в Швейцарии. Здесь в своем доме в местечке Муральто
он умер 18 марта 1980 г., не дожив пяти дней до
восьмидесятилетия. Смерть прервала работу над очередной монографией, в
которой планировалось рассмотреть проблемы психотерапии.
28
ответа, кроме утопической надежды или
эсхатологического отчаяния, кроме древнего, из жажды счастья и мира
выросшего ожидания близкого свершения надежд или
смутного предчувствия гибели» (20, с. 16). Выбор фигуры
Э. Фромма в качестве объекта настоящего исследования
представляется тем более оправданным и уместным,
поскольку в его лице мы имеем дело с ученым, который,
не желая мириться с крайностями и односторонностью
выбора альтернативы, если иметь в виду приведенную
формулу Хюбшера, попытался по-своему осмыслить
диалектику современного общественного развития. Во
всяком случае Э. Фромм, бесспорно, относился к числу
представителей западной социальной науки, теории
которых в силу классовой ограниченности их авторов несли
на себе печать неизбежного пессимизма, однако при этом
в размышлениях этих ученых с разочарованием
соседствует ожидание и, пусть слабо, но все-таки мерцает
надежда.
В некрологах и публикациях в связи со смертью
Э. Фромма практически единодушно подчеркивался его
выдающийся вклад в социальную науку Запада. «Нью-
Йорк тайме», например, отметила, что работы Фромма
охватывали широкий круг проблем «от анализа
отчуждения человека до обоснования путей к здоровому
обществу» (48, с. 11). В данном случае оценка масштаба
научной деятельности Э. Фромма показательна именно
тем, что в ней четко зафиксированы те полюса, между
которыми, собственно, и помещается наиболее
интересующая нас часть размышлений американского
ученого — интерпретация социальной действительности,
понимание им проблем, конфликтов и перспектив
общественного развития2.
2 Во избежание недоразумений отметим, что анализ взглядов
Э. Фромма в данном случае не претендует на исчерпывающую
полноту и всесторонность, ибо исследование намеренно
ограничивается той областью размышлений американского ученого,
которая, как нам представляется, имеет прямое отношение к
комплексу проблем, рассматриваемых в настоящей монографии.
Читателя, интересующегося марксистским осмыслением
неофрейдистской концепции Э. Фромма в целом, отсылаем в первую
очередь к следующим источникам: Гёде Л. Критика
«гуманистически-экзистенциалистской» интерпретации Маркса Фроммом.—
В кн.: Ленинизм и современные проблемы историко-философской
науки. М., 1970, с. 430—464; Гуревич П. С. Антропологизм Эриха
Фромма как эстетическая проблема.— В кн.: Художественное
произведение и личность / Под ред. Ю. Б. Борева. М., 1975, с. 173—
226; Добренькое В. И. Неофрейдизм в поисках «истины» (иллюзии
29
При анализе взглядов Э. Фромма нельзя упускать из
виду следующие идейно-теоретические и
методологические обстоятельства. Во-первых, при безусловно
неофрейдистском подходе, социальная теория Э. Фромма, если ее
рассматривать в широком контексте современной
буржуазной общественной мысли, имеет вполне определенную
идейно-политическую ориентацию и тональность,
являясь специфическим отражением «умонастроения
значительных слоев либерально мыслящей,
демократически настроенной буржуазной интеллигенции...»
(10, с. 4). Поэтому уяснение смысла и значения
взглядов Э. Фромма в какой-то мере (хотя и довольно
косвенной) может оказаться полезным для размышления о
состоянии современного либерализма в США,
переживающего в последнее время далеко не лучшие свои дни.
Во-вторых, рассматривая взаимоотношения индивида
и общества, более того, признавая при этом
определяющее воздействие общества на формирование индивида,
Э. Фромм остается верен 3. Фрейду в одном из
принципиальных для основателя психоанализа положений: как
и Фрейд3, он считает критерием общественного
(культурного, как предпочитает говорить Фромм) развития
самочувствие человека, т. е. его психологическую
удовлетворенность или неудовлетворенность общей жизненной
ситуацией. Без учета этого обстоятельства попросту
невозможно более или менее аутентично понять и
прочувствовать отношение Фромма к проблематике
общественного развития.
Начав свою научную биографию в качестве
психоаналитика, Э. Фромм с годами все больше внимания уделял
проблемам развития общества и уяснению места
индивида в обществе. Однако систематизированной социальной
теории, строго говоря, он не создал. Пожалуй, это не
входило в его намерения. Работы Фромма
характеризуются в первую очередь нравственным беспокойством и
эмоциональной озабоченностью. Он постоянен в своем
и заблуждения Эриха Фромма). М., 1974. 144 с; Шварцман К. Л.
«Гуманистическая этика» Э. Фромма.— Вопр. философии, 1971,
№ 6, с. 89—100; Уэллс Г. К. Крах психоанализа: От Фрейда к
Фромму: Пер. с англ. М., 1968. 287 с.
3 Подробнее об основных установках классического
психоанализа, в которых 3. Фрейд отразил свои представления об
опасности процесса социализации для личности см. в статье: Додель-
цев Р. Ф. Проблема искусства в мировоззрении Зигмунда
Фрейда.— В кн.: О современной буржуазной эстетике: Сб. статей. М.,
1972, вып. 3, с. 61—72.
30
настойчивом стремлении разобраться в ситуации
индивида в обществе развитого капитализма, но его мало
заботит оформление своих взглядов в цельную и стройную
теорию. Пафос позволяет ему находить видимость
выхода из тех положений, где научный анализ показал бы
бесперспективность и тупиковость анализируемой
ситуации.
В-третьих, нельзя не учитывать того обстоятельства,
что на Э. Фромма произвело огромное впечатление и
оказало определенное влияние знакомство с трудами
К. Маркса. Вообще сам факт обращения к Марксу и
открытое выступление в его защиту потребовали от
ученого гражданского мужества, поскольку происходило
это в период, когда апелляция к Марксу еще не стала
среди западных обществоведов модой, а в условиях
США к тому же была и не совсем безопасной. Но при
этом Маркс был воспринят Фроммом более чем
своеобразно и так же своеобразно «перетолкован»: Э. Фромм
проявил типичную для обращающихся к Марксу
представителей буржуазной социальной науки склонность
рассматривать Маркса в отрыве от практики рабочего движения,
выхолащивая к тому же его пролетарскую
революционность и игнорируя его материализм.
«Интерпретация истории Марксом, — напишет
Э. Фромм,— может быть названа антропологической
интерпретацией истории» (35, р. 13). Достаточно вольно,
но при этом целенаправленно интерпретируя и трактуя
Маркса, Фромм вписывается в то направление
буржуазного обществоведения второй половины XX столетия,
которое пыталось и пытается противопоставить Маркса
революционному марксизму. Подлинные намерения таких
буржуазных ученых выразил в статье «Второе
пришествие Маркса» (речь шла о заметно возросшем в 60-е
годы на Западе интересе к отдельным идеям К. Маркса)
С. Хук, широко известный своими
антикоммунистическими взглядами. «Во второй раз,— писал С. Хук,— он
(Маркс—Л. В.) приходит не в сюртуке экономиста как
автор ,,Капитала4', не как революционный санкюлот,
вдохновенный памфлетист и автор „Манифеста
Коммунистической партии". Он приходит в облике философа и
проповедника морали с радостным провозглашением
всеобщей свободы, которой тесны узкие рамки класса,
партии или фракции. В его свите ... не пролетариат, а
профессура, не социально угнетенные и обездоленные,
д психологически отчужденные...» (42, р. 26). Так что
31
Фромм далеко не одинок в своем особом отношении к
Марксу и его идеям. Что же касается попытки
интерпретировать теорию Маркса как антропологическое
понимание истории, то она в данном случае показательна: такое
именно толкование Маркса понадобилось Э. Фромму,
поскольку оно в большей или меньшей мере
соответствует духу и логике его собственной концепции
общественного развития. В марксистских исследованиях эта
особенность концепции Фромма — антропологический
подход к описанию и характеристике социальной дейстг
вительности — уже подвергалась критическому анализу.
Читателя можно отослать, например, к книге М. Б.
Митина, в которой автор специально уделил внимание
критике антропологической трактовки прогресса Э. Фроммом
(13, с. 51-57).
* * *
В оценке перспектив возможных позитивных
изменений современного общества Э. Фромм весьма осторожен.
Наряду с вопросом, в правильном ли направлении
движется нынешнее общество, его волнует не менее важный
вопрос, какой ценой оплачивается это движение. В этих
его соображениях ко всему прочему можно уловить,
правда в подтексте через отрицание неприемлемого, намеки
на те пути и направления, которые представляются
Фромму перспективными в поисках выхода из того
тупика, в котором пребывает ныне буржуазная цивилизация.
В кратком введении, которое по просьбе И. Иллича,
автора экстравагантных концепций социальных реформ в
первой половине 70-х годов, Э. Фромм написал к одной
из его книг, пафос направлен против тех трактовок
прогресса, в которых последний отождествляется с
«растущим и все увеличивающимся объемом производства и
потребления, увеличением свободного времени,
максимальной эффективностью, и, таким образом, все проблемы
сводятся к количественному аспекту экономической по
преимуществу сферы деятельности, при этом
игнорируется воздействие той или иной формы такого рода
деятельности на качество жизни и всестороннее развитие
человека; с „прогрессом41 также
отождествляют,—продолжает Фромм,— различные догматические
представления о том, например, что возрастающее потребление
якобы делает человека счастливым; что управление
гигантскими современными предприятиями обязательно должно
быть бюрократически отчужденным; что цель жизни —-■
32
это иметь (и потреблять), а не быть; что разумное бытие
индивида ограничивается только интеллектом и
противопоставлено эмоциональному миру человека; что новое
всегда лучше старого, а радикальное — это то, что
напрочь отрицает традицию; что противоположностью
«закону и порядку» может быть только обязательное
отсутствие всякой структуры (и организации). Короче говоря,
считается, что идеи и категории, возникшие в лоне
современной науки и нынешней индустриальной
цивилизации, бесспорно, являются лучшими и превосходят идеи
и категории существовавших прежде культур, более того,
что именно в качестве таковых они необходимы для
прогресса человечества» (34, с. 11). Практически все пункты
этого своего рода программного заявления и явятся
объектом последующего критического анализа. Одно
обстоятельство, впрочем, уточним сразу же: Э. Фромм не
исключал вероятности прогресса, по крайней мере в
качестве одной из альтернатив современного
общественного развития. Как же в таком случае он трактует его?
Критерий прогресса, писал Э. Фромм в книге
«Здоровое общество»,— это человек, рассматриваемый во всей
его цельности: человек не может быть свободен в своих
мыслях, т. е. свободен интеллектуально, если он не
свободен в своих чувствах, т. е. не свободен эмоционально, оп
не может быть свободен эмоционально, если является
зависимым существом в практике повседневной жизни,
в первую очередь в сфере экономических и социальных
отношений. Главное препятствие на пути прогресса
человечества до сих пор в том именно и заключалось,
считает Фромм, что как на практике, так и в теории, даже
при самых благих намерениях, усилия, как правило,
концентрировались па какой-либо одной стороне и сфере
человеческой деятельности и в результате страдало
целое — упускался из виду человек как целое.
Любое изменение в общественном развитии, заявляет
Фромм, «должно иметь место одновременно в
экономической, политической и культурной сферах. Изменение,
ограниченное какой-либо одной из этих сфер, является
деструктивным изменением» (37, р. 361). Таким образом,
уточняет Э. Фромм, «один шаг интегрального прогресса,
т. е. прогресса, охватывающего все сферы жизни, будет
иметь значительно более далеко идущие последствия и
гораздо более основательные результаты для прогресса
человечества, чем сотня шагов и мероприятий,
торжественно провозглашаемых и намечаемых... в какой-то одной
2 Заказ JSft 3610
33
изолированной сфере. Минувшие тысячелетия
несостоятельности этого изолированного прогресса должны,
наконец, послужить убедительным уроком» (37, р. 272—273).
Итак, идеалом общественного развития для Фромма
является свободная и счастливая жизнь человека. Индивид
должен ощущать полноценность своего бытия, значимость
своей личности и иметь возможность реализовать всю
многосторонность своего «я» — без этого все
рассуждения о прогрессе теряют смысл. История с этой точки
зрения продемонстрировала свою полную
несостоятельность. Не дает особых оснований для оптимизма, по
мнению Фромма, и нынешняя действительность. Более того,
констатирует Э. Фромм, «сегодня мы отчетливо осознаем,
что вместо прогресса возможно новое варварство или
всеобщее уничтожение» (30, р. 172).
Вот так, начав вроде бы «за здравие», Фромм
кончает «за упокой». Для того чтобы детальнее представить,
как и почему он пришел к этому, остановимся на
некоторых принципиальных положениях его социальной
теории.
Каждое общество, говорил Фромм, формирует
собственный тип личности, в котором оно нуждается для того,
чтобы успешно функционировать. Созданием
современного капитализма является отчужденный человек, ставший
рабом и пленником тех экономических, социальных и
политических институтов и обстоятельств, которые созданы
им самим же; человек этот ощущает себя не активным
носителем своих потенций и способностей, а всего лишь
предметом, «вещью», ибо созданное его руками и
интеллектом оказывается выше человека и обращается против
него.
В отличие от Фрейда, который отразил в своей
концепции лишь общий климат беспокойства, психической и
интеллектуальной неудовлетворенности, обусловленных
ситуацией индивида в буржуазном обществе, Э. Фромм
предложил конкретный и детальный анализ «болезней».
Именно в этом аспекте социальной теории Э. Фромма
сильнее всего ощущается влияние К. Маркса. Благодаря
знакомству с трудами К. Маркса Фромм сумел
основательнее разобраться в ситуации человека в современном
капиталистическом обществе, ибо он уяснил, что
невозможность для человека реализовать свое «я» стала
результатом отчуждения. «Феномен отчуждения,— писал
Э. Фромм,— это главное в вопросе воздействия
капитализма на личность» (37, р. 210).
34
Правильно, но односторонне уловив то обстоятельство,
что ядро проблемы отчуждения — в разрыве между
сущностью человека и его существованием, Фромм, однако,
весьма своеобразно интерпретирует Марксову идею
отчуждения. «Критикуя капитализм,— говорит Э. Фромм,—
Маркс отнюдь не руководствовался принципом
справедливого распределения прибыли; он подвергал критике
не капиталистов, а способ производства, который
разрушает и порабощает человека, ибо человек — и рабочий и
капиталист — порабощается предметами и
обстоятельствами, которые им самим созданы» (35, р. 48—49).
Таким образом, в отличие от Маркса, установившего
материалистическую иерархию форм отчуждения, беря за
основу отчуждение экономическое, Фромм концентрирует
внимание и все свои усилия только на том
обстоятельстве, что отчуждение ведет к искажению человеческой
личности, он предельно психологизирует проблему
отчуждения. Как отмечает венгерский философ Л. Эрёш,
отчуждение для Фромма — это не одно из проявлений
капитализма, а глобальное социально-психологическое
состояние капитализма как такового (24, с. 91). Притом
состоянию этому Фромм придает весьма определенную
окрашенность: для неофрейдистов при объяснении
психологического напряжения современного человека одной
из основных является введенная Г. Салливеном
категория «беспокойство», Фромм трансформирует эту
категорию в отчуждение, сохраняя, однако, ее эмоциональное
содержание.
Следуя ходу мысли К. Маркса, сформулированной в
«Экономическо-философских рукописях 1844 года»,
Фромм описывает отчуждение человека в современном
буржуазном обществе как со стороны его отношения к
продуктам своего труда, так и в самой
производственной деятельности, показывает, как отчужденный труд
отчуждает от человека его человеческую сущность,
порождая, как следствие, отчуждение человека от человека.
Отправляясь от исходных положений К. Маркса, Фромм
пытается дополнить их, ибо Маркс, по его мнению, не
предвидел размеров, в которых отчуждение станет
судьбой подавляющего большинства людей; в частности,
Маркс, говорит Э. Фромм, еще не мог предвидеть, что
«отчуждение в условиях изобилия может быть таким же
дегуманизирующим, как и отчуждение в условиях
бедности и нищеты» (39, р. IX). В принципе Фромм
фиксирует здесь то реальное обстоятельство, что в условиях
35
2*
развитого капиталистического общества появились
многочисленные группы населения, включая и значительную
часть рабочего класса, которые действительно не
сталкиваются с проблемами если уж не бедности, то нищеты во
всяком случае. Однако они оказались перед лицом новых
серьезных проблем — проблем чрезмерной
психологической напряженности, опустошенности, бесцельности и
бесцветности существования. При этом следует обратить
внимание па то обстоятельство, что говоря как будто об
отчужденном человеке вообще, Фромм фактически
описывает ситуацию представителя той социальной группы,
которую принято называть средним классом. Логика
Э. Фромма в данном случае вполне понятна: поскольку
отчуждение рассматривается им преимущественно как
психологический феномен, постольку именно
представитель среднего класса оказывается наиболее подходящим
объектом, хотя бы потому, что, не участвуя в
непосредственном производительном труде, он в большей мере
является объектом манипуляции и его функционирование
нередко зависит от того, насколько умело он «подает»
(т. е. продает) свою личность.
Уязвимость подобного подхода Э. Фромма лежит на
поверхности: из поля его зрения совершенно выпадает,
если воспользоваться термином некоторых советских
исследователей (11, с. 316), «другое основное
направление» развития личности в условиях современного
капитализма, являющееся следствием участия в борьбе
трудящихся за социальную справедливость, в
антимонополистической борьбе широких масс за демократию и прогресс.
Понятно поэтому, что фроммовская критика капитализма
не выходит за рамки романтической критики последнего
со стороны левой буржуазной интеллигенции. Бросается
в глаза совпадение с некоторыми принципиальными
положениями «новых левых», для которых исходным
пунктом всегда являлся отчужденный индивид, а не
эксплуатируемый класс; об этом, кстати, говорила и их
терминология с такими ключевыми понятиями, как истеблишмент,
бюрократия, манипулирование, которым обычно
противопоставлялись общность, любовь, участие, ангажированность.
Фактически, рассуждая об отчужденности человека в
современном западном обществе, Фромм описывает
только его психологическую, точнее,
социально-психологическую ситуацию.
Естественно поэтому, что Фромм, когда речь идет о
преодолении отчуждения, не может предложить сколько-
36
иибудь реальных путей. Однако в трезвом описании де-
гуманизирующего и извращающего влияния современного
капитализма на личность много точных наблюдений и
достоверных обобщений. Собственно анализ Фроммом
ситуации отчуждения человека по-своему иллюстрирует
тезис об углублении общего кризиса капитализма:
Фромм показывает конкретные проявления этого кризиса
на специфическом срезе общественной жизни, а именно на
срезе психологической ситуации индивида. Теории,
подобные концепции Э. Фромма, концентрируют внимание
на росте нервной напряженности современного человека,
прямо обусловленной природой капиталистического
строя, фиксируют перманентное нарастание
противоречий в лоне этого общества. Противоречия эти
исследуются на фоне все более тяжкого давления нынешнего
капитализма на нервную систему человека.
В 1941 г. Э. Фромм следующим образом описал
западное общество, фактически придав ему черты
американской действительности: «Общий стиль эпохи
соответствует набросанной мной картине. Гигантские города, в
которых человек поистине затерян; здания, обступающие его,
как горы; непрестанное бомбардирование звуками радио,
огромными заголовками газет, меняющимися по три раза
на дню и не оставляющими возможности понять, что же
в действительности происходит и что действительно
важно; зрелища, в которых сотня герлс с точностью
часового механизма демонстрирует способность полного
нивелирования индивидуальности и одновременного
функционирования в качестве мощной и хорошо отлаженной
машины; нервирующий ритм джаза — все это, как и много
других подобных явлений, отражает систему, в рамках
которой индивид стоит лицом к лицу с какой-то
гигантской и безмерной обезличенностью в качестве
малюсенькой ее части. Единственное, что ему остается и
позволяется сделать, это войти в ритм, подобно марширующему
солдату или рабочему у бесконечной ленты конвейера. Он
может действовать, но чувство независимости и
значимости человеческой личности куда-то пропало» (31, р. 113—
114).
Мотивы потерянности и изолированности человека,
возрастания механического начала во всем укладе его
жизни и, как следствие, утраты подлинно человеческого
смысла бытия пройдут через все последующие работы
Фромма, вплоть до последних его книг. Снова и снова
Э. Фромм возвращается к этим мотивам, развивая, уточ-
37
няя и углубляя их конкретное содержание.
«Отчуждение — вот участь отдельного человека при капитализме ...
Человек становится чужим самому себе... Он перестает
быть центром собственного мира ... он чувствует себя уже
не творцом и господином, а лишь слугою вылепленного
им Голема» (19, с. 230). Капитализм окончательно
превращает свободную и сознательную деятельность человека
в отчужденный труд и, говоря словами Маркса, «сама
жизнь оказывается лишь средством к жизни» (2, с. 93).
Поскольку отчужденный человек утратил
представление о внутренней сути и объективного мира, и себя
самого, постольку, считает Э. Фромм, он не может
рассматриваться как «здоровая» личность. Современное западное
общество — это «больное» общество, и индивид в этом
обществе — это «больной» человек. Понятно, что речь здесь
не идет о явной патологии, о психическом заболевании.
Фромм говорит о социальном дефекте, суть которого в
патологической нормальности, ибо, не являясь в массе
своей «больным» с клинической точки зрения, более того,
в массе своей даже не отдавая себе отчета в
ненормальности своей ситуации в рамках современного общества,
отчужденный человек не может считаться здоровой
личностью. Социальная действительность современного
буржуазного общества породила человека, который активен
внешне, но пассивен внутренне, т. е. функционирует как
автомат; который опустошен, не способен на спонтанные
жизненные проявления, лишен высоких человеческих
чувств — словом, задавлен могущественной системой
прямого и косвенного подавления до такой степени, что не
имеет возможности свободного и всестороннего развития.
Если учесть все это, становится понятнее, почему
Э. Фромм столь осторожен в своем отношении к
перспективам современного общественного развития, в частности
к возможности прогресса. Действительность развитого
капиталистического общества, как и вся минувшая история,
не обладает условиями и не дает оснований для
«интегрального прогресса». Наверное, поэтому само понятие
«прогресс» при описании ситуации современного
человека употребляется Фроммом чаще с негативными
характеристиками или в откровенно негативных значениях. «То,
что теперь принято называть прогрессом», «так
называемый прогресс» — подобные формулировки нередки на
страницах его книг; более того, в книге «Разрушительное
в человеке» (28) Фромм назовет апологетическое,
некритическое, отношение к прогрессу негативной особенностью
38
современного буржуазного мышления. Судя по всему,
именно эти или подобные им детали в размышлениях
Фромма дают основание ряду авторов зачислять его в
антипрогрессисты. С нашей точки зрения, отношение
Фромма к прогрессу гораздо сложнее и неоднозначнее.
Э. Фромма не устраивает та вполне определенная
интерпретация прогресса, которая усилиями главным
образом технократически-футурологического направления в
современной западной социальной науке (олицетворяется
это направление для Фромма Г. Каном и ему подобными)
достаточно широко проникла в сферу массового сознания
и по сути дела сводится к тому, что понятие прогресс
становится синонимом самоуверенного, не знающего
никаких сомнений оптимизма. Самоуверенность эта, как
правило, обусловливается тем, что все проблемы
социального прогресса рассматриваются исключительно с точки
зрения разного рода сугубо количественных
характеристик и показателей, в первую очередь — количественного
роста материальных благ. В одной из последних своих
книг Э. Фромм в связи с этим напишет: на смену
средневековому идеалу «Града Божьего» с началом
промышленной эры пришло представление о земном «Граде
Прогресса» — подразумевалось, что «Град Прогресса»
станет земной реальностью после того, как человечество
добьется материального изобилия, свободы и счастья для
каждого человека; однако промышленная эра,
продолжает Фромм, не исполнила своего обетования — «Град
Прогресса» был выстроен, как вавилонская башня, которая
грозит обрушиться и похоронить всех под своими
руинами, ибо западное «общество изобилия» наглядно
продемонстрировало, что сама по себе почти неограниченная
возможность удовлетворения потребностей и желаний,
главным образом материальных, не приводит ни к
благополучию, ни к счастью (см. 32, р. 1—2, 202). Итак, вслед
за Фрейдом, который в принципе допускал, что одним из
критериев прогресса может считаться счастье человека,
если последнее понимать как определенную степень
психической и духовной удовлетворенности человека,
определенную степень соответствия потребностей и
притязаний индивида условиям социальной жизни, Фромм
категорически не приемлет тех представлений о прогрессе,
согласно которым последний сводится (скорее,
низводится) исключительно к сумме грубо материальных,
приземленных, количественных достижений современной цивили-
аации. Мало смысла в том, считает Фромм, если чело-
39
век, приобретая весь мир, утратит при этом душу.
Конечно, он не мог не отдавать себе отчета в том, что
современному капиталистическому обществу, в первую
очередь американскому, еще далеко до полного и
подлинного удовлетворения материальных потребностей всех его
членов, но это, с его точки зрения, не столь уж и
существенно. «Материальный прогресс за последние
десятилетия позволяет нам надеяться, что в конце концов наша
система позволит создать полностью материально
обеспеченное общество. Но означает ли это, что оно станет
более счастливым?.. Я,—говорил Фромм,—... считаю, что
наш образ жизни порождает все большую тревогу и
беспомощность и в конечном счете приведет к полному
распаду нашей культуры» (18, с. 4). Недвусмысленное
пророчество о неизбежной судьбе современного буржуазного
общества еще раз свидетельствует о трезвости и
реалистичности размышлений Э. Фромма. Ну, а что касается
порождающих тревогу и беспомощность изменений образа
жизни в этом обществе, то, являясь всего лишь
современным вариантом «изолированного прогресса», они и
рассматриваются Фроммом как суррогат прогресса,
проявившие себя в первую очередь в деструктивном воздействии
на личность и сформировавшие в качестве типичного
представителя в обществе развитого капитализма
отчужденного человека.
* * *
Человек этот, говорит Фромм, фактически является
невротиком. А коль скоро отчуждение — это
преобладающая ситуация индивида в современном западном
обществе, следовательно, невротик — практически
преобладающий тип личности в этом обществе. И здесь Э. Фромм
обращается к Фрейду, который предложил механизм
объяснения поведения невротической личности. У Фрейда
неправильными были исходные, биологические посылки,
ибо источник болезни следует искать в социальном
генезисе общества и конкретного индивида, однако его
объяснения ситуации и поведения невротика вполне
применимы к анализу взаимоотношений отчужденного
человека и современного общества. Дайте мне здоровое
общество, не уродующее человека, не превращающее его
в отчужденную личность, и мне не понадобится
обращаться к Фрейду — примерно так мог бы сказать Э. Фромм.
Но раз уж социально-экономические отношения и условия
жизни подготовили сцену для отчужденного, «больного»
40
человека, то драма на ней будет разыграна по Фрейду.
В принципе поведение человека является адекватной
реакцией на конкретную ситуацию, в том числе и социально-
экономическую; поскольку, однако, современное западное
общество породило отчужденную личность — невротика,
постольку мотивация его поведения носит бессознательно-
компульсивный характер. Итак, сцена готова. До сих пор
читатель имел дело с достаточно абстрактным
отчужденным индивидом, и хотя при описании его конкретных
взаимоотношений с современным обществом Фромм не
упускал случая преподнести ситуацию
эмоционально-образно и взволнованно-тревожно, все-таки отчужденный
человек выступал как плоская одномерная тень по
отношению к обычному, среднему человеку во плоти.
Э. Фромм не был бы социальным психологом, если
бы он не попытался нарисовать более или менее
конкретный психологический портрет человека современного
американского и западноевропейского общества. Естественно,
что при этом речь шла все же о типах отчужденного
человека, т. е. элемент абстрактного, теоретического
моделирования личности присутствовал и здесь, но это не
помешало Фромму создать весьма динамичные и
пластические описания поведения и жизненных ориентации
«больного» человека. Внимание Фромма привлекали
только те типы поведения отчужденного человека, в которых
явственно отражены самые существенные элементы
социальной действительности развитого капиталистического
общества.
Бесчеловечное общество обрекает индивида на
мучения и страдания. Если бы человек не приспособился как-
то к условиям жизни в этом обществе, жизнь для него
была бы невыносимой. Индивид у Фромма, строго по
Фрейду, изгоняет мучительные чувства за порог сознания
и подменяет их более или менее приемлемыми
заменителями. Эти заменители и становятся психологическим
механизмом приспособления к существующей социальной
среде. Конечно, у каждого человека свой, индивидуальный
механизм психологического приспособления, однако
экономическое, социальное, политическое и идеологическое
давление на личность носит тотальный характер, и
поэтому, считал Э. Фромм, можно вычленить несколько
моделей психологического приспособления отчужденного
индивида к социальной действительности, которые
являются наиболее общими и типическими. Внимание
Фромма концентрируется на трех моделях.
41
Общество формирует такие типы поведения
отчужденного человека, в которых патология становится нормой,
возводится в ранг социального эталона, и тем самым для
индивида смягчается внутренняя напряженность,
вызываемая ощущением одиночества, личностной
незначительности и бесцветности существования. Суть подобных
типов поведения в том, что изломанный и отчужденный,
отмеченный печатью социального дефекта средний
человек обычно не отдает себе отчет в ненормальности своей
ситуации, поскольку индивидуальная патология, за
исключением тех случаев, когда она превращается в
клинические формы, принимает облик нормального и вроде бы
вполне естественного в данных условиях
функционирования. Капиталистическое общество, выступая в качестве
источника травмирующих переживаний, формирует у
индивида бессознательные защитные механизмы: от
разрушающего воздействия общества индивид защищается
фактически путем эмоционального самообмана.
Один из наиболее распространенных типов
подобного поведения — это авторитарный характер. Разработка
идеи авторитарного характера Э. Фроммом стала основой
для последующего анализа этой темы многими
западными учеными; достаточно упомянуть хотя бы
хрестоматийно известное исследование «авторитарной личности»
коллективом авторов во главе с Т. Адорно.
В основе авторитарного характера, считает Фромм,
лежат мазохистские или садистские наклонности, которые
проявляются в стремлении к подчинению или господству.
Компенсировать пустоту своего «я», избавиться от
непереносимости чувства потерянности и ущербности,
подчинившись какому-либо авторитету, или, наоборот, самому
стать авторитетом, навязать другим свое «я» — вот
смысл мазохистско-садистского механизма. И в том и в
другом случае индивид утрачивает целостность. Мазохи-
стско-садистский механизм не устраняет страдания и
ощущения неполноценности индивида, но, разрушая его
целостность, маскирует их. Вообще-то садизм и мазохизм
являются формами патологии, но отдельные черты садист-
ско-мазохистского поведения, по мнению Фромма, можно
обнаружить почти у каждого человека. Проявления мазо-
хистско-садистских черт в поведении индивида,
становящиеся при определенных социально-экономических
условиях преобладающими типами поведения и жизненной
ориентации, Фромм и называет авторитарным характером.
Последний, как правило, являясь одновременной комби-
42
нацией мазохистских и садистских черт, формируется
главным образом в условиях тоталитарных режимов и в
свою очередь выступает как психологическое подкрепление
этих режимов. Не случайно и концепция авторитарного
характера, и впечатляющее описание конкретных
носителей этого типа поведения, сделавшие Э. Фромма
знаменитым и расценивающиеся как бесспорный вклад в
западную социальную науку, датируются 1941 г. В
последующих своих работах, особенно последних, внимание
Фромма приковывают другие типы поведения, которые
выступают на первый план в условиях
буржуазно-демократического развития, сегодняшнего американского и
западноевропейского общества.
Состояния пассивности, монотонности,
опустошенности и невыносимой обыденности могут стать опаснейшим
стимулом к разнузданию разрушительных страстей.
Сегодня в западном обществе, констатирует Фромм, очень
велик потенциал насилия: не получая удовлетворения от
жизни в условиях современного общества, человек
находит выход в драме разрушения. Все человеческие
стремления — «добрые» и «злые» — можно понять, лишь
рассматривая их как попытки человека наполнить свою жизнь
смыслом. «Негативные страсти также являются ответом
на проблему человеческого существования. Человек — это
не только святой: самый отъявлепный садист и
разрушитель — тоже человек. Его можно назвать
извращенным и дурным человеком, не сумевшим найти достойный
ответ на вызов своего человеческого первородства ... его
можно также считать человеком, избравшим неверный
путь в поисках спасения» (28, р. 9). У истоков
агрессивности и стремления к разрушению, уточняет Фромм, стоят
отнюдь не инстинкты, а неустроенность социального и
культурного пространства, окружающего человека; эта
неустроенность входит во внутренний мир индивида и
становится одной из черт его характера, а иногда
определяющей чертой характера. Разрушительность и
разрушительное в человеке — это результат того, что жизнь не может
быть прожита по-человечески.
Описание способности человека к разрушению
опирается у Э. Фромма на анализ двух противоположных
жизненных ориентации и соответственно — двух типов
поведения: некрофила и биофила. Сущность биофила — любовь
к жизни. Добро для него — это все то, что способствует
жизни; зло — все то, что служит смерти. Биофил — это
человек, который любит жизнь во всех ее проявлениях,
43
статике существования он всегда предпочитает динамику
жизненного процесса, его подход к жизни прямо
противоположен механическому, скорее его можно
рассматривать как функционально-органический: в явлениях и
процессах биофил прежде всего видит целое в неразрывном
его единстве, а не механическую сумму отдельных
составляющих частей.
Чистые биофилы, как и чистые некрофилы, конечно,
очень редки, хотя Фромм считает возможным отнести к
таковым Швейцера, Эйнштейна и папу Иоанна XXIII.
Понятием некрофильство (буквально: мертволюбие)
Фромм обозначает жизненную ориентацию, которая
«может быть описана как страстное влечение ко всему
мертвому, увядшему, отталкивающему; как способность
превращения живого в неживое; как разрушение во имя
разрушения; как исключительный интерес ко всему
механическому» (28, р. 332). В этом описании обратим
внимание на мотив и желание некрофила воспринимать
окружающий мир через призму механического и строить свои
отношения с другими людьми, как если бы они были
вещью или предметом.
Некрофила влекут к себе тьма и мрак. Ему доставляет
радость все, что лишено жизни или направлено против
жизни. В сущности он ориентирован на прошлое, ибо
будущее ненавистно ему и пугает его. Чтобы сделать живое
(которое по сути своей всегда включает элемент
непредсказуемости и никогда не является до конца
подконтрольным) контролируемым, его надо умертвить. Для
некрофила смерть — единственно достоверное во всей жизни.
Конечно, в таком концентрированном проявлении
некрофильство встречается редко. Другое дело
некрофильские тенденции, которые отчетливо просматриваются в
обезличивающих межчеловеческих отношениях, столь
характерных для современного американского и
западноевропейского общества,— взять хотя бы мертвящую
рутину бюрократических процедур. Явное свидетельство
некрофильской патологичности — привязанность к вещам
в ущерб привязанности к людям.
В связи с рассматриваемой проблемой можно
упомянуть об одном своеобразном исследовании. В 1968 г. в
разгар кампании первичных выборов в США, когда Фромм
активно поддерживал кандидатуру Юджина Маккарти на
пост президента от демократической партии, один из его
ближайших сотрудников Майкл Маккоби провел
исследование с целью выявить процентное соотношение некро-
44
филов и биофилов среди групп избирателей,
поддерживающих конкретно того или иного кандидата в президенты.
В результате выборочного обследования, проведенного в
Калифорнии, было получено следующее соотношение:
среди сторонников 10. Маккарти биофилы (в терминологии
М. Маккоби, «те, кто влюблены в жизнь») составили 77%,
среди сторонников Н. Рокфеллера — 46, среди
сторонников Р. Никсона — всего 27%. Вполне понятно поэтому,
что результаты выборов (президентом стал Р. Никсон) не
вызвали энтузиазма у Э. Фромма и М. Маккоби (40,
р. 148).
Некрофильское предпочтение неживого,
механического проглядывает в отношении к технике, ее
обожествлении. В размышления Э. Фромма о патологии
некрофильства вплетаются наблюдения над феноменом
технического общества. «Призрак бродит среди нас, — так начинает
он книгу «Революция надежды»,—... призрак полностью
механизированного общества... В этом обществе человек
превращается в винтик тотальной машины, и, хотя он
хорошо питается и живет в хороших условиях, он
пассивен, лишен подлинной жизни и почти всех высоких
человеческих чувств» (36, р. 1).
В техническом обществе, настойчиво варьирует Фромм
все тот же мотив, для человека становится
привлекательным все неживое, механическое. Некоторые ученые
носятся с идеей создания робота, который ничем не будет
отличаться от человека. Самое грустное состоит в том,
замечает Фромм, что все большие группы людей
уподобляются роботам, и, пожалуй, не так уже трудно создать
робота, не отличающегося от подобного человека. Попытка
свести все живое к механическому дополняется у
некоторых ученых на Западе стремлениями трактовать
человеческие эмоции только как инстинктивно обусловленные.
Если общество когда-нибудь будет действительно состоять
из существ, оперирующих логикой компьютера и
обладающих эмоциональным миром на уровне обезьяны, то такое
общество перестанет быть человеческим.
Увязывая негативные явления, порожденные
техническим прогрессом, с некрофильскими тенденциями в
поведении отчужденного человека, Э. Фромм в
специфической манере описывает противоречивые — и в принципе
неразрешимые в рамках капиталистической
цивилизации — последствия научно-технической революции.
Впрочем, нельзя не отметить, что его наблюдения в
определенной мере вписываются в контекст принявшей в послед-
4S
нее время поистине глобальный масштаб озабоченности
ситуацией человека в современном мире, в частности,
озабоченности тем, что технический прогресс все больше
опережает адаптационные возможности человека, и
проявляется это в тревожном отставании нравственного
прогресса от прогресса технического.
В условиях отчужденного общества вполне понятные
и рационально объяснимые ситуации нередко
переплетаются с агрессивными и разрушительными стремлениями.
Особенно опасно, считает Фромм, когда области
«понятного» и «рационального» по мере роста
научно-технической оснащенности общества все более и более
насыщаются потенциалом разрушительства, а разрушительные и
агрессивные стремления, в свою очередь, берут на
вооружение навыки рациональной организации и
рационального мышления. Но самое страшное и опасное — это
сознательная ориентация человека на ненависть и
разрушение, ибо она открывает неограниченные возможности
разрушительности и насилия, прочно и целиком
поглощающие личность.
Некрофильство, подчеркивает Фромм,— это одна из
особо опасных жизненных ориентации, ибо без
использования некрофильских наклонностей человека немыслим
ни один репрессивный режим. Некрофил — это опора
всякой держащейся на терроре диктатуры,
потенциальный палач, истязатель, надсмотрщик и надзиратель,
а также террорист.
Склонность к насилию и разрушительности, по
мнению Фромма, усугубляется растущим безразличием и
равнодушием отчужденного человека к жизни. Именно такой
безразличный и равнодушный к жизни человек, не
чувствуя себя личностью, не видит личности и в других
людях. Во вспышке разрушительности и агрессивности он
избавляется от давящих ощущений неполноценности,
дискомфортности и заброшенности в мире.
Фромм различает при этом защитную
«доброкачественную» агрессивность в человеке как часть
филогенетического наследия, связанного с общими для человека и
животного навыками приспособления к внешним
условиям, и «злокачественную» агрессивность, тождественную
разрушительности; последняя, как правило, отсутствует
в животном мире. Доброкачественная агрессия имеет
своим источником биологическое в человеке и в какой-то
мере играет защитную, позитивную роль (не
простирайся человеческая агрессивность далее инстинктов самоза-
46
щиты и самосохранения, жизнь человеческого общества,
замечает Фромм, была бы сравнительно мирной и гораздо
менее насильственной, чем она есть теперь). Человек
оказался «гиперагрессором», и его «гиперагрессивность» —
это реакция на неблагоприятную внешнюю среду;
«злокачественная» же агрессия фактически обусловлена
социальным окружением. «История цивилизации, начиная с
разрушения Карфагена и Иерусалима вплоть до
бомбардировок Дрездена и Хиросимы, до уничтожения людей,
растительности и почв во Вьетнаме, являет собой
трагическую хронику садистских разрушений» (28, р. 166).
Правильно уловив то обстоятельство, что
разрушительность как проявление жизненной ориентации
целиком обусловлена неустроенностью социальной среды,
бесчеловечным буржуазным обществом, Э. Фромм допускает,
однако, не сразу фиксируемое смещение акцентов в
сторону классического психоанализа. Речь идет об
абсолютизации в основе своей правильного положения:
социальная действительность современного
капиталистического общества порождает склонного к агрессии и
разрушительности индивида, который, болезненно ощущая
свою социальную ущербность, избирает путь наименьшего
духовного сопротивления и компенсирует свою
ущербность разрушительной страстью по отношению ко всем и
ко всему в мире; смещение в направлении фрейдизма
происходит в тот момент, когда Фромм, вроде бы
ограниченно и весьма локально рассматривая и трактуя
роль конкретной социальной среды, раздвигает рамки —
и социальное в целом приобретает пока только легкий
налет негативного оттенка, который в конце концов
вырастает у него в убеждение, что социальное — это именно
то мировое зло, которое обрекает человека на
существование в условиях безысходности и страдания.
Современная капиталистическая действительность
создает не только авторитарный характер, не только
превращает отчужденного человека в некрофила и
разрушителя, она формирует людей, которые функционируют
как обезличенные автоматы. Эмоциональная и духовная
стандартизация человека становится оборотной стороной
растущего конформизма. Из всех типов характера
«больного» человека конформизм кажется наиболее
безобидным. Внешне здесь нет прямого подавления, вроде бы
отсутствует явное безразличие и равнодушие к жизни.
На самом деле, говорит Э. Фромм, конформизм опасен
именно своей кажущейся безобидностью. Как и другие
47
типы поведения отчужденного человека, конформизм —
это попытка преодолеть ситуацию одиночества и
неудовлетворенности жизнью. Человек отказывается от
индивидуально-личностных черт и особенностей и тем самым
избавляется от беспокойства. Конформизм сохраняет
видимость индивидуальности, но эта индивидуальность —
фикция.
Как массовое явление и массовая форма поведения
конформизм — прямое порождение капиталистических
социально-экономических отношений: общество и
производство иуждаются в человеке-автомате, который исправно
выполняет свою функцию в огромном
социально-экономическом механизме. Современное капиталистическое
общество трансформировало поэтому и представление о
равенстве, под равенством теперь понимается равенство
автоматов, равенство людей, утративших
индивидуальность. «Равенство сегодня означает одинаковость»
(29, р. 18).
Конформизм для Фромма — это наиболее характерная
ситуация человека в обществе западных демократий, ибо
современный «бюрократизированный индустриализм»
нуждается в людях, которые, как взаимозаменяемые
винтики, сотрудничают в гигантских обезличенных
группах; они стремятся потреблять все больше и больше,
ибо это наиболее легкий способ заполнить пустоту
личностного существования; вкусы этих людей
стандартизированы, для того чтобы их легко можно было
предусмотреть и легко на них влиять; эти люди считают себя
свободными и независимыми, но они готовы охотно делать
то, что от них ждут, потому, что они хорошо притертые
детали социальной машины; этими людьми легко
руководить без принуждения, вести без вождей; они живут
иллюзиями, что мысли и чувства, которые внушены им
через средства массовой коммуникации,— это их
собственные чувства и мысли (18, с. 4).
Характеристика Фроммом трех наиболее
существенных, по его мнению, жизненных ориентации
отчужденного человека несет на себе неизбежные издержки
абстрактной теоретической модели. Гиперболизация и
нарочитая заостренность в данном случае очевидны.
И тем не менее по сути своей речь идет о реально
существующих и широко распространенных в
американском и западноевропейском обществе типах поведения
обычного среднего человека. Об этом достаточно
красноречиво свидетельствуют произведения современного запад-
48
ного искусства. Весьма показательно, что сам Фромм
неоднократно подчеркивал: главным для психолога в
изучении характера человека наряду с благодатным
материалом, получаемым на психоаналитических сеансах
(а Фромм несколько десятков лет был практикующим
психоаналитиком), является искусство, в первую очередь
литература; понятно, что говорит он о подлинном,
высоком искусстве, в центре внимания которого всегда
оказывается человек, несущий бремя самосознания,
ответственности, одиночества и свободы.
Что касается типов жизненной ориентации
отчужденного человека, то они вполне конструктивны как
описание тенденции деградации человека в условиях
современного буржуазного общества, и тенденция эта не
настолько абстрактна, чтобы считать ее имеющей только
академический интерес. Конечно, в реальной жизни,
в условиях повседневного существования все это выглядит
ординарнее и привычнее: одни находят радость в
подчиненности своего положения и при определенных условиях
превращаются в массовую опору всякого рода диктаторов
или кандидатов в диктаторы; другие рвутся к власти и в
упоении властью находят выход своим садистским
наклонностям; стремление к разрушительности принимает
облик озлобленности и раздражительности, как правило,
раздражение и озлобленность обрушиваются на тех, кто
рядом, особенно на тех, кто послабее. Наиболее
распространенная фигура — это заурядный, скуповатый, вечно
скучающий, живущий в мире всякого рода условностей
обыватель, как правило, придерживающийся строгих
пуританских правил, прагматик и даже циник, словом
человек, живущий скромными радостями конформистских
иллюзий и конформистского потребления.
Патологический характер современного капитализма
может быть в первую очередь в том и состоит, считает
Фромм, что миллионы людей, функционируя как
автоматы, тем не менее освоились с этой ролью и даже
чувствуют себя вполне комфортабельно. Именно капитализм,
превративший человека в бездумный конформистский
автомат, привел к тому, отмечает Фромм, что в
Соединенных Штатах Америки уже воплотилось в жизнь многое
из того, что предсказывал Дж. Оруэлл в своем
антиутопическом романе «1984» \ В обиходный словарь чело-
4 Подробно и весьма содержательно на оценке романа
Дж. Оруэлла останавливается Г. X. Шахназаров (См.: 22, с. 311—
346).
49
века в западных странах прочно вошло, например, оруэл-
ловслое слово «двоемыслие» (double-thinking),
означающее способность считать правильными два
противоречивых и исключающих друг друга суждения. Разве сегодня
для американцев не свойственно оруэлловское
двоемыслие, когда гонка вооружений оправдывается
соображениями о том, что страна готовится к войне, для того чтобы
сохранить мир? Разве не актуально сегодня в США
описанное Оруэллом манипулирование личностью,
превращающее человека в существо, которое не только говорит
противоположное тому, что на самом деле думает, но
которое искренне начинает считать своими мыслями то,
что является прямой противоположностью здравому
смыслу и истине? (27, р. 264—205). Роман Оруэлла, по
мнению Фромма, является предостережением о том, что
хотя уничтожение человеческого в человеке — не такое
уж легкое и простое дело, это возможно при средствах и
технике, которыми располагает современное общество.
Для ученого, связавшего свою судьбу с буржуазным
обществом, но в той или иной мере отдающего себе отчет
в исторической обреченности этого общества, негативное
отношение к прогрессу не является необычным, чем-то
экстраординарным. В рамках, ограниченных объектом и
методами его исследований, Фромм убедительно показал
противоречивый характер «изолированного прогресса)).
Более того, он уяснил для себя, что деструктивное
воздействие такого «прогресса» на личность подвело
нынешнее западное общество к той черте, когда со всей
определенностью нужно решать вопрос о цене, которой
общество платит за этот «прогресс». Не случайно Фромм
заговорил о возможности искоренения человеческого в
человеке. То грубо и насильственно, то тихо и незаметно
осуществляется этот грандиозный социальный
эксперимент. Во всех размышлениях Фромма отчетливо
прочитывается озабоченность: «В отличие от опасности
прошлого, когда люди становились рабами, в будущем они
могут стать роботами» (37, р. 360). Социальный
эксперимент, имеющий своим последствием деградацию
человеческой личности, по мнению Фромма, приобретает
зловещий оттенок, ибо вполне может оказаться, что
деградация эта — необратимый процесс. На эту особеишость в
творчестве Фромма обратили внимание американские
исследователи. Для восьмидесятилетнего Фрейда, пишет,
например, Э. Фриденберг, общество и индивид были
врагами, несговорчивыми противниками, которые тем Ш-
50
менее уважали достоинства друг друга. Поэтому,
в частности, гитлеровский режим казался Фрейду всего
лишь аберрацией в развитии западной цивилизации.
Фромм, продолжает Э. Фриденберг, уже в 35 лет понял,
что одна из главных ошибок Фрейда в том, что тот
экстраполировал на кардинально изменившуюся
современную действительность представления (в первую
очередь о взаимоотношении индивида в обществе) XIX
столетия. Своего рода джентльменские отношения между
индивидом и обществом были возможны в XIX в., но
XX столетие показало Фромму, что джентльменство это
все больше отходит в прошлое, и современное общество
может не оставить человеку никакой надежды (26,
р. 382).
Итак, в перспективе — неприглядное будущее; не
лучше и сегодняшняя действительность, ибо жизнь в
странах капитализма вместо «рая прогресса»
преподнесла «ад изолированному и манипулируемому человеку»
(28, р. 41). Впрочем, хорошо известно, что теории
подобного рода — не такая уж редкость в современном
буржуазном обществоведении. Да иначе и быть не может.
«То, что в выводах различных буржуазных теоретиков
и методологов представляется в виде сумрака, упадка,
краха, агонии или конца цивилизации,— отмечал
известный чехословацкий ученый Р. Рихта,— в
действительности является лишь неясным предчувствием или
отчетливым осознанием приближающегося конца собственно
буржуазной цивилизации (15, с. 18). Взгляды Фромма
относительно настоящего буржуазной цивилизации и ее
вероятной судьбы являются более или менее отчетливым
осознанием. Неясным же предчувствием в данном случае
можно считать те позитивные варианты будущего,
наличие которых не позволяет воспринимать концепцию
Фромма в одних только мрачных тонах, что, кстати, и
делает ее, как было отмечено выше, заслуживающей
внимания. Как Фромму удается свести концы с концами —
увязать результаты трезвого осмысления и осознания с
несозревшими, по всей видимости, плодами неясных
предчувствий — именно это нам и предстоит уяснить.
Одно из полотен Поля Гогена, написанное в период,
когда художника преследовало настойчивое желание
воплотить «мечту о бесконечном пространстве», было назва-
51
но: «Откуда мы приходим? Кто мы? Куда идем?». В
нашем конкретном случае почти все у Фромма, о чем шла
речь выше, укладывается в рамки размышления — кто
мы? Что касается уяснения Фроммом возможностей и
перспектив будущего — куда мы идем? — то реальность
определенных позитивных перспектив обусловливается в
его теории наличием определенных позитивных элементов
в самих истоках человеческого существования — откуда
мы приходим? Э. Фромм потому и не терял надежды на
лучшее будущее, на «интегральный прогресс», что
исходил из убеждения: в основе своей индивид является
неотчужденной личностью. Возможность позитивного
будущего, таким образом, имманентно заложена в
антропологически-философской концепции человеческого
существования Фромма.
«Исследование общества и исторического процесса,—
отмечал Э. Фромм,— необходимо начинать с человека,
с реального, конкретного человека с его
физиологическими и психологическими свойствами... Оно должно
начинаться с понятия сущности человека, а анализ экономики
и общественного развития в целом послужит только той
цели, которая поможет понять, как искажен был человек
обстоятельствами, как он отчужден от самого себя, от
своих сущностных качеств» (37, р. 254). Словом, Фромм
исходит из того, что социально-исторический процесс не
имеет смысла без соотнесения с человеком. Человека
формирует исторический процесс,
социально-экономическая структура определяет тип личности, однако в
процессе социально-исторического развития — в этом
принципиально важном вопросе он остается верным
последователем Фрейда — участвует индивид, наделенный
какими-то неизменными экзистенциальными качествами.
«Человек не является чистым листом бумаги, на котором
культура пишет свой текст» (30, р. 81).
Специфика решения Фроммом данной проблемы
проясняется при рассмотрении категории «человеческая
ситуация», которой он придавал огромное значение.
Конкретно речь идет о следующем: «Я полагаю, что
природа человека... может быть определена, лишь исходя из
тех фундаментальных противоречий, которые
характеризуют человеческое существование и которые коренятся в
дихотомии убывающих инстинктов и возрастающего
самосознания. Экзистенциальный конфликт порождает некие
психические потребности, общие для всех людей. Человек
должен преодолевать ужас отъединенности от других
52
людей, беспомощности и затерянности, он должен найти
новые формы соотнесения себя с миром, чтобы
чувствовать себя в чуждом мире, как дома. Я называю эти
потребности человека экзистенциальными, потому что они
коренятся в самих условиях человеческого
существования... Каждая из этих экзистенциальных потребностей
удовлетворяется по-разному, причем различия в их
удовлетворении соответствуют различным социальным
условиям» (28, р. 226). Выделение человека из
животного царства означало перемещение его в новое
измерение, в собственно человеческую ситуацию. Человек
появляется на том отрезке эволюционного процесса, где
инстинктивная адаптация достигает своего минимума.
В момент рождения он самое беспомощное из всех
животных, но эта биологическая слабость и является основой
для развития специфически человеческих качеств. С
человеком возникает новый вид, и жизнь, говоря словами
Фромма, начинает осознавать самое себя.
Человек смертен, и хотя бы поэтому он — часть
природы; человек утратил единство с природой, но он не
приобрел способности существовать вне природы; он
живет, осознавая ограниченность своих возможностей в
безграничном мире, более того, осознавая неизбежность
своего конца. При этом он не может только
инстинктивно следовать поведению, характерному для данного
биологического вида; человек должен прожить свою жизнь,
постоянно сталкиваясь с проблемами существования,
которые необходимо решать и от которых нельзя
укрыться. Вся жизнь человека — это процесс становления,
все более полного осознания себя в мире и мира в себе.
«История человечества,— констатирует Фромм,— это
история усиливающейся индивидуализации» (31, р. 206).
Атрибутами человеческого существования,
имманентными характеристиками усиливающейся
индивидуализации являются свобода, ибо человек, ставший личностью,
постоянно пребывает в ситуации выбора, и потребность
в общении с себе подобными, ибо, оставив позади до-
личностное бытие, человек оказывается в ситуации, когда
домом его может быть только коллектив, общество.
История человечества, как отмечал Фромм, это
история усиливающейся индивидуализации, но ни одно из
существовавших в истории обществ, так же как и
современное общество, не дает, по его мнению, этой
индивидуальности возможности реализоваться. Поэтому
индивидуализация сопровождается появлением и все большим
53
усилением чувства изолированности, оторванности от
других людей. Человек стал личностью, но поскольку
общественные условия не предоставляют возможностей для
личностной реализации, человек оказывается
беспомощным и одиноким. Появление индивида произошло в
условиях, когда интеграция его с общественной средой
невозможна, ибо социально-экономические условия в обществе
не соответствуют свободе индивида. Человек получил то,
что, по мнению Фромма, является негативной свободой —
«свободой от», которая в силу объективных причин не
может стать позитивной свободой — «свободой для».
Итак, Фромм отправляется от изначально социализо-
ванного индивида, уже содержащего в потенциале
экзистенциальное противоречие между причастностью к
природе, с одной стороны, и человеческому обществу —
с другой. В центре внимания у него поэтому
оказывается развертывание потенциальных человеческих качеств в
ходе «приспособления» человека к конкретной социально-
экономической действительности. Свои размышления об
индивиде, о его отношениях с обществом Фромм
основывает на таком представлении о человеке, которое кажется
ему самоочевидным.
У своих истоков индивид, по Фромму, отнюдь не
является отчужденным человеком. Таким его делает
общество. Почему бы, однако, не попытаться представить,
что какое-то идеальное общественное устройство не будет
препятствовать индивиду в реализации его сущностных
человеческих потребностей, в первую очередь
потребности в свободе и потребности в общении, связанности с
другими людьми? Путь к позитивной реализации
индивида Фромм усматривает в продуктивной деятельности,
трактуя последнюю предельно широко — как любую
творческую активность человека, в процессе которой
возникает неразрывная связь между субъектом и объектом.
Плотник, сколачивающий стул, крестьянин,
выращивающий урожай, художник, создающий картину,— все это
примеры продуктивной, тг е. творческой, деятельности:
в акте творчества человек соединяет себя с миром.
Потребность в свободе, считает Фромм, будет
реализована как свободная творческая Деятельность по
освоению окружающего мира. Обычно в акте творчества, даже
если речь идет о творчестве художника, процесс
единения с миром частичен, ибо он не вбирает в себя всего
индивида со всем его повседневно-будничным бытием.
И только тогда, когда и практика повседневной жизни
54
станет неотъемлемой частью творческого освоения
окружающего мира, это будет совершенным бытием человека.
Практика же повседневной жизни станет таковой, когда
она превратится в процесс межличностного единения,
слияния человека с другими людьми. Именно эту форму
совершенного бытия человека Фромм и называет
любовью. Любовь для него — это реализация человека в
общении с другими людьми, в единении с ними; это
высший вид творческого отношения к миру; любовь — это
искусство жить, это жизнь, становящаяся искусством во
всех своих повседневных, конкретно-индивидуальных
проявлениях. В любви человек преодолевает отчуждение и
разобщенность, достигает единения с другими людьми и
вообще с миром.
Интерпретация феномена любви у Фромма является
развитием и продолжением линии Л. Фейербаха. Фромм,
например, практически не рассматривает сексуального
аспекта любви. Любовь для него — это не столько
отношение к другому, конкретному человеку, сколько общая
жизненная ориентация, определяющая отношение
индивида к миру как целому. Если я могу по-настоящему любить
одного человека, заявляет Фромм, значит, я люблю всех
людей, люблю мир, люблю жизнь.
Если бы Фромм ограничился констатацией только
того обстоятельства, что форма совершенного бытия
человека — это творческое отношение к миру и любовь к
людям, то его соображения об идентичности кардинальных
проблем бытия во все времена и эпохи так и не вышли
бы за пределы общеизвестных положений идеалистической
этики. При всей привлекательности подобного рода
взглядов размышления Фромма не могли бы рассматриваться
иначе, чем проповедь, в которой великолепие и пышность
призывов к человеку скрывают отсутствие сколько-нибудь
реального содержания.
Однако проницательность Фромма-психолога
позволяет ему сформулировать вполне реальные проблемы.
Другое дело, что он не видит возможностей для их
разрешения. Одно из главных своих отличий от Фрейда, который
считал, что «наши стимулы больше связаны с тем, как
избежать боли, чем с тем, как создать наслаждение»
(38, р. 34), Фромм как раз и усматривает в том, что, по
его мнению человек создан для творческой, насыщенной
радостью и счастьем жизни. Человек может быть
свободным и притом ыеодшюким, независимым и в то же время
выступать как интегральная часть человечества, критиче-
55
ски мыслящим и при этом не впадать в безнадежность.
Все это возможно лишь постольку, поскольку бытие
человека становится спонтанной реализацией своего «я».
Спонтанность трактуется Фроммом очень широко,
О том, какое значение придает он феномену
спонтанности, говорит следующий факт: на уровне
психологического исследования личности Фромм пользуется такими
категориями, как компульсивность и реактивность,
социологическую же ситуацию личности он описывает в
категориях спонтанности и манипулируемости. Анализ
отчужденного человека привел Фромма к выводу о том, что
жизнь превратилась в механическое, манипулируемое
существование, человек стал средством для реализации
какой-то внешней и чуждой ему цели. Однако отношение
индивида к миру в тех случаях, когда человек перестает
быть средством и становится целью, выступает как одна
из форм спонтанного бытия.
Что такое спонтанность, замечает Фромм, может
представить каждый человек, если он вспомнит мгновения
подлинного счастья, такие, например, как потрясение
при созерцании необыкновенного пейзажа, озарение
истины после мучительных размышлений, ощущение
небывалого чувственного наслаждения, зарождение
всепоглощающей страстной любви. Именно в эти мгновения «мы
точно знаем, в чем смысл спонтанности, и понимаем, чем
могла бы быть жизнь человеческая, если бы эти
мгновения не были столь редкими...» (31, р. 224). Не случайно,
описывая типы поведения отчужденного человека, Фромм
заострял внимание на подавлении в нем эмоционального,
непосредственного начала.
Как раз одно из основных значений, вкладываемое
Фроммом в понятие спонтанность,— это
непосредственность. Творчество настоящего художника — это пример
спонтанности, ибо в силу внутренней потребности
художник не может не разделить своего
эмоционально-духовного богатства с другими людьми; обычного человека можно
заставить написать или нарисовать что-либо, но если у
него нет спонтанной потребности выразить себя, он
никогда не сделает это так, чтобы в нем почувствовали
художника. Спонтанность — это прежде всего
непосредственное выражение индивидуальности. Как правило,
спонтанность свойственна детям, ибо все, что они чувствуют
и думают, является именно их мыслями и их чувствами.
Маленький мальчик в известной сказке Андерсена далеко
не так мудр, как взрослые, но он увидел, что король гол
56
потому, что непосредствен в отношении к миру и еще не
знает, что такое приспособленчество.
Непосредственно-эмоциональное отношение к миру как
антипод механической бездушности манипулируемого,
отчужденного человека является, в глазах Фромма,
феноменом решающего значения. Надежда на будущее в
современном отчужденном обществе останется только в том
случае, если окончательно не исчезнут люди, для
которых жизнь — это нечто большее, чем стремление избежать
пустоты, отчаяния и страдания. Спасение не в общем
повышении уровня интеллектуальной зрелости, считает
Фромм, нужны люди с настоящими, сильными
характерами, т. е. люди, которые независимы, может быть даже
безрассудны и обязательно влюблены в жизнь (30, р. 154—
156).
Во всем том, что выше было написано о личности,
как ее понимает Э. Фромм, упор делался (и это
соответствует логике исследования самого ученого) на
социально-психологической стороне ситуации человека. Однако
нельзя не отметить того существенного обстоятельства,
что в анализах Фромма имманентно присутствует и
нравственно-этический аспект. Ведь человек сильного
характера у Э. Фромма не имеет ничего общего с
оригинальным или модернизированным вариантом «белокурой
бестии», с человеком «по ту сторону добра и зла».
Конечно, сильный характер привлекателен для Фромма прежде
всего потому, что только индивид с таким характером
способен вырваться за рамки социальной ситуации, омас-
совляющей и обезличивающей человека. Однако чтобы быть
способным на это, сильный характер, подразумевает
американский ученый, должен быть еще и нравственно
сильной личностью — человеком с развитым чувством
собственного достоинства, стойким в своих убеждениях,
искренним в своих поступках, человеком, который в состоянии
сказать «нет», когда все вокруг говорят «да».
Индивид не может быть свободен интеллектуально,
говорил Э. Фромм, если он не свободен эмоционально. Быть
свободным эмоционально, считает ученый,— это значит
иметь, ко всему прочему, нравственную силу, чтобы
непосредственно, адекватно реагировать на окружающую
человека действительность, видеть ее такой, какой она
есть на самом деле — не замутненную и искаженную
разного рода предвзятостями.
Коль скоро к тому же эмоциональные реакции по
природе своей несовместимы с трезвыми расчетами и бес-
57
страстным взвешиванием обстоятельств, становится
понятнее, почему Э. Фромм настойчиво проводит мысль о том,
что возрождение спонтанной полнокровности бытия — это
одна из главных задач, стоящих сегодня перед
отчужденным человеком. Если человек не сделает выбора в
пользу активной, эмоционально-насыщенной и
непосредственно-спонтанной жизни, резюмирует Фромм, то
альтернативой станут разрушение ж роботизм.
Двусмысленность свободы человека в отчужденном
обществе — становление индивидуальности и боль
одиночества — исчезает, когда жизнь его поднимается до
уровня спонтанного процесса. Именно поэтому любовь
как высший этап спонтанного отношения к миру и
человеку становится у Фромма практическим ответом на
проблему человеческого существования.
В приведенных соображениях Э. Фромма много
верного. Принципиальность отдельных наблюдений и частных
обобщений бесспорна. В конце концов попытки
обосновать становление человека «в качестве всесторонне
развитой личности, достигшей полного и совершенного
единства с миром» (33, р. 120) заслуживают внимательного
и притом не только сугубо негативного отношения со
стороны представителей современной марксистской науки.
Но в целом эта часть размышлений Фромма заметно
слабее, чем критические обличения отчужденного
общества. Впрочем, сам он как-то заявил, что предпочитает
ставить диагнозы, чем делать прогнозы. Что ж,
действительно первые ему удались больше.
Диалектика социально-исторического развития состоит,
в частности, и в реализации постоянно меняющихся
возможностей человека: человек находится в непрерывном
процессе никогда не завершающейся актуализации, а у
Фромма взаимоотношения индивида и общества
рассматриваются только как конфликт между совершенным
человеком и «больным» обществом. В свое время
американский ученый П. Кечкемети так прокомментировал
взгляды Э. Фромма: «Общество может стать совершенным,
потому что человек таковым уже является; необходимо
только, чтобы общество не затуманивало свет
естественного совершенства» (25, р. 152).
Одна из главных ошибок Э. Фромма кроется в
недиалектическом отождествлении
антропологически-экзистенциальной ситуации человека с социальной и социально-
исторической ситуацией. Как отмечал известный
венгерский философ А. Гёде, индивидуально-человеческое
58
существование отделяется у Фромма от бытия
общественного человека, при этом внешний конфликт «человека»
и «мира» разворачивается вне реального процесса
общественно-исторического развития, а внутренний духовный
конфликт обрекает человека на вечное бродяжничество в
«мире» без отечества, поскольку трактуется как конфликт
надобщественного и надысторического абстрактного
человека. «У Фромма в конечном счете,— пишет А. Гёде,—
все тайны человечества и общества сводятся к этому
внутреннему и внешнему конфликту, и в конфликте
содержится также и ключ решения: ведь „вопрос жизни44
уже заключает в себе цель и смысл истории — то, что
человек должен „достичь опыта единства с другим
человеком и с природой". Экзистенциалистская основная
ситуация в своей внеисторичности уже заключает в себе
телеологию истории...» (8, с. 433). Позиция Фромма сводится
к тому, что им метафизически абсолютизируется
антропологически-экзистенциальная сторона человеческого бытия,
и в результате создается парадоксальная ситуация:
Фромму уже все известно о человеке еще до того, как он
приступил к конкретному анализу, более того, заранее
предопределен и результат социально-исторического
развития—неизбежное формирование «больного»,
отчужденного человека. В конце концов, несмотря на то что
основной подход Фромма к рассмотрению человека
внешне был принципиально иным, чем у Фрейда,
неспособность проникнуть в подлинную диалектику индивида и
общества возвращает все на круги своя, и Фромм
оказывается в классической позиции психоаналитика,
усматривающего истоки зла в воздействии культуры на человека
и общественных связях индивида.
«Тем и отличается марксизм от старого утопического
социализма,— отметил в свое время В. И. Ленин,— что
последний хотел строить новое общество не из тех
массовых представителей человеческого материала, которые
создаются кровавым, грязным, грабительским, лавочниче-
ским капитализмом, а из разведенных в особых парниках
и теплицах особо добродетельных людей. Эта смешная
мысль теперь всем смешна и всеми оставлена» (3, с. 409).
Однако Э. Фромм, последовательно и неуклонно
придерживаясь антропологического подхода к объяснению
социальной действительности, отождествляет совершенного
человека с совершенной социально-экономической и
социально-политической структурой общества: коль
скоро — на уровне антропологически-экзистенциальной си-
59
туации — индивид являет собой совершенную,
неотчужденную личность, то реализовать свои совершенные
потенции и, следовательно, не превратиться в «больного»,
отчужденного человека он может лишь в идеальном,
совершенном обществе. В реальной практике — ни в
истории, ни в сегодняшней действительности — модели такой
совершенной организации общества, которая
соответствовала бы совершенному индивиду, Э. Фромм не находит.
Да иначе и быть не могло. Не признавая иерархии форм
отчуждения, он концентрирует внимание только на том
обстоятельстве, что отчуждение лишает жизнь человека
ее подлинно человеческого содержания, в то время как
для Маркса преодоление отчуждения означало в первую
очередь ликвидацию частной собственности, а свобода
неотчужденного индивида рассматривалась как свобода от
капиталистической собственности. Главное требование
Маркса: необходимо добиваться не освобождения
индивида от какого-то конкретного общества, а освобождения
человечества от любого типа классового общества. А Фромм
как раз и хотел бы освободить человека от современного,
конкретного - и социалистического и
капиталистического — общества. Ведь современное общество, являя собой
сложную систему экономических, социальных,
политических и других институтов, не может не быть в высшей
степени организованным. Всякая же организация,
иерархия, руководство и власть — словом, любая институциа-
лизация — это, утверждает Фромм, проявление
бюрократизации. Безжизненный и обезличивающий мир
современной всеохватывающей и всепроникающей
бюрократизации несовместим, по убеждению Фромма, со спонтанной
реализацией индивидом его «я». «Альтернатива
заключается не в выборе между „капитализмом" и
„коммунизмом4',—говорил Фромм, уточняя свое кредо,—а между
бюрократизмом и гуманизмом» (30, р. 181).
В деятельности Э. Фромма был период, когда он в
поисках гуманистической социально-экономической
структуры, не препятствовавшей преодолению отчуждения,
обратился к социализму. Зная исходные посылки его
концепции, можно предположить, что вряд ли имелся в виду
научный социализм.
Возможность отчуждения будет исключена только в
том случае, считал Фромм, если функции производства и
управления для индивида не будут разделены. А так как
очевидно, что провести этот принцип в жизнь можно
только в условиях небольших объединений, Фромм пред-
60
лагал в качестве идеальной социально-экономической
модели «гуманистический коммунитарный социализм»,
являющийся не чем иным, как эклектической суммой идей
Бабефа, Фурье, Оуэна, Прудона, Бакунина, Кропоткина.
Единственно возможный способ подлинно
гуманистического преобразования общества — это создание небольших
производственных коммун, где основным принципом
станет совместное участие в управлении, принятии решений
и делении прибыли. Только так гуманизм может
восторжествовать над бюрократизмом.
Конкретную модель «гуманистического коммунитарно-
го социализма» Фромм мыслил как сравнительно
небольшую «индустриальную организацию, в которой каждый
труженик является активным и ответственным участником
в общем деле, где труд привлекателен и наполнен смыслом,
а капитал перестает быть хозяином и властелином труда
и начинает выполнять лишь подсобные функции на
службе у труда» (37, р. 283-284).
Построенная на односторонне трактуемой концепции
отчуждения, возможность социалистического
преобразования общества оказывается у Фромма утопией чистой
воды. В констатации этого факта единодушны не только
марксистские авторы, но практически и все
представители западной социальной науки, пишущие о Фромме.
Марксистские авторы к тому же справедливо замечают,
что подобная социальная программа в «современную
эпоху не обладает даже известными достоинствами
утопического социализма» (22, р. 40).
Со временем Э. Фромм и сам понял несостоятельность
надежд на «гуманистический коммунитарный
социализм». Разделяя традиционные предубеждения
либерального буржуазного интеллигента против научного
социализма, он не смог, да и не захотел увидеть выход в
практике современного социалистического строительства.
Более того, в конце концов он попытался найти выход на
пути реформ многократно заклейменного им современного
американского общества. После не принесшего ему
удовлетворения увлечения «социализмом» Фромм направил
свои теоретические усилия на разработку рекомендаций
для преобразования американского капитализма в
«гуманистический менеджмент».
Необходимо гуманизировать существующую в США
социальную систему так, чтобы она служила целям
совершенствования индивида и обеспечению подлинно
человеческой жизни. Для этого прежде всего Фромм рекомендует
61
гуманизировать планирование: «Критерием планирования
должно быть не максимальное развитие производства,
а оптимальное совершенствование индивида» (36, р. 100).
Самая неотложная задача в этом плане — формирование
«здоровой экономики для здоровых людей», которая
отвечала бы потребностям «неотчужденных, ориентированных
на высокое бытие индивидов» (32, р. 176).
Рычагом преобразования экономики должно быть
изменение структуры потребления. Последнее, по мысли
Фромма, предполагает добровольную в результате
соответствующих мер трансформацию моделей потребления
и изменение стиля жизни. Гуманизация потребления
предполагает и переориентацию производства. Сегодня,
повторяет Фромм, неограниченный рост производства
рассматривается как самое наглядное свидетельство
«прогресса», как своего рода квазирелигиозный вариант
индустриального рая. В идеале, считает Фромм, рост производства
должен служить лишь средством для достижения
определенных целей: после того как будет достигнут
соответствующий уровень материальной обеспеченности,
производство следует переориентировать на гуманистическое
совершенствование общества.
В качестве одного из важнейших направлений
гуманизации американского общества Фромм рекомендует
замену отчужденного бюрократизма «гуманистическим
менеджментом». Последний понимается как сочетание
оптимальной централизации с максимальной вовлеченностью
рядовых людей в процесс принятия решений и участие
в их реализации. Необходимо остановить процесс
централизации и повернуть общественную жизнь в сторону
децентрализации. Для того чтобы противостоять
нарастающей угрозе бюрократизма, необходима индустриальная и
политическая демократия участия — децентрализованная
демократия первичных групп. Даже в самом
централизованном обществе, говорит Фромм, никогда не удастся
избежать проблем, касающихся непосредственного общения
людей между собой. В общенациональных акциях, как и
делах отдельных крупных объединений и предприятий,
«кирпичиком» всегда является первичная, неформальная
группа, где люди непосредственно (face to face) знают
ДРУГ друга.
Возможность политической активизации рядового
американца Фромм ставит в прямую связь с
функционированием первичных групп непосредственного общения.
Ограниченное количество членов такой группы, непосредст-
62
венное общение между ними, конкретность и
адекватность информации, возможность позитивного диалога
между членами группы — все это в сочетании с правом
принимать решения и обязательной последующей
интеграцией решения первичной группы в общий социальный
процесс принятия решений и будет движением в
направлении «гуманистического менеджмента».
В связи с попытками Фромма реформировать
современное американское общество хотелось бы подчеркнуть
следующее. Во-первых, здесь наглядно выявляется
свойственное и исследовательской манере, и содержанию его
теории противоречие между способностью ставить
серьезные, в первую очередь социально-психологические,
проблемы и беспомощностью при попытках их разрешить.
В данном случае любое из предложений Фромма,
направленное на преобразование отчужденного бюрократизма в
«гуманистический менеджмент», неизбежно порождает
вопрос: кто, как, когда и во имя чего возьмется проводить
эти предложения в жизнь? Невозможность дать сколько-
нибудь реальные ответы на эти вопросы нагляднее всего
говорит о политической наивности и
социально-экономическом утопизме предлагаемых Э. Фроммом реформ. Во-
вторых, сказать только это — значит упростить ситуацию:
следует иметь в виду, что рекомендации Фромма
обнародованы в вышедшей в 1968 г. книге «Революция
надежды», и в свете этого хронологического обстоятельства они
не столь уж однозначны. При всей их наивности и
утопизме предложения Фромма, взятые в контексте
американской действительности того периода, оказываются
своего рода документом, отражающим настроения
определенных слоев американского общества в один из
критических моментов его существования. Книга «Революция
надежды» может рассматриваться, считает, например,
югославский исследователь Н. Лер-Софронич (43), как
политически-программное выражение взглядов той части
американского населения, которая в 1968 г. попыталась
сплотиться на платформе поддержки кандидатуры сенатора
Ю. Маккарти на пост президента от демократической
партии, наивно полагая, что в условиях захлестнувшей
общество радикальной критики апатия и аполитичность
могут быть преодолены, если удастся воодушевить людей
конкретной программой, ориентированной на
гуманизацию общества и человека. Поскольку критика эта не
нашла (и при тех конкретных условиях в США не могла
найти) адекватной себе социальной основы, постольку во-
63
прос не мог быть переведен в плоскость реальных
социальных изменений и тем более социальной революции.
В результате разношерстные и непрочные силы
радикальной критики были поглощены и нейтрализованы
американской действительностью, а вместе с ними и надежда
на гуманистические реформы. Сторонники этой надежды
оставили поле боя, а те, кто не желал все же мириться
с американской действительностью, предпочли
погрузиться в призрачный мир «культурной революции» в
интимных сферах жизни.
Фромм не сделал ни того, ни другого. Через восемь
лет он пишет книгу «Иметь или быть?», одну из
последних своих книг. В ней в несколько измененной форме
повторяются по сути дела те же предложения
гуманистической реформы американского общества. В
результате та политическая наивность и тот
социально-экономический утопизм, которые в 1968 г. по крайней мере
вписывались в конкретную американскую ситуацию и,
таким образом, имели какое-то обоснование и
оправдание, в 1976 г. предстали уже в чистом виде, сами по
себе. Не случайно Э. Фромм в этой книге уже
откровенно сформулировал то, что до сих пор присутствовало в
его социальной теории в качестве скрытой, но
неотъемлемой и характерной ее особенности. В современных
условиях, пишет он, «утопическая цель гораздо более
реалистична, чем „реализм" наших политиков» (32, р. 201),
ибо появление нового общества и нового человека
упирается в кардинальное изменение жизненных ориентации
и человеческих мотиваций, а для этого необходима
энергия утопических пророчеств и экспериментов.
Мы вкратце проследили, к чему привела Э. Фромма
неспособность диалектически решить проблемы
взаимоотношений индивида и общества. Под иным углом зрения
подходят к этой стороне размышлений Э. Фромма
пишущие о нем немарксистские авторы. Многие из них,
вполне резонно упрекая Фромма в том, что его
теоретические усилия направлены в гораздо большей мере на
поиски препятствий и затруднений, осложняющих жизнь
человека в современном обществе, чем на уяснение того,
что же из себя представляет этот человек, столь же
резонно вменяют ему в вину недостаточное обоснование
положения о совершенстве человека. Пожалуй, наиболее
острым нападкам представления Э. Фромма о
неотчужденном, совершенном индивиде подвергаются со стороны тех.
кто выступает от имени ортодоксального фрейдизма.
64
При этом заслуженная критика за непродумашюсть и
недостаточность позитивного представления Фромма об
индивиде обоснованно дополняется критическими
замечаниями, суть которых в том, что совершенный индивид у
Фромма чересчур линеен и как-то особенно статичен на
фоне динамичной структуры фрейдовского человека,
погруженного у основателя психоанализа в неразрешимые
драматические внутриличностные конфликты. Однако
критика в адрес Фромма этим не ограничивается, она,
как правило, переносится совершенно в другую
плоскость, когда иод сомнение берется правомерность
самой постановки вопроса о совершенном индивиде, т. е.
о возможности иного, нефрейдистского представления о
человеке. Сопоставляя взгляды Э. Фромма и 3. Фрейда,
американский ученый У. Герберг, например, отмечает,
что совершенный индивид Фромма — это самая
настоящая и притом грубая лесть современному человеку. Не
всегда приятно слушать то, что говорит о человеке Фрейд,
продолжает У. Герберг, но зато он не позволяет
человеку смотреть на себя как на невинную жертву истории и
общества, когда все: общество, культура, эпоха —
объявляются виновными во всех бедах и пороках человека,
и только он сам оказывается вроде бы пи при чем
(см. 41, р. 159—160). Конструктивность подобной
критики в адрес 3. Фромма, при том что в ней есть
рациональные зерна, кажется все же двусмысленной и
проблематичной. В конце концов именно наличие у Фромма
представления о неотчужденной личности, о совершенном
индивиде позволяют ему видеть в человеке качества,
которые не исключают возможности антропологически
трактуемого социального прогресса, в то время как
ортодоксально-психоаналитический подход к человеку тесно
связан с пессимистической по преимуществу оценкой
перспектив будущего.
И все-таки позволим себе уделить немного внимания
этой критике. К этому побуждает главным образом то
обстоятельство, что наиболе резким обвинениям
подверг походные концепции Э. Фромма Герберт Маркузе.
В данном случае нам не хотелось бы повторять
достаточно хорошо известные читателю критические пассажи
в адрес его теорий, и потому остановимся на уяснении
вопроса, имеющего прямое отношение к рассматриваемой
теме настоящего исследования. Дело в том, что Э. Фромм
не оставался в долгу, и полемика между ним и Г.
Маркузе, нередко персонально заостренная, практически не
3 Заказ Н 3610
65
прекращалась, начиная с 50-х годов; следы этой
полемики прослеживаются во многих больших и малых
публикациях этих авторов. Внимания в данном случае
заслуживает тот факт, что это была полемика двух
направлений, апеллирующих в конечном итоге к одному и тому
же источнику — психоаналитической теории 3. Фрейда.
Фромм «подправлял» Фрейда, пытаясь устранить
чрезмерную его биологизацию, в направлении социологиза-
ции фрейдизма, Маркузе считал, что Фрейд в этом не
нуждается и выступал против Фромма фактически с
позиций ортодоксального психоанализа. Оба — и Фромм и
Маркузе — стали оригинальными авторами социальных
теорий, но эти теории: либеральная в первом случае и
леворадикальная — во втором, проросли по сути дела из
одного и того же зерна, посеянного в свое время 3.
Фрейдом. Некоторые исследователи уже обратили внимание на
следующее обстоятельство: левый политический
радикализм последователей Фрейда, особенно Г. Маркузе,
прямо вытекает из их склонности рассматривать человека как
существо в первую очередь инстинктивное, в то время как
либеральная направленность социальной философии
Э. Фромма стала возможной не в последнюю очередь в
результате отказа от фрейдовского биологизма;
определенная обусловленность левого радикализма опорой на
инстинкты объясняется тем, в частности, что «инстинкт
требует удовлетворения, которое должно прийти извне,
он разомкнут в окружающий мир и ставит перед ним
задачи, бунтуя в случае их невыполнения» (23, с. 126).
Э. Фромм, отказавшись от фрейдовского биологизма,
сделал исходным пунктом своей социальной философии
антропологически-экзистенциальную ситуацию человека.
Однако и это, как выяснилось, к сколько-нибудь
утешительным итогам его не привело, результатом явилась
тупиковая безвыходность для фроммовского человека,
который обречен оставаться «больной», отчужденной
личностью. Это в конце концов вынудило Фромма
«вернуться» к Фрейду: в качестве реального выхода для
современного человека Фромм может предложить только
реконструированный им психоанализ. До тех пор пока
не появится новая социально-экономическая структура,
соответствующая совершенному человеку, до тех пор
пока господствующим типом личности в отчужденном
обществе не перестанет быть невротик, кабинет
психоаналитика, считает Фромм, останется тем местом, где
решаются самые больные проблемы человеческого суще-
66
ствования. Через соединяющую в себе искусство и науку
психоаналитическую теорию, дополненную
просветляющим озарением дзен-буддизма, «вылечить» современного
человека, вскрыв перед ним патологический характер
отчужденного общества, чтобы тем самым приблизить
переход к разумной, «здоровой» социально-экономической
структуре,— вот все, чего, по мнению Э. Фромма,
реально можно добиться на сегодняшний день.
Итак, антропологический подход к объяснению
социальной действительности в сочетании с окрашенными
в либеральные тона попытками «ревизии» взглядов
Фрейда не привел к успеху. Может быть более
плодотворными стали теоретические поиски Г. Маркузе, который
строил свою леворадикальную социальную философию на
исходных положениях классического фрейдизма?
Неофрейдисты, говорит Маркузе, стали на путь
«ревизии» классического психоанализа, когда окончательно
уяснили несовместимость теории, обосновывающей
неизменность и незыблемость природы человека, с
гуманистическими идеалами переустройства общества.
Неофрейдисты, считает он, совершили роковую ошибку,
ибо не поняли может быть самого важного в теории
Фрейда: гуманистическое переустройство современного
общества попросту невозможно.
Маркузе разделяет убеждение Фрейда в том, что
цивилизация возникает как институт для обуздания
инстинктов. Инстинкты, однако, никогда не умирают в
человеке, поэтому цивилизованное «я» человека ведет с
ними изнурительную борьбу за свое будущее,
непривлекательное будущее, добавляет Маркузе, поскольку «оно»
в человеке постоянно бунтует, и этот бунт направлен
против того, что всегда выступает как «необходимость».
Поэтому «вытеснение и несчастье с неизбежностью
должны быть, если цивилизация должна существовать»
(44, р. 246). Цивилизации всегда сопутствуют
«неблагополучия», и одно из них заключается в том, что
личность — это «разбитая» индивидуальность. Разница
между бытием индивидов — это разница между
непропорциональной и пропорциональной долей
«повседневного несчастья»; «повседневное несчастье» является
уделом подавляющего большинства человечества. При
всем разнообразии исторических форм общества общей
их чертой является негуманность. Так же
пессимистически Маркузе относится и к будущему, ибо истины,
открытые Фрейдом, становятся сегодня еще более весомы-
67
3*
ми. «В условиях современного развитого капитализма
психологическое господство человека над человеком,
капиталистическое манипулирование инстинктами и
инстинктивными потребностями играет огромную роль,
и оно в значительной мере ответственно за
интегрирование в систему. Именно в этом смысле, по моему
мнению, глубинная психология является частью базиса
сегодняшнего общества, а не частью идеологии или других
поверхностных явлений» (46, s. 9). Словом, современное
промышленно развитое общество не может быть
гуманным, ибо технический и технологический аппарат
производства и распределения превратился здесь, говорит
Г. Маркузе, в тотальный политический аппарат, целиком
подчинивший себе человека, координирующий и
направляющий все измерения его жизни: свободное время в
той же мере, что и рабочее время, критическое мышление
в той же мере, что и конформистское сознание. Царство
свободы здесь ничем не отличается от царства
необходимости (47, р. 96-100).
Учитывая характер эпохи, замечает Маркузе,
современный человек либо является мучеником, либо
становится бунтовщиком. Но даже если он становится
бунтовщиком, его борьба обречена, ибо человек не может
вырваться за рамки репрессивной цивилизации. Итак,
современная цивилизация вообще, капиталистическая
действительность в частности, исключают возможность
гармоничного развития человека и, следовательно,
возможность более или менее приемлемого будущего.
Возможность эта появится лишь с возникновением новой,
принципиально иной цивилизации, где в первую очередь
будут устранены силы, сделавшие инстинктивную природу
человека объектом манипулирования и эксплуатации.
Инстинктивная природа человека, заявляет Маркузе,
допускает появление новой цивилизации. Для этого
необходим прорыв в цепи человеческих потребностей, ибо
сегодня они в самих себе несут репрессивность.
Качественно новой особенностью будущего общества (Г.
Маркузе иногда называет его подлинно социалистическим
обществом) станет то измерение человеческого
существования, которое можно определить как
эстетически-эротическое. Эстетическое означает для Маркузе способность к
сенситивности, способность непосредственно, конкретно и
цельно воспринимать окружающий мир. Именно в такой
интерпретации эстетическое обеспечит будущую
конвергенцию техники и искусства, труда и развлечения.
68
Эротическое у Маркузе — это высвобождение
чувственности, преодоление созданного репрессивной культурой
разрыва между разумом и эмоциями. Разрыв этот
преодолевается в эросе. «Сексуальные импульсы без потери
своей эротической энергии ... эротизируют все, как
правило, неэротические и даже антиэротические отношения
между индивидами и между индивидом и средой...
Принцип удовольствия простирается в сознание...» (44, р. 204).
Иначе говоря, эрос — это то, что окрашивает в особый
эмоциональный тон все виды самореализации человека.
Одним словом, Г. Маркузе не исключает возможность
появления принципиально новой цивилизации в том
случае, если удастся преодолеть старые инстинктивные
потребности, порожденные нынешним репрессивным
обществом. Однако для того чтобы появились новые
эстетически-эротические потребности, более того, чтобы они
имели возможность развиться, должен быть устранен
механизм, который воспроизводит старые потребности.
В свою очередь, для того чтобы устранить механизм
воспроизведения старых потребностей, должна возникнуть
принципиально новая потребность устранить его. Так
образуется порочный круг. «И я не знаю,— признается
Г. Маркузе,— как из него выйти» (45, р. 80).
Так и Маркузе, выдвинувший идею «тотального
отрицания» буржуазной действительности и призывавший к
«Великому Отказу», не смог предложить реального
выхода. С этой точки зрения его опирающаяся на Фрейда
леворадикальная социальная философия мало чем
отличается от социальной теории Фромма, родившейся из
стремления подвергнуть учение Фрейда социологической
«ревизии». И все-таки, согласимся, леворадикальные
теоретические обоснования необходимости прорыва к новой
чувственности выглядят еще более безысходными на
фоне либеральных антропологически-экзистенциальных
построений Э. Фромма. Впрочем, подобное утверждение
верно лишь в том случае, если иметь в виду не столько
концепцию Фромма как таковую. Для того чтобы
стремления к свободе, любви и творчеству перевести на
реальный язык общественно-исторической практики и
конкретной социальной действительности, Фромм должен был
бы от антропологически-экзистенциальных и абстрактных
социально-политических конструкций возвыситься до
уровня диалектического осмысления исторической
практики, коллективного социального действия и классовой
борьбы. Он этого не сделал и потому не смог выйти за
69
рамки типичных для буржуазных обществоведов
размышлений о неких всеобщих закономерностях и путях
изменения цивилизации, отождествляя при этом
возможности ее прогресса (как позитивные, так и негативные)
исключительно с условиями развития буржуазного
способа производства; в результате ему не удалось подняться
до единственно возможного, подлинно научного подхода
к проблеме развития человеческого общества, суть
которого в конкретном анализе общественно-экономических
формаций как последовательных ступеней в процессе
возникновения и создания все более совершенных
социально-экономических и социально-политических основ
исторического развития и социального прогресса.
Поэтому-то в конце концов Э. Фромму не оставалось ничего
другого, как связать свои упования с энергией
утопических пророчеств и утопических экспериментов.
Один из главных выводов, который исчерпывающе
характеризует социальную теорию Э. Фромма, звучит
достаточно двусмысленно и неопределенно: «Я верю в
совершенство человека, но я сомневаюсь, достигнет ли он
своей цели...» (30, р. 180). И, однако, при всей
неуверенности и сомнениях Э. Фромм не позволял себе впасть
в отчаяние, пессимизм и апатию. Мы уже отмечали, что
он мог вполне не придерживаться логики концепции,
например в том случае, когда она начинала
противоречить каким-то его личным убеждениям. В «Эросе и
цивилизации» Г. Маркузе критиковал неофрейдистов, и в
первую очередь Э. Фромма, ко всему прочему еще и за
то, что в своих размышлениях они во многом, по его
мнению, шли от жизненного опыта, от здравого смысла.
Вопрос о том, насколько обоснован упрек Маркузе, в
данном случае не столь уже принципиален. Пожалуй,
именно мудрость жизненного опыта и приправленный
абстрактным гуманизмом либерального американского
интеллигента здравый смысл стали теми опорами, которые не
позволили Э. Фромму окончательно утратить надежду.
В конце концов здравый смысл подсказывал, что бытие
человека всегда было, есть и будет драматичным, что
любовь и жизнь, как писал в свое время один из
американских исследователей неофрейдизма, подытоживая
определенный этап научной деятельности Э. Фромма
(см.: 26, р. 390), никогда не добивались и не добьются
окончательного триумфа, но они же никогда не терпели
и не потерпят окончательного поражения. Таков уж удел
человека, пока он остается человеком.
70
В друг ой стране и совсем по другому поводу были
написаны слова, которыми поразительно точно может
быть сформулирован итог теоретических исканий
Фромма (во всяком случае в той их части, которая была здесь
рассмотрена): «Человек или больше своей судьбы, или
меньше своей человечности» (6, с. 479). Отчужденному
индивиду сегодня угрожает реальная опасность
необратимого уничтожения в нем человеческого, и все-таки
Э. Фромм надеялся, что индивид этот может быть
«больше своей судьбы», уготованной ему бесчеловечным
миром, ибо в глубине души ученый не мог и не хотел
примириться с мыслью о том, что человек стал «меньше
своей человечности».
И все же только гражданственность позиции ученого
и здравый смысл умудренного жизненным опытом
человека позволяли Э. Фромму с определенной дозой
оптимизма смотреть на перспективы современного общественного
развития. Что касается его концепции по существу, то
она-то как раз не давала и не могла дать оснований для
оптимизма. Фромм разделил типичную участь
представителей буржуазной социальной науки, наглядно
продемонстрировав несостоятельность ее попыток разобраться в
сложном характере исторического прогресса, а тем более
предложить реальные пути изменения социальной
действительности современного западного общества.
Литература
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 9, с. 131—136.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. 41—174.
3. Ленин В. И. Маленькая картинка для выяснения больших
вопросов.—Поли. собр. соч., т. 37, с. 407—411.
4. Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981. 223 с.
5. Батищев Г. С. Деятельностная сущность человека как
философский принцип.— В кн.: Проблема человека в современной
философии. М.: Наука, 1969, с. 73—144.
6. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования
разных лет. М.: Худ. лит., 1975. 502 с.
7. Бовин А., Кобыш В. Неспокойный мир восьмидесятых.—Лит.
газ., 1981, 1 яив., с. 15.
8. Гёде А. Критика «гуманистически-экзистенциалистской»
интерпретации Маркса Фроммом.— В кн.: Ленинизм и
современные проблемы историко-философской пауки. М.: Наука, 1970,
с. 430—464.
9. Григоръян Б. Т. На путях философского познания человека.—
В кн.: Проблема человека в современной философии. М.:
Наука, 1969, с. 5—70.
10. Добренькое В. И. Неофрейдизм в поисках «истины»: Иллюзии
и заблуждения Эриха Фромма. М.: Мысль, 1974. 144 с.
И
11. Замошкин Ю.А. Кризис буржуазного индивидуализма и
личность: Социологический анализ некоторых тенденций в
общественной психологии США. М.: Наука, 1966. 328 с.
12. Зыкова А.Б. Учение о человеке в философии X. Ортеги-и-
Гассета: Крит, очерк. М.: Наука, 1978. 160 с.
13. Митин М. Б. Философия и социальный прогресс: Анализ
современных буржуазных концепций социального прогресса. М.:
Наука, 1979. 231 с.
14. Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1980. 302 с.
15. Рихта Р. Становление нового типа цивилизации.— Проблемы
мира и социализма, 1981, № 8, с. 16—21.
16. Социология сегодня: Проблемы и перспективы; Американская
буржуазная социология середины XX в.: Сб. статей. Сокр. пер.
с англ. / Под ред. Г. В. Осипова. М.: Прогресс, 1965. 684 с.
17. Филиппов Л. И. Философская антропология Жан-Поля Сартра.
М.: Наука, 1977. 287 с.
18. Фромм Э. Наш образ жизни делает нас несчастными.— Лит.
газ., 1964, 24 окт.
19. Фромм Э. Человек одинок.— Иностр. лит., 1966, № 1, с. 230—
233.
20. Хюбшер А. Мыслители нашего времени: 62 портрета. М.:
Изд-во иностр. лит., 1962. 357 с.
21. Черкасов СМ. Истинная сущность неофрейдизма. Л.: 1966. 40 с.
22. Шахназаров Г.Х. Фиаско футурологии: Крит, очерк
немарксистских теорий общественного развития. М.: Политиздат, 1979.
352 с.
23. Эпштейн М. В поисках «естественного» человека:
«Сексуальная революция» и дегуманизация личности в западной
литературе XX века.— Вопр. лит., 1976, № 8, с. 11—145.
24. Эрёш Л. Очерк концепции Э. Фромма.— Вопр. философии, 1970,
№ 6, с. 86-95.
25. Freud and 20th century / Ed. by B. Nelson. Cleveland; New York:
World publ. со, 1963. 315 p.
26. Friedenberg E. Neo-freudianism and Erich Fromm.— In:
Psychoanalysis and contemporary American culture/Ed. and introd.
by H. Ruitenbeek. N. Y.: Dell publ. со, 1964, p. 373-391.
27. Fromm E. Afterword to «1984» by Orwell G. N. Y.: Penguin
books, 1962, p. 257-267.
28. Fromm E. The anatomy of human destructiveness. N. Y. etc.:
Holt, Rinehart and Winston, 1973. XIX, 521 p. Bibliogr.:
p. 479-498.
29. Fromm E. The art of loving. L.: Unwin books, 1965. 95 p.
30. Fromm E. Beyond the chains of illusion: My encounter with
Marx and Freud. N. Y.: Trident press book; Simon and Schuster,
1962. XX, 182 p. (The Credo ser.).
31. Fromm E. Fear of freedom. L.: Routledge and Kegan Paul, 1960.
XI, 257 p.
32. Fromm E. To have or to be? N. Y. etc.: Harper and Row, 1976.
216 p. (World perspectives; Vol. 50). Bibliogr.: p. 203—209.
33. Fromm E. The heart of man: Its genius for good and evil. N. Y.
etc.: Harper and Row, 1964. 156 p. (Religious perspectives; Vol. 12).
34. Fromm E. Introduction.— In: Illich J. D. Celebration of
awareness: A call for institutional revolution. Harmondsworth:
Penguin books, 1973, p. 9—11.
35. Fromm E. Marx's concept of man / With a transl. from Marx's
72
economic and philosophical manuscripts by Т. В. Bottomore.
N. Y.: Ungar, 1961. XII, 260 p. (Milestones of thought).
36. Fromm E. The revolution of hope: Toward a humanized
technology. Toronto etc.: Bantam books, 1968. 169 p.
37. Fromm E. The sane society. L.: Routledge and Kegen Paul, 1963.
XIV, 370 p.
38. Fromm E. Sigmund Freud's mission: An analysis of his
personality and influence. L.: George Allen and Unwin, 1955. VIII,
120 p. (World perspectives).
39. Socialist humanism: An international symposium / Ed. by
E. Fromm. Garden City; New York: Doubleday and со, 1965.
XII, 420 p.
40. Hausdorff D. Erich Fromm. N. Y., 1972. 180 p. (Twayne's US
auth. ser. TUSAS, N 203). Bibliogr.: p. 169—176.
41. Herb erg W. Freud, the revisionists and social reality.— In:
Freud and 20th century/Ed. by B. Nelson. Cleveland; New York:
World publ. со, 1963, p. 143-167.
42. Hoock S. Marx's second coming.—Probl. commun., 1966, vol. 15,
N 4, p. 26.
43. Ler-Sofronic N. Covjek na raskrscu i humanizacija u bespuci-
ma reforme.—Gledista, 1978, g. 19, N 7/8, s. 714—724.
44. Marcuse H. Eros and civilization: A philosophical inquiry
into Freud. L.: Routledge and Kegan Paul, 1956. XII, 277 p.
45. Marcuse H. Five lectures: Psychoanalysis, politics and Utopias.
L.: Penguin press, 1970. 109 p.
46. Marcuse H. Intervju Dragoljubu Golubovidu.— Knjizevne novi-
ne, Beograd, 1968, 14 sept., N 336, s. 8—9.
47. Marcuse H. Socialist humanism? — In: Socialist humanism / Ed.
by E. Fromm. New York: Garden City, 1965, p. 96—100.
48. Sob el D. Erich Fromm dies in Switzerland, psychoanalyst and
author was 79.— New York times, 1980, 19 Mar.
Глава II
Настоящее и будущее сквозь призму утопии
Анализ современных буржуазных концепций
общественного развития не просто включает в себя утопическую
проблематику: в ряде существенных моментов последняя
составляет его ядро.
Первый из этих моментов связан с содержанием
утопии как контробраза реальности, психологически
определенного чертами этой реальности, представляющего в
глазах автора позитивный отпечаток с реального
негатива. Город Солнца строился и строится на самых мрачных
и зловещих тенях, отбрасываемых реальными городами.
Приверженцам утопии не удается убедить ее
противников в терапевтических достоинствах утопизма, но никто
не оспаривает роли утопии как социальной диагностики \
Чтобы увидеть весь спектр диагнозов, поставленных
утопией современному западному обществу, теоретически
надо было бы рассмотреть все позитивные и негативные
утопии XX в.: утопические проекты, вдохновленные верой
в возможность онтогенетической мутации, в способность
евгеники вывести биологически новый тип человека;
«духовные» утопии, христианские по генезису, почерпнувшие
новые силы в экуменическом движении; теократические
модели: православные, исламские, иудаистские — плод
глубокого кризиса формальной демократии; проекты
усовершенствования «демократической игры» с помощью
электронных коммуникаций; программы радикальной
перестройки отношений человечества и физической среды —
экологические и социально-этологические утопии,
переводящие проблему общественного развития в план
естественной истории; усиленное галлюциногенами эйфориче-
ское визионерство контркультуры; манифесты сексуальной
революции и феминистские грезы об андрогине; редкие
анахронистские пасторальные утопии и поток
антиурбанистических дистопий; а также достигшие масштабов
и влияния утопии всевозможные «рецепты счастья», среди
которых наиболее популярна сайентология—«наука» о
1 См. яркий социокультурный комментарий этого положения
в книге Э. Я. Баталова (4).
74
восстановлении природной мощи интеллекта через
систему оккультных упражнений; а также теория и практика
опрощения ради обретения утерянной человечеством
чувственно-эмоциональной глубины и тонкости путем
медитации и ухода от мира. К этому бы следовало
присовокупить содержательный анализ «прикладной утопии»:
манифесты, уставы, программы, учебники, методики и
мемуары участников принявшего широкие масштабы
утопического (по преимуществу, коммунитарного)
эксперимента. Классификация этого рода утопических проектов
в одних США включила бы десятки видов: коммуны
ремесленные, духовные, мистические, терапевтические,
политически-теоретические и политически-действенные,
хозяйственно-бытовые, творческие, образовательные,
альтернативно-сексуальные, бродячие и проч. (45).
Сделать это в масштабах главы, разумеется,
невозможно. Поэтому мы ограничимся несколькими диагнозами,
наиболее отчетливо связанными с ролью утопии как
модели общественного развития.
Логически естественно начать с негативных утопий
(дистопий), т. е. изображений «идеально плохого»
общества. Методологическая природа позитивной и негативной
утопии едина: дистопия — это подтекст и контекст утопии,
то, что автор выносит во введение или заключение, а чаще
в публицистику и мемуары, в письма к друзьям и
дневники — смотря по степени отдаленности действительности от
его грез. Формально дистопия ставит диагноз будущему,
но ставит она его из настоящего и, по существу,
настоящему.
Технологическое будущее: ад или рай? Эта модель
лежит в основе многих (нередко подлинно талантливых)
дистопий, чаще всего выступающих в жанре научной
фантастики (Р. Бредбери, А. Азимов, К. Воннегут, Э. Бёрд-
жес). Усилиями этих авторов создан кошмарный
сюрреалистический мир — зона одиночества и отчаяния,
ситуация особо безнадежная в тех случаях, когда она,
как у Э. Бёрджеса, как бы не имеет субъекта, т. е. никем
сознательно не переживается.
«Стоит ли удивляться, что в наше время антиутопии
растут, как грибы после дождя,— пишет исследователь
антиутопии Е. Вебер,— если на Национальной
конференции по электронике были рассмотрены такие, например,
проблемы, как перспективы контроля над физическим
поведением, над умственными процессами, над
эмоциональными реакциями, над чувственными восприятиями...
75
через биоэлектрические датчики, вживляемые в
центральную нервную систему» (66, р. 82). Технологическая
утопия вызвала как технологическую антиутопию, так и
своего рода «теодицею» — вызов антиутопии. Он
прозвучал, например, в романе Энтони Бёрджеса «Механический
апельсин», приобретшем мировую известность благодаря
экранизации прогрессивного американского режиссера
Стенли Кубрика (25). Э. Бёрджес тоже склонен видеть
ближайшее будущее западной цивилизации как
технологический кошмар, но его прогноз ограничивается именно
и только ближайшим будущим, ибо будущее неоднородно:
оно состоит из качественно разных отрезков. История, по
Бёрджесу, есть смена эпох коммуникации, когда за
волной отвращения к общению с ближним, к муравейнику
коллективной жизни встает волна жажды общения,
понимания и любви. В романе эти две эпохи трагически и
зловеще скрещиваются в одной человеческой судьбе. Его
герой Алекс хирургическим путем избавляется от совести
и становится роботом—мафиозо. Потерявший после
операции ощущение целостности бытия и, следовательно,
свободный от вопроса о его смысле, Алекс эффективно
манипулирует людьми, не слыша исходящих от своих
жертв стонов и проклятий. Но случайно оставшиеся в
нем после операции крупицы души парадоксально
обостряются и утончаются так, что этот палач отвечает на
сигналы, которых не слышат другие люди,— на муку и
блаженство умершего сто лет назад одинокого гения.
Непереносимой болью наполняет все его существо финал
бетховенской Девятой симфонии — «Ода к радости».
С этой муки начинается распад технологического ада.
Здесь научная фантастика становится своеобразным
поиском «секулярной религии». Это измерение книги и
фильма получило очень сильный резонанс в статьях об
этической проблематике романа. Одна из них, например,
заканчивается утверждением в духе «христоутопии».
«Помимо своей воли, его герой утверждает ту
религиозную истину, что, теряя себя, человек получает
возможность найти себя, ибо, теряя себя, он вынужден искать
другого» (35, р. 138). В те же годы, когда Бёрджесу
грезилась парадоксальная личность будущего — живой
робот, «механический апельсин», апологет капитализма
3. Бжезинский объявил США «утопическим островом», на
котором «обычная диалектика общественного развития
приобрела столь ускоренный драматический характер, что
ни эволюция, ни революция больше не могут считаться
и
адекватными терминами для ее описания...» (26, р. 127).
Такую картину будущего 3. Бжезинский назвал
«диалектической» моделью — не утопией, а практопией.
Основной рычаг изменений — новая техника, и в
первую очередь электроника, главный их объект —
человеческое поведение, которое с помощью химического контроля
над мышлением, физиологической трансплантации,
манипуляций с генетической структурой станет менее
спонтанным и таинственным, более запрограммированным, но
зато лишенным агрессии.
Так будет преодолена роковая дилемма человечества:
естественная и в этом смысле человечная агрессивность
или неагрессивный, но доктринальный — ив этом
смысле бесчеловечный — утопизм.
Каким будет мировоззрение гражданина «мирового
технотронного государства»? «Возможно,— предполагал
3. Бжезинский,— там разовьется своеобразный
прагматический идеализм (технотронный вариант все той же
протестантской этики,— В. Ч.), но вряд ли доктринальный
утопизм: наука и техника не располагают к однозначным
абсолютным формулам» (26, р. 131).
За «диалектической моделью» вставала, однако,
возможность катастрофы — образ антиутопического ада. Она
вырастала у Бжезинского из проблемы превращения
«утопического острова» в мировое государство. «На счастье
или горе,— писал 3. Бжезинский,— Америка ...
переживает будущее уже сейчас, конфронтация с новым — часть
ее жизни, остальные — сознательно или бессознательно —
подражают ей» (26, р. 142). Подражание, продолжает
автор, к несчастью,— не универсальная реакция на новое.
Разработанная еще в конце прошлого века
психологическим крылом социальных дарвинистов (Самнером и др.)
модель подражания как механизма общественного
развития выглядит сегодня явным методологическим
анахронизмом. Новое может вызвать ненависть, озлобление,
страх.
«Прагматический идеализм» американских «пионеров
технотронной эры» окажется перед лицом агрессии
«деревенского третьего мира» и «доктринёрского
городского второго мира» (терминология 3. Бжезинского). В эпоху
пошатнувшихся пространственных и временных границ
«технотронный остров» моя^ет быть открыт раньше, чем
«материковые туземцы» созреют для его понимания. Не
поступят ли они тогда с ним так же, как европейские
мореплаватели поступали с населением открытых имд
77
счастливых островов? Окажется ли создаваемая сетью
электронных коммуникаций «мировая сверхкультура»
достаточно сильной, чтобы противостоять инстинктивному
сопротивлению традиционных региональных и
национальных культур?
А поскольку идея синтеза культур органически чужда
островному мышлению Бжезинского, его «практопия»
переходит в апокалипсис.
«Сосуществование деревенского, урбанистического и
технотронного образов жизни на одной планете будет все
сильнее разделять людей, усугубляя непонимание и
конфликты, и станет в ближайшие полстолетия главной
проблемой, которая может обостриться до самых
разрушительных пределов» (26, р. 146). Выход из этого тупика
Бжезинский, как и ряд других «практопистов», нашел в
переориентации с будущего на сегодняшний день, когда
главное для «технотронного острова» — «позиция силы».
Только почти через три десятилетия после пророчеств
Бжезинского «практопия» получила оптимистическое
звучание в очередной модели общественного развития —
волновой концепции Тоффлера, пытающегося снять проблему
сосуществования времен рядом парадоксальных образов:
«электронного коттеджа», автоматизированного, но
раздробленного производства; открыто-патриархальной семьи
с бабушками, дедушками, сватами и кумовьями. Вся эта
«инфосфера», определяемая автором через серию
ностальгических «де», — дестандартизированная,
децентрализованная — не просто новый образ, но образ, ставящий
диагноз современности, и диагноз старый — отчужденное
общество.
Будущее — организованный ад. Этот проект будущего
ада принадлежит не писателю-фантасту, а историку
утопии — Л. Мэмфорду, глубоко убежденному в
эмпирической достоверности своей модели.
Анализируя дошедшие до нас свидетельства о жизни
Платона, Л. Мэмфорд пришел к выводу, что античная
утопия имела перед собой и исторический прототип —
древние государства, руины которых Платон видел,
путешествуя по Египту и Мессопотамии. Остатки
величественных сооружений, папирусы, изображавшие слаженный
коллективный труд одинаковых в своей правильности
людей, подсказали воображению философа, уязвленного
хаосом и беспутством окружающей жизни и жаждущего
гармонии и порядка, образ древней живой машины, в
которой каждый винтик чувствовал себя частью Высшего
78
Порядка, образ мира, соразмерного во всех деталях
единому эталону и подконтрольного высшим силам. Этот
древний «город» и стал архетипом утопии на все
времена (49).
Живя среди совсем других форм жизни, пестрых и
противоречивых, в горниле отнюдь не утопических
социальных страстей Коринфа и Малой Азии, философ,
вспоминая о прошлом, верил в будущий триумф порядка
и контроля. Вслед за Платоном, с грустью пишет Мэм-
форд, человечество время от времени пытается вернуться
к машинному порядку, и что может остановить его на
этом пути? Бессильные проклятия авторов антиутопий
(не случайно сделавших именно город фокусом своих
апокалиптических фантазий) ? «Неолуддизм»
художественного авангарда, его отрепетированные хэппенинги,
моральные перевертыши (объявление преступников
святыми, а помешанных — пророками)?
«Протест этот обречен: в XX в. идея тотального
контроля обрела новые возможности реализации — союз
власти и науки, альянс церкви и государства, синтез
науки и религии. Никогда еще платоновский город не был
так близок к своим историческим прототипам» (49, р. 290).
Будущее—меритократический ад. Считая, что
научно-техническая рационализация есть универсальный
процесс нового времени, некоторые антиутописты варьируют
образ будущего ада и рисуют его как апофеоз
организации под неограниченной духовной диктатурой
интеллектуалов.
Бестселлер М, Янга «Возвышение меритократии:
1870—2033. Эссе о равенстве и образовании» (69)
сатирически выворачивает наизнанку голубую мечту
модернизатора — абсолютно рациональное, не знающее ни
иерархически-статусных, ни морально-догматических тормозов
общество 2033 г., разделенное исключительно по
критерию интеллекта на две экзистенциальные касты:
интеллектуалов и неинтеллектуалов (пролетариев).
Политически и экономически они равноправны: интеллектуально
одаренные дети пролетариев беспрепятственно вливаются
в меритократическую элиту.
Но между ними нет человеческого, т. е. духовного,
общения, поскольку у неинтеллектуалов нет духовной
жизни. По этой же причине, а не из-за предрассудков
практически исключены и межкастовые браки.
Пролетарии, верящие, как и интеллектуалы, в
универсальную, единственную ценность интеллекта и живущие
79
в полном духовном вакууме, в конце концов приходят к
такому ужасу перед абсурдностью своего существования,
что в яростном кровавом мятеже уничтожают государство
меритократии.
Видение М. Янга прозвучало зловещим
предостерегающим комментарием к хору голосов, приветствующих
«меритократическую революцию». Это были разные
голоса — 3. Бжезинский, Д. Белл, Б. Скиннер, отчасти
Э. Фромм — идеологически разные, но за ними лежала
одна онтологема — представление о «расколдованном
мире рациональной западной цивилизации» (метафора
принадлежит М. Веберу) 2.
Сейчас дискуссия о меритократии зашла довольно
далеко, вопрос ставится не только: во благо или во зло
меритократическая революция, но была ли она?
Известный генетик и «экоутопист» Ф. Добржанский,
автор книги «Генетические различия и равенство» (без
ссылок на которую не обходится ни одна дискуссия об
утопии), утверждает, что оптимальный вариант
меритократии уже создан в современном западном обществе,
предоставляющем все шансы уму и таланту (28).
Откуда взял М. Янг свои экзистенциальные касты,
удивляется Добржанский. Ум и талант проявляются так
разнообразно и оцениваются так относительно, что никак
не могут стать причиной образования генетически
фиксированных социальных групп.
С иной позиции полемизирует с нарисованной Янгом
перспективой общественного развития известный
социолог, исследователь общественного мнения Ч. Дженкс:
«Что касается США, то на сегодняшний день в этой
стране способность адаптироваться к ценностям среднего
класса, обаяние, гибкость в общении, наконец, сексапиль-
ность ценятся значительно выше, чем сила логики,
хорошая память, блеск интеллекта, и даже больше, чем
деловая сметка и усердие. И если мы действительно
движемся, как думает Янг, к царству эффективности, то там в
чести — по закону дефицита — будут теплота,
искренность, непосредственность, чувствительность, смелость.
Это вовсе не означает, что общество 2033 г. будет
эгалитарным: душевная одаренность так же редка, как всякая
иная, но это не будет меритократия интеллекта» (38,
Р- 92).
2 Но Вебер не ответствен за однозначность оценки: в ряде
работ он оценивает рационализацию как новое «злое
волшебство» (68).
80
Дискуссия о меритократии обнажает кардинальную
утопическую проблему (ныне модифицированную до
неузнаваемости — об этом ниже) — проблему равенства и
личностной уникальности.
Иными словами, она обращает нас ко второму
важному моменту анализа современного утопизма в плане
проблематики общественного развития — к представлениям о
целях этого развития. Изменения, происшедшие в этих
представлениях, нигде, может быть, не проступают так
явственно, как в спекуляциях о будущем.
Как справедливо пишет английский философ-марксист
А. Мортон, «поэты, пророки и философы превратили
утопию в средство развлечения и поучения, однако
раньше этих поэтов, пророков и философов существовал
простой народ со своими заблуждениями и развлечениями,
воспоминаниями и надеждами.
У народной утопии множество имен, она появляется в
разных обличиях. Это и английская страна Кокейн,
и французская Кокап. Это и Помоиа, и Горная Бразилия,
Гора Венеры и Страна Юности. Это Люберланд и Шла-
рафенланд, Рай бедняка и Леденцовая Гора... вполне
земной рай, остров сказочного изобилия вечной юности,
вечного лета, веселья, дружбы и мира» (И, р. 18) \
Классическая утопия нового времени вплоть до
первого десятилетия XX в. описывала острова, города и
страны, изобильные, цветущие. Современная утопия
принципиально игнорирует этот момент. На «круглом
столе» по утопии в журнале «Дедалус», собравшем десятки
ученых из разных стран, только один участник напомнил
(без всякого успеха) коллегам, что мечта о счастье —
это прежде всего мечта о материальном благополучии и
возможности наслаждаться отдыхом.
Даже такой страстный приверженец простого
спокойного счастья, как Б. Скиннер, отмахивается от идеи
изобилия. «Экономическое благосостояние коммуне
обеспечит и ребенок,— говорит герой его утопического романа
„Уолден-2",— все проблемы — это проблемы психологии»
(53, р. 94).
Откуда это пренебрежение? Считать его следствием
повсеместного пресыщения или хотя бы насыщения не
позволяет статистика, фиксирующая систематическое
недоедание значительной части человечества.
3 См. об этом также в авторском предисловии к книге
А. Э. Штекли (19).
81
Восстает против такого предположения и сама
история утопической мысли, свидетельствующая, что
переориентация целей в утопии началась за сто лет до
«экономических чудес» и «государств всеобщего
благоденствия» и была следствием психологизации утопии — нового
этапа в ее развитии. Речь идет об утопии Нового
времени, история которой начинается с книги Мора. Ее первый
этап длится от Мора вплоть до Великой французской
революции, второй —г от революции до появления
утопического социализма и третий — от Сен-Симона и Фурье до
наших дней.
Вневременные закрытые утопии «спокойного счастья»,
основанного на отсутствии частной собственности и
социальном равенстве, создавались только в первый период.
Ни Мор, ни его последователи не видели в таком счастье
угрозы для личности: психологическая респрессия (хотя
термина такого не было) считалась нормальным
регулятором человеческих отношений.
Эта стоическая модель умеренного и потому легко
достижимого счастья довлела утопическому сознанию
вплоть до XIX в. «Это была утопия одного
психологического типа — стойко-эпикурейского. В ней не было места
ни романтику, ни авантюристу, ни герою, ни
предпринимателю, ни эстету» (46, р. 295).
Можно указать на разные источники расширения
представлений о счастье на протяжении XVIII—XIX вв.:
от открытия «счастливых островов» с совершенно
немыслимыми для европейцев формами семейных и
сексуальных отношений до кризиса христианской религиозности и
просветительского оптимизма. Идеал спокойного счастья
интенсивно размывался модернизацией экономики и
образа жизни, порождавшей, с одной стороны,
динамическую индивидуальность, шедшую впереди времени и
умеющую жертвовать настоящим ради будущего, а с
другой — разные типы отшельников и мятежников, шутов и
юродивых, мечтателей и сибаритов совсем с другими
идеалами и мечтами. Такое расслоение личности шло,
разумеется, во все времена, но теперь формирование
качественно нового мировоззрения — философии истории —
теоретически осмыслило и типологизировало этот процесс в
образах разных «исторических индивидуальностей».
На смену закрытой вневременной утопии пришла
«ухрония» — пространство которой не остров, а
человеческая цивилизация. Ухрониями, безусловно, были утопии
«гениальных мечтателей» Сен-Симона, Фурье и Оуэна.
82
Широта их представлений о человечестве и личности
диктовала авторам необходимость дифференцированного
подхода к поведению и потребностям человека. У
Сен-Симона мы находим три типа личности (рациональный,
эмоциональный и моторный); у Фурье — восемнадцать
сотен! Социализм Фурье предполагает признание не
только разных духовных, но и разных материальных
потребностей. Предполагает он и освобождение
потребностей, в том числе сексуальных.
Однако ухрония была сдержанна в своей ревизии
классической утопии. Сексуальную свободу она
допускала только ради успокоения личности, не отвергая
чувственности, она требовала гармонии духовного и
чувственного начал, более того — гармонизации чувственного
духовным. Допуская личностное неравенство, она,
безусловно, стремилась к социальному равенству. И она
считала главным гарантированный доход и нетяжелый труд.
Только в психологизированной утопии третьего
периода — «эупсихии» — страх «потерять личность» вытесняет
заботу об изобилии и покое, а жажда самоутверждения
оборачивается отношением к равенству как злу.
Синонимами равенства становятся взаимозаменяемость,
унификация, обезличивание.
«Эупсихия» возникла в период бурного развития
биологии и психологии: организмические и иерархические
элементы ее моделей в какой-то мере связаны с
неравномерностью освоения утопической мыслью новой научной
информации.
Но крайняя психологизация утопии, отказ от
гармонии в пользу растворения тела в духе, «спиритуализа-
ции» (см. ниже — де Шарден) или «либидоизации» —
раскрепощения инстинктов, торжества подсознательного
(Н. Браун, В. Рейх, Т. Лиери, Г. Маркузе) — идейно
связаны не только с внутринаучными факторами (в
первую очередь, с обнажением «иррациональной изнанки»
человека в работах 3. Фрейда и культуры в трудах
М. Вебера), но и с глубоким кризисом демократических
институтов, основанных на формальном равенстве, с
острым духовным кризисом в тех частях буржуазного
общества, которые как-то решили проблему куска хлеба и
свободного от производительного труда уикэнда.
Утопия, некогда подробно описывавшая хозяйственное
и политическое устройство нового мира, сосредоточилась
на программах психологического раскрепощения, а в
утопическом Зазеркалье — антиутопии — восторженная инто-
83
нация, с которой прежние островитяне демонстрировали
путешественнику свои достижения, сменилась
ожесточенным иррациональным антиутопизмом — ненавистью к
сытой, спокойной, надежной жизни.
Апофеоз этой ненависти — монолог Нарушителя в
знаменитой антиутопии О. Хаксли: «Я требую права быть
несчастным, права иметь сифилис или рак, голодать,
права быть вшивым, права жить в постоянной тревоге перед
завтрашним днем» (36, р. И).
Утописту прошлого абсурдом показалась бы сама
постановка вопроса: нужна ли спокойная, обеспеченная
жизнь? Достижима ли она — вот проблема.
Современный утопизм с огромным напряжением,
путем мобилизации самых сильных публицистических и
художественных ресурсов старается доказать, что
социально упорядоченное безоблачное будущее, может быть,
станет юдолью духовных страданий неслыханной
интенсивности, ибо человек способен страдать и без рака,
голодовок и концлагерей.
Автор современного утопического романа с большими
оговорками признает право на «сытый желудок»: «Можно
сказать, что гуманистическая функция социализма в том
и состоит, что он поднимает человека на новый уровень
страдания, ибо если трагический конфликт человеческой
судьбы неизбежен, то речь может идти лишь о выборе
между голодным желудком и голодным духом» (43,
р. 8).
Библиографической редкостью стала политическая
сатира, нацеленная своим острием не на скуку и
благополучие, а на материальное убожество и политическое
бесправие. «Духовные проблемы,— пишет ее автор,— не
доходят до человека, работающего, как вол, или дрожащего
от страха перед тайной полицией... поэтому прав рабочий,
что сначала — желудок, потом — дух, сначала — не на
шкале ценностей, а на шкале времени» (51, р. 213).
Каков путь реализации утопии: революция или
эволюция — так можно сформулировать третий момент
анализа. Утопизм и революциоыаризм — явления одного
психологического ряда,— такова традиционная установка
буржуазного либерализма. Оба они, пишет, например,
М. Ласки, восходят к двум рядам глубинных архетипов
человеческого сознания: «к образам рая и пламени,
спокойного счастья и самозабвенной страсти, оба тяготеют к
жизни на пределе, на полюсах человеческого
существования, а не на „золотой середине"» (41, р. XIII).
84
Этой установке внутри западной науки противостояли
другие образы утопии, выводившие ее из сферы
революционного сознания:
— маннгеймовское онтологическое
противопоставление утопии как предвосхищения будущего революционной
идеологии как орудию политической борьбы;
— противопоставление кабинетной, разработанной до
мельчайших деталей утопии мифу, продукту стихийного
творчества масс в работах Ж. Сореля (17);
— придание утопии статуса мысленного
эксперимента, понимание ее как «близкой родственницы науки»
(Б. Скиппер, М. Мид);
— и, наконец, исследование Э. Блохом природы
утопии как эстетической, как способности предчувствовать
гармонию и наслаждаться этим предчувствием,
способности, в основе которой лежит фундаментальная
конструкция подсознательного — «принцип надежды».
Какова в этом отношении тенденция новейшего
утопизма? Этот вопрос правомерен, ибо нет утопии на все
времена. Исследователь Е. Шацкий пишет, что, когда
Энгельс называл утопию «интеллектуальной
спекуляцией» и противопоставлял ее революционной теории, он не
ставил своей задачей исчерпывающе охарактеризовать
утопическое мышление, а лишь определял направление
развития социалистической мысли, история которой в
определенном смысле проходит между двумя крайностями:
между ревизионистским принципом «движение — все,
конечная цель — ничто» и утопическим стремлением к
конечной цели без учета реальных возможностей и нужд
этого движения» (57, s. 47) \
В этом свете оценка современного утопизма не может
быть однозначной. Большинство утопических схем
социального изменения рассматривают будущее как
неизбежный этап эволюции вида «homo sapiens», как
результат прогресса. Но и эволюция и прогресс в большинстве
из них протекают не в конкретном историческом месте и
времени, а в качественно новой духовной среде — в
«ноосфере», в «осевом времени», в «естественной природе»,
в «сверхкультуре», в «компьютерной цивилизации»
и проч. В этом смысле современное утопическое
мышление может быть названо метафизически —
эволюционным, но никак не революционным.
4 Здесь и далее переводы текстов Е. Шацкого сделаны
Н. К. Душенко.
85
Вместе с тем взгляды ряда современных утопистов
соответствуют критериям анархо-революционного
мышления, исходящего из абсолютной противоположности
старого и нового мира. Их революционаризм — это
стремление войти в новый мир без переходного периода,
представление об общественном перевороте как о полном
разрыве исторической преемственности, тот стихийный
революционаризм, с которым всегда боролась марксистская
диалектика. В непосредственной форме он являл себя в
утопиях леваков, в граффити на стенах студенческого
квартала в майском Париже 1968 г. «Даешь утопию!
Только мечта реальна!» (45, р. 11), в строках передовой
статьи левацкого студенческого журнала: «Универсальный
кризис, который мы переживаем сегодня, я^ертвы
которого — все мы, делает возвращение к утопии единственным
реальным решением для человечества, стоящего перед
угрозой уничтожения... новая утопия должна
принадлежать не авторитету, не имени, не гению, а анонимной
массе, которая, побуждая мыслителей к революции,
позволяет им описывать свои мечты» (Там же).
Свойственный такого рода революционаризму
апокалиптический пафос пронизывает и самые элитарные и
эволюционные модели. О. Тоффлер, возражающий
левакам-экстремистам, что будущее создается «не единым
напряжением насильственной революции, а трудом деся*
тилетий, усилием многих тысяч новаций и коллизий...
пионерами космического сознания, носителями глобальной
идеологии... менеджерами мультинациональных
концернов, защитниками окружающей среды, революционерами,
интеллигентами, писателями, художниками» (62, р. 125),
вместе с тем, как и авторы студенческого манифеста,
воспринимает настоящее как абсурд, как назревшую
катастрофу, но катастрофу искусственную — плод злой воли
или неразумия, как трагическое, но исправимое
отклонение от «космического задания». И хотя книги его
посвящены будущему, пишет он в них с равным пафосом о
настоящем.
Этот пафос так силен, что можно, переходя к
четвертому моменту анализа, говорить об изменении предмета
утопической мысли во второй половине XX в. Социально-
критический момент изначально был формирующим в
становлении утопического мышления (и платоновская
утопия была формой критики меркантильного духа
космополитических городов афинской Греции и Малой
Азии), но сегодня социальная критика вышла из под-
86
текста и стала прямым предметом утопических трактатов.
Под современным утопизмом все больше понимается
специфический тип оценки и прогнозирования тех или иных
тенденций общественного развития. Роман о прекрасном
острове читается как анахронизм, путешествия во
времени предпринимаются только в антиутопиях, в основном
же утопическое творчество — это статьи и книги о
современности, о сегодняшней капиталистической
действительности, как бы увиденной из завтрашнего дня, это
попытка «от имени будущего» ответить на вопросы: что
такое научно-техническая революция или политический
плюрализм — мост к будущему или тормоз на пути к
нему? И — в зависимости от этого — что такое
социальное аутсайдерство и контркультура, терроризм и
неоконсерватизм, сексуальная революция и новое монашество,
ретромания и авангардизм — сигналы из будущего,
которые надо принять, несмотря на всю их непривычность,
или, наоборот, расшевеленные будущим и одетые в новые
маски зловещие тени прошлого, с которыми надо
бороться?
Как бы мы ни пытались классифицировать попытки
ответить на эти вопросы: по социально-классовому
принципу (ибо и сегодня есть утопии аристократические и
буржуазные и пр.), по исторической роли (прогрессивные
и реакционные), по содержанию (технократические,
антигосударственные и пр.), по форме (трактат, пророчество,
экономический проект, политический манифест, научный
труд, романтическое послание), наконец, по способу
реализации (утопии бегства от действительности в другое
место, другое время или другой — иыопланетарный мир;
или утопии действия в форме поиска праведной жизни
для избранных — утопии ордена; или как стремление
спасти всех, даже не подозревающих о такой цели или
вовсе не желающих ее — утопии политики) — мы окажемся
перед фактом перерождения этих исторически
сложившихся утопических жанров в утопический стиль, трудно
поддающийся строгому определению, но хорошо
узнаваемый каждым, кто знаком с утопической литературой,—
в некую смесь философии истории, социальной критики,
футурологии и религиозной философии.
В отличие от философа истории утопист не ищет в
прошлом истоков явления, а выделяет в настоящем —
в соответствии со своей философией — «смыслоносные
элементы», которые в будущем должны получить полное
развитие.
87
Что касается социальной критики, то в утопический
ареал входит та ее часть, которая направлена не на
конкретные пороки конкретного общества, и даже не на
систему в целом, а на все современное существование как
неистинное.
Близость утопизма к религиозной философии в этом
смысле явная. Она проявляется и в миллениаристском
духе утопических проектов, и в личной религиозности
ряда известных утопистов, в их пророческом пафосе и
миссионерски-сектантской деятельности. Все это
провоцирует буржуазных исследователей на отождествление двух
форм духовной жизни, на объявление утопии современной
религией, на броские, эффектные определения:
«Правильнее всего определить утопию как секуляризованную
религию, а религию как сакрализованную утопию» (48,
р. 24—25). Но легкость таких определений
подозрительна: на протяжении только последнего полстолетия совре*
менной религией назывались марксизм, экология,
электроника, генетика, наука вообще...
Есть граница, отделяющая религиозное сознание от
утопического. Пронизывающая оба мечта о рае, вера в
рай у ортодоксально религиозного человека, верующего
в спасение души, а не бренной земной жизни,
неотделима от веры в ад, от веры в зло, приятие неизбывности зла
на земле. Идеалистическая критика утопии в
прагматических школах буржуазной социологии недаром связывает
бурное развитие утопизма нового времени «с падением
веры в первородный грех и развитием индивидуализма,
с просветительской верой в естественное добро и в
возможность самостоятельного усовершенствования
человека» (60, р. 7).
Оптимистическая направленность утопизма
(нейтрализуемая в религии указанием на геенну огненную) —вот
главный объект нападок на нее консервативных кругов
общественной мысли.
«Утопические идеи,—явно ностальгически пишет,
например, Дж. Талмон,— до конца 18 века не выходили
за литературные рамки политической сатиры или
аллегории, а в реальности — за границы жизни маленьких сект.
Эти идеи не могли торжествовать во времена, когда
люди верили в первородный грех и, следовательно, полагали,
что причина зла не в невежестве, а в слабости смертной
человеческой натуры, и поэтому умели различать личную
мораль, основанную на естественном побуждении, от
политической морали, исходящей из наличия зла в челове-
88
ческой натуре, из сознания, что ни человек, ни
сообщество людей не могут сами упорядочить свою жизнь, что им
нужна сила извне — будь то церковь, контроль или
традиция» (Там же). Идеологический смысл этого
высказывания очевиден. Далее Дж. Талмон пишет: «Эти
утопические порывы порождены одним из самых трагических и
благородных инстинктов человеческих — инстинктом
инновации. Трагических потому, что, как показала история,
этот инстинкт всегда превращается в инструмент
тирании и лицемерия... и следует благодарить природу за то,
что консервативный инстинкт в человеке сильнее
инновационного, и потому утопии умирают, а история
движется» (Там же, с. 5).
Методологический смысл этой оценки утопии
определен тем, что, противопоставляя утопию религии, Талмон
невольно, хотя с отрицательным знаком, указывает на ее
роль проекта общественного развития.
Под влиянием марксистской трактовки утопии многие
ученые Запада пересмотрели свое отношение к созданным
великими утопистами прошлого моделям социальной
гармонии и сегодня видят в них «не реликты политических
аспирации ... а звено и фактор формирования социальной
науки, неизбежный результат логического процесса»
(34, р. 211).
Талмон же (неправомерно отождествляя всю
социальную науку с одной структурно-функциональной школой
социологии) переворачивает ситуацию: современная
социальная наука определяется как новый вид утопии.
Социологическая идея «интериоризацииценностей»,
согласно которой человек, живя в обществе, не просто
поступает, как ему велят, но хочет, не может —в силу
психологических законов — не хотеть поступать именно так,
как ему велят,— есть, по Талмону, замена истории
идеологией, утопизм в его последней и самой опасной форме.
Еще резче выражена эта мысль у его коллеги и
единомышленника Р. Дарендорфа: «Мы хотим задать
наивный вопрос: есть ли в реальных обществах такие
утопические черты, как неподвижность, изолированность во
времени и пространстве, отсутствие конфликта и
разрушения? Если нет, то почему именно на этих предпосылках
основано большинство современных социологических
теорий, почему они оперируют утопической моделью?» (27,
р. 96)
Есть, пишет Р. Дарендорф, факт социологической
теории — ценностное согласие в обществе. Есть эмпириче-
89
ский факт — общественные конфликты. Как их
примирить? Социология даже не делает попытки объяснить это
противоречие — она его просто игнорирует.
«Христианская теология объясняла рывок от гармонии к хаосу
первородным грехом, марксизм — возникновением частной
собственности, структурно-функциональный утопизм
хаоса вообще не признает, а отдельные случаи
«отклоняющегося поведения» толкует как результат действия
бацилл, занесенных в рациональную ценностную систему
из физиологического мрака подсознательного... И если у
старых утопий был революционный запал, какая-то
реалистическая действенная установка, то история
социологии — это история подделывания под схему, история
бесплодной полемики с существующим» (27, р. 83). Но есть
и другая причина столь ядовито отмечаемого Р. Дарен-
дорфом наукообразия некоторых современных
утопических проектов.
Престиж науки в обществе, именующем себя
постиндустриальным, таков, что стремление опереться на ее
авторитет становится универсальным, и утопическая
литература, как и утопическое экспериментирование, не
составляет тут исключения. Определенную роль в научных
аспирациях утопизма мог сыграть и тот факт, что один
из самых сильных ударов по гармонической модели
личности в XX в. был нанесен практиком-клиницистом,
лечащим врачом 3. Фрейдом, аргументировавшим свою
модель пачками «историй болезни», другой — историком-
экономистом М. Вебером, сопроводившим свою
романтическую концепцию рационализации фолиантами
исторических изысканий.
Утопия приняла этот вызов: самые экзотические ее
образцы — евгенические, архитектурно-экологические,
альтернативно-сексуальные — стремятся к
многосторонней и по возможности системной аргументации и
претендуют на широкую верификацию данными эмпирических
наук. Сама степень специализации утопических проектов
отражает эту ориентацию на научность.
Вместе с тем сложная символика религиозного и
психологического выражения утопической мысли, ее
пересечение с революционной идеологией и антиреволюционной
футурологией требуют какого-то обобщающего,
междисциплинарного подхода к анализу и оценке современного
утопизма.
Все это на фоне количественного роста утопических
проектов и расширения масштабов утопического экспери-
90
мента делает границы утопии настолько зыбкими и
подвижными, что возникает ощущение панутопизма —
утопической реформации, наступления каких-то новых времен,
когда некогда экзотический литературный жанр
становится господствующим стилем, интеллектуальной модой и
привычкой, все более неизбежным типом духовной
жизни как таковой.
О глубоком изменении утопии, превратившейся из
«политической поэзии» в «исследование будущего»,
убедительнее всего свидетельствуют наиболее
содержательные моменты ее формы — настроение и тональность.
Как справедливо отмечает Ева Бран, «утопия
перестала быть иронией и стала оппозицией. Утопии теперь — не
политическая поэзия, а рациональное исследование; не
упражнения в понимании человеческой натуры, а
инструменты действия, направленные к универсальной
реализации» (22, р. 24-25).
О том же пишет Дж. Велкер, анализируя скрытую за
современной риторикой символику и структуру
иронической утопии в творчестве Д. Лоуренса, следование
которого традициям Платона, Мора, Свифта, Рабле выглядит
в XX в. подтверждающим правило исключением (64).
«Я охотно признаю, что в утопийской республике
имеется очень много такого, чего я более желаю, нежели
ожидаю»,—писал Мор, ибо, как свидетельствует его друг
Эразм Роттердамский, «в характере Мора была некоторая
отрешенность от обыденной жизни и несколько
скептическое отношение к ней ... он блестящ был в философской
беседе, но никогда не отдавался этим проблемам целиком»
(И, с. 60). Эразм также пишет, что Мор издал свою
«Утопию» не с конструктивными, а с аналитическими
целями, «с намерением показать, по каким причинам
приходят в упадок государства, хотя главным образом он
имел в виду Британию». (11, с. 57).
Человек, стоявший на рубеже средневековья и
Ренессанса, добывал знание в первую очередь для
собеседников-единомышленников, а не для исполнителей своей
воли, для критиков-интеллектуалов, а не для строителей
будущего. Мор написал свою книгу на латыни и не
хотел переводить ее на английский и, как справедливо
предполагает А. Мортон, не только из предосторожности:
«...он принадлежал к тому содружеству ученых, для
которых латынь была обычным и привычным средством
общения. Мору было довольного того, что его друзья в
разных странах могли читать его труд» (И, с. 59).
91
Меланхолия Т. Мора, мизантропия Дж. Свифта, с
особой силой сказавшаяся в его политических памфлетах —
горьком комментарии к утопическим путешествиям,
веселый скептицизм Ф. Рабле — вся
иронически-созерцательная эстетика классической утопии, ее убеждение, что
люди могли бы жить по-человечески, если бы они
захотели, но только неумный простофиля может предположить,
что они этого захотят,— полностью утрачены новой
утопией, утопией XIX и XX вв.
Великие утописты XIX в. сами пытались реализовать
свои проекты. В конце века десятками и сотнями
возникали, например, общества последователей Кабе. Автор
столь ценимого Энгельсом романа «Вести ниоткуда»
У. Моррис был активнейшим участником
социалистического движения в Англии.
Но этот утопизм, пронизанный нетерпением и
серьезностью, утратив иронию, не утратил самокритики: он еще
осознавал себя в какой-то мере «благородным
чудачеством», «святым безумием», отважным вызовом «здравому
смыслу»: в лирических отступлениях своих романов,
в памфлетах и личной переписке (цитировать которые
здесь нет возможности) этот утопизм еще принимал
предложенную ему поэтом честь быть «безумцем, который
навеет человечеству сон золотой», вплоть до Г. Уэллса,
Г. Честертона, Э. Форстера.
Идея, что объективный ход общественного развития
и субъективные проекты могут не совпасть, чужда
авторам утопий, о которых речь идет в нашей главе.
Каждый из них убежден, что он носитель рациональности,
рупор эволюции, трезвый и рассудительный сын века,
а неверующие в его проект — непрактичные,
прекраснодушные, беспочвенные мечтатели (см. напр. у Б. Скин-
нера: «Бихевиористская редукция поведения до двух его
составляющих: „стимул — реакция" есть, конечно,
некоторое упрощение, но оно несравнимо с теми искажениями,
которые проделывают с поведением здравый смысл» (54,
с. 5).
«Панутопизм» проявился и в развитии совершенно
новой, но уже плодовитой области истории идей — утопио-
логии, изучающей историю, теорию, психологию и даже
психопатологию утопического сознания. Этот процесс не
имеет однозначной оценки в западной литературе. Для
Мануэлей, Г. Кейтеба, К. Брайнтоиа он естественен и
необходим как новый тип духовной жизни, вполне
соответствующий наступающей постиндустриальной эре, как
92
мост от философских спекуляций прошлого к будущим
«играм в бисер» — свободным, этически незаангажирован-
ным упражнениям «неотчужденного разума».
Еще четверть века назад признание научного
значения позитивного отношения к утопии было в элитарных
кругах Запада почти единодушным. Элита тогда
защищала утопию, которая, потесненная «операционными
определениями» и «математическими моделями» социологии,
переживала кризис.
Тогда К. Брайнтон с тревогой писал, что в идейном
багаже современного интеллектуала оскудел
утопический потенциал, что это чревато экстремистскими
кренами, поскольку в мечтах рождается ответственность за
будущее (24).
Утопизм традиционно связан с верой в прогресс,
и разрушение этой веры в мировоззрении буржуазной
интеллигенции не могло не вести и к распаду прежнего
утопического сознания5.
В 1957 г. в книге, знаменательно названной «После
утопии», Дж. Шклар писала: «Мы знаем слишком много
даже для самого слабого утопизма, а без него
невозможно конструировать политические теории» (58, с. 271).
Крах утопизма представлялся ей крахом надежд на
создание «политической культуры» — этой голубой мечты всех
либеральных политологов, ранней версии «демократии
участия». С характерным сайентистским преувеличением
роли внутринаучных событий в истории идей она писала,
что «стало неприличным говорить о справедливости после
всего, что мы узнали о ней из новейших исследований»
(58, р. 272); что даже жажду власти теперь —после Ве-
бера и Фрейда — невозможно выявить как осознанную
потребность, ибо сам человек не знает своих мотивов;
что социологическое разведение социума и культуры
привело к невозможности выявить источник власти в
тоталитарном обществе «...Невозможно бороться со злом, не
зная его корней, а на цинизм у моего поколения нет сил:
он вышел из моды. Радикальным надеждам мешают не
только политические события, но и уроки психологии,
эмпирические исследования политических институтов,
а также такие рефлектирующие теории, как психоанализ
или социология знания. Теперь каждый знает, что
обобщения бесплодны» (58, р. 271). Уверенность, с которой
^i —
5 См. анализ некоторых аспектов этой проблемы в книге
«Научно-техническая революция и общественный прогресс» (12).
М
молодая социология сняла «вечные вопросы» о смыслах
и причинах, заменив их «структурностью» и
«функциональными связями»; эффективность, с которой она
заполнила белые пятна в знании о личности результатами
наблюдений за группами индивидов; ее логически
законченные мотивационные теоремы — «интериоризация
ценностей», «конформизм» и проч.— загипнотизировали ту
политически активную и этически восприимчивую часть
буржуазной интеллигенции, которая всегда выдвигала из
себя творцов утопий, и на два послевоенных десятилетия
почти лишили ее голоса.
В 60-е годы Запад пережил отчасти
спровоцированный, отчасти спонтанный контркультурный эксперимент.
Крах сексуальных и эстетических революций,
перерастание хэппенингов в антисоциальные эксцессы, с одной
стороны, разочарование в возможностях
структурно-функциональной социологии — с другой, на фоне общего
кризиса системы и признаков экологической катастрофы
вывели утопическую мысль из оцепенения и привели в
70-х годах к тому ее взлету, который мы описали раньше
и назвали панутопизмом.
И почти немедленно негативизм, свойственный
либеральному мироощущению, поставил его в оппозицию к
утопии.
Дж. Шклар, тосковавшая по утопии в годы ее упадка,
теперь радуется, что из спектра общественного сознания
исчезли политические утопии (таковых, как мы видели,
действительно теперь не пишут) — «эти попытки
реванша фантазеров-социалистов XIX и XX вв. за
триумфальное шествие индустриализма и либерализма, за великую
и благотворную революцию в политическом мышлении»
(59, р. 295).
Стон «Куда делись эти утопии?» — пишет теперь
Дж. Шклар,— исходит от тех, кто тоскует по революцио-
наризму или фашизму, или от тех, кто страдает античной
меланхолией по поводу несовместимости мира вещей и
мира идей. Утопия исторически изжила себя (59, р. 319).
Такое радикальное заявление — всегда пролог к
созданию новой утопической схемы общественного развития.
Эта схема, представляющая общественное развитие как
развитие социальной мысли, настолько симптоматична,
что заслуживает более детального рассмотрения. В ней
вычленяется пять исторических звеньев:
1. Классическое время — античное восприятие
политики.
94
2. Новое время — литературный утопизм.
3. Индустриальная эпоха — радикальная идеология, но
все еще в форме квазиутопической политической притчи.
4. Наше время — политическая теория на
противоречащем ее содержанию анахроническом языке утопии.
5. Будущее время — политическая культура.
В основе этой схемы, на наш взгляд, лежит
религиозно-философская идея (ярче всего выраженная в
последние десятилетия у Карла Ясперса и Тейяра де Шардена)
о прогрессе духовности как следствии количественного
увеличения живущих «высшей жизнью» людей. У Шклар
эта идея выражена на политическом языке «расширения
участия» и сращена с социально-психологической
концепцией изменения содержания духовной жизни по мере ее
распространения от элиты к массе в направлении от
политики к культуре.
На первых трех фазах политическая утопия отражала
стремление одиночек или групп интеллектуалов
преобразовать действительность. Но сегодня — на четвертой
фазе — часть из них, признавая нереальность абстрактных
схем, сознательно отказывается от соблазнов
утопического проекта и переходит к культурному строительству с
вовлечением «молчаливого большинства», которое на пятой
фазе и станет субъектом политической культуры. Это,
пишет Шклар, психологически непросто, ибо надо изжить
«наш общий метафизический бред —мечту о
совершенстве».
В последних словах мы видим определение той цены,
которую заплатила утопия за вновь обретенный статус
теории общественного развития или, другими словами,
указание на границы современного утопизма {пятый
момент нашего анализа).
Речь идет о замене исконной утопической формулы
«прекрасного нового мира» компромиссной формулой
«мира лучшего, чем наш» или полуапокалиптической
формулой «мира, который выживет». Речь идет о включении
конфликта, напряжения, страдания, агрессии в картину
будущего.
В утопических спекуляциях 3. Бжезинского, Д. Бел-
па и О. Тоффлера, представляющих наиболее
значительный вариант «практопии», т. е. «утопии выживания», нет
традиционных качественных — этических и
эстетических — определений будущего: светлое, прекрасное
а т. д. (У Тоффлера оно называется «сигнальной
культурой», «цивилизацией с почти тотальным богатством вос-
95
поминаний», «самокоординирующейся инфосферой» и
проч.).
Компромиссные настроения авторов утопических
проектов в серьезной мере обусловлены факторами идейного
порядка, в первую очередь марксистским анализом
иррациональности капиталистического производства и
отчуждения личности — анализом, идеологически нередко
отвергаемым, но духовно пережитым и ставшим частью
мироощущения западного интеллектуала.
Обусловлены они и другими «разоблачающими»
идеями века, рожденными внутри немарксистской мысли.
Среди них — выдвинутая 3. Фрейдом и развитая К. Юн-
гом концепция амбивалентности личности и культуры,
«открывшая глаза» буржуазным гуманистам на то, что
человек не хочет совершенства, ибо ему, руководимому
инстинктом смерти столь же сильно, как инстинктом
жизни, наслаждение невнятно без страдания и
мучительства; здесь же описанная М. Вебером неразрешимая
антиномия, согласно которой стремление к рационализации
жизни, рожденное ужасом перед хаосом истории, роковым
образом заводит человечество в один из двух
иррациональных тупиков: в рутинность упорядоченности или в
произвол харизматического лидерства — подчинения (67;
68). Веберовский авторитет, принявший на Западе после
его смерти масштабы духовной диктатуры, вырвал у
буржуазных прогрессистов их главную опору — веру в
абсолютную благотворность рациональных
усовершенствований.
Но этот вызов, взорвав утопическую традицию,
отколол от нее тех, кто оказался способен «защитить рай»,
либо восприняв по-своему новую информацию, либо
полностью проигнорировав ее, либо бросив ей открытый
вызов.
В первом случае мы имеем в виду В. Рейха, который
в послевоенной (20-е годы) Германии оптимистически
прочитал Фрейда и предложил миру свою «сексуальную
утопию»—достижение полной гармонии и счастья через
полную либидоизацию — раскрепощение инстинктов, тор*
жество подсознательного, иррационального, асоциального
(но тоже претендующего на культурную природу) начала.
В шестидесятые годы эта тенденция
радикализировалась до полного сексуального и социального
экстремизма: Н. Браун, обнаружив у В. Рейха либеральное
отношение к репрессивному обществу, предложил свой проект
немедленного освобождения через снятие педагогиче-
96
ских тормозов с детской сексуальности. Т. Лиери
призвал на помощь наркотики (42); феминизм поднял
мятеж против традиционного разделения сексуальных
ролей (30); наконец, Г. Маркузе именно на этой основе
теоретически развел «живой эрос» и «мертвую цивилизацию»
(47). Все эти эксперименты — от психоделических бдений
до жестоких хэппенингов — в какой-то мере
теоретическим эквивалентом имели защиту «психологического
рая», а рай в них понимался как снятие всех запретов.
Второй вариант защиты «рая» — эсхатологическое
решение вопроса о совершенстве, раздвижение его границ
не только за пределы истории, но и за пределы
физической жизни, нашедшее наиболее яркое воплощение в
проповеди Тейяра де Шардена и более секулярыое и
локальное—в глобальной утопии Э. Фромма.
Наконец, третий — игнорирующее все и всякие амби-
валетности культуроустройство: технократические и
культурологические утопии.
Прежде чем перейти к рассмотрению этих вариантов,
напомним, что марксистская методология вычленяет три
ориентации утопического сознания: историческую как
таковую, исторически-традиционалистскую и
исторически-утопическую. В первом случае будущее мыслится
как некоторая равнодействующая прошлого и
настоящего, во втором и третьем соответственно абсолютизируется
одна или другая составляющая этой равнодействующей.
Утопист бежит от того, что ему неприемлемо в
настоящем, в счастливое будущее, традиционалист — в дорогое
и милое прошлое, но именно потому, что они бегут от
каких-то сторон действительности к другим ее сторонам,
для них нет иного измерения, кроме исторического,
других ценностей, кроме тех, что сложились исторически.
Все три ориентации самоопределялись только по
отношению к истории6.
По отношению к истории определялся и антиисторизм
как негативная, мятежная форма утопического сознания.
Но бывшая когда-то эпицентром мировоззренческой
борьбы оппозиция историзма и антиисторизма в утопическом
мышлении на той стадии кризиса буржуазного сознания,
в пределах которой идет наш анализ, вытесняется борьбой
исторического сознания во всех его — и позитивных и
негативных — формах с тотальным аисторизмом.
6 Проблема соотношения утопизма и историзма поставлена и
работах ряда советских авторов (5; 6).
4 Заказ № об 10
97
Некоторые исследователи отмечают, что аисторизм
соответствует технократическому образу будущего, ибо он
основан на вере во всемогущество техники, способной
якобы радикально и окончательно освободить человека от
истории, «перенести его из исторического измерения в
измерение завоеванной техникой природы» (57, S. 16). Но
ограничиться этой точкой зрения — значит сузить и
осовременить феномен утопизма.
История же утопизма как часть истории идей
показывает, что тотальный аисторизм изначально был
элементом утопического мышления. Из двух принятых
версий происхождения термина «утопия»: благословенная
страна и место, которого нет, вторая соответствует духу
аисторичного метафизического утопизма.
Истоки его — в древнейших представлениях
человечества о возможности положительного решения судеб мира
и человека как чего-то абсолютного, конечного, о
возможности перехода из исторического смертного времени в
иное — бессмертное, где абсолютно разделятся добро и
зло и первое победит второе. Древнеегипетские мифы и
вавилонский эпос с их верой в личное бессмертие;
мистическое осмысление всемирной истории в древнем иудаизме;
притчи и символы Нового Завета с их двойным
снятием истории: для верующих — после первого
пришествия — незримо; для остальных — после второго
пришествия — явно — все это вневременные утопии страждущих
от исторического зла и грезящих о вечном благе людей.
Религиозно-мистические учения средних веков
распространили эту утопию на природу и, наконец, на
самого Бога, утверждая, что в конце мира природа
просветлится и растворит в своей благости и Бога, и человека. Этому
радикальному спасению должно предшествовать
радикальное потрясение мира, а не просто его изменение.
«В религиозных учениях поздиесредпевекового хилиазма,
выразивших чаяния социальной справедливости и
ознаменовавших собой наступление глубоких сдвигов в
жизни Европы (Иоахим Флорский, Мюнцер и др.),— пишет
советский ученый С. Лверинцев,— происходит перенесение
интереса от индивидуальной эсхатологии к всемирной.
Это характерно п для новейшей религиозной философии,
поскольку одним из главных шансов современного
христианства является истолкование кризисных процессов
актуальной истории в смысле исполнения
эсхатологических сроков» (3, с. 582).
Утопическое движение, направленное против исто-
98
рии, ориентированное не на лучшее место или лучшее
время, а на иную реальность — вневременную, внеистори-
ческую — имманентно и светскому утопическому
мышлению.
В основе его лежит недоверие к социальным
решениям, построенным либо на насилии, либо па компромиссе,
и стремление опереться на нечто универсальное и не
зависящее от законов социального существования.
«Золотым веком» таких утопий был век Просвещения с его
идеями «естественного права» и «естественного
состояния».
В XIX в. история становится непременной матрицей
проектов совершенного общества. Но критико-утопический
социализм XIX в., хотя и был по замыслу и практике
поиском социальной науки, которая заменила бы
метафизику «естественного права», вдохновлявшую французских
просветителей, сам остался во многом во власти
религиозной эсхатологии, звучавшей и в заветах «нового
христианства» Сен-Симона, и в мистико-паытеистическом
толковании человеческой природы у Фурье, и в
«социалистической религии» Оуэна.
Наконец, идеология и практика реформизма внесли еще
одну коррективу в сложную карту утопизма нового
времени, заполнив ее всевозможными утопическими по
характеру проектами «третьего пути» к идеальному
обществу, проектами «классового мира», «социальной
гармонии».
Поле современной утопической мысли лежит таким
образом между двумя источниками, из которых она
родилась и в которые она обречена впадать, каковы бы ни
были ее взлеты и зигзаги,— между религией и
реформаторской деятельностью. И поле это неоднородно.
Если на границе с реформизмом оно выглядит как
«практопия» — компромисс между мечтой и
действительностью в хорошо просматриваемых социально-классовых
исторических координатах, то на границе с религией оно
синкретично и значительно менее идеологически
однозначно: опираясь и на христианскую мистику, и на
рационально-философское теоретизирование, и на
естественнонаучные данные, оно имеет единую антропологическую
ось — представление о принципиальной благости
человеческой природы, изначально причастной Абсолюту, как
гарантии всеединства человечества и его конечной
гармонии с природой вплоть до слияния и растворения в
едином бытии. Грозные признаки экологического кризиса в
99
4*
последние десятилетия в значительной мере придали
этому крылу утопизма характер экоантропологического
хилиазма. Под знаком экологической катастрофы пишутся
книги и статьи, создаются общины и коммуны, «зеленые
партии» и вольные церкви, сознающие себя
«экологическими нишами» нового человечества, «гнездами новой
эволюции».
Высказанная на рубеже XX в. русским мистиком и
философом-утопистом Вл. Соловьевым идея об ускорении
исторического процесса, обязывающем его современников
принять на себя мессианскую роль спасителей природы,
освободить от рабства и тления не только себя, по
вещный мир, стала ныне ведущей в системе метафизической
этики авторов утопий «психологического рая» и
участников экспериментов создания «Царства Божия на Земле».
Так в XX в. был воскрешен хилиазм — ориентация на
«другую реальность», воскрешен философией истории в
форме поиска исторической цели.
Здесь в первую очередь должно , быть названо имя
Арнольда Тойиби, в ходе многолетних размышлений над
стадиями развития замкнутых локальных цивилизаций
пришедшего к мысли о неизбежности наступления эпохи
«этериализации» — трансцендироваиия истории в новое
качество — универсальную религию, не знающую ни
пространственных, ни временных рамок. После
этериализации освободившееся от законов истории, от конкретных
исторических времен человечество войдет в вечное
«Время братства» (63).
Более секулярный вариант «другой реальности» мы
видим в концепции «осевого времени» Карла Ясперса7.
По гипотезе Ясперса, между 800 и 200 гг. до ы. э.
горстка людей, не знающих друг о друге: отшельники Китая,
аскеты Индии, философы Греции и пророки Иудеи —
выпала из той истории, в которой жили их современники и
впала в «другую Историю», подчиненную закону свободы
или совести. Тем самым они перестали быть
«историческими людьми» и стали «личностями» — членами
абсолютного вневременного братства, сегодня такого же, как
в дни своего зарождения, неизменного, но изменяющего
мир, ибо, согласно недоказуемой, свободной («совестной»)
гипотезе Ясперса, то, чем становится один человек,
косвенным образом изменяет всех. Такова цель истории: вое-
7 Автор пользуется текстами К. Ясперса в переводе М. И.
Левиной.
100
человечение всех, превращение толпы, публики, народа
(трех объектов обычной истории) в субъект Истории —
духовное человечество, движущееся не по закону, а по
судьбе, не вперед, назад или по кругу, а в глубину —
к тем истокам, из которых оно вышло, ибо в такой
Истории исток и цель совпадают. Ясперс убежден, что у всех
людей — одно будущее, хотя в принципе отказывается
гадать, на чем будет основана эта общность — на
восстановлении библейской религии, на власти мирового
социалистического государства или на всемирной империи.
Убеждение это зиждется на «эмпирически очевидном»
росте потребности в общении и на опять же «эмпирически
очевидном» усилении ностальгии по «осевому времени».
У Ясперса гораздо отчетливее и ярче, чем у Тойнби,
выступил образ двойного времени — методологической
основы тех утопических проектов, которые мы условно
называем «аисторическими»: «горизонтального» времени,
не имеющего начала, и начавшегося на рубеже нашей
эры «вертикального» времени, «перпендикулярного» к
нормальным хронологическим временам, с тех пор
длящегося для некоторых избранных, как их крест и
благодать. Элитарное, провидческое и духовидческое в своих
истоках, это время по цели своей универсально, всече-
ловечно.
Наделяя смыслом только историю восчеловечения —
условную, лежащую поперек хронологической реально
сти, Ясперс, по существу, создал манифест
метафизического утопизма. Но его книге современный утопизм
обязан и более конкретно.
Защищая идею человека как духовной реальности,
отделенной бездной от остального живого мира и потому
подлежащей не эмпирическому познанию, а только
утопическому визионерству, защищая ее не от врагов, а от
«соперников по вере» —от религии, науки и светского
гуманизма, Ясперс сформулировал постулат современной
науки в том его виде, как он лежит в основе полуми-
стических-полусайентистских утопий второй половины
XX в.
Ясперс увидел науку как наименее «зарационализиро-
ванную», наиболее свободную, «совестную», самую
открытую, бесстрашную и самокритичную сферу современной
интеллектуальной и духовной жизни. Он полагает, что
душевную направленность и этический импульс
современной науке дала библейская религия в ее пророческом
подлиннике: требование истины любой ценой и вместе с
101
тем необходимость оправдания бытия перед лицом зла.
(Диалог Бога с фарисеями и Иовом в книге Иова, с его
точки зрения, аналогичен только двум феноменам бытия:
борьбе исследователя с собственными установками в
процессе научного исследования и борению веры и
истины в общении любящих). Он полагает также, что сегодня
наука свободнее и духовно беззащитнее религии. Наука
«знает», что никакие успехи не дадут ей постижения
структуры бытия в ее целостности. Для нее нет ни
случайного, ни уродливого. В ней идет взаимодействие
эксперимента и теории, а значит, логос и алогизм играют
в ней на равных, всегда оставляя муку непознанного —
основу той духовности, которая выломила личность из
истории. Эта мука —мука желания понять —залог
будущего человеческого единства.
Но то, что ошеломляющий научно-технический
прогресс нового времени не привел к пониманию —
единству, что в зените этого прогресса были построены газовые
камеры и сброшена атомная бомба, что на его фоне
совершились мировые войны и геноцид, приводит К.
Ясперса к выводу, что единство не связано ни с триумфом
научного знания, ни с модернизацией, ни с техническим и
бытовым универсализмом, ни с технологическим
прогрессом и что его конкретный смысл на сегодня нам не ясен.
Тем самым определяются границы «здорового
утопизма» — образец его «светская священная история» самого
Ясперса, его легенда о «сотворении личности». Утопия
может и должна напомнить человеку о его цервом
свидании с трансцендентным, ибо напоминание о первом
свидании оживляет любовь. Легенда об «осевом времени»
должна зарядить человека любовью к вечности, побудить
его вступить в круг свободно философствующих «детей
вечности», конкретизирование же этой цели будет уже
идеологией — ввязыванием в низменную
хронологическую историю. Так, утопическое визионерство К.
Ясперса, определяя истоки истории и ее цель, оставляет
открытым вопрос о ее конкретном «конце». Для антитеиста и
либерала Ясперса такой вопрос невозможен, потому что
его философия истории еще на грани утопизма.
Именно этот вопрос стоит в центре утопии
католического проповедника, религиозного диссидента, миссионера
и одного из выдающихся естествоиспытателей XX в.—
Тейяра де Шардена.
В творчестве Шардена мятеж против времени выразил
себя в форме синтеза научного знания и мистической ре-
102
лигиозности — установки, на сегодняшний день ставшей
мировоззренческой альтернативой секулярного
либерализма на Западе. Аисторизм Шардена — двуцветное знамя.
С одной стороны, бунт своего утопического сознания
против истории он интерпретирует как драму
эволюции — как восстание коллективистского, видового духа
эволюции против эволюциоино абсурдного феномена
человека, против исторически, т. е. случайно,
иррационально сложившегося типа существования для себя.
В ретроспективной своей части эволюционная схема
Шардена исторична: она исходит из материалистической
схемы развития, из дарвиновского принципа
возникновения видов. «Содержанием первой фазы были созданы
сложные многоклеточные организмы вплоть до человека»
(61, р. 93) 8.
Но с этого момента и далее Шарден —ламаркианец.
С этого момента он, как Тойнби и Ясперс, делает скачок
от конкретных исторических времен к абстрактному
эсхатологическому Времени.
Но в отличие от последних Шарден переводит идею
качественного перерождения Времени и в
антропологический план и доводит ее до логического конца. Тойнби и
Ясперс видели в будущем освобожденного от рабства
перед историей, но все того же человека, человека
человечества. Для Ясперса восчеловечение начинается и
кончается на индивиде: речь идет лишь о количественном
увеличении таких индивидов, о превращении «людей осевого
времени», «вечной элиты» в человечество.
Шарден признает реальный смысл такого процесса,
только как промежуточного, временного. Да, на
сегодняшний день одухотворение каждого из нас — эволюционное
достижение: «одухотворение каждого одушевляет,
смягчает Вселенную» (61, р. 97).
Но должен наступить конец и этому процессу.
Воображение Шардена-палеонтолога, с одной стороны,
и мистика — с другой, не может представить себе в этом
запредельном Времени человека. Оно рисует ему
качественно новый вид — «коллективного человека».
Но и это не конец антропогенеза. «Homo collectivicus»
сам создает себе среду обитания — духовную атмосферу
планеты — ноосферу, образующуюся над биосферой в
качестве духовной оболочки. Внутри нее в ходе ноогенеза
он превращается в сверхсложную, сверхцеребрализован-
8 Здесь и далее тексты Тейяра де Шардена даны в переводе
К. Г. Мяло.
103
ную архимолекулу, растворяющуюся в духовном океане,
который уже не есть жизнь. Таково полное и
окончательное избавление от времени, от истории.
Эсхатологические масштабы утопии Шардена не
помешали ее переносу на политическую карту современности
в качестве одной из определяющих координат.
Темперамент Шардена— темперамент пророка, а не
отшельника — обратил его к сегодняшнему этапу развития
коллективного человека. Суть его, по Шардеиу, в том, что в
качестве предварительного условия образования
архимолекулы центр тяжести переносится с личности на
этническую и национальную группу, на ее орудие —
государство как систему, координирующую массы индивидов.
Из сугубо физической посылки: «Вселенная
стягивается к одной вершине ... структура ее сходящаяся» (61,
р. 36). Шарден делает крайне социальный вывод:
«Современные тоталитарные движения при всей их жестокости
и пороках эволюционно оправданы» (61, р. 37).
«Причины их,—писал он в годы, когда европейская
интеллигенция выступила с гуманитарным протестом
против фашизма9,—не в злой воле отдельного лица, не в
традиционализме, не в ностальгии, а в зове из будущего»
(61, р. 38). Прислушиваясь к этому зову, Шарден
выступил с радикальной переоценкой демократических
ценностей до того, как в США и Европе началось движение за
«демократию участия». Как и Ясперс, Шарден убежден,
что у всех людей — одно будущее (но с существенной
оговоркой: у всех, кто пройдет эволюционный экзамен на
духовность — остальные будут преданы муке разложения
материи). Диалектика социального единения, по
Dlapдену,— это диалектика либерализма и тоталитаризма —
этих двух внешне противоречивых форм социального
идеала, «сочетание которых биологически определяет
самую сущность и ход антропогенеза» (61, р. 313).
Путь к реализации своего социального идеала Шарден
продумывает достаточно конкретно. На уровне
политической жизни он идет через отказ от исторически
сложившейся плюралистической, «рыночной» формы демократии
и пересмотр концепции прав человека «не в пользу и по
мерке отдельного индивида, а в пользу группы» (61,
р. 248). В шарденовской утопии значительное место
отведено критике представлений о плюрализме как основе
демократического процесса. В свете метафизического эво-
9 Фашизм, разумеется, не поддерживал и Шарден.
104
люционизма плюрализм — это следствие недоразвитости
личности, ущербности ее воли и ограниченности ее
свободы. В мире личностей, развитых до способности к духо-
видению, к непосредственному постижению сущности
друг друга и вместе с тем эмансипированных до полной
независимости друг от друга, восторжествует не
плюрализм, а атмосфера непринуждения, единодушия, «в чем
и заключается в конечном счете окончательная и
неуловимая сущность демократии» (61, р. 314—315).
С точки зрения обеих анализируемых нами
особенностей современного утопизма: как формы социальной
диагностики и как типа исторического сознания, важно
отметить, что стремление отыскать «неуловимую сущность
демократии» вне ее исторически сложившихся парламен-
тарно-рыночных форм характерно и для петеистических
утопий.
В утопии либерала и антитеиста Эриха Фромма
будущая социальная жизнь также видится как эманация
нетеистического, но религиозного духа, как Град Бытия —
синтез Града Божия и Града Мирского. Программа
освобождения от собственности как социоэкономической и
психологической категории, программа перехода от
жизни-обладания к жизни-бытию опирается на прецеденты
недемократические: племенные структуры, дореформатор-
ское «матриархальное» христианство, ветхозаветную
теократию (32).
Но вернемся к Шардену. Итак, замена плюрализма
единодушием удовлетворит потребность эволюции в
создании упорядоченного конвергентного множества. Но
каким содержанием наполнится жизнь этого множества?
Что предлагает Тейяр Вселенскому собору в качестве
мессы?
Здесь поднятое Шарденом знамя протеста против
истории как истории индивида, против времени как
временности жизни оборачивается к нам другой своей
стороной — мистически-религиозной. Здесь ноогенез
называется Христогенезом, сущность вещей —Богом, дух
эволюции — Божественным Сознанием.
Здесь речь идет не просто о бегстве с планеты
(т. е. бегстве от смерти) в океан духа, а о соединении с
Богом. Через столетия после проповедей таких мистиков,
как Экхарт и Бёме, Шарден, опираясь на свой авторитет
ученого-естествоиспытателя, выступил с еретической
идеей ущербности Бога, не меньше человека страдающего
от своего одиночества, несовершенного в своем
совершении
сгве, жаждущего воссоединения с человеком и
совместного растворения в духовном океане.
Эволюционным абсурдом представляется Шардену
возможность постоянного противостояния вечного и
временного начал в космосе, стагнация дуализма. Только
воссоединение этих двух начал восстановит «органический
комплекс Бог и мир, Плерому — таинственную
реальность, более прекрасную, нежели сам Бог» (01, р. 402).
И так же как преодоление индивидуализма возможно
только через предельное развитие, утончение и даже
изощрение личности, так же преодоление религии
произойдет через развитие религиозного сознания и
кульминацию любви к Богу.
Но усложнение сознания вплоть до постижения
сущности вещей единым духовным прикосновением к ним
может идти только за счет постепенного сворачивания
чувственной жизни. Здесь Шарден без всяких оговорок
и маневров — абсолютный и непримиримый оппонент
Фрейда, адепт спиритуализации, а не либидоизации как
оси развития человечества. Не празднику тела, но
высвобождению духовной энергии служит Вселенский собор
Шардена. В утопии Шардена достаточно конкретно
поставлен и вопрос о средствах сосредоточения и
направления к единой цели духовной энергии. Вопрос этот
Шарден решает как технократ, решительно абстрагируясь от
либерально-гуманитарных «предрассудков».
Максимизация сознания при минимуме усилий — задача, решение
которой доступно машине. Без универсального машиниз-
ма невозможно ни социальное единодушие (недаром
«демократия участия» — это «компьютерная демократия»),
ни усложнение сознания. (Как видим, Мэмфорд для
подтверждения своего тезиса о «машинной утопии» мог бы
обратиться не к Платону, а к творчеству своего
современника.)
Правда, сам процесс машинизации он стремится
представить как внутренне противоречивый, как диалектику
технизации и теоретизирования с превалированием
сегодня — техники, завтра — теории (а в запредельном
времени—растворения обоих потоков в духовидении).
Вся эта утопическая программа у Шардена
приобретает характер категорического нравственного императива.
Убежденный, что психически замкнутый на самом себе
вид не может развиваться так, как развивались
«дарвиновские виды», т. е. объективно, он требует от своих
современников: станьте субъектами эволюции, ее капитана-
106
ми, сознательно ведущими свой корабль к намеченной
цели. Рвите со своим героическим наследием — с
прометеевым или фаустовым духом, служившим настоящему,
творившим добро ради ближних. Служите будущему!
Проповедь новых ценностей, ценностей, не
укорененных в культуре, природных — это и есть шарденовский
аисторизм. И хотя идеал его —«собор», т. е. формально
«общность», а не «общество», достижение идеала
мыслится на путях управляемой организации, на базе
контролируемого государством общества. Однако эта сторона
его утопии как по причине ее внечеловеческой тенденции,
так и в силу сложной символики выражения не оказала
серьезного влияния на общественное сознание.
Жизненность и влиятельность идей Шардена
определены другим аспектом его утопии — эволюциошю-эколо-
гическнм. Идея личной ответственности перед эволюцией,
призыв к пониманию природы, акцент на природном
измерении человека, но не как «тоже животного», а как
духовного средоточия природы нашли глубокий отзыв в
обществе, вставшем перед лицом иррационального
безудержного осквернения среды обитания.
Тогда возник «прикладной шарденизм» — как тип
коммунитарного движения и как направление поиска
альтернативного образа жизни —в форме ли «аркологии» —
экологической архитектуры (таков строящийся под
руководством поклонника Шардена архитектора Солери в
Аризонской пустыне город-дом на 13 акрах земли,
экономящий энергию, одухотворяющий природу и
предназначенный быть архитектурной нишей тейяровского
«коллективного человека»); или в виде общины огородников п
садоводов в Северной Шотландии, обучающейся общению
«сердцем к сердцу» и достигающей единодушия
посредством коллективной «настройки» на одну ноту; либо в
образе «планетарной» деревни Ауровиль, где люди разных
наций, озеленяя пустыню, надеются изменить духовный
ландшафт человечества (33). Все это аполитичные,
созданные мечтой и волей одного мистически одушевленного
человека общины людей, охваченных предчувствием не-
избежной и скорой экологической катастрофы,
порвавших с индустриальной цивилизацией и своим
коллективным самоотверженным трудом и возвышенным общением
пытающихся смягчить и одушевить мир любовью.
Отвергая все известные им формы единения — классовые,
национальные, государственные, они ищут
эсхатологического единства; выламываясь из конкретного исторического
107
времени, они воображают, что живут в «осевом», надеясь,
что созданная в этих «эволюционных гнездах» новая
жизнь просочится в окружающий их мир и вызовет,
наконец, в нем тот экологический всплеск, о котором
мечтал Шарден. Называя свои экспериментальные поселения
«трамплинами адаптивного прыжка в Новое Время» (33,
р. 45), «прикладные шарденисты» эмпирически
комментируют новейший утопический аисторизм.
Переходим к третьему варианту защиты будущего рая
и последнему элементу анализа: утопия и культура.
Если утопическое визионерство Тойыби, Ясперса и
Шардена выражает метафизические вневременные
тенденции утопического мышления в форме, эстетически
соответствующей их содержанию, то в утопиях Б. Скинне-
ра и М. Мид метафизический пафос стремится говорить
подчеркнуто трезвым и рассудительным языком
эмпирической науки. Эти, по мнению критики, самые наивные и
прекраснодушные, беспомощные и фантастические
проекты созданы учеными-практиками, профессионалами с
огромными знаниями и уникальным опытом, признанными
экспертами в своих областях, удостоенными
национальных и международных наград.
Беррес Фредерик Скиннер — крупнейший
современный психолог, автор ряда оригинальных исследований о
поведении животных, утопического бестселлера «Уол-
ден-2» и нескольких книг по философии бихевиоризма.
Литературно-философское творчество Б. Скиннера
воспринято западной аудиторией отчасти восторженно, но
больше враждебно как новый вид бихевиористской
утопии, зародившейся перед первой мировой войной в США,
в лаборатории Уотсона.
Б. Скиннер, его ученик, пламенный поклонник ранних
французских просветителей и социалистов-утопистов,
американец немецкого происхождения, воспитанный на
Библии и трудах Сеченова, считает общество человеческим
артефактом, открытым рациональному
усовершенствованию. В 50-х годах, когда Скиннер впервые выступил с
проектами спасения человечества, его ориентация на
чудаков и мечтателей прошлого казалась старомодной.
Однако за два десятилетия любимцы Б. Скиннера
ожили и возродились. Сен-Симон почитается как
провидец технократической фазы капитализма; Фурье взят на
вооружение контркультурой; в 1971 г. историки и
социологи торжественно отмечали юбилей Оуэна.
Скиннер считает себя голосом времени, когда наука,
108
избавив благодаря методике и технике
экспериментальной психологии и открытиям физиологии высшей нервной
деятельности знание о человеческом поведении от
наиболее зияющих провалов, остановилась перед препятствием,
из которого исторические превратности и человеческая
косность сделали неприкасаемую святыню,— перед
философией демократизма. Драматизм этого сюжета, по Скин-
неру, в том, что современная наука, созданная,
безусловно, демократической системой, вынуждена вступить в
борьбу, борьбу на полное уничтожение, со своей, так
сказать, родной сестрой, с другим детищем этой
системы — демократической философией. Борьба эта явилась
неожиданным для самой науки, не предсказуемым, но
закономерным результатом последовательного
применения научных методов ко все более глубоким и тонким
пластам бытия.
На каком-то этапе этого процесса возник
бихевиоризм — наука о поведении, и час демократической
философии пробил. «Пока наука не применяла своих методов
к человеческому поведению, мы могли думать о человеке
все что угодно. Но по мере проникновения науки в
человеческое поведение обнаружилось, что действие всегда
инициируется извне, что каприз — лишь другое имя для
поведения, причины которого мы еще не знаем» — так
пишет Скиннер как один из авторов сборника «Утопия»
(55, р. 62—63). В вышедшей через пять лет после этого
книге «По ту сторону свободы и достоинства» Скиннер
обстоятельно аргументирует все выводы из этого тезиса.
Всякое действие есть реакция, у всякой реакции был
стимул. Причина дурной реакции — в дурном стимуле
(парадокс известного американского психолога Джеймса
кажется Скиннеру аксиомой: «Мы бежим не от страха —
это нам страшно от бега») (37, р. 26).
Если мы хотим жить хорошо, нам следует создавать у
людей привычку так жить — вот и вся мудрость. Но
тогда многое окажется ненужным. Не нужны наказания —
не абсурдно ли наказывать реакцию? Не нужно
героических поступков, напряжения, страдания,
самоотверженности: правильная реакция на правильный стимул морально
нейтральна, естественна как любой физиологический
процесс и не должна вызывать восхищения.
Эта перспектива, пишет Скиннер, отталкивает наше
воображение, жаждущее напряжения и агрессии в любой
форме, даже в псевдопрекрасных формах подвига и
жертвы. Но он убежден, что если мы погрузим свое вообра-
109
жение в тот кровавый грязный ад, в котором мы на
самом деле живем, утешаясь своими иллюзорными
свободами, если мы обратим его к той катастрофе, к которой мы
летим на всех парах и от которой нас не спасут никакие
жертвы и подвиги, культура позитивного стимулирования
покажется нам единственным спасением. «И мы
движемся к такой культуре,—утверждает Скиниер,—ибо
невротические, чтобы не сказать психотические, издержки
контроля через наказание давно уже заставляют искать
ее» (55, р. 71).
В самых общих чертах проект такой культуры
представлен в утопическом романе Скиннера «Уолден-2». Он
распадается на два этапа. «Все начинается с детства»:
скиннеровское детство — это школа кротости, мягкости,
покоя. Успокоение — тотальная терапия детства,
осуществляемая воспитателями, а не отцами и матерями,
которых дети «Уолдена» не знают (хотя брак там
моногамный, но открытый любви). Азарт, конкуренция, борьба,
соревнование и их стимуляторы — отметки, призы, любая
формализация достижений и неудач — запрещены как не
соответствующие человеческой природе, конъюнктурные,
архаичные спутники ушедшей эпохи, эпохи борющегося
за политическую свободу индивидуализма.
Кроткие спокойные дети, став взрослыми, живут и
работают в экономических условиях, видимо, мало
отличающихся от современных, но под руководством
социальных инженеров, программирующих их деятельность
таким образом, чтобы она развивала и усовершенствовала
мир культуры в направлении, наиболее благоприятном
для вида «Homo sapiens».
Для этого необходимо:
а) знание этого направления — вполне доступное, по
Скиннеру, интеллектуальной элите: экологам и
кибернетикам, антропологам и демографам, этологам и
психологам;
б) знание закономерностей человеческого поведения
в границах «стимул — реакция», т. е. реальное,
единственно возможное знание, ибо такое понятие, как
«внутренний человек», для Скиннера — абсолютное подобие
флогистона или философского камня.
А идеи и идеалы, проповеди и заповеди, героические
примеры и воспитывающие поступки? Они, по Скиннеру,
могут быть лишь источниками временных импульсивных
взлетов, всегда дорого оплачиваемых людьми, в конечном
счете бесплодных в том смысле, что они ничего не дают
110
для реализации эволюционного проекта —
гармонического культурного развития всех живущих на земле.
Таким образом, бихевиористская утопия Скипиера, не
только не утверждая, а резко опровергая возможность
онтогенетической мутации («Изменения в теории о
человеке не могут изменить человека — это напрасные
опасения»,—успокаивает он своих оппонентов; 55, р. 73), зовет
всего лишь (I) к «понятийной революции» —
освобождению нашего мышления от таких фантомов, как свобода и
достоинство, героизм и самоотверженность, подвиг и
страдание — от всего, что когда-то служило опорой человеку
в борьбе со средневековой тиранией, а ныне стало
препятствием на его пути к реализации природной установки на
«спокойное счастье». Иными словами, Скииыер мечтает
о жизни не в истории, а в природе, завоеванной
технологией. Этот идеал мира, освобожденного от «рабства перед
историей», но сформулированный с прямолинейностью
опытного экспериментатора и дерзостью неопытного
философа, был воспринят как необоснованная претензия на
очередное спасение человечества «специалистом по
крысам».
Но дело не только в форме. Если «иное время» Яспер-
са и Тойнби в ценностном плане вполне традиционно —
это время торжествующей гуманности, возникшей в
духовной элите человечества, то утопия Скиннера — это
радикальный разрыв со всем историческим сознанием (во
всех его мировоззренческих вариантах — утопическом и
революционном, либеральном и консервативном), всегда
устремленным на реализацию ценностей, уже
существовавших в культуре, пусть не признанных толпой или
властями, обиженных, ущемленных, хоронящихся в
подполье, но существовавших.
В этом смысле утопия Скиннера разрывает с
классическим утопическим сознанием так же радикально, как
с традиционалистским: последнее бросало вызов
настоящему, но не истории, новым ценностям, но не старым.
Утопия Скиннера, решающая технические проблемы
общения как проблемы координации поведения, несет в
себе идеал совершенной организации, но такой, в которой,
по замечанию Шацкого, «само слово общность
становится бессмысленным» (56, s. 50). Шацкий характеризует
методологию скиннеровского утопизма как позицию
руководителя, «для которого поле деятельности не история,
а организация, средство не идея, обращенная к сознанию
и совести людей, а техника манипуляции» (56, р. 47).
ш
Последовательно сайентистская и откровенно
элитарная позиция Скиннера никак не связана с жаждой
братства, составляющей наряду с естественным гедонизмом
эмоциональную основу народной утопии.
Другое дело, что критический пафос Скшшера-фило-
софа, его страстное неприятие страданий, глубокое
отвращение к культу трудностей, его сочувствие нормальному
человеку, уставшему от противоречий, бесспорно,
гуманны.
Таков сложный идейный контекст скииыеровской
утопии «психологического рая».
Иные культурно-психологические предпосылки
приятия рая мы видим у Маргарет Мид —ученого той же
поразительной свободы от влияния смутивших ее
современников психологических открытий. Как и Скиннер, она
словно бы не подозревает о существовании феноменов,
непременно входящих в культурный багаж западного
интеллектуала: об «иррациональности рационального»,
«роковой власти подсознательного», «инстинкте смерти»,
«амбивалентности» всего и вся.
Она тоже живет на острове, герметизированном от
социальных потрясений и конфликтов, в мире чистой
деятельности — оптимистического культурного
проектирования светлого будущего, достижимого не только без войн
и революций, но и без радикальных социальных и
политических реформ, на основе научной гуманитарной
практики с ее «тихими революциями»: понятийными,
метафорическими, эстетическими — «революциями символов».
Маргарет Мид — талантливая ученица и соратница
Рут Бенедикт, создавшей оригинальную и чрезвычайно
влиятельную школу культурантропологии. В
деятельности обеих всегда был ощутим этико-публицистический
накал. С середины 50-х годов М. Мид обращает на себя
внимание футурологов и социальных критиков пропагандой
новых методов воспитания и обучения детей, выходящих
за рамки «педагогических размышлений» и скорее
похожих на очередной проект «спасения человечества»:
«Дайте мне новую детскую и классную —и я переверну мир».
В 1956 г. Дж. Кейтеб предоставил ей первое слово в
своем сборнике — круглом столе «Утопия» (39).
Утопический проект М. Мид, претендующий, как и скиннеров-
ский, на статус научного исследования; опирается на
материалы изучения трех социокультурных феноменов:
«примитивных культур» (на языке ее школы — «так
называемых примитивных культур»); популярных полити-
112
ческих текстов и творчества малышей, и состоит из пяти
«конструктивных выводов» из этого изучения:
1. В западной культуре в нерасчлененном и не
осознанном ею виде существует клубок противоречащих друг
другу моделей будущего.
2. К несчастью, в этом клубке превалируют образы
будущего ада. В последние десятилетия они почти
вытеснили образы будущего рая, сыгравшие столь
благотворную роль в становлении и успехах западной
цивилизации.
Секрет власти этих негативных утопий пад
воображением своих современников М. Мид видит в том, что они
обращены к таким универсальным эмоциям, как чувство
голода, боли, одиночества, страха.
3. К счастью для человечества, райские образы не
вымерли: они ио-прежиему свежи и действенны в так
называемых примитивных культурах, играя ключевую
роль в социальной и культурной адаптации личности —
в процессе обучения детей взрослым ролям.
4. Однако и в сознании «западного человечества» есть
райский остров — вечно смываемый и вечно
возрождающийся. Это воображение ребенка с блаженным
воспоминанием—мечтой, пронизанным ароматом «млека и меда».
Позже оно будет стерто тоже врожденными, но более
«реалистичными» эмоциями, и только смутная ностальгия
по собственному детству и необъяснимое восторженное
умиление перед чуяшм детством будут напоминать
взрослому человеку об утопической эпохе его жизни.
5. Кроме того, у детей в отличие от взрослых,
воображение которых унифицировано стереотипами массовой
культуры, есть неповторимо разные цветовые и
эстетические восприятия, которые могут стать источником
формирования образа рая.
Неоспоримым доказательством уникальной и райской
природы детского восприятия и моделирования мира
М. Мид считает рисунки малых детей с их богатством
интерпретации окружающего и превалированием среди
них светлых, мажорных. При этом детские идиллии
лишены того однообразия и пресности, которые, по мнению
Мид, характерны для положительных моделей взрослого
искусства и взрослой утопии и от которых человек бежит
к демонизму и порочности, к негативным моделям
антиутопии.
Итак, «последние 50 лет мы экспериментируем с
конкурирующими негативными утопиями. Это парализовало
113
наше воображение и привело к тому, что все наши
позитивные утопии — это в лучшем случае слабо
заштрихованные белые пятна... Нам нужна более живая
утопия...». Живой образ будущего, пишет Мид, «должен быть
достаточно живым, чтобы привлечь сердца, но не
настолько живым, чтобы нетерпеливо рваться к нему через
смерть, эмиграцию или рабство; он не должен быть ни
слишком близким («Наши дети будут жить в раю»), ни
слишком далеким, оторванным от настоящего;
достаточно сложным, чтобы отвечать разным потребностям и
достаточно культурно стилизованным, чтобы нести в себе
эстетику прошлого» (54, р. 51).
Итак, первая задача — создание на основе творчества
детей, мифов «примитивов» и социально-культурной
деятельности взрослых живого образа будущего как
органической комбинации утопических элементов различных
религий, классовых идеологий, национальных мифов,
отражающей потребности всех типов личности и возможности
разных уровней интеллекта.
Несмотря на настойчивый рефрен «всех и разных»,
рай М. Мид — это, по существу, восточный рай (что
находится в полном соответствии с ее исходной посылкой
о превосходстве утопического потенциала примитивной
восточной культуры над модернистской западной).
И несмотря на провозглашение равных прав
«естественников» и гуманитариев, инженеров и художников в
создании «живой утопии» — это гуманитарный рай.
В программной статье М. Мид призыв к союзу гумани-
тарности, искусства и точных наук подкреплен
воспоминанием автора об уроке выставки «Влияние науки на
строительный дизайн», показавшей, что несколько картин
на стенах залов, повешенных просто для украшения,
оказались более точными проектами возникших через
десятилетие конструкций, чем научные разработки.
Следующая задача — «воспитание генерации,
ориентированной на рай, не скучающей в раю, влюбленной в
его образ» (54, р. 49). Средство решения этой задачи —
создание новой системы обучения и воспитания,
доводящей принцип дифференцированного подхода к учащимся
до полной отмены формальной системы учета их
достижений и неудач. Ссылаясь на опыт выдающегося
французского психолога Ж. Пиаже, Маргарет Мид утверждает,
что при существующей системе обучения наиболее
оригинально и своеобразно одаренные дети оказываются
отстающими, а порой и вытолкнутыми из школы на улицу,
114
в асоциальные формы жизни или ушедшими в
психологическое подполье. Прогрессивная социальная критика
не раз обращала внимание на этот процесс как на
источник личных трагедий и общественных неурядиц.
Для Маргарет Мид «непонятые дети» — это прежде
всего эволюционно наиболее перспективная часть
человечества. Несправедливость по отношению к ним
самоубийственна дл£ общества, нуждающегося в путеводном
образе рая, рожденном воображением именно этих детей.
Другой конструктивный элемент педагогической утопии —
новые учителя, люди особого склада — «взрослые дети» —
высокообразованные и умелые, но не растворившие в
опыте тот вкус «млека и меда», который создает
эмоциональное побуждение к утопической деятельности.
Наконец, третья задача — корректировка и
конкретизация образа будущего. Для ее решения М. Мид
предлагает немедленно создать во всех университетах кафедры
будущего, где оно должно изучаться так же тщательно,
как изучается классицистами Гораций или
медиевистами — Аквинат...
Одновременно следует направить в районы так
называемых примитивных культур постоянные научные
экспедиции «экспертов будущего» для изучения местного опыта
социализации и «райского» фольклора.
Таков субъект утопии. М. Мид — воспитатели и
учителя, дизайнеры и лингвисты, антропологи и
искусствоведы, этнографы и фольклористы, историки и футурологи,
альянс которых предохранит ее «живую утопию» от
технократических и фольклорных крайностей. Если
человечество доверится им, они смогут решить проблему века —
воспитать поколение, видящее смысл существования
только в движении к совершенству и блаженству.
Это будущее поколение овеяно у М. Мид космизмом,
характерным для современной утопии. Речь идет не
больше не меньше как о «новом человечестве», стоящем на
качественно иной ступени эстетического развития,
обладающем новым типом восприятия — синтезом Востока и
Запада, модерна и примитива, детскости и мудрости.
В ностальгически-экзотической и в этом смысле
исторической утопии М. Мид, как и в аисторической скинне-
ровской, понятийная революция, замена одной метафоры
другой выдвигаются в качестве необходимого и
достаточного инструмента преображения мира. Не приходится
отрицать и элитарности обоих проектов: пекущиеся о
«малых сих» («нормальный человек» Скиннера, ребенок
115
и островитянин Мид), рецепты этого счастья они
полностью отдают элите так называемого первого мира —
экспертам, «ноу хау». Однако оценка этих проектов не
может быть сведена к двум-трем идеологическим формулам.
Нельзя забывать, что понятие утопии исторически
изменчиво. Появляясь в эпохи, предшествующие глубоким
социальным потрясениям, утопии в период относительной
социальной и политической стабильности превращаются
в апологетические идеологии. Постепенно и незаметно
для их авторов мечта об идеале сменяется идеализацией
достигнутого. Такая опасность сегодня присуща в
потенциале утопиям демократии участия, как в их
психологической (идущей от Маслова) ориентации, так и в более
модном — экономическом варианте.
Один из страстных патриотов последнего направления
Ч. Эразмус (тоже культур-антрополог), например, пишет:
«Какое еще большое общество так близко подошло к
„утопии", как то, в котором нам посчастливилось жить.
И если пудинг хорош на вкус, почему бы не узнать его
рецепт?» (29, р. 10).
Содержанием рецепта оказывается старая смитовская
идея о «законе невидимой руки», согласно которой
«эгоистический альтруизм», т. е. самоотверженность в расчете
на вознаграждение, оказывается эволюционно выгодным
и приводит к общему благу. Программу создания условий
реализации такого альтруизма Ч. Эразмус называет
«гуманистическим бихевиоризмом», противоположным
«утопическому бихевиоризму» от Т. Мора до Б. Скиннера.
И эта утопия не лишена гуманистического заряда. Прежде
всего это все-таки программа совершенствования, а не
выживания. В плане социальной философии она идет от
Руссо, а не от Гоббса, идеи которого в наши дни
бурно заземляются генетиками, экологами, демографами,
экономистами, евгениками, психотерапевтами,
предлагающими избирательную селекцию, социальную инженерию
и психоанализ для обуздания иррационально-агрессивной
природы человека. Их пессимистические и нередко яро
аптипрогрессистские проекты исходят из убеждения в
вечности «войны всех против всех» и направлены только
на сужение поля этой войны, на количественное
уменьшение воюющих; в лучшем случае — на смягчение потерь
и врачевание ран. Девиз же «гуманистического
бихевиоризма» — «Расти или погибнуть!» — бросает вызов
однозначно негативной оценке прогресса в этих проектах.
«Гуманистический бихевиоризм» по-своему борется и с
116
воинствующим антиматериализмом, и с «экопаиикерством»
Римского клуба, и с такими «попятными движениями»,
как проект федерации малых общин (анархокапиталисти-
ческая утопия Д. Фридмана) (31), планы вытеснения
государства якобы внеидеологичсским, бескорыстным
бизнесом («индустриальная утопия» П. Дракера), программа
предельного раздробления политических, экономических
и культурных функций («Небольшое прекрасно» Э.
Шумахера) (52). Но, порой выдавая желаемое за
действительное, эта утопия делает такой большой шаг в сторону
апологетики существующего, который в значительной
мере нейтрализует ее прогрессивный пафос.
Сравнить этого рода утопизм с пафосом Б. Скиннера
и М. Мид, Э. Фромма и Тейяра де Шардена можно в
контексте всей истории утопических идей, на протяжении
которой метафизическому утопизму противостояли
одновременно две враждующие, но объединенные против него
идеологии: консерватизм и реформизм, две вечные
попытки стереть или хотя бы затушевать грань между бытием
и долженствованием, которую так остро и
непосредственно чувствуют эти авторы.
В условиях усилившегося бегства от логики бытия к
самым иррациональным его аспектам, с одной стороны,
и растущей склонности к компромиссам с
действительностью, вплоть до отказа от идеалов — с другой, они
сохранили способность к тотальному несогласию с порядком
вещей, дуалистическое видение мира, духовный
максимализм, ощущение трагического разлада должного и
сущего — словом, тот дар утопического восприятия мира, на
основе которого они создали гуманистически заряженные
утопии в тех пределах, которые были отпущены им их
социальными судьбами.
* * *
Итак, утопическое теоретизирование и
экспериментирование в буржуазной социальной мысли XX в. могут
быть рассмотрены как качественно новый этап в
развитии утопической мысли Нового времени, отмеченный как
общими с предыдущими этапами чертами (пограиично-
стью: пересечением с религиозной проповедью и
социально-политическим и культурным реформизмом; сложными
отношениями притяжения-отталкивания со стихийным
революционаризмом), так и некоторыми особенностями.
Утопическая мысль XX в. апокалиптичиа: настоящее
117
воспринимается как абсурд, тупик, катастрофа — и
отмечена резким волюнтаризмом; катастрофа понимается как
искусственный плод злой воли и неразумности.
По существу, не будущее, а это катастрофическое
настоящее становится предметом утопических спекуляций,
настоящее сквозь призму того субъективного образа
будущего, который грезится автору утопии, меняющей
таким образом свою жанровую природу и становящейся
скорее специфическим типом философии истории и
социальной критики.
Усложняющаяся символика выражения утопических
идеалов, увеличение количества утопических проектов и
расширение масштабов утопического эксперимента делают
границы утопического все более зыбкими и подвижными.
С марксистской точки зрения расширение масштабов
утопизма есть симптом мировоззренческого кризиса и
вместе с тем объективная характеристика состояния
общества.
Литература
1. Маркс К.у Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 419—459.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 185—230.
3. Аверинцев С.С. Эсхатология.—В кн.: Филос. энцикл. М., 1970,
т. 5, с. 580-582.
4. Баталов Э. Я. Социальная утопия и утопическое сознание в
США. М.: Наука, 1982. 336 с.
5. Волгин В. П. Французский утопический коммунизм. М.: Наука,
1979. 336 с.
6. Володин А. И. Утопия и история: некоторые проблемы изучения
домарксистского социализма. М.: Политиздат, 1976. 271 с.
7. Гулыга А. В. Эстетика истории. М.: Наука, 1974. 128 с.
8. Деборин A.M. Социально-политические учения нового и
новейшего времени: В 3-х т. М.: Изд-во АН СССР, 1958—1967.
9. Мор Т. Утопия /Пер. с лат. А. И. Малеипа, Ф. А. Петровского;
Вступ. ст. В. П. Волгина. 2-е изд., доп. М.: Изд-во АН СССР,
1953. 296 с. (Предшественники науч. социализма).
Ю.Моррис У. Вести ниоткуда, или эпоха спокойствия / Пер. с
англ. Н. Н. Соколовой; Вступ. ст. Ю. Кагарлицкого. М.:
Гослитиздат, 1962. 312 с.
И. Мортон А. Л. Английская Утопия/Пер. с англ. О. В. Волкова;
Под ред. и со вступит, ст. В. Ф. Семенова. М.: Изд-во иностр.
лит., 1956. 278 с.
12. Научно-техническая революция и общественный прогресс:
Сборник /Редко л.: Э. А. Араб-Оглы и др. М.: Мысль, 1969. 398 с.
13. Платон. Сочинения: В 3-х т. / Пер. с древнегреч. Под общ.
ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса; Вступит, ст. А. Ф. Лосева.
М.: Мысль, 1968—1972.
14. Свентоховский А. История утопии. М.: Изд. Саблина, 1910. XX,
426 с.
15. Сен-Симон А.де. Собрание сочинений / Пер. с фр. Святловско-
го В. В. М.; Пг.: Госиздат, 1923. XXI, 364 с.
113
16. Современное политическое сознание в США / Э. Я. Баталов,
Б. В. Михайлов, А. Ю. Мельвиль и др.; Отв. ред.: К). А. Замош-
кин, Э. Я. Баталов. М.: Наука, 1980. 446 с.
17. Сорель Ж. Размышления о насилии/Под ред. В. И. Фриче. М.:
Польза, 1907. 163 с.
18. Фурье Ш. Избранные сочинения / Пер. с фр. Р. Фишман; Под
ред. В. Тотомианца. М.: Кооперативный мир, 1918. 147 с.
19. Штекли А. д. «Город Солнца»: утопия и наука. М.: Наука, 1978.
367 с,
20. Toward the year 2000: World in progress/Ed. hy D. Bell.
Boston, 1969. VII, 400 p. (The Daedalus libr. Beacon paperback;
BP. 318).
21. Block E. Prinzip Hoffung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1978.
669 S. Bibliogr.: S. 666—669.
22. Brawn E. An exquisite platform: utopia interpretation.— J. Soc.
Philos., 1972, vol. 3, p. 20-31.
23. Brown N. Life against death: The psychoanalytical meaning of
history. Middlelown (Conn.): Wesleyan Univ. press, 1966. XII,
366 p. Bibliogr.: p. 351—366.
21 Brinton C. Utopia and democracy.—Daedalus (US), 1965, vol. 94,
N 1, p. 348-364,
25. Burgess A. A clockwork orange. N. Y.: Ballantine books, 1972.
191 p.
26. Brzezlnsky Z. America in the technotronical age.— In: Utopia /
Ed. by С Kateb. N. Y., 1971, p. 127-148.
27. Dahrendorf R. The new liberty: survival and justice in a
changing world /Ed. R. Dahrendorf. Stanford (Cal.): Stanford Univ.
press, 1975. 162 p.
28. Dobzhansky T. Genetic diversity and human equality. N. Y.:
Basic books, 1973. XII, 129 p. Bibliogr.: p. 117—123.
29. Erasmus Ch. In search of the common good: Utopian
experiments past and future. N. Y.: Free press, 1977. 424 p.
30. Evans S. Personal politics: the root of woman's liberation in
civil rights movement and the New Left. N. Y: Knopf, 1979.
XII, 274 p. Bibliogr.: p. 257-288.
31. Friedman D. The machinery freedom: Guide to a radical
capitalism. N. Y. etc.: Harper and Row, 1973. XVI, 239 p.
Bibliogr.: p. 232—238.
32. Fromm E. To have or to be? N. Y. etc.: Harper and Row, 1976.
215 p. Bibliogr.: p. 202—209.
33. Glenn J. Alternative communities — the prototypes of future.—
Futurist, 1980, vol. 14, N 3, p. 35-57; N 4, p. 44-52; N 5, p. 35-
45.
34. Goodvin B. Social science and utopia: Nineteenth century
models of social harmony. Hassocks: Hervester press, 1978. IX,
220 p. Bibliogr.: p. 208—214.
35. Hunter D.} Hunter H. «Siddhartha» and «A cklockwork orange»:
Two images of man in contemporary literature and cinema.—
In: Utopia? Dystopia? / Ed. by E. Regton. Cambridge, 1975,
p. 125-140.
36. Huxley A. Brave new world. N. Y.: Bantam books, 1958. XIV,
176 p.
37. James W. What is an emotion? — Mind, 1884, N 9, p. 188—205.
38. Jenks C. Inequality: A reassesment of the effect of family and
schooling in America. N. Y.: Basic books, 1972. XII, 399 p.
Bibliogr.: p. 259—382.
119
39. Kateb G. Preface to utopia.—In: Utopia / Ed. by G. Kateb. N. Y.,
1971, p. 3—21.
40. Land G. Grow or die: the uuifing principle of transformation.—
N. Y.: Random House, 1972. XIV, 265 p.
41. Lasky M. Utopia and revolution: on the origins of a metaphor
or some illustrations of the problem of political temperament
and intellectual climate and how ideas, ideals, and ideologies
have been historically related. Chicago; London: Univ. Chicago
press, 1976. XIII, 726 p.
42. Lean/ T. The politics of extasy. N. Y.: Bentam, 1968. 371 p.
43. Mailer N. Barbary shore. N. Y.: Rinepart, 1951. 312 p.
44. More T. The utopia of Sir Thomas More. Princeton: 'Van Nost-
rand, 1947. XLI, 312 p.
45. Manuel F. E., Manuel F. P. Utopian thought in the Western
world. Cambridge (Mass.): Beeknap press, 1979. X, 896 p.
Bibliogr.: p. 869—875.
46. Manuel F. Toward a psychological history of Utopias.—
Daedalus, 1965, vol. 94, N 1, p. 293-323.
47. Marcuse //. An essay on liberation. Boston: Beacon press, 1969.
XI, 91 p.
48. Morgan A. Nowhere was somewhere: How history makes Utopias
and how Utopias make history. Chapel Hill: Univ. N. С press,
1946. 234 p. Bibliogr.: p. 213-224.
49. Mumford L. Utopia: the city and the machine.—Daedalus, 1965,
vol. 94, N 1, p. 271-283.
50. Maslow A. Toward a psychology of being. N. Y.: Van Nostrand,
Reinhold, 1968. XVI, 240 p. Bibliogr.: p. 223—227.
50a. Mead M. Toward more vivid Utopias.— In: Utopia / Ed. by
G. Kateb. N. Y., 1971, p. 43-56.
50b. Mannheim K. Ideology and utopia: An introd. to the sociology
of knowledge. L.: Paul Trench Trubner; N. Y.: Harcourt, Brace
and со, 1936. XXXI, 318 p.
51. Orwell G. Homage to Catalonia and looking back on the
Spanish war. Parmondsworth: Seeker and Warburg, 1968. 246 p.
52. Schumacher E. T. Small is beautiful: A study of economics as
a people mattered. L.: Beand and Briggs, 1975. 288 p.
53. Skinner B. Walden Two. L.: Macmillan. 1948. 320 p.
54. Skinner B. Beyond freedom and dignity. N. Y.: Knopf, 1971.
255 p.
55. Skinner В'. Behaviour and democratic philosophy.—In: Utopia/
Ed. by G. Kateb. N. Y., 1971, p. 57-73.
56. Szacki J. Utopie. W-wa: Iskra, 1968. 218 S.
57. Szacki J. Swiadomosc historyczhnaa wizja przyszosci.— Stud, filoz.,
1975, N 8, s. 41-52.
58. Shklar J. After utopia: the decline of political faith. Princeton:
Princeton univ. press, 1957. 309 p.
59. Shklar J. The political theory of utopia: from melancholy to
nostalgia.— Daedalus, 1965, vol. 94, N 1, p. 293—323.
60. Talmon J. L. The origins of totalitarian democracy. N. Y.: Prae-
ger, 1960.
61. Teilhard de Chardin P. L'avenir de Fhomme. Oeuvres complets.
P., 1959. Vol. 5. 408 p.
62. Toffler A. The third wave. N. Y.: Morrow, 1980. 544 p. Bibliogr.:
p. 499-523.
63. Toynbee A. Civilization on trial. N. Y.: Oxford univ. press. 1948.
VII, 263 p.
120
64. Voelker J. The spirit of non-place: elements of classical ironic
utopia in D. H. Lawrence's «Lady Chatterley lover».— Mod.
fiction stud., 1979, vol. 25, N 2, p. 223—239.
65. Wallis R. The road to total freedom: a sociological analysis of
Scientology. L.: Heinemann ed. books, 1976. XIV, 282 p. Bib-
liogr.: p. 270—278.
66. Weber E. Antiutopias of XX century.— In: Utopia / Ed. by
G. Kateb. N. Y., 1971, p. 82-89.
67. Weber M. Economy and society: An outline of interpretative
sociology/Ed. by G. Roth. G. Wittich. Berkeley etc.: Univ. Cal.
press, 1978.
68. Weber M. The theory of social and economic organization/
Transl. by A. M. Henderson, T. Parsons; Ed. T. Parsons. N. Y.:
Oxford univ. press, 1947. X, 436 p.
69. Young M. The rise of the meritocracy, 1870—2033: An essay on
education and equality. L.: Thames and Hudson, 1958. 160 p.
70. Jaspers K. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. 3. Aufl. Mun-
chen: Piper, 1952. 352 S.
Глава III
Крах идеологии индустриализма
и «альтернативное движение»
Важнейшими симптомами затяжного духовного кризиса,
переживаемого буржуазным обществом, служат крах
традиционных ценностей, утрата перспектив и
повсеместное распространение пессимизма, рост апокалиптических
настроений, связанных с угрозой экологической
катастрофы и ядерной войны, мрачные прогнозы на завершение
второго тысячелетия. Все это ведет, с одной стороны, к
усилешш иррационализма и мистических тенденций в
общественном сознании, а с другой — к растущему
пониманию того, что угрозу для существования человечества,
связанную с деятельностью монополий (применяемой ими
технологией, нарушающей экологическое равновесие,
и проводимой в их интересах гонкой вооружений), может
предотвратить лишь противодействие самых широких
слоев населения.
Мотивы защиты среды обитания и самого
существования человечества звучат ныне в разнообразных идейных
течениях и берутся на вооружение различными
общественными движениями. Этим объясняется появление
своеобразных «идеологических гибридов»: в сочетании с
«неомарксистской» критикой капитализма в духе
Франкфуртской школы экологизм привел к возникновению «эко-
социализма» (21), в соединении с либеральным
реформизмом — к концепциям «индустриализма с человеческим
лицом» и «общества качества жизни» (23), а также к
«практопии» А. Тоффлера (20), в слиянии с идеями
Тейяра де Шардена — к «экомистике» и т. д. Теории,
возникающие на почве экологизма, отличаются
методологической эклектичностью. Экологический аптииндустриа-
лизм, по существу, является лишь негативом
технократической идеологии, абсолютизируя значение техники и
игнорируя решающую роль производственных
отношений. Именно с этим связано отрицание экологистами
реального социализма, рассматриваемого лишь как
разновидность индустриального общества.
В то же время экологическая ориентация объективно
направлена против технократической концепции постин-
122
дустриалыюго общества, утверждающей незыблемость
основ буржуазных порядков и призванной играть роль
альтернативы социалистическому вызову. В особенности
это касается теории, наиболее полно разработанной
Д. Беллом и явившейся основой буржуазной апологетики
в 70-е годы.
В условиях краха идеологии индустриализма сама
идея постиндустриального общества переосмысливается,
оно предстает ныне как общество, исчерпавшее
возможности крупномасштабного производства и
возвращающееся к децентрализованной экономике, а следовательно,
к снижению производительности всего современного
экономического аппарата и снижению темпов экономического
роста.
Экономико-экологическое обоснование неизбежности
перехода к такому обществу предлагает, в частности,
О. Гиарини (4). Он исходит из того, что колоссальный
рост количества отходов на всех стадиях добычи сырья,
его переработки и потребления готовой продукции не
только загрязняет окружающую среду, но и требует
огромных дополнительных затрат. Это ведет к резкому
росту издержек производства. Общее загрязнение
окружающей среды может вызвать к жизни производство
новых специфических видов товаров и строительство
особых очистительных предприятий. Их стоимость ныне
включается в национальный доход, тогда как ее
следовало бы, с точки зрения Гиарини, вычитать из
национального дохода, поскольку она не увеличивает количества
жизненных благ, а лишь компенсирует ухудшение среды.
В общем итоге колоссально возросшие издержки
производства приходятся на относительно меньшую величину
реальной добавленной стоимости. Это заставляет думать
о перспективе фактически нулевого роста, когда
вычитаемая стоимость равна общей величине прироста
национального дохода.
Снижение темпов роста производства, ограничение его
концентрации, превращение услуг в главный стержень
его организации приведет к тому, считает О. Гиарини,
что формирующееся постиндустриальное общество
потребует перехода к разукрупненным автономным
экономическим единицам при сохранении тесной взаимосвязи между
ними.
В качестве одного из ведущих глашатаев экологизма
выступил в своей книге «Третья волна» А. Тоффлер,
американский публицист и футуролог, получивший ши-
123
рокую известность благодаря своим предшествующим
публикациям «Шок будущего» (1970 г.) (20) и «Эко-
спазм» (1975 г.) (19). «Третья волна», ставшая
бестселлером и в течение нескольких месяцев переведенная на
французский, немецкий и японский языки, представляет
интерес прежде всего широтой информации, а также
способностью автора из сопоставления общеизвестных
фактов повседневной жизни создавать парадоксальные
концепции. И хотя эти концепции не выдерживают критики
с точки зрения методологии и не могут претендовать на
роль законченной теории, их автора меньше всего можно
упрекнуть в отсутствии оригинальности и фантазии. Книга
Тоффлера эклектична, методологически ординарна, но
она ярко выражает весь калейдоскоп идей экологизма с
его требованиями экологически конформной, «мягкой»
технологии, его антимонополистический, демократический
пафос, а также его ностальгию по доиндустриальным
формам жизни, связанную с отрицанием классовой борьбы и
социальной революции. Поэтому в книге Тоффлера очень
интересен и убедителен материал, иллюстрирующий
кризис современного буржуазного общества, и очень
туманна и мало убедительна концепция будущего. Исходя, как
и в предыдущих книгах, из теории единого
индустриального общества, А. Тоффлер пытается объяснить кризис,
переживаемый современным капитализмом, «закатом
индустриального общества», переходом его к новой
цивилизации и стремится доказать, что буржуазный мир не
обречен и способен создать «здоровое будущее». «Наше
поколение,— пишет он,— является последним в отживающей
форме общества,— и в то же время первым поколением
нового общества» (21, р. 24).
Автор представляет будущее общество как возврат к
доиндустриальной цивилизации на новой технической
базе. Свой метод анализа общественных явлений автор
называет «социальной теорией волнового гребня»,
согласно которой история рассматривается как непрерывное
волновое движение. Обнаруживая отдельные
предзнаменования будущего в настоящем, Тоффлер стремится дать их
синтез — наметить основные черты грядущей
цивилизации. В противовес традиционным утопии и антиутопии
свою концепцию будущего он называет «практопией» —
картиной мира, «не лучшего и не худшего из тех, что
можно себе представить, но зато мира реализуемого и
явно более привлекательного, чем тот, в котором мы жили
до сих пор» (21, р. 360).
124
Всемирную историю Тоффлер делит на три основных
периода — три волны: первая волна — аграрная револю
ция, происшедшая 10 тыс. лет тому назад и означавшая
переход к оседлому земледелию и начало аграрной
цивилизации; вторая волна — промышленная революция,
знаменовавшая наступление индустриальной цивилизации,
длившейся 300 лет; третья волна должна в течение
ближайших десятилетий смести индустриальное общество.
Тоффлер не берется дать точное определение новой
цивилизации. Существующие определения: «космическая
эра», «эра информатики», «глобальная деревня»,
«технотронная эра» или «постиндустриальное общество», с его
точки зрения, неприемлемы, так как ни одно из них «не
дает ни малейшего представления о действительной
динамике происходящих изменений и о вызываемых ими иа-
пряженностях и конфликтах» (21, р. 21). Наступление
третьей волны автор связывает с НТР, начавшейся в 50-х
годах в США и захватившей затем страны Западной
Европы, Японию и СССР. Воспроизводя идеи о
необходимости перехода к экологически конформной, «мягкой
технологии», основанной на естественных,
восстанавливающихся источниках энергии и децентрализации
производства, Тоффлер констатирует крах всех социальных
институтов современного индустриального общества и
стремится выявить в нем определенные тенденции,
свидетельствующие, что производство, семья, система коммуникаций,
само направление научной мысли (от анализа к синтезу)
обнаруживают черты возрождения их доиндустриальных
форм. Все дело лишь в том, что в отличие от
средневековья социальные институты обнаруживают, во-первых,
многообразие (так, например, нуклеарная семья
разрушается, но заменяется многообразием форм семьи, одна
из которых — большая семья доиндустриального типа).
Во-вторых, фабрика — определяющий институт
индустриального общества (лежащие в его основе принципы
иерархии, разделения труда, концентрации, массового
производства и т. д. распространяются на все общественные
институты — «от тюрьмы до больницы») — должна
уступить место социальному институту, основанному на
отрицании этих принципов.
Тоффлер пытается проследить в современном
обществе тенденции, свидетельствующие о повороте в
экономике, политике, культуре от централизации к
децентрализации и автономии, от концентрации к диффузии, от
иерархии к независимости, от унификации к многообразию, от
125
скопления масс людей на производстве и скученности
городов к надомному труду в децентрализованных общинах.
Всем разновидностям экологического сознания
присуще то, что Р. Арон назвал «разочарованием в прогрессе».
С середины 50-х годов, как пишет А. Тоффлер, «не
много идей попали под такой обстрел, как вера в
поступательный ход исторического процесса. Безоговорочный
оптимизм сменился столь же безоговорочной безнадежностью»
(21, р. 298). Для экологических бунтарей прогресс стал
ругательным словом. С начала 70-х годов в условиях
наступившего экономического спада, безработицы и
инфляции, всеобщего пессимизма, усилившегося в связи с
опубликованием доклада Римского клуба «Пределы роста»,
«представление, будто прогресс — это дорога с
односторонним движением... теряло все больше своих
приверженцев. В мире быстро укрепляется понимание того, что не
может считаться прогрессивным общество,
коррумпированное морально, эстетически и политически, в котором
гибнет естественная среда» (21, р. 300). Идеологи анти-
иидустриализма объявляют технократические концепции
прогресса «наивной моделью, сконструированной по
мерке американского образа жизни» (6, р. 205).
Весьма далеко в отрицании прогресса доходят адепты
«экосоциализма», в частности автор теории
«постиндустриального социалистического общества» О. Ульрих.
Созданные капитализмом производительные силы и всякое
крупное производство он объявляет несовместимыми с
социализмом, поскольку они служат целям
капиталистического господства и эксплуатации (22, S. 32). С точки
зрения «экосоциализма» препятствием для социализма
является не низкий уровень развития производительных сил,
а, напротив, их высокое развитие, поскольку
индустриализация создает такую социальную структуру,
которая делает невозможными социалистические
отношения между людьми.
Утверждение, что капитализм был необходим для
развития производительных сил, объявляется «буржуазным
предрассудком». В обоснование этой точки зрения
приводятся ссылки на исследования Мэмфорда и других,
доказывающие, что, создавая свои производительные силы,
капитализм разрушил те, которые ему предшествовали,
включая целые цивилизации.
Исходя из этого, навязывание миру «европейской
модели индустриализации» объявляется «высшей ступенью
европейского империализма» (22, S. 54). Ульрих ныта-
126
ется приписать марксизму слепую веру в прогресс,
«одержимость» капиталистическим крупным производством.
Другой представитель экосоциализма, известный
французский социолог — «неомарксист» А. Горц, следующим
образом формулирует программу экосоциализма (5). 1.
Необходимо перейти к системе производства, отвергающей
принцип экономического рационализма и основанной на
максимально бережливом отношении к природным
ресурсам. 2. Чтобы воспрепятствовать установлению
диктатуры технократов, которые могут использовать этот же
лозунг, необходимо развивать в массах гражданское
сознание и своевременно передать им необходимую мелкую
технику, которая помогла бы развиваться экономическому
суверенитету базовых общин. 3. Необходимо порвать
полученную в наследство от прошлого связь между
понятиями «больше» и «лучше», поскольку можно и должно
жить лучше, работая и потребляя меньше и производя
вещи длительного пользования. 4. Бедность в развитых
странах связана не с недостатком благ, а со способом
распределения. 5. Массовая безработица может быть
преодолена путем сокращения рабочего дня. 6. В добавление ко
всему производимому на общественных началах, т. е.
общественно необходимому граждане в свободное время
могут дополнительно производить то, что соответствует их
индивидуальным запросам. Такая форма необязательного
труда послужит развитию личных творческих
способностей и расширению общественной инициативы и таким
образом будет способствовать отмиранию государства.
7. Предлагаемое развитие покончит с единообразием в
потреблении и в человеческом существовании вообще,
поскольку свободное столкновение мнений и вкусов в
небольшой общине не может не породить
непредсказуемого разнообразия форм и стилей жизни.
Главное зло Горц усматривает в том, что большая
часть потребностей современного человека искусственно
поддерживается существующей социальной системой.
Горц видит выход в замене ее «интегральным
самоуправлением». Переход к нему следует совершить
осторожно, иначе, например, самоуправление рабочих на
заводах «Дженерал моторе», незаметно превратится в
сильное финансовое лобби, заботящееся только о дальнейшем
процветании и росте производства автомобилей.
Перестройка всего экологического здания должна произойти
вне какого бы то ни было воздействия как
монополистического капитала, так и «бюрократического социализма».
127
«Главное — создать больше счастья при меньшем
изобилии»,—утверждает Иллич (10) и повторяет вслед за ним
Горц, сетуя, что взамен этого ясного и чистого
стремления люди продолжают усиливать идейный разброд
безнадежными политическими спорами, которые в конце
концов сводятся к упрощенному выбору между рыночным
и планируемым хозяйством, тогда как ни того, ни другого
в чистом виде нигде и никогда не существовало.
Горц считает, что текущий спад капиталистической
экономики вовсе не спад, а самый настоящий и притом
последний и решающий кризис, пока еще не признанный
таковым. Основной фактор: человечество в целом не
имеет ни малейшей возможности достичь жизненного уровня
населения Северной Америки и Европы. Для этого не
хватило бы не только минеральных ресурсов, но также
воздуха, воды и почвы. Суть рокового противоречия
современного капитализма заключается в явной
неразрешимости стоящей перед ним дилеммы: с одной стороны, он
вынужден продолжать уничтожать природные ресурсы,
чтобы преодолевать кризисы производства, с другой —
должен сокращать их растрату, если не хочет прийти к
окончательному экологическому кризису, а за ним и ко
всеобщему экономическому и политическому краху.
Количественным критериям прогресса —
экономическому росту, национальному доходу,
производительности — «экологическая идеология», противопоставляет
качественные критерии, совокупность которых составляет
содержание понятия «качества жизни». Оно
противопоставляет буржуазному принципу рациональности и
эффективности требование освобождения личности от
всякого принуждения и восстановления гармонии между
человеком и природой.
Концепция «качества жизни» призвана развенчать
«мифы о прогрессе XIX в., согласно которым все, что
происходило, должно было интерпретироваться как указатель
«вперед» на большой дороге прогресса» (22, S. 67).
С точки зрения концепций «качества жизни» неверно
оценивать производительность только исходя из
затраченного времени, не принимая во внимание, что есть труд,
доставляющий удовольствие сам по себе (почти
полиостью уничтоженный индустриализацией). Таким образом
оценивать следует не только продолжительность рабочего
времени, но и его качество. С этой точкой зрения
связано противопоставление труда в индустриальном и доин-
дустриальном обществе. Разделению труда, лишающему
128
его содержательности и превращающему человека в
придаток машины, противопоставляется идеализированный
труд цехового ремесленника — «творца» 4.
С точки зрения французского социолога, одного из
функционеров французской социалистической партии —
Г. Госслена (6), главная причина современного кризиса
заключается в том, что «есть прогресс, но нет
изменений», и поэтому человечество нуждается в новой
концепции прогресса, которая по необходимости носила бы
утопический характер, но при этом стала бы основой для
новой «позитивной иллюзии». Давно назрела необходимость
признать, пишет Госслен, что «рациональная модель
прогресса ведет в тупик. Истинный оптимизм заключается
не в стремлении защищать ее любой ценой, а в том,
чтобы найти ей замену, основать такую традицию прогресса,
которая не лишала бы нас будущего» (6, р. 205).
Теоретические предпосылки для создания такой
концепции прогресса Госслен видит в новом прочтении
Руссо, его трактатов о причинах неравенства, считая, что
«индустриальный позитивизм», ставший в XIX в.
доминирующим течением общественной мысли, объявляющий
эффективность производства «абсолютной ценностью» и
отводящий научно-техническому прогрессу
первостепенное значение, является искажением идей Руссо. На этой
почве возникает ряд иллюзий: «сциентистская» (не может
быть прогресса без совершенствования науки),
«технократическая» (на первый план выдвигается не столько
развитие науки, сколько техники), «моралистическая»
(моральный прогресс может происходить самостоятельно,
независимо от других форм прогресса). Главное условие
изменения социальных отношений в духе «нового
прогресса» — это «контроль над государством, которое
следует максимально ослабить, и перестройка общества,
которое следует максимально усилить»,— пишет Госслен (6,
р. 207).
Антииндустриализм не имеет общей экономической
концепции (равно как социальной и политической).
Отдельные альтернативные проекты основываются па самых
различных представлениях, от простых соображений о
бережливости (вплоть до аскезы), от моделей труда для
удовлетворения собственных потребностей — до планов
тотального уравнивания всех народов и создания справед-
1 Воплощением этих типов могут служить образы Кола Брьюнь-
она и героя чаплинского фильма «Новые времена».
5 Заказ № 3610
129
ливого мирового экономического порядка на основе
равноправного партнерства.
Общий лозунг экологического движения — назад к
простоте — означает ограничение потребления. С позиций
сторонников «экосоциализма» следует критически
пересмотреть понятие материальных «основных
потребностей», поскольку в системе, стремящейся к
удовлетворению нужд граждан посредством материального
производства, на каждой ступени достигнутого материального
благосостояния будет возникать требующий своего
удовлетворения спрос прежде всего потому, что эта система
очень изобретательна в обновлении ассортимента
предметов роскоши, которые стимулируют развитие новых
материальных «основных потребностей». Место, которое
занимало радио, сначала занял чериобелый телевизор, затем —
цветной, а в недалеком будущем — объемный проектор.
«Кто принимает определенные материальные блага как
«основную потребность», должен проверить, не принимает
ли он тем самым определенный способ производства и
общественную структуру. Кто, например, принимает
автомобиль как средство массового транспорта, тот является
сторонником индустриально-капиталистического способа
производства и образа жизни» (22, S. 108).
Для всех сторонников альтернативного движения
автомобиль выглядит символом зла индустриальной
цивилизации, поскольку, как они утверждают, он уносит столько
же жизней, сколько чума в эпоху средневековья, и
оставляет инвалидов не меньше, чем война. Вместо
автомобиля предлагается велосипед как наиболее соответствующий
здоровому образу жизни в автономных общинах, «простая
жизнь» которых противопоставляется губительному для
индивида и общества культу пассивного потребительства.
Сущность нового стиля жизни заключается в том, чтобы
внешне жизнь была как можно проще, а внутренне —
как можно содержательнее.
Противоречие между производством и потреблением
разрешается путем соединения потребителя и
производителя в одном лице. Таков «прозумент» Тоффлера —
«производитель — потребитель», производящий продукты и
услуги для собственного потребления и тем самым в
значительной степени ограничивающий роль рынка.
Отрицание прогресса, основанного на экономическом
росте, тесно связано с отрицанием научно-технического
прогресса как враждебного по отношению к природе и
человеку.
130
Однако в подходе к технике, как и во многом другом,
экологическое движение не едино. Наиболее крайние его
представители отрицают всякую машинную технику
(выращивая в сельскохозяйственной общине «биобрюкву»,
принципиально обходятся без электричества,
обрабатывают землю самодельными орудиями и т. д.).
С точки зрения «экосоциализма» неприемлемы все
виды современной технологии, не соответствующие не
только экологическим, но и социальным критериям. Так,
военная технология объявляется несовместимой с
социализмом, поскольку она опасна не только в экологическом
плане (прогрессирующее уничтожение невосполнимых
ресурсов), но и в социальном, поскольку тесно связана с
милитаризацией, угрожающей демократии.
Из всей современной техники признается лишь та,
которая основана на микроэлектронике, решительно
отвергаются как энергетическая база современного
производства, связанная с использованием невосполнимых
источников энергии, так и всякое развитие производства,
ведущее к нарушению экологического равновесия,
включая химизацию сельского хозяйства.
Современному крупному производству
противопоставляется модель мелкого автономного, самоуправляющегося
предприятия, сочетающего труд, напоминающий
ремесленный, с новейшей электронной техникой. У Тоффлера
эта модель воплощается в «электронном доме»,
снабженном компьютером и новейшими средствами
коммуникаций с обратной связью, доме, превращающем семью в
основную производственную и социальную единицу.
Кризис идеологии индустриализма связывается с
крахом воплощенных в массовом сознании традиций
протестантской этики, явившейся, согласно теории М. Вебера,
основой развития буржуазной цивилизации.
Американский социолог Д. Янкелович, исходя из данных опросов,
заключает, что ценности и представления, бывшие в 60-х
годах уделом молодежного авангарда, стали очень быстро
достоянием чуть ли не всего молодого поколения, а к
концу 70-х годов — значительной массы американцев. С его
точки зрения, суть изменений состоит в переходе от
«агрессивного конформизма» послевоенного периода
(установка на материальное преуспевание и сохранение
традиционных норм), от системы ценностей, базирующейся
на деньгах и престиже, к ориентации, которая ведет к
разрыву между понятиями «успех» и «самовыражение»,
бывшими до того синонимами. Янкелович объясняет это
131
5*
уходом с исторической сцены поколения, пережившего
«великую депрессию» 30-х годов, а также разочарованием
в социальных институтах и экономической системе,
энергетическим и экологическим кризисом и
распространением менее конформных стилей жизни (24).
Причину вытеснения протестантской этики сначала
потребительскими установками, затем «новым гедонизмом
хиппи», в известной мере присущим и альтернативному
движению, другой «столп» буржу азной социологии —
А. Этциони видит в противоречиях, заложенных в самой
протестантской этике: упорный труд ведет к
благосостоянию, а благосостояние — к новым стилям жизни,
ослабляющим трудовую этику (24). Таким образом возникает
противоречие между стилями жизни и труда: достигнув
определенного уровня культуры и благосостояния,
человек предъявляет новые требования к труду: труд должен
не только обеспечивать определенные материальные
потребности, но и давать возможность творческого
самоосуществления.
Буржуазные социологи выдвигают различные идеи с
целью вновь привести в соответствие массовое сознание
с устоями буржуазного строя и тем самым предотвратить
катастрофу, угрожающую господствующей системе,
против норм и институтов которой начинает выступать
значительная часть общества. С точки зрения либерально-
гуманистической (К. Карр, Д. Янкелович, А. Этциони)
настоятельно необходимы реформы, учитывающие
изменения общественного сознания и направленные к
созданию «общества качества жизни», «индустриализма с
человеческим лицом» и т. д. и предполагающие приоритет
социальных целей над экономическими, перераспределение
основных капиталовложений из экономической сферы в
социальную за счет замедления экономического роста.
Подобная позиция весьма четко сформулирована в
книге А. Гартнера и Ф. Рисмана «Активный потребитель
в обществе услуг. О политической экономии третичного
сектора» (3). «Основные ценности нашего временя-
пишут авторы,— это ценности услуг, связанные с такими
целями, как гуманизация труда, улучшение качества
жизни и экологических условий, расширение сознания,
устранение иерархии, бюрократии, господства и централизма,
а также развитие личности... Нам нужен селективный
рост. Увеличение дохода на душу населения и реальное
благосостояние могут быть постоянными, лишь если
произойдет сдвиг от производства товаров к производству
132
услуг и досугу, от товаров, служащих символами
статуса, к товарам, вызывающим прежде всего внутреннее
удовлетворение, от товаров, связанных с расточительст-
ством ресурсов и загрязнением воздуха, к таким, которые
сохраняют ресурсы и направлены против загрязнения; от
роста населения к его сокращению, от повышения
издержек на высшее образование, исследования и развитие к
созданию возможно более широких возможностей для
этих областей, а также такое перераспределение средств,
при котором особое внимание уделялось бы
экологическим проблемам... Чтобы достичь общества услуг,
ориентированного на личность, необходимы существенные
изменения, направленные на развитие наиболее
существенных альтернативных форм жизни... Это не означает ни
нового примитивизма, ни возвращения к более ранней
стадии развития, ни деревенского образа жизни, ни деин-
дустрализации, ни возврата к прошлому, основанному
на недостатке и низком техническом уровне...
Экологическая утопия базируется не на нулевом росте, а скорее на
перемещении роста с традиционного индустриального
сектора в сферу услуг, ориентированных на личность, что
должно привести к значительному сокращению
безработицы... Должны быть созданы новые представления о том,
каким должно быть общество: пеиерархичное, партици-
парное (основанное на широком участии граждан в
принятии решений.— Авт.), децентрализованное. По-новому
должны быть определены понятия эффективности и
производительности. Видимо, основными факторами станут:
перераспределение, участие, качество жизни, а ключевым
понятием — услуги» (цит. по: 9, S. 92). Альтернативные
проекты рассматриваются с позиций такого левого
либерализма либо как заполняющие пробелы государства и
рынка, либо как эксперименты, выполняющие функцию
обновления системы.
Хубер, преподаватель социологии в Свободном
университете Западного Берлина, участник альтернативного
движения и один из наиболее интересных его
исследователей, называет такой подход «стратегией свежего
альтернативного вина в старых лево-социал-демократических
или иных бурдюках, при которой стирается грань между
желанием и способностью к компромиссам, с одной
стороны, и оппортунизмом — с другой» (9, S. 93—94).
Социологи консервативного направления (Г. Каи,
У. Липпмаы и др.) видят выход в возрождении старых
буржуазных добродетелей, ценностей и «табу». Активиза-
133
ция такого рода тенденций, как показывает опыт истории,
всегда была симптомом кризисных периодов. В
настоящее время эти тенденции проявляются в разных странах
с разной степенью интенсивности и в различных формах.
С одной стороны, происходит определенная эволюция
либерализма в сторону «неоконсерватизма». Она
выражается в отходе от требований государственного
регулирования, в частности активной социальной политики, в
апелляции к «свободной игре» рыночных механизмов, в
замене принципа демократии принципом меритократии и т. д.
Выразителями этой тенденции являются американские
социологи во главе с Д. Беллом и И. Кристоллом. Рупор
их идей — журнал «Паблик опинион».
С другой стороны, наблюдается реактивация
концепций иррационального национализма и романтизма. В
настоящее время эти концепции часто выступают и под
личиной экологизма.
Тягу к прошлому, столь характерную для различных
форм альтернативного движения, большинство
буржуазных исследователей склонно объяснять чисто
психологически: усталостью от темпа жизни, утратой устойчивости,
перспектив и т. д. «Если не только будущее, но и
настоящее непроницаемо, непонятно и непрочно, человек ищет
необходимой устойчивости в прошлом, в эстетически-
ретроспективном осовременивании прошлого» (11, S. 75).
При этом упускается из виду, что отрицание научно-
технического прогресса, крупного производства и всей
современной цивилизации может выражать тоску
мелкобуржуазных слоев по докапиталистическим
общественным отношениям, т. е. быть выражением реакционного
романтизма. Поскольку колесо истории невозможно
повернуть вспять, эта тоска остается мечтой людей без
перспективы, мучимых иррациональными страхами. Однако
исторический опыт учит, что такие
романтически-реакционные настроения в кризисных ситуациях могут быть
легко повернуты против демократии и рабочего движения
и образуют благоприятную почву для праворадикальных
движений фашистского толка.
Представители прогрессивной общественности ФРГ,
констатирующие активизацию неофашизма, указывают,
в частности, на его попытки укорениться в
экологическом движении. Неонацисты и «новые правые»
стремятся создать так называемый «экофашизм»,
гальванизируя идеи старого германского «народного консерватизма»,
послужившего одним из источников идеологии нацизма.
134
Движение «новых правых», возникшее в ФРГ в
середине 60-х годов, не имело идеологического влияния даже
в лагере правых. Внимание они привлекли лишь в
последние годы в связи с их стремлением укрепить свои
позиции в пестром конгломерате экологического и
альтернативного движения, и известными успехами,
которых они в этом достигли.
Основные организации «новых правых»: «Дело
народа — организация национально-революционного
восстановления» и «Солидарное народное движение». Их
ведущим идеологом является Хартвиг Зингер.
Идеям интернационализма и классовой борьбы
«новые правые» противопоставляют «народное единство» и
«национальные ценности», «здоровый образ жизни» и
«целостного человека», связанного с общиной и
стремящегося «назад к природе».
В отличие от этатистского консерватизма «новые
правые» возлагают надежды не на государство, а на
народ, на имманентные ему нерушимые качества —
«народный характер» и устанавливают связь между
разрушением природы, народных традиций и самого человека. Их
понимание парода близко к расизму, и с этих позиций
они призывают к его единению, невзирая на
существующие политические и социальные барьеры.
«Новые правые» манипулируют
антикапиталистической лексикой, по не дают сколько-нибудь серьезной
критики капитализма. Основой их «антикапитализма»,
или «социализма», является биологически-расистская
трактовка человека. Социализм, в их представлении,—
иерархия. Равенство они отрицают, исходя из
естественного неравенства людей.
Они выдвигают идею «кооперативного социализма»,
в котором «товарищеская солидарность снизу сочетается
с общим планированием сверху. Многонациональные
концерны должны быть ликвидированы, банки и
страховые компании — переданы государству. Фабрики и
предприятия должны быть децентрализованы и переданы
самоуправляемым кооперативам трудящихся. Мелкие
предприятия остаются у их собственников, которые сами
на них трудятся. В рамках общего государственного
планирования сохраняется принцип свободного
удовлетворения потребностей на основе конкуренции
самоуправляемых предприятий» (16, р. 53). При этом специфически
германскими «моделями социализма» объявляются
лассальянские «ассоциации производителей». Подобные идеи
135
находят отклик в тоске мелкого буржуа по
«гармоничному» популистскому движению против системы
институтов, созданных развитым индустриальным обществом.
О стремлении неонацизма к руководству
экологическим движением свидетельствуют принятый на съезде
НДП в ноябре 1978 г. новый «зелено-коричневый,
биополитически-экологический» курс. В резолюции съезда
говорится о «национальном единстве», о «приоритете
экологии над экономикой», о борьбе против атомных
электростанций и «капиталистически-коммунистических
концернов» (13, S. 56).
В Рейнланд-Пфальце НДП выступила с «зеленым
списком НДП». В его листовках говорилось о
необходимости сохранения «нерушимой среды и ненарушенного
внутреннего мира как предпосылки дальнейшего
существования нашего народа» (Там же). А издаваемая Эрви-
ном Шенбориом «Грюие корреспопденц» прямо писала:
«Мир станет либо национал-социалистским, т. е. зеленым,
либо погрязнет в хаосе либерального капитализма или
коммунистически-марксистского террора» (Там же).
Опасность усиления правых и неофашистов
усугубляется позицией левых, отошедших от марксизма и
считающих необходимым подчинить интересы классовой
борьбы «общечеловеческим задачам» экологизма. Эту
тенденцию выразил незадолго до своей смерти Руди
Дучке, когда заявлял о «второстепенности» классовой
борьбы: «Все знают, что сейчас речь идет о сохранении
человеческого вида, а не только о классовых интересах».
Эти «новые масштабы потребностей вида и защиты
интересов вида» Дучке противопоставлял классовым иите
ресам (цит. по: 16, S. 55).
Готовность части левых закрыть глаза на опасность
фашизма выразил, в частности, Кон-Бендит, бывший
лидер майско-июньского восстания парижских студентов
в 1968 г., ныне издатель «альтернативной» «Штадтцай-
туыг фюр Франкфурт», заявивший по поводу событий
17 июня 1979 г. во Франкфурте-на-Майне, когда в
результате массового протеста удалось добиться
запрещения демонстрации неофашистов: «Тот факт, что НДП не
провела демонстрации, я не считаю успехом. Право на
свободу мнений и демонстраций должно действовать
неограниченно» (23, S. 47). А франкфуртская левая
студенческая газета «Дискус» назвала неонацистов
«критическим потенциалом», направленным против государст-
136
венной бюрократии и неспособности западногерманского
общества к идентификации» (Там же).
Западные марксисты, указывая на опасность
примиренчества по отношению к неофашистам и «новым
правым», неизменно подчеркивают принципиальное единство
целей классовой борьбы и общечеловеческих интересов.
Справедливость этой позиции подтверждается
сопротивлением, которое защита общечеловеческих интересов —
будь то экологическое движение или борьба против
угрозы термоядерной войны и гонки вооружений — встречает
со стороны корпораций. Поэтому эта борьба неизбежно
превращается в антимонополистическую.
О враждебности крупных корпораций по отношению
к защитникам среды обитания очень ярко
свидетельствует изданная в США книга «Война против прогресса»,
которую вполне можно было бы назвать
«Антиэкологическим манифестом». Ее автор X. Мейер, один из
известных американских политических и экономических
комментаторов, редактор журнала «Форчун», рупора
американских корпораций, «войной против прогресса»
называет экологическое движение. При этом сам
прогресс он определяет прежде всего как накопление
богатства на основе экономического роста и научно-технического
прогресса. Поэтому, пишет он, «современные крики о
прибылях корпораций, общие нападки на
собственность — это тоже война против прогресса. Ясно, что
деньги—это горючее прогресса» (12, р. 9).
Основой прогресса автор объявляет свободу частного
предпринимательства и поэтому к «врагам прогресса»
относит не только участников экологического движения,
но и либералов, сторонников государственного
регулирования.
Мейер стремится убедить своих читателей, что
прогресс, в его понимании, соответствует интересам
преобладающего большинства населения, поскольку «двигать
прогресс — значит создавать новые рабочие места» (12, р. 16).
Для него нет сомнений в том, что смыслом жизни может
быть только приобретательство: собственный дом, машина
и сбережения. Поэтому, если вам не повезло и вы не
унаследовали богатства, единственный путь — зарабатывать
деньги. «Лишь для очень тонкой прослойки общества
размеры заработка не являются существенными или во всяком
случае важным фактором» (12, р. 18).
Этих «особых людей», элиту творческой
интеллигенции, получающих удовлетворение от своего труда, а не
137
от расходования зарабатываемых денег и возглавляющих
экологическое движение, Мейер обвиняет в том, что они
«свысока смотрят на людей, работающих из-за денег»,
и не способны «понять, что их собственная работа
основана на богатстве и может существовать лишь в странах,
где много рабочих мест для рядовых людей. Потому что
именно они покупают товары и услуги, создаваемые
особыми людьми...» (Там же). Предприниматель,
утверждает Мейер, жизненно необходим для прогресса, но он
может действовать только из эгоистического интереса,
и поэтому «необходимо создавать условия, побуждающие
его выполнять его жизненно важную функцию» (12, р. 22).
Приводя примеры действий «врагов прогресса»,
блокирующих экономический рост, Мейер упоминает, в
частности, их борьбу против разработки природных
ресурсов Аляски и требование сохранения ее в качестве
заповедника. В своем стремлении «обличить» «врагов
прогресса» оьг демагогически заявляет: «Еще более, чем
минералы и горючее, нам нужны рабочие места. Однако
для экологов и их союзников люди, видимо, менее
важны, чем олени, медведи-гризли, моржи и морские львы»
(12, р. 39).
Мейер стремится представить смехотворными акции
протеста, направленные на сохранение тех или иных
видов животных или растений. Наиболее опасными ему
представляются протесты против сооружения атомных
электростанций, поскольку они блокируют развитие
энергетики.
Стремясь дискредитировать экологическое движение,
Мейер объявляет его антиобщественным, исходящим из
эгоистических интересов интеллектуальной элиты,
которая якобы выдвигает лозунг «качества жизни» лишь во
имя сохранения собственного комфорта.
«Цель врагов прогресса,— пишет он,— превратить
США из самой динамичной и могучей индустриальной
цивилизации в тихое, чистое, надежное убежище для тех
немногих привилегированных, которые будут способны
наслаждаться им» (12, р. 93).
Соображения охраны окружающей среды «ревнитель
прогресса» упраздняет одним росчерком пера, заявляя,
что «издержки прогресса» неизбежны: «Люди совершают
ошибки, время от времени происходят несчастья, и нет
средств полностью их предотвратить» (12, р. 31).
У Мейера нет сомнений в том, что «борьба против
прогресса» в настоящее время может стать губитель-
138
ной. «Погибнут все, независимо от положения, как
пассажиры «Титаника»,—вещает он (12, р. 113).
Усилится преступность, богатым людям станет невыгодно
инвестировать свои деньги в производство, и они начнут
вкладывать их в драгоценности, произведения искусства
и т. п. предметы роскоши. В результате высший класс
станет не производительным, а паразитическим. Короче
говоря, США — «единственная страна, способная
блокировать стремление СССР к мировому господству», придут
в упадок (12, р. 138), а «свободный мир без США во
главе не сможет выжить» (12, р. 112).
Таким образом, аргументация Мяйера в
доказательство того, что интересы корпораций совпадают с
интересами общества, полностью соответствует клише,
используемому для оправдания гонки вооружений: создание новых
рабочих мест, защита «национальных интересов» (в
плане мирового господства), борьба с «советской угрозой».
Мейер призывает к самым решительным мерам по
пресечению экологического движения. Он взывает к
общественности, к объединению усилий корпораций и
профсоюзов на выборах, чтобы привести к власти
администрацию, способную перейти в «контрнаступление»
против «врагов прогресса». Можно предполагать, что
политика администрации Рейгана соответствует чаяниям
автора «Войны против прогресса».
В потоке литературы, посвященной различным
формам демократической антиимпериалистической борьбы,
не существует четкого разграничения понятий:
«экологического», «альтернативного», «молодежного»,
«демократического» и прочих движений. Это объясняется как
идейно-политической неоднородностью этих движений,
так и различием их оценки. В марксистских
исследования* вся их совокупность определяется общими
понятиями «непролетарский протест» и «новые социальные
движения». При этом имеются в виду все
демократические группы и организации, действующие вне
организованного рабочего движения, его партий и профсоюзов.
Эти группы и организации служат важной
потенциальной силой в борьбе против реакции, гонки
вооружений, огромных социальных, экономических и
политических издержек экономического роста, подчиненного
законам прибыли и ведущего к взаимному отчуждению
людей, загрязнению окружающей среды, подчинению
личной жизни людей интересам производственного аппарата
и государства, усилению тенденции к авторитарным ме-
139
тодам господства. С этой точки зрения существенные
гуманистически-демократические импульсы
обнаруживаются в движениях самых разных групп общества:
молодежи, женщин, этнических меньшинств и так
называемом альтернативном движении.
Однозначный и поверхностный негативизм по
отношению к рациональному мышлению и рациональной
организации, утопическое противопоставление искусственной,
неправедной социальной жизни «естественной и святой
природе» делает антииндустриальную установку
несостоятельной как в теоретическом, так и в практическом
отношении.
Однако в своей конкретной социальной деятельности
противники индустриализма, так называемые «альтерна-
тивники», оказались активнейшими участниками
современной жизни, значимой силой в политической борьбе,
способной повлиять на ход событий, помешать
осуществлению планов власть имущих. «Друзья природы»
сегодня — не только чудаковатые отшельники — вегетарианцы,
но и активисты «зеленых» политических партий,
участники борьбы за мир. Поэтому следует отличать
теоретические модели альтернативного развития от
конкретных программ, реализуемых в различных видах массовых
альтернативных движений, а в самих этих программах
отделять позитивные, прогрессивные моменты от
негативных — консервативных и даже реакционных.
В литературе альтернативное движение нередко
отождествляют с молодежным. Едва ли такое отождествление
можно считать вполне оправданным. В одних формах
альтернативного движения молодежь играет большую
роль, в других она не проявляет такой активности.
И все же, если средний возраст граждан ФРГ — 30—
40 лет, то средний возраст участников различных форм
альтернативного движения 20—30 лет. Поэтому возникает
естественная ассоциация нынешнего альтернативного
движения с антиавторитарным молодежным протестом
конца 60-х годов.
Сравнивая эти движения, один из бывших
молодежных лидеров — Бернард Рабель писал: «Мы были тогда
оптимистами в оценке как возмояшостей общественных
перемен, так и применения собственной профессии.
Современное поколение лишено оптимизма как в
отношении общества, так и в отношении профессии.
Существует, если можно так выразиться, «брак» — это сотни
тысяч получивших высшее образование, но оказавшихся
140
за бортом из-за ошибочного планирования. Им угрожает
безработица. Это одна сторона. Существует и другая —
они не верят ни социал-демократии... ни различным
левым группам. Они отброшены к субъективизму,
выражающемуся в скептицизме и цинизме. Они
разочарованы. Это большая разница по сравнению с концом 60-х
годов» (цит. по: 15, S. 48). Даже если сделать скидку
на вполне понятные преувеличения подобных
заключений, вряд ли можно сомневаться в том, что особенности
современного молодежного движения объясняются и
ухудшением социально-экономического положения
молодежи в условиях экономического кризиса, и крахом
идеологии «новых левых», и глубоким разочарованием в
политике правящих кругов.
Отсутствие перспективы приводит к тому, что
известная часть молодежи стала усматривать смысл жизни уже
не в том, чтобы целиком отдаваться цели, лежащей вне
индивида, не в служении обществу, профессии, семье,
фирме или религии, а в том, чтобы реализовать свои
личные устремления. Подобный эгоцентризм, стремление
к немедленному счастью и неверие в будущее
поддерживается и пропагандируется по меньшей мере частью
альтернативной печати, примером чему служит такое
обращение, опубликованное в одном из листков: «Если
бы вы наконец поняли, что живете только один раз и
что... попытки создать мир, более приемлемый для
будущих поколений, могут привести вас только к гибели, вы
бы наконец сообразили, что, если хочешь жить, нужно
жить сейчас... От пятипроцентной прибавки к зарплате
и приостановки строительства атомной электростанции
не возникает человеческой нежности» (15, S. 50).
Такие настроения развиваются на фоне глубокого
недовольства социальной рутиной и страха перед
будущим. Весьма типичным в этом плане можно считать
приведенное в книге, посвященной молодежи, письмо
21-летнего студента своим родителям: «Я не хочу и не могу
вести запрограммированную жизнь с 8-часовым рабочим
днем, страхованием жизни, повышением по службе и
пенсией. Я хочу настоящей жизни... Так или иначе, дело
идет к катастрофе... Я во всяком случае не желаю играть
роль мученика и пытаться вытащить телегу из грязи,
в которой она уже наполовину увязла. Конечно, в этом
есть значительная доля эгоизма, но передо мной 50 лет
жизни, моей единственной» (15, S. 51).
141
Однако из недовольства молодежи обществом
произрастают и семена протеста. Один из бывших лидеров
американского студенческого движения — Майкл Хар-
рингтоы видит в отчуждении молодежи от общества
предвестие нового подъема ее социальной активности.
В статье «Новый мятеж молодежи в США?» он писал:
«Вполне возможно, что мы находимся у порога нового
студенческого движения, которое будет столь же
динамичным и значительным, как и двия^ение 60-х годов.
Десятилетие огромных успехов капитализма спровоцировало
революционное студенческое движение, развивавшееся
под антикапиталистическими лозунгами. Десятилетие
неудач капитализма привело к возникновению
конформистского молодежного движения. Ирония судьбы состоит в
том, что те самые условия, которые привели к
пассивности в 70-е годы, могут в 80-е годы вызвать в
университетах противоположные настроения» (11, S. 11).
Альтернативное движение унаследовало
определенные демократические традиции 60-х годов, опровергнув
распространенную точку зрения, будто от коитркультуры
60-х годов остались лишь джинсы и марихуана, что все
бывшие идеалисты превратились во вполне ординарных
служащих или бизнесменов.
Специальные исследования, проводившиеся в США,
показали, что большинство активистов поколения 60-х
годов остались верны своим идеалам и стремятся
следовать им в своей повседневной деятельности, хотя методы
их реализации стали иными. Именно в этом многие видя!
суть альтернативного движения, называя его
«повседневной революцией» (18). Многие из активных участников
студенческого движения устремились в местные
административные учреждения, считая, что способствовать
политические изменениям они могут лучше всего на
локальном уровне, т. е. непосредственно по месту
жительства и работы людей. Бывшие участники движения за
гражданские права, борьбы против войны во Вьетнаме
и других форм молодежного протеста конца 60-х годов,
выступают ныне как адвокаты, экономисты, педагоги,
работники социальных служб и т. п., пытаясь осуществить
свои идеи в «долгом марше через институты». В ФРГ
и Западном Берлине, где альтернативное движение
получило наиболее широкий размах и отличается особым
многообразием форм, среди его сторонников также немало
прежних активистов студенческого движения. Отказ от
прямей политической борьбы явился реакпией «новых
142
левых» на крах их бунтарских упований. Перейдя на
позиции альтернативного движения, они уже не стремятся
разом перевернуть все общество, а ограничиваются в
своей повседневной практике более частными целями.
Реализацию своих идей сторонники «нового стиля жизни» не
связывают ни с бунтом, ни с реформами. Их внедрение
они рассматривают как процесс созревания новой системы
ценностных ориентации и обусловленных ею стереотипов
социального поведения. В результате должны возникать
оазисы альтернативного стиля жизни, оказывающие
гуманизирующее воздействие на общество в целом.
Наиболее четко отказ от прежних методов выражен ъ
так называемой «революции корней травы» — так
обозначается деятельность, предусматривающая преобразование
общества путем длительной эволюции самих масс.
Поскольку нельзя рассчитывать на проведение реформ
сверху, нововведения ожидаются лишь от инициативы снизу.
Партийная деятельность, централизованное руководство
движением полностью отрицаются. Лозунг движения:
социальная революция без революции политической.
«Включая себя и других в альтернативное движение, а его,
в свою очередь, в социальное и институциональное
окружение, при существующих условиях можно достигнуть
большего, чем путем «революционизирования»...
«Революция» едва ли может означать что-либо иное, чем
оторванный от общества и губительный, с точки зрения
человеческой и политической, терроризм РАФ»2 (9, S. 61).
Вместе с тем большинство альтернативных групп
стремится к изоляции от общества. В городах они образуют
некое подобие гетто: «читают альтернативные газеты,
слушают альтернативную музыку и смотрят
альтернативный театр, питаются биологически чистым хлебом,
злаками и овощами, выращенными на естественных
удобрениях, приправленными морской солью, и пьют
колодезную воду» (15, S. 49).
Социальный статус участников альтернативного
движения весьма пестрый. «В нем можно встретить кого
угодно — от любителей скачек до выходцев из рабочей
среды, от окончившего начальную школу до
университетского профессора, от сына крестьянина до дочери
фабриканта. У одних нет ни медицинской страховки, ни
2 РАФ — Rote Arm ее Fraktion — Фракция Красной Армии —
название левотеррористической организации во главе с Ф. Бааде-
ром и У. Майнхоф.
143
счета в банке, ни даже кошелька. У других —
постоянный доход, выплаченная страховка и билет на самолет.
Одни носят шикарные замшевые брюки, другие воруют
в магазине дешевые штаны, одни живут в виллах,
другие— в домах, предназначенных на снос» (15, S. 168).
Неодинаковое понимание того, что следует считать
«альтернативным», определяется социальным
положением, различием судеб, приведших тех или иных людей в
альтернативное движение. В этом плане можно выделить
три основные категории: первая — выходцы из высших
и средних слоев. Часть из них побуждают к разрыву с
господствующей системой глубокие убеждения, часть —
стремление к острым переживаниям. Вторая — главным
образом представители средних слоев, отторгнутые
системой, отчасти подверженные алкоголизму и наркомании.
Третья — как правило, выходцы из рабочих, в
большинстве — неквалифицированные, осознающие
бесперспективность своего положения.
Если для первой группы, составляющей меньшинство,
альтернативные проекты — далеко не единственно
возможный путь в жизни, то у двух других нет выбора,
субкультура представляется им единственной
возможностью существования.
Между теми, кто полностью интегрирован в систему,
и теми, кто стремится порвать с ней, находится весьма
значительный промежуточный слой. «Все в них
противоречиво. Они не годятся для нормальной
профессиональной и семейной жизни, но для полного выхода в
субкультуру они недостаточно сломлены. Они слишком
бунтари, чтобы «вопреки всему» служить системе, но
недостаточно радикалы, чтобы сжечь за собой мосты. Они
слишком критичны и прозорливы, чтобы не обманываться
относительно тупиков мегамашины, и одновременно
недостаточно наивны и не склонны к иллюзиям, чтобы
затеряться в робинзонадах субкультуры. Они слишком горды,
чтобы предаться мегамашиые и слишком высокого мнения
о себе, чтобы бесперспективно тратить свои силы в суб-
культурной нише. Поэтому они относятся к тем, кто
сидит между двумя стульями, т. е. попросту говоря, к
промежуточной культуре» (9, S. 97).
В их числе — интеллигенты, находящиеся на
государственной службе, учителя, люди свободных профессий,
деятели искусства, участвующие в различных
альтернативных проектах, где разделение между трудом и
досугом, общественной и личной жизнью не является жестко
144
фиксированным, что допускает интеллектуальный
характер труда. Вместе с тем подобные «промежуточные
элементы» отвергают жизнь в группе и все, что может
ограничить их индивидуальную свободу. Они стремятся
соединить систему с субкультурой. В плане
экономическом их идеал — «социалистическое рыночное хозяйство»
с самоуправлением, т. е. автономия самоуправляющихся
предприятий, ограниченная рамками общего
планирования. В соответствии с этим идеалом частная
собственность на средства производства упраздняется, но
государственная — не возникает. Суть подобных программ —
в соединении относительно новых экологических идей с
отнюдь не новым «либертарным социализмом». В
политическом плане эта стратегия связана с «долгим маршем
через институты», без которого, с точки зрения ее
сторонников, «просто немыслимо изменение системы в
обществе, целиком подчиненном институциональной мегама-
шипе» (9, S. 105).
Понятие «альтернативный» применяется ко всем
социальным институтам и во всех сферах общественной
жизни. Альтернативными могут быть экономика и
техника (имеется в виду экотехника), школы, театры,
больницы, газеты и т. д. Столь же пестрыми являются
предлагаемые альтернативным движением социальные
модели и эксперименты, начиная от экологических
сельских коммун, биомагазинчиков, организаций
взаимопомощи вплоть до центров медитации. В альтернативном
движении объединяются политические и идеологические,
культурно-критические и эстетические, социальные,
медицинские и многие другие мотивы. Это движение
острием своим направлено, по выражению одного из его
участников, «против технократов, действующих как бы в
состоянии амока и упоенных прибылью
предпринимателей, следующих принципу «после нас — хоть потоп» и
превращающих мир в монументальный ад для
творческих живых существ» (11, S. 7).
Одна из наиболее массовых форм альтернативной
деятельности — гражданские инициативы, в которых
участвуют спонтаитю возникающие группировки, протестующие
против тех или иных конкретных акций правительств,
монополий или отдельных предпринимателей. Они
борются за озеленение, за охрану памятников, за организацию
детских садов, площадок для детских игр, против шума,
против загрязнения воздуха и воды, против экологически
опасного строительства новых дорог, расширения аэро-
145
портов и т. п. Одной из первых гражданских инициатив,
одержавшей после 20-летней борьбы в 1976 г. победу,
было движение за спасение берега Рейна от
строительства скоростной автомагистрали. Группы, которые
выступают за охрану окружающей среды, образовали в 1972 г.
Федеральный союз гражданских инициатив по охране
окружающей среды.
По некоторым данным, гражданские инициативы в
ФРГ блокируют около 25 млрд. марок
капиталовложений как через соответствующие постановления, принятые
под их давлением судебными и административными
органами, так и путем прямых акций протеста.
Особый размах в ФРГ получило движение
гражданских инициатив, направленное против строительства
атомных электростанций. В ряде случаев борьба
продолжалась несколько лет, привлекала сотни тысяч людей,
принимала самые ожесточенные формы столкновений с
полицией, сопровождалась акциями солидарности во
Франции и Швейцарии. Брокдорф, Горлебен и ряд других
мест, связанных с такой борьбой, стали символами
антиядерного протеста.
Резко выступают против атомных электростанций и
экосоциалисты. Здесь альтернативная теория и
гражданская практика едины. В условиях монополистической
погони за прибылью пренебрежение мерами безопасности
на атомных электростанциях чревато угрозой аварий,
способных нанести серьезный ущерб окружающей среде,
здоровью и жизни людей. Усиливающаяся милитаризация в
огромной степени усуглубляет социальный риск —
введение воинской дисциплины на атомных установках,
постоянное полицейское наблюдение за всеми, кто на них
работает, за их семьями и даже за окружающим населением.
В атомном производстве,— пишет А. Горц — возникает
особая каста милитаризованных технократов,
подчиняющихся на манер феодалов своей внутренней иерархии и
собственным негласным законам.
Безусловная заслуга гражданских инициатив —
распространение информации о загрязнении среды,
повышение требований к безопасности строительства и
эксплуатации атомных электростанций, повышение уровня
информации относительно их технических, экономических и
политических аспектов. Одним из положительных
результатов гражданских инициатив, как отмечал В. Брандт,
явилось «укрепление понимания того, что широкое
применение атомной энергии связано со значительным рис-
146
ком и что существуют сферы, где границы между
военным и мирным ее использованием весьма
расплывчаты...» (цит. по: 14, S. 95).
Гражданские инициативы, представляя собой, как
пишет западногерманский исследователь Д. Рухт,
совместные действия тех, «кто до сих пор не имел ничего
общего, становятся новыми инстанциями политической
социализации» (14, S. 208). Предполагается, что
общение между гражданами в ходе конфликта с властями
способствует изменению сознания даже у вполне зрелых
людей, что при этом могут коренным образом изменяться
их убеждения, жизненные принципы, формы общения и
т. д. Это иллюстрирует пример, приведенный журналом
«Штерн» в статье «Что пережили честные граждане
одной гессенской деревни, пытавшиеся протестовать
против решения устроить возле нее свалку ядовитых
химических отходив, или история о том, как у граждан
искореняется вера в демократию» (2). Жители этой
деревни пользовались водой из источника, расположенного
вблизи предполагаемой территории свалки. Эту
территорию заняла молодежь, разбив на ней палаточный лагерь.
Протест возглавил бургомистр, член СДПГ. Через
некоторое время туда явились отряды полиции с собаками и
бульдозерами. Они стали валить лес, травили жителей
собаками, применили против них слезоточивые газы и
дубинки. В ответ на это возмущенные жители написали
«Глубокоуважаемому федеральному президенту»: «Мы
все до сих пор считали, что такие методы могут
применяться только против творящих насилие хаотов (так
в ФРГ называют анархистов.—Лег.), террористов и
преступников, и глубоко потрясены тем, что наша
германская полиция по приказу сверху так обращается с
мирными гражданами, глубоко обеспокоенными самими
основами жизни на своей родине» (2, S. 255).
В последние годы в Западной Европе происходит
процесс политизации гражданских инициатив. Это связано
прржде всего с резко возросшей опасностью ядерной
войны, с пониманием ее катастрофических последствий,
чему в существенной мере способствовала активная
пропагандистская деятельность наиболее прогрессивных
элементов альтернативного движения.
Следствием такой политизации явилось значительное
расширение борьбы за мир и в защиту гражданских
прав. В ФРГ движение за мир возникло в начале
50-х годов, когда остро встал вопрос о милитаризации
147
страны и ее атомном вооружении. Тогда происходили
длительные пасхальные марши мира. С середины 60-х
годов началось движение молодых людей, отказывающихся
от службы в армии. Активизировалась деятельность
евангелических студенческих общин, а также других групп,
выступающих против гонки вооружений. Особый размах
антимилитаристская кампания в Западной Европе, и
особенно в ФРГ, приобрела в связи с планами размещения
в этом регионе американских ядерных ракет средней
дальности.
Движение в защиту гражданских прав в Западной
Германии стало нарастать после 1972 г., с введением так
называемого «запрета на профессии». К нему примыкают
различные кампании в защиту политзаключенных, типа
«Красной помощи», и организации, вроде возникшего в
Западном Берлине союза «Граждане наблюдают за
полицией». Главная причина усиления этого движения —
расширение карательных акций против левой
интеллигенции и наступление на демократические права
трудящихся.
Альтернативные проекты в сфере экономики отражают
стремление к преодолению отчуждения личности.
Преуменьшая, как правило, значение производственных
отношений, они требуют отказа от иерархии в коллективе, от
жесткой системы разделения труда, установления
дифференцированного ритма труда, увеличения
возможностей отключения и отдыха в течение рабочего дня. Их
идеал — предельное сближение труда и досуга.
В наиболее фундаментальном исследовании
альтернативного движения Холыптейна и Пента (8), большая
часть которого представляет собой иллюстрированный
каталог альтернативных проектов (более 50), выделяются
следующие основные виды проектов в экономической
сфере.
Рабочие инициативы. Эта форма альтернативного
движения получила распространение главным образом во
Франции и Великобритании: рабочие и служащие
промышленных предприятий, находящихся под угрозой
свертывания, создают на их основе производственные
кооперативы. В результате не только сохраняются рабочие
места, но и происходит переход к «мягкой» технологии,
нацеленной па улучшение социальных и экологических
условий. В некоторых случаях это связано с изменением
характера производимых товаров. Так, на предприятии
Лукас Аэроспейс (т. е. авиа- и космической техники) в
148
Мидлсексе (Великобритания) рабочими и служащими
было создано 150 проектов новых товаров. Среди них:
медицинское оборудование и аппаратура (стимулятор
сердца, искусственная почка и т. п.), а также солнечный
коллектор для обогрева помещений и т. д.
К новым товарам предъявляются следующие
требования: технология их производства должна быть достаточно
проста, выпуск должен обеспечивать долгосрочное
развитие предприятия и удовлетворять потребности не
только Великобритании, но и развивающихся стран.
Коллективу предприятия удалось заручиться поддержкой
общественности.
Таким же путем получил возможность дальнейшего
существования часовой завод «Юра уоч» в Швейцарии.
В 1977 г. во владение заводом вступил рабочий
кооператив. В данном случае продукция предприятия не
изменилась, но принципиально новым стал ее сбыт,
осуществляемый без посредников по принципу «от рабочих к
рабочим» — через профсоюзы, а также на различного
рода собраниях, митингах и т. д. Такая практика
позволила несколько повысить зарплату рабочих и создать
новые рабочие места.
Третий пример — часовая фабрика в Безансоне
(Франция). Борьба рабочих и служащих этого
предприятия за самоуправление была длительной и упорной.
Сейчас фабрикой владеет рабочее товарищество. Хотя
формально во главе администрации по-прежнему стоит
директор, фактически фабрикой руководит дирекция, состоящая
из трех рабочих, избираемых на эту должность сроком на
три года, а также наблюдательный совет в составе семи
человек. Руководители отделов также избираются из
среды рабочих. Переход фабрики во владение рабочих
позволил изменить характер трудового процесса, сделать
его менее напряженным, исключить монотонность,
рабочим предоставляется возможность менять виды
деятельности.
Различные социально-бытовые потребности
работников удовлетворяются на предприятии, имеющем столовую,
магазин, авторемонтную мастерскую, парикмахерскую,
детский сад. Услуги, предоставляемые здесь, несколько
дешевле, чем на обычных предприятиях сферы услуг.
Помимо часов (главного вида продукции), фабрика, ранее
выпускавшая определенные виды военной техники,
перешла на производство медицинского оборудования.
Кроме того, на фабрике открыты кустарные мастерские, в ко-
149
юрых рабочие, имеющие соответствующие склонности,
занимаются поделками из дерева, ткани, керамики и т. п.
Во всех этих экспериментах трудящиеся — вопреки
заклинаниям анархиствующих теоретиков — вводят
рациональную организацию и планирование как рычаги
изменения характера труда.
Мастерские и магазины. Организация небольших
коллективов ремесленников — кустарей, предприятий службы
быта и магазинов — направление интенсивного
приложения энергии «альтернативников». В большинстве случаев
в этих коллективах трудятся люди, не имеющие
специальной подготовки, тем не менее многие из таких
предприятий оказываются стабильными: либо потому, что в сфере
их активности не существует значительной конкуренции,
либо благодаря постоянной моральной и финансовой
поддержке со стороны общественности, благотворительных
организаций и отдельных лиц.
Организация труда в этой области отличается
разнообразием: есть предприятия с традиционной структурой
управления и наемным трудом, с коллективным
руководством и менее жестким распорядком.
Сельское хозяйство. Типичный пример инициатив в
этой отрасли — коллективное строительство из
«естественных материалов» большого общего дома, обработка
пустующих земель, где без искусственных удобрений при
помощи самодельных орудий выращиваются овощи и
злаки, разводятся куры и овцы. Члены коллектива носят
теплую самодельную одежду, экономящую энергию, едят
вегетарианскую пищу из продуктов собственного
производства, пользуются натуральными косметическими и
моющими средствами, отказываются от лекарств и
медицинской помощи. Детей рожают в домашних условиях и
совместно воспитывают в коммуне. «Подобный пример
выражает протест против расточительного потребления,
против жестокости по отношению к животным, против
„мяса из клетки" и яиц из инкубатора, против
антибиотиков в корме для животных и пестицидов в растениях.
Речь идет о естественной здоровой жизни с простейшими
средствами» (14, S. 170). Здесь экономические
инициативы смыкаются с альтернативным образом жизни. Но в
них есть и социально-политический заряд. Так, отказ от
мяса часто мотивируется необходимостью помощи
развивающимся странам со ссылкой на публикации группы
экспертов, рассчитавших, что потребление зерна в США
с 1965 г. повысилось на 160 кг в год на душу населения
150
и составляет сейчас 855 кг в год (в основном в связи с
увеличением потребления мясных продуктов), а эти
160 кг равняются годовому потреблению одного жителя
Индии — «таким образом, нужно лишь незначительно
сократить изобилие богатых, чтобы покрыть весь азиатский
дефицит» (14, S. 171).
Однако, как показывает опыт, сельское хозяйство
является сферой, в которой альтернативное движение имеет
меньше всего шансов на успех. Повсеместная
механизация, химизация сельскохозяйственного производства,
жесткая конкурентная борьба, скука и однообразие
деревенской жизни, состояние изоляции — таковы главные
причины неудачи большинства альтернативных
экспериментов в этой отрасли. Их участники убеждаются в том, что
для поддержания жизненного уровня в сельских
коммунах приходится тяжело трудиться по 15 часов, что в
современных условиях лозунг «назад к природе»
неосуществим, что бегство от общественных условий, если бы оно
и удалось, едва ли могло сохранить альтернативный
характер.
Значительная часть альтернативных проектов
группируется в сфере социальной помощи. Роль этих проектов
возрастает в связи с увеличением масштабов
безработицы, особенно среди лиц гуманитарных профессий. В
современных условиях господствующая система уже не
может использовать избыток воспитателей, учителей,
психологов, социологов и т. п. Часть их сама не желает
«интегрироваться в систему» и обращается к
альтернативному движению.
Альтернативные проекты являются, таким образом,
неким подобием параучреждеиий «социального
государства». Если учесть, что государство в условиях кризиса
все более ограничивает ассигнования на социальные
нужды, альтернативные проекты оказываются все в большей
степени эрзацем социальной интеграции, «штопая дыры
в процессе социализации», и в известной мере укрепляют
«систему» (9, S. 43). Этот аспект деятельности
альтернативных учреждений демонстрирует тщетность надежд на
изменение общества без коренного преобразования
социально-экономических и политических институтов, путем
развития личности и приобщения ее к некой новой
системе ценностей.
Опыт показал несостоятельность распространенного
среди участников альтернативного движения
представления, будто проекты, связанные с производством товаров
151
и услуг, могут создать «альтернативную экономику,
«автономную экономическую сферу» или даже «коитрэконо-
мику». Экономическая «самостоятельность» и
«автономия» этих проектов — чистая фикция. Лишь относительно
небольшая часть предприятий создается на средства их
участников, на их доходы, получаемые от деятельности
в альтернативных предприятиях и учреждениях.
Большинство получает субсидии от государства, церковных и
общественных организаций, частных лиц, пользуясь к
тому же безвозмездно предоставленными помещениями и
землей. В половине проектов их участники живут на
средства, привлекаемые со стороны,— за счет
родственников и друзей, пособий по безработице и т. д. В трети
проектов доходы получает лишь часть их участников и
лишь четверть участников живет на доходы от проектов,
как правило едва сводя концы с концами (9, S. 44).
Таким образом, альтернативные экономические проекты
полностью зависят от господствующей системы. Лишь
немногие предприятия производят то, что может хотя бы
отчасти находить сбыт на рынке (сюда относятся
некоторые справочные издания, например, путеводители по
Западному Берлину, газеты с подробными программами
развлечений, кустарные изделия). Примерно две трети
предприятий работают исключительно для
удовлетворения потребностей узких групп симпатизирующих. Без
этого рынка они не могли бы существовать, принимая во
внимание такие их особенности, как повышенные цены,
небрежное исполнение, отсутствие пунктуальности и т. п.
Симпатизирующие мирятся с этим, так как «видят в
проектах хотя бы частичное воплощение своих идеалов
и простейшую возможность участия в движении и его
атмосфере... Но рынок симпатизирующих может
выдержать лишь ограниченное число проектов... Уже по одному
этому альтернативная экономика — это чистая фикция»
(9, S. 46). Можно не сомневаться, что господствующая
система сумела бы без труда покончить с альтернативным
движением, если бы видела в нем серьезную опасность
для себя.
Наряду с границами альтернативного движения,
определяемыми извне, существует ряд серьезных внутренних
проблем, едва ли не более значимых. Опыт показал, что
в альтернативном движении мало кто понимает, что такое
«дело» и как его надо вести. Еще больше, ч;ем денег, для
осуществления проектов не хватает квалификации,
профессионализма. Это объясняется известным высокомерием
152
по отношению к нормальной трудовой жизни,
общественному разделению труда и профессиональной
деятельности. К этому добавляется еще одно реальное зло —
самоэксплуатация. Поскольку члены проекта получают очень
небольшой доход, то, как правило, нехватка средств
вынуждает к сверхурочной работе и сокращению
потребления. Самоэксплуатация усугубляется еще и тем
обстоятельством, что участники альтернативного проекта не
имеют обеспечения ни по болезни, ни по старости.
Существуют и выутригрупповые
социально-психологические проблемы, мешающие плодотворному совместному
труду. Они связаны с практикой самоуправления, с
наличием скрытой иерархии квалифицированных и
неквалифицированных работников, с противоречиями между
руководящими и руководимыми, между «новичками» и
«старыми членами» коллектива и т. д. В результате
происходят расколы, разрушающие коллектив.
Все это: дилетантство, неэффективность,
самоэксплуатация, крайнее ограничение потребления, зависимость от
государственных субсидий и прочее — ведет к тому, что
альтернативные проекты служат лишь придатком к
государственным структурам и капиталистической
экономике в целом, к сосуществованию развитой рыночной
экономики для подавляющего большинства населения и
примитивной экономики самообеспечения для
маргинальных групп. Утопические надежды на то, что
альтернативные проекты могут послужить исходным моментом в
изменении системы, достаточно ярко опровергает опыт
кооперативного движения. «Кооперативные предприятия не
только не преодолели капитализм, а стали сами
превосходными капиталистами» (6, р. 48). Впрочем, не следует
упускать из виду, что хозяйственные эксперименты
рассматриваются их инициаторами не столько как подлинная
экономическая альтернатива, сколько как способ критики
существующих порядков, выражение протеста и средство
для «революционизации сознания».
В последние годы внимание общественности привлекла
еще одна своеобразная — специфически молодежная
форма социального протеста — захват пустующих домов
и квартир — движение кракеров. Приняв широкий
размах во всей ФРГ, этот протест с особой силой охватил
также Западный Берлин.
Альтернативное движение, с большой силой проявляя
себя в социально-политической сфере и в меньшей мере —
в экономической, вместе с тем обнаруживает себя как
153
специфическая субкультура с ориентацией на все
«другое»: социальные и семейные институты, обычаи, одежду,
язык, средства массовой коммуникации.
За последнее десятилетие альтернативному движению
в ФРГ и Западном Берлине удалось создать систему
информации, обеспечивающую минимум внутренней связи,
столь необходимой при расчлененности и
многоплановости движения. Альтернативная информация в широком
смысле слова охватывает самые разнообразные каналы
общения — начиная от лозунгов на стенах,
транспарантов на демонстрациях, дискуссий, проводимых по месту
работы и по месту жительства, и до специальных газет,
журналов, брошюр и книг. Альтернативная пресса
представлена городскими газетами, листками, листовками.
Она очень пестра: ее издают женские группы, группы
квартиросъемщиков, молодежные группы и т. д. В 1980 г.
в ФРГ существовало 87 альтернативных журналов общим
тиражом 180 тыс. экз. и 170 газет общим тиражом
1,6 млн. экз. Они различаются по своим установкам, по
контингенту читателей. Большая их часть обращена к
городской общественности в целом, другие — к
определенным группам: «левым» или интеллигенции. Основным
источником информации для альтернативной прессы
является агентство «Ииформациопсдиист», сообщающее о
злоупотреблениях властью различными
административными органами или фирмами, о жестокостях, совершаемых
по отношению к заключенным, о дискриминации на
предприятиях женщин и иностранных рабочих, об угрозе
экологической катастрофы и т. п.
Представители альтернативной прессы организуют
встречи, на которых происходит обмен опытом,
обсуждаются проблемы единства действий. «Тем самым
альтернативная пресса из форума альтернативных сообщений
все более превращается в организационный инструмент
движения» (23, р. 43). Еще в период студенческого
движения конца 60-х годов возникло убеждение, что
изменение общественной системы должно быть связано с
глубинно-психологическим изменением индивида, а
политическая практика должна предусматривать эмансипацию
личности, которая в значительной мере отождествлялась
с сексуальной революцией в духе В. Рейха.
В начале 70-х годов возник настоящий бум всякого
рода групп психо- и социотерапии: «сенситивной
тренировки», «трансакционного анализа», «трансцендентальной
медитации», иглоукалывания, йоги и т. п. Все подобные
154
группы призваны оказывать помощь во всякого рода
психических и жизненных кризисах, обусловленных
социально (распадом коллективных жизненных связей,
разрушительным воздействием индустриальной среды и т. д.), но
преодолеваемых индивидуально. Эти течения являются,
с точки зрения Хубера — участника и исследователя
альтернативного движения, «бунтом против
рационалистического, чисто аналитического интеллектуализма,
ограничивающего чувственность. Они совершают поворот к
более целостному восприятию мира, приводящему к
большей гармонии тела, души и ума, в котором остается
место также для индуктивного и эмоционального познания»
(9, р. 20).
С психо-эмансипаторским движением связаны и такие
явления, как возрождение спиритизма и религиозных
сект. Секты стали особенно стремительно
распространяться с конца 60-х годов. Они очень различны по своим
социальным и политическим позициям. Их спектр
охватывает и тоталитарные группировки, как Муны и Дети
Господа, а также группы «сайентологической церкви»,
выходящие за пределы альтернативной контркультуры.
В «новом спиритизме», в усиливающемся интересе к
ясновидящим и пророкам, оккультным традициям,
гороскопам, гаданию на картах и хиромантии и т. п.— во
всем этом проявляется общая тенденция к уходу от
действительности, характерная для ситуаций духовного
кризиса, переживаемого обществом.
Насколько широко альтернативное движение и
насколько популярна альтернативная культура? Согласно
данным социологических исследований 1978 г., в крупных
городах Западной Европы около 10% молодежи до 24-х лет
выражали готовность примкнуть к тем или иным их
формам. Опросы свидетельствуют, что 63%
западногерманской молодежи в возрасте 16—24-х лет
солидаризируются с кракерами. Неизвестно, правда, сколько из них
были готовы сами занимать дома и на демонстрациях
вступать в столкновение с полицией. С тех пор этот
процент значительно вырос. Такие крупные города, как Рим,
Гамбург и Западный Берлин, уже в течение многих лет
имеют функционирующую, бурно развивающуюся сферу
альтернативной жизни, которая наряду с хорошо
разработанной инфраструктурой и прессой, центрами
коммуникации и кооперативами имеет разнообразные свободные
помещения для проживания новых отщепенцев.
155
Так возникают городские коммуны, где проводятся
эксперименты с новыми формами межличностных
отношений. Как отмечают исследователи, в современном
западном обществе, как никогда прежде, люди связывают
свои надежды на самоосуществление с семьей и вместе
с тем никогда семья не была, как свидетельствует
статистика разводов, столь хрупкой.
В альтернативных коммунах господствует убеждение,
что патриархальная семья изжила себя и в то же время
что семья жизненно необходима, что без нее невозможна
устойчивая личностная ориентация. При этом совершенно
неясно, какие формы примет эта «система семьи» и
каковы будут новые ценности и нормы, ясно одно — такая
новая «система семьи», обновленная общинная жизнь
должна развиваться.
Особое значение сторонники альтернативного
движения придают его автономии в отношении политических
партий. По их мнению, тех средств и методов, которыми
они располагают, достаточно для эффективного
осуществления собственных политических кампаний.
В то же время положение альтернативного движения,
как признают его сторонники, зависит от общего
политического климата, на который оно само по себе может
иметь лишь ограниченное влияние. Пока «дуют
либеральные ветры», альтернативные проекты рассматриваются
благосклонно и даже пользуются поддержкой. Если же
политическая обстановка меняется, например вследствие
обострения международной напряженности, то и
отношение общества может стать совершенно иным.
Альтернативное движение подчас вызывает резкую
критику со стороны профсоюзов, когда, например, под
его давлением замораживаются те или иные проекты
или закрываются предприятия и интересы защиты
окружающей среды сталкиваются с интересами обеспечения
занятости рабочих. Аналогичные ситуации возникают и
при распределении ассигнований на социальные нужды.
Со своей стороны, представители альтернативного
движения обвиняют профсоюзных функционеров в
игнорировании требований экологии, а также в том, что они
препятствуют децентрализации производства и
расширению системы надомного труда. Профсоюзы не без
оснований усматривают в подобном подходе угрозу
дезорганизации рабочего класса.
Одним из главных недостатков альтернативного
движения является непонимание необходимости организован-
156
ной классовой борьбы против монополий. Отмечая это
обстоятельство, Петер Брюкнер (подвергшийся в свое
время гонениям на основе «запрета на профессии»)
пишет: «Они ставят перед собой проблемы сопротивления,
борьбы за будущее, связывая их не с классовой борьбой,
а главным образом... с субъективным опытом конкретной
повседневной практики. Место целенаправленного
наступления на структуры капитализма и построения
альтернативной экономической системы заняло развитие
субъекта...» (11, S. 34).
Прогрессивно настроенные критики альтернативного
движения подчеркивают, что бегство от общества не
может служить эффективным средством для его изменения.
Они указывают, что в альтернативных гетто сохраняется
социальное принуждение и что непонимание
экономической и социальной обусловленности своих собственных
действий является фатальным заблуждением.
Альтернативные группы, стремящиеся создать экзотические формы
жизни и культуры, изолируют себя тем самым от
широких масс, что объективно мешает сплочению
революционных сил для борьбы против господствующей социальной
системы. Члены этих групп, будучи выходцами из
средних слоев, не понимают, насколько их требования
ограничить потребление неприемлемы для рабочих, по восемь
часов работающих на конвейере и не имеющих
возможности после напряженного трудового дня посвящать свой
досуг высоким духовным ценностям. В свою очередь,
широкие массы трудящихся мало интересуются
альтернативными группами, а иногда и проявляют по отношению
к ним резкую враждебность. Когда материальный
достаток позволяет отдельным группам создавать для себя
внутри общества «пиши», это не может не вызывать
неприязни со стороны большинства, не имеющего таких
возможностей.
Серьезную опасность для альтернативного движения
составляет коммерциализация его опыта. Термин
«альтернативный» появляется на вывесках лавочек и
пивнушек, ничем не отличающихся от остальных.
«Альтернативная пьянка или альтернативная закупка овсяных
хлопьев имеют столь же мало общего с контробществом,
как Ф. Й. Штраус — с демократическим социализмом» (22,
S. 154).
Ограниченность экологического аспекта
альтернативного движения проявляется в отрицании социального
характера экологического кризиса, в непонимании того, что
157
гармонизация отношений человека и природы происходит
не в сфере сознания, а является прежде всего
социальной проблемой, решение которой связано с
утверждением нового общественного строя.
Проблемы экологического и альтернативного
движения на протяжении последнего десятилетия постоянно
находились в поле зрения зарубежных марксистов. Указывая
на несостоятельность экологической критики марксизма,
коммунисты стран Запада вместе с тем ставят задачу
использования гуманистического и
антимонополистического потенциала экологического и альтернативного
движения для превращения его в важный фактор борьбы за
социальный прогресс, мир и демократию наряду с
демократическим движением (борьбой за права человека,
против расовой дискриминации, за равноправие женщин
и т. п.), движением в защиту мира, молодежным
движением.
Коммунисты энергично поддерживают прогрессивные
формы новых социальных движений, подчеркивая в то же
время наличие в них индивидуалистических тенденций,
направленных против организованных действий, и их
идейно-политическую амбивалентность: сочетание
антимонополистических и антиимпериалистических элементов
с консервативными или даже реакционными. Эти
последние выражаются, во-первых, в отрыве от рабочего
движения, в широко распространенных
антикоммунистических предрассудках и, во-вторых, в наличии у экологизма
определенных моментов, сближающих его с реакционным
романтизмом. При этом важно иметь в виду, что
исходящая от непролетарского протеста критика буржуазной
демократии может быть использована реакцией для
распространения враждебности по отношению ко всякой
демократии (стремление к сохранению чистоты природы
может сочетаться со стремлением к сохранению «чистоты
нации», с ксенофобией).
Р. Штайгервальд, член Правления ГКП, касаясь
отношения ГКП к непролетарскому протесту, подчеркивает
необходимость полного идеологического размежевания с
ним именно потому, что речь идет о союзнике
революционного рабочего движения.
В мировоззренческой основе экологизма выделяются
следующие негативные моменты:
— подмена классовых проблем глобальными;
— отрицание прогрессивной роли рабочего движения
под предлогом его «бюрократизации» и «оппортунизма»;
158
— одинаково отрицательное отношение как к
капитализму, так и к реальному социализму, попытки поиска
третьего пути, ориентирующегося на интеллигенцию или
на «отторгнутых» системой представителей средних слоев;
— сочетание острой критики капитализма с
реакционными экономическими, социальными и общественными
воззрениями, следование объективно реакционной идее
«назад к природе», исходящей из волюнтаризма,
отрицания объективных общественных законов;
— мелкобуржуазный индивидуализм,
прокламирующий тотальную защиту личности против социума и
связанный с философией экзистенциализма, часто в его
фрейдо-марксистской разновидности;
— поход против крупного производства, за
независимые мелкие предприятия, связывающий эти концепции с
идеологией мелких товаропроизводителей, которую Маркс
и Энгельс критиковали как реакционную в
«Коммунистическом манифесте»;
— мифологические представления о науке и технике
как противоречащих «сущности человека», его
«антропологическим возможностям», отчуждающих человека от
природы и жизни;
— технологический детерминизм, исходящий из того,
что для изменения общества и человека необходимо
начинать с отказа от технического прогресса;
— подмена экономики экологией, отказ от
экономического обоснования экологических решений;
— отказ от достигнутой ступени обобществления и
разделения труда, реакционная иллюзия возможности
обратного превращения пролетария в мелкого
товаропроизводителя;
— отрицание зависимости экологического кризиса от
характера общественного строя, гиперболизация
фатального противоречия между экономической тенденцией к
росту и его экологически обусловленными границами.
* * *
Сопоставление антииндустриального экологизма с
другими типами философской, социальной и культурной
реакции на кризисные процессы в капиталистическом
мире позволяет говорить об его идеологической специфике
в плане проблематики общественного развития.
Идея общественного развития предполагает,
во-первых, представление об обществе как инвариантной форме
социального сосуществования людей, во-вторых, пред-
159
ставление о движении этого общества в некотором
направлении. При этом понятие «общество» включает в
себя представление о законах и нормах, контроле и
компромиссе. Апологеты капиталистического общества при
этом считают его законы и нормы единственно
возможными и эффективными, реформаторы требуют их
улучшения, революционеры ставят вопрос о радикальной
перестройке и построении нового общества.
Идеал «альтериативников» не новое общество, а
«необщество», община, общность. Общность же они
понимают как «духовный союз» единомышленников,
подчиненных не человеческим установлениям и порядкам, а
мифической «высшей воле», союз, принимающий решения
единодушно, без всяких процедур — коллективным
«прикосновением» к общей истине. Естественно, такая
общность не имеет ни структуры, ни организации: она живет
в некой асоциальной реальности — не в цивилизации, не в
преображенной цивилизацией природе, а «просто в
природе» (в некоторых, сектантских версиях аптииидустриализ-
ма — «меж Богом и Природой»).
Столь же мистически мыслится движение, изменение
этой общности — не вперед и не назад, а «внутрь», к
собственной сущности. В альтернативной идеологии история
начиная с древних времен, с новозаветной идеи
господства человека над природой отвергается как ложная,
тупиковая, как «движение от...» — от природы, от духа, от
личности. Альтернативное представление о будущем не
фиксируется ни на одном историческом моменте, ни на
одной предшествующей социально-исторической форме.
Альтернативный девиз: «не развитие, а обновление».
Конечно, как было показано выше, так выглядит
альтернативная «модель» общественного развития только в
ее логически схематизированном, замкнутом виде, но само
ее появление симптоматично как отражение глубоких,
кризисных явлений в духовной жизни
капиталистического Запада.
Неспособность капитализма создать эффективные
социальные механизмы для предотвращения угрозы
экологического кризиса — свидетельство его слабости, бессилия
преодолеть негативные результаты своего собственного
стихийного развития. Это превращает экологическую
проблематику в важный элемент политических программ
коммунистических и рабочих партий капиталистических
стран и массовых общественных движений в их борьбе
за мир, демократию и социальный прогресс.
160
Превращение экологической проблематики в сферу
острой политической борьбы, подчеркивает П. Н.
Федосеев (1), делает особо важным изучение идейных основ и
социального содержания природоохранных требований
трудящихся, направленности и форм экологического
движения, его политической ориентации и классового
состава, придает особую актуальность анализу
экологических установок массового сознания, их связи с
культурной, национальной и прочей спецификой различных
социальных групп.
Подчеркивая важность экологических проблем, ученые-
марксисты обращают внимание на бесплодность их
абсолютизации, на необходимость рассмотрения их в
неразрывной связи с другими глобальными проблемами
современной эпохи. При этом они исходят из доминирующего
значения социальных факторов в решении экологических
проблем.
Литература
1. Федосеев П. Н. Философия и научное познание. М.: Наука,
1983. 310 с.
2. Anderson U. Das ist wie im Fernsehen: was biedere Burger
eines hessischen Dorfes erlebten, die gegen eine gcplante Che-
miemull-Deponie protestierten.— Stern, Hamburg, 1981, Bd. 34,
N 14, 26. Marz, S. 254-255.
3. Gartner A., Riessmann F. Der aktive Konsument in dcr Dienst-
leistunggesellschaft: Zur politisclien Okonomie des tretaren Sek-
tors. Frankfurt a. M., 1978. 210 S.
4. Giarini 0. L'Europe devan Tage post-industrial.— Futurible. P.,
1977, N 12, p. 387-411.
5. Gorz A. Ecologie et politique. P.: Ed. du Seuil, 1978. 249 p.
6. Gosselin G. Changer le progres. P.: Ed. du Seuil, 1979. 221 p.
7. Hollstein W. Die Gegengesellschaft: Alternative Lebensformen.
Bonn: Neue Ges., 1980. 160 S.
8. Hollstein W., Penth B. Alternativprojekte: Beispiele gegen die
Resignation. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1980. 459 S.
9. Huber J. Wer soil das alles andern: Die Alternativen der Alter-
nativbewegung. В.: Rotbuch-Verl., 1981. 143 S.
10. Illich I. Tools for convivality. L.: Calder, 1973. XIII, 110 p.
11. Mast С Aufbruch ins Paradies: Die Alternativbewegung und ihre
Fragen an die Gesellschaft. Zurich: Interfrom, 1980. 89 S.
12. Meyer H.E. The war against progress. N. Y.: King, 1979. 195 p.
13. Peters J. Braune und Griine.— In: Nationaler «Sozialismus» von
Rechts/Hrsg. J. Peters. В., 1980, S. 56—61.
14. Rucht D. Von Wyhl nach Gorleben: Burger gegen Atomprogramm
und nuklcare Entsorgung. Munchen: Beck, 1980. 294 S.
15. Schlaffke W. Abseits: Die Alternativen: Irrweg oder neue Welt-
kultur. Koln: DIW, 1979. 231 S.
16. Schultz H. C, Schulze-Marmeling D. Was will die «Neue Rech-
te»? Nationalrevolutionare und Solidaristen in der Griinen-alter-
nativen Szene.—In: Nationaler «Sozialismus» von Rechts/Hrsg.
J. Peters. В., 1980, S. 48—55.
6 Заказ № 3610
161
17. Stoss R. Konsorvative Tondenzon in der Okologiebewegiing: einige
Thesen.— In: Nationaler «Sozialismus» von Rechts / Hrsg. J.
Peters. В., 1980, S. 44—47.
18. Die tiigliche Revolution: Moglichkeiten des alternativen Lebens
in unserem Alltag. Frankfurt a. M.: Fischer, 1978. 176 S.
19. Toffler A. The eco-spasm report. N. Y.: Bantam books, 1975.
IX, 117 p.
20. Toffler A. The future shock. N. Y.: Random, 1970. XII, 507 p.
21. Toffler A. The third wave. N. Y.: Morrow, 1980. 554 p.
22. Ulrich O. Weltniveau: In der Sackgasse des Industriesystems. В.:
Rotbuch, 1979. 160 S.
23. Verantwortlich: Milli Tanz und Anna Schie. Spiegel — Redakteur
Jorg Mettke uber Alternativblatter und alternative Gesinnung in
der Bundesrepublik.—Spiegel, Hamburg, 1981, Bd. 35, N 13, 23.
Marz, S. 43, 45, 47, 50, 53, 56, 59.
24. Work in America: The decade ahead / Ed. by С Kerr. N. Y.: Van
Nostrand, 1979. XXVII, 288 p.
Глава IV
Личность и прогресс.
Эволюция идеологии прогресса
во французском персонализме
Персонализм как одно из заметных течений современной
французской буржуазной философии подвергался
критическому рассмотрению в работах советских ученых
В. Н. Кузнецова (4), Т. А. Сахаровой (6) и особенно
детально в работе И. С. Вдовиной (1) «Французский
персонализм. Критический очерк философского учения».
Тем не менее эволюция взглядов на прогресс во
французском персонализме заслуживает самостоятельного
рассмотрения, поскольку эта эволюция имеет прямое
отношение к тем процессам, которые охватили значительно более
широкий спектр идейных направлений социальной
научной мысли Запада.
Социально-политическая программа французского
персонализма особенно активно разрабатывалась его
основателем и главой, редактором персоналистского
журнала «Эспри» Эммапюэлем Мунье. Эта программа была
нацелена на воплощение идеала «гуманистической
цивилизации, которая не являлась бы ни буржуазной, ни
коммунистической» (6, с. 224).
Мунье пытался найти и обосновать пути возможно
более полного духовного единения личности, которую он
противопоставлял буржуазному индивиду, и общества.
В работе «Что такое персонализм» он писал: «Истинным
призванием человека является не господство над
природой, не наслаждение полнотой собственной жизни, а
постепенное осуществление самого близкого общения
отдельных сознаний, достижение всеобщего взаимного
понимания. Поэтому с самого начала мы неразрывно
связали два эти понятия — персоыалистский и общност-
иый» (28, р. 21).
Человеческая личность может раскрыться лишь в
рамках общности. Как известно, идея исторического
развертывания человеческой личности получила свое
логическое научное завершение в марксизме. Поэтому не
случайно, что Мунье, особенно в последние годы жизни,
стремился к диалогу с марксистами.
163
6*
Погруженный в себя и изолированный индивид для
Мунье наиболее полно олицетворяется в типе
эгоистического, корыстолюбивого буржуа. В личности же, по
Мунье, раскрывается высшая духовная сущность вселенной.
Основная побудительная сила действий индивида —
достижение собственного благополучия; основная
мотивация личности — стремление к благу всего общества.
Личность не может удовлетвориться лишь земным идеалом,
главная цель человека, помимо активного служения
человечеству,— постоянное духовное самоусовершенствование
и вечное стремление к трансцендентному миру
абсолютных ценностей. Мунье отвергает экзистенциалистский
тезис о том, что личность «брошена» в чуждый и
враждебный ей мир. Личность включается в окружающий мир и,
руководствуясь своими этико-политическими взглядами,
активно преобразует его. Именно такое признание
необходимости активного преобразования мира, убеждение,
также сформировавшееся не без влияния марксистской
традиции, определяло веру Мунье в историческую
плодотворность прогресса.
Низшим типом общественного строя, по Мунье,
является безличное общество, где доминируют отношения
господства и подчинения. В этом обществе отсутствует не
только личность^ но и свободно действующий индвид.
Более высокая ступень общественного порядка получает
у персоналистов название «сообщество „мы и другие"».
Индивиды в данном сообществе обладают большей
самостоятельностью, но противоречия и отчужденность между
ними достигают значительной остроты. Первый
общественный тип ассоциируется с тоталитарным политическим
режимом, второй — с «демократическим».
Идеалом для персоналистов является «персоналист-
ская община личностей». В отличие от сообщества «мы и
другие», где господствует принцип взаимозаменяемости,
в персопалистской общине любая личность незаменима и
существенно необходима для общества. Объединяющим
началом в таком обществе являются не правовые нормы,
не экономические потребности, а высоконравственные
отношения, любовь. Вызревание подобных отношений может
происходить, только внутри таких «естественных
общностей», как семья, народ, нация. Самая важная ячейка
общественного строя — семья, ибо семейные отношения
более, чем какие-либо иные, основаны на любви, т. е. на
йнтерсубъективпом отношении.
164
В качестве идеала политической организации
выдвигается плюрализм, основанный на принципах федерализма.
«В политическом плане — это плюралистическое
государство, в экономическом — децентрализация экономики,
которая разрешила бы проблему создания коммунитарных
организаций и необходимых свобод, охраняющих
личность» (29, р. 108).
Проблема ликвидации частной собственности
решалась Мунье с точки зрения «третьего пути».
Основоположник «персоиалистского социализма» выдвигал лозунг
об установлении так называемой человеческой
собственности. Эта категория весьма расплывчата. Она включает
в себя как наиболее предпочтительную «коллективную
собственность» — собственность ассоциации, построенной
на принципе самоуправления, и профсоюзов. Но у Мунье
есть и понятие «человеческая индивидуальная
собственность» (26).
В основе преобразования общества, по
представлениям Мунье, должна быть моральная революция, которая
бы стимулировала стремление людей к ассоциации.
Главная движущая сила «персоналистской и коммунитариой
революции» — духовное воспитание и «самовоспитание»,
которые включают самоограничение потребностей.
Утопичность и эклектичность позитивной социальной
программы Мунье самоочевидны, и если бы этим
исчерпывалось содержание его идей, то вряд ли сегодня
стоило бы к ним возвращаться. Однако идеи персоиалистского
социализма при всей своей утопичности были идеями
оптимистическими, поскольку они исходили из признания
исторической целесообразности социального и научного
прогресса.
Для того чтобы правильно оценить эти установки,
необходимо представить тот общий фон, на котором они
формировались. В 30—40-х годах стала набирать силу
антипрогрессистская тенденция в буржуазной идеологии.
Нигилистические настроения получали все большее
распространение, а фразу Ортеги-и-Гассета о том, что идея
прогресса — наркотик для человечества, можно
рассматривать как своего рода общий знаменатель разнородных
идей социального пессимизма, захлестывавших буря^у-
азную идеологию.
После окончания второй мировой войны антипрогрес-
систский настрой не только не ослаб, но, напротив,
обрел новую аргументацию. На технический прогресс была
возложена ответственность за «цивилизованное варварст-
165
во фашизма». Появились требования остановить «техниче*
ский этос». Взрыв атомной бомбы, затем начало «холодной
войны» усилили настроения неуверенности и страха,
которые и без того были сильны среди широких кругов
западной интеллигенции.
Эти настроения во многом отражала книга Сартра
«Бытие и ничто», ставшая весьма популярной во Франции.
Отрицание прогресса сопровождалось отрицанием
нравственных норм. «В первый период своего философского
творчества, который завершился публикацией „Бытия и
ничто", Сартр выступал как приверженец аморализма,
которому все нравственные нормы представлялись
проявлением „социального лицемерия". В ту пору философия
носила откровенно антигуманистический характер,
поскольку единственно возможной й аутентичной формой
отношений между людьми объявлялось взаимное
мучительство» (7, с. 210).
Страх, аморализм, неуверенность в будущем были
глубоко чужды Муиье, который считал их порождением
«буржуазного эгоизма» — главного врага персоиалистско-
го общества. С горечью он отмечал, что на антипрогрес-
систских позициях стояли и многие религиозные
деятели. Муыье предпринял попытку проанализировать истоки
царивших в современном ему обществе настроений
безверия, пессимизма, отчаяния. В написанной им в 1948 г.
книге «Мелкий страх XX в.» он сопоставлял это
малопочтенное чувство с глубоким массовым страхом
средневековья. Сопоставление оказывалось явно не в пользу
современности. На рубеже первого и второго тысячелетий
в Европе господствовал страх, связанный с ожиданием
конца света. В середине XI столетия его сменило
массовое чувство уверенности и оптимизма, сопутствовавшее,
как полагают многие современные историки,
экономическому подъему в Европе XI—XIII вв. Переживания,
которые испытывали тысячи людей Европы в кошце X и
начале XI в., были, согласно Муиье, проявлением
апокалипсического мироощущения. Это сложное, внутренне
противоречивое коллективное переживание, где страх
перед страшным судом сочетался с верой в очищение мира
от зла. Современный же катастрофизм исходит из
представления об абсурдности бытия. «Человек XX века
ощущает себя потерянным во Вселенной, она все более
представляется ему бессмысленной и страшной» (27, р. 24).
Масштабы преобразования человеком среды обитания
непрерывно возрастают, а перспективы этого преобразо-
166
вания становятся все неопределеннее. Адаптация
человека к новому бытию стала более трудной.
По мнению Мунье, эта трудность заключается в
следующем. В сознании современной интеллигенции
сосуществуют: «стремление к абстрактному, которое
проявляется в огромном мире математики, везде, где отсутствуют
формы познания, доступные воображению, и ... страх
перед абстракцией, что порождается сопротивлением к
восприятию нового» (27, р. 32). Познание мира, возрастание
технических возможностей человека требуют постоянного
повышения ответственности. Именно это — главное для
Мунье.
Он считает, что, несмотря на весь ужас мировых войн,
человечество может вновь испытать чувство уверенности
и душевного подъема, подобное тому, какое люди Европы
испытали во второй половине XI в. Он верит в грядущую
моральную революцию человечества и в благотворность
технического прогресса.
Основные мысли Мунье о прогрессе можно свести к
следующим четырем постулатам.
1. Естественная история, как и история человечества,
имеет определенный смысл. 2. Главная цель —
освобождение человека, и движение идет к этой цели, несмотря
на то что на его пути возникают все большие слояшости.
3. Существенный момент освобождения составляет
развитие науки и техники. 4. В этом прогрессивном движении
главная миссия человека заключается в том, чтобы быть
творцом своего освобождения.
Эти четыре тезиса для Мунье вытекают из
христианского понимания прогресса. В христианском
миросозерцании, особенно католическом, согласно его трактовке,
личность и индивид слиты воедино. Христианская
религия изменила присущее античности представление об
индивидуальной душе, которое связано с циклической
картиной мира, й представила род человеческий в вечном
движении к искуплению. «Для подлинного христианина
каждый момент субстанциально нов, поскольку все
исходит из вечности» (27, р. 115). В истории происходит
взаимодействие двух процессов: личностного и
общественного. Первый процесс — возрастание самопроизвольности
развития личности. Этот процесс идет «путем
концентрации нестабильной энергии в инициативных центрах
личности» (27, р. 117). Другими словами, возрастание
творческой энергии в человеке есть признак развития его
личности. Второй процесс — «организация, великое движе-
167
ние к единству человечества как проявление личностного
начала» (Там же). Таким образом, прогресс, по Мунье,
имеет двуединый смысл: рост творческого начала в
человеке и возрастание единства человечества.
Высшая ценность для человека — это свободное
познание себя и мира, сопряженное, разумеется, с верой. Не
бесконечное накопление знаний как таковых, а
одухотворенное верой, вечное проникновение в микрокосм и
макрокосм, всегда заставляющее человека чувствовать свое
несовершенство, составляет для Мунье истинный
прогресс.
Движение по пути прогресса связано с преодолением
трудностей и противоречий, подчас трагических. Такова
трагедия Фауста, обретающего, однако, в конечном итоге
радость служения людям. Трагедия познания отражена и
во многих других памятниках мировой культуры: в мифе
о Прометее, Зигфриде, в библейском предании о древе
познания. Таким образом исторический оптимизм
приобретает трагический оттенок — в высоком смысле этого
слова.
Сами по себе «цивилизация и технический прогресс не
несут на себе печать первородного греха... но каждый
раз, когда человек призван приблизить божественное
измерение вещей к себе, его подстерегает гордость и
самодовольство Люцифера» (27, р. 139—140). Истинное
призвание человека состоит в том, чтобы, одолевая сомнения
и неуверенность, гордыню и прочие соблазны, стремиться
вперед. «Для человека, который не видит в прогрессе
общей перспективы, трудная дорога затемняет смысл пути.
Но столь же безусловно верно, что движение в одно и
то же время есть акт человеческий и божественный, есть
риск в стремлении, а не рассчитанная операция» (27,
р. 122). Здесь необходимо остановиться па понятии
«риска». Используя его, Мунье подчеркивает, что человек,
открывая новое во вселенной и постоянно стремясь к
самопознанию, должен осознавать свой риск. Избавиться
от ответственности, двигаясь по пути прогресса, нельзя.
Понятие «риск» в данном контексте противостоит
понятию «жизненный порыв», одному из центральных в
метафизике Бергсона.
Категория «жизненного порыва» используется для
феноменологически-экзистенциалистского обоснования
бесцельности бытия и потому неприемлема для Мунье. Не
следует смешивать, писал основоположник французского
персонализма, преодоление бытия «с завихрениями жиз-
16С
ненного порыва: жизненный порыв не ведет нас ни к
чему иному, кроме самого себя, он есть страсть жизни
любой ценой, в том числе и за счет ценностей, дающих
ему смысл» (25, р. 84). Тем самым осознанный риск в
стремлении к преобразованию мира противопоставляется
свободной интуиции и свободе выбора.
Экзистенциалистская свобода выбора в непознанном и бесцельном бытии
несовместима с чувством греховности, с осознанием
человеком своего несовершенства, которые, в трактовке
Мунье, мотивируют движение человечества к высшим
целям. «Христианское чувство греховности не только
настоятельно ставит перед человеком вопрос о новых
неизвестных ситуациях, но и направляет человека к наиболее
человеческим решениям» (24, v. 3, р. 43). Готовность идти
на риск в сочетании с постоянным сознанием
собственного несовершенства делает, по мнению Мунье, и в наше
время приемлемым понятие «аскезы», ибо совершенство
включает в себя жертвенность, т. е. аскезу в самом
широком смысле этого слова. «Трагический оптимизм»
Мунье противостоит вульгарно-позитивистскому
бездумному оптимизму и прогрессизму. Он соглашается с
мыслью Ш. Пеги о том, что «представление о прогрессе
как о спонтанном автоматическом развитии — есть
классическое отражение буржуазного накопления, мистика
бережливости» (24, v. 3, р. 121). Эта мысль, отметим мы,
звучит злободневно и сегодня, как бы предрекая крах
теории и политики экономического роста. Именно
капиталистическая «мистика накопления и бережливости»
привела к колоссальной растрате природных,
экономических и человеческих ресурсов.
Отвергая концепции линейного и бесцельного
прогресса, Мунье особенно решительно противостоит
представителям активного антипрогрессизма, прежде всего Ортеге-
и-Гассету, которого он считает своим главным
оппонентом, хотя и не подвергает подробному анализу его
взгляды на развитие.
Наиболее беспокоят Мунье антипрогрессистские
взгляды людей, близких ему по истокам мировоззрения.
Один из них — французский католический писатель
Ж. Берианос, автор широко известных произведений
«Дневник сельского священника» и «Новая история
Мушетты», где он выступил как поборник бедняков,
защитник «униженных и оскорбленных» (8). В полемике
Мунье и Бернаноса нашли отражение темы, которые
глубоко волновали широкие интеллектуальные круги.
169
Бернанос решительно враждебен науке, в которой он
усматривает главную угрозу религиозному духу: «Наука
представляет себя посланницей жизни и радости, но
способна нести только смерть и безнадежность. От
магического титанизма алхимии мы пришли к закабалению
научным материализмом, ибо наука становится соперницей
евангельского духа» (цит. по: 27, р. 102). Муиье же
полагает, что основанный на вере оптимистический взгляд
на мир вполне совместим с жизнеутверждающей силой
науки. «Платон задолго до нашего бедного мира видел в
математике чудо божественного гения, верующие ученые
XIX в. слышали в ней шелест крыл ангелов, а для
неистового Бернаиоса красота математики холодна, как лед,
подобно мертвящему свету разума Люцифера» (27,
р. 102).
В качестве примера органического слияния глубокой
религиозной одухотворенности с бесстрашным научным
поиском Муыье указывает на Паскаля, который «также
испытал ужас, увидев с помощью науки своего времени
руины традиционной космологии и неведомое
пространство, но преодолел свой страх, не возвел его в принцип
философии. Мир гармоничной иерархии — этот
литургический космос (который противопоставляется сегодня
научному рациональному космосу) сливался в сознании
Паскаля с преклонением перед вечной сущностью
божественного творения, с восприятием новых форм
представления о деянии бога» (27, р. 103). Здесь нужно
подчеркнуть, что для Мунье важна не только и даже не
столько религиозная укорененность научного
творчества — это для него аксиома,— сколько отвага и
нравственная красота научного подвига.
Расхождения Мунье и Бернаноса в воззрениях на
гносеологическую и социальную сущность и роль науки
находят свое продолжение и развитие в их взглядах на
прогресс технизации общества. Бернанос —
непримиримый противник современной машинной цивилизации. Его
гневный памфлет «Франция против роботов» (9) сочетает
в себе ненависть к машине как таковой с резкой критикой
капиталистической эксплуатации, которая
ассоциируется с техникой. Здесь нашли отражение взгляды многих
антииндустриалов XIX в., как, например, Карлейля и
Рескина.
Этот своеобразный «философский и литературный луд-
дизм» Мунье называет «антимашипизмом». Ссылаясь на
Л. Мэмфорда и Ж. Фридмана, он признает возможность
170
перенасыщения общества машинами со всеми
вытекающими отсюда отрицательными последствиями. Вместе с
тем, подчеркивает Мунье, «неправильно было бы
требовать от машины спонтанного проявления добродетели»
(27, р. 53). Вскрывая иррациональную подоплеку «ан-
тимашинизма», он пишет, что это не доктрина,
сцепленная из постулатов, а аффективный поток
коллективного настроения, инстинктивный консерватизм,
заключающий в себе лишь частичную истину.
По верному наблюдению Мунье, подлинные луддиты —
рабочие, ломающие машины,— встречаются лишь на
заре индустриализации, интеллигентский же «антимаши-
низм» значительно более долговечен.
В скобках можно сказать, что подмеченное Мунье
полярно противоположное отношение к технике
современного рабочего и испуганного интеллектуала
великолепно отображено в художественной литературе.
Истинный труженик чувствует в машине своего
товарища и может даже любить ее. Вот как описывает
подобную ситуацию Андрей Платонов в повести «Город
Градов»: «Наставник долго смотрел на паровоз и
наполнялся обычным радостным сочувствием. Паровоз стоял
великодушный, громадный, теплый на гармонических
перевалах своего величественного высокого тела»
(5, р. 193). Французский писатель Пьер Буль в
новелле «Человек, который ненавидел машины» (10)
рисует образ «луддита-интеллектуала», который, защищая
«достоинство человека», вступает в сложнейшее
состязание с кибернетической машиной и силой своего
разума разрушает ее. Буль показывает возрастающую
беспомощность и, если можно так сказать, «страдание
машины», и растущую в борьбе с ней ненависть
человека, которая затем перерастает в ненависть к людям.
Возвратимся, однако, к рассмотрению взглядов Мунье.
Сознавая, что антииндустриальная традиция во многом
вытекает из присущего эксплуататорскому обществу
отвращения к труду, отупляющему, лишенному
творческого начала, рассматриваемому как наказание, он
пытается доказать, что для христианского учения понятия
«opera» — творчество и «labor» — труд равноценны и
даже как бы тождественны. Однако здесь Мунье терпит
очевидную неудачу. Многочисленные искусно
подобранные цитаты из Нового и Ветхого заветов доказывают,
что, хотя понятие «творческий труд» и встречалось в
Библии и Евангелии, более всего вдохновляет Мунье иной
171
идеал труженика-творца — средневековый ремесленник.
Труд создателя средневековых шедевров предстает не
только как созидание предметов непреходящей ценности, но и
как созидание личности, в которой дисциплина
ремесленного труда сочетается с вдохновением. Неотъемлемый
элемент такого труда — творческая самоотверженность,
представляющая изначальное условие для человеческого
общения, товарищества и любви. Пытаясь представить
подобное отношение к труду в качестве неизменно
присущего христианству, Мунье теряет чувство историзма
и вступает в противоречие с реальностью. Это
происходит и тогда, когда он противопоставляет творческий и
наемный труд друг другу как вечные выражения зла и
добра, не принимая во внимание исторической
прогрессивности капиталистического способа производства по
сравнению с предшествующими формациями.
Если в своих позитивных высказываниях о роли
труда и творчества в истории современной цивилизации
Мунье склонен к явной идеализации отстаиваемых им
исходных духовных позиций, то в критике своих
идейных противников он значительно более точен и
интересен. «В современном антипрогрессизме,— пишет он,—
традиционное манихейство, проклявшее человеческое
тело, переплелось с современным иеоманихейством,
проклявшим машину — искусственное тело, сотворенное
человеком» (27, р. 135). Своеобразно трактуя
христианское учение о единстве духа и тела, Мунье настаивает
на том, что в величайших материальных творениях
современности нашли воплощение высочайшие духовные
порывы.
Современная наука, несмотря на весь трагизм,
который связан с ее развитием, возвысила окружающий мир.
Развитие науки и техники способствует духовному
обогащению материи, воплощению духа. «Констатируем, что
материя XX в. представляется нам бесконечно более
божественной, чем материя доматематического знания»
(27, р. 139).
Мунье критикует антипрогрессистов, оплакивающих
оскудение духовного начала в современной
материальной культуре. Нынешние антипрогрессисты, пишет он,
до сих пор находятся в плену старых мифологических
представлений о материи — «мертвой материи»
Аристотеля. Им кажется, что математическое мышление,
которое во многом содействует рождению новой технической
172
цивилизации, виновно в разрушении мира материального
и в иссушении мира духовного.
Свою веру в прогресс, в человеческий разум, в
самого человека Муиье приходилось отстаивать в остром
противоборстве с весьма различными идейными
оппонентами. Парадоксальным образом лагерь противостоящих ему
сил включал как тех, кто стоял на крайне правом
фланге общественной мысли современного ему западного
общества, так и тех, кто явился предтечей «новых левых».
Первых представлял бельгийский профессор Марсель де
Корте, католический философ, автор монографии
«Философия современных нравов (homo rationalis)» (16). Его
политический идеал — режим Салазара, социальный —
консервативная традиция, духовные авторитеты — Жозеф,
де Местр, Л. Бональд, Константин Леонтьев, главный враг
и источник социального «грехопадения» — рациональность
и тяга к лучшему будущему. «Миф о прогрессе и
земном рае будущего,— писал де Корте,— есть следствие
интегрального рационализма. Рациональная логика
нетерпелива и требует от реальности полного подчинения
своим постулатам... Современный человек, ослепленный
разумом, вырван рационалистическим индивидуализмом из-
под власти традиции, которая могла быть путеводной
нитью человека» (16, р. 14). Подобно консерваторам
прошлого и тем, которые придут вслед за ним, де Корте
воспевает иерархизованыое общество и подвергает
всяческому поношению идеи равенства и эмансипации*
«В обществе, лишенном иерархии и сконструированном
по логике эгалитаризма, возникает абсурдный уклад
жизни», — заявляет он (16, р. 213).
Опять-таки в духе извечного консерватизма де Корте
обрушивается на упадок нравов в современном ему
обществе по сравнению с минувшими веками. Вина за
нравственную деградацию возлагается на стандартизацию и
деперсонализацию общественной жизни, на
рационализацию мышления, на потребительство и на забвение
прошлого. Под влиянием работ Ортеги-и-Гассета, таких, как,
например, «Восстание масс», де Корте именует
современного человека «человеком-массой». Его характеристика
человека-массы мало чем отличается от характеристики
«одномерного человека» Г. Маркузе. «„Человек-масса",-—
пишет де Корте,— представляет собой новый тип
человека... В его полуотупленном сознании господствуют два
умонастроения: тщеславное удовлетворение и смутное
беспокойство. Он как бы скользит по поверхности собствен-
173
ного „я" и не в силах объять себя взглядом. Этому
„эрзац-человеку" необходимы подобные же массовидные
люди, он смертельно боится одиночества» (16, р. 232).
Обедненное, плоское сознание «человека-массы» —
плод рационализации мышления и прежде всего —
следствие развития математики и внедрения ее в жизнь.
Рационализация, согласно де Корте, придает
представлениям «геометрический характер», способствует
всевозрастающей тенденции к прямолинейно-логическому взгляду
на мир (16, р. 103). Этой тенденции отвечает
расплывчатый нравственный идеал, который является как бы
бесплотной тенью по сравнению с реальными нравственными
образами прошлого: «Это не конкретная реальность, как
греческая калокагатия, средневековый святой или „прю-
дом" — частный человек XVII в.» (16, р. 260).
Обличая набиравший в то время силу потребительский
этос буржуазного общества, де Корте заявляет, что
растущее благосостояние, усовершенствования,
облегчающие жизнь, расслабляют, деморализуют, растлевают
человека. «Материальная цивилизация со своими
чудесными техническими победами убивает в человеке внутреннее
напряжение, сопротивляемость невзгодам» (16, р. 233).
В человеке растет не чувство бытия, но чувство обладания.
Человеку-массе свойственно суетливое стремление к
обновлению себя или природы. «Для человека-массы
прошлое мертво. Слепое отрицание прошлого ведет к
разрушению реального мира» (16, р. 240).
Де Корте формулирует схему ценностных стереотипов
массовидного человека следующим образом: вера в
бесконечный, автоматический прогресс; преклонение перед
количественным ростом; приверженность к организации.
Подавленный рациональной информацией, массовидный
человек становится все более и более инертным. В целом
появление человека-массы для де Корте есть
«вертикальное нашествие варваров», (т. е. изнутри общества), не
менее страшное, чем горизонтальное — великое
переселение народов (16, р. 226).
Де Корте, несомненно, верно подметил некоторые
негативные черты и тенденции современного буржуазного
порядка. Мещанский идеал общества потребления,
безусловно, выглядит уродливым, в том числе и в сравнении
с некоторыми нравственными ценностями прошлых веков.
Однако нельзя не видеть того обстоятельства, что
филиппики в адрес современности нужны де Корте прежде
всего для того, чтобы обосновать свои не слишком оригиналь-
174
иые идеи о пагубности всяческого прогресса, свою
враждебность ко всему новому, что входит в социальную жизнь
вместе с научными и техническими достижениями, с
закономерной сменой ценностных ориентации. Кроме того,
сами вышеперечисленные ценности античности,
средневековья и нового времени произвольно вырваны из
исторического контекста.
Антиисторизм — одна из главных антинаучных черт
множества консервативных концепций развития,
характерным свойством которых является социальный
пессимизм. Идеализация прошлого — основной аргумент де
Корте. Прошлое выступает как нечто постоянное,
однородное. Поэтому оно играет роль твердого фундамента, на
котором легко воздвигать концептуальные построения,
касающиеся современности. А между тем, когда
профессиональные историки объективно вглядываются в те
явления, которые творцами этих построений выдаются за
непреложный образец, их структура оказывается
значительно более сложной, не укладывающейся в привычные
стереотипы. Пример де Корте в данном смысле вполне
характерен. Он противопоставляет нравственные каноны
средневековья, формулируемые богословами,
умонастроению современного ему европейского обывателя. Иными
словами, предлагается сравнение заведомо
несопоставимых явлений. Изучение же средневековой ментальности,
коллективной психологии народных масс, которая могла
бы послужить объектом сравнительного анализа,
показывает ее изменчивость от раннего до позднего средневековья
и значительную удаленность от теологической этики.
Итак для де Корте развитие науки, технический
прогресс ведут к рационализации мышления, нравственному
падению человека, уничтожению спасительных традиций,
распаду и уничтожению человечества. То обстоятельство,
что с подобными взглядами выступает реакционный
клерикал представляется вполне естественным и
нормальным. Однако неумолимый закон совпадения крайностей
ведет к тому, что практически на тех же позициях
оказываются идеологи, принадлежащие, казалось бы, к
совсем другому направлению,— ведущие представители
Франкфуртской школы Т. Адорно и М. Хоркхаймер. Их
отношение к прогрессу было сформулировано в книге
«Диалектика просвещения» (20), которая, как пишет
Ю. Н. Давыдов, «сыграла роль программного документа
социальной философии Франкфуртской школы» (2,
с. 302). Адорно и Хоркхаймер разработали «новейшую
175
разновидность философии истории», основываясь па том
явлении, которое Макс Вебер называл «формальной
рациональностью». Они распространили тенденцию
«формальной рациональности», которую М. Вебер
рассматривал в хронологических рамках развития протестантской
этики, на всю культурную историю Западной Европы,
начиная с древнегреческой мифологии. Рациональность
превращается в единственную силу, творящую историю
человечества. Диалектика просвещения в их
представлении напоминала диалектику абсолютной идеи Гегеля,
только с обратным знаком: если становление абсолютной
идеи означало созидание, то развитие формальной
рациональности — разрушение.
Возникает образ все более патологического развития
рациональной тенденции, глобальной болезни разума.
«История западного просвещения предстает как продукт
обезумевшего, сумасшедшего разума» (2, с. 322). Разум,
логика, рациональность, вносимые в мир буржуазным
просвещением, становятся силой, враждебной человеку,
и закабаляют его все в большей степени. Бег
«неудержимого прогресса есть безудержная регрессия» (20, р. 42).
В буржуазной цивилизации XX в. рациональная
тенденция достигает предела. И немецкий фашизм выступает
как воплощение обезумевшего разума.
Процесс закабаления человечества рисуется как
функция формализации мышления. Стремление постичь мир с
помощью основного инструмента Просвещения —
формальной логики, исчислить и измерить все и вся
—объявляется источником тенденции к нивелировке
бесконечного разнообразия природы и общества. Хоркхаймер и
Лдорно пишут: «Число становится каноном Просвещения,
в нем находит свое предельное выражение
просветительское стремление к исчислению неисчислимого,
соизмерению несоизмеримого, уравнению неравного. Число
„буржуазно" уже по самой своей природе. И математика в
такой же мере способствует универсализации „отношений
обмена1', товарно-денежных „отношений", в какой они в
свою очередь дают почву для всевластия
математического подхода к миру и человеку... иллюзия того, что именно
в числах, т. е. в едином заключено нечто непреходящее и
субстанциональное,— «основная иллюзия буржуазного
„просвещения", его метафизическая иллюзия. Единство,
находящее свое воплощение в числе — вот лозунг
(буржуазного!) просвещения от Пармеиида до Рассела» (цит.
по: 2, с. 305-306).
176
Выдвижение формальной логики и математического
числа в качестве главных основ разума еще в
мифологическую эпоху, согласно представлениям Адорно и Хоркхай-
мера, само по себе свидетельствовало о том, что
человечеством овладело неукротимое желание властвовать над
природой.
«Уже на мифологической фазе „просвещения"
обнаруживается нерасторжимая связь двух моментов: отделение
разума от природы и его одержимости волей к власти.
Из этой связи авторы выводят причину заболевания
разума...» (2, с. 309).
В самых высоких открытиях науки находят Адорно и
Хоркхаймер подтверждения идеи о подавлении человека
саморазвивающейся «рациональной тенденцией».
Повышение рациональности мышления связано с повышением
уровня его абстракции. «И чем дальше разворачивает и
углубляет абстракция свою функцию важнейшего
инструмента „просвещения4' тем явственнее обнаруживается,
что она в такой же мере есть орудие господства
рационально-буржуазной цивилизации над человеком, в какой
и сама вырастает из этого господства» (2, с. 313).
Вряд ли требуется дополнительная аргументация, чтобы
доказать определенный параллелизм мышления
откровенного реакционера де Корте и ратующих за гуманизацию
буржуазного общества франкфуртских философов.
Картина закабаления человечества наукой в этих двух
вариантах западной общественной мысли, разумеется, не
полиостью идентична, а логика рассуждений Адорно и
Хоркхаймера значительно более изощренная по
сравнению с тривиальной схемой де Корте. Но отношение к
науке, в частности к математике, почти что сходно: не
радость познания мира, не все более могущественные
средства его преобразования несет она человечеству, а все
более усиливающееся окостенение мышления и рабство.
Продолжая мысль Мунье о неоманихействе, можно
сказать, что авторы «Диалектики просвещения» предали
проклятию человеческий разум.
В столкновении двух различных подходов западной
общественной пауки к оценке воздействия прогресса на
судьбы человечества идеи Мунье потерпели поражение.
Причем не только среди тех, кто их изначально не разделял,
но и среди сторонников основанного им течения.
Приход в 1957 г. Ж. М. Доменака па пост
руководителя журнала «Эспри» означал появление нового поколения
идеологов персонализма. Они отказались, как говорил
177
Доменак, от ряда «лирических элементов» программы
Мулье. Нечеткость и многослойность этой программы
позволила новому поколению перейти на позиции
откровенного либерального реформизма, сохраняя вместе с тем
декларативную верность идеалам своего учителя.
Доменак и его сторонники даже вербальыо отказались
от проектов кардинальной перестройки общества. «Они
предпочитают характеризовать персонализм через его
приверженность к демократии, которая фактически не
выходит за пределы буржуазного строя» (7, с. 234). Считая
неизбежным сохранение экономической основы
капитализма, Доменак заявил о несовместимости персонализма
и революции. Термин «социализм» почти исчез из персо-
налистской политической фразеологии. В декларации
персоналистов второго поколения явственно вырисовывается
установка на налаживание сотрудничества между трудом
и капиталом (Там же).
Этот политический сдвиг вправо, сопровождавшийся
усилившимся антисоветизмом персоналистских идеологов,
неотделим от их изменившегося отношения к проблеме
социального прогресса. Как отмечалось выше, для Мунье
вера в социальный прогресс была связана с процессом
персонализации человека, с его постоянным
самоусовершенствованием, с тем, что он называл трагическим
оптимизмом. Учение о трагическом оптимизме базируется на
убежденности в том, что неисчерпаемые духовные
потенции личности представляют главную силу социального
развития. Доменак, используя целый ряд
основополагающих тезисов и категорий своего учителя, вместе с тем во
многом меняет их нюансировку и погружает их в
существенно отличающийся идейный контекст. Одновременно
вводятся и новые мотивы, чуждые Мунье и более
близкие его оппонентам. Так, в книге «Возвращение к
трагическому» (19) обращает на себя внимание сама
постановка вопроса о «возвращении к прошлому». Ностальгия по
прошлому, как видно из сказанного выше, мало
свойственна устремленному в будущее Мунье и, напротив,
является лейтмотивом концепции Марселя де Корте.
Еще более расходится отношение Мунье и Доменакак
человеку. Восторженно-утопическое воображение Мунье
искало в человеке все богатство макрокосма, в
мировоззрении же Доменака, где заметно возрастает влияние
экзистенциалистски окрашенного отношения к
действительности, сочетающегося с романтической критикой
общества, происходит развенчание человека, низводимого до
178
уровня обывателя. Эту свою позицию Доменак
прокламировал в программной статье журнала «Эспри» «Загадка
под покровом».
«Мысль Хайдеггера о падении, потере бытия в
незначительности,— заявляет Доменак,— подтверждена
социологическим опытом. Истинное становится банальным.
Банальность разъедает бытие. Трагическое более не
выступает как состязание априорных ценностей; иеаутен-
тичность существования возрастает, а напряженность
осознания несовершенства бытия ослабевает» (18, р. 490).
Ослабление трагичности восприятия окружающего мира
современным человеком облегчает жизнь, поэтому оно
соблазнительно. Поверхностные суждения все более
вытесняют поиск истины. Общение людей превращается в
пародию. Человек смиряется с полным непониманием
окружающего его бытия, «будучи погружен в тепловатую
ванну болтовни, банальности, изобилия и
незначительности... Распад не влечет за собой страдания, напротив,
анестезия комфорта предохраняет нас от толчков природы,
от столкновений с другими, от конфликта с собственной
судьбой» (18, р. 490-491).
Кризис современного общества рисуется Доменаком
прежде всего как прогрессирующая духовная и
моральная расслабленность большинства людей западного мира.
При этом Доменак оперирует представлением о некоем
абстрактном усредненном индивиде. Такой усредненный
индивид являет собой спроецированный на всю западную
цивилизацию образ растерянного и нищего духом
выходца из среднего класса, далекого от человека Мунье и
близкого одномерному человеку Маркузе. Английский
публицист В. Томпсон так обрисовывает этот образ:
«Хорошо упитанный полудикарь, неспособный на сильные
эмоции, обворованный в человеческих взаимоотношениях,
мещанская марионетка, действиями и поступками которой
искусно управляют от самой колыбели до могилы» (33,
р. 72).
Возрастающая духовная и моральная расслабленность
личности связывается с ускорением темпа общественного
развития. «Эффект быстроты» объявляется фактором,
способствующим все большему притуплению чувств.
«Быстрота овладевает психикой, проявляясь сначала в
математическом и затем в научно-техническом мышлении»
(30, р. ИЗ). На огрубление современного человека,
согласно представлениям Доменака, указывает то
обстоятельство, что понятия силового спорта вплетаются в кан-
179
ву обыденной речи и морального поведения. Современное
поколение, заявляет он, разучилось скорбеть о своих
ближних, разучилось соболезновать им. Быстрая смена
впечатлений все нивелирует, а снижение порога
чувствительности, в свою очередь, требует компенсаторных
ощущений, чаще зрелищных, реже более активных.
Дополнительным фактором деморализации является
страх перед мировой катастрофой. Органы массовой
информации гипертрофируют тревогу индивида, а
испуганный человек более подвластен манипуляции. Если
интеллигентскому умонастроению XIX в. был свойствен
оптимистический пафос, то в XX в. начинает господствовать
упадочное мировосприятие. Настроение отчаяния
непостоянно, человек пытается найти спасение в
«сциентистской вере», но и она недолговечна, и вновь наступает
разочарование.
Доменак считает своим долгом примкнуть к тем
западным философам и социологам, которые свою главную
миссию усматривают в ниспровержении избыточного
оптимизма в отношении перспектив научно-технического
прогресса, и особенно импонирует ему логика рассуждений
Т. Адорно и М. Хоркхаймера в упоминавшейся уже
работе «Диалектика просвещения». Принимая их тезис о том,
что абстракция — инструмент разума — выступает в
конечном счете могильщиком последнего, Доменак
фактически с тех же позиций, что и «новые левые»,
рассматривает «тоталитаризм» как порождение абстрактного
мышления и находит его в любых политических структурах
западного общества. «Математическая редукция
реальности,— пишет он,— порождает унификацию в
мышлении, она становится основой тоталитаризма, наиболее
классической формой которого является фашизм;
современная буржуазная демократия скорее всего может быть
охарактеризована как „аморфный тоталитаризм4'» (17,
р. 20).
В каких-то отношениях Доменак идет даже дальше
Адорно и Хоркхаймера. Развитие экологического сознания
представляется ему столь же бесперспективным и даже
опасным для человечества, как и научный прогресс.
Гитлеризм, пишет Доменак, можно рассматривать как
пример экологической мистики, ибо, оправдывая свои
преступления, Гитлер ратовал за сохранение и очищение
природы, в частности человеческой, откуда вытекали
требования к чистоте расы.
180
Общий итог рассуждений Доменака сводился к тому,
что само понятие прогресса устарело, и пути развития
неопределенны.
В 1977 г. Доменак отказался от роли главного
идеолога и поста директора журнала «Эспри». Приход нового
редактора Поля Тибо ознаменовал усиление
антикоммунистических тенденций в журнале и не только отказ от идей
«персоналистской революции», как ее представлял Мунье,
но и дальнейшее внедрение левацких умонастроений.
Обозначенная Доменаком тенденция усматривать
корень всех бед человечества в математизации
мировосприятия, в линейности мышления соединяется с нападками на
государство как разрушителя естественного начала и
природной среды обитания человека. «Наша цивилизация,—
пишет Поль Вирило,— зародилась в тот момент, когда
древние греки вычленили геометрию из ее
онтологического поля, начав отделять форму и меру от образа
предмета... Предоставив «геометрическим» понятиям (место,
время, общество) независимость развития,
древнегреческая мысль дала геометрии самостоятельную власть» (34,
с. 646). Эта власть позволила создавать в воображаемом
пространстве умозрительные конструкции общества, что
породило свободу дальнейшего проектирования мира по
своему желанию. Геометрия греческого мира была таким
образом творчеством, обладала гибкостью. Римское
государство, умертвив геометрическое творчество, породило, по
убеждению Вирило, «геометрический империализм
Запада».
Систему представлений, связанных с постепенным
наступлением строго геометрического Вечного города на
хаотическую и неорганизованную вселенную, не могла
поколебать даже победа христианства над язычеством. «Образ
государства стал символом веры» (34, р. 647).
Римляне создали своего рода эталон государства,
устойчивого к любым переменам. И даже когда разрушались
римские города, западная цивилизация восстанавливалась
в новом величии.
После двух тысяч лет активного геометрического
преобразования природы, заключает Вирило, «переработка
территории государством приобрела гигантские размеры»
(34, р. 647). Гитлеровский рейх, стремясь как можно
полнее воплотить идею государственности, провозгласил
единство политики и урбанистического строительства. В
Америке так называемый индустриальный либерализм
первоначально противопоставлял себя государству, но затем
181
инфраструктура стала все более включаться в рамки
государственного планирования. «Линейный разум
государства победил человека пейзажа и природы, и
человеческая свобода была поставлена на карту не на уровне
времени, но на уровне сущности» (34, р. 647). В наши
дни, по убеждению Вирило, западные государства,
бесконечно конструируя и реконструируя собственную
геометрию, развиваются в направлении переоборудования
Земли в однообразное всемирное государство, где человек
будет полностью лишен какой-либо духовной жизни. В век
НТР «линейный разум государства» приобрел невиданные
возможности воздействия на людей: его символы теперь
воплощаются с помощью телевидения в самые красочные
и привлекательные образы.
Прогресс конструктивного созидания порождает свою
противоположность — человека, лишенного свободного,
независимого мышления. Развитие приобретает все более
автоматический характер, и главной его осью становится
глобальная война. «Война — это то, что в этом
противоречивом мире конструирует государство, и u — topos
(отсутствие места) наступит после разрушения мира» (34,
р. 650). Апокалиптическая картина, рисуемая Вирило,
становится все более жуткой: человек, создав оружие
массового уничтожения, обретает способность полного
истребления себе подобных. Конструирование все более
активно соединяется с разрушением и служит ему. Тем
самым полностью реализуется «сатанинское начало»
уничтожения личности, заложенное еще Римским государством.
Зловещий образ Рима, навеянный «Откровением
Иоанна», распространяется таким образом на всю современную
цивилизацию. «Геометрический империализм» Вирило —
умозрительная конструкция, предельно схематизирующая
не только историю Греции и Рима, но и весь
последующий ход событий в мире. Мировая катастрофа
изображается неотвратимо предопределенной историей
человечества; личность произвольно противопоставляется
неумолимому и бесчеловечному историческому процессу. И хотя
страх Вирило перед растущей угрозой термоядерной
катастрофы, его неприязнь к геометрически жесткой,
нивелирующей роли аппаратов насилия и господства в
современном буржуазном обществе понятны, в целом не они
определяют мотивы его научной позиции, а растерянность
определенных кругов интеллектуальной элиты перед
лицом растущих сложностей и противоречий
общественного развития, связанных, в частности, с развитием НТР.
182
Именно эта растерянность делает весьма
неопределенной позитивную социальную программу: призывы к
возрождению утраченной человеческой свободы и внедрению
самоуправления в обществе остаются мало
реалистичными декларациями.
Как и Доменака, многое сближает П. Вирило с Хорк-
хаймером и Адорно. Общим для них и в данном случае
является представление о том, что иррациональное по
своей сути развитие рациональной идеи ведет к
подавлению и уничтожению человека и природы и что наука
служит орудием закабаления людей. Преобразующий
творческий труд созидания и научного постижения мира для
Вирило и его единомышленников отступают на задний
план.
С настойчивыми попытками опровергнуть
историческую закономерность и неотвратимость общественного
прогресса в серии программных статей выступил Корне-
лиус Касториадис.
Один из самых активных деятелей «Эспри» во второй
половине 70-х годов, уроженец Греции,
натурализовавшийся во Франции,— Корнелиус Касториадис одно время
примыкал к троцкистам. Левацкий дух, выражающийся
в апологии стихийности, бунта, парадоксальным образом
сочетается и уживается у Касториадиса с консервативной
ностальгией по античной гармонии. Задаваясь вопросом
о причинах широко распространившихся на Западе
настроений безразличия, либо даже враждебности по
отношению к идее развития, Касториадис усматривает их
прежде всего в глубоком и всестороннем
социально-экономическом кризисе. Определенное осознание этого кризиса
затронуло все слои общества, в том числе и бюрократические
институты, которые приняли лозунги «качества жизни»
и «контроля над загрязнением среды». Но это осознание
носит весьма поверхностный характер и парализуется на
практике. Самые простые расчеты доказывают, по
убеждению Касториадиса, необходимость остановить развитие
ради спасения самой жизни на Земле, однако логика
обстоятельств толкает развитые страны на путь
дальнейшего экономического роста.
По словам Касториадиса, основные мотивы
деятельности человечества в прошлом не были по-настоящему
осознаны ни теоретиками, ни политиками. Никогда еще
за предшествующие пять столетий перед человечеством не
вставали с такой остротой, как сегодня, проблемы целей,
истоков и направлений развития. История идеи прогресса,
183
в изложении Касториадиса, содержит те же факты, что и
у Мунье, но если основатель «Эспри» считал развитие
этой идеи одной из форм движения человечества к
постижению истины, то для Касториадиса идея прогресса —
миф, зародившийся в иудеохристианской теологии и
рационализированный в Новое время.
Отмечая, что вдохновителями буржуазного прогресса
были Декарт и Лейбниц, Касториадис ставит в один ряд
с этими философами и Маркса. Понимание прогресса его
сторонниками, в том числе и марксистами, изображается
следующим образом: «Движение направлено ко все
большему количественному росту: больше товаров, больше лет
жизни, больше нулей в измерении ценностей,
представляющих собой постоянно растущую константу, больше
научных публикаций, больше докторских диссертаций.
«Больше» в этой трактовке всегда имеет позитивный
смысл» (12, р. 907).
Опровергая целесообразность экономического
развития, Касториадис исходит из представлений об
абсолютной иррациональности как экономики «свободного мира»,
так и «национализированной экономики». По его
убеждению, экономический и технический прогресс лишь
способствует усилению государственной власти, причем цели
этого усиления находятся за пределами разумного
объяснения.
Следствием убыстрения ритма технического процесса
Касториадис считает укрепление коллективного
фантастического представления о возможности установления
тотального контроля над вселенной. Касториадис призывает
«разрушить рационалистическую идиллию всеобщности и
первостепенной важности рациональной организации,
осознать абсурдность и бессмысленность рациональной
организации общества, науки как новой религии, идеи
развития во имя развития» (12, р. 919).
Что же противопоставляется «иррациональному
прогрессу», закабаляющему мир? Прежде всего — стихийно-
инстинктивное творчество масс, постоянно рождающаяся
в массовом сознании мифология протеста. «Такое
историческое творчество предполагает разрыв между старой
и новой ступенью развития, отказ от прежнего
жизненного уклада, требование альтернативы» (11, р. 223).
Противостоящее революционной теории «историческое
творчество» изображается как установка в политическом
мышлении и поведении масс, проникнутая духом
самоуправления pi коллективного творчества (11, р. 229).
184
Истинный революционный проект, по Касториадису,
никогда не завершается. Происходит вечное движение
революционного сознания, постоянная рационализация
утопического идеала. Причем этот процесс разворачивается
как самодвижение. В людях под влиянием
предшествующего развития все время возникает новая социальная воля.
Моделью общественно-политического устройства для
Касториадиса служит античная демократия, трактуемая
как своеобразный идеал свободы и демократии. «Я
считаю в противовес марксистской школе, что рабство отнюдь
не основа античного полиса и что последний часто
устанавливался как прямая демократия» (11, р. 229).
Соответственно для подкрепления своей трактовки процесса
развития Касториадис использует учение Аристотеля —
классическое выражение идеологии греческого полиса.
Отвергая представления о «бесконечном прогрессе»,
Касториадис противопоставляет им свою интерпретацию
идей Аристотеля о лимитированном развитии. «Для
Аристотеля развитие — это прежде всего воплощение
возможного, достижение совершенства, переход за пределы
которого есть распад. Отсюда вытекает необходимость
искусства созидания в труде и творчестве и понятие
предела, определяющего сущность бытия — нормы. Для
Аристотеля понятие беспредельного, бесконечного
равносильно недостигнутому, несовершенному, менее бытийному»
(12, р. 905). Отсутствие предела означает
неопределенность.
Таким образом, в основе развития должна лежать идея
приближения к совершенству, а не следование
экономическим законам, утверждает Касториадис. Что же
касается моделей поведения, то, по убеждению Касториадиса,
необходимо руководствоваться идеей о постоянной
взаимосвязи между детерминированным и индетерминирован-
ным, которая пронизывает всю философию Аристотеля и
отличает ее от новой философии. Эта необходимая
неопределенность включает, разумеется, не только наше
знание, но и наши действия, считает Касториадис.
Насколько искусственными являются попытки
обосновать отрицание исторического прогресса и бунтарские
социальные идеалы путем обращения к классической
философии, видно из сопоставления приведенных выше
рассуждений со сходной по выводам, но весьма отличной
по посылкам логикой Маркузе. Как мы видели,
Касториадис утверждает, что к построению «мифической
идеологии» прогресса привел отход от миропонимания Ари-
185
стотеля, отход от двумерности восприятия бытийности и
потенциальности. Маркузе же в поисках истины дотехни-
ческой и, следовательно, двумерной, революционной
апеллирует к диалектике Платона.
«Перед нами,— пишет Маркузе,— противоречивый
двумерный стиль — внутренние формы не только
диалектической логики, но всей философии, которая в понятиях
постигает действительность. Предложения, определяющие
действительность, утверждают как истинное нечто, что
(непосредственно) не имеет место, тем самым они
противоречат тому, что имеет место, и отрицают его истинность»
(21, р. 148).
У Аристотеля же, считает Маркузе, формальная
логика подчиняет мышление, принцип противоречия
отделяется от принципа тождества, противоречия проистекают из
ложного мышления, понятия становятся инструментом
прогноза и контроля. «Человек должен был из
существующего на деле диссонанса создать теоретическую гармонию,
очистить мышление от противоречий, гипостазировать
определяемые родовыми признаками единицы в
комплексном процессе общества и природы» (21, р. 152).
Таким образом, Маркузе, определяя одномерность
мышления как обусловленный рационализацией мышления
феномен, истоки этого процесса усматривает именно в
формальной логике Аристотеля, противостоящей
диалектике Платона. Развитие логики, по убеждению
Маркузе, как бы раздавило живую мысль, и одномерный
человек у него выглядит не столько уродливым продуктом
капиталистической цивилизации, сколько жертвой разума.
А для Касториадиса философия Аристотеля есть
философия свободы.
Как мы видим, и Маркузе и Касториадис пытаются
найти философское обоснование своему отрицательному
отношению к революционной теории и социальному
прогрессу. Оба они видят в росте рационализации корни
деградации общества. Однако система доказательств своих
взглядов у них оказывается диаметрально
противоположной, что соответственно обнаруживает и несостоятельность
выводов.
В противовес марксизму, обвиняемому в
мифологизации абсолютного знания, выдвигается «автономное
революционное движение» как подлинное «относительное
знание». В качестве примеров такой «автономии»
называются интуитивные, импульсивные действия рабочего
класса Англии и Франции в начале XIX в. Идеализируя
186
отсталые формы классовой борьбы, Касториадис и в этом
отношении обнаруживает, что его подход чужд
подлинному историзму.
* * *
Кардинальную перестройку позиций философов и
идеологов, группирующихся вокруг журнала «Эспри», в
отношении исторического прогресса наглядно
демонстрирует юбилейный номер журнала, вышедший в 1983 г.
Статьи этого номера, освещающие различные аспекты
истории журнала за пятьдесят лет и почти все
принадлежащие членам нынешней редколлегии, связаны общей
идейной платформой, сформировавшейся в результате
охарактеризованной выше эволюции. Каждая статья как бы
продолжает предыдущую, и они сливаются в единый
трактат, основная мысль которого сводится к следующему:
главная заслуга нынешних лидеров персонализма
заключается в том, что они сумели отказаться от философских
и политических иллюзий Мунье.
Главный редактор журнала Поль Тибо и его
сотрудники ныне открыто выступают против так называемых
«идеологий прогресса», к числу сторонников которых
относился и Мунье. Они заявляют, что «идеологии
прогресса», побуждавшие людей к социальным движениям, не
могут более служить средством, чтобы постичь смысл
развития истории. «Эти идеологии есть только варианты тех
философий истории, которые процветали с конца
XVIII в. и которые... стремились создать новое
мировоззрение взамен ослабевших традиций» (13,р. 125).
Нынешние лидеры персоналистского движения видят свою
миссию в отрицании идеологий прогресса, которые, разрушая
традиции, ведут человечество к утрате смысла истории
(13, р. 132).
Полной ревизии подвергнуты не только взгляды Мунье
на прогресс, но и его социальный идеал, его стремление
к решительному социальному преобразованию общества.
Мунье ставится в вину, что он «считал возможным
делить историю на периоды, характеризующиеся особыми
чертами, например, так называемая современная
цивилизация отмечена индивидуалистической идеологией, а
экономическая система капитализма — типичной фигурой
буржуа; этой цивилизации противостоит иная,
характеризующаяся такими чертами, как коммунитарный дух и
социализм» (13, р. 132). Нынешние руководители «Эспри»
осуждают даже саму постановку вопроса о возможности
187
создания строя, качественно отличного от капитализма.
Оптимизм Мунье, которым пронизан его общественный
идеал, для нынешнего поколения персоналистов лишь
предрассудок. Мунье, считают они, переоценил
возможности человечества.
Ныне «коллективная этика персонализма,— говорится
в журнале,— пережила метаморфозу: она более не
стремится к восхождению по пути прогресса и воплощению
смысла истории, ограничиваясь лишь познанием человека
и уважением человека в человечестве» (13, р. 165). Тем
самым фактически декларируется отказ от поисков какой-
либо альтернативы современному капитализму.
С эволюцией взглядов на общественный прогресс
связана и политическая эволюция. Так называемая
«рационализация персонализма Мунье», провозглашенная
нынешним руководством «Эспри», вряд ли случайно
совпадает с усилением антисоветского курса журнала.
К основателю журнала предъявляется обвинение не
только в отсутствии у него последовательной
антикоммунистической линии, но даже в симпатиях к
коммунизму. В доказательство последних приводятся, например,
такие высказывания Мунье, относящиеся к послевоенному
периоду: «Мы поддерживаем в Европе сильные
коммунистические партии, ибо они одни служат надежной
гарантией от возрождения фашизма» (цит. по: 13, р. 31).
Критике подвергается и ряд высказываний подобного
характера, принадлежащих единомышленникам Мунье
того времени, в том числе известному психологу Полю
Фрессу *. Подобные «симпатии к коммунизму»
объявляются порождением ностальгии по эпохе Сопротивления
и политической недальновидности.
«Можно сожалеть,— говорится на страницах
журнала,— что „Эспри" в 30—40-е годы, поставив ранее других
идеологических течений альтернативу демократия —
тоталитаризм, не сделал тех выводов, которые вытекали
отсюда: антилиберализм и антииндивидуализм парализовали
силы таких людей, как Мунье» (13, р. 67). В своем
стремлении отмежеваться от коммунизма нынешние
персоналисты вольно или невольно преувеличивают
приверженность Мунье к марксизму-ленинизму. Отход от пози-
1 Поль Фресс вместе с Полеттой Мунье, супругой основателя
журнала, направил его нынешнему редактору Полю Тибо письмо
с требованием изменить название журнала и сиять с титула имя
Мунье, поскольку политическое направление «Эспри» сегодня
противоречит исходным позициям.
188
ций диалога с коммунистами подается как важная заслуга
нового руководства журнала.
Таким образом, иа протяжении последних десятилетий
идеи социального пессимизма и родственного ему
социального иррационализма одержали верх в персоналистской
идеологии над «трагическим оптимизмом» Мунье, над его
попыткой отстоять религиозно-утопический идеал и веру
в прогресс.
Можно сказать, что мелкий страх XX в., против
которого так активно боролся Мунье, победил его учеников.
Литература
1. Вдовина И. С. Французский персонализм: критический очерк
философского учения. М.: Наука, 1977. 128 с.
2. Давыдов Ю. Н. Научно-техническая революция и социальная
философия Франкфуртской школы.— В кн.:
Научно-техническая революция и кризис современной буржуазной идеологии.
М, 1978, с. 280-339.
3. Лейкин Э. Г. Идея научного прогресса в современной
буржуазной философской и общественной мысли: (Идея прогресса
науки в сопоставлении с идеей общественного прогресса).—
В кн.: Концепции науки в буржуазной философии и
социологии. М., 1973, с. 158—215.
4. Кузнецов В. Н. Персоналистская философия религии.— В кн.:
Современная буржуазная философия и религия. М., 1977,
с. 217-249.
5. Платонов А. Избранное. М.: Моск. рабочий, 1966. 196 с.
6. Сахарова Т. А. От философии существования к структурализму:
Крит, очерки соврем, течений буржуазной философии. М.:
Наука, 1974. 294 с.
7. Современная буржуазная философия и религия / Под ред.
А. С. Богомолова. М.: Политиздат, 1977. 376 с.
8. Bernanos G. Ouvres. P.: Palatine, 1947. Vol. 1/4.
9. Bernanos G. La France contre les robots. P.: Gallimard, 1938. 77 p.
10. Boulle P. L'Homme qui haissait les machines.— In: Boulle P.
Histoires charitables: nouvelles. P.: R. Julliard, 1965. 191 p.
11. Castorladis C. Exigence revolutionaire. Entreti avec C. Casto-
riadis.— Esprit. N. S., P, 1977, vol. 1, N 2, p. 201—230.
12. Castoriadis C. Reflexions sur le developpement et la «rationa-
lite».-Esprit, P, 1976, vol. 44, N 5(457), p. 897-920.
13. Cinquantenaire des annes 30 aux annes 80.— Esprit, P., 1983, N1,
p. 5-188.
14. Certeau M. de. La Culture nouvelle.— Esprit. N. S., P., 1979,
vol. 3, N 10, p. 3—20.
15. Certeau M. de. Les revolution du «Croyables».— Esprit, P., 1969,
vol.37, N2(378), p. 190-203.
16. Corte M. de. Philosophic des moeurs contemporaines. Homo ra-
tionalis. P.: Libr. de Medicis; Bruxelles: Ed. universitaire, 1944,
490 p.
17. Domenach J.-M. Crise du developpement, crise de la rationali-
te.— In: Le mythe du developpement / Ed. С Castoriadis et al.;
Prep, de l'ouvrage assure par C. Mendes. P., 1977, p. 13—38.
189
18. Domenach J.-M. L'enigme ouverte.—Esprit, P., 1967, vol. 35,
N 3(358), p. 488—498.
19. Domenach J.-M. Le retour du tragique: Essai. P.: Ed. du Seuil,
1967. 301 p. (Coll. «Esprit». La condition humaine). Bibliogr.:
p. 297-300.
20. Horkheimer M., Adorno T. W. Dialektik der Aufklarung: philo-
sophische Fragmente. Frankfurt a. M.: Fischer, 1969. 275 S.
21. Marcuse H. Der eindimensionale Mensch/Obers. A. Schmidt.
В.: Neuwed, 1972. 282 S. (Sammlung Luchterhand; 4).
22. Masse P. La croissance et l'homme.— In: Le mythe du develop-
pement/Ed. C. Castoriadis et al.; Prep, de l'ouvrages assure par
С Mendes. P., 1977, p. 39—60.
23. Moix C. La pensee de Emanuel Mounier. P.: Ed. du Seuil, 1960.
343 p. (Coll. «Esprit». La condition humaine).
24. Mounier E. Oeuvres. P.: Ed. du Seuil, 1961—1963. 1961. Vol. 1.
1931—1939. 940 p.; 1961. Vol. 2. Traite du Caractere. 794 p.; 1962.
Vol. 3. 1944—1950. 749 p.; 1963. Vol. 4. Recueiles posthumes. Cor-
respondance. 914 p.; Bibliogr.: p. 835—876.
25. Mounier E. Le personalisme.— Esprit, P., 1945, vol. 13, N 5(110),
p. 72—93.
26. Mounier E. Le personalisme. P.: Press univ. France, 1965. 136 p.
(«Que sai-je». Le point des connaissances actuales; N 395).
27. Mounier E. La petite penr du XXе siecle. Neuchatel. Baconnier.
P.: Ed. du Seuil, 1948. 157 p. (Les cahieres du Rhone; 76).
28. Mounier E. Quest-ce que le personnalisme. P.: Ed. du Seuil, 1946.
105 p. (Coll. «Esprit». La condition humaine).
29. Mounier E. Revolution personnaliste et communautare. P.:
Montaigne (Aubier), 1935. 413 p. (Coll. «Esprit»).
30. Le Risq.—Esprit, P., 1965, vol. 33, N 1(334), p. 1—229.
31. Thibaud P. Creativite sociale et revolution.— Esprit, P., 1976,
vol. 44, N 9(460), p. 213-224.
32. Thibaud P. Liberte et communication.— Esprit. N. S., P., 1978,
vol. 2, N 10, p. 36—42.
33. Thompson W. Review of Marcuse's book.—Morning Star, L.,
1968, July 26.
34. Virilo P. L'evangele nucleair.— Esprit, 1974, vol. 42, N 4(434),
p. 643-662.
Глава У
Иерархия и расизм
против социального равенства.
«Историческое будущее»
глазами французских «новых правых»
В отличие от 60-х годов, отмеченных заметным
влиянием леворадикальных настроений на социальную мысль
большинства капиталистических стран, следующие
десятилетия характеризуются распространением тенденций
консерватизма. При этом, как отмечают зарубежные
исследователи, попытки реставрации «традиционных»
консервативных идей сопровождаются стремлением
приспособить их к современным условиям. «Новый»
консерватизм отражает, с одной стороны, своеобразную реакцию
на негативные явления, происходящие в современном
буржуазном обществе, а с другой — стремление
господствующих классов использовать как можно более
широкую палитру средств манипулирования общественным
сознанием.
С конца 70-х годов неоконсерватизм во Франции стал
ассоциироваться с деятельностью группы, получившей
наименование «новой правой». Провозглашая кризис,
переживаемый ныне Западом, «кризисом личности»,
утратившей нравственные идеалы, теоретики «новой правой»
выступают с требованием обновления системы духовных
ценностей, культуры и всей социально-политической
жизни.
В 1979 г. на страницах французской печати
развернулась острая дискуссия вокруг выступлений лидеров
нового идейного течения — Алена де Бенуа, Луи Повеля
и др.
Французская компартия охарактеризовала шумиху,
поднятую в прессе вокруг «новых правых», как
политический маневр правящих кругов с целью отвлечь
внимание общественности от насущных проблем, связанных с
усилением общего кризиса, и вместе с тем
активизировать борьбу с марксизмом, используя явно антимарксист-
кую направленность нового течения.
«Новые правые» сближаются с национал-социализмом,
писал А. Фигера. «Правые пытаются подсунуть расист-
191
скяе догмы о превосходстве арийской
расы»,—констатировал А. Вюрмсер. Они «флиртуют с фашизмом», отмечал
П. Жюкэн.
Известный левокатолический писатель и общественный
деятель Жорж Урдэи в книге «Ответ ,,новой правой'4»
писал: «Реставрация реакционных, давно опровергнутых
жизнью идей сопровождается ссылками на научные
теории, заимствованные из генетики, этологии, социобиоло-
гии, геополитики, антропологии, с помощью которых
консерваторы из ,,новой правой" пытаются оправдать
социальное неравенство, якобы предопределенное
генетически» (9, р. 10). «Неверно думать, что ,,новые правые44
представляют опасность только потому, что пользуются
доверием лишь некоторых высокопоставленных
политических деятелей. Настоящая опасность „новых правых44 в
том, что они стремятся завоевать признание широких
масс»,—писал Жюльеи Брюин (4, р. 7).
С критикой теорий «новых правых» выступили и
такие буржуазные авторитеты, как Р. Арон, П. Бийяр,
Ж.-Ф. Кап, А. Турэн, К. Клемап. С другой стороны,
правая печать Италии, ФРГ, США безоговорочно
поддержала «новых правых» во Франции.
Непосредственным поводом к дискуссии о «новой
правой» послужило присуждение в 1978 г. Французской
Академией Алену де Беиуа премии Гран При за книгу
«Взгляд справа. Критическая антология современных
идей» (2). Публикация вслед за этим еще одной его
книги (1) и выход в свет ряда коллективных работ
ведущих идеологов течения способствовали развертыванию
«новыми правыми» рекламной кампании с целью, как
писал сам Бену а, «пробить плотное кольцо молчания»,
которым они были якобы окружены в течение десяти
лет (1, р. 14). Действительно, клубы «новых правых»,
возникшие после выступлений левых сил в 1968 г., долго
оставались малоизвестными французской общественности,
наиболее активным был клуб «Курантов». В 1969 г.
правые создали «Группу по изучению европейской
цивилизации» (ГРЭС), объявившую своей целью изыскапия в
области культуры. Постепенно принадлежавшее ГРЭС
издательство «Коперник» (возглавлявшееся А. деБенуа)
развертывало под эгидой клуба «Куранты» все более
широкую пропагандистскую деятельность. В течение
нескольких лет оно выпустило ряд коллективных работ:
«Политика живого», «Раса и интеллект», «Корни будущего»,
к Демократический вызов». Тираж каждого из трех жур-
192
налов ГРЭС: «Эколь Нувель», «Элеман», «Этюдэрешерш»,
достиг 10 тыс. экземпляров. Теоретики нового течения
стали также регулярно печататься в еженедельнике
«Фигаро Магазин» (директором которого является Л. Повель).
В каждом его номере А. де Бепуа, объявленный Пове-
лем «потенциальным анти-Марксом», публиковал
рецензии на новые книги. Сам Л. Повель выступал на
страницах журнала в качестве политического комментатора.
Подводя итоги десятилетних изысканий, борцы за
новую культуру выпустили в 1979 г. (под редакцией
генсека ГРЭС Вьяля) сборник «За культурное возрождение»
(15). Сборник отразил весь спектр тем, вокруг которых
«новые правые» пытались организовать свой багаж:
«Мораль и этика прошлого и будущего», «Истоки
индоевропейской культуры», «Объединение Европы», «Критика
христианства», «Рождаемость и ответственность за
будущее нации», «Различие — основной закон жизни»,
«Критика рыночного общества», «Критика эгалитарных
теорий», «Традиции», «Элита», «Ницше и его идеи»,
«Творчество Монтерлаиа», информация об открытиях в области
биологии, евгеники, этологии и пр.
Десятилетняя деятельность «новых правых» не дала,
однако, ощутимых политических результатов. В
настоящее время «движение», образовавшееся вокруг ГРЭС,
в численном отношении не превышает нескольких тысяч
человек, в основном более или менее молодых
мелкобуржуазных интеллигентов. Именно свою политическую
ущербность правые настойчиво стремятся компенсировать
все более активной пропагандой, теоретическая часть
которой рассчитана в первую очередь па влиятельных
представителей буржуазной элиты, хотя они не забывают, как
отмечала «Юманите», и о рабочих. Вожди «новых
правых» стараются сделать вид, что их не волнуют вопросы
непосредственного политического влияния. Их
деятельность якобы лежит в русле «метаполитики» и имеет целью
завоевание духовного влияния, которое, как утверждает
А. де Беиуа, рано или поздно даст свои политические
всходы. Тем не менее политический профиль «новой»
духовности уже обрисован. Когда настанет время перевести
наши идеи на политический язык, пишет Бенуа, они
будут формулироваться примерно следующим образом:
уважение неповторимости, разнообразия, отход от единого
стандарта, борьба против бездуховности, антиэгалитаризм,
а следовательно и критика сверхдержав, возрождение ев-
7 Заказ Яв 3610
193
ропейской культуры и объединение Европы на основе
«общих культурных корней» и т. д.
Определяя свои жесткие аитиэгалитариые установки,
«новые правые» прежде всего отмежевываются от тех,
кого они называют традиционными правыми. «Течение
новой правой,— утверждает А. Бенуа,— зародилось как
форма протеста против устаревшей морали старой
правой... с ее абстрактным либерализмом, интеллектуальным
конформизмом, пассивностью и нежеланием открыто
отстаивать свои позиции перед натиском левых и
ультралевых идеологов, создавших себе дутый авторитет в
области культуры и выступающих вот уже 30 лет как
воплощение подлинной культуры, знания, морали»
(1, Р. 14).
Бенуа бичует реакционность тяги к возрождению
старого. «Историческая правая», указывает он, не обладает
цельностью. Ее представители хотят вернуться «то ли к
1789, то ли к 1933, то ли к 1945 г., в зависимости от
характера ностальгии» (1, р. 74). А лексика мало отлична
от употребляемой либералами и левыми. «С чем
соотнести в этом меняющемся пейзаже,— пишет Бенуа,—
такие понятия, как „традиция", „культ вождя", „порядок",
„свобода", „равенство", „авторитет", „правосудие"...
„авторитарная личность", „дух подчинения", „агрессивность",
„консерватизм", „либерализм" и т. д.?» (1, р. 79).
Всему этому Бенуа противопоставляет
«революционный консерватизм» — стремление, «опираясь на лучшие
элементы прошлого, создать новую ситуацию» (1, р. 75).
И стержень консервативной революции — борьба против
равенства.
Эгалитаризм — причина размывания самобытности
культур. В то время как различия между людьми и
народами определяют богатство мира, эгалитаризм повинен
в унификации и стандартизации всего и вся.
Борьба против эгалитаризма есть борьба против
стандартного мышления, стандартной жизни, стандартного
искусства. В этой борьбе будет сформирован «человек
будущего», обладатель «долгой памяти» и «мощного
воображения», способный проводить в жизнь «железный
романтизм». И эта борьба, в которой, как утверждает
Бенуа, «сегодня участвует вся планета», есть в конечном
счете борьба «между дифференцирующим и
унифицирующим подходами к жизни, между эгалитаристским и
антиэгалитаристским мировоззрением», «между стремлением
к органическому обществу, исходящему из организующей
194
роли различий, и к механическому, в котором царствует
однородность» (1, р. 73). Основа человеческих отношений,
базис «исторического будущего» — осознание
человечеством неустранимости неравенства. «Я называю правой
такую позицию, которая позволяет учитывать все
разнообразие мира. Связанное с этим относительное
неравенство... я рассматриваю как благо, а прогрессирующую
однородность (гомогенизацию) мира, прокламируемую и
внедряемую... эгалитарной идеологией, как зло» (2, р. 81).
Таковы главные исходные тезисы Бенуа, который сам
определил заявку «новых правых» на место между
«неофашистским гетто и либеральным болотом» (1, р. 75).
Было бы преувеличением говорить о наличии у
«новых правых» цельной философской доктрины. Пестрота
идейных истоков их декламаций скорее отражает
определенный склад мышления, в котором доминирует
антиинтеллектуализм и антиисторизм. Фрагменты
средневековой схоластики и героической мифологии, вульгаризован-
ные трактовки работ известных антропологов и биологов:
К. Лоренца, Уилсона, Йенсена, Айзенка, по главным
образом реминисценции таких адептов
антипросветительства, шовинизма и расизма, как Ж. де Местр, Г. де Бо-
нальд, Ж. Гобиио, как основатель «Аксьон франсез»1
Ш. Моррас,— вот преимущественно репертуар классиков,
на который пытаются опереться интеллектуалы из
«новой правой». Так, А. де Бепуа в своих попытках
реконструировать теоретико-познавательную, «логическую»
основу социальной философии «новых правых»
обращается к традиции средневекового «номинализма». В его
интерпретации «номинализм» связан с утверждением
разнообразия и несходства явлений как основного закона
жизни, А. Бенуа весь свой пафос направляет против
«универсалистов», «за всем разнообразием и несходством
искавших общую сущность» (1, р. 31). «Для номи-
листа,— заявляет Бенуа,— нет такого понятия, как
бытие само по себе, нет просто понятия человек или
человечество в обобщенном смысле, но есть лишь отдельные,
конкретные люди» 2 (1, р. 31).
1 «Аксьон франсез» — предшественница французского
фашизма.
2 Небезынтересно, что свои утверждения Бенуа подкрепляет
ссылкой на известное высказывание Жозефа де Местра, который
в книге «Соображения о Франции» писал: «Нет в природе просто
человека. Я видел в своей жизни французов, итальянцев, русских
и других. Благодаря Монтескье, я знаю, что можно даже быть пер-
195
7*
Соответственно и человеческая история направляется
не объективными закономерностями, а стремлением
отдельных личностей перекроить ее по собственному
разумению и по собственной воле. С этой точки зрения для
Бенуа неприемлем не только марксизм, но и либеральные
и даже религиозные концепции развития как единого
исторического процесса.
Бенуа отвергает детерминизм «как во времени, так и
в пространстве». Он обрушивается на марксистское
представление о революционном характере истории, так же
как и на библейскую «линейную» концепцию сотворения
мира. Он заявляет, что «...все употребляемые Марксом
в „Капитале'4 ключевые понятия: „капитализм'4,
„пролетариат", „рабочие44, „буржуазия44, которым придается
квазипостоянное, внеисторическое значение, суть не что
иное, как „универсалии44 в схоластике...» (1, р. 33).
Вслед за Бенуа Повель призывает к отказу от
«линейного» представления об истории. Эсхатологическим
концепциям истории, предполагающим ее «начало» и
«утопический конец», он противопоставляет образ истории
как шара, способного катиться в любом направлении под
воздействием сильной воли. Такая история, пишет Повель,
«перестает быть драмой» и превращается в «проект».
«В конце концов история не что иное, как история
человеческой воли» (11, р. 31).
Вместе с тем Бенуа заимствует у экзистенциалистов
идею абсурдности бытия и приходит к «философии
жизни». «Наш антиинтеллектуализм вытекает из убеяедения,
что жизнь лучше любой идеи, что существует
превосходство души над духом, характера над умом, эмоции над
разумом... мифа над доктриной. Отсюда вытекает
невозможность абстрактно доказать предпочтительность какого-
либо одного поступка или поведения перед другим.
Никогда нельзя доказать истинность постулатов, на основе
которых строится система оценок. Можно лишь исходить
из того или иного постулата при условии, что его
принимают... Так, например, если смерть будет
рассматриваться как самое худшее, что может случиться, то лучше
дезертировать, чем идти в бой, и наоборот» (1, р. 34).
Но как только от философской схоластики ведущие
идеологи «новых правых» делают шаг в сторону практи-
сом. Что касается просто человека, я заявляю, что такого никогда
в жизни не встречал. И если он существует, это выходит за
пределы моего разумения» (цит. по: 1, р. 33).
196
ческих политических выводов, проясняется, что вся
методология «дифференцирующего» подхода к жизни
имеет четкую авторитарную направленность. Различия между
людьми, согласно логике правых, должны проявляться не
в политическом и социокультурном плюрализме, а в
строгой иерархии, в подчинении множества отличающихся
людей меньшинству единомышленников,
новоконсервативной «элите». Абсурдности истории, вытекающей из
внутреннего произвола человека, «новые правые» в полном
согласии с наиболее реакционными традиционными
правыми, на самом деле противопоставляют основанный на
внешнем произволе («волевом выборе») элитарный
порядок, в котором всякое несогласие должно рассматриваться
как «подрыв».
Беиуа и Повель — ревнители «органичного» и
«гармонично уравновешенного» общества — видят главную
причину его упадка в воздействии различных «подрывных»
взглядов. Именно эти взгляды, с их точки зрения, создают
множество партий, антагонистических группировок, а
также конкуренцию трестов и синдикатов, каждый из
которых действует в собственных интересах, оказывая
давление на государство. Под влиянием плюрализма, заявляют
они, кризис распространяется и на первичные структуры.
Антагонистические конфликты возникают между
мужчиной и женщиной, внутри семьи между супругами,
родителями и детьми. Что же этому противостоит?
«С того момента, как различия осмыслены и пережиты
как таковые, открывается перспектива/.. иерархии.
Разнообразные сложные иерархии... придают обществу
органичность и живость». Критерии для «классификации» людей
разнообразны, зависят от сферы деятельности,
выполняемых обязанностей, от эпохи, места и прочих причин.
Но они существуют всегда...» (1, р. 166).
Способность к формированию «гармоничного»
иерархического общества, издавна обнаруженная индоевропейской
расой, и должна, по идее Беиуа, стать той исторической,
биологической и социокультурной пружиной, которая
позволит потомкам этой выдающейся расы восстановить ее
величие и установить свое тождество. Итак, заявляют
«новые правые», человечество в лице индоевропейских
народов уже выработало в прошлом «идеальную модель»
общества, которое покоилось на строгой социальной
иерархии. Гармония в нем достигалась благодаря
преобладанию суверена и священника над воином, а воина —
над производителем. В индоевропейских обществах поли-
197
тика определяла экономическую и социальную жизнь.
В современных же обществах — наоборот: государственная
власть подчинена экономической сфере, которая в свою
очередь целиком зависит от социальной. «Иными словами,
требования массы... управляют решениями властей. Класс
производителей и торговцев „подчиняет44 себе „воинов4',
„священников" и „суверенов"» (1, р. 111).
Антропологические, социальные и космогонические
воззрения древних жителей европейского континента,
напоминает Л. Повель, пронизывала идея
функциональной троичности. При этом в социальном плане с мозгом
ассоциировалась функция верховной власти, с
мускулами — оборонительная, со ртом — производительная. Но
под влиянием «эгалитарных доктрин» общество оказалось
перед фактом «чудовищной гипертрофии функции
производства, которая упразднила верховную власть». «Засилье
профсоюзов, могущество которых распространяется даже
на армию, правосудие и систему образования, привело к
деформации социального тела, оказавшегося без головы
и без мускулов, по с огромным ртом» (11, р. 34). По
логике Л. Повеля, все дело в том, что под воздействием
«чуждых» идей была деформирована общая система
индоевропейского мышления. Именно поэтому «новый
социальный порядок» не может быть сведен к институтам, а
должен через «нормы» проникнуть «в душу и сердце каждого».
«В обществе, идущем к упадку, растет волна
сомнений, нормы критикуются, объявляются условными, что
ведет к их разрушению, а отсюда и к утрате смысла
жизни». Но для «культуры, находящейся в расцвете,
характерно отсутствие сомнений относительно истинности
норм» (1, р. 42).
На протяжении веков нормы обладали
чудодейственной силой, ибо воспринимались в качестве абсолютов.
Чтобы устранить теперешнюю коллизию между
отраженным в сознании исторически преходящим характером
норм и социальной императивностью их восприятия как
абсолютов, необходим, пишет Беиуа, «героический
субъективизм» — особая «коллективная субъективность»,
творящая и санкционирующая нормы. И народ, достигающий
такой героической коллективной субъективности, мог бы
справиться с нынешним духовным кризисом, так как «он
превзошел бы себя, утвердив собственную самоценность,
показав себя творцом-самосозидателем» (1, р. 44).
Динамика традиций, заявляет Беиуа, подобна
развитию организма на основе отмирания старых и возникно-
198
вения новых клеток, при котором сама структура
остается неизменной. «Традиция — это не прошлое... так же
как и не настоящее и не будущее. Она вне времени и
соответствует не тому, что было «позади нас», что
отжило, а тому, что перманентно, что существует в нас
самих» (1, р. 118). А раз так, то консерватизм,
охраняющий традиции, столь же необходим, как и новаторство,
ставящее их под сомнение. В конечном счете проблема
места традиции «в лоне социального тела» есть проблема
сохранения его равновесия. И именно те, кто способен
нести, хранить и творить традиции, обеспечить на
традиционной основе «социальное обновление» и
«относительную социальную гармонию», должны составить
руководящую элиту. Ибо «никакое общество не может
существовать без элиты. Элита — это результат естественного
отбора, как и сама жизнь, вечная трагедия селекции».
Будущее общество меритократии, основанное на отборе
лучших, без учета их классового происхождения, станет
«самой тонкой и самой высшей формой социальной
справедливости»,—пишет Л. Повель (И, р. 37). При этом
речь, собственно, идет не просто об элите, а о новой
аристократии, «аристократии духа». Есди вообще можно
говорить о какой-то новизне в воззрениях (а не просто
во фразеологии) «иовых правых», то она несомненно
связана с попыткой объединить старую сословную и
этноцентрическую идею не только с идеей новой, плебейской
по происхождению политической элиты (это уже делал
фашизм), но и с более современной меритократической
концепцией. В аристократию «революционизированного»
в духе «новых правых» общества должны войти не
знатные или богатые, а те, кому присущи специфические
достоинства и способности. Выбор этих достоинств
определяется вкусом творцов «истории как истории воли».
Под аристократизмом Повель, например, разумеет
умение «ценить различия между людьми», ощущать
«корни», связь с культурой и менталитетом прошлого.
Аристократизм, пишет он, «это некое особое видение
жизни, человека, мира, судьбы, прочно вписанное в
традиции и ментальные структуры народов, вышедших из
европейской античности» (И, р. 31).
Связав будущее с «аристократией духа и характера»,
Бенуа и Повель приписывают ей функцию творца и
носителя новой, «строгой» этики. С утверждением
«аристократических ценностей» (и с утверждением власти
новой элиты) должны исчезнуть «распущенность, нера-
199
дивость, безответственность, индивидуализм,
нетерпимость к малейшему принуждению» (1, р. 131).
Но хотя будущая аристократия изображена «новыми
правыми» как продукт социальной динамики и ее
границы рисуются подвижными, пределы этой динамики
положены их достаточно очевидным психологическим и
культурным этноцентризмом и даже прямым
биологическим расизмом.
Опираясь на теории цикличности развития культур
(культуры как замкнутые циклы), правые упорно
твердят о «существенных неравенствах народов и культур»
как об основшом и неизменном историческом законе. На
этом фоне европейская культурная традиция,
рассматриваемая как продолжение расово предопределенной
индоевропейской, античной греко-римской и кельтско-герман-
ской культуры, приобретает значение решающего
фактора современной и будущей истории. Европе предстоит
обрести «прежний блеск», но для этого она должна вновь
найти себя в своем исходном расово-замкнутом
героическом прошлом. Отсюда «культурные» программы «новых
правых», надежды на обновление с помощью
возрождения героического духа греческого театра, кельтских поэм,
германских легенд, романского эпоса в искусстве и
культуре. Антиисторический пафос этих устремлений,
осуществляемых под флагом борьбы с
«иудео-христианскими наслоениями», направлен на самом деле против
гуманистических начал европейского рационализма и
просвещения, сыгравших решающую роль в становлении
реальной духовной культуры Европы эпохи позднего
средневековья и нового времени.
Освобожденная от тенет гуманизма «героическая»
Европа, как уповают «новые правые», смоя^ет
противостоять чуяедым «неевропейским» влияниям — давлению
«третьего мира», «американского либерализма» и
«полуазиатского социализма». «Прагматический материализм
капитализма», как и «конечная установка на рай
всеобщего изобилия», в социалистическом обществе уже
низвели европейского человека до уровня
трудяги-потребителя, негодует Бенуа. Погоня за благосостоянием
превратила его в эгоистического и безответственного субъекта,
умеющего выдвигать лишь новые
социально-экономические требования, неспособного контролировать себя и
управлять ситуацией. Отсюда страх «экономического
человека» перед будущим и чрезмерная чувствительность к
лишениям, утрата воли и тяга к иждивенчеству и пат-
200
ронажу. «Человеку не хватает пи стимулов к жизни, ни
идеалов, за которые можно умереть» (И, р. И). Европа
повторяет судьбы Рима — такой драматический тезис
выдвинули бывший шеф журнала «Пуэн» Ж. Сюффер и
историк и демограф П. Шошо, в свою очередь повторяя
высказывания своих американских, западногерманских и
некоторых других единомышленников. Римская империя
погибла до того, как произошло нашестие варваров
(кстати, именно тех варваров, которые исторически стали
носителями германо-кельтской «культуры» Европы). Рим
лопнул изнутри. Откуда же это неприятие мира, эта
утрата желания выжить, повсеместное отчаяние,
безразличие, охватившее все богатые страны, вопрошает Сюффер
с тем, чтобы поставить новый вопрос. Не была ли
разрушена Римская империя изнутри с приходом
иудео-христианской религии? Не являются ли неохристианство
наших дней и марксизм виновниками духовного кризиса,
в котором оказалась западная цивилизация? И отвечает:
Европа охвачена «белой чумой» апатии, и она
представляет собой столь же серьезную угрозу, какой была черная
чума для обитателей Марселя во времена Людовика XIV.
«Наша цивилизация кончает самоубийством... судьба ее
еще не окончательно решена. Остается самое большее лет
десять, чтобы исправить положение. Потом, очевидно,
будет поздно» (5, р. 215). Один из симптомов
приближающегося краха Сюффер и Шошо видят в резком падении
удельного веса белой расы в общей численности
населения земного шара. На биологический баланс еще можно
повлиять, заявляют они, если каждая французская семья
обзаведется как минимум 3—4 детьми. «Но как изменить
духовную атмосферу, в которой кроется основная
причина демографического спада?» — Задавая этот вопрос в
статье, озаглавленной «Самоубийство белого человека»
(11, р. 139), их единомышленник Повель вновь
призывает к расправе с эгалитаризмом. Эгалитаризм, пишет он,
вступил в свою «конечную (идеологическую) стадию —
отстаивания равенства между людьми в отличие от
предыдущей (мифологической) стадии, утверждавшей
равенство всех перед Богом» (11, р. 202). Надо прежде всего
покончить с внесенной в исконное европейское сознание
«революционной антропологией» 3, вернуться к
дохристианским ценностям.
3 Нельзя не вспомнить в этой связи рассуждения Гитлера,
объявившего пророка Моисея «первым большевиком».
201
В древней Европе, по словам Л. Повеля, люди
оценивались соответственно их достоинствам и недостаткам, их
заслугам, делам, поступкам. Этот принцип
распространялся и на самих богов. В христианской же религии
различия между людьми хотя и не отрицаются, но
рассматриваются как нечто второстепенное, поскольку в качестве
первичного утверждается равенство всех перед творцом.
Установка христианской религии на обесценивание
земного существования чужда духу индоевропейских
народов. «Хотя Запад в течение пятнадцати веков и называл
себя христианским, мы не должны забывать, что
христианство возникло за пределами Европы... что это не
наша религия» (11, р. 202).
Не случайно, заявляет Л. Повель, раннее
христианство преследовалось в Риме, где допускались все формы
вероисповедания. Древние римляне «справедливо увидели
в универсалистском стремлении повой религии к
„спасению всех людей'1 не только самое вредоносное из
несбыточных мечтаний, противоречившее здравому смыслу и
реальности, но и глубокое неверие в жизнь» (11, р. 205).
Возврат к античности, «создаваемой в новых формах»,
по мысли «новых правых», сможет помочь современному
западному человеку восстановить свою цельность,
вернуть жизненную энергию, отвагу. Возрождение
«кельтского боевого духа, жажды приключений и
предприимчивости», разрушенных под воздействием «чуждой
религии» с «ее мифами беспомощности и вины» — таковы
рецепты активизации человека, подлинная цель которых,
как выясняется далее,— освобождение его от
«потребности в социальной защите».
«Новый ум сумеет представить возрожденную Европу
в ее первоначальном виде... со всеми разнообразными
эстетическими, культурными ценностями... Европу
народов, а не масс. В эпоху утопических эгалитарных
идеологий были созданы «великие системы», которые заслонили
собой жизнь, сделав людей маленькими человечками... без
характера, без души и ума... Но когда эгалитарная утопия
перестанет подавлять вкус к жизни, у людей откроется
иное, ясное видение мира, и тогда они начнут меньше
ценить системы, а больше людей, точнее, великих людей»
(И, р. 40).
Вся эта декламация в духе мании величия избранных
и культа смерти рядовых не мешает, однако, некоторым
из представителей «новых правых» сознавать
неосуществимость «идеалов» великофранцузского шовинизма в ду-
202
хе прежней «Аксьон франсез», в духе Ш. Морраса или
Латур дю Мэна. Подобно некоторым из довоенных
учеников Морраса, таких, как Бразильяк или Дрие де ля
Рошель \ они склоняются к сотрудничеству с
немецкими правыми. А руководитель ГРЭС Вьяль разделяет
взгляды идеологов неофашистского «черного
интернационала», выступающего с идеей «Нация — Европа».
Восстановление ценностей и норм индоевропейской культуры,
заявляет Вьяль, призвано помочь обрести
наднациональную европейскую целостность. И во имя обретения
«коллективной подлинности» П. Вьяль призывает «покончить
навсегда как с французским, так и с немецким
национализмом», восстановить «цельность трехтысячелетнего
европейского наследия», в котором, как он пишет,
переплелись корни греческой, латинской, кельтской, германской,
славянской культур. Вьяль, правда, обнаруживает особую
слабость к греческому «корню» всего этого культурного
корнесплетения. В концепции мира древних греков, в их
стремлении к гармонии души и тела, в ясности и
пытливости ума, инициативности, умении владеть собой ои
видит, однако, не ядро будущего просвещения и
гуманизма, а просто «великую чистоту язычества, не знавшего
или презиравшего шизофренические фантазии
монотеизма» (15, р. 236).
А. де Бенуа призывает народы Франции и ФРГ во
имя будущего Европы найти то общее, что их
объединяло до создания империи Карла Великого, после чего
«настали века вражды и непонимания». «Воссоединение от
Парфенона до Бранденбургских ворот — вот логический
выход для европейцев, стремящихся к восстановлению
единой культурной общности»,— пишет А. де Бенуа (15,
р. 233).
Вульгарное обращение с античностью в идеологии
«новых правых» сопровождается столь же вульгарными
эскападами в область «науки», в основном генетики и
евгеники. И в этом они не очень оригинальны,
поскольку дилетантскими ссылками на «науку» начинены
выступления таких известных деятелей 50-х годов, как
О. Мосли, Р. Уэлч, А. фон Тадден, не говоря уже о
более ранних их предшественниках. Тем не менее в «сайен-
тизме» французских «новых правых» есть свой оттенок.
«Новые правые» достаточно откровенно, чтобы не сказать
4 Оба примкнули к фашизму и сотрудничали с нацистскими
оккупантами.
203
наивно, полагают возможным «сокрушить» все формы
«редукционизма» (тоталитаризм, эгалитаризм,
универсализм) с помощью «мысли, основанной на реальности и
подтверждаемой современными научными открытиями».
Вот типичный образец «научио-коисервативных»
пророчеств: «Начиная с 1970 г, наступило время не
революционеров, а консерваторов. Я слышу, как грядет
консервативная революция. Речь идет не о том, чтобы мыслить,
как в 1848 г., а о том, чтобы мыслить одновременно и
как мыслили в 1789 г. и как будут мыслить в 2100 г.
Достижения науки и появление новых течений мысли
«с долгой памятью» подготавливают интеллектуальный
мир к новой эре, в которой утопии потеряют свое
влияние, а идеологии, претендующие на мессианскую роль, не
найдут себе применения... Античное мировоззрение
европейского человека, загнанное в подсознание, снова
войдет в силу» (11, р. 22).
В каком же направлении современная наука
совершенствует античную мысль? Ссылаясь на работы
генетиков, «новые правые» утверждают, что коль скоро
человеческие способности на три четверти детерминированы
наследственностью, то социальная судьба отдельного
индивида генетически предопределена.
Выступая против пронизывающих идеологию
просвещения идей Локка о человека как tabula rasa, Л. Повель
противопоставляет им гипертрофированное представление
о судьбоносности генов и крови. Человек, указывает
Повель, является на свет, неся в своих генах и крови часть
своей судьбы. «Влияние окружающей среды и общества
на дальнейшее развитие личности имеет куда меньшее
значение, чем влияние унаследованного ею
«генетического коктейля». Поэтому-то все люди различны и (не будем
играть словами!) неравны. Это доказано новыми
открытиями в этологии и биологии» (12, р. 8).
Повеля не смущает глубокое противоречие этого
высказывания не только с весьма умеренными оценками
генетических различий, господствующими в
профессиональной науке, но и с собственными воззрениями «новых
правых», испытывающих апокалиптический ужас перед
историческими последствиями экономических,
культурных и других сугубо социальных влияний на
европейского человека. Если бы «ген» был так непоколебим и
неподатлив и если бы именно в «гене» содержался ключ к
«европейской» культуре, то, очевидно, она не претерпела
204
бы случившихся с ней перипетий развития и не пришла
бы в то состояние, которое так стремятся изменить
«новые правые».
Итак, с одной стороны «новые правые» проповедуют
некую духовную революцию. Но, видимо, вера в нее у
них слишком слаба и они легко склоняются к идее
«биологической» или «генетической» революции, трактуемой
ими в духе любезных их сердцу идей социальной
иерархии и этноцентризма.
В этом смысле, например, ими пропагандируется
оптимистическое предсказание социобиолога Э. Уилсоиа о том,
что ученые вскоре будут в состоянии выявить большую
часть генов, определяющих поведение людей. Бенуа в
своих социальных построениях оперирует
высказыванием молодого английского зоолога Р. Доукинса о том, что
человеческий организм есть средство, «используемое»
генами для сохранения и максимизации их
«представительства» в будущих поколениях. «Люди, таким образом,—
лишь механизмы для выживания генов»,— с
удовлетворением заключает Бенуа (4, р. 72).
Той же цели служит образная формула генетика Ива
Кристена: двигателем эволюции служит «эгоизм генов».
Кристен считает, что выживают наиболее «находчивые»,
адаптабельные гены. Из этой довольно общей
теоретической предпосылки «новые правые» спешат сделать далеко
идущие социальные выводы. «Оптимизация поведения»,
являющаяся центральной теоремой социобиологии,
определяет, по их мнению, социальное соперничество как
необходимое условие существования и совершенствования
индивидов и, что особенно важно, оправдывает
социальную иерархию. Состояние конфликта прокламируется как
неотъемлемое свойство жизни и условие для ее
воспроизводства. И здесь уже трактовка морали идет не в
«высоком» ключе аристократической духовности, а в сугубо
прагматическом духе — мораль объявляется результатом
биологических императивов, элементом в «стратегии
генов»: наибольшей устойчивостью (продолжительностью)
отличаются те моральные идеи, которые придавали
людям наибольшую способность выжить (4, р. 74). К
сожалению для правых, однако, наука ничего не может
сказать о том, какие именно моральные идеи придавали
людям эту генетическую устойчивость. Но это не мешает им
генетически обосновывать превосходство белой расы. Так,
в книге «Раса и интеллект» (8) за подписью Жана-Пье-
205
pa Эбера5 автор исходит из того, что интеллект и
способность к восприятию культуры у каждой расы
предопределены генетически и, следовательно, неодинаковы.
Этот довод «подкреплен» ссылками на эмпирические
данные и научные авторитеты. А далее белая раса
квалифицируется как наиболее развитая интеллектуально именно
в силу генетических законов, предопределенных и
неизменных.
Автора не смущает при этом тот непреложный
исторический факт, что различные «белые» общества прошли
разные пути развития и достигли в обозримый период
далеко не одинаковых социальных и социокультурных
результатов. Точно так же как не смущает его и тот
факт, что в разные исторические эпохи определенные
«небелые» общества достигали более высоких ступеней
культуры, чем современные им «белые», и т. д.
От попыток «научно» обосновать превосходство
белого человека — один шаг до оправдания расовой
дискриминации. Именно в этом духе А. Беиуа цитирует книгу
В. Д. Гамильтона «Социальная антропология» 6, где
утверждается, что некоторые черты социального поведения,
рассматриваемые обычно как явления чисто культурного
порядка, в том числе и расовые предрассудки, коренятся
в нашем далеком зоологическом прошлом и имеют
генетическую природу. «Та легкость и точность,— пишет
Гамильтон,— с которой некоторые идеи ксенофобии
отпечатываются на матрице человеческой памяти, объясняются
селекционным предрасположением: эта селективность
действует в конечном счете на уровне молекулярной
реакции» (цит. по: 4, р. 74).
Расистская истерия французских «новых правых»
может быть правильно оценена лишь в контексте общих
настроений нынешнего буржуазного мышления Западной
Европы, характеризуемых общим поворотом вправо. Ее
место в хоре этих настроений довольно точно определено
А. Бенуа как расположенное между неофашизмом и
либеральным болотом. Об этом свидетельствует ряд
выступлений, перекликающихся с заявлениями «новых правых».
Если Бенуа все же отмежевывается от расовой
дискриминации как политики, то в газете «Эроп-аксьон» некий
Фурыье пишет: «Наше отечество — это мир белых,
потому что мы считаем своими соотечественниками всех, кто
5 Псевдоним Л. де Бенуа.
e Hamilton W* D. Anthoropologie social P., 1976»
206
нам близок по рождению, с кем мы допускаем
возможность браков с нашими сестрами, дочерьми,
племянницами...» (цит по: 4, р. ,42—43).
Специальный выпуск журнала «новых правых» «Эколь
нувель» за апрель 1974 г. был посвящен применению
евгеники как «науки», призванной охранять и улучшать
именно белую расу. При этом в статье И. Кристена7
освещался опыт «третьего рейха» по массовой
стерилизации лиц, страдавших «наследственными болезнями».
Автор статьи проповедует необходимость производства с
помощью искусственного осеменения «биологической
аристократии», «в целях создания Новой Европы» он
требует стерилизации всех, кто, по его мнению, «имеет
изъяны». Другой автор пишет: «Проблема не в количестве
детей, а в их качестве. Что делать с заполняющими наши
города дефективными, у которых впалая грудь и пустые
головы?» (4, р. 44).
С другой стороны, попытку соединения хорошо
известных технократических и наукократических идей со
специфическим западным этноцентризмом в духе «новых
правых» можно проследить на примере книги бывшего
министра в правительстве Жискар д'Эстена — Мишеля
Понятовского. В монографии «Будущее нигде не
описано» он конструирует модель «научной» цивилизации,
переход к которой от «индустриального» общества уже
якобы осуществляется промышленыо развитыми
капиталистическими странами. С помощью информатики и теории
управления, пишет автор, можно сделать «научное
общество» простым и притягательным для большинства нации.
Проект такого общества должен вобрать в себя все
«самое значительное в прошлом и наиболее
привлекательное в будущем» (14, р. 122). Как утверждает Понятов-
ский, «новое общество» будет принципиально
отличаться от социализма и капитализма. «По отношению к
социал-марксистскому и капиталистическому обществам
оно будет представлять собой более высокую стадию
эволюции... По сравнению с ними у этого общества своя
собственная логика развития и свои, не имеющие
прецедента, возможности. Я даже осмелюсь сказать, что оно
относится к другому миру. Как капитализм, так и
социал-марксизм являются продуктами индустриального
общества. «Научное» общество, в которое мы переходим,
имеет очень мало общего с этим последним. У пего дру-
7 Известен своей книгой «Час социобиологии» (6).
207
гая природа, другие законы функционирования, другие
цели» (14, р. 77).
«Научное» общество характеризуется преобладанием в
экономической структуре «телематических систем», т. е.
средств обработки, хранения и передачи информации,
включенных в систему средств связи. В рамках «новой
цивилизации» основной ценностью станут научные
знания и передовая технология производства. В связи с этим,
уточняет Понятовский, «интеллектуальные возможности
каждой нации, в сочетании с развитыми средствами
информатики, находящимися в ее распоряжении, будут
играть решающую роль в состязании с соперниками и в
определении ее действительного статуса на мировой
арене» (14, р. 50).
Под преобразующим воздействием «телематики»
окажутся многие важные участки производственной и, что
более важно, непроизводственной сфер. В первую очередь
будет значительно облегчена связь между странами и
континентами. Появится электронная почта, которая
позволит вести передачу письменных текстов на любые
расстояния и в короткое время. В итоге радикально
изменится (в сторону ускорения решения вопросов) характер
взаимоотношений между местными и центральными
властями, между гражданами и администрацией, наконец,
между головными фирмами и их филиалами внутри
страны и за границей.
С введением ЭВМ в область образования коренным
образом изменится система просвещения и
профессиональной подготовки. Учащиеся получат возможность
обучаться по индивидуальным программам в соответствии с их
наклонностями и способностями. Преподаватели станут
выполнять роль «синтезаторов», отвечающих за
гармоничность образования. Средства электронной
информатики будут все шире применяться и в других областях:
в геологии, астрономии, в медицине, где постепенно
исчезнут врачи; узкие специалисты уступят место
специалистам широкого профиля.
Телематика широко войдет в быт. С помощью
микропроцессоров потребитель сможет делать заказы, получать
любую необходимую информацию и отдавать
распоряжения торговым фирмам и байкам, голосовать на дому
и т. д. Нынешнее состояние «телематики» в США, где
уже применяются системы электронного обучения,
в Японии, где электроника широко используется в сфере
бытовых услуг, дает автору повод говорить о «мутации
208
цивилизации», аналогичной той, которая последовала за
изобретением письменности, включая увеличение объема
памяти, умножение и модификацию систем информации
и даже возможное изменение моделей власти.
«Телематическая революция», по убеждению Понятов-
ского, в конечном счете приведет к глубокой
трансформации всех сторон жизни в странах, вступивших в
«научную эру». Машины и массовое производство постепенно
перестанут быть двигателями экономического и
социального развития. На первый план выйдут качественные
аспекты, что в конечном счете приведет к превращению
нынешней капиталистической экономики
«количественного изобилия» в экономику «качественного изобилия».
В результате полной автоматизации производственного
сектора и значительного повышения производительности
труда около 70% самодеятельного населения будет
занято в «телематических» отраслях,
научно-исследовательских центрах, сферах образования и обслуживания.
В перспективе на большинстве предприятий
промышленные роботы с дистанционным программным управлением
будут выполнять не только наиболее простые и
трудоемкие операции, но и сложные, требующие высокого
профессионального мастерства. Во многих отраслях
применение ЭВМ и роботов предвещает вытеснение даже самой
квалифицированной рабочей силы.
Разумеется, столь радикальное изменение
экономической структуры грозит известными социальными
осложнениями. Поэтому правительства стран, которые
находятся на пороге «телематической революции», совместно с
представителями делового мира и профсоюзов должны
будут разработать соответствующую социальную
стратегию, предусмотрев компенсацию за потерю большого
числа рабочих мест и перелив рабочей силы в другие
сектора, приобретение работниками нескольких профессий
и т. д.
Широкое применение «телематических средств» в
управлении, по Попятовскому, приведет к массовизации
политических режимов развитых стран Запада, путем,
например, ослабления государственной бюрократии (и
соответственно усиления децентрализации), расширения
возможностей «прямого контакта» между управляющими и
управляемыми, наделения большими правами
общественных организаций граждан.
Господство «интеллектуальной технологии»
(кибернетика, системный анализ, теория решений, теория игр
209
и пр.) даст, по мнению М. Понятовского, возможность
моделировать «социальные ситуации» и широко
использовать эти модели при решении социально-экономических
и политических проблем. Существенные изменения
произойдут также в социальных отношениях. Самым важным
достижением «научного» общества Понятовский считает
снижение накала классовой борьбы по мере ликвидации
«островков нищеты», дальнейшее развитие социальной
инфраструктуры, рост социалыю-профессионалыной
мобильности населения. Вместе с тем произойдет
расширение элиты, которая включит в себя новую «правящую
группу», состоящую из многочисленных специалистов по
«телематике». Постоянное увеличение ее численности
призвано вдохнуть и новую жизнь в идею «общества
равных возможностей». Объясняя преимущества демократии
«научного» общества, Понятовский обещает, что
управление будет передано в руки наиболее талантливых и
образованных людей, что каждому сыну рабочего,
проявившему способности, будет предоставлен шанс подняться до
самой высокой ступени в общественной иерархии. Все это
выглядит пока как обычная розовая
либерально-технократическая утопия.
Однако, продолжает Понятовский, и в обществе,
перешедшем в «иное измерение», жизнь человека будет по-
прежнему подчиняться «фундаментальным законам
бытия», таким, как закон естественного отбора, «борьбы за
выживание». Препятствия на пути к «научной» эре как
для индивидов, так и для наций не будут сводиться к
отдельным «недостаткам», устранив которые можно
«догнать свое время». Речь идет теперь об общем уровне
развития культуры. Имеется в виду не уровень
интеллектуальной элиты, а среднего человека, или всей нации в
целом. Таким образом, закон естественного отбора
проявится в более жестких формах, чем это было прежде.
«Переход к «научному» обществу коснется всей
совокупности способностей и качеств индивидов, социальных
групп и наций, а также появляющихся новых
многонациональных образований» (14, р. 81). И далее
Понятовский обращается к знакомому уже нам по выступлениям
«новых правых» мотиву. История, пишет он,
свидетельствует о том, что «именно индоевропейская раса несет в
себе научный, технический и культурный порыв,
обеспечивший взлет нашего общества» (14, р. 94). И,
следовательно, европейцам во имя их этнического, языкового,
этического и политического прошлого необходимо спло-
210
титься для того, ч-гобы «воссоздать индоевропейские
ценности людей белой расы и доверить свою судьбу
будущему, которое нигде еще не описано» (14, р. 37).
Многочисленные ссылки «новых правых» та новые
научные концепции и исследования не могут скрыть
того, что оиш воплощают в себе дух обскурантизма и
иррационализма. Теоретики «новых правых» представляют
науку в роли нового гнозиса, облекающего их властью
пророков. Выступая от имени биологии и других паук,
они фактически возводят в статус научных категорий
иррациональный «голос крови», толкуют тайны
генетического кода не только в духе неизбежности господства над
миром «биоинтеллектуальной элиты» (13, р. 157), но
именно в духе господства ими избранных элит и
народов. За их позитивистскими заявлениями об
«освобождении разума от метафизики» скрывается попытка
освободить метафизику от разума. Попытка использовать такие
понятия, как «естественный отбор», «хромосомная
болезнь», «генетическая мутация», для объяснения
социальных явлений и для «научного» обоснования элитаристской
политики в теоретическом отношении несостоятельны и
носят явно спекулятивный характер. Утверждение
различий и неравенства между индивидами дополняется у
«новых правых» классификацией этнических групп и рас
с последующим типичным для расистов выделением
«избранных» народов
Известный французский биолог Альбер Жаккар
указывает, что ссылки «новых правых» па «последние
открытия биологии» подтасованы. Ссылкам правых на «научно
установленные» аргументы, пишет Жаккар,
непосвященный читатель обязан верить на слово. Между тем они
являются «фальсификацией науки» и свидетельством
полнейшего незнания «азбуки» современной биологии»
(10, р 2). Биология доказала, что все люди различны,
причем эти различия гораздо значительнее, чем
представлялось раньше. Но из этого не следует, что есть
«лучшие» и «худшие», «высшие» и «низшие».
Недопустим, пишет Жаккар, легкомысленный перепое данных
биологии в философию, социологию и политику.
Идеи «новых правых» в целом имеют откровенно
антидемократический, антинародный характер. Их
проповедники, впрочем, и не считают нужным скрывать своего
презрения к людям, третируемым как «массы». «Массы»
для Бенуа — синоним серости, «гигантский показатель с
нулевым коэффициентом... лишенным смысла». В рецен-
211
зии на книгу Ж. Бодрийяра «В тени молчаливого
большинства, или конец социального» 8 Бену а повторяет
характеристики, демонстрирующие его собственное
восприятие: «Массы без свойств, без качеств, как бездонная
черная дыра... Они впитывают все социальное и
политическое электричество и нейтрализуют его без возврата... Они
сила инерции» (цит. по: 1, р. 99—100).
Тем не менее, как пишет Ж. Брюнн, пропаганда
«новых правых» способна привлечь к себе именно тем, что
она эксплуатирует идеи «порядка», противопоставляемого
современному хаосу капиталистического мира. Если
40 лет тому назад подобные идеи вызывали всеобщее
возмущение, то сегодня, высказываемые открыто, под
лозунгами «научной объективности», они могут
показаться естественными и незаметно завладеть сознанием.
Но, «сбрасывая со счета менее умных и красивых, менее
молодых и образованных, общество понесет больше жертв,
чем принесла война, развязанная немецким фашизмом»
(9, р. 63).
Не переоценивая политического и интеллектуального
значения «новых правых» в социально-политической
жизни современной Франции и в более широком контексте
стран капиталистического Запада, необходимо все же
определить их реальное место и роль в
политико-идеологической борьбе современности.
Несомненно, течение «новых правых» вливается в
русло тех идейных потоков, которые связывают свои
представления об общественном развитии с глубокой
ностальгией по прошлому, отражают испуг перед социальными
последствиями прогресса и ищут корни его пороков в
духовных и интеллектуальных основаниях европейского
ренессанса, рационализма, Просвещения, либерализма и,
конечно, марксизма. В этом широком смысле оно может
быть отнесено к неоконсерватизму. Однако ностальгия
«новых правых» по архаическим порядкам и структурам
сопровождается назойливыми декларациями в пользу
«нового». Декларации эти, впрочем, неопределенны и
туманны.
Единственно конкретная идея политического
характера связана с выступлениями в пользу обновления элиты.
Но никаких указаний на то, какими методами правые
хотят осуществить это обновление и какими способами
8 Baudrillard J. A l'ombre des majorites silencieuses ou la fin
du social. P., 1978.
212
рассчитывают его поддерживать, в их сочинениях нет.
А между тем это ключевой вопрос всякой политической
теории, без ответа на который она не может
рассматриваться как что-то большее, чем набор общих фраз.
Примерно так же выглядит флирт «новых правых» с
наукой. Возрождение архаических структур и нравов,
архаического менталитета плохо согласуется с признанием
и применением в широких масштабах науки. Как
представляют себе «новые правые», симбиоз «долгой памяти»
и кельтских мифов с рациональноннаучной психологией
(а в этом состоит их идея «нового» человека) также
остается нераскрытым. Единственный более конкретный
аспект — применение генетики и евгеники для «выведения»
более совершенного человека. Но как мыслят себе
Бенуа и Повель практику этого применения, они не
сообщают. Рассуждения относительно сочетания «долгой
памяти» и генетической науки скорее предстают как
попытки укоренить представления о расовой и расово-со-
циальной исключительности, использовать авторитет
науки для подкрепления претензий на «первородство» и
превосходство одних этнических групп перед другими,
как способ переключить внимание масс с реальных
социальных конфликтов в сферу национальных междуусобиц
и споров по поводу родословной.
Главным объектом нападок «новых правых» является
эгалитаризм. При этом совершенно очевидно, что
борются они не только против той уравниловки, с лозунгами
которой выступают леваки. Бенуа, Повель и иже с ними
ополчаются против марксизма и реального социализма,
которым они приписывают черты той же самой
уравнительности, полностью игнорируя теорию, принципы и
конкретную практику коммунистических и рабочих
партий, борьбы за достижение социального равенства.
Одновременно «новые правые» не признают и
буржуазно-либерального эгалитаризма с его принципами
«равных шансов», рыночной экономики, конкуренции,
формальной демократии и реальным социальным
неравенством. По некоторым высказываниям «новых правых» можно
судить о том, что их не устраивает социал-реформизм,
социальная политика буржуазного государства. Вместе с
тем их особо страшит перспектива достижения реального
равенства некоренным населением стран Запада и
неевропейскими странами.
В своих рассуждениях Бенуа и Повель ратуют за
подчинение общества иерархии «воинов и священников». Как
213
совместить это с современным уровнем развития
производительных сил, науки и техники, они прямо не
сообщают. Представить себе такое совмещение иначе чем в виде
авторитарного государства, опирающегося на
милитаризованную экономическую и социальную организацию
практически невозможно. Нельзя же на самом деле
всерьез воспринимать людей будущего в виде своего рода
свободных воинов, рыцарей и трубадуров, какими их
рисуют Бенуа и Повель, примерно так же, как
фашиствующий писатель д'Аннунцио наряжал в маскарадные
костюмы берсальеров своих сторонников в
оккупированном Фиуме. А между тем в отличие от сторонников
альтернативных движений «новые правые» отнюдь не
стремятся к отказу от современной технологии и от
современной, опирающейся на энергетику экономики, если не
считать, разумеется, легковесных призывов к аскетизму
и «железному романтизму».
Таким образом, в лице «новых правых» мы имеем
группу политиканствующих литераторов, создавших
некую квазитеорию, сильно отдающую ксенофобией,
расизмом и «кулачной расправой». И в этом ее опасность.
Что касается близости «новых правых» к фашизму, то
этот вопрос заслуживает особого рассмотрения.
Писания Бенуа, если исключить из них игры в
«номинализм», поразительно напоминают сочинения довольно
известного немецкого социального философа и
политолога, ученика Хайдеггера и Кляггеса, неогегельянца
Карла Шмитта, который так же, как идеолог
«консервативной революции» Меллер ваш дер Брук, как
национал-социалист С. Паннунцио и некоторые другие, сыграл роль
духовного отца, наставника немецкого и итальянского
фашизма.
Остается удивляться академической невзыскательности
французской Академии, присудившей Гран-При автору,
чьи идеи похожи на плагиат с немецкого оригинала.
И дело не только в том, что сам Карл Шмитт, ставший
крупным судейским чиновником гитлеровского райха,
посвятил себя страстному оправданию фюреризма,
тотального государства и кровавой расправы Гитлера с
соперниками и противниками, подводя под нее правовое
обоснование. Дело в том, что взгляды Шмитта, пронизанные
ностальгией по средневековому военному разбою, идеями
«почвы» и «почвенной» несовместимости людей и народов,
идеями культа смерти, неприятия «абстракций» права,
демократии, социальных прав, идеями непримиримой.
211
смертельной, «экзистенционалыюй» вражды людей и
наций как сущностной основы политики, сыграли роль
интеллектуального пролога к фашизму, окропив и
освятив преступные замыслы его вождей.
Разумеется, фашизм — явление
конкретно-историческое и социально обусловленное, и наличие или
отсутствие интеллектуальной предтечи еще не предопределяют
появление фашизма. Однако живучесть мрачных
человеконенавистнических идей, их способность пересекать
временные и пространственные границы, питать самые
разнообразные националистические и расовые амбиции,
апеллируя к реалиям «своей» истории, «своей» культуры,
требуют постоянного внимания.
Литература
1. Benoist A. de. Les idees a l'endroit. P.: Ed. libres-Hallier, 1979.
298 p. (Essai).
2. Benoist A. de. Vu de droite. Anthologie critique des idees con-
temporaines. P.: Copernic, 1977. 626 p.
3. Benoist A. de. Fondements nominalistes d'une attitude devant
la vie.— Nouvelle Ecole, P., 1979, N 6, p.
4. Brunn J. La nouvelle droite: Le dossier du «proces». P.: Oswald,
1979 392 d
5. Chaunu P.', Suffert G. La peste blanche. P.: Laffont, 1976. 375 p.
6. Cristen J. L'heure de socio-biologie. P.: Copernic, 1978. 256 p.
7. Eysenck H.-J. L'inegalite de ГЪотте. Р.: Copernic, 1977. 288 p.
8. Hebert J.-P. Race et intelligence. P.: Copernic, 1977. 376 p.
9. Hourdin G. Reponse a la «Nouvelle droite». P.: Stock, 1979. 184 p.
(Les grands sujets).
10. Jacquard A. La politique du vivant: Eloge de la difference.—
Monde, P., 1979, juill. 19, p. 2.
11. Maiastra: Renaissance de l'Occident? P.: Plon, 1979. 324 p.
12. Pauwels L. Interwiew avec Croc J.-J. — Aurore, P., 1979, juill. 6,
p. 6.
13. Pauwels L. Comment devient-on ce que Ton est? P.: Collin, 1978.
290 p.
14. Poniatowski M. L'avenir n'est ecrit nulle part. P.: M. Albin, 1978.
431 p.
15. Vial P. Pour une Renaissance culturelle: La GRECE prend
parole. P.: Copernic, 1979. 283 p.
Глава VI
«Осовременивание вдогонку»:
перипетии теории модернизации
Ориентированное на «разумный», рыночный мир
традиционное буржуазное мышление уже давно встревожено
перспективой гибели этого мира в конвульсиях и тупиках
глобального развития. Одним из проявлений этой тревоги
и одновременно попыткой привести к некоему единому
знаменателю сложности, противоречия, диспропорции
мирового общественно-исторического процесса явилась теория
«модернизации».
В основе понятия «модернизация» лежит идея
различного по своему типу перехода обществ от
иррациональной «традиционной» стадии, ассоциируемой главным
образом с социальными отношениями патриархально-
феодального типа, к рассматриваемой как рациональная
стадии «модернизированного общества», отоя^дествляемо-
го с социальной моделью индустриального
капиталистического типа. Речь идет, таким образом, о попытках
трактовать политические и социально-экономические
проблемы современности в определенной исторической и
социологической ретроспективе, с точки зрения того
переломного в развитии каждой страны этапа, когда
радикально меняются модели мышления, поведения,
экономика, политика, культура.
Квинтэссенцию рассматриваемого подхода составляет
теория «опоздавшей модернизации», согласно которой тип
развития и характер социальной и политической систем
современных обществ, а такя^е их роль в международных
отношениях в решающей степени зависят от того, явился
ли и является ли происходивший или происходящий в них
процесс модернизации самобытным, «первичным» или же
наведенным, «вторичным», «третичным»; выступает ли он,
иными словами, как естественный внутренний процесс
или же как «осовременивание вдогонку», т. е. как гонка
за уже модернизированными системами.
«Вторичная» модернизация при этом предстает как
имитационный процесс, сопровождающийся распадом
общества на отдельные не соответствующие друг другу
фрагменты и образованием огромных разрывов и перепа-
216
дов между различными частями всех его основных
подсистем: экономико-технологической,
социально-политической и социокультурной. Направленное на ускорение
модернизации стремление любой ценой подогнать отдельные
фрагменты: отрасли производства, типы культуры,
отдельные политические и административные институты
и т. п. приводит лишь к усугублению социальных и
интеллектуальных несоответствий внутри общества и
порождает структуры, в которых под «модерыизирован-
иостью» скрываются либо традиционные отношения, либо
хаос «эрзац-модернизации».
Этот иногда обнаруживающий себя, а иногда скрытый
под плотными политическими оболочками внутренний
хаос «вторичной» модернизации рассматривается как
серьезная опасность устойчивости «рационального» мира,
созданного на протяжении векового развития
классическим капитализмом. Апологетический и ностальгический
по отношению к этому миру смысл теории с особенной
яркостью проявляется тогда, когда воздействием
хаотических тенденций и вытекающей из них политической
экспансии и дестабилизации мировых отношений
объясняются кризисные события внутри самого «рационального»
капиталистического общества.
Неудивительно, что хотя подход с точки зрения
«осовременивания вдогонку» выступает как исторический и
социологический, его конечный смысл, его «сверхзадача»
сосредоточены в сфере политики. Не случайно идеями
модернизации пронизаны взгляды ряда ведущих
политологов.
Центр тяжести исследований «поздней модернизации»
сосредоточивается на проблемах политики развития:
какие типы политики, идеологии, политической системы
вызывает к жизни «опоздавшая модернизация»; какой тип
внутренней и внешней политики и какой тип
политической системы или политического режима оказывается
наиболее способным справиться с ее противоречиями;
наконец, какая система международных отношений между
«модернизированными», «немодернизированными» и «ква-
зимодернизированными» странами и какие
внешнеполитические и международные институты должны быть
использованы в качестве «ответа» на «вызовы» «поздней
модернизации».
Если при своем формировании теоретическая
конструкция «осовременивания вдогонку» практическим
острием была обращена к проблематике развивающихся стран,
217
то за последние годы она все более выдвигается в
качестве универсальной концепции, призванной
истолковывать в едином ключе все крупные события современной
политической истории. В этом плане следует
рассматривать резко усилившийся интерес ряда буржуазных
политологов, историков, социологов к идеологиям популизма,
национал-синдикализма, фашизма, которые
расцениваются однозначно как более или менее «закономерные»
формы выбора в пользу националистического способа
решения задач «осовременивания вдогонку». В данном
контексте «диктатуры развития» — характерное с точки зрения
рассматриваемой концепции явление нынешних
развивающихся обществ — как бы находят свои прототипы в
политических режимах, возникших в первой половине
XX в. на европейском континенте. Антипарламентариые,
«антирыночные», «аптиденежные» движения и
порожденные ими авторитарные режимы в Европе стали
рассматриваться как аналоги нынешних политических систем и
процессов в странах, пытающихся догнать
«модернизированный» мир. А современные внутренние и внешние
политические отношения — как результат исторического
столкновения различных фаз и типов модернизации.
С точки зрения идеологов «осовременивания
вдогонку», весь нынешний мир может быть представлен как
динамическая система, диалектика которой задается
противоречиями рационального и традиционного,
конституированными на множестве самых разных уровней любого
общества в различные по своей конфигурации, объему и
плотности психологические, социальные, культурные,
экономические фрагменты: отдельные пласты личности,
фрагменты идеологий, наборы ценностей, направления
политических курсов и т. п. Концепция «осовременивания
вдогонку», не представляется целостной теорией, четко
ориентированной в границах определенной школы. Хотя
своими методологическими корнями она определенно
восходит к теоретическим идеям М. Вебера и Т. Парсонса,
целый ряд исследователей формально не связывает себя
с данным методологическим направлением, а некоторые
и вообще не склонны рассматривать собственные взгляды
как разновидность концепции «модернизации».
Среди тех, кто принимает представление о
«модернизации как о рационально направленном историческом
процессе, определившем и определяющем структуру
современного мира или отдельных обществ, можно
встретить относительных оптимистов и глубоких пессимистов,
218
представителей экономического, технологического или же,
напротив, социокультурного детерминизма, адептов
неоклассической политэкономии и поклонников «единого
индустриального общества», а вместе с тем их критиков или
скептиков, апологетов «рыночной» демократии как
всеобщей политической модели и сторонников «диктатур
развития».
При этом значительная часть буржуазных ученых,
разделяющих и применяющих в исследованиях взгляд на
социальную проблематику современного мира как на
продукт «модернизации», склонна оперировать категориями
социального анализа, учитывающими историческое
значение развития производительных сил и других естествен-
иоисторических факторов, а также неравномерность
развития различных обществ, хотя и в своеобразной
эволюционистской интерпретации.
При всем различии в формальной методологической
ориентации, при всей разноуровневое™ и определенной
эклектичности исследований их общие черты и общая
направленность позволяют отнести к сторонникам
рассматриваемого подхода и таких бесспорных «теоретиков», как
Марион Леви (25), Габриель Алмонд (4; 5; 6), Роберт
Даль (9), Уолтер Ростоу (36), и таких относительных
«эмпириков», как Фред Риггс (34), Сэмюэл Хантингтон
(17), исследователь фашизма Джеймс Грегор (14; 15)
или «советолог» Джон Каутский (22; 23). Более того,
идеи «осовременивания вдогонку» послужили толчком к
переосмыслению и обновлению исследования условий,
в которых формировались общества «классической»
модернизации, как об этом свидетельствуют, например,
работы английского историка и политолога Г. Перкииа (32)
или американского экономиста Р. Хейлбронера (16).
Одновременно с эволюцией ученых, выступавших
вначале как «специалисты» по политике развития в странах
Азии, Африки и Латинской Америки, а затем все более
стремившихся придавать своим моделям универсальный
общеисторический смысл, появилась тенденция к
универсальному истолкованию соответствующих моделей в
критической литературе о них. Распространение идей
«осовременивания вдогонку» вызвало встречный поток критики
и скептицизма как со стороны главным образом
радикальных теоретиков, так и со стороны некоторых эмпириков,
не говоря уже о спорах между теми, кого можно было бы
отнести к кругу сторонников данного подхода.
Радикальная критическая струя, наиболее сильная на европейском
219
континенте и в развивающихся странах, как можно
судить, например, по работам Д. Лемаиа, Д. Сирса и
особенно Д. О'Брайена (8), сосредоточена прежде всего на
идеологических вопросах. Теория модернизации на взгляд
радикальной критики представляется не только вестерыи-
заторской, пропагандирующей превосходство западных
демократий и западного образа жизни, но и глубоко
консервативной, ориентированной на поддержание статус-кво
в западных странах ценой торможения процессов
революционных изменений в развивающихся странах под видом
их «стабилизации». Что касается методологического
аспекта, то позиция радикальной критики хорошо передана
советским социологом-ориенталистом В. Г. Хоросом: она
отвергает стремление теоретиков и эмпириков,
занимающихся проблемами «осовременивания вдогонку»,
смотреть на эти проблемы как бы извне, как бы со стороны,
в то время, как изучение их необходимо вести
изнутри (3). В эмпирическом плане, как показывает, например,
работа К. Боллена (7), предпринимаются попытки
поставить под сомнение модели поздней «модернизации» с
помощью статистического анализа (хронологического и
экономического), доказывающего слабую корреляцию между
продолжительностью развития, политической
стабильностью, типом политики и экономическим уровнем
развивающихся систем. В обществах, давно вступивших на
путь модернизации, далеко не всегда отмечается
стабильность демократии и, наоборот, ряд обществ, сравнительно
недавно осуществивших крупные перемены в современном
духе, выработал устойчивые политические системы —
таков основной довод Боллена. Решающим, с его точки
зрения, является не исторический, а экономический
фактор — степень развития производства, и прежде всего
энергетики.
Существует также направление критики, стремящееся
опровергнуть универсальность всей схемы модернизации,
противопоставляя ей представление о развитии как
уникальном процессе, свойственном каждой данной стране
и определяемом исключительно или же главным образом
ее специфическими факторами. Наконец, теория
модернизации критикуется так плоско эволюционистская,
абстрактная, вульгарно-социологическая.
Пожалуй, наиболее полно и теоретически развернуто
концепция «осовременивания вдогонку» изложена
американским социологом Марионом Леви-младшим, главным
образом в выдержавшей несколько изданий, но малоизве-
220
стной в СССР работе «Модернизация и структура
обществ. Матрица международных отношений». В
культурологической и структурно-функциональной по своей
базисной методологической направленности работе М. Леви
ощущается определенное влияние концепций
технологического детерминизма и модных в период написания
работы организационных теорий. Сосредоточиваясь как
социолог на синхронном подходе к проблеме, автор вместе
с тем широко привлекает исторический материал. И хотя
в работе Леви прежде всего сопоставляется в теоретико-
социологическом плане «модернизированный» западный и
«немодерпизировагшый» остальной мир, сама концепция
поздней модернизации совершенно определенно
распространена автором на многие процессы и страны
Западной и Восточной Европы, а работа в целом может
рассматриваться как попытка создания универсальной
теории. Характерно, что М. Леви на протяжении своего
исследования неоднократно подчеркивает неприемлемость
проведения демаркации между «модернизированным» и
«немодериизироваипым» или «модернизирующимся»
миром по линии Запад—Восток.
Отправляясь от восходящего к М. Веберу и Т. Парсон-
су представления о социально-историческом процессе как
движении от иррационально-традиционных к
инструментально-рациональным отношениям, автор набрасывает
теоретическую модель двух противоположных типов
общественных систем: модернизированной и немодернизи-
рованной. Каждый тип прослеживается им в разрезе его
структур и функций на множестве уровней и в различных
аспектах. Затем, не вдаваясь в детали исторического
процесса формирования «модернизированного» общества,
М. Леви сосредоточивает внимание на механизмах
вторжения готовых модернизированных моделей в контекст
не успевшего естественным путем модернизироваться
общества. Собственно этот процесс взаимодействия
внешнего потока «рациональных» структур с «традиционными»
в рамках опоздавшего в своем развитии общества и
рассматривается им на различных
структурно-функциональных уровнях как процесс «осовременивания вдогонку»,
ставший всеобщим в XIX—XX вв.
Разумеется, термины «модернизированный» или «не-
модернизироваиный» американский социолог считает
условными. Принципиальный сторонник факторной
социологии, Леви отказывается выделить один или несколько
главных критериев «модернизированности». Общество
221
первого типа сочетает в себе ориентированную на
энергетику технологию массового производства; глубоко
разветвленную организацию, которая одновременно
аналитически дифференцирована и синтетически рационально
централизована; широко мыслящего, способного более или
менее точно охватить в своем умственном горизонте всю
взаимосвязанную сложность технологических и
организационных структур, практически эффективного человека.
Человек этот вместе с тем представляет себе свою и
чужую жизнедеятельность как совокупность определенных
ролей в масштабном контексте. Человек
модернизированного общества строит свои отношения с природными и
предметными партнерами как инструменталист на основе
универсально окрашенных оценок реальных функций,
целесообразности действий, соответствия между ресурсами,
средствами и целями и т. п. Поэтому он не склонен
действовать, не предусмотрев широкого круга мельчайших
последствий своих действий, не соразмерив своих ожиданий
и запросов с возможностями. В этом смысле он
выступает как эмоционально сдержанная личность, склонная
к четкому определению своих (и своих партнеров) прав
и обязанностей. С другой стороны, он не склонен априори
считаться с такими случайными, «приписными», по
терминологии Леви и Парсопса, моментами, как этническое
или сословное происхождение партнера, его
«интеллигентность», «родовитость» или классовая принадлежность.
Главное в этом обществе — оценка эффективности в
своем деле и экспертная, «более или менее научная» оценка
самого дела. Без этого, как подчеркивает Леви,
немыслимо организовать и управлять всей сложной
крупномасштабной и глубоко дифференцированной в своих
структурах технологической, экономической и социальной
системой модернизированного общества. Рыночные,
денежные и договорные отношения в этом эмоционально
нейтральном и эмансипированном от родовых, сословных
и других частных пристрастий обществе являются
нормальным регулятором всего спектра социальных
отношений, своего рода универсальным способом наиболее
пластичного переноса самой разнообразной информации о
личности, группе, институции от одного элемента
общества — к другому.
Напротив, иемодернизированное общество,
оперирующее главным образом мускульной энергией животных и
человека, живущее слитными, маломасштабными, легко
обозримыми группами, строит свои отношения на более
222
или менее иррационально связанных между собой
элементах опыта. Не отрицая в принципе рационального
содержания традиций, Леви указывает на то, что
«рациональное» воспринимается и реализуется в тесной связи
со случайным и лишь постольку, поскольку оно
становится элементом повторяющегося опыта. Традиционное
общество живет не по принципу: «действуй, потому что
данное действие закономерно должно привести к
определенной цели», а по принципу: «действуй, потому что так
делали до тебя» или «действуй, потому что так
действуют другие». В этом обществе случайно связанные
элементы опыта приобретают значение традиций и силу ярко
эмоциональных мотивов поведения, тем более ярких, чем
значительнее кажется отклонение от опыта. Здесь
оцениваются прежде всего не реальные результаты действий
лиц и институтов, а «приписные» свойства, ожидательные
иллюзии, ориентированные на случайности
происхождения, этнической принадлежности, проживания в
определенной местности, образовательного статуса и т. п. В силу
этого рынок, деньги, договоры не могут играть здесь роль
универсальных регуляторов, поскольку они не в
состоянии служить средством переноса огромного количества
совершенно случайной, частной информации, которая,
образуя иррациональные конгломераты, главным образом
мотивирует поведение «немодернизированиого» человека.
И тем не менее общество второго типа, соблазняясь
видимыми достижениями обществ первого типа, главным
образом в материальной сфере, притягивает, заносит в
свою среду готовые элементы первого. Независимо от
того, осуществляется ли это под воздействием внешней
колонизации или же в силу «внутренней колонизации»
как результат деятельности различного рода
«модернизаторов», вторжение готовых моделей первого типа (в виде
ли изделий, в виде ли технологий, в виде ли институтов,
правовых норм и т. п.), с одной стороны, взрывает
структуру «немодернизированиого» общества, а с другой — не
превращает его в «модернизированное» общество.
Реальный результат такого вторжения сводится на самом деле к
извращению традиционных инфраструктур, не способных в
короткие сроки переварить то, что в других местах было
создано вследствие длительного накопления структурных
изменений. Иными словами, внедренные в новый контекст
элементы модернизированного общества перестают
функционировать в нем как рациональные, и в то же время
немодернизированные элементы не могут функциониро-
223
вать как традиционные. Симбиоз оказывается, как
правило, неплодотворным. Так, современная техника или
технологические процессы утрачивают свою потребительскую
ориентацию, фетишизируются, становятся источником
производства для производства или производства во имя
партикулярных «национальных», «патриотических» и
т. п. символов. Обезличенные возмездные трудовые и
обменные отношения, без которых немыслимо поддержание
крупномасштабной экономики, вызывают протест и
стремление интерпретировать их как безвозмездные и
личностные. Трудовая и социальная мобильность, необходимые
для обеспечения автоматического регулирования
экономических процессов, приобретают извращенный характер,
поскольку переходы с одного предприятия на другое, из
одной профессии в другую, из одной социальной группы
в другую рассматриваются как «нарушение верности»
и т. п.
Главное же для Леви состоит в том, что в результате
такого рода искусственного скрещивания все общество на
всех уровнях испытывает крайние напряжения. Все его
элементы — группы, институты, личность — теряют
устойчивость, раздираются противоречиями. Но поскольку
процесс модернизации необратим, единственным способом
какого-то поддержания стабильности американский
социолог считает авторитарные политические режимы, хотя
весьма скептически оценивает и их способность
справиться с трудностями «осовременивания вдогонку». Он
высказывается за усиление авторитарности, причем не только
в развивающихся, но и в развитых странах.
Любопытно, что в отличие от большинства собратьев
по теме, М. Леви не считает процессы модернизации
завершенными в каких-либо конкретных странах. Даже в
США он прослеживает сильное влияние «партикулярист-
ского» мышления и другие проявления традиционных
структур. Каждый новый виток модернизации, как можно
понять из его рассуждений, способен не только обострить
конвульсии обществ, переживающих запоздалую
модернизацию, но и вызвать аналогичные явления в самих
относительно модернизированных системах. Главный
вывод Леви — не допустить дестабилизации рациональных
обществ под воздействием встречных процессов
запоздалых модернизаций и прежде всего не допустить
вовлечения крупных развитых стран в междоусобный конфликт,
в который они волей-неволей втягиваются под
воздействием напряжений и хаоса «осовременивания вдогонку».
224
Представление о современном развитии как процессе
«осовременивания вдогонку» в ряде случаев отличается
существенными теоретическими и практическими
оттенками. Габриель Алмонд — крупный американский
ученый, автор теоретических и эмпирических исследований,
связанных главным образом с введенным им в оборот
понятием неоднородности политических культур, так же,
как и М. Леви, принадлежит к
структурно-функциональному направлению американской общественной науки.
Опираясь на эмпирические исследования политической
жизни развивающихся стран, дополненные затем
сравнительным исследованием «гражданской культуры» ряда
европейских капиталистических стран, Алмонд выступил с
типологической схемой, во многом отличной от
сложившегося до него в государствоведении и политологии
представления о классификации политических систем. Если ко
времени выхода в свет работ Г. Алмонда в
континентальной государствоведческой и политологической литературе
господствовало представление о двух типах политических
систем — демократической и авторитарной (или
«тоталитарной»), дополнявшееся классификацией по
политическим режимам, то Алмонд, введя социокультурные
критерии, указал на неоднородность самих буржуазных
демократий (точно так же, как и недемократических режимов).
Он не только отметил различие между буржуазными
странами но степени стабильности демократических режимов,
но и попытался найти источник этого различия (5).
Именно для этого он вводит понятие «политическая
культура», которое затем и кладет в основу схематической
классификации политических систем. Таким образом,
если, с точки зрения одного из наиболее популярных
политологов 50—60-х годов, М. Дюверже (разделявшейся
подавляющим большинством буржуазных ученых), США,
Англия, Франция, Италия и т. п. без особых сомнений
относились к одному типу «демократий», то, по
классификации Алмонда, они вошли в совершенно разные
типологические группы, что открывало возможность
продолжить своеобразный эволюционный типологический ряд,
доведя его через определенные переходные признаки до
стран Азии и Африки. По сути дела, в основу
намеченной американским политологом классификации оказался
положенным веберовский критерий «рациональности»
общественной системы (хотя Г. Алмонд избегает самого
термина). Наиболее рациональные в типологии Алмонда
8 Заказ № 3610
225
системы — англосаксонская и скандинавская (к которой
он относит также Голландию) — отличаются
соответствием структур и функций, их глубокой дифференцирован-
ностью, инструментальной политической культурой, в
которой доминируют поведенческие модели торга и
компромисса. Здесь, как писал Г. Алмонд, господствует
«атмосфера политического рынка». Культуры этих стран более
или менее однородны с точки зрения внутренне
разделяемых населением основных политических ценностей.
Напротив, культуру Франции, как и большинства других
континентальных стран, отличает наличие крупных
пластов представлений и поведенческих моделей,
унаследованных от прошедших эпох: нетерпимость, фанатизм в
достижении иллюзорных религиозных или
идеологических целей, ориентация на традиции. Соответственно
здесь налицо менее четкая дифференциация структур по
функциям: роли различных институтов, учреждений и
отдельных лиц часто смешиваются, приводя к
иррациональным последствиям и уклонению от
прокламированных задач и целей. Результатом такого рода структурных
особенностей оказывается нестабильность политических
режимов, постоянные колебания между демократией и
авторитаризмом. В странах третьего и четвертого типов,
к которым относятся соответственно недостаточно
индустриально развитые европейские страны и страны
других континентов, отмечается в принципе то же
положение, однако удельный вес традиционных структур здесь
значительно выше, в результате чего возникает новое
явление — полное разведение структур и функций:
отдельные институты, выступая формально как
«демократические» и «современные», на самом деле продолжают
функционировать как традиционные. Это явление,
приводя к разрыву целей, с одной стороны, и реальных
результатов — с другой, создает эффект «квази» современных
систем: квазипарламеитов, квазипартий, квазиплапирова-
ния и т. п. (4; 5).
Концепция Г. Алмонда, будучи во многом
описательной и импровизационной, как мы видим, существенно
уступает в смысле аргументации теоретически
значительно более изощренной версии запоздалой модернизации,
изложенной М. Леви. Во-первых, Алмонд останавливается
только на политических аспектах общей социокультурной
неравномерности мирового развития. Во-вторых,
исторический фон в его построениях лишь едва угадывается,
226
а соответственно весьма туманными выглядят
перспективы. В-третьих, концепция Алмонда в целом скорее
статична, нежели динамична, и, хотя его считают
эволюционистом, в равной мере он может быть назван социальным
консерватором. В-четвертых,— и это вытекает из трех
перечисленных выше особенностей — позиция Г. Алмонда
выглядит как подчеркнуто англосаксоцентричная, что
придает ей особый идеологический смысл. Тем не менее
родство обеих концепций как в исходных предпосылках,
так и в направленности выводов очевидно. Если
рассматривать взгляды двух упомянутых авторов как элементы
одной общей идейно-теоретической системы, то нельзя не
обратить внимание на то, что главным «вкладом» Г.
Алмонда в теорию «осовременивания вдогонку» явилось
указание на эффект «квазимодерпизации», на то, что в
контексте традиционной культуры те или иные
«модернизированные» институты в силу структурной
(социокультурной) недостаточности выполняют совершенно не те
функции, к которым они призваны в своем собственном
контексте, в результате чего возникают дисфункции или
даже «антифункции» внутри квазимодерпизироваипых
моделей.
Уолтер Ростоу, один из наиболее убежденных адептов
эволюционной концепции глобального развития, автор
теории стадиального роста и приверженец конвергенции,
также обратился к теме запоздалой модернизации и, так
же как и Г. Алмонд, сделал это в связи с освещением
политических проблем социально-исторической эволюции.
Исходной предпосылкой размышлений Ростоу стал поиск
источников совершенно очевидных помех, возникших на
пути «гладкой» эволюции и гармонического перехода
отдельных обществ от «низших» к «высшим» стадиям
намеченной им в известной работе «Стадии экономического
роста» схемы развития. По мнению Ростоу, поиск
источника этих помех и их последствий невозможен без
обращения к сфере политики, освещению которой он и
посвятил свою работу «Политика и стадии роста» (36). Однако,
хотя У. Ростоу и придерживается в этой работе взгляда
на политику как на в существенной мере
самостоятельную и независимую сферу социальной жизни, объяснение
самих политических структур и характера политики
отдельных обществ он все же ищет в основном именно в
специфике условий и темпов модернизации отдельных
стран. В отличие от Г. Алмонда и М. Леви этого автора
227
8*
как историка и экономиста прежде всего интересует более
детальный исторический анализ самих условий начала
модернизации. Разбив весь процесс роста на несколько
фаз, Ростоу сравнивает процессы, происходившие в
каждой из этих фаз в различных странах, прежде всего в
странах оригинальной, спонтанной модернизации и р
странах вторичной, отраженной модернизации, с тем
чтобы выявить политические последствия этих различий и
перспективы дальнейшего развития.
Ростоу отмечает, что качественное развитие общества,
пережившего промышленную революцию, связано с
регулярным использованием науки и техники для
производства товаров, услуг и иных благ. Наиболее важным
изменением, пишет Ростоу, явился «сдвиг в психологии»,
связанный с убеждением в способности человека понять
окружающий мир, управлять им на основе непрерывно
изучаемых и постигаемых правил и законов.
Уже в классическом традиционном обществе угроза
постоянных экономических крахов и неспособность
человеческого разума подчинить себе силы природы приводи-
лр1 к доминированию политической сферы, от степени
рациональности которой зависела во многом эффективность
функционирования общества.
Связывая, таким образом, модернизацию с
рационализацией, Ростоу подчеркивает циклический характер
первичной модернизации. Рациональные фрагменты в
традиционном обществе закрепляются циклами,
определяемыми уровнями познания в соответствующих сферах и
секторах общества. Технологическая, экономическая и
политическая модернизация, чередуясь, достигают
определенного размаха, приближаются к порогу технического
скачка. Таким образом, постепенно, циклами создаются
интеллектуальные и материальные предпосылки для
образования нового (модернизированного) общества —
коммуникации, товарообмен, развитие материального
производства, рост знаний, навыков и влияния купечества,
ремесленников, технических и административных
специалистов, универсализация отношений в рамках крупных
политико-административных структур при одновременной
специализации и групповой автономии в рамках
монопольных структур власти. Однако размах этих
спонтанных процессов, степень развития соответствующих циклов
далеко не одинаковы в истории различных обществ. Весь
процесс спонтанной модернизации представляет собой как
228
бы первую подготовительную фазу индустриализации,
и эта фаза лишь в немногих обществах достигает своего
апогея в доньютоновскую эпоху. С этого момента
возникает крутой водораздел между развитием традиционных
обществ, перешагнувших порог модернизации и
превратившихся в индустриальные общества, и обществ,
затянувших первую фазу модернизации. Их дальнейшая
эволюция проходит под знаком вторжения
модернизированных обществ, осуществлявшегося, по мнению Ростоу,
в трех направлениях: военное вторжение, включая
колонизацию; экономическая экспансия; передача новых идей
и профессиональных знаний посредством массовой
информации. Внешние вторжения, пишет Ростоу, всегда
создавали угрозу безопасности традиционных обществ. Но
теперь они заставляют эти общества вступить на путь
изменений, более мучительный и длительный, чем это имело
место на первой фазе спонтанной модернизации в
обществах, осуществивших ее при относительно
незначительном внешнем влиянии. Проблемы опоздавшей
модернизации, «осовременивания вдогонку» Ростоу связывает с
качественным различием между внесением в старую
социальную систему отдельных изменений, лишь некоторых
элементов современного опыта и новых тенденций, с
одной стороны, созданием целостной производственной и
социальной системы, достаточной для совершения
технического переворота,— с другой. Прежде чем совершится
такой переворот, пишет Ростоу, прежде чем в обществе
смогут возобладать модернизированные элементы, должна
произойти серия глубоких позитивных изменений. Силы
и тенденции, направленные на осуществление
модернизации, сталкиваются с сопротивлением сил и тенденций, ее
тормозящих. В этом столкновении и создаются различные
типы переходного периода.
В странах, где процесс спонтанной модернизации
осуществлялся более или менее равномерными циклами,
период технического скачка пал на сравнительно хорошо
подготовленную почву рациональной культуры и
парламентской демократии, обеспечив относительно
безболезненный переход от фазы промышленной революции к
фазе более или менее равномерного распределения ее
последствий на основе принципов компромисса, соглашения,
права, межпартийной конкуренции и т. д. В странах, где
циклический процесс оказался нарушенным и возникла
ускоренная фрагментарная модернизация, разрыв между
229
экономическими и политическими структурами,
сопротивление традиционных элементов и другие факторы
оказались значительно более сильными и привели к усилению
авторитаризма, борьбы за власть, к отсутствию
адекватных механизмов распределения последствий
технического скачка. Соответственно они привели к замедлению
перехода модернизации в следующую фазу. Теорию фаз
модернизации Ростоу пытается подтвердить на примерах
Англии, Франции, Германии, России, Японии, Китая,
Турции и Мексики.
По сравнению с взглядами Алмонда и Леви концепция
У. Ростоу отличается стремлением к широкому
использованию исторического и социально-экономического анализа.
Выступая как открытый оппонент революционного
марксизма, Ростоу в своей аргументации во многом
сближается с либеральным марксизмом, справедливо заслуживая
вместе с тем упрек в вульгарном экономизме. В то же
время в отличие от Леви, рассматривающего
«осовременивание вдогонку» как тупиковый процесс, и Алмонда,
склонного видеть в нем «квазимодернизацию», Ростоу
полон своеобразного оптимизма. Он уверен, что
необратимость модернизации рано или поздно приведет все
страны к завершению модернизации, к соответствующим
преобразованиям политических систем, внешней политики и
системы международных отношений на основе
комбинации буржуазно-либеральных и социалистических моделей.
Рассмотренные взгляды Г. Алмонда, М. Леви, У.
Ростоу, отражая общую реакцию буржуазной общественной
мысли на разочарование в плоскоэволюционистском
представлении прежней исторической социологии и
неоклассической политэкономии о перспективах мирового
развития как постепенной «модернизации» всех «традиционных»
обществ посредством экономического роста, «помощи»,
наращивания капиталовложений и повышения дохода на
душу населения, представляют собой в то же время
попытку теоретического углубления и развернутого
обоснования самой концепции модернизации как
универсального взгляда на ход мировой истории.
С несколько иных методологических позиций попытка
ревизии и обновления старой теории предпринята одним
из патриархов модернизационной концепции — С. Айзеи-
штадтом. Как «чистый» социолог, близкий школе
Малиновского, Айзенштадт избегает новшеств структурно-
функционального подхода и предпочитает обходить
системные проблемы социоэкономического развития. Мо-
230
дернизация, в его представлении, выглядит как процесс
постепенной экспансии новых институтов, норм и
моделей поведения, причины которой он не связывает с
изменением сознания, технологических навыков и
экономических отношений. Вместе с тем Айзенштадт, ссылаясь па
эмпирические данные, подвергает критике классический
эволюционистский взгляд, разделявший все общества на
«традиционные» и «модернизированные» и
представлявший будущее как процесс более или менее одинакового
перехода всех обществ из первой категории во вторую.
Ревизию классической теории модернизации
Айзенштадт связывает с введением термина «посттрадициои-
ное» общество, которым он обозначает в отличие от
прежних теорий общество переходного типа — вышедшее
из «традиционного» состояния, но не ставшее
«модернизированным». Концепция «посттрадициоыного» общества,
как пишет Айзенштадт, представляет собой попытку
выработки «новых подходов к главным проблемам
модернизации и развития», откликом «на широкое разочарование
относительно ряда предпосылок, из которых исходили
первоначальные исследования, в особенности
относительно дихотомии — «традиционное» и «современное»
общества, возникшей в классический период современной
социологии и пронизывавшей большинство исследований
развития и модернизации в 1950—1960-е годы» (10, р. 5).
Оставаясь в рамках «чистой» (т. е. преимущественно
«культурной») социологии, С. Айзенштадт переносит
центр тяжести своего критического выступления на
проблему традиции и ее роли в процессе модернизации.
В этом смысле он различает «традиции» и
«традиционализм», рассматривая последний исключительно как
негативную реакцию на нововведения, а не как
определенный тин мышления, психической организации и поведения
человека и социальной группы в обществе, что
представляется ключевым для концепций Алмонда, Ростоу и Леви.
Отделив, таким образом, традиции от традиционализма,
Айзенштадт вполне справедливо указывает на то, что
модернизированные общества отнюдь не свободны от
традиций и что сама модернизация, даже в таких странах,
как Англия, прошла не без использования традиций и
символики, унаследованной от прошлого. Из этих
предпосылок Айзенштадт делает два важных вывода. Первый
из них состоит в том, что традиции не должны
рассматриваться исключительно в негативном аспекте. Важно
изучать структуру традиций, выделять те их стороны,
231
которые могут способствовать безболезненной
модернизации. Второй вывод — каждое общество, опираясь на свои
традиции, создает собственный вариант модернизации.
В этом смысле «классический» западный тип
модернизации отнюдь не является обязательным. Соединяя этот
взгляд с представлением о модернизации как экспансии
отдельных осовремененных секторов или центров, Айзен-
штадт выдвинул в качестве одной из конструктивных
моделей модернизации схему постепенного роста урбанизо-
ваниых центров, вовлекающих в свою орбиту аграрную
периферию.
В идеологическом плане концепция Айзенштадта
оказалась более выигрышной для буржуазной политики, чем
теории Алмоида, Ростоу или Леви. Она гибко учитывает
широкую оппозицию вестерналистскому взгляду
сторонников теории «осовременивания вдогонку» как в
развивающихся странах, так и среди самой западной
интеллигенции. Ориентированные на «чистую» классическую
социологию, позиции Айзенштадта оказались близкими
народническим настроениям определенных кругов в
развивающихся странах. В этом смысле симптоматичен ряд
выступлений на состоявшемся в 1978 г. седьмом
Международном конгрессе по экономической истории, одной из
главных тем которого была неравномерность
экономического развития после промышленной революции.
Перспективы самобытного социально-экономического развития в
этих выступлениях связывались с развитием
традиционных, в частности ремесленных, производств,
опирающихся на специфические традиционные отношения.
Однако, хотя взгляды Айзенштадта ориентированы в
основном на проблематику культурных и политических
символов и традиций, полностью игнорировать вопросы
социально-экономического развития ои не может. И
следовательно, не может совсем обойти вопрос о трудно
разрешимом противоречии между «традиционностью» и
«рациональностью» как принципиально противоположными
способами поведенческой ориентации человека и
общества, влияющих на формирование экономических,
технических, административных навыков и соответствующих
организационных структур. В этой связи Айзенштадту
приходится остановиться на противоречиях модернизации,
освещение которых сближает его взгляды с концепциями
ранее рассмотренных авторов. Более того, Айзенштадт
обращает внимание на неисследованный аспект
диалектики перехода от «традиционного» к «рациональному».
232
Он указывает на спонтанный, случайный характер самим
традиций, на то, что они представляют собой соединение
и закрепление в одну императивную связь случайно
совпавших событий и элементов. «При всех различиях
между „традиционными" обществами,— пишет он,— все они
имеют тенденцию принимать как данные некоторые
прошлые события, порядки или лиц (независимо от того,
реальны они или являются чисто символическими) и
рассматривать их как фокус коллективной идентичности»
(10, р. 9). Эти случайно заданные в виде традиций
обстоятельства, как указывает далее Айзеиштадт,
лимитируют процессы изменений и нововведений. При таком
взгляде на вещи попытка Айзенштадта
рационализировать традиции и использовать их в целях смягчения
противоречий перехода от моделей поведения,
ориентированных на императивные случайности, к рациональным
моделям выглядит как способ более тонкой манипуляции
специфическими настроениями в целях создания более
оптимальной модели развития мира по буржуазному пути.
Работы американских ученых, которые можно
рассматривать как относительно ранние (конец 60-х — начало
70-х годов), попытки ревизии старых концепций
модернизации и создания новой универсальной теории, в основе
которой лежит идея «осовременивания вдогонку», в
настоящее время получают дальнейшее развитие как в самих
США, так и в континентальных странах. В этой связи
симптоматично развитие теории противоречий поздней
модернизации рядом западногерманских историков и
социологов, сгруппировавшихся вокруг журнала «История
и общество». Сторонники этого направления Г. У. Ве-
лер (37), И. Кокка (24), П. Флора (12; 13), В. Цапф
(38; 39) и др., рассматривая системную методологию
теорий модернизации как новый, эвристически
плодотворный и открытый универсальный взгляд на мировое
историческое развитие, как убедительный подход к
выработке «адекватной исторической теории современной
эпохи» (37, р. 60), способной преодолеть «узкую
теоретическую замкнутость марксизма» (12, р. 16), пытаются
связать его с реформистскими идеалами, с целями
достижения «рационально-гуманного» общества или «массового
демократического социального государства».
Плодотворность концепции «осовременивания вдогонку»
западногерманские ученые усматривают в ее способности осветить
механизмы, препятствующие достижению
провозглашаемой ими гуманной цели. Главное препятствие, истори-
233
ческое но своему происхождению, но пустившее глубокие
корни в современности,— сопротивление доиндустриаль-
пых структур, в частности структур власти в их
реликтовых формах, и связанная с этим неравномерность в
развитии отдельных секторов общества и дисгармония
общества в целом. Выявление конкретных исторических и
современных форм, которые принимают указанные
явления, представляется им неотложной задачей науки.
Решение этой задачи па основе «стилизованной реконструкции
фрагментов реальности» позволило бы «упрощенно
представить взаимосвязь и общий ход наблюдаемых
явлений»,—пишет В. Цапф (39, р. 14). Стремление выявить
историческое значение «поздней модернизации»,
«осовременивания вдогонку» побудило целую группу
исследователей заняться ретроспективным исследованием ряда
политических процессов и явлений, интерпретация
которых до сих пор считалась устоявшейся, а оценка —
более или менее бесспорной.
Речь прежде всего идет о фашизме.
Авторитарно-террористический и милитаристский характер фашистских
режимов рассматривался большинством буржуазных
исследователей, вне зависимости от отдельных нюансов
трактовки, как следствие особой исторической ситуации,
создавшейся в Германии и Италии между первой и второй
мировыми войнами, и не в последнюю очередь как
результат воздействия на политику и историю соответствующей
«харизматической» личности. Фашистский характер ряда
других режимов, возникших в Юго-Западной и Восточной
Европе, оспаривался или отрицался на том основании,
что они не были столь «жестокими» и во многом носили
«вторичный» характер.
Этот взгляд в настоящее время подвергается острой
критике со стороны тех, кто утверждает, что, несмотря
на огромное количество описательных работ о фашизме,
характер его по сути дела остался невыясненным, а само
явление «загадочным». Отталкиваясь от этой критики,
некоторые авторы заявляют, что объяснение фашизма как
целостного социально-исторического и политического
явления может быть найдено только, если рассматривать
его как прототип «диктатуры развития», как одну из
исторически обусловленных попыток осуществить
«осовременивание вдогонку».
Одно из обоснований этого взгляда пытаются найти
в параллельном исследовании ряда европейских
движений и идеологий, стремившихся, так же как фашизм,
234
решить задачи «осовременивания вдогонку»: национал-
синдикализма, «национального» социализма, популизма
и т. п. Американский исследователь Дж. Грегор,
например, утверждает, что стремление к ускоренному
экономическому росту лежит в основе как левого, так и правого
радикализма, включая современных ультралевых и
неофашистов (14). К этой цепочке некоторые авторы
пытаются пристегнуть также теорию и практику реального
социализма. Теория модернизации, концепция
«осовременивания вдогонку» вообще, как пишет известный
английский советолог Т. Ригби, «стимулирует» в настоящее
время советологию, адепты которой, по словам данного
автора, находят в этой теории «концептуальное
обоснование тому, что раньше казалось многим ненадежным с
академической точки зрения» (33, р. 4).
Столкнувшись с крайней отсталостью страны и
хаосом, вызванным ее поздней модернизацией, большевики,
как утверждает, например, Дж. А. Грегор, оказались
эмпирически вынужденными воспринять некоторые идеи
«национал-синдикализма», якобы еще до войны
осознавшего проблему «осовременивания вдогонку». Близкие
национал-синдикализму теоретики С. Панунцио (30; 32),
Р. Михельс (27; 29) и др., заявляет Грегор, исходя из
положений о том, что социализм может быть построен
только на основе полного и исчерпывающего развития
буржуазных отношений и буржуазного общества, делали
вывод о том, что задачи завершения буржуазной
революции и буржуазного развития в отсталой стране могут
быть решены не революционным рабочим классом, а
«передовой» элитой с помощью мобилизации масс вокруг
«эффективного социального мифа». Центральный пункт
этого мифа —деление наций на «плутократические» и
«пролетарские», а главное средство решения проблем —
развитие национального самосознания и мобилизация
всех социальных групп в целях формирования «нации
производителей». «Пролетарская нация» по мере
превращения в «нацию производителей» решает первостепенные
задачи технического, военного и экономического
характера, позволяющие ей догнать в соответствующем
отношении «плутократические» нации и подчинить их своей
«пролетарской» воле. По достижении этого пункта
снимаются препятствия к разрешению всех сложных
социальных задач, унаследованных от запоздалого развития
соответствующей страны. Естественно, что решающая роль
в этом процессе отводится государству, направляемому
235
энергичной, прозорливой и компетентной политической
элитой. Эта ориентация, сближаясь со взглядами
радикальных буржуазных националистов, приводит к
социально-политическому синтезу в виде фашистской партии,
которая, по мнению Грегора, и пытается, каковы бы ни
были издержки, на практике осуществить задачу
«осовременивания вдогонку».
По существу, сходная цепь рассуждений представлена
в недавно опубликованном в США исследовании
взаимоотношений французского революционного синдикализма
и «Аксьон франсэз» П. Масая (26), Зарождение «прото-
фашизма», развитие и неудача фашизма во Франции
прослеживается в связи с близким к Ж. Сорелю
«Кружком Прудона» и взглядами националистически
мыслившего синдикалиста Ж. Валуа.
Западноберлинский автор М. Фесслер (И)
приближается к данной трактовке в своей работе о
националистическом крыле довоенной германской социал-демократии
и его развитии к социал-этатизму в трудах П. Ленша
и И. Пленге.
Здесь следует указать, что марксистское
исследование значения недоразвитости капиталистических
отношений и капиталистического хозяйства, в частности в
Германии, для прихода фашизма к власти было предпринято
вскоре после Великой Отечественной войны под
руководством академика Е. С. Варги (2). По своему
методологическому уровню и насыщенности фактами это
исследование намного превосходит упоминавшиеся работы.
Огромным достоинством этой работы была демонстрация
(в пределах имевшихся в распоряжении авторов
материалов) того, что фашистские программы «развития» отнюдь
не дали тех результатов, на которые уповали создатели
мифов об ускоренном буржуазном развитии под эгидой
«революционной» элиты. Это показано и в известной
работе о фашизме А. А. Галкина (1).
В самом деле, если Дж. Грегор, принимая
фашистскую модернизацию всерьез, пишет, что ее результаты
послужили основой для последующего «экономического
чуда», то как в упоминавшихся работах, так и в
исследованиях советского историка X. Висенса, и в других
работах удалось в той или иной степени показать однобокий,
ущербный характер проводившихся фашистскими
режимами мероприятий по развитию. В частности, в Испании
они привели к гигантомании, к созданию совершенно
неспособных вписаться ни в систему национальной эко-
236
i-юмики, ли в систему мировой экономики предприятий
и хозяйств, высасывавших соки из народного хозяйства
и практически неспособных к какой-либо адекватной
отдаче; способствовали развитию «второй экономики»,
черного рынка, нелегальных доходов и т. п. Что касается
«экономического чуда», то не говоря уже об Испании,
есть основания считать, что и в Зап. Германии и в
Италии относительный экономический подъем после войны
стал возможным не на основе «успехов» фашистской
«модернизации», а вопреки им, лишь после того как в
результате войны оказались разрушенными,
демонтированными или свернутыми большинство созданных в
фашистский период производств, было произведено
обновление капитала, открыт больший или меньший простор
для функционирования традиционных социальных и
политических институтов буржуазной демократии.
Исследователи экономической истории фашизма еще
должны сказать свое слово по этому вопросу, но уже
сейчас есть серьезные основания полагать, что
фашистское «осовременивание вдогонку», не говоря уже о
заплаченной за него кровавой цене, оказалось
«эрзац-модернизацией», связанной с широким применением
малоэффективных в условиях современного хозяйства
внеэкономических методов принуждения
монополистическим капиталом и аграрной верхушкой Германии,
Италии, Испании и т. п.
Какова бы ни была оценка реальных результатов
«осовременивания вдогонку» в тех или иных странах,
суровость цены, которую приходится платить за нее в
условиях капиталистических отношений, в условиях
противостояния вырвавшихся в силу известных исторических
причин в своем развитии вперед и далеко отставших от
них наций, не может не вызвать широкого пессимизма
у буржуазных сторонников данной концепции. Этот
пессимизм усугубляется тем обстоятельством, что они в той
или иной степени отдают себе отчет в новых
осложнениях, которые неизбежно вызывает в этом отношении
переход процесса модернизации на новый виток. Прорыв
отдельных стран в провозглашенное буржуазными
идеологами «постиндустриальное» или «технотронное» общество,
несомненно, с их точки зрения, должен иметь своим
следствием новую технологическую и социальную гонку и
новый этап «осовременивания вдогонку» уже не только
в странах, блуждающих в проблемах «вторичной» и
«третичной» модернизации, но и в самих развитых странах.
237
Вызывая что-то вроде паники, перспектива такой
гонки вместе с тем вновь вдохновляет некоторых идеологов,
особенно в таких странах, как Зап. Германия, Италия,
Испания, вернуть к жизни взгляды, во многом близкие
идеям, рассмотренным выше. Речь идет о некоторых
направлениях неоконсерватизма, выступающих на первый
взгляд с идеями ограничения развития, но по сути дела
отстаивающих политику ускоренной военной
модернизации мобилизационного типа.
Один из наиболее активных теоретиков нового
движения в Западной Германии Г.-Х. Кальтенбруннер
группирует свои аргументы вокруг концепции «социальной
экологии» (20). Кальтенбруннер ставит акцент на пределах
психических «душевных» возможностей человека, по
крайней мере человека данной социальной и национальной
среды, данного общества. Человеку, которого держит в
поле своего зрения Кальтенбруннер, невыносим град
обрушивающихся на него нововведений, лавина новой,
противоречивой информации, необходимость все время
адаптироваться к новым условиям и новым нормам
поведения. Не успел человек, нация, немцы, европейцы
дорасти до уровня Просвещения, до уровня классического
буря^уазного рационализма, как от него требуют новых
сдвигов, новой свободы, новой социальной ориентации.
И так же как природная среда с трудом выносит
нарастающее вторжение технического прогресса, так и
человеческая среда, кальтенбруннеровский человек, истощается
и разрушается в результате непомерного давления новых
типов деятельности, новых форм эмансипации, новых
видов состязания. До этого пункта позиция Кальтенбруи-
нера существенно не отличается от присущего
современной западной мысли плача против прогресса. Однако
выводы Кальтенбруннера и в еще большей степени
некоторых из его единомышленников иные, чем у более
либеральных мыслителей. Выход из положения
Кальтенбруннер и его единомышленники видят в возвращении
к авторитарным методам политики, с помощью которых
можно было бы оградить кальтенбруннеровского
человека от «безответственной» социальной стихии (19; 20).
Это собственно и составляет стержень политики
«социальной экологии». Естественно, для такой политики
необходимы свои ресурсы, необходим новый социальный миф,
вокруг которого можно было бы мобилизовать усилия
более или менее значительной массы людей. И в этом
пункте неоконсерваторы сближаются с радикальными
238
правыми прошлого. Однако содержание мифа несколько
меняется. Речь идет не о мобилизации «обделенных
наций» против «плутократических», а о мобилизации
сторонников «европейского Просвещения» вокруг ценностей,
близких идеям «просвещенного абсолютизма» XVII—
XVIII вв., против сторонников демократии и социального
прогресса. (Не случайно Кальтенбруннер пытается
вызвать ностальгию по эпохе английской революции.) Но так
как идеологи неоконсерватизма прекрасно отдают себе
отчет в том, что простым замедлением социального
развития нельзя избавиться от риска оказаться слабее
других наций, то весь этот процесс они считают
необходимым совместить с брутальным усилением социальной и
политической дисциплины, ростом вооружений и, стало
быть, направленной военной модернизацией (18).
Концепции «осовременивания вдогонку» и основанные
на них типологии политического развития получили
известность и приобрели влияние в 60—70-х годах нашего
столетия. Анализ этих концепций показывает, что с
методологической стороны доминирующей общей идеей
служит представление о неравномерности
общественно-исторического развития, задолго до появления названных
концепций научно разработанное с классовых позиций
марксизмом-ленинизмом. В этой связи возникает вопрос,
почему же авторы концепций запоздалой, т. е.
неравномерной модернизации, упорно избегают каких-либо ссылок
на научные труды В. И. Ленина, который задолго до
появления рассматриваемых концепций в таких трудах,
как «Империализм, как высшая стадия капитализма»,
«Развитие капитализма в России», «О лозунге
Соединенных Штатов Европы» и ряде других дал глубочайшее,
развернутое марксистское исследование процессов
неравномерности общественно-исторического развития
капитализма в XIX—XX вв. и анализ последствий этой
неравномерности.
Глубокая причина этого заложена, видимо, в том, что
из анализа неравномерности социально-исторического
развития буржуазные теоретики пытаются сделать
совершенно иной вывод, чем тот, к которому пришла научная
теория революционного марксизма. Неравномерность
развития капитализма в XIX—XX вв., как показал В. И.
Ленин, приводит к такому обострению противоречий между
различными секторами самих развитых
капиталистических держав, между ними и менее развитыми в
капиталистическом отношении обществами и внутри миогоук-
239
ладных систем отсталых стран, которое выливается в
общий кризис капитализма, связанный с
империалистическими войнами и революционным преобразованием всего
капиталистического уклада, в кризис, который имеет
своим следствием в первую очередь империалистическую
экспансию и выступает как кризис развитых
капиталистических стран, ведущий к крушению капитализма.
В противоположность этому сторонники теории
модернизации делают из предпосылки о неравномерности
социально-исторического развития вывод о кризисе
«поздней модернизации», о кризисе тех обществ, которые не
смогли своими силами своевременно решить проблемы
рацирнального технического и социально-политического
устройства. Этот кризис, являющийся, по их мнению,
своего рода исторической санкцией за медлительность в
преодолении «традиционализма», может, как они
утверждают, оказаться конечным пунктом в развитии
соответствующих обществ, хотя при этом оговаривается, что он
может втянуть в катастрофу и «невинные»
модернизированные страны.
Такая перестановка исторических акцентов выполняет
четкую идеологическую задачу. Угроза существованию
человечества связывается не с наличием империализма,
колониализма, гонки вооружений и других черт
современного капиталистического общества, а с неразрешимыми
или трудно разрешимыми противоречиями
«осовременивания вдогонку», вызывающими якобы внутреннюю
нестабильность и агрессивность стран социализма и
развивающихся стран. Выдвинутая буржуазными учеными
концепция «осовременивания вдогонку» в нынешних условиях
становится инструментом политики военной и
идеологической мобилизации консервативных сил, видящих
главный способ защиты от объективных последствий
неравномерности общественно-исторического развития в развитии
военных машин и брутальной внешней политики.
Так или иначе, в лице концепции «осовременивания
вдогонку», как справедливо отмечает Г. Розе (ГДР), мы
имеем дело с «важнейшим явлением», с крупной новой
концепцией, оказывающей сильное влияние на всю
буржуазную общественную мысль, концепцией, связанной с
«переориентацией все возрастающего числа общественных
наук» (35). Критический анализ новой концепции уже
нашел определенное отражение как в советской
литературе, так и в литературе других социалистических стран.
Новые работы, свидетельствующие о расширении влияния
240
и углублении содержания рассматриваемой концепции,
ставят, как пишет Г. Розе, в повестку дня вопрос о
комплексном анализе данной теории, о
марксистско-ленинской критике этой «наиболее новой формы современного
универсального подхода, призванного вместе с тем
представить в рамках буржуазной идеологии концепцию,
альтернативную марксистской категории общественных
формаций» (35, S. 5).
Как отмечается в работе В. Л. Савельева, буржуазные
идеологи «пытаются представить „западную
цивилизацию" в качестве авангарда (в самом широком смысле
слова) всемирно-исторического прогресса, в том числе и
в развитии демократических форм правления, венцом
которого будто бы является нынешняя буржуазная
парламентарная система» (2а, с. 35). Не последнюю роль в
этих попытках играет теория модернизации, которая при
всех ее претензиях на универсализм выступает прежде
всего с ярко выраженных западнических позиций.
Отдельные представители данной теории при этом все
более обнаруживают тенденции, свойственные
консервативному «американофильству» и «англофильству». Работы
Алмонда, Хантингтона, Даля и других объективно, а в
ряде случаев и субъективно приобретают функции
своеобразной охранительной идеологии националистического
плана. Недаром в своих более поздних работах Алмоид,
как и ряд его последователей, особо подчеркивает не
просто значение англосаксонской культуры, а роль
«верноподданнической ориентации» (subject orientation)
рядовых граждан как фактора «стабильности» английской и
американской буржуазной демократии (За).
Охранительные аспекты рассматриваемой теории с
особой яркостью проявились у С. Хантингтона, который
прямо призывает к укреплению традиционных
институтов и инструментов традиционной власти, поскольку он
считает, что улучшение благосостояния и рост
социально-политической активности широких масс в
развивающихся странах являются основным дестабилизирующим
фактором политического развития. Развивая
охранительные идеи в международном плане, американский
политолог рекомендует не пренебрегать никакими способами
манипуляции, никакими формами принуждения в целях
укрепления проамериканских реяшмов, стабильности
которых, с его точки зрения, угрожает
социально-экономическое развитие.
241
Хотя некоторые представители этой теории
обнаруживают склонность к рассмотрению экономических категорий
и критериев применительно к историческому развитию
и признают роль производства и экономических
отношений в процессе модернизации (при этом нередко впадая
в технологический детерминизм), главное внимание
концентрируется на психологических, психоисторических и
психокультурных предпосылках общественных изменений.
Идеалистический элемент становится все более явным по
мере эволюции взглядов некоторых представителей этой
теории. Так, в своих ранних работах Г. Алмоид был
склонен рассматривать различия в политических системах
и окружающих их политических культурах
капиталистических стран как результат незавершенности буржуазных
революций и связанной с этим недостаточности «светского
начала» и буржуазной рациональности в обществе и в
политике. В более поздних исследованиях (6а) он
фактически отошел от этой трактовки и стал развивать идею
«уникальной» обособленности политических культур как
самодовлеющих психоисторических образований (4; За).
Ограниченность буржуазной теории модернизации
сказалась и в ее неспособности всесторонне охватить
целостные исторические процессы. Попытки связать различные
аспекты модернизации: экономические, социальные,
политические, культурные, по большей части сводятся к
сопоставлению роста доходов и изменения
социально-экономического статуса отдельных групп с изменением
политических институтов. При этом «культура» выступает,
как правило, в роли независимой переменной, внутри
которой самостоятельно действует «когнитивный»
фактор — образование, просвещение. Роль производства и всей
сложной совокупности производственных отношений как
основы общественного прогресса, в том числе и
прогресса самого человека, анализ товарного производства и
самого товара как основной клетки товарного
производства, несущей в себе в концентрированном виде все
особенности и последствия неравномерности развития
капиталистической формации в отдельных странах, находятся
практически вне поля зрения рассматриваемой школы.
Западногерманские «социальгешихтисты», например,
затратили немало усилий на изучение роли отдельных
личностей и частных организационных особенностей
формирования капиталистических объединений в Германии
конца XIX — начала XX в. Однако мимо их внимания
полностью прошли вопросы реального производственно-эко-
242
номического содержания картельных и им подобных
соглашений. Их не интересуют те проблемы технологии
производства, использования сырьевых и прочих
материальных ресурсов, рабочей силы, разделения труда и
рынка сбыта, которые в условиях внутренней и
международной конкуренции стимулировали иррациональное
даже по буржуазным меркам развитие монополий в
Германии и их специфический характер, нацеленный на
всемерную интенсификацию труда, внеэкономические
формы принуждения и внерыночные
(политико-административные) формы конкуренции. Проходя мимо
содержательного анализа «организованного капитализма», эти
исследователи не могут правильно оценить и то влияние,
которое оказали указанные специфические процессы
формирования монополистического капитала и
соответственно встречные процессы политического и
социально-экономического отчуждения широких народных масс, на
крушение буржуазной демократии и формирование условий,
способствовавших захвату власти фашизмом.
Противопоставление политической и
социально-экономической модернизации приводит некоторых политологов
к абсурдному предположению о возможности
эффективного функционирования современного производства в
рамках архаичной политической системы или ее
«модернизированного» эквивалента — авторитарных диктатур.
Приверженцы концепций «диктатур развития» (Грегор
и др.), «мобилизационных режимов» (Б. Мур и др.),
«иституционализированного порядка» (С. Хантингтон)
и т. п. отождествляют «модернизацию» с мобилизацией
внешних и внутренних экономических ресурсов, полагая,
что поскольку вложены средства, постольку обеспечен
результат. Отбрасывая обоснованную марксизмом
диалектику взаимоотношений производительных сил и
производственных отношений, политики и культуры, их
взаимовлияния и воздействия на конкретную историческую
структуру и эффективность производства, структуру самой
товарной массы, а также па воспроизводство человека,
Грегор, Хантингтон и другие считают, что экономика
может быть эффективной без развитой демократической
системы управления, без достижения высокой степени
эмансипации рабочей силы. Показательно в этом смысле
пренебрежение теории модернизации к вопросам права,
правовой организации социально-экономической жизни.
Игнорируя ключевые социально-экономические
аспекты развития, теория модернизации искажает классовое
243
содержание этих процессов. Если и признается борьба
вокруг проблем модернизации, то это лишь борьба между
«модернизаторами» и «антимодернизаторами». Научное
постижение истории показывает, что переход от
феодализма к капитализму, от одного уровня
капиталистического развития к другому, от одного уклада к другому
глубоко затрагивает не только «культурную» или
«технологическую» сферу, не только «модериизаторские» или
«антимодернизаторские» настроения человека, но и
положение индивида и социальных групп в системе
производства и в обществе. Соответственно борьба вокруг темпов
и методов осуществления такого перехода проявляет себя
как классовая политическая борьба, но обо всем этом
теоретики модернизации предпочитают либо вообще
умалчивать, либо едва упоминают.
Естественно, что подобное препарирование
действительного хода исторического развития превращает теорию
модернизации в руках деятелей буржуазной пропаганды
в инструмент идеологической борьбы, направленной
против реального социализма. Попытки объявить как
действительно существующие, так и мнимые проблемы и
сложности развития социалистического общества результатом
опоздавшей и, стало быть, неполноценной модернизации
противоречат процессам непрерывного совершенствования
и движения всех важнейших элементов общественной
жизни при социализме — в сферах экономики, политики,
культуры, человеческих отношений.
Литература
1. Галкин А. А. Германский фашизм. М.: Наука, 1967. 339 с.
2. Гольдштейп И., Левина Р. Германский империализм / Под общ.
ред. и с предисл. Е. Варги. М.: ОГИЗ, 1947. 473 с.
2а. Савельев В. Л. «Советология» в лабиринте лжетеорий. Киев,
1982. 167 с.
3. Хорос В. Г. Идейные течения народнического типа в
развивающихся странах. М.: Наука, 1980. 210 с.
За. The civic culture revisited / Ed. G. A. Almond et al. Boston;
Toronto, 1980. 421 p.
4. Almond G. A. Political development: essays in heuristic theory.
Boston: Little Brown, 1970. 331 p.
5. Almond G.A., Powell J.B. Comparative politics: A
developmental approach. Boston: Little Brown, 1966. 348 p.
6. Almond G.A., Verba S. The civic culture: Political attitudes in
five nations. Princeton: Princeton univ. press, 1963. 562 p.
6a. Almond G. A. Comparative political systems.—In: Political
behaviour. N. Y., 1956, p. 34—42.
7. Bollen K. A. Political democracy and the timing of development.—
Amer. Sociol. Rev., N. Y. 1979, vol. 44, N 4, p. 572—587.
244
8. Development theory: Four critical studies. / Ed. by D. Lehman.
L., 1970. Cass. 106 p.
9. Dahl R.A. Poliarchy. Participation and opposition. New Haven,
London: Yale nniv. press, 1978. 257 p.
10. Elsenstadt S. H. Post-traditional societies and the continuity of
tradition.—Daedalus, Boston, 1973, N 1, p. 1—16.
11. Fussier M. Gemeinschaft oder Herrschaft: Zerfallsgeschichte ei-
ner Utopie Herrschaftsfreier Gesellschaft. Giessen. Focus, 1979.
309 S. (Focus — Wiss.).
12. Flora P. Modernisierungsforschung: Zur empirischen-Analyse der
gesellschaftlichen Entwicklung. Opladen: Westdeutscher Verl.,
1974. 203 S.
13. Flora P. Indikatoren der Modernizierung: Ein historischen Da-
tenbandbuch. Opladen: Westdeutscher Verl., 1975. 194 S.
14. Gregor A. J. The fascist persuasion in radical politics.
Princeton (N. J.): Princeton univ. press, 1974. 267 p.
15. Gregor A. J. Italian fascism and developmental dictatorship.
Princeton (N. J.): Princeton univ. press, 1979. 427 p.
16. Heilbroner Ft. L. The economic transformation of America. N. Y.:
Harcourt, Brace, Jowanovich, 1977. 276 p.
17. Huniington S. P. Political order in changing societies. New
Haven; London: Little Brown, 1969. 488 p.
18. Kaltenbrunner G.-K. Bereiten wir den falschen Frieden for? Vom
Gestaltwandel internationaler Konflikte. Munchen: Hrsg. von
G.-K. Kaltenbrunner, 1976. 190 S. (Herderbucherei: Initiative. 13).
19. Kaltenbrunner G.-K. Was ist deutsch? Die Unvermeindlichkeit,
eine Nation zu seien. Freiburg: Herderbucherei, 1980. 192 S.
20. Kaltenbrunner G.-K. Was ist reaktionar? Zur dialektik von Fort-
schritt und Riickschritt. Munchen: Hrsg. von G.-K.
Kaltenbrunner, 1976. 190 S. (Herderbucherei. Initiative).
21. Kaltenbrunner G.-K.. Illusionen der Briiderlichkeit: Die Not-
wendigkeit Feinde zu haben. Munchen: Herder, 1980. 190 S.
22. Kautsky J. H. Communism and the politics of development. N. Y.:
John Wiley, 1968. 280 p.
23. Kautsky J.H. Patterns of modernizing revolutions: Mexico and
the Soviet Union. Beverly Hills: Sage, 1975. 290 p.
24. Kocka J. Sozial- und wirtschaftsgeschichte.— In: Sovjetsystem
und demokratische Gesellschaft. Frankfurt a. M., 1973. S. 208—
260.
25. Levy M. Modernization and the structure of societies: a setting
for international affairs. Princeton: Princeton univ. press, 1966.
Vol. 1. 374 p.; Vol. 2. 480 p.
26. Mazgaj P. The «Action Francaise» and revolutionary sindica-
lism. Chapel Hill: Univ. North. Carolina press, 1979. 281 p.
27. Michels R. L'imperialismo italiano. Milan: Libraria, 1914. 144 p.
28. Michels R. II proletariato e la borghesa nel movimiento socia-
lista italiano. Turin: Bocca, 1905. 356 p.
29. Michels R. Saggi economico-statistici sulle classi popolari.
Milan: Sandron, 1913. 210 p.
30. Panunzio S. II socialismo gluridico. Genoa, 1907. 400 p.
31. Panunzio S. II consetto della guerra giusta. Campobassi: Collitti
e Figlio, 1917. 93 p.
32. Perkin H. The origins of modern English society. London;
Henley: Routledge and Kegan Paul, 1978. 465 p.
33. Rigby Т. Н. Early provincial cliques and the rise of Stalin.—
Sov. studies, Glasgow, 1981, Jan., vol. 33, N 1, p. 3—12.
245
34. Riggs F. W. Frontiers of development administration / Gontrib.
A. D. Barnett, J.-S. Berliner. Braibanti etc.: Durhan (N. G.): Duke
univ. press, 1970. 623 p.
35. Rose G. Modernizierungstheorien und burgerliche sozialwissen-
schaften.— Ztschr. Geschichtswiss., 1981, Jg. 29, N 1, S 5—16.
36. Rostow W. W. Politics and the stages of growth. Cambridge:
Cambridge univ. press, 1971. 410 p.
37. Wehler H.-J. Modernizierungstheorie und Geschichte. Gottingen:
Wandenhoeck und Ruprecht, 1975. 286 S.
38. Zapf W. Modernizierungstheorien.— In: Prismata: Dank an
B. Hanssler / Hrsg. D. Grimm, B. Pullach. Munchen, 1974,
S. 128-165.
39. Zapf W. Theorien des sozialen Wandels / Hrsg. W. Zapf. Konig-
stein: Valagsgruppe Athenaum, Hain, Scrintor, Hanstein, 1979.
534 S.
Заключение
Теории общественного развития
в поисках выхода из противоречий НТР
в условиях капитализма
Взгляд на буржуазные концепции общественного развития
под углом зрения их отношения к проблематике
производства и места в нем человека, к проблематике, без той или
иной оценки которой не может обойтись в современном
мире ни одна общественно-научная теория, позволяет пе
только обнаружить те аспекты, которые авторы работ
выдвигают в качестве главных для себя, но и осветить
некоторые характерные «фигуры умолчания», то, что
буржуазные ученые не могут или же не хотят договорить до конца.
Нарастающая в буржуазной науке и философии
тенденция к минимизации роли производства в общественной
и личной жизни человека, несомненно, связана с
противоречиями НТР в капиталистическом мире. С одной стороны,
научно-технический прогресс вызвал представления о
«решенное™» проблемы материального обеспечения человека,
по крайней мере в наиболее развитых странах Запада.
С другой,—он способствовал размыванию основ
существования целого ряда социальных слоев, социокультурных и
профессиональных групп, которые либо не находят смысла
своего существования в «государстве благосостояния»,
либо утрачивают свой престижный статус, либо вообще
оказываются обреченными на исчезновение в «научно-
техническом» мире. Если к этому добавить, что «решение»
материальных проблем в развитых странах оказалось
неустойчивым и ненадежным, а глобальная ситуация
драматичной, то становятся вполне объяснимыми масштабы и
характер критицизма, обращенного в адрес НТР и
прогресса. Именно в этих рамках пересмотр роли производства
становится как бы сквозной темой, пронизывающей самые
разнообразные взгляды и социальные прогнозы. Сама по
себе трактовка проблемы производства в значительной
степени помогает понять и общую систему взглядов, и то,
какие социальные страхи, реальные или иллюзорные, стоят
за теми или иными теоретическими позициями.
Тема, обозначенная нами как «минимизация роли
производства в развитии человечества», трактуется далеко не
247
однозначно. Рациональная социальная мысль (разной
ориентации) видит путь к «минимизации» социальной роли
производства через относительную «максимизацию»
самого производства. Речь идет о качественном росте,
интенсификации производительной сферы (широко трактуемой
как «функциональная», т. е. социально необходимая,
деятельность, включая культурное производство, управление
и т. д.) на основе автоматизации, стереотипизации,
внедрения электроники, роботов, ужесточения технологической и
управленческой дисциплины и т. п., благодаря чему
ожидается снижение удельного веса и значения этой сферы в
целостном жизненном пространстве человека.
Жесткая и обязательная производственная зона при этом как
бы противопоставляется свободной зоне необязательной,
непринужденной человеческой жизнедеятельности, рост
которой должен обеспечиваться увеличением свободного
времени, неформального трудового и экономического
творчества, иеинституционализированного и внеролевого
общения и т. д. Иными словами, изменение «качества» жизни
призвано «компенсировать» рациональность производства
и как бы раскрепостить человека в остальных его
проявлениях. При всех спорах относительно содержания каждой
из зон человеческой деятельности, характера
формирующих их этических принципов и психологических эффектов,
о месте государства, отдельных групп, техники в
перспективах такого рода «зонального» развития, самый тезис о
функциональном разделении двух типов человеческой
жизнедеятельности и минимизации (тем или иным способом,
в том или ином масштабе) зоны номер один с достаточной
отчетливостью прослеживается во всем спектре
современных теорий общественного развития.
Здесь обнаруживается конвергенция логики
технократических и антропологических теорий. Парадоксально
сближаются взгляды, казалось бы, таких различных
авторов, как Э. Фромм, Д. Белл, 3. Бжезинский, М. Понятов-
ский, М. Серто, П. Розанваллон и др.
Пожалуй, с наибольшей отчетливостью
социологический тезис о функциональном разведении принудительного
мира производства (и труда) и свободного «человеческого»
мира выразил последователь антропологически
ориентированной Франкфуртской школы западногерманский
философ и социолог 10. Хабермас. Однако и технократические
оппоненты антропологизма (даже такой крайний, как
X. Шельский) не могут обойтись без представления о
функциональной расщепленности личности и соответст-
248
венно разделения сфер ее деятельности, хотя и трактуют
они это явление позитивно, как предпосылку технического
прогресса. Истоки «разделительного» подхода можно
обнаружить в еще более ранних ролевых теориях и в
оттолкнувшейся от структурно-этических воззрений М. Вебера
«общей теории человеческого действия» Т. Парсонса с ее
фундаментальным разделением систем экономики,
политики и культуры, каждая из которых может обладать своим
особым набором ролей и своей этикой \
Своеобразным преломлением данного подхода
выступают вестерналистские тенденции некоторых теоретиков
«модернизации» и особенно аргументируемый ссылками
ца социогенетику расистский вестернализм «новых
правых» с его стремлением вписать в логику качественной
«максимизации» производства идеи
культурно-исторического и биогенетического апартеида. Как пытается,
например, утверждать А. Бенуа, усиление на биогенетической
основе внутрипроизводственной иерархии как в
национальном, так и особенно во всемирном масштабе
(выдвижение на ключевые посты управления, «рыночной»
системы и т. д. генетически и культурно наиболее эффективных
индивидов и групп), стимулируя развитие рациональной
технологии и эффективной культуры, должно
способствовать и ослаблению бремени развернувшейся в мире
производственно-потребительской гонки, и минимизации
«производственных» параметров социальной организации
(например, элиминированию ^оли профсоюзов). Генетически
«сильные» как бы берут на себя бремя рационализации,
освобождая от него остальное человечество, которому
«новые правые» па основе тезиса о «разнообразии»
предоставляют большую или меньшую свободу прозябать в
анархии и лени. Из этого исходят модели жесткого
межрегионального и межрасового разделения не только труда,
но и самих моделей социального функционирования и
развития: применение в широких масштабах все более новой
технологии для одних и замораживание технологических
сдвигов для других, расширение плюрализма для одних и
усиление авторитарных институтов для других,
соответственно — дифференциация жизненных стандартов и
уровней жизни.
1 Правда, в системе Парсонса это разделение предполагается
аналитическим: в конечном счете системы «вложены» друг в
друга. Однако это (особенно у последователей Парсонса) не
исключает разнонаправленное™ ролей и этик в каждой из «вложенных»
систем.
249
Приходится констатировать, что в определенном
смысле идеи межрасового и тому подобного разделения на зоны
производственной «максимизации» и «минимизации»
нашли отражение и в некоторых популистски
ориентированных идеологиях развивающихся стран, равно как и в
идеях левацкого революционаризма, поскольку внимание
акцентируется на уникальность той или иной страны, той
или иной расы, а развитие мыслится как расширение
традиционных производств в качестве неотъемлемого
элемента национального своеобразия или же, напротив,
пропагандируется дезорганизация социальной жизни как
«революционная» самоцель развития. Правда, в последнем
случае сказывается влияние другого направления, связанного
с идеями абсолютного, а не просто относительного
снижения роли производства.
В своем крайнем выражении, воплощаемом наиболее
радикальными «экологистами» и «альтернативниками»,
этот взгляд исходит из того, что человечество совершило
ошибку, вступив на путь опосредованных,
стерилизованных отношений с природой. Поставив между собой и
природой фильтр в виде технологизированного производства и
«инструментальной» социальной организации,
человечество пошло по ложному историческому пути, и выход
состоит в том, чтобы снять этот фильтр, восстановить
непосредственность включения человека в мир природы. Развитие
человека на этом альтернативном пути мыслится как
совершенствование природных — физических, психических и
духовных — потенций индивида, рассматривающего себя
как неотъемлемый компонент живого природного мира.
Поскольку исторически обосновать этот взгляд
невозможно, его сторонники пытаются встать на путь социального
эксперимента, создавая различного рода альтернативные
сообщества. Однако ни один такой эксперимент не
содержит возможности полного отрыва от исторически
сложившейся социально-экономической среды с ее
пронизывающей повсеместно все отношения производственной
структурой, и, таким образом, «эксперимент» оказывается
несостоятельным в самой своей основе. И это признают
в своих выступлениях наиболее дальновидные лидеры аль-
тернативников (Й. Хубер). Практически роль
альтернативных движений сводится к выработке некоторых
нормативов новой этики. Вместе с тем ее антикапиталистическая
направленность оказывает определенное влияние на
развитие различных движений социального протеста.
Между «производственным» и «антипроизводственным»
250
полюсами находится ряд направлений, предлагающих
различные «оптимальные» модели соотношения производства
и непроизводительной жизнедеятельности человека и
общества. В их числе, например, энергоминимизирующие
проекты, наподобие <<электронной деревни» А. Тоффлера.
Трансформацию производства здесь сопровождает
социальная перестройка, в ходе которой человек более или
менее освободится от принудительных форм общения (хотя
иерархия в производственной сфере полностью не
исчезнет) и сформируется новая общесоциальная этика.
Особую линию в развитии рассматриваемой темы
представляют те, кто, отрицая (или иногда, наоборот,
гипертрофируя) роль производства, отрицают вместе с тем и
самоценность биологической жизни человека и человечества.
Прыжок из тенет производства и связанной с ним
социальной организации в сферу человеческой свободы мыслится
здесь как бы в рамках аксиологической системы с
обратной аксиоматикой: значение жизни и смерти либо
релятивистски уравновешивается, либо подчиняется доминанте
смерти, рассматриваемой как способ духовного очищения
или освобождения.
Нигилизм ницшеанского толка отнюдь не утратил
своего значения в современном мире. Там, где деятельность
индивида освобождена от «слабого» критерия самоценности
биологической жизни, как своей, так и чужой, человек
выглядит действительно свободным от каких-либо
социальных нормативов, в том числе и прежде всего от
нормативов социально-организованного производства и, стало быть,
исторических требований цивилизации и культуры. В
настоящее время такого рода нигилизм редко обнаруживает
себя в «чистом» виде. Скорее он выступает в
превращенных формах, соединяясь чаще всего с расистскими или
религиозно-традиционалистскими идеологиями, такими, как
неоязычество или фундаменталистский экстремизм и его
западные и восточные аналоги.
Однако элементы нигилистической логики
прослеживаются и в концепциях супердуховности, побуждавших,
например, Тейара де Шардена высказывать (с
эволюционистских позиций) одобрение в адрес фашистских
режимов. Элементы такой логики несомненно не чужды
наиболее радикальным проповедникам религиозной аскезы.
Среди тех, кто противопоставляет «этике жизни» «этику смеу
ти» имеются приверженцы другого рода крайности, когда
производство рассматривается как средство утверждения
«высших» надчеловеческих ценностей и «высшего» чело-
251
века. Практически речь идет, конечно, прежде всего о
производстве, подчиненном созданию орудий смерти, и о
сверхдисциплине в целях поддержания такого
производства. Влияние такого рода идей, родственных фашизму,
можно найти у некоторых идеологов, близких «черному
интернационалу».
В современном либерально-реформистском варианте
проблематика неравенства трактуется в существенной
мере в духе технократических и меритократических идей.
Вместе с тем либерал-реформизм использует некоторые
антропологические принципы, выступая с идеями
«компенсированного» неравенства. Не отказываясь от
иерархической дисциплины во всей институционализированной
производственной сфере, либерал-реформисты хотят смягчить
ее последствия, полагая, что повышение уровня жизни
licex категорий населения обеспечит им более широкую
зону свободы и равенства вне институционализированного
производства. В этой «свободной» зоне действуют иные
этические критерии поведения и достоинства, нежели в
иерархической по своей природе институциональной
производственной системе. Здесь граждане могли бы без
особого риска для себя экспериментировать в различных
областях деятельности, в том числе трудовой и
экономической, не подвергая себя пи угрозам рыночной
конкуренции, ни риску административных или дисциплинарных
санкций со стороны государства или общественных иститу-
ций. В этой зоне каждому будет обеспечено равное, не
зависящее ни от характера, ни от результативности
функций, выполняемых в институциональной сфере,
уважительное отношение со стороны общества и его официального
представителя — государства. Любопытно, что к
аналогичной трактовке в настоящее время склоняются и идеологи
«альтернативного» движения (такие, как Й. Хубер).
Такого рода доктрины в последнее время связываются
с представлениями о «постсоциал-демократическом
обществе» (П. Розаиваллон), в котором вместо трехполюс-
ной («кейнсианской») модели социально-экономического
регулирования: «капитал (корпорации, патронат)
—государство—профсоюзы» вводится четырехполюсная:
«капитал—государство—профсоюзы—общество» . Под
«обществом» при этом имеются в виду его низовые элементы —
отдельные лица, семьи, группы соседей, профессии,
которые, действуя как целостная динамическая система на
основе неформальных связей и способов деятельности,
широко диффундируют во всей общественной ткани и создают
252
как бы пластичную фильтрующую прокладку в «жесткой»
трехполюсной системе кейнсианского государства,
признаваемого, кстати, главным рычагом социал-демократической
политики. Такой «социетальный» (здесь не случайно
употреблен парсонсовский термин) фильтр призван
постоянно трансформировать действие кейнсианского механизма,
выродившегося, по мнению либерал-реформистов, в
жесткую систему крупных иерархических институтов, не
отвечающих больше реальной социальной и социокультурной
структуре общества. Тем самым он должен увеличивать
степени свободы индивида, мобилизуя при этом
дополнительные экономические и социальные ресурсы на общее
дело прогресса.
Дуализм производственной меритокра'тии и этики
«равенства достоинств» в социальной сфере в определенной
мере осознается теоретиками новой волны
либерал-реформизма. Хотя структурное разделение «зон» мыслится ими
лишь как аналитическая конструкция, тем не менее эта
конструкция по их мнению, позволяет изменить общий
идеологический климат и таким образом придать
процессам развития новую направленность, создать новый этико-
социальиый и этико-экономичссйий баланс.
Со своей стороны, неоконсерватизм, по существу
глубоко пропитанный меритократическим духом, выдвигает
именно этику — этику социально-экономического
неравенства — на авансцену регулирования общественного
развития. Согласно логике неоконсерваторов, экономическая
эффективность неравенства в системе свободной
конкуренции далеко перекрывает социально-политические
издержки. Социально-экономический аспект «этического»
наступления, предпринятого неоконсерватизмом, достаточно
навязчиво обнаруживается в политической пропаганде и
политике (пример тому —широкая реклама «рейганомики»).
Но на облик неоконсерватизма наложен еще отпечаток
специфической ностальгии буржуазной интеллигенции,
главным образом провинциальной. В США— это
ностальгия по уходящему миру «одноэтажной Америки».
Глубоко озабоченная разрушением этого мира, утратой
своих традиционных функций, связанных с поддержанием
чистоты языка, этикета, с миссией благотворительности и
патронажа и, соответственно, своего престижа,
исчезающего в стихии «плебейской» культурной нивелировки
потребительского общества, и вместе с тем не
выдерживающая конкуренции с технократическим
«интеллектуализмом», эта важная группа через своих неоконсервативных
253
идеологов пытается нащупать те рычаги, с помощью
которых можно было бы если и не повернуть развитие вспять,
то хотя бы предотвратить опасные для нее последствия.
Критикуя не капитализм вообще, а
крупнокапиталистическое общество в его технизированном и «плебеизирован-
ном» образе, она мыслит себе такой рычаг прежде всего
в восстановлении христианской трудовой этики — труда
как долга, как «проклятья», за которым встает якобы
духовная цельность «маленького» человека с его
обращенностью в трансцендентный мир (Р. Нисбет). В земной
практике этому соответствует этика неравенства, где само
неравенство задается, в сущности, случайными
обстоятельствами (рождением, образованием), с которыми человек
может состязаться лишь в пределах, строго ограниченных
правилами традиционного этикета — прежде всего
религиозными.
Интеллигентский неоконсерватизм не очень доверяет
современному государству в отношении его способности
поддерживать эти правила и потому выступает за
повышение регулятивных функций низовых ячеек — семьи,
общины, местного клира и т. п. Не отрицая конкуренции и
рынка, он хотел бы, чтобы они действовали под контролем
таких ячеек, т. е. фактически местных элит. А если при
этом произойдет некоторое снижение потребительских
стандартов и жизненного уровня «плебейских» слоев, то
тем лучше. Материальное вознаграждение и социальный
престиж должны распределяться не только и не столько
на основе рационального принципа стимулирования
экономической эффективности затрат труда, сколько с учетом
соблюдения индивидом правил системы
социально-этического контроля, главным компонентом которой предстает
религиозная ответственность человека перед своим
природным и перед случайно сложившимся социальным и
личностным статусами, а в роли судей выступают те, кто
концентрируют в себе вековой опыт традиционной морали
и традиционной культуры.
Усугубляя позиции неоконсерватизма, «правые»
утверждают, что этика неравенства, трактуемого в
биогенетическом духе, должна быть распространена еще
дальше — на политику и культуру, включая право. По сути
дела к возрождению архаичных форм неравенства ведут,
вопреки декларациям, и альтернативные программы.
Практика большинства коммун свидетельствует о том, что им
присуща ярко выраженная иерархичность, если не
авторитаризм. «Нигилисты» доводят идею неравенства до пре-
254
дела, открыто утверждая в теории и на практике крайнюю
авторитарность личности, группы под знаком собственной
свободы за счет свободы других.
Лишь марксизм связывает будущее с эмансипацией
труженика-производителя от гнета капиталистического
производства с его социальной иерархией, от отчуждения
человека и превращения его многогранной личности в
товар — рабочую силу. И это единственно убедительный
подход к проблеме: человек в системе производственных и
непроизводственных взаимозависимостей. Идеи социализма,
в соответствии с которыми кооперация труда, иерархия
управления производством, производственная дисциплина
подчинены главной цели — удовлетворению материальных
и духовных запросов человека, всестороннему развитию его
личности, представляют ясную альтернативу буржуазным
концепциям.
Оглавление
Введение
Проблемы и тенденции западных исследований
общественного развития
Я. М. Бергер
3
Глава I
Человек и общество: антропологическая интерпретация
общественного развития Эрихом Фроммом
Л. Н. Верченов
24
Глава II
Настоящее и будущее сквозь призму утопии
В. А. Чаликова
74
Глава III
Крах идеологии индустриализма
и «альтернативное движение»
Л. Ф. Вольфсон
122
Глава IV
Личность и прогресс. Эволюция идеологии прогресса
во французском персонализме
А. Б. Каплан
163
Глава V
Иерархия и расизм против социального равенства.
«Историческое будущее» глазами французских
«новых правых»
И. В. Случевская
191
Глава VI
«Осовременивание вдогонку»: перипетии
теории модернизации
Л. Б. Волков
216
Заключение
Теории общественного развития
в поисках выхода из противоречий НТР
в условиях капитализма
Л. Б. Волков
247