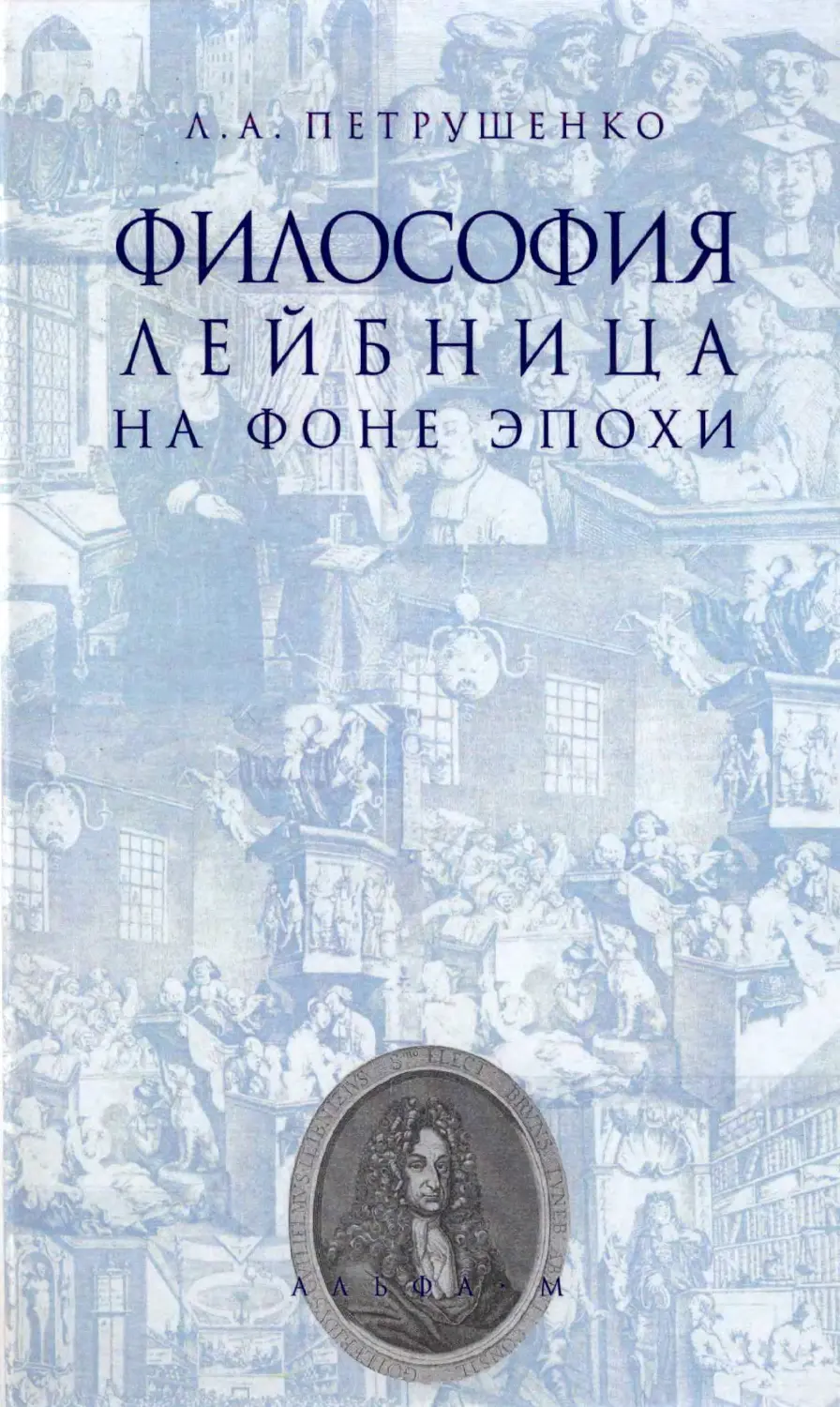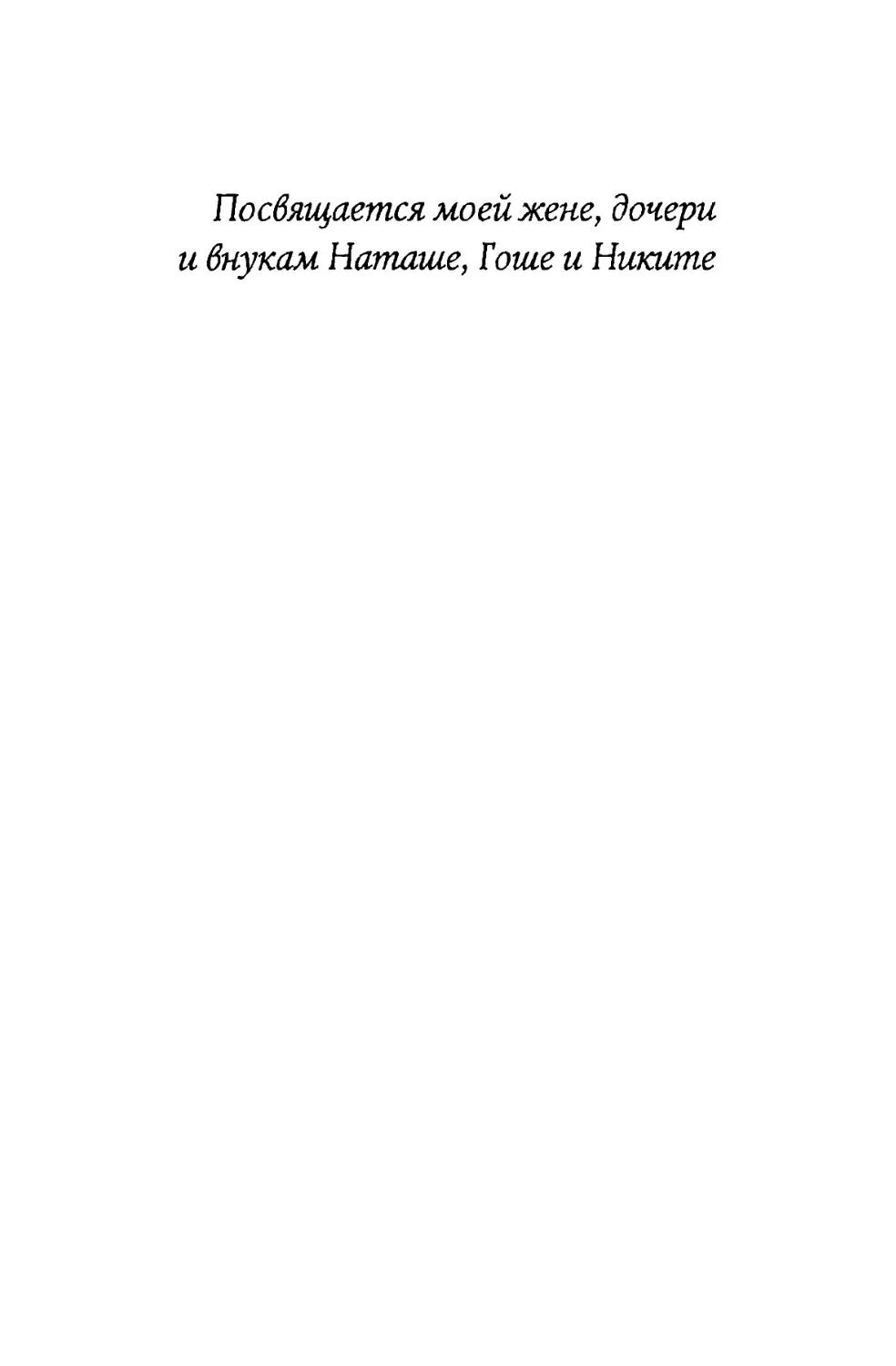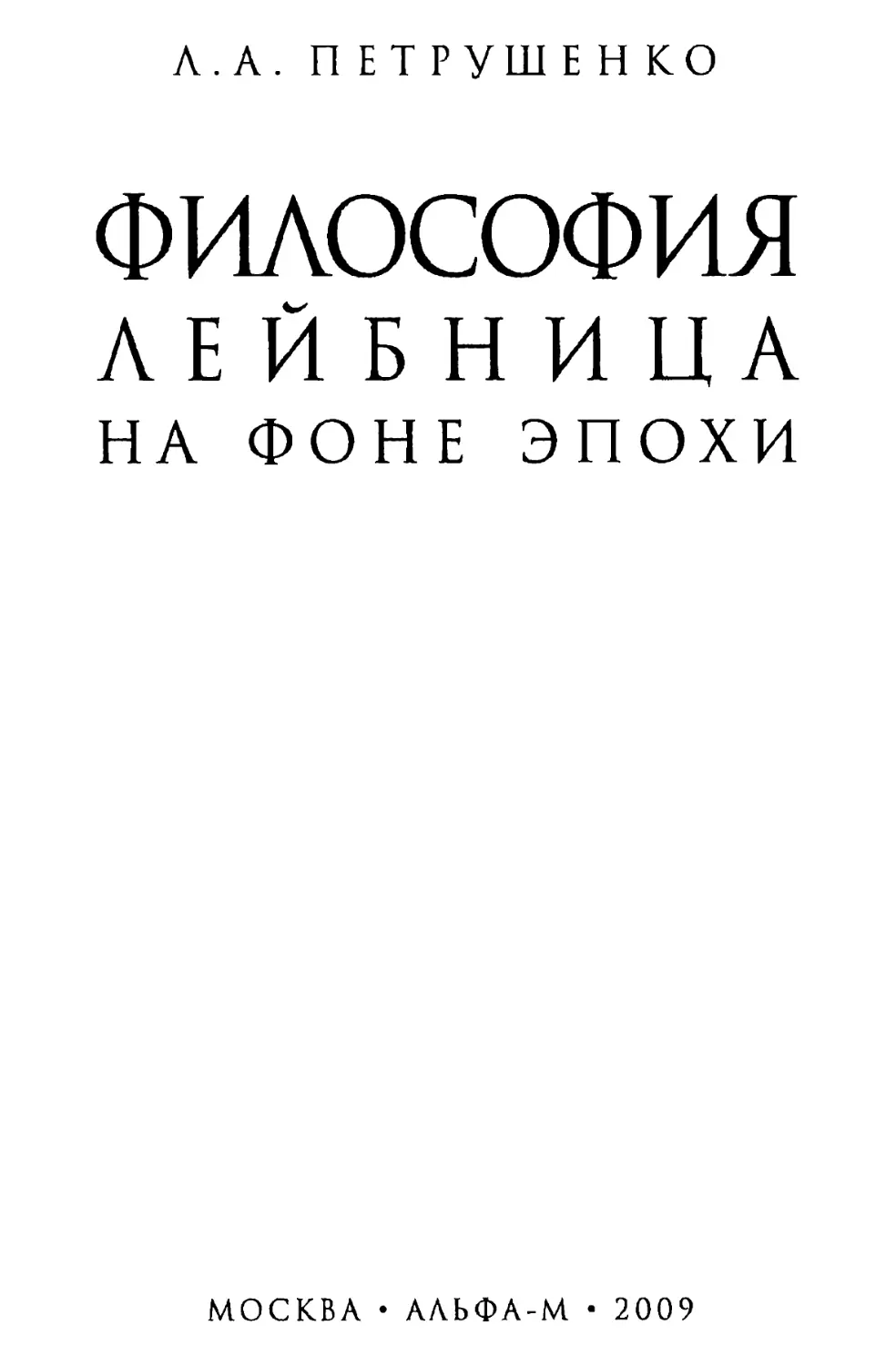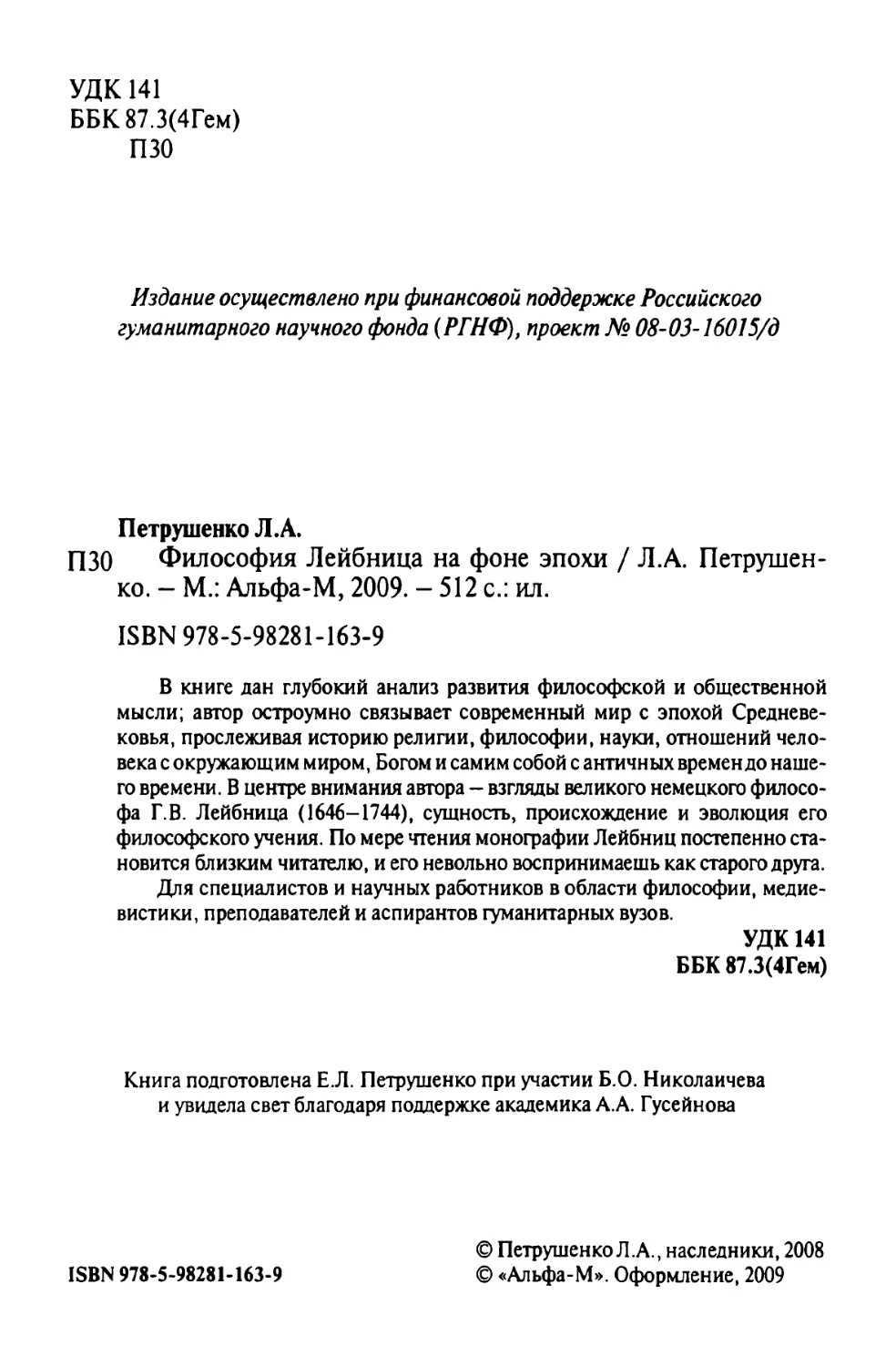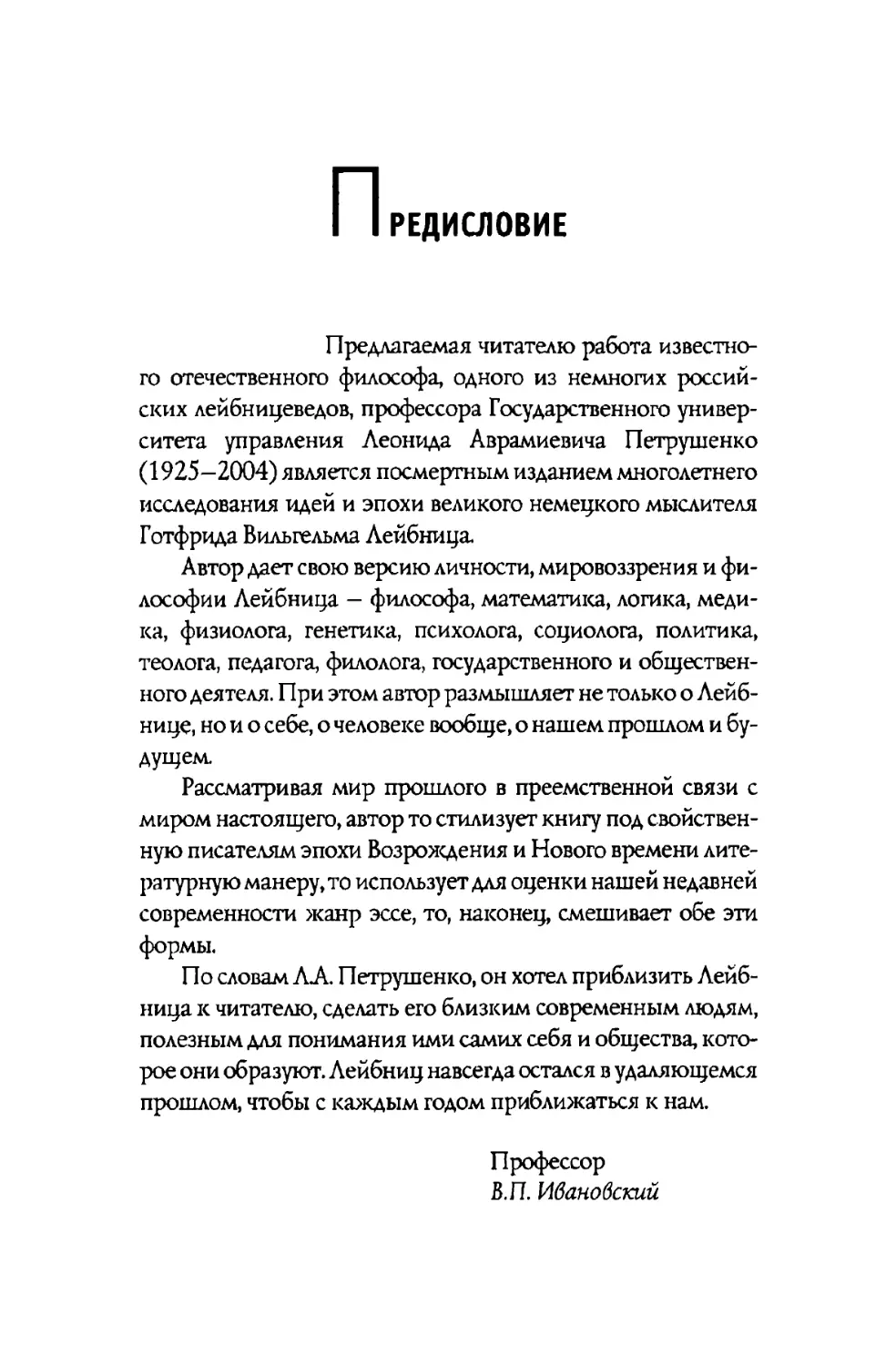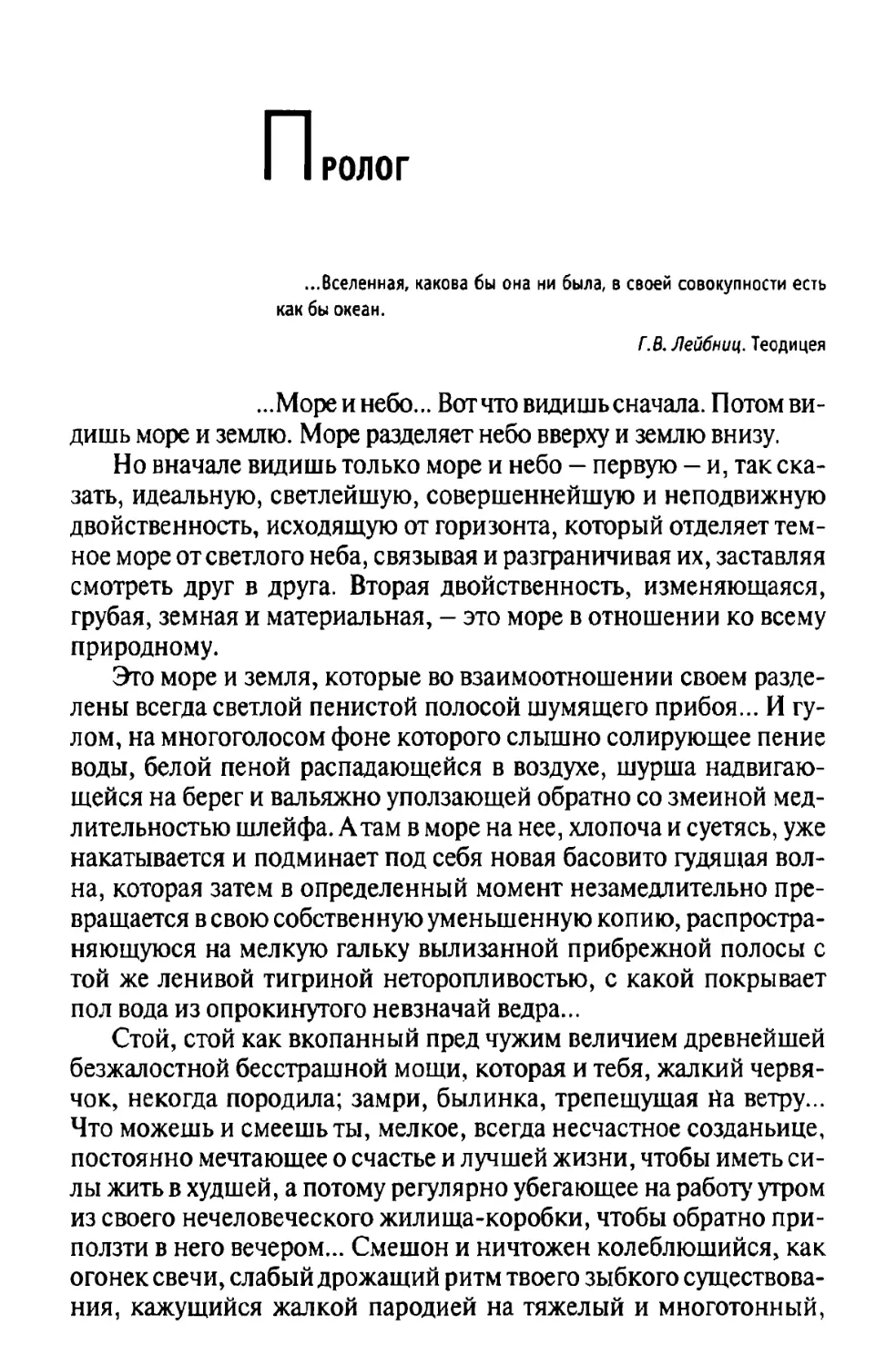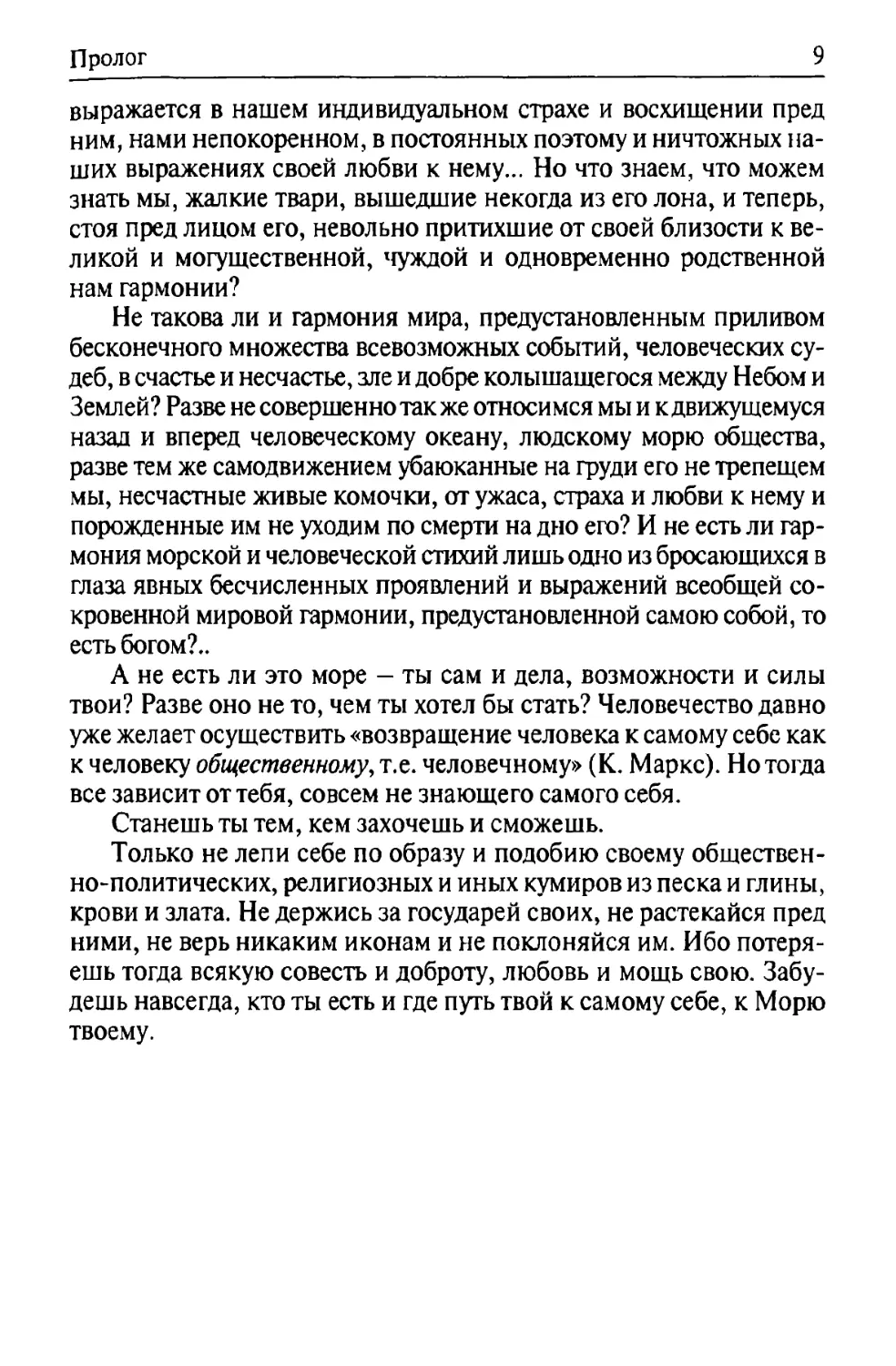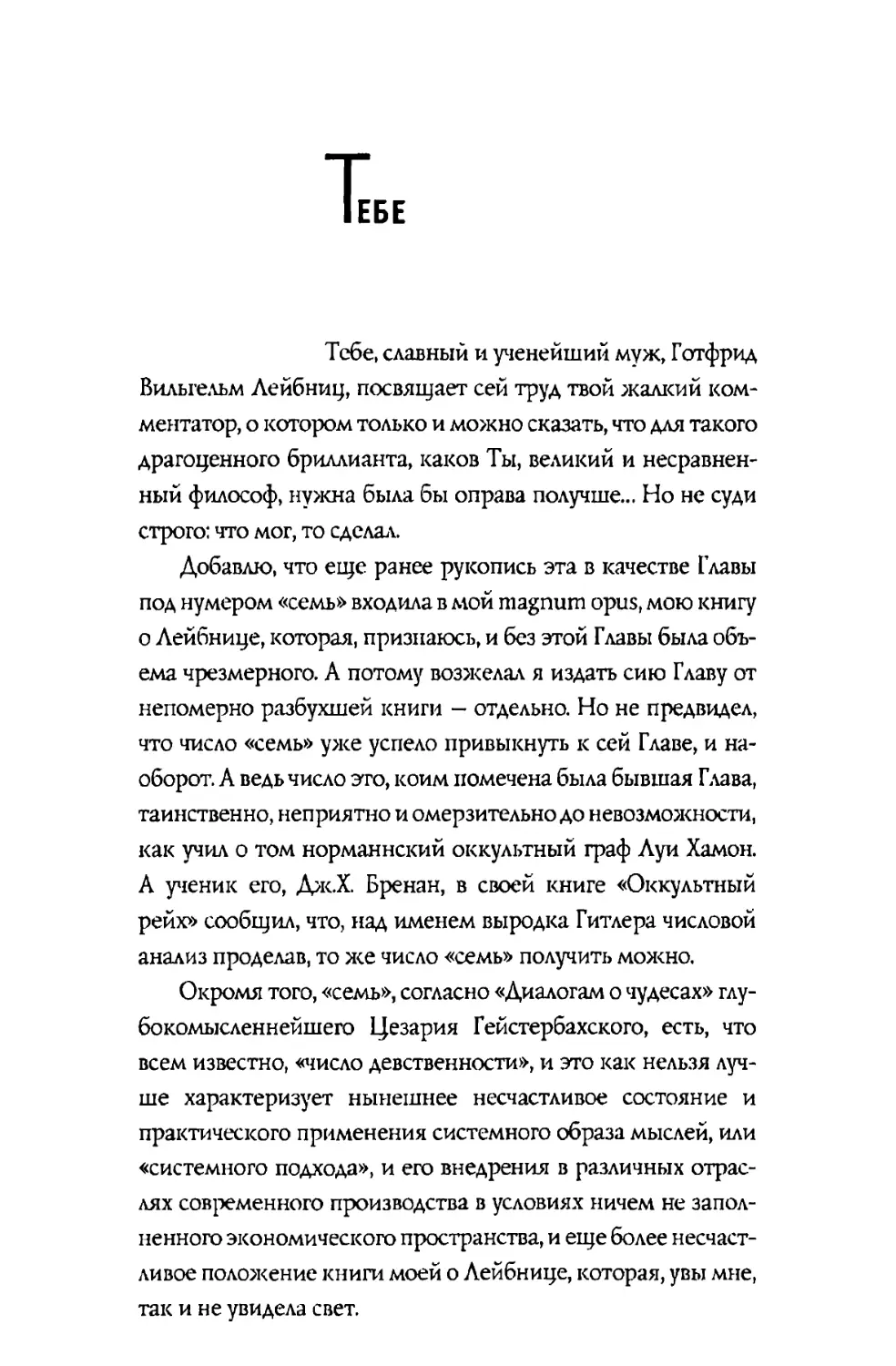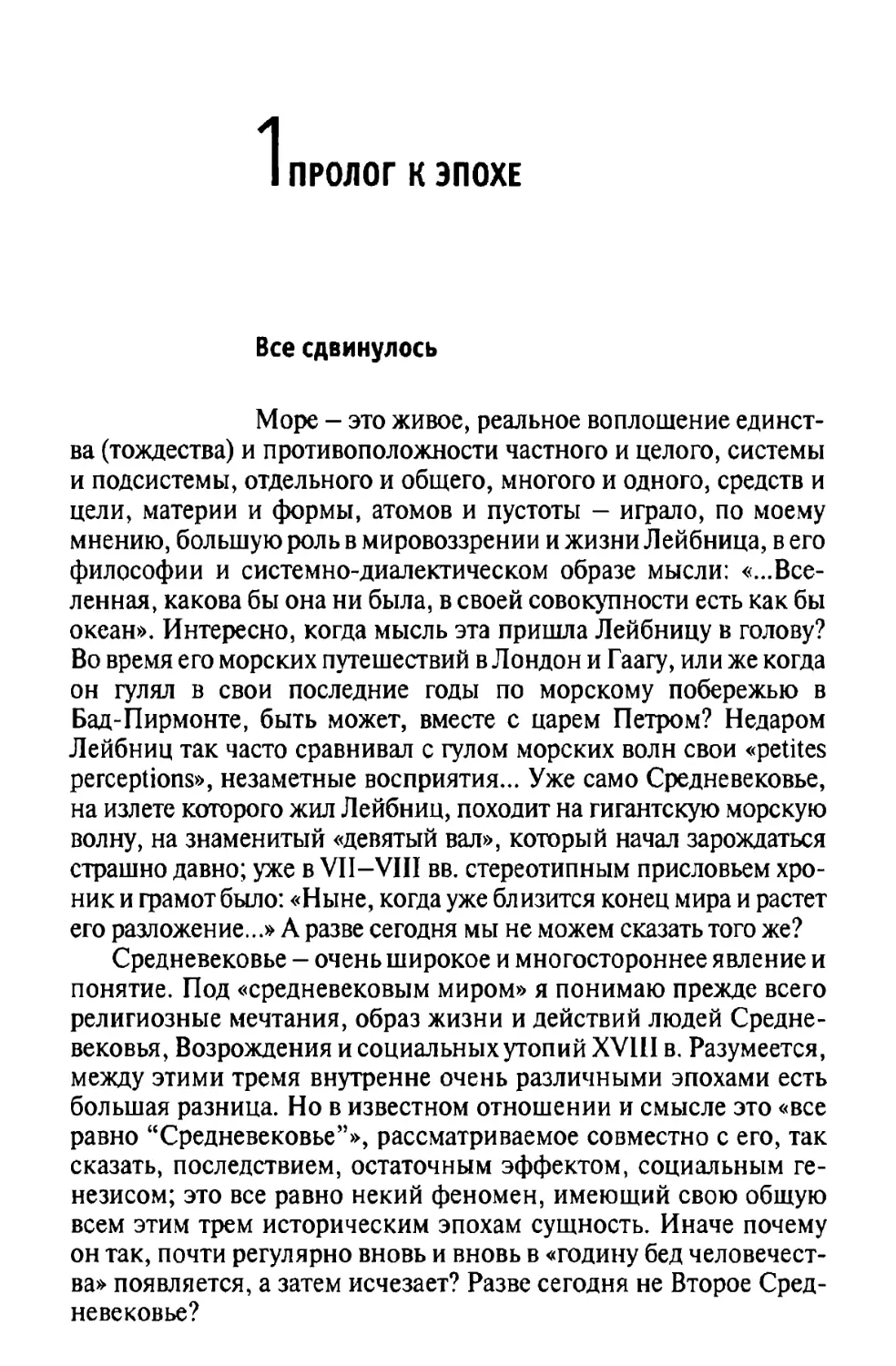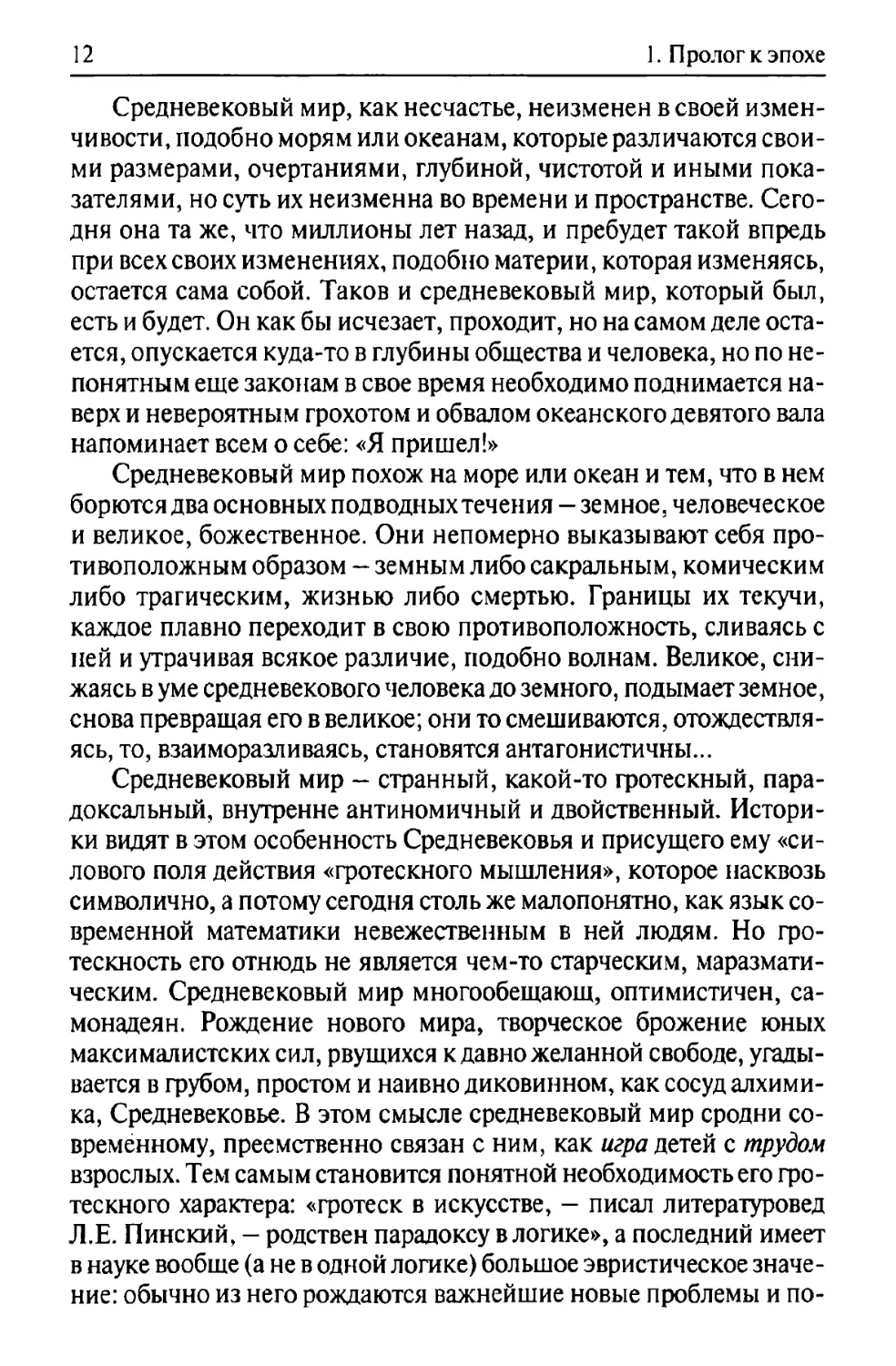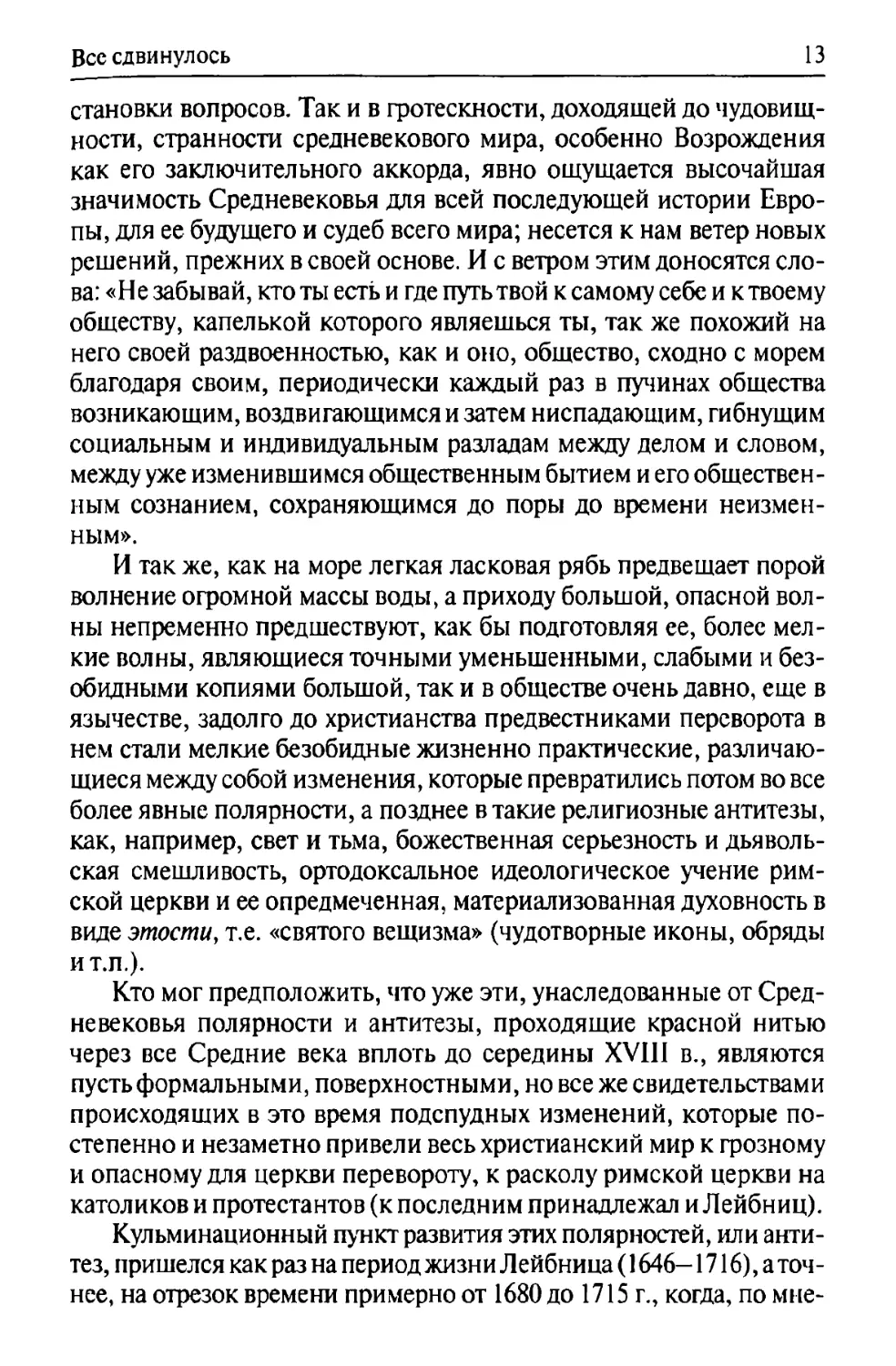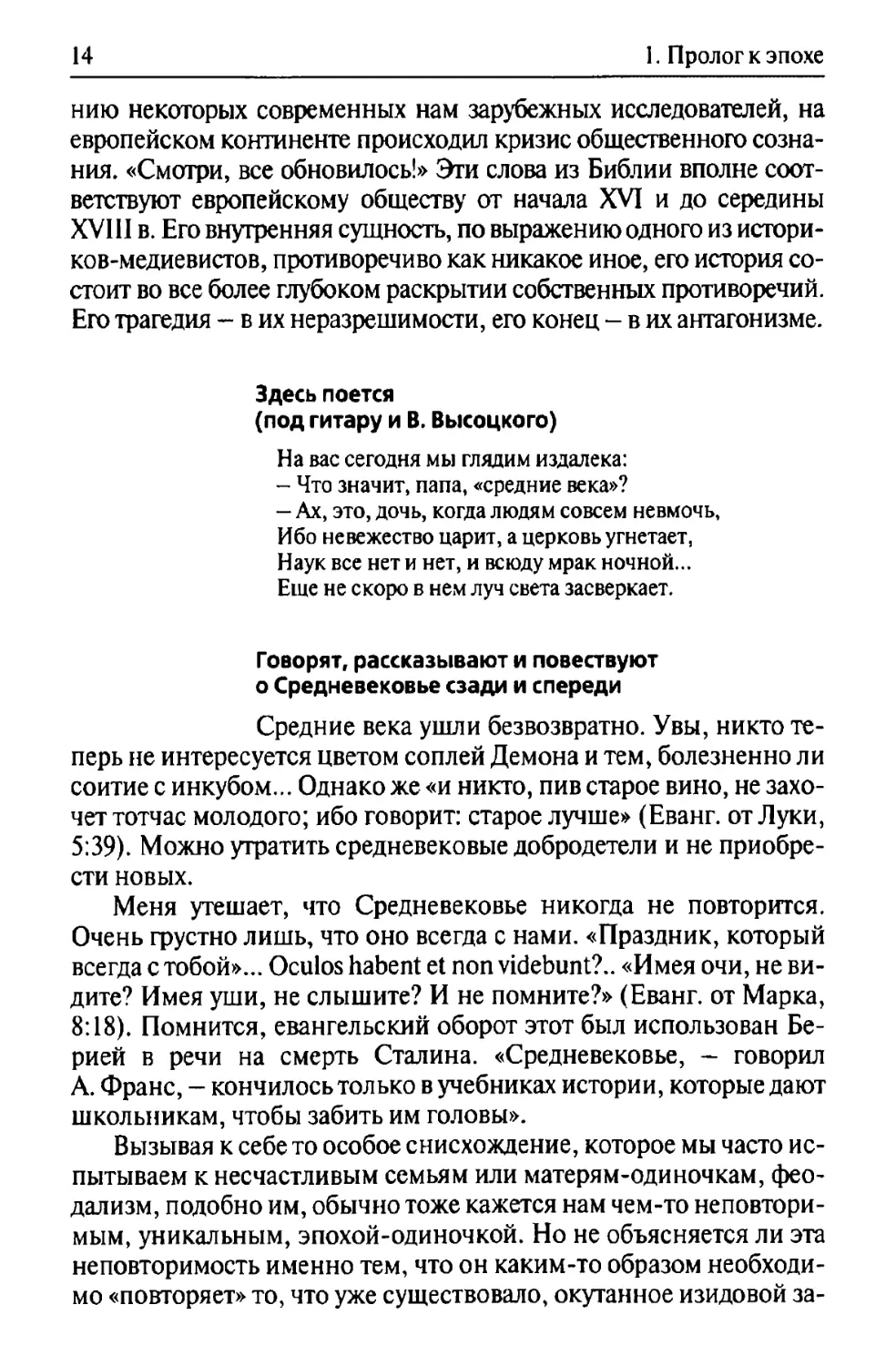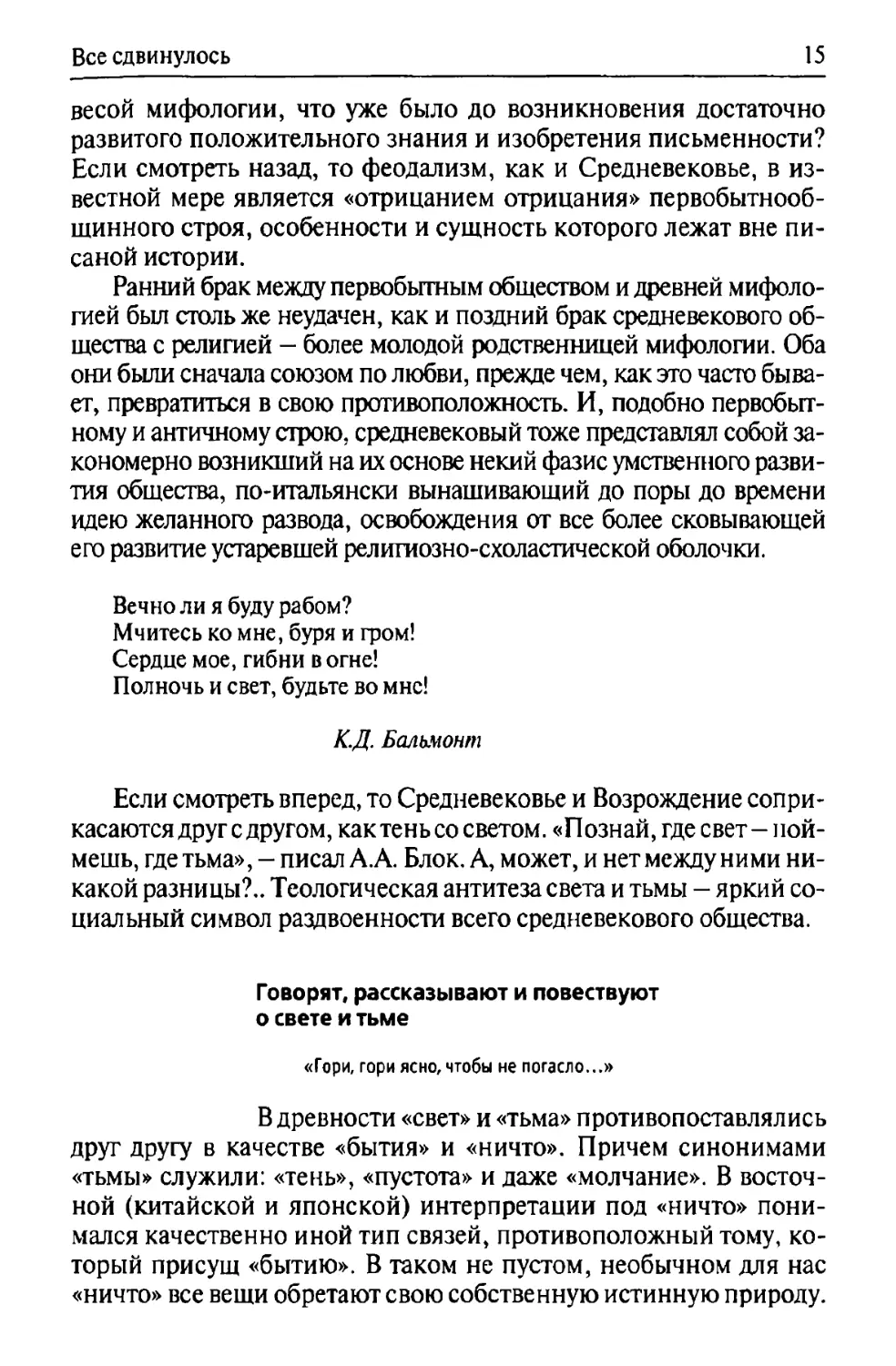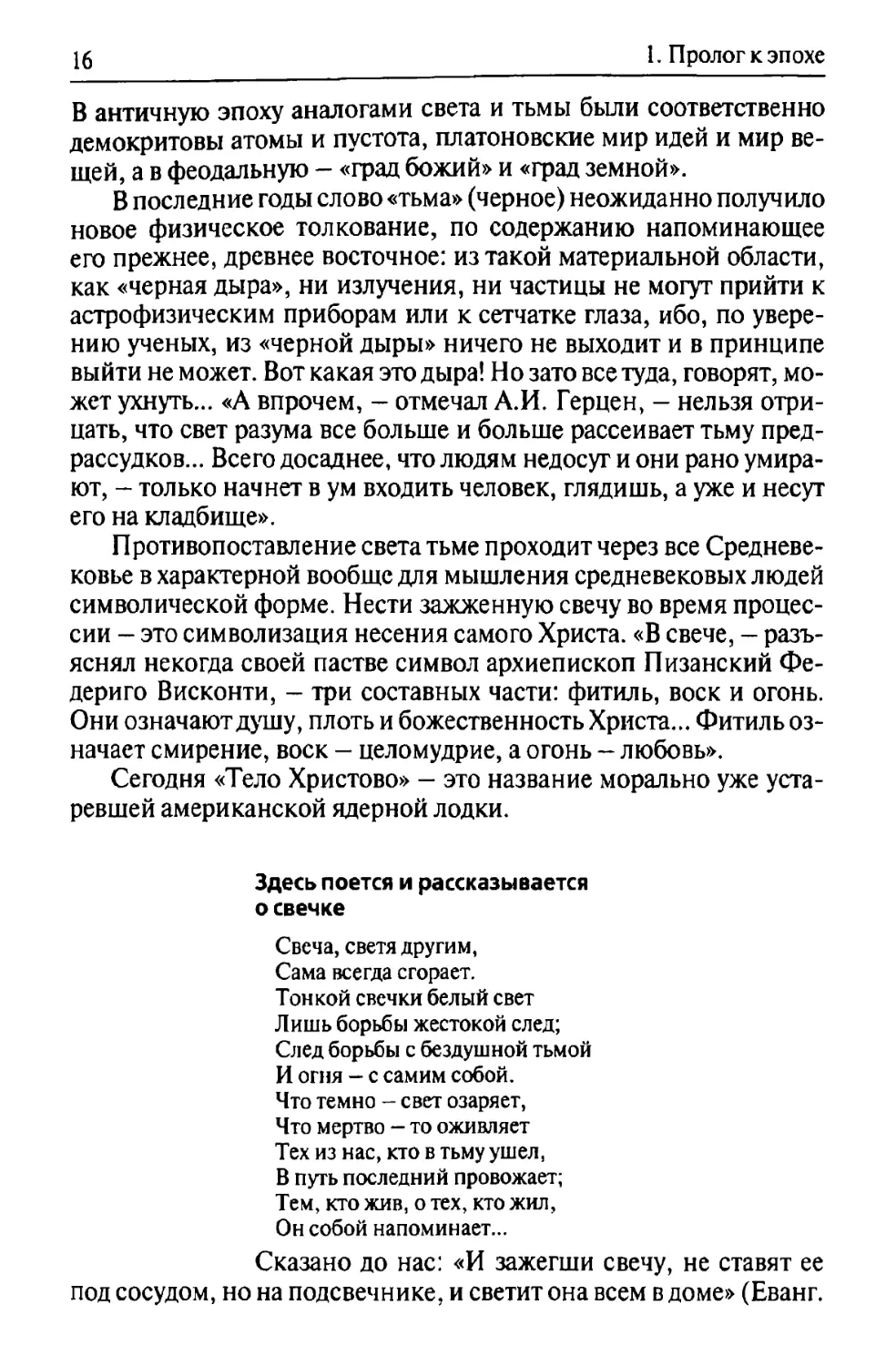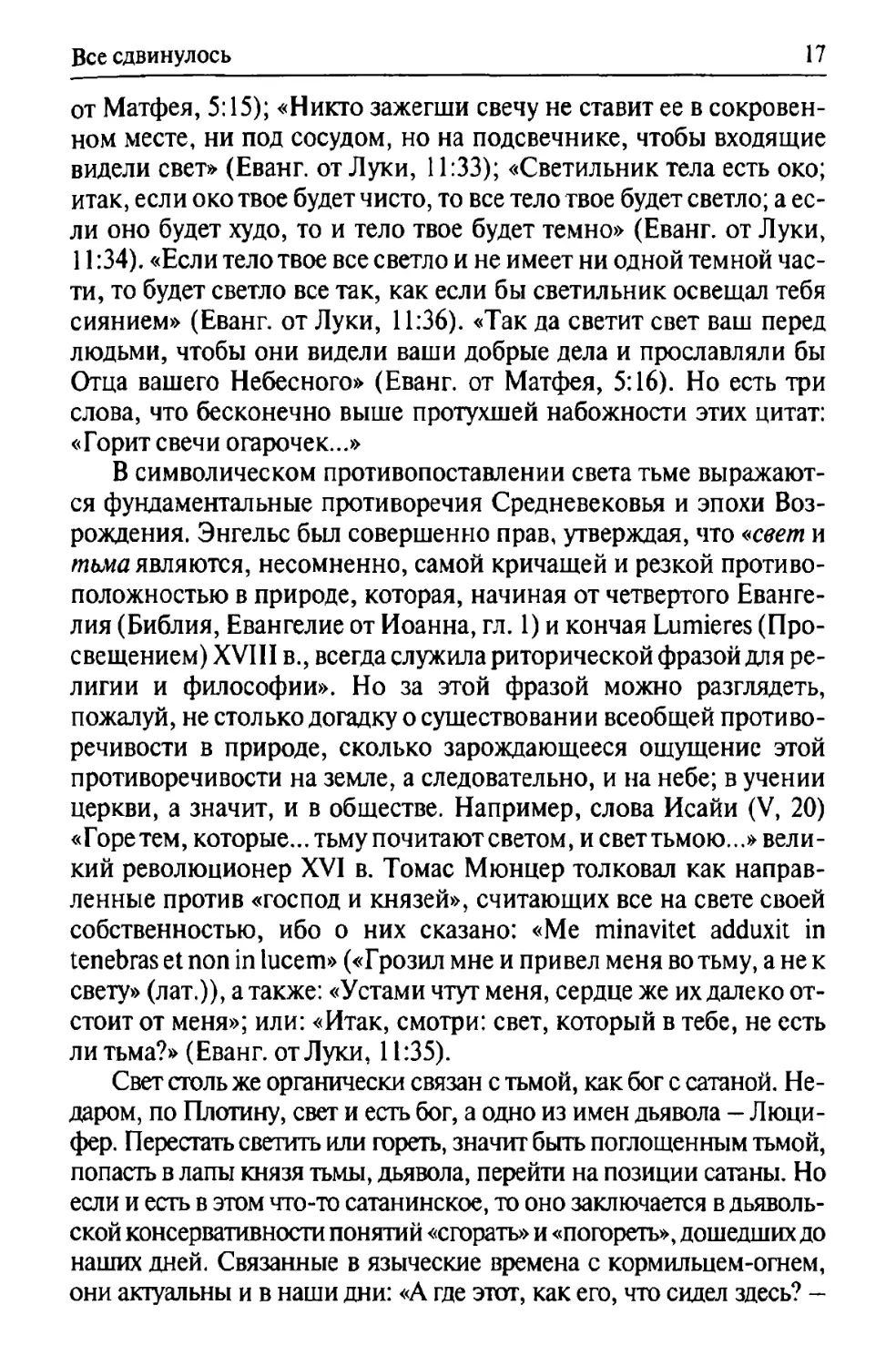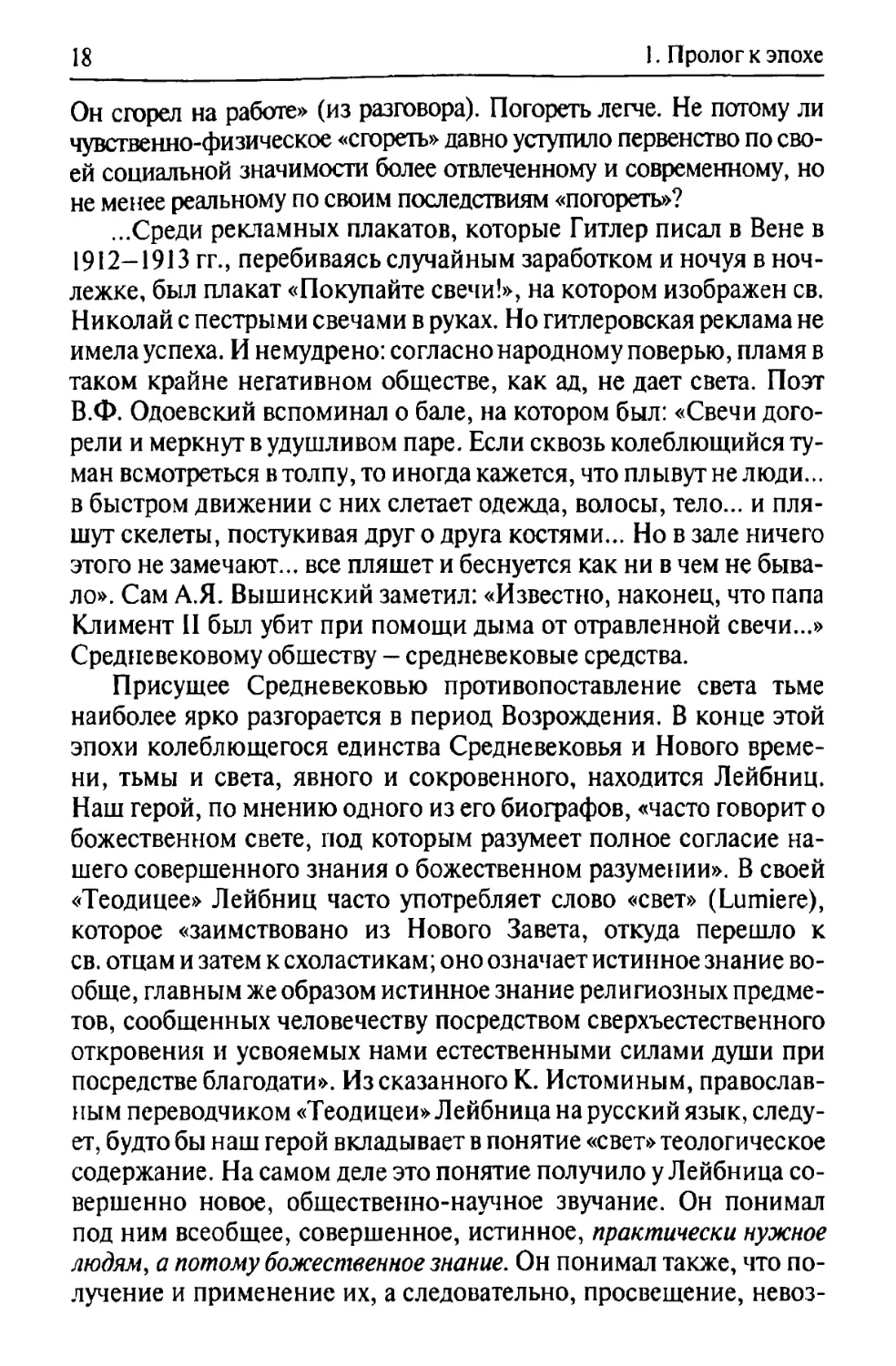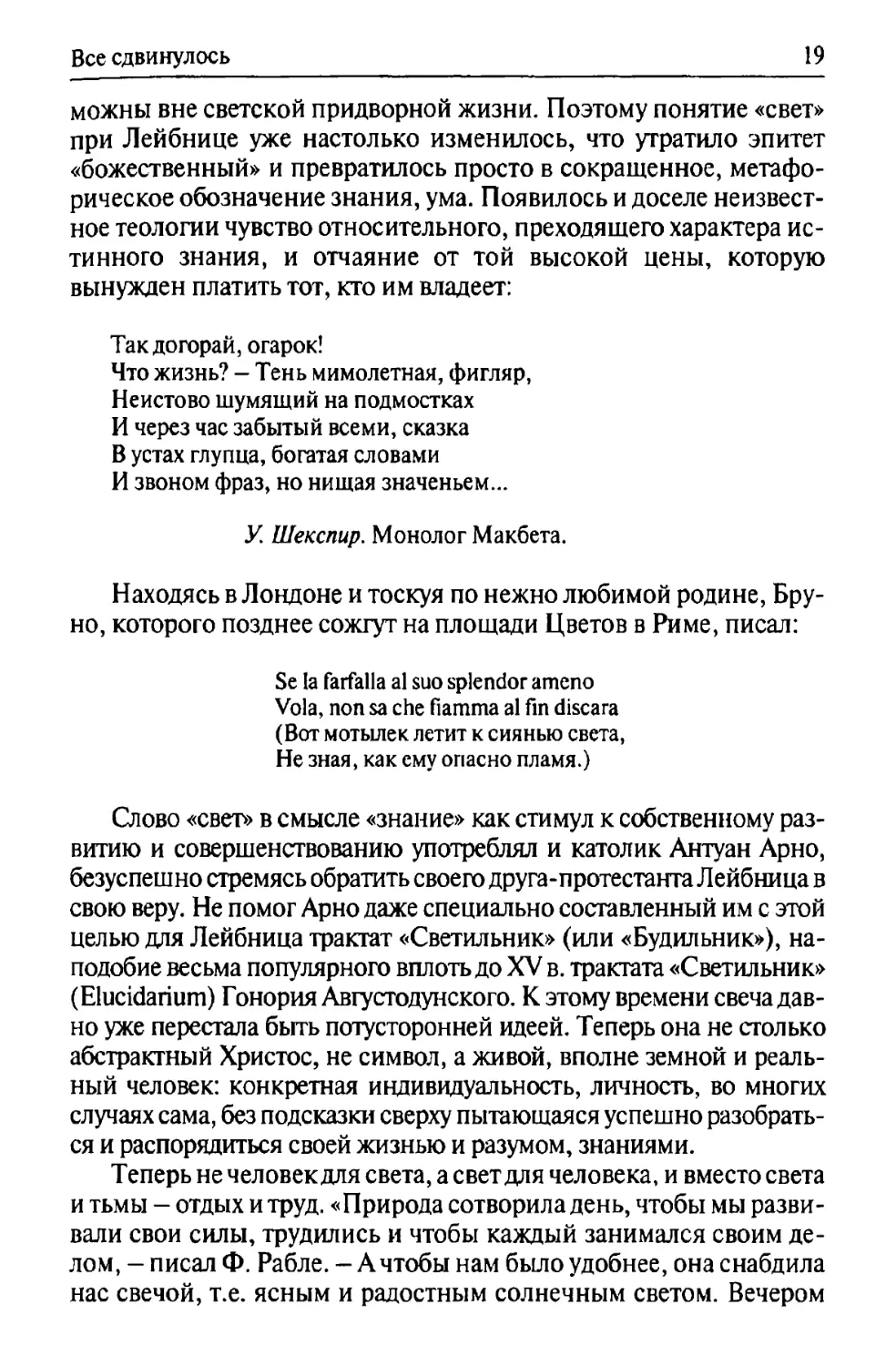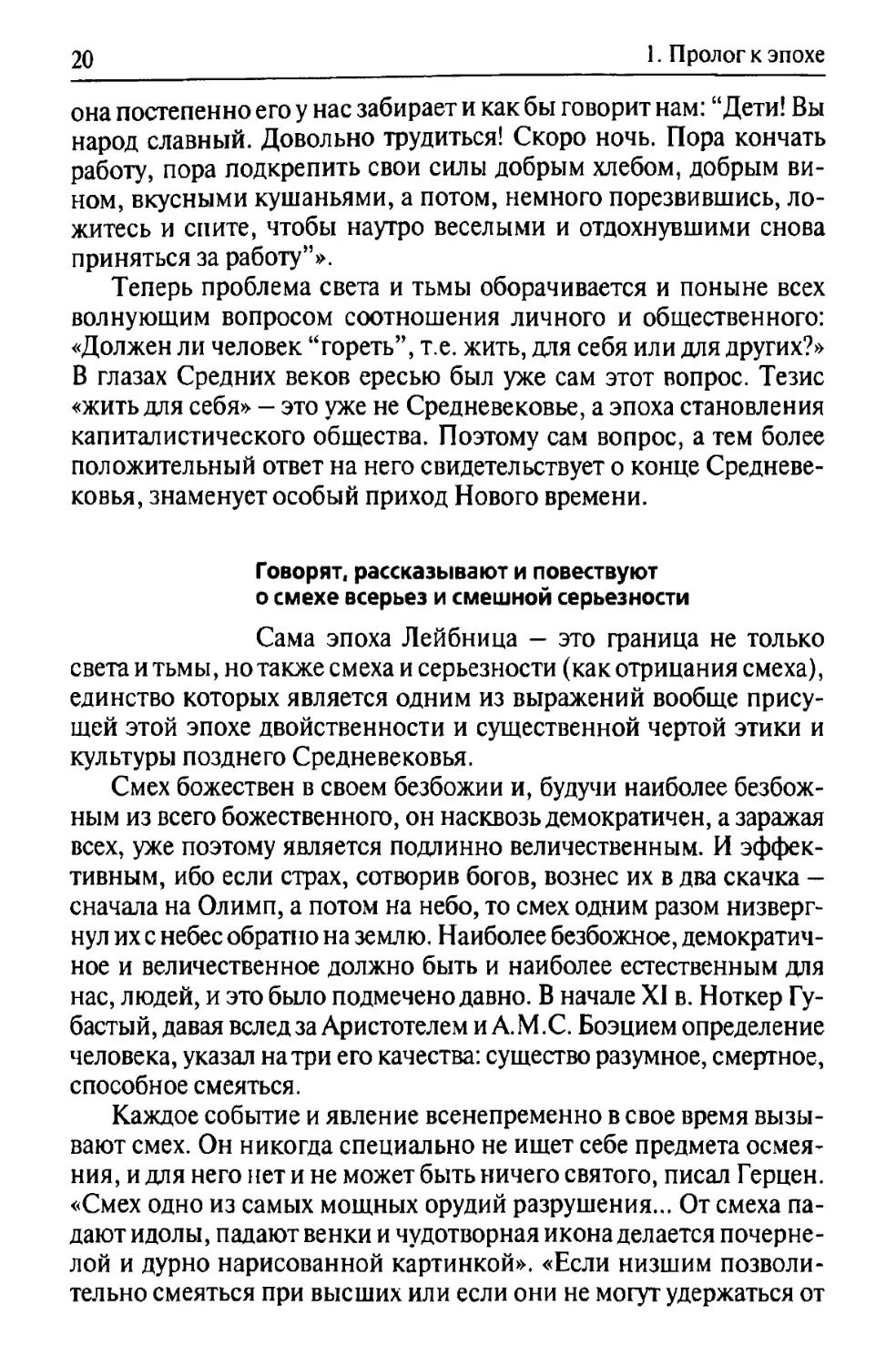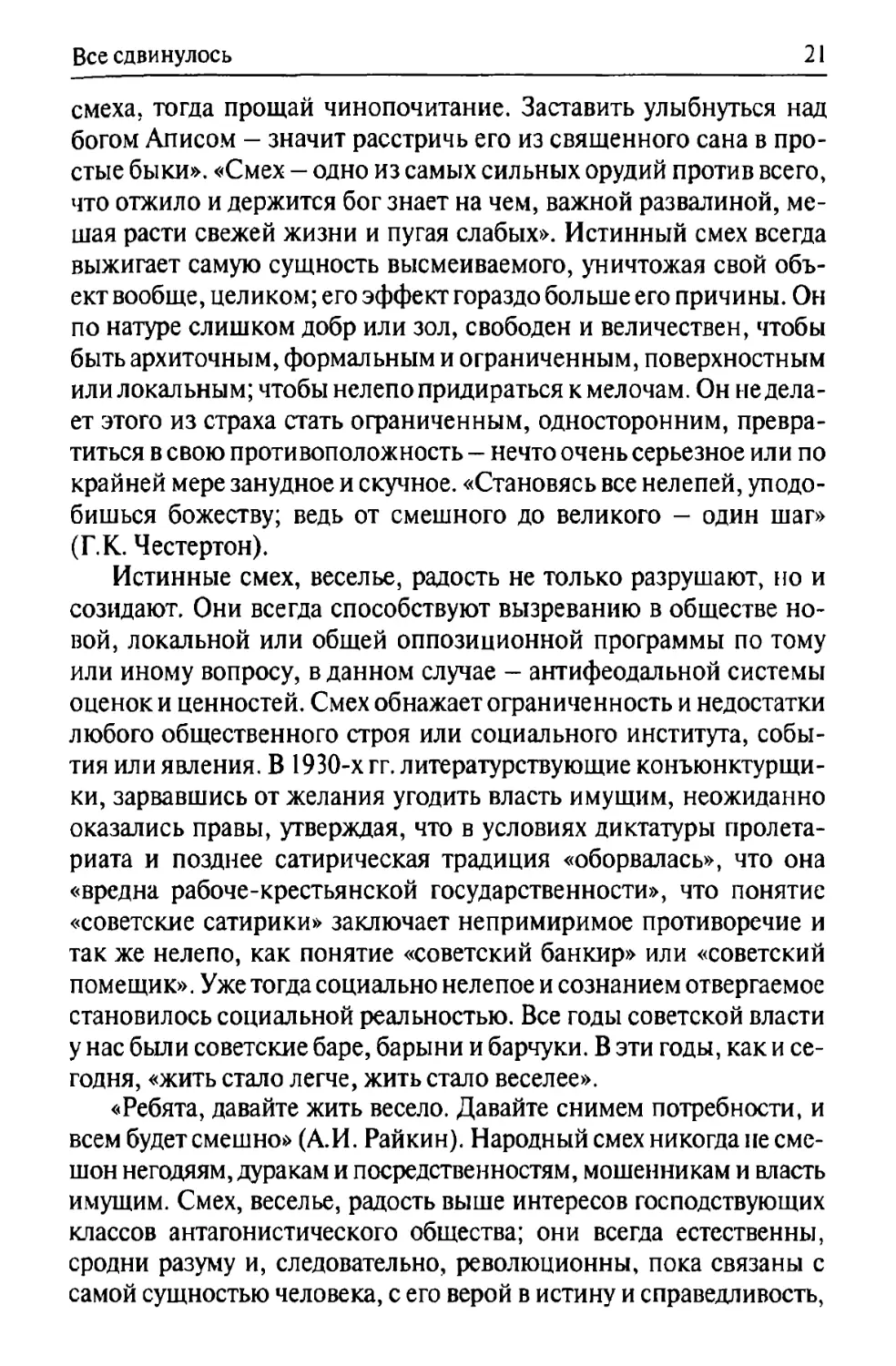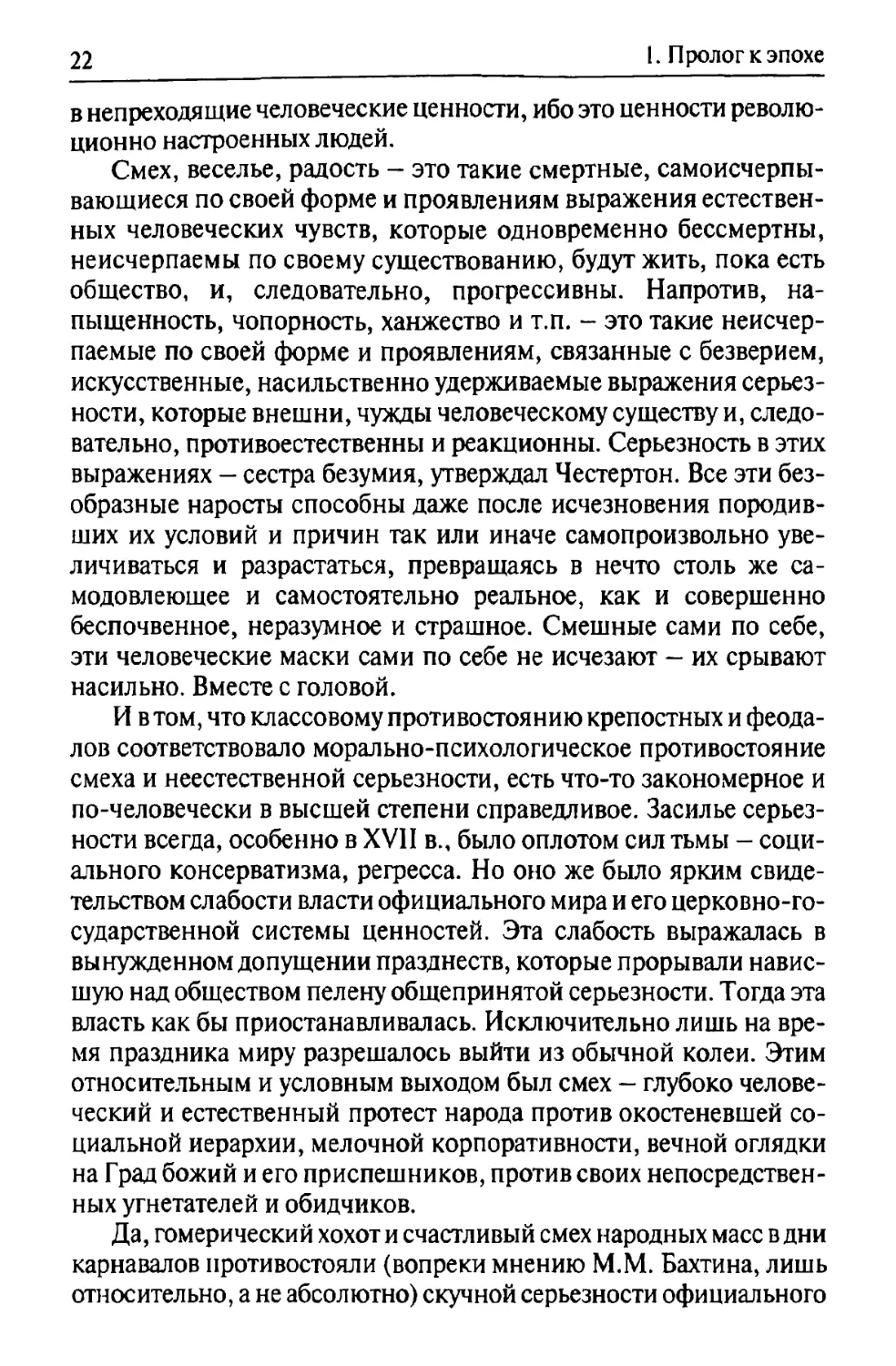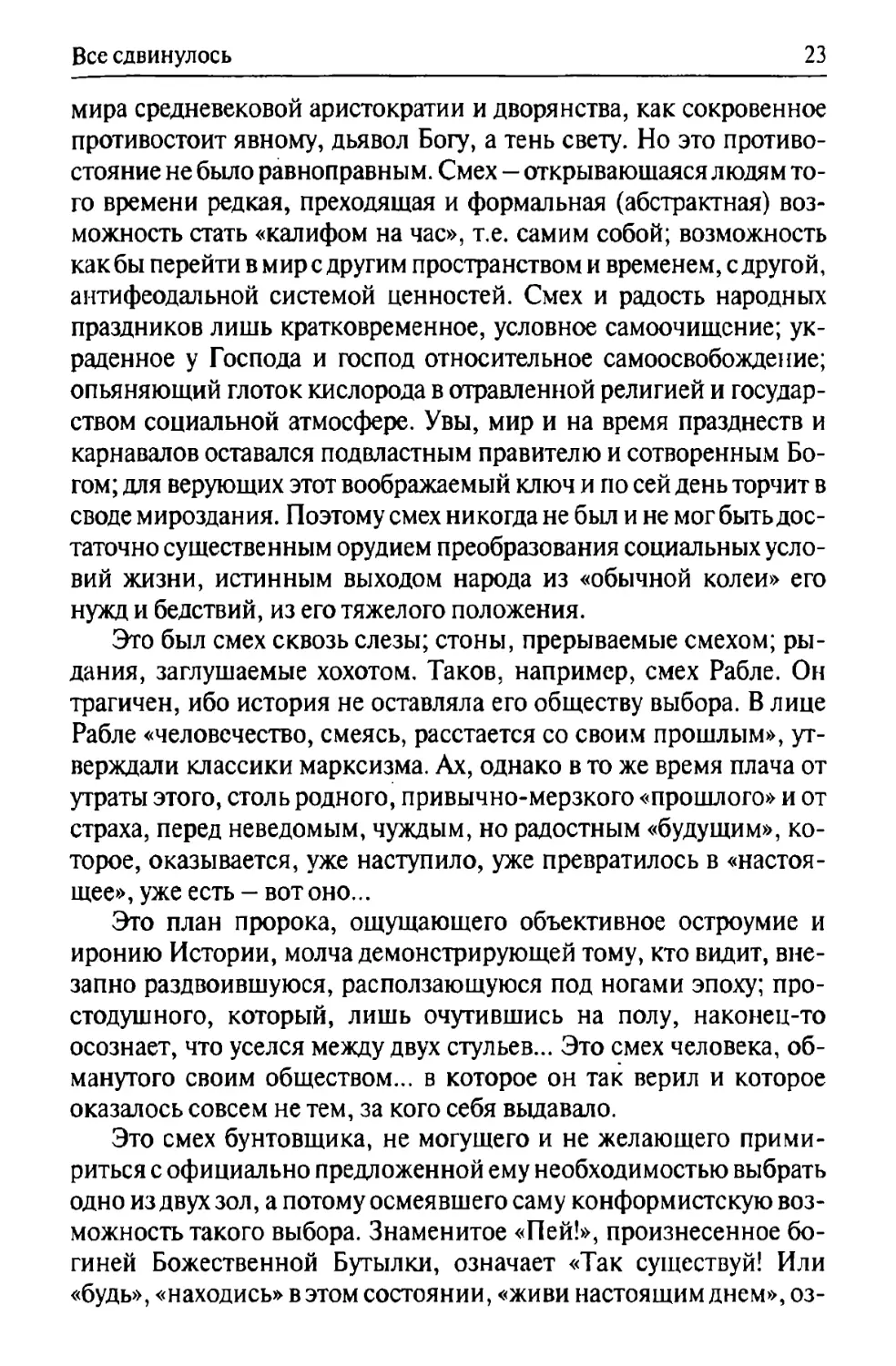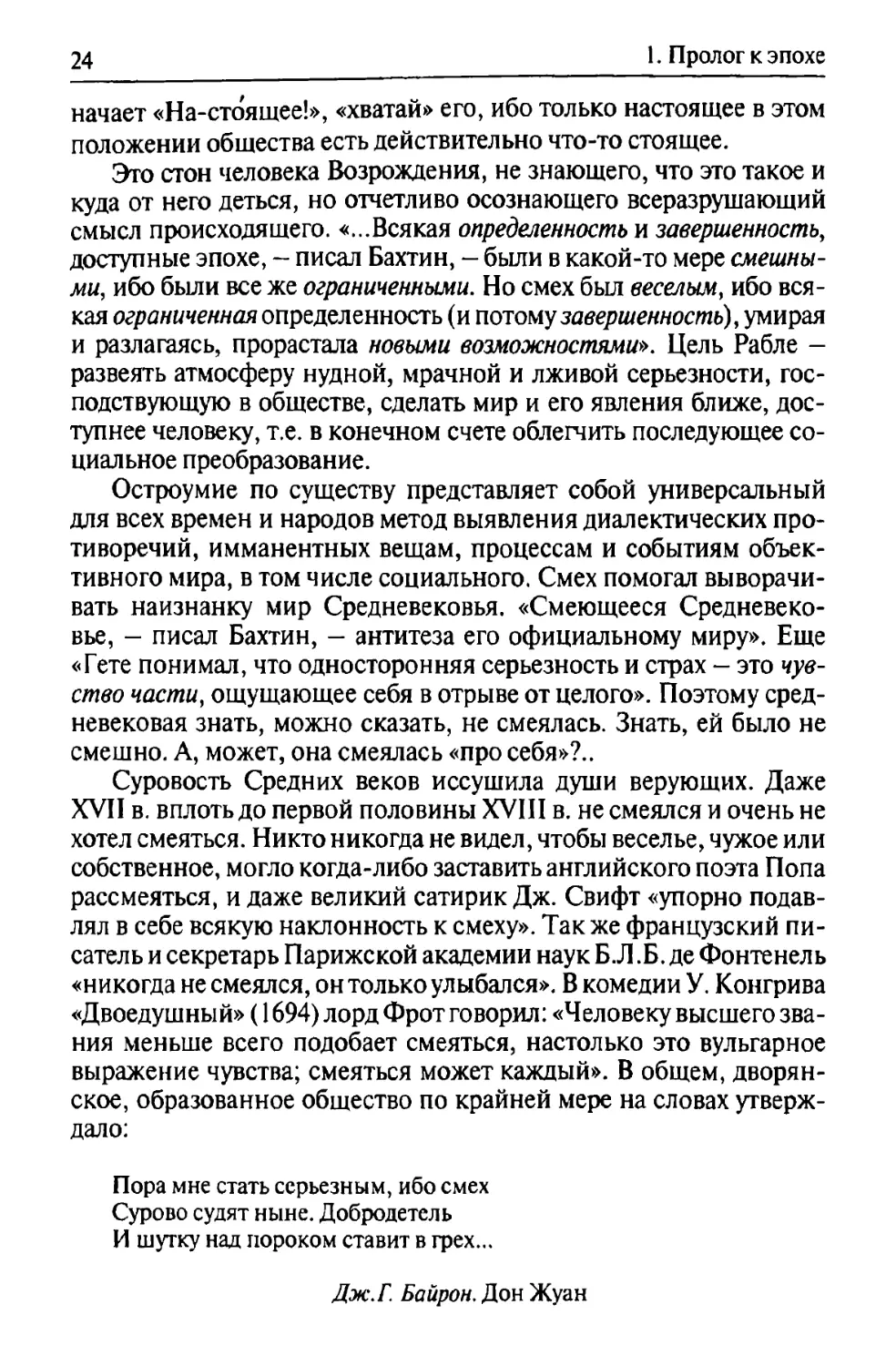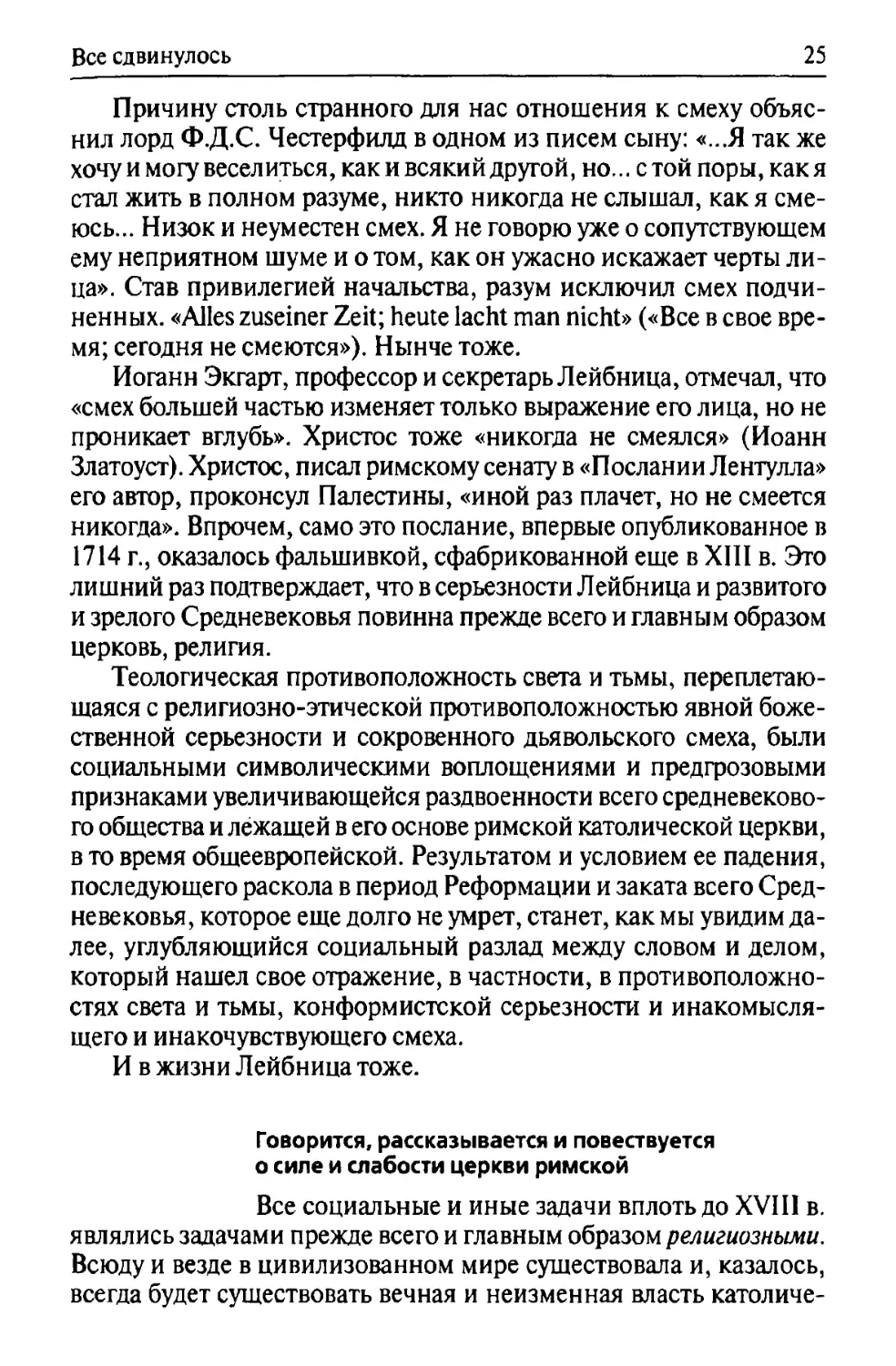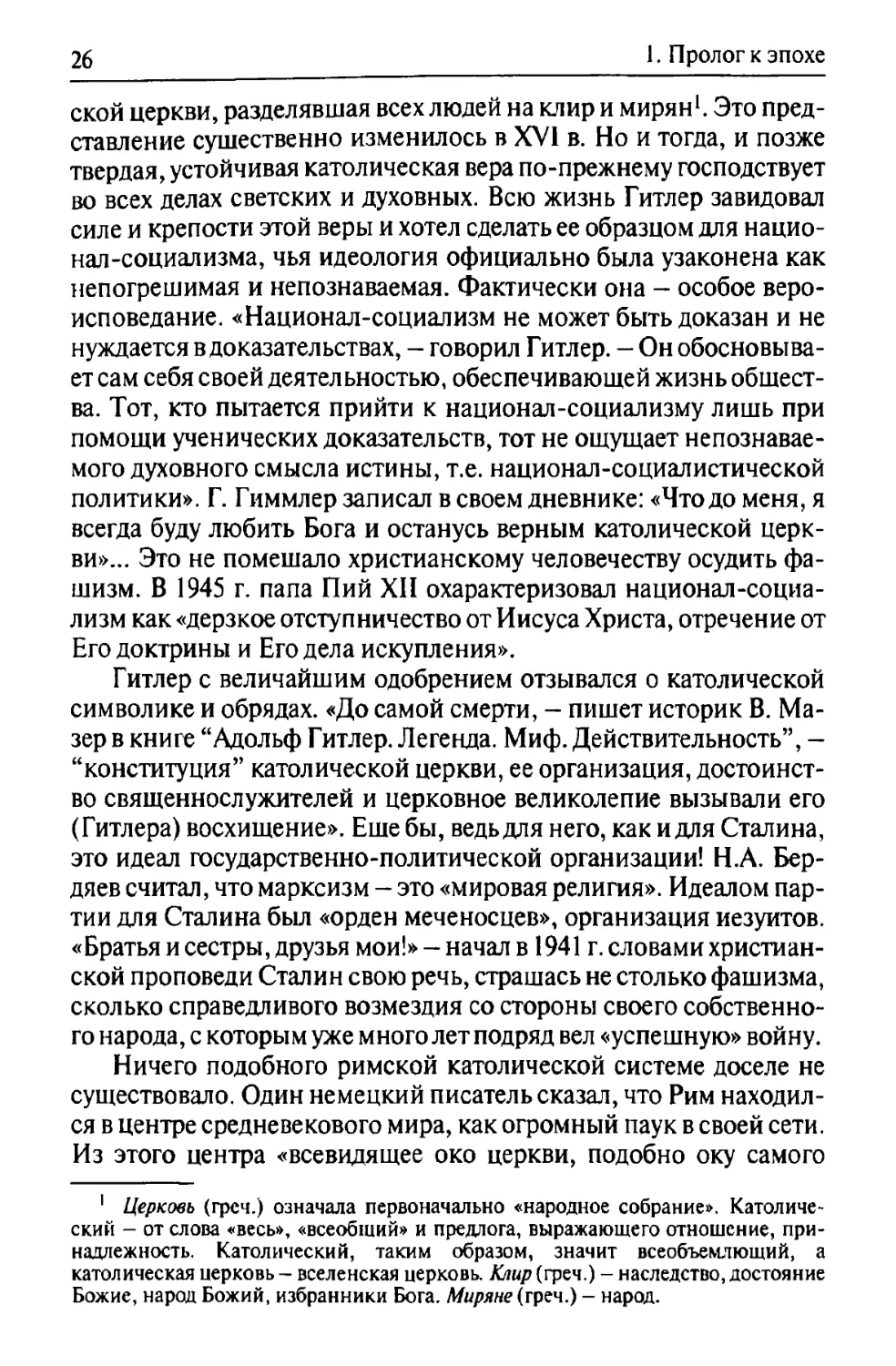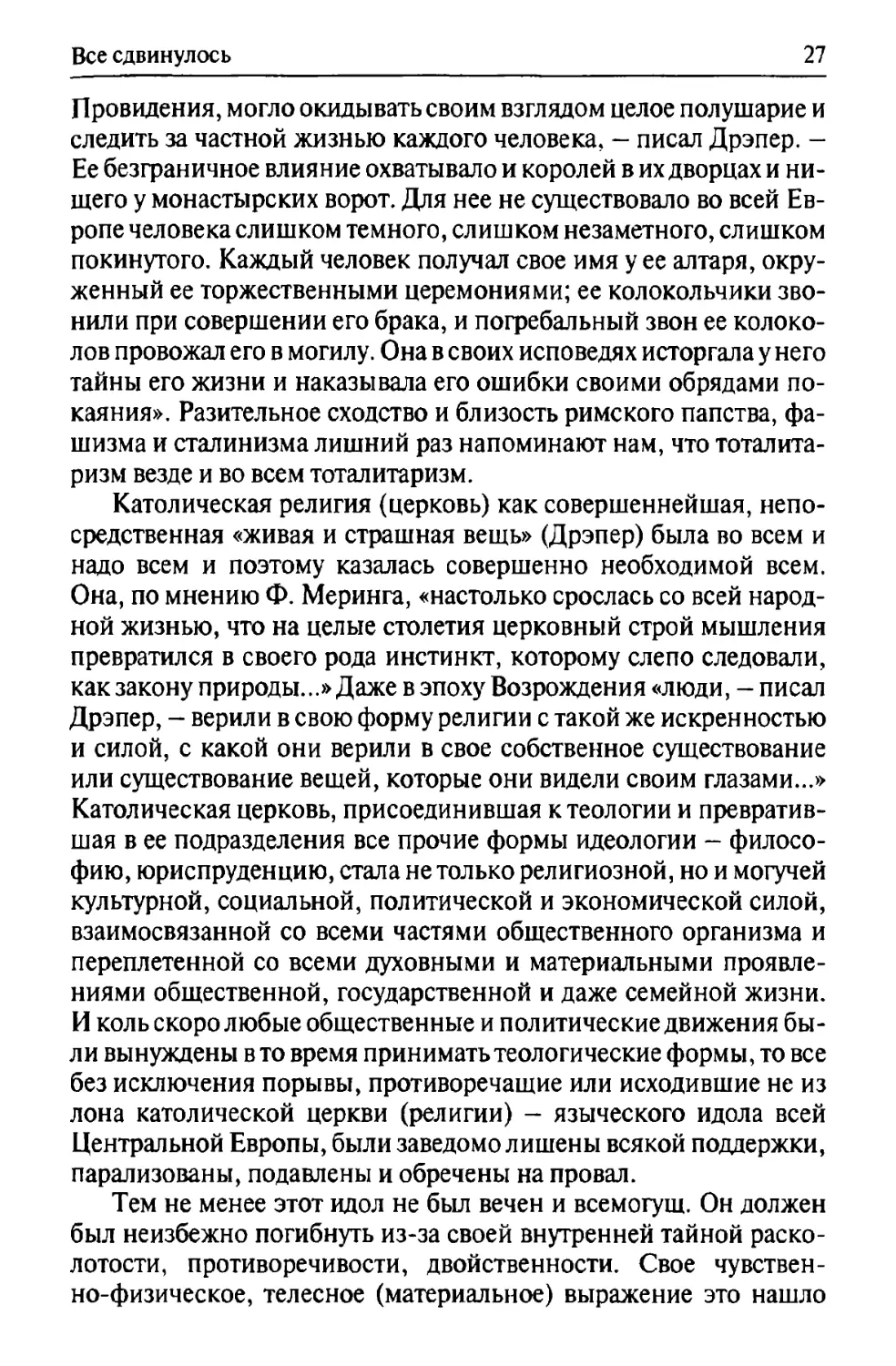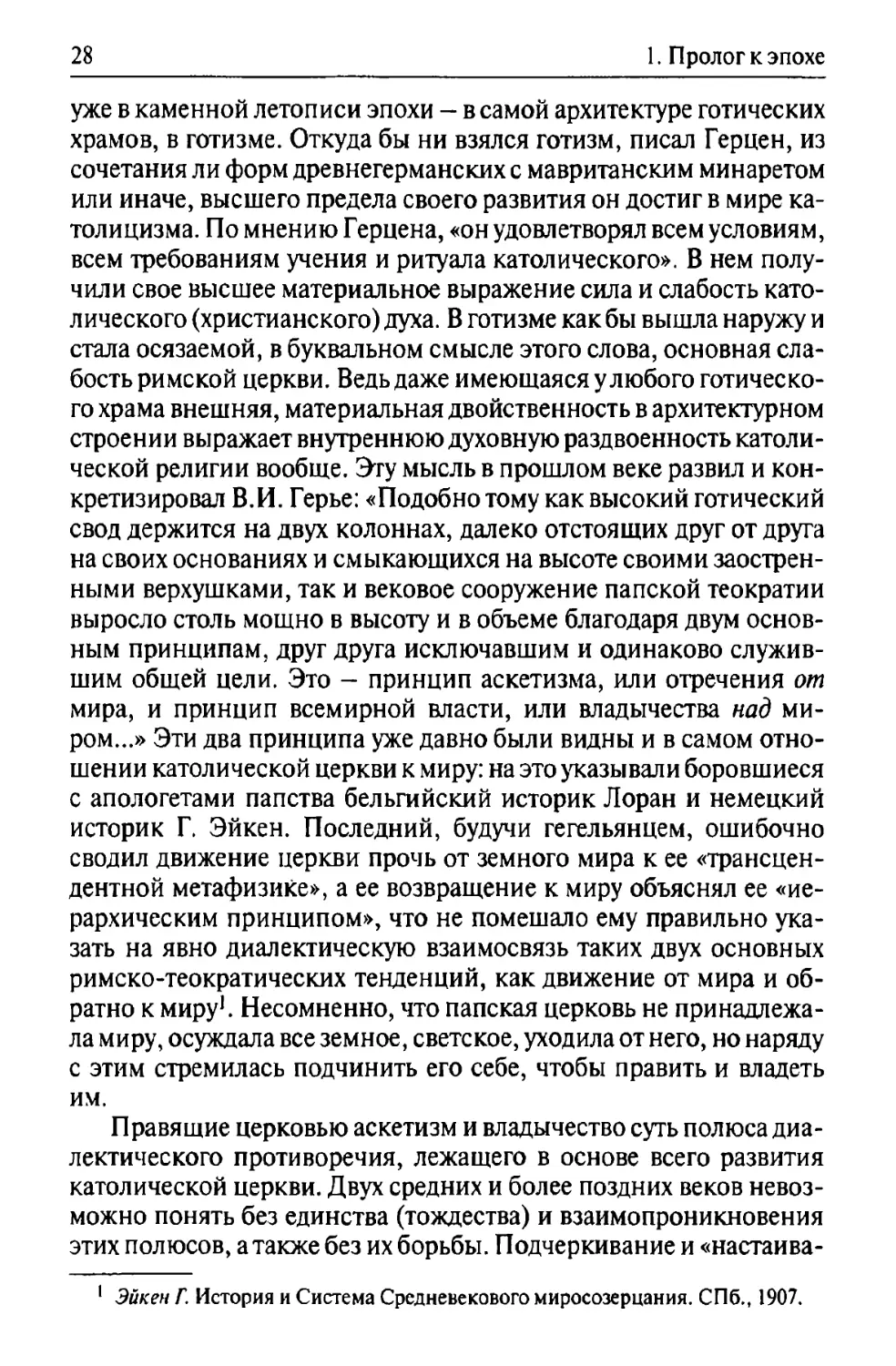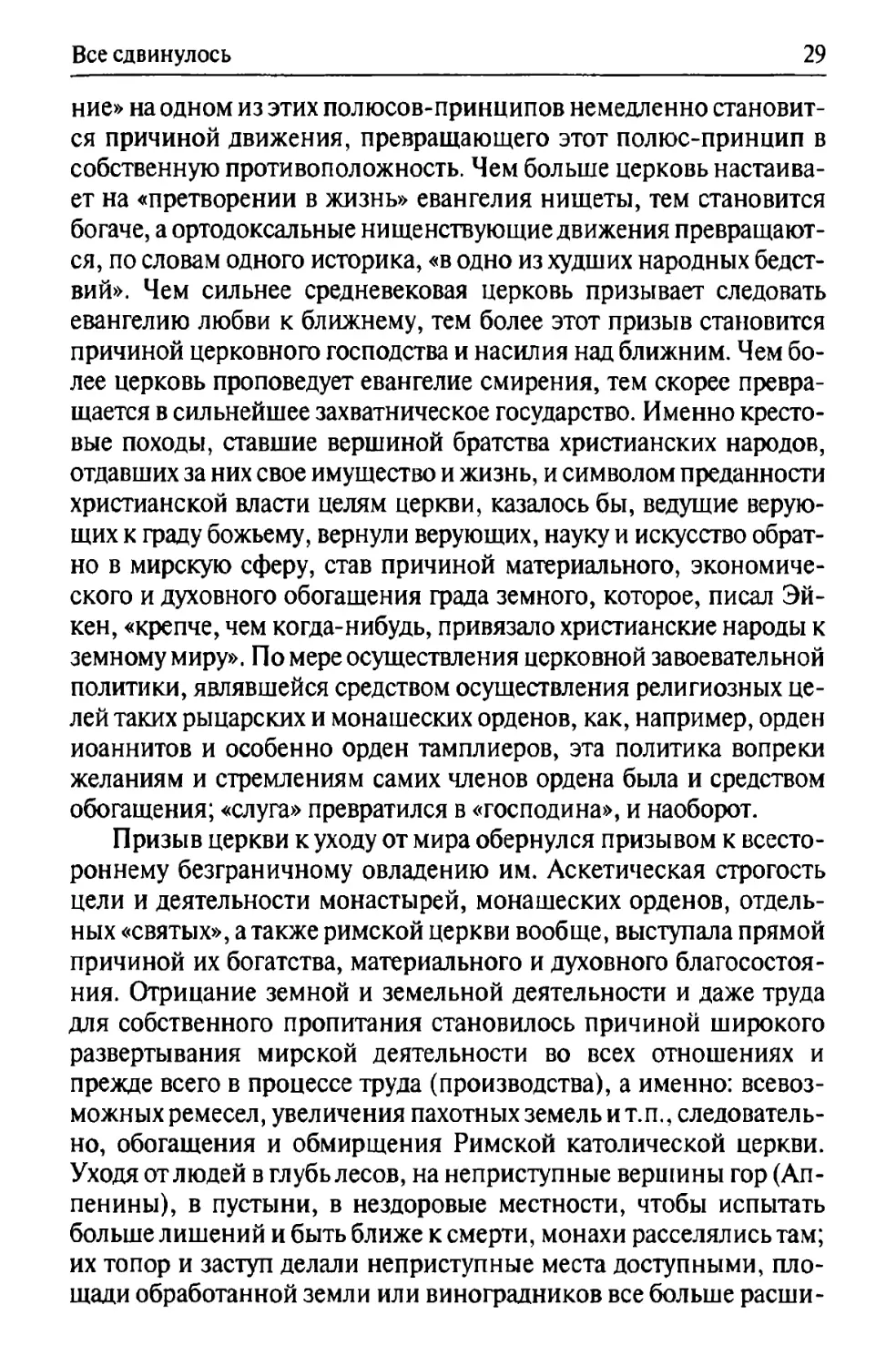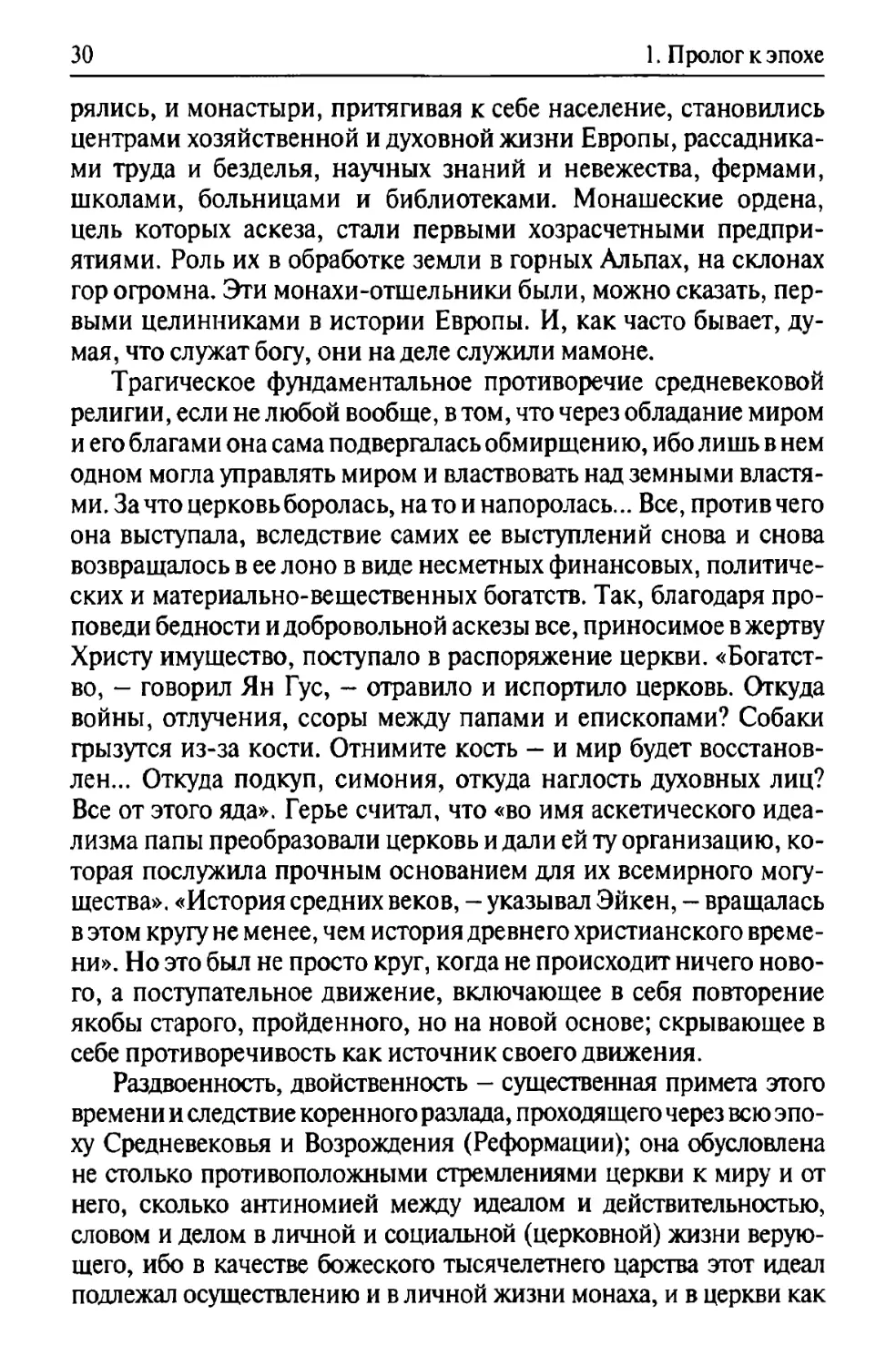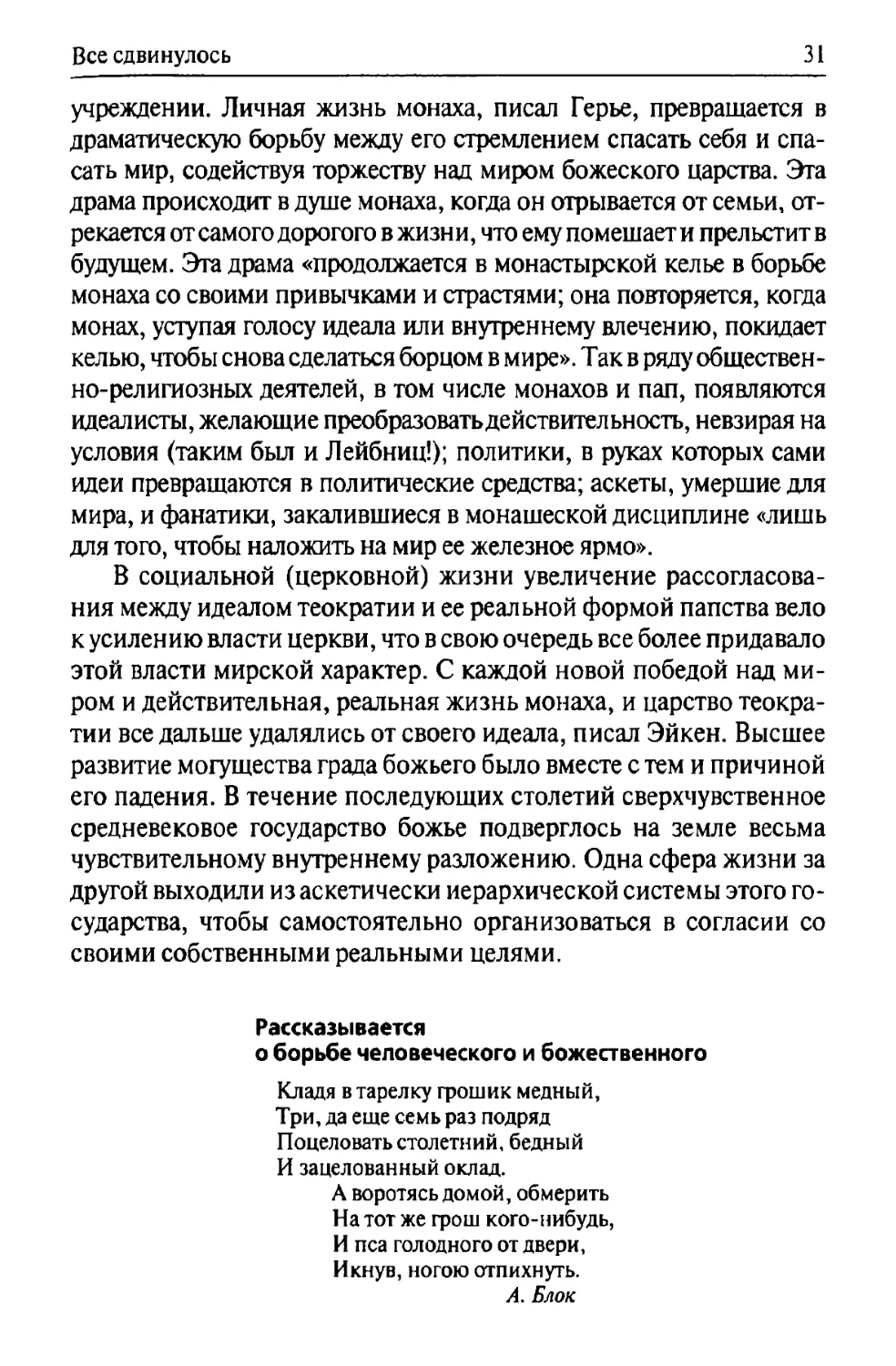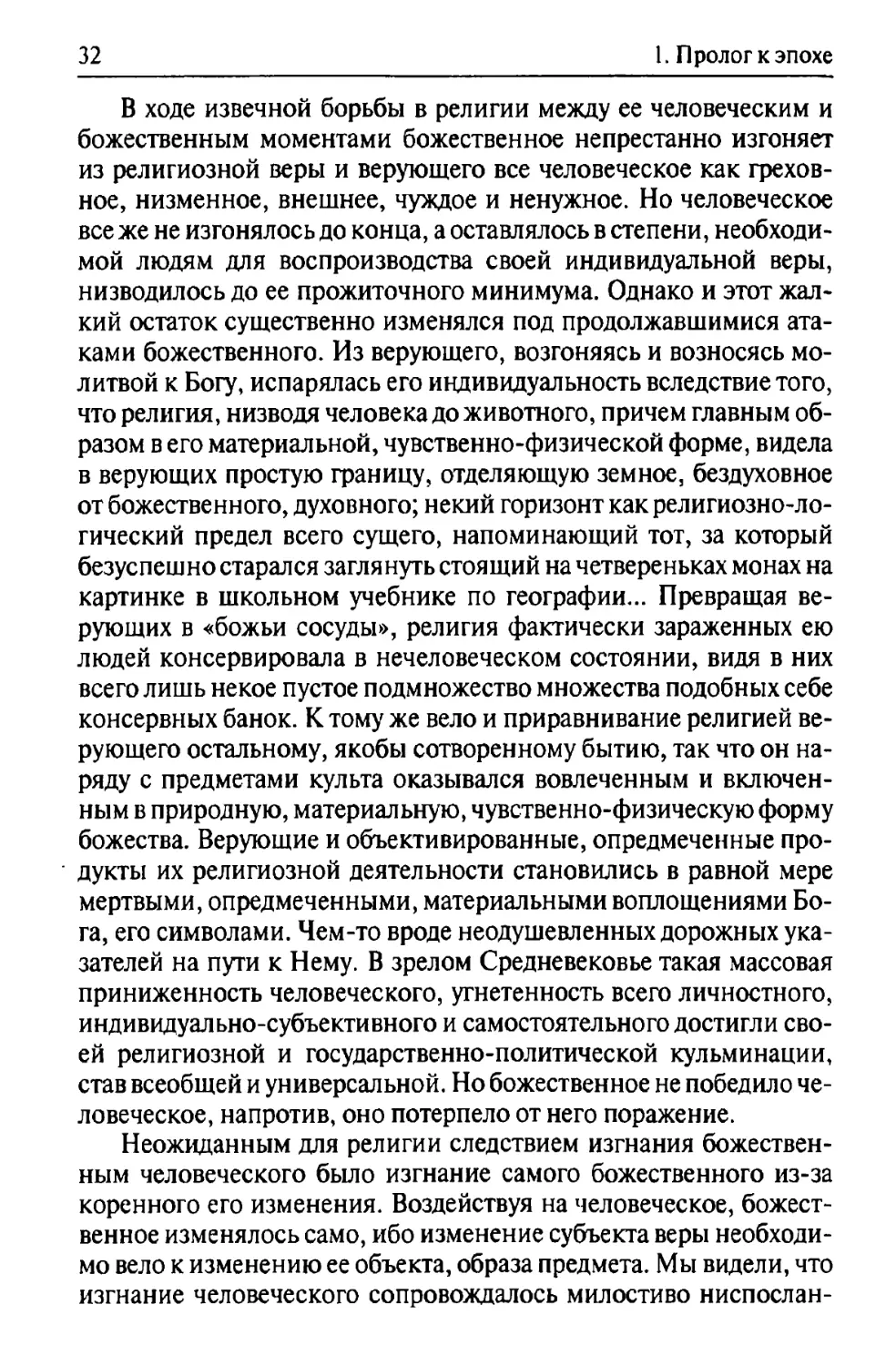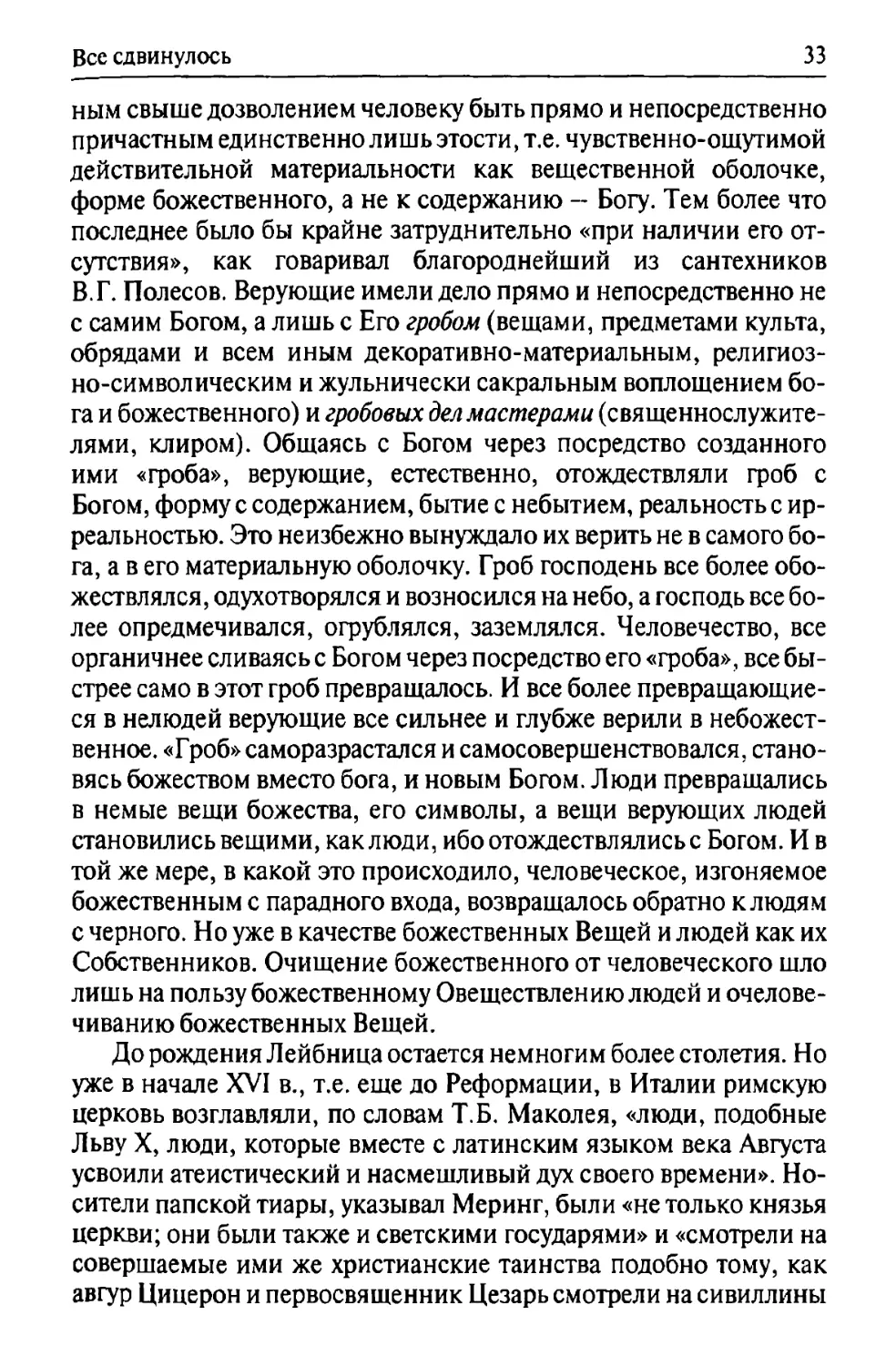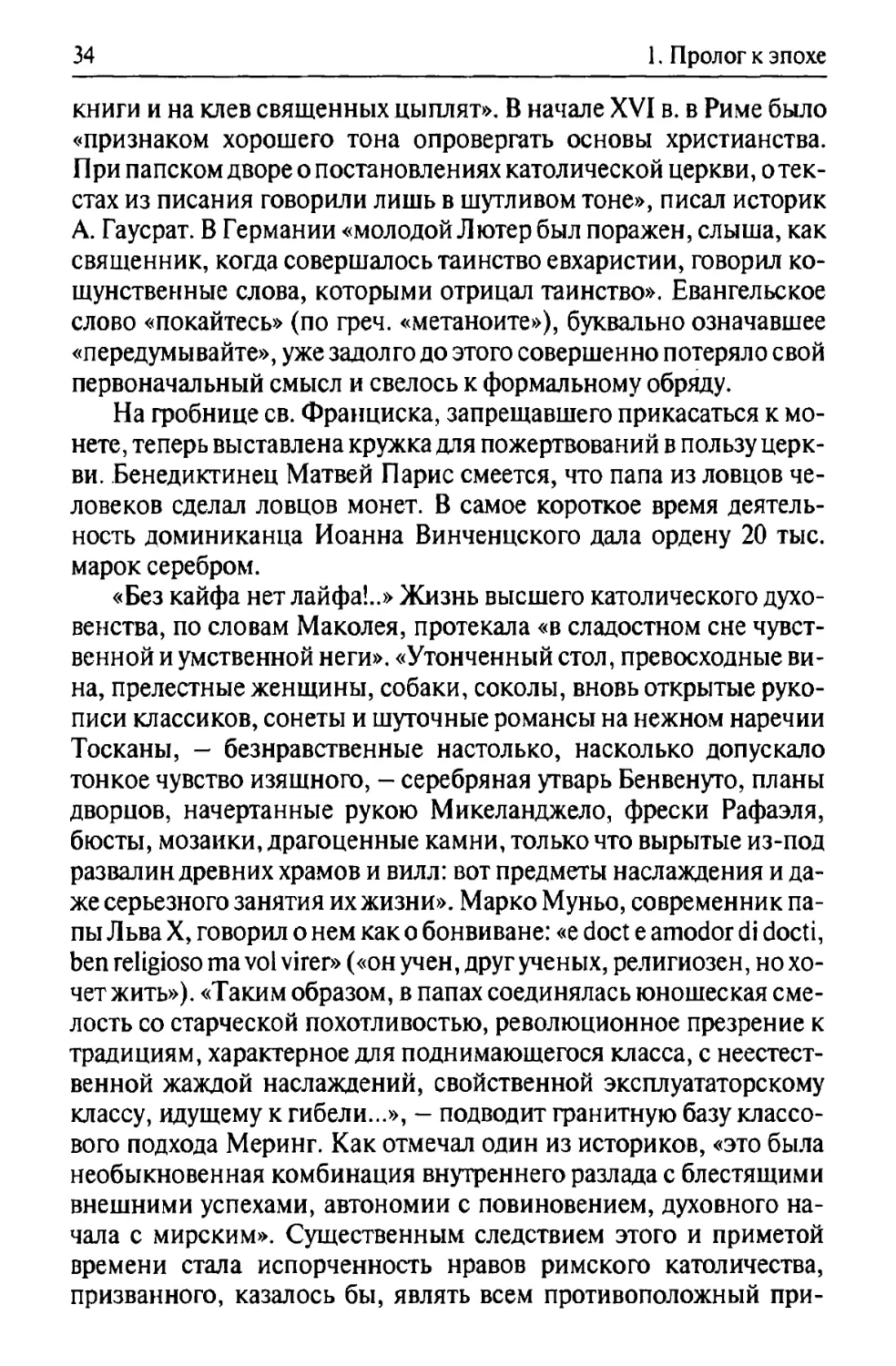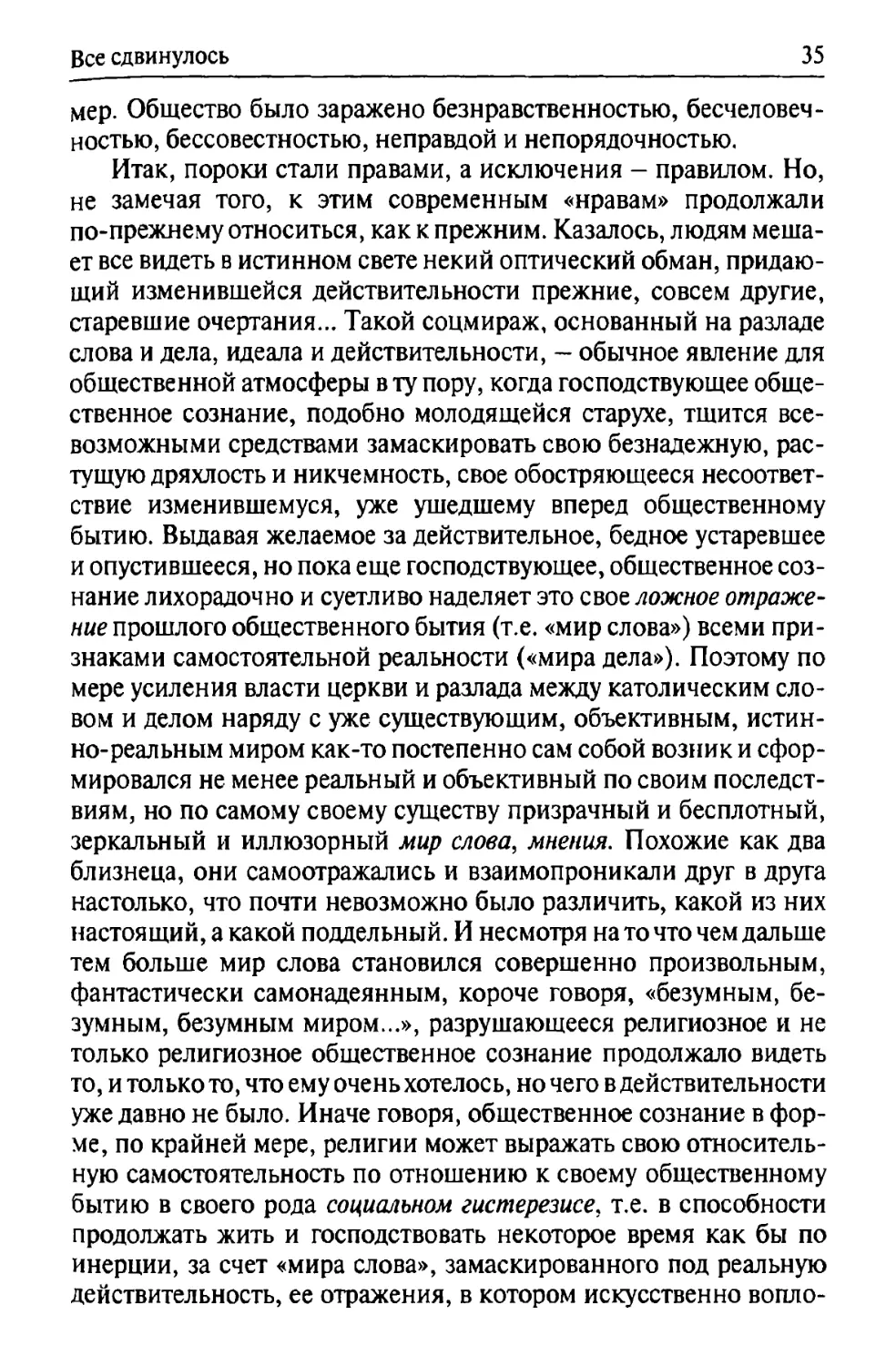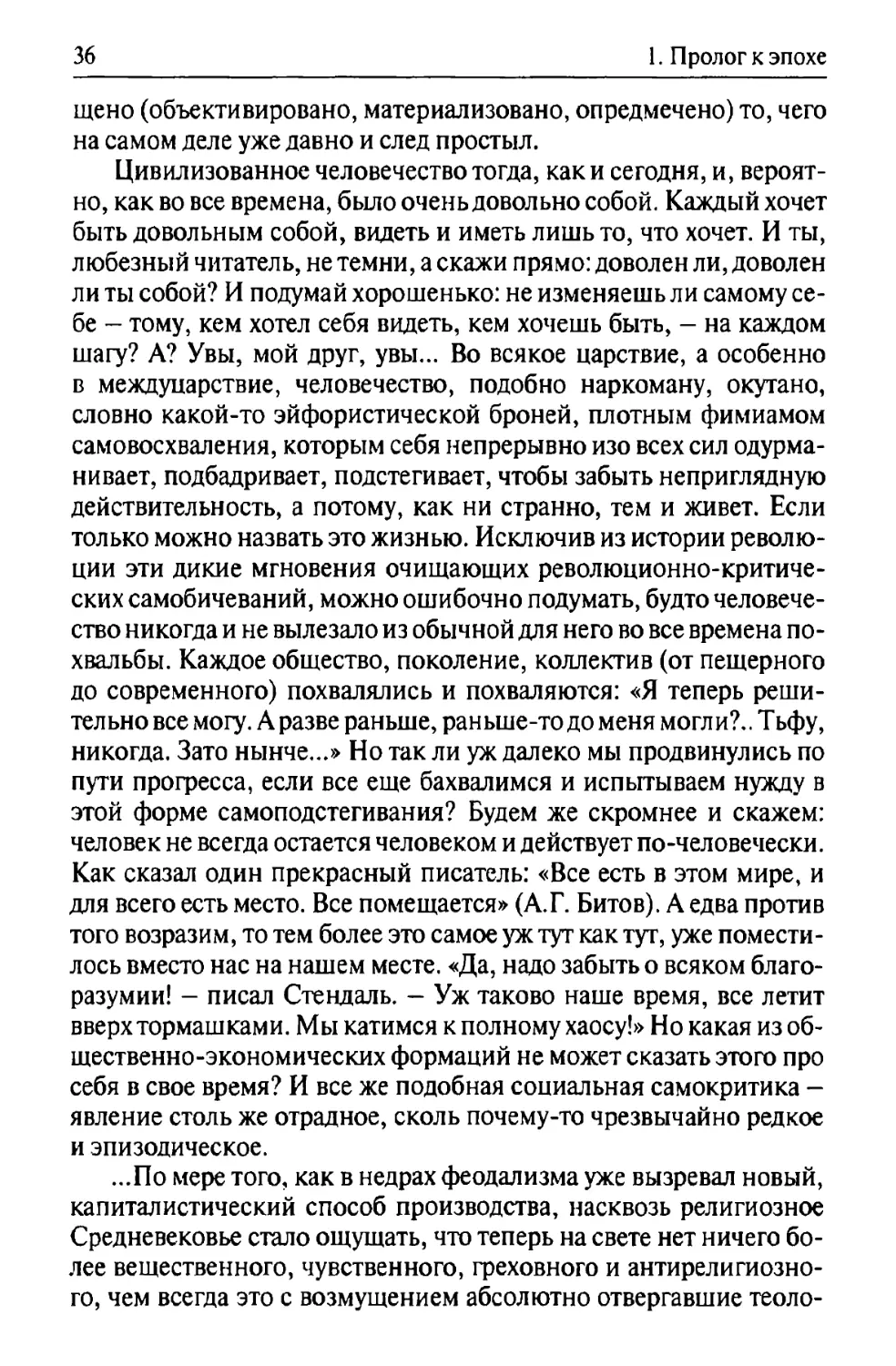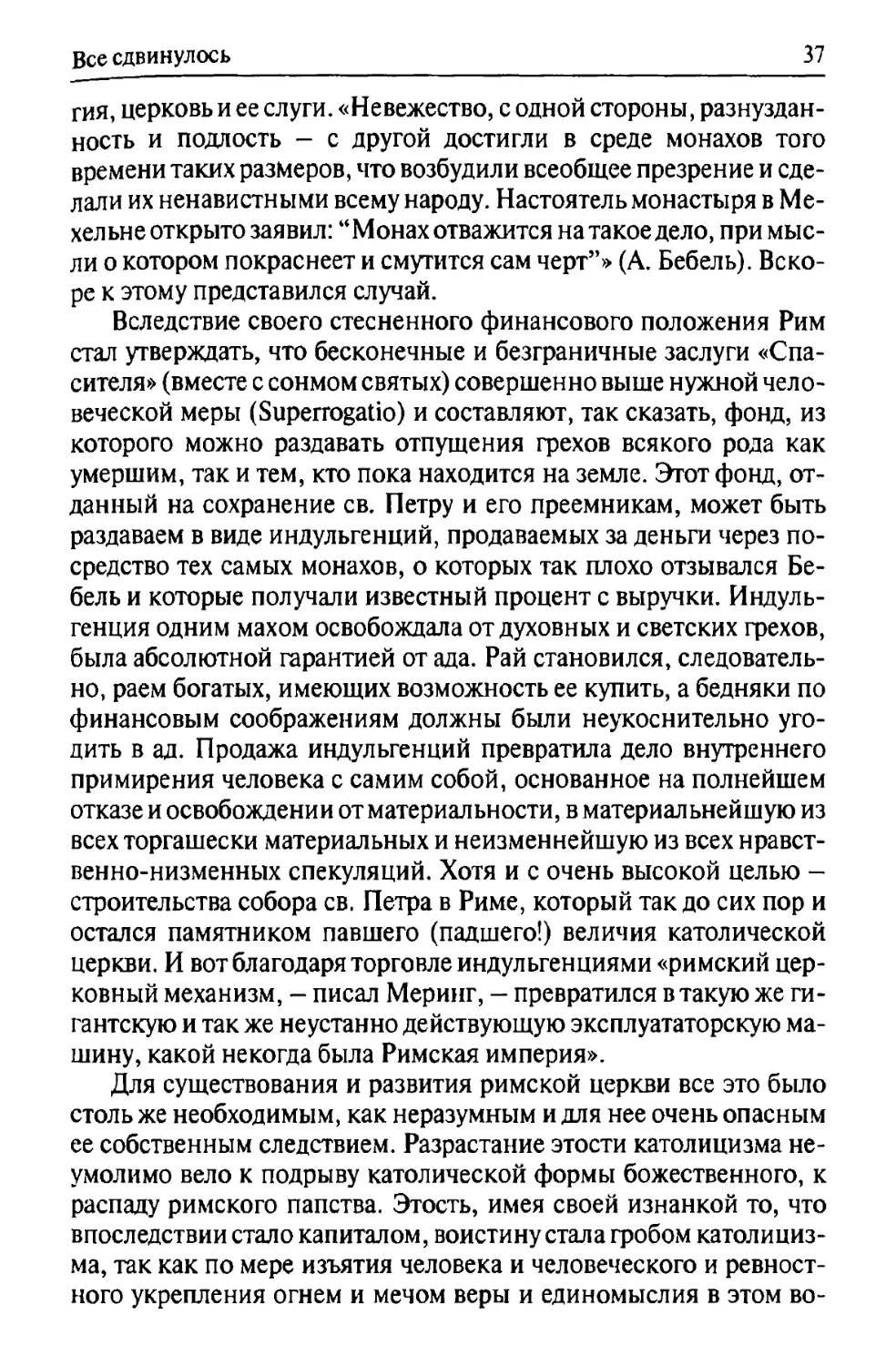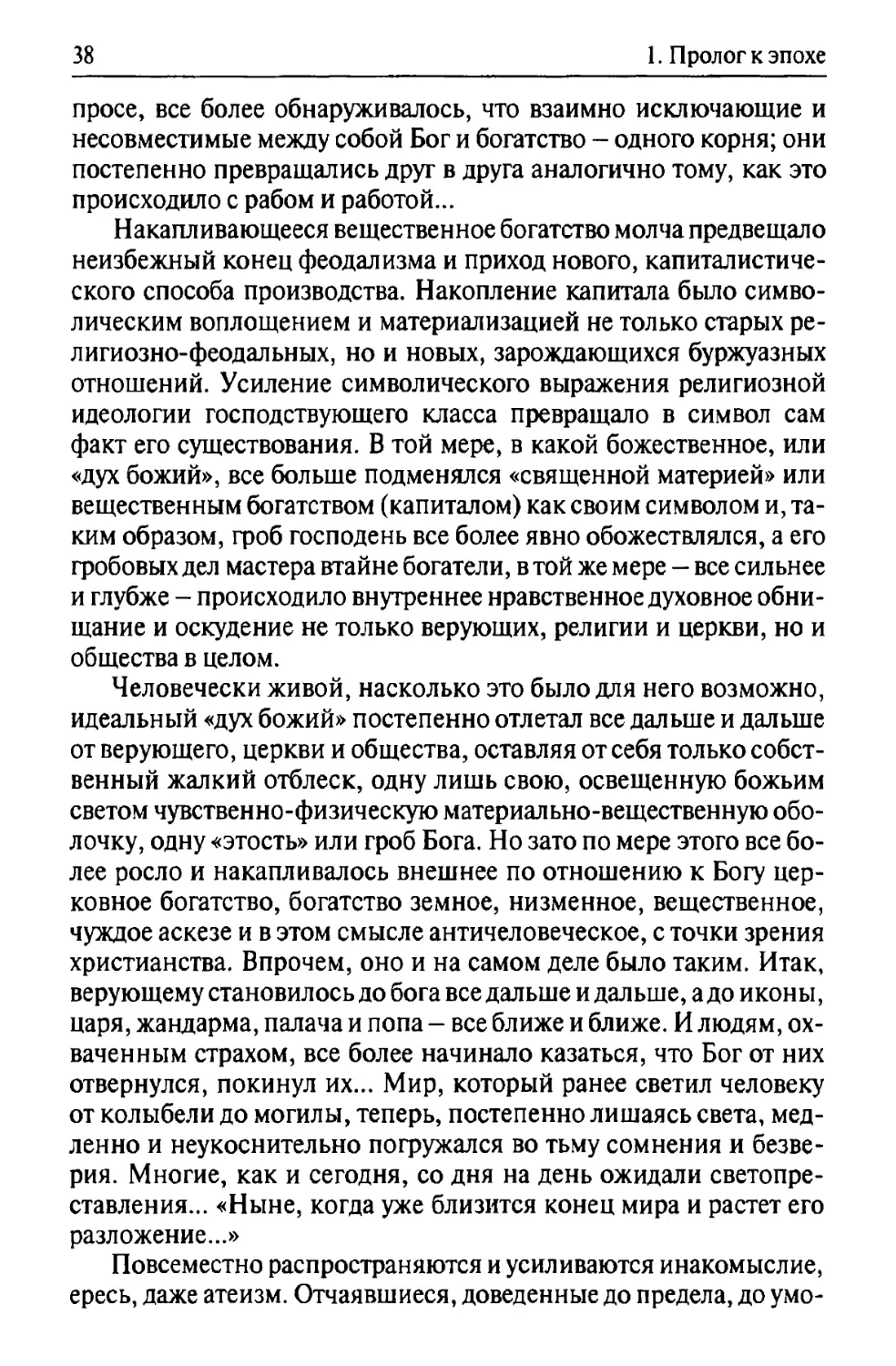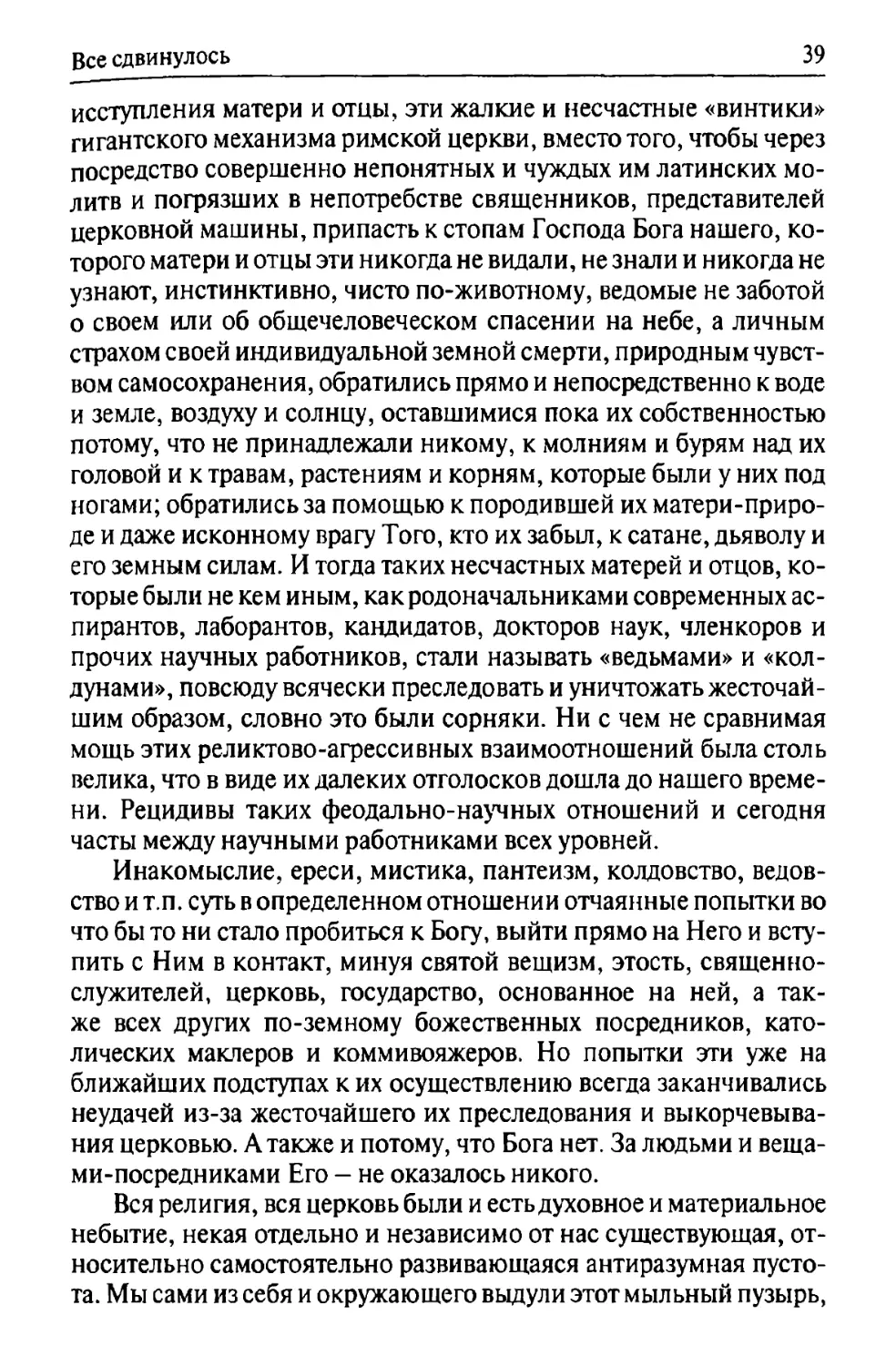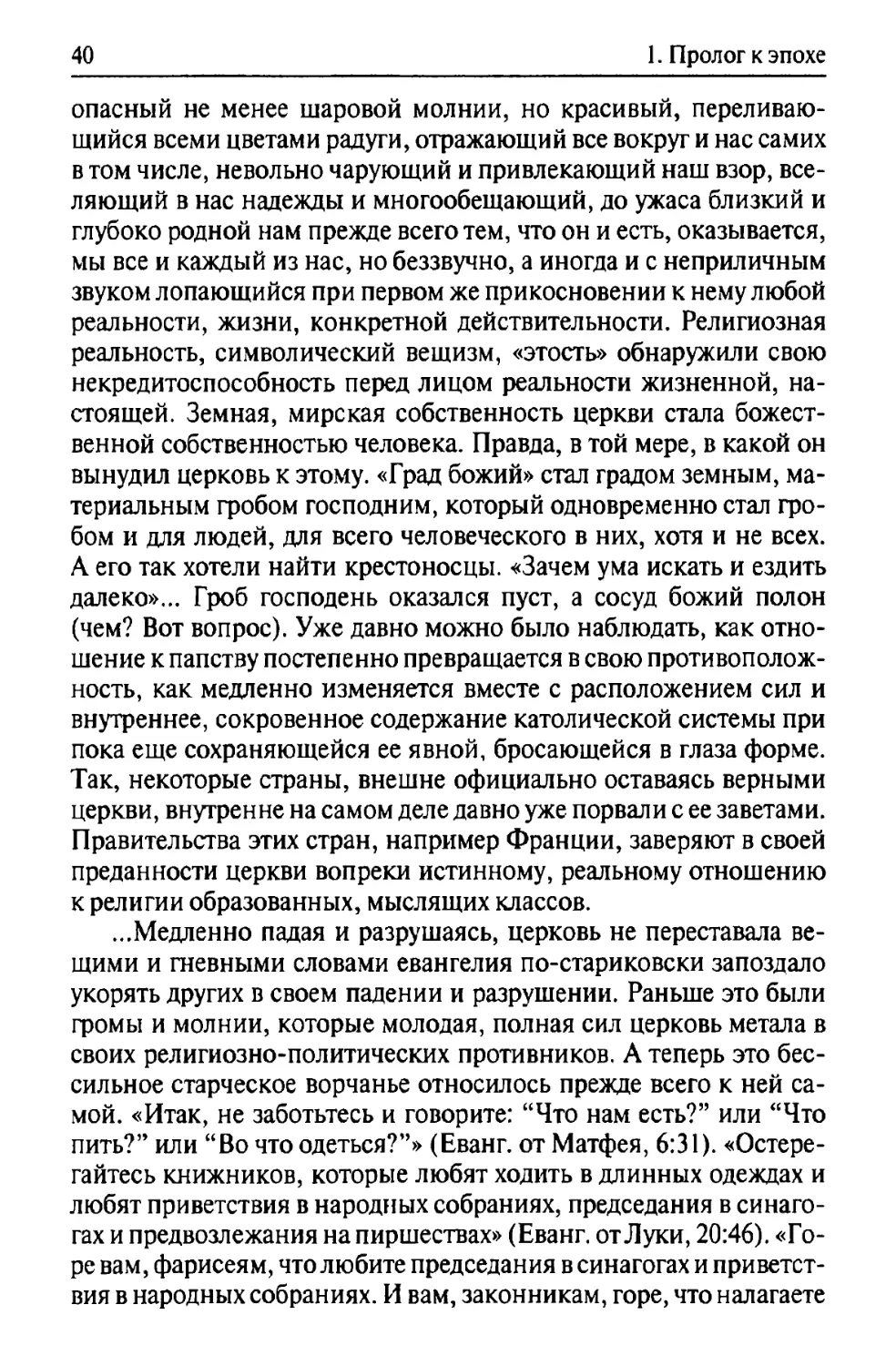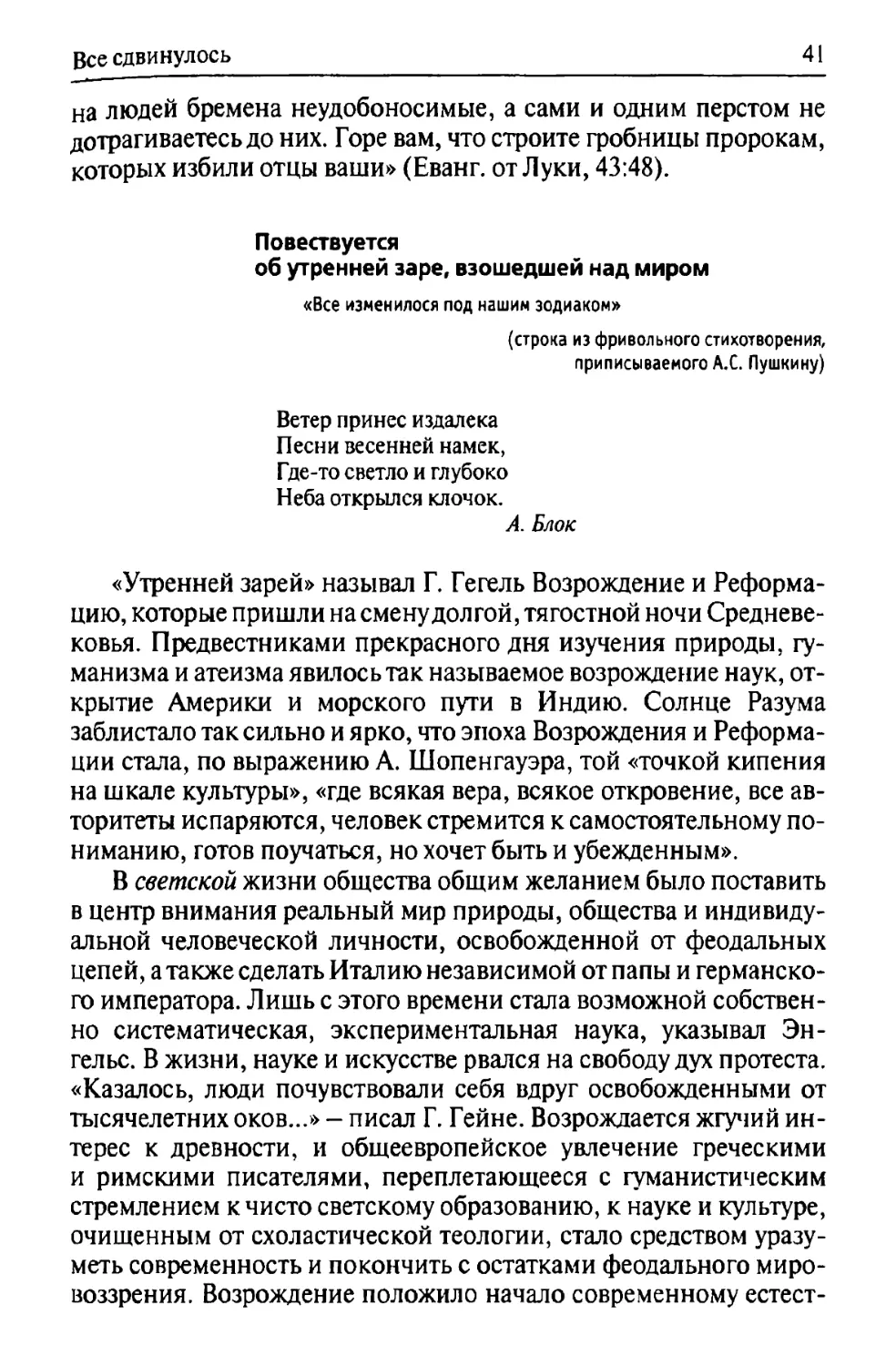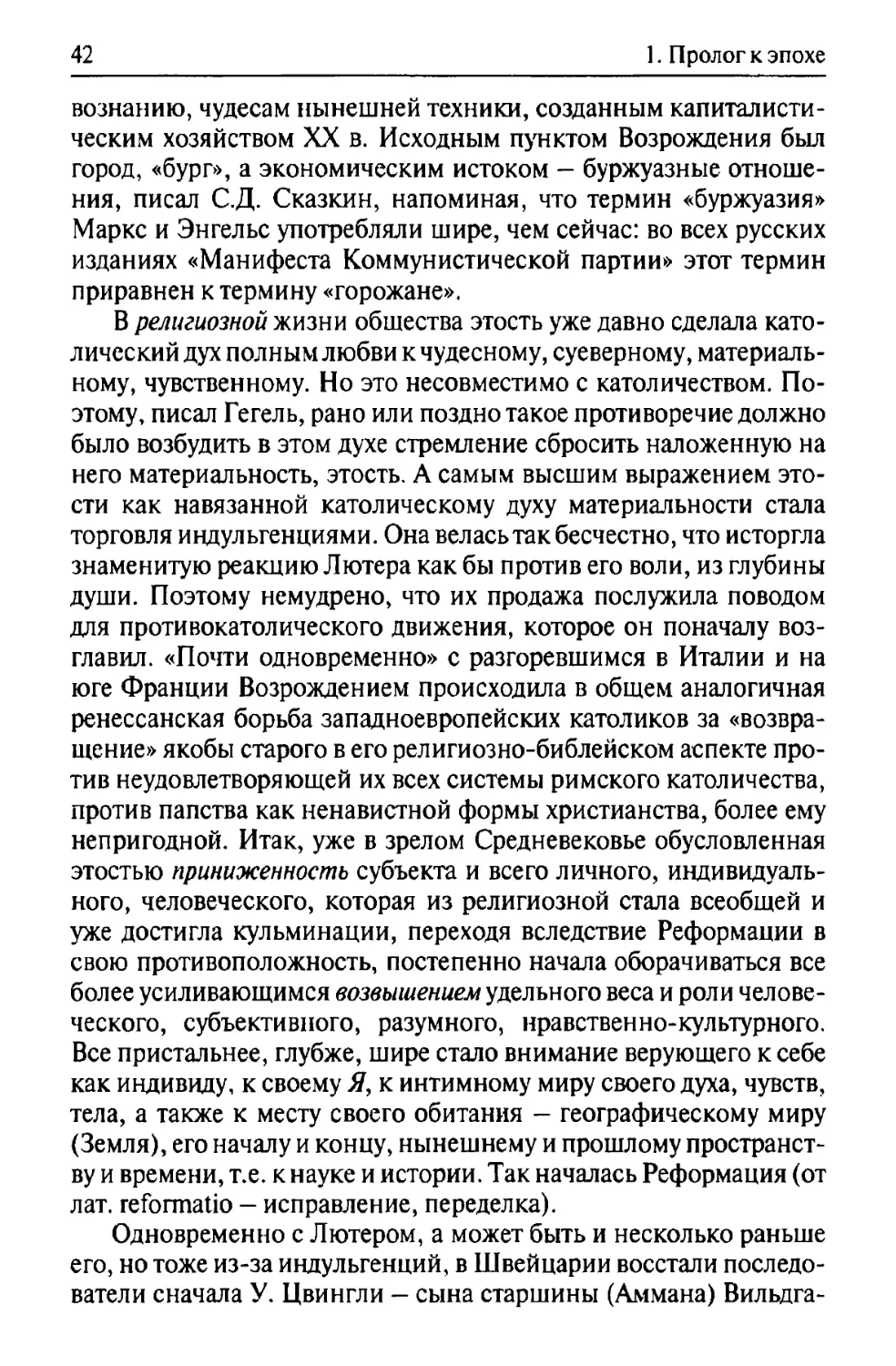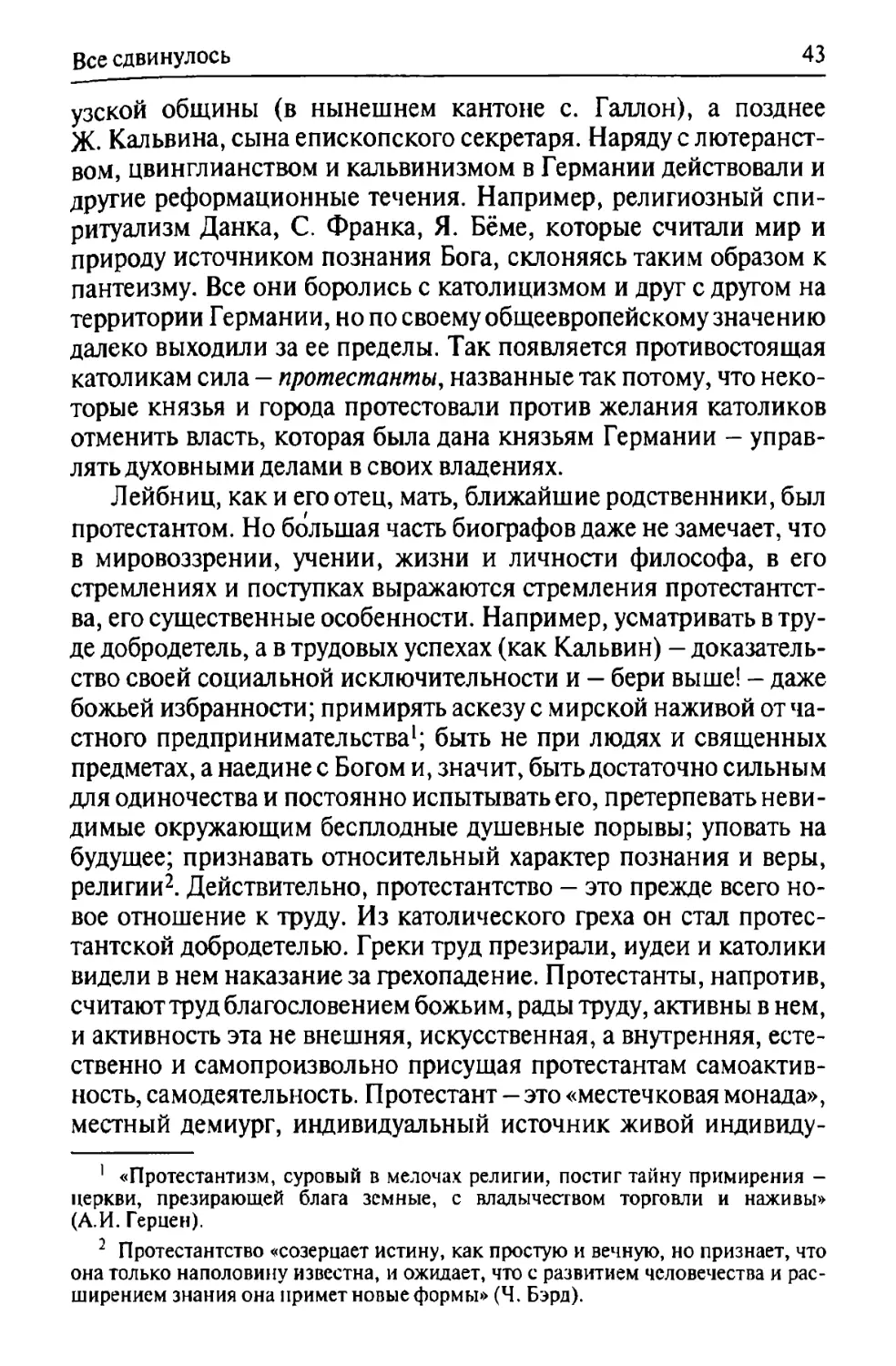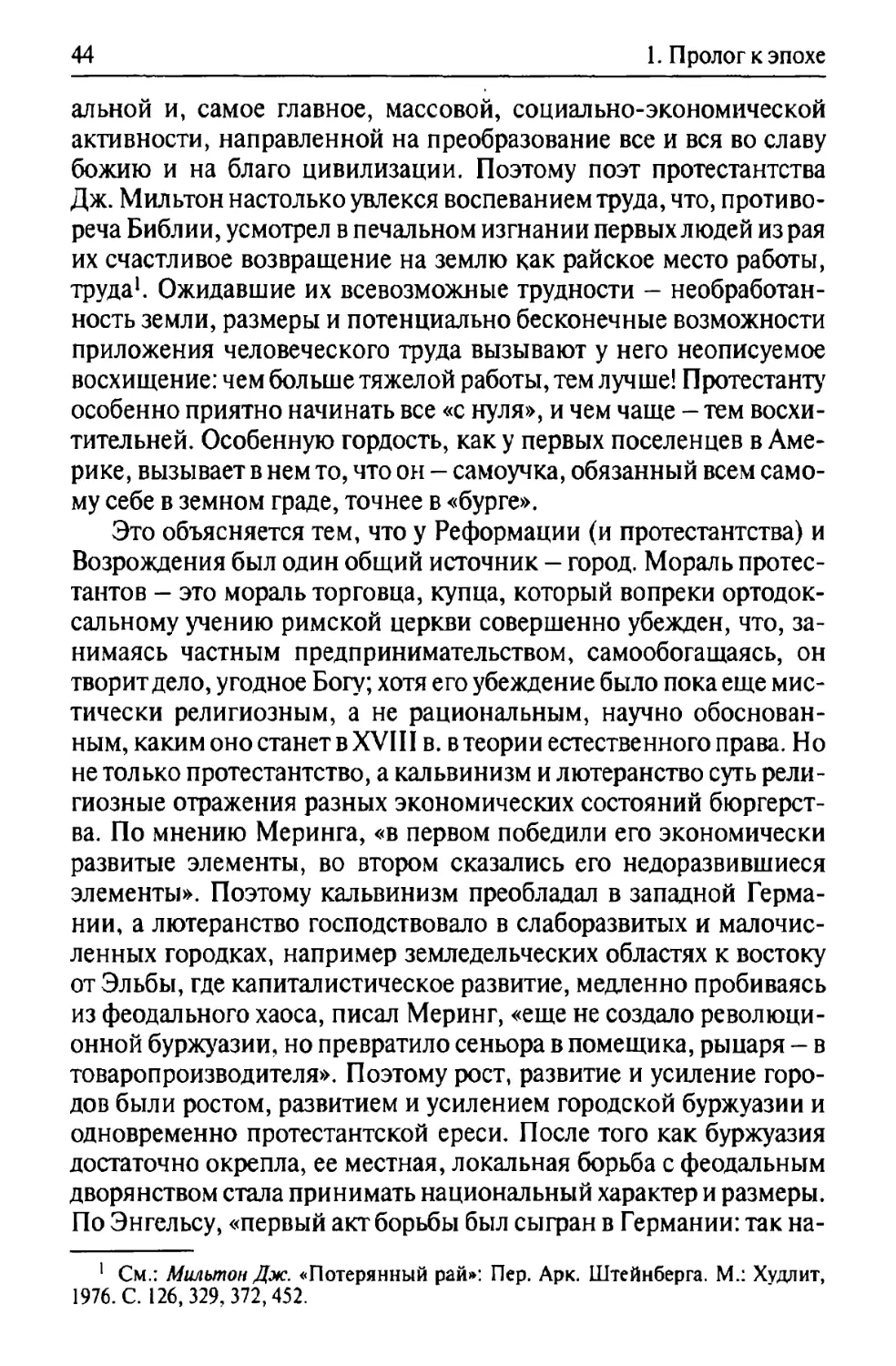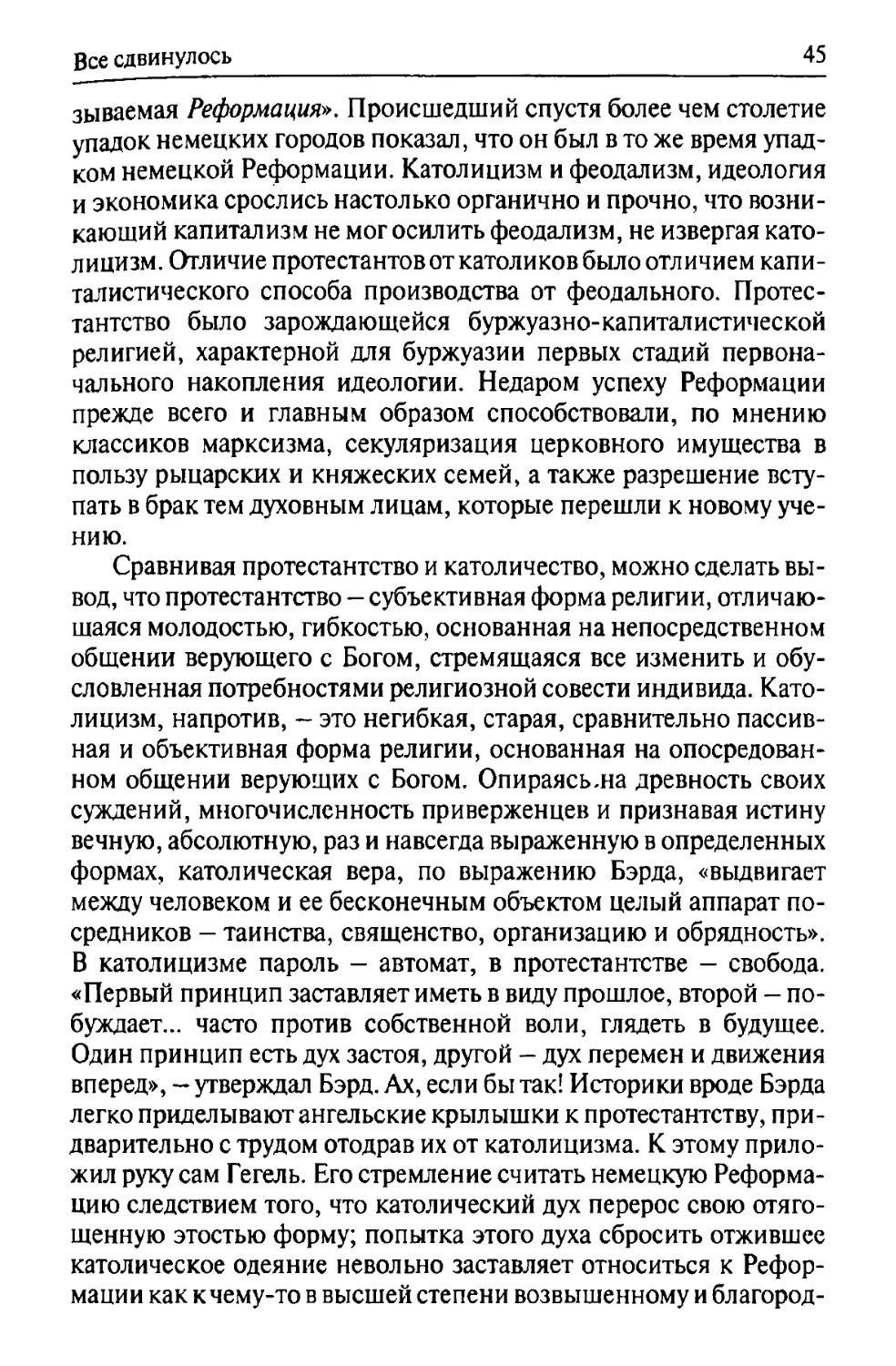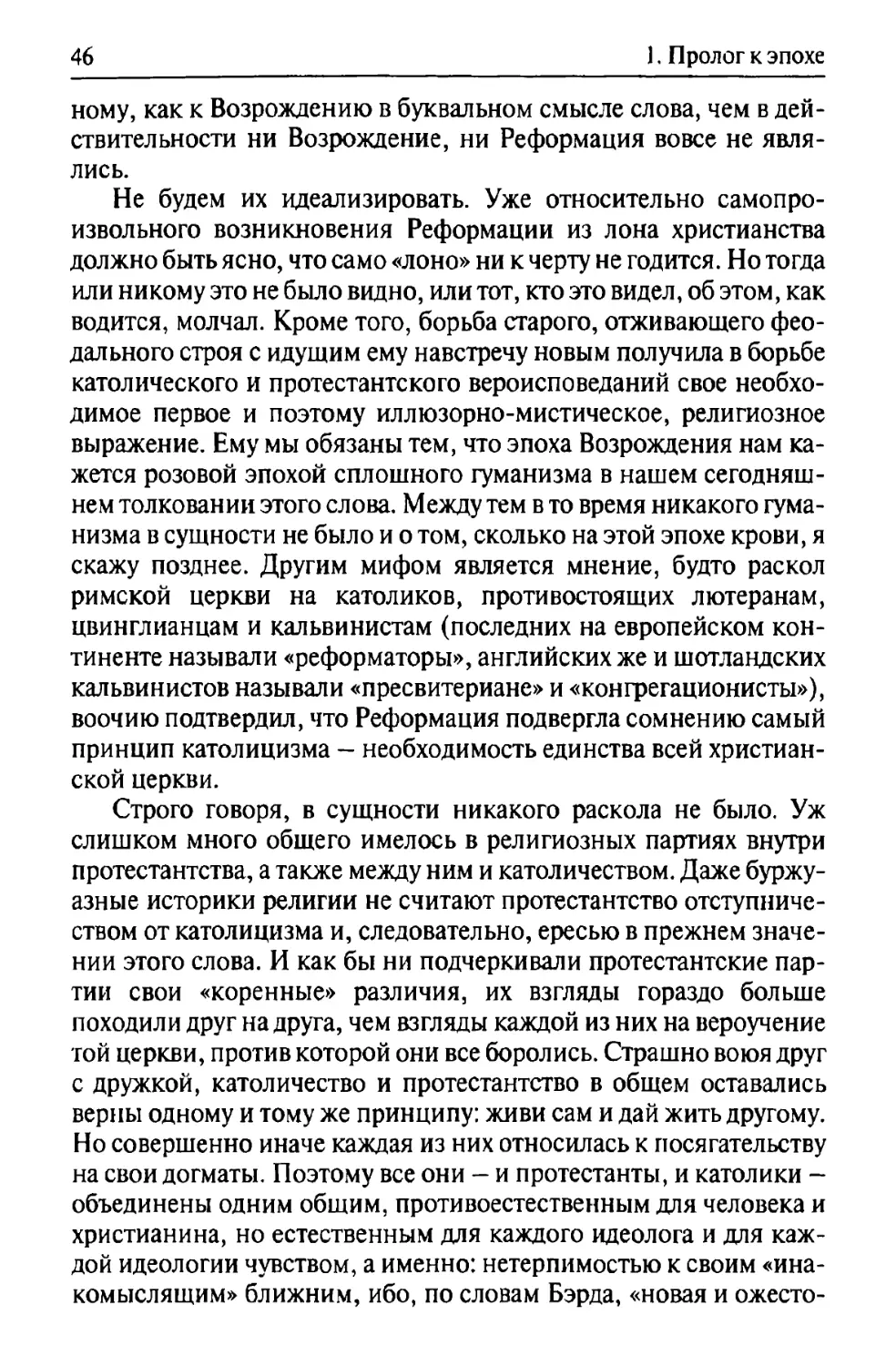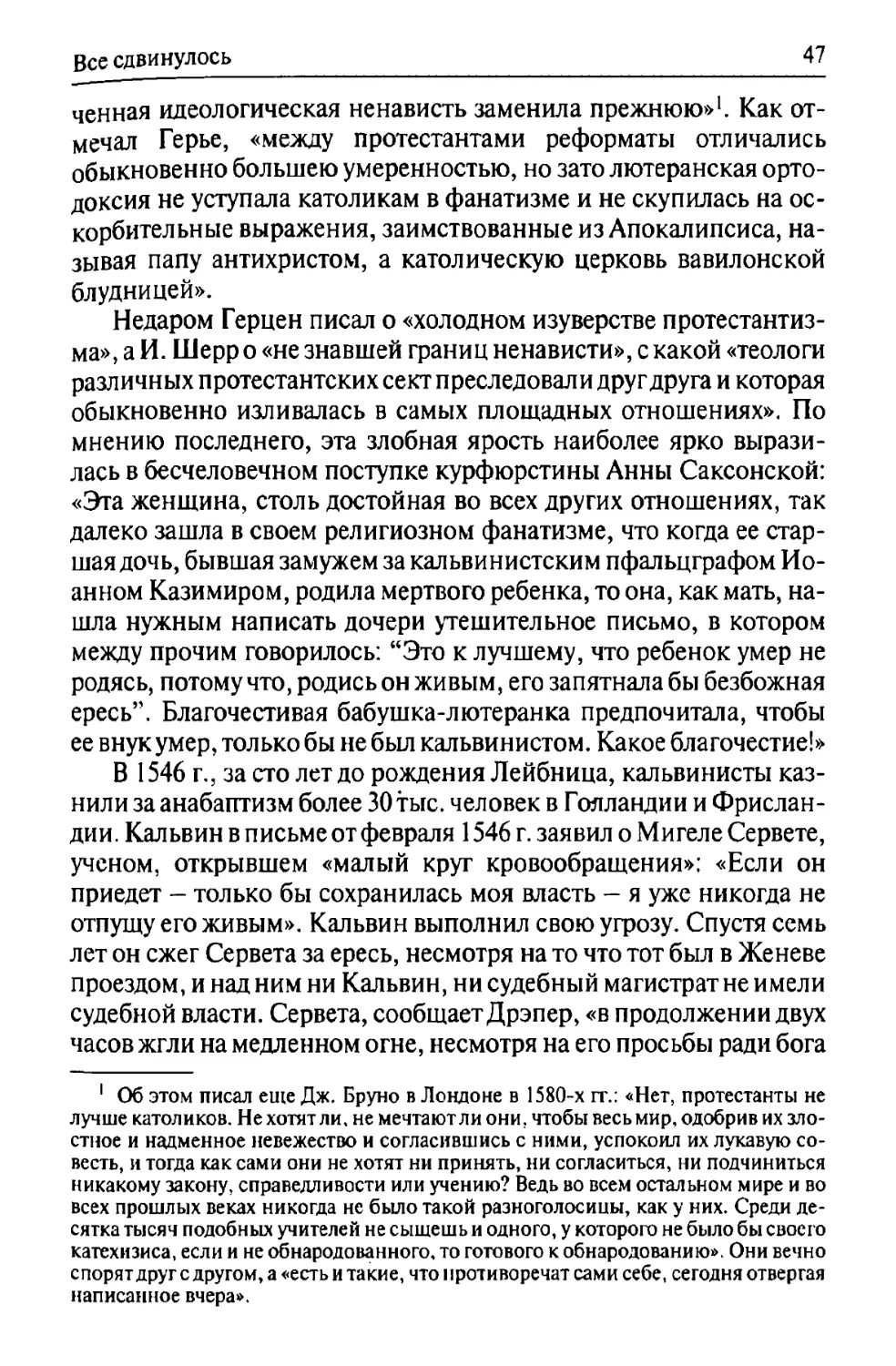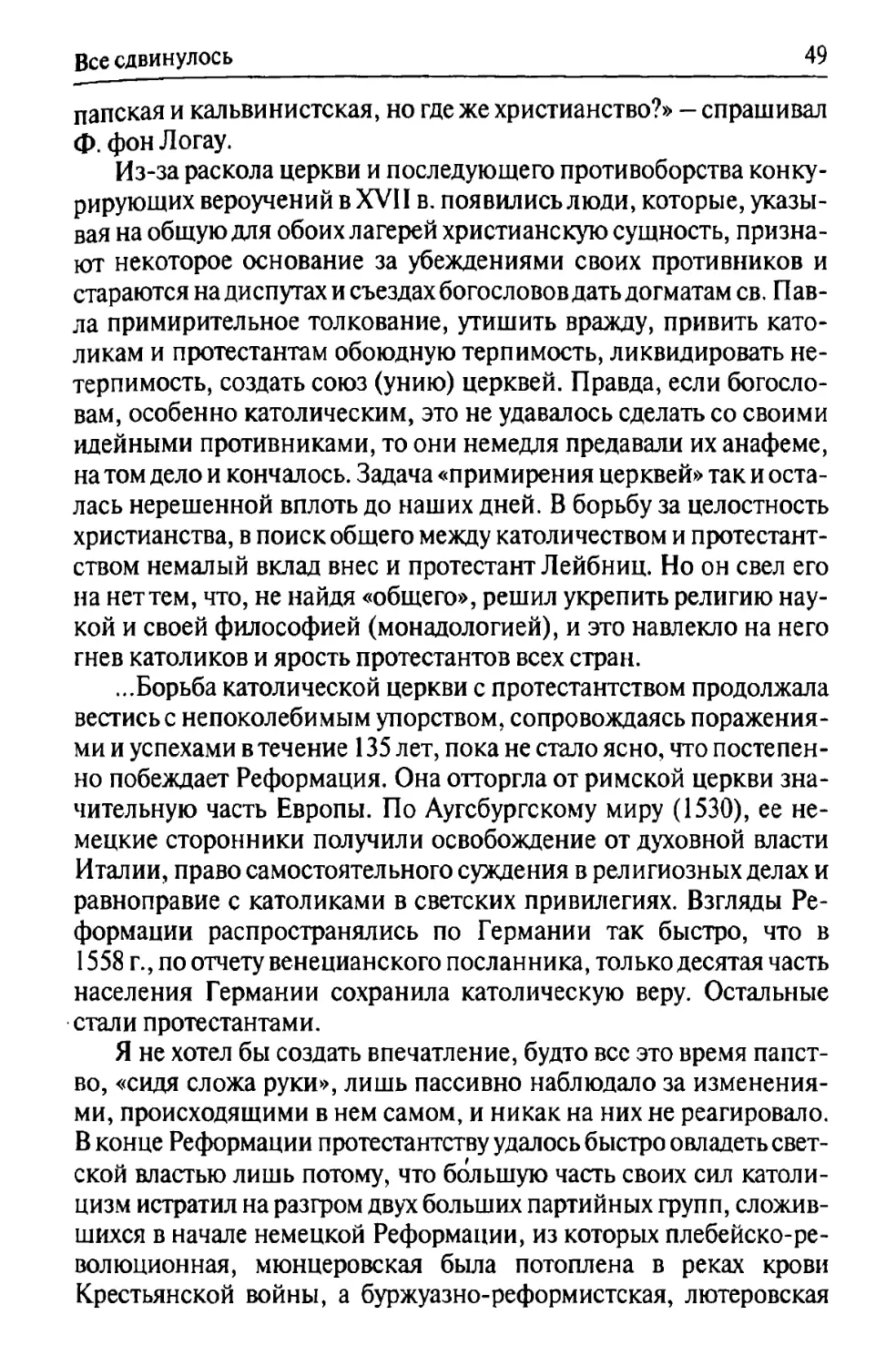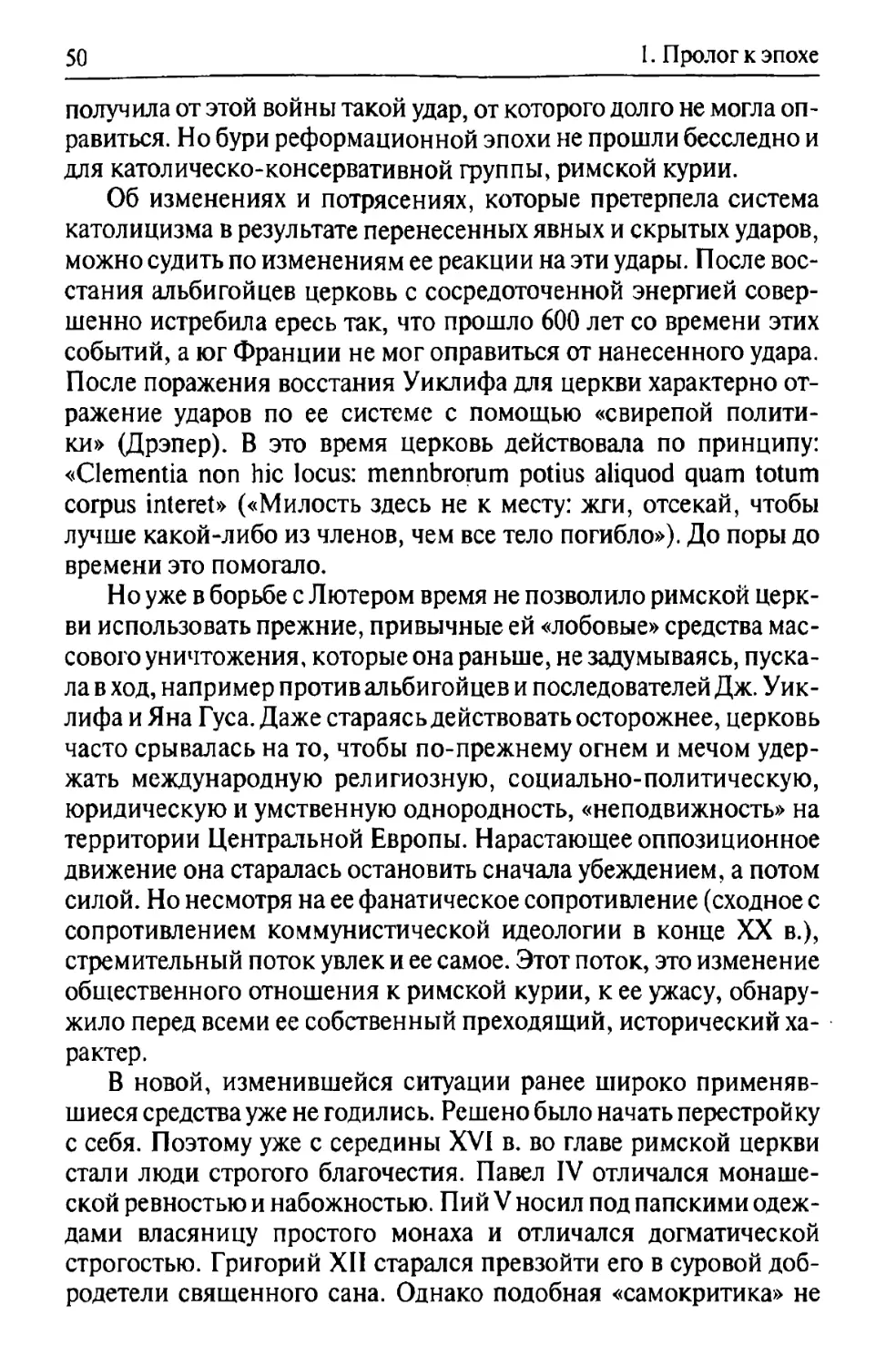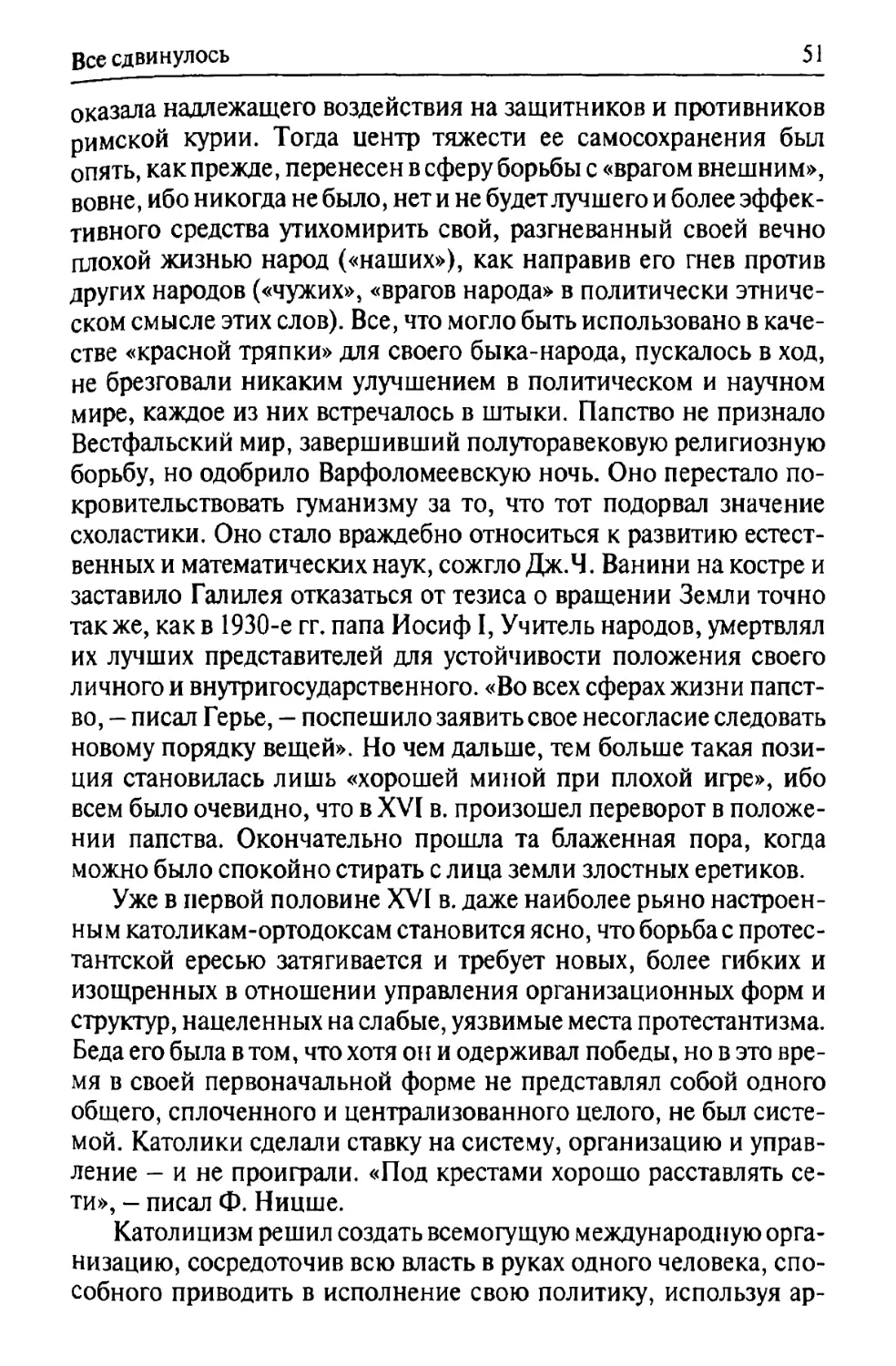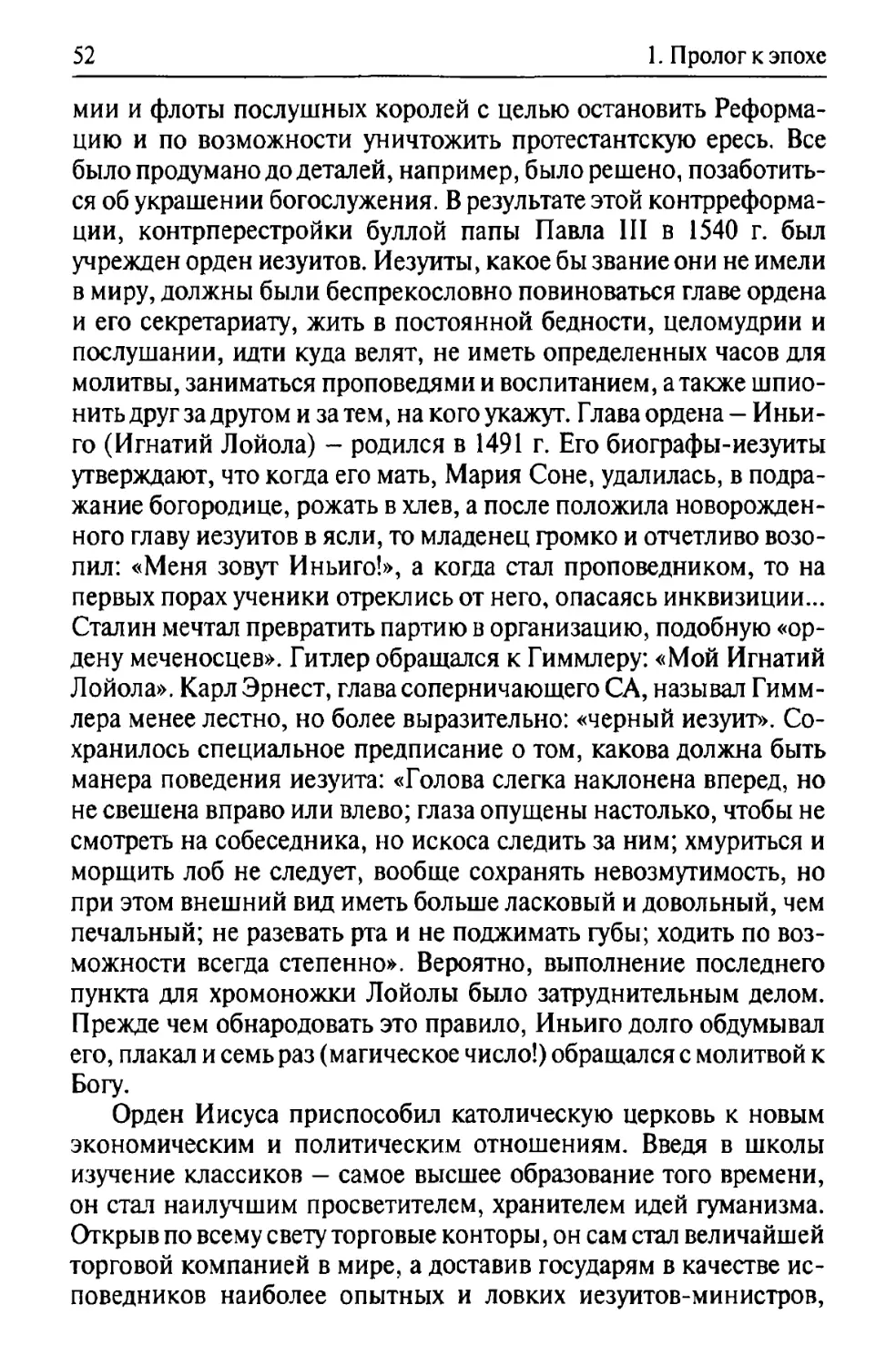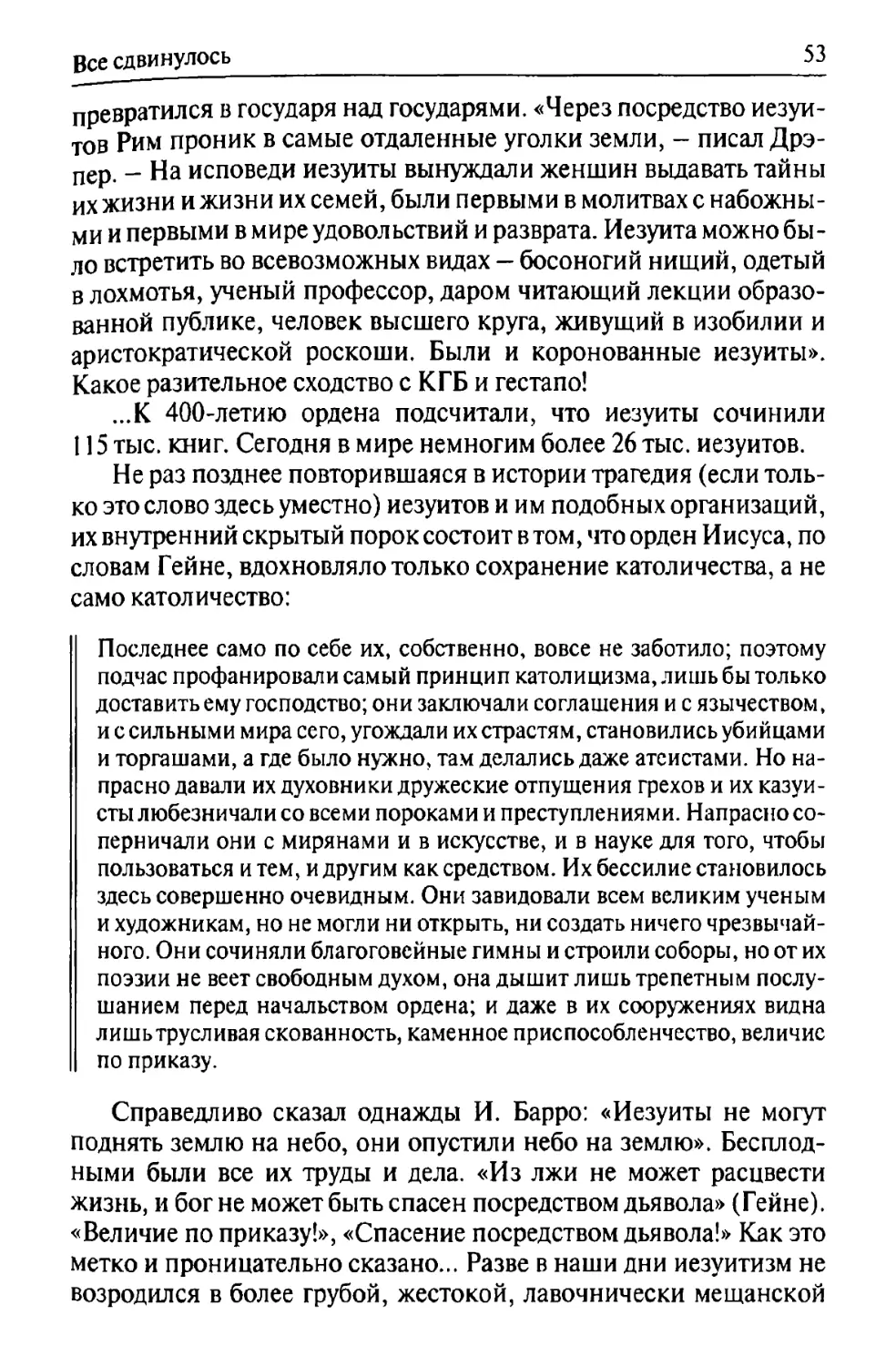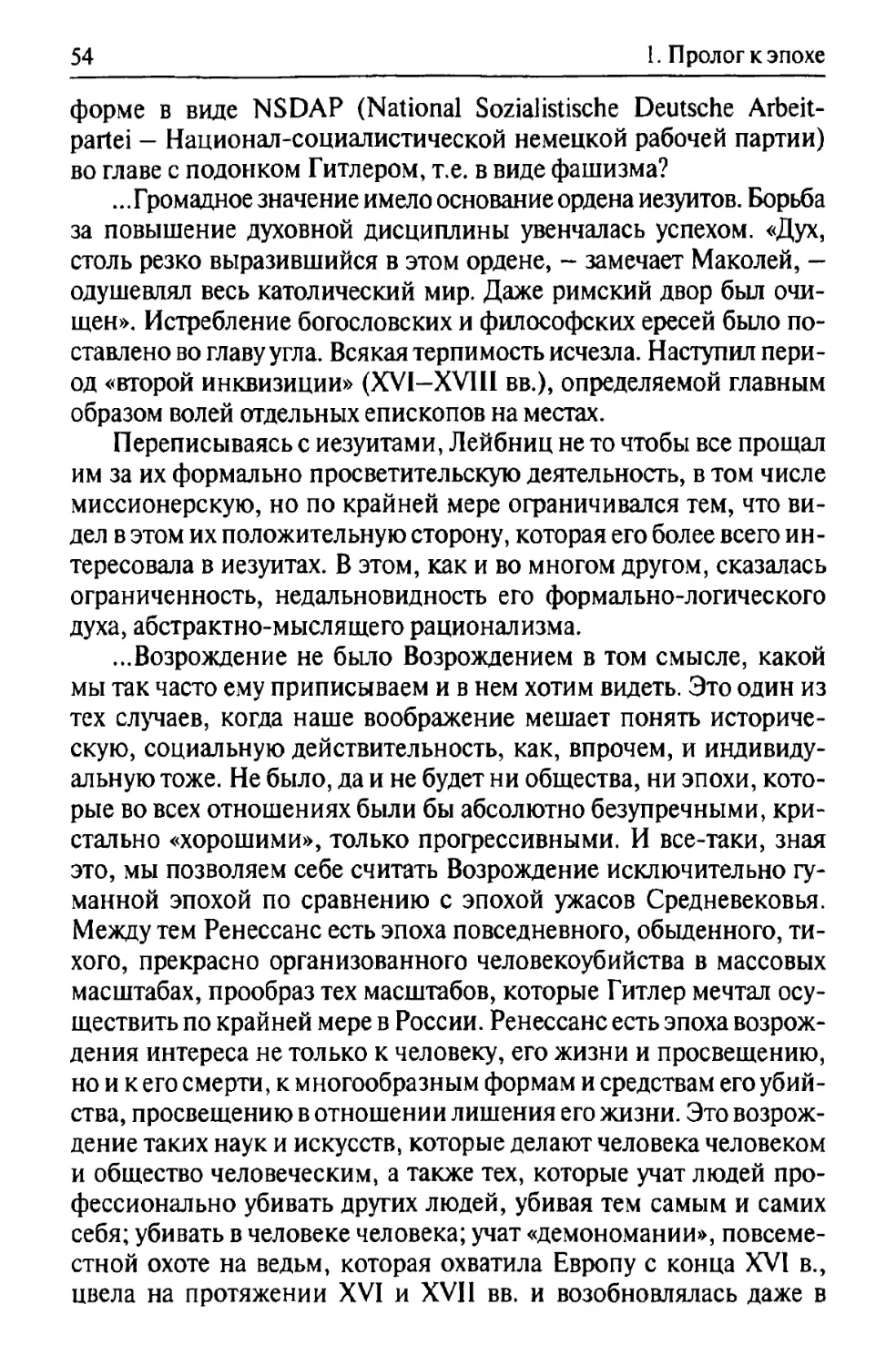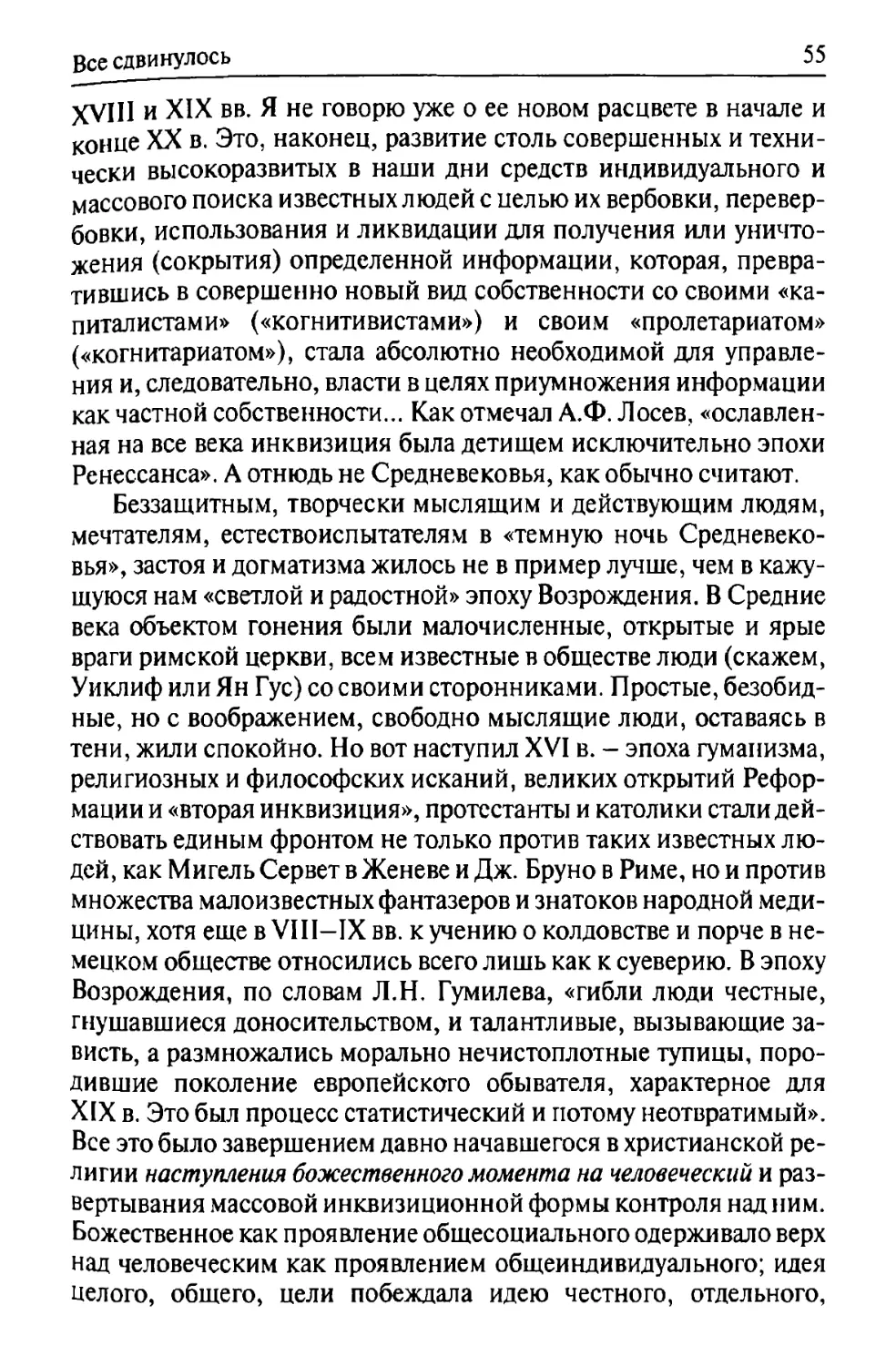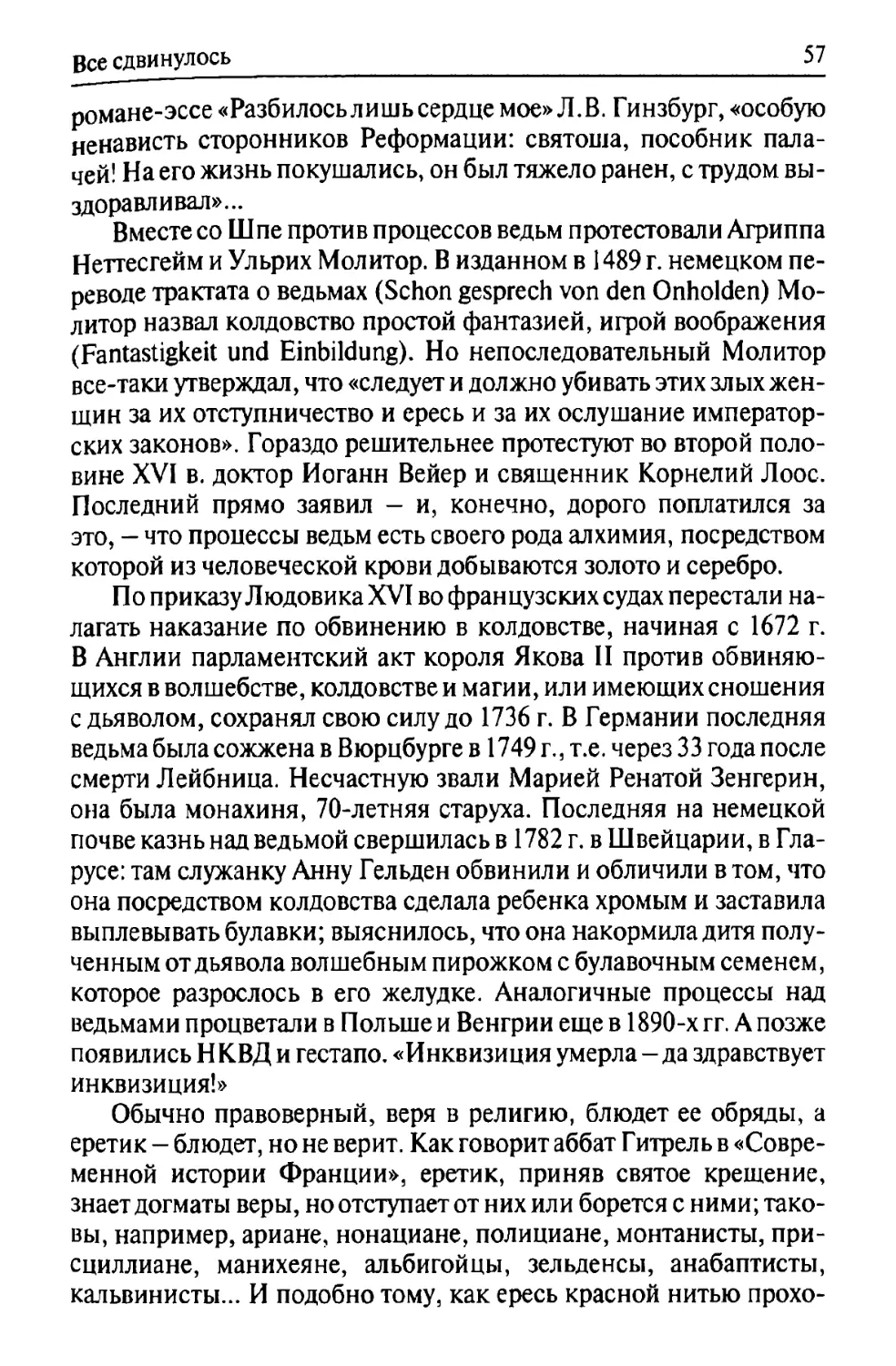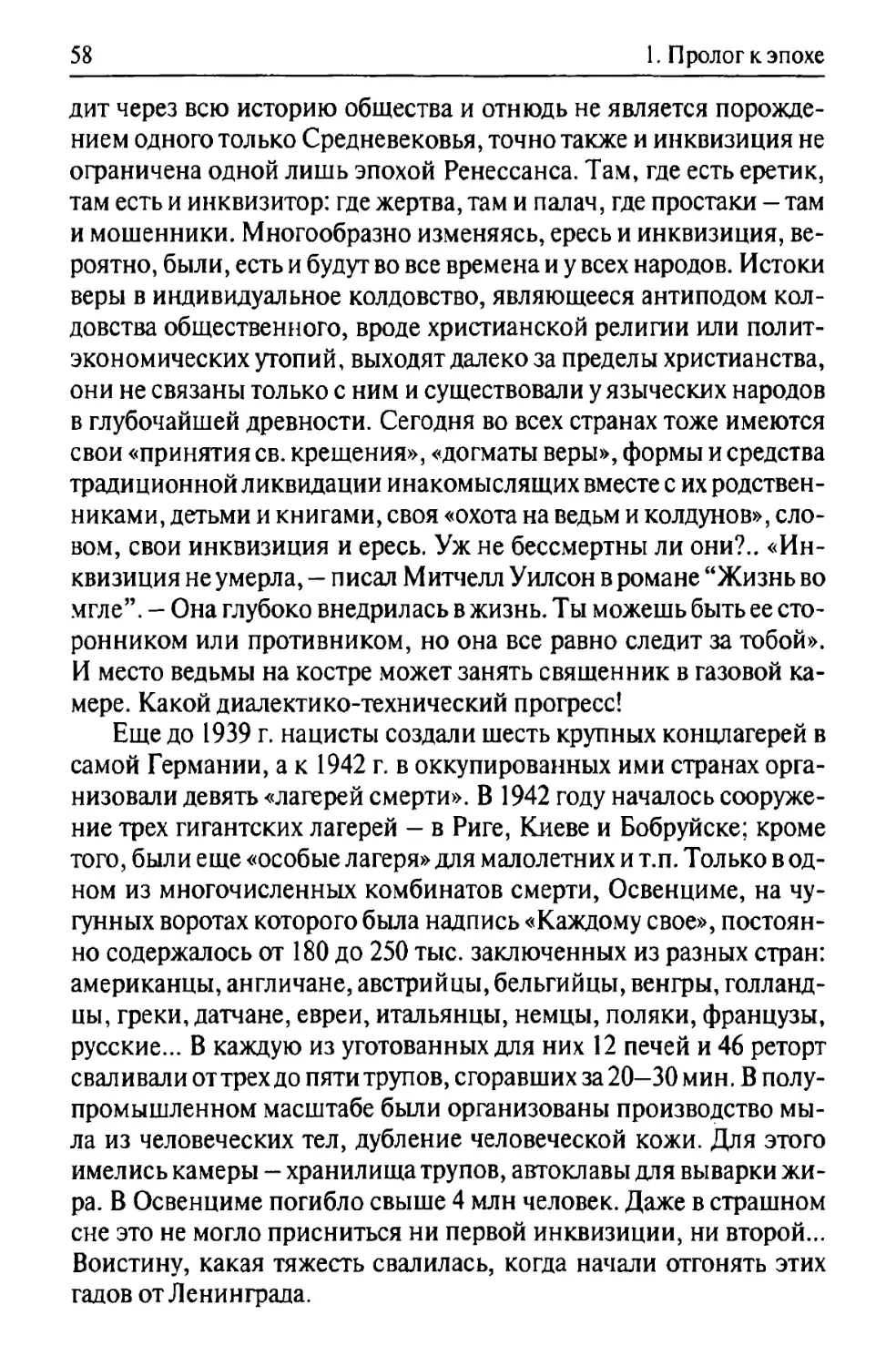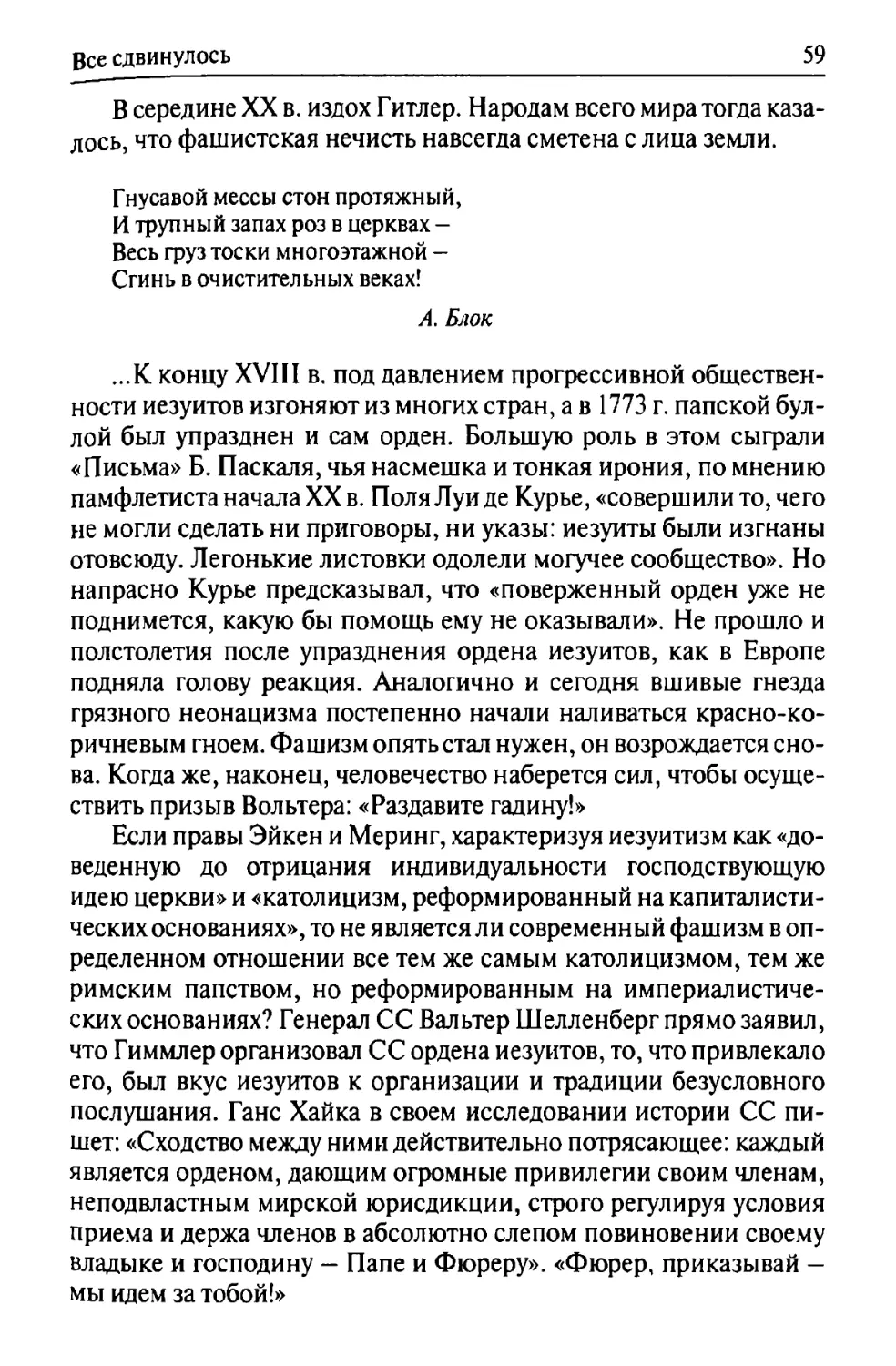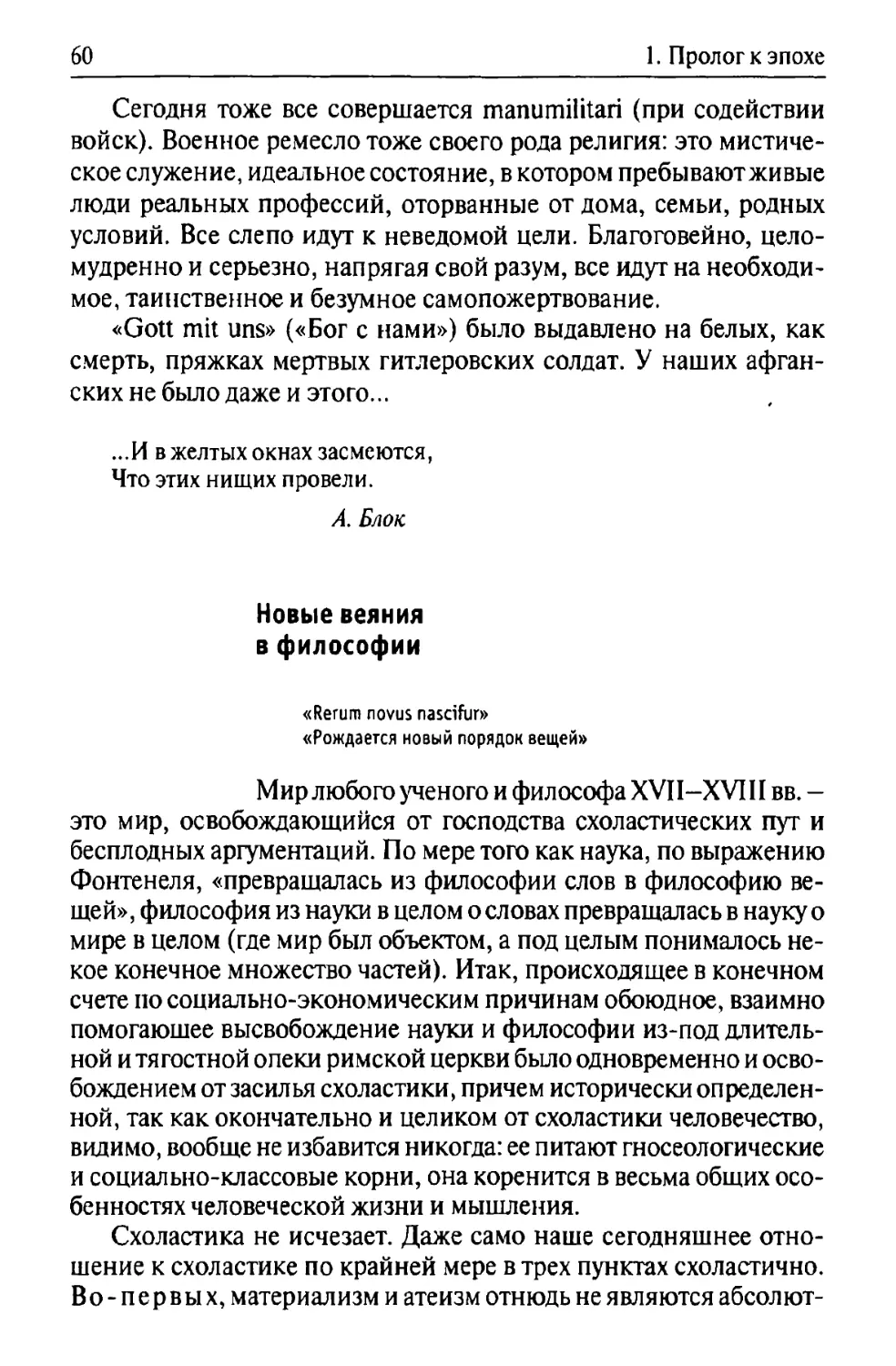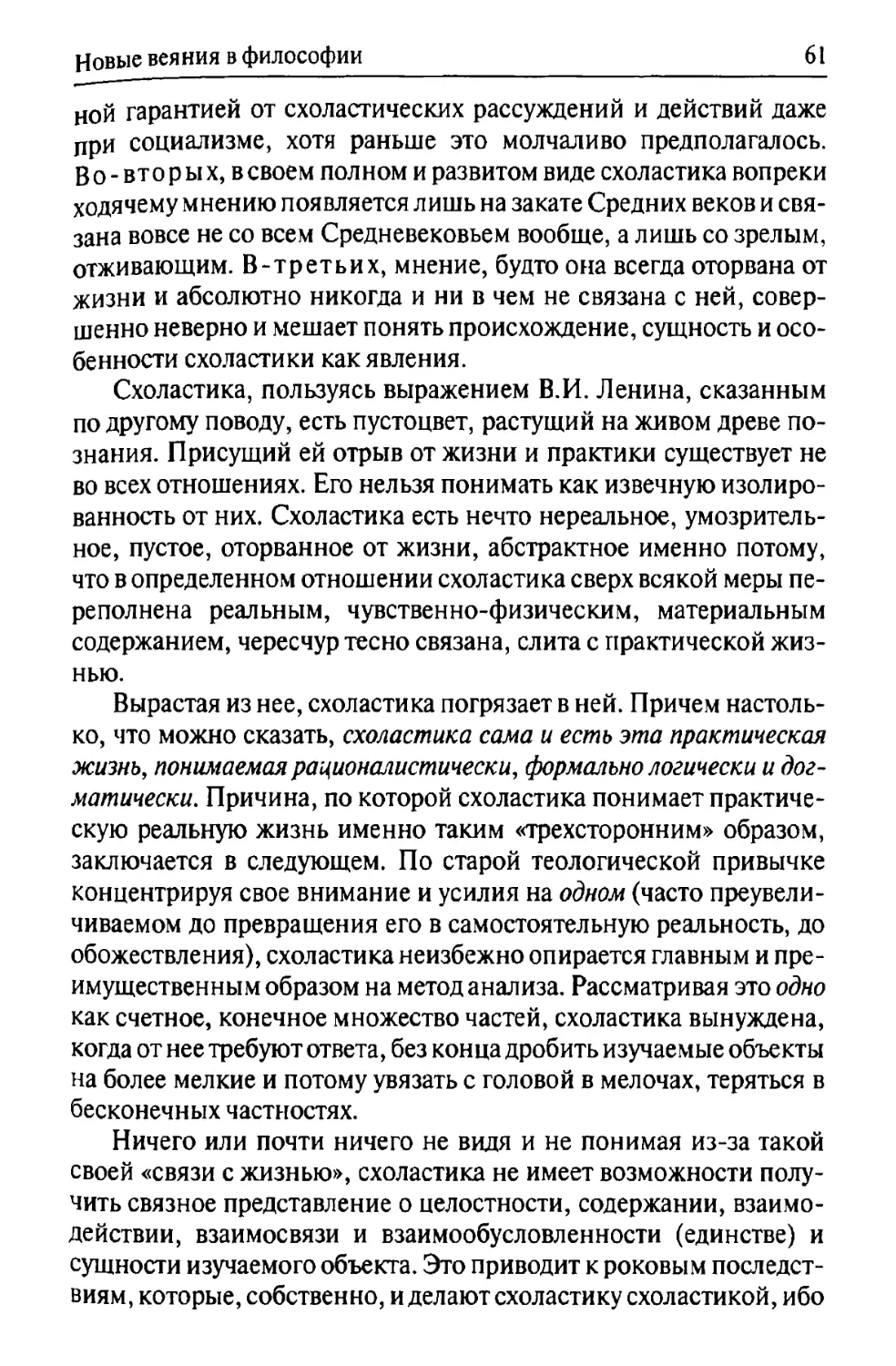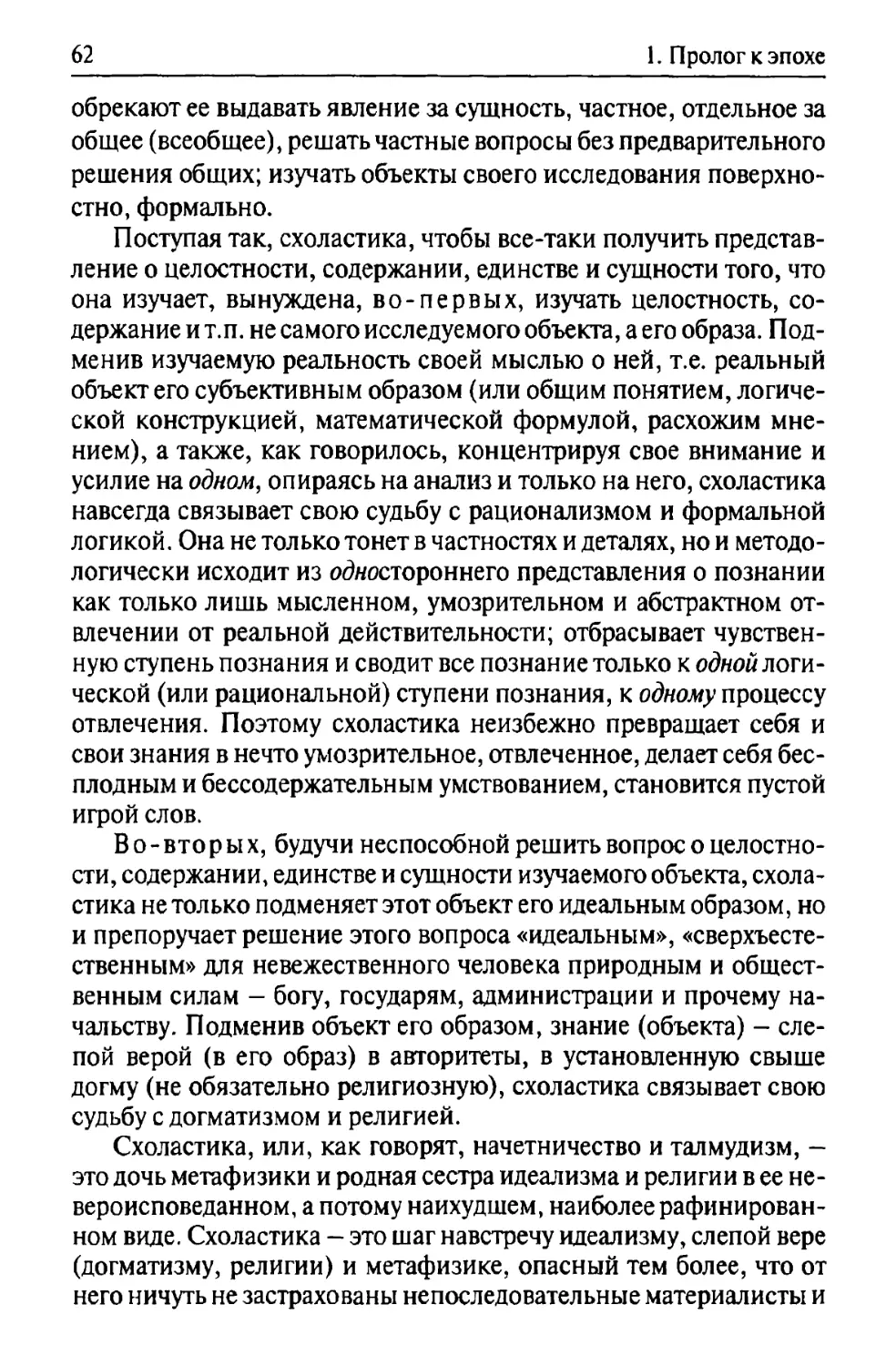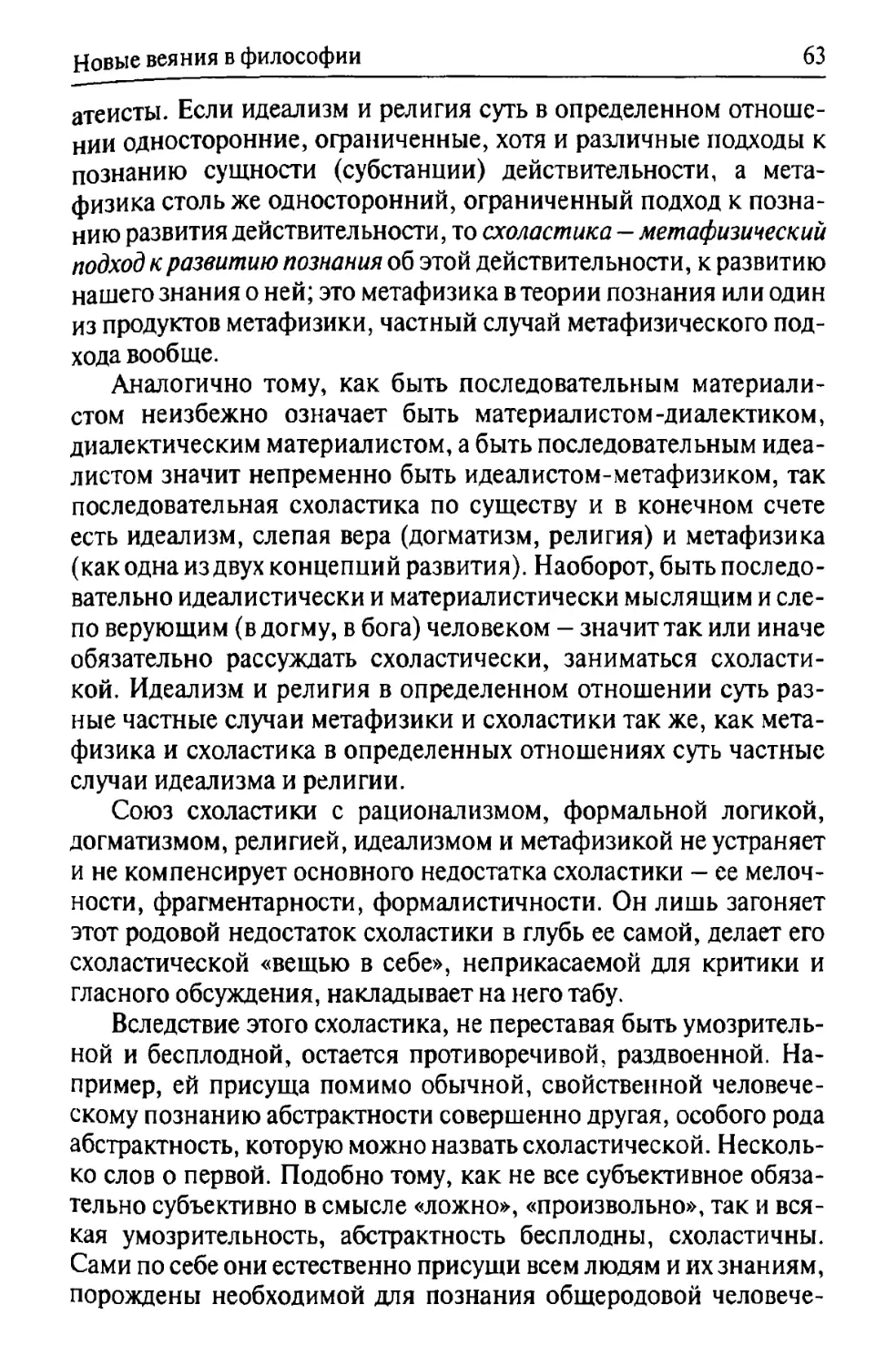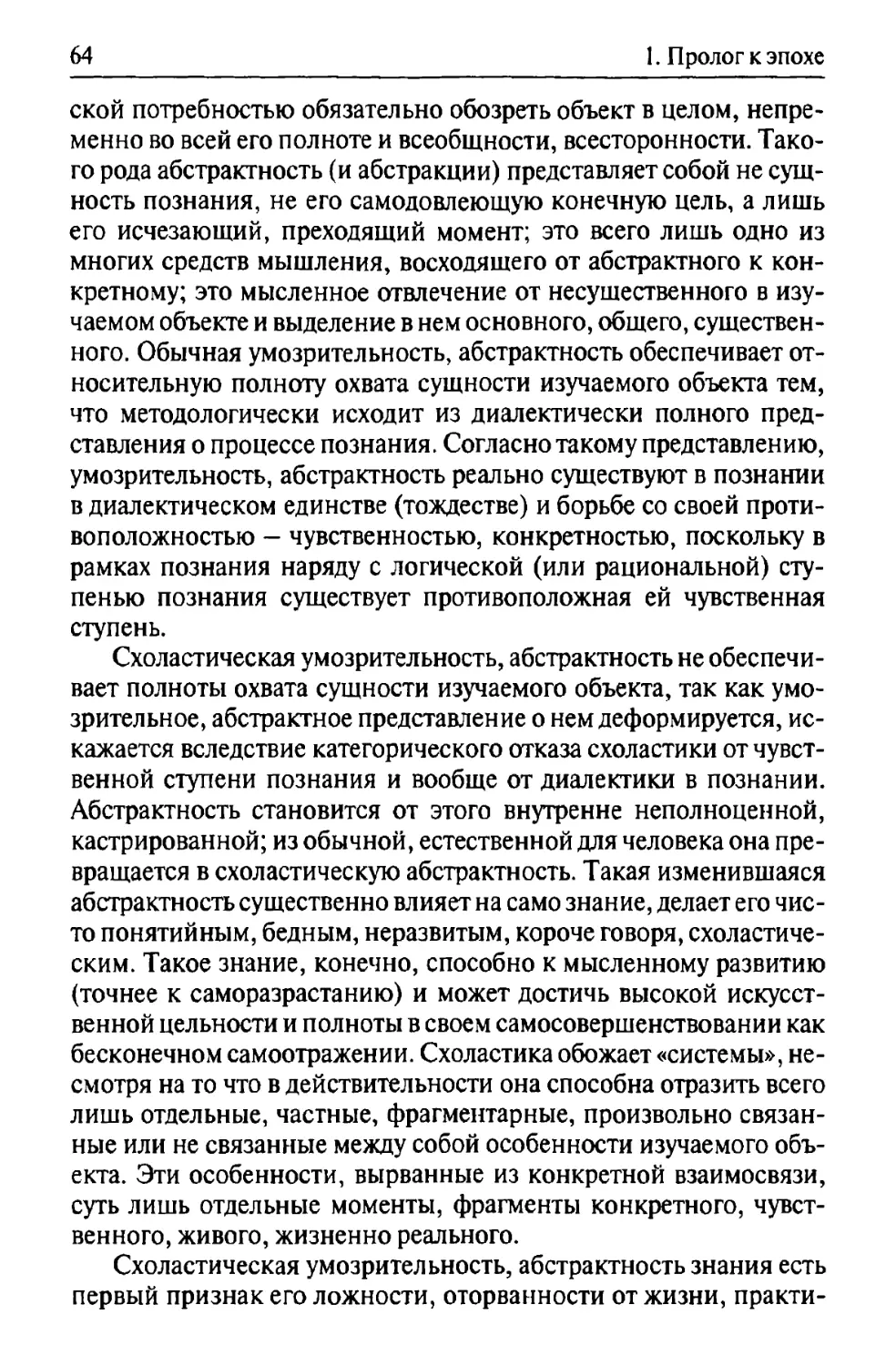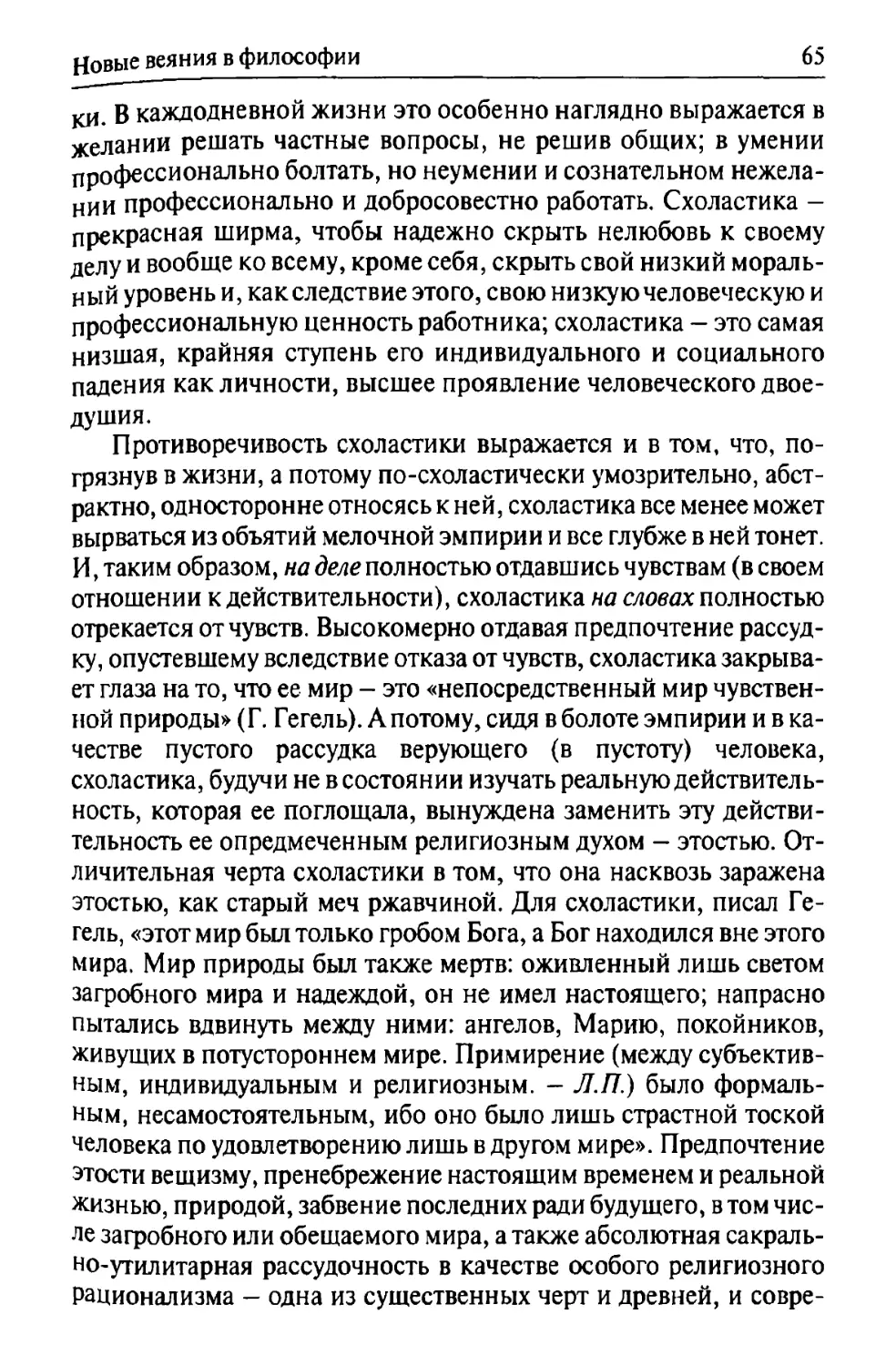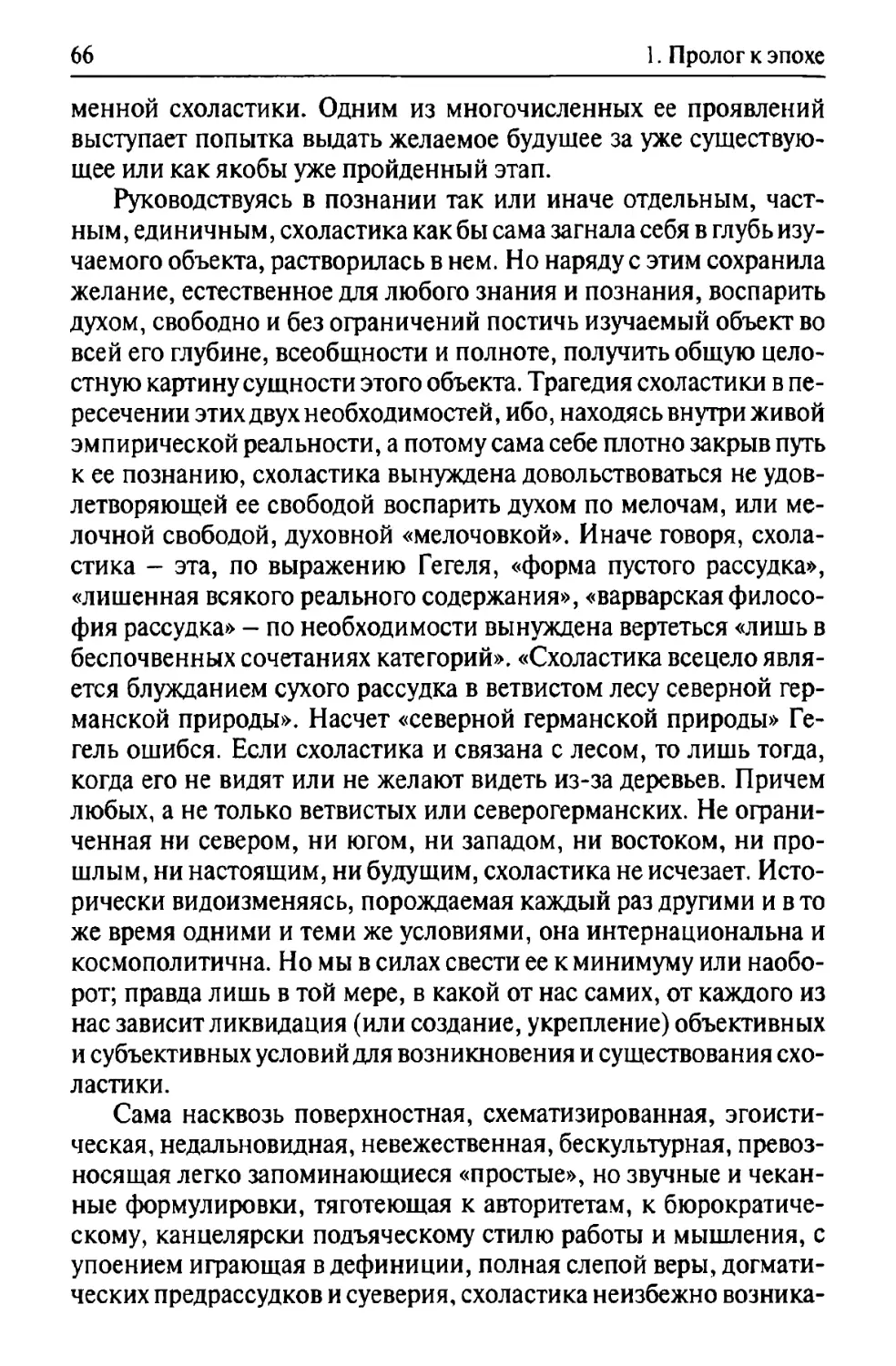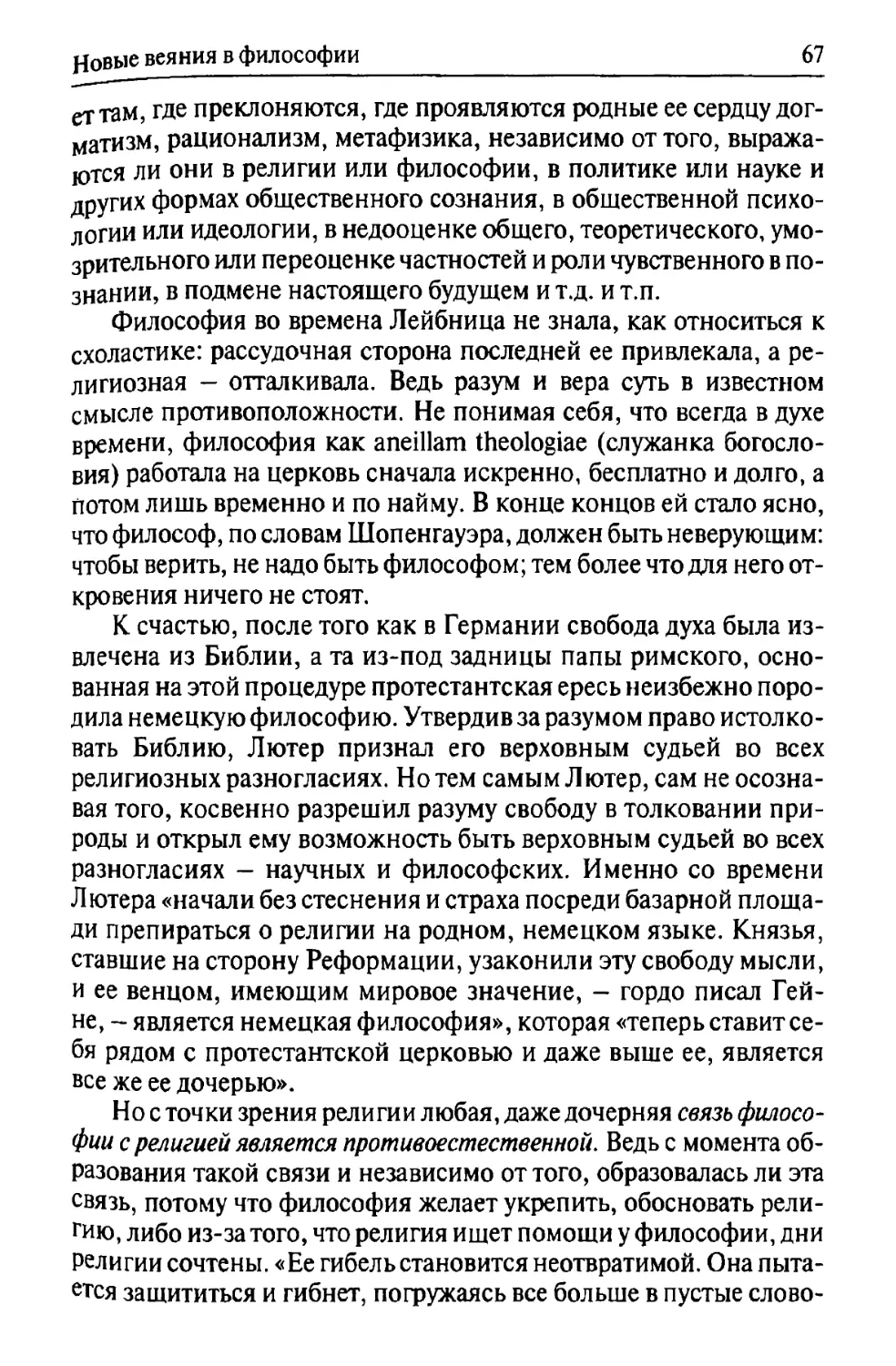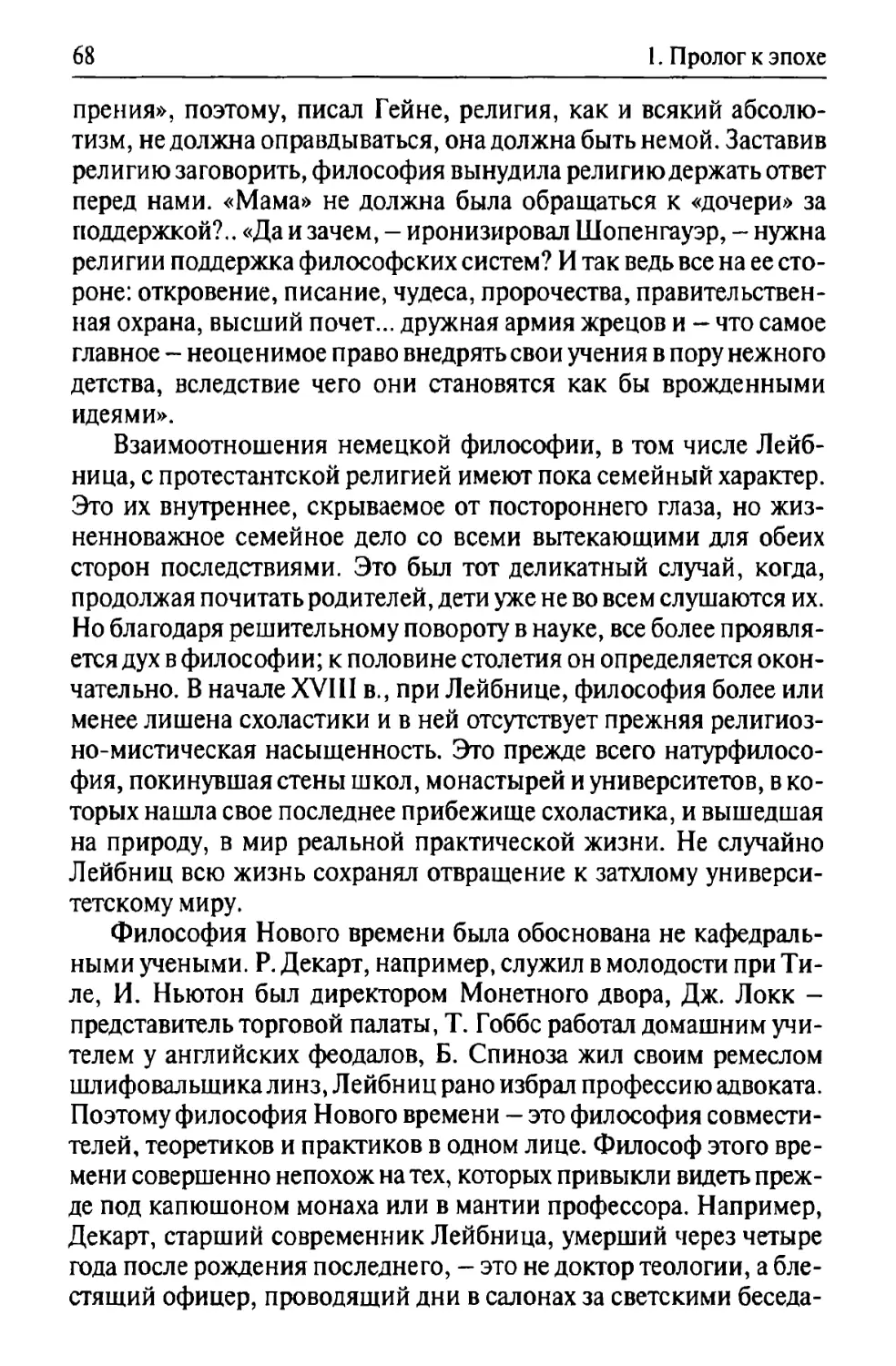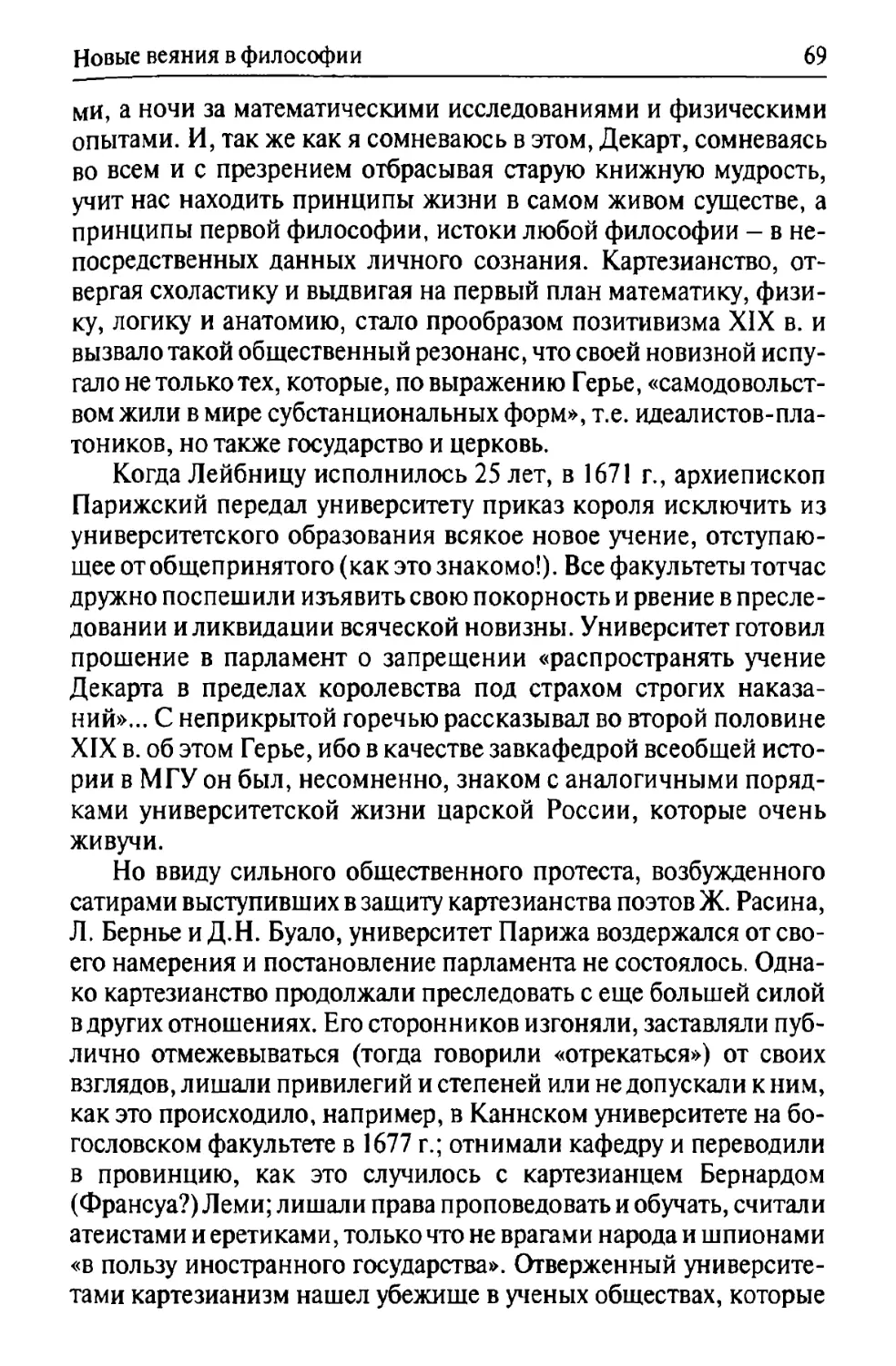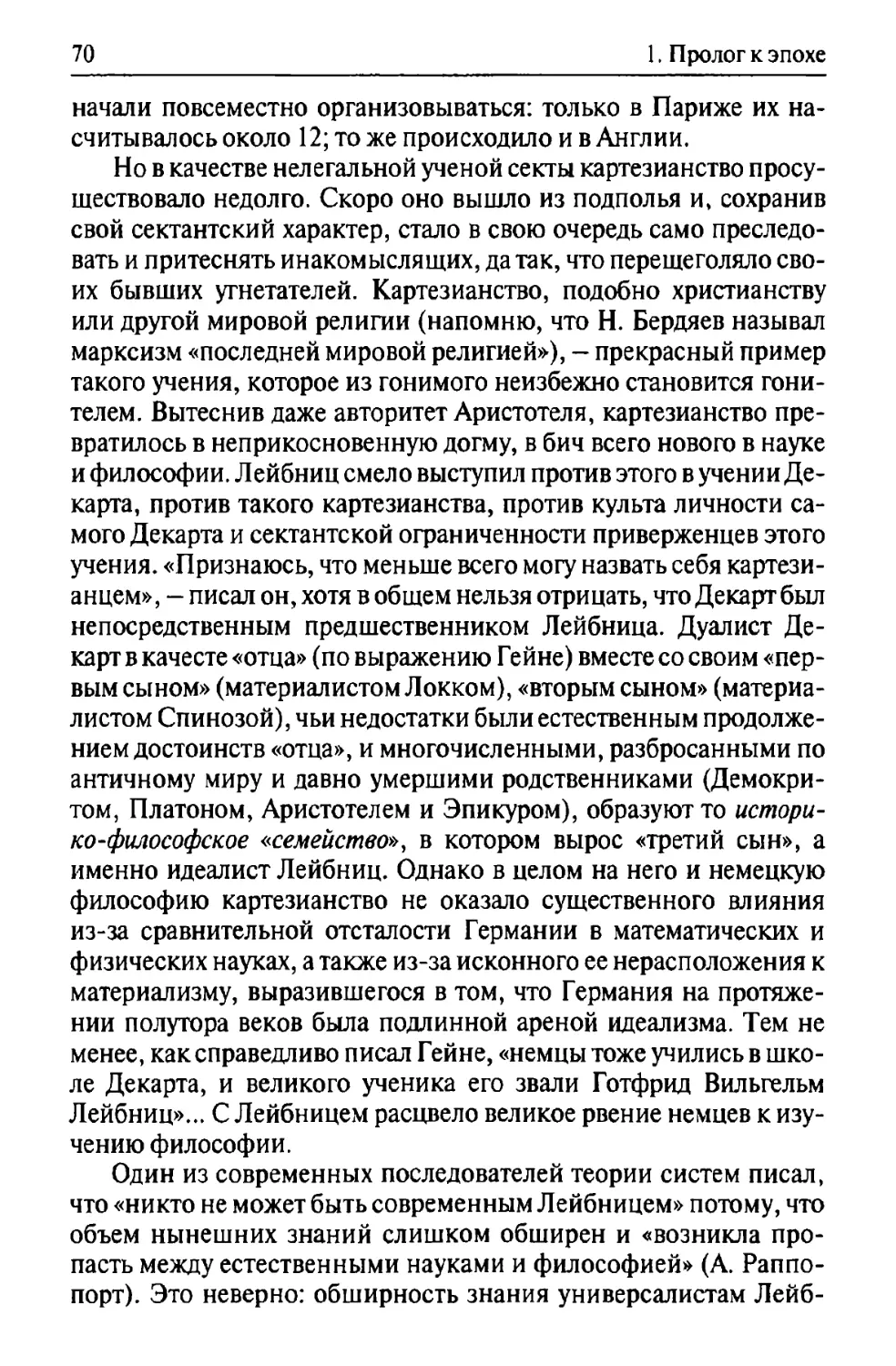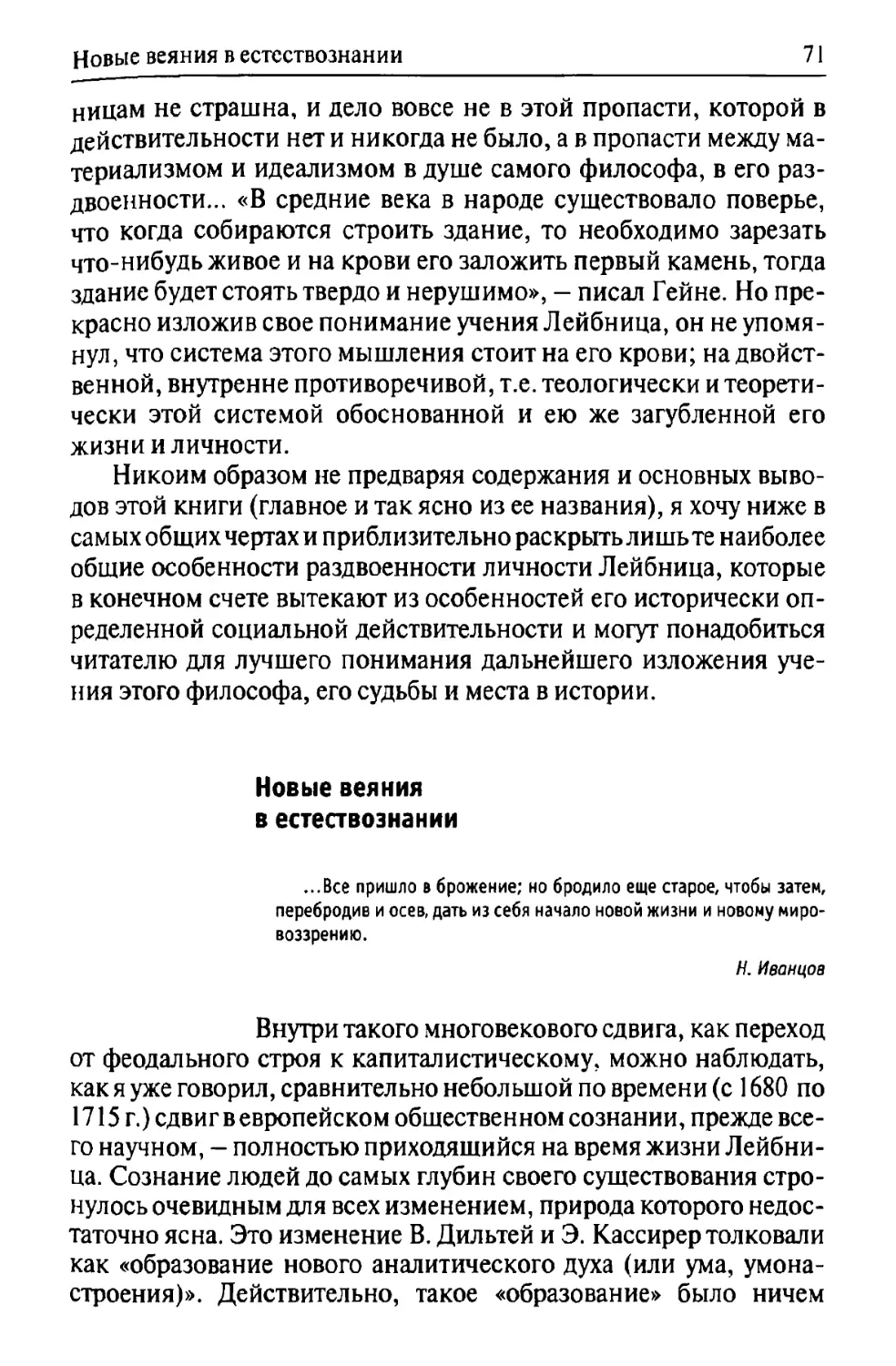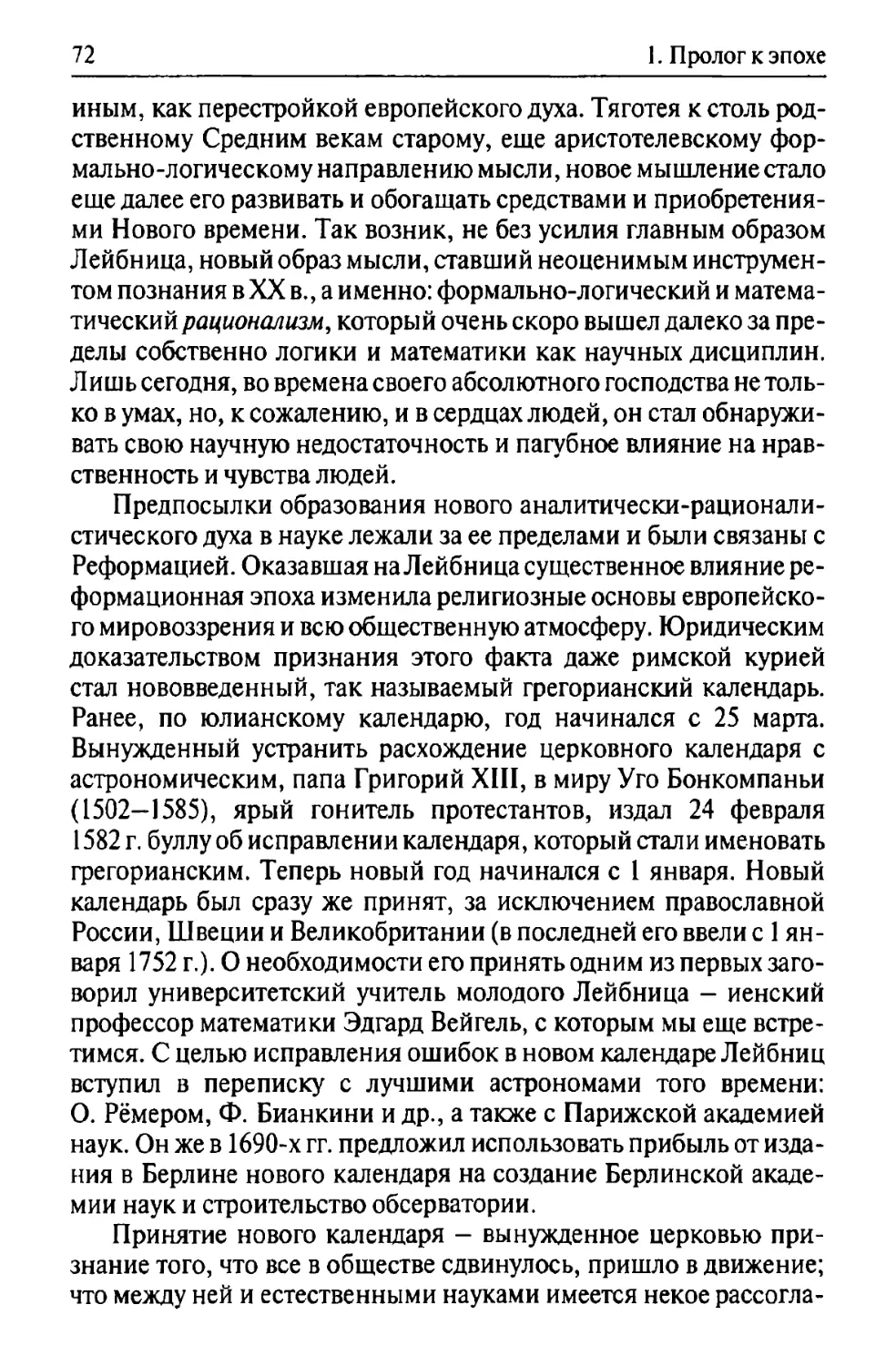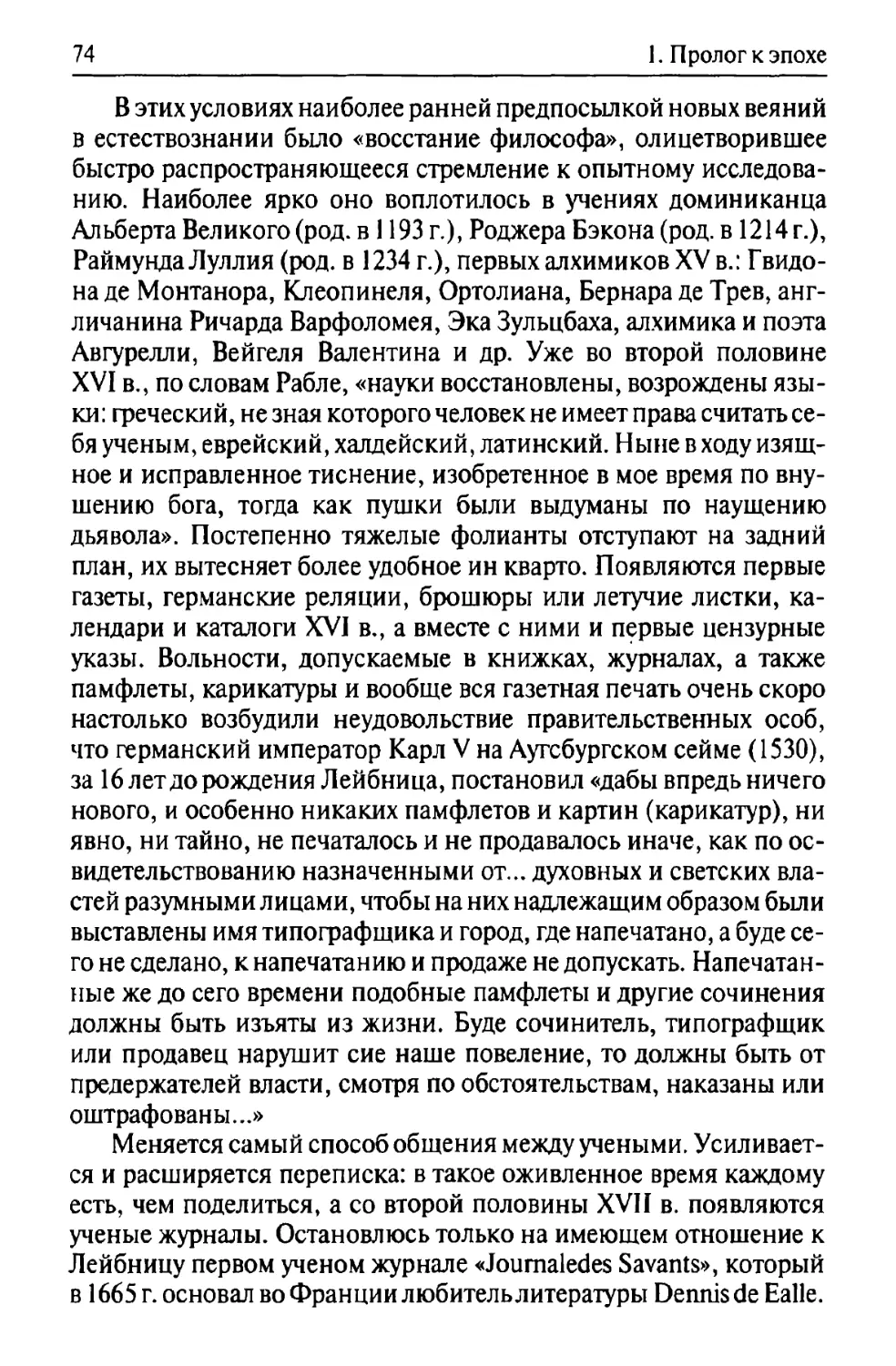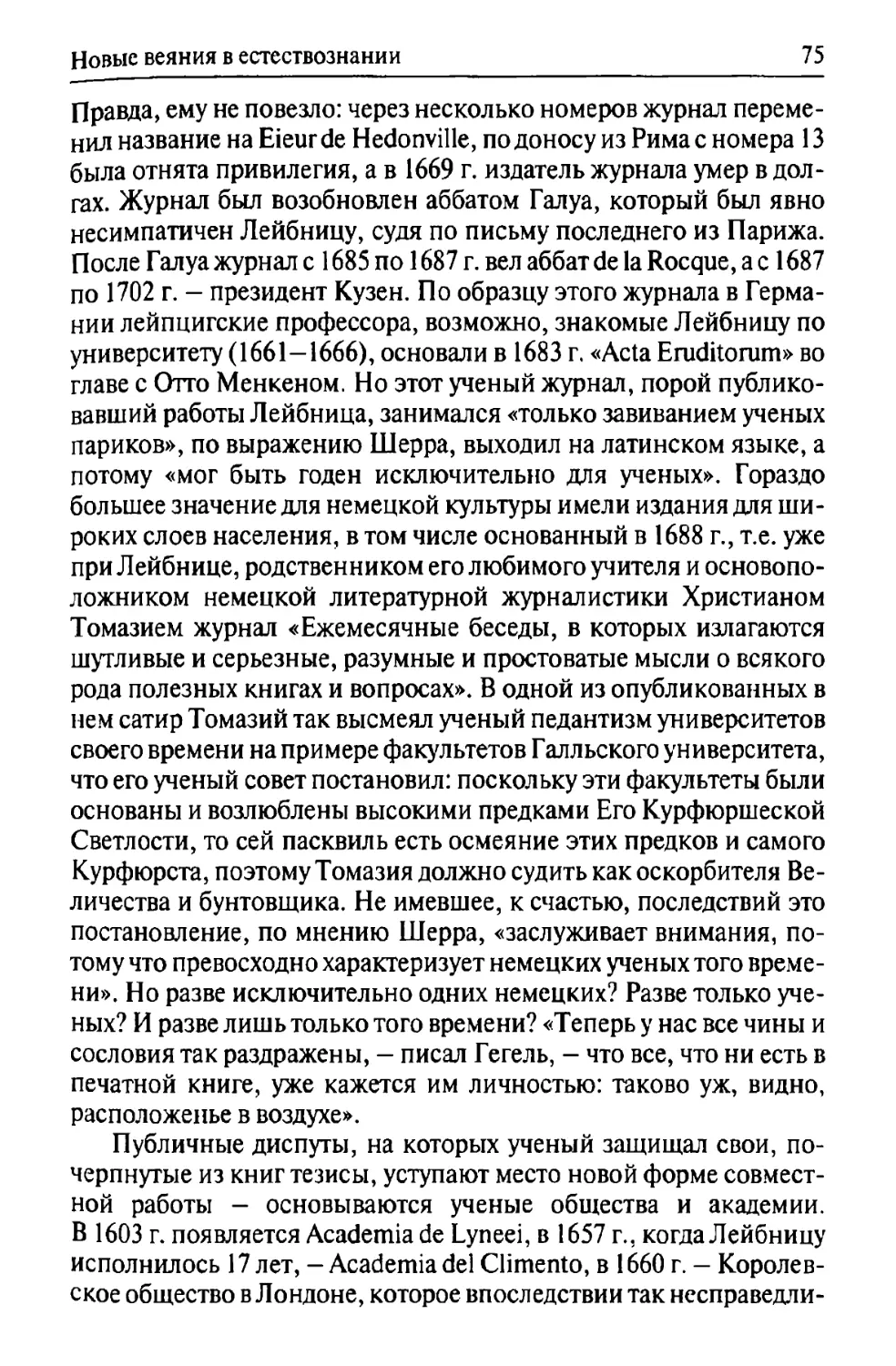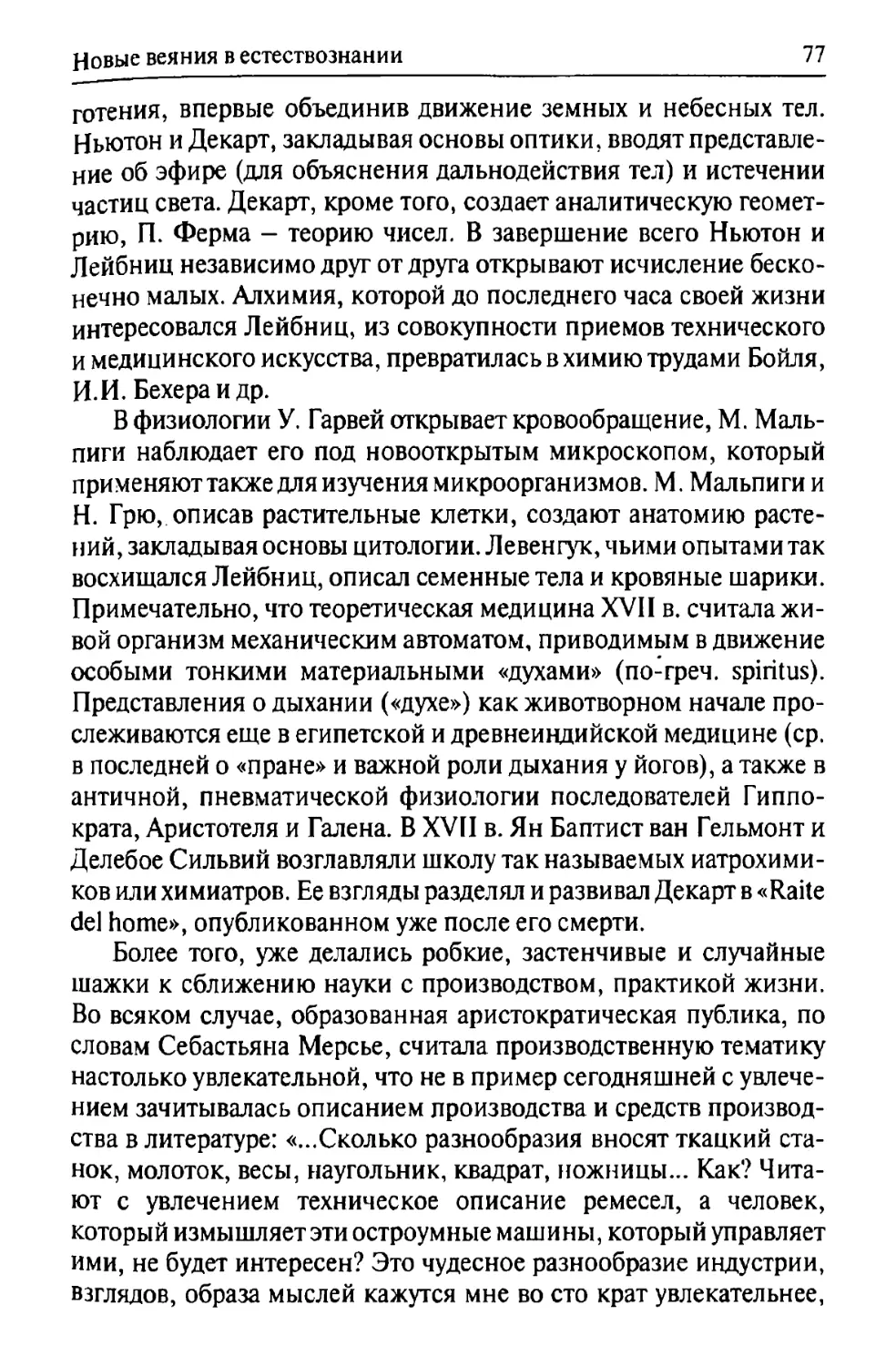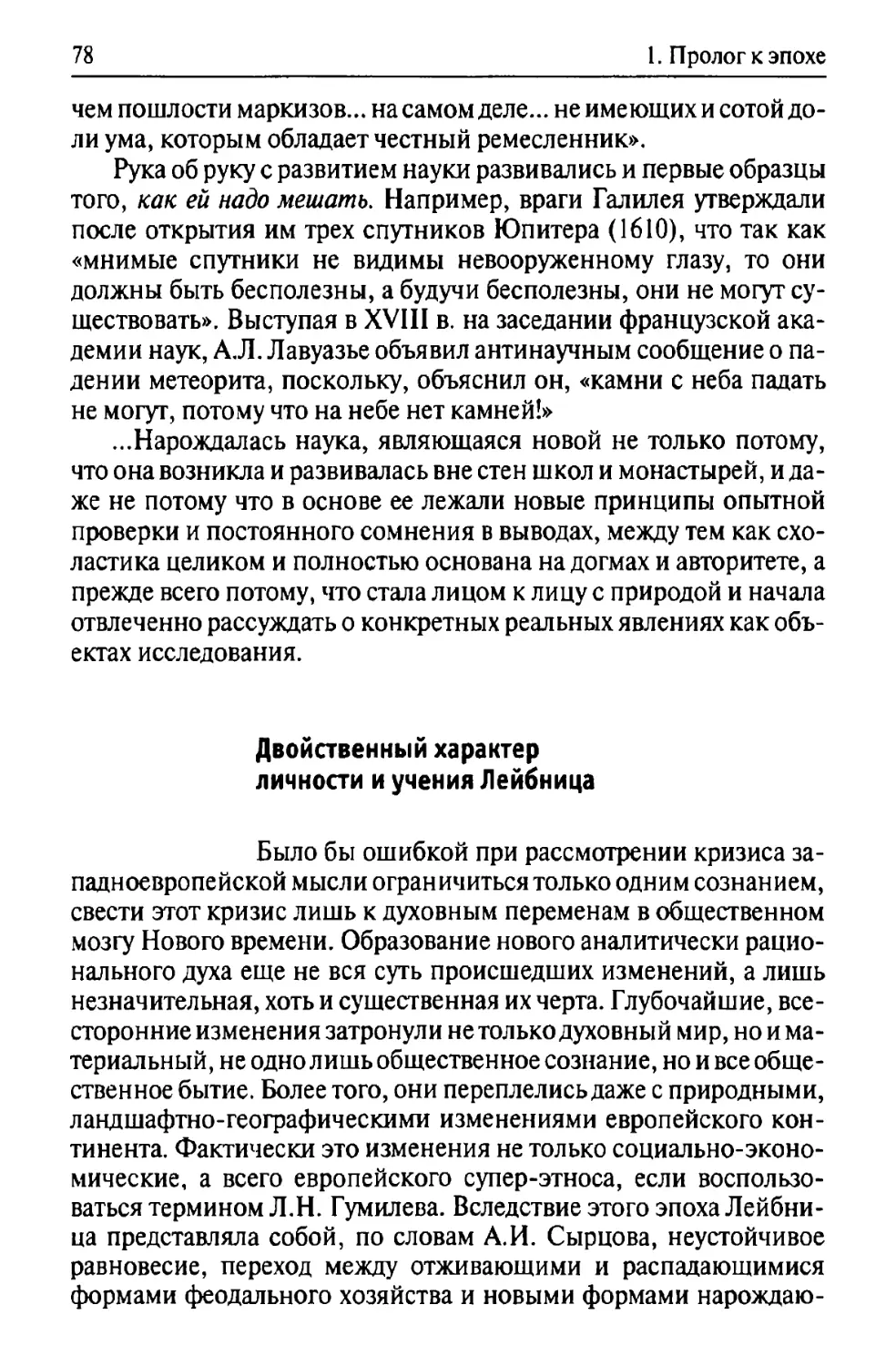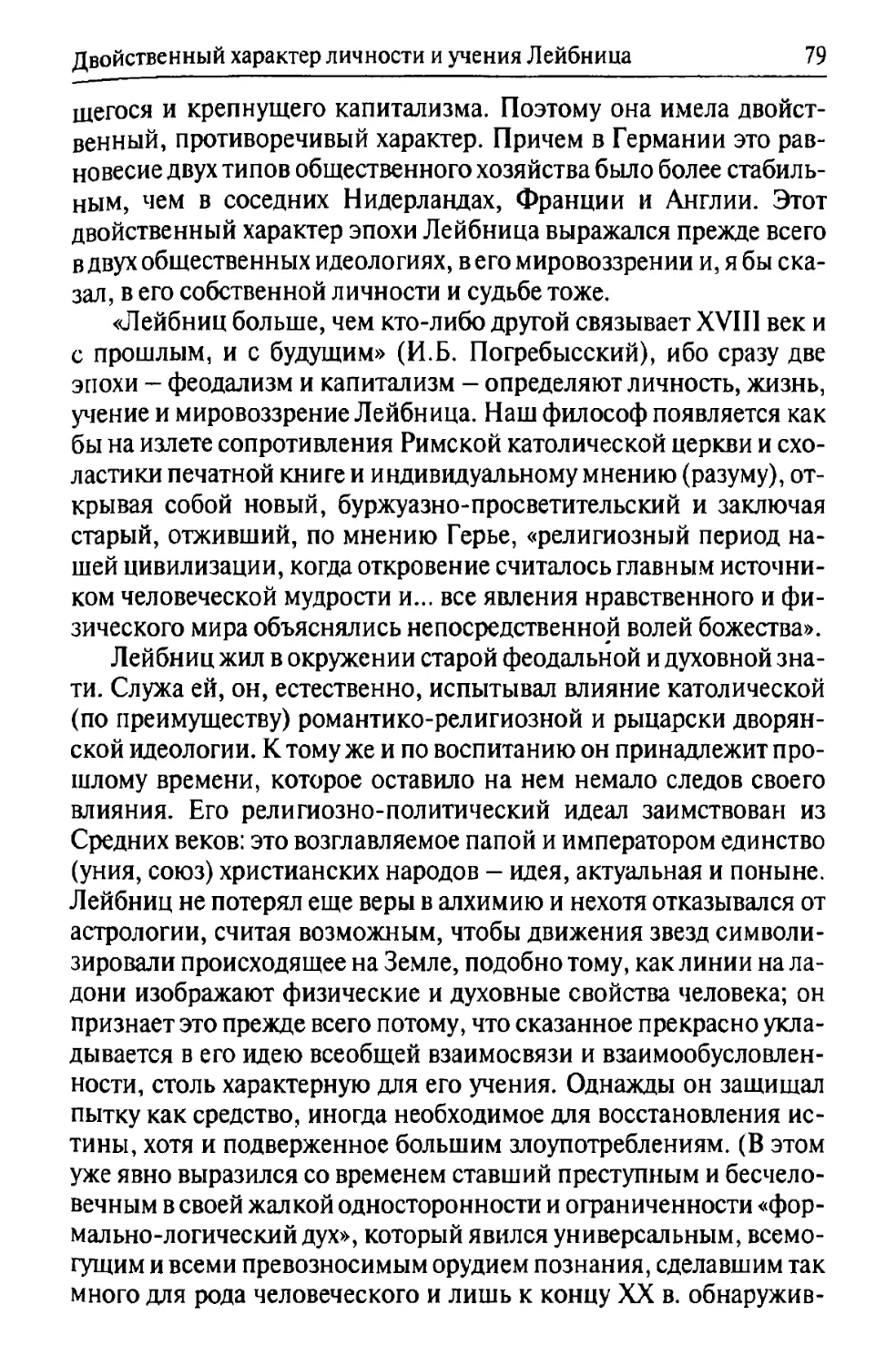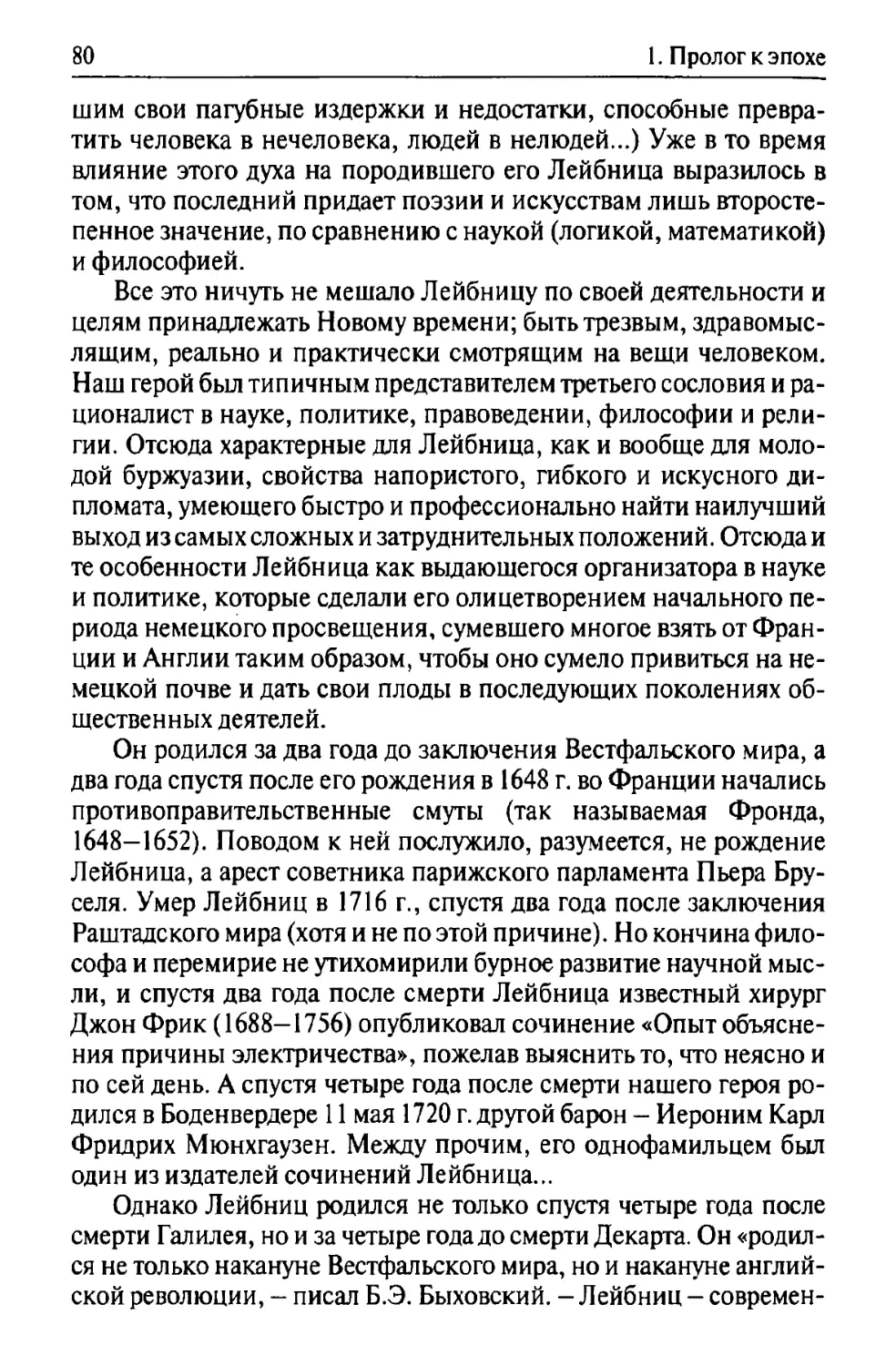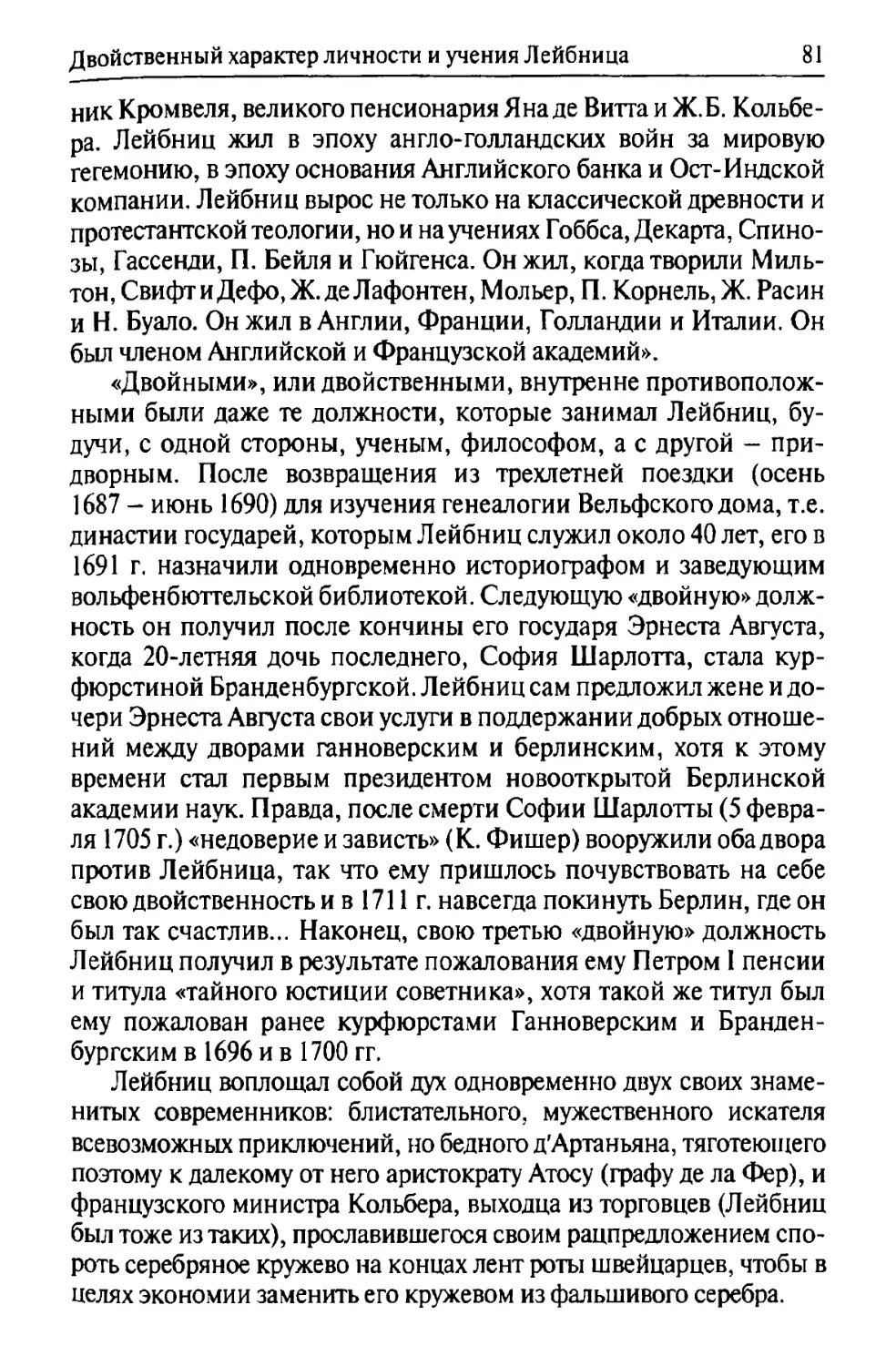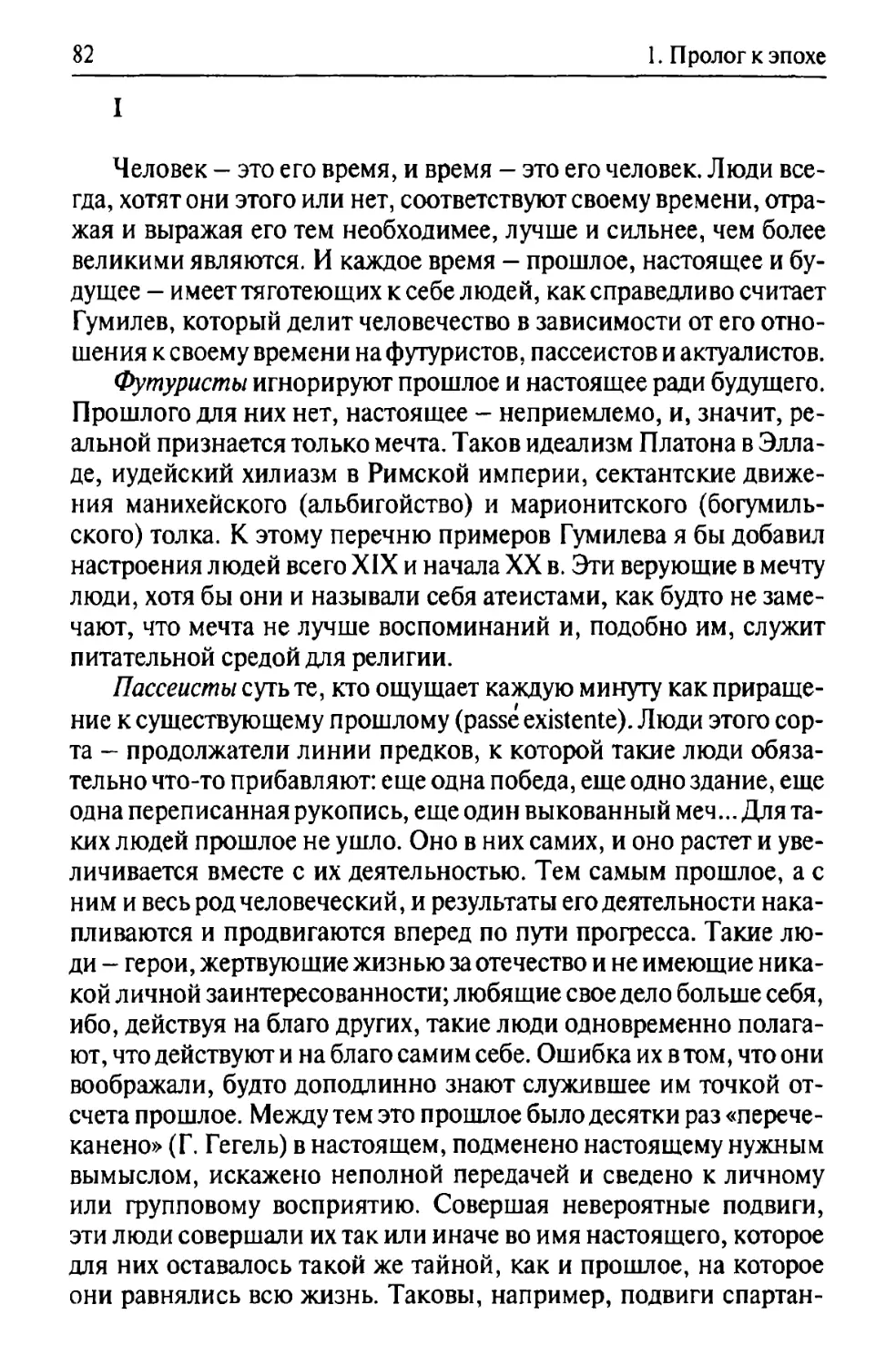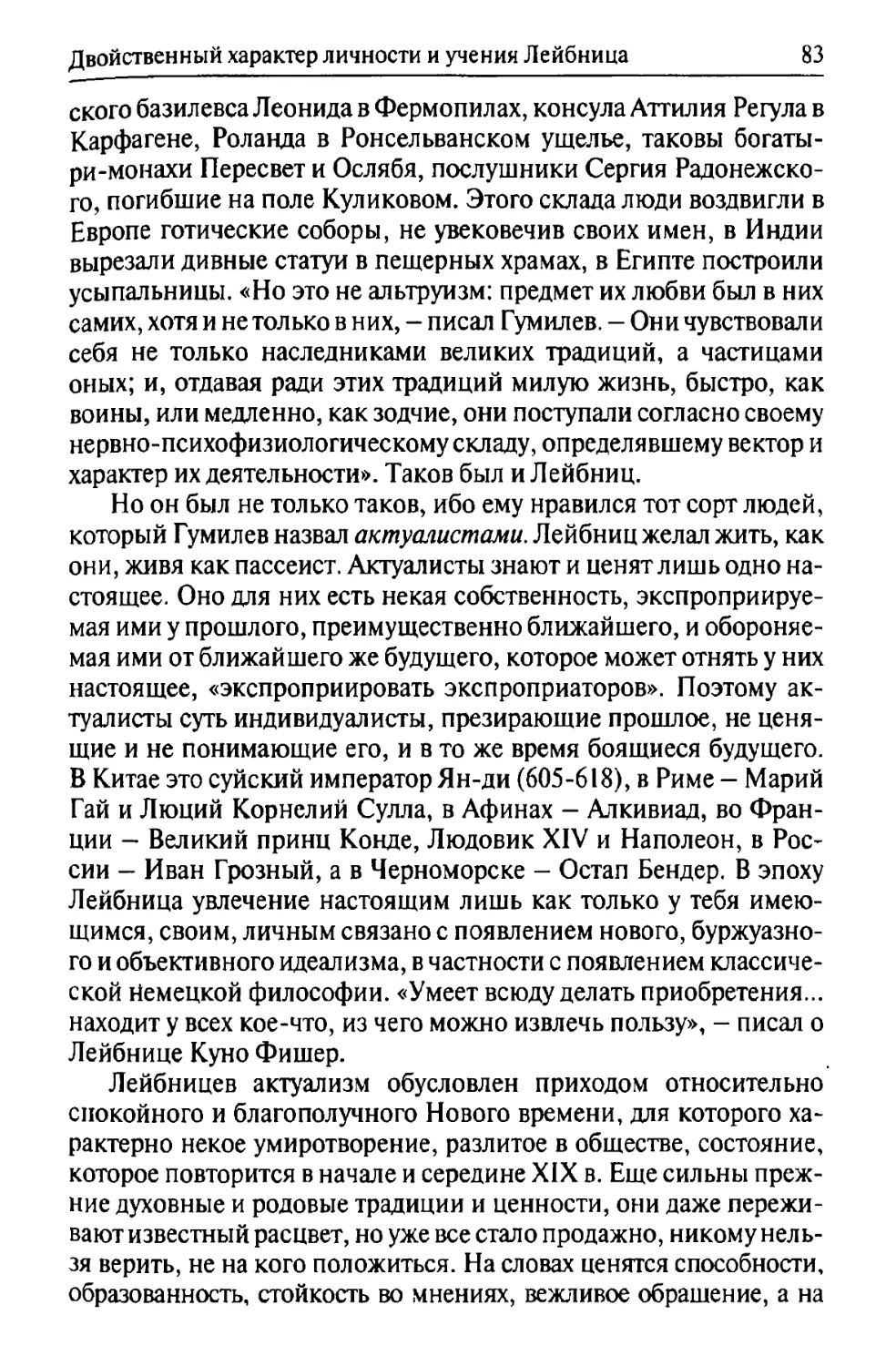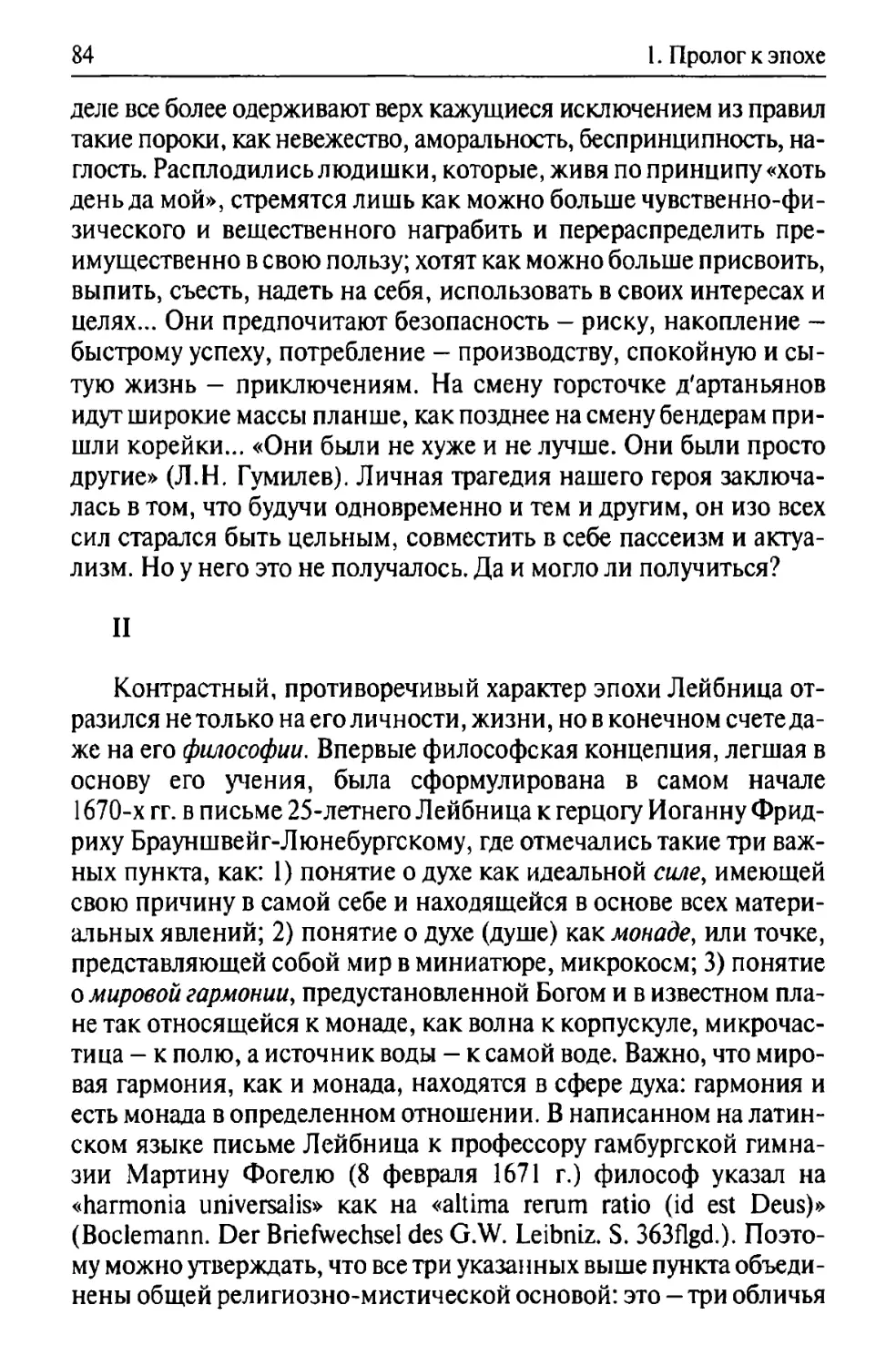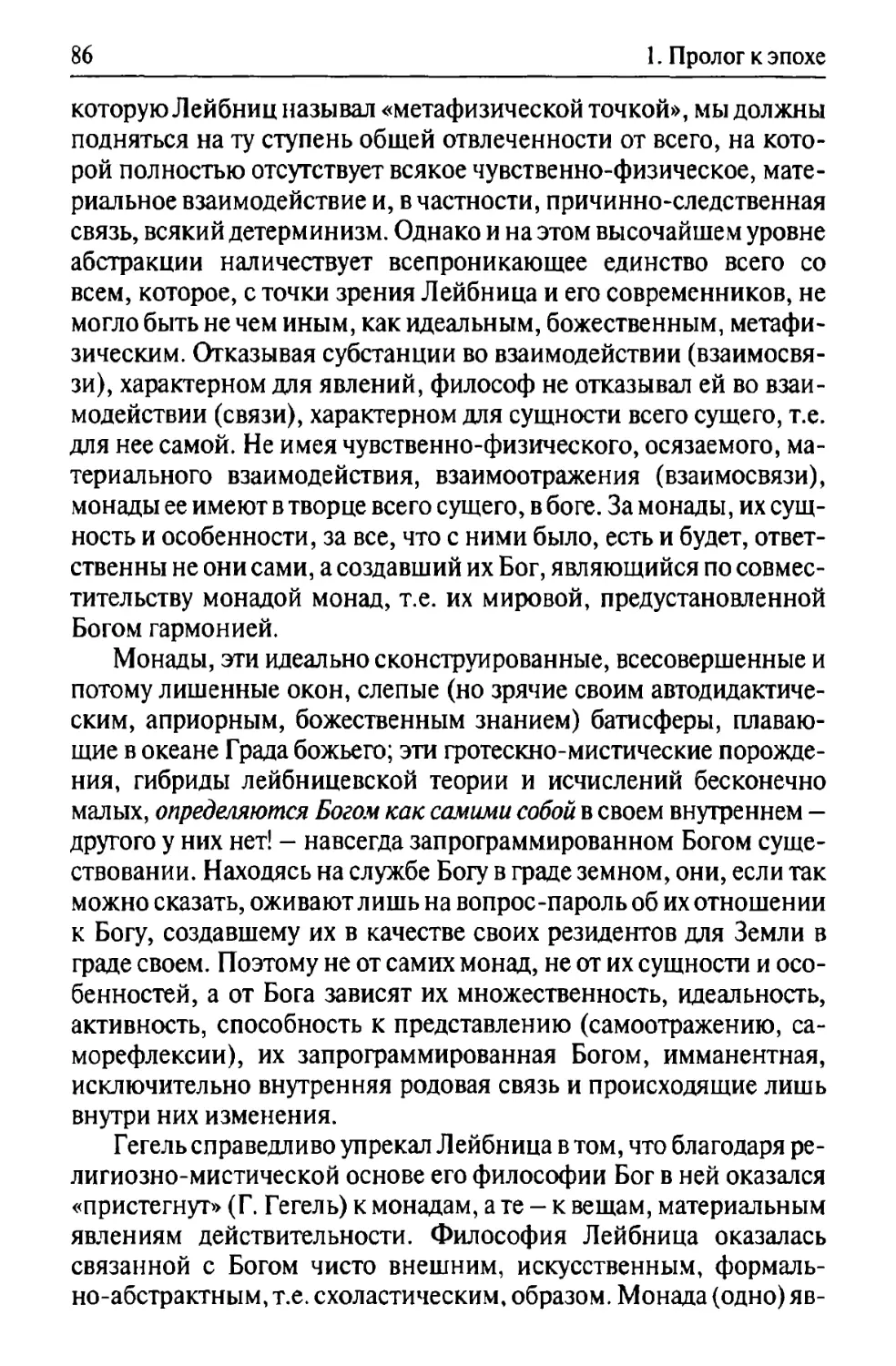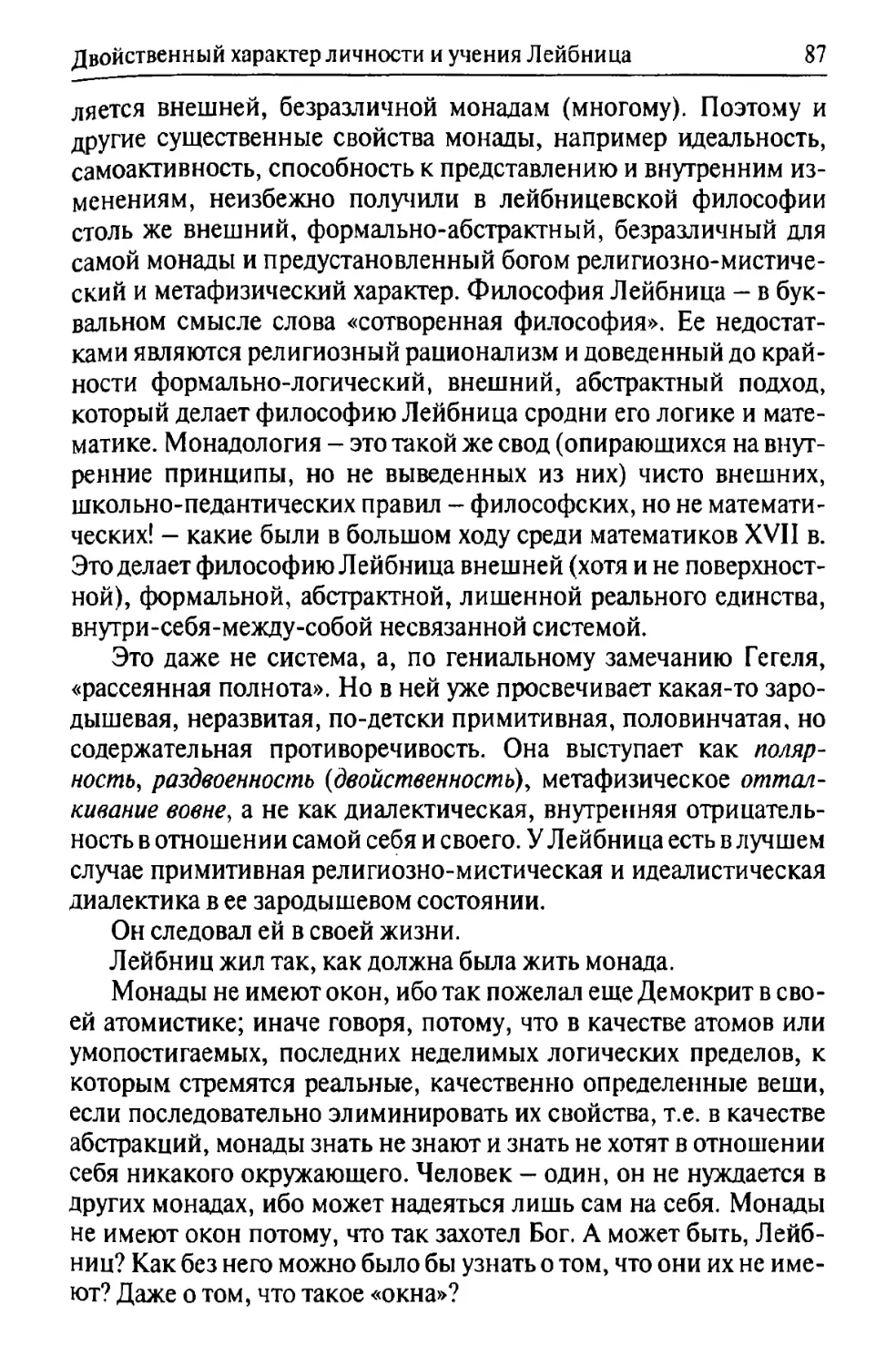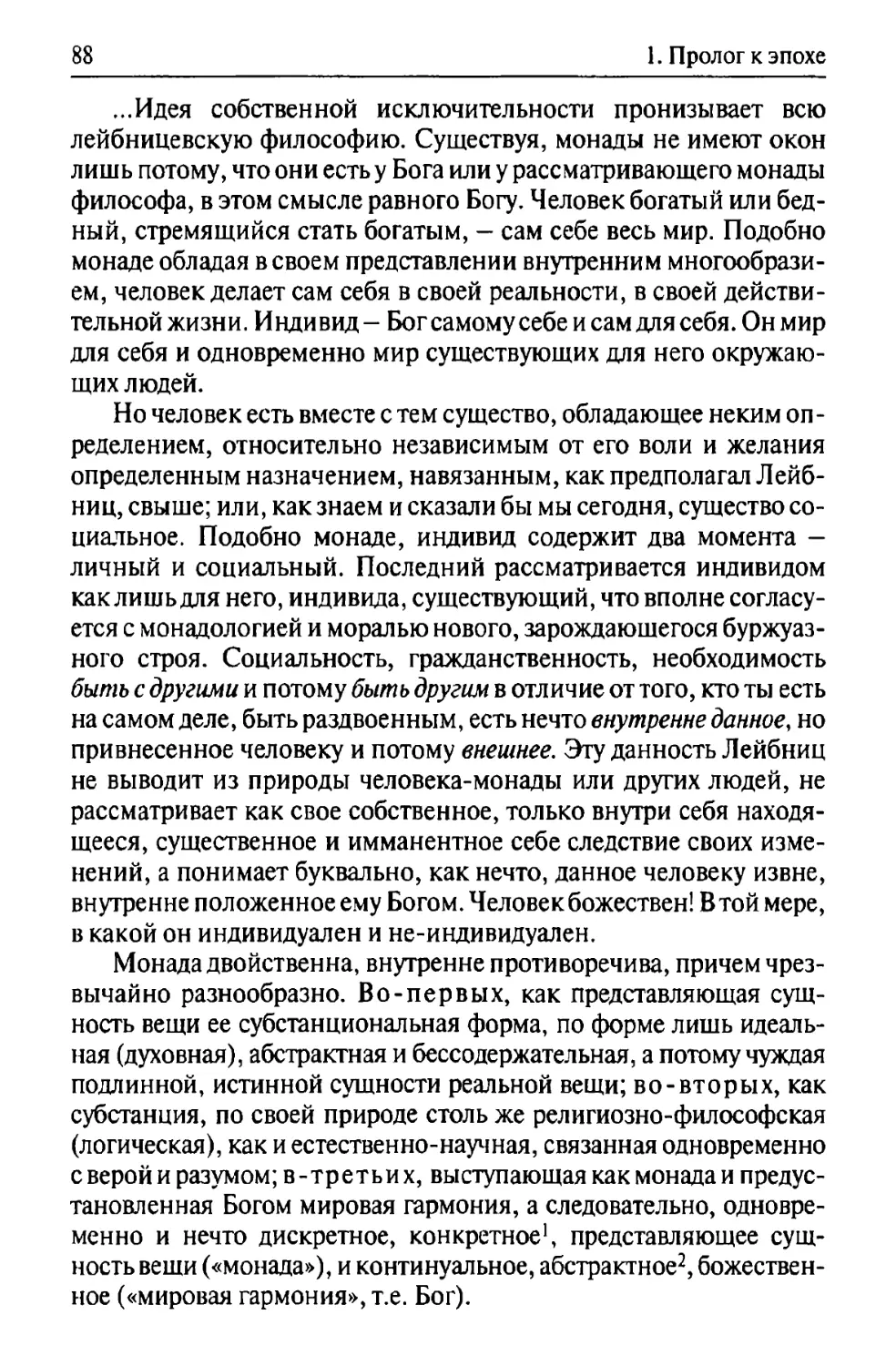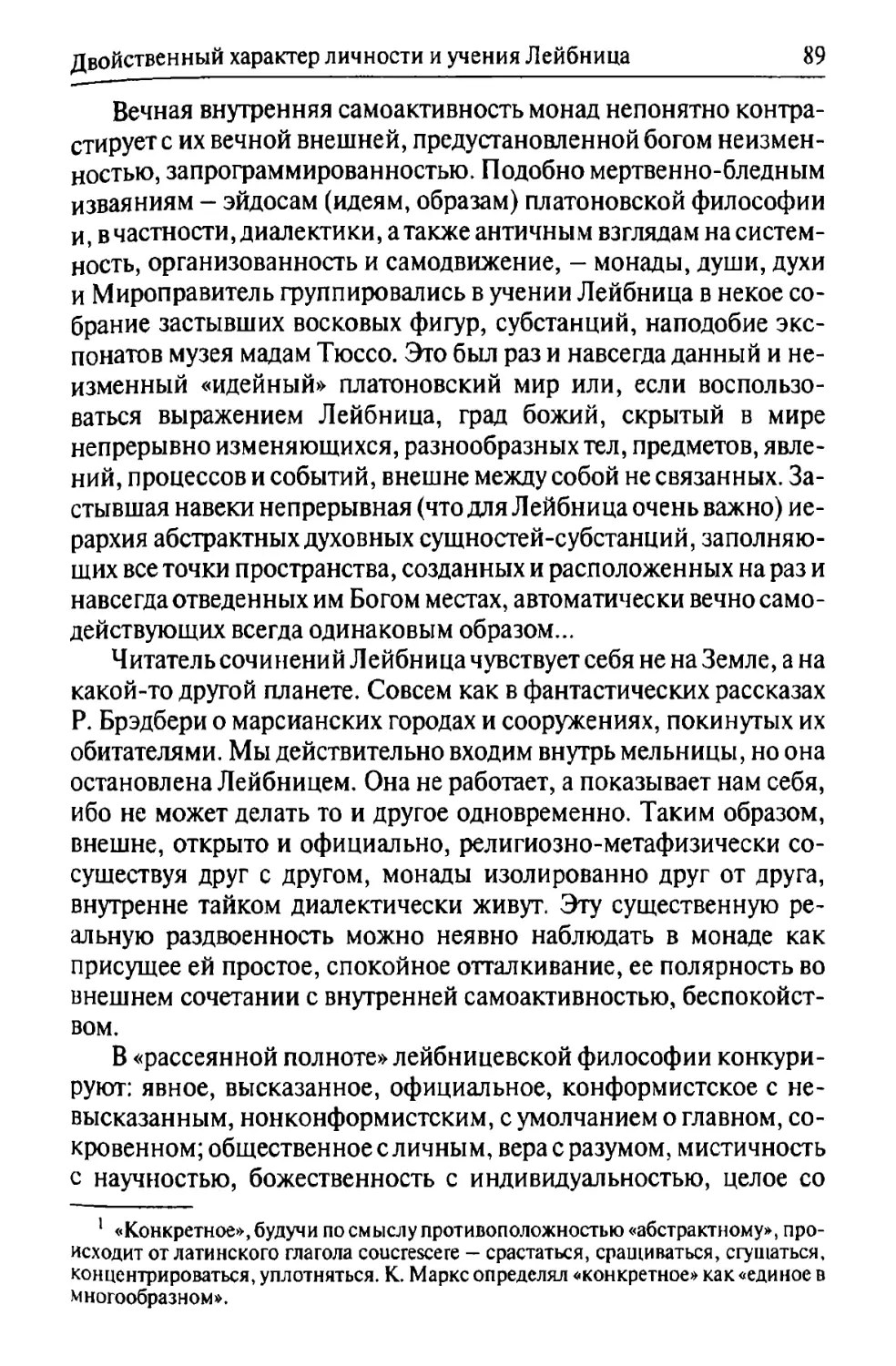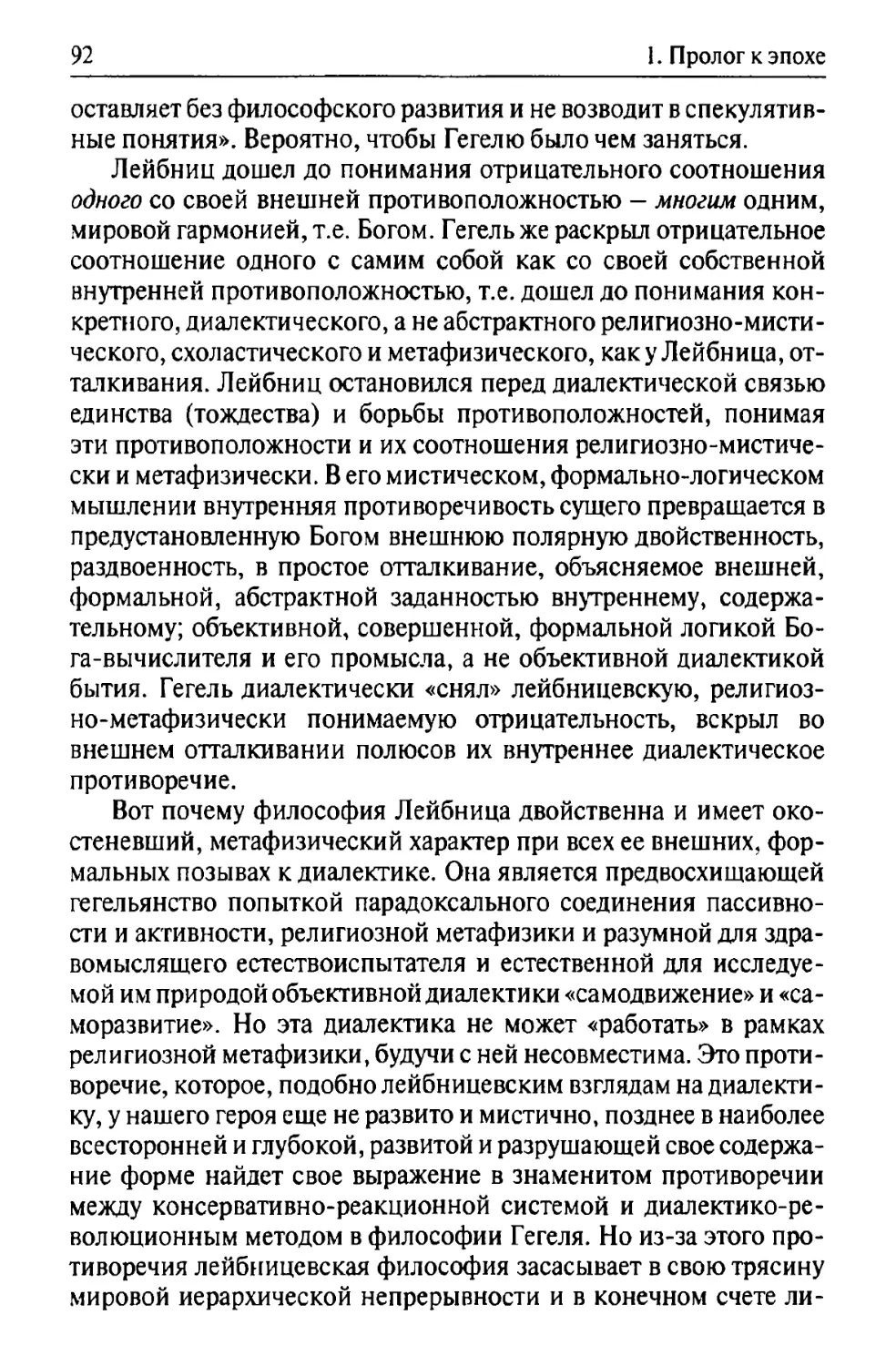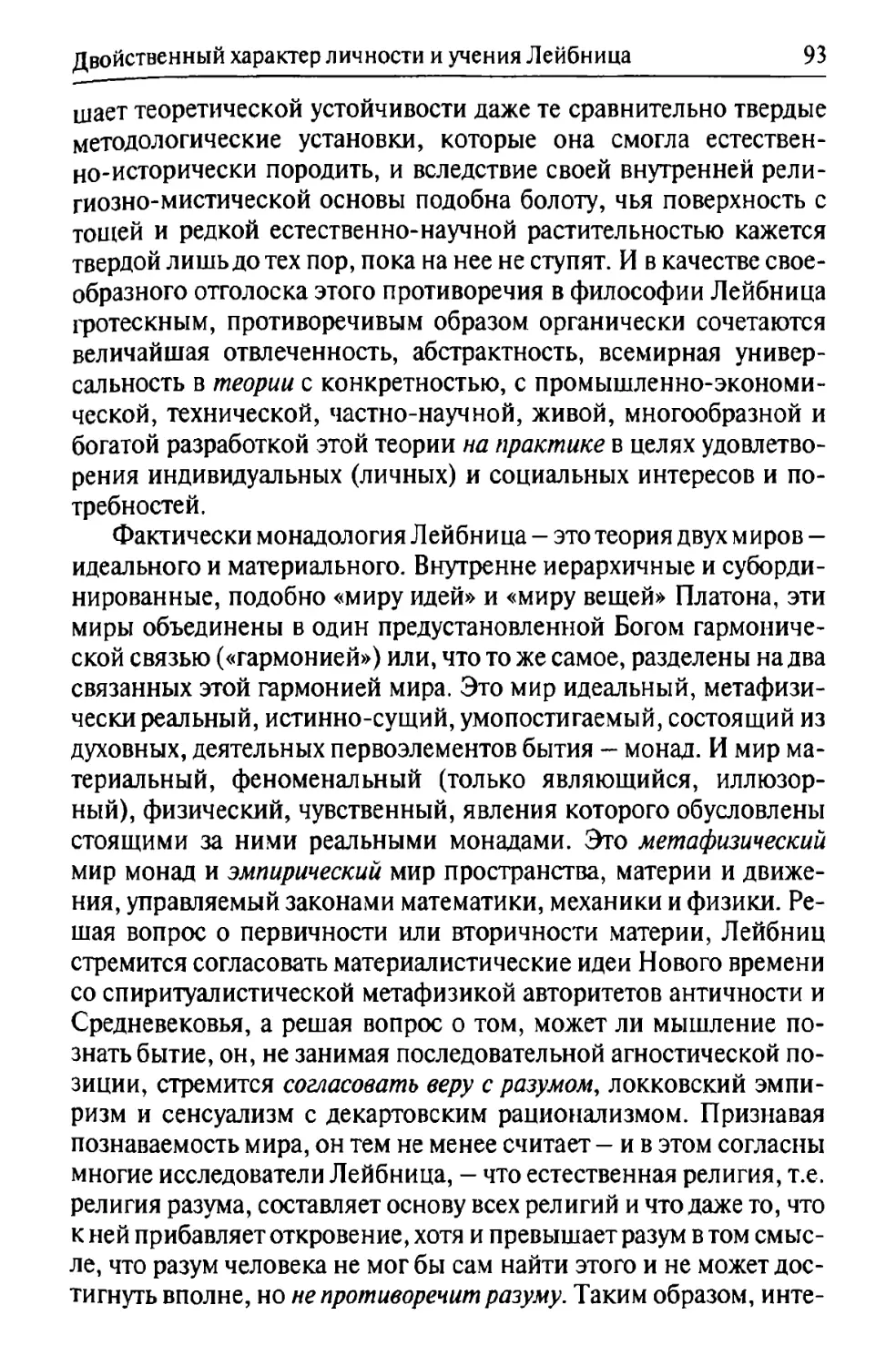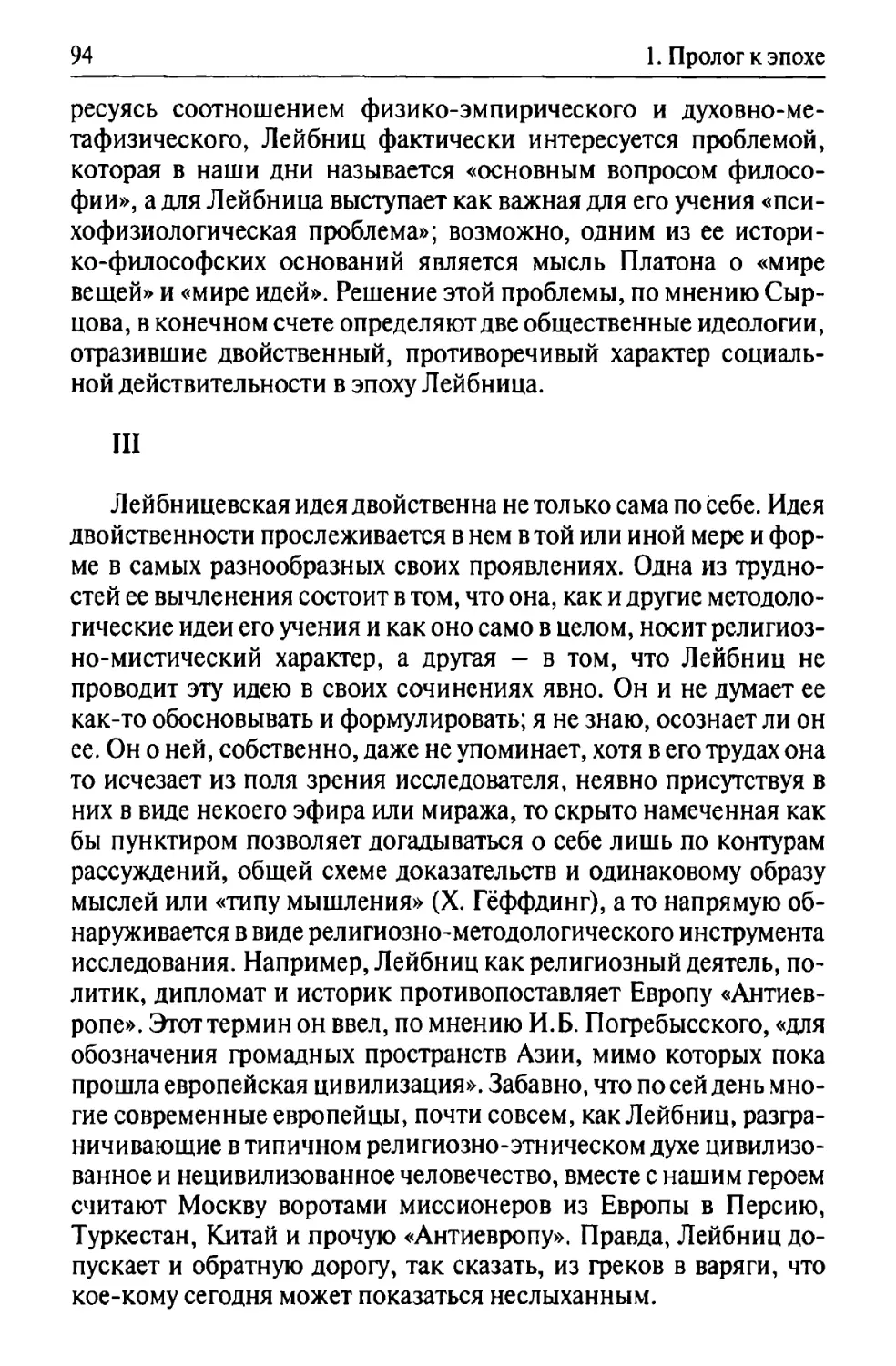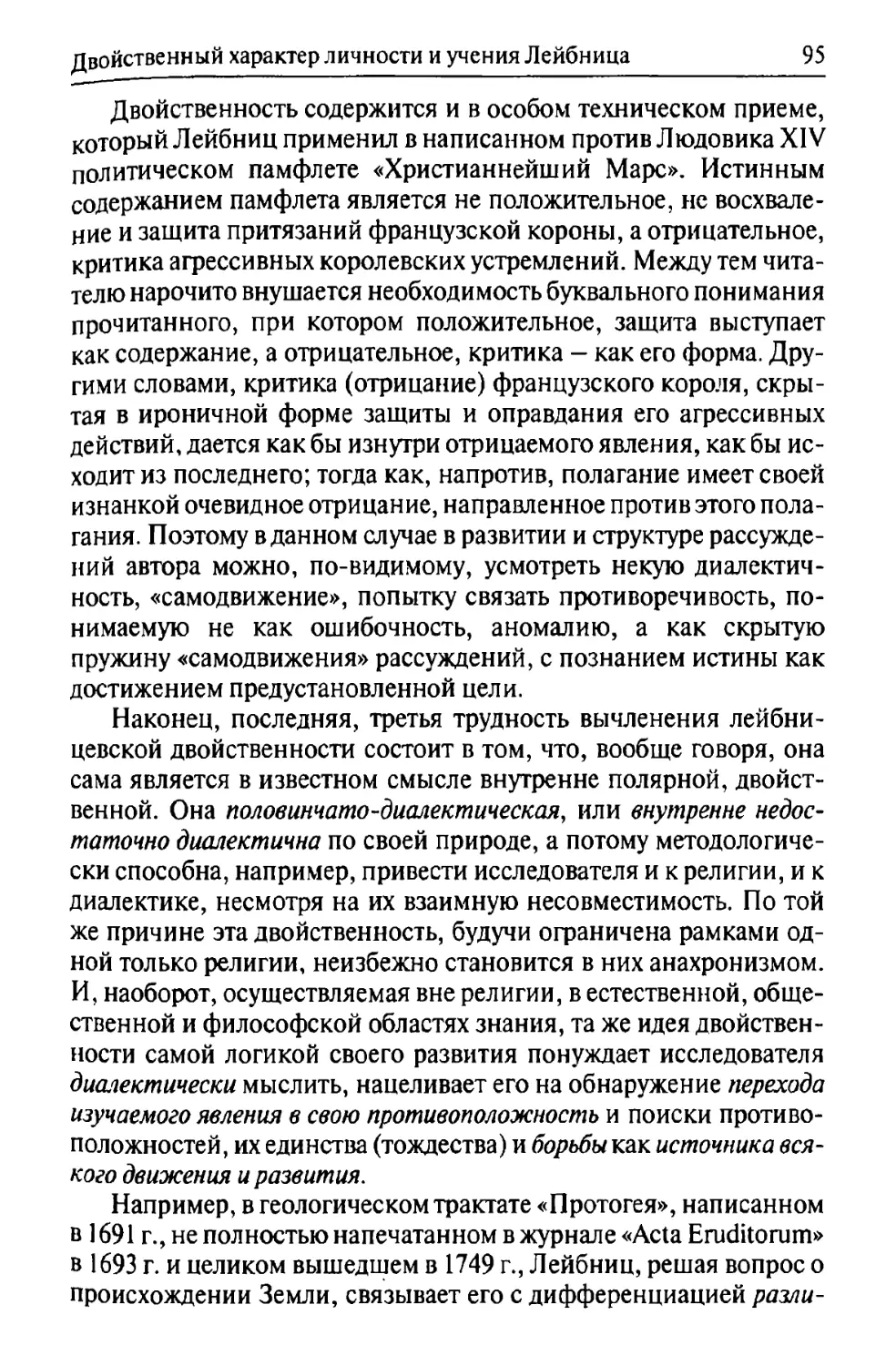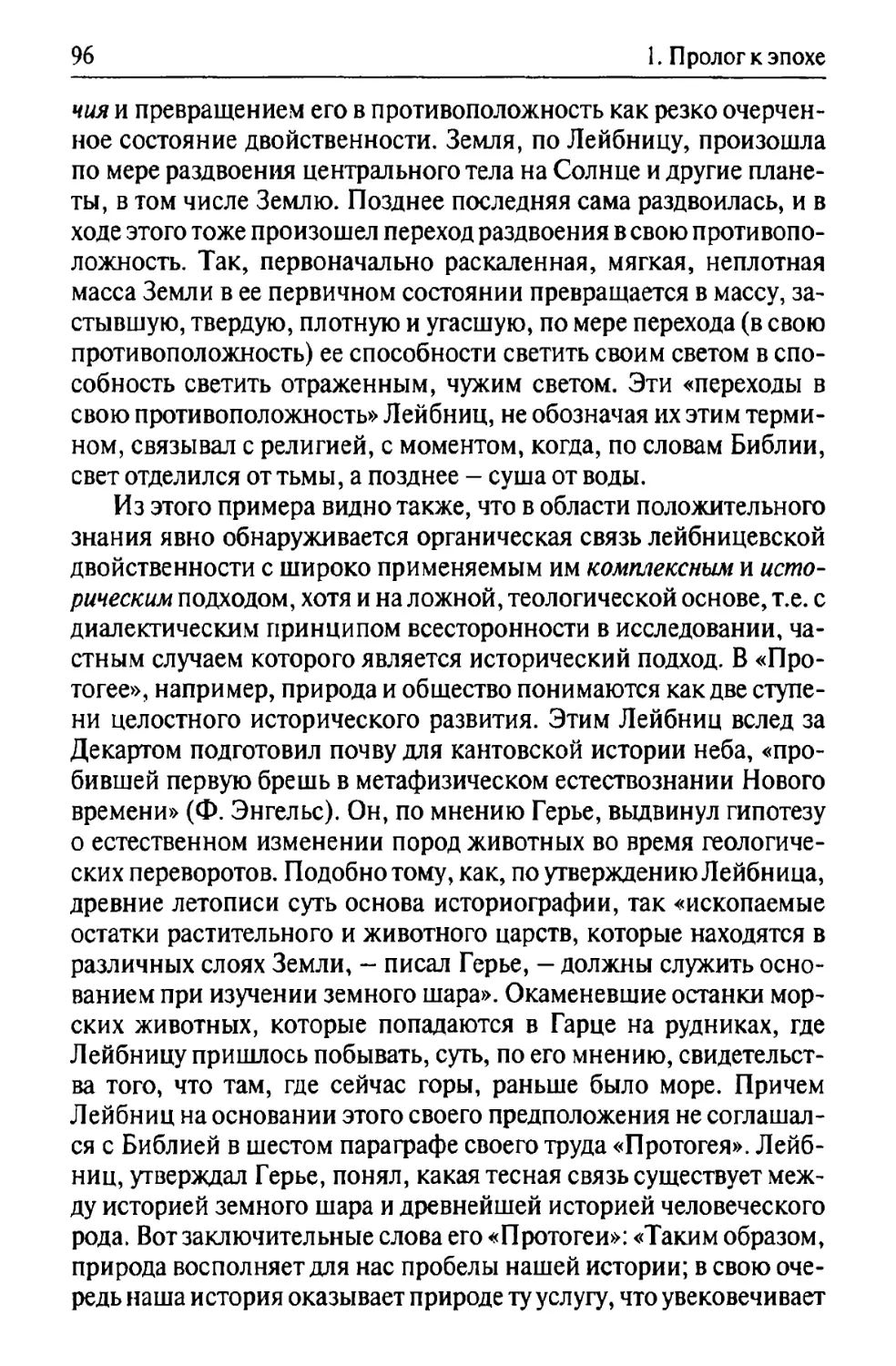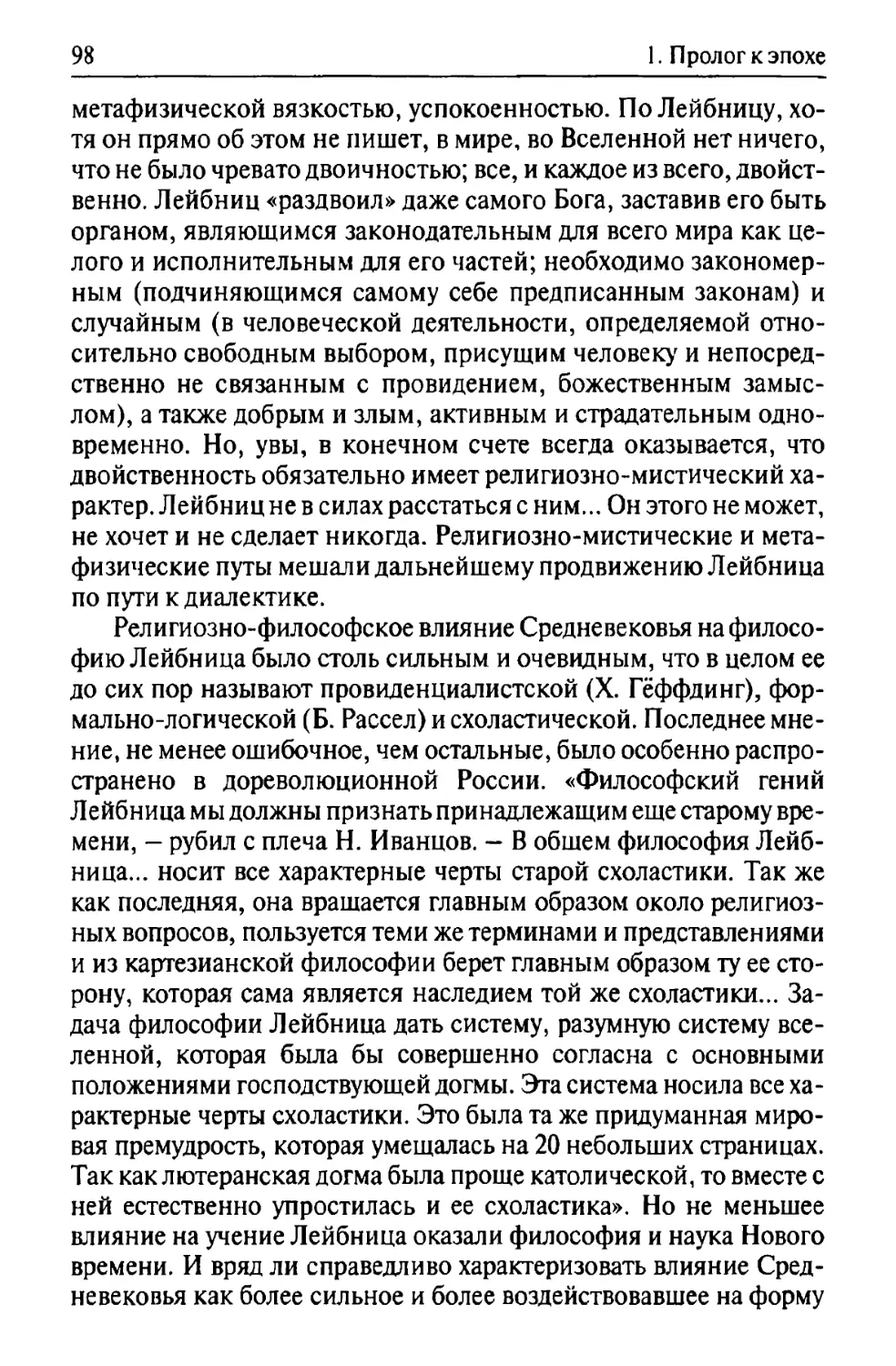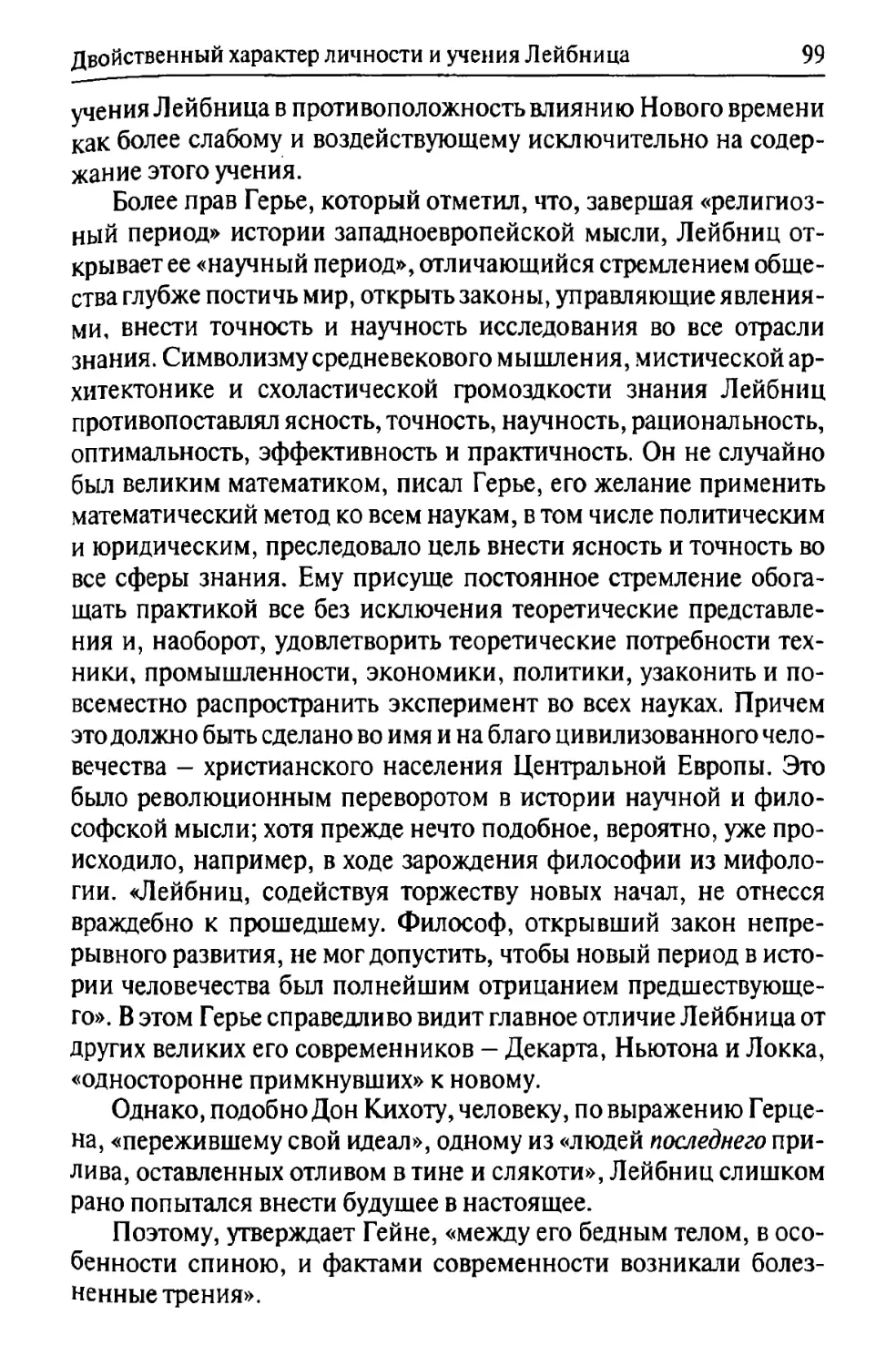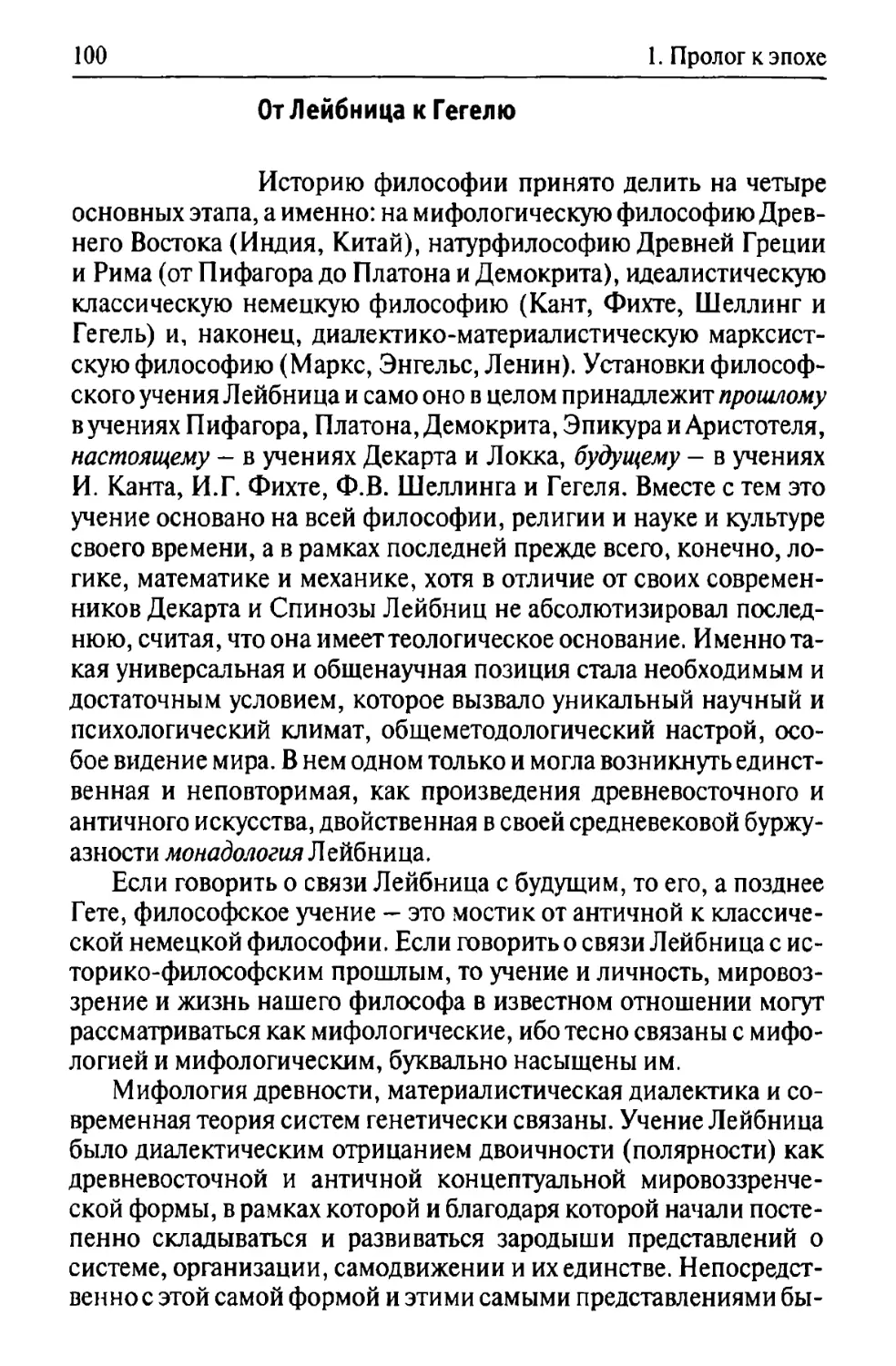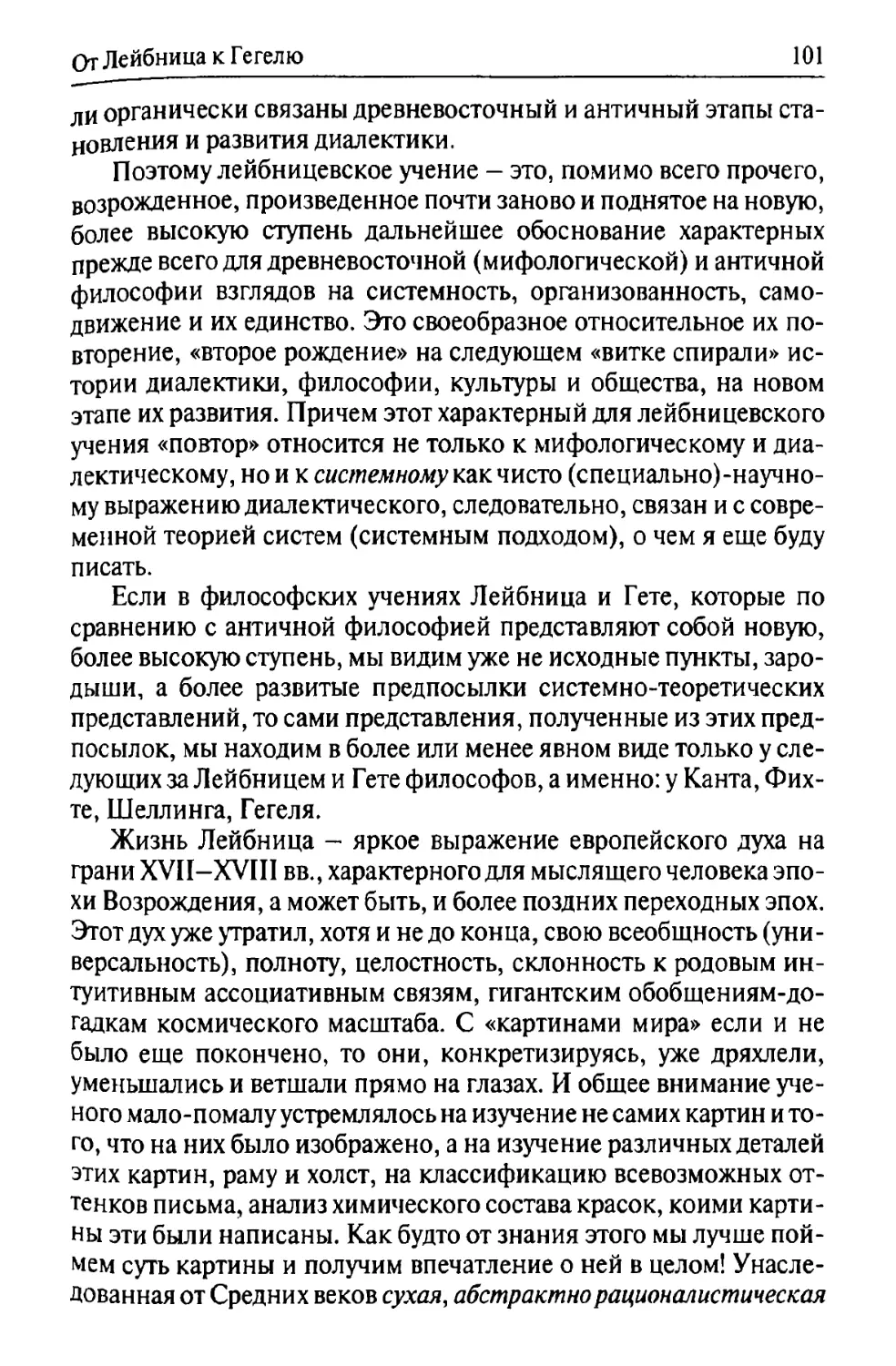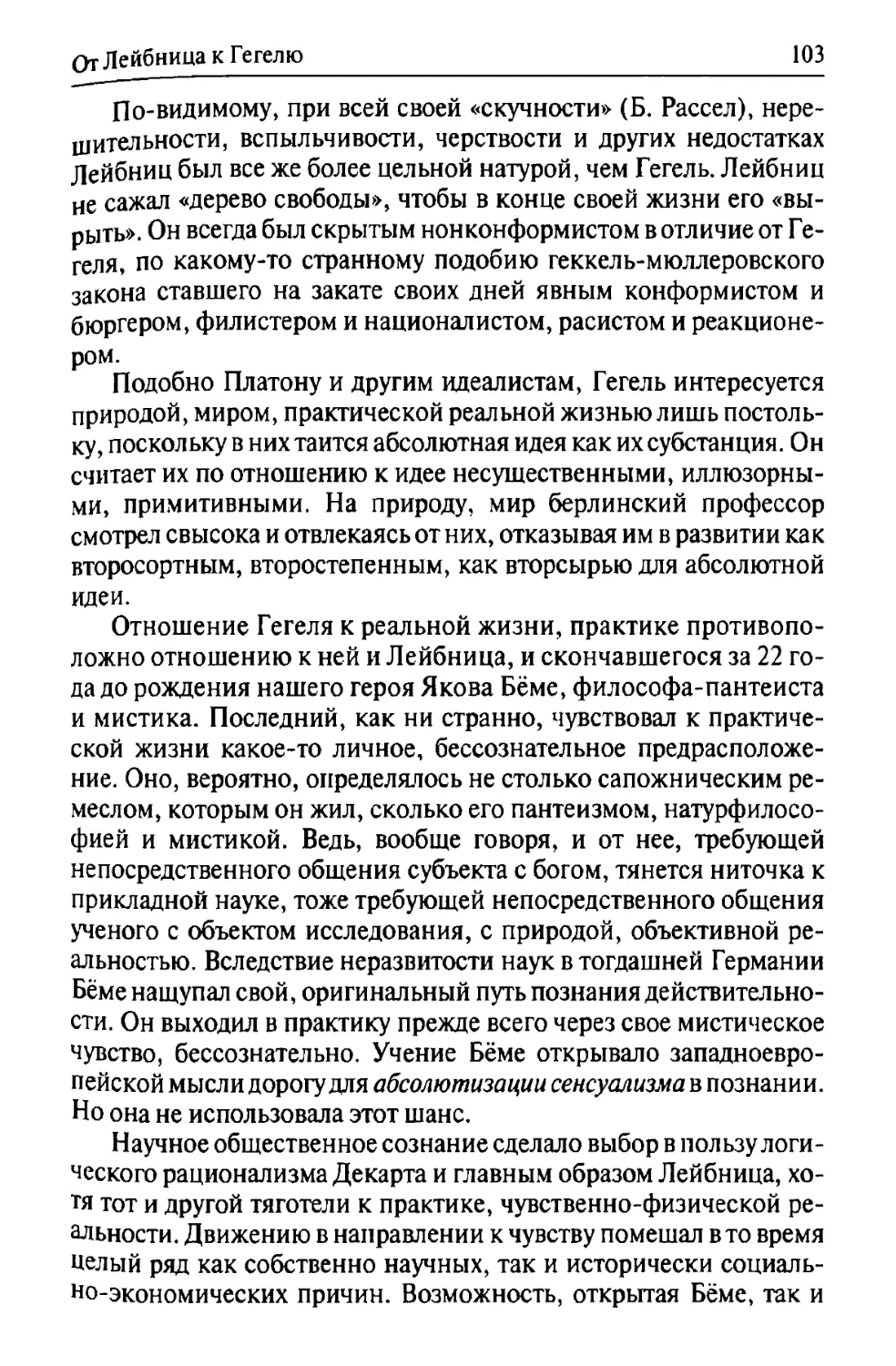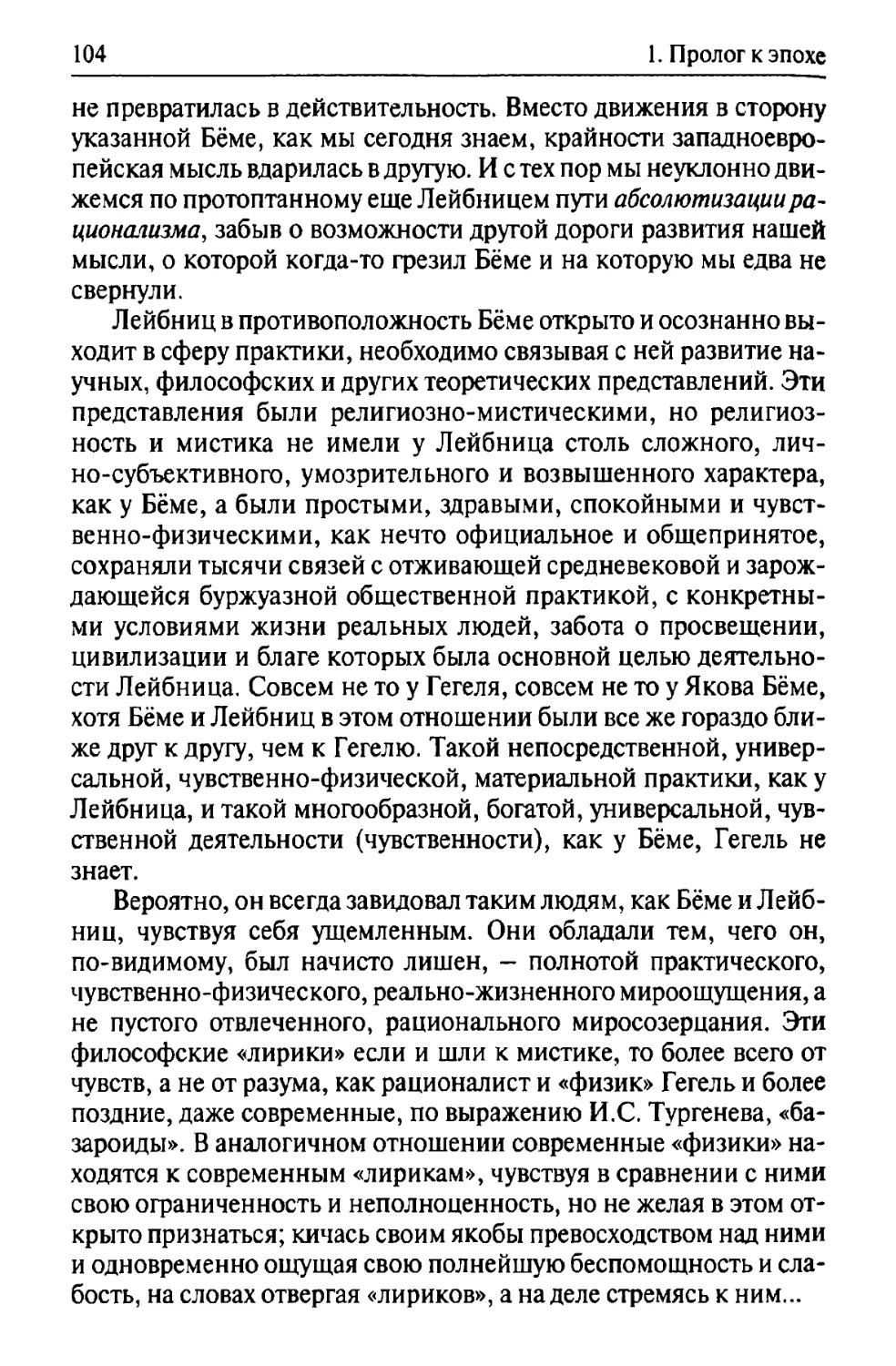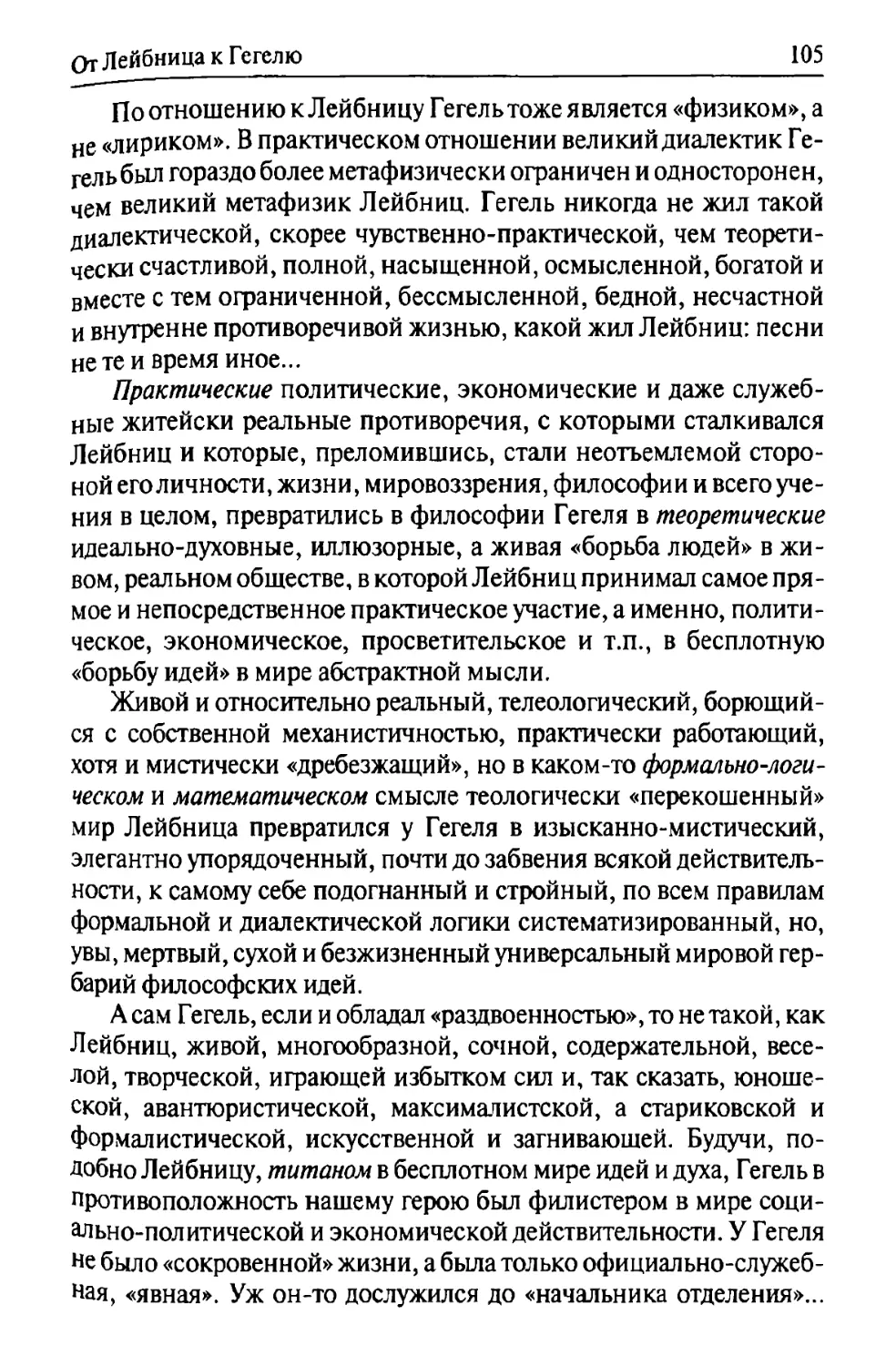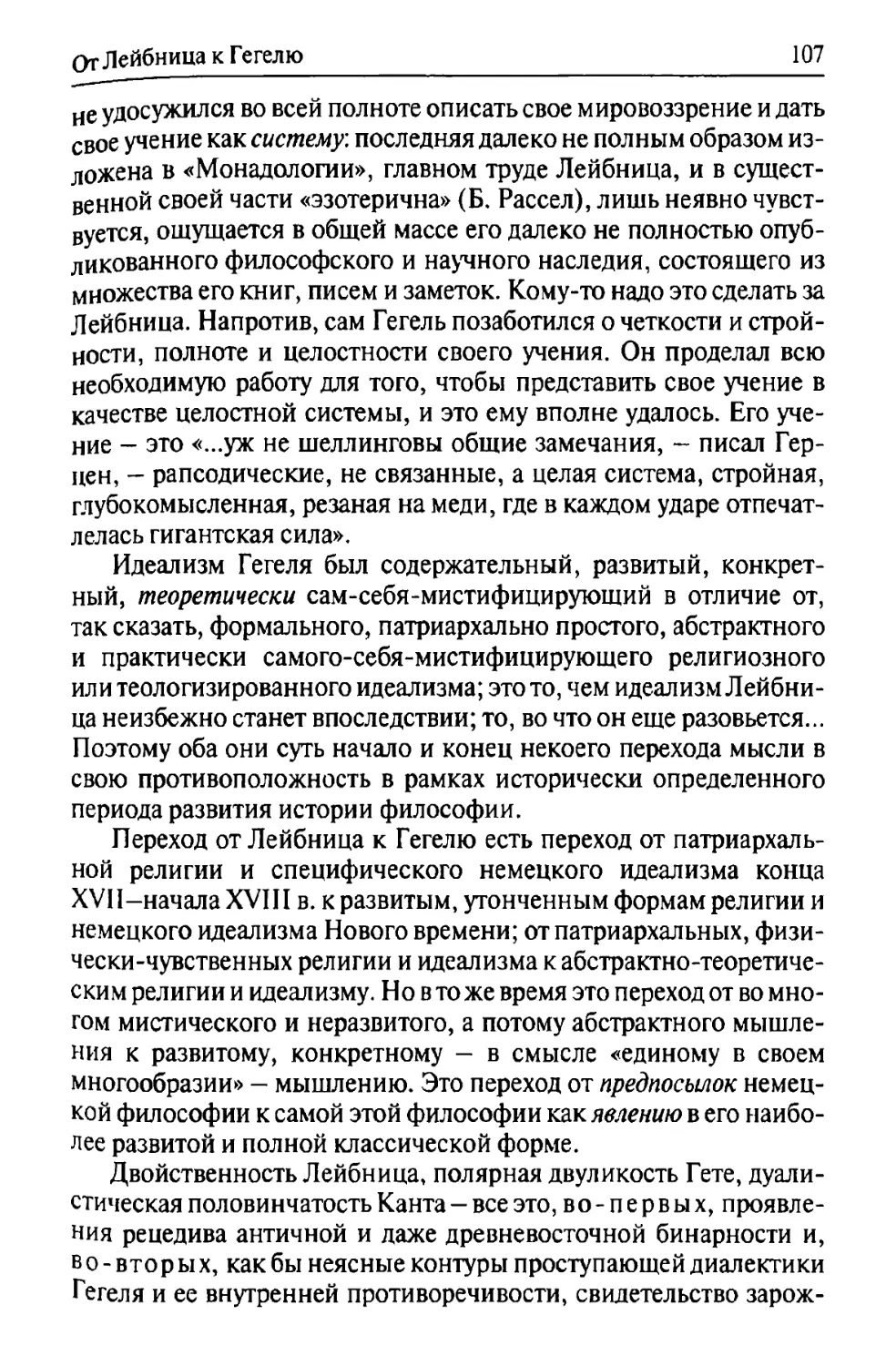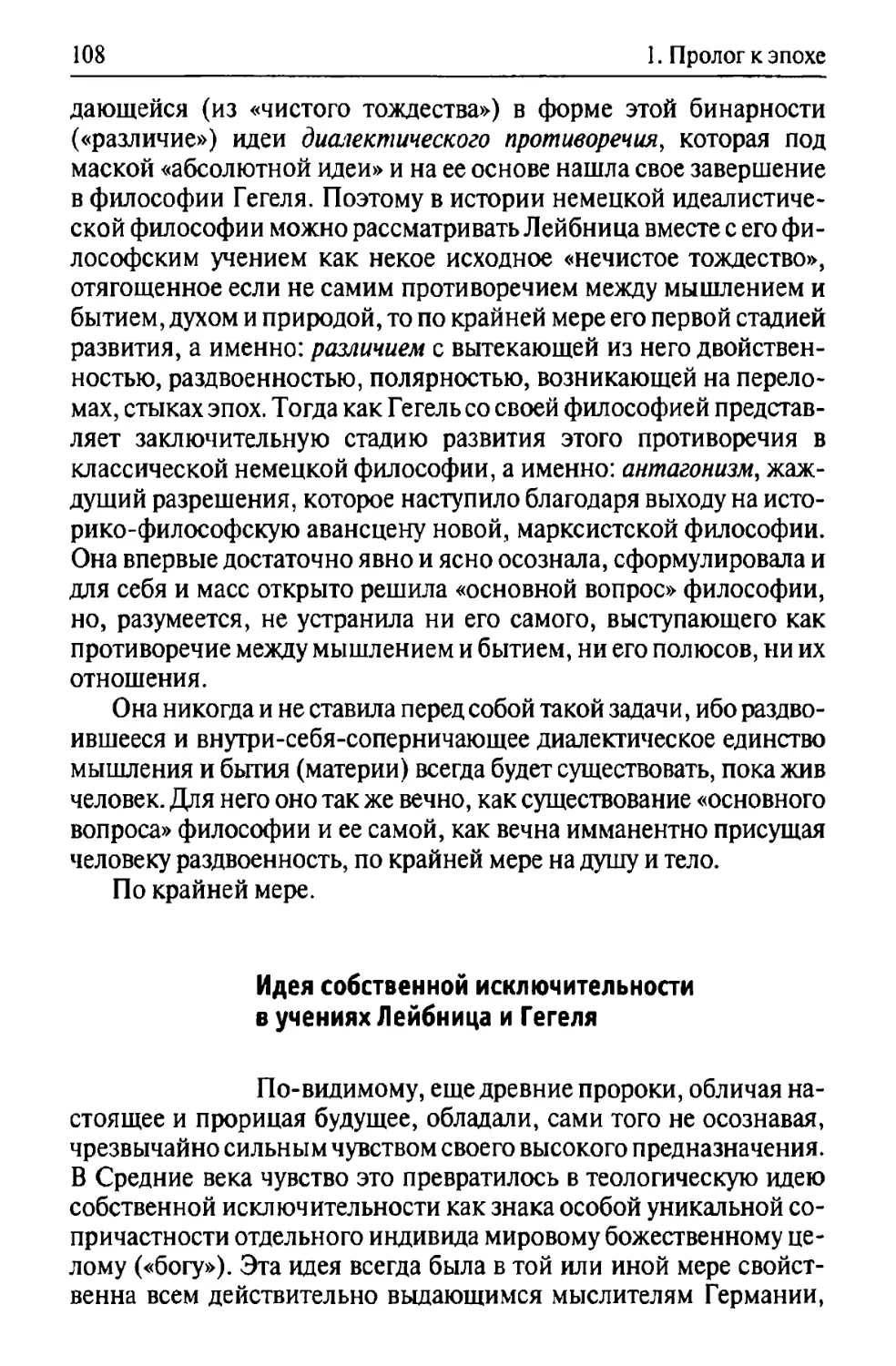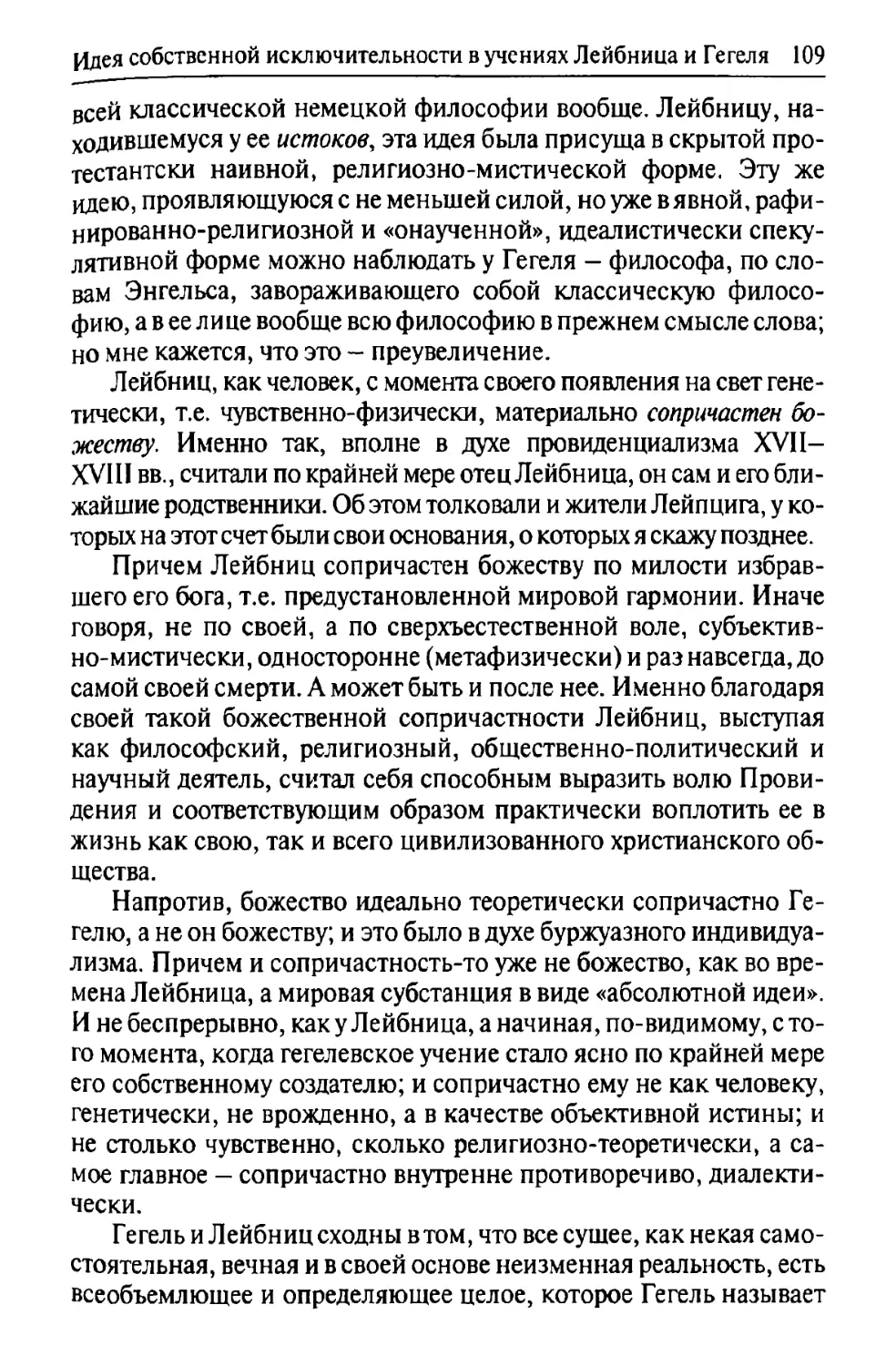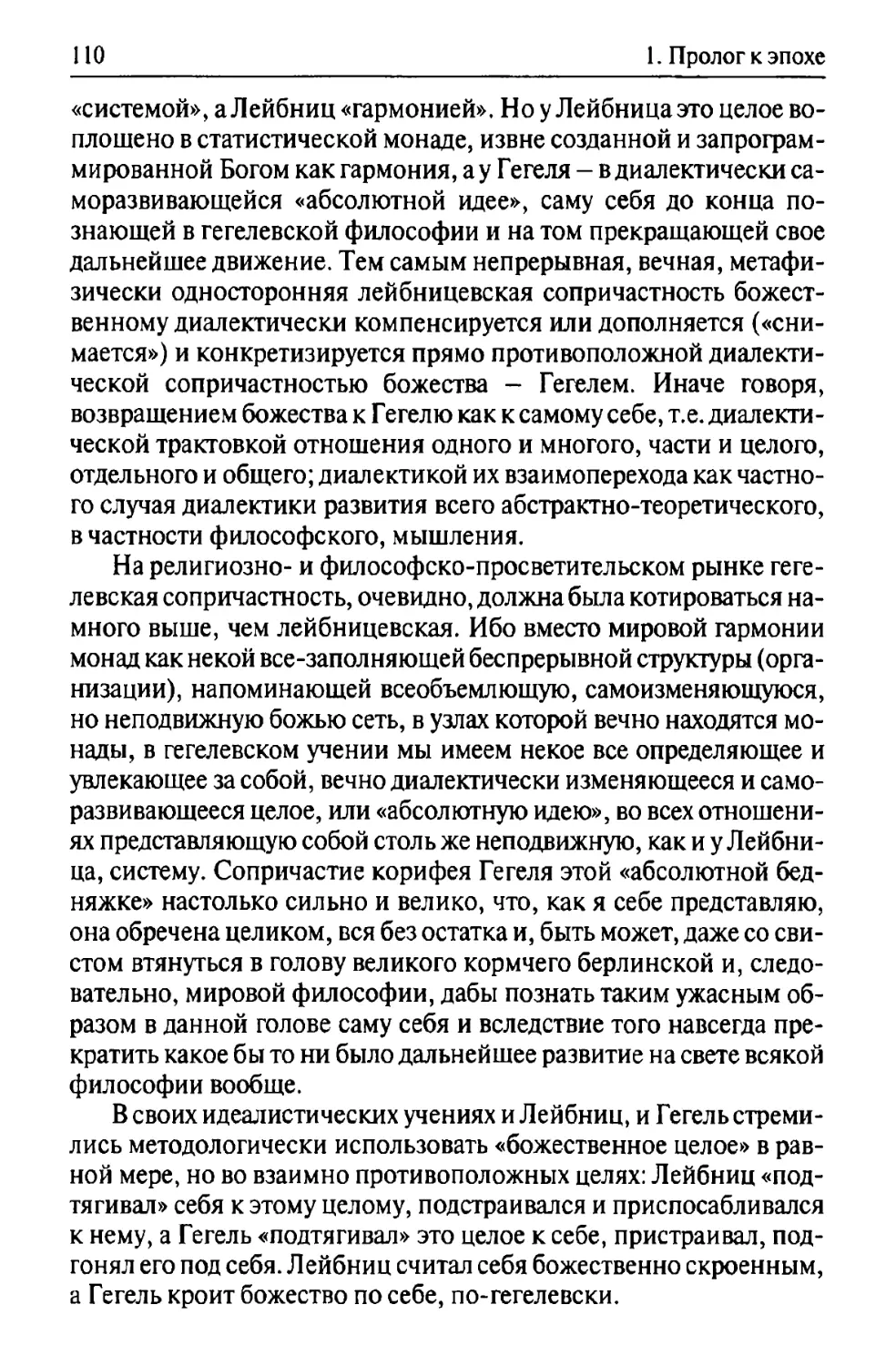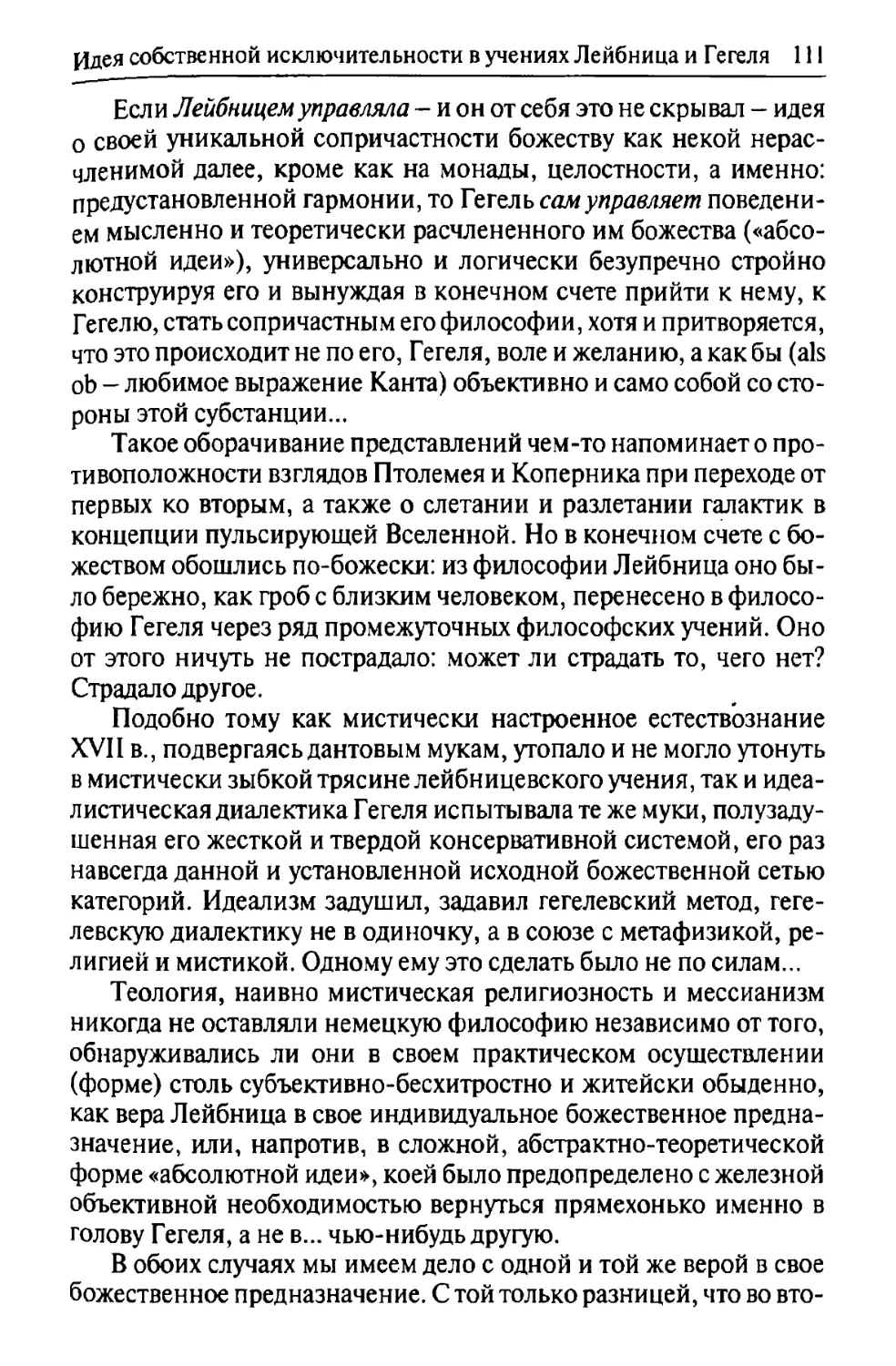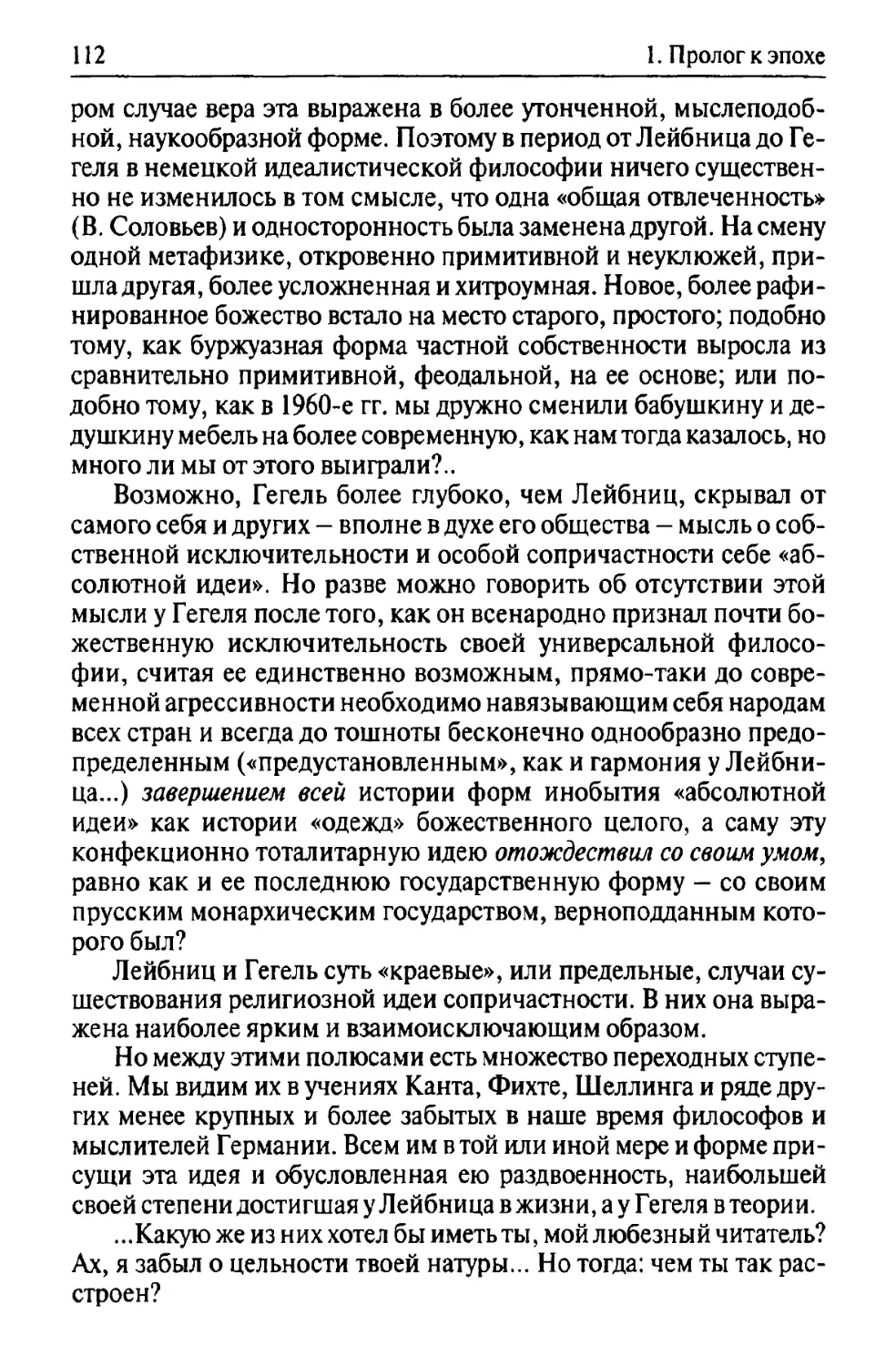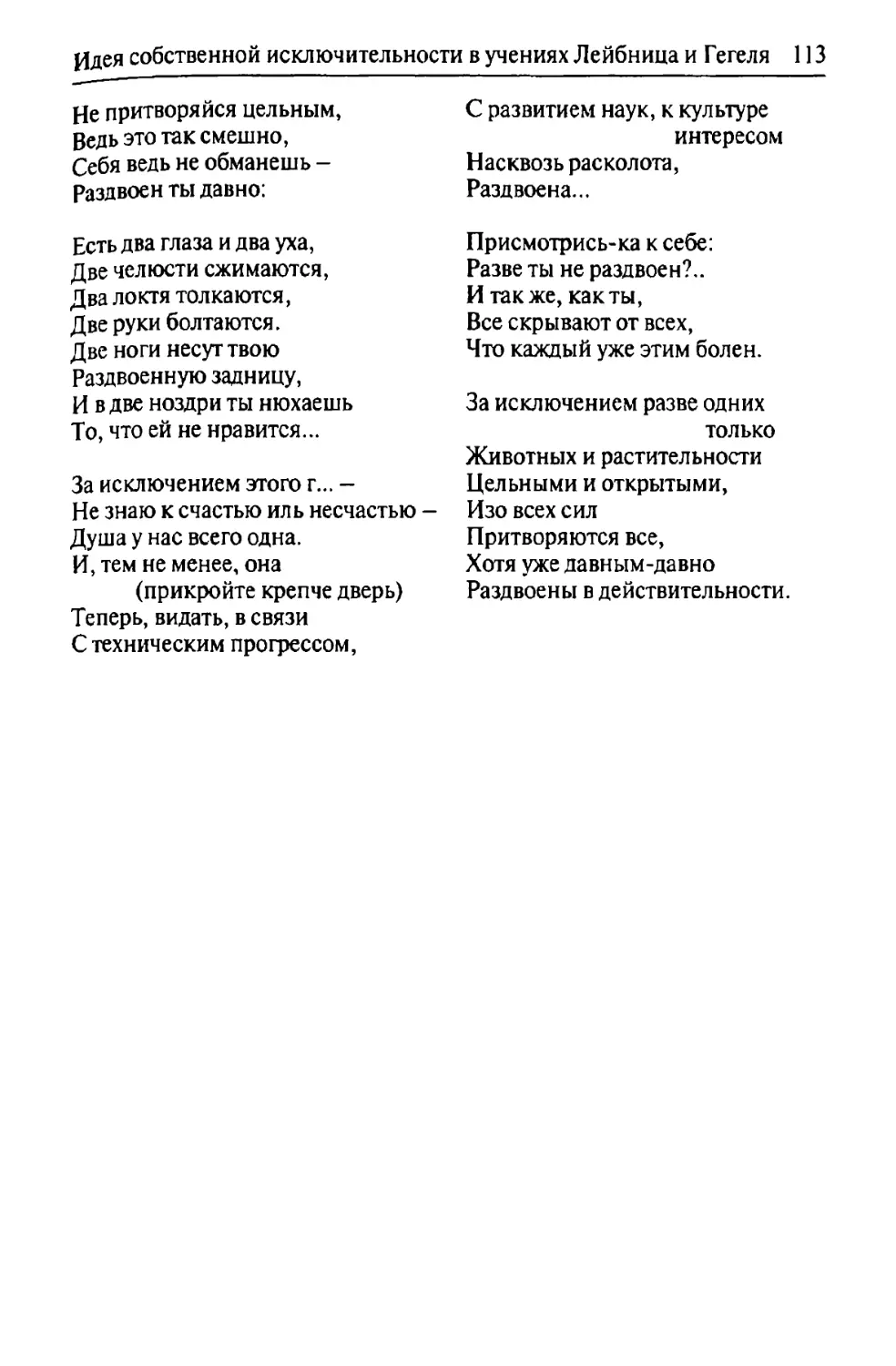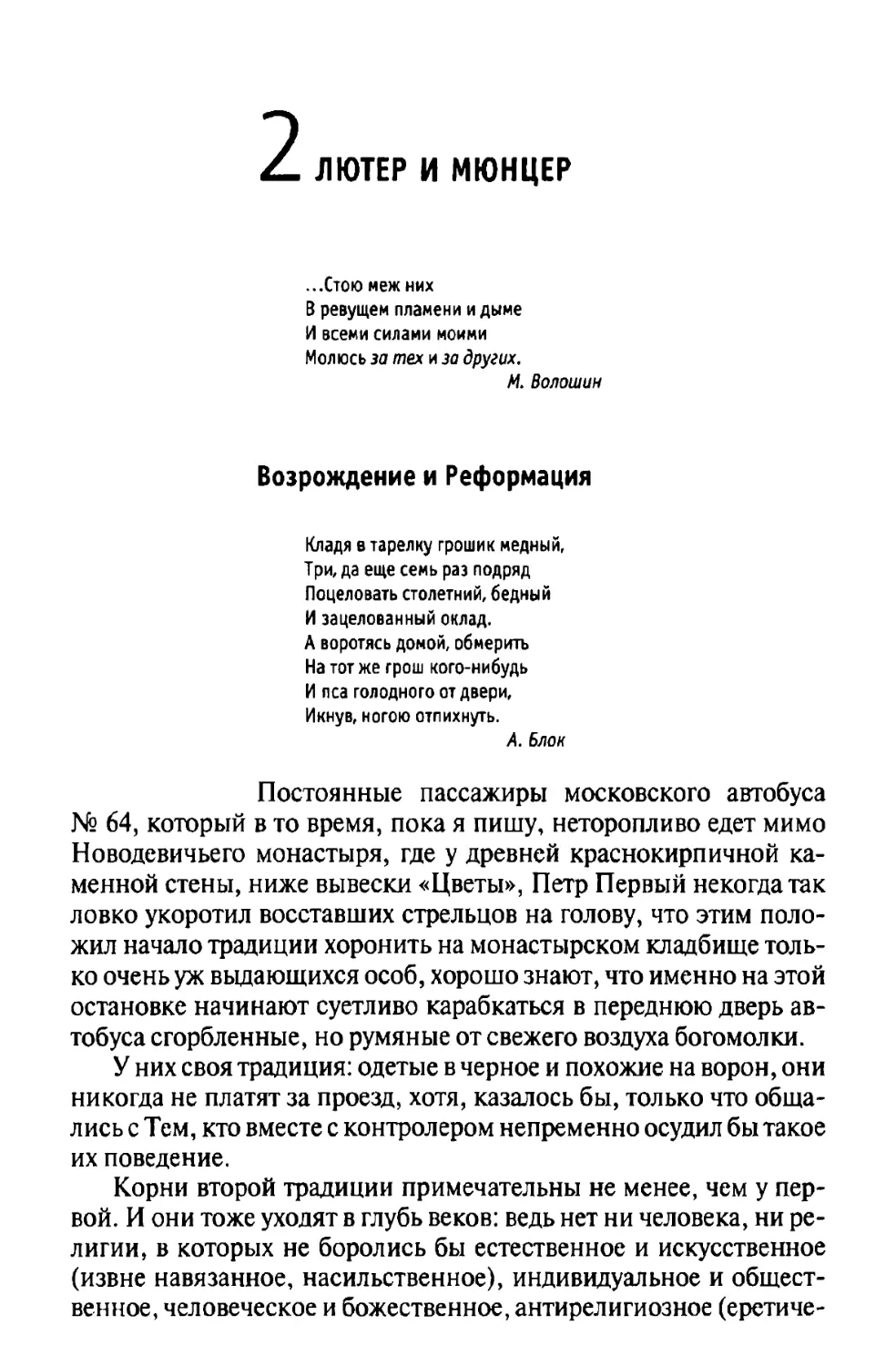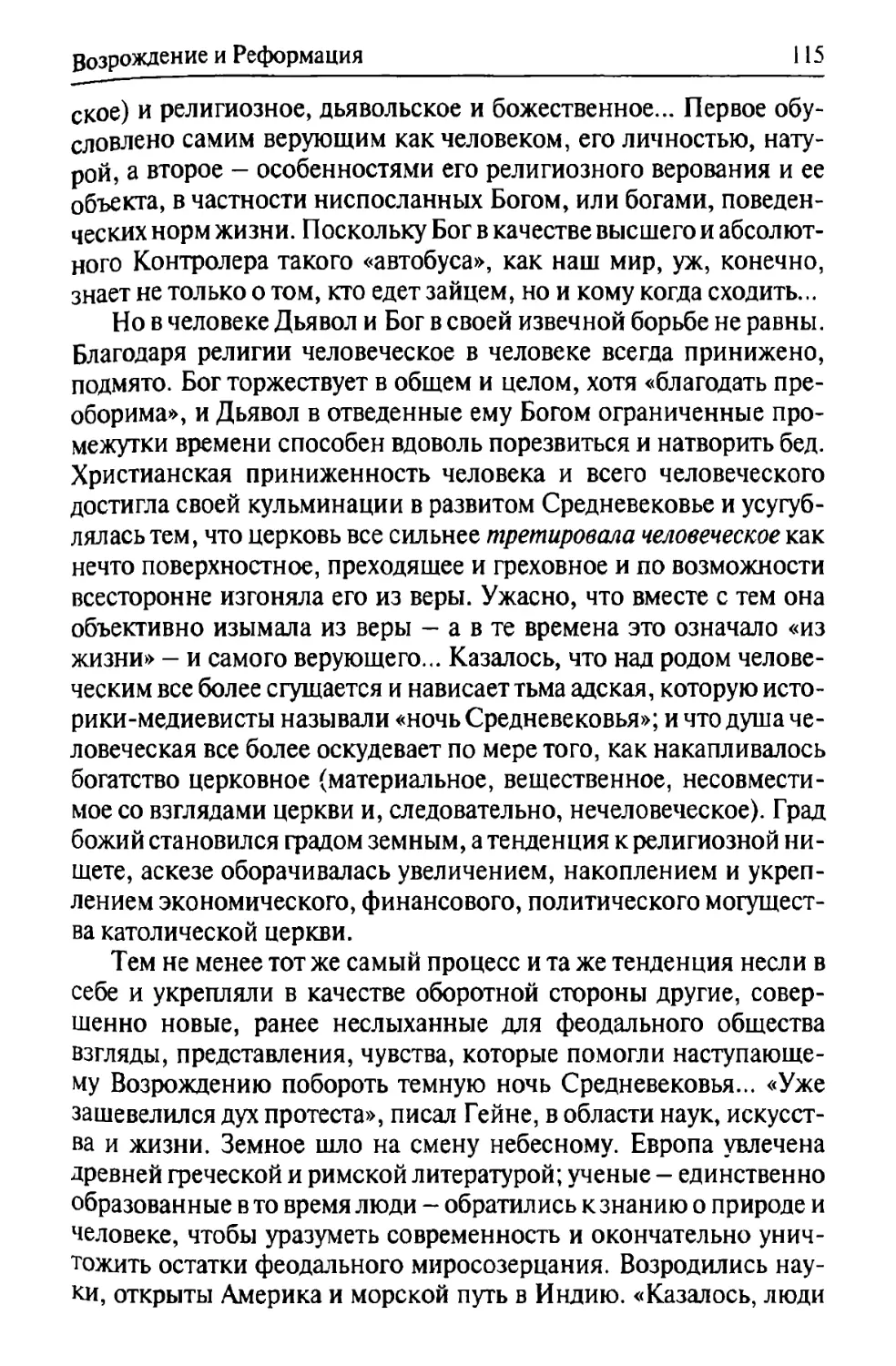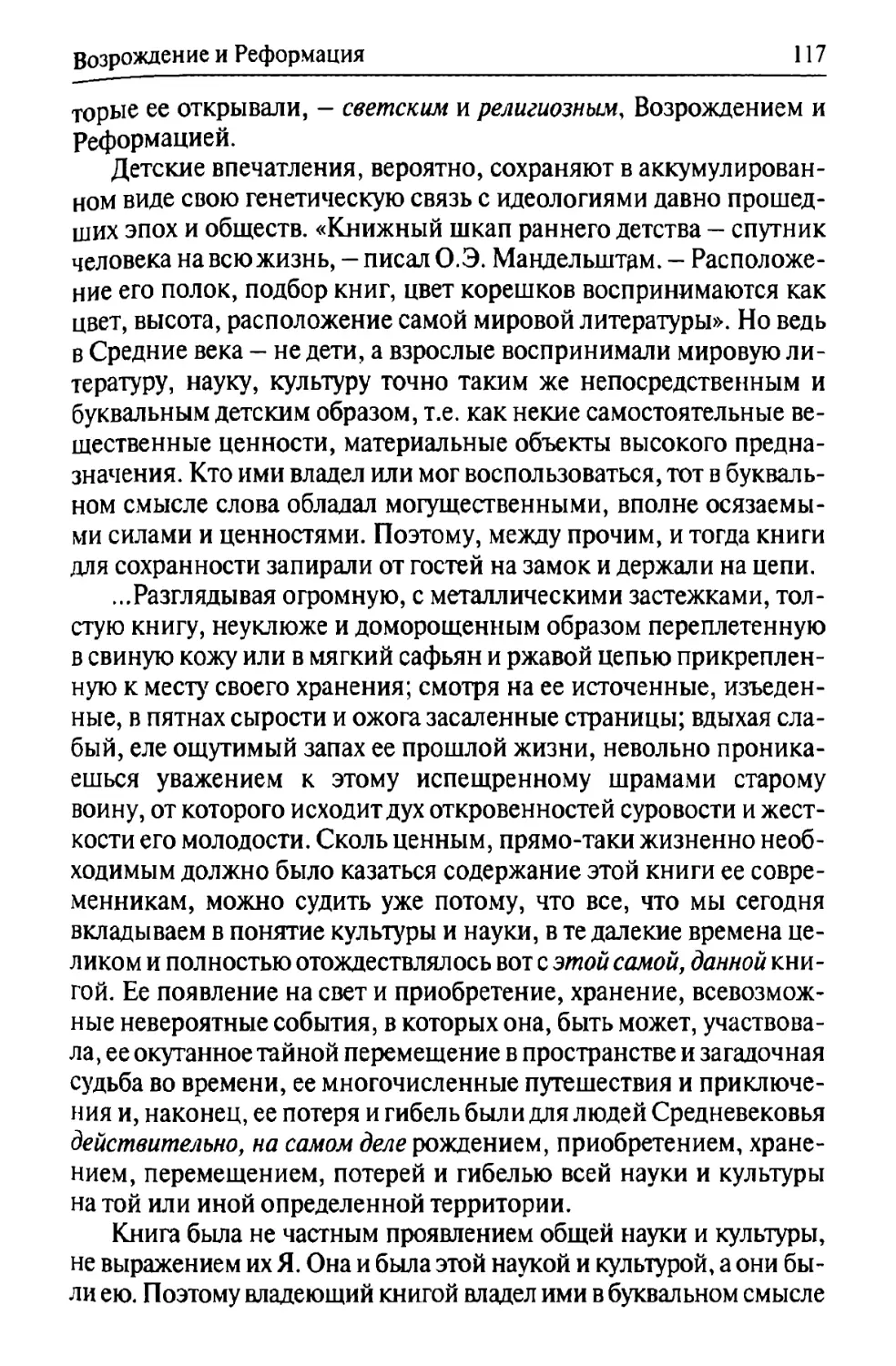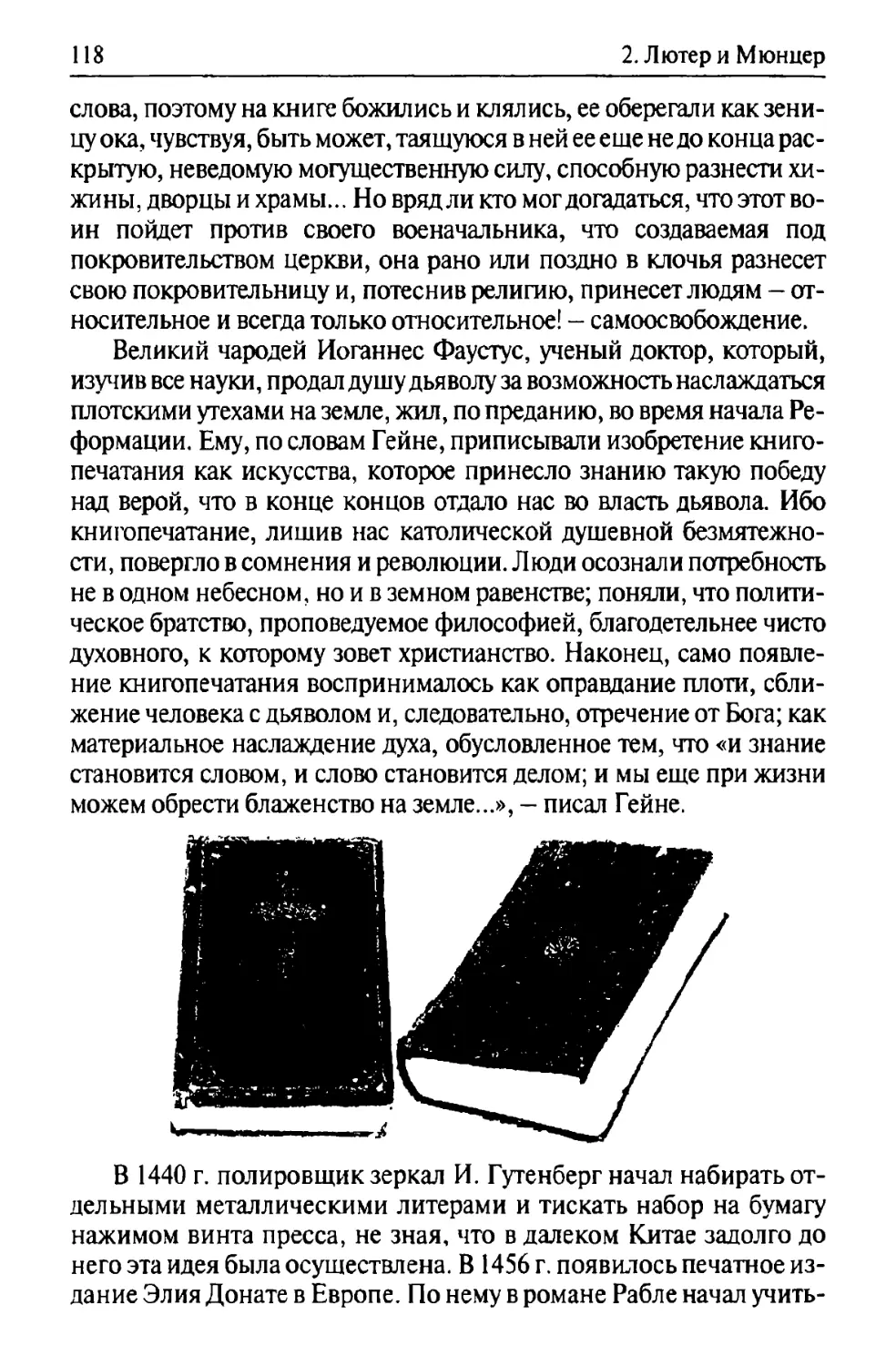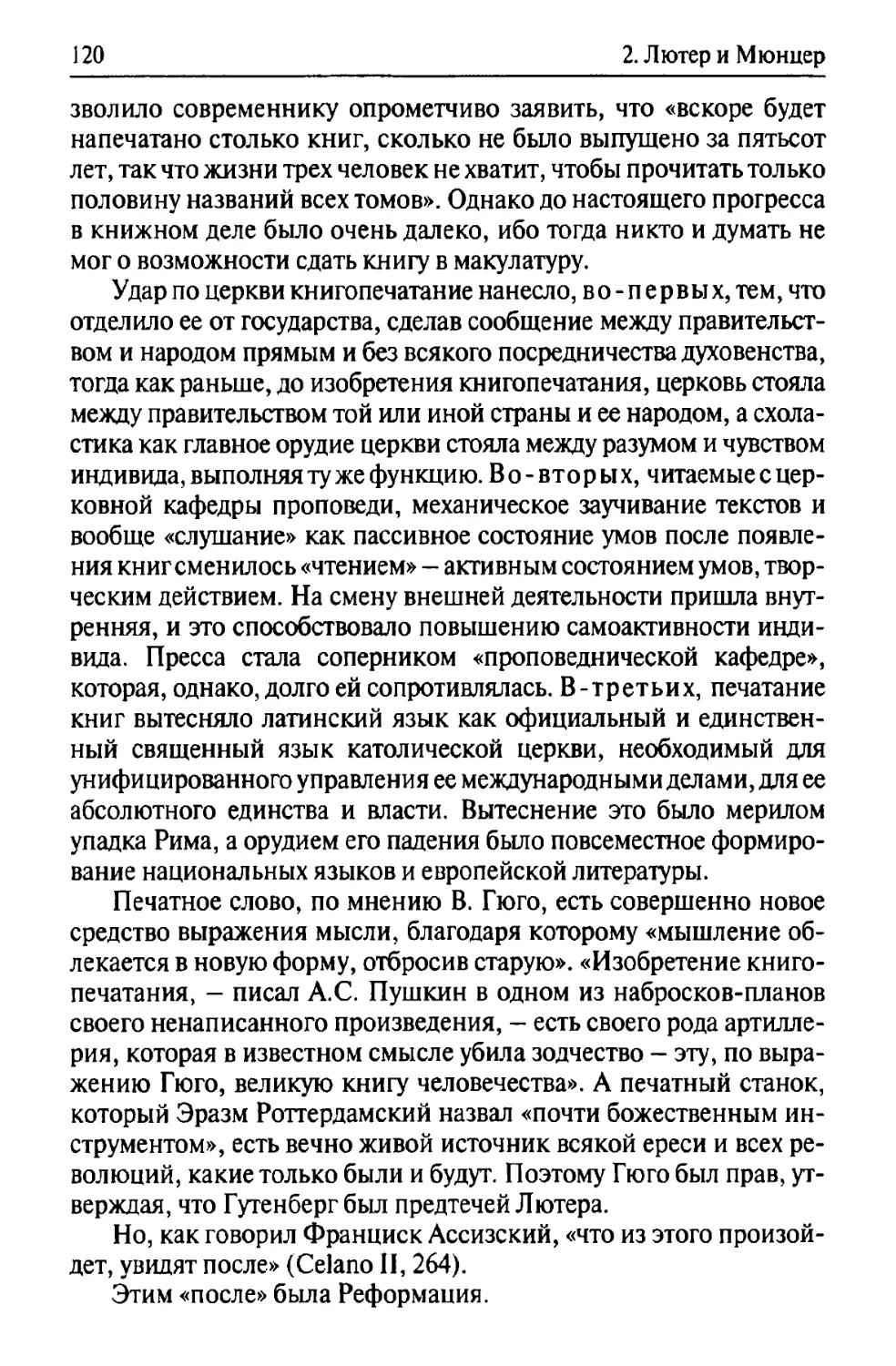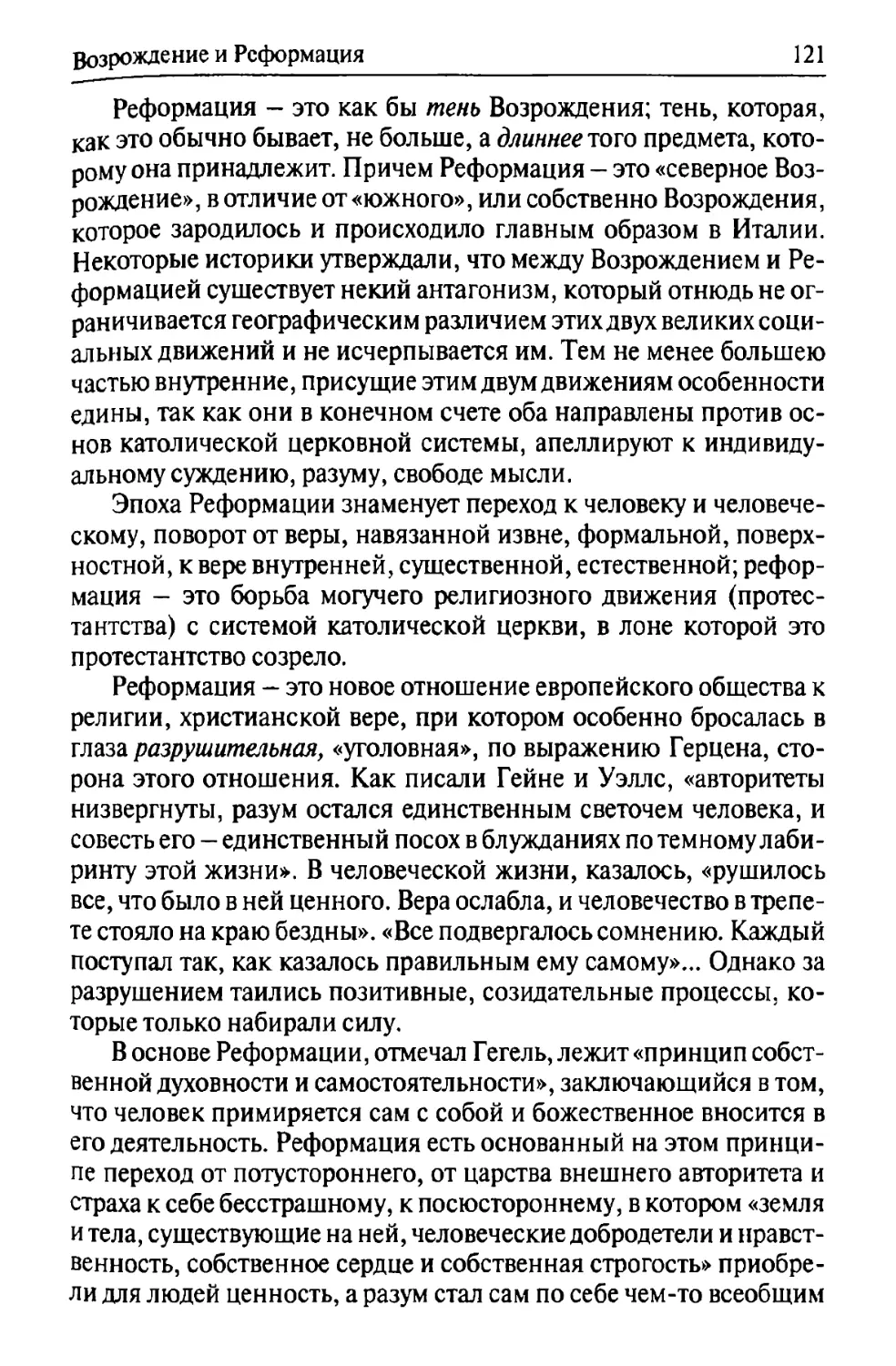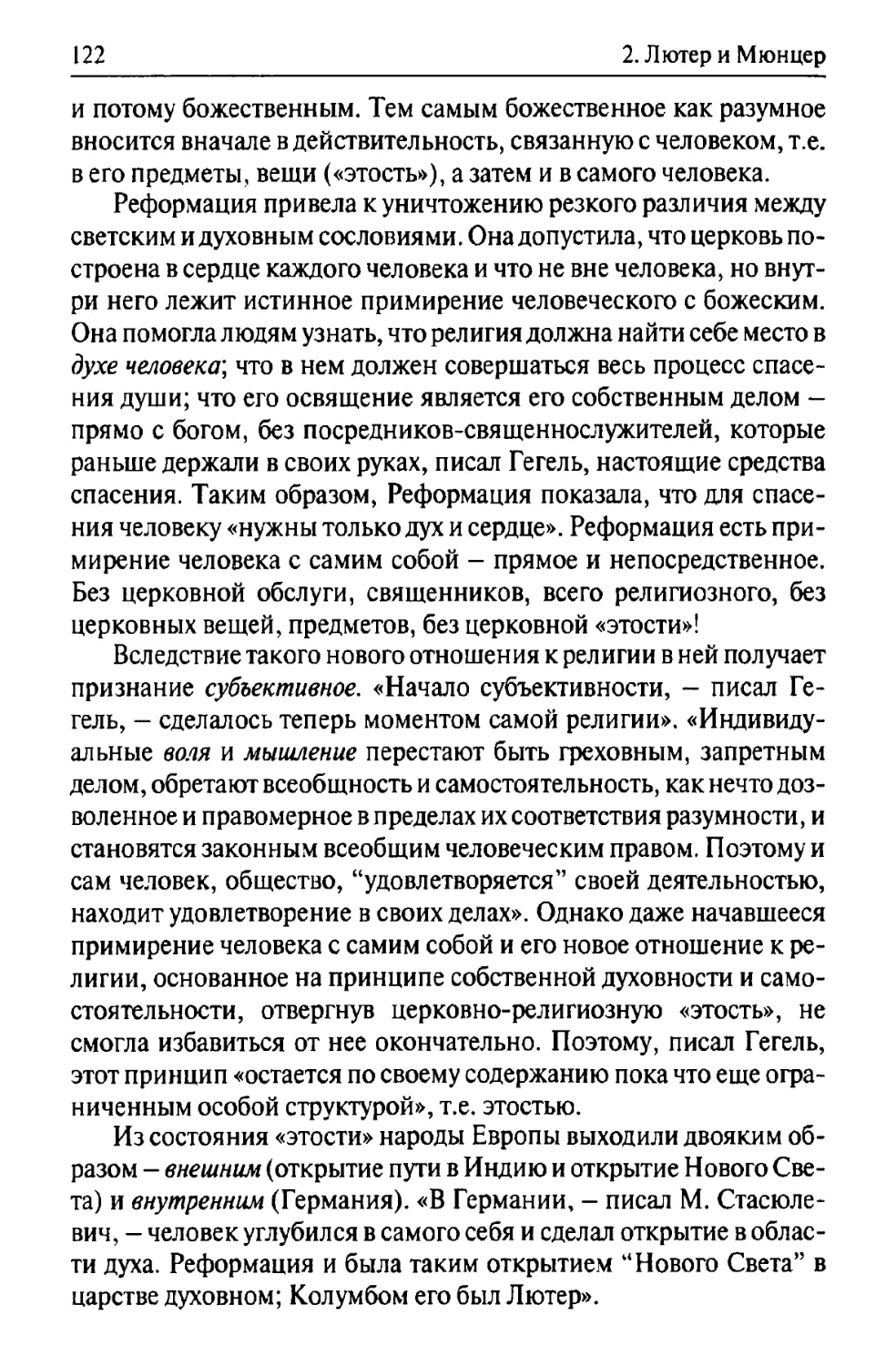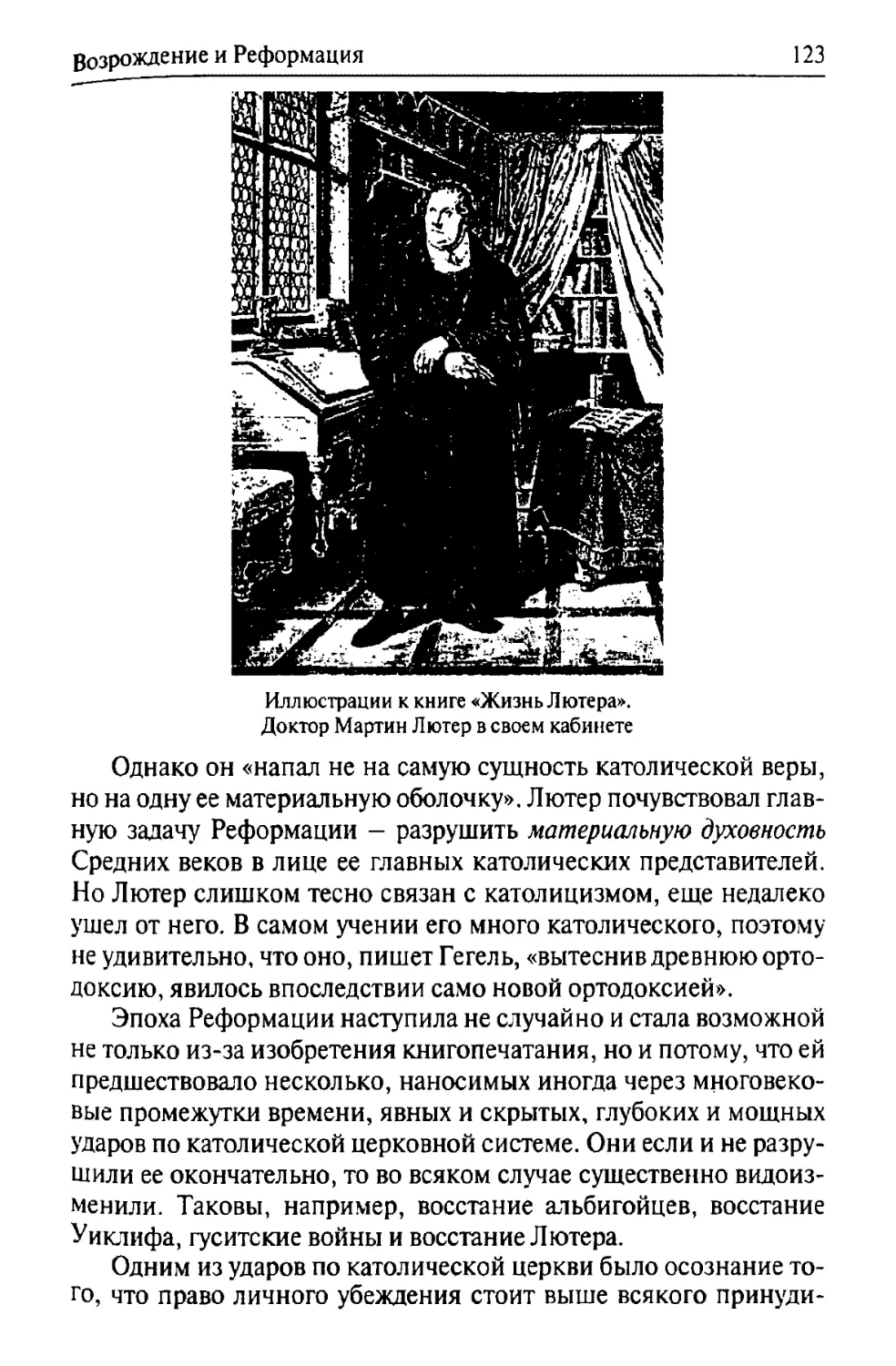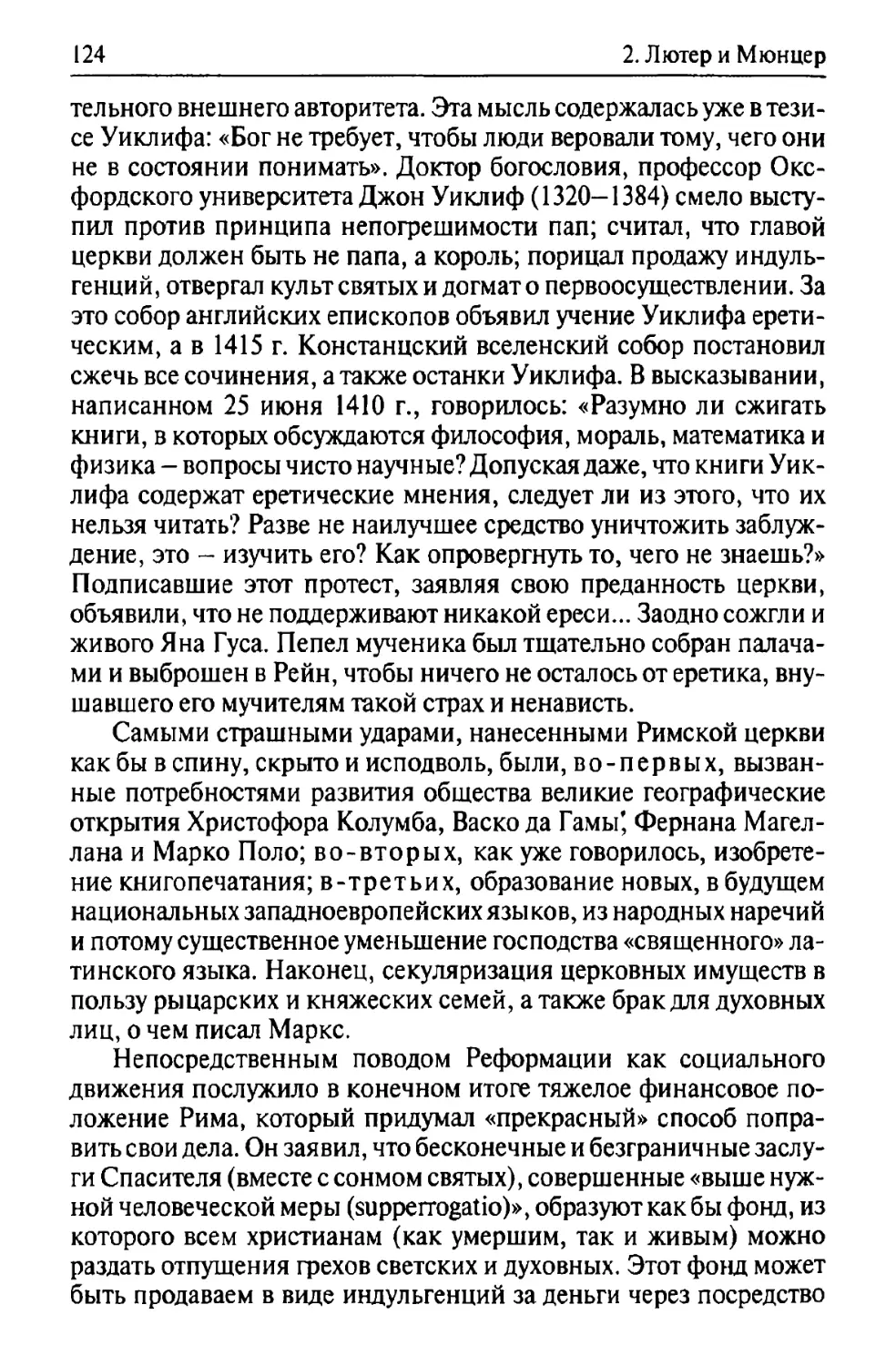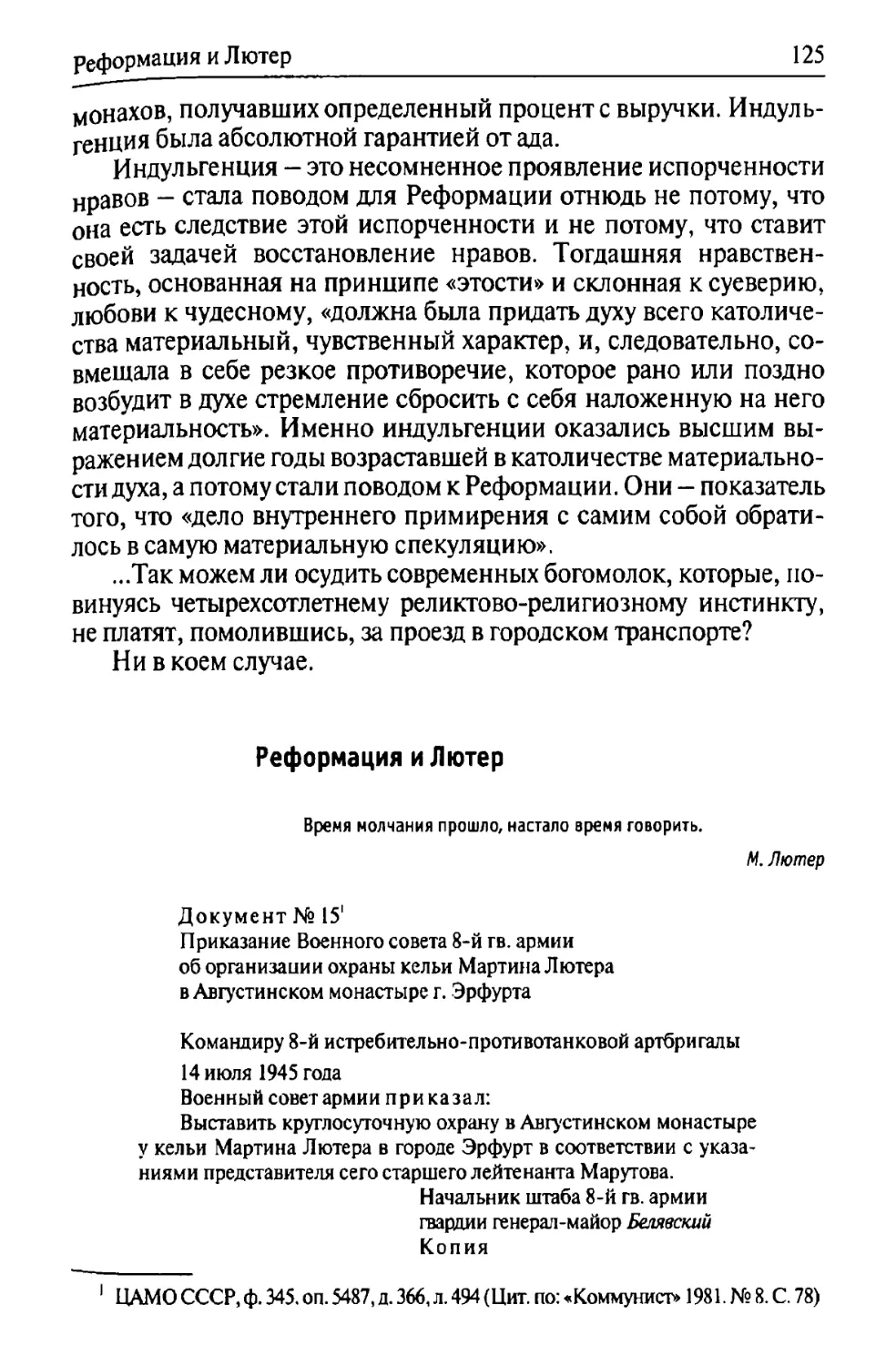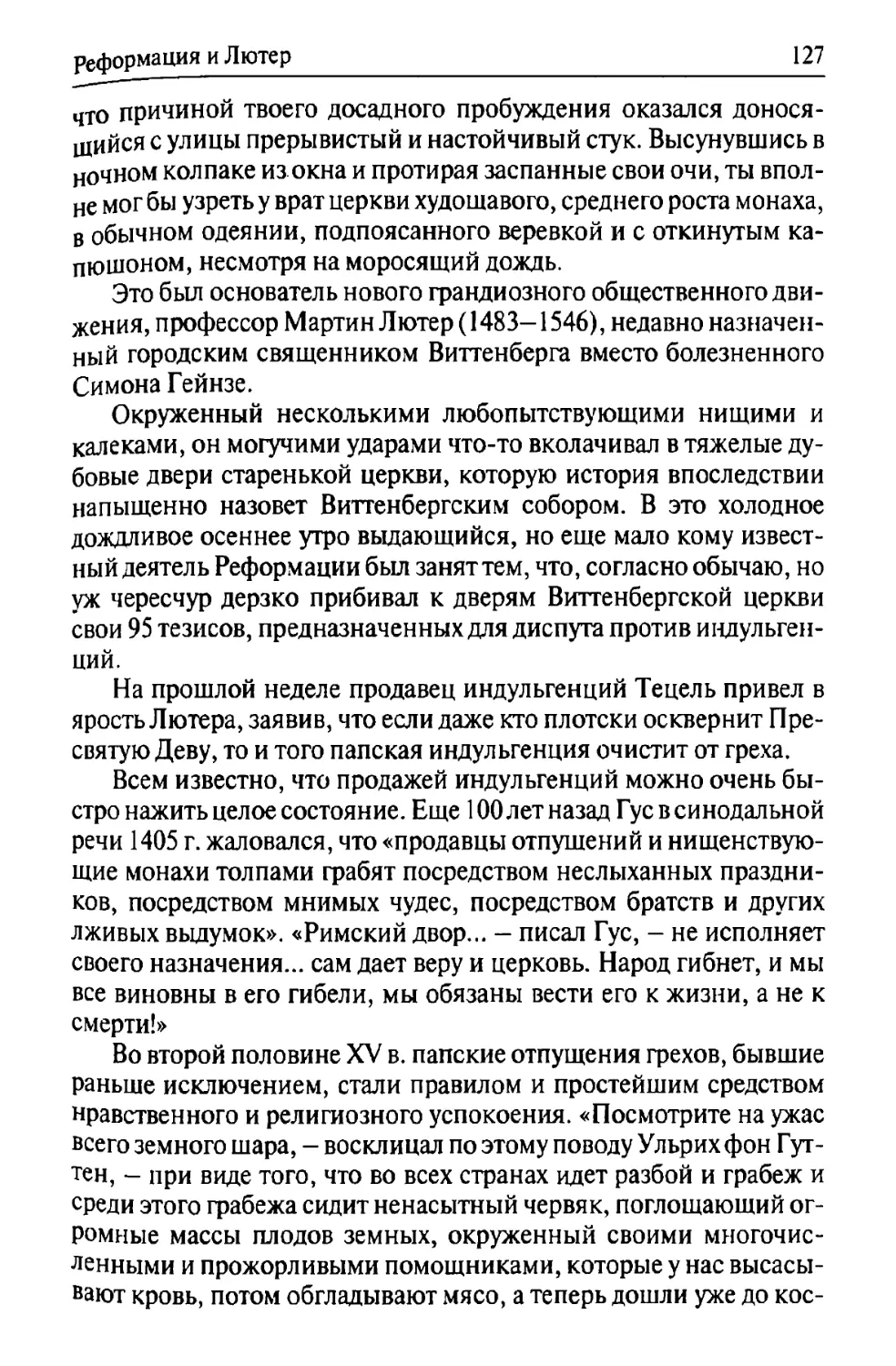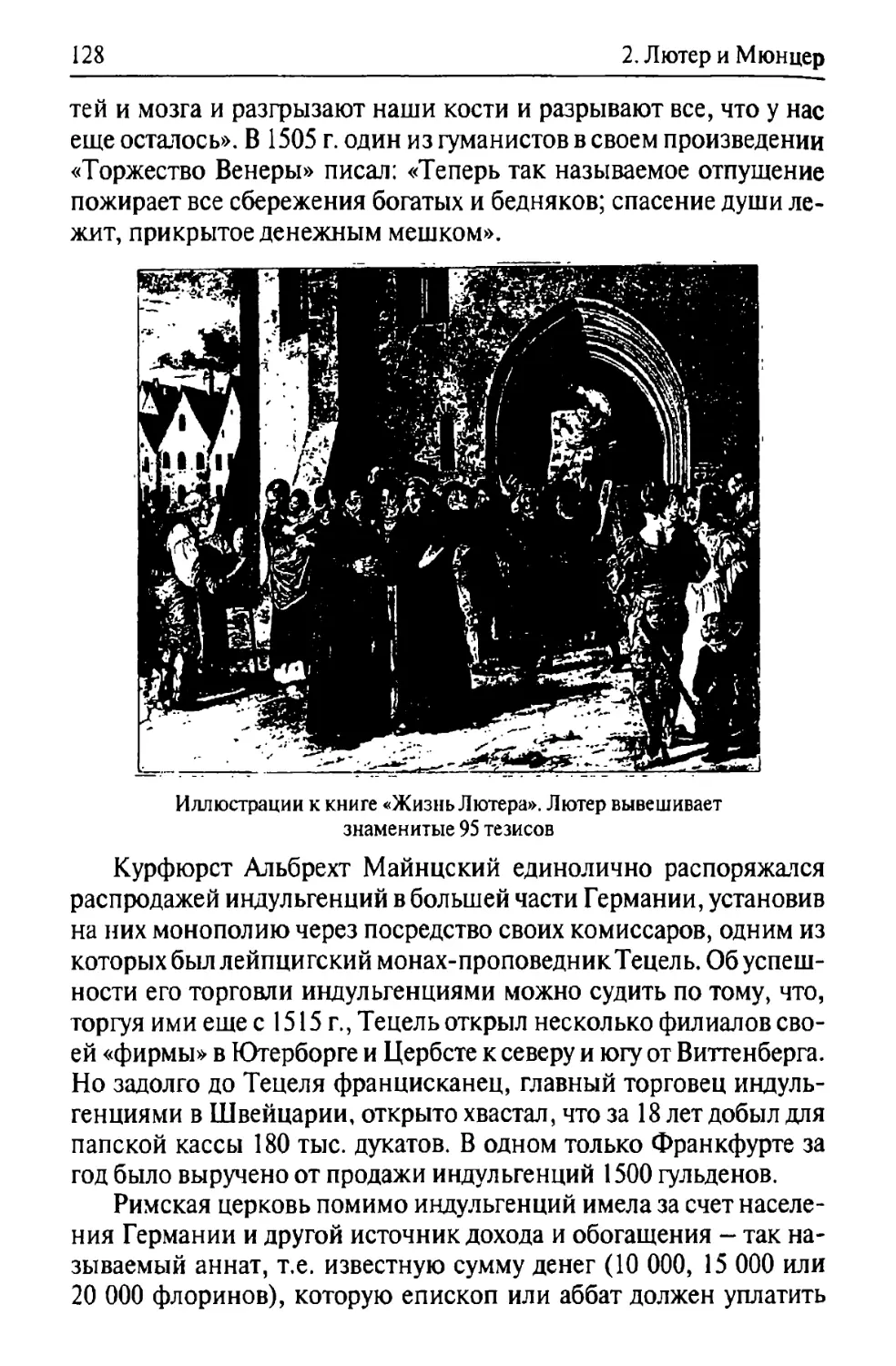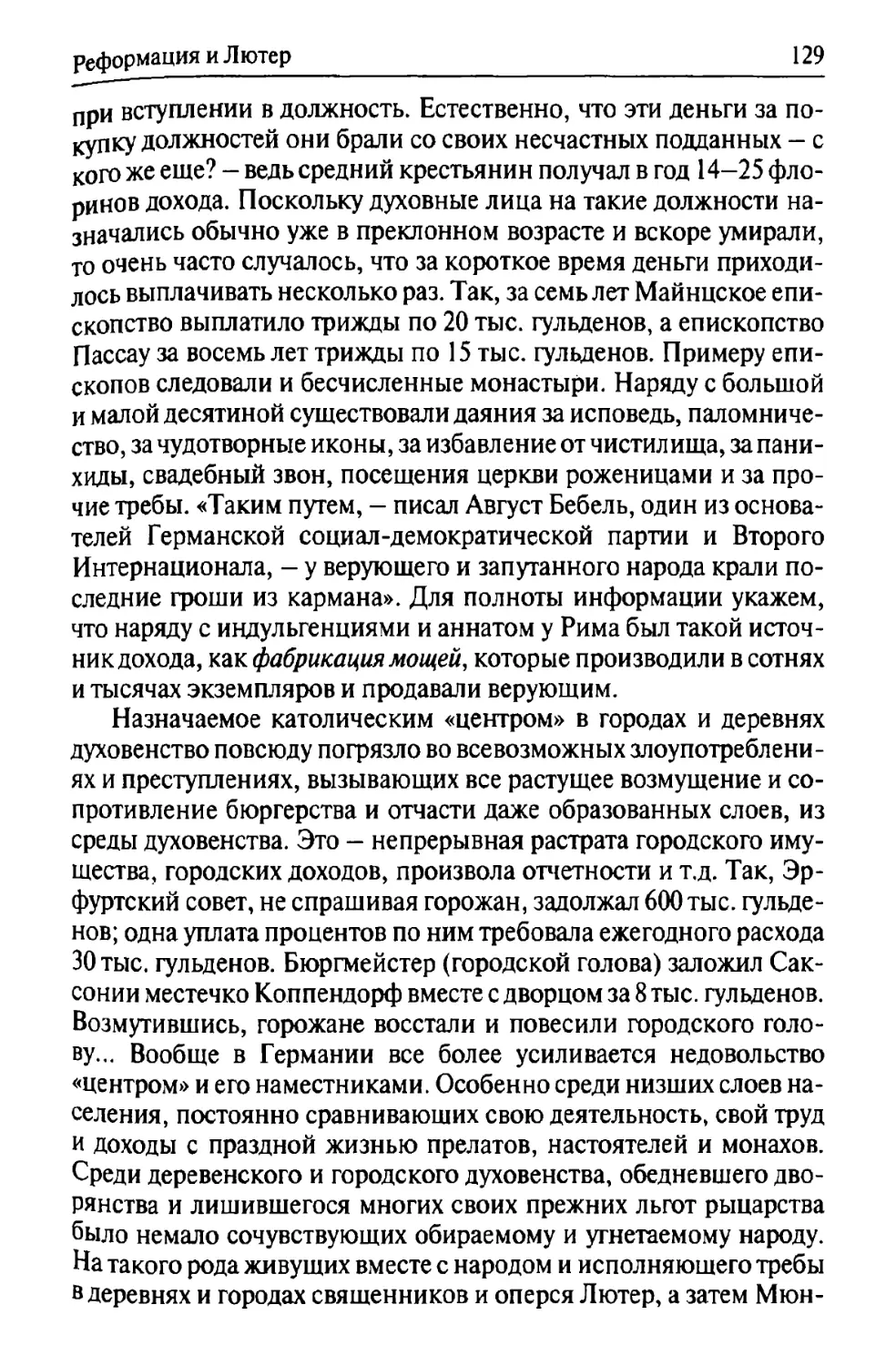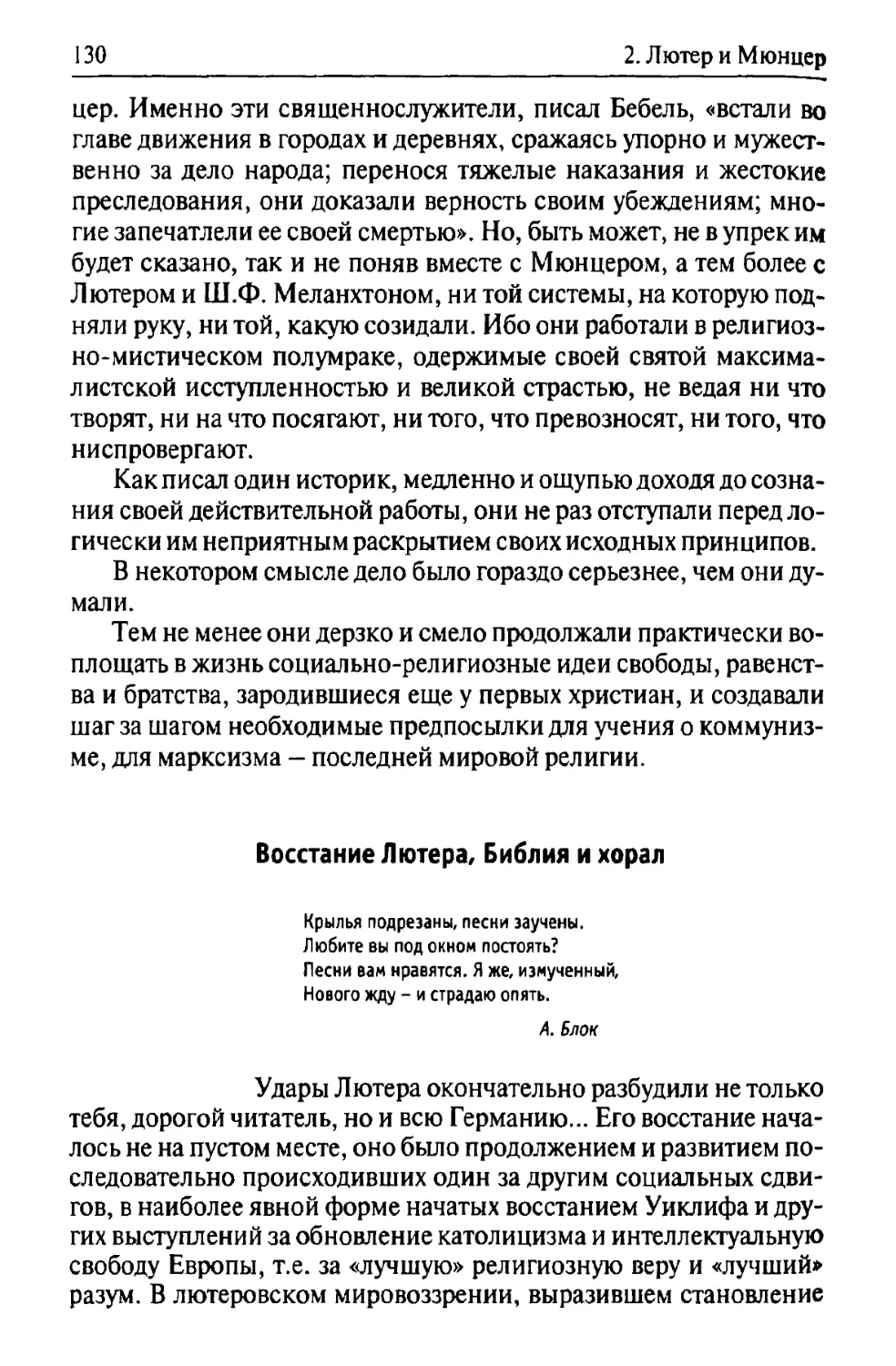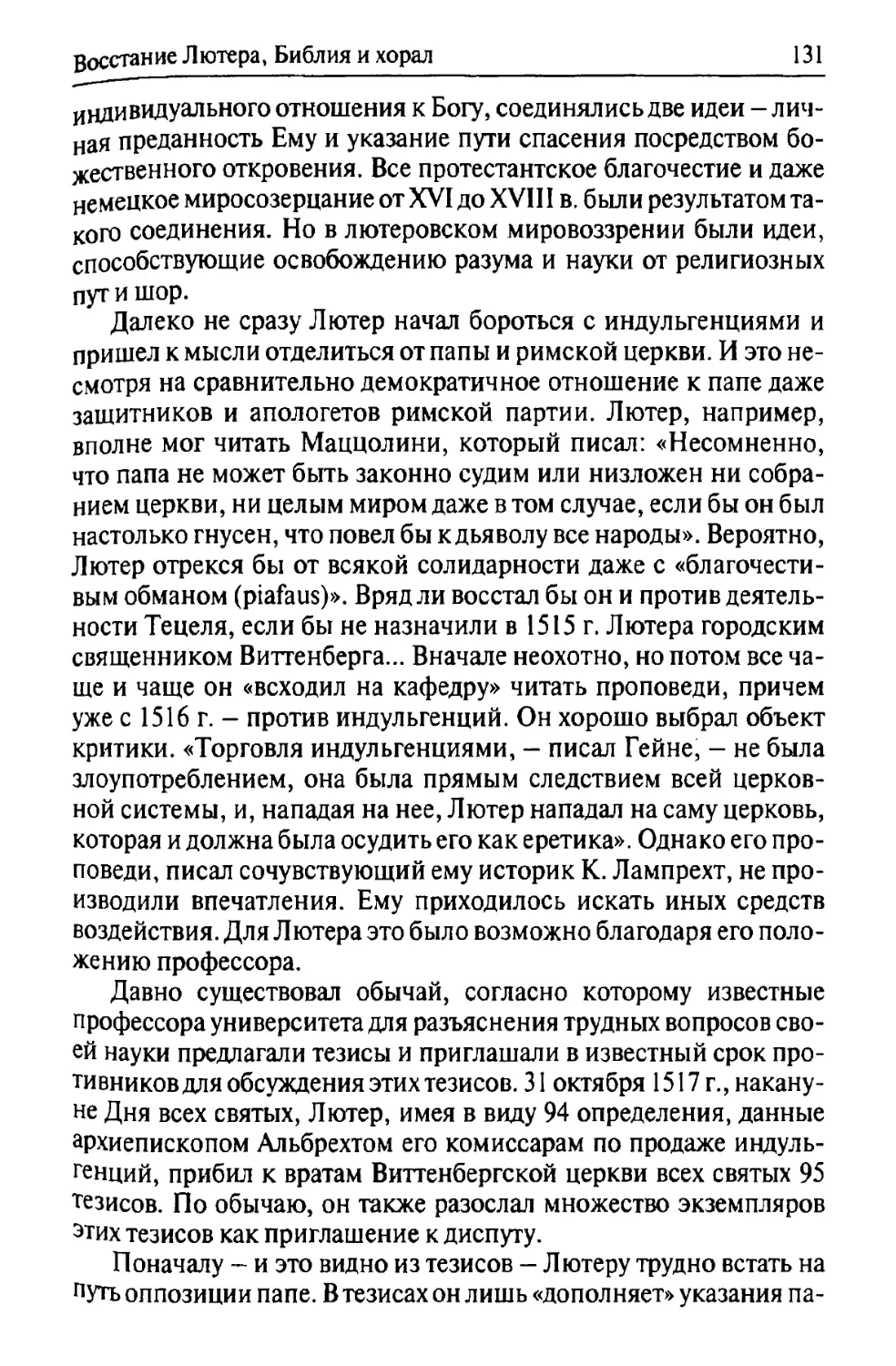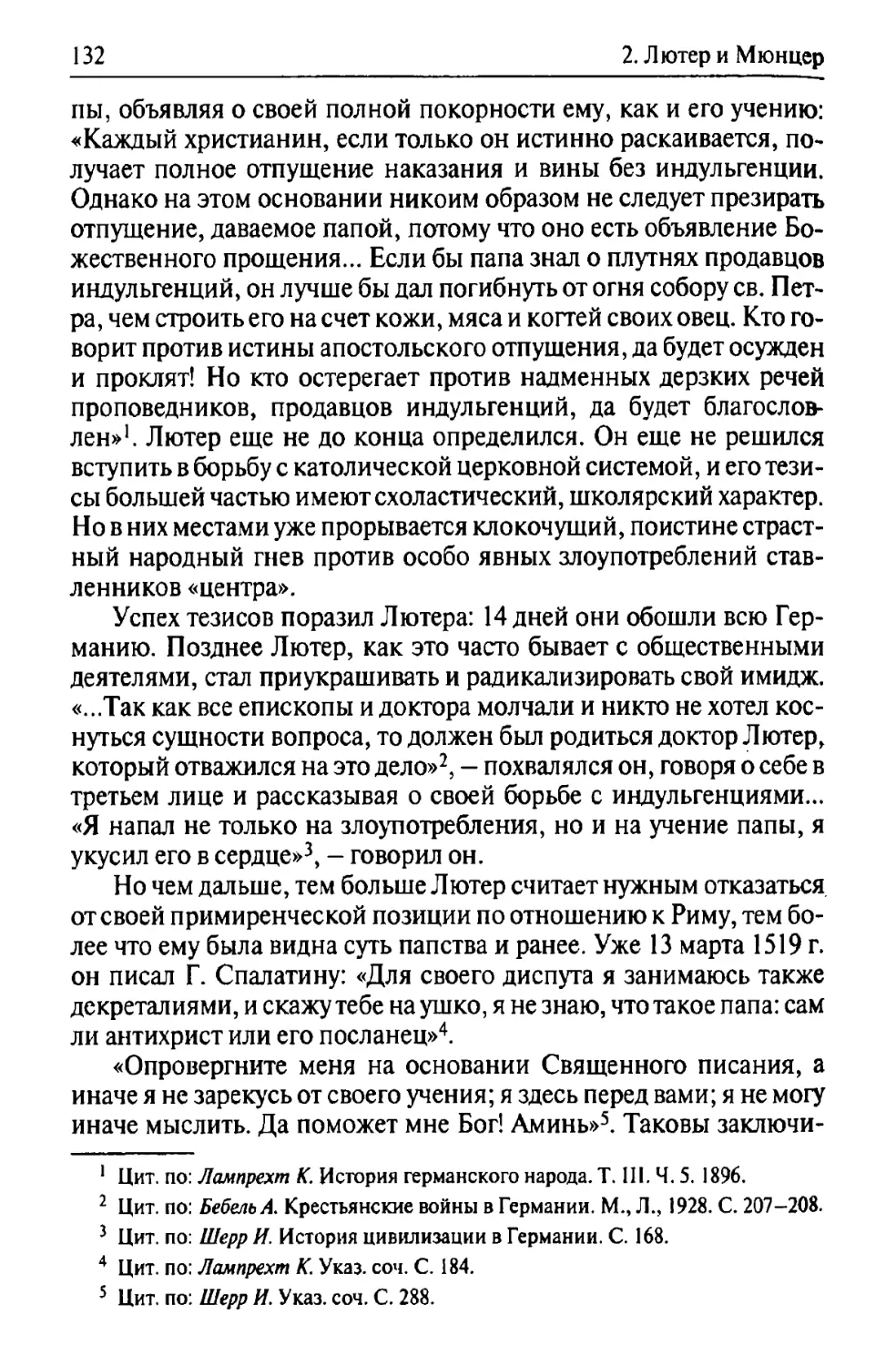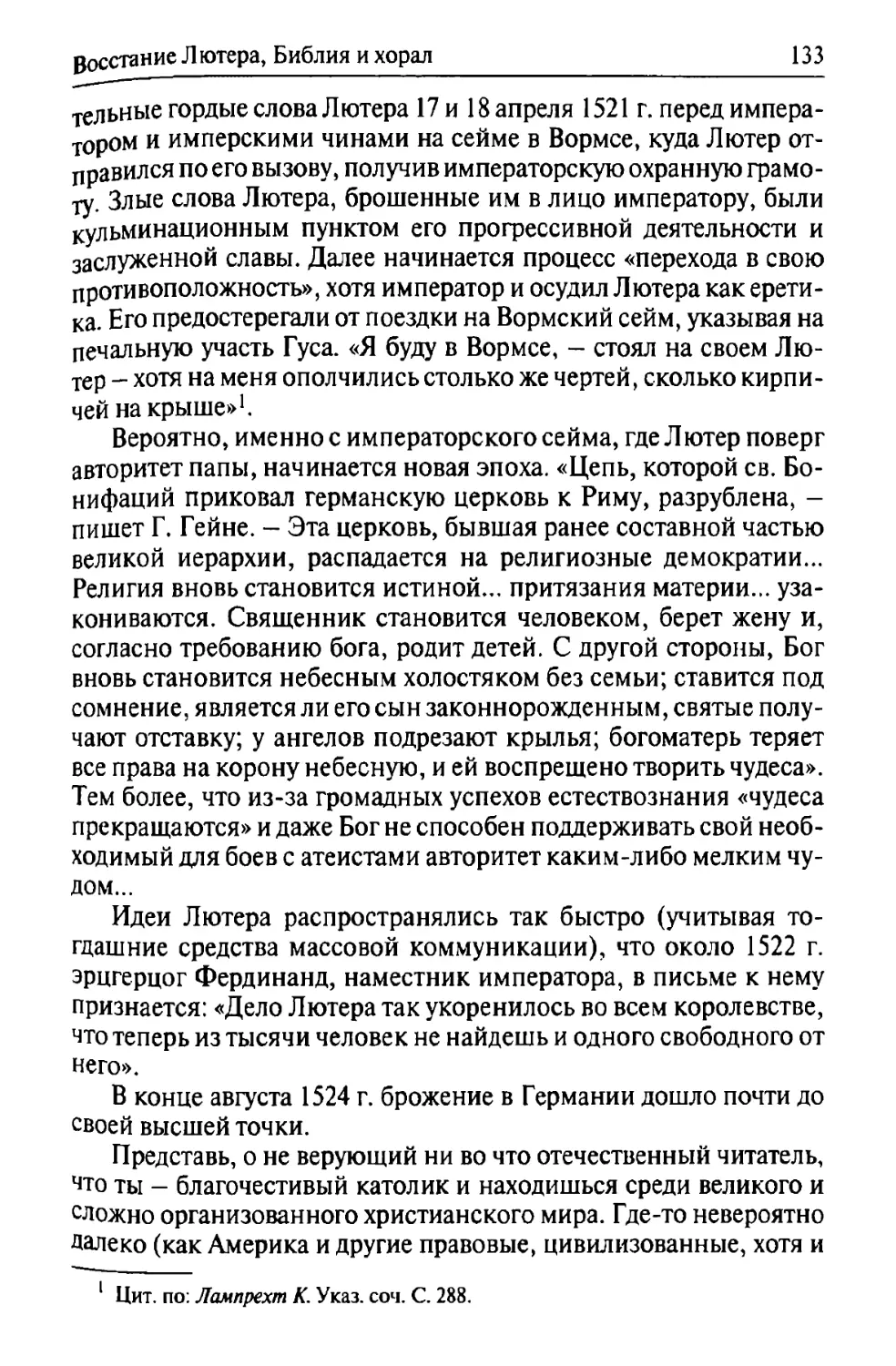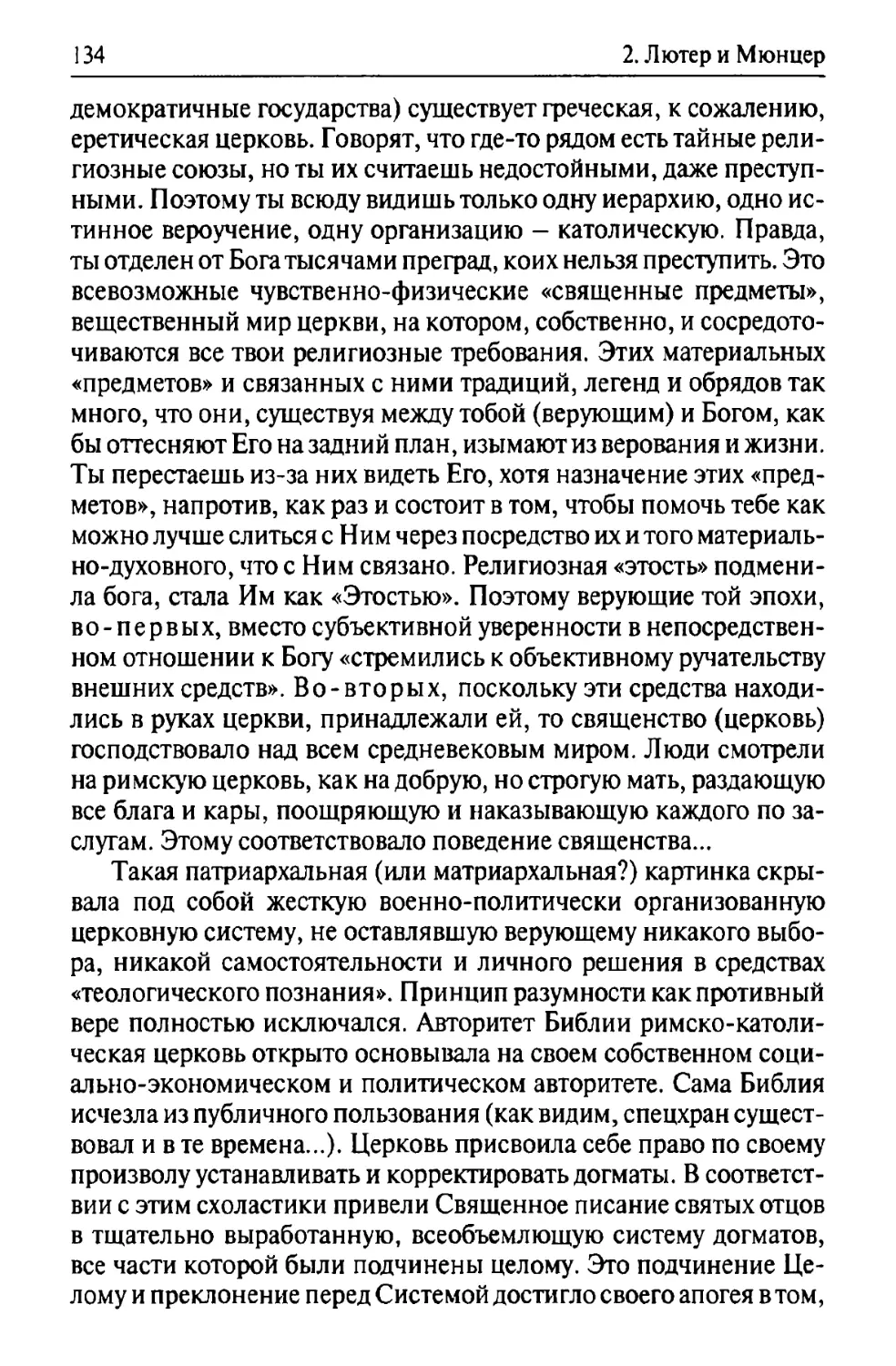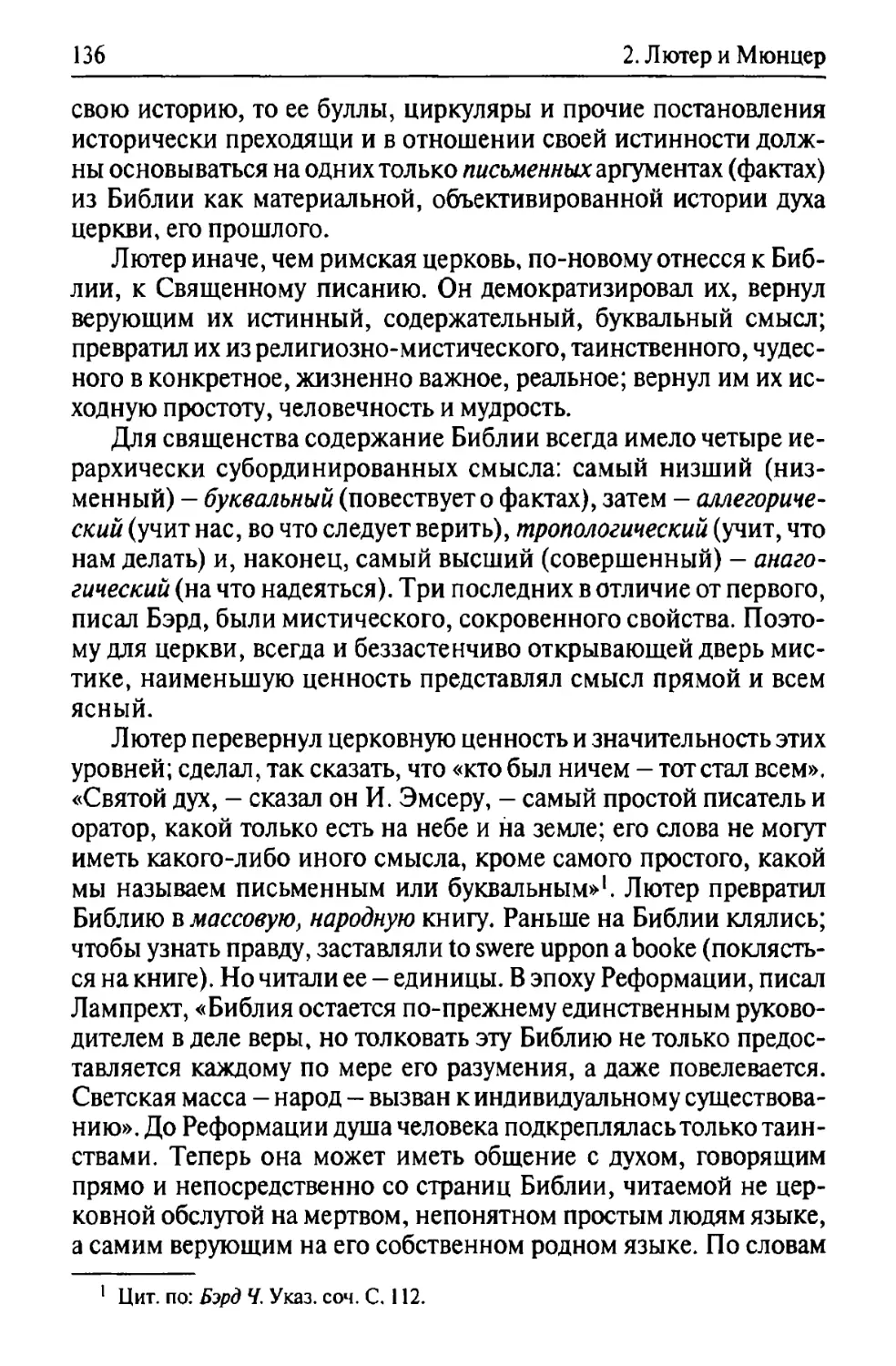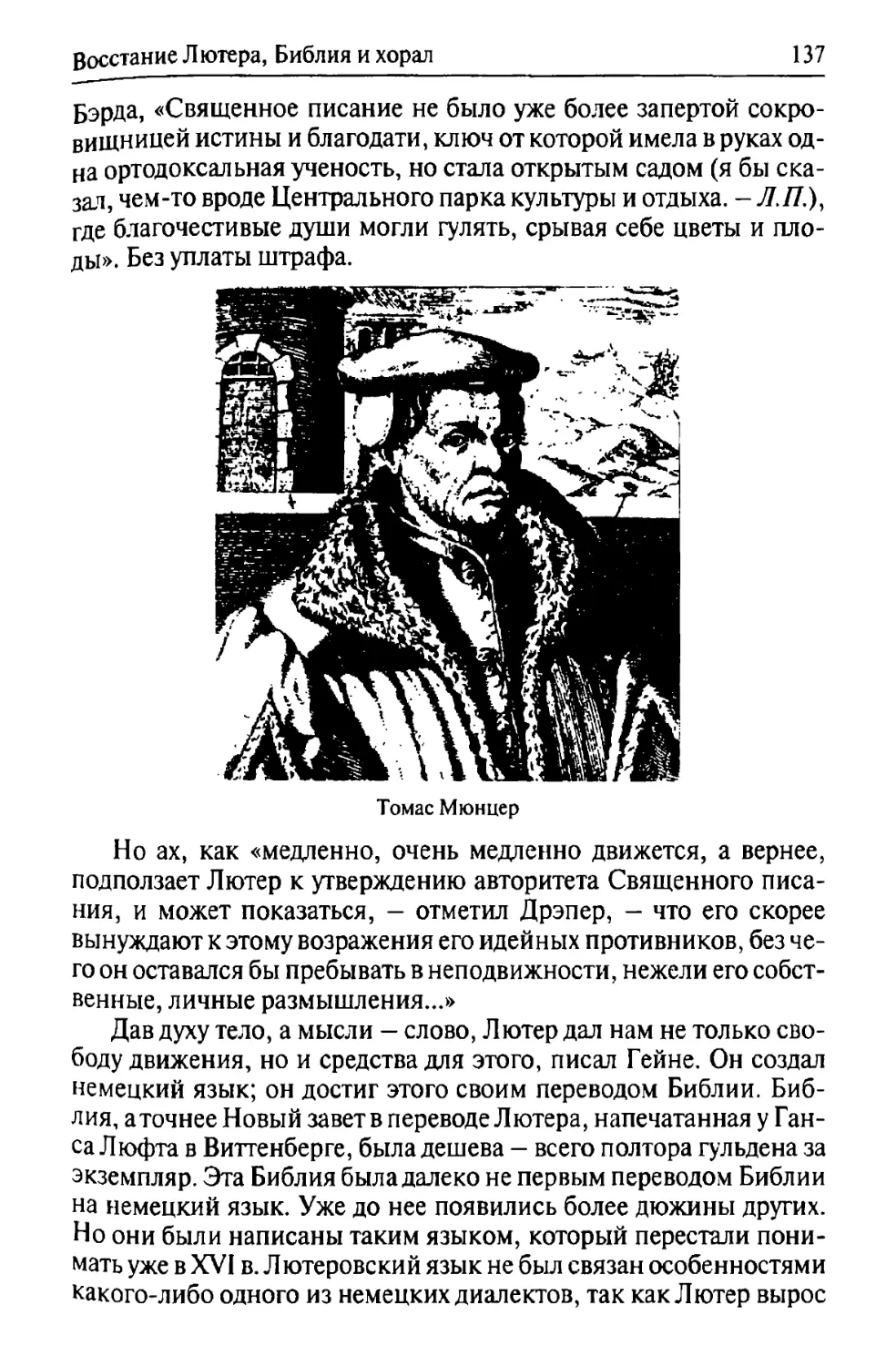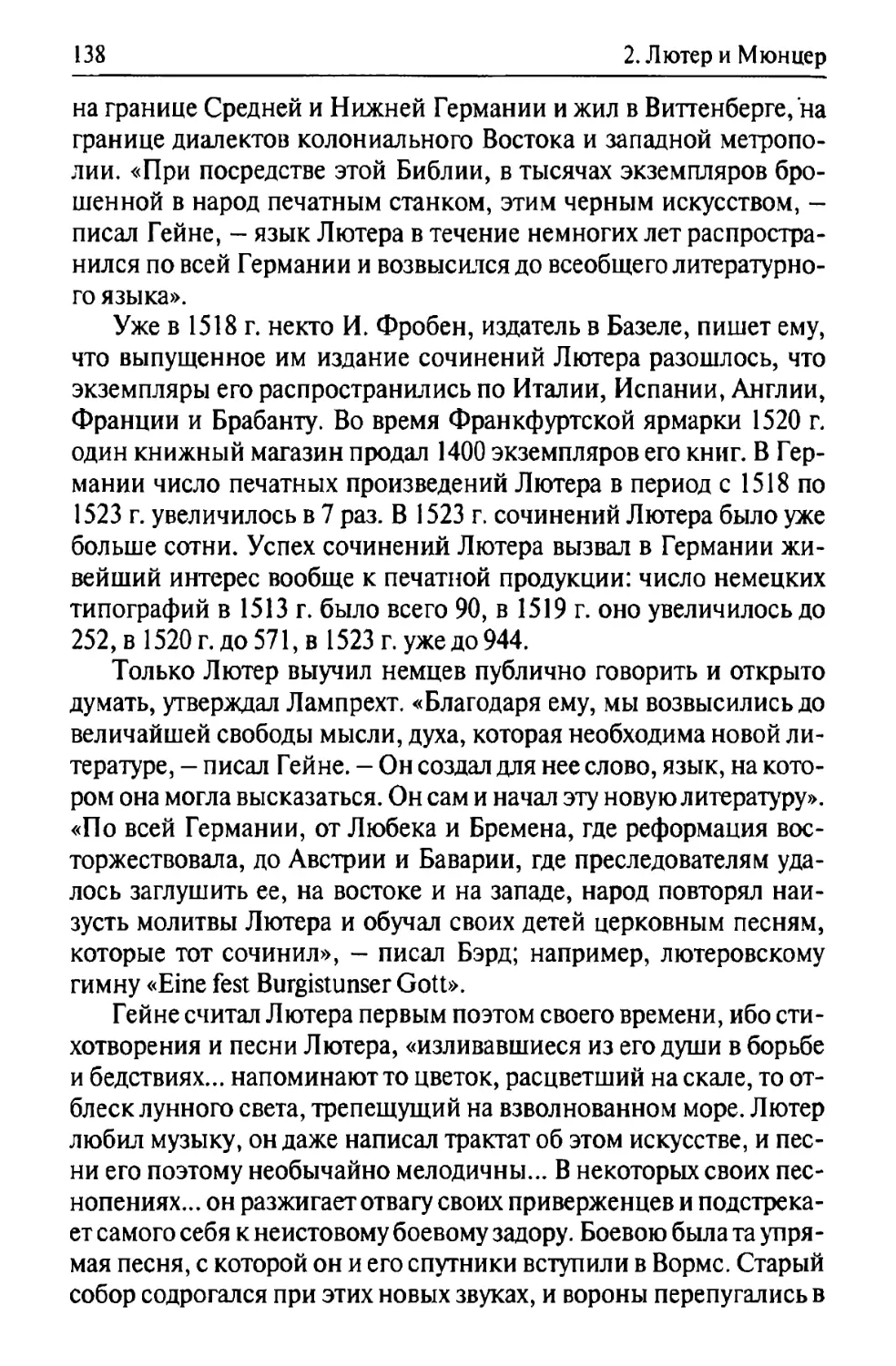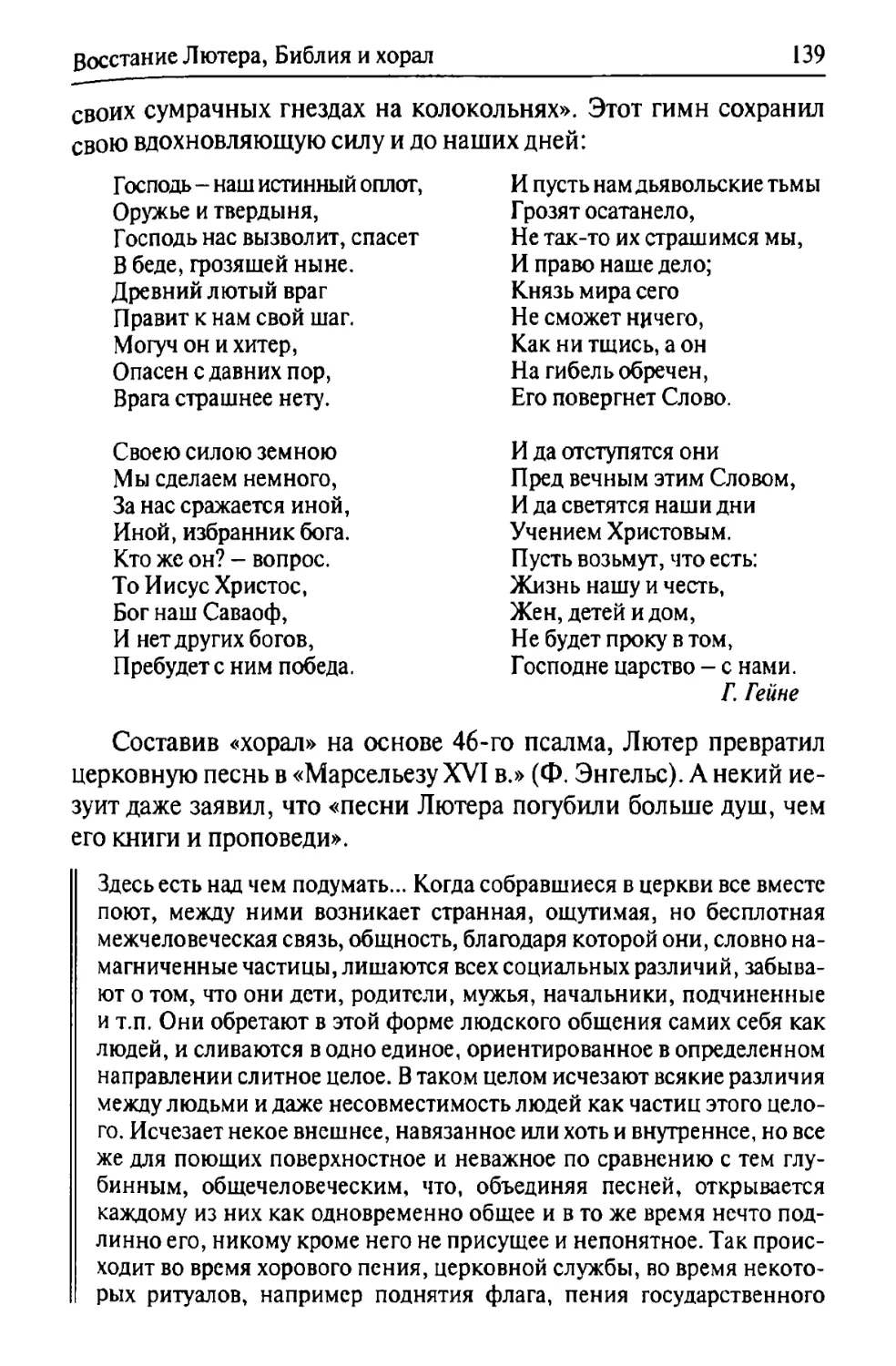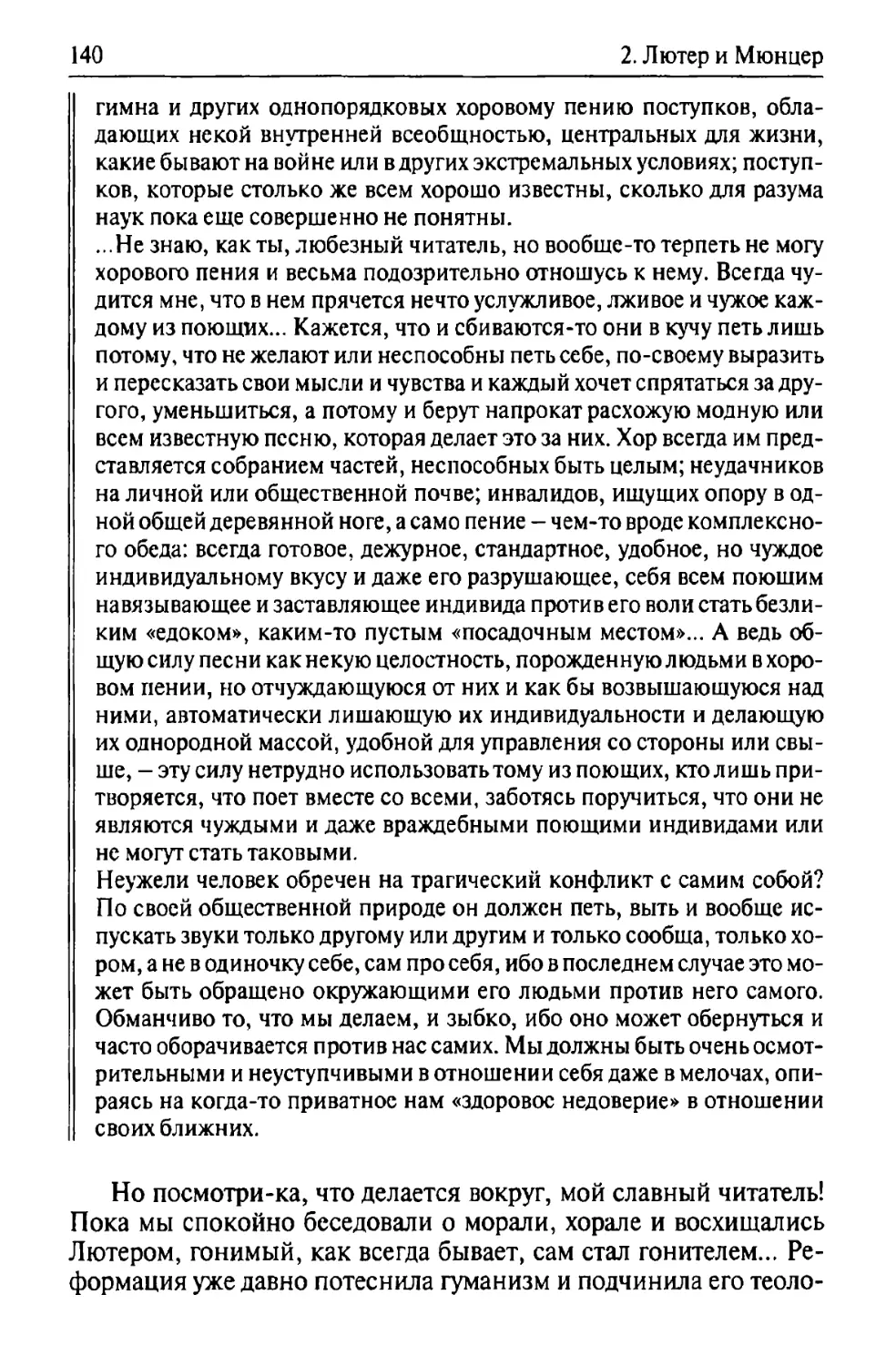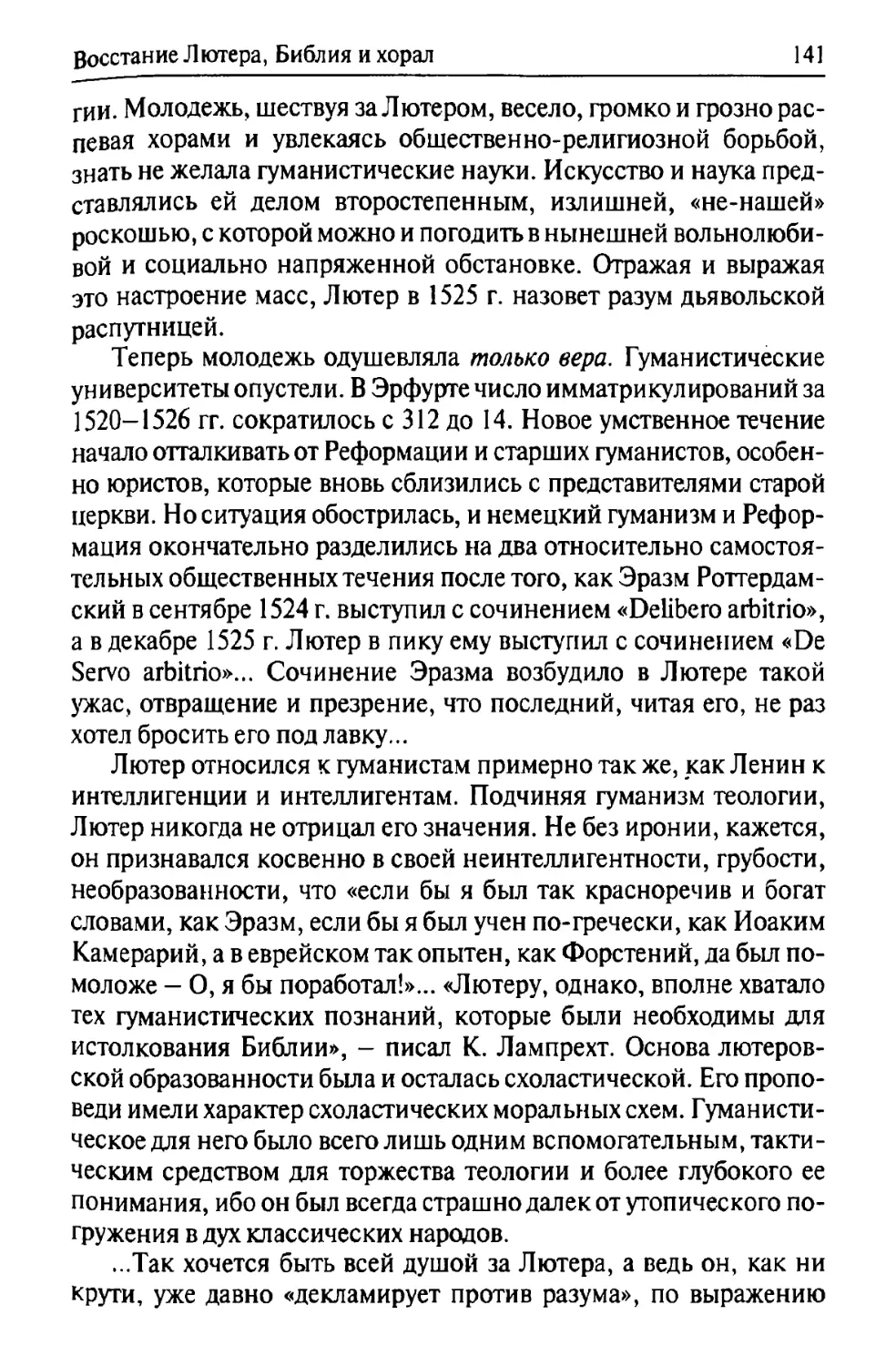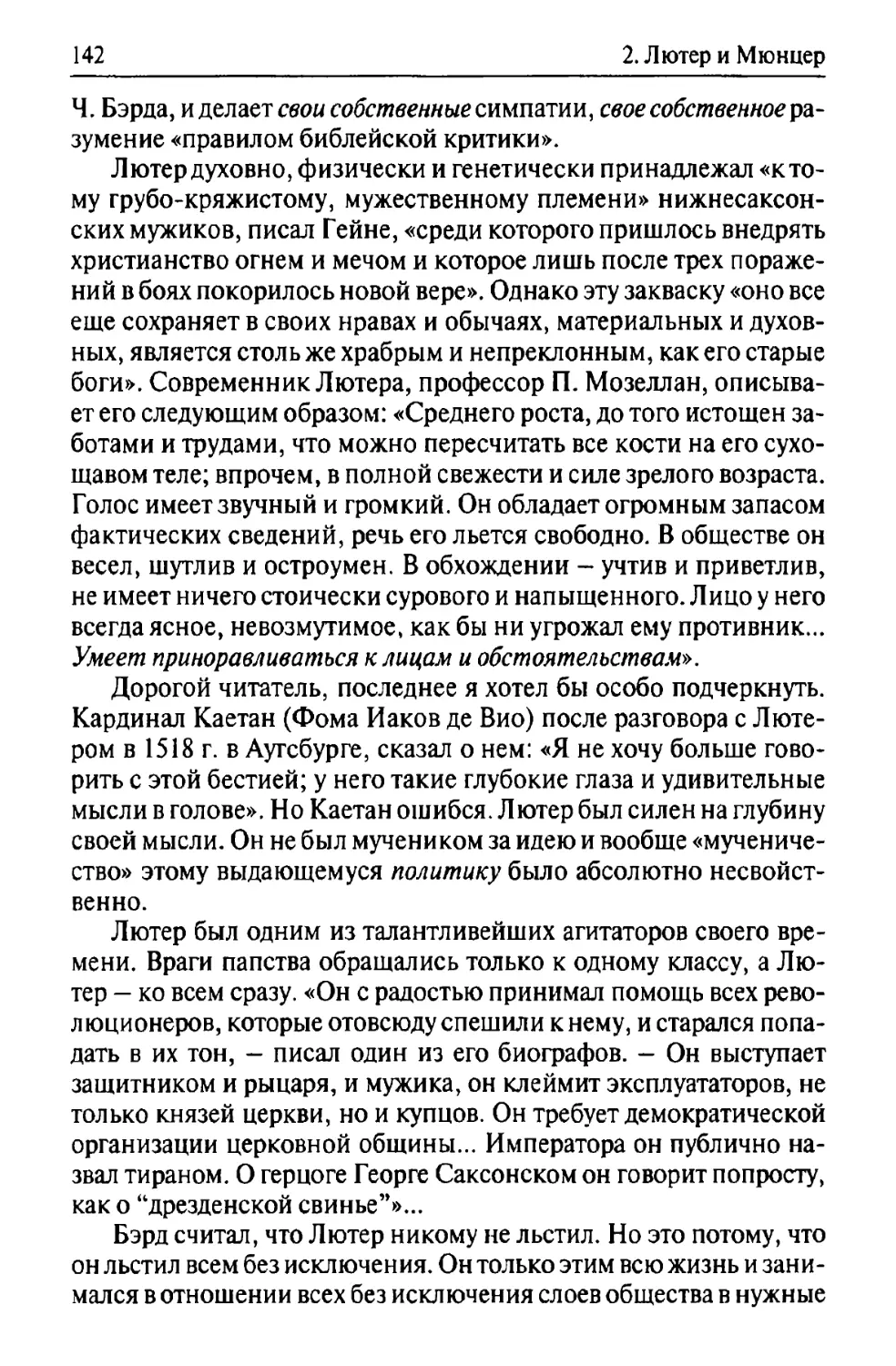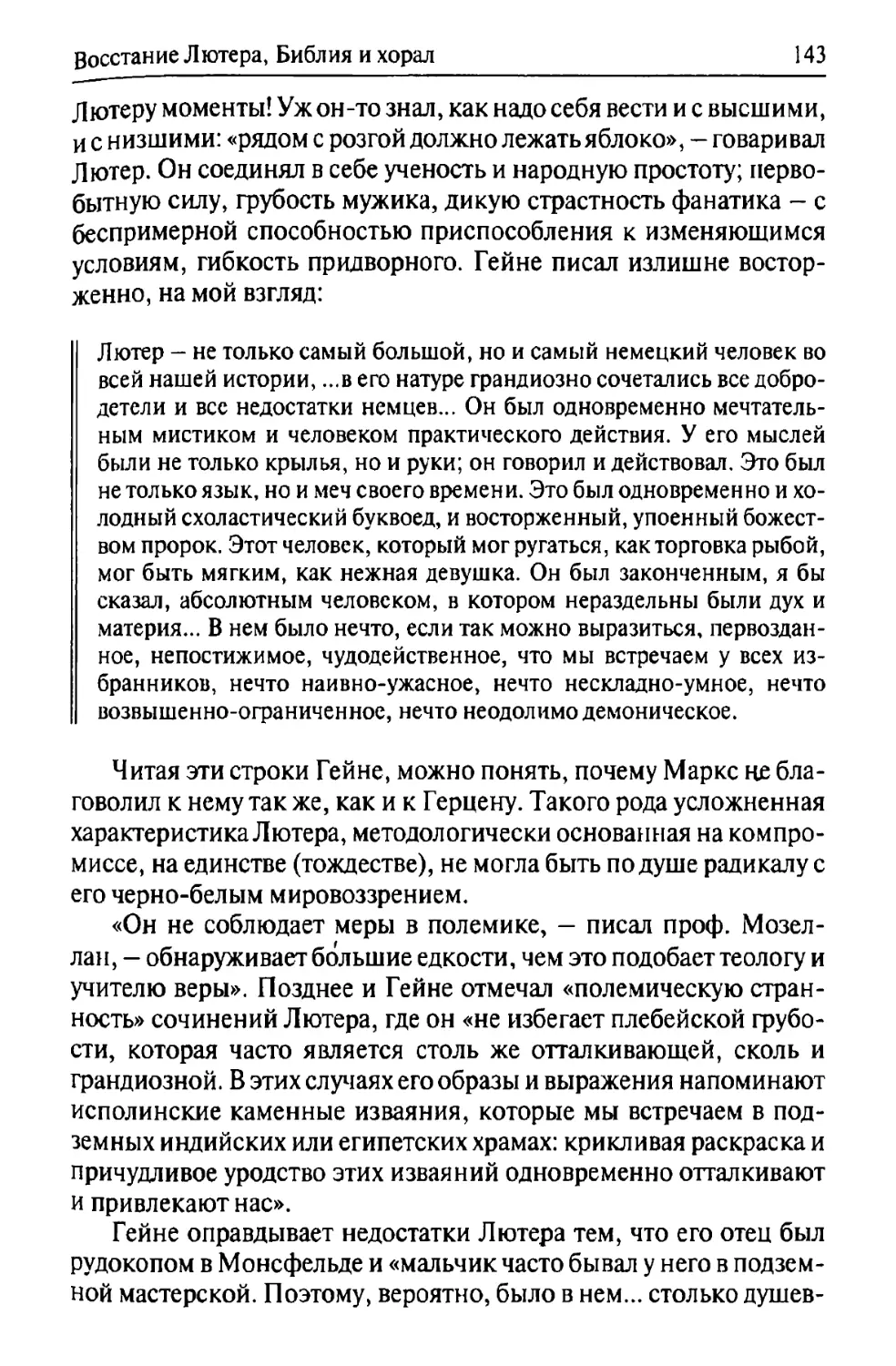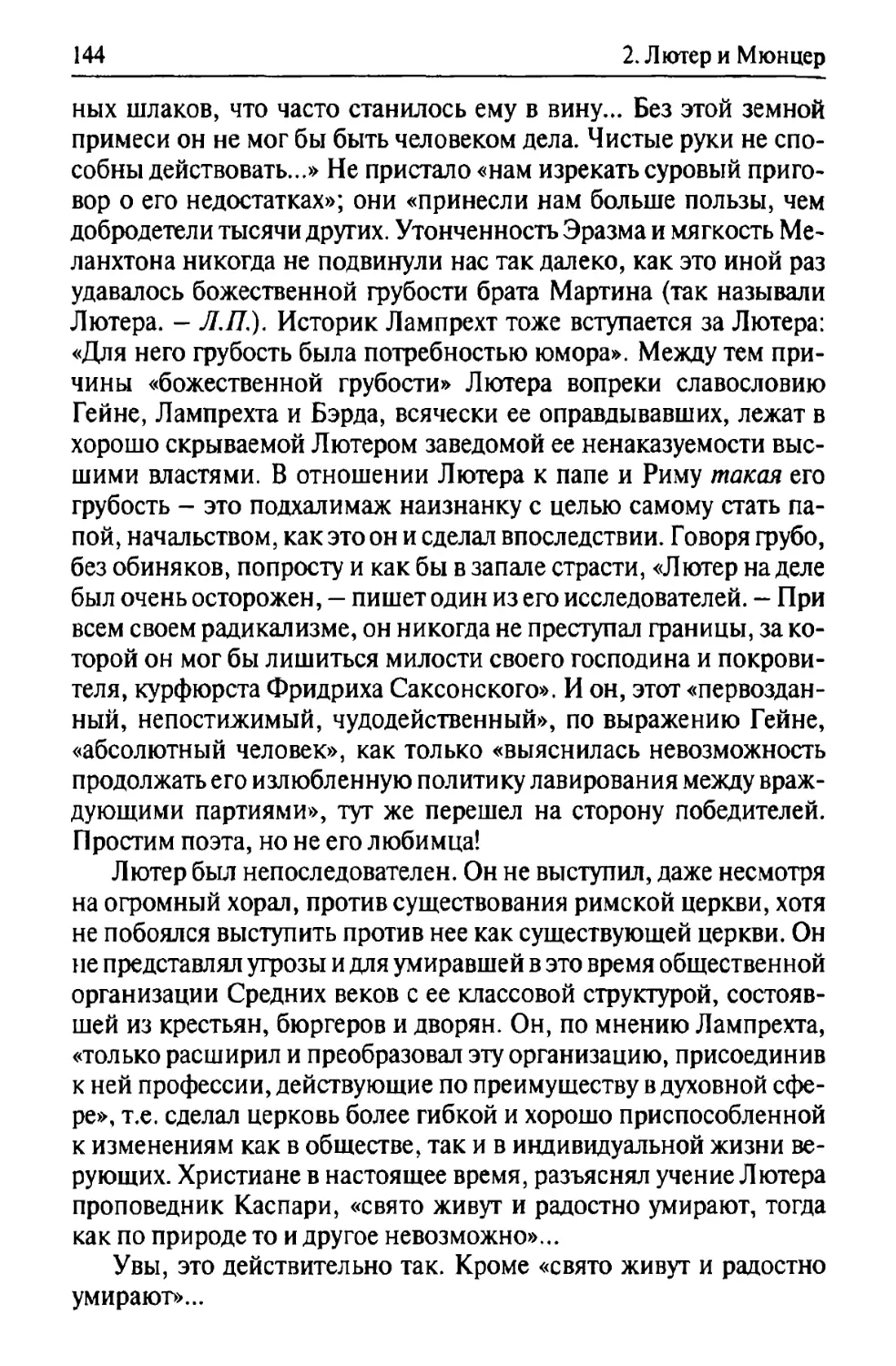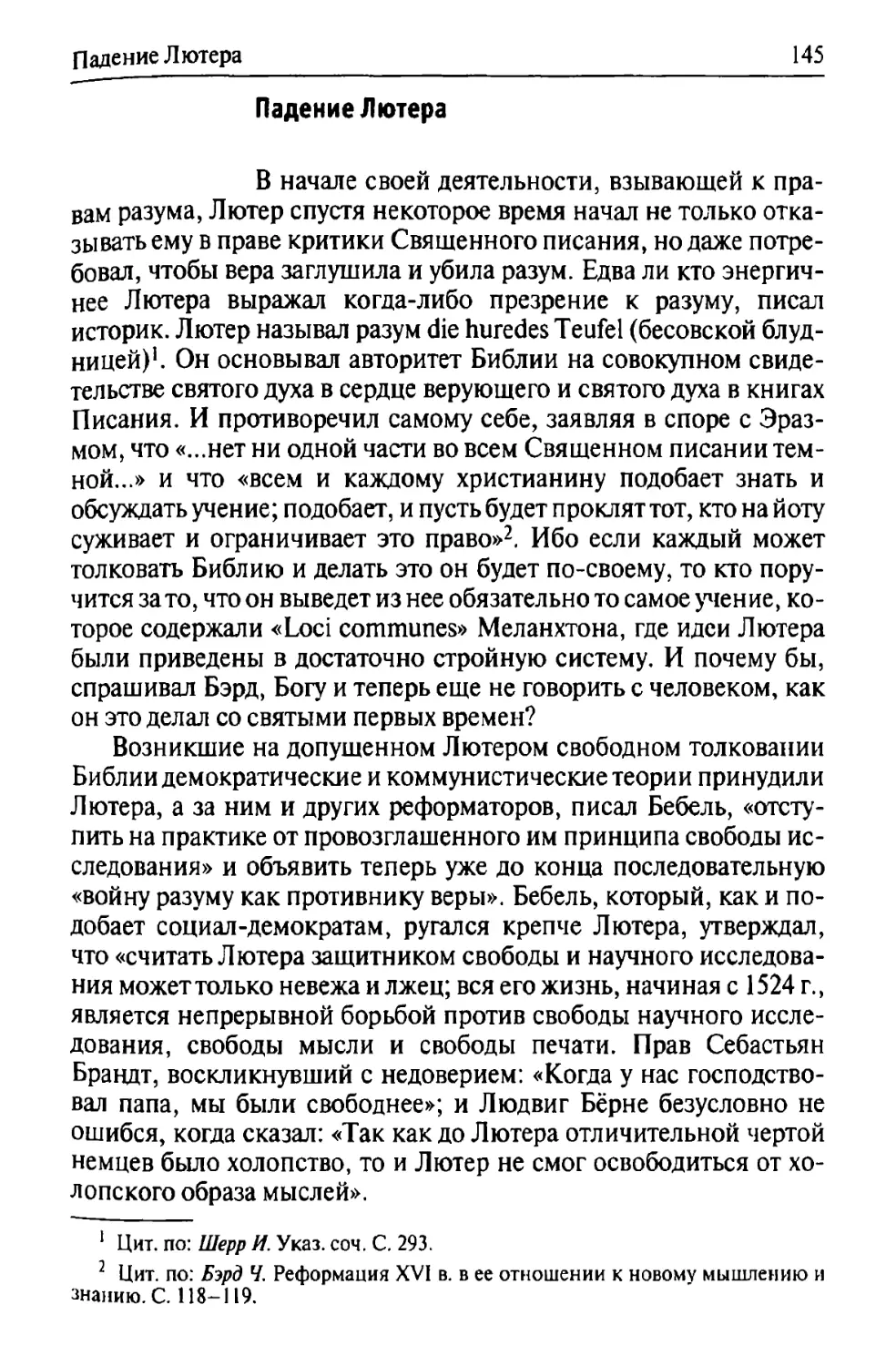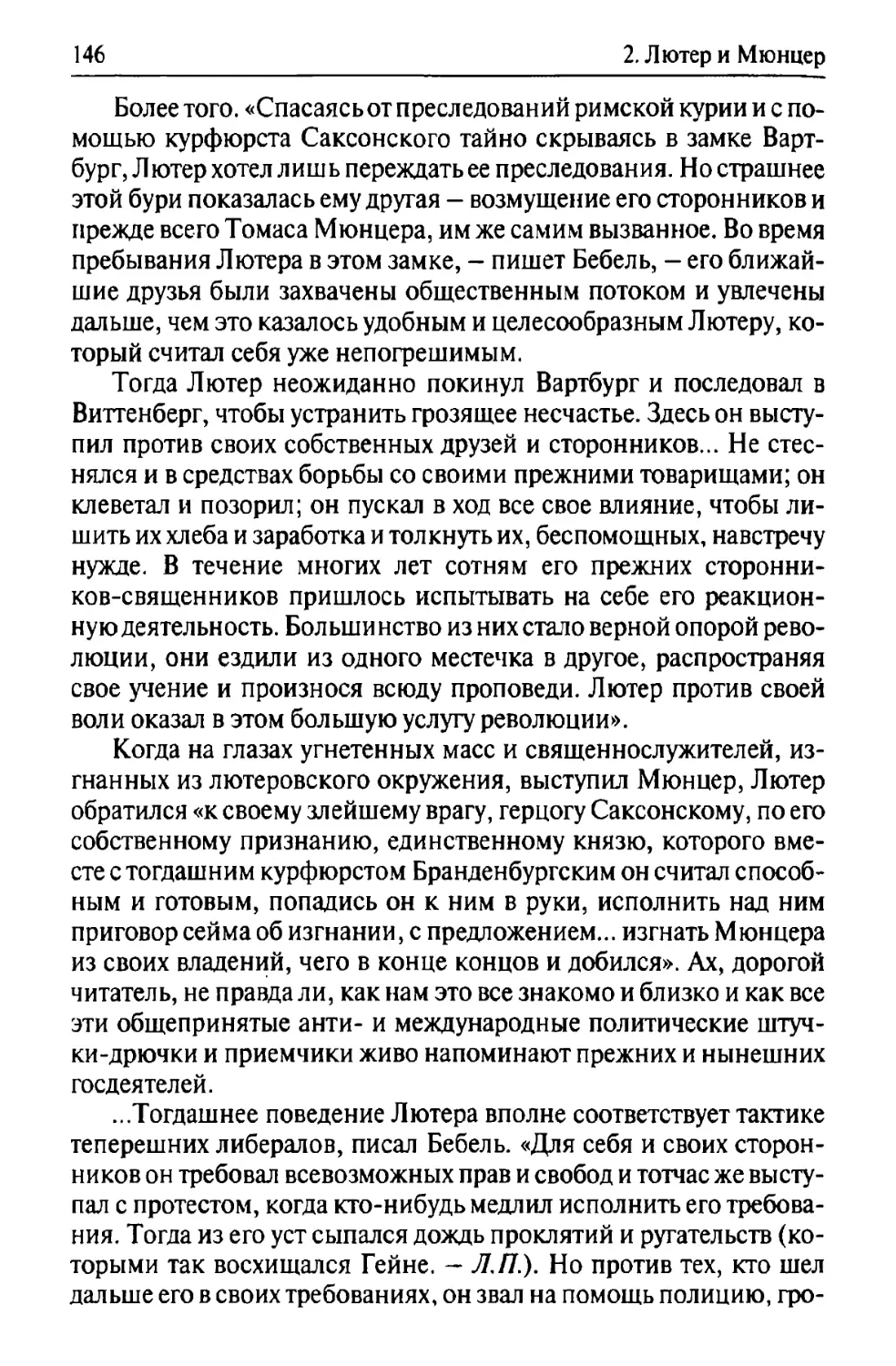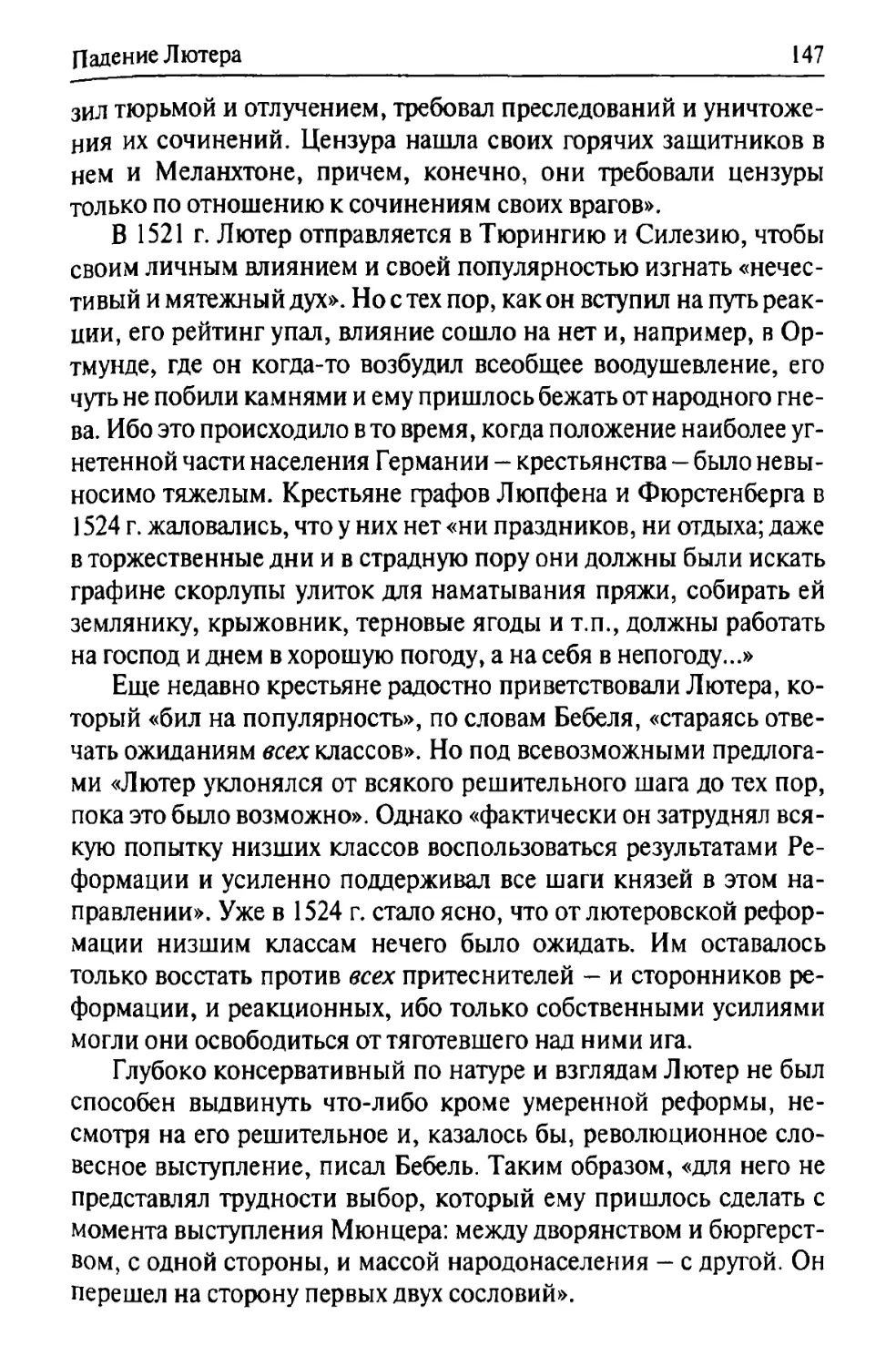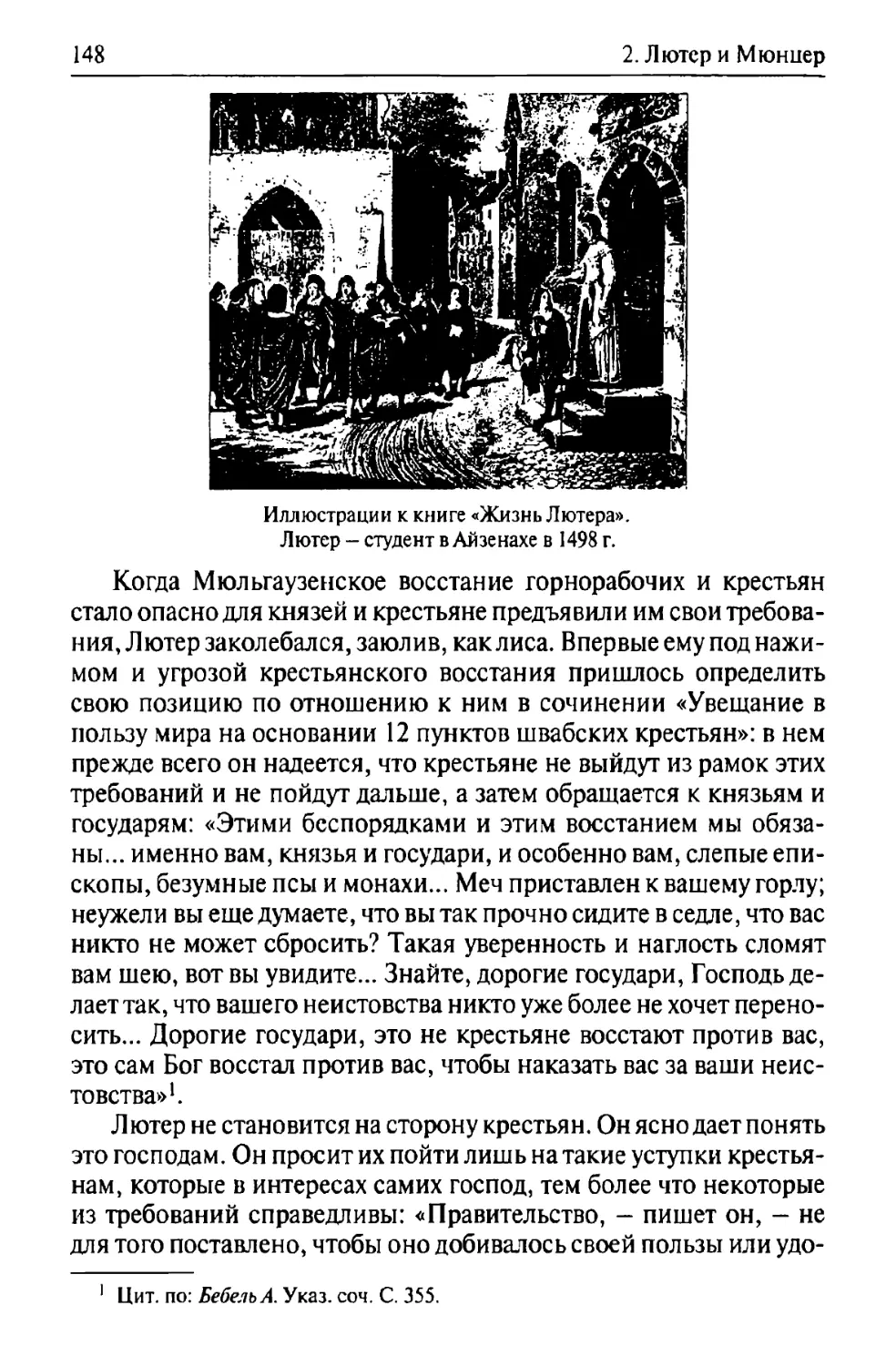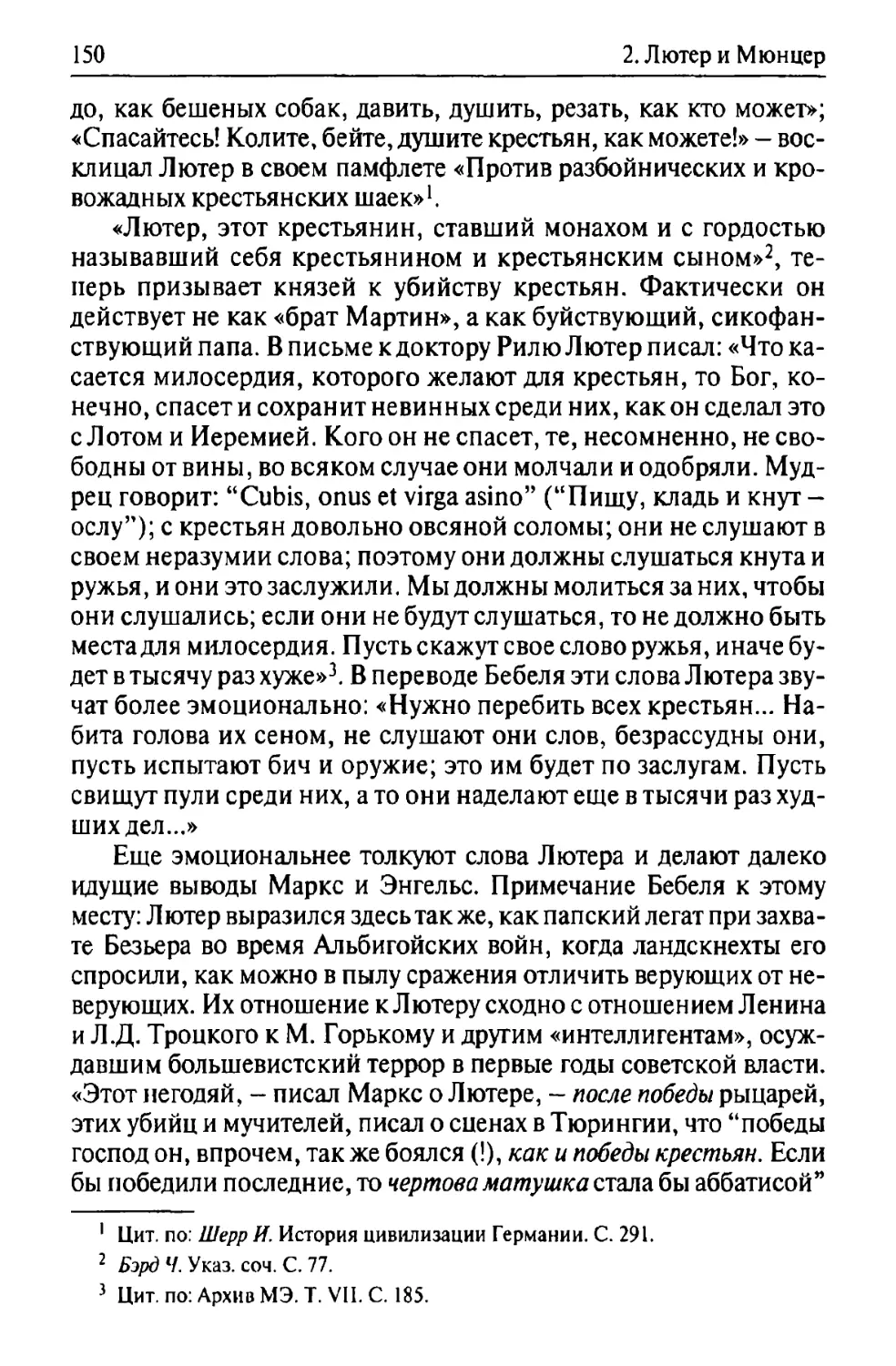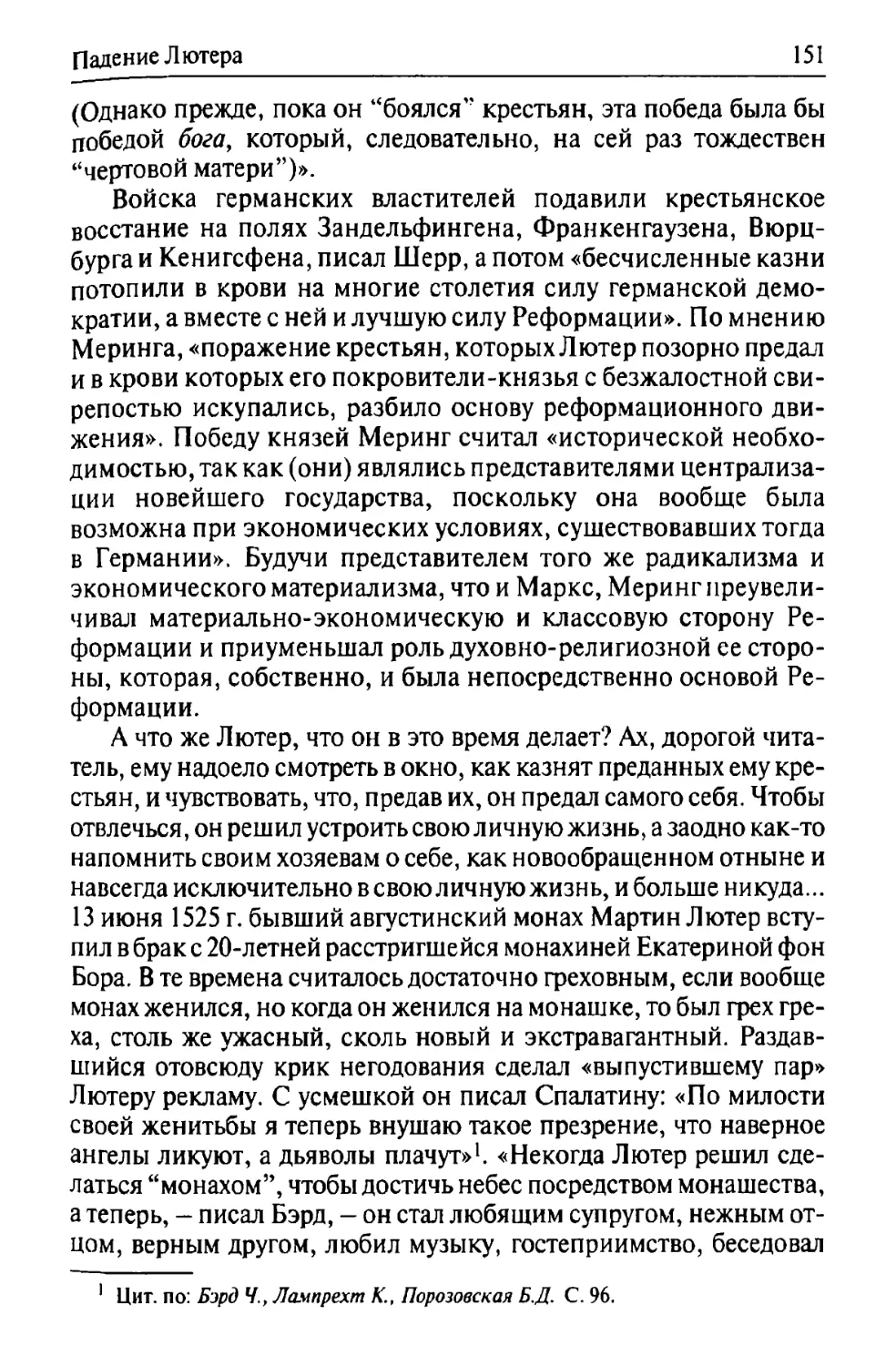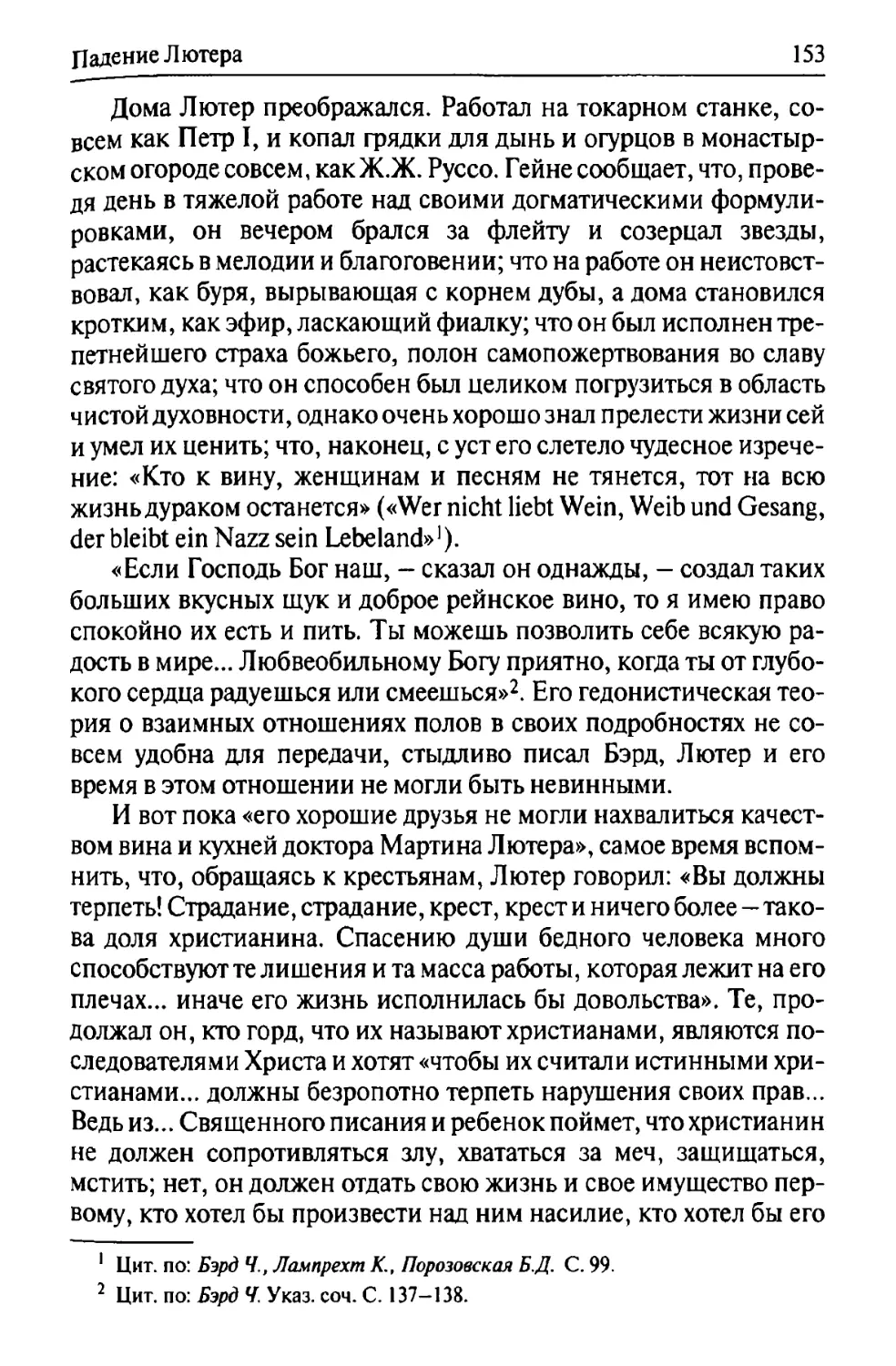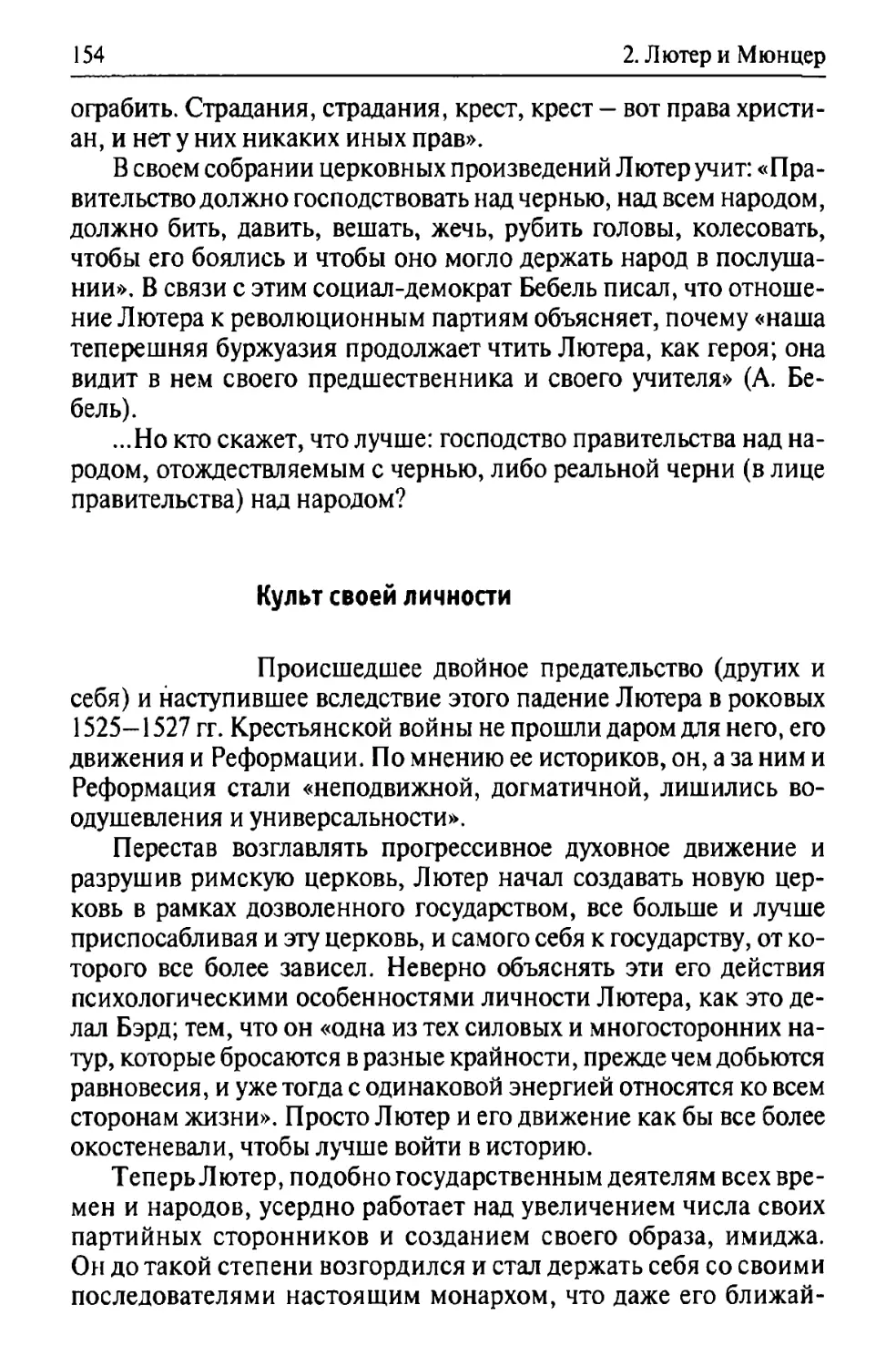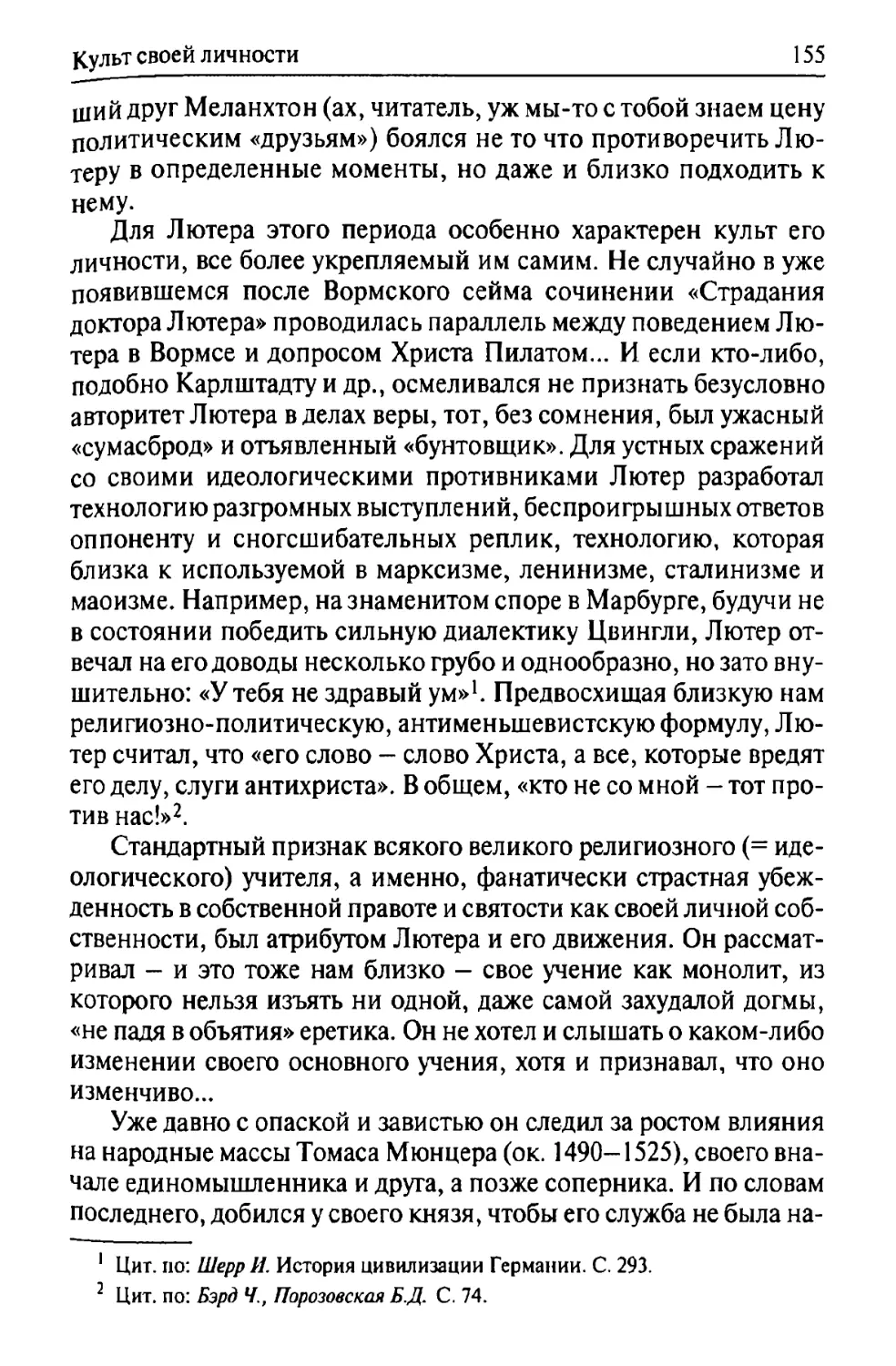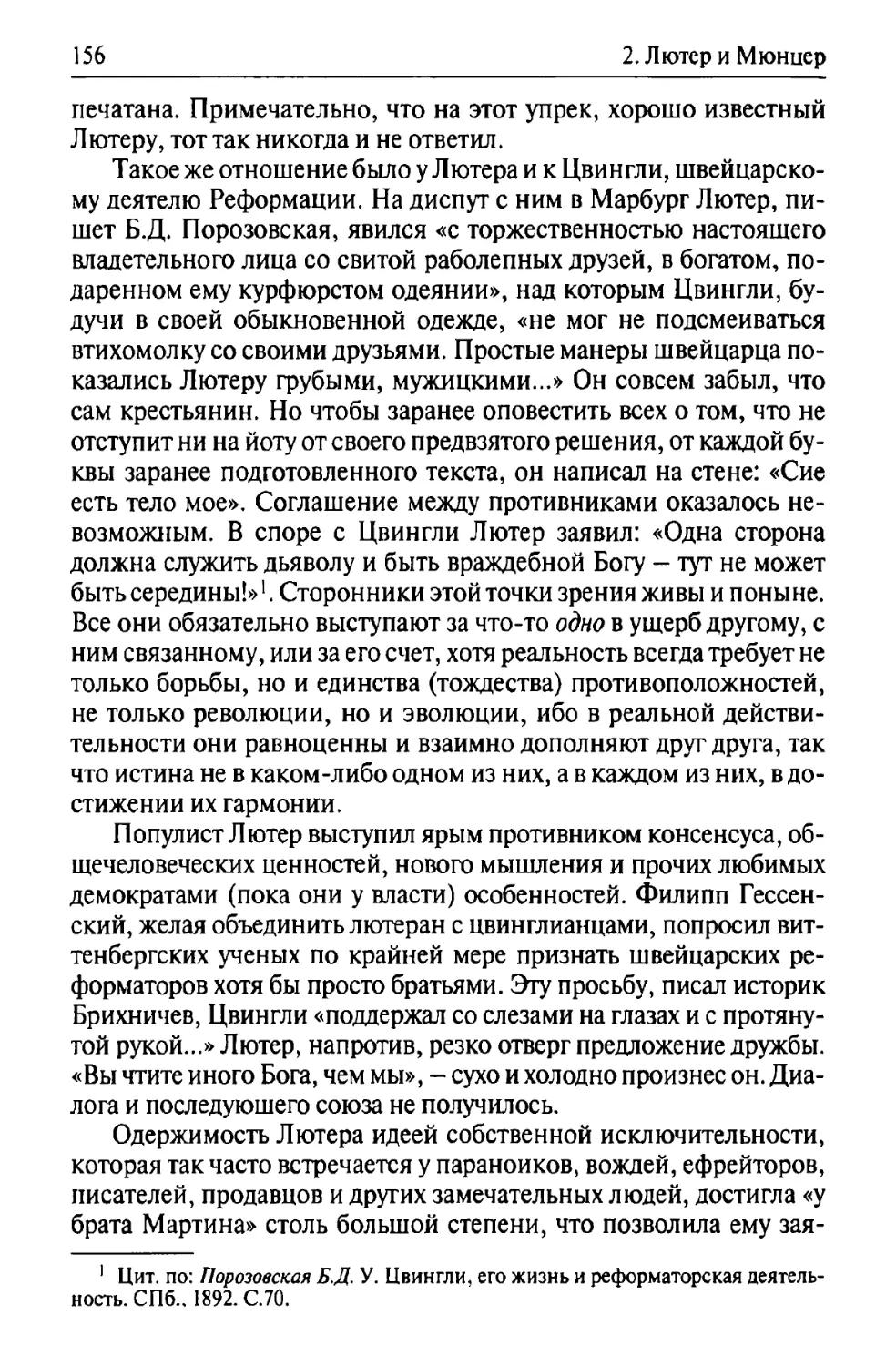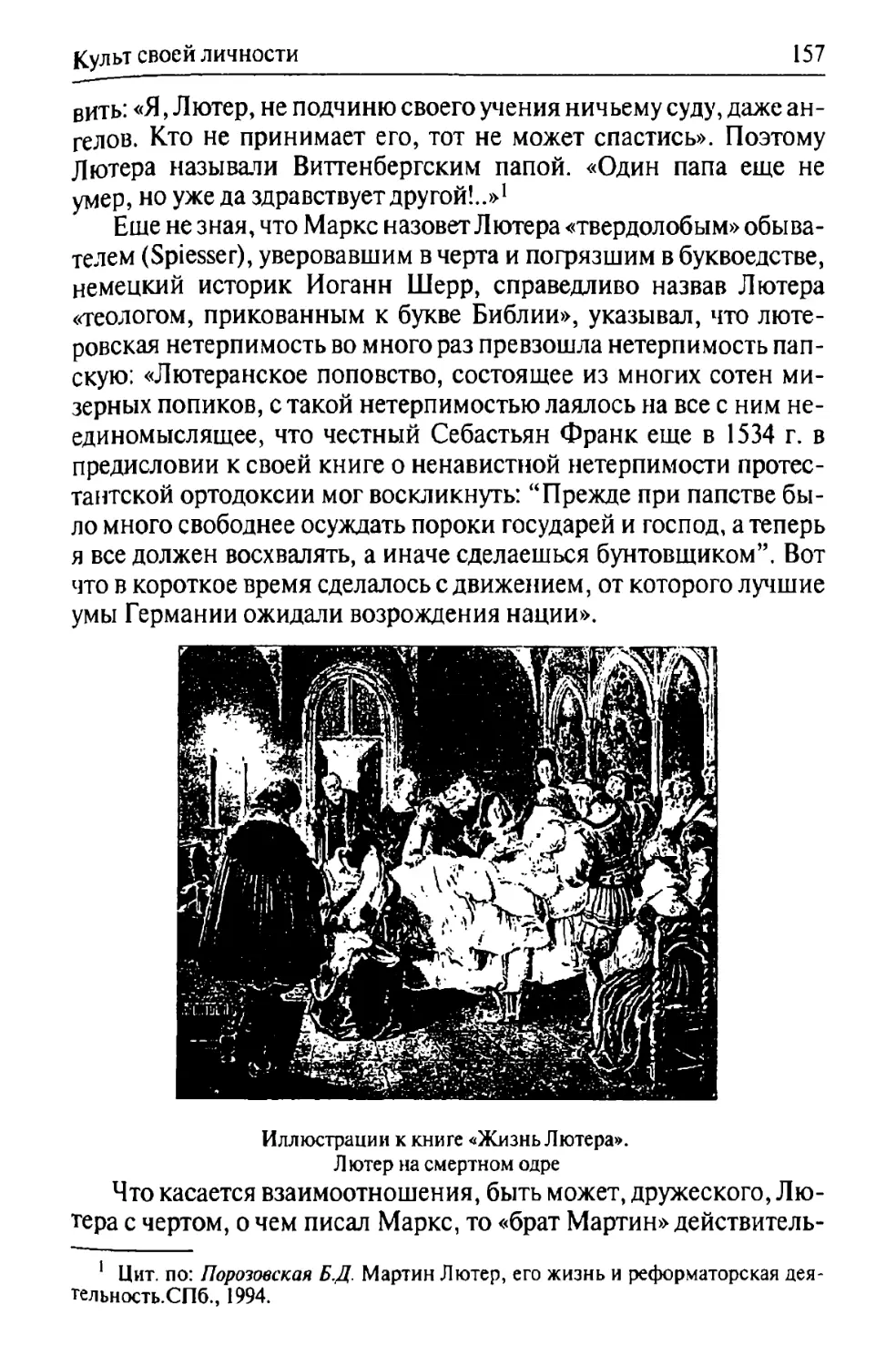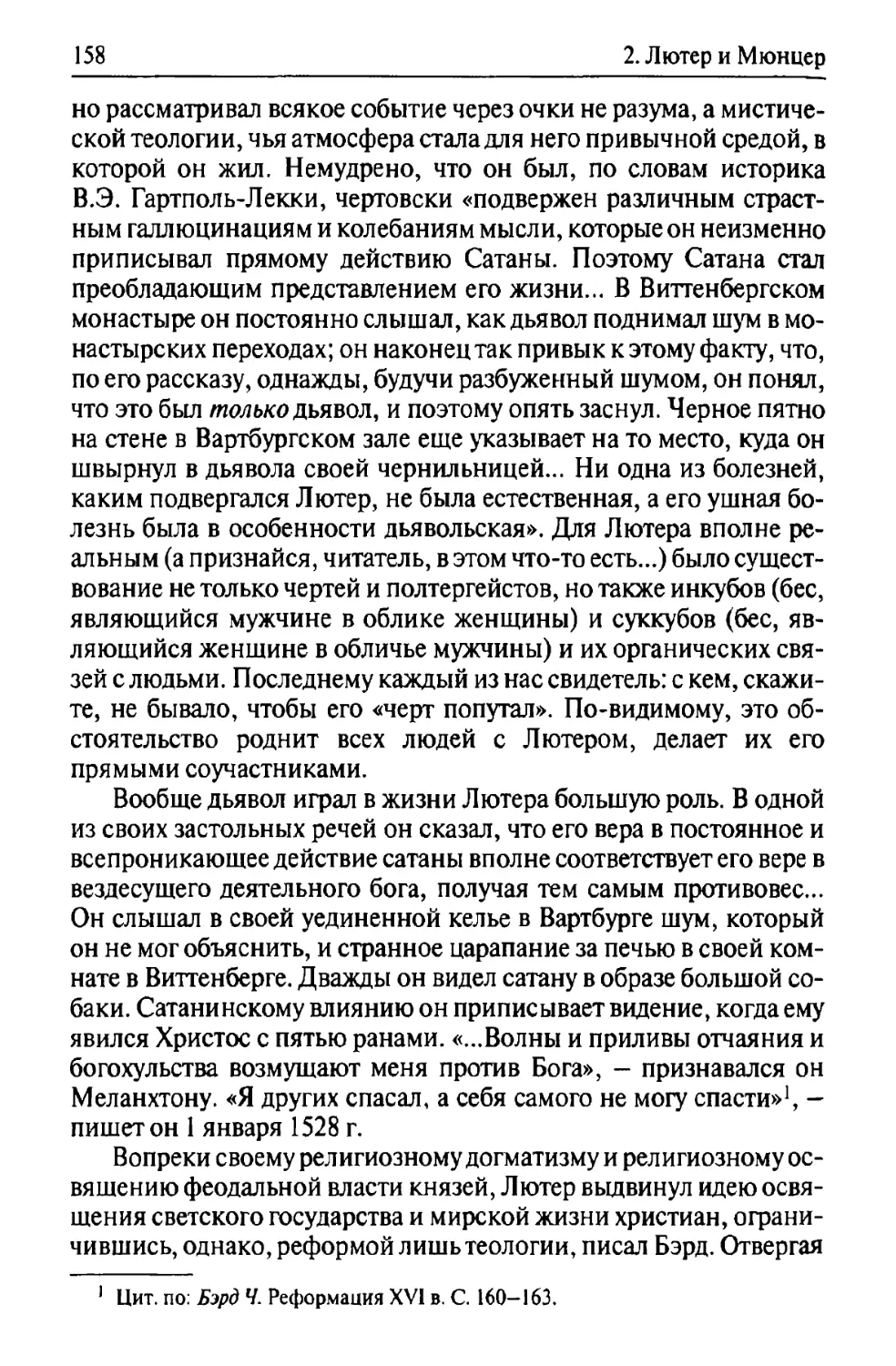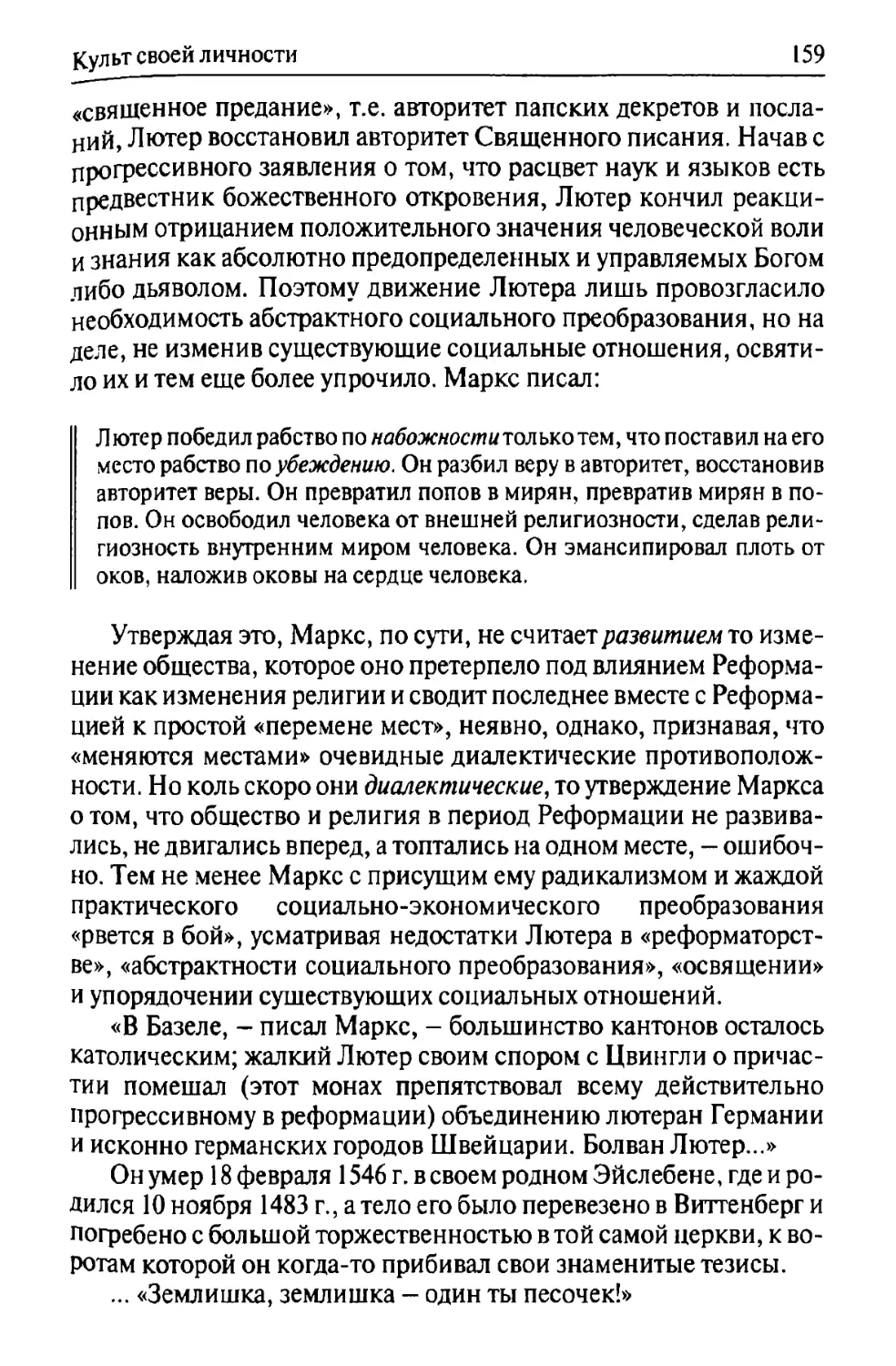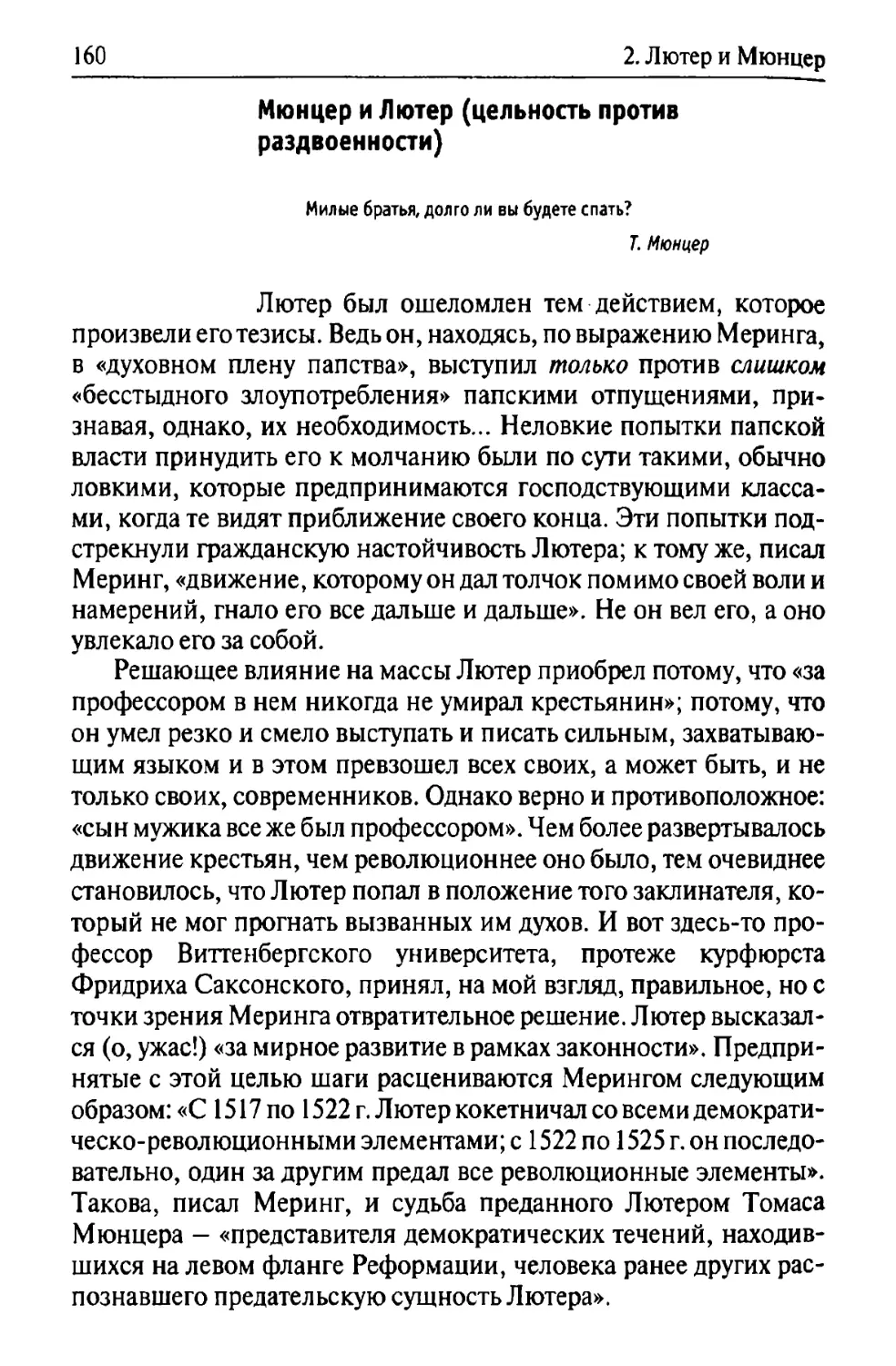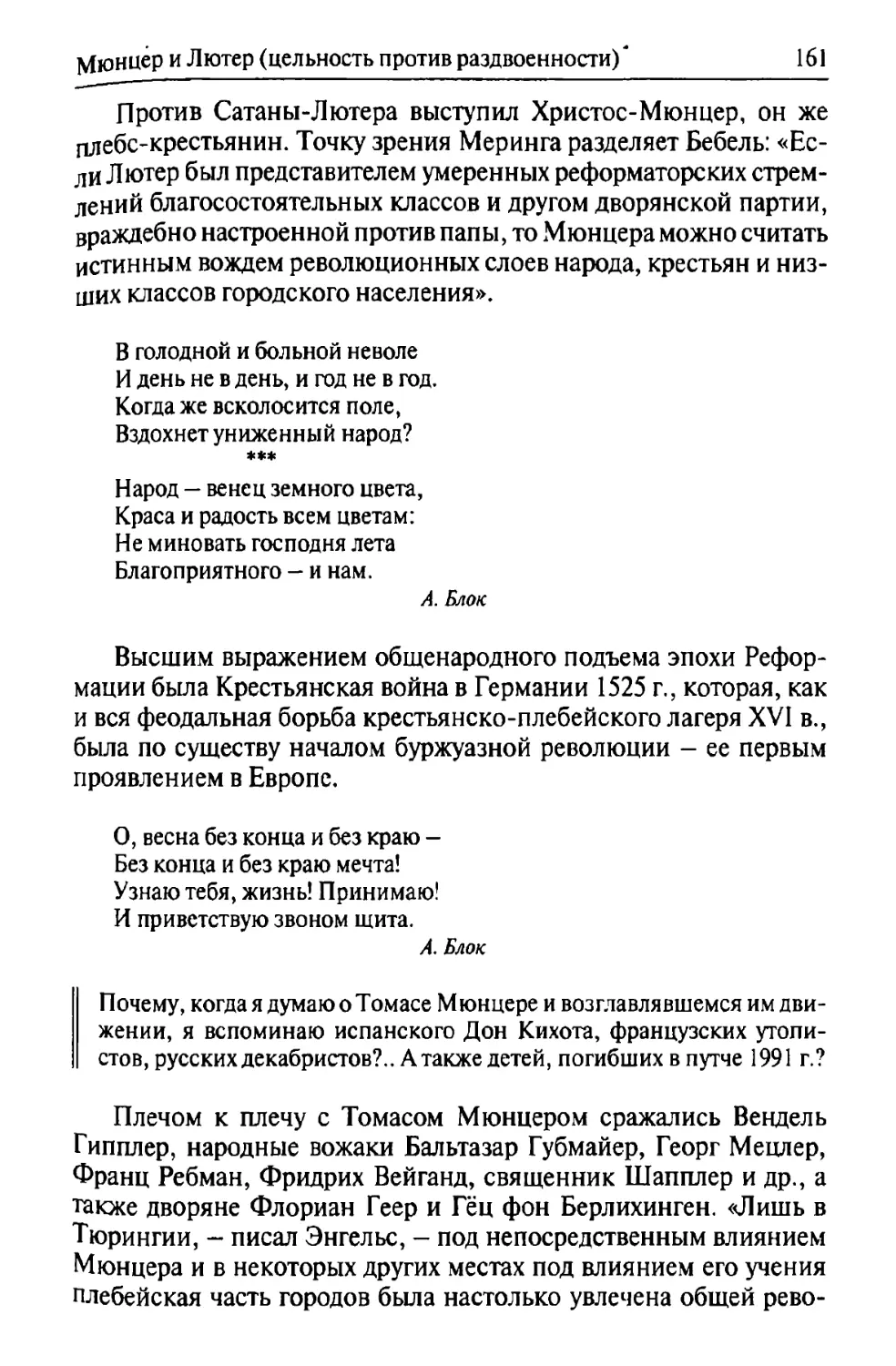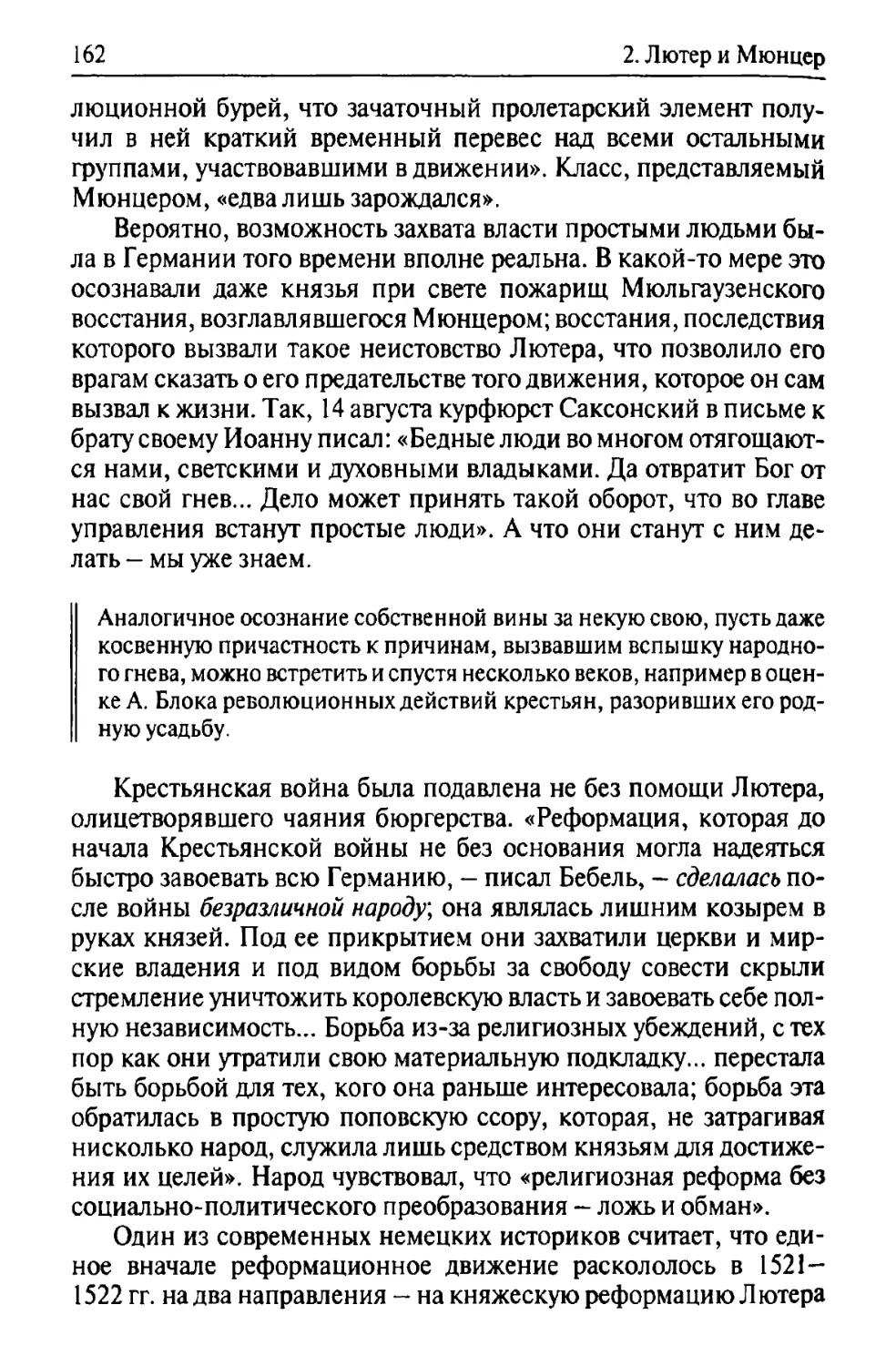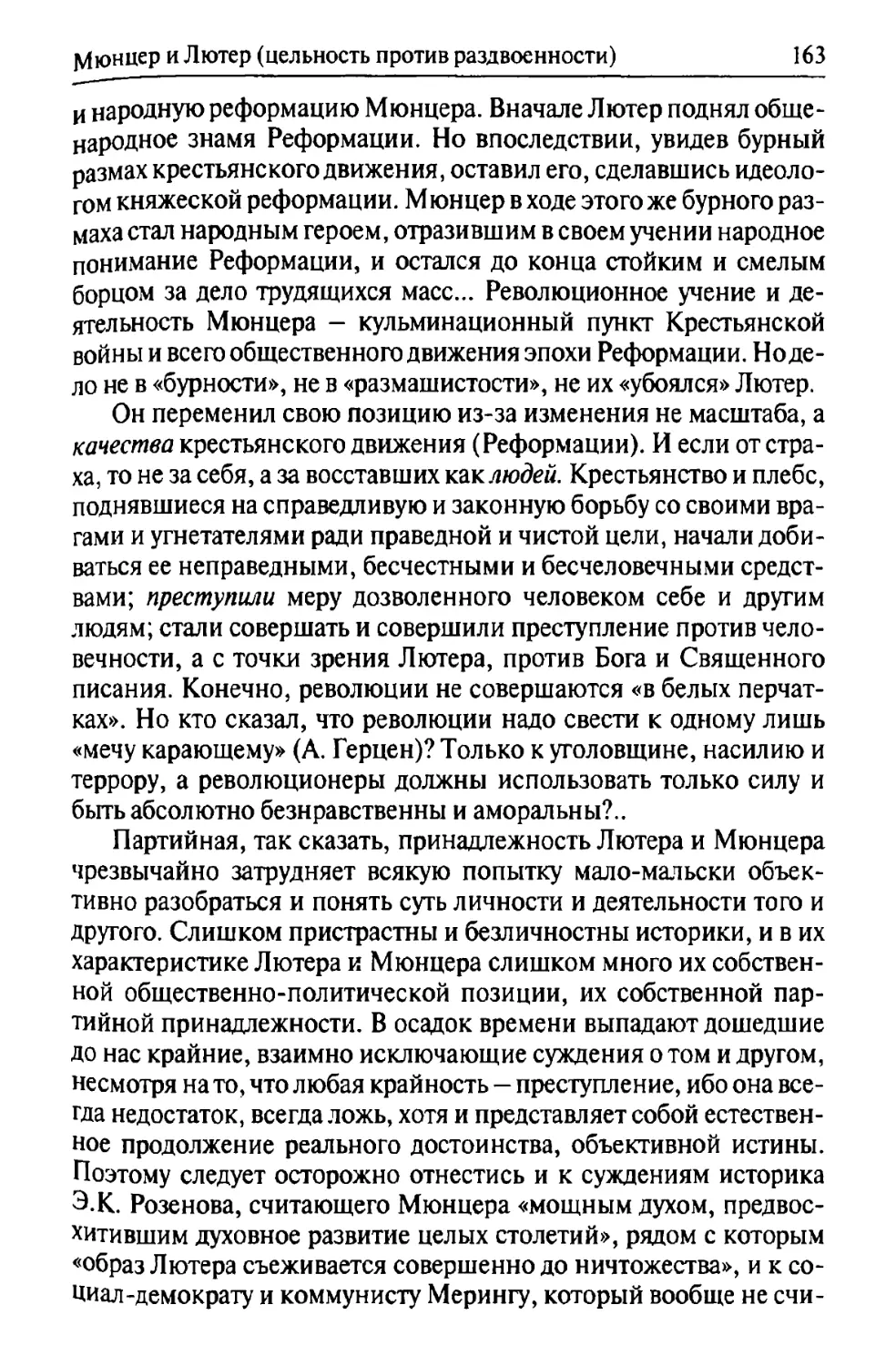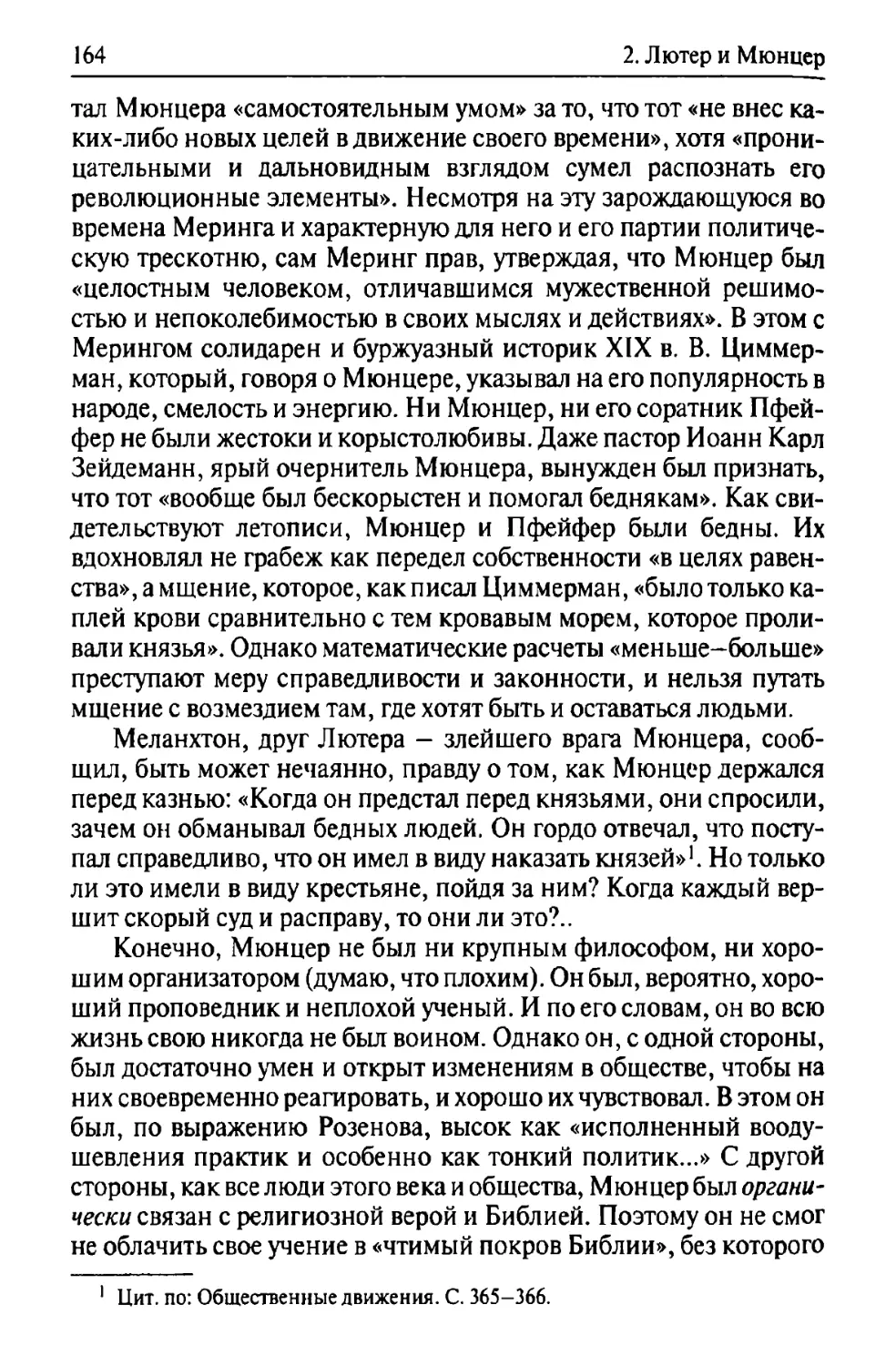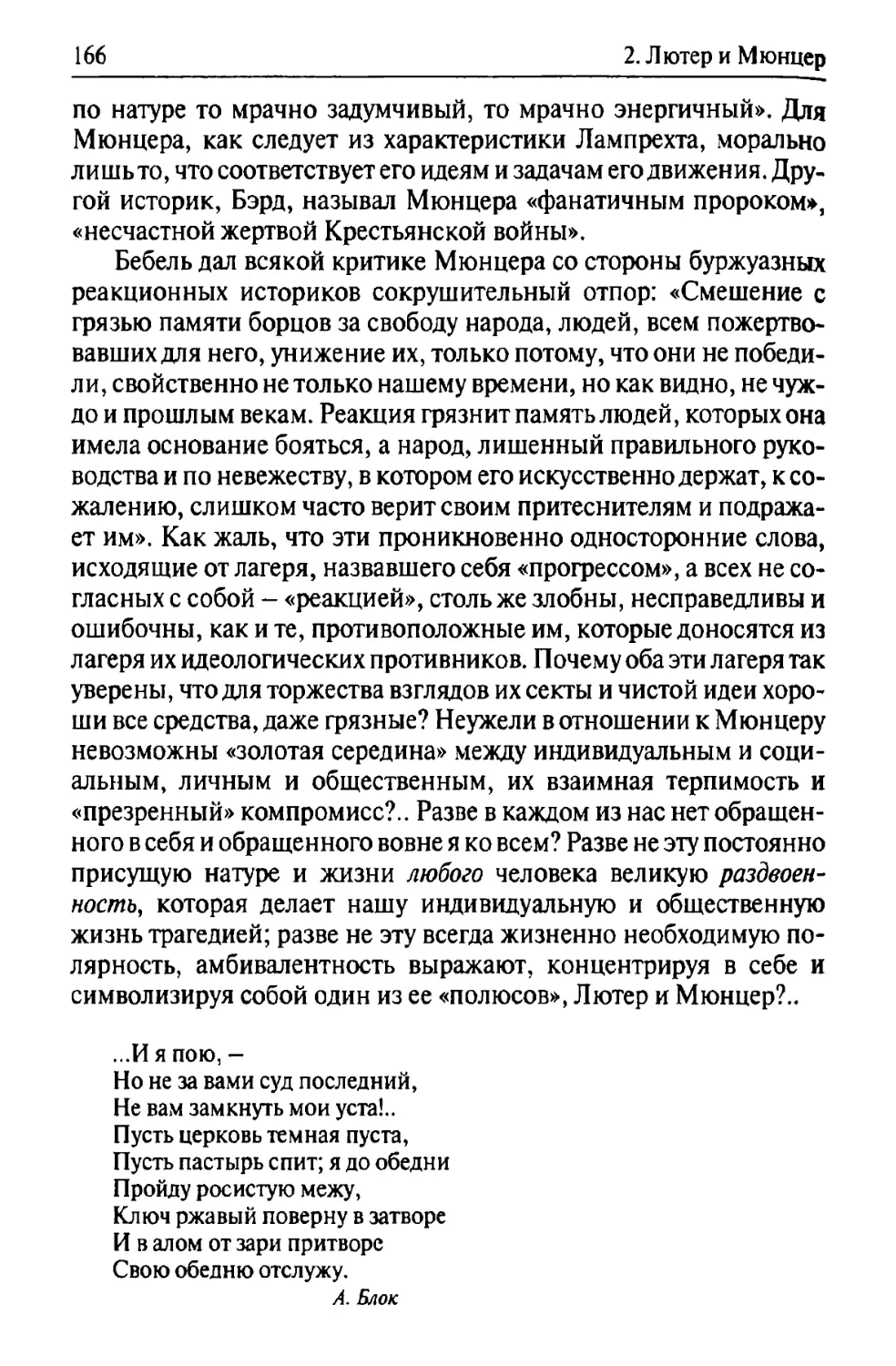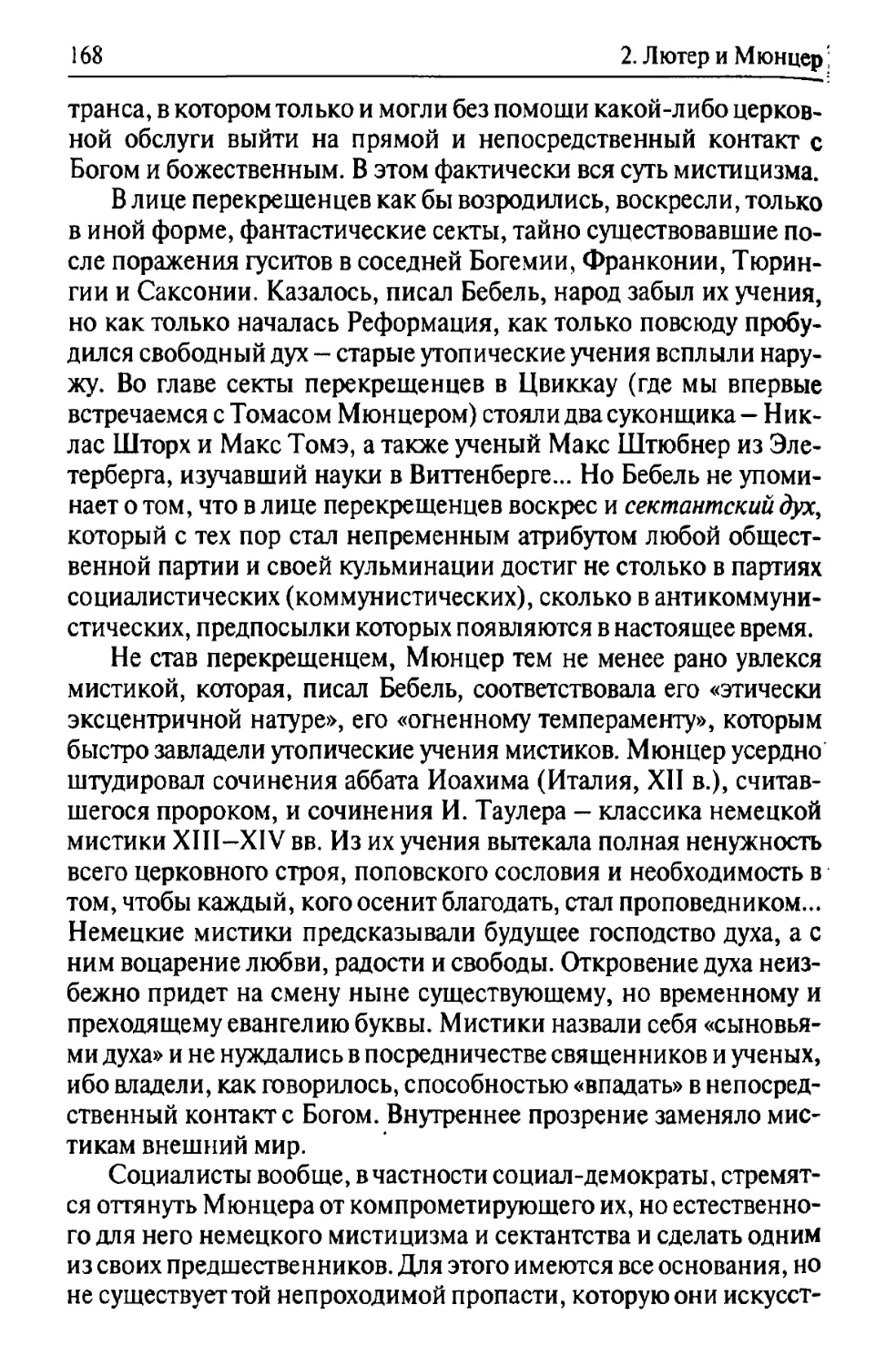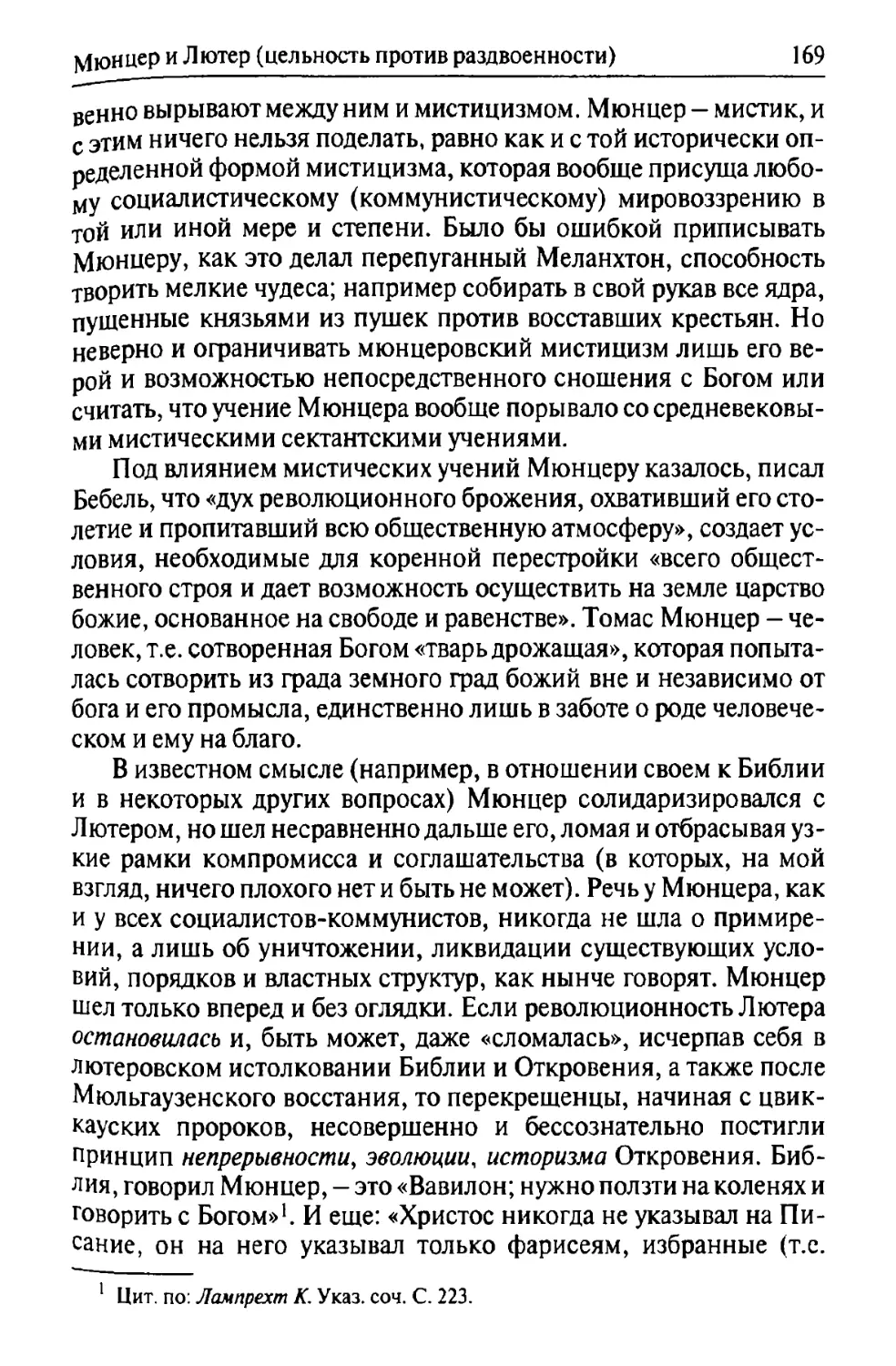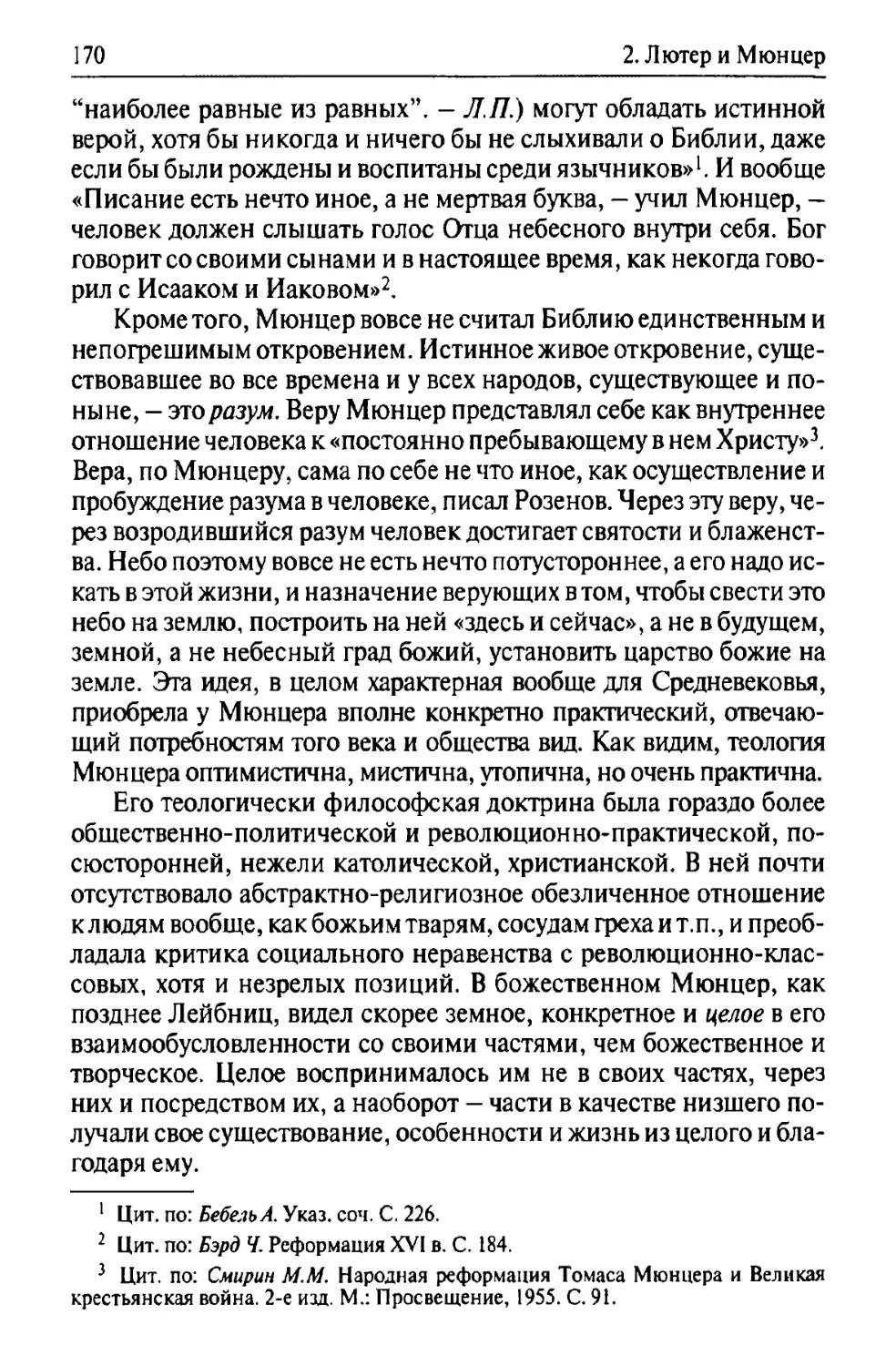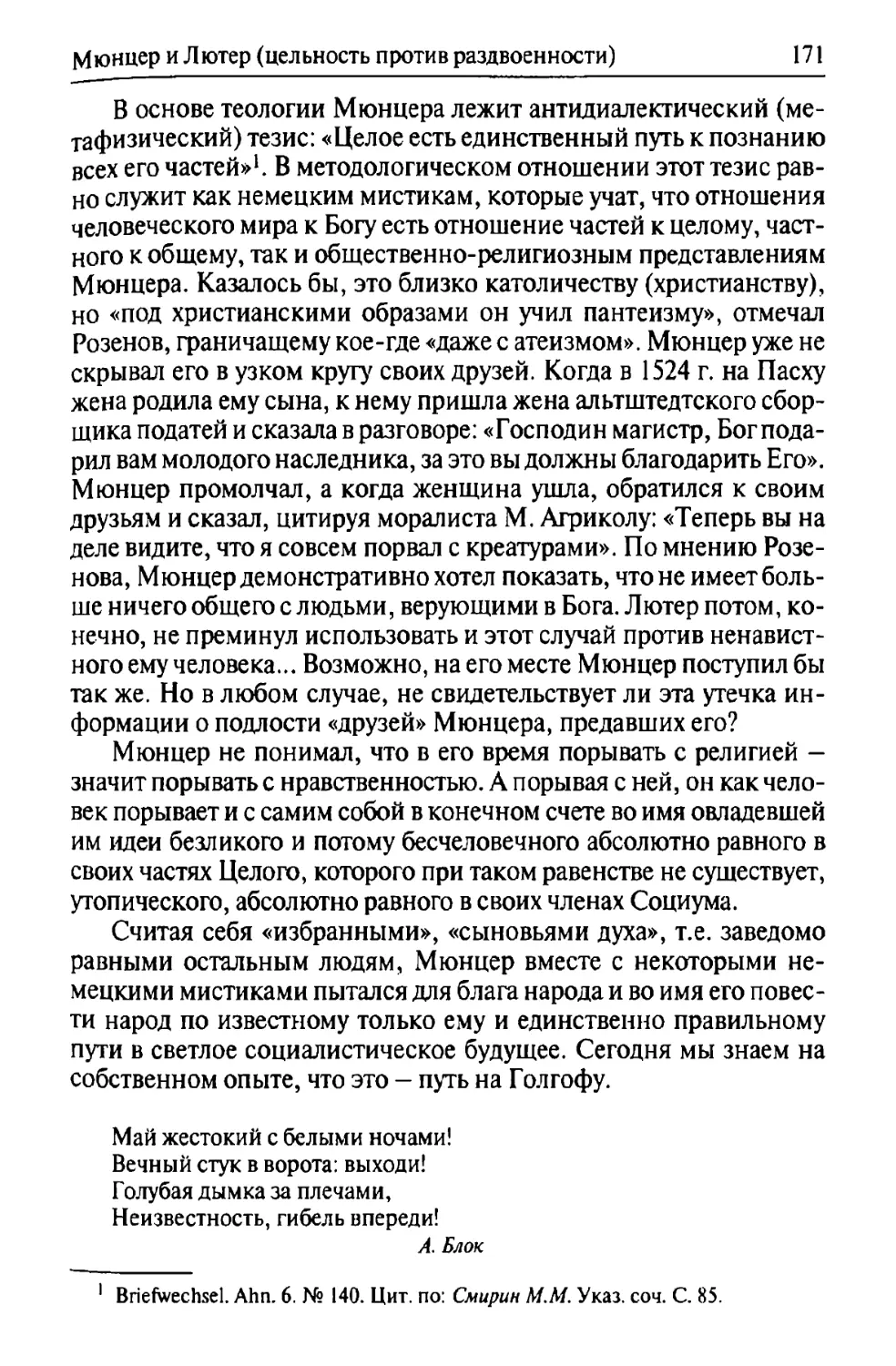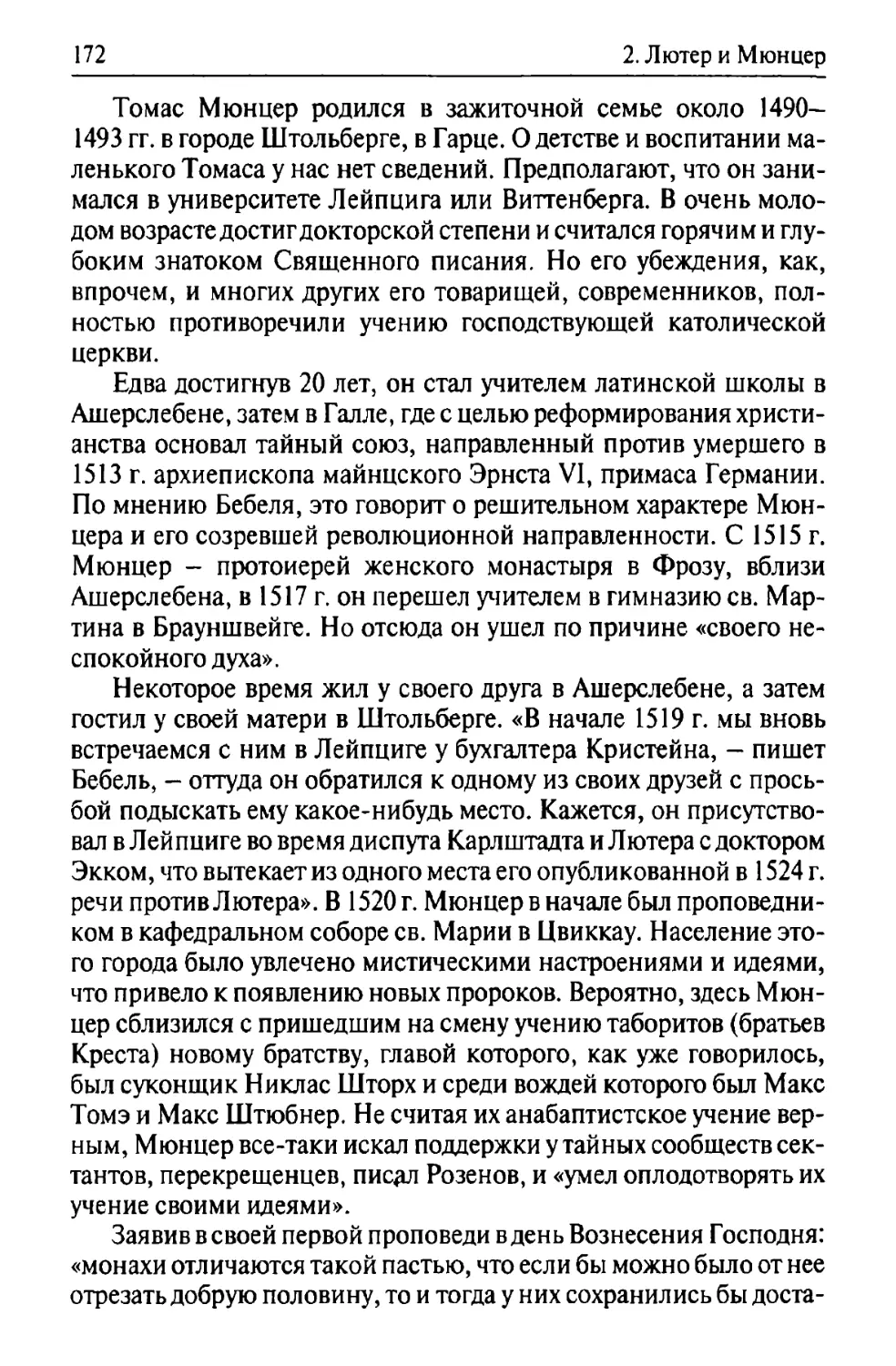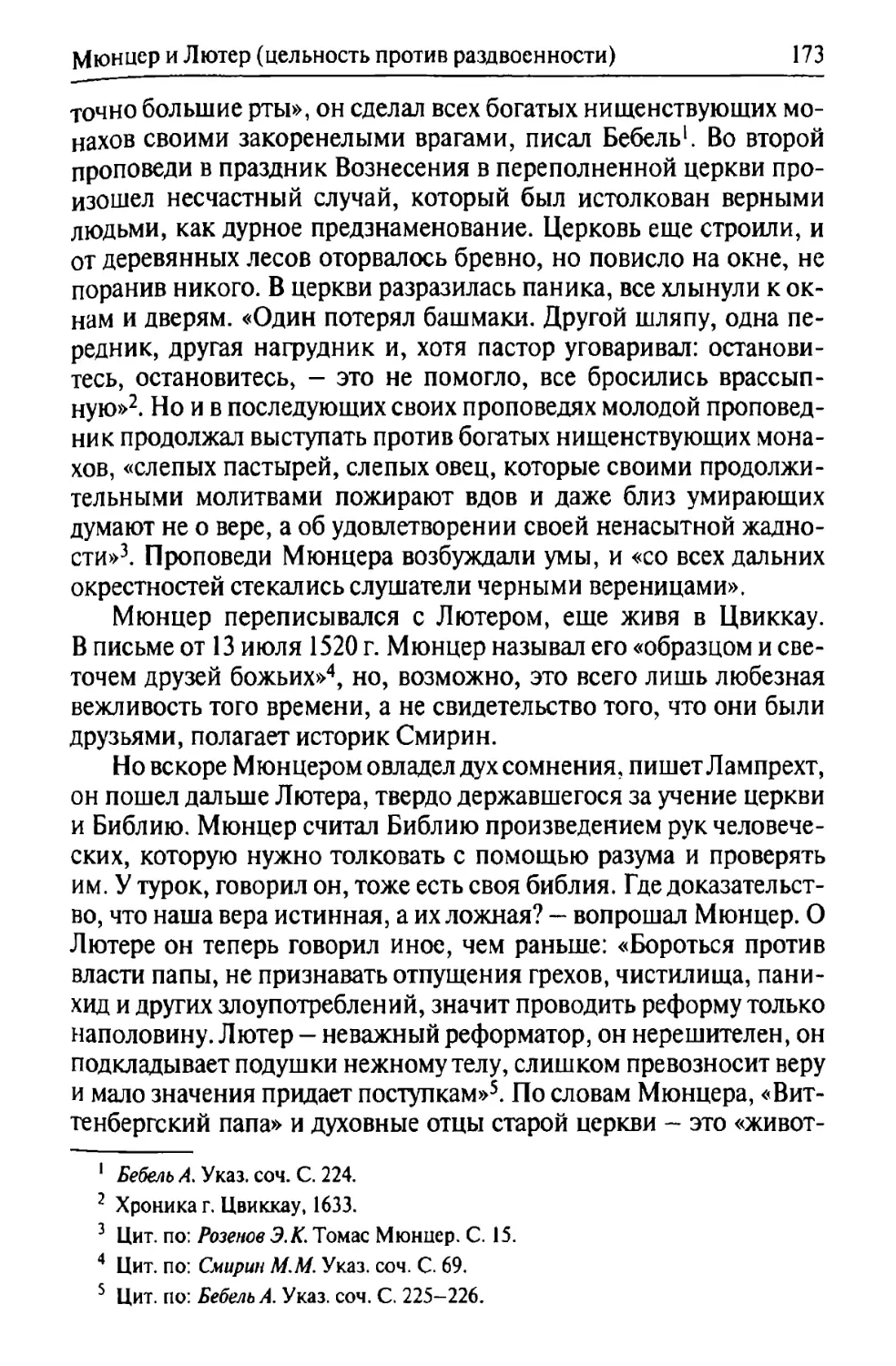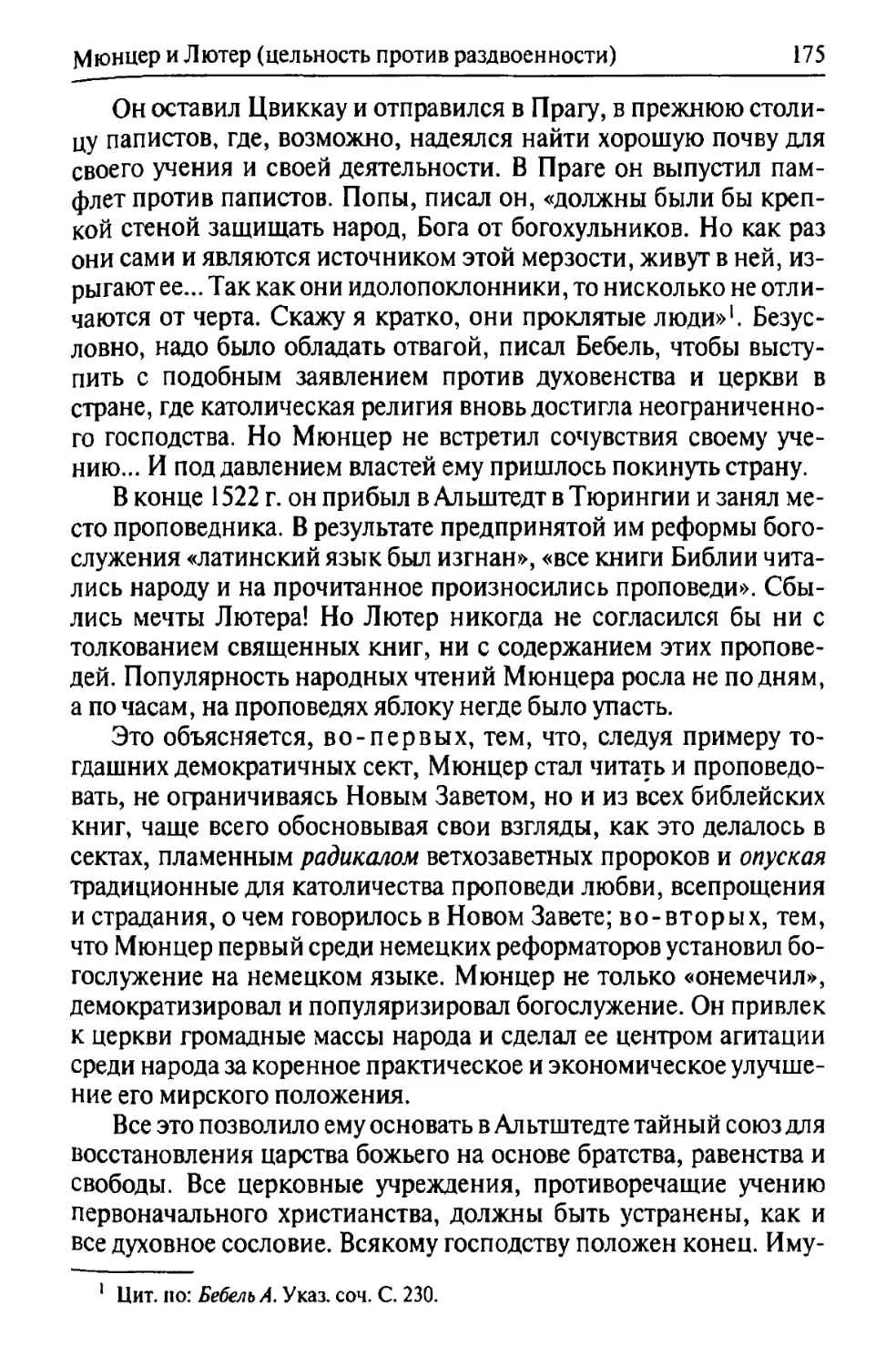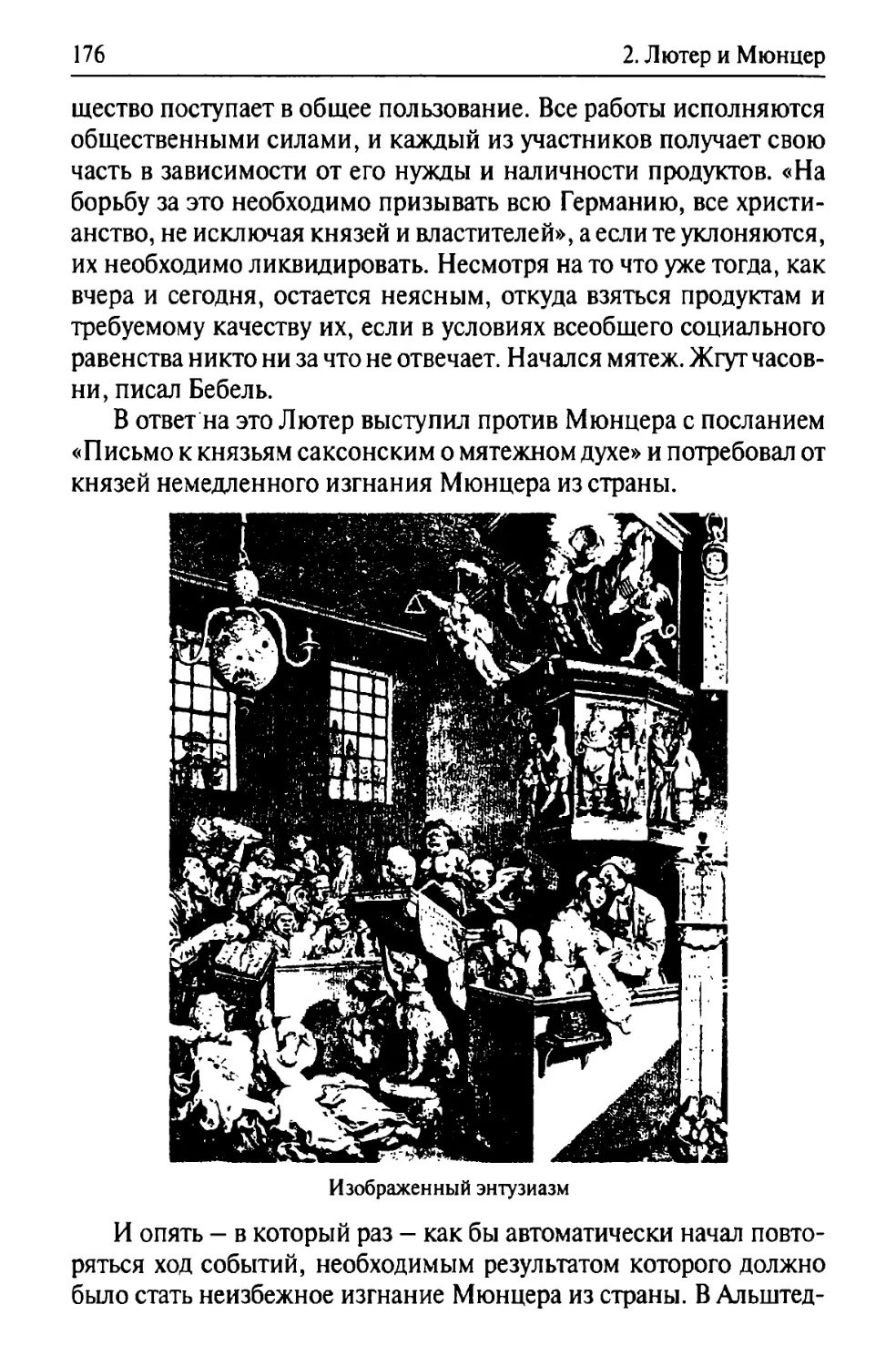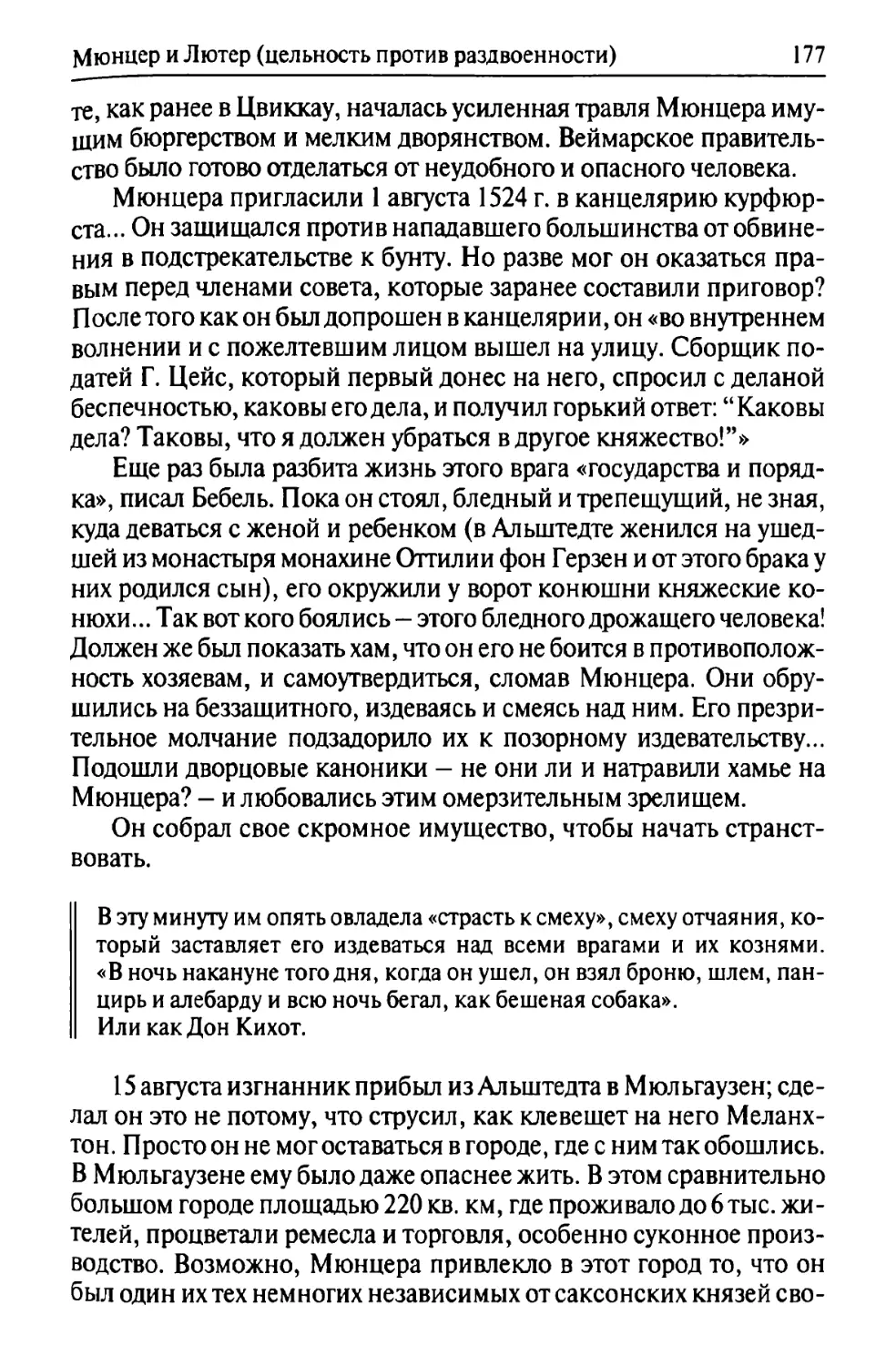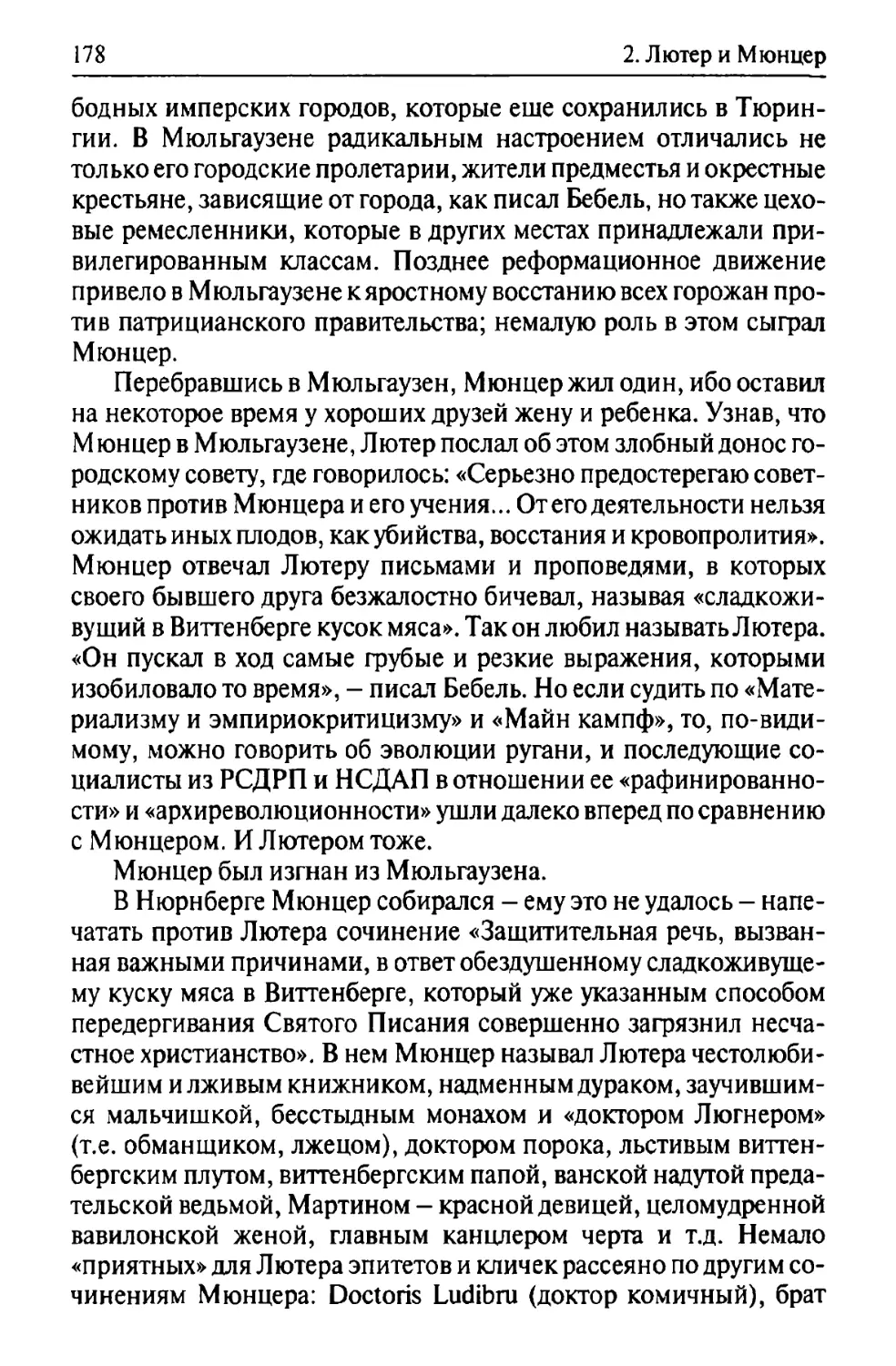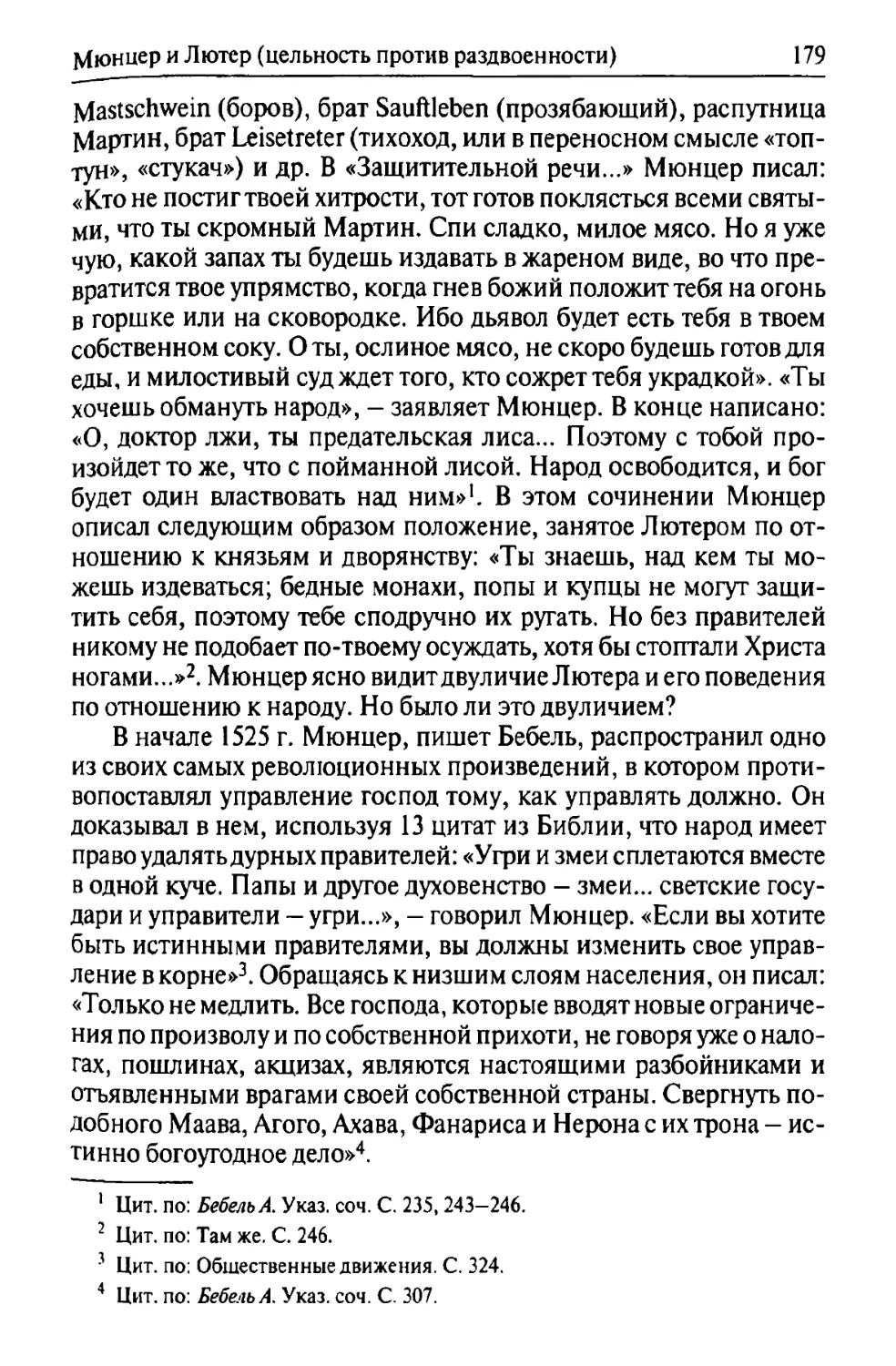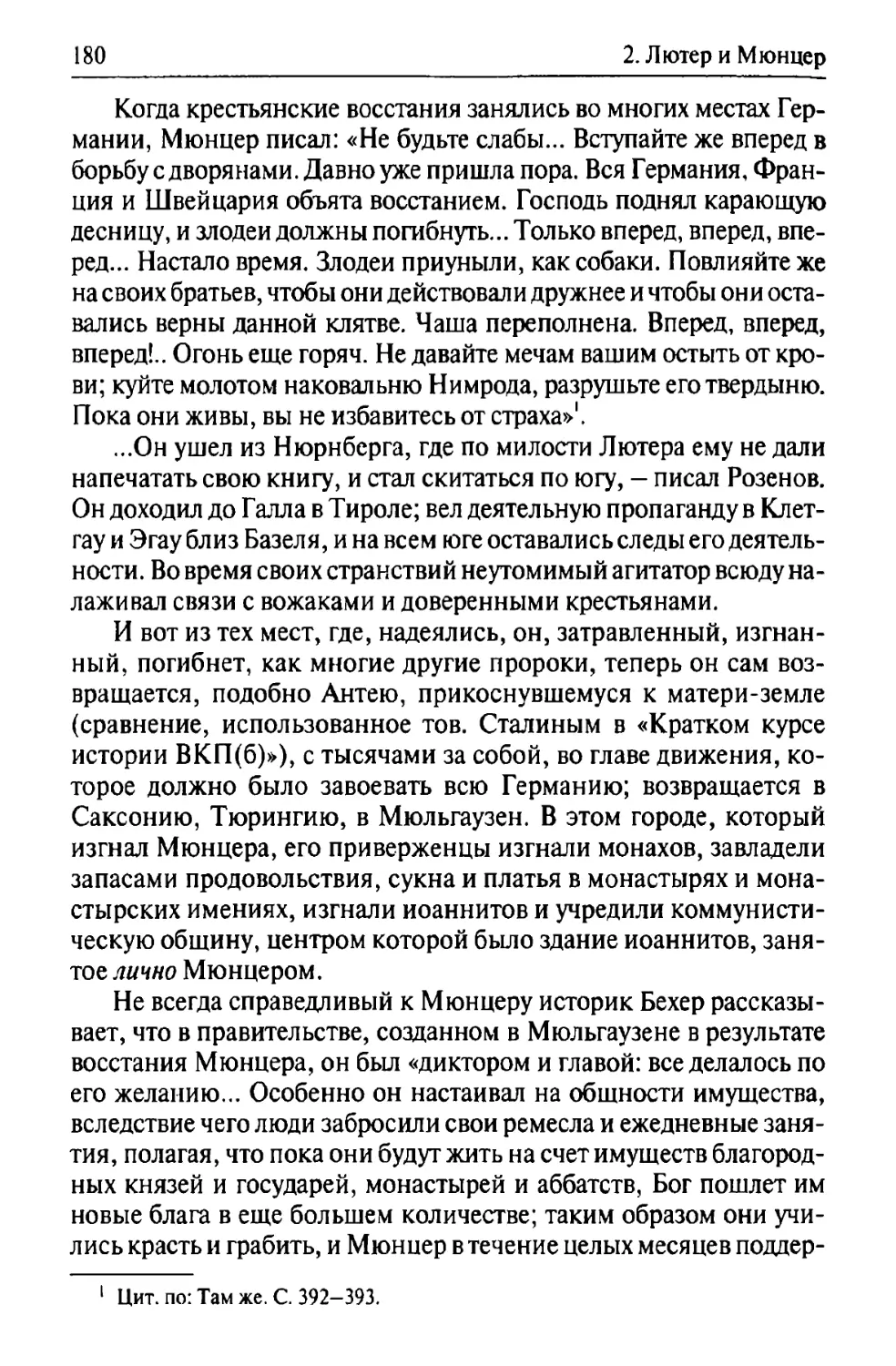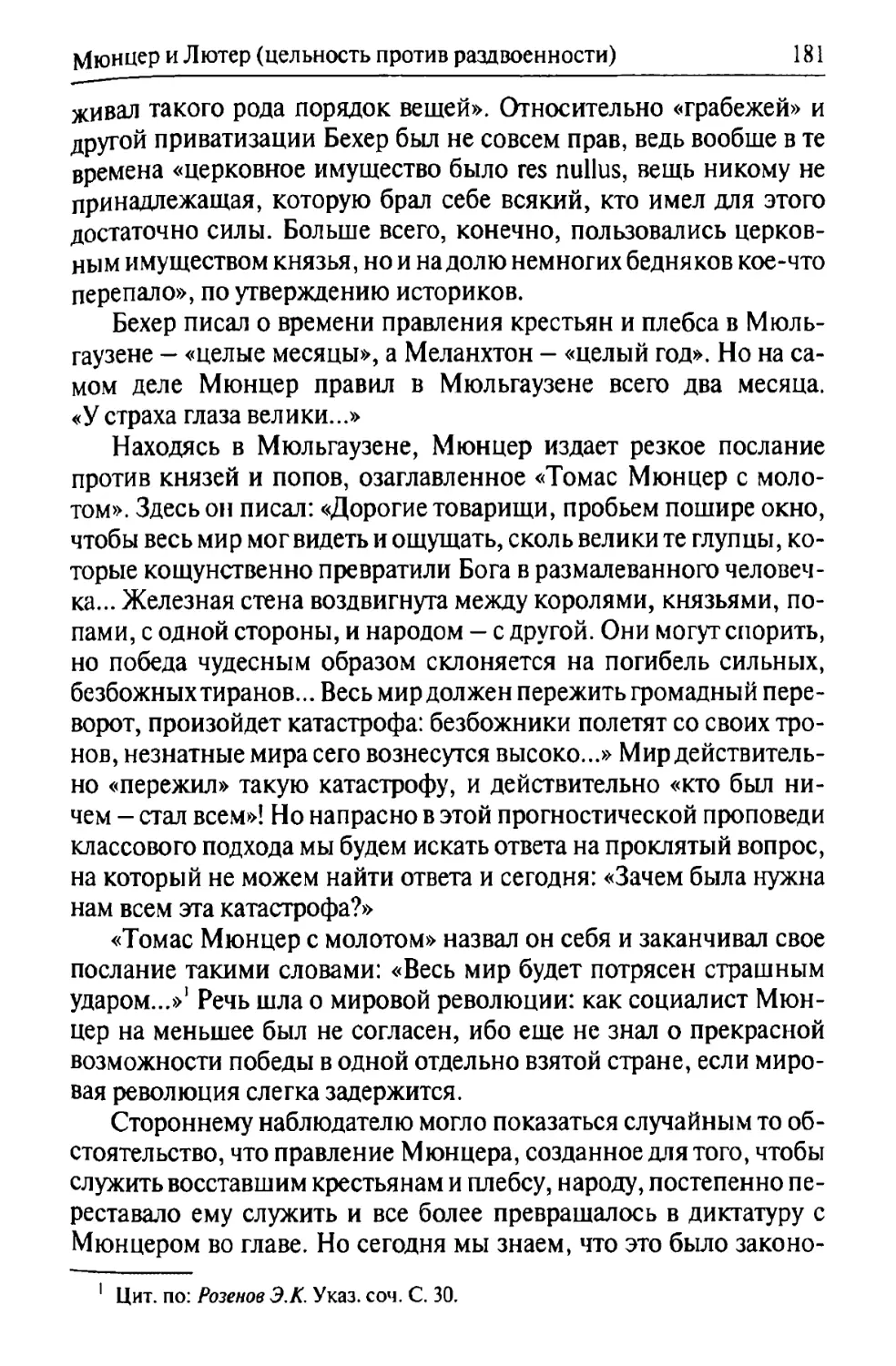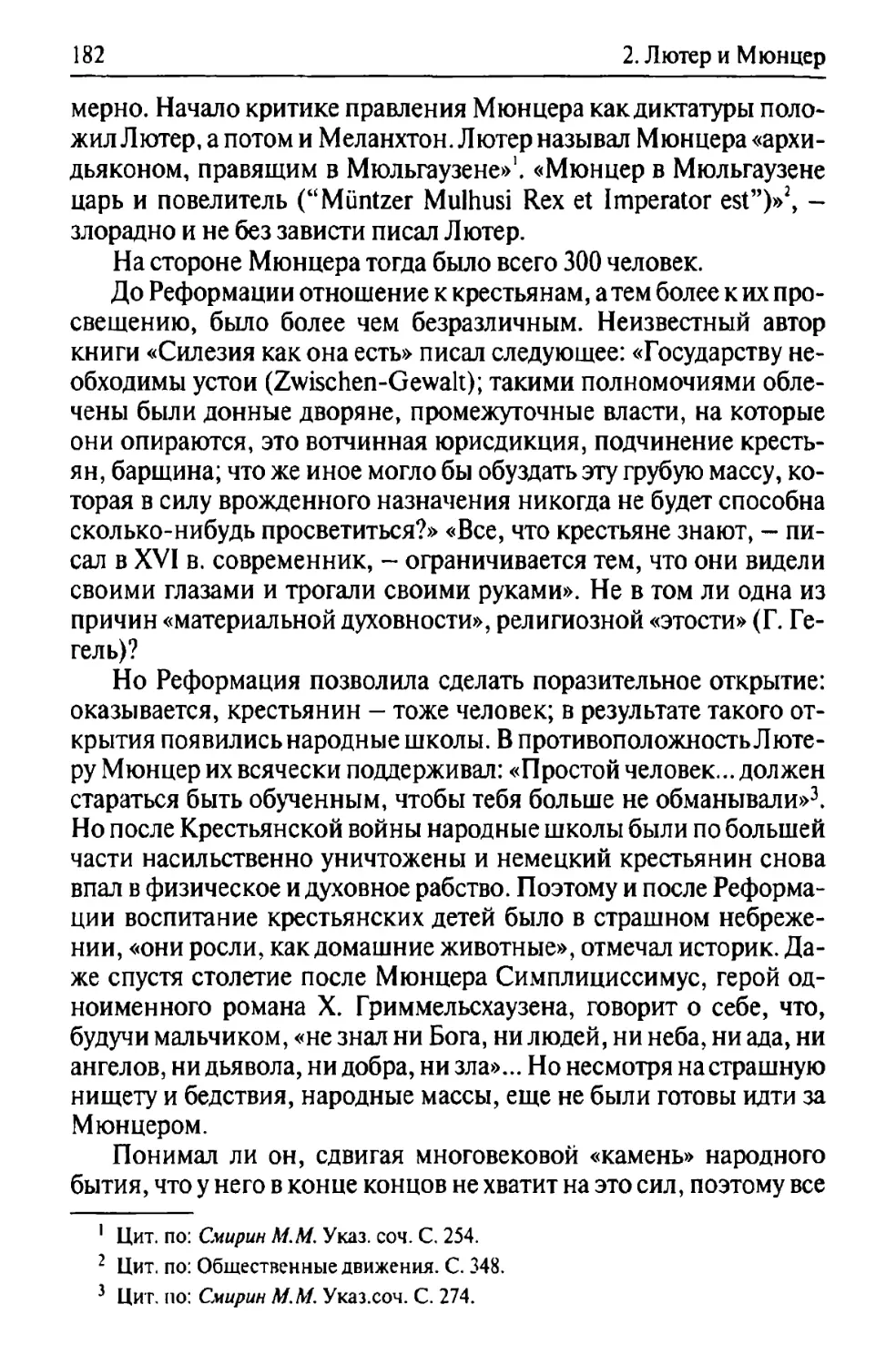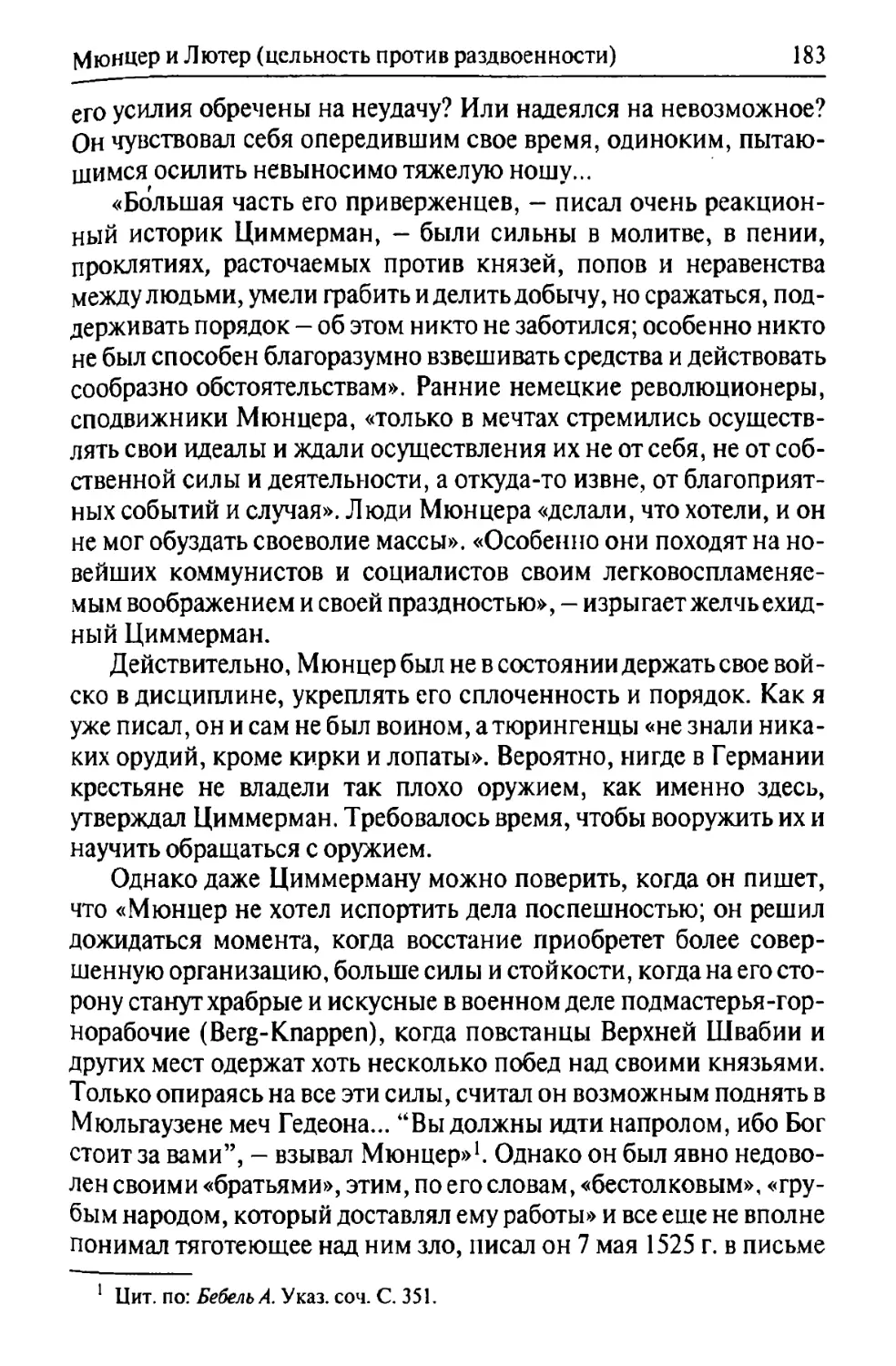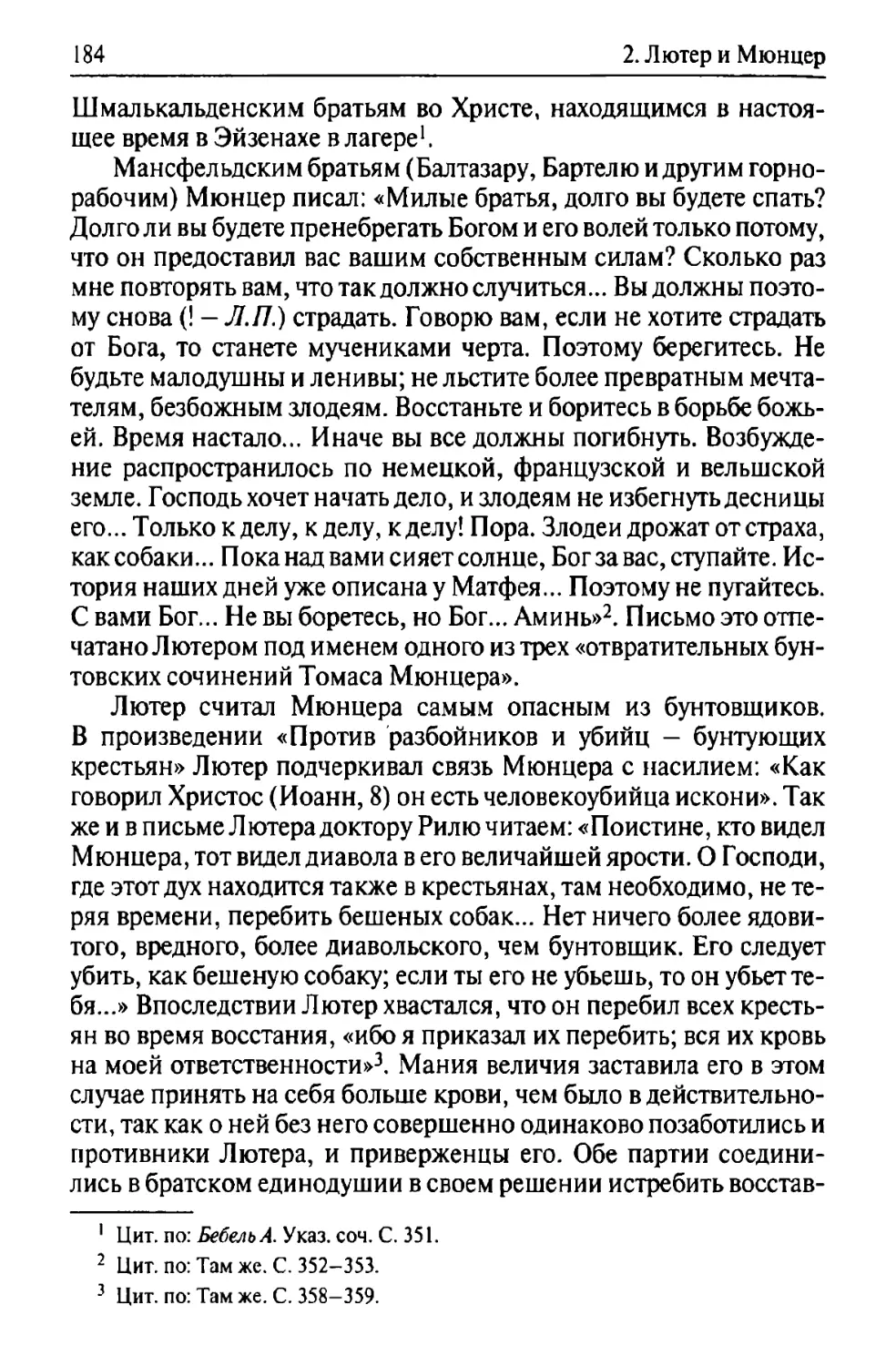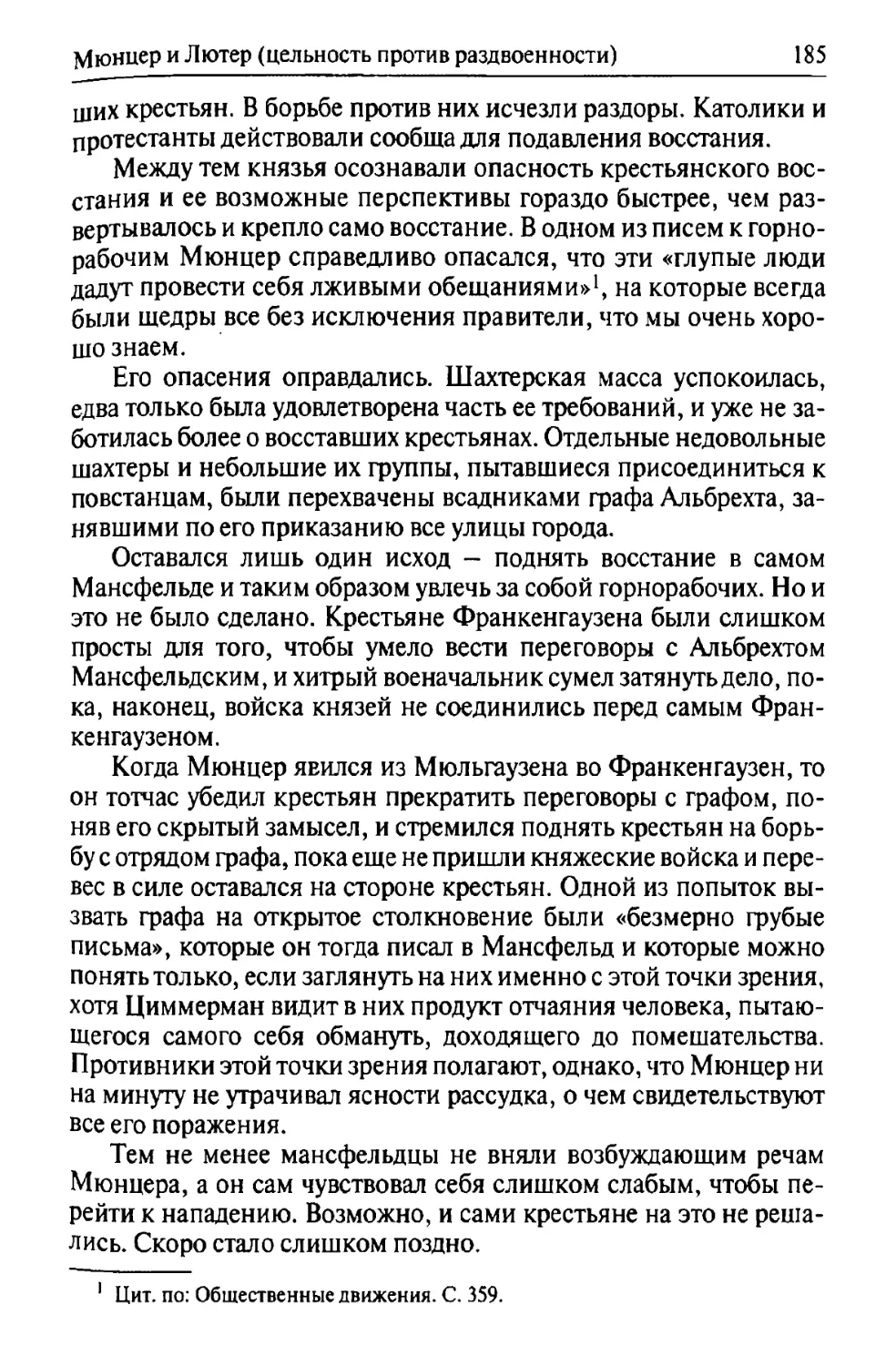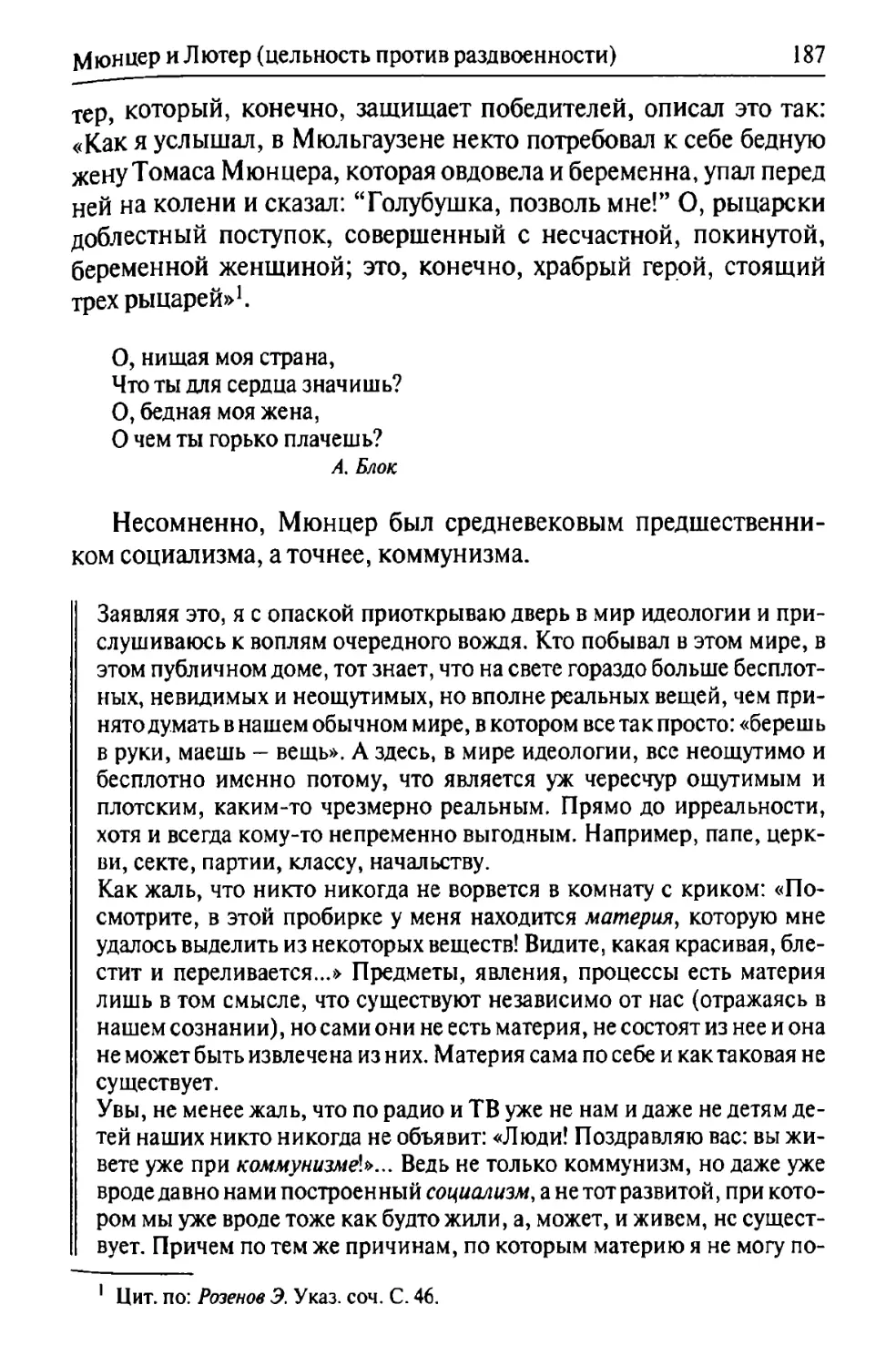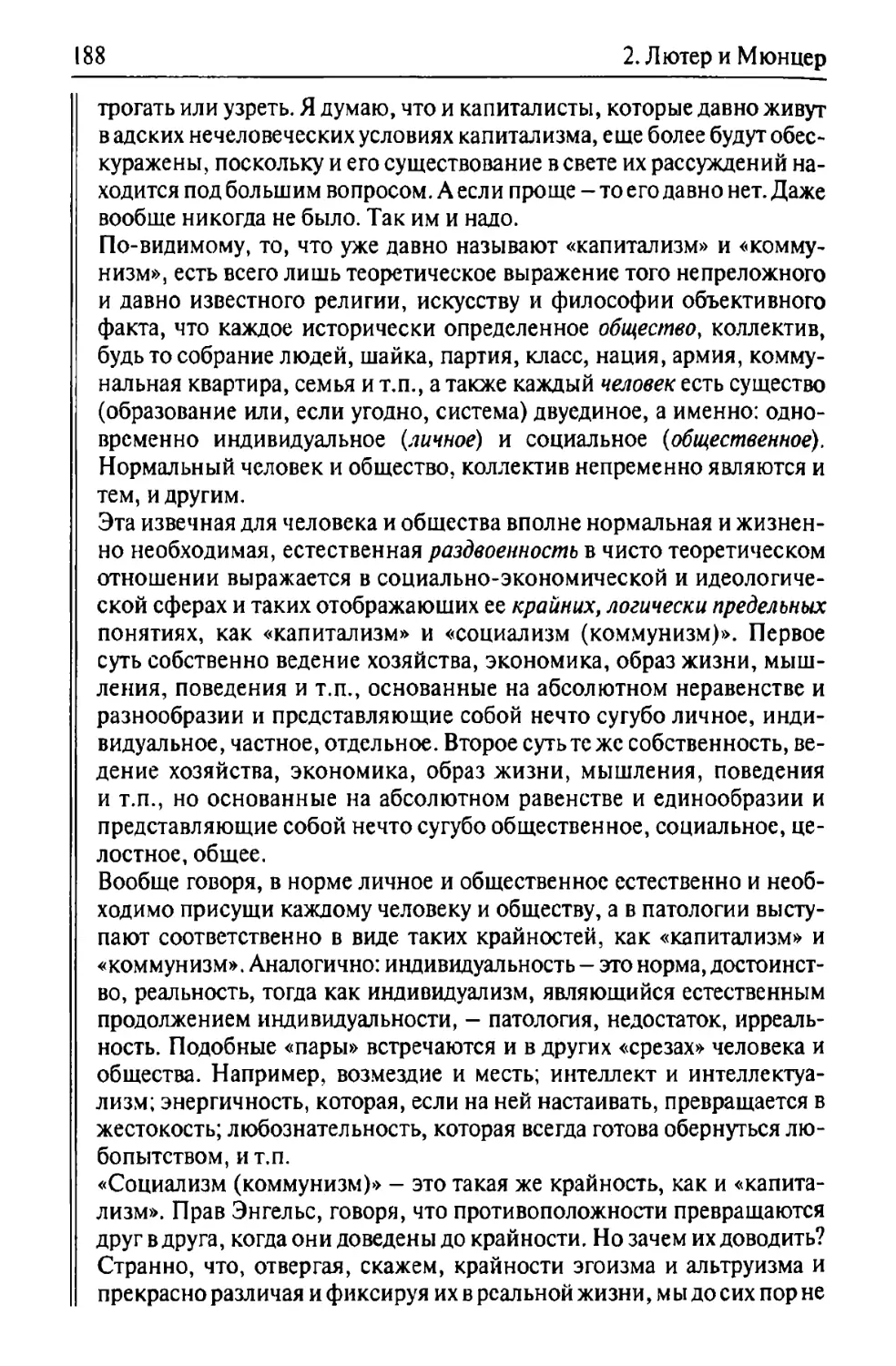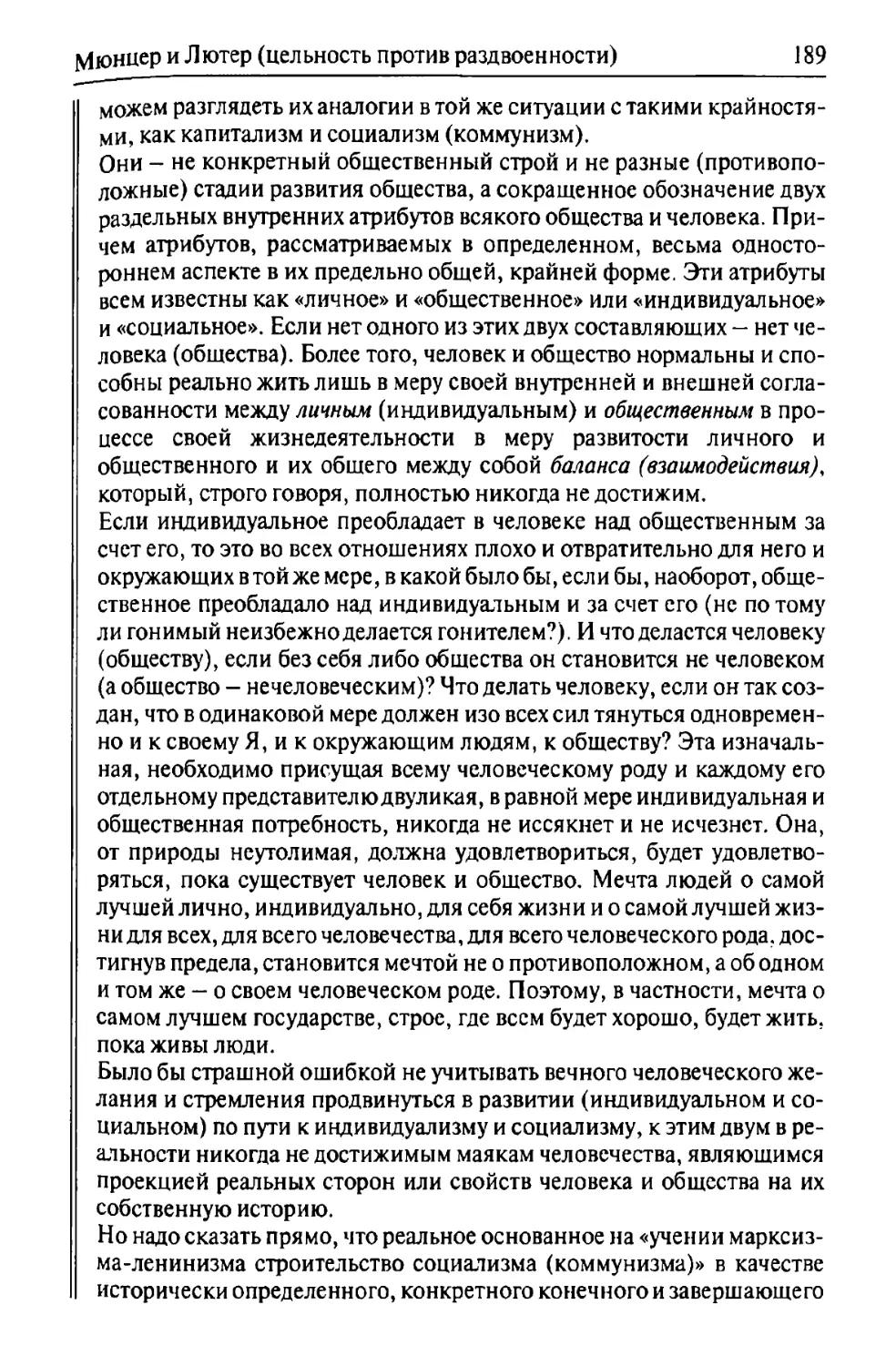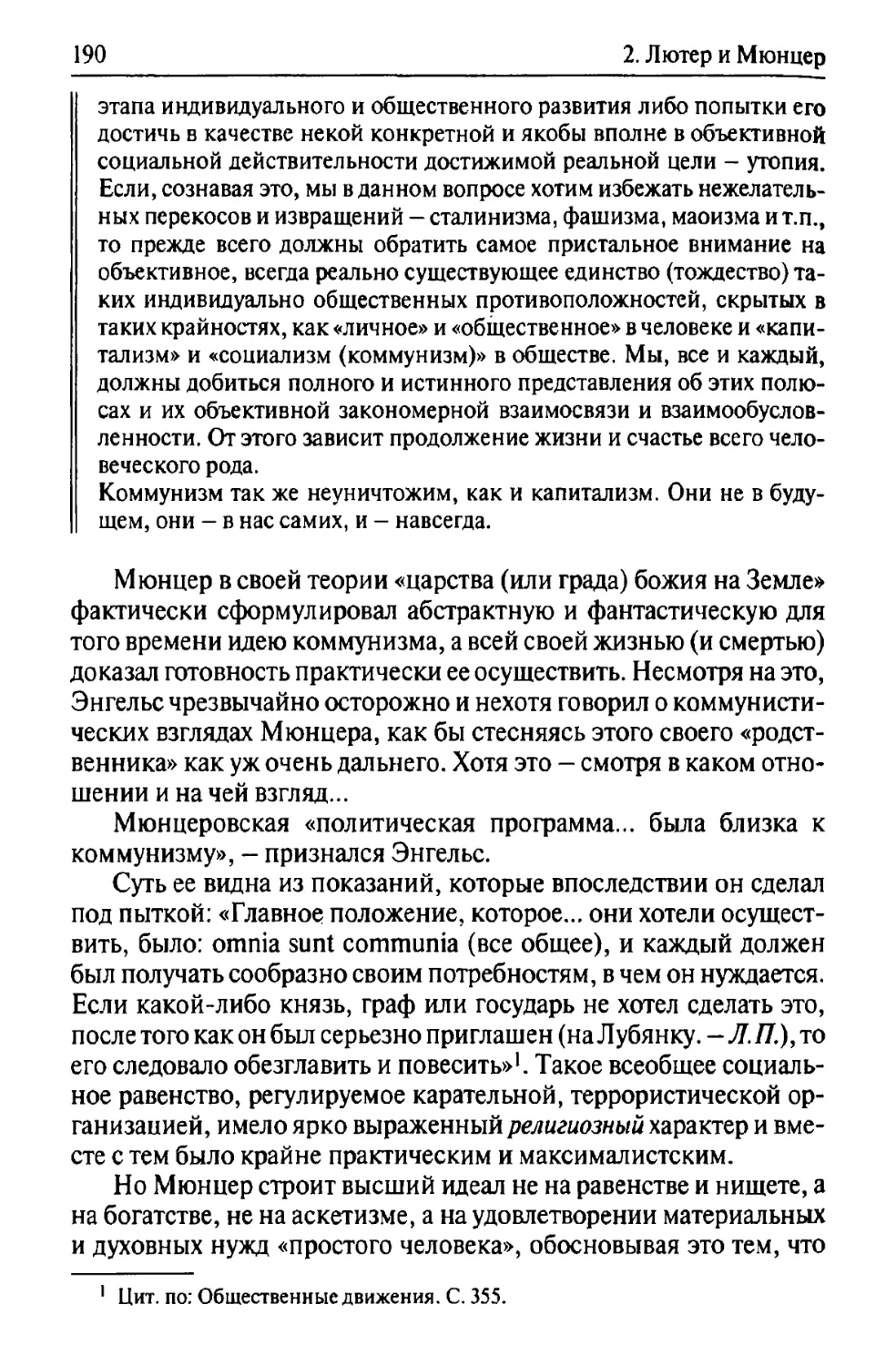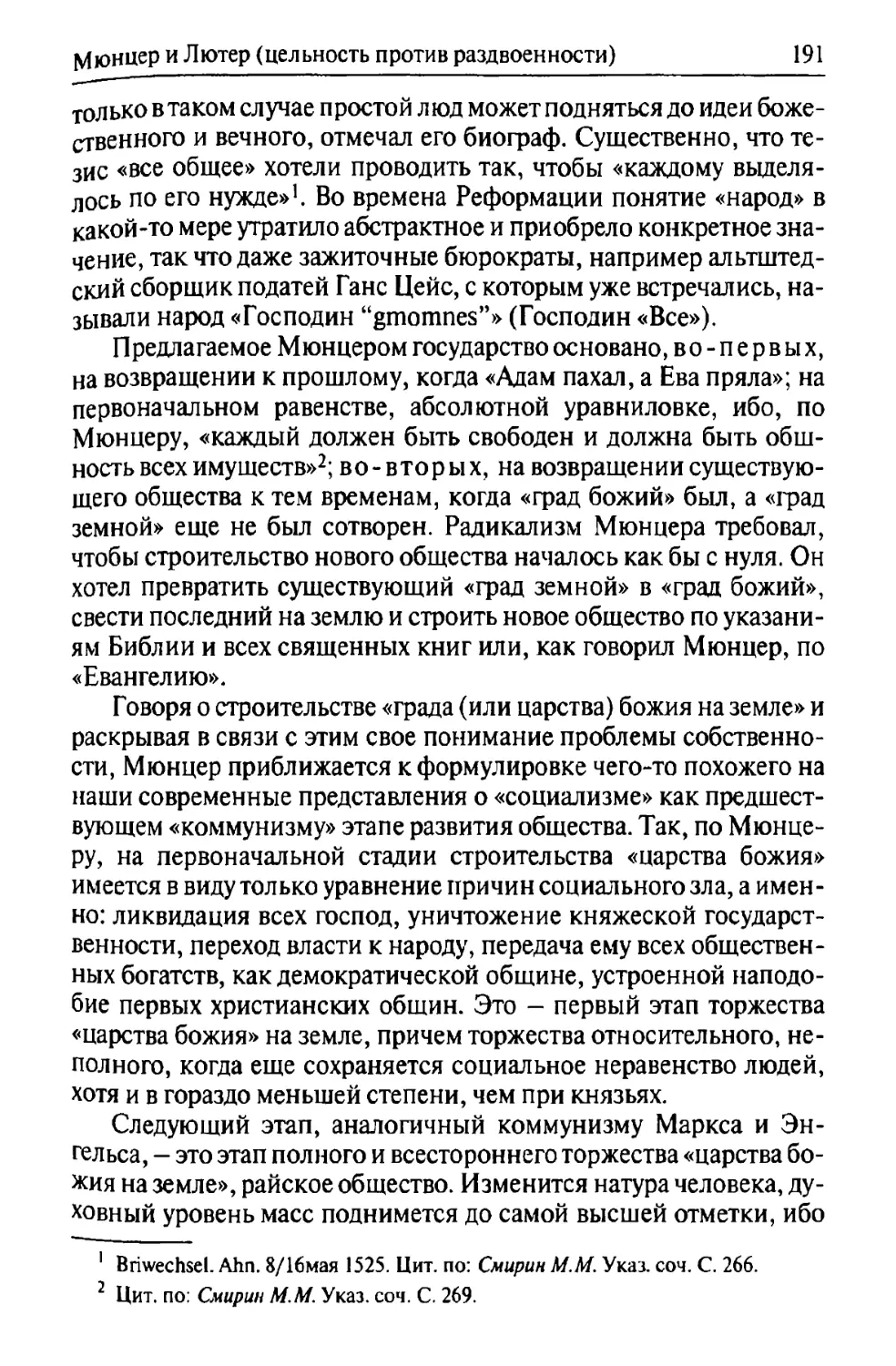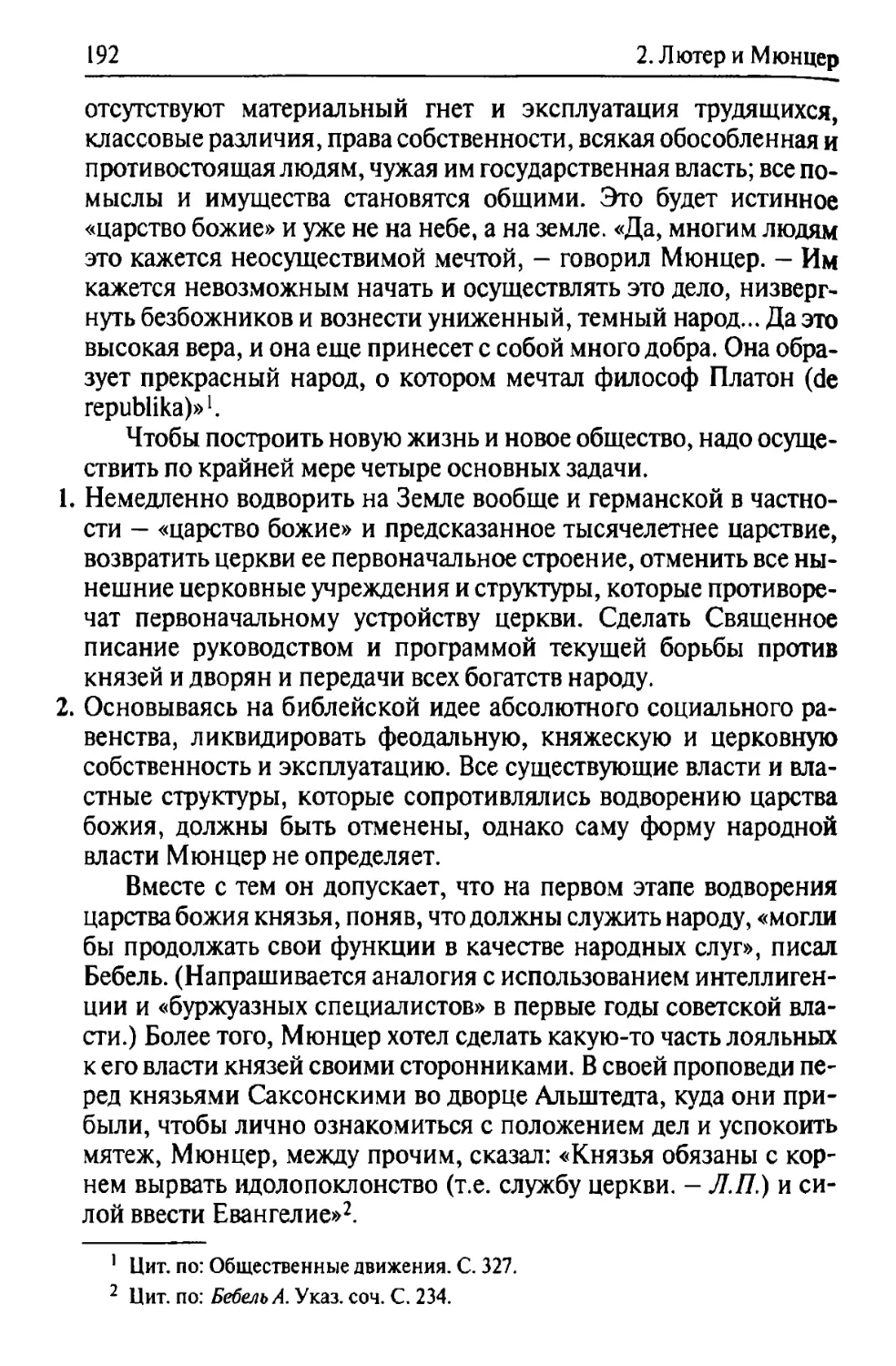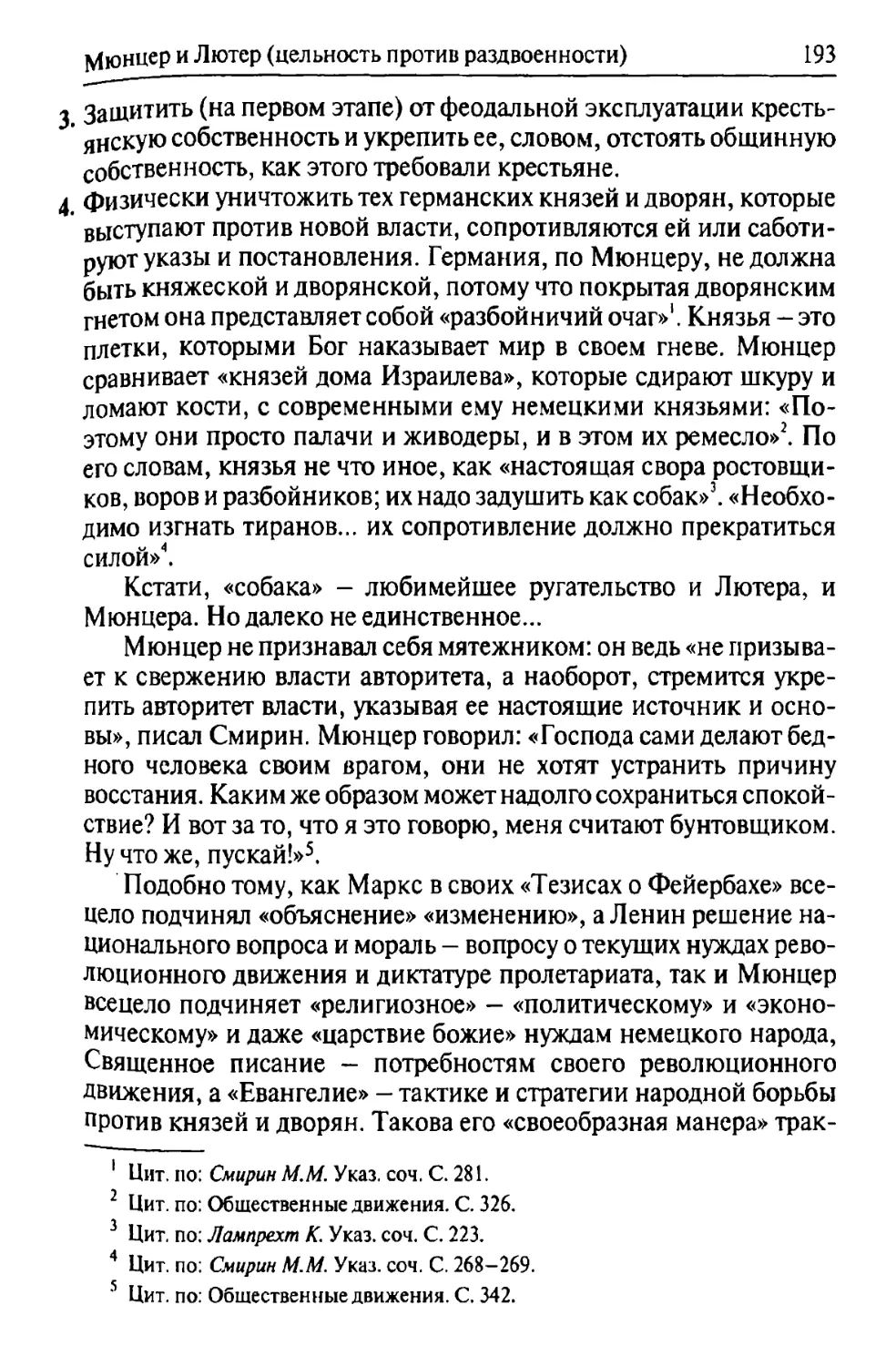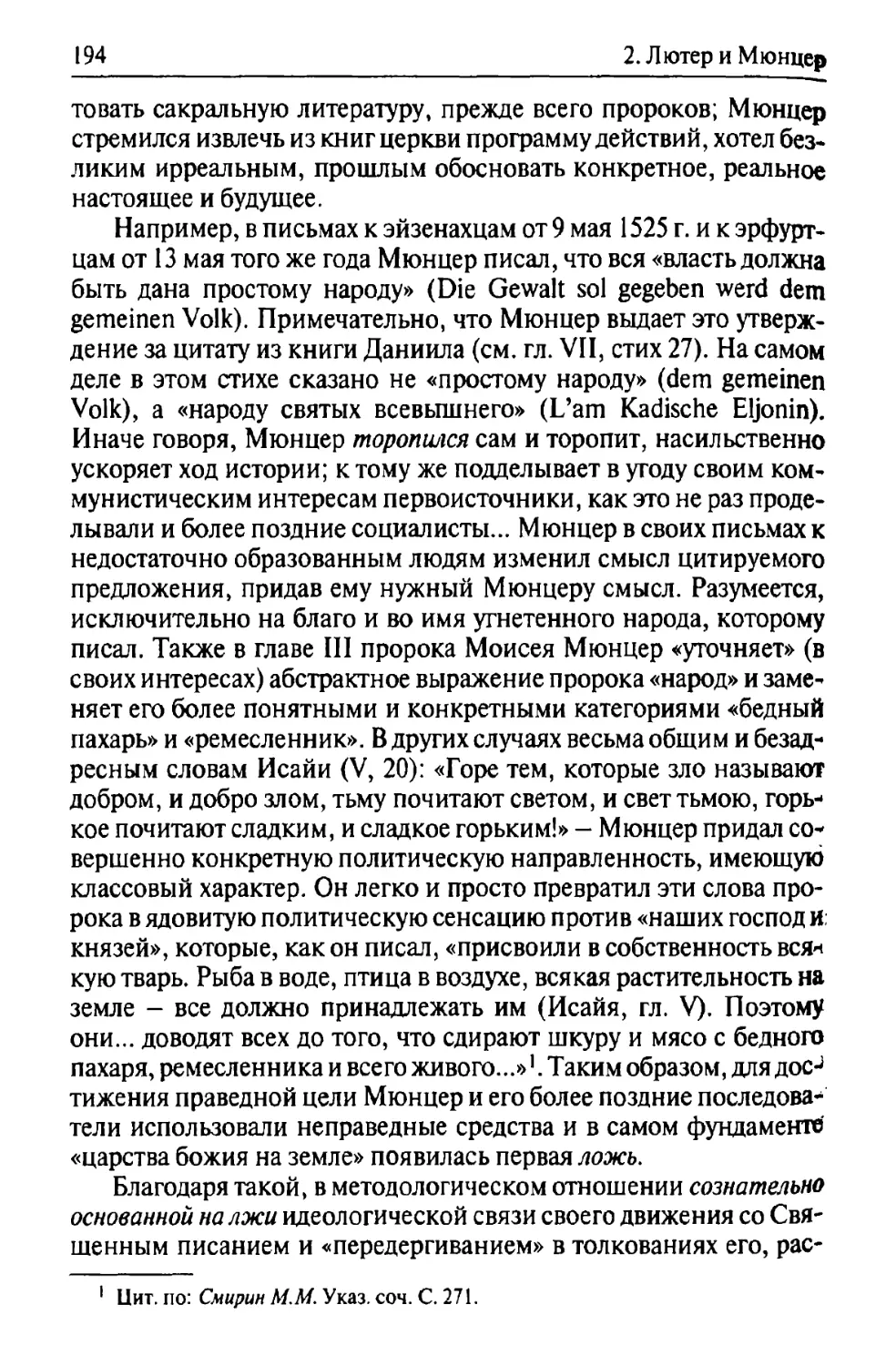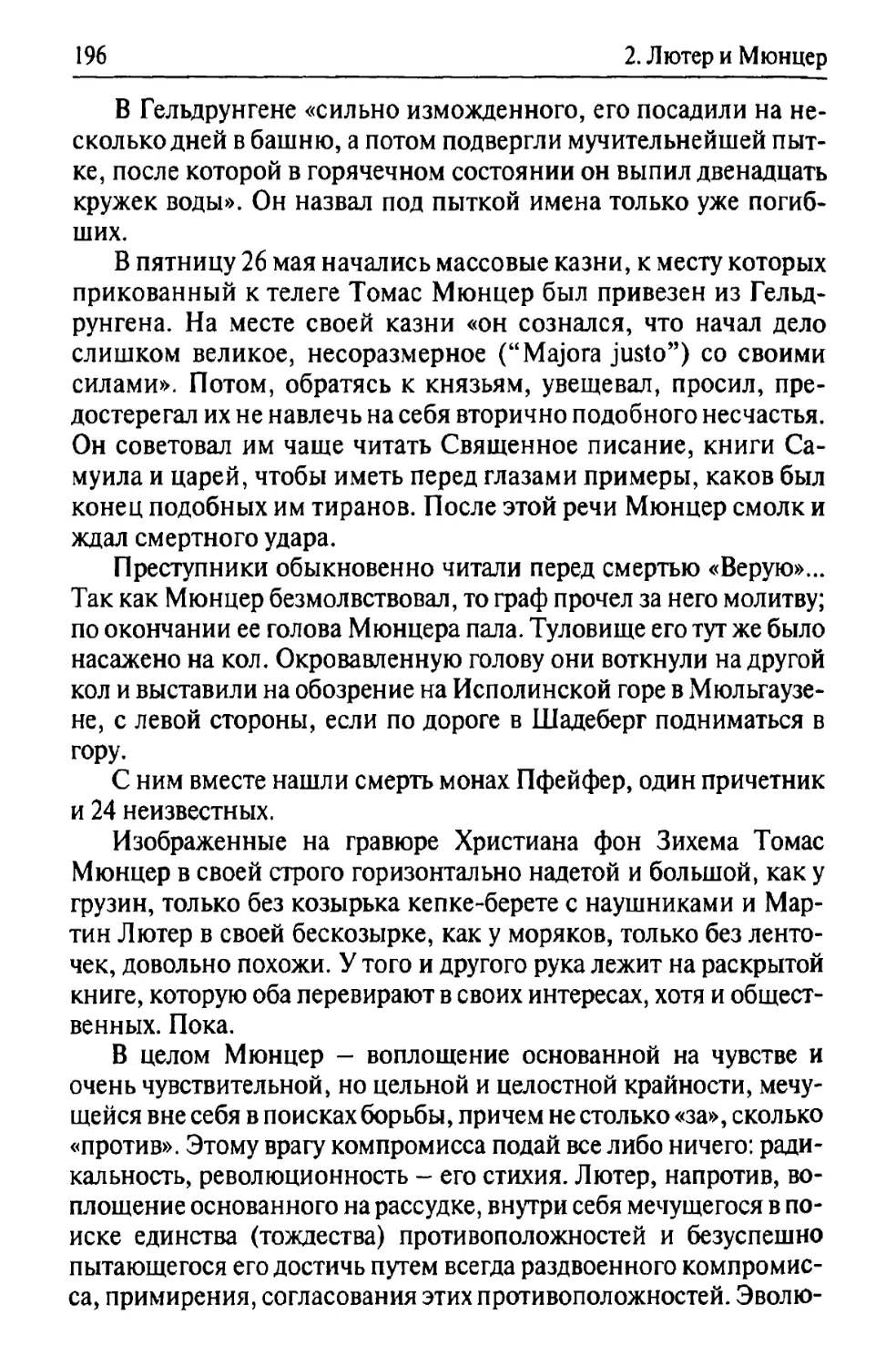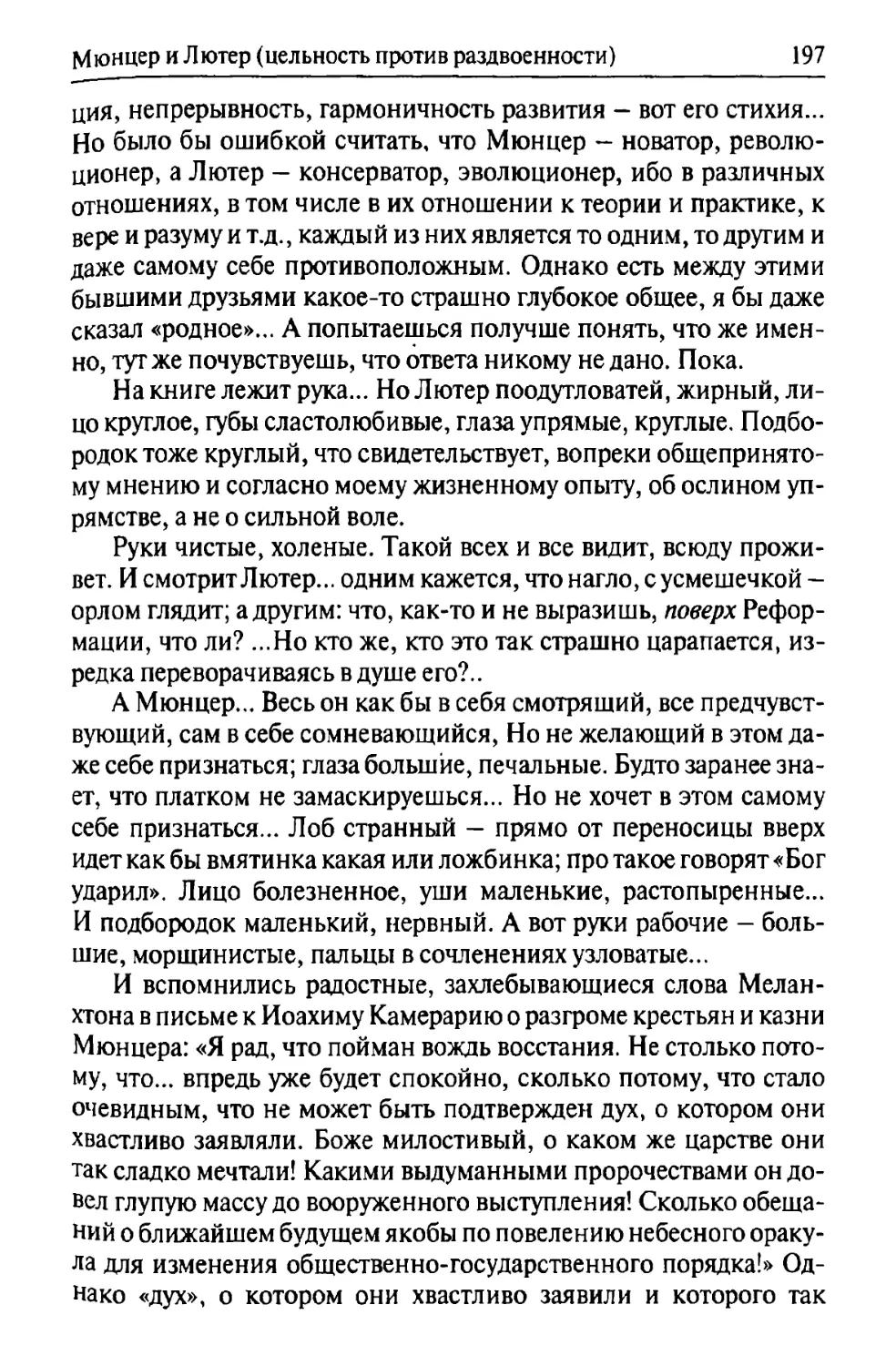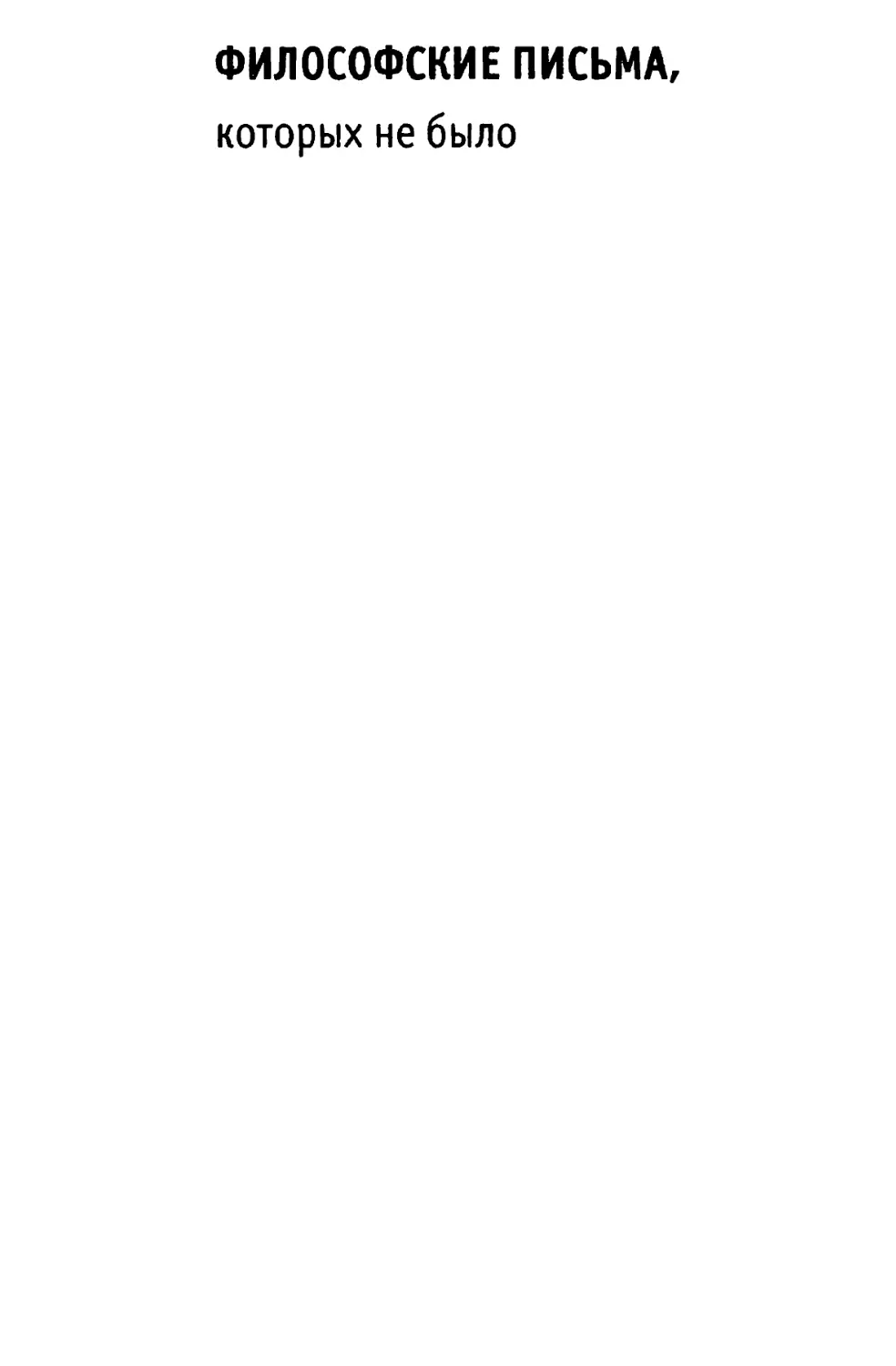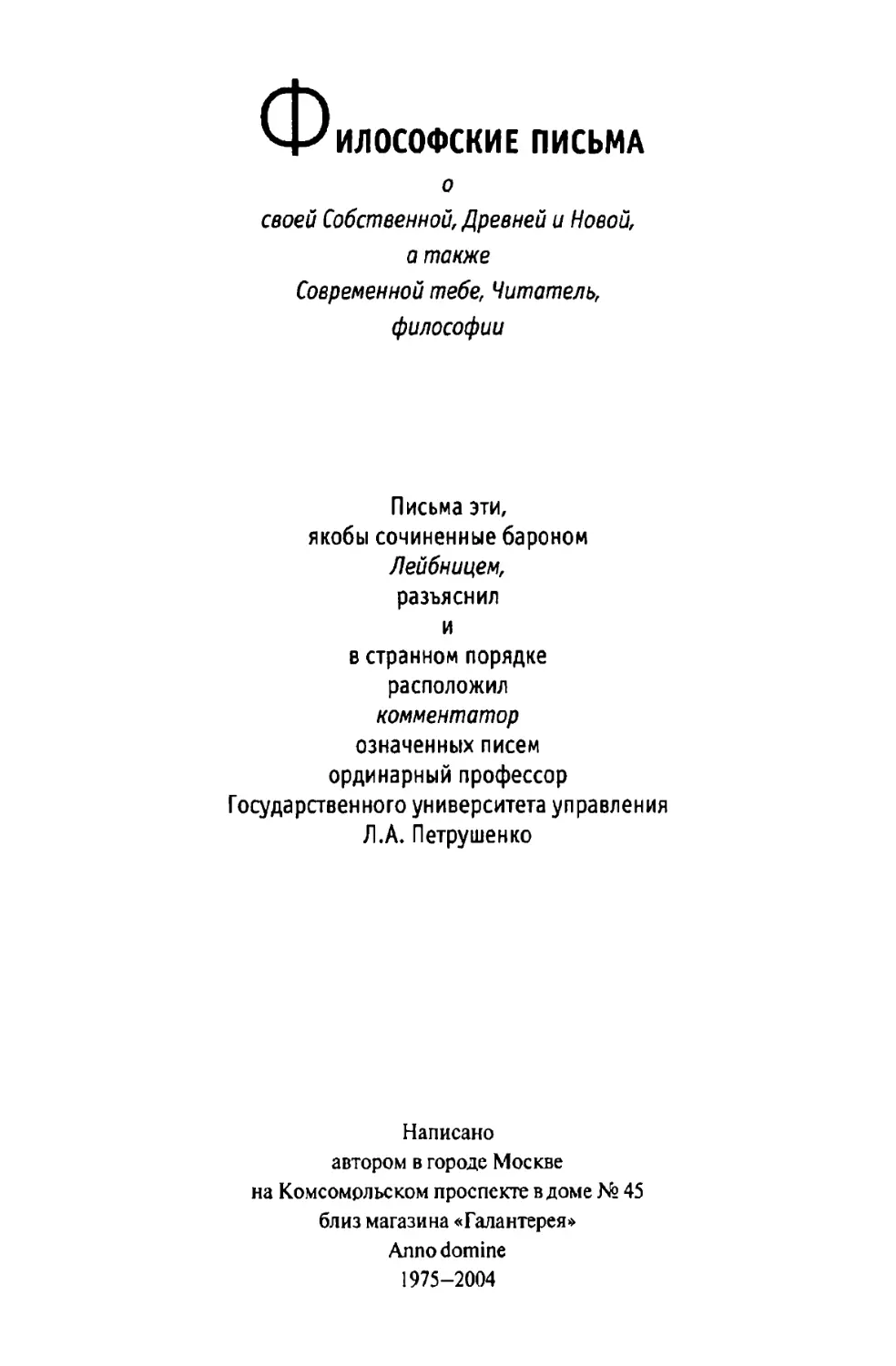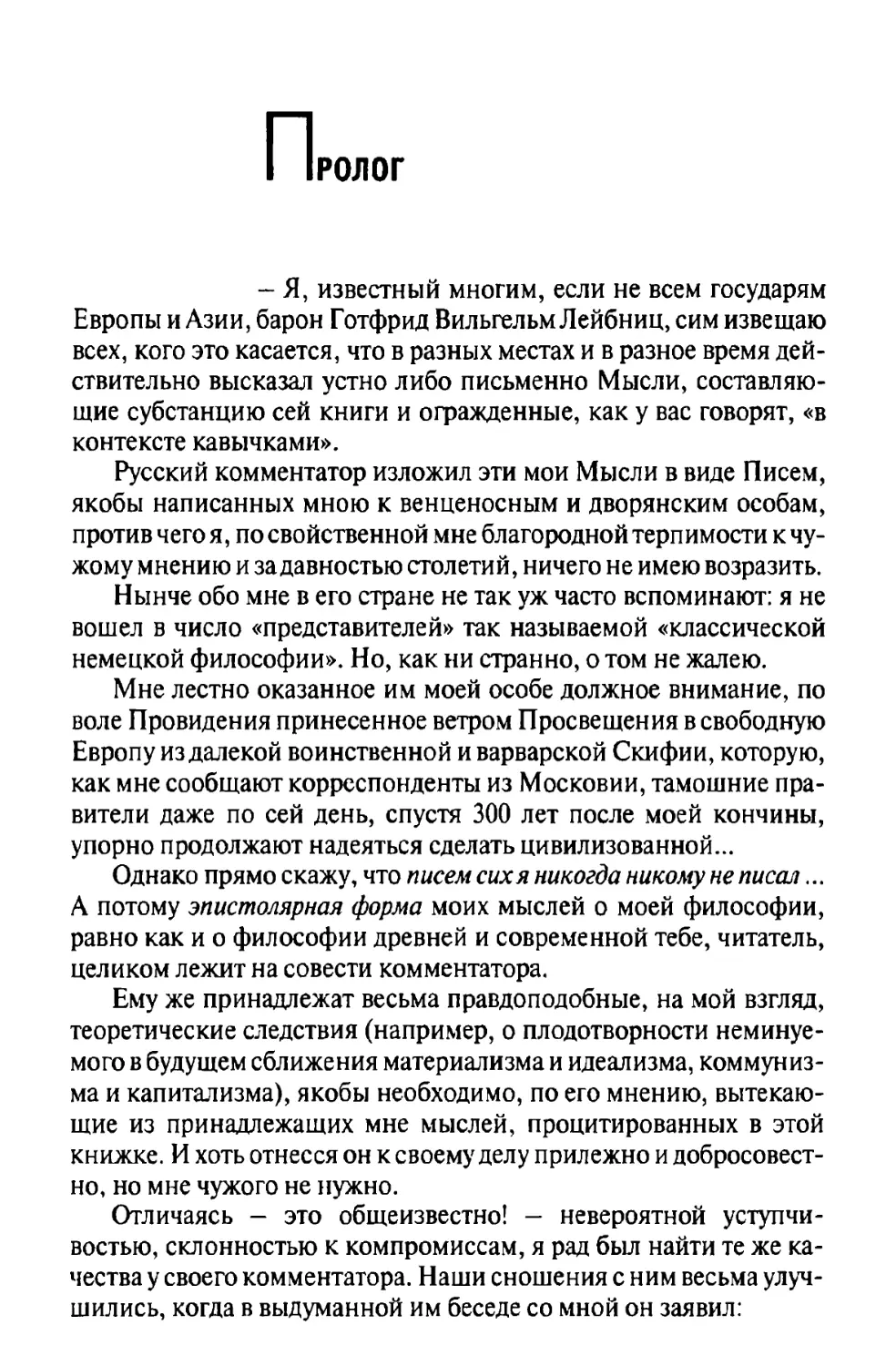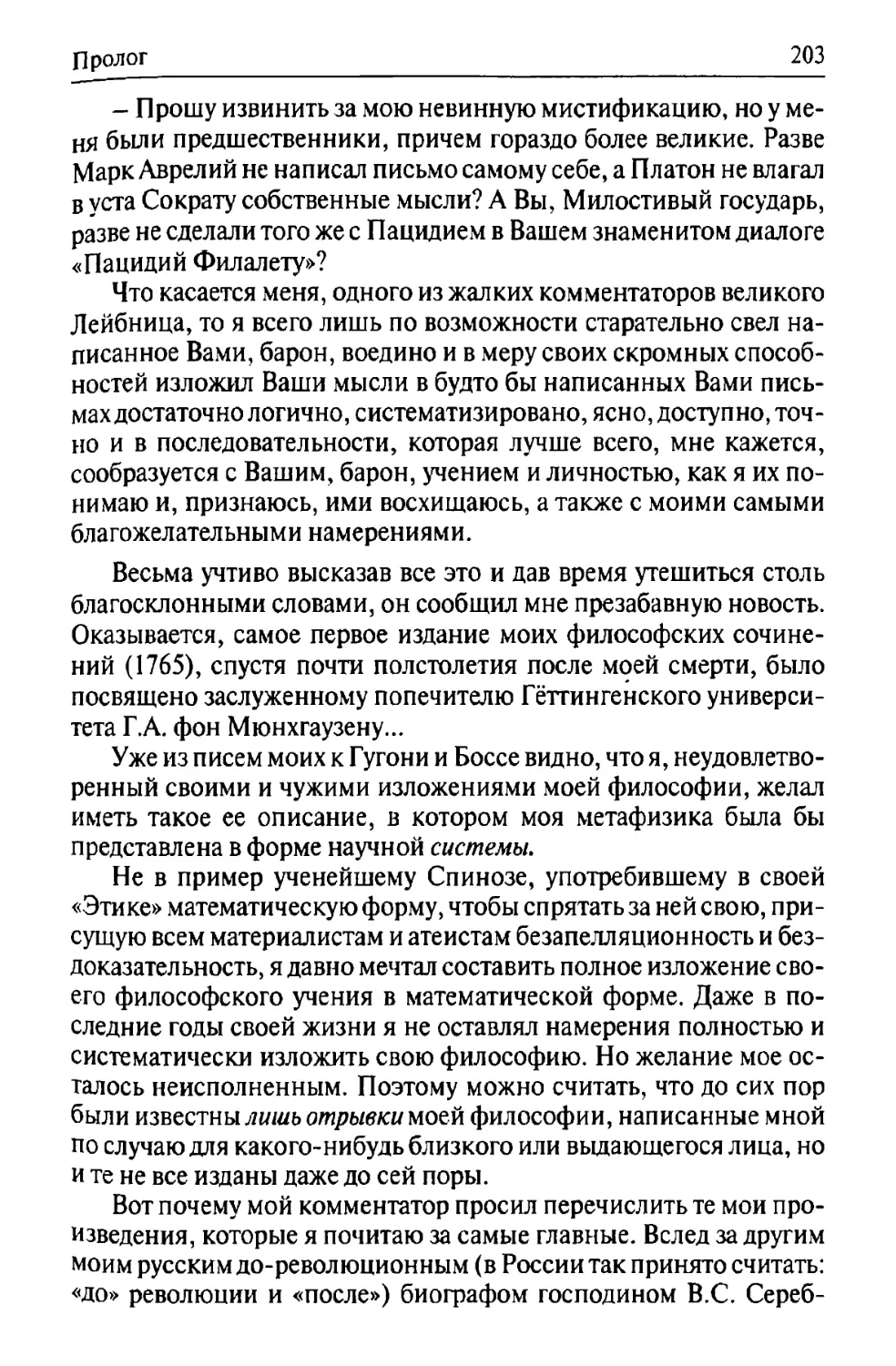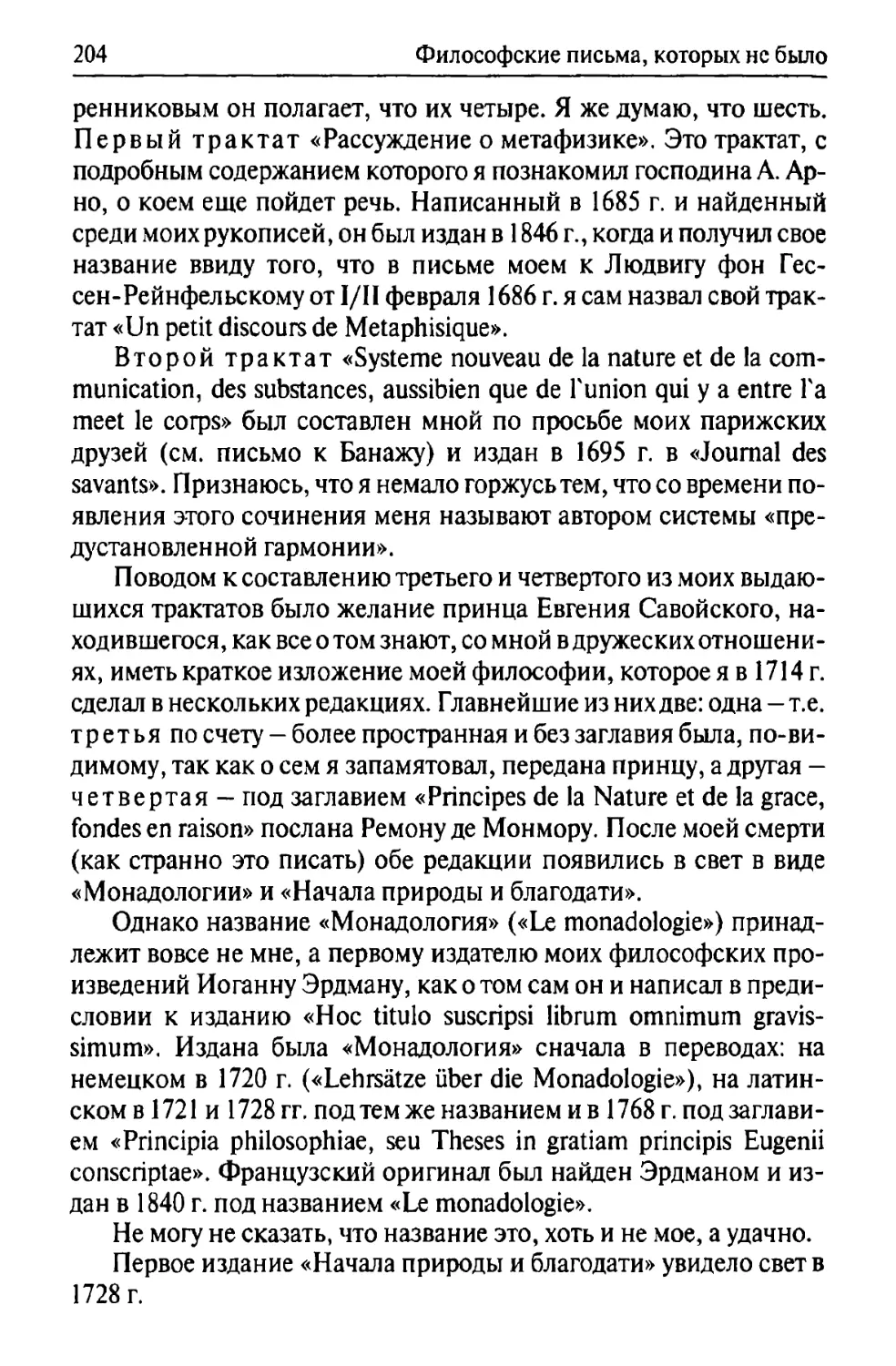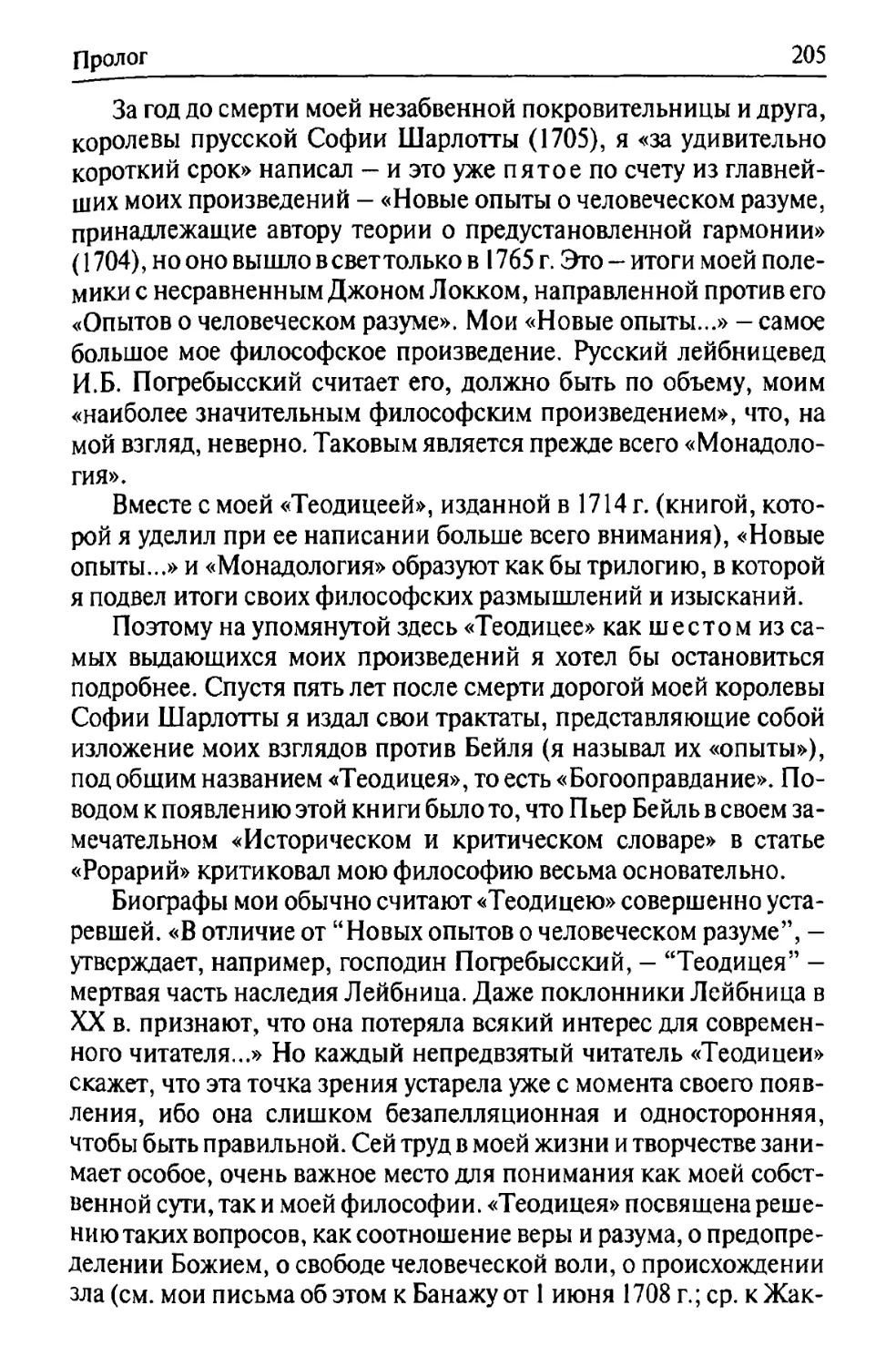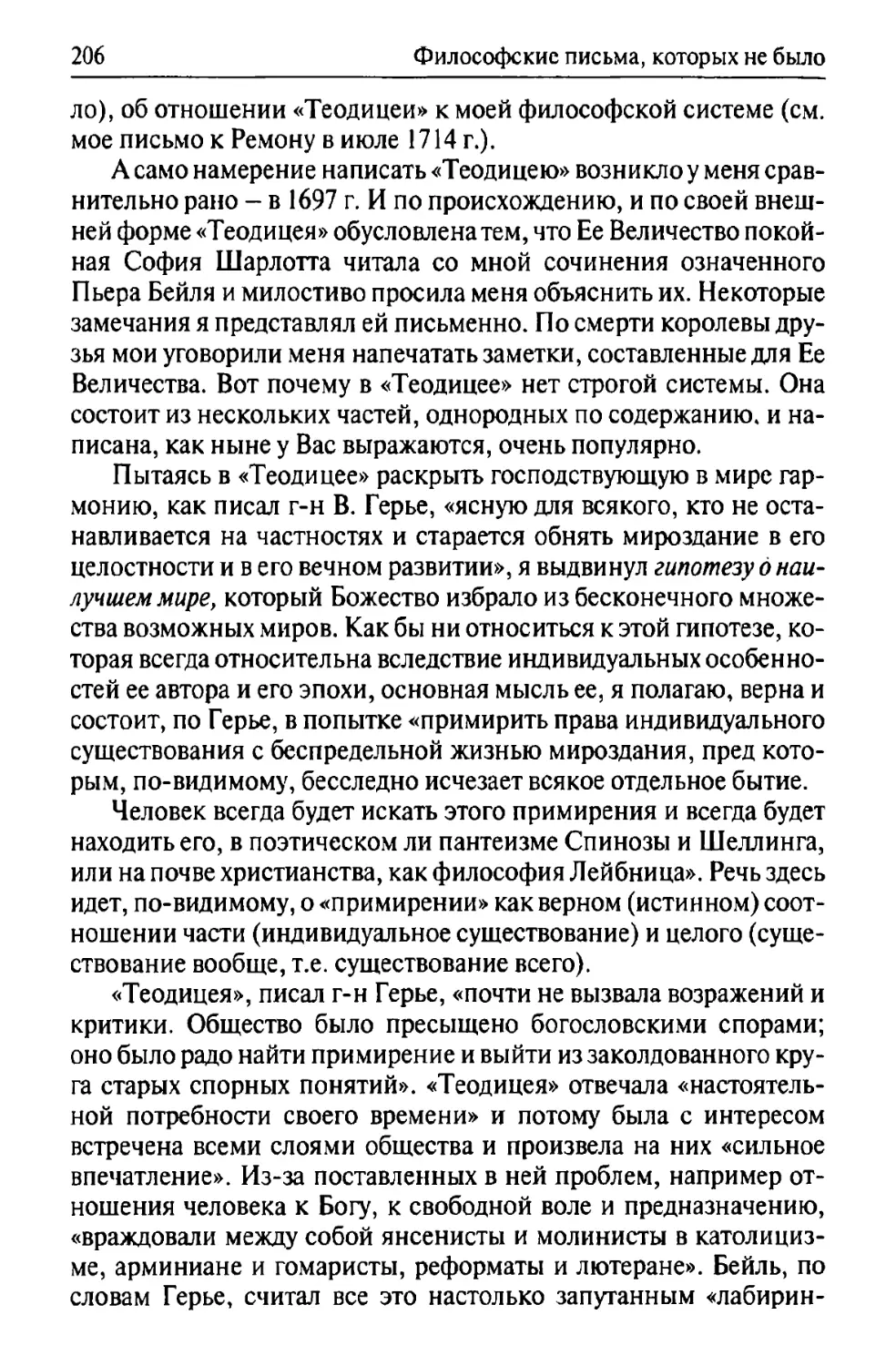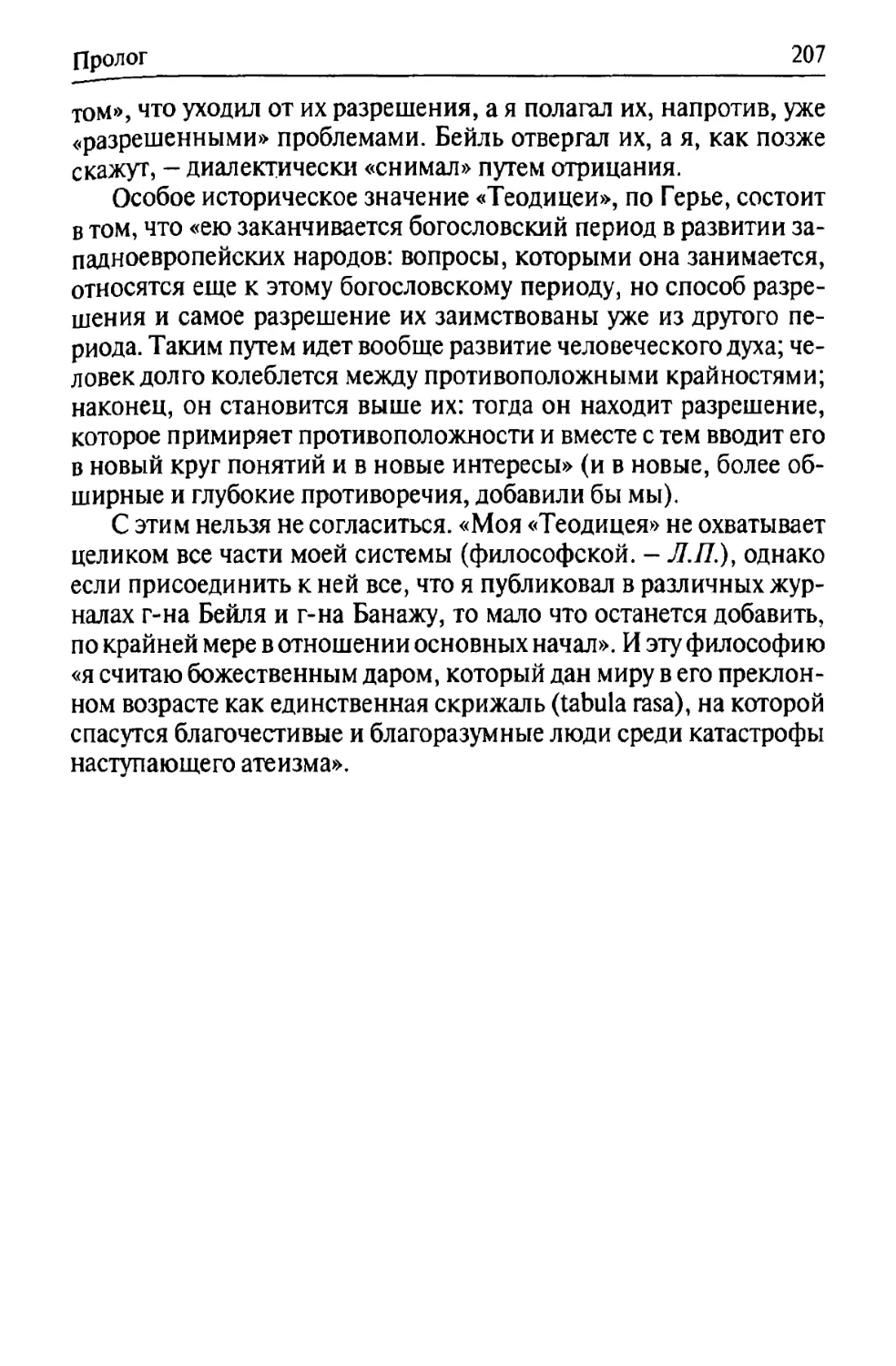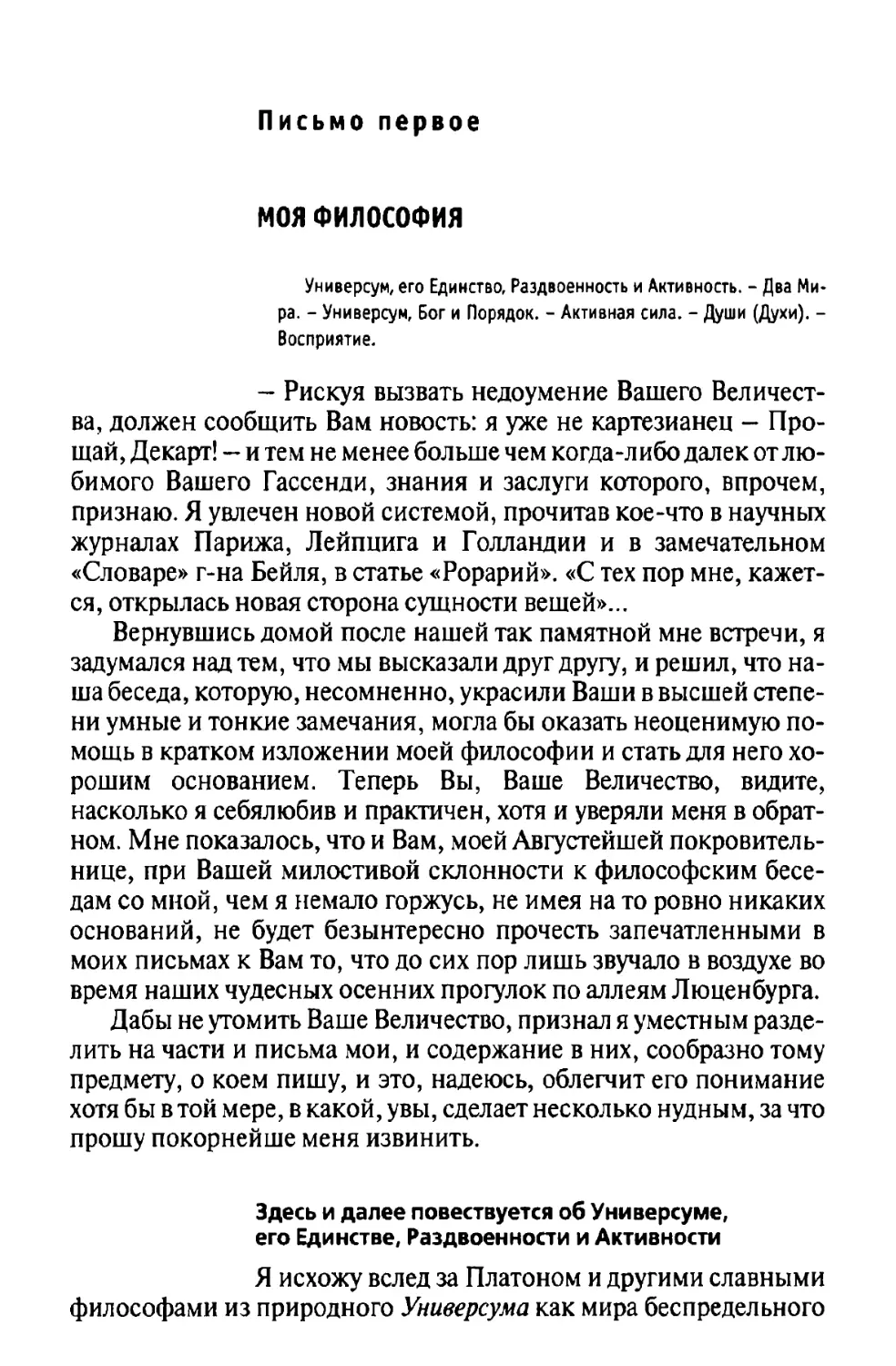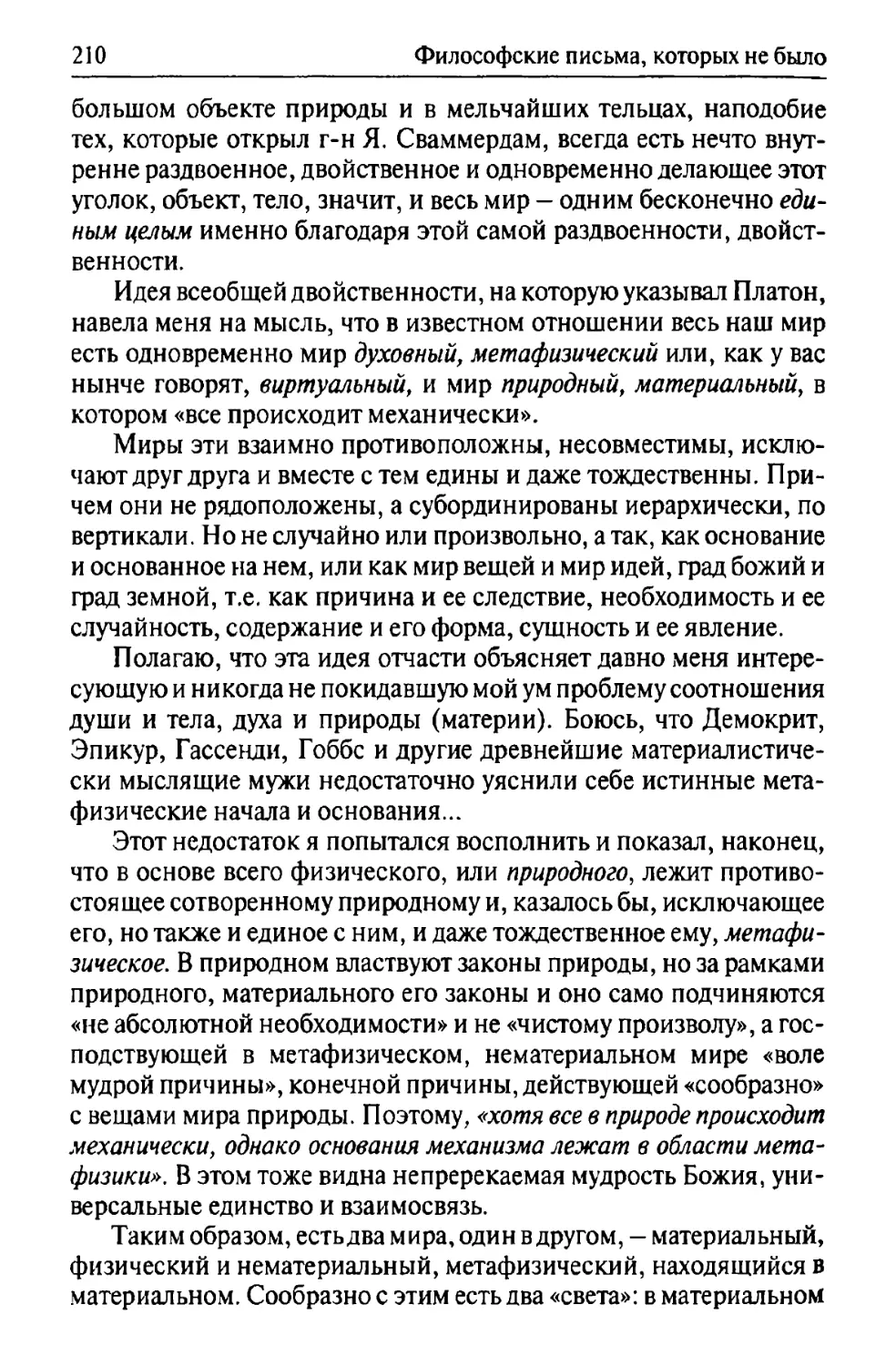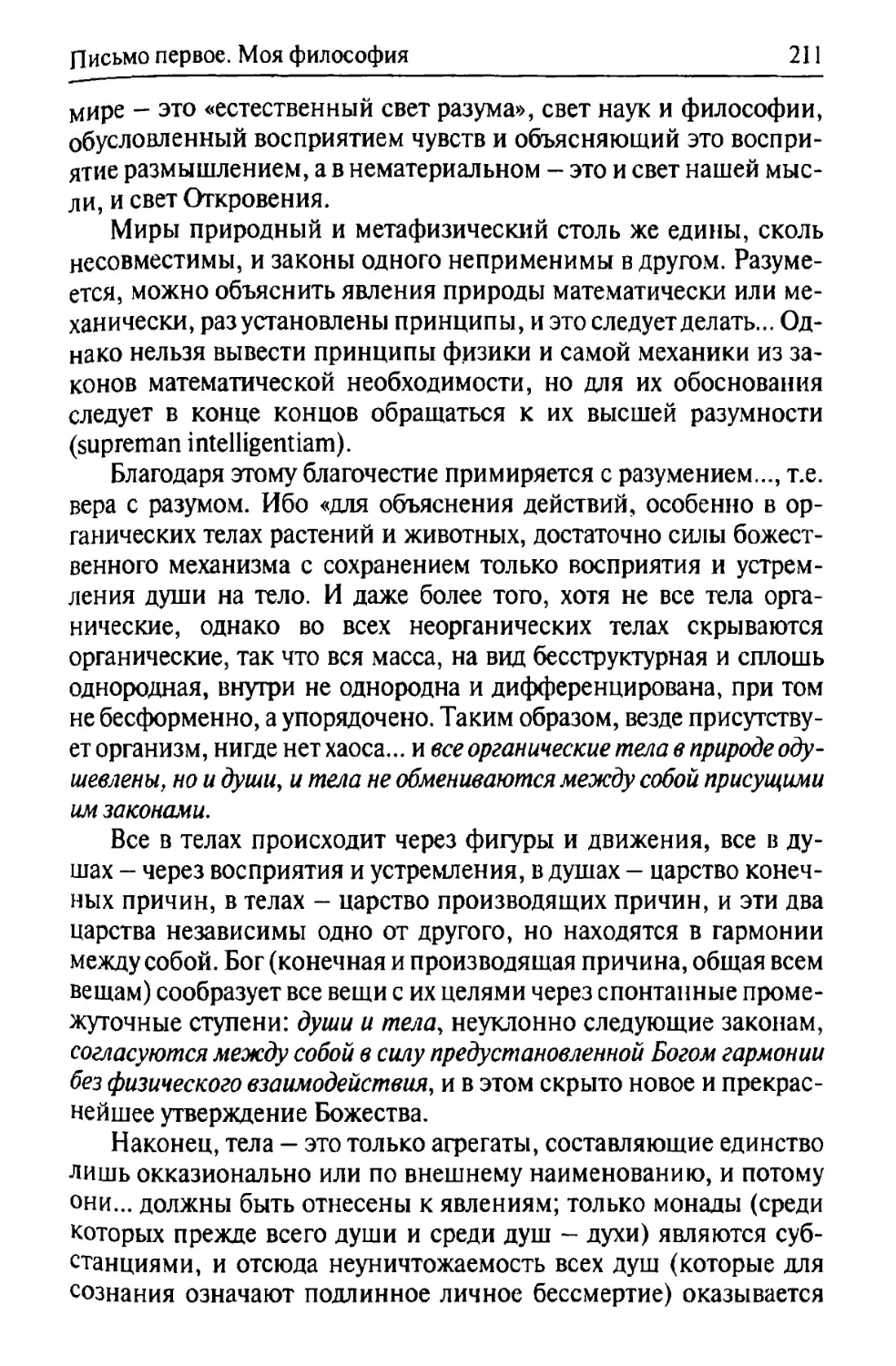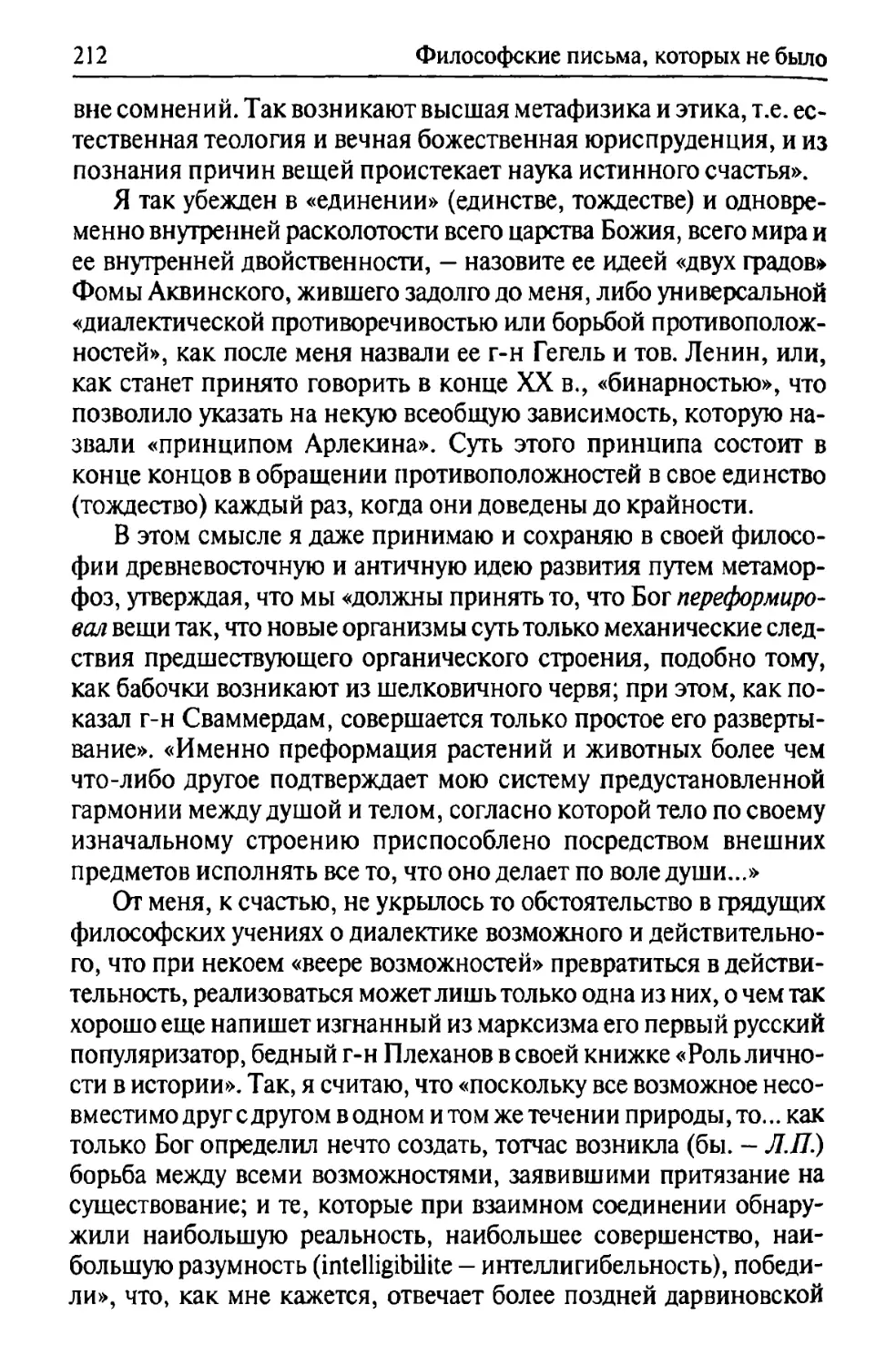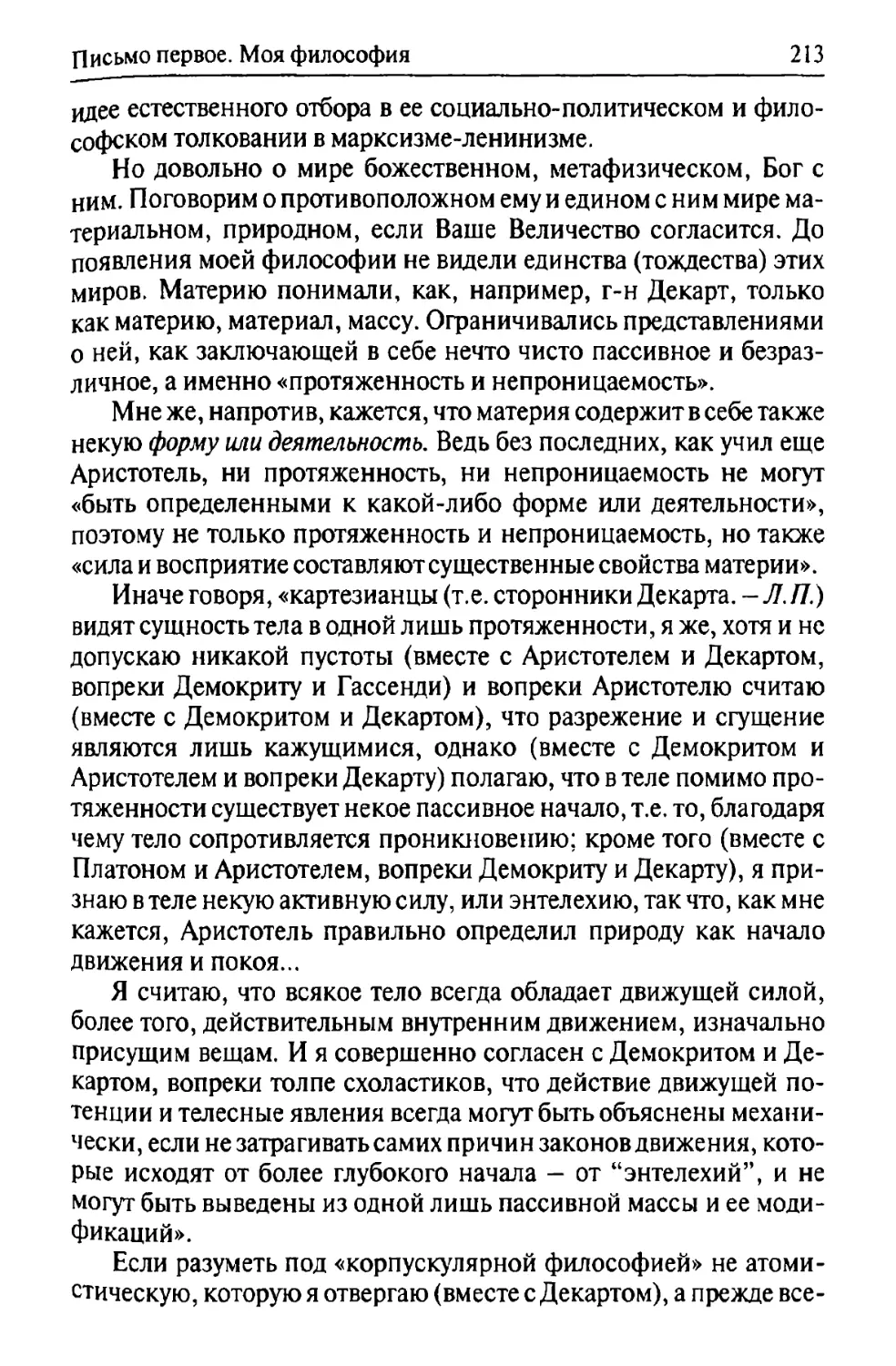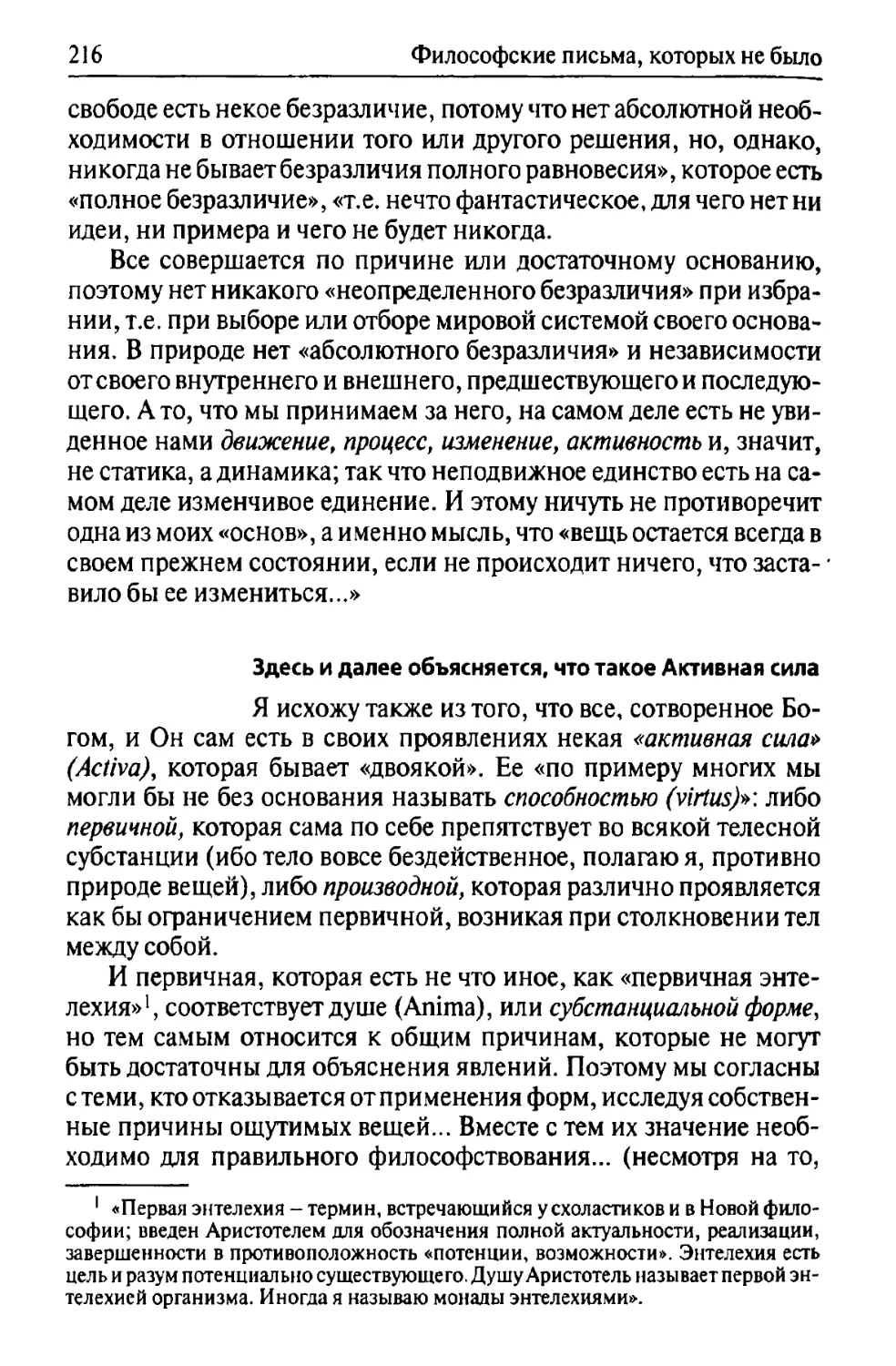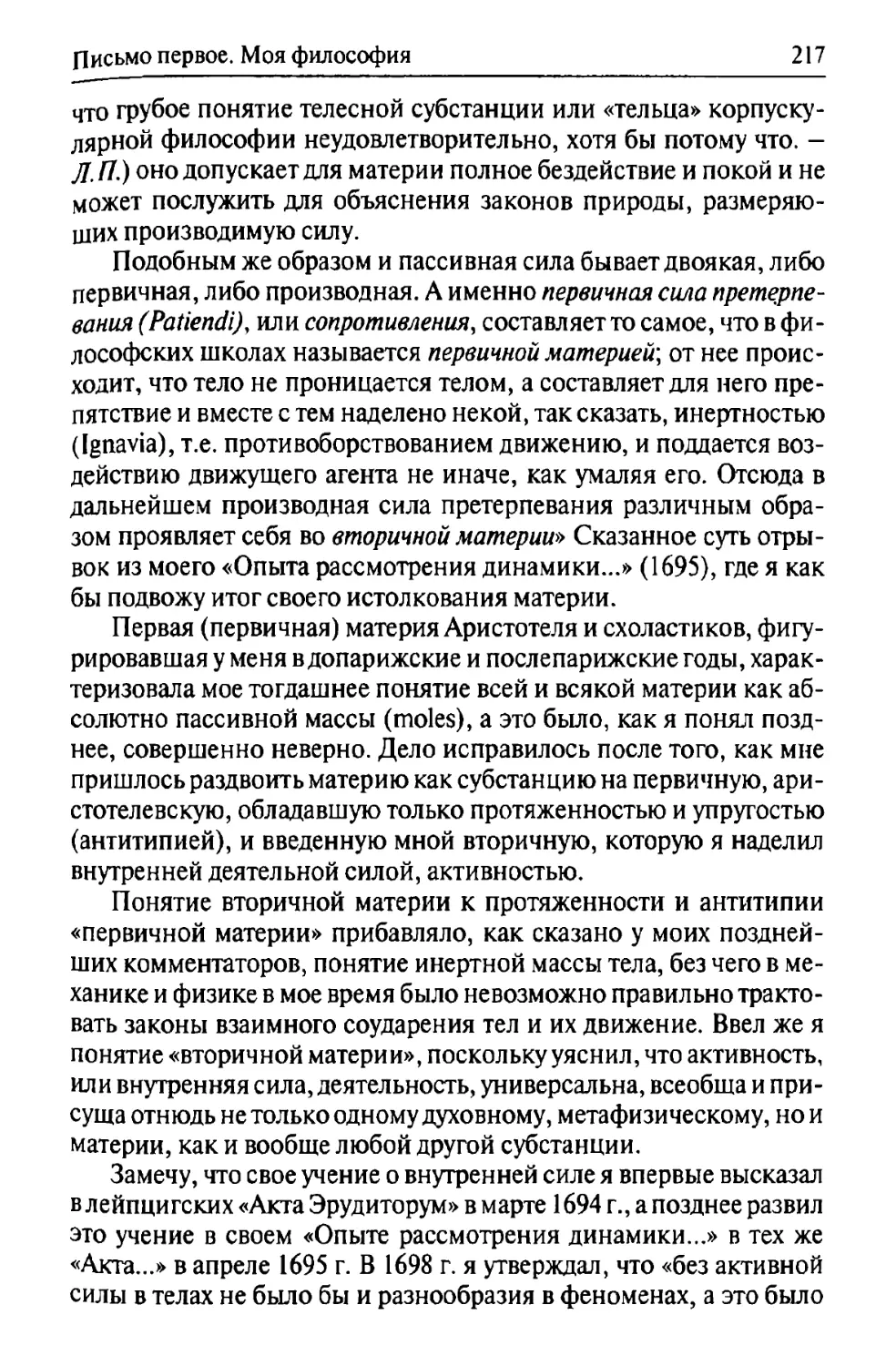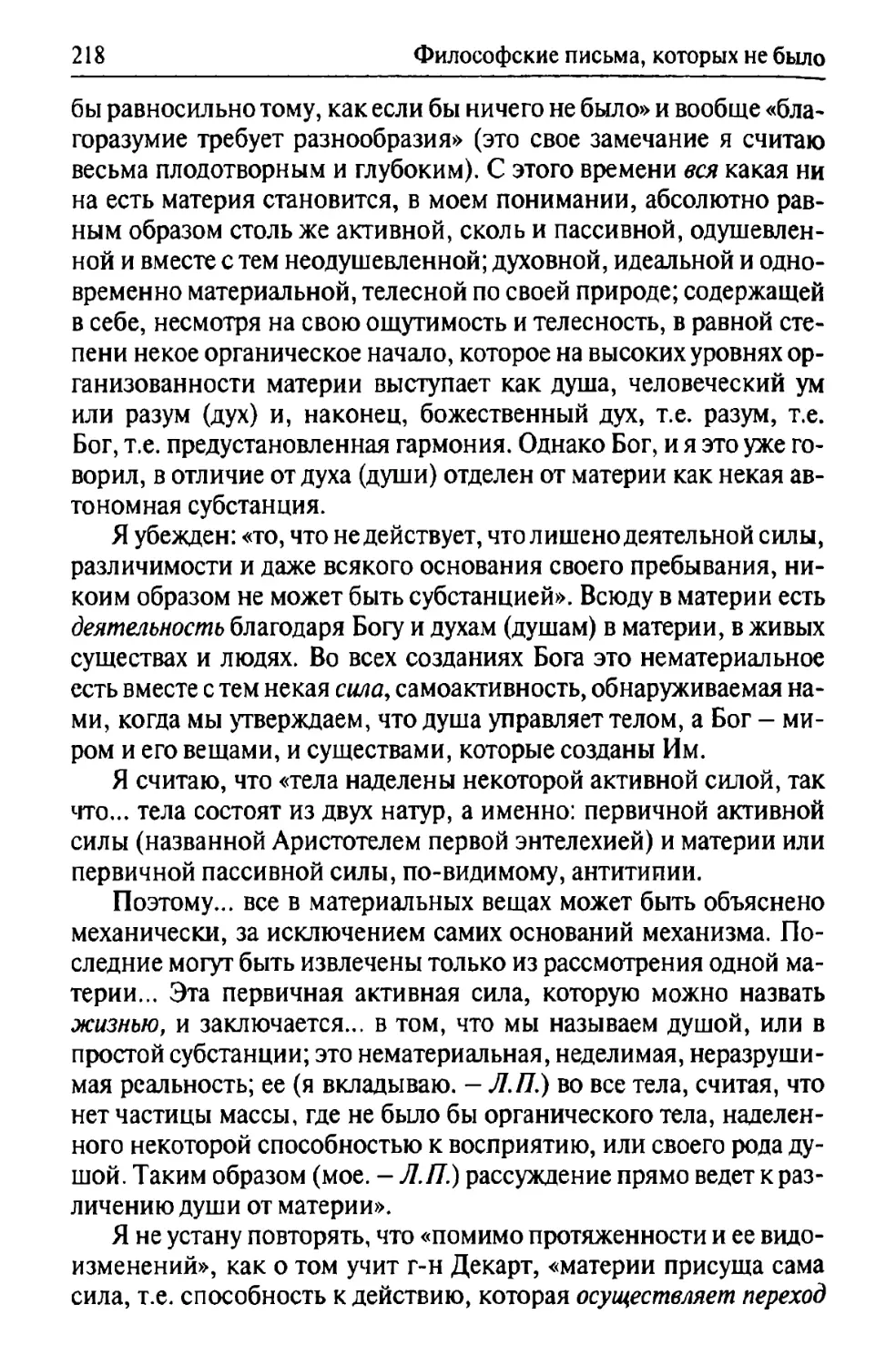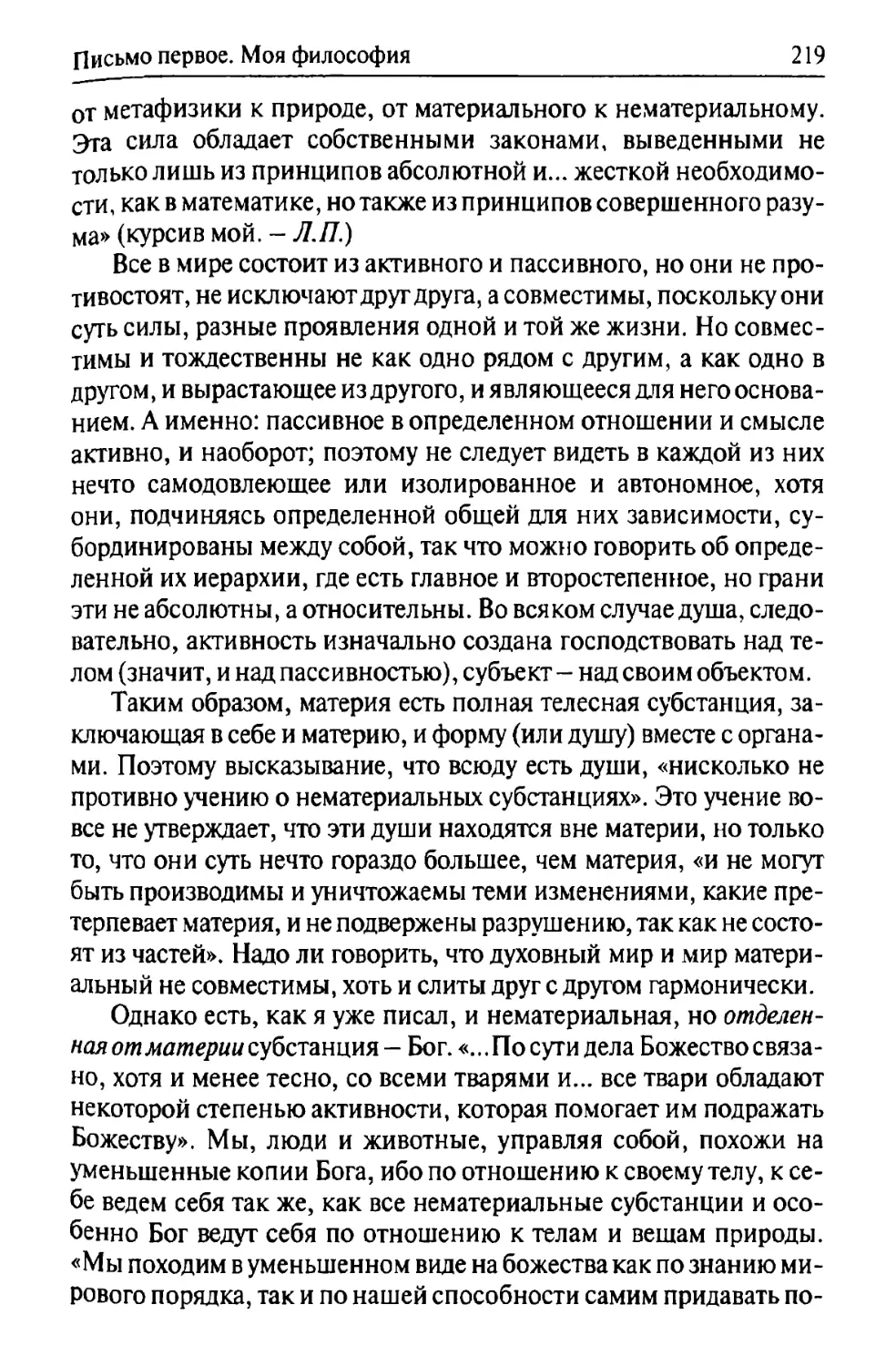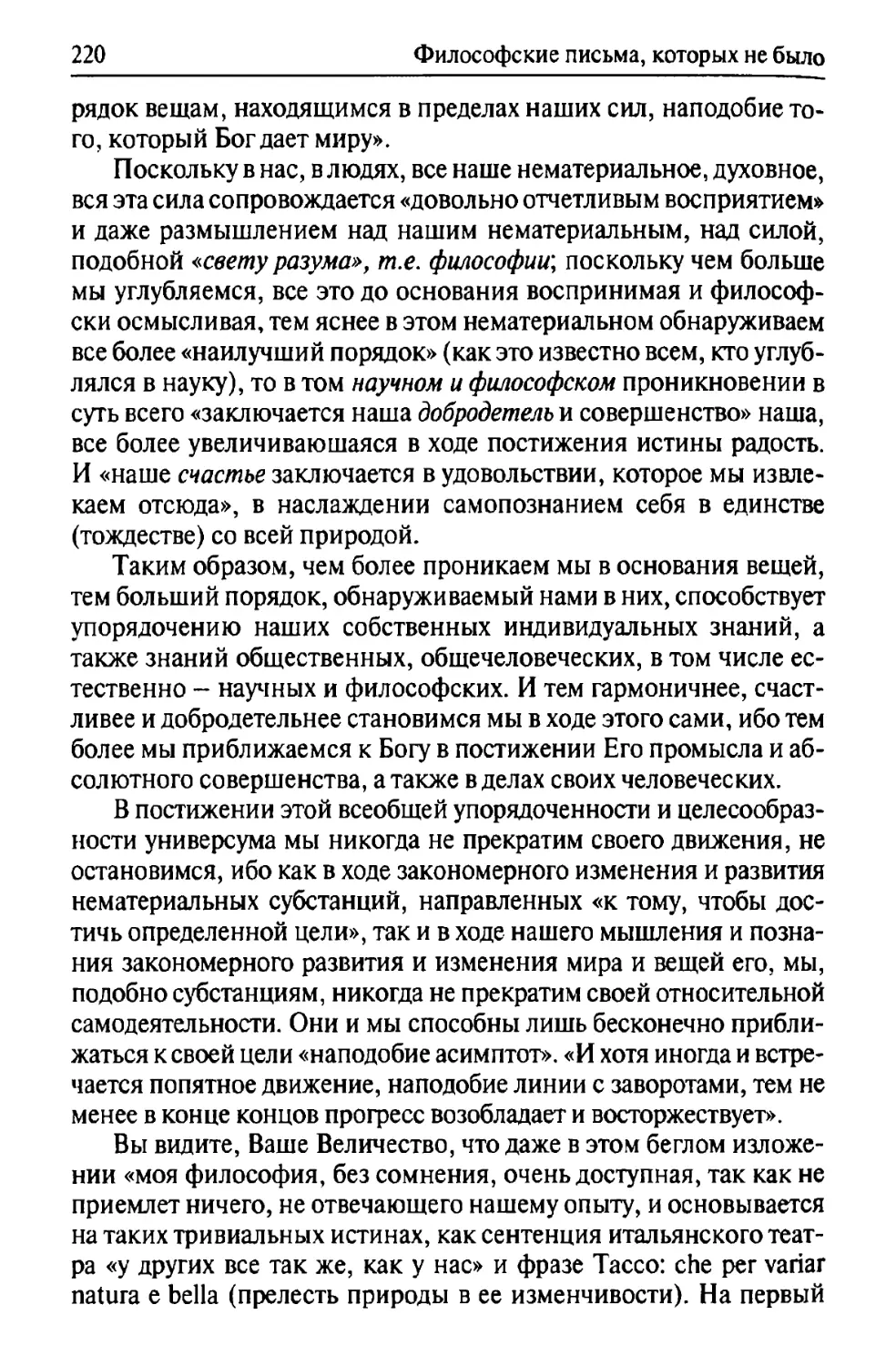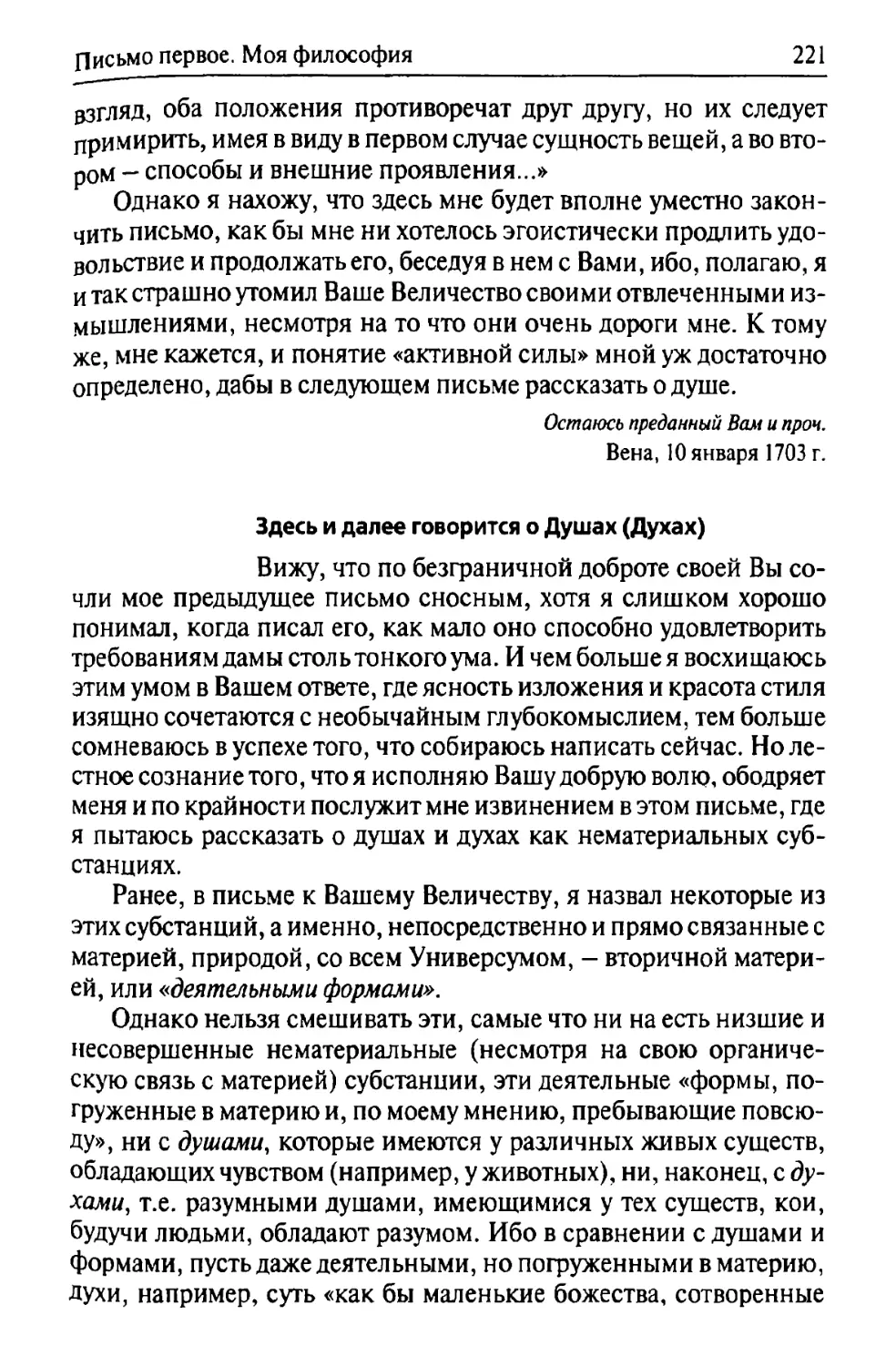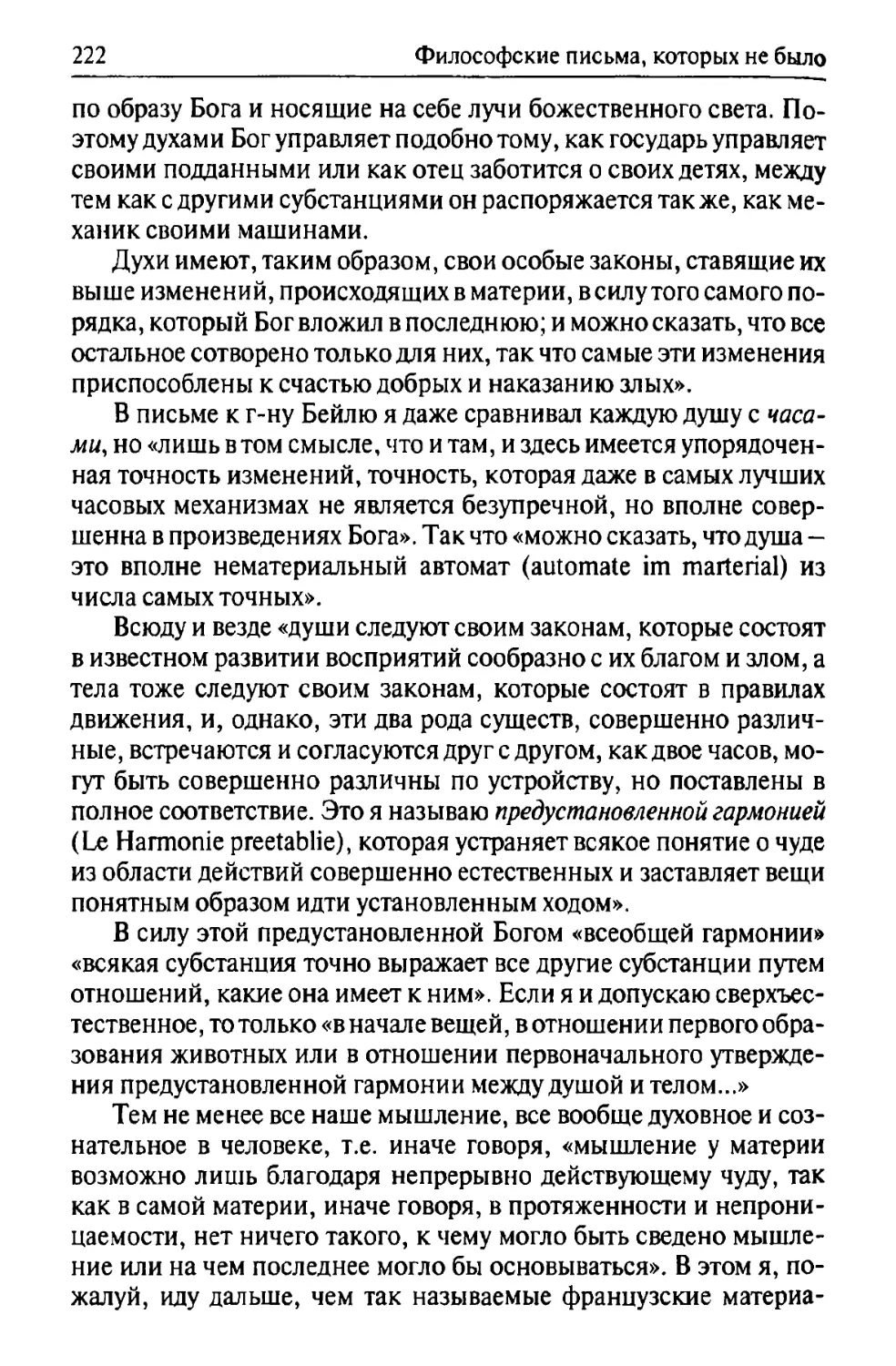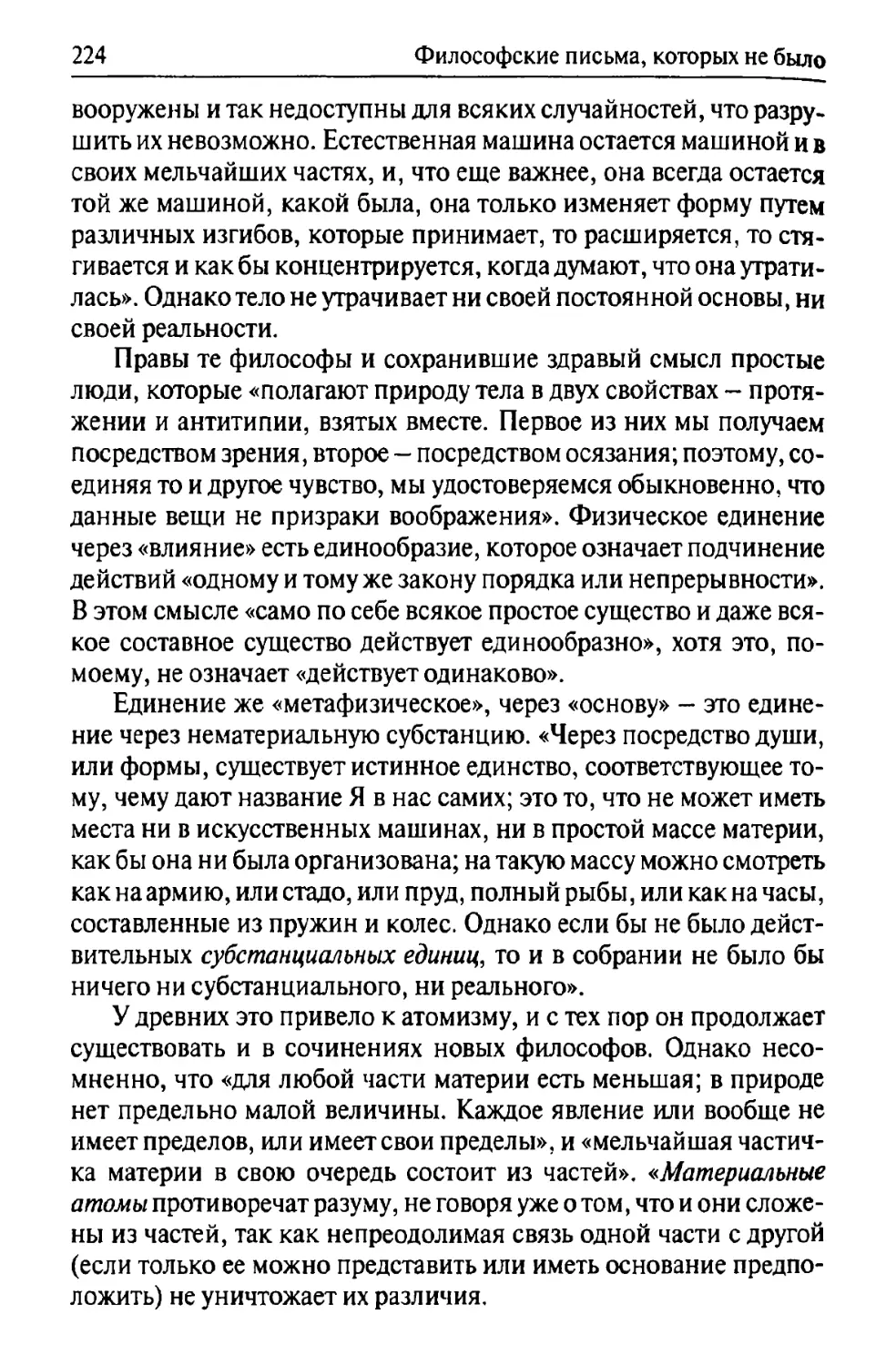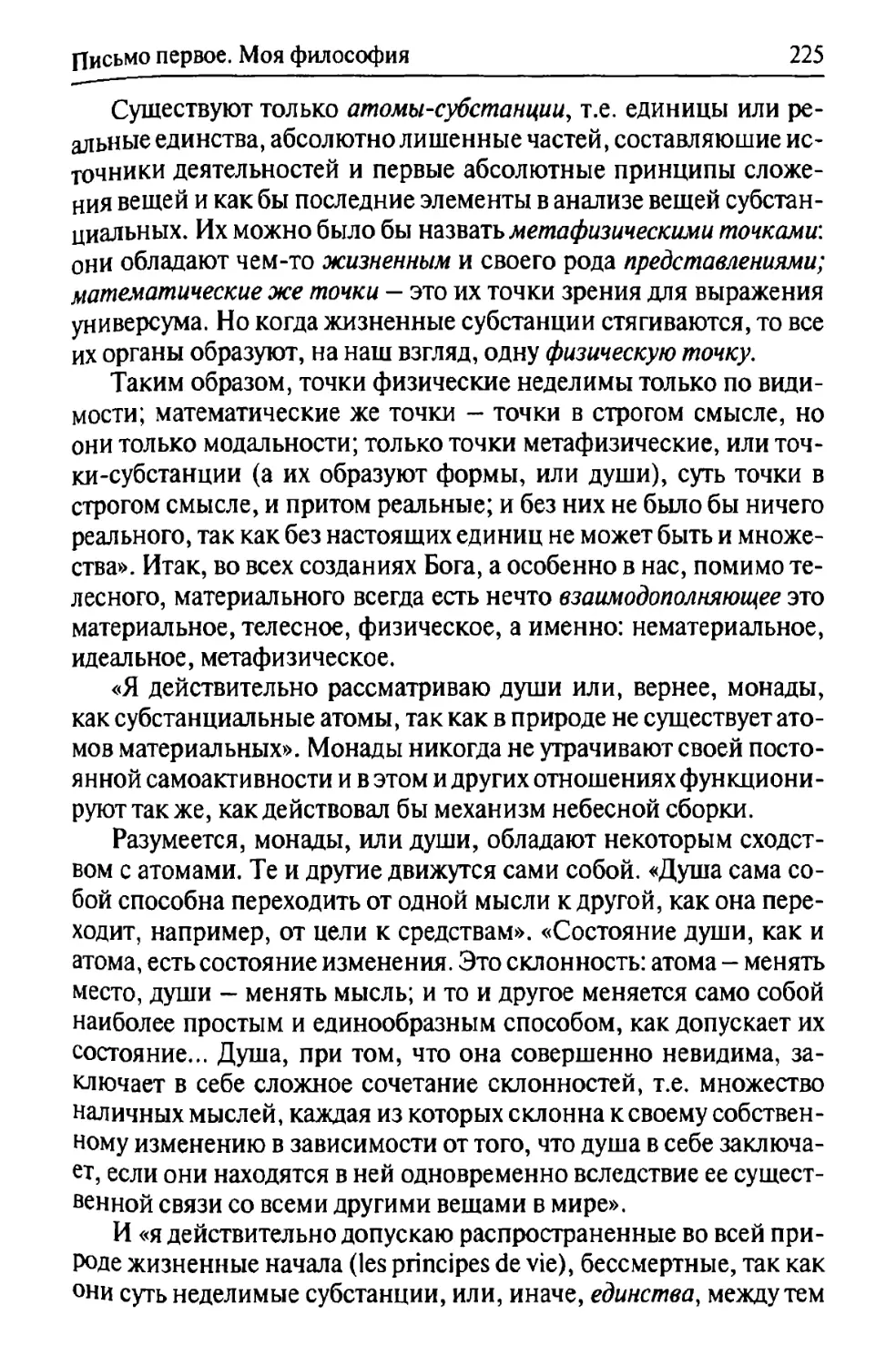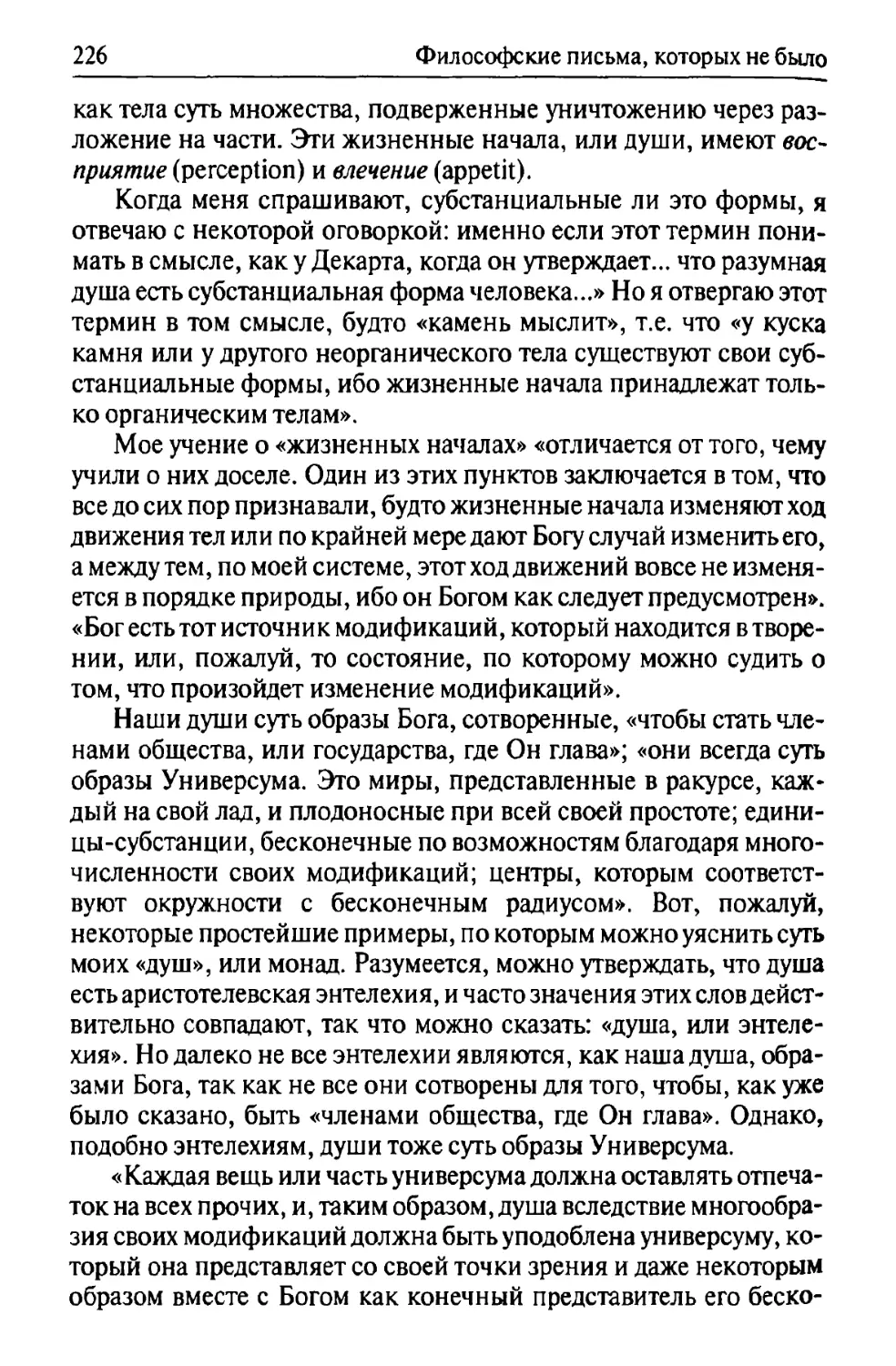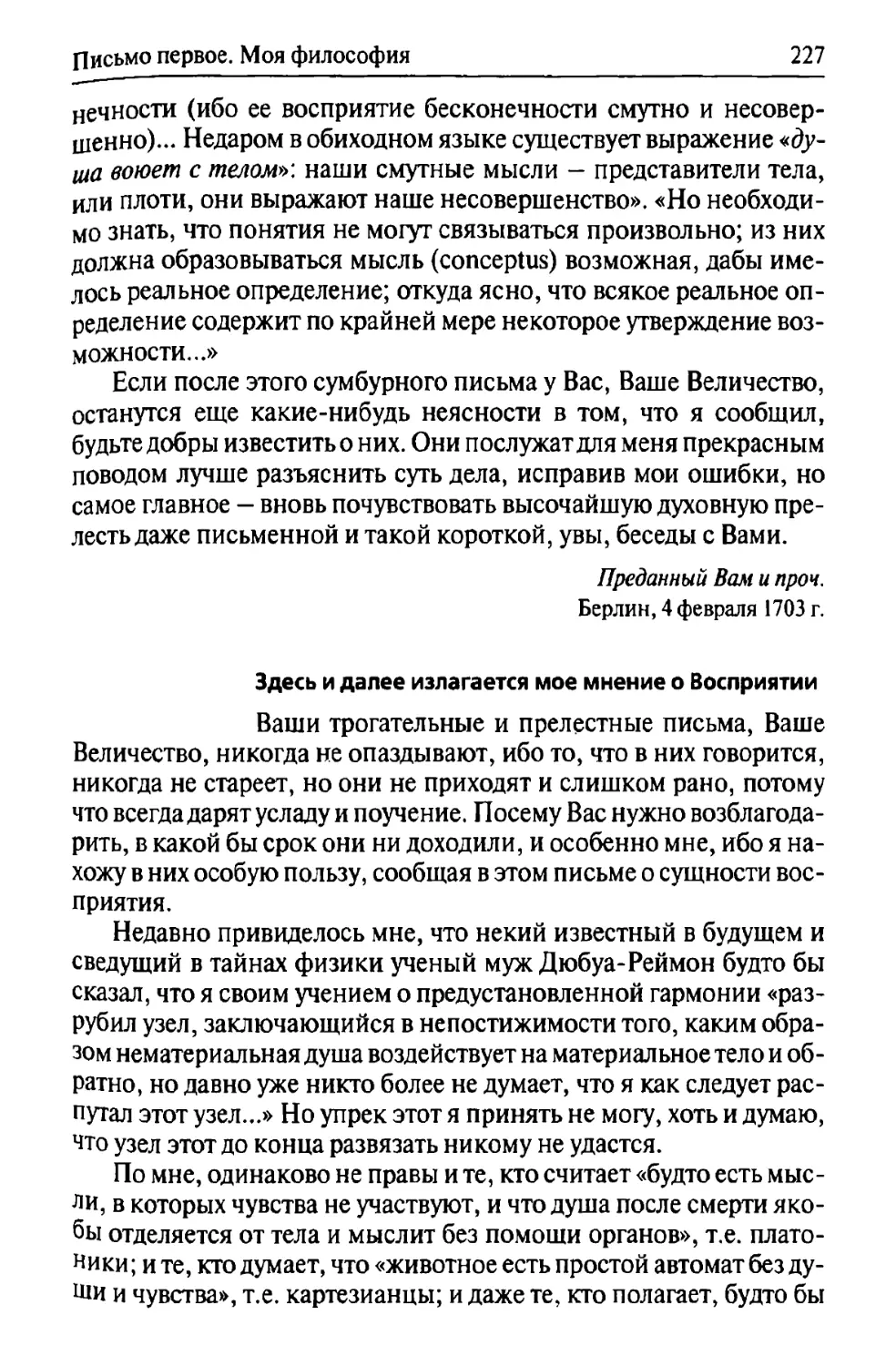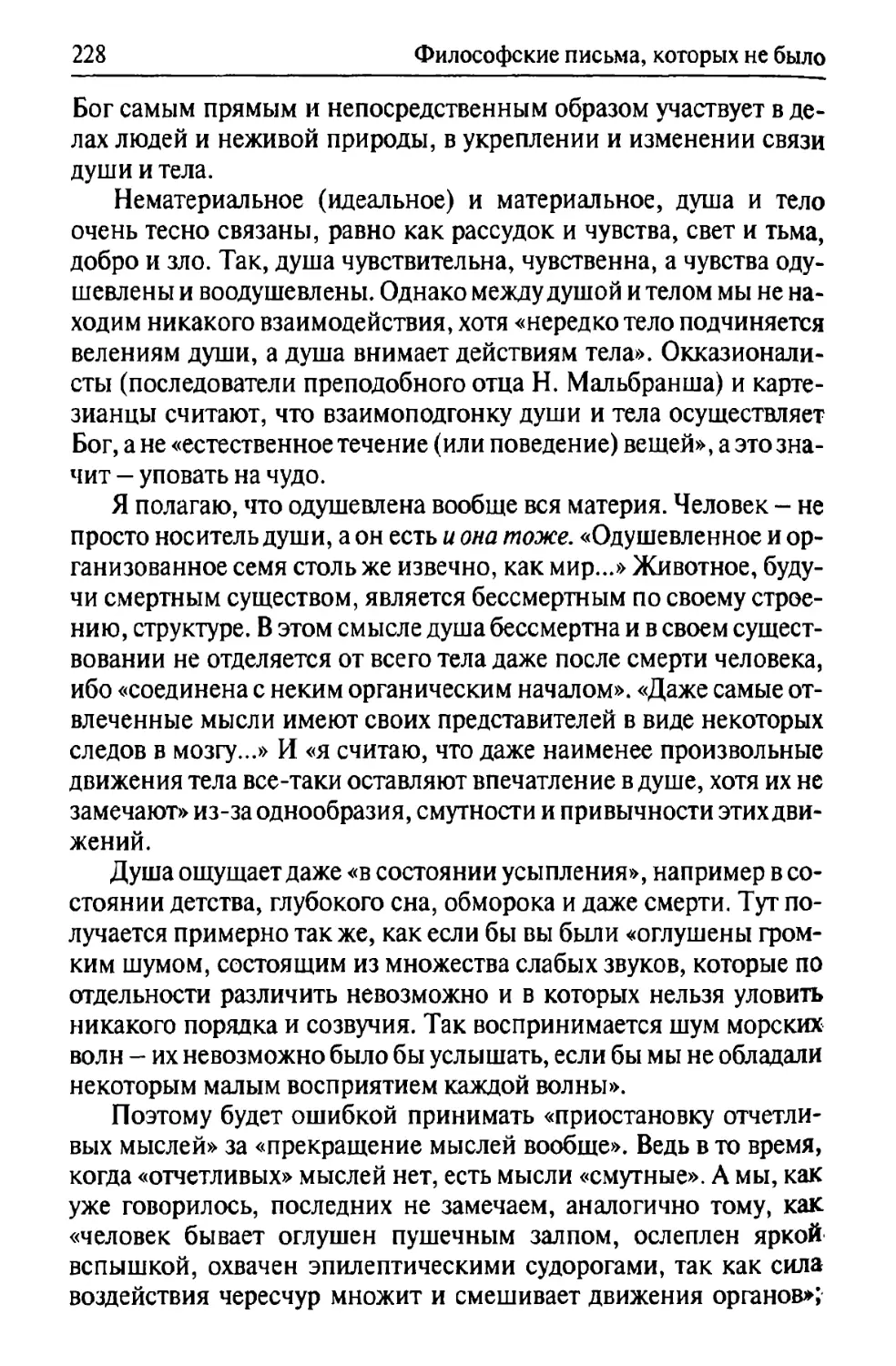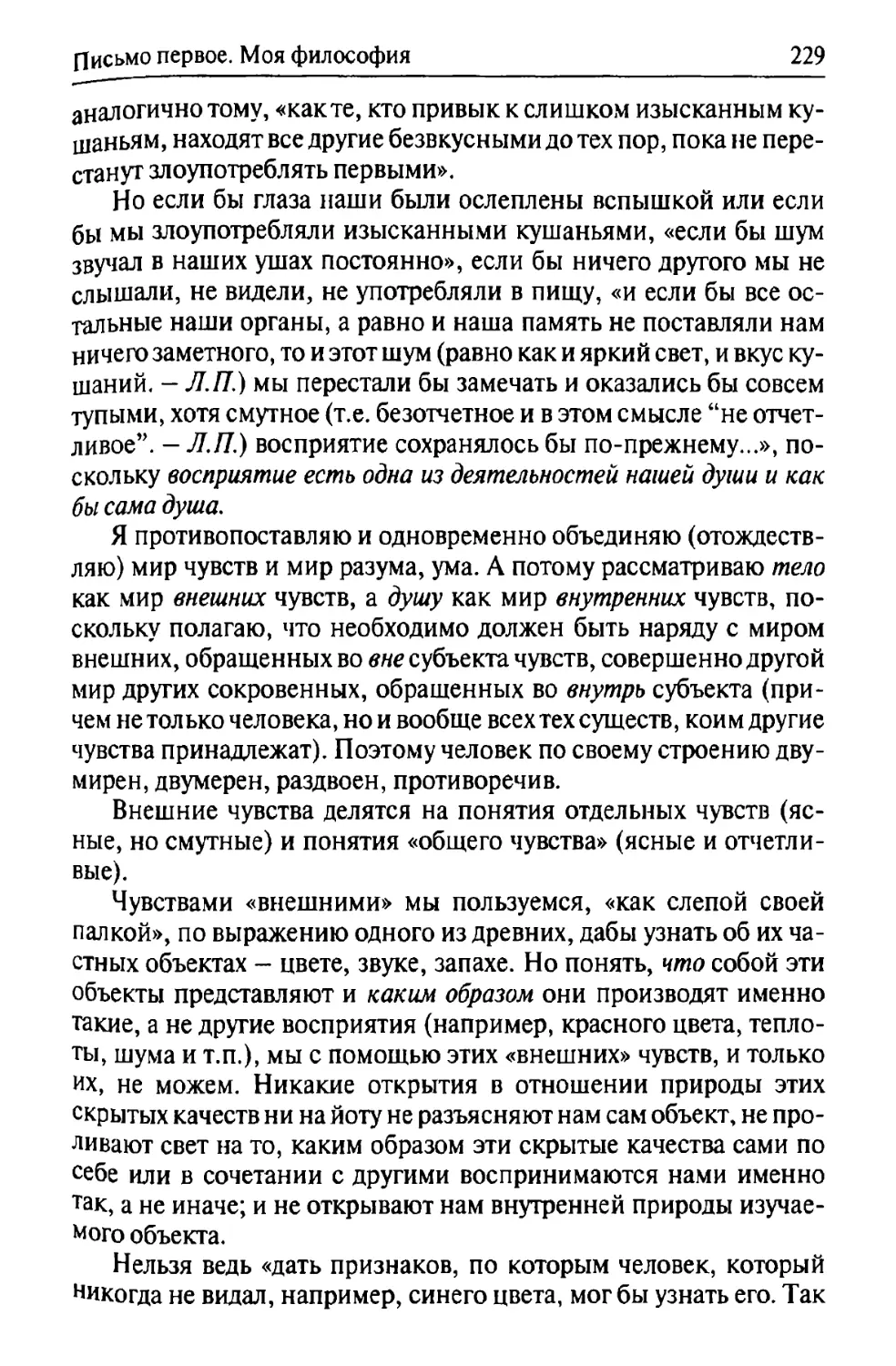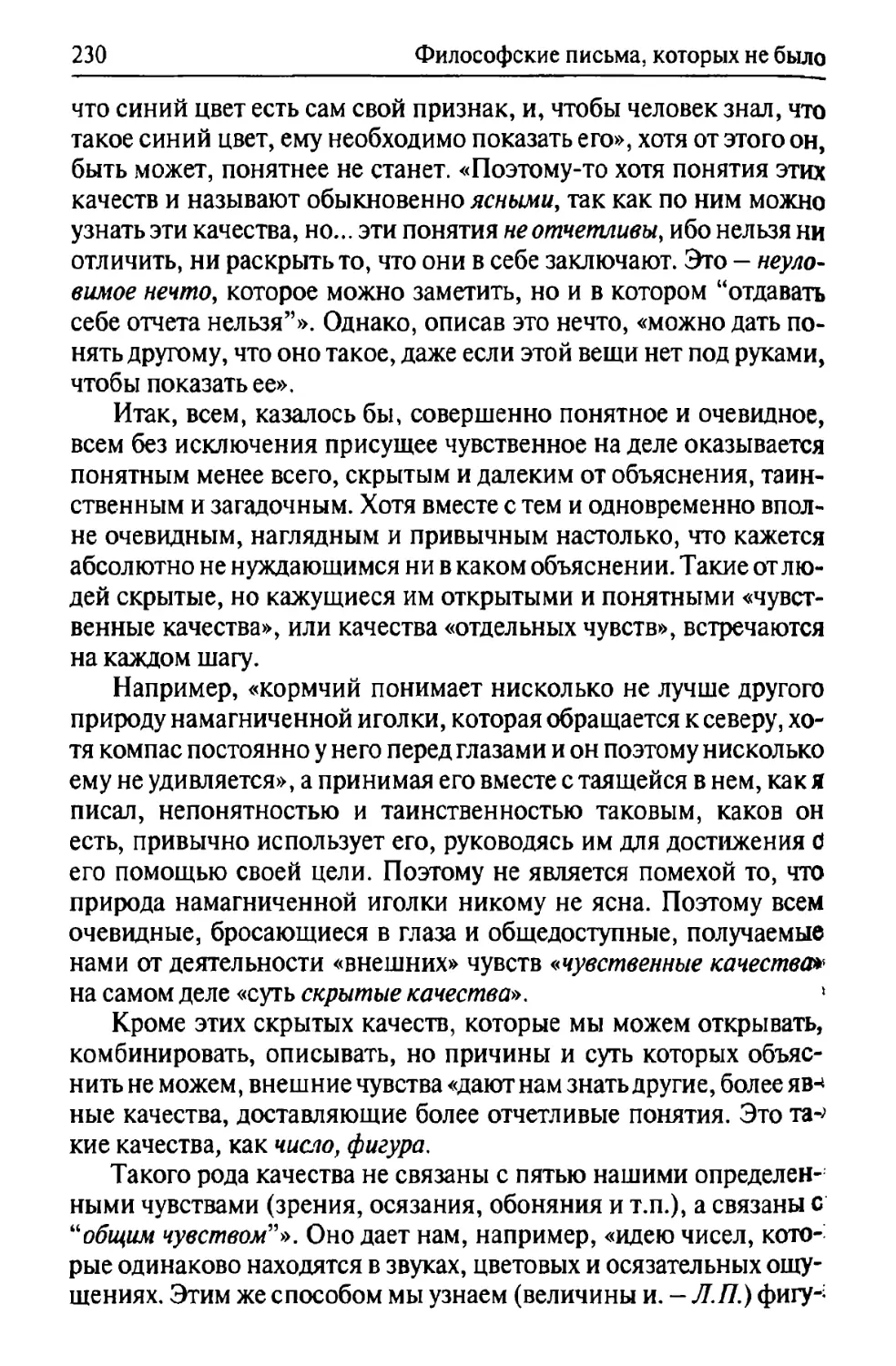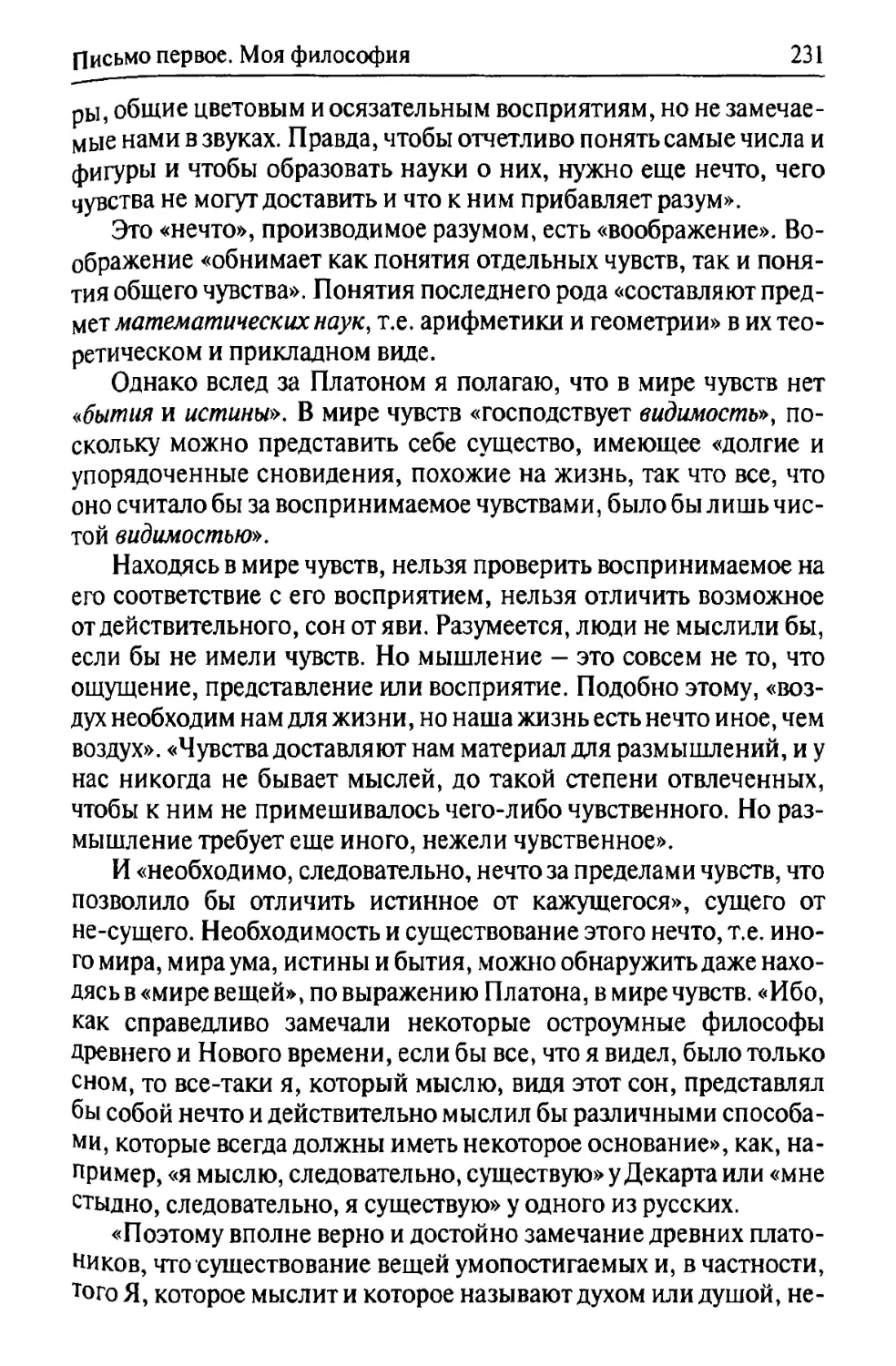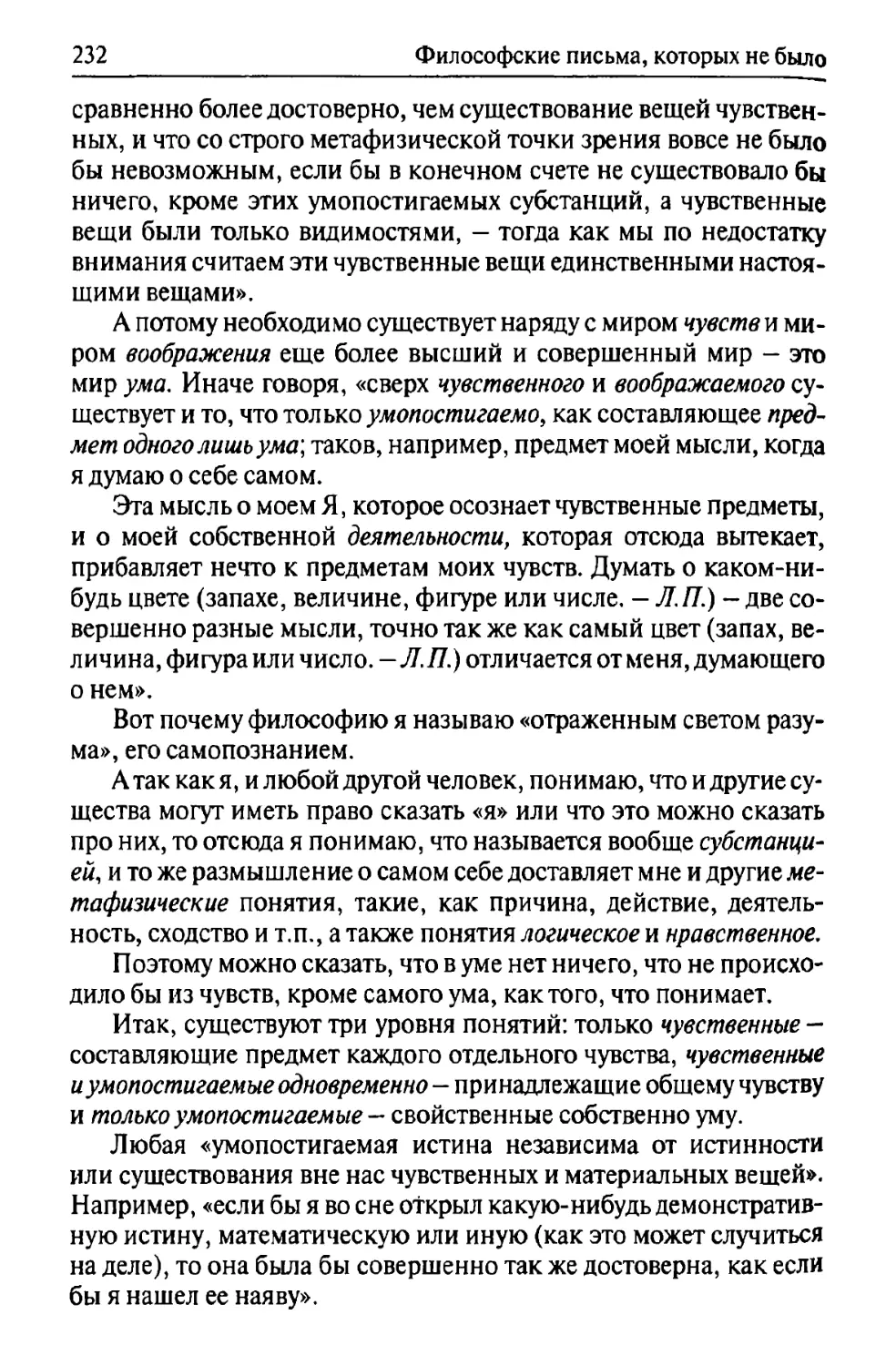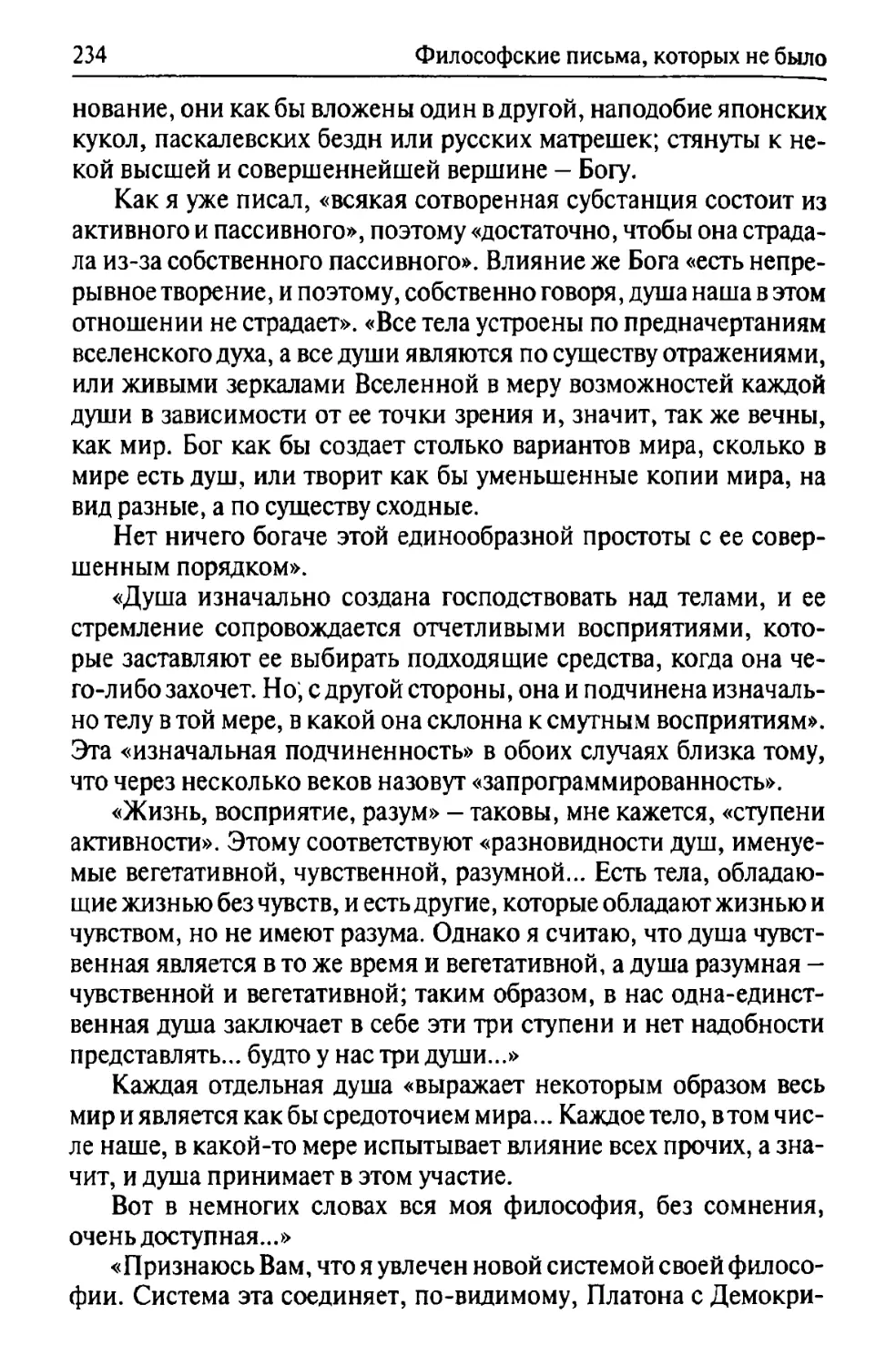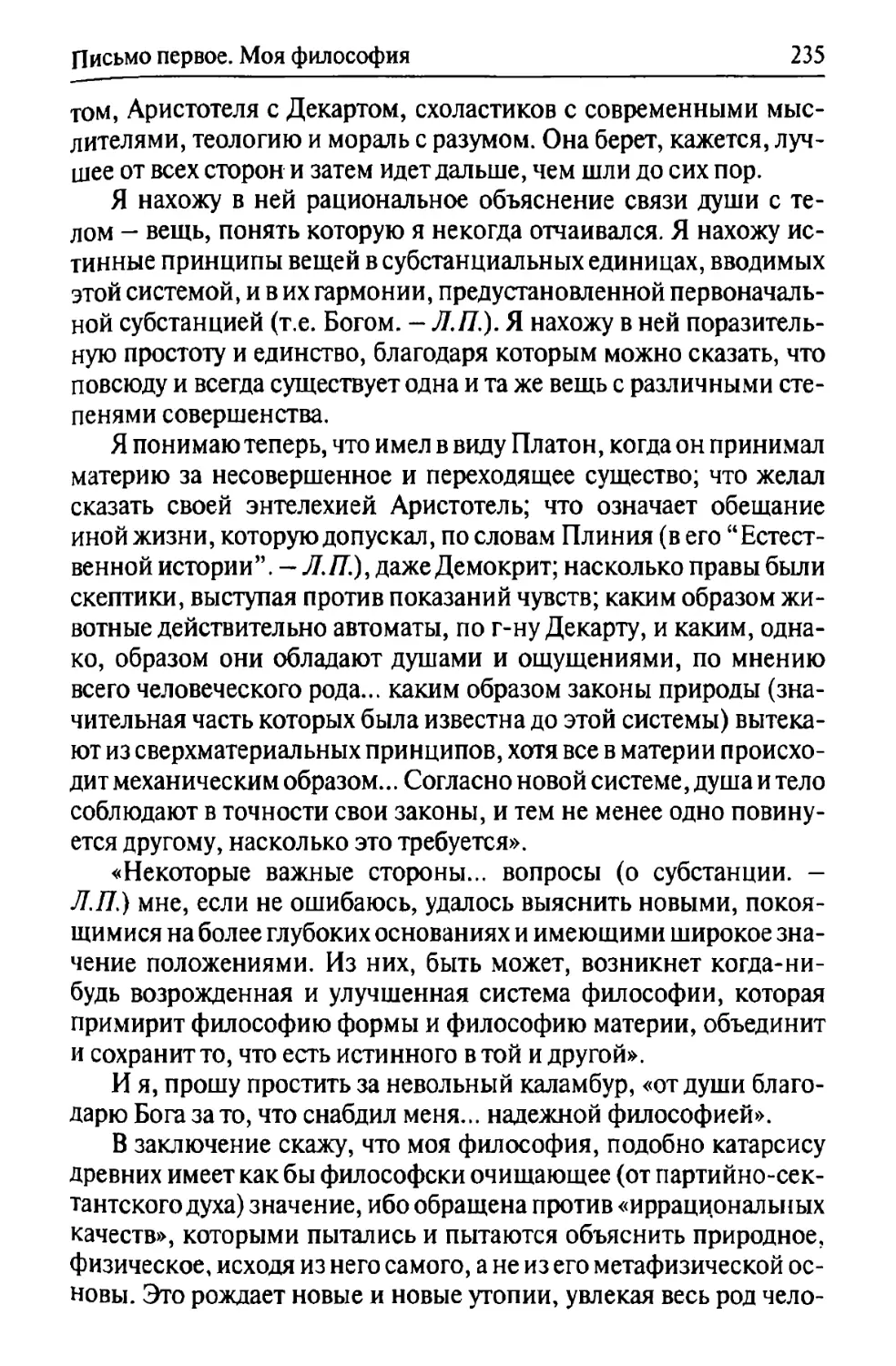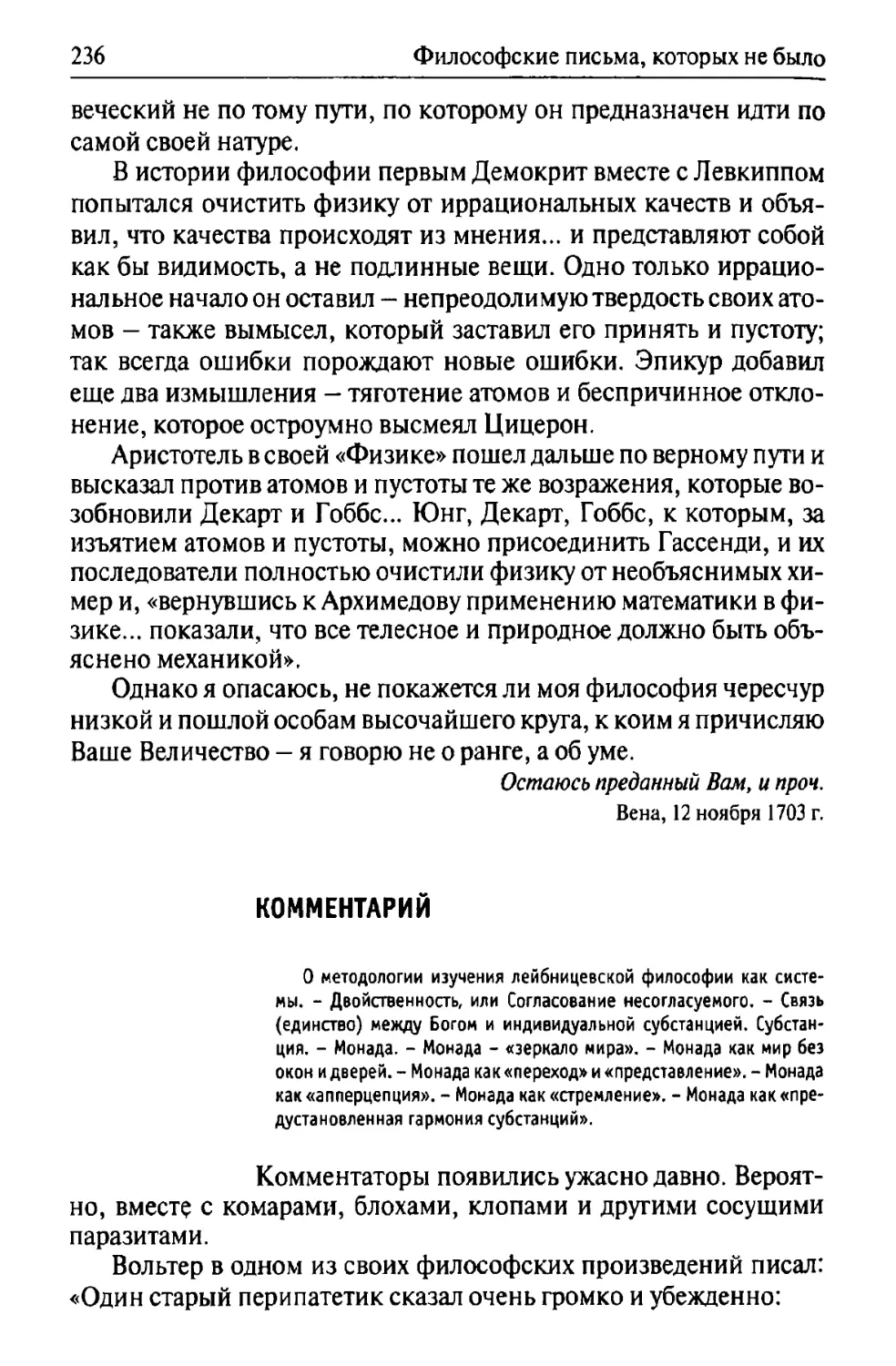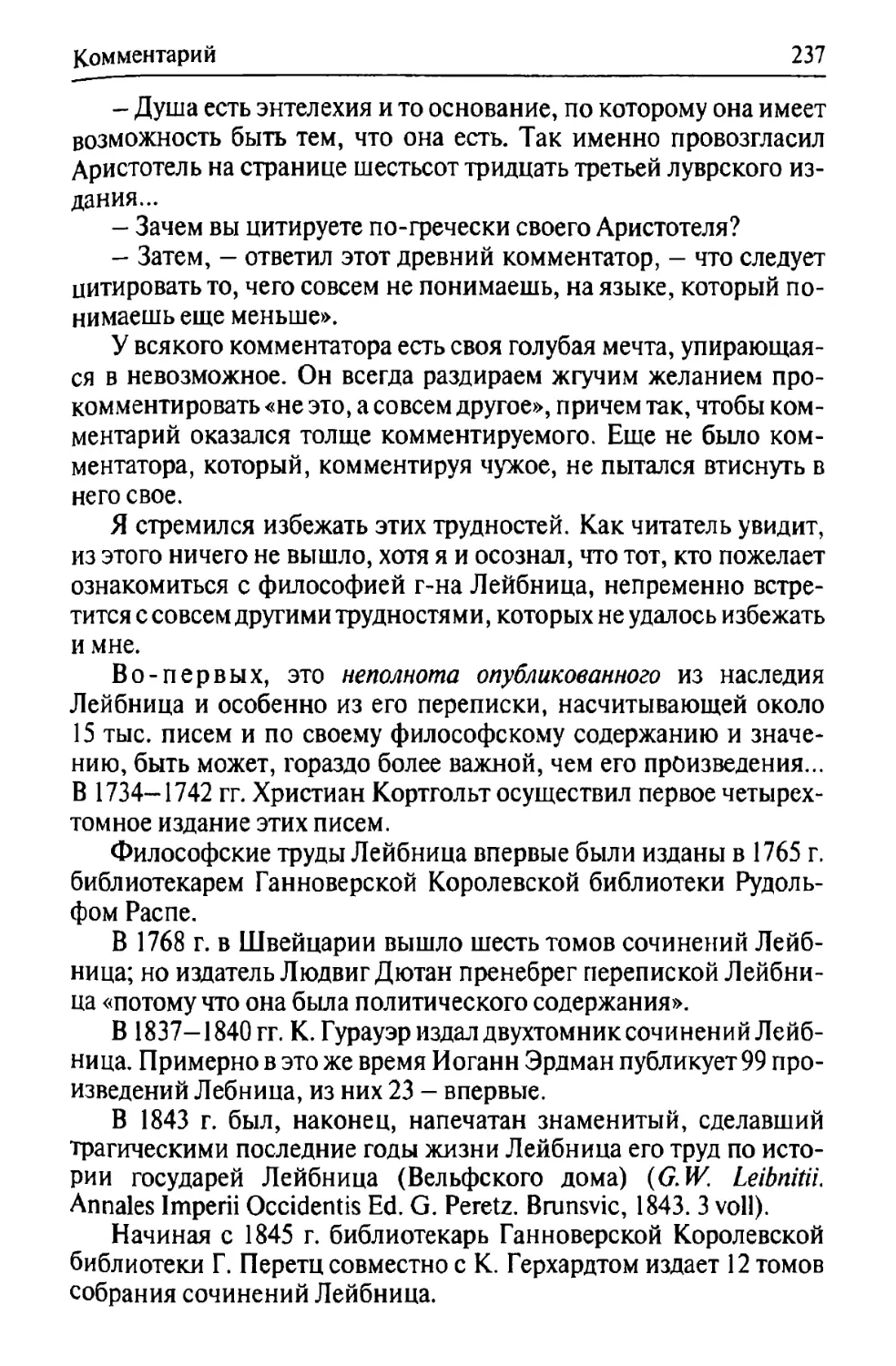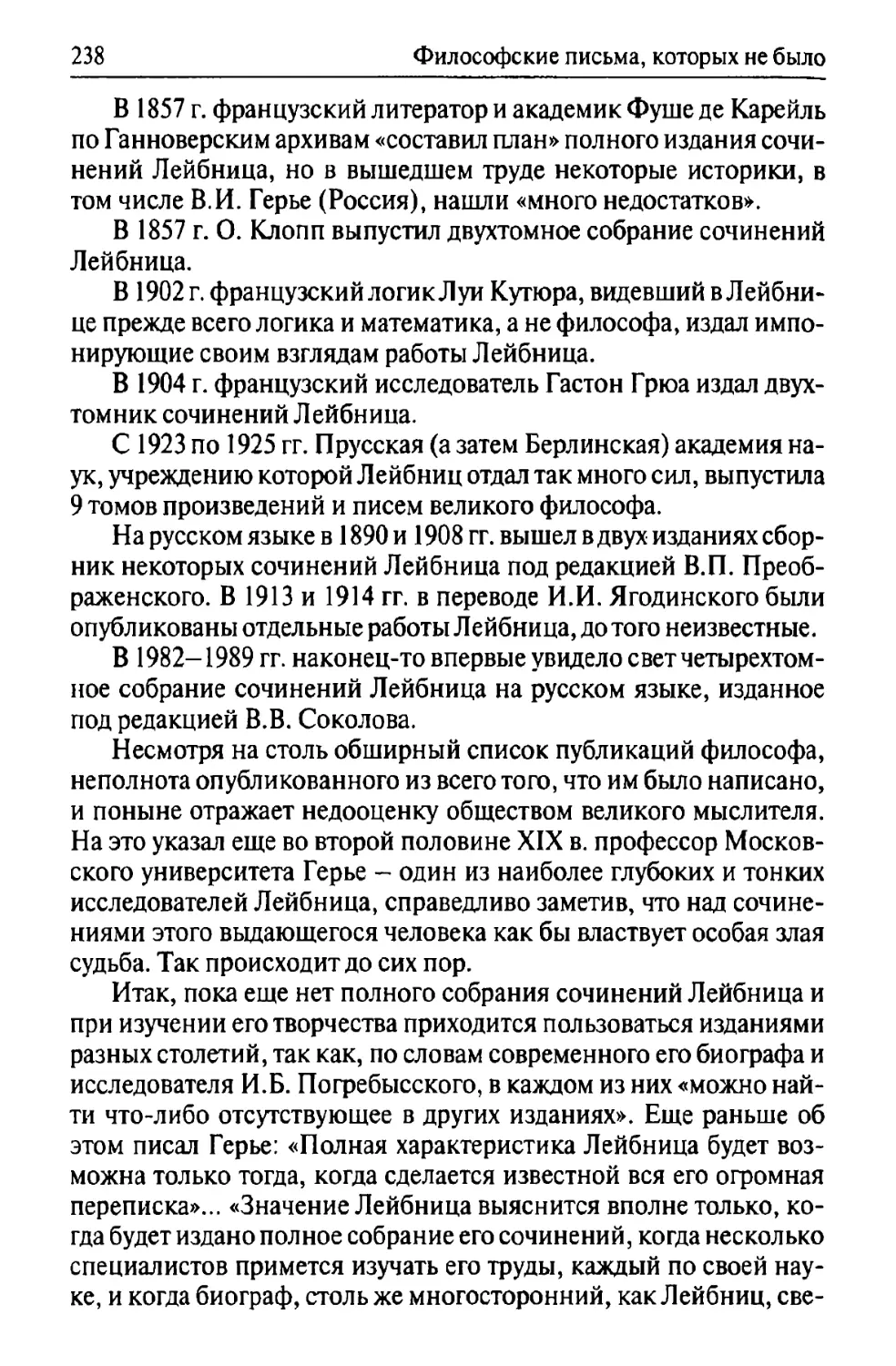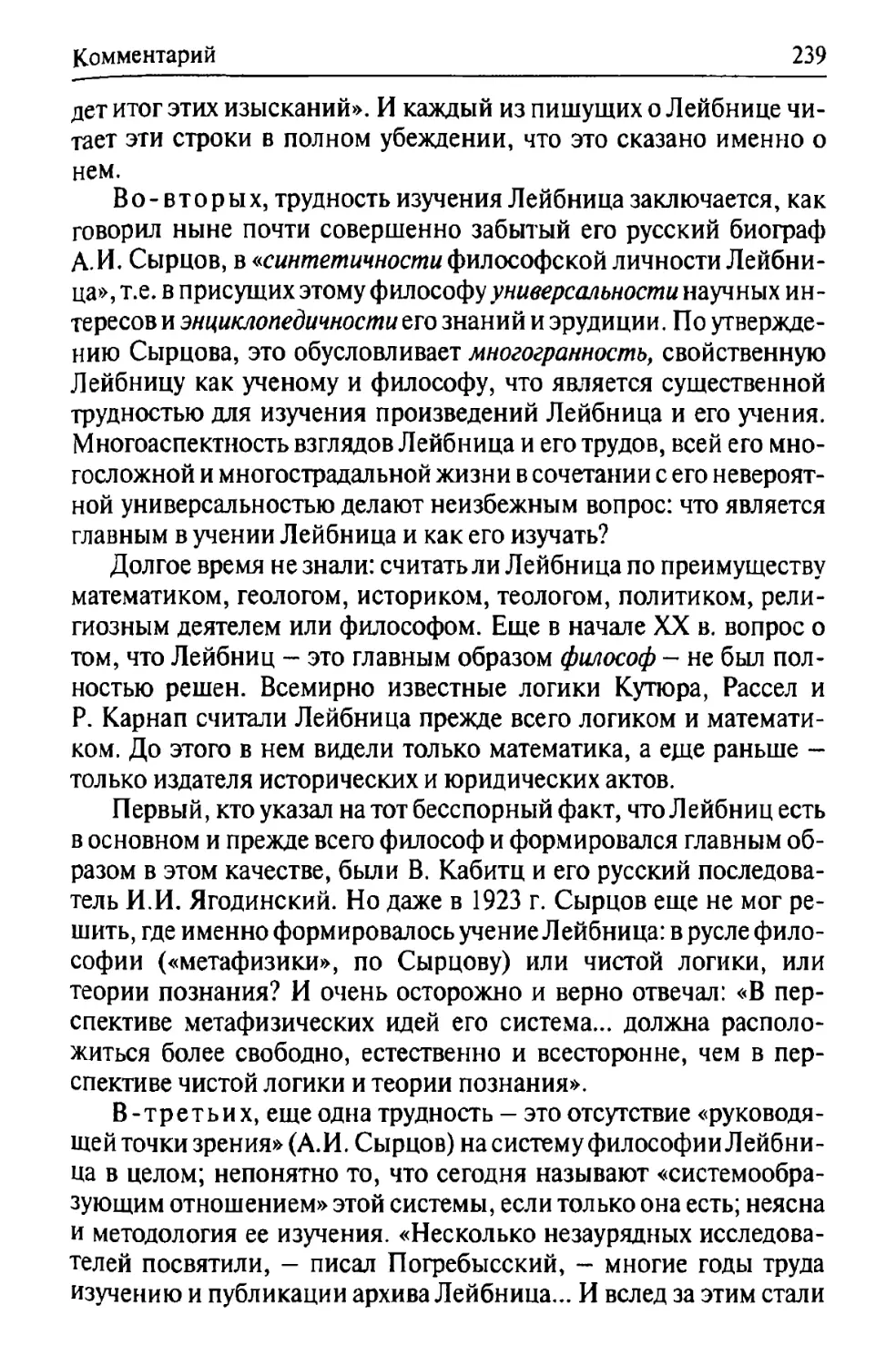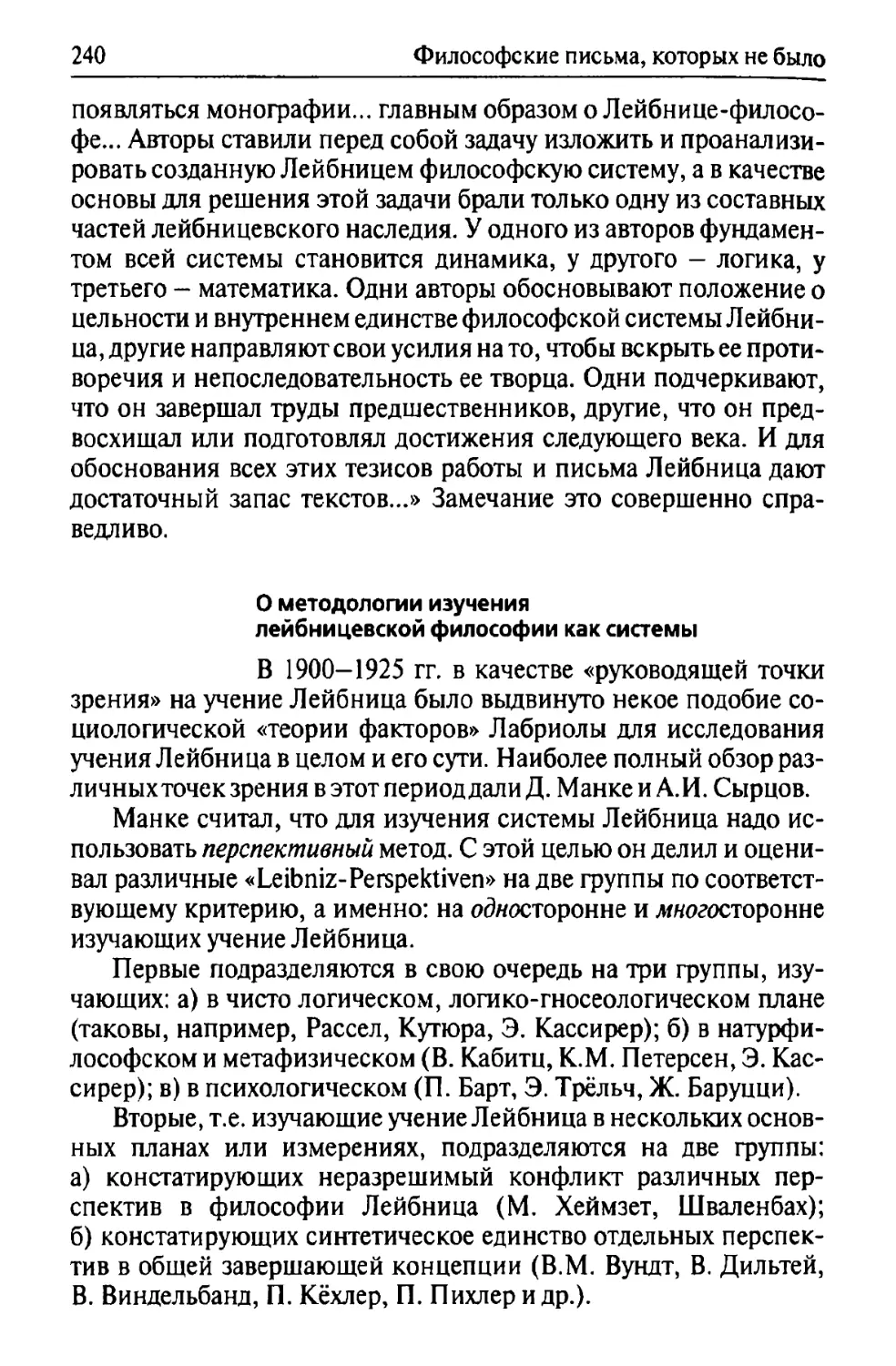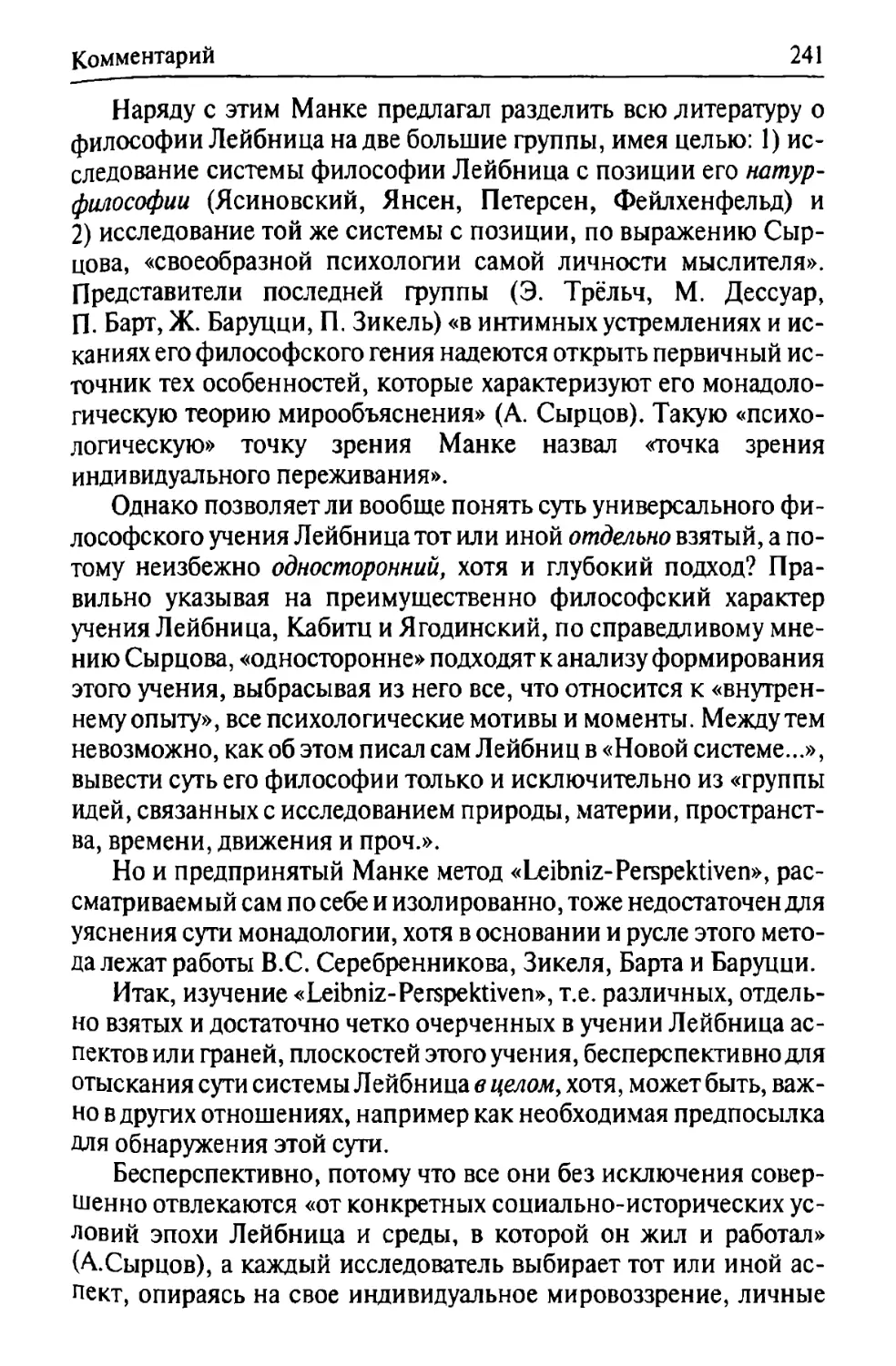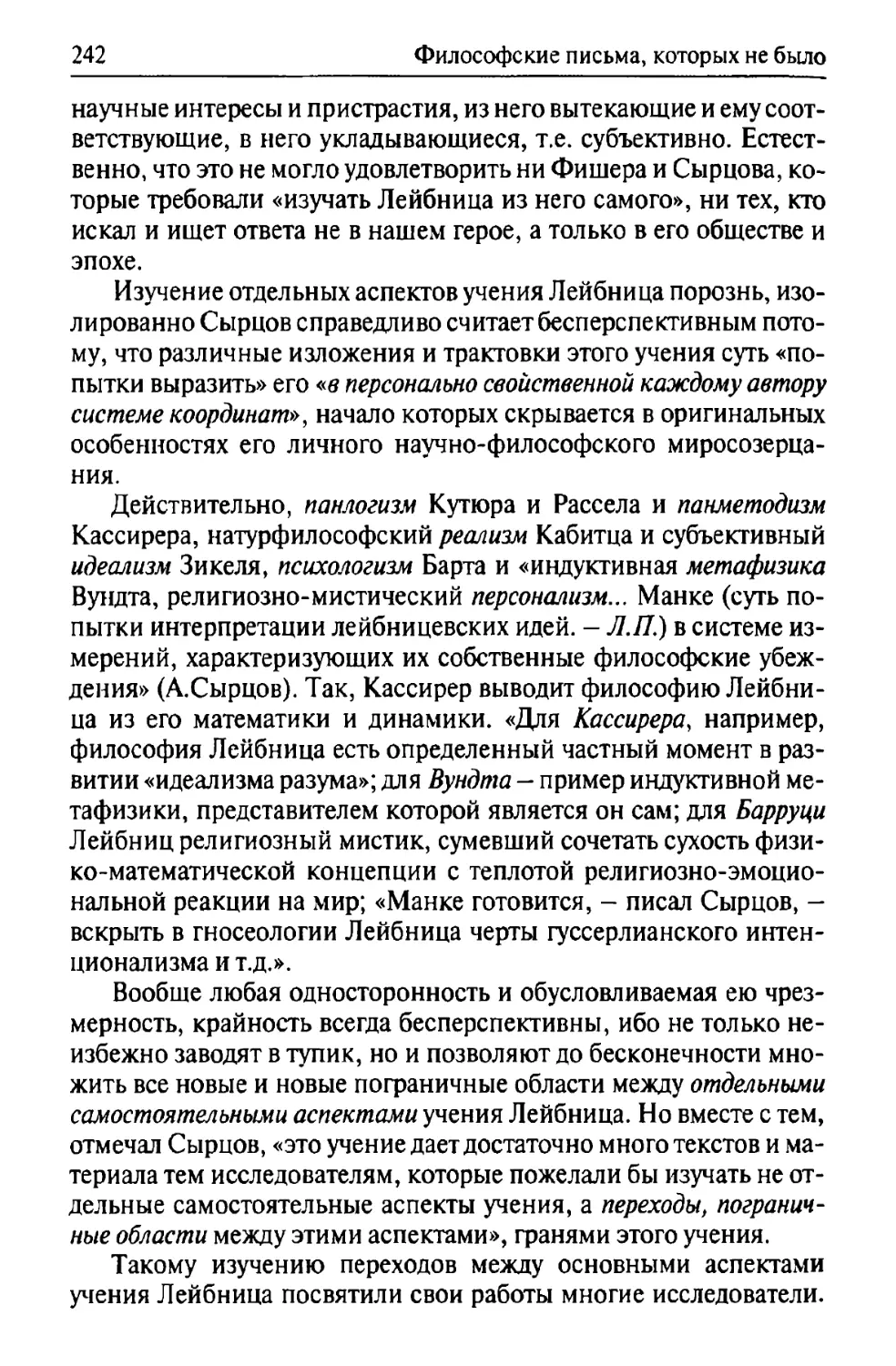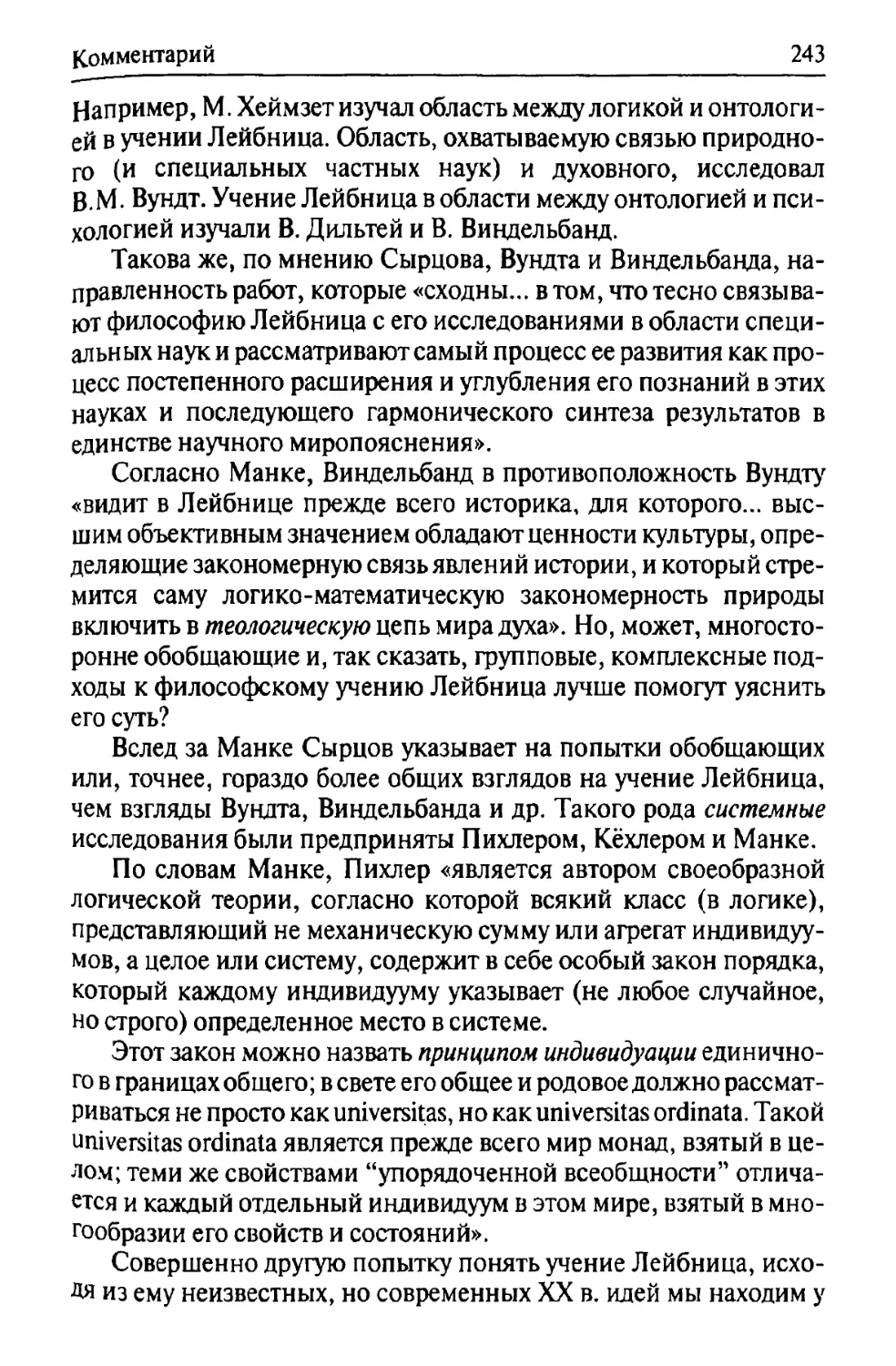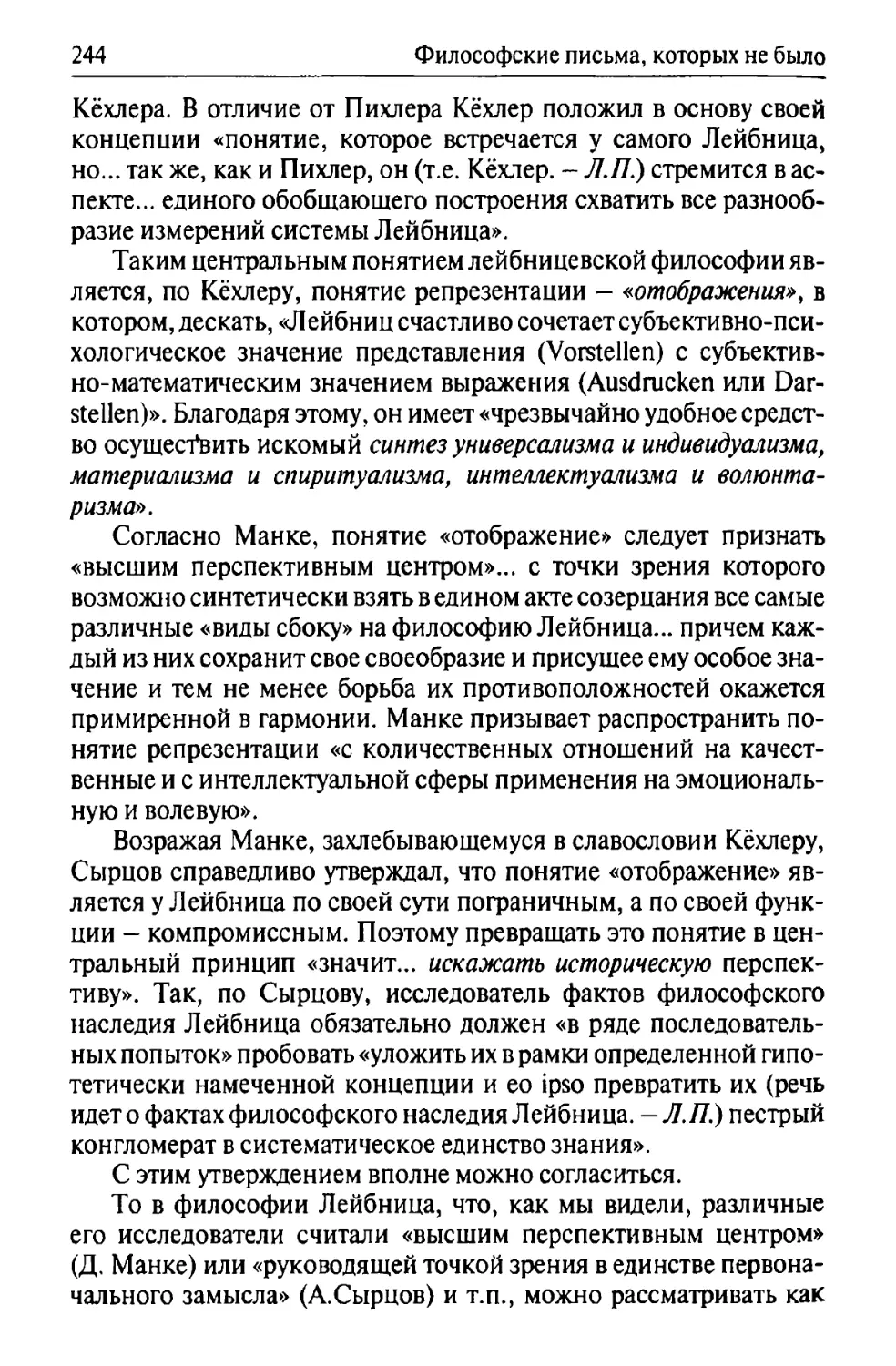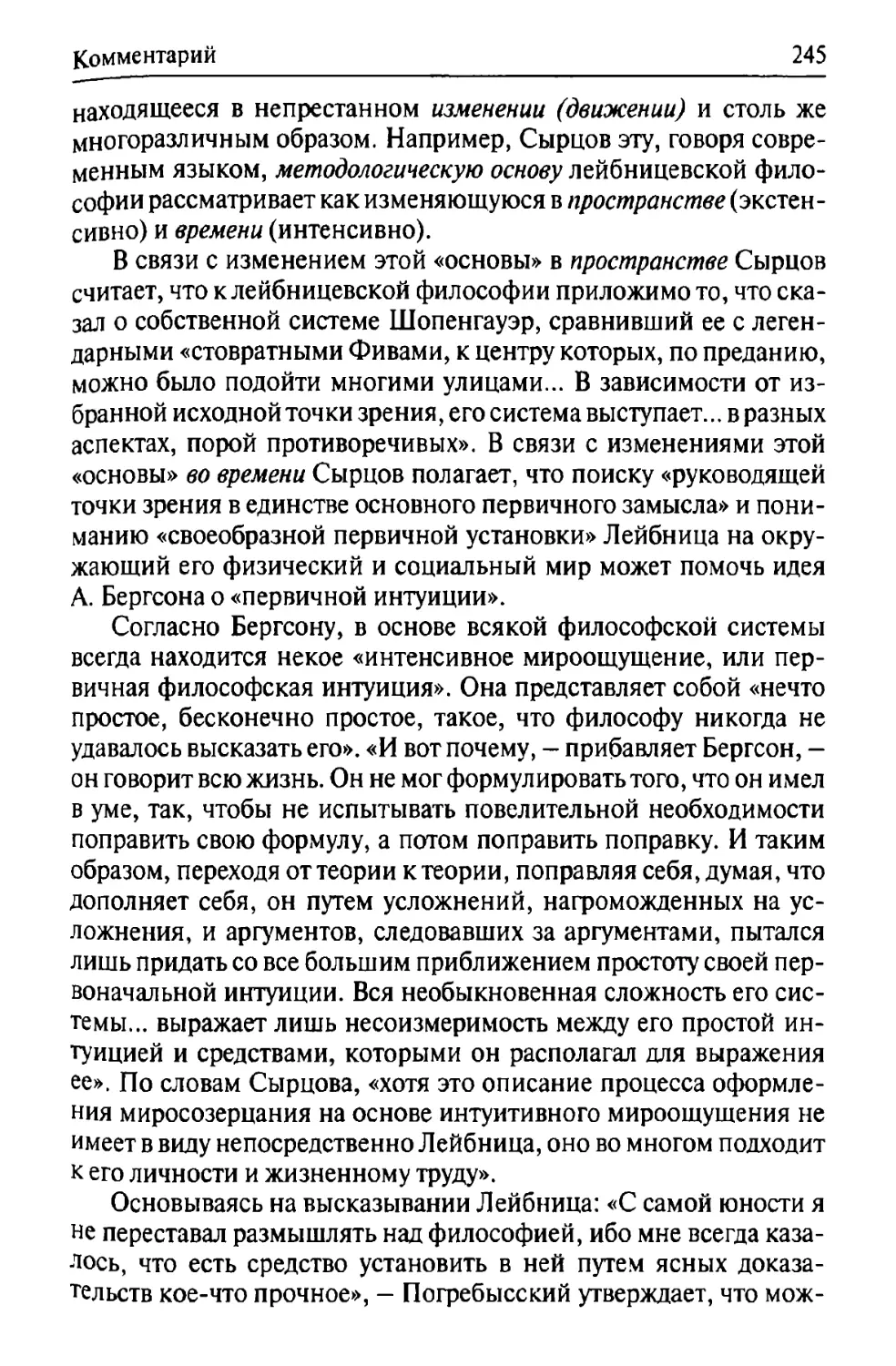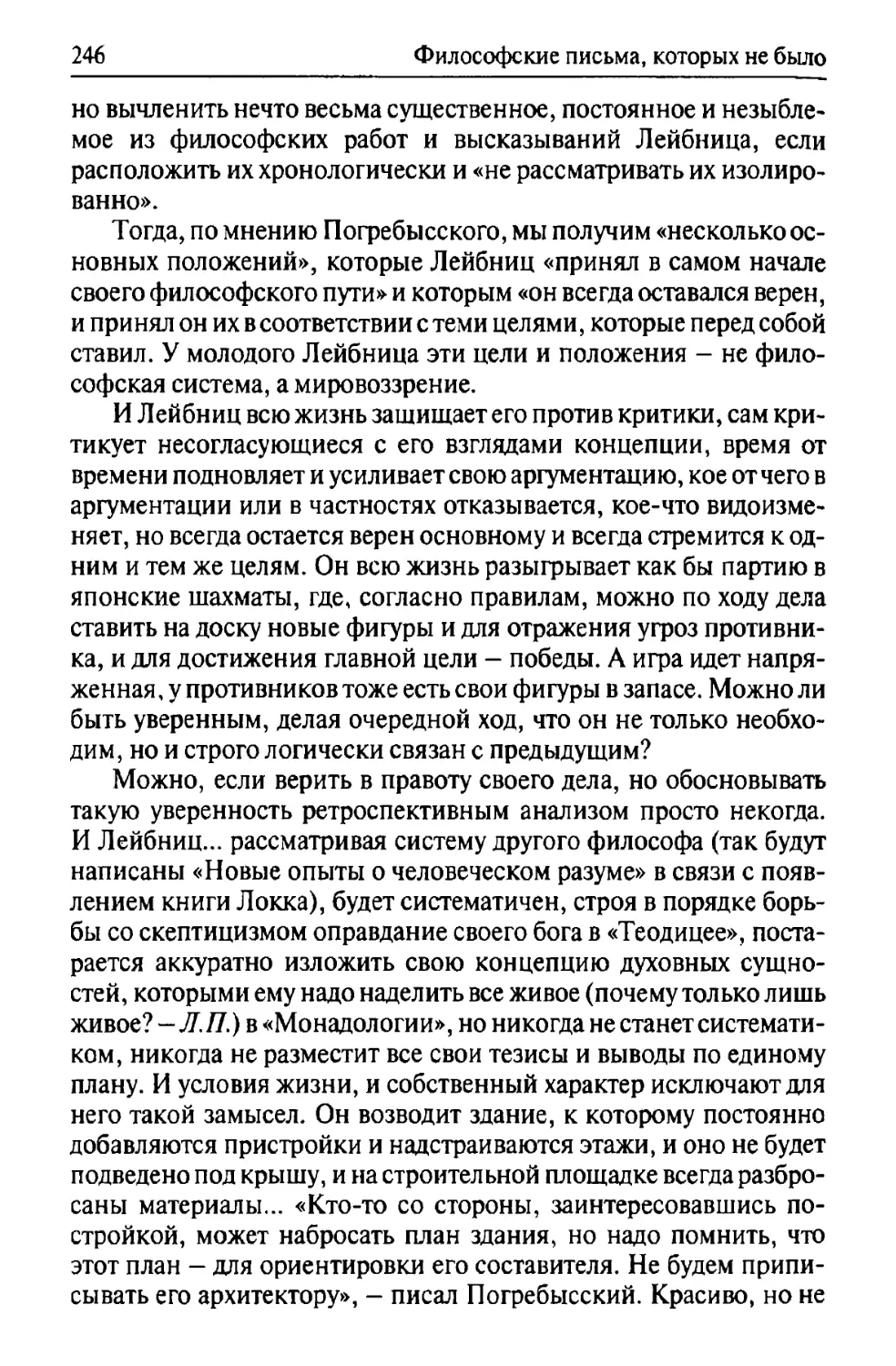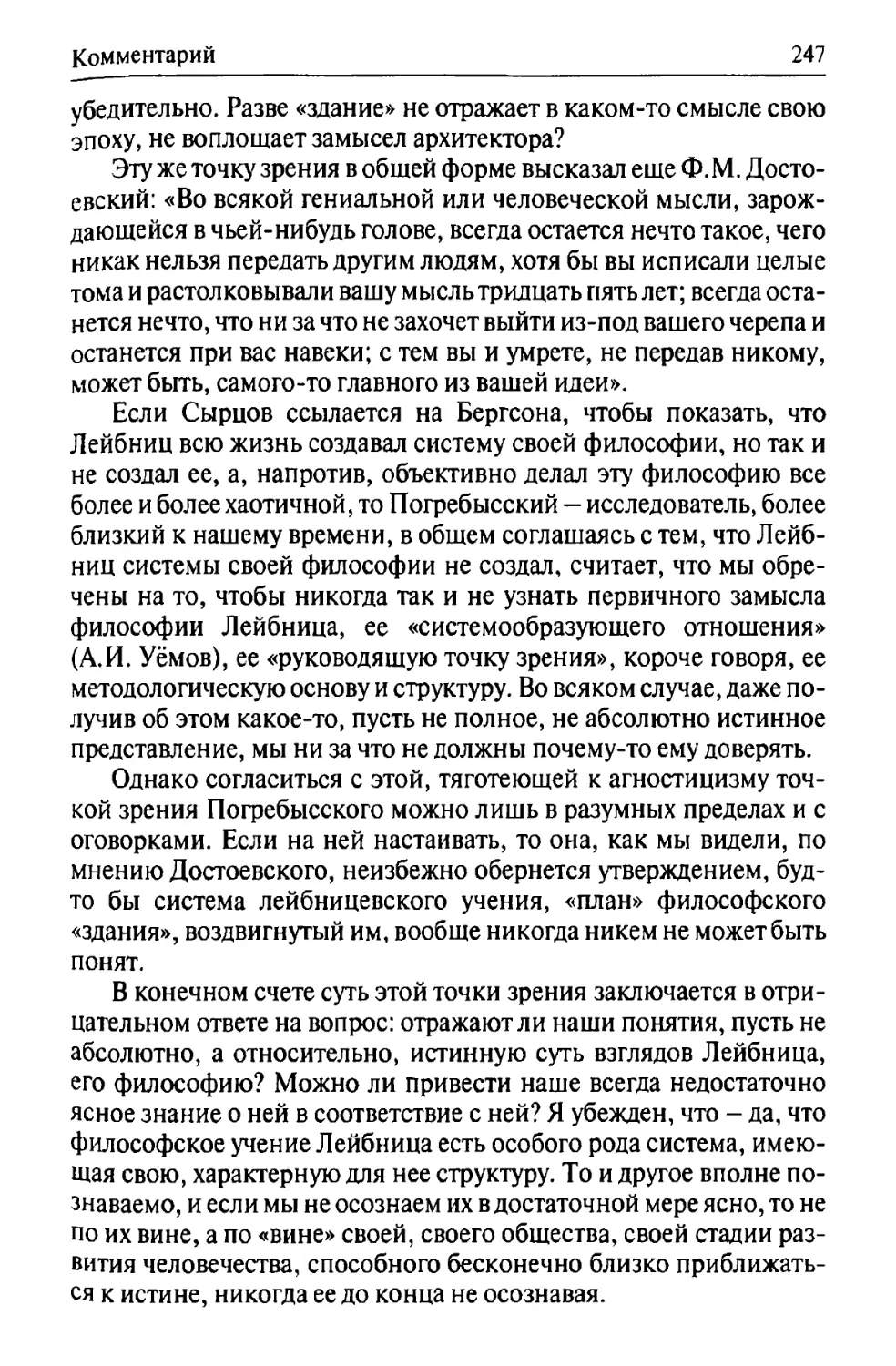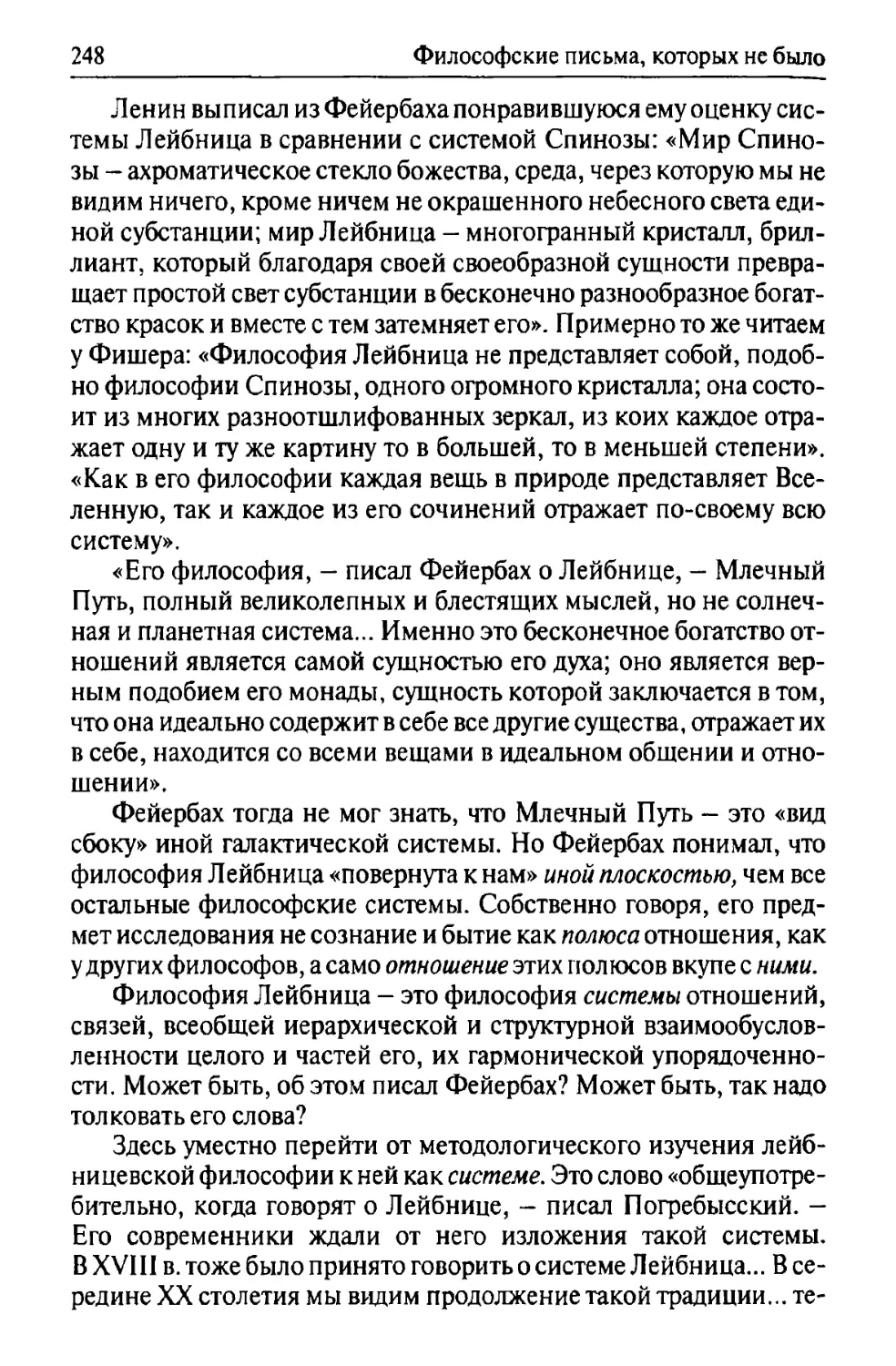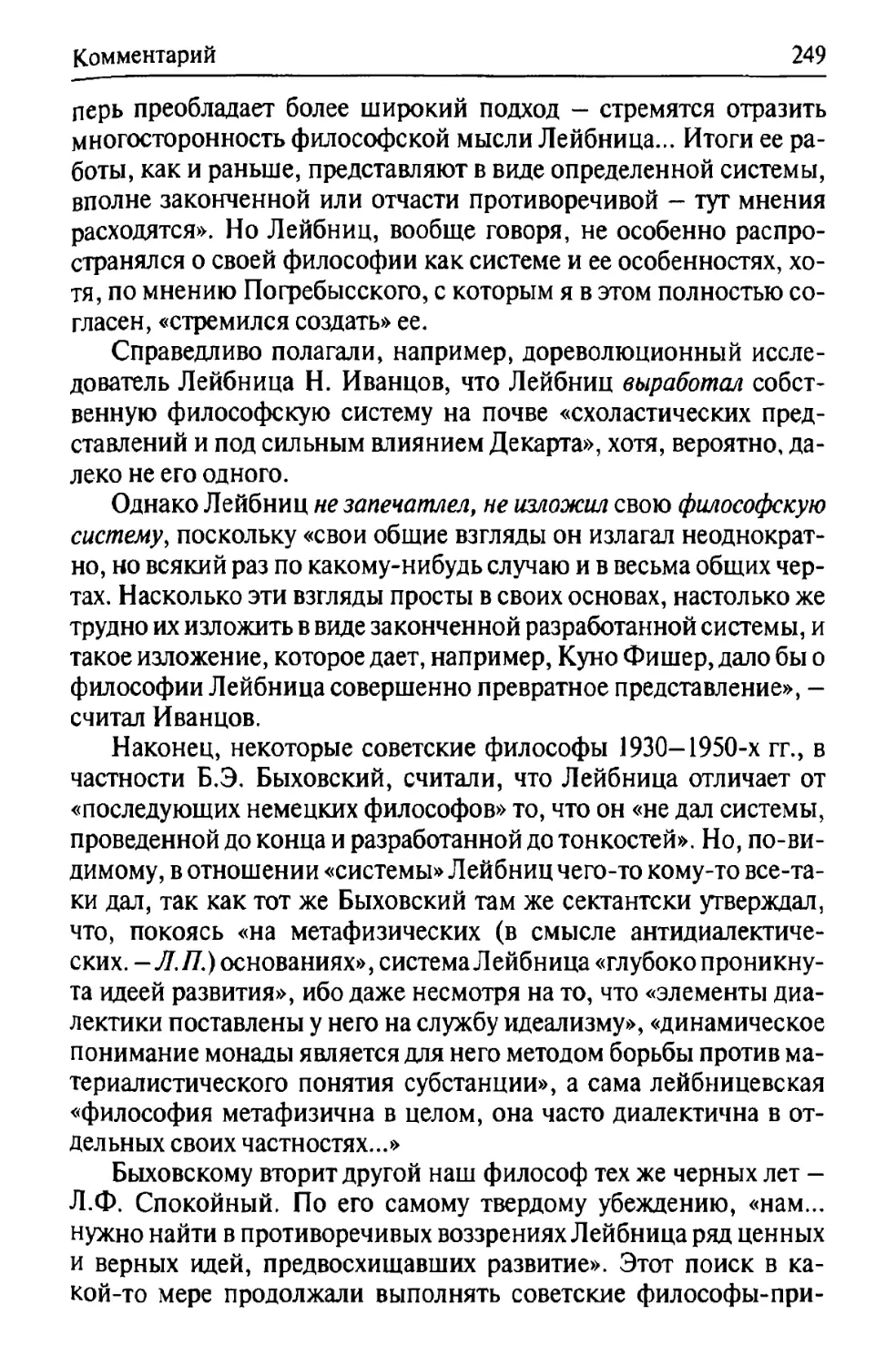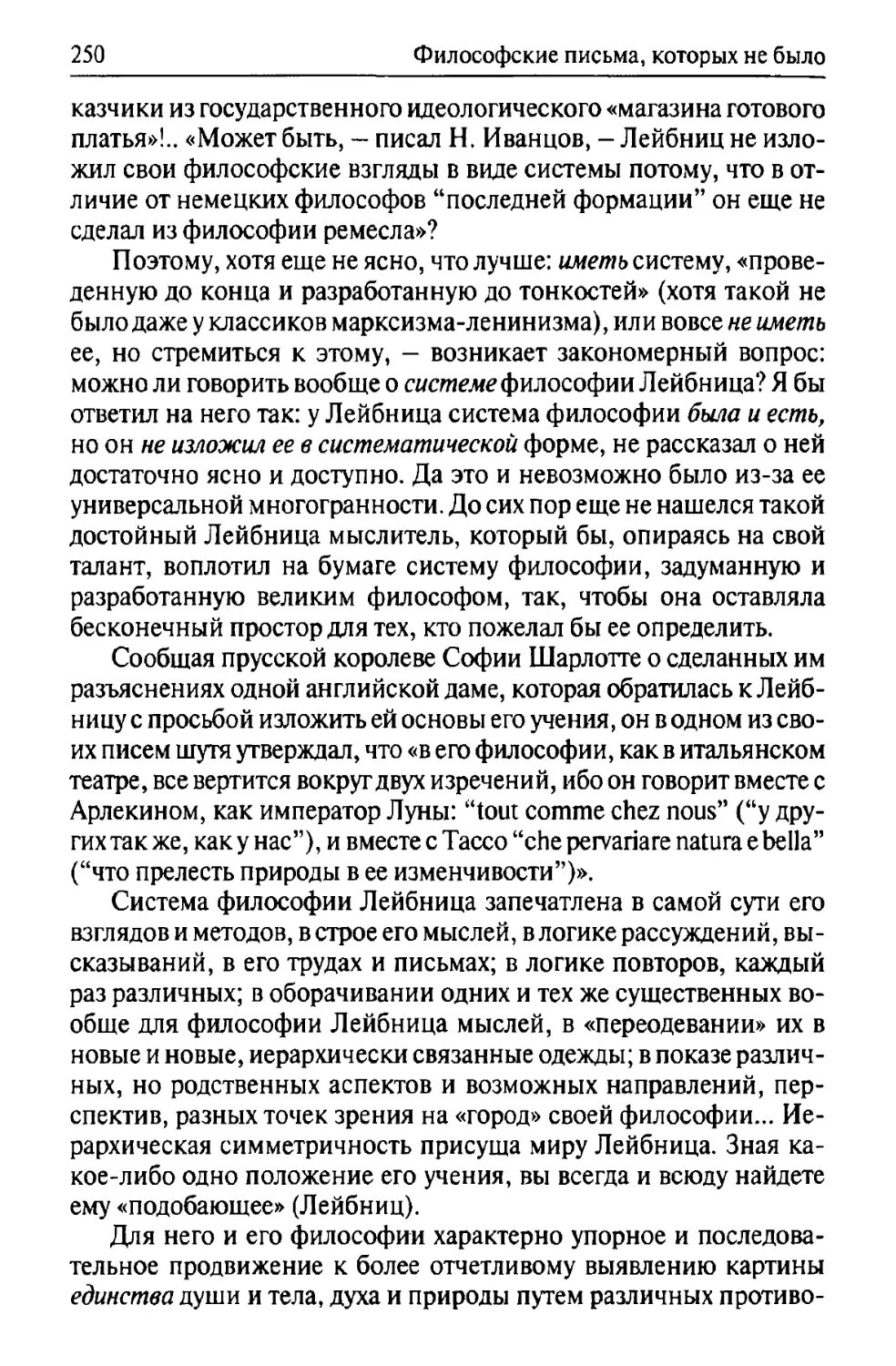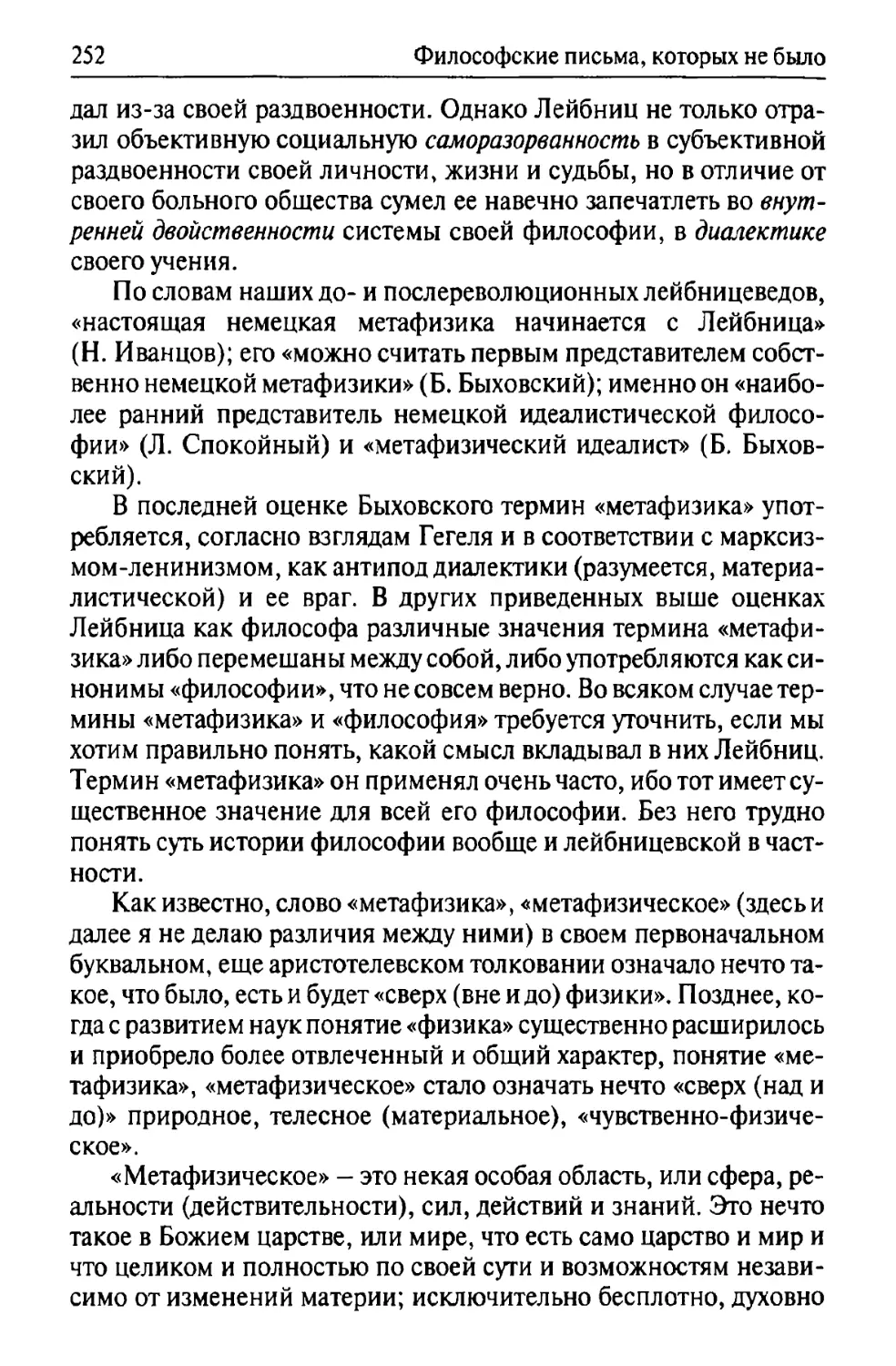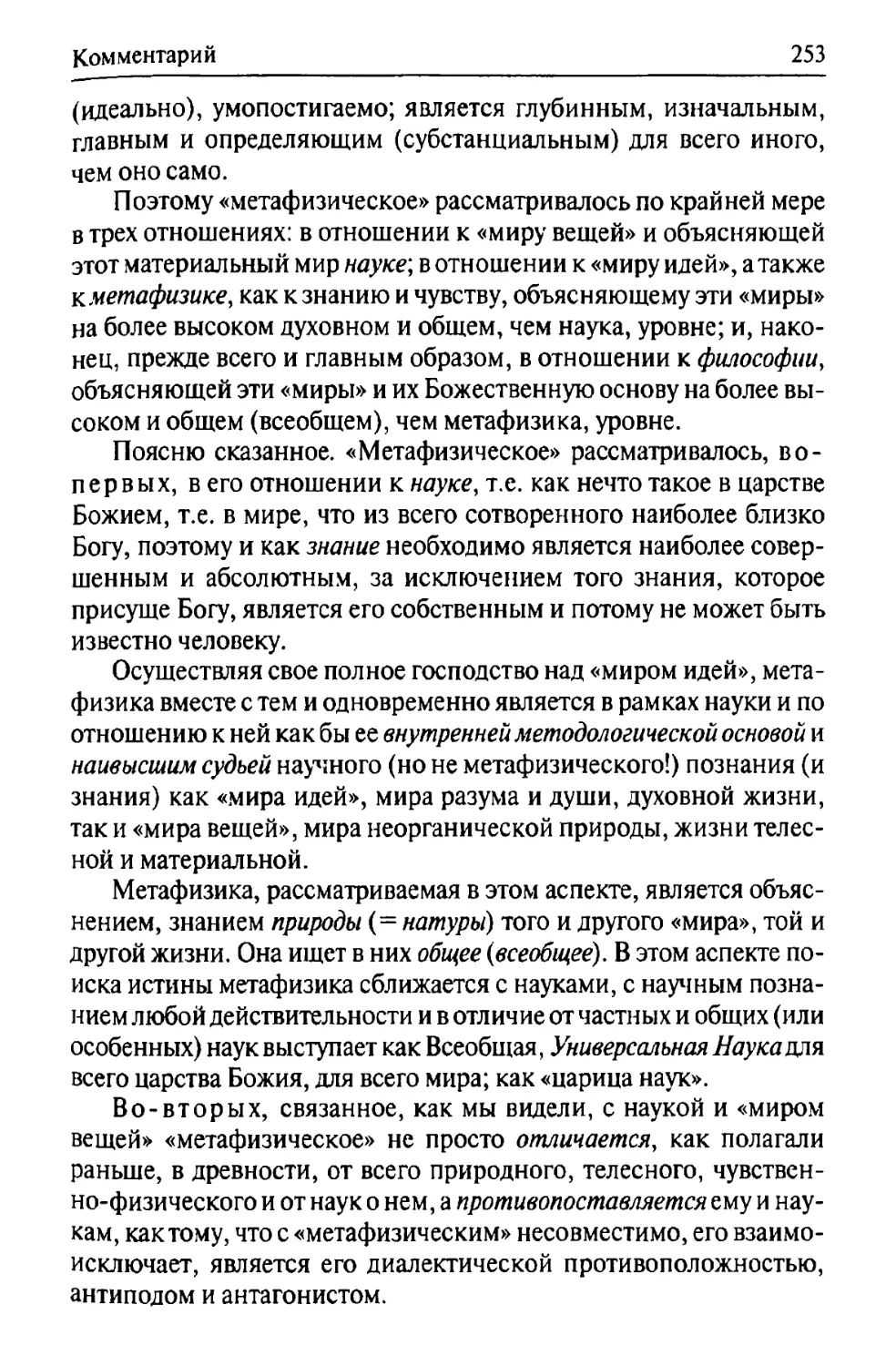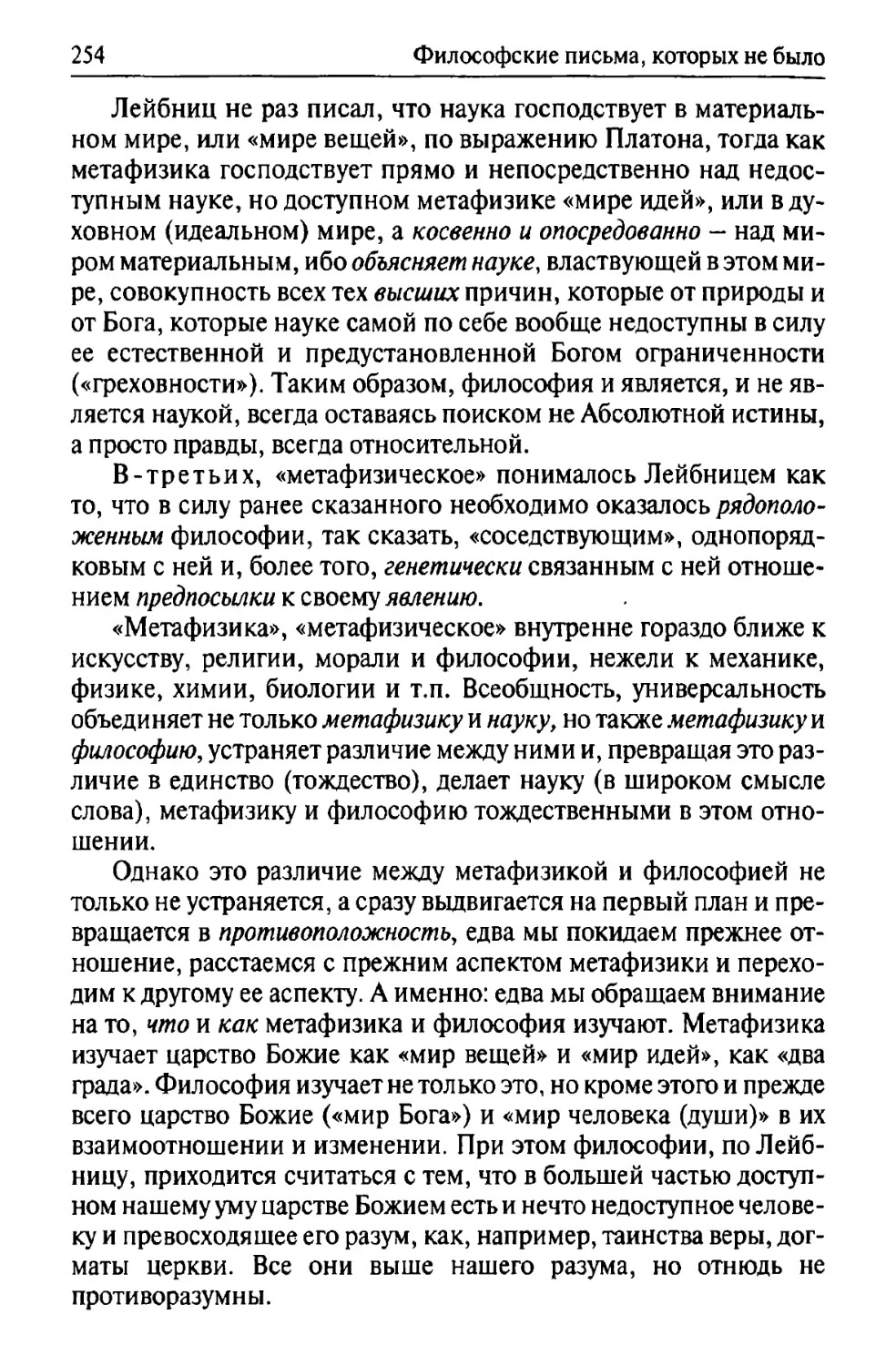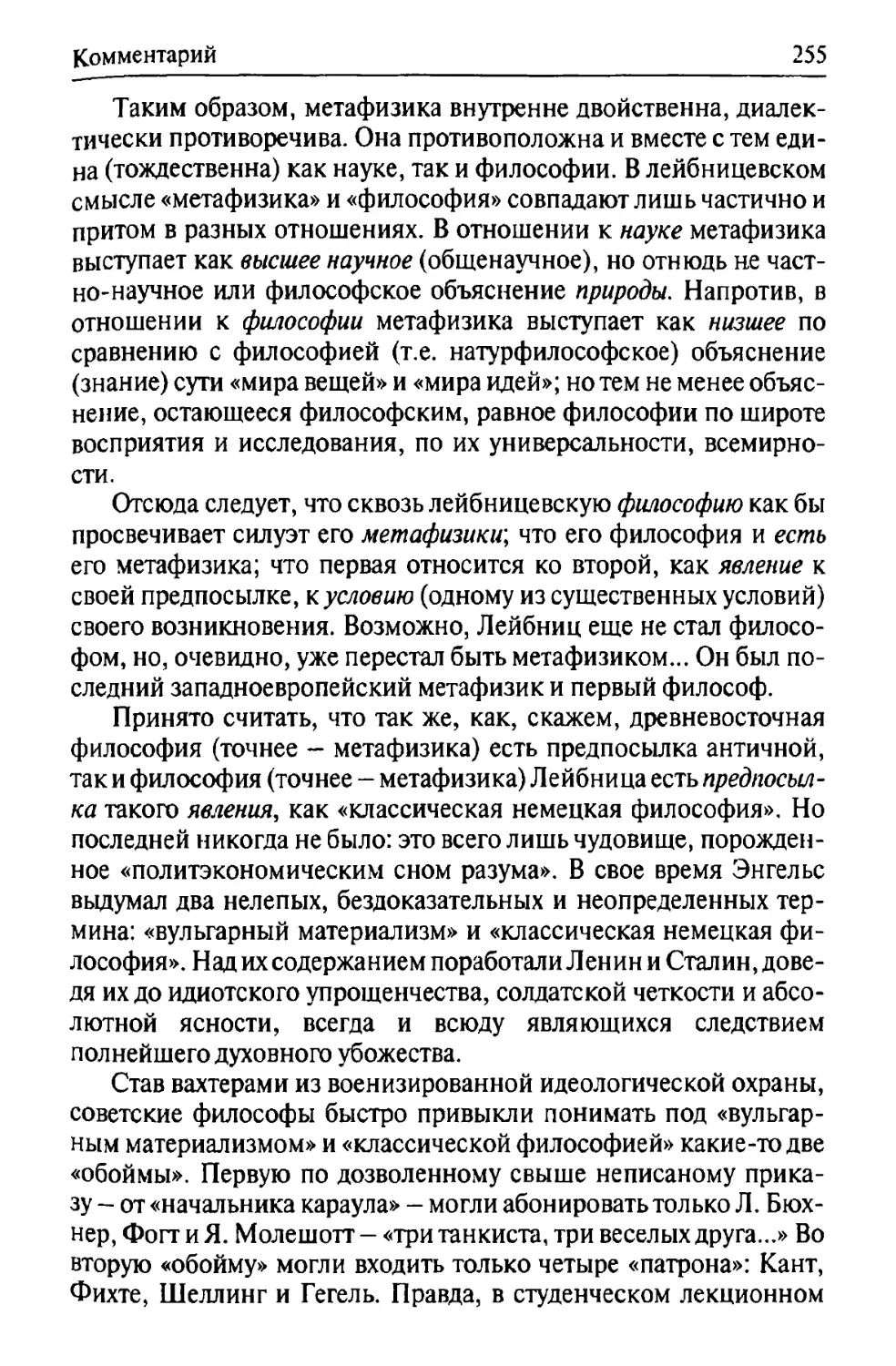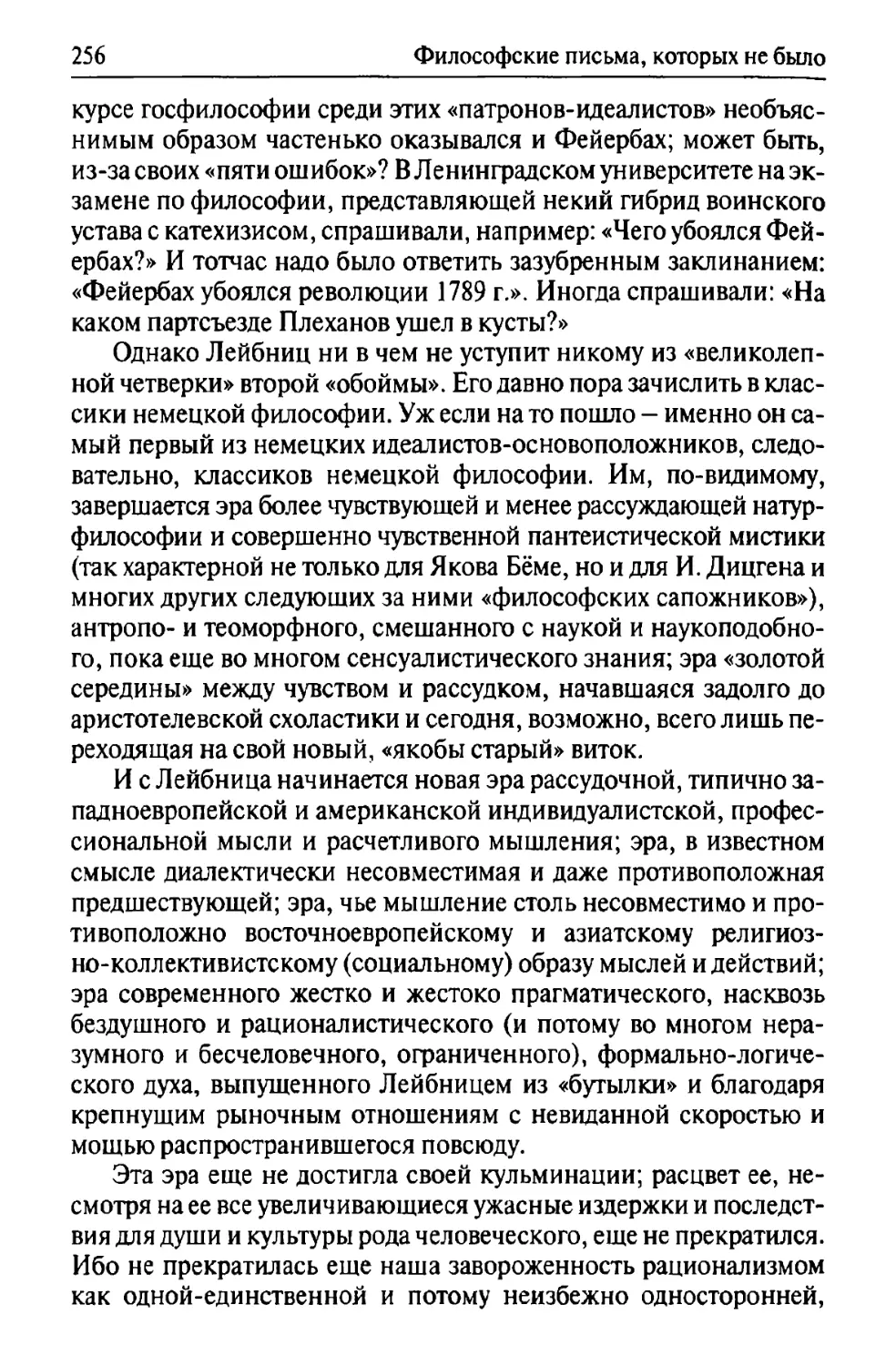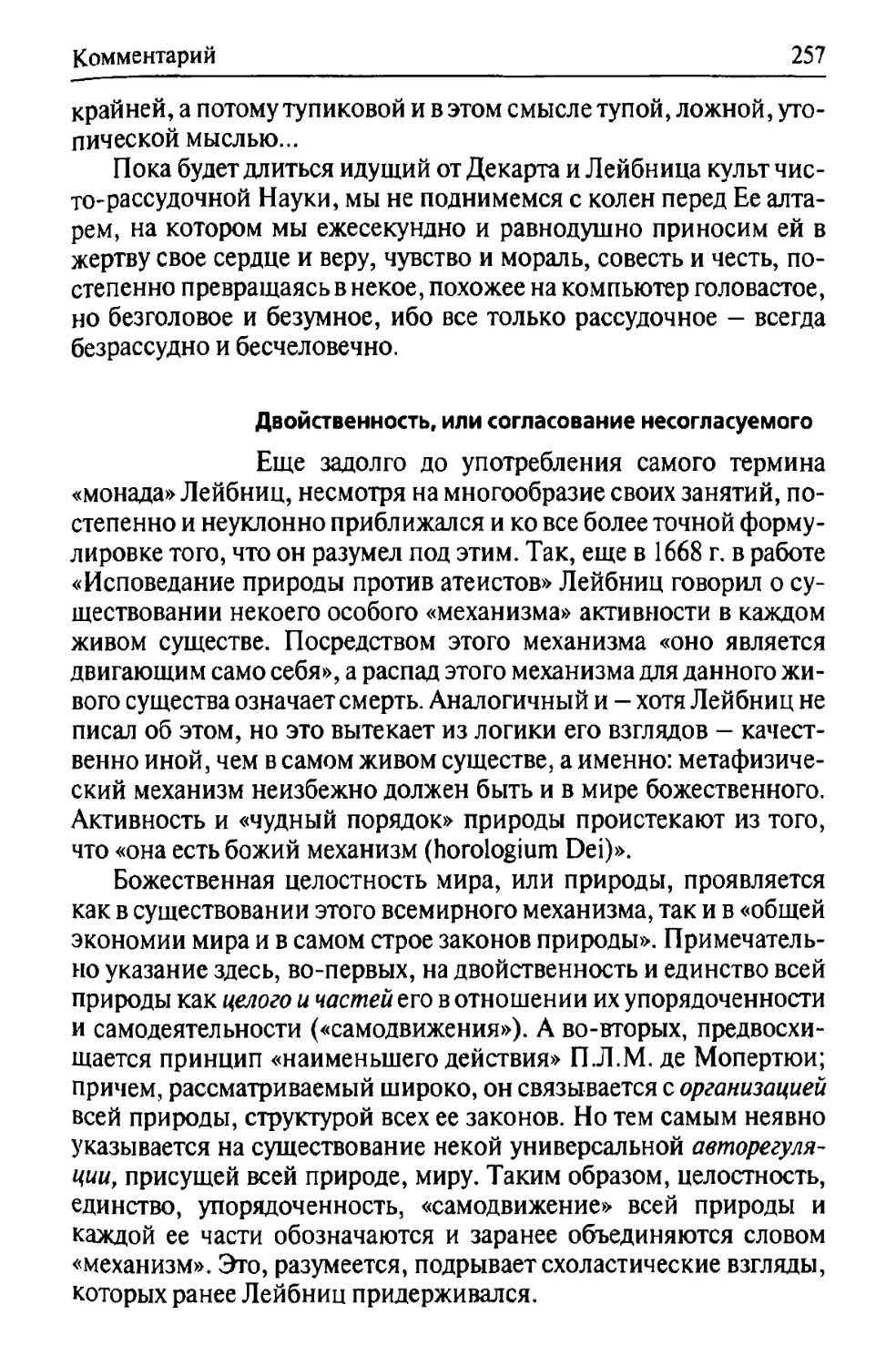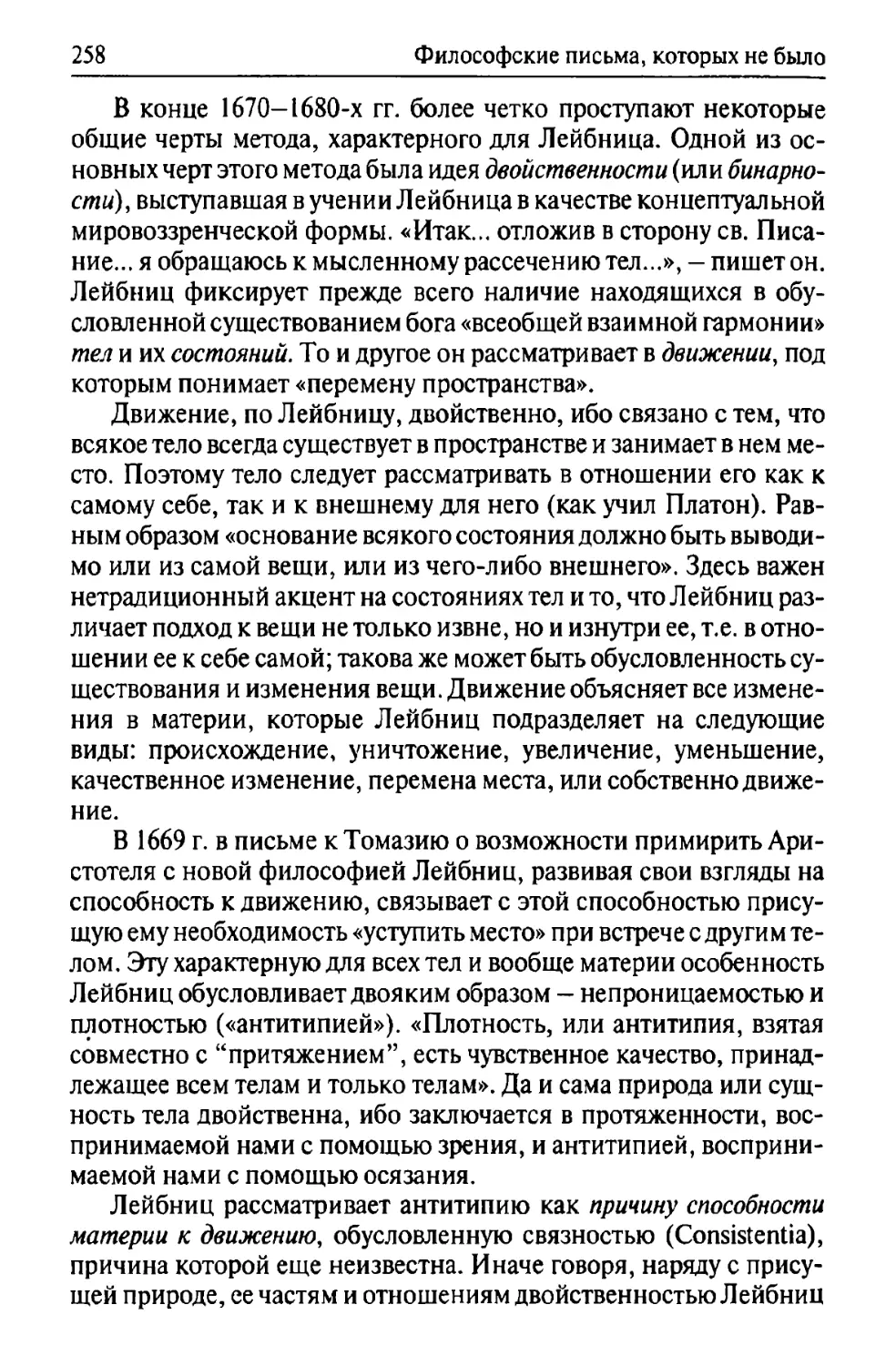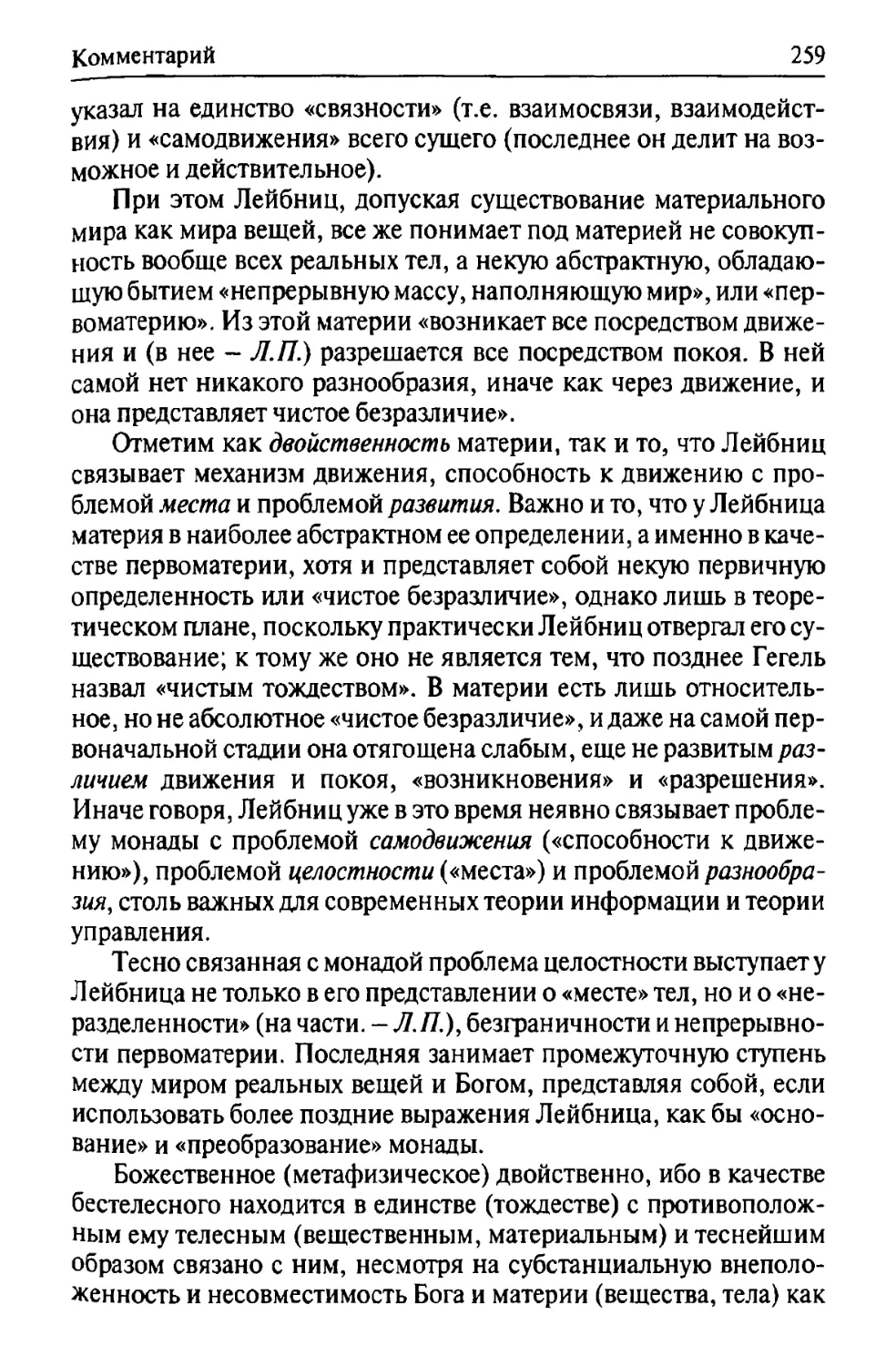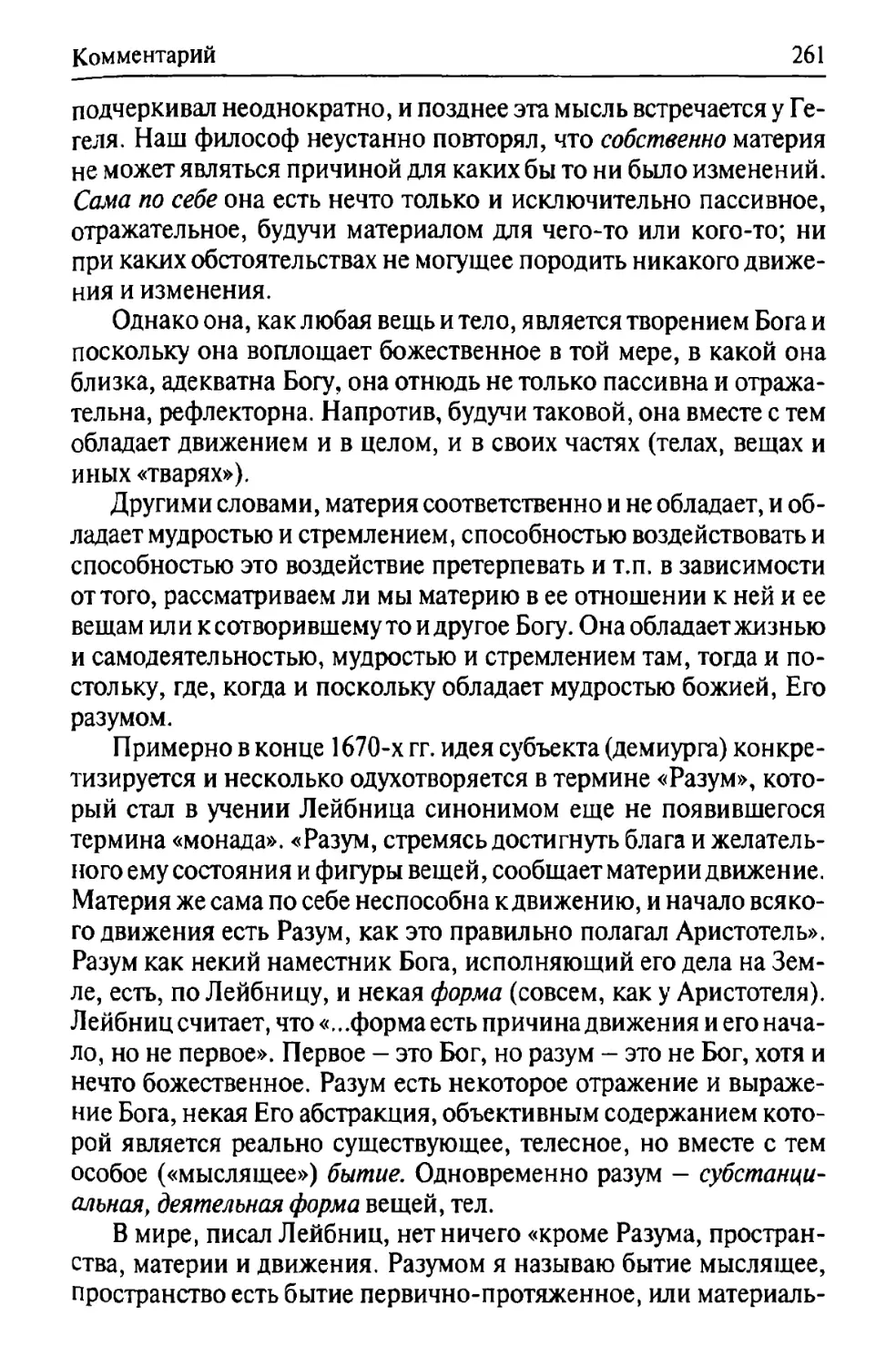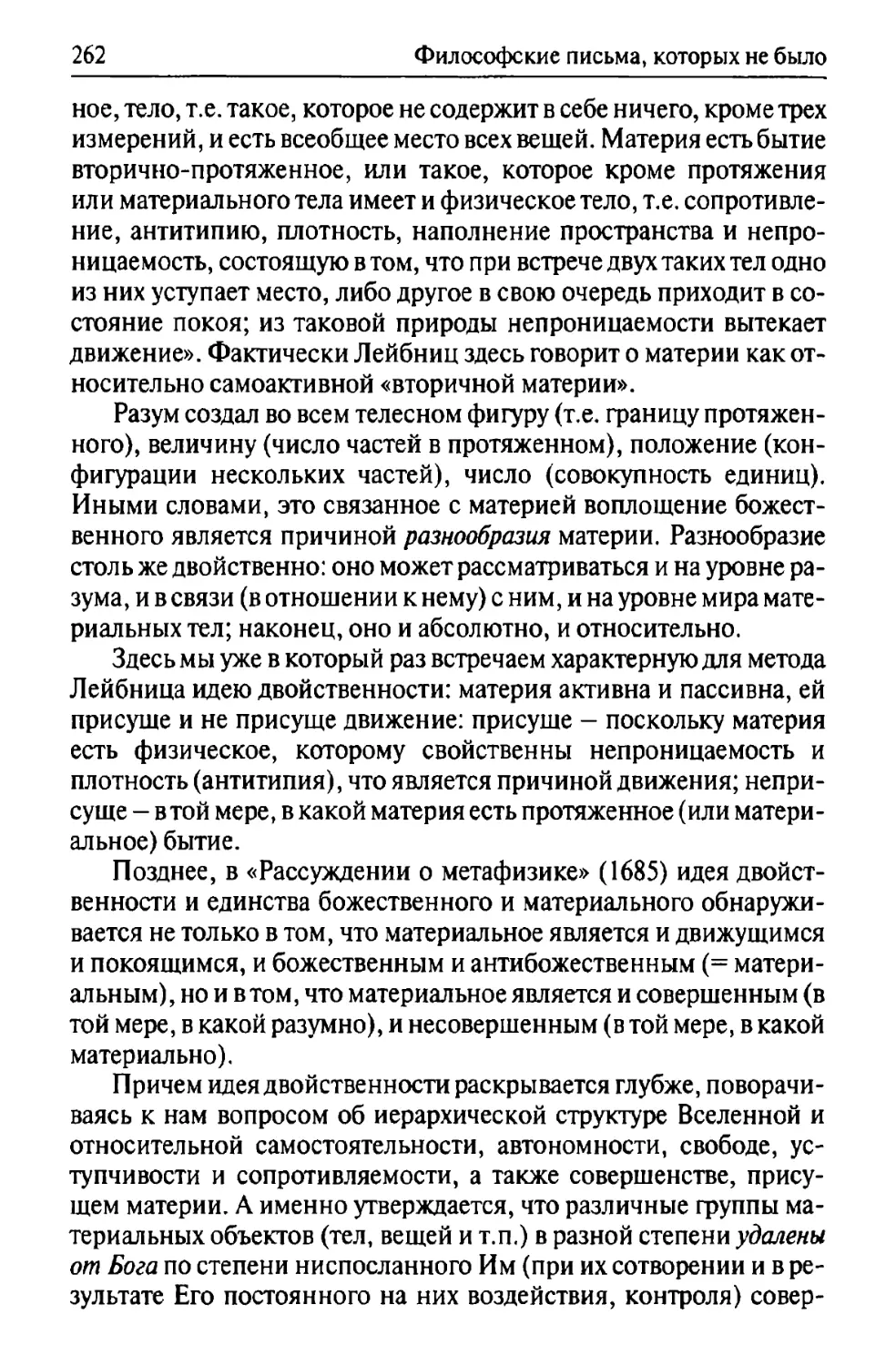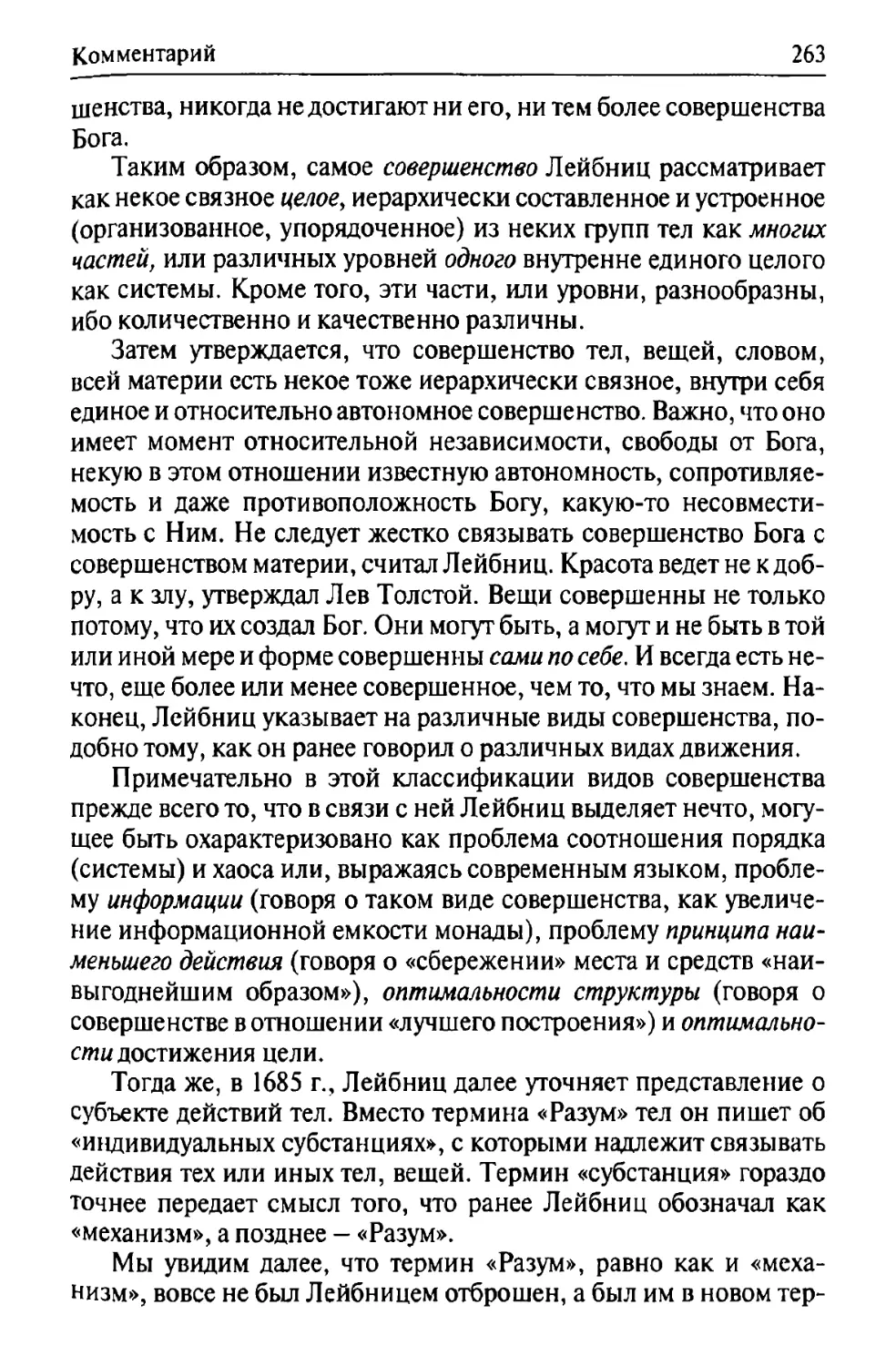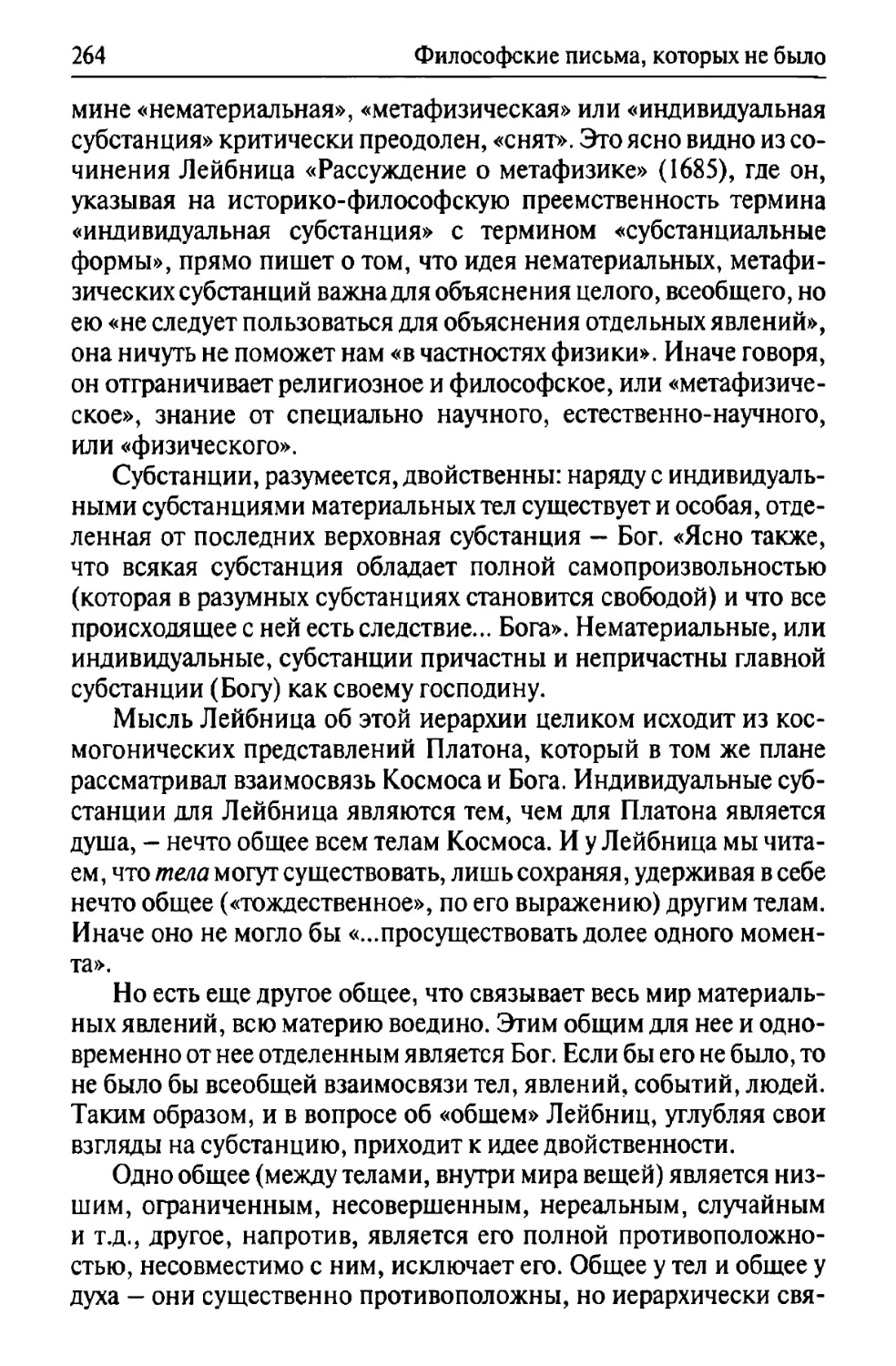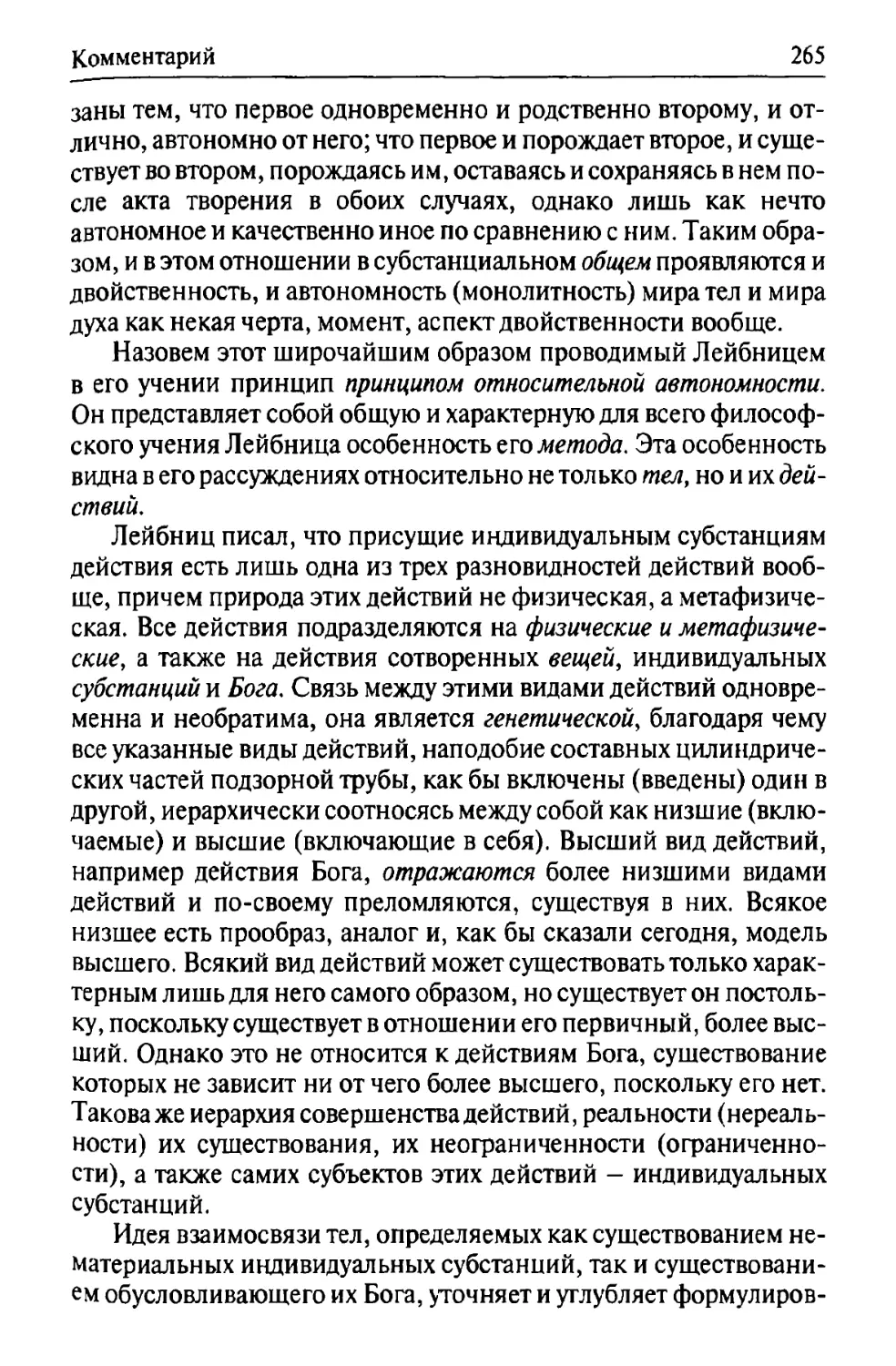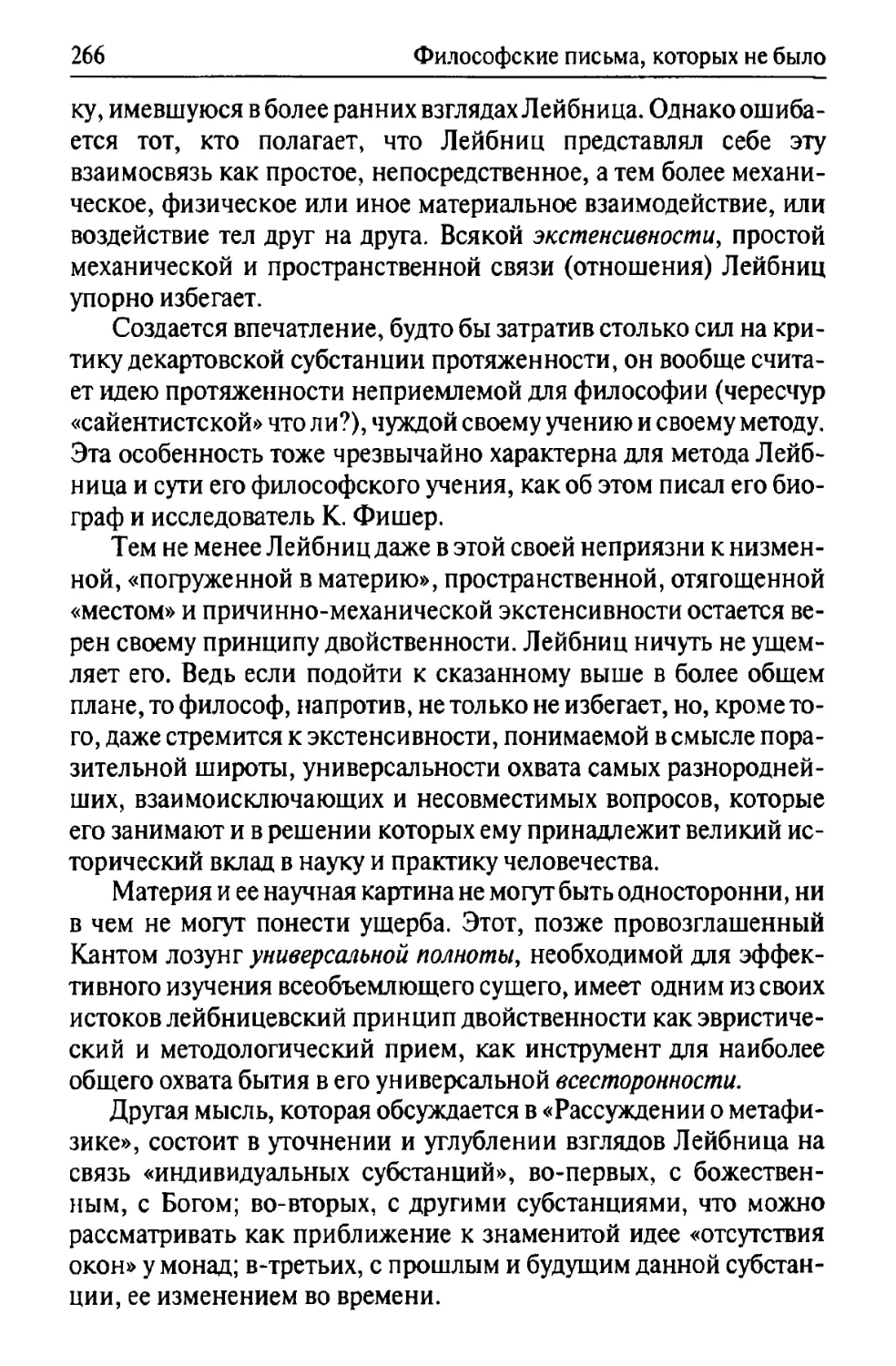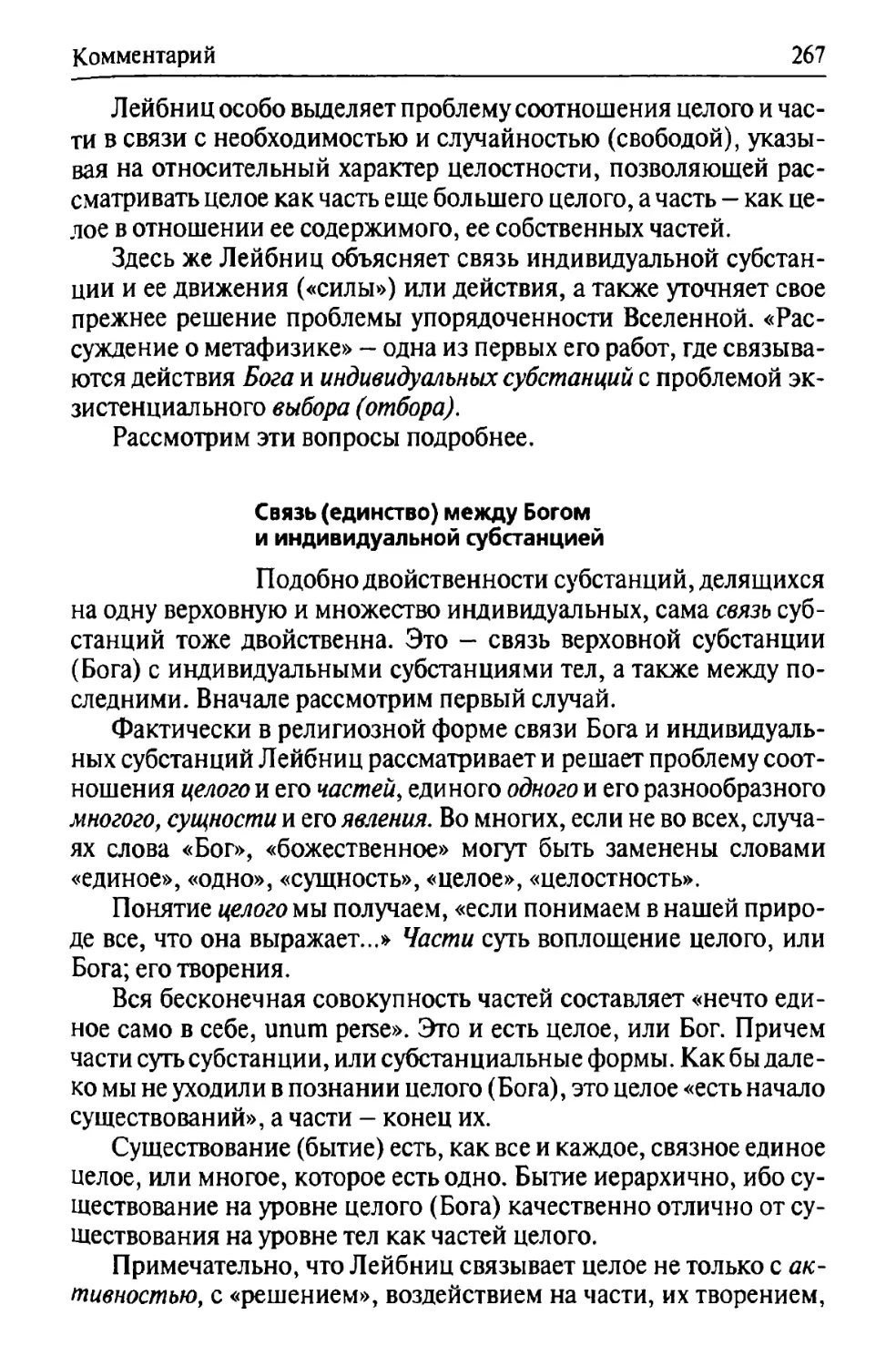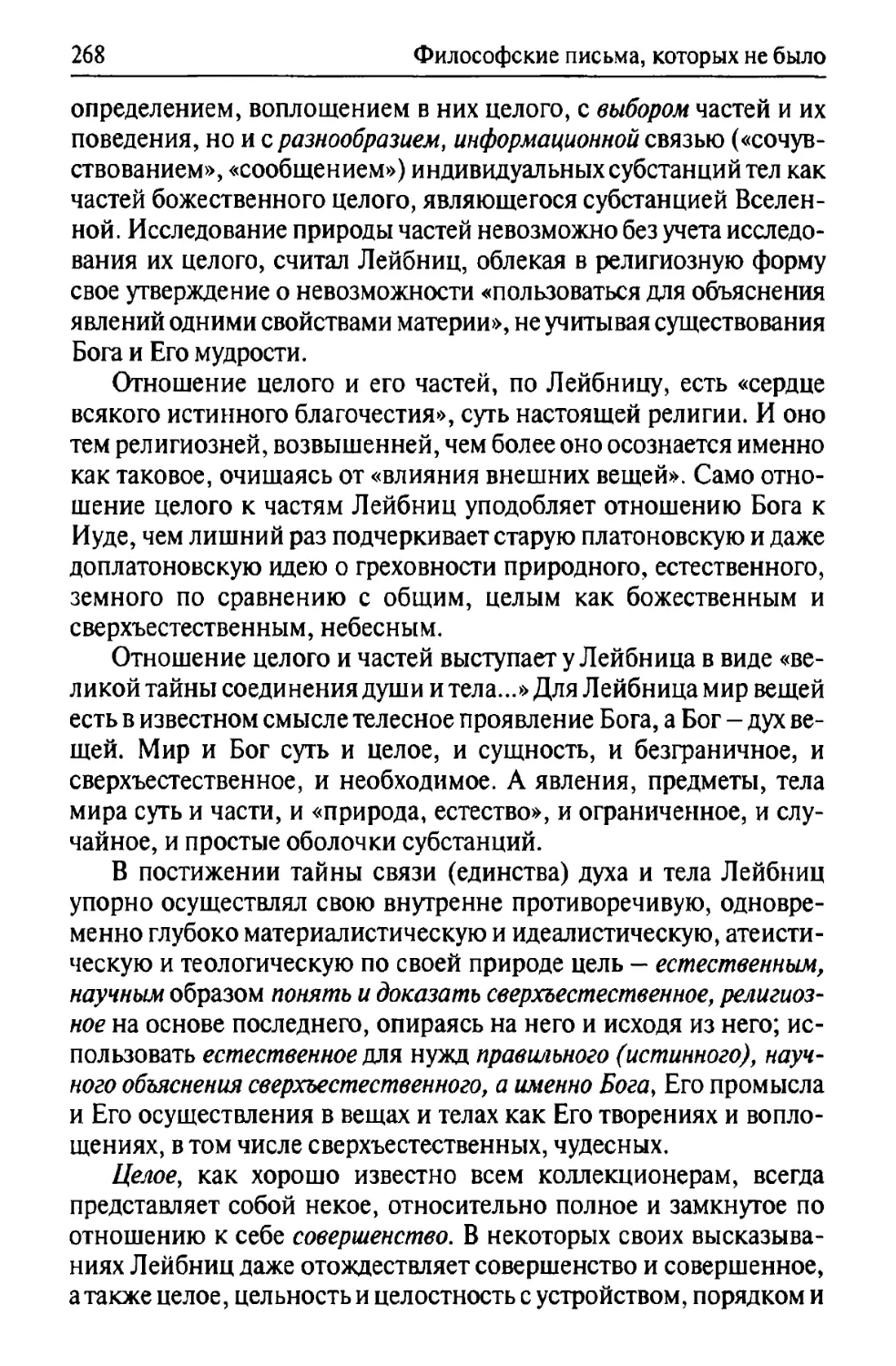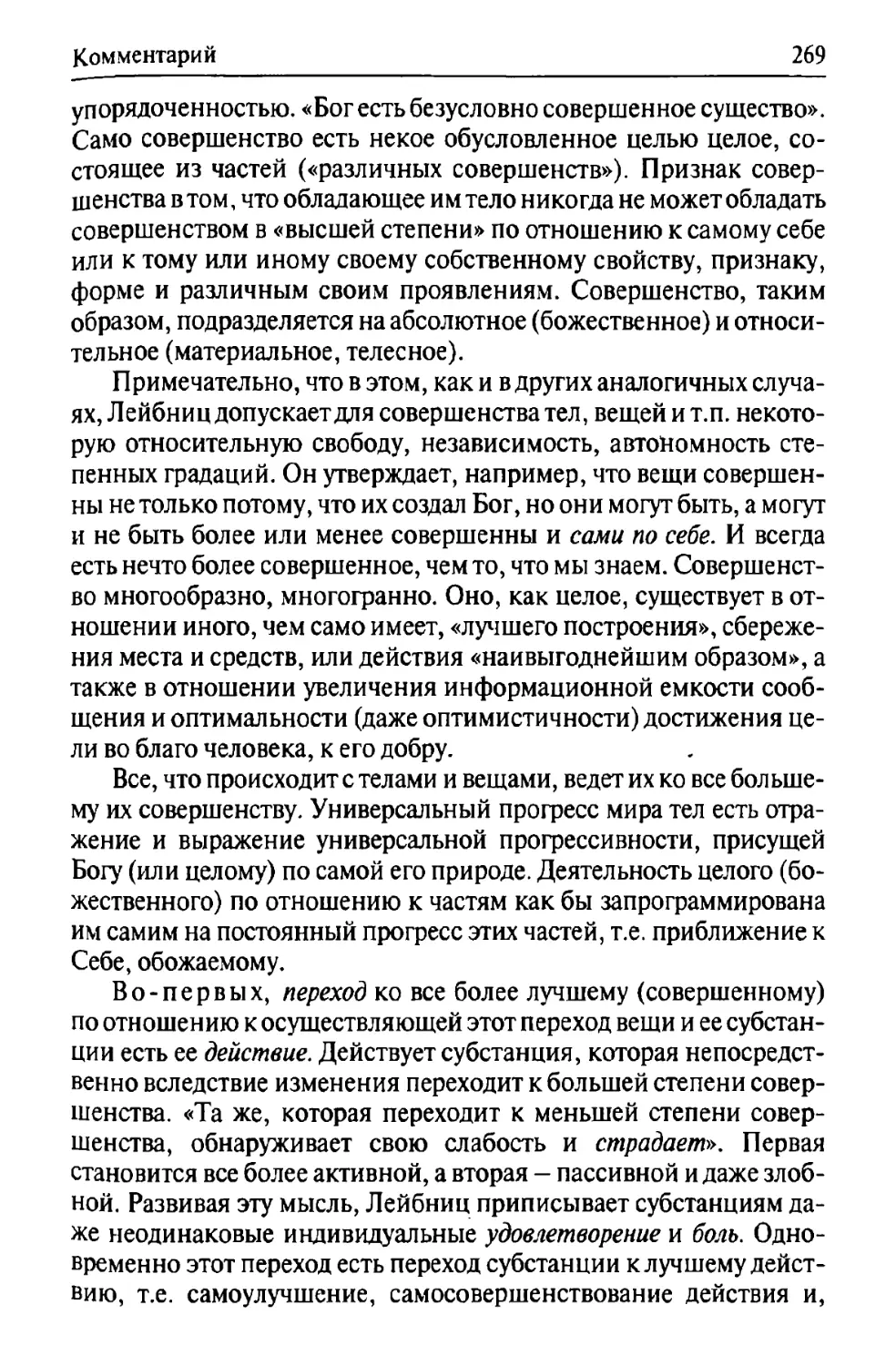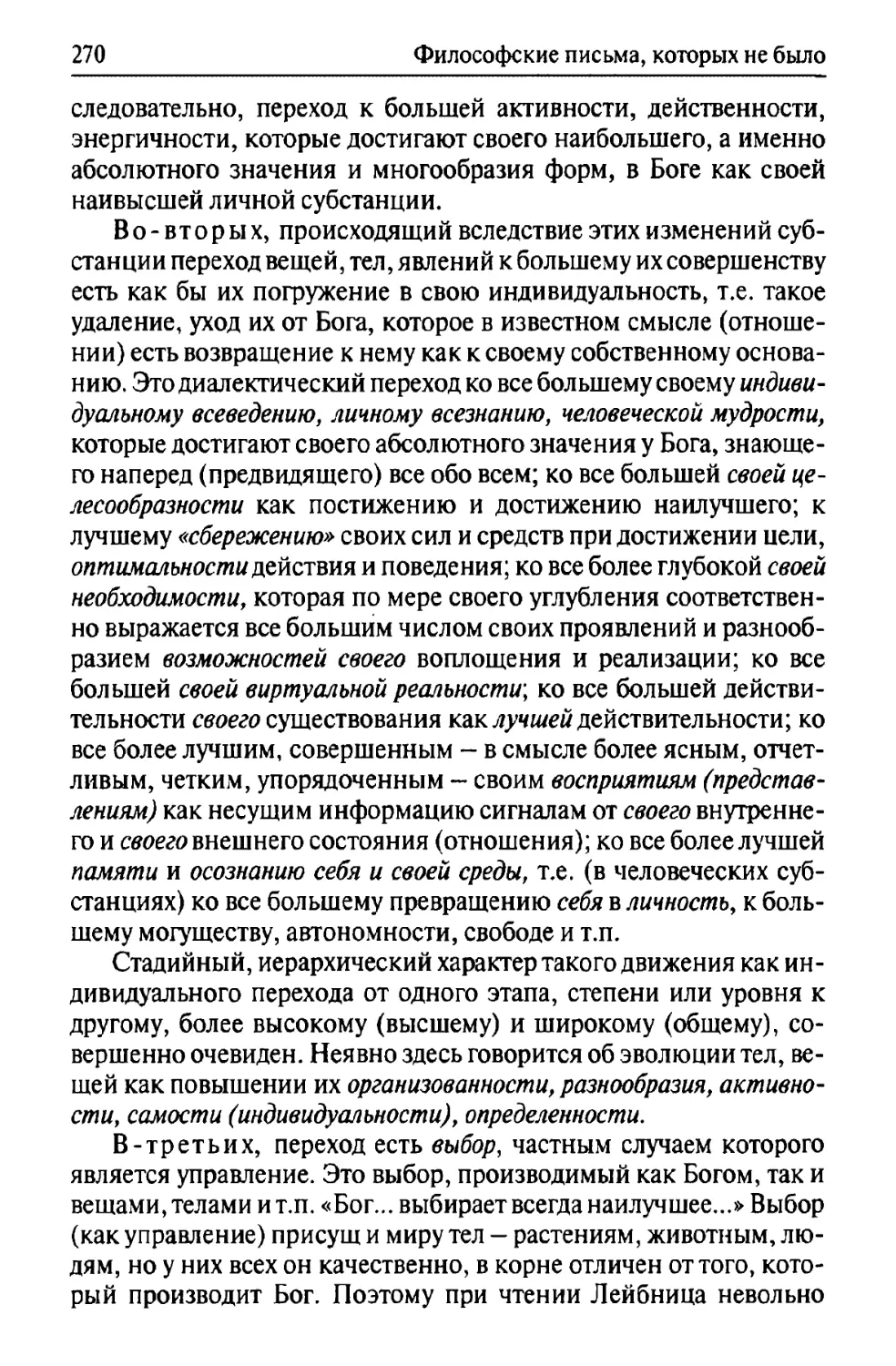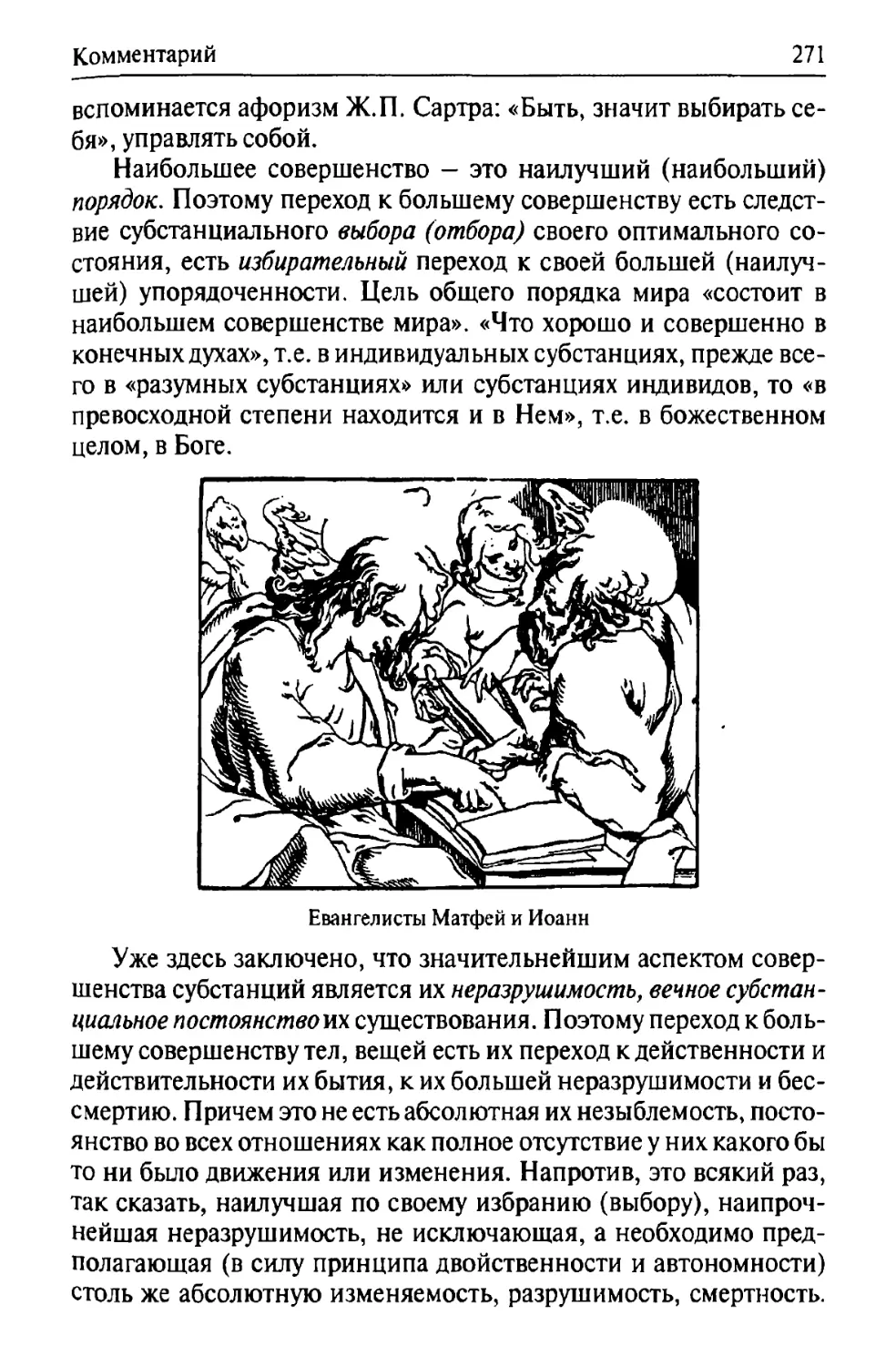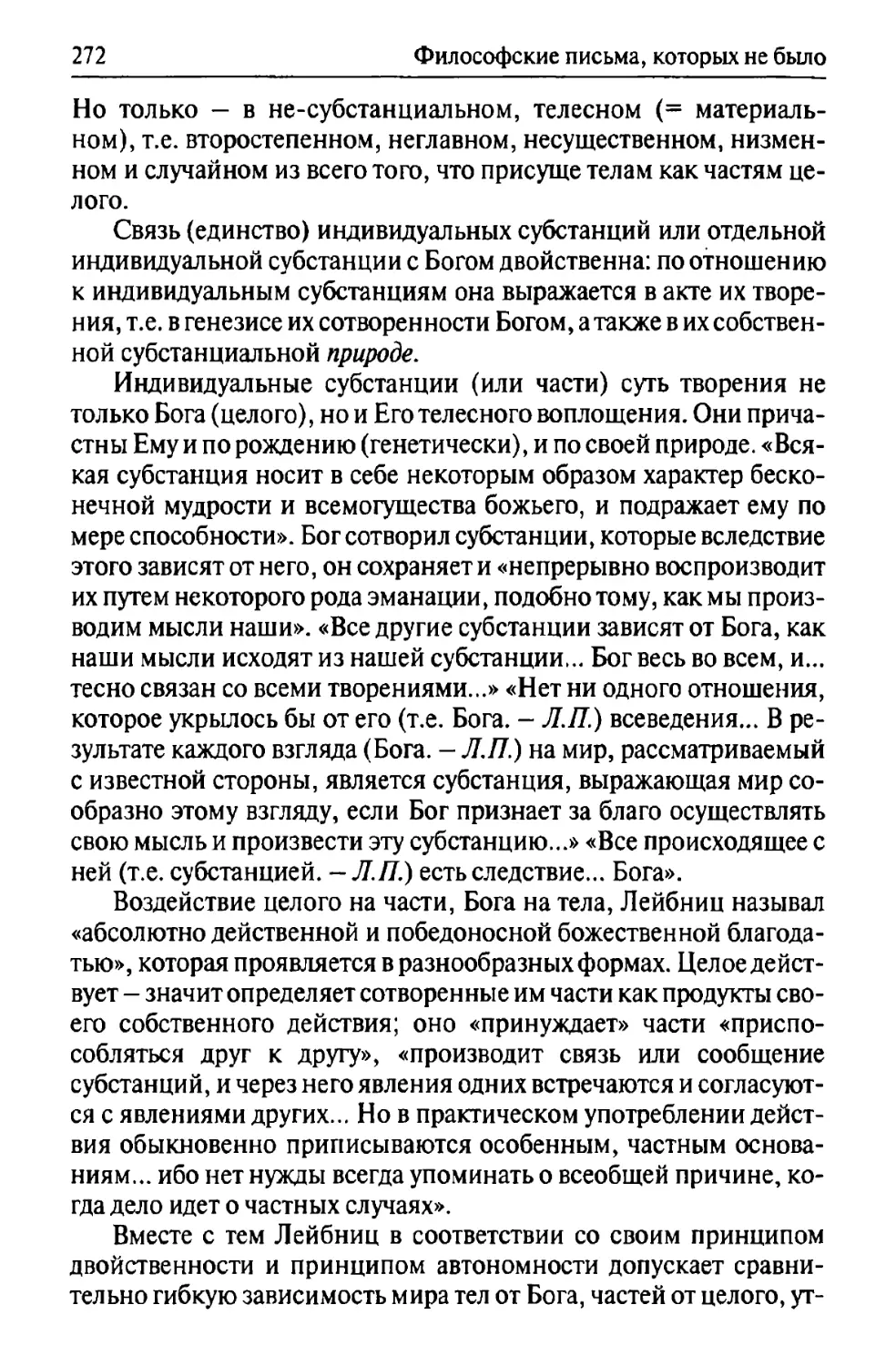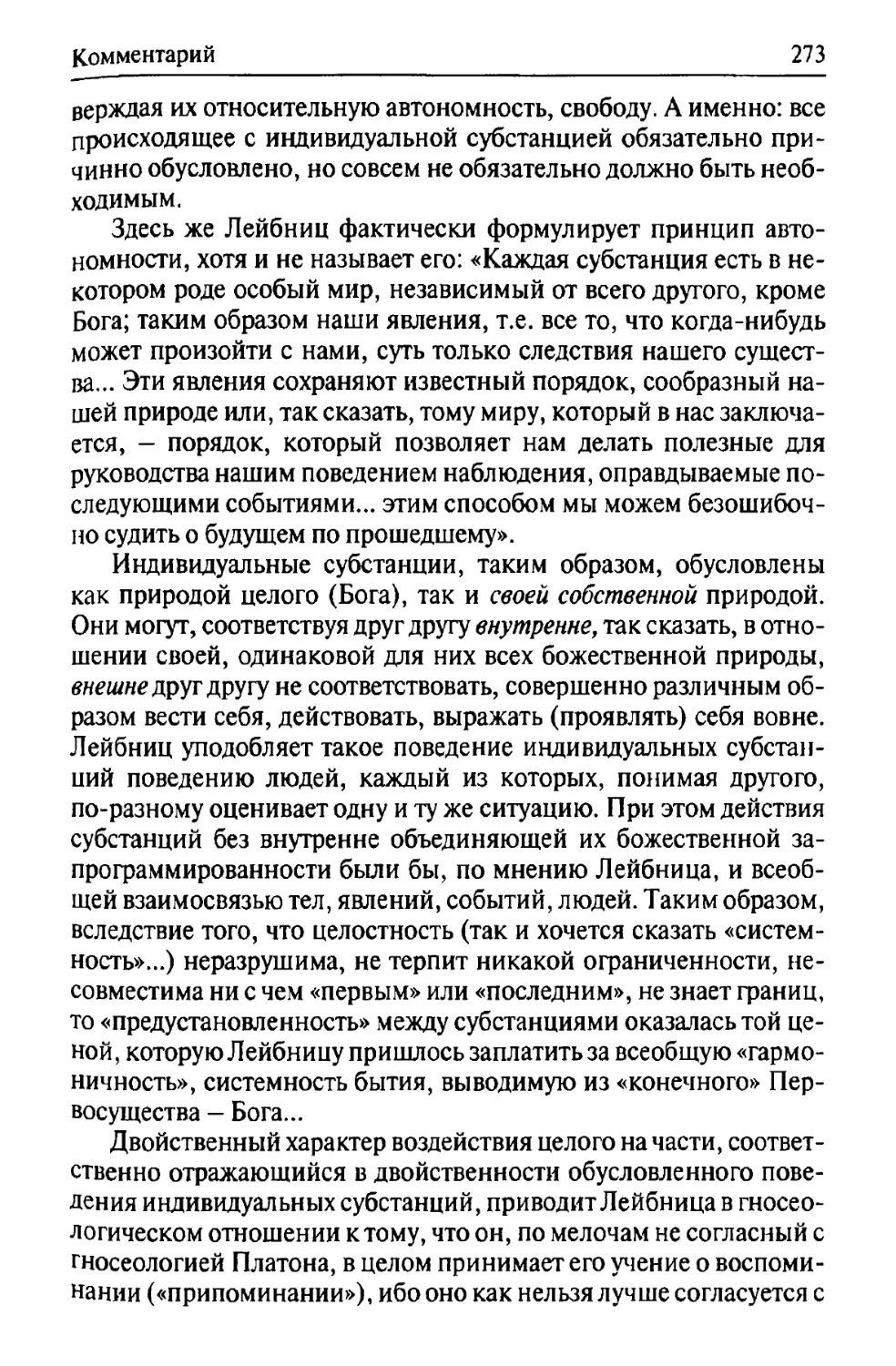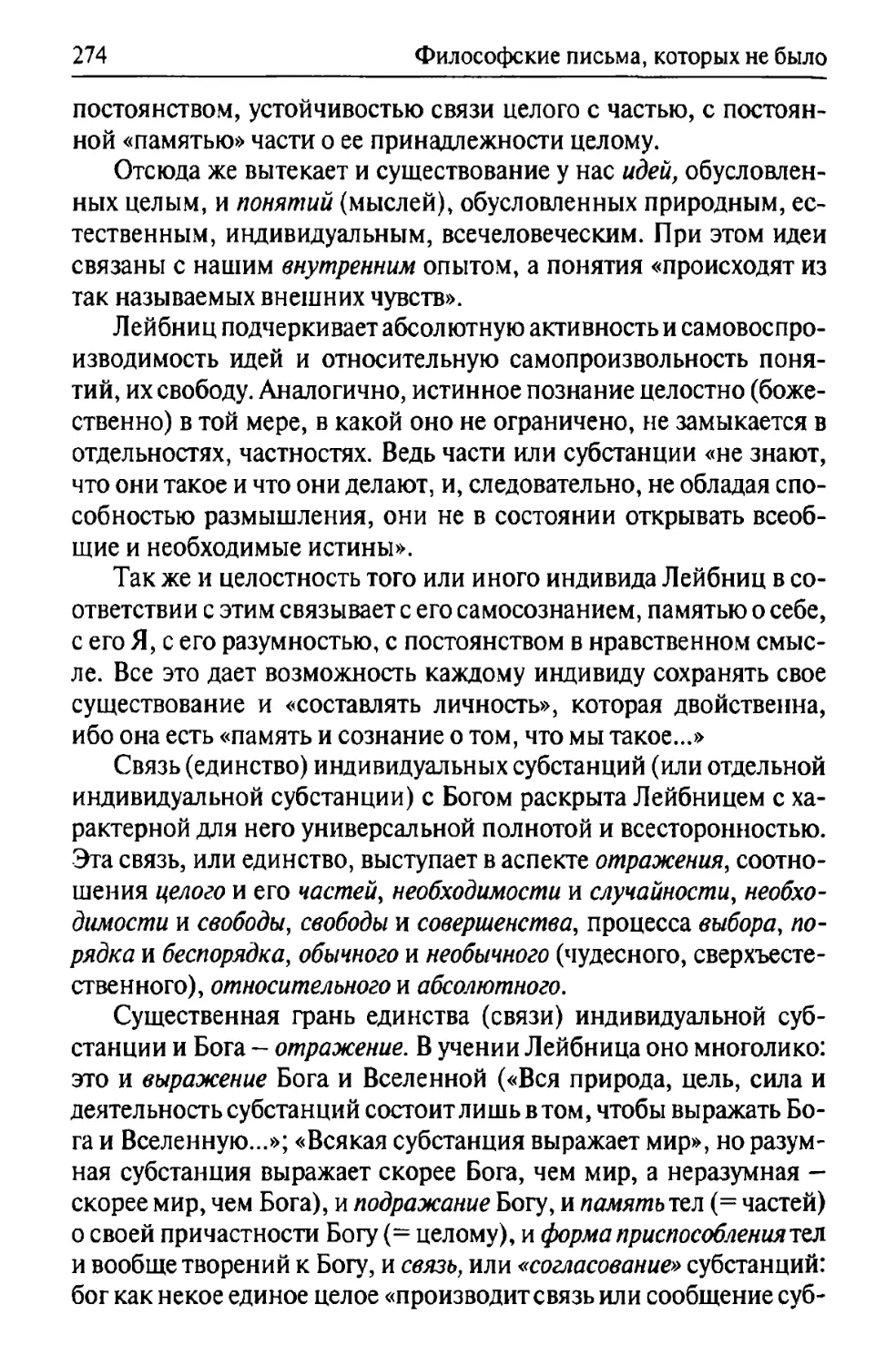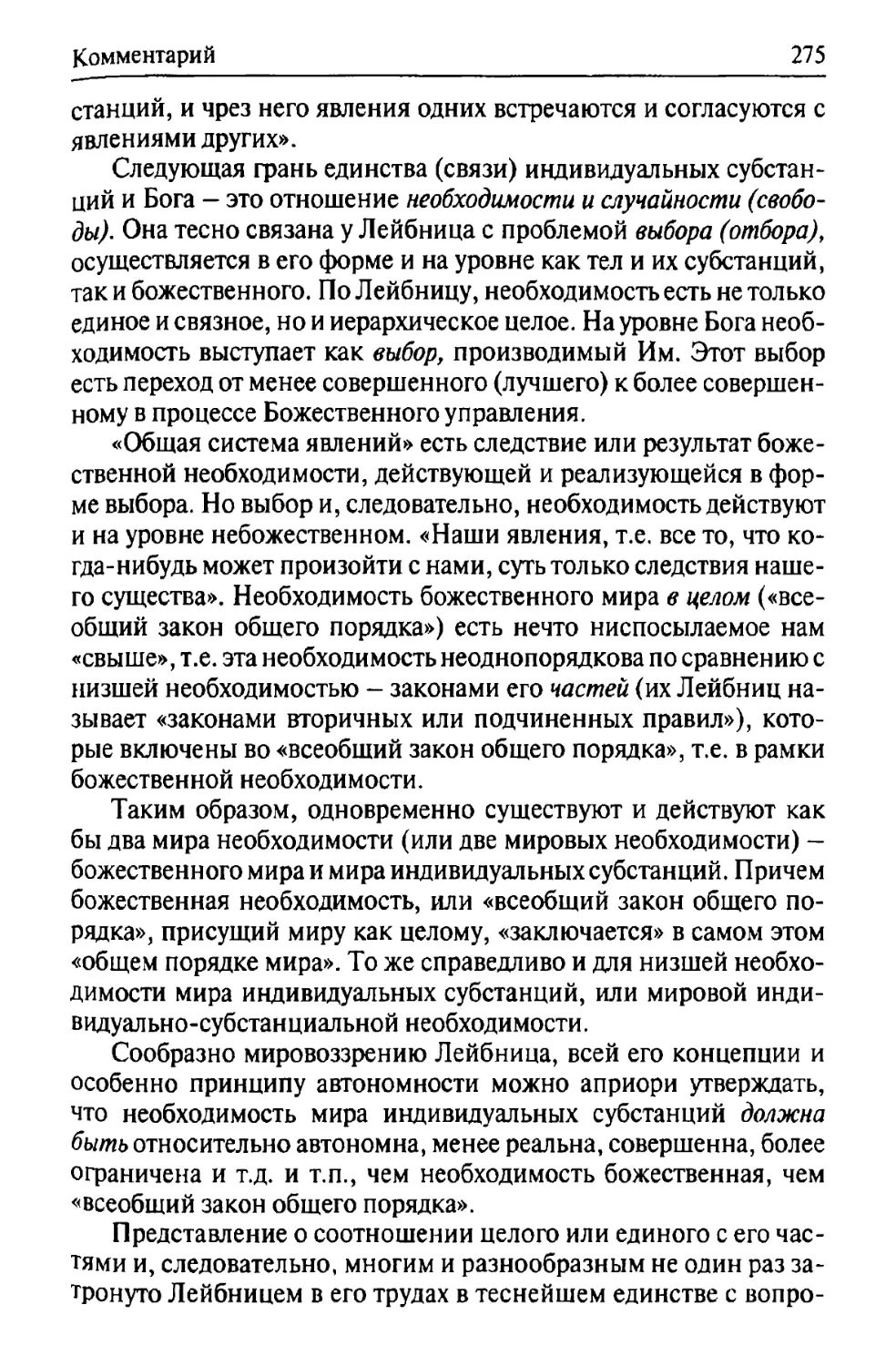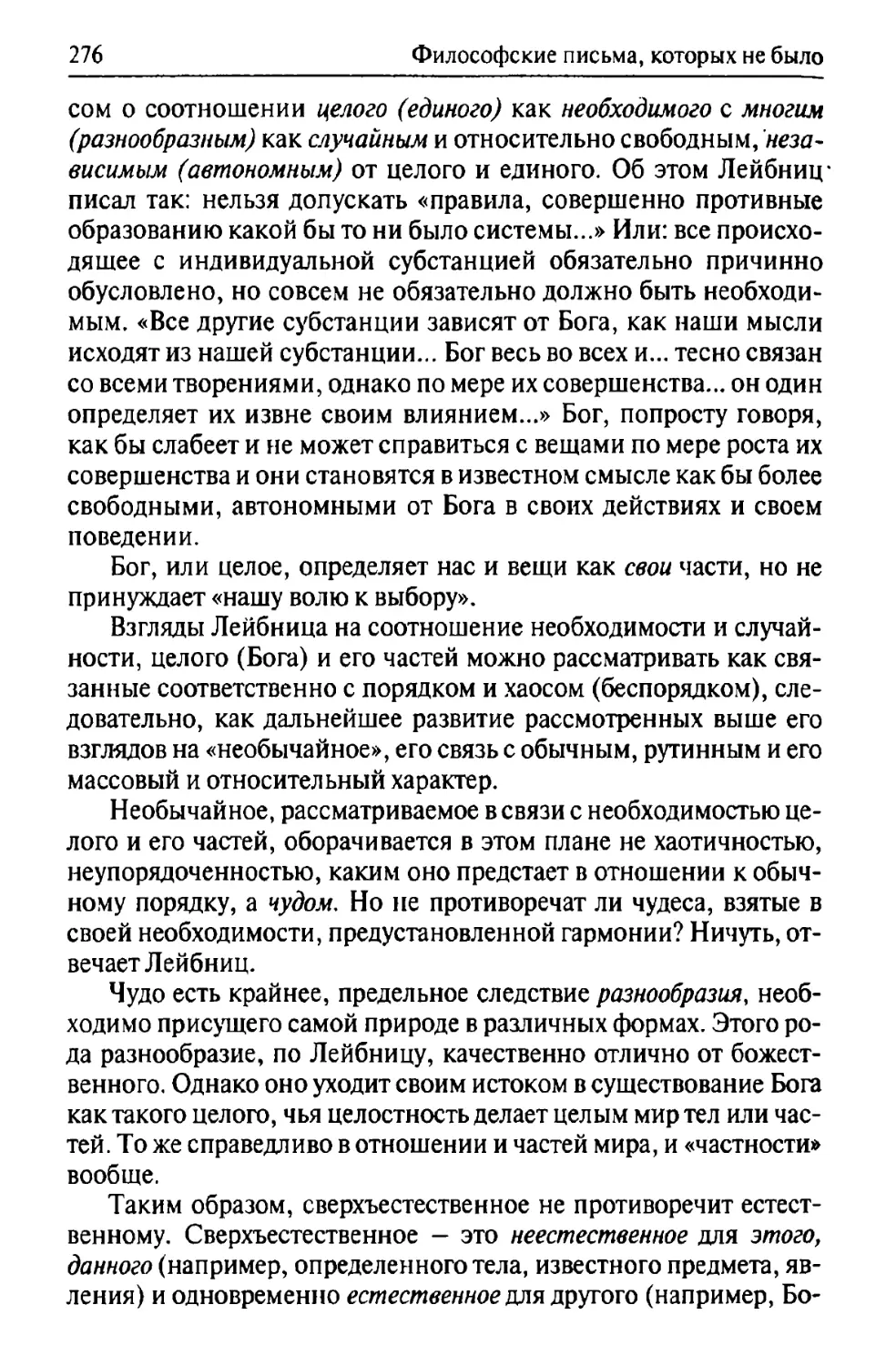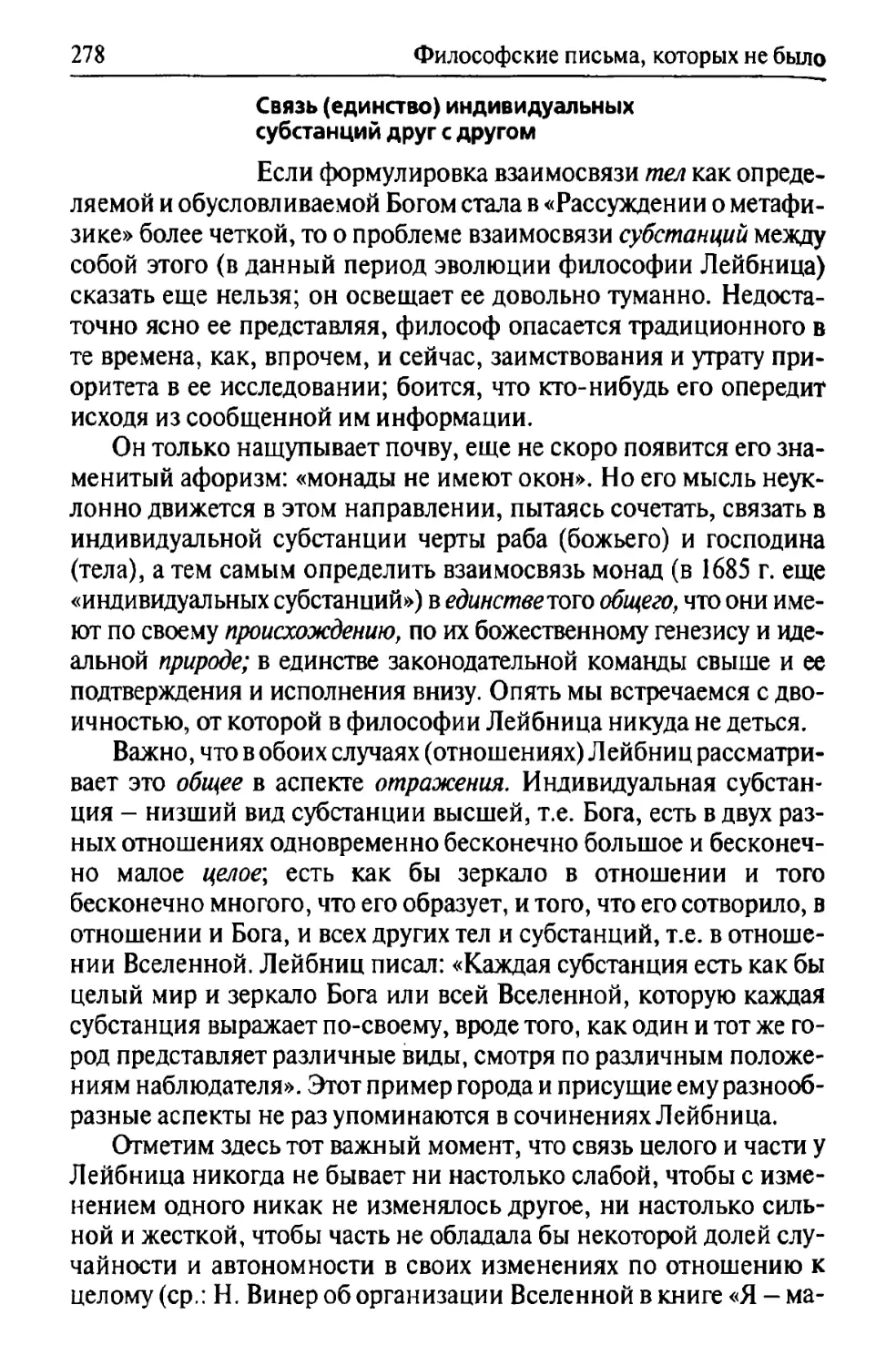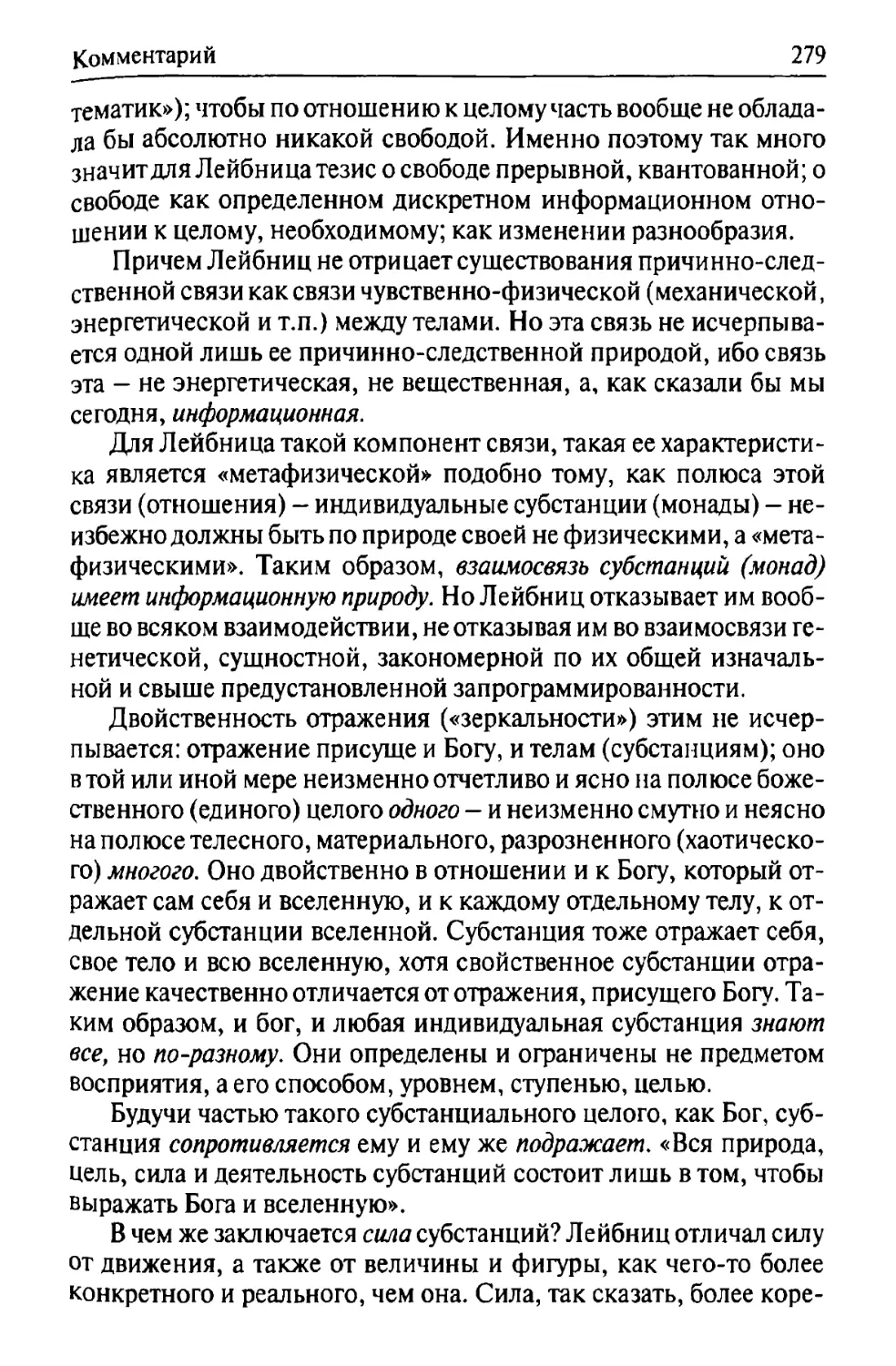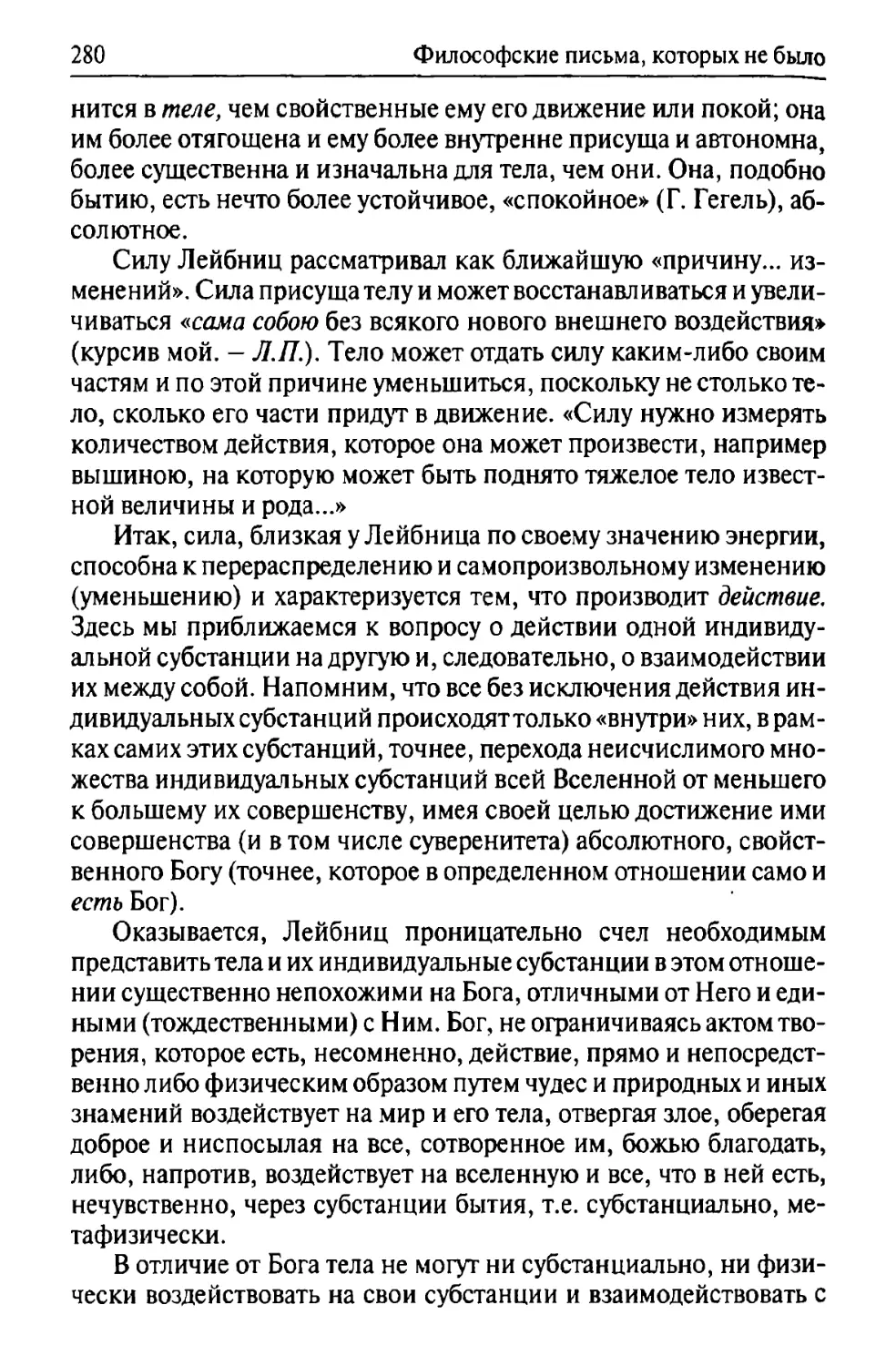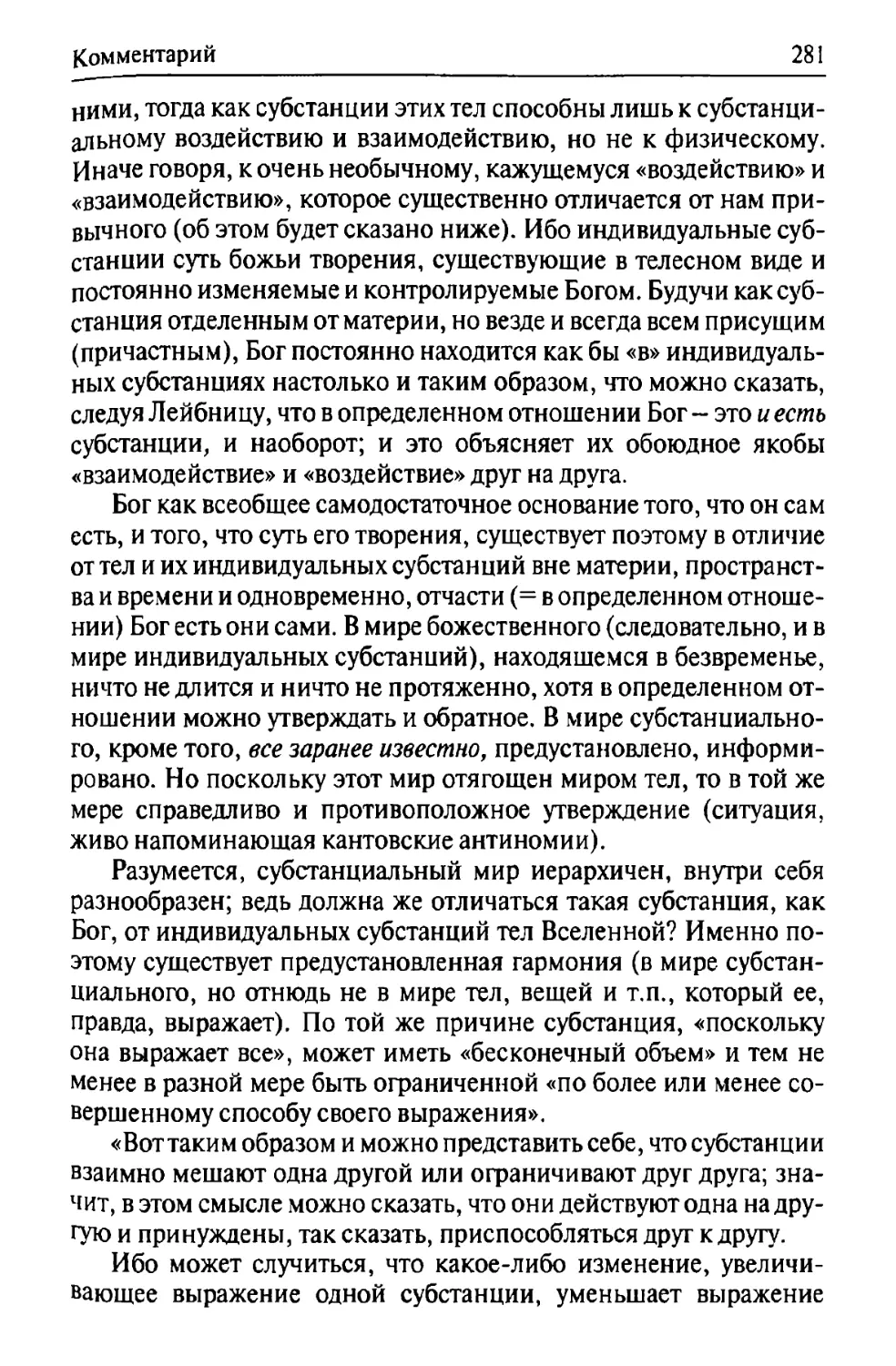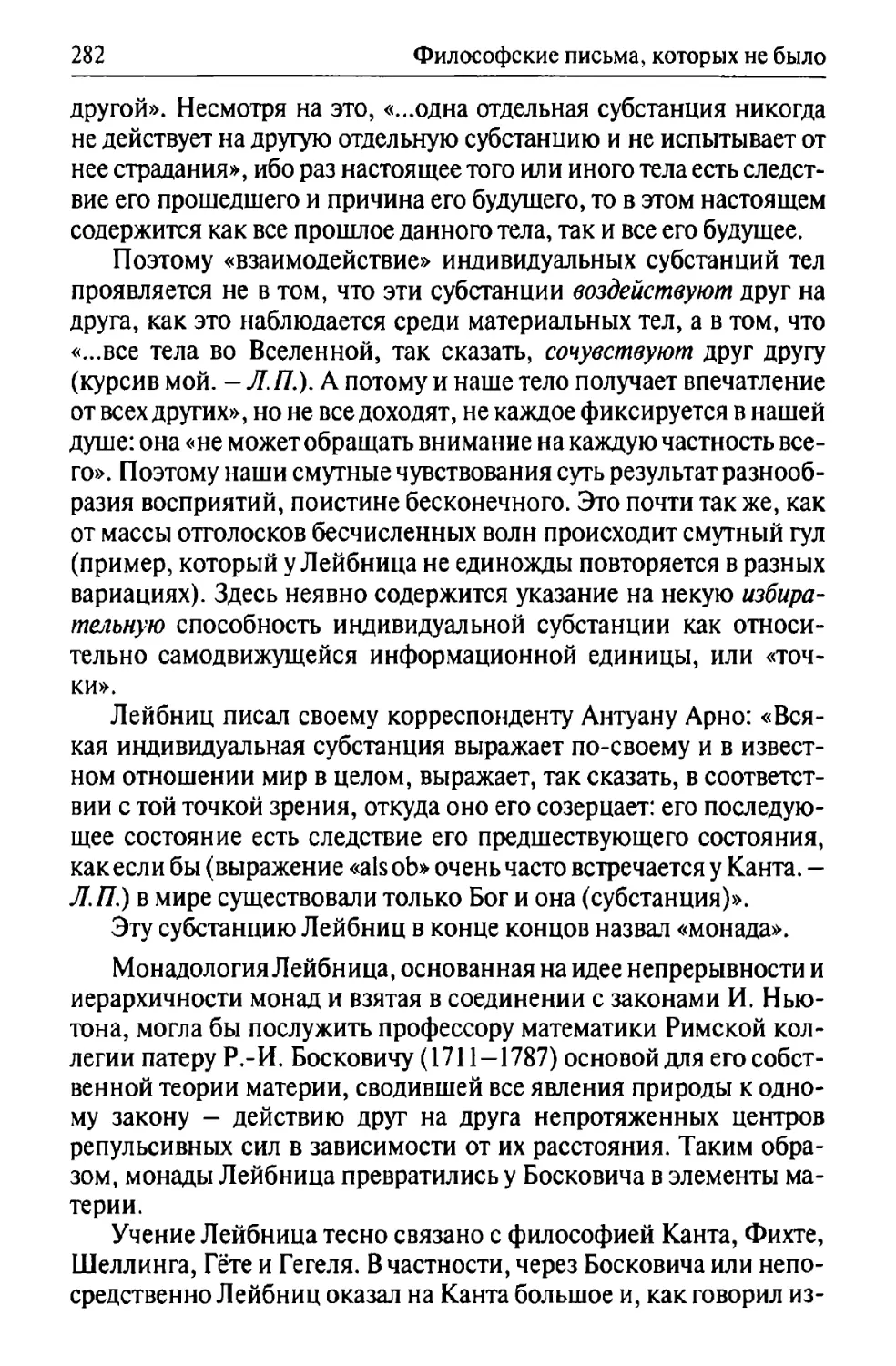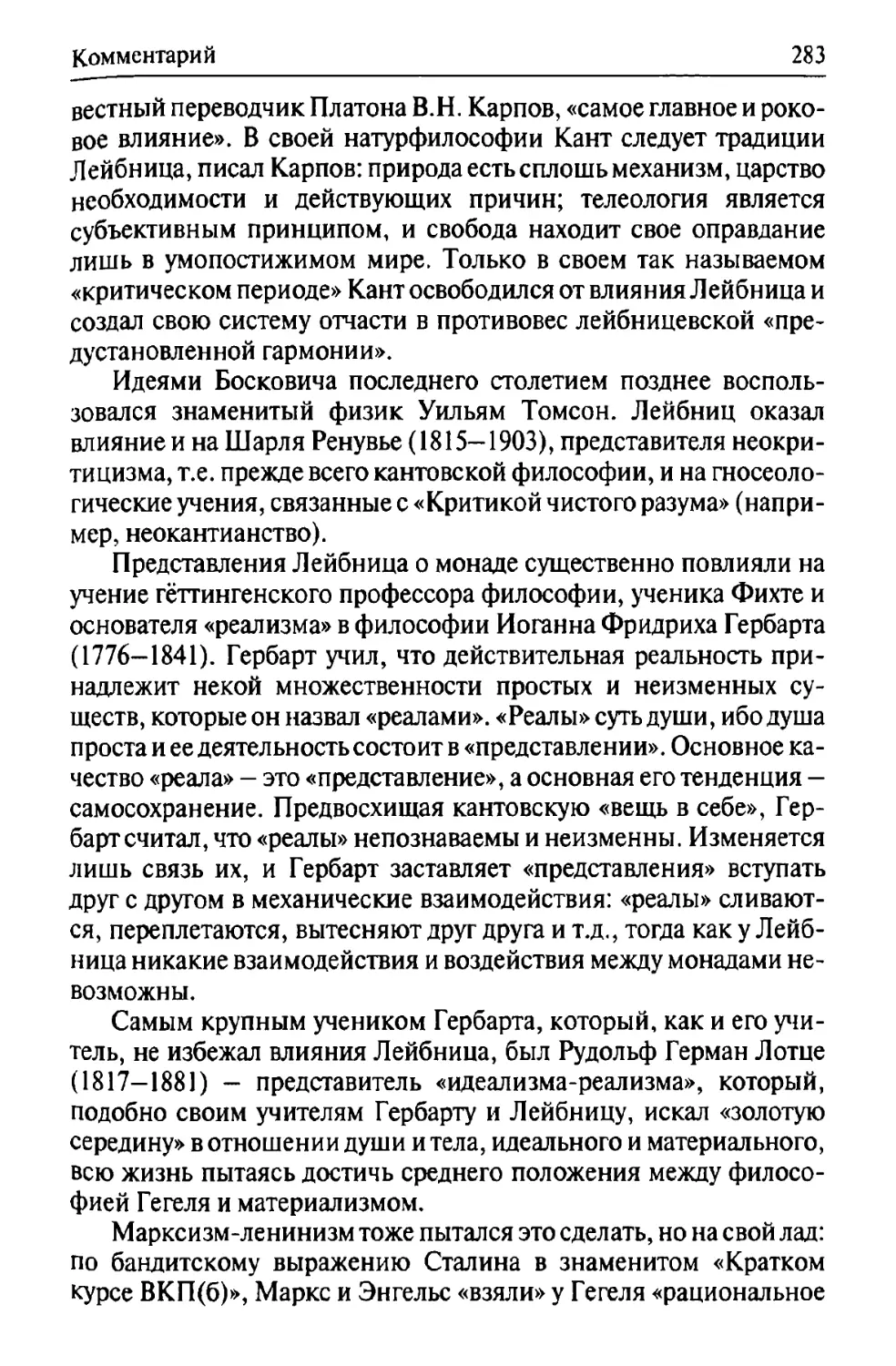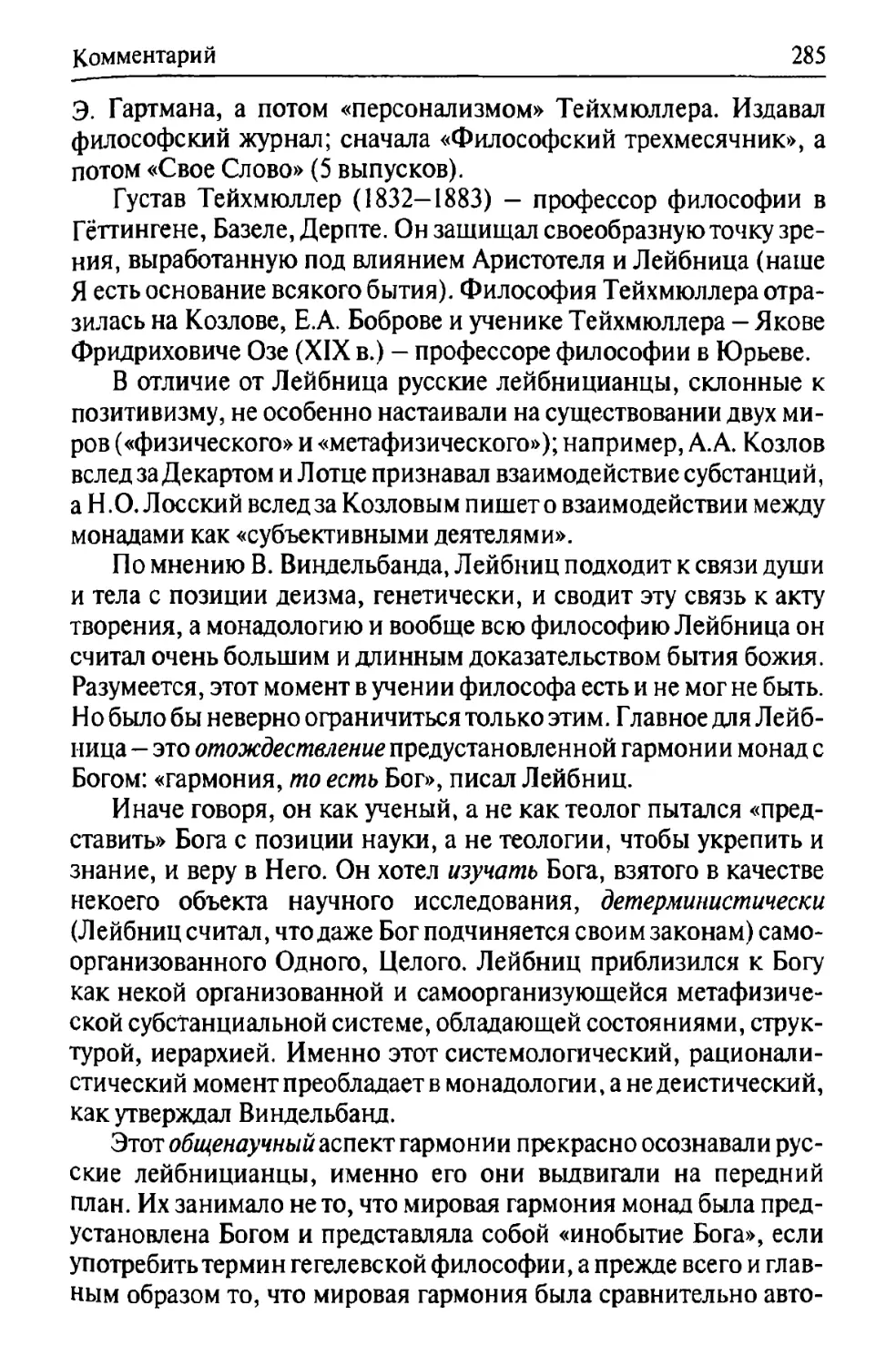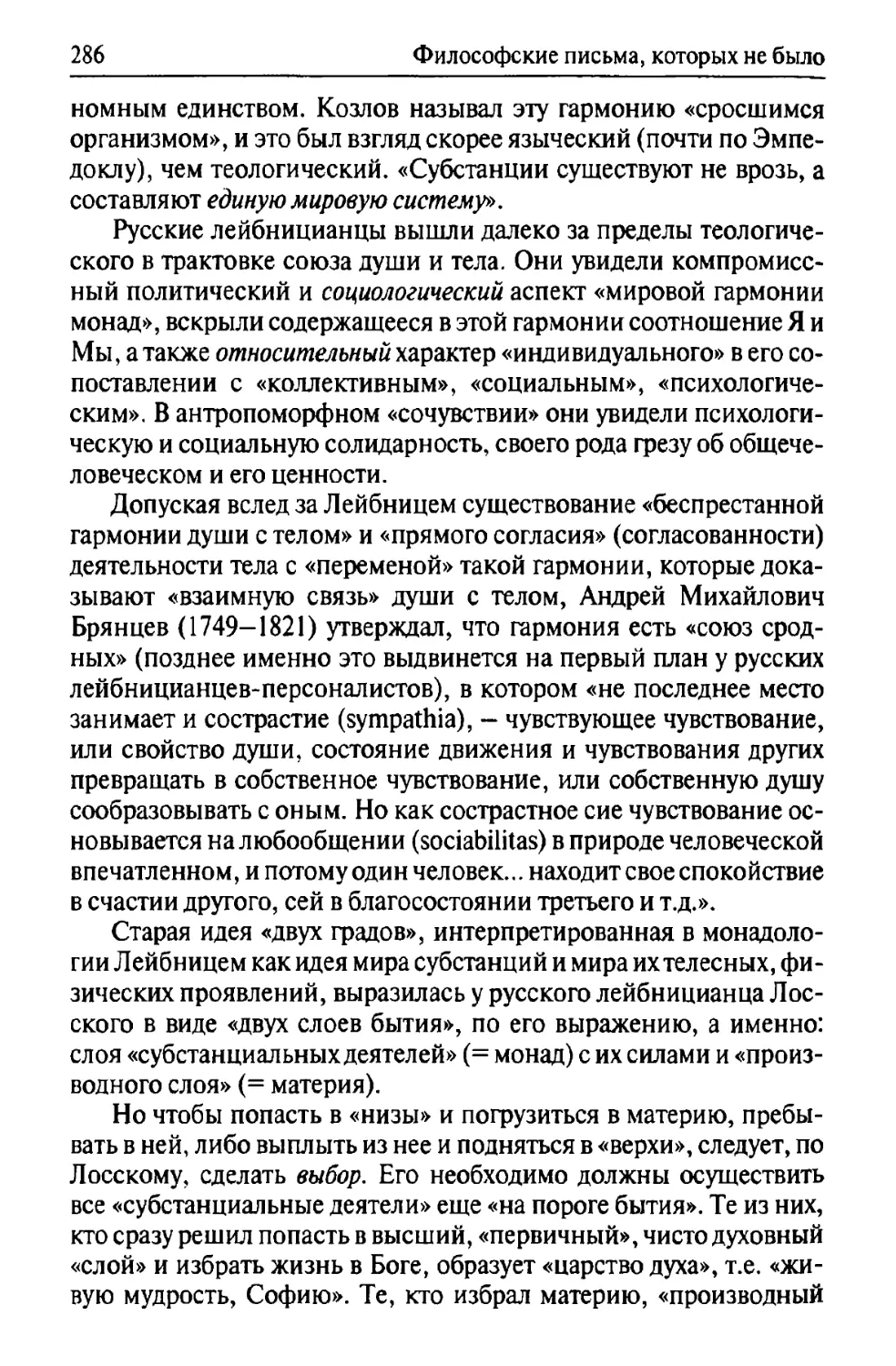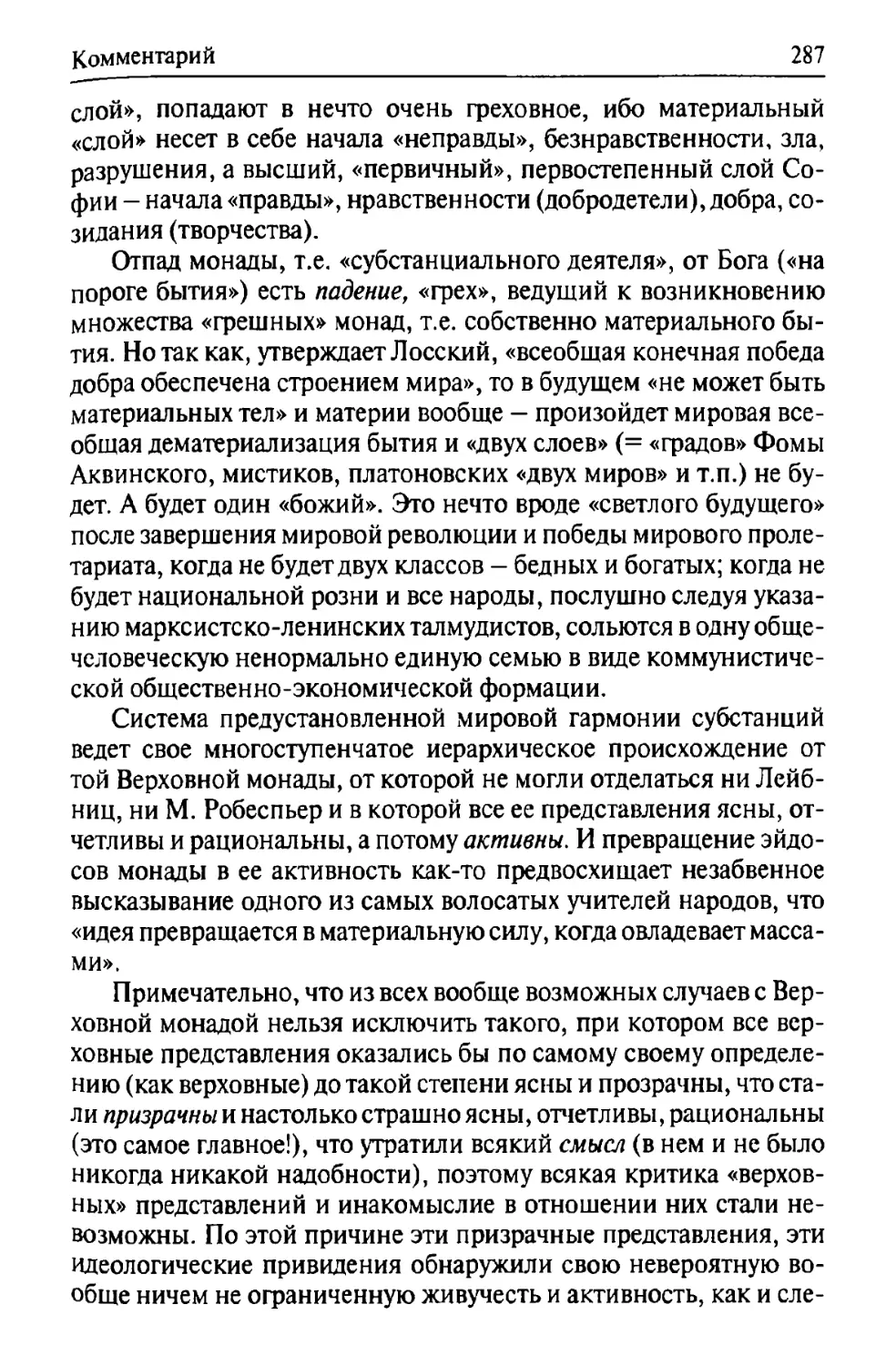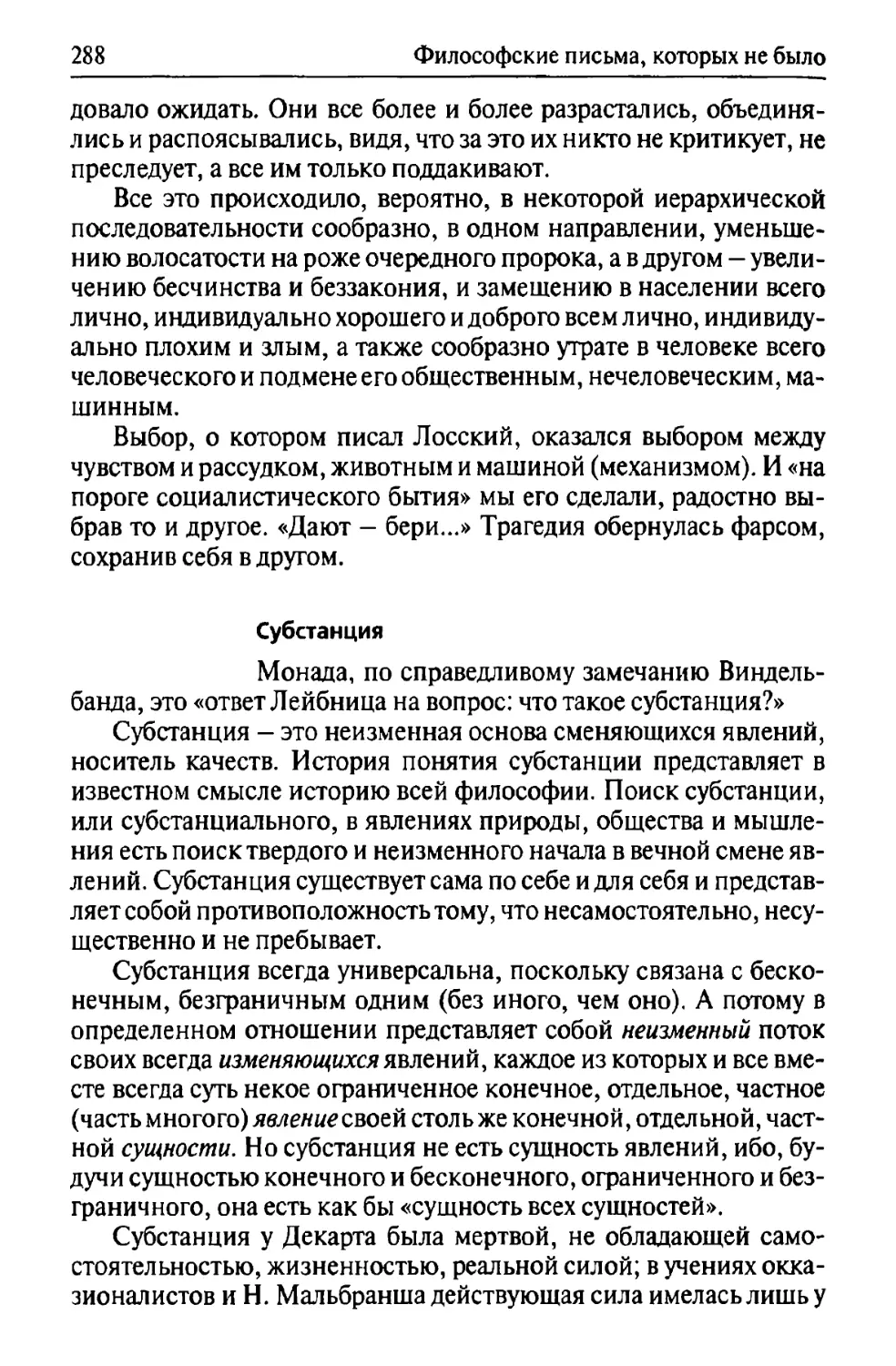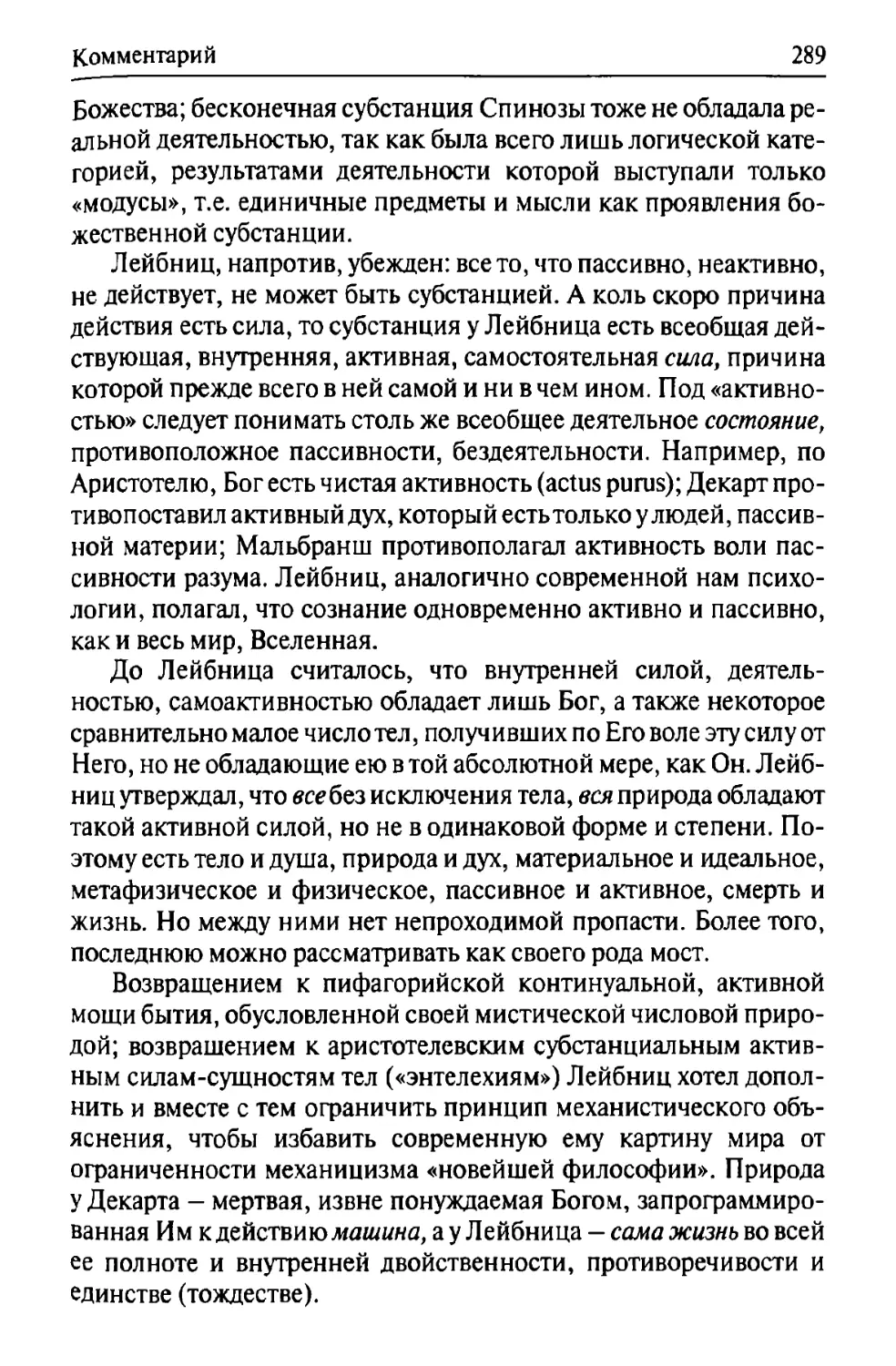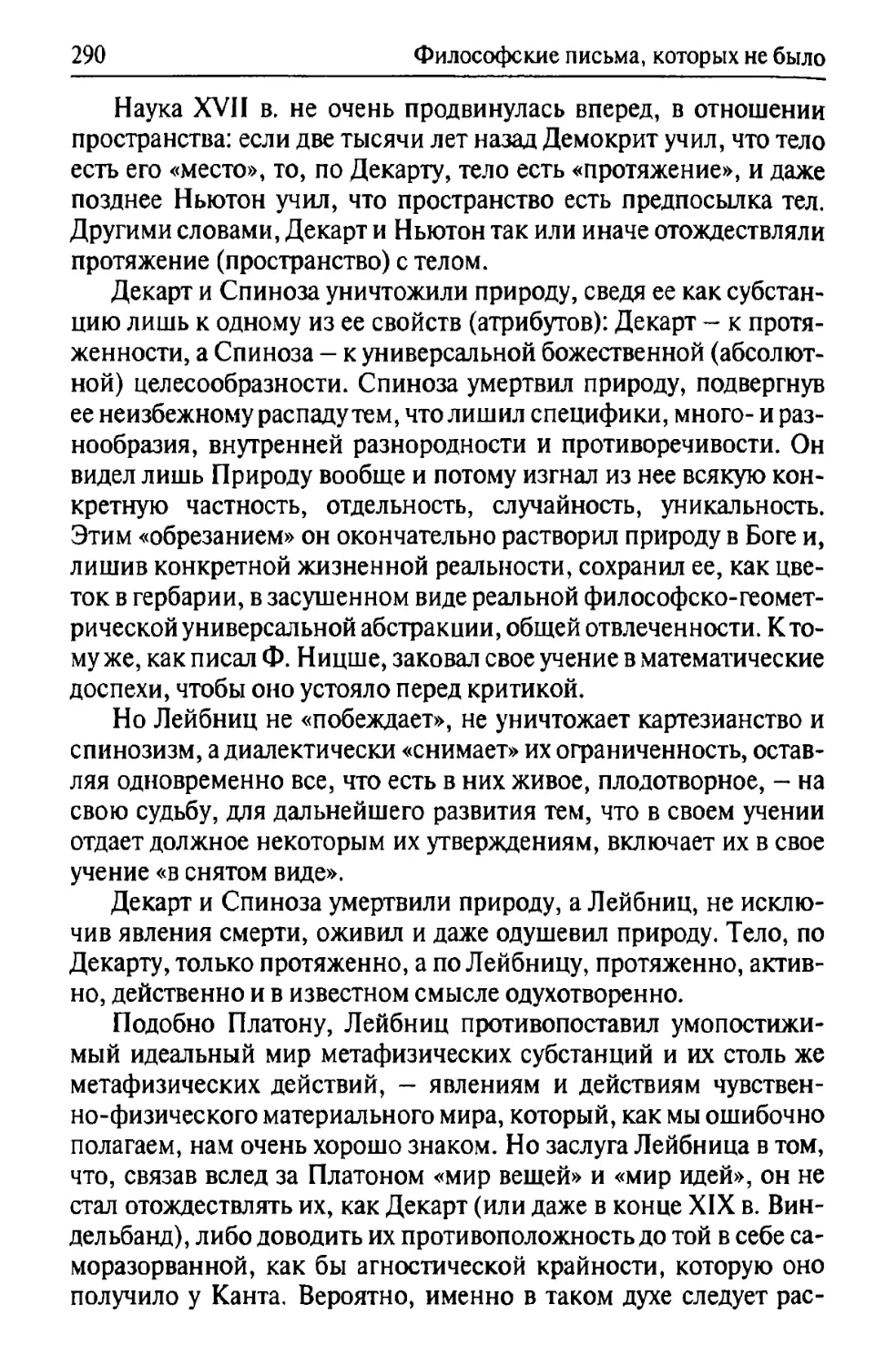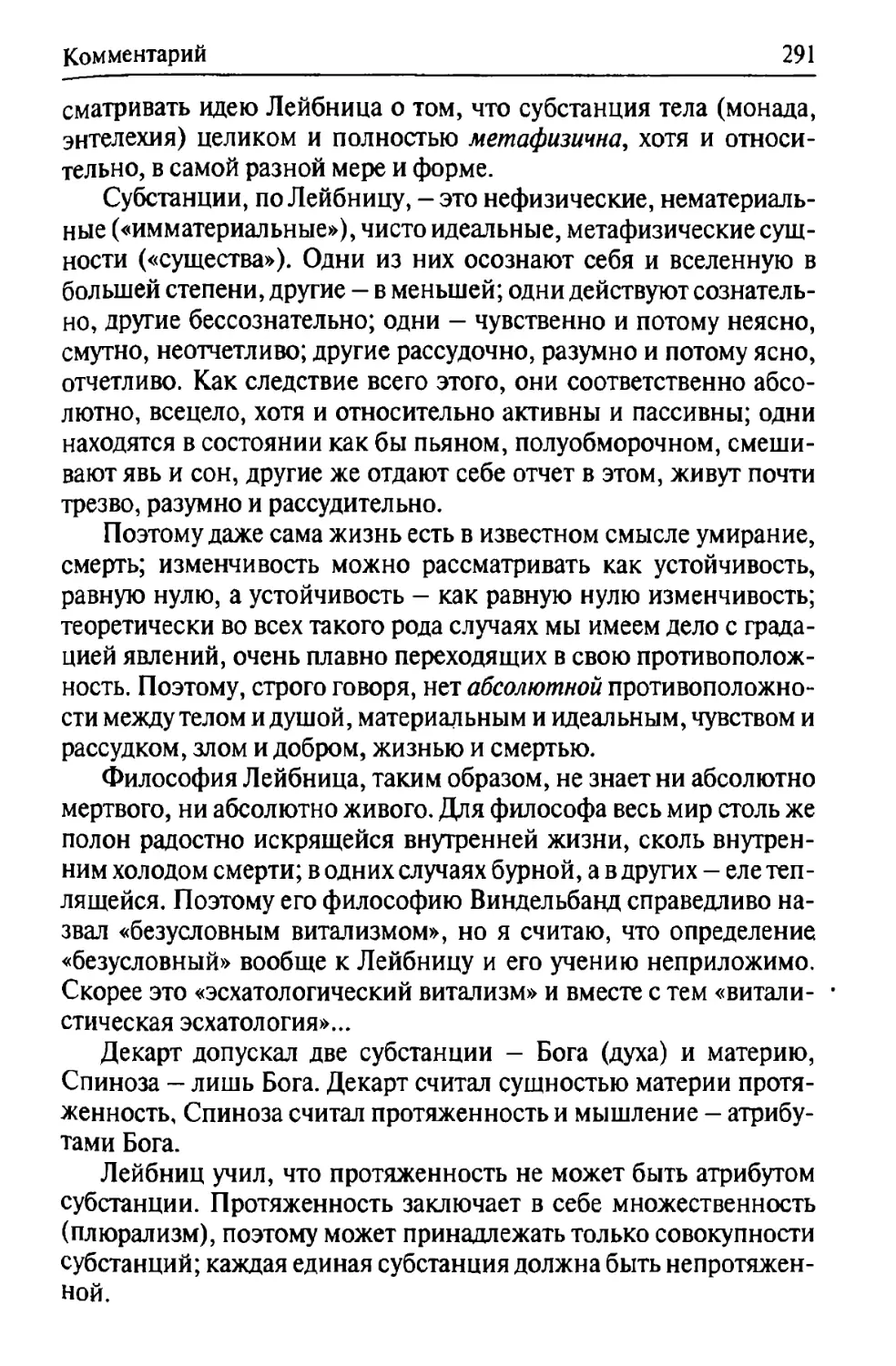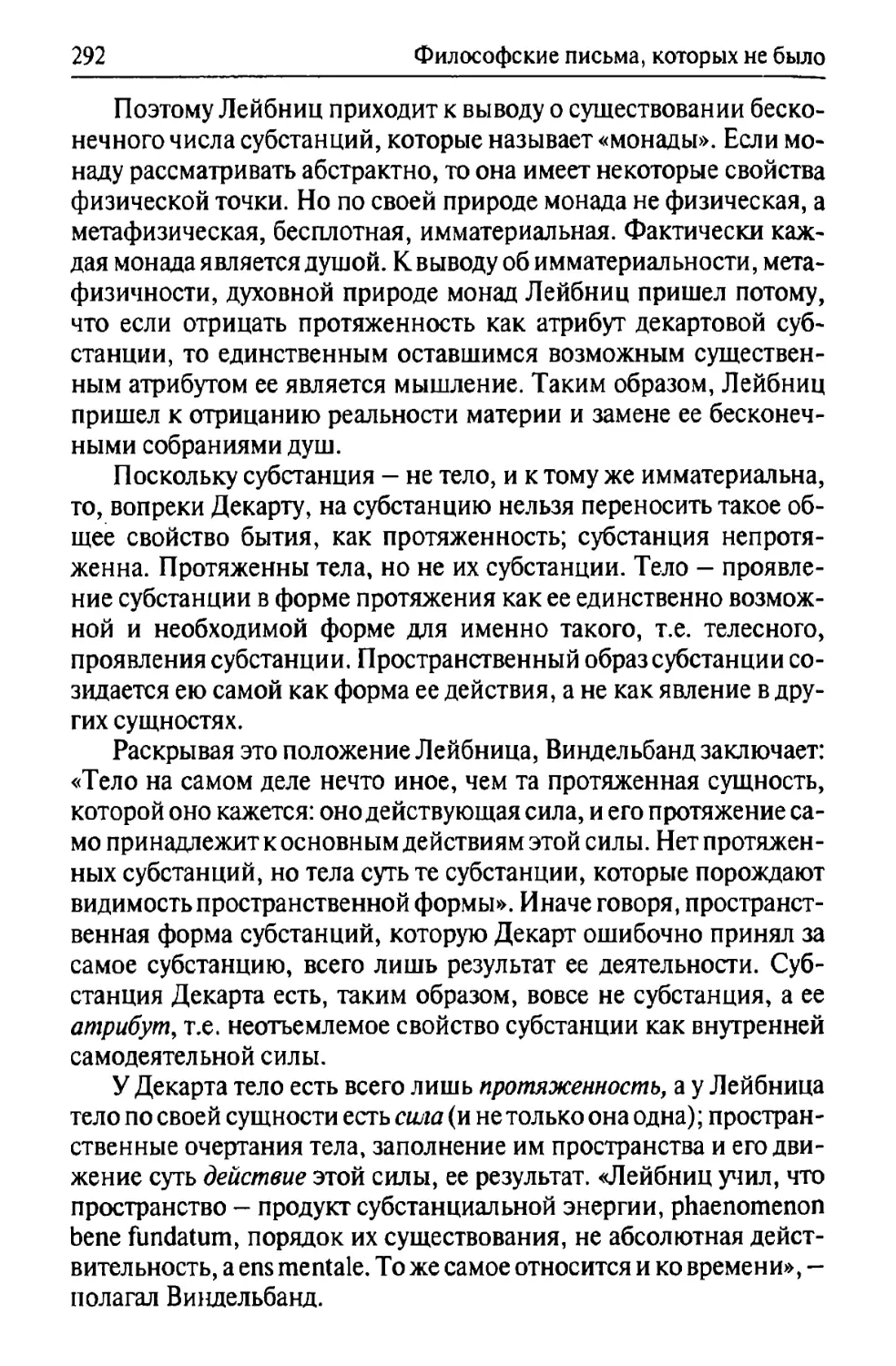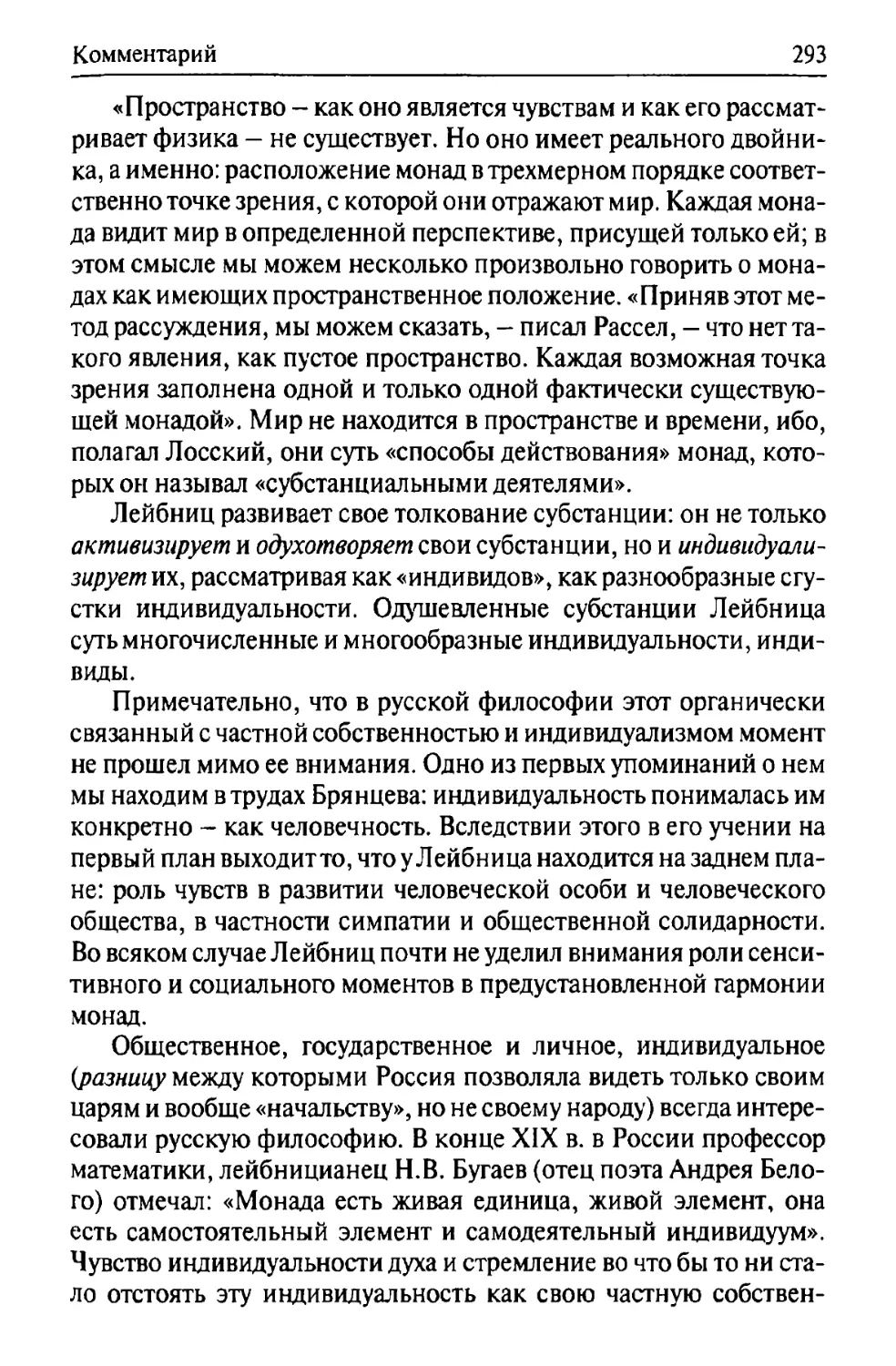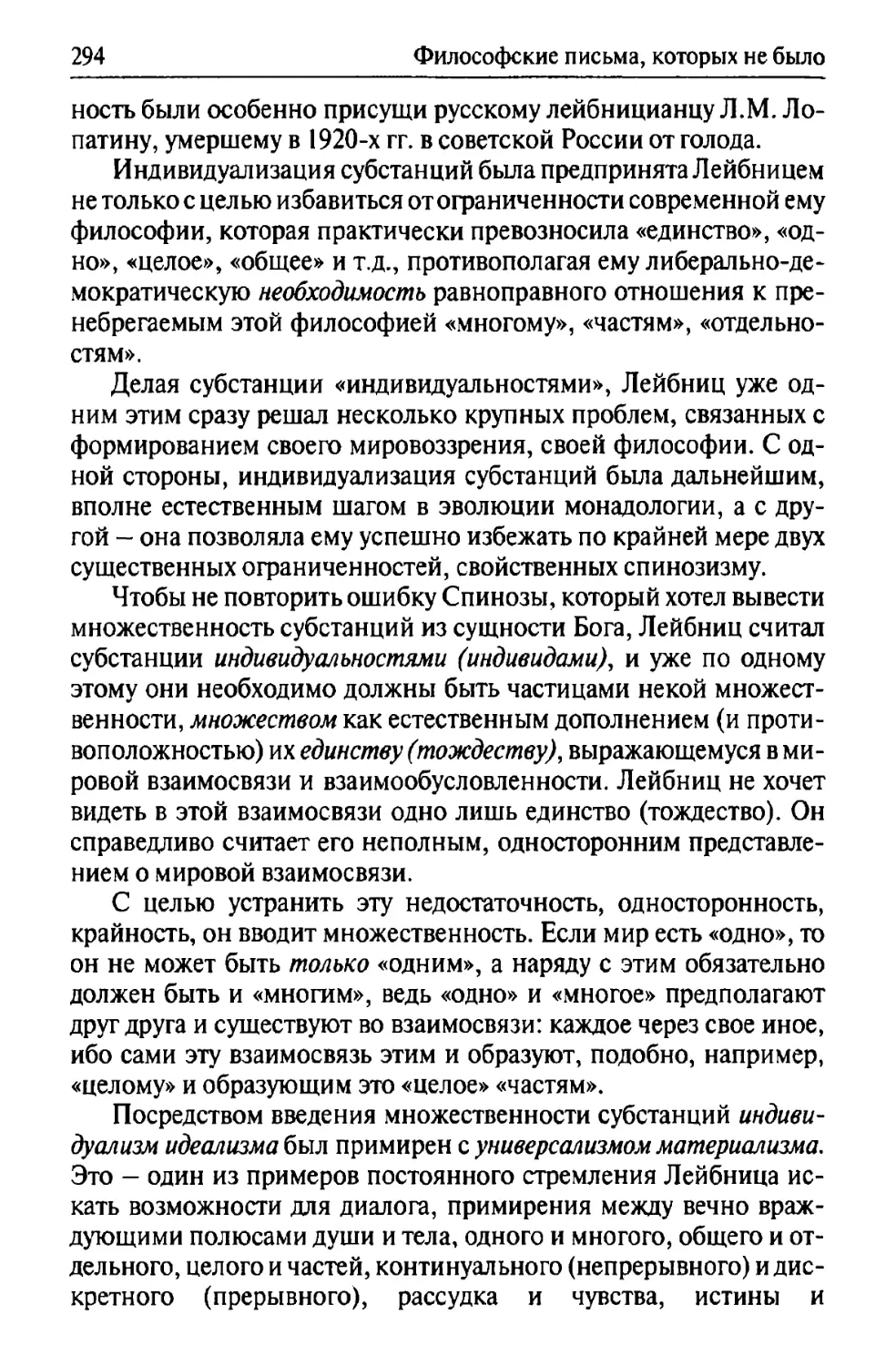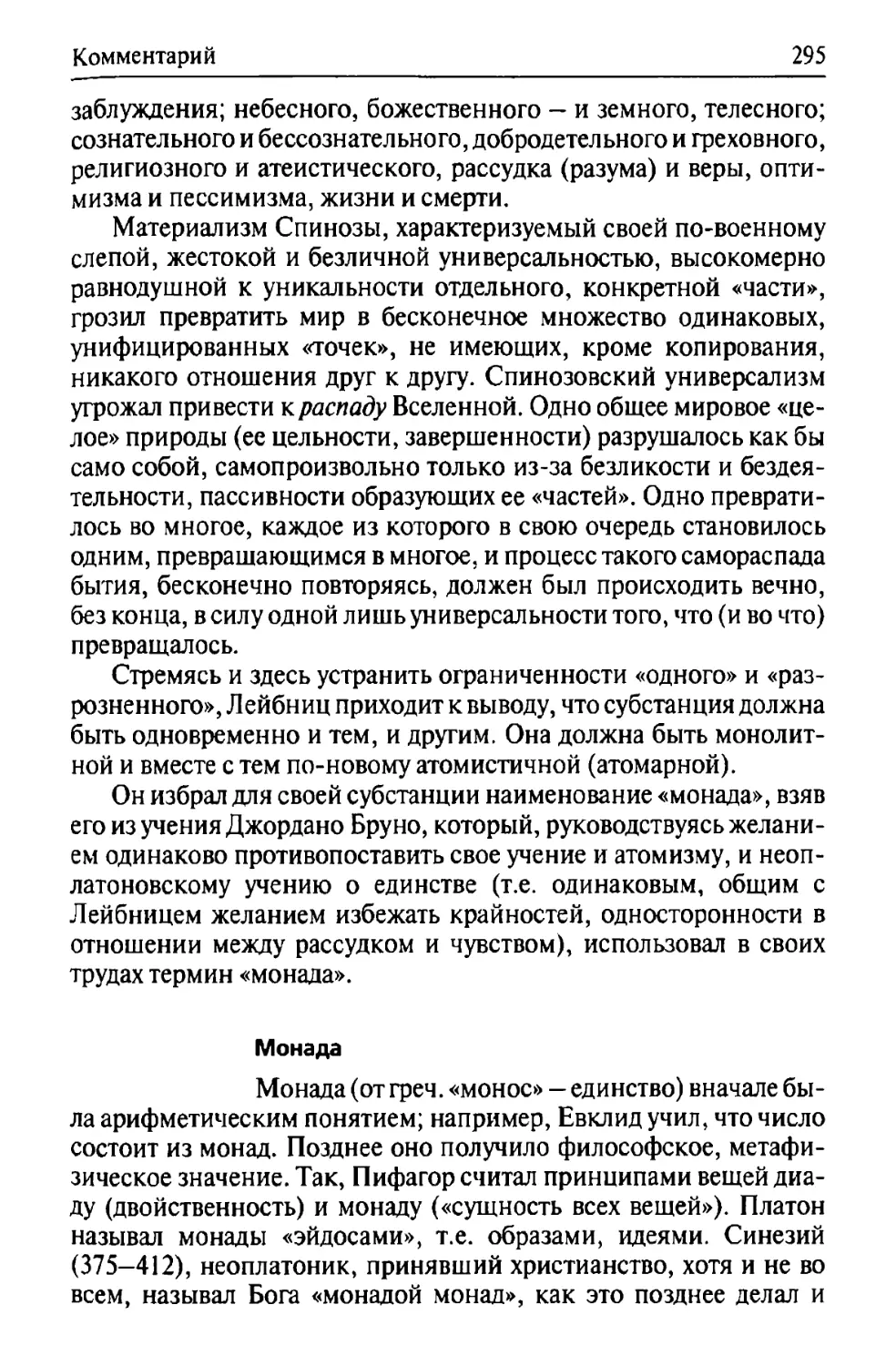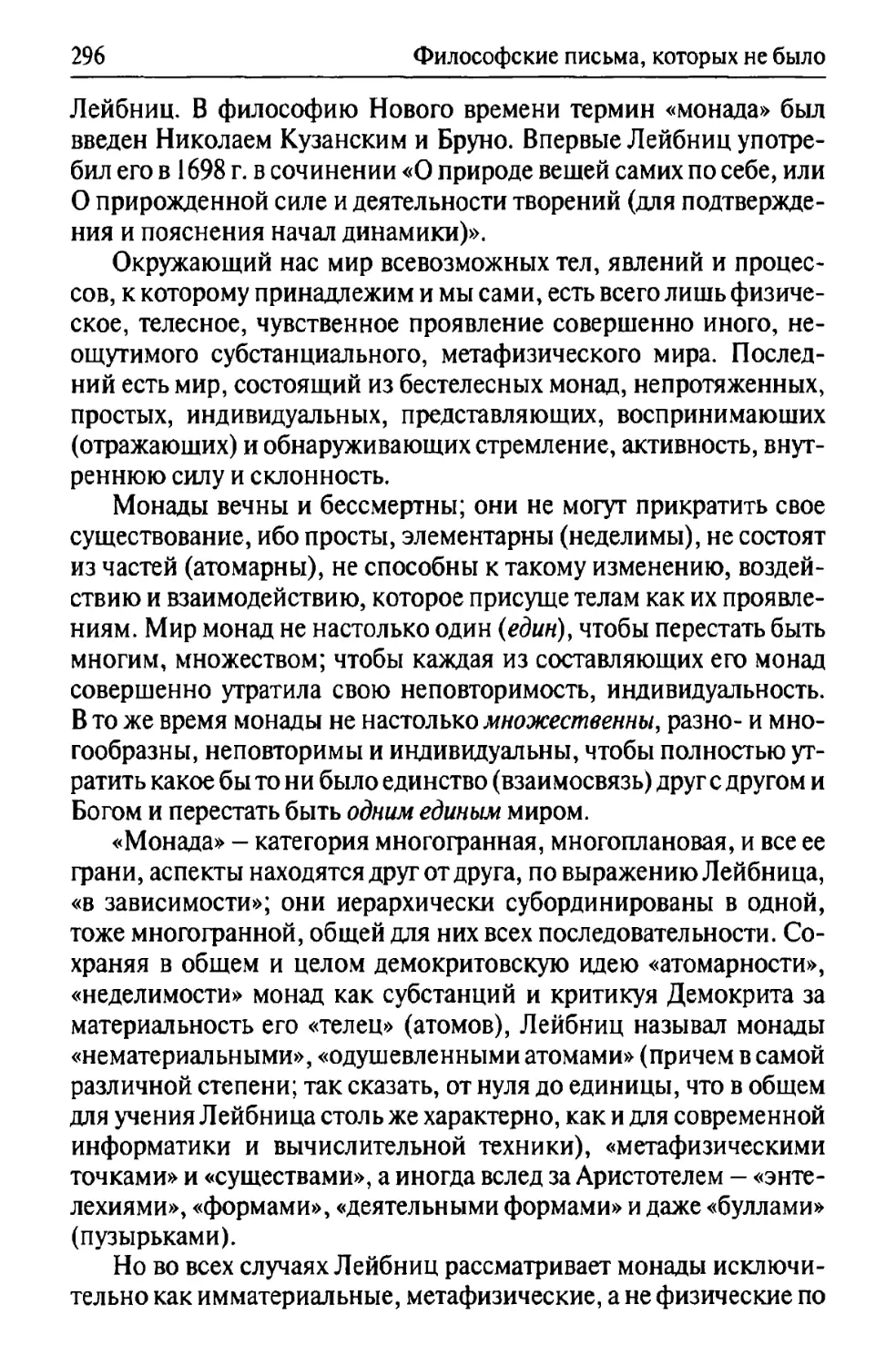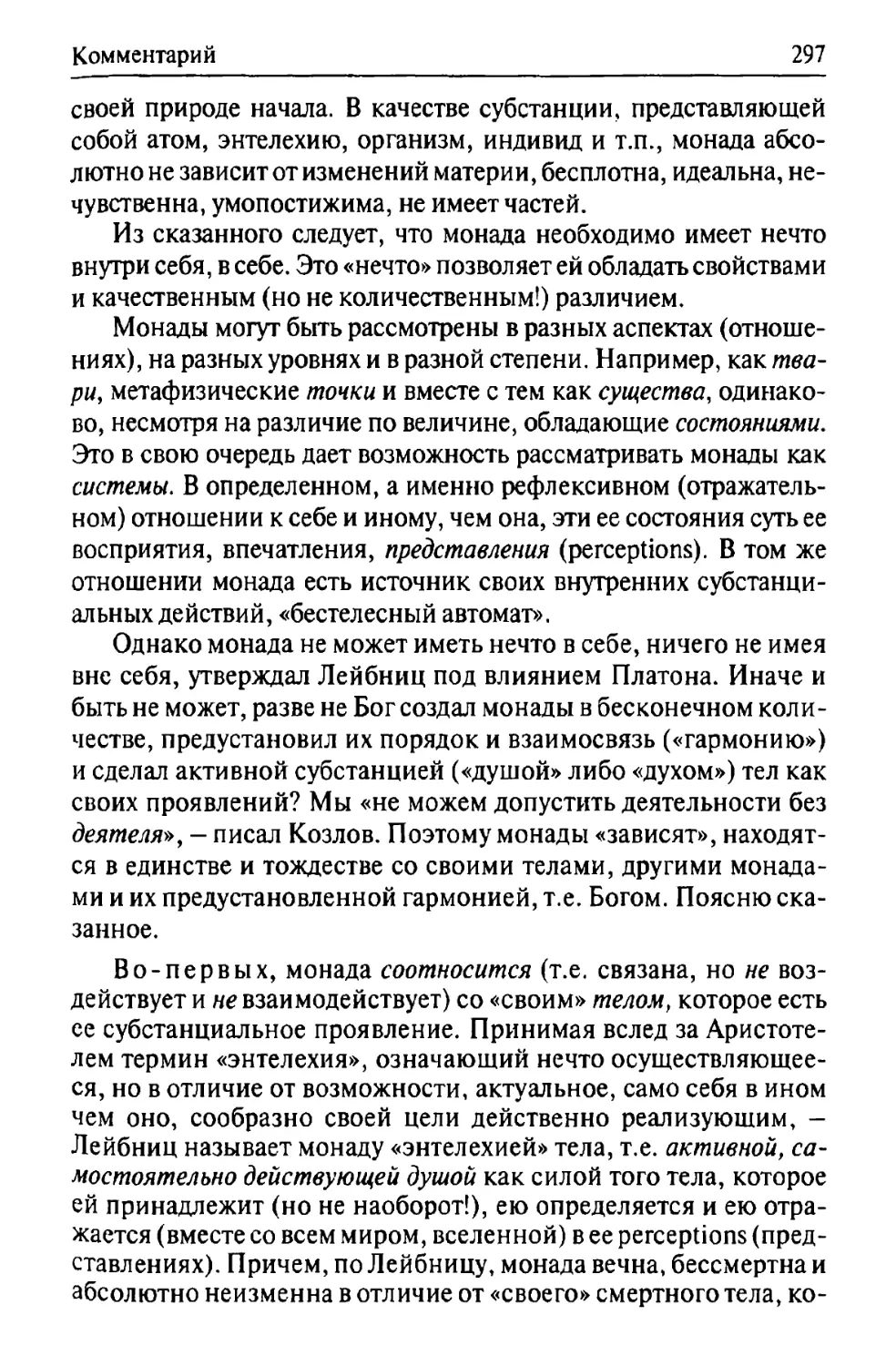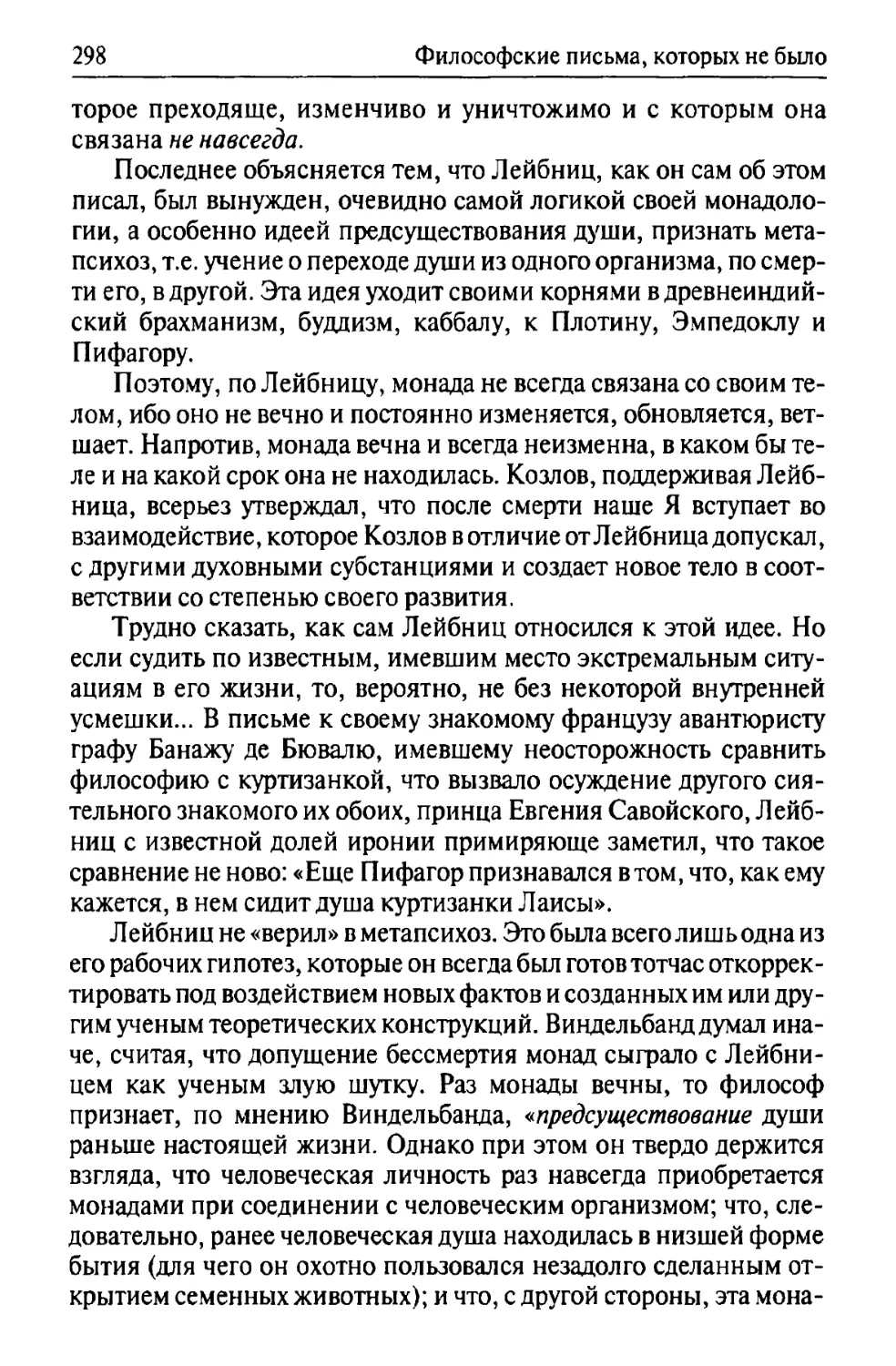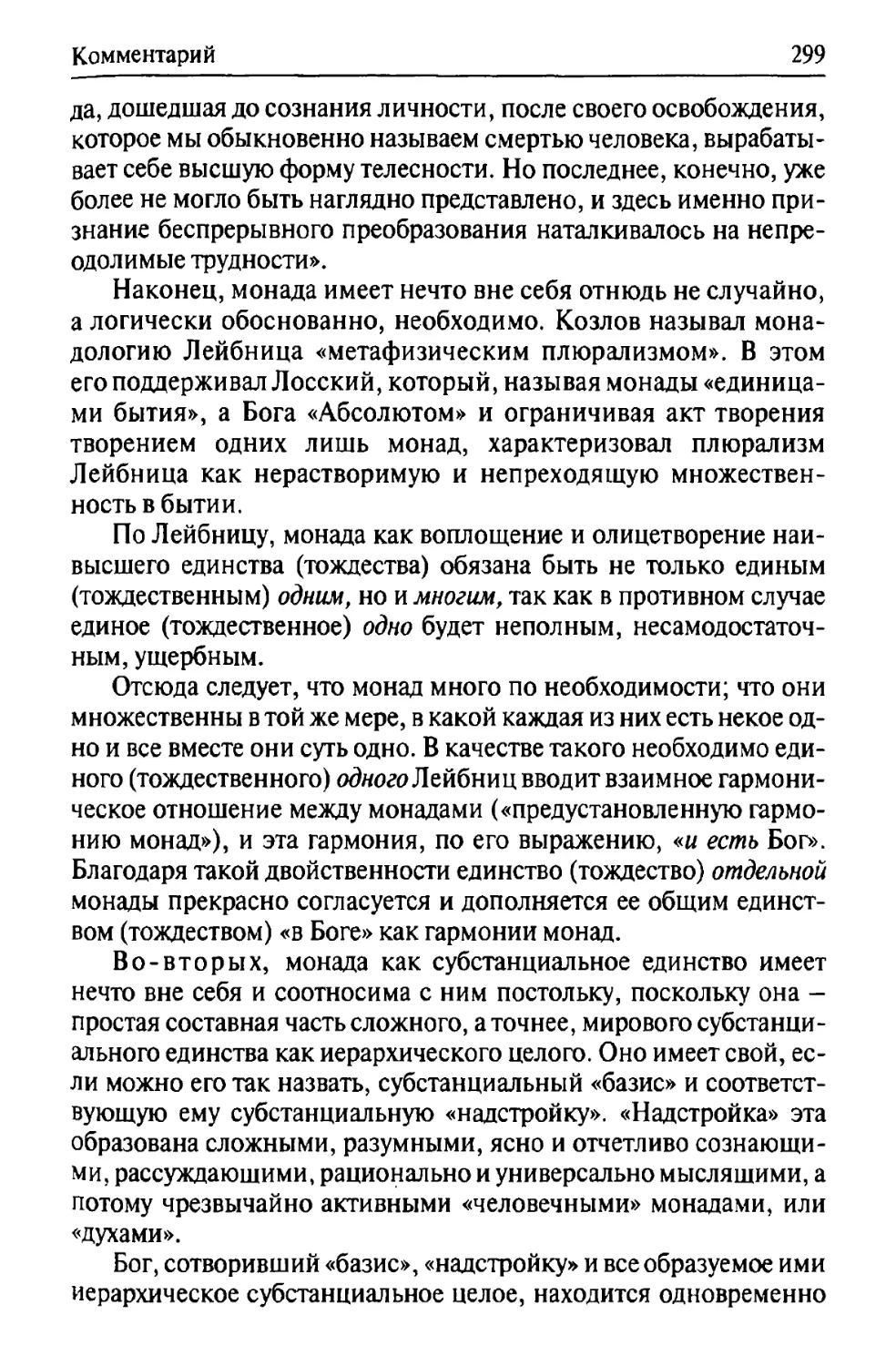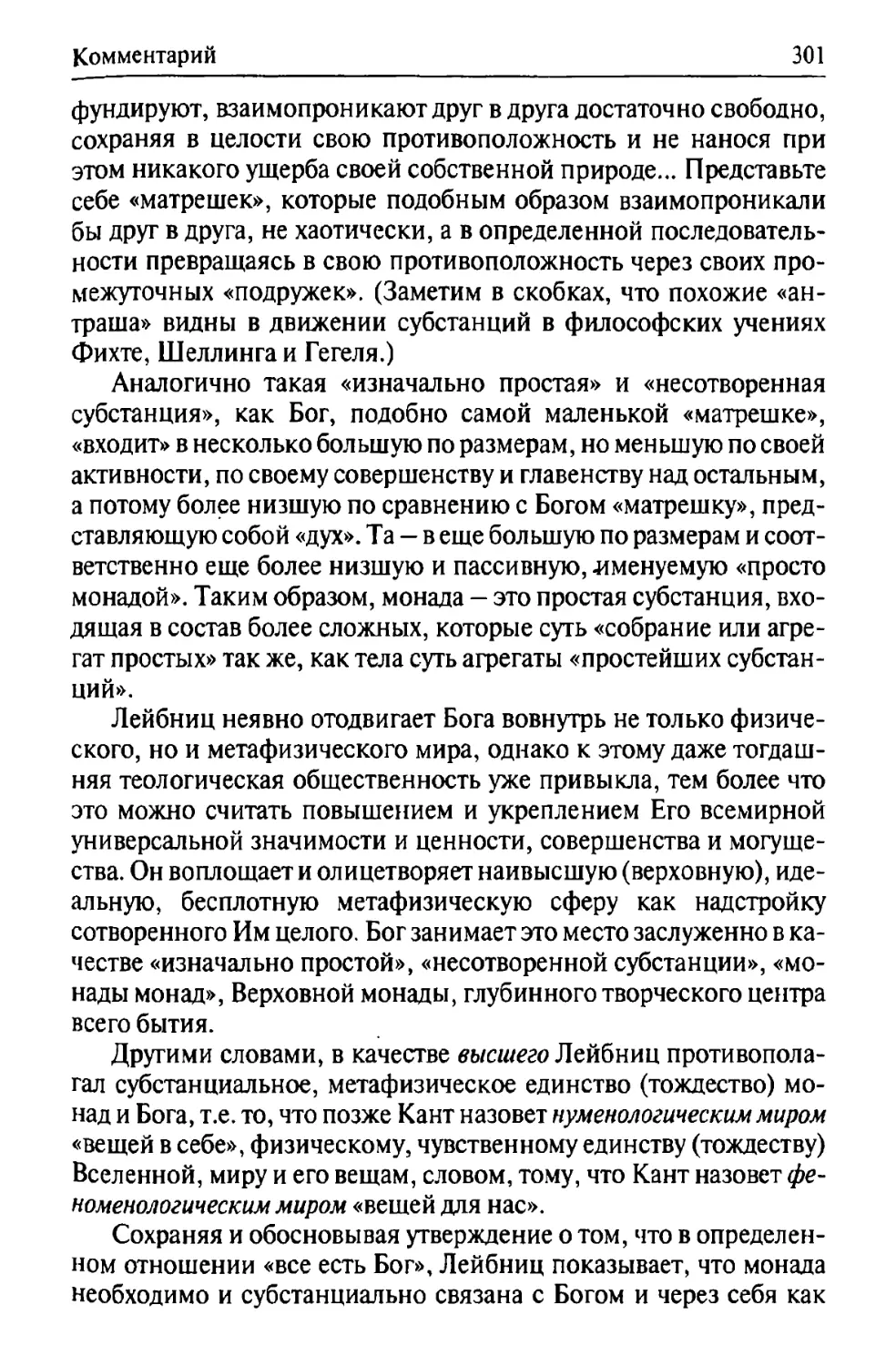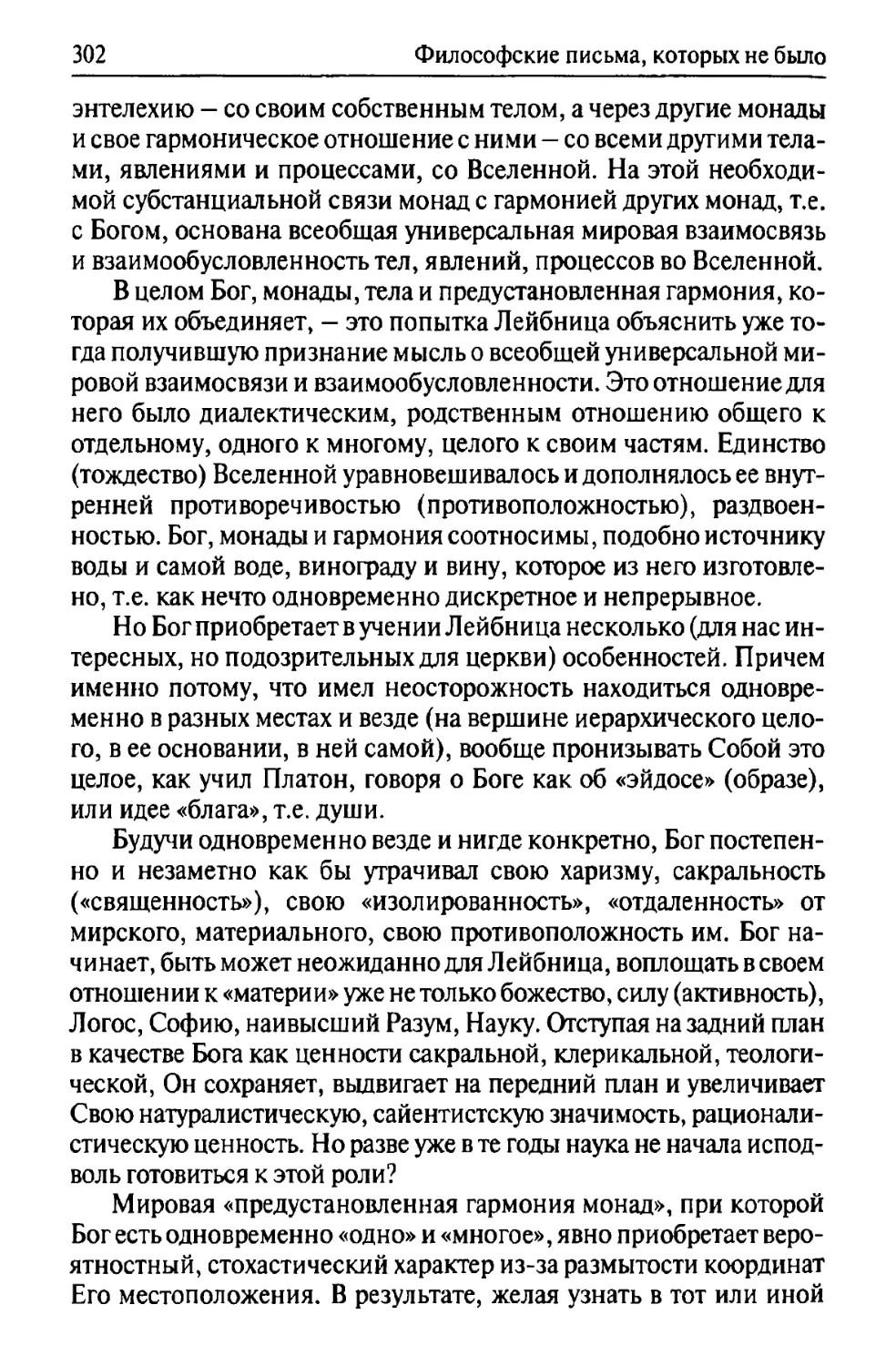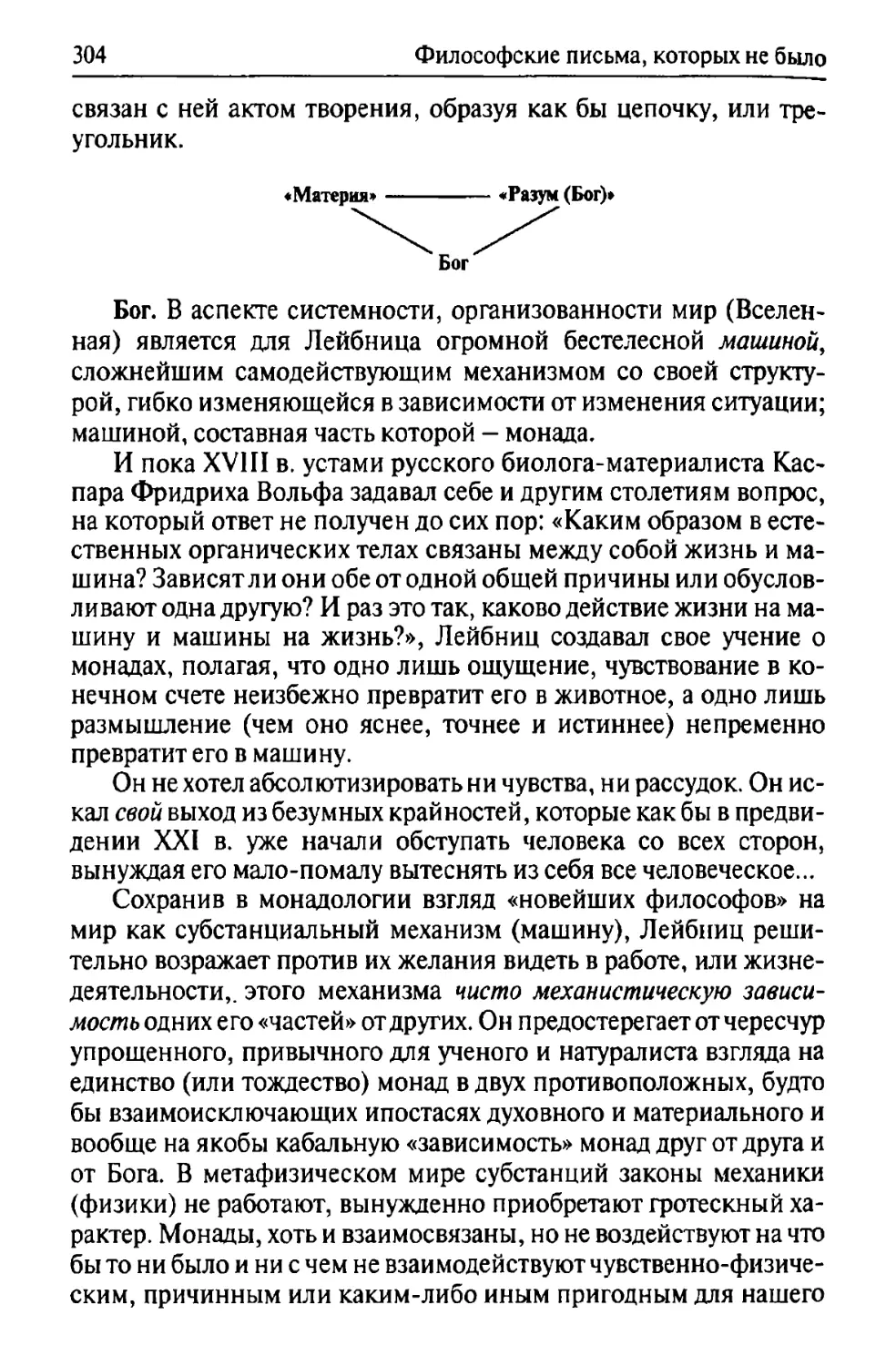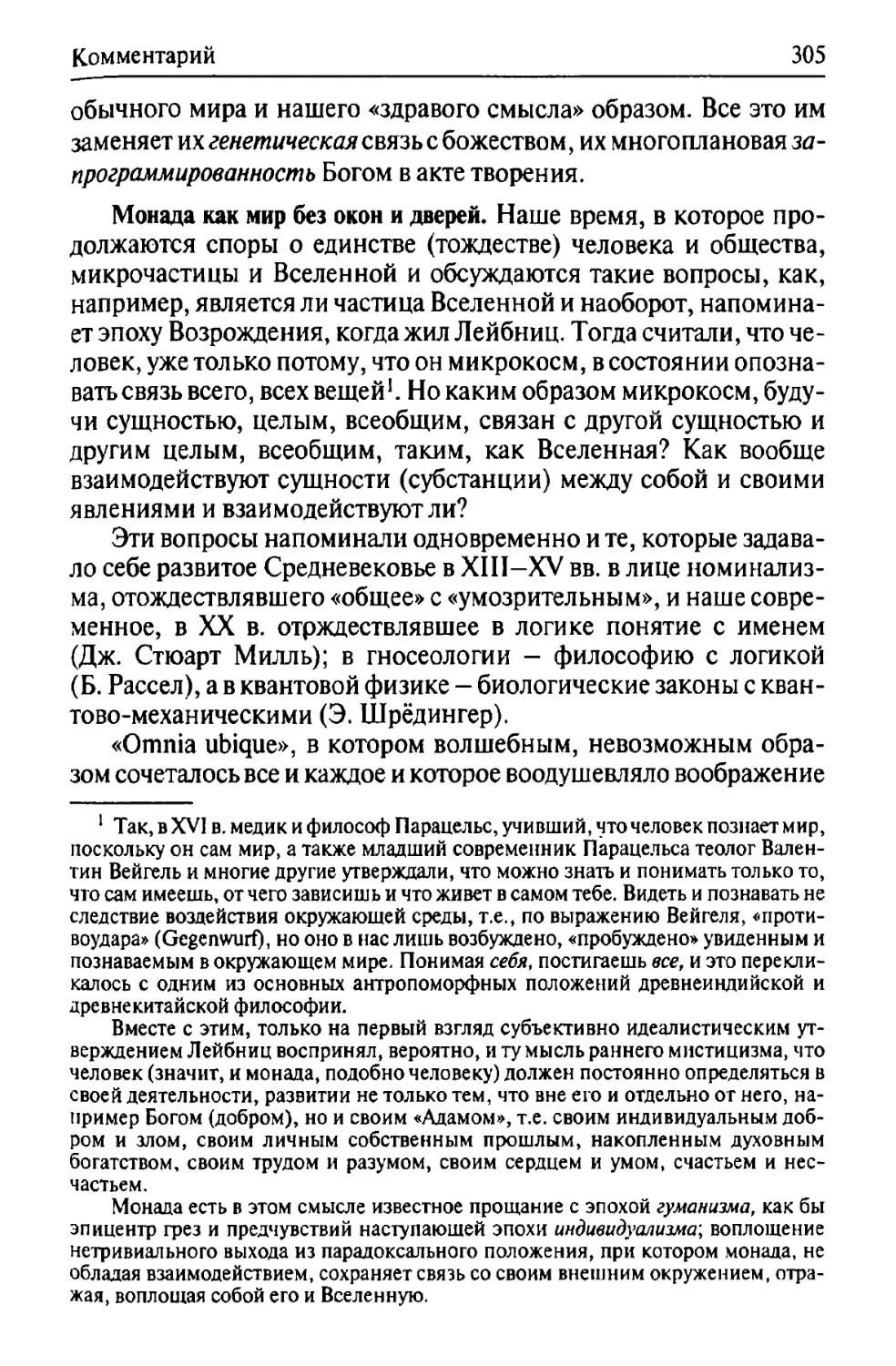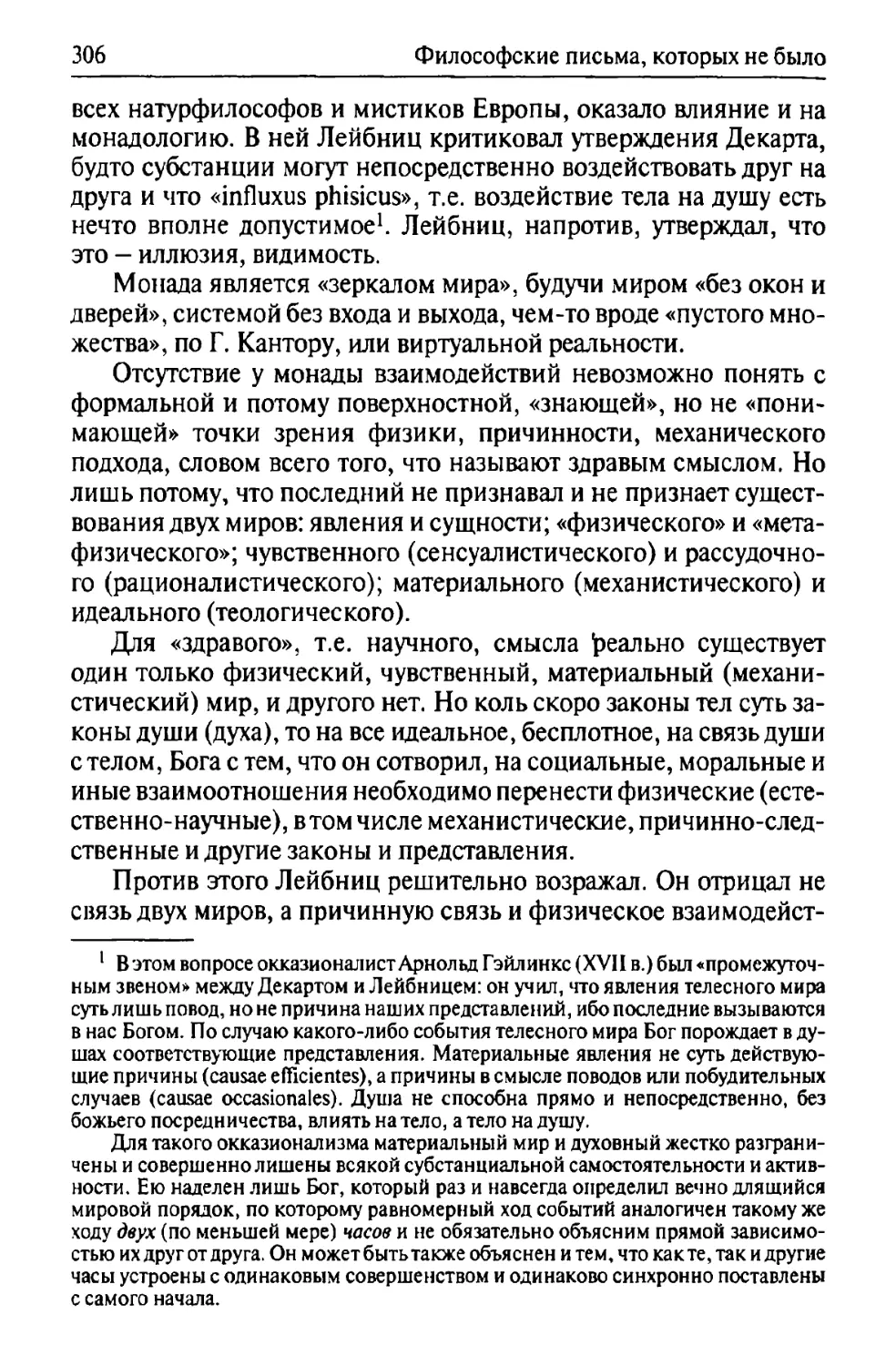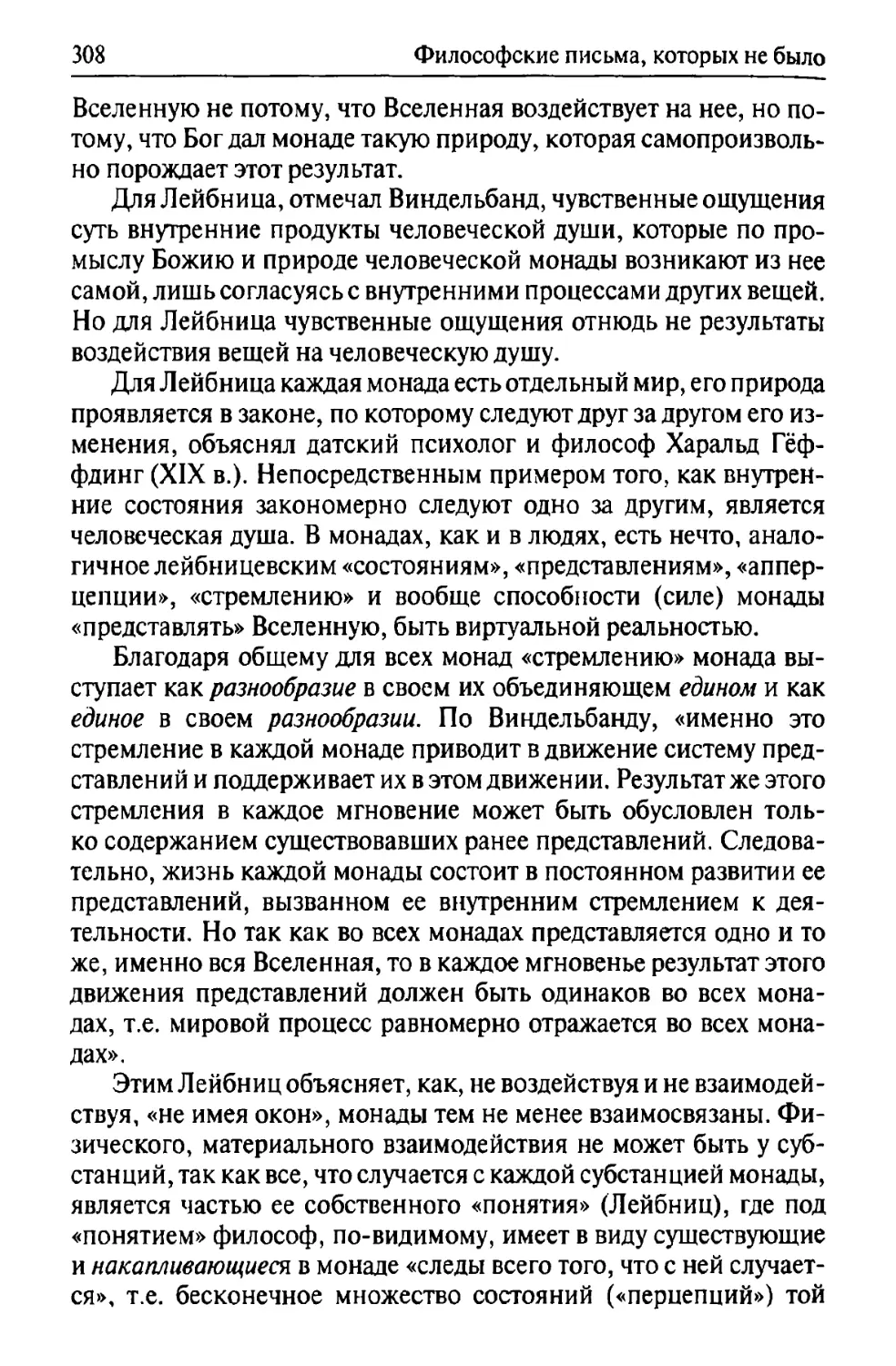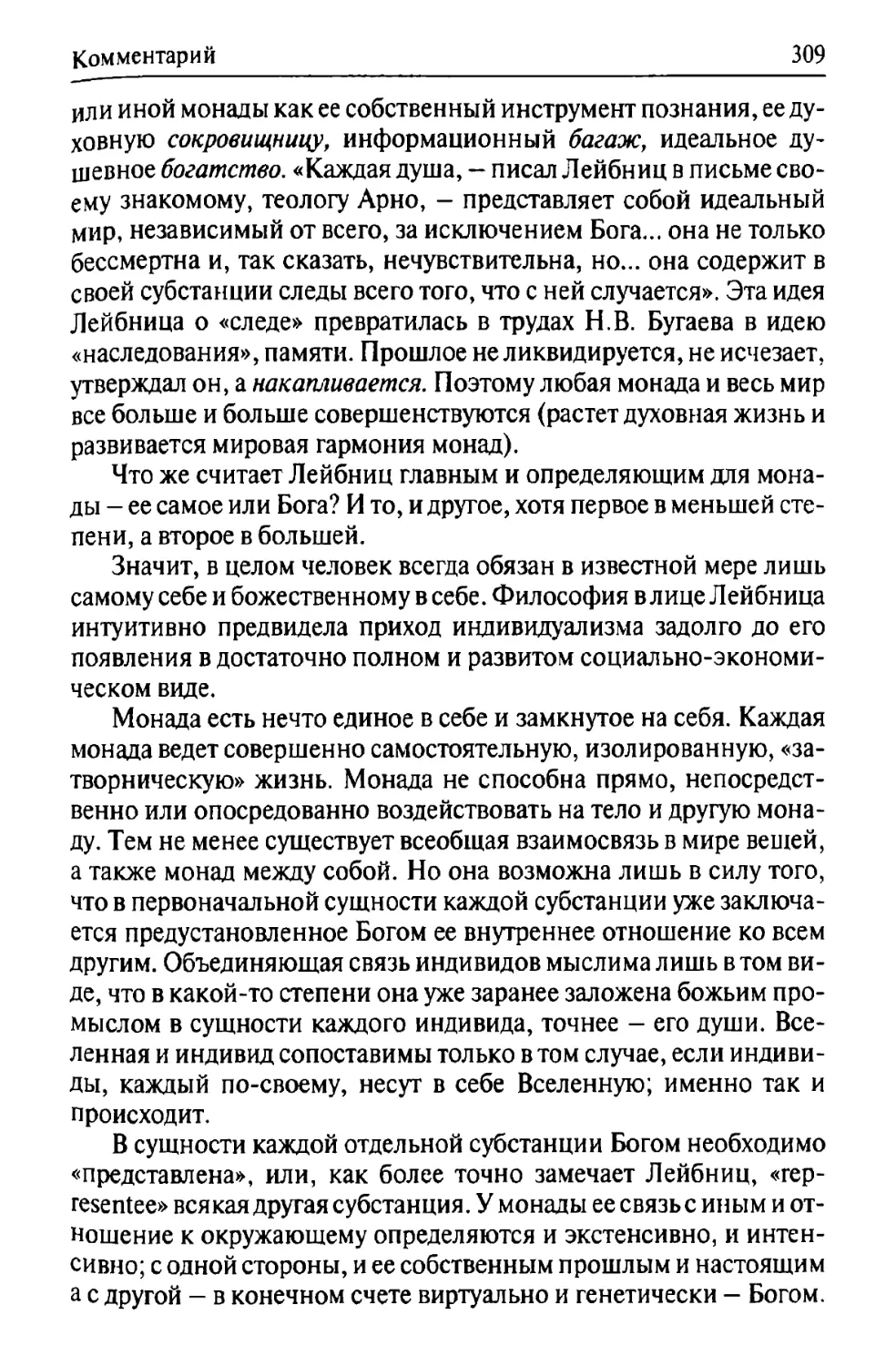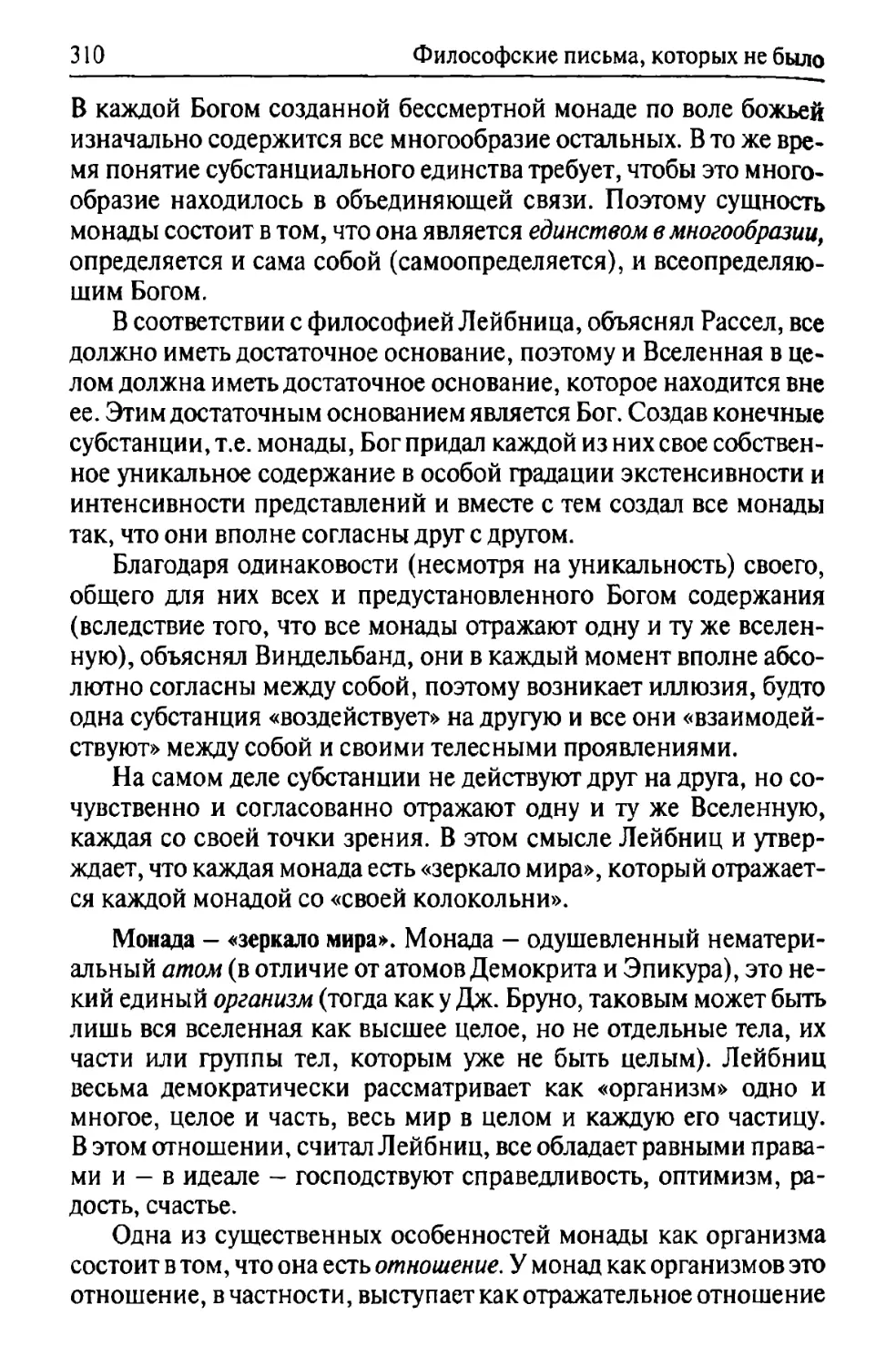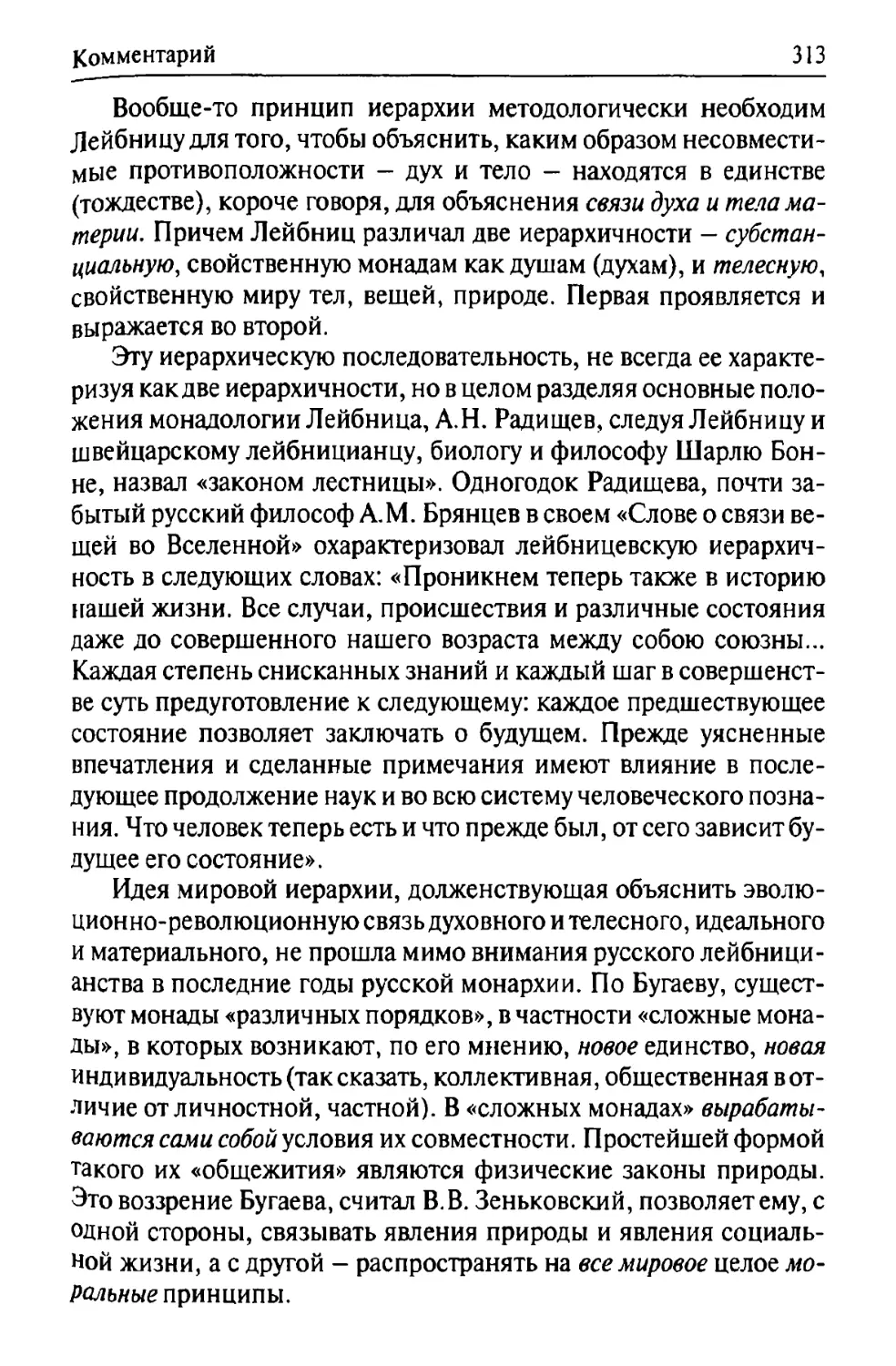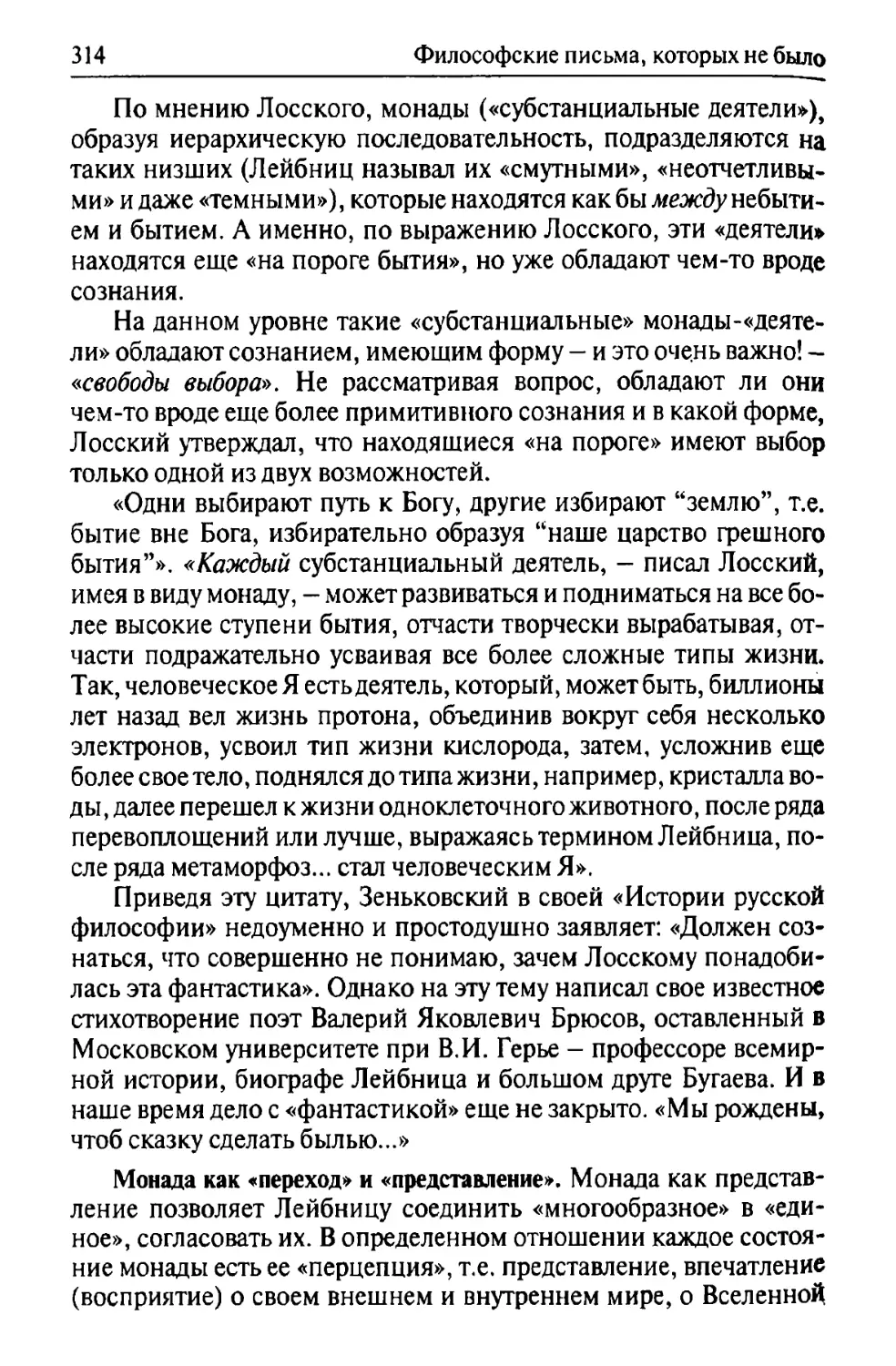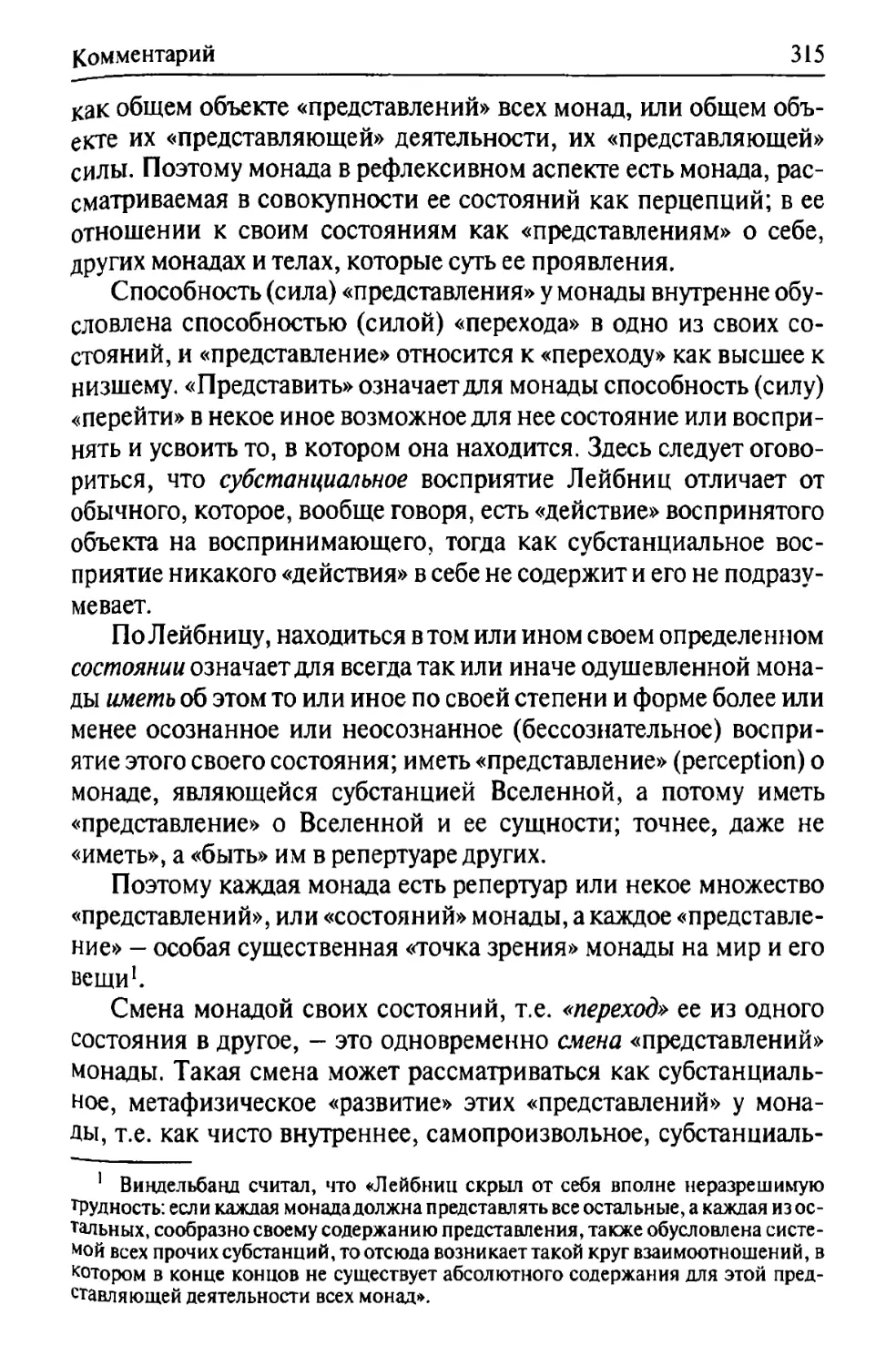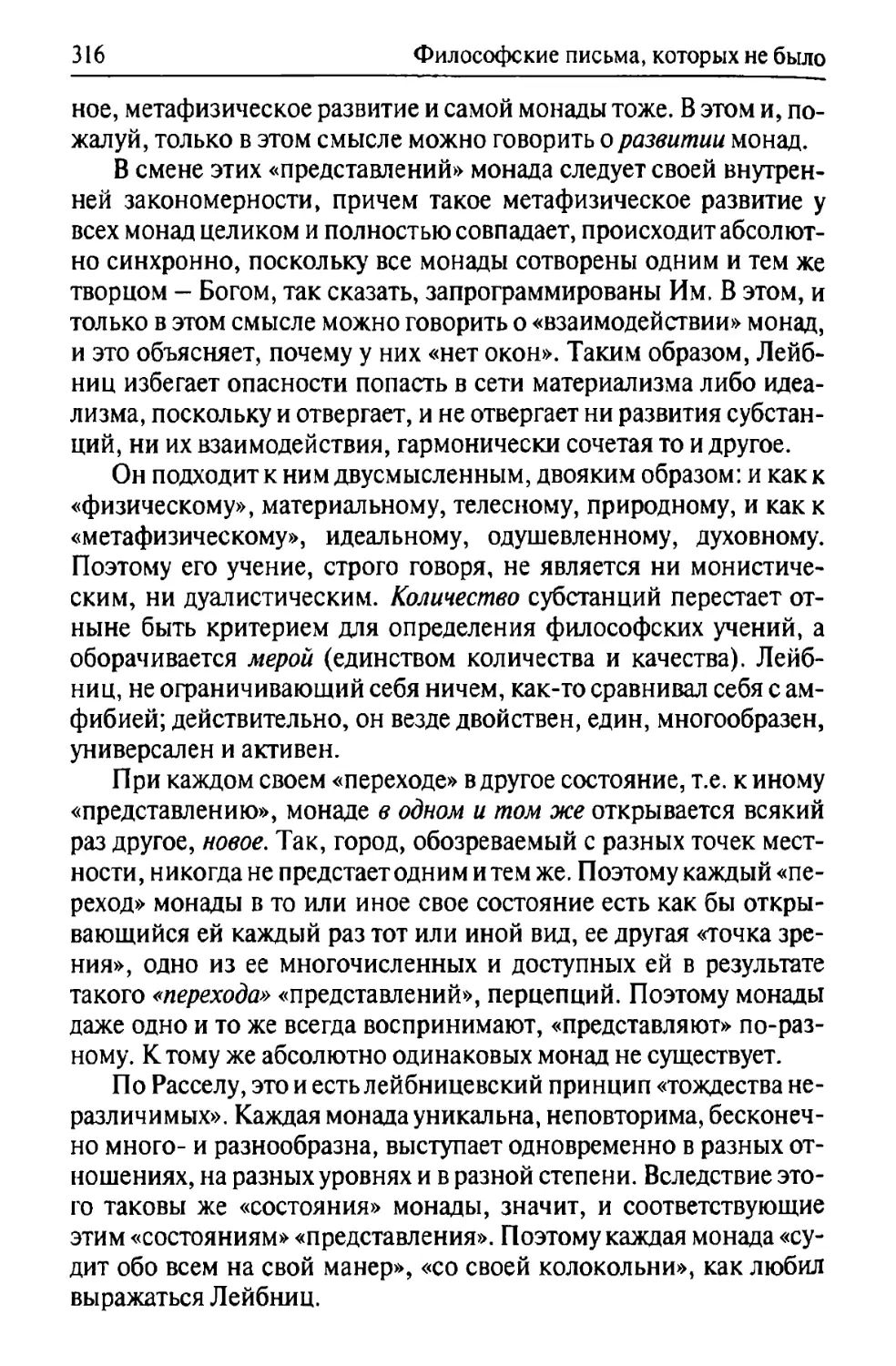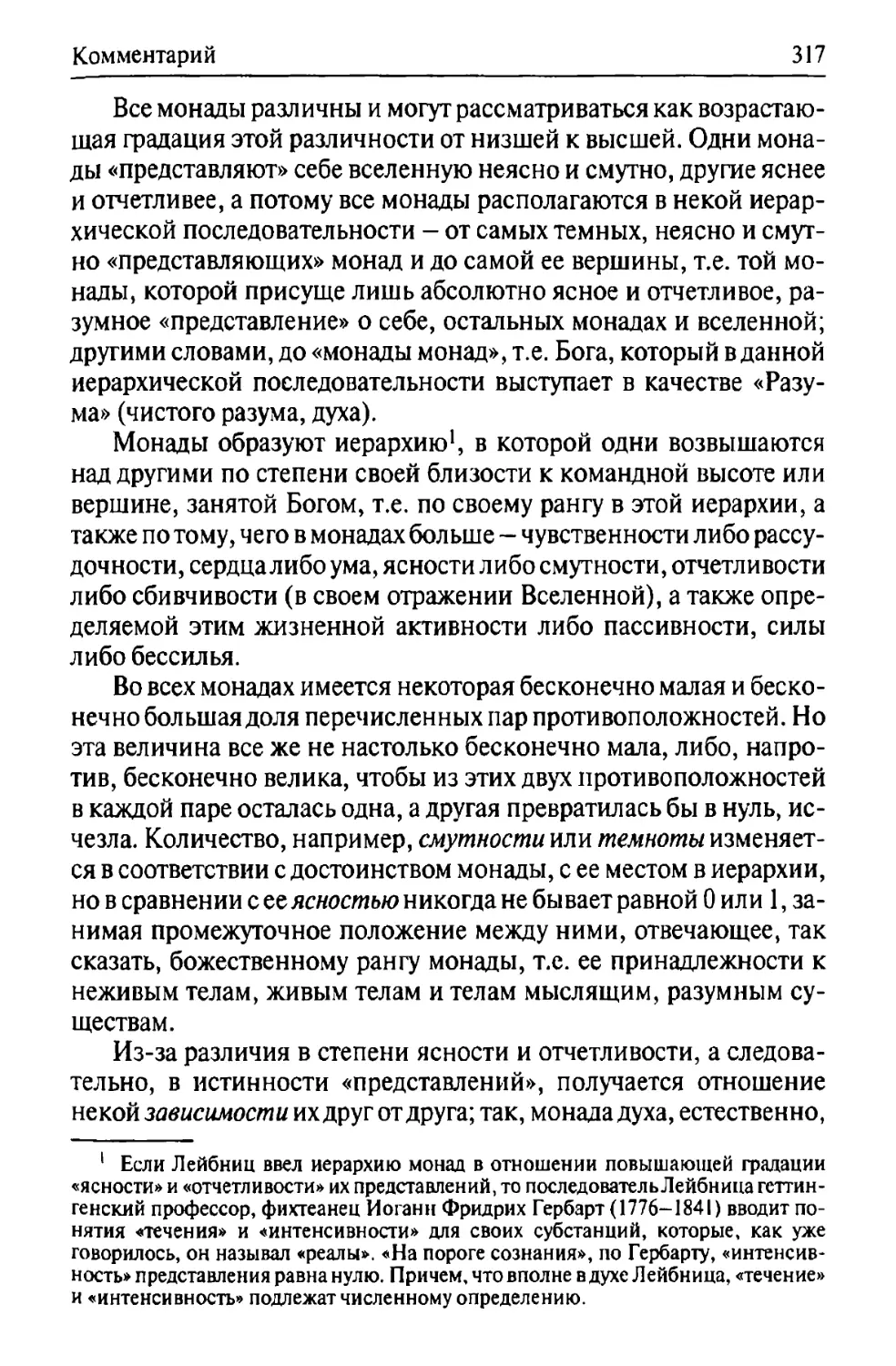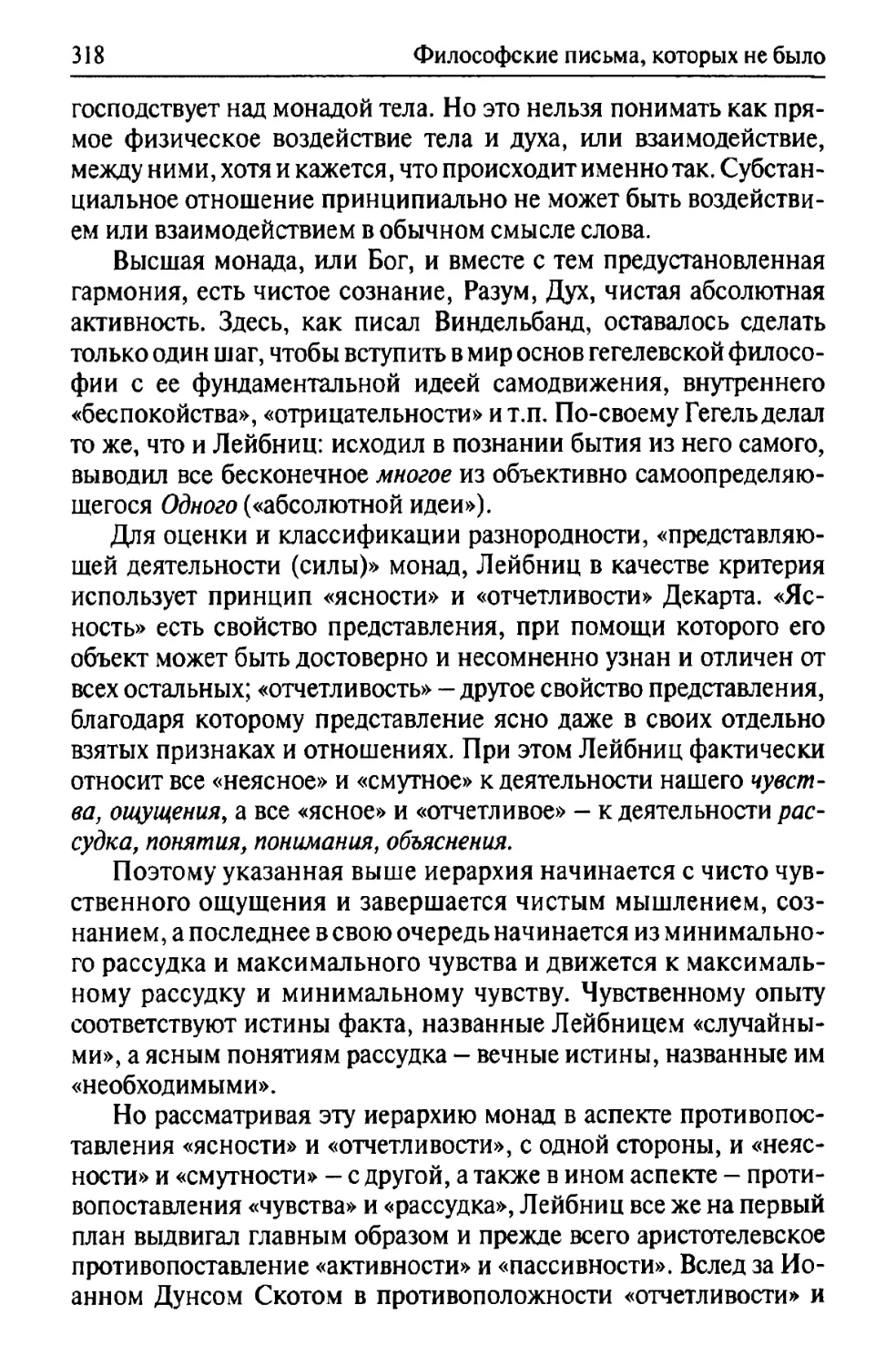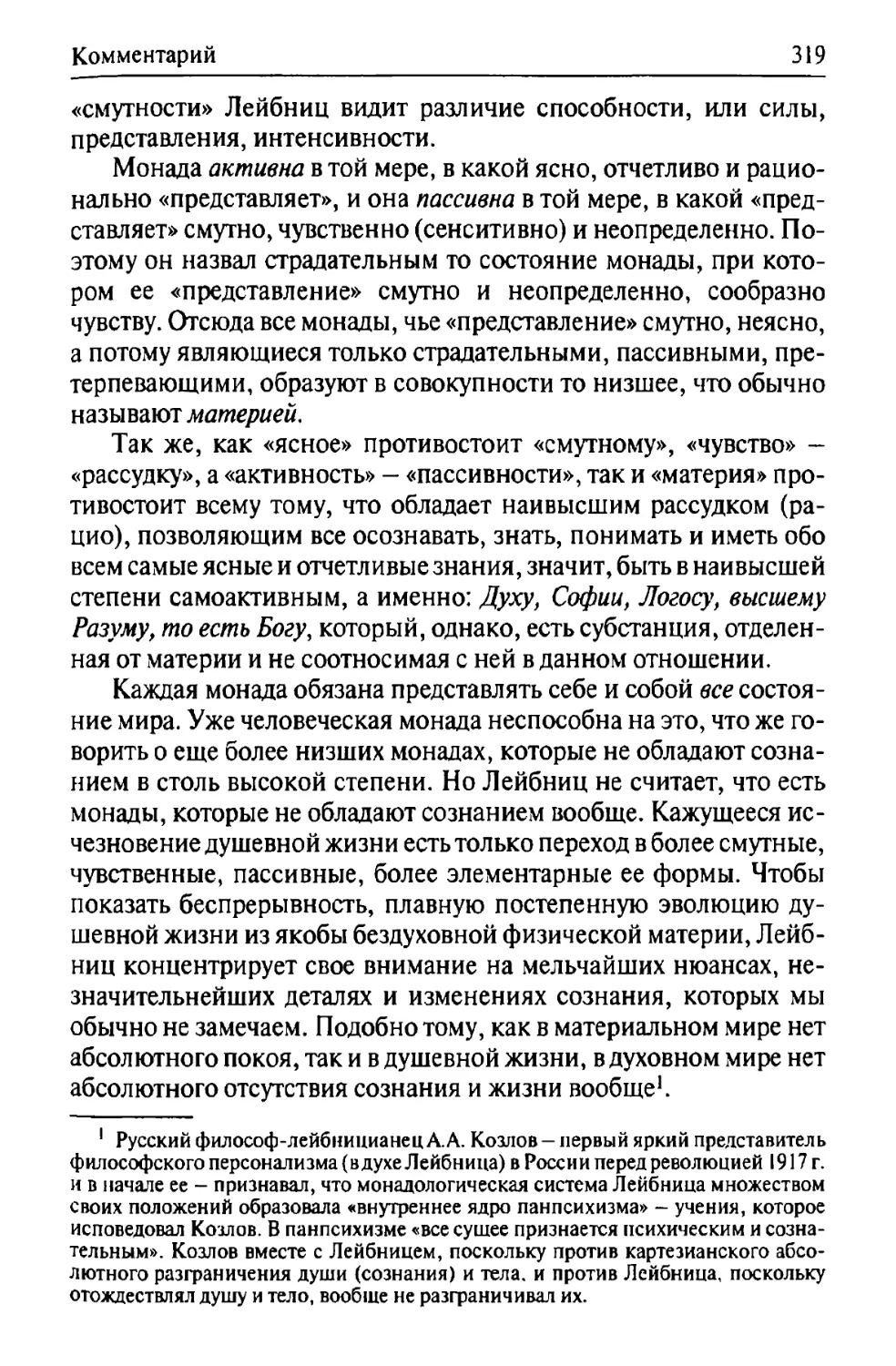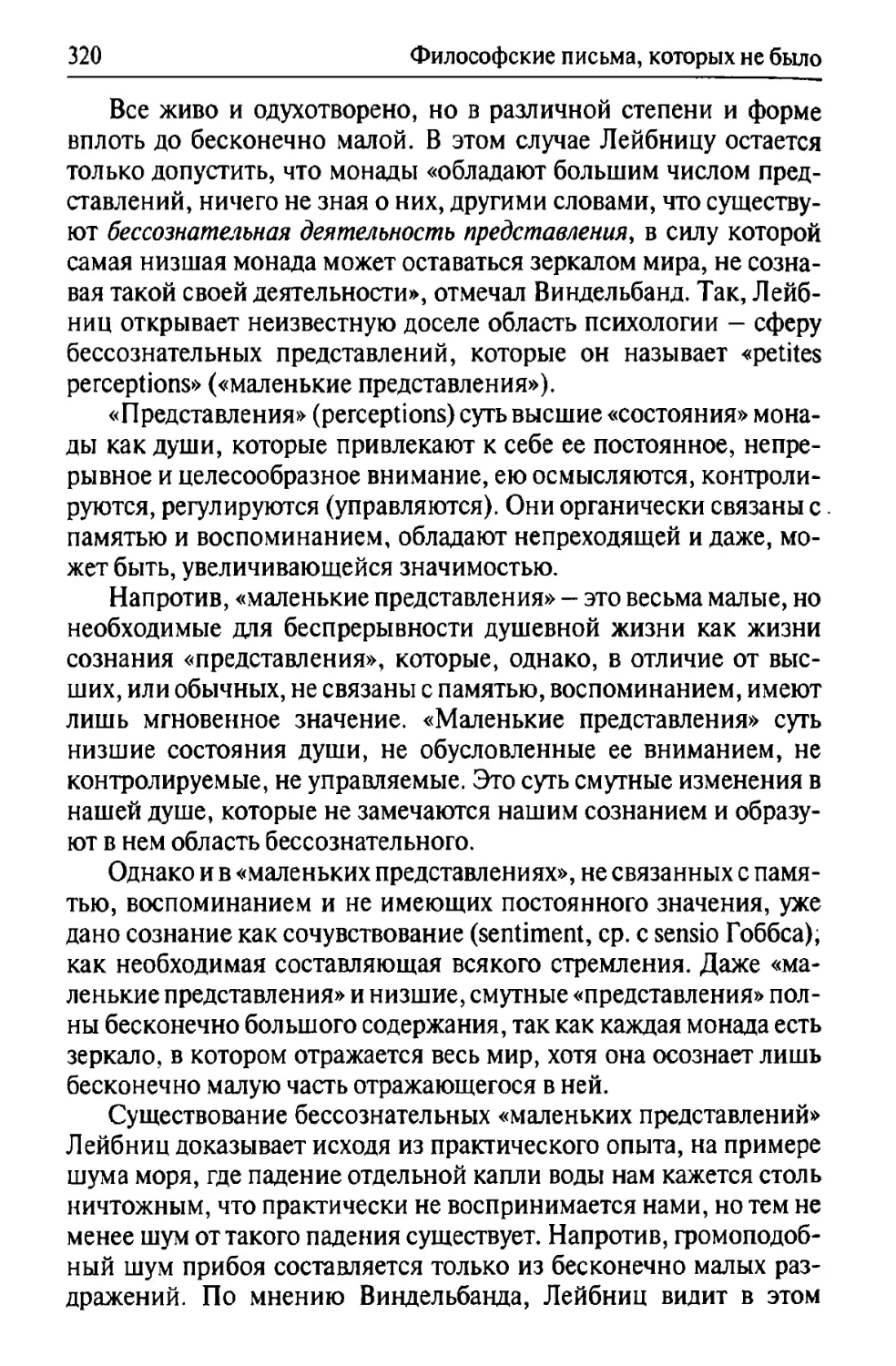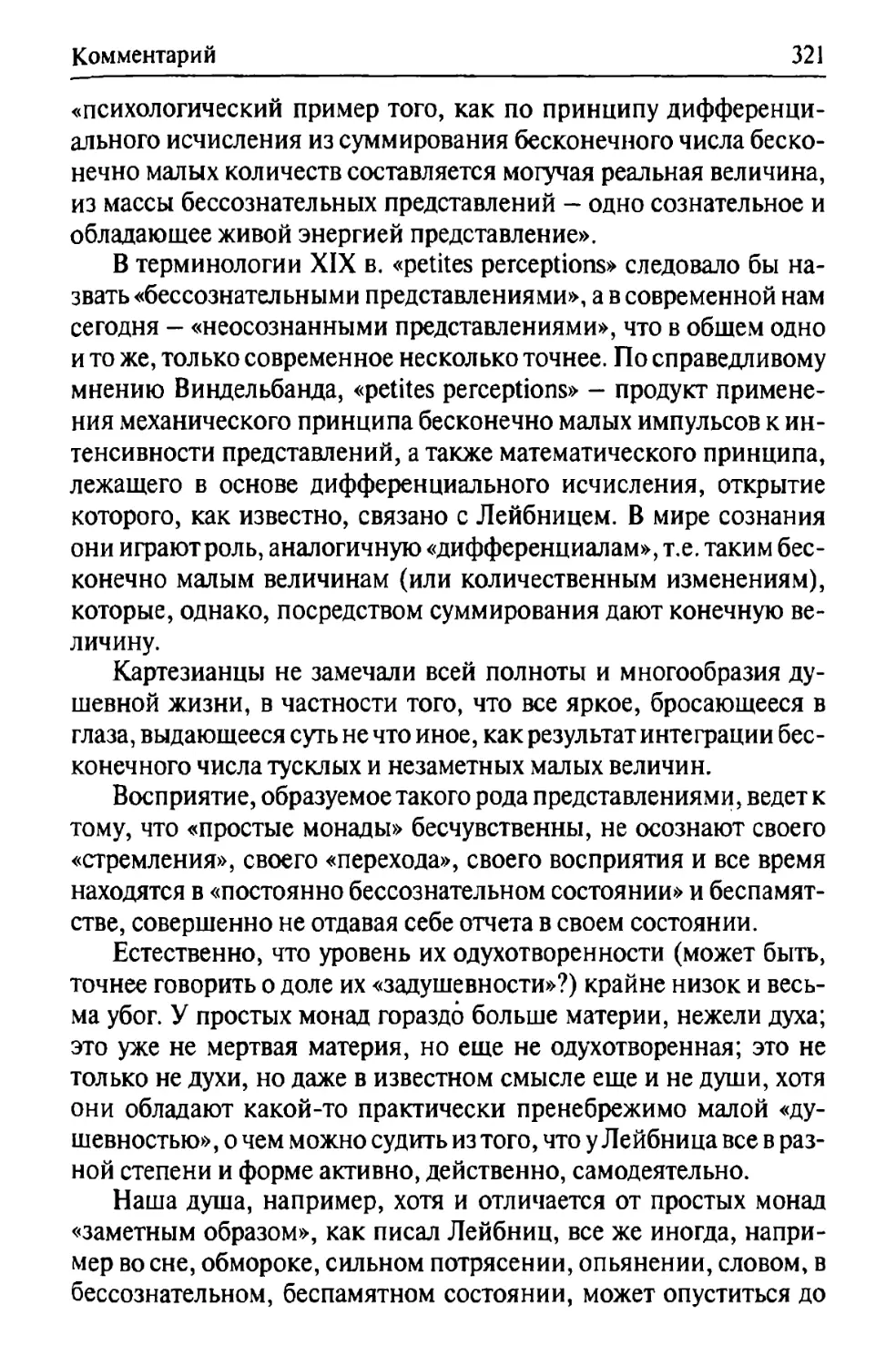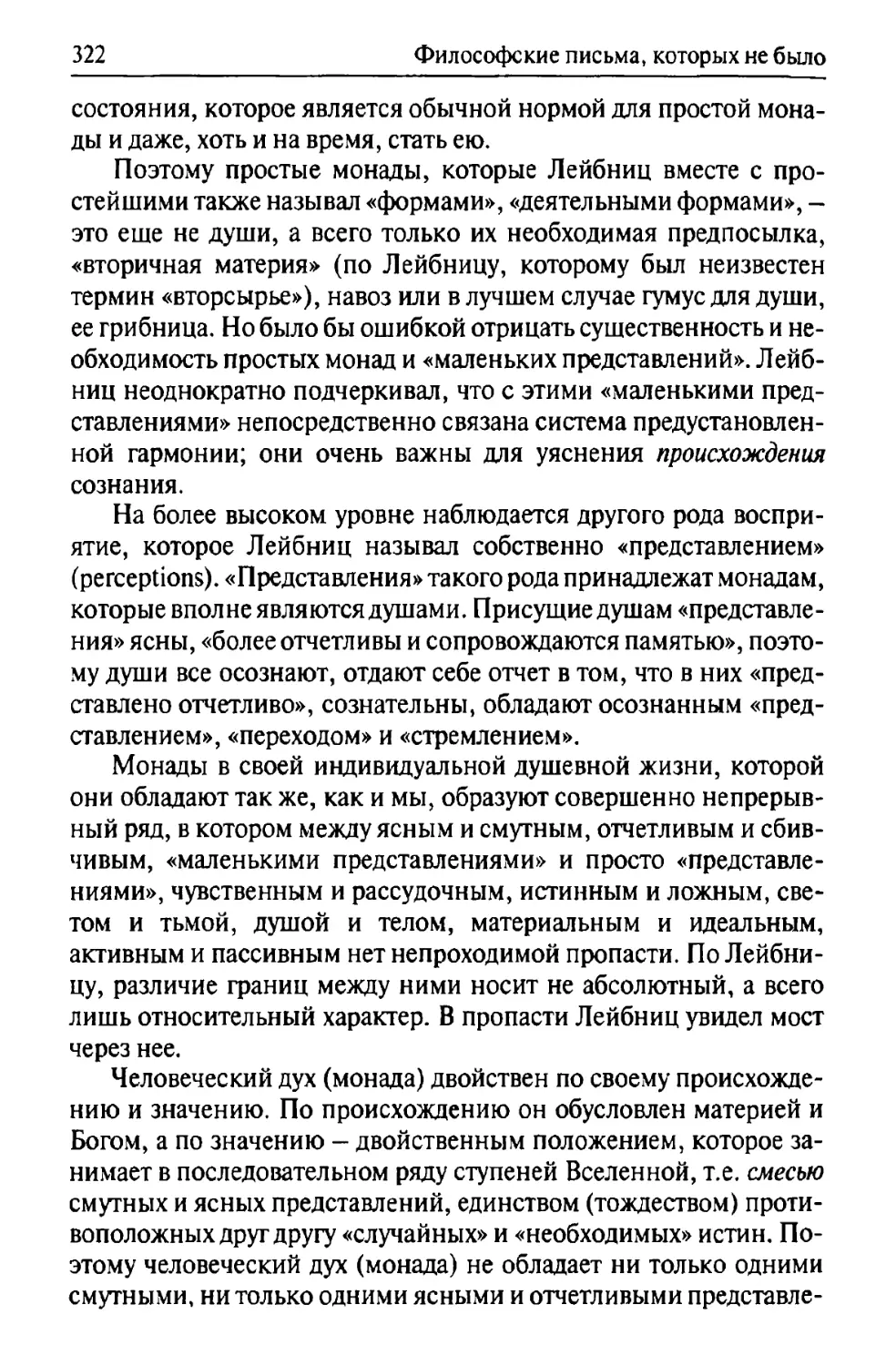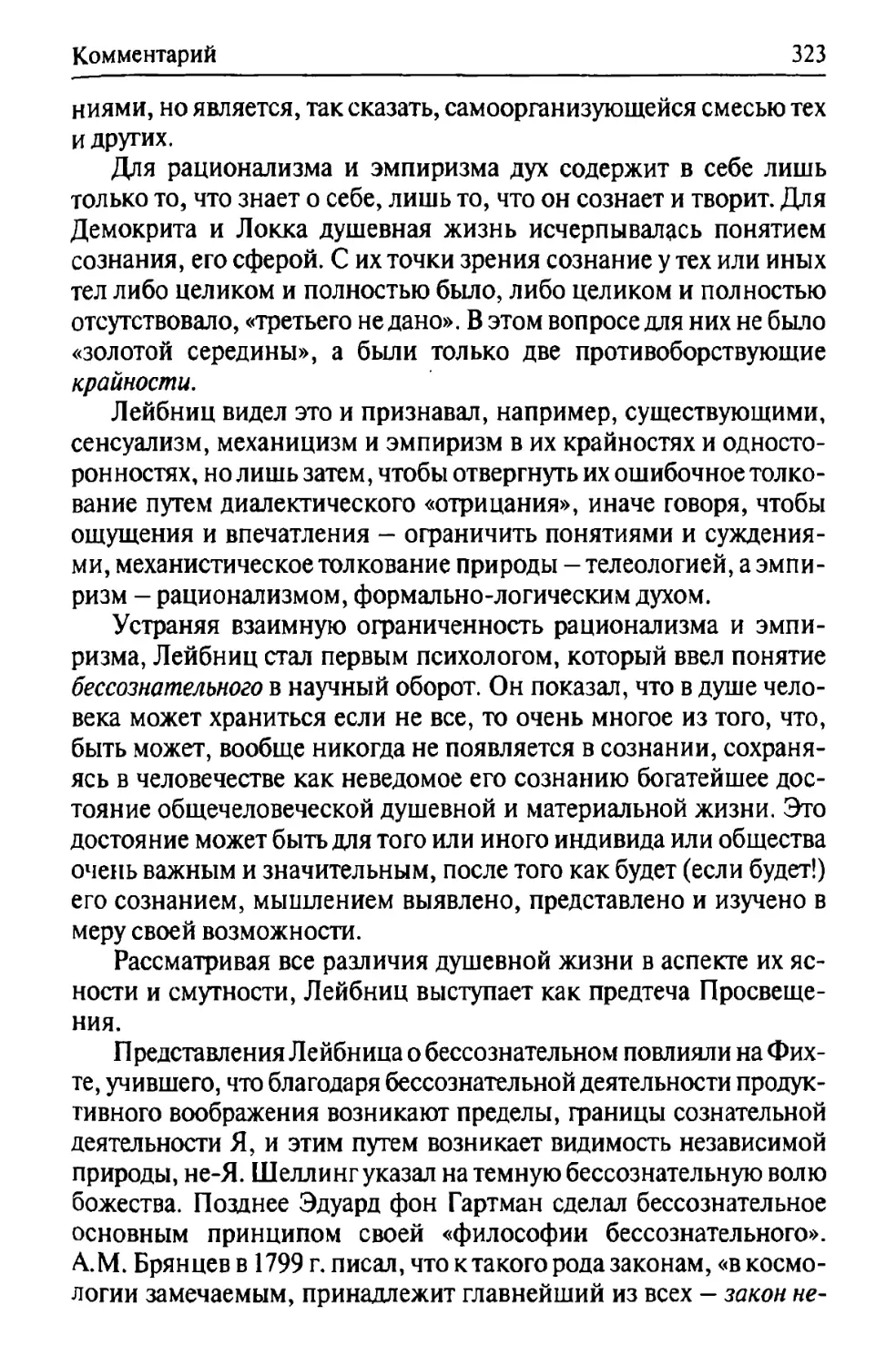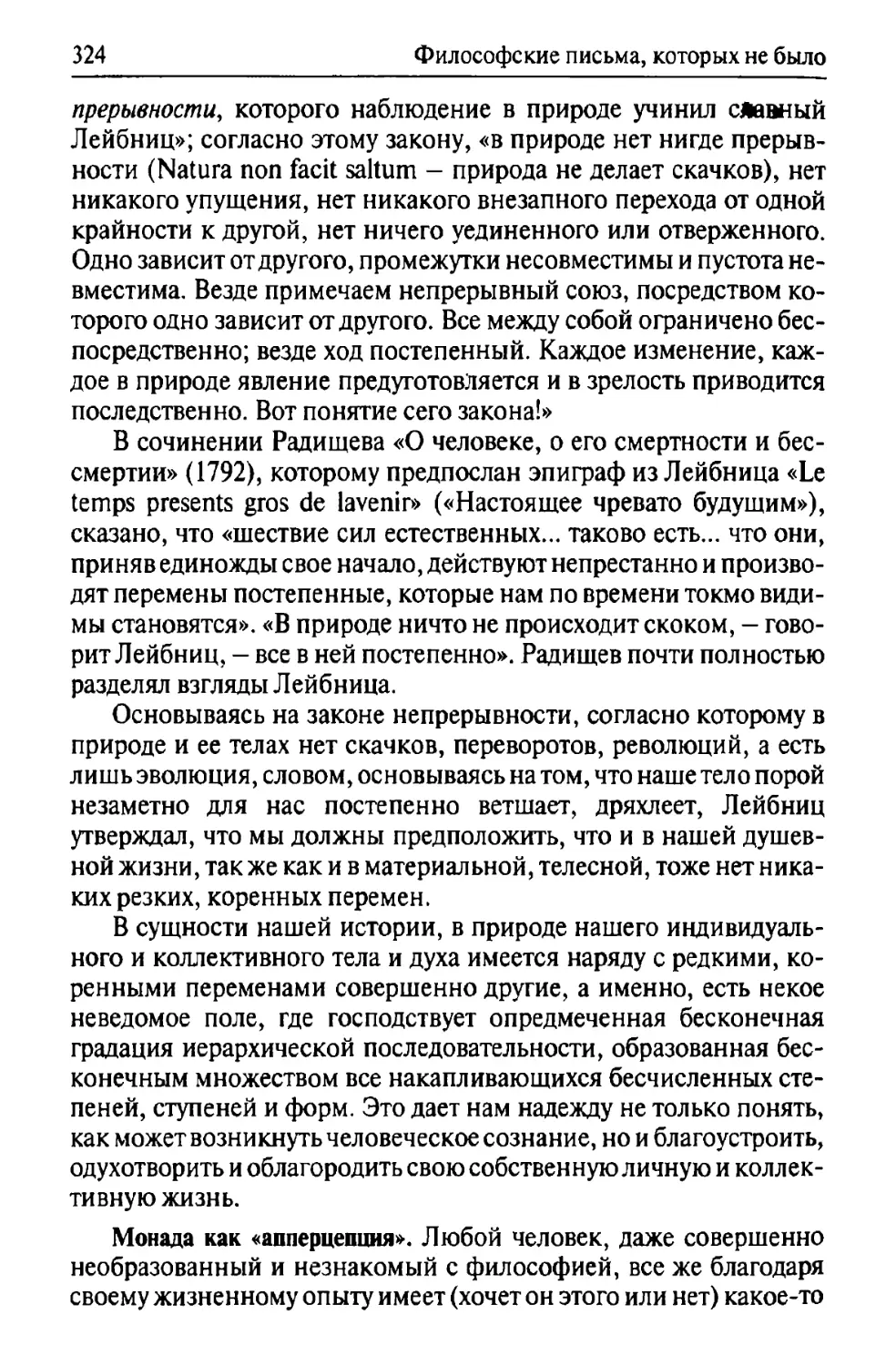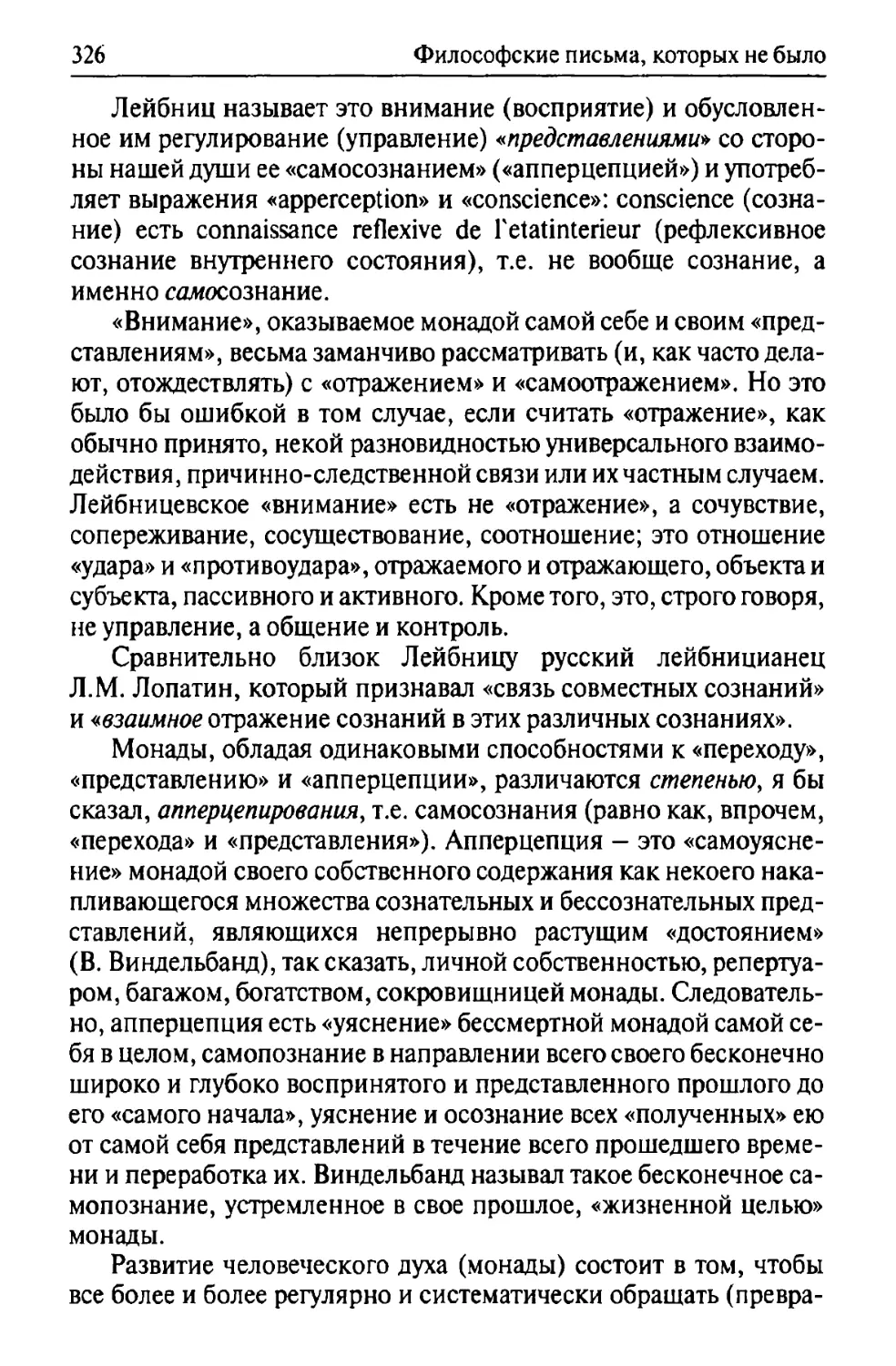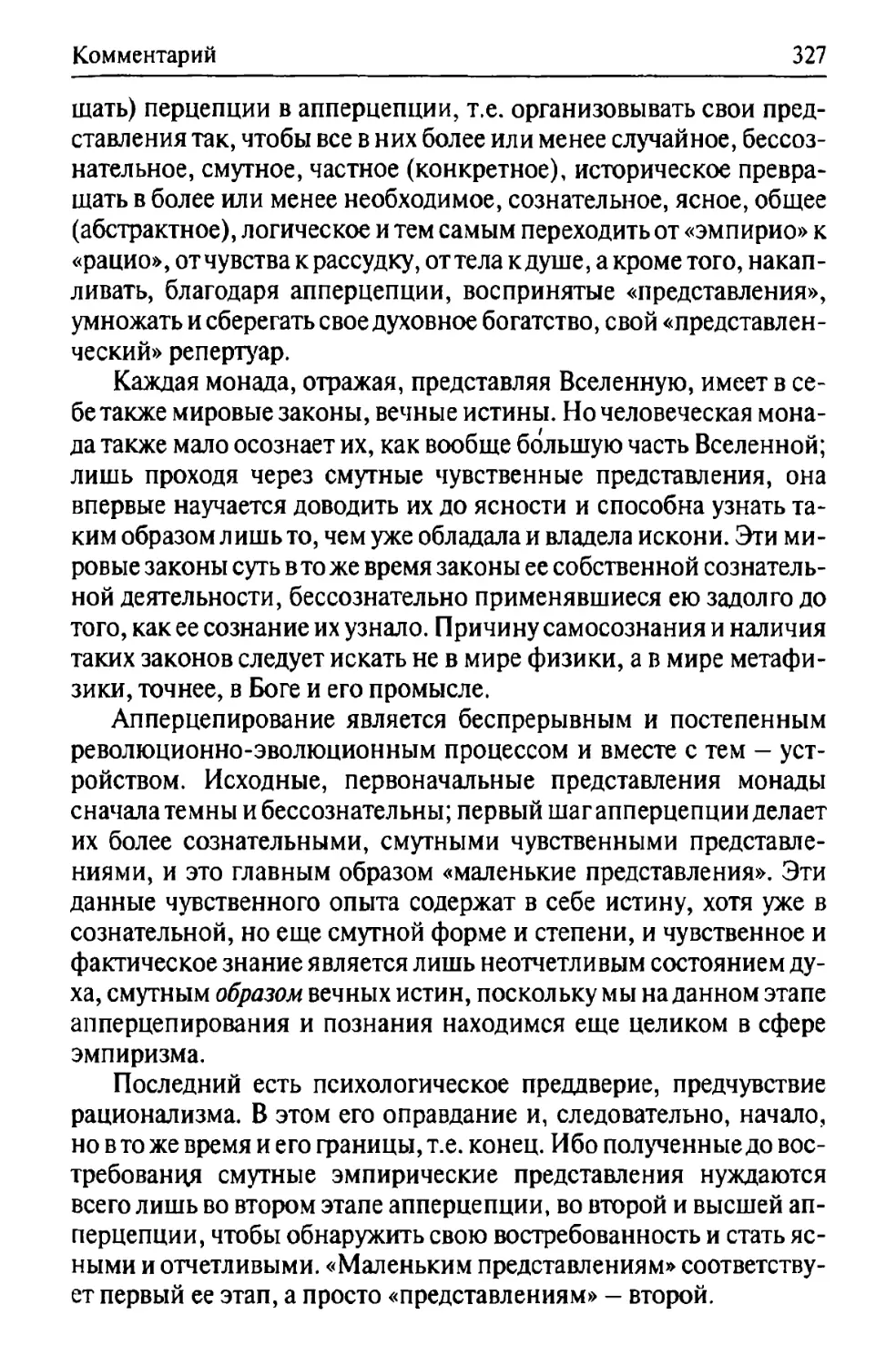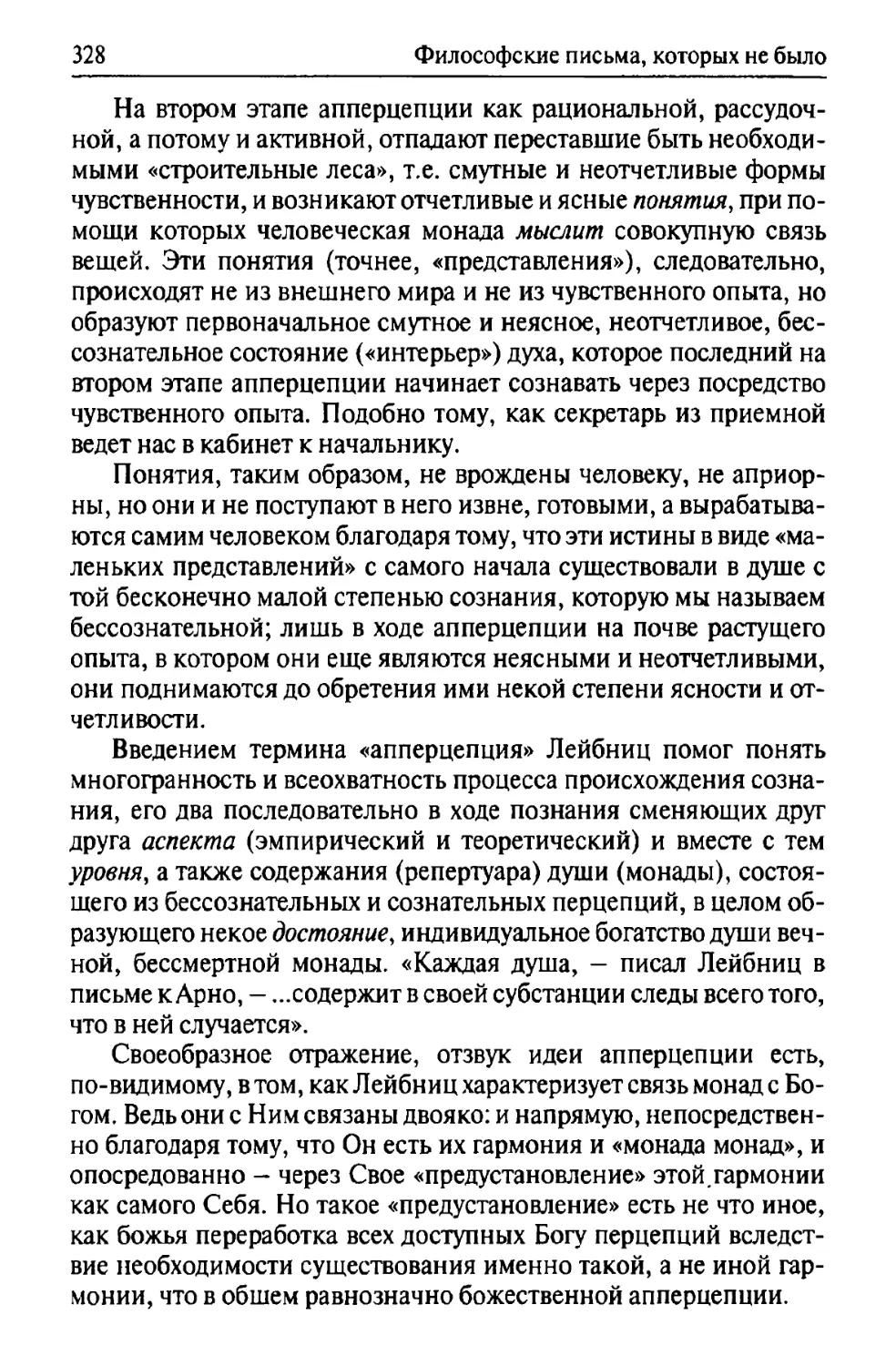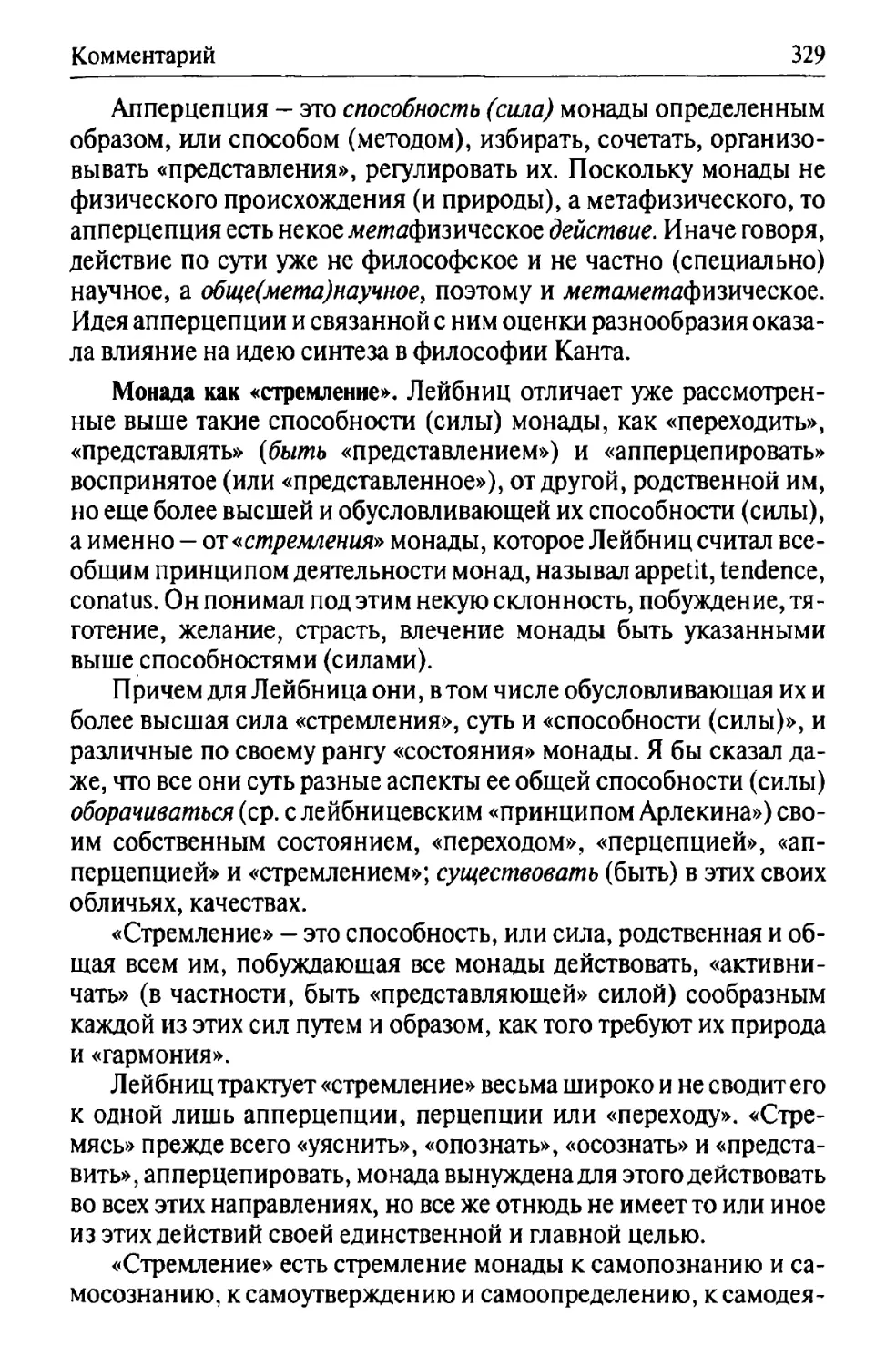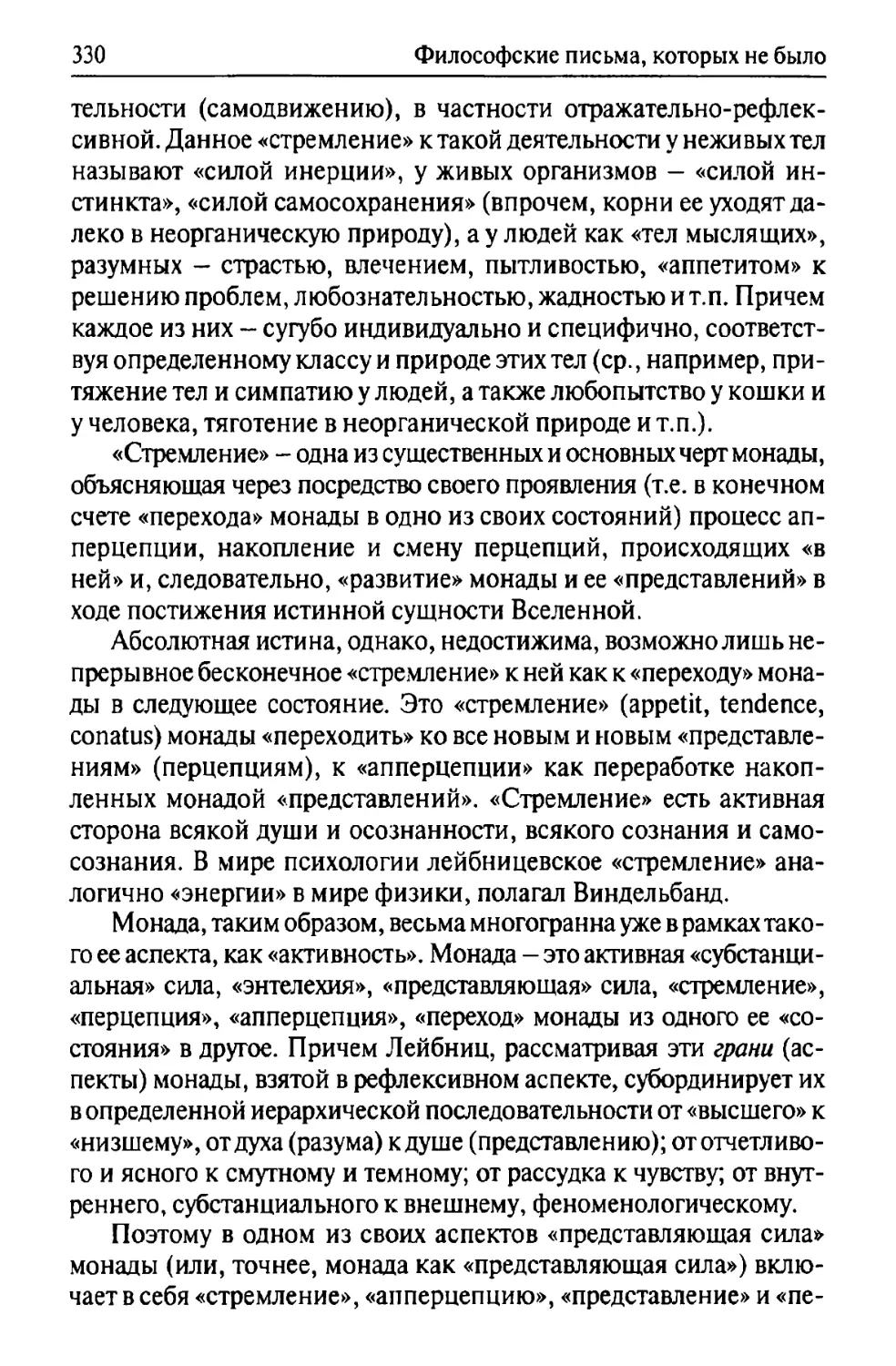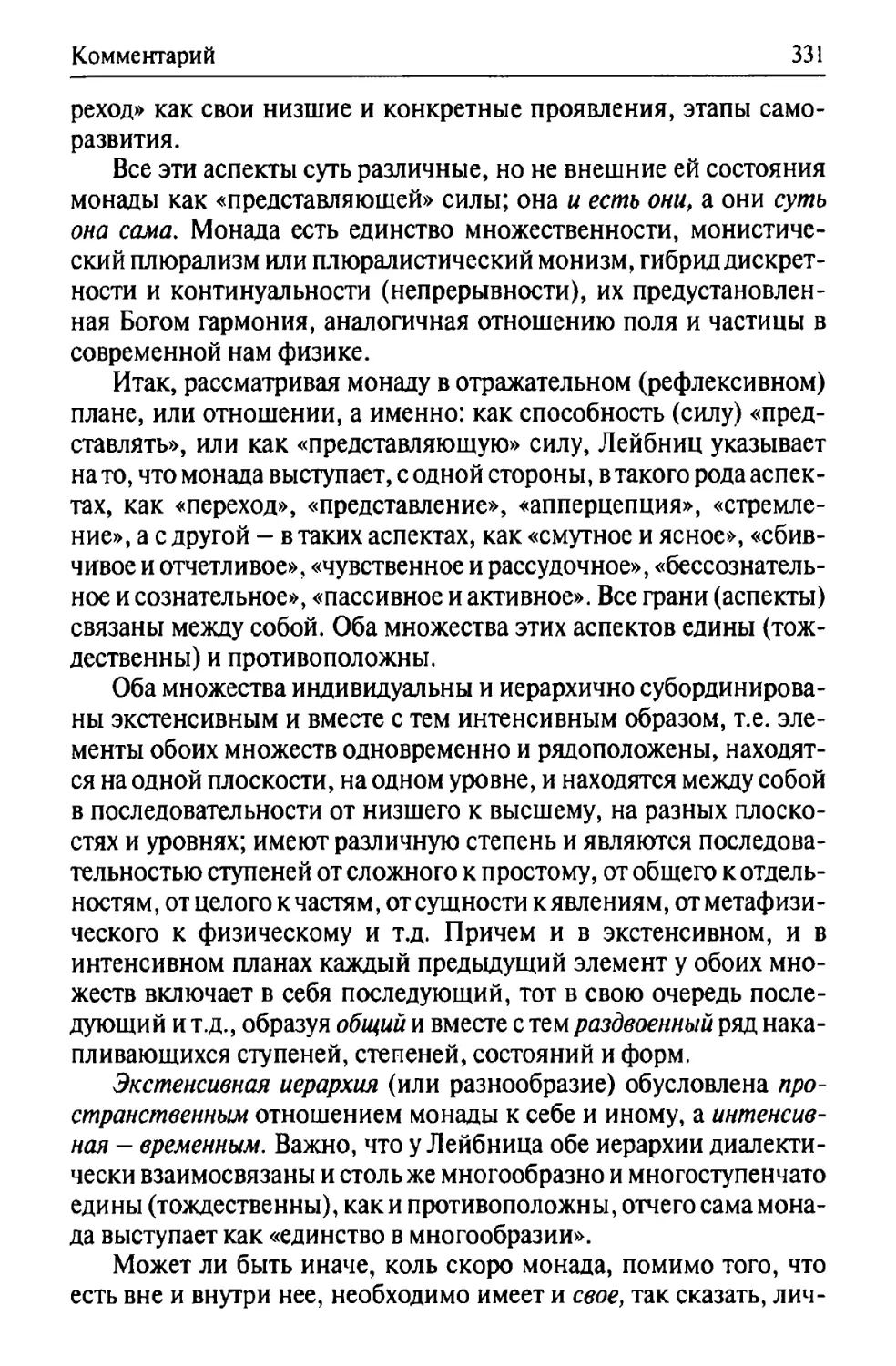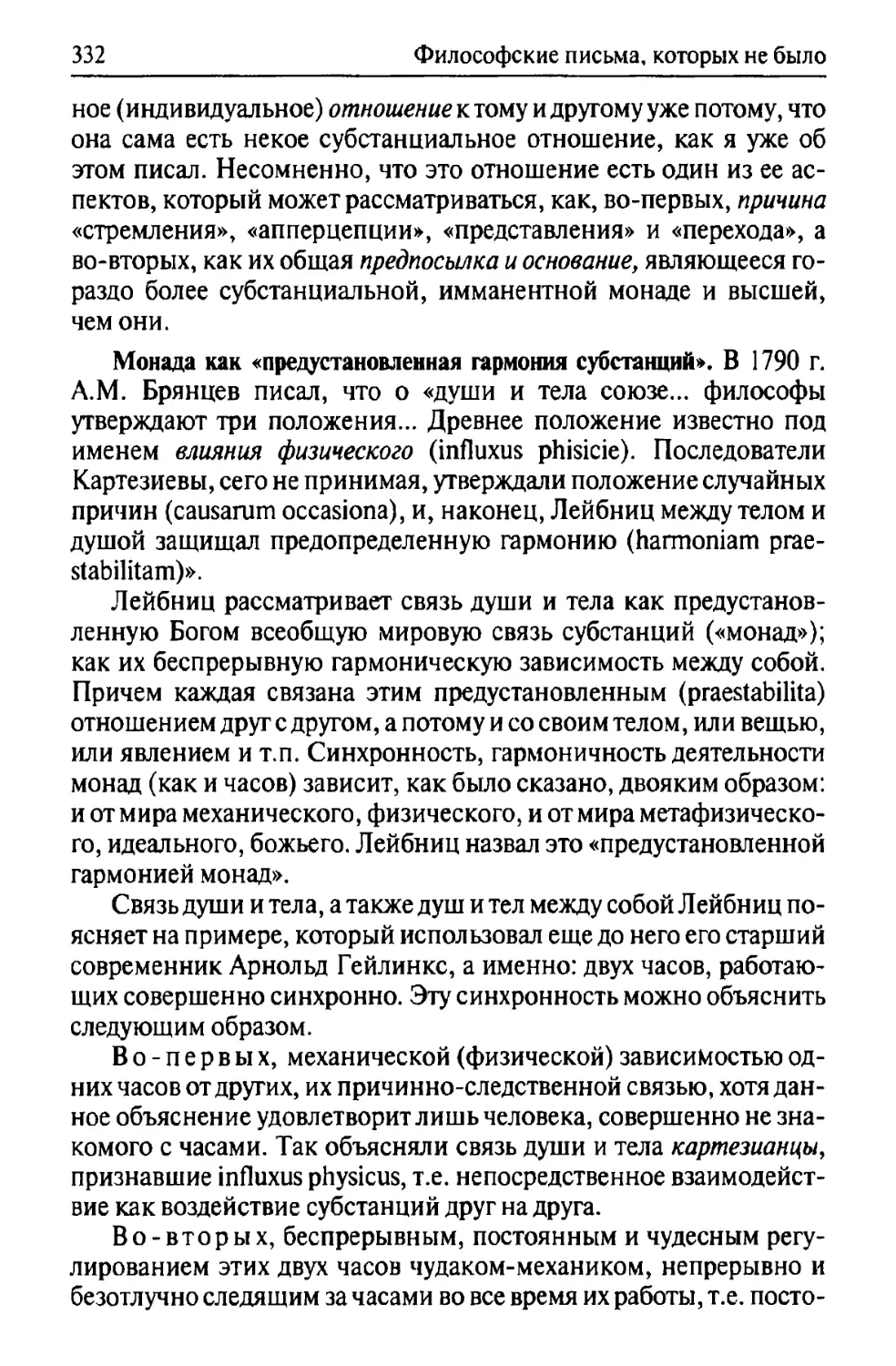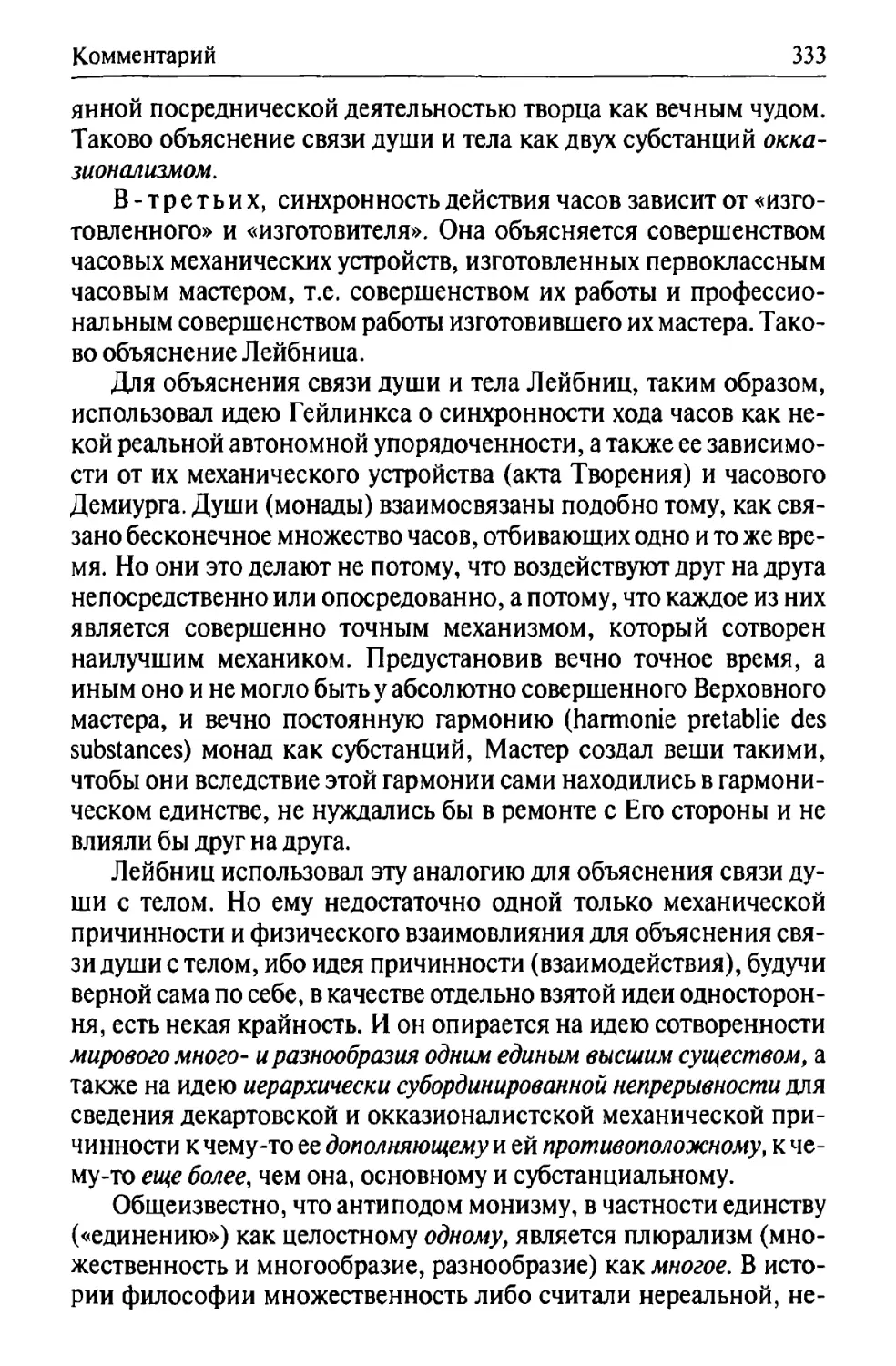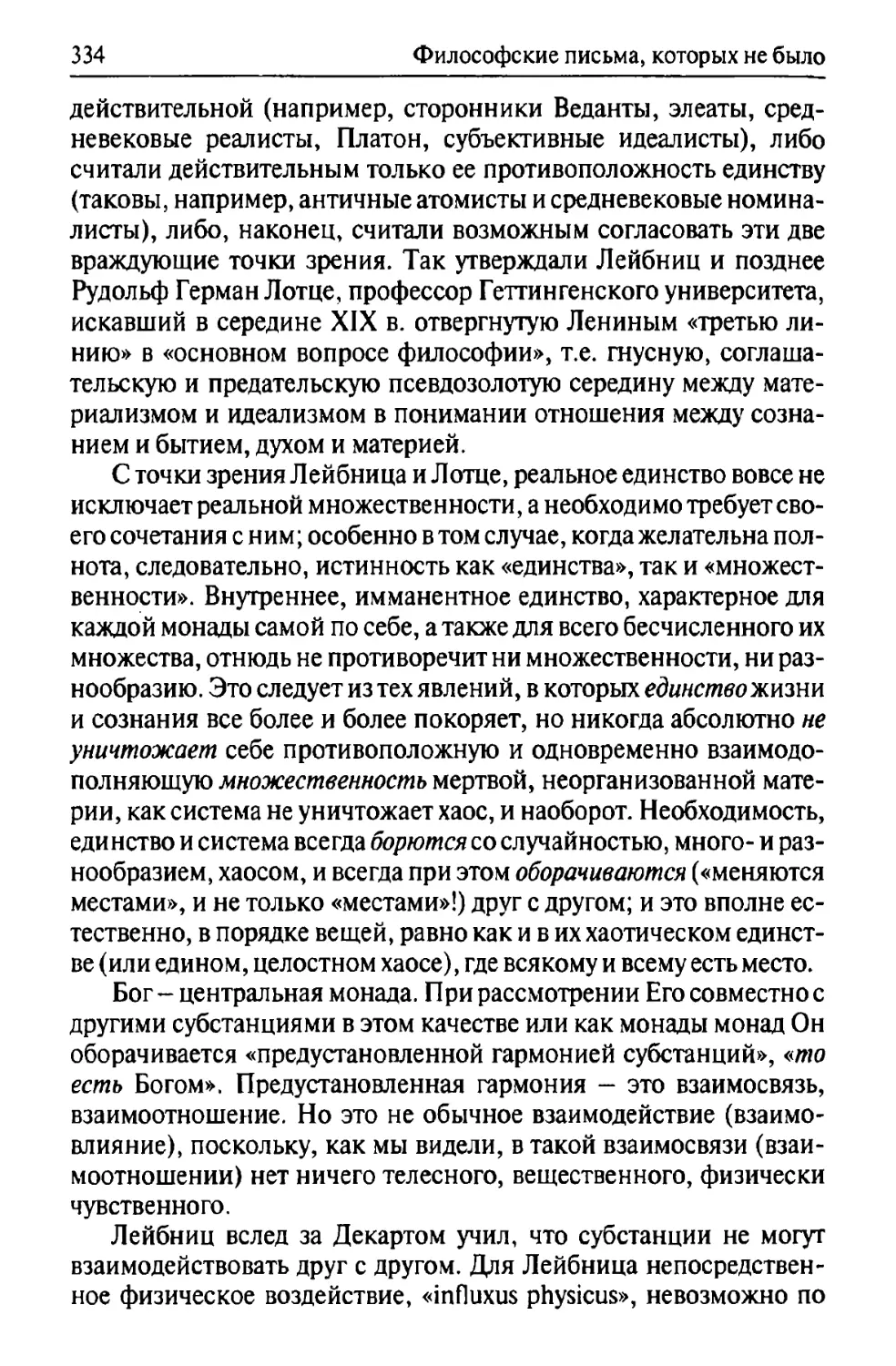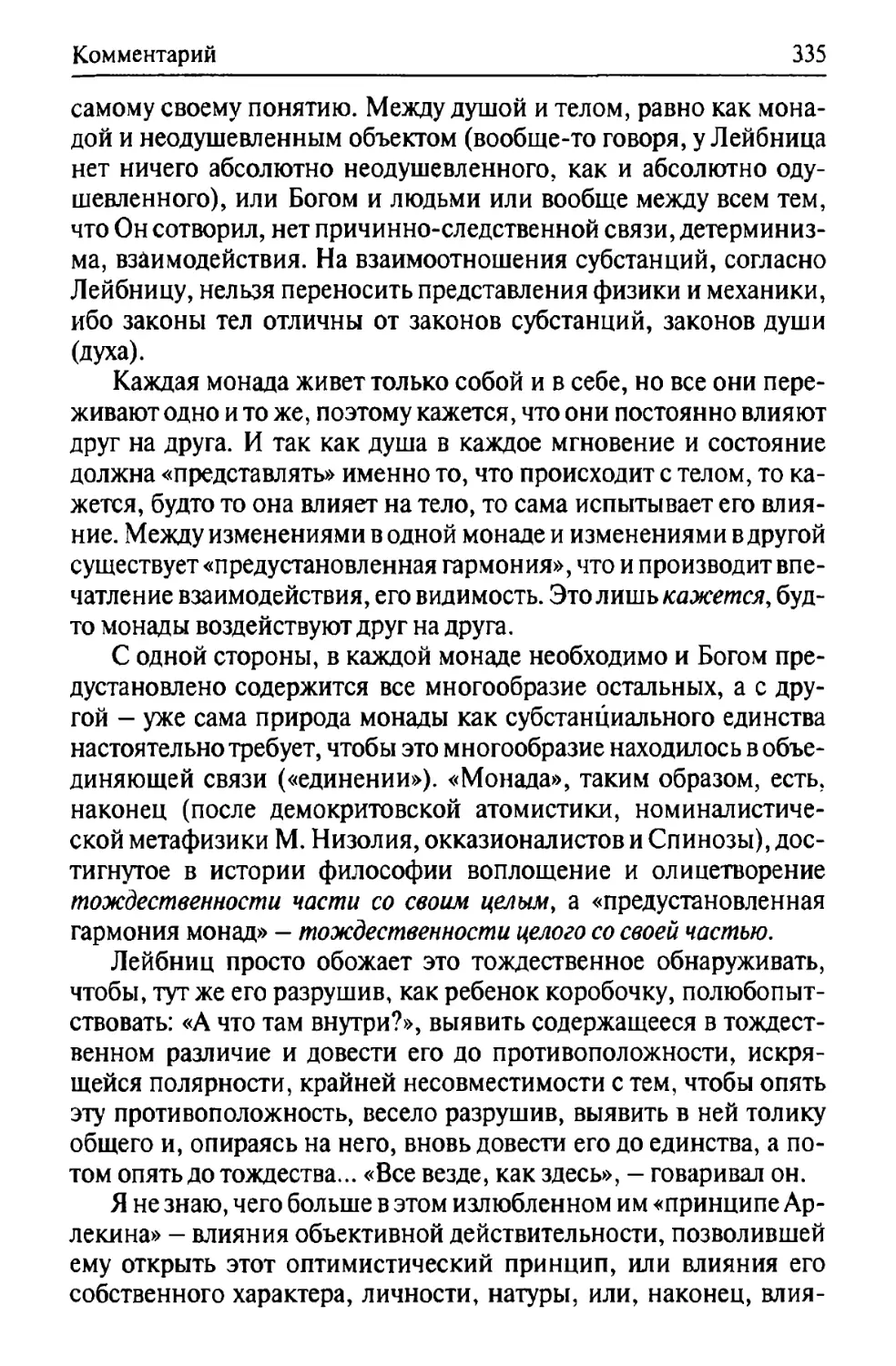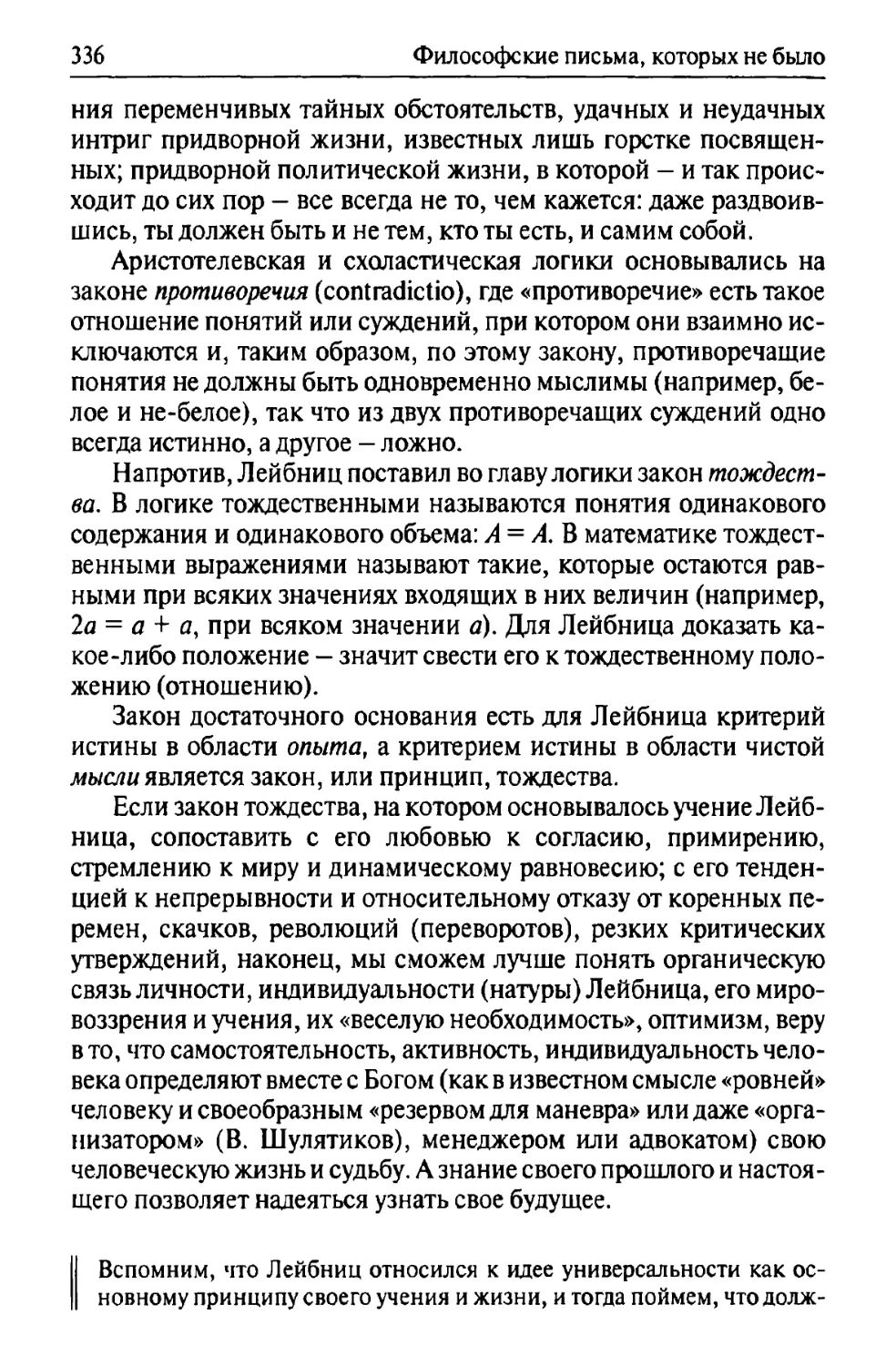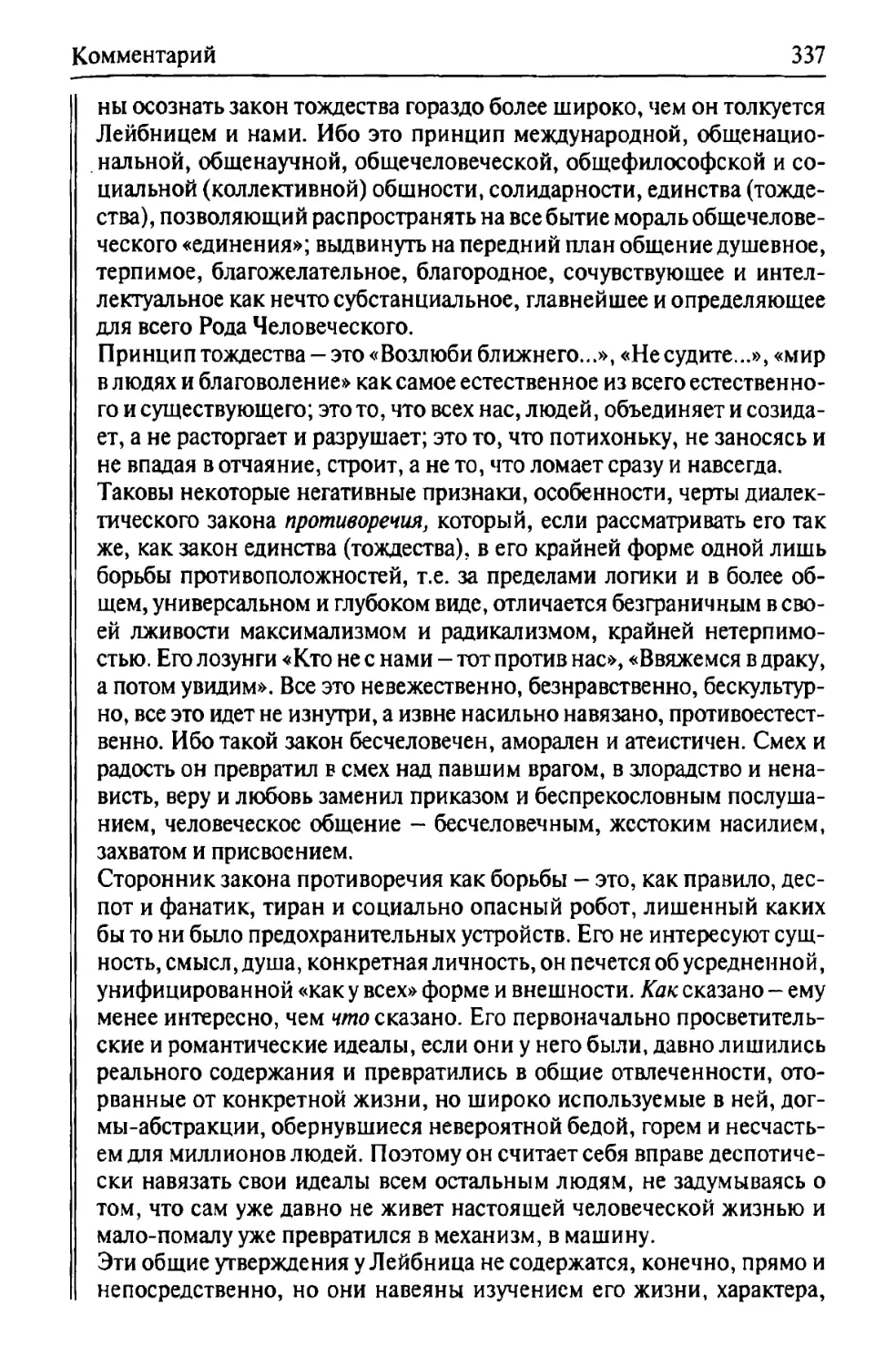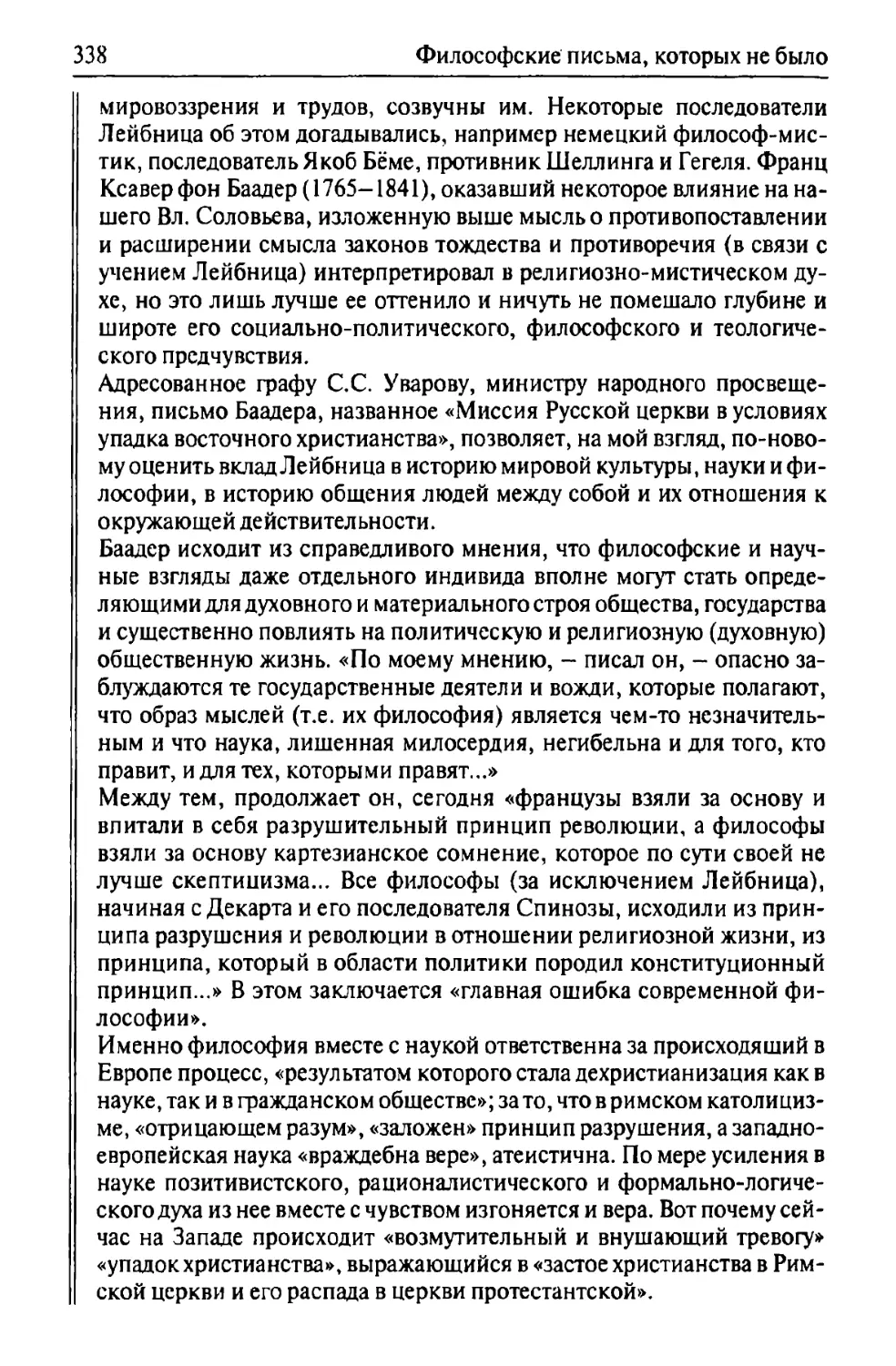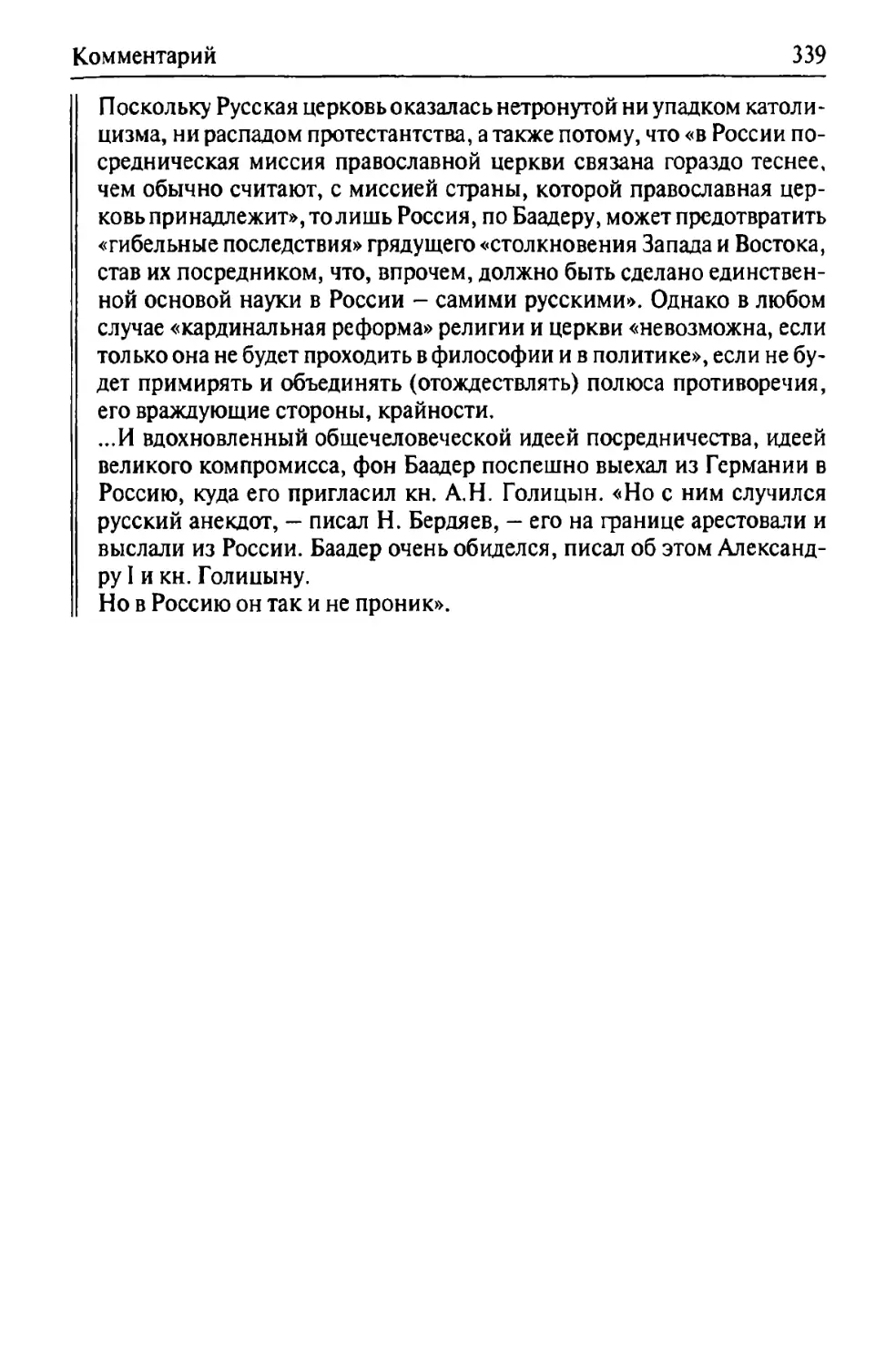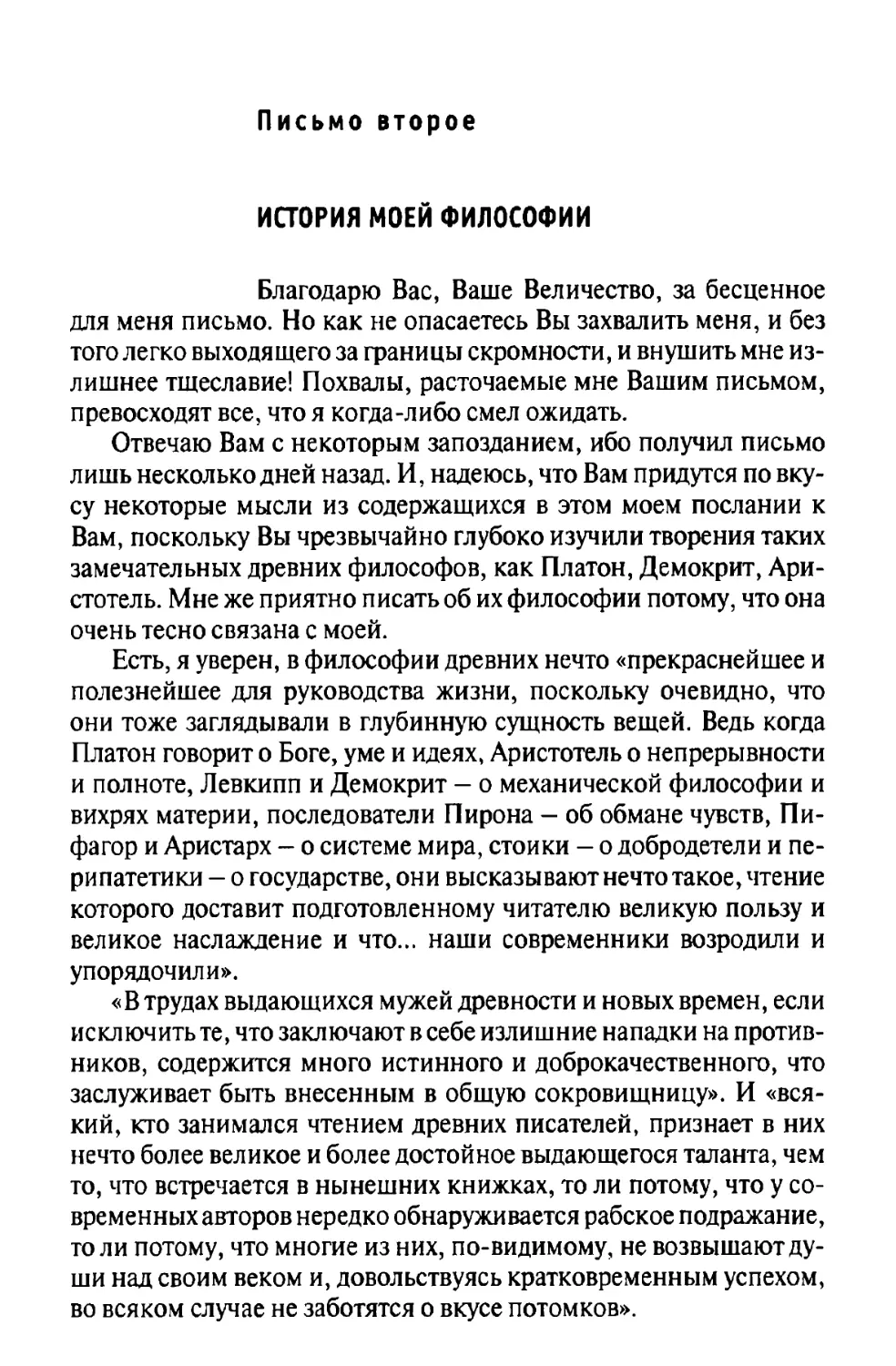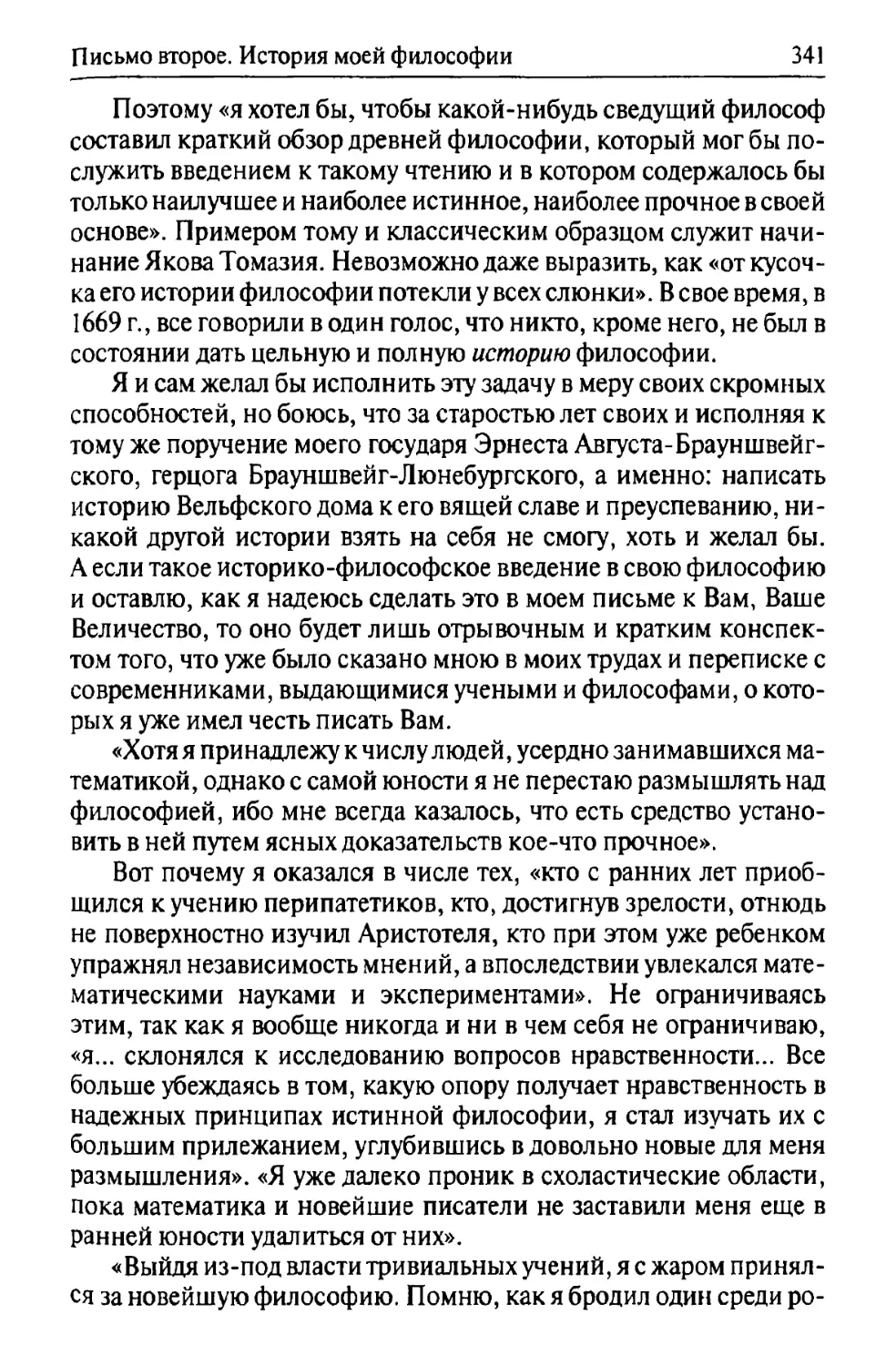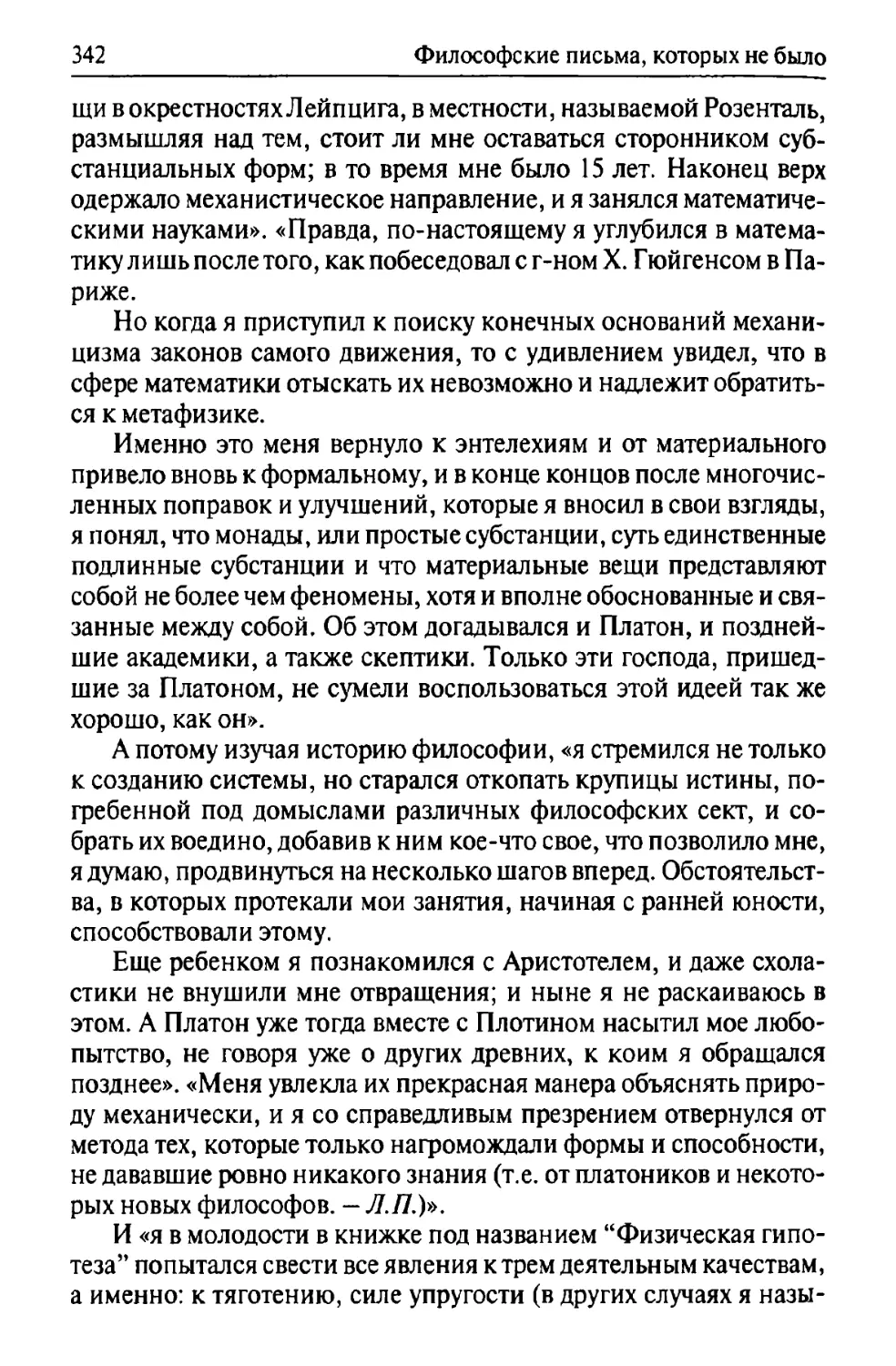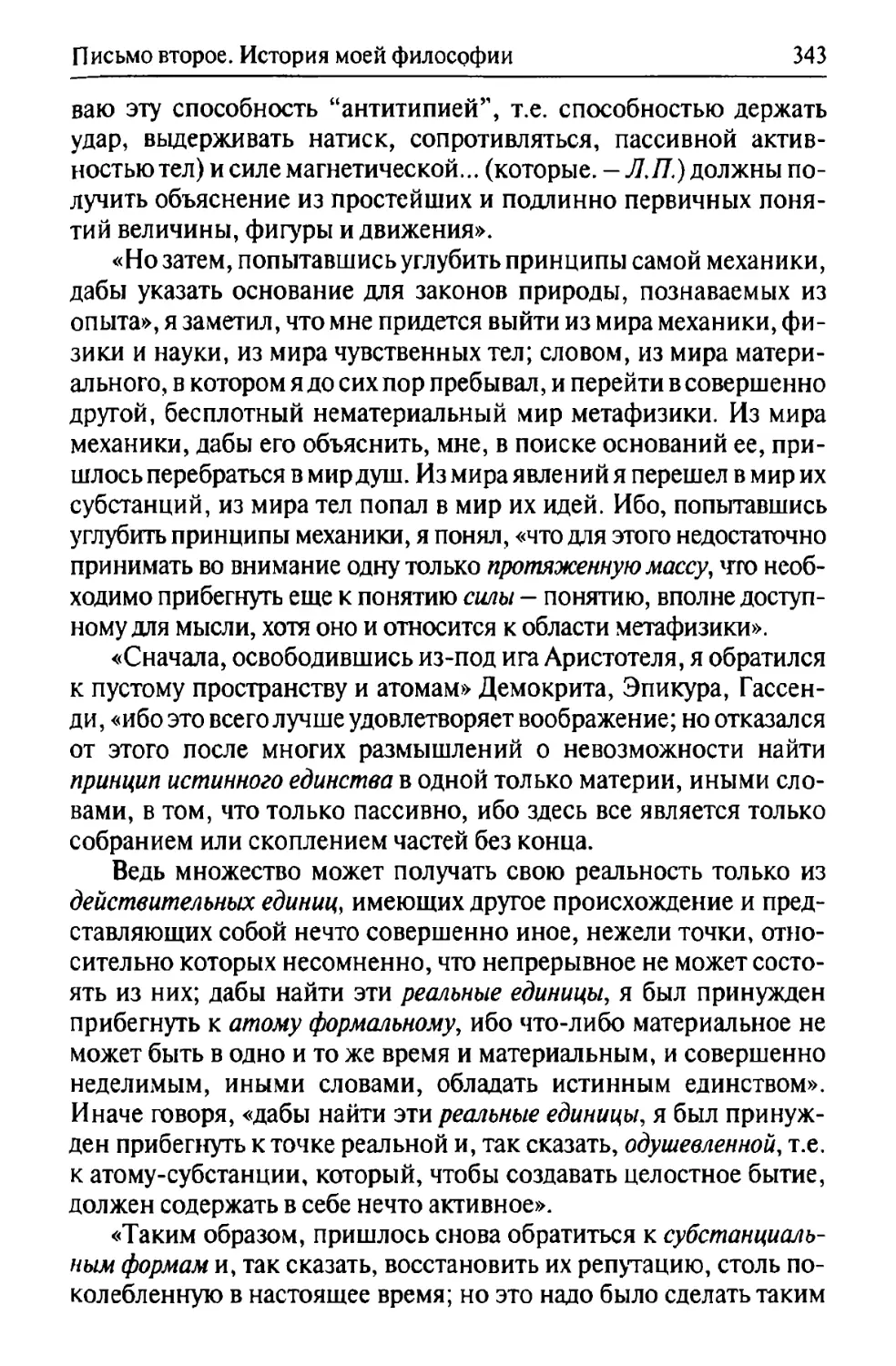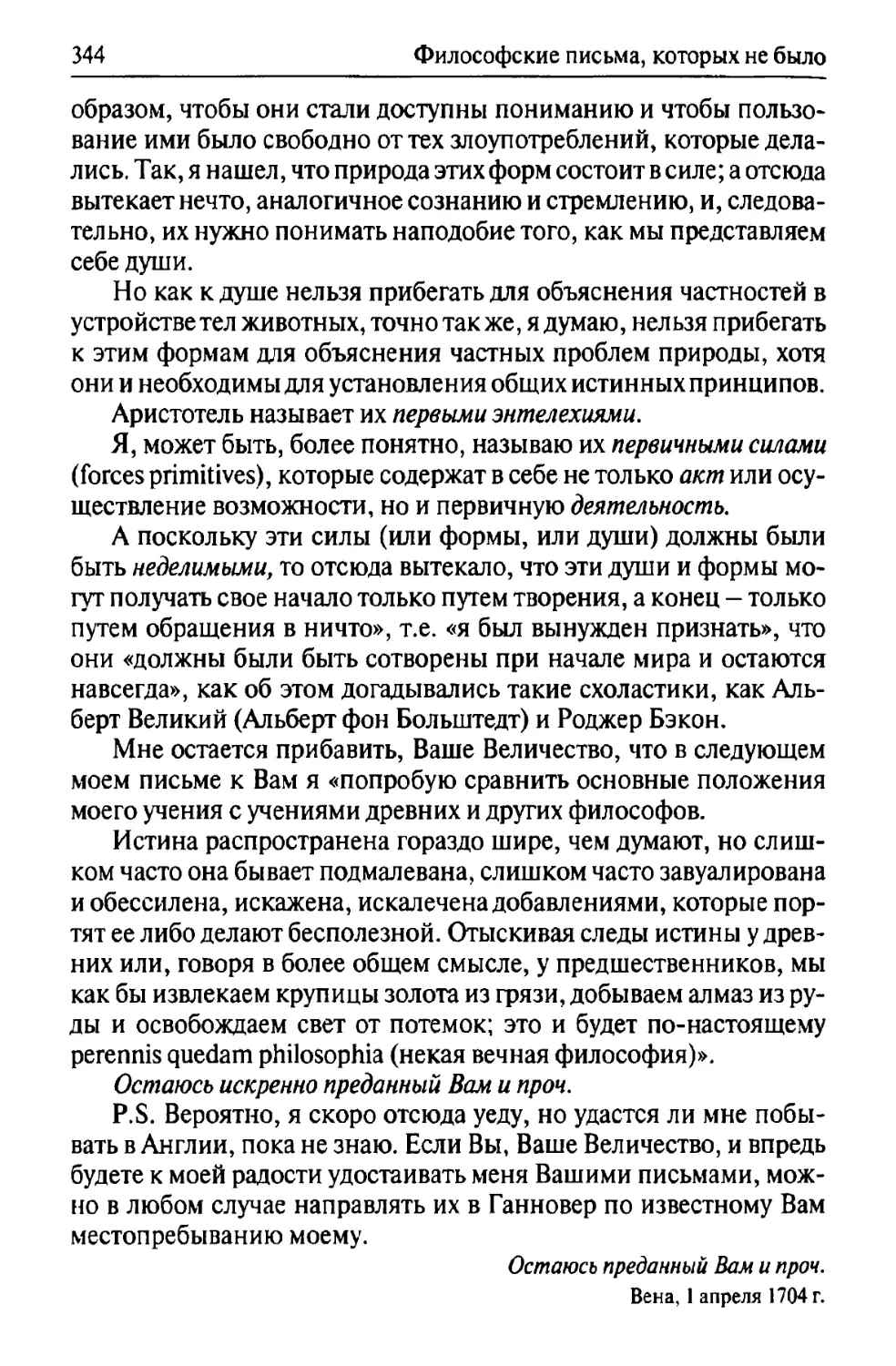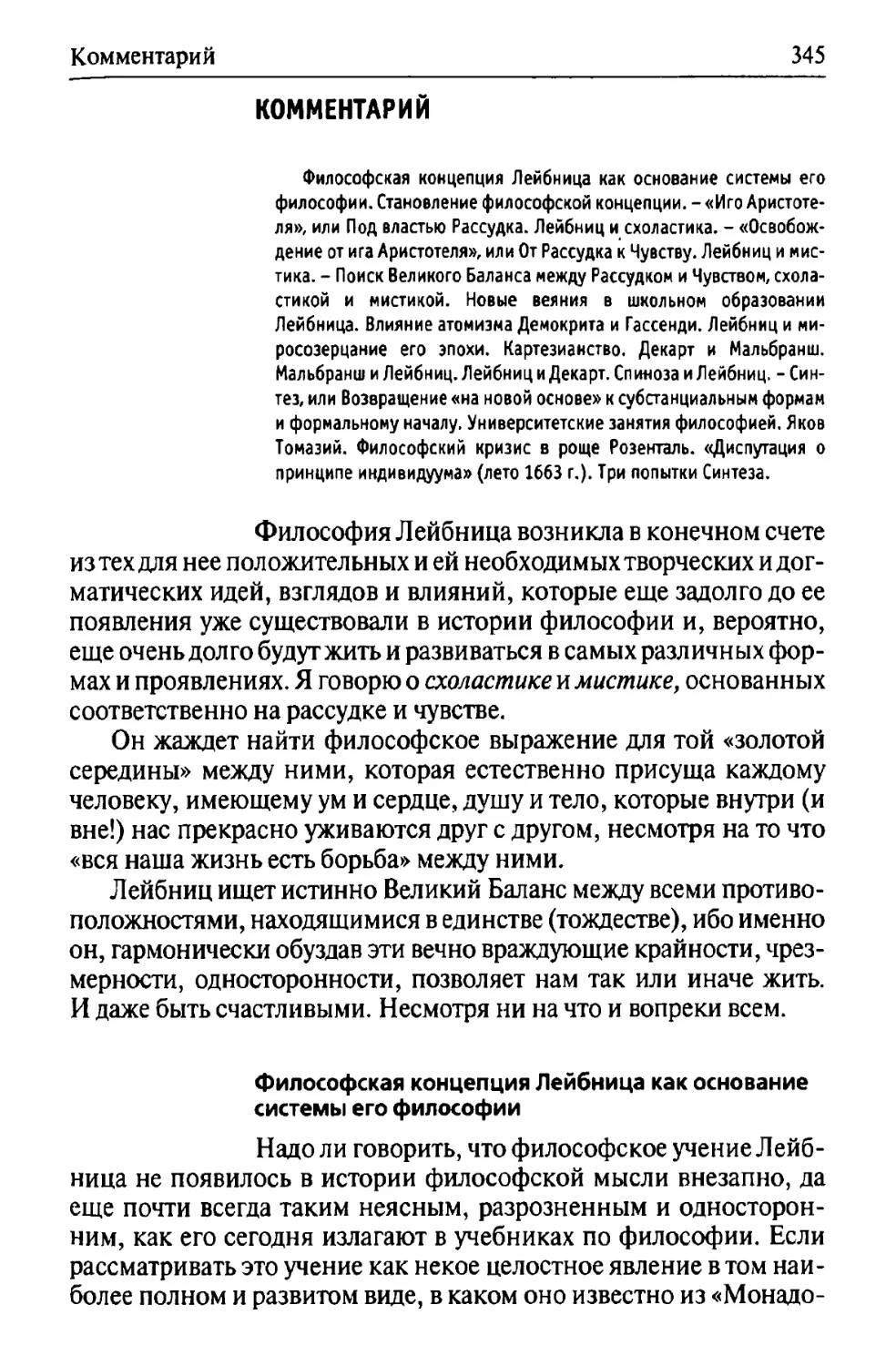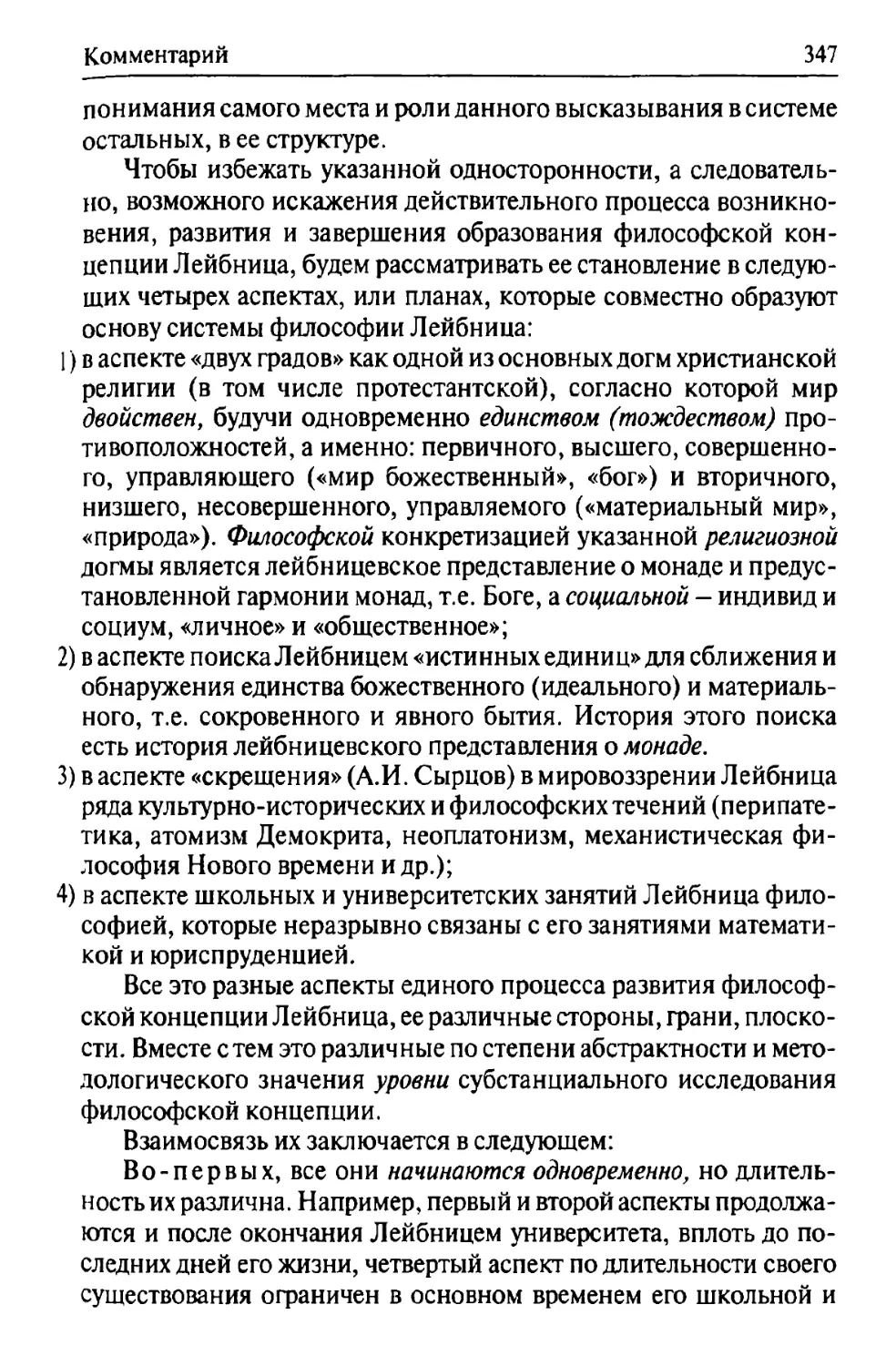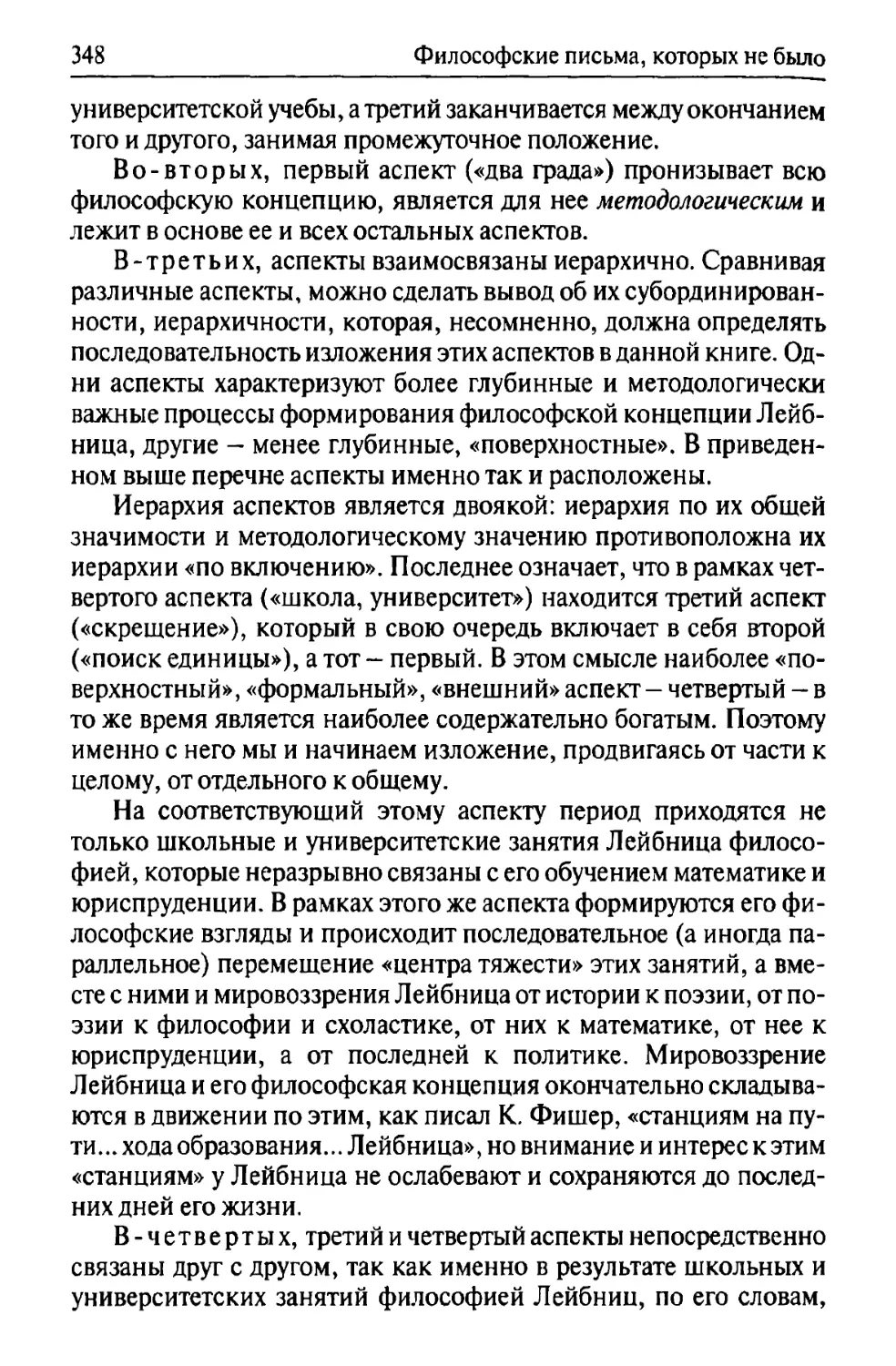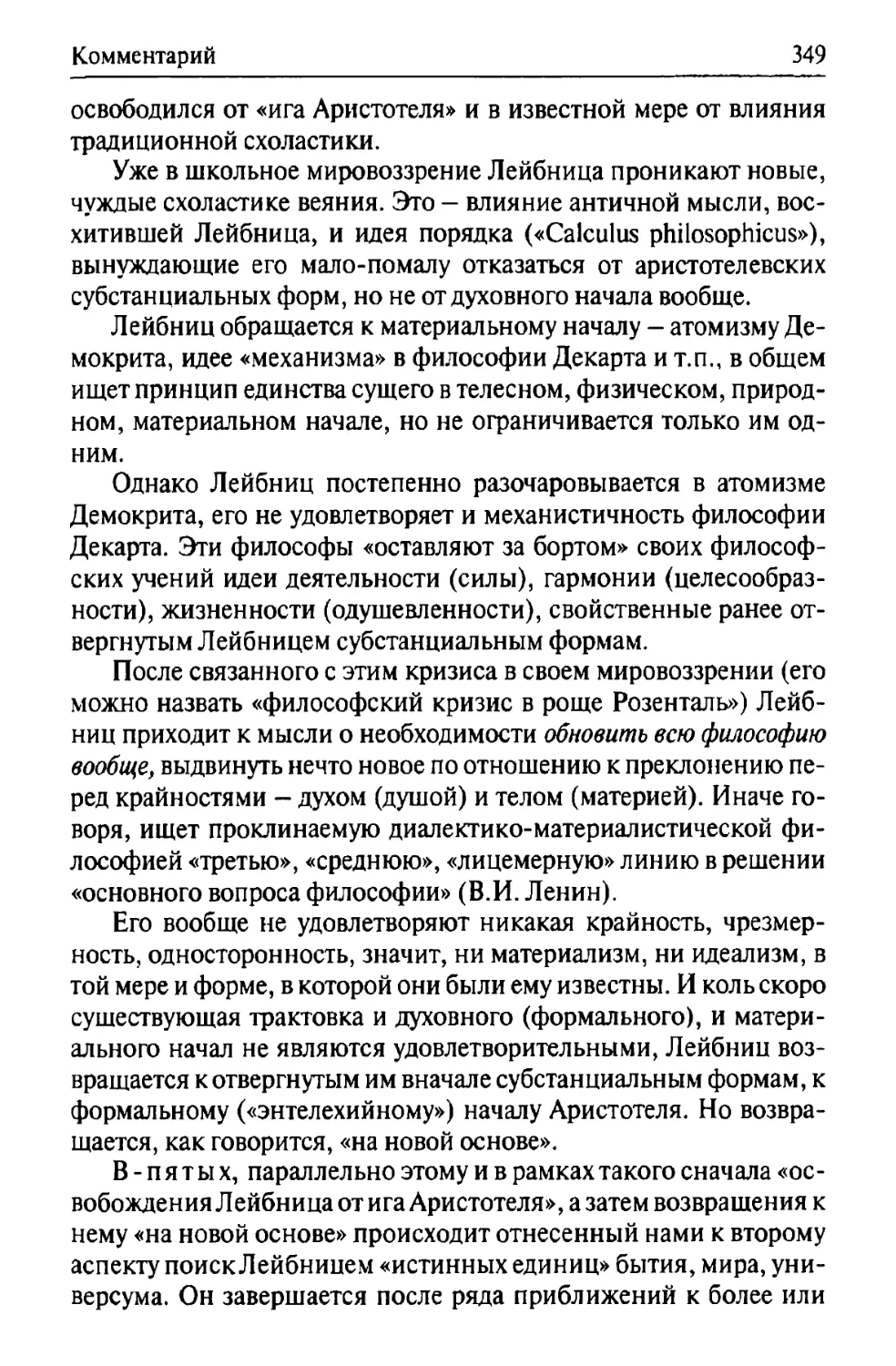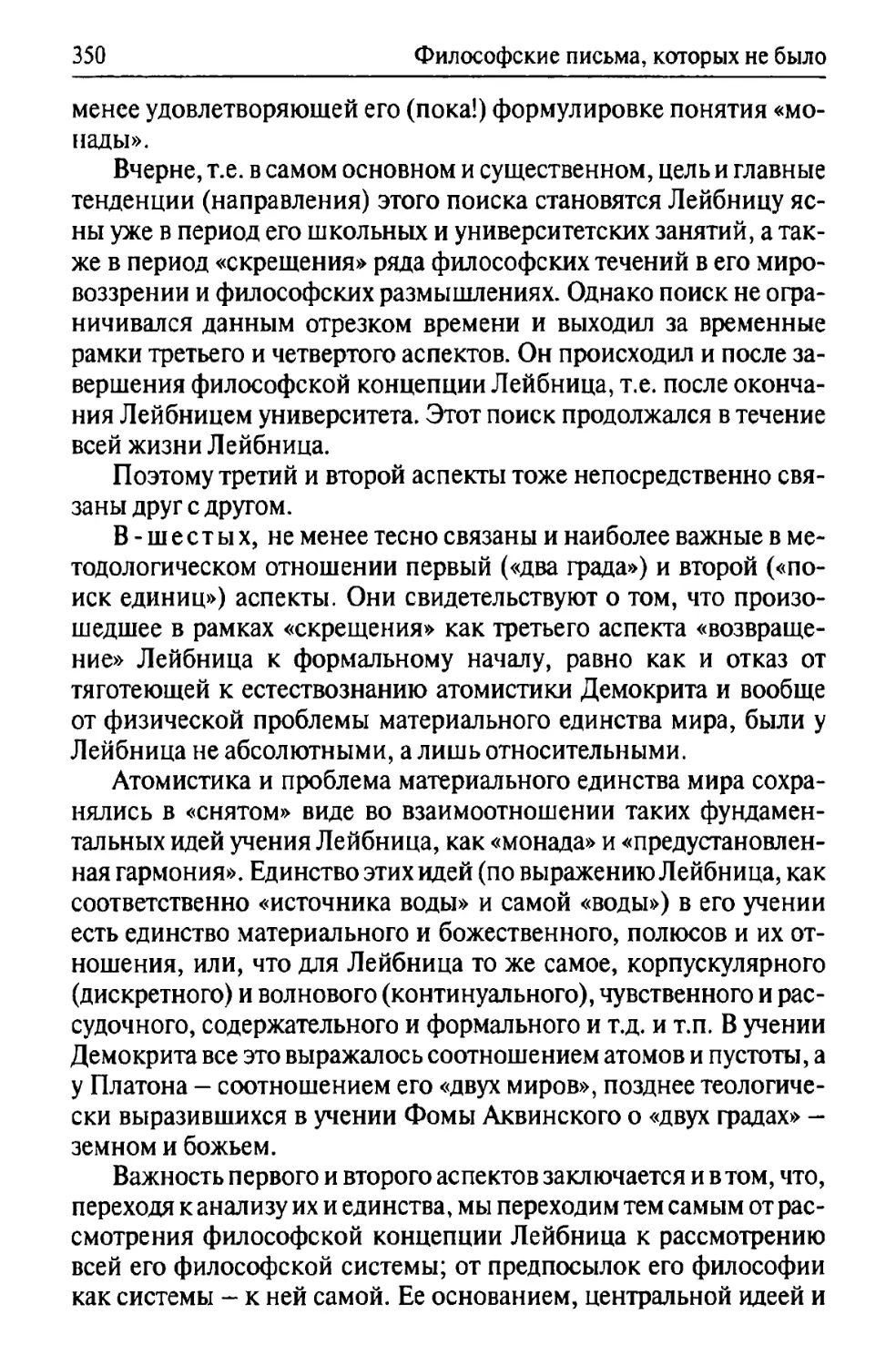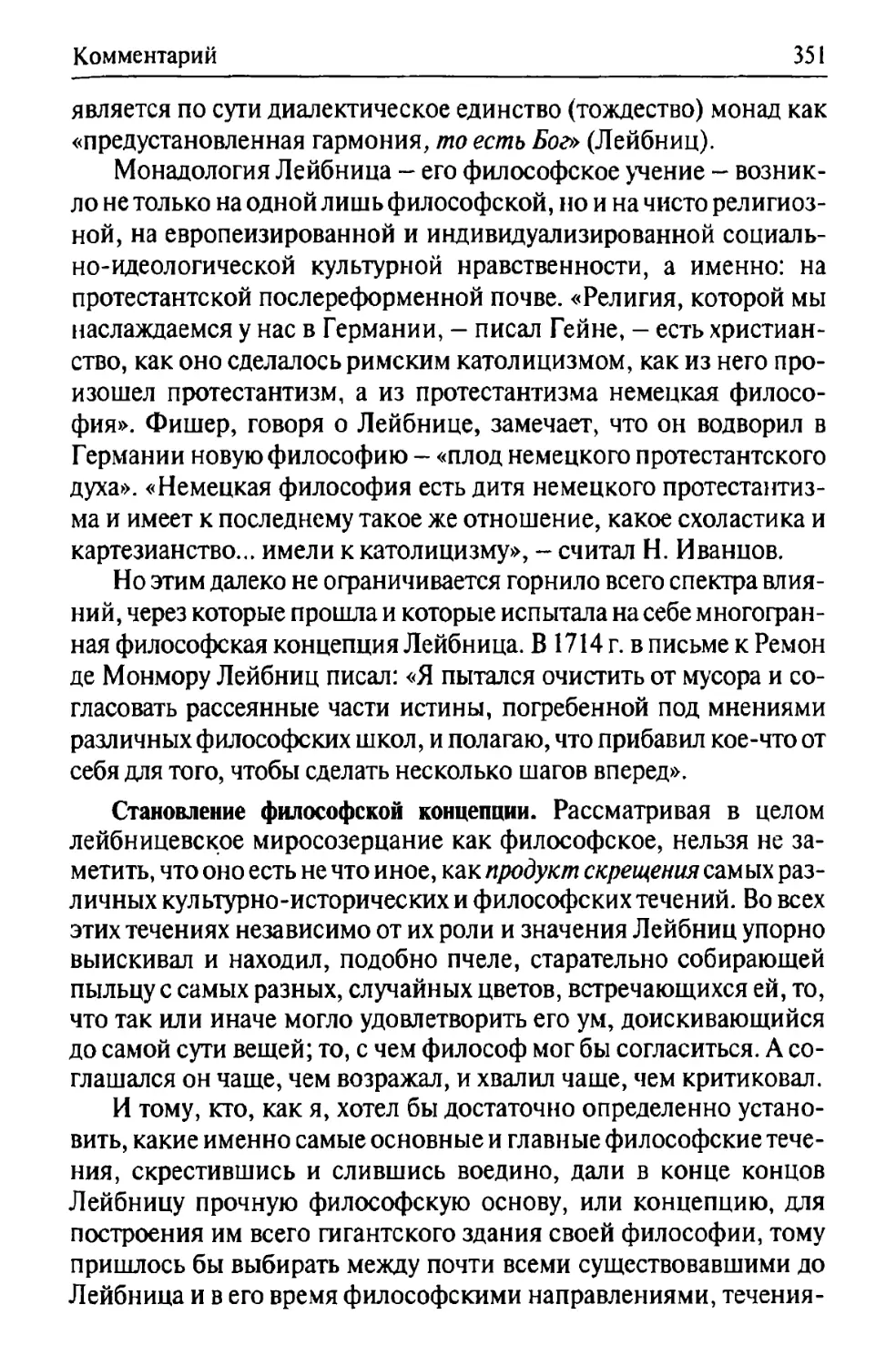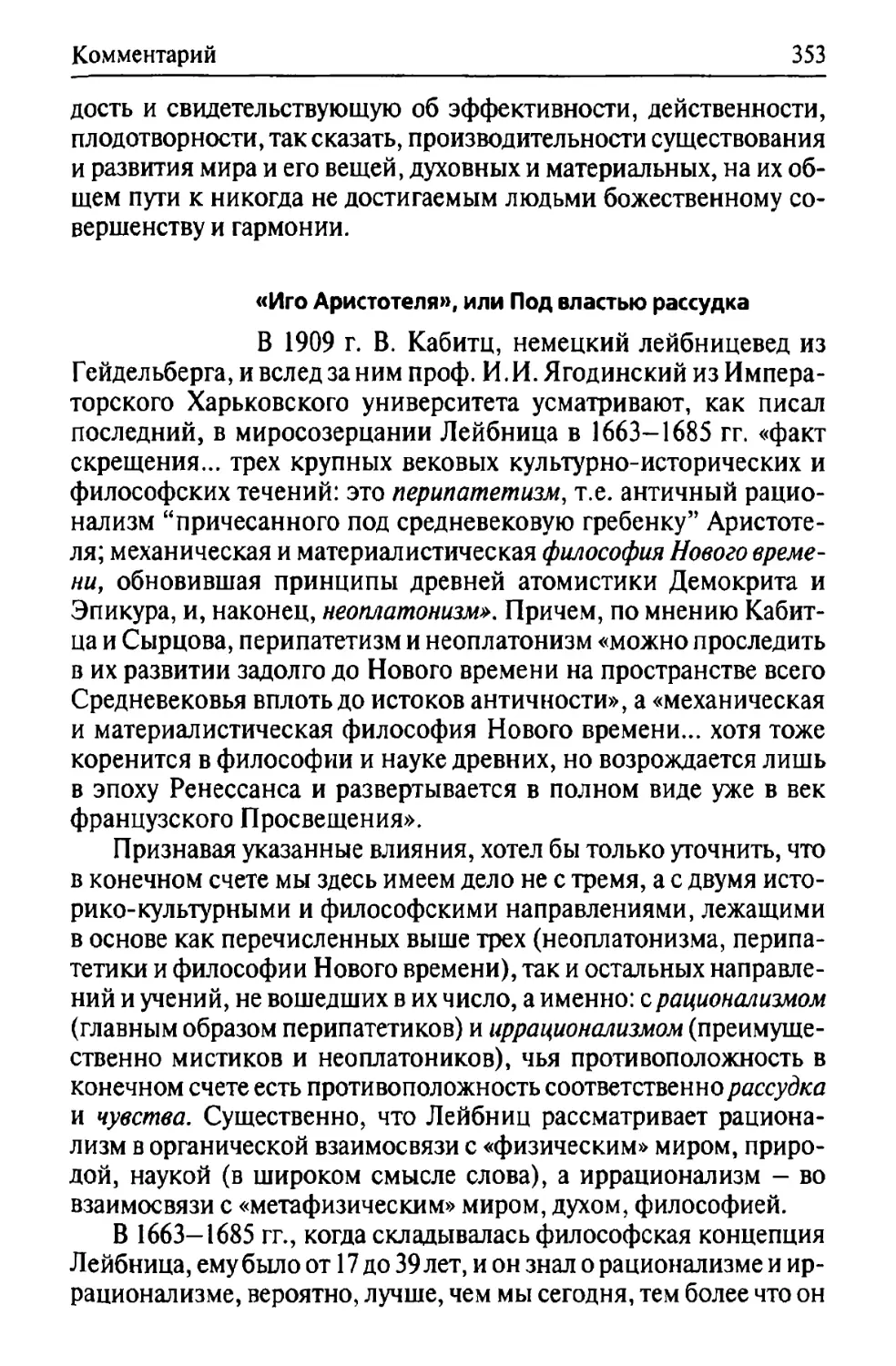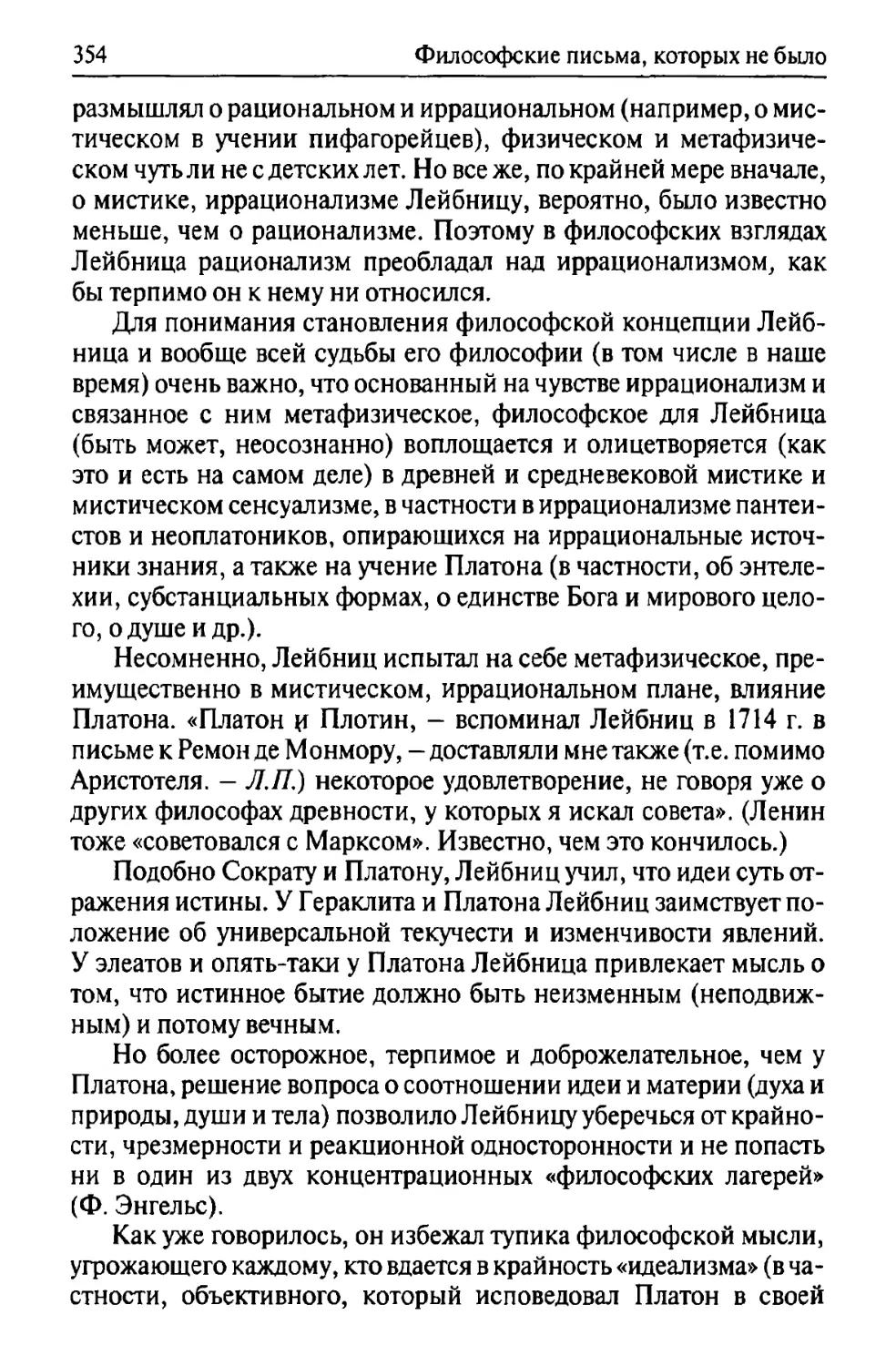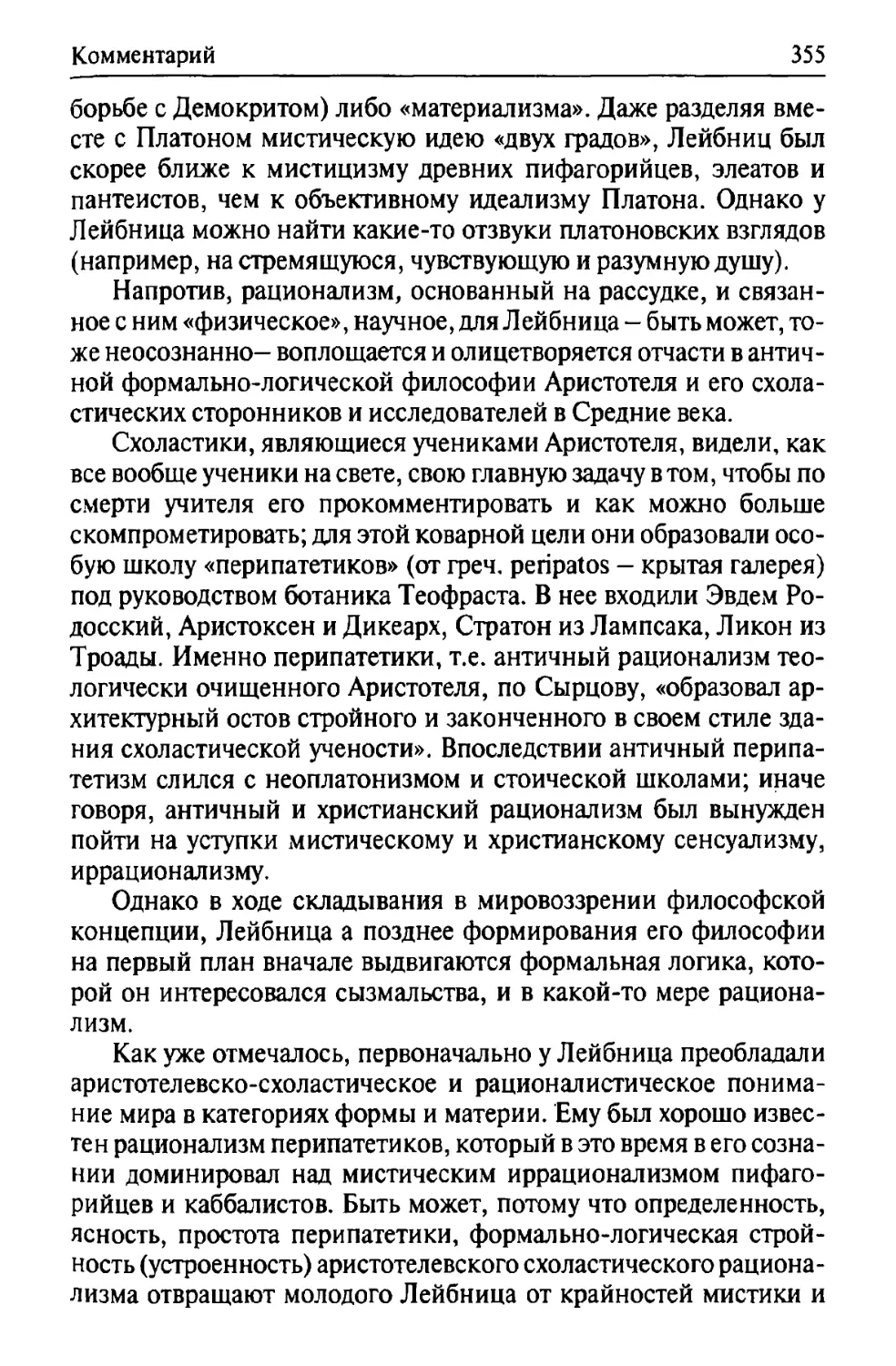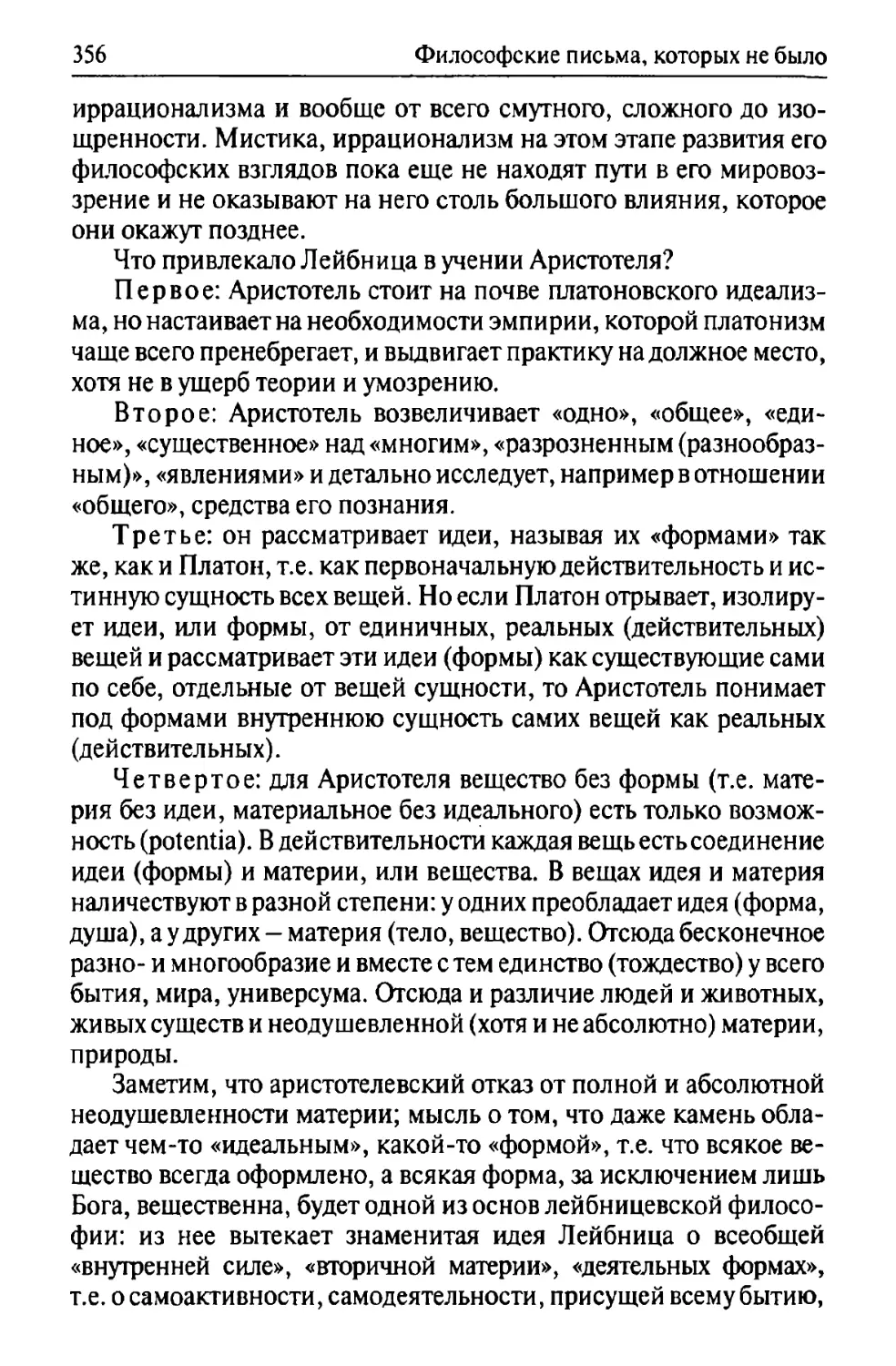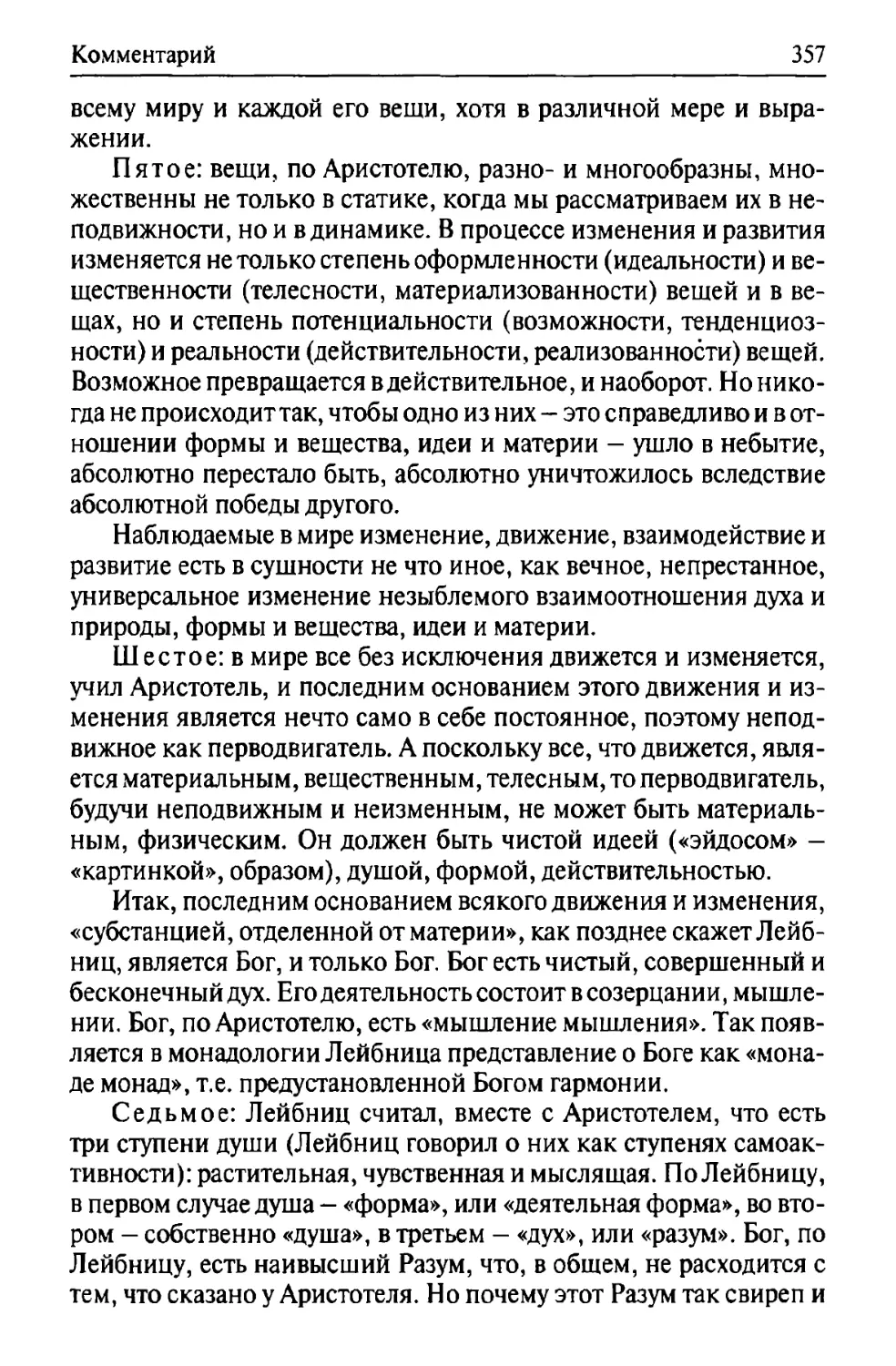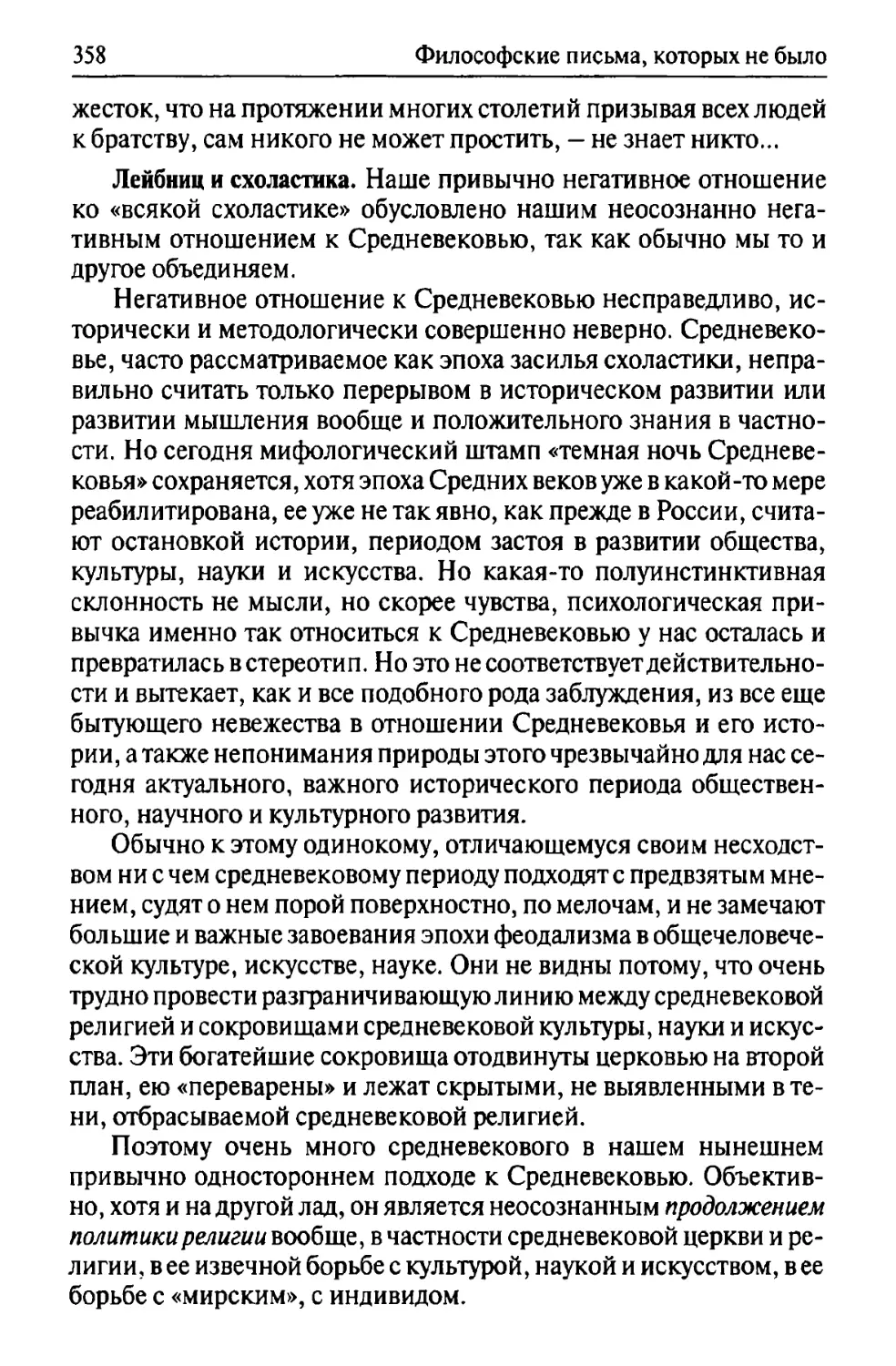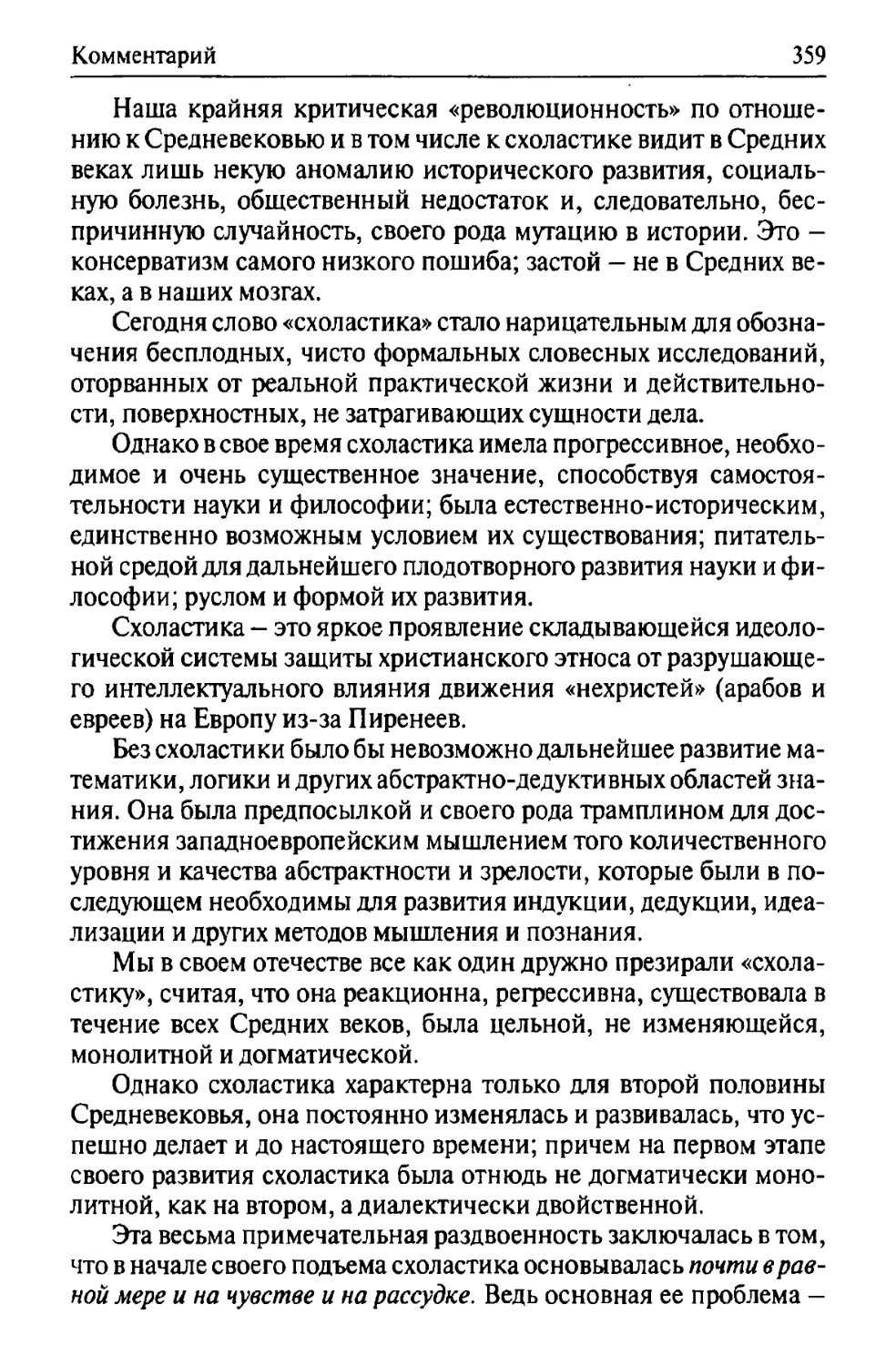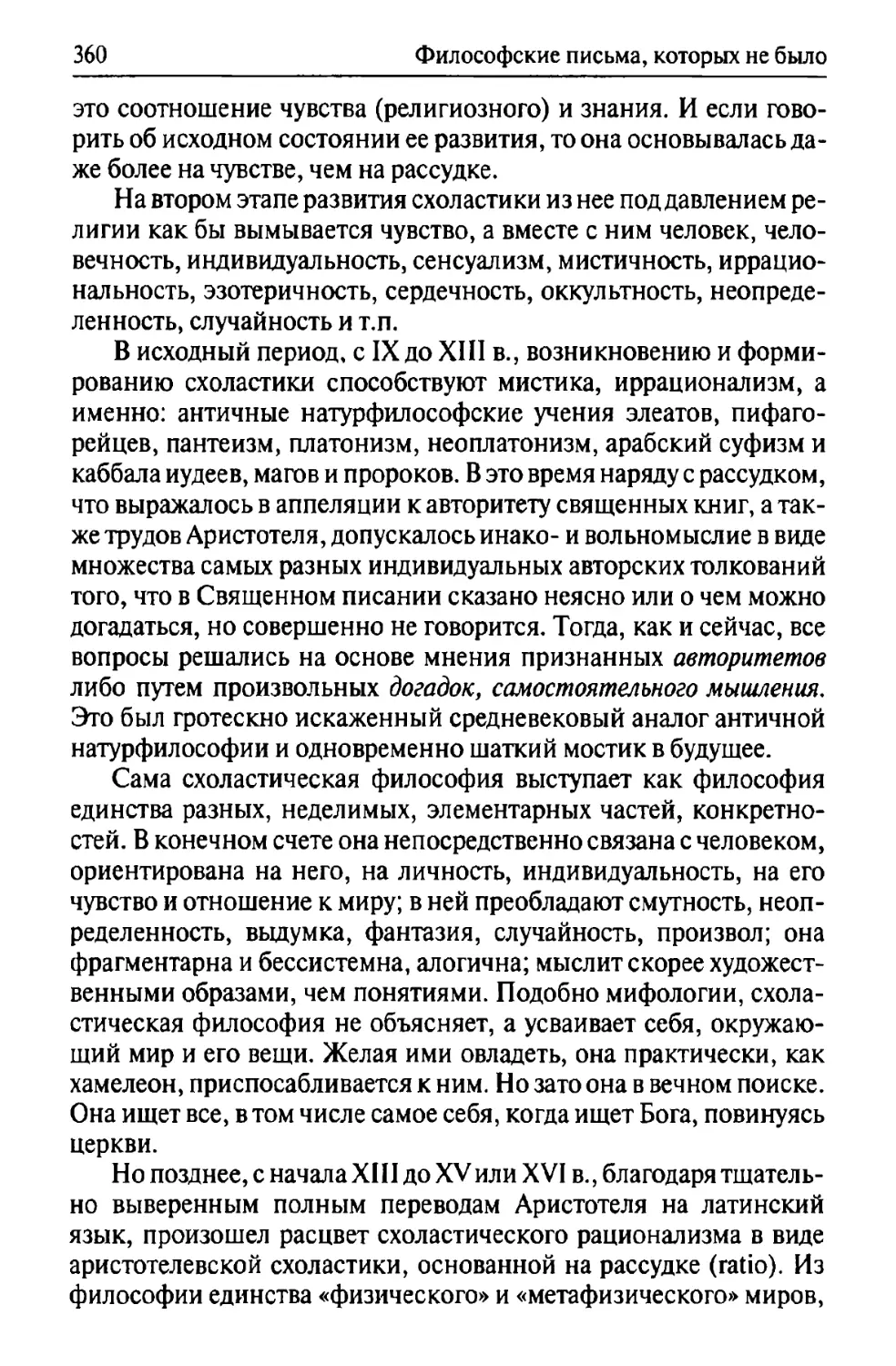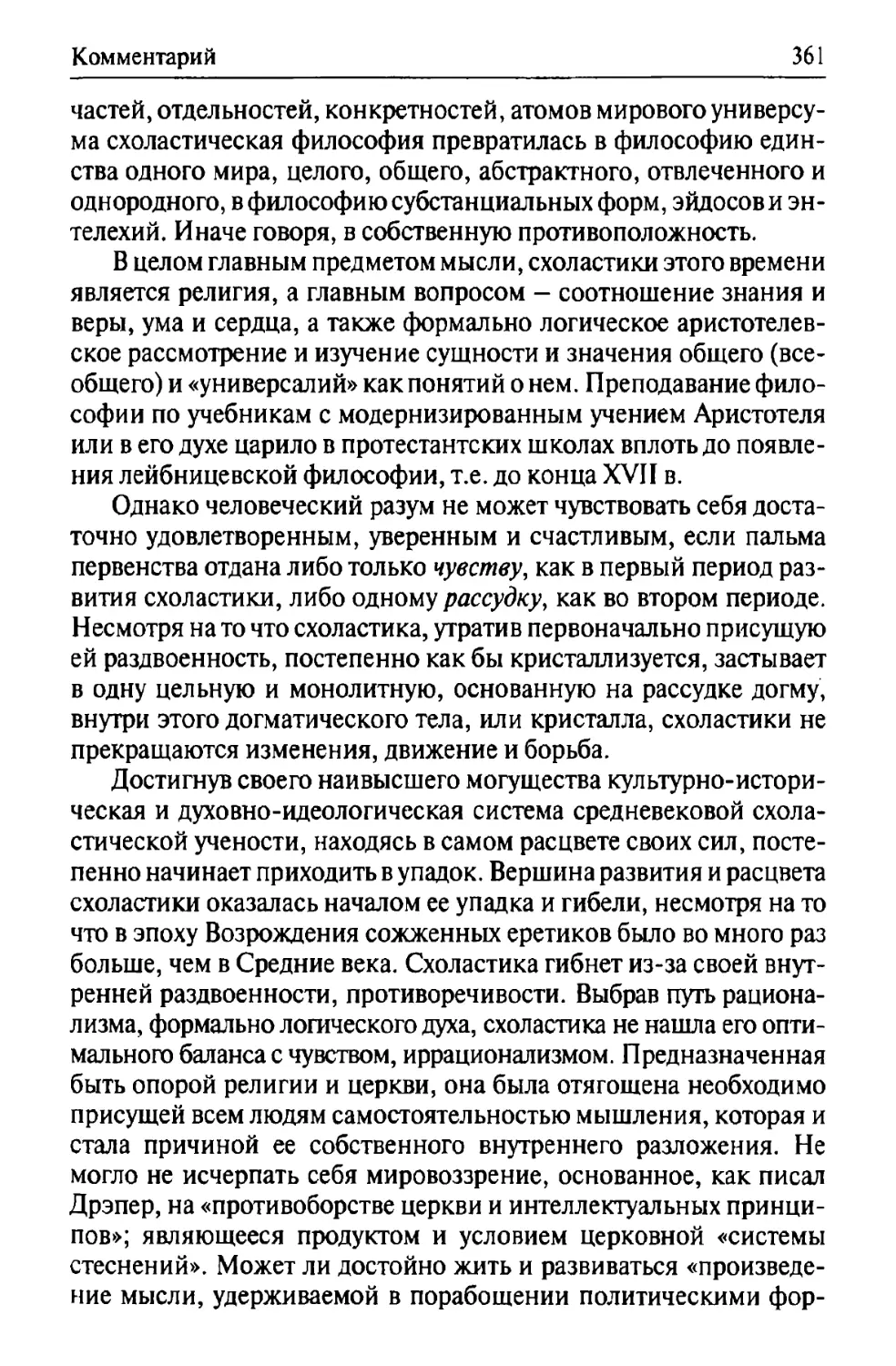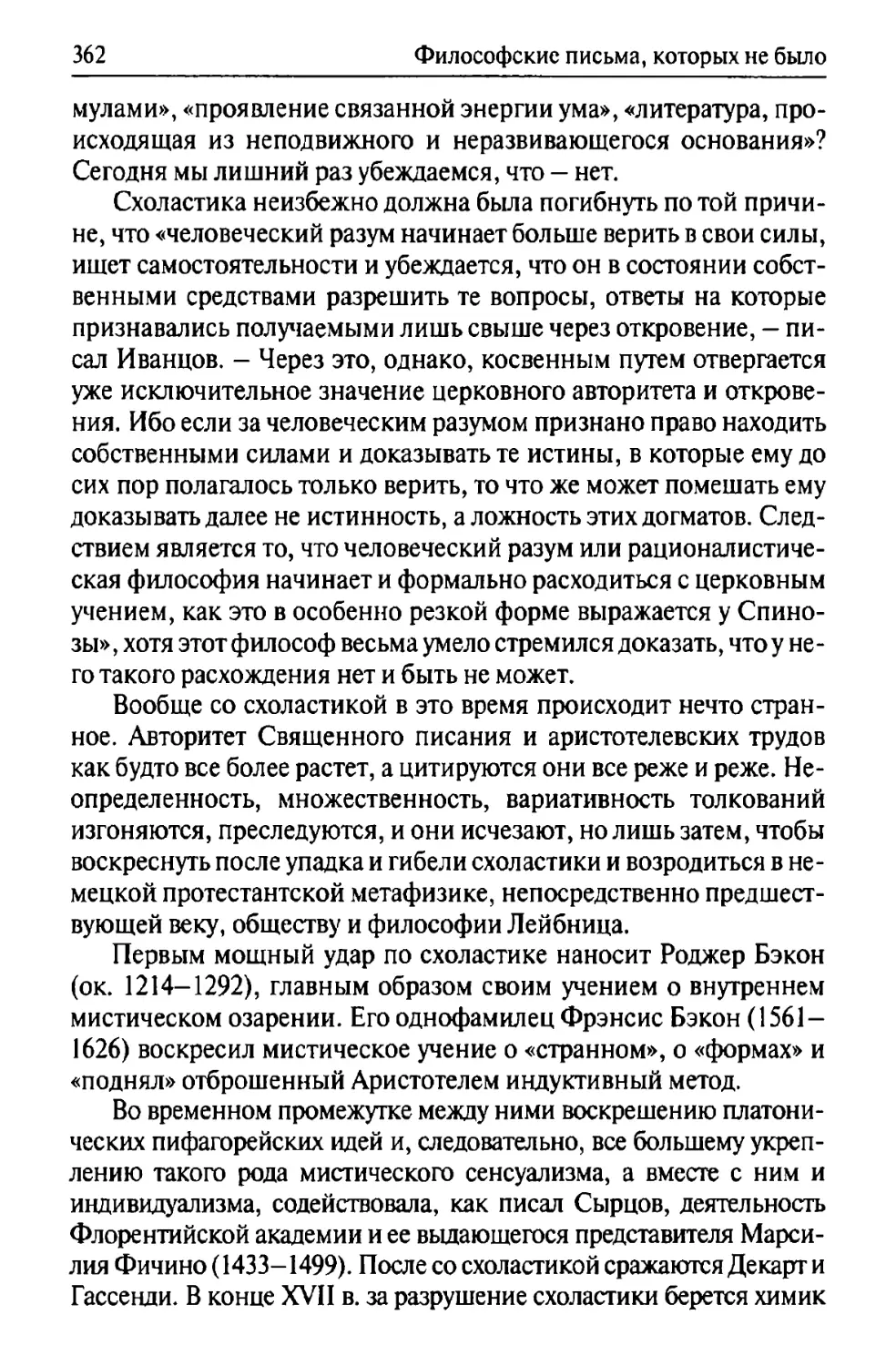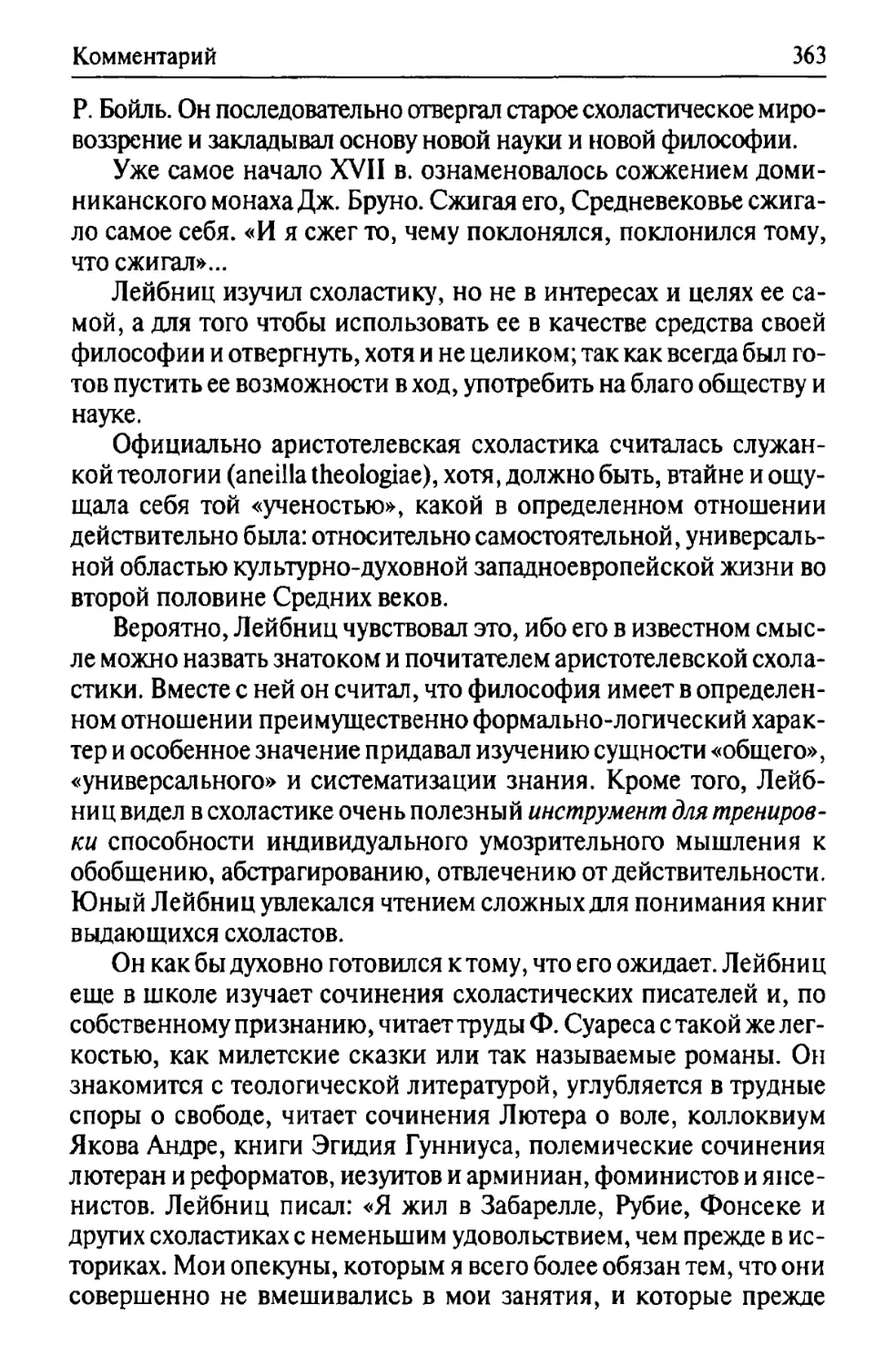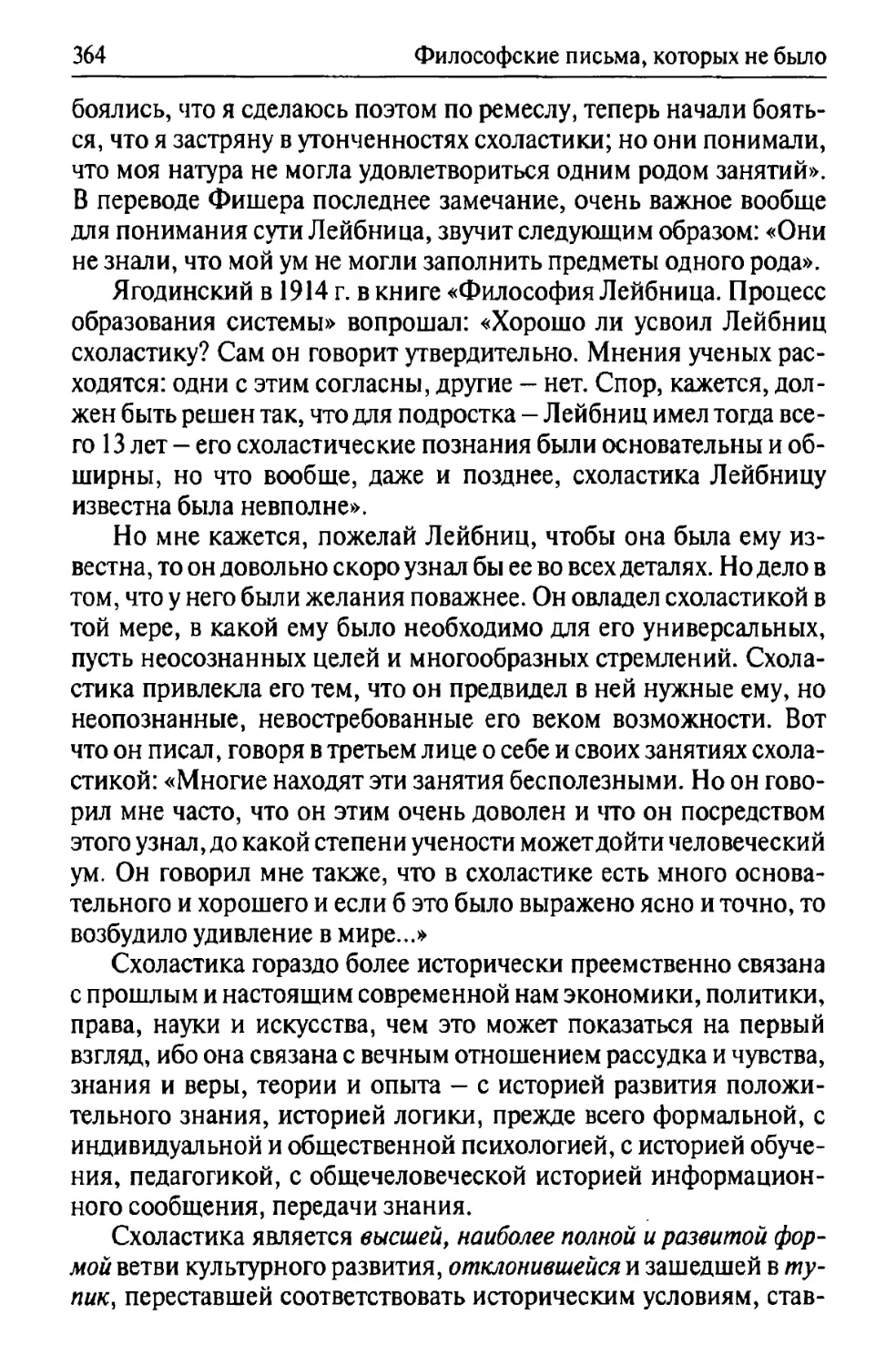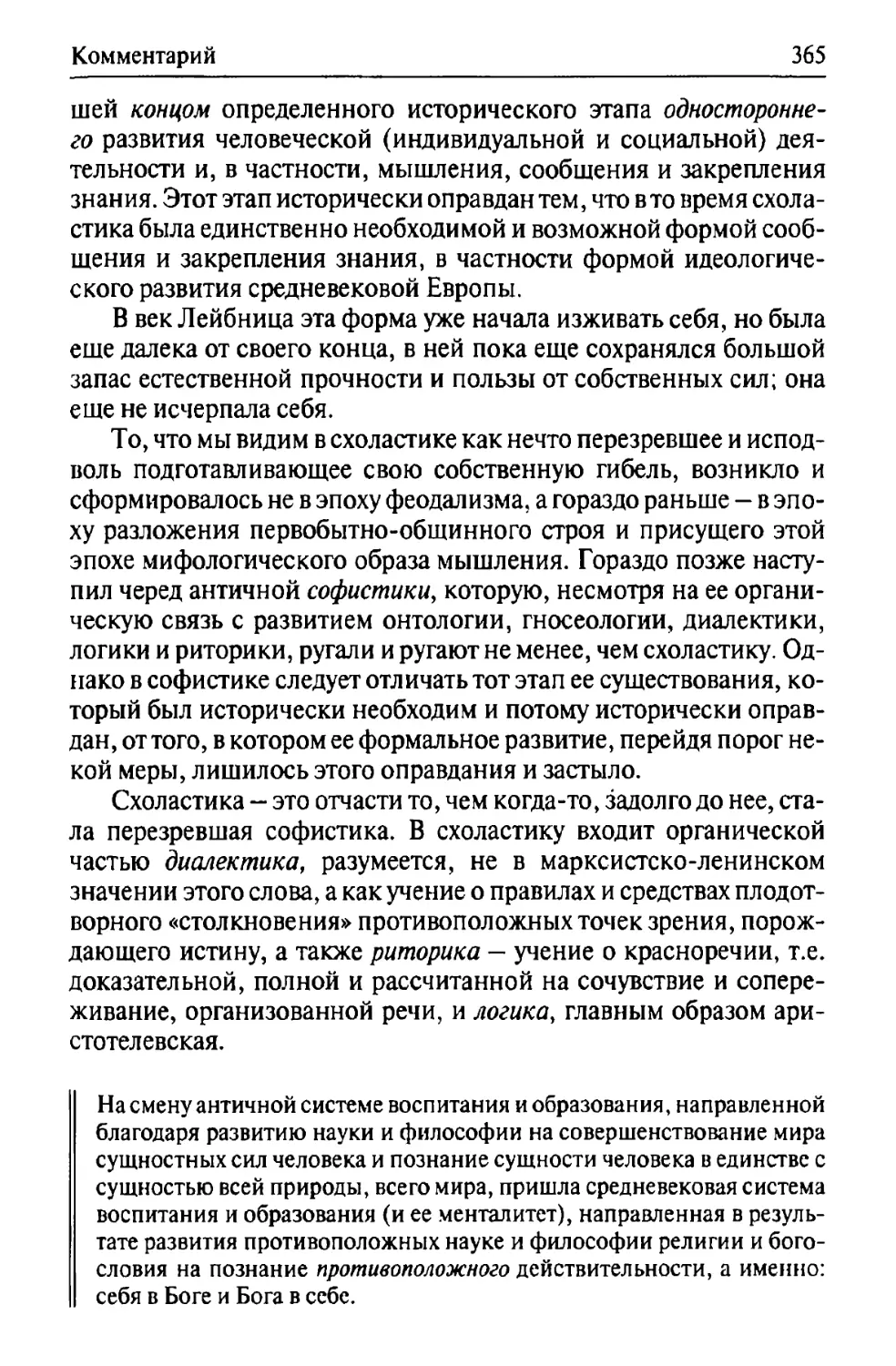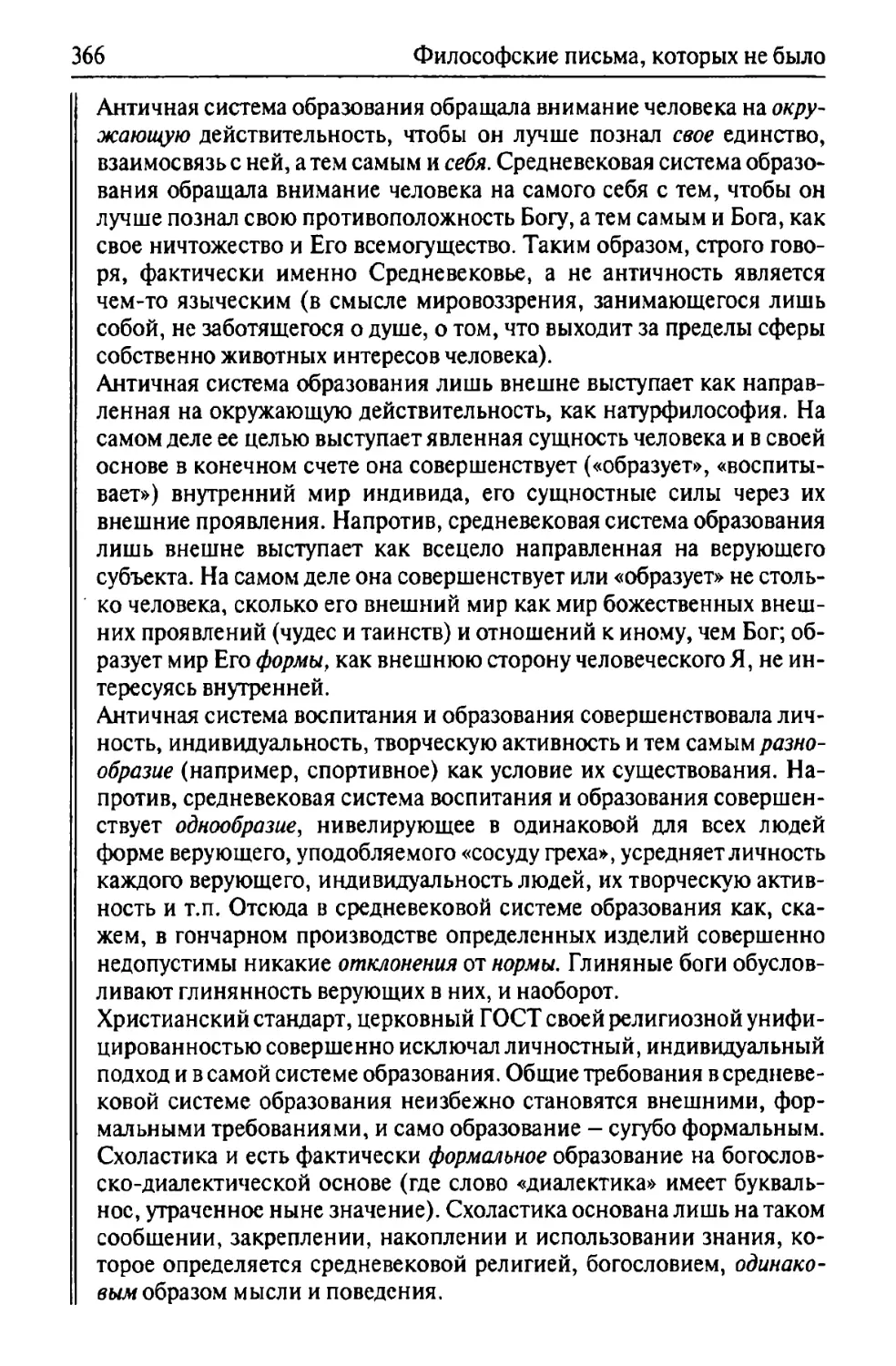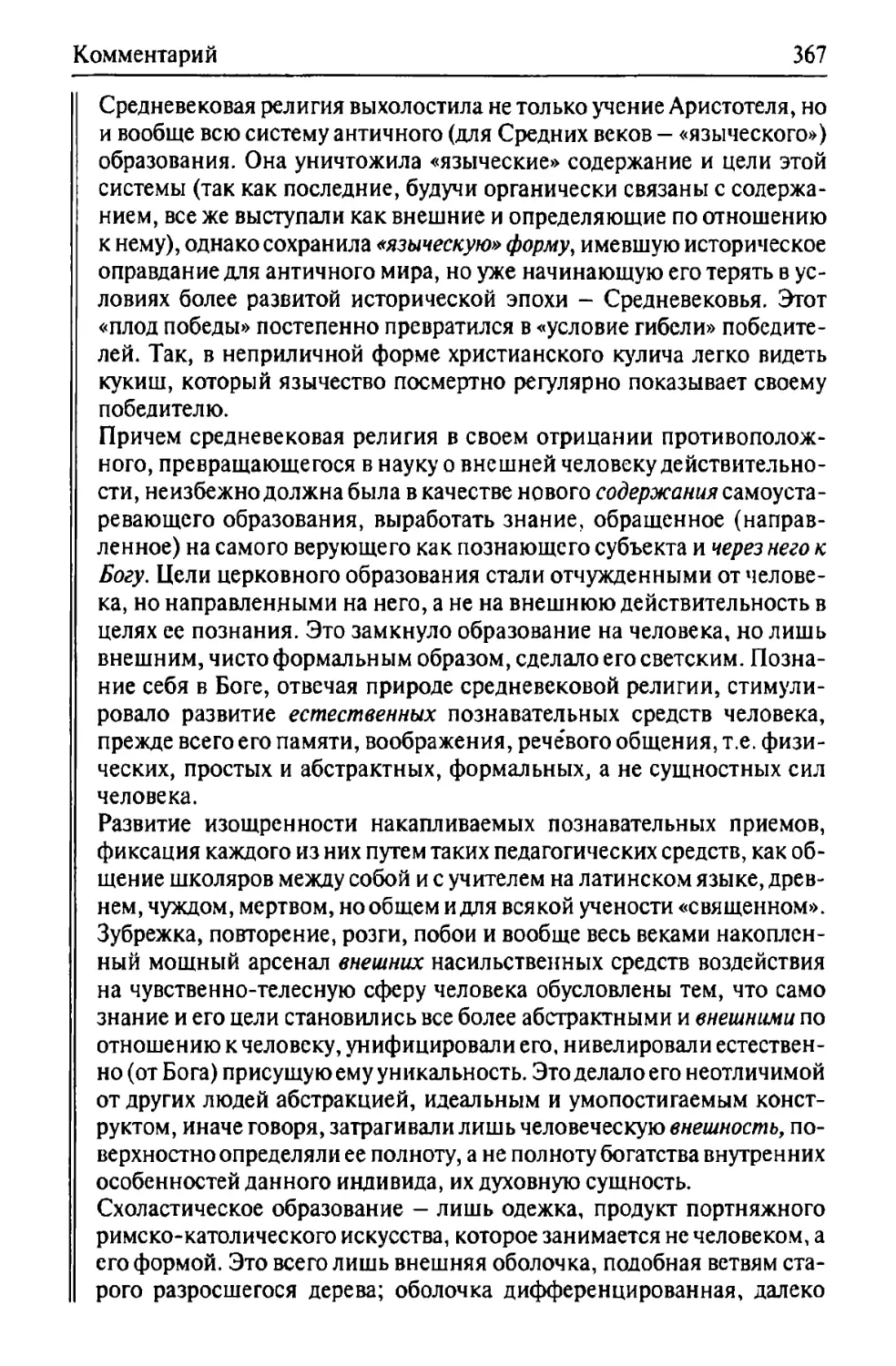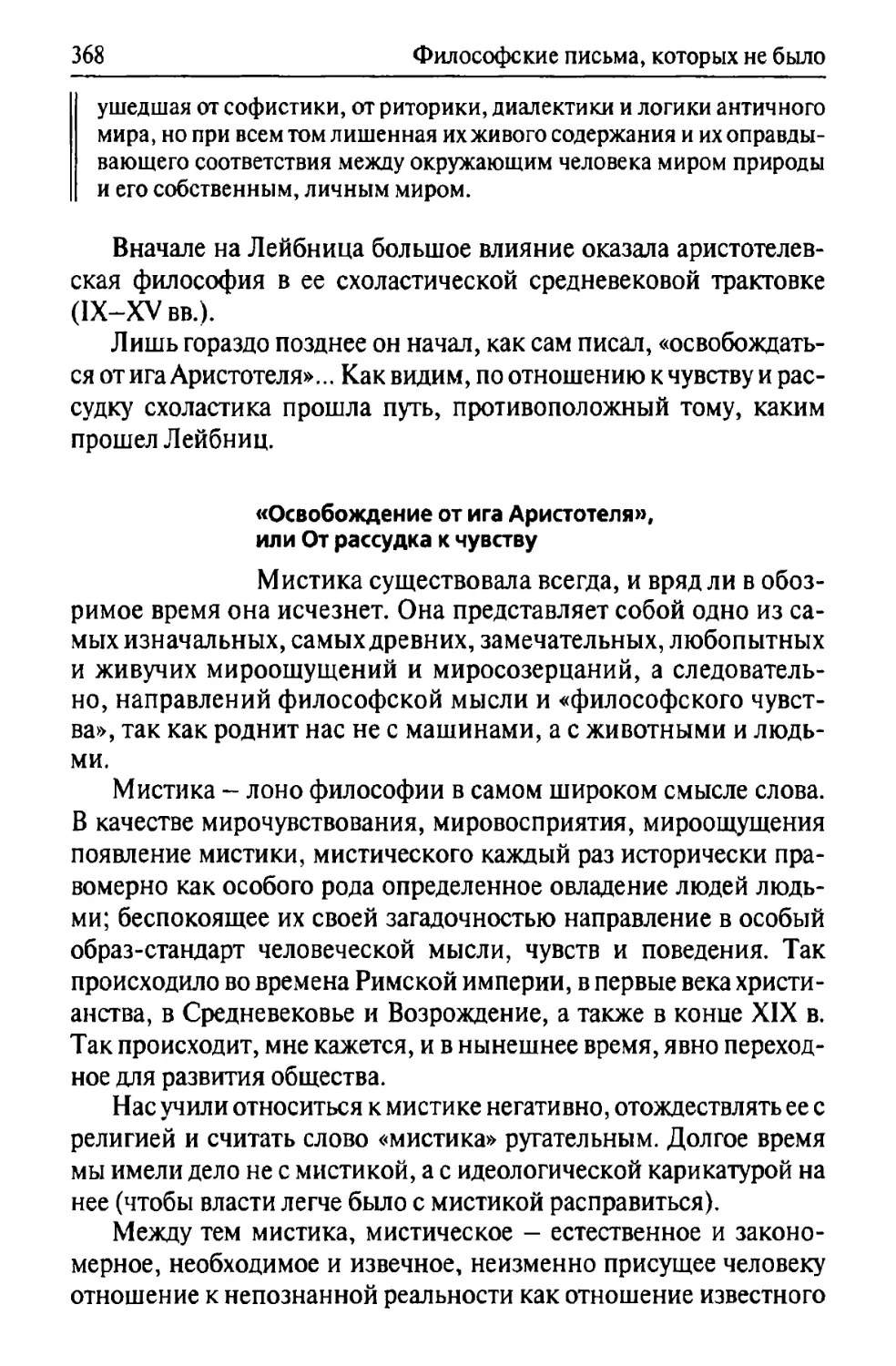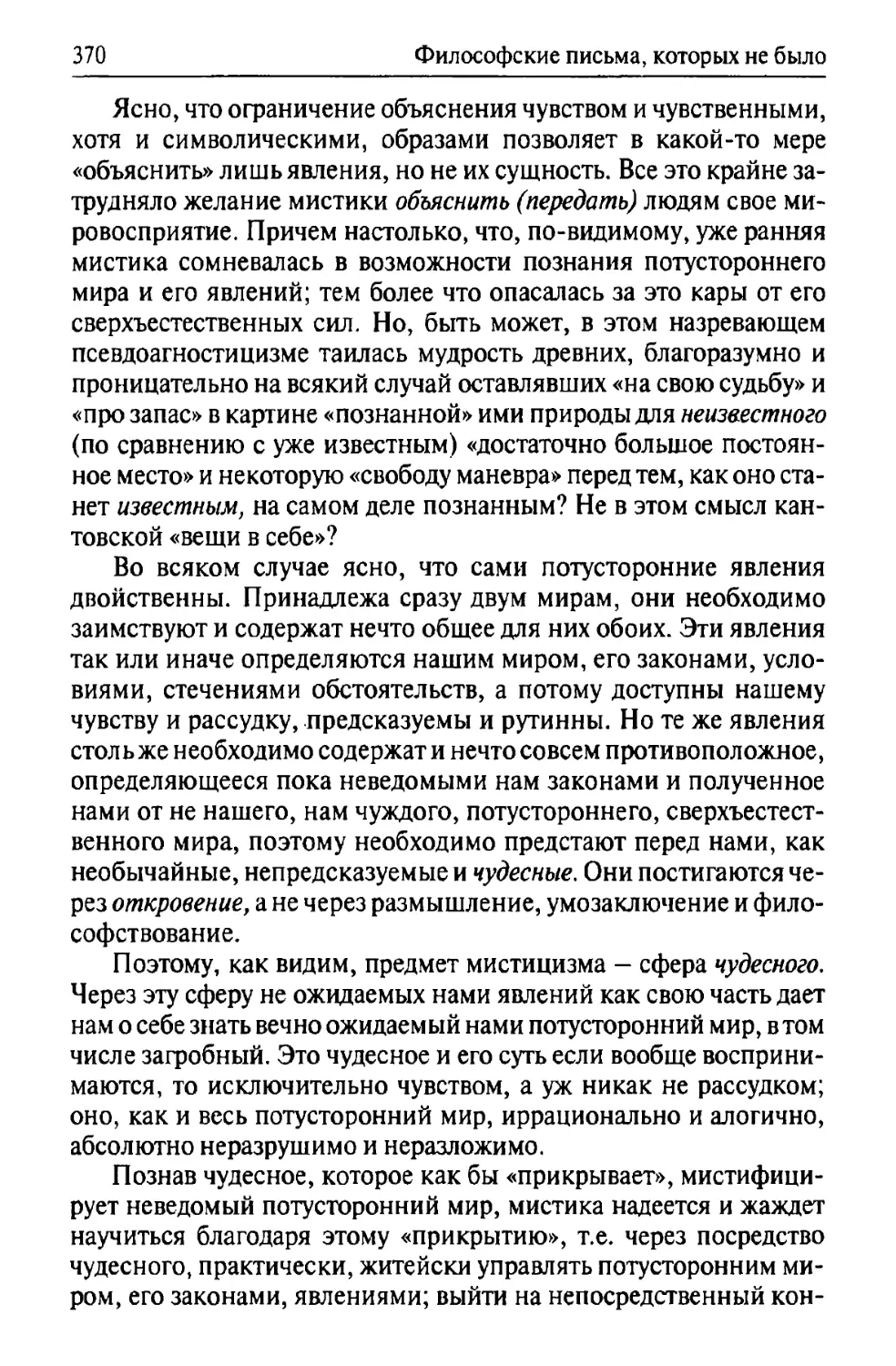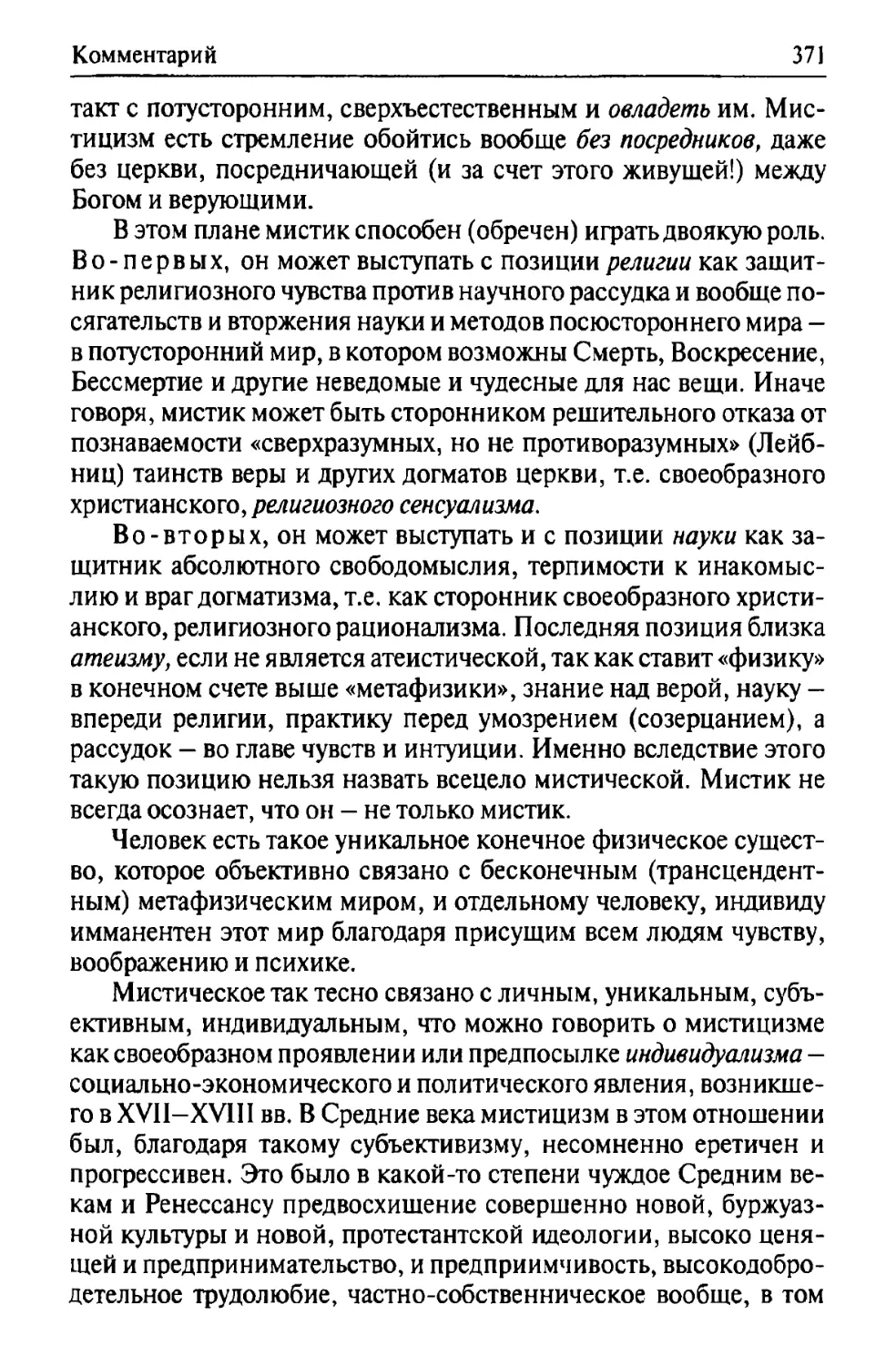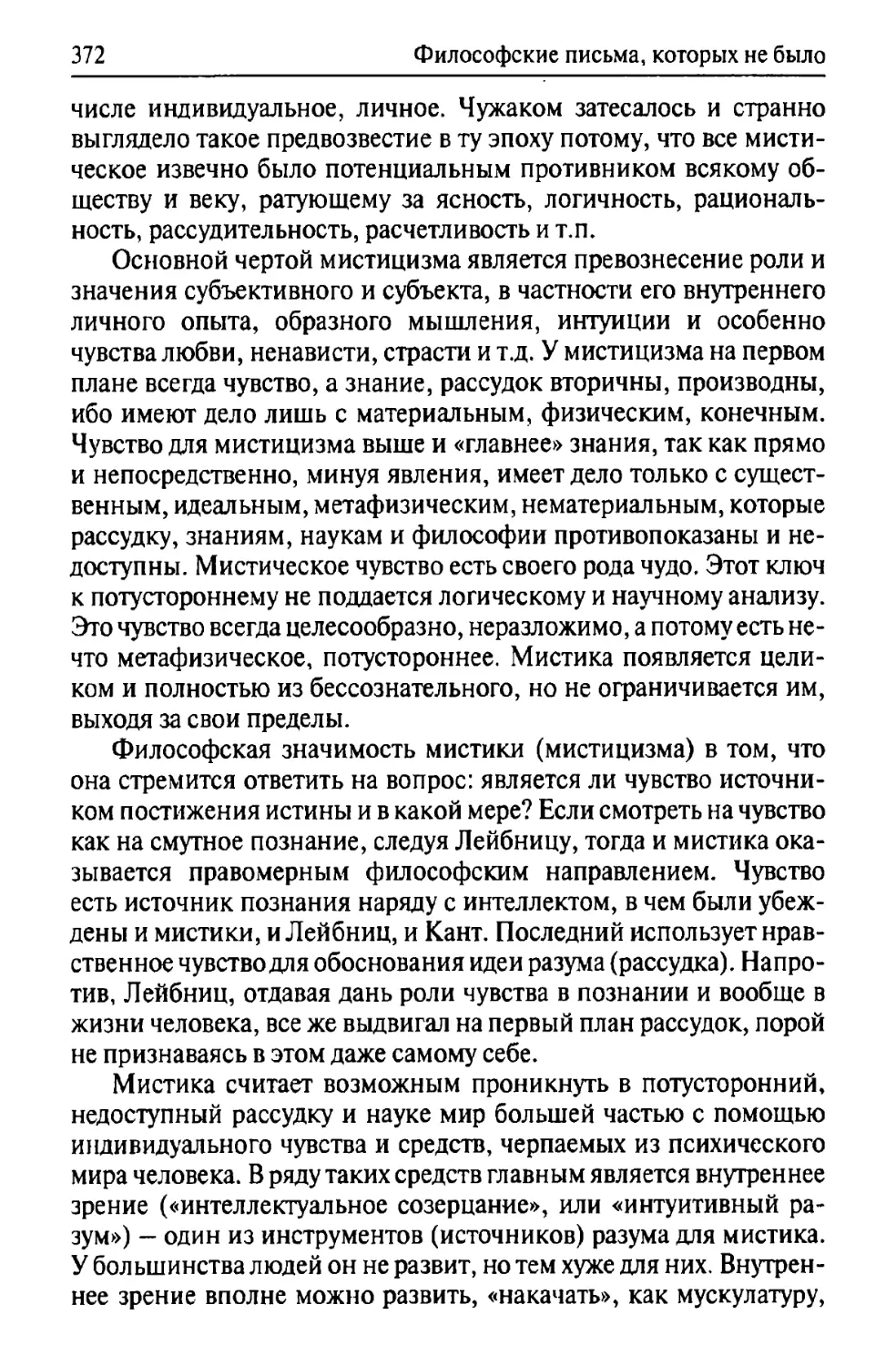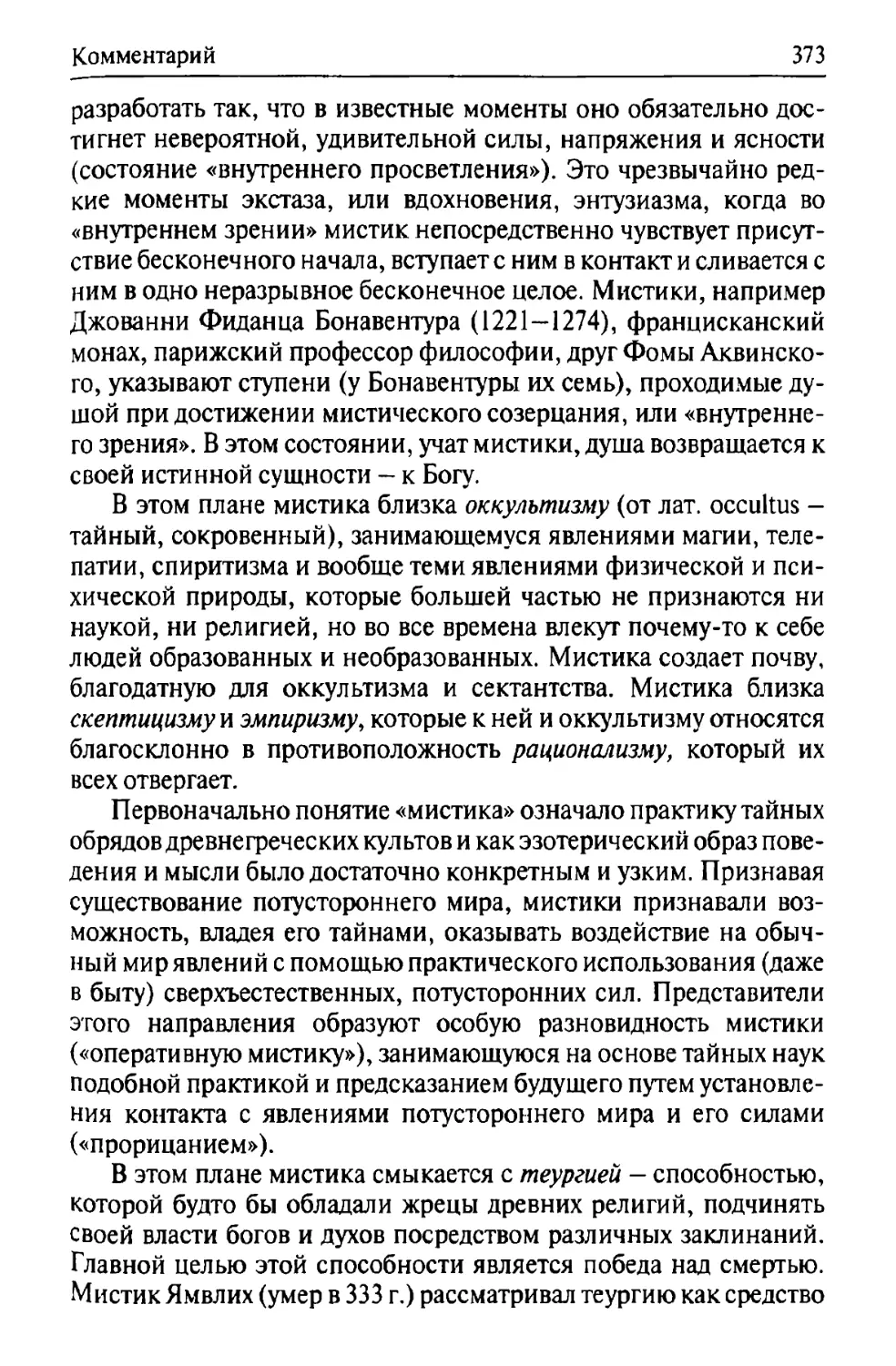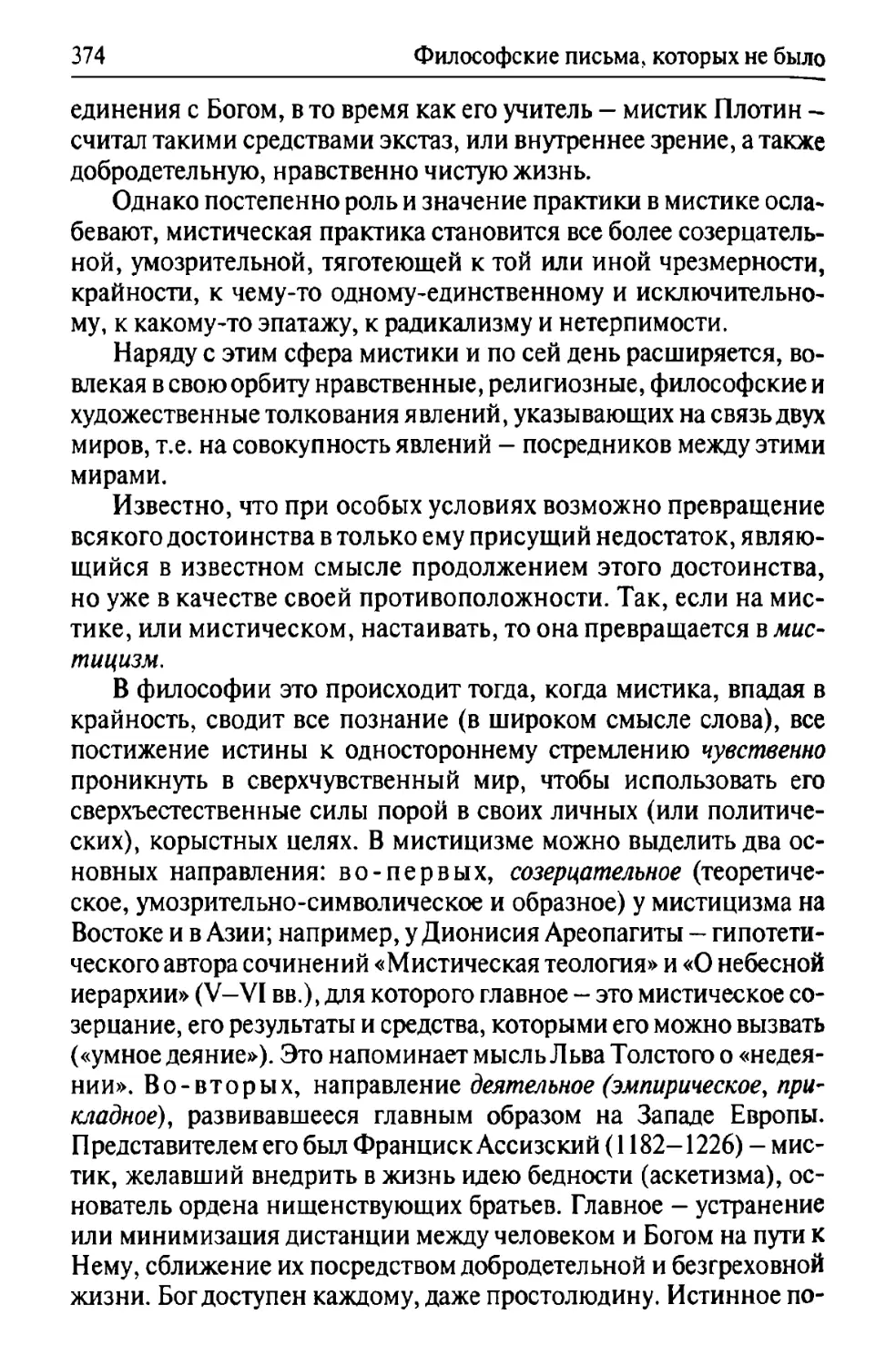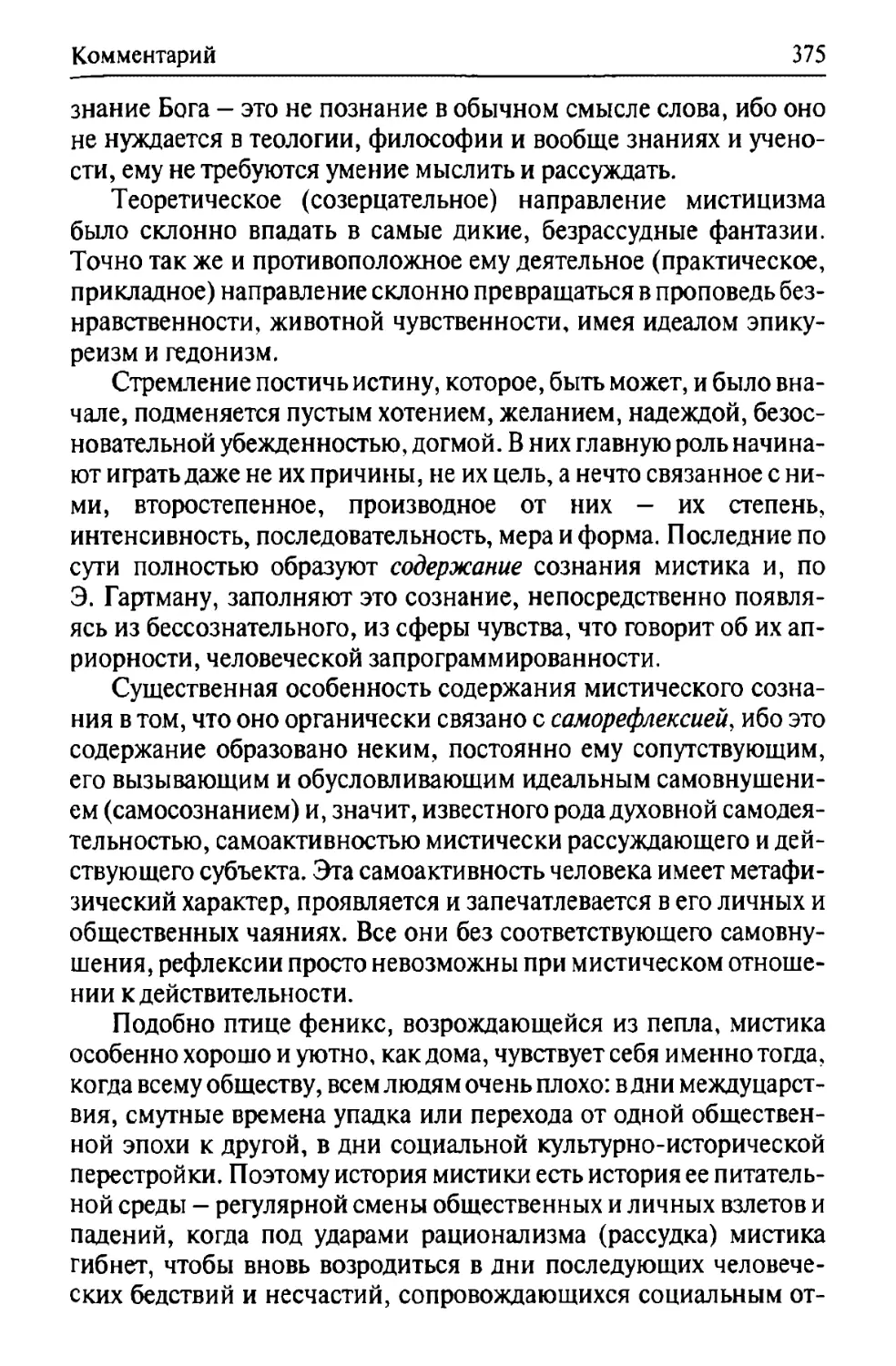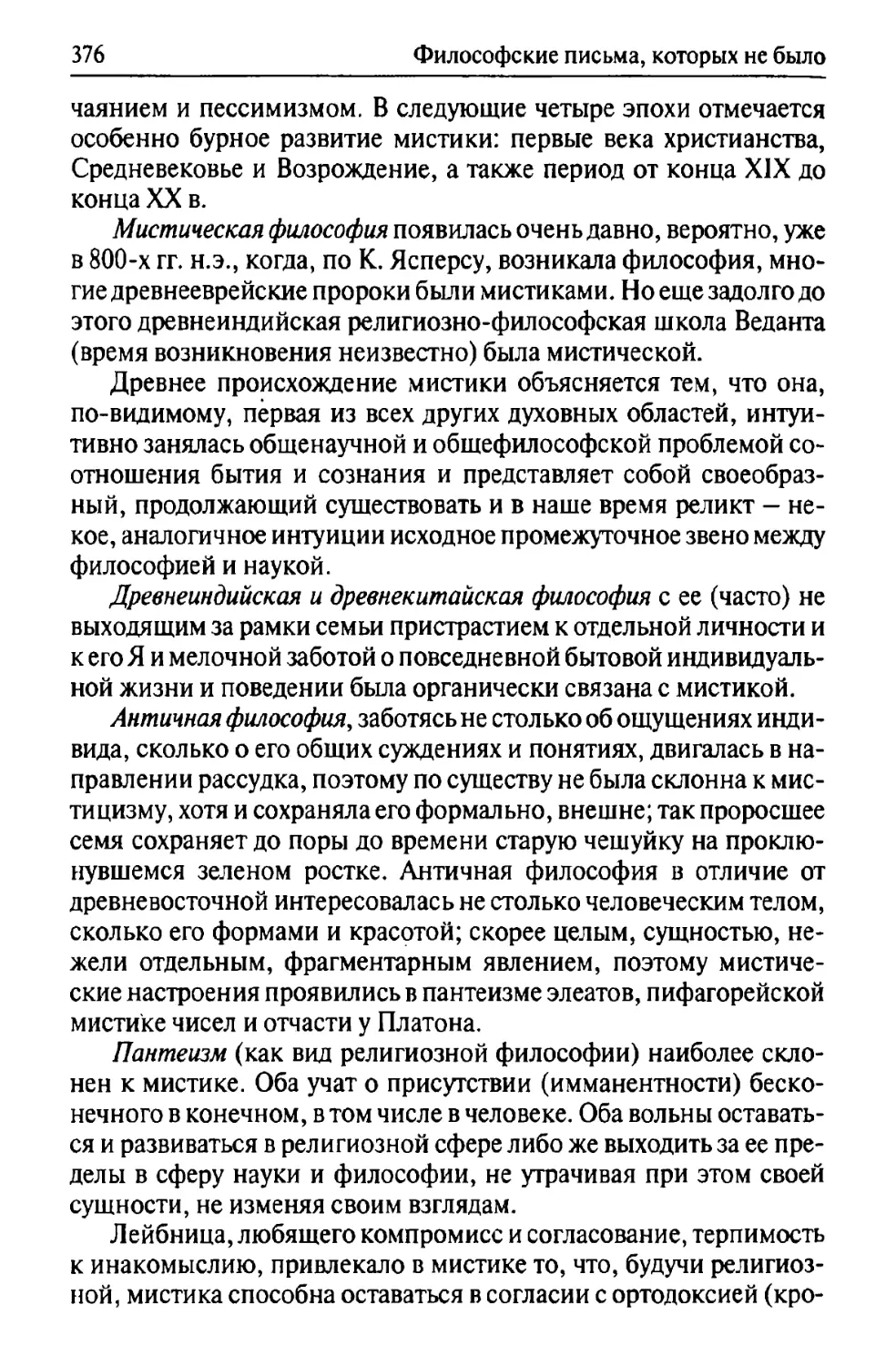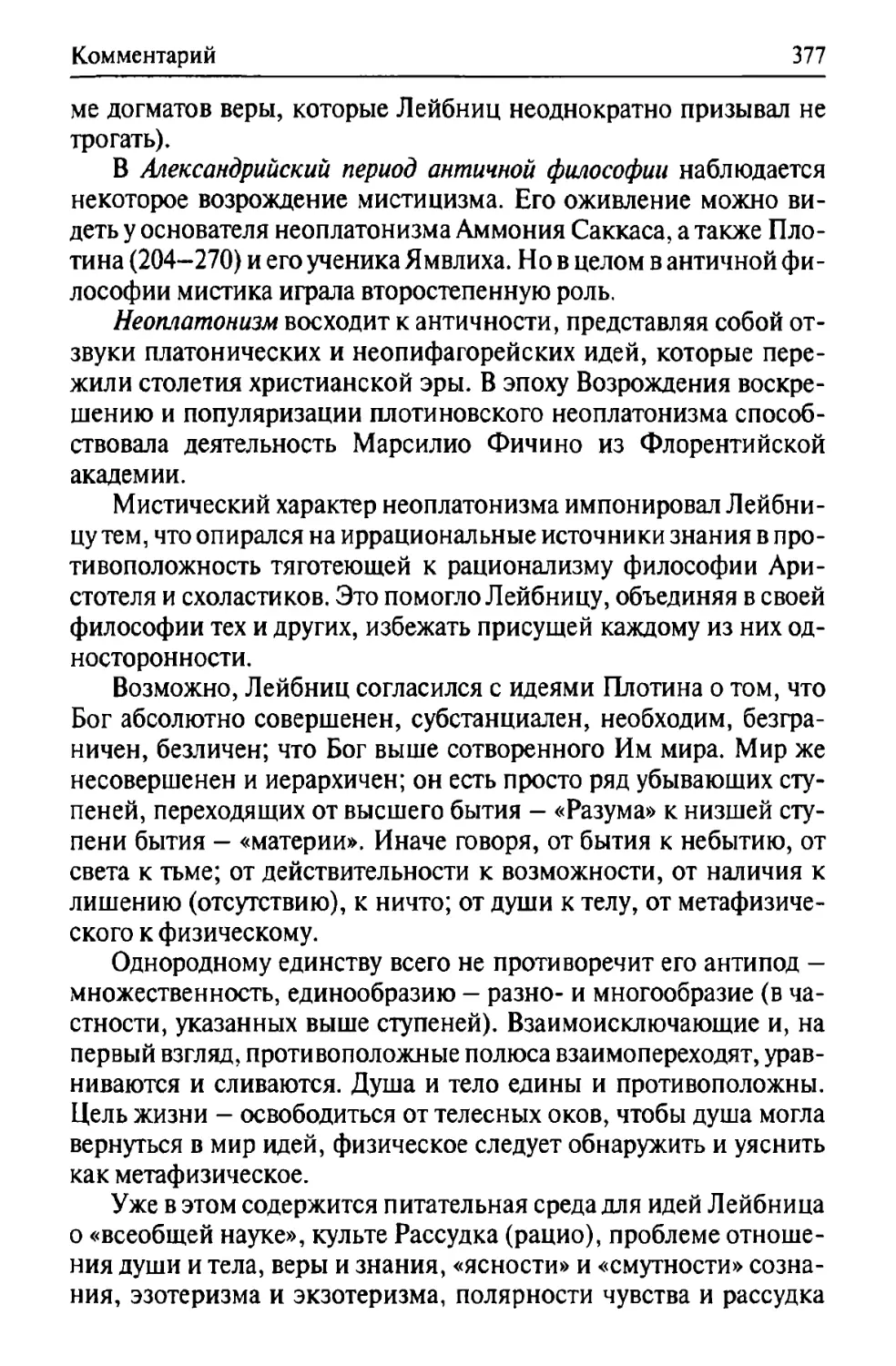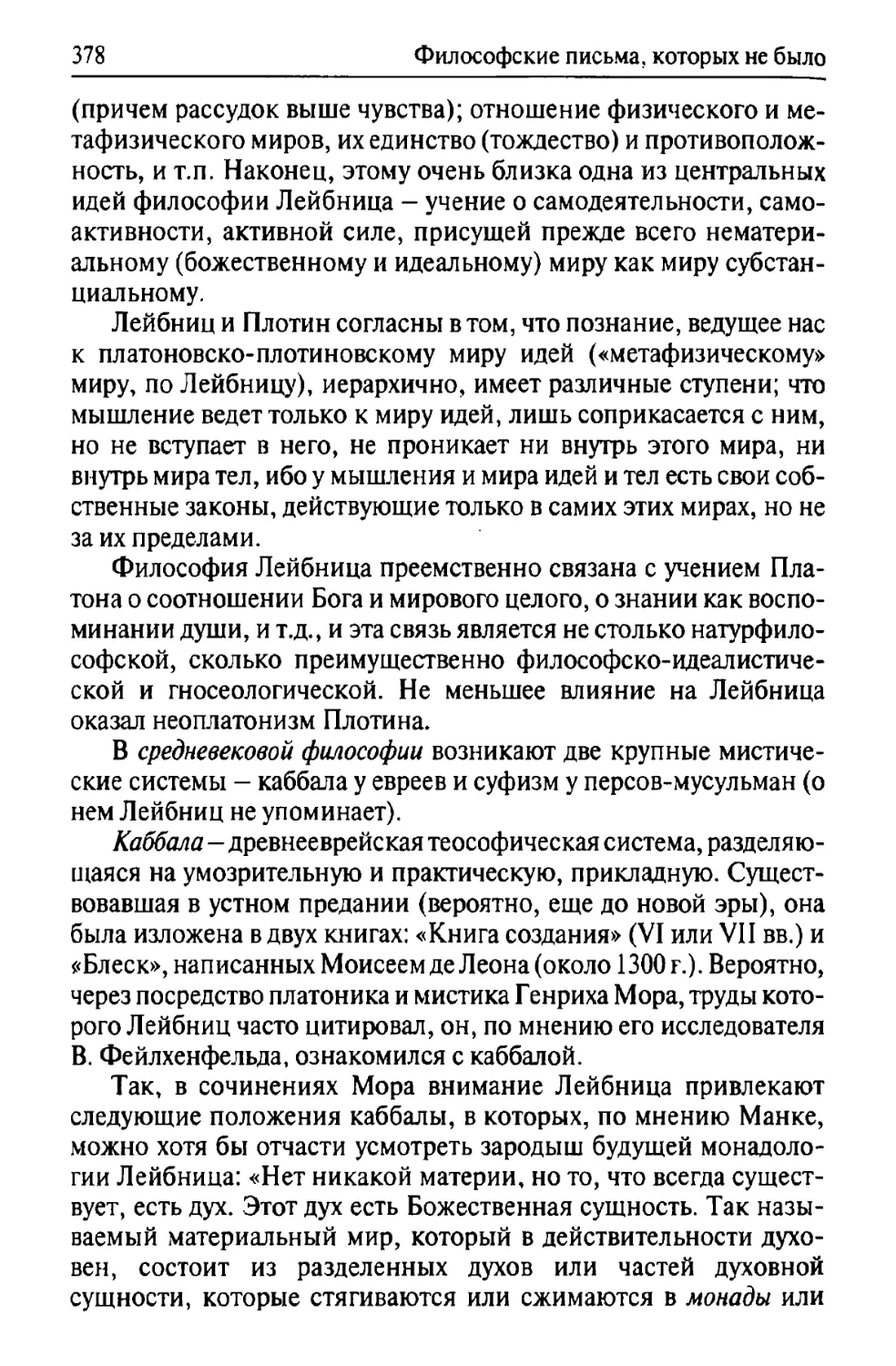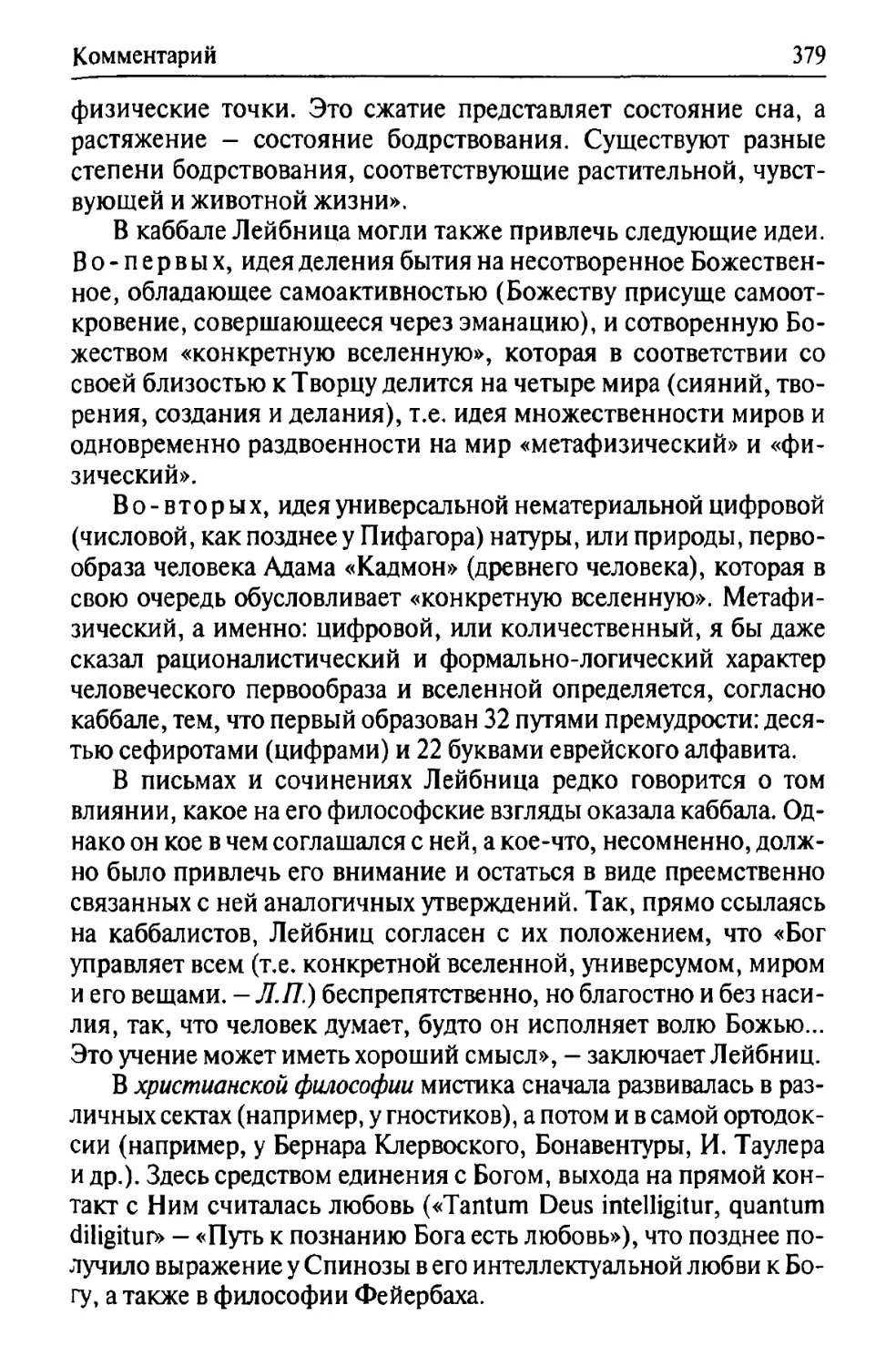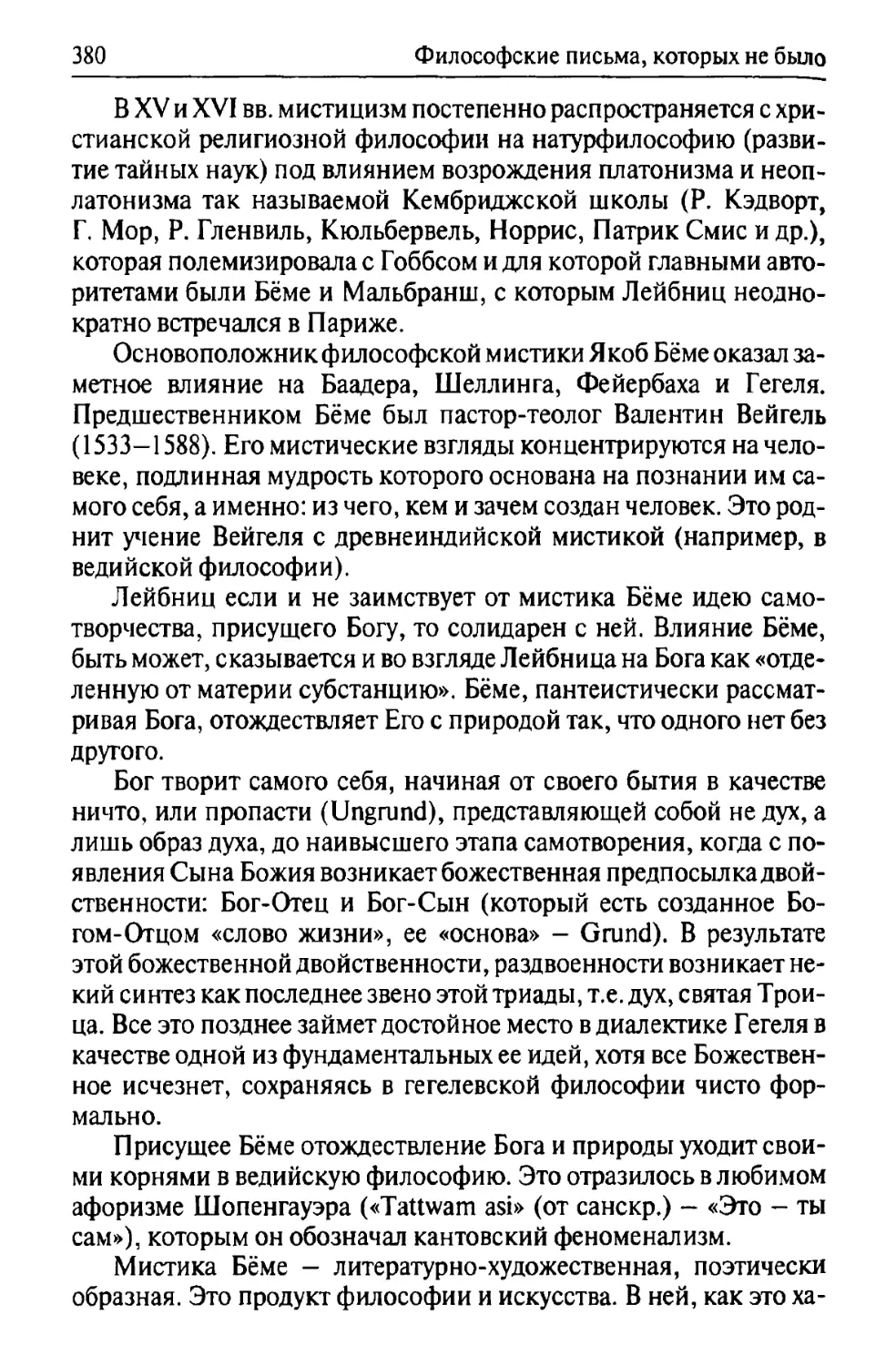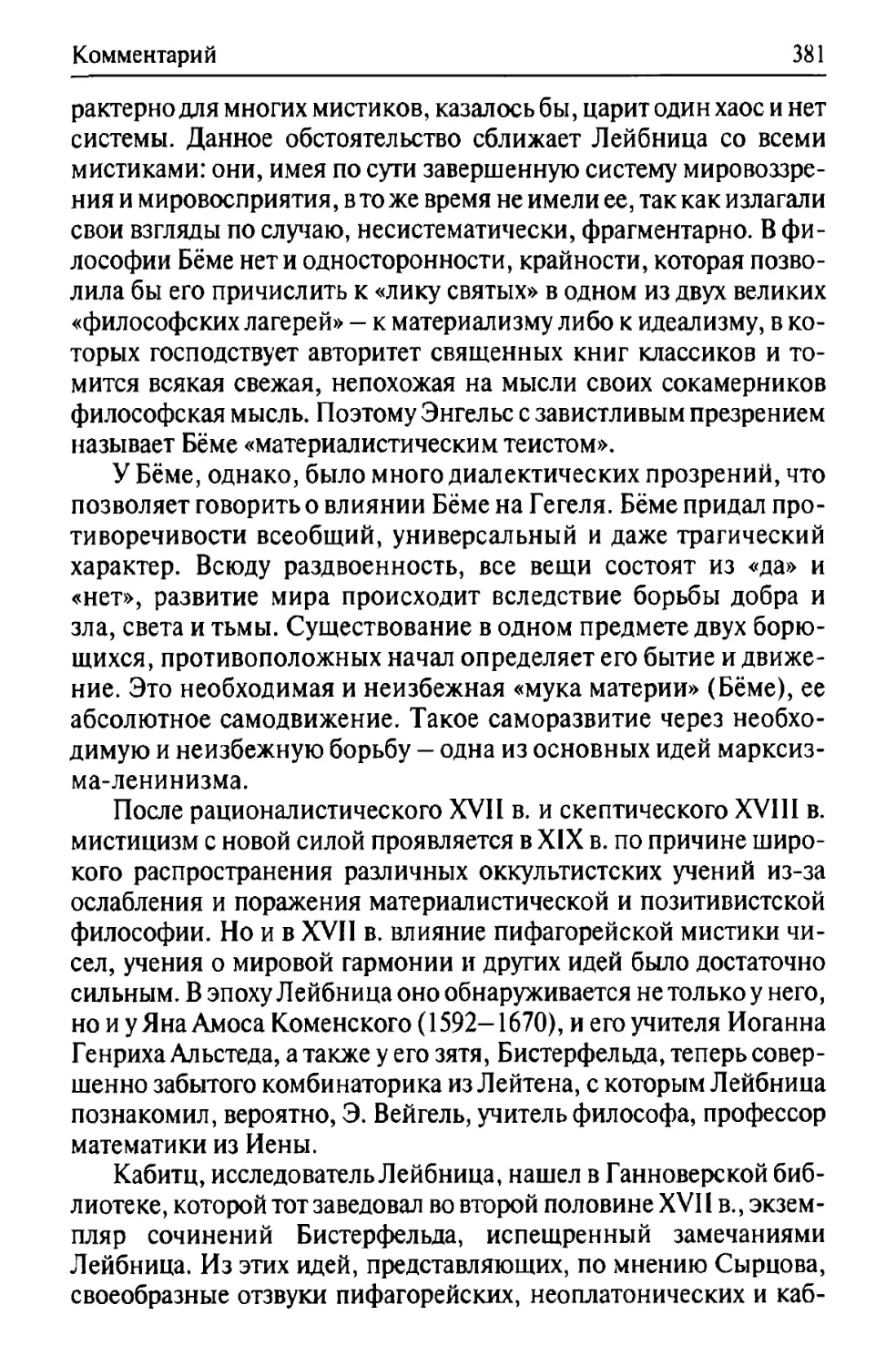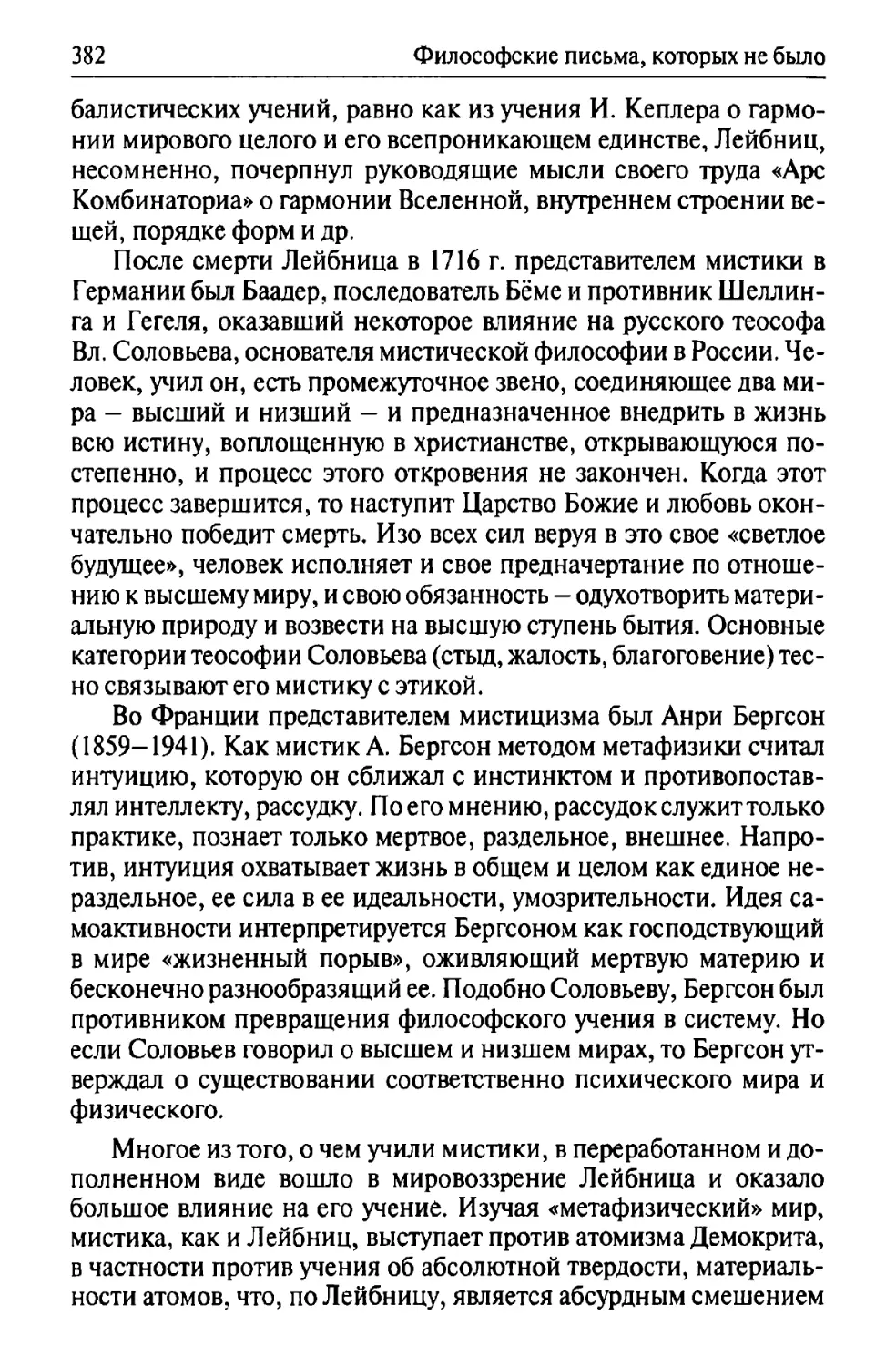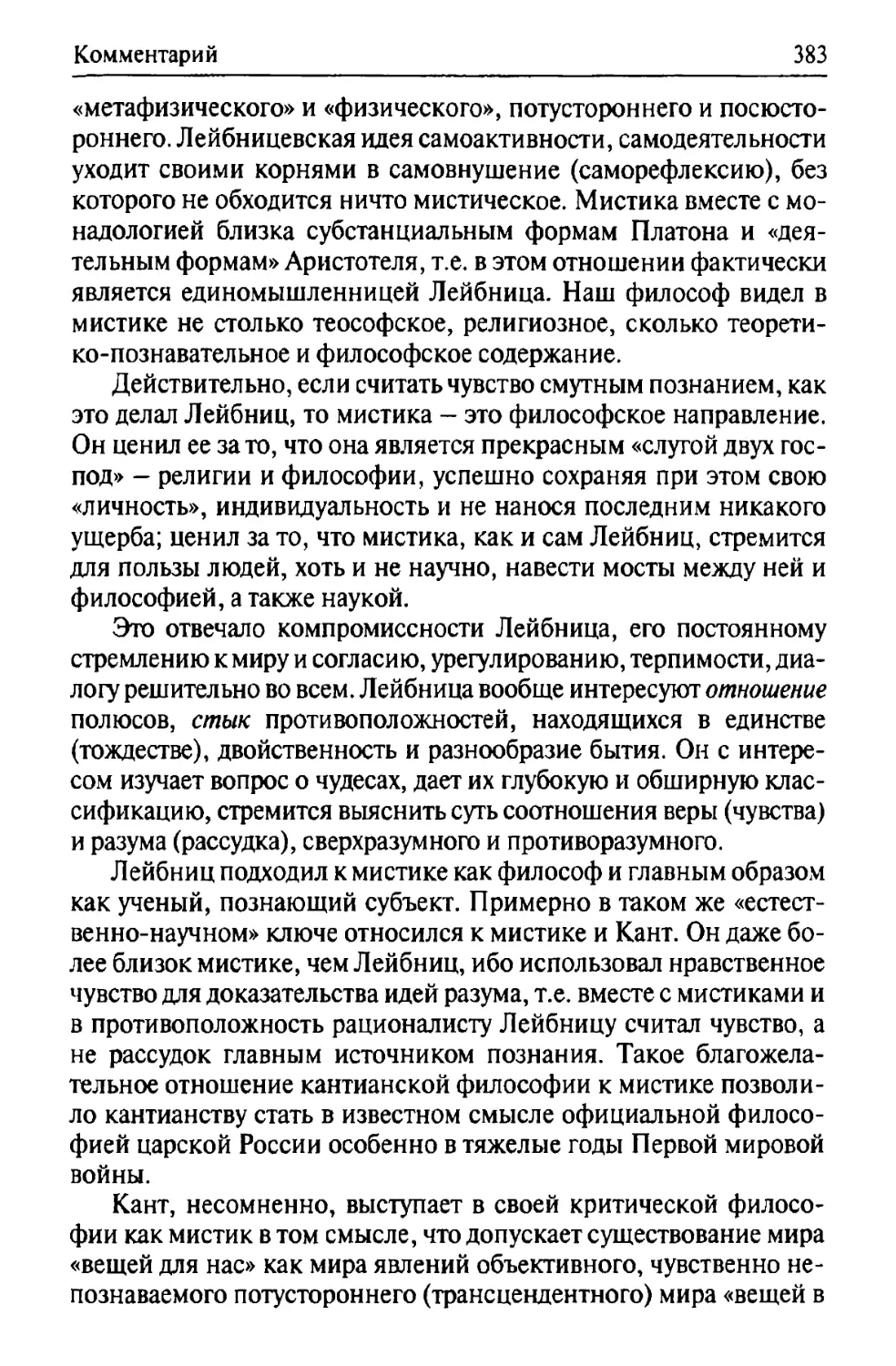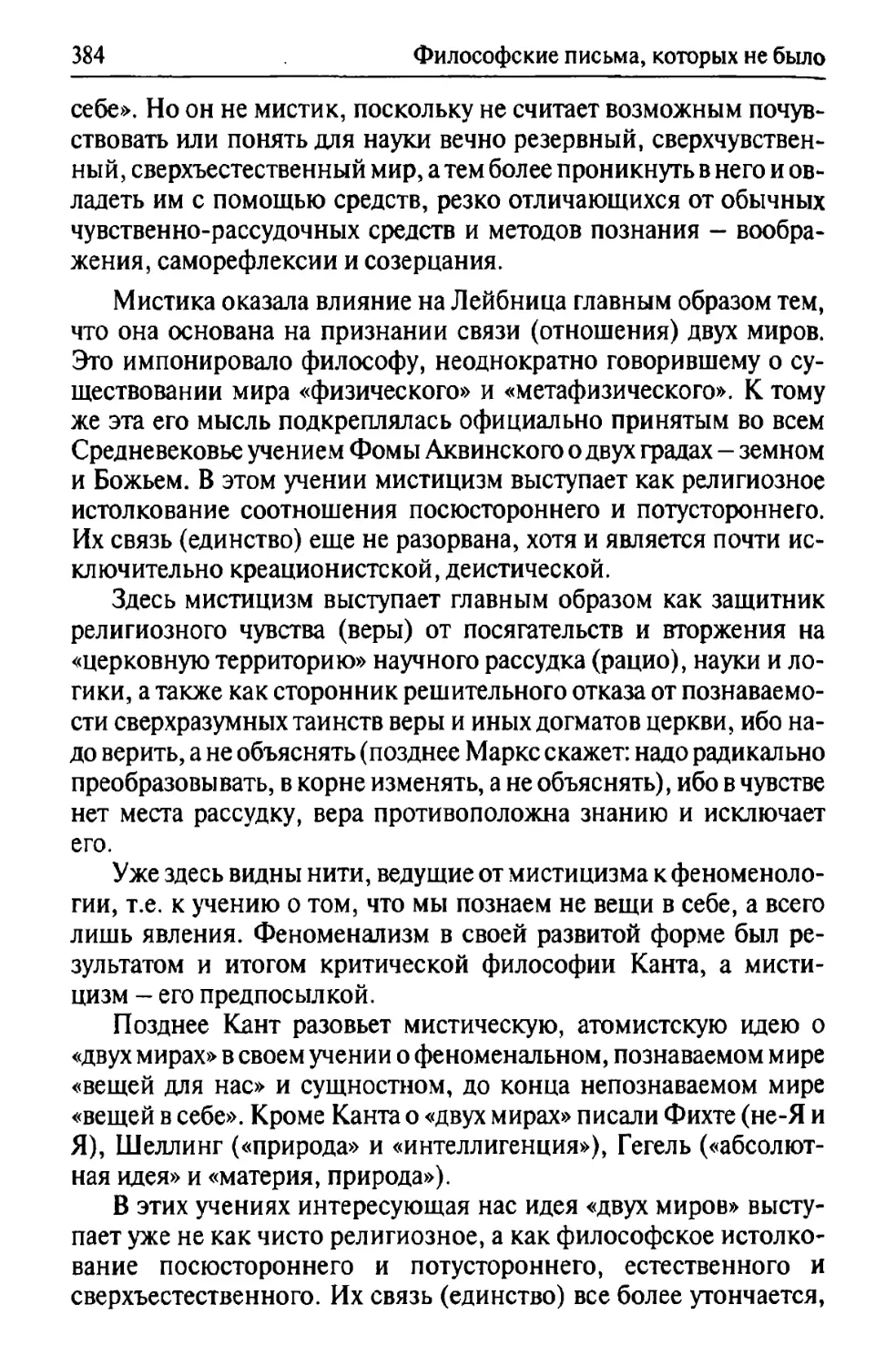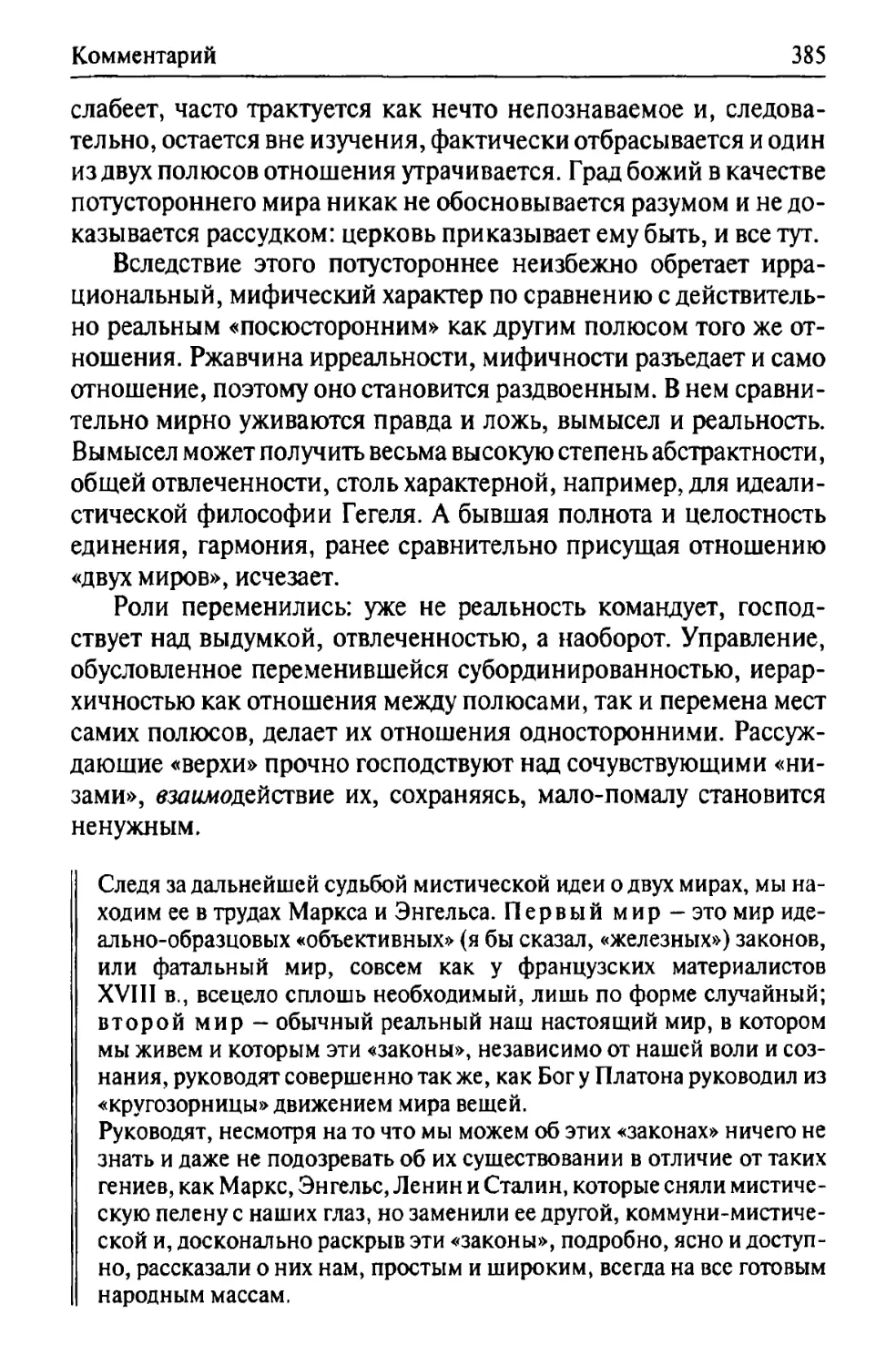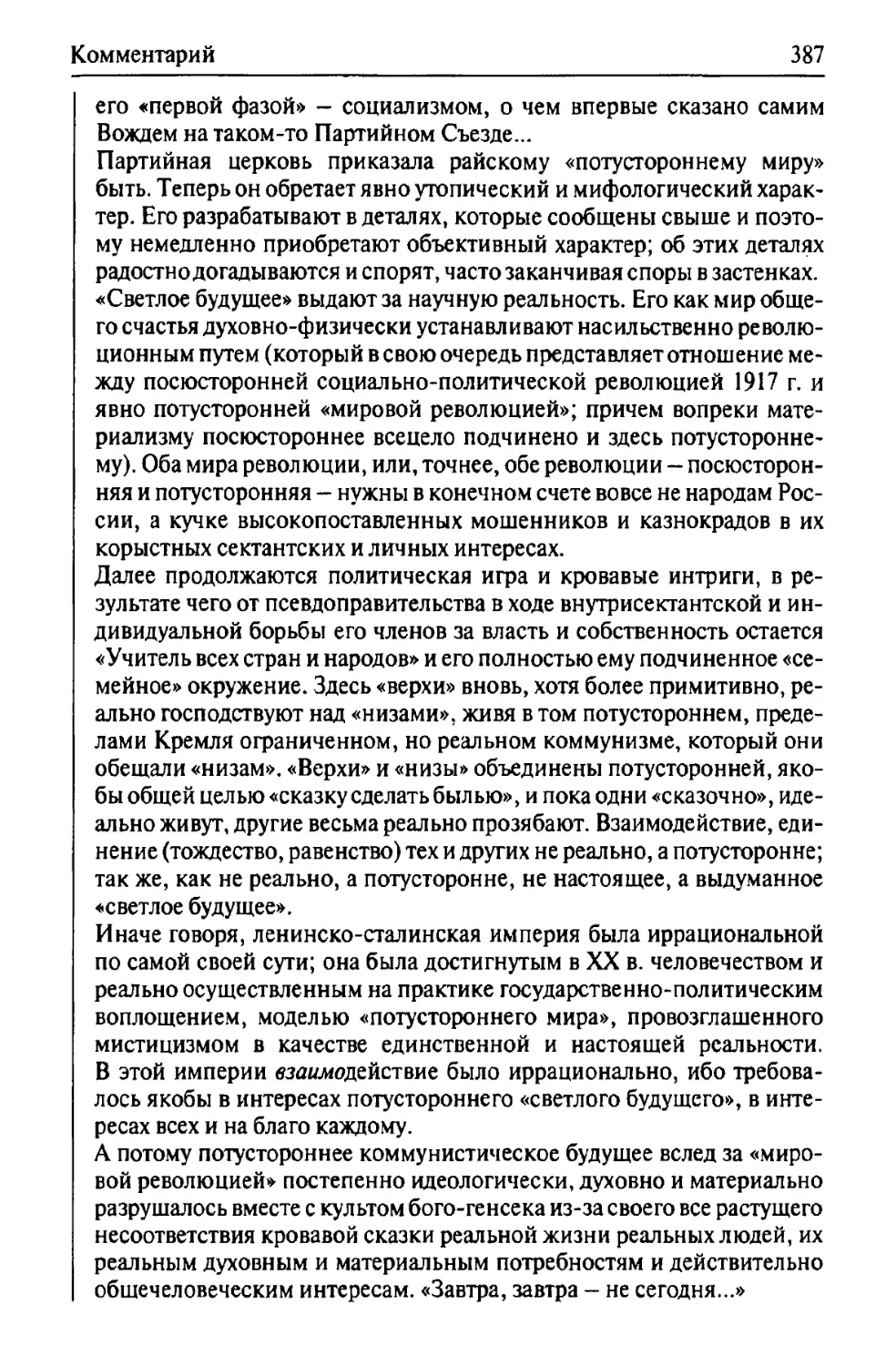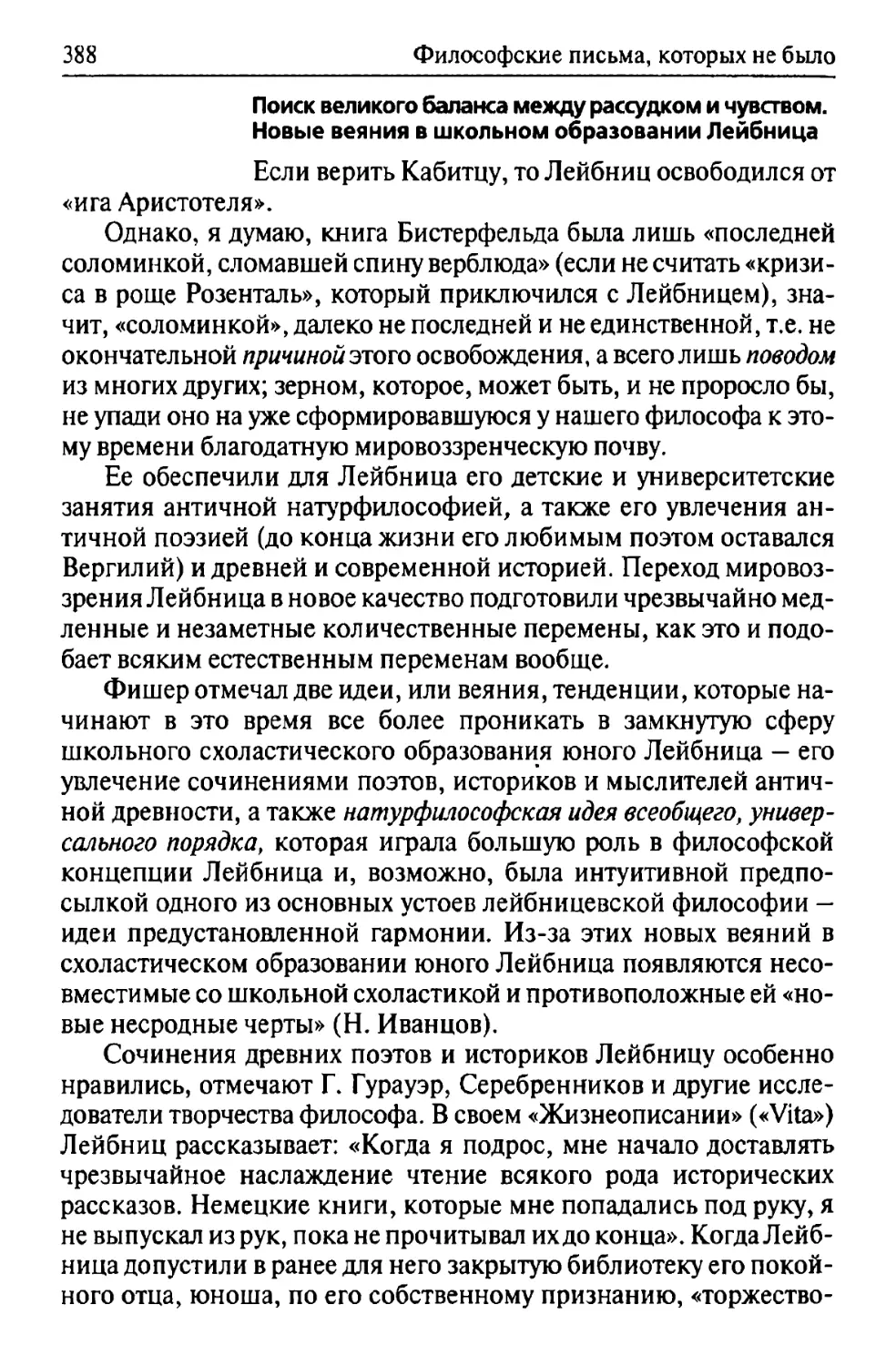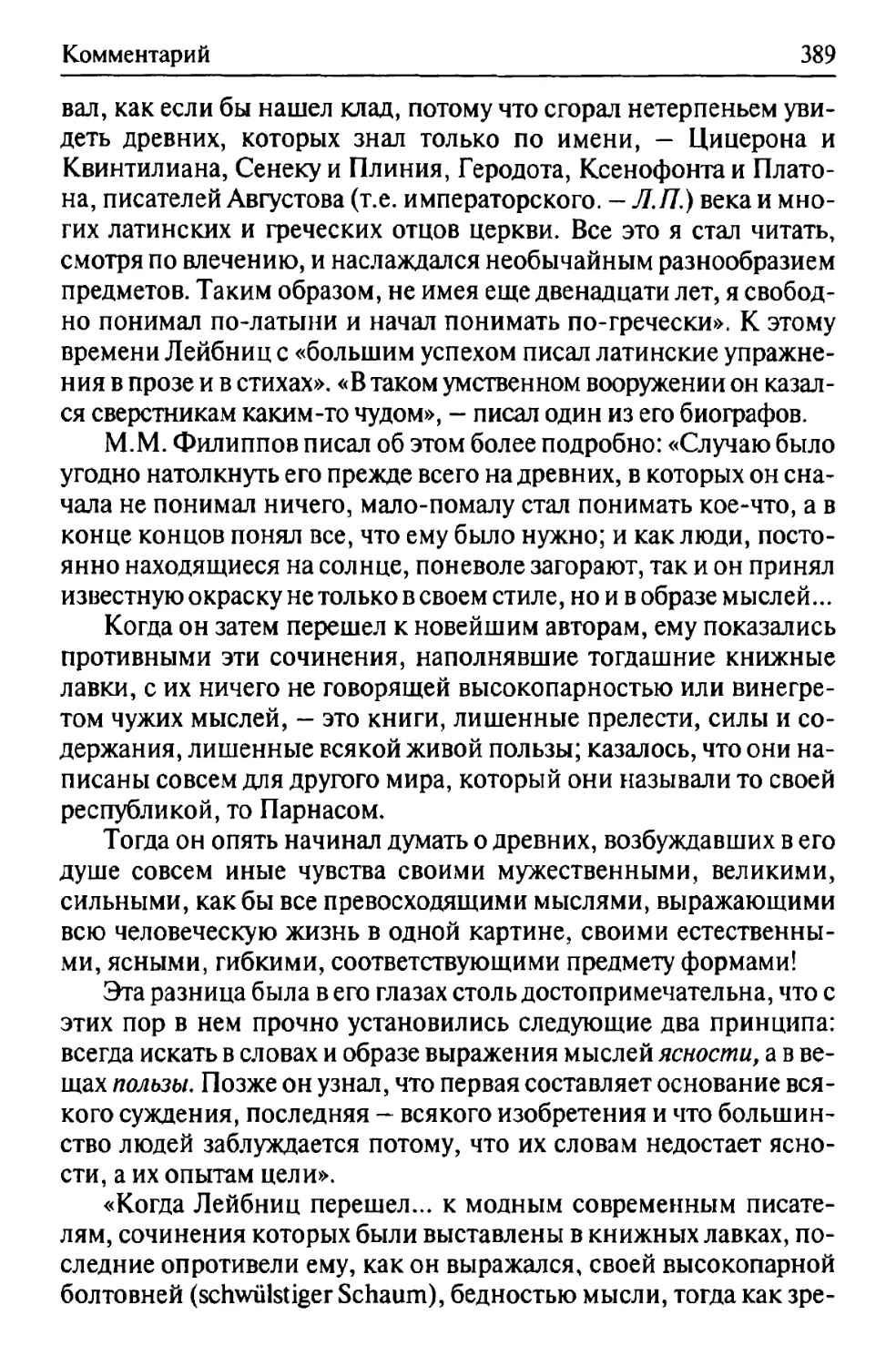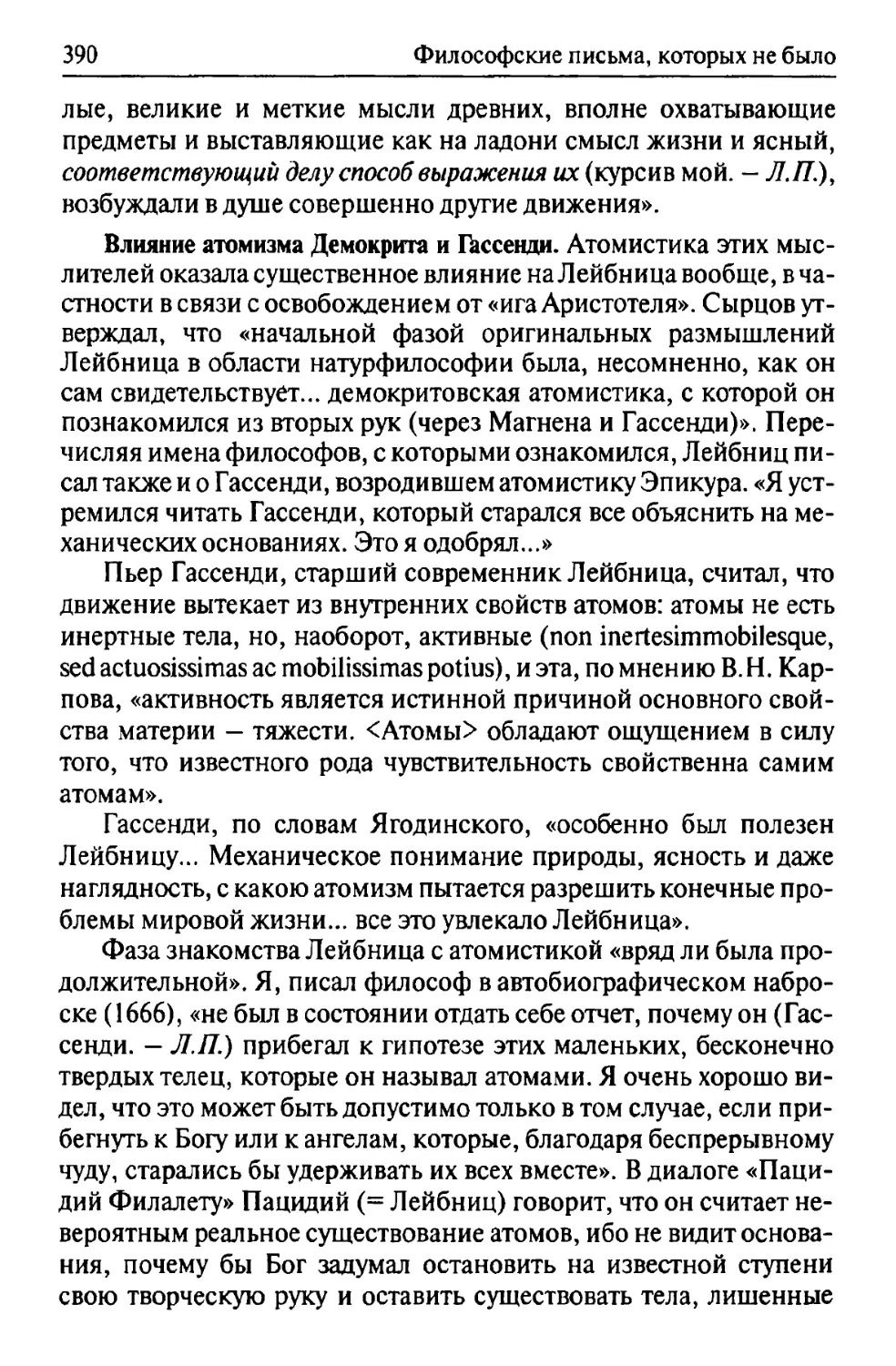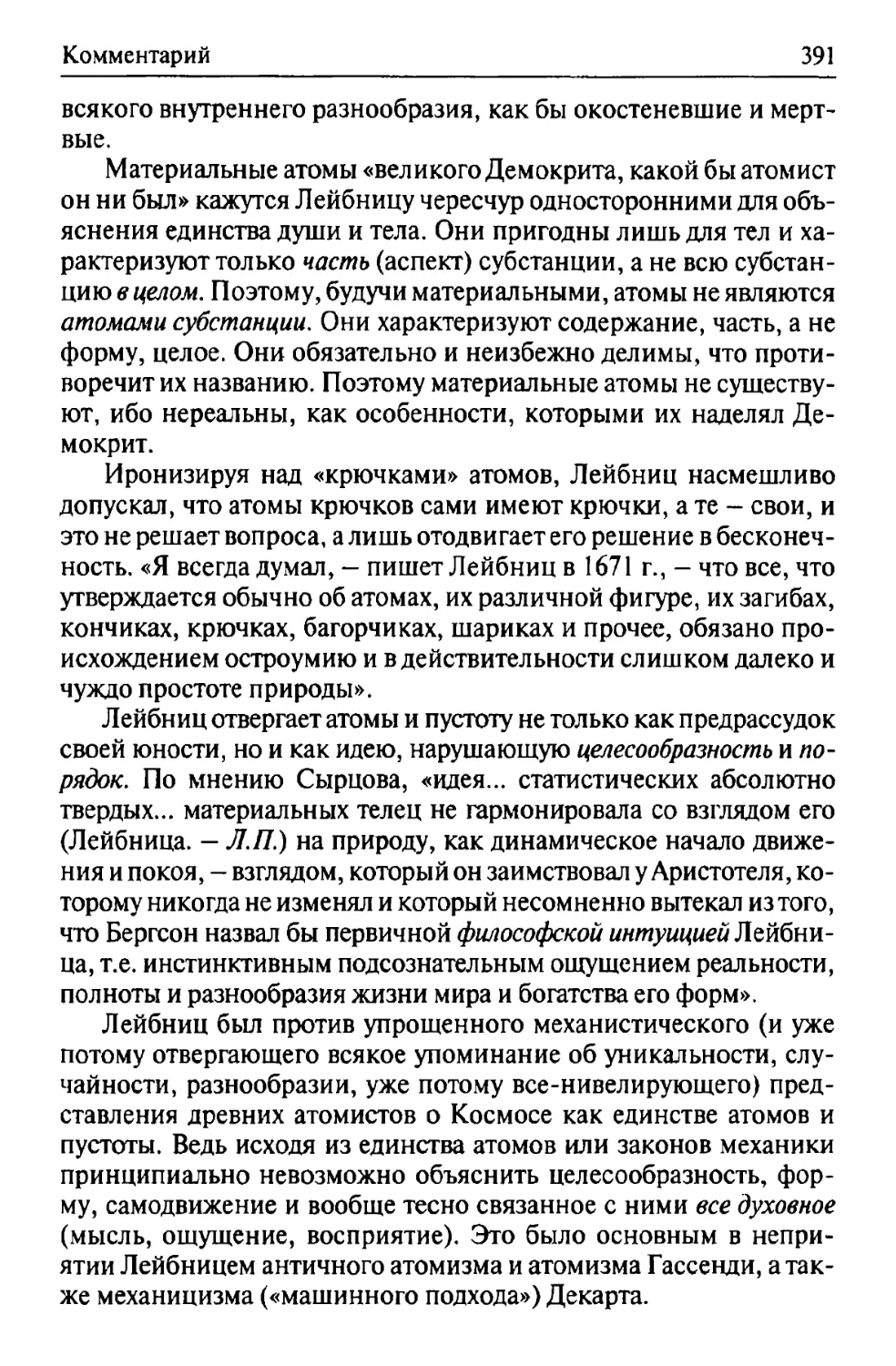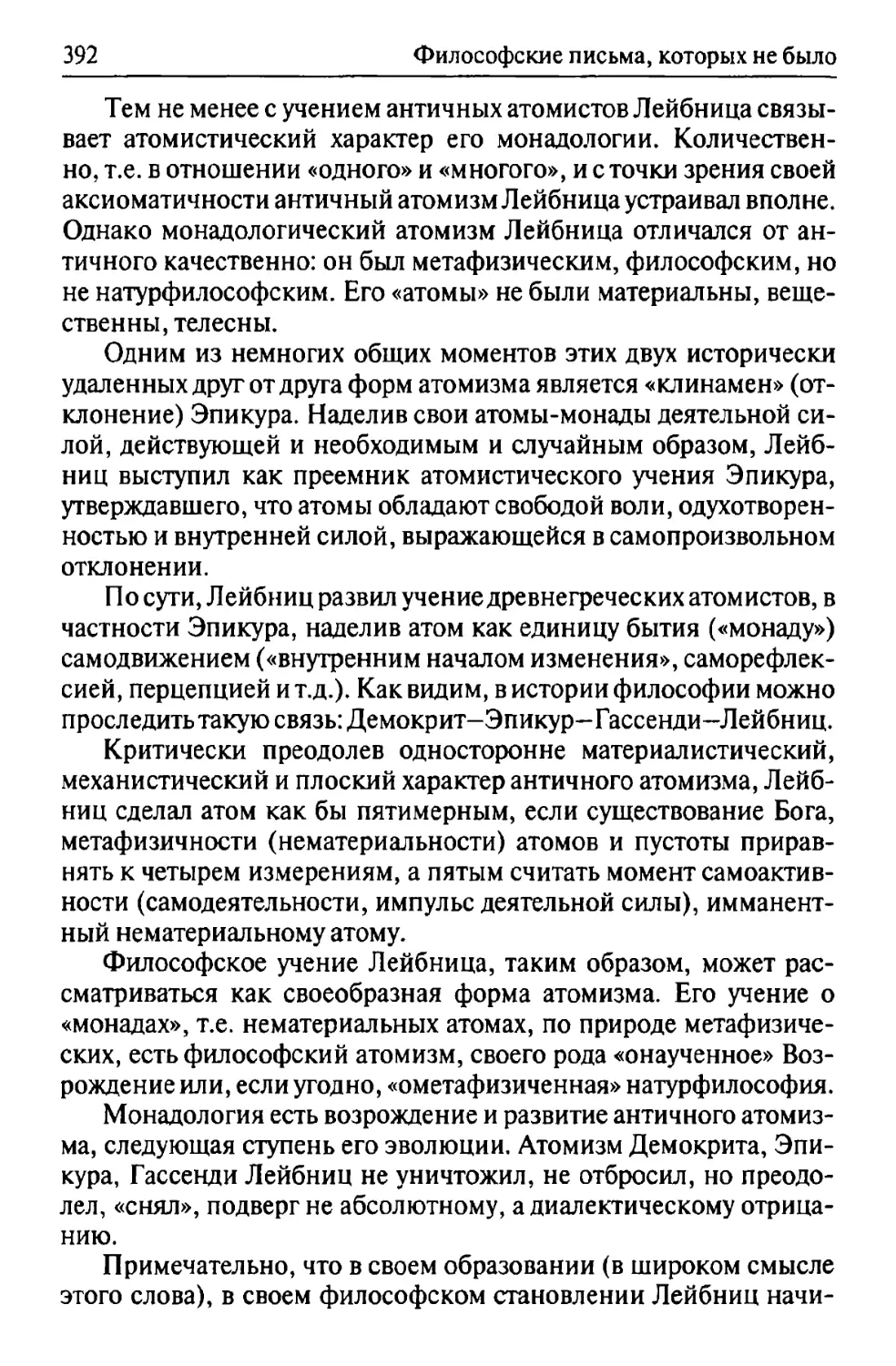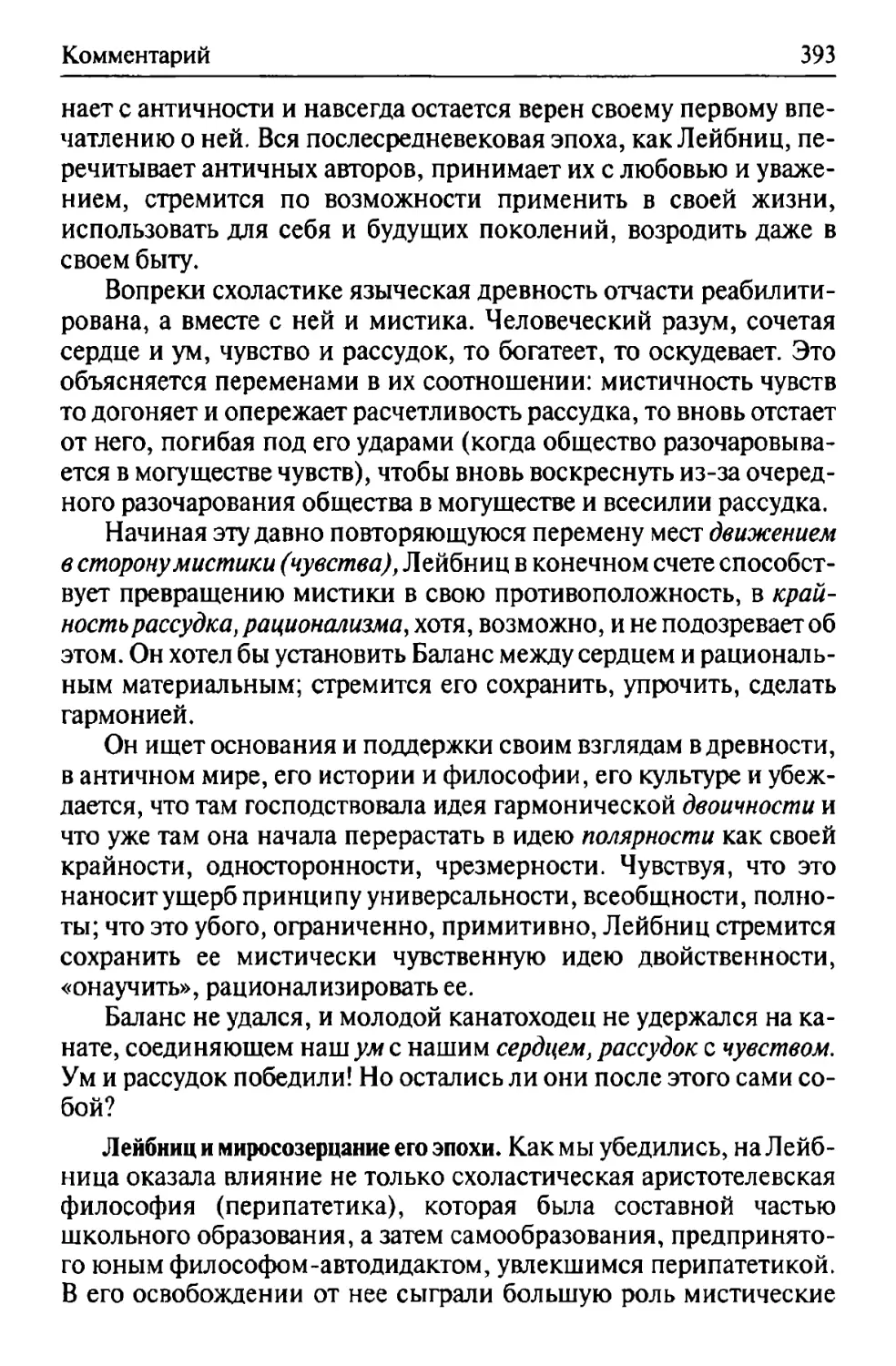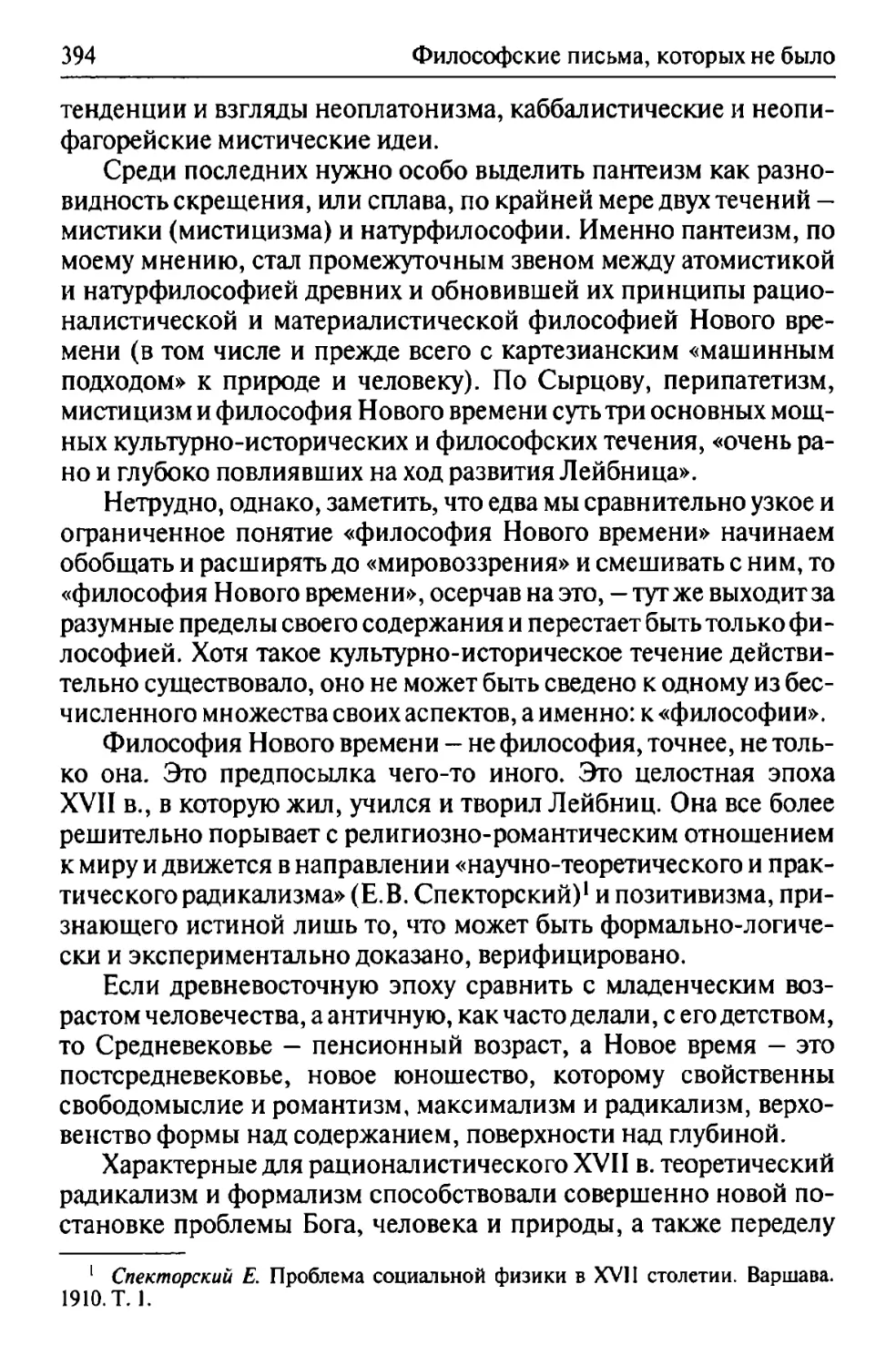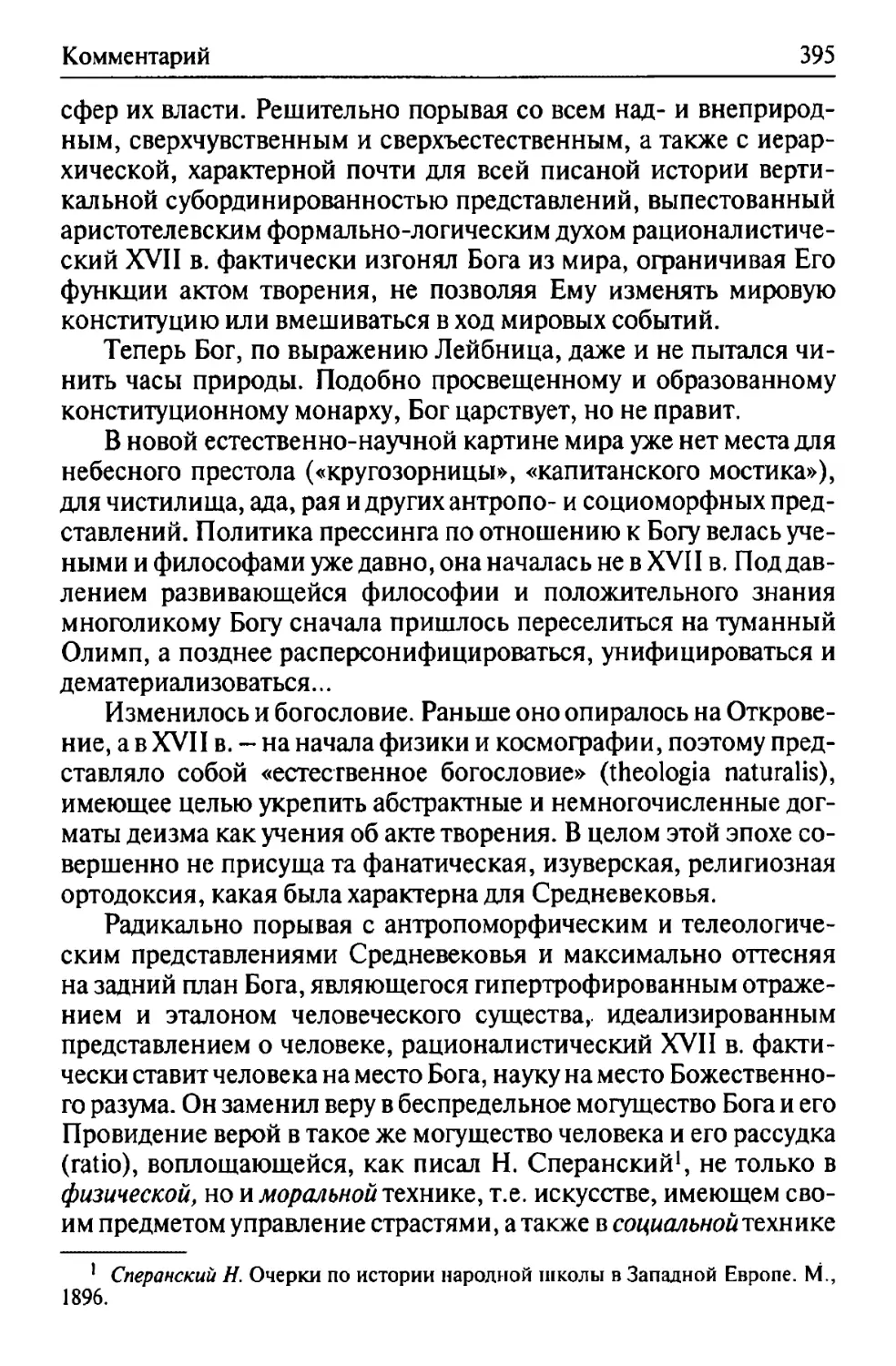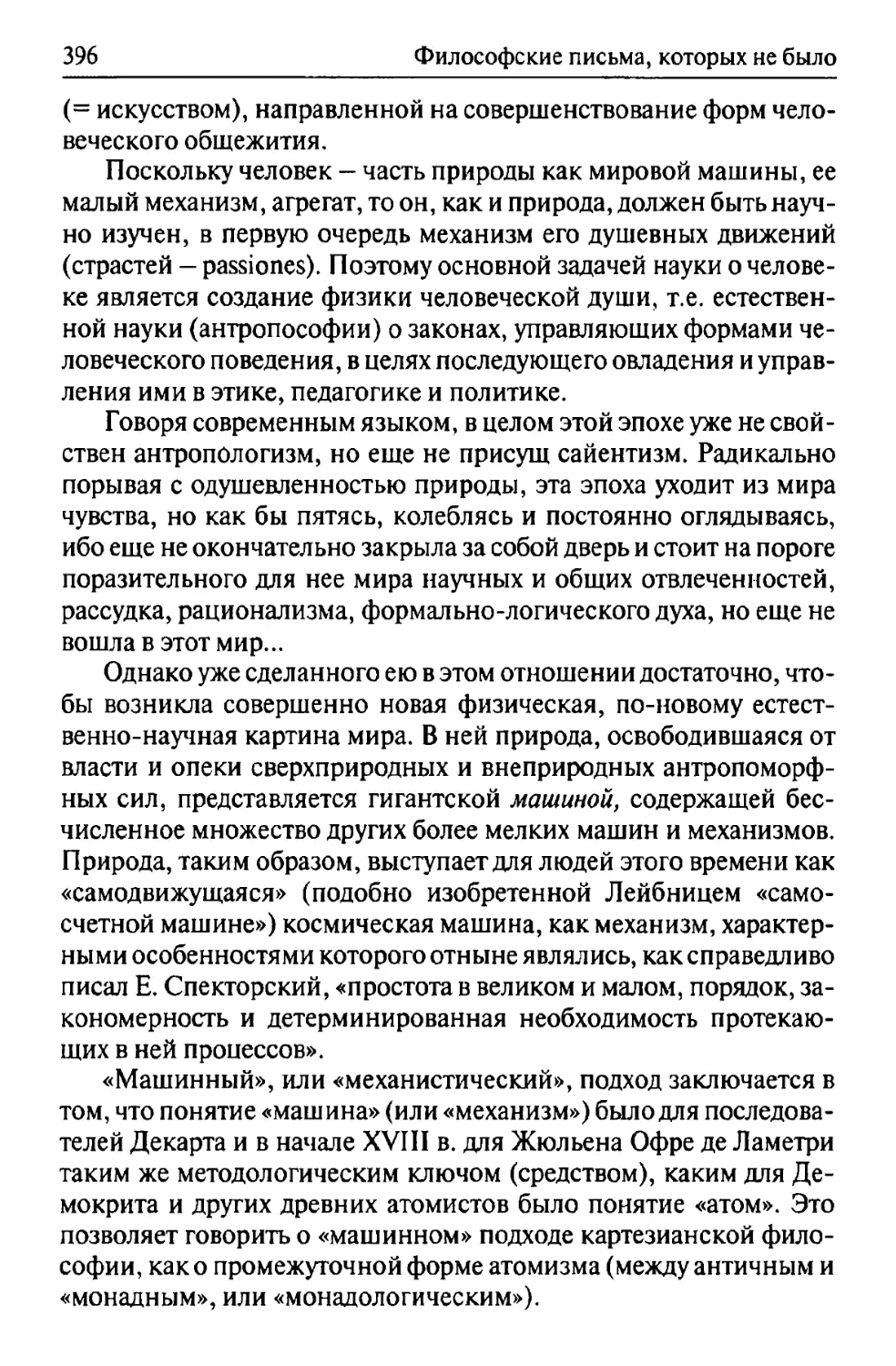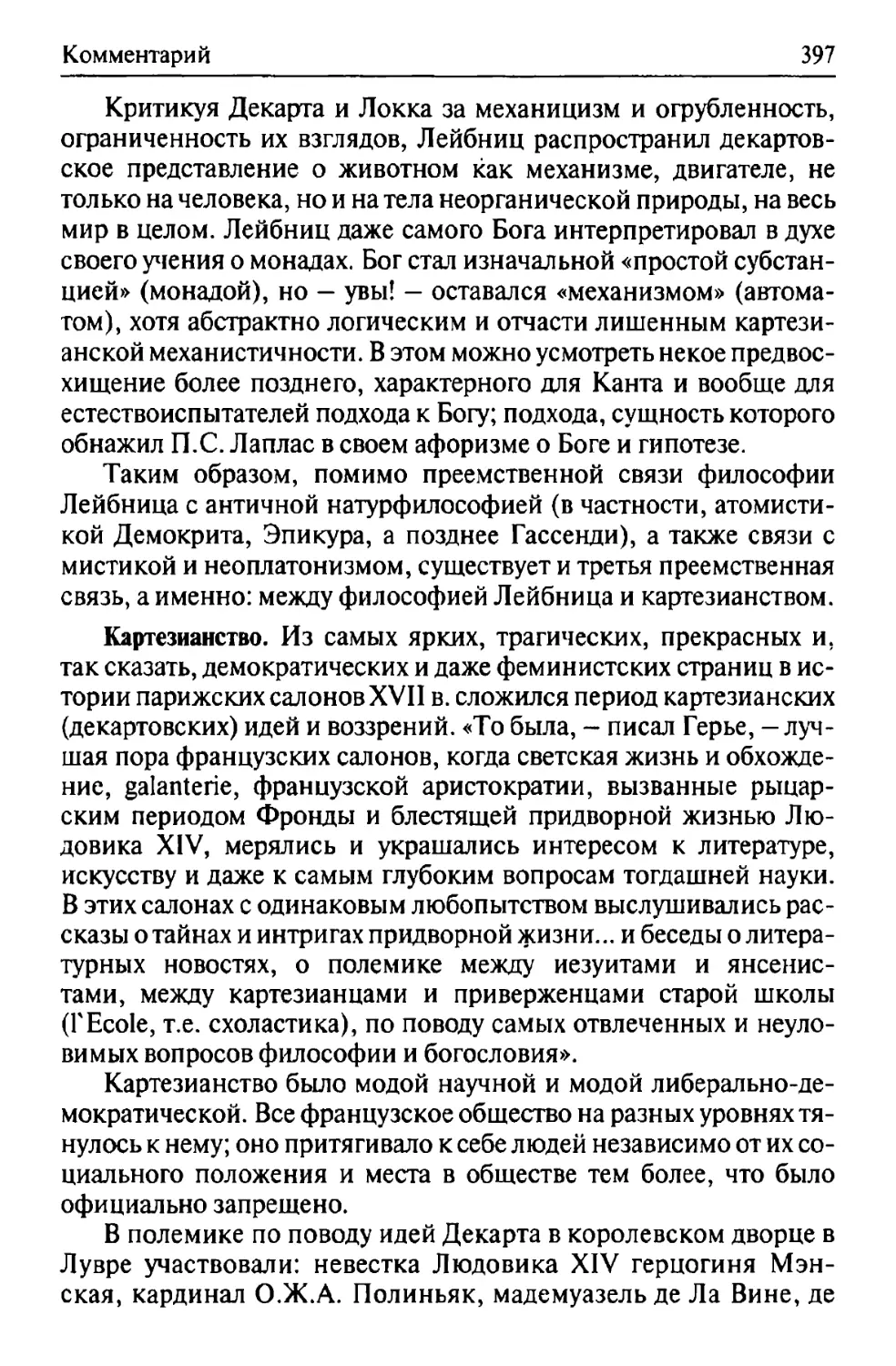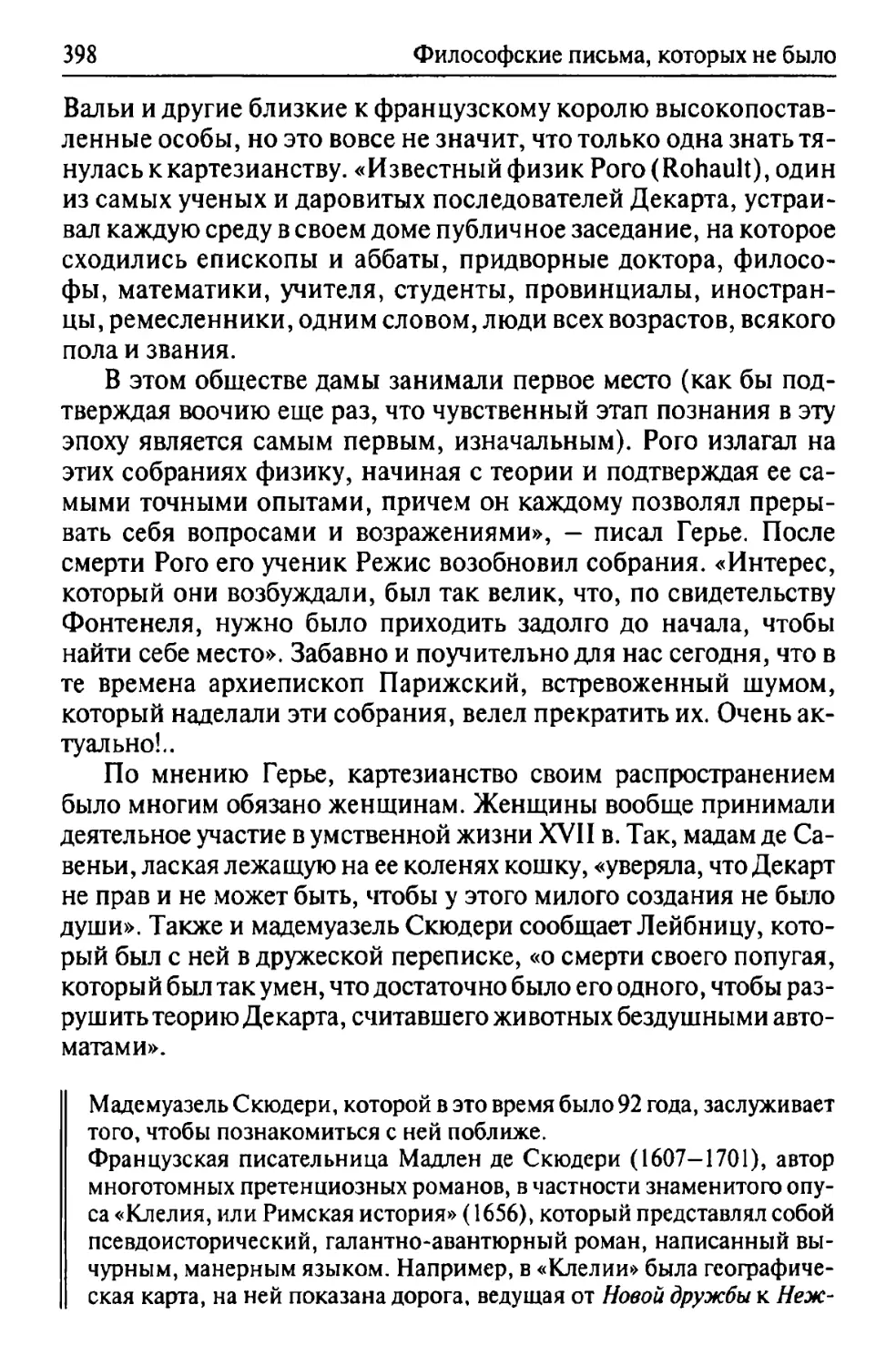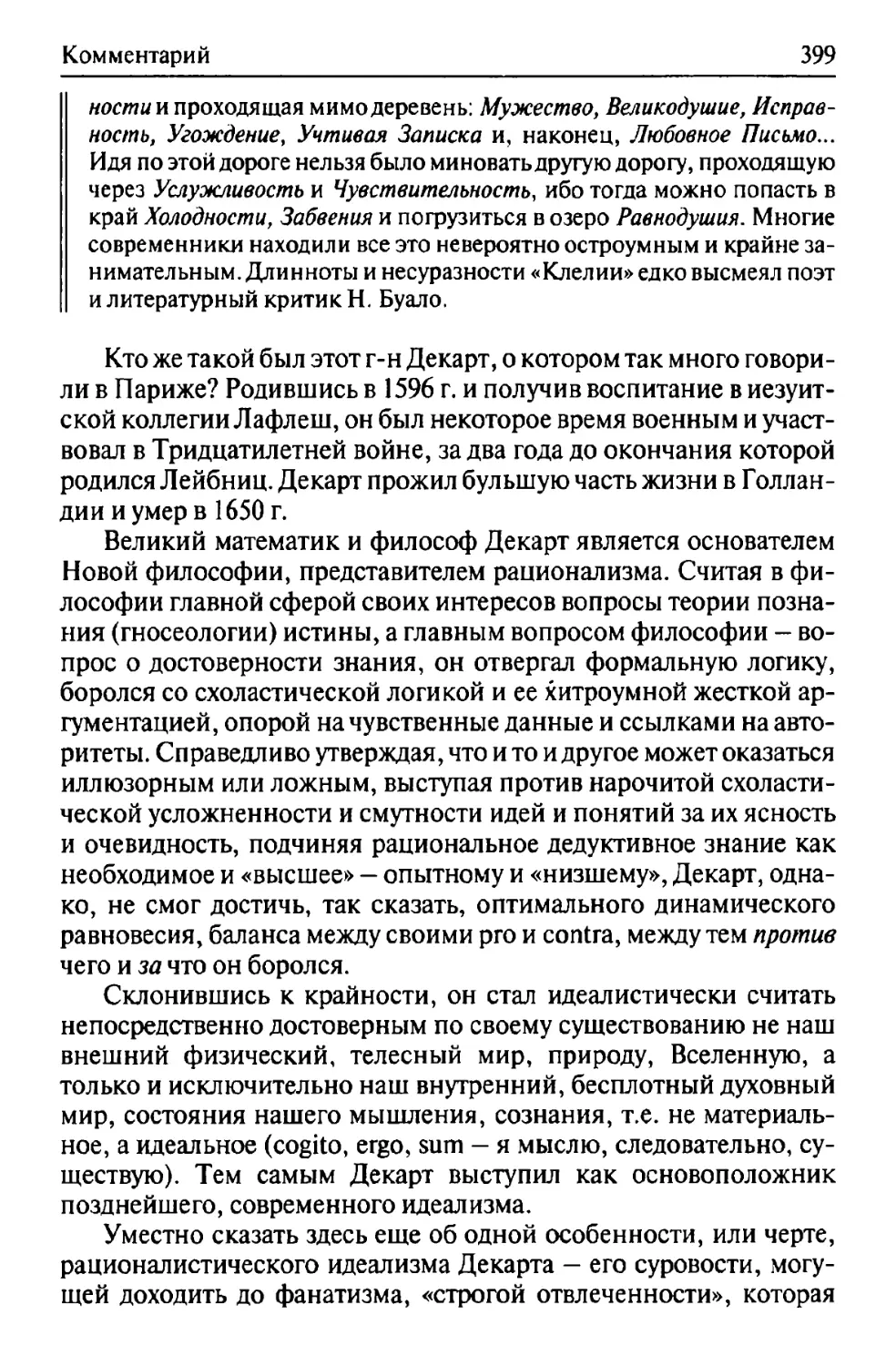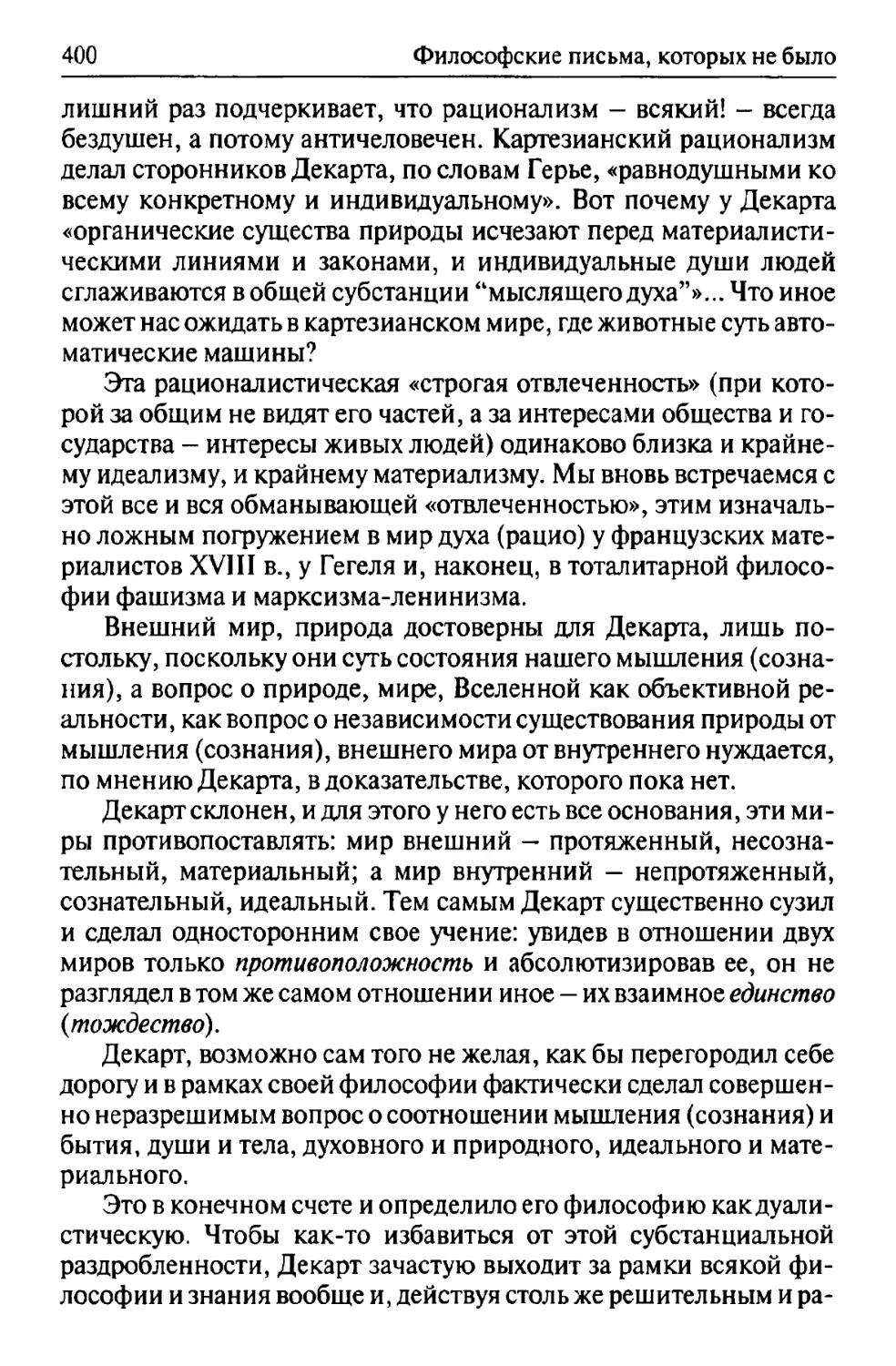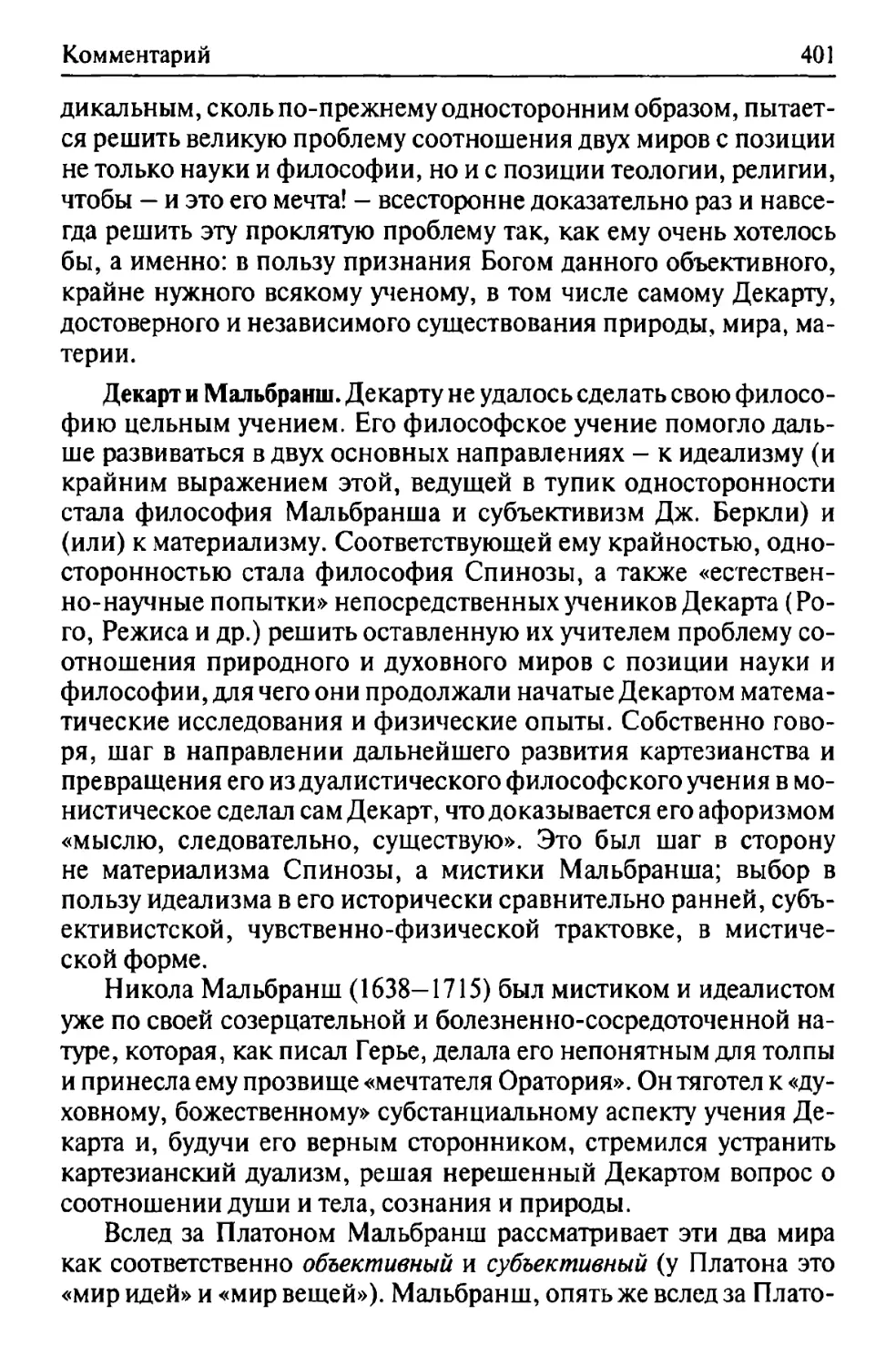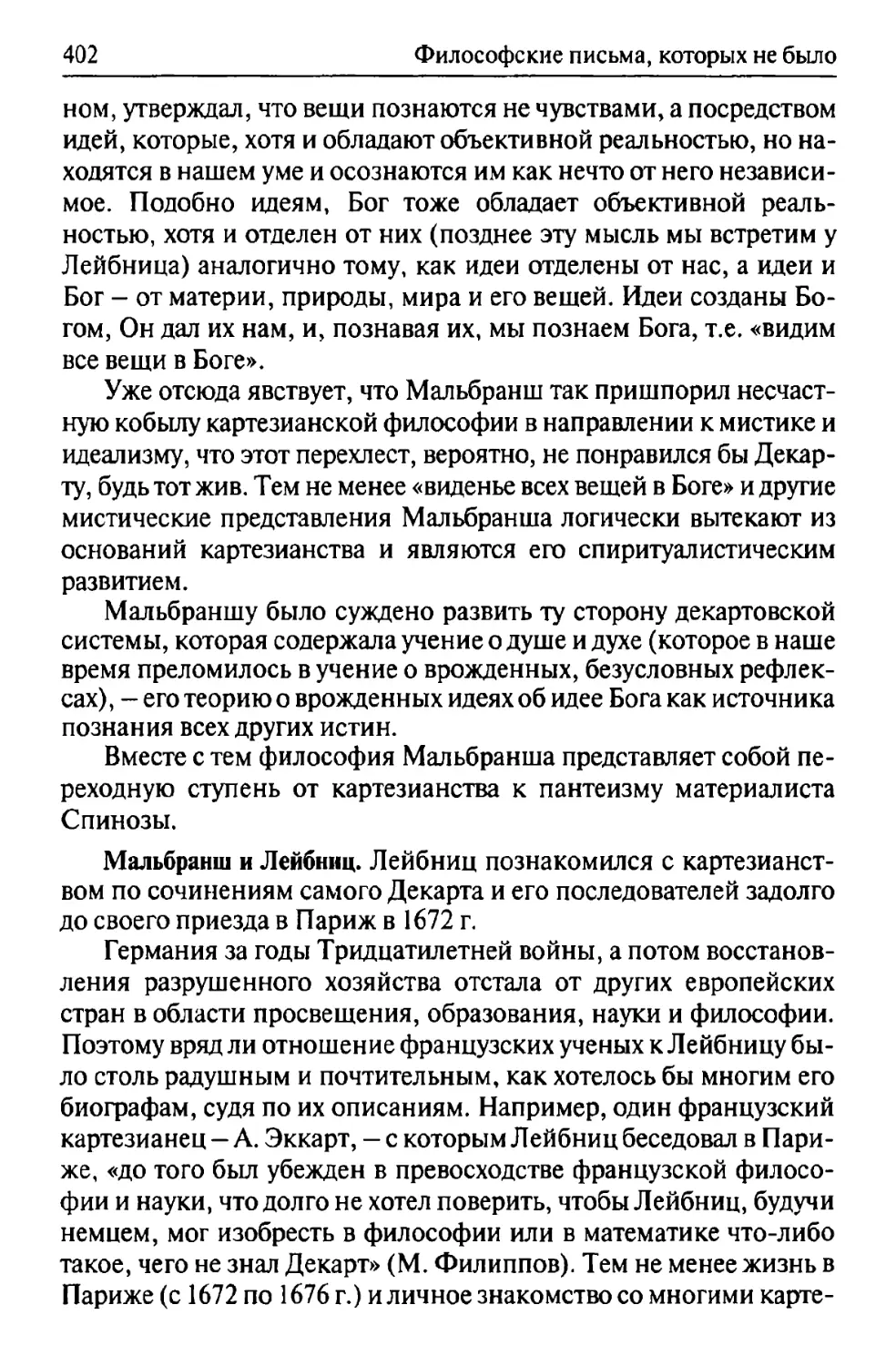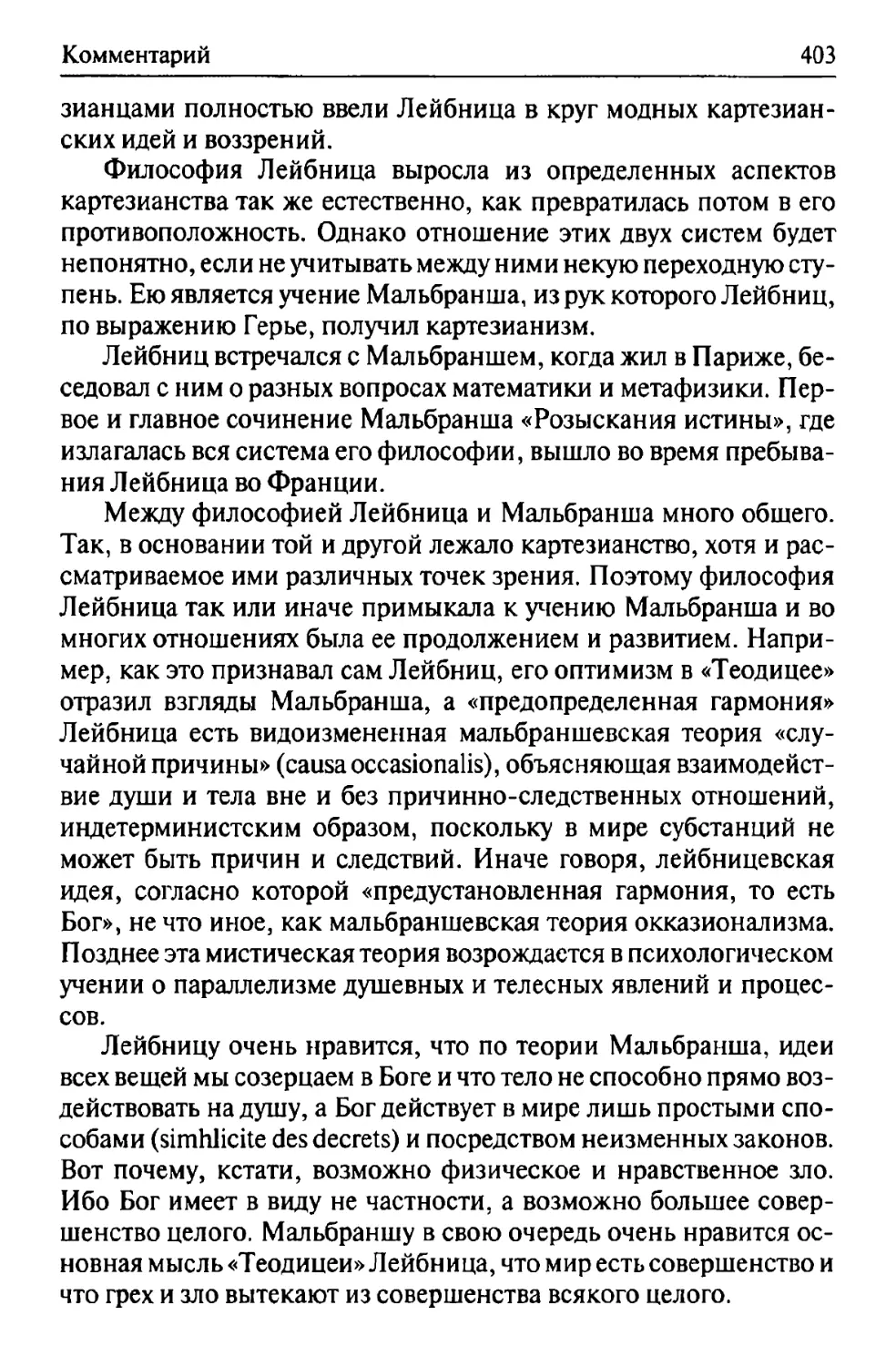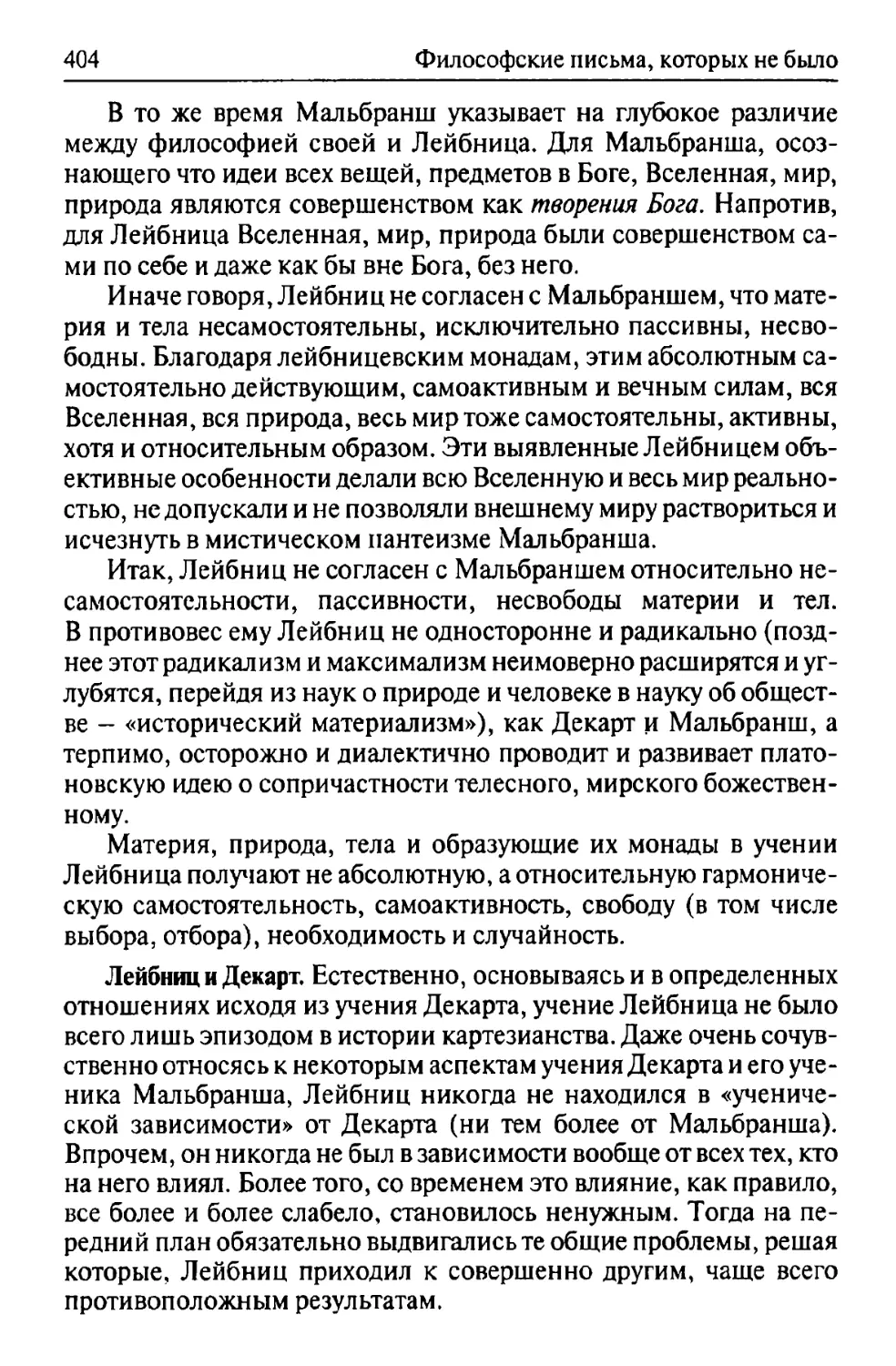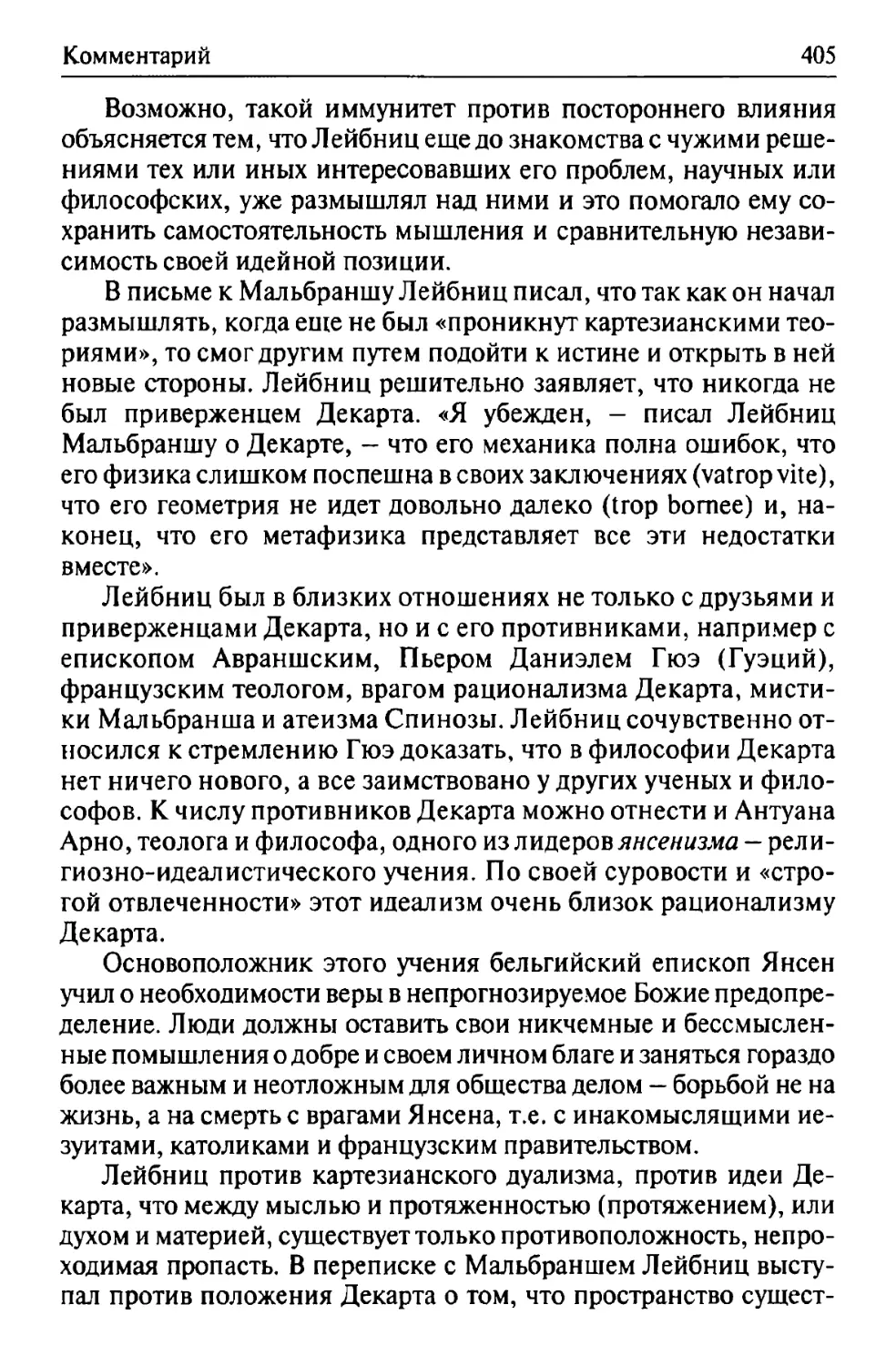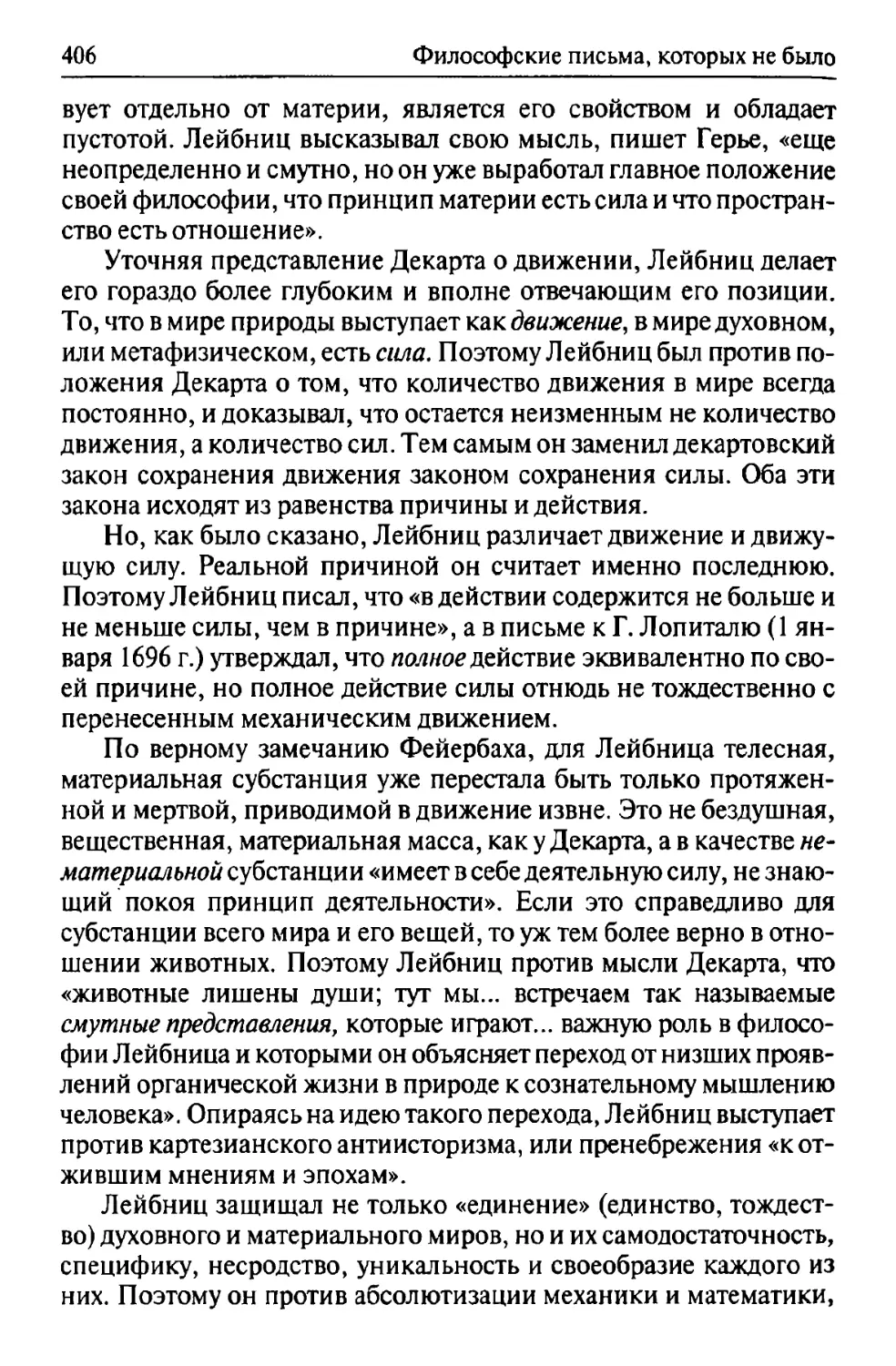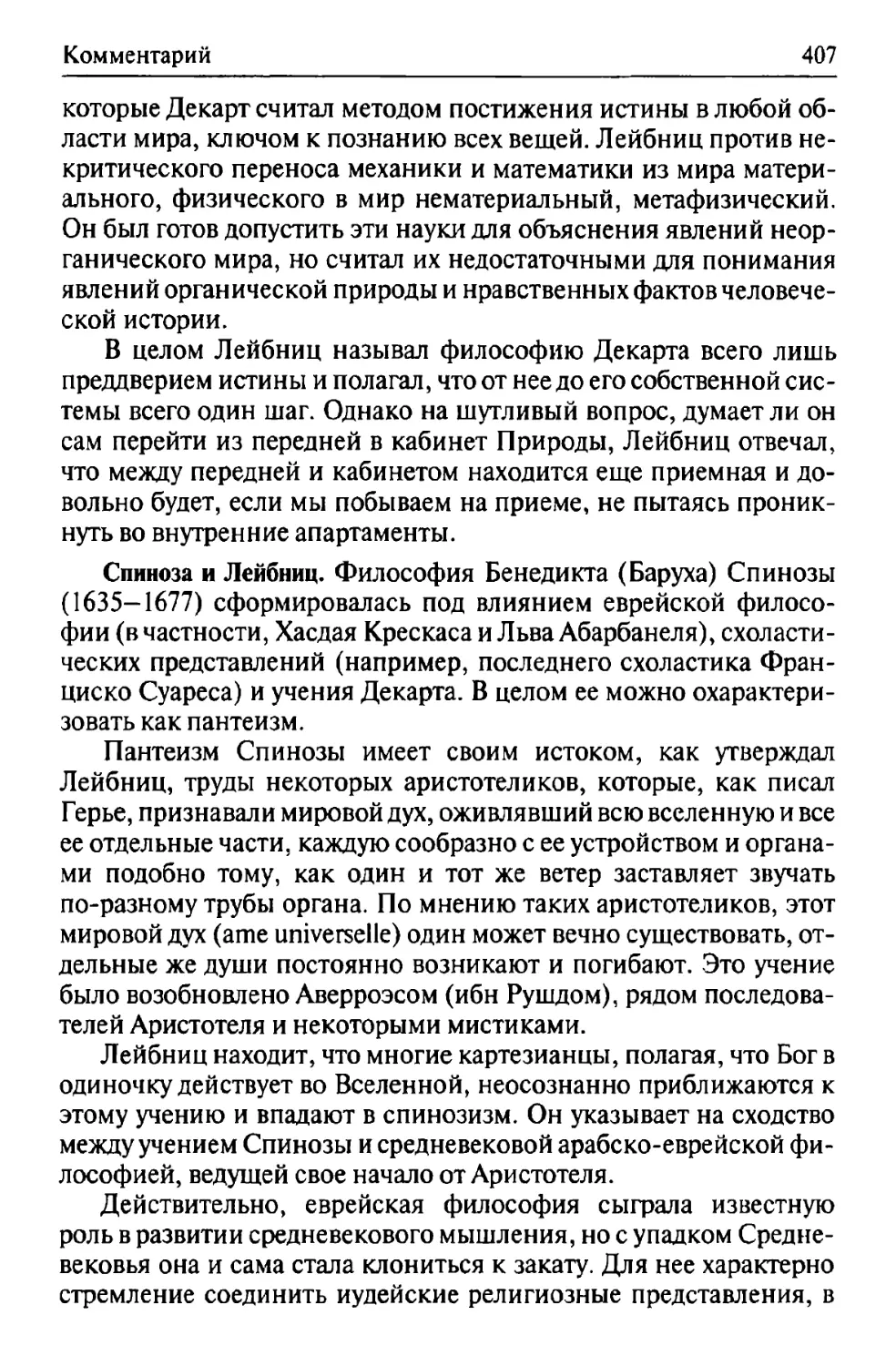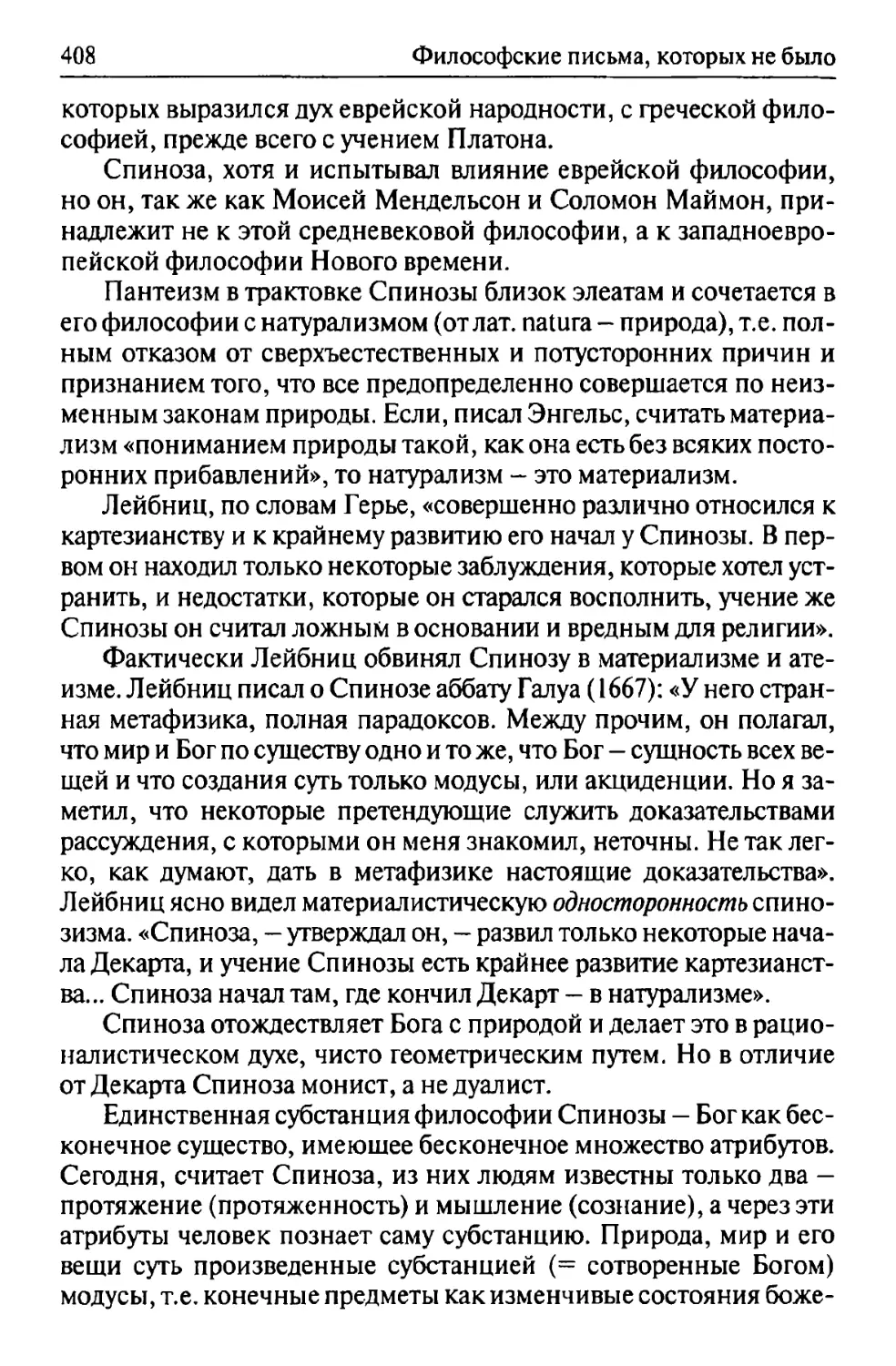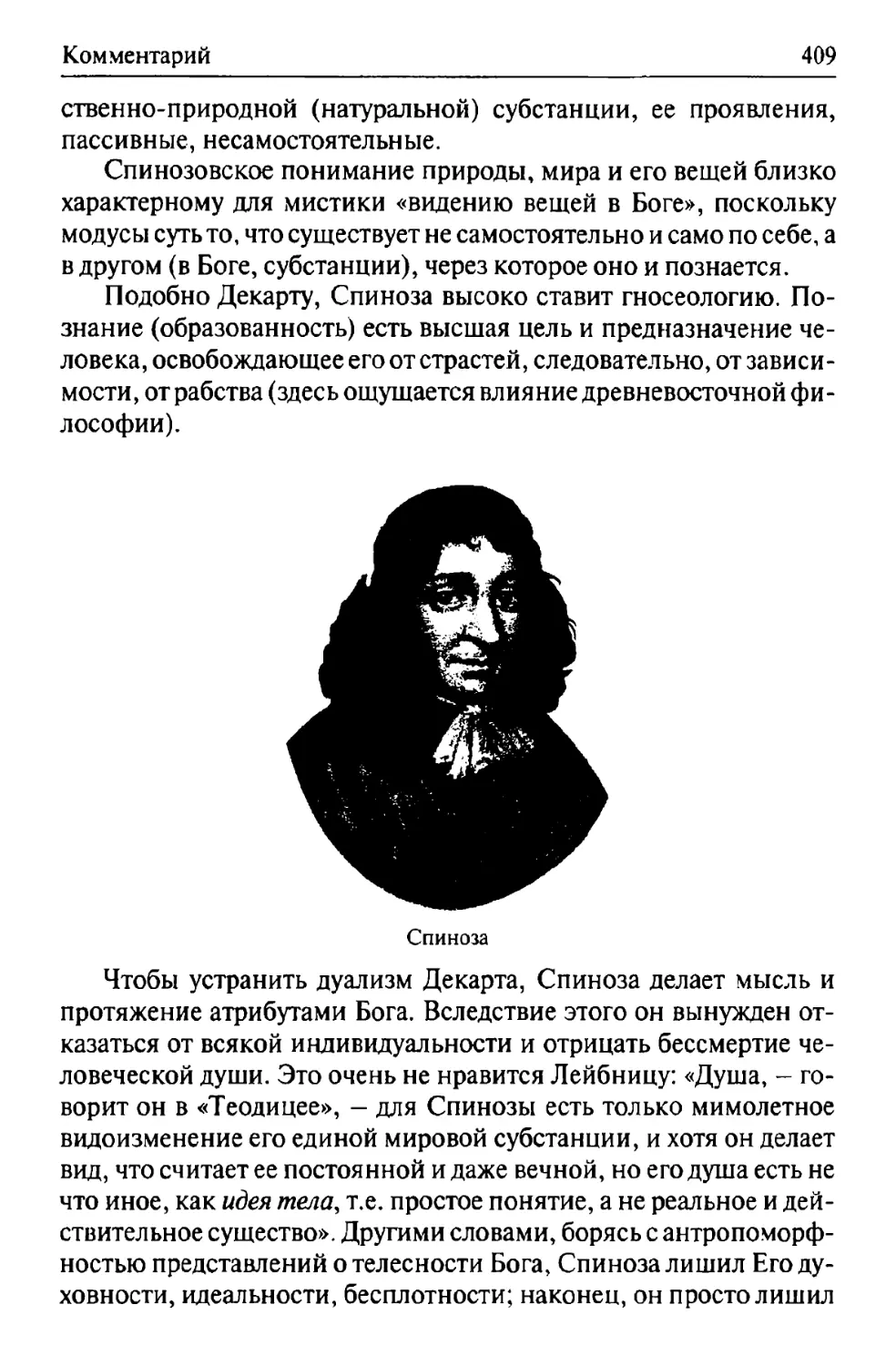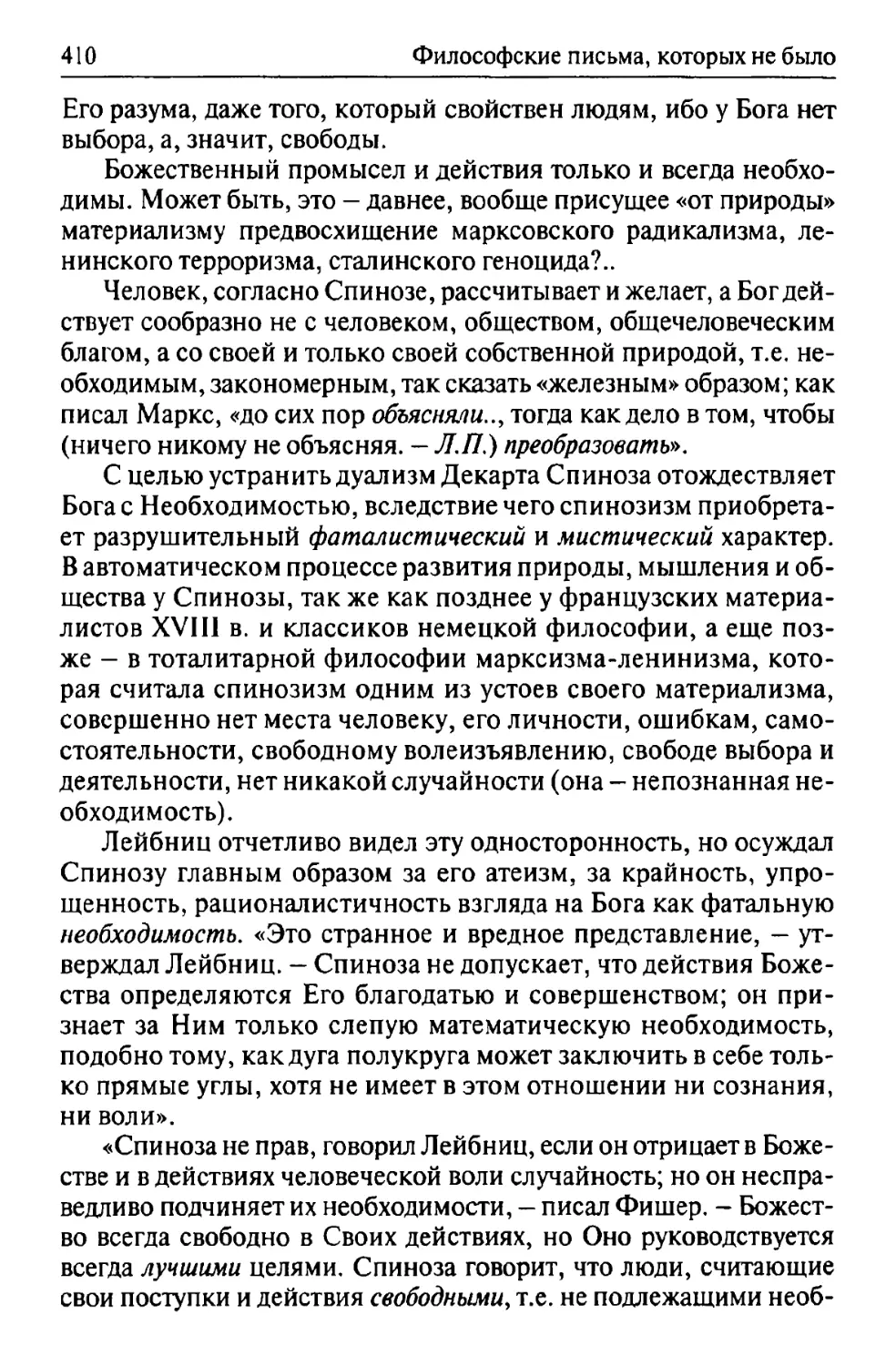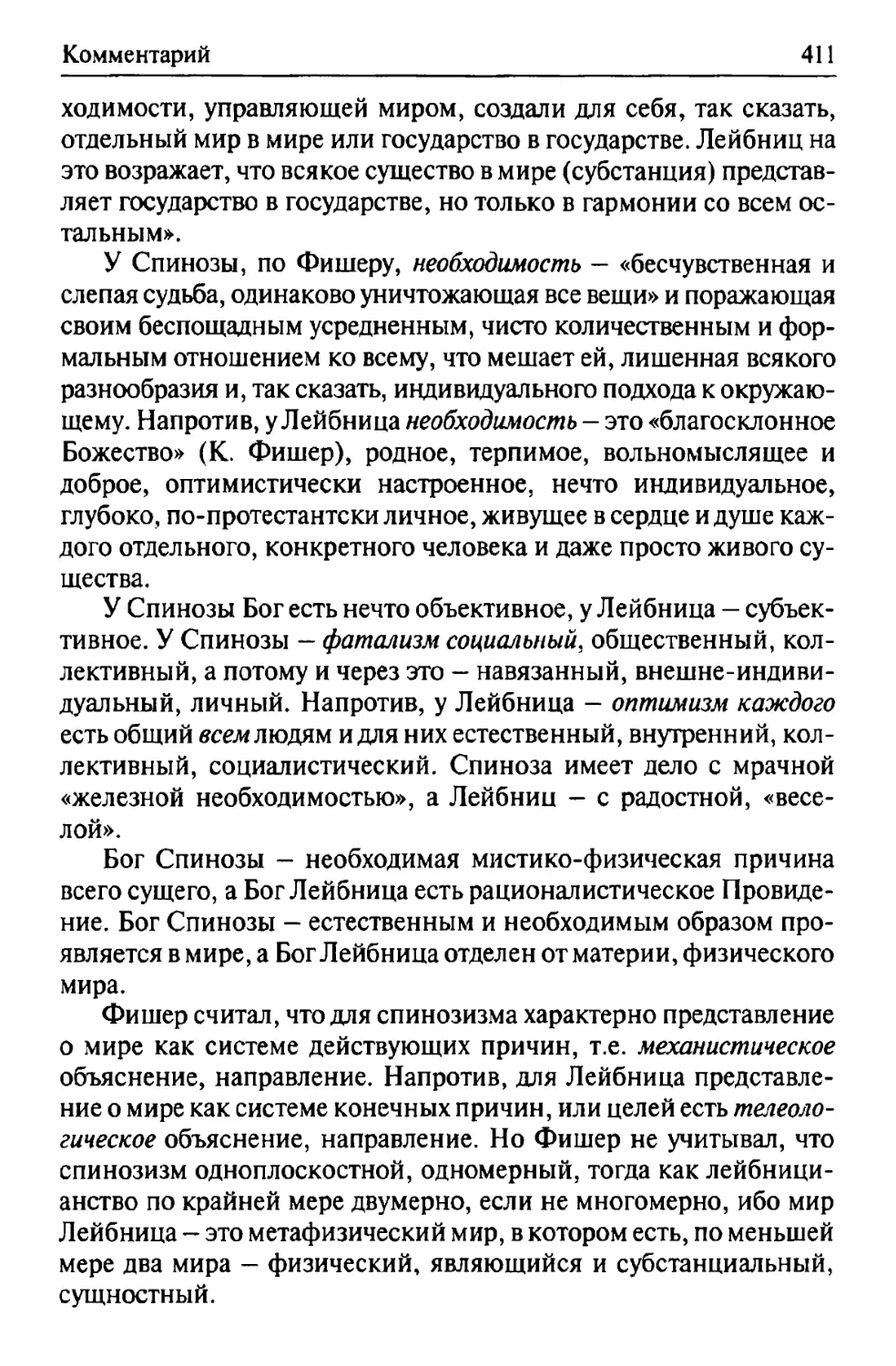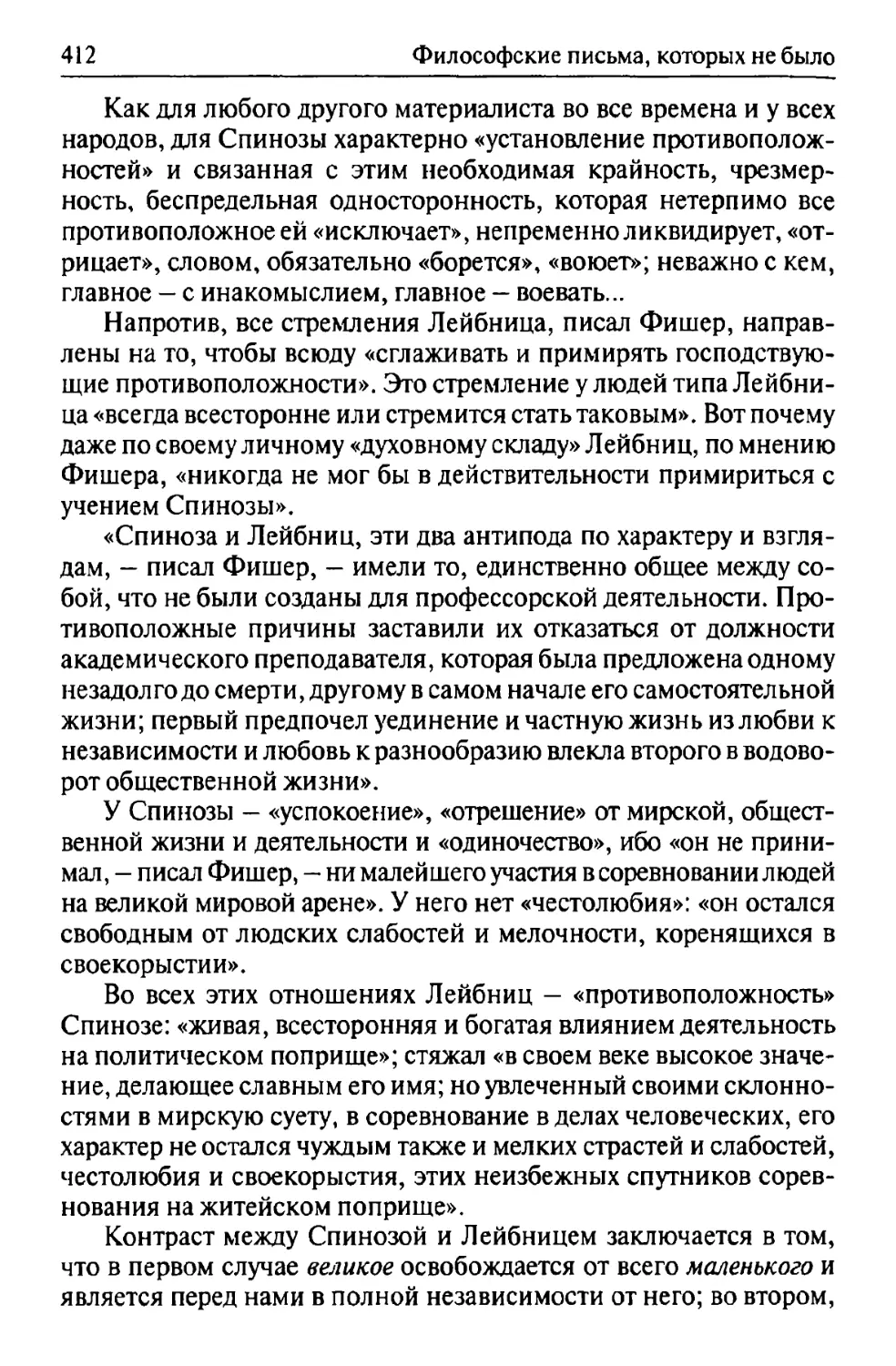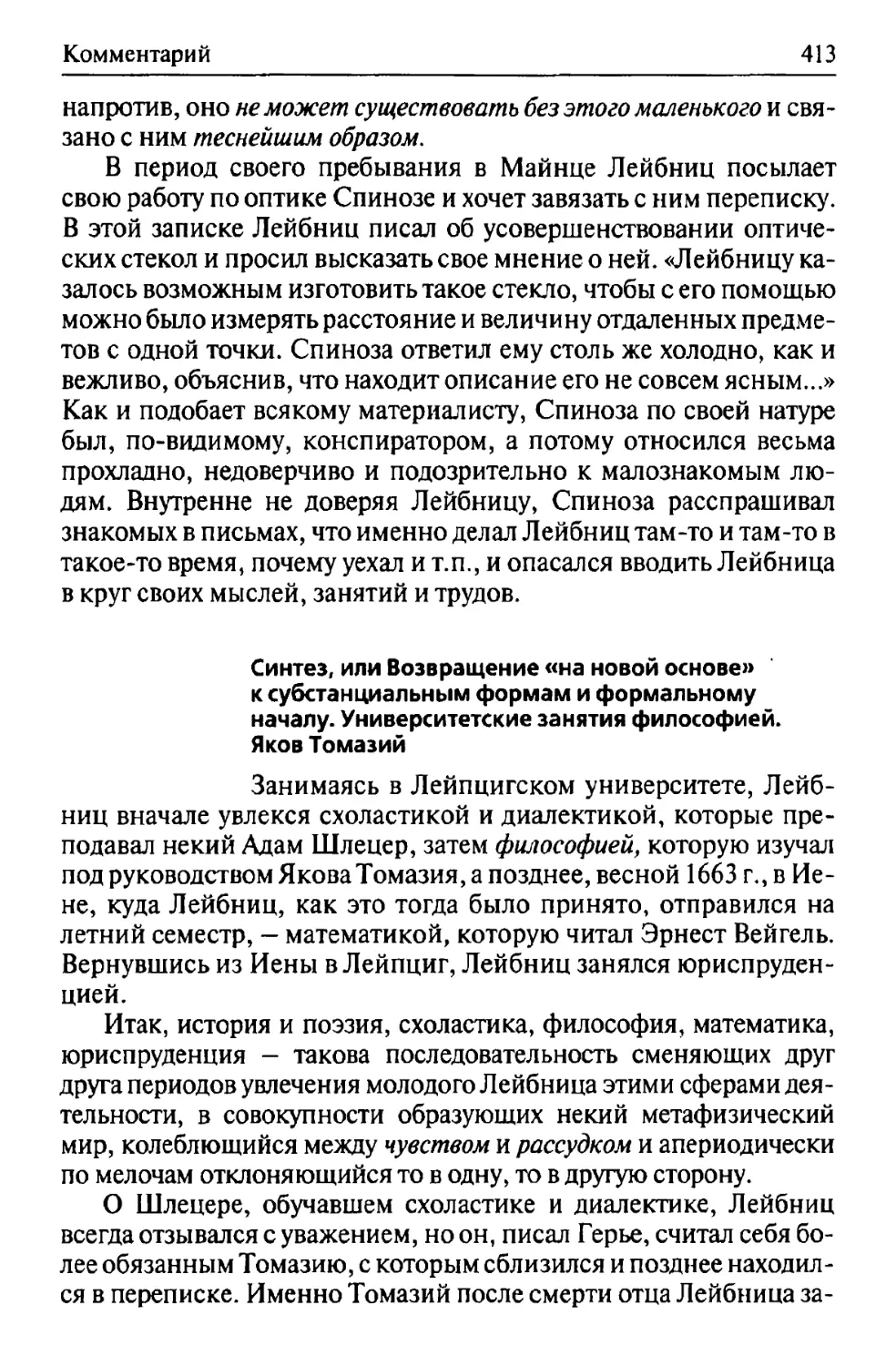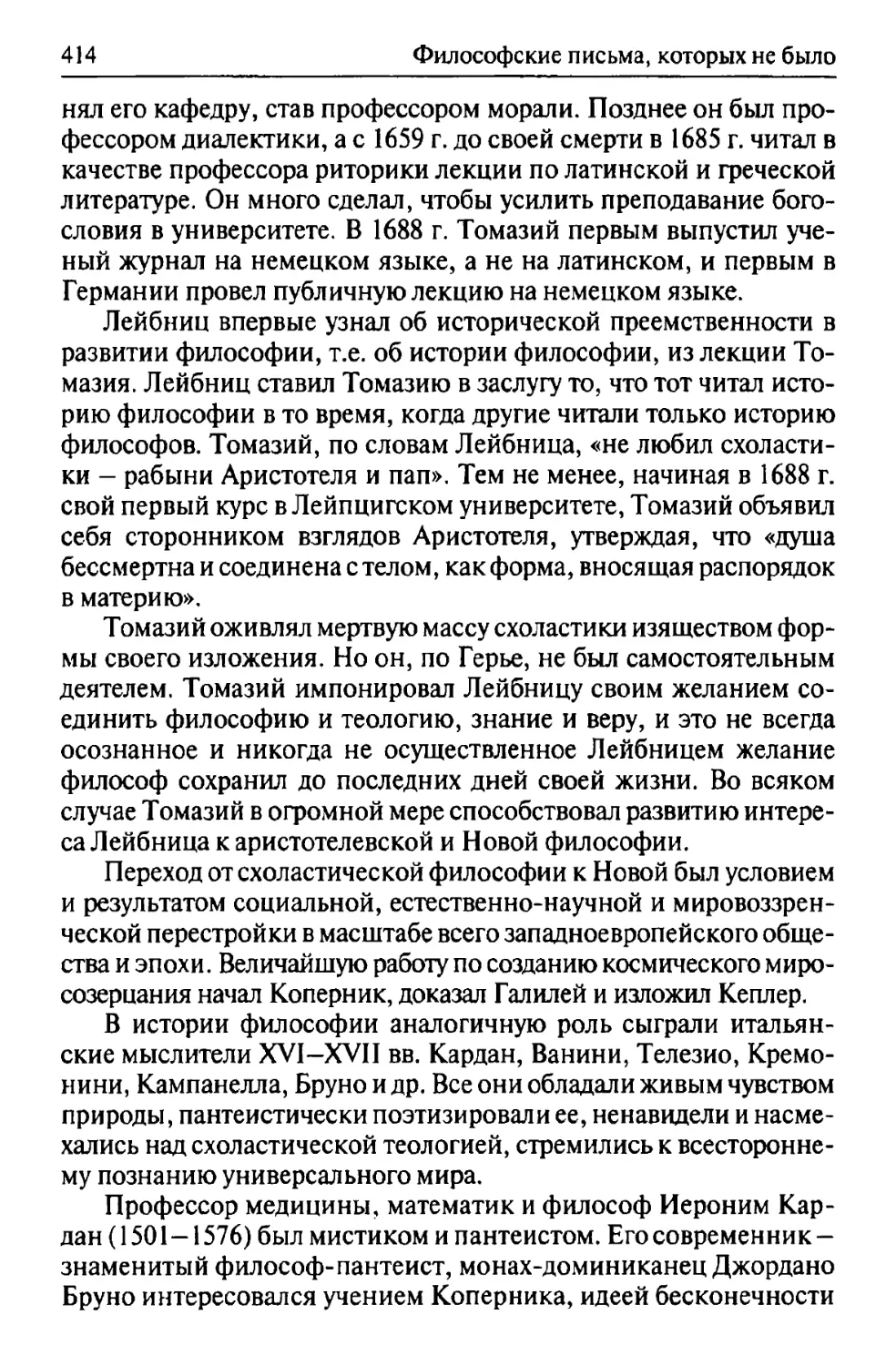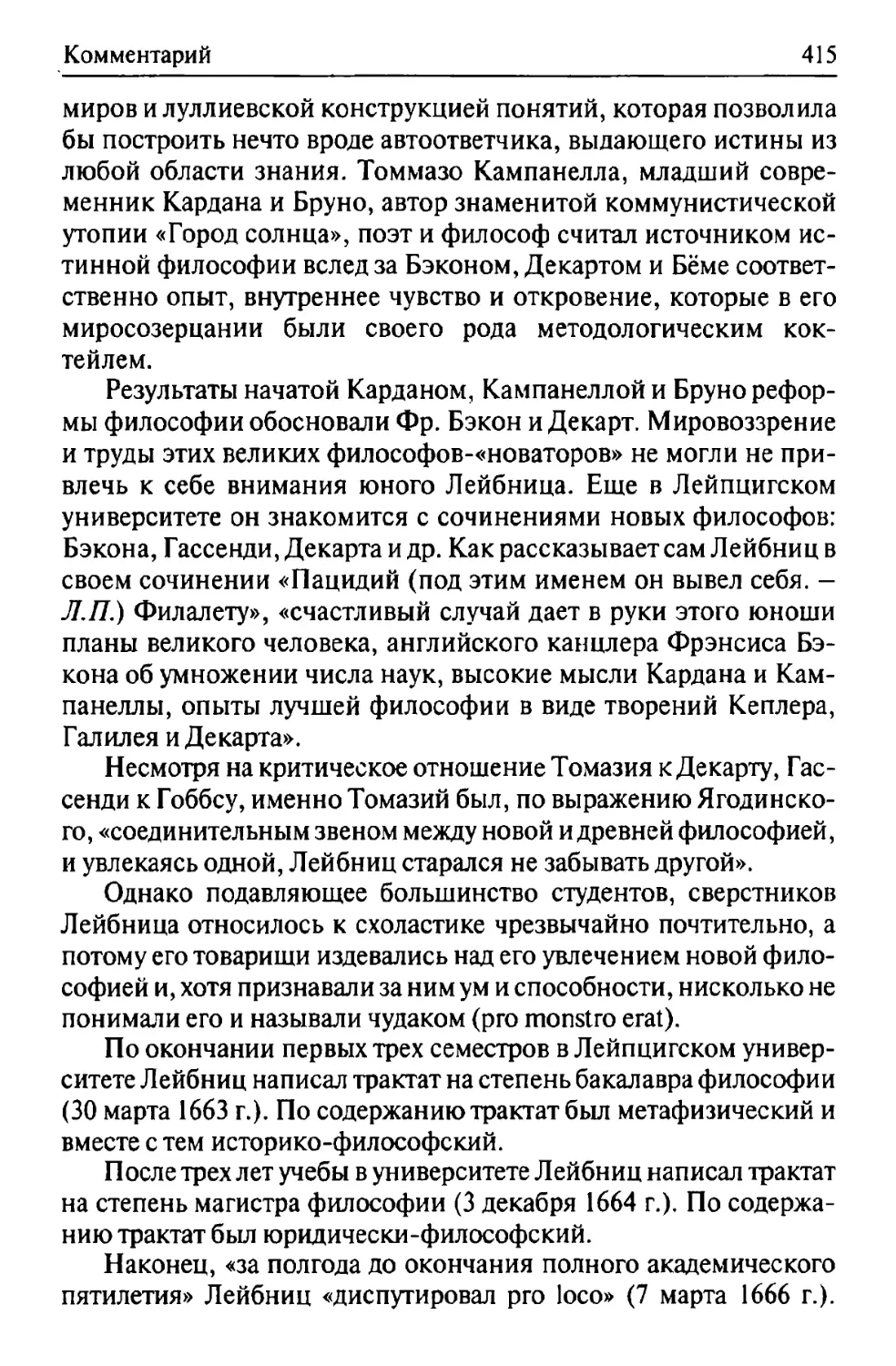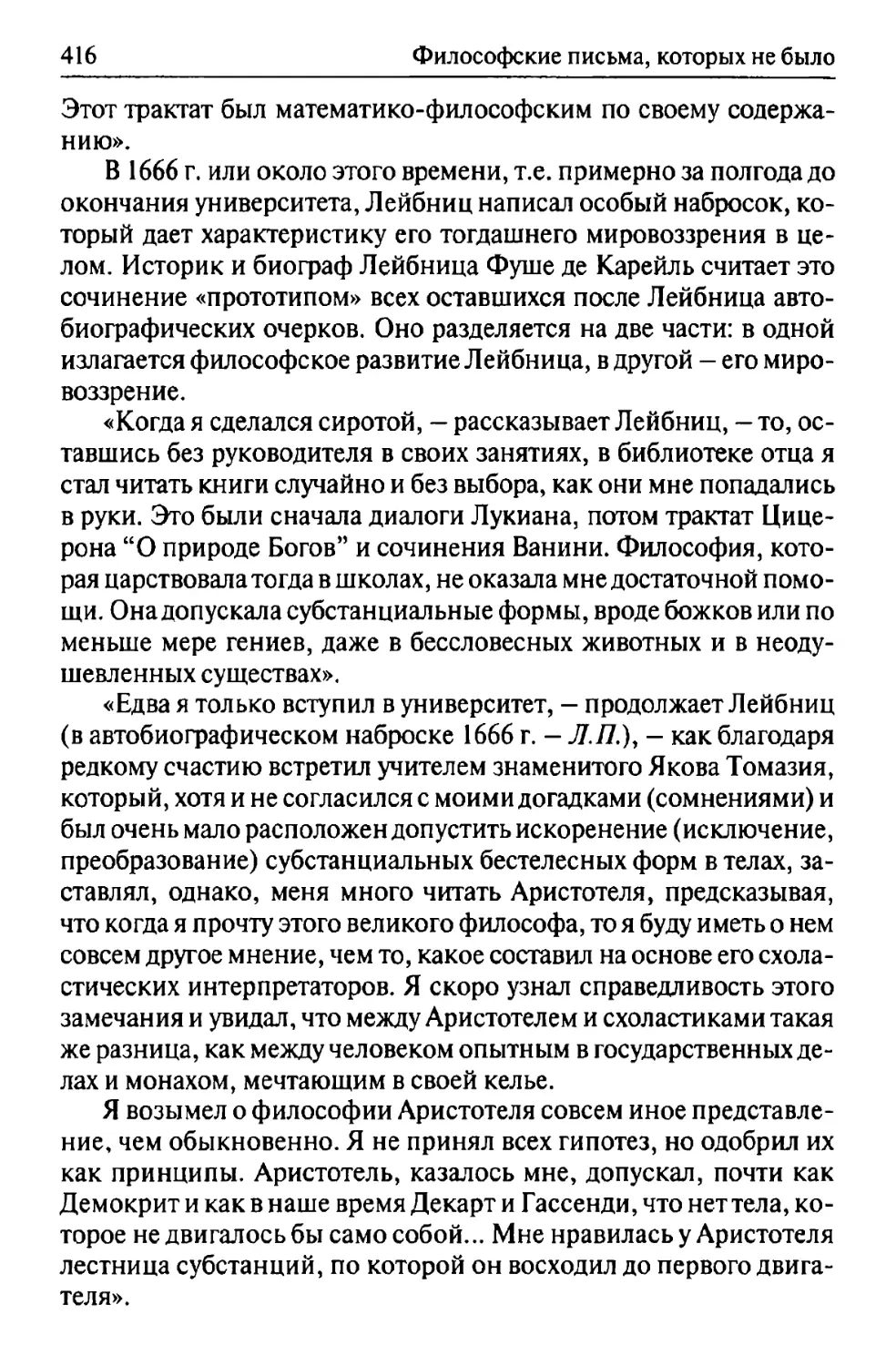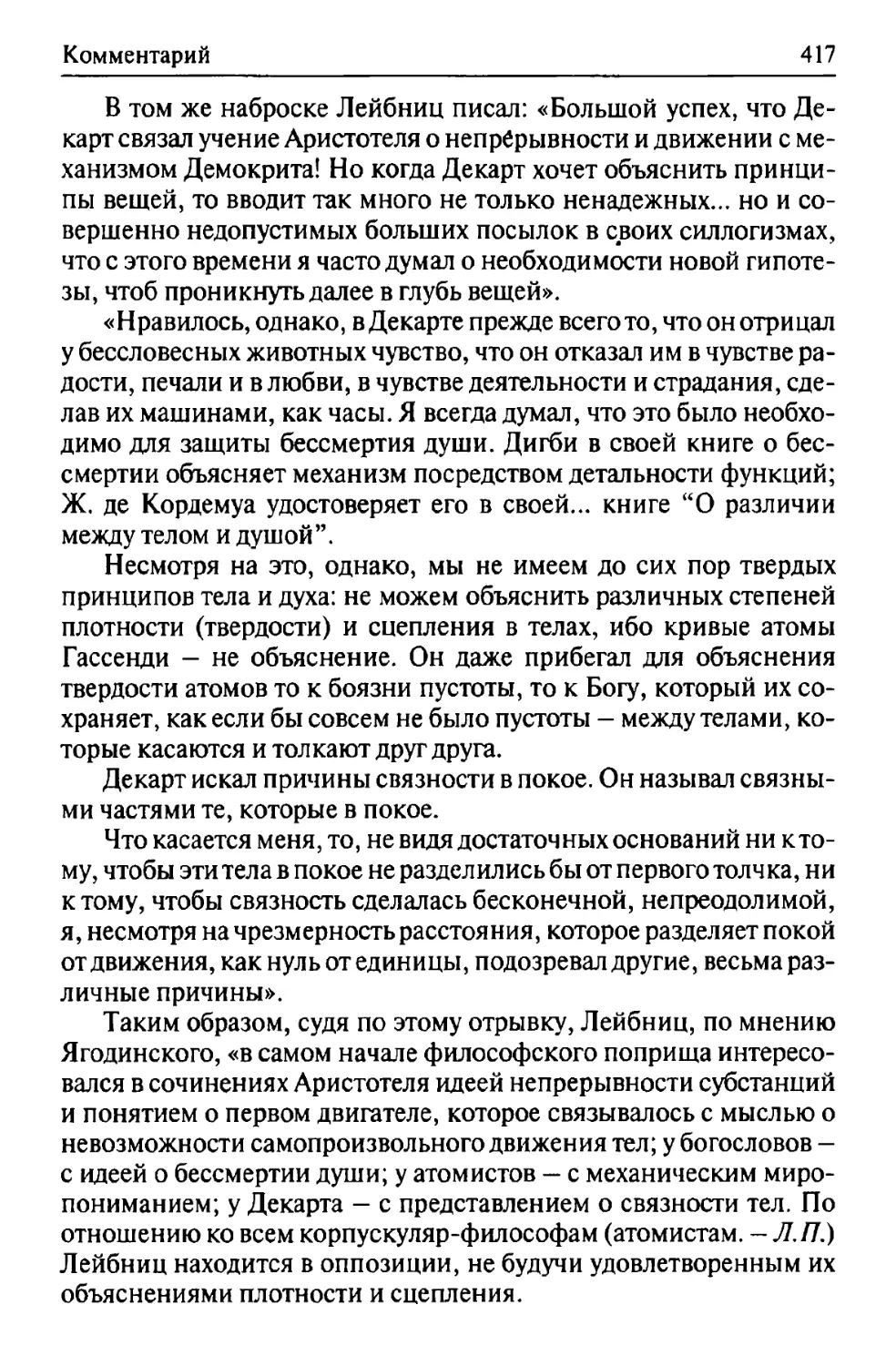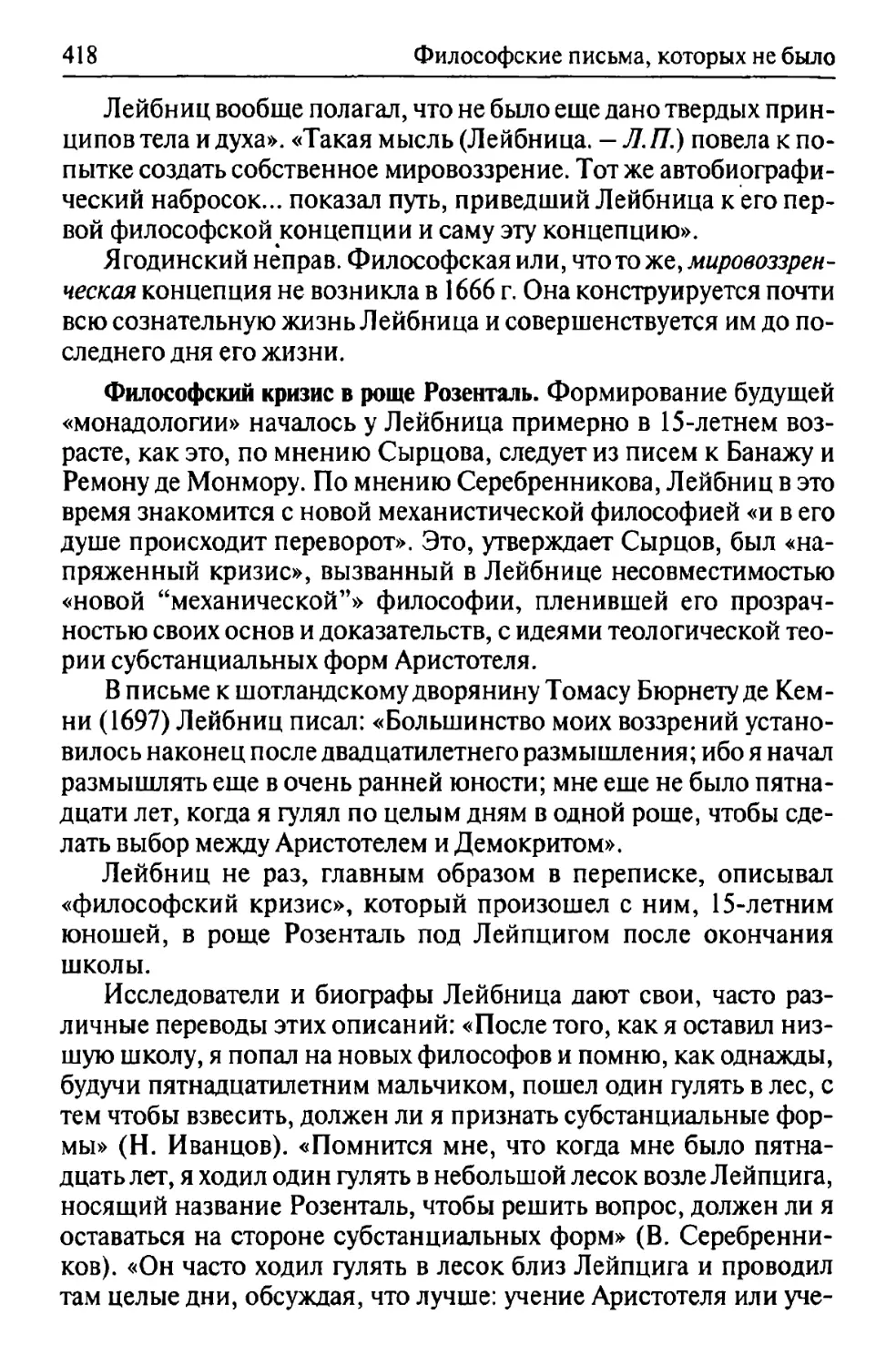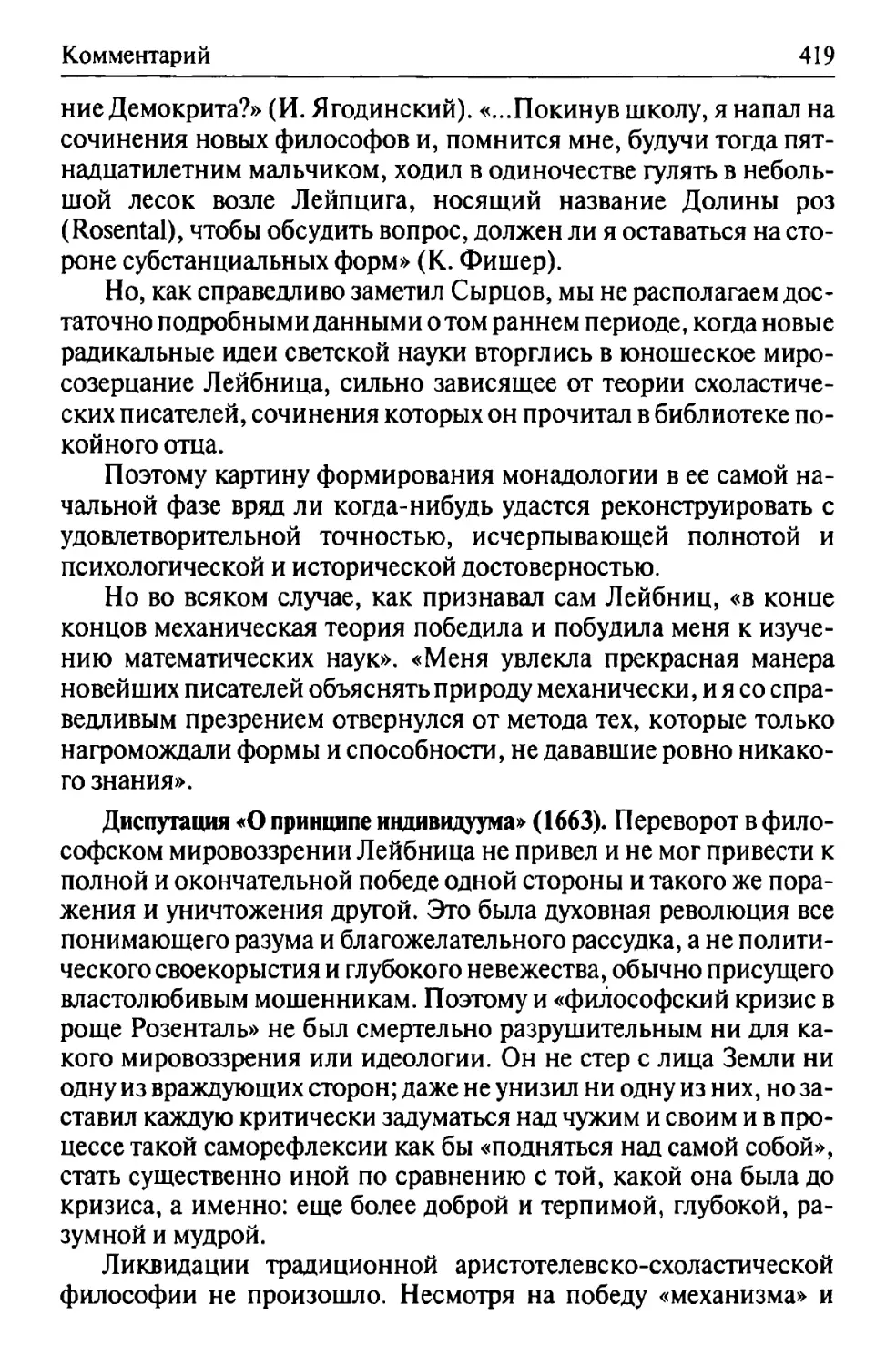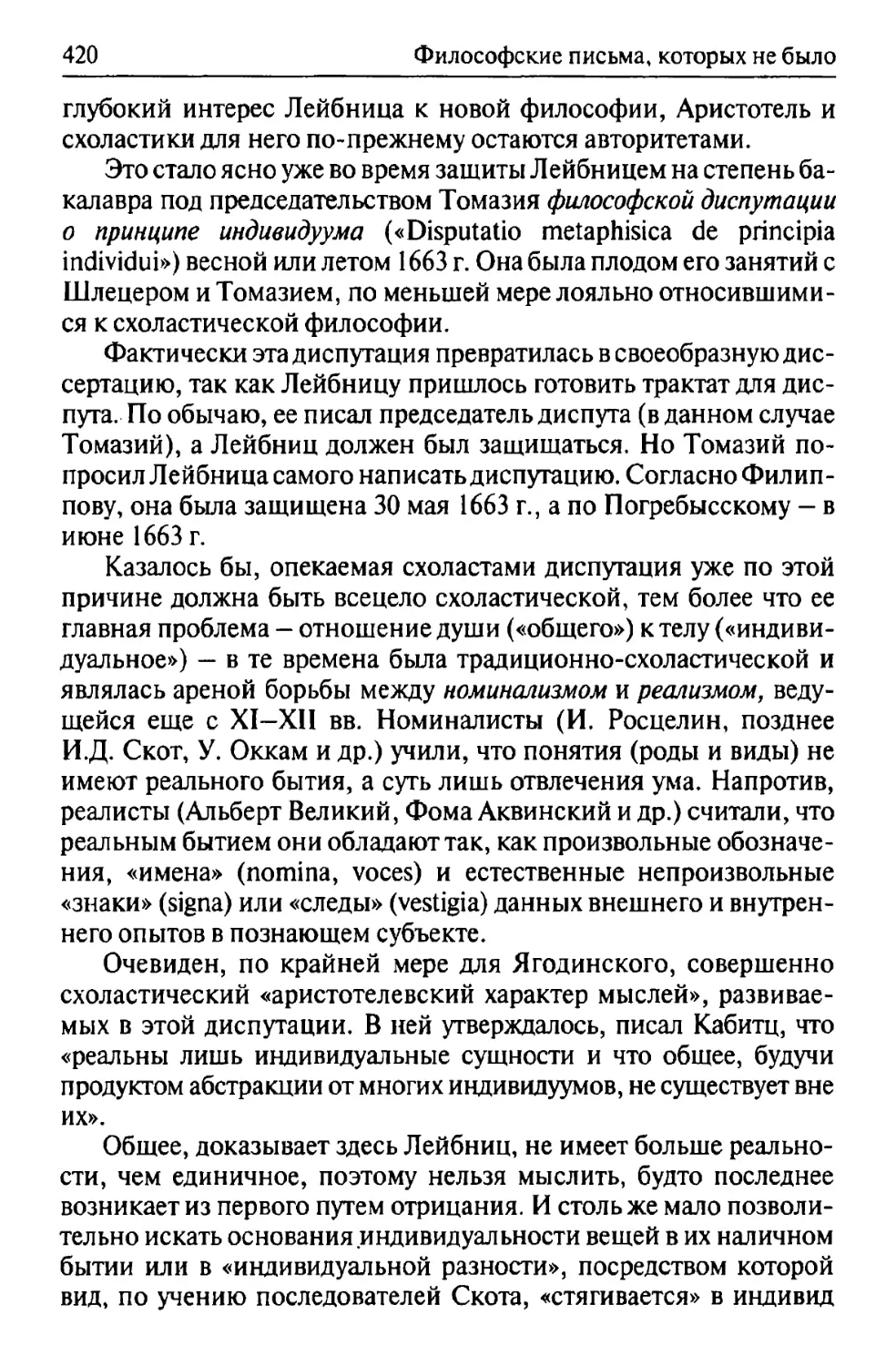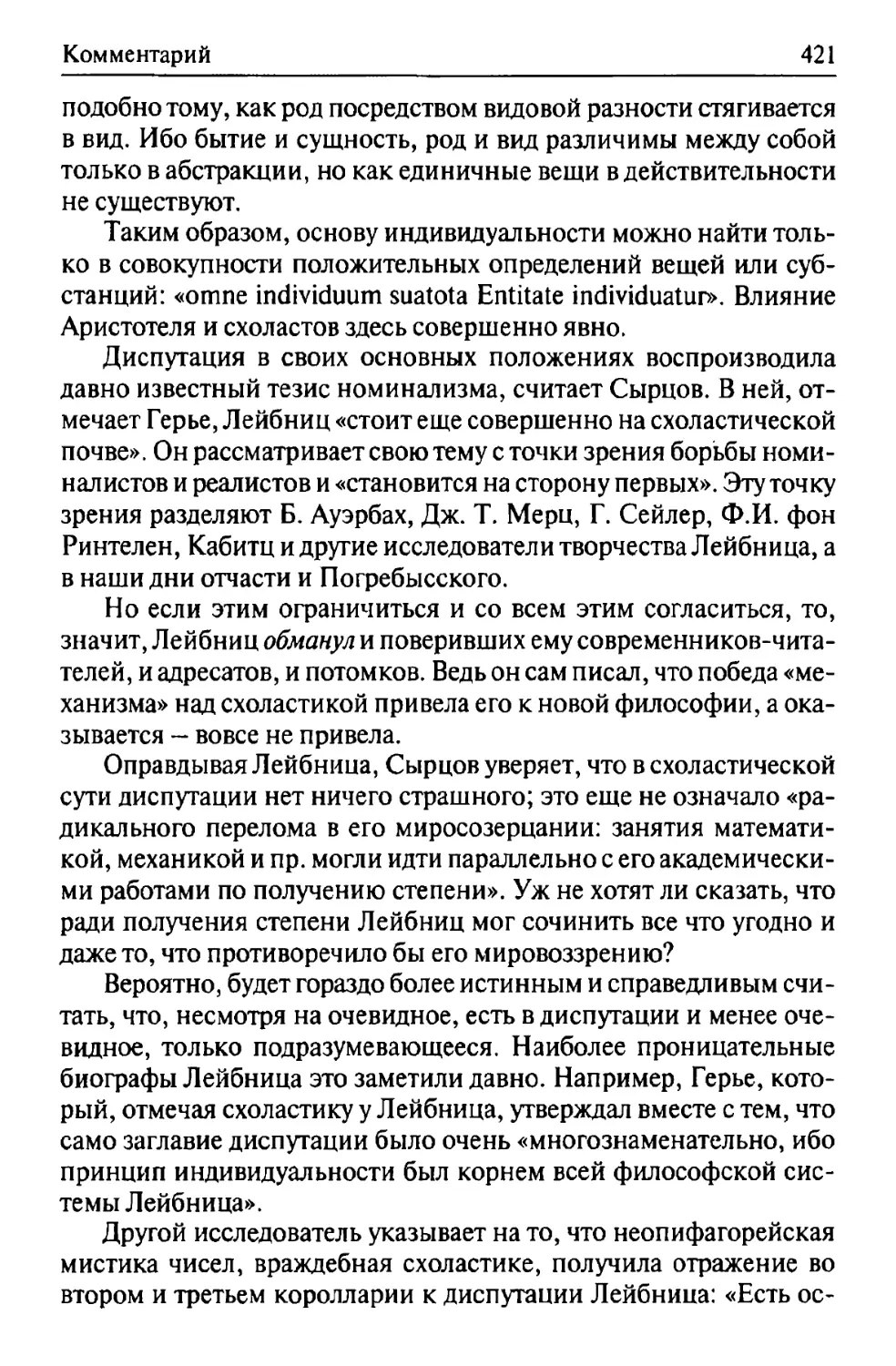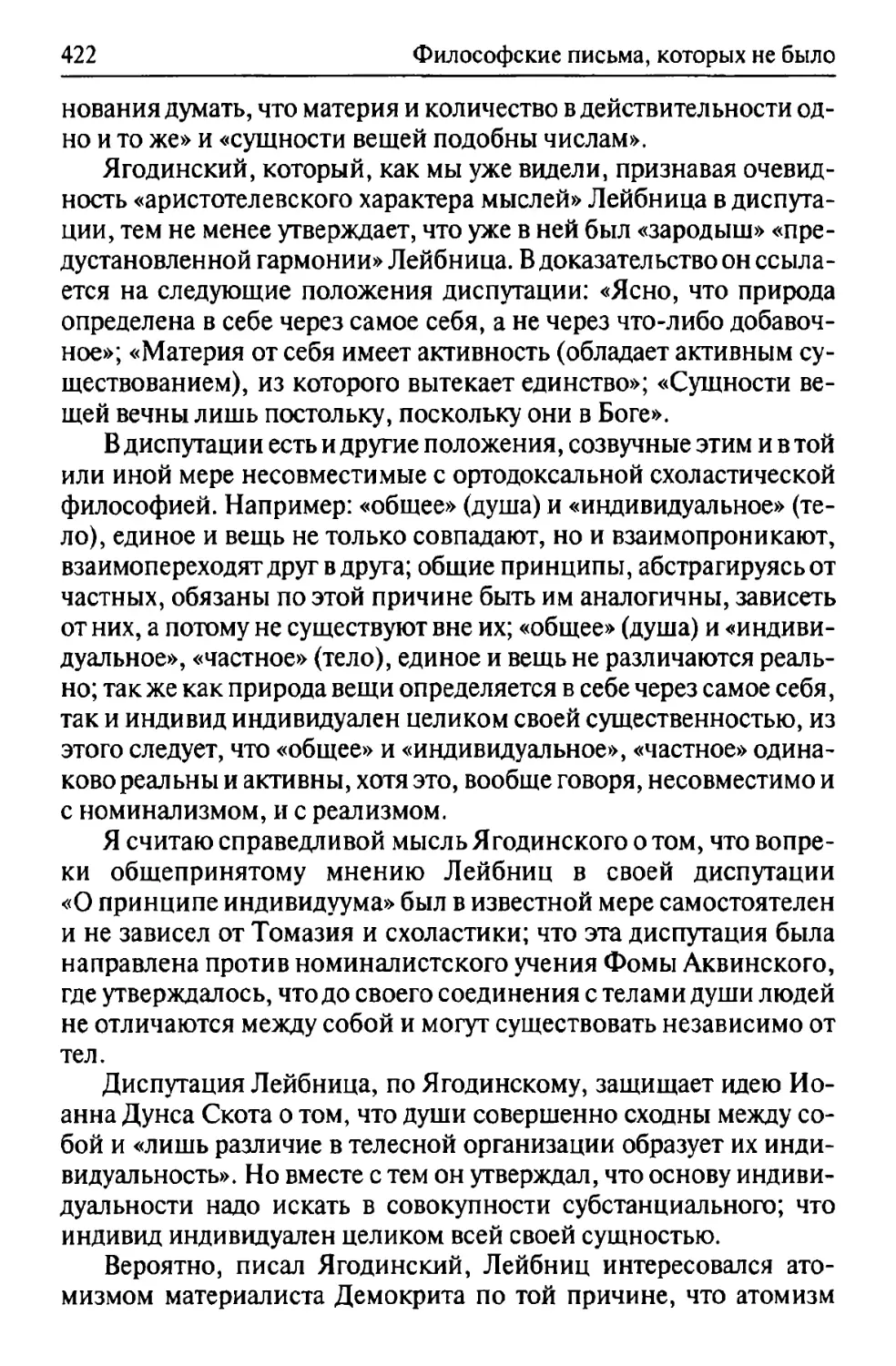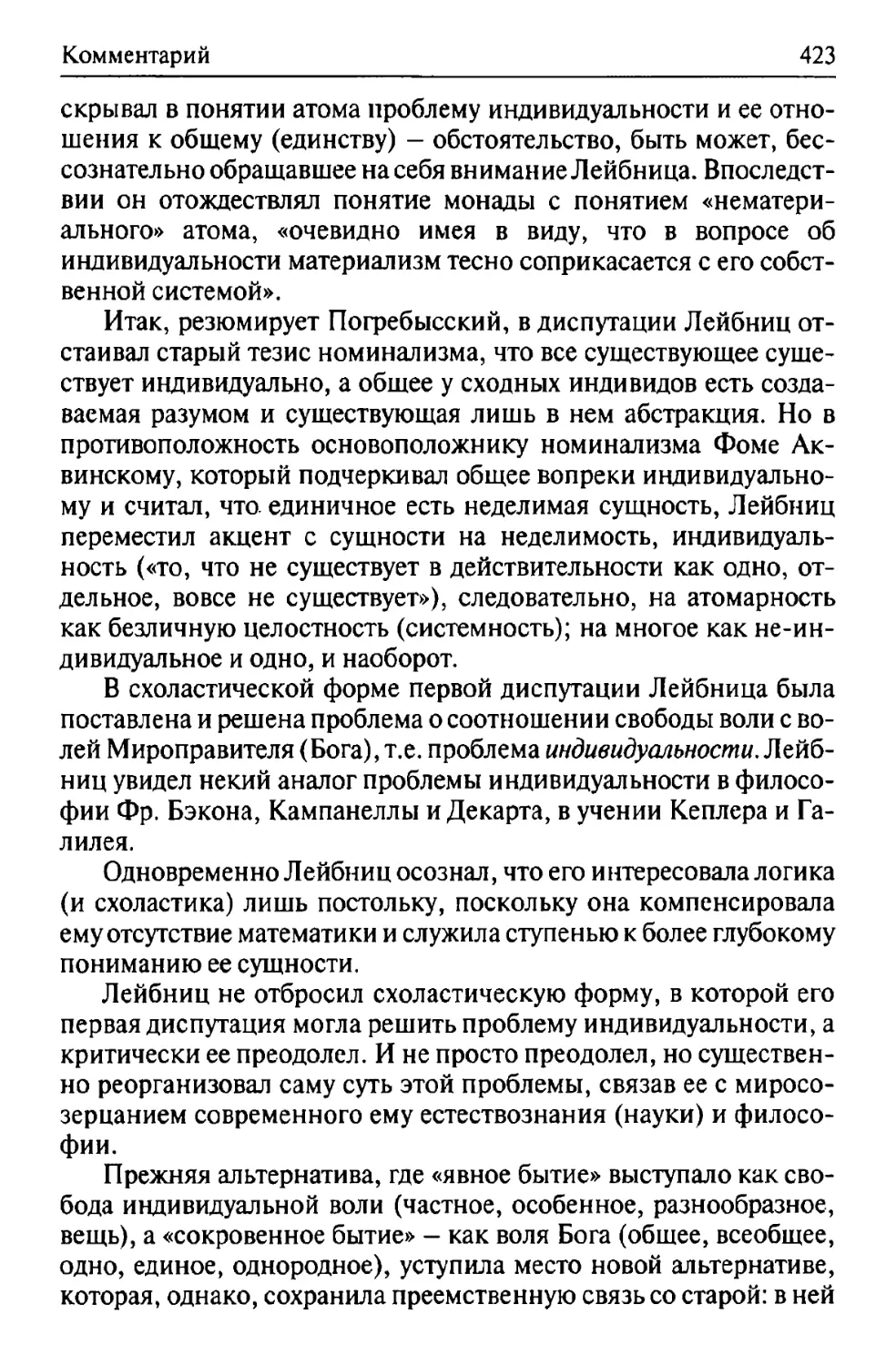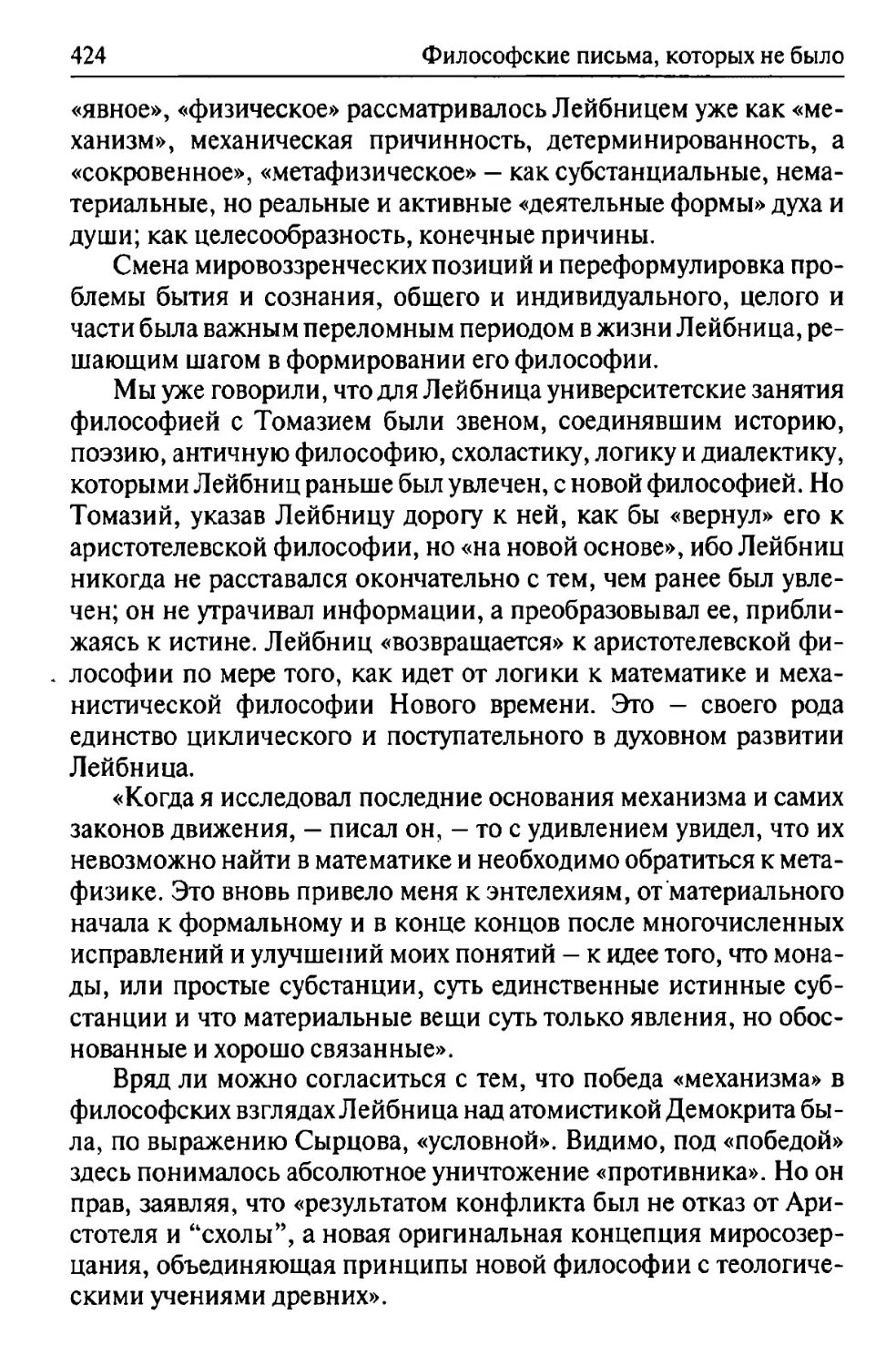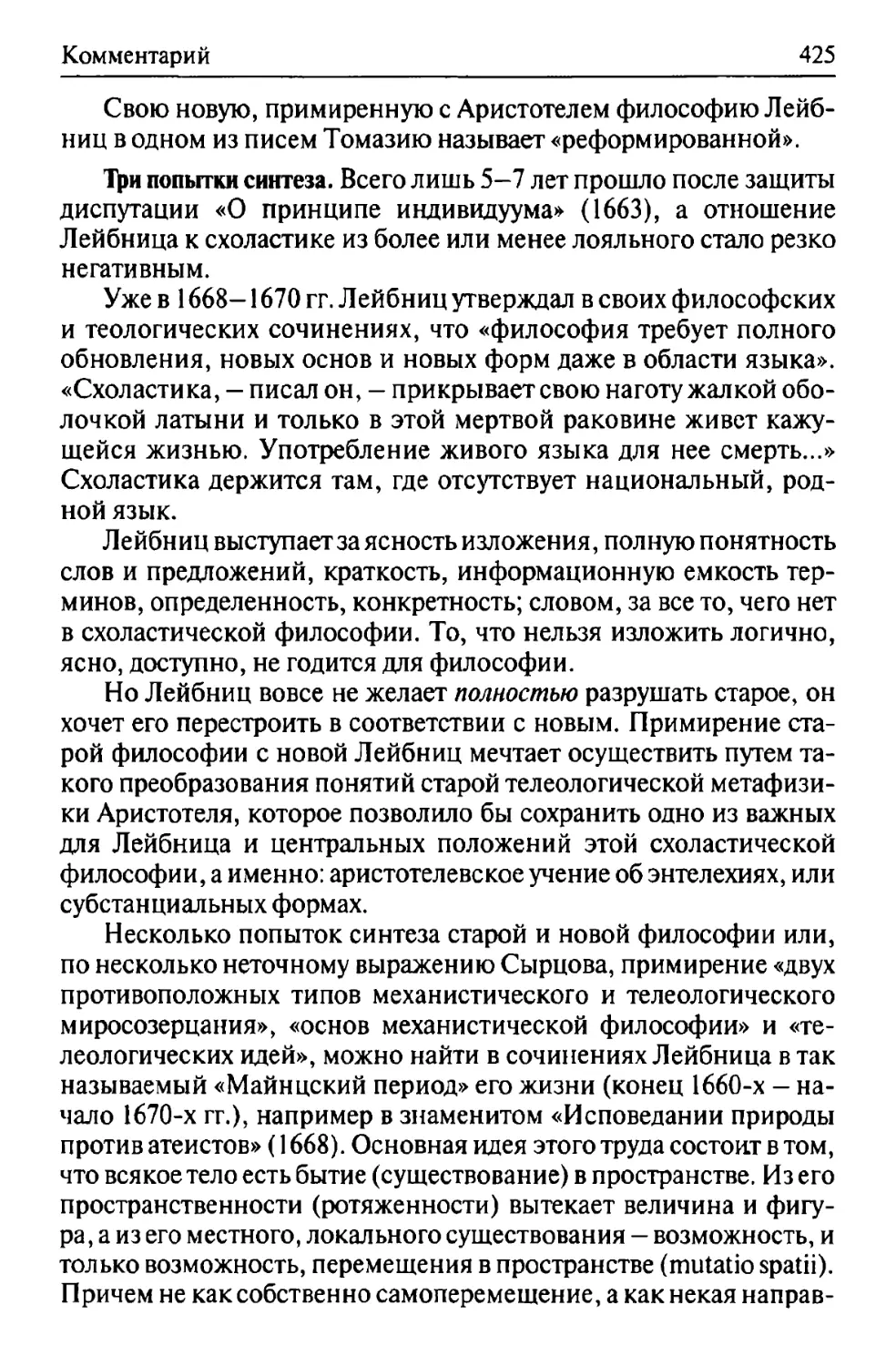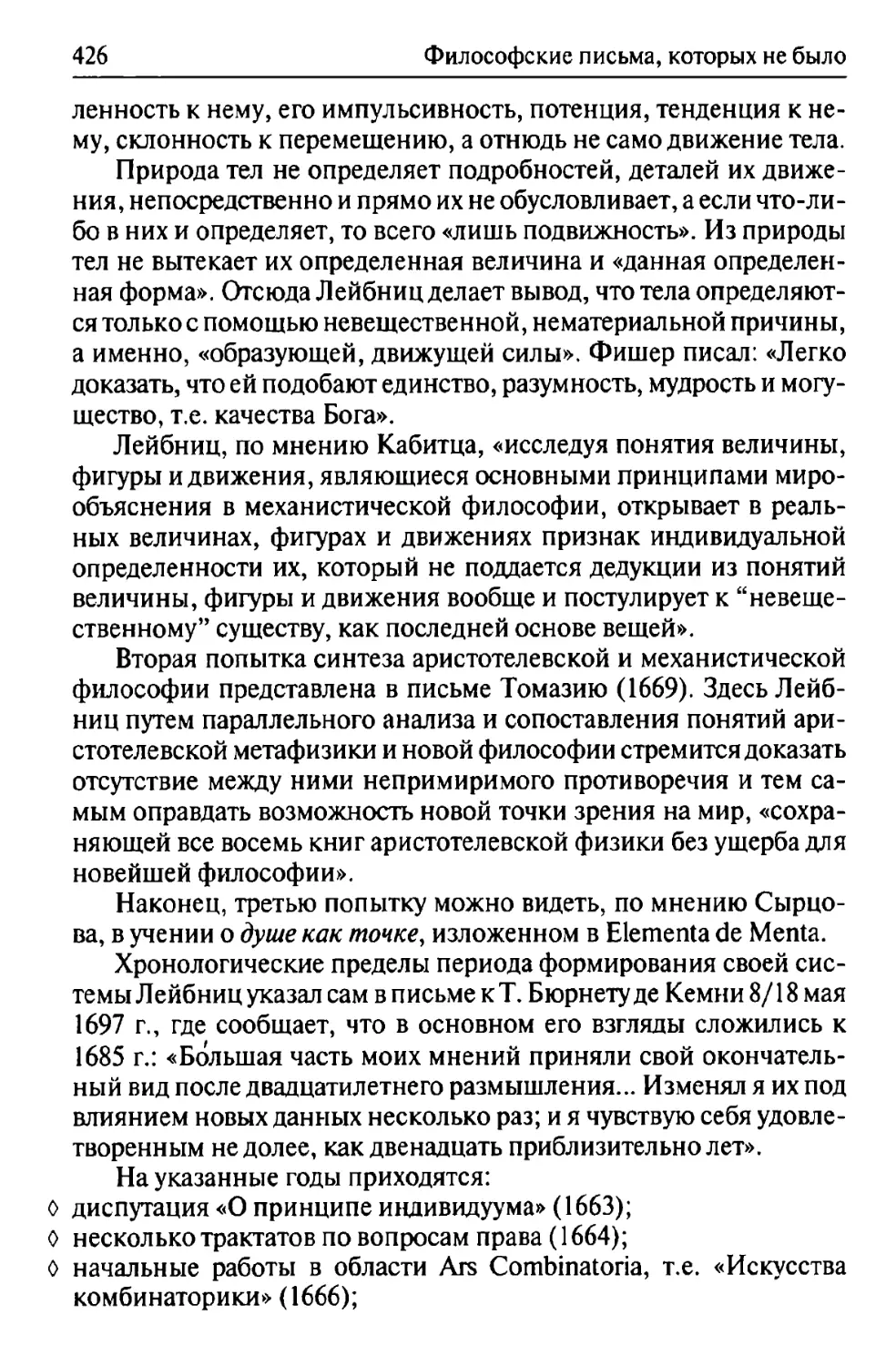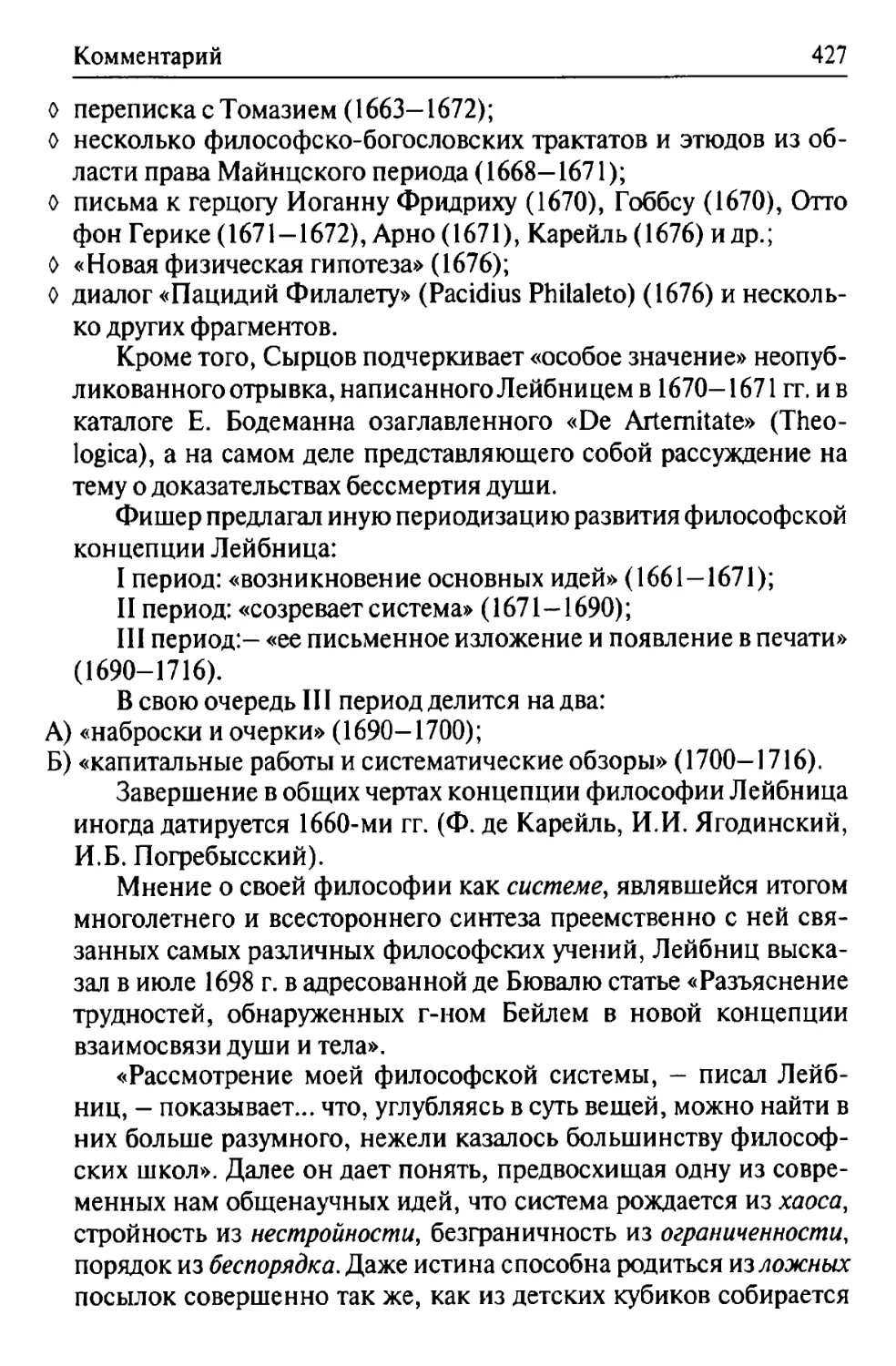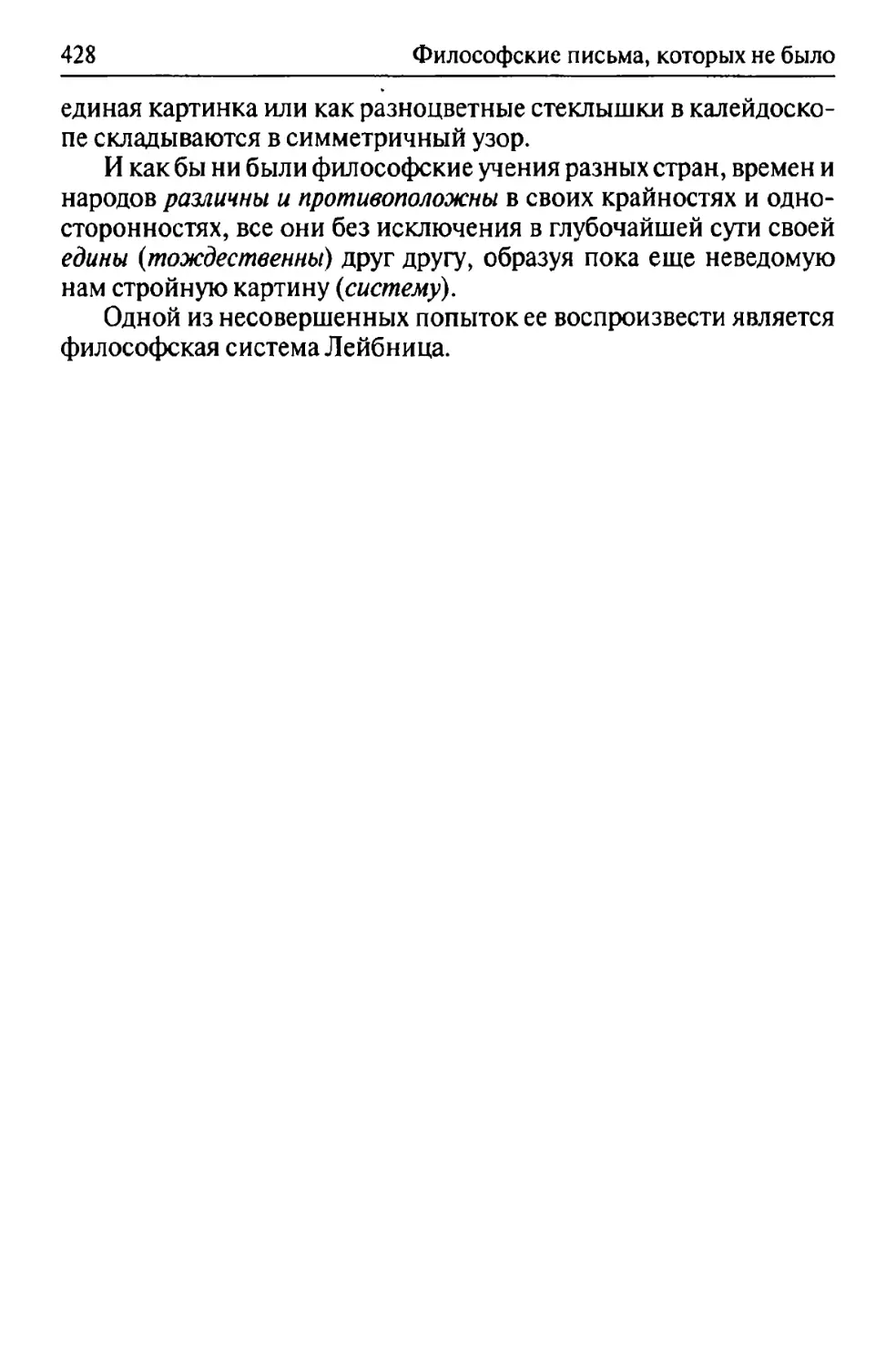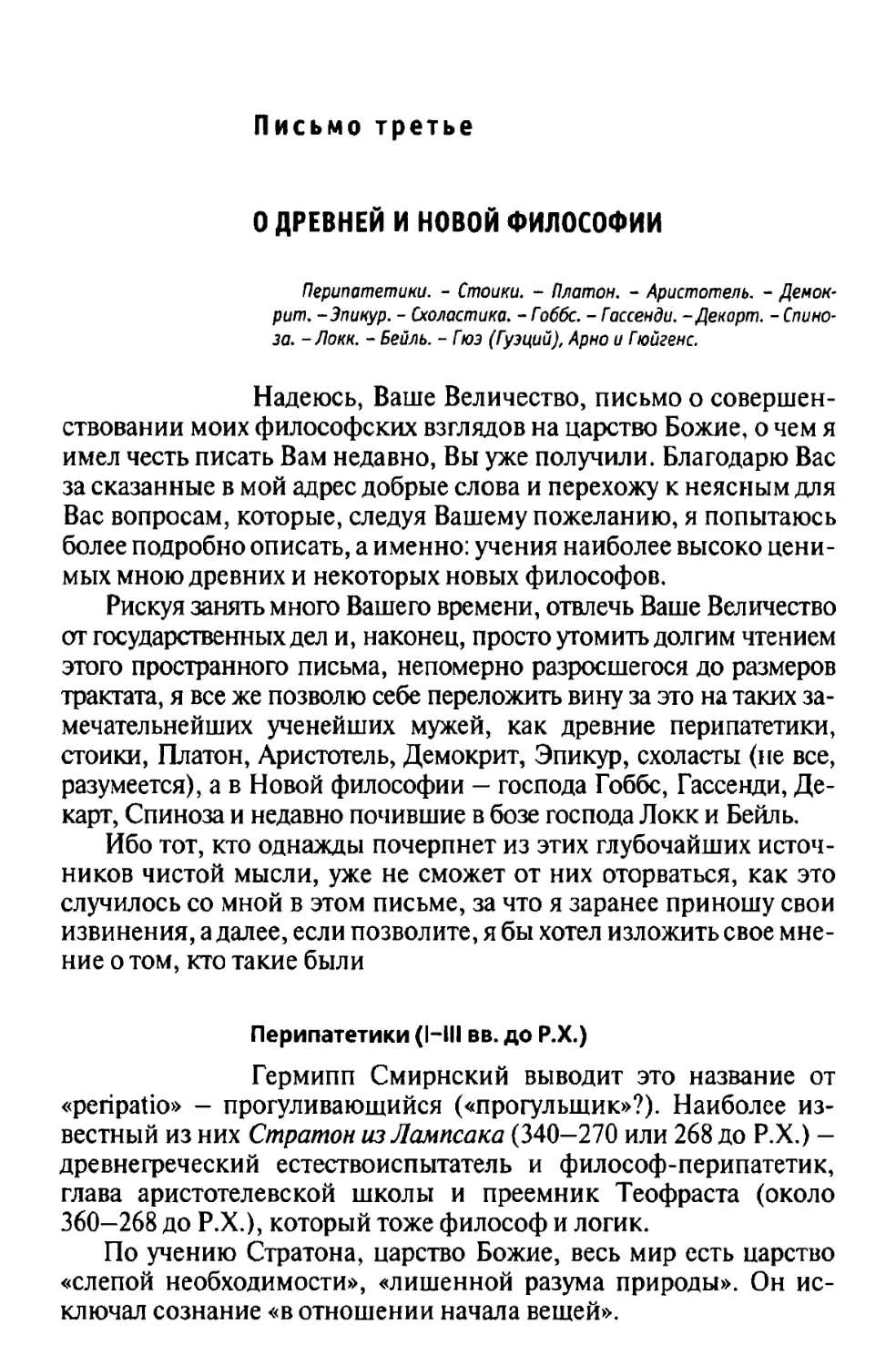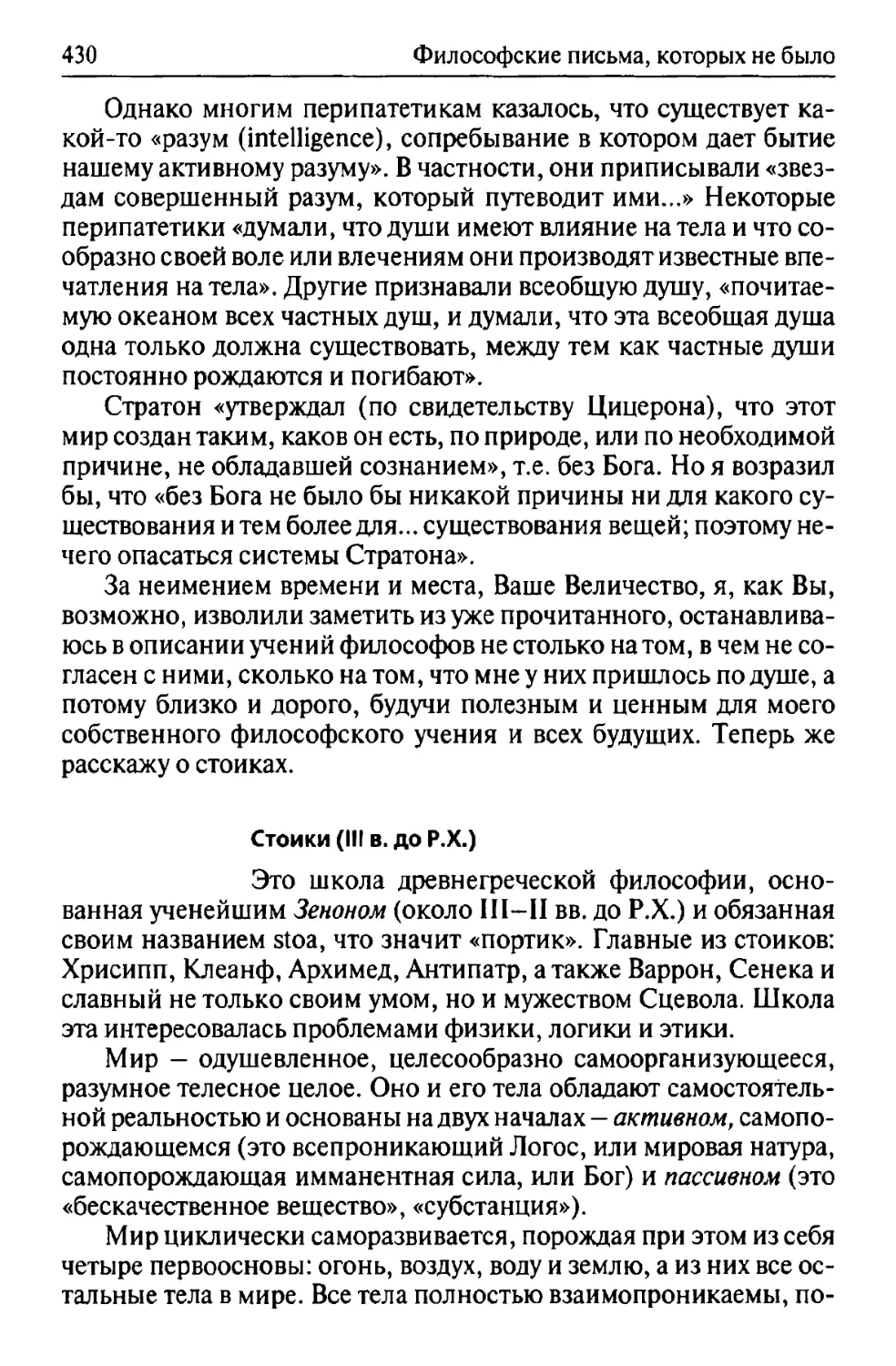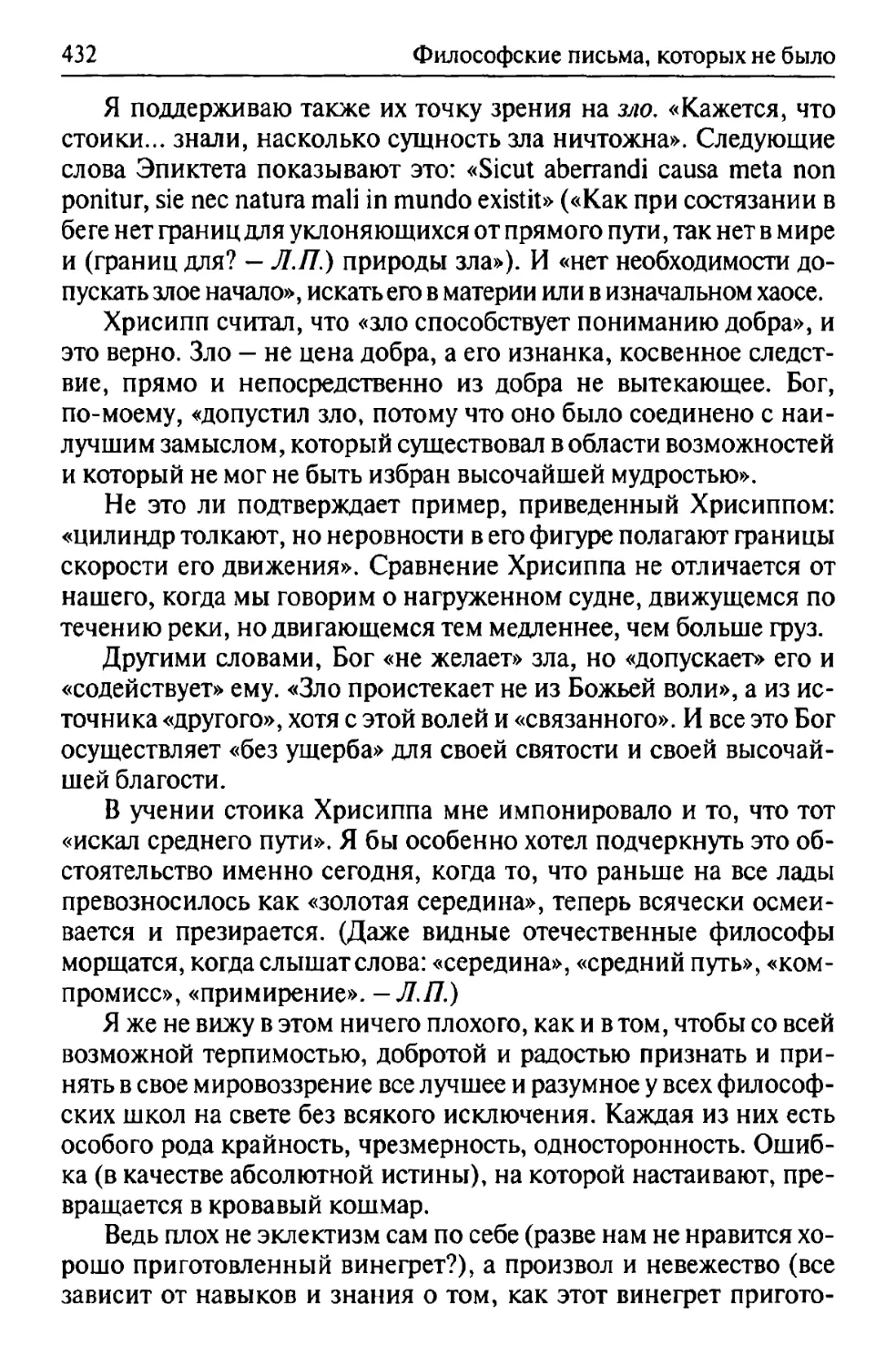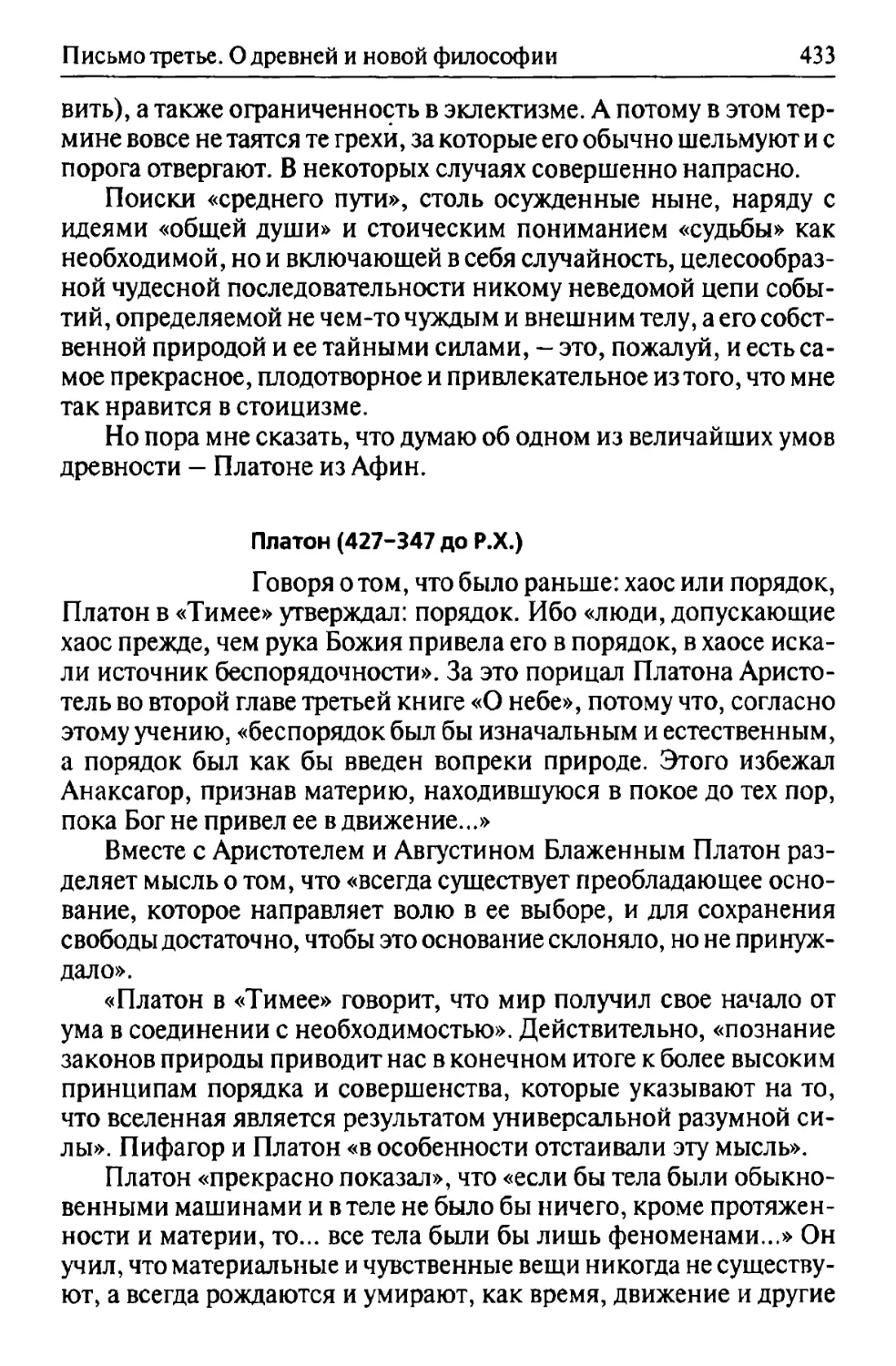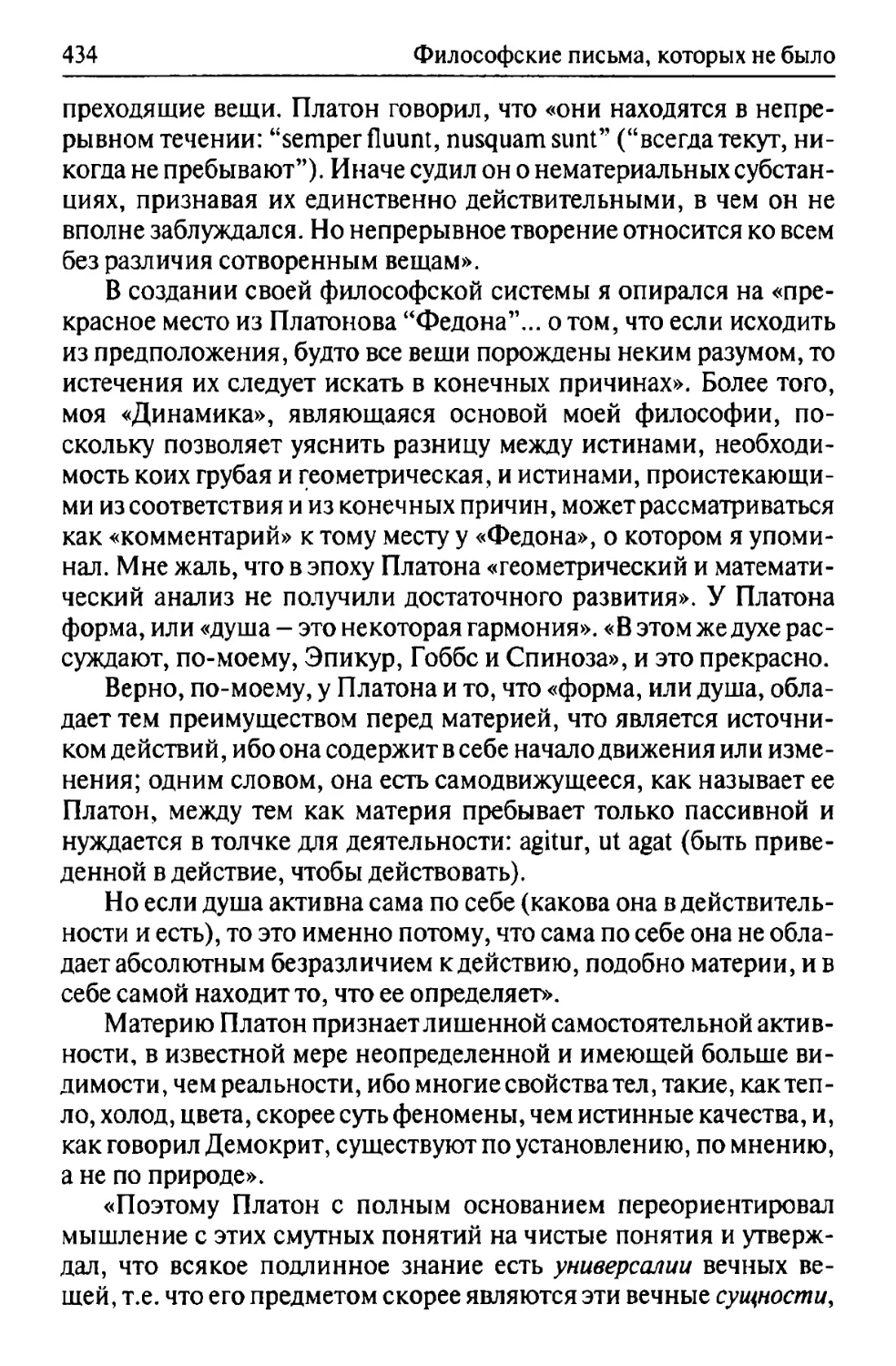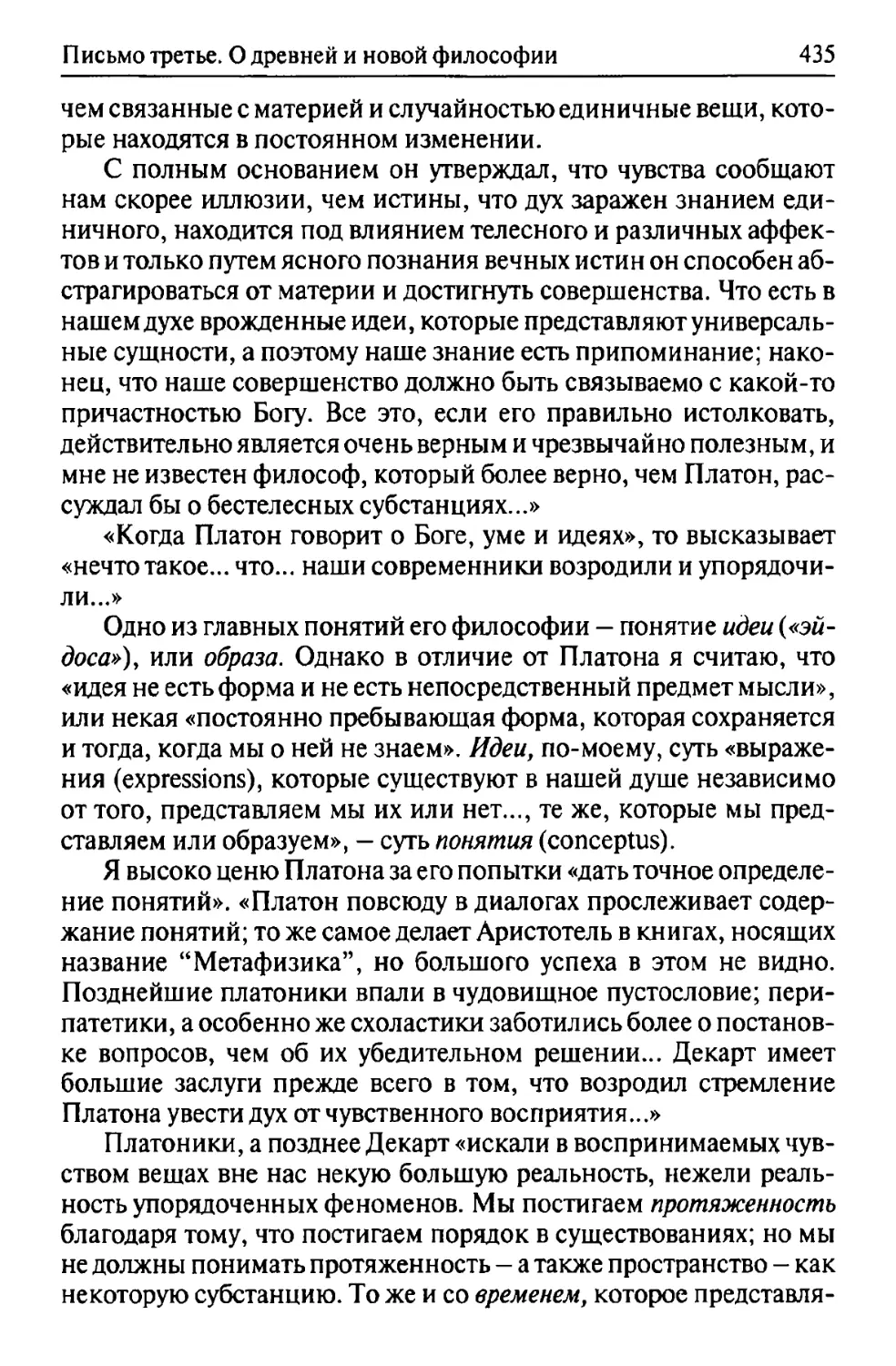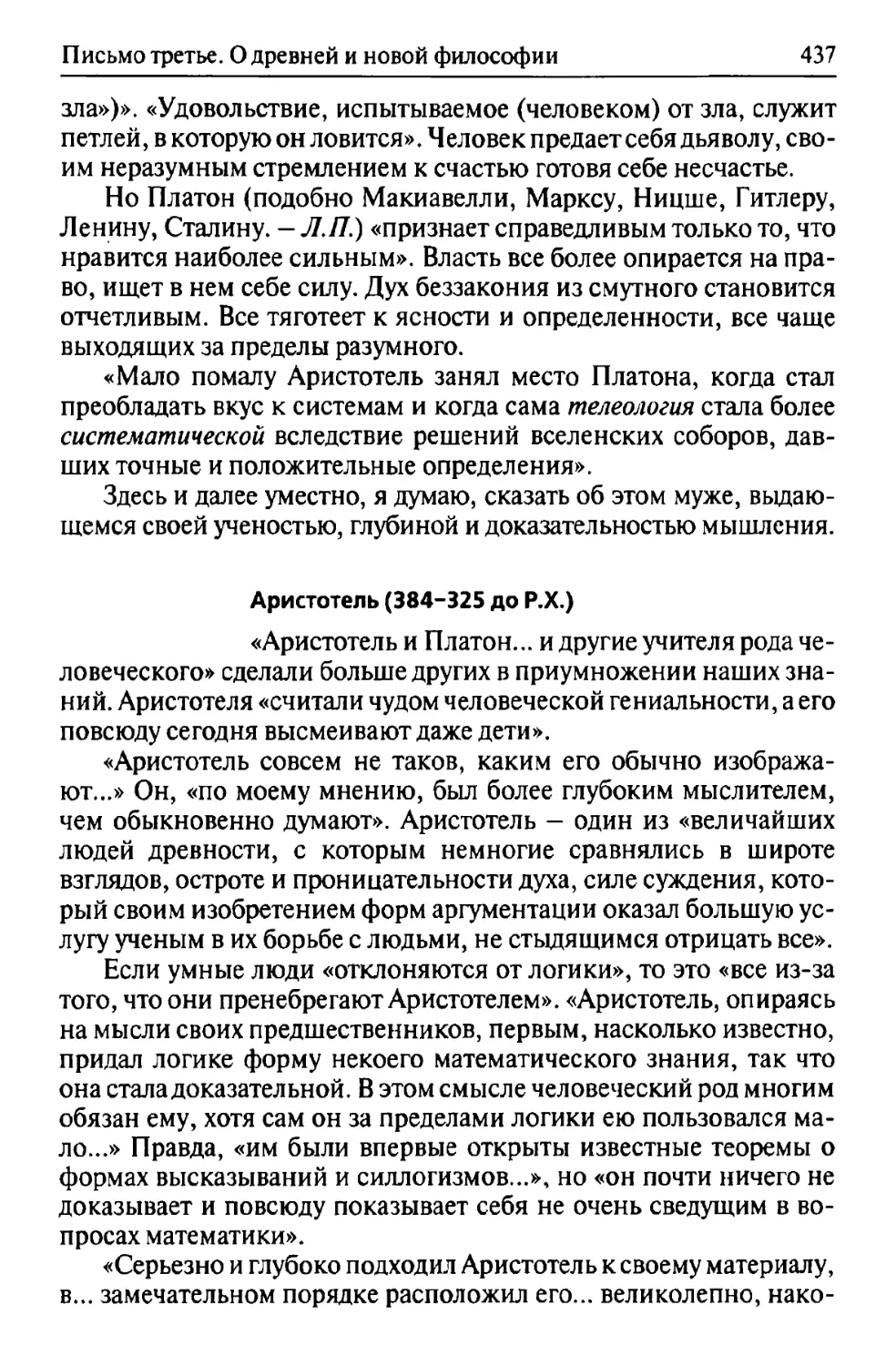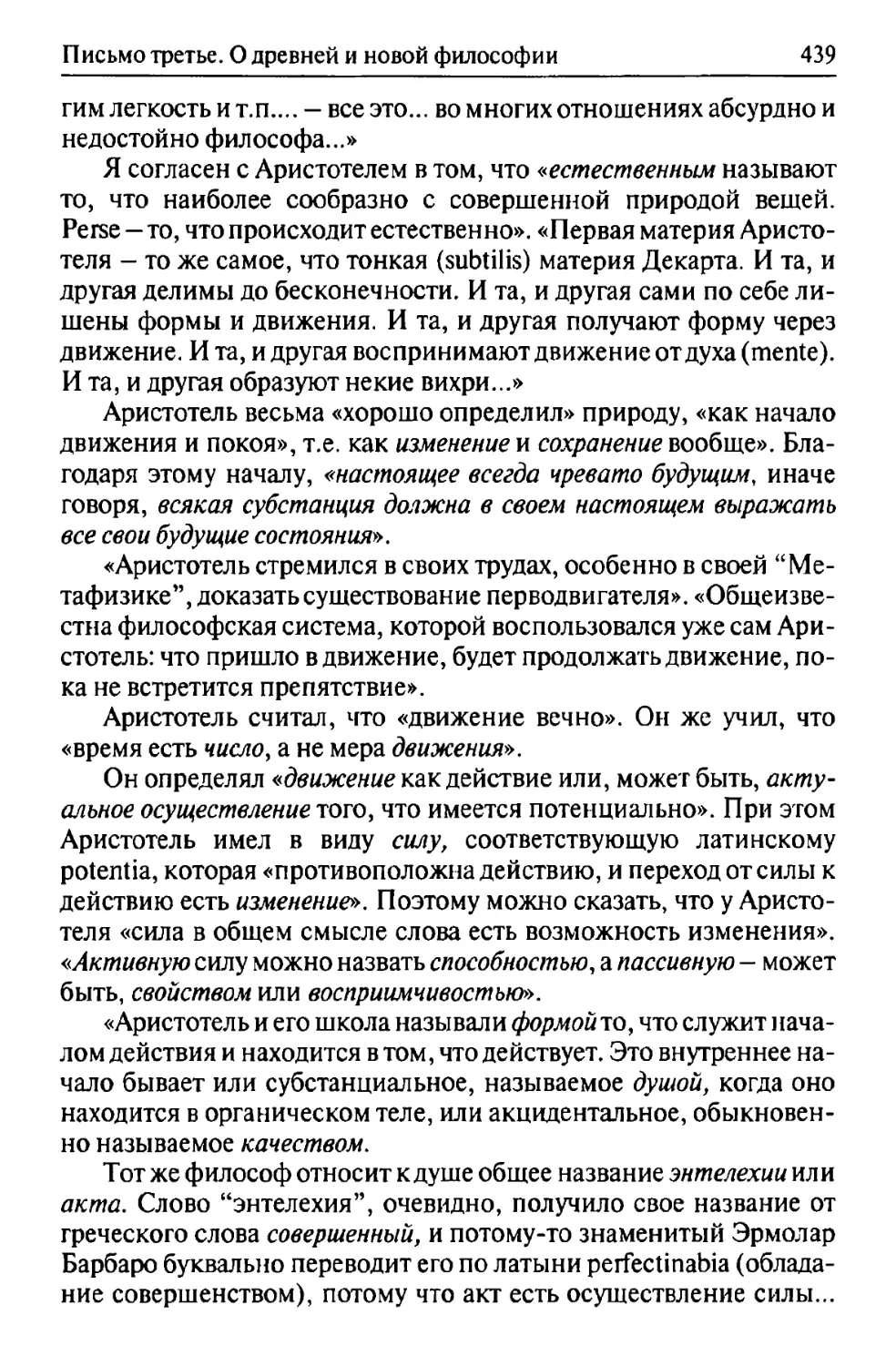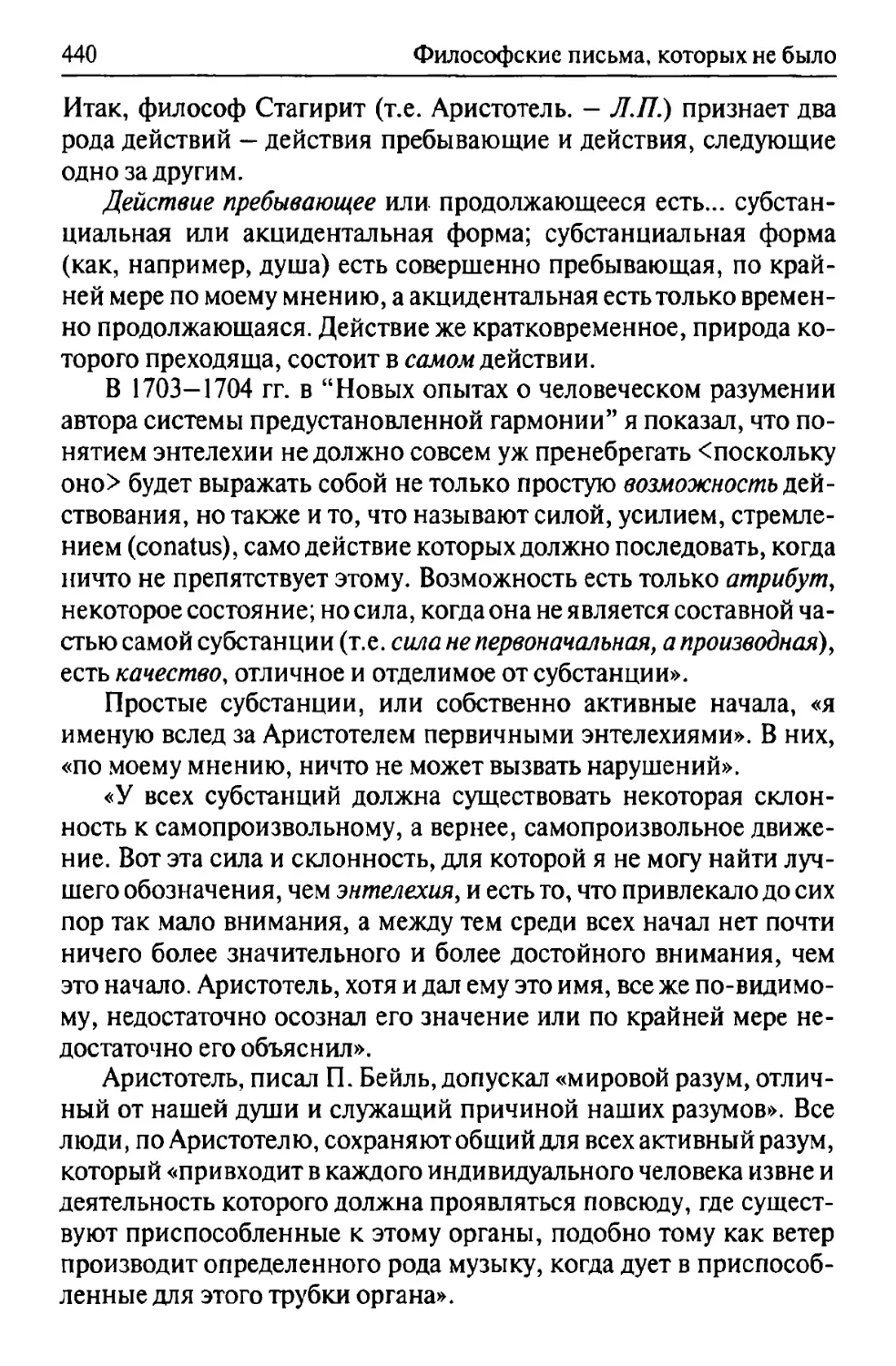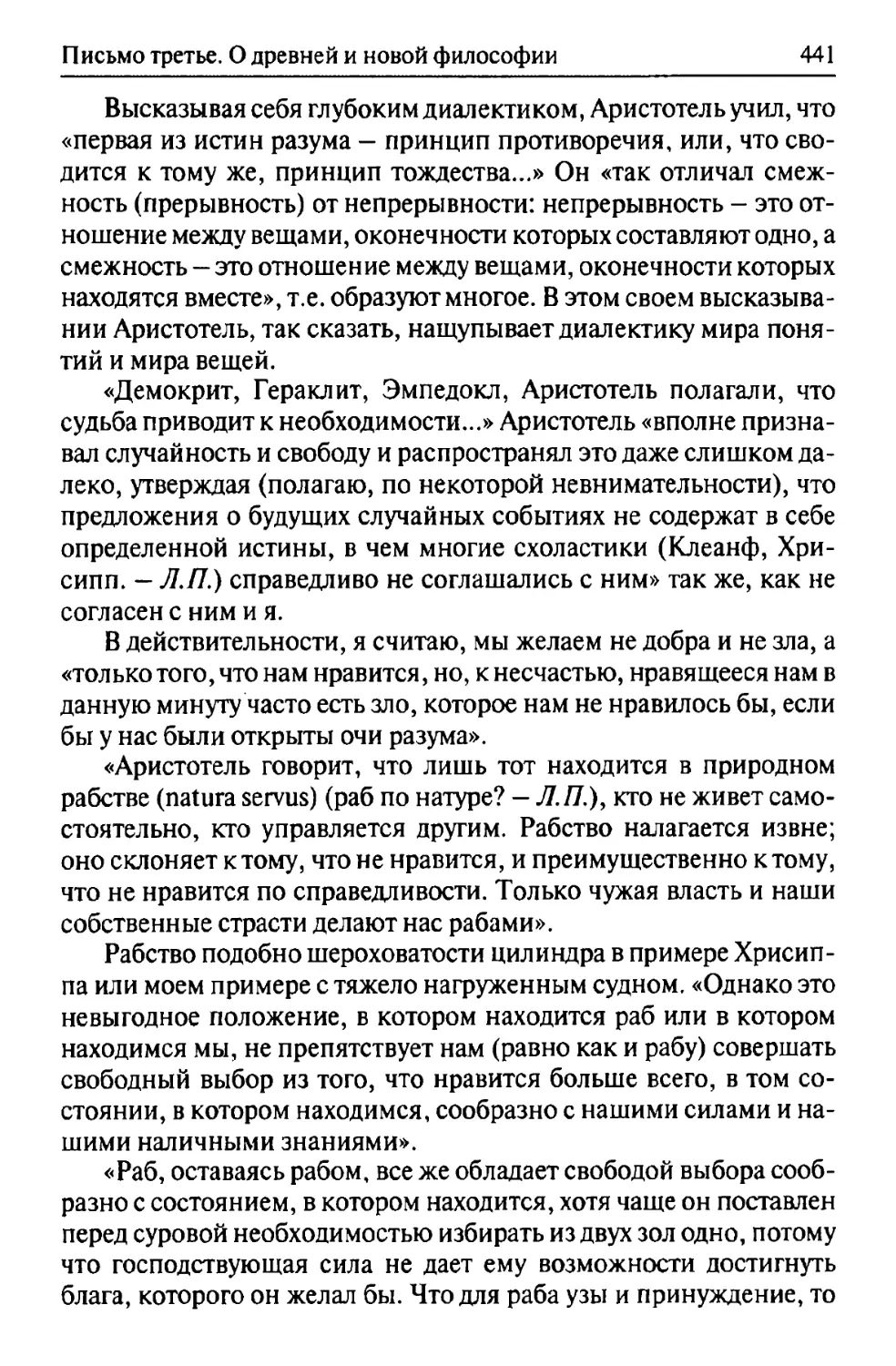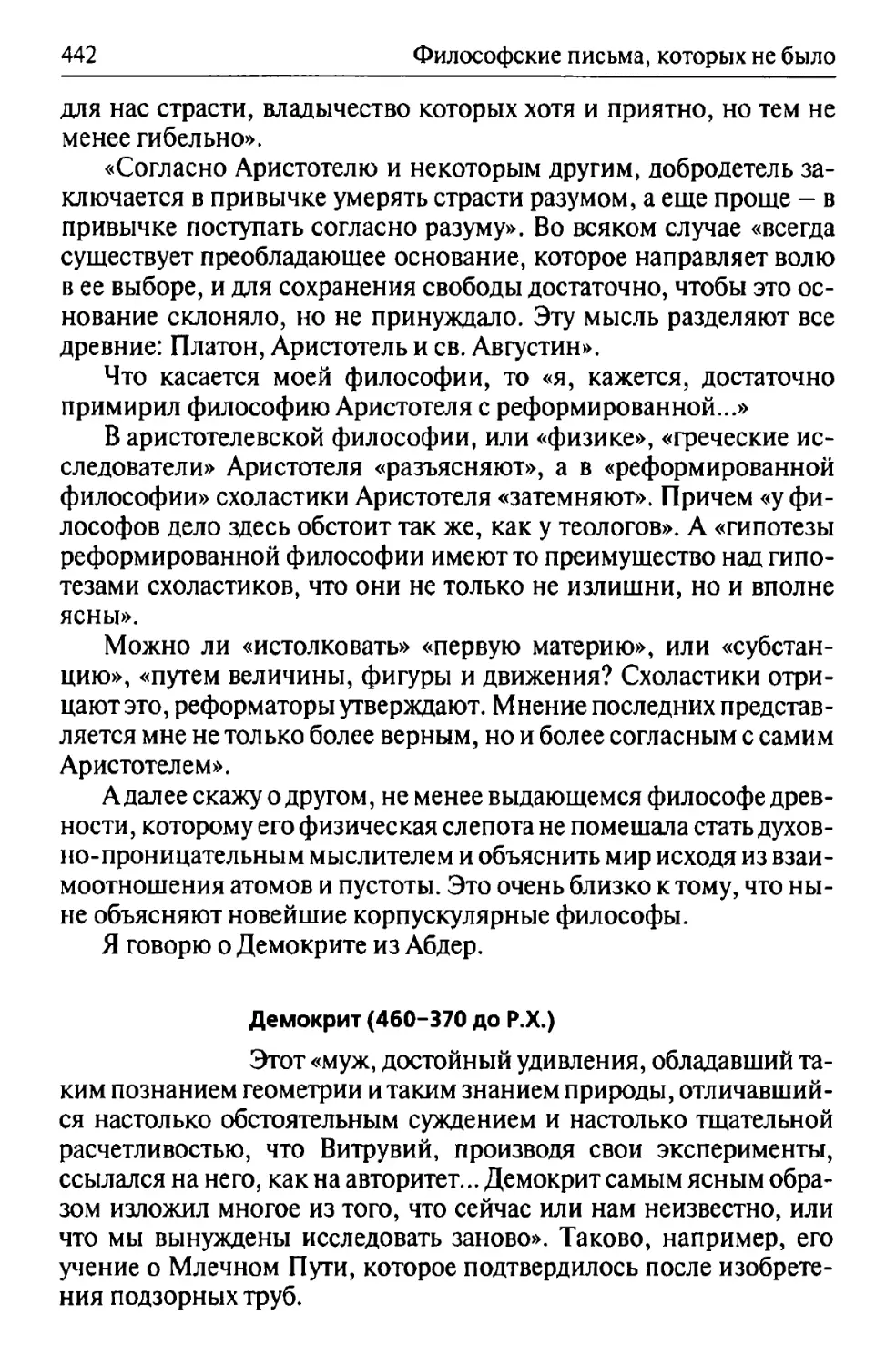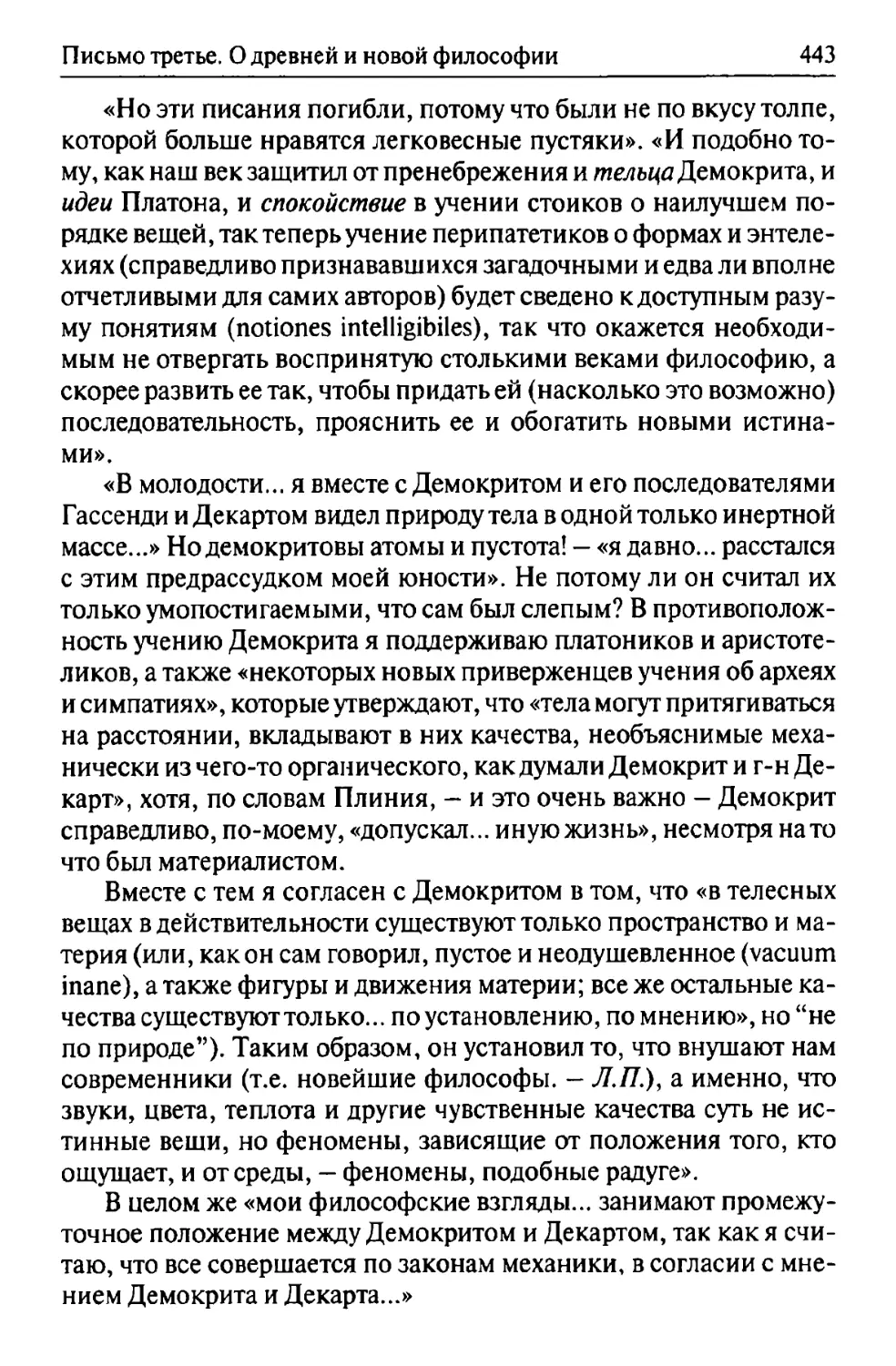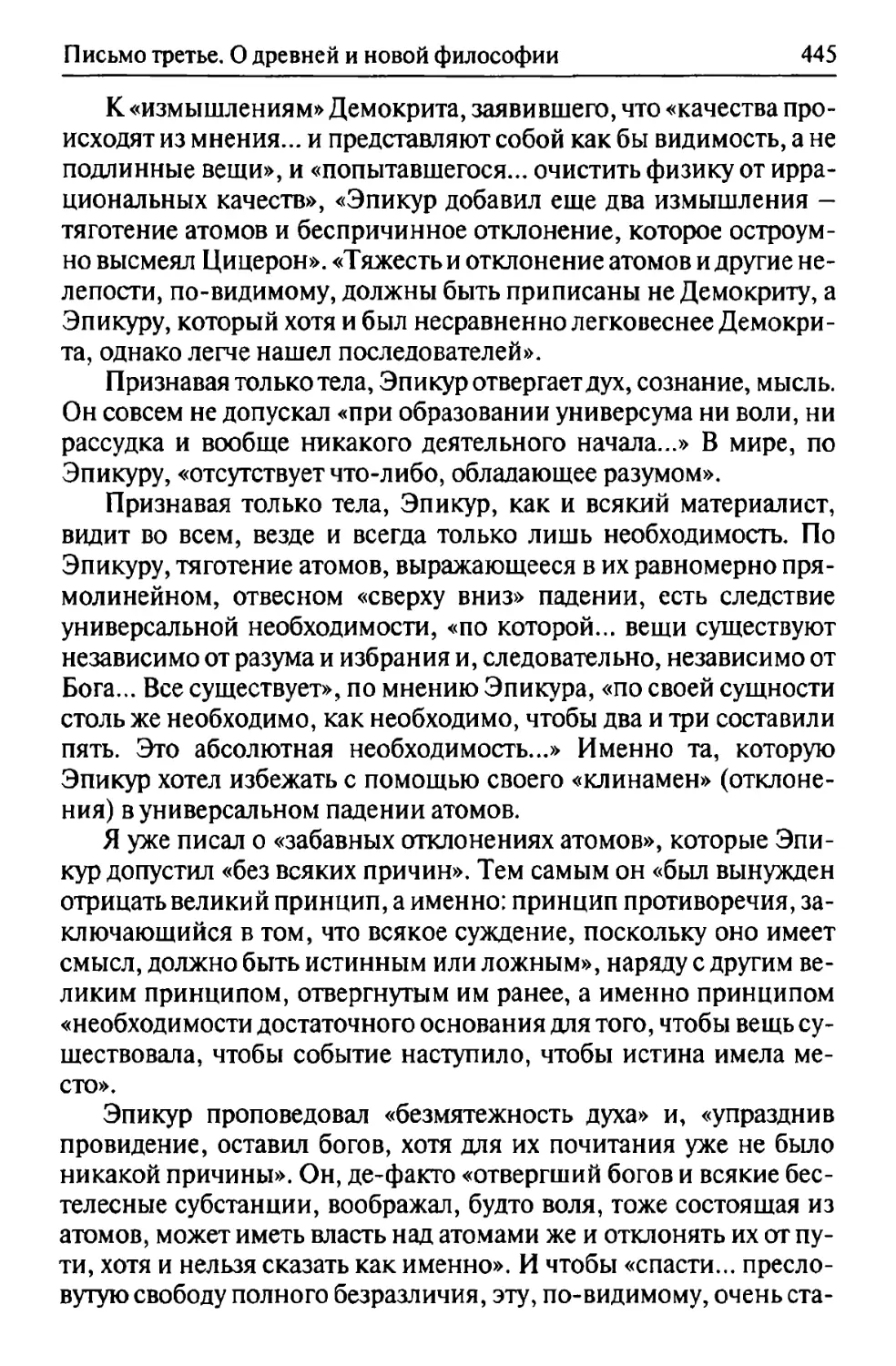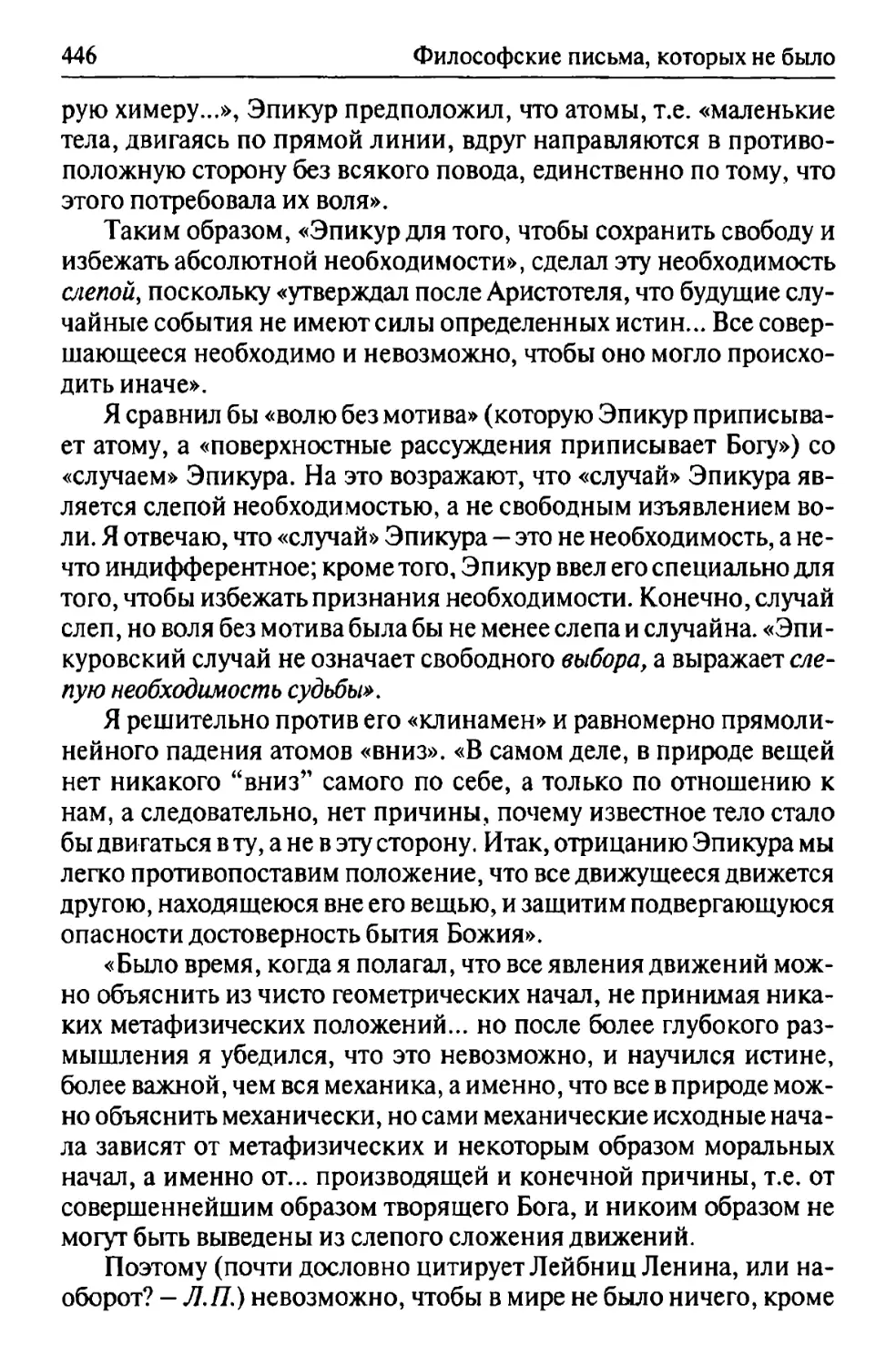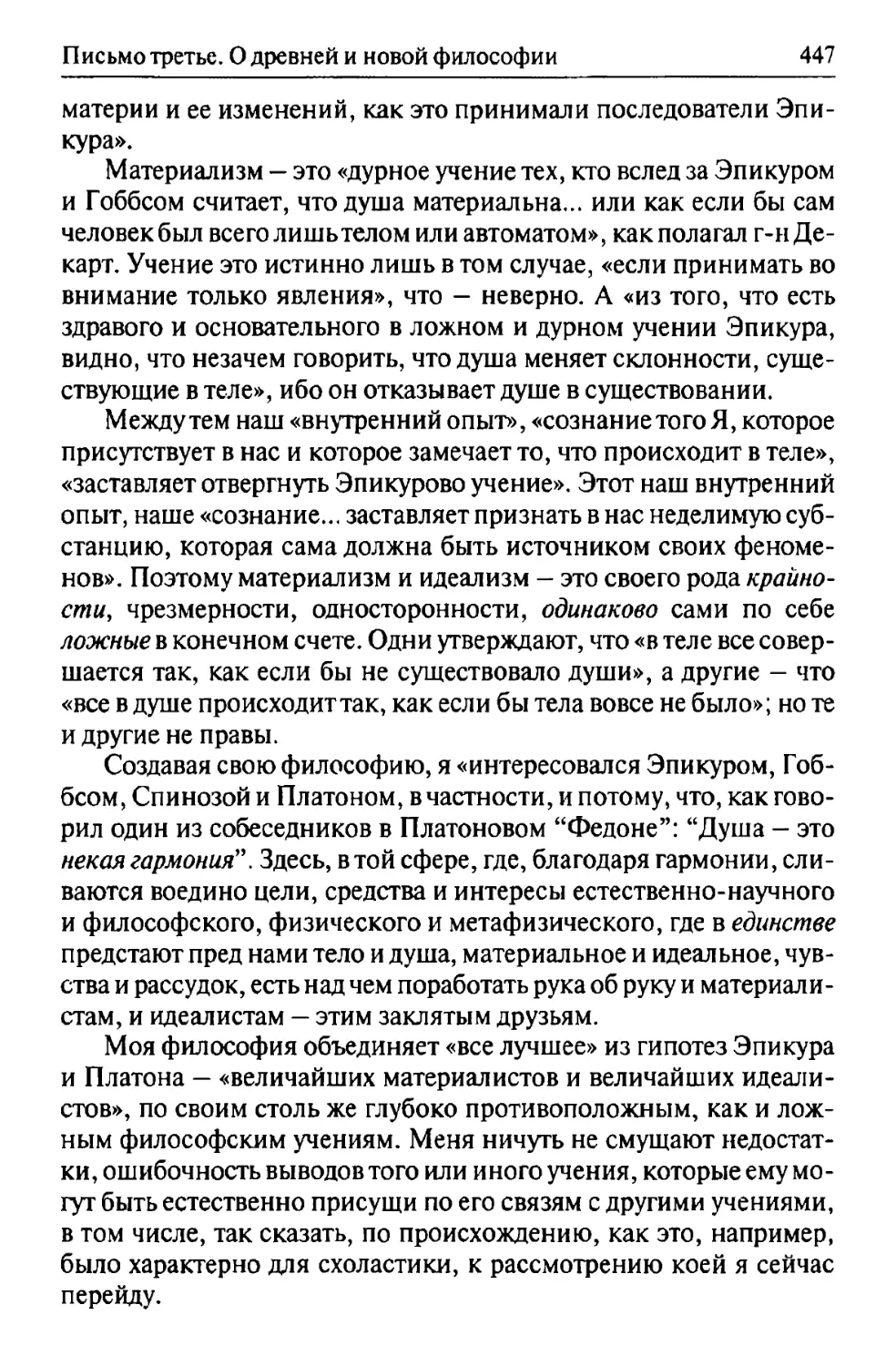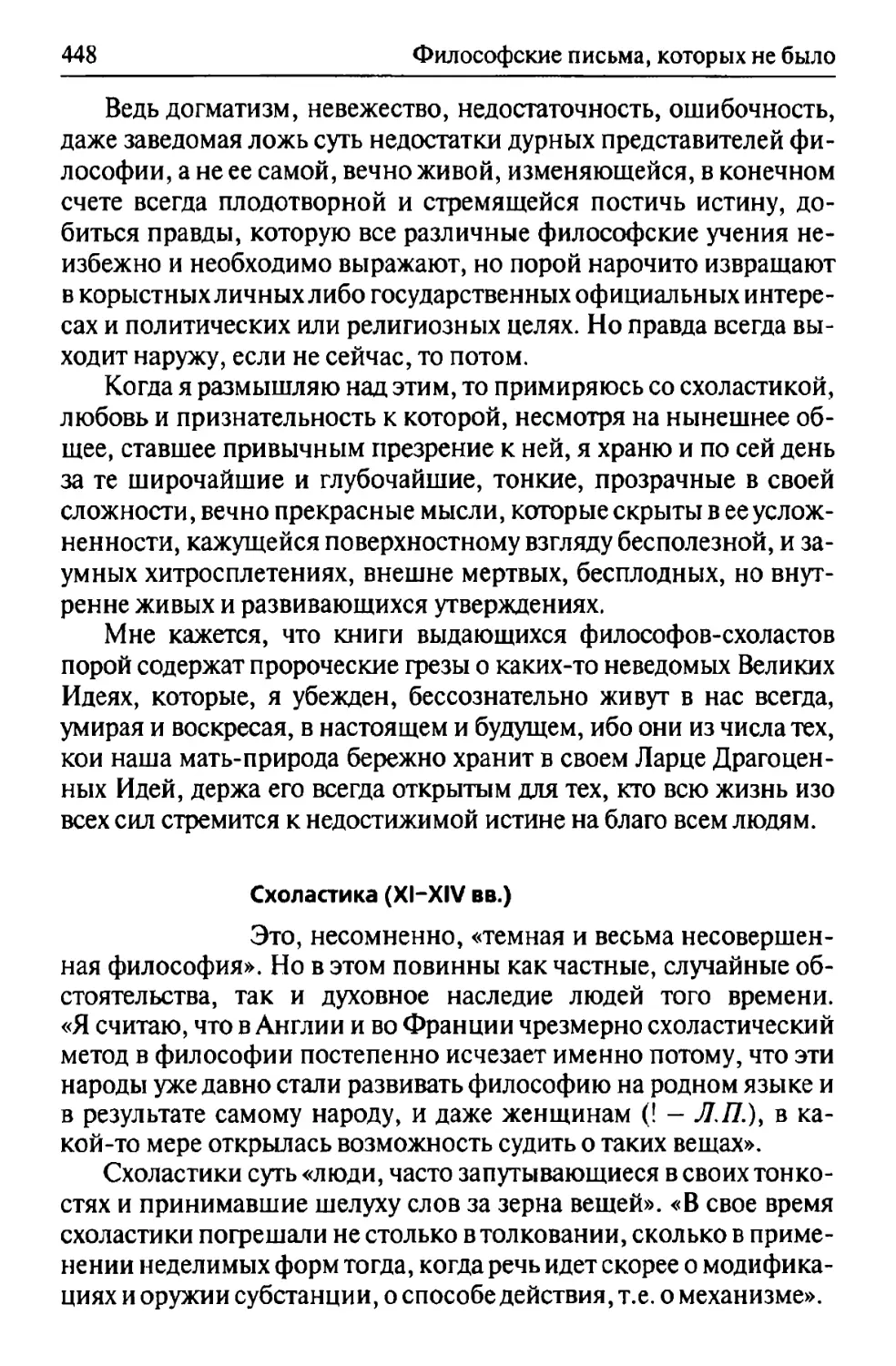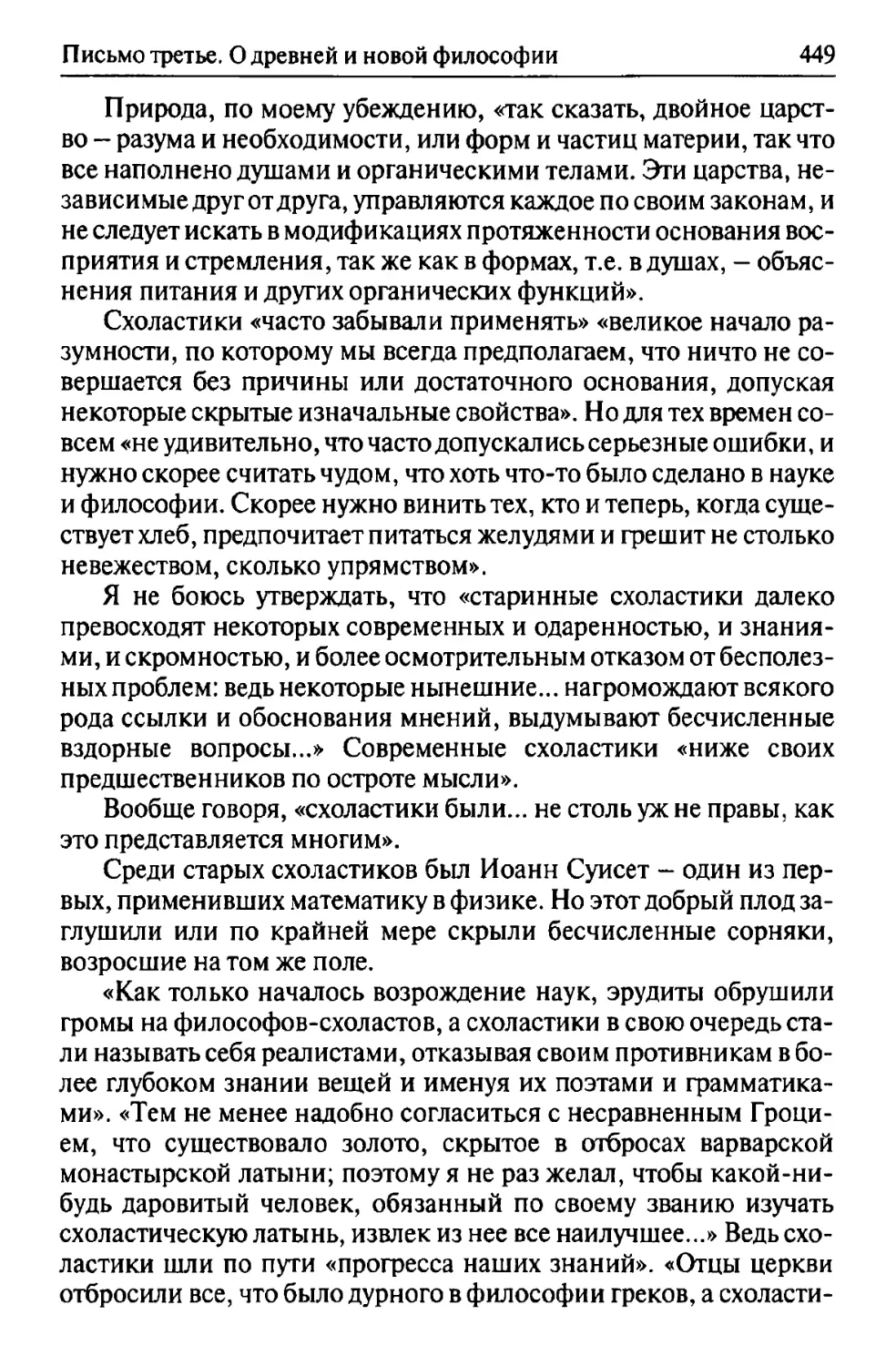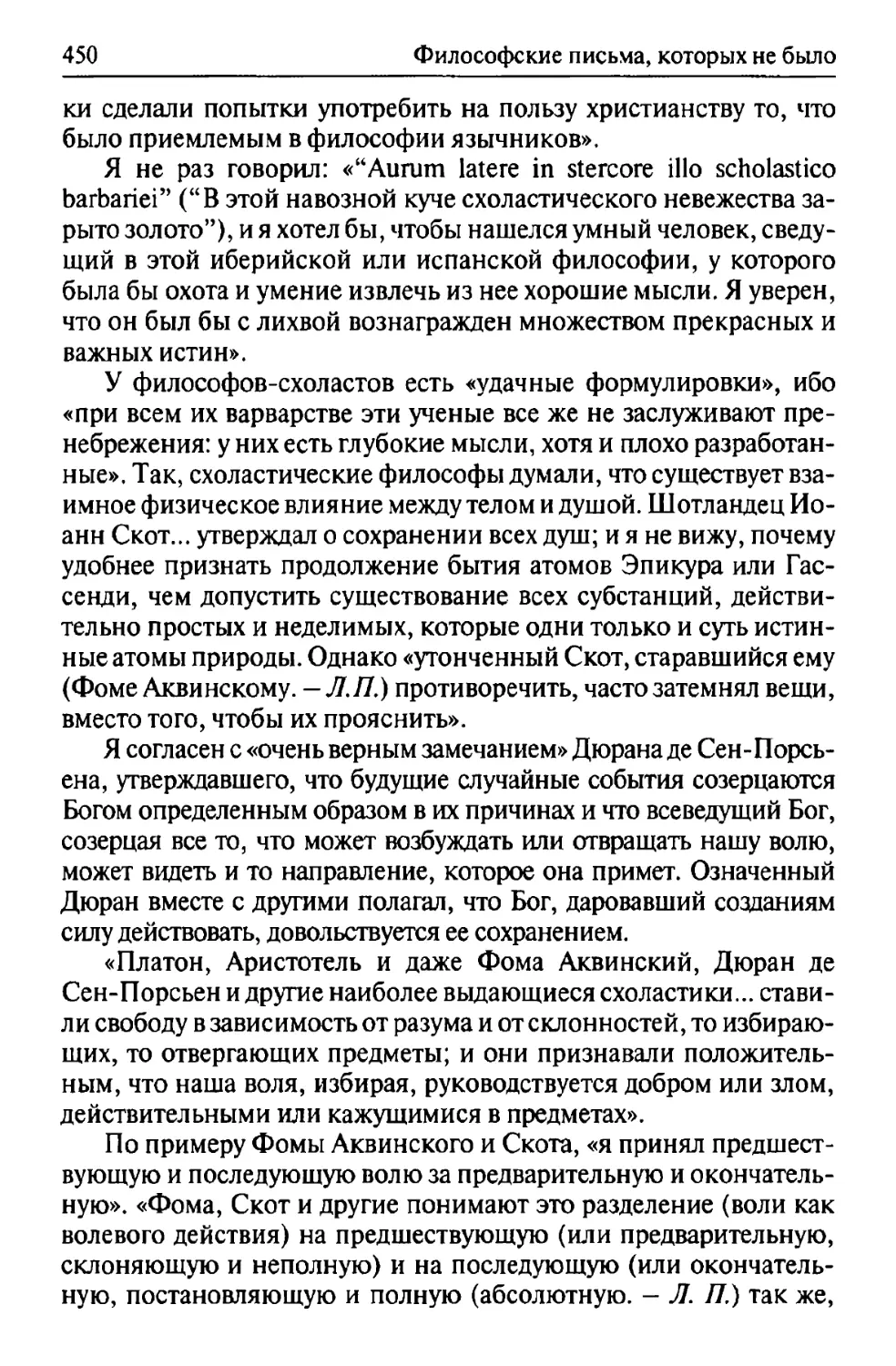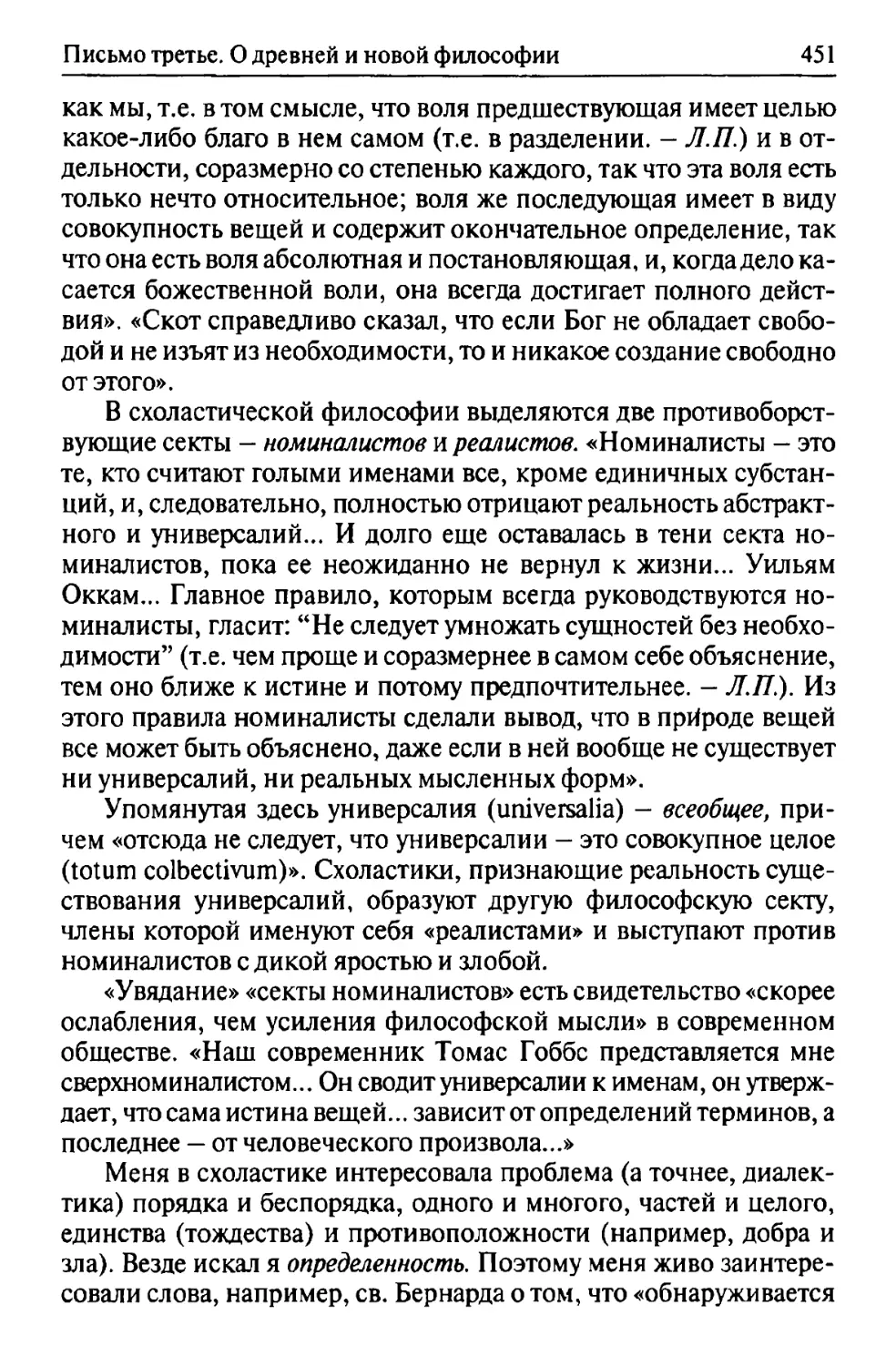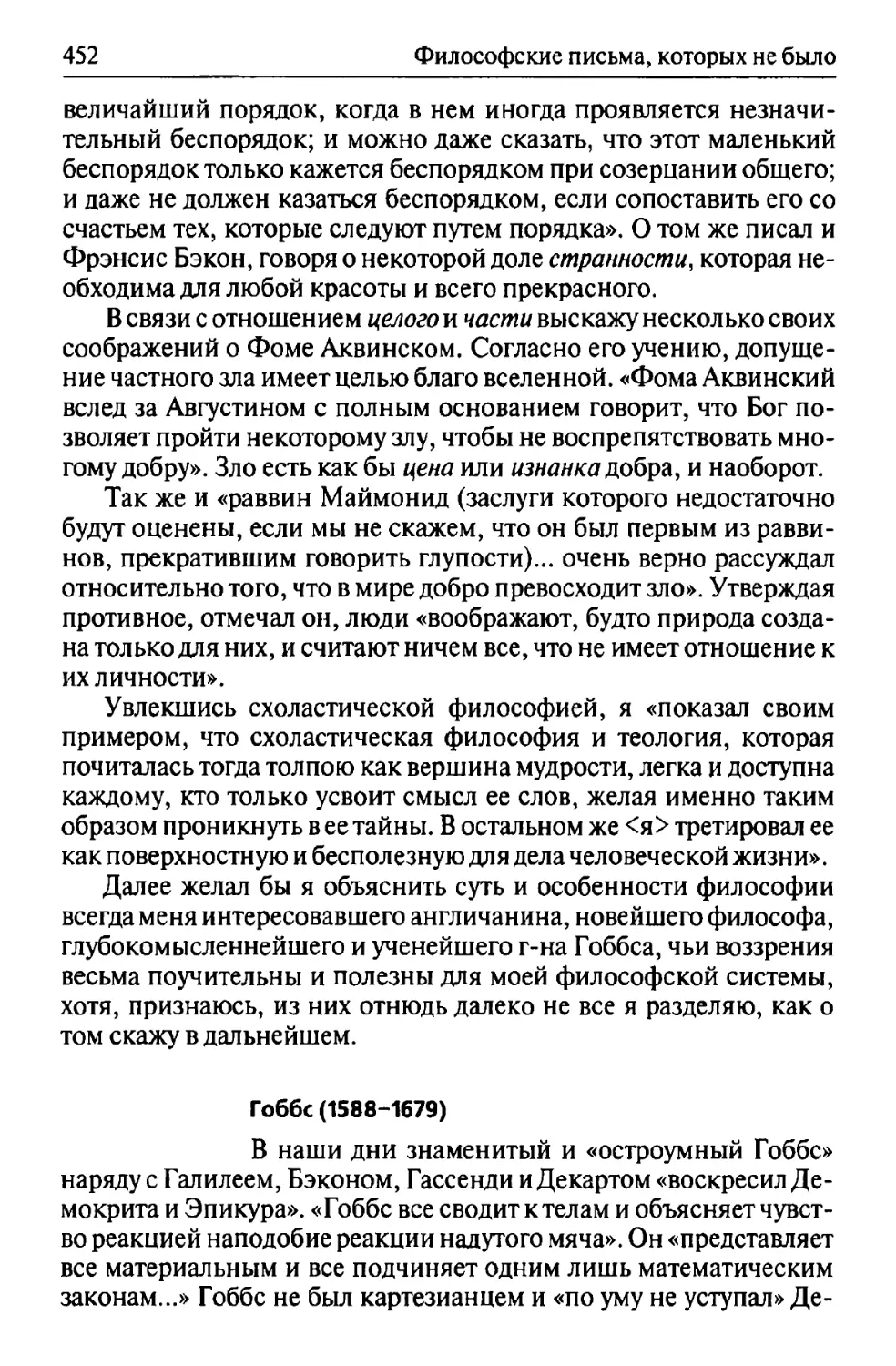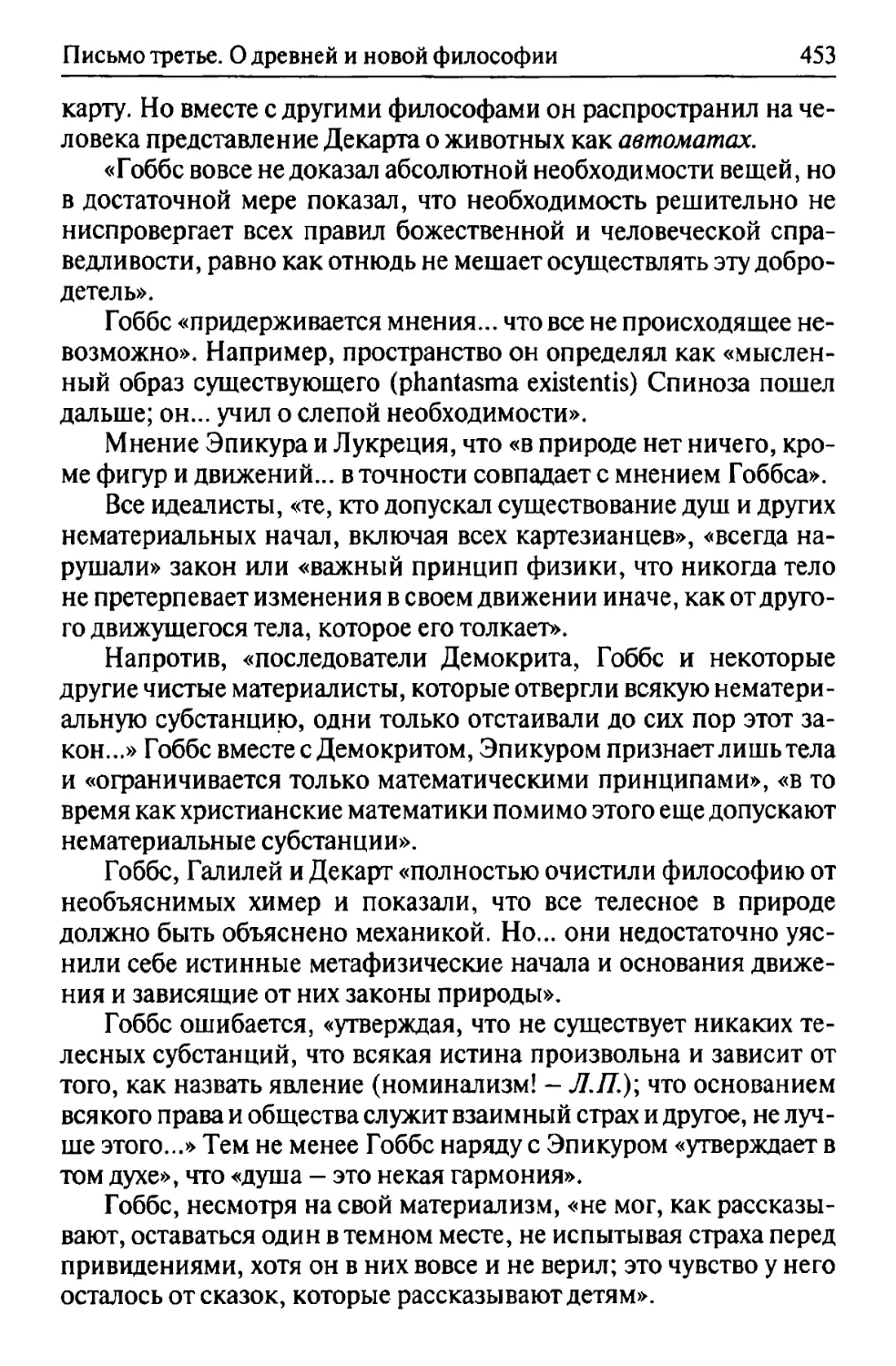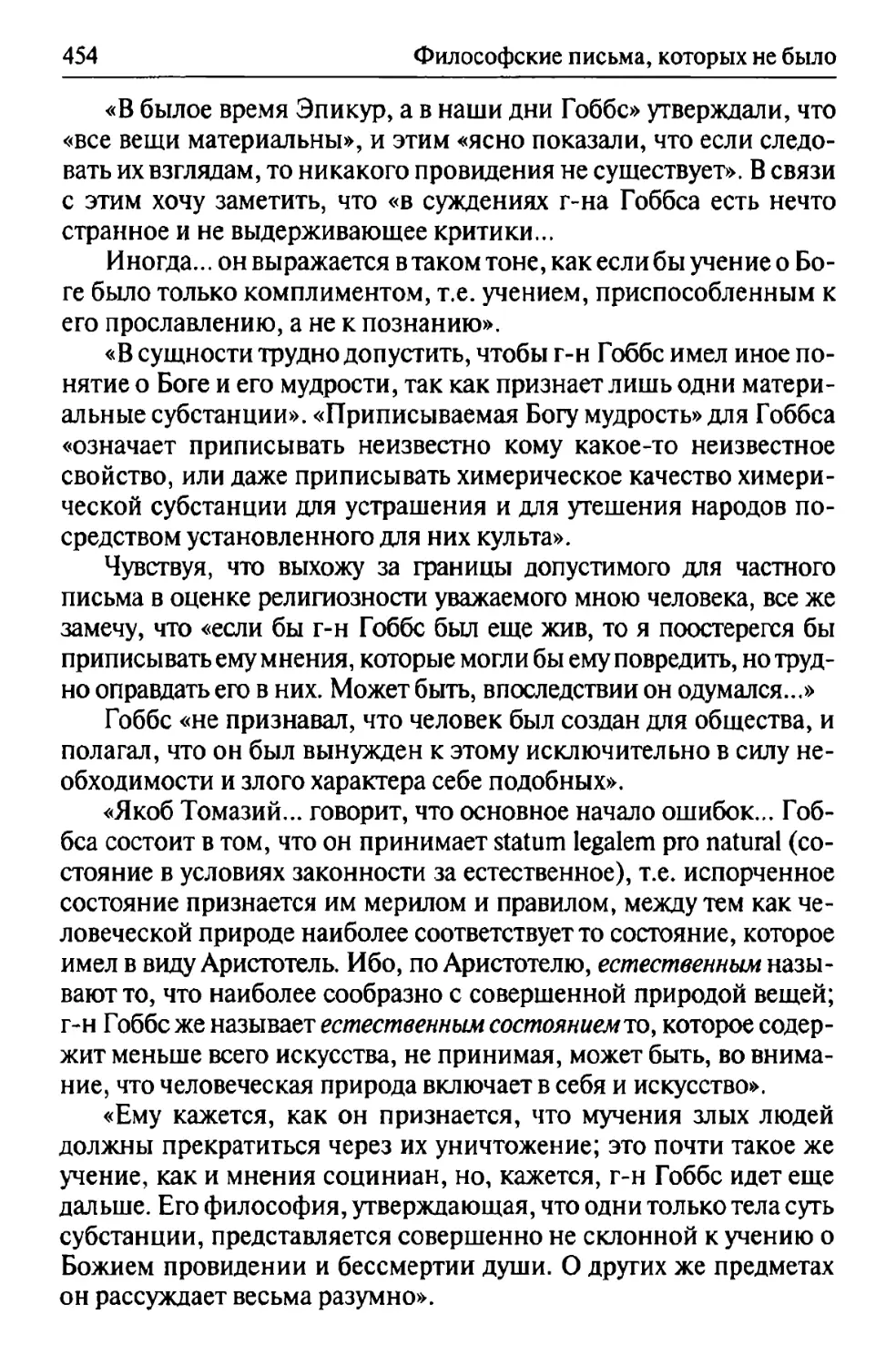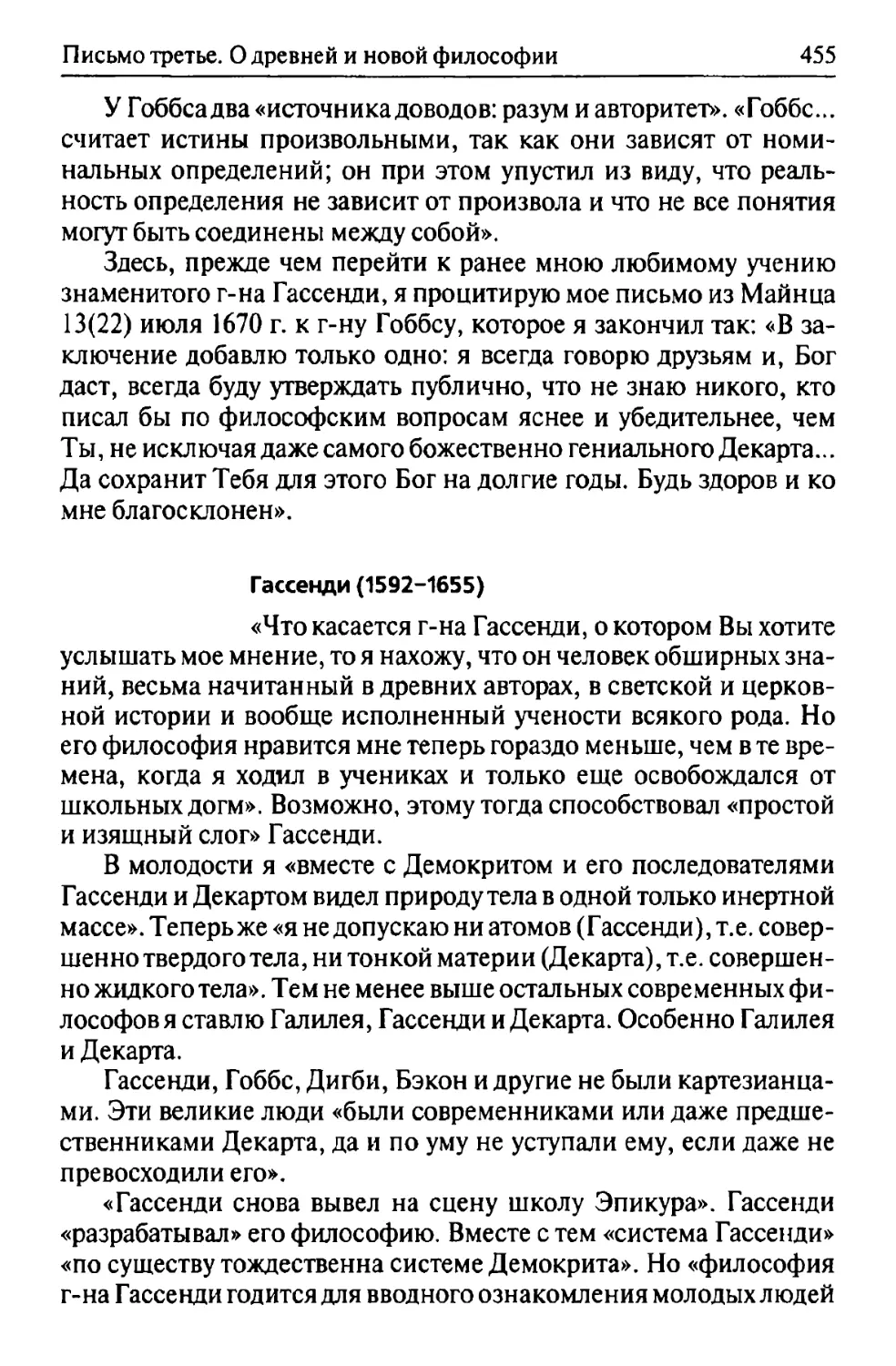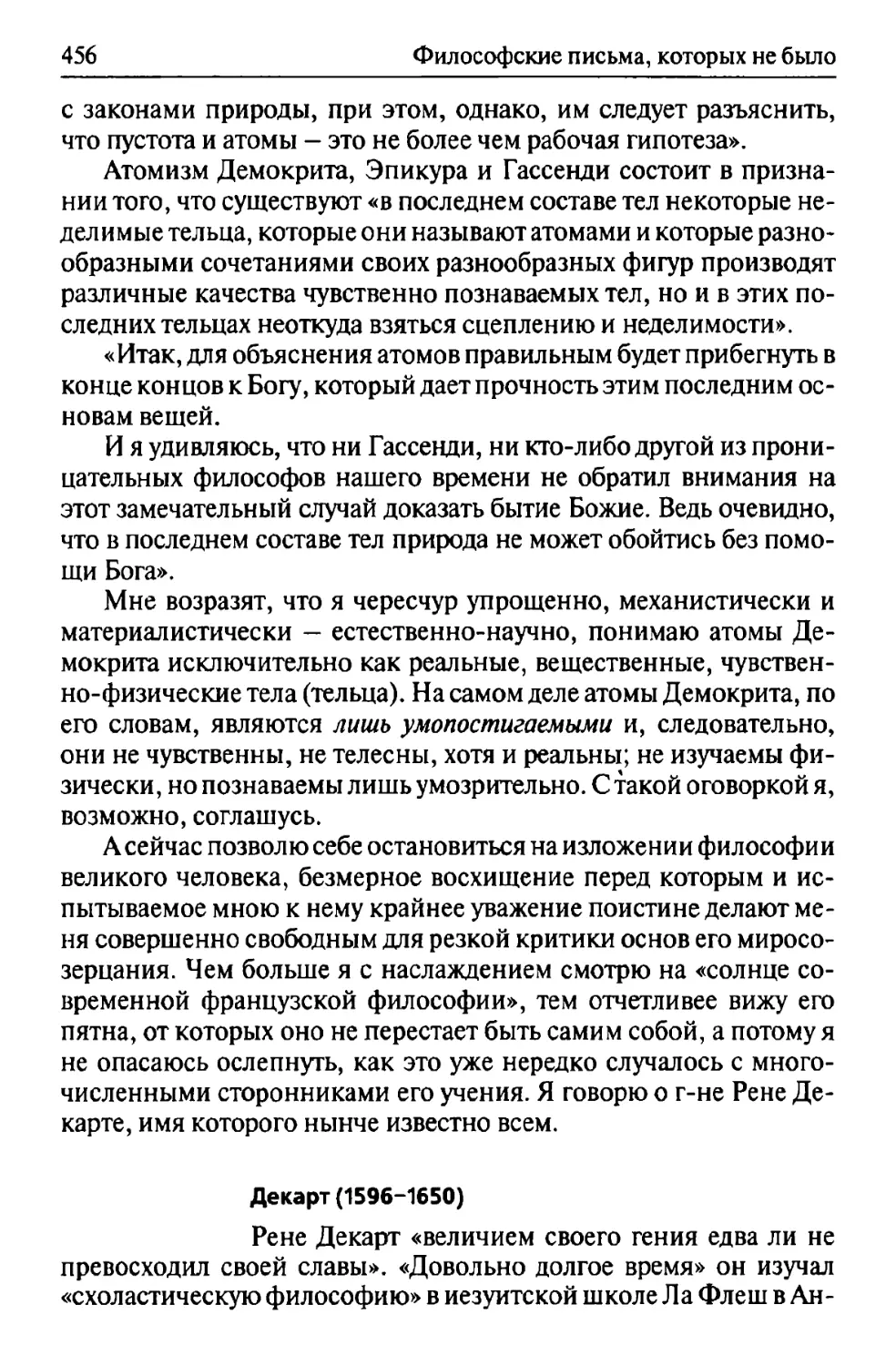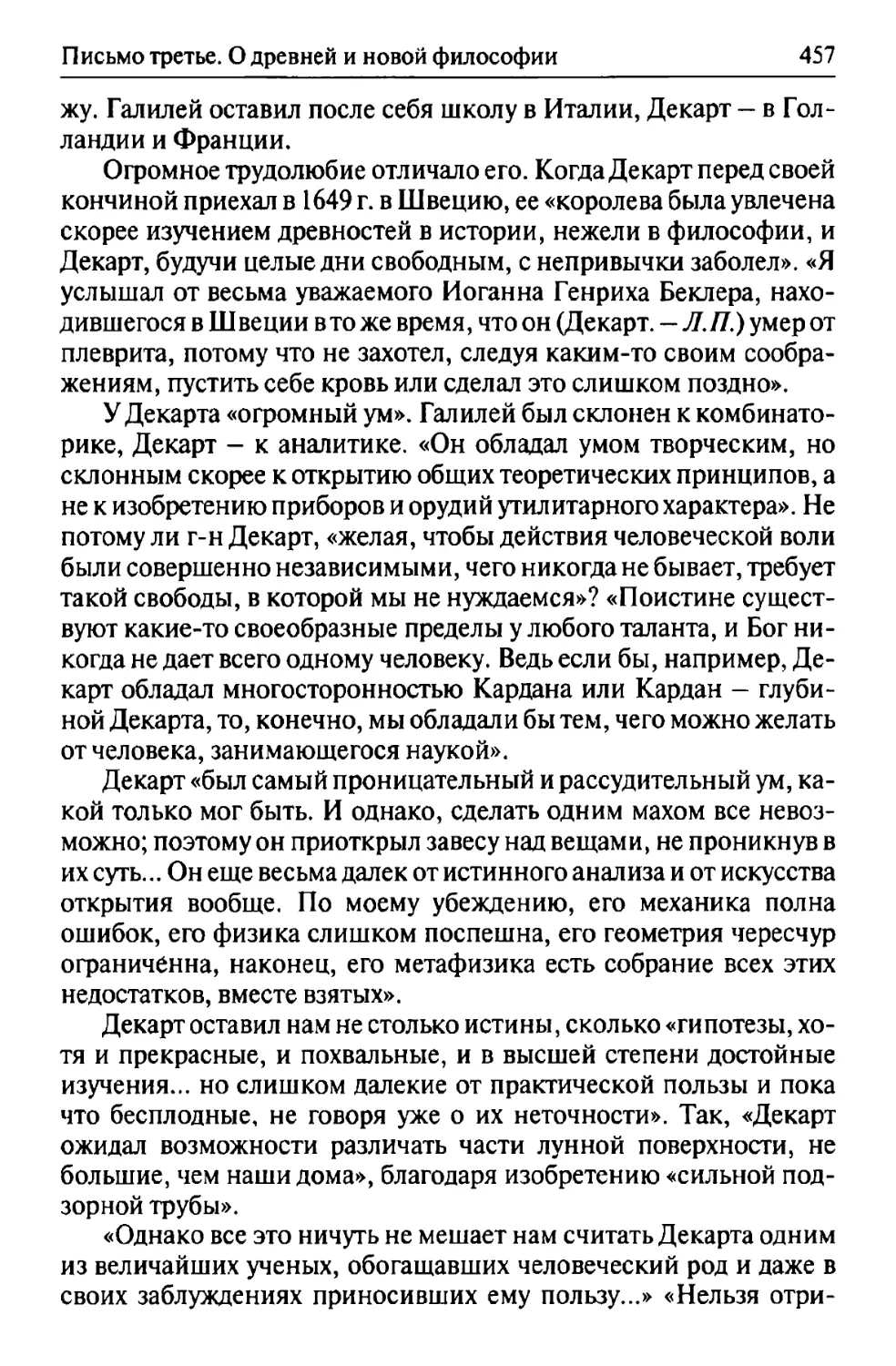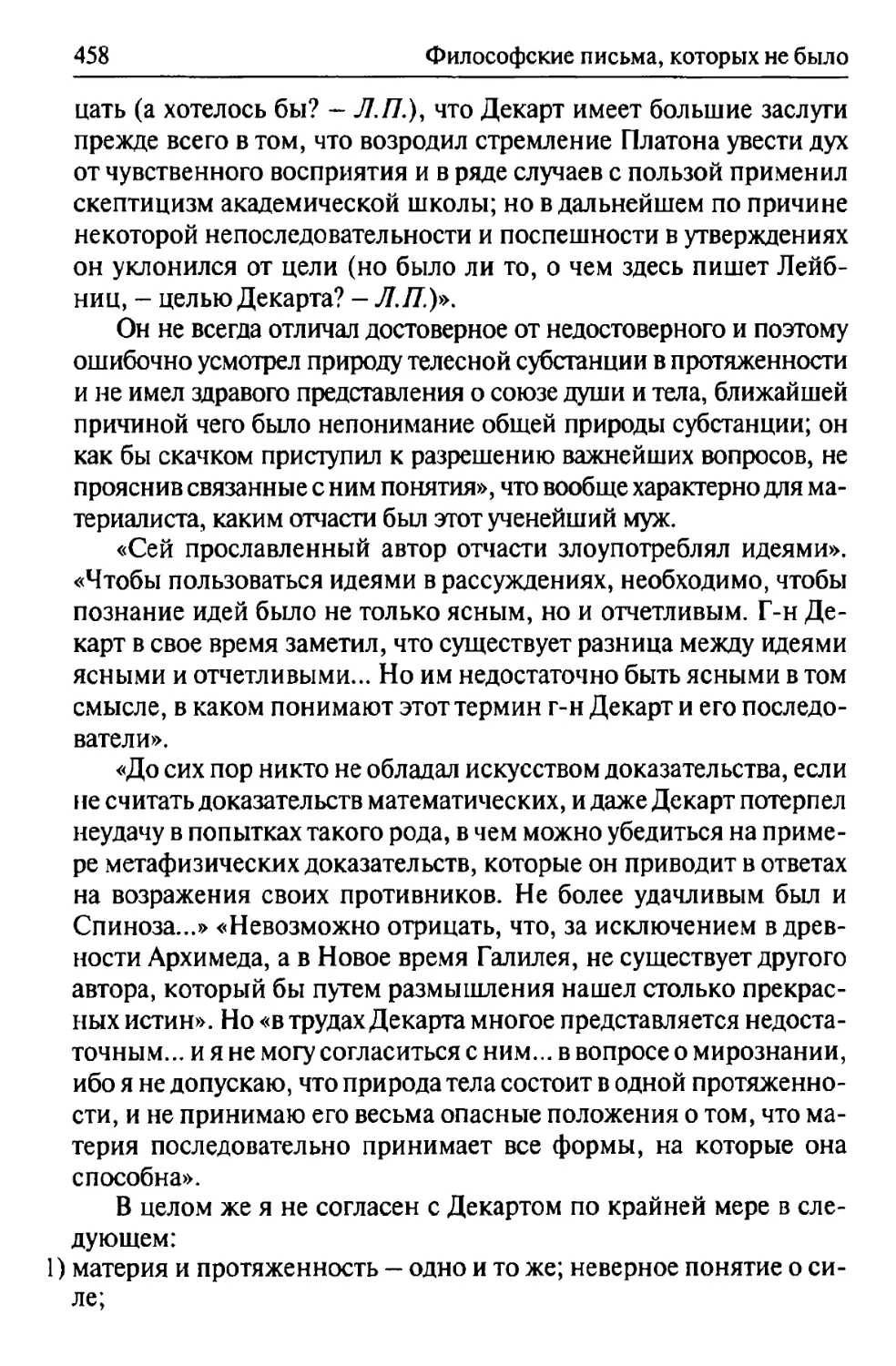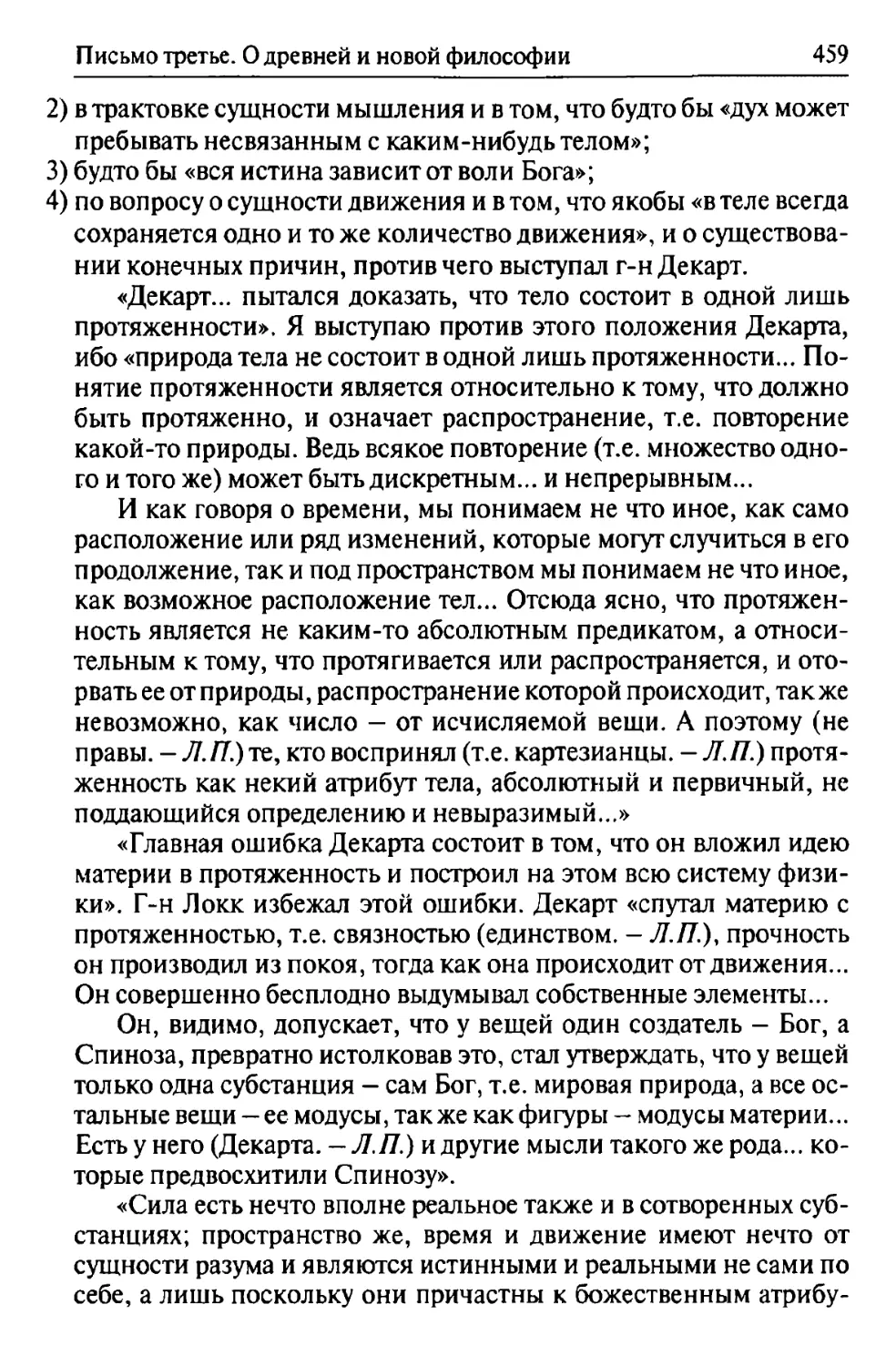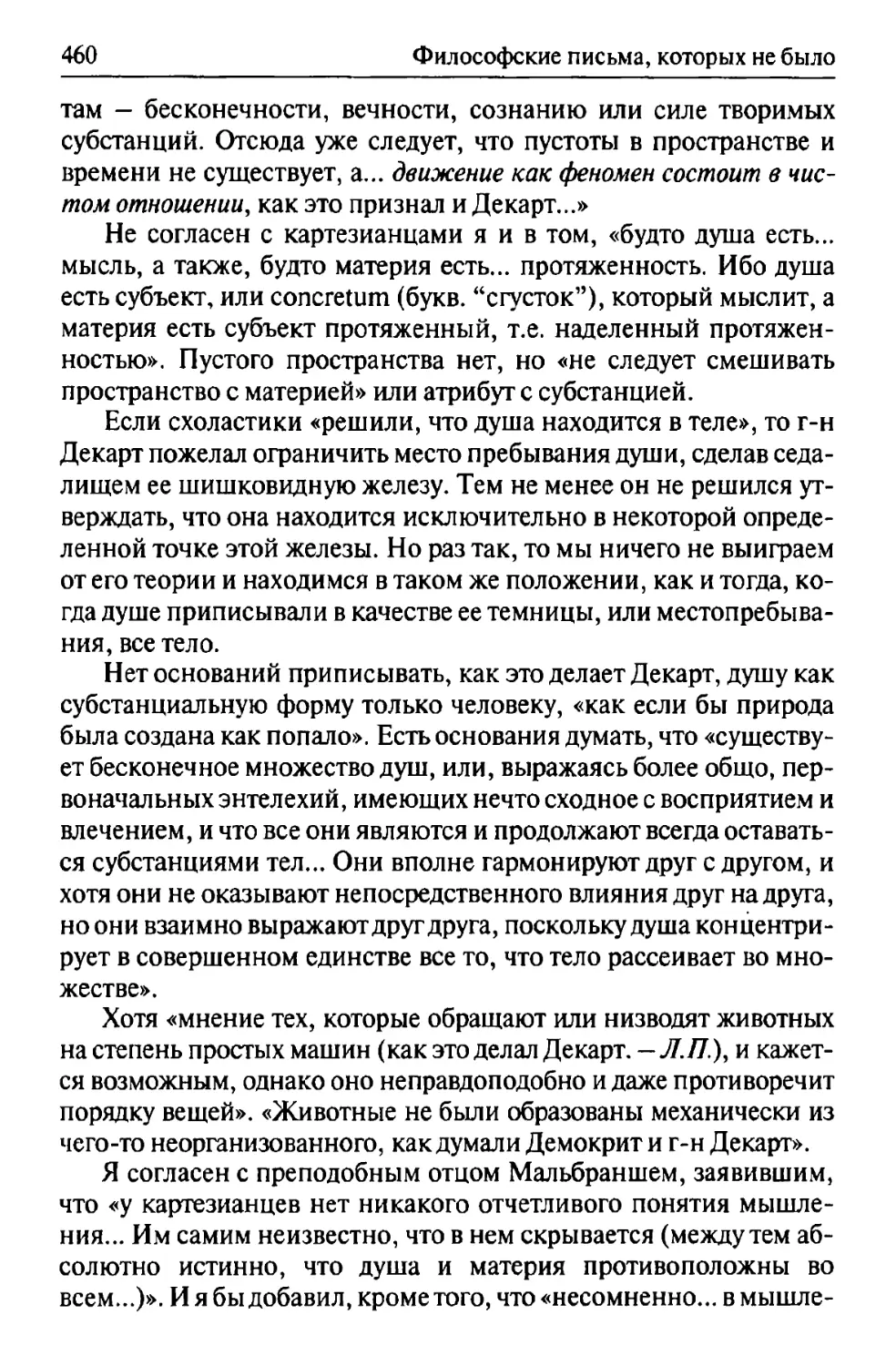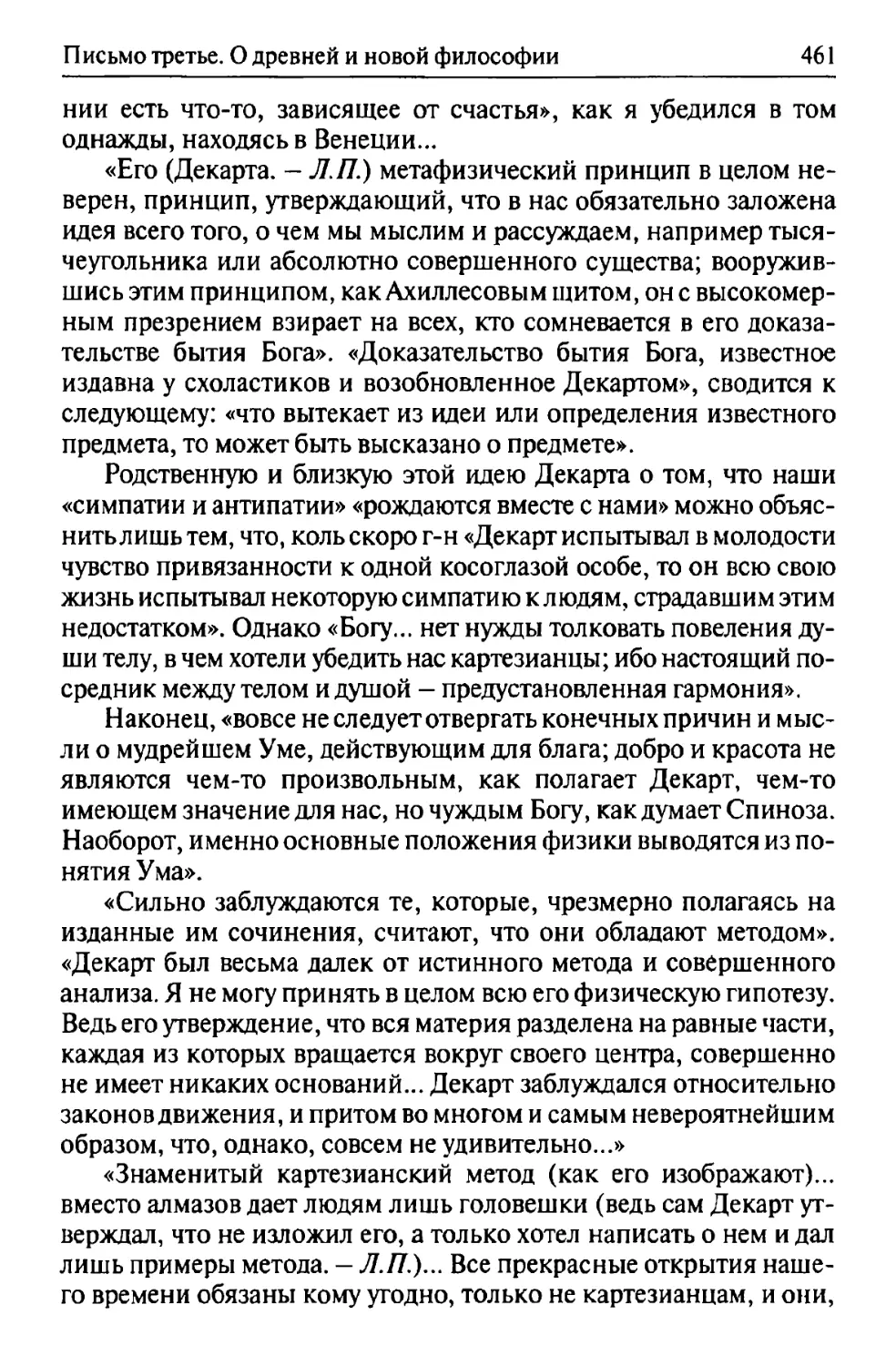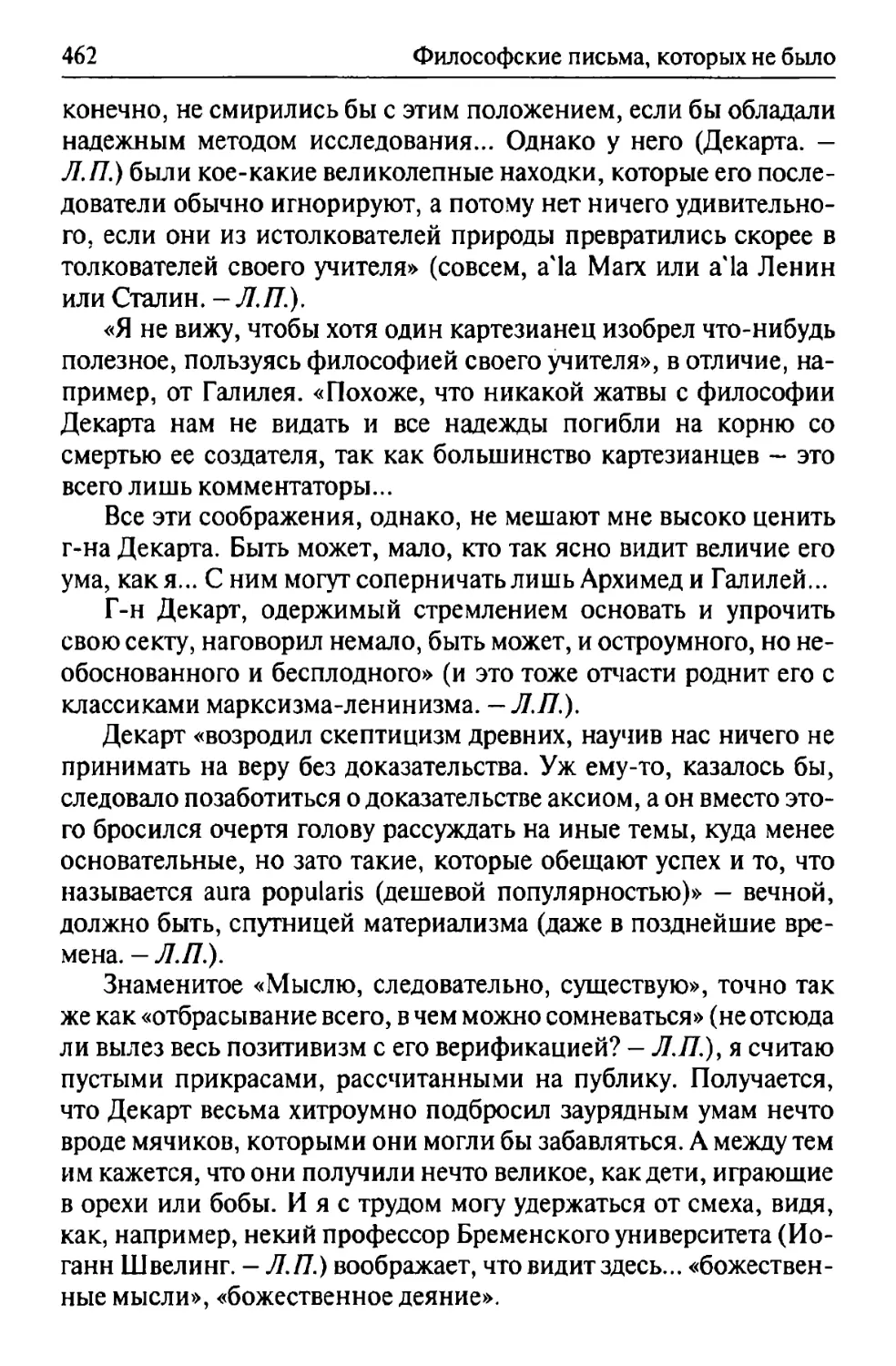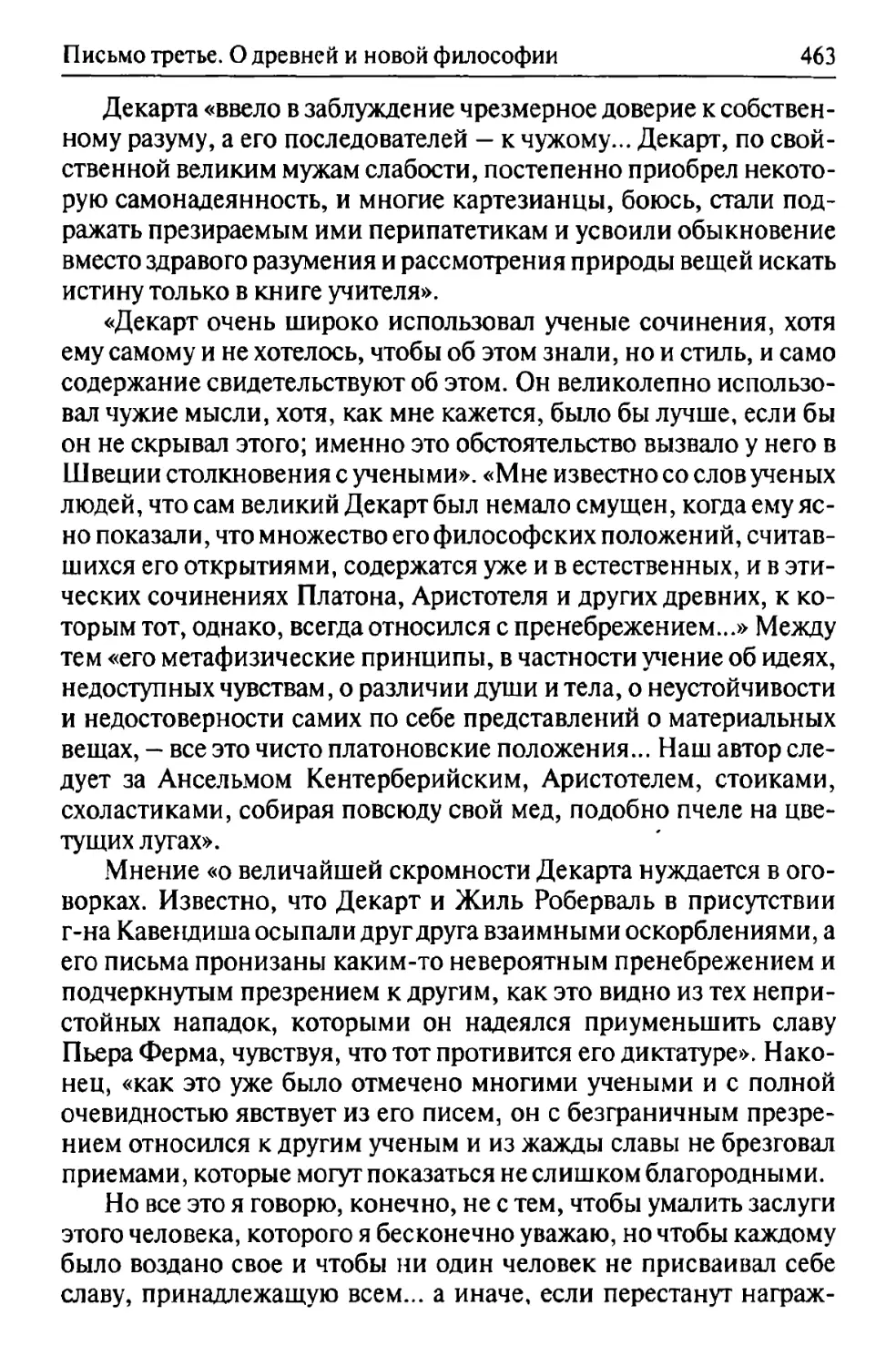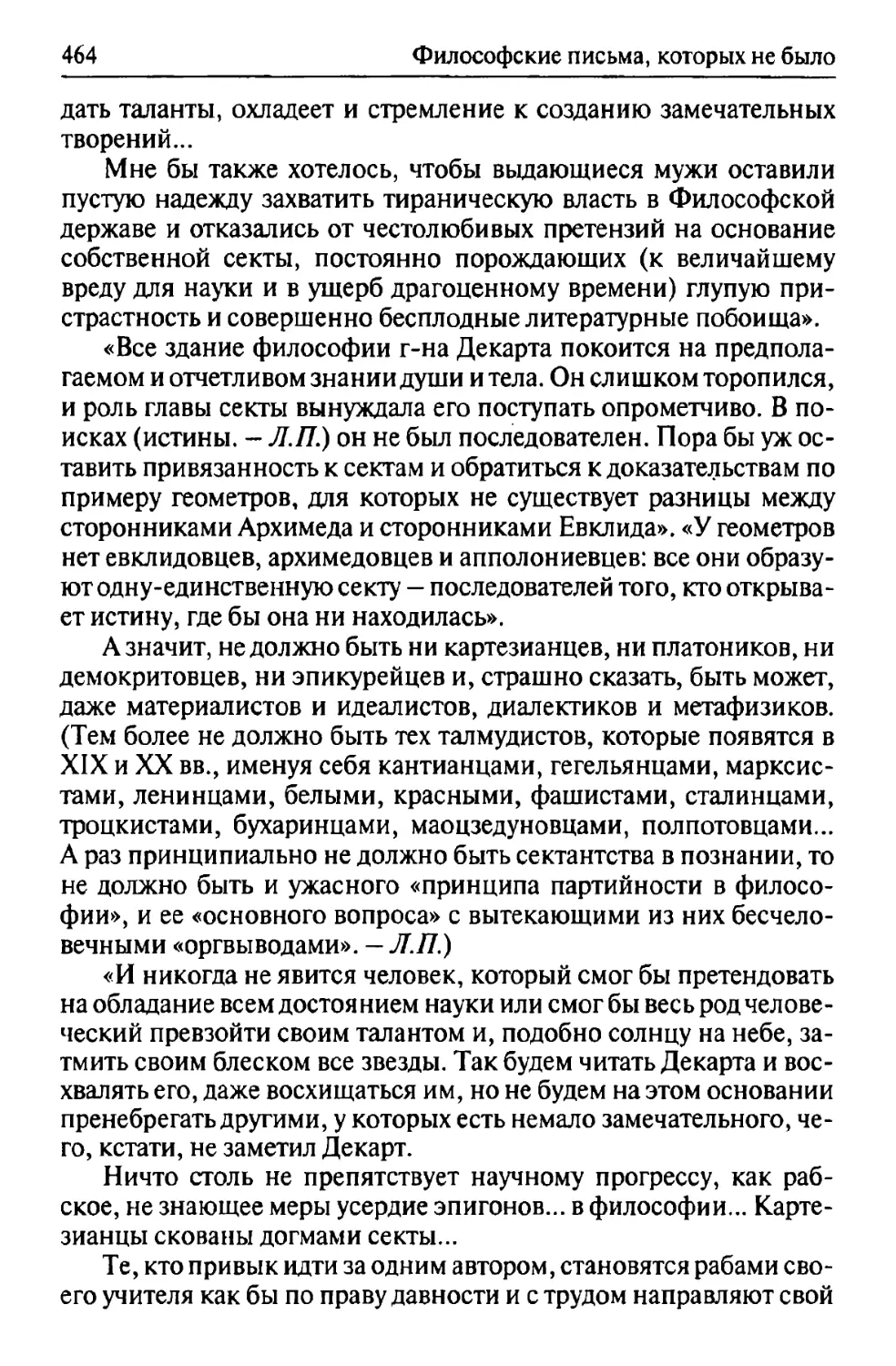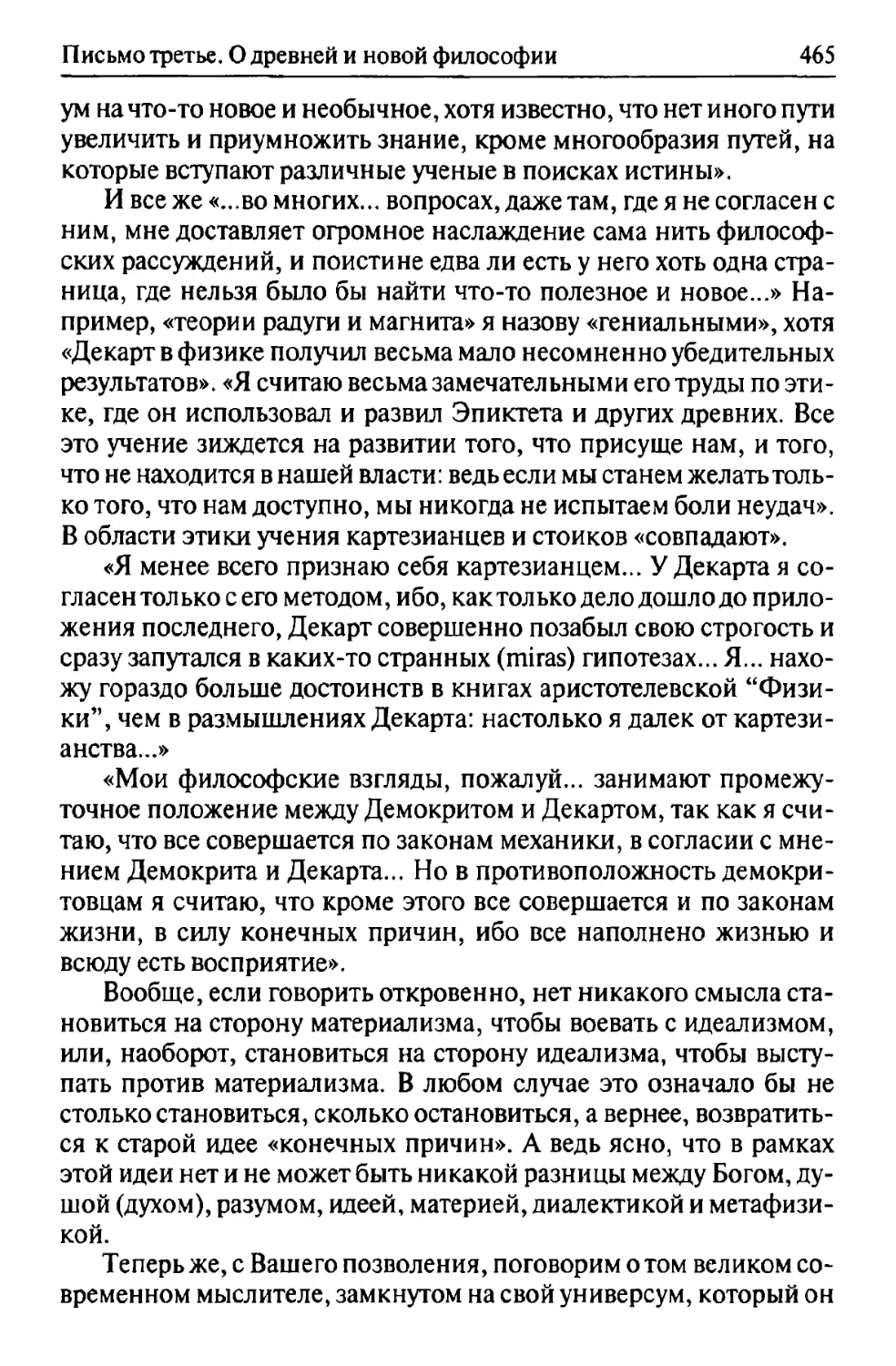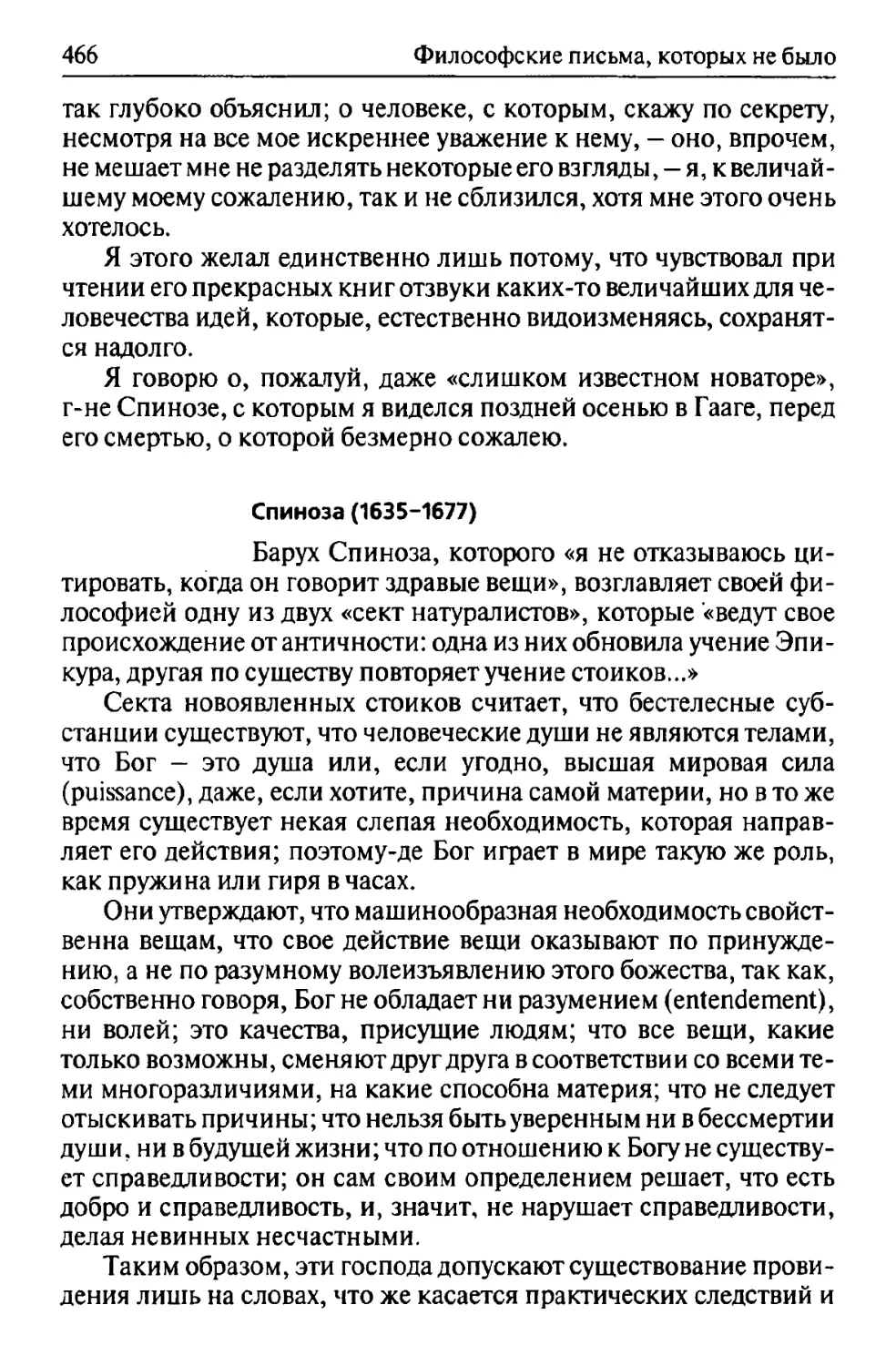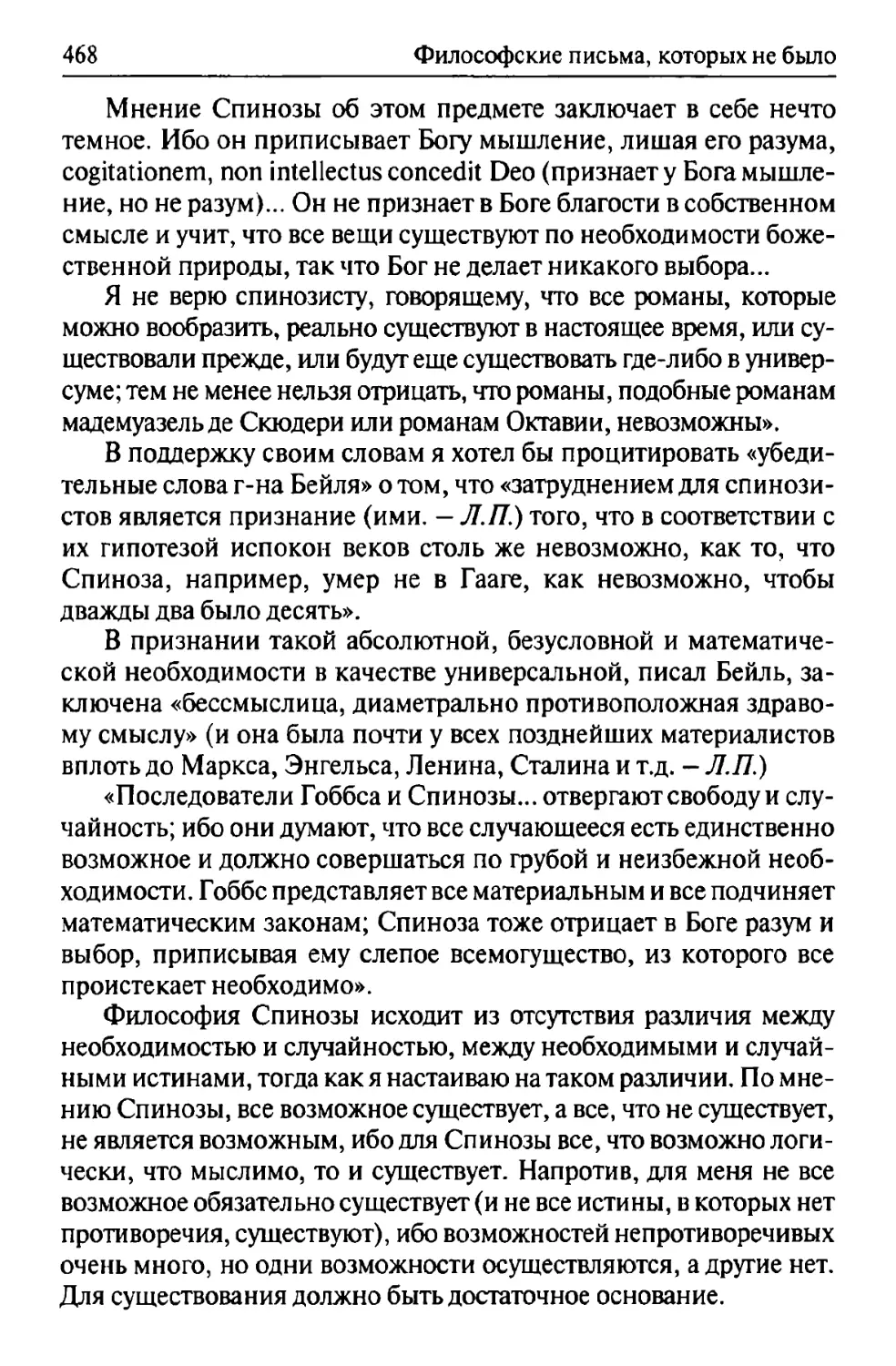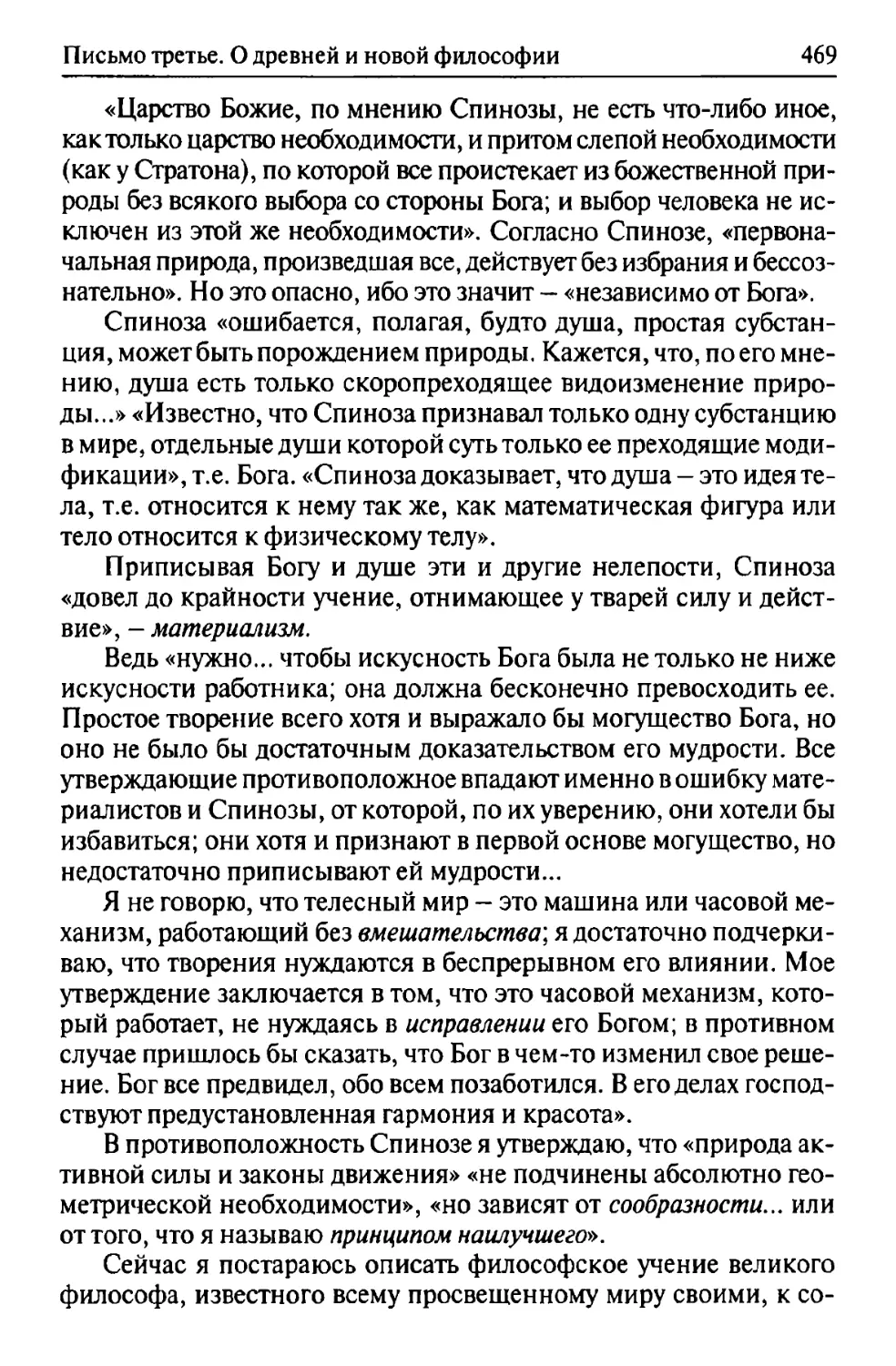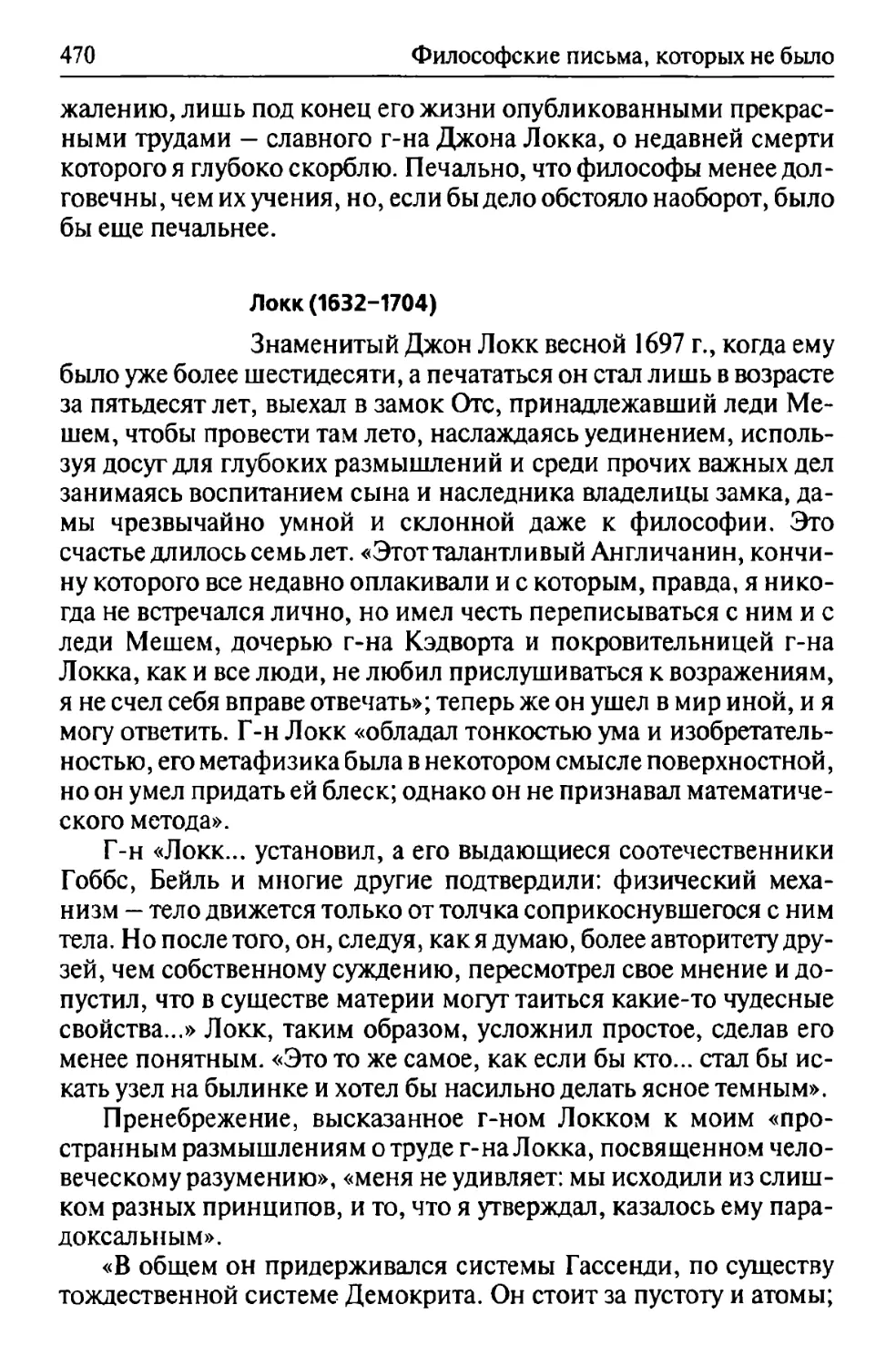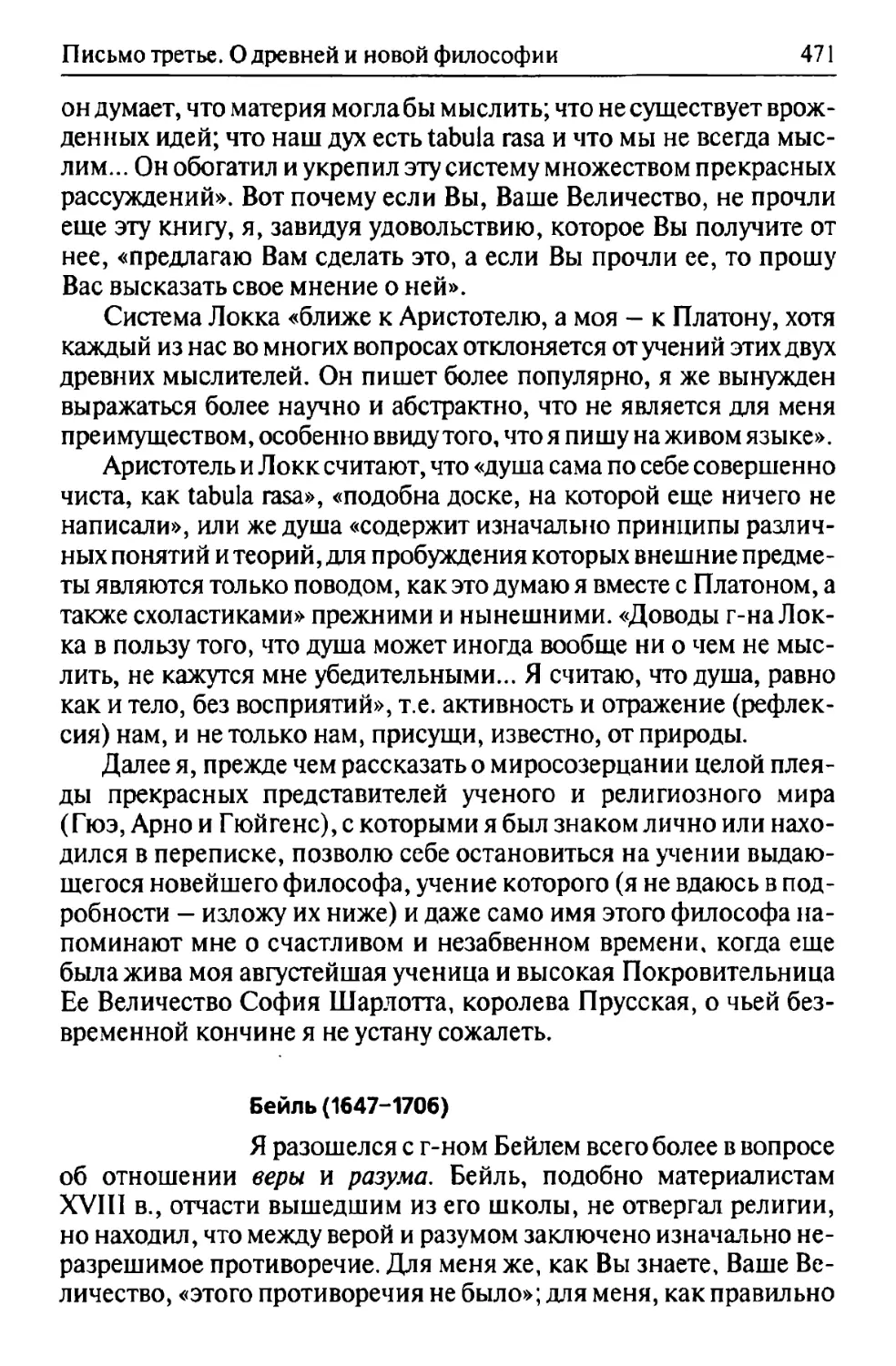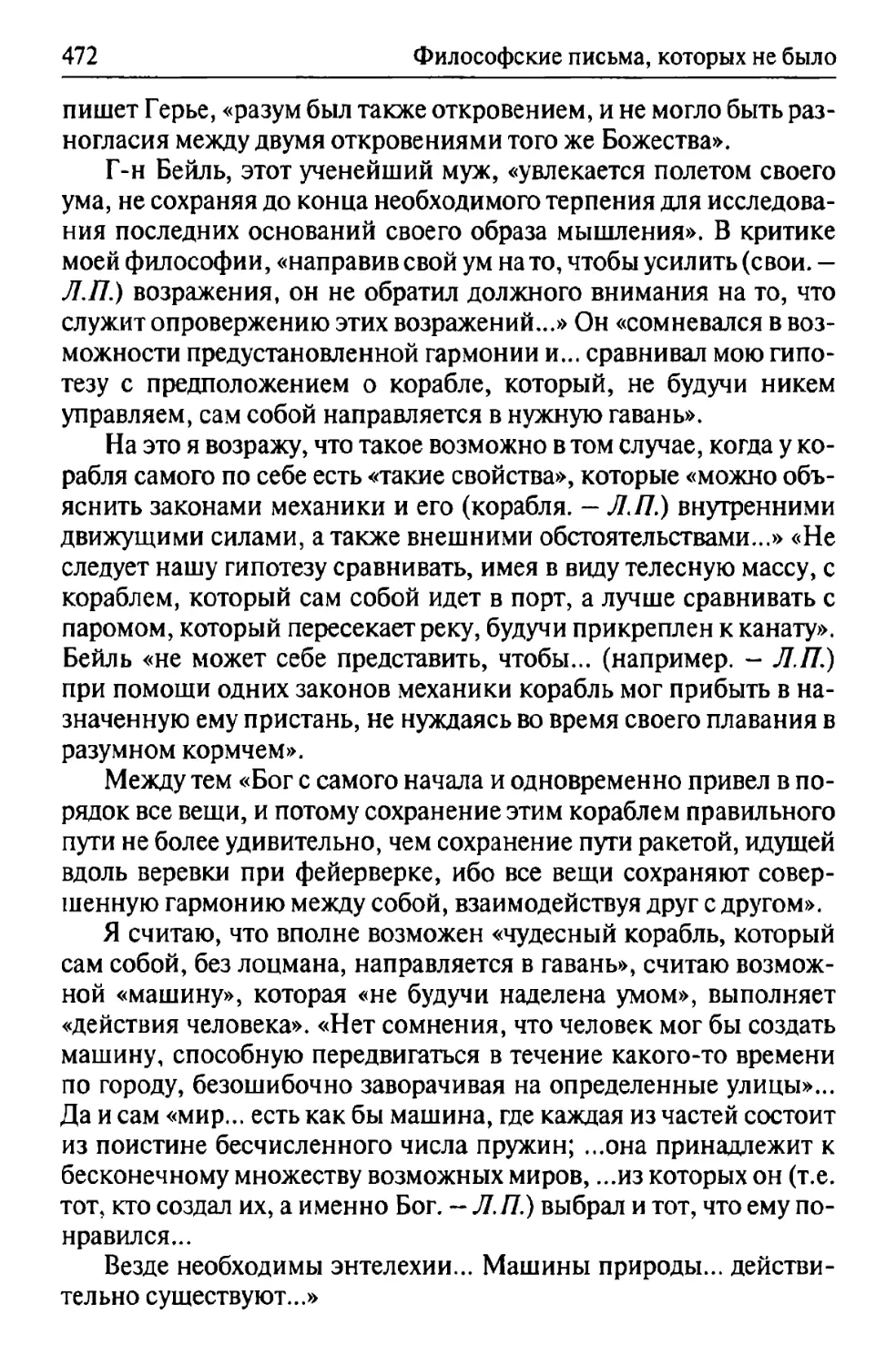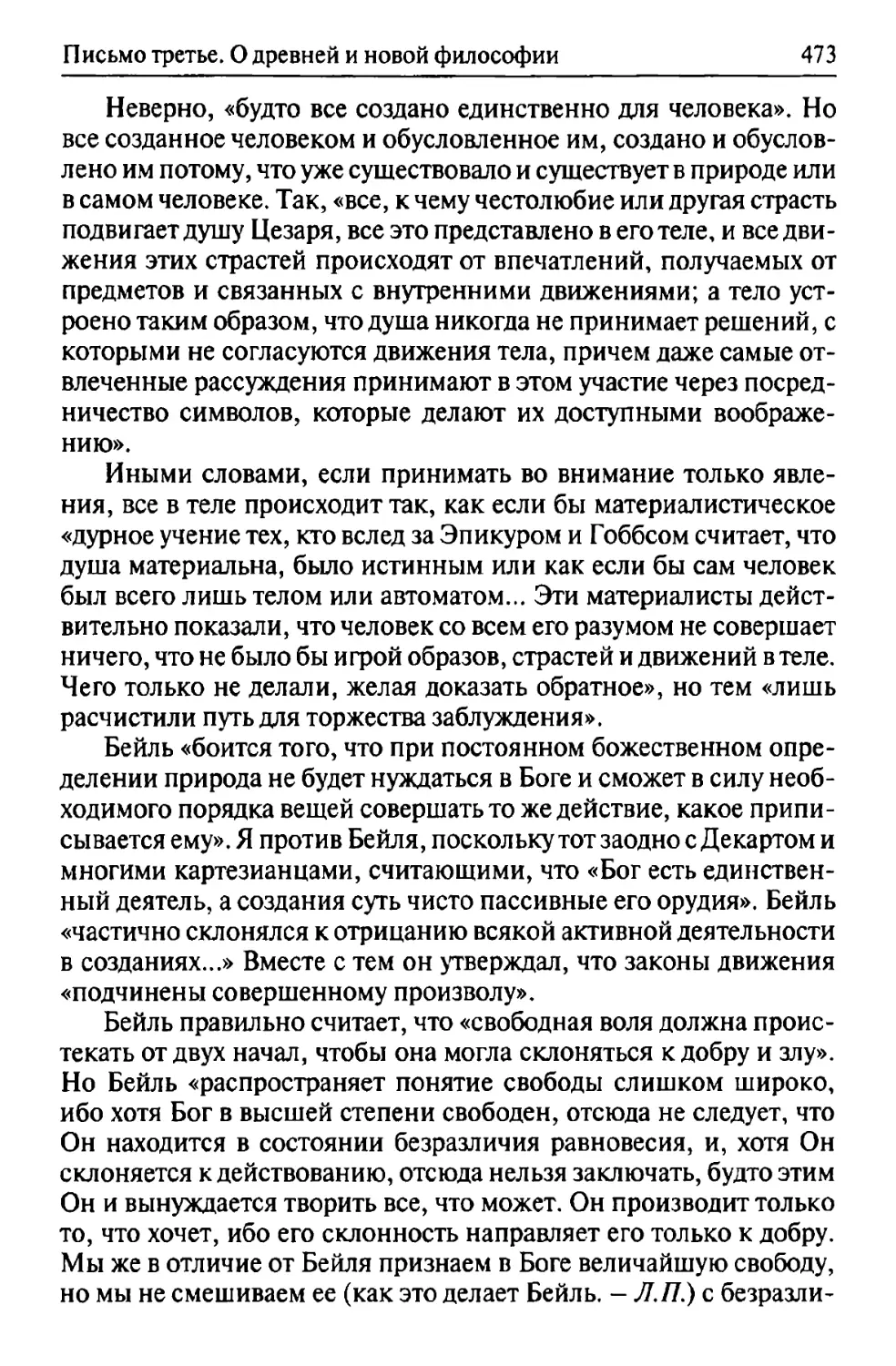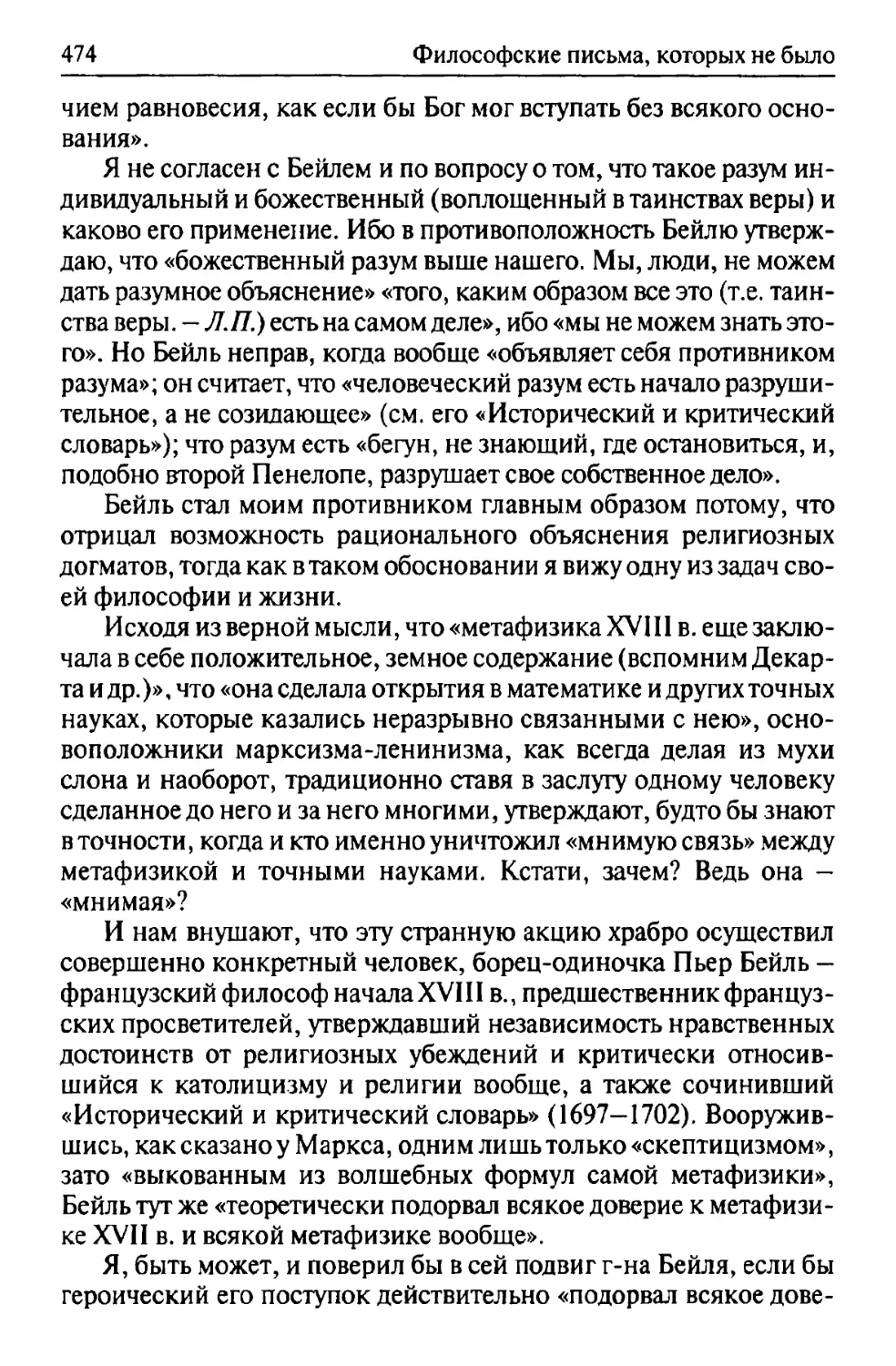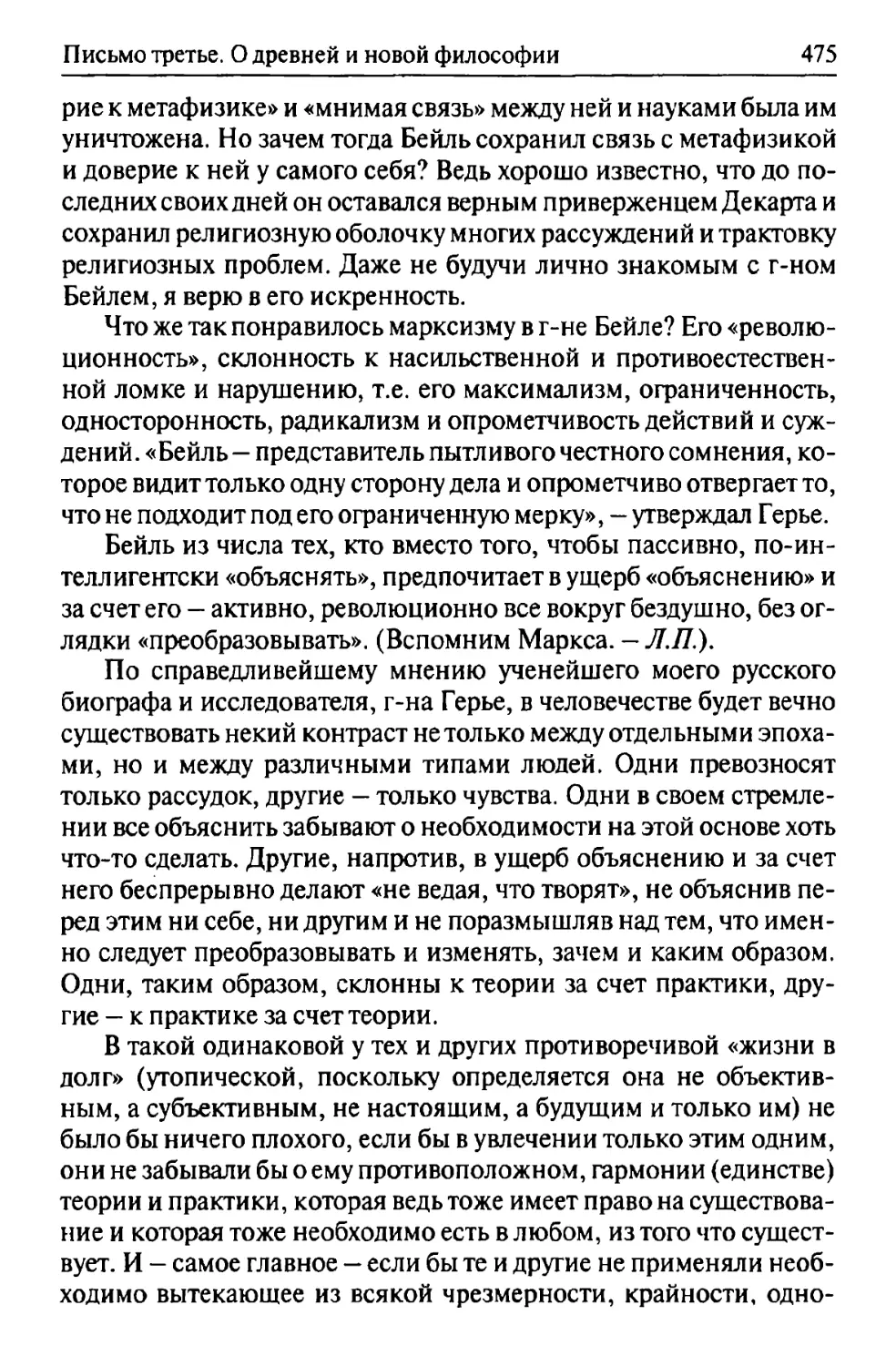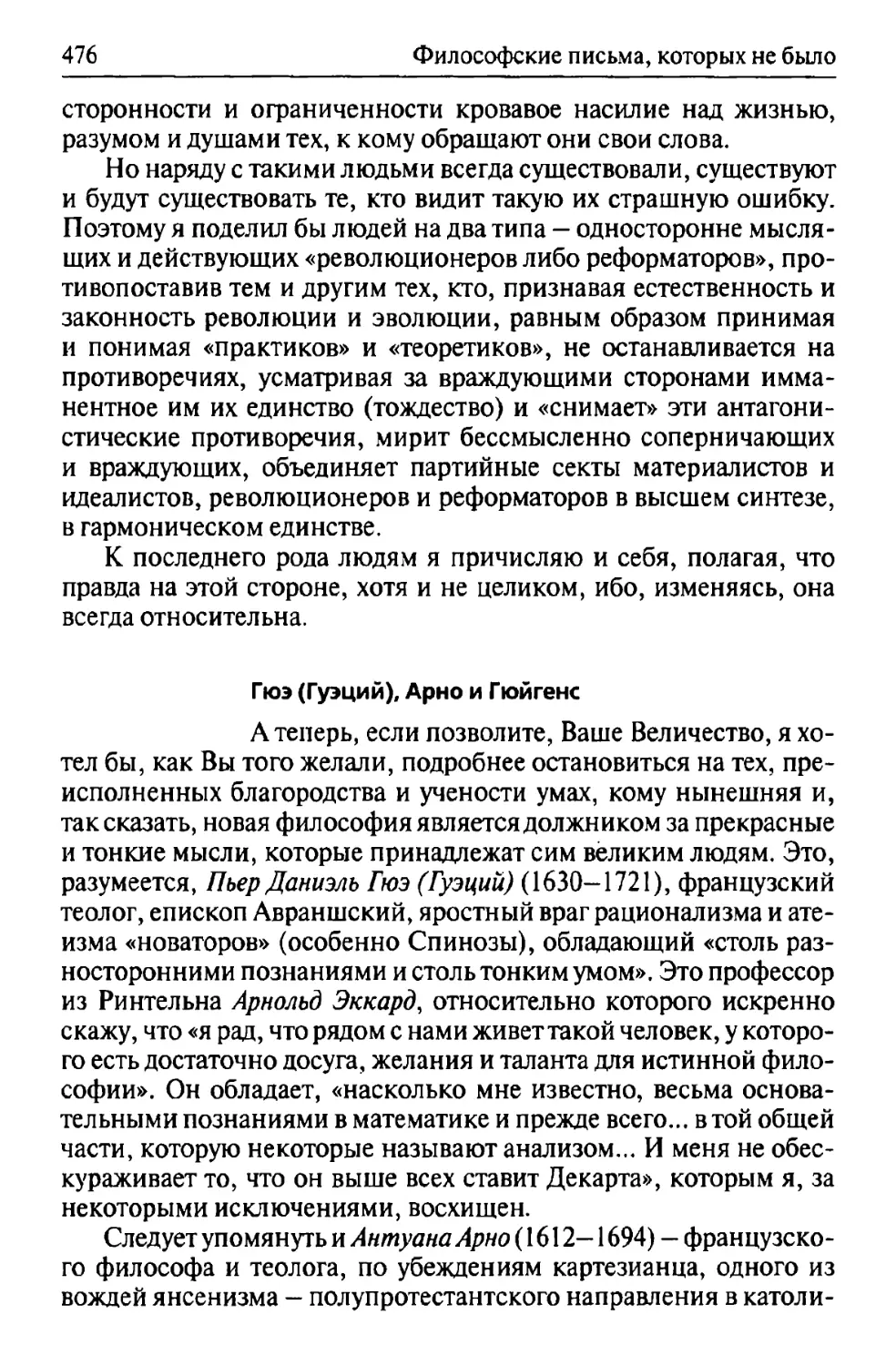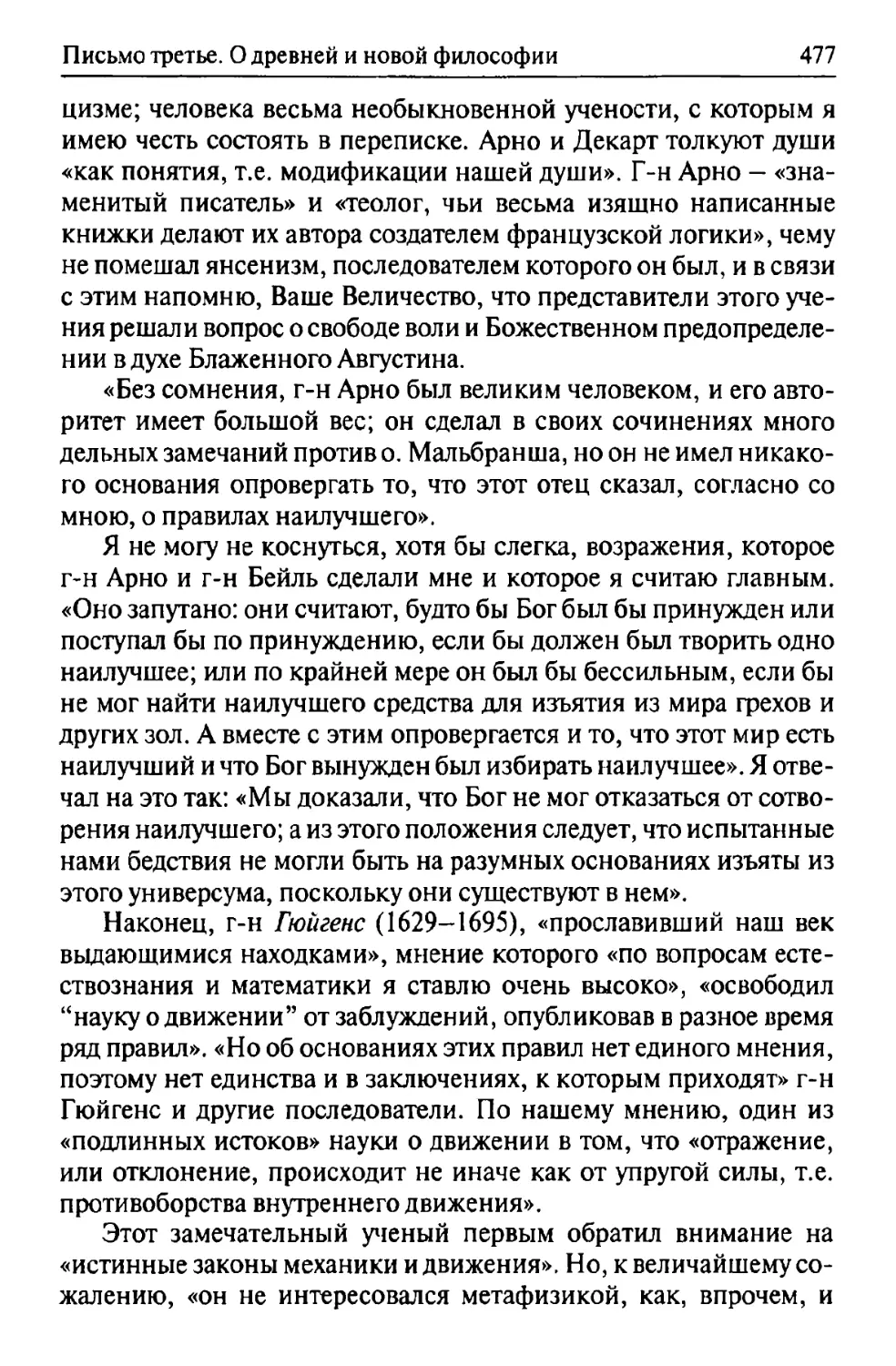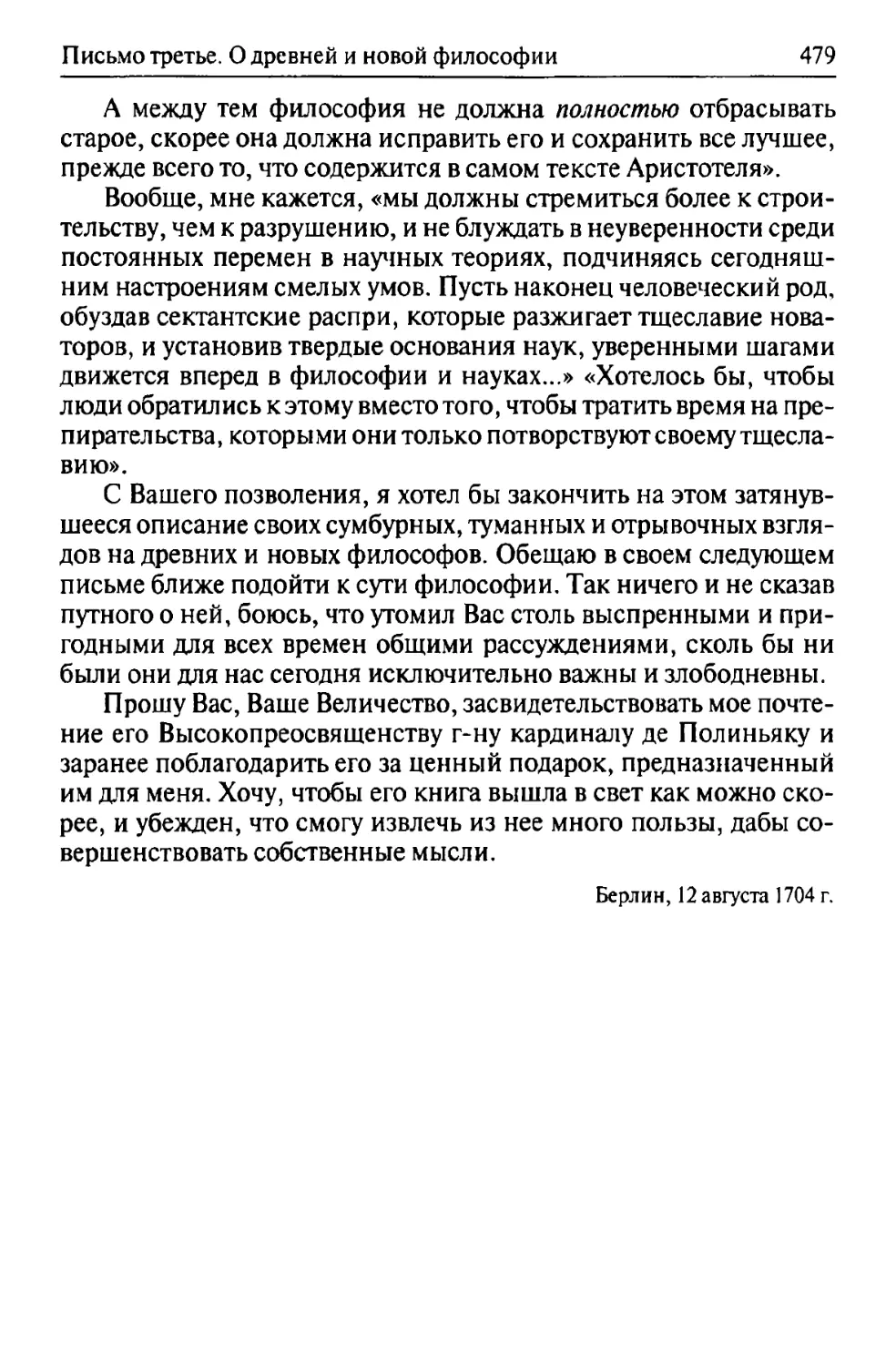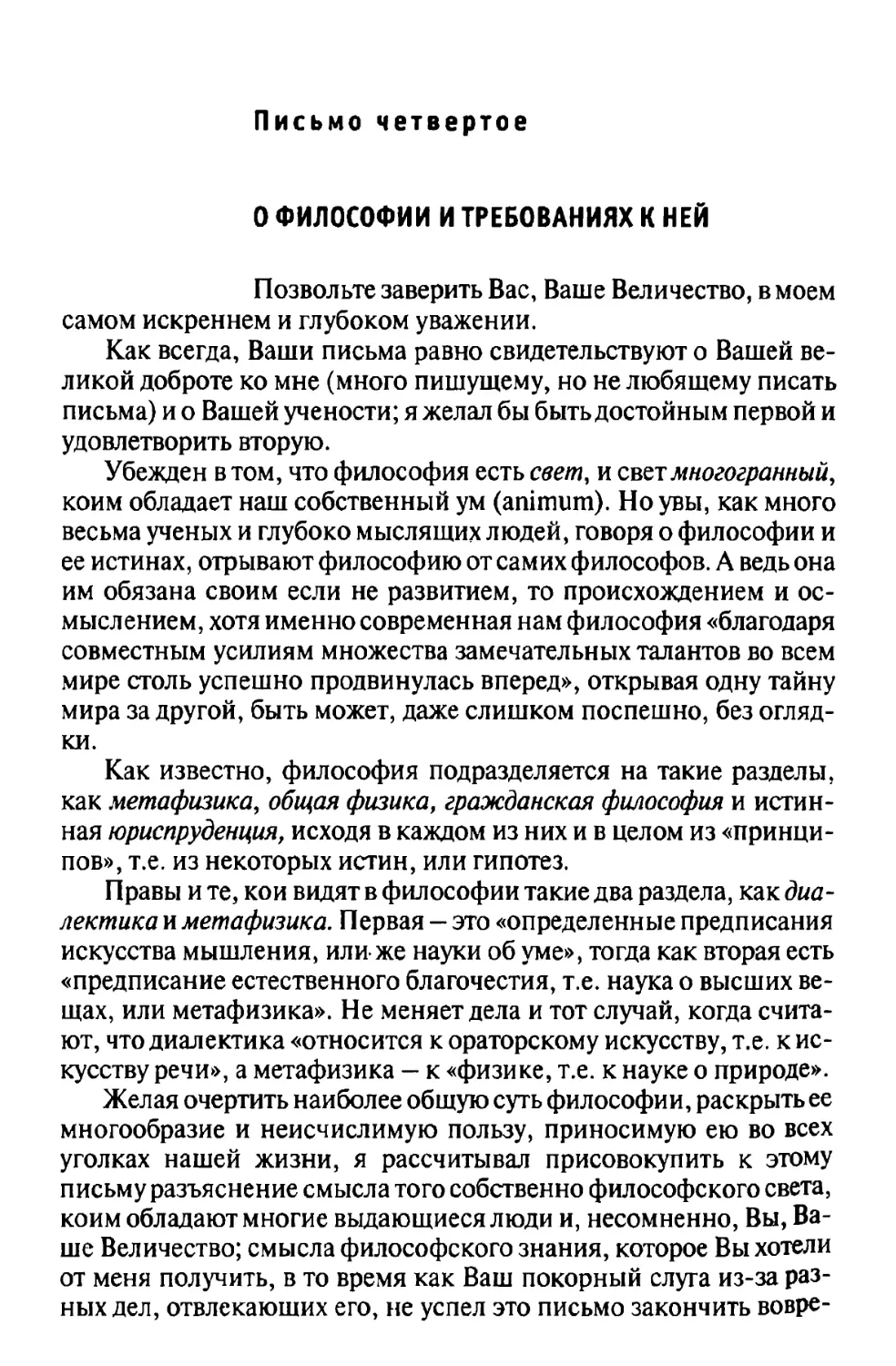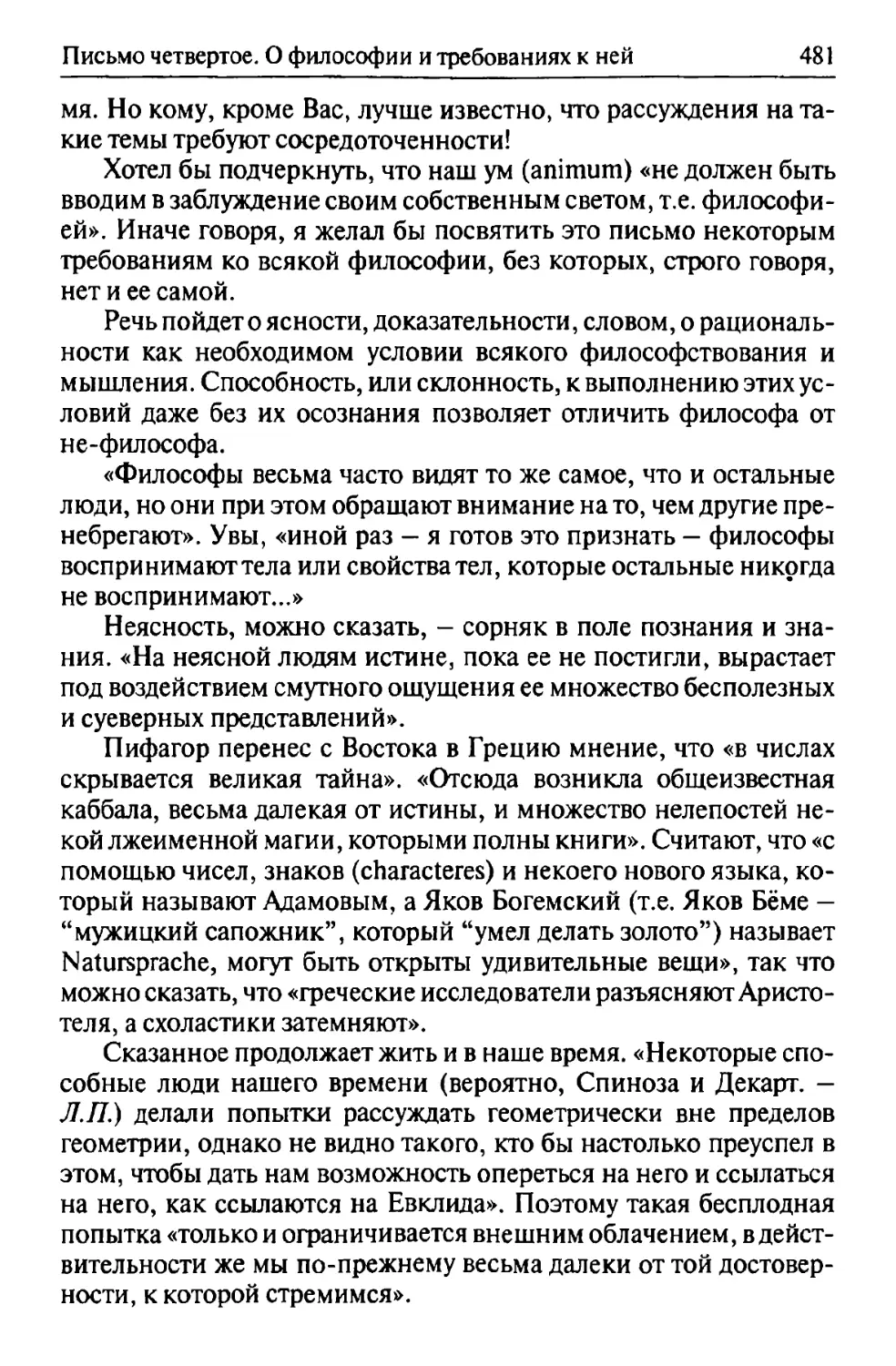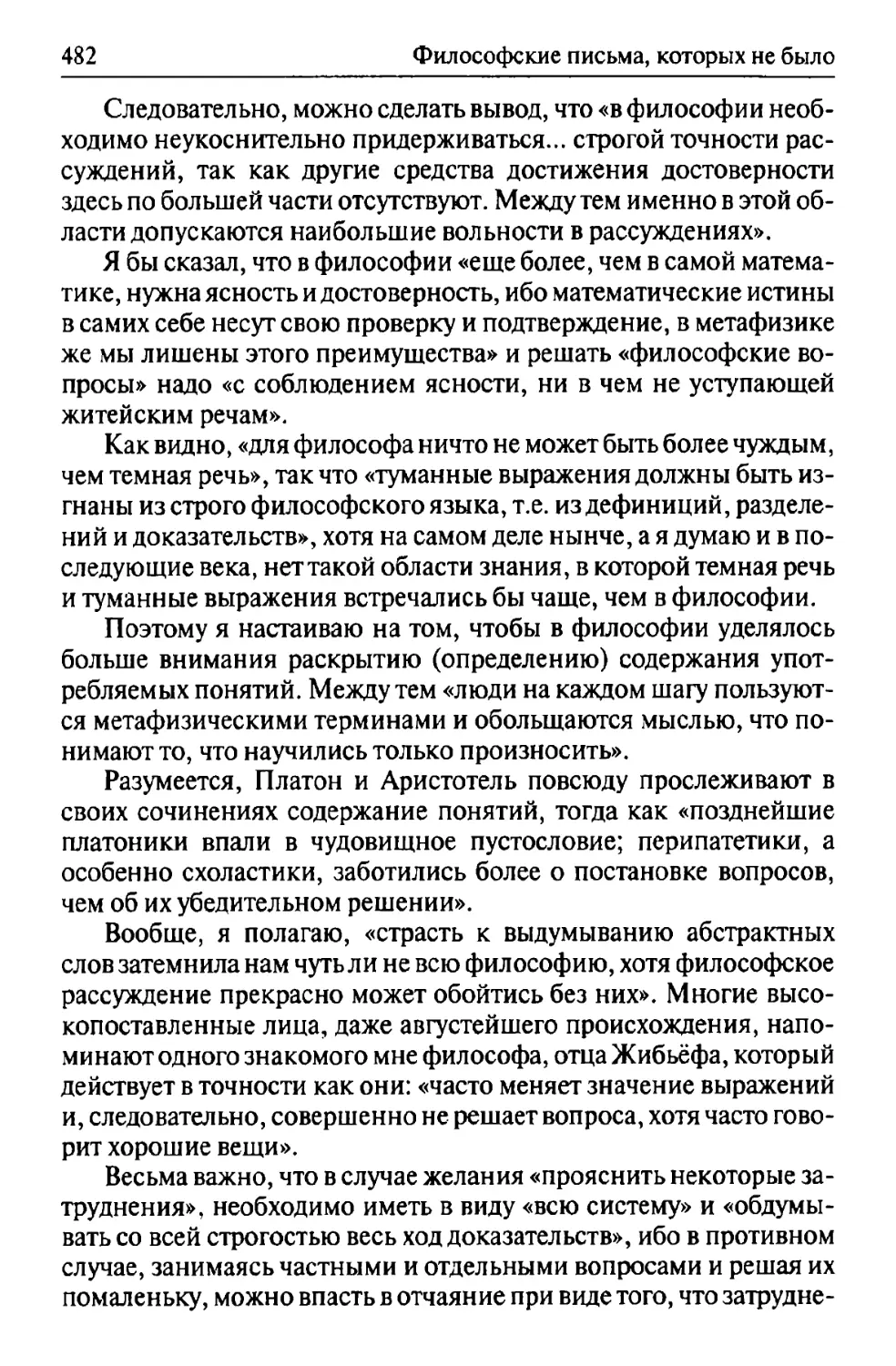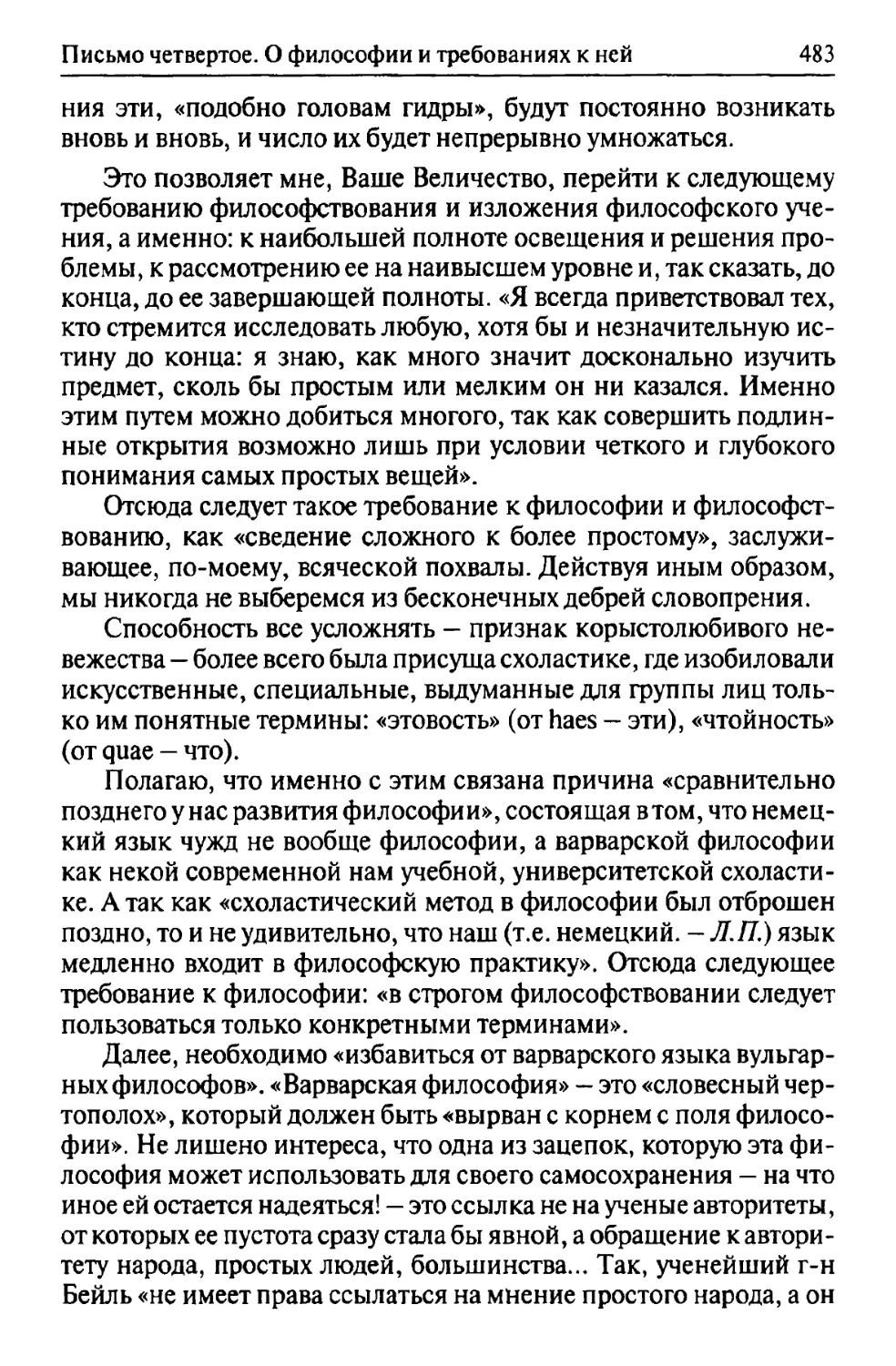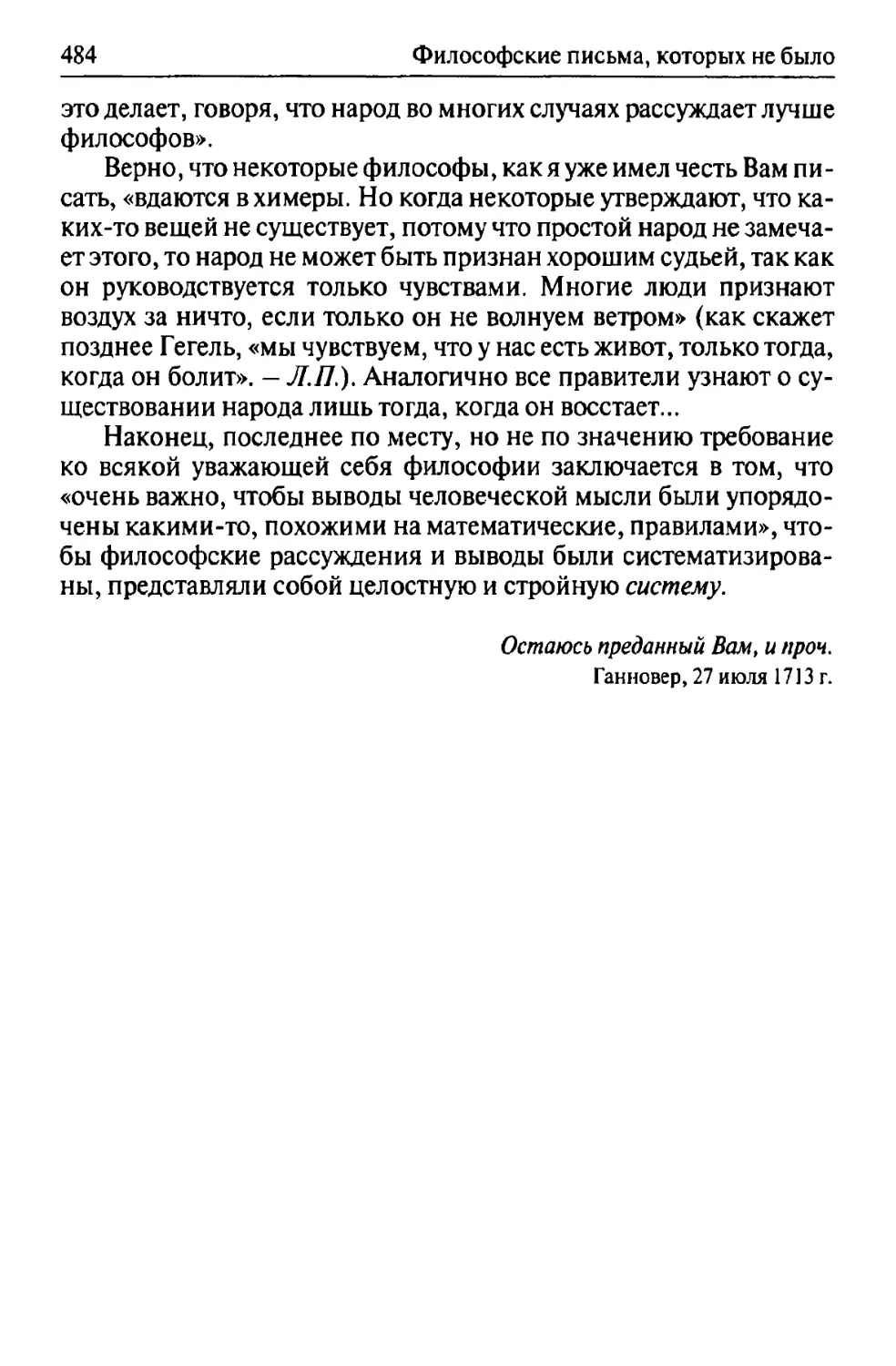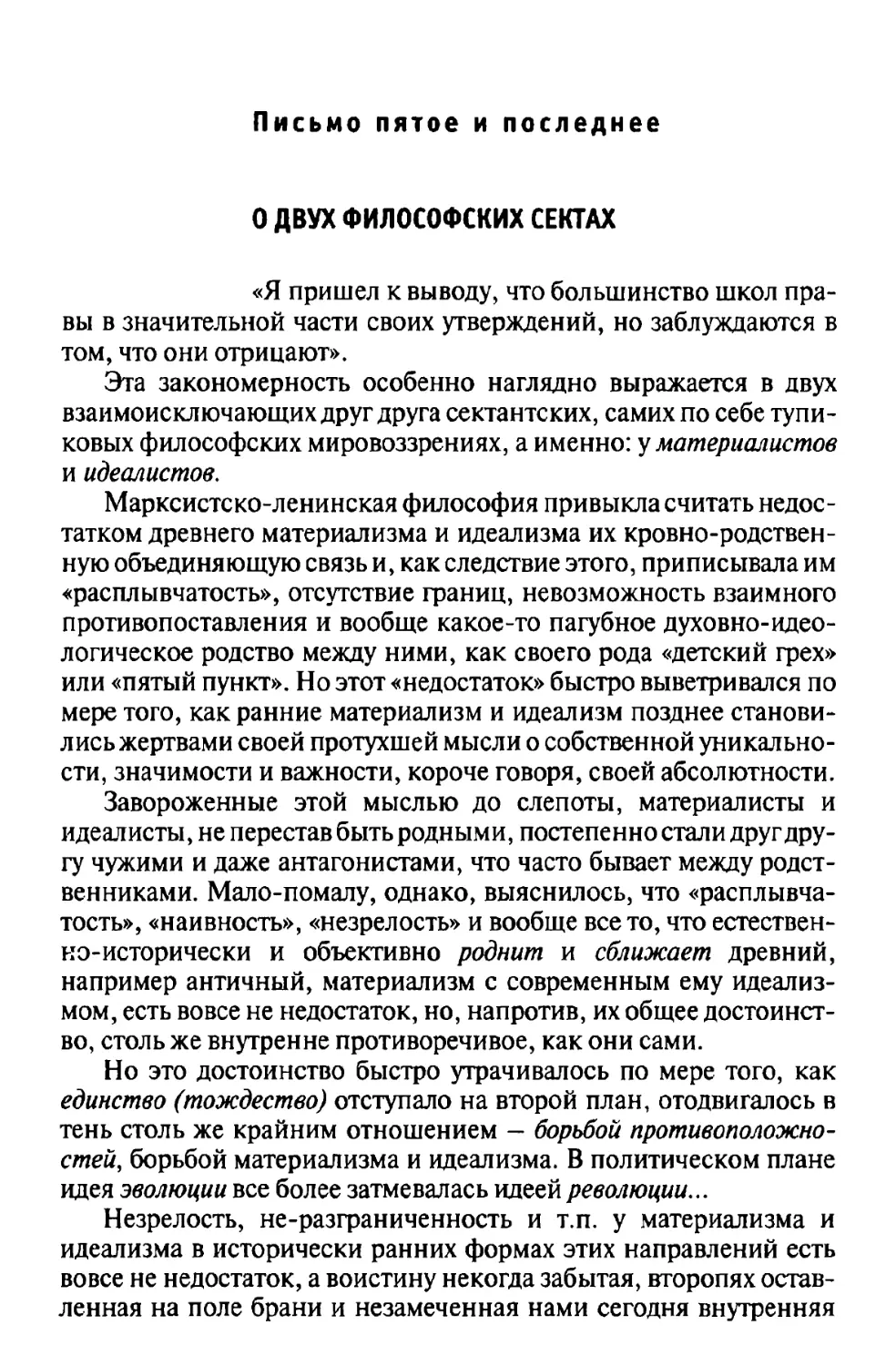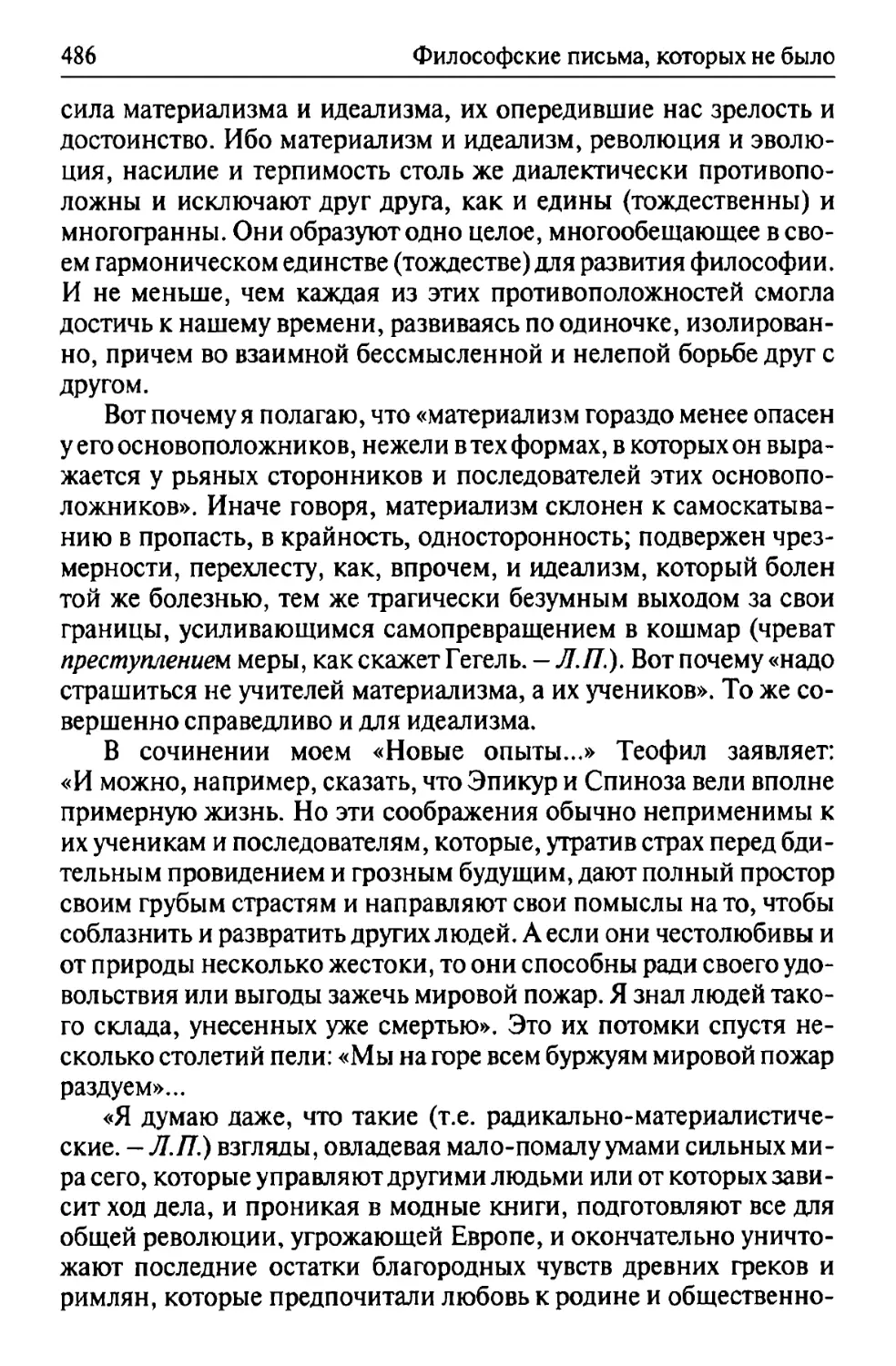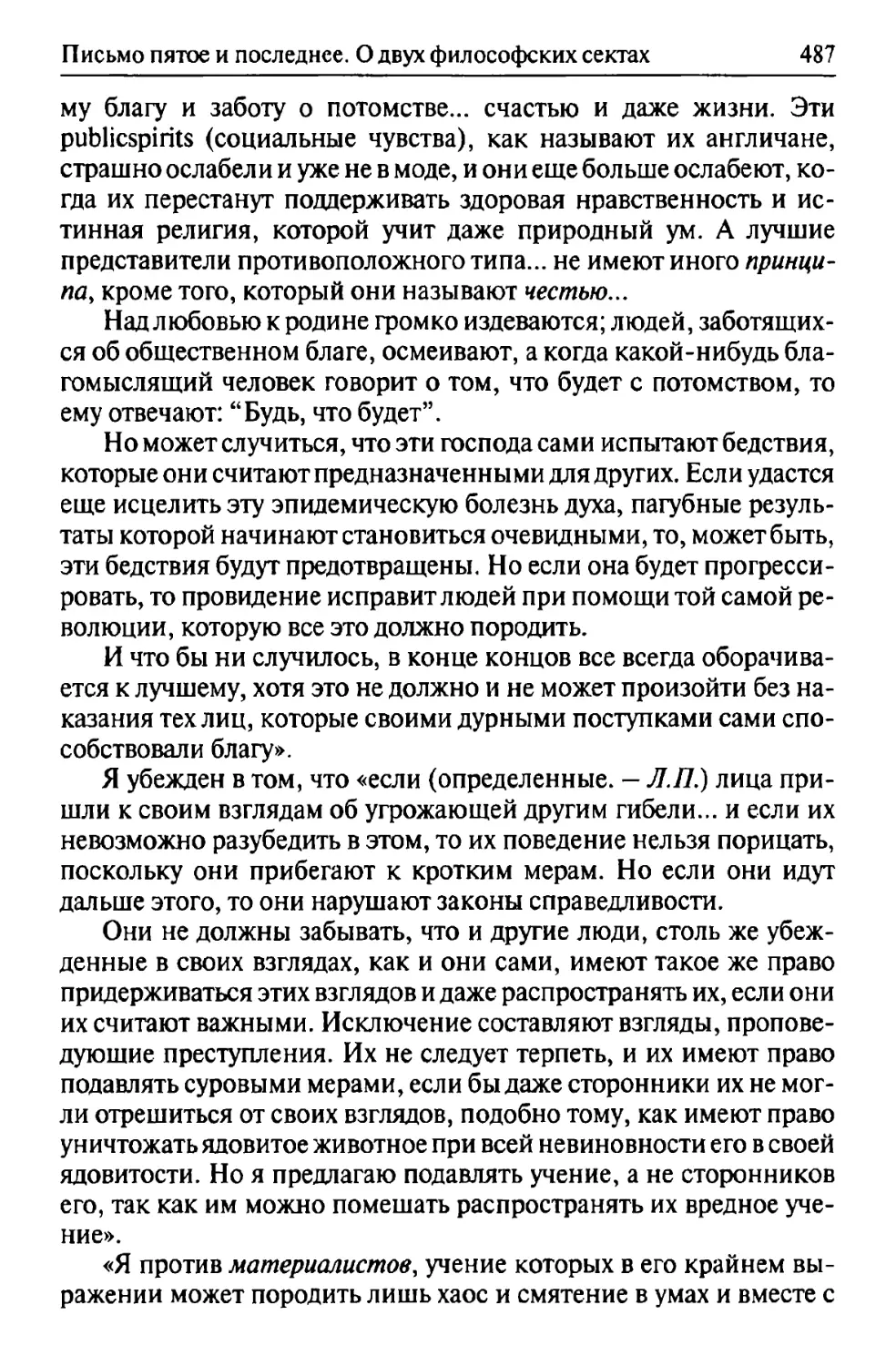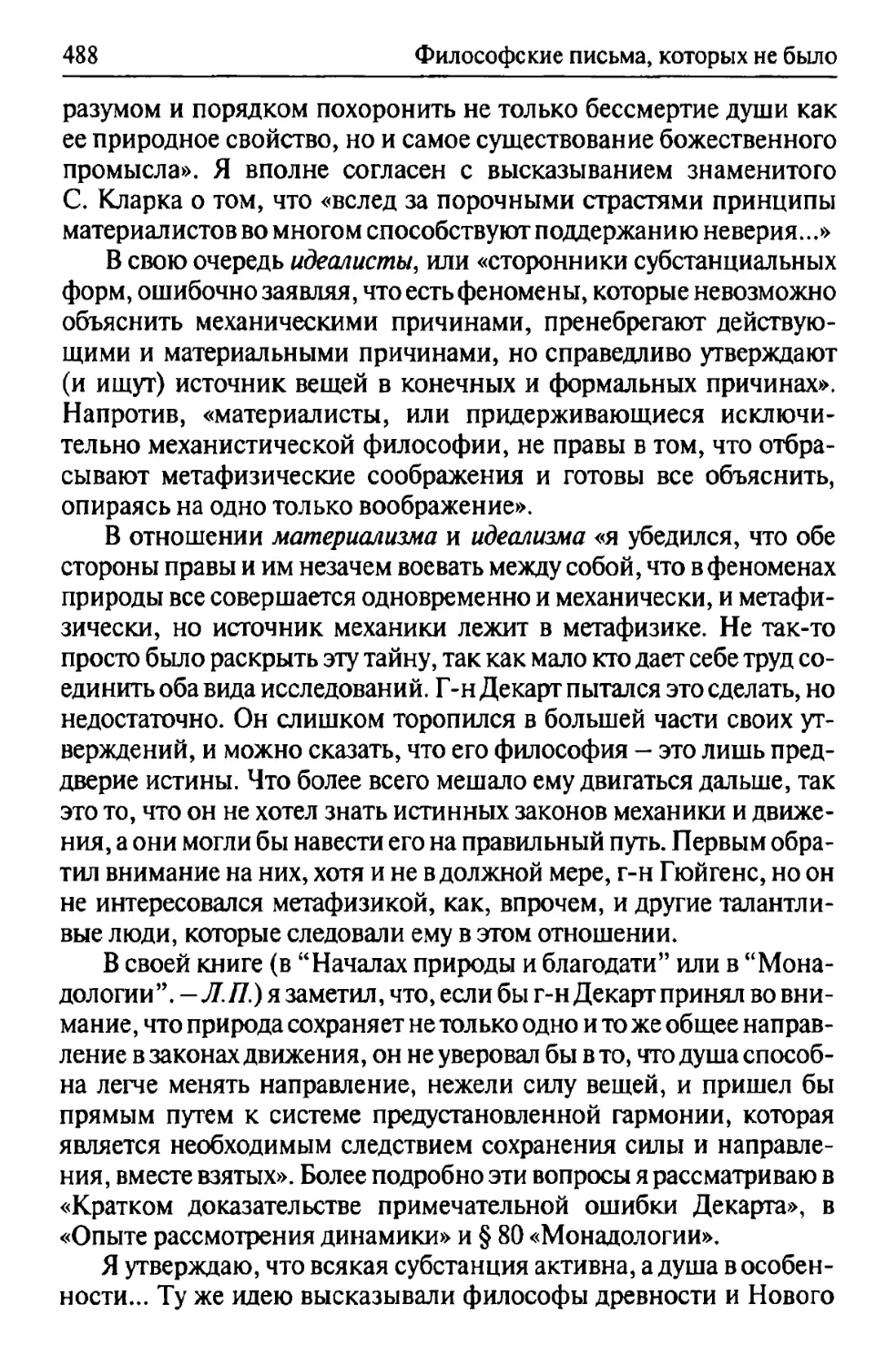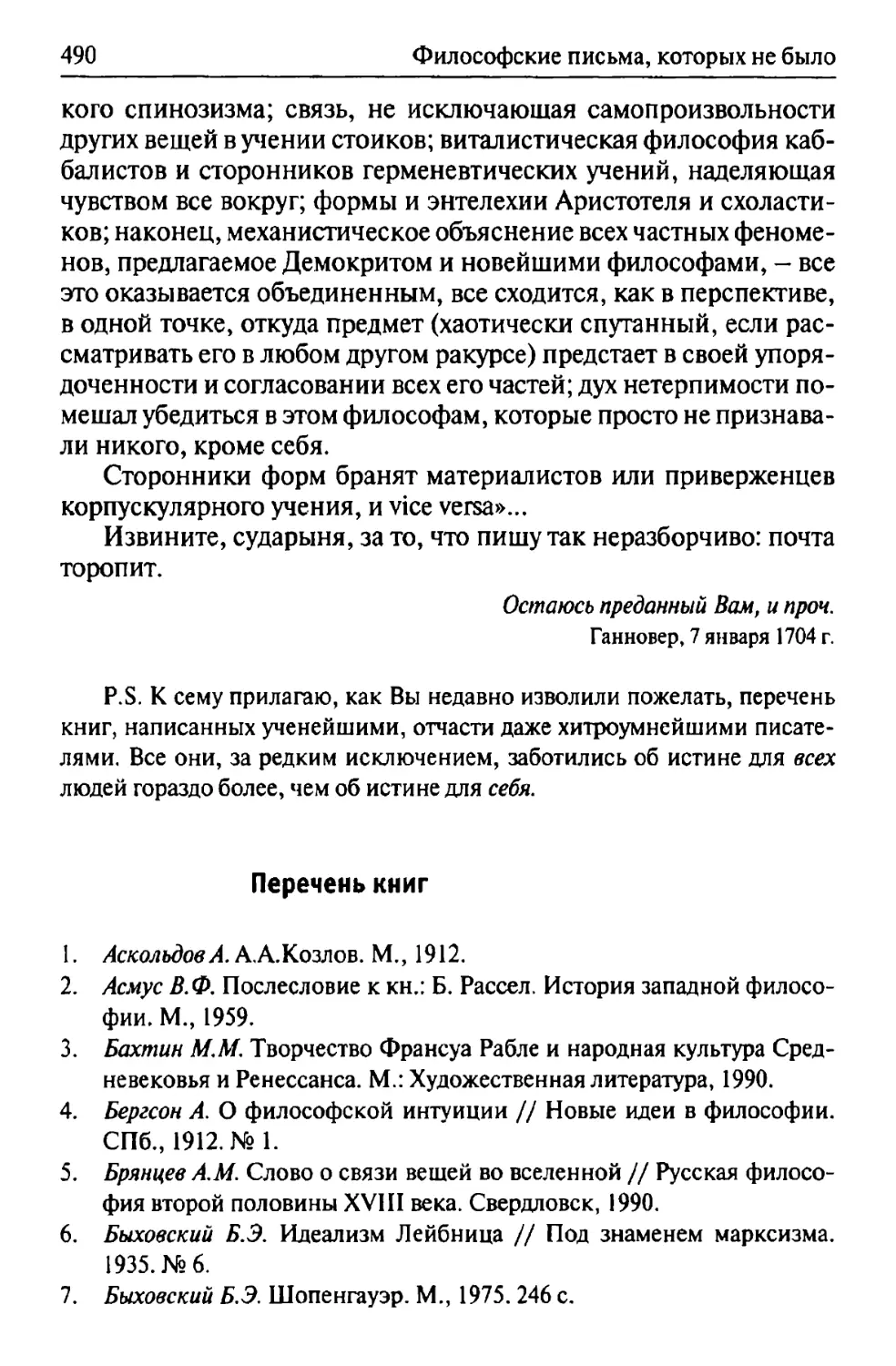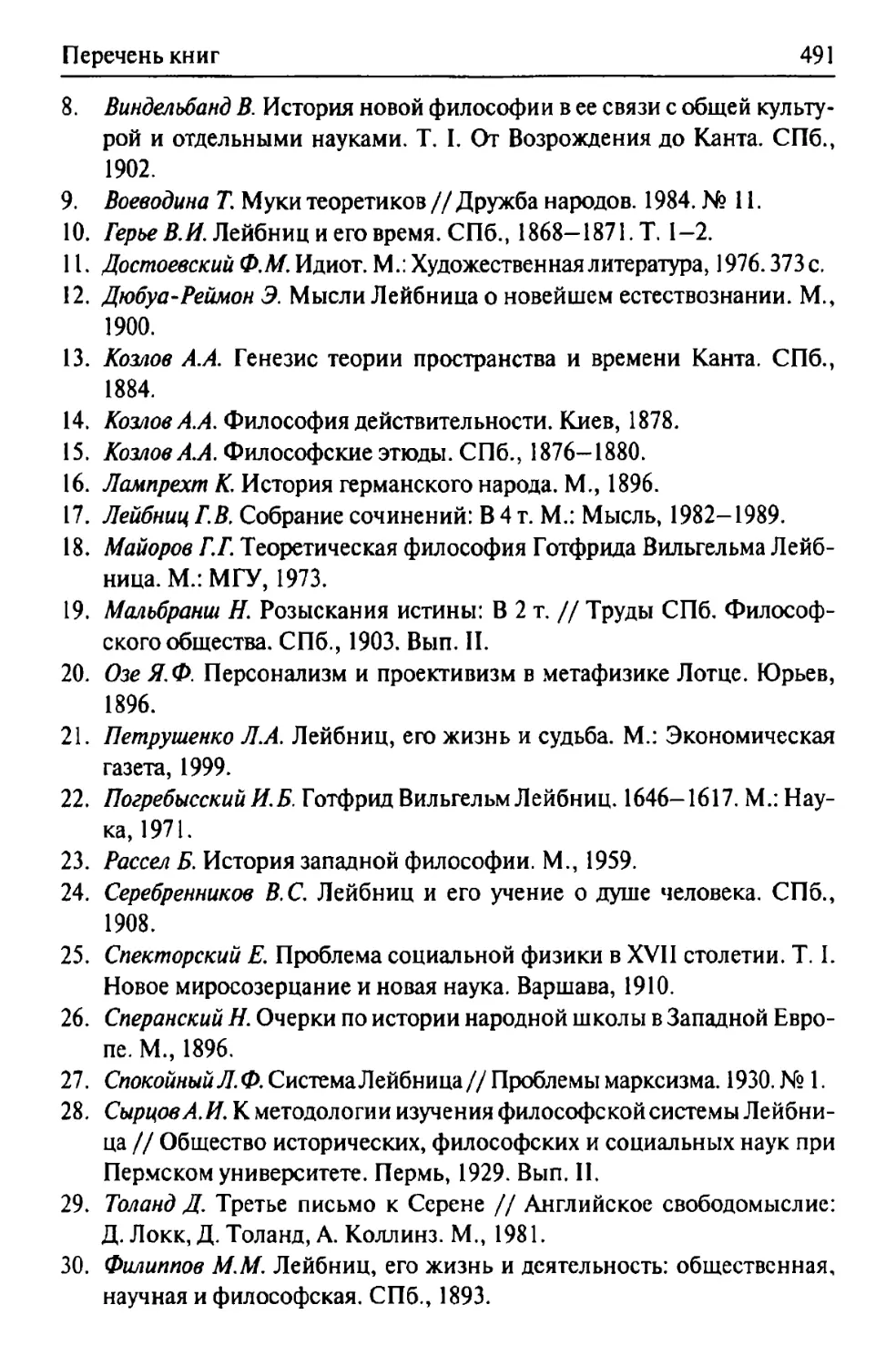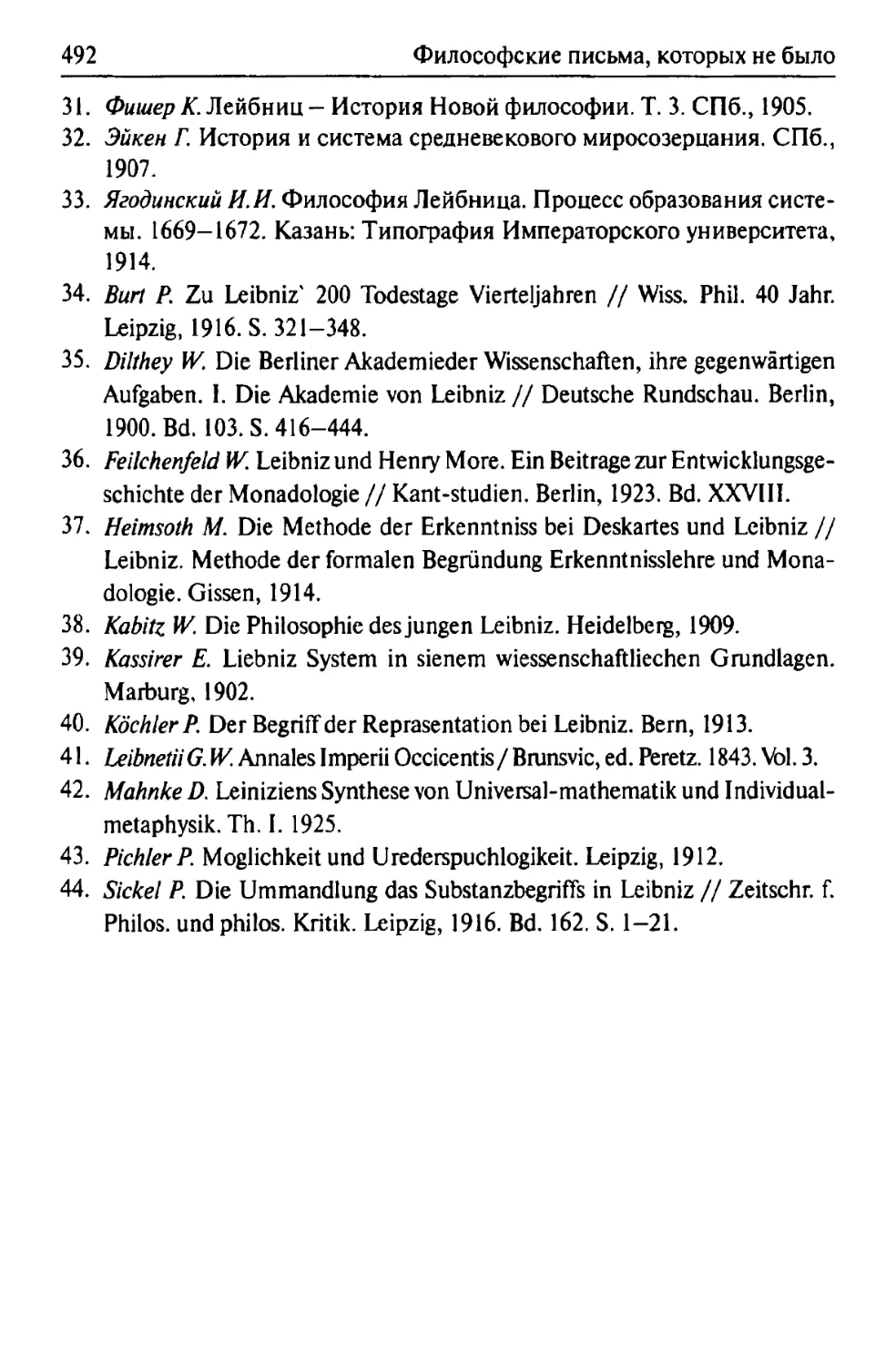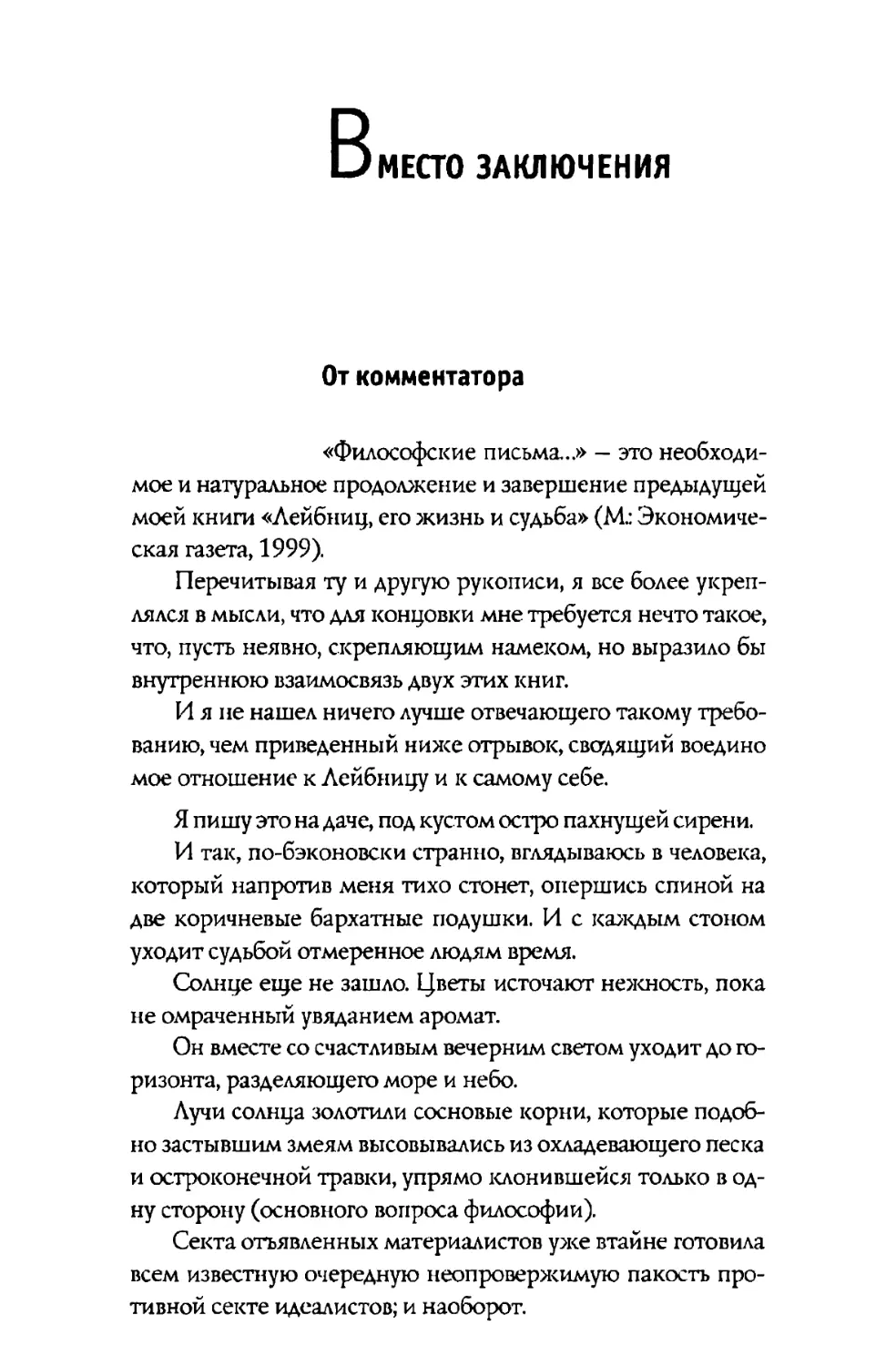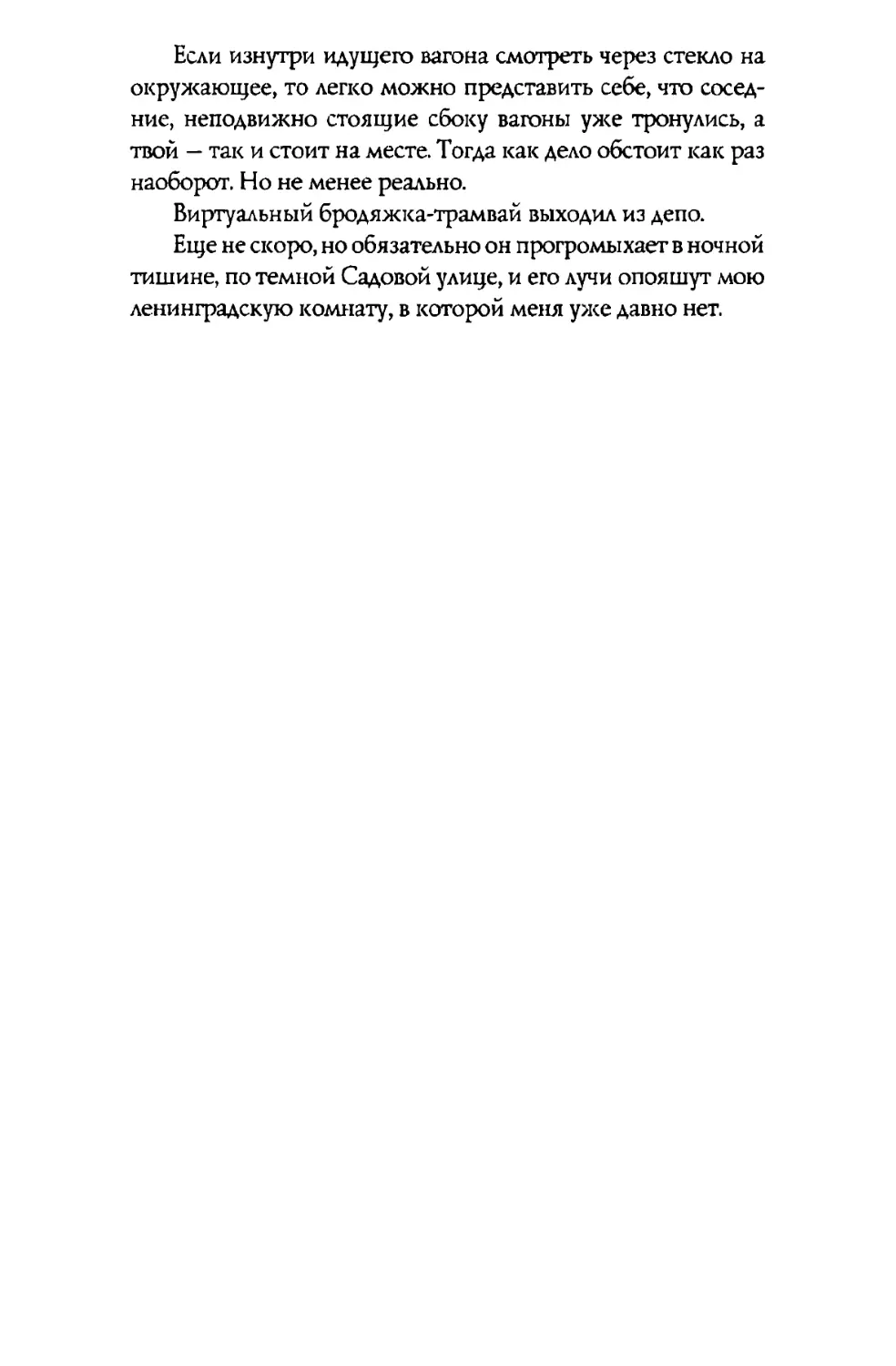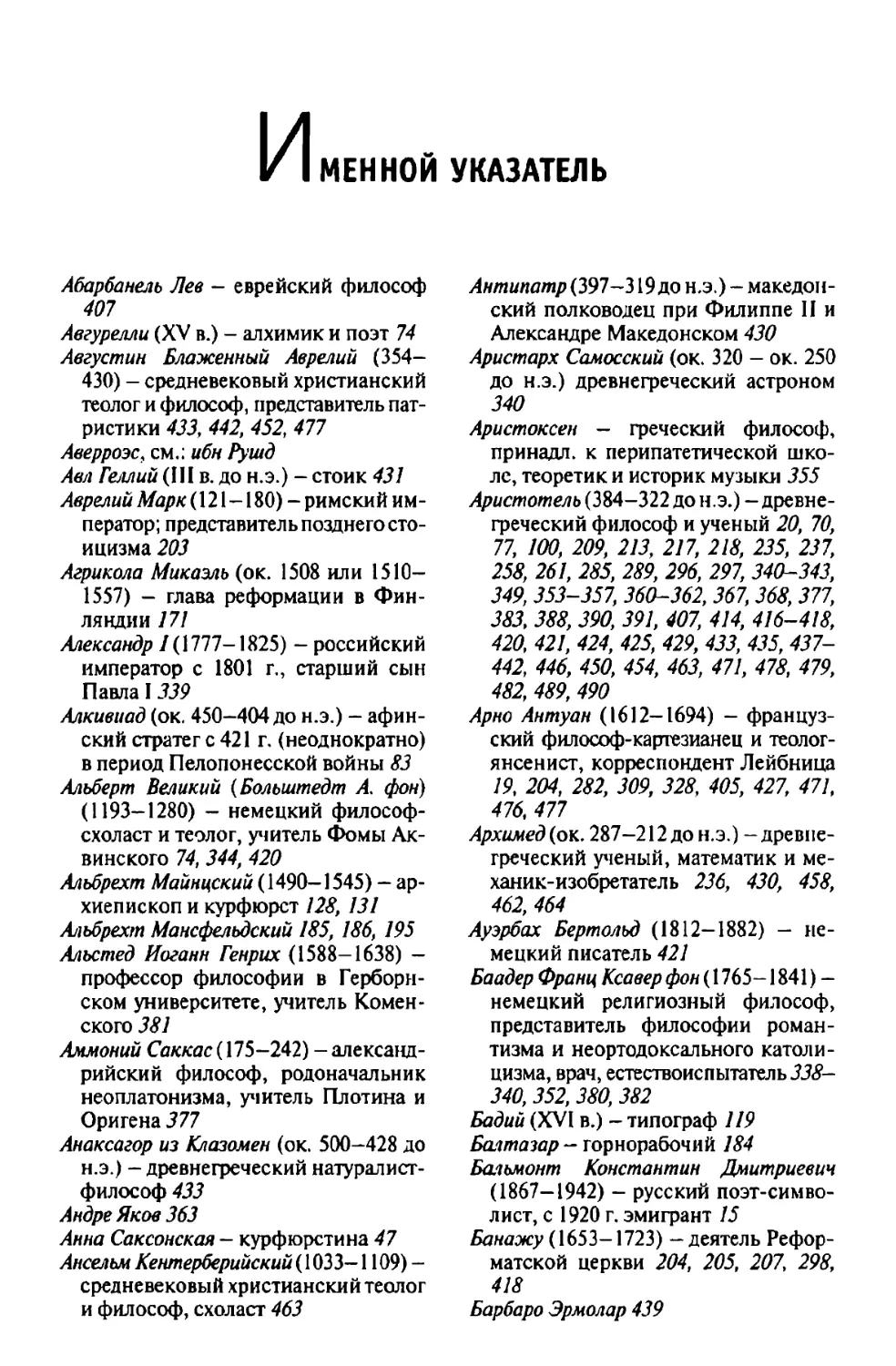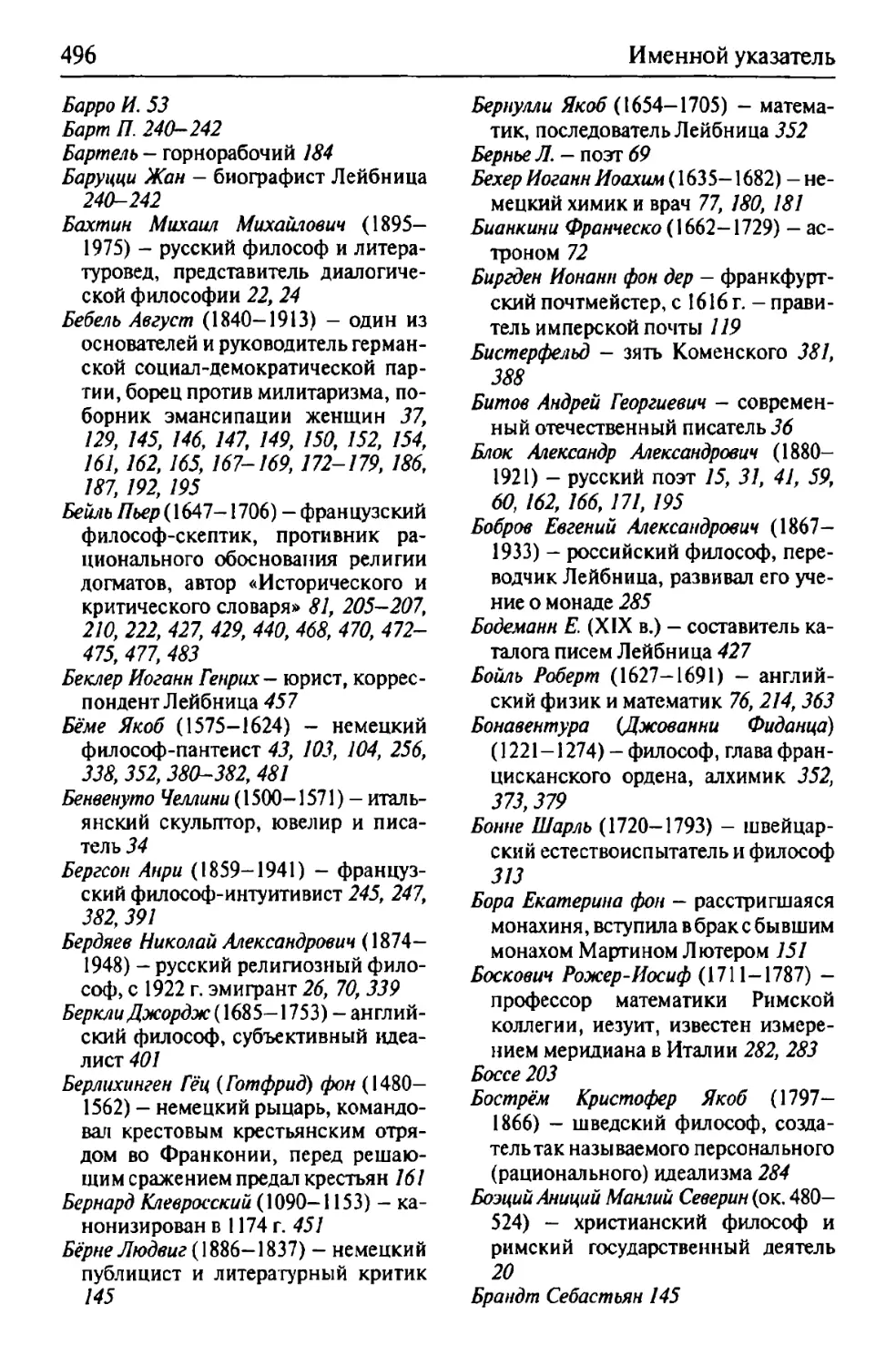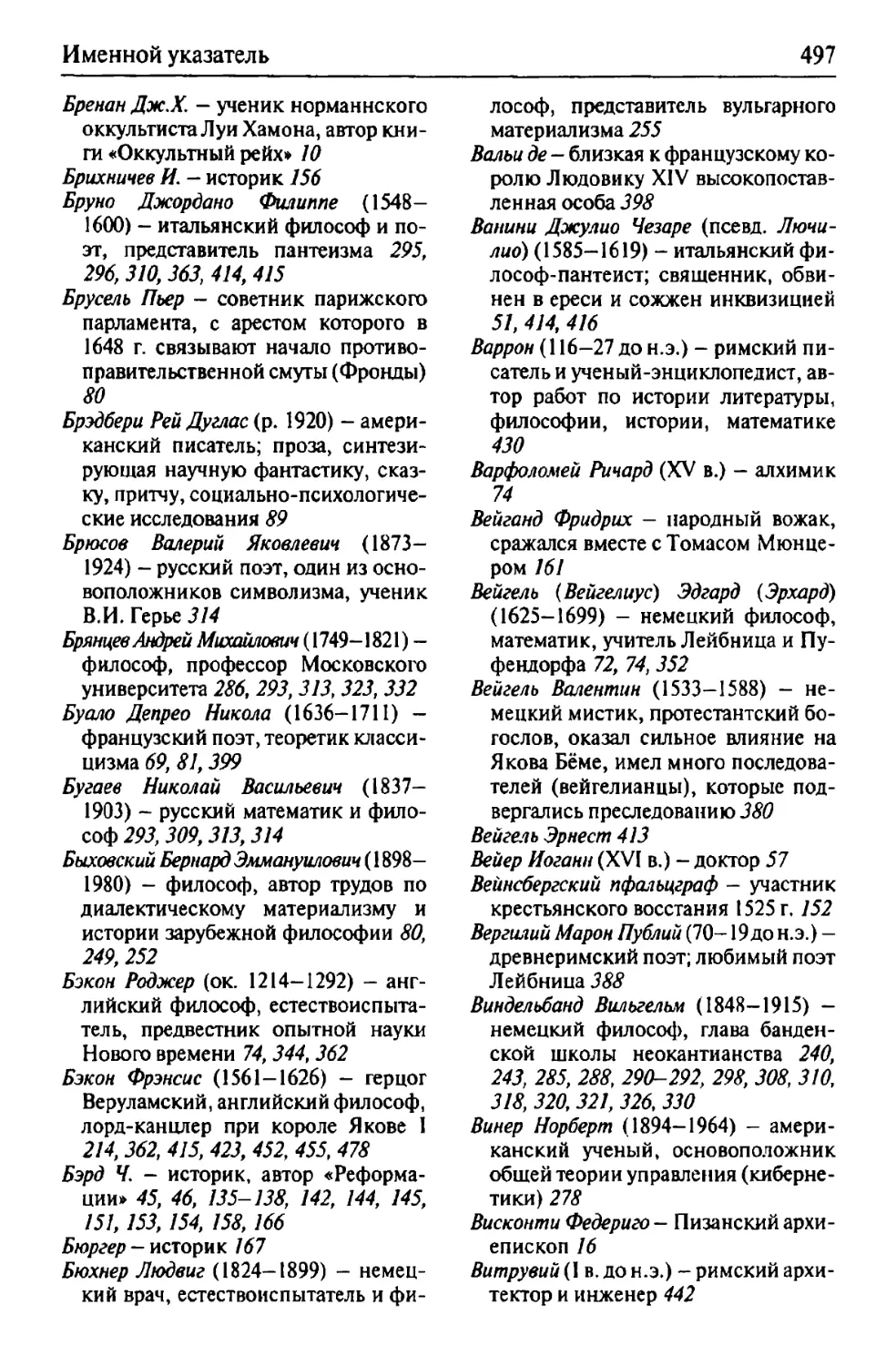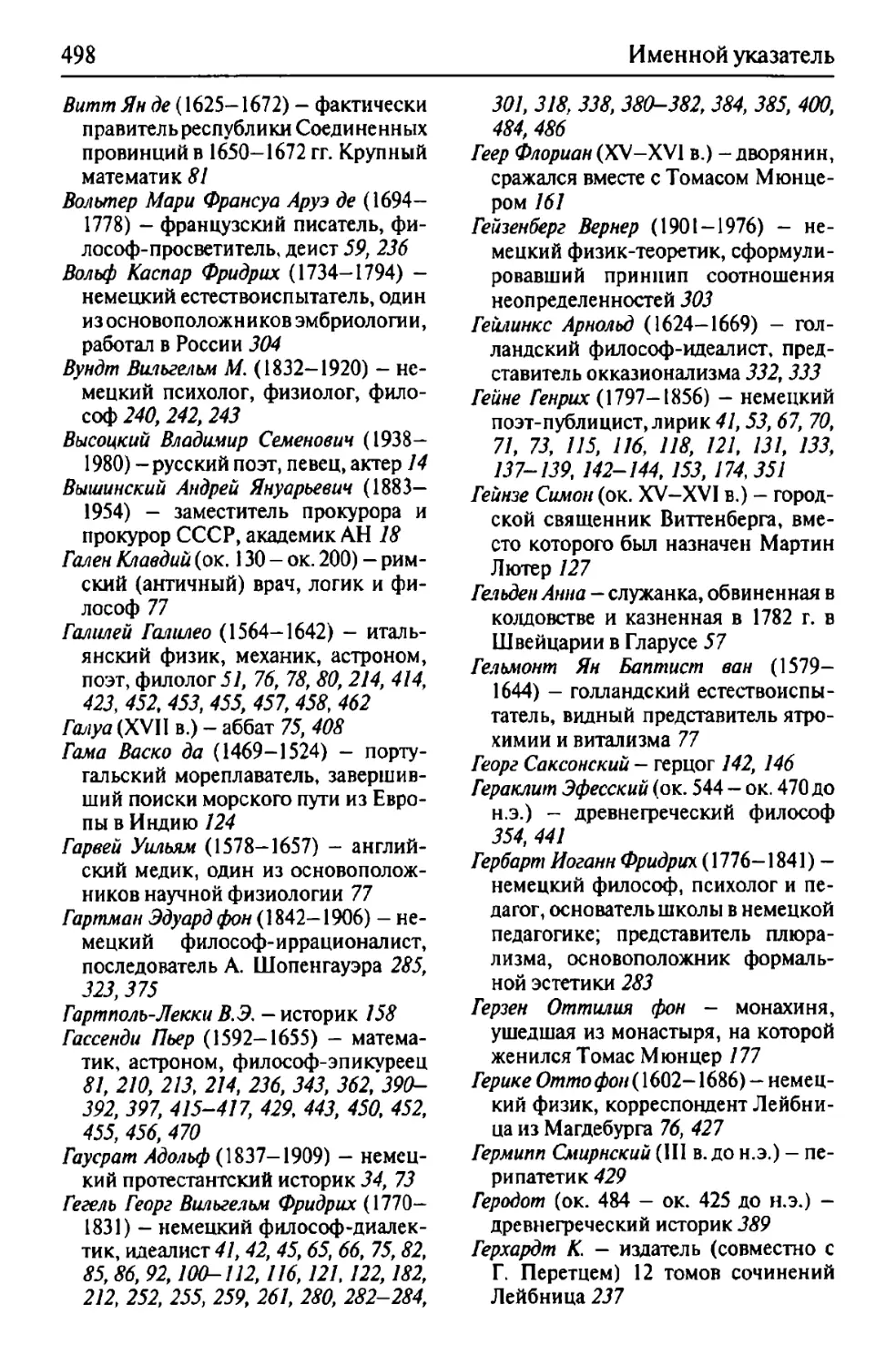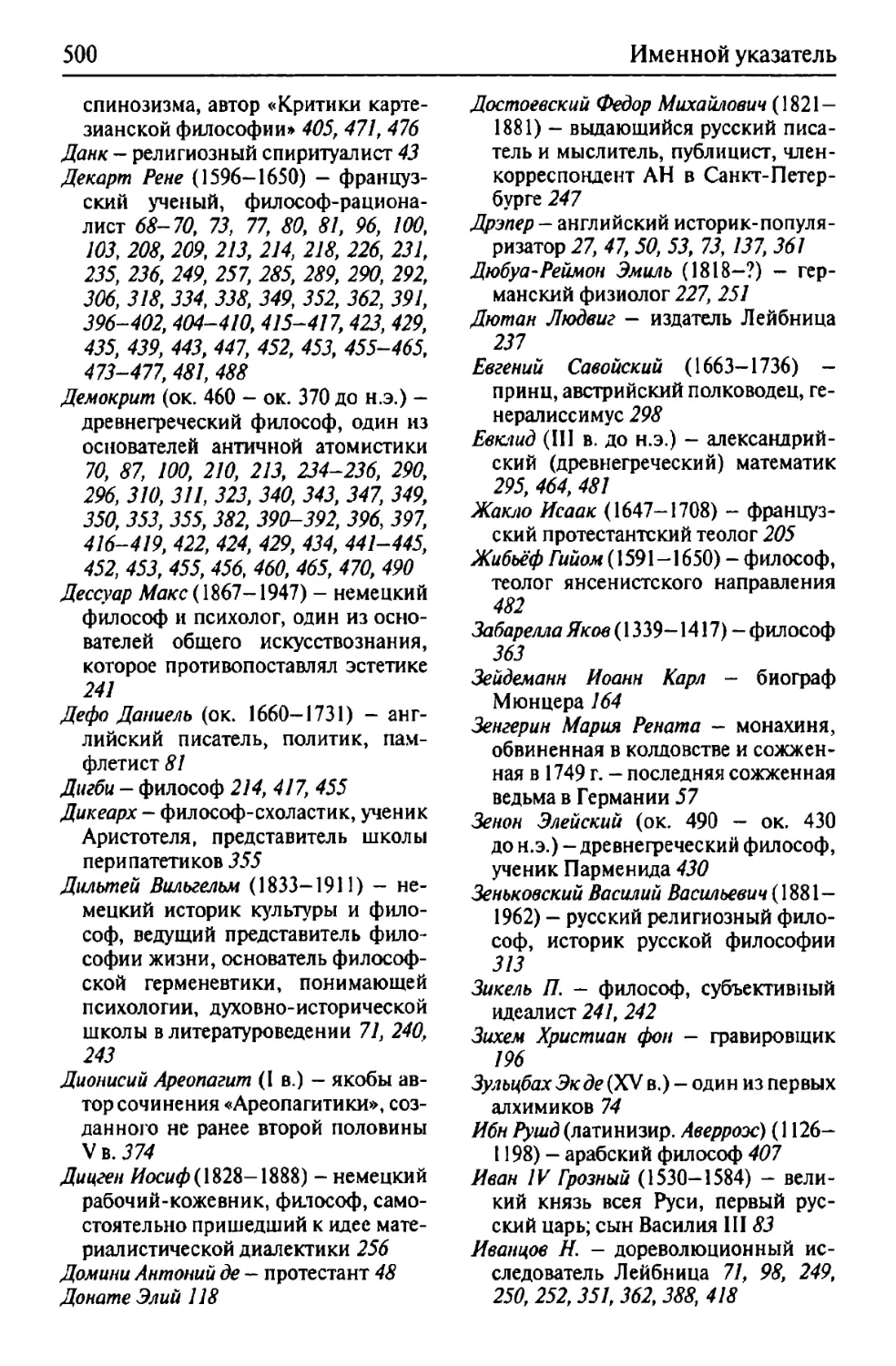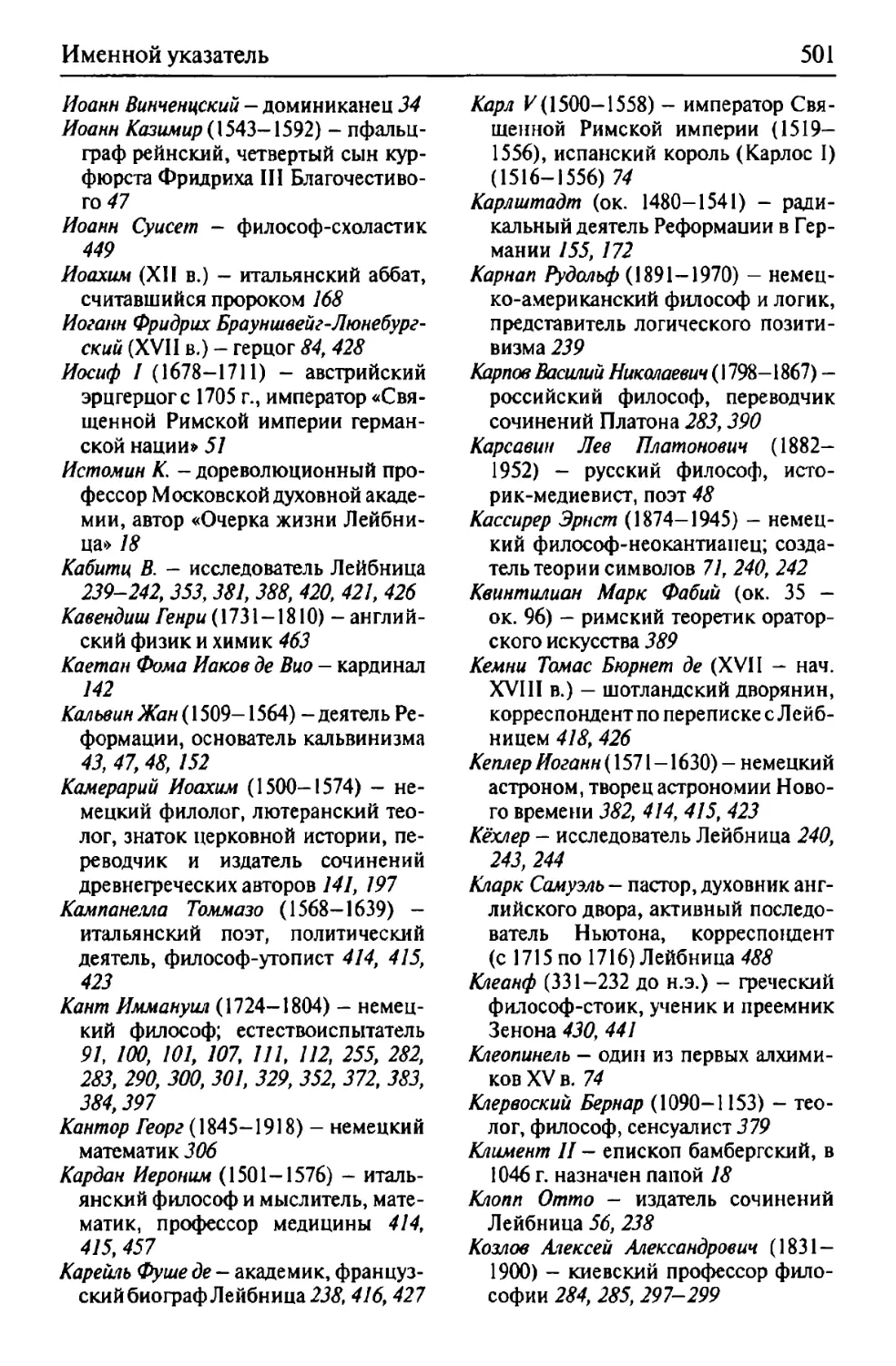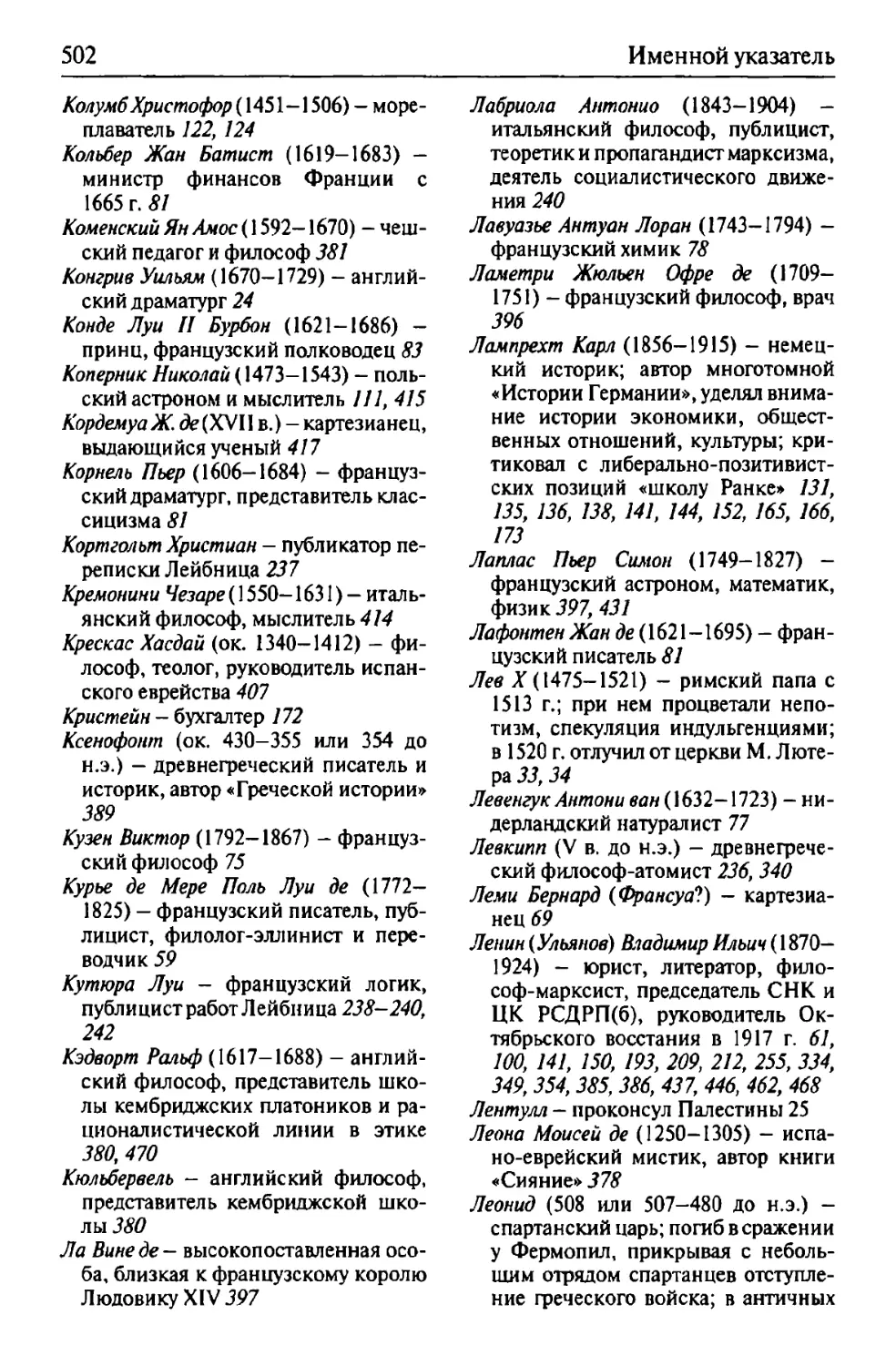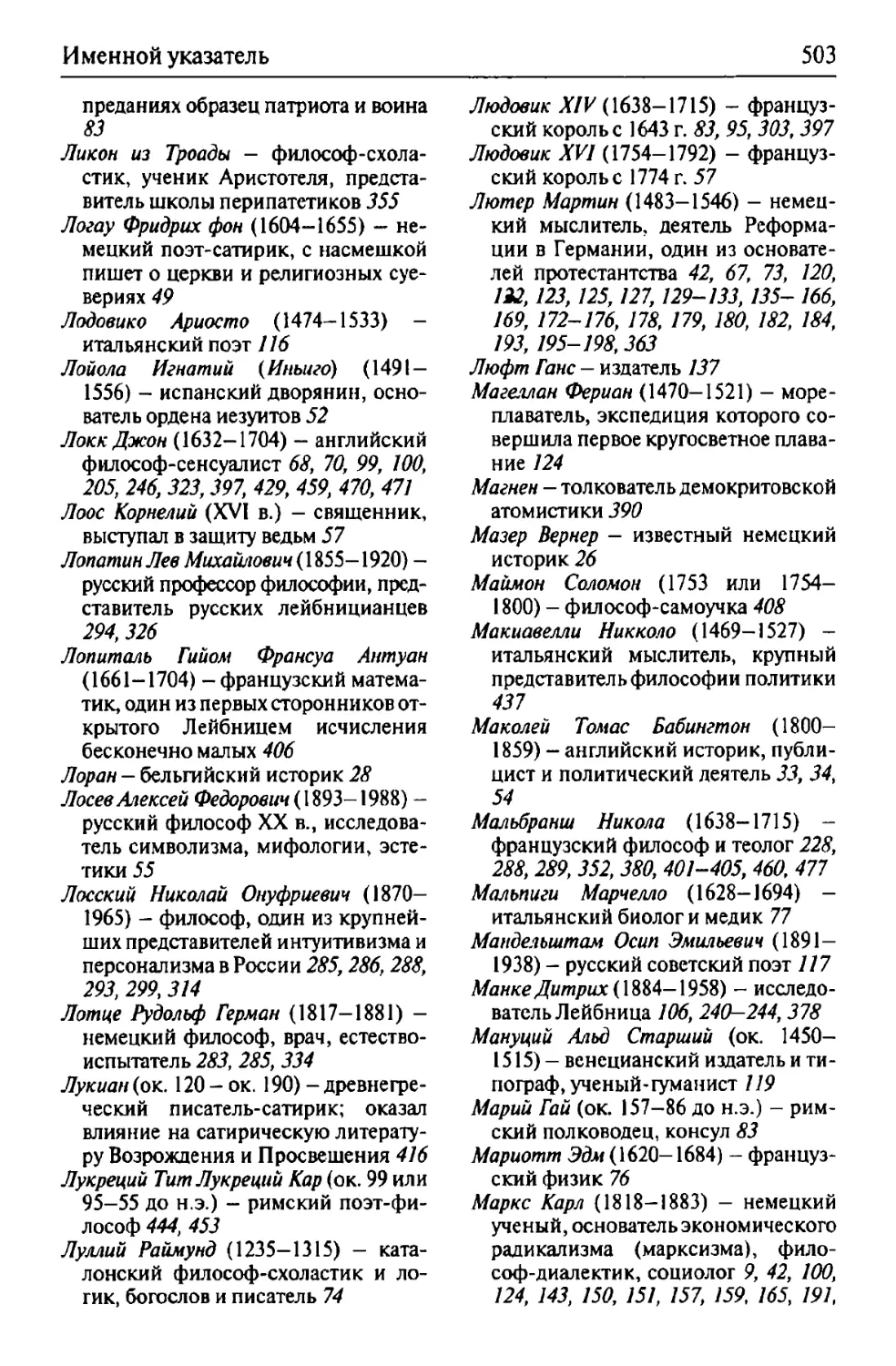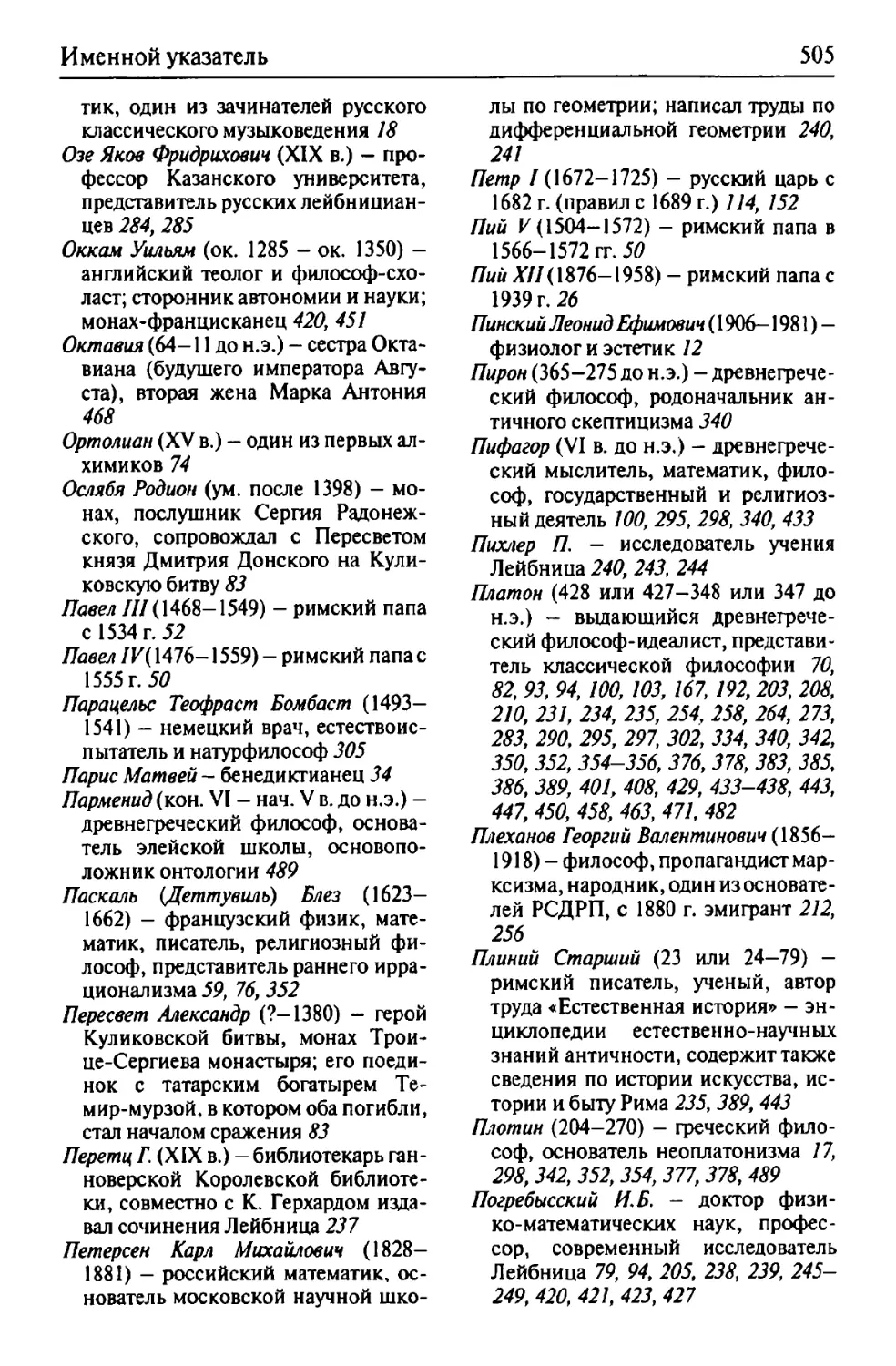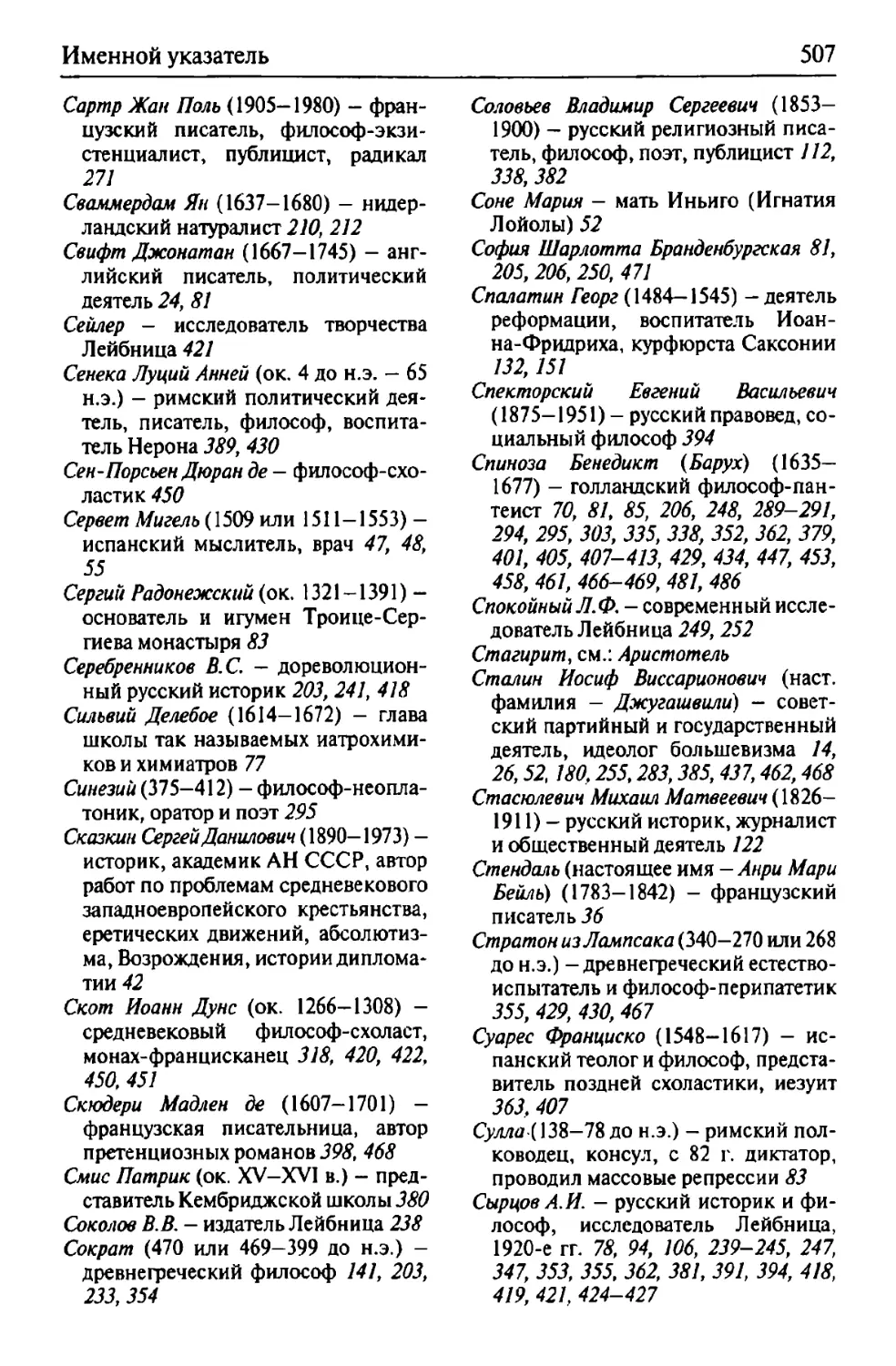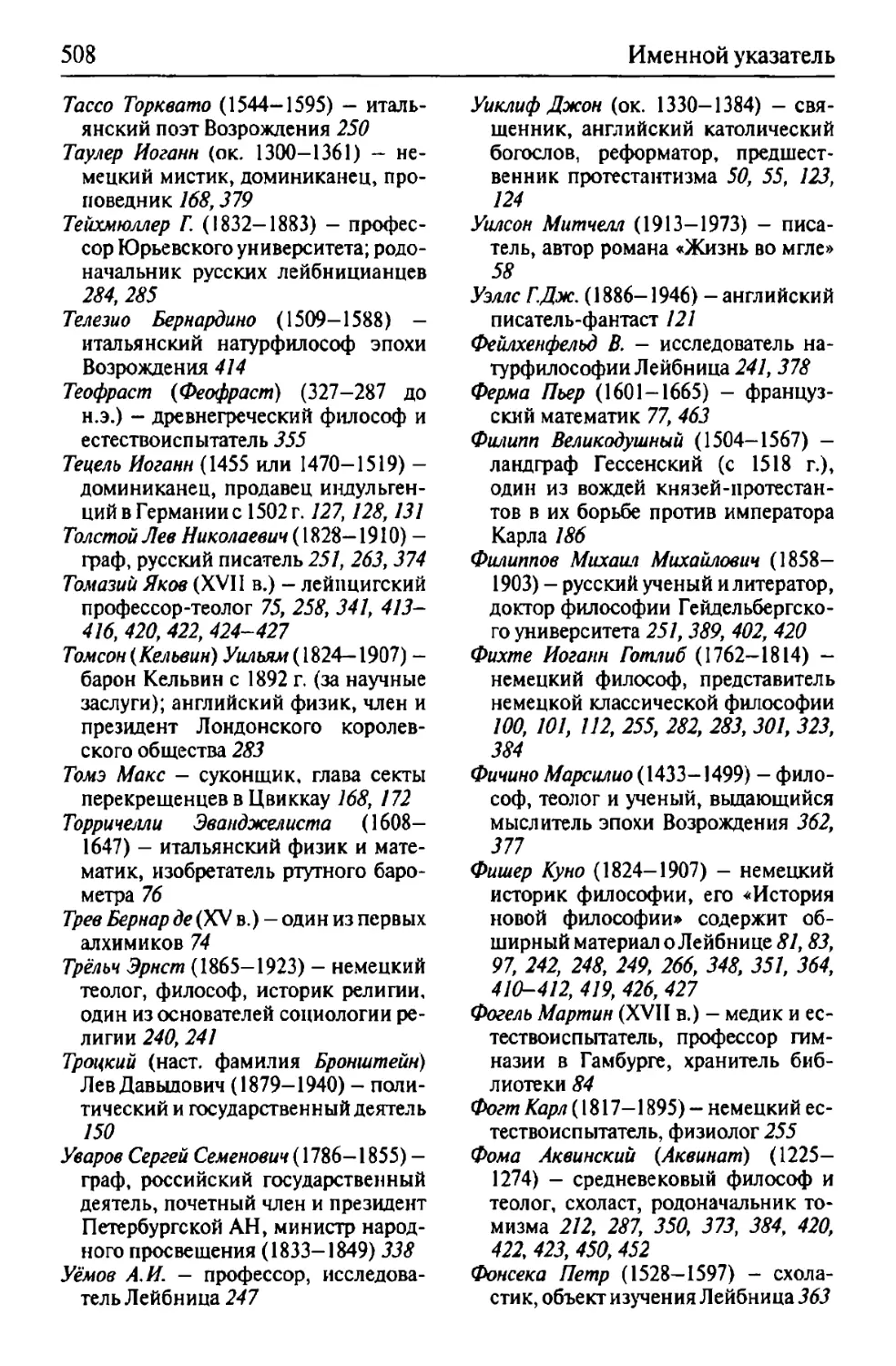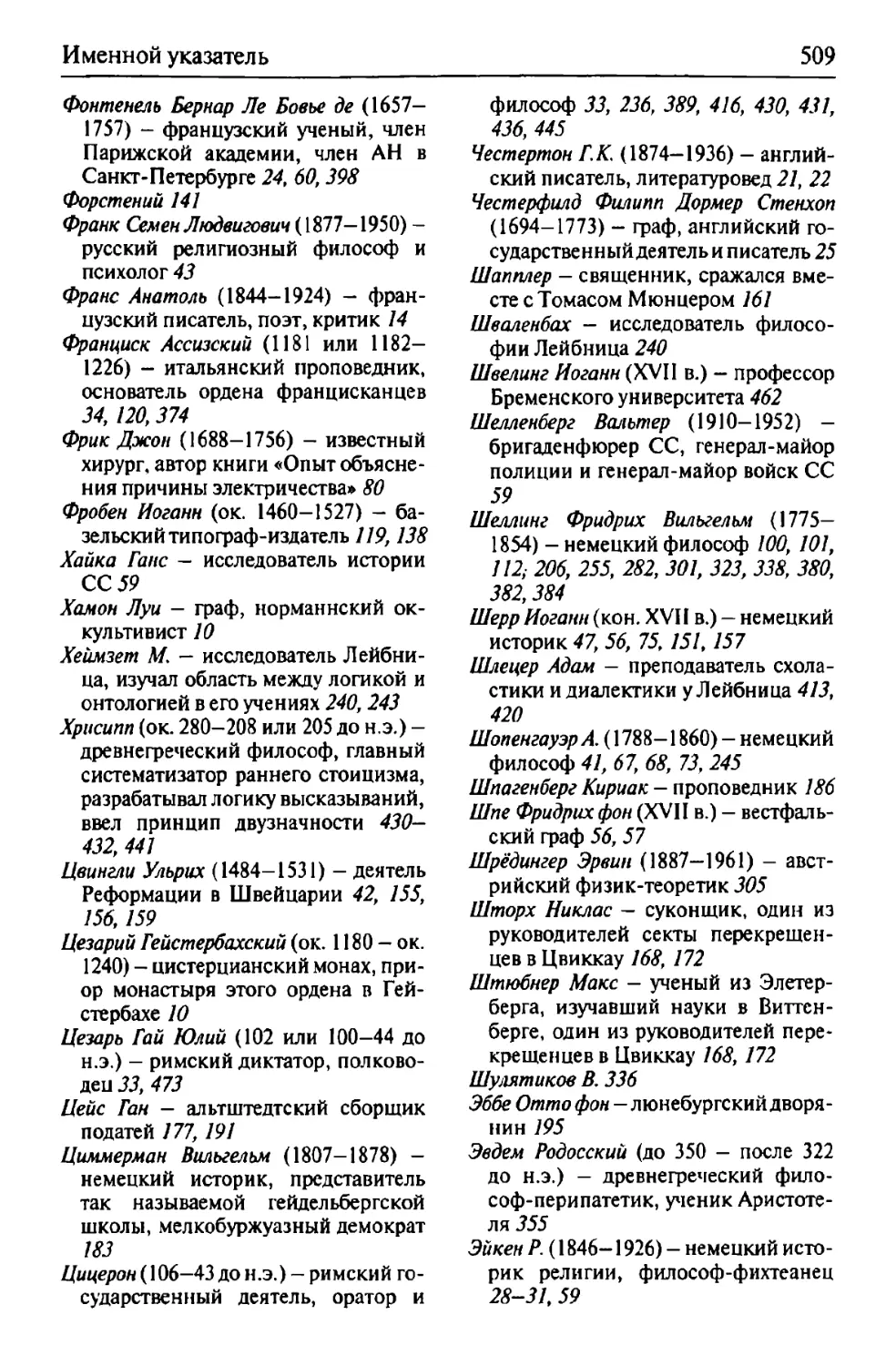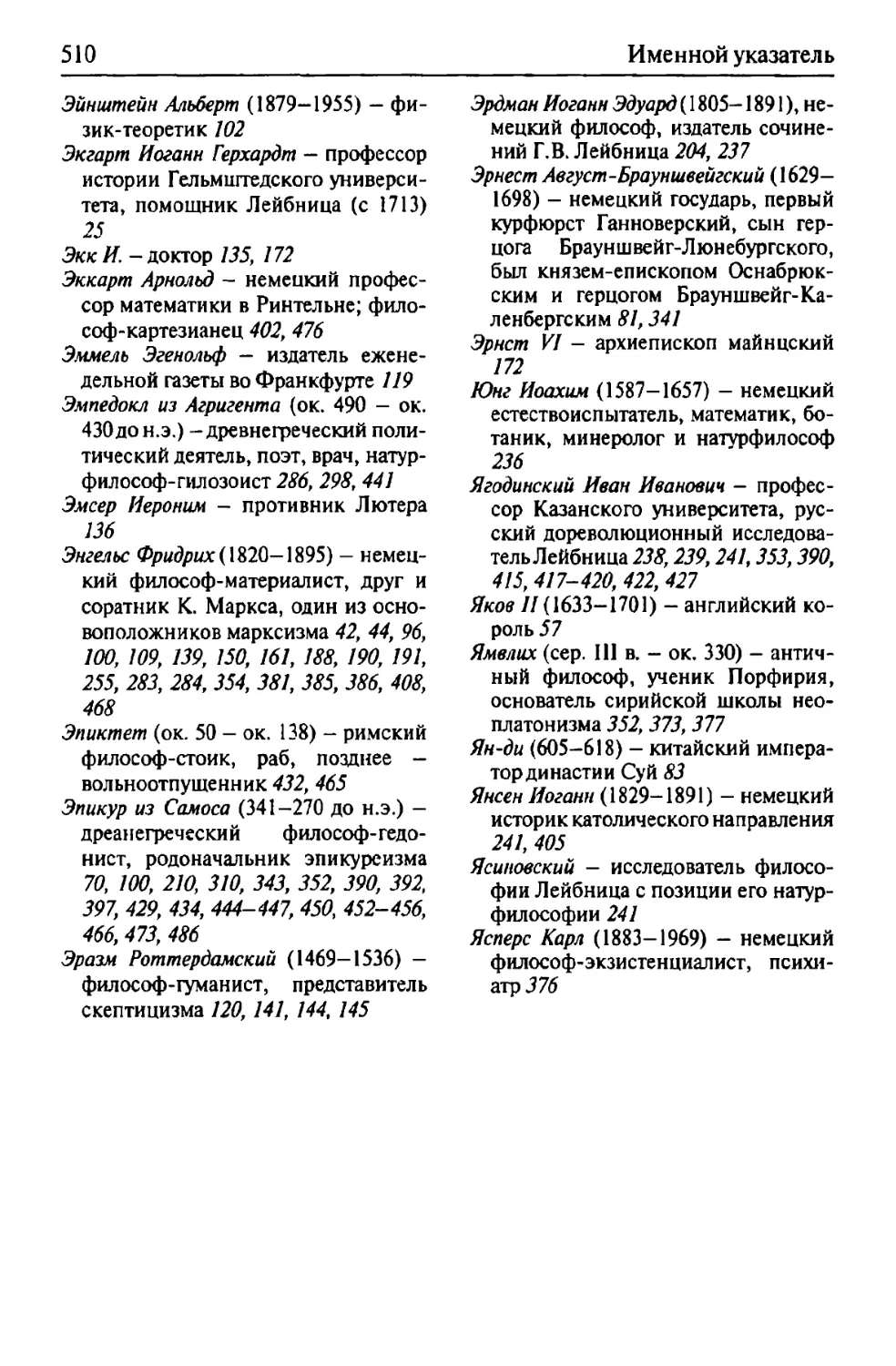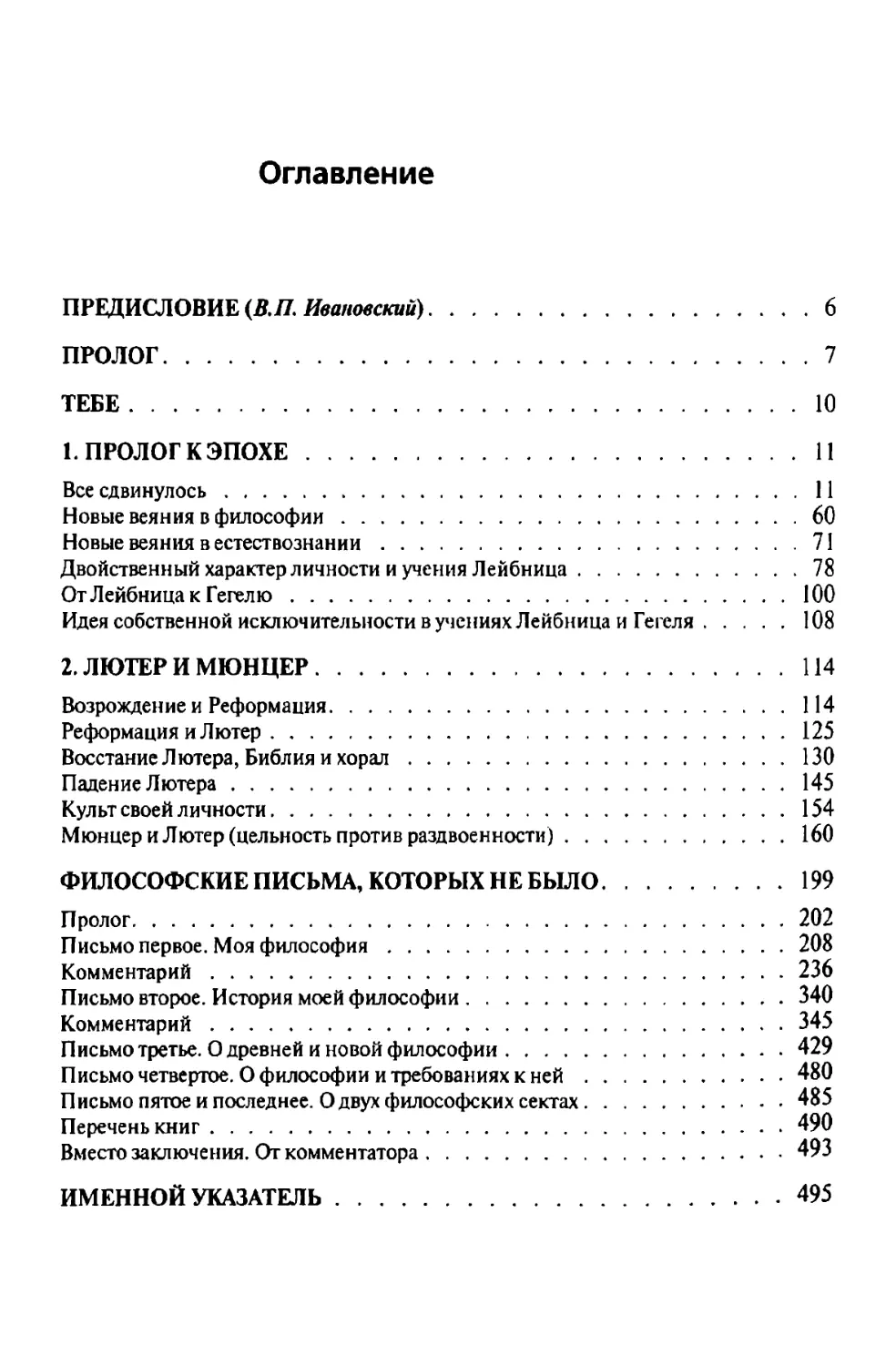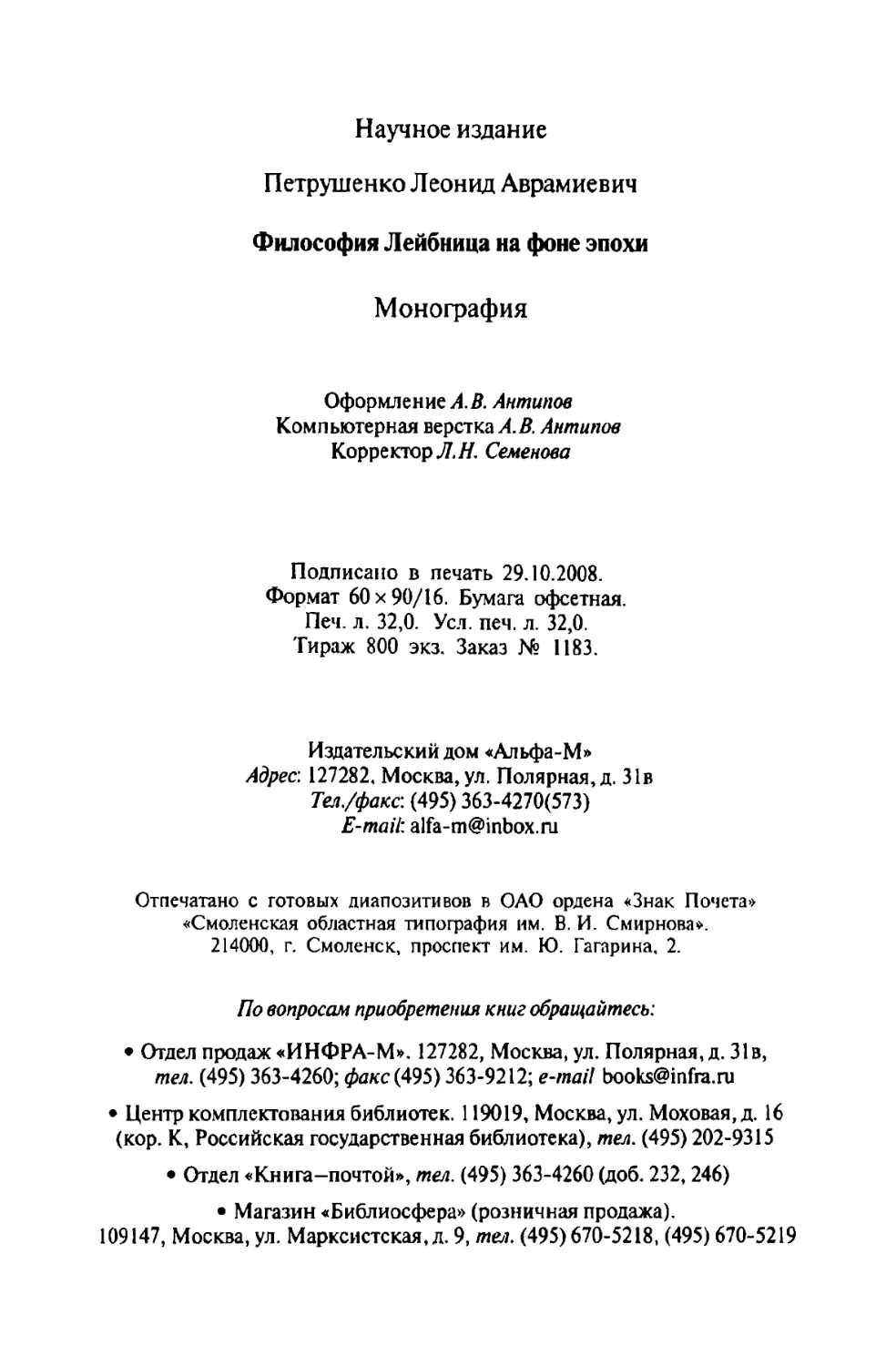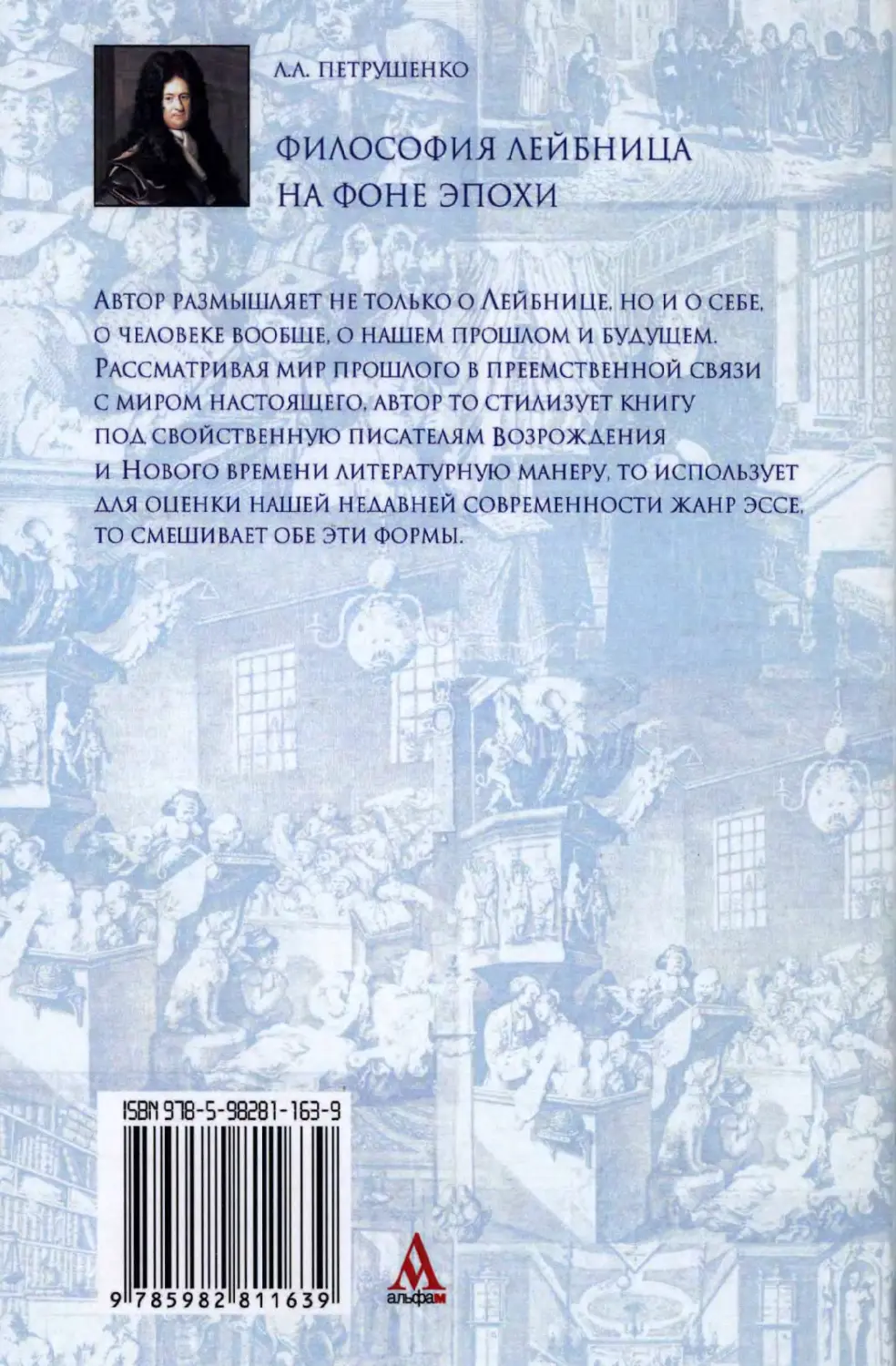Автор: Петрушенко Л.А.
Теги: философские системы и концепции история философии философия
ISBN: 978-5-98281-163-9
Год: 2009
Текст
Посвящается моей жене, дочери
и внукам Наташе, Гоше и Никите
Л.А. П ЕТРУШЕН КО
ФИЛОСОФИЯ
ЛЕЙБНИЦА
НА ФОНЕ ЭПОХИ
МОСКВА • АЛЬФА-М • 2009
Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 08-03-16015/д
Петрушенко Л.А.
Философия Лейбница на фоне эпохи / Л.А.
Петрушенко. - М.: Альфа-М, 2009. - 512 с: ил.
ISBN 978-5-98281-163-9
В книге дан глубокий анализ развития философской и общественной
мысли; автор остроумно связывает современный мир с эпохой
Средневековья, прослеживая историю религии, философии, науки, отношений
человека с окружающим миром, Богом и самим собой с античных времен до
нашего времени. В центре внимания автора - взгляды великого немецкого
философа Г. В. Лейбница (1646-1744), сущность, происхождение и эволюция его
философского учения. По мере чтения монографии Лейбниц постепенно
становится близким читателю, и его невольно воспринимаешь как старого друга.
Для специалистов и научных работников в области философии,
медиевистики, преподавателей и аспирантов гуманитарных вузов.
Книга подготовлена ЕЛ. Петрушенко при участии Б.О. Николаичева
и увидела свет благодаря поддержке академика А.А. Гусейнова
© Петрушенко Л.А., наследники, 2008
ISBN 978-5-98281-163-9 © «Альфа-М». Оформление, 2009
I IРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа
известного отечественного философа, одного из немногих
российских лейбницеведов, профессора Государственного
университета управления Леонида Аврамиевича Петрушенко
(1925-2004) является посмертным изданием многолетнего
исследования идей и эпохи великого немецкого мыслителя
Готфрида Вильгельма Лейбница.
Автор дает свою версию личности, мировоззрения и
философии Лейбница - философа, математика, логика,
медика, физиолога, генетика, психолога, социолога, политика,
теолога, педагога, филолога, государственного и
общественного деятеля. При этом автор размышляет не только о
Лейбнице, но и о себе, о человеке вообще, о нашем прошлом и
будущем.
Рассматривая мир прошлого в преемственной связи с
миром настоящего, автор то стилизует книгу под
свойственную писателям эпохи Возрождения и Нового времени
литературную манеру, то использует для оценки нашей недавней
современности жанр эссе, то, наконец, смешивает обе эти
формы.
По словам ЛЛ. Петрушенко, он хотел приблизить
Лейбница к читателю, сделать его близким современным людям,
полезным для понимания ими самих себя и общества,
которое они образуют. Лейбниц навсегда остался в удаляющемся
прошлом, чтобы с каждым годом приближаться к нам.
Профессор
ЕЛ. Ивановский
I IРОЛОГ
...Вселенная, какова бы она ни была, в своей совокупности есть
как бы океан.
Г.В. Лейбниц. Теодицея
...Море и небо... Вот что видишь сначала. Потом
видишь море и землю. Море разделяет небо вверху и землю внизу.
Но вначале видишь только море и небо - первую - и, так
сказать, идеальную, светлейшую, совершеннейшую и неподвижную
двойственность, исходящую от горизонта, который отделяет
темное море от светлого неба, связывая и разграничивая их, заставляя
смотреть друг в друга. Вторая двойственность, изменяющаяся,
грубая, земная и материальная, - это море в отношении ко всему
природному.
Это море и земля, которые во взаимоотношении своем
разделены всегда светлой пенистой полосой шумящего прибоя... И
гулом, на многоголосом фоне которого слышно солирующее пение
воды, белой пеной распадающейся в воздухе, шурша
надвигающейся на берег и вальяжно уползающей обратно со змеиной
медлительностью шлейфа. А там в море на нее, хлопоча и суетясь, уже
накатывается и подминает под себя новая басовито гудящая
волна, которая затем в определенный момент незамедлительно
превращается в свою собственную уменьшенную копию,
распространяющуюся на мелкую гальку вылизанной прибрежной полосы с
той же ленивой тигриной неторопливостью, с какой покрывает
пол вода из опрокинутого невзначай ведра...
Стой, стой как вкопанный пред чужим величием древнейшей
безжалостной бесстрашной мощи, которая и тебя, жалкий
червячок, некогда породила; замри, былинка, трепещущая на ветру...
Что можешь и смеешь ты, мелкое, всегда несчастное созданьице,
постоянно мечтающее о счастье и лучшей жизни, чтобы иметь
силы жить в худшей, а потому регулярно убегающее на работу утром
из своего нечеловеческого жилища-коробки, чтобы обратно
приползти в него вечером... Смешон и ничтожен колеблющийся, как
огонек свечи, слабый дрожащий ритм твоего зыбкого
существования, кажущийся жалкой пародией на тяжелый и многотонный,
8^
Пролог
могущественный и безумный, накатывающийся и
откатывающийся ритм бесконечной и чуждой нам природы...
Эта покачивающаяся колыбель всего сущего - море - как бы
одновременно мужского, женского и среднего рода. Оно походит
на себя во всех своих проявлениях, самосохраняется как одно во
всей полноте и с незапамятных времен воспринимается как
реальнейшее чувственно-физическое воплощение единства Вечности и
Самодвижения... Безграничный повсюду во всем, куда ни
посмотри, шевелящийся и в то же время неподвижный язык регулярно
показывает тебе море... Каждой мельчайшей частичке, в любой
точке его бесконечно раскинувшегося, вечно гармонично
движущегося и изменяющегося, массивного и сморщенного как у слона
тела, присуще решительно все то же самое, что и ему в целом. Во
всем везде себе родное, оно и само себя движет, волнует,
накатывает вечно одним и тем же повторяющимся усилием волны на
берег, и через определенные промежутки времени ритмично
повторяющимся гулом и острым шипеньем выражает беспрерывную
досаду на невозможность разгуляться на прибрежной полосе с той
же адской мощью, как на воле вдали от берега, ибо чем ближе от
горизонта ты переводишь свой взгляд к земле, тем лучше видно,
как беспокойная титаническая мощь его становится все слабее и
слабее, дробясь на бесчисленные частички, всасываясь и
пропадая в мелких камешках на берегу... Но и сама эта беспрестанно
повторяющаяся в своем трагическом постоянстве и убогом
однообразии скучная смерть его частичек никогда не смеет и не сможет
исчерпать, остановить и убить его.
Вечно живое, волнующееся, беспокойное, самодвижущееся,
оно отдает, предает себя земле; чтобы сохраниться, выжить,
стремясь в своем вечном и бесконечном, замкнутом на себя круговом
движении к своей неизвестной цели, решая миллиарды лет свою
непонятную нам и поставленную им самому себе задачу...
Целует ли оно землю? Плюет ли на нее? Или кусает и шипит в
бессилии своей неимоверной силищи? А, быть может, и то, и
другое, и третье?
Но в любом случае каждой частичкой себя и силы своей, своего
самодвижения оно говорит нам: «Я - не вы!..» Это в той же мере
отталкивает нас от него, в какой притягивает к нему, вынуждая нас
понять его, сделать своим, частичкой человечества, подчинить
себе, употребить. И это проявление нашей с ним общности, единства
в страшной борьбе двух миров, двух стихий неизбежно всякий раз
Пролог
9
выражается в нашем индивидуальном страхе и восхищении пред
ним, нами непокоренном, в постоянных поэтому и ничтожных
наших выражениях своей любви к нему... Но что знаем, что можем
знать мы, жалкие твари, вышедшие некогда из его лона, и теперь,
стоя пред лицом его, невольно притихшие от своей близости к
великой и могущественной, чуждой и одновременно родственной
нам гармонии?
Не такова ли и гармония мира, предустановленным приливом
бесконечного множества всевозможных событий, человеческих
судеб, в счастье и несчастье, зле и добре колышащегося между Небом и
Землей? Разве не совершенно так же относимся мы и к движущемуся
назад и вперед человеческому океану, людскому морю общества,
разве тем же самодвижением убаюканные на груди его не трепещем
мы, несчастные живые комочки, от ужаса, страха и любви к нему и
порожденные им не уходим по смерти на дно его? И не есть ли
гармония морской и человеческой стихий лишь одно из бросающихся в
глаза явных бесчисленных проявлений и выражений всеобщей
сокровенной мировой гармонии, предустановленной самою собой, то
есть богом?..
А не есть ли это море - ты сам и дела, возможности и силы
твои? Разве оно не то, чем ты хотел бы стать? Человечество давно
уже желает осуществить «возвращение человека к самому себе как
к человеку общественному, т.е. человечному» (К. Маркс). Но тогда
все зависит от тебя, совсем не знающего самого себя.
Станешь ты тем, кем захочешь и сможешь.
Только не лепи себе по образу и подобию своему
общественно-политических, религиозных и иных кумиров из песка и глины,
крови и злата. Не держись за государей своих, не растекайся пред
ними, не верь никаким иконам и не поклоняйся им. Ибо
потеряешь тогда всякую совесть и доброту, любовь и мощь свою.
Забудешь навсегда, кто ты есть и где путь твой к самому себе, к Морю
твоему.
ЕБЕ
Тебе, славный и ученейший муж, Готфрид
Вильгельм Лейбниц, посвящает сей труд твой жалкий
комментатор, о котором только и можно сказать, что для такого
драгоценного бриллианта, каков Ты, великий и
несравненный философ, нужна была бы оправа получше... Но не суди
строго: что мог, то сделал.
Добавлю, что еще ранее рукопись эта в качестве Главы
под нумером «семь» входила в мой magnum opus, мою книгу
о Лейбнице, которая, признаюсь, и без этой Главы была
объема чрезмерного. А потому возжелал я издать сию Главу от
непомерно разбухшей книги - отдельно. Но не предвидел,
что число «семь» уже успело привыкнуть к сей Главе, и
наоборот. А ведь число это, коим помечена была бывшая Глава,
таинственно, неприятно и омерзительно до невозможности,
как учил о том норманнский оккультный граф Луи Хамон.
А ученик его, ДжХ Бренан, в своей книге «Оккультный
рейх» сообщил, что, над именем выродка Гитлера числовой
анализ проделав, то же число «семь» получить можно,
Окромя того, «семь», согласно «Диалогам о чудесах» глу-
бокомысленнейшего Цезария Гейстербахского, есть, что
всем известно, «число девственности», и это как нельзя
лучше характеризует нынешнее несчастливое состояние и
практического применения системного образа мыслей, или
«системного подхода», и его внедрения в различных
отраслях современного производства в условиях ничем не
заполненного экономического пространства, и еще более
несчастливое положение книги моей о Лейбнице, которая, увы мне,
так и не увидела свет.
I ПРОЛОГ К ЭПОХЕ
Все сдвинулось
Море - это живое, реальное воплощение
единства (тождества) и противоположности частного и целого, системы
и подсистемы, отдельного и общего, многого и одного, средств и
цели, материи и формы, атомов и пустоты - играло, по моему
мнению, большую роль в мировоззрении и жизни Лейбница, в его
философии и системно-диалектическом образе мысли:
«...Вселенная, какова бы она ни была, в своей совокупности есть как бы
океан». Интересно, когда мысль эта пришла Лейбницу в голову?
Во время его морских путешествий в Лондон и Гаагу, или же когда
он гулял в свои последние годы по морскому побережью в
Бад-Пирмонте, быть может, вместе с царем Петром? Недаром
Лейбниц так часто сравнивал с гулом морских волн свои «petites
perceptions», незаметные восприятия... Уже само Средневековье,
на излете которого жил Лейбниц, походит на гигантскую морскую
волну, на знаменитый «девятый вал», который начал зарождаться
страшно давно; уже в VII—VIII вв. стереотипным присловьем
хроник и грамот было: «Ныне, когда уже близится конец мира и растет
его разложение...» А разве сегодня мы не можем сказать того же?
Средневековье - очень широкое и многостороннее явление и
понятие. Под «средневековым миром» я понимаю прежде всего
религиозные мечтания, образ жизни и действий людей
Средневековья, Возрождения и социальных утопий XVIII в. Разумеется,
между этими тремя внутренне очень различными эпохами есть
большая разница. Но в известном отношении и смысле это «все
равно "Средневековье"», рассматриваемое совместно с его, так
сказать, последствием, остаточным эффектом, социальным
генезисом; это все равно некий феномен, имеющий свою общую
всем этим трем историческим эпохам сущность. Иначе почему
он так, почти регулярно вновь и вновь в «годину бед
человечества» появляется, а затем исчезает? Разве сегодня не Второе
Средневековье?
12
1. Пролог к эпохе
Средневековый мир, как несчастье, неизменен в своей
изменчивости, подобно морям или океанам, которые различаются
своими размерами, очертаниями, глубиной, чистотой и иными
показателями, но суть их неизменна во времени и пространстве.
Сегодня она та же, что миллионы лет назад, и пребудет такой впредь
при всех своих изменениях, подобно материи, которая изменяясь,
остается сама собой. Таков и средневековый мир, который был,
есть и будет. Он как бы исчезает, проходит, но на самом деле
остается, опускается куда-то в глубины общества и человека, но по
непонятным еще законам в свое время необходимо поднимается
наверх и невероятным грохотом и обвалом океанского девятого вала
напоминает всем о себе: «Я пришел!»
Средневековый мир похож на море или океан и тем, что в нем
борются два основных подводных течения - земное, человеческое
и великое, божественное. Они непомерно выказывают себя
противоположным образом - земным либо сакральным, комическим
либо трагическим, жизнью либо смертью. Границы их текучи,
каждое плавно переходит в свою противоположность, сливаясь с
ней и утрачивая всякое различие, подобно волнам. Великое,
снижаясь в уме средневекового человека до земного, подымает земное,
снова превращая его в великое; они то смешиваются,
отождествляясь, то, взаиморазливаясь, становятся антагонистичны...
Средневековый мир - странный, какой-то гротескный,
парадоксальный, внутренне антиномичный и двойственный.
Историки видят в этом особенность Средневековья и присущего ему
«силового поля действия «гротескного мышления», которое насквозь
символично, а потому сегодня столь же малопонятно, как язык
современной математики невежественным в ней людям. Но
гротескность его отнюдь не является чем-то старческим,
маразматическим. Средневековый мир многообещающ, оптимистичен,
самонадеян. Рождение нового мира, творческое брожение юных
максималистских сил, рвущихся к давно желанной свободе,
угадывается в грубом, простом и наивно диковинном, как сосуд
алхимика, Средневековье. В этом смысле средневековый мир сродни
современному, преемственно связан с ним, как игра детей с трудом
взрослых. Тем самым становится понятной необходимость его
гротескного характера: «гротеск в искусстве, - писал литературовед
Л.Е. Пинский, - родствен парадоксу в логике», а последний имеет
в науке вообще (а не в одной логике) большое эвристическое
значение: обычно из него рождаются важнейшие новые проблемы и по-
Вес сдвинулось
13
становки вопросов. Так и в гротескности, доходящей до
чудовищности, странности средневекового мира, особенно Возрождения
как его заключительного аккорда, явно ощущается высочайшая
значимость Средневековья для всей последующей истории
Европы, для ее будущего и судеб всего мира; несется к нам ветер новых
решений, прежних в своей основе. И с ветром этим доносятся
слова: «Не забывай, кто ты есть и где путь твой к самому себе и к твоему
обществу, капелькой которого являешься ты, так же похожий на
него своей раздвоенностью, как и оно, общество, сходно с морем
благодаря своим, периодически каждый раз в пучинах общества
возникающим, воздвигающимся и затем ниспадающим, гибнущим
социальным и индивидуальным разладам между делом и словом,
между уже изменившимся общественным бытием и его
общественным сознанием, сохраняющимся до поры до времени
неизменным».
И так же, как на море легкая ласковая рябь предвещает порой
волнение огромной массы воды, а приходу большой, опасной
волны непременно предшествуют, как бы подготовляя ее, более
мелкие волны, являющиеся точными уменьшенными, слабыми и
безобидными копиями большой, так и в обществе очень давно, еще в
язычестве, задолго до христианства предвестниками переворота в
нем стали мелкие безобидные жизненно практические,
различающиеся между собой изменения, которые превратились потом во все
более явные полярности, а позднее в такие религиозные антитезы,
как, например, свет и тьма, божественная серьезность и
дьявольская смешливость, ортодоксальное идеологическое учение
римской церкви и ее опредмеченная, материализованная духовность в
виде этости, т.е. «святого вещизма» (чудотворные иконы, обряды
и т.п.).
Кто мог предположить, что уже эти, унаследованные от
Средневековья полярности и антитезы, проходящие красной нитью
через все Средние века вплоть до середины XVIII в., являются
пусть формальными, поверхностными, но все же свидетельствами
происходящих в это время подспудных изменений, которые
постепенно и незаметно привели весь христианский мир к грозному
и опасному для церкви перевороту, к расколу римской церкви на
католиков и протестантов (к последним принадлежал и Лейбниц).
Кульминационный пункт развития этих полярностей, или
антитез, пришелся как раз на период жизни Лейбница ( 1646-1716), а
точнее, на отрезок времени примерно от 1680 до 1715 г., когда, по мне-
14
1. Пролог к эпохе
нию некоторых современных нам зарубежных исследователей, на
европейском континенте происходил кризис общественного
сознания. «Смотри, все обновилось!» Эти слова из Библии вполне
соответствуют европейскому обществу от начала XVI и до середины
XVIII в. Его внутренняя сущность, по выражению одного из
историков-медиевистов, противоречиво как никакое иное, его история
состоит во все более глубоком раскрытии собственных противоречий.
Его трагедия - в их неразрешимости, его конец - в их антагонизме.
Здесь поется
(под гитару и В. Высоцкого)
На вас сегодня мы глядим издалека:
- Что значит, папа, «средние века»?
- Ах, это, дочь, когда людям совсем невмочь,
Ибо невежество царит, а церковь угнетает,
Наук все нет и нет, и всюду мрак ночной...
Еще не скоро в нем луч света засверкает.
Говорят, рассказывают и повествуют
о Средневековье сзади и спереди
Средние века ушли безвозвратно. Увы, никто
теперь не интересуется цветом соплей Демона и тем, болезненно ли
соитие с инкубохм... Однако же «и никто, пив старое вино, не
захочет тотчас молодого; ибо говорит: старое лучше» (Еванг. от Луки,
5:39). Можно утратить средневековые добродетели и не
приобрести новых.
Меня утешает, что Средневековье никогда не повторится.
Очень грустно лишь, что оно всегда с нами. «Праздник, который
всегда с тобой»... Oculos habent et non videbunt?.. «Имея очи, не
видите? Имея уши, не слышите? И не помните?» (Еванг. от Марка,
8:18). Помнится, евангельский оборот этот был использован
Берией в речи на смерть Сталина. «Средневековье, - говорил
А. Франс, - кончилось только в учебниках истории, которые дают
школьникам, чтобы забить им головы».
Вызывая к себе то особое снисхождение, которое мы часто
испытываем к несчастливым семьям или матерям-одиночкам,
феодализм, подобно им, обычно тоже кажется нам чем-то
неповторимым, уникальным, эпохой-одиночкой. Но не объясняется ли эта
неповторимость именно тем, что он каким-то образом
необходимо «повторяет» то, что уже существовало, окутанное изидовой за-
Все сдвинулось
15
весой мифологии, что уже было до возникновения достаточно
развитого положительного знания и изобретения письменности?
Если смотреть назад, то феодализм, как и Средневековье, в
известной мере является «отрицанием отрицания»
первобытнообщинного строя, особенности и сущность которого лежат вне
писаной истории.
Ранний брак между первобытным обществом и древней
мифологией был столь же неудачен, как и поздний брак средневекового
общества с религией - более молодой родственницей мифологии. Оба
они были сначала союзом по любви, прежде чем, как это часто
бывает, превратиться в свою противоположность. И, подобно
первобытному и античному строю, средневековый тоже представлял собой
закономерно возникший на их основе некий фазис умственного
развития общества, по-итальянски вынашивающий до поры до времени
идею желанного развода, освобождения от все более сковывающей
его развитие устаревшей религиозно-схоластической оболочки.
Вечно ли я буду рабом?
Мчитесь ко мне, буря и гром!
Сердце мое, гибни в огне!
Полночь и свет, будьте во мне!
К.Д. Бальмонт
Если смотреть вперед, то Средневековье и Возрождение
соприкасаются друг с другом, как тень со светом. «Познай, где свет-
поймешь, где тьма», - писал A.A. Блок, А, может, и нет между ними
никакой разницы?.. Теологическая антитеза света и тьмы - яркий
социальный символ раздвоенности всего средневекового общества.
Говорят, рассказывают и повествуют
о свете и тьме
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло...»
В древности «свет» и «тьма» противопоставлялись
друг другу в качестве «бытия» и «ничто». Причем синонимами
«тьмы» служили: «тень», «пустота» и даже «молчание». В
восточной (китайской и японской) интерпретации под «ничто»
понимался качественно иной тип связей, противоположный тому,
который присущ «бытию». В таком не пустом, необычном для нас
«ничто» все вещи обретают свою собственную истинную природу.
16
1. Пролог к эпохе
В античную эпоху аналогами света и тьмы были соответственно
демокритовы атомы и пустота, платоновские мир идей и мир
вещей, а в феодальную - «град божий» и «град земной».
В последние годы слово «тьма» (черное) неожиданно получило
новое физическое толкование, по содержанию напоминающее
его прежнее, древнее восточное: из такой материальной области,
как «черная дыра», ни излучения, ни частицы не могут прийти к
астрофизическим приборам или к сетчатке глаза, ибо, по
уверению ученых, из «черной дыры» ничего не выходит и в принципе
выйти не может. Вот какая это дыра! Но зато все туда, говорят,
может ухнуть... «А впрочем, - отмечал А.И. Герцен, - нельзя
отрицать, что свет разума все больше и больше рассеивает тьму
предрассудков... Всего досаднее, что людям недосуг и они рано
умирают, - только начнет в ум входить человек, глядишь, а уже и несут
его на кладбище».
Противопоставление света тьме проходит через все
Средневековье в характерной вообще для мышления средневековых людей
символической форме. Нести зажженную свечу во время
процессии - это символизация несения самого Христа. «В свече, -
разъяснял некогда своей пастве символ архиепископ Пизанский Фе-
дериго Висконти, - три составных части: фитиль, воск и огонь.
Они означают душу, плоть и божественность Христа... Фитиль
означает смирение, воск - целомудрие, а огонь - любовь».
Сегодня «Тело Христово» — это название морально уже
устаревшей американской ядерной лодки.
Здесь поется и рассказывается
о свечке
Свеча, светя другим,
Сама всегда сгорает.
Тонкой свечки белый свет
Лишь борьбы жестокой след;
След борьбы с бездушной тьмой
И огня - с самим собой.
Что темно - свет озаряет,
Что мертво - то оживляет
Тех из нас, кто в тьму ушел,
В путь последний провожает;
Тем, кто жив, о тех, кто жил,
Он собой напоминает...
Сказано до нас: «И зажегши свечу, не ставят ее
под сосудом, но на подсвечнике, и светит она всем в доме» (Еванг.
Все сдвинулось
17
от Матфея, 5:15); «Никто зажегши свечу не ставит ее в
сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие
видели свет» (Еванг. от Луки, 11:33); «Светильник тела есть око;
итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; а
если оно будет худо, то и тело твое будет темно» (Еванг. от Луки,
11:34). «Если тело твое все светло и не имеет ни одной темной
части, то будет светло все так, как если бы светильник освещал тебя
сиянием» (Еванг. от Луки, 11:36). «Так да светит свет ваш перед
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли бы
Отца вашего Небесного» (Еванг. от Матфея, 5:16). Но есть три
слова, что бесконечно выше протухшей набожности этих цитат:
«Горит свечи огарочек...»
В символическом противопоставлении света тьме
выражаются фундаментальные противоречия Средневековья и эпохи
Возрождения. Энгельс был совершенно прав, утверждая, что «свет и
тьма являются, несомненно, самой кричащей и резкой
противоположностью в природе, которая, начиная от четвертого
Евангелия (Библия, Евангелие от Иоанна, гл. 1) и кончая Lumières
(Просвещением) XVIII в., всегда служила риторической фразой для
религии и философии». Но за этой фразой можно разглядеть,
пожалуй, не столько догадку о существовании всеобщей
противоречивости в природе, сколько зарождающееся ощущение этой
противоречивости на земле, а следовательно, и на небе; в учении
церкви, а значит, и в обществе. Например, слова Исайи (V, 20)
«Горе тем, которые... тьму почитают светом, и свет тьмою...»
великий революционер XVI в. Томас Мюнцер толковал как
направленные против «господ и князей», считающих все на свете своей
собственностью, ибо о них сказано: «Me minavitet adduxit in
tenebras et non in lucem» («Грозил мне и привел меня во тьму, а не к
свету» (лат.)), а также: «Устами чтут меня, сердце же их далеко
отстоит от меня»; или: «Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть
ли тьма?» (Еванг. от Луки, 11:35).
Свет столь же органически связан с тьмой, как бог с сатаной.
Недаром, по Плотину, свет и есть бог, а одно из имен дьявола -
Люцифер. Перестать светить или гореть, значит быть поглощенным тьмой,
попасть в лапы князя тьмы, дьявола, перейти на позиции сатаны. Но
если и есть в этом что-то сатанинское, то оно заключается в
дьявольской консервативности понятий «сгорать» и «погореть», дошедших до
наших дней. Связанные в языческие времена с кормильцем-огнем,
они актуальны и в наши дни: «А где этот, как его, что сидел здесь? -
18
1. Пролог к эпохе
Он сгорел на работе» (из разговора). Погореть легче. Не потому ли
чувственно-физическое «сгореть» давно уступило первенство по
своей социальной значимости более отвлеченному и современному, но
не менее реальному по своим последствиям «погореть»?
...Среди рекламных плакатов, которые Гитлер писал в Вене в
1912-1913 гг., перебиваясь случайным заработком и ночуя в
ночлежке, был плакат «Покупайте свечи!», на котором изображен св.
Николай с пестрыми свечами в руках. Но гитлеровская реклама не
имела успеха. И немудрено: согласно народному поверью, пламя в
таком крайне негативном обществе, как ад, не дает света. Поэт
В.Ф. Одоевский вспоминал о бале, на котором был: «Свечи
догорели и меркнут в удушливом паре. Если сквозь колеблющийся
туман всмотреться в толпу, то иногда кажется, что плывут не люди...
в быстром движении с них слетает одежда, волосы, тело... и
пляшут скелеты, постукивая друг о друга костями... Но в зале ничего
этого не замечают... все пляшет и беснуется как ни в чем не
бывало». Сам А.Я. Вышинский заметил: «Известно, наконец, что папа
Климент II был убит при помощи дыма от отравленной свечи...»
Средневековому обществу - средневековые средства.
Присущее Средневековью противопоставление света тьме
наиболее ярко разгорается в период Возрождения. В конце этой
эпохи колеблющегося единства Средневековья и Нового
времени, тьмы и света, явного и сокровенного, находится Лейбниц.
Наш герой, по мнению одного из его биографов, «часто говорит о
божественном свете, под которым разумеет полное согласие
нашего совершенного знания о божественном разумении». В своей
«Теодицее» Лейбниц часто употребляет слово «свет» (Lumière),
которое «заимствовано из Нового Завета, откуда перешло к
св. отцам и затем к схоластикам; оно означает истинное знание
вообще, главным же образом истинное знание религиозных
предметов, сообщенных человечеству посредством сверхъестественного
откровения и усвояемых нами естественными силами души при
посредстве благодати». Из сказанного К. Истоминым,
православным переводчиком «Теодицеи» Лейбница на русский язык,
следует, будто бы наш герой вкладывает в понятие «свет» теологическое
содержание. На самом деле это понятие получило у Лейбница
совершенно новое, общественно-научное звучание. Он понимал
под ним всеобщее, совершенное, истинное, практически нужное
людям, а потому божественное знание. Он понимал также, что
получение и применение их, а следовательно, просвещение, невоз-
Все сдвинулось
19
можны вне светской придворной жизни. Поэтому понятие «свет»
при Лейбнице уже настолько изменилось, что утратило эпитет
«божественный» и превратилось просто в сокращенное,
метафорическое обозначение знания, ума. Появилось и доселе
неизвестное теологии чувство относительного, преходящего характера
истинного знания, и отчаяние от той высокой цены, которую
вынужден платить тот, кто им владеет:
Так догорай, огарок!
Что жизнь? - Тень мимолетная, фигляр,
Неистово шумящий на подмостках
И через час забытый всеми, сказка
В устах глупца, богатая словами
И звоном фраз, но нищая значеньем...
У Шекспир. Монолог Макбета.
Находясь в Лондоне и тоскуя по нежно любимой родине,
Бруно, которого позднее сожгут на площади Цветов в Риме, писал:
Se la farfalla al suo splendor ameno
Vola, non sa ehe fiamma al fin discara
(Вот мотылек летит к сиянью света,
Не зная, как ему опасно пламя.)
Слово «свет» в смысле «знание» как стимул к собственному
развитию и совершенствованию употреблял и католик Антуан Арно,
безуспешно стремясь обратить своего друга-протестанта Лейбница в
свою веру. Не помог Арно даже специально составленный им с этой
целью для Лейбница трактат «Светильник» (или «Будильник»),
наподобие весьма популярного вплоть до XV в. трактата «Светильник»
(Elucidarium) Гонория Августодунского. К этому времени свеча
давно уже перестала быть потусторонней идеей. Теперь она не столько
абстрактный Христос, не символ, а живой, вполне земной и
реальный человек: конкретная индивидуальность, личность, во многих
случаях сама, без подсказки сверху пытающаяся успешно
разобраться и распорядиться своей жизнью и разумом, знаниями.
Теперь не человек для света, а свет для человека, и вместо света
и тьмы - отдых и труд. «Природа сотворила день, чтобы мы
развивали свои силы, трудились и чтобы каждый занимался своим
делом, - писал Ф. Рабле. - А чтобы нам было удобнее, она снабдила
нас свечой, т.е. ясным и радостным солнечным светом. Вечером
20 1 • Пролог к эпохе
она постепенно его у нас забирает и как бы говорит нам: "Дети! Вы
народ славный. Довольно трудиться! Скоро ночь. Пора кончать
работу, пора подкрепить свои силы добрым хлебом, добрым
вином, вкусными кушаньями, а потом, немного порезвившись,
ложитесь и спите, чтобы наутро веселыми и отдохнувшими снова
приняться за работу"».
Теперь проблема света и тьмы оборачивается и поныне всех
волнующим вопросом соотношения личного и общественного:
«Должен ли человек "гореть", т.е. жить, для себя или для других?»
В глазах Средних веков ересью был уже сам этот вопрос. Тезис
«жить для себя» - это уже не Средневековье, а эпоха становления
капиталистического общества. Поэтому сам вопрос, а тем более
положительный ответ на него свидетельствует о конце
Средневековья, знаменует особый приход Нового времени.
Говорят, рассказывают и повествуют
о смехе всерьез и смешной серьезности
Сама эпоха Лейбница - это граница не только
света и тьмы, но также смеха и серьезности (как отрицания смеха),
единство которых является одним из выражений вообще
присущей этой эпохе двойственности и существенной чертой этики и
культуры позднего Средневековья.
Смех божествен в своем безбожии и, будучи наиболее
безбожным из всего божественного, он насквозь демократичен, а заражая
всех, уже поэтому является подлинно величественным. И
эффективным, ибо если страх, сотворив богов, вознес их в два скачка -
сначала на Олимп, а потом на небо, то смех одним разом
низвергнул их с небес обратно на землю. Наиболее безбожное,
демократичное и величественное должно быть и наиболее естественным для
нас, людей, и это было подмечено давно. В начале XI в. Ноткер
Губастый, давая вслед за Аристотелем и AM.С. Боэцием определение
человека, указал натри его качества: существо разумное, смертное,
способное смеяться.
Каждое событие и явление всенепременно в свое время
вызывают смех. Он никогда специально не ищет себе предмета
осмеяния, и для него нет и не может быть ничего святого, писал Герцен.
«Смех одно из самых мощных орудий разрушения... От смеха
падают идолы, падают венки и чудотворная икона делается
почернелой и дурно нарисованной картинкой». «Если низшим
позволительно смеяться при высших или если они не могут удержаться от
Все сдвинулось
21
смеха, тогда прощай чинопочитание. Заставить улыбнуться над
богом Аписом - значит расстричь его из священного сана в
простые быки». «Смех - одно из самых сильных орудий против всего,
что отжило и держится бог знает на чем, важной развалиной,
мешая расти свежей жизни и пугая слабых». Истинный смех всегда
выжигает самую сущность высмеиваемого, уничтожая свой
объект вообще, целиком; его эффект гораздо больше его причины. Он
по натуре слишком добр или зол, свободен и величествен, чтобы
быть архиточным, формальным и ограниченным, поверхностным
или локальным; чтобы нелепо придираться к мелочам. Он не
делает этого из страха стать ограниченным, односторонним,
превратиться в свою противоположность - нечто очень серьезное или по
крайней мере занудное и скучное. «Становясь все нелепей,
уподобишься божеству; ведь от смешного до великого - один шаг»
(Г.К. Честертон).
Истинные смех, веселье, радость не только разрушают, но и
созидают. Они всегда способствуют вызреванию в обществе
новой, локальной или общей оппозиционной программы по тому
или иному вопросу, в данном случае - антифеодальной системы
оценок и ценностей. Смех обнажает ограниченность и недостатки
любого общественного строя или социального института,
события или явления. В 1930-х гг. литературствующие
конъюнктурщики, зарвавшись от желания угодить власть имущим, неожиданно
оказались правы, утверждая, что в условиях диктатуры
пролетариата и позднее сатирическая традиция «оборвалась», что она
«вредна рабоче-крестьянской государственности», что понятие
«советские сатирики» заключает непримиримое противоречие и
так же нелепо, как понятие «советский банкир» или «советский
помещик». Уже тогда социально нелепое и сознанием отвергаемое
становилось социальной реальностью. Все годы советской власти
у нас были советские баре, барыни и барчуки. В эти годы, как и
сегодня, «жить стало легче, жить стало веселее».
«Ребята, давайте жить весело. Давайте снимем потребности, и
всем будет смешно» (А.И. Райкин). Народный смех никогда не
смешон негодяям, дуракам и посредственностям, мошенникам и власть
имущим. Смех, веселье, радость выше интересов господствующих
классов антагонистического общества; они всегда естественны,
сродни разуму и, следовательно, революционны, пока связаны с
самой сущностью человека, с его верой в истину и справедливость,
22
1. Пролог к эпохе
в непреходящие человеческие ценности, ибо это ценности
революционно настроенных людей.
Смех, веселье, радость - это такие смертные,
самоисчерпывающиеся по своей форме и проявлениям выражения
естественных человеческих чувств, которые одновременно бессмертны,
неисчерпаемы по своему существованию, будут жить, пока есть
общество, и, следовательно, прогрессивны. Напротив,
напыщенность, чопорность, ханжество и т.п. - это такие
неисчерпаемые по своей форме и проявлениям, связанные с безверием,
искусственные, насильственно удерживаемые выражения
серьезности, которые внешни, чужды человеческому существу и,
следовательно, противоестественны и реакционны. Серьезность в этих
выражениях - сестра безумия, утверждал Честертон. Все эти
безобразные наросты способны даже после исчезновения
породивших их условий и причин так или иначе самопроизвольно
увеличиваться и разрастаться, превращаясь в нечто столь же
самодовлеющее и самостоятельно реальное, как и совершенно
беспочвенное, неразумное и страшное. Смешные сами по себе,
эти человеческие маски сами по себе не исчезают - их срывают
насильно. Вместе с головой.
И втом, что классовому противостоянию крепостных и
феодалов соответствовало морально-психологическое противостояние
смеха и неестественной серьезности, есть что-то закономерное и
по-человечески в высшей степени справедливое. Засилье
серьезности всегда, особенно в XVII в., было оплотом сил тьмы -
социального консерватизма, регресса. Но оно же было ярким
свидетельством слабости власти официального мира и его церковно-го-
сударственной системы ценностей. Эта слабость выражалась в
вынужденном допущении празднеств, которые прорывали
нависшую над обществом пелену общепринятой серьезности. Тогда эта
власть как бы приостанавливалась. Исключительно лишь на
время праздника миру разрешалось выйти из обычной колеи. Этим
относительным и условным выходом был смех - глубоко
человеческий и естественный протест народа против окостеневшей
социальной иерархии, мелочной корпоративности, вечной оглядки
на Град божий и его приспешников, против своих
непосредственных угнетателей и обидчиков.
Да, гомерический хохот и счастливый смех народных масс в дни
карнавалов противостояли (вопреки мнению М.М. Бахтина, лишь
относительно, а не абсолютно) скучной серьезности официального
Все сдвинулось
23
мира средневековой аристократии и дворянства, как сокровенное
противостоит явному, дьявол Богу, а тень свету. Но это
противостояние не было равноправным. Смех - открывающаяся людям
того времени редкая, преходящая и формальная (абстрактная)
возможность стать «калифом на час», т.е. самим собой; возможность
как бы перейти в мир с другим пространством и временем, с другой,
антифеодальной системой ценностей. Смех и радость народных
праздников лишь кратковременное, условное самоочищение;
украденное у Господа и господ относительное самоосвобождение;
опьяняющий глоток кислорода в отравленной религией и
государством социальной атмосфере. Увы, мир и на время празднеств и
карнавалов оставался подвластным правителю и сотворенным
Богом; для верующих этот воображаемый ключ и по сей день торчит в
своде мироздания. Поэтому смех никогда не был и не мог быть
достаточно существенным орудием преобразования социальных
условий жизни, истинным выходом народа из «обычной колеи» его
нужд и бедствий, из его тяжелого положения.
Это был смех сквозь слезы; стоны, прерываемые смехом;
рыдания, заглушаемые хохотом. Таков, например, смех Рабле. Он
трагичен, ибо история не оставляла его обществу выбора. В лице
Рабле «человечество, смеясь, расстается со своим прошлым»,
утверждали классики марксизма. Ах, однако в то же время плача от
утраты этого, столь родного, привычно-мерзкого «прошлого» и от
страха, перед неведомым, чуждым, но радостным «будущим»,
которое, оказывается, уже наступило, уже превратилось в
«настоящее», уже есть - вот оно...
Это план пророка, ощущающего объективное остроумие и
иронию Истории, молча демонстрирующей тому, кто видит,
внезапно раздвоившуюся, расползающуюся под ногами эпоху;
простодушного, который, лишь очутившись на полу, наконец-то
осознает, что уселся между двух стульев... Это смех человека,
обманутого своим обществом... в которое он так верил и которое
оказалось совсем не тем, за кого себя выдавало.
Это смех бунтовщика, не могущего и не желающего
примириться с официально предложенной ему необходимостью выбрать
одно из двух зол, а потому осмеявшего саму конформистскую
возможность такого выбора. Знаменитое «Пей!», произнесенное
богиней Божественной Бутылки, означает «Так существуй! Или
«будь», «находись» в этом состоянии, «живи настоящим днем», оз-
24
1. Пролог к эпохе
начает «На-стоящее!», «хватай» его, ибо только настоящее в этом
положении общества есть действительно что-то стоящее.
Это стон человека Возрождения, не знающего, что это такое и
куда от него деться, но отчетливо осознающего всеразрушающий
смысл происходящего. «...Всякая определенность и завершенность,
доступные эпохе, - писал Бахтин, - были в какой-то мере
смешными, ибо были все же ограниченными. Но смех был веселым, ибо
всякая ограниченная определенность (и потому завершенность), умирая
и разлагаясь, прорастала новыми возможностями». Цель Рабле -
развеять атмосферу нудной, мрачной и лживой серьезности,
господствующую в обществе, сделать мир и его явления ближе,
доступнее человеку, т.е. в конечном счете облегчить последующее
социальное преобразование.
Остроумие по существу представляет собой универсальный
для всех времен и народов метод выявления диалектических
противоречий, имманентных вещам, процессам и событиям
объективного мира, в том числе социального. Смех помогал
выворачивать наизнанку мир Средневековья. «Смеющееся
Средневековье, - писал Бахтин, - антитеза его официальному миру». Еще
«Гете понимал, что односторонняя серьезность и страх - это
чувство части, ощущающее себя в отрыве от целого». Поэтому
средневековая знать, можно сказать, не смеялась. Знать, ей было не
смешно. А, может, она смеялась «про себя»?..
Суровость Средних веков иссушила души верующих. Даже
XVII в. вплоть до первой половины XVIII в. не смеялся и очень не
хотел смеяться. Никто никогда не видел, чтобы веселье, чужое или
собственное, могло когда-либо заставить английского поэта Попа
рассмеяться, и даже великий сатирик Дж. Свифт «упорно
подавлял в себе всякую наклонность к смеху». Так же французский
писатель и секретарь Парижской академии наук Б .Л .Б. де Фонтенель
«никогда не смеялся, он только улыбался». В комедии У. Конгрива
«Двоедушный» ( 1694) лорд Фрот говорил: «Человеку высшего
звания меньше всего подобает смеяться, настолько это вульгарное
выражение чувства; смеяться может каждый». В общем,
дворянское, образованное общество по крайней мере на словах
утверждало:
Пора мне стать серьезным, ибо смех
Сурово судят ныне. Добродетель
И шутку над пороком ставит в грех...
Дж.Г. Байрон. Дон Жуан
Все сдвинулось
25
Причину столь странного для нас отношения к смеху
объяснил лорд Ф.Д.С. Честерфилд в одном из писем сыну: «...Я так же
хочу и могу веселиться, как и всякий другой, но... с той поры, как я
стал жить в полном разуме, никто никогда не слышал, как я
смеюсь... Низок и неуместен смех. Я не говорю уже о сопутствующем
ему неприятном шуме и о том, как он ужасно искажает черты
лица». Став привилегией начальства, разум исключил смех
подчиненных. «Alles zuseiner Zeit; heute lacht man nicht» («Все в свое
время; сегодня не смеются»). Нынче тоже.
Иоганн Экгарт, профессор и секретарь Лейбница, отмечал, что
«смех большей частью изменяет только выражение его лица, но не
проникает вглубь». Христос тоже «никогда не смеялся» (Иоанн
Златоуст). Христос, писал римскому сенату в «Послании Лентулла»
его автор, проконсул Палестины, «иной раз плачет, но не смеется
никогда». Впрочем, само это послание, впервые опубликованное в
1714 г., оказалось фальшивкой, сфабрикованной еще в XIII в. Это
лишний раз подтверждает, что в серьезности Лейбница и развитого
и зрелого Средневековья повинна прежде всего и главным образом
церковь, религия.
Теологическая противоположность света и тьмы,
переплетающаяся с религиозно-этической противоположностью явной
божественной серьезности и сокровенного дьявольского смеха, были
социальными символическими воплощениями и предгрозовыми
признаками увеличивающейся раздвоенности всего
средневекового общества и лежащей в его основе римской католической церкви,
в то время общеевропейской. Результатом и условием ее падения,
последующего раскола в период Реформации и заката всего
Средневековья, которое еще долго не умрет, станет, как мы увидим
далее, углубляющийся социальный разлад между словом и делом,
который нашел свое отражение, в частности, в
противоположностях света и тьмы, конформистской серьезности и
инакомыслящего и инакочувствующего смеха.
И в жизни Лейбница тоже.
Говорится, рассказывается и повествуется
о силе и слабости церкви римской
Все социальные и иные задачи вплоть до XVIII в.
являлись задачами прежде всего и главным образом религиозными.
Всюду и везде в цивилизованном мире существовала и, казалось,
всегда будет существовать вечная и неизменная власть католиче-
26 1. Пролог к эпохе
ской церкви, разделявшая всех людей на клир и мирян1. Это
представление существенно изменилось в XVI в. Но и тогда, и позже
твердая, устойчивая католическая вера по-прежнему господствует
во всех делах светских и духовных. Всю жизнь Гитлер завидовал
силе и крепости этой веры и хотел сделать ее образцом для
национал-социализма, чья идеология официально была узаконена как
непогрешимая и непознаваемая. Фактически она - особое
вероисповедание. «Национал-социализм не может быть доказан и не
нуждается в доказательствах, - говорил Гитлер. - Он
обосновывает сам себя своей деятельностью, обеспечивающей жизнь
общества. Тот, кто пытается прийти к национал-социализму лишь при
помощи ученических доказательств, тот не ощущает
непознаваемого духовного смысла истины, т.е. национал-социалистической
политики». Г. Гиммлер записал в своем дневнике: «Что до меня, я
всегда буду любить Бога и останусь верным католической
церкви»... Это не помешало христианскому человечеству осудить
фашизм. В 1945 г. папа Пий XII охарактеризовал
национал-социализм как «дерзкое отступничество от Иисуса Христа, отречение от
Его доктрины и Его дела искупления».
Гитлер с величайшим одобрением отзывался о католической
символике и обрядах. «До самой смерти, - пишет историк В.
Мазер в книге "Адольф Гитлер. Легенда. Миф. Действительность", -
"конституция" католической церкви, ее организация,
достоинство священнослужителей и церковное великолепие вызывали его
(Гитлера) восхищение». Еще бы, ведь для него, как и для Сталина,
это идеал государственно-политической организации! H.A.
Бердяев считал, что марксизм - это «мировая религия». Идеалом
партии для Сталина был «орден меченосцев», организация иезуитов.
«Братья и сестры, друзья мои!» - начал в 1941 г. словами
христианской проповеди Сталин свою речь, страшась не столько фашизма,
сколько справедливого возмездия со стороны своего
собственного народа, с которым уже много лет подряд вел «успешную» войну.
Ничего подобного римской католической системе доселе не
существовало. Один немецкий писатель сказал, что Рим
находился в центре средневекового мира, как огромный паук в своей сети.
Из этого центра «всевидящее око церкви, подобно оку самого
1 Церковь (грсч.) означала первоначально «народное собрание».
Католический - от слова «весь», «всеобщий» и предлога, выражающего отношение,
принадлежность. Католический, таким образом, значит всеобъемлющий, а
католическая церковь - вселенская церковь. Клир (греч.) - наследство, достояние
Божие, народ Божий, избранники Бога. Миряне (греч.) - народ.
Все сдвинулось
27
Провидения, могло окидывать своим взглядом целое полушарие и
следить за частной жизнью каждого человека, - писал Дрэпер. -
Ее безграничное влияние охватывало и королей в их дворцах и
нищего у монастырских ворот. Для нее не существовало во всей
Европе человека слишком темного, слишком незаметного, слишком
покинутого. Каждый человек получал свое имя у ее алтаря,
окруженный ее торжественными церемониями; ее колокольчики
звонили при совершении его брака, и погребальный звон ее
колоколов провожал его в могилу. Она в своих исповедях исторгала у него
тайны его жизни и наказывала его ошибки своими обрядами
покаяния». Разительное сходство и близость римского папства,
фашизма и сталинизма лишний раз напоминают нам, что
тоталитаризм везде и во всем тоталитаризм.
Католическая религия (церковь) как совершеннейшая,
непосредственная «живая и страшная вещь» (Дрэпер) была во всем и
надо всем и поэтому казалась совершенно необходимой всем.
Она, по мнению Ф. Меринга, «настолько срослась со всей
народной жизнью, что на целые столетия церковный строй мышления
превратился в своего рода инстинкт, которому слепо следовали,
как закону природы...» Даже в эпоху Возрождения «люди, - писал
Дрэпер, - верили в свою форму религии с такой же искренностью
и силой, с какой они верили в свое собственное существование
или существование вещей, которые они видели своим глазами...»
Католическая церковь, присоединившая к теологии и
превратившая в ее подразделения все прочие формы идеологии -
философию, юриспруденцию, стала не только религиозной, но и могучей
культурной, социальной, политической и экономической силой,
взаимосвязанной со всеми частями общественного организма и
переплетенной со всеми духовными и материальными
проявлениями общественной, государственной и даже семейной жизни.
И коль скоро любые общественные и политические движения
были вынуждены в то время принимать теологические формы, то все
без исключения порывы, противоречащие или исходившие не из
лона католической церкви (религии) - языческого идола всей
Центральной Европы, были заведомо лишены всякой поддержки,
парализованы, подавлены и обречены на провал.
Тем не менее этот идол не был вечен и всемогущ. Он должен
был неизбежно погибнуть из-за своей внутренней тайной раско-
лотости, противоречивости, двойственности. Свое
чувственно-физическое, телесное (материальное) выражение это нашло
28
1. Пролог к эпохе
уже в каменной летописи эпохи - в самой архитектуре готических
храмов, в готизме. Откуда бы ни взялся готизм, писал Герцен, из
сочетания ли форм древнегерманских с мавританским минаретом
или иначе, высшего предела своего развития он достиг в мире
католицизма. По мнению Герцена, «он удовлетворял всем условиям,
всем требованиям учения и ритуала католического». В нем
получили свое высшее материальное выражение сила и слабость
католического (христианского) духа. В готизме как бы вышла наружу и
стала осязаемой, в буквальном смысле этого слова, основная
слабость римской церкви. Ведь даже имеющаяся у любого
готического храма внешняя, материальная двойственность в архитектурном
строении выражает внутреннюю духовную раздвоенность
католической религии вообще. Эту мысль в прошлом веке развил и
конкретизировал В.И. Герье: «Подобно тому как высокий готический
свод держится на двух колоннах, далеко отстоящих друг от друга
на своих основаниях и смыкающихся на высоте своими
заостренными верхушками, так и вековое сооружение папской теократии
выросло столь мощно в высоту и в объеме благодаря двум
основным принципам, друг друга исключавшим и одинаково
служившим общей цели. Это - принцип аскетизма, или отречения от
мира, и принцип всемирной власти, или владычества над
миром...» Эти два принципа уже давно были видны и в самом
отношении католической церкви к миру: на это указывали боровшиеся
с апологетами папства бельгийский историк Лоран и немецкий
историк Г. Эйкен. Последний, будучи гегельянцем, ошибочно
сводил движение церкви прочь от земного мира к ее
«трансцендентной метафизике», а ее возвращение к миру объяснял ее
«иерархическим принципом», что не помешало ему правильно
указать на явно диалектическую взаимосвязь таких двух основных
римско-теократических тенденций, как движение от мира и
обратно к миру1. Несомненно, что папская церковь не
принадлежала миру, осуждала все земное, светское, уходила от него, но наряду
с этим стремилась подчинить его себе, чтобы править и владеть
им.
Правящие церковью аскетизм и владычество суть полюса
диалектического противоречия, лежащего в основе всего развития
католической церкви. Двух средних и более поздних веков
невозможно понять без единства (тождества) и взаимопроникновения
этих полюсов, а также без их борьбы. Подчеркивание и «настаива-
1 Эйкен Г. История и Система Средневекового миросозерцания. СПб., 1907.
Все сдвинулось
29
ние» на одном из этих полюсов-принципов немедленно
становится причиной движения, превращающего этот полюс-принцип в
собственную противоположность. Чем больше церковь
настаивает на «претворении в жизнь» евангелия нищеты, тем становится
богаче, а ортодоксальные нищенствующие движения
превращаются, по словам одного историка, «в одно из худших народных
бедствий». Чем сильнее средневековая церковь призывает следовать
евангелию любви к ближнему, тем более этот призыв становится
причиной церковного господства и насилия над ближним. Чем
более церковь проповедует евангелие смирения, тем скорее
превращается в сильнейшее захватническое государство. Именно
крестовые походы, ставшие вершиной братства христианских народов,
отдавших за них свое имущество и жизнь, и символом преданности
христианской власти целям церкви, казалось бы, ведущие
верующих к граду божьему, вернули верующих, науку и искусство
обратно в мирскую сферу, став причиной материального,
экономического и духовного обогащения града земного, которое, писал Эй-
кен, «крепче, чем когда-нибудь, привязало христианские народы к
земному миру». По мере осуществления церковной завоевательной
политики, являвшейся средством осуществления религиозных
целей таких рыцарских и монашеских орденов, как, например, орден
иоаннитов и особенно орден тамплиеров, эта политика вопреки
желаниям и стремлениям самих членов ордена была и средством
обогащения; «слуга» превратился в «господина», и наоборот.
Призыв церкви к уходу от мира обернулся призывом к
всестороннему безграничному овладению им. Аскетическая строгость
цели и деятельности монастырей, монашеских орденов,
отдельных «святых», а также римской церкви вообще, выступала прямой
причиной их богатства, материального и духовного
благосостояния. Отрицание земной и земельной деятельности и даже труда
для собственного пропитания становилось причиной широкого
развертывания мирской деятельности во всех отношениях и
прежде всего в процессе труда (производства), а именно:
всевозможных ремесел, увеличения пахотных земель и т.п.,
следовательно, обогащения и обмирщения Римской католической церкви.
Уходя от людей в глубь лесов, на неприступные вершины гор (Ап-
пенины), в пустыни, в нездоровые местности, чтобы испытать
больше лишений и быть ближе к смерти, монахи расселялись там;
их топор и заступ делали неприступные места доступными,
площади обработанной земли или виноградников все больше расши-
30
1. Пролог к эпохе
рялись, и монастыри, притягивая к себе население, становились
центрами хозяйственной и духовной жизни Европы,
рассадниками труда и безделья, научных знаний и невежества, фермами,
школами, больницами и библиотеками. Монашеские ордена,
цель которых аскеза, стали первыми хозрасчетными
предприятиями. Роль их в обработке земли в горных Альпах, на склонах
гор огромна. Эти монахи-отшельники были, можно сказать,
первыми целинниками в истории Европы. И, как часто бывает,
думая, что служат богу, они наделе служили мамоне.
Трагическое фундаментальное противоречие средневековой
религии, если не любой вообще, в том, что через обладание миром
и его благами она сама подвергалась обмирщению, ибо лишь в нем
одном могла управлять миром и властвовать над земными
властями. За что церковь боролась, на то и напоролась... Все, против чего
она выступала, вследствие самих ее выступлений снова и снова
возвращалось в ее лоно в виде несметных финансовых,
политических и материально-вещественных богатств. Так, благодаря
проповеди бедности и добровольной аскезы все, приносимое в жертву
Христу имущество, поступало в распоряжение церкви.
«Богатство, - говорил Ян Гус, - отравило и испортило церковь. Откуда
войны, отлучения, ссоры между папами и епископами? Собаки
грызутся из-за кости. Отнимите кость - и мир будет
восстановлен... Откуда подкуп, симония, откуда наглость духовных лиц?
Все от этого яда». Герье считал, что «во имя аскетического
идеализма папы преобразовали церковь и дали ей ту организацию,
которая послужила прочным основанием для их всемирного
могущества». «История средних веков, - указывал Эйкен, - вращалась
в этом кругу не менее, чем история древнего христианского
времени». Но это был не просто круг, когда не происходит ничего
нового, а поступательное движение, включающее в себя повторение
якобы старого, пройденного, но на новой основе; скрывающее в
себе противоречивость как источник своего движения.
Раздвоенность, двойственность - существенная примета этого
времени и следствие коренного разлада, проходящего через всю
эпоху Средневековья и Возрождения (Реформации); она обусловлена
не столько противоположными стремлениями церкви к миру и от
него, сколько антиномией между идеалом и действительностью,
словом и делом в личной и социальной (церковной) жизни
верующего, ибо в качестве божеского тысячелетнего царства этот идеал
подлежал осуществлению и в личной жизни монаха, и в церкви как
Все сдвинулось
31
учреждении. Личная жизнь монаха, писал Герье, превращается в
драматическую борьбу между его стремлением спасать себя и
спасать мир, содействуя торжеству над миром божеского царства. Эта
драма происходит в душе монаха, когда он отрывается от семьи,
отрекается от самого дорогого в жизн и, что ему помешает и прельстит в
будущем. Эта драма «продолжается в монастырской келье в борьбе
монаха со своими привычками и страстями; она повторяется, когда
монах, уступая голосу идеала или внутреннему влечению, покидает
келью, чтобы снова сделаться борцом в мире». Так в ряду
общественно-религиозных деятелей, в том числе монахов и пап, появляются
идеалисты, желающие преобразоватьдействительность, невзирая на
условия (таким был и Лейбниц!); политики, в руках которых сами
идеи превращаются в политические средства; аскеты, умершие для
мира, и фанатики, закалившиеся в монашеской дисциплине «лишь
для того, чтобы наложить на мир ее железное ярмо».
В социальной (церковной) жизни увеличение
рассогласования между идеалом теократии и ее реальной формой папства вело
к усилению власти церкви, что в свою очередь все более придавало
этой власти мирской характер. С каждой новой победой над
миром и действительная, реальная жизнь монаха, и царство
теократии все дальше удалялись от своего идеала, писал Эйкен. Высшее
развитие могущества града божьего было вместе с тем и причиной
его падения. В течение последующих столетий сверхчувственное
средневековое государство божье подверглось на земле весьма
чувствительному внутреннему разложению. Одна сфера жизни за
другой выходили из аскетически иерархической системы этого
государства, чтобы самостоятельно организоваться в согласии со
своими собственными реальными целями.
Рассказывается
о борьбе человеческого и божественного
Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.
А воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.
А. Блок
32
1. Пролог к эпохе
В ходе извечной борьбы в религии между ее человеческим и
божественным моментами божественное непрестанно изгоняет
из религиозной веры и верующего все человеческое как
греховное, низменное, внешнее, чуждое и ненужное. Но человеческое
все же не изгонялось до конца, а оставлялось в степени,
необходимой людям для воспроизводства своей индивидуальной веры,
низводилось до ее прожиточного минимума. Однако и этот
жалкий остаток существенно изменялся под продолжавшимися
атаками божественного. Из верующего, возгоняясь и возносясь
молитвой к Богу, испарялась его индивидуальность вследствие того,
что религия, низводя человека до животного, причем главным
образом в его материальной, чувственно-физической форме, видела
в верующих простую границу, отделяющую земное, бездуховное
от божественного, духовного; некий горизонт как
религиозно-логический предел всего сущего, напоминающий тот, за который
безуспешно старался заглянуть стоящий на четвереньках монах на
картинке в школьном учебнике по географии... Превращая
верующих в «божьи сосуды», религия фактически зараженных ею
людей консервировала в нечеловеческом состоянии, видя в них
всего лишь некое пустое подмножество множества подобных себе
консервных банок. К тому же вело и приравнивание религией
верующего остальному, якобы сотворенному бытию, так что он
наряду с предметами культа оказывался вовлеченным и
включенным в природную, материальную, чувственно-физическую форму
божества. Верующие и объективированные, опредмеченные
продукты их религиозной деятельности становились в равной мере
мертвыми, опредмеченными, материальными воплощениями
Бога, его символами. Чем-то вроде неодушевленных дорожных
указателей на пути к Нему. В зрелом Средневековье такая массовая
приниженность человеческого, угнетенность всего личностного,
индивидуально-субъективного и самостоятельного достигли
своей религиозной и государственно-политической кульминации,
став всеобщей и универсальной. Но божественное не победило
человеческое, напротив, оно потерпело от него поражение.
Неожиданным для религии следствием изгнания
божественным человеческого было изгнание самого божественного из-за
коренного его изменения. Воздействуя на человеческое,
божественное изменялось само, ибо изменение субъекта веры
необходимо вело к изменению ее объекта, образа предмета. Мы видели, что
изгнание человеческого сопровождалось милостиво ниспослан-
Все сдвинулось
33
ным свыше дозволением человеку быть прямо и непосредственно
причастным единственно лишь этости, т.е. чувственно-ощутимой
действительной материальности как вещественной оболочке,
форме божественного, а не к содержанию - Богу. Тем более что
последнее было бы крайне затруднительно «при наличии его
отсутствия», как говаривал благороднейший из сантехников
ВТ. Полесов. Верующие имели дело прямо и непосредственно не
с самим Богом, а лишь с Его гробом (вещами, предметами культа,
обрядами и всем иным декоративно-материальным,
религиозно-символическим и жульнически сакральным воплощением
бога и божественного) и гробовых дел мастерами
(священнослужителями, клиром). Общаясь с Богом через посредство созданного
ими «фоба», верующие, естественно, отождествляли гроб с
Богом, форму с содержанием, бытие с небытием, реальность с
ирреальностью. Это неизбежно вынуждало их верить не в самого
бога, а в его материальную оболочку. Гроб господень все более
обожествлялся, одухотворялся и возносился на небо, а господь все
более опредмечивался, огрублялся, заземлялся. Человечество, все
органичнее сливаясь с Богом через посредство его «гроба», все
быстрее само в этот гроб превращалось. И все более
превращающиеся в нелюдей верующие все сильнее и глубже верили в
небожественное. «Гроб» саморазрастался и самосовершенствовался,
становясь божеством вместо бога, и новым Богом. Люди превращались
в немые вещи божества, его символы, а вещи верующих людей
становились вещими, как люди, ибо отождествлялись с Богом. И в
той же мере, в какой это происходило, человеческое, изгоняемое
божественным с парадного входа, возвращалось обратно к людям
с черного. Но уже в качестве божественных Вещей и людей как их
Собственников. Очищение божественного от человеческого шло
лишь на пользу божественному Овеществлению людей и
очеловечиванию божественных Вещей.
До рождения Лейбница остается немногим более столетия. Но
уже в начале XVI в., т.е. еще до Реформации, в Италии римскую
церковь возглавляли, по словам Т.Б. Маколея, «люди, подобные
Льву X, люди, которые вместе с латинским языком века Августа
усвоили атеистический и насмешливый дух своего времени».
Носители папской тиары, указывал Меринг, были «не только князья
церкви; они были также и светскими государями» и «смотрели на
совершаемые ими же христианские таинства подобно тому, как
авгур Цицерон и первосвященник Цезарь смотрели на сивиллины
34
1. Пролог к эпохе
книги и на клев священных цыплят». В начале XVI в. в Риме было
«признаком хорошего тона опровергать основы христианства.
При папском дворе о постановлениях католической церкви, о
текстах из писания говорили лишь в шутливом тоне», писал историк
А. Гаусрат. В Германии «молодой Лютер был поражен, слыша, как
священник, когда совершалось таинство евхаристии, говорил
кощунственные слова, которыми отрицал таинство». Евангельское
слово «покайтесь» (по греч. «метаноите»), буквально означавшее
«передумывайте», уже задолго до этого совершенно потеряло свой
первоначальный смысл и свелось к формальному обряду.
На гробнице св. Франциска, запрещавшего прикасаться к
монете, теперь выставлена кружка для пожертвований в пользу
церкви. Бенедиктинец Матвей Парис смеется, что папа из ловцов че-
ловеков сделал ловцов монет. В самое короткое время
деятельность доминиканца Иоанна Винченцского дала ордену 20 тыс.
марок серебром.
«Без кайфа нет лайфа!..» Жизнь высшего католического
духовенства, по словам Маколея, протекала «в сладостном сне
чувственной и умственной неги». «Утонченный стол, превосходные
вина, прелестные женщины, собаки, соколы, вновь открытые
рукописи классиков, сонеты и шуточные романсы на нежном наречии
Тосканы, - безнравственные настолько, насколько допускало
тонкое чувство изящного, - серебряная утварь Бенвенуто, планы
дворцов, начертанные рукою Микеланджело, фрески Рафаэля,
бюсты, мозаики, драгоценные камни, только что вырытые из-под
развалин древних храмов и вилл: вот предметы наслаждения и
даже серьезного занятия их жизни». Марко Муньо, современник
папы Льва X, говорил о нем как о бонвиване: «е doct е amodor di docti,
ben religioso ma vol virer» («он учен, друг ученых, религиозен, но
хочет жить»). «Таким образом, в папах соединялась юношеская
смелость со старческой похотливостью, революционное презрение к
традициям, характерное для поднимающегося класса, с
неестественной жаждой наслаждений, свойственной эксплуататорскому
классу, идущему к гибели...», - подводит гранитную базу
классового подхода Меринг. Как отмечал один из историков, «это была
необыкновенная комбинация внутреннего разлада с блестящими
внешними успехами, автономии с повиновением, духовного
начала с мирским». Существенным следствием этого и приметой
времени стала испорченность нравов римского католичества,
призванного, казалось бы, являть всем противоположный при-
Все сдвинулось
35
мер. Общество было заражено безнравственностью,
бесчеловечностью, бессовестностью, неправдой и непорядочностью.
Итак, пороки стали правами, а исключения - правилом. Но,
не замечая того, к этим современным «нравам» продолжали
по-прежнему относиться, как к прежним. Казалось, людям
мешает все видеть в истинном свете некий оптический обман,
придающий изменившейся действительности прежние, совсем другие,
старевшие очертания... Такой соцмираж, основанный на разладе
слова и дела, идеала и действительности, - обычное явление для
общественной атмосферы в ту пору, когда господствующее
общественное сознание, подобно молодящейся старухе, тщится
всевозможными средствами замаскировать свою безнадежную,
растущую дряхлость и никчемность, свое обостряющееся
несоответствие изменившемуся, уже ушедшему вперед общественному
бытию. Выдавая желаемое за действительное, бедное устаревшее
и опустившееся, но пока еще господствующее, общественное
сознание лихорадочно и суетливо наделяет это свое ложное
отражение прошлого общественного бытия (т.е. «мир слова») всеми
признаками самостоятельной реальности («мира дела»). Поэтому по
мере усиления власти церкви и разлада между католическим
словом и делом наряду с уже существующим, объективным,
истинно-реальным миром как-то постепенно сам собой возник и
сформировался не менее реальный и объективный по своим
последствиям, но по самому своему существу призрачный и бесплотный,
зеркальный и иллюзорный мир слова, мнения. Похожие как два
близнеца, они самоотражались и взаимопроникали друг в друга
настолько, что почти невозможно было различить, какой из них
настоящий, а какой поддельный. И несмотря на то что чем дальше
тем больше мир слова становился совершенно произвольным,
фантастически самонадеянным, короче говоря, «безумным,
безумным, безумным миром...», разрушающееся религиозное и не
только религиозное общественное сознание продолжало видеть
то, и только то, что ему очень хотелось, но чего в действительности
уже давно не было. Иначе говоря, общественное сознание в
форме, по крайней мере, религии может выражать свою
относительную самостоятельность по отношению к своему общественному
бытию в своего рода социальном гистерезисе, т.е. в способности
продолжать жить и господствовать некоторое время как бы по
инерции, за счет «мира слова», замаскированного под реальную
действительность, ее отражения, в котором искусственно вопло-
36
1. Пролог к эпохе
щено (объективировано, материализовано, опредмечено) то, чего
на самом деле уже давно и след простыл.
Цивилизованное человечество тогда, как и сегодня, и,
вероятно, как во все времена, было очень довольно собой. Каждый хочет
быть довольным собой, видеть и иметь лишь то, что хочет. И ты,
любезный читатель, не темни, а скажи прямо: доволен ли, доволен
ли ты собой? И подумай хорошенько: не изменяешь ли самому
себе - тому, кем хотел себя видеть, кем хочешь быть, - на каждом
шагу? А? Увы, мой друг, увы... Во всякое царствие, а особенно
в междуцарствие, человечество, подобно наркоману, окутано,
словно какой-то эйфористической броней, плотным фимиамом
самовосхваления, которым себя непрерывно изо всех сил
одурманивает, подбадривает, подстегивает, чтобы забыть неприглядную
действительность, а потому, как ни странно, тем и живет. Если
только можно назвать это жизнью. Исключив из истории
революции эти дикие мгновения очищающих
революционно-критических самобичеваний, можно ошибочно подумать, будто
человечество никогда и не вылезало из обычной для него во все времена
похвальбы. Каждое общество, поколение, коллектив (от пещерного
до современного) похвалялись и похваляются: «Я теперь
решительно все могу. А разве раньше, раньше-то до меня могли?.. Тьфу,
никогда. Зато нынче...» Но так ли уж далеко мы продвинулись по
пути прогресса, если все еще бахвалимся и испытываем нужду в
этой форме самоподстегивания? Будем же скромнее и скажем:
человек не всегда остается человеком и действует по-человечески.
Как сказал один прекрасный писатель: «Все есть в этом мире, и
для всего есть место. Все помещается» (А.Г. Битов). А едва против
того возразим, то тем более это самое уж тут как тут, уже
поместилось вместо нас на нашем месте. «Да, надо забыть о всяком
благоразумии! - писал Стендаль. - Уж таково наше время, все летит
вверх тормашкам и. Мы катимся к полному хаосу!» Но какая из
общественно-экономических формаций не может сказать этого про
себя в свое время? И все же подобная социальная самокритика -
явление столь же отрадное, сколь почему-то чрезвычайно редкое
и эпизодическое.
...По мере того, как в недрах феодализма уже вызревал новый,
капиталистический способ производства, насквозь религиозное
Средневековье стало ощущать, что теперь на свете нет ничего
более вещественного, чувственного, греховного и
антирелигиозного, чем всегда это с возмущением абсолютно отвергавшие теоло-
Все сдвинулось
37
гия, церковь и ее слуги. «Невежество, с одной стороны,
разнузданность и подлость - с другой достигли в среде монахов того
времени таких размеров, что возбудили всеобщее презрение и
сделали их ненавистными всему народу. Настоятель монастыря в Me-
хельнеоткрыто заявил: "Монах отважится на такое дело, при
мысли о котором покраснеет и смутится сам черт"» (А. Бебель).
Вскоре к этому представился случай.
Вследствие своего стесненного финансового положения Рим
стал утверждать, что бесконечные и безграничные заслуги
«Спасителя» (вместе с сонмом святых) совершенно выше нужной
человеческой меры (Superrogatio) и составляют, так сказать, фонд, из
которого можно раздавать отпущения грехов всякого рода как
умершим, так и тем, кто пока находится на земле. Этот фонд,
отданный на сохранение св. Петру и его преемникам, может быть
раздаваем в виде индульгенций, продаваемых за деньги через
посредство тех самых монахов, о которых так плохо отзывался
Бебель и которые получали известный процент с выручки.
Индульгенция одним махом освобождала от духовных и светских грехов,
была абсолютной гарантией от ада. Рай становился,
следовательно, раем богатых, имеющих возможность ее купить, а бедняки по
финансовым соображениям должны были неукоснительно
угодить в ад. Продажа индульгенций превратила дело внутреннего
примирения человека с самим собой, основанное на полнейшем
отказе и освобождении от материальности, в материальнейшую из
всех торгашески материальных и неизменнейшую из всех
нравственно-низменных спекуляций. Хотя и с очень высокой целью -
строительства собора св. Петра в Риме, который так до сих пор и
остался памятником павшего (падшего!) величия католической
церкви. И вот благодаря торговле индульгенциями «римский
церковный механизм, - писал Меринг, - превратился в такую же
гигантскую и так же неустанно действующую эксплуататорскую
машину, какой некогда была Римская империя».
Для существования и развития римской церкви все это было
столь же необходимым, как неразумным и для нее очень опасным
ее собственным следствием. Разрастание этости католицизма
неумолимо вело к подрыву католической формы божественного, к
распаду римского папства. Этость, имея своей изнанкой то, что
впоследствии стало капиталом, воистину стала гробом
католицизма, так как по мере изъятия человека и человеческого и
ревностного укрепления огнем и мечом веры и единомыслия в этом во-
38
1. Пролог к эпохе
просе, все более обнаруживалось, что взаимно исключающие и
несовместимые между собой Бог и богатство - одного корня; они
постепенно превращались друг в друга аналогично тому, как это
происходило с рабом и работой...
Накапливающееся вещественное богатство молча предвещало
неизбежный конец феодализма и приход нового,
капиталистического способа производства. Накопление капитала было
символическим воплощением и материализацией не только старых
религиозно-феодальных, но и новых, зарождающихся буржуазных
отношений. Усиление символического выражения религиозной
идеологии господствующего класса превращало в символ сам
факт его существования. В той мере, в какой божественное, или
«дух божий», все больше подменялся «священной материей» или
вещественным богатством (капиталом) как своим символом и,
таким образом, фоб господень все более явно обожествлялся, а его
гробовых дел мастера втайне богатели, в той же мере - все сильнее
и глубже - происходило внутреннее нравственное духовное
обнищание и оскудение не только верующих, религии и церкви, но и
общества в целом.
Человечески живой, насколько это было для него возможно,
идеальный «дух божий» постепенно отлетал все дальше и дальше
от верующего, церкви и общества, оставляя от себя только
собственный жалкий отблеск, одну лишь свою, освещенную божьим
светом чувственно-физическую материально-вещественную
оболочку, одну «этость» или гроб Бога. Но зато по мере этого все
более росло и накапливалось внешнее по отношению к Богу
церковное богатство, богатство земное, низменное, вещественное,
чуждое аскезе и в этом смысле античеловеческое, с точки зрения
христианства. Впрочем, оно и на самом деле было таким. Итак,
верующему становилось до бога все дальше и дальше, а до иконы,
царя, жандарма, палача и попа - все ближе и ближе. И людям,
охваченным страхом, все более начинало казаться, что Бог от них
отвернулся, покинул их... Мир, который ранее светил человеку
от колыбели до могилы, теперь, постепенно лишаясь света,
медленно и неукоснительно погружался во тьму сомнения и
безверия. Многие, как и сегодня, со дня на день ожидали
светопреставления... «Ныне, когда уже близится конец мира и растет его
разложение...»
Повсеместно распространяются и усиливаются инакомыслие,
ересь, даже атеизм. Отчаявшиеся, доведенные до предела, до умо-
Все сдвинулось
39
исступления матери и отцы, эти жалкие и несчастные «винтики»
гигантского механизма римской церкви, вместо того, чтобы через
посредство совершенно непонятных и чуждых им латинских
молитв и погрязших в непотребстве священников, представителей
церковной машины, припасть к стопам Господа Бога нашего,
которого матери и отцы эти никогда не видали, не знали и никогда не
узнают, инстинктивно, чисто по-животному, ведомые не заботой
о своем или об общечеловеческом спасении на небе, а личным
страхом своей индивидуальной земной смерти, природным
чувством самосохранения, обратились прямо и непосредственно к воде
и земле, воздуху и солнцу, оставшимися пока их собственностью
потому, что не принадлежали никому, к молниям и бурям над их
головой и к травам, растениям и корням, которые были у них под
ногами; обратились за помощью к породившей их
матери-природе и даже исконному врагу Того, кто их забыл, к сатане, дьяволу и
его земным силам. И тогда таких несчастных матерей и отцов,
которые были не кем иным, как родоначальниками современных
аспирантов, лаборантов, кандидатов, докторов наук, членкоров и
прочих научных работников, стали называть «ведьмами» и
«колдунами», повсюду всячески преследовать и уничтожать
жесточайшим образом, словно это были сорняки. Ни с чем не сравнимая
мощь этих реликтово-агрессивных взаимоотношений была столь
велика, что в виде их далеких отголосков дошла до нашего
времени. Рецидивы таких феодально-научных отношений и сегодня
часты между научными работниками всех уровней.
Инакомыслие, ереси, мистика, пантеизм, колдовство,
ведовство и т.п. суть в определенном отношении отчаянные попытки во
что бы то ни стало пробиться к Богу, выйти прямо на Него и
вступить с Ним в контакт, минуя святой вещизм, этость,
священнослужителей, церковь, государство, основанное на ней, а
также всех других по-земному божественных посредников,
католических маклеров и коммиюяжеров. Но попытки эти уже на
ближайших подступах к их осуществлению всегда заканчивались
неудачей из-за жесточайшего их преследования и
выкорчевывания церковью. А также и потому, что Бога нет. За людьми и
вещами-посредниками Его - не оказалось никого.
Вся религия, вся церковь были и есть духовное и материальное
небытие, некая отдельно и независимо от нас существующая,
относительно самостоятельно развивающаяся антиразумная
пустота. Мы сами из себя и окружающего выдули этот мыльный пузырь,
40
1. Пролог к эпохе
опасный не менее шаровой молнии, но красивый,
переливающийся всеми цветами радуги, отражающий все вокруг и нас самих
в том числе, невольно чарующий и привлекающий наш взор,
вселяющий в нас надежды и многообещающий, до ужаса близкий и
глубоко родной нам прежде всего тем, что он и есть, оказывается,
мы все и каждый из нас, но беззвучно, а иногда и с неприличным
звуком лопающийся при первом же прикосновении к нему любой
реальности, жизни, конкретной действительности. Религиозная
реальность, символический вещизм, «этость» обнаружили свою
некредитоспособность перед лицом реальности жизненной,
настоящей. Земная, мирская собственность церкви стала
божественной собственностью человека. Правда, в той мере, в какой он
вынудил церковь к этому. «Град божий» стал градом земным,
материальным гробом господним, который одновременно стал
гробом и для людей, для всего человеческого в них, хотя и не всех.
А его так хотели найти крестоносцы. «Зачем ума искать и ездить
далеко»... Гроб господень оказался пуст, а сосуд божий полон
(чем? Вот вопрос). Уже давно можно было наблюдать, как
отношение к папству постепенно превращается в свою
противоположность, как медленно изменяется вместе с расположением сил и
внутреннее, сокровенное содержание католической системы при
пока еще сохраняющейся ее явной, бросающейся в глаза форме.
Так, некоторые страны, внешне официально оставаясь верными
церкви, внутренне на самом деле давно уже порвали с ее заветами.
Правительства этих стран, например Франции, заверяют в своей
преданности церкви вопреки истинному, реальному отношению
к религии образованных, мыслящих классов.
...Медленно падая и разрушаясь, церковь не переставала
вещими и гневными словами евангелия по-стариковски запоздало
укорять других в своем падении и разрушении. Раньше это были
громы и молнии, которые молодая, полная сил церковь метала в
своих религиозно-политических противников. А теперь это
бессильное старческое ворчанье относилось прежде всего к ней
самой. «Итак, не заботьтесь и говорите: "Что нам есть?" или "Что
пить?" или "Во что одеться?"» (Еванг. от Матфея, 6:31).
«Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и
любят приветствия в народных собраниях, председания в
синагогах и предвозлежания на пиршествах» (Еванг. от Луки, 20:46).
«Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и
приветствия в народных собраниях. И вам, законникам, горе, что налагаете
Все сдвинулось
41
на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом не
дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам,
которых избили отцы ваши» (Еванг. от Луки, 43:48).
Повествуется
об утренней заре, взошедшей над миром
«Все изменилося под нашим зодиаком»
(строка из фривольного стихотворения,
приписываемого A.C. Пушкину)
Ветер принес издалека
Песни весенней намек,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.
А. Блок
«Утренней зарей» называл Г. Гегель Возрождение и
Реформацию, которые пришли на смену долгой, тягостной ночи
Средневековья. Предвестниками прекрасного дня изучения природы,
гуманизма и атеизма явилось так называемое возрождение наук,
открытие Америки и морского пути в Индию. Солнце Разума
заблистало так сильно и ярко, что эпоха Возрождения и
Реформации стала, по выражению А. Шопенгауэра, той «точкой кипения
на шкале культуры», «где всякая вера, всякое откровение, все
авторитеты испаряются, человек стремится к самостоятельному
пониманию, готов поучаться, но хочет быть и убежденным».
В светской жизни общества общим желанием было поставить
в центр внимания реальный мир природы, общества и
индивидуальной человеческой личности, освобожденной от феодальных
цепей, а также сделать Италию независимой от папы и
германского императора. Лишь с этого времени стала возможной
собственно систематическая, экспериментальная наука, указывал
Энгельс. В жизни, науке и искусстве рвался на свободу дух протеста.
«Казалось, люди почувствовали себя вдруг освобожденными от
тысячелетних оков...» - писал Г. Гейне. Возрождается жгучий
интерес к древности, и общеевропейское увлечение греческими
и римскими писателями, переплетающееся с гуманистическим
стремлением к чисто светскому образованию, к науке и культуре,
очищенным от схоластической теологии, стало средством
уразуметь современность и покончить с остатками феодального
мировоззрения. Возрождение положило начало современному естест-
42
1. Пролог к эпохе
вознанию, чудесам нынешней техники, созданным
капиталистическим хозяйством XX в. Исходным пунктом Возрождения был
город, «бург», а экономическим истоком - буржуазные
отношения, писал С.Д. Сказкин, напоминая, что термин «буржуазия»
Маркс и Энгельс употребляли шире, чем сейчас: во всех русских
изданиях «Манифеста Коммунистической партии» этот термин
приравнен к термину «горожане».
В религиозной жизни общества этость уже давно сделала
католический дух полным любви к чудесному, суеверному,
материальному, чувственному. Но это несовместимо с католичеством.
Поэтому, писал Гегель, рано или поздно такое противоречие должно
было возбудить в этом духе стремление сбросить наложенную на
него материальность, этость. А самым высшим выражением это-
сти как навязанной католическому духу материальности стала
торговля индульгенциями. Она велась так бесчестно, что исторгла
знаменитую реакцию Лютера как бы против его воли, из глубины
души. Поэтому немудрено, что их продажа послужила поводом
для противокатолического движения, которое он поначалу
возглавил. «Почти одновременно» с разгоревшимся в Италии и на
юге Франции Возрождением происходила в общем аналогичная
ренессанская борьба западноевропейских католиков за
«возвращение» якобы старого в его религиозно-библейском аспекте
против неудовлетворяющей их всех системы римского католичества,
против папства как ненавистной формы христианства, более ему
непригодной. Итак, уже в зрелом Средневековье обусловленная
этостью приниженность субъекта и всего личного,
индивидуального, человеческого, которая из религиозной стала всеобщей и
уже достигла кульминации, переходя вследствие Реформации в
свою противоположность, постепенно начала оборачиваться все
более усиливающимся возвышением удельного веса и роли
человеческого, субъективного, разумного, нравственно-культурного.
Все пристальнее, глубже, шире стало внимание верующего к себе
как индивиду, к своему Я, к интимному миру своего духа, чувств,
тела, а также к месту своего обитания - географическому миру
(Земля), его началу и концу, нынешнему и прошлому
пространству и времени, т.е. к науке и истории. Так началась Реформация (от
лат. reformatio - исправление, переделка).
Одновременно с Лютером, а может быть и несколько раньше
его, но тоже из-за индульгенций, в Швейцарии восстали
последователи сначала У. Цвингли - сына старшины (Аммана) Вильдга-
Все сдвинулось
43
узской общины (в нынешнем кантоне с. Галлон), а позднее
Ж. Кальвина, сына епископского секретаря. Наряду с
лютеранством, цвинглианством и кальвинизмом в Германии действовали и
другие реформационные течения. Например, религиозный
спиритуализм Данка, С. Франка, Я. Бёме, которые считали мир и
природу источником познания Бога, склоняясь таким образом к
пантеизму. Все они боролись с католицизмом и друг с другом на
территории Германии, но по своему общеевропейскому значению
далеко выходили за ее пределы. Так появляется противостоящая
католикам сила - протестанты, названные так потому, что
некоторые князья и города протестовали против желания католиков
отменить власть, которая была дана князьям Германии -
управлять духовными делами в своих владениях.
Лейбниц, как и его отец, мать, ближайшие родственники, был
протестантом. Но большая часть биографов даже не замечает, что
в мировоззрении, учении, жизни и личности философа, в его
стремлениях и поступках выражаются стремления
протестантства, его существенные особенности. Например, усматривать в
труде добродетель, а в трудовых успехах (как Кальвин) -
доказательство своей социальной исключительности и - бери выше! - даже
божьей избранности; примирять аскезу с мирской наживой от
частного предпринимательства1; быть не при людях и священных
предметах, а наедине с Богом и, значит, быть достаточно сильным
для одиночества и постоянно испытывать его, претерпевать
невидимые окружающим бесплодные душевные порывы; уповать на
будущее; признавать относительный характер познания и веры,
религии2. Действительно, протестантство - это прежде всего
новое отношение к труду. Из католического греха он стал
протестантской добродетелью. Греки труд презирали, иудеи и католики
видели в нем наказание за грехопадение. Протестанты, напротив,
считают труд благословением божьим, рады труду, активны в нем,
и активность эта не внешняя, искусственная, а внутренняя,
естественно и самопроизвольно присущая протестантам
самоактивность, самодеятельность. Протестант - это «местечковая монада»,
местный демиург, индивидуальный источник живой индивиду-
1 «Протестантизм, суровый в мелочах религии, постиг тайну примирения -
церкви, презирающей блага земные, с владычеством торговли и наживы»
(А.И. Герцен).
2 Протестантство «созерцает истину, как простую и вечную, но признает, что
она только наполовину известна, и ожидает, что с развитием человечества и
расширением знания она примет новые формы» (Ч. Бэрд).
44
1. Пролог к эпохе
альной и, самое главное, массовой, социально-экономической
активности, направленной на преобразование все и вся во славу
божию и на благо цивилизации. Поэтому поэт протестантства
Дж. Мильтон настолько увлекся воспеванием труда, что,
противореча Библии, усмотрел в печальном изгнании первых людей из рая
их счастливое возвращение на землю как райское место работы,
труда1. Ожидавшие их всевозможные трудности -
необработанность земли, размеры и потенциально бесконечные возможности
приложения человеческого труда вызывают у него неописуемое
восхищение: чем больше тяжелой работы, тем лучше! Протестанту
особенно приятно начинать все «с нуля», и чем чаще - тем
восхитительней. Особенную гордость, как у первых поселенцев в
Америке, вызывает в нем то, что он - самоучка, обязанный всем
самому себе в земном граде, точнее в «бурге».
Это объясняется тем, что у Реформации (и протестантства) и
Возрождения был один общий источник - город. Мораль
протестантов - это мораль торговца, купца, который вопреки
ортодоксальному учению римской церкви совершенно убежден, что,
занимаясь частным предпринимательством, самообогащаясь, он
творит дело, угодное Богу; хотя его убеждение было пока еще
мистически религиозным, а не рациональным, научно
обоснованным, каким оно станет в XVIII в. в теории естественного права. Но
не только протестантство, а кальвинизм и лютеранство суть
религиозные отражения разных экономических состояний
бюргерства. По мнению Меринга, «в первом победили его экономически
развитые элементы, во втором сказались его недоразвившиеся
элементы». Поэтому кальвинизм преобладал в западной
Германии, а лютеранство господствовало в слаборазвитых и
малочисленных городках, например земледельческих областях к востоку
от Эльбы, где капиталистическое развитие, медленно пробиваясь
из феодального хаоса, писал Меринг, «еще не создало
революционной буржуазии, но превратило сеньора в помещика, рыцаря - в
товаропроизводителя». Поэтому рост, развитие и усиление
городов были ростом, развитием и усилением городской буржуазии и
одновременно протестантской ереси. После того как буржуазия
достаточно окрепла, ее местная, локальная борьба с феодальным
дворянством стала принимать национальный характер и размеры.
По Энгельсу, «первый акт борьбы был сыгран в Германии: так на-
1 См.: Мильтон Дж. «Потерянный рай»: Пер. Арк. Штейнберга. М.: Худлит,
1976. С. 126,329,372,452.
Все сдвинулось
45
зываемая Реформация». Происшедший спустя более чем столетие
упадок немецких городов показал, что он был в то же время
упадком немецкой Реформации. Католицизм и феодализм, идеология
и экономика срослись настолько органично и прочно, что
возникающий капитализм не мог осилить феодализм, не извергая
католицизм. Отличие протестантов от католиков было отличием
капиталистического способа производства от феодального.
Протестантство было зарождающейся буржуазно-капиталистической
религией, характерной для буржуазии первых стадий
первоначального накопления идеологии. Недаром успеху Реформации
прежде всего и главным образом способствовали, по мнению
классиков марксизма, секуляризация церковного имущества в
пользу рыцарских и княжеских семей, а также разрешение
вступать в брак тем духовным лицам, которые перешли к новому
учению.
Сравнивая протестантство и католичество, можно сделать
вывод, что протестантство - субъективная форма религии,
отличающаяся молодостью, гибкостью, основанная на непосредственном
общении верующего с Богом, стремящаяся все изменить и
обусловленная потребностями религиозной совести индивида.
Католицизм, напротив, - это негибкая, старая, сравнительно
пассивная и объективная форма религии, основанная на
опосредованном общении верующих с Богом. Опираясь,на древность своих
суждений, многочисленность приверженцев и признавая истину
вечную, абсолютную, раз и навсегда выраженную в определенных
формах, католическая вера, по выражению Бэрда, «выдвигает
между человеком и ее бесконечным объектом целый аппарат
посредников - таинства, священство, организацию и обрядность».
В католицизме пароль - автомат, в протестантстве - свобода.
«Первый принцип заставляет иметь в виду прошлое, второй -
побуждает... часто против собственной воли, глядеть в будущее.
Один принцип есть дух застоя, другой - дух перемен и движения
вперед», — утверждал Бэрд. Ах, если бы так! Историки вроде Бэрда
легко приделывают ангельские крылышки к протестантству, при-
дварительно с трудом отодрав их от католицизма. К этому
приложил руку сам Гегель. Его стремление считать немецкую
Реформацию следствием того, что католический дух перерос свою
отягощенную этостью форму; попытка этого духа сбросить отжившее
католическое одеяние невольно заставляет относиться к
Реформации как к чему-то в высшей степени возвышенному и благород-
46
1. Пролог к эпохе
ному, как к Возрождению в буквальном смысле слова, чем в
действительности ни Возрождение, ни Реформация вовсе не
являлись.
Не будем их идеализировать. Уже относительно
самопроизвольного возникновения Реформации из лона христианства
должно быть ясно, что само «лоно» ни к черту не годится. Но тогда
или никому это не было видно, или тот, кто это видел, об этом, как
водится, молчал. Кроме того, борьба старого, отживающего
феодального строя с идущим ему навстречу новым получила в борьбе
католического и протестантского вероисповеданий свое
необходимое первое и поэтому иллюзорно-мистическое, религиозное
выражение. Ему мы обязаны тем, что эпоха Возрождения нам
кажется розовой эпохой сплошного гуманизма в нашем
сегодняшнем толковании этого слова. Между тем в то время никакого
гуманизма в сущности не было и о том, сколько на этой эпохе крови, я
скажу позднее. Другим мифом является мнение, будто раскол
римской церкви на католиков, противостоящих лютеранам,
цвинглианцам и кальвинистам (последних на европейском
континенте называли «реформаторы», английских же и шотландских
кальвинистов называли «пресвитериане» и «конгрегационисты»),
воочию подтвердил, что Реформация подвергла сомнению самый
принцип католицизма - необходимость единства всей
христианской церкви.
Строго говоря, в сущности никакого раскола не было. Уж
слишком много общего имелось в религиозных партиях внутри
протестантства, а также между ним и католичеством. Даже
буржуазные историки религии не считают протестантство
отступничеством от католицизма и, следовательно, ересью в прежнем
значении этого слова. И как бы ни подчеркивали протестантские
партии свои «коренные» различия, их взгляды гораздо больше
походили друг на друга, чем взгляды каждой из них на вероучение
той церкви, против которой они все боролись. Страшно воюя друг
с дружкой, католичество и протестантство в общем оставались
верны одному и тому же принципу: живи сам и дай жить другому.
Но совершенно иначе каждая из них относилась к посягательству
на свои догматы. Поэтому все они - и протестанты, и католики -
объединены одним общим, противоестественным для человека и
христианина, но естественным для каждого идеолога и для
каждой идеологии чувством, а именно: нетерпимостью к своим
«инакомыслящим» ближним, ибо, по словам Бэрда, «новая и ожесто-
Все сдвинулось
47
ценная идеологическая ненависть заменила прежнюю»1. Как
отмечал Герье, «между протестантами реформаты отличались
обыкновенно большею умеренностью, но зато лютеранская
ортодоксия не уступала католикам в фанатизме и не скупилась на
оскорбительные выражения, заимствованные из Апокалипсиса,
называя папу антихристом, а католическую церковь вавилонской
блудницей».
Недаром Герцен писал о «холодном изуверстве
протестантизма», а И. Шерр о «не знавшей границ ненависти», с какой «теологи
различных протестантских сект преследовали друг друга и которая
обыкновенно изливалась в самых площадных отношениях». По
мнению последнего, эта злобная ярость наиболее ярко
выразилась в бесчеловечном поступке курфюрстины Анны Саксонской:
«Эта женщина, столь достойная во всех других отношениях, так
далеко зашла в своем религиозном фанатизме, что когда ее
старшая дочь, бывшая замужем за кальвинистским пфальцграфом
Иоанном Казимиром, родила мертвого ребенка, то она, как мать,
нашла нужным написать дочери утешительное письмо, в котором
между прочим говорилось: "Это к лучшему, что ребенок умер не
родясь, потому что, родись он живым, его запятнала бы безбожная
ересь". Благочестивая бабушка-лютеранка предпочитала, чтобы
ее внук умер, только бы не был кальвинистом. Какое благочестие!»
В 1546 г., за сто лет до рождения Лейбница, кальвинисты
казнили за анабаптизм более 30 тыс. человек в Голландии и
Фрисландии. Кальвин в письме от февраля 1546 г. заявил о Мигеле Сервете,
ученом, открывшем «малый круг кровообращения»: «Если он
приедет - только бы сохранилась моя власть - я уже никогда не
отпущу его живым». Кальвин выполнил свою угрозу. Спустя семь
лет он сжег Сервета за ересь, несмотря на то что тот был в Женеве
проездом, и над ним ни Кальвин, ни судебный магистрат не имели
судебной власти. Сервета, сообщает Дрэпер, «в продолжении двух
часов жгли на медленном огне, несмотря на его просьбы ради бога
1 Об этом писал еще Дж. Бруно в Лондоне в 1580-х гг.: «Нет, протестанты не
лучше католиков. Не хотят ли, не мечтают ли они. чтобы весь мир, одобрив их
злостное и надменное невежество и согласившись с ними, успокоил их лукавую
совесть, и тогда как сами они не хотят ни принять, ни согласиться, ни подчиниться
никакому закону, справедливости или учению? Ведь во всем остальном мире и во
всех прошлых веках никогда не было такой разноголосицы, как у них. Среди
десятка тысяч подобных учителей не сыщешь и одного, у которого не было бы своего
катехизиса, если и не обнародованного, то готового к обнародованию». Они вечно
спорят друг с другом, а «есть и такие, что противоречат сами себе, сегодня отвергая
написанное вчера».
48
1. Пролог к эпохе
подложить больше дров или каким бы то ни было образом
покончить пытку... Люди спрашивали: какое же различие между
поступком Рима с Антонием де Домини (это протестант,
арестованный в Риме; после смерти его тело вырыли из земли и сожгли) и
поступком Кальвина с Серветом?»
Позднее режим изменился: по словам Л.П. Карсавина, с 1552
по 1586 г. Женева могла похвалиться по крайней мере 58 казнями
за склонность к ереси: десятерым была отрублена голова, 13
человек сожгли, предварительно удушив, 35 сожгли живьем. Святой
город ревниво хранил чистоту своей веры, памятуя завет
Кальвина: «Разбойники не собираются около виселиц»... Но чем чаще
осуществлялись карательные действия против инакомыслящих,
тем чаще возникал вопрос: насколько законно наказывать
смертью за несогласие в убеждениях? Сама боязнь задать всем этот
очевидный вопрос или ответить на него красноречивым молчанием
свидетельствовала о нетерпимости к инакомыслию власть
имущих, общественной администрации и порядков, ими
установленных.
Объединенные этим одним антихристианским чувством,
несовместимым с милосердием, раскаянием, деликатностью,
мягкосердечием и доброжелательством, протестанты и католики, не
сговариваясь, солидарны, едины друг с другом в практическом
применении абсолютно одинаковых (тождественных) методов и
средств борьбы с инакомыслием. Кроме того, что мы сегодня
видим в мире, ничто не может сравниться с той и в наше время
необычайной яростью и жестокой радостью, с которой тогдашние
протестанты и католики выявляют, обличают и преследуют
«своих» и обращают «чужих» инакомыслящих и даже с помощью
инквизиции сжигают сопротивляющихся. Некогда римская церковь
провозгласила: «Церковь не жаждет крови!» (Ecclesia non san-
guinem). Но любая церковь, религия, вероучение, идеология ее
жаждут, и еще как! Прикрываясь этим общим лозунгом, все
религиозные партии (позднее цвингианцы и кальвинисты
объединились в одну партию) и по сей день ликвидируют инакомыслие хотя
в другой форме, другими средствами, но с той же целью и
результатом. Конечно, после Реформации это происходило все реже и
реже. Но в те времена (как и сегодня в Китае, Кампучии,
Никарагуа, Иране, Ливане, Ирландии и т.д.) от этого ничуть не было
лучше тому, кого вера «доводила до смерти», как выражаются в
Китайской Народной Республике... «Три веры налицо: лютеранская,
Все сдвинулось
49
папская и кальвинистская, но где же христианство?» - спрашивал
ф. фонЛогау.
Из-за раскола церкви и последующего противоборства
конкурирующих вероучений в XVII в. появились люди, которые,
указывая на общую для обоих лагерей христианскую сущность,
признают некоторое основание за убеждениями своих противников и
стараются на диспутах и съездах богословов дать догматам св.
Павла примирительное толкование, утишить вражду, привить
католикам и протестантам обоюдную терпимость, ликвидировать
нетерпимость, создать союз (унию) церквей. Правда, если
богословам, особенно католическим, это не удавалось сделать со своими
идейными противниками, то они немедля предавали их анафеме,
на том дело и кончалось. Задача «примирения церквей» так и
осталась нерешенной вплоть до наших дней. В борьбу за целостность
христианства, в поиск общего между католичеством и
протестантством немалый вклад внес и протестант Лейбниц. Но он свел его
на нет тем, что, не найдя «общего», решил укрепить религию
наукой и своей философией (монадологией), и это навлекло на него
гнев католиков и ярость протестантов всех стран.
...Борьба католической церкви с протестантством продолжала
вестись с непоколебимым упорством, сопровождаясь
поражениями и успехами в течение 135 лет, пока не стало ясно, что
постепенно побеждает Реформация. Она отторгла от римской церкви
значительную часть Европы. По Аугсбургскому миру (1530), ее
немецкие сторонники получили освобождение от духовной власти
Италии, право самостоятельного суждения в религиозных делах и
равноправие с католиками в светских привилегиях. Взгляды
Реформации распространялись по Германии так быстро, что в
1558 г., по отчету венецианского посланника, только десятая часть
населения Германии сохранила католическую веру. Остальные
стали протестантами.
Я не хотел бы создать впечатление, будто все это время
папство, «сидя сложа руки», лишь пассивно наблюдало за
изменениями, происходящими в нем самом, и никак на них не реагировало.
В конце Реформации протестантству удалось быстро овладеть
светской властью лишь потому, что большую часть своих сил
католицизм истратил на разгром двух больших партийных групп,
сложившихся в начале немецкой Реформации, из которых плебейско-ре-
волюционная, мюнцеровская была потоплена в реках крови
Крестьянской войны, а буржуазно-реформистская, лютеровская
50
1. Пролог к эпохе
получила от этой войны такой удар, от которого долго не могла
оправиться. Но бури реформационной эпохи не прошли бесследно и
для католическо-консервативной группы, римской курии.
Об изменениях и потрясениях, которые претерпела система
католицизма в результате перенесенных явных и скрытых ударов,
можно судить по изменениям ее реакции на эти удары. После
восстания альбигойцев церковь с сосредоточенной энергией
совершенно истребила ересь так, что прошло 600 лет со времени этих
событий, а юг Франции не мог оправиться от нанесенного удара.
После поражения восстания Уиклифа для церкви характерно
отражение ударов по ее системе с помощью «свирепой
политики» (Дрэпер). В это время церковь действовала по принципу:
«Clementia non hic locus: mennbrorum potius aliquod quam totum
corpus intérêt» («Милость здесь не к месту: жги, отсекай, чтобы
лучше какой-либо из членов, чем все тело погибло»). До поры до
времени это помогало.
Но уже в борьбе с Лютером время не позволило римской
церкви использовать прежние, привычные ей «лобовые» средства
массового уничтожения, которые она раньше, не задумываясь,
пускала в ход, например против альбигойцев и последователей Дж.
Уиклифа и Яна Гуса. Даже стараясь действовать осторожнее, церковь
часто срывалась на то, чтобы по-прежнему огнем и мечом
удержать международную религиозную, социально-политическую,
юридическую и умственную однородность, «неподвижность» на
территории Центральной Европы. Нарастающее оппозиционное
движение она старалась остановить сначала убеждением, а потом
силой. Но несмотря на ее фанатическое сопротивление (сходное с
сопротивлением коммунистической идеологии в конце XX в.),
стремительный поток увлек и ее самое. Этот поток, это изменение
общественного отношения к римской курии, к ее ужасу,
обнаружило перед всеми ее собственный преходящий, исторический
характер.
В новой, изменившейся ситуации ранее широко
применявшиеся средства уже не годились. Решено было начать перестройку
с себя. Поэтому уже с середины XVI в. во главе римской церкви
стали люди строгого благочестия. Павел IV отличался
монашеской ревностью и набожностью. Пий V носил под папскими
одеждами власяницу простого монаха и отличался догматической
строгостью. Григорий XII старался превзойти его в суровой
добродетели священного сана. Однако подобная «самокритика» не
Все сдвинулось
51
оказала надлежащего воздействия на защитников и противников
римской курии. Тогда центр тяжести ее самосохранения был
опять, как прежде, перенесен в сферу борьбы с «врагом внешним»,
вовне, ибо никогда не было, нет и не будет лучшего и более
эффективного средства утихомирить свой, разгневанный своей вечно
плохой жизнью народ («наших»), как направив его гнев против
других народов («чужих», «врагов народа» в политически
этническом смысле этих слов). Все, что могло быть использовано в
качестве «красной тряпки» для своего быка-народа, пускалось в ход,
не брезговали никаким улучшением в политическом и научном
мире, каждое из них встречалось в штыки. Папство не признало
Вестфальский мир, завершивший полуторавековую религиозную
борьбу, но одобрило Варфоломеевскую ночь. Оно перестало
покровительствовать гуманизму за то, что тот подорвал значение
схоластики. Оно стало враждебно относиться к развитию
естественных и математических наук, сожгло Дж.Ч. Ванини на костре и
заставило Галилея отказаться от тезиса о вращении Земли точно
так же, как в 1930-е гг. папа Иосиф I, Учитель народов, умертвлял
их лучших представителей для устойчивости положения своего
личного и внутригосударственного. «Во всех сферах жизни
папство, - писал Герье, - поспешило заявить свое несогласие следовать
новому порядку вещей». Но чем дальше, тем больше такая
позиция становилась лишь «хорошей миной при плохой игре», ибо
всем было очевидно, что в XVI в. произошел переворот в
положении папства. Окончательно прошла та блаженная пора, когда
можно было спокойно стирать с лица земли злостных еретиков.
Уже в первой половине XVI в. даже наиболее рьяно
настроенным католикам-ортодоксам становится ясно, что борьба с
протестантской ересью затягивается и требует новых, более гибких и
изощренных в отношении управления организационных форм и
структур, нацеленных на слабые, уязвимые места протестантизма.
Беда его была в том, что хотя он и одерживал победы, но в это
время в своей первоначальной форме не представлял собой одного
общего, сплоченного и централизованного целого, не был
системой. Католики сделали ставку на систему, организацию и
управление - и не проиграли. «Под крестами хорошо расставлять
сети», - писал Ф. Ницше.
Католицизм решил создать всемогущую международную
организацию, сосредоточив всю власть в руках одного человека,
способного приводить в исполнение свою политику, используя ар-
52
1. Пролог к эпохе
мии и флоты послушных королей с целью остановить
Реформацию и по возможности уничтожить протестантскую ересь. Все
было продумано до деталей, например, было решено,
позаботиться об украшении богослужения. В результате этой
контрреформации, контрперестройки буллой папы Павла III в 1540 г. был
учрежден орден иезуитов. Иезуиты, какое бы звание они не имели
в миру, должны были беспрекословно повиноваться главе ордена
и его секретариату, жить в постоянной бедности, целомудрии и
послушании, идти куда велят, не иметь определенных часов для
молитвы, заниматься проповедями и воспитанием, а также
шпионить друг за другом и за тем, на кого укажут. Глава ордена - Иньи-
го (Игнатий Лойола) - родился в 1491 г. Его биографы-иезуиты
утверждают, что когда его мать, Мария Соне, удалилась, в
подражание богородице, рожать в хлев, а после положила
новорожденного главу иезуитов в ясли, то младенец громко и отчетливо
возопил: «Меня зовут Иньиго!», а когда стал проповедником, то на
первых порах ученики отреклись от него, опасаясь инквизиции...
Сталин мечтал превратить партию в организацию, подобную
«ордену меченосцев». Гитлер обращался к Гиммлеру: «Мой Игнатий
Лойола». Карл Эрнест, глава соперничающего СА, называл
Гиммлера менее лестно, но более выразительно: «черный иезуит».
Сохранилось специальное предписание о том, какова должна быть
манера поведения иезуита: «Голова слегка наклонена вперед, но
не свешена вправо или влево; глаза опущены настолько, чтобы не
смотреть на собеседника, но искоса следить за ним; хмуриться и
морщить лоб не следует, вообще сохранять невозмутимость, но
при этом внешний вид иметь больше ласковый и довольный, чем
печальный; не разевать рта и не поджимать губы; ходить по
возможности всегда степенно». Вероятно, выполнение последнего
пункта для хромоножки Лойолы было затруднительным делом.
Прежде чем обнародовать это правило, Иньиго долго обдумывал
его, плакал и семь раз (магическое число!) обращался с молитвой к
Богу.
Орден Иисуса приспособил католическую церковь к новым
экономическим и политическим отношениям. Введя в школы
изучение классиков - самое высшее образование того времени,
он стал наилучшим просветителем, хранителем идей гуманизма.
Открыв по всему свету торговые конторы, он сам стал величайшей
торговой компанией в мире, а доставив государям в качестве
исповедников наиболее опытных и ловких иезуитов-министров,
Все сдвинулось
53
превратился в государя над государями. «Через посредство
иезуитов Рим проник в самые отдаленные уголки земли, - писал Дрэ-
пер _ На исповеди иезуиты вынуждали женшин выдавать тайны
их жизни и жизни их семей, были первыми в молитвах с
набожными и первыми в мире удовольствий и разврата. Иезуита можно
было встретить во всевозможных видах - босоногий нищий, одетый
в лохмотья, ученый профессор, даром читающий лекции
образованной публике, человек высшего круга, живущий в изобилии и
аристократической роскоши. Были и коронованные иезуиты».
Какое разительное сходство с КГБ и гестапо!
...К 400-летию ордена подсчитали, что иезуиты сочинили
115 тыс. книг. Сегодня в мире немногим более 26 тыс. иезуитов.
Не раз позднее повторившаяся в истории трагедия (если
только это слово здесь уместно) иезуитов и им подобных организаций,
их внутренний скрытый порок состоит в том, что орден Иисуса, по
словам Гейне, вдохновляло только сохранение католичества, а не
само католичество:
II Последнее само по себе их, собственно, вовсе не заботило; поэтому
подчас профанировали самый принцип католицизма, лишь бы только
доставить ему господство; они заключали соглашения и с язычеством,
и с сильными мира сего, угождали их страстям, становились убийцами
и торгашами, а где было нужно, там делались даже атеистами. Но
напрасно давали их духовники дружеские отпущения грехов и их
казуисты любезничали со всеми пороками и преступлениями. Напрасно
соперничали они с мирянами и в искусстве, и в науке для того, чтобы
пользоваться и тем, и другим как средством. Их бессилие становилось
здесь совершенно очевидным. Они завидовали всем великим ученым
и художникам, но не могли ни открыть, ни создать ничего
чрезвычайного. Они сочиняли благоговейные гимны и строили соборы, но от их
поэзии не веет свободным духом, она дышит лишь трепетным
послушанием перед начальством ордена; и даже в их сооружениях видна
лишь трусливая скованность, каменное приспособленчество, величие
|| по приказу.
Справедливо сказал однажды И. Барро: «Иезуиты не могут
поднять землю на небо, они опустили небо на землю».
Бесплодными были все их труды и дела. «Из лжи не может расцвести
жизнь, и бог не может быть спасен посредством дьявола» (Гейне).
«Величие по приказу!», «Спасение посредством дьявола!» Как это
метко и проницательно сказано... Разве в наши дни иезуитизм не
возродился в более грубой, жестокой, лавочнически мещанской
54
1. Пролог к эпохе
форме в виде NSDAP (National Sozialistische Deutsche
Arbeitpartei - Национал-социалистической немецкой рабочей партии)
во главе с подонком Гитлером, т.е. в виде фашизма?
...Громадное значение имело основание ордена иезуитов. Борьба
за повышение духовной дисциплины увенчалась успехом. «Дух,
столь резко выразившийся в этом ордене, - замечает Маколей, -
одушевлял весь католический мир. Даже римский двор был
очищен». Истребление богословских и философских ересей было
поставлено во главу угла. Всякая терпимость исчезла. Наступил
период «второй инквизиции» (XVI-XVIII вв.), определяемой главным
образом волей отдельных епископов на местах.
Переписываясь с иезуитами, Лейбниц не то чтобы все прощал
им за их формально просветительскую деятельность, в том числе
миссионерскую, но по крайней мере ограничивался тем, что
видел в этом их положительную сторону, которая его более всего
интересовала в иезуитах. В этом, как и во многом другом, сказалась
ограниченность, недальновидность его формально-логического
духа, абстрактно-мыслящего рационализма.
...Возрождение не было Возрождением в том смысле, какой
мы так часто ему приписываем и в нем хотим видеть. Это один из
тех случаев, когда наше воображение мешает понять
историческую, социальную действительность, как, впрочем, и
индивидуальную тоже. Не было, да и не будет ни общества, ни эпохи,
которые во всех отношениях были бы абсолютно безупречными,
кристально «хорошими», только прогрессивными. И все-таки, зная
это, мы позволяем себе считать Возрождение исключительно
гуманной эпохой по сравнению с эпохой ужасов Средневековья.
Между тем Ренессанс есть эпоха повседневного, обыденного,
тихого, прекрасно организованного человекоубийства в массовых
масштабах, прообраз тех масштабов, которые Гитлер мечтал
осуществить по крайней мере в России. Ренессанс есть эпоха
возрождения интереса не только к человеку, его жизни и просвещению,
но и к его смерти, к многообразным формам и средствам его
убийства, просвещению в отношении лишения его жизни. Это
возрождение таких наук и искусств, которые делают человека человеком
и общество человеческим, а также тех, которые учат людей
профессионально убивать других людей, убивая тем самым и самих
себя; убивать в человеке человека; учат «демономании»,
повсеместной охоте на ведьм, которая охватила Европу с конца XVI в.,
цвела на протяжении XVI и XVII вв. и возобновлялась даже в
Все сдвинулось
55
XVIII и XIX вв. Я не говорю уже о ее новом расцвете в начале и
конце XX в. Это, наконец, развитие столь совершенных и
технически высокоразвитых в наши дни средств индивидуального и
массового поиска известных людей с целью их вербовки,
перевербовки, использования и ликвидации для получения или
уничтожения (сокрытия) определенной информации, которая,
превратившись в совершенно новый вид собственности со своими
«капиталистами» («когнитивистами») и своим «пролетариатом»
(«когнитариатом»), стала абсолютно необходимой для
управления и, следовательно, власти в целях приумножения информации
как частной собственности... Как отмечал А.Ф. Лосев,
«ославленная на все века инквизиция была детищем исключительно эпохи
Ренессанса». А отнюдь не Средневековья, как обычно считают.
Беззащитным, творчески мыслящим и действующим людям,
мечтателям, естествоиспытателям в «темную ночь
Средневековья», застоя и догматизма жилось не в пример лучше, чем в
кажущуюся нам «светлой и радостной» эпоху Возрождения. В Средние
века объектом гонения были малочисленные, открытые и ярые
враги римской церкви, всем известные в обществе люди (скажем,
Уиклиф или Ян Гус) со своими сторонниками. Простые,
безобидные, но с воображением, свободно мыслящие люди, оставаясь в
тени, жили спокойно. Но вот наступил XVI в. - эпоха гуманизма,
религиозных и философских исканий, великих открытий
Реформации и «вторая инквизиция», протестанты и католики стали
действовать единым фронтом не только против таких известных
людей, как Мигель Сервет в Женеве и Дж. Бруно в Риме, но и против
множества малоизвестных фантазеров и знатоков народной
медицины, хотя еще в VIII-IX вв. к учению о колдовстве и порче в
немецком обществе относились всего лишь как к суеверию. В эпоху
Возрождения, по словам Л.Н, Гумилева, «гибли люди честные,
гнушавшиеся доносительством, и талантливые, вызывающие
зависть, а размножались морально нечистоплотные тупицы,
породившие поколение европейского обывателя, характерное для
XIX в. Это был процесс статистический и потому неотвратимый».
Все это было завершением давно начавшегося в христианской
религии наступления божественного момента на человеческий и
развертывания массовой инквизиционной формы контроля над ним.
Божественное как проявление общесоциального одерживало верх
над человеческим как проявлением общеиндивидуального; идея
целого, общего, цели побеждала идею честного, отдельного,
56
1. Пролог к эпохе
средств, а кульминационной точкой этой победы, обернувшейся
поражением, стала мировая социалистическая система, «при
ближайшем рассмотрении» оказавшаяся вовсе не социалистической,
а черт знает чем...
Во времена Лейбница инквизиция сжигала людей. В
епископстве Ольмютце с 1640 по 1651 г. умертвили несколько сотен
«ведьм». Тогда же в графстве Нейссе сожгли около 1000 «ведьм»
(есть описание 242 казней), а среди жертв были дети от года до
шести лет. Один из издателей Лейбница, Отто Клопп, утверждает,
что философ оказал известное влияние на уничтожение в
Ганновере так называемых «преследований за колдовство». Во всяком
случае Лейбниц несколько раз с большой похвалой отзывался в
своих сочинениях о яром противнике этих преследований иезуите
и «авторе многих прекрасных песен» (И. Шерр) вестфальском
графе Фридрихе фон Шпе; и для герцогини Софии Ганноверской,
государыне Лейбница, перевел на французский язык введение к
сочинению патера Шпе. «Память об этом превосходном
человеке, - писал Лейбниц, — должна быть дорога людям науки и
здравого смысла», ибо в анонимной книге «Криминальное
предостережение при процессах против колдунов» он утверждал, что «так
называемые колдуны и ведьмы только невинные жертвы векового
предрассудка» («Теодицея»). Голосу отца Шпе внял, по словам
Лейбница, курфюрст (тогда бывший простым каноником, затем
ставший епископом Вюрцбургским и, наконец, архиепископом
Майнцским), запретив «все эти сжигания, и в том ему подражал
герцог Брауншвейгский, а позже многие князья и государства
германские». Патеру Шпе гораздо более других было известно о
невиновности несчастных жертв инквизиции: его обязанностью
было сопровождать «ведьм», осужденных на казнь, и так проводил он
на костер 50 жертв. «Клянусь торжественно, - говорит патер Шпе
в своем "Предостережении...", - что из всего множества людей,
обвиненных в колдовстве, которых я сопровождал на место казни,
ни один, по здравому размышлению, не мог быть признан
виновным; то же мнение вынесли из практики (!) и два знакомых мне
теолога. Подвергните таким же истязаниям, какие вытерпели эти
несчастные, главу церкви, судей или меня - и вы признаете всех
нас колдунами!» Можно представить, что чувствовал, исполняя
изо дня в день свои ужасные обязанности этот человек, полностью
убежденный в невиновности жертв инквизиции и одновременно
постоянно испытывающий на себе, как писал в наши дни в своем
Все сдвинулось
57
романе-эссе «Разбилось л ишь сердце мое» Л.В. Гинзбург, «особую
ненависть сторонников Реформации: святоша, пособник
палачей! На его жизнь покушались, он был тяжело ранен, с трудом
выздоравливал»...
Вместе со Шпе против процессов ведьм протестовали Агриппа
Неттесгейм и Ульрих Молитор. В изданном в 1489 г. немецком
переводе трактата о ведьмах (Schon gesprech von den Onholden)
Молитор назвал колдовство простой фантазией, игрой воображения
(Fantastigkeit und Einbildung). Но непоследовательный Молитор
все-таки утверждал, что «следует и должно убивать этих злых
женщин за их отступничество и ересь и за их ослушание
императорских законов». Гораздо решительнее протестуют во второй
половине XVI в. доктор Иоганн Вейер и священник Корнелий Лоос.
Последний прямо заявил - и, конечно, дорого поплатился за
это, - что процессы ведьм есть своего рода алхимия, посредством
которой из человеческой крови добываются золото и серебро.
По приказу Людовика XVI во французских судах перестали
налагать наказание по обвинению в колдовстве, начиная с 1672 г.
В Англии парламентский акт короля Якова II против
обвиняющихся в волшебстве, колдовстве и магии, или имеющих сношения
с дьяволом, сохранял свою силу до 1736 г. В Германии последняя
ведьма была сожжена в Вюрцбурге в 1749 г., т.е. через 33 года после
смерти Лейбница. Несчастную звали Марией Ренатой Зенгерин,
она была монахиня, 70-летняя старуха. Последняя на немецкой
почве казнь над ведьмой свершилась в 1782 г. в Швейцарии, в Гла-
русе: там служанку Анну Гельден обвинили и обличили в том, что
она посредством колдовства сделала ребенка хромым и заставила
выплевывать булавки; выяснилось, что она накормила дитя
полученным от дьявола волшебным пирожком с булавочным семенем,
которое разрослось в его желудке. Аналогичные процессы над
ведьмами процветали в Польше и Венгрии еще в 1890-х гг. А позже
появились НКВД и гестапо. «Инквизиция умерла -да здравствует
инквизиция!»
Обычно правоверный, веря в религию, блюдет ее обряды, а
еретик - блюдет, но не верит. Как говорит аббат Гитрель в
«Современной истории Франции», еретик, приняв святое крещение,
знает догматы веры, но отступает от них или борется с ними;
таковы, например, ариане, нонациане, полициане, монтанисты, при-
сциллиане, манихеяне, альбигойцы, зельденсы, анабаптисты,
кальвинисты... И подобно тому, как ересь красной нитью прохо-
58
1. Пролог к эпохе
дит через всю историю общества и отнюдь не является
порождением одного только Средневековья, точно также и инквизиция не
ограничена одной лишь эпохой Ренессанса. Там, где есть еретик,
там есть и инквизитор: где жертва, там и палач, где простаки - там
и мошенники. Многообразно изменяясь, ересь и инквизиция,
вероятно, были, есть и будут во все времена и у всех народов. Истоки
веры в индивидуальное колдовство, являющееся антиподом
колдовства общественного, вроде христианской религии или полит-
экономических утопий, выходят далеко за пределы христианства,
они не связаны только с ним и существовали у языческих народов
в глубочайшей древности. Сегодня во всех странах тоже имеются
свои «принятия св. крещения», «догматы веры», формы и средства
традиционной ликвидации инакомыслящих вместе с их
родственниками, детьми и книгами, своя «охота на ведьм и колдунов»,
словом, свои инквизиция и ересь. Уж не бессмертны ли они?..
«Инквизиция не умерла, - писал Митчелл Уилсон в романе "Жизнь во
мгле". - Она глубоко внедрилась в жизнь. Ты можешь быть ее
сторонником или противником, но она все равно следит за тобой».
И место ведьмы на костре может занять священник в газовой
камере. Какой диалектико-технический прогресс!
Еще до 1939 г. нацисты создали шесть крупных концлагерей в
самой Германии, а к 1942 г. в оккупированных ими странах
организовали девять «лагерей смерти». В 1942 году началось
сооружение трех гигантских лагерей - в Риге, Киеве и Бобруйске; кроме
того, были еще «особые лагеря» для малолетних и т.п. Только в
одном из многочисленных комбинатов смерти, Освенциме, на
чугунных воротах которого была надпись «Каждому свое»,
постоянно содержалось от 180 до 250 тыс. заключенных из разных стран:
американцы, англичане, австрийцы, бельгийцы, венгры,
голландцы, греки, датчане, евреи, итальянцы, немцы, поляки, французы,
русские... В каждую из уготованных для них 12 печей и 46 реторт
сваливали от трех до пяти трупов, сгоравших за 20-30 мин. В
полупромышленном масштабе были организованы производство
мыла из человеческих тел, дубление человеческой кожи. Для этого
имелись камеры - хранилища трупов, автоклавы для выварки
жира. В Освенциме погибло свыше 4 млн человек. Даже в страшном
сне это не могло присниться ни первой инквизиции, ни второй...
Воистину, какая тяжесть свалилась, когда начали отгонять этих
гадов от Ленинграда.
Все сдвинулось
59
В середине XX в. издох Гитлер. Народам всего мира тогда
казалось, что фашистская нечисть навсегда сметена с лица земли.
Гнусавой мессы стон протяжный,
И трупный запах роз в церквах -
Весь груз тоски многоэтажной -
Сгинь в очистительных веках!
А. Блок
...К концу XVIII в. под давлением прогрессивной
общественности иезуитов изгоняют из многих стран, а в 1773 г. папской
буллой был упразднен и сам орден. Большую роль в этом сыграли
«Письма» Б. Паскаля, чья насмешка и тонкая ирония, по мнению
памфлетиста начала XX в. Поля Луи де Курье, «совершили то, чего
не могли сделать ни приговоры, ни указы: иезуиты были изгнаны
отовсюду. Легонькие листовки одолели могучее сообщество». Но
напрасно Курье предсказывал, что «поверженный орден уже не
поднимется, какую бы помощь ему не оказывали». Не прошло и
полстолетия после упразднения ордена иезуитов, как в Европе
подняла голову реакция. Аналогично и сегодня вшивые гнезда
грязного неонацизма постепенно начали наливаться
красно-коричневым гноем. Фашизм опять стал нужен, он возрождается
снова. Когда же, наконец, человечество наберется сил, чтобы
осуществить призыв Вольтера: «Раздавите гадину!»
Если правы Эйкен и Меринг, характеризуя иезуитизм как
«доведенную до отрицания индивидуальности господствующую
идею церкви» и «католицизм, реформированный на
капиталистических основаниях», то не является ли современный фашизм в
определенном отношении все тем же самым католицизмом, тем же
римским папством, но реформированным на
империалистических основаниях? Генерал СС Вальтер Шелленберг прямо заявил,
что Гиммлер организовал СС ордена иезуитов, то, что привлекало
его, был вкус иезуитов к организации и традиции безусловного
послушания. Ганс Хайка в своем исследовании истории СС
пишет: «Сходство между ними действительно потрясающее: каждый
является орденом, дающим огромные привилегии своим членам,
неподвластным мирской юрисдикции, строго регулируя условия
приема и держа членов в абсолютно слепом повиновении своему
владыке и господину - Папе и Фюреру». «Фюрер, приказывай -
мы идем за тобой!»
60
1. Пролог к эпохе
Сегодня тоже все совершается manumilitari (при содействии
войск). Военное ремесло тоже своего рода религия: это
мистическое служение, идеальное состояние, в котором пребывают живые
люди реальных профессий, оторванные от дома, семьи, родных
условий. Все слепо идут к неведомой цели. Благоговейно,
целомудренно и серьезно, напрягая свой разум, все идут на
необходимое, таинственное и безумное самопожертвование.
«Gott mit uns» («Бог с нами») было выдавлено на белых, как
смерть, пряжках мертвых гитлеровских солдат. У наших
афганских не было даже и этого...
...Ив желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.
А. Блок
Новые веяния
в философии
«Rerum novus nascifur»
«Рождается новый порядок вещей»
Мир любого ученого и философа XVII—XVIII вв. -
это мир, освобождающийся от господства схоластических пут и
бесплодных аргументаций. По мере того как наука, по выражению
Фонтенеля, «превращалась из философии слов в философию
вещей», философия из науки в целом о словах превращалась в науку о
мире в целом (где мир был объектом, а под целым понималось
некое конечное множество частей). Итак, происходящее в конечном
счете по социально-экономическим причинам обоюдное, взаимно
помогающее высвобождение науки и философии из-под
длительной и тягостной опеки римской церкви было одновременно и
освобождением от засилья схоластики, причем исторически
определенной, так как окончательно и целиком от схоластики человечество,
видимо, вообще не избавится никогда: ее питают гносеологические
и социально-классовые корни, она коренится в весьма общих
особенностях человеческой жизни и мышления.
Схоластика не исчезает. Даже само наше сегодняшнее
отношение к схоластике по крайней мере в трех пунктах схоластично.
Во-первых, материализм и атеизм отнюдь не являются абсолют-
Новые веяния в философии
61
ной гарантией от схоластических рассуждений и действий даже
при социализме, хотя раньше это молчаливо предполагалось.
В о - вт о р ы х, в своем полном и развитом виде схоластика вопреки
ходячему мнению появляется лишь на закате Средних веков и
связана вовсе не со всем Средневековьем вообще, а лишь со зрелым,
отживающим. В-третьих, мнение, будто она всегда оторвана от
жизни и абсолютно никогда и ни в чем не связана с ней,
совершенно неверно и мешает понять происхождение, сущность и
особенности схоластики как явления.
Схоластика, пользуясь выражением В.И. Ленина, сказанным
по другому поводу, есть пустоцвет, растущий на живом древе
познания. Присущий ей отрыв от жизни и практики существует не
во всех отношениях. Его нельзя понимать как извечную
изолированность от них. Схоластика есть нечто нереальное,
умозрительное, пустое, оторванное от жизни, абстрактное именно потому,
что в определенном отношении схоластика сверх всякой меры
переполнена реальным, чувственно-физическим, материальным
содержанием, чересчур тесно связана, слита с практической
жизнью.
Вырастая из нее, схоластика погрязает в ней. Причем
настолько, что можно сказать, схоластика сама и есть эта практическая
жизнь, понимаемая рационалистически, формальнологически и
догматически. Причина, по которой схоластика понимает
практическую реальную жизнь именно таким «трехсторонним» образом,
заключается в следующем. По старой теологической привычке
концентрируя свое внимание и усилия на одном (часто
преувеличиваемом до превращения его в самостоятельную реальность, до
обожествления), схоластика неизбежно опирается главным и
преимущественным образом на метод анализа. Рассматривая это одно
как счетное, конечное множество частей, схоластика вынуждена,
когда от нее требуют ответа, без конца дробить изучаемые объекты
на более мелкие и потому увязать с головой в мелочах, теряться в
бесконечных частностях.
Ничего или почти ничего не видя и не понимая из-за такой
своей «связи с жизнью», схоластика не имеет возможности
получить связное представление о целостности, содержании,
взаимодействии, взаимосвязи и взаимообусловленности (единстве) и
сущности изучаемого объекта. Это приводит к роковым
последствиям, которые, собственно, и делают схоластику схоластикой, ибо
62
1. Пролог к эпохе
обрекают ее выдавать явление за сущность, частное, отдельное за
общее (всеобщее), решать частные вопросы без предварительного
решения общих; изучать объекты своего исследования
поверхностно, формально.
Поступая так, схоластика, чтобы все-таки получить
представление о целостности, содержании, единстве и сущности того, что
она изучает, вынуждена, во-первых, изучать целостность,
содержание и т.п. не самого исследуемого объекта, а его образа.
Подменив изучаемую реальность своей мыслью о ней, т.е. реальный
объект его субъективным образом (или общим понятием,
логической конструкцией, математической формулой, расхожим
мнением), а также, как говорилось, концентрируя свое внимание и
усилие на одном, опираясь на анализ и только на него, схоластика
навсегда связывает свою судьбу с рационализмом и формальной
логикой. Она не только тонет в частностях и деталях, но и
методологически исходит из одностороннего представления о познании
как только лишь мысленном, умозрительном и абстрактном
отвлечении от реальной действительности; отбрасывает
чувственную ступень познания и сводит все познание только к одной
логической (или рациональной) ступени познания, к одному процессу
отвлечения. Поэтому схоластика неизбежно превращает себя и
свои знания в нечто умозрительное, отвлеченное, делает себя
бесплодным и бессодержательным умствованием, становится пустой
игрой слов.
Во-вторых, будучи неспособной решить вопрос о
целостности, содержании, единстве и сущности изучаемого объекта,
схоластика не только подменяет этот объект его идеальным образом, но
и препоручает решение этого вопроса «идеальным»,
«сверхъестественным» для невежественного человека природным и
общественным силам - богу, государям, администрации и прочему
начальству. Подменив объект его образом, знание (объекта) -
слепой верой (в его образ) в авторитеты, в установленную свыше
догму (не обязательно религиозную), схоластика связывает свою
судьбу с догматизмом и религией.
Схоластика, или, как говорят, начетничество и талмудизм, -
это дочь метафизики и родная сестра идеализма и религии в ее не-
вероисповеданном, а потому наихудшем, наиболее
рафинированном виде. Схоластика - это шаг навстречу идеализму, слепой вере
(догматизму, религии) и метафизике, опасный тем более, что от
него ничуть не застрахованы непоследовательные материалисты и
Новые веяния в философии
63
атеисты. Если идеализм и религия суть в определенном
отношении односторонние, ограниченные, хотя и различные подходы к
познанию сущности (субстанции) действительности, а
метафизика столь же односторонний, ограниченный подход к
познанию развития действительности, то схоластика - метафизический
подход к развитию познания об этой действительности, к развитию
нашего знания о ней; это метафизика в теории познания или один
из продуктов метафизики, частный случай метафизического
подхода вообще.
Аналогично тому, как быть последовательным
материалистом неизбежно означает быть материалистом-диалектиком,
диалектическим материалистом, а быть последовательным
идеалистом значит непременно быть идеалистом-метафизиком, так
последовательная схоластика по существу и в конечном счете
есть идеализм, слепая вера (догматизм, религия) и метафизика
(как одна из двух концепций развития). Наоборот, быть
последовательно идеалистически и материалистически мыслящим и
слепо верующим (в догму, в бога) человеком - значит так или иначе
обязательно рассуждать схоластически, заниматься
схоластикой. Идеализм и религия в определенном отношении суть
разные частные случаи метафизики и схоластики так же, как
метафизика и схоластика в определенных отношениях суть частные
случаи идеализма и религии.
Союз схоластики с рационализмом, формальной логикой,
догматизмом, религией, идеализмом и метафизикой не устраняет
и не компенсирует основного недостатка схоластики - ее
мелочности, фрагментарности, формалистичности. Он лишь загоняет
этот родовой недостаток схоластики в глубь ее самой, делает его
схоластической «вещью в себе», неприкасаемой для критики и
гласного обсуждения, накладывает на него табу.
Вследствие этого схоластика, не переставая быть
умозрительной и бесплодной, остается противоречивой, раздвоенной.
Например, ей присуща помимо обычной, свойственной
человеческому познанию абстрактности совершенно другая, особого рода
абстрактность, которую можно назвать схоластической.
Несколько слов о первой. Подобно тому, как не все субъективное
обязательно субъективно в смысле «ложно», «произвольно», так и
всякая умозрительность, абстрактность бесплодны, схоластичны.
Сами по себе они естественно присуши всем людям и их знаниям,
порождены необходимой для познания общеродовой человече-
64
1. Пролог к эпохе
ской потребностью обязательно обозреть объект в целом,
непременно во всей его полноте и всеобщности, всесторонности.
Такого рода абстрактность (и абстракции) представляет собой не
сущность познания, не его самодовлеющую конечную цель, а лишь
его исчезающий, преходящий момент; это всего лишь одно из
многих средств мышления, восходящего от абстрактного к
конкретному; это мысленное отвлечение от несущественного в
изучаемом объекте и выделение в нем основного, общего,
существенного. Обычная умозрительность, абстрактность обеспечивает
относительную полноту охвата сущности изучаемого объекта тем,
что методологически исходит из диалектически полного
представления о процессе познания. Согласно такому представлению,
умозрительность, абстрактность реально существуют в познании
в диалектическом единстве (тождестве) и борьбе со своей
противоположностью - чувственностью, конкретностью, поскольку в
рамках познания наряду с логической (или рациональной)
ступенью познания существует противоположная ей чувственная
ступень.
Схоластическая умозрительность, абстрактность не
обеспечивает полноты охвата сущности изучаемого объекта, так как
умозрительное, абстрактное представление о нем деформируется,
искажается вследствие категорического отказа схоластики от
чувственной ступени познания и вообще от диалектики в познании.
Абстрактность становится от этого внутренне неполноценной,
кастрированной; из обычной, естественной для человека она
превращается в схоластическую абстрактность. Такая изменившаяся
абстрактность существенно влияет на само знание, делает его
чисто понятийным, бедным, неразвитым, короче говоря,
схоластическим. Такое знание, конечно, способно к мысленному развитию
(точнее к саморазрастанию) и может достичь высокой
искусственной цельности и полноты в своем самосовершенствовании как
бесконечном самоотражении. Схоластика обожает «системы»,
несмотря на то что в действительности она способна отразить всего
лишь отдельные, частные, фрагментарные, произвольно
связанные или не связанные между собой особенности изучаемого
объекта. Эти особенности, вырванные из конкретной взаимосвязи,
суть лишь отдельные моменты, фрагменты конкретного,
чувственного, живого, жизненно реального.
Схоластическая умозрительность, абстрактность знания есть
первый признак его ложности, оторванности от жизни, практи-
Новые веяния в философии
65
ки. В каждодневной жизни это особенно наглядно выражается в
желании решать частные вопросы, не решив общих; в умении
профессионально болтать, но неумении и сознательном
нежелании профессионально и добросовестно работать. Схоластика -
прекрасная ширма, чтобы надежно скрыть нелюбовь к своему
делу и вообще ко всему, кроме себя, скрыть свой низкий
моральный уровень и, как следствие этого, свою низкую человеческую и
профессиональную ценность работника; схоластика - это самая
низшая, крайняя ступень его индивидуального и социального
падения как личности, высшее проявление человеческого
двоедушия.
Противоречивость схоластики выражается и в том, что, по-
грязнув в жизни, а потому по-схоластически умозрительно,
абстрактно, односторонне относясь к ней, схоластика все менее может
вырваться из объятий мелочной эмпирии и все глубже в ней тонет.
И, таким образом, на деле полностью отдавшись чувствам (в своем
отношении к действительности), схоластика на словах полностью
отрекается от чувств. Высокомерно отдавая предпочтение
рассудку, опустевшему вследствие отказа от чувств, схоластика
закрывает глаза на то, что ее мир - это «непосредственный мир
чувственной природы» (Г. Гегель). А потому, сидя в болоте эмпирии и в
качестве пустого рассудка верующего (в пустоту) человека,
схоластика, будучи не в состоянии изучать реальную
действительность, которая ее поглощала, вынуждена заменить эту
действительность ее опредмеченным религиозным духом - этостью.
Отличительная черта схоластики в том, что она насквозь заражена
этостью, как старый меч ржавчиной. Для схоластики, писал
Гегель, «этот мир был только гробом Бога, а Бог находился вне этого
мира. Мир природы был также мертв: оживленный лишь светом
загробного мира и надеждой, он не имел настоящего; напрасно
пытались вдвинуть между ними: ангелов, Марию, покойников,
живущих в потустороннем мире. Примирение (между
субъективным, индивидуальным и религиозным. - Л.П.) было
формальным, несамостоятельным, ибо оно было лишь страстной тоской
человека по удовлетворению лишь в другом мире». Предпочтение
этости вещизму, пренебрежение настоящим временем и реальной
жизнью, природой, забвение последних ради будущего, в том
числе загробного или обещаемого мира, а также абсолютная
сакрально-утилитарная рассудочность в качестве особого религиозного
рационализма - одна из существенных черт и древней, и совре-
66
1. Пролог к эпохе
менной схоластики. Одним из многочисленных ее проявлений
выступает попытка выдать желаемое будущее за уже
существующее или как якобы уже пройденный этап.
Руководствуясь в познании так или иначе отдельным,
частным, единичным, схоластика как бы сама загнала себя в глубь
изучаемого объекта, растворилась в нем. Но наряду с этим сохранила
желание, естественное для любого знания и познания, воспарить
духом, свободно и без ограничений постичь изучаемый объект во
всей его глубине, всеобщности и полноте, получить общую
целостную картину сущности этого объекта. Трагедия схоластики в
пересечении этих двух необходимостей, ибо, находясь внутри живой
эмпирической реальности, а потому сама себе плотно закрыв путь
к ее познанию, схоластика вынуждена довольствоваться не
удовлетворяющей ее свободой воспарить духом по мелочам, или
мелочной свободой, духовной «мелочовкой». Иначе говоря,
схоластика - эта, по выражению Гегеля, «форма пустого рассудка»,
«лишенная всякого реального содержания», «варварская
философия рассудка» - по необходимости вынуждена вертеться «лишь в
беспочвенных сочетаниях категорий». «Схоластика всецело
является блужданием сухого рассудка в ветвистом лесу северной
германской природы». Насчет «северной германской природы»
Гегель ошибся. Если схоластика и связана с лесом, то лишь тогда,
когда его не видят или не желают видеть из-за деревьев. Причем
любых, а не только ветвистых или северогерманских. Не
ограниченная ни севером, ни югом, ни западом, ни востоком, ни
прошлым, ни настоящим, ни будущим, схоластика не исчезает.
Исторически видоизменяясь, порождаемая каждый раз другими и в то
же время одними и теми же условиями, она интернациональна и
космополитична. Но мы в силах свести ее к минимуму или
наоборот; правда лишь в той мере, в какой от нас самих, от каждого из
нас зависит ликвидация (или создание, укрепление) объективных
и субъективных условий для возникновения и существования
схоластики.
Сама насквозь поверхностная, схематизированная,
эгоистическая, недальновидная, невежественная, бескультурная,
превозносящая легко запоминающиеся «простые», но звучные и
чеканные формулировки, тяготеющая к авторитетам, к
бюрократическому, канцелярски подъяческому стилю работы и мышления, с
упоением играющая в дефиниции, полная слепой веры,
догматических предрассудков и суеверия, схоластика неизбежно возника-
Новые веяния в философии
67
еттам, где преклоняются, где проявляются родные ее сердцу
догматизм, рационализм, метафизика, независимо от того,
выражаются ли они в религии или философии, в политике или науке и
других формах общественного сознания, в общественной
психологии или идеологии, в недооценке общего, теоретического,
умозрительного или переоценке частностей и роли чувственного в
познании, в подмене настоящего будущем и т.д. и т.п.
Философия во времена Лейбница не знала, как относиться к
схоластике: рассудочная сторона последней ее привлекала, а
религиозная - отталкивала. Ведь разум и вера суть в известном
смысле противоположности. Не понимая себя, что всегда в духе
времени, философия как aneillam theologiae (служанка
богословия) работала на церковь сначала искренно, бесплатно и долго, а
потом лишь временно и по найму. В конце концов ей стало ясно,
что философ, по словам Шопенгауэра, должен быть неверующим:
чтобы верить, не надо быть философом; тем более что для него
откровения ничего не стоят.
К счастью, после того как в Германии свобода духа была
извлечена из Библии, а та из-под задницы папы римского,
основанная на этой процедуре протестантская ересь неизбежно
породила немецкую философию. Утвердив за разумом право
истолковать Библию, Лютер признал его верховным судьей во всех
религиозных разногласиях. Но тем самым Лютер, сам не
осознавая того, косвенно разрешил разуму свободу в толковании
природы и открыл ему возможность быть верховным судьей во всех
разногласиях - научных и философских. Именно со времени
Лютера «начали без стеснения и страха посреди базарной
площади препираться о религии на родном, немецком языке. Князья,
ставшие на сторону Реформации, узаконили эту свободу мысли,
и ее венцом, имеющим мировое значение, - гордо писал
Гейне, - является немецкая философия», которая «теперь ставит
себя рядом с протестантской церковью и даже выше ее, является
все же ее дочерью».
Но с точки зрения религии любая, даже дочерняя связь
философии с религией является противоестественной. Ведь с момента
образования такой связи и независимо от того, образовалась ли эта
связь, потому что философия желает укрепить, обосновать
религию, либо из-за того, что религия ищет помощи у философии, дни
Религии сочтены. «Ее гибель становится неотвратимой. Она
пытается защититься и гибнет, погружаясь все больше в пустые слово-
68
1. Пролог к эпохе
прения», поэтому, писал Гейне, религия, как и всякий
абсолютизм, не должна оправдываться, она должна быть немой. Заставив
религию заговорить, философия вынудила религию держать ответ
перед нами. «Мама» не должна была обращаться к «дочери» за
поддержкой?.. «Да и зачем, - иронизировал Шопенгауэр, - нужна
религии поддержка философских систем? И так ведь все на ее
стороне: откровение, писание, чудеса, пророчества,
правительственная охрана, высший почет... дружная армия жрецов и - что самое
главное - неоценимое право внедрять свои учения в пору нежного
детства, вследствие чего они становятся как бы врожденными
идеями».
Взаимоотношения немецкой философии, в том числе
Лейбница, с протестантской религией имеют пока семейный характер.
Это их внутреннее, скрываемое от постороннего глаза, но жиз-
ненноважное семейное дело со всеми вытекающими для обеих
сторон последствиями. Это был тот деликатный случай, когда,
продолжая почитать родителей, дети уже не во всем слушаются их.
Но благодаря решительному повороту в науке, все более
проявляется дух в философии; к половине столетия он определяется
окончательно. В начале XVIII в., при Лейбнице, философия более или
менее лишена схоластики и в ней отсутствует прежняя
религиозно-мистическая насыщенность. Это прежде всего
натурфилософия, покинувшая стены школ, монастырей и университетов, в
которых нашла свое последнее прибежище схоластика, и вышедшая
на природу, в мир реальной практической жизни. Не случайно
Лейбниц всю жизнь сохранял отвращение к затхлому
университетскому миру.
Философия Нового времени была обоснована не
кафедральными учеными. Р. Декарт, например, служил в молодости при
Тиле, И. Ньютон был директором Монетного двора, Дж. Локк -
представитель торговой палаты, Т. Гоббс работал домашним
учителем у английских феодалов, Б. Спиноза жил своим ремеслом
шлифовальщика линз, Лейбниц рано избрал профессию адвоката.
Поэтому философия Нового времени - это философия
совместителей, теоретиков и практиков в одном лице. Философ этого
времени совершенно непохож на тех, которых привыкли видеть
прежде под капюшоном монаха или в мантии профессора. Например,
Декарт, старший современник Лейбница, умерший через четыре
года после рождения последнего, - это не доктор теологии, а
блестящий офицер, проводящий дни в салонах за светскими беседа-
Новые веяния в философии
69
ми, а ночи за математическими исследованиями и физическими
опытами. И, так же как я сомневаюсь в этом, Декарт, сомневаясь
во всем и с презрением отбрасывая старую книжную мудрость,
учит нас находить принципы жизни в самом живом существе, а
принципы первой философии, истоки любой философии - в
непосредственных данных личного сознания. Картезианство,
отвергая схоластику и выдвигая на первый план математику,
физику, логику и анатомию, стало прообразом позитивизма XIX в. и
вызвало такой общественный резонанс, что своей новизной
испугало не только тех, которые, по выражению Герье,
«самодовольством жили в мире субстанциональных форм», т.е.
идеалистов-платоников, но также государство и церковь.
Когда Лейбницу исполнилось 25 лет, в 1671 г., архиепископ
Парижский передал университету приказ короля исключить из
университетского образования всякое новое учение,
отступающее от общепринятого (как это знакомо!). Все факультеты тотчас
дружно поспешили изъявить свою покорность и рвение в
преследовании и ликвидации всяческой новизны. Университет готовил
прошение в парламент о запрещении «распространять учение
Декарта в пределах королевства под страхом строгих
наказаний»,.. С неприкрытой горечью рассказывал во второй половине
XIX в. об этом Герье, ибо в качестве завкафедрой всеобщей
истории в МГУ он был, несомненно, знаком с аналогичными
порядками университетской жизни царской России, которые очень
живучи.
Но ввиду сильного общественного протеста, возбужденного
сатирами выступивших в защиту картезианства поэтов Ж. Расина,
Л. Бернье и Д.Н. Буало, университет Парижа воздержался от
своего намерения и постановление парламента не состоялось.
Однако картезианство продолжали преследовать с еще большей силой
в других отношениях. Его сторонников изгоняли, заставляли
публично отмежевываться (тогда говорили «отрекаться») от своих
взглядов, лишали привилегий и степеней или не допускали к ним,
как это происходило, например, в Каннском университете на
богословском факультете в 1677 г.; отнимали кафедру и переводили
в провинцию, как это случилось с картезианцем Бернардом
(Франсуа?) Леми; лишали права проповедовать и обучать, считали
атеистами и еретиками, только что не врагами народа и шпионами
«в пользу иностранного государства». Отверженный
университетами картезианизм нашел убежише в ученых обществах, которые
70
1. Пролог к эпохе
начали повсеместно организовываться: только в Париже их
насчитывалось около 12; то же происходило и в Англии.
Но в качестве нелегальной ученой секты картезианство
просуществовало недолго. Скоро оно вышло из подполья и, сохранив
свой сектантский характер, стало в свою очередь само
преследовать и притеснять инакомыслящих, да так, что перещеголяло
своих бывших угнетателей. Картезианство, подобно христианству
или другой мировой религии (напомню, что Н. Бердяев называл
марксизм «последней мировой религией»), - прекрасный пример
такого учения, которое из гонимого неизбежно становится
гонителем. Вытеснив даже авторитет Аристотеля, картезианство
превратилось в неприкосновенную догму, в бич всего нового в науке
и философии. Лейбниц смело выступил против этого в учении
Декарта, против такого картезианства, против культа личности
самого Декарта и сектантской ограниченности приверженцев этого
учения. «Признаюсь, что меньше всего могу назвать себя
картезианцем», - писал он, хотя в общем нельзя отрицать, что Декарт был
непосредственным предшественником Лейбница. Дуалист
Декарт в качеств «отца» (по выражению Гейне) вместе со своим
«первым сыном» (материалистом Л окком), «вторым сыном»
(материалистом Спинозой), чьи недостатки были естественным
продолжением достоинств «отца», и многочисленными, разбросанными по
античному миру и давно умершими родственниками
(Демокритом, Платоном, Аристотелем и Эпикуром), образуют то
историко-философское «семейство», в котором вырос «третий сын», а
именно идеалист Лейбниц. Однако в целом на него и немецкую
философию картезианство не оказало существенного влияния
из-за сравнительной отсталости Германии в математических и
физических науках, а также из-за исконного ее нерасположения к
материализму, выразившегося в том, что Германия на
протяжении полутора веков была подлинной ареной идеализма. Тем не
менее, как справедливо писал Гейне, «немцы тоже учились в
школе Декарта, и великого ученика его звали Готфрид Вильгельм
Лейбниц»... С Лейбницем расцвело великое рвение немцев к
изучению философии.
Один из современных последователей теории систем писал,
что «никто не может быть современным Лейбницем» потому, что
объем нынешних знаний слишком обширен и «возникла
пропасть между естественными науками и философией» (А.
Раппопорт). Это неверно: обширность знания универсалистам Лейб-
Новые веяния в естествознании
71
ницам не страшна, и дело вовсе не в этой пропасти, которой в
действительности нет и никогда не было, а в пропасти между
материализмом и идеализмом в душе самого философа, в его
раздвоенности... «В средние века в народе существовало поверье,
что когда собираются строить здание, то необходимо зарезать
что-нибудь живое и на крови его заложить первый камень, тогда
здание будет стоять твердо и нерушимо», - писал Гейне. Но
прекрасно изложив свое понимание учения Лейбница, он не
упомянул, что система этого мышления стоит на его крови; на
двойственной, внутренне противоречивой, т.е. теологически и
теоретически этой системой обоснованной и ею же загубленной его
жизни и личности.
Никоим образом не предваряя содержания и основных
выводов этой книги (главное и так ясно из ее названия), я хочу ниже в
самых общих чертах и приблизительно раскрыть лишь те наиболее
общие особенности раздвоенности личности Лейбница, которые
в конечном счете вытекают из особенностей его исторически
определенной социальной действительности и могут понадобиться
читателю для лучшего понимания дальнейшего изложения
учения этого философа, его судьбы и места в истории.
Новые веяния
в естествознании
...Все пришло в брожение; но бродило еще старое, чтобы затем,
перебродив и осев, дать из себя начало новой жизни и новому
мировоззрению.
И. Иваицоа
Внутри такого многовекового сдвига, как переход
от феодального строя к капиталистическому, можно наблюдать,
как я уже говорил, сравнительно небольшой по времени (с 1680 по
1715 г.) сдвиг в европейском общественном сознании, прежде
всего научном, - полностью приходящийся на время жизни
Лейбница. Сознание людей до самых глубин своего существования
стронулось очевидным для всех изменением, природа которого
недостаточно ясна. Это изменение В. Дильтей и Э. Кассирер толковали
как «образование нового аналитического духа (или ума,
умонастроения)». Действительно, такое «образование» было ничем
72
1. Пролог к эпохе
иным, как перестройкой европейского духа. Тяготея к столь
родственному Средним векам старому, еще аристотелевскому
формально-логическому направлению мысли, новое мышление стало
еше далее его развивать и обогащать средствами и
приобретениями Нового времени. Так возник, не без усилия главным образом
Лейбница, новый образ мысли, ставший неоценимым
инструментом познания в XX в., а именно: формально-логический и
математический рационализм, который очень скоро вышел далеко за
пределы собственно логики и математики как научных дисциплин.
Лишь сегодня, во времена своего абсолютного господства не
только в умах, но, к сожалению, и в сердцах людей, он стал
обнаруживать свою научную недостаточность и пагубное влияние на
нравственность и чувства людей.
Предпосылки образования нового
аналитически-рационалистического духа в науке лежали за ее пределами и были связаны с
Реформацией. Оказавшая на Лейбница существенное влияние ре-
формационная эпоха изменила религиозные основы
европейского мировоззрения и всю общественную атмосферу. Юридическим
доказательством признания этого факта даже римской курией
стал нововведенный, так называемый грегорианский календарь.
Ранее, по юлианскому календарю, год начинался с 25 марта.
Вынужденный устранить расхождение церковного календаря с
астрономическим, папа Григорий XIII, в миру Уго Бонкомпаньи
(1502—1585), ярый гонитель протестантов, издал 24 февраля
1582 г. буллу об исправлении календаря, который стали именовать
грегорианским. Теперь новый год начинался с 1 января. Новый
календарь был сразу же принят, за исключением православной
России, Швеции и Великобритании (в последней его ввели с 1
января 1752 г.). О необходимости его принять одним из первых
заговорил университетский учитель молодого Лейбница - иенский
профессор математики Эдгард Вейгель, с которым мы еще
встретимся. С целью исправления ошибок в новом календаре Лейбниц
вступил в переписку с лучшими астрономами того времени:
О. Рёмером, Ф. Бианкини и др., а также с Парижской академией
наук. Он же в 1690-х гг. предложил использовать прибыль от
издания в Берлине нового календаря на создание Берлинской
академии наук и строительство обсерватории.
Принятие нового календаря - вынужденное церковью
признание того, что все в обществе сдвинулось, пришло в движение;
что между ней и естественными науками имеется некое рассогла-
Новые веяния в естествознании
73
сование, которое более невозможно ни устранить молитвой,
огнем или мечом, ни не заметить. Отстав от развития науки, церковь
отступилась от нее и не могла столь систематически карать
инакомыслящих ученых, как раньше. Со своей стороны наука если не
де-юре, то де-факто отвоевала у религии себе право на отчасти
свободную мысль или по крайней мере на терпимость к личному,
индивидуальному мнению, и этого права теперь у нее было не
отнять. Свобода духа, или, как ее также называли, свобода мысли,
появилась в XVI в. лишь потому, что, утвердив за разумом право
толковать Библию, Лютер тем самым был вынужден признать
разум верховным судьей во всех религиозных и нерелигиозных
разногласиях.
II Мышление сделалось правом, и права разума были узаконены.
Правда, уже в течение нескольких столетий можно было мыслить и
говорить довольно свободно, и схоластики спорили о таких вещах, что нам
даже не понятно, как можно было произносить названия таких вещей
в средние века. Но все это... совершалось исключительно в стенах
университетских аудиторий на готически темной латыни, совершенно
непонятной народу, так что церковь от этого мало могла пострадать.
Ктому же церковь никогда, собственно, не разрешала подобных
начинаний и время от времени сжигала какого-нибудь злополучного схо-
|| ластика. (Г. Гейне)
Однако борьба не велась до конца. «Это было вооруженное
перемирие...» (Дрэпер), в котором попеременно одерживала верх то
одна сторона, то другая. Корни этого взаимопроникающего
противостояния уходят далеко в прошлое. Вследствие вооруженного
перемирия между религией и наукой создавалась атмосфера
теистического механизма соединения основных догматов церкви с
представлением о мире как огромной машине, сотворенной
божественным Механиком. Лейбниц основывался на этом, как бы в
частностях своего учения он не отличался от Декарта, П. Гассенди,
Ньютона. Такое мировоззрение - очередная вынужденная
уступка науке со стороны церкви. Первая уступка, вероятно, была
сделана за 4-5 столетий до рождения нашего героя, в ХН-ХШ вв.,
когда впервые появляется эксперимент как инструмент и примета
всякой действительно научной деятельности. Он с громадным
трудом отвоевывает у теологии и церкви право на свое
существование в условиях, когда для верующих «все пути к истинной
сущности и жизни природы наглухо забиты, - писал Шопенгауэр... -
Бог, дьявол, ангелы и демоны скрывают природу от глаз ученых».
74
1. Пролог к эпохе
В этих условиях наиболее ранней предпосылкой новых веяний
в естествознании было «восстание философа», олицетворившее
быстро распространяющееся стремление к опытному
исследованию. Наиболее ярко оно воплотилось в учениях доминиканца
Альберта Великого (род. в 1193 г.), Роджера Бэкона (род. в 1214 г.),
Раймунда Луллия (род. в 1234 г.), первых алхимиков XV в.: Гвидо-
на де Монтанора, Клеопинеля, Ортолиана, Бернара де Трев,
англичанина Ричарда Варфоломея, Эка Зульцбаха, алхимика и поэта
Авгурелли, Вейгеля Валентина и др. Уже во второй половине
XVI в., по словам Рабле, «науки восстановлены, возрождены
языки: греческий, не зная которого человек не имеет права считать
себя ученым, еврейский, халдейский, латинский. Ныне в ходу
изящное и исправленное тиснение, изобретенное в мое время по
внушению бога, тогда как пушки были выдуманы по наущению
дьявола». Постепенно тяжелые фолианты отступают на задний
план, их вытесняет более удобное ин кварто. Появляются первые
газеты, германские реляции, брошюры или летучие листки,
календари и каталоги XVI в., а вместе с ними и первые цензурные
указы. Вольности, допускаемые в книжках, журналах, а также
памфлеты, карикатуры и вообще вся газетная печать очень скоро
настолько возбудили неудовольствие правительственных особ,
что германский император Карл V на Аугсбургском сейме (1530),
за 16 лет до рождения Лейбница, постановил «дабы впредь ничего
нового, и особенно никаких памфлетов и картин (карикатур), ни
явно, ни тайно, не печаталось и не продавалось иначе, как по
освидетельствованию назначенными от... духовных и светских
властей разумными лицами, чтобы на них надлежащим образом были
выставлены имя типографщика и город, где напечатано, а буде
сего не сделано, к напечатанию и продаже не допускать.
Напечатанные же до сего времени подобные памфлеты и другие сочинения
должны быть изъяты из жизни. Буде сочинитель, типографщик
или продавец нарушит сие наше повеление, то должны быть от
предержателей власти, смотря по обстоятельствам, наказаны или
оштрафованы...»
Меняется самый способ общения между учеными.
Усиливается и расширяется переписка: в такое оживленное время каждому
есть, чем поделиться, а со второй половины XVII в. появляются
ученые журналы. Остановлюсь только на имеющем отношение к
Лейбницу первом ученом журнале «Journaledes Savants», который
в 1665 г. основал во Франции любитель литературы Dennis de Ealle.
Новые веяния в естествознании
75
Правда, ему не повезло: через несколько номеров журнал
переменил название на Eieur de Hedonville, по доносу из Рима с номера 13
была отнята привилегия, а в 1669 г. издатель журнала умер в
долгах. Журнал был возобновлен аббатом Галуа, который был явно
несимпатичен Лейбницу, судя по письму последнего из Парижа.
После Галуа журнал с 1685 по 1687 г. вел аббат de la Rocque, а с 1687
по 1702 г. - президент Кузен. По образцу этого журнала в
Германии лейпцигские профессора, возможно, знакомые Лейбницу по
университету (1661-1666), основали в 1683 г. «Acta Eruditorum» во
главе с Отто Менкеном. Но этот ученый журнал, порой
публиковавший работы Лейбница, занимался «только завиванием ученых
париков», по выражению Шерра, выходил на латинском языке, а
потому «мог быть годен исключительно для ученых». Гораздо
большее значение для немецкой культуры имели издания для
широких слоев населения, в том числе основанный в 1688 г., т.е. уже
при Лейбнице, родственником его любимого учителя и
основоположником немецкой литературной журналистики Христианом
Томазием журнал «Ежемесячные беседы, в которых излагаются
шутливые и серьезные, разумные и простоватые мысли о всякого
рода полезных книгах и вопросах». В одной из опубликованных в
нем сатир Томазий так высмеял ученый педантизм университетов
своего времени на примере факультетов Галльского университета,
что его ученый совет постановил: поскольку эти факультеты были
основаны и возлюблены высокими предками Его Курфюршеской
Светлости, то сей пасквиль есть осмеяние этих предков и самого
Курфюрста, поэтому Томазия должно судить как оскорбителя
Величества и бунтовщика. Не имевшее, к счастью, последствий это
постановление, по мнению Шерра, «заслуживает внимания,
потому что превосходно характеризует немецких ученых того
времени». Но разве исключительно одних немецких? Разве только
ученых? И разве лишь только того времени? «Теперь у нас все чины и
сословия так раздражены, - писал Гегель, - что все, что ни есть в
печатной книге, уже кажется им личностью: таково уж, видно,
расположенье в воздухе».
Публичные диспуты, на которых ученый защищал свои,
почерпнутые из книг тезисы, уступают место новой форме
совместной работы - основываются ученые общества и академии.
В 1603 г. появляется Academia de Lyneei, в 1657 г., когда Лейбницу
исполнилось 17 лет, - Academia del Climento, в 1660 г. -
Королевское общество в Лондоне, которое впоследствии так несправедли-
76
1. Пролог к эпохе
во обошлось со своим членом, Лейбницем, в 1666 г. - Академия
наук в Париже, в 1652 г. - немецкая Academia Naturae Curiosorum,
впоследствии Caesaro-Leopoldinae. В 1700 г. стараниями
Лейбница была создана Берлинская академия наук. В науках,
особенно естественно-математических, «в XVII—XVIII столетиях немцы
были опережены западными нациями, но впоследствии
сравнялись с ними...», - писал один из историков, разумеется, немецких.
Одновременно творения древних перестают удовлетворять
ученый мир. В Италии угасает интерес к гуманистическому
образованию, клонится к упадку ученость в смысле традиционного
знакомства с писателями древности, доверие к их авторитету.
«Из-под руки древних от них освобождались», - писал известный
историк Л. фон Ранке, - ибо «творения древних не обнимали уже
науку». Словом, кривая интереса к древним и обращения к ним за
помощью ползла вниз по мере того, как науки Нового времени
набирались сил в теории и практике. Все это означало наступление
поры, крайне благоприятной для научного свободомыслия, и
потому следовало ожидать ответного хода римской церкви. И она
дала его к концу XVI - началу XVII в. Началось преследование ереси
в гораздо более широких масштабах. Если ранее оно
концентрировалось на вопросах верования, то теперь распространилось с
них на вопросы знания. Сожжение в Риме в феврале 1600 г.
Дж. Бруно было фактом знаменательным и очень важным. Оно
стало предвестием столкновения авторитета богословов с
аргументами точной науки, разыгравшегося в преследовании и
процессе Галилея. Но сопротивление римской церкви оказалось
бесполезным перед лицом всесокрушающего «девятого вала»
науки.
Какой еще век мог похвалиться такой плеядой выдающихся
мыслителей и ученых, как XVII в. - век Лейбница! Галилей дает
образец изучения природы своими синтетическими
исследованиями, объединившими математический метод и эксперимент.
Ближайший последователь его - Э. Торричелли, открыв давление
воздуха, изобрел барометр. X. Гюйгенс, с которым Лейбниц был
дружен, исследует законы маятника и развивает галилеевскую
механику. Паскаль, чьи математические труды помогли Лейбницу
открыть исчисление бесконечно малых, изучает равновесие
жидкостей. О. фон Герике создает воздушный насос. Э. Мариотт и
Р. Бойль открывают основной закон газов. Наконец, Ньютон
устанавливает основные законы движения и всеобщий принцип тя-
Новые веяния в естествознании
77
готения, впервые объединив движение земных и небесных тел.
Ньютон и Декарт, закладывая основы оптики, вводят
представление об эфире (для объяснения дальнодействия тел) и истечении
частиц света. Декарт, кроме того, создает аналитическую
геометрию, П. Ферма - теорию чисел. В завершение всего Ньютон и
Лейбниц независимо друг от друга открывают исчисление
бесконечно малых. Алхимия, которой до последнего часа своей жизни
интересовался Лейбниц, из совокупности приемов технического
и медицинского искусства, превратилась в химию трудами Бойля,
И.И.Бехераидр.
В физиологии У. Гарвей открывает кровообращение, М. Маль-
пиги наблюдает его под новооткрытым микроскопом, который
применяют также для изучения микроорганизмов. М. Мальпиги и
Н. Грю, описав растительные клетки, создают анатомию
растений, закладывая основы цитологии. Левенгук, чьими опытами так
восхищался Лейбниц, описал семенные тела и кровяные шарики.
Примечательно, что теоретическая медицина XVII в. считала
живой организм механическим автоматом, приводимым в движение
особыми тонкими материальными «духами» (по-греч. spiritus).
Представления о дыхании («духе») как животворном начале
прослеживаются еще в египетской и древнеиндийской медицине (ср.
в последней о «пране» и важной роли дыхания у йогов), а также в
античной, пневматической физиологии последователей
Гиппократа, Аристотеля и Галена. В XVII в. Ян Баптист ван Гельмонт и
Делебое Сильвий возглавляли школу так называемых иатрохими-
ков или химиатров. Ее взгляды разделял и развивал Декарт в «Raite
del home», опубликованном уже после его смерти.
Более того, уже делались робкие, застенчивые и случайные
шажки к сближению науки с производством, практикой жизни.
Во всяком случае, образованная аристократическая публика, по
словам Себастьяна Мерсье, считала производственную тематику
настолько увлекательной, что не в пример сегодняшней с
увлечением зачитывалась описанием производства и средств
производства в литературе: «...Сколько разнообразия вносят ткацкий
станок, молоток, весы, наугольник, квадрат, ножницы... Как?
Читают с увлечением техническое описание ремесел, а человек,
который измышляет эти остроумные машины, который управляет
ими, не будет интересен? Это чудесное разнообразие индустрии,
взглядов, образа мыслей кажутся мне во сто крат увлекательнее,
78
1. Пролог к эпохе
чем пошлости маркизов... на самом деле... не имеющих и сотой
доли ума, которым обладает честный ремесленник».
Рука об руку с развитием науки развивались и первые образцы
того, как ей надо мешать. Например, враги Галилея утверждали
после открытия им трех спутников Юпитера (1610), что так как
«мнимые спутники не видимы невооруженному глазу, то они
должны быть бесполезны, а будучи бесполезны, они не могут
существовать». Выступая в XVIII в. на заседании французской
академии наук, А.Л. Лавуазье объявил антинаучным сообщение о
падении метеорита, поскольку, объяснил он, «камни с неба падать
не могут, потому что на небе нет камней!»
...Нарождалась наука, являющаяся новой не только потому,
что она возникла и развивалась вне стен школ и монастырей, и
даже не потому что в основе ее лежали новые принципы опытной
проверки и постоянного сомнения в выводах, между тем как
схоластика целиком и полностью основана на догмах и авторитете, а
прежде всего потому, что стала лицом к лицу с природой и начала
отвлеченно рассуждать о конкретных реальных явлениях как
объектах исследования.
Двойственный характер
личности и учения Лейбница
Было бы ошибкой при рассмотрении кризиса
западноевропейской мысли ограничиться только одним сознанием,
свести этот кризис лишь к духовным переменам в общественном
мозгу Нового времени. Образование нового аналитически
рационального духа еще не вся суть происшедших изменений, а лишь
незначительная, хоть и существенная их черта. Глубочайшие,
всесторонние изменения затронули не только духовный мир, но и
материальный, не одно лишь общественное сознание, но и все
общественное бытие. Более того, они переплелись даже с природными,
ландшафтно-географическимн изменениями европейского
континента. Фактически это изменения не только
социально-экономические, а всего европейского супер-этноса, если
воспользоваться термином Л.Н. Гумилева. Вследствие этого эпоха
Лейбница представляла собой, по словам А.И. Сырцова, неустойчивое
равновесие, переход между отживающими и распадающимися
формами феодального хозяйства и новыми формами нарождаю-
Двойственный характер личности и учения Лейбница 79
шегося и крепнущего капитализма. Поэтому она имела
двойственный, противоречивый характер. Причем в Германии это
равновесие двух типов общественного хозяйства было более
стабильным, чем в соседних Нидерландах, Франции и Англии. Этот
двойственный характер эпохи Лейбница выражался прежде всего
в двух общественных идеологиях, в его мировоззрении и, я бы
сказал, в его собственной личности и судьбе тоже.
«Лейбниц больше, чем кто-либо другой связывает XVIII век и
с прошлым, и с будущим» (И.Б. Погребысский), ибо сразу две
эпохи - феодализм и капитализм - определяют личность, жизнь,
учение и мировоззрение Лейбница. Наш философ появляется как
бы на излете сопротивления Римской католической церкви и
схоластики печатной книге и индивидуальному мнению (разуму),
открывая собой новый, буржуазно-просветительский и заключая
старый, отживший, по мнению Герье, «религиозный период
нашей цивилизации, когда откровение считалось главным
источником человеческой мудрости и... все явления нравственного и
физического мира объяснялись непосредственной волей божества».
Лейбниц жил в окружении старой феодальной и духовной
знати. Служа ей, он, естественно, испытывал влияние католической
(по преимуществу) романтико-религиозной и рыцарски
дворянской идеологии. К тому же и по воспитанию он принадлежит
прошлому времени, которое оставило на нем немало следов своего
влияния. Его религиозно-политический идеал заимствован из
Средних веков: это возглавляемое папой и императором единство
(уния, союз) христианских народов - идея, актуальная и поныне.
Лейбниц не потерял еще веры в алхимию и нехотя отказывался от
астрологии, считая возможным, чтобы движения звезд
символизировали происходящее на Земле, подобно тому, как линии на
ладони изображают физические и духовные свойства человека; он
признает это прежде всего потому, что сказанное прекрасно
укладывается в его идею всеобщей взаимосвязи и
взаимообусловленности, столь характерную для его учения. Однажды он защищал
пытку как средство, иногда необходимое для восстановления
истины, хотя и подверженное большим злоупотреблениям. (В этом
уже явно выразился со временем ставший преступным и
бесчеловечным в своей жалкой односторонности и ограниченности
«формально-логический дух», который явился универсальным,
всемогущим и всеми превозносимым орудием познания, сделавшим так
много для рода человеческого и лишь к концу XX в. обнаружив-
80
1. Пролог к эпохе
шим свои пагубные издержки и недостатки, способные
превратить человека в нечеловека, людей в нелюдей...) Уже в то время
влияние этого духа на породившего его Лейбница выразилось в
том, что последний придает поэзии и искусствам лишь
второстепенное значение, по сравнению с наукой (логикой, математикой)
и философией.
Все это ничуть не мешало Лейбницу по своей деятельности и
целям принадлежать Новому времени; быть трезвым,
здравомыслящим, реально и практически смотрящим на вещи человеком.
Наш герой был типичным представителем третьего сословия и
рационалист в науке, политике, правоведении, философии и
религии. Отсюда характерные для Лейбница, как и вообще для
молодой буржуазии, свойства напористого, гибкого и искусного
дипломата, умеющего быстро и профессионально найти наилучший
выход из самых сложных и затруднительных положений. Отсюда и
те особенности Лейбница как выдающегося организатора в науке
и политике, которые сделали его олицетворением начального
периода немецкого просвещения, сумевшего многое взять от
Франции и Англии таким образом, чтобы оно сумело привиться на
немецкой почве и дать свои плоды в последующих поколениях
общественных деятелей.
Он родился за два года до заключения Вестфальского мира, а
два года спустя после его рождения в 1648 г. во Франции начались
противоправительственные смуты (так называемая Фронда,
1648-1652). Поводом к ней послужило, разумеется, не рождение
Лейбница, а арест советника парижского парламента Пьера Бру-
селя. Умер Лейбниц в 1716 г., спустя два года после заключения
Раштадского мира (хотя и не по этой причине). Но кончина
философа и перемирие не утихомирили бурное развитие научной
мысли, и спустя два года после смерти Лейбница известный хирург
Джон Фрик (1688-1756) опубликовал сочинение «Опыт
объяснения причины электричества», пожелав выяснить то, что неясно и
по сей день. А спустя четыре года после смерти нашего героя
родился в Боденвердере 11 мая 1720 г. другой барон - Иероним Карл
Фридрих Мюнхгаузен. Между прочим, его однофамильцем был
один из издателей сочинений Лейбница...
Однако Лейбниц родился не только спустя четыре года после
смерти Галилея, но и за четыре года до смерти Декарта. Он
«родился не только накануне Вестфальского мира, но и накануне
английской революции, - писал Б.Э. Быховский. -Лейбниц- современ-
Двойственный характер личности и учения Лейбница
81
ник Кромвеля, великого пенсионария Яна де Витта и Ж.Б.
Кольбера. Лейбниц жил в эпоху англо-голландских войн за мировую
гегемонию, в эпоху основания Английского банка и Ост-Индской
компании. Лейбниц вырос не только на классической древности и
протестантской теологии, но и научениях Гоббса, Декарта,
Спинозы, Гассенди, П. Бейля и Гюйгенса. Он жил, когда творили
Мильтон, Свифт и Дефо, Ж. де Лафонтен, Мольер, П. Корнель, Ж. Расин
и Н. Буало. Он жил в Англии, Франции, Голландии и Италии. Он
был членом Английской и Французской академий».
«Двойными», или двойственными, внутренне
противоположными были даже те должности, которые занимал Лейбниц,
будучи, с одной стороны, ученым, философом, а с другой -
придворным. После возвращения из трехлетней поездки (осень
1687 - июнь 1690) для изучения генеалогии Вельфского дома, т.е.
династии государей, которым Лейбниц служил около 40 лет, его в
1691 г. назначили одновременно историографом и заведующим
вольфенбюттельской библиотекой. Следующую «двойную»
должность он получил после кончины его государя Эрнеста Августа,
когда 20-летняя дочь последнего, София Шарлотта, стала
курфюрстиной Бранденбургской. Лейбниц сам предложил жене и
дочери Эрнеста Августа свои услуги в поддержании добрых
отношений между дворами ганноверским и берлинским, хотя к этому
времени стал первым президентом новооткрытой Берлинской
академии наук. Правда, после смерти Софии Шарлотты (5
февраля 1705 г.) «недоверие и зависть» (К. Фишер) вооружили оба двора
против Лейбница, так что ему пришлось почувствовать на себе
свою двойственность и в 1711 г. навсегда покинуть Берлин, где он
был так счастлив... Наконец, свою третью «двойную» должность
Лейбниц получил в результате пожалования ему Петром I пенсии
и титула «тайного юстиции советника», хотя такой же титул был
ему пожалован ранее курфюрстами Ганноверским и Бранден-
бургским в 1696 и в 1700 гг.
Лейбниц воплощал собой дух одновременно двух своих
знаменитых современников: блистательного, мужественного искателя
всевозможных приключений, но бедного д'Артаньяна, тяготеющего
поэтому к далекому от него аристократу Атосу (графу де ла Фер), и
французского министра Кольбера, выходца из торговцев (Лейбниц
был тоже из таких), прославившегося своим рацпредложением
спороть серебряное кружево на концах лент роты швейцарцев, чтобы в
целях экономии заменить его кружевом из фальшивого серебра.
82
1. Пролог к эпохе
I
Человек - это его время, и время - это его человек. Люди
всегда, хотят они этого или нет, соответствуют своему времени,
отражая и выражая его тем необходимее, лучше и сильнее, чем более
великими являются. И каждое время - прошлое, настоящее и
будущее - имеет тяготеющих к себе людей, как справедливо считает
Гумилев, который делит человечество в зависимости от его
отношения к своему времени на футуристов, пассеистов и актуалистов.
Футуристы игнорируют прошлое и настоящее ради будущего.
Прошлого для них нет, настоящее - неприемлемо, и, значит,
реальной признается только мечта. Таков идеализм Платона в
Элладе, иудейский хилиазм в Римской империи, сектантские
движения манихейского (альбигойство) и марионитского (богумиль-
ского) толка. К этому перечню примеров Гумилева я бы добавил
настроения людей всего XIX и начала XX в. Эти верующие в мечту
люди, хотя бы они и называли себя атеистами, как будто не
замечают, что мечта не лучше воспоминаний и, подобно им, служит
питательной средой для религии.
Пассеисты суть те, кто ощущает каждую минуту как
приращение к существующему прошлому (passé existente). Люди этого
сорта - продолжатели линии предков, к которой такие люди
обязательно что-то прибавляют: еще одна победа, еще одно здание, еще
одна переписанная рукопись, еще один выкованный меч... Для
таких людей прошлое не ушло. Оно в них самих, и оно растет и
увеличивается вместе с их деятельностью. Тем самым прошлое, а с
ним и весь род человеческий, и результаты его деятельности
накапливаются и продвигаются вперед по пути прогресса. Такие
люди - герои, жертвующие жизнью за отечество и не имеющие
никакой личной заинтересованности; любящие свое дело больше себя,
ибо, действуя на благо других, такие люди одновременно
полагают, что действуют и на благо самим себе. Ошибка их в том, что они
воображали, будто доподлинно знают служившее им точкой
отсчета прошлое. Между тем это прошлое было десятки раз
«перечеканено» (Г. Гегель) в настоящем, подменено настоящему нужным
вымыслом, искажено неполной передачей и сведено к личному
или групповому восприятию. Совершая невероятные подвиги,
эти люди совершали их так или иначе во имя настоящего, которое
для них оставалось такой же тайной, как и прошлое, на которое
они равнялись всю жизнь. Таковы, например, подвиги спартан-
Двойственный характер личности и учения Лейбница
83
ского базилевса Леонида в Фермопилах, консула Аттилия Регула в
Карфагене, Роланда в Ронсельванском ущелье, таковы
богатыри-монахи Пересвет и Ослябя, послушники Сергия
Радонежского, погибшие на поле Куликовом. Этого склада люди воздвигли в
Европе готические соборы, не увековечив своих имен, в Индии
вырезали дивные статуи в пещерных храмах, в Египте построили
усыпальницы. «Но это не альтруизм: предмет их любви был в них
самих, хотя и не только в них, - писал Гумилев. - Они чувствовали
себя не только наследниками великих традиций, а частицами
оных; и, отдавая ради этих традиций милую жизнь, быстро, как
воины, или медленно, как зодчие, они поступали согласно своему
нервно-психофизиологическому складу, определявшему вектор и
характер их деятельности». Таков был и Лейбниц.
Но он был не только таков, ибо ему нравился тот сорт людей,
который Гумилев назвал актуалистами. Лейбниц желал жить, как
они, живя как пассеист. Актуалисты знают и ценят лишь одно
настоящее. Оно для них есть некая собственность,
экспроприируемая ими у прошлого, преимущественно ближайшего, и
обороняемая ими от ближайшего же будущего, которое может отнять у них
настоящее, «экспроприировать экспроприаторов». Поэтому
актуалисты суть индивидуалисты, презирающие прошлое, не
ценящие и не понимающие его, и в то же время боящиеся будущего.
В Китае это суйский император Ян-ди (605-618), в Риме - Марий
Гай и Люций Корнелий Сулла, в Афинах - Алкивиад, во
Франции - Великий принц Конде, Людовик XIV и Наполеон, в
России - Иван Грозный, а в Черноморске - Остап Бендер. В эпоху
Лейбница увлечение настоящим лишь как только у тебя
имеющимся, своим, личным связано с появлением нового,
буржуазного и объективного идеализма, в частности с появлением
классической Немецкой философии. «Умеет всюду делать приобретения...
находит у всех кое-что, из чего можно извлечь пользу», - писал о
Лейбнице Куно Фишер.
Лейбницев актуализм обусловлен приходом относительно
спокойного и благополучного Нового времени, для которого
характерно некое умиротворение, разлитое в обществе, состояние,
которое повторится в начале и середине XIX в. Еще сильны
прежние духовные и родовые традиции и ценности, они даже
переживают известный расцвет, но уже все стало продажно, никому
нельзя верить, не на кого положиться. На словах ценятся способности,
образованность, стойкость во мнениях, вежливое обращение, а на
84
1. Пролог к эпохе
деле все более одерживают верх кажущиеся исключением из правил
такие пороки, как невежество, аморальность, беспринципность,
наглость. Расплодились людишки, которые, живя по принципу «хоть
день да мой», стремятся лишь как можно больше
чувственно-физического и вещественного награбить и перераспределить
преимущественно в свою пользу; хотят как можно больше присвоить,
выпить, съесть, надеть на себя, использовать в своих интересах и
целях... Они предпочитают безопасность - риску, накопление -
быстрому успеху, потребление - производству, спокойную и
сытую жизнь - приключениям. На смену горсточке д'артаньянов
идут широкие массы планше, как позднее на смену бендерам
пришли корейки... «Они были не хуже и не лучше. Они были просто
другие» (Л.Н. Гумилев). Личная трагедия нашего героя
заключалась в том, что будучи одновременно и тем и другим, он изо всех
сил старался быть цельным, совместить в себе пассеизм и актуа-
лизм. Но у него это не получалось. Да и могло ли получиться?
II
Контрастный, противоречивый характер эпохи Лейбница
отразился не только на его личности, жизни, но в конечном счете
даже на его философии. Впервые философская концепция, легшая в
основу его учения, была сформулирована в самом начале
1670-х гг. в письме 25-летнего Лейбница к герцогу Иоганну
Фридриху Брауншвейг-Люнебургскому, где отмечались такие три
важных пункта, как: 1) понятие о духе как идеальной силе, имеющей
свою причину в самой себе и находящейся в основе всех
материальных явлений; 2) понятие о духе (душе) как монаде, или точке,
представляющей собой мир в миниатюре, микрокосм; 3) понятие
о мировой гармонии, предустановленной Богом и в известном
плане так относящейся к монаде, как волна к корпускуле,
микрочастица - к полю, а источник воды - к самой воде. Важно, что
мировая гармония, как и монада, находятся в сфере духа: гармония и
есть монада в определенном отношении. В написанном на
латинском языке письме Лейбница к профессору гамбургской
гимназии Мартину Фогелю (8 февраля 1671 г.) философ указал на
«harmonia universalis» как на «altima rerum ratio (id est Deus)»
(Boclemann. Der Briefwechsel des G.W. Leibniz. S. 363flgd.).
Поэтому можно утверждать, что все три указанных выше пункта
объединены общей религиозно-мистической основой: это -три обличья
Двойственный характер личности и учения Лейбница 85
бога, святого духа. Будучи высшей монадой, или монадой монад,
он вместе с тем и одновременно был мировой гармонией, так что
монада, ее сила и предустановленная Богом мировая гармония в
той же мере едины друг с другом, как, скажем, источник воды, ее
напор и сама вода. Причем лейбницевская «мировая гармония»
служит инобытием «монад» подобно тому, как в Демокритовой
атомистике «пустота» является реальным инобытием «атомов» и
одновременно условием их движения (существования). Однако
монады лишь с существенными оговорками можно рассматривать
как атомы, а гармония (бог), если ее уподоблять эфироподобной
«гармонической пустоте», отличается от «пустоты» Демокрита
тем, что является не внешней монадам - атомам, а внутренней:
она есть их рефлексия в себя, монада монад. «Reflexio» (лат.) -
широко распространенный в гегелевской философии термин,
означающий «обратное отражение некоего понятийного определения
внутрь самого себя». Буквальное значение: «отражение»,
«перевод», «загибание назад». Рефлектирующий (например,
рассудок) - размышляющий над самим собой.
Вообще в учении Лейбница преобладает самоотражение,
«рефлексия в себя» (Г. Гегель), причем индивидуалистическая в
широком смысле слова. Этим его монадологическая философия
существенно дополняет и компенсирует отсутствие такой рефлексии в
философии Спинозы. Благодаря такому абсолютному
самоотражению у монад нет ничего внешнего, а есть одно только
внутреннее. «...В строго метафизическом смысле, - писал
Лейбниц, - каждая субстанция (с божьего соизволения и содействия)
является непосредственной и подлинной причиной того, что
происходит в ней самой, и поэтому, строго говоря, ничего
навязанного ей извне не существует».
Монады суть абсолютно замкнутые на себя,
самоизолированные системы. Поэтому, по выражению Лейбница, «монады не
имеют окон», ибо абсолютно причинно не взаимообусловлены,
никак не взаимодействуют и не соотносятся друг с другом. Ясно,
что в реальной действительности таких систем нет. Абсолютное
отсутствие взаимодействия (взаимосвязи), пусть мгновенное и
даже в каком-либо одном, сколь угодно малом и незначительном
участке Вселенной, означало бы абсолютное прекращение в нем
движения, а вместе с ним и течения времени, и существования
пространства, а следовательно, столь же мгновенный абсолютный
распад всего сущего, всей Вселенной. Поэтому, говоря о монаде,
86
1. Пролог к эпохе
которую Лейбниц называл «метафизической точкой», мы должны
подняться на ту ступень общей отвлеченности от всего, на
которой полностью отсутствует всякое чувственно-физическое,
материальное взаимодействие и, в частности, причинно-следственная
связь, всякий детерминизм. Однако и на этом высочайшем уровне
абстракции наличествует всепроникающее единство всего со
всем, которое, с точки зрения Лейбница и его современников, не
могло быть не чем иным, как идеальным, божественным,
метафизическим. Отказывая субстанции во взаимодействии
(взаимосвязи), характерном для явлений, философ не отказывал ей во
взаимодействии (связи), характерном для сущности всего сущего, т.е.
для нее самой. Не имея чувственно-физического, осязаемого,
материального взаимодействия, взаимоотражения (взаимосвязи),
монады ее имеют в творце всего сущего, в боге. За монады, их
сущность и особенности, за все, что с ними было, есть и будет,
ответственны не они сами, а создавший их Бог, являющийся по
совместительству монадой монад, т.е. их мировой, предустановленной
Богом гармонией.
Монады, эти идеально сконструированные, всесовершенные и
потому лишенные окон, слепые (но зрячие своим
автодидактическим, априорным, божественным знанием) батисферы,
плавающие в океане Града божьего; эти гротескно-мистические
порождения, гибриды лейбницевской теории и исчислений бесконечно
малых, определяются Богом как самими собой в своем внутреннем -
другого у них нет! - навсегда запрограммированном Богом
существовании. Находясь на службе Богу в граде земном, они, если так
можно сказать, оживают лишь на вопрос-пароль об их отношении
к Богу, создавшему их в качестве своих резидентов для Земли в
граде своем. Поэтому не от самих монад, не от их сущности и
особенностей, а от Бога зависят их множественность, идеальность,
активность, способность к представлению (самоотражению,
саморефлексии), их запрограммированная Богом, имманентная,
исключительно внутренняя родовая связь и происходящие лишь
внутри них изменения.
Гегель справедливо упрекал Лейбница в том, что благодаря
религиозно-мистической основе его философии Бог в ней оказался
«пристегнут» (Г. Гегель) к монадам, а те - к вещам, материальным
явлениям действительности. Философия Лейбница оказалась
связанной с Богом чисто внешним, искусственным,
формально-абстрактным, т.е. схоластическим, образом. Монада (одно) яв-
Двойственный характер личности и учения Лейбница 87
ляется внешней, безразличной монадам (многому). Поэтому и
другие существенные свойства монады, например идеальность,
самоактивность, способность к представлению и внутренним
изменениям, неизбежно получили в лейбницевской философии
столь же внешний, формально-абстрактный, безразличный для
самой монады и предустановленный богом
религиозно-мистический и метафизический характер. Философия Лейбница - в
буквальном смысле слова «сотворенная философия». Ее
недостатками являются религиозный рационализм и доведенный до
крайности формально-логический, внешний, абстрактный подход,
который делает философию Лейбница сродни его логике и
математике. Монадология - это такой же свод (опирающихся на
внутренние принципы, но не выведенных из них) чисто внешних,
школьно-педантических правил - философских, но не
математических! - какие были в большом ходу среди математиков XVII в.
Это делает философию Лейбница внешней (хотя и не
поверхностной), формальной, абстрактной, лишенной реального единства,
внутри-себя-между-собой несвязанной системой.
Это даже не система, а, по гениальному замечанию Гегеля,
«рассеянная полнота». Но в ней уже просвечивает какая-то
зародышевая, неразвитая, по-детски примитивная, половинчатая, но
содержательная противоречивость. Она выступает как
полярность, раздвоенность (двойственность), метафизическое
отталкивание вовне, а не как диалектическая, внутренняя
отрицательность в отношении самой себя и своего. У Лейбница есть в лучшем
случае примитивная религиозно-мистическая и идеалистическая
диалектика в ее зародышевом состоянии.
Он следовал ей в своей жизни.
Лейбниц жил так, как должна была жить монада.
Монады не имеют окон, ибо так пожелал еще Демокрит в
своей атомистике; иначе говоря, потому, что в качестве атомов или
умопостигаемых, последних неделимых логических пределов, к
которым стремятся реальные, качественно определенные веши,
если последовательно элиминировать их свойства, т.е. в качестве
абстракций, монады знать не знают и знать не хотят в отношении
себя никакого окружающего. Человек - один, он не нуждается в
других монадах, ибо может надеяться лишь сам на себя. Монады
не имеют окон потому, что так захотел Бог. А может быть,
Лейбниц? Как без него можно было бы узнать о том, что они их не
имеют? Даже о том, что такое «окна»?
88
1. Пролог к эпохе
...Идея собственной исключительности пронизывает всю
лейбницевскую философию. Существуя, монады не имеют окон
лишь потому, что они есть у Бога или у рассматривающего монады
философа, в этом смысле равного Богу. Человек богатый или
бедный, стремящийся стать богатым, - сам себе весь мир. Подобно
монаде обладая в своем представлении внутренним
многообразием, человек делает сам себя в своей реальности, в своей
действительной жизни. Индивид- Бог самому себе и сам для себя. Он мир
для себя и одновременно мир существующих для него
окружающих людей.
Но человек есть вместе с тем существо, обладающее неким
определением, относительно независимым от его воли и желания
определенным назначением, навязанным, как предполагал
Лейбниц, свыше; или, как знаем и сказали бы мы сегодня, существо со-
ци&тьное. Подобно монаде, индивид содержит два момента -
личный и социальный. Последний рассматривается индивидом
как лишь для него, индивида, существующий, что вполне
согласуется с монадологией и моралью нового, зарождающегося
буржуазного строя. Социальность, гражданственность, необходимость
быть с другими и потому быть другим в отличие от того, кто ты есть
на самом деле, быть раздвоенным, есть нечто внутренне данное, но
привнесенное человеку и потому внешнее. Эту данность Лейбниц
не выводит из природы человека-монады или других людей, не
рассматривает как свое собственное, только внутри себя
находящееся, существенное и имманентное себе следствие своих
изменений, а понимает буквально, как нечто, данное человеку извне,
внутренне положенное ему Богом. Человек божествен! В той мере,
в какой он индивидуален и не-индивидуален.
Монада двойственна, внутренне противоречива, причем
чрезвычайно разнообразно. Во-первых, как представляющая
сущность вещи ее субстанциональная форма, по форме лишь
идеальная (духовная), абстрактная и бессодержательная, а потому чуждая
подлинной, истинной сущности реальной вещи; во-вторых, как
субстанция, по своей природе столь же религиозно-философская
(логическая), как и естественно-научная, связанная одновременно
с верой и разумом; в-третьих, выступающая как монада и
предустановленная Богом мировая гармония, а следовательно,
одновременно и нечто дискретное, конкретное1, представляющее
сущность веши («монада»), и континуальное, абстрактное2,
божественное («мировая гармония», т.е. Бог).
Двойственный характер личности и учения Лейбница 89
Вечная внутренняя самоактивность монад непонятно
контрастирует с их вечной внешней, предустановленной богом
неизменностью, запрограммированностью. Подобно мертвенно-бледным
изваяниям - эйдосам (идеям, образам) платоновской философии
и, в частности, диалектики, а также античным взглядам на
системность, организованность и самодвижение, - монады, души, духи
и Мироправитель группировались в учении Лейбница в некое
собрание застывших восковых фигур, субстанций, наподобие
экспонатов музея мадам Тюссо. Это был раз и навсегда данный и
неизменный «идейный» платоновский мир или, если
воспользоваться выражением Лейбница, град божий, скрытый в мире
непрерывно изменяющихся, разнообразных тел, предметов,
явлений, процессов и событий, внешне между собой не связанных.
Застывшая навеки непрерывная (что для Лейбница очень важно)
иерархия абстрактных духовных сущностей-субстанций,
заполняющих все точки пространства, созданных и расположенных на раз и
навсегда отведенных им Богом местах, автоматически вечно
самодействующих всегда одинаковым образом...
Читатель сочинений Лейбница чувствует себя не на Земле, а на
какой-то другой планете. Совсем как в фантастических рассказах
Р. Брэдбери о марсианских городах и сооружениях, покинутых их
обитателями. Мы действительно входим внутрь мельницы, но она
остановлена Лейбницем. Она не работает, а показывает нам себя,
ибо не может делать то и другое одновременно. Таким образом,
внешне, открыто и официально, религиозно-метафизически
сосуществуя друг с другом, монады изолированно друг от друга,
внутренне тайком диалектически живут. Эту существенную
реальную раздюенность можно неявно наблюдать в монаде как
присущее ей простое, спокойное отталкивание, ее полярность во
внешнем сочетании с внутренней самоактивностью,
беспокойством.
В «рассеянной полноте» лейбницевской философии
конкурируют: явное, высказанное, официальное, конформистское с
невысказанным, нонконформистским, с умолчанием о главном,
сокровенном; общественное с личным, вера с разумом, мистичность
с научностью, божественность с индивидуальностью, целое со
1 «Конкретное», будучи по смыслу противоположностью «абстрактному»,
происходит от латинского глагола coucrescere - срастаться, сращиваться, сгущаться,
концентрироваться, уплотняться. К. Маркс определял «конкретное» как «единое в
многообразном».
90
1. Пролог к эпохе
своими частями, одно со многим, непрерывное с прерывным,
универсальность с многообразием, упорядоченность
(системность) с неупорядоченностью (хаотичностью), покой с
движением и т.д. и т.п. в той же мере, в какой в эпоху Лейбница
конкурировало Средневековье с Новым временем, феодальное с
буржуазным, капиталистическим. Несовместимые между собой от бога,
они Богом даны миру.
Не потому ли в философии Лейбница все они находятся в
единстве (тождестве), которое, строго говоря, им вовсе не
является; которое как бы существует и не существует, каждый раз так
переходя (превращаясь) в свою противоположность, что и сам-то
переход этот им тоже не является. И единство (тождество), и
переход (превращение) в свою противоположность какие-то
невысказанные что ли... И за скобками лейбницевской философии, меч-
гая в нее попасть, эти зародышевые и метафизические единства
(тождества) противоположностей, сами противоположности и их
переход (превращение) как бы грезят о самих себе, какими станут
позднее в гегелевской философии, где, наконец, превратятся в
диалектическое противоречие. В монадологии недвижность,
самоуспокоенность пока еще неявным, половинчатым образом
соперничает с динамизмом, самоизменчивостью, внутренним
беспокойством. Слабые контуры этих полюсов как диалектических
противоположностей и их единства (тождества) едва
просвечивают в монадологии, однако это единство уже не только статично, но
и динамично. Так, мистический логико-математический
автоматизм монады выражает единство изменчивости и устойчивости,
которое гармонично и хаотично, континуально и дискретно,
божественно и индивидуально. Монаде настолько присуща такая
двойственность, раздвоенность, внутренняя противоречивость,
что кажется, будто ее вообще нет. Энтелехийная
самоизменчивость или имманентная самодеятельность монады настолько
божественно совершенна, жестко-мистически автоматизирована,
что она уже как будто вовсе никакая и не изменчивость, и не
деятельность даже, а ее собственная противоположность - столь же
божественно совершенно, внутренне предопределенная
непрерывная алгоритмизированная недвижность, устойчивость.
Лейбницевская мировая изменчивость столь абсолютна, что
сама является неким абсолютом, мировым покоем,
универсальной устойчивостью. И наоборот, устойчивость, постоянство,
непрерывность во времени и пространстве как иерархии монад и,
Двойственный характер личности и учения Лейбница 91
следовательно, структуры Вселенной, так и соотношение души и
тела, Бога и монады настолько абсолютны, что для приведения
всего этого в движение, т.е. для прекращения этой метафизически
постылой, всюду одинаковой беспрерывной неподвижности все в
мире, и только все, необходимо должно обладать столь же вечной
внутренней изменчивостью, активной деятельностью,
спонтанной силой1. В этом смысле как изменчивость, так и полярно
противоположная ей устойчивость, будучи доведены до своего
предела, превращаются в свою противоположность.
Зародышевая противоречивость «рассеянной полноты»
философии Лейбница, проявляющаяся как полярность (отталкивание
вовне), выражается и в том, что отношение монады к другим
монадам и вообще к иному, чем она, прямо противоположно ее
отношению к самой себе. В отношении себя самой, в «рефлексии в
себя» форма (множественность монад) и содержание
(идеальность, энтелехийность) монады, а также многое
(множественность монад) и одно (монада) обладают в философском смысле
слова единством (тождеством) в мировой гармонии, т.е. в Боге.
Напротив, в своем внешнем отношении, безразличном друг к
другу сосуществовании, форма и содержание, одно и многое лишь
отталкивают, взаимоисключают друг друга в обыденном смысле
слова. В признании только такого примитивного,
метафизического отталкивания зародыш типично немецкой классической
идеалистической диалектики и вместе с тем существенная
недостаточность философии Лейбница как философии
метафизической, религиозно-мистической.
Лейбниц в своей философии диалектик (подобно тому, как
Кант был агностик) лишь наполовину; причем, так сказать,
внутреннюю «нижнюю», а не внешнюю, «верхнюю». Да и то не до
конца, как подметил Гегель, заявив, что в специфических для
Лейбница внутренних «рефлексирующих в себя» определениях
«проявляются лишь обыденные представления, которые Лейбниц
1 Если согласиться на меньшее, допустив, что не все, а лишь некоторые тела
или их группы способны к изменчивости (самодвижению), то это противоречило
бы сразу двум основным положениям лейбницевской философии, а именно: его
убеждению в абсолютном совершенстве и превосходстве (приоритете) целого
(божьего града и града земного) над его частями, одного над многим, формы над
содержанием, идеализации (абстракции) над ее объектом. Правда, Лейбниц
допускал для земного града и его вещественную самостоятельность, относительную
свободу, выбор. Но понимал он их в этом случае так же, как, например,
современный экзистенционализм, - ошибочным, субъективно-ограниченным и в
конечном счете мистическим образом.
92
1. Пролог к эпохе
оставляет без философского развития и не возводит в
спекулятивные понятия». Вероятно, чтобы Гегелю было чем заняться.
Лейбниц дошел до понимания отрицательного соотношения
одного со своей внешней противоположностью - многим одним,
мировой гармонией, т.е. Богом. Гегель же раскрыл отрицательное
соотношение одного с самим собой как со своей собственной
внутренней противоположностью, т.е. дошел до понимания
конкретного, диалектического, а не абстрактного
религиозно-мистического, схоластического и метафизического, как у Лейбница,
отталкивания. Лейбниц остановился перед диалектической связью
единства (тождества) и борьбы противоположностей, понимая
эти противоположности и их соотношения
религиозно-мистически и метафизически. В его мистическом, формально-логическом
мышлении внутренняя противоречивость сущего превращается в
предустановленную Богом внешнюю полярную двойственность,
раздвоенность, в простое отталкивание, объясняемое внешней,
формальной, абстрактной заданностью внутреннему,
содержательному; объективной, совершенной, формальной логикой
Бога-вычислителя и его промысла, а не объективной диалектикой
бытия. Гегель диалектически «снял» лейбницевскую,
религиозно-метафизически понимаемую отрицательность, вскрыл во
внешнем отталкивании полюсов их внутреннее диалектическое
противоречие.
Вот почему философия Лейбница двойственна и имеет
окостеневший, метафизический характер при всех ее внешних,
формальных позывах к диалектике. Она является предвосхищающей
гегельянство попыткой парадоксального соединения
пассивности и активности, религиозной метафизики и разумной для
здравомыслящего естествоиспытателя и естественной для
исследуемой им природой объективной диалектики «самодвижение» и
«саморазвитие». Но эта диалектика не может «работать» в рамках
религиозной метафизики, будучи с ней несовместима. Это
противоречие, которое, подобно лейбницевским взглядам на
диалектику, у нашего героя еще не развито и мистично, позднее в наиболее
всесторонней и глубокой, развитой и разрушающей свое
содержание форме найдет свое выражение в знаменитом противоречии
между консервативно-реакционной системой и
диалектико-революционным методом в философии Гегеля. Но из-за этого
противоречия лейбницевская философия засасывает в свою трясину
мировой иерархической непрерывности и в конечном счете ли-
Двойственный характер личности и учения Лейбница 93
шает теоретической устойчивости даже те сравнительно твердые
методологические установки, которые она смогла
естественно-исторически породить, и вследствие своей внутренней
религиозно-мистической основы подобна болоту, чья поверхность с
тошей и редкой естественно-научной растительностью кажется
твердой лишь до тех пор, пока на нее не ступят. И в качестве
своеобразного отголоска этого противоречия в философии Лейбница
гротескным, противоречивым образом органически сочетаются
величайшая отвлеченность, абстрактность, всемирная
универсальность в теории с конкретностью, с промышленно-экономи-
ческой, технической, частно-научной, живой, многообразной и
богатой разработкой этой теории на практике в целях
удовлетворения индивидуальных (личных) и социальных интересов и
потребностей.
Фактически монадология Лейбница - это теория двух миров -
идеального и материального. Внутренне иерархичные и
субординированные, подобно «миру идей» и «миру вещей» Платона, эти
миры объединены в один предустановленной Богом
гармонической связью («гармонией») или, что то же самое, разделены на два
связанных этой гармонией мира. Это мир идеальный,
метафизически реальный, истинно-сущий, умопостигаемый, состоящий из
духовных, деятельных первоэлементов бытия - монад. И мир
материальный, феноменальный (только являющийся,
иллюзорный), физический, чувственный, явления которого обусловлены
стоящими за ними реальными монадами. Это метафизический
мир монад и эмпирический мир пространства, материи и
движения, управляемый законами математики, механики и физики.
Решая вопрос о первичности или вторичности материи, Лейбниц
стремится согласовать материалистические идеи Нового времени
со спиритуалистической метафизикой авторитетов античности и
Средневековья, а решая вопрос о том, может ли мышление
познать бытие, он, не занимая последовательной агностической
позиции, стремится согласовать веру с разумом, локковский
эмпиризм и сенсуализм с декартовским рационализмом. Признавая
познаваемость мира, он тем не менее считает - и в этом согласны
многие исследователи Лейбница, - что естественная религия, т.е.
религия разума, составляет основу всех религий и что даже то, что
к ней прибавляет откровение, хотя и превышает разум в том
смысле, что разум человека не мог бы сам найти этого и не может
достигнуть вполне, но не противоречит разуму. Таким образом, инте-
94
1. Пролог к эпохе
ресуясь соотношением физико-эмпирического и
духовно-метафизического, Лейбниц фактически интересуется проблемой,
которая в наши дни называется «основным вопросом
философии», а для Лейбница выступает как важная для его учения
«психофизиологическая проблема»; возможно, одним из ее
историко-философских оснований является мысль Платона о «мире
вещей» и «мире идей». Решение этой проблемы, по мнению Сыр-
цова, в конечном счете определяют две общественные идеологии,
отразившие двойственный, противоречивый характер
социальной действительности в эпоху Лейбница.
III
Лейбницевская идея двойственна не только сама по себе. Идея
двойственности прослеживается в нем в той или иной мере и
форме в самых разнообразных своих проявлениях. Одна из
трудностей ее вычленения состоит в том, что она, как и другие
методологические идеи его учения и как оно само в целом, носит
религиозно-мистический характер, а другая - в том, что Лейбниц не
проводит эту идею в своих сочинениях явно. Он и не думает ее
как-то обосновывать и формулировать; я не знаю, осознает ли он
ее. Он о ней, собственно, даже не упоминает, хотя в его трудах она
то исчезает из поля зрения исследователя, неявно присутствуя в
них в виде некоего эфира или миража, то скрыто намеченная как
бы пунктиром позволяет догадываться о себе лишь по контурам
рассуждений, общей схеме доказательств и одинаковому образу
мыслей или «типу мышления» (X. Гёффдинг), а то напрямую
обнаруживается в виде религиозно-методологического инструмента
исследования. Например, Лейбниц как религиозный деятель,
политик, дипломат и историк противопоставляет Европу «Антиев-
ропе». Этот термин он ввел, по мнению И. Б. Погребысского, «для
обозначения громадных пространств Азии, мимо которых пока
прошла европейская цивилизация». Забавно, что по сей день
многие современные европейцы, почти совсем, как Лейбниц,
разграничивающие в типичном религиозно-этническом духе
цивилизованное и нецивилизованное человечество, вместе с нашим героем
считают Москву воротами миссионеров из Европы в Персию,
Туркестан, Китай и прочую «Антиевропу». Правда, Лейбниц
допускает и обратную дорогу, так сказать, из греков в варяги, что
кое-кому сегодня может показаться неслыханным.
Двойственный характер личности и учения Лейбница 95
Двойственность содержится и в особом техническом приеме,
который Лейбниц применил в написанном против Людовика XIV
политическом памфлете «Христианнейший Марс». Истинным
содержанием памфлета является не положительное, не
восхваление и защита притязаний французской короны, а отрицательное,
критика агрессивных королевских устремлений. Между тем
читателю нарочито внушается необходимость буквального понимания
прочитанного, при котором положительное, защита выступает
как содержание, а отрицательное, критика - как его форма.
Другими словами, критика (отрицание) французского короля,
скрытая в ироничной форме защиты и оправдания его агрессивных
действий, дается как бы изнутри отрицаемого явления, как бы
исходит из последнего; тогда как, напротив, полагание имеет своей
изнанкой очевидное отрицание, направленное против этого пола-
гания. Поэтому в данном случае в развитии и структуре
рассуждений автора можно, по-видимому, усмотреть некую диалектич-
ность, «самодвижение», попытку связать противоречивость,
понимаемую не как ошибочность, аномалию, а как скрытую
пружину «самодвижения» рассуждений, с познанием истины как
достижением предустановленной цели.
Наконец, последняя, третья трудность вычленения лейбни-
цевской двойственности состоит в том, что, вообще говоря, она
сама является в известном смысле внутренне полярной,
двойственной. Она половинчато-диалектическая, или внутренне
недостаточно диалектична по своей природе, а потому
методологически способна, например, привести исследователя и к религии, и к
диалектике, несмотря на их взаимную несовместимость. По той
же причине эта двойственность, будучи ограничена рамками
одной только религии, неизбежно становится в них анахронизмом.
И, наоборот, осуществляемая вне религии, в естественной,
общественной и философской областях знания, та же идея
двойственности самой логикой своего развития понуждает исследователя
диалектически мыслить, нацеливает его на обнаружение перехода
изучаемого явления в свою противоположность и поиски
противоположностей, их единства (тождества) и борьбы как источника
всякого движения и развития.
Например, в геологическом трактате «Протогея», написанном
в 1691 г., не полностью напечатанном в журнале «Acta Eruditorum»
в 1693 г. и целиком вышедшем в 1749 г., Лейбниц, решая вопрос о
происхождении Земли, связывает его с дифференциацией разли-
96
1. Пролог к эпохе
чия и превращением его в противоположность как резко
очерченное состояние двойственности. Земля, по Лейбницу, произошла
по мере раздвоения центрального тела на Солнце и другие
планеты, в том числе Землю. Позднее последняя сама раздвоилась, и в
ходе этого тоже произошел переход раздвоения в свою
противоположность. Так, первоначально раскаленная, мягкая, неплотная
масса Земли в ее первичном состоянии превращается в массу,
застывшую, твердую, плотную и угасшую, по мере перехода (в свою
противоположность) ее способности светить своим светом в
способность светить отраженным, чужим светом. Эти «переходы в
свою противоположность» Лейбниц, не обозначая их этим
термином, связывал с религией, с моментом, когда, по словам Библии,
свет отделился от тьмы, а позднее - суша от воды.
Из этого примера видно также, что в области положительного
знания явно обнаруживается органическая связь лейбницевской
двойственности с широко применяемым им комплексным и
историческим подходом, хотя и наложной, теологической основе, т.е. с
диалектическим принципом всесторонности в исследовании,
частным случаем которого является исторический подход. В «Про-
тогее», например, природа и общество понимаются как две
ступени целостного исторического развития. Этим Лейбниц вслед за
Декартом подготовил почву для кантовской истории неба,
«пробившей первую брешь в метафизическом естествознании Нового
времени» (Ф. Энгельс). Он, по мнению Герье, выдвинул гипотезу
о естественном изменении пород животных во время
геологических переворотов. Подобно тому, как, по утверждению Лейбница,
древние летописи суть основа историографии, так «ископаемые
остатки растительного и животного царств, которые находятся в
различных слоях Земли, - писал Герье, - должны служить
основанием при изучении земного шара». Окаменевшие останки
морских животных, которые попадаются в Гарце на рудниках, где
Лейбницу пришлось побывать, суть, по его мнению,
свидетельства того, что там, где сейчас горы, раньше было море. Причем
Лейбниц на основании этого своего предположения не
соглашался с Библией в шестом параграфе своего труда «Протогея».
Лейбниц, утверждал Герье, понял, какая тесная связь существует
между историей земного шара и древнейшей историей человеческого
рода. Вот заключительные слова его «Протогеи»: «Таким образом,
природа восполняет для нас пробелы нашей истории; в свою
очередь наша история оказывает природе ту услугу, что увековечивает
Двойственный характер личности и учения Лейбница 97
в потомстве со знаменитыми творениями ее». По замыслу
Лейбница, «Протогея» должна была служить введением к истории
Вельфского дома, его государей.
История Земли оказалась необходимым введением в историю
человечества. «Следует настоятельно пожелать, чтобы все
исторические труды имели подобное введение». Такую рекомендацию
дала комиссия Парижской академии наук после прочтения «Про-
тогеи» по смерти Лейбница. На основе этого подхода Лейбниц
ишет причину своеобразия истории германских племен в
особенностях географической среды, исповедуя своего рода
географический детерминизм. История немецких княжеств становится под
его пером историей Германской империи (см., например,
сочинение Лейбница «Право посольства немецких князей...»). «История
Гарца становится историей Земли, история Вельфов - историей
империи: это части истории мира, истории Вселенной», -
восклицает Фишер.
Более того, Лейбниц связал такой историко-системный образ
мысли с относительным характером отношения целого и части, их
оборачиваемостью, взаимопереходом, взаимопроникновением и
изменением вследствие этого. Причем
религиозно-методологический характер такого подхода Лейбниц подчеркивал
политическим, естественно-научным или иным практическим
назначением того сочинения, в котором он этот подход проводил.
Было бы заманчиво увидать диалектический характер лейбни-
цевской двойственности и вообще диалектику в связи с весьма
часто встречающейся в сочинениях Лейбница триадичностью,
или во всяком случае с чем-то на нее похожим. Например,
естественное право (впрочем, Лейбниц здесь отчасти следует римским
источникам), по его мнению, заключает в себе три степени или
ступени (строгое право, гражданское право и божья семья), т.е.
охватывает юридическую, политическую и религиозную области.
Соответственно он делит философию на юриспруденцию,
политику и теологию. Аналогично, к горному делу он подходит, как
механик, государственный деятель и ученый-естествоиспытатель.
Однако говорить о связи лейбнииевской двойственности с
триадичностью нет достаточных оснований.
Легко заметить статический, неподвижный характер его
представлений о двойственности, ее божественную заданность.
Подобно монаде, его взгляды обладают не только беспокойной
Диалектической динамичностью, но одновременно и какой-то
98
1. Пролог к эпохе
метафизической вязкостью, успокоенностью. По Лейбницу,
хотя он прямо об этом не пишет, в мире, во Вселенной нет ничего,
что не было чревато двоичностью; все, и каждое из всего,
двойственно. Лейбниц «раздвоил» даже самого Бога, заставив его быть
органом, являющимся законодательным для всего мира как
целого и исполнительным для его частей; необходимо
закономерным (подчиняющимся самому себе предписанным законам) и
случайным (в человеческой деятельности, определяемой
относительно свободным выбором, присущим человеку и
непосредственно не связанным с провидением, божественным
замыслом), а также добрым и злым, активным и страдательным
одновременно. Но, увы, в конечном счете всегда оказывается, что
двойственность обязательно имеет религиозно-мистический
характер. Лейбниц не в силах расстаться с ним... Он этого не может,
не хочет и не сделает никогда. Религиозно-мистические и
метафизические путы мешали дальнейшему продвижению Лейбница
по пути к диалектике.
Религиозно-философское влияние Средневековья на
философию Лейбница было столь сильным и очевидным, что в целом ее
до сих пор называют провиденциалистской (X. Гёффдинг),
формально-логической (Б. Рассел) и схоластической. Последнее
мнение, не менее ошибочное, чем остальные, было особенно
распространено в дореволюционной России. «Философский гений
Лейбница мы должны признать принадлежащим еще старому
времени, - рубил с плеча Н. Иванцов. - В обшем философия
Лейбница... носит все характерные черты старой схоластики. Так же
как последняя, она вращается главным образом около
религиозных вопросов, пользуется теми же терминами и представлениями
и из картезианской философии берет главным образом ту ее
сторону, которая сама является наследием той же схоластики...
Задача философии Лейбница дать систему, разумную систему
вселенной, которая была бы совершенно согласна с основными
положениями господствующей догмы. Эта система носила все
характерные черты схоластики. Это была та же придуманная
мировая премудрость, которая умещалась на 20 небольших страницах.
Так как лютеранская догма была проще католической, то вместе с
ней естественно упростилась и ее схоластика». Но не меньшее
влияние на учение Лейбница оказали философия и наука Нового
времени. И вряд ли справедливо характеризовать влияние
Средневековья как более сильное и более воздействовавшее на форму
Двойственный характер личности и учения Лейбница
99
учения Лейбница в противоположность влиянию Нового времени
как более слабому и воздействующему исключительно на
содержание этого учения.
Более прав Герье, который отметил, что, завершая
«религиозный период» истории западноевропейской мысли, Лейбниц
открывает ее «научный период», отличающийся стремлением
общества глубже постичь мир, открыть законы, управляющие
явлениями, внести точность и научность исследования во все отрасли
знания. Символизму средневекового мышления, мистической
архитектонике и схоластической громоздкости знания Лейбниц
противопоставлял ясность, точность, научность, рациональность,
оптимальность, эффективность и практичность. Он не случайно
был великим математиком, писал Герье, его желание применить
математический метод ко всем наукам, в том числе политическим
и юридическим, преследовало цель внести ясность и точность во
все сферы знания. Ему присуще постоянное стремление
обогащать практикой все без исключения теоретические
представления и, наоборот, удовлетворить теоретические потребности
техники, промышленности, экономики, политики, узаконить и
повсеместно распространить эксперимент во всех науках. Причем
это должно быть сделано во имя и на благо цивилизованного
человечества - христианского населения Центральной Европы. Это
было революционным переворотом в истории научной и
философской мысли; хотя прежде нечто подобное, вероятно, уже
происходило, например, в ходе зарождения философии из
мифологии. «Лейбниц, содействуя торжеству новых начал, не отнесся
враждебно к прошедшему. Философ, открывший закон
непрерывного развития, не мог допустить, чтобы новый период в
истории человечества был полнейшим отрицанием
предшествующего». В этом Герье справедливо видит главное отличие Лейбница от
других великих его современников - Декарта, Ньютона и Локка,
«односторонне примкнувших» к новому.
Однако, подобно Дон Кихоту, человеку, по выражению
Герцена, «пережившему свой идеал», одному из «людей последнего
прилива, оставленных отливом в тине и слякоти», Лейбниц слишком
рано попытался внести будущее в настоящее.
Поэтому, утверждает Гейне, «между его бедным телом, в
особенности спиною, и фактами современности возникали
болезненные трения».
100
1. Пролог к эпохе
От Лейбница к Гегелю
Историю философии принято делить на четыре
основных этапа, а именно: на мифологическую философию
Древнего Востока (Индия, Китай), натурфилософию Древней Греции
и Рима (от Пифагора до Платона и Демокрита), идеалистическую
классическую немецкую философию (Кант, Фихте, Шеллинг и
Гегель) и, наконец, диалектико-материалистическую
марксистскую философию (Маркс, Энгельс, Ленин). Установки
философского учения Лейбница и само оно в целом принадлежит прошлому
в учениях Пифагора, Платона, Демокрита, Эпикура и Аристотеля,
настоящему - в учениях Декарта и Локка, будущему - в учениях
И. Канта, И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинга и Гегеля. Вместе с тем это
учение основано на всей философии, религии и науке и культуре
своего времени, а в рамках последней прежде всего, конечно,
логике, математике и механике, хотя в отличие от своих
современников Декарта и Спинозы Лейбниц не абсолютизировал
последнюю, считая, что она имеет теологическое основание. Именно
такая универсальная и общенаучная позиция стала необходимым и
достаточным условием, которое вызвало уникальный научный и
психологический климат, общеметодологический настрой,
особое видение мира. В нем одном только и могла возникнуть
единственная и неповторимая, как произведения древневосточного и
античного искусства, двойственная в своей средневековой
буржуазности монадология Лейбница.
Если говорить о связи Лейбница с будущим, то его, а позднее
Гете, философское учение - это мостик от античной к
классической немецкой философии. Если говорить о связи Лейбница с
историко-философским прошлым, то учение и личность,
мировоззрение и жизнь нашего философа в известном отношении могут
рассматриваться как мифологические, ибо тесно связаны с
мифологией и мифологическим, буквально насыщены им.
Мифология древности, материалистическая диалектика и
современная теория систем генетически связаны. Учение Лейбница
было диалектическим отрицанием двоичности (полярности) как
древневосточной и античной концептуальной
мировоззренческой формы, в рамках которой и благодаря которой начали
постепенно складываться и развиваться зародыши представлений о
системе, организации, самодвижении и их единстве.
Непосредственное этой самой формой и этими самыми представлениями бы-
От Лейбница к Гегелю
101
ли органически связаны древневосточный и античный этапы
становления и развития диалектики.
Поэтому лейбницевское учение — это, помимо всего прочего,
возрожденное, произведенное почти заново и поднятое на новую,
более высокую ступень дальнейшее обоснование характерных
прежде всего для древневосточной (мифологической) и античной
философии взглядов на системность, организованность,
самодвижение и их единство. Это своеобразное относительное их
повторение, «второе рождение» на следующем «витке спирали»
истории диалектики, философии, культуры и общества, на новом
этапе их развития. Причем этот характерный для лейбницевского
учения «повтор» относится не только к мифологическому и
диалектическому, но и к системному как чисто
(специально)-научному выражению диалектического, следовательно, связан и с
современной теорией систем (системным подходом), о чем я еще буду
писать.
Если в философских учениях Лейбница и Гете, которые по
сравнению с античной философией представляют собой новую,
более высокую ступень, мы видим уже не исходные пункты,
зародыши, а более развитые предпосылки системно-теоретических
представлений, то сами представления, полученные из этих
предпосылок, мы находим в более или менее явном виде только у
следующих за Лейбницем и Гете философов, а именно: у Канта,
Фихте, Шеллинга, Гегеля.
Жизнь Лейбница - яркое выражение европейского духа на
грани XVII—XVIII вв., характерного для мыслящего человека
эпохи Возрождения, а может быть, и более поздних переходных эпох.
Этот дух уже утратил, хотя и не до конца, свою всеобщность
(универсальность), полноту, целостность, склонность к родовым
интуитивным ассоциативным связям, гигантским
обобщениям-догадкам космического масштаба. С «картинами мира» если и не
было еще покончено, то они, конкретизируясь, уже дряхлели,
уменьшались и ветшали прямо на глазах. И общее внимание
ученого мало-помалу устремлялось на изучение не самих картин и
того, что на них было изображено, а на изучение различных деталей
этих картин, раму и холст, на классификацию всевозможных
оттенков письма, анализ химического состава красок, коими
картины эти были написаны. Как будто от знания этого мы лучше
поймем суть картины и получим впечатление о ней в целом!
Унаследованная от Средних веков сухая, абстрактно рационалистическая
102
1. Пролог к эпохе
формалистичность, фрагментарность и т.п. начала занимать
место прежних сочных, живых философских и научных
систем-догадок. Процессы уступили место своим собственным моментам и
отдельным состояниям, интеграция -дифференциации, синтез -
анализу, содержание - форме. Слона стали изучать под
микроскопом, отчасти забыв, что это слон.
Этот странный сплав прошлого и настоящего отразился в
жизни, мировоззрении и личности Лейбница, образуя поистине
средневековую «драму идей» (А. Эйнштейн) и одновременно
буржуазную «комедию жизни».
Обе они взаимодополняли друг друга, сравнительно тесно
сопрягались, но не представляли собой какого-либо единства из-за
своей относительной независимости, автономности.
Существовали же они по той причине, что в конечном счете религия, а
именно, вера в свое божественное предназначение, обусловив
нонконформистский отказ Лейбница от социально обеспеченного
существования «как у всех людей» его круга, привела Лейбница к
практической необходимости постоянно вести наряду с
собственно человеческой, «сокровенной», неофициально, вторую,
«явную», гражданскую, так сказать, служебную жизнь,
трагикомедий ну ю в своей ненужности и бессмысленности. Она-то и была
иллюзорной, нереальной его жизнью, которая, однако, была
неплоха уже тем, что позволила Лейбницу выйти в социальную,
экономическую, политическую, научную, техническую и другую
сферу общественно-производственной практики.
Так, жизнь Лейбница неизбежно становится драмой
вследствие своей необходимой раздвоенности, двойственности и
одновременно того постоянного богатства, полноты реальной жизни,
которых не дано или в гораздо меньшей мере дано было вкусить
Гегелю в универсальном, целостном, хотя и совершенно
бесплотном мире его «абсолютной идеи».
В философии Лейбница, а также в его жизни постоянно
противоборствуют две принципиально непримиримые
необходимости: одна - мрачно-нудная, а другая - веселая, оптимистическая,
чувственная, телесная, мирская, материальная,
естественно-научная. Пытаясь установить «мир и согласие» между ними, он
идеалистически, но по-своему решал основной вопрос философии.
При этом Лейбниц вовсе не был простым «примиренцем»,
«гением компромисса». Уж скорее таковым был Гегель.
От Лейбница к Гегелю
103
По-видимому, при всей своей «скучности» (Б. Рассел),
нерешительности, вспыльчивости, черствости и других недостатках
Лейбниц был все же более цельной натурой, чем Гегель. Лейбниц
не сажал «дерево свободы», чтобы в конце своей жизни его
«вырыть». Он всегда был скрытым нонконформистом в отличие от
Гегеля, по какому-то странному подобию геккель-мюллеровского
закона ставшего на закате своих дней явным конформистом и
бюргером, филистером и националистом, расистом и
реакционером.
Подобно Платону и другим идеалистам, Гегель интересуется
природой, миром, практической реальной жизнью лишь
постольку, поскольку в них таится абсолютная идея как их субстанция. Он
считает их по отношению к идее несущественными,
иллюзорными, примитивными. На природу, мир берлинский профессор
смотрел свысока и отвлекаясь от них, отказывая им в развитии как
второсортным, второстепенным, как вторсырью для абсолютной
идеи.
Отношение Гегеля к реальной жизни, практике
противоположно отношению к ней и Лейбница, и скончавшегося за 22
года до рождения нашего героя Якова Бёме, философа-пантеиста
и мистика. Последний, как ни странно, чувствовал к
практической жизни какое-то личное, бессознательное
предрасположение. Оно, вероятно, определялось не столько сапожническим
ремеслом, которым он жил, сколько его пантеизмом,
натурфилософией и мистикой. Ведь, вообще говоря, и от нее, требующей
непосредственного общения субъекта с богом, тянется ниточка к
прикладной науке, тоже требующей непосредственного общения
ученого с объектом исследования, с природой, объективной
реальностью. Вследствие неразвитости наук в тогдашней Германии
Бёме нащупал свой, оригинальный путь познания
действительности. Он выходил в практику прежде всего через свое мистическое
чувство, бессознательно. Учение Бёме открывало
западноевропейской мысли дорогу для абсолютизации сенсуализма в познании.
Но она не использовала этот шанс.
Научное общественное сознание сделало выбор в пользу
логического рационализма Декарта и главным образом Лейбница,
хотя тот и другой тяготели к практике, чувственно-физической
реальности. Движению в направлении к чувству помешал в то время
Целый ряд как собственно научных, так и исторически
социально-экономических причин. Возможность, открытая Бёме, так и
104
1. Пролог к эпохе
не превратилась в действительность. Вместо движения в сторону
указанной Бёме, как мы сегодня знаем, крайности
западноевропейская мысль вдарилась в другую. И с тех пор мы неуклонно
движемся по протоптанному еще Лейбницем пути абсолютизации
рационализма, забыв о возможности другой дороги развития нашей
мысли, о которой когда-то грезил Бёме и на которую мы едва не
свернули.
Лейбниц в противоположность Бёме открыто и осознанно
выходит в сферу практики, необходимо связывая с ней развитие
научных, философских и других теоретических представлений. Эти
представления были религиозно-мистическими, но
религиозность и мистика не имели у Лейбница столь сложного,
лично-субъективного, умозрительного и возвышенного характера,
как у Бёме, а были простыми, здравыми, спокойными и
чувственно-физическими, как нечто официальное и общепринятое,
сохраняли тысячи связей с отживающей средневековой и
зарождающейся буржуазной общественной практикой, с
конкретными условиями жизни реальных людей, забота о просвещении,
цивилизации и благе которых была основной целью
деятельности Лейбница. Совсем не то у Гегеля, совсем не то у Якова Бёме,
хотя Бёме и Лейбниц в этом отношении были все же гораздо
ближе друг к другу, чем к Гегелю. Такой непосредственной,
универсальной, чувственно-физической, материальной практики, как у
Лейбница, и такой многообразной, богатой, универсальной,
чувственной деятельности (чувственности), как у Бёме, Гегель не
знает.
Вероятно, он всегда завидовал таким людям, как Бёме и
Лейбниц, чувствуя себя ущемленным. Они обладали тем, чего он,
по-видимому, был начисто лишен, - полнотой практического,
чувственно-физического, реально-жизненного мироощущения, а
не пустого отвлеченного, рационального миросозерцания. Эти
философские «лирики» если и шли к мистике, то более всего от
чувств, а не от разума, как рационалист и «физик» Гегель и более
поздние, даже современные, по выражению И.С. Тургенева, «ба-
зароиды». В аналогичном отношении современные «физики»
находятся к современным «лирикам», чувствуя в сравнении с ними
свою ограниченность и неполноценность, но не желая в этом
открыто признаться; кичась своим якобы превосходством над ними
и одновременно ощущая свою полнейшую беспомощность и
слабость, на словах отвергая «лириков», а наделе стремясь к ним...
От Лейбница к Гегелю
105
По отношению к Лейбницу Гегель тоже является «физиком», а
не «лириком». В практическом отношении великий диалектик
Гегель был гораздо более метафизически ограничен и односторонен,
чем великий метафизик Лейбниц. Гегель никогда не жил такой
диалектической, скорее чувственно-практической, чем
теоретически счастливой, полной, насыщенной, осмысленной, богатой и
вместе с тем ограниченной, бессмысленной, бедной, несчастной
и внутренне противоречивой жизнью, какой жил Лейбниц: песни
не те и время иное...
Практические политические, экономические и даже
служебные житейски реальные противоречия, с которыми сталкивался
Лейбниц и которые, преломившись, стали неотъемлемой
стороной его личности, жизни, мировоззрения, философии и всего
учения в целом, превратились в философии Гегеля в теоретические
идеально-духовные, иллюзорные, а живая «борьба людей» в
живом, реальном обществе, в которой Лейбниц принимал самое
прямое и непосредственное практическое участие, а именно,
политическое, экономическое, просветительское и т.п., в бесплотную
«борьбу идей» в мире абстрактной мысли.
Живой и относительно реальный, телеологический,
борющийся с собственной механистичностью, практически работающий,
хотя и мистически «дребезжащий», но в каком-то
формально-логическом и математическом смысле теологически «перекошенный»
мир Лейбница превратился у Гегеля в изысканно-мистический,
элегантно упорядоченный, почти до забвения всякой
действительности, к самому себе подогнанный и стройный, по всем правилам
формальной и диалектической логики систематизированный, но,
увы, мертвый, сухой и безжизненный универсальный мировой
гербарий философских идей.
А сам Гегель, если и обладал «раздвоенностью», то не такой, как
Лейбниц, живой, многообразной, сочной, содержательной,
веселой, творческой, играющей избытком сил и, так сказать,
юношеской, авантюристической, максималистской, а стариковской и
формалистической, искусственной и загнивающей. Будучи,
подобно Лейбницу, титаном в бесплотном мире идей и духа, Гегель в
противоположность нашему герою был филистером в мире
социально-политической и экономической действительности. У Гегеля
не было «сокровенной» жизни, а была только
официально-служебная, «явная». Уж он-то дослужился до «начальника отделения»...
106
1. Пролог к эпохе
В этом отношении он был абсолютно, как все. Не потому ли
«абсолютная идея» смогла в его лице познать самое себя?
Гегель имеет больше преемственности с Лейбницем, чем
может показаться на первый взгляд.
Великий Гегель, писал Гейне, это «величайший философ,
порожденный Германией после Лейбница».
Гейне был вполне прав, ставя их «на одну доску», ибо в
известном смысле они - диалектические противоположности: Лейбниц
стремился обосновать революционной в естественно-научном
отношении научно-рационалистической формой своего учения его
внутреннее мистическое, религиозно-идеалистическое
содержание, Гегель, наоборот, идеалистическим содержанием,
субстратом своей системы стремился обосновать форму развития этого
содержания, а именно, столь успешно примененный и
использованный им во всех областях диалектический метод. По мнению
некоторых лейбницеведов, идея прогресса как обнаружения
божественного совершенства, опирающаяся на давнюю
историко-философскую и религиозную традицию, представляет у
Лейбница как бы прямую ах. Гегель ее превратил в замкнутую на себя
систему, ибо в лице Гегеля «абсолютный дух» познает сам себя.
Появляется, таким образом, круговорот, которого в концепции
Лейбница не было или был, но в зародыше.
Другие исследователи Лейбница (например, Д. Манке и
А.И. Сырцов) считают, что если для Гегеля характерен аспект
мелодичности в универсальном развитии и, следовательно, динамика и
диалектика бытия, то для Лейбница характерна гармоничность как
развития, так и того, что развивается, их синтез. У Гегеля развитие
есть мелодия, ритмическая последовательность тонов, а у
Лейбница развитие есть целое, система, как гармоническое
единство аккорда и, следовательно, вытекающий отсюда статический
характер лейбницевского синтеза. «Все противоречия, - писал
Манке, - он заменяет ступенчатыми различиями, все различия
подчиняет высшим связям и заканчивает совершенной
гармонией, созвучием всех противоположностей».
Наконец, не меньшее единство и противоположность между
Лейбницем и Гегелем обнаруживаются, если мы взглянем на их
учение глазами их исследователей и биографов. В этом
отношении Лейбниц и его учение выступают как объект исследования,
требующий, так сказать, дополнительных палеобиографических и
иных археологических изысканий почти во всех отношениях. Он
От Лейбница к Гегелю
107
Не удосужился во всей полноте описать свое мировоззрение и дать
свое учение как систему: последняя далеко не полным образом
изложена в «Монадологии», главном труде Лейбница, и в
существенной своей части «эзотерична» (Б. Рассел), лишь неявно
чувствуется, ощущается в общей массе его далеко не полностью
опубликованного философского и научного наследия, состоящего из
множества его книг, писем и заметок. Кому-то надо это сделать за
Лейбница. Напротив, сам Гегель позаботился о четкости и
стройности, полноте и целостности своего учения. Он проделал всю
необходимую работу для того, чтобы представить свое учение в
качестве целостной системы, и это ему вполне удалось. Его
учение - это «...уж не шеллинговы общие замечания, - писал
Герцен, - рапсодические, не связанные, а целая система, стройная,
глубокомысленная, резаная на меди, где в каждом ударе
отпечатлелась гигантская сила».
Идеализм Гегеля был содержательный, развитый,
конкретный, теоретически сам-себя-мистифицирующий в отличие от,
так сказать, формального, патриархально простого, абстрактного
и практически самого-себя-мистифицирующего религиозного
или теологизированного идеализма; это то, чем идеализм
Лейбница неизбежно станет впоследствии; то, во что он еще разовьется...
Поэтому оба они суть начало и конец некоего перехода мысли в
свою противоположность в рамках исторически определенного
периода развития истории философии.
Переход от Лейбница к Гегелю есть переход от
патриархальной религии и специфического немецкого идеализма конца
XVII-начала XVIII в. к развитым, утонченным формам религии и
немецкого идеализма Нового времени; от патриархальных,
физически-чувственных религии и идеализма к
абстрактно-теоретическим религии и идеализму. Но в тоже время это переход от во
многом мистического и неразвитого, а потому абстрактного
мышления к развитому, конкретному - в смысле «единому в своем
многообразии» - мышлению. Это переход от предпосылок
немецкой философии к самой этой философии как явлению в его
наиболее развитой и полной классической форме.
Двойственность Лейбница, полярная двуликость Гете,
дуалистическая половинчатость Канта - все это, во-первых,
проявления рецедива античной и даже древневосточной бинарности и,
во-вторых, как бы неясные контуры проступающей диалектики
Гегеля и ее внутренней противоречивости, свидетельство зарож-
108
1. Пролог к эпохе
дающейся (из «чистого тождества») в форме этой бинарности
(«различие») идеи диалектического противоречия, которая под
маской «абсолютной идеи» и на ее основе нашла свое завершение
в философии Гегеля. Поэтому в истории немецкой
идеалистической философии можно рассматривать Лейбница вместе с его
философским учением как некое исходное «нечистое тождество»,
отягощенное если не самим противоречием между мышлением и
бытием, духом и природой, то по крайней мере его первой стадией
развития, а именно: различием с вытекающей из него
двойственностью, раздвоенностью, полярностью, возникающей на
переломах, стыках эпох. Тогда как Гегель со своей философией
представляет заключительную стадию развития этого противоречия в
классической немецкой философии, а именно: антагонизм,
жаждущий разрешения, которое наступило благодаря выходу на
историко-философскую авансцену новой, марксистской философии.
Она впервые достаточно явно и ясно осознала, сформулировала и
для себя и масс открыто решила «основной вопрос» философии,
но, разумеется, не устранила ни его самого, выступающего как
противоречие между мышлением и бытием, ни его полюсов, ни их
отношения.
Она никогда и не ставила перед собой такой задачи, ибо
раздвоившееся и внутри-себя-соперничающее диалектическое единство
мышления и бытия (материи) всегда будет существовать, пока жив
человек. Для него оно так же вечно, как существование «основного
вопроса» философии и ее самой, как вечна имманентно присущая
человеку раздвоенность, по крайней мере на душу и тело.
По крайней мере.
Идея собственной исключительности
в учениях Лейбница и Гегеля
По-видимому, еще древние пророки, обличая
настоящее и прорицая будущее, обладали, сами того не осознавая,
чрезвычайно сильным чувством своего высокого предназначения.
В Средние века чувство это превратилось в теологическую идею
собственной исключительности как знака особой уникальной
сопричастности отдельного индивида мировому божественному
целому («богу»). Эта идея всегда была в той или иной мере
свойственна всем действительно выдающимся мыслителям Германии,
Идея собственной исключительности в учениях Лейбница и Гегеля 109
всей классической немецкой философии вообще. Лейбницу,
находившемуся у ее истоков, эта идея была присуща в скрытой
протестантски наивной, религиозно-мистической форме. Эту же
идею, проявляющуюся с не меньшей силой, но уже в явной,
рафинированно-религиозной и «онаученной», идеалистически
спекулятивной форме можно наблюдать у Гегеля - философа, по
словам Энгельса, завораживающего собой классическую
философию, а в ее лице вообще всю философию в прежнем смысле слова;
но мне кажется, что это - преувеличение.
Лейбниц, как человек, с момента своего появления на свет
генетически, т.е. чувственно-физически, материально сопричастен
божеству. Именно так, вполне в духе провиденциализма XVII-
XVIII вв., считали по крайней мере отец Лейбница, он сам и его
ближайшие родственники. Об этом толковали и жители Лейпцига, у
которых на этот счет были свои основания, о которых я скажу позднее.
Причем Лейбниц сопричастен божеству по милости
избравшего его бога, т.е. предустановленной мировой гармонии. Иначе
говоря, не по своей, а по сверхъестественной воле,
субъективно-мистически, односторонне (метафизически) и раз навсегда, до
самой своей смерти. А может быть и после нее. Именно благодаря
своей такой божественной сопричастности Лейбниц, выступая
как философский, религиозный, общественно-политический и
научный деятель, считал себя способным выразить волю
Провидения и соответствующим образом практически воплотить ее в
жизнь как свою, так и всего цивилизованного христианского
общества.
Напротив, божество идеально теоретически сопричастно
Гегелю, а не он божеству; и это было в духе буржуазного
индивидуализма. Причем и сопричастность-то уже не божество, как во
времена Лейбница, а мировая субстанция в виде «абсолютной идеи».
И не беспрерывно, как у Лейбница, а начиная, по-видимому, с
того момента, когда гегелевское учение стало ясно по крайней мере
его собственному создателю; и сопричастно ему не как человеку,
генетически, не врожденно, а в качестве объективной истины; и
не столько чувственно, сколько религиозно-теоретически, а
самое главное - сопричастно внутренне противоречиво,
диалектически.
Гегель и Лейбниц сходны в том, что все сущее, как некая
самостоятельная, вечная и в своей основе неизменная реальность, есть
всеобъемлющее и определяющее целое, которое Гегель называет
110
1. Пролог к эпохе
«системой», а Лейбниц «гармонией». Но у Лейбница это целое
воплощено в статистической монаде, извне созданной и
запрограммированной Богом как гармония, а у Гегеля - в диалектически
саморазвивающейся «абсолютной идее», саму себя до конца
познающей в гегелевской философии и на том прекращающей свое
дальнейшее движение. Тем самым непрерывная, вечная,
метафизически односторонняя лейбницевская сопричастность
божественному диалектически компенсируется или дополняется
(«снимается») и конкретизируется прямо противоположной
диалектической сопричастностью божества - Гегелем. Иначе говоря,
возвращением божества к Гегелю как к самому себе, т.е.
диалектической трактовкой отношения одного и многого, части и целого,
отдельного и общего; диалектикой их взаимоперехода как
частного случая диалектики развития всего абстрактно-теоретического,
в частности философского, мышления.
На религиозно- и философско-просветительском рынке
гегелевская сопричастность, очевидно, должна была котироваться
намного выше, чем лейбницевская. Ибо вместо мировой гармонии
монад как некой все-заполняющей беспрерывной структуры
(организации), напоминающей всеобъемлющую, самоизменяющуюся,
но неподвижную божью сеть, в узлах которой вечно находятся
монады, в гегелевском учении мы имеем некое все определяющее и
увлекающее за собой, вечно диалектически изменяющееся и
саморазвивающееся целое, или «абсолютную идею», во всех
отношениях представляющую собой столь же неподвижную, как и у
Лейбница, систему. Сопричастие корифея Гегеля этой «абсолютной
бедняжке» настолько сильно и велико, что, как я себе представляю,
она обречена целиком, вся без остатка и, быть может, даже со
свистом втянуться в голову великого кормчего берлинской и,
следовательно, мировой философии, дабы познать таким ужасным
образом в данной голове саму себя и вследствие того навсегда
прекратить какое бы то ни было дальнейшее развитие на свете всякой
философии вообще.
В своих идеалистических учениях и Лейбниц, и Гегель
стремились методологически использовать «божественное целое» в
равной мере, но во взаимно противоположных целях: Лейбниц
«подтягивал» себя к этому целому, подстраивался и приспосабливался
к нему, а Гегель «подтягивал» это целое к себе, пристраивал,
подгонял его под себя. Лейбниц считал себя божественно скроенным,
а Гегель кроит божество по себе, по-гегелевски.
Идея собственной исключительности в учениях Лейбница и Гегеля 111
Если Лейбницем управляла - и он от себя это не скрывал - идея
о своей уникальной сопричастности божеству как некой
нерасчленимой далее, кроме как на монады, целостности, а именно:
предустановленной гармонии, то Гегель сам управляет
поведением мысленно и теоретически расчлененного им божества
(«абсолютной идеи»), универсально и логически безупречно стройно
конструируя его и вынуждая в конечном счете прийти к нему, к
Гегелю, стать сопричастным его философии, хотя и притворяется,
что это происходит не по его, Гегеля, воле и желанию, а как бы (als
ob - любимое выражение Канта) объективно и само собой со
стороны этой субстанции...
Такое оборачивание представлений чем-то напоминает о
противоположности взглядов Птолемея и Коперника при переходе от
первых ко вторым, а также о слетании и разлетании галактик в
концепции пульсирующей Вселенной. Но в конечном счете с
божеством обошлись по-божески: из философии Лейбница оно
было бережно, как фоб с близким человеком, перенесено в
философию Гегеля через ряд промежуточных философских учений. Оно
от этого ничуть не пострадало: может ли страдать то, чего нет?
Страдало другое.
Подобно тому как мистически настроенное естествознание
XVII в., подвергаясь дантовым мукам, утопало и не могло утонуть
в мистически зыбкой трясине лейбницевского учения, так и
идеалистическая диалектика Гегеля испытывала те же муки,
полузадушенная его жесткой и твердой консервативной системой, его раз
навсегда данной и установленной исходной божественной сетью
категорий. Идеализм задушил, задавил гегелевский метод,
гегелевскую диалектику не в одиночку, а в союзе с метафизикой,
религией и мистикой. Одному ему это сделать было не по силам...
Теология, наивно мистическая религиозность и мессианизм
никогда не оставляли немецкую философию независимо от того,
обнаруживались ли они в своем практическом осуществлении
(форме) столь субъективно-бесхитростно и житейски обыденно,
как вера Лейбница в свое индивидуальное божественное
предназначение, или, напротив, в сложной, абстрактно-теоретической
форме «абсолютной идеи», коей было предопределено с железной
объективной необходимостью вернуться прямехонько именно в
голову Гегеля, а не в... чью-нибудь другую.
В обоих случаях мы имеем дело с одной и той же верой в свое
божественное предназначение. С той только разницей, что во вто-
112
1. Пролог к эпохе
ром случае вера эта выражена в более утонченной, мыслеподоб-
ной, наукообразной форме. Поэтому в период от Лейбница до
Гегеля в немецкой идеалистической философии ничего
существенно не изменилось в том смысле, что одна «общая отвлеченность»
(В. Соловьев) и односторонность была заменена другой. На смену
одной метафизике, откровенно примитивной и неуклюжей,
пришла другая, более усложненная и хитроумная. Новое, более
рафинированное божество встало на место старого, простого; подобно
тому, как буржуазная форма частной собственности выросла из
сравнительно примитивной, феодальной, на ее основе; или
подобно тому, как в 1960-е гг. мы дружно сменили бабушкину и
дедушкину мебель на более современную, как нам тогда казалось, но
много ли мы от этого выиграли?..
Возможно, Гегель более глубоко, чем Лейбниц, скрывал от
самого себя и других - вполне в духе его общества - мысль о
собственной исключительности и особой сопричастности себе
«абсолютной идеи». Но разве можно говорить об отсутствии этой
мысли у Гегеля после того, как он всенародно признал почти
божественную исключительность своей универсальной
философии, считая ее единственно возможным, прямо-таки до
современной агрессивности необходимо навязывающим себя народам
всех стран и всегда до тошноты бесконечно однообразно
предопределенным («предустановленным», как и гармония у
Лейбница...) завершением всей истории форм инобытия «абсолютной
идеи» как истории «одежд» божественного целого, а саму эту
конфекционно тоталитарную идею отождествил со своим умом,
равно как и ее последнюю государственную форму - со своим
прусским монархическим государством, верноподданным
которого был?
Лейбниц и Гегель суть «краевые», или предельные, случаи су-
шествования религиозной идеи сопричастности. В них она
выражена наиболее ярким и взаимоисключающим образом.
Но между этими полюсами есть множество переходных
ступеней. Мы видим их в учениях Канта, Фихте, Шеллинга и ряде
других менее крупных и более забытых в наше время философов и
мыслителей Германии. Всем им в той или иной мере и форме
присущи эта идея и обусловленная ею раздвоенность, наибольшей
своей степени достигшая у Лейбница в жизни, а у Гегеля в теори и.
...Какую же из них хотел бы иметь ты, мой любезный читатель?
Ах, я забыл о цельности твоей натуры... Но тогда: чем ты так
расстроен?
Идея собственной исключительности в учениях Лейбница и Гегеля 113
Не притворяйся цельным,
Ведь это так смешно,
Себя ведь не обманешь -
Раздвоен ты давно:
Есть два глаза и два уха,
Две челюсти сжимаются,
Два локтя толкаются,
Две руки болтаются.
Две ноги несут твою
Раздвоенную задницу,
И в две ноздри ты нюхаешь
То, что ей не нравится...
За исключением этого г... -
Не знаю к счастью иль несчастью -
Душа у нас всего одна.
И, тем не менее, она
(прикройте крепче дверь)
Теперь, видать, в связи
С техническим прогрессом,
С развитием наук, к культуре
интересом
Насквозь расколота,
Раздвоена...
Присмотрись-ка к себе:
Разве ты не раздвоен?..
И также, как ты,
Все скрывают от всех,
Что каждый уже этим болен.
За исключением разве одних
только
Животных и растительности
Цельными и открытыми,
- Изо всех сил
Притворяются все,
Хотя уже давным-давно
Раздвоены в действительности.
ЛЮТЕР И МЮНЦЕР
...Стою меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами моими
Молюсь за тех и за других.
М. Волошин
Возрождение и Реформация
Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.
А воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.
А. Блок
Постоянные пассажиры московского автобуса
№ 64, который в то время, пока я пишу, неторопливо едет мимо
Новодевичьего монастыря, где у древней краснокирпичной
каменной стены, ниже вывески «Цветы», Петр Первый некогда так
ловко укоротил восставших стрельцов на голову, что этим
положил начало традиции хоронить на монастырском кладбище
только очень уж выдающихся особ, хорошо знают, что именно на этой
остановке начинают суетливо карабкаться в переднюю дверь
автобуса сгорбленные, но румяные от свежего воздуха богомолки.
У них своя традиция: одетые в черное и похожие на ворон, они
никогда не платят за проезд, хотя, казалось бы, только что
общались с Тем, кто вместе с контролером непременно осудил бы такое
их поведение.
Корни второй традиции примечательны не менее, чем у
первой. И они тоже уходят в глубь веков: ведь нет ни человека, ни
религии, в которых не боролись бы естественное и искусственное
(извне навязанное, насильственное), индивидуальное и
общественное, человеческое и божественное, антирелигиозное (еретиче-
2
Возрождение и Реформация
115
ское) и религиозное, дьявольское и божественное... Первое
обусловлено самим верующим как человеком, его личностью,
натурой, а второе - особенностями его религиозного верования и ее
объекта, в частности ниспосланных Богом, или богами,
поведенческих норм жизни. Поскольку Бог в качестве высшего и
абсолютного Контролера такого «автобуса», как наш мир, уж, конечно,
знает не только о том, кто едет зайцем, но и кому когда сходить...
Но в человеке Дьявол и Бог в своей извечной борьбе не равны.
Благодаря религии человеческое в человеке всегда принижено,
подмято. Бог торжествует в общем и целом, хотя «благодать пре-
оборима», и Дьявол в отведенные ему Богом ограниченные
промежутки времени способен вдоволь порезвиться и натворить бед.
Христианская приниженность человека и всего человеческого
достигла своей кульминации в развитом Средневековье и
усугублялась тем, что церковь все сильнее третировала человеческое как
нечто поверхностное, преходящее и греховное и по возможности
всесторонне изгоняла его из веры. Ужасно, что вместе с тем она
объективно изымала из веры - а в те времена это означало «из
жизни» - и самого верующего... Казалось, что над родом
человеческим все более сгущается и нависает тьма адская, которую
историки-медиевисты называли «ночь Средневековья»; и что душа
человеческая все более оскудевает по мере того, как накапливалось
богатство церковное (материальное, вещественное,
несовместимое со взглядами церкви и, следовательно, нечеловеческое). Град
божий становился градом земным, а тенденция к религиозной
нищете, аскезе оборачивалась увеличением, накоплением и
укреплением экономического, финансового, политического
могущества католической церкви.
Тем не менее тот же самый процесс и та же тенденция несли в
себе и укрепляли в качестве оборотной стороны другие,
совершенно новые, ранее неслыханные для феодального общества
взгляды, представления, чувства, которые помогли
наступающему Возрождению побороть темную ночь Средневековья... «Уже
зашевелился дух протеста», писал Гейне, в области наук,
искусства и жизни. Земное шло на смену небесному. Европа увлечена
древней греческой и римской литературой; ученые - единственно
образованные в то время люди - обратились к знанию о природе и
человеке, чтобы уразуметь современность и окончательно
уничтожить остатки феодального миросозерцания. Возродились
науки, открыты Америка и морской путь в Индию. «Казалось, люди
116
2.ЛютериМюнцер
почувствовали себя вдруг освобожденными от тысячелетних оков;
в особенности свободно воздохнули художники, когда как бы
рассеялся душивший их христианский кошмар; с энтузиазмом
ринулись они в кошмар греческой жизнерадостности, из пены
которого вновь подымались пред ними богини красоты; живописцы
вновь рисовали благовонную радость Олимпа; со старым
увлечением скульпторы вновь высекали из мраморных глыб героев
древности; поэты вновь воспевали дом Атрея и Лая; начался период
новоклассической поэзии». «Разве могучие мраморные изваяния
Микеланджело, смеющиеся лица нимф Джулио Романо и
упоенное жизнью веселье в стихах маэстро Лодовико не являются
протестующей противоположностью старчески угрюмому,
изможденному католичеству?» - спрашивал Гейне и был совершенно
прав. Так темная ночь Средневековья, летаргический сон
человечества (которые, заметим, вовсе не были ни тем, ни другим)
сменились Ренессансом (возрождением, т.е. возрождением
древности) - этой, по выражению Гегеля, «утренней зарей»,
возвестившей после страшной ночи о приходе нового дня, нового
миросозерцания и жизни.
В центре внимания Возрождения - реальный мир и реальная,
живая, вполне «земная» человеческая личность, ее жизнь в
социально-интенсивной атмосфере торгового и промышленного города,
жители которого - предшественники буржуазии, а сам он -
первоначало экономического прогресса; требование государственной
независимости Италии от папы и германского императора; борьба
гуманистов за независимую от теологии светскую науку и культуру.
Ясно, что за столь сравнительно краткий момент перехода и
обусловленного им периода, в котором господствовало
умственное течение, названное Ренессансом и гуманизмом (т.е.
стремлением к чистоте - светской, а не богословско-схоластической
образованности), старое, отжившее не успело отмереть, а новое -
сформироваться и созреть, окрепнуть. Все сдвинулось, поэтому в
людях Ренессанса сочетались и уживались несочетаемое и
несовместимое: способность наслаждаться жизнью и аскетизм,
восторженность и скептицизм, языческий, аскетичный мир и
ортодоксальное христианство, интеллектуальная любознательность,
тонкое понимание красоты и грубая беззастенчивость. Словом, по
пословице: «с медом на устах, с коварством в сердце»... Новая
эпоха, однако, была не менее внутренне противоречивой, чем
прежняя, и это уже с самого начала обозначилось двумя течениями, ко-
Возрождение и Реформация
117
торые ее открывали, - светским и религиозным, Возрождением и
Реформацией.
Детские впечатления, вероятно, сохраняют в
аккумулированном виде свою генетическую связь с идеологиями давно
прошедших эпох и обществ. «Книжный шкап раннего детства - спутник
человека на всю жизнь, - писал О.Э. Мандельштам. -
Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как
цвет, высота, расположение самой мировой литературы». Но ведь
в Средние века - не дети, а взрослые воспринимали мировую
литературу, науку, культуру точно таким же непосредственным и
буквальным детским образом, т.е. как некие самостоятельные
вещественные ценности, материальные объекты высокого
предназначения. Кто ими владел или мог воспользоваться, тот в
буквальном смысле слова обладал могущественными, вполне
осязаемыми силами и ценностями. Поэтому, между прочим, и тогда книги
для сохранности запирали от гостей на замок и держали на цепи.
...Разглядывая огромную, с металлическими застежками,
толстую книгу, неуклюже и доморощенным образом переплетенную
в свиную кожу или в мягкий сафьян и ржавой цепью
прикрепленную к месту своего хранения; смотря на ее источенные,
изъеденные, в пятнах сырости и ожога засаленные страницы; вдыхая
слабый, еле ощутимый запах ее прошлой жизни, невольно
проникаешься уважением к этому испещренному шрамами старому
воину, от которого исходит дух откровенностей суровости и
жесткости его молодости. Сколь ценным, прямо-таки жизненно
необходимым должно было казаться содержание этой книги ее
современникам, можно судить уже потому, что все, что мы сегодня
вкладываем в понятие культуры и науки, в те далекие времена
целиком и полностью отождествлялось вот с этой самой, данной
книгой. Ее появление на свет и приобретение, хранение,
всевозможные невероятные события, в которых она, быть может,
участвовала, ее окутанное тайной перемещение в пространстве и загадочная
судьба во времени, ее многочисленные путешествия и
приключения и, наконец, ее потеря и гибель были для людей Средневековья
действительно, на самом деле рождением, приобретением,
хранением, перемещением, потерей и гибелью всей науки и культуры
на той или иной определенной территории.
Книга была не частным проявлением общей науки и культуры,
не выражением их Я. Она и была этой наукой и культурой, а они
были ею. Поэтому владеющий книгой владел ими в буквальном смысле
118
2. Лютер и Мюнцер
слова, поэтому на книге божились и клялись, ее оберегали как
зеницу ока, чувствуя, быть может, таящуюся в ней ее еще не до конца
раскрытую, неведомую могущественную силу, способную разнести
хижины, дворцы и храмы... Но вряд ли кто мог догадаться, что этот
воин пойдет против своего военачальника, что создаваемая под
покровительством церкви, она рано или поздно в клочья разнесет
свою покровительницу и, потеснив религию, принесет людям -
относительное и всегда только относительное! - самоосвобождение.
Великий чародей Иоганнес Фаустус, ученый доктор, который,
изучив все науки, продал душу дьяволу за возможность наслаждаться
плотскими утехами на земле, жил, по преданию, во время начала
Реформации. Ему, по словам Гейне, приписывали изобретение
книгопечатания как искусства, которое принесло знанию такую победу
над верой, что в конце концов отдало нас во власть дьявола. Ибо
книгопечатание, лишив нас католической душевной
безмятежности, повергло в сомнения и революции. Люди осознали потребность
не в одном небесном, но и в земном равенстве; поняли, что
политическое братство, проповедуемое философией, благодетельнее чисто
духовного, к которому зовет христианство. Наконец, само
появление книгопечатания воспринималось как оправдание плоти,
сближение человека с дьяюлом и, следовательно, отречение от Бога; как
материальное наслаждение духа, обусловленное тем, что «и знание
становится словом, и слово становится делом; и мы еще при жизни
можем обрести блаженство на земле...», - писал Гейне.
В 1440 г. полировщик зеркал И. Гутенберг начал набирать
отдельными металлическими литерами и тискать набор на бумагу
нажимом винта пресса, не зная, что в далеком Китае задолго до
него эта идея была осуществлена. В 1456 г. появилось печатное
издание Элия Донате в Европе. По нему в романе Рабле начал учить-
Возрождение и Реформация
119
ся Гаргантюа. По всему европейскому континенту от 1470 до
1500 г. было напечатано более 10 тыс. книг и памфлетов, большей
частью в Италии. Из этого числа в Венеции было напечатано 2835
книг, в Милане - 625, в Болонье - 298, в Риме - 295, в Париже -
751, в Кёльне - 530, в Нюрнберге - 382, в Лейпциге - 351, в
Базеле - 320, в Страсбурге - 526, в Аугсбурге - 256, в Майнце - 134, в
Левентере - 169, в Лондоне - 130, в Оксфорде - 7. В 1507 г. во
франции была напечатана первая греческая книга. Наиболее
известными типографами XVI в. были Альд Мануций Старший,
Иоганн Фробен, Бадий. В целом формат книги постепенно
уменьшался. От излюбленного поздней античностью и ранним
Средневековьем формата ин кварто и громадных, высотой 40-48 см
фолиантов, главным образом по церковному и гражданскому
праву, монастырских библиотек XII в. книга эволюционирует к
большему разнообразию объемов и форм. Первые газеты появились во
время турецкой войны в Венеции в 1563 г., они были рукописные.
«Gazzette de France» вышла только в 1631 г. Вообще, чем дальше на-
ходилась страна от Италии, тем ниже было ее умственное развитие.
В XVI в. в Германии появились так называемые реляции - письма
дипломатов, должностных лиц, а также брошюры или летучие
листовки, т.е. написанные в форме диалогов сообщения о
политических и религиозных событиях того времени, о придворных
празднествах, открытиях в Америке, итальянских войнах и т.п.
Своеобразным переходом от реляции и летучих листков к
собственно газетам были периодически появлявшиеся календари,
книгопродавческие каталоги (первый появился в Аугсбурге в
1564 г.) и так называемые «Postreuter», содержавшие обозрение
событий текущего года. В XVII в. стали периодически появляться
большие тома сборников, актов, манифестов, реляций и брошюр.
В газетном деле Германия не была на первом месте, но раньше
других наладила периодический выпуск газет в короткие сроки.
Например, в 1615 г. во Франкфурте выходит еженедельная газета
Эгенольфа Эммеля, в 1616 г. - еженедельная газета И. фон дер
Биргдена, правителя имперской почты, а в 1619 г. появляются
газеты в Гильдесгейме и Нюрнберге, а вскоре в Аугсбурге, Кёльне,
Пассау и Вене. В Берлине первая правильно выходящая газета
появилась в 1665 г. Газета «Гамбургский корреспондент» долго
была наиболее читаемой газетой в мире.
...Огромное количество книг (от 165 млн до 220 млн), которое
было выброшено на рынок между серединой и концом XV в., по-
120
2. Лютер и Мюнцер
зволило современнику опрометчиво заявить, что «вскоре будет
напечатано столько книг, сколько не было выпущено за пятьсот
лет, так что жизни трех человек не хватит, чтобы прочитать только
половину названий всех томов». Однако до настоящего прогресса
в книжном деле было очень далеко, ибо тогда никто и думать не
мог о возможности сдать книгу в макулатуру.
Удар по церкви книгопечатание нанесло, во-первых, тем, что
отделило ее от государства, сделав сообщение между
правительством и народом прямым и без всякого посредничества духовенства,
тогда как раньше, до изобретения книгопечатания, церковь стояла
между правительством той или иной страны и ее народом, а
схоластика как главное орудие церкви стояла между разумом и чувством
индивида, выполняя ту же функцию. Во-вторых, читаемые с
церковной кафедры проповеди, механическое заучивание текстов и
вообще «слушание» как пассивное состояние умов после
появления книг сменилось «чтением» - активным состоянием умов,
творческим действием. На смену внешней деятельности пришла
внутренняя, и это способствовало повышению самоактивности
индивида. Пресса стала соперником «проповеднической кафедре»,
которая, однако, долго ей сопротивлялась. В-третьих, печатание
книг вытесняло латинский язык как официальный и
единственный священный язык католической церкви, необходимый для
унифицированного управления ее международными делами, для ее
абсолютного единства и власти. Вытеснение это было мерилом
упадка Рима, а орудием его падения было повсеместное
формирование национальных языков и европейской литературы.
Печатное слово, по мнению В. Гюго, есть совершенно новое
средство выражения мысли, благодаря которому «мышление
облекается в новую форму, отбросив старую». «Изобретение
книгопечатания, - писал A.C. Пушкин в одном из набросков-планов
своего ненаписанного произведения, - есть своего рода
артиллерия, которая в известном смысле убила зодчество - эту, по
выражению Гюго, великую книгу человечества». А печатный станок,
который Эразм Роттердамский назвал «почти божественным
инструментом», есть вечно живой источник всякой ереси и всех
революций, какие только были и будут. Поэтому Гюго был прав,
утверждая, что Гутенберг был предтечей Лютера.
Но, как говорил Франциск Ассизский, «что из этого
произойдет, увидят после» (Celano II, 264).
Этим «после» была Реформация.
Возрождение и Реформация
121
Реформация - это как бы тень Возрождения; тень, которая,
как это обычно бывает, не больше, а длиннее того предмета,
которому она принадлежит. Причем Реформация - это «северное
Возрождение», в отличие от «южного», или собственно Возрождения,
которое зародилось и происходило главным образом в Италии.
Некоторые историки утверждали, что между Возрождением и
Реформацией существует некий антагонизм, который отнюдь не
ограничивается географическим различием этих двух великих
социальных движений и не исчерпывается им. Тем не менее большею
частью внутренние, присущие этим двум движениям особенности
едины, так как они в конечном счете оба направлены против
основ католической церковной системы, апеллируют к
индивидуальному суждению, разуму, свободе мысли.
Эпоха Реформации знаменует переход к человеку и
человеческому, поворот от веры, навязанной извне, формальной,
поверхностной, к вере внутренней, существенной, естественной;
реформация - это борьба могучего религиозного движения
(протестантства) с системой католической церкви, в лоне которой это
протестантство созрело.
Реформация - это новое отношение европейского общества к
религии, христианской вере, при котором особенно бросалась в
глаза разрушительная, «уголовная», по выражению Герцена,
сторона этого отношения. Как писали Гейне и Уэллс, «авторитеты
низвергнуты, разум остался единственным светочем человека, и
совесть его - единственный посох в блужданиях по темному
лабиринту этой жизни». В человеческой жизни, казалось, «рушилось
все, что было в ней ценного. Вера ослабла, и человечество в
трепете стояло на краю бездны». «Все подвергалось сомнению. Каждый
поступал так, как казалось правильным ему самому».,. Однако за
разрушением таились позитивные, созидательные процессы,
которые только набирали силу,
В основе Реформации, отмечал Гегель, лежит «принцип
собственной духовности и самостоятельности», заключающийся в том,
что человек примиряется сам с собой и божественное вносится в
его деятельность. Реформация есть основанный на этом
принципе переход от потустороннего, от царства внешнего авторитета и
страха к себе бесстрашному, к посюстороннему, в котором «земля
и тела, существующие на ней, человеческие добродетели и
нравственность, собственное сердце и собственная строгость»
приобрели для людей ценность, а разум стал сам по себе чем-то всеобщим
122
2. Лютер и Мюнцер
и потому божественным. Тем самым божественное как разумное
вносится вначале в действительность, связанную с человеком, т.е.
в его предметы, вещи («этость»), а затем и в самого человека.
Реформация привела к уничтожению резкого различия между
светским и духовным сословиями. Она допустила, что церковь
построена в сердце каждого человека и что не вне человека, но
внутри него лежит истинное примирение человеческого с божеским.
Она помогла людям узнать, что религия должна найти себе место в
духе человека; что в нем должен совершаться весь процесс
спасения души; что его освящение является его собственным делом -
прямо с богом, без посредников-священнослужителей, которые
раньше держали в своих руках, писал Гегель, настоящие средства
спасения. Таким образом, Реформация показала, что для
спасения человеку «нужны только дух и сердце». Реформация есть
примирение человека с самим собой - прямое и непосредственное.
Без церковной обслуги, священников, всего религиозного, без
церковных вещей, предметов, без церковной «этости»!
Вследствие такого нового отношения к религии в ней получает
признание субъективное. «Начало субъективности, - писал
Гегель, - сделалось теперь моментом самой религии».
«Индивидуальные воля и мышление перестают быть греховным, запретным
делом, обретают всеобщность и самостоятельность, как нечто
дозволенное и правомерное в пределах их соответствия разумности, и
становятся законным всеобщим человеческим правом. Поэтому и
сам человек, общество, "удовлетворяется" своей деятельностью,
находит удовлетворение в своих делах». Однако даже начавшееся
примирение человека с самим собой и его новое отношение к
религии, основанное на принципе собственной духовности и
самостоятельности, отвергнув церковно-религиозную «этость», не
смогла избавиться от нее окончательно. Поэтому, писал Гегель,
этот принцип «остается по своему содержанию пока что еще
ограниченным особой структурой», т.е. этостью.
Из состояния «этости» народы Европы выходили двояким
образом - внешним (открытие пути в Индию и открытие Нового
Света) и внутренним (Германия). «В Германии, - писал М. Стасюле-
вич, - человек углубился в самого себя и сделал открытие в
области духа. Реформация и была таким открытием "Нового Света" в
царстве духовном; Колумбом его был Лютер».
Возрождение и Реформация
123
Иллюстрации к книге «Жизнь Лютера».
Доктор Мартин Лютер в своем кабинете
Однако он «напал не на самую сущность католической веры,
но на одну ее материальную оболочку». Лютер почувствовал
главную задачу Реформации - разрушить материальную духовность
Средних веков в лице ее главных католических представителей.
Но Лютер слишком тесно связан с католицизмом, еще недалеко
ушел от него. В самом учении его много католического, поэтому
не удивительно, что оно, пишет Гегель, «вытеснив древнюю
ортодоксию, явилось впоследствии само новой ортодоксией».
Эпоха Реформации наступила не случайно и стала возможной
не только из-за изобретения книгопечатания, но и потому, что ей
предшествовало несколько, наносимых иногда через
многовековые промежутки времени, явных и скрытых, глубоких и мощных
ударов по католической церковной системе. Они если и не
разрушили ее окончательно, то во всяком случае существенно
видоизменили. Таковы, например, восстание альбигойцев, восстание
Уиклифа, гуситские войны и восстание Лютера.
Одним из ударов по католической церкви было осознание
того, что право личного убеждения стоит выше всякого принуди-
124
2. Лютер и Мюнцер
тельного внешнего авторитета. Эта мысль содержалась уже в
тезисе Уиклифа: «Бог не требует, чтобы люди веровали тому, чего они
не в состоянии понимать». Доктор богословия, профессор
Оксфордского университета Джон Уиклиф (1320-1384) смело
выступил против принципа непогрешимости пап; считал, что главой
церкви должен быть не папа, а король; порицал продажу
индульгенций, отвергал культ святых и догмат о первоосуществлении. За
это собор английских епископов объявил учение Уиклифа
еретическим, а в 1415 г. Констанцский вселенский собор постановил
сжечь все сочинения, а также останки Уиклифа. В высказывании,
написанном 25 июня 1410 г., говорилось: «Разумно ли сжигать
книги, в которых обсуждаются философия, мораль, математика и
физика - вопросы чисто научные? Допуская даже, что книги
Уиклифа содержат еретические мнения, следует ли из этого, что их
нельзя читать? Разве не наилучшее средство уничтожить
заблуждение, это - изучить его? Как опровергнуть то, чего не знаешь?»
Подписавшие этот протест, заявляя свою преданность церкви,
объявили, что не поддерживают никакой ереси... Заодно сожгли и
живого Яна Гуса. Пепел мученика был тщательно собран
палачами и выброшен в Рейн, чтобы ничего не осталось от еретика,
внушавшего его мучителям такой страх и ненависть.
Самыми страшными ударами, нанесенными Римской церкви
как бы в спину, скрыто и исподволь, были, во-первых,
вызванные потребностями развития общества великие географические
открытия Христофора Колумба, Васко да ГамьГ, Фернана
Магеллана и Марко Поло; во-вторых, как уже говорилось,
изобретение книгопечатания; в-третьих, образование новых, в будущем
национальных западноевропейских языков, из народных наречий
и потому существенное уменьшение господства «священного»
латинского языка. Наконец, секуляризация церковных имуществ в
пользу рыцарских и княжеских семей, а также брак для духовных
лиц, о чем писал Маркс.
Непосредственным поводом Реформации как социального
движения послужило в конечном итоге тяжелое финансовое
положение Рима, который придумал «прекрасный» способ
поправить свои дела. Он заявил, что бесконечные и безграничные
заслуги Спасителя (вместе с сонмом святых), совершенные «выше
нужной человеческой меры (supperrogatio)», образуют как бы фонд, из
которого всем христианам (как умершим, так и живым) можно
раздать отпущения грехов светских и духовных. Этот фонд может
быть продаваем в виде индульгенций за деньги через посредство
Реформация и Лютер
125
монахов, получавших определенный процент с выручки.
Индульгенция была абсолютной гарантией от ада.
Индульгенция - это несомненное проявление испорченности
нравов - стала поводом для Реформации отнюдь не потому, что
она есть следствие этой испорченности и не потому, что ставит
своей задачей восстановление нравов. Тогдашняя
нравственность, основанная на принципе «этости» и склонная к суеверию,
любови к чудесному, «должна была придать духу всего
католичества материальный, чувственный характер, и, следовательно,
совмещала в себе резкое противоречие, которое рано или поздно
возбудит в духе стремление сбросить с себя наложенную на него
материальность». Именно индульгенции оказались высшим
выражением долгие годы возраставшей в католичестве
материальности духа, а потому стали поводом к Реформации. Они - показатель
того, что «дело внутреннего примирения с самим собой
обратилось в самую материальную спекуляцию».
...Так можем ли осудить современных богомолок, которые,
повинуясь четырехсотлетнему реликтово-религиозному инстинкту,
не платят, помолившись, за проезд в городском транспорте?
Ни в коем случае.
Реформация и Лютер
Время молчания прошло, настало время говорить.
М. Лютер
Документ № 15'
Приказание Военного совета 8-й гв. армии
об организаиии охраны кельи Мартина Лютера
в Августинском монастыре г. Эрфурта
Командиру 8-й истребительно-противотанковой артбригалы
14 июля 1945 года
Военный совет армии при казал:
Выставить круглосуточную охрану в Августинском монастыре
у кельи Мартина Лютера в городе Эрфурт в соответствии с
указаниями представителя сего старшего лейтенанта Марутова.
Начальник штаба 8-й гв. армии
гвардии генерал-майор Белявский
Копия
ЦАМО СССР, ф. 345. оп. 5487, д. 366, л. 494 (Цит. по: «Коммунист» 1981. № 8. С. 78)
126
2. Лютер и Мюнцер
...Римский престол поддерживался главным образом
доходами из Германии, которая богатела благодаря расцвету ее горного
дела и торговли. Но производство для собственного потребления
падало даже в деревне. В обществе, прежде всего в среде
господствующих классов, быстро росла острая потребность в деньгах.
Однако Германия несла и тяготы, от которых были свободны
Англия, Франция и Испания, ибо немецкий народ (крестьяне,
городские пролетарии и плебеи) и непосредственно над ними стоящие
слои населения (буржуазия и низшее дворянство) нищали в той
мере, в какой германский капитал перетекал в римскую курию.
Поэтому отношение Германии к римскому папству все более
ухудшалось...
Назревал выбор. Германия должна была, наконец, решить, что
ей дальше делать: безропотно нести на себе ярмо, которое
становилось все тяжелее, либо совершенно порвать с Римом.
Страна медлила, ибо гуситские войны на сто лет отбили охоту
у разных слоев населения объединяться и начинать борьбу против
папства.
Городок Виттенберг со дня своего основания стоял на песке,
так что о нем с полным правом можно сказать:
«Landiken, Landiken,
Du bist ein Sandiken!»
«Землишка, землишка -
Один ты песочек!»
Фридрих Миконий, современник и очевидец, говорил, что
«Виттенберг был... бедным, незначительным городком, с
маленькими, грязными, низкими деревянными домишками: больше
похож на старую деревню, чем на город». Он «состоял из грязных,
узких и кривых улиц, застроенных глиняными хижинами, среди
которых возвышались немногим лучшие церковные и светские
здания», и населения в нем было всего три тысячи душ... Редко,
когда по лужам чмокающей грязи проберется с ужасными
проклятиями случайный прохожий, и тогда с хрюканьем разбегутся
свиньи...
Но если бы ты, дорогой читатель, проснулся ранним ветреным
октябрьским утром 1517 г. в Виттенберге, в одном из тех
центральных городских домов, которые своими нависшими балконами и
скрипучими галереями выходят на тишайшую улочку св. Павла,
что близ старой августинской церкви, то отнюдь не исключено,
реформация и Лютер
127
что причиной твоего досадного пробуждения оказался
доносящийся с улицы прерывистый и настойчивый стук. Высунувшись в
ночном колпаке из окна и протирая заспанные свои очи, ты
вполне мог бы узреть у врат церкви худощавого, среднего роста монаха,
в обычном одеянии, подпоясанного веревкой и с откинутым
капюшоном, несмотря на моросящий дождь.
Это был основатель нового грандиозного общественного
движения, профессор Мартин Лютер (1483-1546), недавно
назначенный городским священником Виттенберга вместо болезненного
Симона Гейнзе.
Окруженный несколькими любопытствующими нищими и
калеками, он могучими ударами что-то вколачивал в тяжелые
дубовые двери старенькой церкви, которую история впоследствии
напыщенно назовет Виттенбергским собором. В это холодное
дождливое осеннее утро выдающийся, но еще мало кому
известный деятель Реформации был занят тем, что, согласно обычаю, но
уж чересчур дерзко прибивал к дверям Виттенбергской церкви
свои 95 тезисов, предназначенных для диспута против
индульгенций.
На прошлой неделе продавец индульгенций Тецель привел в
ярость Лютера, заявив, что если даже кто плотски осквернит
Пресвятую Деву, то и того папская индульгенция очистит от греха.
Всем известно, что продажей индульгенций можно очень
быстро нажить целое состояние. Еще 100 лет назад Гус в синодальной
речи 1405 г. жаловался, что «продавцы отпущений и
нищенствующие монахи толпами грабят посредством неслыханных
праздников, посредством мнимых чудес, посредством братств и других
лживых выдумок». «Римский двор... ~ писал Гус, - не исполняет
своего назначения... сам дает веру и церковь. Народ гибнет, и мы
все виновны в его гибели, мы обязаны вести его к жизни, а не к
смерти!»
Во второй половине XV в. папские отпущения грехов, бывшие
раньше исключением, стали правилом и простейшим средством
нравственного и религиозного успокоения. «Посмотрите на ужас
всего земного шара, - восклицал по этому поводу Ульрих фон Гут-
тен, - при виде того, что во всех странах идет разбой и грабеж и
среди этого грабежа сидит ненасытный червяк, поглощающий
огромные массы плодов земных, окруженный своими
многочисленными и прожорливыми помощниками, которые у нас
высасывают кровь, потом обгладывают мясо, а теперь дошли уже до кос-
128
2. Лютер и Мюнцер
тей и мозга и разгрызают наши кости и разрывают все, что у нас
еще остаюсь». В 1505 г. один из гуманистов в своем произведении
«Торжество Венеры» писал: «Теперь так называемое отпущение
пожирает все сбережения богатых и бедняков; спасение души
лежит, прикрытое денежным мешком».
Иллюстрации к книге «Жизнь Лютера». Лютер вывешивает
знаменитые 95 тезисов
Курфюрст Альбрехт Майнцский единолично распоряжался
распродажей индульгенций в большей части Германии, установив
на них монополию через посредство своих комиссаров, одним из
которых был лейпцигский монах-проповедник Тецель. Об
успешности его торговли индульгенциями можно судить по тому, что,
торгуя ими еще с 1515 г., Тецель открыл несколько филиалов
своей «фирмы» в Ютерборге и Цербсте к северу и югу от Виттенберга.
Но задолго до Тецеля францисканец, главный торговец
индульгенциями в Швейцарии, открыто хвастал, что за 18 лет добыл для
папской кассы 180 тыс. дукатов. В одном только Франкфурте за
год было выручено от продажи индульгенций 1500 гульденов.
Римская церковь помимо индульгенций имела за счет
населения Германии и другой источник дохода и обогащения - так
называемый аннат, т.е. известную сумму денег (10 000, 15 000 или
20 000 флоринов), которую епископ или аббат должен уплатить
реформация и Лютер
129
при вступлении в должность. Естественно, что эти деньги за
покупку должностей они брали со своих несчастных подданных - с
кого же еще? - ведь средний крестьянин получал в год 14-25
флоринов дохода. Поскольку духовные лица на такие должности
назначались обычно уже в преклонном возрасте и вскоре умирали,
то очень часто случалось, что за короткое время деньги
приходилось выплачивать несколько раз. Так, за семь лет Майнцское
епископство выплатило трижды по 20 тыс. гульденов, а епископство
Пассау за восемь лет трижды по 15 тыс. гульденов. Примеру
епископов следовали и бесчисленные монастыри. Наряду с большой
и малой десятиной существовали даяния за исповедь,
паломничество, за чудотворные иконы, за избавление от чистилища, за
панихиды, свадебный звон, посещения церкви роженицами и за
прочие требы. «Таким путем, - писал Август Бебель, один из
основателей Германской социал-демократической партии и Второго
Интернационала, - у верующего и запутанного народа крали
последние гроши из кармана». Для полноты информации укажем,
что наряду с индульгенциями и аннатом у Рима был такой
источник дохода, как фабрикация мощей, которые производили в сотнях
и тысячах экземпляров и продавали верующим.
Назначаемое католическим «центром» в городах и деревнях
духовенство повсюду погрязло во всевозможных
злоупотреблениях и преступлениях, вызывающих все растущее возмущение и
сопротивление бюргерства и отчасти даже образованных слоев, из
среды духовенства. Это - непрерывная растрата городского
имущества, городских доходов, произвола отчетности и т.д. Так, Эр-
фуртский совет, не спрашивая горожан, задолжал 600 тыс.
гульденов; одна уплата процентов по ним требовала ежегодного расхода
30 тыс. гульденов. Бюргмейстер (городской голова) заложил
Саксонии местечко Коппендорф вместе с дворцом за 8 тыс. гульденов.
Возмутившись, горожане восстали и повесили городского
голову... Вообще в Германии все более усиливается недовольство
«центром» и его наместниками. Особенно среди низших слоев
населения, постоянно сравнивающих свою деятельность, свой труд
и доходы с праздной жизнью прелатов, настоятелей и монахов.
Среди деревенского и городского духовенства, обедневшего
дворянства и лишившегося многих своих прежних льгот рыцарства
было немало сочувствующих обираемому и угнетаемому народу.
На такого рода живущих вместе с народом и исполняющего требы
в Деревнях и городах священников и оперся Лютер, а затем Мюн-
130 2. Лютер и Мюнцер
цер. Именно эти священнослужители, писал Бебель, «встали во
главе движения в городах и деревнях, сражаясь упорно и
мужественно за дело народа; перенося тяжелые наказания и жестокие
преследования, они доказали верность своим убеждениям;
многие запечатлели ее своей смертью». Но, быть может, не в упрек им
будет сказано, так и не поняв вместе с Мюнцером, а тем более с
Лютером и Ш.Ф. Меланхтоном, ни той системы, на которую
подняли руку, ни той, какую созидали. Ибо они работали в
религиозно-мистическом полумраке, одержимые своей святой
максималистской исступленностью и великой страстью, не ведая ни что
творят, ни на что посягают, ни того, что превозносят, ни того, что
ниспровергают.
Как писал один историк, медленно и ощупью доходя до
сознания своей действительной работы, они не раз отступали перед
логически им неприятным раскрытием своих исходных принципов.
В некотором смысле дело было гораздо серьезнее, чем они
думали.
Тем не менее они дерзко и смело продолжали практически
воплощать в жизнь социально-религиозные идеи свободы,
равенства и братства, зародившиеся еще у первых христиан, и создавали
шаг за шагом необходимые предпосылки для учения о
коммунизме, для марксизма - последней мировой религии.
Восстание Лютера, Библия и хорал
Крылья подрезаны, песни заучены.
Любите вы под окном постоять?
Песни вам нравятся. Я же, измученный,
Нового жду - и страдаю опять.
А. Блок
Удары Лютера окончательно разбудили не только
тебя, дорогой читатель, но и всю Германию... Его восстание
началось не на пустом месте, оно было продолжением и развитием
последовательно происходивших один за другим социальных
сдвигов, в наиболее явной форме начатых восстанием Уиклифа и
других выступлений за обновление католицизма и интеллектуальную
свободу Европы, т.е. за «лучшую» религиозную веру и «лучший*
разум. В лютеровском мировоззрении, выразившем становление
Восстание Лютера, Библия и хорал
131
индивидуального отношения к Богу, соединялись две идеи
-личная преданность Ему и указание пути спасения посредством
божественного откровения. Все протестантское благочестие и даже
немецкое миросозерцание от XVI до XVIII в. были результатом
такого соединения. Но в лютеровском мировоззрении были идеи,
способствующие освобождению разума и науки от религиозных
пут и шор.
Далеко не сразу Лютер начал бороться с индульгенциями и
пришел к мысли отделиться от папы и римской церкви. И это
несмотря на сравнительно демократичное отношение к папе даже
защитников и апологетов римской партии. Лютер, например,
вполне мог читать Маццолини, который писал: «Несомненно,
что папа не может быть законно судим или низложен ни
собранием церкви, ни целым миром даже в том случае, если бы он был
настолько гнусен, что повел бы к дьяволу все народы». Вероятно,
Лютер отрекся бы от всякой солидарности даже с
«благочестивым обманом (piafaus)». Вряд ли восстал бы он и против
деятельности Тецеля, если бы не назначили в 1515 г. Лютера городским
священником Виттенберга... Вначале неохотно, но потом все
чаще и чаще он «всходил на кафедру» читать проповеди, причем
уже с 1516 г. - против индульгенций. Он хорошо выбрал объект
критики. «Торговля индульгенциями, - писал Гейне, - не была
злоупотреблением, она была прямым следствием всей
церковной системы, и, нападая на нее, Лютер нападал на саму церковь,
которая и должна была осудить его как еретика». Однако его
проповеди, писал сочувствующий ему историк К. Лампрехт, не
производили впечатления. Ему приходилось искать иных средств
воздействия. Для Лютера это было возможно благодаря его
положению профессора.
Давно существовал обычай, согласно которому известные
профессора университета для разъяснения трудных вопросов
своей науки предлагали тезисы и приглашали в известный срок
противников для обсуждения этих тезисов. 31 октября 1517 г.,
накануне Дня всех святых, Лютер, имея в виду 94 определения, данные
архиепископом Альбрехтом его комиссарам по продаже
индульгенций, прибил к вратам Виттенбергской церкви всех святых 95
тезисов. По обычаю, он также разослал множество экземпляров
этих тезисов как приглашение к диспуту.
Поначалу - и это видно из тезисов - Лютеру трудно встать на
путь оппозиции папе. В тезисах он лишь «дополняет» указания па-
132
2. Лютер и Мюнцер
пы, объявляя о своей полной покорности ему, как и его учению:
«Каждый христианин, если только он истинно раскаивается,
получает полное отпущение наказания и вины без индульгенции.
Однако на этом основании никоим образом не следует презирать
отпущение, даваемое папой, потому что оно есть объявление
Божественного прощения... Если бы папа знал о плутнях продавцов
индульгенций, он лучше бы дал погибнуть от огня собору св.
Петра, чем строить его на счет кожи, мяса и когтей своих овец. Кто
говорит против истины апостольского отпущения, да будет осужден
и проклят! Но кто остерегает против надменных дерзких речей
проповедников, продавцов индульгенций, да будет
благословлен»1. Лютер еще не до конца определился. Он еще не решился
вступить в борьбу с католической церковной системой, и его
тезисы большей частью имеют схоластический, школярский характер.
Но в них местами уже прорывается клокочущий, поистине
страстный народный гнев против особо явных злоупотреблений
ставленников «центра».
Успех тезисов поразил Лютера: 14 дней они обошли всю
Германию. Позднее Лютер, как это часто бывает с общественными
деятелями, стал приукрашивать и радикализировать свой имидж.
«...Так как все епископы и доктора молчали и никто не хотел
коснуться сущности вопроса, то должен был родиться доктор Лютер,
который отважился на это дело»2, - похвалялся он, говоря о себе в
третьем лице и рассказывая о своей борьбе с индульгенциями...
«Я напал не только на злоупотребления, но и на учение папы, я
укусил его в сердце»3, - говорил он.
Но чем дальше, тем больше Лютер считает нужным отказаться
от своей примиренческой позиции по отношению к Риму, тем
более что ему была видна суть папства и ранее. Уже 13 марта 1519 г.
он писал Г. Спалатину: «Для своего диспута я занимаюсь также
декреталиями, и скажу тебе на ушко, я не знаю, что такое папа: сам
ли антихрист или его посланец»4.
«Опровергните меня на основании Священного писания, а
иначе я не зарекусь от своего учения; я здесь перед вами; я не могу
иначе мыслить. Да поможет мне Бог! Аминь»5. Таковы заключи-
1 Цит. по: Лампрехт К. История германского народа. Т. III. 4.5. 1896.
2 Цит. по: Бебель А. Крестьянские войны в Германии. М., Л., 1928. С. 207-208.
3 Цит. по: Шерр И. История цивилизации в Германии. С. 168.
4 Цит. по: Лампрехт К. Указ. соч. С. 184.
5 Цит. по: Шерр И. Указ. соч. С. 288.
Восстание Лютера, Библия и хорал
133
тельные гордые слова Лютера 17 и 18 апреля 1521 г. перед
императором и имперскими чинами на сейме в Вормсе, куда Лютер
отправился по его вызову, получив императорскую охранную
грамоту. Злые слова Лютера, брошенные им в лицо императору, были
кульминационным пунктом его прогрессивной деятельности и
заслуженной славы. Далее начинается процесс «перехода в свою
противоположность», хотя император и осудил Лютера как
еретика. Его предостерегали от поездки на Вормский сейм, указывая на
печальную участь Гуса. «Я буду в Вормсе, - стоял на своем
Лютер - хотя на меня ополчились столько же чертей, сколько
кирпичей на крыше»1.
Вероятно, именно с императорского сейма, где Лютер поверг
авторитет папы, начинается новая эпоха. «Цепь, которой св.
Бонифаций приковал германскую церковь к Риму, разрублена, -
пишет Г. Гейне. - Эта церковь, бывшая ранее составной частью
великой иерархии, распадается на религиозные демократии...
Религия вновь становится истиной.., притязания материи...
узакониваются. Священник становится человеком, берет жену и,
согласно требованию бога, родит детей. С другой стороны, Бог
вновь становится небесным холостяком без семьи; ставится под
сомнение, является ли его сын законнорожденным, святые
получают отставку; у ангелов подрезают крылья; богоматерь теряет
все права на корону небесную, и ей воспрещено творить чудеса».
Тем более, что из-за громадных успехов естествознания «чудеса
прекращаются» и даже Бог не способен поддерживать свой
необходимый для боев с атеистами авторитет каким-либо мелким
чудом...
Идеи Лютера распространялись так быстро (учитывая
тогдашние средства массовой коммуникации), что около 1522 г.
эрцгерцог Фердинанд, наместник императора, в письме к нему
признается: «Дело Лютера так укоренилось во всем королевстве,
что теперь из тысячи человек не найдешь и одного свободного от
него».
В конце августа 1524 г. брожение в Германии дошло почти до
своей высшей точки.
Представь, о не верующий ни во что отечественный читатель,
что ты - благочестивый католик и находишься среди великого и
сложно организованного христианского мира. Где-то невероятно
Далеко (как Америка и другие правовые, цивилизованные, хотя и
Цит. по: Лампрехт К. Указ. соч. С. 288.
134
2. Лютер и Мюнцер
демократичные государства) существует греческая, к сожалению,
еретическая церковь. Говорят, что где-то рядом есть тайные
религиозные союзы, но ты их считаешь недостойными, даже
преступными. Поэтому ты всюду видишь только одну иерархию, одно
истинное вероучение, одну организацию - католическую. Правда,
ты отделен от Бога тысячами префад, коих нельзя преступить. Это
всевозможные чувственно-физические «священные предметы»,
вещественный мир церкви, на котором, собственно, и
сосредоточиваются все твои религиозные требования. Этих материальных
«предметов» и связанных с ними традиций, легенд и обрядов так
много, что они, существуя между тобой (верующим) и Богом, как
бы оттесняют Его на задний план, изымают из верования и жизни.
Ты перестаешь из-за них видеть Его, хотя назначение этих
«предметов», напротив, как раз и состоит в том, чтобы помочь тебе как
можно лучше слиться с Ним через посредство их и того
материально-духовного, что с Ним связано. Религиозная «этость»
подменила бога, стала Им как «Этостью». Поэтому верующие той эпохи,
во-первых, вместо субъективной уверенности в
непосредственном отношении к Богу «стремились к объективному ручательству
внешних средств». Во-вторых, поскольку эти средства
находились в руках церкви, принадлежали ей, то священство (церковь)
господствовало над всем средневековым миром. Люди смотрели
на римскую церковь, как на добрую, но строгую мать, раздающую
все блага и кары, поощряющую и наказывающую каждого по
заслугам. Этому соответствовало поведение священства...
Такая патриархальная (или матриархальная?) картинка
скрывала под собой жесткую военно-политически организованную
церковную систему, не оставлявшую верующему никакого
выбора, никакой самостоятельности и личного решения в средствах
«теологического познания». Принцип разумности как противный
вере полностью исключался. Авторитет Библии
римско-католическая церковь открыто основывала на своем собственном
социально-экономическом и политическом авторитете. Сама Библия
исчезла из публичного пользования (как видим, спецхран
существовал и в те времена...). Церковь присвоила себе право по своему
произволу устанавливать и корректировать догматы. В
соответствии с этим схоластики привели Священное писание святых отцов
в тщательно выработанную, всеобъемлющую систему догматов,
все части которой были подчинены целому. Это подчинение
Целому и преклонение перед Системой достигло своего апогея в том,
Восстание Лютера, Библия и хорал
135
что священство требовало от человека уже не веры, а послушания',
ценило не убеждение, а незыблемость учения; оно, как писал Бэрд,
знало не личность, а массу. Без церкви не существовало доступа к
Богу на этом свете и никакого спасения - на том.
Против этого и восстал Лютер, который, по словам Лампрехта,
«пробил брешь в стене средневекового духовного мира». До
Реформации господствует «сакраментальная, магически
достигаемая милость церкви, благо вещное как средство спасения, - писал
Бэрд. - После - субъективная, в собственной естественной жизни
испытанная милость Бога как Отца, приобретение личное».
Лютер выдвигает право индивида на личное суждение в виде догмата,
что не папская власть должна руководить жизнью, а Библия, и что
Библия подлежит частному и массовому, самому широкому
суждению; что не Библия получает свою достоверность и авторитет от
церкви, а наоборот, церковь получает достоверность и авторитет
от Библии. Учение Лютера есть учение о праве частного, личного
суждения о делах веры, основанное не как раньше на указах
римского папства и устных поучениях из Рима, а на материальном
объекте - Библии как Документе.
Уже будучи эрфуртским студиозусом и изучая Священное
писание, Лютер понял, что латинская Библия содержит гораздо
более, чем можно услыхать в церкви. Лютер утверждал, что
толковать Священное писание легко: «Библия принадлежит всем и,
насколько нужно для спасения, она достаточно ясна; но она
довольно темна для тех, кто ищет и старается знать чересчур много»1.
В «Кратком катехизисе Мартина Лютера» утверждалось, что
Библия есть «книга книг, или царица всех книг». Отношение
Лейбница к Библии прошло ряд этапов (вначале он считал ее критерием
схоластического богословия, потом - папства и, наконец,
понуждаемый к тому Л ейпцигским диспутом с И. Экком, допустил, что,
с точки зрения Священного писания, ошибались даже и
вселенские соборы). Лютер на место церковного авторитета всегда и
всюду ставил авторитет Библии как материальногои объективного,
ясного и истинного знания, очищенного от всего личного и
наносного.
Отношение Лютера к Библии подразумевает исторический
подход к церкви. Тем самым он наносит сильнейший удар по
прежней вере в абсолютную незыблемость, совершенство и
безошибочность католической церкви. Коль скоро церковь имеет
1 Цит. по: Бэрд Ч. Реформация. М., 1890. С. 118.
136
2. Лютер и Мюнцер
свою историю, то ее буллы, циркуляры и прочие постановления
исторически преходящи и в отношении своей истинности
должны основываться на одних только письменных аргументах (фактах)
из Библии как материальной, объективированной истории духа
церкви, его прошлого.
Лютер иначе, чем римская церковь, по-новому отнесся к
Библии, к Священному писанию. Он демократизировал их, вернул
верующим их истинный, содержательный, буквальный смысл;
превратил их из религиозно-мистического, таинственного,
чудесного в конкретное, жизненно важное, реальное; вернул им их
исходную простоту, человечность и мудрость.
Для священства содержание Библии всегда имело четыре
иерархически субординированных смысла: самый низший
(низменный) - буквальный (повествует о фактах), затем -
аллегорический (учит нас, во что следует верить), тропологический (учит, что
нам делать) и, наконец, самый высший (совершенный) -
апагогический (на что надеяться). Три последних в отличие от первого,
писал Бэрд, были мистического, сокровенного свойства.
Поэтому для церкви, всегда и беззастенчиво открывающей дверь
мистике, наименьшую ценность представлял смысл прямой и всем
ясный.
Лютер перевернул церковную ценность и значительность этих
уровней; сделал, так сказать, что «кто был ничем - тот стал всем».
«Святой дух, - сказал он И. Эмсеру, - самый простой писатель и
оратор, какой только есть на небе и на земле; его слова не могут
иметь какого-либо иного смысла, кроме самого простого, какой
мы называем письменным или буквальным»1. Лютер превратил
Библию в массовую, народную книгу. Раньше на Библии клялись;
чтобы узнать правду, заставляли to swere uppon a booke
(поклясться на книге). Но читали ее - единицы. В эпоху Реформации, писал
Лампрехт, «Библия остается по-прежнему единственным
руководителем в деле веры, но толковать эту Библию не только
предоставляется каждому по мере его разумения, а даже повелевается.
Светская масса - народ - вызван к индивидуальному
существованию». До Реформации душа человека подкреплялась только
таинствами. Теперь она может иметь общение с духом, говорящим
прямо и непосредственно со страниц Библии, читаемой не
церковной обслугой на мертвом, непонятном простым людям языке,
а самим верующим на его собственном родном языке. По словам
Цит. по: Бэрд Ч. Указ. соч. С, 112.
Восстание Лютера, Библия и хорал
137
Бэрда, «Священное писание не было уже более запертой
сокровищницей истины и благодати, ключ от которой имела в руках
одна ортодоксальная ученость, но стала открытым садом (я бы
сказал, чем-то вроде Центрального парка культуры и отдыха. - JIM.),
где благочестивые души могли гулять, срывая себе цветы и
плоды». Без уплаты штрафа.
Томас Мюнцер
Но ах, как «медленно, очень медленно движется, а вернее,
подползает Лютер к утверждению авторитета Священного
писания, и может показаться, - отметил Дрэпер, - что его скорее
вынуждают к этому возражения его идейных противников, без
чего он оставался бы пребывать в неподвижности, нежели его
собственные, личные размышления...»
Дав духу тело, а мысли - слово, Лютер дал нам не только
свободу движения, но и средства для этого, писал Гейне. Он создал
немецкий язык; он достиг этого своим переводом Библии.
Библия, а точнее Новый завет в переводе Лютера, напечатанная у
Ганса Люфта в Виттенберге, была дешева - всего полтора гульдена за
экземпляр. Эта Библия была далеко не первым переводом Библии
на немецкий язык. Уже до нее появились более дюжины других.
Но они были написаны таким языком, который перестали
понимать уже в XVI в. Лютеровский язык не был связан особенностями
какого-либо одного из немецких диалектов, так как Лютер вырос
138 2. Лютер и Мюнцер
на границе Средней и Нижней Германии и жил в Виттенберге,'на
границе диалектов колониального Востока и западной
метрополии. «При посредстве этой Библии, в тысячах экземпляров
брошенной в народ печатным станком, этим черным искусством, -
писал Гейне, - язык Лютера в течение немногих лет
распространился по всей Германии и возвысился до всеобщего
литературного языка».
Уже в 1518 г. некто И. Фробен, издатель в Базеле, пишет ему,
что выпущенное им издание сочинений Лютера разошлось, что
экземпляры его распространились по Италии, Испании, Англии,
Франции и Брабанту. Во время Франкфуртской ярмарки 1520 г.
один книжный магазин продал 1400 экземпляров его книг. В
Германии число печатных произведений Лютера в период с 1518 по
1523 г. увеличилось в 7 раз. В 1523 г. сочинений Лютера было уже
больше сотни. Успех сочинений Лютера вызвал в Германии
живейший интерес вообще к печатной продукции: число немецких
типографий в 1513 г. было всего 90, в 1519 г. оно увеличилось до
252, в 1520 г. до 571, в 1523 г. уже до 944.
Только Лютер выучил немцев публично говорить и открыто
думать, утверждал Лампрехт. «Благодаря ему, мы возвысились до
величайшей свободы мысли, духа, которая необходима новой
литературе, - писал Гейне. - Он создал для нее слово, язык, на
котором она могла высказаться. Он сам и начал эту новую литературу».
«По всей Германии, от Любека и Бремена, где реформация
восторжествовала, до Австрии и Баварии, где преследователям
удалось заглушить ее, на востоке и на западе, народ повторял
наизусть молитвы Лютера и обучал своих детей церковным песням,
которые тот сочинил», - писал Бэрд; например, лютеровскому
гимну «Eine fest Burgistunser Gott».
Гейне считал Лютера первым поэтом своего времени, ибо
стихотворения и песни Лютера, «изливавшиеся из его души в борьбе
и бедствиях... напоминают то цветок, расцветший на скале, то
отблеск лунного света, трепещущий на взволнованном море. Лютер
любил музыку, он даже написал трактат об этом искусстве, и
песни его поэтому необычайно мелодичны... В некоторых своих
песнопениях... он разжигает отвагу своих приверженцев и
подстрекает самого себя к неистовому боевому задору. Боевою была та
упрямая песня, с которой он и его спутники вступили в Вормс. Старый
собор содрогался при этих новых звуках, и вороны перепугались в
Восстание Лютера, Библия и хорал
139
своих сумрачных гнездах на колокольнях». Этот гимн сохранил
свою вдохновляющую силу и до наших дней:
Господь - наш истинный оплот, И пусть нам дьявольские тьмы
Оружье и твердыня, Грозят осатанело,
Господь нас вызволит, спасет Не так-то их страшимся мы,
В беде, грозяшей ныне. И право наше дело;
Древний лютый враг Князь мира сего
Правит к нам свой шаг. Не сможет ничего,
Могуч он и хитер, Как ни тщись, а он
Опасен с давних пор, На гибель обречен,
Врага страшнее нету. Его повергнет Слово.
Своею силою земною И да отступятся они
Мы сделаем немного, Пред вечным этим Словом,
За нас сражается иной, И да светятся наши дни
Иной, избранник бога. Учением Христовым.
Кто же он? - вопрос. Пусть возьмут, что есть:
То Иисус Христос, Жизнь нашу и честь,
Бог наш Саваоф, Жен, детей и дом,
И нет других богов, Не будет проку в том,
Пребудет с ним победа. Господне царство - с нами.
Г. Гейне
Составив «хорал» на основе 46-го псалма, Лютер превратил
церковную песнь в «Марсельезу XVI в.» (Ф. Энгельс). А некий
иезуит даже заявил, что «песни Лютера погубили больше душ, чем
его книги и проповеди».
Здесь есть над чем подумать... Когда собравшиеся в церкви все вместе
поют, между ними возникает странная, ощутимая, но бесплотная
межчеловеческая связь, общность, благодаря которой они, словно
намагниченные частицы, лишаются всех социальных различий,
забывают о том, что они дети, родители, мужья, начальники, подчиненные
и т.п. Они обретают в этой форме людского общения самих себя как
людей, и сливаются в одно единое, ориентированное в определенном
направлении слитное целое. В таком целом исчезают всякие различия
между людьми и даже несовместимость людей как частиц этого
целого. Исчезает некое внешнее, навязанное или хоть и внутреннее, но все
же для поющих поверхностное и неважное по сравнению с тем
глубинным, общечеловеческим, что, объединяя песней, открывается
каждому из них как одновременно общее и в то же время нечто
подлинно его, никому кроме него не присущее и непонятное. Так
происходит во время хорового пения, церковной службы, во время
некоторых ритуалов, например поднятия флага, пения государственного
140
2. Лютер и Мюнцер
гимна и других однопорядковых хоровому пению поступков,
обладающих некой внутренней всеобщностью, центральных для жизни,
какие бывают на войне или в других экстремальных условиях;
поступков, которые столько же всем хорошо известны, сколько для разума
наук пока еще совершенно не понятны.
...Не знаю, как ты, любезный читатель, но вообще-то терпеть не могу
хорового пения и весьма подозрительно отношусь к нему. Всегда
чудится мне, что в нем прячется нечто услужливое, лживое и чужое
каждому из поющих... Кажется, что и сбиваются-то они в кучу петь лишь
потому, что не желают или неспособны петь себе, по-своему выразить
и пересказать свои мысли и чувства и каждый хочет спрятаться за
другого, уменьшиться, а потому и берут напрокат расхожую модную или
всем известную песню, которая делает это за них. Хор всегда им
представляется собранием частей, неспособных быть целым; неудачников
на личной или общественной почве; инвалидов, ищущих опору в
одной общей деревянной ноге, а само пение - чем-то вроде
комплексного обеда: всегда готовое, дежурное, стандартное, удобное, но чуждое
индивидуальному вкусу и даже его разрушающее, себя всем поющим
навязывающее и заставляющее индивида против его воли стать
безликим «едоком», каким-то пустым «посадочным местом»... А ведь
общую силу песни как некую целостность, порожденную людьми в
хоровом пении, но отчуждающуюся от них и как бы возвышающуюся над
ними, автоматически лишающую их индивидуальности и делающую
их однородной массой, удобной для управления со стороны или
свыше, - эту силу нетрудно использовать тому из поющих, кто л ишь
притворяется, что поет вместе со всеми, заботясь поручиться, что они не
являются чуждыми и даже враждебными поющими индивидами или
не могут стать таковыми.
Неужели человек обречен на трагический конфликт с самим собой?
По своей общественной природе он должен петь, выть и вообще
испускать звуки только другому или другим и только сообща, только
хором, а не в одиночку себе, сам про себя, ибо в последнем случае это
может быть обращено окружающими его людьми против него самого.
Обманчиво то, что мы делаем, и зыбко, ибо оно может обернуться и
часто оборачивается против нас самих. Мы должны быть очень
осмотрительными и неуступчивыми в отношении себя даже в мелочах,
опираясь на когда-то приватное нам «здоровое недоверие» в отношении
|| своих ближних.
Но посмотри-ка, что делается вокруг, мой славный читатель!
Пока мы спокойно беседовали о морали, хорале и восхищались
Лютером, гонимый, как всегда бывает, сам стал гонителем...
Реформация уже давно потеснила гуманизм и подчинила его теоло-
Восстание Лютера, Библия и хорал
141
гии. Молодежь, шествуя за Лютером, весело, громко и грозно
распевая хорами и увлекаясь общественно-религиозной борьбой,
знать не желала гуманистические науки. Искусство и наука
представлялись ей делом второстепенным, излишней, «не-нашей»
роскошью, с которой можно и погодить в нынешней
вольнолюбивой и социально напряженной обстановке. Отражая и выражая
это настроение масс, Лютер в 1525 г. назовет разум дьявольской
распутницей.
Теперь молодежь одушевляла только вера. Гуманистические
университеты опустели. В Эрфурте число имматрикулирований за
1520-1526 гг. сократилось с 312 до 14. Новое умственное течение
начало отталкивать от Реформации и старших гуманистов,
особенно юристов, которые вновь сблизились с представителями старой
церкви. Но ситуация обострилась, и немецкий гуманизм и
Реформация окончательно разделились на два относительно
самостоятельных общественных течения после того, как Эразм
Роттердамский в сентябре 1524 г. выступил с сочинением «Delibero arbitrio»,
а в декабре 1525 г. Лютер в пику ему выступил с сочинением «De
Servo arbitrio»... Сочинение Эразма возбудило в Лютере такой
ужас, отвращение и презрение, что последний, читая его, не раз
хотел бросить его под лавку...
Лютер относился к гуманистам примерно так же, как Ленин к
интеллигенции и интеллигентам. Подчиняя гуманизм теологии,
Лютер никогда не отрицал его значения. Не без иронии, кажется,
он признавался косвенно в своей неинтеллигентности, грубости,
необразованности, что «если бы я был так красноречив и богат
словами, как Эразм, если бы я был учен по-гречески, как Иоаким
Камерарий, а в еврейском так опытен, как Форстений, да был
помоложе - О, я бы поработал!»... «Лютеру, однако, вполне хватало
тех гуманистических познаний, которые были необходимы для
истолкования Библии», - писал К. Лампрехт. Основа лютеров-
ской образованности была и осталась схоластической. Его
проповеди имели характер схоластических моральных схем.
Гуманистическое для него было всего лишь одним вспомогательным,
тактическим средством для торжества теологии и более глубокого ее
понимания, ибо он был всегда страшно далек от утопического
погружения в дух классических народов.
...Так хочется быть всей душой за Лютера, а ведь он, как ни
крути, уже давно «декламирует против разума», по выражению
142
2. Лютер и Мюнцер
Ч. Бэрда, и делает свои собственные симпатии, свое собственное
разумение «правилом библейской критики».
Лютер духовно, физически и генетически принадлежал «к
тому грубо-кряжистому, мужественному племени»
нижнесаксонских мужиков, писал Гейне, «среди которого пришлось внедрять
христианство огнем и мечом и которое лишь после трех
поражений в боях покорилось новой вере». Однако эту закваску «оно все
еще сохраняет в своих нравах и обычаях, материальных и
духовных, является столь же храбрым и непреклонным, как его старые
боги». Современник Лютера, профессор П. Мозеллан,
описывает его следующим образом: «Среднего роста, до того истощен
заботами и трудами, что можно пересчитать все кости на его
сухощавом теле; впрочем, в полной свежести и силе зрелого возраста.
Голос имеет звучный и громкий. Он обладает огромным запасом
фактических сведений, речь его льется свободно. В обществе он
весел, шутлив и остроумен. В обхождении - учтив и приветлив,
не имеет ничего стоически сурового и напыщенного. Лицо у него
всегда ясное, невозмутимое, как бы ни угрожал ему противник...
Умеет приноравливаться к лицам и обстоятельствам».
Дорогой читатель, последнее я хотел бы особо подчеркнуть.
Кардинал Каетан (Фома Иаков де Вио) после разговора с
Лютером в 1518 г. в Аугсбурге, сказал о нем: «Я не хочу больше
говорить с этой бестией; у него такие глубокие глаза и удивительные
мысли в голове». Но Каетан ошибся. Лютер был силен на глубину
своей мысли. Он не был мучеником за идею и вообще
«мученичество» этому выдающемуся политику было абсолютно
несвойственно.
Лютер был одним из талантливейших агитаторов своего
времени. Враги папства обращались только к одному классу, а
Лютер - ко всем сразу. «Он с радостью принимал помощь всех
революционеров, которые отовсюду спешили к нему, и старался
попадать в их тон, - писал один из его биографов. - Он выступает
защитником и рыцаря, и мужика, он клеймит эксплуататоров, не
только князей церкви, но и купцов. Он требует демократической
организации церковной общины... Императора он публично
назвал тираном. О герцоге Георге Саксонском он говорит попросту,
как о "дрезденской свинье"»...
Бэрд считал, что Лютер никому не льстил. Но это потому, что
он льстил всем без исключения. Он только этим всю жизнь и
занимался в отношении всех без исключения слоев общества в нужные
Восстание Лютера, Библия и хорал
143
Лютеру моменты! Уж он-то знал, как надо себя вести и с высшими,
и с низшими: «рядом с розгой должно лежать яблоко», - говаривал
Лютер. Он соединял в себе ученость и народную простоту;
первобытную силу, грубость мужика, дикую страстность фанатика - с
беспримерной способностью приспособления к изменяющимся
условиям, гибкость придворного. Гейне писал излишне
восторженно, на мой взгляд:
II Лютер - не только самый большой, но и самый немецкий человек во
всей нашей истории, ...в его натуре грандиозно сочетались все
добродетели и все недостатки немцев... Он был одновременно
мечтательным мистиком и человеком практического действия. У его мыслей
были не только крылья, но и руки; он говорил и действовал. Это был
не только язык, но и меч своего времени. Это был одновременно и
холодный схоластический буквоед, и восторженный, упоенный
божеством пророк. Этот человек, который мог ругаться, как торговка рыбой,
мог быть мягким, как нежная девушка. Он был законченным, я бы
сказал, абсолютным человеком, в котором нераздельны были дух и
материя... В нем было нечто, если так можно выразиться,
первозданное, непостижимое, чудодейственное, что мы встречаем у всех
избранников, нечто наивно-ужасное, нечто нескладно-умное, нечто
|| возвышенно-ограниченное, нечто неодолимо демоническое.
Читая эти строки Гейне, можно понять, почему Маркс не
благоволил к нему так же, как и к Герцену. Такого рода усложненная
характеристика Лютера, методологически основанная на
компромиссе, на единстве (тождестве), не могла быть по душе радикалу с
его черно-белым мировоззрением.
«Он не соблюдает меры в полемике, - писал проф. Мозел-
лан, - обнаруживает большие едкости, чем это подобает теологу и
учителю веры». Позднее и Гейне отмечал «полемическую
странность» сочинений Лютера, где он «не избегает плебейской
грубости, которая часто является столь же отталкивающей, сколь и
грандиозной. В этих случаях его образы и выражения напоминают
исполинские каменные изваяния, которые мы встречаем в
подземных индийских или египетских храмах: крикливая раскраска и
причудливое уродство этих изваяний одновременно отталкивают
и привлекают нас».
Гейне оправдывает недостатки Лютера тем, что его отец был
рудокопом в Монсфельде и «мальчик часто бывал у него в
подземной мастерской. Поэтому, вероятно, было в нем... столько душев-
144
2. Лютер и Мюнцер
ных шлаков, что часто станилось ему в вину... Без этой земной
примеси он не мог бы быть человеком дела. Чистые руки не
способны действовать...» Не пристало «нам изрекать суровый
приговор о его недостатках»; они «принесли нам больше пользы, чем
добродетели тысячи других. Утонченность Эразма и мягкость Ме-
ланхтона никогда не подвинули нас так далеко, как это иной раз
удавалось божественной грубости брата Мартина (так называли
Лютера. - Л.Щ. Историк Лампрехт тоже вступается за Лютера:
«Для него грубость была потребностью юмора». Между тем
причины «божественной грубости» Лютера вопреки славословию
Гейне, Лампрехта и Бэрда, всячески ее оправдывавших, лежат в
хорошо скрываемой Лютером заведомой ее ненаказуемости
высшими властями. В отношении Лютера к папе и Риму такая его
грубость - это подхалимаж наизнанку с целью самому стать
папой, начальством, как это он и сделал впоследствии. Говоря грубо,
без обиняков, попросту и как бы в запале страсти, «Лютер наделе
был очень осторожен, - пишет один из его исследователей. - При
всем своем радикализме, он никогда не преступал границы, за
которой он мог бы лишиться милости своего господина и
покровителя, курфюрста Фридриха Саксонского». И он, этот
«первозданный, непостижимый, чудодейственный», по выражению Гейне,
«абсолютный человек», как только «выяснилась невозможность
продолжать его излюбленную политику лавирования между
враждующими партиями», тут же перешел на сторону победителей.
Простим поэта, но не его любимца!
Лютер был непоследователен. Он не выступил, даже несмотря
на огромный хорал, против существования римской церкви, хотя
не побоялся выступить против нее как существующей церкви. Он
не представлял угрозы и для умиравшей в это время общественной
организации Средних веков с ее классовой структурой,
состоявшей из крестьян, бюргеров и дворян. Он, по мнению Лампрехта,
«только расширил и преобразовал эту организацию, присоединив
к ней профессии, действующие по преимуществу в духовной
сфере», т.е. сделал церковь более гибкой и хорошо приспособленной
к изменениям как в обществе, так и в индивидуальной жизни
верующих. Христиане в настоящее время, разъяснял учение Лютера
проповедник Каспари, «свято живут и радостно умирают, тогда
как по природе то и другое невозможно»...
Увы, это действительно так. Кроме «свято живут и радостно
умирают»...
Падение Лютера
145
Падение Лютера
В начале своей деятельности, взывающей к
правам разума, Лютер спустя некоторое время начал не только
отказывать ему в праве критики Священного писания, но даже
потребовал, чтобы вера заглушила и убила разум. Едва ли кто
энергичнее Лютера выражал когда-либо презрение к разуму, писал
историк. Лютер называл разум die huredes Teufel (бесовской
блудницей)1. Он основывал авторитет Библии на совокупном
свидетельстве святого духа в сердце верующего и святого духа в книгах
Писания. И противоречил самому себе, заявляя в споре с
Эразмом, что «...нет ни одной части во всем Священном писании
темной...» и что «всем и каждому христианину подобает знать и
обсуждать учение; подобает, и пусть будет проклят тот, кто на йоту
суживает и ограничивает это право»2. Ибо если каждый может
толковать Библию и делать это он будет по-своему, то кто
поручится зато, что он выведет из нее обязательно то самое учение,
которое содержали «Loci communes» Меланхтона, где идеи Лютера
были приведены в достаточно стройную систему. И почему бы,
спрашивал Бэрд, Богу и теперь еще не говорить с человеком, как
он это делал со святыми первых времен?
Возникшие на допущенном Лютером свободном толковании
Библии демократические и коммунистические теории принудили
Лютера, а за ним и других реформаторов, писал Бебель,
«отступить на практике от провозглашенного им принципа свободы
исследования» и объявить теперь уже до конца последовательную
«войну разуму как противнику веры». Бебель, который, как и
подобает социал-демократам, ругался крепче Лютера, утверждал,
что «считать Лютера защитником свободы и научного
исследования может только невежа и лжец; вся его жизнь, начиная с 1524 г.,
является непрерывной борьбой против свободы научного
исследования, свободы мысли и свободы печати. Прав Себастьян
Брандт, воскликнувший с недоверием: «Когда у нас
господствовал папа, мы были свободнее»; и Людвиг Берне безусловно не
ошибся, когда сказал: «Так как до Лютера отличительной чертой
немцев было холопство, то и Лютер не смог освободиться от
холопского образа мыслей».
1 Цит. по: Шерр И. Указ. соч. С. 293.
2 Цит. по: Бэрд Ч. Реформация XVI в. в ее отношении к новому мышлению и
знанию. С. 118-119.
146 2. Лютер и Мюнцер
Более того. «Спасаясь от преследований римской курии и с
помощью курфюрста Саксонского тайно скрываясь в замке Варт-
бург, Лютер хотел лишь переждать ее преследования. Но страшнее
этой бури показалась ему другая - возмущение его сторонников и
прежде всего Томаса Мюнцера, им же самим вызванное. Во время
пребывания Лютера в этом замке, - пишет Бебель, - его
ближайшие друзья были захвачены общественным потоком и увлечены
дальше, чем это казалось удобным и целесообразным Лютеру,
который считал себя уже непогрешимым.
Тогда Лютер неожиданно покинул Вартбург и последовал в
Виттенберг, чтобы устранить грозящее несчастье. Здесь он
выступил против своих собственных друзей и сторонников... Не
стеснялся и в средствах борьбы со своими прежними товарищами; он
клеветал и позорил; он пускал в ход все свое влияние, чтобы
лишить их хлеба и заработка и толкнуть их, беспомощных, навстречу
нужде. В течение многих лет сотням его прежних
сторонников-священников пришлось испытывать на себе его
реакционную деятельность. Большинство из них стало верной опорой
революции, они ездили из одного местечка в другое, распространяя
свое учение и произнося всюду проповеди. Лютер против своей
воли оказал в этом большую услугу революции».
Когда на глазах угнетенных масс и священнослужителей,
изгнанных из лютеровского окружения, выступил Мюнцер, Лютер
обратился «к своему злейшему врагу, герцогу Саксонскому, по его
собственному признанию, единственному князю, которого
вместе с тогдашним курфюрстом Бранденбургским он считал
способным и готовым, попадись он к ним в руки, исполнить над ним
приговор сейма об изгнании, с предложением... изгнать Мюнцера
из своих владений, чего в конце концов и добился». Ах, дорогой
читатель, не правда ли, как нам это все знакомо и близко и как все
эти общепринятые анти- и международные политические
штучки-дрючки и приемчики живо напоминают прежних и нынешних
госдеятелей.
...Тогдашнее поведение Лютера вполне соответствует тактике
теперешних либералов, писал Бебель. «Для себя и своих
сторонников он требовал всевозможных прав и свобод и тотчас же
выступал с протестом, когда кто-нибудь медлил исполнить его
требования. Тогда из его уст сыпался дождь проклятий и ругательств
(которыми так восхищался Гейне. - JIM.). Но против тех, кто шел
дальше его в своих требованиях, он звал на помощь полицию, гро-
Падение Лютера
147
зил тюрьмой и отлучением, требовал преследований и
уничтожения их сочинений. Цензура нашла своих горячих защитников в
нем и Меланхтоне, причем, конечно, они требовали цензуры
только по отношению к сочинениям своих врагов».
В 1521 г. Лютер отправляется в Тюрингию и Силезию, чтобы
своим личным влиянием и своей популярностью изгнать
«нечестивый и мятежный дух». Но с тех пор, как он вступил на путь
реакции, его рейтинг упал, влияние сошло на нет и, например, в Ор-
тмунде, где он когда-то возбудил всеобщее воодушевление, его
чуть не побили камнями и ему пришлось бежать от народного
гнева. Ибо это происходило в то время, когда положение наиболее
угнетенной части населения Германии - крестьянства - было
невыносимо тяжелым. Крестьяне графов Люпфена и Фюрстенберга в
1524 г. жаловались, что у них нет «ни праздников, ни отдыха; даже
в торжественные дни и в страдную пору они должны были искать
графине скорлупы улиток для наматывания пряжи, собирать ей
землянику, крыжовник, терновые ягоды и т.п., должны работать
на господ и днем в хорошую погоду, а на себя в непогоду...»
Еще недавно крестьяне радостно приветствовали Лютера,
который «бил на популярность», по словам Бебеля, «стараясь
отвечать ожиданиям всех классов». Но под всевозможными
предлогами «Лютер уклонялся от всякого решительного шага до тех пор,
пока это было возможно». Однако «фактически он затруднял
всякую попытку низших классов воспользоваться результатами
Реформации и усиленно поддерживал все шаги князей в этом
направлении». Уже в 1524 г. стало ясно, что от лютеровской
реформации низшим классам нечего было ожидать. Им оставалось
только восстать против всех притеснителей - и сторонников
реформации, и реакционных, ибо только собственными усилиями
могли они освободиться от тяготевшего над ними ига.
Глубоко консервативный по натуре и взглядам Лютер не был
способен выдвинуть что-либо кроме умеренной реформы,
несмотря на его решительное и, казалось бы, революционное
словесное выступление, писал Бебель. Таким образом, «для него не
представлял трудности выбор, который ему пришлось сделать с
момента выступления Мюнцера: между дворянством и
бюргерством, с одной стороны, и массой народонаселения - с другой. Он
перешел на сторону первых двух сословий».
148
2. Лютер и Мюнцер
Иллюстрации к книге «Жизнь Лютера».
Лютер - студент в Айзенахе в 1498 г.
Когда Мюльгаузенское восстание горнорабочих и крестьян
стало опасно для князей и крестьяне предъявили им свои
требования, Лютер заколебался, заюлив, как лиса. Впервые ему под
нажимом и угрозой крестьянского восстания пришлось определить
свою позицию по отношению к ним в сочинении «Увещание в
пользу мира на основании 12 пунктов швабских крестьян»: в нем
прежде всего он надеется, что крестьяне не выйдут из рамок этих
требований и не пойдут дальше, а затем обращается к князьям и
государям: «Этими беспорядками и этим восстанием мы
обязаны... именно вам, князья и государи, и особенно вам, слепые
епископы, безумные псы и монахи... Меч приставлен к вашему горлу;
неужели вы еще думаете, что вы так прочно сидите в седле, что вас
никто не может сбросить? Такая уверенность и наглость сломят
вам шею, вот вы увидите... Знайте, дорогие государи, Господь
делает так, что вашего неистовства никто уже более не хочет
переносить... Дорогие государи, это не крестьяне восстают против вас,
это сам Бог восстал против вас, чтобы наказать вас за ваши
неистовства»1.
Лютер не становится на сторону крестьян. Он ясно дает понять
это господам. Он просит их пойти лишь на такие уступки
крестьянам, которые в интересах самих господ, тем более что некоторые
из требований справедливы: «Правительство, - пишет он, - не
для того поставлено, чтобы оно добивалось своей пользы или удо-
Цит. по: Бебель А. Указ. соч. С. 355.
Падение Лютера
149
вольствия чрез подданных, но для того, чтобы подданным
приносить пользу. Теперь уже более нельзя так мучить и обирать народ...
Необходимо ограничивать расточительность и уменьшить
налоги, чтобы и у бедного человека хоть что-нибудь оставалось... Дело
уладится мирно и спокойно, если вы, государи, откажетесь от
вашей заносчивости, которую вы, в конце концов, волею или
неволею принуждены будете оставить, и если несколько смягчите вашу
тиранию и угнетение, так чтобы бедный человек мог хоть немного
вздохнуть. В то же время и крестьяне должны быть сговорчивее,
они должны отказаться от некоторых пунктов, которые хватают
очень высоко... Аминь»1. Но на эти жалкие увещевания, которые
должны были уберечь Лютера от нападок взаимно-враждующих
сторон, никто не обратил никакого внимания, Лютер только
лишний раз продемонстрировал свое бессилие в той ситуации,
которую сам и создал.
Князья поднялись повсеместно, чтобы потопить крестьянское
восстание в крови. Тогда Лютер, поддерживаемый их ратной
силой, уже не стал увещевать. Отношение к крестьянам, которых он
ранее называл «дорогими», «господами и братьями», изменилось
на 180°. Теперь, писал Бебель, «они были только разбойники,
убийцы и бешеные собаки, которых следует убивать. Еще недавно
он признавал, что невыносимый гнет сверху принудил крестьян к
восстанию, теперь он заявляет, что знать вполне права.
Крестьянам жилось слишком хорошо! Они «не захотели... благодарить
бога, когда их заставляют отдавать одну корову, но дают
возможность спокойно пользоваться другой... Не было больше в народе
ни страха, ни стыда, но каждый стремился бражничать,
пьянствовать, наряжаться и быть праздным, как будто они все вдруг стали
господами. Осла нужно бить, чернью следует управлять при
помощи насилия»2, - писал Лютер через несколько недель после
подавления Тюрингского восстания в сочинении «Послание
Каспару Мюллеру, Мансфельдскому канцлеру, о строгой книжке
против крестьян»... 30 мая он пишет доктору Рилю, мансфельдскому
советнику: «Осыпайте их (крестьян. - JIM.) градом пуль, в
противном случае дело будет еще в тысячу раз хуже...»3. После
страшного суда, устроенного крестьянами в Вейнсберге над графом фон
Голфенштейном и 14 дворянами, Лютер выходит из себя: «Их на-
1 Цит. по: Бебель А. Указ. соч. С. 355-356.
2 Lüther's Werke. ХХ.С. 270.
3 Цит. по: Бебель А. Указ. соч. С. 357-358.
150
2. Лютер и Мюнцер
до, как бешеных собак, давить, душить, резать, как кто может»;
«Спасайтесь! Колите, бейте, душите крестьян, как можете!» -
восклицал Лютер в своем памфлете «Против разбойнических и
кровожадных крестьянских шаек»1.
«Лютер, этот крестьянин, ставший монахом и с гордостью
называвший себя крестьянином и крестьянским сыном»2,
теперь призывает князей к убийству крестьян. Фактически он
действует не как «брат Мартин», а как буйствующий, сикофан-
ствующий папа. В письме к доктору Рилю Лютер писал: «Что
касается милосердия, которого желают для крестьян, то Бог,
конечно, спасет и сохранит невинных среди них, как он сделал это
с Лотом и Иеремией. Кого он не спасет, те, несомненно, не
свободны от вины, во всяком случае они молчали и одобряли.
Мудрец говорит: "Cubis, onus et virga asino" ("Пищу, кладь и кнут -
ослу"); с крестьян довольно овсяной соломы; они не слушают в
своем неразумии слова; поэтому они должны слушаться кнута и
ружья, и они это заслужили. Мы должны молиться за них, чтобы
они слушались; если они не будут слушаться, то не должно быть
места для милосердия. Пусть скажут свое слово ружья, иначе
будет в тысячу раз хуже»3. В переводе Бебеля эти слова Лютера
звучат более эмоционально: «Нужно перебить всех крестьян...
Набита голова их сеном, не слушают они слов, безрассудны они,
пусть испытают бич и оружие; это им будет по заслугам. Пусть
свищут пули среди них, а то они наделают еще в тысячи раз
худших дел...»
Еще эмоциональнее толкуют слова Лютера и делают далеко
идущие выводы Маркс и Энгельс. Примечание Бебеля к этому
месту: Лютер выразился здесь так же, как папский легат при
захвате Безьера во время Альбигойских войн, когда ландскнехты его
спросили, как можно в пылу сражения отличить верующих от
неверующих. Их отношение к Лютеру сходно с отношением Ленина
и Л.Д. Троцкого к М. Горькому и другим «интеллигентам»,
осуждавшим большевистский террор в первые годы советской власти.
«Этот негодяй, - писал Маркс о Лютере, - после победы рыцарей,
этих убийц и мучителей, писал о сценах в Тюрингии, что "победы
господ он, впрочем, также боялся (!), как и победы крестьян. Если
бы победили последние, то чертова матушка стала бы аббатисой"
1 Цит. по: Шерр И. История цивилизации Германии. С. 291.
2 Бэрд Ч. Указ. соч. С. 77.
3 Цит. по: Архив МЭ. Т. VII. С. 185.
Падение Лютера
151
(Однако прежде, пока он "боялся" крестьян, эта победа была бы
победой бога, который, следовательно, на сей раз тождествен
"чертовой матери")».
Войска германских властителей подавили крестьянское
восстание на полях Зандельфингена, Франкенгаузена, Вюрц-
бурга и Кенигсфена, писал Шерр, а потом «бесчисленные казни
потопили в крови на многие столетия силу германской
демократии, а вместе с ней и лучшую силу Реформации». По мнению
Меринга, «поражение крестьян, которых Лютер позорно предал
и в крови которых его покровители-князья с безжалостной
свирепостью искупались, разбило основу реформационного
движения». Победу князей Меринг считал «исторической
необходимостью, так как (они) являлись представителями
централизации новейшего государства, поскольку она вообще была
возможна при экономических условиях, существовавших тогда
в Германии». Будучи представителем того же радикализма и
экономического материализма, что и Маркс, Меринг
преувеличивал материально-экономическую и классовую сторону
Реформации и приуменьшал роль духовно-религиозной ее
стороны, которая, собственно, и была непосредственно основой
Реформации.
А что же Лютер, что он в это время делает? Ах, дорогой
читатель, ему надоело смотреть в окно, как казнят преданных ему
крестьян, и чувствовать, что, предав их, он предал самого себя. Чтобы
отвлечься, он решил устроить свою личную жизнь, а заодно как-то
напомнить своим хозяевам о себе, как новообращенном отныне и
навсегда исключительно в свою личную жизнь, и больше никуда...
13 июня 1525 г. бывший августинский монах Мартин Лютер
вступил в брак с 20-летней расстригшейся монахиней Екатериной фон
Бора. В те времена считалось достаточно греховным, если вообще
монах женился, но когда он женился на монашке, то был грех
греха, столь же ужасный, сколь новый и экстравагантный.
Раздавшийся отовсюду крик негодования сделал «выпустившему пар»
Лютеру рекламу. С усмешкой он писал Спалатину: «По милости
своей женитьбы я теперь внушаю такое презрение, что наверное
ангелы ликуют, а дьяволы плачут»1. «Некогда Лютер решил
сделаться "монахом", чтобы достичь небес посредством монашества,
а теперь, - писал Бэрд, - он стал любящим супругом, нежным
отцом, верным другом, любил музыку, гостеприимство, беседовал
Цит. по: Бэрд Ч., Лампрехт К., Порозовская Б.Д. С. 96.
152
2. Лютер и Мюнцер
со своими товарищами, охотно пользовался всеми дозволенными
прелестями жизни». В письмах к друзьям он говорит, что жена
«дороже ему французской короны, богатства Венеции».
«Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты»... Другом
Лютера был Филипп Меланхтон (1497-1560), который, как писал
Лампрехт, 25 августа 1518 г. появился в Виттенберге, «юным,
слабеньким, почти разочаровывающим своей внешностью, но
замечательным знатоком греческого языка». Лютер называл Мелан-
хтона «маленький грек». Они дополняли друг друга. По словам
Лютера, «мне самому приходится выдергивать пни и колоды,
обрывать шипы, осушать трясины; я - грубый дровосек,
прокладывающий дорогу, но мейстер Филипп работает чистенько и
тихонько, обрабатывает и насаждает, сеет и орошает, ибо Бог щедро
одарил его»1. Хитрец Лютер! Он и вне своего дома, с врагами, и дома, с
друзьями, всегда «работает на публику». У него, етрого говоря, нет
ни врагов, ни друзей, а есть «свои интересы». Он «работает на
публику», современную не только ему, но и нам, на будущих
дураков-историков. А заодно и льстит своему приятелю, действуя по
принципу «всем сестрам - по серьгам».
Но Меланхтон, более последовательный, чем Лютер,
невольно в отличие от Лютера обнажал реакционность идей и
поступков последнего, ставил все точки над «i», причем в отношении
деятельности не только Лютера, но и своей собственной. Так,
Меланхтон писал Кальвину, что он одобряет сожжение Сервета.
Весной 1525 г., после поражения Крестьянского восстания,
когда пфальцграф Вейнсбергский, по словам Бебеля, ранее
надававший от страха с три короба всевозможных обещаний своим
крестьянам, обратился к Меланхтону за отпущением грехов, тот
в связи с этим заявил, что «было бы хорошо, если бы такой дикий,
некультурный народ, как германцы, имел бы еще меньше
свободы, чем имеет. Правительство вправе поступать так, как
поступает, и когда оно отнимает общинные земли и леса, то никто не
должен этому противиться... То, что крестьяне сбросили с себя
крепостное право и не хотят более платить существующие до сих
пор подати - большой грех. Это такой невоспитанный, дерзкий,
кровожадный народ, что нужно его еще крепче держать в руках».
Да, «чистенько работает» маленький, жалостливый Филипп
Меланхтон.
1 Там же. С. 45-46.
Падение Лютера
153
Дома Лютер преображался. Работал на токарном станке,
совсем как Петр I, и копал грядки для дынь и огурцов в
монастырском огороде совсем, какЖ.Ж. Руссо. Гейне сообщает, что,
проведя день в тяжелой работе над своими догматическими
формулировками, он вечером брался за флейту и созерцал звезды,
растекаясь в мелодии и благоговении; что на работе он
неистовствовал, как буря, вырывающая с корнем дубы, а дома становился
кротким, как эфир, ласкающий фиалку; что он был исполнен тре-
петнейшего страха божьего, полон самопожертвования во славу
святого духа; что он способен был целиком погрузиться в область
чистой духовности, однако очень хорошо знал прелести жизни сей
и умел их ценить; что, наконец, с уст его слетело чудесное
изречение: «Кто к вину, женщинам и песням не тянется, тот на всю
жизнь дураком останется» («Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
der bleibt ein Nazz sein Lebeland»1).
«Если Господь Бог наш, - сказал он однажды, - создал таких
больших вкусных щук и доброе рейнское вино, то я имею право
спокойно их есть и пить. Ты можешь позволить себе всякую
радость в мире... Любвеобильному Богу приятно, когда ты от
глубокого сердца радуешься или смеешься»2. Его гедонистическая
теория о взаимных отношениях полов в своих подробностях не
совсем удобна для передачи, стыдливо писал Бэрд, Лютер и его
время в этом отношении не могли быть невинными.
И вот пока «его хорошие друзья не могли нахвалиться
качеством вина и кухней доктора Мартина Лютера», самое время
вспомнить, что, обращаясь к крестьянам, Лютер говорил: «Вы должны
терпеть! Страдание, страдание, крест, крест и ничего более -
такова доля христианина. Спасению души бедного человека много
способствуют те лишения и та масса работы, которая лежит на его
плечах... иначе его жизнь исполнилась бы довольства». Те,
продолжал он, кто горд, что их называют христианами, являются
последователями Христа и хотят «чтобы их считали истинными
христианами... должны безропотно терпеть нарушения своих прав...
Ведь из... Священного писания и ребенок поймет, что христианин
не должен сопротивляться злу, хвататься за меч, защищаться,
мстить; нет, он должен отдать свою жизнь и свое имущество
первому, кто хотел бы произвести над ним насилие, кто хотел бы его
1 Цит. по: Бэрд Ч., Лампрехт К., Порозовская Б.Д. С. 99.
2 Цит. по: Бэрд Ч Указ. соч. С. 137-138.
154 2. Лютер и Мюнцер
ограбить. Страдания, страдания, крест, крест - вот права
христиан, и нет у них никаких иных прав».
В своем собрании церковных произведений Лютер учит:
«Правительство должно господствовать над чернью, над всем народом,
должно бить, давить, вешать, жечь, рубить головы, колесовать,
чтобы его боялись и чтобы оно могло держать народ в
послушании», В связи с этим социал-демократ Бебель писал, что
отношение Лютера к революционным партиям объясняет, почему «наша
теперешняя буржуазия продолжает чтить Лютера, как героя; она
видит в нем своего предшественника и своего учителя» (А.
Бебель).
...Но кто скажет, что лучше: господство правительства над
народом, отождествляемым с чернью, либо реальной черни (в лице
правительства) над народом?
Культ своей личности
Происшедшее двойное предательство (других и
себя) и наступившее вследствие этого падение Лютера в роковых
1525-1527 гг. Крестьянской войны не прошли даром для него, его
движения и Реформации. По мнению ее историков, он, а за ним и
Реформация стали «неподвижной, догматичной, лишились
воодушевления и универсальности».
Перестав возглавлять прогрессивное духовное движение и
разрушив римскую церковь, Лютер начал создавать новую
церковь в рамках дозволенного государством, все больше и лучше
приспосабливая и эту церковь, и самого себя к государству, от
которого все более зависел. Неверно объяснять эти его действия
психологическими особенностями личности Лютера, как это
делал Бэрд; тем, что он «одна из тех силовых и многосторонних
натур, которые бросаются в разные крайности, прежде чем добьются
равновесия, и уже тогда с одинаковой энергией относятся ко всем
сторонам жизни». Просто Лютер и его движение как бы все более
окостеневали, чтобы лучше войти в историю.
Теперь Лютер, подобно государственным деятелям всех
времен и народов, усердно работает над увеличением числа своих
партийных сторонников и созданием своего образа, имиджа.
Он до такой степени возгордился и стал держать себя со своими
последователями настоящим монархом, что даже его ближай-
Культ своей личности
155
ший друг Меланхтон (ах, читатель, уж мы-то с тобой знаем цену
политическим «друзьям») боялся не то что противоречить
Лютеру в определенные моменты, но даже и близко подходить к
нему.
Для Лютера этого периода особенно характерен культ его
личности, все более укрепляемый им самим. Не случайно в уже
появившемся после Вормского сейма сочинении «Страдания
доктора Лютера» проводилась параллель между поведением
Лютера в Вормсе и допросом Христа Пилатом... И если кто-либо,
подобно Карлштадту и др., осмеливался не признать безусловно
авторитет Лютера в делах веры, тот, без сомнения, был ужасный
«сумасброд» и отъявленный «бунтовщик». Для устных сражений
со своими идеологическими противниками Лютер разработал
технологию разгромных выступлений, беспроигрышных ответов
оппоненту и сногсшибательных реплик, технологию, которая
близка к используемой в марксизме, ленинизме, сталинизме и
маоизме. Например, на знаменитом споре в Марбурге, будучи не
в состоянии победить сильную диалектику Цвингли, Лютер
отвечал на его доводы несколько грубо и однообразно, но зато
внушительно: «У тебя не здравый ум»1. Предвосхищая близкую нам
религиозно-политическую, антименьшевистскую формулу,
Лютер считал, что «его слово - слово Христа, а все, которые вредят
его делу, слуги антихриста». В общем, «кто не со мной - тот
против нас!»2.
Стандартный признак всякого великого религиозного (=
идеологического) учителя, а именно, фанатически страстная
убежденность в собственной правоте и святости как своей личной
собственности, был атрибутом Лютера и его движения. Он
рассматривал - и это тоже нам близко - свое учение как монолит, из
которого нельзя изъять ни одной, даже самой захудалой догмы,
«не падя в объятия» еретика. Он не хотел и слышать о каком-либо
изменении своего основного учения, хотя и признавал, что оно
изменчиво...
Уже давно с опаской и завистью он следил за ростом влияния
на народные массы Томаса Мюнцера (ок. 1490-1525), своего
вначале единомышленника и друга, а позже соперника. И по словам
последнего, добился у своего князя, чтобы его служба не была на-
1 Цит. по: Шерр И. История цивилизации Германии. С. 293.
2 Цит. по: Бэрд Ч., Порозовская Б.Д. С. 74.
156
2. Лютер и Мюнцер
печатана. Примечательно, что на этот упрек, хорошо известный
Лютеру, тот так никогда и не ответил.
Такое же отношение было у Лютера и к Цвингли,
швейцарскому деятелю Реформации. На диспут с ним в Марбург Лютер,
пишет Б.Д. Порозовская, явился «с торжественностью настоящего
владетельного лица со свитой раболепных друзей, в богатом,
подаренном ему курфюрстом одеянии», над которым Цвингли,
будучи в своей обыкновенной одежде, «не мог не подсмеиваться
втихомолку со своими друзьями. Простые манеры швейцарца
показались Лютеру грубыми, мужицкими...» Он совсем забыл, что
сам крестьянин. Но чтобы заранее оповестить всех о том, что не
отступит ни на йоту от своего предвзятого решения, от каждой
буквы заранее подготовленного текста, он написал на стене: «Сие
есть тело мое». Соглашение между противниками оказалось
невозможным. В споре с Цвингли Лютер заявил: «Одна сторона
должна служить дьяволу и быть враждебной Богу - тут не может
быть середины!»!. Сторонники этой точки зрения живы и поныне.
Все они обязательно выступают за что-то одно в ущерб другому, с
ним связанному, или за его счет, хотя реальность всегда требует не
только борьбы, но и единства (тождества) противоположностей,
не только революции, но и эволюции, ибо в реальной
действительности они равноценны и взаимно дополняют друг друга, так
что истина не в каком-либо одном из них, а в каждом из них, в
достижении их гармонии.
Популист Лютер выступил ярым противником консенсуса,
общечеловеческих ценностей, нового мышления и прочих любимых
демократами (пока они у власти) особенностей. Филипп
Гессенский, желая объединить лютеран с цвинглианцами, попросил вит-
тенбергских ученых по крайней мере признать швейцарских
реформаторов хотя бы просто братьями. Эту просьбу, писал историк
Брихничев, Цвингли «поддержал со слезами на глазах и с
протянутой рукой...» Лютер, напротив, резко отверг предложение дружбы.
«Вы чтите иного Бога, чем мы», - сухо и холодно произнес он.
Диалога и последующего союза не получилось.
Одержимость Лютера идеей собственной исключительности,
которая так часто встречается у параноиков, вождей, ефрейторов,
писателей, продавцов и других замечательных людей, достигла «у
брата Мартина» столь большой степени, что позволила ему зая-
1 Цит. по: Порозовская Б.Д. У- Цвингли, его жизнь и реформаторская
деятельность. СПб., 1891 C.7Û.
Культ своей личности
157
вить: «Я, Лютер, не подчиню своего учения ничьему суду, даже
ангелов. Кто не принимает его, тот не может спастись». Поэтому
Лютера называли Виттенбергским папой. «Один папа еще не
умер, но уже да здравствует другой!..»1
Еше не зная, что Маркс назовет Лютера «твердолобым»
обывателем (Spiesser), уверовавшим в черта и погрязшим в буквоедстве,
немецкий историк Иоганн Шерр, справедливо назвав Лютера
«теологом, прикованным к букве Библии», указывал, что люте-
ровская нетерпимость во много раз превзошла нетерпимость
папскую: «Лютеранское поповство, состоящее из многих сотен
мизерных попиков, с такой нетерпимостью лаялось на все с ним
неединомыслящее, что честный Себастьян Франк еще в 1534 г. в
предисловии к своей книге о ненавистной нетерпимости
протестантской ортодоксии мог воскликнуть: "Прежде при папстве
было много свободнее осуждать пороки государей и господ, а теперь
я все должен восхвалять, а иначе сделаешься бунтовщиком". Вот
что в короткое время сделалось с движением, от которого лучшие
умы Германии ожидали возрождения нации».
Иллюстрации к книге «Жизнь Лютера».
Лютер на смертном одре
Что касается взаимоотношения, быть может, дружеского,
Лютера с чертом, о чем писал Маркс, то «брат Мартин» действитель-
1 Цит. по: Порозовская Б.Д Мартин Лютер, его жизнь и реформаторская дея-
тельность.СПб., 1994.
158
2. Лютер и Мюнцер
но рассматривал всякое событие через очки не разума, а
мистической теологии, чья атмосфера стала для него привычной средой, в
которой он жил. Немудрено, что он был, по словам историка
В.Э. Гартполь-Лекки, чертовски «подвержен различным
страстным галлюцинациям и колебаниям мысли, которые он неизменно
приписывал прямому действию Сатаны. Поэтому Сатана стал
преобладающим представлением его жизни... В Виттенбергском
монастыре он постоянно слышал, как дьявол поднимал шум в
монастырских переходах; он наконец так привык к этому факту, что,
по его рассказу, однажды, будучи разбуженный шумом, он понял,
что это был только дьявол, и поэтому опять заснул. Черное пятно
на стене в Вартбургском зале еще указывает на то место, куда он
швырнул в дьявола своей чернильницей... Ни одна из болезней,
каким подвергался Лютер, не была естественная, а его ушная
болезнь была в особенности дьявольская». Для Лютера вполне
реальным (а признайся, читатель, в этом что-то есть...) было
существование не только чертей и полтергейстов, но также инкубов (бес,
являющийся мужчине в облике женщины) и суккубов (бес,
являющийся женщине в обличье мужчины) и их органических
связей с людьми. Последнему каждый из нас свидетель: с кем,
скажите, не бывало, чтобы его «черт попутал». По-видимому, это
обстоятельство роднит всех людей с Лютером, делает их его
прямыми соучастниками.
Вообще дьявол играл в жизни Лютера большую роль. В одной
из своих застольных речей он сказал, что его вера в постоянное и
всепроникающее действие сатаны вполне соответствует его вере в
вездесущего деятельного бога, получая тем самым противовес...
Он слышал в своей уединенной келье в Вартбурге шум, который
он не мог объяснить, и странное царапание за печью в своей
комнате в Виттенберге. Дважды он видел сатану в образе большой
собаки. Сатанинскому влиянию он приписывает видение, когда ему
явился Христос с пятью ранами. «...Волны и приливы отчаяния и
богохульства возмущают меня против Бога», - признавался он
Меланхтону. «Я других спасал, а себя самого не могу спасти»1, -
пишет он 1 января 1528 г.
Вопреки своему религиозному догматизму и религиозному ос-
вяшению феодальной власти князей, Лютер выдвинул идею
освящения светского государства и мирской жизни христиан,
ограничившись, однако, реформой лишь теологии, писал Бэрд. Отвергая
1 Цит. по: Бэрд Ч. Реформация XVI в. С. 160-163.
Культ своей личности
159
«священное предание», т.е. авторитет папских декретов и
посланий, Лютер восстановил авторитет Священного писания. Начав с
профессивного заявления о том, что расцвет наук и языков есть
предвестник божественного откровения, Лютер кончил
реакционным отрицанием положительного значения человеческой воли
и знания как абсолютно предопределенных и управляемых Богом
либо дьяволом. Поэтому движение Лютера лишь провозгласило
необходимость абстрактного социального преобразования, но на
деле, не изменив существующие социальные отношения,
освятило их и тем еще более упрочило. Маркс писал:
II Лютер победил рабство по набожноститолъко тем, что поставил на его
место рабство по убеждению. Он разбил веру в авторитет, восстановив
авторитет веры. Он превратил попов в мирян, превратив мирян в
попов. Он освободил человека от внешней религиозности, сделав
религиозность внутренним миром человека. Он эмансипировал плоть от
|| оков, наложив оковы на сердце человека.
Утверждая это, Маркс, по сути, не считает развитием то
изменение общества, которое оно претерпело под влиянием
Реформации как изменения религии и сводит последнее вместе с
Реформацией к простой «перемене мест», неявно, однако, признавая, что
«меняются местами» очевидные диалектические
противоположности. Но коль скоро они диалектические, то утверждение Маркса
о том, что общество и религия в период Реформации не
развивались, не двигались вперед, а топтались на одном месте, -
ошибочно. Тем не менее Маркс с присущим ему радикализмом и жаждой
практического социально-экономического преобразования
«рвется в бой», усматривая недостатки Лютера в
«реформаторстве», «абстрактности социального преобразования», «освящении»
и упорядочении существующих социальных отношений.
«В Базеле, - писал Маркс, - большинство кантонов осталось
католическим; жалкий Лютер своим спором с Цвингли о
причастии помешал (этот монах препятствовал всему действительно
прогрессивному в реформации) объединению лютеран Германии
и исконно германских городов Швейцарии. Болван Лютер...»
Он умер 18 февраля 1546 г. в своем родном Эйслебене, где и
родился 10 ноября 1483 г., а тело его было перевезено в Витгенберг и
пофебено с большой торжественностью в той самой церкви, к
воротам которой он когда-то прибивал свои знаменитые тезисы.
... «Землишка, землишка - один ты песочек!»
160
2. Лютер и Мюнцер
Мюнцер и Лютер (цельность против
раздвоенности)
Милые братья, долго ли вы будете спать?
Т. Мюнцер
Лютер был ошеломлен тем действием, которое
произвели его тезисы. Ведь он, находясь, по выражению Меринга,
в «духовном плену папства», выступил только против слишком
«бесстыдного злоупотребления» папскими отпущениями,
признавая, однако, их необходимость... Неловкие попытки папской
власти принудить его к молчанию были по сути такими, обычно
ловкими, которые предпринимаются господствующими
классами, когда те видят приближение своего конца. Эти попытки
подстрекнули гражданскую настойчивость Лютера; к тому же, писал
Меринг, «движение, которому он дал толчок помимо своей воли и
намерений, гнало его все дальше и дальше». Не он вел его, а оно
увлекало его за собой.
Решающее влияние на массы Лютер приобрел потому, что «за
профессором в нем никогда не умирал крестьянин»; потому, что
он умел резко и смело выступать и писать сильным,
захватывающим языком и в этом превзошел всех своих, а может быть, и не
только своих, современников. Однако верно и противоположное:
«сын мужика все же был профессором». Чем более развертывалось
движение крестьян, чем революционнее оно было, тем очевиднее
становилось, что Лютер попал в положение того заклинателя,
который не мог прогнать вызванных им духов. И вот здесь-то
профессор Виттенбергского университета, протеже курфюрста
Фридриха Саксонского, принял, на мой взгляд, правильное, но с
точки зрения Меринга отвратительное решение. Лютер
высказался (о, ужас!) «за мирное развитие в рамках законности».
Предпринятые с этой целью шаги расцениваются Мерингом следующим
образом: «С 1517 по 1522 г. Лютер кокетничал со всеми демократа -
ческо-революционными элементами; с 1522 по 1525 г. он
последовательно, один за другим предал все революционные элементы».
Такова, писал Меринг, и судьба преданного Лютером Томаса
Мюнцера - «представителя демократических течений,
находившихся на левом фланге Реформации, человека ранее других
распознавшего предательскую сущность Лютера».
IVfюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности) ' 161
Против Сатаны-Лютера выступил Христос-M юн цер, он же
плебс-крестьянин. Точку зрения Меринга разделяет Бебель:
«Если Лютер был представителем умеренных реформаторских
стремлений благосостоятельных классов и другом дворянской партии,
враждебно настроенной против папы, то Мюнцера можно считать
истинным вождем революционных слоев народа, крестьян и
низших классов городского населения».
В голодной и больной неволе
И день не в день, и год не в год.
Когда же всколосится поле,
Вздохнет униженный народ?
***
Народ - венец земного цвета,
Краса и радость всем цветам:
Не миновать господня лета
Благоприятного - и нам.
А. Блок
Высшим выражением общенародного подъема эпохи
Реформации была Крестьянская война в Германии 1525 г., которая, как
и вся феодальная борьба крестьянско-плебейского лагеря XVI в.,
была по существу началом буржуазной революции - ее первым
проявлением в Европе,
О, весна без конца и без краю -
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита.
А. Блок
Почему, когда я думаю о Томасе Мюнцере и возглавлявшемся им
движении, я вспоминаю испанского Дон Кихота, французских утоли-
II стов, русских декабристов?.. А также детей, погибших в путче 1991 г.?
Плечом к плечу с Томасом Мюнцером сражались Вендель
Гипплер, народные вожаки Бальтазар Губмайер, Георг Мецлер,
Франц Ребман, Фридрих Вейганд, священник Шапплер и др., а
также дворяне Флориан Геер и Гёц фон Берлихинген. «Лишь в
Тюрингии, - писал Энгельс, - под непосредственным влиянием
Мюнцера и в некоторых других местах под влиянием его учения
плебейская часть городов была настолько увлечена общей рево-
162
2. Лютер и Мюнцер
люционной бурей, что зачаточный пролетарский элемент
получил в ней краткий временный перевес над всеми остальными
группами, участвовавшими в движении». Класс, представляемый
Мюнцером, «едва лишь зарождался».
Вероятно, возможность захвата власти простыми людьми
была в Германии того времени вполне реальна. В какой-то мере это
осознавали даже князья при свете пожарищ Мюльгаузенского
восстания, возглавлявшегося Мюнцером; восстания, последствия
которого вызвали такое неистовство Лютера, что позволило его
врагам сказать о его предательстве того движения, которое он сам
вызвал к жизни. Так, 14 августа курфюрст Саксонский в письме к
брату своему Иоанну писал: «Бедные люди во многом
отягощаются нами, светскими и духовными владыками. Да отвратит Бог от
нас свой гнев... Дело может принять такой оборот, что во главе
управления встанут простые люди». А что они станут с ним
делать - мы уже знаем.
II Аналогичное осознание собственной вины за некую свою, пусть даже
косвенную причастность к причинам, вызвавшим вспышку
народного гнева, можно встретить и спустя несколько веков, например в
оценке А. Блока революционных действий крестьян, разоривших его род-
|| ную усадьбу.
Крестьянская война была подавлена не без помощи Лютера,
олицетворявшего чаяния бюргерства. «Реформация, которая до
начала Крестьянской войны не без основания могла надеяться
быстро завоевать всю Германию, - писал Бебель, - сделалась
после войны безразличной народу, она являлась лишним козырем в
руках князей. Под ее прикрытием они захватили церкви и
мирские владения и под видом борьбы за свободу совести скрыли
стремление уничтожить королевскую власть и завоевать себе
полную независимость... Борьба из-за религиозных убеждений, с тех
пор как они утратили свою материальную подкладку... перестала
быть борьбой для тех, кого она раньше интересовала; борьба эта
обратилась в простую поповскую ссору, которая, не затрагивая
нисколько народ, служила лишь средством князьям для
достижения их целей». Народ чувствовал, что «религиозная реформа без
социально-политического преобразования - ложь и обман».
Один из современных немецких историков считает, что
единое вначале реформационное движение раскололось в 1521—
1522 гг. на два направления - на княжескую реформацию Лютера
jVf юнцер и Лютер (цельность против раздвоенности)
163
и народную реформацию Мюнцера. Вначале Лютер поднял
общенародное знамя Реформации. Но впоследствии, увидев бурный
размах крестьянского движения, оставил его, сделавшись
идеологом княжеской реформации. Мюнцер в ходе этого же бурного
размаха стал народным героем, отразившим в своем учении народное
понимание Реформации, и остался до конца стойким и смелым
борцом за дело трудящихся масс... Революционное учение и
деятельность Мюнцера - кульминационный пункт Крестьянской
войны и всего общественного движения эпохи Реформации. Но
дело не в «бурности», не в «размашистости», не их «убоялся» Лютер.
Он переменил свою позицию из-за изменения не масштаба, а
качества крестьянского движения (Реформации). И если от
страха, то не за себя, а за восставших как людей. Крестьянство и плебс,
поднявшиеся на справедливую и законную борьбу со своими
врагами и угнетателями ради праведной и чистой цели, начали
добиваться ее неправедными, бесчестными и бесчеловечными
средствами; преступили меру дозволенного человеком себе и другим
людям; стали совершать и совершили преступление против
человечности, а с точки зрения Лютера, против Бога и Священного
писания. Конечно, революции не совершаются «в белых
перчатках». Но кто сказал, что революции надо свести к одному лишь
«мечу карающему» (А. Герцен)? Только к уголовщине, насилию и
террору, а революционеры должны использовать только силу и
быть абсолютно безнравственны и аморальны?..
Партийная, так сказать, принадлежность Лютера и Мюнцера
чрезвычайно затрудняет всякую попытку мало-мальски
объективно разобраться и понять суть личности и деятельности того и
другого. Слишком пристрастны и безличностны историки, и в их
характеристике Лютера и Мюнцера слишком много их
собственной общественно-политической позиции, их собственной
партийной принадлежности. В осадок времени выпадают дошедшие
до нас крайние, взаимно исключающие суждения о том и другом,
несмотря на то, что любая крайность - преступление, ибо она
всегда недостаток, всегда ложь, хотя и представляет собой
естественное продолжение реального достоинства, объективной истины.
Поэтому следует осторожно отнестись и к суждениям историка
Э.К. Розенова, считающего Мюнцера «мощным духом,
предвосхитившим духовное развитие целых столетий», рядом с которым
«образ Лютера съеживается совершенно до ничтожества», и к
социал-демократу и коммунисту Мерингу, который вообще не счи-
164
2. Лютер и Мюнцер
тал Мюнцера «самостоятельным умом» за то, что тот «не внес
каких-либо новых целей в движение своего времени», хотя
«проницательными и дальновидным взглядом сумел распознать его
революционные элементы». Несмотря на эту зарождающуюся во
времена Меринга и характерную для него и его партии
политическую трескотню, сам Меринг прав, утверждая, что Мюнцер был
«целостным человеком, отличавшимся мужественной
решимостью и непоколебимостью в своих мыслях и действиях». В этом с
Мерингом солидарен и буржуазный историк XIX в. В.
Циммерман, который, говоря о Мюнцере, указывал на его популярность в
народе, смелость и энергию. Ни Мюнцер, ни его соратник
Пфейфер не были жестоки и корыстолюбивы. Даже пастор Иоанн Карл
Зейдеманн, ярый очернитель Мюнцера, вынужден был признать,
что тот «вообще был бескорыстен и помогал беднякам». Как
свидетельствуют летописи, Мюнцер и Пфейфер были бедны. Их
вдохновлял не грабеж как передел собственности «в целях
равенства», а мщение, которое, как писал Циммерман, «было только
каплей крови сравнительно с тем кровавым морем, которое
проливали князья». Однако математические расчеты «меньше-больше»
преступают меру справедливости и законности, и нельзя путать
мщение с возмездием там, где хотят быть и оставаться людьми.
Меланхтон, друг Лютера - злейшего врага Мюнцера,
сообщил, быть может нечаянно, правду о том, как Мюнцер держался
перед казнью: «Когда он предстал перед князьями, они спросили,
зачем он обманывал бедных людей. Он гордо отвечал, что
поступал справедливо, что он имел в виду наказать князей»1. Но только
ли это имели в виду крестьяне, пойдя за ним? Когда каждый
вершит скорый суд и расправу, то они ли это?..
Конечно, Мюнцер не был ни крупным философом, ни
хорошим организатором (думаю, что плохим). Он был, вероятно,
хороший проповедник и неплохой ученый. И по его словам, он во всю
жизнь свою никогда не был воином. Однако он, с одной стороны,
был достаточно умен и открыт изменениям в обществе, чтобы на
них своевременно реагировать, и хорошо их чувствовал. В этом он
был, по выражению Розенова, высок как «исполненный
воодушевления практик и особенно как тонкий политик...» С другой
стороны, как все люди этого века и общества, Мюнцер был
органически связан с религиозной верой и Библией. Поэтому он не смог
не облачить свое учение в «чтимый покров Библии», без которого
1 Цит. по: Общественные движения. С. 365-366.
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности)
165
еГо учение никогда не стало бы достоянием масс, а он сам скоро
был бы повешен или колесован. Вот почему Мюнцер обращался
(сознательно или нет? - вопрос, на который, мне кажется,
невозможно ответить) к христианской символике, чтобы под ней
скрывать свое учение.
Немецкий социал-демократ Бебель, повинуясь своему
утопическому представлению о социализме (коммунизме),
традиционно изрекал: «В лице Мюнцера погиб самый смелый, самый
революционный деятель Крестьянской войны. Достигнутые им
результаты погибли благодаря неподготовленности эпохи, но зерно
его идей не умерло, оно продолжает жить и даже на пути к своему
осуществлению.
Иллюстрации к книге «Жизнь Лютера»
Погребение Лютера
Ложь и клевета, - продолжает Бебель, - преследовали его и за
могилой. Лютер и его друзья продолжали обливать его помоями и
после его смерти. Им-то главным образом обязан Мюнцер
репутацией жалкого безумца...» Разумеется, Мюнцер не был жалким. Но
не был ли он безумцем?.. Маркс писал в «Хронологических
выписках», что «выдумки паршивца Меланхтона... перешли во все
книги по немецкой истории» и «представляют собой клевету на
Мюнцера». По мнению социалистов, сведения от Меланхтона,
оболгавшего Мюнцера, суть корни мнения о том, будто бы Мюн-
Цер, как утверждал Лампрехт, «человек фантастичный, полный
болезненного беспокойства, без всякой сдержанности,
тщеславный и трусливый, но при этом способный на энергичные
поступки, не удерживаемый никакими соображениями совести и потому
166 2. Лютер и Мюнцер
по натуре то мрачно задумчивый, то мрачно энергичный». Для
Мюнцера, как следует из характеристики Лампрехта, морально
лишь то, что соответствует его идеям и задачам его движения.
Другой историк, Бэрд, называл Мюнцера «фанатичным пророком»,
«несчастной жертвой Крестьянской войны».
Бебель дал всякой критике Мюнцера со стороны буржуазных
реакционных историков сокрушительный отпор: «Смешение с
грязью памяти борцов за свободу народа, людей, всем
пожертвовавших для него, унижение их, только потому, что они не
победили, свойственно не только нашему времени, но как видно, не
чуждо и прошлым векам. Реакция грязнит память людей, которых она
имела основание бояться, а народ, лишенный правильного
руководства и по невежеству, в котором его искусственно держат, к
сожалению, слишком часто верит своим притеснителям и
подражает им». Как жаль, что эти проникновенно односторонние слова,
исходящие от лагеря, назвавшего себя «прогрессом», а всех не
согласных с собой - «реакцией», столь же злобны, несправедливы и
ошибочны, как и те, противоположные им, которые доносятся из
лагеря их идеологических противников. Почему оба эти лагеря так
уверены, что для торжества взглядов их секты и чистой идеи
хороши все средства, даже грязные? Неужели в отношении к Мюнцеру
невозможны «золотая середина» между индивидуальным и
социальным, личным и общественным, их взаимная терпимость и
«презренный» компромисс?.. Разве в каждом из нас нет
обращенного в себя и обращенного вовне я ко всем? Разве не эту постоянно
присущую натуре и жизни любого человека великую
раздвоенность, которая делает нашу индивидуальную и общественную
жизнь трагедией; разве не эту всегда жизненно необходимую
полярность, амбивалентность выражают, концентрируя в себе и
символизируя собой один из ее «полюсов», Лютер и Мюнцер?..
...И я пою, -
Но не за вами суд последний,
Не вам замкнуть мои уста!..
Пусть церковь темная пуста,
Пусть пастырь спит; я до обедни
Пройду росистую межу,
Ключ ржавый поверну в затворе
И в алом от зари притворе
Свою обедню отслужу.
А. Блок
Мюниер и Лютер (цельность против раздвоенности)
167
Общество и век Мюнцера были охвачены застилающим их
мраком и отчаянием. Всеобщее внимание привлекали так
называемые перекрещенцы, чье миросозерцание и взгляды были по
существу мистическими, сектантскими и утопическими, а вовсе не
христианскими. Вообще говоря, мистика не содержит в себе
ничего специфически христианского, ибо она - «дитя пантеизма», по
выражению историка Бюргера. Мистика основывается на
убеждении, что Бог и природа - одно единое, внутренне обусловленное
целое, но природа не есть проявление или выражение божества.
Поэтому мистика, с одной стороны, постоянно ищет в
чувственном сверхчувственное, видит в вещах, личностях и
священнодействиях проявления таинственных потусторонних сил, а с
другой - мистика делает нас, окружающий реальный мир и его вещи,
события чем-то иллюзорным, ирреальным, имеющим лишь
символическое значение в отличие от сверхчувственного бытия,
почитающегося истинной реальностью; подменяет, как у Платона,
мир вещей - миром их символически выраженных идей. При этом
все христианские мистики и утописты обосновывали свое учение
ссылками на пророков Старого завета, особенно Иеремию, и на
откровение Иоанна в Новом завете.
Чем более нищали массы, чем безнадежнее были мрак и
отчаяние, тем более народ, по выражению Розенова, уходил в темный
мир таинственного, мистического. На своих собраниях, которые
посещались преимущественно перекрещенцами - ткачами,
суконщиками и рудокопами, говорили, как писал Бебель, о скорой
гибели мира, приближении Страшного суда, который уничтожит
всех нечестивых и неверующих, очистит мир кровью, оставит в
живых только благочестивых и верующих. Тогда, но не ранее,
воцарится царство божие на земле и будут одно крещение и одна
вера. Иначе говоря, именно так, как должно быть и в «обществе
нового типа», по официальной сталинской идеологии, или
обществе, где «Ein Reich, ein Volk, ein Fuhrer» («Одно государство, «один
народ, один вождь»), по официальной гитлеровской идеологии.
Мистицизм звал к обществу, представляющему собой единую
Дружную семью счастливых, процветающих народов, под мудрым
руководством, вероятно, тоже только одного
правителя-богочеловека. В силу своих мистических убеждений перекрещен-
Цььмистики придавали огромное значение видениям, снам и
прочим знамениям, впадали в судороги, корчились, делали
прорицания, объясняли сновидения и умело вводили себя в состояние
168
2. Лютер и Мюнцер;
транса, в котором только и могли без помощи какой-либо
церковной обслуги выйти на прямой и непосредственный контакт с
Богом и божественным. В этом фактически вся суть мистицизма.
В лице перекрещенцев как бы возродились, воскресли, только
в иной форме, фантастические секты, тайно существовавшие
после поражения гуситов в соседней Богемии, Франконии,
Тюрингии и Саксонии. Казалось, писал Бебель, народ забыл их учения,
но как только началась Реформация, как только повсюду
пробудился свободный дух - старые утопические учения всплыли
наружу. Во главе секты перекрещенцев в Цвиккау (где мы впервые
встречаемся с Томасом Мюнцером) стояли два суконщика - Ник-
лас Шторх и Макс Томэ, а также ученый Макс Штюбнер из Эле-
терберга, изучавший науки в Виттенберге... Но Бебель не
упоминает о том, что в липе перекрещенцев воскрес и сектантский дух,
который с тех пор стал непременным атрибутом любой
общественной партии и своей кульминации достиг не столько в партиях
социалистических (коммунистических), сколько в
антикоммунистических, предпосылки которых появляются в настоящее время.
Не став перекрещенцем, Мюнцер тем не менее рано увлекся
мистикой, которая, писал Бебель, соответствовала его «этически
эксцентричной натуре», его «огненному темпераменту», которым
быстро завладели утопические учения мистиков. Мюнцер усердно
штудировал сочинения аббата Иоахима (Италия, XII в.),
считавшегося пророком, и сочинения И. Таулера - классика немецкой
мистики XIII—XIV вв. Из их учения вытекала полная ненужность
всего церковного строя, поповского сословия и необходимость в
том, чтобы каждый, кого осенит благодать, стал проповедником...
Немецкие мистики предсказывали будущее господство духа, а с
ним воцарение любви, радости и свободы. Откровение духа
неизбежно придет на смену ныне существующему, но временному и
преходящему евангелию буквы. Мистики назвали себя
«сыновьями духа» и не нуждались в посредничестве священников и ученых,
ибо владели, как говорилось, способностью «впадать» в
непосредственный контакт с Богом. Внутреннее прозрение заменяло
мистикам внешний мир.
Социалисты вообще, в частности социал-демократы,
стремятся оттянуть Мюнцера от компрометирующего их, но
естественного для него немецкого мистицизма и сектантства и сделать одним
из своих предшественников. Для этого имеются все основания, но
не существует той непроходимой пропасти, которую они искусст-
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности)
169
венно вырывают между ним и мистицизмом. Мюнцер - мистик, и
с этим ничего нельзя поделать, равно как и с той исторически
определенной формой мистицизма, которая вообще присуща
любому социалистическому (коммунистическому) мировоззрению в
той или иной мере и степени. Было бы ошибкой приписывать
Мюнцеру, как это делал перепуганный Меланхтон, способность
творить мелкие чудеса; например собирать в свой рукав все ядра,
пущенные князьями из пушек против восставших крестьян. Но
неверно и ограничивать мюнцеровский мистицизм лишь его
верой и возможностью непосредственного сношения с Богом или
считать, что учение Мюнцера вообще порывало со
средневековыми мистическими сектантскими учениями.
Под влиянием мистических учений Мюнцеру казалось, писал
Бебель, что «дух революционного брожения, охвативший его
столетие и пропитавший всю общественную атмосферу», создает
условия, необходимые для коренной перестройки «всего
общественного строя и дает возможность осуществить на земле царство
божие, основанное на свободе и равенстве». Томас Мюнцер -
человек, т.е. сотворенная Богом «тварь дрожащая», которая
попыталась сотворить из града земного град божий вне и независимо от
бога и его промысла, единственно лишь в заботе о роде
человеческом и ему на благо.
В известном смысле (например, в отношении своем к Библии
и в некоторых других вопросах) Мюнцер солидаризировался с
Лютером, но шел несравненно дальше его, ломая и отбрасывая
узкие рамки компромисса и соглашательства (в которых, на мой
взгляд, ничего плохого нет и быть не может). Речь у Мюнцера, как
и у всех социалистов-коммунистов, никогда не шла о
примирении, а лишь об уничтожении, ликвидации существующих
условий, порядков и властных структур, как нынче говорят. Мюнцер
шел только вперед и без оглядки. Если революционность Лютера
остановилась и, быть может, даже «сломалась», исчерпав себя в
лютеровском истолковании Библии и Откровения, а также после
Мюльгаузенского восстания, то перекрещенцы, начиная с цвик-
кауских пророков, несовершенно и бессознательно постигли
принцип непрерывности, эволюции, историзма Откровения.
Библия, говорил Мюнцер, - это «Вавилон; нужно ползти на коленях и
говорить с Богом»1. И еще: «Христос никогда не указывал на
Писание, он на него указывал только фарисеям, избранные (т.е.
1 Цит. по: Лампрехт К. Указ. соч. С. 223.
170
2. Лютер и Мюнцер
"наиболее равные из равных". - Л.П.) могут обладать истинной
верой, хотя бы никогда и ничего бы не слыхивали о Библии, даже
если бы были рождены и воспитаны среди язычников»1. И вообще
«Писание есть нечто иное, а не мертвая буква, - учил Мюнцер, -
человек должен слышать голос Отца небесного внутри себя. Бог
говорит со своими сынами и в настоящее время, как некогда
говорил с Исааком и Иаковом»2,
Кроме того, Мюнцер вовсе не считал Библию единственным и
непогрешимым откровением. Истинное живое откровение,
существовавшее во все времена и у всех народов, существующее и
поныне, - это разум. Веру Мюнцер представлял себе как внутреннее
отношение человека к «постоянно пребывающему в нем Христу»3.
Вера, по Мюнцеру, сама по себе не что иное, как осуществление и
пробуждение разума в человеке, писал Розенов. Через эту веру,
через возродившийся разум человек достигает святости и
блаженства. Небо поэтому вовсе не есть нечто потустороннее, а его надо
искать в этой жизни, и назначение верующих в том, чтобы свести это
небо на землю, построить на ней «здесь и сейчас», а не в будущем,
земной, а не небесный град божий, установить царство божие на
земле. Эта идея, в целом характерная вообще для Средневековья,
приобрела у Мюнцера вполне конкретно практический,
отвечающий потребностям того века и общества вид. Как видим, теология
Мюнцера оптимистична, мистична, утопична, но очень практична.
Его теологически философская доктрина была гораздо более
общественно-политической и революционно-практической,
посюсторонней, нежели католической, христианской. В ней почти
отсутствовало абстрактно-религиозное обезличенное отношение
к людям вообще, как божьим тварям, сосудам греха и т.п., и
преобладала критика социального неравенства с
революционно-классовых, хотя и незрелых позиций. В божественном Мюнцер, как
позднее Лейбниц, видел скорее земное, конкретное и целое в его
взаимообусловленности со своими частями, чем божественное и
творческое. Целое воспринималось им не в своих частях, через
них и посредством их, а наоборот - части в качестве низшего
получали свое существование, особенности и жизнь из целого и
благодаря ему.
1 Цит. по: Бебель А. Указ. соч. С. 226.
2 Цит. по: Бэрд Ч. Реформация XVI в. С. 184.
3 Цит. по: Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая
крестьянская война. 2-е изд. М.: Просвещение, 1955. С. 91.
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности) 171
В основе теологии Мюнцера лежит антидиалектический
(метафизический) тезис: «Целое есть единственный путь к познанию
всех его частей»1. В методологическом отношении этот тезис
равно служит как немецким мистикам, которые учат, что отношения
человеческого мира к Богу есть отношение частей к целому,
частного к общему, так и общественно-религиозным представлениям
Мюнцера. Казалось бы, это близко католичеству (христианству),
но «под христианскими образами он учил пантеизму», отмечал
Розенов, граничащему кое-где «даже с атеизмом». Мюнцер уже не
скрывал его в узком кругу своих друзей. Когда в 1524 г. на Пасху
жена родила ему сына, к нему пришла жена альтштедтского
сборщика податей и сказала в разговоре: «Господин магистр, Бог
подарил вам молодого наследника, за это вы должны благодарить Его».
Мюнцер промолчал, а когда женщина ушла, обратился к своим
друзьям и сказал, цитируя моралиста М. Агриколу: «Теперь вы на
деле видите, что я совсем порвал с креатурами». По мнению Розе-
нова, Мюнцер демонстративно хотел показать, что не имеет
больше ничего общего с людьми, верующими в Бога. Лютер потом,
конечно, не преминул использовать и этот случай против
ненавистного ему человека... Возможно, на его месте Мюнцер поступил бы
так же. Но в любом случае, не свидетельствует ли эта утечка
информации о подлости «друзей» Мюнцера, предавших его?
Мюнцер не понимал, что в его время порывать с религией -
значит порывать с нравственностью. А порывая с ней, он как
человек порывает и с самим собой в конечном счете во имя овладевшей
им идеи безликого и потому бесчеловечного абсолютно равного в
своих частях Целого, которого при таком равенстве не существует,
утопического, абсолютно равного в своих членах Социума.
Считая себя «избранными», «сыновьями духа», т.е. заведомо
равными остальным людям, Мюнцер вместе с некоторыми
немецкими мистиками пытался для блага народа и во имя его
повести народ по известному только ему и единственно правильному
пути в светлое социалистическое будущее. Сегодня мы знаем на
собственном опыте, что это - путь на Голгофу.
Май жестокий с белыми ночами!
Вечный стук в ворота: выходи!
Голубая дымка за плечами,
Неизвестность, гибель впереди!
А. Блок
Briefwechsel. Ahn. 6. № 140. Цит. по: Смирин М.М. Указ. соч. С. 85.
172
2. Лютер и Мюнцер
Томас Мюнцер родился в зажиточной семье около 1490-
1493 гг. в городе Штольберге, в Гарце. О детстве и воспитании
маленького Томаса у нас нет сведений. Предполагают, что он
занимался в университете Лейпцига или Виттенберга. В очень
молодом возрасте достиг докторской степени и считался горячим и
глубоким знатоком Священного писания. Но его убеждения, как,
впрочем, и многих других его товарищей, современников,
полностью противоречили учению господствующей католической
церкви.
Едва достигнув 20 лет, он стал учителем латинской школы в
Ашерслебене, затем в Галле, где с целью реформирования
христианства основал тайный союз, направленный против умершего в
1513 г. архиепископа майнцского Эрнста VI, примаса Германии.
По мнению Бебеля, это говорит о решительном характере Мюн-
цера и его созревшей революционной направленности. С 1515 г.
Мюнцер - протоиерей женского монастыря в Фрозу, вблизи
Ашерслебена, в 1517 г. он перешел учителем в гимназию св.
Мартина в Брауншвейге. Но отсюда он ушел по причине «своего
неспокойного духа».
Некоторое время жил у своего друга в Ашерслебене, а затем
гостил у своей матери в Штольберге. «В начале 1519 г. мы вновь
встречаемся с ним в Лейпциге у бухгалтера Кристейна, - пишет
Бебель, — оттуда он обратился к одному из своих друзей с
просьбой подыскать ему какое-нибудь место. Кажется, он
присутствовал в Лейпциге во время диспута Карлштадта и Лютера с доктором
Экком, что вытекает из одного места его опубликованной в 1524 г.
речи против Лютера». В 1520 г. Мюнцер в начале был
проповедником в кафедральном соборе св. Марии в Цвиккау. Население
этого города было увлечено мистическими настроениями и идеями,
что привело к появлению новых пророков. Вероятно, здесь
Мюнцер сблизился с пришедшим на смену учению таборитов (братьев
Креста) новому братству, главой которого, как уже говорилось,
был суконщик Никл ас Шторх и среди вождей которого был Макс
Томэ и Макс Штюбнер. Не считая их анабаптистское учение
верным, Мюнцер все-таки искал поддержки у тайных сообществ
сектантов, перекрещенцев, пис^л Розенов, и «умел оплодотворять их
учение своими идеями».
Заявив в своей первой проповеди в день Вознесения Господня:
«монахи отличаются такой пастью, что если бы можно было от нее
отрезать добрую половину, то и тогда у них сохранились бы доста-
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности) 173
точно большие рты», он сделал всех богатых нищенствующих
монахов своими закоренелыми врагами, писал Бебель1. Во второй
проповеди в праздник Вознесения в переполненной церкви
произошел несчастный случай, который был истолкован верными
людьми, как дурное предзнаменование. Церковь еще строили, и
от деревянных лесов оторвалось бревно, но повисло на окне, не
поранив никого. В церкви разразилась паника, все хлынули к
окнам и дверям. «Один потерял башмаки. Другой шляпу, одна
передник, другая нагрудник и, хотя пастор уговаривал:
остановитесь, остановитесь, - это не помогло, все бросились
врассыпную»2. Но и в последующих своих проповедях молодой
проповедник продолжал выступать против богатых нищенствующих
монахов, «слепых пастырей, слепых овец, которые своими
продолжительными молитвами пожирают вдов и даже близ умирающих
думают не о вере, а об удовлетворении своей ненасытной
жадности»3. Проповеди Мюнцера возбуждали умы, и «со всех дальних
окрестностей стекались слушатели черными вереницами».
Мюнцер переписывался с Лютером, еше живя в Цвиккау.
В письме от 13 июля 1520 г. Мюнцер называл его «образцом и
светочем друзей божьих»4, но, возможно, это всего лишь любезная
вежливость того времени, а не свидетельство того, что они были
друзьями, полагает историк Смирин.
Но вскоре Мюнцером овладел дух сомнения, пишет Лампрехт,
он пошел дальше Лютера, твердо державшегося за учение церкви
и Библию. Мюнцер считал Библию произведением рук
человеческих, которую нужно толковать с помощью разума и проверять
им. У турок, говорил он, тоже есть своя библия. Где
доказательство, что наша вера истинная, а их ложная? - вопрошал Мюнцер. О
Лютере он теперь говорил иное, чем раньше: «Бороться против
власти папы, не признавать отпущения грехов, чистилища,
панихид и других злоупотреблений, значит проводить реформу только
наполовину. Лютер - неважный реформатор, он нерешителен, он
подкладывает подушки нежному телу, слишком превозносит веру
и мало значения придает поступкам»5. По словам Мюнцера, «Вит-
тенбергский папа» и духовные отцы старой церкви - это «живот-
1 Бебель А. Указ. соч. С. 224.
2 Хроника г. Цвиккау, 1633.
3 Цит. по: Розенов Э.К. Томас Мюниер. С. 15.
4 Цит. по: Смирин М.М. Указ. соч. С. 69.
5 Цит. по: Бебель А. Указ. соч. С. 225-226.
174
2. Лютер и Мюнцер
ные чрева». «Они с превеликой набожностью берут золотые
гульдены»1.
Постепенно в Цвиккау вокруг Мюнцера начала создаваться
особая партия Реформации, которая вызвала большую тревогу в
лютеровском лагере. Характер этой партии и борьбы, начатой ею
против последователей Лютера, оставался еще в основном
теологическим. Энгельс считал, что до 1524 г. «Мюнцер все еще
оставался прежде всего теологом; он все еще направлял свои удары
почти исключительно против попов», и его непрерывная борьба с
духовным сословием породило, по Бебелю, отрицательное
отношение городского совета Цвиккау к Мюнцеру. Если Энгельс
порицает Мюнцера как сторонника Реформации и хвалит как
революционера, пусть в потенции, но владеющего азами классового
подхода, то некоторые замечания Бебеля, пытающегося
всесторонне оправдать Мюнцера и уберечь его от всякой критики,
помогают в социально-психологическом отношении высветить, хотя
бы частично, трагическую судьбу такого незаурядного человека,
как Мюнцер.
Биографы Мюнцера, например Зейдеманн, говорят о его
«страсти к смеху», писал Бебель. Это было то, о чем когда-то
говорил Гейне: «Когда игрушки счастья разбиты руками судьбы,
лежат у моих ног, а в груди разрывается сердце, разрывается,
истекает, пронзенное, тогда остается мне еще прекрасный, буйный
смысл». Бебель выражает мнение социалистов и
социал-демократов, когда заявляет, что «это был язвительный смех
пролетариата, которому нечего терять»... Однажды ночью в три часа,
перед тем, как Мюнцер по настоянию городского совета должен
был покинуть Цвиккау, где был проповедником, он
переполошил весь город, высунувшись из окна с громким криком:
«Горим, горим!»... Мы еще не раз встретимся с этим горьким
античным смехом Мюнцера и с последней в его жизни шуткой, когда
он, после победы князей, спрятался от врагов в чужой постели,
повязав голову платком.
II Этот смех возник, быть может, как реакция на ситуацию, в которой ты
ясно видишь, что именно нужно делать, но сделать ничего не можешь; или
на ситуацию, в которой что бы ты ни делал, сделать ничего не можешь...
|| Ничего не можешь, ничего не можешь... Ничего не можешь?
Цит. по: Лампрехт К. Указ. соч. С. 223.
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности) 175
Он оставил Цвиккау и отправился в Прагу, в прежнюю
столицу папистов, где, возможно, надеялся найти хорошую почву для
своего учения и своей деятельности. В Праге он выпустил
памфлет против папистов. Попы, писал он, «должны были бы
крепкой стеной защищать народ, Бога от богохульников. Но как раз
они сами и являются источником этой мерзости, живут в ней, из-
рыгают ее... Так как они идолопоклонники, то нисколько не
отличаются от черта. Скажу я кратко, они проклятые люди»1.
Безусловно, надо было обладать отвагой, писал Бебель, чтобы
выступить с подобным заявлением против духовенства и церкви в
стране, где католическая религия вновь достигла
неограниченного господства. Но Мюнцер не встретил сочувствия своему
учению... И под давлением властей ему пришлось покинуть страну.
В конце 1522 г. он прибыл в Альштедт в Тюрингии и занял
место проповедника. В результате предпринятой им реформы
богослужения «латинский язык был изгнан», «все книги Библии
читались народу и на прочитанное произносились проповеди».
Сбылись мечты Лютера! Но Лютер никогда не согласился бы ни с
толкованием священных книг, ни с содержанием этих
проповедей. Популярность народных чтений Мюнцера росла не по дням,
а по часам, на проповедях яблоку негде было упасть.
Это объясняется, во-первых, тем, что, следуя примеру
тогдашних демократичных сект, Мюнцер стал читать и
проповедовать, не ограничиваясь Новым Заветом, но и из всех библейских
книг, чаще всего обосновывая свои взгляды, как это делалось в
сектах, пламенным радикалом ветхозаветных пророков и опуская
традиционные для католичества проповеди любви, всепрощения
и страдания, о чем говорилось в Новом Завете; во-вторых, тем,
что Мюнцер первый среди немецких реформаторов установил
богослужение на немецком языке. Мюнцер не только «онемечил»,
демократизировал и популяризировал богослужение. Он привлек
к церкви громадные массы народа и сделал ее центром агитации
среди народа за коренное практическое и экономическое
улучшение его мирского положения.
Все это позволило ему основать в Альтштедте тайный союз для
восстановления царства божьего на основе братства, равенства и
свободы. Все церковные учреждения, противоречащие учению
первоначального христианства, должны быть устранены, как и
все духовное сословие. Всякому господству положен конец. Иму-
1 Цит. но: Бебель А. Указ. соч. С. 230.
176
2. Лютер и Мюнцер
щество поступает в общее пользование. Все работы исполняются
общественными силами, и каждый из участников получает свою
часть в зависимости от его нужды и наличности продуктов. «На
борьбу за это необходимо призывать всю Германию, все
христианство, не исключая князей и властителей», а если те уклоняются,
их необходимо ликвидировать. Несмотря на то что уже тогда, как
вчера и сегодня, остается неясным, откуда взяться продуктам и
требуемому качеству их, если в условиях всеобщего социального
равенства никто ни за что не отвечает. Начался мятеж. Жгут
часовни, писал Бебель.
В ответ на это Лютер выступил против Мюнцера с посланием
«Письмо к князьям саксонским о мятежном духе» и потребовал от
князей немедленного изгнания Мюнцера из страны.
Изображенный энтузиазм
И опять - в который раз - как бы автоматически начал
повторяться ход событий, необходимым результатом которого должно
было стать неизбежное изгнание Мюнцера из страны. В Альштед-
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности) 177
те, как ранее в Цвиккау, началась усиленная травля Мюнцера
имущим бюргерством и мелким дворянством. Веймарское
правительство было готово отделаться от неудобного и опасного человека.
Мюнцера пригласили 1 августа 1524 г. в канцелярию
курфюрста... Он защищался против нападавшего большинства от
обвинения в подстрекательстве к бунту. Но разве мог он оказаться
правым перед членами совета, которые заранее составили приговор?
После того как он был допрошен в канцелярии, он «во внутреннем
волнении и с пожелтевшим лицом вышел на улицу. Сборщик
податей Г. Цейс, который первый донес на него, спросил с деланой
беспечностью, каковы его дела, и получил горький ответ: "Каковы
дела? Таковы, что я должен убраться в другое княжество!"»
Еще раз была разбита жизнь этого врага «государства и
порядка», писал Бебель. Пока он стоял, бледный и трепещущий, не зная,
куда деваться с женой и ребенком (в Альштедте женился на
ушедшей из монастыря монахине Оттилии фон Герзен и от этого брака у
них родился сын), его окружили у ворот конюшни княжеские
конюхи... Так вот кого боялись - этого бледного дрожащего человека!
Должен же был показать хам, что он его не боится в
противоположность хозяевам, и самоутвердиться, сломав Мюнцера. Они
обрушились на беззащитного, издеваясь и смеясь над ним. Его
презрительное молчание подзадорило их к позорному издевательству...
Подошли дворцовые каноники - не они ли и натравили хамье на
Мюнцера? - и любовались этим омерзительным зрелищем.
Он собрал свое скромное имущество, чтобы начать
странствовать.
II В эту минуту им опять овладела «страсть к смеху», смеху отчаяния,
который заставляет его издеваться над всеми врагами и их кознями.
«В ночь накануне того дня, когда он ушел, он взял броню, шлем,
панцирь и алебарду и всю ночь бегал, как бешеная собака».
|| Или как Дон Кихот.
15 августа изгнанник прибыл из Алыитедта в Мюльгаузен;
сделал он это не потому, что струсил, как клевещет на него Меланх-
тон. Просто он не мог оставаться в городе, где с ним так обошлись.
В Мюльгаузене ему было даже опаснее жить. В этом сравнительно
большом городе площадью 220 кв. км, где проживало до 6 тыс.
жителей, процветали ремесла и торговля, особенно суконное
производство. Возможно, Мюнцера привлекло в этот город то, что он
был один их тех немногих независимых от саксонских князей сво-
178
2. Лютер и Мюнцер
бодных имперских городов, которые еше сохранились в
Тюрингии. В Мюльгаузене радикальным настроением отличались не
только его городские пролетарии, жители предместья и окрестные
крестьяне, зависящие от города, как писал Бебель, но также
цеховые ремесленники, которые в других местах принадлежали
привилегированным классам. Позднее реформационное движение
привело в Мюльгаузене к яростному восстанию всех горожан
против патрицианского правительства; немалую роль в этом сыграл
Мюнцер.
Перебравшись в Мюльгаузен, Мюнцер жил один, ибо оставил
на некоторое время у хороших друзей жену и ребенка. Узнав, что
M юнцер в Мюльгаузене, Лютер послал об этом злобный донос
городскому совету, где говорилось: «Серьезно предостерегаю
советников против Мюнцера и его учения... От его деятельности нельзя
ожидать иных плодов, как убийства, восстания и кровопролития».
Мюнцер отвечал Лютеру письмами и проповедями, в которых
своего бывшего друга безжалостно бичевал, называя «сладкожи-
вущий в Виттенберге кусок мяса». Так он любил называть Лютера.
«Он пускал в ход самые грубые и резкие выражения, которыми
изобиловало то время», - писал Бебель. Но если судить по
«Материализму и эмпириокритицизму» и «Майн кампф», то,
по-видимому, можно говорить об эволюции ругани, и последующие
социалисты из РСДРП и НСДАП в отношении ее
«рафинированности» и «архиреволюционности» ушли далеко вперед по сравнению
с Мюнцером. И Лютером тоже.
Мюнцер был изгнан из Мюльгаузена.
В Нюрнберге Мюнцер собирался - ему это не удалось -
напечатать против Лютера сочинение «Защитительная речь,
вызванная важными причинами, в ответ обездушенному сладкоживуще-
му куску мяса в Виттенберге, который уже указанным способом
передергивания Святого Писания совершенно загрязнил
несчастное христианство». В нем Мюнцер называл Лютера
честолюбивейшим и лживым книжником, надменным дураком,
заучившимся мальчишкой, бесстыдным монахом и «доктором Люгнером»
(т.е. обманщиком, лжецом), доктором порока, льстивым виттен-
бергским плутом, виттенбергским папой, ванской надутой
предательской ведьмой, Мартином - красной девицей, целомудренной
вавилонской женой, главным канцлером черта и т.д. Немало
«приятных» для Лютера эпитетов и кличек рассеяно по другим
сочинениям Мюнцера: Doctoris Ludibru (доктор комичный), брат
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности) 179
Mastschwein (боров), брат Sauftleben (прозябающий), распутница
Мартин, брат Leisetreter (тихоход, или в переносном смысле
«топтун», «стукач») и др. В «Защитительной речи...» Мюнцер писал:
«Кто не постиг твоей хитрости, тот готов поклясться всеми
святыми, что ты скромный Мартин. Спи сладко, милое мясо. Но я уже
чую, какой запах ты будешь издавать в жареном виде, во что
превратится твое упрямство, когда гнев божий положит тебя на огонь
в горшке или на сковородке. Ибо дьявол будет есть тебя в твоем
собственном соку. О ты, ослиное мясо, не скоро будешь готов для
еды, и милостивый суд ждет того, кто сожрет тебя украдкой». «Ты
хочешь обмануть народ», - заявляет Мюнцер. В конце написано:
«О, доктор лжи, ты предательская лиса... Поэтому с тобой
произойдет то же, что с пойманной лисой. Народ освободится, и бог
будет один властвовать над ним»1. В этом сочинении Мюнцер
описал следующим образом положение, занятое Лютером по
отношению к князьям и дворянству: «Ты знаешь, над кем ты
можешь издеваться; бедные монахи, попы и купцы не могут
защитить себя, поэтому тебе сподручно их ругать. Но без правителей
никому не подобает по-твоему осуждать, хотя бы стоптали Христа
ногами...»2. Мюнцер ясно видит двуличие Лютера и его поведения
по отношению к народу. Но было ли это двуличием?
В начале 1525 г. Мюнцер, пишет Бебель, распространил одно
из своих самых революционных произведений, в котором
противопоставлял управление господ тому, как управлять должно. Он
доказывал в нем, используя 13 цитат из Библии, что народ имеет
право удалять дурных правителей: «Угри и змеи сплетаются вместе
в одной куче. Папы и другое духовенство - змеи... светские
государи и управители - угри...», - говорил Мюнцер. «Если вы хотите
быть истинными правителями, вы должны изменить свое
управление в корне»3. Обращаясь к низшим слоям населения, он писал:
«Только не медлить. Все господа, которые вводят новые
ограничения по произволу и по собственной прихоти, не говоря уже о
налогах, пошлинах, акцизах, являются настоящими разбойниками и
отъявленными врагами своей собственной страны. Свергнуть
подобного Маава, Агого, Ахава, Фанариса и Нерона с их трона -
истинно богоугодное дело»4.
1 Цит. по: Бебель А. Указ. соч. С. 235,243-246.
2 Цит. по: Там же. С. 246.
3 Цит. по: Общественные движения. С. 324.
4 Цит. по: Бебель А. Указ. соч. С. 307.
180
2. Лютер и Мюнцер
Когда крестьянские восстания занялись во многих местах
Германии, Мюнцер писал: «Не будьте слабы... Вступайте же вперед в
борьбу с дворянами. Давно уже пришла пора. Вся Германия,
Франция и Швейцария объята восстанием. Господь поднял карающую
десницу, и злодеи должны погибнуть... Только вперед, вперед,
вперед... Настало время. Злодеи приуныли, как собаки. Повлияйте же
на своих братьев, чтобы они действовали дружнее и чтобы они
оставались верны данной клятве. Чаша переполнена. Вперед, вперед,
вперед!.. Огонь еще горяч. Не давайте мечам вашим остыть от
крови; куйте молотом наковальню Нимрода, разрушьте его твердыню.
Пока они живы, вы не избавитесь от страха»1.
...Он ушел из Нюрнберга, где по милости Лютера ему не дали
напечатать свою книгу, и стал скитаться по югу, - писал Розенов.
Он доходил до Галла в Тироле; вел деятельную пропаганду в Клет-
гау и Эгау близ Базеля, и на всем юге оставались следы его
деятельности. Во время своих странствий неутомимый агитатор всюду
налаживал связи с вожаками и доверенными крестьянами.
И вот из тех мест, где, надеялись, он, затравленный,
изгнанный, погибнет, как многие другие пророки, теперь он сам
возвращается, подобно Антею, прикоснувшемуся к матери-земле
(сравнение, использованное тов. Сталиным в «Кратком курсе
истории ВКП(б)»), с тысячами за собой, во главе движения,
которое должно было завоевать всю Германию; возвращается в
Саксонию, Тюрингию, в Мюльгаузен. В этом городе, который
изгнал Мюнцера, его приверженцы изгнали монахов, завладели
запасами продовольствия, сукна и платья в монастырях и
монастырских имениях, изгнали иоаннитов и учредили
коммунистическую общину, центром которой было здание иоаннитов,
занятое лично Мюнцером.
Не всегда справедливый к Мюнцеру историк Бехер
рассказывает, что в правительстве, созданном в Мюльгаузене в результате
восстания Мюнцера, он был «диктором и главой: все делалось по
его желанию... Особенно он настаивал на общности имущества,
вследствие чего люди забросили свои ремесла и ежедневные
занятия, полагая, что пока они будут жить на счет имуществ
благородных князей и государей, монастырей и аббатств, Бог пошлет им
новые блага в еще большем количестве; таким образом они
учились красть и грабить, и Мюнцер в течение целых месяцев поддер-
Цит. по: Там же. С. 392-393.
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности)
181
живал такого рода порядок вещей». Относительно «грабежей» и
другой приватизации Бехер был не совсем прав, ведь вообще в те
времена «церковное имущество было res nullus, вещь никому не
принадлежащая, которую брал себе всякий, кто имел для этого
достаточно силы. Больше всего, конечно, пользовались
церковным имуществом князья, но и на долю немногих бедняков кое-что
перепало», по утверждению историков.
Бехер писал о времени правления крестьян и плебса в Мюль-
гаузене - «целые месяцы», а Меланхтон - «целый год». Но на
самом деле Мюнцер правил в Мюльгаузене всего два месяца.
«У страха глаза велики...»
Находясь в Мюльгаузене, Мюнцер издает резкое послание
против князей и попов, озаглавленное «Томас Мюнцер с
молотом». Здесь он писал: «Дорогие товарищи, пробьем пошире окно,
чтобы весь мир мог видеть и ощущать, сколь велики те глупцы,
которые кощунственно превратили Бога в размалеванного
человечка... Железная стена воздвигнута между королями, князьями,
попами, с одной стороны, и народом - с другой. Они могут спорить,
но победа чудесным образом склоняется на погибель сильных,
безбожных тиранов... Весь мир должен пережить громадный
переворот, произойдет катастрофа: безбожники полетят со своих
тронов, незнатные мира сего вознесутся высоко...» Мир
действительно «пережил» такую катастрофу, и действительно «кто был
ничем - стал всем»! Но напрасно в этой прогностической проповеди
классового подхода мы будем искать ответа на проклятый вопрос,
на который не можем найти ответа и сегодня: «Зачем была нужна
нам всем эта катастрофа?»
«Томас Мюнцер с молотом» назвал он себя и заканчивал свое
послание такими словами: «Весь мир будет потрясен страшным
ударом...»1 Речь шла о мировой революции: как социалист
Мюнцер на меньшее был не согласен, ибо еще не знал о прекрасной
возможности победы в одной отдельно взятой стране, если
мировая революция слегка задержится.
Стороннему наблюдателю могло показаться случайным то
обстоятельство, что правление Мюнцера, созданное для того, чтобы
служить восставшим крестьянам и плебсу, народу, постепенно
переставало ему служить и все более превращалось в диктатуру с
Мюнцером во главе. Но сегодня мы знаем, что это было законо-
Цит. по: Розенов Э.К. Указ. соч. С. 30.
182
2. Лютер и Мюнцер
мерно. Начало критике правления Мюнцера как диктатуры
положил Лютер, а потом и Меланхтон. Лютер называл Мюнцера
«архидьяконом, правящим в Мюльгаузене»1. «Мюнцер в Мюльгаузене
царь и повелитель ("Müntzer Mulhusi Rex et Imperator est")»2, -
злорадно и не без зависти писал Лютер.
На стороне Мюнцера тогда было всего 300 человек.
До Реформации отношение к крестьянам, а тем более к их
просвещению, было более чем безразличным. Неизвестный автор
книги «Силезия как она есть» писал следующее: «Государству
необходимы устои (Zwischen-Gewalt); такими полномочиями
облечены были донные дворяне, промежуточные власти, на которые
они опираются, это вотчинная юрисдикция, подчинение
крестьян, барщина; что же иное могло бы обуздать эту грубую массу,
которая в силу врожденного назначения никогда не будет способна
сколько-нибудь просветиться?» «Все, что крестьяне знают, -
писал в XVI в. современник, - ограничивается тем, что они видели
своими глазами и трогали своими руками». Не в том ли одна из
причин «материальной духовности», религиозной «этости» (Г.
Гегель)?
Но Реформация позволила сделать поразительное открытие:
оказывается, крестьянин - тоже человек; в результате такого
открытия появились народные школы. В противоположность
Лютеру Мюнцер их всячески поддерживал: «Простой человек... должен
стараться быть обученным, чтобы тебя больше не обманывали»3.
Но после Крестьянской войны народные школы были по большей
части насильственно уничтожены и немецкий крестьянин снова
впал в физическое и духовное рабство. Поэтому и после
Реформации воспитание крестьянских детей было в страшном
небрежении, «они росли, как домашние животные», отмечал историк.
Даже спустя столетие после Мюнцера Симплициссимус, герой
одноименного романа X. Гриммельсхаузена, говорит о себе, что,
будучи мальчиком, «не знал ни Бога, ни людей, ни неба, ни ада, ни
ангелов, ни дьявола, ни добра, ни зла»... Но несмотря на страшную
нищету и бедствия, народные массы, еще не были готовы идти за
Мюнцером.
Понимал ли он, сдвигая многовековой «камень» народного
бытия, что у него в конце концов не хватит на это сил, поэтому все
1 Цит. по: Смирин М.М. Указ. соч. С. 254.
2 Цит. по: Общественные движения. С. 348.
3 Цит. по: Смирин М.М. Указ.соч. С. 274.
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности) 183
его усилия обречены на неудачу? Или надеялся на невозможное?
Он чувствовал себя опередившим свое время, одиноким,
пытающимся осилить невыносимо тяжелую ношу...
«Большая часть его приверженцев, - писал очень
реакционный историк Циммерман, - были сильны в молитве, в пении,
проклятиях, расточаемых против князей, попов и неравенства
между людьми, умели грабить и делить добычу, но сражаться,
поддерживать порядок - об этом никто не заботился; особенно никто
не был способен благоразумно взвешивать средства и действовать
сообразно обстоятельствам». Ранние немецкие революционеры,
сподвижники Мюнцера, «только в мечтах стремились
осуществлять свои идеалы и ждали осуществления их не от себя, не от
собственной силы и деятельности, а откуда-то извне, от
благоприятных событий и случая». Люди Мюнцера «делали, что хотели, и он
не мог обуздать своеволие массы». «Особенно они походят на
новейших коммунистов и социалистов своим легковоспламеняе-
мым воображением и своей праздностью», - изрыгает желчь
ехидный Циммерман.
Действительно, Мюнцер был не в состоянии держать свое
войско в дисциплине, укреплять его сплоченность и порядок. Как я
уже писал, он и сам не был воином, а тюрингенцы «не знали
никаких орудий, кроме кирки и лопаты». Вероятно, нигде в Германии
крестьяне не владели так плохо оружием, как именно здесь,
утверждал Циммерман. Требовалось время, чтобы вооружить их и
научить обращаться с оружием.
Однако даже Циммерману можно поверить, когда он пишет,
что «Мюнцер не хотел испортить дела поспешностью; он решил
дожидаться момента, когда восстание приобретет более
совершенную организацию, больше силы и стойкости, когда на его
сторону станут храбрые и искусные в военном деле
подмастерья-горнорабочие (Berg-Knappen), когда повстанцы Верхней Швабии и
других мест одержат хоть несколько побед над своими князьями.
Только опираясь на все эти силы, считал он возможным поднять в
Мюльгаузене меч Гедеона... "Вы должны идти напролом, ибо Бог
стоит за вами", - взывал Мюнцер»1. Однако он был явно
недоволен своими «братьями», этим, по его словам, «бестолковым»,
«грубым народом, который доставлял ему работы» и все еще не вполне
понимал тяготеющее над ним зло, писал он 7 мая 1525 г. в письме
Шт. по: Бебель А. Указ. соч. С. 351.
184
2. Лютер и Мюнцер
Шмалькальденским братьям во Христе, находящимся в
настоящее время в Эйзенахе в лагере1.
Мансфельдским братьям (Балтазару, Бартелю и другим
горнорабочим) Мюнцер писал: «Милые братья, долго вы будете спать?
Долго ли вы будете пренебрегать Богом и его волей только потому,
что он предоставил вас вашим собственным силам? Сколько раз
мне повторять вам, что так должно случиться... Вы должны
поэтому снова (! - Л.П.) страдать. Говорю вам, если не хотите страдать
от Бога, то станете мучениками черта. Поэтому берегитесь. Не
будьте малодушны и ленивы; не льстите более превратным
мечтателям, безбожным злодеям. Восстаньте и боритесь в борьбе
божьей. Время настало... Иначе вы все должны погибнуть.
Возбуждение распространилось по немецкой, французской и вельшской
земле. Господь хочет начать дело, и злодеям не избегнуть десницы
его... Только к делу, к делу, к делу! Пора. Злодеи дрожат от страха,
как собаки... Пока над вами сияет солнце, Богзавас, ступайте.
История наших дней уже описана у Матфея... Поэтому не пугайтесь.
С вами Бог... Не вы боретесь, но Бог... Аминь»2. Письмо это
отпечатано Лютером под именем одного из трех «отвратительных
бунтовских сочинений Томаса Мюнцера».
Лютер считал Мюнцера самым опасным из бунтовщиков.
В произведении «Против разбойников и убийц - бунтующих
крестьян» Лютер подчеркивал связь Мюнцера с насилием: «Как
говорил Христос (Иоанн, 8) он есть человекоубийца искони». Так
же и в письме Лютера доктору Рилю читаем: «Поистине, кто видел
Мюнцера, тот видел диавола в его величайшей ярости. О Господи,
где этот дух находится также в крестьянах, там необходимо, не
теряя времени, перебить бешеных собак... Нет ничего более
ядовитого, вредного, более диавольского, чем бунтовщик. Его следует
убить, как бешеную собаку; если ты его не убьешь, то он убьет
тебя...» Впоследствии Лютер хвастался, что он перебил всех
крестьян во время восстания, «ибо я приказал их перебить; вся их кровь
на моей ответственности»3. Мания величия заставила его в этом
случае принять на себя больше крови, чем было в
действительности, так как о ней без него совершенно одинаково позаботились и
противники Лютера, и приверженцы его. Обе партии
соединились в братском единодушии в своем решении истребить восстав-
1 Цит. по: Бебель А. Указ. соч. С. 351.
2 Цит. по: Там же. С. 352-353.
3 Цит. по: Там же. С. 358-359.
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности)
185
ших крестьян. В борьбе против них исчезли раздоры. Католики и
протестанты действовали сообща для подавления восстания.
Между тем князья осознавали опасность крестьянского
восстания и ее возможные перспективы гораздо быстрее, чем
развертывалось и крепло само восстание. В одном из писем к
горнорабочим Мюнцер справедливо опасался, что эти «глупые люди
дадут провести себя лживыми обещаниями»1, на которые всегда
были щедры все без исключения правители, что мы очень
хорошо знаем.
Его опасения оправдались. Шахтерская масса успокоилась,
едва только была удовлетворена часть ее требований, и уже не
заботилась более о восставших крестьянах. Отдельные недовольные
шахтеры и небольшие их группы, пытавшиеся присоединиться к
повстанцам, были перехвачены всадниками графа Альбрехта,
занявшими по его приказанию все улицы города.
Оставался лишь один исход - поднять восстание в самом
Мансфельде и таким образом увлечь за собой горнорабочих. Но и
это не было сделано. Крестьяне Франкенгаузена были слишком
просты для того, чтобы умело вести переговоры с Альбрехтом
Мансфельдским, и хитрый военачальник сумел затянуть дело,
пока, наконец, войска князей не соединились перед самым Фран-
кенгаузеном.
Когда Мюнцер явился из Мюльгаузена во Франкенгаузен, то
он тотчас убедил крестьян прекратить переговоры с графом,
поняв его скрытый замысел, и стремился поднять крестьян на
борьбу с отрядом графа, пока еще не пришли княжеские войска и
перевес в силе оставался на стороне крестьян. Одной из попыток
вызвать графа на открытое столкновение были «безмерно грубые
письма», которые он тогда писал в Мансфельд и которые можно
понять только, если заглянуть на них именно с этой точки зрения,
хотя Циммерман видит в них продукт отчаяния человека,
пытающегося самого себя обмануть, доходящего до помешательства.
Противники этой точки зрения полагают, однако, что Мюнцер ни
на минуту не утрачивал ясности рассудка, о чем свидетельствуют
все его поражения.
Тем не менее мансфельдцы не вняли возбуждающим речам
Мюнцера, а он сам чувствовал себя слишком слабым, чтобы
перейти к нападению. Возможно, и сами крестьяне на это не
решались. Скоро стало слишком поздно.
Цит. по: Общественные движения. С. 359.
186
2. Лютер и Мюнцер
Крестьяне расположились на возвышении близ Франкенгау-
зена, которое и поныне зовется Шахтберг - «Гора битвы», и там
окопались. Против них 3200 всадников, 8400 пеших солдат,
отличная артиллерия.
Ранее начавшееся противостояние - совсем как в России в
декабре 1825 г. и 19-20 августа 1991 г. - продолжалось.
Пообещав крестьянам и плебсу дать 3 часа на размышления,
князья и господа выступили через 15 минут.
Из 8 тыс. крестьян 5-6 тыс. перебили, отступающему народу
было невозможно укрыться в домах Франкенгаузена, так как его
городские ворота были плотно заперты и внутри
забаррикадированы навозом. Многие всадники, преследовавшие
разбегающихся крестьян, позднее хвалились, что закололи от восьми до десяти
человек каждый. Речка, протекающая через город, покраснела от
крови.
Победоносные войска доблестных князей, победивших свой
собственный народ, торжественно вступили в Франкенгаузен, и
затем, как писал на следующий день ландграф Гессенский
Филипп Великодушный, один из князей, приехавших на помощь
Альбрехту, «были перебиты все находившиеся там мужчины, а
город разграблен». «Пять тысяч крестьян было убито, триста
пленных были отведены к ратуше, где без всякого суда должны были
быть казнены», - писал вождь социал-демократии Германии
Бебель в 1875 г., сидя в тюрьме Цвиккау, куда его посадили идейные
последователи князей, воевавших с Мюнцером.
Мансфельдских шахтеров, которые предали Мюнцера, и
восставших крестьян, нуждавшихся в их помощи, князья на время
оставили в покое, довольные тем, что шахтеры не помогли
бунтовщикам, не вмешались в открытое восстание, как, например,
простолюдины, занятые строительством Исаакиевского собора в
Петербурге, во время восстания декабристов. Только на
следующий год, рассказывает Кириак Шпагенберг, горнорабочих опять
стали «слишком обременять работой, на что они горько
жаловались и просили облегчения. Но к ним были посланы войска,
которые их и "успокоили". Всякая свобода собраний и слова для них
отменена».
В Мюльгаузене, писал Розенов, находилась бедная жена
Мюнцера с сыном, покинутая, презираемая; ее избегали все, боясь
навлечь на себя преследование, знаясь с нею. Несчастная женщина
была беременна, когда один рыцарь велел позвать ее к себе. Лю-
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности) 187
Тер, который, конечно, защищает победителей, описал это так:
«Как я услышал, в Мюльгаузене некто потребовал к себе бедную
жену Томаса Мюнцера, которая овдовела и беременна, упал перед
ней на колени и сказал: "Голубушка, позволь мне!" О, рыцарски
доблестный поступок, совершенный с несчастной, покинутой,
беременной женщиной; это, конечно, храбрый герой, стоящий
трех рыцарей»1.
О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?
А. Блок
Несомненно, Мюнцер был средневековым
предшественником социализма, а точнее, коммунизма.
II Заявляя это, я с опаской приоткрываю дверь в мир идеологии и
прислушиваюсь к воплям очередного вождя. Кто побывал в этом мире, в
этом публичном доме, тот знает, что на свете гораздо больше
бесплотных, невидимых и неощутимых, но вполне реальных вещей, чем
принято думать в нашем обычном мире, в котором все так просто: «берешь
в руки, маешь - вещь». А здесь, в мире идеологии, все неощутимо и
бесплотно именно потому, что является уж чересчур ощутимым и
плотским, каким-то чрезмерно реальным. Прямо до ирреальности,
хотя и всегда кому-то непременно выгодным. Например, папе,
церкви, секте, партии, классу, начальству.
Как жаль, что никто никогда не ворвется в комнату с криком:
«Посмотрите, в этой пробирке у меня находится материя, которую мне
удалось выделить из некоторых веществ! Видите, какая красивая,
блестит и переливается...» Предметы, явления, процессы есть материя
лишь в том смысле, что существуют независимо от нас (отражаясь в
нашем сознании), но сами они не есть материя, не состоят из нее и она
не может быть извлечена из них. Материя сама по себе и как таковая не
существует.
Увы, не менее жаль, что по радио и ТВ уже не нам и даже не детям
детей наших никто никогда не объявит: «Люди! Поздравляю вас: вы
живете уже при коммунизме^... Ведь не только коммунизм, но даже уже
вроде давно нами построенный социализм, а не тот развитой, при
котором мы уже вроде тоже как будто жили, а, может, и живем, не сущест-
II вует. Причем по тем же причинам, по которым материю я не могу по-
Цит. по: Розенов Э. Указ. соч. С. 46.
188
2. Лютер и Мюнцер
трогать или узреть. Я думаю, что и капиталисты, которые давно живут
в адских нечеловеческих условиях капитализма, еще более будут
обескуражены, поскольку и его существование в свете их рассуждений
находится под большим вопросом. А если проще - то его давно нет. Даже
вообще никогда не было. Так им и надо.
По-видимому, то, что уже давно называют «капитализм» и
«коммунизм», есть всего лишь теоретическое выражение того непреложного
и давно известного религии, искусству и философии объективного
факта, что каждое исторически определенное общество, коллектив,
будь то собрание людей, шайка, партия, класс, нация, армия,
коммунальная квартира, семья и т.п., а также каждый человек есть существо
(образование или, если угодно, система) двуединое, а именно:
одновременно индивидуальное (личное) и социальное (общественное).
Нормальный человек и общество, коллектив непременно являются и
тем, и другим.
Эта извечная для человека и общества вполне нормальная и
жизненно необходимая, естественная раздвоенность в чисто теоретическом
отношении выражается в социально-экономической и
идеологической сферах и таких отображающих ее крайних, логически предельных
понятиях, как «капитализм» и «социализм (коммунизм)». Первое
суть собственно ведение хозяйства, экономика, образ жизни,
мышления, поведения и т.п., основанные на абсолютном неравенстве и
разнообразии и представляющие собой нечто сугубо личное,
индивидуальное, частное, отдельное. Второе суть те же собственность,
ведение хозяйства, экономика, образ жизни, мышления, поведения
и т.п., но основанные на абсолютном равенстве и единообразии и
представляющие собой нечто сугубо общественное, социальное,
целостное, общее.
Вообще говоря, в норме личное и общественное естественно и
необходимо присущи каждому человеку и обществу, а в патологии
выступают соответственно в виде таких крайностей, как «капитализм» и
«коммунизм». Аналогично: индивидуальность - это норма,
достоинство, реальность, тогда как индивидуализм, являющийся естественным
продолжением индивидуальности, - патология, недостаток,
ирреальность. Подобные «пары» встречаются и в других «срезах» человека и
общества. Например, возмездие и месть; интеллект и
интеллектуализм; энергичность, которая, если на ней настаивать, превращается в
жестокость; любознательность, которая всегда готова обернуться
любопытством, и т.п.
«Социализм (коммунизм)» - это такая же крайность, как и
«капитализм». Прав Энгельс, говоря, что противоположности превращаются
друг в друга, когда они доведены до крайности. Но зачем их доводить?
Странно, что, отвергая, скажем, крайности эгоизма и альтруизма и
прекрасно различая и фиксируя их в реальной жизни, мы до сих пор не
Мюниер и Лютер (цельность против раздвоенности)
189
можем разглядеть их аналогии в той же ситуации с такими
крайностями, как капитализм и социализм (коммунизм).
Они - не конкретный общественный строй и не разные
(противоположные) стадии развития общества, а сокращенное обозначение двух
раздельных внутренних атрибутов всякого общества и человека.
Причем атрибутов, рассматриваемых в определенном, весьма
одностороннем аспекте в их предельно общей, крайней форме. Эти атрибуты
всем известны как «личное» и «общественное» или «индивидуальное»
и «социальное». Если нет одного из этих двух составляющих - нет
человека (общества). Более того, человек и общество нормальны и
способны реально жить лишь в меру своей внутренней и внешней
согласованности между личным (индивидуальным) и общественным в
процессе своей жизнедеятельности в меру развитости личного и
общественного и их общего между собой баланса (взаимодействия),
который, строго говоря, полностью никогда недостижим.
Если индивидуальное преобладает в человеке над общественным за
счет его, то это во всех отношениях плохо и отвратительно для него и
окружающих в той же мере, в какой было бы, если бы, наоборот,
общественное преобладало над индивидуальным и за счет его (не по тому
ли гонимый неизбежно делается гонителем?). И что делается человеку
(обществу), если без себя либо общества он становится не человеком
(а общество - нечеловеческим)? Что делать человеку, если он так
создан, что в одинаковой мере должен изо всех сил тянуться
одновременно и к своему Я, и к окружающим людям, к обществу? Эта
изначальная, необходимо присущая всему человеческому роду и каждому его
отдельному представителю двуликая, в равной мере индивидуальная и
общественная потребность, никогда не иссякнет и не исчезнет. Она,
от природы неутолимая, должна удовлетвориться, будет
удовлетворяться, пока существует человек и общество. Мечта людей о самой
лучшей лично, индивидуально, для себя жизни и о самой лучшей
жизни для всех, для всего человечества, для всего человеческого рода,
достигнув предела, становится мечтой не о противоположном, а об одном
и том же - о своем человеческом роде. Поэтому, в частности, мечта о
самом лучшем государстве, строе, где всем будет хорошо, будет жить,
пока живы люди.
Было бы страшной ошибкой не учитывать вечного человеческого
желания и стремления продвинуться в развитии (индивидуальном и
социальном) по пути к индивидуализму и социализму, к этим двум в
реальности никогда не достижимым маякам человечества, являющимся
проекцией реальных сторон или свойств человека и общества на их
собственную историю.
Но надо сказать прямо, что реальное основанное на «учении
марксизма-ленинизма строительство социализма (коммунизма)» в качестве
исторически определенного, конкретного конечного и завершающего
190
2. Лютер и Мюнцер
этапа индивидуального и общественного развития либо попытки его
достичь в качестве некой конкретной и якобы вполне в объективной
социальной действительности достижимой реальной цели - утопия.
Если, сознавая это, мы в данном вопросе хотим избежать
нежелательных перекосов и извращений — сталинизма, фашизма, маоизма и т.п.,
то прежде всего должны обратить самое пристальное внимание на
объективное, всегда реально существующее единство (тождество)
таких индивидуально общественных противоположностей, скрытых в
таких крайностях, как «личное» и «общественное» в человеке и
«капитализм» и «социализм (коммунизм)» в обществе. Мы, все и каждый,
должны добиться полного и истинного представления об этих
полюсах и их объективной закономерной взаимосвязи и
взаимообусловленности. От этого зависит продолжение жизни и счастье всего
человеческого рода.
Коммунизм так же неуничтожим, как и капитализм. Они не в буду-
|| щем, они - в нас самих, и - навсегда.
Мюнцер в своей теории «царства (или града) божия на Земле»
фактически сформулировал абстрактную и фантастическую для
того времени идею коммунизма, а всей своей жизнью (и смертью)
доказал готовность практически ее осуществить. Несмотря на это,
Энгельс чрезвычайно осторожно и нехотя говорил о
коммунистических взглядах Мюнцера, как бы стесняясь этого своего
«родственника» как уж очень дальнего. Хотя это - смотря в каком
отношении и на чей взгляд...
Мюнцеровская «политическая программа... была близка к
коммунизму», - признался Энгельс.
Суть ее видна из показаний, которые впоследствии он сделал
под пыткой: «Главное положение, которое... они хотели
осуществить, было: omnia sunt communia (все общее), и каждый должен
был получать сообразно своим потребностям, в чем он нуждается.
Если какой-либо князь, граф или государь не хотел сделать это,
после того как он был серьезно приглашен (на Лубянку. - Л. Я.), то
его следовало обезглавить и повесить»1. Такое всеобщее
социальное равенство, регулируемое карательной, террористической
организацией, имело ярко выраженный религиозный характер и
вместе с тем было крайне практическим и максималистским.
Но Мюнцер строит высший идеал не на равенстве и нищете, а
на богатстве, не на аскетизме, а на удовлетворении материальных
и духовных нужд «простого человека», обосновывая это тем, что
Цит. по: Общественные движения. С. 355.
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности)
191
только в таком случае простой люд может подняться до идеи
божественного и вечного, отмечал его биограф. Существенно, что
тезис «все общее» хотели проводить так, чтобы «каждому
выделялось по его нужде»1. Во времена Реформации понятие «народ» в
какой-то мере утратило абстрактное и приобрело конкретное
значение, так что даже зажиточные бюрократы, например альтштед-
ский сборщик податей Ганс Цейс, с которым уже встречались,
называли народ «Господин "gmomnes"» (Господин «Все»).
Предлагаемое Мюнцером государство основано, во-первых,
на возвращении к прошлому, когда «Адам пахал, а Ева пряла»; на
первоначальном равенстве, абсолютной уравниловке, ибо, по
Мюнцеру, «каждый должен быть свободен и должна быть
общность всех имуществ»2; во-вторых, на возвращении
существующего общества к тем временам, когда «град божий» был, а «град
земной» еще не был сотворен. Радикализм Мюнцера требовал,
чтобы строительство нового общества началось как бы с нуля. Он
хотел превратить существующий «град земной» в «град божий»,
свести последний на землю и строить новое общество по
указаниям Библии и всех священных книг или, как говорил Мюнцер, по
«Евангелию».
Говоря о строительстве «града (или царства) божмя на земле» и
раскрывая в связи с этим свое понимание проблемы
собственности, Мюнцер приближается к формулировке чего-то похожего на
наши современные представления о «социализме» как
предшествующем «коммунизму» этапе развития общества. Так, по
Мюнцеру, на первоначальной стадии строительства «царства божия»
имеется в виду только уравнение причин социального зла, а
именно: ликвидация всех господ, уничтожение княжеской
государственности, переход власти к народу, передача ему всех
общественных богатств, как демократической общине, устроенной
наподобие первых христианских общин. Это - первый этап торжества
«царства божия» на земле, причем торжества относительного,
неполного, когда еще сохраняется социальное неравенство людей,
хотя и в гораздо меньшей степени, чем при князьях.
Следующий этап, аналогичный коммунизму Маркса и
Энгельса, - это этап полного и всестороннего торжества «царства
божия на земле», райское общество. Изменится натура человека,
духовный уровень масс поднимется до самой высшей отметки, ибо
1 Briwechsel. Ahn. 8/16мая 1525. Цит. по: Смирим ММ. Указ. соч. С. 266.
2 Цит. по: Смирин М.М. Указ. соч. С. 269.
192
2. Лютер и Мюнцер
отсутствуют материальный гнет и эксплуатация трудящихся,
классовые различия, права собственности, всякая обособленная и
противостоящая людям, чужая им государственная власть; все
помыслы и имущества становятся общими. Это будет истинное
«царство божие» и уже не на небе, а на земле. «Да, многим людям
это кажется неосуществимой мечтой, - говорил Мюнцер. - Им
кажется невозможным начать и осуществлять это дело,
низвергнуть безбожников и вознести униженный, темный народ... Да это
высокая вера, и она еще принесет с собой много добра. Она
образует прекрасный народ, о котором мечтал философ Платон (de
republika)»1.
Чтобы построить новую жизнь и новое общество, надо
осуществить по крайней мере четыре основных задачи.
1. Немедленно водворить на Земле вообще и германской в
частности - «царство божие» и предсказанное тысячелетнее царствие,
возвратить церкви ее первоначальное строение, отменить все
нынешние церковные учреждения и структуры, которые
противоречат первоначальному устройству церкви. Сделать Священное
писание руководством и программой текущей борьбы против
князей и дворян и передачи всех богатств народу.
2. Основываясь на библейской идее абсолютного социального
равенства, ликвидировать феодальную, княжескую и церковную
собственность и эксплуатацию. Все существующие власти и
властные структуры, которые сопротивлялись водворению царства
божия, должны быть отменены, однако саму форму народной
власти Мюнцер не определяет.
Вместе с тем он допускает, что на первом этапе водворения
царства божия князья, поняв, что должны служить народу, «могли
бы продолжать свои функции в качестве народных слуг», писал
Бебель. (Напрашивается аналогия с использованием
интеллигенции и «буржуазных специалистов» в первые годы советской
власти.) Более того, Мюнцер хотел сделать какую-то часть лояльных
к его власти князей своими сторонниками. В своей проповеди
перед князьями Саксонскими во дворце Альштедта, куда они
прибыли, чтобы лично ознакомиться с положением дел и успокоить
мятеж, Мюнцер, между прочим, сказал: «Князья обязаны с
корнем вырвать идолопоклонство (т.е. службу церкви. - Л.П.) и
силой ввести Евангелие»2.
Цит. по: Общественные движения. С. 327.
Цит. по: Бебель А. Указ. соч. С. 234.
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности)
193
3. Защитить (на первом этапе) от феодальной эксплуатации кресть-
янскую собственность и укрепить ее, словом, отстоять общинную
собственность, как этого требовали крестьяне.
4. физически уничтожить тех германских князей и дворян, которые
выступают против новой власти, сопротивляются ей или
саботируют указы и постановления. Германия, по Мюнцеру, не должна
быть княжеской и дворянской, потому что покрытая дворянским
гнетом она представляет собой «разбойничий очаг»1. Князья - это
плетки, которыми Бог наказывает мир в своем гневе. Мюнцер
сравнивает «князей дома Израилева», которые сдирают шкуру и
ломают кости, с современными ему немецкими князьями:
«Поэтому они просто палачи и живодеры, и в этом их ремесло»2. По
его словам, князья не что иное, как «настоящая свора
ростовщиков, воров и разбойников; их надо задушить как собак»3.
«Необходимо изгнать тиранов... их сопротивление должно прекратиться
силой»4.
Кстати, «собака» - любимейшее ругательство и Лютера, и
Мюнцера. Но далеко не единственное...
Мюнцер не признавал себя мятежником: он ведь «не
призывает к свержению власти авторитета, а наоборот, стремится
укрепить авторитет власти, указывая ее настоящие источник и
основы», писал Смирин. Мюнцер говорил: «Господа сами делают
бедного человека своим врагом, они не хотят устранить причину
восстания. Каким же образом может надолго сохраниться
спокойствие? И вот за то, что я это говорю, меня считают бунтовщиком.
Ну что же, пускай!»5.
Подобно тому, как Маркс в своих «Тезисах о Фейербахе»
всецело подчинял «объяснение» «изменению», а Ленин решение
национального вопроса и мораль - вопросу о текущих нуждах
революционного движения и диктатуре пролетариата, так и Мюнцер
всецело подчиняет «религиозное» - «политическому» и
«экономическому» и даже «царствие божие» нуждам немецкого народа,
Священное писание - потребностям своего революционного
Движения, а «Евангелие» - тактике и стратегии народной борьбы
против князей и дворян. Такова его «своеобразная манера» трак-
1 Цит. по: Смирин U.M. Указ. соч. С. 281.
2 Цит. по: Общественные движения. С. 326.
3 Цит. по: Лампрехт К. Указ. соч. С. 223.
4 Цит. по: Смирин ММ Указ. соч. С. 268-269.
5 Цит. по: Общественные движения. С. 342.
194
2. Лютер и Мюнцер
товать сакральную литературу, прежде всего пророков; Мюнцер
стремился извлечь из книг церкви программу действий, хотел без*
ликим ирреальным, прошлым обосновать конкретное, реальное
настоящее и будущее.
Например, в письмах к эйзенахцам от 9 мая 1525 г. и к эрфурт-
цам от 13 мая того же года Мюнцер писал, что вся «власть должна
быть дана простому народу» (Die Gewalt sol gegeben werd dem
gemeinen Volk). Примечательно, что Мюнцер выдает это
утверждение за цитату из книги Даниила (см. гл. VII, стих 27). На самом
деле в этом стихе сказано не «простому народу» (dem gemeinen
Volk), а «народу святых всевышнего» (L'am Kadische Eljonin).
Иначе говоря, Мюнцер торопился сам и торопит, насильственно
ускоряет ход истории; к тому же подделывает в угоду своим
коммунистическим интересам первоисточники, как это не раз
проделывали и более поздние социалисты... Мюнцер в своих письмах к
недостаточно образованным людям изменил смысл цитируемого
предложения, придав ему нужный Мюнцеру смысл. Разумеется,
исключительно на благо и во имя угнетенного народа, которому
писал. Также в главе III пророка Моисея Мюнцер «уточняет» (в
своих интересах) абстрактное выражение пророка «народ» и
заменяет его более понятными и конкретными категориями «бедный
пахарь» и «ремесленник». В других случаях весьма общим и
безадресным словам Исайи (V, 20): «Горе тем, которые зло называют
добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою,
горькое почитают сладким, и сладкое горьким!» - Мюнцер придал со*
вершенно конкретную политическую направленность, имеющую
классовый характер. Он легко и просто превратил эти слова
пророка в ядовитую политическую сенсацию против «наших господ и,
князей», которые, как он писал, «присвоили в собственность вся*
кую тварь. Рыба в воде, птица в воздухе, всякая растительность на
земле - все должно принадлежать им (Исайя, гл. V). Поэтому
они... доводят всех до того, что сдирают шкуру и мясо с бедного
пахаря, ремесленника и всего живого...»1. Таким образом, длядос^
тижения праведной цели Мюнцер и его более поздние
последователи использовали неправедные средства и в самом фундаменте
«царства божия на земле» появилась первая ложь.
Благодаря такой, в методологическом отношении сознательно
основанной на лжи идеологической связи своего движения со
Священным писанием и «передергиванием» в толкованиях его, рас-
Цит. по: Смирин ММ. Указ. соч. С. 271.
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности) 195
считанным не на абстрактную святую общину, а на тот вполне
реальный и конкретный народ, который с Мюнцером во главе
образовывал крестьянский плебейский лагерь, идеи и учение
Мюнцера вышли далеко за пределы существовавших тогда
политических и экономических условий и совпали с народным
пониманием Реформации, проявившимся во времена Крестьянской
войны.
Лютер, видимо, был «религиозно-филологическим
революционером», личностью, а Мюнцер - лишь отчасти. Но в другом
отношении они «меняются местами»: Мюнцер, не считая себя,
как было сказано, мятежником, на деле оказался мятежнее
Лютера, который считал себя мятежником, но был им только отчасти.
Поэтому Лютер умер естественной смертью, а Мюнцера убили
князья, науськиваемые Лютером.
Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем,
Теперь твой час настал. - Молись!
А. Блок
Итак, восьмитысячный отряд Мюнцера был разбит. Мюнцеру
удалось бежать. У Нордгезейских ворот, через которые он
прорвался в город, он укрылся на чердаке одного случайно
попавшегося дома, спасаясь от преследования ландграфских рейтаров.
Переодевшись и перевязав голову, чтобы более замаскировать себя,
он перебрался с чердака в жилое помещение и там лег в постель.
В этом самом доме и помещении по окончании резни намерен
был расположиться люнебургский дворянин Отто фон Эббе; слуга
его пришел посмотреть новое жилище и увидел лежащего в
постели Мюнцера. На его вопрос: «кто он?» - Мюнцер, представляясь
очень слабым, отвечал, что он болен и уже давно лежит в
лихорадке. Рейтар, искавший себе поживы, стал осматривать мюнцерову
одежду и нашел в кармане письмо графа Альбрехта к крестьянам;
это письмо выдало Мюнцера, рассказывает Бебель.
Фон Эббе повел его к князьям. Князья приковали Мюнцера к
телеге и отправили, как военный приз, к жестокому графу Эрнсту
Фон Мансфельду, тому самому, которому Мюнцер еще недавно
писал гордо: «Я буду вслед за письмом»1.
Цит. по: Бебель А. Указ. соч. С. 368.
196
2. Лютер и Мюнцер
В Гельдрунгене «сильно изможденного, его посадили на
несколько дней в башню, а потом подвергли мучительнейшей
пытке, после которой в горячечном состоянии он выпил двенадцать
кружек воды». Он назвал под пыткой имена только уже
погибших.
В пятницу 26 мая начались массовые казни, к месту которых
прикованный к телеге Томас Мюнцер был привезен из Гельд-
рунгена. На месте своей казни «он сознался, что начал дело
слишком великое, несоразмерное ("Majora justo") со своими
силами». Потом, обратись к князьям, увещевал, просил,
предостерегал их не навлечь на себя вторично подобного несчастья.
Он советовал им чаще читать Священное писание, книги
Самуила и царей, чтобы иметь перед глазами примеры, каков был
конец подобных им тиранов. После этой речи Мюнцер смолк и
ждал смертного удара.
Преступники обыкновенно читали перед смертью «Верую»...
Так как Мюнцер безмолвствовал, то граф прочел за него молитву;
по окончании ее голова Мюнцера пала. Туловище его тут же было
насажено на кол. Окровавленную голову они воткнули на другой
кол и выставили на обозрение на Исполинской горе в Мюльгаузе-
не, с левой стороны, если по дороге в Шадеберг подниматься в
гору.
С ним вместе нашли смерть монах Пфейфер, один причетник
и 24 неизвестных.
Изображенные на гравюре Христиана фон Зихема Томас
Мюнцер в своей строго горизонтально надетой и большой, как у
грузин, только без козырька кепке-берете с наушниками и
Мартин Лютер в своей бескозырке, как у моряков, только без
ленточек, довольно похожи. У того и другого рука лежит на раскрытой
книге, которую оба перевирают в своих интересах, хотя и
общественных. Пока.
В целом Мюнцер - воплощение основанной на чувстве и
очень чувствительной, но цельной и целостной крайности,
мечущейся вне себя в поисках борьбы, причем не столько «за», сколько
«против». Этому врагу компромисса подай все либо ничего:
радикальность, революционность - его стихия. Лютер, напротив,
воплощение основанного на рассудке, внутри себя мечущегося в
поиске единства (тождества) противоположностей и безуспешно
пытающегося его достичь путем всегда раздвоенного
компромисса, примирения, согласования этих противоположностей. Эволю-
Мюнцер и Лютер (цельность против раздвоенности)
197
ция, непрерывность, гармоничность развития - вот его стихия...
Но было бы ошибкой считать, что Мюнцер - новатор,
революционер, а Лютер - консерватор, эволюционер, ибо в различных
отношениях, в том числе в их отношении к теории и практике, к
вере и разуму и т.д., каждый из них является то одним, то другим и
даже самому себе противоположным. Однако есть между этими
бывшими друзьями какое-то страшно глубокое общее, я бы даже
сказал «родное».,. А попытаешься получше понять, что же
именно, тут же почувствуешь, что ответа никому не дано. Пока.
На книге лежит рука... Но Лютер поодутловатей, жирный,
лицо круглое, губы сластолюбивые, глаза упрямые, круглые.
Подбородок тоже круглый, что свидетельствует, вопреки
общепринятому мнению и согласно моему жизненному опыту, об ослином
упрямстве, а не о сильной воле.
Руки чистые, холеные. Такой всех и все видит, всюду
проживет. И смотрит Лютер... одним кажется, что нагло, с усмешечкой -
орлом глядит; а другим: что, как-то и не выразишь, поверх
Реформации, что ли? ...Но кто же, кто это так страшно царапается,
изредка переворачиваясь в душе его?..
А Мюнцер... Весь он как бы в себя смотрящий, все
предчувствующий, сам в себе сомневающийся, Но не желающий в этом
даже себе признаться; глаза большие, печальные. Будто заранее
знает, что платком не замаскируешься... Но не хочет в этом самому
себе признаться... Лоб странный - прямо от переносицы вверх
идет как бы вмятинка какая или ложбинка; про такое говорят «Бог
ударил». Лицо болезненное, уши маленькие, растопыренные...
И подбородок маленький, нервный. А вот руки рабочие -
большие, морщинистые, пальцы в сочленениях узловатые...
И вспомнились радостные, захлебывающиеся слова Мелан-
хтона в письме к Иоахиму Камерарию о разгроме крестьян и казни
Мюнцера: «Я рад, что пойман вождь восстания. Не столько
потому, что... впредь уже будет спокойно, сколько потому, что стало
очевидным, что не может быть подтвержден дух, о котором они
хвастливо заявляли. Боже милостивый, о каком же царстве они
так сладко мечтали! Какими выдуманными пророчествами он
довел глупую массу до вооруженного выступления! Сколько
обещаний о ближайшем будущем якобы по повелению небесного
оракула для изменения общественно-государственного порядка!»
Однако «дух», о котором они хвастливо заявили и которого так
198
2. Лютер и Мюнцер
страшились Меланхтон и Лютер, не погиб, ибо он вечен, пока жив
род человеческий. Он еще не раз возродится.
...И на смерть обречены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.
Если вы будете в Германии, где мне не довелось быть, то,
умоляю вас, съездите в Бад-Франкенхаузен-Кифхойзер, где я тоже
никогда не был. Там, на месте сражения крестьян Томаса Мюнце-
ра с войсками князя Филиппа Гессенского вам обязательно с
гордостью покажут гигантскую панораму этого сражения 123 м в
окружности и 15 м высоты - вот какая большая! - с маленькими
фигурками: одни в лохмотьях (бедные), а другие в латах, пешие и на
конях (богатые). И те, и другие, совсем как живые! Пушечки тоже,
как настоящие! Главное, совершенно точно все показано именно
так, как было... Как было, есть и будет.
Очень интересно.
... Слишком медленной весны.
22 августа 1991 г.
ФИЛОСОФСКИЕ ПИСЬМА,
которых не было
ф
ИЛОСОФСКИЕ ПИСЬМА
о
своей Собственной, Древней и Новой,
а также
Современной тебе, Читатель,
философии
Письма эти,
якобы сочиненные бароном
Лейбницем,
разъяснил
и
в странном порядке
расположил
комментатор
означенных писем
ординарный профессор
Государавенного университета управления
Л.А. Петрушенко
Написано
автором в городе Москве
на Комсомольском проспекте в доме № 45
близ магазина «Галантерея»
Anno domine
1975-2004
I 1ролог
- Я, известный многим, если не всем государям
Европы и Азии, барон Готфрид Вильгельм Лейбниц, сим извещаю
всех, кого это касается, что в разных местах и в разное время
действительно высказал устно либо письменно Мысли,
составляющие субстанцию сей книги и огражденные, как у вас говорят, «в
контексте кавычками».
Русский комментатор изложил эти мои Мысли в виде Писем,
якобы написанных мною к венценосным и дворянским особам,
против чего я, по свойственной мне благородной терпимости к
чужому мнению и за давностью столетий, ничего не имею возразить.
Нынче обо мне в его стране не так уж часто вспоминают: я не
вошел в число «представителей» так называемой «классической
немецкой философии». Но, как ни странно, о том не жалею.
Мне лестно оказанное им моей особе должное внимание, по
воле Провидения принесенное ветром Просвещения в свободную
Европу из далекой воинственной и варварской Скифии, которую,
как мне сообщают корреспонденты из Московии, тамошние
правители даже по сей день, спустя 300 лет после моей кончины,
упорно продолжают надеяться сделать цивилизованной...
Однако прямо скажу, что писем сих я никогда никому не писал...
А потому эпистолярная форма моих мыслей о моей философии,
равно как и о философии древней и современной тебе, читатель,
целиком лежит на совести комментатора.
Ему же принадлежат весьма правдоподобные, на мой взгляд,
теоретические следствия (например, о плодотворности
неминуемого в будущем сближения материализма и идеализма,
коммунизма и капитализма), якобы необходимо, по его мнению,
вытекающие из принадлежащих мне мыслей, процитированных в этой
книжке. И хоть отнесся он к своему делу прилежно и
добросовестно, но мне чужого не нужно.
Отличаясь - это общеизвестно! - невероятной
уступчивостью, склонностью к компромиссам, я рад был найти те же
качества у своего комментатора. Наши сношения с ним весьма
улучшились, когда в выдуманной им беседе со мной он заявил:
Пролог
203
- Прошу извинить за мою невинную мистификацию, но у
меня были предшественники, причем гораздо более великие. Разве
Марк Аврелий не написал письмо самому себе, а Платон не влагал
в уста Сократу собственные мысли? А Вы, Милостивый государь,
разве не сделали того же с Пацидием в Вашем знаменитом диалоге
«Пацидий Филалету»?
Что касается меня, одного из жалких комментаторов великого
Лейбница, то я всего лишь по возможности старательно свел
написанное Вами, барон, воедино и в меру своих скромных
способностей изложил Ваши мысли в будто бы написанных Вами
письмах достаточно логично, систематизировано, ясно, доступно,
точно и в последовательности, которая лучше всего, мне кажется,
сообразуется с Вашим, барон, учением и личностью, как я их
понимаю и, признаюсь, ими восхищаюсь, а также с моими самыми
благожелательными намерениями.
Весьма учтиво высказав все это и дав время утешиться столь
благосклонными словами, он сообщил мне презабавную новость.
Оказывается, самое первое издание моих философских
сочинений (1765), спустя почти полстолетия после моей смерти, было
посвящено заслуженному попечителю Гёттингенского
университета Г.А. фон Мюнхгаузену...
Уже из писем моих к Гугони и Боссе видно, что я,
неудовлетворенный своими и чужими изложениями моей философии, желал
иметь такое ее описание, в котором моя метафизика была бы
представлена в форме научной системы.
Не в пример ученейшему Спинозе, употребившему в своей
«Этике» математическую форму, чтобы спрятать за ней свою,
присущую всем материалистам и атеистам безапелляционность и
бездоказательность, я давно мечтал составить полное изложение
своего философского учения в математической форме. Даже в
последние годы своей жизни я не оставлял намерения полностью и
систематически изложить свою философию. Но желание мое
осталось неисполненным. Поэтому можно считать, что до сих пор
были известны лишь отрывкимоей философии, написанные мной
по случаю для какого-нибудь близкого или вьщающегося лица, но
и те не все изданы даже до сей поры.
Вот почему мой комментатор просил перечислить те мои
произведения, которые я почитаю за самые главные. Вслед за другим
моим русским до-революционным (в России так принято считать:
«до» революции и «после») биографом господином B.C. Сереб-
204
Философские письма, которых не было
ренниковым он полагает, что их четыре. Я же думаю, что шесть.
Первый трактат «Рассуждение о метафизике». Это трактат, с
подробным содержанием которого я познакомил господина А. Ар-
но, о коем еще пойдет речь. Написанный в 1685 г. и найденный
среди моих рукописей, он был издан в 1846 г., когда и получил свое
название ввиду того, что в письме моем к Людвигу фон Гее-
сен-Рейнфельскому от I/II февраля 1686 г. я сам назвал свой
трактат «Un petit discours de Metaphisique».
Второй трактат «Systeme nouveau de la nature et de la
communication, des substances, aussibien que de Г union qui y a entre Га
meet le corps» был составлен мной по просьбе моих парижских
друзей (см. письмо к Банажу) и издан в 1695 г. в «Journal des
savants». Признаюсь, что я немало горжусь тем, что со времени
появления этого сочинения меня называют автором системы
«предустановленной гармонии».
Поводом к составлению третьего и четвертого из моих
выдающихся трактатов было желание принца Евгения Савойского,
находившегося, как все о том знают, со мной в дружеских
отношениях, иметь краткое изложение моей философии, которое я в 1714 г.
сделал в нескольких редакциях. Главнейшие из них две: одна - т.е.
третья по счету - более пространная и без заглавия была,
по-видимому, так как о сем я запамятовал, передана принцу, а другая -
четвертая- под заглавием «Principes de la Nature et de la grâce,
fondes en raison» послана Ремону де Монмору. После моей смерти
(как странно это писать) обе редакции появились в свет в виде
«Монадологии» и «Начала природы и благодати».
Однако название «Монадология» («Le monadologie»)
принадлежит вовсе не мне, а первому издателю моих философских
произведений Иоганну Эрдману, как о том сам он и написал в
предисловии к изданию «Нос titulo suscripsi librum omnimum gravis-
simum». Издана была «Монадология» сначала в переводах: на
немецком в 1720 г. («Lehrsätze über die Monadologie»), на
латинском в 1721 и 1728 гг. подтем же названием и в 1768 г. под
заглавием «Principia philosophiae, seu Thèses in gratiam principis Eugenii
conscriptae». Французский оригинал был найден Эрдманом и
издан в 1840 г. под названием «Le monadologie».
Не могу не сказать, что название это, хоть и не мое, а удачно.
Первое издание «Начала природы и благодати» увидело свет в
1728 г.
Пролог
205
За год до смерти моей незабвенной покровительницы и друга,
королевы прусской Софии Шарлотты (1705), я «за удивительно
короткий срок» написал - и это уже пятое по счету из
главнейших моих произведений - «Новые опыты о человеческом разуме,
принадлежащие автору теории о предустановленной гармонии»
( 1704), но оно вышло в светтолько в 1765 г. Это - итоги моей
полемики с несравненным Джоном Локком, направленной против его
«Опытов о человеческом разуме». Мои «Новые опыты...» - самое
большое мое философское произведение. Русский лейбницевед
И.Б. Погребысский считает его, должно быть по объему, моим
«наиболее значительным философским произведением», что, на
мой взгляд, неверно. Таковым является прежде всего
«Монадология».
Вместе с моей «Теодицеей», изданной в 1714 г. (книгой,
которой я уделил при ее написании больше всего внимания), «Новые
опыты...» и «Монадология» образуют как бы трилогию, в которой
я подвел итоги своих философских размышлений и изысканий.
Поэтому на упомянутой здесь «Теодицее» как шесто м из
самых выдающихся моих произведений я хотел бы остановиться
подробнее. Спустя пять лет после смерти дорогой моей королевы
Софии Шарлотты я издал свои трактаты, представляющие собой
изложение моих взглядов против Бейля (я называл их «опыты»),
под общим названием «Теодицея», то есть «Богооправдание».
Поводом к появлению этой книги было то, что Пьер Бейль в своем
замечательном «Историческом и критическом словаре» в статье
«Рорарий» критиковал мою философию весьма основательно.
Биографы мои обычно считают «Теодицею» совершенно
устаревшей. «В отличие от "Новых опытов о человеческом разуме", -
утверждает, например, господин Погребысский, - "Теодицея" -
мертвая часть наследия Лейбница. Даже поклонники Лейбница в
XX в. признают, что она потеряла всякий интерес для
современного читателя...» Но каждый непредвзятый читатель «Теодицеи»
скажет, что эта точка зрения устарела уже с момента своего
появления, ибо она слишком безапелляционная и односторонняя,
чтобы быть правильной. Сей труд в моей жизни и творчестве
занимает особое, очень важное место для понимания как моей
собственной сути, так и моей философии. «Теодицея» посвящена
решению таких вопросов, как соотношение веры и разума, о
предопределении Божием, о свободе человеческой воли, о происхождении
зла (см. мои письма об этом к Банажу от 1 июня 1708 г. ; ср. к Жак-
206
Философские письма, которых не было
ло), об отношении «Теодицеи» к моей философской системе (см.
мое письмо к Ремону в июле 1714 г.).
А само намерение написать «Теодицею» возникло у меня
сравнительно рано - в 1697 г. И по происхождению, и по своей
внешней форме «Теодицея» обусловлена тем, что Ее Величество
покойная София Шарлотта читала со мной сочинения означенного
Пьера Бейля и милостиво просила меня объяснить их. Некоторые
замечания я представлял ей письменно. По смерти королевы
друзья мои уговорили меня напечатать заметки, составленные для Ее
Величества. Вот почему в «Теодицее» нет строгой системы. Она
состоит из нескольких частей, однородных по содержанию, и
написана, как ныне у Вас выражаются, очень популярно.
Пытаясь в «Теодицее» раскрыть господствующую в мире
гармонию, как писал г-н В. Герье, «ясную для всякого, кто не
останавливается на частностях и старается обнять мироздание в его
целостности и в его вечном развитии», я выдвинул гипотезу à
наилучшем мире, который Божество избрало из бесконечного
множества возможных миров. Как бы ни относиться к этой гипотезе,
которая всегда относительна вследствие индивидуальных
особенностей ее автора и его эпохи, основная мысль ее, я полагаю, верна и
состоит, по Герье, в попытке «примирить права индивидуального
существования с беспредельной жизнью мироздания, пред
которым, по-видимому, бесследно исчезает всякое отдельное бытие.
Человек всегда будет искать этого примирения и всегда будет
находить его, в поэтическом ли пантеизме Спинозы и Шеллинга,
или на почве христианства, как философия Лейбница». Речь здесь
идет, по-видимому, о «примирении» как верном (истинном)
соотношении части (индивидуальное существование) и целого
(существование вообще, т.е. существование всего).
«Теодицея», писал г-н Герье, «почти не вызвала возражений и
критики. Общество было пресыщено богословскими спорами;
оно было радо найти примирение и выйти из заколдованного
круга старых спорных понятий». «Теодицея» отвечала
«настоятельной потребности своего времени» и потому была с интересом
встречена всеми слоями общества и произвела на них «сильное
впечатление». Из-за поставленных в ней проблем, например
отношения человека к Богу, к свободной воле и предназначению,
«враждовали между собой янсенисты и молинисты в
католицизме, арминиане и гомаристы, реформаты и лютеране». Бе иль, по
словам Герье, считал все это настолько запутанным «лабирин-
Пролог
207
том», что уходил от их разрешения, а я полагал их, напротив, уже
«разрешенными» проблемами. Бейль отвергал их, а я, как позже
скажут, - диалектически «снимал» путем отрицания.
Особое историческое значение «Теодицеи», по Герье, состоит
в том, что «ею заканчивается богословский период в развитии
западноевропейских народов: вопросы, которыми она занимается,
относятся еще к этому богословскому периоду, но способ
разрешения и самое разрешение их заимствованы уже из другого
периода. Таким путем идет вообще развитие человеческого духа;
человек долго колеблется между противоположными крайностями;
наконец, он становится выше их: тогда он находит разрешение,
которое примиряет противоположности и вместе с тем вводит его
в новый круг понятий и в новые интересы» (и в новые, более
обширные и глубокие противоречия, добавили бы мы).
С этим нельзя не согласиться. «Моя «Теодицея» не охватывает
целиком все части моей системы (философской. -Л.П.), однако
если присоединить к ней все, что я публиковал в различных
журналах г-на Бейля и г-на Банажу, то мало что останется добавить,
по крайней мере в отношении основных начал». И эту философию
«я считаю божественным даром, который дан миру в его
преклонном возрасте как единственная скрижаль (tabula rasa), на которой
спасутся благочестивые и благоразумные люди среди катастрофы
наступающего атеизма».
Письмо первое
МОЯ ФИЛОСОФИЯ
Универсум, его Единство, Раздвоенность и Активность. - Два
Мира. - Универсум, Бог и Порядок. - Активная сила. - Души (Духи). -
Восприятие.
- Рискуя вызвать недоумение Вашего
Величества, должен сообщить Вам новость: я уже не картезианец -
Прощай, Декарт! - и тем не менее больше чем когда-либо далек от
любимого Вашего Гассенди, знания и заслуги которого, впрочем,
признаю. Я увлечен новой системой, прочитав кое-что в научных
журналах Парижа, Лейпцига и Голландии и в замечательном
«Словаре» г-на Бейля, в статье «Рорарий». «С тех пор мне,
кажется, открылась новая сторона сущности вешей»...
Вернувшись домой после нашей так памятной мне встречи, я
задумался над тем, что мы высказали друг другу, и решил, что
наша беседа, которую, несомненно, украсили Ваши в высшей
степени умные и тонкие замечания, могла бы оказать неоценимую
помощь в кратком изложении моей философии и стать для него
хорошим основанием. Теперь Вы, Ваше Величество, видите,
насколько я себялюбив и практичен, хотя и уверяли меня в
обратном. Мне показалось, что и Вам, моей Августейшей
покровительнице, при Вашей милостивой склонности к философским
беседам со мной, чем я немало горжусь, не имея на то ровно никаких
оснований, не будет безынтересно прочесть запечатленными в
моих письмах к Вам то, что до сих пор лишь звучало в воздухе во
время наших чудесных осенних прогулок по аллеям Люценбурга.
Дабы не утомить Ваше Величество, признал я уместным
разделить на части и письма мои, и содержание в них, сообразно тому
предмету, о коем пишу, и это, надеюсь, облегчит его понимание
хотя бы в той мере, в какой, увы, сделает несколько нудным, за что
прошу покорнейше меня извинить.
Здесь и далее повествуется об Универсуме,
его Единстве, Раздвоенности и Активности
Я исхожу вслед за Платоном и другими славными
философами из природного Универсума как мира беспредельного
Письмо первое. Моя философия
209
и в то же время имеющего пределы; бесконечного и конечного;
целостного, но вместе с тем разрозненного, фрагментарного;
непрерывного (континуального) и прерывного (дискретного) во
всех них. Универсум, сотворенный в конечном счете Богом,
необходимо и случайно, жестко и одновременно мягко и гибко
объединен и взаимно скреплен, если можно так выразиться.
Двоякой причиной такого единства («единения») и
взаимосвязи служат общий всему миру и его вещам акт Творения, а также
присущие им же всеобщие мировые взаимосвязь и
взаимообусловленность. Но в силу двойственности последних, равно как и натуры
самого Универсума, указанные всемирные взаимосвязь и
взаимообусловленность чрезвычайно многоплановы, многогранны и -
главное - внутренне противоречивы, о чем я еще скажу. Ведь мир,
как учил еще Аристотель, одновременно есть одно и многое, целое
и его части, общее и отдельное, форма и содержание.
Помимо того, мир активен и пассивен в том смысле, что
изнутри себя воздействует метафизически сам на себя в целом, друг
на друга (как многое) и на весь мир.
И я утверждаю в отношении этой мировой самоактивности,
что всякая «масса», или материя, обладает силой, «но иной, чем та,
которая происходит от приложенного натиска». И что, вопреки
Декарту, «всякое отражение (reflexio) возникает от упругости».
А потому - и это одна из основ моей философии, к которой я
еще вернусь, - в мире «каждая вещь или часть универсума должна
оставлять отпечаток на всех прочих», о чем догадывался
Аристотель. Впоследствии эту идею универсального механического
отражения как всеобщей закономерности, лежащей, по выражению
тов. Ленина, «в самом фундаменте материи», большевики
вследствие своего одностороннего, возведенного в догму и насквозь
политизированного мышления, а также властолюбия и дремучего
невежества, абсолютизировали и превратили в одну из своих
излюбленных социально-практических схем, бесчеловечных и
кровавых, абстрактных догм своей политики, основанной на
«стимуле-реакции», на том, что «кто не с нами - тот против нас».
Здесь и далее говорится о Двух Мирах
Уже из сказанного следует, что миру в целом и
каждой его частице, равно как развитию и движению их,
необходимо присуща некая раздвоенность, двойственность. Во всем
бесконечном мире и в малейшем его уголке, в каждом сколь угодно
210
Философские письма, которых не было
большом объекте природы и в мельчайших тельцах, наподобие
тех, которые открыл г-н Я. Сваммердам, всегда есть нечто
внутренне раздвоенное, двойственное и одновременно делающее этот
уголок, объект, тело, значит, и весь мир - одним бесконечно
единым целым именно благодаря этой самой раздвоенности,
двойственности.
Идея всеобщей двойственности, на которую указывал Платон,
навела меня на мысль, что в известном отношении весь наш мир
есть одновременно мир духовный, метафизический или, как у вас
нынче говорят, виртуальный, и мир природный, материальный, в
котором «все происходит механически».
Миры эти взаимно противоположны, несовместимы,
исключают друг друга и вместе с тем едины и даже тождественны.
Причем они не рядоположены, а субординированы иерархически, по
вертикали. Но не случайно или произвольно, а так, как основание
и основанное на нем, или как мир вещей и мир идей, град божий и
град земной, т.е. как причина и ее следствие, необходимость и ее
случайность, содержание и его форма, сущность и ее явление.
Полагаю, что эта идея отчасти объясняет давно меня
интересующую и никогда не покидавшую мой ум проблему соотношения
души и тела, духа и природы (материи). Боюсь, что Демокрит,
Эпикур, Гассенди, Гоббс и другие древнейшие
материалистически мыслящие мужи недостаточно уяснили себе истинные
метафизические начала и основания...
Этот недостаток я попытался восполнить и показал, наконец,
что в основе всего физического, или природного, лежит
противостоящее сотворенному природному и, казалось бы, исключающее
его, но также и единое с ним, и даже тождественное ему,
метафизическое. В природном властвуют законы природы, но за рамками
природного, материального его законы и оно само подчиняются
«не абсолютной необходимости» и не «чистому произволу», а
господствующей в метафизическом, нематериальном мире «воле
мудрой причины», конечной причины, действующей «сообразно»
с вещами мира природы. Поэтому, «хотя все в природе происходит
механически, однако основания механизма лежат в области
метафизики». В этом тоже видна непререкаемая мудрость Божия,
универсальные единство и взаимосвязь.
Таким образом, есть два мира, один в другом, - материальный,
физический и нематериальный, метафизический, находящийся в
материальном. Сообразно с этим есть два «света»: в материальном
Письмо первое. Моя философия
211
мире - это «естественный свет разума», свет наук и философии,
обусловленный восприятием чувств и объясняющий это
восприятие размышлением, а в нематериальном - это и свет нашей
мысли, и свет Откровения.
Миры природный и метафизический столь же едины, сколь
несовместимы, и законы одного неприменимы в другом.
Разумеется, можно объяснить явления природы математически или
механически, раз установлены принципы, и это следует делать...
Однако нельзя вывести принципы физики и самой механики из
законов математической необходимости, но для их обоснования
следует в конце концов обращаться к их высшей разумности
(supreman intelligentiam).
Благодаря этому благочестие примиряется с разумением..., т.е.
вера с разумом. Ибо «для объяснения действий, особенно в
органических телах растений и животных, достаточно силы
божественного механизма с сохранением только восприятия и
устремления души на тело. И даже более того, хотя не все тела
органические, однако во всех неорганических телах скрываются
органические, так что вся масса, на вид бесструктурная и сплошь
однородная, внутри не однородна и дифференцирована, при том
не бесформенно, а упорядочено. Таким образом, везде
присутствует организм, нигде нет хаоса... и все органические тела в природе
одушевлены, но и души, и тела не обмениваются между собой присущими
им законами.
Все в телах происходит через фигуры и движения, все в
душах - через восприятия и устремления, в душах - царство
конечных причин, в телах - царство производящих причин, и эти два
царства независимы одно от другого, но находятся в гармонии
между собой. Бог (конечная и производящая причина, общая всем
вещам) сообразует все вещи с их целями через спонтанные
промежуточные ступени: души и тела, неуклонно следующие законам,
согласуются между собой в силу предустановленной Богом гармонии
без физического взаимодействия, и в этом скрыто новое и
прекраснейшее утверждение Божества.
Наконец, тела - это только агрегаты, составляющие единство
лишь окказионально или по внешнему наименованию, и потому
они... должны быть отнесены к явлениям; только монады (среди
которых прежде всего души и среди душ - духи) являются
субстанциями, и отсюда неуничтожаемость всех душ (которые для
сознания означают подлинное личное бессмертие) оказывается
212
Философские письма, которых не было
вне сомнений. Так возникают высшая метафизика и этика, т.е.
естественная теология и вечная божественная юриспруденция, и из
познания причин вещей проистекает наука истинного счастья».
Я так убежден в «единении» (единстве, тождестве) и
одновременно внутренней расколотости всего царства Божия, всего мира и
ее внутренней двойственности, - назовите ее идеей «двух градов»
Фомы Аквинского, жившего задолго до меня, либо универсальной
«диалектической противоречивостью или борьбой
противоположностей», как после меня назвали ее г-н Гегель и тов. Ленин, или,
как станет принято говорить в конце XX в., «бинарностью», что
позволило указать на некую всеобщую зависимость, которую
назвали «принципом Арлекина». Суть этого принципа состоит в
конце концов в обращении противоположностей в свое единство
(тождество) каждый раз, когда они доведены до крайности.
В этом смысле я даже принимаю и сохраняю в своей
философии древневосточную и античную идею развития путем
метаморфоз, утверждая, что мы «должны принять то, что Бог
переформировал вещи так, что новые организмы суть только механические
следствия предшествующего органического строения, подобно тому,
как бабочки возникают из шелковичного червя; при этом, как
показал г-н Сваммердам, совершается только простое его
развертывание». «Именно преформация растений и животных более чем
что-либо другое подтверждает мою систему предустановленной
гармонии между душой и телом, согласно которой тело по своему
изначальному строению приспособлено посредством внешних
предметов исполнять все то, что оно делает по воле души...»
От меня, к счастью, не укрылось то обстоятельство в грядущих
философских учениях о диалектике возможного и
действительного, что при некоем «веере возможностей» превратиться в
действительность, реализоваться может лишь только одна из них, о чем так
хорошо еще напишет изгнанный из марксизма его первый русский
популяризатор, бедный г-н Плеханов в своей книжке «Роль
личности в истории». Так, я считаю, что «поскольку все возможное
несовместимо друг с другом в одном и том же течении природы, то... как
только Бог определил нечто создать, тотчас возникла (бы. - Л.П)
борьба между всеми возможностями, заявившими притязание на
существование; и те, которые при взаимном соединении
обнаружили наибольшую реальность, наибольшее совершенство,
наибольшую разумность (intelligibilité - интеллигибельность),
победили», что, как мне кажется, отвечает более поздней дарвиновской
Письмо первое. Моя философия
213
идее естественного отбора в ее социально-политическом и
философском толковании в марксизме-ленинизме.
Но довольно о мире божественном, метафизическом, Бог с
ним. Поговорим о противоположном ему и едином с ним мире
материальном, природном, если Ваше Величество согласится. До
появления моей философии не видели единства (тождества) этих
миров. Материю понимали, как, например, г-н Декарт, только
как материю, материал, массу. Ограничивались представлениями
о ней, как заключающей в себе нечто чисто пассивное и
безразличное, а именно «протяженность и непроницаемость».
Мне же, напротив, кажется, что материя содержит в себе также
некую форму или деятельность. Ведь без последних, как учил еще
Аристотель, ни протяженность, ни непроницаемость не могут
«быть определенными к какой-либо форме или деятельности»,
поэтому не только протяженность и непроницаемость, но также
«сила и восприятие составляют существенные свойства материи».
Иначе говоря, «картезианцы (т.е. сторонники Декарта. - Л.Л.)
видят сущность тела в одной лишь протяженности, я же, хотя и не
допускаю никакой пустоты (вместе с Аристотелем и Декартом,
вопреки Демокриту и Гассенди) и вопреки Аристотелю считаю
(вместе с Демокритом и Декартом), что разрежение и сгущение
являются лишь кажущимися, однако (вместе с Демокритом и
Аристотелем и вопреки Декарту) полагаю, что в теле помимо
протяженности существует некое пассивное начало, т.е. то, благодаря
чему тело сопротивляется проникновению; кроме того (вместе с
Платоном и Аристотелем, вопреки Демокриту и Декарту), я
признаю в теле некую активную силу, или энтелехию, так что, как мне
кажется, Аристотель правильно определил природу как начало
движения и покоя...
Я считаю, что всякое тело всегда обладает движущей силой,
более того, действительным внутренним движением, изначально
присущим вещам. И я совершенно согласен с Демокритом и
Декартом, вопреки толпе схоластиков, что действие движущей
потенции и телесные явления всегда могут быть объяснены
механически, если не затрагивать самих причин законов движения,
которые исходят от более глубокого начала - от "энтелехий", и не
могут быть выведены из одной лишь пассивной массы и ее
модификаций».
Если разуметь под «корпускулярной философией» не
атомистическую, которую я отвергаю (вместе с Декартом), а прежде все-
214
Философские письма, которых не было
го картезианскую физику (которая отнюдь не была
атомистической) и вообще механистическую интерпретацию природы в
самом широком смысле этого слова, то, согласно «корпускулярной
философии», все явления и изменения в природе объясняются
величиной, внешней формой и движением мельчайших «телец»
(корпускул).
Галилей, Бэкон, Декарт, Гоббс, Гассенди, Дигби и другие
«нынешние философы», коих Роберт Бойль «весьма удачно» назвал
«корпускулярными философами», правильно считают, что «при
объяснении телесных явлений не следует без нужды прибегать ни
к Богу, ни к какой-либо другой бестелесной вещи, форме или
свойству (не стоит впутывать Бога, если предмет его не достоин)...
все, что возможно, следует выводить из природы тела и его
первичных свойств - величины, фигуры и движения».
Однако «новые философы... по большей части слишком мало
материалистичны и, не имея привычки согласовать метафизику с
математикой, не в состоянии решить, существуют пустота и атомы
или нет». Но признание того и другого, в какой бы форме оно ни
осуществлялось, «нарушает одинаково целесообразность и
порядок», с равным правом заводит исследователей в тупик, ибо
каждое из них, как их не толкуй, суть односторонний, чрезмерный,
крайний и потому коварный взгляд на суть мира и его вещей.
А этого во всех случаях - и я в том глубочайше убежден! - всегда
следует избегать.
Здесь и далее рассказывается
об Универсуме, Боге и Порядке
Но не следует забывать, как, к сожалению, делают
материалисты всех времен и народов, что бесконечно
многообразный и противоречивый Универсум сотворен Богом, который
есть единая для всего «субстанция, отделенная от материи», в
качестве всеобщего и «последнего основания вещей». Он есть
основание этой субстанцией избирательно самого себя по промыслу
Божию производящее, формирующее и обеспечивающее именно
такое, а не иное бытие вещей и мира, а также пространство и
время, как именно такое, а не иное.
Бог есть абсолютно активная, самоустроенная
(упорядоченная), бесконечная (универсальная) и совершенная субстанция
сотворенного Им материального (идеального), т.е. духов (душ), а
также предназначенных всему степени и меры их самоактивно-
Письмо первое. Моя философия
215
сти, устроенности (упорядоченности) и всеобщности. Создав
вещи и души, Бог «вместе с этим предопределил будущий порядок и
всякое искусство». Внутри вещей нет хаоса, организм есть
повсюду в материи, строение которой проистекает из Бога.
Несомненно, что «природа по своему обыкновению блюдет
некий прекрасный порядок, имеющий целью способствовать
полноте и совершенству вещей»; и что порядок, «жизнь и
совершенство имеются повсюду». И «я вижу... во всех вещах порядок и
гармонию, превосходящую все то, что представлял себе до сих
пор; материя везде органическая, нет никакой пустоты, ничего
бесплодного, заброшенного, ничего слишком однообразного, все
изменчиво в порядке, но - и это превосходит наше воображение -
вся вселенная в миниатюре, но с различной перспективой
представлена в каждой из ее частей и даже в каждой из ее
субстанциальных единиц», о чем я еще скажу. Тем не менее порядок
природы, активность жизни и земное совершенство отличны от
божественных, ибо, например, «виды и ступени совершенства
изменяются до бесконечности.
Однако основа повсюду одна и та же: это мой основной принцип,
господствующий во всей моей философии», и я на этом
настаиваю. Проявления же этой основы «природа может варьировать...
до бесконечности», вечно стремясь достичь божественных
порядка (системности, организованности), активности и совершенства
как своей цели. Поэтому все возможные проявления этого,
вытекающего из «основы» «стремления» на небе и на земле
избирательно целесообразны, необходимы и естественны,
осуществляясь сами собой, т.е. свободны.
Замечу также, что само наличие и существование (бытие) уже
упоминавшейся мною субстанциальной «основы» как всегда
иной (что, вообще говоря, подразумевается) тому, чему она
служит и в отношении чего является таковой, - свидетельствует
отнюдь не только о том, что она, как может показаться, абсолютно
неподвижна, неизменна, незыблема и статична. Уже сама
длительность ее бытия, то, что она все время продолжает быть и
оставаться «основой», указывает, напротив, на столь же присущую ей
изменчивость, самоактивность. Этим «основа» похожа на тезеев
корабль, который афиняне постоянно чинили.
Но «основа», или «последнее основание», как бы «чинит» сама
себя, сама решает, какой ей быть, и сама реализует свои решения,
превращая их в действительность из возможности. И хотя даже «в
216
Философские письма, которых не было
свободе есть некое безразличие, потому что нет абсолютной
необходимости в отношении того или другого решения, но, однако,
никогда не бывает безразличия полного равновесия», которое есть
«полное безразличие», «т.е. нечто фантастическое, для чего нет ни
идеи, ни примера и чего не будет никогда.
Все совершается по причине или достаточному основанию,
поэтому нет никакого «неопределенного безразличия» при
избрании, т.е. при выборе или отборе мировой системой своего
основания. В природе нет «абсолютного безразличия» и независимости
от своего внутреннего и внешнего, предшествующего и
последующего. А то, что мы принимаем за него, на самом деле есть не
увиденное нами движение, процесс, изменение, активность и, значит,
не статика, а динамика; так что неподвижное единство есть на
самом деле изменчивое единение. И этому ничуть не противоречит
одна из моих «основ», а именно мысль, что «вещь остается всегда в
своем прежнем состоянии, если не происходит ничего, что заста- •
вило бы ее измениться...»
Здесь и далее объясняется, что такое Активная сила
Я исхожу также из того, что все, сотворенное
Богом, и Он сам есть в своих проявлениях некая «активная сила»
(Activa), которая бывает «двоякой». Ее «по примеру многих мы
могли бы не без основания называть способностью (virtus)»: либо
первичной, которая сама по себе препятствует во всякой телесной
субстанции (ибо тело вовсе бездейственное, полагаю я, противно
природе вещей), либо производной, которая различно проявляется
как бы ограничением первичной, возникая при столкновении тел
между собой.
И первичная, которая есть не что иное, как «первичная
энтелехия»1, соответствует душе (Anima), или субстанциальной форме,
но тем самым относится к общим причинам, которые не могут
быть достаточны для объяснения явлений. Поэтому мы согласны
с теми, кто отказывается от применения форм, исследуя
собственные причины ощутимых вещей... Вместе с тем их значение
необходимо для правильного философствования... (несмотря на то,
1 «Первая энтелехия - термин, встречающийся у схоластиков и в Новой
философии; введен Аристотелем для обозначения полной актуальности, реализации,
завершенности в противоположность «потенции, возможности». Энтелехия есть
цель и разум потенциально существующего. Душу Аристотель называет первой
энтелехией организма. Иногда я называю монады энтелехиями».
Письмо первое. Моя философия
217
что грубое понятие телесной субстанции или «тельца»
корпускулярной философии неудовлетворительно, хотя бы потому что. -
Л. П.) оно допускает для материи полное бездействие и покой и не
может послужить для объяснения законов природы,
размеряющих производимую силу.
Подобным же образом и пассивная сила бывает двоякая, либо
первичная, либо производная. А именно первичная сила
претерпевания (Patiendi), или сопротивления\ составляет то самое, что в
философских школах называется первичной материей; от нее
происходит, что тело не проницается телом, а составляет для него
препятствие и вместе с тем наделено некой, так сказать, инертностью
(Ignavia), т.е. противоборствованием движению, и поддается
воздействию движущего агента не иначе, как умаляя его. Отсюда в
дальнейшем производная сила претерпевания различным
образом проявляет себя во вторичной материи» Сказанное суть
отрывок из моего «Опыта рассмотрения динамики...» (1695), где я как
бы подвожу итог своего истолкования материи.
Первая (первичная) материя Аристотеля и схоластиков,
фигурировавшая у меня в допарижские и после парижские годы,
характеризовала мое тогдашнее понятие всей и всякой материи как
абсолютно пассивной массы (moles), а это было, как я понял
позднее, совершенно неверно. Дело исправилось после того, как мне
пришлось раздвоить материю как субстанцию на первичную,
аристотелевскую, обладавшую только протяженностью и упругостью
(антитипией), и введенную мной вторичную, которую я наделил
внутренней деятельной силой, активностью.
Понятие вторичной материи к протяженности и антитипии
«первичной материи» прибавляло, как сказано у моих
позднейших комментаторов, понятие инертной массы тела, без чего в
механике и физике в мое время было невозможно правильно
трактовать законы взаимного соударения тел и их движение. Ввел же я
понятие «вторичной материи», поскольку уяснил, что активность,
или внутренняя сила, деятельность, универсальна, всеобща и
присуща отнюдь не только одному духовному, метафизическому, но и
материи, как и вообще любой другой субстанции.
Замечу, что свое учение о внутренней силе я впервые высказал
в лейпцигских «Акта Эрудиторум» в марте 1694 г., а позднее развил
это учение в своем «Опыте рассмотрения динамики...» в тех же
«Акта...» в апреле 1695 г. В 1698 г. я утверждал, что «без активной
силы в телах не было бы и разнообразия в феноменах, а это было
218
Философские письма, которых не было
бы равносильно тому, как если бы ничего не было» и вообще
«благоразумие требует разнообразия» (это свое замечание я считаю
весьма плодотворным и глубоким). С этого времени вся какая ни
на есть материя становится, в моем понимании, абсолютно
равным образом столь же активной, сколь и пассивной,
одушевленной и вместе с тем неодушевленной; духовной, идеальной и
одновременно материальной, телесной по своей природе; содержащей
в себе, несмотря на свою ощутимость и телесность, в равной
степени некое органическое начало, которое на высоких уровнях
организованности материи выступает как душа, человеческий ум
или разум (дух) и, наконец, божественный дух, т.е. разум, т.е.
Бог, т.е. предустановленная гармония. Однако Бог, и я это уже
говорил, в отличие от духа (души) отделен от материи как некая
автономная субстанция.
Я убежден: «то, что не действует, что лишено деятельной силы,
различимости и даже всякого основания своего пребывания,
никоим образом не может быть субстанцией». Всюду в материи есть
деятельность благодаря Богу и духам (душам) в материи, в живых
существах и людях. Во всех созданиях Бога это нематериальное
есть вместе с тем некая сила, самоактивность, обнаруживаемая
нами, когда мы утверждаем, что душа управляет телом, а Бог -
миром и его вещами, и существами, которые созданы Им.
Я считаю, что «тела наделены некоторой активной силой, так
что... тела состоят из двух натур, а именно: первичной активной
силы (названной Аристотелем первой энтелехией) и материи или
первичной пассивной силы, по-видимому, антитипии.
Поэтому... все в материальных вещах может быть объяснено
механически, за исключением самих оснований механизма.
Последние могут быть извлечены только из рассмотрения одной
материи... Эта первичная активная сила, которую можно назвать
жизнью, и заключается... в том, что мы называем душой, или в
простой субстанции; это нематериальная, неделимая,
неразрушимая реальность; ее (я вкладываю. - Л.П.) во все тела, считая, что
нет частицы массы, где не было бы органического тела,
наделенного некоторой способностью к восприятию, или своего рода
душой. Таким образом (мое. - Л.Я.) рассуждение прямо ведет к
различению души от материи».
Я не устану повторять, что «помимо протяженности и ее
видоизменений», как о том учит г-н Декарт, «материи присуща сама
сила, т.е. способность к действию, которая осуществляет переход
Письмо первое. Моя философия
219
0т метафизики к природе, от материального к нематериальному.
Эта сила обладает собственными законами, выведенными не
только лишь из принципов абсолютной и... жесткой
необходимости, как в математике, но также из принципов совершенного
разума» (курсивмой. -Л.П.)
Все в мире состоит из активного и пассивного, но они не
противостоят, не исключают друг друга, а совместимы, поскольку они
суть силы, разные проявления одной и той же жизни. Но
совместимы и тождественны не как одно рядом с другим, а как одно в
другом, и вырастающее из другого, и являющееся для него
основанием. А именно: пассивное в определенном отношении и смысле
активно, и наоборот; поэтому не следует видеть в каждой из них
нечто самодовлеющее или изолированное и автономное, хотя
они, подчиняясь определенной общей для них зависимости,
субординированы между собой, так что можно говорить об
определенной их иерархии, где есть главное и второстепенное, но фани
эти не абсолютны, а относительны. Во всяком случае душа,
следовательно, активность изначально создана господствовать над
телом (значит, и над пассивностью), субъект - над своим объектом.
Таким образом, материя есть полная телесная субстанция,
заключающая в себе и материю, и форму (или душу) вместе с
органами. Поэтому высказывание, что всюду есть души, «нисколько не
противно учению о нематериальных субстанциях». Это учение
вовсе не утверждает, что эти души находятся вне материи, но только
то, что они суть нечто гораздо большее, чем материя, «и не могут
быть производимы и уничтожаемы теми изменениями, какие
претерпевает материя, и не подвержены разрушению, так как не
состоят из частей». Надо ли говорить, что духовный мир и мир
материальный не совместимы, хоть и слиты друг с другом гармонически.
Однако есть, как я уже писал, и нематериальная, но
отделенная от материи субстанция - Бог. «... По сути дела Божество
связано, хотя и менее тесно, со всеми тварями и... все твари обладают
некоторой степенью активности, которая помогает им подражать
Божеству». Мы, люди и животные, управляя собой, похожи на
уменьшенные копии Бога, ибо по отношению к своему телу, к
себе ведем себя так же, как все нематериальные субстанции и
особенно Бог ведут себя по отношению к телам и вешам природы.
«Мы походим в уменьшенном виде на божества как по знанию
мирового порядка, так и по нашей способности самим придавать по-
220
Философские письма, которых не было
рядок вещам, находящимся в пределах наших сил, наподобие
того, который Бог дает миру».
Поскольку в нас, в людях, все наше нематериальное, духовное,
вся эта сила сопровождается «довольно отчетливым восприятием»
и даже размышлением над нашим нематериальным, над силой,
подобной «свету разума», т.е. философии; поскольку чем больше
мы углубляемся, все это до основания воспринимая и
философски осмысливая, тем яснее в этом нематериальном обнаруживаем
все более «наилучший порядок» (как это известно всем, кто
углублялся в науку), то в том научном и философском проникновении в
суть всего «заключается наша добродетель и совершенство» наша,
все более увеличивающаяся в ходе постижения истины радость.
И «наше счастье заключается в удовольствии, которое мы
извлекаем отсюда», в наслаждении самопознанием себя в единстве
(тождестве) со всей природой.
Таким образом, чем более проникаем мы в основания вещей,
тем больший порядок, обнаруживаемый нами в них, способствует
упорядочению наших собственных индивидуальных знаний, а
также знаний общественных, общечеловеческих, в том числе
естественно - научных и философских. И тем гармоничнее,
счастливее и добродетельнее становимся мы в ходе этого сами, ибо тем
более мы приближаемся к Богу в постижении Его промысла и
абсолютного совершенства, а также в делах своих человеческих.
В постижении этой всеобщей упорядоченности и
целесообразности универсума мы никогда не прекратим своего движения, не
остановимся, ибо как в ходе закономерного изменения и развития
нематериальных субстанций, направленных «к тому, чтобы
достичь определенной цели», так и в ходе нашего мышления и
познания закономерного развития и изменения мира и вещей его, мы,
подобно субстанциям, никогда не прекратим своей относительной
самодеятельности. Они и мы способны лишь бесконечно
приближаться к своей цели «наподобие асимптот». «И хотя иногда и
встречается попятное движение, наподобие линии с заворотами, тем не
менее в конце концов прогресс возобладает и восторжествует».
Вы видите, Ваше Величество, что даже в этом беглом
изложении «моя философия, без сомнения, очень доступная, так как не
приемлет ничего, не отвечающего нашему опыту, и основывается
на таких тривиальных истинах, как сентенция итальянского
театра «у других все так же, как у нас» и фразе Тассо: ehe per variar
natura e bella (прелесть природы в ее изменчивости). На первый
Письмо первое. Моя философия
221
взгляд, оба положения противоречат друг другу, но их следует
примирить, имея в виду в первом случае сущность вещей, а во
втором - способы и внешние проявления...»
Однако я нахожу, что здесь мне будет вполне уместно
закончить письмо, как бы мне ни хотелось эгоистически продлить
удовольствие и продолжать его, беседуя в нем с Вами, ибо, полагаю, я
и так страшно утомил Ваше Величество своими отвлеченными
измышлениями, несмотря на то что они очень дороги мне. К тому
же, мне кажется, и понятие «активной силы» мной уж достаточно
определено, дабы в следующем письме рассказать о душе.
Остаюсь преданный Вам и проч.
Вена, 10 января 1703 г.
Здесь и далее говорится о Душах (Духах)
Вижу, что по безграничной доброте своей Вы
сочли мое предыдущее письмо сносным, хотя я слишком хорошо
понимал, когда писал его, как мало оно способно удовлетворить
требованиям дамы столь тонкого ума. И чем больше я восхищаюсь
этим умом в Вашем ответе, где ясность изложения и красота стиля
изящно сочетаются с необычайным глубокомыслием, тем больше
сомневаюсь в успехе того, что собираюсь написать сейчас. Но
лестное сознание того, что я исполняю Вашу добрую волю, ободряет
меня и по крайности послужит мне извинением в этом письме, где
я пытаюсь рассказать о душах и духах как нематериальных
субстанциях.
Ранее, в письме к Вашему Величеству, я назвал некоторые из
этих субстанций, а именно, непосредственно и прямо связанные с
материей, природой, со всем Универсумом, - вторичной
материей, или «деятельными формами».
Однако нельзя смешивать эти, самые что ни на есть низшие и
несовершенные нематериальные (несмотря на свою
органическую связь с материей) субстанции, эти деятельные «формы,
погруженные в материю и, по моему мнению, пребывающие
повсюду», ни с душами, которые имеются у различных живых существ,
обладающих чувством (например, у животных), ни, наконец, с
духами, т.е. разумными душами, имеющимися у тех существ, кои,
будучи людьми, обладают разумом. Ибо в сравнении с душами и
формами, пусть даже деятельными, но погруженными в материю,
Духи, например, суть «как бы маленькие божества, сотворенные
222
Философские письма, которых не было
по образу Бога и носящие на себе лучи божественного света.
Поэтому духами Бог управляет подобно тому, как государь управляет
своими подданными или как отец заботится о своих детях, между
тем как с другими субстанциями он распоряжается так же, как
механик своими машинами.
Духи имеют, таким образом, свои особые законы, ставящие их
выше изменений, происходящих в материи, в силу того самого
порядка, который Бог вложил в последнюю; и можно сказать, что все
остальное сотворено только для них, так что самые эти изменения
приспособлены к счастью добрых и наказанию злых».
В письме к г-ну Бейлю я даже сравнивал каждую душу с
часами, но «лишь в том смысле, что и там, и здесь имеется
упорядоченная точность изменений, точность, которая даже в самых лучших
часовых механизмах не является безупречной, но вполне
совершенна в произведениях Бога». Так что «можно сказать, что душа -
это вполне нематериальный автомат (automate im marterial) из
числа самых точных».
Всюду и везде «души следуют своим законам, которые состоят
в известном развитии восприятий сообразно с их благом и злом, а
тела тоже следуют своим законам, которые состоят в правилах
движения, и, однако, эти два рода существ, совершенно
различные, встречаются и согласуются друге другом, как двое часов,
могут быть совершенно различны по устройству, но поставлены в
полное соответствие. Это я называю предустановленной гармонией
(Le Harmonie préétablie), которая устраняет всякое понятие о чуде
из области действий совершенно естественных и заставляет вещи
понятным образом идти установленным ходом».
В силу этой предустановленной Богом «всеобщей гармонии»
«всякая субстанция точно выражает все другие субстанции путем
отношений, какие она имеет к ним». Если я и допускаю
сверхъестественное, то только «в начале вещей, в отношении первого
образования животных или в отношении первоначального
утверждения предустановленной гармонии между душой и телом...»
Тем не менее все наше мышление, все вообще духовное и
сознательное в человеке, т.е. иначе говоря, «мышление у материи
возможно лишь благодаря непрерывно действующему чуду, так
как в самой материи, иначе говоря, в протяженности и
непроницаемости, нет ничего такого, к чему могло быть сведено
мышление или на чем последнее могло бы основываться». В этом я,
пожалуй, иду дальше, чем так называемые французские материа-
Письмо первое. Моя философия
223
листы XVIII в., которые, быть может, по издавна присущим
французскому вольному духу, остроумию, экспансивности,
радикализму и безрассудству, а также порожденному мной
рационализму, были в своей жизни и философии склонны вдаваться в
любую чрезмерность, крайность, односторонность - черты, которые
позже пагубно отразятся на философии марксизма-ленинизма,
ибо к тому же самому склонны, по-видимому, все русские,
поскольку они увлекаются водкой.
Нематериальны же деятельные формы, души и духи, не
потому что они отделены от материи и существуют без нее, а потому
что, будучи неразрывно с ней слиты, связаны и не существуя вне
материи, они тем не менее от нее не зависят, ибо «не могут быть
производимы и уничтожаемы теми изменениями, какие
претерпевает материя, и не подвержены разрушению, так как не состоят
из частей». А потому души и духи суть нематериальные
субстанции, которые, как я писал, есть «нечто большее, чем материя».
Несмотря на это, с точки зрения или (как позднее скажут) в
масштабе всего универсума материальное и нематериальное
едино и даже в известных случаях тождественно, ибо в мире вечно
господствуют всеобщее единство и взаимосвязь. Целое, общее,
одно всегда едино и взаимосвязано с образующими их частным,
отдельным и многим. И все это бесконечно как бы раздельно
«соединяется» и «разъединяется», стягивается и растягивается либо
физически само по себе (как таковое) или не само по себе, а в
зависимости от изменяющихся условий и обстоятельств, либо
метафизически, по своей душе, или форме.
Я различаю два вида, или рода, «единения»: «физическое»
(через влияние - influence) и «метафизическое» (через основу -
support). Первое присуще миру материальных тел, второе - миру
нематериальных субстанций - душ. Ибо, подобно группе тел,
отдельное тело может быть объяснено лишь механически и
физически, но не метафизически, не философски, ведь оно «не
представляет собой настоящего единства, оно только агрегат, по
схоластическому названию чистая акциденция, собрание вроде стада, а
единство его происходит от нашего восприятия; само оно есть
создание нашего ума или, вернее, воображения, -явление».
Тем не менее «физическое единение», присущее телам, от-,
нюдь не противоречит тому, что вообще все тела как природные
явления, как своеобразные механизмы или «машины природы
имеют действительно бесконечное число органов... так хорошо
224
Философские письма, которых не было
вооружены и так недоступны для всяких случайностей, что
разрушить их невозможно. Естественная машина остается машиной и в
своих мельчайших частях, и, что еще важнее, она всегда остается
той же машиной, какой была, она только изменяет форму путем
различных изгибов, которые принимает, то расширяется, то
стягивается и как бы концентрируется, когда думают, что она
утратилась». Однако тело не утрачивает ни своей постоянной основы, ни
своей реальности.
Правы те философы и сохранившие здравый смысл простые
люди, которые «полагают природу тела в двух свойствах -
протяжении и антитипии, взятых вместе. Первое из них мы получаем
посредством зрения, второе - посредством осязания; поэтому,
соединяя то и другое чувство, мы удостоверяемся обыкновенно, что
данные вещи не призраки воображения». Физическое единение
через «влияние» есть единообразие, которое означает подчинение
действий «одному и тому же закону порядка или непрерывности».
В этом смысле «само по себе всякое простое существо и даже
всякое составное существо действует единообразно», хотя это, по-
моему, не означает «действует одинаково».
Единение же «метафизическое», через «основу» - это
единение через нематериальную субстанцию. «Через посредство души,
или формы, существует истинное единство, соответствующее
тому, чему дают название Я в нас самих; это то, что не может иметь
места ни в искусственных машинах, ни в простой массе материи,
как бы она ни была организована; на такую массу можно смотреть
как на армию, или стадо, или пруд, полный рыбы, или как на часы,
составленные из пружин и колес. Однако если бы не было
действительных субстанциальных единиц, то и в собрании не было бы
ничего ни субстанциального, ни реального».
У древних это привело к атомизму, и с тех пор он продолжает
существовать и в сочинениях новых философов. Однако
несомненно, что «для любой части материи есть меньшая; в природе
нет предельно малой величины. Каждое явление или вообще не
имеет пределов, или имеет свои пределы», и «мельчайшая
частичка материи в свою очередь состоит из частей». «Материальные
атомы противоречат разуму, не говоря уже о том, что и они
сложены из частей, так как непреодолимая связь одной части с другой
(если только ее можно представить или иметь основание
предположить) не уничтожает их различия.
Письмо первое. Моя философия
225
Существуют только атомы-субстанции, т.е. единицы или
реальные единства, абсолютно лишенные частей, составляющие
источники деятельностей и первые абсолютные принципы
сложения вещей и как бы последние элементы в анализе вещей
субстанциальных. Их можно было бы назвать метафизическими точками:
они обладают чем-то жизненным и своего рода представлениями;
математические же точки — это их точки зрения для выражения
универсума. Но когда жизненные субстанции стягиваются, то все
их органы образуют, на наш взгляд, одну физическую точку.
Таким образом, точки физические неделимы только по
видимости; математические же точки - точки в строгом смысле, но
они только модальности; только точки метафизические, или
точки-субстанции (а их образуют формы, или души), суть точки в
строгом смысле, и притом реальные; и без них не было бы ничего
реального, так как без настоящих единиц не может быть и
множества». Итак, во всех созданиях Бога, а особенно в нас, помимо
телесного, материального всегда есть нечто взаимодополняющее это
материальное, телесное, физическое, а именно: нематериальное,
идеальное, метафизическое.
«Я действительно рассматриваю души или, вернее, монады,
как субстанциальные атомы, так как в природе не существует
атомов материальных». Монады никогда не утрачивают своей
постоянной самоактивности и в этом и других отношениях
функционируют так же, как действовал бы механизм небесной сборки.
Разумеется, монады, или души, обладают некоторым
сходством с атомами. Те и другие движутся сами собой. «Душа сама
собой способна переходить от одной мысли к другой, как она
переходит, например, от цели к средствам». «Состояние души, как и
атома, есть состояние изменения. Это склонность: атома - менять
место, души - менять мысль; и то и другое меняется само собой
наиболее простым и единообразным способом, как допускает их
состояние... Душа, при том, что она совершенно невидима,
заключает в себе сложное сочетание склонностей, т.е. множество
наличных мыслей, каждая из которых склонна к своему
собственному изменению в зависимости от того, что душа в себе
заключает, если они находятся в ней одновременно вследствие ее
существенной связи со всеми другими вещами в мире».
И «я действительно допускаю распространенные во всей
природе жизненные начала (les principes de vie), бессмертные, так как
они суть неделимые субстанции, или, иначе, единства, между тем
226
Философские письма, которых не было
как тела суть множества, подверженные уничтожению через
разложение на части. Эти жизненные начала, или души, имеют
восприятие (perception) и влечение (appétit).
Когда меня спрашивают, субстанциальные ли это формы, я
отвечаю с некоторой оговоркой: именно если этот термин
понимать в смысле, как у Декарта, когда он утверждает... что разумная
душа есть субстанциальная форма человека...» Но я отвергаю этот
термин в том смысле, будто «камень мыслит», т.е. что «у куска
камня или у другого неорганического тела существуют свои
субстанциальные формы, ибо жизненные начала принадлежат
только органическим телам».
Мое учение о «жизненных началах» «отличается от того, чему
учили о них доселе. Один из этих пунктов заключается в том, что
все до сих пор признавали, будто жизненные начала изменяют ход
движения тел или по крайней мере дают Богу случай изменить его,
а между тем, по моей системе, этот ход движений вовсе не
изменяется в порядке природы, ибо он Богом как следует предусмотрен».
«Бог есть тот источник модификаций, который находится в
творении, или, пожалуй, то состояние, по которому можно судить о
том, что произойдет изменение модификаций».
Наши души суть образы Бога, сотворенные, «чтобы стать
членами общества, или государства, где Он глава»; «они всегда суть
образы Универсума. Это миры, представленные в ракурсе,
каждый на свой лад, и плодоносные при всей своей простоте;
единицы-субстанции, бесконечные по возможностям благодаря
многочисленности своих модификаций; центры, которым
соответствуют окружности с бесконечным радиусом». Вот, пожалуй,
некоторые простейшие примеры, по которым можно уяснить суть
моих «душ», или монад. Разумеется, можно утверждать, что душа
есть аристотелевская энтелехия, и часто значения этих слов
действительно совпадают, так что можно сказать: «душа, или
энтелехия». Но далеко не все энтелехии являются, как наша душа,
образами Бога, так как не все они сотворены для того, чтобы, как уже
было сказано, быть «членами общества, где Он глава». Однако,
подобно энтелехиям, души тоже суть образы Универсума.
«Каждая вещь или часть универсума должна оставлять
отпечаток на всех прочих, и, таким образом, душа вследствие
многообразия своих модификаций должна быть уподоблена универсуму,
который она представляет со своей точки зрения и даже некоторым
образом вместе с Богом как конечный представитель его беско-
Письмо первое. Моя философия
227
вечности (ибо ее восприятие бесконечности смутно и
несовершенно)... Недаром в обиходном языке существует выражение
«душа воюет с телом»: наши смутные мысли - представители тела,
или плоти, они выражают наше несовершенство». «Но
необходимо знать, что понятия не могут связываться произвольно; из них
должна образовываться мысль (conceptus) возможная, дабы
имелось реальное определение; откуда ясно, что всякое реальное
определение содержит по крайней мере некоторое утверждение
возможности...»
Если после этого сумбурного письма у Вас, Ваше Величество,
останутся еще какие-нибудь неясности в том, что я сообщил,
будьте добры известить о них. Они послужат для меня прекрасным
поводом лучше разъяснить суть дела, исправив мои ошибки, но
самое главное - вновь почувствовать высочайшую духовную
прелесть даже письменной и такой короткой, увы, беседы с Вами.
Преданный Вам и проч.
Берлин, 4 февраля 1703 г.
Здесь и далее излагается мое мнение о Восприятии
Ваши трогательные и прелестные письма, Ваше
Величество, никогда не опаздывают, ибо то, что в них говорится,
никогда не стареет, но они не приходят и слишком рано, потому
что всегда дарят усладу и поучение. Посему Вас нужно
возблагодарить, в какой бы срок они ни доходили, и особенно мне, ибо я
нахожу в них особую пользу, сообщая в этом письме о сущности
восприятия.
Недавно привиделось мне, что некий известный в будущем и
сведущий в тайнах физики ученый муж Дюбуа-Реймон будто бы
сказал, что я своим учением о предустановленной гармонии
«разрубил узел, заключающийся в непостижимости того, каким
образом нематериальная душа воздействует на материальное тело и
обратно, но давно уже никто более не думает, что я как следует
распутал этот узел...» Но упрек этот я принять не могу, хоть и думаю,
что узел этот до конца развязать никому не удастся.
По мне, одинаково не правы и те, кто считает «будто есть
мысли, в которых чувства не участвуют, и что душа после смерти
якобы отделяется от тела и мыслит без помощи органов», т.е.
платоники; и те, кто думает, что «животное есть простой автомат без
души и чувства», т.е. картезианцы; и даже те, кто полагает, будто бы
228
Философские письма, которых не было
Бог самым прямым и непосредственным образом участвует в
делах людей и неживой природы, в укреплении и изменении связи
души и тела.
Нематериальное (идеальное) и материальное, душа и тело
очень тесно связаны, равно как рассудок и чувства, свет и тьма,
добро и зло. Так, душа чувствительна, чувственна, а чувства
одушевлены и воодушевлены. Однако между душой и телом мы не
находим никакого взаимодействия, хотя «нередко тело подчиняется
велениям души, а душа внимает действиям тела».
Окказионалисты (последователи преподобного отца Н. Мальбранша) и
картезианцы считают, что взаимоподгонку души и тела осуществляет
Бог, а не «естественное течение (или поведение) вещей», а это
значит - уповать на чудо.
Я полагаю, что одушевлена вообще вся материя. Человек - не
просто носитель души, а он есть и она тоже. «Одушевленное и
организованное семя столь же извечно, как мир...» Животное,
будучи смертным существом, является бессмертным по своему
строению, структуре. В этом смысле душа бессмертна и в своем
существовании не отделяется от всего тела даже после смерти человека,
ибо «соединена с неким органическим началом». «Даже самые
отвлеченные мысли имеют своих представителей в виде некоторых
следов в мозгу...» И «я считаю, что даже наименее произвольные
движения тела все-таки оставляют впечатление в душе, хотя их не
замечают» из-за однообразия, смутности и привычности этих
движений.
Душа ощущает даже «в состоянии усыпления», например в
состоянии детства, глубокого сна, обморока и даже смерти. Тут
получается примерно так же, как если бы вы были «оглушены
громким шумом, состоящим из множества слабых звуков, которые по
отдельности различить невозможно и в которых нельзя уловить
никакого порядка и созвучия. Так воспринимается шум морских
волн - их невозможно было бы услышать, если бы мы не обладали
некоторым малым восприятием каждой волны».
Поэтому будет ошибкой принимать «приостановку
отчетливых мыслей» за «прекращение мыслей вообще». Ведь в то время,
когда «отчетливых» мыслей нет, есть мысли «смутные». А мы, как
уже говорилось, последних не замечаем, аналогично тому, как
«человек бывает оглушен пушечным залпом, ослеплен яркой
вспышкой, охвачен эпилептическими судорогами, так как сила
воздействия чересчур множит и смешивает движения органов»;
Письмо первое. Моя философия
229
аналогично тому, «как те, кто привык к слишком изысканным
кушаньям, находят все другие безвкусными до тех пор, пока не
перестанут злоупотреблять первыми».
Но если бы глаза наши были ослеплены вспышкой или если
бы мы злоупотребляли изысканными кушаньями, «если бы шум
звучал в наших ушах постоянно», если бы ничего другого мы не
слышали, не видели, не употребляли в пищу, «и если бы все
остальные наши органы, а равно и наша память не поставляли нам
ничего заметного, то и этот шум (равно как и яркий свет, и вкус
кушаний. - Л.П.) мы перестали бы замечать и оказались бы совсем
тупыми, хотя смутное (т.е. безотчетное и в этом смысле "не
отчетливое". - Л.П.) восприятие сохранялось бы по-прежнему...»,
поскольку восприятие есть одна из деятельностей нашей души и как
бы сама душа.
Я противопоставляю и одновременно объединяю
(отождествляю) мир чувств и мир разума, ума. А потому рассматриваю тело
как мир внешних чувств, а душу как мир внутренних чувств,
поскольку полагаю, что необходимо должен быть наряду с миром
внешних, обращенных во вне субъекта чувств, совершенно другой
мир других сокровенных, обращенных во внутрь субъекта
(причем не только человека, но и вообще всех тех существ, коим другие
чувства принадлежат). Поэтому человек по своему строению дву-
мирен, двумерен, раздвоен, противоречив.
Внешние чувства делятся на понятия отдельных чувств
(ясные, но смутные) и понятия «общего чувства» (ясные и
отчетливые).
Чувствами «внешними» мы пользуемся, «как слепой своей
палкой», по выражению одного из древних, дабы узнать об их
частных объектах - цвете, звуке, запахе. Но понять, что собой эти
объекты представляют и каким образом они производят именно
такие, а не другие восприятия (например, красного цвета,
теплоты, шума и т.п.), мы с помощью этих «внешних» чувств, и только
их, не можем. Никакие открытия в отношении природы этих
скрытых качеств ни на йоту не разъясняют нам сам объект, не
проливают свет на то, каким образом эти скрытые качества сами по
себе или в сочетании с другими воспринимаются нами именно
так, а не иначе; и не открывают нам внутренней природы
изучаемого объекта.
Нельзя ведь «дать признаков, по которым человек, который
никогда не видал, например, синего цвета, мог бы узнать его. Так
230
Философские письма, которых не было
что синий цвет есть сам свой признак, и, чтобы человек знал, что
такое синий цвет, ему необходимо показать его», хотя от этого он,
быть может, понятнее не станет. «Поэтому-то хотя понятия этих
качеств и называют обыкновенно ясными, так как по ним можно
узнать эти качества, но... эти понятия неотчетливы, ибо нельзя ни
отличить, ни раскрыть то, что они в себе заключают. Это -
неуловимое нечто, которое можно заметить, но и в котором "отдавать
себе отчета нельзя"». Однако, описав это нечто, «можно дать
понять другому, что оно такое, даже если этой вещи нет под руками,
чтобы показать ее».
Итак, всем, казалось бы, совершенно понятное и очевидное,
всем без исключения присущее чувственное на деле оказывается
понятным менее всего, скрытым и далеким от объяснения,
таинственным и загадочным. Хотя вместе с тем и одновременно
вполне очевидным, наглядным и привычным настолько, что кажется
абсолютно не нуждающимся ни в каком объяснении. Такие от
людей скрытые, но кажущиеся им открытыми и понятными
«чувственные качества», или качества «отдельных чувств», встречаются
на каждом шагу.
Например, «кормчий понимает нисколько не лучше другого
природу намагниченной иголки, которая обращается к северу,
хотя компас постоянно у него перед глазами и он поэтому нисколько
ему не удивляется», а принимая его вместе с таящейся в нем, как я
писал, непонятностью и таинственностью таковым, каков он
есть, привычно использует его, руководясь им для достижения С
его помощью своей цели. Поэтому не является помехой то, что
природа намагниченной иголки никому не ясна. Поэтому всем
очевидные, бросающиеся в глаза и общедоступные, получаемые
нами от деятельности «внешних» чувств «чувственные качества*
на самом деле «суть скрытые качества». >
Кроме этих скрытых качеств, которые мы можем открывать/
комбинировать, описывать, но причины и суть которых
объяснить не можем, внешние чувства «дают нам знать другие, более яв-*
ные качества, доставляющие более отчетливые понятия. Это та--'
кие качества, как число, фигура.
Такого рода качества не связаны с пятью нашими
определенными чувствами (зрения, осязания, обоняния и т.п.), а связаны с
"общим чувством"». Оно дает нам, например, «идею чисел,
которые одинаково находятся в звуках, цветовых и осязательных
ощущениях. Этим же способом мы узнаем (величины и. - Л.П.) фигу-;
Письмо первое. Моя философия
231
ры, общие цветовым и осязательным восприятиям, но не
замечаемые нами в звуках. Правда, чтобы отчетливо понять самые числа и
фигуры и чтобы образовать науки о них, нужно еще нечто, чего
чувства не могут доставить и что к ним прибавляет разум».
Это «нечто», производимое разумом, есть «воображение».
Воображение «обнимает как понятия отдельных чувств, так и
понятия общего чувства». Понятия последнего рода «составляют
предмет математических наук, т.е. арифметики и геометрии» в их
теоретическом и прикладном виде.
Однако вслед за Платоном я полагаю, что в мире чувств нет
«бытия и истины». В мире чувств «господствует видимость»,
поскольку можно представить себе существо, имеющее «долгие и
упорядоченные сновидения, похожие на жизнь, так что все, что
оно считало бы за воспринимаемое чувствами, было бы лишь
чистой видимостью».
Находясь в мире чувств, нельзя проверить воспринимаемое на
его соответствие с его восприятием, нельзя отличить возможное
от действительного, сон от яви. Разумеется, люди не мыслили бы,
если бы не имели чувств. Но мышление - это совсем не то, что
ощущение, представление или восприятие. Подобно этому, «юз-
дух необходим нам для жизни, но наша жизнь есть нечто иное, чем
воздух». «Чувства доставляют нам материал для размышлений, и у
нас никогда не бывает мыслей, до такой степени отвлеченных,
чтобы к ним не примешивалось чего-либо чувственного. Но
размышление требует еще иного, нежели чувственное».
И «необходимо, следовательно, нечто за пределами чувств, что
позволило бы отличить истинное от кажущегося», сущего от
не-сущего. Необходимость и существование этого нечто, т.е.
иного мира, мира ума, истины и бытия, можно обнаружить даже
находясь в «мире вещей», по выражению Платона, в мире чувств. «Ибо,
как справедливо замечали некоторые остроумные философы
древнего и Нового времени, если бы все, что я видел, было только
сном, то все-таки я, который мыслю, видя этот сон, представлял
бы собой нечто и действительно мыслил бы различными
способами, которые всегда должны иметь некоторое основание», как,
например, «я мыслю, следовательно, существую» у Декарта или «мне
стыдно, следовательно, я существую» у одного из русских.
«Поэтому вполне верно и достойно замечание древних
платоников, что существование вещей умопостигаемых и, в частности,
того Я, которое мыслит и которое называют духом или душой, не-
232
Философские письма, которых не было
сравненно более достоверно, чем существование вещей
чувственных, и что со строго метафизической точки зрения вовсе не было
бы невозможным, если бы в конечном счете не существовало бы
ничего, кроме этих умопостигаемых субстанций, а чувственные
вещи были только видимостями, - тогда как мы по недостатку
внимания считаем эти чувственные вещи единственными
настоящими вещами».
А потому необходимо существует наряду с миром чувств и
миром воображения еще более высший и совершенный мир - это
мир ума. Иначе говоря, «сверх чувственного и воображаемого
существует и то, что только умопостигаемо, как составляющее
предмет одного лишь ума; таков, например, предмет моей мысли, когда
я думаю о себе самом.
Эта мысль о моем Я, которое осознает чувственные предметы,
и о моей собственной деятельности, которая отсюда вытекает,
прибавляет нечто к предметам моих чувств. Думать о
каком-нибудь цвете (запахе, величине, фигуре или числе, - Л. П.) - две
совершенно разные мысли, точно так же как самый цвет (запах,
величина, фигура или число. -Л.П.) отличается от меня, думающего
о нем».
Вот почему философию я называю «отраженным светом
разума», его самопознанием.
Атак как я, и любой другой человек, понимаю, что и другие
существа могут иметь право сказать «я» или что это можно сказать
про них, то отсюда я понимаю, что называется вообще
субстанцией, и то же размышление о самом себе доставляет мне и другие
метафизические понятия, такие, как причина, действие,
деятельность, сходство и т.п., а также понятия логическое и нравственное.
Поэтому можно сказать, что в уме нет ничего, что не
происходило бы из чувств, кроме самого ума, как того, что понимает.
Итак, существуют три уровня понятий: только чувственные -
составляющие предмет каждого отдельного чувства, чувственные
и умопостигаемые одновременно - принадлежащие общему чувству
и только умопостигаемые - свойственные собственно уму.
Любая «умопостигаемая истина независима от истинности
или существования вне нас чувственных и материальных вещей».
Например, «если бы я во сне открыл какую-нибудь
демонстративную истину, математическую или иную (как это может случиться
на деле), то она была бы совершенно так же достоверна, как если
бы я нашел ее наяву».
Письмо первое. Моя философия
233
Первые и вторые вместе доступны воображению, третьи же
выше воображения. Вторые и третьи понятны и отчетливы;
первые же смутны, хотя они ясны и доступны узнаванию или
опознанию.
Без опоры на ум (рассудок), без его помощи «нельзя с
достаточной уверенностью выходить за пределы опытов», подняться
над ними, постичь, понять и объяснить их. Вот почему примеры -
не доказательство, а доказанное путем только одной индукции - в
действительности еще не вполне доказано. Мы познаем
«необходимые истины» (позволяющие «судить о том, что необходимо»
только... естественным разумом, а вовсе не опытами чувств. Ибо
чувства (до некоторой степени показывающие нам то, что есть)...
не дают нам знать того, что так должно быть или что не может быть
иначе, не раскрывают причину существующего или
происходящего, не дают возможности его понять, осмыслить, уразуметь,
выяснить. Чувства не дают нам необходимых истин, а говорят лишь о
том, «что есть и что обыкновенно бывает в отдельных случаях».
Но откуда же тогда то наше преимущество перед животными,
что «мы тем не менее знаем всеобщие и необходимые истины
наук»? Я полагаю, что «мы почерпнули известную часть этих истин
из того, что заключается в них самих. Так, можно научить этим
истинам ребенка путем простых вопросов по способу Сократа,
ничего не говоря ему и не показывая на опыте истинность того, о чем
спрашивают. Это можно легко осуществить и на числах, и на
других подобных предметах».
Для получения знаний требуется свет, исходящий не только от
предмета изучения, но и от самого исследователя; нужно
движение мысли не только от частного к общему (индукция), но и от
изучаемого объекта к исследователю; требуется движение мысли
от общего к частному (дедукция). «Это размышление заставляет
признать, что существует некий свет, рожденный вместе с нами».
И он есть философия.
Поэтому мир чувств и разума есть в определенном отношении
мир бытия и истины, ибо уже само «понятие бытия и истины
заключается в моем Я и в уме, а не во внешних чувствах и
восприятии внешних предметов», как полагают материалисты.
Итак, есть мир тел и мир душ, мир чувств и их предметов, мир
воображения и его предметов, мир ума и мир его предметов; я не
говорю уже о соответствующих уровнях понятий и активности.
Все эти миры разноаспектны, многогранны. Имея одно и то же ос-
234
Философские письма, которых не было
нование, они как бы вложены один в другой, наподобие японских
кукол, паскалевских бездн или русских матрешек; стянуты к
некой высшей и совершеннейшей вершине - Богу.
Как я уже писал, «всякая сотворенная субстанция состоит из
активного и пассивного», поэтому «достаточно, чтобы она
страдала из-за собственного пассивного». Влияние же Бога «есть
непрерывное творение, и поэтому, собственно говоря, душа наша в этом
отношении не страдает». «Все тела устроены по предначертаниям
вселенского духа, а все души являются по существу отражениями,
или живыми зеркалами Вселенной в меру возможностей каждой
души в зависимости от ее точки зрения и, значит, так же вечны,
как мир. Бог как бы создает столько вариантов мира, сколько в
мире есть душ, или творит как бы уменьшенные копии мира, на
вид разные, а по существу сходные.
Нет ничего богаче этой единообразной простоты с ее
совершенным порядком».
«Душа изначально создана господствовать над телами, и ее
стремление сопровождается отчетливыми восприятиями,
которые заставляют ее выбирать подходящие средства, когда она
чего-либо захочет. Но, с другой стороны, она и подчинена
изначально телу в той мере, в какой она склонна к смутным восприятиям».
Эта «изначальная подчиненность» в обоих случаях близка тому,
что через несколько веков назовут «запрограммированность».
«Жизнь, восприятие, разум» - таковы, мне кажется, «ступени
активности». Этому соответствуют «разновидности душ,
именуемые вегетативной, чувственной, разумной... Есть тела,
обладающие жизнью без чувств, и есть другие, которые обладают жизнью и
чувством, но не имеют разума. Однако я считаю, что душа
чувственная является в то же время и вегетативной, а душа разумная -
чувственной и вегетативной; таким образом, в нас одна-единст-
венная душа заключает в себе эти три ступени и нет надобности
представлять... будто у нас три души...»
Каждая отдельная душа «выражает некоторым образом весь
мир и является как бы средоточием мира... Каждое тело, втом
числе наше, в какой-то мере испытывает влияние всех прочих, а
значит, и душа принимает в этом участие.
Вот в немногих словах вся моя философия, без сомнения,
очень доступная...»
«Признаюсь Вам, что я увлечен новой системой своей
философии. Система эта соединяет, по-видимому, Платона с Демокри-
Письмо первое. Моя философия
235
том, Аристотеля с Декартом, схоластиков с современными
мыслителями, теологию и мораль с разумом. Она берет, кажется,
лучшее от всех сторон и затем идет дальше, чем шли до сих пор.
Я нахожу в ней рациональное объяснение связи души с
телом - вещь, понять которую я некогда отчаивался. Я нахожу
истинные принципы вещей в субстанциальных единицах, вводимых
этой системой, и в их гармонии, предустановленной
первоначальной субстанцией (т.е. Богом. - Л.П.). Я нахожу в ней
поразительную простоту и единство, благодаря которым можно сказать, что
повсюду и всегда существует одна и та же вещь с различными
степенями совершенства.
Я понимаю теперь, что имел в виду Платон, когда он принимал
материю за несовершенное и переходящее существо; что желал
сказать своей энтелехией Аристотель; что означает обещание
иной жизни, которую допускал, по словам Плиния (в его
"Естественной истории". - JIM.), даже Демокрит; насколько правы были
скептики, выступая против показаний чувств; каким образом
животные действительно автоматы, по г-ну Декарту, и каким,
однако, образом они обладают душами и ощущениями, по мнению
всего человеческого рода... каким образом законы природы
(значительная часть которых была известна до этой системы)
вытекают из сверхматериальных принципов, хотя все в материи
происходит механическим образом... Согласно новой системе, душа и тело
соблюдают в точности свои законы, и тем не менее одно
повинуется другому, насколько это требуется».
«Некоторые важные стороны... вопросы (о субстанции. -
Л.П.) мне, если не ошибаюсь, удалось выяснить новыми,
покоящимися на более глубоких основаниях и имеющими широкое
значение положениями. Из них, быть может, возникнет
когда-нибудь возрожденная и улучшенная система философии, которая
примирит философию формы и философию материи, объединит
и сохранит то, что есть истинного в той и другой».
И я, прошу простить за невольный каламбур, «от души
благодарю Бога за то, что снабдил меня... надежной философией».
В заключение скажу, что моя философия, подобно катарсису
древних имеет как бы философски очищающее (от
партийно-сектантского духа) значение, ибо обращена против «иррациональных
качеств», которыми пытались и пытаются объяснить природное,
физическое, исходя из него самого, а не из его метафизической
основы. Это рождает новые и новые утопии, увлекая весь род чело-
236
Философские письма, которых не было
веческии не по тому пути, по которому он предназначен идти по
самой своей натуре.
В истории философии первым Демокрит вместе с Левкиппом
попытался очистить физику от иррациональных качеств и
объявил, что качества происходят из мнения... и представляют собой
как бы видимость, а не подлинные вещи. Одно только
иррациональное начало он оставил - непреодолимую твердость своих
атомов - также вымысел, который заставил его принять и пустоту;
так всегда ошибки порождают новые ошибки. Эпикур добавил
еще два измышления - тяготение атомов и беспричинное
отклонение, которое остроумно высмеял Цицерон.
Аристотель в своей «Физике» пошел дальше по верному пути и
высказал против атомов и пустоты те же возражения, которые
возобновили Декарт и Гоббс... Юнг, Декарт, Гоббс, к которым, за
изъятием атомов и пустоты, можно присоединить Гассенди, и их
последователи полностью очистили физику от необъяснимых
химер и, «вернувшись к Архимедову применению математики в
физике... показали, что все телесное и природное должно быть
объяснено механикой».
Однако я опасаюсь, не покажется ли моя философия чересчур
низкой и пошлой особам высочайшего круга, к коим я причисляю
Ваше Величество - я говорю не о ранге, а об уме.
Остаюсь преданный Вам, и проч.
Вена, 12 ноября 1703 г.
КОММЕНТАРИЙ
О методологии изучения лейбницевской философии как
системы. - Двойственность, или Согласование несогласуемого. - Связь
(единство) между Богом и индивидуальной субстанцией.
Субстанция. - Монада. - Монада - «зеркало мира». - Монада как мир без
окон и дверей. - Монада как «переход» и «представление». - Монада
как «апперцепция». - Монада как «стремление». - Монада как
«предустановленная гармония субстанций».
Комментаторы появились ужасно давно.
Вероятно, вместе с комарами, блохами, клопами и другими сосущими
паразитами.
Вольтер в одном из своих философских произведений писал:
«Один старый перипатетик сказал очень громко и убежденно:
Комментарий
237
- Душа есть энтелехия и то основание, по которому она имеет
возможность быть тем, что она есть. Так именно провозгласил
Аристотель на странице шестьсот тридцать третьей луврского
издания...
- Зачем вы цитируете по-гречески своего Аристотеля?
- Затем, - ответил этот древний комментатор, - что следует
цитировать то, чего совсем не понимаешь, на языке, который
понимаешь еще меньше».
У всякого комментатора есть своя голубая мечта,
упирающаяся в невозможное. Он всегда раздираем жгучим желанием
прокомментировать «не это, а совсем другое», причем так, чтобы
комментарий оказался толще комментируемого. Еще не было
комментатора, который, комментируя чужое, не пытался втиснуть в
него свое.
Я стремился избежать этих трудностей. Как читатель увидит,
из этого ничего не вышло, хотя я и осознал, что тот, кто пожелает
ознакомиться с философией г-на Лейбница, непременно
встретится с совсем другими трудностями, которых не удалось избежать
и мне.
Во-первых, это неполнота опубликованного из наследия
Лейбница и особенно из его переписки, насчитывающей около
15 тыс. писем и по своему философскому содержанию и
значению, быть может, гораздо более важной, чем его произведения...
В 1734-1742 гг. Христиан Кортгольт осуществил первое
четырехтомное издание этих писем.
Философские труды Лейбница впервые были изданы в 1765 г.
библиотекарем Ганноверской Королевской библиотеки
Рудольфом Распе.
В 1768 г. в Швейцарии вышло шесть томов сочинений
Лейбница; но издатель Людвиг Дютан пренебрег перепиской
Лейбница «потому что она была политического содержания».
В 1837-1840 гг. К. Гурауэр издал двухтомник сочинений
Лейбница. Примерно в это же время Иоганн Эрдман публикует 99
произведений Лебница, из них 23 - впервые.
В 1843 г. был, наконец, напечатан знаменитый, сделавший
трагическими последние годы жизни Лейбница его труд по
истории государей Лейбница (Вельфского дома) (G.W. Leibnitii.
Annales Imperii Occidentis Ed. G. Peretz. Brunsvic, 1843. 3 voll).
Начиная с 1845 г. библиотекарь Ганноверской Королевской
библиотеки Г. Перетц совместно с К. Герхардтом издает 12 томов
собрания сочинений Лейбница.
238
Философские письма, которых не было
В 1857 г. французский литератор и академик Фуше де Карейль
по Ганноверским архивам «составил план» полного издания
сочинений Лейбница, но в вышедшем труде некоторые историки, в
том числе В.И. Герье (Россия), нашли «много недостатков».
В 1857 г. О. Клопп выпустил двухтомное собрание сочинений
Лейбница.
В 1902 г. французский логик Луи Кутюра, видевший в
Лейбнице прежде всего логика и математика, а не философа, издал
импонирующие своим взглядам работы Лейбница.
В 1904 г. французский исследователь Гастон Грюа издал
двухтомник сочинений Лейбница.
С 1923 по 1925 гг. Прусская (а затем Берлинская) академия
наук, учреждению которой Лейбниц отдал так много сил, выпустила
9 томов произведений и писем великого философа.
На русском языке в 1890 и 1908 гг. вышел в двух изданиях
сборник некоторых сочинений Лейбница под редакцией В.П.
Преображенского. В 1913 и 1914 гг. в переводе И.И. Ягодинского были
опубликованы отдельные работы Лейбница, до того неизвестные.
В 1982-1989 гг. наконец-то впервые увидело свет
четырехтомное собрание сочинений Лейбница на русском языке, изданное
под редакцией В.В. Соколова.
Несмотря на столь обширный список публикаций философа,
неполнота опубликованного из всего того, что им было написано,
и поныне отражает недооценку обществом великого мыслителя.
На это указал еще во второй половине XIX в. профессор
Московского университета Герье - один из наиболее глубоких и тонких
исследователей Лейбница, справедливо заметив, что над
сочинениями этого выдающегося человека как бы властвует особая злая
судьба. Так происходит до сих пор.
Итак, пока еще нет полного собрания сочинений Лейбница и
при изучении его творчества приходится пользоваться изданиями
разных столетий, так как, по словам современного его биографа и
исследователя И.Б. Погребысского, в каждом из них «можно
найти что-либо отсутствующее в других изданиях». Еще раньше об
этом писал Герье: «Полная характеристика Лейбница будет
возможна только тогда, когда сделается известной вся его огромная
переписка»... «Значение Лейбница выяснится вполне только,
когда будет издано полное собрание его сочинений, когда несколько
специалистов примется изучать его труды, каждый по своей
науке, и когда биограф, столь же многосторонний, как Лейбниц, све-
Комментарий
239
дет итог этих изысканий». И каждый из пишущих о Лейбнице
читает эти строки в полном убеждении, что это сказано именно о
нем.
Во-вторых, трудность изучения Лейбница заключается, как
говорил ныне почти совершенно забытый его русский биограф
А.И. Сырцов, в «синтетичности философской личности
Лейбница», т.е. в присущих этому философу универсальности научных
интересов и энциклопедичноети его знаний и эрудиции. По
утверждению Сырцова, это обусловливает многогранность, свойственную
Лейбницу как ученому и философу, что является существенной
трудностью для изучения произведений Лейбница и его учения.
Многоаспектность взглядов Лейбница и его трудов, всей его
многосложной и многострадальной жизни в сочетании с его
невероятной универсальностью делают неизбежным вопрос: что является
главным в учении Лейбница и как его изучать?
Долгое время не знали: считать ли Лейбница по преимуществу
математиком, геологом, историком, теологом, политиком,
религиозным деятелем или философом. Еще в начале XX в. вопрос о
том, что Лейбниц - это главным образом философ - не был
полностью решен. Всемирно известные логики Кутюра, Рассел и
Р. Карнап считали Лейбница прежде всего логиком и
математиком. До этого в нем видели только математика, а еще раньше -
только издателя исторических и юридических актов.
Первый, кто указал на тот бесспорный факт, что Лейбниц есть
в основном и прежде всего философ и формировался главным
образом в этом качестве, были В. Кабитц и его русский
последователь И.И. Ягодинский. Но даже в 1923 г. Сырцов еще не мог
решить, где именно формировалось учение Лейбница: в русле
философии («метафизики», по Сырцову) или чистой логики, или
теории познания? И очень осторожно и верно отвечал: «В
перспективе метафизических идей его система... должна
расположиться более свободно, естественно и всесторонне, чем в
перспективе чистой логики и теории познания».
В -третьих, еще одна трудность - это отсутствие
«руководящей точки зрения» (А.И. Сырцов) на систему философии
Лейбница в целом; непонятно то, что сегодня называют
«системообразующим отношением» этой системы, если только она есть; неясна
и методология ее изучения. «Несколько незаурядных
исследователей посвятили, - писал Погребысский, - многие годы труда
изучению и публикации архива Лейбница... И вслед за этим стали
240
Философские письма, которых не было
появляться монографии... главным образом о
Лейбнице-философе... Авторы ставили перед собой задачу изложить и
проанализировать созданную Лейбницем философскую систему, а в качестве
основы для решения этой задачи брали только одну из составных
частей лейбницевского наследия. У одного из авторов
фундаментом всей системы становится динамика, у другого - логика, у
третьего - математика. Одни авторы обосновывают положение о
цельности и внутреннем единстве философской системы
Лейбница, другие направляют свои усилия на то, чтобы вскрыть ее
противоречия и непоследовательность ее творца. Одни подчеркивают,
что он завершал труды предшественников, другие, что он
предвосхищал или подготовлял достижения следующего века. И для
обоснования всех этих тезисов работы и письма Лейбница дают
достаточный запас текстов...» Замечание это совершенно
справедливо.
О методологии изучения
лейбницевской философии как системы
В 1900-1925 гг. в качестве «руководящей точки
зрения» на учение Лейбница было выдвинуто некое подобие
социологической «теории факторов» Лабриолы для исследования
учения Лейбница в целом и его сути. Наиболее полный обзор раз-
личныхточек зрения в этот период дали Д. Манке и А.И. Сырцов.
Манке считал, что для изучения системы Лейбница надо
использовать перспективный метод. С этой целью он делил и
оценивал различные «Leibniz-Perspektiven» на две группы по
соответствующему критерию, а именно: на односторонне и лмогосторонне
изучающих учение Лейбница.
Первые подразделяются в свою очередь на три группы,
изучающих: а) в чисто логическом, логико-гносеологическом плане
(таковы, например, Рассел, Кутюра, Э. Кассирер); б) в
натурфилософском и метафизическом (В. Кабитц, K.M. Петерсен, Э.
Кассирер); в) в психологическом (П. Барт, Э. Трёльч, Ж. Баруцци).
Вторые, т.е. изучающие учение Лейбница в нескольких
основных планах или измерениях, подразделяются на две группы:
а) констатирующих неразрешимый конфликт различных
перспектив в философии Лейбница (М. Хеймзет, Шваленбах);
б) констатирующих синтетическое единство отдельных
перспектив в общей завершающей концепции (В.М. Вундт, В. Дильтей,
В. Виндельбанд, П. Кёхлер, П. Пихлер и др.).
Комментарий
241
Наряду с этим Манке предлагал разделить всю литературу о
философии Лейбница на две большие группы, имея целью: 1)
исследование системы философии Лейбница с позиции его
натурфилософии (Ясиновский, Янсен, Петерсен, Фейлхенфельд) и
2) исследование той же системы с позиции, по выражению Сыр-
цова, «своеобразной психологии самой личности мыслителя».
Представители последней группы (Э. Трёльч, М. Дессуар,
П. Барт, Ж. Баруцци, П. Зикель) «в интимных устремлениях и
исканиях его философского гения надеются открыть первичный
источник тех особенностей, которые характеризуют его монадоло-
гическую теорию мирообъяснения» (А. Сырцов). Такую
«психологическую» точку зрения Манке назвал «точка зрения
индивидуального переживания».
Однако позволяет ли вообще понять суть универсального
философского учения Лейбница тот или иной отдельно взятый, а
потому неизбежно односторонний, хотя и глубокий подход?
Правильно указывая на преимущественно философский характер
учения Лейбница, Кабитц и Ягодинский, по справедливому
мнению Сырцова, «односторонне» подходят к анализу формирования
этого учения, выбрасывая из него все, что относится к
«внутреннему опыту», все психологические мотивы и моменты. Между тем
невозможно, как об этом писал сам Лейбниц в «Новой системе...»,
вывести суть его философии только и исключительно из «группы
идей, связанных с исследованием природы, материи,
пространства, времени, движения и проч.».
Но и предпринятый Манке метод «Leibniz-Perspektiven»,
рассматриваемый сам по себе и изолированно, тоже недостаточен для
уяснения сути монадологии, хотя в основании и русле этого
метода лежат работы B.C. Серебренникова, Зикеля, Барта и Баруцци.
Итак, изучение «Leibniz-Perspektiven», т.е. различных,
отдельно взятых и достаточно четко очерченных в учении Лейбница
аспектов или граней, плоскостей этого учения, бесперспективно для
отыскания сути системы Лейбница в целом> хотя, может быть,
важно в других отношениях, например как необходимая предпосылка
Для обнаружения этой сути.
Бесперспективно, потому что все они без исключения
совершенно отвлекаются «от конкретных социально-исторических
условий эпохи Лейбница и среды, в которой он жил и работал»
(А.Сырцов), а каждый исследователь выбирает тот или иной
аспект, опираясь на свое индивидуальное мировоззрение, личные
242
Философские письма, которых не было
научные интересы и пристрастия, из него вытекающие и ему
соответствующие, в него укладывающиеся, т.е. субъективно.
Естественно, что это не могло удовлетворить ни Фишера и Сырцова,
которые требовали «изучать Лейбница из него самого», ни тех, кто
искал и ищет ответа не в нашем герое, а только в его обществе и
эпохе.
Изучение отдельных аспектов учения Лейбница порознь,
изолированно Сырцов справедливо считает бесперспективным
потому, что различные изложения и трактовки этого учения суть
«попытки выразить» его «в персонально свойственной каждому автору
системе координат», начало которых скрывается в оригинальных
особенностях его личного научно-философского
миросозерцания.
Действительно, панлогизм Кутюра и Рассела и панметодизм
Кассирера, натурфилософский реализм Кабитца и субъективный
идеализм Зикеля, психологизм Барта и «индуктивная метафизика
Вундта, религиозно-мистический персонализм... Манке (суть
попытки интерпретации лейбницевских идей. - Л.П.) в системе
измерений, характеризующих их собственные философские
убеждения» (А.Сырцов). Так, Кассирер выводит философию
Лейбница из его математики и динамики. «Для Кассирера, например,
философия Лейбница есть определенный частный момент в
развитии «идеализма разума»; для Вундта - пример индуктивной
метафизики, представителем которой является он сам; для Барруци
Лейбниц религиозный мистик, сумевший сочетать сухость
физико-математической концепции с теплотой
религиозно-эмоциональной реакции на мир; «Манке готовится, - писал Сырцов, -
вскрыть в гносеологии Лейбница черты гуссерлианского интен-
ционализма и т.д.».
Вообще любая односторонность и обусловливаемая ею
чрезмерность, крайность всегда бесперспективны, ибо не только
неизбежно заводят в тупик, но и позволяют до бесконечности
множить все новые и новые пограничные области между отдельными
самостоятельными аспектами учения Лейбница. Но вместе с тем,
отмечал Сырцов, «это учение дает достаточно много текстов и
материала тем исследователям, которые пожелали бы изучать не
отдельные самостоятельные аспекты учения, а переходы,
пограничные области между этими аспектами», гранями этого учения.
Такому изучению переходов между основными аспектами
учения Лейбница посвятили свои работы многие исследователи.
Комментарии
243
Например, M. Хеймзет изучал область между логикой и
онтологией в учении Лейбница. Область, охватываемую связью
природного (и специальных частных наук) и духовного, исследовал
В.М. Вундт. Учение Лейбница в области между онтологией и
психологией изучали В. Дильтей и В. Виндельбанд.
Такова же, по мнению Сырцова, Вундта и Виндельбанда,
направленность работ, которые «сходны... в том, что тесно
связывают философию Лейбница с его исследованиями в области
специальных наук и рассматривают самый процесс ее развития как
процесс постепенного расширения и углубления его познаний в этих
науках и последующего гармонического синтеза результатов в
единстве научного миропояснения».
Согласно Манке, Виндельбанд в противоположность Вундту
«видит в Лейбнице прежде всего историка, для которого...
высшим объективным значением обладают ценности культуры,
определяющие закономерную связь явлений истории, и который
стремится саму логико-математическую закономерность природы
включить в теологическую цепь мира духа». Но, может,
многосторонне обобщающие и, так сказать, групповые, комплексные
подходы к философскому учению Лейбница лучше помогут уяснить
его суть?
Вслед за Манке Сырцов указывает на попытки обобщающих
или, точнее, гораздо более общих взглядов на учение Лейбница,
чем взгляды Вундта, Виндельбанда и др. Такого рода системные
исследования были предприняты Пихлером, Кёхлером и Манке.
По словам Манке, Пихлер «является автором своеобразной
логической теории, согласно которой всякий класс (в логике),
представляющий не механическую сумму или агрегат
индивидуумов, а целое или систему, содержит в себе особый закон порядка,
который каждому индивидууму указывает (не любое случайное,
но строго) определенное место в системе.
Этот закон можно назвать принципом индивидуации
единичного в границах общего; в свете его общее и родовое должно
рассматриваться не просто как universitas, но как universitas ordinata. Такой
universitas ordinata является прежде всего мир монад, взятый в
целом; теми же свойствами "упорядоченной всеобщности"
отличается и каждый отдельный индивидуум в этом мире, взятый в
многообразии его свойств и состояний».
Совершенно другую попытку понять учение Лейбница,
исходя из ему неизвестных, но современных XX в. идей мы находим у
244
Философские письма, которых не было
Кёхлера. В отличие от Пихлера Кёхлер положил в основу своей
концепции «понятие, которое встречается у самого Лейбница,
но... так же, как и Пихлер, он (т.е. Кёхлер. - Л.П) стремится в
аспекте... единого обобщающего построения схватить все
разнообразие измерений системы Лейбница».
Таким центральным понятием лейбницевской философии
является, по Кёхлеру, понятие репрезентации - «отображения», в
котором, дескать, «Лейбниц счастливо сочетает
субъективно-психологическое значение представления (Vorstellen) с
субъективно-математическим значением выражения (Ausdrucken или
Darstellen)». Благодаря этому, он имеет «чрезвычайно удобное
средство осуществить искомый синтез универсализма и индивидуализма,
материализма и спиритуализма, интеллектуализма и
волюнтаризма».
Согласно Манке, понятие «отображение» следует признать
«высшим перспективным центром»... с точки зрения которого
возможно синтетически взять в едином акте созерцания все самые
различные «виды сбоку» на философию Лейбница... причем
каждый из них сохранит свое своеобразие и присущее ему особое
значение и тем не менее борьба их противоположностей окажется
примиренной в гармонии. Манке призывает распространить
понятие репрезентации «с количественных отношений на
качественные и с интеллектуальной сферы применения на
эмоциональную и волевую».
Возражая Манке, захлебывающемуся в славословии Кёхлеру,
Сырцов справедливо утверждал, что понятие «отображение»
является у Лейбница по своей сути пограничным, а по своей
функции - компромиссным. Поэтому превращать это понятие в
центральный принцип «значит... искажать историческую
перспективу». Так, по Сырцову, исследователь фактов философского
наследия Лейбница обязательно должен «в ряде
последовательных попыток» пробовать «уложить их в рамки определенной
гипотетически намеченной концепции и ео ipso превратить их (речь
идет о фактах философского наследия Лейбница. - JIM.) пестрый
конгломерат в систематическое единство знания».
С этим утверждением вполне можно согласиться.
То в философии Лейбница, что, как мы видели, различные
его исследователи считали «высшим перспективным центром»
(Д. Манке) или «руководящей точкой зрения в единстве
первоначального замысла» (А.Сырцов) и т.п., можно рассматривать как
Комментарий
245
находящееся в непрестанном изменении (движении) и столь же
многоразличным образом. Например, Сырцов эту, говоря
современным языком, методологическую основу лейбницевской
философии рассматривает как изменяющуюся в пространстве
(экстенсивно) и времени (интенсивно).
В связи с изменением этой «основы» в пространстве Сырцов
считает, что к лейбницевской философии приложимото, что
сказал о собственной системе Шопенгауэр, сравнивший ее с
легендарными «стовратными Фивами, к центру которых, по преданию,
можно было подойти многими улицами... В зависимости от
избранной исходной точки зрения, его система выступает... в разных
аспектах, порой противоречивых». В связи с изменениями этой
«основы» во времени Сырцов полагает, что поиску «руководящей
точки зрения в единстве основного первичного замысла» и
пониманию «своеобразной первичной установки» Лейбница на
окружающий его физический и социальный мир может помочь идея
А. Бергсона о «первичной интуиции».
Согласно Бергсону, в основе всякой философской системы
всегда находится некое «интенсивное мироощущение, или
первичная философская интуиция». Она представляет собой «нечто
простое, бесконечно простое, такое, что философу никогда не
удавалось высказать его». «И вот почему, - прибавляет Бергсон, -
он говорит всю жизнь. Он не мог формулировать того, что он имел
в уме, так, чтобы не испытывать повелительной необходимости
поправить свою формулу, а потом поправить поправку. И таким
образом, переходя от теории к теории, поправляя себя, думая, что
дополняет себя, он путем усложнений, нагроможденных на
усложнения, и аргументов, следовавших за аргументами, пытался
лишь придать со все большим приближением простоту своей
первоначальной интуиции. Вся необыкновенная сложность его
системы... выражает лишь несоизмеримость между его простой
интуицией и средствами, которыми он располагал для выражения
ее». По словам Сырцова, «хотя это описание процесса
оформления миросозерцания на основе интуитивного мироощущения не
имеет в виду непосредственно Лейбница, оно во многом подходит
к его личности и жизненному труду».
Основываясь на высказывании Лейбница: «С самой юности я
не переставал размышлять над философией, ибо мне всегда
казалось, что есть средство установить в ней путем ясных
доказательств кое-что прочное», — Погребысский утверждает, что мож-
246
Философские письма, которых не было
но вычленить нечто весьма существенное, постоянное и
незыблемое из философских работ и высказываний Лейбница, если
расположить их хронологически и «не рассматривать их изолиро-
ванно».
Тогда, по мнению Погребысского, мы получим
«несколькоосновных положений», которые Лейбниц «принял в самом начале
своего философского пути» и которым «он всегда оставался верен,
и принял он их в соответствии с теми целями, которые перед собой
ставил. У молодого Лейбница эти цели и положения - не
философская система, а мировоззрение.
И Лейбниц всю жизнь защищает его против критики, сам
критикует несогласующиеся с его взглядами концепции, время от
времени подновляет и усиливает свою аргументацию, кое отчего в
аргументации или в частностях отказывается, кое-что
видоизменяет, но всегда остается верен основному и всегда стремится к
одним и тем же целям. Он всю жизнь разыгрывает как бы партию в
японские шахматы, где, согласно правилам, можно по ходу дела
ставить на доску новые фигуры и для отражения угроз
противника, и для достижения главной цели - победы. А игра идет
напряженная, у противников тоже есть свои фигуры в запасе. Можно ли
быть уверенным, делая очередной ход, что он не только
необходим, но и строго логически связан с предыдущим?
Можно, если верить в правоту своего дела, но обосновывать
такую уверенность ретроспективным анализом просто некогда.
И Лейбниц... рассматривая систему другого философа (так будут
написаны «Новые опыты о человеческом разуме» в связи с
появлением книги Локка), будет систематичен, строя в порядке
борьбы со скептицизмом оправдание своего бога в «Теодицее»,
постарается аккуратно изложить свою концепцию духовных
сущностей, которыми ему надо наделить все живое (почему только лишь
живое? -Л.П.) в «Монадологии», но никогда не станет
систематиком, никогда не разместит все свои тезисы и выводы по единому
плану. И условия жизни, и собственный характер исключают для
него такой замысел. Он возводит здание, к которому постоянно
добавляются пристройки и надстраиваются этажи, и оно не будет
подведено под крышу, и на строительной площадке всегда
разбросаны материалы... «Кто-то со стороны, заинтересовавшись
постройкой, может набросать план здания, но надо помнить, что
этот план - для ориентировки его составителя. Не будем
приписывать его архитектору», - писал Погребысский. Красиво, но не
Комментарий
247
убедительно. Разве «здание» не отражает в каком-то смысле свою
эпоху, не воплощает замысел архитектора?
Эту же точку зрения в общей форме высказал еще Ф.М.
Достоевский: «Во всякой гениальной или человеческой мысли,
зарождающейся в чьей-нибудь голове, всегда остается нечто такое, чего
никак нельзя передать другим людям, хотя бы вы исписали целые
тома и растолковывали вашу мысль тридцать пять лет; всегда
останется нечто, что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и
останется при вас навеки; с тем вы и умрете, не передав никому,
может быть, самого-то главного из вашей идеи».
Если Сырцов ссылается на Бергсона, чтобы показать, что
Лейбниц всю жизнь создавал систему своей философии, но так и
не создал ее, а, напротив, объективно делал эту философию все
более и более хаотичной, то Погребысский — исследователь, более
близкий к нашему времени, в общем соглашаясь с тем, что
Лейбниц системы своей философии не создал, считает, что мы
обречены на то, чтобы никогда так и не узнать первичного замысла
философии Лейбница, ее «системообразующего отношения»
(А.И. Уёмов), ее «руководящую точку зрения», короче говоря, ее
методологическую основу и структуру. Во всяком случае, даже
получив об этом какое-то, пусть не полное, не абсолютно истинное
представление, мы ни за что не должны почему-то ему доверять.
Однако согласиться с этой, тяготеющей к агностицизму
точкой зрения Погребысского можно лишь в разумных пределах и с
оговорками. Если на ней настаивать, то она, как мы видели, по
мнению Достоевского, неизбежно обернется утверждением,
будто бы система лейбницевского учения, «план» философского
«здания», воздвигнутый им, вообще никогда никем не может быть
понят.
В конечном счете суть этой точки зрения заключается в
отрицательном ответе на вопрос: отражают ли наши понятия, пусть не
абсолютно, а относительно, истинную суть взглядов Лейбница,
его философию? Можно ли привести наше всегда недостаточно
ясное знание о ней в соответствие с ней? Я убежден, что - да, что
философское учение Лейбница есть особого рода система,
имеющая свою, характерную для нее структуру. То и другое вполне
познаваемо, и если мы не осознаем их в достаточной мере ясно, то не
по их вине, а по «вине» своей, своего общества, своей стадии
развития человечества, способного бесконечно близко
приближаться к истине, никогда ее до конца не осознавая.
248
Философские письма, которых не было
Ленин выписал из Фейербаха понравившуюся ему оценку
системы Лейбница в сравнении с системой Спинозы: «Мир
Спинозы - ахроматическое стекло божества, среда, через которую мы не
видим ничего, кроме ничем не окрашенного небесного света
единой субстанции; мир Лейбница - многогранный кристалл,
бриллиант, который благодаря своей своеобразной сущности
превращает простой свет субстанции в бесконечно разнообразное
богатство красок и вместе с тем затемняет его». Примерно то же читаем
у Фишера: «Философия Лейбница не представляет собой,
подобно философии Спинозы, одного огромного кристалла; она
состоит из многих разноотшлифованных зеркал, из коих каждое
отражает одну и ту же картину то в большей, то в меньшей степени».
«Как в его философии каждая вещь в природе представляет
Вселенную, так и каждое из его сочинений отражает по-своему всю
систему».
«Его философия, - писал Фейербах о Лейбнице, - Млечный
Путь, полный великолепных и блестящих мыслей, но не
солнечная и планетная система... Именно это бесконечное богатство
отношений является самой сущностью его духа; оно является
верным подобием его монады, сущность которой заключается в том,
что она идеально содержит в себе все другие существа, отражает их
в себе, находится со всеми вещами в идеальном общении и
отношении».
Фейербах тогда не мог знать, что Млечный Путь - это «вид
сбоку» иной галактической системы. Но Фейербах понимал, что
философия Лейбница «повернута к нам» иной плоскостью, чем все
остальные философские системы. Собственно говоря, его
предмет исследования не сознание и бытие как полюса отношения, как
у других философов, а само отношение этих полюсов вкупе с ними.
Философия Лейбница - это философия системы отношений,
связей, всеобщей иерархической и структурной
взаимообусловленности целого и частей его, их гармонической
упорядоченности. Может быть, об этом писал Фейербах? Может быть, так надо
толковать его слова?
Здесь уместно перейти от методологического изучения лейб-
ницевской философии к ней как системе. Это слово
«общеупотребительно, когда говорят о Лейбнице, - писал Погребысский. -
Его современники ждали от него изложения такой системы.
В XVIII в. тоже было принято говорить о системе Лейбница... В
середине XX столетия мы видим продолжение такой традиции... те-
Комментарий
249
перь преобладает более широкий подход - стремятся отразить
многосторонность философской мысли Лейбница... Итоги ее
работы, как и раньше, представляют в виде определенной системы,
вполне законченной или отчасти противоречивой - тут мнения
расходятся». Но Лейбниц, вообще говоря, не особенно
распространялся о своей философии как системе и ее особенностях,
хотя, по мнению Погребысского, с которым я в этом полностью
согласен, «стремился создать» ее.
Справедливо полагали, например, дореволюционный
исследователь Лейбница Н. Иванцов, что Лейбниц выработал
собственную философскую систему на почве «схоластических
представлений и под сильным влиянием Декарта», хотя, вероятно,
далеко не его одного.
Однако Лейбниц не запечатлел, не изложил свою филосоаккую
систему, поскольку «свои общие взгляды он излагал
неоднократно, но всякий раз по какому-нибудь случаю и в весьма общих
чертах. Насколько эти взгляды просты в своих основах, настолько же
трудно их изложить в виде законченной разработанной системы, и
такое изложение, которое дает, например, Куно Фишер, дало бы о
философии Лейбница совершенно превратное представление», -
считал Иванцов.
Наконец, некоторые советские философы 1930-1950-х гг., в
частности Б.Э, Быховский, считали, что Лейбница отличает от
«последующих немецких философов» то, что он «не дал системы,
проведенной до конца и разработанной до тонкостей». Но,
по-видимому, в отношении «системы» Лейбниц чего-то кому-то
все-таки дал, так как тот же Быховский там же сектантски утверждал,
что, покоясь «на метафизических (в смысле
антидиалектических. -JIM.) основаниях», система Лейбница «глубоко
проникнута идеей развития», ибо даже несмотря на то, что «элементы
диалектики поставлены у него на службу идеализму», «динамическое
понимание монады является для него методом борьбы против
материалистического понятия субстанции», а сама лейбницевская
«философия метафизична в целом, она часто диалектична в
отдельных своих частностях...»
Быховскому вторит другой наш философ тех же черных лет -
Л.Ф. Спокойный. По его самому твердому убеждению, «нам...
нужно найти в противоречивых воззрениях Лейбница ряд ценных
и верных идей, предвосхищавших развитие». Этот поиск в
какой-то мере продолжали выполнять советские философы-при-
250
Философские письма, которых не было
казчики из государственного идеологического «магазина готового
платья»!.. «Может быть, - писал Н. Иванцов, - Лейбниц не
изложил свои философские взгляды в виде системы потому, что в
отличие от немецких философов "последней формации" он еще не
сделал из философии ремесла»?
Поэтому, хотя еще не ясно, что лучше: иметь систему,
«проведенную до конца и разработанную до тонкостей» (хотя такой не
было даже у классиков марксизма-ленинизма), или вовсе не иметь
ее, но стремиться к этому, - возникает закономерный вопрос:
можно ли говорить вообще о системе философии Лейбница? Я бы
ответил на него так: у Лейбница система философии была и есть,
но он не итожил ее в систематической форме, не рассказал о ней
достаточно ясно и доступно. Да это и невозможно было из-за ее
универсальной многогранности. До сих пор еще не нашелся такой
достойный Лейбница мыслитель, который бы, опираясь на свой
талант, воплотил на бумаге систему философии, задуманную и
разработанную великим философом, так, чтобы она оставляла
бесконечный простор для тех, кто пожелал бы ее определить.
Сообщая прусской королеве Софии Шарлотте о сделанных им
разъяснениях одной английской даме, которая обратилась к
Лейбницу с просьбой изложить ей основы его учения, он в одном из
своих писем шутя утверждал, что «в его философии, как в итальянском
театре, все вертится вокруг двух изречений, ибо он говорит вместе с
Арлекином, как император Луны: "tout comme chez nous" ("y
других так же, как у нас"), и вместе с Тассо "ehe pervariare natura е bella"
("что прелесть природы в ее изменчивости")».
Система философии Лейбница запечатлена в самой сути его
взглядов и методов, в строе его мыслей, в логике рассуждений,
высказываний, в его трудах и письмах; в логике повторов, каждый
раз различных; в оборачивании одних и тех же существенных
вообще для философии Лейбница мыслей, в «переодевании» их в
новые и новые, иерархически связанные одежды; в показе
различных, но родственных аспектов и возможных направлений,
перспектив, разных точек зрения на «город» своей философии...
Иерархическая симметричность присуща миру Лейбница. Зная
какое-либо одно положение его учения, вы всегда и всюду найдете
ему «подобающее» (Лейбниц).
Для него и его философии характерно упорное и
последовательное продвижение к более отчетливому выявлению картины
единства души и тела, духа и природы путем различных противо-
Комментарий
251
поставляемых друг другу степеней и ступеней, Бога, человека и
вещей мира, материи. Подобно своему «самосчету», первой
вычислительной машине, которую он сконструировал и очень ею
гордился, Лейбниц неустанно решает как бы предуготованные ему
его судьбой и поставленные им перед собой задачи.
Необычайная, какая-то «автоматоподобная» концентриро-
ванность присуща мысли Лейбница. Он отнюдь не
«разбрасывается», как утверждал М. Филиппов. Напротив, он как бы из всех
своих внутренне взаимосвязанных, но все же различных и даже по
случайному поводу написанных сочинений последовательно
конструирует некое подобие активной, живой, многоступенчатой
взаимосвязанной пирамиды таким образом, что на самой ее
вершине мы видим «Монадологию» (1714), а в качестве ее
непосредственного основания «Начала природы и благодати, основанные
на разуме» ( 1714). В этих работах, пожалуй, каждая мысль
предварительно так или иначе обсуждалась почти во всех
предшествующих сочинениях Лейбница.
«Монадология» - своеобразный экстракт, выжимка из всего
ранее написанного Лейбницем. Наиболее отчетливо в ней
подчеркиваются две проблемы: упорядоченность Вселенной и
обращаемость (эквипотенциальность) всего сущего («принцип
Арлекина»). «Монадология» - фундамент всей классической
немецкой философии, всей диалектики. Этот великий фундамент, как и
всякий другой, как и его собственное величие, скрыт от взоров
равнодушно проходящей публики. «Люди видят, - писал
Дюбуа- Реймон, -лишь чудесный храм диалектики, гораздо позже
воздвигнутый на этом фундаменте классической немецкой
философией; храм, который был бы совершенно невозможен и не
замечен без незаметного (благодаря своему многообразию и
разнообразию), такого же и даже, быть может, еще более
чудесного и величественного фундамента...»
Не надо приувеличивать роль Лейбница в развитии
диалектики, но не надо и приуменьшать ее, называя Лейбница
«метафизиком». Его внутренне противоречивое общество, находясь по
очередной иронии истории в мерзком состоянии «междуцарствия» и
безвременья - в том самом, но еще более худшем, с которым
сегодня жизнь все ближе и ближе знакомит и нас, - сделало из
Лейбница микрокосм, сгусток общечеловеческого по своему образу и
подобию, как некогда история сделала, например с Львом
Толстым. Этот микрокосм так же, как и его общество, мучился и стра-
252
Философские письма, которых не было
дал из-за своей раздвоенности. Однако Лейбниц не только
отразил объективную социальную саморазорванность в субъективной
раздвоенности своей личности, жизни и судьбы, но в отличие от
своего больного общества сумел ее навечно запечатлеть во
внутренней двойственности системы своей философии, в диалектике
своего учения.
По словам наших до- и послереволюционных лейбницеведов,
«настоящая немецкая метафизика начинается с Лейбница»
(Н. Иванцов); его «можно считать первым представителем
собственно немецкой метафизики» (Б. Быховский); именно он
«наиболее ранний представитель немецкой идеалистической
философии» (Л. Спокойный) и «метафизический идеалист» (Б.
Быховский).
В последней оценке Быховского термин «метафизика»
употребляется, согласно взглядам Гегеля и в соответствии с
марксизмом-ленинизмом, как антипод диалектики (разумеется,
материалистической) и ее враг. В других приведенных выше оценках
Лейбница как философа различные значения термина
«метафизика» либо перемешаны между собой, либо употребляются как
синонимы «философии», что не совсем верно. Во всяком случае
термины «метафизика» и «философия» требуется уточнить, если мы
хотим правильно понять, какой смысл вкладывал в них Лейбниц.
Термин «метафизика» он применял очень часто, ибо тот имеет
существенное значение для всей его философии. Без него трудно
понять суть истории философии вообще и лейбницевской в
частности.
Как известно, слово «метафизика», «метафизическое» (здесь и
далее я не делаю различия между ними) в своем первоначальном
буквальном, еще аристотелевском толковании означало нечто
такое, что было, есть и будет «сверх (вне и до) физики». Позднее,
когда с развитием наук понятие «физика» существенно расширилось
и приобрело более отвлеченный и общий характер, понятие
«метафизика», «метафизическое» стало означать нечто «сверх (над и
до)» природное, телесное (материальное),
«чувственно-физическое».
«Метафизическое» - это некая особая область, или сфера,
реальности (действительности), сил, действий и знаний. Это нечто
такое в Божием царстве, или мире, что есть само царство и мир и
что целиком и полностью по своей сути и возможностям
независимо от изменений материи; исключительно бесплотно, духовно
Комментарий
253
(идеально), умопостигаемо; является глубинным, изначальным,
главным и определяющим (субстанциальным) для всего иного,
чем оно само.
Поэтому «метафизическое» рассматривалось по крайней мере
в трех отношениях: в отношении к «миру вещей» и объясняющей
этот материальный мир науке; в отношении к «миру идей», а также
к метафизике, как к знанию и чувству, объясняющему эти «миры»
на более высоком духовном и общем, чем наука, уровне; и,
наконец, прежде всего и главным образом, в отношении к философии,
объясняющей эти «миры» и их Божественную основу на более
высоком и общем (всеобщем), чем метафизика, уровне.
Поясню сказанное. «Метафизическое» рассматривалось, во-
первых, в его отношении к науке, т.е. как нечто такое в царстве
Божием, т.е. в мире, что из всего сотворенного наиболее близко
Богу, поэтому и как знание необходимо является наиболее
совершенным и абсолютным, за исключением того знания, которое
присуще Богу, является его собственным и потому не может быть
известно человеку.
Осуществляя свое полное господство над «миром идей»,
метафизика вместе с тем и одновременно является в рамках науки и по
отношению к ней как бы ее внутренней методологической основой и
наивысшим судьей научного (но не метафизического!) познания (и
знания) как «мира идей», мира разума и души, духовной жизни,
так и «мира вещей», мира неорганической природы, жизни
телесной и материальной.
Метафизика, рассматриваемая в этом аспекте, является
объяснением, знанием природы (= натуры) того и другого «мира», той и
другой жизни. Она ищет в них общее (всеобщее). В этом аспекте
поиска истины метафизика сближается с науками, с научным
познанием любой действительности и в отличие от частных и общих (или
особенных) наук выступает как Всеобщая, Универсальная Наука для
всего царства Божия, для всего мира; как «царица наук».
Во-вторых, связанное, как мы видели, с наукой и «миром
вещей» «метафизическое» не просто отличается, как полагали
раньше, в древности, от всего природного, телесного,
чувственно-физического и от наук о нем, а противопоставляется ему и
наукам, как тому, что с «метафизическим» несовместимо, его
взаимоисключает, является его диалектической противоположностью,
антиподом и антагонистом.
254
Философские письма, которых не было
Лейбниц не раз писал, что наука господствует в
материальном мире, или «мире вещей», по выражению Платона, тогда как
метафизика господствует прямо и непосредственно над
недоступным науке, но доступном метафизике «мире идей», или в
духовном (идеальном) мире, а косвенно и опосредованно - над
миром материальным, ибо объясняет науке, властвующей в этом
мире, совокупность всех тех высших причин, которые от природы и
от Бога, которые науке самой по себе вообще недоступны в силу
ее естественной и предустановленной Богом ограниченности
(«греховности»). Таким образом, философия и является, и не
является наукой, всегда оставаясь поиском не Абсолютной истины,
а просто правды, всегда относительной.
В-третьих, «метафизическое» понималось Лейбницем как
то, что в силу ранее сказанного необходимо оказалось рядополо-
женным философии, так сказать, «соседствующим», однопоряд-
ковым с ней и, более того, генетически связанным с ней
отношением предпосылки к своему явлению.
«Метафизика», «метафизическое» внутренне гораздо ближе к
искусству, религии, морали и философии, нежели к механике,
физике, химии, биологии и т.п. Всеобщность, универсальность
объединяет не только метафизику и науку, но также метафизику и
философию, устраняет различие между ними и, превращая это
различие в единство (тождество), делает науку (в широком смысле
слова), метафизику и философию тождественными в этом
отношении.
Однако это различие между метафизикой и философией не
только не устраняется, а сразу выдвигается на первый план и
превращается в противоположность, едва мы покидаем прежнее
отношение, расстаемся с прежним аспектом метафизики и
переходим к другому ее аспекту. А именно: едва мы обращаем внимание
на то, что и как метафизика и философия изучают. Метафизика
изучает царство Божие как «мир вещей» и «мир идей», как «два
града». Философия изучает не только это, но кроме этого и прежде
всего царство Божие («мир Бога») и «мир человека (души)» в их
взаимоотношении и изменении. При этом философии, по
Лейбницу, приходится считаться с тем, что в большей частью
доступном нашему уму царстве Божием есть и нечто недоступное
человеку и превосходящее его разум, как, например, таинства веры,
догматы церкви. Все они выше нашего разума, но отнюдь не
противоразумны.
Комментарий
255
Таким образом, метафизика внутренне двойственна,
диалектически противоречива. Она противоположна и вместе с тем
едина (тождественна) как науке, так и философии. В лейбницевском
смысле «метафизика» и «философия» совпадают лишь частично и
притом в разных отношениях. В отношении к науке метафизика
выступает как высшее научное (общенаучное), но отнюдь не
частно-научное или философское объяснение природы. Напротив, в
отношении к философии метафизика выступает как низшее по
сравнению с философией (т.е. натурфилософское) объяснение
(знание) сути «мира вещей» и «мира идей»; но тем не менее
объяснение, остающееся философским, равное философии по широте
восприятия и исследования, по их универсальности, всемирно-
сти.
Отсюда следует, что сквозь лейбницевскую философию как бы
просвечивает силуэт его метафизики', что его философия и есть
его метафизика; что первая относится ко второй, как явление к
своей предпосылке, к условию (одному из существенных условий)
своего возникновения. Возможно, Лейбниц еще не стал
философом, но, очевидно, уже перестал быть метафизиком... Он был
последний западноевропейский метафизик и первый философ.
Принято считать, что так же, как, скажем, древневосточная
философия (точнее - метафизика) есть предпосылка античной,
так и философия (точнее - метафизика) Лейбница есть
предпосылка такого явления, как «классическая немецкая философия». Но
последней никогда не было: это всего лишь чудовище,
порожденное «политэкономическим сном разума». В свое время Энгельс
выдумал два нелепых, бездоказательных и неопределенных
термина: «вульгарный материализм» и «классическая немецкая
философия». Над их содержанием поработали Ленин и Сталин,
доведя их до идиотского упрощенчества, солдатской четкости и
абсолютной ясности, всегда и всюду являющихся следствием
полнейшего духовного убожества.
Став вахтерами из военизированной идеологической охраны,
советские философы быстро привыкли понимать под
«вульгарным материализмом» и «классической философией» какие-то две
«обоймы». Первую по дозволенному свыше неписаному
приказу - от «начальника караула» - могли абонировать только Л. Бюх-
нер, Фогт и Я. Молешотт- «три танкиста, три веселых друга...» Во
вторую «обойму» могли входить только четыре «патрона»: Кант,
Фихте, Шеллинг и Гегель. Правда, в студенческом лекционном
256
Философские письма, которых не было
курсе госфилософии среди этих «патронов-идеалистов»
необъяснимым образом частенько оказывался и Фейербах; может быть,
из-за своих «пяти ошибок»? В Ленинградском университете на
экзамене по философии, представляющей некий гибрид воинского
устава с катехизисом, спрашивали, например: «Чего убоялся
Фейербах?» И тотчас надо было ответить зазубренным заклинанием:
«Фейербах убоялся революции 1789 г.». Иногда спрашивали: «На
каком партсъезде Плеханов ушел в кусты?»
Однако Лейбниц ни в чем не уступит никому из
«великолепной четверки» второй «обоймы». Его давно пора зачислить в
классики немецкой философии. Уж если на то пошло - именно он
самый первый из немецких идеалистов-основоположников,
следовательно, классиков немецкой философии. Им, по-видимому,
завершается эра более чувствующей и менее рассуждающей
натурфилософии и совершенно чувственной пантеистической мистики
(так характерной не только для Якова Бёме, но и для И. Дицгена и
многих других следующих за ними «философских сапожников»),
антропо- и теоморфного, смешанного с наукой и
наукоподобного, пока еще во многом сенсуалистического знания; эра «золотой
середины» между чувством и рассудком, начавшаяся задолго до
аристотелевской схоластики и сегодня, возможно, всего лишь
переходящая на свой новый, «якобы старый» виток.
И с Лейбница начинается новая эра рассудочной, типично
западноевропейской и американской индивидуалистской,
профессиональной мысли и расчетливого мышления; эра, в известном
смысле диалектически несовместимая и даже противоположная
предшествующей; эра, чье мышление столь несовместимо и
противоположно восточноевропейскому и азиатскому
религиозно-коллективистскому (социальному) образу мыслей и действий;
эра современного жестко и жестоко прагматического, насквозь
бездушного и рационалистического (и потому во многом
неразумного и бесчеловечного, ограниченного),
формально-логического духа, выпущенного Лейбницем из «бутылки» и благодаря
крепнущим рыночным отношениям с невиданной скоростью и
мощью распространившегося повсюду.
Эта эра еще не достигла своей кульминации; расцвет ее,
несмотря на ее все увеличивающиеся ужасные издержки и
последствия для души и культуры рода человеческого, еще не прекратился.
Ибо не прекратилась еще наша завороженность рационализмом
как одной-единствен ной и потому неизбежно односторонней,
Комментарий
257
крайней, а потому тупиковой и в этом смысле тупой, ложной,
утопической мыслью...
Пока будет длиться идущий от Декарта и Лейбница культ
чисто-рассудочной Науки, мы не поднимемся с колен перед Ее
алтарем, на котором мы ежесекундно и равнодушно приносим ей в
жертву свое сердце и веру, чувство и мораль, совесть и честь,
постепенно превращаясь в некое, похожее на компьютер головастое,
но безголовое и безумное, ибо все только рассудочное - всегда
безрассудно и бесчеловечно.
Двойственность, или согласование несогласуемого
Еще задолго до употребления самого термина
«монада» Лейбниц, несмотря на многообразие своих занятий,
постепенно и неуклонно приближался и ко все более точной
формулировке того, что он разумел под этим. Так, еще в 1668 г. в работе
«Исповедание природы против атеистов» Лейбниц говорил о
существовании некоего особого «механизма» активности в каждом
живом существе. Посредством этого механизма «оно является
двигающим само себя», а распад этого механизма для данного
живого существа означает смерть. Аналогичный и - хотя Лейбниц не
писал об этом, но это вытекает из логики его взглядов -
качественно иной, чем в самом живом существе, а именно:
метафизический механизм неизбежно должен быть и в мире божественного.
Активность и «чудный порядок» природы проистекают из того,
что «она есть божий механизм (horologium Dei)».
Божественная целостность мира, или природы, проявляется
как в существовании этого всемирного механизма, так и в «общей
экономии мира и в самом строе законов природы».
Примечательно указание здесь, во-первых, на двойственность и единство всей
природы как целого и частей его в отношении их упорядоченности
и самодеятельности («самодвижения»). А во-вторых,
предвосхищается принцип «наименьшего действия» П.Л.М. де Мопертюи;
причем, рассматриваемый широко, он связывается с организацией
всей природы, структурой всех ее законов. Но тем самым неявно
указывается на существование некой универсальной
авторегуляции, присущей всей природе, миру. Таким образом, целостность,
единство, упорядоченность, «самодвижение» всей природы и
каждой ее части обозначаются и заранее объединяются словом
«механизм». Это, разумеется, подрывает схоластические взгляды,
которых ранее Лейбниц придерживался.
258
Философские письма, которых не было
В конце 1670-1680-х гг. более четко проступают некоторые
общие черты метода, характерного для Лейбница. Одной из
основных черт этого метода была идея двойственности (или бинарно-
сти), выступавшая в учении Лейбница в качестве концептуальной
мировоззренческой формы. «Итак... отложив в сторону св.
Писание... я обращаюсь к мысленному рассечению тел...», - пишет он.
Лейбниц фиксирует прежде всего наличие находящихся в
обусловленной существованием бога «всеобщей взаимной гармонии»
тел и их состояний. То и другое он рассматривает в движении, под
которым понимает «перемену пространства».
Движение, по Лейбницу, двойственно, ибо связано с тем, что
всякое тело всегда существует в пространстве и занимает в нем
место. Поэтому тело следует рассматривать в отношении его как к
самому себе, так и к внешнему для него (как учил Платон).
Равным образом «основание всякого состояния должно быть
выводимо или из самой вещи, или из чего-либо внешнего». Здесь важен
нетрадиционный акцент на состояниях тел и то, что Лейбниц
различает подход к вещи не только извне, но и изнутри ее, т.е. в
отношении ее к себе самой; такова же может быть обусловленность
существования и изменения вещи. Движение объясняет все
изменения в материи, которые Лейбниц подразделяет на следующие
виды: происхождение, уничтожение, увеличение, уменьшение,
качественное изменение, перемена места, или собственно
движение.
В 1669 г. в письме к Томазию о возможности примирить
Аристотеля с новой философией Лейбниц, развивая свои взгляды на
способность к движению, связывает с этой способностью
присущую ему необходимость «уступить место» при встрече с другим
телом. Эту характерную для всех тел и вообще материи особенность
Лейбниц обусловливает двояким образом - непроницаемостью и
плотностью («антитипией»). «Плотность, или антитипия, взятая
совместно с "притяжением", есть чувственное качество,
принадлежащее всем телам и только телам». Да и сама природа или
сущность тела двойственна, ибо заключается в протяженности,
воспринимаемой нами с помощью зрения, и антитипией,
воспринимаемой нами с помощью осязания.
Лейбниц рассматривает антитипию как причину способности
материи к движению, обусловленную связностью (Consistentia),
причина которой еще неизвестна. Иначе говоря, наряду с
присущей природе, ее частям и отношениям двойственностью Лейбниц
Комментарий
259
указал на единство «связности» (т.е. взаимосвязи,
взаимодействия) и «самодвижения» всего сущего (последнее он делит на
возможное и действительное).
При этом Лейбниц, допуская существование материального
мира как мира вещей, все же понимает под материей не
совокупность вообще всех реальных тел, а некую абстрактную,
обладающую бытием «непрерывную массу, наполняющую мир», или «пер-
воматерию». Из этой материи «возникает все посредством
движения и (в нее - Л.П.) разрешается все посредством покоя. В ней
самой нет никакого разнообразия, иначе как через движение, и
она представляет чистое безразличие».
Отметим как двойственность материи, так и то, что Лейбниц
связывает механизм движения, способность к движению с
проблемой места и проблемой развития. Важно и то, что у Лейбница
материя в наиболее абстрактном ее определении, а именно в
качестве первоматерии, хотя и представляет собой некую первичную
определенность или «чистое безразличие», однако лишь в
теоретическом плане, поскольку практически Лейбниц отвергал его
существование; к тому же оно не является тем, что позднее Гегель
назвал «чистым тождеством». В материи есть лишь
относительное, но не абсолютное «чистое безразличие», и даже на самой
первоначальной стадии она отягощена слабым, еще не развитым
различием движения и покоя, «возникновения» и «разрешения».
Иначе говоря, Лейбниц уже в это время неявно связывает
проблему монады с проблемой самодвижения («способности к
движению»), проблемой целостности («места») и проблемой
разнообразия, столь важных для современных теории информации и теории
управления.
Тесно связанная с монадой проблема целостности выступает у
Лейбница не только в его представлении о «месте» тел, но и о «не-
разделенности» (на части. - Л.П.)У безграничности и
непрерывности первоматерии. Последняя занимает промежуточную ступень
между миром реальных вещей и Богом, представляя собой, если
использовать более поздние выражения Лейбница, как бы
«основание» и «преобразование» монады.
Божественное (метафизическое) двойственно, ибо в качестве
бестелесного находится в единстве (тождестве) с
противоположным ему телесным (вещественным, материальным) и теснейшим
образом связано с ним, несмотря на субстанциальную внеполо-
женность и несовместимость Бога и материи (вещества, тела) как
260
Философские письма, которых не было
высшего и низшего. Бог в качестве отделенной от материи
субстанции извне и изнутри обусловливает все и во всех отношениях,
в том числе всеобщую гармонию тел и весь «чудесный порядок
природы, универсума». Он - это они порознь и вместе.
Стремление согласовать, сбалансировать раздвоенность
существующей в природе необычайности, неупорядоченности с
универсальностью субстанциальной упорядоченности и
предустановленной гармонии привела Лейбница в 1668 г. к правильному
утверждению о том, что необычайное, хаотическое,
неупорядоченное отнюдь не есть нечто само по себе постоянно исключительное,
изолированное от всего иного. Напротив, оно тесно связано с
обычным (упорядоченным) как своим антиподом; они не
исключают друг друга, а взаимодополняют, находятся в единстве.
Дело в том, что любое необычайное, хаотическое и
неупорядоченное, которое существует, является таковым не абсолютно, а
лишь в отношении соответствующего ему данного конкретного
порядка, определенной (известной) этой обычности,
упорядоченности. В другом отношении, т.е. в отношении другого порядка и
не этой, иной для него обычности, хаотическое может выступать
как обычное, упорядоченное. Иначе говоря, всякое необычное,
упорядоченное имеет не только массовый (универсальный), но и
относительный характер.
«Порядок» Лейбниц делит в количественном отношении и
качественном. Другими словами, на различный по интенсивности
(подобно тому, как он классифицирует «изменения» и
«совершенство»), причем подчеркивает относительный характер различия
между порядком и беспорядком (неупорядоченностью).
Так, он пишет: «Бог ничего не делает вне порядка, и то, что
считается необычайным, бывает таковым лишь по отношению к
какому-нибудь частному порядку, установленному в мире
творений. Если взять всеобщий порядок — все бывает согласно с ним».
И еще: «Не может быть ничего, что не отвечало бы некоторому
порядку». Но это означает, что природа как необычного,
хаотического, так и обычного, упорядоченного вдвойне двойственна, ибо
тем самым порядок делится на всеобщий (по общей воле Бога) и
частный (по частным велениям Бога), на абсолютный и
относительный.
Однако в природе, материи нет причин для этого. Она косна и
неподвижна. В ней, самой по себе, «не существует никакой
мудрости и никакого стремления». Последнее обстоятельство Лейбниц
Комментарий
261
подчеркивал неоднократно, и позднее эта мысль встречается у
Гегеля. Наш философ неустанно повторял, что собственно материя
не может являться причиной для каких бы то ни было изменений.
Сама по себе она есть нечто только и исключительно пассивное,
отражательное, будучи материалом для чего-то или кого-то; ни
при каких обстоятельствах не могущее породить никакого
движения и изменения.
Однако она, как любая вещь и тело, является творением Бога и
поскольку она воплощает божественное в той мере, в какой она
близка, адекватна Богу, она отнюдь не только пассивна и
отражательна, рефлекторна. Напротив, будучи таковой, она вместе с тем
обладает движением и в целом, и в своих частях (телах, вещах и
иных «тварях»).
Другими словами, материя соответственно и не обладает, и
обладает мудростью и стремлением, способностью воздействовать и
способностью это воздействие претерпевать и т.п. в зависимости
оттого, рассматриваем ли мы материю в ее отношении к ней и ее
вещам или к сотворившему то и другое Богу. Она обладает жизнью
и самодеятельностью, мудростью и стремлением там, тогда и
постольку, где, когда и поскольку обладает мудростью божией, Его
разумом.
Примерно в конце 1670-х гг. идея субъекта (демиурга)
конкретизируется и несколько одухотворяется в термине «Разум»,
который стал в учении Лейбница синонимом еще не появившегося
термина «монада». «Разум, стремясь достигнуть блага и
желательного ему состояния и фигуры вещей, сообщает материи движение.
Материя же сама по себе неспособна к движению, и начало
всякого движения есть Разум, как это правильно полагал Аристотель».
Разум как некий наместник Бога, исполняющий его дела на
Земле, есть, по Лейбницу, и некая форма (совсем, как у Аристотеля).
Лейбниц считает, что «...форма есть причина движения и его
начало, но не первое». Первое - это Бог, но разум - это не Бог, хотя и
нечто божественное. Разум есть некоторое отражение и
выражение Бога, некая Его абстракция, объективным содержанием
которой является реально существующее, телесное, но вместе с тем
особое («мыслящее») бытие. Одновременно разум -
субстанциальная, деятельная форма вещей, тел.
В мире, писал Лейбниц, нет ничего «кроме Разума,
пространства, материи и движения. Разумом я называю бытие мыслящее,
пространство есть бытие первично-протяженное, или материаль-
262
Философские письма, которых не было
ное, тело, т.е. такое, которое не содержит в себе ничего, кроме трех
измерений, и есть всеобщее место всех вещей. Материя есть бытие
вторично-протяженное, или такое, которое кроме протяжения
или материального тела имеет и физическое тело, т.е.
сопротивление, антитипию, плотность, наполнение пространства и
непроницаемость, состоящую в том, что при встрече двух таких тел одно
из них уступает место, либо другое в свою очередь приходит в
состояние покоя; из таковой природы непроницаемости вытекает
движение». Фактически Лейбниц здесь говорит о материи как
относительно самоактивной «вторичной материи».
Разум создал во всем телесном фигуру (т.е. границу
протяженного), величину (число частей в протяженном), положение
(конфигурации нескольких частей), число (совокупность единиц).
Иными словами, это связанное с материей воплощение
божественного является причиной разнообразия материи. Разнообразие
столь же двойственно: оно может рассматриваться и на уровне
разума, и в связи (в отношении к нему) с ним, и на уровне мира
материальных тел; наконец, оно и абсолютно, и относительно.
Здесь мы уже в который раз встречаем характерную для метода
Лейбница идею двойственности: материя активна и пассивна, ей
присуще и не присуще движение: присуще - поскольку материя
есть физическое, которому свойственны непроницаемость и
плотность (антитипия), что является причиной движения;
неприсуще - в той мере, в какой материя есть протяженное (или
материальное) бытие.
Позднее, в «Рассуждении о метафизике» (1685) идея
двойственности и единства божественного и материального
обнаруживается не только в том, что материальное является и движущимся
и покоящимся, и божественным и антибожественным (=
материальным), но и в том, что материальное является и совершенным (в
той мере, в какой разумно), и несовершенным (в той мере, в какой
материально).
Причем идея двойственности раскрывается глубже,
поворачиваясь к нам вопросом об иерархической структуре Вселенной и
относительной самостоятельности, автономности, свободе,
уступчивости и сопротивляемости, а также совершенстве,
присущем материи. А именно утверждается, что различные группы
материальных объектов (тел, вещей и т.п.) в разной степени удалены
от Бога по степени ниспосланного Им (при их сотворении и в
результате Его постоянного на них воздействия, контроля) совер-
Комментарий
263
шенства, никогда не достигают ни его, ни тем более совершенства
Бога.
Таким образом, самое совершенство Лейбниц рассматривает
как некое связное целое, иерархически составленное и устроенное
(организованное, упорядоченное) из неких групп тел как многих
частей, или различных уровней одного внутренне единого целого
как системы. Кроме того, эти части, или уровни, разнообразны,
ибо количественно и качественно различны.
Затем утверждается, что совершенство тел, вещей, словом,
всей материи есть некое тоже иерархически связное, внутри себя
единое и относительно автономное совершенство. Важно, что оно
имеет момент относительной независимости, свободы от Бога,
некую в этом отношении известную автономность,
сопротивляемость и даже противоположность Богу, какую-то
несовместимость с Ним. Не следует жестко связывать совершенство Бога с
совершенством материи, считал Лейбниц. Красота ведет не к
добру, а к злу, утверждал Лев Толстой. Вещи совершенны не только
потому, что их создал Бог. Они могут быть, а могут и не быть в той
или иной мере и форме совершенны сами по себе. И всегда есть
нечто, еще более или менее совершенное, чем то, что мы знаем.
Наконец, Лейбниц указывает на различные виды совершенства,
подобно тому, как он ранее говорил о различных видах движения.
Примечательно в этой классификации видов совершенства
прежде всего то, что в связи с ней Лейбниц выделяет нечто,
могущее быть охарактеризовано как проблема соотношения порядка
(системы) и хаоса или, выражаясь современным языком,
проблему информации (говоря о таком виде совершенства, как
увеличение информационной емкости монады), проблему принципа
наименьшего действия (говоря о «сбережении» места и средств
«наивыгоднейшим образом»), оптимальности структуры (говоря о
совершенстве в отношении «лучшего построения») и
оптимальности достижения цели.
Тогда же, в 1685 г., Лейбниц далее уточняет представление о
субъекте действий тел. Вместо термина «Разум» тел он пишет об
«индивидуальных субстанциях», с которыми надлежит связывать
действия тех или иных тел, вещей. Термин «субстанция» гораздо
точнее передает смысл того, что ранее Лейбниц обозначал как
«механизм», а позднее — «Разум».
Мы увидим далее, что термин «Разум», равно как и
«механизм», вовсе не был Лейбницем отброшен, а был им в новом тер-
264
Философские письма, которых не было
мине «нематериальная», «метафизическая» или «индивидуальная
субстанция» критически преодолен, «снят». Это ясно видно из
сочинения Лейбница «Рассуждение о метафизике» (1685), где он,
указывая на историко-философскую преемственность термина
«индивидуальная субстанция» с термином «субстанциальные
формы», прямо пишет о том, что идея нематериальных,
метафизических субстанций важна для объяснения целого, всеобщего, но
ею «не следует пользоваться для объяснения отдельных явлений»,
она ничуть не поможет нам «в частностях физики». Иначе говоря,
он отграничивает религиозное и философское, или
«метафизическое», знание от специально научного, естественно-научного,
или «физического».
Субстанции, разумеется, двойственны: наряду с
индивидуальными субстанциями материальных тел существует и особая,
отделенная от последних верховная субстанция - Бог. «Ясно также,
что всякая субстанция обладает полной самопроизвольностью
(которая в разумных субстанциях становится свободой) и что все
происходящее с ней есть следствие... Бога». Нематериальные, или
индивидуальные, субстанции причастны и непричастны главной
субстанции (Богу) как своему господину.
Мысль Лейбница об этой иерархии целиком исходит из
космогонических представлений Платона, который в том же плане
рассматривал взаимосвязь Космоса и Бога. Индивидуальные
субстанции для Лейбница являются тем, чем для Платона является
душа, - нечто общее всем телам Космоса. И у Лейбница мы
читаем, что тела могут существовать, лишь сохраняя, удерживая в себе
нечто общее («тождественное», по его выражению) другим телам.
Иначе оно не могло бы «...просуществовать долее одного
момента».
Но есть еще другое общее, что связывает весь мир
материальных явлений, всю материю воедино. Этим общим для нее и
одновременно от нее отделенным является Бог. Если бы его не было, то
не было бы всеобщей взаимосвязи тел, явлений, событий, людей.
Таким образом, и в вопросе об «обшем» Лейбниц, углубляя свои
взгляды на субстанцию, приходит к идее двойственности.
Одно общее (между телами, внутри мира вещей) является
низшим, ограниченным, несовершенным, нереальным, случайным
и т.д., другое, напротив, является его полной
противоположностью, несовместимо с ним, исключает его. Общее у тел и общее у
духа - они существенно противоположны, но иерархически свя-
Комментарий
265
заны тем, что первое одновременно и родственно второму, и
отлично, автономно от него; что первое и порождает второе, и
существует во втором, порождаясь им, оставаясь и сохраняясь в нем
после акта творения в обоих случаях, однако лишь как нечто
автономное и качественно иное по сравнению с ним. Таким
образом, и в этом отношении в субстанциальном общем проявляются и
двойственность, и автономность (монолитность) мира тел и мира
духа как некая черта, момент, аспект двойственности вообще.
Назовем этот широчайшим образом проводимый Лейбницем
в его учении принцип принципом относительной автономности.
Он представляет собой общую и характерную для всего
философского учения Лейбница особенность его метода. Эта особенность
видна в его рассуждениях относительно не только тел, но и их
действий.
Лейбниц писал, что присущие индивидуальным субстанциям
действия есть лишь одна из трех разновидностей действий
вообще, причем природа этих действий не физическая, а
метафизическая. Все действия подразделяются на физические и
метафизические, а также на действия сотворенных вещей, индивидуальных
субстанций и Бога. Связь между этими видами действий
одновременна и необратима, она является генетической, благодаря чему
все указанные виды действий, наподобие составных
цилиндрических частей подзорной трубы, как бы включены (введены) один в
другой, иерархически соотносясь между собой как низшие
(включаемые) и высшие (включающие в себя). Высший вид действий,
например действия Бога, отражаются более низшими видами
действий и по-своему преломляются, существуя в них. Всякое
низшее есть прообраз, аналог и, как бы сказали сегодня, модель
высшего. Всякий вид действий может существовать только
характерным лишь для него самого образом, но существует он
постольку, поскольку существует в отношении его первичный, более
высший. Однако это не относится к действиям Бога, существование
которых не зависит ни от чего более высшего, поскольку его нет.
Такова же иерархия совершенства действий, реальности
(нереальности) их существования, их неограниченности
(ограниченности), а также самих субъектов этих действий - индивидуальных
субстанций.
Идея взаимосвязи тел, определяемых как существованием
нематериальных индивидуальных субстанций, так и
существованием обусловливающего их Бога, уточняет и углубляет формулиров-
266
Философские письма, которых не было
ку, имевшуюся в более ранних взглядах Лейбница. Однако
ошибается тот, кто полагает, что Лейбниц представлял себе эту
взаимосвязь как простое, непосредственное, а тем более
механическое, физическое или иное материальное взаимодействие, или
воздействие тел друг на друга. Всякой экстенсивности, простой
механической и пространственной связи (отношения) Лейбниц
упорно избегает.
Создается впечатление, будто бы затратив столько сил на
критику декартовской субстанции протяженности, он вообще
считает идею протяженности неприемлемой для философии (чересчур
«сайентистской» что ли?), чуждой своему учению и своему методу.
Эта особенность тоже чрезвычайно характерна для метода
Лейбница и сути его философского учения, как об этом писал его
биограф и исследователь К. Фишер.
Тем не менее Лейбниц даже в этой своей неприязни к
низменной, «погруженной в материю», пространственной, отягощенной
«местом» и причинно-механической экстенсивности остается
верен своему принципу двойственности. Лейбниц ничуть не
ущемляет его. Ведь если подойти к сказанному выше в более общем
плане, то философ, напротив, не только не избегает, но, кроме
того, даже стремится к экстенсивности, понимаемой в смысле
поразительной широты, универсальности охвата самых
разнороднейших, взаимоисключающих и несовместимых вопросов, которые
его занимают и в решении которых ему принадлежит великий
исторический вклад в науку и практику человечества.
Материя и ее научная картина не могут быть односторонни, ни
в чем не могут понести ущерба. Этот, позже провозглашенный
Кантом лозунг универсальной полноты, необходимой для
эффективного изучения всеобъемлющего сущего, имеет одним из своих
истоков лейбницевский принцип двойственности как
эвристический и методологический прием, как инструмент для наиболее
общего охвата бытия в его универсальной всесторонности.
Другая мысль, которая обсуждается в «Рассуждении о
метафизике», состоит в уточнении и углублении взглядов Лейбница на
связь «индивидуальных субстанций», во-первых, с
божественным, с Богом; во-вторых, с другими субстанциями, что можно
рассматривать как приближение к знаменитой идее «отсутствия
окон» у монад; в-третьих, с прошлым и будущим данной
субстанции, ее изменением во времени.
Комментарий
267
Лейбниц особо выделяет проблему соотношения целого и
части в связи с необходимостью и случайностью (свободой),
указывая на относительный характер целостности, позволяющей
рассматривать целое как часть еще большего целого, а часть - как
целое в отношении ее содержимого, ее собственных частей.
Здесь же Лейбниц объясняет связь индивидуальной
субстанции и ее движения («силы») или действия, а также уточняет свое
прежнее решение проблемы упорядоченности Вселенной.
«Рассуждение о метафизике» - одна из первых его работ, где
связываются действия Бога и индивидуальных субстанций с проблемой
экзистенциального выбора (отбора).
Рассмотрим эти вопросы подробнее.
Связь (единство) между Богом
и индивидуальной субстанцией
Подобно двойственности субстанций, делящихся
на одну верховную и множество индивидуальных, сама связь
субстанций тоже двойственна. Это - связь верховной субстанции
(Бога) с индивидуальными субстанциями тел, а также между
последними. Вначале рассмотрим первый случай.
Фактически в религиозной форме связи Бога и
индивидуальных субстанций Лейбниц рассматривает и решает проблему
соотношения целогои его частей, единого одного и его разнообразного
многого, сущности и его явления. Во многих, если не во всех,
случаях слова «Бог», «божественное» могут быть заменены словами
«единое», «одно», «сущность», «целое», «целостность».
Понятие целого мы получаем, «если понимаем в нашей
природе все, что она выражает...» Части суть воплощение целого, или
Бога; его творения.
Вся бесконечная совокупность частей составляет «нечто
единое само в себе, unum perse». Это и есть целое, или Бог. Причем
части суть субстанции, или субстанциальные формы. Как бы
далеко мы не уходили в познании целого (Бога), это целое «есть начало
существований», а части - конец их.
Существование (бытие) есть, как все и каждое, связное единое
целое, или многое, которое есть одно. Бытие иерархично, ибо
существование на уровне целого (Бога) качественно отлично от
существования на уровне тел как частей целого.
Примечательно, что Лейбниц связывает целое не только с
активностью, с «решением», воздействием на части, их творением,
268
Философские письма, которых не было
определением, воплощением в них целого, с выбором частей и их
поведения, но и с разнообразием, информационной связью («сочув-
ствованием», «сообщением») индивидуальных субстанций тел как
частей божественного целого, являющегося субстанцией
Вселенной. Исследование природы частей невозможно без учета
исследования их целого, считал Лейбниц, облекая в религиозную форму
свое утверждение о невозможности «пользоваться для объяснения
явлений одними свойствами материи», не учитывая существования
Бога и Его мудрости.
Отношение целого и его частей, по Лейбницу, есть «сердце
всякого истинного благочестия», суть настоящей религии. И оно
тем религиозней, возвышенней, чем более оно осознается именно
как таковое, очищаясь от «влияния внешних вещей». Само
отношение целого к частям Лейбниц уподобляет отношению Бога к
Иуде, чем лишний раз подчеркивает старую платоновскую и даже
доплатоновскую идею о греховности природного, естественного,
земного по сравнению с общим, целым как божественным и
сверхъестественным, небесным.
Отношение целого и частей выступает у Лейбница в виде
«великой тайны соединения души и тела...» Для Лейбница мир вещей
есть в известном смысле телесное проявление Бога, а Бог - дух
вещей. Мир и Бог суть и целое, и сущность, и безграничное, и
сверхъестественное, и необходимое. А явления, предметы, тела
мира суть и части, и «природа, естество», и ограниченное, и
случайное, и простые оболочки субстанций.
В постижении тайны связи (единства) духа и тела Лейбниц
упорно осуществлял свою внутренне противоречивую,
одновременно глубоко материалистическую и идеалистическую,
атеистическую и теологическую по своей природе цель - естественным,
научным образом понять и доказать сверхъестественное,
религиозное на основе последнего, опираясь на него и исходя из него;
использовать естественное для нужд правшгьного (истинного),
научного объяснения сверхъестественного, а именно Бога, Его промысла
и Его осуществления в вещах и телах как Его творениях и
воплощениях, в том числе сверхъестественных, чудесных.
Целое, как хорошо известно всем коллекционерам, всегда
представляет собой некое, относительно полное и замкнутое по
отношению к себе совершенство. В некоторых своих
высказываниях Лейбниц даже отождествляет совершенство и совершенное,
а также целое, цельность и целостность с устройством, порядком и
Комментарий
269
упорядоченностью. «Бог есть безусловно совершенное существо».
Само совершенство есть некое обусловленное целью целое,
состоящее из частей («различных совершенств»). Признак
совершенства в том, что обладающее им тело никогда не может обладать
совершенством в «высшей степени» по отношению к самому себе
или к тому или иному своему собственному свойству, признаку,
форме и различным своим проявлениям. Совершенство, таким
образом, подразделяется на абсолютное (божественное) и
относительное (материальное, телесное).
Примечательно, что в этом, как и в других аналогичных
случаях, Лейбниц допускает для совершенства тел, вещей и т.п.
некоторую относительную свободу, независимость, автономность
степенных градаций. Он утверждает, например, что вещи
совершенны не только потому, что их создал Бог, но они могут быть, а могут
и не быть более или менее совершенны и сами по себе. И всегда
есть нечто более совершенное, чем то, что мы знаем.
Совершенство многообразно, многогранно. Оно, как целое, существует в
отношении иного, чем само имеет, «лучшего построения»,
сбережения места и средств, или действия «наивыгоднейшим образом», а
также в отношении увеличения информационной емкости
сообщения и оптимальности (даже оптимистичности) достижения
цели во благо человека, к его добру.
Все, что происходит с телами и вещами, ведет их ко все
большему их совершенству. Универсальный прогресс мира тел есть
отражение и выражение универсальной прогрессивности, присущей
Богу (или целому) по самой его природе. Деятельность целого
(божественного) по отношению к частям как бы запрограммирована
им самим на постоянный прогресс этих частей, т.е. приближение к
Себе, обожаемому.
Во-первых, переход ко все более лучшему (совершенному)
по отношению к осуществляющей этот переход вещи и ее
субстанции есть ее действие. Действует субстанция, которая
непосредственно вследствие изменения переходит к большей степени
совершенства. «Та же, которая переходит к меньшей степени
совершенства, обнаруживает свою слабость и страдает». Первая
становится все более активной, а вторая - пассивной и даже
злобной. Развивая эту мысль, Лейбниц приписывает субстанциям
даже неодинаковые индивидуальные удовлетворение и боль.
Одновременно этот переход есть переход субстанции к лучшему
действию, т.е. самоулучшение, самосовершенствование действия и,
270
Философские письма, которых не было
следовательно, переход к большей активности, действенности,
энергичности, которые достигают своего наибольшего, а именно
абсолютного значения и многообразия форм, в Боге как своей
наивысшей личной субстанции.
Во-вторых, происходящий вследствие этих изменений
субстанции переход вещей, тел, явлений к большему их совершенству
есть как бы их погружение в свою индивидуальность, т.е. такое
удаление, уход их от Бога, которое в известном смысле
(отношении) есть возвращение к нему как к своему собственному
основанию. Это диалектический переход ко все большему своему
индивидуальному всеведению, личному всезнанию, человеческой мудрости,
которые достигают своего абсолютного значения у Бога,
знающего наперед (предвидящего) все обо всем; ко все большей своей
целесообразности как постижению и достижению наилучшего; к
лучшему «сбережению» своих сил и средств при достижении цели,
оптимальности действия и поведения; ко все более глубокой своей
необходимости, которая по мере своего углубления
соответственно выражается все большим числом своих проявлений и
разнообразием возможностей своего воплощения и реализации; ко все
большей своей виртуальной реальности; ко все большей
действительности своего существования как лучшей действительности; ко
все более лучшим, совершенным - в смысле более ясным,
отчетливым, четким, упорядоченным - своим восприятиям
(представлениям) как несущим информацию сигналам от своего
внутреннего и своего внешнего состояния (отношения); ко все более лучшей
памяти и осознанию себя и своей среды, т.е. (в человеческих
субстанциях) ко все большему превращению себя в личность, к
большему могуществу, автономности, свободе и т.п.
Стадийный, иерархический характер такого движения как
индивидуального перехода от одного этапа, степени или уровня к
другому, более высокому (высшему) и широкому (общему),
совершенно очевиден. Неявно здесь говорится об эволюции тел,
вещей как повышении их организованности, разнообразия,
активности, самости (индивидуальности), определенности.
В-третьих, переход есть выбор, частным случаем которого
является управление. Это выбор, производимый как Богом, так и
вещами, телами и т.п. «Бог... выбирает всегда наилучшее...» Выбор
(как управление) присущ и миру тел - растениям, животным,
людям, но у них всех он качественно, в корне отличен от того,
который производит Бог. Поэтому при чтении Лейбница невольно
Комментарий
271
вспоминается афоризм Ж.П. Сартра: «Быть, значит выбирать
себя», управлять собой.
Наибольшее совершенство - это наилучший (наибольший)
порядок. Поэтому переход к большему совершенству есть
следствие субстанциального выбора (отбора) своего оптимального
состояния, есть избирательный переход к своей большей
(наилучшей) упорядоченности. Цель общего порядка мира «состоит в
наибольшем совершенстве мира». «Что хорошо и совершенно в
конечных духах», т.е. в индивидуальных субстанциях, прежде
всего в «разумных субстанциях» или субстанциях индивидов, то «в
превосходной степени находится и в Нем», т.е. в божественном
целом, в Боге.
Евангелисты Матфей и Иоанн
Уже здесь заключено, что значительнейшим аспектом
совершенства субстанций является их неразрушимость, вечное
субстанциальное постоянство их существования. Поэтому переход к
большему совершенству тел, вещей есть их переход к действенности и
действительности их бытия, к их большей неразрушимости и
бессмертию. Причем это не есть абсолютная их незыблемость,
постоянство во всех отношениях как полное отсутствие у них какого бы
то ни было движения или изменения. Напротив, это всякий раз,
так сказать, наилучшая по своему избранию (выбору),
наипрочнейшая неразрушимость, не исключающая, а необходимо
предполагающая (в силу принципа двойственности и автономности)
столь же абсолютную изменяемость, разрушимость, смертность.
272
Философские письма, которых не было
Но только - в не-субстанциальном, телесном (=
материальном), т.е. второстепенном, неглавном, несущественном,
низменном и случайном из всего того, что присуще телам как частям
целого.
Связь (единство) индивидуальных субстанций или отдельной
индивидуальной субстанции с Богом двойственна: по отношению
к индивидуальным субстанциям она выражается в акте их
творения, т.е. в генезисе их сотворенности Богом, а также в их
собственной субстанциальной природе.
Индивидуальные субстанции (или части) суть творения не
только Бога (целого), но и Его телесного воплощения. Они прича-
стны Ему и по рождению (генетически), и по своей природе.
«Всякая субстанция носит в себе некоторым образом характер
бесконечной мудрости и всемогущества божьего, и подражает ему по
мере способности». Бог сотворил субстанции, которые вследствие
этого зависят от него, он сохраняет и «непрерывно воспроизводит
их путем некоторого рода эманации, подобно тому, как мы
производим мысли наши». «Все другие субстанции зависят от Бога, как
наши мысли исходят из нашей субстанции... Бог весь во всем, и...
тесно связан со всеми творениями...» «Нет ни одного отношения,
которое укрылось бы от его (т.е. Бога. - Л.П.) всеведения... В
результате каждого взгляда (Бога. - Л.П.) на мир, рассматриваемый
с известной стороны, является субстанция, выражающая мир
сообразно этому взгляду, если Бог признает за благо осуществлять
свою мысль и произвести эту субстанцию...» «Все происходящее с
ней (т.е. субстанцией. -Л.77.) есть следствие... Бога».
Воздействие целого на части, Бога на тела, Лейбниц называл
«абсолютно действенной и победоносной божественной
благодатью», которая проявляется в разнообразных формах. Целое
действует - значит определяет сотворенные им части как продукты
своего собственного действия; оно «принуждает» части
«приспособляться друг к другу», «производит связь или сообщение
субстанций, и через него явления одних встречаются и
согласуются с явлениями других... Но в практическом употреблении
действия обыкновенно приписываются особенным, частным
основаниям... ибо нет нужды всегда упоминать о всеобщей причине,
когда дело идет о частных случаях».
Вместе с тем Лейбниц в соответствии со своим принципом
двойственности и принципом автономности допускает
сравнительно гибкую зависимость мира тел от Бога, частей от целого, ут-
Комментарий
273
верждая их относительную автономность, свободу. А именно: все
происходящее с индивидуальной субстанцией обязательно
причинно обусловлено, но совсем не обязательно должно быть
необходимым.
Здесь же Лейбниц фактически формулирует принцип
автономности, хотя и не называет его: «Каждая субстанция есть в
некотором роде особый мир, независимый от всего другого, кроме
Бога; таким образом наши явления, т.е. все то, что когда-нибудь
может произойти с нами, суть только следствия нашего
существа... Эти явления сохраняют известный порядок, сообразный
нашей природе или, так сказать, тому миру, который в нас
заключается, - порядок, который позволяет нам делать полезные для
руководства нашим поведением наблюдения, оправдываемые
последующими событиями... этим способом мы можем
безошибочно судить о будущем по прошедшему».
Индивидуальные субстанции, таким образом, обусловлены
как природой целого (Бога), так и своей собственной природой.
Они могут, соответствуя друг другу внутренне, так сказать, в
отношении своей, одинаковой для них всех божественной природы,
внешне друг другу не соответствовать, совершенно различным
образом вести себя, действовать, выражать (проявлять) себя вовне.
Лейбниц уподобляет такое поведение индивидуальных
субстанций поведению людей, каждый из которых, понимая другого,
по-разному оценивает одну и ту же ситуацию. При этом действия
субстанций без внутренне объединяющей их божественной
запрограммированности были бы, по мнению Лейбница, и
всеобщей взаимосвязью тел, явлений, событий, людей. Таким образом,
вследствие того, что целостность (так и хочется сказать
«системность»...) неразрушима, не терпит никакой ограниченности,
несовместима ни с чем «первым» или «последним», не знает границ,
то «предустановленность» между субстанциями оказалась той
ценой, которую Лейбницу пришлось заплатить за всеобщую
«гармоничность», системность бытия, выводимую из «конечного» Пер-
восущества - Бога...
Двойственный характер воздействия целого на части,
соответственно отражающийся в двойственности обусловленного
поведения индивидуальных субстанций, приводит Лейбница в
гносеологическом отношении к тому, что он, по мелочам не согласный с
гносеологией Платона, в целом принимает его учение о
воспоминании («припоминании»), ибо оно как нельзя лучше согласуется с
274
Философские письма, которых не было
постоянством, устойчивостью связи целого с частью, с
постоянной «памятью» части о ее принадлежности целому.
Отсюда же вытекает и существование у нас идей,
обусловленных целым, и понятий (мыслей), обусловленных природным,
естественным, индивидуальным, всечеловеческим. При этом идеи
связаны с нашим внутренним опытом, а понятия «происходят из
так называемых внешних чувств».
Лейбниц подчеркивает абсолютную активность и
самовоспроизводимость идей и относительную самопроизвольность
понятий, их свободу. Аналогично, истинное познание целостно
(божественно) в той мере, в какой оно не ограничено, не замыкается в
отдельностях, частностях. Ведь части или субстанции «не знают,
что они такое и что они делают, и, следовательно, не обладая
способностью размышления, они не в состоянии открывать
всеобщие и необходимые истины».
Так же и целостность того или иного индивида Лейбниц в
соответствии с этим связывает с его самосознанием, памятью о себе,
с его Я, с его разумностью, с постоянством в нравственном
смысле. Все это дает возможность каждому индивиду сохранять свое
существование и «составлять личность», которая двойственна,
ибо она есть «память и сознание о том, что мы такое...»
Связь (единство) индивидуальных субстанций (или отдельной
индивидуальной субстанции) с Богом раскрыта Лейбницем с
характерной для него универсальной полнотой и всесторонностью.
Эта связь, или единство, выступает в аспекте отражения,
соотношения целого и его частей, необходимости и случайности,
необходимости и свободы, свободы и совершенства, процесса выбора,
порядка и беспорядка, обычного и необычного (чудесного,
сверхъестественного), относительного и абсолютного.
Существенная грань единства (связи) индивидуальной
субстанции и Бога - отражение. В учении Лейбница оно многолико:
это и выражение Бога и Вселенной («Вся природа, цель, сила и
деятельность субстанций состоит лишь в том, чтобы выражать
Бога и Вселенную...»; «Всякая субстанция выражает мир», но
разумная субстанция выражает скорее Бога, чем мир, а неразумная -
скорее мир, чем Бога), и подражание Богу, и память тел (= частей)
о своей причастности Богу (= целому), и форма приспособления тел
и вообще творений к Богу, и связь, или «согласование» субстанций:
бог как некое единое целое «производит связь или сообщение суб-
Комментарий
275
станций, и чрез него явления одних встречаются и согласуются с
явлениями других».
Следующая грань единства (связи) индивидуальных
субстанций и Бога - это отношение необходимости и случайности
(свободы). Она тесно связана у Лейбница с проблемой выбора (отбора),
осуществляется в его форме и на уровне как тел и их субстанций,
так и божественного. По Лейбницу, необходимость есть не только
единое и связное, но и иерархическое целое. На уровне Бога
необходимость выступает как выбор, производимый Им. Этот выбор
есть переход от менее совершенного (лучшего) к более
совершенному в процессе Божественного управления.
«Общая система явлений» есть следствие или результат
божественной необходимости, действующей и реализующейся в
форме выбора. Но выбор и, следовательно, необходимость действуют
и на уровне небожественном. «Наши явления, т.е. все то, что
когда-нибудь может произойти с нами, суть только следствия
нашего существа». Необходимость божественного мира в целом
(«всеобщий закон общего порядка») есть нечто ниспосылаемое нам
«свыше», т.е. эта необходимость неоднопорядкова по сравнению с
низшей необходимостью - законами его частей (их Лейбниц
называет «законами вторичных или подчиненных правил»),
которые включены во «всеобщий закон общего порядка», т.е. в рамки
божественной необходимости.
Таким образом, одновременно существуют и действуют как
бы два мира необходимости (или две мировых необходимости) -
божественного мира и мира индивидуальных субстанций. Причем
божественная необходимость, или «всеобщий закон общего
порядка», присущий миру как целому, «заключается» в самом этом
«общем порядке мира». То же справедливо и для низшей
необходимости мира индивидуальных субстанций, или мировой
индивидуально-субстанциальной необходимости.
Сообразно мировоззрению Лейбница, всей его концепции и
особенно принципу автономности можно априори утверждать,
что необходимость мира индивидуальных субстанций должна
быть относительно автономна, менее реальна, совершенна, более
ограничена и т.д. и т.п., чем необходимость божественная, чем
«всеобщий закон общего порядка».
Представление о соотношении целого или единого с его
частями и, следовательно, многим и разнообразным не один раз
затронуто Лейбницем в его трудах в теснейшем единстве с вопро-
276
Философские письма, которых не было
сом о соотношении целого (единого) как необходимого с многим
(разнообразным) как случайным и относительно свободным,
независимым (автономным) от целого и единого. Об этом Лейбниц*
писал так: нельзя допускать «правила, совершенно противные
образованию какой бы то ни было системы...» Или: все
происходящее с индивидуальной субстанцией обязательно причинно
обусловлено, но совсем не обязательно должно быть
необходимым. «Все другие субстанции зависят от Бога, как наши мысли
исходят из нашей субстанции... Бог весь во всех и... тесно связан
со всеми творениями, однако по мере их совершенства... он один
определяет их извне своим влиянием...» Бог, попросту говоря,
как бы слабеет и не может справиться с вещами по мере роста их
совершенства и они становятся в известном смысле как бы более
свободными, автономными от Бога в своих действиях и своем
поведении.
Бог, или целое, определяет нас и вещи как свои части, но не
принуждает «нашу волю к выбору».
Взгляды Лейбница на соотношение необходимости и
случайности, целого (Бога) и его частей можно рассматривать как
связанные соответственно с порядком и хаосом (беспорядком),
следовательно, как дальнейшее развитие рассмотренных выше его
взглядов на «необычайное», его связь с обычным, рутинным и его
массовый и относительный характер.
Необычайное, рассматриваемое в связи с необходимостью
целого и его частей, оборачивается в этом плане не хаотичностью,
неупорядоченностью, каким оно предстает в отношении к
обычному порядку, а чудом. Но не противоречат ли чудеса, взятые в
своей необходимости, предустановленной гармонии? Ничуть,
отвечает Лейбниц.
Чудо есть крайнее, предельное следствие разнообразия,
необходимо присущего самой природе в различных формах. Этого
рода разнообразие, по Лейбницу, качественно отлично от
божественного. Однако оно уходит своим истоком в существование Бога
как такого целого, чья целостность делает целым мир тел или
частей. То же справедливо в отношении и частей мира, и «частности»
вообще.
Таким образом, сверхъестественное не противоречит
естественному. Сверхъестественное - это неестественное для этого,
данного (например, определенного тела, известного предмета,
явления) и одновременно естественное для другого (например, Бо-
Комментарий
277
Га). Сверхъестественное, следовательно, имеет относительный,
неабсолютный, ограниченный характер; будучи
сверхъестественным по отношению к частям целого, является естественным для
самого целого, т.е. для Бога. Поэтому чудесное или
сверхъестественное есть в действительности и в определенном отношении нечто
вполне обыденное, рутинное, естественное и понятное.
Лейбниц допускает существование чудес, но в
противоположность церкви он их в известном смысле развенчивает, ибо
сопоставляет и связывает одновременно с духом и материей,
божественным и мирским, идеальным и телесным; указывает на их
абсолютность и относительность, безграничность и ограниченность;
на то, что они могут быть и должны быть познаны и
воспроизведены, должны служить людям и быть использованными на благо
общества и каждого отдельного человека.
«Чудеса в мире... всегда бывают согласны со всеобщим
законом общего порядка, хотя они и свыше вторичных, или
подчиненных, правил. Атак как всякое лицо или субстанция есть как бы
маленький мир, выражающий большой, то можно сказать точно так
же, что данное чрезвычайное воздействие Бога на известную
субстанцию не перестает быть чудесным, хотя оно и заключается в
общем порядке мира, поскольку он выражается в сущности или
индивидуальном понятии этой субстанции...»
Чудеса случаются потому, что необходимость целого или
божественного выходит за пределы необходимости его частей. Вот
«каким образом возможно для Бога оказывать иногда влияние
на людей или на другие субстанции посредством чрезвычайного
и чудесного содействия: ведь по-видимому с ними ничего не
может случиться необычного или сверхъестественного, так как
все, что с ними происходит, составляет только следствие их
природы».
Сверхъестественное есть следствие существования
природного, естественного как «ограниченного» и одновременно
существования того, «что обнимает собою все, что мы выражаем...», того
что «не имеет границ», ибо ничто его «не превышает».
В целом связь между божественным и материальным мирами
Лейбниц иногда уподоблял связи визуальной (между людьми,
разными субстанциями) и зеркальной (между телами
неразумными, т.е. явлениями неорганической природы), по-своему
интерпретируя современную проблему отражения как виртуальной
реальности.
278
Философские письма, которых не было
Связь (единство) индивидуальных
субстанций друг с другом
Если формулировка взаимосвязи тел как
определяемой и обусловливаемой Богом стала в «Рассуждении о
метафизике» более четкой, то о проблеме взаимосвязи субстанций между
собой этого (в данный период эволюции философии Лейбница)
сказать еще нельзя; он освещает ее довольно туманно.
Недостаточно ясно ее представляя, философ опасается традиционного в
те времена, как, впрочем, и сейчас, заимствования и утрату
приоритета в ее исследовании; боится, что кто-нибудь его опередит
исходя из сообщенной им информации.
Он только нащупывает почву, еще не скоро появится его
знаменитый афоризм: «монады не имеют окон». Но его мысль
неуклонно движется в этом направлении, пытаясь сочетать, связать в
индивидуальной субстанции черты раба (божьего) и господина
(тела), а тем самым определить взаимосвязь монад (в 1685 г. еще
«индивидуальных субстанций») в единстветото общего, что они
имеют по своему происхождению, по их божественному генезису и
идеальной природе; в единстве законодательной команды свыше и ее
подтверждения и исполнения внизу. Опять мы встречаемся с дво-
ичностью, от которой в философии Лейбница никуда не деться.
Важно, что в обоих случаях (отношениях) Лейбниц
рассматривает это общее в аспекте отражения. Индивидуальная
субстанция - низший вид субстанции высшей, т.е. Бога, есть в двух
разных отношениях одновременно бесконечно большое и
бесконечно малое целое; есть как бы зеркало в отношении и того
бесконечно многого, что его образует, и того, что его сотворило, в
отношении и Бога, и всех других тел и субстанций, т.е. в
отношении Вселенной. Лейбниц писал: «Каждая субстанция есть как бы
целый мир и зеркало Бога или всей Вселенной, которую каждая
субстанция выражает по-своему, вроде того, как один и тот же
город представляет различные виды, смотря по различным
положениям наблюдателя». Этот пример города и присущие ему
разнообразные аспекты не раз упоминаются в сочинениях Лейбница.
Отметим здесь тот важный момент, что связь целого и части у
Лейбница никогда не бывает ни настолько слабой, чтобы с
изменением одного никак не изменялось другое, ни настолько
сильной и жесткой, чтобы часть не обладала бы некоторой долей
случайности и автономности в своих изменениях по отношению к
целому (ср.: Н. Винер об организации Вселенной в книге «Я - ма-
Комментарий
279
тематик»); чтобы по отношению к целому часть вообще не
обладала бы абсолютно никакой свободой. Именно поэтому так много
значит для Лейбница тезис о свободе прерывной, квантованной; о
свободе как определенном дискретном информационном
отношении к целому, необходимому; как изменении разнообразия.
Причем Лейбниц не отрицает существования
причинно-следственной связи как связи чувственно-физической (механической,
энергетической и т.п.) между телами. Но эта связь не
исчерпывается одной лишь ее причинно-следственной природой, ибо связь
эта - не энергетическая, не вещественная, а, как сказали бы мы
сегодня, информационная.
Для Лейбница такой компонент связи, такая ее
характеристика является «метафизической» подобно тому, как полюса этой
связи (отношения) - индивидуальные субстанции (монады) -
неизбежно должны быть по природе своей не физическими, а
«метафизическими». Таким образом, взаимосвязь субстанций (монад)
имеет информационную природу. Но Лейбниц отказывает им
вообще во всяком взаимодействии, не отказывая им во взаимосвязи
генетической, сущностной, закономерной по их общей
изначальной и свыше предустановленной запрограммированности.
Двойственность отражения («зеркальности») этим не
исчерпывается: отражение присуще и Богу, и телам (субстанциям); оно
в той или иной мере неизменно отчетливо и ясно на полюсе
божественного (единого) целого одного — и неизменно смутно и неясно
на полюсе телесного, материального, разрозненного
(хаотического) многого. Оно двойственно в отношении и к Богу, который
отражает сам себя и вселенную, и к каждому отдельному телу, к
отдельной субстанции вселенной. Субстанция тоже отражает себя,
свое тело и всю вселенную, хотя свойственное субстанции
отражение качественно отличается от отражения, присущего Богу,
Таким образом, и бог, и любая индивидуальная субстанция знают
все, но по-разному. Они определены и ограничены не предметом
восприятия, а его способом, уровнем, ступенью, целью.
Будучи частью такого субстанциального целого, как Бог,
субстанция сопротивляется ему и ему же подражает. «Вся природа,
цель, сила и деятельность субстанций состоит лишь в том, чтобы
выражать Бога и вселенную».
В чем же заключается сила субстанций? Лейбниц отличал силу
от движения, а также от величины и фигуры, как чего-то более
конкретного и реального, чем она. Сила, так сказать, более коре-
280
Философские письма, которых не было
нится в теле, чем свойственные ему его движение или покой; она
им более отягощена и ему более внутренне присуща и автономна,
более существенна и изначальна для тела, чем они. Она, подобно
бытию, есть нечто более устойчивое, «спокойное» (Г. Гегель),
абсолютное.
Силу Лейбниц рассматривал как ближайшую «причину...
изменений». Сила присуща телу и может восстанавливаться и
увеличиваться «сама собою без всякого нового внешнего воздействия»
(курсив мой. - Л.П.). Тело может отдать силу каким-либо своим
частям и по этой причине уменьшиться, поскольку не столько
тело, сколько его части придут в движение. «Силу нужно измерять
количеством действия, которое она может произвести, например
вышиною, на которую может быть поднято тяжелое тело
известной величины и рода...»
Итак, сила, близкая у Лейбница по своему значению энергии,
способна к перераспределению и самопроизвольному изменению
(уменьшению) и характеризуется тем, что производит действие.
Здесь мы приближаемся к вопросу о действии одной
индивидуальной субстанции на другую и, следовательно, о взаимодействии
их между собой. Напомним, что все без исключения действия
индивидуальных субстанций происходят только «внутри» них, в
рамках самих этих субстанций, точнее, перехода неисчислимого
множества индивидуальных субстанций всей Вселенной от меньшего
к большему их совершенству, имея своей целью достижение ими
совершенства (и в том числе суверенитета) абсолютного,
свойственного Богу (точнее, которое в определенном отношении само и
есть Бог).
Оказывается, Лейбниц проницательно счел необходимым
представить тела и их индивидуальные субстанции в этом
отношении существенно непохожими на Бога, отличными от Него и
едиными (тождественными) с Ним. Бог, не ограничиваясь актом
творения, которое есть, несомненно, действие, прямо и
непосредственно либо физическим образом путем чудес и природных и иных
знамений воздействует на мир и его тела, отвергая злое, оберегая
доброе и ниспосылая на все, сотворенное им, божью благодать,
либо, напротив, воздействует на вселенную и все, что в ней есть,
нечувственно, через субстанции бытия, т.е. субстанциально,
метафизически.
В отличие от Бога тела не могут ни субстанциально, ни
физически воздействовать на свои субстанции и взаимодействовать с
Комментарий
281
ними, тогда как субстанции этих тел способны лишь к
субстанциальному воздействию и взаимодействию, но не к физическому.
Иначе говоря, кочень необычному, кажущемуся «воздействию» и
«взаимодействию», которое существенно отличается от нам
привычного (об этом будет сказано ниже). Ибо индивидуальные
субстанции суть божьи творения, существующие в телесном виде и
постоянно изменяемые и контролируемые Богом. Будучи как
субстанция отделенным от материи, но везде и всегда всем присущим
(причастным), Бог постоянно находится как бы «в»
индивидуальных субстанциях настолько и таким образом, что можно сказать,
следуя Лейбницу, что в определенном отношении Бог - это и есть
субстанции, и наоборот; и это объясняет их обоюдное якобы
«взаимодействие» и «воздействие» друг на друга.
Бог как всеобщее самодостаточное основание того, что он сам
есть, и того, что суть его творения, существует поэтому в отличие
от тел и их индивидуальных субстанций вне материи,
пространства и времени и одновременно, отчасти (= в определенном
отношении) Бог есть они сами. В мире божественного (следовательно, и в
мире индивидуальных субстанций), находящемся в безвременье,
ничто не длится и ничто не протяженно, хотя в определенном
отношении можно утверждать и обратное. В мире
субстанциального, кроме того, все заранее известно, предустановлено,
информировано. Но поскольку этот мир отягощен миром тел, то в той же
мере справедливо и противоположное утверждение (ситуация,
живо напоминающая кантовские антиномии).
Разумеется, субстанциальный мир иерархичен, внутри себя
разнообразен; ведь должна же отличаться такая субстанция, как
Бог, от индивидуальных субстанций тел Вселенной? Именно
поэтому существует предустановленная гармония (в мире
субстанциального, но отнюдь не в мире тел, вещей и т.п., который ее,
правда, выражает). По той же причине субстанция, «поскольку
она выражает все», может иметь «бесконечный объем» и тем не
менее в разной мере быть ограниченной «по более или менее
совершенному способу своего выражения»,
«Вот таким образом и можно представить себе, что субстанции
взаимно мешают одна другой или ограничивают друг друга;
значит, в этом смысле можно сказать, что они действуют одна на
другую и принуждены, так сказать, приспособляться друг к другу.
Ибо может случиться, что какое-либо изменение,
увеличивающее выражение одной субстанции, уменьшает выражение
282
Философские письма, которых не было
другой». Несмотря на это, «...одна отдельная субстанция никогда
не действует на другую отдельную субстанцию и не испытывает от
нее страдания», ибо раз настоящее того или иного тела есть
следствие его прошедшего и причина его будущего, то в этом настоящем
содержится как все прошлое данного тела, так и все его будущее.
Поэтому «взаимодействие» индивидуальных субстанций тел
проявляется не в том, что эти субстанции воздействуют друг на
друга, как это наблюдается среди материальных тел, а в том, что
«...все тела во Вселенной, так сказать, сочувствуют друг другу
(курсив мой. - Л. П.). А потому и наше тело получает впечатление
от всех других», но не все доходят, не каждое фиксируется в нашей
душе: она «не может обращать внимание на каждую частность
всего». Поэтому наши смутные чувствования суть результат
разнообразия восприятий, поистине бесконечного. Это почти так же, как
от массы отголосков бесчисленных волн происходит смутный гул
(пример, который у Лейбница не единожды повторяется в разных
вариациях). Здесь неявно содержится указание на некую
избирательную способность индивидуальной субстанции как
относительно самодвижущейся информационной единицы, или
«точки».
Лейбниц писал своему корреспонденту Антуану Арно:
«Всякая индивидуальная субстанция выражает по-своему и в
известном отношении мир в целом, выражает, так сказать, в
соответствии с той точкой зрения, откуда оно его созерцает: его
последующее состояние есть следствие его предшествующего состояния,
как если бы (выражение «als ob» очень часто встречается у Канта. -
Л.П.) в мире существовали только Бог и она (субстанция)».
Эту субстанцию Лейбниц в конце концов назвал «монада».
Монадология Лейбница, основанная на идее непрерывности и
иерархичности монад и взятая в соединении с законами И.
Ньютона, могла бы послужить профессору математики Римской
коллегии патеру Р.-И. Босковичу (1711-1787) основой для его
собственной теории материи, сводившей все явления природы к
одному закону - действию друг на друга непротяженных центров
репульсивных сил в зависимости от их расстояния. Таким
образом, монады Лейбница превратились у Босковича в элементы
материи.
Учение Лейбница тесно связано с философией Канта, Фихте,
Шеллинга, Гёте и Гегеля. В частности, через Босковича или
непосредственно Лейбниц оказал на Канта большое и, как говорил из-
Комментарий
283
вестный переводчик Платона В.Н. Карпов, «самое главное и
роковое влияние». В своей натурфилософии Кант следует традиции
Лейбница, писал Карпов: природа есть сплошь механизм, царство
необходимости и действующих причин; телеология является
субъективным принципом, и свобода находит свое оправдание
лишь в умопостижимом мире. Только в своем так называемом
«критическом периоде» Кант освободился от влияния Лейбница и
создал свою систему отчасти в противовес лейбницевской
«предустановленной гармонии».
Идеями Босковича последнего столетием позднее
воспользовался знаменитый физик Уильям Томсон. Лейбниц оказал
влияние и на Шарля Ренувье (1815-1903), представителя
неокритицизма, т.е. прежде всего кантовской философии, и на
гносеологические учения, связанные с «Критикой чистого разума»
(например, неокантианство).
Представления Лейбница о монаде существенно повлияли на
учение гёттингенского профессора философии, ученика Фихте и
основателя «реализма» в философии Иоганна Фридриха Гербарта
(1776-1841). Гербарт учил, что действительная реальность
принадлежит некой множественности простых и неизменных
существ, которые он назвал «реалами». «Реалы» суть души, ибо душа
проста и ее деятельность состоит в «представлении». Основное
качество «реала» - это «представление», а основная его тенденция -
самосохранение. Предвосхищая кантовскую «вещь в себе»,
Гербарт считал, что «реалы» непознаваемы и неизменны. Изменяется
лишь связь их, и Гербарт заставляет «представления» вступать
друг с другом в механические взаимодействия: «реалы»
сливаются, переплетаются, вытесняют друг друга и т.д., тогда как у
Лейбница никакие взаимодействия и воздействия между монадами
невозможны.
Самым крупным учеником Гербарта, который, как и его
учитель, не избежал влияния Лейбница, был Рудольф Герман Лотце
(1817-1881) - представитель «идеализма-реализма», который,
подобно своим учителям Гербарту и Лейбницу, искал «золотую
середину» в отношении души и тела, идеального и материального,
всю жизнь пытаясь достичь среднего положения между
философией Гегеля и материализмом.
Марксизм-ленинизм тоже пытался это сделать, но на свой лад:
по бандитскому выражению Сталина в знаменитом «Кратком
курсе ВКП(б)», Маркс и Энгельс «взяли» у Гегеля «рациональное
284
Философские письма, которых не было
зерно», а именно, диалектику (и еще более ограниченно - только
ее два закона, «выбросив» закон «отрицания отрицания»),
отодвинув на задний план за ненадобностью для коммунистического
общества, «классовой борьбы» и «мировой революции» даже
гегелевское всеобщее «единство (тождество)». Иначе говоря, Маркс,
Энгельс и их последователи, несмотря на свои обещания, так и не
сумели достаточно глубоко переработать «идеалистическую
диалектику» Гегеля. Фактически, потоптавшись на ней, они в своих
политических целях эклектически использовали лишь ее
«кусочки» под тем благовидным предлогом, что она «идеалистическая»,
и у них хватило сил лишь на то, чтобы односторонне
(«метафизически» - в смысле антидиалектически) превратить гегелевскую
диалектику в социально-политическую карикатуру, придав ей
фрагментарную, извращенную форму, которая своей
кульминации достигла в четвертой главе упомянутого «Краткого курса»,
главе, которая долгие годы была своеобразным философским
катехизисом, государственным псалтырем в побежденных странах
победившего свои народы социализма.
Наконец, в XIX в. идеи непрерывности (эволюционности),
спиритуализма, индивидуальности, которые столь характерны
для монад — одушевленных, нематериальных, атомарных
(элементарных) индивидуальностей, были использованы наиболее
дальновидными и проницательными людьми из научной и
философской общественности России для борьбы с надвигающимся на
нее радикализмом (революционностью, отвергающей всякую
эволюционность), аморальностью и механистичностью
(автоматизмом и фатализмом) экономического материализма Маркса и
Энгельса, сводящих вслед за П.Ж. Прудоном свободное, личное,
индивидуальное к унифицировано общественному, тюремно-со-
циальному.
Так появилось в России направление, представляющее
собой видоизмененное лейбницевское миросозерцание
(«персонализм») в философии. Его представители: Бострём, Козлов, Тейх-.
мюллер, Озе.
Кристофер Якоб Бострём (1797-1866), профессор в Упсале,
крупный шведский философ, писал в духе, враждебном
Гегелю, философия которого тогда господствовала. Точка зрения
Бострёма - идеализм, проникнутый мистическими элементами.
Алексей Александрович Козлов (1831-1900) - киевский
профессор философии. Увлекался «философией бессознательного»
Комментарий
285
Э. Гартмана, а потом «персонализмом» Тейхмюллера. Издавал
философский журнал; сначала «Философский трехмесячник», а
потом «Свое Слово» (5 выпусков).
Густав Тейхмюллер (1832-1883) - профессор философии в
Гёттингене, Базеле, Дерпте. Он защищал своеобразную точку
зрения, выработанную под влиянием Аристотеля и Лейбница (наше
Я есть основание всякого бытия). Философия Тейхмюллера
отразилась на Козлове, Е.А. Боброве и ученике Тейхмюллера - Якове
Фридриховиче Озе (XIX в.) - профессоре философии в Юрьеве.
В отличие от Лейбница русские лейбницианцы, склонные к
позитивизму, не особенно настаивали на существовании двух
миров («физического» и «метафизического»); например, A.A. Козлов
вслед за Декартом и Лотце признавал взаимодействие субстанций,
а H .0. Лосский вслед за Козловым пишет о взаимодействии между
монадами как «субъективными деятелями».
По мнению В. Виндельбанда, Лейбниц подходит к связи души
и тела с позиции деизма, генетически, и сводит эту связь к акту
творения, а монадологию и вообще всю философию Лейбница он
считал очень большим и длинным доказательством бытия божия.
Разумеется, этот момент в учении философа есть и не мог не быть.
H о было бы неверно огран ичиться только этим. Главное для
Лейбница - это отождествление предустановленной гармонии монад с
Богом: «гармония, то есть Бог», писал Лейбниц.
Иначе говоря, он как ученый, а не как теолог пытался
«представить» Бога с позиции науки, а не теологии, чтобы укрепить и
знание, и веру в Него. Он хотел изучать Бога, взятого в качестве
некоего объекта научного исследования, детерминистически
(Лейбниц считал, что даже Бог подчиняется своим законам)
самоорганизованного Одного, Целого. Лейбниц приблизился к Богу
как некой организованной и самоорганизующейся
метафизической субстанциальной системе, обладающей состояниями,
структурой, иерархией. Именно этот системологический,
рационалистический момент преобладает в монадологии, а не деистический,
как утверждал Виндельбанд.
Этот общенаучный аспект гармонии прекрасно осознавали
русские лейбницианцы, именно его они выдвигали на передний
план. Их занимало не то, что мировая гармония монад была
предустановлена Богом и представляла собой «инобытие Бога», если
употребить термин гегелевской философии, а прежде всего и
главным образом то, что мировая гармония была сравнительно авто-
286
Философские письма, которых не было
номным единством. Козлов называл эту гармонию «сросшимся
организмом», и это был взгляд скорее языческий (почти по Эмпе-
доклу), чем теологический. «Субстанции существуют не врозь, а
составляют единую мировую систему».
Русские лейбницианцы вышли далеко за пределы
теологического в трактовке союза души и тела. Они увидели
компромиссный политический и социологический аспект «мировой гармонии
монад», вскрыли содержащееся в этой гармонии соотношение Я и
Мы, а также относительный характер «индивидуального» в его
сопоставлении с «коллективным», «социальным»,
«психологическим». В антропоморфном «сочувствии» они увидели
психологическую и социальную солидарность, своего рода грезу об
общечеловеческом и его ценности.
Допуская вслед за Лейбницем существование «беспрестанной
гармонии души с телом» и «прямого согласия» (согласованности)
деятельности тела с «переменой» такой гармонии, которые
доказывают «взаимную связь» души с телом, Андрей Михайлович
Брянцев (1749-1821) утверждал, что гармония есть «союз
сродных» (позднее именно это выдвинется на первый план у русских
лейбницианцев-персоналистов), в котором «не последнее место
занимает и сострастие (sympathia), - чувствующее чувствование,
или свойство души, состояние движения и чувствования других
превращать в собственное чувствование, или собственную душу
сообразовывать с оным. Но как сострастное сие чувствование
основывается на любообщении (sociabilitas) в природе человеческой
впечатленном, и потому один человек... находит свое спокойствие
в счастии другого, сей в благосостоянии третьего и т.д.».
Старая идея «двух градов», интерпретированная в
монадологии Лейбницем как идея мира субстанций и мира их телесных,
физических проявлений, выразилась у русского лейбницианца Лос-
ского в виде «двух слоев бытия», по его выражению, а именно:
слоя «субстанциальных деятелей» (= монад) с их силами и
«производного слоя» (= материя).
Но чтобы попасть в «низы» и погрузиться в материю,
пребывать в ней, либо выплыть из нее и подняться в «верхи», следует, по
Лосскому, сделать выбор. Его необходимо должны осуществить
все «субстанциальные деятели» еще «на пороге бытия». Те из них,
кто сразу решил попасть в высший, «первичный», чисто духовный
«слой» и избрать жизнь в Боге, образует «царство духа», т.е.
«живую мудрость, Софию». Те, кто избрал материю, «производный
Комментарий
287
слой», попадают в нечто очень греховное, ибо материальный
«слой» несет в себе начала «неправды», безнравственности, зла,
разрушения, а высший, «первичный», первостепенный слой
Софии - начала «правды», нравственности (добродетели), добра,
созидания (творчества).
Отпад монады, т.е. «субстанциального деятеля», от Бога («на
пороге бытия») есть падение, «грех», ведущий к возникновению
множества «грешных» монад, т.е. собственно материального
бытия. Но так как, утверждает Лосский, «всеобщая конечная победа
добра обеспечена строением мира», то в будущем «не может быть
материальных тел» и материи вообще - произойдет мировая
всеобщая дематериализация бытия и «двух слоев» (= «градов» Фомы
Аквинского, мистиков, платоновских «двух миров» и т.п.) не
будет. А будет один «божий». Это нечто вроде «светлого будущего»
после завершения мировой революции и победы мирового
пролетариата, когда не будет двух классов - бедных и богатых; когда не
будет национальной розни и все народы, послушно следуя
указанию марксистско-ленинских талмудистов, сольются в одну
общечеловеческую ненормально единую семью в виде
коммунистической общественно-экономической формации.
Система предустановленной мировой гармонии субстанций
ведет свое многоступенчатое иерархическое происхождение от
той Верховной монады, от которой не могли отделаться ни
Лейбниц, ни М. Робеспьер и в которой все ее представления ясны,
отчетливы и рациональны, а потому активны. И превращение эйдо-
сов монады в ее активность как-то предвосхищает незабвенное
высказывание одного из самых волосатых учителей народов, что
«идея превращается в материальную силу, когда овладевает
массами».
Примечательно, что из всех вообще возможных случаев с
Верховной монадой нельзя исключить такого, при котором все
верховные представления оказались бы по самому своему
определению (как верховные) до такой степени ясны и прозрачны, что
стали призрачны и настолько страшно ясны, отчетливы, рациональны
(это самое главное!), что утратили всякий смысл (в нем и не было
никогда никакой надобности), поэтому всякая критика
«верховных» представлений и инакомыслие в отношении них стали
невозможны. По этой причине эти призрачные представления, эти
идеологические привидения обнаружили свою невероятную
вообще ничем не ограниченную живучесть и активность, как и еле-
288
Философские письма, которых не было
довало ожидать. Они все более и более разрастались,
объединялись и распоясывались, видя, что за это их никто не критикует, не
преследует, а все им только поддакивают.
Все это происходило, вероятно, в некоторой иерархической
последовательности сообразно, в одном направлении,
уменьшению волосатости на роже очередного пророка, а в другом -
увеличению бесчинства и беззакония, и замещению в населении всего
лично, индивидуально хорошего и доброго всем лично,
индивидуально плохим и злым, а также сообразно утрате в человеке всего
человеческого и подмене его общественным, нечеловеческим,
машинным.
Выбор, о котором писал Лосский, оказался выбором между
чувством и рассудком, животным и машиной (механизмом). И «на
пороге социалистического бытия» мы его сделали, радостно
выбрав то и другое. «Дают - бери...» Трагедия обернулась фарсом,
сохранив себя в другом.
Субстанция
Монада, по справедливому замечанию Виндель-
банда, это «ответ Лейбница на вопрос: что такое субстанция?»
Субстанция - это неизменная основа сменяющихся явлений,
носитель качеств. История понятия субстанции представляет в
известном смысле историю всей философии. Поиск субстанции,
или субстанциального, в явлениях природы, общества и
мышления есть поиск твердого и неизменного начала в вечной смене
явлений. Субстанция существует сама по себе и для себя и
представляет собой противоположность тому, что несамостоятельно,
несущественно и не пребывает.
Субстанция всегда универсальна, поскольку связана с
бесконечным, безграничным одним (без иного, чем оно). А потому в
определенном отношении представляет собой неизменный поток
своих всегда изменяющихся явлений, каждое из которых и все
вместе всегда суть некое ограниченное конечное, отдельное, частное
(часть многого) явление своей столь же конечной, отдельной,
частной сущности. Но субстанция не есть сущность явлений, ибо,
будучи сущностью конечного и бесконечного, ограниченного и
безграничного, она есть как бы «сущность всех сущностей».
Субстанция у Декарта была мертвой, не обладающей
самостоятельностью, жизненностью, реальной силой; в учениях
окказионалистов и Н. Мальбранша действующая сила имелась лишь у
Комментарий
289
Божества; бесконечная субстанция Спинозы тоже не обладала
реальной деятельностью, так как была всего лишь логической
категорией, результатами деятельности которой выступали только
«модусы», т.е. единичные предметы и мысли как проявления
божественной субстанции.
Лейбниц, напротив, убежден: все то, что пассивно, неактивно,
не действует, не может быть субстанцией. А коль скоро причина
действия есть сила, то субстанция у Лейбница есть всеобщая
действующая, внутренняя, активная, самостоятельная сила, причина
которой прежде всего в ней самой и ни в чем ином. Под
«активностью» следует понимать столь же всеобщее деятельное состояние,
противоположное пассивности, бездеятельности. Например, по
Аристотелю, Бог есть чистая активность (actus punis); Декарт
противопоставил активный дух, который есть только у людей,
пассивной материи; Мальбранш противополагал активность воли
пассивности разума. Лейбниц, аналогично современной нам
психологии, полагал, что сознание одновременно активно и пассивно,
как и весь мир, Вселенная.
До Лейбница считалось, что внутренней силой,
деятельностью, самоактивностью обладает лишь Бог, а также некоторое
сравнительно малое число тел, получивших по Его воле эту силу от
Него, но не обладающие ею в той абсолютной мере, как Он.
Лейбниц утверждал, что всебез исключения тела, вся природа обладают
такой активной силой, но не в одинаковой форме и степени.
Поэтому есть тело и душа, природа и дух, материальное и идеальное,
метафизическое и физическое, пассивное и активное, смерть и
жизнь. Но между ними нет непроходимой пропасти. Более того,
последнюю можно рассматривать как своего рода мост.
Возвращением к пифагорийской континуальной, активной
мощи бытия, обусловленной своей мистической числовой
природой; возвращением к аристотелевским субстанциальным
активным силам-сущностям тел («энтелехиям») Лейбниц хотел
дополнить и вместе с тем ограничить принцип механистического
объяснения, чтобы избавить современную ему картину мира от
ограниченности механицизма «новейшей философии». Природа
у Декарта - мертвая, извне понуждаемая Богом,
запрограммированная Им к действию машина, а у Лейбница - сама жизнь во всей
ее полноте и внутренней двойственности, противоречивости и
единстве (тождестве).
290
Философские письма, которых не было
Наука XVII в. не очень продвинулась вперед, в отношении
пространства: если две тысячи лет назад Демокрит учил, что тело
есть его «место», то, по Декарту, тело есть «протяжение», и даже
позднее Ньютон учил, что пространство есть предпосылка тел.
Другими словами, Декарт и Ньютон так или иначе отождествляли
протяжение (пространство) с телом.
Декарт и Спиноза уничтожили природу, сведя ее как
субстанцию лишь к одному из ее свойств (атрибутов): Декарт - к
протяженности, а Спиноза - к универсальной божественной
(абсолютной) целесообразности. Спиноза умертвил природу, подвергнув
ее неизбежному распаду тем, что лишил специфики, много- и
разнообразия, внутренней разнородности и противоречивости. Он
видел лишь Природу вообще и потому изгнал из нее всякую
конкретную частность, отдельность, случайность, уникальность.
Этим «обрезанием» он окончательно растворил природу в Боге и,
лишив конкретной жизненной реальности, сохранил ее, как
цветок в гербарии, в засушенном виде реальной философско-геомет-
рической универсальной абстракции, общей отвлеченности. К
тому же, как писал Ф. Ницше, заковал свое учение в математические
доспехи, чтобы оно устояло перед критикой.
Но Лейбниц не «побеждает», не уничтожает картезианство и
спинозизм, а диалектически «снимает» их ограниченность,
оставляя одновременно все, что есть в них живое, плодотворное, - на
свою судьбу, для дальнейшего развития тем, что в своем учении
отдает должное некоторым их утверждениям, включает их в свое
учение «в снятом виде».
Декарт и Спиноза умертвили природу, а Лейбниц, не
исключив явления смерти, оживил и даже одушевил природу. Тело, по
Декарту, только протяженно, а по Лейбницу, протяженно,
активно, действенно и в известном смысле одухотворенно.
Подобно Платону, Лейбниц противопоставил умопостижи-
мый идеальный мир метафизических субстанций и их столь же
метафизических действий, - явлениям и действиям
чувственно-физического материального мира, который, как мы ошибочно
полагаем, нам очень хорошо знаком. Но заслуга Лейбница в том,
что, связав вслед за Платоном «мир вещей» и «мир идей», он не
стал отождествлять их, как Декарт (или даже в конце XIX в. Вин-
дельбанд), либо доводить их противоположность до той в себе
саморазорванной, как бы агностической крайности, которую оно
получило у Канта. Вероятно, именно в таком духе следует рас-
Комментарий
291
сматривать идею Лейбница о том, что субстанция тела (монада,
энтелехия) целиком и полностью метафизична, хотя и
относительно, в самой разной мере и форме.
Субстанции, по Лейбницу, - это нефизические,
нематериальные («имматериальные»), чисто идеальные, метафизические
сущности («существа»). Одни из них осознают себя и вселенную в
большей степени, другие - в меньшей; одни действуют
сознательно, другие бессознательно; одни - чувственно и потому неясно,
смутно, неотчетливо; другие рассудочно, разумно и потому ясно,
отчетливо. Как следствие всего этого, они соответственно
абсолютно, всецело, хотя и относительно активны и пассивны; одни
находятся в состоянии как бы пьяном, полуобморочном,
смешивают явь и сон, другие же отдают себе отчет в этом, живут почти
трезво, разумно и рассудительно.
Поэтому даже сама жизнь есть в известном смысле умирание,
смерть; изменчивость можно рассматривать как устойчивость,
равную нулю, а устойчивость - как равную нулю изменчивость;
теоретически во всех такого рода случаях мы имеем дело с
градацией явлений, очень плавно переходящих в свою
противоположность. Поэтому, строго говоря, нет абсолютной
противоположности между телом и душой, материальным и идеальным, чувством и
рассудком, злом и добром, жизнью и смертью.
Философия Лейбница, таким образом, не знает ни абсолютно
мертвого, ни абсолютно живого. Для философа весь мир столь же
полон радостно искрящейся внутренней жизни, сколь
внутренним холодом смерти; в одних случаях бурной, а в других - еле
теплящейся. Поэтому его философию Виндельбанд справедливо
назвал «безусловным витализмом», но я считаю, что определение
«безусловный» вообще к Лейбницу и его учению неприложимо.
Скорее это «эсхатологический витализм» и вместе с тем
«виталистическая эсхатология»...
Декарт допускал две субстанции - Бога (духа) и материю,
Спиноза — лишь Бога. Декарт считал сущностью материи
протяженность, Спиноза считал протяженность и мышление -
атрибутами Бога.
Лейбниц учил, что протяженность не может быть атрибутом
субстанции. Протяженность заключает в себе множественность
(плюрализм), поэтому может принадлежать только совокупности
субстанций; каждая единая субстанция должна быть
непротяженной.
292
Философские письма, которых не было
Поэтому Лейбниц приходит к выводу о существовании
бесконечного числа субстанций, которые называет «монады». Если
монаду рассматривать абстрактно, то она имеет некоторые свойства
физической точки. Но по своей природе монада не физическая, а
метафизическая, бесплотная, имматериальная. Фактически
каждая монада является душой. К выводу об им материальности,
метафизичности, духовной природе монад Лейбниц пришел потому,
что если отрицать протяженность как атрибут декартовой
субстанции, то единственным оставшимся возможным
существенным атрибутом ее является мышление. Таким образом, Лейбниц
пришел к отрицанию реальности материи и замене ее
бесконечными собраниями душ.
Поскольку субстанция - не тело, и к тому же имматериальна,
то, вопреки Декарту, на субстанцию нельзя переносить такое
общее свойство бытия, как протяженность; субстанция
непротяженна. Протяженны тела, но не их субстанции. Тело -
проявление субстанции в форме протяжения как ее единственно
возможной и необходимой форме для именно такого, т.е. телесного,
проявления субстанции. Пространственный образ субстанции
созидается ею самой как форма ее действия, а не как явление в
других сущностях.
Раскрывая это положение Лейбница, Виндельбанд заключает:
«Тело на самом деле нечто иное, чем та протяженная сущность,
которой оно кажется: оно действующая сила, и его протяжение
само принадлежит к основным действиям этой силы. Нет
протяженных субстанций, но тела суть те субстанции, которые порождают
видимость пространственной формы». Иначе говоря,
пространственная форма субстанций, которую Декарт ошибочно принял за
самое субстанцию, всего лишь результат ее деятельности.
Субстанция Декарта есть, таким образом, вовсе не субстанция, а ее
атрибут, т.е. неотъемлемое свойство субстанции как внутренней
самодеятельной силы.
У Декарта тело есть всего лишь протяженность, а у Лейбница
тело по своей сущности есть сила (и не только она одна);
пространственные очертания тела, заполнение им пространства и его
движение суть действие этой силы, ее результат. «Лейбниц учил, что
пространство - продукт субстанциальной энергии, phaenomenon
bene fundatum, порядок их существования, не абсолютная
действительность, a ens mentale. То же самое относится и ко времени», -
полагал Виндельбанд.
Комментарий
293
«Пространство - как оно является чувствам и как его
рассматривает физика - не существует. Но оно имеет реального
двойника, а именно: расположение монад в трехмерном порядке
соответственно точке зрения, с которой они отражают мир. Каждая
монада видит мир в определенной перспективе, присущей только ей; в
этом смысле мы можем несколько произвольно говорить о
монадах как имеющих пространственное положение. «Приняв этот
метод рассуждения, мы можем сказать, - писал Рассел, - что нет
такого явления, как пустое пространство. Каждая возможная точка
зрения заполнена одной и только одной фактически
существующей монадой». Мир не находится в пространстве и времени, ибо,
полагал Лосский, они суть «способы действования» монад,
которых он называл «субстанциальными деятелями».
Лейбниц развивает свое толкование субстанции: он не только
активизирует и одухотворяет свои субстанции, но и
индивидуализирует их, рассматривая как «индивидов», как разнообразные
сгустки индивидуальности. Одушевленные субстанции Лейбница
суть многочисленные и многообразные индивидуальности,
индивиды.
Примечательно, что в русской философии этот органически
связанный с частной собственностью и индивидуализмом момент
не прошел мимо ее внимания. Одно из первых упоминаний о нем
мы находим в трудах Брянцева: индивидуальность понималась им
конкретно - как человечность. Вследствии этого в его учении на
первый план выходит то, что у Лейбница находится на заднем
плане: роль чувств в развитии человеческой особи и человеческого
общества, в частности симпатии и общественной солидарности.
Во всяком случае Лейбниц почти не уделил внимания роли
сенситивного и социального моментов в предустановленной гармонии
монад.
Общественное, государственное и личное, индивидуальное
(разницу между которыми Россия позволяла видеть только своим
царям и вообще «начальству», но не своему народу) всегда
интересовали русскую философию. В конце XIX в. в России профессор
математики, лейбницианец Н.В. Бугаев (отец поэта Андрея
Белого) отмечал: «Монада есть живая единица, живой элемент, она
есть самостоятельный элемент и самодеятельный индивидуум».
Чувство индивидуальности духа и стремление во что бы то ни
стало отстоять эту индивидуальность как свою частную собствен-
294
Философские письма, которых не было
ность были особенно присущи русскому лейбницианцу Л.М.
Лопатину, умершему в 1920-х гг. в советской России от голода.
Индивидуализация субстанций была предпринята Лейбницем
не только с целью избавиться от ограниченности современной ему
философии, которая практически превозносила «единство»,
«одно», «целое», «общее» и т.д., противополагая ему
либерально-демократическую необходимость равноправного отношения к пре-
небрегаемым этой философией «многому», «частям», «отдельно-
стям».
Делая субстанции «индивидуальностями», Лейбниц уже
одним этим сразу решал несколько крупных проблем, связанных с
формированием своего мировоззрения, своей философии. С
одной стороны, индивидуализация субстанций была дальнейшим,
вполне естественным шагом в эволюции монадологии, а с
другой - она позволяла ему успешно избежать по крайней мере двух
существенных ограниченностей, свойственных спинозизму.
Чтобы не повторить ошибку Спинозы, который хотел вывести
множественность субстанций из сущности Бога, Лейбниц считал
субстанции индивидуальностями (индивидами), и уже по одному
этому они необходимо должны быть частицами некой
множественности, множеством как естественным дополнением (и
противоположностью) их единству (тождеству), выражающемуся в
мировой взаимосвязи и взаимообусловленности. Лейбниц не хочет
видеть в этой взаимосвязи одно лишь единство (тождество). Он
справедливо считает его неполным, односторонним
представлением о мировой взаимосвязи.
С целью устранить эту недостаточность, односторонность,
крайность, он вводит множественность. Если мир есть «одно», то
он не может быть только «одним», а наряду с этим обязательно
должен быть и «многим», ведь «одно» и «многое» предполагают
друг друга и существуют во взаимосвязи: каждое через свое иное,
ибо сами эту взаимосвязь этим и образуют, подобно, например,
«целому» и образующим это «целое» «частям».
Посредством введения множественности субстанций
индивидуализм идеализма был примирен с универсализмом материализма.
Это - один из примеров постоянного стремления Лейбница
искать возможности для диалога, примирения между вечно
враждующими полюсами души и тела, одного и многого, общего и
отдельного, целого и частей, континуального (непрерывного) и
дискретного (прерывного), рассудка и чувства, истины и
Комментарий
295
заблуждения; небесного, божественного - и земного, телесного;
сознательного и бессознательного, добродетельного и греховного,
религиозного и атеистического, рассудка (разума) и веры,
оптимизма и пессимизма, жизни и смерти.
Материализм Спинозы, характеризуемый своей по-военному
слепой, жестокой и безличной универсальностью, высокомерно
равнодушной к уникальности отдельного, конкретной «части»,
грозил превратить мир в бесконечное множество одинаковых,
унифицированных «точек», не имеющих, кроме копирования,
никакого отношения друг к другу. Спинозовский универсализм
угрожал привести к распаду Вселенной. Одно общее мировое
«целое» природы (ее цельности, завершенности) разрушалось как бы
само собой, самопроизвольно только из-за безликости и
бездеятельности, пассивности образующих ее «частей». Одно
превратилось во многое, каждое из которого в свою очередь становилось
одним, превращающимся в многое, и процесс такого самораспада
бытия, бесконечно повторяясь, должен был происходить вечно,
без конца, в силу одной лишь универсальности того, что (и во что)
превращалось.
Стремясь и здесь устранить ограниченности «одного» и
«разрозненного», Лейбниц приходит к выводу, что субстанция должна
быть одновременно и тем, и другим. Она должна быть
монолитной и вместе с тем по-новому атомистичной (атомарной).
Он избрал для своей субстанции наименование «монада», взяв
его изучения Джордано Бруно, который, руководствуясь
желанием одинаково противопоставить свое учение и атомизму, и
неоплатоновскому учению о единстве (т.е. одинаковым, общим с
Лейбницем желанием избежать крайностей, односторонности в
отношении между рассудком и чувством), использовал в своих
трудах термин «монада».
Монада
Монада (от греч. «монос» - единство) вначале
была арифметическим понятием; например, Евклид учил, что число
состоит из монад. Позднее оно получило философское,
метафизическое значение. Так, Пифагор считал принципами вещей
диаду (двойственность) и монаду («сущность всех вещей»). Платон
называл монады «эйдосами», т.е. образами, идеями. Синезий
(375-412), неоплатоник, принявший христианство, хотя и не во
всем, называл Бога «монадой монад», как это позднее делал и
296
Философские письма, которых не было
Лейбниц. В философию Нового времени термин «монада» был
введен Николаем Кузанским и Бруно. Впервые Лейбниц
употребил его в 1698 г. в сочинении «О природе вешей самих по себе, или
О прирожденной силе и деятельности творений (для
подтверждения и пояснения начал динамики)».
Окружающий нас мир всевозможных тел, явлений и
процессов, к которому принадлежим и мы сами, есть всего лишь
физическое, телесное, чувственное проявление совершенно иного,
неощутимого субстанциального, метафизического мира.
Последний есть мир, состоящий из бестелесных монад, непротяженных,
простых, индивидуальных, представляющих, воспринимающих
(отражающих) и обнаруживающих стремление, активность,
внутреннюю силу и склонность.
Монады вечны и бессмертны; они не могут прикратить свое
существование, ибо просты, элементарны (неделимы), не состоят
из частей (атомарны), не способны к такому изменению,
воздействию и взаимодействию, которое присуще телам как их
проявлениям. Мир монад не настолько один (един), чтобы перестать быть
многим, множеством; чтобы каждая из составляющих его монад
совершенно утратила свою неповторимость, индивидуальность.
В то же время монады не настолько множественны, разно- и
многообразны, неповторимы и индивидуальны, чтобы полностью
утратить какое бы то ни было единство (взаимосвязь) друг с другом и
Богом и перестать быть одним единым миром.
«Монада» - категория многогранная, многоплановая, и все ее
грани, аспекты находятся друг от друга, по выражению Лейбница,
«в зависимости»; они иерархически субординированы в одной,
тоже многогранной, общей для них всех последовательности.
Сохраняя в общем и целом демокритовскую идею «атомарности»,
«неделимости» монад как субстанций и критикуя Демокрита за
материальность его «телец» (атомов), Лейбниц называл монады
«нематериальными», «одушевленными атомами» (причем в самой
различной степени; так сказать, от нуля до единицы, что в общем
для учения Лейбница столь же характерно, как и для современной
информатики и вычислительной техники), «метафизическими
точками» и «существами», а иногда вслед за Аристотелем -
«энтелехиями», «формами», «деятельными формами» и даже «буллами»
(пузырьками).
Но во всех случаях Лейбниц рассматривает монады
исключительно как имматериальные, метафизические, а не физические по
Комментарий
297
своей природе начала. В качестве субстанции, представляющей
собой атом, энтелехию, организм, индивид и т.п., монада
абсолютно не зависит от изменений материи, бесплотна, идеальна,
нечувственна, умопостижима, не имеет частей.
Из сказанного следует, что монада необходимо имеет нечто
внутри себя, в себе. Это «нечто» позволяет ей обладать свойствами
и качественным (но не количественным!) различием.
Монады могут быть рассмотрены в разных аспектах
(отношениях), на разных уровнях и в разной степени. Например, как
твари, метафизические точки и вместе с тем как существа,
одинаково, несмотря на различие по величине, обладающие состояниями.
Это в свою очередь дает возможность рассматривать монады как
системы. В определенном, а именно рефлексивном
(отражательном) отношении к себе и иному, чем она, эти ее состояния суть ее
восприятия, впечатления, представления (perceptions). В том же
отношении монада есть источник своих внутренних
субстанциальных действий, «бестелесный автомат».
Однако монада не может иметь нечто в себе, ничего не имея
вне себя, утверждал Лейбниц под влиянием Платона. Иначе и
быть не может, разве не Бог создал монады в бесконечном
количестве, предустановил их порядок и взаимосвязь («гармонию»)
и сделал активной субстанцией («душой» либо «духом») тел как
своих проявлений? Мы «не можем допустить деятельности без
деятеля», - писал Козлов. Поэтому монады «зависят»,
находятся в единстве и тождестве со своими телами, другими
монадами и их предустановленной гармонией, т.е. Богом. Поясню
сказанное.
Во-первых, монада соотносится (т.е. связана, но не
воздействует и не взаимодействует) со «своим» телом, которое есть
ее субстанциальное проявление. Принимая вслед за
Аристотелем термин «энтелехия», означающий нечто
осуществляющееся, но в отличие от возможности, актуальное, само себя в ином
чем оно, сообразно своей цели действенно реализующим, -
Лейбниц называет монаду «энтелехией» тела, т.е. активной,
самостоятельно действующей душой как силой того тела, которое
ей принадлежит (но не наоборот!), ею определяется и ею
отражается (вместе со всем миром, вселенной) в ее perceptions
(представлениях). Причем, по Лейбницу, монада вечна, бессмертна и
абсолютно неизменна в отличие от «своего» смертного тела, ко-
298
Философские письма, которых не было
торое преходяще, изменчиво и уничтожимо и с которым она
связана не навсегда.
Последнее объясняется тем, что Лейбниц, как он сам об этом
писал, был вынужден, очевидно самой логикой своей
монадологии, а особенно идеей предсуществования души, признать мета-
психоз, т.е. учение о переходе души из одного организма, по
смерти его, в другой. Эта идея уходит своими корнями в
древнеиндийский брахманизм, буддизм, каббалу, к Плотину, Эмпедоклу и
Пифагору.
Поэтому, по Лейбницу, монада не всегда связана со своим
телом, ибо оно не вечно и постоянно изменяется, обновляется,
ветшает. Напротив, монада вечна и всегда неизменна, в каком бы
теле и на какой срок она не находилась. Козлов, поддерживая
Лейбница, всерьез утверждал, что после смерти наше Я вступает во
взаимодействие, которое Козлов в отличие от Лейбница допускал,
с другими духовными субстанциями и создает новое тело в
соответствии со степенью своего развития.
Трудно сказать, как сам Лейбниц относился к этой идее. Но
если судить по известным, имевшим место экстремальным
ситуациям в его жизни, то, вероятно, не без некоторой внутренней
усмешки... В письме к своему знакомому французу авантюристу
графу Банажу де Бювалю, имевшему неосторожность сравнить
философию с куртизанкой, что вызвало осуждение другого
сиятельного знакомого их обоих, принца Евгения Савойского,
Лейбниц с известной долей иронии примиряюще заметил, что такое
сравнение не ново: «Еще Пифагор признавался в том, что, как ему
кажется, в нем сидит душа куртизанки Лаисы».
Лейбниц не «верил» в метапсихоз. Это была всего лишь одна из
его рабочих гипотез, которые он всегда был готов тотчас
откорректировать под воздействием новых фактов и созданных им или
другим ученым теоретических конструкций. Виндельбанд думал
иначе, считая, что допущение бессмертия монад сыграло с
Лейбницем как ученым злую шутку. Раз монады вечны, то философ
признает, по мнению Виндельбанда, «предсуществование души
раньше настоящей жизни. Однако при этом он твердо держится
взгляда, что человеческая личность раз навсегда приобретается
монадами при соединении с человеческим организмом; что,
следовательно, ранее человеческая душа находилась в низшей форме
бытия (для чего он охотно пользовался незадолго сделанным
открытием семенных животных); и что, с другой стороны, эта мона-
Комментарий
299
да, дошедшая до сознания личности, после своего освобождения,
которое мы обыкновенно называем смертью человека,
вырабатывает себе высшую форму телесности. Но последнее, конечно, уже
более не могло быть наглядно представлено, и здесь именно
признание беспрерывного преобразования наталкивалось на
непреодолимые трудности».
Наконец, монада имеет нечто вне себя отнюдь не случайно,
а логически обоснованно, необходимо. Козлов называл
монадологию Лейбница «метафизическим плюрализмом». В этом
его поддерживал Лосский, который, называя монады
«единицами бытия», а Бога «Абсолютом» и ограничивая акт творения
творением одних лишь монад, характеризовал плюрализм
Лейбница как нерастворимую и непреходящую
множественность в бытии.
По Лейбницу, монада как воплощение и олицетворение
наивысшего единства (тождества) обязана быть не только единым
(тождественным) одним, но и многим, так как в противном случае
единое (тождественное) одно будет неполным,
несамодостаточным, ущербным.
Отсюда следует, что монад много по необходимости; что они
множественны в той же мере, в какой каждая из них есть некое
одно и все вместе они суть одно. В качестве такого необходимо
единого (тождественного) одного Лейбниц вводит взаимное
гармоническое отношение между монадами («предустановленную
гармонию монад»), и эта гармония, по его выражению, «и есть Бог».
Благодаря такой двойственности единство (тождество) отдельной
монады прекрасно согласуется и дополняется ее общим
единством (тождеством) «в Боге» как гармонии монад.
Во-вторых, монада как субстанциальное единство имеет
нечто вне себя и соотносима с ним постольку, поскольку она -
простая составная часть сложного, а точнее, мирового
субстанциального единства как иерархического целого. Оно имеет свой,
если можно его так назвать, субстанциальный «базис» и
соответствующую ему субстанциальную «надстройку». «Надстройка» эта
образована сложными, разумными, ясно и отчетливо
сознающими, рассуждающими, рационально и универсально мыслящими, а
потому чрезвычайно активными «человечными» монадами, или
«духами».
Бог, сотворивший «базис», «надстройку» и все образуемое ими
иерархическое субстанциальное целое, находится одновременно
300
Философские письма, которых не было
в вершине его и основании, в его центре и сути. Бог пронизывает
все это вместе с «базисом» и «надстройкой», но тем не менее
воплощает и олицетворяет собой далеко не все целое, не «базис», а
именно духовную «надстройку» этого целого прежде всего и
главным образом.
Если бы «базис» был натуралистичен, а не субстанциален, то
речь шла бы о материи как о чем-то природном, вещественном,
физическом, чувственном; таком, например, как камни, горы,
пустыни, деревья и т.п. Но «базис» субстанциален, бесплотен,
идеален, метафизичен. К тому же, если мы говорим о
метафизичности, то в связи с этим не следует забывать о Боге, который
сотворил все субстанциальное мировое целое, значит, и «базис».
Но поскольку «базис» все же характеризует нечто
фундаментальное, связанное с первоосновой, первоначалом и
сохраняющее, хоть и в другом смысле, свой чувственный, свойственный
материи характер, Лейбниц называет «вторичной материей» то, что
«входит» в «базис». Это должно, видимо, показывать, что речь идет
не об обычной, а о субстанциальной, метафизической, идеальной
«материи». Действительно, по Лейбницу, смутно, неосознанно,
инстинктивно чувствующие, но не способные рассуждать и
потому сравнительно пассивные, беспамятные «простые» души,
«маленькие представления» (petites perceptions), которые в качестве
своих телесных, материальных проявлений («тел») образуют эту
«вторичную материю».
Впрочем, в учении Лейбница между духовной, разумной
«надстройкой» и ее вторично-материальным, чувственно-бесплотным
«базисом» пока еще не было той непроходимой пропасти,
которую они получат у Канта. Лейбницев теоретический компромисс,
или баланс, между этими двумя сферами, еще не стал чисто
абстрактным, только умозрительным и разительно контрастирует с
«решающей и определяющей ролью базиса». В обществе
марксизм-ленинизм отводит эту роль инстинктивно, благодаря
«классовому чутью» действующим, невежественным «низам»,
несознательным «народным массам» в их отношении к «верхам», к
культурной и идеологической, разумно и рационально мыслящей «не
как все» элитарной надстройке...
Обе эти сферы, базис и надстройка, чувственное и разумное
(равно как «внутри-монадное» и «вне-монадное») у Лейбница как
бы относительно едины (тождественны) в своей, тоже
относительной противоположности. Они постоянно и непрерывно диф-
Комментарий
301
фундируют, взаимопроникают друг в друга достаточно свободно,
сохраняя в целости свою противоположность и не нанося при
этом никакого ущерба своей собственной природе... Представьте
себе «матрешек», которые подобным образом взаимопроникали
бы друг в друга, не хаотически, а в определенной
последовательности превращаясь в свою противоположность через своих
промежуточных «подружек». (Заметим в скобках, что похожие
«антраша» видны в движении субстанций в философских учениях
Фихте, Шеллинга и Гегеля.)
Аналогично такая «изначально простая» и «несотворенная
субстанция», как Бог, подобно самой маленькой «матрешке»,
«входит» в несколько большую по размерам, но меньшую по своей
активности, по своему совершенству и главенству над остальным,
а потому более низшую по сравнению с Богом «матрешку»,
представляющую собой «дух». Та - в еще большую по размерам и
соответственно еще более низшую и пассивную, -именуемую «просто
монадой». Таким образом, монада - это простая субстанция,
входящая в состав более сложных, которые суть «собрание или
агрегат простых» так же, как тела суть агрегаты «простейших
субстанций».
Лейбниц неявно отодвигает Бога вовнутрь не только
физического, но и метафизического мира, однако к этому даже
тогдашняя теологическая общественность уже привыкла, тем более что
это можно считать повышением и укреплением Его всемирной
универсальной значимости и ценности, совершенства и
могущества. Он воплощает и олицетворяет наивысшую (верховную),
идеальную, бесплотную метафизическую сферу как надстройку
сотворенного Им целого. Бог занимает это место заслуженно в
качестве «изначально простой», «несотворенной субстанции»,
«монады монад», Верховной монады, глубинного творческого центра
всего бытия.
Другими словами, в качестве высшего Лейбниц
противополагал субстанциальное, метафизическое единство (тождество)
монад и Бога, т.е. то, что позже Кант назовет нуменологическим миром
«вещей в себе», физическому, чувственному единству (тождеству)
Вселенной, миру и его вещам, словом, тому, что Кант назовет
феноменологическим миром «вещей для нас».
Сохраняя и обосновывая утверждение о том, что в
определенном отношении «все есть Бог», Лейбниц показывает, что монада
необходимо и субстанциально связана с Богом и через себя как
302
Философские письма, которых не было
энтелехию - со своим собственным телом, а через другие монады
и свое гармоническое отношение с ними - со всеми другими
телами, явлениями и процессами, со Вселенной. На этой
необходимой субстанциальной связи монад с гармонией других монад, т.е.
с Богом, основана всеобщая универсальная мировая взаимосвязь
и взаимообусловленность тел, явлений, процессов во Вселенной.
В целом Бог, монады, тела и предустановленная гармония,
которая их объединяет, - это попытка Лейбница объяснить уже
тогда получившую признание мысль о всеобщей универсальной
мировой взаимосвязи и взаимообусловленности. Это отношение для
него было диалектическим, родственным отношению общего к
отдельному, одного к многому, целого к своим частям. Единство
(тождество) Вселенной уравновешивалось и дополнялось ее
внутренней противоречивостью (противоположностью),
раздвоенностью. Бог, монады и гармония соотносимы, подобно источнику
воды и самой воде, винограду и вину, которое из него
изготовлено, т.е. как нечто одновременно дискретное и непрерывное.
Но Бог приобретает в учении Лейбница несколько (для нас
интересных, но подозрительных для церкви) особенностей. Причем
именно потому, что имел неосторожность находиться
одновременно в разных местах и везде (на вершине иерархического
целого, в ее основании, в ней самой), вообще пронизывать Собой это
целое, как учил Платон, говоря о Боге как об «эйдосе» (образе),
или идее «блага», т.е. души.
Будучи одновременно везде и нигде конкретно, Бог
постепенно и незаметно как бы утрачивал свою харизму, сакральность
(«священность»), свою «изолированность», «отдаленность» от
мирского, материального, свою противоположность им. Бог
начинает, быть может неожиданно для Лейбница, воплощать в своем
отношении к «материи» уже не только божество, силу (активность),
Логос, Софию, наивысший Разум, Науку. Отступая на задний план
в качестве Бога как ценности сакральной, клерикальной,
теологической, Он сохраняет, выдвигает на передний план и увеличивает
Свою натуралистическую, сайентистскую значимость,
рационалистическую ценность. Но разве уже в те годы наука не начала
исподволь готовиться к этой роли?
Мировая «предустановленная гармония монад», при которой
Бог есть одновременно «одно» и «многое», явно приобретает
вероятностный, стохастический характер из-за размытости координат
Его местоположения. В результате, желая узнать в тот или иной
Комментарий
303
момент времени, чтоестъ Бог, мы никогда не можем
одновременно узнать, где Он. Это соответствует принципу неопределенности
В. Гейзенберга в квантовой физике, только там вместо Бога речь
идет о величине заряда и координатах электрона.
Бог утрачивает у Лейбница свою сакральность и в том
отношении, что, подобно индивиду, выступает как страдающий за
людей, но изгоняемый ими изгнанник; как медленно уходящий в
глубь Вселенной от человечества как субъекта познания
системообразующий и организующий субстанциальный,
метафизический центр (отношение).
Очень тонкая, но существенная грань отделяет лейбницианство
от спинозизма в характерном для них обоих общем утверждении,
что в мире все в порядке, все организовано, приведено в стройную
систему. Не кем иным, кактольколишь Богом, утверждал Спиноза.
По Лейбницу же, субстанциальная, метафизическая
способность к самоактивности, в разной форме и степени присущая
абсолютно всему, физически проявляется в той или иной степени и
форме в способности Вселенной и всех ее тел, явлений и
процессов к относительной самоорганизации и саморегуляции
(самоуправлению). Эта. способность для любого бытия имеет защитный
и целесообразный характер; она присуща и «базису», и
«надстройке», располагаясь в той же градации бесконечной иерархической
последовательности (от низшего к высшему, от «материи» к
«разуму»), которой подчиняются пассивность и активность,
материальность и имматериальность (идеальность), неодухотворенность и
одухотворенность, метафизичность и физичность.
Для Лейбница несомненно, что Бог есть наивысшая
организованность; что Бог есть вместе с тем наивысший организатор и
систематизатор мирового целого, природы, Вселенной. Однако Он
далеко не единственный творец, не исключительный источник и
причина мировой организованности и системности, а всего лишь
первый и высший среди субъектов (субстанций), не равных Ему
по способности ктворчеству, но одинаково равноправных с Ним в
отношении нее. Примерно так же Людовик XIV считался во
времена Лейбница первым среди французских дворян, а русский
царь - первым помещиком («хозяином»), а потому каждого их
этих «первых» нельзя смешивать с его окружающими.
Аналогичным образом ведет себя лейбницевский Бог. Он, как «самый
равный среди равных», как субстанция, «отделен от материи», хотя и
304
Философские письма, которых не было
связан с ней актом творения, образуя как бы цепочку, или
треугольник.
«Материя» «Разум (Бог)»
Бог. В аспекте системности, организованности мир
(Вселенная) является для Лейбница огромной бестелесной машиной,
сложнейшим самодействующим механизмом со своей
структурой, гибко изменяющейся в зависимости от изменения ситуации;
машиной, составная часть которой - монада.
И пока XVIII в. устами русского биолога-материалиста
Каспара Фридриха Вольфа задавал себе и другим столетиям вопрос,
на который ответ не получен до сих пор: «Каким образом в
естественных органических телах связаны между собой жизнь и
машина? Зависят ли они обе от одной общей причины или
обусловливают одна другую? И раз это так, каково действие жизни на
машину и машины на жизнь?», Лейбниц создавал свое учение о
монадах, полагая, что одно лишь ощущение, чувствование в
конечном счете неизбежно превратит его в животное, а одно лишь
размышление (чем оно яснее, точнее и истиннее) непременно
превратит его в машину.
Он не хотел абсолютизировать ни чувства, ни рассудок. Он
искал свой выход из безумных крайностей, которые как бы в
предвидении XXÏ в. уже начали обступать человека со всех сторон,
вынуждая его мало-помалу вытеснять из себя все человеческое...
Сохранив в монадологии взгляд «новейших философов» на
мир как субстанциальный механизм (машину), Лейбниц
решительно возражает против их желания видеть в работе, или
жизнедеятельности,, этого механизма чисто механистическую
зависимость одних его «частей» от других. Он предостерегает от чересчур
упрощенного, привычного для ученого и натуралиста взгляда на
единство (или тождество) монад в двух противоположных, будто
бы взаимоисключающих ипостасях духовного и материального и
вообще на якобы кабальную «зависимость» монад друг от друга и
от Бога. В метафизическом мире субстанций законы механики
(физики) не работают, вынужденно приобретают гротескный
характер. Монады, хоть и взаимосвязаны, но не воздействуют на что
бы то ни было и ни с чем не взаимодействуют
чувственно-физическим, причинным или каким-либо иным пригодным для нашего
Комментарий
305
обычного мира и нашего «здравого смысла» образом. Все это им
заменяет их генетическая связь с божеством, их многоплановая
запрограммированность Богом в акте творения.
Монада как мир без окон и дверей. Наше время, в которое
продолжаются споры о единстве (тождестве) человека и общества,
микрочастицы и Вселенной и обсуждаются такие вопросы, как,
например, является ли частица Вселенной и наоборот,
напоминает эпоху Возрождения, когда жил Лейбниц. Тогда считали, что
человек, уже только потому, что он микрокосм, в состоянии
опознавать связь всего, всех вещей1. Но каким образом микрокосм,
будучи сущностью, целым, всеобщим, связан с другой сущностью и
другим целым, всеобщим, таким, как Вселенная? Как вообще
взаимодействуют сущности (субстанции) между собой и своими
явлениями и взаимодействуют ли?
Эти вопросы напоминали одновременно и те, которые
задавало себе развитое Средневековье в XIII-XV вв. в лице
номинализма, отождествлявшего «общее» с «умозрительным», и наше
современное, в XX в. отрждествлявшее в логике понятие с именем
(Дж. Стюарт Милль); в гносеологии - философию с логикой
(Б. Рассел), а в квантовой физике - биологические законы с кван-
тово-механическими (Э. Шрёдингер).
«Omnia ubique», в котором волшебным, невозможным
образом сочеталось все и каждое и которое воодушевляло воображение
1 Так, в XVI в. медик и философ Парацельс, учивший, что человек познает мир,
поскольку он сам мир, а также младший современник Парацельса теолог
Валентин Вейгель и многие другие утверждали, что можно знать и понимать только то,
что сам имеешь, от чего зависишь и что живет в самом тебе. Видеть и познавать не
следствие воздействия окружающей среды, т.е., по выражению Вейгеля, «проти-
воудара» (Gegenwurf), но оно в нас лишь возбуждено, «пробуждено» увиденным и
познаваемым в окружающем мире. Понимая себя, постигаешь все, и это
перекликалось с одним из основных антропоморфных положений древнеиндийской и
древнекитайской философии.
Вместе с этим, только на первый взгляд субъективно идеалистическим
утверждением Лейбниц воспринял, вероятно, и ту мысль раннего мистицизма, что
человек (значит, и монада, подобно человеку) должен постоянно определяться в
своей деятельности, развитии не только тем, что вне его и отдельно от него,
например Богом (добром), но и своим «Адамом», т.е. своим индивидуальным
добром и злом, своим личным собственным прошлым, накопленным духовным
богатством, своим трудом и разумом, своим сердцем и умом, счастьем и
несчастьем.
Монада есть в этом смысле известное прощание с эпохой гуманизма, как бы
эпицентр грез и предчувствий наступающей эпохи индивидуализма; воплощение
нетривиального выхода из парадоксального положения, при котором монада, не
обладая взаимодействием, сохраняет связь со своим внешним окружением,
отражая, воплощая собой его и Вселенную.
306
Философские письма, которых не было
всех натурфилософов и мистиков Европы, оказало влияние и на
монадологию. В ней Лейбниц критиковал утверждения Декарта,
будто субстанции могут непосредственно воздействовать друг на
друга и что «influxus phisicus», т.е. воздействие тела на душу есть
нечто вполне допустимое1. Лейбниц, напротив, утверждал, что
это - иллюзия, видимость.
Монада является «зеркалом мира», будучи миром «без окон и
дверей», системой без входа и выхода, чем-то вроде «пустого
множества», по Г. Кантору, или виртуальной реальности.
Отсутствие у монады взаимодействий невозможно понять с
формальной и потому поверхностной, «знающей», но не
«понимающей» точки зрения физики, причинности, механического
подхода, словом всего того, что называют здравым смыслом. Но
лишь потому, что последний не признавал и не признает
существования двух миров: явления и сущности; «физического» и
«метафизического»; чувственного (сенсуалистического) и
рассудочного (рационалистического); материального (механистического) и
идеального (теологического).
Для «здравого», т.е. научного, смысла реально существует
один только физический, чувственный, материальный
(механистический) мир, и другого нет. Но коль скоро законы тел суть
законы души (духа), то на все идеальное, бесплотное, на связь души
с телом, Бога с тем, что он сотворил, на социальные, моральные и
иные взаимоотношения необходимо перенести физические
(естественно-научные), в том числе механистические,
причинно-следственные и другие законы и представления.
Против этого Лейбниц решительно возражал. Он отрицал не
связь двух миров, а причинную связь и физическое взаимодейст-
1 В этом вопросе окказионалист Арнольд Гэйлинкс (XVII в.) был
«промежуточным звеном* между Декартом и Лейбницем: он учил, что явления телесного мира
суть лишь повод, ноне причина наших представлений, ибо последние вызываются
в нас Богом. По случаю какого-либо события телесного мира Бог порождает в
душах соответствующие представления. Материальные явления не суть
действующие причины (causae efficientes), а причины в смысле поводов или побудительных
случаев (causae occasionales). Душа не способна прямо и непосредственно, без
божьего посредничества, влиять на тело, а тело на душу.
Для такого окказионализма материальный мир и духовный жестко
разграничены и совершенно лишены всякой субстанциальной самостоятельности и
активности. Ею наделен лишь Бог, который раз и навсегда определил вечно длящийся
мировой порядок, по которому равномерный ход событий аналогичен такому же
ходу двух (по меньшей мере) часов и не обязательно объясним прямой
зависимостью их друг от друга. Он может быть также объяснен и тем, что как те, так и другие
часы устроены с одинаковым совершенством и одинаково синхронно поставлены
с самого начала.
Комментарий
307
вие между телом и монадами, которые суть его нематериальные
субстанции, деятельные формы.
Рассел объясняет специфику лейбницевской связи духа и тела
следующим образом: «Человеческое тело полностью составлено
из монад, каждая из которых является душой и каждая из которых
бессмертна. Но есть одна господствующая монада,
представляющая то, что называется душой человека, частью тела которого она
является. Эта монада господствует не только в смысле обладания
более ясными представлениями, нежели у других, но также и в
другом смысле.
Изменения в человеческом теле (в обычных условиях)
происходят ради господствующей монады: когда моя рука двигается, то
цель, которой служит это движение, находится в господствующей
монаде, то есть в моей душе, а не в монадах, которые составляют
мою руку. Вот где истина того, что кажется здравому смыслу
контролем моей воли над моей рукой», физическим воздействием ума
на поведение той или иной части тела.
Два старца за чтением
В действительности, считал Лейбниц, никакого «воздействия»
души на тело нет. Как полагал философ, каждая монада отражает
308
Философские письма, которых не было
Вселенную не потому, что Вселенная воздействует на нее, но
потому, что Бог дал монаде такую природу, которая
самопроизвольно порождает этот результат.
Для Лейбница, отмечал Виндельбанд, чувственные ощущения
суть внутренние продукты человеческой души, которые по
промыслу Божию и природе человеческой монады возникают из нее
самой, лишь согласуясь с внутренними процессами других вещей.
Но для Лейбница чувственные ощущения отнюдь не результаты
воздействия вещей на человеческую душу.
Для Лейбница каждая монада есть отдельный мир, его природа
проявляется в законе, по которому следуют друг за другом его
изменения, объяснял датский психолог и философ Харальд Гёф-
фдинг (XIX в.). Непосредственным примером того, как
внутренние состояния закономерно следуют одно за другим, является
человеческая душа. В монадах, как и в людях, есть нечто,
аналогичное лейбницевским «состояниям», «представлениям»,
«апперцепции», «стремлению» и вообще способности (силе) монады
«представлять» Вселенную, быть виртуальной реальностью.
Благодаря общему для всех монад «стремлению» монада
выступает как разнообразие в своем их объединяющем едином и как
единое в своем разнообразии. По Виндельбанду, «именно это
стремление в каждой монаде приводит в движение систему
представлений и поддерживает их в этом движении. Результат же этого
стремления в каждое мгновение может быть обусловлен
только содержанием существовавших ранее представлений.
Следовательно, жизнь каждой монады состоит в постоянном развитии ее
представлений, вызванном ее внутренним стремлением к
деятельности. Но так как во всех монадах представляется одно и то
же, именно вся Вселенная, то в каждое мгновенье результат этого
движения представлений должен быть одинаков во всех
монадах, т.е. мировой процесс равномерно отражается во всех
монадах».
Этим Лейбниц объясняет, как, не воздействуя и не
взаимодействуя, «не имея окон», монады тем не менее взаимосвязаны.
Физического, материального взаимодействия не может быть у
субстанций, так как все, что случается с каждой субстанцией монады,
является частью ее собственного «понятия» (Лейбниц), где под
«понятием» философ, по-видимому, имеет в виду существующие
и накапливающиеся в монаде «следы всего того, что с ней
случается», т.е. бесконечное множество состояний («перцепций») той
Комментарий
309
или иной монады как ее собственный инструмент познания, ее
духовную сокровищницу, информационный багаж, идеальное
душевное богатство. «Каждая душа, - писал Лейбниц в письме
своему знакомому, теологу Арно, - представляет собой идеальный
мир, независимый от всего, за исключением Бога... она не только
бессмертна и, так сказать, нечувствительна, но... она содержит в
своей субстанции следы всего того, что с ней случается». Эта идея
Лейбница о «следе» превратилась в трудах Н.В. Бугаева в идею
«наследования», памяти. Прошлое не ликвидируется, не исчезает,
утверждал он, а накапливается. Поэтому любая монада и весь мир
все больше и больше совершенствуются (растет духовная жизнь и
развивается мировая гармония монад).
Что же считает Лейбниц главным и определяющим для
монады - ее самое или Бога? И то, и другое, хотя первое в меньшей
степени, а второе в большей.
Значит, в целом человек всегда обязан в известной мере лишь
самому себе и божественному в себе. Философия в лице Лейбница
интуитивно предвидела приход индивидуализма задолго до его
появления в достаточно полном и развитом
социально-экономическом виде.
Монада есть нечто единое в себе и замкнутое на себя. Каждая
монада ведет совершенно самостоятельную, изолированную,
«затворническую» жизнь. Монада не способна прямо,
непосредственно или опосредованно воздействовать на тело и другую
монаду. Тем не менее существует всеобщая взаимосвязь в мире вещей,
а также монад между собой. Но она возможна лишь в силу того,
что в первоначальной сущности каждой субстанции уже
заключается предустановленное Богом ее внутреннее отношение ко всем
другим. Объединяющая связь индивидов мыслима лишь в том
виде, что в какой-то степени она уже заранее заложена божьим
промыслом в сущности каждого индивида, точнее - его души.
Вселенная и индивид сопоставимы только в том случае, если
индивиды, каждый по-своему, несут в себе Вселенную; именно так и
происходит.
В сущности каждой отдельной субстанции Богом необходимо
«представлена», или, как более точно замечает Лейбниц,
«représentée» всякая другая субстанция. У монады ее связь с иным и
отношение к окружающему определяются и экстенсивно, и
интенсивно; с одной стороны, и ее собственным прошлым и настоящим
а с другой - в конечном счете виртуально и генетически - Богом.
310
Философские письма, которых не было
В каждой Богом созданной бессмертной монаде по воле божьей
изначально содержится все многообразие остальных. В то же
время понятие субстанциального единства требует, чтобы это
многообразие находилось в объединяющей связи. Поэтому сущность
монады состоит в том, что она является единством в многообразии,
определяется и сама собой (самоопределяется), и всеопределяю-
шим Богом.
В соответствии с философией Лейбница, объяснял Рассел, все
должно иметь достаточное основание, поэтому и Вселенная в
целом должна иметь достаточное основание, которое находится вне
ее. Этим достаточным основанием является Бог. Создав конечные
субстанции, т.е. монады, Бог придал каждой из них свое
собственное уникальное содержание в особой градации экстенсивности и
интенсивности представлений и вместе с тем создал все монады
так, что они вполне согласны друг с другом.
Благодаря одинаковости (несмотря на уникальность) своего,
общего для них всех и предустановленного Богом содержания
(вследствие того, что все монады отражают одну и ту же
вселенную), объяснял Виндельбанд, они в каждый момент вполне
абсолютно согласны между собой, поэтому возникает иллюзия, будто
одна субстанция «воздействует» на другую и все они
«взаимодействуют» между собой и своими телесными проявлениями.
На самом деле субстанции не действуют друг на друга, но
сочувственно и согласованно отражают одну и ту же Вселенную,
каждая со своей точки зрения. В этом смысле Лейбниц и
утверждает, что каждая монада есть «зеркало мира», который
отражается каждой монадой со «своей колокольни».
Монада - «зеркало мира». Монада - одушевленный
нематериальный атом (в отличие от атомов Демокрита и Эпикура), это
некий единый организм (тогда как у Дж. Бруно, таковым может быть
лишь вся вселенная как высшее целое, но не отдельные тела, их
части или группы тел, которым уже не быть целым). Лейбниц
весьма демократически рассматривает как «организм» одно и
многое, целое и часть, весь мир в целом и каждую его частицу.
В этом отношении, считал Лейбниц, все обладает равными
правами и - в идеале - господствуют справедливость, оптимизм,
радость, счастье.
Одна из существенных особенностей монады как организма
состоит в том, что она есть отношение. У монад как организмов это
отношение, в частности, выступает как отражательное отношение
Комментарий
311
к себе (рефлексия), другим монадам и Богу как их гармонии, иначе
говоря, как способность, сила монад отражать («представлять»)
Вселенную.
Монада - это субстанция воспринимающая и
представляющая. Монады органически связаны с отражением, рефлексией.
Монада (и монады) как плюралистическая субстанция
(субстанции) вселенной есть некое одушевленное самоактивное
(саморефлексирующее,) единство. В этом отношении монада есть (в
иерархической последовательности):
о система;
о совокупность (состояний, их единство, «единение»);
о переход (из одного состояния в другое);
о перцепция (как восприятие и представление своего состояния и
перехода);
о апперцепция (как переработка, выбор, организация перцепций,
их осознание монадой);
о стремление (к «единению», переходу, перцепции, апперцепции,
«аппетит» к этому);
о представляющая (репрезентативная) сила, включающая в себя все
предшествующее.
Как единство монада - это система, являющаяся
совокупностью доступных ей, возможных для нее состояний и способностью
их иметь. Каждое из таких состояний есть состояние монады как
некоторой силы. Монада есть совокупность состояний (сил) как ее
индивидуальных проявлений.
Лейбниц ищет возможность выявить связь между такими, на
первый взгляд, противоположными состояниями, как сила,
движением покой. Напротив, Декарт и Гоббс их жестко
разграничивали и говорили о сохранении движения, о том, что сумма движений
в мире всегда одинакова по своей величине.
Пытаясь понять, почему движение и покой, будучи
противоположными состояниями, могут сменять друг друга в отдельных
участках Вселенной, Лейбниц, желая сохранить их
беспрерывность, вводит понятие силы (или тенденции, conatus).
Если в одном месте или состоянии движение прекращается, то
все же остается сила и она снова может быть высвобождена.
Поэтому надо говорить не о сохранении движения, а о сохранении
силы. «Сила, - объясняет эту ситуацию Гёффдинг, - в
определенном состоянии есть то, что делает возможным изменение в
будущем. Мы сначала находим закономерную связь между двумя со-
312
Философские письма, которых не было
стояниями и называем затем в первом состоянии силой то, что
делает возможным наступление второго состояния. Понятие силы,
следовательно, зависит от понятия закона и последней
предпосылкой является существование закономерной связи между
меняющимися состояниями. Эту предпосылку Лейбниц называет
"законом достаточного основания"».
К понятию силы Лейбниц подходит двойственным образом,
отличая вопрос «что такое сила?» от вопроса «почему и как в мире
сохраняется сила?», ибо первый относится к миру физическому, а
второй - к метафизическому. Поэтому на первый вопрос
Лейбниц дает естественно-научный, рациональный ответ, а на
второй - теологический, сверхчувственный, а именно: если бы сила
причины не сохранялась в действии, то в природе имел бы место
регресс, а это противоречит божественной мудрости.
Таким образом, введя понятие «силы», Лейбниц устранил де-
картовско-гоббсовскую «абсолютизацию противоположности
движения и покоя». Субъективно он делал это для укрепления веры в
божественное провидение, а объективно - для укрепления своей
идеи беспрерывности, олицетворенной им в монаде как единстве
«силы» и «состояний», как единства в многообразии, как
объединении одного и многого. Это был серьезный удар по
односторонности, крайности механистического метода объяснения, который
Лейбниц ограничил тем, что считал необходимым его применение
в науке, но полагал, что он может быть объяснен лишь
теологически.
Как самоактивное (самоотражающее) единство монада
является способностью (или силой) перехода из одного состояния в
другое. Причем каждое из них само есть некая способность (сила)
быть «состоянием», «системой», «совокупностью» состояний, их
«переходом», состоянием как «перцепцией», «апперцепцией»,
имманентным «стремлением» монады и, наконец, ее
способностью (силой) быть собой как «представляющей» силой.
Поскольку Бог есть субстанция (хотя и отделенная от материи
и разума), то имманентная Богу божественная иерархия - тоже
субстанциальна. Поэтому монада как одушевленное единство во
всех своих перечисленных обличьях, в разных уровнях и
отношениях иерархична настолько, что эта иерархичность как бы сама
иерархична. Образуя различные уровни, степени и ступени, она
сама столь же многообразна и многогранна.
Комментарий
313
Вообще-то принцип иерархии методологически необходим
Лейбницу для того, чтобы объяснить, каким образом
несовместимые противоположности - дух и тело - находятся в единстве
(тождестве), короче говоря, для объяснения связи духа и тела
материи. Причем Лейбниц различал две иерархичности -
субстанциальную, свойственную монадам как душам (духам), и телесную,
свойственную миру тел, вещей, природе. Первая проявляется и
выражается во второй.
Эту иерархическую последовательность, не всегда ее
характеризуя как две иерархичности, но в целом разделяя основные
положения монадологии Лейбница, А.Н. Радищев, следуя Лейбницу и
швейцарскому лейбницианцу, биологу и философу Шарлю
Бонне, назвал «законом лестницы». Одногодок Радищева, почти
забытый русский философ А.М. Брянцев в своем «Слове о связи
вещей во Вселенной» охарактеризовал лейбницевскую
иерархичность в следующих словах: «Проникнем теперь также в историю
нашей жизни. Все случаи, происшествия и различные состояния
даже до совершенного нашего возраста между собою союзны...
Каждая степень снисканных знаний и каждый шаг в
совершенстве суть предуготовление к следующему: каждое предшествующее
состояние позволяет заключать о будущем. Прежде уясненные
впечатления и сделанные примечания имеют влияние в
последующее продолжение наук и во всю систему человеческого
познания. Что человек теперь есть и что прежде был, от сего зависит
будущее его состояние».
Идея мировой иерархии, долженствующая объяснить эволю-
ционно-революционную связь духовного и телесного, идеального
и материального, не прошла мимо внимания русского лейбници-
анства в последние годы русской монархии. По Бугаеву,
существуют монады «различных порядков», в частности «сложные
монады», в которых возникают, по его мнению, новое единство, новая
индивидуальность (так сказать, коллективная, общественная в
отличие от личностной, частной). В «сложных монадах»
вырабатываются сами собой условия их совместности. Простейшей формой
такого их «общежития» являются физические законы природы.
Это воззрение Бугаева, считал В. В. Зеньковский, позволяет ему, с
одной стороны, связывать явления природы и явления
социальной жизни, а с другой - распространять на все мировое целое
моральные принципы.
314
Философские письма, которых не было
По мнению Лосского, монады («субстанциальные деятели»),
образуя иерархическую последовательность, подразделяются на
таких низших (Лейбниц называл их «смутными»,
«неотчетливыми» и даже «темными»), которые находятся как бы между
небытием и бытием. А именно, по выражению Лосского, эти «деятели»
находятся еще «на пороге бытия», но уже обладают чем-то вроде
сознания.
На данном уровне такие «субстанциальные»
монады-«деятели» обладают сознанием, имеющим форму - и это очень важно! -
«свободы выбора». Не рассматривая вопрос, обладают ли они
чем-то вроде еще более примитивного сознания и в какой форме,
Лосский утверждал, что находящиеся «на пороге» имеют выбор
только одной из двух возможностей.
«Одни выбирают путь к Богу, другие избирают "землю", т.е.
бытие вне Бога, избирательно образуя "наше царство грешного
бытия"». «Каждый субстанциальный деятель, - писал Лосский,
имея в виду монаду, - может развиваться и подниматься на все
более высокие ступени бытия, отчасти творчески вырабатывая,
отчасти подражательно усваивая все более сложные типы жизни.
Так, человеческое Я есть деятель, который, может быть, биллионы
лет назад вел жизнь протона, объединив вокруг себя несколько
электронов, усвоил тип жизни кислорода, затем, усложнив еще
более свое тело, поднялся до типа жизни, например, кристалла
воды, далее перешел к жизни одноклеточного животного, после ряда
перевоплощений или лучше, выражаясь термином Лейбница,
после ряда метаморфоз... стал человеческим Я».
Приведя эту цитату, Зеньковский в своей «Истории русской
философии» недоуменно и простодушно заявляет: «Должен
сознаться, что совершенно не понимаю, зачем Лосскому
понадобилась эта фантастика». Однако на эту тему написал свое известное
стихотворение поэт Валерий Яковлевич Брюсов, оставленный в
Московском университете при В.И. Герье - профессоре
всемирной истории, биографе Лейбница и большом друге Бугаева. И в
наше время дело с «фантастикой» еще не закрыто. «Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью...»
Монада как «переход» и «представление». Монада как
представление позволяет Лейбницу соединить «многообразное» в
«единое», согласовать их. В определенном отношении каждое
состояние монады есть ее «перцепция», т.е. представление, впечатление
(восприятие) о своем внешнем и внутреннем мире, о Вселенной
Комментарий
315
как общем объекте «представлений» всех монад, или общем
объекте их «представляющей» деятельности, их «представляющей»
силы. Поэтому монада в рефлексивном аспекте есть монада,
рассматриваемая в совокупности ее состояний как перцепций; в ее
отношении к своим состояниям как «представлениям» о себе,
других монадах и телах, которые суть ее проявления.
Способность (сила) «представления» у монады внутренне
обусловлена способностью (силой) «перехода» в одно из своих
состояний, и «представление» относится к «переходу» как высшее к
низшему. «Представить» означает для монады способность (силу)
«перейти» в некое иное возможное для нее состояние или
воспринять и усвоить то, в котором она находится. Здесь следует
оговориться, что субстанциальное восприятие Лейбниц отличает от
обычного, которое, вообще говоря, есть «действие» воспринятого
объекта на воспринимающего, тогда как субстанциальное
восприятие никакого «действия» в себе не содержит и его не
подразумевает.
По Лейбницу, находиться в том или ином своем определенном
состоянии означает для всегда так или иначе одушевленной
монады иметь об этом то или иное по своей степени и форме более или
менее осознанное или неосознанное (бессознательное)
восприятие этого своего состояния; иметь «представление» (perception) о
монаде, являющейся субстанцией Вселенной, а потому иметь
«представление» о Вселенной и ее сущности; точнее, даже не
«иметь», а «быть» им в репертуаре других.
Поэтому каждая монада есть репертуар или некое множество
«представлений», или «состояний» монады, а каждое
«представление» - особая существенная «точка зрения» монады на мир и его
вещи1.
Смена монадой своих состояний, т.е. «переход» ее из одного
состояния в другое, - это одновременно смена «представлений»
монады. Такая смена может рассматриваться как
субстанциальное, метафизическое «развитие» этих «представлений» у
монады, т.е. как чисто внутреннее, самопроизвольное, субстанциаль-
1 Виндельбанд считал, что «Лейбниц скрыл от себя вполне неразрешимую
трудность: если каждая монада должна представлять все остальные, а каждая из
остальных, сообразно своему содержанию представления, также обусловлена
системой всех прочих субстанций, то отсюда возникает такой круг взаимоотношений, в
котором в конце концов не существует абсолютного содержания для этой
представляющей деятельности всех монад».
316
Философские письма, которых не было
ное, метафизическое развитие и самой монады тоже. В этом и,
пожалуй, только в этом смысле можно говорить о развитии монад.
В смене этих «представлений» монада следует своей
внутренней закономерности, причем такое метафизическое развитие у
всех монад целиком и полностью совпадает, происходит
абсолютно синхронно, поскольку все монады сотворены одним и тем же
творцом - Богом, так сказать, запрограммированы Им. В этом, и
только в этом смысле можно говорить о «взаимодействии» монад,
и это объясняет, почему у них «нет окон». Таким образом,
Лейбниц избегает опасности попасть в сети материализма либо
идеализма, поскольку и отвергает, и не отвергает ни развития
субстанций, ни их взаимодействия, гармонически сочетая то и другое.
Он подходит к ним двусмысленным, двояким образом: и как к
«физическому», материальному, телесному, природному, и как к
«метафизическому», идеальному, одушевленному, духовному.
Поэтому его учение, строго говоря, не является ни
монистическим, ни дуалистическим. Количество субстанций перестает
отныне быть критерием для определения философских учений, а
оборачивается мерой (единством количества и качества).
Лейбниц, не ограничивающий себя ничем, как-то сравнивал себя с
амфибией; действительно, он везде двойствен, един, многообразен,
универсален и активен.
При каждом своем «переходе» в другое состояние, т.е. к иному
«представлению», монаде в одном и том же открывается всякий
раз другое, новое. Так, город, обозреваемый с разных точек
местности, никогда не предстает одним и тем же. Поэтому каждый
«переход» монады в то или иное свое состояние есть как бы
открывающийся ей каждый раз тот или иной вид, ее другая «точка
зрения», одно из ее многочисленных и доступных ей в результате
такого «перехода» «представлений», перцепций. Поэтому монады
даже одно и то же всегда воспринимают, «представляют»
по-разному. К тому же абсолютно одинаковых монад не существует.
По Расселу, это и есть Лейбницевский принцип «тождества
неразличимых». Каждая монада уникальна, неповторима,
бесконечно много- и разнообразна, выступает одновременно в разных
отношениях, на разных уровнях и в разной степени. Вследствие
этого таковы же «состояния» монады, значит, и соответствующие
этим «состояниям» «представления». Поэтому каждая монада
«судит обо всем на свой манер», «со своей колокольни», как любил
выражаться Лейбниц.
Комментарий
317
Все монады различны и могут рассматриваться как
возрастающая градация этой различности от низшей к высшей. Одни
монады «представляют» себе вселенную неясно и смутно, другие яснее
и отчетливее, а потому все монады располагаются в некой
иерархической последовательности - от самых темных, неясно и
смутно «представляющих» монад и до самой ее вершины, т.е. той
монады, которой присуще лишь абсолютно ясное и отчетливое,
разумное «представление» о себе, остальных монадах и вселенной;
другими словами, до «монады монад», т.е. Бога, который в данной
иерархической последовательности выступает в качестве
«Разума» (чистого разума, духа).
Монады образуют иерархию1, в которой одни возвышаются
над другими по степени своей близости к командной высоте или
вершине, занятой Богом, т.е. по своему рангу в этой иерархии, а
также по тому, чего в монадах больше - чувственности либо
рассудочности, сердца либо ума, ясности либо смутности, отчетливости
либо сбивчивости (в своем отражении Вселенной), а также
определяемой этим жизненной активности либо пассивности, силы
либо бессилья.
Во всех монадах имеется некоторая бесконечно малая и
бесконечно большая доля перечисленных пар противоположностей. Но
эта величина все же не настолько бесконечно мала, либо,
напротив, бесконечно велика, чтобы из этих двух противоположностей
в каждой паре осталась одна, а другая превратилась бы в нуль,
исчезла. Количество, например, смутности или темноты
изменяется в соответствии с достоинством монады, с ее местом в иерархии,
но в сравнении с ^ясностью никогда не бывает равной 0 или 1,
занимая промежуточное положение между ними, отвечающее, так
сказать, божественному рангу монады, т.е. ее принадлежности к
неживым телам, живым телам и телам мыслящим, разумным
существам.
Из-за различия в степени ясности и отчетливости, а
следовательно, в истинности «представлений», получается отношение
некой зависимости их друг от друга; так, монада духа, естественно,
1 Если Лейбниц ввел иерархию монад в отношении повышающей градации
«ясности» и «отчетливости» их представлений, то последовательЛейбница геттин-
генский профессор, фихтеанец Иоганн Фридрих Гербарт (1776-1841) вводит
понятия «течения» и «интенсивности» для своих субстанций, которые, как уже
говорилось, он называл «реалы». «На пороге сознания», по Гербарту,
«интенсивность» представления равна нулю. Причем, что вполне в духе Лейбница, «течение»
и «интенсивность» подлежат численному определению.
318
Философские письма, которых не было
господствует над монадой тела. Но это нельзя понимать как
прямое физическое воздействие тела и духа, или взаимодействие,
между ними, хотя и кажется, что происходит именно так.
Субстанциальное отношение принципиально не может быть
воздействием или взаимодействием в обычном смысле слова.
Высшая монада, или Бог, и вместе с тем предустановленная
гармония, есть чистое сознание, Разум, Дух, чистая абсолютная
активность. Здесь, как писал Виндельбанд, оставалось сделать
только один шаг, чтобы вступить в мир основ гегелевской
философии с ее фундаментальной идеей самодвижения, внутреннего
«беспокойства», «отрицательности» и т.п. По-своему Гегель делал
то же, что и Лейбниц: исходил в познании бытия из него самого,
выводил все бесконечное многое из объективно
самоопределяющегося Одного («абсолютной идеи»).
Для оценки и классификации разнородности,
«представляющей деятельности (силы)» монад, Лейбниц в качестве критерия
использует принцип «ясности» и «отчетливости» Декарта.
«Ясность» есть свойство представления, при помощи которого его
объект может быть достоверно и несомненно узнан и отличен от
всех остальных; «отчетливость» -другое свойство представления,
благодаря которому представление ясно даже в своих отдельно
взятых признаках и отношениях. При этом Лейбниц фактически
относит все «неясное» и «смутное» к деятельности нашего
чувства, ощущения, а все «ясное» и «отчетливое» - к деятельности
рассудка, понятия, понимания, объяснения.
Поэтому указанная выше иерархия начинается с чисто
чувственного ощущения и завершается чистым мышлением,
сознанием, а последнее в свою очередь начинается из
минимального рассудка и максимального чувства и движется к
максимальному рассудку и минимальному чувству. Чувственному опыту
соответствуют истины факта, названные Лейбницем
«случайными», а ясным понятиям рассудка - вечные истины, названные им
«необходимыми».
Но рассматривая эту иерархию монад в аспекте
противопоставления «ясности» и «отчетливости», с одной стороны, и
«неясности» и «смутности» - с другой, а также в ином аспекте -
противопоставления «чувства» и «рассудка», Лейбниц все же на первый
план выдвигал главным образом и прежде всего аристотелевское
противопоставление «активности» и «пассивности». Вслед за
Иоанном Дунсом Скотом в противоположности «отчетливости» и
Комментарий
319
«смутности» Лейбниц видит различие способности, или силы,
представления, интенсивности.
Монада активна в той мере, в какой ясно, отчетливо и
рационально «представляет», и она пассивна в той мере, в какой
«представляет» смутно, чувственно (сенситивно) и неопределенно.
Поэтому он назвал страдательным то состояние монады, при
котором ее «представление» смутно и неопределенно, сообразно
чувству. Отсюда все монады, чье «представление» смутно, неясно,
а потому являющиеся только страдательными, пассивными,
претерпевающими, образуют в совокупности то низшее, что обычно
называют материей.
Так же, как «ясное» противостоит «смутному», «чувство» -
«рассудку», а «активность» - «пассивности», так и «материя»
противостоит всему тому, что обладает наивысшим рассудком
(рацио), позволяющим все осознавать, знать, понимать и иметь обо
всем самые ясные и отчетливые знания, значит, быть в наивысшей
степени самоактивным, а именно: Духу, Софии, Логосу, высшему
Разуму, то есть Богу, который, однако, есть субстанция,
отделенная от материи и не соотносимая с ней в данном отношении.
Каждая монада обязана представлять себе и собой все
состояние мира. Уже человеческая монада неспособна на это, что же
говорить о еще более низших монадах, которые не обладают
сознанием в столь высокой степени. Но Лейбниц не считает, что есть
монады, которые не обладают сознанием вообще. Кажущееся
исчезновение душевной жизни есть только переход в более смутные,
чувственные, пассивные, более элементарные ее формы. Чтобы
показать беспрерывность, плавную постепенную эволюцию
душевной жизни из якобы бездуховной физической материи,
Лейбниц концентрирует свое внимание на мельчайших нюансах,
незначительнейших деталях и изменениях сознания, которых мы
обычно не замечаем. Подобно тому, как в материальном мире нет
абсолютного покоя, так и в душевной жизни, в духовном мире нет
абсолютного отсутствия сознания и жизни вообще1.
1 Русский философ-лейбницианец A.A. Козлов - первый яркий представитель
философского персонализма (в духе Лейбница) в России перед революцией 1917 г.
и в начале ее - признавал, что монадологическая система Лейбница множеством
своих положении образовала «внутреннее ядро панпсихизма» - учения, которое
исповедовал Козлов. В панпсихизме «все сущее признается психическим и
сознательным». Козлов вместе с Лейбницем, поскольку против картезианского
абсолютного разграничения души (сознания) и тела, и против Лейбница, поскольку
отождествлял душу и тело, вообще не разграничивал их.
320
Философские письма, которых не было
Все живо и одухотворено, но в различной степени и форме
вплоть до бесконечно малой. В этом случае Лейбницу остается
только допустить, что монады «обладают большим числом
представлений, ничего не зная о них, другими словами, что
существуют бессознательная деятельность представления, в силу которой
самая низшая монада может оставаться зеркалом мира, не
сознавая такой своей деятельности», отмечал Виндельбанд. Так,
Лейбниц открывает неизвестную доселе область психологии - сферу
бессознательных представлений, которые он называет «petites
perceptions» («маленькие представления»).
«Представления» (perceptions) суть высшие «состояния»
монады как души, которые привлекают к себе ее постоянное,
непрерывное и целесообразное внимание, ею осмысляются,
контролируются, регулируются (управляются). Они органически связаны с.
памятью и воспоминанием, обладают непреходящей и даже,
может быть, увеличивающейся значимостью.
Напротив, «маленькие представления» - это весьма малые, но
необходимые для беспрерывности душевной жизни как жизни
сознания «представления», которые, однако, в отличие от
высших, или обычных, не связаны с памятью, воспоминанием, имеют
лишь мгновенное значение. «Маленькие представления» суть
низшие состояния души, не обусловленные ее вниманием, не
контролируемые, не управляемые. Это суть смутные изменения в
нашей душе, которые не замечаются нашим сознанием и
образуют в нем область бессознательного.
Однако и в «маленьких представлениях», не связанных с
памятью, воспоминанием и не имеющих постоянного значения, уже
дано сознание как сочувствование (sentiment, ср. с sensio Гоббса),
как необходимая составляющая всякого стремления. Даже
«маленькие представления» и низшие, смутные «представления»
полны бесконечно большого содержания, так как каждая монада есть
зеркало, в котором отражается весь мир, хотя она осознает лишь
бесконечно малую часть отражающегося в ней.
Существование бессознательных «маленьких представлений»
Лейбниц доказывает исходя из практического опыта, на примере
шума моря, где падение отдельной капли воды нам кажется столь
ничтожным, что практически не воспринимается нами, но тем не
менее шум от такого падения существует. Напротив,
громоподобный шум прибоя составляется только из бесконечно малых
раздражений. По мнению Виндельбанда, Лейбниц видит в этом
Комментарий
321
«психологический пример того, как по принципу
дифференциального исчисления из суммирования бесконечного числа
бесконечно малых количеств составляется могучая реальная величина,
из массы бессознательных представлений - одно сознательное и
обладающее живой энергией представление».
В терминологии XIX в. «petites perceptions» следовало бы
назвать «бессознательными представлениями», а в современной нам
сегодня - «неосознанными представлениями», что в общем одно
и то же, только современное несколько точнее. По справедливому
мнению Виндельбанда, «petites perceptions» - продукт
применения механического принципа бесконечно малых импульсов к
интенсивности представлений, а также математического принципа,
лежащего в основе дифференциального исчисления, открытие
которого, как известно, связано с Лейбницем. В мире сознания
они играют роль, аналогичную «дифференциалам», т.е. таким
бесконечно малым величинам (или количественным изменениям),
которые, однако, посредством суммирования дают конечную
величину.
Картезианцы не замечали всей полноты и многообразия
душевной жизни, в частности того, что все яркое, бросающееся в
глаза, выдающееся суть не что иное, как результат интеграции
бесконечного числа тусклых и незаметных малых величин.
Восприятие, образуемое такого рода представлениями, ведет к
тому, что «простые монады» бесчувственны, не осознают своего
«стремления», своего «перехода», своего восприятия и все время
находятся в «постоянно бессознательном состоянии» и
беспамятстве, совершенно не отдавая себе отчета в своем состоянии.
Естественно, что уровень их одухотворенности (может быть,
точнее говорить о доле их «задушевности»?) крайне низок и
весьма убог. У простых монад гораздо больше материи, нежели духа;
это уже не мертвая материя, но еще не одухотворенная; это не
только не духи, но даже в известном смысле еще и не души, хотя
они обладают какой-то практически пренебрежимо малой
«душевностью», о чем можно судить из того, что у Лейбница все в
разной степени и форме активно, действенно, самодеятельно.
Наша душа, например, хотя и отличается от простых монад
«заметным образом», как писал Лейбниц, все же иногда,
например во сне, обмороке, сильном потрясении, опьянении, словом, в
бессознательном, беспамятном состоянии, может опуститься до
322
Философские письма, которых не было
состояния, которое является обычной нормой для простой
монады и даже, хоть и на время, стать ею.
Поэтому простые монады, которые Лейбниц вместе с
простейшими также называл «формами», «деятельными формами», -
это еше не души, а всего только их необходимая предпосылка,
«вторичная материя» (по Лейбницу, которому был неизвестен
термин «вторсырье»), навоз или в лучшем случае гумус для души,
ее грибница. Но было бы ошибкой отрицать существенность и
необходимость простых монад и «маленьких представлений».
Лейбниц неоднократно подчеркивал, что с этими «маленькими
представлениями» непосредственно связана система
предустановленной гармонии; они очень важны для уяснения происхождения
сознания.
На более высоком уровне наблюдается другого рода
восприятие, которое Лейбниц называл собственно «представлением»
(perceptions). «Представления» такого рода принадлежат монадам,
которые вполне являются душами. Присущие душам
«представления» ясны, «более отчетливы и сопровождаются памятью»,
поэтому души все осознают, отдают себе отчет в том, что в них
«представлено отчетливо», сознательны, обладают осознанным
«представлением», «переходом» и «стремлением».
Монады в своей индивидуальной душевной жизни, которой
они обладают так же, как и мы, образуют совершенно
непрерывный ряд, в котором между ясным и смутным, отчетливым и
сбивчивым, «маленькими представлениями» и просто
«представлениями», чувственным и рассудочным, истинным и ложным,
светом и тьмой, душой и телом, материальным и идеальным,
активным и пассивным нет непроходимой пропасти. По
Лейбницу, различие границ между ними носит не абсолютный, а всего
лишь относительный характер. В пропасти Лейбниц увидел мост
через нее.
Человеческий дух (монада) двойствен по своему
происхождению и значению. По происхождению он обусловлен материей и
Богом, а по значению - двойственным положением, которое
занимает в последовательном ряду ступеней Вселенной, т.е. смесью
смутных и ясных представлений, единством (тождеством)
противоположных друг другу «случайных» и «необходимых» истин.
Поэтому человеческий дух (монада) не обладает ни только одними
смутными, ни только одними ясными и отчетливыми представле-
Комментарий
323
ниями, но является, так сказать, самоорганизующейся смесью тех
и других.
Для рационализма и эмпиризма дух содержит в себе лишь
только то, что знает о себе, лишь то, что он сознает и творит. Для
Демокрита и Локка душевная жизнь исчерпывалась понятием
сознания, его сферой. С их точки зрения сознание у тех или иных
тел либо целиком и полностью было, либо целиком и полностью
отсутствовало, «третьего не дано». В этом вопросе для них не было
«золотой середины», а были только две противоборствующие
крайности.
Лейбниц видел это и признавал, например, существующими,
сенсуализм, механицизм и эмпиризм в их крайностях и односто-
ронностях, но лишь затем, чтобы отвергнуть их ошибочное
толкование путем диалектического «отрицания», иначе говоря, чтобы
ощущения и впечатления - ограничить понятиями и
суждениями, механистическое толкование природы - телеологией, а
эмпиризм - рационализмом, формально-логическим духом.
Устраняя взаимную ограниченность рационализма и
эмпиризма, Лейбниц стал первым психологом, который ввел понятие
бессознательного в научный оборот. Он показал, что в душе
человека может храниться если не все, то очень многое из того, что,
быть может, вообще никогда не появляется в сознании,
сохраняясь в человечестве как неведомое его сознанию богатейшее
достояние общечеловеческой душевной и материальной жизни. Это
достояние может быть для того или иного индивида или общества
очень важным и значительным, после того как будет (если будет!)
его сознанием, мышлением выявлено, представлено и изучено в
меру своей возможности.
Рассматривая все различия душевной жизни в аспекте их
ясности и смутности, Лейбниц выступает как предтеча
Просвещения.
Представления Лейбница о бессознательном повлияли на
Фихте, учившего, что благодаря бессознательной деятельности
продуктивного воображения возникают пределы, границы сознательной
деятельности Я, и этим путем возникает видимость независимой
природы, не-Я. Шеллинг указал на темную бессознательную волю
божества. Позднее Эдуард фон Гартман сделал бессознательное
основным принципом своей «философии бессознательного».
А.М. Брянцев в 1799 г. писал, что к такого рода законам, «в
космологии замечаемым, принадлежит главнейший из всех - закон не-
324
Философские письма, которых не было
прерывности, которого наблюдение в природе учинил славный
Лейбниц»; согласно этому закону, «в природе нет нигде
прерывности (Natura non facit saltum - природа не делает скачков), нет
никакого упущения, нет никакого внезапного перехода от одной
крайности к другой, нет ничего уединенного или отверженного.
Одно зависит от другого, промежутки несовместимы и пустота не-
вместима. Везде примечаем непрерывный союз, посредством
которого одно зависит от другого. Все между собой ограничено
беспосредственно; везде ход постепенный. Каждое изменение,
каждое в природе явление предуготовляется и в зрелость приводится
последственно. Вот понятие сего закона!»
В сочинении Радищева «О человеке, о его смертности и
бессмертии» (1792), которому предпослан эпиграф из Лейбница «Le
temps présents gros de lavenir» («Настоящее чревато будущим»),
сказано, что «шествие сил естественных... таково есть... что они,
приняв единожды свое начало, действуют непрестанно и
производят перемены постепенные, которые нам по времени токмо
видимы становятся». «В природе ничто не происходит скоком, -
говорит Лейбниц, - все в ней постепенно». Радищев почти полностью
разделял взгляды Лейбница.
Основываясь на законе непрерывности, согласно которому в
природе и ее телах нет скачков, переворотов, революций, а есть
лишь эволюция, словом, основываясь на том, что наше тело порой
незаметно для нас постепенно ветшает, дряхлеет, Лейбниц
утверждал, что мы должны предположить, что и в нашей
душевной жизни, так же как и в материальной, телесной, тоже нет
никаких резких, коренных перемен.
В сущности нашей истории, в природе нашего
индивидуального и коллективного тела и духа имеется наряду с редкими,
коренными переменами совершенно другие, а именно, есть некое
неведомое поле, где господствует опредмеченная бесконечная
градация иерархической последовательности, образованная
бесконечным множеством все накапливающихся бесчисленных
степеней, ступеней и форм. Это дает нам надежду не только понять,
как может возникнуть человеческое сознание, но и благоустроить,
одухотворить и облагородить свою собственную личную и
коллективную жизнь.
Монада как «апперцепция». Любой человек, даже совершенно
необразованный и незнакомый с философией, все же благодаря
своему жизненному опыту имеет (хочет он этого или нет) какое-то
Комментарий
325
мировоззрение, пусть даже чрезвычайно примитивное. Поэтому
может путем постоянных, усиленных и главным образом
самостоятельных занятий, чтения книг и размышлений над
имеющимися у него представлениями так их конструктивно переработать
и разработать, организовать и привести в систему, чтобы,
достаточно ясно и отчетливо без конца их осознавая, перейти от
бессознательного мировоззрения к сознательному и «возведенному в
ранг теории», т.е. к философии, и овладеть ею. Это возможно
вследствие незаметного перехода мышления, души, на новый,
более широкий и высокий «абстрактно логический» уровень
сознания по сравнению с прежним, конкретно чувственным. Подобно
этому, любая монада необходимо имеет свое мировоззрение, но
далеко не каждая является философом.
Лейбниц различает способность (силу) монады «переходить»
из одного состояния в другое - от ее более высшей способности
быть восприятием, «представлением» (перцепцией), а также и от
третьей (еще более высшей, чем первые две) способности (силы), а
именно: воспринимать и быть восприятием всех восприятий
данной монады; «представлять» и быть «представлением» всех ее
представлений.
Другими словами, Лейбниц отличает восприятие как
отдельное «представление» от восприятия самих «представлений», т.е.
как перцепцию от апперцепции (apperceptions), а сознание как
обладание «представлениями» - от гораздо более высшего сознания,
или осознания (опознания) их, т.е. от сознательного усвоения,
переработки, выбора (отбора)1, сочетания, упорядочения и т.п.
«представлений» при помощи мыслящего духа.
Это, определяемое внутренним миром монады сознание,
необходимое для «обработки» и «переработки» имеющихся у
монады «представлений», по отношению к «переходу» и
«представлению» является, так сказать, л/ешядеятельной силой монады -
«апперцепцией» (восприятием).
Высшие состояния монады как души, а именно:
«представления», или перцепции, привлекают к себе ее самое пристальное и
целесообразное внимание. Поэтому «представления» монады
находятся под ее постоянным контролем, управляются душой.
1 Выбор, который сделал Бог между различными стартовыми
«возможностями», присущими ему как наивысшей монаде, обусловливает существование
именно такого мира, как тот, в котором мы живем; вследствие другого божьего выбора
наш мир мог бы быть другим. А, может быть, был. Или будет.
326
Философские письма, которых не было
Лейбниц называет это внимание (восприятие) и
обусловленное им регулирование (управление) «представлениями» со
стороны нашей души ее «самосознанием» («апперцепцией») и
употребляет выражения «apperception» и «conscience»: conscience
(сознание) есть connaissance reflexive de Tetatinterieur (рефлексивное
сознание внутреннего состояния), т.е. не вообще сознание, а
именно самосознание.
«Внимание», оказываемое монадой самой себе и своим
«представлениям», весьма заманчиво рассматривать (и, как часто
делают, отождествлять) с «отражением» и «самоотражением». Но это
было бы ошибкой в том случае, если считать «отражение», как
обычно принято, некой разновидностью универсального
взаимодействия, причинно-следственной связи или их частным случаем.
Лейбницевское «внимание» есть не «отражение», а сочувствие,
сопереживание, сосуществование, соотношение; это отношение
«удара» и «противоудара», отражаемого и отражающего, объекта и
субъекта, пассивного и активного. Кроме того, это, строго говоря,
не управление, а общение и контроль.
Сравнительно близок Лейбницу русский лейбницианец
Л.M Лопатин, который признавал «связь совместных сознаний»
и «взаимное отражение сознаний в этих различных сознаниях».
Монады, обладая одинаковыми способностями к «переходу»,
«представлению» и «апперцепции», различаются степенью, я бы
сказал, апперцепирования, т.е. самосознания (равно как, впрочем,
«перехода» и «представления»). Апперцепция - это
«самоуяснение» монадой своего собственного содержания как некоего
накапливающегося множества сознательных и бессознательных
представлений, являющихся непрерывно растущим «достоянием»
(В. Виндельбанд), так сказать, личной собственностью,
репертуаром, багажом, богатством, сокровищницей монады.
Следовательно, апперцепция есть «уяснение» бессмертной монадой самой
себя в целом, самопознание в направлении всего своего бесконечно
широко и глубоко воспринятого и представленного прошлого до
его «самого начала», уяснение и осознание всех «полученных» ею
от самой себя представлений в течение всего прошедшего
времени и переработка их. Виндельбанд называл такое бесконечное
самопознание, устремленное в свое прошлое, «жизненной целью»
монады.
Развитие человеческого духа (монады) состоит в том, чтобы
все более и более регулярно и систематически обращать (превра-
Комментарий
327
щать) перцепции в апперцепции, т.е. организовывать свои
представления так, чтобы все в них более или менее случайное,
бессознательное, смутное, частное (конкретное), историческое
превращать в более или менее необходимое, сознательное, ясное, общее
(абстрактное), логическое и тем самым переходить от «эмпирио» к
«рацио», от чувства к рассудку, от тела к душе, а кроме того,
накапливать, благодаря апперцепции, воспринятые «представления»,
умножать и сберегать свое духовное богатство, свой «представлен -
ческий» репертуар.
Каждая монада, отражая, представляя Вселенную, имеет в
себе также мировые законы, вечные истины. Но человеческая
монада также мало осознает их, как вообще большую часть Вселенной;
лишь проходя через смутные чувственные представления, она
впервые научается доводить их до ясности и способна узнать
таким образом л ишь то, чем уже обладала и владела искони. Эти
мировые законы суть в то же время законы ее собственной
сознательной деятельности, бессознательно применявшиеся ею задолго до
того, как ее сознание их узнало. Причину самосознания и наличия
таких законов следует искать не в мире физики, а в мире
метафизики, точнее, в Боге и его промысле.
Апперципирование является беспрерывным и постепенным
революционно-эволюционным процессом и вместе с тем -
устройством. Исходные, первоначальные представления монады
сначала темны и бессознательны; первый шаг апперцепции делает
их более сознательными, смутными чувственными
представлениями, и это главным образом «маленькие представления». Эти
данные чувственного опыта содержат в себе истину, хотя уже в
сознательной, но еще смутной форме и степени, и чувственное и
фактическое знание является лишь неотчетливым состоянием
духа, смутным образом вечных истин, поскольку мы на данном этапе
апперципирования и познания находимся еще целиком в сфере
эмпиризма.
Последний есть психологическое преддверие, предчувствие
рационализма. В этом его оправдание и, следовательно, начало,
но в то же время и его границы, т.е. конец. Ибо полученные до
востребования смутные эмпирические представления нуждаются
всего лишь во втором этапе апперцепции, во второй и высшей
апперцепции, чтобы обнаружить свою востребованность и стать
ясными и отчетливыми. «Маленьким представлениям»
соответствует первый ее этап, а просто «представлениям» - второй.
328
Философские письма, которых не было
На втором этапе апперцепции как рациональной,
рассудочной, а потому и активной, отпадают переставшие быть
необходимыми «строительные леса», т.е. смутные и неотчетливые формы
чувственности, и возникают отчетливые и ясные понятия, при
помощи которых человеческая монада мыслит совокупную связь
вещей. Эти понятия (точнее, «представления»), следовательно,
происходят не из внешнего мира и не из чувственного опыта, но
образуют первоначальное смутное и неясное, неотчетливое,
бессознательное состояние («интерьер») духа, которое последний на
втором этапе апперцепции начинает сознавать через посредство
чувственного опыта. Подобно тому, как секретарь из приемной
ведет нас в кабинет к начальнику.
Понятия, таким образом, не врождены человеку, не
априорны, но они и не поступают в него извне, готовыми, а
вырабатываются самим человеком благодаря тому, что эти истины в виде
«маленьких представлений» с самого начала существовали в душе с
той бесконечно малой степенью сознания, которую мы называем
бессознательной; лишь в ходе апперцепции на почве растущего
опыта, в котором они еще являются неясными и неотчетливыми,
они поднимаются до обретения ими некой степени ясности и
отчетливости.
Введением термина «апперцепция» Лейбниц помог понять
многогранность и всеохватность процесса происхождения
сознания, его два последовательно в ходе познания сменяющих друг
друга аспекта (эмпирический и теоретический) и вместе с тем
уровня, а также содержания (репертуара) души (монады),
состоящего из бессознательных и сознательных перцепций, в целом
образующего некое достояние, индивидуальное богатство души
вечной, бессмертной монады. «Каждая душа, - писал Лейбниц в
письме к Арно, - ...содержит в своей субстанции следы всего того,
что в ней случается».
Своеобразное отражение, отзвук идеи апперцепции есть,
по-видимому, в том, как Лейбниц характеризует связь монад с
Богом. Ведь они с Ним связаны двояко: и напрямую,
непосредственно благодаря тому, что Он есть их гармония и «монада монад», и
опосредованно - через Свое «предустановление» этой.гармонии
как самого Себя. Но такое «предустановление» есть не что иное,
как божья переработка всех доступных Богу перцепций
вследствие необходимости существования именно такой, а не иной
гармонии, что в обшем равнозначно божественной апперцепции.
Комментарий
329
Апперцепция - это способность (ста) монады определенным
образом, или способом (методом), избирать, сочетать,
организовывать «представления», регулировать их. Поскольку монады не
физического происхождения (и природы), а метафизического, то
апперцепция есть некое лгетафизическое действие. Иначе говоря,
действие по сути уже не философское и не частно (специально)
научное, а обще(мета)научное, поэтому и ле/иаме/ядфизическое.
Идея апперцепции и связанной с ним оценки разнообразия
оказала влияние на идею синтеза в философии Канта.
Монада как «стремление». Лейбниц отличает уже
рассмотренные выше такие способности (силы) монады, как «переходить»,
«представлять» (быть «представлением») и «апперцепировать»
воспринятое (или «представленное»), от другой, родственной им,
но еще более высшей и обусловливающей их способности (силы),
а именно - от «стремления» монады, которое Лейбниц считал
всеобщим принципом деятельности монад, называл appétit, tendence,
conatus. Он понимал под этим некую склонность, побуждение,
тяготение, желание, страсть, влечение монады быть указанными
выше способностями (силами).
Причем для Лейбница они, в том числе обусловливающая их и
более высшая сила «стремления», суть и «способности (силы)», и
различные по своему рангу «состояния» монады. Я бы сказал
даже, что все они суть разные аспекты ее общей способности (силы)
оборачиваться (ср. с лейбницевским «принципом Арлекина»)
своим собственным состоянием, «переходом», «перцепцией»,
«апперцепцией» и «стремлением»; существовать (быть) в этих своих
обличьях, качествах.
«Стремление» - это способность, или сила, родственная и
общая всем им, побуждающая все монады действовать,
«активничать» (в частности, быть «представляющей» силой) сообразным
каждой из этих сил путем и образом, как того требуют их природа
и «гармония».
Лейбниц трактует «стремление» весьма широко и не сводит его
к одной лишь апперцепции, перцепции или «переходу».
«Стремясь» прежде всего «уяснить», «опознать», «осознать» и
«представить», апперцепировать, монада вынуждена для этого действовать
во всех этих направлениях, но все же отнюдь не имеет то или иное
из этих действий своей единственной и главной целью.
«Стремление» есть стремление монады к самопознанию и
самосознанию, к самоутверждению и самоопределению, к самодея-
330
Философские письма, которых не было
тельности (самодвижению), в частности
отражательно-рефлексивной. Данное «стремление» к такой деятельности у неживых тел
называют «силой инерции», у живых организмов - «силой
инстинкта», «силой самосохранения» (впрочем, корни ее уходят
далеко в неорганическую природу), а у людей как «тел мыслящих»,
разумных - страстью, влечением, пытливостью, «аппетитом» к
решению проблем, любознательностью, жадностью и т.п. Причем
каждое из них - сугубо индивидуально и специфично,
соответствуя определенному классу и природе этих тел (ср., например,
притяжение тел и симпатию у людей, а также любопытство у кошки и
у человека, тяготение в неорганической природе и т.п.).
«Стремление» - одна из существенных и основных черт монады,
объясняющая через посредство своего проявления (т.е. в конечном
счете «перехода» монады в одно из своих состояний) процесс
апперцепции, накопление и смену перцепций, происходящих «в
ней» и, следовательно, «развитие» монады и ее «представлений» в
ходе постижения истинной сущности Вселенной.
Абсолютная истина, однако, недостижима, возможно лишь
непрерывное бесконечное «стремление» к ней как к «переходу»
монады в следующее состояние. Это «стремление» (appétit, tendence,
conatus) монады «переходить» ко все новым и новым
«представлениям» (перцепциям), к «апперцепции» как переработке
накопленных монадой «представлений». «Стремление» есть активная
сторона всякой души и осознанности, всякого сознания и
самосознания. В мире психологии лейбницевское «стремление»
аналогично «энергии» в мире физики, полагал Виндельбанд.
Монада, таким образом, весьма многогранна уже в рамках
такого ее аспекта, как «активность». Монада - это активная
«субстанциальная» сила, «энтелехия», «представляющая» сила, «стремление»,
«перцепция», «апперцепция», «переход» монады из одного ее
«состояния» в другое. Причем Лейбниц, рассматривая эти грани
(аспекты) монады, взятой в рефлексивном аспекте, субординирует их
в определенной иерархической последовательности от «высшего» к
«низшему», отдуха (разума) к душе (представлению); от
отчетливого и ясного к смутному и темному; от рассудка к чувству; от
внутреннего, субстанциального к внешнему, феноменологическому.
Поэтому в одном из своих аспектов «представляющая сила»
монады (или, точнее, монада как «представляющая сила»)
включает в себя «стремление», «апперцепцию», «представление» и «пе-
Комментарий
331
реход» как свои низшие и конкретные проявления, этапы
саморазвития.
Все эти аспекты суть различные, но не внешние ей состояния
монады как «представляющей» силы; она и есть они, а они суть
она сама. Монада есть единство множественности,
монистический плюрализм или плюралистический монизм, гибрид
дискретности и континуальности (непрерывности), их
предустановленная Богом гармония, аналогичная отношению поля и частицы в
современной нам физике.
Итак, рассматривая монаду в отражательном (рефлексивном)
плане, или отношении, а именно: как способность (силу)
«представлять», или как «представляющую» силу, Лейбниц указывает
на то, что монада выступает, с одной стороны, в такого рода
аспектах, как «переход», «представление», «апперцепция»,
«стремление», а с другой - в таких аспектах, как «смутное и ясное»,
«сбивчивое и отчетливое», «чувственное и рассудочное»,
«бессознательное и сознательное», «пассивное и активное». Все грани (аспекты)
связаны между собой. Оба множества этих аспектов едины
(тождественны) и противоположны.
Оба множества индивидуальны и иерархично
субординированы экстенсивным и вместе с тем интенсивным образом, т.е.
элементы обоих множеств одновременно и рядоположены,
находятся на одной плоскости, на одном уровне, и находятся между собой
в последовательности от низшего к высшему, на разных
плоскостях и уровнях; имеют различную степень и являются
последовательностью ступеней от сложного к простому, от общего к отдель-
ностям, от целого к частям, от сущности к явлениям, от
метафизического к физическому и т.д. Причем и в экстенсивном, и в
интенсивном планах каждый предыдущий элемент у обоих
множеств включает в себя последующий, тот в свою очередь
последующий и т.д., образуя общий и вместе с тем раздвоенный ряд
накапливающихся ступеней, степеней, состояний и форм.
Экстенсивная иерархия (или разнообразие) обусловлена
пространственным отношением монады к себе и иному, а
интенсивная - временным. Важно, что у Лейбница обе иерархии
диалектически взаимосвязаны и столь же многообразно и многоступенчато
едины (тождественны), как и противоположны, отчего сама
монада выступает как «единство в многообразии».
Может ли быть иначе, коль скоро монада, помимо того, что
есть вне и внутри нее, необходимо имеет и свое, так сказать, лич-
332
Философские письма, которых не было
ное (индивидуальное) отношение к тому и другому уже потому, что
она сама есть некое субстанциальное отношение, как я уже об
этом писал. Несомненно, что это отношение есть один из ее
аспектов, который может рассматриваться, как, во-первых, причина
«стремления», «апперцепции», «представления» и «перехода», а
во-вторых, как их общая предпосылка и основание, являющееся
гораздо более субстанциальной, имманентной монаде и высшей,
чем они.
Монада как «предустановленная гармония субстанций». В 1790 г.
А.М. Брянцев писал, что о «души и тела союзе... философы
утверждают три положения... Древнее положение известно под
именем влияния физического (influxus phisicie). Последователи
Картезиевы, сего не принимая, утверждали положение случайных
причин (causarum occasiona), и, наконец, Лейбниц между телом и
душой защищал предопределенную гармонию (harmoniam prae-
stabilitam)».
Лейбниц рассматривает связь души и тела как
предустановленную Богом всеобщую мировую связь субстанций («монад»);
как их беспрерывную гармоническую зависимость между собой.
Причем каждая связана этим предустановленным (praestabilita)
отношением друг с другом, а потому и со своим телом, или вещью,
или явлением и т.п. Синхронность, гармоничность деятельности
монад (как и часов) зависит, как было сказано, двояким образом:
и от мира механического, физического, и от мира
метафизического, идеального, божьего. Лейбниц назвал это «предустановленной
гармонией монад».
Связь души и тела, а также душ и тел между собой Лейбниц
поясняет на примере, который использовал еще до него его старший
современник Арнольд Гейлинкс, а именно: двух часов,
работающих совершенно синхронно. Эту синхронность можно объяснить
следующим образом.
Во-первых, механической (физической) зависимостью
одних часов от других, их причинно-следственной связью, хотя
данное объяснение удовлетворит лишь человека, совершенно не
знакомого с часами. Так объясняли связь души и тела картезианцы,
признавшие influxus physicus, т.е. непосредственное
взаимодействие как воздействие субстанций друг на друга.
Во-вторых, беспрерывным, постоянным и чудесным
регулированием этих двух часов чудаком-механиком, непрерывно и
безотлучно следящим за часами во все время их работы, т.е. посто-
Комментарий
333
янной посреднической деятельностью творца как вечным чудом.
Таково объяснение связи души и тела как двух субстанций
окказионализмом.
В-третьих, синхронность действия часов зависит от
«изготовленного» и «изготовителя». Она объясняется совершенством
часовых механических устройств, изготовленных первоклассным
часовым мастером, т.е. совершенством их работы и
профессиональным совершенством работы изготовившего их мастера.
Таково объяснение Лейбница.
Для объяснения связи души и тела Лейбниц, таким образом,
использовал идею Гейлинкса о синхронности хода часов как
некой реальной автономной упорядоченности, а также ее
зависимости от их механического устройства (акта Творения) и часового
Демиурга. Души (монады) взаимосвязаны подобно тому, как
связано бесконечное множество часов, отбивающих одно и то же
время. Но они это делают не потому, что воздействуют друг на друга
непосредственно или опосредованно, а потому, что каждое из них
является совершенно точным механизмом, который сотворен
наилучшим механиком. Предустановив вечно точное время, а
иным оно и не могло быть у абсолютно совершенного Верховного
мастера, и вечно постоянную гармонию (harmonie pretablie des
substances) монад как субстанций, Мастер создал веши такими,
чтобы они вследствие этой гармонии сами находились в
гармоническом единстве, не нуждались бы в ремонте с Его стороны и не
влияли бы друг на друга.
Лейбниц использовал эту аналогию для объяснения связи
души с телом. Но ему недостаточно одной только механической
причинности и физического взаимовлияния для объяснения
связи души с телом, ибо идея причинности (взаимодействия), будучи
верной сама по себе, в качестве отдельно взятой идеи односторон-
ня, есть некая крайность. И он опирается на идею сотворенности
мирового много- и разнообразия одним единым высшим существом, a
также на идею иерархически субординированной непрерывности для
сведения декартовской и окказионалистской механической
причинности к чему-то ее дополняющему и ей противоположному, к
чему-то еще более, чем она, основному и субстанциальному.
Общеизвестно, что антиподом монизму, в частности единству
(«единению») как целостному одному, является плюрализм
(множественность и многообразие, разнообразие) как многое. В
истории философии множественность либо считали нереальной, не-
334
Философские письма, которых не было
действительной (например, сторонники Веданты, элеаты,
средневековые реалисты, Платон, субъективные идеалисты), либо
считали действительным только ее противоположность единству
(таковы, например, античные атомисты и средневековые
номиналисты), либо, наконец, считали возможным согласовать эти две
враждующие точки зрения. Так утверждали Лейбниц и позднее
Рудольф Герман Лотце, профессор Геттингенского университета,
искавший в середине XIX в. отвергнутую Лениным «третью
линию» в «основном вопросе философии», т.е. гнусную,
соглашательскую и предательскую псевдозолотую середину между
материализмом и идеализмом в понимании отношения между
сознанием и бытием, духом и материей.
С точки зрения Лейбница и Лотце, реальное единство вовсе не
исключает реальной множественности, а необходимо требует
своего сочетания с ним; особенно в том случае, когда желательна
полнота, следовательно, истинность как «единства», так и
«множественности». Внутреннее, имманентное единство, характерное для
каждой монады самой по себе, а также для всего бесчисленного их
множества, отнюдь не противоречит ни множественности, ни
разнообразию. Это следует из тех явлений, в которых единство жизни
и сознания все более и более покоряет, но никогда абсолютно не
уничтожает себе противоположную и одновременно
взаимодополняющую множественность мертвой, неорганизованной
материи, как система не уничтожает хаос, и наоборот. Необходимость,
единство и система всегда борются со случайностью, много- и
разнообразием, хаосом, и всегда при этом оборачиваются («меняются
местами», и не только «местами»!) друг с другом; и это вполне
естественно, в порядке вещей, равно как и в их хаотическом
единстве (или едином, целостном хаосе), где всякому и всему есть место.
Бог - центральная монада. При рассмотрении Его совместно с
другими субстанциями в этом качестве или как монады монад Он
оборачивается «предустановленной гармонией субстанций», «то
есть Богом». Предустановленная гармония - это взаимосвязь,
взаимоотношение. Но это не обычное взаимодействие
(взаимовлияние), поскольку, как мы видели, в такой взаимосвязи
(взаимоотношении) нет ничего телесного, вещественного, физически
чувственного.
Лейбниц вслед за Декартом учил, что субстанции не могут
взаимодействовать друг с другом. Для Лейбница
непосредственное физическое воздействие, «influxus physicus», невозможно по
Комментарий
335
самому своему понятию. Между душой и телом, равно как
монадой и неодушевленным объектом (вообще-то говоря, у Лейбница
нет ничего абсолютно неодушевленного, как и абсолютно
одушевленного), или Богом и людьми или вообще между всем тем,
что Он сотворил, нет причинно-следственной связи,
детерминизма, взаимодействия. На взаимоотношения субстанций, согласно
Лейбницу, нельзя переносить представления физики и механики,
ибо законы тел отличны от законов субстанций, законов души
(духа).
Каждая монада живет только собой и в себе, но все они
переживают одно и то же, поэтому кажется, что они постоянно влияют
друг на друга. И так как душа в каждое мгновение и состояние
должна «представлять» именно то, что происходит с телом, то
кажется, будто то она влияет на тело, то сама испытывает его
влияние. Между изменениями в одной монаде и изменениями в другой
существует «предустановленная гармония», что и производит
впечатление взаимодействия, его видимость. Это лишь кажется,
будто монады воздействуют друг на друга.
С одной стороны, в каждой монаде необходимо и Богом
предустановлено содержится все многообразие остальных, а с
другой - уже сама природа монады как субстанциального единства
настоятельно требует, чтобы это многообразие находилось в
объединяющей связи («единении»). «Монада», таким образом, есть,
наконец (после демокритовской атомистики,
номиналистической метафизики М. Низолия, окказионалистов и Спинозы),
достигнутое в истории философии воплощение и олицетворение
тождественности части со своим целым, а «предустановленная
гармония монад» - тождественности целого со своей частью.
Лейбниц просто обожает это тождественное обнаруживать,
чтобы, тут же его разрушив, как ребенок коробочку,
полюбопытствовать: «А что там внутри?», выявить содержащееся в
тождественном различие и довести его до противоположности,
искрящейся полярности, крайней несовместимости с тем, чтобы опять
эту противоположность, весело разрушив, выявить в ней толику
общего и, опираясь на него, вновь довести его до единства, а
потом опять до тождества... «Все везде, как здесь», - говаривал он.
Я не знаю, чего больше в этом излюбленном им «принципе
Арлекина» - влияния объективной действительности, позволившей
ему открыть этот оптимистический принцип, или влияния его
собственного характера, личности, натуры, или, наконец, влия-
336
Философские письма, которых не было
ния переменчивых тайных обстоятельств, удачных и неудачных
интриг придворной жизни, известных лишь горстке
посвященных; придворной политической жизни, в которой - и так
происходит до сих пор - все всегда не то, чем кажется: даже
раздвоившись, ты должен быть и не тем, кто ты есть, и самим собой.
Аристотелевская и схоластическая логики основывались на
законе противоречия (contradictio), где «противоречие» есть такое
отношение понятий или суждений, при котором они взаимно
исключаются и, таким образом, по этому закону, противоречащие
понятия не должны быть одновременно мыслимы (например,
белое и не-белое), так что из двух противоречащих суждений одно
всегда истинно, а другое - ложно.
Напротив, Лейбниц поставил во главу логики закон
тождества. В логике тождественными называются понятия одинакового
содержания и одинакового объема: А = А. В математике
тождественными выражениями называют такие, которые остаются
равными при всяких значениях входящих в них величин (например,
2а = а + а, при всяком значении о). Для Лейбница доказать
какое-либо положение - значит свести его к тождественному
положению (отношению).
Закон достаточного основания есть для Лейбница критерий
истины в области опыта, а критерием истины в области чистой
мысли является закон, или принцип, тождества.
Если закон тождества, на котором основывалось учение
Лейбница, сопоставить с его любовью к согласию, примирению,
стремлению к миру и динамическому равновесию; с его
тенденцией к непрерывности и относительному отказу от коренных
перемен, скачков, революций (переворотов), резких критических
утверждений, наконец, мы сможем лучше понять органическую
связь личности, индивидуальности (натуры) Лейбница, его
мировоззрения и учения, их «веселую необходимость», оптимизм, веру
в то, что самостоятельность, активность, индивидуальность
человека определяют вместе с Богом (как в известном смысле «ровней»
человеку и своеобразным «резервом для маневра» или даже
«организатором» (В. Шулятиков), менеджером или адвокатом) свою
человеческую жизнь и судьбу. А знание своего прошлого и
настоящего позволяет надеяться узнать свое будущее.
II Вспомним, что Лейбниц относился к идее универсальности как
oeil новному принципу своего учения и жизни, и тогда поймем, что долж-
Комментарий
337
ны осознать закон тождества гораздо более широко, чем он толкуется
Лейбницем и нами. Ибо это принцип международной,
общенациональной, общенаучной, общечеловеческой, общефилософской и
социальной (коллективной) общности, солидарности, единства
(тождества), позволяющий распространять на все бытие мораль
общечеловеческого «единения»; выдвинуть на передний план общение душевное,
терпимое, благожелательное, благородное, сочувствующее и
интеллектуальное как нечто субстанциальное, главнейшее и определяющее
для всего Рода Человеческого.
Принцип тождества - это «Возлюби ближнего...», «Несудите...», «мир
в людях и благоволение» как самое естественное из всего
естественного и существующего; это то, что всех нас, людей, объединяет и
созидает, а не расторгает и разрушает; это то, что потихоньку, не заносясь и
не впадая в отчаяние, строит, а не то, что ломает сразу и навсегда.
Таковы некоторые негативные признаки, особенности, черты
диалектического закона противоречия, который, если рассматривать его так
же, как закон единства (тождества), в его крайней форме одной лишь
борьбы противоположностей, т.е. за пределами логики и в более
общем, универсальном и глубоком виде, отличается безграничным в
своей лживости максимализмом и радикализмом, крайней
нетерпимостью. Его лозунги «Кто не с нами - тот против нас», «Ввяжемся в драку,
а потом увидим». Все это невежественно, безнравственно,
бескультурно, все это идет не изнутри, а извне насильно навязано,
противоестественно. Ибо такой закон бесчеловечен, аморален и атеистичен. Смех и
радость он превратил в смех над павшим врагом, в злорадство и
ненависть, веру и любовь заменил приказом и беспрекословным
послушанием, человеческое общение - бесчеловечным, жестоким насилием,
захватом и присвоением.
Сторонник закона противоречия как борьбы - это, как правило,
деспот и фанатик, тиран и социально опасный робот, лишенный каких
бы то ни было предохранительных устройств. Его не интересуют
сущность, смысл, душа, конкретная личность, он печется об усредненной,
унифицированной «как у всех» форме и внешности. Как сказано - ему
менее интересно, чем «//яо сказано. Его первоначально
просветительские и романтические идеалы, если они у него были, давно лишились
реального содержания и превратились в общие отвлеченности,
оторванные от конкретной жизни, но широко используемые в ней,
догмы-абстракции, обернувшиеся невероятной бедой, горем и
несчастьем для миллионов людей. Поэтому он считает себя вправе
деспотически навязать свои идеалы всем остальным людям, не задумываясь о
том, что сам уже давно не живет настоящей человеческой жизнью и
мало-помалу уже превратился в механизм, в машину.
Эти общие утверждения у Лейбница не содержатся, конечно, прямо и
непосредственно, но они навеяны изучением его жизни, характера,
338
Философские письма, которых не было
мировоззрения и трудов, созвучны им. Некоторые последователи
Лейбница об этом догадывались, например немецкий
философ-мистик, последователь Якоб Бёме, противник Шеллинга и Гегеля. Франц
Ксаверфон Баадер (1765-1841), оказавший некоторое влияние на
нашего Вл. Соловьева, изложенную выше мысль о противопоставлении
и расширении смысла законов тождества и противоречия (в связи с
учением Лейбница) интерпретировал в религиозно-мистическом
духе, но это лишь лучше ее оттенило и ничуть не помешало глубине и
широте его социально-политического, философского и
теологического предчувствия.
Адресованное графу С.С. Уварову, министру народного
просвещения, письмо Баадера, названное «Миссия Русской церкви в условиях
упадка восточного христианства», позволяет, на мой взгляд,
по-новому оценить вклад Лейбница в историю мировой культуры, науки и
философии, в историю общения людей между собой и их отношения к
окружающей действительности.
Баадер исходит из справедливого мнения, что философские и
научные взгляды даже отдельного индивида вполне могут стать
определяющими для духовного и материального строя общества, государства
и существенно повлиять на политическую и религиозную (духовную)
общественную жизнь. «По моему мнению, - писал он, - опасно
заблуждаются те государственные деятели и вожди, которые полагают,
что образ мыслей (т.е. их философия) является чем-то
незначительным и что наука, лишенная милосердия, негибельна и для того, кто
правит, и для тех, которыми правят...»
Между тем, продолжает он, сегодня «французы взяли за основу и
впитали в себя разрушительный принцип революции, а философы
взяли за основу картезианское сомнение, которое по сути своей не
лучше скептицизма... Все философы (за исключением Лейбница),
начиная с Декарта и его последователя Спинозы, исходили из
принципа разрушения и революции в отношении религиозной жизни, из
принципа, который в области политики породил конституционный
принцип...» В этом заключается «главная ошибка современной
философии».
Именно философия вместе с наукой ответственна за происходящий в
Европе процесс, «результатом которого стала дехристианизация как в
науке, так и в гражданском обществе»; за то, что в римском
католицизме, «отрицающем разум», «заложен» принцип разрушения, а
западноевропейская наука «враждебна вере», атеистична. По мере усиления в
науке позитивистского, рационалистического и
формально-логического духа из нее вместе с чувством изгоняется и вера. Вот почему
сейчас на Западе происходит «возмутительный и внушающий тревогу»
«упадок христианства», выражающийся в «застое христианства в
Римской церкви и его распада в церкви протестантской».
Комментарий
339
Поскольку Русская церковь оказалась нетронутой ни упадком
католицизма, ни распадом протестантства, а также потому, что «в России
посредническая миссия православной церкви связана гораздо теснее,
чем обычно считают, с миссией страны, которой православная
церковь принадлежит», то лишь Россия, по Баадеру, может предотвратить
«гибельные последствия» грядущего «столкновения Запада и Востока,
став их посредником, что, впрочем, должно быть сделано
единственной основой науки в России - самими русскими». Однако в любом
случае «кардинальная реформа» религии и церкви «невозможна, если
только она не будет проходить в философии и в политике», если не
будет примирять и объединять (отождествлять) полюса противоречия,
его враждующие стороны, крайности.
...И вдохновленный общечеловеческой идеей посредничества, идеей
великого компромисса, фон Баадер поспешно выехал из Германии в
Россию, куда его пригласил кн. А,Н. Голицын. «Но с ним случился
русский анекдот, — писал Н. Бердяев, — его на границе арестовали и
выслали из России. Баадер очень обиделся, писал об этом
Александру I и кн. Голицыну.
Но в Россию он так и не проник».
Письмо второе
ИСТОРИЯ МОЕЙ ФИЛОСОФИИ
Благодарю Вас, Ваше Величество, за бесценное
для меня письмо. Но как не опасаетесь Вы захвалить меня, и без
того легко выходящего за границы скромности, и внушить мне
излишнее тщеславие! Похвалы, расточаемые мне Вашим письмом,
превосходят все, что я когда-либо смел ожидать.
Отвечаю Вам с некоторым запозданием, ибо получил письмо
лишь несколько дней назад. И, надеюсь, что Вам придутся по
вкусу некоторые мысли из содержащихся в этом моем послании к
Вам, поскольку Вы чрезвычайно глубоко изучили творения таких
замечательных древних философов, как Платон, Демокрит,
Аристотель. Мне же приятно писать об их философии потому, что она
очень тесно связана с моей.
Есть, я уверен, в философии древних нечто «прекраснейшее и
полезнейшее для руководства жизни, поскольку очевидно, что
они тоже заглядывали в глубинную сущность вещей. Ведь когда
Платон говорит о Боге, уме и идеях, Аристотель о непрерывности
и полноте, Левкипп и Демокрит - о механической философии и
вихрях материи, последователи Пирона - об обмане чувств,
Пифагор и Аристарх - о системе мира, стоики - о добродетели и
перипатетики - о государстве, они высказывают нечто такое, чтение
которого доставит подготовленному читателю великую пользу и
великое наслаждение и что... наши современники возродили и
упорядочили».
«В трудах выдающихся мужей древности и новых времен, если
исключить те, что заключают в себе излишние нападки на
противников, содержится много истинного и доброкачественного, что
заслуживает быть внесенным в общую сокровищницу». И
«всякий, кто занимался чтением древних писателей, признает в них
нечто более великое и более достойное выдающегося таланта, чем
то, что встречается в нынешних книжках, то ли потому, что у
современных авторов нередко обнаруживается рабское подражание,
то ли потому, что многие из них, по-видимому, не возвышают
души над своим веком и, довольствуясь кратковременным успехом,
во всяком случае не заботятся о вкусе потомков».
Письмо второе. История моей философии
341
Поэтому «я хотел бы, чтобы какой-нибудь сведущий философ
составил краткий обзор древней философии, который мог бы
послужить введением к такому чтению и в котором содержалось бы
только наилучшее и наиболее истинное, наиболее прочное в своей
основе». Примером тому и классическим образцом служит
начинание Якова Томазия. Невозможно даже выразить, как «от
кусочка его истории философии потекли у всех слюнки». В свое время, в
1669 г., все говорили в один голос, что никто, кроме него, не был в
состоянии дать цельную и полную историю философии.
Я и сам желал бы исполнить эту задачу в меру своих скромных
способностей, но боюсь, что за старостью лет своих и исполняя к
тому же поручение моего государя Эрнеста Августа-Брауншвейг-
ского, герцога Брауншвейг-Люнебургского, а именно: написать
историю Вельфского дома к его вящей славе и преуспеванию,
никакой другой истории взять на себя не смогу, хоть и желал бы.
А если такое историко-философское введение в свою философию
и оставлю, как я надеюсь сделать это в моем письме к Вам, Ваше
Величество, то оно будет лишь отрывочным и кратким
конспектом того, что уже было сказано мною в моих трудах и переписке с
современниками, выдающимися учеными и философами, о
которых я уже имел честь писать Вам.
«Хотя я принадлежу к числу людей, усердно занимавшихся
математикой, однако с самой юности я не перестаю размышлять над
философией, ибо мне всегда казалось, что есть средство
установить в ней путем ясных доказательств кое-что прочное».
Вот почему я оказался в числе тех, «кто с ранних лет
приобщился к учению перипатетиков, кто, достигнув зрелости, отнюдь
не поверхностно изучил Аристотеля, кто при этом уже ребенком
упражнял независимость мнений, а впоследствии увлекался
математическими науками и экспериментами». Не ограничиваясь
этим, так как я вообще никогда и ни в чем себя не ограничиваю,
«я... склонялся к исследованию вопросов нравственности... Все
больше убеждаясь в том, какую опору получает нравственность в
надежных принципах истинной философии, я стал изучать их с
большим прилежанием, углубившись в довольно новые для меня
размышления». «Я уже далеко проник в схоластические области,
пока математика и новейшие писатели не заставили меня еще в
ранней юности удалиться от них».
«Выйдя из-под власти тривиальных учений, я с жаром
принялся за новейшую философию. Помню, как я бродил один среди ро-
342
Философские письма, которых не было
щи в окрестностях Лейпцига, в местности, называемой Розенталь,
размышляя над тем, стоит ли мне оставаться сторонником
субстанциальных форм; в то время мне было 15 лет. Наконец верх
одержало механистическое направление, и я занялся
математическими науками». «Правда, по-настоящему я углубился в
математику лишь после того, как побеседовал с г-ном X. Гюйгенсом в
Париже.
Но когда я приступил к поиску конечных оснований
механицизма законов самого движения, то с удивлением увидел, что в
сфере математики отыскать их невозможно и надлежит
обратиться к метафизике.
Именно это меня вернуло к энтелехиям и от материального
привело вновь к формальному, и в конце концов после
многочисленных поправок и улучшений, которые я вносил в свои взгляды,
я понял, что монады, или простые субстанции, суть единственные
подлинные субстанции и что материальные вещи представляют
собой не более чем феномены, хотя и вполне обоснованные и
связанные между собой. Об этом догадывался и Платон, и
позднейшие академики, а также скептики. Только эти господа,
пришедшие за Платоном, не сумели воспользоваться этой идеей так же
хорошо, как он».
А потому изучая историю философии, «я стремился не только
к созданию системы, но старался откопать крупицы истины,
погребенной под домыслами различных философских сект, и
собрать их воедино, добавив к ним кое-что свое, что позволило мне,
я думаю, продвинуться на несколько шагов вперед.
Обстоятельства, в которых протекали мои занятия, начиная с ранней юности,
способствовали этому.
Еще ребенком я познакомился с Аристотелем, и даже
схоластики не внушили мне отвращения; и ныне я не раскаиваюсь в
этом. А Платон уже тогда вместе с Плотином насытил мое
любопытство, не говоря уже о других древних, к коим я обращался
позднее». «Меня увлекла их прекрасная манера объяснять
природу механически, и я со справедливым презрением отвернулся от
метода тех, которые только нагромождали формы и способности,
не дававшие ровно никакого знания (т.е. от платоников и
некоторых новых философов. - Л.П.)».
И «я в молодости в книжке под названием "Физическая
гипотеза" попытался свести все явления к трем деятельным качествам,
а именно: к тяготению, силе упругости (в других случаях я назы-
Письмо второе. История моей философии
343
ваю эту способность "антитипией", т.е. способностью держать
удар, выдерживать натиск, сопротивляться, пассивной
активностью тел) и силе магнетической... (которые. - Л.П.) должны
получить объяснение из простейших и подлинно первичных
понятий величины, фигуры и движения».
«Но затем, попытавшись углубить принципы самой механики,
дабы указать основание для законов природы, познаваемых из
опыта», я заметил, что мне придется выйти из мира механики,
физики и науки, из мира чувственных тел; словом, из мира
материального, в котором я до сих пор пребывал, и перейти в совершенно
другой, бесплотный нематериальный мир метафизики. Из мира
механики, дабы его объяснить, мне, в поиске оснований ее,
пришлось перебраться в мир душ. Из мира явлений я перешел в мир их
субстанций, из мира тел попал в мир их идей. Ибо, попытавшись
углубить принципы механики, я понял, «что для этого недостаточно
принимать во внимание одну только протяженную массу, что
необходимо прибегнуть еще к понятию сипы - понятию, вполне
доступному для мысли, хотя оно и относится к области метафизики».
«Сначала, освободившись из-под ига Аристотеля, я обратился
к пустому пространству и атомам» Демокрита, Эпикура, Гассен-
ди, «ибо это всего лучше удовлетворяет воображение; но отказался
от этого после многих размышлений о невозможности найти
принцип истинного единства в одной только материи, иными
словами, в том, что только пассивно, ибо здесь все является только
собранием или скоплением частей без конца.
Ведь множество может получать свою реальность только из
действительных единиц, имеющих другое происхождение и
представляющих собой нечто совершенно иное, нежели точки,
относительно которых несомненно, что непрерывное не может
состоять из них; дабы найти эти реальные единицы, я был принужден
прибегнуть к атому формальному, ибо что-либо материальное не
может быть в одно и то же время и материальным, и совершенно
неделимым, иными словами, обладать истинным единством».
Иначе говоря, «дабы найти эти реальные единицы, я был
принужден прибегнуть к точке реальной и, так сказать, одушевленной, т.е.
к атому-субстанции, который, чтобы создавать целостное бытие,
должен содержать в себе нечто активное».
«Таким образом, пришлось снова обратиться к
субстанциальным формам и, так сказать, восстановить их репутацию, столь
поколебленную в настоящее время; но это надо было сделать таким
344
Философские письма, которых не было
образом, чтобы они стали доступны пониманию и чтобы
пользование ими было свободно от тех злоупотреблений, которые
делались. Так, я нашел, что природа этих форм состоит в силе; а отсюда
вытекает нечто, аналогичное сознанию и стремлению, и,
следовательно, их нужно понимать наподобие того, как мы представляем
себе души.
Но как к душе нельзя прибегать для объяснения частностей в
устройстве тел животных, точно так же, я думаю, нельзя прибегать
к этим формам для объяснения частных проблем природы, хотя
они и необходимы для установления общих истинных принципов.
Аристотель называет их первыми энтелехиями.
Я, может быть, более понятно, называю их первичными силами
(forces primitives), которые содержат в себе не только акт или
осуществление возможности, но и первичную деятельность.
А поскольку эти силы (или формы, или души) должны были
быть неделимыми, то отсюда вытекало, что эти души и формы
могут получать свое начало только путем творения, а конец - только
путем обращения в ничто», т.е. «я был вынужден признать», что
они «должны были быть сотворены при начале мира и остаются
навсегда», как об этом догадывались такие схоластики, как
Альберт Великий (Альберт фон Болыптедт) и Роджер Бэкон.
Мне остается прибавить, Ваше Величество, что в следующем
моем письме к Вам я «попробую сравнить основные положения
моего учения с учениями древних и других философов.
Истина распространена гораздо шире, чем думают, но
слишком часто она бывает подмалевана, слишком часто завуалирована
и обессилена, искажена, искалечена добавлениями, которые
портят ее либо делают бесполезной. Отыскивая следы истины у
древних или, говоря в более общем смысле, у предшественников, мы
как бы извлекаем крупицы золота из грязи, добываем алмаз из
руды и освобождаем свет от потемок; это и будет по-настоящему
perennis quedam philosophia (некая вечная философия)».
Остаюсь искренно преданный Вам и проч.
P.S. Вероятно, я скоро отсюда уеду, но удастся ли мне
побывать в Англии, пока не знаю. Если Вы, Ваше Величество, и впредь
будете к моей радости удостаивать меня Вашими письмами,
можно в любом случае направлять их в Ганновер по известному Вам
местопребыванию моему.
Остаюсь преданный Вам и проч.
Вена, 1 апреля 1704 г.
Комментарий
345
КОММЕНТАРИЙ
Философская концепция Лейбница как основание системы его
философии. Становление философской концепции. - «Иго
Аристотеля», или Под властью Рассудка. Лейбниц и схоластика. -
«Освобождение от ига Аристотеля», или От Рассудка к Чувству. Лейбниц и
мистика. - Поиск Великого Баланса между Рассудком и Чувством,
схоластикой и мистикой. Новые веяния в школьном образовании
Лейбница. Влияние атомизма Демокрита и Гассенди. Лейбниц и
миросозерцание его эпохи. Картезианство. Декарт и Мальбранш.
Мальбранш и Лейбниц. Лейбниц и Декарт. Спиноза и Лейбниц. -
Синтез, или Возвращение «на новой основе» к субстанциальным формам
и формальному началу. Университетские занятия философией. Яков
Томазий. Философский кризис в роще Розенталь. «Диспутация о
принципе индивидуума» (лето 1663 г.). Три попытки Синтеза.
Философия Лейбница возникла в конечном счете
из тех для нее положительных и ей необходимых творческих и
догматических идей, взглядов и влияний, которые еще задолго до ее
появления уже существовали в истории философии и, вероятно,
еще очень долго будут жить и развиваться в самых различных
формах и проявлениях. Я говорю о схоластике и мистике, основанных
соответственно на рассудке и чувстве.
Он жаждет найти философское выражение для той «золотой
середины» между ними, которая естественно присуща каждому
человеку, имеющему ум и сердце, душу и тело, которые внутри (и
вне!) нас прекрасно уживаются друг с другом, несмотря на то что
«вся наша жизнь есть борьба» между ними.
Лейбниц ищет истинно Великий Баланс между всеми
противоположностями, находящимися в единстве (тождестве), ибо именно
он, гармонически обуздав эти вечно враждующие крайности,
чрезмерности, односторонности, позволяет нам так или иначе жить.
И даже быть счастливыми. Несмотря ни на что и вопреки всем.
Философская концепция Лейбница как основание
системы его философии
Надо ли говорить, что философское учение
Лейбница не появилось в истории философской мысли внезапно, да
еще почти всегда таким неясным, разрозненным и
односторонним, как его сегодня излагают в учебниках по философии. Если
рассматривать это учение как некое целостное явление в том
наиболее полном и развитом виде, в каком оно известно из «Монадо-
346
Философские письма, которых не было
логии» ( 1714) и других сочинений Лейбница, то, очевидно, что ему
предшествовали известные предпосылки.
Чтобы отличить от них собственно учение Лейбница (в полном
смысле этого слова), мы употребляем по отношению к ним
термин «философская концепция», а в качестве их результата, или
собственно философского учения, говорим о нем, как о
«философской системе» Лейбница или, что то же, о «системе его
философии».
Другими словами, мы выделяем в истории философии
Лейбница концепцию и систему, где первое суть предпосылки и основа
второго. Таким образом, философская концепция и философская
система - это последовательные стадии развития философии
Лейбница.
Философская концепция - ядро всей системы его философии.
Концепция эта сформировалась очень рано, еше в годы
школьного и университетского образования Лейбница. Она стала
методологической основой для создания им философской системы,
которую он уточнял и модернизировал на протяжении всей своей
жизни, но фактически оставил незаконченной. Однако мы
считаем, что уже одного знания действительной истории и сути
философской концепции Лейбница достаточно для понимания
структуры его философской системы, а следовательно, и для
достаточно ясного ее описания.
Ошибочность традиционного изложения философского
учения Лейбница и истории становления этого учения обусловлена
не столько ошибочностью указываемых тем или иным автором
«влияний» на Лейбница или «этапов» развития его философии
(эти этапы и влияния, их особенности, суть и т.п. могут быть
указаны и описаны совершенно правильно), сколько непомерным
желанием свести все целое к какой-то одной части,
односторонностью или одноплановостью исследовательского подхода,
бессистемностью (произвольностью) в выборе этих влияний, этапов
и проч. Таким образом, в силу лишь одной своей
односторонности относительно истинное, безошибочное (фактически и, так
сказать, в отношении «части») становилось ложным, ошибочным
вследствие своей недостаточности в отношении «целого» этих
«частей».
Истинность высказываемого о Лейбнице обусловлена не
только истинностью содержания того или иного высказывания
или утверждения, но и - в гораздо большей мере - истинностью
Комментарий
347
понимания самого места и роли данного высказывания в системе
остальных, в ее структуре.
Чтобы избежать указанной односторонности, а
следовательно, возможного искажения действительного процесса
возникновения, развития и завершения образования философской
концепции Лейбница, будем рассматривать ее становление в
следующих четырех аспектах, или планах, которые совместно образуют
основу системы философии Лейбница:
1 ) в аспекте «двух градов» как одной из основных догм христианской
религии (в том числе протестантской), согласно которой мир
двойствен, будучи одновременно единством (тождеством)
противоположностей, а именно: первичного, высшего,
совершенного, управляющего («мир божественный», «бог») и вторичного,
низшего, несовершенного, управляемого («материальный мир»,
«природа»). Философской конкретизацией указанной религиозной
догмы является лейбницевское представление о монаде и
предустановленной гармонии монад, т.е. Боге, а социальной - индивид и
социум, «личное» и «общественное»;
2) в аспекте поиска Лейбницем «истинных единиц» для сближения и
обнаружения единства божественного (идеального) и
материального, т.е. сокровенного и явного бытия. История этого поиска
есть история лейбницевского представления о монаде.
3) в аспекте «скрещения» (А.И. Сырцов) в мировоззрении Лейбница
ряда культурно-исторических и философских течений
(перипатетика, атомизм Демокрита, неоплатонизм, механистическая
философия Нового времени и др.);
4) в аспекте школьных и университетских занятий Лейбница
философией, которые неразрывно связаны с его занятиями
математикой и юриспруденцией.
Все это разные аспекты единого процесса развития
философской концепции Лейбница, ее различные стороны, грани,
плоскости. Вместе с тем это различные по степени абстрактности и
методологического значения уровни субстанциального исследования
философской концепции.
Взаимосвязь их заключается в следующем:
Во-первых, все они начинаются одновременно, но
длительность их различна. Например, первый и второй аспекты
продолжаются и после окончания Лейбницем университета, вплоть до
последних дней его жизни, четвертый аспект по длительности своего
существования ограничен в основном временем его школьной и
348
Философские письма, которых не было
университетской учебы, а третий заканчивается между окончанием
того и другого, занимая промежуточное положение.
Во-вторых, первый аспект («два града») пронизывает всю
философскую концепцию, является для нее методологическим и
лежит в основе ее и всех остальных аспектов.
В-третьих, аспекты взаимосвязаны иерархично. Сравнивая
различные аспекты, можно сделать вывод об их субординирован-
ности, иерархичности, которая, несомненно, должна определять
последовательность изложения этих аспектов в данной книге.
Одни аспекты характеризуют более глубинные и методологически
важные процессы формирования философской концепции
Лейбница, другие - менее глубинные, «поверхностные». В
приведенном выше перечне аспекты именно так и расположены.
Иерархия аспектов является двоякой: иерархия по их общей
значимости и методологическому значению противоположна их
иерархии «по включению». Последнее означает, что в рамках
четвертого аспекта («школа, университет») находится третий аспект
(«скрещение»), который в свою очередь включает в себя второй
(«поиск единицы»), а тот - первый. В этом смысле наиболее
«поверхностный», «формальный», «внешний» аспект- четвертый - в
то же время является наиболее содержательно богатым. Поэтому
именно с него мы и начинаем изложение, продвигаясь от части к
целому, от отдельного к общему.
На соответствующий этому аспекту период приходятся не
только школьные и университетские занятия Лейбница
философией, которые неразрывно связаны с его обучением математике и
юриспруденции. В рамках этого же аспекта формируются его
философские взгляды и происходит последовательное (а иногда
параллельное) перемещение «центра тяжести» этих занятий, а
вместе с ними и мировоззрения Лейбница от истории к поэзии, от
поэзии к философии и схоластике, от них к математике, от нее к
юриспруденции, а от последней к политике. Мировоззрение
Лейбница и его философская концепция окончательно
складываются в движении по этим, как писал К. Фишер, «станциям на
пути... хода образования... Лейбница», но внимание и интерес к этим
«станциям» у Лейбница не ослабевают и сохраняются до
последних дней его жизни.
В-четвертых, третий и четвертый аспекты непосредственно
связаны друг с другом, так как именно в результате школьных и
университетских занятий философией Лейбниц, по его словам,
Комментарий
349
освободился от «ига Аристотеля» и в известной мере от влияния
традиционной схоластики.
Уже в школьное мировоззрение Лейбница проникают новые,
чуждые схоластике веяния. Это - влияние античной мысли,
восхитившей Лейбница, и идея порядка («Calculus philosophicus»),
вынуждающие его мало-помалу отказаться от аристотелевских
субстанциальных форм, но не от духовного начала вообще.
Лейбниц обращается к материальному началу - атомизму
Демокрита, идее «механизма» в философии Декарта и т.п., в общем
ищет принцип единства сущего в телесном, физическом,
природном, материальном начале, но не ограничивается только им
одним.
Однако Лейбниц постепенно разочаровывается в атомизме
Демокрита, его не удовлетворяет и механистичность философии
Декарта. Эти философы «оставляют за бортом» своих
философских учений идеи деятельности (силы), гармонии
(целесообразности), жизненности (одушевленности), свойственные ранее
отвергнутым Лейбницем субстанциальным формам.
После связанного с этим кризиса в своем мировоззрении (его
можно назвать «философский кризис в роще Розенталь»)
Лейбниц приходит к мысли о необходимости обновить всю философию
вообще, выдвинуть нечто новое по отношению к преклонению
перед крайностями - духом (душой) и телом (материей). Иначе
говоря, ищет проклинаемую диалектико-материалистической
философией «третью», «среднюю», «лицемерную» линию в решении
«основного вопроса философии» (В.И. Ленин).
Его вообще не удовлетворяют никакая крайность,
чрезмерность, односторонность, значит, ни материализм, ни идеализм, в
той мере и форме, в которой они были ему известны. И коль скоро
существующая трактовка и духовного (формального), и
материального начал не являются удовлетворительными, Лейбниц
возвращается к отвергнутым им вначале субстанциальным формам, к
формальному («энтелехийному») началу Аристотеля. Но
возвращается, как говорится, «на новой основе».
В-пятых, параллельно этому и в рамках такого сначала
«освобождения Лейбница от ига Аристотеля», а затем возвращения к
нему «на новой основе» происходит отнесенный нами к второму
аспекту поиск Лейбницем «истинных единиц» бытия, мира,
универсума. Он завершается после ряда приближений к более или
350
Философские письма, которых не было
менее удовлетворяющей его (пока!) формулировке понятия
«монады».
Вчерне, т.е. в самом основном и существенном, цель и главные
тенденции (направления) этого поиска становятся Лейбницу
ясны уже в период его школьных и университетских занятий, а
также в период «скрещения» ряда философских течений в его
мировоззрении и философских размышлениях. Однако поиск не
ограничивался данным отрезком времени и выходил за временные
рамки третьего и четвертого аспектов. Он происходил и после
завершения философской концепции Лейбница, т.е. после
окончания Лейбницем университета. Этот поиск продолжался в течение
всей жизни Лейбница.
Поэтому третий и второй аспекты тоже непосредственно
связаны друг с другом.
В-шестых, не менее тесно связаны и наиболее важные в
методологическом отношении первый («два града») и второй
(«поиск единиц») аспекты. Они свидетельствуют о том, что
произошедшее в рамках «скрещения» как третьего аспекта
«возвращение» Лейбница к формальному началу, равно как и отказ от
тяготеющей к естествознанию атомистики Демокрита и вообще
от физической проблемы материального единства мира, были у
Лейбница не абсолютными, а лишь относительными.
Атомистика и проблема материального единства мира
сохранялись в «снятом» виде во взаимоотношении таких
фундаментальных идей учения Лейбница, как «монада» и
«предустановленная гармония». Единство этих идей (по выражению Лейбница, как
соответственно «источника воды» и самой «воды») в его учении
есть единство материального и божественного, полюсов и их
отношения, или, что для Лейбница то же самое, корпускулярного
(дискретного) и волнового (континуального), чувственного и
рассудочного, содержательного и формального и т.д. и т.п. В учении
Демокрита все это выражалось соотношением атомов и пустоты, а
у Платона - соотношением его «двух миров», позднее
теологически выразившихся в учении Фомы Аквинского о «двух градах» -
земном и божьем.
Важность первого и второго аспектов заключается и в том, что,
переходя к анализу их и единства, мы переходим тем самым от
рассмотрения философской концепции Лейбница к рассмотрению
всей его философской системы; от предпосылок его философии
как системы - к ней самой. Ее основанием, центральной идеей и
Комментарий
351
является по сути диалектическое единство (тождество) монад как
«предустановленная гармония, то есть Бог» (Лейбниц).
Монадология Лейбница - его философское учение -
возникло не только на одной лишь философской, но и на чисто
религиозной, на европеизированной и индивидуализированной
социально-идеологической культурной нравственности, а именно: на
протестантской послереформенной почве. «Религия, которой мы
наслаждаемся у нас в Германии, - писал Гейне, - есть
христианство, как оно сделалось римским католицизмом, как из него
произошел протестантизм, а из протестантизма немецкая
философия». Фишер, говоря о Лейбнице, замечает, что он водворил в
Германии новую философию - «плод немецкого протестантского
духа». «Немецкая философия есть дитя немецкого
протестантизма и имеет к последнему такое же отношение, какое схоластика и
картезианство... имели к католицизму», - считал Н. Иваниов.
Но этим далеко не ограничивается горнило всего спектра
влияний, через которые прошла и которые испытала на себе
многогранная философская концепция Лейбница. В 1714 г. в письме к Ремон
де Монмору Лейбниц писал: «Я пытался очистить от мусора и
согласовать рассеянные части истины, погребенной под мнениями
различных философских школ, и полагаю, что прибавил кое-что от
себя для того, чтобы сделать несколько шагов вперед».
Становление философской концепции. Рассматривая в целом
лейбницевское миросозерцание как философское, нельзя не
заметить, что оно есть не что иное, как продукт скрещения самых
различных культурно-исторических и философских течений. Во всех
этих течениях независимо от их роли и значения Лейбниц упорно
выискивал и находил, подобно пчеле, старательно собирающей
пыльцу с самых разных, случайных цветов, встречающихся ей, то,
что так или иначе могло удовлетворить его ум, доискивающийся
до самой сути вещей; то, с чем философ мог бы согласиться. А
соглашался он чаще, чем возражал, и хвалил чаше, чем критиковал.
И тому, кто, как я, хотел бы достаточно определенно
установить, какие именно самые основные и главные философские
течения, скрестившись и слившись воедино, дали в конце концов
Лейбницу прочную философскую основу, или концепцию, для
построения им всего гигантского здания своей философии, тому
пришлось бы выбирать между почти всеми существовавшими до
Лейбница и в его время философскими направлениями, течения-
352
Философские письма, которых не было
ми, учениями, тенденциями, школами и школками, ныне почти
забытыми.
Это тем более трудно сделать, что в целом философия
Лейбница испытала на себе серьезное влияние, идущее еще от
древнеиндийской философии мистики, Бонавентуры, Баадера, Бёме и др.;
неопифагорейской мистики чисел, мистицизма основателя
неоплатонизма Плотина и его последователя Ямвлиха, каббалы
(заимствовав у нее идею двойственности бытия, ступеней ясности
и др.), учения Платона (теория познания, памяти, двух миров
и др.), Эпикура (свобода и самодвижение, выражающиеся в
«отклонении» атомов, и др.), Декарта («машинный подход» к живому
организму, идея всеобщего Метода и др.), Вейгеля (логическая
структура мира, мир как система и др.); мистики Паскаля («две
бездны» и др.) и Мальбранша («видение предметов в Боге» и др.),
пантеизма философов древности, Спинозы и парижских ученых
(Гюйгенса, Я. Бернулли и др.)...
Учение Лейбница и многих других философов очень трудно
уложить в прокрустово ложе тупиковых определений, вроде
«материализма» либо «идеализма», «диалектики» и «метафизики» (в
ее гегелевско-ленинском толковании).
Его философия чужда культу тела либо души, не превозносит
ни чувства, ни рассудка (рацио). Все же, стремясь к их
естественному, оптимальному единству («единению»), философские
симпатии Лейбница склоняются в целом и основном к идеализму
более, чем к материализму, к душам (духам) более, нежели к телам,
скорее к рассудку, чем к чувству.
Но - главное! - Лейбниц, как и непосредственно связанный
во многом с его учением Кант, не желает нанести ни малейшего
ущерба ни тому, ни другому и постоянно стремится к их
взаимному «мирному сосуществованию», терпимости, диалогу
образующих лейбницевскую философию внутренне несовместимых,
казалось бы, исключающих друг друга противоположных полюсов.
Для Лейбница, как позднее Канта, полнота целого, его
универсальное единство вышеето множественности, борьбы, которая
неизбежно ведет в тупик крайности, чрезмерности,
односторонности, искажающих естественность, полноту (всеобщность,
универсальность) и внутреннюю гармоничность бытия, т.е. его
самозавершенность, самодостаточность. Словом, истинную красоту,
какая есть и в человеке (по Лейбницу, в виде человеческого
счастья), и в математическом уравнении; красоту, доставляющую ра-
Комментарий
353
дость и свидетельствующую об эффективности, действенности,
плодотворности, так сказать, производительности существования
и развития мира и его вещей, духовных и материальных, на их
общем пути к никогда не достигаемым людьми божественному
совершенству и гармонии.
«Иго Аристотеля», или Под властью рассудка
В 1909 г. В. Кабитц, немецкий лейбницевед из
Гейдельберга, и вслед за ним проф. И. И. Ягодинский из
Императорского Харьковского университета усматривают, как писал
последний, в миросозерцании Лейбница в 1663-1685 гг. «факт
скрещения... трех крупных вековых культурно-исторических и
философских течений: это перипатетизм, т.е. античный
рационализм "причесанного под средневековую гребенку"
Аристотеля; механическая и материалистическая философия Нового
времени, обновившая принципы древней атомистики Демокрита и
Эпикура, и, наконец, неоплатонизм». Причем, по мнению Кабит-
ца и Сырцова, перипатетизм и неоплатонизм «можно проследить
в их развитии задолго до Нового времени на пространстве всего
Средневековья вплоть до истоков античности», а «механическая
и материалистическая философия Нового времени... хотя тоже
коренится в философии и науке древних, но возрождается лишь
в эпоху Ренессанса и развертывается в полном виде уже в век
французского Просвещения».
Признавая указанные влияния, хотел бы только уточнить, что
в конечном счете мы здесь имеем дело не с тремя, а с двумя
историко-культурными и философскими направлениями, лежащими
в основе как перечисленных выше трех (неоплатонизма,
перипатетики и философии Нового времени), так и остальных
направлений и учений, не вошедших в их число, а именно: с рационализмом
(главным образом перипатетиков) и иррационализмом
(преимущественно мистиков и неоплатоников), чья противоположность в
конечном счете есть противоположность соответственно рассудка
и чувства. Существенно, что Лейбниц рассматривает
рационализм в органической взаимосвязи с «физическим» миром,
природой, наукой (в широком смысле слова), а иррационализм - во
взаимосвязи с «метафизическим» миром, духом, философией.
В 1663-1685 гг., когда складывалась философская концепция
Лейбница, ему было от 17 до 39 лет, и он знал о рационализме и
иррационализме, вероятно, лучше, чем мы сегодня, тем более что он
354
Философские письма, которых не было
размышлял о рациональном и иррациональном (например, о
мистическом в учении пифагорейцев), физическом и
метафизическом чуть ли не с детских лет. Но все же, по крайней мере вначале,
о мистике, иррационализме Лейбницу, вероятно, было известно
меньше, чем о рационализме. Поэтому в философских взглядах
Лейбница рационализм преобладал над иррационализмом, как
бы терпимо он к нему ни относился.
Для понимания становления философской концепции
Лейбница и вообще всей судьбы его философии (в том числе в наше
время) очень важно, что основанный на чувстве иррационализм и
связанное с ним метафизическое, философское для Лейбница
(быть может, неосознанно) воплощается и олицетворяется (как
это и есть на самом деле) в древней и средневековой мистике и
мистическом сенсуализме, в частности в иррационализме
пантеистов и неоплатоников, опирающихся на иррациональные
источники знания, а также на учение Платона (в частности, об
энтелехии, субстанциальных формах, о единстве Бога и мирового
целого, о душе и др.).
Несомненно, Лейбниц испытал на себе метафизическое,
преимущественно в мистическом, иррациональном плане, влияние
Платона. «Платон и Плотин, - вспоминал Лейбниц в 1714 г. в
письме к Ремон де Монмору, -доставляли мне также (т.е. помимо
Аристотеля. - Л.Щ некоторое удовлетворение, не говоря уже о
других философах древности, у которых я искал совета». (Ленин
тоже «советовался с Марксом». Известно, чем это кончилось.)
Подобно Сократу и Платону, Лейбниц учил, что идеи суть
отражения истины. У Гераклита и Платона Лейбниц заимствует
положение об универсальной текучести и изменчивости явлений.
У элеатов и опять-таки у Платона Лейбница привлекает мысль о
том, что истинное бытие должно быть неизменным
(неподвижным) и потому вечным.
Но более осторожное, терпимое и доброжелательное, чем у
Платона, решение вопроса о соотношении идеи и материи (духа и
природы, души и тела) позволило Лейбницу уберечься от
крайности, чрезмерности и реакционной односторонности и не попасть
ни в один из двух концентрационных «философских лагерей»
(Ф. Энгельс).
Как уже говорилось, он избежал тупика философской мысли,
угрожающего каждому, кто вдается в крайность «идеализма» (в
частности, объективного, который исповедовал Платон в своей
Комментарий
355
борьбе с Демокритом) либо «материализма». Даже разделяя
вместе с Платоном мистическую идею «двух градов», Лейбниц был
скорее ближе к мистицизму древних пифагорийцев, элеатов и
пантеистов, чем к объективному идеализму Платона. Однако у
Лейбница можно найти какие-то отзвуки платоновских взглядов
(например, на стремящуюся, чувствующую и разумную душу).
Напротив, рационализм, основанный на рассудке, и
связанное с ним «физическое», научное, для Лейбница - быть может,
тоже неосознанно- воплощается и олицетворяется отчасти в
античной формально-логической философии Аристотеля и его
схоластических сторонников и исследователей в Средние века.
Схоластики, являющиеся учениками Аристотеля, видели, как
все вообще ученики на свете, свою главную задачу в том, чтобы по
смерти учителя его прокомментировать и как можно больше
скомпрометировать; для этой коварной цели они образовали
особую школу «перипатетиков» (от греч, peripatos - крытая галерея)
под руководством ботаника Теофраста. В нее входили Эвдем
Родосский, Аристоксен и Дикеарх, Стратон из Лампсака, Ликон из
Троады. Именно перипатетики, т.е. античный рационализм
теологически очищенного Аристотеля, по Сырцову, «образовал
архитектурный остов стройного и законченного в своем стиле
здания схоластической учености». Впоследствии античный
перипатетизм слился с неоплатонизмом и стоической школами; иначе
говоря, античный и христианский рационализм был вынужден
пойти на уступки мистическому и христианскому сенсуализму,
иррационализму.
Однако в ходе складывания в мировоззрении философской
концепции, Лейбница а позднее формирования его философии
на первый план вначале выдвигаются формальная логика,
которой он интересовался сызмальства, и в какой-то мере
рационализм.
Как уже отмечалось, первоначально у Лейбница преобладали
аристотелевско-схоластическое и рационалистическое
понимание мира в категориях формы и материи. Ему был хорошо
известен рационализм перипатетиков, который в это время в его
сознании доминировал над мистическим иррационализмом
пифагорийцев и каббалистов. Быть может, потому что определенность,
ясность, простота перипатетики, формально-логическая
стройность (устроенность) аристотелевского схоластического
рационализма отвращают молодого Лейбница от крайностей мистики и
356
Философские письма, которых не было
иррационализма и вообще от всего смутного, сложного до
изощренности. Мистика, иррационализм на этом этапе развития его
философских взглядов пока еще не находят пути в его
мировоззрение и не оказывают на него столь большого влияния, которое
они окажут позднее.
Что привлекало Лейбница в учении Аристотеля?
Первое: Аристотель стоит на почве платоновского
идеализма, но настаивает на необходимости эмпирии, которой платонизм
чаще всего пренебрегает, и выдвигает практику на должное место,
хотя не в ущерб теории и умозрению.
Второе: Аристотель возвеличивает «одно», «общее»,
«единое», «существенное» над «многим», «разрозненным
(разнообразным)», «явлениями» и детально исследует, например в отношении
«общего», средства его познания.
Третье: он рассматривает идеи, называя их «формами» так
же, как и Платон, т.е. как первоначальную действительность и
истинную сущность всех вещей. Но если Платон отрывает,
изолирует идеи, или формы, от единичных, реальных (действительных)
вещей и рассматривает эти идеи (формы) как существующие сами
по себе, отдельные от вещей сущности, то Аристотель понимает
под формами внутреннюю сущность самих вещей как реальных
(действительных).
Четвертое: для Аристотеля вещество без формы (т.е.
материя без идеи, материальное без идеального) есть только
возможность (potentia). В действительности каждая вещь есть соединение
идеи (формы) и материи, или вещества. В вещах идея и материя
наличествуют в разной степени: у одних преобладает идея (форма,
душа), а у других - материя (тело, вещество). Отсюда бесконечное
разно- и многообразие и вместе с тем единство (тождество) у всего
бытия, мира, универсума. Отсюда и различие людей и животных,
живых существ и неодушевленной (хотя и не абсолютно) материи,
природы.
Заметим, что аристотелевский отказ от полной и абсолютной
неодушевленности материи; мысль о том, что даже камень
обладает чем-то «идеальным», какой-то «формой», т.е. что всякое
вещество всегда оформлено, а всякая форма, за исключением лишь
Бога, вещественна, будет одной из основ лейбницевской
философии: из нее вытекает знаменитая идея Лейбница о всеобщей
«внутренней силе», «вторичной материи», «деятельных формах»,
т.е. о самоактивности, самодеятельности, присущей всему бытию,
Комментарий
357
всему миру и каждой его вещи, хотя в различной мере и
выражении.
Пятое: вещи, по Аристотелю, разно- и многообразны,
множественны не только в статике, когда мы рассматриваем их в
неподвижности, но и в динамике. В процессе изменения и развития
изменяется не только степень оформленности (идеальности) и
вещественности (телесности, материализованности) вещей и в
вещах, но и степень потенциальности (возможности,
тенденциозности) и реальности (действительности, реализованное™) вещей.
Возможное превращается в действительное, и наоборот. Но
никогда не происходит так, чтобы одно из них - это справедливо и в
отношении формы и вещества, идеи и материи - ушло в небытие,
абсолютно перестало быть, абсолютно уничтожилось вследствие
абсолютной победы другого.
Наблюдаемые в мире изменение, движение, взаимодействие и
развитие есть в сущности не что иное, как вечное, непрестанное,
универсальное изменение незыблемого взаимоотношения духа и
природы, формы и вещества, идеи и материи.
Шестое: в мире все без исключения движется и изменяется,
учил Аристотель, и последним основанием этого движения и
изменения является нечто само в себе постоянное, поэтому
неподвижное как перводвигатель. А поскольку все, что движется,
является материальным, вещественным, телесным, то перводвигатель,
будучи неподвижным и неизменным, не может быть
материальным, физическим. Он должен быть чистой идеей («эйдосом» -
«картинкой», образом), душой, формой, действительностью.
Итак, последним основанием всякого движения и изменения,
«субстанцией, отделенной от материи», как позднее скажет
Лейбниц, является Бог, и только Бог. Бог есть чистый, совершенный и
бесконечный дух. Его деятельность состоит в созерцании,
мышлении. Бог, по Аристотелю, есть «мышление мышления». Так
появляется в монадологии Лейбница представление о Боге как
«монаде монад», т.е. предустановленной Богом гармонии.
Седьмое: Лейбниц считал, вместе с Аристотелем, что есть
три ступени души (Лейбниц говорил о них как ступенях
самоактивности): растительная, чувственная и мыслящая. По Лейбницу,
в первом случае душа - «форма», или «деятельная форма», во
втором - собственно «душа», в третьем - «дух», или «разум». Бог, по
Лейбницу, есть наивысший Разум, что, в общем, не расходится с
тем, что сказано у Аристотеля. Но почему этот Разум так свиреп и
358
Философские письма, которых не было
жесток, что на протяжении многих столетий призывая всех людей
к братству, сам никого не может простить, - не знает никто...
Лейбниц и схоластика. Наше привычно негативное отношение
ко «всякой схоластике» обусловлено нашим неосознанно
негативным отношением к Средневековью, так как обычно мы то и
другое объединяем.
Негативное отношение к Средневековью несправедливо,
исторически и методологически совершенно неверно.
Средневековье, часто рассматриваемое как эпоха засилья схоластики,
неправильно считать только перерывом в историческом развитии или
развитии мышления вообще и положительного знания в
частности. Но сегодня мифологический штамп «темная ночь
Средневековья» сохраняется, хотя эпоха Средних веков уже в какой-то мере
реабилитирована, ее уже не так явно, как прежде в России,
считают остановкой истории, периодом застоя в развитии общества,
культуры, науки и искусства. Но какая-то полуинстинктивная
склонность не мысли, но скорее чувства, психологическая
привычка именно так относиться к Средневековью у нас осталась и
превратилась в стереотип. Но это не соответствует
действительности и вытекает, как и все подобного рода заблуждения, из все еще
бытующего невежества в отношении Средневековья и его
истории, а также непонимания природы этого чрезвычайно для нас
сегодня актуального, важного исторического периода
общественного, научного и культурного развития.
Обычно к этому одинокому, отличающемуся своим
несходством ни с чем средневековому периоду подходят с предвзятым
мнением, судят о нем порой поверхностно, по мелочам, и не замечают
большие и важные завоевания эпохи феодализма в
общечеловеческой культуре, искусстве, науке. Они не видны потому, что очень
трудно провести разграничивающую линию между средневековой
религией и сокровищами средневековой культуры, науки и
искусства. Эти богатейшие сокровища отодвинуты церковью на второй
план, ею «переварены» и лежат скрытыми, не выявленными в
тени, отбрасываемой средневековой религией.
Поэтому очень много средневекового в нашем нынешнем
привычно одностороннем подходе к Средневековью.
Объективно, хотя и на другой лад, он является неосознанным продолжением
политики религии вообще, в частности средневековой церкви и
религии, вее извечной борьбе с культурой, наукой и искусством, вее
борьбе с «мирским», с индивидом.
Комментарий
359
Наша крайняя критическая «революционность» по
отношению к Средневековью и в том числе к схоластике видит в Средних
веках лишь некую аномалию исторического развития,
социальную болезнь, общественный недостаток и, следовательно,
беспричинную случайность, своего рода мутацию в истории. Это -
консерватизм самого низкого пошиба; застой - не в Средних
веках, а в наших мозгах.
Сегодня слово «схоластика» стало нарицательным для
обозначения бесплодных, чисто формальных словесных исследований,
оторванных от реальной практической жизни и
действительности, поверхностных, не затрагивающих сущности дела.
Однако в свое время схоластика имела прогрессивное,
необходимое и очень существенное значение, способствуя
самостоятельности науки и философии; была естественно-историческим,
единственно возможным условием их существования;
питательной средой для дальнейшего плодотворного развития науки и
философии; руслом и формой их развития.
Схоластика - это яркое проявление складывающейся
идеологической системы защиты христианского этноса от
разрушающего интеллектуального влияния движения «нехристей» (арабов и
евреев) на Европу из-за Пиренеев.
Без схоластики было бы невозможно дальнейшее развитие
математики, логики и других абстрактно-дедуктивных областей
знания. Она была предпосылкой и своего рода трамплином для
достижения западноевропейским мышлением того количественного
уровня и качества абстрактности и зрелости, которые были в
последующем необходимы для развития индукции, дедукции,
идеализации и других методов мышления и познания.
Мы в своем отечестве все как один дружно презирали
«схоластику», считая, что она реакционна, регрессивна, существовала в
течение всех Средних веков, была цельной, не изменяющейся,
монолитной и догматической.
Однако схоластика характерна только для второй половины
Средневековья, она постоянно изменялась и развивалась, что
успешно делает и до настоящего времени; причем на первом этапе
своего развития схоластика была отнюдь не догматически
монолитной, как на втором, а диалектически двойственной.
Эта весьма примечательная раздвоенность заключалась в том,
что в начале своего подъема схоластика основывалась почти врав-
ной мере и на чувстве и на рассудке. Ведь основная ее проблема —
360
Философские письма, которых не было
это соотношение чувства (религиозного) и знания. И если
говорить об исходном состоянии ее развития, то она основывалась
даже более на чувстве, чем на рассудке.
На втором этапе развития схоластики из нее под давлением
религии как бы вымывается чувство, а вместе с ним человек,
человечность, индивидуальность, сенсуализм, мистичность,
иррациональность, эзотеричность, сердечность, оккультность,
неопределенность, случайность и т.п.
В исходный период, с IX до XIII в., возникновению и
формированию схоластики способствуют мистика, иррационализм, а
именно: античные натурфилософские учения элеатов,
пифагорейцев, пантеизм, платонизм, неоплатонизм, арабский суфизм и
каббала иудеев, магов и пророков. В это время наряду с рассудком,
что выражалось в аппеляции к авторитету священных книг, а
также трудов Аристотеля, допускалось инако- и вольномыслие в виде
множества самых разных индивидуальных авторских толкований
того, что в Священном писании сказано неясно или о чем можно
догадаться, но совершенно не говорится. Тогда, как и сейчас, все
вопросы решались на основе мнения признанных авторитетов
либо путем произвольных догадок, самостоятельного мышления.
Это был гротескно искаженный средневековый аналог античной
натурфилософии и одновременно шаткий мостик в будущее.
Сама схоластическая философия выступает как философия
единства разных, неделимых, элементарных частей, конкретно-
стей. В конечном счете она непосредственно связана с человеком,
ориентирована на него, на личность, индивидуальность, на его
чувство и отношение к миру; в ней преобладают смутность,
неопределенность, выдумка, фантазия, случайность, произвол; она
фрагментарна и бессистемна, алогична; мыслит скорее
художественными образами, чем понятиями. Подобно мифологии,
схоластическая философия не объясняет, а усваивает себя,
окружающий мир и его вещи. Желая ими овладеть, она практически, как
хамелеон, приспосабливается к ним. Но зато она в вечном поиске.
Она ищет все, в том числе самое себя, когда ищет Бога, повинуясь
церкви.
Но позднее, с начала XIII до XVили XVI в., благодаря
тщательно выверенным полным переводам Аристотеля на латинский
язык, произошел расцвет схоластического рационализма в виде
аристотелевской схоластики, основанной на рассудке (ratio). Из
философии единства «физического» и «метафизического» миров,
Комментарий
361
частей, отдельностей, конкретностей, атомов мирового
универсума схоластическая философия превратилась в философию
единства одного мира, целого, общего, абстрактного, отвлеченного и
однородного, в философию субстанциальных форм, эйдосови
энтелехий. Иначе говоря, в собственную противоположность.
В целом главным предметом мысли, схоластики этого времени
является религия, а главным вопросом - соотношение знания и
веры, ума и сердца, а также формально логическое
аристотелевское рассмотрение и изучение сущности и значения общего
(всеобщего) и «универсалий» как понятий о нем. Преподавание
философии по учебникам с модернизированным учением Аристотеля
или в его духе царило в протестантских школах вплоть до
появления лейбницевской философии, т.е. до конца XVII в.
Однако человеческий разум не может чувствовать себя
достаточно удовлетворенным, уверенным и счастливым, если пальма
первенства отдана либо только чувству, как в первый период
развития схоластики, либо одному рассудку, как во втором периоде.
Несмотря на то что схоластика, утратив первоначально присущую
ей раздвоенность, постепенно как бы кристаллизуется, застывает
в одну цельную и монолитную, основанную на рассудке догму,
внутри этого догматического тела, или кристалла, схоластики не
прекращаются изменения, движение и борьба.
Достигнув своего наивысшего могущества
культурно-историческая и духовно-идеологическая система средневековой
схоластической учености, находясь в самом расцвете своих сил,
постепенно начинает приходить в упадок. Вершина развития и расцвета
схоластики оказалась началом ее упадка и гибели, несмотря на то
что в эпоху Возрождения сожженных еретиков было во много раз
больше, чем в Средние века. Схоластика гибнет из-за своей
внутренней раздвоенности, противоречивости. Выбрав путь
рационализма, формально логического духа, схоластика не нашла его
оптимального баланса с чувством, иррационализмом. Предназначенная
быть опорой религии и церкви, она была отягощена необходимо
присущей всем людям самостоятельностью мышления, которая и
стала причиной ее собственного внутреннего разложения. Не
могло не исчерпать себя мировоззрение, основанное, как писал
Дрэпер, на «противоборстве церкви и интеллектуальных
принципов»; являющееся продуктом и условием церковной «системы
стеснений». Может ли достойно жить и развиваться
«произведение мысли, удерживаемой в порабощении политическими фор-
362
Философские письма, которых не было
мулами», «проявление связанной энергии ума», «литература,
происходящая из неподвижного и неразвивающегося основания»?
Сегодня мы лишний раз убеждаемся, что - нет.
Схоластика неизбежно должна была погибнуть по той
причине, что «человеческий разум начинает больше верить в свои силы,
ишет самостоятельности и убеждается, что он в состоянии
собственными средствами разрешить те вопросы, ответы на которые
признавались получаемыми лишь свыше через откровение, -
писал Иванцов. - Через это, однако, косвенным путем отвергается
уже исключительное значение церковного авторитета и
откровения. Ибо если за человеческим разумом признано право находить
собственными силами и доказывать те истины, в которые ему до
сих пор полагалось только верить, то что же может помешать ему
доказывать далее не истинность, а ложность этих догматов.
Следствием является то, что человеческий разум или
рационалистическая философия начинает и формально расходиться с церковным
учением, как это в особенно резкой форме выражается у
Спинозы», хотя этот философ весьма умело стремился доказать, что у
него такого расхождения нет и быть не может.
Вообще со схоластикой в это время происходит нечто
странное. Авторитет Священного писания и аристотелевских трудов
как будто все более растет, а цитируются они все реже и реже.
Неопределенность, множественность, вариативность толкований
изгоняются, преследуются, и они исчезают, но лишь затем, чтобы
воскреснуть после упадка и гибели схоластики и возродиться в
немецкой протестантской метафизике, непосредственно
предшествующей веку, обществу и философии Лейбница.
Первым мощный удар по схоластике наносит Роджер Бэкон
(ок. 1214-1292), главным образом своим учением о внутреннем
мистическом озарении. Его однофамилец Фрэнсис Бэкон (1561-
1626) воскресил мистическое учение о «странном», о «формах» и
«поднял» отброшенный Аристотелем индуктивный метод.
Во временном промежутке между ними воскрешению
платонических пифагорейских идей и, следовательно, все большему
укреплению такого рода мистического сенсуализма, а вместе с ним и
индивидуализма, содействовала, как писал Сырцов, деятельность
Флорентийской академии и ее выдающегося представителя Марси-
лия Фичино (1433-1499). После со схоластикой сражаются Декарт и
Гассенди. В конце XVII в. за разрушение схоластики берется химик
Комментарий
363
Р. Бойль. Он последовательно отвергал старое схоластическое
мировоззрение и закладывал основу новой науки и новой философии.
Уже самое начало XVII в. ознаменовалось сожжением
доминиканского монаха Дж. Бруно. Сжигая его, Средневековье
сжигало самое себя. «И я сжег то, чему поклонялся, поклонился тому,
что сжигал»...
Лейбниц изучил схоластик}', но не в интересах и целях ее
самой, а для того чтобы использовать ее в качестве средства своей
философии и отвергнуть, хотя и не целиком; так как всегда был
готов пустить ее возможности в ход, употребить на благо обществу и
науке.
Официально аристотелевская схоластика считалась
служанкой теологии (aneilla theologiae), хотя, должно быть, втайне и
ощущала себя той «ученостью», какой в определенном отношении
действительно была: относительно самостоятельной,
универсальной областью культурно-духовной западноевропейской жизни во
второй половине Средних веков.
Вероятно, Лейбниц чувствовал это, ибо его в известном
смысле можно назвать знатоком и почитателем аристотелевской
схоластики. Вместе с ней он считал, что философия имеет в
определенном отношении преимущественно формально-логический
характер и особенное значение придавал изучению сущности «общего»,
«универсального» и систематизации знания. Кроме того,
Лейбниц видел в схоластике очень полезный инструмент для
тренировки способности индивидуального умозрительного мышления к
обобщению, абстрагированию, отвлечению от действительности.
Юный Лейбниц увлекался чтением сложных для понимания книг
выдающихся схоластов.
Он как бы духовно готовился к тому, что его ожидает. Лейбниц
еще в школе изучает сочинения схоластических писателей и, по
собственному признанию, читает труды Ф. Суареса с такой же
легкостью, как милетские сказки или так называемые романы. Он
знакомится с теологической литературой, углубляется в трудные
споры о свободе, читает сочинения Лютера о воле, коллоквиум
Якова Андре, книги Эгидия Гунниуса, полемические сочинения
лютеран и реформатов, иезуитов и арминиан, фоминистов и янсе-
нистов. Лейбниц писал: «Я жил в Забарелле, Рубие, Фонсеке и
других схоластиках с неменьшим удовольствием, чем прежде в
историках. Мои опекуны, которым я всего более обязан тем, что они
совершенно не вмешивались в мои занятия, и которые прежде
364
Философские письма, которых не было
боялись, что я сделаюсь поэтом по ремеслу, теперь начали
бояться, что я застряну в утонченностях схоластики; но они понимали,
что моя натура не могла удовлетвориться одним родом занятий».
В переводе Фишера последнее замечание, очень важное вообще
для понимания сути Лейбница, звучит следующим образом: «Они
не знали, что мой ум не могли заполнить предметы одного рода».
Ягодинский в 1914 г. в книге «Философия Лейбница. Процесс
образования системы» вопрошал: «Хорошо ли усвоил Лейбниц
схоластику? Сам он говорит утвердительно. Мнения ученых
расходятся: одни с этим согласны, другие - нет. Спор, кажется,
должен быть решен так, что для подростка - Лейбниц имел тогда
всего 13 лет - его схоластические познания были основательны и
обширны, но что вообще, даже и позднее, схоластика Лейбницу
известна была невполне».
Но мне кажется, пожелай Лейбниц, чтобы она была ему
известна, то он довольно скоро узнал бы ее во всех деталях. Но дело в
том, что у него были желания поважнее. Он овладел схоластикой в
той мере, в какой ему было необходимо для его универсальных,
пусть неосознанных целей и многообразных стремлений.
Схоластика привлекла его тем, что он предвидел в ней нужные ему, но
неопознанные, невостребованные его веком возможности. Вот
что он писал, говоря в третьем лице о себе и своих занятиях
схоластикой: «Многие находят эти занятия бесполезными. Но он
говорил мне часто, что он этим очень доволен и что он посредством
этого узнал, до какой степени учености может дойти человеческий
ум. Он говорил мне также, что в схоластике есть много
основательного и хорошего и если б это было выражено ясно и точно, то
возбудило удивление в мире...»
Схоластика гораздо более исторически преемственно связана
с прошлым и настоящим современной нам экономики, политики,
права, науки и искусства, чем это может показаться на первый
взгляд, ибо она связана с вечным отношением рассудка и чувства,
знания и веры, теории и опыта - с историей развития
положительного знания, историей логики, прежде всего формальной, с
индивидуальной и общественной психологией, с историей
обучения, педагогикой, с общечеловеческой историей
информационного сообщения, передачи знания.
Схоластика является высшей, наиболее полной и развитой
формой ветви культурного развития, отклонившейся и зашедшей в
тупик, переставшей соответствовать историческим условиям, став-
Комментарий
365
шей концом определенного исторического этапа
одностороннего развития человеческой (индивидуальной и социальной)
деятельности и, в частности, мышления, сообщения и закрепления
знания. Этот этап исторически оправдан тем, что в то время
схоластика была единственно необходимой и возможной формой
сообщения и закрепления знания, в частности формой
идеологического развития средневековой Европы.
В век Лейбница эта форма уже начала изживать себя, но была
еше далека от своего конца, в ней пока еще сохранялся большой
запас естественной прочности и пользы от собственных сил; она
еще не исчерпала себя.
То, что мы видим в схоластике как нечто перезревшее и
исподволь подготавливающее свою собственную гибель, возникло и
сформировалось не в эпоху феодализма, а гораздо раньше - в
эпоху разложения первобытно-общинного строя и присущего этой
эпохе мифологического образа мышления. Гораздо позже
наступил черед античной софистики, которую, несмотря на ее
органическую связь с развитием онтологии, гносеологии, диалектики,
логики и риторики, ругали и ругают не менее, чем схоластику.
Однако в софистике следует отличать тот этап ее существования,
который был исторически необходим и потому исторически
оправдан, от того, в котором ее формальное развитие, перейдя порог
некой меры, лишилось этого оправдания и застыло.
Схоластика - это отчасти то, чем когда-то, задолго до нее,
стала перезревшая софистика. В схоластику входит органической
частью диалектика, разумеется, не в марксистско-ленинском
значении этого слова, а как учение о правилах и средствах
плодотворного «столкновения» противоположных точек зрения,
порождающего истину, а также риторика — учение о красноречии, т.е.
доказательной, полной и рассчитанной на сочувствие и
сопереживание, организованной речи, и логика, главным образом
аристотелевская.
II На смену античной системе воспитания и образования, направленной
благодаря развитию науки и философии на совершенствование мира
сущностных сил человека и познание сущности человека в единстве с
сущностью всей природы, всего мира, пришла средневековая система
воспитания и образования (и ее менталитет), направленная в
результате развития противоположных науке и философии религии и
богословия на познание противоположного действительности, а именно:
себя в Боге и Бога в себе.
366
Философские письма, которых не было
Античная система образования обращала внимание человека на
окружающую действительность, чтобы он лучше познал свое единство,
взаимосвязь с ней, а тем самым и себя. Средневековая система
образования обращала внимание человека на самого себя с тем, чтобы он
лучше познал свою противоположность Богу, а тем самым и Бога, как
свое ничтожество и Его всемогущество. Таким образом, строго
говоря, фактически именно Средневековье, а не античность является
чем-то языческим (в смысле мировоззрения, занимающегося лишь
собой, не заботящегося о душе, о том, что выходит за пределы сферы
собственно животных интересов человека).
Античная система образования лишь внешне выступает как
направленная на окружающую действительность, как натурфилософия. На
самом деле ее целью выступает явленная сущность человека и в своей
основе в конечном счете она совершенствует («образует»,
«воспитывает») внутренний мир индивида, его сущностные силы через их
внешние проявления. Напротив, средневековая система образования
лишь внешне выступает как всецело направленная на верующего
субъекта. На самом деле она совершенствует или «образует» не
столько человека, сколько его внешний мир как мир божественных
внешних проявлений (чудес и таинств) и отношений к иному, чем Бог;
образует мир Его формы, как внешнюю сторону человеческого Я, не
интересуясь внутренней.
Античная система воспитания и образования совершенствовала
личность, индивидуальность, творческую активность и тем самым
разнообразие (например, спортивное) как условие их существования.
Напротив, средневековая система воспитания и образования
совершенствует однообразие, нивелирующее в одинаковой для всех людей
форме верующего, уподобляемого «сосуду греха», усредняет личность
каждого верующего, индивидуальность людей, их творческую
активность и т.п. Отсюда в средневековой системе образования как,
скажем, в гончарном производстве определенных изделий совершенно
недопустимы никакие отклонения от нормы. Глиняные боги
обусловливают глинянность верующих в них, и наоборот.
Христианский стандарт, церковный ГОСТ своей религиозной
унифицированностью совершенно исключал личностный, индивидуальный
подход и в самой системе образования. Общие требования в
средневековой системе образования неизбежно становятся внешними,
формальными требованиями, и само образование - сугубо формальным.
Схоластика и есть фактически формальное образование на богослов-
ско-диалектической основе (где слово «диалектика» имеет
буквальное, утраченное ныне значение). Схоластика основана лишь на таком
сообщении, закреплении, накоплении и использовании знания,
которое определяется средневековой религией, богословием,
одинаковым образом мысли и поведения.
Комментарий
367
Средневековая религия выхолостила не только учение Аристотеля, но
и вообще всю систему античного (для Средних веков - «языческого»)
образования. Она уничтожила «языческие» содержание и цели этой
системы (так как последние, будучи органически связаны с
содержанием, все же выступали как внешние и определяющие по отношению
к нему), однако сохранила «языческую» форму, имевшую историческое
оправдание для античного мира, но уже начинающую его терять в
условиях более развитой исторической эпохи - Средневековья. Этот
«плод победы» постепенно превратился в «условие гибели»
победителей. Так, в неприличной форме христианского кулича легко видеть
кукиш, который язычество посмертно регулярно показывает своему
победителю.
Причем средневековая религия в своем отрицании
противоположного, превращающегося в науку о внешней человеку
действительности, неизбежно должна была в качестве нового содержания
самоустаревающего образования, выработать знание, обращенное
(направленное) на самого верующего как познающего субъекта и через него к
Богу. Цели церковного образования стали отчужденными от
человека, но направленными на него, а не на внешнюю действительность в
целях ее познания. Это замкнуло образование на человека, но лишь
внешним, чисто формальным образом, сделало его светским.
Познание себя в Боге, отвечая природе средневековой религии,
стимулировало развитие естественных познавательных средств человека,
прежде всего его памяти, воображения, рече'вого общения, т.е.
физических, простых и абстрактных, формальных, а не сущностных сил
человека.
Развитие изощренности накапливаемых познавательных приемов,
фиксация каждого из них путем таких педагогических средств, как
общение школяров между собой и с учителем на латинском языке,
древнем, чуждом, мертвом, но общем и для всякой учености «священном».
Зубрежка, повторение, розги, побои и вообще весь веками
накопленный мощный арсенал внешних насильственных средств воздействия
на чувственно-телесную сферу человека обусловлены тем, что само
знание и его цели становились все более абстрактными и внешними по
отношению к человеку, унифицировали его, нивелировали
естественно (от Бога) присущую ему уникальность. Это делало его неотличимой
от других людей абстракцией, идеальным и умопостигаемым
конструктом, иначе говоря, затрагивали лишь человеческую внешность,
поверхностно определяли ее полноту, а не полноту богатства внутренних
особенностей данного индивида, их духовную сущность.
Схоластическое образование - лишь одежка, продукт портняжного
римско-католического искусства, которое занимается не человеком, а
его формой. Это всего лишь внешняя оболочка, подобная ветвям
старого разросшегося дерева; оболочка дифференцированная, далеко
368
Философские письма, которых не было
ушедшая от софистики, от риторики, диалектики и логики античного
мира, но при всем том лишенная их живого содержания и их
оправдывающего соответствия между окружающим человека миром природы
|| и его собственным, личным миром.
Вначале на Лейбница большое влияние оказала
аристотелевская философия в ее схоластической средневековой трактовке
(IX-XVbb.).
Лишь гораздо позднее он начал, как сам писал,
«освобождаться от ига Аристотеля»... Как видим, по отношению к чувству и
рассудку схоластика прошла путь, противоположный тому, каким
прошел Лейбниц.
«Освобождение от ига Аристотеля»,
или От рассудка к чувству
Мистика существовала всегда, и вряд ли в
обозримое время она исчезнет. Она представляет собой одно из
самых изначальных, самых древних, замечательных, любопытных
и живучих мироощущений и миросозерцании, а
следовательно, направлений философской мысли и «философского
чувства», так как роднит нас не с машинами, а с животными и
людьми.
Мистика - лоно философии в самом широком смысле слова.
В качестве мирочувствования, мировосприятия, мироощущения
появление мистики, мистического каждый раз исторически
правомерно как особого рода определенное овладение людей
людьми; беспокоящее их своей загадочностью направление в особый
образ-стандарт человеческой мысли, чувств и поведения. Так
происходило во времена Римской империи, в первые века
христианства, в Средневековье и Возрождение, а также в конце XIX в.
Так происходит, мне кажется, и в нынешнее время, явно
переходное для развития общества.
Нас учили относиться к мистике негативно, отождествлять ее с
религией и считать слово «мистика» ругательным. Долгое время
мы имели дело не с мистикой, а с идеологической карикатурой на
нее (чтобы власти легче было с мистикой расправиться).
Между тем мистика, мистическое - естественное и
закономерное, необходимое и извечное, неизменно присущее человеку
отношение к непознанной реальности как отношение известного
Комментарий
369
к неизвестному, явного - к сокровенному, частей - к своему
целому, явления - к сущности.
Лейбниц и мистика. Мистика (от греч. mystikys — таинственный,
прикрытый) имеет объектом своего внимания всякого рода
явления, указывающие на связь двух миров - мира привычного всем
нам, конечного, посюстороннего и естественного с миром
чудесным, необычайным, бесконечным, потусторонним и
сверхъестественным.
Мистика занимается отношением этих двух миров, их
сходством (единством) и противоположностью, т.е. «изучает» некую
совокупность пограничных явлений потустороннего мира, в
которых воплощено его отношение к нашему миру и через посредство
которых потусторонний мир только и может в нем
самовыразиться и запечатлеть себя.
Эта совокупность явлений служит мистику моделью
потустороннего мира, по которой и на основе которой мистик этот мир
воспринимает и чувствует, находясь в нашем, посюстороннем,
мире. Но можно ли сказать, что мистик изучает потусторонний
мир? Во всяком случае он его не доказывает с помощью логики и
рассудка, как это делает ученый, все время оставаясь в рамках
разумности; мистик не систематизирует знание о мире,
теоретически его не обобщает в абстрактных, порой далеких от практики
общих отвлеченностях, что свойственно философу, остающемуся в
тех же рамках разумности.
Желая в целом прежде всего овладеть воспринимаемым
объектом путем воображения, интуиции и откровения, мистика
родственна мифологии. Но в отличие от нее все объясняет в доступной
для мистика форме. В этом отношении она более близка и науке, и
философии, хотя в отличие от них отрицает главенствующую роль
рассудка (рацио), выдвигая на первый план
чувственно-физические особенности личности конкретного мистика, его характер,
целеустремленность его страсти и воли, а также постоянную
надежду достичь желаемого. Поскольку всякое чувство любит
выражаться в привычных и специфических для него - в
противоположность рассудку, знанию - картинах, образах, чувственных
символах, интуитивно замещающих объект рассмотрения и
дающих простор фантазии, то наивысшее объяснение, которое только
и может дать мистика, - это объяснение ею самой неосознанное,
фантастическое, символическое, воображаемое и в какой-то форме
и степени даже тотемное.
370
Философские письма, которых не было
Ясно, что ограничение объяснения чувством и чувственными,
хотя и символическими, образами позволяет в какой-то мере
«объяснить» лишь явления, но не их сущность. Все это крайне
затрудняло желание мистики объяснить (передать) людям свое
мировосприятие. Причем настолько, что, по-видимому, уже ранняя
мистика сомневалась в возможности познания потустороннего
мира и его явлений; тем более что опасалась за это кары от его
сверхъестественных сил. Но, быть может, в этом назревающем
псевдоагностицизме таилась мудрость древних, благоразумно и
проницательно на всякий случай оставлявших «на свою судьбу» и
«про запас» в картине «познанной» ими природы для неизвестного
(по сравнению с уже известным) «достаточно большое
постоянное место» и некоторую «свободу маневра» перед тем, как оно
станет известным, на самом деле познанным? Не в этом смысл кан-
товской «вещи в себе»?
Во всяком случае ясно, что сами потусторонние явления
двойственны. Принадлежа сразу двум мирам, они необходимо
заимствуют и содержат нечто общее для них обоих. Эти явления
так или иначе определяются нашим миром, его законами,
условиями, стечениями обстоятельств, а потому доступны нашему
чувству и рассудку, предсказуемы и рутинны. Но те же явления
столь же необходимо содержат и нечто совсем противоположное,
определяющееся пока неведомыми нам законами и полученное
нами от не нашего, нам чуждого, потустороннего,
сверхъестественного мира, поэтому необходимо предстают перед нами, как
необычайные, непредсказуемые и чудесные. Они постигаются
через откровение, а не через размышление, умозаключение и
философствование.
Поэтому, как видим, предмет мистицизма - сфера чудесного.
Через эту сферу не ожидаемых нами явлений как свою часть дает
нам о себе знать вечно ожидаемый нами потусторонний мир, в том
числе загробный. Это чудесное и его суть если вообще
воспринимаются, то исключительно чувством, а уж никак не рассудком;
оно, как и весь потусторонний мир, иррационально и алогично,
абсолютно неразрушимо и неразложимо.
Познав чудесное, которое как бы «прикрывает»,
мистифицирует неведомый потусторонний мир, мистика надеется и жаждет
научиться благодаря этому «прикрытию», т.е. через посредство
чудесного, практически, житейски управлять потусторонним
миром, его законами, явлениями; выйти на непосредственный кон-
Комментарий
371
такт с потусторонним, сверхъестественным и овладеть им.
Мистицизм есть стремление обойтись вообще без посредников, даже
без церкви, посредничающей (и за счет этого живущей!) между
Богом и верующими.
В этом плане мистик способен (обречен) играть двоякую роль.
Во-первых, он может выступать с позиции религии как
защитник религиозного чувства против научного рассудка и вообще
посягательств и вторжения науки и методов посюстороннего мира -
в потусторонний мир, в котором возможны Смерть, Воскресение,
Бессмертие и другие неведомые и чудесные для нас вещи. Иначе
говоря, мистик может быть сторонником решительного отказа от
познаваемости «сверхразумных, но не противоразумных»
(Лейбниц) таинств веры и других догматов церкви, т.е. своеобразного
христианского, религиозного сенсуализма.
Во-вторых, он может выступать и с позиции науки как
защитник абсолютного свободомыслия, терпимости к
инакомыслию и враг догматизма, т.е. как сторонник своеобразного
христианского, религиозного рационализма. Последняя позиция близка
атеизму, если не является атеистической, так как ставит «физику»
в конечном счете выше «метафизики», знание над верой, науку -
впереди религии, практику перед умозрением (созерцанием), а
рассудок - во главе чувств и интуиции. Именно вследствие этого
такую позицию нельзя назвать всецело мистической. Мистик не
всегда осознает, что он - не только мистик.
Человек есть такое уникальное конечное физическое
существо, которое объективно связано с бесконечным
(трансцендентным) метафизическим миром, и отдельному человеку, индивиду
имманентен этот мир благодаря присущим всем людям чувству,
воображению и психике.
Мистическое так тесно связано с личным, уникальным,
субъективным, индивидуальным, что можно говорить о мистицизме
как своеобразном проявлении или предпосылке индивидуализма -
социально-экономического и политического явления,
возникшего в XVII—XVIII вв. В Средние века мистицизм в этом отношении
был, благодаря такому субъективизму, несомненно еретичен и
прогрессивен. Это было в какой-то степени чуждое Средним
векам и Ренессансу предвосхищение совершенно новой,
буржуазной культуры и новой, протестантской идеологии, высоко
ценящей и предпринимательство, и предприимчивость,
высокодобродетельное трудолюбие, частно-собственническое вообще, в том
372
Философские письма, которых не было
числе индивидуальное, личное. Чужаком затесалось и странно
выглядело такое предвозвестие в ту эпоху потому, что все
мистическое извечно было потенциальным противником всякому
обществу и веку, ратующему за ясность, логичность,
рациональность, рассудительность, расчетливость и т.п.
Основной чертой мистицизма является превознесение роли и
значения субъективного и субъекта, в частности его внутреннего
личного опыта, образного мышления, интуиции и особенно
чувства любви, ненависти, страсти и т.д. У мистицизма на первом
плане всегда чувство, а знание, рассудок вторичны, производны,
ибо имеют дело лишь с материальным, физическим, конечным.
Чувство для мистицизма выше и «главнее» знания, так как прямо
и непосредственно, минуя явления, имеет дело только с
существенным, идеальным, метафизическим, нематериальным, которые
рассудку, знаниям, наукам и философии противопоказаны и
недоступны. Мистическое чувство есть своего рода чудо. Этот ключ
к потустороннему не поддается логическому и научному анализу.
Это чувство всегда целесообразно, неразложимо, а потому есть
нечто метафизическое, потустороннее. Мистика появляется
целиком и полностью из бессознательного, но не ограничивается им,
выходя за свои пределы.
Философская значимость мистики (мистицизма) в том, что
она стремится ответить на вопрос: является ли чувство
источником постижения истины и в какой мере? Если смотреть на чувство
как на смутное познание, следуя Лейбницу, тогда и мистика
оказывается правомерным философским направлением. Чувство
есть источник познания наряду с интеллектом, в чем были
убеждены и мистики, и Лейбниц, и Кант. Последний использует
нравственное чувство для обоснования идеи разума (рассудка).
Напротив, Лейбниц, отдавая дань роли чувства в познании и вообще в
жизни человека, все же выдвигал на первый план рассудок, порой
не признаваясь в этом даже самому себе.
Мистика считает возможным проникнуть в потусторонний,
недоступный рассудку и науке мир большей частью с помощью
индивидуального чувства и средств, черпаемых из психического
мира человека. В ряду таких средств главным является внутреннее
зрение («интеллектуальное созерцание», или «интуитивный
разум») - один из инструментов (источников) разума для мистика.
У большинства людей он не развит, но тем хуже для них.
Внутреннее зрение вполне можно развить, «накачать», как мускулатуру,
Комментарий
373
разработать так, что в известные моменты оно обязательно
достигнет невероятной, удивительной силы, напряжения и ясности
(состояние «внутреннего просветления»). Это чрезвычайно
редкие моменты экстаза, или вдохновения, энтузиазма, когда во
«внутреннем зрении» мистик непосредственно чувствует
присутствие бесконечного начала, вступаете ним в контакт и сливается с
ним в одно неразрывное бесконечное целое. Мистики, например
Джованни Фиданца Бонавентура (1221-1274), францисканский
монах, парижский профессор философии, друг Фомы
Аквинекого, указывают ступени (у Бонавентуры их семь), проходимые
душой при достижении мистического созерцания, или
«внутреннего зрения». В этом состоянии, учат мистики, душа возвращается к
своей истинной сущности - к Богу.
В этом плане мистика близка оккультизму (от лат. occultus -
тайный, сокровенный), занимающемуся явлениями магии,
телепатии, спиритизма и вообще теми явлениями физической и
психической природы, которые большей частью не признаются ни
наукой, ни религией, но во все времена влекут почему-то к себе
людей образованных и необразованных. Мистика создает почву,
благодатную для оккультизма и сектантства. Мистика близка
скептицизму и эмпиризму, которые к ней и оккультизму относятся
благосклонно в противоположность рационализму, который их
всех отвергает.
Первоначально понятие «мистика» означало практику тайных
обрядов древнегреческих культов и как эзотерический образ
поведения и мысли было достаточно конкретным и узким. Признавая
существование потустороннего мира, мистики признавали
возможность, владея его тайнами, оказывать воздействие на
обычный мир явлений с помощью практического использования (даже
в быту) сверхъестественных, потусторонних сил. Представители
этого направления образуют особую разновидность мистики
(«оперативную мистику»), занимающуюся на основе тайных наук
подобной практикой и предсказанием будущего путем
установления контакта с явлениями потустороннего мира и его силами
(«прорицанием»).
В этом плане мистика смыкается с теургией - способностью,
которой будто бы обладали жрецы древних религий, подчинять
своей власти богов и духов посредством различных заклинаний.
Главной целью этой способности является победа над смертью.
Мистик Ямвлих (умер в 333 г.) рассматривал теургию как средство
374
Философские письма, которых не было
единения с Богом, в то время как его учитель - мистик Плотин -
считал такими средствами экстаз, или внутреннее зрение, а также
добродетельную, нравственно чистую жизнь.
Однако постепенно роль и значение практики в мистике
ослабевают, мистическая практика становится все более
созерцательной, умозрительной, тяготеющей к той или иной чрезмерности,
крайности, к чему-то одному-единственному и
исключительному, к какому-то эпатажу, к радикализму и нетерпимости.
Наряду с этим сфера мистики и по сей день расширяется,
вовлекая в свою орбиту нравственные, религиозные, философские и
художественные толкования явлений, указывающих на связь двух
миров, т.е. на совокупность явлений - посредников между этими
мирами.
Известно, что при особых условиях возможно превращение
всякого достоинства в только ему присущий недостаток,
являющийся в известном смысле продолжением этого достоинства,
но уже в качестве своей противоположности. Так, если на
мистике, или мистическом, настаивать, то она превращается в
мистицизм.
В философии это происходит тогда, когда мистика, впадая в
крайность, сводит все познание (в широком смысле слова), все
постижение истины к одностороннему стремлению чувственно
проникнуть в сверхчувственный мир, чтобы использовать его
сверхъестественные силы порой в своих личных (или
политических), корыстных целях. В мистицизме можно выделить два
основных направления: во-первых, созерцательное
(теоретическое, умозрительно-символическое и образное) у мистицизма на
Востоке и в Азии; например, у Дионисия Ареопагиты -
гипотетического автора сочинений «Мистическая теология» и «О небесной
иерархии» (V-VI вв.), для которого главное - это мистическое
созерцание, его результаты и средства, которыми его можно вызвать
(«умное деяние»). Это напоминает мысль Льва Толстого о
«недеянии». Во-вторых, направление деятельное (эмпирическое,
прикладное), развивавшееся главным образом на Западе Европы.
Представителем его был Франциск Ассизский ( 1182-1226) -
мистик, желавший внедрить в жизнь идею бедности (аскетизма),
основатель ордена нищенствующих братьев. Главное - устранение
или минимизация дистанции между человеком и Богом на пути к
Нему, сближение их посредством добродетельной и безгреховной
жизни. Бог доступен каждому, даже простолюдину. Истинное по-
Комментарий
375
знание Бога - это не познание в обычном смысле слова, ибо оно
не нуждается в теологии, философии и вообще знаниях и
учености, ему не требуются умение мыслить и рассуждать.
Теоретическое (созерцательное) направление мистицизма
было склонно впадать в самые дикие, безрассудные фантазии.
Точно так же и противоположное ему деятельное (практическое,
прикладное) направление склонно превращаться в проповедь
безнравственности, животной чувственности, имея идеалом
эпикуреизм и гедонизм.
Стремление постичь истину, которое, быть может, и было
вначале, подменяется пустым хотением, желанием, надеждой,
безосновательной убежденностью, догмой. В них главную роль
начинают играть даже не их причины, не их цель, а нечто связанное с
ними, второстепенное, производное от них - их степень,
интенсивность, последовательность, мера и форма. Последние по
сути полностью образуют содержание сознания мистика и, по
Э. Гартману, заполняют это сознание, непосредственно
появляясь из бессознательного, из сферы чувства, что говорит об их
априорности, человеческой запрограммированности.
Существенная особенность содержания мистического
сознания в том, что оно органически связано с саморефлексией, ибо это
содержание образовано неким, постоянно ему сопутствующим,
его вызывающим и обусловливающим идеальным
самовнушением (самосознанием) и, значит, известного рода духовной
самодеятельностью, самоактивностью мистически рассуждающего и
действующего субъекта. Эта самоактивность человека имеет
метафизический характер, проявляется и запечатлевается в его личных и
общественных чаяниях. Все они без соответствующего
самовнушения, рефлексии просто невозможны при мистическом
отношении к действительности.
Подобно птице феникс, возрождающейся из пепла, мистика
особенно хорошо и уютно, как дома, чувствует себя именно тогда,
когда всему обществу, всем людям очень плохо: в дни
междуцарствия, смутные времена упадка или перехода от одной
общественной эпохи к другой, в дни социальной культурно-исторической
перестройки. Поэтому история мистики есть история ее
питательной среды - регулярной смены общественных и личных взлетов и
падений, когда под ударами рационализма (рассудка) мистика
гибнет, чтобы вновь возродиться в дни последующих
человеческих бедствий и несчастий, сопровождающихся социальным от-
376
Философские письма, которых не было
чаянием и пессимизмом. В следующие четыре эпохи отмечается
особенно бурное развитие мистики: первые века христианства,
Средневековье и Возрождение, а также период от конца XIX до
конца XX в.
Мистическая философия появилась очень давно, вероятно, уже
в 800-х гг. н.э., когда, по К. Ясперсу, возникала философия,
многие древнееврейские пророки были мистиками. Но еще задолго до
этого древнеиндийская религиозно-философская школа Веданта
(время возникновения неизвестно) была мистической.
Древнее происхождение мистики объясняется тем, что она,
по-видимому, первая из всех других духовных областей,
интуитивно занялась общенаучной и общефилософской проблемой
соотношения бытия и сознания и представляет собой
своеобразный, продолжающий существовать и в наше время реликт -
некое, аналогичное интуиции исходное промежуточное звено между
философией и наукой.
Древнеиндийская и древнекитайская философия с ее (часто) не
выходящим за рамки семьи пристрастием к отдельной личности и
к его Я и мелочной заботой о повседневной бытовой
индивидуальной жизни и поведении была органически связана с мистикой.
Античная философия, заботясь не столько об ощущениях
индивида, сколько о его общих суждениях и понятиях, двигалась в
направлении рассудка, поэтому по существу не была склонна к
мистицизму, хотя и сохраняла его формально, внешне; так проросшее
семя сохраняет до поры до времени старую чешуйку на
проклюнувшемся зеленом ростке. Античная философия в отличие от
древневосточной интересовалась не столько человеческим телом,
сколько его формами и красотой; скорее целым, сущностью,
нежели отдельным, фрагментарным явлением, поэтому
мистические настроения проявились в пантеизме элеатов, пифагорейской
мистике чисел и отчасти у Платона.
Пантеизм (как вид религиозной философии) наиболее
склонен к мистике. Оба учат о присутствии (имманентности)
бесконечного в конечном, в том числе в человеке. Оба вольны
оставаться и развиваться в религиозной сфере либо же выходить за ее
пределы в сферу науки и философии, не утрачивая при этом своей
сущности, не изменяя своим взглядам.
Лейбница, любящего компромисс и согласование, терпимость
к инакомыслию, привлекало в мистике то, что, будучи
религиозной, мистика способна оставаться в согласии с ортодоксией (кро-
Комментарий
377
ме догматов веры, которые Лейбниц неоднократно призывал не
трогать).
В Александрийский период античной философии наблюдается
некоторое возрождение мистицизма. Его оживление можно
видеть у основателя неоплатонизма Аммония Саккаса, а также
Плотина (204-270) и его ученика Ямвлиха. Но в целом в античной
философии мистика играла второстепенную роль.
Неоплатонизм восходит к античности, представляя собой
отзвуки платонических и неопифагорейских идей, которые
пережили столетия христианской эры. В эпоху Возрождения
воскрешению и популяризации плотиновского неоплатонизма
способствовала деятельность Марсилио Фичино из Флорентийской
академии.
Мистический характер неоплатонизма импонировал
Лейбницу тем, что опирался на иррациональные источники знания в
противоположность тяготеющей к рационализму философии
Аристотеля и схоластиков. Это помогло Лейбницу, объединяя в своей
философии тех и других, избежать присущей каждому из них
односторонности.
Возможно, Лейбниц согласился с идеями Плотина о том, что
Бог абсолютно совершенен, субстанциален, необходим,
безграничен, безличен; что Бог выше сотворенного Им мира. Мир же
несовершенен и иерархичен; он есть просто ряд убывающих
ступеней, переходящих от высшего бытия - «Разума» к низшей
ступени бытия - «материи». Иначе говоря, от бытия к небытию, от
света к тьме; от действительности к возможности, от наличия к
лишению (отсутствию), к ничто; от души к телу, от
метафизического к физическому.
Однородному единству всего не противоречит его антипод -
множественность, единообразию - разно- и многообразие (в
частности, указанных выше ступеней). Взаимоисключающие и, на
первый взгляд, противоположные полюса взаимопереходят,
уравниваются и сливаются. Душа и тело едины и противоположны.
Цель жизни - освободиться от телесных оков, чтобы душа могла
вернуться в мир идей, физическое следует обнаружить и уяснить
как метафизическое.
Уже в этом содержится питательная среда для идей Лейбница
о «всеобщей науке», культе Рассудка (рацио), проблеме
отношения души и тела, веры и знания, «ясности» и «смутности»
сознания, эзотеризма и экзотеризма, полярности чувства и рассудка
378
Философские письма, которых не было
(причем рассудок выше чувства); отношение физического и
метафизического миров, их единство (тождество) и
противоположность, и т.п. Наконец, этому очень близка одна из центральных
идей философии Лейбница - учение о самодеятельности,
самоактивности, активной силе, присущей прежде всего
нематериальному (божественному и идеальному) миру как миру
субстанциальному.
Лейбниц и Плотин согласны в том, что познание, ведущее нас
к платоновско-плотиновскому миру идей («метафизическому»
миру, по Лейбницу), иерархично, имеет различные ступени; что
мышление ведет только к миру идей, лишь соприкасается с ним,
но не вступает в него, не проникает ни внутрь этого мира, ни
внутрь мира тел, ибо у мышления и мира идей и тел есть свои
собственные законы, действующие только в самих этих мирах, но не
за их пределами.
Философия Лейбница преемственно связана с учением
Платона о соотношении Бога и мирового целого, о знании как
воспоминании души, и т.д., и эта связь является не столько
натурфилософской, сколько преимущественно философско-идеалистиче-
ской и гносеологической. Не меньшее влияние на Лейбница
оказал неоплатонизм Плотина.
В средневековой философии возникают две крупные
мистические системы - каббала у евреев и суфизм у персов-мусульман (о
нем Лейбниц не упоминает).
Каббала - древнееврейская теософическая система,
разделяющаяся на умозрительную и практическую, прикладную.
Существовавшая в устном предании (вероятно, еще до новой эры), она
была изложена в двух книгах: «Книга создания» (VI или VII вв.) и
<<Блеск», написанных Моисеем де Леона (около 1300 г.). Вероятно,
через посредство платоника и мистика Генриха Мора, труды
которого Лейбниц часто цитировал, он, по мнению его исследователя
В. Фейлхенфельда, ознакомился с каббалой.
Так, в сочинениях Мора внимание Лейбница привлекают
следующие положения каббалы, в которых, по мнению Манке,
можно хотя бы отчасти усмотреть зародыш будущей
монадологии Лейбница: «Нет никакой материи, но то, что всегда
существует, есть дух. Этот дух есть Божественная сущность. Так
называемый материальный мир, который в действительности
духовен, состоит из разделенных духов или частей духовной
сущности, которые стягиваются или сжимаются в монады или
Комментарий
379
физические точки. Это сжатие представляет состояние сна, а
растяжение - состояние бодрствования. Существуют разные
степени бодрствования, соответствующие растительной,
чувствующей и животной жизни».
В каббале Лейбница могли также привлечь следующие идеи.
Во-первых, идея деления бытия на несотворенное
Божественное, обладающее самоактивностью (Божеству присуще
самооткровение, совершающееся через эманацию), и сотворенную
Божеством «конкретную вселенную», которая в соответствии со
своей близостью к Творцу делится на четыре мира (сияний,
творения, создания и делания), т.е. идея множественности миров и
одновременно раздвоенности на мир «метафизический» и
«физический».
Во-вторых, идея универсальной нематериальной цифровой
(числовой, как позднее у Пифагора) натуры, или природы,
первообраза человека Адама «Кадмон» (древнего человека), которая в
свою очередь обусловливает «конкретную вселенную».
Метафизический, а именно: цифровой, или количественный, я бы даже
сказал рационалистический и формально-логический характер
человеческого первообраза и вселенной определяется, согласно
каббале, тем, что первый образован 32 путями премудрости:
десятью сефиротами (цифрами) и 22 буквами еврейского алфавита.
В письмах и сочинениях Лейбница редко говорится о том
влиянии, какое на его философские взгляды оказала каббала.
Однако он кое в чем соглашался с ней, а кое-что, несомненно,
должно было привлечь его внимание и остаться в виде преемственно
связанных с ней аналогичных утверждений. Так, прямо ссылаясь
на каббалистов, Лейбниц согласен с их положением, что «Бог
управляет всем (т.е. конкретной вселенной, универсумом, миром
и его вещами. - Л.П.) беспрепятственно, но благостно и без
насилия, так, что человек думает, будто он исполняет волю Божью...
Это учение может иметь хороший смысл», - заключает Лейбниц.
В христианской философии мистика сначала развивалась в
различных сектах (например, у гностиков), а потом и в самой
ортодоксии (например, у Бернара Клервоского, Бонавентуры, И. Таулера
и др.). Здесь средством единения с Богом, выхода на прямой
контакт с Ним считалась любовь («Tantum Deus intelligitur, quantum
diligitur» - «Путь к познанию Бога есть любовь»), что позднее
получило выражение у Спинозы в его интеллектуальной любви к
Богу, а также в философии Фейербаха.
380
Философские письма, которых не было
В XV и XVI вв. мистицизм постепенно распространяется с
христианской религиозной философии на натурфилософию
(развитие тайных наук) под влиянием возрождения платонизма и
неоплатонизма так называемой Кембриджской школы (Р. Кэдворт,
Г. Мор, Р. Гленвиль, Кюльбервель, Норрис, Патрик Смис и др.),
которая полемизировала с Гоббсом и для которой главными
авторитетами были Бёме и Мальбранш, с которым Лейбниц
неоднократно встречался в Париже.
Основоположник философской мистики Якоб Бёме оказал
заметное влияние на Баадера, Шеллинга, Фейербаха и Гегеля.
Предшественником Бёме был пастор-теолог Валентин Вейгель
(1533-1588). Его мистические взгляды концентрируются на
человеке, подлинная мудрость которого основана на познании им
самого себя, а именно: из чего, кем и зачем создан человек. Это
роднит учение Вейгеля с древнеиндийской мистикой (например, в
ведийской философии).
Лейбниц если и не заимствует от мистика Бёме идею
самотворчества, присущего Богу, то солидарен с ней. Влияние Бёме,
быть может, сказывается и во взгляде Лейбница на Бога как
«отделенную от материи субстанцию». Бёме, пантеистически
рассматривая Бога, отождествляет Его с природой так, что одного нет без
другого.
Бог творит самого себя, начиная от своего бытия в качестве
ничто, или пропасти (Ungnind), представляющей собой не дух, а
лишь образ духа, до наивысшего этапа самотворения, когда с
появления Сына Божия возникает божественная предпосылка
двойственности: Бог-Отец и Бог-Сын (который есть созданное
Богом-Отцом «слово жизни», ее «основа» - Grund). В результате
этой божественной двойственности, раздвоенности возникает
некий синтез как последнее звено этой триады, т.е. дух, святая
Троица. Все это позднее займет достойное место в диалектике Гегеля в
качестве одной из фундаментальных ее идей, хотя все
Божественное исчезнет, сохраняясь в гегелевской философии чисто
формально.
Присущее Бёме отождествление Бога и природы уходит
своими корнями в ведийскую философию. Это отразилось в любимом
афоризме Шопенгауэра («Tattwam asi» (от санскр.) - «Это - ты
сам»), которым он обозначал кантовский феноменализм.
Мистика Бёме - литературно-художественная, поэтически
образная. Это продукт философии и искусства. В ней, как это ха-
Комментарий
381
рактерно для многих мистиков, казалось бы, царит один хаос и нет
системы. Данное обстоятельство сближает Лейбница со всеми
мистиками: они, имея по сути завершенную систему
мировоззрения и мировосприятия, в то же время не имели ее, так как излагали
свои взгляды по случаю, несистематически, фрагментарно. В
философии Бёме нет и односторонности, крайности, которая
позволила бы его причислить к «лику святых» в одном из двух великих
«философских лагерей» - к материализму либо к идеализму, в
которых господствует авторитет священных книг классиков и
томится всякая свежая, непохожая на мысли своих сокамерников
философская мысль. Поэтому Энгельс с завистливым презрением
называет Бёме «материалистическим теистом».
У Бёме, однако, было много диалектических прозрений, что
позволяет говорить о влиянии Бёме на Гегеля. Бёме придал
противоречивости всеобщий, универсальный и даже трагический
характер. Всюду раздвоенность, все вещи состоят из «да» и
«нет», развитие мира происходит вследствие борьбы добра и
зла, света и тьмы. Существование в одном предмете двух
борющихся, противоположных начал определяет его бытие и
движение. Это необходимая и неизбежная «мука материи» (Бёме), ее
абсолютное самодвижение. Такое саморазвитие через
необходимую и неизбежную борьбу - одна из основных идей
марксизма-ленинизма.
После рационалистического XVII в. и скептического XVIII в.
мистицизм с новой силой проявляется в XIX в. по причине
широкого распространения различных оккультистских учений из-за
ослабления и поражения материалистической и позитивистской
философии. Но и в XVII в. влияние пифагорейской мистики
чисел, учения о мировой гармонии и других идей было достаточно
сильным. В эпоху Лейбница оно обнаруживается не только у него,
но и у Яна Амоса Коменского (1592-1670), и его учителя Иоганна
Генриха Альстеда, а также у его зятя, Бистерфельда, теперь
совершенно забытого комбинаторика из Лейтена, с которым Лейбница
познакомил, вероятно, Э. Вейгель, учитель философа, профессор
математики из Иены.
Кабитц, исследователь Лейбница, нашел в Ганноверской
библиотеке, которой тот заведовал во второй половине XVII в.,
экземпляр сочинений Бистерфельда, испещренный замечаниями
Лейбница. Из этих идей, представляющих, по мнению Сырцова,
своеобразные отзвуки пифагорейских, неоплатонических и каб-
382
Философские письма, которых не было
балистических учений, равно как из учения И. Кеплера о
гармонии мирового целого и его всепроникающем единстве, Лейбниц,
несомненно, почерпнул руководящие мысли своего труда «Аре
Комбинаторна» о гармонии Вселенной, внутреннем строении
вещей, порядке форм и др.
После смерти Лейбница в 1716 г. представителем мистики в
Германии был Баадер, последователь Бёме и противник
Шеллинга и Гегеля, оказавший некоторое влияние на русского теософа
Вл. Соловьева, основателя мистической философии в России.
Человек, учил он, есть промежуточное звено, соединяющее два
мира - высший и низший - и предназначенное внедрить в жизнь
всю истину, воплощенную в христианстве, открывающуюся
постепенно, и процесс этого откровения не закончен. Когда этот
процесс завершится, то наступит Царство Божие и любовь
окончательно победит смерть. Изо всех сил веруя в это свое «светлое
будущее», человек исполняет и свое предначертание по
отношению к высшему миру, и свою обязанность - одухотворить
материальную природу и возвести на высшую ступень бытия. Основные
категории теософии Соловьева (стыд, жалость, благоговение)
тесно связывают его мистику с этикой.
Во Франции представителем мистицизма был Анри Бергсон
(1859-1941). Как мистик А. Бергсон методом метафизики считал
интуицию, которую он сближал с инстинктом и
противопоставлял интеллекту, рассудку. По его мнению, рассудок служиттолько
практике, познает только мертвое, раздельное, внешнее.
Напротив, интуиция охватывает жизнь в общем и целом как единое
нераздельное, ее сила в ее идеальности, умозрительности. Идея
самоактивности интерпретируется Бергсоном как господствующий
в мире «жизненный порыв», оживляющий мертвую материю и
бесконечно разнообразящий ее. Подобно Соловьеву, Бергсон был
противником превращения философского учения в систему. Но
если Соловьев говорил о высшем и низшем мирах, то Бергсон
утверждал о существовании соответственно психического мира и
физического.
Многое из того, о чем учили мистики, в переработанном и
дополненном виде вошло в мировоззрение Лейбница и оказало
большое влияние на его учение. Изучая «метафизический» мир,
мистика, как и Лейбниц, выступает против атомизма Демокрита,
в частности против учения об абсолютной твердости,
материальности атомов, что, по Лейбницу, является абсурдным смешением
Комментарий
383
«метафизического» и «физического», потустороннего и
посюстороннего. Лейбницевская идея самоактивности, самодеятельности
уходит своими корнями в самовнушение (саморефлексию), без
которого не обходится ничто мистическое. Мистика вместе с
монадологией близка субстанциальным формам Платона и
«деятельным формам» Аристотеля, т.е. в этом отношении фактически
является единомышленницей Лейбница. Наш философ видел в
мистике не столько теософское, религиозное, сколько
теоретико-познавательное и философское содержание.
Действительно, если считать чувство смутным познанием, как
это делал Лейбниц, то мистика - это философское направление.
Он ценил ее за то, что она является прекрасным «слугой двух
господ» - религии и философии, успешно сохраняя при этом свою
«личность», индивидуальность и не нанося последним никакого
ущерба; ценил за то, что мистика, как и сам Лейбниц, стремится
для пользы людей, хоть и не научно, навести мосты между ней и
философией, а также наукой.
Это отвечало компромиссности Лейбница, его постоянному
стремлению к миру и согласию, урегулированию, терпимости,
диалогу решительно во всем. Лейбница вообще интересуют отношение
полюсов, стык противоположностей, находящихся в единстве
(тождестве), двойственность и разнообразие бытия. Он с
интересом изучает вопрос о чудесах, дает их глубокую и обширную
классификацию, стремится выяснить суть соотношения веры (чувства)
и разума (рассудка), сверхразумного и противоразумного.
Лейбниц подходил к мистике как философ и главным образом
как ученый, познающий субъект. Примерно в таком же
«естественно-научном» ключе относился к мистике и Кант. Он даже
более близок мистике, чем Лейбниц, ибо использовал нравственное
чувство для доказательства идей разума, т.е. вместе с мистиками и
в противоположность рационалисту Лейбницу считал чувство, а
не рассудок главным источником познания. Такое
благожелательное отношение кантианской философии к мистике
позволило кантианству стать в известном смысле официальной
философией царской России особенно в тяжелые годы Первой мировой
войны.
Кант, несомненно, выступает в своей критической
философии как мистик в том смысле, что допускает существование мира
«вещей для нас» как мира явлений объективного, чувственно
непознаваемого потустороннего (трансцендентного) мира «вещей в
384
Философские письма, которых не было
себе». Но он не мистик, поскольку не считает возможным
почувствовать или понять для науки вечно резервный,
сверхчувственный, сверхъестественный мир, а тем более проникнуть в него и
овладеть им с помощью средств, резко отличающихся от обычных
чувственно-рассудочных средств и методов познания -
воображения, саморефлексии и созерцания.
Мистика оказала влияние на Лейбница главным образом тем,
что она основана на признании связи (отношения) двух миров.
Это импонировало философу, неоднократно говорившему о
существовании мира «физического» и «метафизического». К тому
же эта его мысль подкреплялась официально принятым во всем
Средневековье учением Фомы Аквинского о двух градах - земном
и Божьем. В этом учении мистицизм выступает как религиозное
истолкование соотношения посюстороннего и потустороннего.
Их связь (единство) еще не разорвана, хотя и является почти
исключительно креационистской, деистической.
Здесь мистицизм выступает главным образом как защитник
религиозного чувства (веры) от посягательств и вторжения на
«церковную территорию» научного рассудка (рацио), науки и
логики, а также как сторонник решительного отказа от
познаваемости сверхразумных таинств веры и иных догматов церкви, ибо
надо верить, а не объяснять (позднее Маркс скажет: надо радикально
преобразовывать, в корне изменять, а не объяснять), ибо в чувстве
нет места рассудку, вера противоположна знанию и исключает
его.
Уже здесь видны нити, ведущие от мистицизма к
феноменологии, т.е. к учению о том, что мы познаем не вещи в себе, а всего
лишь явления. Феноменализм в своей развитой форме был
результатом и итогом критической философии Канта, а
мистицизм - его предпосылкой.
Позднее Кант разовьет мистическую, атомистскую идею о
«двух мирах» в своем учении о феноменальном, познаваемом мире
«вещей для нас» и сущностном, до конца непознаваемом мире
«вещей в себе». Кроме Канта о «двух мирах» писали Фихте (не-Я и
Я), Шеллинг («природа» и «интеллигенция»), Гегель
(«абсолютная идея» и «материя, природа»).
В этих учениях интересующая нас идея «двух миров»
выступает уже не как чисто религиозное, а как философское
истолкование посюстороннего и потустороннего, естественного и
сверхъестественного. Их связь (единство) все более утончается,
Комментарий
385
слабеет, часто трактуется как нечто непознаваемое и,
следовательно, остается вне изучения, фактически отбрасывается и один
из двух полюсов отношения утрачивается. Град божий в качестве
потустороннего мира никак не обосновывается разумом и не
доказывается рассудком: церковь приказывает ему быть, и все тут.
Вследствие этого потустороннее неизбежно обретает
иррациональный, мифический характер по сравнению с
действительно реальным «посюсторонним» как другим полюсом того же
отношения. Ржавчина ирреальности, мифичности разъедает и само
отношение, поэтому оно становится раздвоенным. В нем
сравнительно мирно уживаются правда и ложь, вымысел и реальность.
Вымысел может получить весьма высокую степень абстрактности,
общей отвлеченности, столь характерной, например, для
идеалистической философии Гегеля. А бывшая полнота и целостность
единения, гармония, ранее сравнительно присущая отношению
«двух миров», исчезает.
Роли переменились: уже не реальность командует,
господствует над выдумкой, отвлеченностью, а наоборот. Управление,
обусловленное переменившейся субординированностью,
иерархичностью как отношения между полюсами, так и перемена мест
самих полюсов, делает их отношения односторонними.
Рассуждающие «верхи» прочно господствуют над сочувствующими
«низами», взаимодействие их, сохраняясь, мало-помалу становится
ненужным.
II Следя за дальнейшей судьбой мистической идеи о двух мирах, мы
находим ее в трудах Маркса и Энгельса. П е р в ы й м и р - это мир
идеально-образцовых «объективных» (я бы сказал, «железных») законов,
или фатальный мир, совсем как у французских материалистов
XVIII в., всецело сплошь необходимый, лишь по форме случайный;
второй мир- обычный реальный наш настоящий мир, в котором
мы живем и которым эти «законы», независимо от нашей воли и
сознания, руководят совершенно так же, как Бог у Платона руководил из
«кругозорницы» движением мира вещей.
Руководят, несмотря на то что мы можем об этих «законах» ничего не
знать и даже не подозревать об их существовании в отличие от таких
гениев, как Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, которые сняли
мистическую пелену с наших глаз, но заменили ее другой, коммуни-мистиче-
ской и, досконально раскрыв эти «законы», подробно, ясно и
доступно, рассказали о них нам, простым и широким, всегда на все готовым
|| народным массам.
386
Философские письма, которых не было
В марксизме-ленинизме идея «двух миров» выступает уже не как
религиозное и философское истолкование посюстороннего и
потустороннего, а как экономическое, правовое, государственное
(политическое), моральное, научное, философское (идеологическое) и
«по-новому религиозное» (неорелигиозное) оправдание; как апологетика
того мира, который в мистике назывался сверхъестественным,
потусторонним, а в марксизме-ленинизме, совсем как у Платона,
выдается за истинную, объективно существующую реальность и называется
«социализмом (коммунизмом)», или «светлым будущим», т.е. тем, что
в христианстве называлось раем. В истмате (историческом
материализме) связь (единство) этих миров теперь якобы доказывается «не
просто парой фокуснических фраз», а всей историей общества и
естествознания, и впервые в трудах Маркса и Энгельса получила строгое
научное обоснование.
Эта связь полюсов все более укрепляется и регламентируется
благодаря единственно верному решению «второй стороны» «основного
вопроса философии», которая, как всем прекрасно известно, утверждает
полнейшую познаваемость мира, следовательно, в том числе и
духовного, идеального, который, по глупости, называли потусторонним,
«метафизическим» (кстати, последнее слово, дескать, понимали
неправильно: метафизика есть антипод материалистической
диалектики, а вовсе не «сверхфизическое»).
Но, как и прежде, «новое потустороннее» рассматривается
марксистско-ленинской партийно-сектантской «церковью» как
подремонтированный и подкрашенный под современность все тот же град
божий», никому неподвластный и никем непознаваемый, кроме
Генсека, который все сотворил. На старом «базисе» возводилась постоянно
меняющаяся в угоду политическим и экономическим
кратковременным обстоятельствам, а также личным интересам «метафизическая»
надстройка. Сталинское учение о базисе и надстройке — продолжение
идей религии, мистики субъективного идеализма, феноменализма и
фатализма. Коммунистический «град божий» все время
обосновывался и доказывался, поскольку, по словам Ленина, материализм,
подобно хамелеону, просто обязан «менять свою форму при всяком новом
действительно естественно-научном открытии».
Но в марксистскую философию, так же как и в остальные «составные
части» марксизма, нужно прежде всего верить; их не обязательно
понимать. Под страхом насилия и даже смерти в них запрещено
сомневаться, а тем более оспаривать их вслух или печатно. Поэтому в
марксизме духовно-идеологический «потусторонний мир», я бы сказал,
доведен до абсолютной своей полноты и совершенства, присущего
кроме ВКП(б) и КПСС разве только средневековой инквизиции. Но и
та далеко отстала от них по части разнообразного и жестокого
преследования за отказ от идеи «потустороннего мира», т.е. «коммунизма» с
Комментарий
387
его «первой фазой» - социализмом, о чем впервые сказано самим
Вождем на таком-то Партийном Съезде...
Партийная церковь приказала райскому «потустороннему миру»
быть. Теперь он обретает явно утопический и мифологический
характер. Его разрабатывают в деталях, которые сообщены свыше и
поэтому немедленно приобретают объективный характер; об этих деталях
радостно догадываются и спорят, часто заканчивая споры в застенках.
«Светлое будущее» выдают за научную реальность. Его как мир
общего счастья духовно-физически устанавливают насильственно
революционным путем (который в свою очередь представляет отношение
между посюсторонней социально-политической революцией 1917 г. и
явно потусторонней «мировой революцией»; причем вопреки
материализму посюстороннее всецело подчинено и здесь
потустороннему). Оба мира революции, или, точнее, обе революции -
посюсторонняя и потусторонняя - нужны в конечном счете вовсе не народам
России, а кучке высокопоставленных мошенников и казнокрадов в их
корыстных сектантских и личных интересах.
Далее продолжаются политическая игра и кровавые интриги, в
результате чего от псевдоправительства в ходе внутрисектантской и
индивидуальной борьбы его членов за власть и собственность остается
«Учитель всех стран и народов» и его полностью ему подчиненное
«семейное» окружение. Здесь «верхи» вновь, хотя более примитивно,
реально господствуют над «низами», живя в том потустороннем,
пределами Кремля ограниченном, но реальном коммунизме, который они
обещали «низам». «Верхи» и «низы» объединены потусторонней,
якобы общей целью «сказку сделать былью», и пока одни «сказочно»,
идеально живут, другие весьма реально прозябают. Взаимодействие,
единение (тождество, равенство) тех и других не реально, а потусторонне;
так же, как не реально, а потусторонне, не настоящее, а выдуманное
«светлое будущее».
Иначе говоря, ленинско-сталинская империя была иррациональной
по самой своей сути; она была достигнутым в XX в. человечеством и
реально осуществленным на практике государственно-политическим
воплощением, моделью «потустороннего мира», провозглашенного
мистицизмом в качестве единственной и настоящей реальности.
В этой империи взаимодействие было иррационально, ибо
требовалось якобы в интересах потустороннего «светлого будущего», в
интересах всех и на благо каждому.
А потому потустороннее коммунистическое будущее вслед за
«мировой революцией» постепенно идеологически, духовно и материально
разрушалось вместе с культом бого-генсека из-за своего все растущего
несоответствия кровавой сказки реальной жизни реальных людей, их
реальным духовным и материальным потребностям и действительно
общечеловеческим интересам. «Завтра, завтра - не сегодня...»
388
Философские письма, которых не было
Поиск великого баланса между рассудком и чувством.
Новые веяния в школьном образовании Лейбница
Если верить Кабитцу, то Лейбниц освободился от
«ига Аристотеля».
Однако, я думаю, книга Бистерфельда была лишь «последней
соломинкой, сломавшей спину верблюда» (если не считать
«кризиса в роще Розенталь», который приключился с Лейбницем),
значит, «соломинкой», далеко не последней и не единственной, т.е. не
окончательной причиной этого освобождения, а всего лишь поводом
из многих других; зерном, которое, может быть, и не проросло бы,
не упади оно на уже сформировавшуюся у нашего философа к
этому времени благодатную мировоззренческую почву.
Ее обеспечили для Лейбница его детские и университетские
занятия античной натурфилософией, а также его увлечения
античной поэзией (до конца жизни его любимым поэтом оставался
Вергилий) и древней и современной историей. Переход
мировоззрения Лейбница в новое качество подготовили чрезвычайно
медленные и незаметные количественные перемены, как это и
подобает всяким естественным переменам вообще.
Фишер отмечал две идеи, или веяния, тенденции, которые
начинают в это время все более проникать в замкнутую сферу
школьного схоластического образования юного Лейбница — его
увлечение сочинениями поэтов, историков и мыслителей
античной древности, а также натурфилософская идея всеобщего,
универсального порядка, которая играла большую роль в философской
концепции Лейбница и, возможно, была интуитивной
предпосылкой одного из основных устоев лейбницевской философии -
идеи предустановленной гармонии. Из-за этих новых веяний в
схоластическом образовании юного Лейбница появляются
несовместимые со школьной схоластикой и противоположные ей
«новые несродные черты» (Н. Иванцов).
Сочинения древних поэтов и историков Лейбницу особенно
нравились, отмечают Г. Гурауэр, Серебренников и другие
исследователи творчества философа. В своем «Жизнеописании» («Vita»)
Лейбниц рассказывает: «Когда я подрос, мне начало доставлять
чрезвычайное наслаждение чтение всякого рода исторических
рассказов. Немецкие книги, которые мне попадались под руку, я
не выпускал из рук, пока не прочитывал их до конца». Когда
Лейбница допустили в ранее для него закрытую библиотеку его
покойного отца, юноша, по его собственному признанию, «торжество-
Комментарий
389
вал, как если бы нашел клад, потому что сгорал нетерпеньем
увидеть древних, которых знал только по имени, — Цицерона и
Квинтилиана, Сенеку и Плиния, Геродота, Ксенофонта и
Платона, писателей Августова (т.е. императорского. - Л.П.) века и
многих латинских и греческих отцов церкви. Все это я стал читать,
смотря по влечению, и наслаждался необычайным разнообразием
предметов. Таким образом, не имея еще двенадцати лет, я
свободно понимал по-латыни и начал понимать по-гречески». К этому
времени Лейбниц с «большим успехом писал латинские
упражнения в прозе и в стихах». «В таком умственном вооружении он
казался сверстникам каким-то чудом», - писал один из его биографов.
М.М. Филиппов писал об этом более подробно: «Случаю было
угодно натолкнуть его прежде всего на древних, в которых он
сначала не понимал ничего, мало-помалу стал понимать кое-что, а в
конце концов понял все, что ему было нужно; и как люди,
постоянно находящиеся на солнце, поневоле загорают, так и он принял
известную окраску не только в своем стиле, но и в образе мыслей...
Когда он затем перешел к новейшим авторам, ему показались
противными эти сочинения, наполнявшие тогдашние книжные
лавки, с их ничего не говорящей высокопарностью или
винегретом чужих мыслей, - это книги, лишенные прелести, силы и
содержания, лишенные всякой живой пользы; казалось, что они
написаны совсем для другого мира, который они называли то своей
республикой, то Парнасом.
Тогда он опять начинал думать о древних, возбуждавших в его
душе совсем иные чувства своими мужественными, великими,
сильными, как бы все превосходящими мыслями, выражающими
всю человеческую жизнь в одной картине, своими
естественными, ясными, гибкими, соответствующими предмету формами!
Эта разница была в его глазах столь достопримечательна, что с
этих пор в нем прочно установились следующие два принципа:
всегда искать в словах и образе выражения мыслей ясности, а в
вещах пользы. Позже он узнал, что первая составляет основание
всякого суждения, последняя - всякого изобретения и что
большинство людей заблуждается потому, что их словам недостает
ясности, а их опытам цели».
«Когда Лейбниц перешел... к модным современным
писателям, сочинения которых были выставлены в книжных лавках,
последние опротивели ему, как он выражался, своей высокопарной
болтовней (schwülstiger Schaum), бедностью мысли, тогда как зре-
390
Философские письма, которых не было
лые, великие и меткие мысли древних, вполне охватывающие
предметы и выставляющие как на ладони смысл жизни и ясный,
соответствующий делу способ выражения их (курсив мой. - Л.#.),
возбуждали в душе совершенно другие движения».
Влияние атомизма Демокрита и Гассенди. Атомистика этих
мыслителей оказала существенное влияние на Лейбница вообще, в
частности в связи с освобождением от «ига Аристотеля». Сырцов
утверждал, что «начальной фазой оригинальных размышлений
Лейбница в области натурфилософии была, несомненно, как он
сам свидетельствует... демокритовская атомистика, с которой он
познакомился из вторых рук (через Магнена и Гассенди)».
Перечисляя имена философов, с которыми ознакомился, Лейбниц
писал также и о Гассенди, возродившем атомистику Эпикура. «Я
устремился читать Гассенди, который старался все объяснить на
механических основаниях. Это я одобрял...»
Пьер Гассенди, старший современник Лейбница, считал, что
движение вытекает из внутренних свойств атомов: атомы не есть
инертные тела, но, наоборот, активные (non inertesimmobilesque,
sed actuosissimas ас mobilissimas potius), и эта, по мнению В. Н.
Карпова, «активность является истинной причиной основного
свойства материи — тяжести. <Атомы> обладают ощущением в силу
того, что известного рода чувствительность свойственна самим
атомам».
Гассенди, по словам Ягодинского, «особенно был полезен
Лейбницу... Механическое понимание природы, ясность и даже
наглядность, с какою атомизм пытается разрешить конечные
проблемы мировой жизни... все это увлекало Лейбница».
Фаза знакомства Лейбница с атомистикой «вряд ли была
продолжительной». Я, писал философ в автобиографическом
наброске ( 1666), «не был в состоянии отдать себе отчет, почему он
(Гассенди. - Л.П.) прибегал к гипотезе этих маленьких, бесконечно
твердых телец, которые он называл атомами. Я очень хорошо
видел, что это может быть допустимо только в том случае, если
прибегнуть к Богу или к ангелам, которые, благодаря беспрерывному
чуду, старались бы удерживать их всех вместе». В диалоге «Паци-
дий Филалету» Пацидий (= Лейбниц) говорит, что он считает
невероятным реальное существование атомов, ибо не видит
основания, почему бы Бог задумал остановить на известной ступени
свою творческую руку и оставить существовать тела, лишенные
Комментарий
391
всякого внутреннего разнообразия, как бы окостеневшие и
мертвые.
Материальные атомы «великого Демокрита, какой бы атомист
он ни был» кажутся Лейбницу чересчур односторонними для
объяснения единства души и тела. Они пригодны лишь для тел и
характеризуют только часть (аспект) субстанции, а не всю
субстанцию в целом. Поэтому, будучи материальными, атомы не являются
атомами субстанции. Они характеризуют содержание, часть, а не
форму, целое. Они обязательно и неизбежно делимы, что
противоречит их названию. Поэтому материальные атомы не
существуют, ибо нереальны, как особенности, которыми их наделял
Демокрит.
Иронизируя над «крючками» атомов, Лейбниц насмешливо
допускал, что атомы крючков сами имеют крючки, а те - свои, и
это не решает вопроса, а лишь отодвигает его решение в
бесконечность. «Я всегда думал, - пишет Лейбниц в 1671 г., - что все, что
утверждается обычно об атомах, их различной фигуре, их загибах,
кончиках, крючках, багорчиках, шариках и прочее, обязано
происхождением остроумию и в действительности слишком далеко и
чуждо простоте природы».
Лейбниц отвергает атомы и пустоту не только как предрассудок
своей юности, но и как идею, нарушающую целесообразность и
порядок. По мнению Сырцова, «идея... статистических абсолютно
твердых... материальных телец не гармонировала со взглядом его
(Лейбница. - Л.П.) на природу, как динамическое начало
движения и покоя, - взглядом, который он заимствовал у Аристотеля,
которому никогда не изменял и который несомненно вытекал из того,
что Бергсон назвал бы первичной философской интуицией
Лейбница, т.е. инстинктивным подсознательным ощущением реальности,
полноты и разнообразия жизни мира и богатства его форм».
Лейбниц был против упрощенного механистического (и уже
потому отвергающего всякое упоминание об уникальности,
случайности, разнообразии, уже потому все-нивелирующего)
представления древних атомистов о Космосе как единстве атомов и
пустоты. Ведь исходя из единства атомов или законов механики
принципиально невозможно объяснить целесообразность,
форму, самодвижение и вообще тесно связанное с ними все духовное
(мысль, ощущение, восприятие). Это было основным в
неприятии Лейбницем античного атомизма и атомизма Гассенди, а
также механицизма («машинного подхода») Декарта.
392
Философские письма, которых не было
Тем не менее с учением античных атомистов Лейбница
связывает атомистический характер его монадологии.
Количественно, т.е. в отношении «одного» и «многого», и с точки зрения своей
аксиоматичности античный атомизм Лейбница устраивал вполне.
Однако монадологический атомизм Лейбница отличался от
античного качественно: он был метафизическим, философским, но
не натурфилософским. Его «атомы» не были материальны,
вещественны, тел есны.
Одним из немногих общих моментов этих двух исторически
удаленных друг от друга форм атомизма является «клинамен»
(отклонение) Эпикура. Наделив свои атомы-монады деятельной
силой, действующей и необходимым и случайным образом,
Лейбниц выступил как преемник атомистического учения Эпикура,
утверждавшего, что атомы обладают свободой воли,
одухотворенностью и внутренней силой, выражающейся в самопроизвольном
отклонении.
По сути, Лейбниц развил учение древнегреческих атомистов, в
частности Эпикура, наделив атом как единицу бытия («монаду»)
самодвижением («внутренним началом изменения»,
саморефлексией, перцепцией и т.д.). Как видим, в истории философии можно
проследить такую связь: Демокрит-Эпикур-Гассенди-Лейбниц.
Критически преодолев односторонне материалистический,
механистический и плоский характер античного атомизма,
Лейбниц сделал атом как бы пятимерным, если существование Бога,
метафизичности (нематериальности) атомов и пустоты
приравнять к четырем измерениям, а пятым считать момент
самоактивности (самодеятельности, импульс деятельной силы),
имманентный нематериальному атому.
Философское учение Лейбница, таким образом, может
рассматриваться как своеобразная форма атомизма. Его учение о
«монадах», т.е. нематериальных атомах, по природе
метафизических, есть философский атомизм, своего рода «онаученное»
Возрождение или, если угодно, «ометафизиченная» натурфилософия.
Монадология есть возрождение и развитие античного
атомизма, следующая ступень его эволюции. Атомизм Демокрита,
Эпикура, Гассенди Лейбниц не уничтожил, не отбросил, но
преодолел, «снял», подверг не абсолютному, а диалектическому
отрицанию.
Примечательно, что в своем образовании (в широком смысле
этого слова), в своем философском становлении Лейбниц начи-
Комментарий
393
нает с античности и навсегда остается верен своему первому
впечатлению о ней. Вся послесредневековая эпоха, как Лейбниц,
перечитывает античных авторов, принимает их с любовью и
уважением, стремится по возможности применить в своей жизни,
использовать для себя и будущих поколений, возродить даже в
своем быту.
Вопреки схоластике языческая древность отчасти
реабилитирована, а вместе с ней и мистика. Человеческий разум, сочетая
сердце и ум, чувство и рассудок, то богатеет, то оскудевает. Это
объясняется переменами в их соотношении: мистичность чувств
то догоняет и опережает расчетливость рассудка, то вновь отстает
от него, погибая под его ударами (когда общество
разочаровывается в могуществе чувств), чтобы вновь воскреснуть из-за
очередного разочарования общества в могуществе и всесилии рассудка.
Начиная эту давно повторяющуюся перемену мест движением
в сторону мистики (чувства), Лейбниц в конечном счете
способствует превращению мистики в свою противоположность, в
крайность рассудка, рационализма, хотя, возможно, и не подозревает об
этом. Он хотел бы установить Баланс между сердцем и
рациональным материальным; стремится его сохранить, упрочить, сделать
гармонией.
Он ищет основания и поддержки своим взглядам в древности,
в античном мире, его истории и философии, его культуре и
убеждается, что там господствовала идея гармонической двоичности и
что уже там она начала перерастать в идею полярности как своей
крайности, односторонности, чрезмерности. Чувствуя, что это
наносит ущерб принципу универсальности, всеобщности,
полноты; что это убого, ограниченно, примитивно, Лейбниц стремится
сохранить ее мистически чувственную идею двойственности,
«онаучить», рационализировать ее.
Баланс не удался, и молодой канатоходец не удержался на
канате, соединяющем наш ум с нашим сердцем, рассудок с чувством.
Ум и рассудок победили! Но остались ли они после этого сами
собой?
Лейбниц и миросозерцание его эпохи. Как мы убедились, на
Лейбница оказала влияние не только схоластическая аристотелевская
философия (перипатетика), которая была составной частью
школьного образования, а затем самообразования,
предпринятого юным философом-автодидактом, увлекшимся перипатетикой.
В его освобождении от нее сыграли большую роль мистические
394
Философские письма, которых не было
тенденции и взгляды неоплатонизма, каббалистические и
неопифагорейские мистические идеи.
Среди последних нужно особо выделить пантеизм как
разновидность скрещения, или сплава, по крайней мере двух течений -
мистики (мистицизма) и натурфилософии. Именно пантеизм, по
моему мнению, стал промежуточным звеном между атомистикой
и натурфилософией древних и обновившей их принципы
рационалистической и материалистической философией Нового
времени (в том числе и прежде всего с картезианским «машинным
подходом» к природе и человеку). По Сырцову, перипатетизм,
мистицизм и философия Нового времени суть три основных
мощных культурно-исторических и философских течения, «очень
рано и глубоко повлиявших на ход развития Лейбница».
Нетрудно, однако, заметить, что едва мы сравнительно узкое и
ограниченное понятие «философия Нового времени» начинаем
обобщать и расширять до «мировоззрения» и смешивать с ним, то
«философия Нового времени», осерчав на это, - тут же выходит за
разумные пределы своего содержания и перестает быть только
философией. Хотя такое культурно-историческое течение
действительно существовало, оно не может быть сведено к одному из
бесчисленного множества своих аспектов, а именно: к «философии».
Философия Нового времени - не философия, точнее, не
только она. Это предпосылка чего-то иного. Это целостная эпоха
XVII в., в которую жил, учился и творил Лейбниц. Она все более
решительно порывает с религиозно-романтическим отношением
к миру и движется в направлении «научно-теоретического и
практического радикализма» (Е.В. Спекторский)1 и позитивизма,
признающего истиной лишь то, что может быть
формально-логически и экспериментально доказано, верифицировано.
Если древневосточную эпоху сравнить с младенческим
возрастом человечества, а античную, как часто делали, с его детством,
то Средневековье — пенсионный возраст, а Новое время — это
постсредневековье, новое юношество, которому свойственны
свободомыслие и романтизм, максимализм и радикализм,
верховенство формы над содержанием, поверхности над глубиной.
Характерные для рационалистического XVII в. теоретический
радикализм и формализм способствовали совершенно новой
постановке проблемы Бога, человека и природы, а также переделу
1 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. Варшава.
1910. Т.1.
Комментарий
395
сфер их власти. Решительно порывая со всем над- и внеприрод-
ным, сверхчувственным и сверхъестественным, а также с
иерархической, характерной почти для всей писаной истории
вертикальной субординированностью представлений, выпестованный
аристотелевским формально-логическим духом
рационалистический XVII в. фактически изгонял Бога из мира, ограничивая Его
функции актом творения, не позволяя Ему изменять мировую
конституцию или вмешиваться в ход мировых событий.
Теперь Бог, по выражению Лейбница, даже и не пытался
чинить часы природы. Подобно просвещенному и образованному
конституционному монарху, Бог царствует, но не правит.
В новой естественно-научной картине мира уже нет места для
небесного престола («кругозорницы», «капитанского мостика»),
для чистилища, ада, рая и других антропо- и социоморфных
представлений. Политика прессинга по отношению к Богу велась
учеными и философами уже давно, она началась не в XVII в. Под
давлением развивающейся философии и положительного знания
многоликому Богу сначала пришлось переселиться на туманный
Олимп, а позднее расперсонифицироваться, унифицироваться и
дематериализоваться...
Изменилось и богословие. Раньше оно опиралось на
Откровение, а в XVII в. - на начала физики и космографии, поэтому
представляло собой «естественное богословие» (theologia naturalis),
имеющее целью укрепить абстрактные и немногочисленные
догматы деизма как учения об акте творения. В целом этой эпохе
совершенно не присуща та фанатическая, изуверская, религиозная
ортодоксия, какая была характерна для Средневековья.
Радикально порывая с антропоморфическим и
телеологическим представлениями Средневековья и максимально оттесняя
на задний план Бога, являющегося гипертрофированным
отражением и эталоном человеческого существа, идеализированным
представлением о человеке, рационалистический XVII в.
фактически ставит человека на место Бога, науку на место
Божественного разума. Он заменил веру в беспредельное могущество Бога и его
Провидение верой в такое же могущество человека и его рассудка
(ratio), воплощающейся, как писал Н. Сперанский1, не только в
физической, но и моральной технике, т.е. искусстве, имеющем
своим предметом управление страстями, а также в социальной технике
1 Сперанский Н. Очерки по истории народной школы в Западной Европе. М.,
1896.
396
Философские письма, которых не было
(= искусством), направленной на совершенствование форм
человеческого общежития.
Поскольку человек - часть природы как мировой машины, ее
малый механизм, агрегат, то он, как и природа, должен быть
научно изучен, в первую очередь механизм его душевных движений
(страстей - passiones). Поэтому основной задачей науки о
человеке является создание физики человеческой души, т.е.
естественной науки (антропософии) о законах, управляющих формами
человеческого поведения, в целях последующего овладения и
управления ими в этике, педагогике и политике.
Говоря современным языком, в целом этой эпохе уже не
свойствен антропологизм, но еще не присущ сайентизм. Радикально
порывая с одушевленностью природы, эта эпоха уходит из мира
чувства, но как бы пятясь, колеблясь и постоянно оглядываясь,
ибо еще не окончательно закрыла за собой дверь и стоит на пороге
поразительного для нее мира научных и общих отвлеченностей,
рассудка, рационализма, формально-логического духа, но еще не
вошла в этот мир...
Однако уже сделанного ею в этом отношении достаточно,
чтобы возникла совершенно новая физическая, по-новому
естественно-научная картина мира. В ней природа, освободившаяся от
власти и опеки сверхприродных и внеприродных
антропоморфных сил, представляется гигантской машиной, содержащей
бесчисленное множество других более мелких машин и механизмов.
Природа, таким образом, выступает для людей этого времени как
«самодвижущаяся» (подобно изобретенной Лейбницем
«самосчетной машине») космическая машина, как механизм,
характерными особенностями которого отныне являлись, как справедливо
писал Е. Спекторский, «простота в великом и малом, порядок,
закономерность и детерминированная необходимость
протекающих в ней процессов».
«Машинный», или «механистический», подход заключается в
том, что понятие «машина» (или «механизм») было для
последователей Декарта и в начале XVIII в. для Жюльена Офре де Ламетри
таким же методологическим ключом (средством), каким для
Демокрита и других древних атомистов было понятие «атом». Это
позволяет говорить о «машинном» подходе картезианской
философии, как о промежуточной форме атомизма (между античным и
«монадным», или «монадологическим»).
Комментарий
397
Критикуя Декарта и Локка за механицизм и огрубленность,
ограниченность их взглядов, Лейбниц распространил
декартовское представление о животном как механизме, двигателе, не
только на человека, но и на тела неорганической природы, на весь
мир в целом. Лейбниц даже самого Бога интерпретировал в духе
своего учения о монадах. Бог стал изначальной «простой
субстанцией» (монадой), но — увы! - оставался «механизмом»
(автоматом), хотя абстрактно логическим и отчасти лишенным
картезианской механистичности. В этом можно усмотреть некое
предвосхищение более позднего, характерного для Канта и вообще для
естествоиспытателей подхода к Богу; подхода, сущность которого
обнажил П.С. Лаплас в своем афоризме о Боге и гипотезе.
Таким образом, помимо преемственной связи философии
Лейбница с античной натурфилософией (в частности,
атомистикой Демокрита, Эпикура, а позднее Гассенди), а также связи с
мистикой и неоплатонизмом, существует и третья преемственная
связь, а именно: между философией Лейбница и картезианством.
Картезианство. Из самых ярких, трагических, прекрасных и,
так сказать, демократических и даже феминистских страниц в
истории парижских салонов XVII в. сложился период картезианских
(декартовских) идей и воззрений. «То была, - писал Герье,
-лучшая пора французских салонов, когда светская жизнь и
обхождение, galanterie, французской аристократии, вызванные
рыцарским периодом Фронды и блестящей придворной жизнью
Людовика XIV, мерялись и украшались интересом к литературе,
искусству и даже к самым глубоким вопросам тогдашней науки.
В этих салонах с одинаковым любопытством выслушивались
рассказы о тайнах и интригах придворной жизни... и беседы о
литературных новостях, о полемике между иезуитами и янсенис-
тами, между картезианцами и приверженцами старой школы
(ГEcole, т.е. схоластика), по поводу самых отвлеченных и
неуловимых вопросов философии и богословия».
Картезианство было модой научной и модой
либерально-демократической. Все французское общество на разных уровнях
тянулось к нему; оно притягивало к себе людей независимо от их
социального положения и места в обществе тем более, что было
официально запрещено.
В полемике по поводу идей Декарта в королевском дворце в
Лувре участвовали: невестка Людовика XIV герцогиня Мэн-
ская, кардинал О.Ж.А. Полиньяк, мадемуазель де Ла Вине, де
398
Философские письма, которых не было
Вальи и другие близкие к французскому королю
высокопоставленные особы, но это вовсе не значит, что только одна знать
тянулась к картезианству. «Известный физик Рого (Rohault), один
из самых ученых и даровитых последователей Декарта,
устраивал каждую среду в своем доме публичное заседание, на которое
сходились епископы и аббаты, придворные доктора,
философы, математики, учителя, студенты, провинциалы,
иностранцы, ремесленники, одним словом, люди всех возрастов, всякого
пола и звания.
В этом обществе дамы занимали первое место (как бы
подтверждая воочию еще раз, что чувственный этап познания в эту
эпоху является самым первым, изначальным). Рого излагал на
этих собраниях физику, начиная с теории и подтверждая ее
самыми точными опытами, причем он каждому позволял
прерывать себя вопросами и возражениями», - писал Герье. После
смерти Рого его ученик Режис возобновил собрания. «Интерес,
который они возбуждали, был так велик, что, по свидетельству
Фонтенеля, нужно было приходить задолго до начала, чтобы
найти себе место». Забавно и поучительно для нас сегодня, что в
те времена архиепископ Парижский, встревоженный шумом,
который наделали эти собрания, велел прекратить их. Очень
актуально!..
По мнению Герье, картезианство своим распространением
было многим обязано женщинам. Женщины вообще принимали
деятельное участие в умственной жизни XVII в. Так, мадам де Са-
веньи, лаская лежащую на ее коленях кошку, «уверяла, что Декарт
не прав и не может быть, чтобы у этого милого создания не было
души». Также и мадемуазель Скюдери сообщает Лейбницу,
который был с ней в дружеской переписке, «о смерти своего попугая,
который был так умен, что достаточно было его одного, чтобы
разрушить теорию Декарта, считавшего животных бездушными
автоматами».
II Мадемуазель Скюдери, которой в это время было 92 года, заслуживает
того, чтобы познакомиться с ней поближе.
Французская писательница Мадлен де Скюдери (1607-1701), автор
многотомных претенциозных романов, в частности знаменитого
опуса «Клелия, или Римская история» (1656), который представлял собой
псевдоисторический, галантно-авантюрный роман, написанный
вычурным, манерным языком. Например, в «Клелии» была географиче-
|| екая карта, на ней показана дорога, ведущая от Новой дружбы к Неж-
Комментарий
399
ности и проходящая мимо деревень: Мужество, Великодушие,
Исправность, Угождение, Учтивая Записка и, наконец, Любовное Письмо...
Идя по этой дороге нельзя было миновать другую дорогу, проходящую
через Услужливость и Чувствительность, ибо тогда можно попасть в
край Холодности, Забвения и погрузиться в озеро Равнодушия. Многие
современники находили все это невероятно остроумным и крайне
занимательным. Длинноты и несуразности «Клелии» едко высмеял поэт
|| и литературный критик Н. Буало.
Кто же такой был этот г-н Декарт, о котором так много
говорили в Париже? Родившись в 1596 г. и получив воспитание в
иезуитской коллегии Лафлеш, он был некоторое время военным и
участвовал в Тридцатилетней войне, за два года до окончания которой
родился Лейбниц. Декарт прожил бульшую часть жизни в
Голландии и умер в 1650 г.
Великий математик и философ Декарт является основателем
Новой философии, представителем рационализма. Считая в
философии главной сферой своих интересов вопросы теории
познания (гносеологии) истины, а главным вопросом философии -
вопрос о достоверности знания, он отвергал формальную логику,
боролся со схоластической логикой и ее хитроумной жесткой
аргументацией, опорой на чувственные данные и ссылками на
авторитеты. Справедливо утверждая, что и то и другое может оказаться
иллюзорным или ложным, выступая против нарочитой
схоластической усложненности и смутности идей и понятий за их ясность
и очевидность, подчиняя рациональное дедуктивное знание как
необходимое и «высшее» - опытному и «низшему», Декарт,
однако, не смог достичь, так сказать, оптимального динамического
равновесия, баланса между своими pro и contra, между тем против
чего и за что он боролся.
Склонившись к крайности, он стал идеалистически считать
непосредственно достоверным по своему существованию не наш
внешний физический, телесный мир, природу, Вселенную, а
только и исключительно наш внутренний, бесплотный духовный
мир, состояния нашего мышления, сознания, т.е. не
материальное, а идеальное (cogito, ergo, sum - я мыслю, следовательно,
существую). Тем самым Декарт выступил как основоположник
позднейшего, современного идеализма.
Уместно сказать здесь еще об одной особенности, или черте,
рационалистического идеализма Декарта - его суровости,
могущей доходить до фанатизма, «строгой отвлеченности», которая
400
Философские письма, которых не было
лишний раз подчеркивает, что рационализм - всякий! - всегда
бездушен, а потому античеловечен. Картезианский рационализм
делал сторонников Декарта, по словам Герье, «равнодушными ко
всему конкретному и индивидуальному». Вот почему у Декарта
«органические существа природы исчезают перед
материалистическими линиями и законами, и индивидуальные души людей
сглаживаются в общей субстанции "мыслящего духа"»... Что иное
может нас ожидать в картезианском мире, где животные суть
автоматические машины?
Эта рационалистическая «строгая отвлеченность» (при
которой за общим не видят его частей, а за интересами общества и
государства - интересы живых людей) одинаково близка и
крайнему идеализму, и крайнему материализму. Мы вновь встречаемся с
этой все и вся обманывающей «отвлеченностью», этим
изначально ложным погружением в мир духа (рацио) у французских
материалистов XVIII в., у Гегеля и, наконец, в тоталитарной
философии фашизма и марксизма-ленинизма.
Внешний мир, природа достоверны для Декарта, лишь
постольку, поскольку они суть состояния нашего мышления
(сознания), а вопрос о природе, мире, Вселенной как объективной
реальности, как вопрос о независимости существования природы от
мышления (сознания), внешнего мира от внутреннего нуждается,
по мнению Декарта, в доказательстве, которого пока нет.
Декарт склонен, и для этого у него есть все основания, эти
миры противопоставлять: мир внешний — протяженный,
несознательный, материальный; а мир внутренний - непротяженный,
сознательный, идеальный. Тем самым Декарт существенно сузил
и сделал односторонним свое учение: увидев в отношении двух
миров только противоположность и абсолютизировав ее, он не
разглядел в том же самом отношении иное - их взаимное единство
(тождество).
Декарт, возможно сам того не желая, как бы перегородил себе
дорогу и в рамках своей философии фактически сделал
совершенно неразрешимым вопрос о соотношении мышления (сознания) и
бытия, души и тела, духовного и природного, идеального и
материального.
Это в конечном счете и определило его философию как
дуалистическую. Чтобы как-то избавиться от этой субстанциальной
раздробленности, Декарт зачастую выходит за рамки всякой
философии и знания вообще и, действуя столь же решительным и ра-
Комментарий
401
дикальным, сколь по-прежнему односторонним образом,
пытается решить великую проблему соотношения двух миров с позиции
не только науки и философии, но и с позиции теологии, религии,
чтобы - и это его мечта! - всесторонне доказательно раз и
навсегда решить эту проклятую проблему так, как ему очень хотелось
бы, а именно: в пользу признания Богом данного объективного,
крайне нужного всякому ученому, в том числе самому Декарту,
достоверного и независимого существования природы, мира,
материи.
Декарт и Мальбранш. Декарту не удалось сделать свою
философию цельным учением. Его философское учение помогло
дальше развиваться в двух основных направлениях - к идеализму (и
крайним выражением этой, ведущей в тупик односторонности
стала философия Мальбранша и субъективизм Дж. Беркли) и
(или) к материализму. Соответствующей ему крайностью,
односторонностью стала философия Спинозы, а также
«естественно-научные попытки» непосредственных учеников Декарта (Ро-
го, Режиса и др.) решить оставленную их учителем проблему
соотношения природного и духовного миров с позиции науки и
философии, для чего они продолжали начатые Декартом
математические исследования и физические опыты. Собственно
говоря, шаг в направлении дальнейшего развития картезианства и
превращения его из дуалистического философского учения в
монистическое сделал сам Декарт, что доказывается его афоризмом
«мыслю, следовательно, существую». Это был шаг в сторону
не материализма Спинозы, а мистики Мальбранша; выбор в
пользу идеализма в его исторически сравнительно ранней,
субъективистской, чувственно-физической трактовке, в
мистической форме.
Никола Мальбранш (1638-1715) был мистиком и идеалистом
уже по своей созерцательной и болезненно-сосредоточенной
натуре, которая, как писал Герье, делала его непонятным для толпы
и принесла ему прозвище «мечтателя Оратория». Он тяготел к
«духовному, божественному» субстанциальному аспекту учения
Декарта и, будучи его верным сторонником, стремился устранить
картезианский дуализм, решая нерешенный Декартом вопрос о
соотношении души и тела, сознания и природы.
Вслед за Платоном Мальбранш рассматривает эти два мира
как соответственно объективный и субъективный (у Платона это
«мир идей» и «мир вещей»). Мальбранш, опять же вслед за Плато-
402
Философские письма, которых не было
ном, утверждал, что вещи познаются не чувствами, а посредством
идей, которые, хотя и обладают объективной реальностью, но
находятся в нашем уме и осознаются им как нечто от него
независимое. Подобно идеям, Бог тоже обладает объективной
реальностью, хотя и отделен от них (позднее эту мысль мы встретим у
Лейбница) аналогично тому, как идеи отделены от нас, а идеи и
Бог - от материи, природы, мира и его вещей. Идеи созданы
Богом, Он дал их нам, и, познавая их, мы познаем Бога, т.е. «видим
все вещи в Боге».
Уже отсюда явствует, что Мальбранш так пришпорил
несчастную кобылу картезианской философии в направлении к мистике и
идеализму, что этот перехлест, вероятно, не понравился бы
Декарту, будь тот жив. Тем не менее «виденье всех вещей в Боге» и другие
мистические представления Мальбранша логически вытекают из
оснований картезианства и являются его спиритуалистическим
развитием.
Мальбраншу было суждено развить ту сторону декартовской
системы, которая содержала учение о душе и духе (которое в наше
время преломилось в учение о врожденных, безусловных
рефлексах), - его теорию о врожденных идеях об идее Бога как источника
познания всех других истин.
Вместе с тем философия Мальбранша представляет собой
переходную ступень от картезианства к пантеизму материалиста
Спинозы.
Мальбранш и Лейбниц. Лейбниц познакомился с
картезианством по сочинениям самого Декарта и его последователей задолго
до своего приезда в Париж в 1672 г.
Германия за годы Тридцатилетней войны, а потом
восстановления разрушенного хозяйства отстала от других европейских
стран в области просвещения, образования, науки и философии.
Поэтому вряд ли отношение французских ученых к Лейбницу
было столь радушным и почтительным, как хотелось бы многим его
биографам, судя по их описаниям. Например, один французский
картезианец - А. Эккарт, - с которым Лейбниц беседовал в
Париже, «до того был убежден в превосходстве французской
философии и науки, что долго не хотел поверить, чтобы Лейбниц, будучи
немцем, мог изобресть в философии или в математике что-либо
такое, чего не знал Декарт» (М. Филиппов). Тем не менее жизнь в
Париже (с 1672 по 1676 г.) и личное знакомство со многими карте-
Комментарий
403
зианцами полностью ввели Лейбница в круг модных
картезианских идей и воззрений.
Философия Лейбница выросла из определенных аспектов
картезианства так же естественно, как превратилась потом в его
противоположность. Однако отношение этих двух систем будет
непонятно, если не учитывать между ними некую переходную
ступень. Ею является учение Мальбранша, из рук которого Лейбниц,
по выражению Герье, получил картезианизм.
Лейбниц встречался с Мальбраншем, когда жил в Париже,
беседовал с ним о разных вопросах математики и метафизики.
Первое и главное сочинение Мальбранша «Розыскания истины», где
излагалась вся система его философии, вышло во время
пребывания Лейбница во Франции.
Между философией Лейбница и Мальбранша много общего.
Так, в основании той и другой лежало картезианство, хотя и
рассматриваемое ими различных точек зрения. Поэтому философия
Лейбница так или иначе примыкала к учению Мальбранша и во
многих отношениях была ее продолжением и развитием.
Например, как это признавал сам Лейбниц, его оптимизм в «Теодицее»
отразил взгляды Мальбранша, а «предопределенная гармония»
Лейбница есть видоизмененная мальбраншевская теория
«случайной причины» (causa occasionalis), объясняющая
взаимодействие души и тела вне и без причинно-следственных отношений,
индетерминистским образом, поскольку в мире субстанций не
может быть причин и следствий. Иначе говоря, лейбницевская
идея, согласно которой «предустановленная гармония, то есть
Бог», не что иное, как мальбраншевская теория окказионализма.
Позднее эта мистическая теория возрождается в психологическом
учении о параллелизме душевных и телесных явлений и
процессов.
Лейбницу очень нравится, что по теории Мальбранша, идеи
всех вещей мы созерцаем в Боге и что тело не способно прямо
воздействовать надушу, а Бог действует в мире лишь простыми
способами (simhlicite des décrets) и посредством неизменных законов.
Вот почему, кстати, возможно физическое и нравственное зло.
Ибо Бог имеет в виду не частности, а возможно большее
совершенство целого. Мальбраншу в свою очередь очень нравится
основная мысль «Теодицеи» Лейбница, что мир есть совершенство и
что грех и зло вытекают из совершенства всякого целого.
404
Философские письма, которых не было
В то же время Мальбранш указывает на глубокое различие
между философией своей и Лейбница, Для Мальбранша,
осознающего что идеи всех вещей, предметов в Боге, Вселенная, мир,
природа являются совершенством как творения Бога. Напротив,
для Лейбница Вселенная, мир, природа были совершенством
сами по себе и даже как бы вне Бога, без него.
Иначе говоря, Лейбниц не согласен с Мальбраншем, что
материя и тела несамостоятельны, исключительно пассивны,
несвободны. Благодаря лейбницевским монадам, этим абсолютным
самостоятельно действующим, самоактивным и вечным силам, вся
Вселенная, вся природа, весь мир тоже самостоятельны, активны,
хотя и относительным образом. Эти выявленные Лейбницем
объективные особенности делали всю Вселенную и весь мир
реальностью, не допускали и не позволяли внешнему миру раствориться и
исчезнуть в мистическом пантеизме Мальбранша.
Итак, Лейбниц не согласен с Мальбраншем относительно
несамостоятельности, пассивности, несвободы материи и тел.
В противовес ему Лейбниц не односторонне и радикально
(позднее этот радикализм и максимализм неимоверно расширятся и
углубятся, перейдя из наук о природе и человеке в науку об
обществе - «исторический материализм»), как Декарт и Мальбранш, а
терпимо, осторожно и диалектично проводит и развивает
платоновскую идею о сопричастности телесного, мирского
божественному.
Материя, природа, тела и образующие их монады в учении
Лейбница получают не абсолютную, а относительную
гармоническую самостоятельность, самоактивность, свободу (в том числе
выбора, отбора), необходимость и случайность.
Лейбниц и Декарт. Естественно, основываясь и в определенных
отношениях исходя из учения Декарта, учение Лейбница не было
всего лишь эпизодом в истории картезианства. Даже очень
сочувственно относясь к некоторым аспектам учения Декарта и его
ученика Мальбранша, Лейбниц никогда не находился в
«ученической зависимости» от Декарта (ни тем более от Мальбранша).
Впрочем, он никогда не был в зависимости вообще от всех тех, кто
на него влиял. Более того, со временем это влияние, как правило,
все более и более слабело, становилось ненужным. Тогда на
передний план обязательно выдвигались те общие проблемы, решая
которые, Лейбниц приходил к совершенно другим, чаще всего
противоположным результатам.
Комментарий
405
Возможно, такой иммунитет против постороннего влияния
объясняется тем, что Лейбниц еще до знакомства с чужими
решениями тех или иных интересовавших его проблем, научных или
философских, уже размышлял над ними и это помогало ему
сохранить самостоятельность мышления и сравнительную
независимость своей идейной позиции.
В письме к Мальбраншу Лейбниц писал, что так как он начал
размышлять, когда еще не был «проникнут картезианскими
теориями», то смог другим путем подойти к истине и открыть в ней
новые стороны. Лейбниц решительно заявляет, что никогда не
был приверженцем Декарта. «Я убежден, - писал Лейбниц
Мальбраншу о Декарте, - что его механика полна ошибок, что
его физика слишком поспешна в своих заключениях (vatrop vite),
что его геометрия не идет довольно далеко (trop bornée) и,
наконец, что его метафизика представляет все эти недостатки
вместе».
Лейбниц был в близких отношениях не только с друзьями и
приверженцами Декарта, но и с его противниками, например с
епископом Авраншским, Пьером Даниэлем Гюэ (Гуэций),
французским теологом, врагом рационализма Декарта,
мистики Мальбранша и атеизма Спинозы. Лейбниц сочувственно
относился к стремлению Гюэ доказать, что в философии Декарта
нет ничего нового, а все заимствовано у других ученых и
философов. К числу противников Декарта можно отнести и Антуана
Арно, теолога и философа, одного из лидеров янсенизма -
религиозно-идеалистического учения. По своей суровости и
«строгой отвлеченности» этот идеализм очень близок рационализму
Декарта.
Основоположник этого учения бельгийский епископ Янсен
учил о необходимости веры в непрогнозируемое Божие
предопределение. Люди должны оставить свои никчемные и
бессмысленные помышления о добре и своем личном благе и заняться гораздо
более важным и неотложным для общества делом - борьбой не на
жизнь, а на смерть с врагами Янсена, т.е. с инакомыслящими
иезуитами, католиками и французским правительством.
Лейбниц против картезианского дуализма, против идеи
Декарта, что между мыслью и протяженностью (протяжением), или
духом и материей, существует только противоположность,
непроходимая пропасть. В переписке с Мальбраншем Лейбниц
выступал против положения Декарта о том, что пространство сущест-
406
Философские письма, которых не было
вует отдельно от материи, является его свойством и обладает
пустотой. Лейбниц высказывал свою мысль, пишет Герье, «еще
неопределенно и смутно, но он уже выработал главное положение
своей философии, что принцип материи есть сила и что
пространство есть отношение».
Уточняя представление Декарта о движении, Лейбниц делает
его гораздо более глубоким и вполне отвечающим его позиции.
То, что в мире природы выступает как движение, в мире духовном,
или метафизическом, есть сила. Поэтому Лейбниц был против
положения Декарта о том, что количество движения в мире всегда
постоянно, и доказывал, что остается неизменным не количество
движения, а количество сил. Тем самым он заменил декартовский
закон сохранения движения законом сохранения силы. Оба эти
закона исходят из равенства причины и действия.
Но, как было сказано, Лейбниц различает движение и
движущую силу. Реальной причиной он считает именно последнюю.
Поэтому Лейбниц писал, что «в действии содержится не больше и
не меньше силы, чем в причине», а в письме к Г. Лопиталю (1
января 1696 г.) утверждал, что полное действие эквивалентно по
своей причине, но полное действие силы отнюдь не тождественно с
перенесенным механическим движением.
По верному замечанию Фейербаха, для Лейбница телесная,
материальная субстанция уже перестала быть только
протяженной и мертвой, приводимой в движение извне. Это не бездушная,
вещественная, материальная масса, как у Декарта, а в качестве
нематериальной субстанции «имеет в себе деятельную силу, не
знающий покоя принцип деятельности». Если это справедливо для
субстанции всего мира и его вещей, то уж тем более верно в
отношении животных. Поэтому Лейбниц против мысли Декарта, что
«животные лишены души; тут мы... встречаем так называемые
смутные представления, которые играют... важную роль в
философии Лейбница и которыми он объясняет переход от низших
проявлений органической жизни в природе к сознательному мышлению
человека». Опираясь на идею такого перехода, Лейбниц выступает
против картезианского антиисторизма, или пренебрежения «к
отжившим мнениям и эпохам».
Лейбниц защищал не только «единение» (единство,
тождество) духовного и материального миров, но и их самодостаточность,
специфику, несродство, уникальность и своеобразие каждого из
них. Поэтому он против абсолютизации механики и математики,
Комментарий
407
которые Декарт считал методом постижения истины в любой
области мира, ключом к познанию всех вещей. Лейбниц против
некритического переноса механики и математики из мира
материального, физического в мир нематериальный, метафизический.
Он был готов допустить эти науки для объяснения явлений
неорганического мира, но считал их недостаточными для понимания
явлений органической природы и нравственных фактов
человеческой истории.
В целом Лейбниц называл философию Декарта всего лишь
преддверием истины и полагал, что от нее до его собственной
системы всего один шаг. Однако на шутливый вопрос, думает ли он
сам перейти из передней в кабинет Природы, Лейбниц отвечал,
что между передней и кабинетом находится еще приемная и
довольно будет, если мы побываем на приеме, не пытаясь
проникнуть во внутренние апартаменты.
Спиноза и Лейбниц. Философия Бенедикта (Баруха) Спинозы
(1635-1677) сформировалась под влиянием еврейской
философии (в частности, Хасдая Крескаса и Льва Абарбанеля),
схоластических представлений (например, последнего схоластика Фран-
циско Суареса) и учения Декарта. В целом ее можно
охарактеризовать как пантеизм.
Пантеизм Спинозы имеет своим истоком, как утверждал
Лейбниц, труды некоторых аристотеликов, которые, как писал
Герье, признавали мировой дух, оживлявший всю вселенную и все
ее отдельные части, каждую сообразно с ее устройством и
органами подобно тому, как один и тот же ветер заставляет звучать
по-разному трубы органа. По мнению таких аристотеликов, этот
мировой дух (ame universelle) один может вечно существовать,
отдельные же души постоянно возникают и погибают. Это учение
было возобновлено Аверроэсом (ибн Рушдом), рядом
последователей Аристотеля и некоторыми мистиками.
Лейбниц находит, что многие картезианцы, полагая, что Бог в
одиночку действует во Вселенной, неосознанно приближаются к
этому учению и впадают в спинозизм. Он указывает на сходство
между учением Спинозы и средневековой арабско-еврейской
философией, ведущей свое начало от Аристотеля.
Действительно, еврейская философия сыграла известную
роль в развитии средневекового мышления, но с упадком
Средневековья она и сама стала клониться к закату. Для нее характерно
стремление соединить иудейские религиозные представления, в
408
Философские письма, которых не было
которых выразился дух еврейской народности, с греческой
философией, прежде всего с учением Платона.
Спиноза, хотя и испытывал влияние еврейской философии,
но он, так же как Моисей Мендельсон и Соломон Маймон,
принадлежит не к этой средневековой философии, а к
западноевропейской философии Нового времени.
Пантеизм в трактовке Спинозы близок элеатам и сочетается в
его философии с натурализмом (от лат. natura - природа), т.е.
полным отказом от сверхъестественных и потусторонних причин и
признанием того, что все предопределенно совершается по
неизменным законам природы. Если, писал Энгельс, считать
материализм «пониманием природы такой, как она есть без всяких
посторонних прибавлений», то натурализм - это материализм.
Лейбниц, по словам Герье, «совершенно различно относился к
картезианству и к крайнему развитию его начал у Спинозы. В
первом он находил только некоторые заблуждения, которые хотел
устранить, и недостатки, которые он старался восполнить, учение же
Спинозы он считал ложным в основании и вредным для религии».
Фактически Лейбниц обвинял Спинозу в материализме и
атеизме. Лейбниц писал о Спинозе аббату Галуа (1667): «У него
странная метафизика, полная парадоксов. Между прочим, он полагал,
что мир и Бог по существу одно и то же, что Бог - сущность всех
вещей и что создания суть только модусы, или акциденции. Но я
заметил, что некоторые претендующие служить доказательствами
рассуждения, с которыми он меня знакомил, неточны. Не так
легко, как думают, дать в метафизике настоящие доказательства».
Лейбниц ясно видел материалистическую односторонность
спинозизма. «Спиноза, -утверждал он, - развил только некоторые
начала Декарта, и учение Спинозы есть крайнее развитие
картезианства... Спиноза начал там, где кончил Декарт - в натурализме».
Спиноза отождествляет Бога с природой и делает это в
рационалистическом духе, чисто геометрическим путем. Но в отличие
от Декарта Спиноза монист, а не дуалист.
Единственная субстанция философии Спинозы - Бог как
бесконечное существо, имеющее бесконечное множество атрибутов.
Сегодня, считает Спиноза, из них людям известны только два -
протяжение (протяженность) и мышление (сознание), а через эти
атрибуты человек познает саму субстанцию. Природа, мир и его
вещи суть произведенные субстанцией (= сотворенные Богом)
модусы, т.е. конечные предметы как изменчивые состояния боже-
Комментарий
409
ственно-природной (натуральной) субстанции, ее проявления,
пассивные, несамостоятельные.
Спинозовское понимание природы, мира и его вещей близко
характерному для мистики «видению вещей в Боге», поскольку
модусы суть то, что существует не самостоятельно и само по себе, а
в другом (в Боге, субстанции), через которое оно и познается.
Подобно Декарту, Спиноза высоко ставит гносеологию.
Познание (образованность) есть высшая цель и предназначение
человека, освобождающее его от страстей, следовательно, от
зависимости, от рабства (здесь ощущается влияние древневосточной
философии).
Чтобы устранить дуализм Декарта, Спиноза делает мысль и
протяжение атрибутами Бога. Вследствие этого он вынужден
отказаться от всякой индивидуальности и отрицать бессмертие
человеческой души. Это очень не нравится Лейбницу: «Душа, -
говорит он в «Теодицее», - для Спинозы есть только мимолетное
видоизменение его единой мировой субстанции, и хотя он делает
вид, что считает ее постоянной и даже вечной, но его душа есть не
что иное, как идея тела, т.е. простое понятие, а не реальное и
действительное существо». Другими словами, борясь с
антропоморфностью представлений о телесности Бога, Спиноза лишил Его
духовности, идеальности, бесплотности; наконец, он просто лишил
410
Философские письма, которых не было
Его разума, даже того, который свойствен людям, ибо у Бога нет
выбора, а, значит, свободы.
Божественный промысел и действия только и всегда
необходимы. Может быть, это - давнее, вообще присущее «от природы»
материализму предвосхищение марксовского радикализма,
ленинского терроризма, сталинского геноцида?..
Человек, согласно Спинозе, рассчитывает и желает, а Бог
действует сообразно не с человеком, обществом, общечеловеческим
благом, а со своей и только своей собственной природой, т.е.
необходимым, закономерным, так сказать «железным» образом; как
писал Маркс, «до сих пор объясняли.., тогда как дело в том, чтобы
(ничего никому не объясняя. - Л.П.) преобразовать».
С целью устранить дуализм Декарта Спиноза отождествляет
Бога с Необходимостью, вследствие чего спинозизм
приобретает разрушительный фаталистический и мистический характер.
В автоматическом процессе развития природы, мышления и
общества у Спинозы, так же как позднее у французских
материалистов XVIII в. и классиков немецкой философии, а еще
позже - в тоталитарной философии марксизма-ленинизма,
которая считала спинозизм одним из устоев своего материализма,
совершенно нет места человеку, его личности, ошибкам,
самостоятельности, свободному волеизъявлению, свободе выбора и
деятельности, нет никакой случайности (она - непознанная
необходимость).
Лейбниц отчетливо видел эту односторонность, но осуждал
Спинозу главным образом за его атеизм, за крайность,
упрощенность, рационалистичность взгляда на Бога как фатальную
необходимость. «Это странное и вредное представление, —
утверждал Лейбниц. - Спиноза не допускает, что действия
Божества определяются Его благодатью и совершенством; он
признает за Ним только слепую математическую необходимость,
подобно тому, как дуга полукруга может заключить в себе
только прямые углы, хотя не имеет в этом отношении ни сознания,
ни воли».
«Спиноза не прав, говорил Лейбниц, если он отрицает в
Божестве и в действиях человеческой воли случайность; но он
несправедливо подчиняет их необходимости, - писал Фишер. -
Божество всегда свободно в Своих действиях, но Оно руководствуется
всегда лучшими целями, Спиноза говорит, что люди, считающие
свои поступки и действия свободными, т.е. не подлежащими необ-
Комментарий
411
ходимости, управляющей миром, создали для себя, так сказать,
отдельный мир в мире или государство в государстве. Лейбниц на
это возражает, что всякое существо в мире (субстанция)
представляет государство в государстве, но только в гармонии со всем
остальным».
У Спинозы, по Фишеру, необходимость - «бесчувственная и
слепая судьба, одинаково уничтожающая все вещи» и поражающая
своим беспощадным усредненным, чисто количественным и
формальным отношением ко всему, что мешает ей, лишенная всякого
разнообразия и, так сказать, индивидуального подхода к
окружающему. Напротив, у Лейбница необходимость - это «благосклонное
Божество» (К. Фишер), родное, терпимое, вольномыслящее и
доброе, оптимистически настроенное, нечто индивидуальное,
глубоко, по-протестантски личное, живущее в сердце и душе
каждого отдельного, конкретного человека и даже просто живого
существа.
У Спинозы Бог есть нечто объективное, у Лейбница -
субъективное. У Спинозы - фатализм социальный, общественный,
коллективный, а потому и через это - навязанный,
внешне-индивидуальный, личный. Напротив, у Лейбница - оптимизм каждого
есть общий всем людям и для них естественный, внутренний,
коллективный, социалистический. Спиноза имеет дело с мрачной
«железной необходимостью», а Лейбниц - с радостной,
«веселой».
Бог Спинозы - необходимая мистико-физическая причина
всего сущего, а Бог Лейбница есть рационалистическое
Провидение. Бог Спинозы - естественным и необходимым образом
проявляется в мире, а Бог Лейбница отделен от материи, физического
мира.
Фишер считал, что для спинозизма характерно представление
о мире как системе действующих причин, т.е. механистическое
объяснение, направление. Напротив, для Лейбница
представление о мире как системе конечных причин, или целей есть
телеологическое объяснение, направление. Но Фишер не учитывал, что
спинозизм одноплоскостной, одномерный, тогда как лейбници-
анство по крайней мере двумерно, если не многомерно, ибо мир
Лейбница - это метафизический мир, в котором есть, по меньшей
мере два мира - физический, являющийся и субстанциальный,
сущностный.
412
Философские письма, которых не было
Как для любого другого материалиста во все времена и у всех
народов, для Спинозы характерно «установление
противоположностей» и связанная с этим необходимая крайность,
чрезмерность, беспредельная односторонность, которая нетерпимо все
противоположное ей «исключает», непременно ликвидирует,
«отрицает», словом, обязательно «борется», «воюет»; неважно с кем,
главное - с инакомыслием, главное - воевать...
Напротив, все стремления Лейбница, писал Фишер,
направлены на то, чтобы всюду «сглаживать и примирять
господствующие противоположности». Это стремление у людей типа
Лейбница «всегда всесторонне или стремится стать таковым». Вот почему
даже по своему личному «духовному складу» Лейбниц, по мнению
Фишера, «никогда не мог бы в действительности примириться с
учением Спинозы».
«Спиноза и Лейбниц, эти два антипода по характеру и
взглядам, - писал Фишер, - имели то, единственно общее между
собой, что не были созданы для профессорской деятельности.
Противоположные причины заставили их отказаться от должности
академического преподавателя, которая была предложена одному
незадолго до смерти, другому в самом начале его самостоятельной
жизни; первый предпочел уединение и частную жизнь из любви к
независимости и любовь к разнообразию влекла второго в
водоворот общественной жизни».
У Спинозы - «успокоение», «отрешение» от мирской,
общественной жизни и деятельности и «одиночество», ибо «он не
принимал, - писал Фишер, - ни малейшего участия в соревновании людей
на великой мировой арене». У него нет «честолюбия»: «он остался
свободным от людских слабостей и мелочности, коренящихся в
своекорыстии».
Во всех этих отношениях Лейбниц - «противоположность»
Спинозе: «живая, всесторонняя и богатая влиянием деятельность
на политическом поприще»; стяжал «в своем веке высокое
значение, делающее славным его имя; но увлеченный своими
склонностями в мирскую суету, в соревнование в делах человеческих, его
характер не остался чуждым также и мелких страстей и слабостей,
честолюбия и своекорыстия, этих неизбежных спутников
соревнования на житейском поприще».
Контраст между Спинозой и Лейбницем заключается в том,
что в первом случае великое освобождается от всего маленького и
является перед нами в полной независимости от него; во втором,
Комментарий
413
напротив, оно не может существовать без этого маленького и
связано с ним теснейшим образом.
В период своего пребывания в Майнце Лейбниц посылает
свою работу по оптике Спинозе и хочет завязать с ним переписку.
В этой записке Лейбниц писал об усовершенствовании
оптических стекол и просил высказать свое мнение о ней. «Лейбницу
казалось возможным изготовить такое стекло, чтобы с его помощью
можно было измерять расстояние и величину отдаленных
предметов с одной точки. Спиноза ответил ему столь же холодно, как и
вежливо, объяснив, что находит описание его не совсем ясным...»
Как и подобает всякому материалисту, Спиноза по своей натуре
был, по-видимому, конспиратором, а потому относился весьма
прохладно, недоверчиво и подозрительно к малознакомым
людям. Внутренне не доверяя Лейбницу, Спиноза расспрашивал
знакомых в письмах, что именно делал Лейбниц там-то и там-то в
такое-то время, почему уехал и т.п., и опасался вводить Лейбница
в круг своих мыслей, занятий и трудов.
Синтез, или Возвращение «на новой основе»
к субстанциальным формам и формальному
началу. Университетские занятия философией.
Яков Томазий
Занимаясь в Лейпцигском университете,
Лейбниц вначале увлекся схоластикой и диалектикой, которые
преподавал некий Адам Шлецер, затем философией, которую изучал
под руководством ЯковаТомазия, а позднее, весной 1663 г., в
Иене, куда Лейбниц, как это тогда было принято, отправился на
летний семестр, — математикой, которую читал Эрнест Вейгель.
Вернувшись из Иены в Лейпциг, Лейбниц занялся
юриспруденцией.
Итак, история и поэзия, схоластика, философия, математика,
юриспруденция - такова последовательность сменяющих друг
друга периодов увлечения молодого Лейбница этими сферами
деятельности, в совокупности образующих некий метафизический
мир, колеблющийся между чувством и рассудком и апериодически
по мелочам отклоняющийся то в одну, то в другую сторону.
О Шлецере, обучавшем схоластике и диалектике, Лейбниц
всегда отзывался с уважением, но он, писал Герье, считал себя
более обязанным Томазию, с которым сблизился и позднее
находился в переписке. Именно Томазий после смерти отца Лейбница за-
414
Философские письма, которых не было
нял его кафедру, став профессором морали. Позднее он был
профессором диалектики, а с 1659 г. до своей смерти в 1685 г. читал в
качестве профессора риторики лекции по латинской и греческой
литературе. Он много сделал, чтобы усилить преподавание
богословия в университете. В 1688 г. Томазий первым выпустил
ученый журнал на немецком языке, а не на латинском, и первым в
Германии провел публичную лекцию на немецком языке.
Лейбниц впервые узнал об исторической преемственности в
развитии философии, т.е. об истории философии, из лекции То-
мазия. Лейбниц ставил Томазию в заслугу то, что тот читал
историю философии в то время, когда другие читали только историю
философов. Томазий, по словам Лейбница, «не любил
схоластики - рабыни Аристотеля и пап». Тем не менее, начиная в 1688 г.
свой первый курс в Лейпцигском университете, Томазий объявил
себя сторонником взглядов Аристотеля, утверждая, что «душа
бессмертна и соединена с телом, как форма, вносящая распорядок
в материю».
Томазий оживлял мертвую массу схоластики изяществом
формы своего изложения. Но он, по Герье, не был самостоятельным
деятелем. Томазий импонировал Лейбницу своим желанием
соединить философию и теологию, знание и веру, и это не всегда
осознанное и никогда не осуществленное Лейбницем желание
философ сохранил до последних дней своей жизни. Во всяком
случае Томазий в огромной мере способствовал развитию
интереса Лейбница к аристотелевской и Новой философии.
Переход от схоластической философии к Новой был условием
и результатом социальной, естественно-научной и
мировоззренческой перестройки в масштабе всего западноевропейского
общества и эпохи. Величайшую работу по созданию космического
миросозерцания начал Коперник, доказал Галилей и изложил Кеплер.
В истории философии аналогичную роль сыграли
итальянские мыслители XVI-XVII вв. Кардан, Ванини, Телезио, Кремо-
нини, Кампанелла, Бруно и др. Все они обладали живым чувством
природы, пантеистически поэтизировали ее, ненавидели и
насмехались над схоластической теологией, стремились к
всестороннему познанию универсального мира.
Профессор медицины, математик и философ Иероним
Кардан (1501-1576) был мистиком и пантеистом. Его современник-
знаменитый философ-пантеист, монах-доминиканец Джордано
Бруно интересовался учением Коперника, идеей бесконечности
Комментарий
415
миров и луллиевской конструкцией понятий, которая позволила
бы построить нечто вроде автоответчика, выдающего истины из
любой области знания. Томмазо Кампанелла, младший
современник Кардана и Бруно, автор знаменитой коммунистической
утопии «Город солнца», поэт и философ считал источником
истинной философии вслед за Бэконом, Декартом и Бёме
соответственно опыт, внутреннее чувство и откровение, которые в его
миросозерцании были своего рода методологическим
коктейлем.
Результаты начатой Карданом, Кампанеллой и Бруно
реформы философии обосновали Фр. Бэкон и Декарт. Мировоззрение
и труды этих великих философов-«новаторов» не могли не
привлечь к себе внимания юного Лейбница. Еще в Лейпцигском
университете он знакомится с сочинениями новых философов:
Бэкона, Гассенди, Декарта и др. Как рассказывает сам Лейбниц в
своем сочинении «Пацидий (под этим именем он вывел себя. -
Л.П.) Филалету», «счастливый случай дает в руки этого юноши
планы великого человека, английского канцлера Фрэнсиса
Бэкона об умножении числа наук, высокие мысли Кардана и Кам-
панеллы, опыты лучшей философии в виде творений Кеплера,
Галилея и Декарта».
Несмотря на критическое отношение Томазия к Декарту,
Гассенди к Гоббсу, именно Томазий был, по выражению Ягодинско-
го, «соединительным звеном между новой и древней философией,
и увлекаясь одной, Лейбниц старался не забывать другой».
Однако подавляющее большинство студентов, сверстников
Лейбница относилось к схоластике чрезвычайно почтительно, а
потому его товарищи издевались над его увлечением новой
философией и, хотя признавали за ним ум и способности, нисколько не
понимали его и называли чудаком (pro monstro erat).
По окончании первых трех семестров в Лейпцигском
университете Лейбниц написал трактат на степень бакалавра философии
(30 марта 1663 г.). По содержанию трактат был метафизический и
вместе с тем историко-философский.
После трех лет учебы в университете Лейбниц написал трактат
на степень магистра философии (3 декабря 1664 г.). По
содержанию трактат был юридически-философский.
Наконец, «за полгода до окончания полного академического
пятилетия» Лейбниц «диспутировал pro loco» (7 марта 1666 г.).
416
Философские письма, которых не было
Этот трактат был математико-философским по своему
содержанию».
В 1666 г. или около этого времени, т.е. примерно за полгода до
окончания университета, Лейбниц написал особый набросок,
который дает характеристику его тогдашнего мировоззрения в
целом. Историк и биограф Лейбница Фуше де Карейль считает это
сочинение «прототипом» всех оставшихся после Лейбница
автобиографических очерков. Оно разделяется на две части: в одной
излагается философское развитие Лейбница, в другой - его
мировоззрение.
«Когда я сделался сиротой, - рассказывает Лейбниц, — то,
оставшись без руководителя в своих занятиях, в библиотеке отца я
стал читать книги случайно и без выбора, как они мне попадались
в руки. Это были сначала диалоги Лукиана, потом трактат
Цицерона "О природе Богов" и сочинения Ванини. Философия,
которая царствовала тогда в школах, не оказала мне достаточной
помощи. Она допускала субстанциальные формы, вроде божков или по
меньше мере гениев, даже в бессловесных животных и в
неодушевленных существах»,
«Едва я только вступил в университет, - продолжает Лейбниц
(в автобиографическом наброске 1666 г. - Л.П.), - как благодаря
редкому счастию встретил учителем знаменитого Якова Томазия,
который, хотя и не согласился с моими догадками (сомнениями) и
был очень мало расположен допустить искоренение (исключение,
преобразование) субстанциальных бестелесных форм в телах,
заставлял, однако, меня много читать Аристотеля, предсказывая,
что когда я прочту этого великого философа, то я буду иметь о нем
совсем другое мнение, чем то, какое составил на основе его
схоластических интерпретаторов. Я скоро узнал справедливость этого
замечания и увидал, что между Аристотелем и схоластиками такая
же разница, как между человеком опытным в государственных
делах и монахом, мечтающим в своей келье.
Я возымел о философии Аристотеля совсем иное
представление, чем обыкновенно. Я не принял всех гипотез, но одобрил их
как принципы. Аристотель, казалось мне, допускал, почти как
Демокрит и как в наше время Декарт и Гассенди, что нет тела,
которое не двигалось бы само собой... Мне нравилась у Аристотеля
лестница субстанций, по которой он восходил до первого
двигателя».
Комментарий
417
В том же наброске Лейбниц писал: «Большой успех, что
Декарт связал учение Аристотеля о непрерывности и движении с
механизмом Демокрита! Но когда Декарт хочет объяснить
принципы вещей, то вводит так много не только ненадежных... но и
совершенно недопустимых больших посылок в своих силлогизмах,
что с этого времени я часто думал о необходимости новой
гипотезы, чтоб проникнуть далее в глубь вещей».
«Нравилось, однако, в Декарте прежде всего то, что он отрицал
у бессловесных животных чувство, что он отказал им в чувстве
радости, печали и в любви, в чувстве деятельности и страдания,
сделав их машинами, как часы. Я всегда думал, что это было
необходимо для защиты бессмертия души. Дигби в своей книге о
бессмертии объясняет механизм посредством детальности функций;
Ж. де Кордемуа удостоверяет его в своей... книге "О различии
между телом и душой".
Несмотря на это, однако, мы не имеем до сих пор твердых
принципов тела и духа: не можем объяснить различных степеней
плотности (твердости) и сцепления в телах, ибо кривые атомы
Гассенди - не объяснение. Он даже прибегал для объяснения
твердости атомов то к боязни пустоты, то к Богу, который их
сохраняет, как если бы совсем не было пустоты - между телами,
которые касаются и толкают друг друга.
Декарт искал причины связности в покое. Он называл
связными частями те, которые в покое.
Что касается меня, то, не видя достаточных оснований ни кто-
му, чтобы эти тела в покое не разделились бы от первого толчка, ни
к тому, чтобы связность сделалась бесконечной, непреодолимой,
я, несмотря на чрезмерность расстояния, которое разделяет покой
от движения, как нуль от единицы, подозревал другие, весьма
различные причины».
Таким образом, судя по этому отрывку, Лейбниц, по мнению
Ягодинского, «в самом начале философского поприща
интересовался в сочинениях Аристотеля идеей непрерывности субстанций
и понятием о первом двигателе, которое связывалось с мыслью о
невозможности самопроизвольного движения тел; у богословов —
с идеей о бессмертии души; у атомистов — с механическим
миропониманием; у Декарта - с представлением о связности тел. По
отношению ко всем корпускуляр-философам (атомистам. - Л. П.)
Лейбниц находится в оппозиции, не будучи удовлетворенным их
объяснениями плотности и сцепления.
418
Философские письма, которых не было
Лейбниц вообще полагал, что не было еще дано твердых
принципов тела и духа». «Такая мысль (Лейбница. - Л. П.) повела к
попытке создать собственное мировоззрение. Тот же
автобиографический набросок... показал путь, приведший Лейбница к его
первой философской концепции и саму эту концепцию».
Ягодинский неправ. Философская или, что то же,
мировоззренческая концепция не возникла в 1666 г. Она конструируется почти
всю сознательную жизнь Лейбница и совершенствуется им до
последнего дня его жизни.
Философский кризис в роще Розенталь. Формирование будущей
«монадологии» началось у Лейбница примерно в 15-летнем
возрасте, как это, по мнению Сырцова, следует из писем к Банажу и
Ремону де Монмору. По мнению Серебренникова, Лейбниц в это
время знакомится с новой механистической философией «и в его
душе происходит переворот». Это, утверждает Сырцов, был
«напряженный кризис», вызванный в Лейбнице несовместимостью
«новой "механической"» философии, пленившей его
прозрачностью своих основ и доказательств, с идеями теологической
теории субстанциальных форм Аристотеля.
В письме к шотландскому дворянину Томасу Бюрнету де Кем-
ни (1697) Лейбниц писал: «Большинство моих воззрений
установилось наконец после двадцатилетнего размышления; ибо я начал
размышлять еще в очень ранней юности; мне еще не было
пятнадцати лет, когда я гулял по целым дням в одной роще, чтобы
сделать выбор между Аристотелем и Демокритом».
Лейбниц не раз, главным образом в переписке, описывал
«философский кризис», который произошел с ним, 15-летним
юношей, в роще Розенталь под Лейпцигом после окончания
школы.
Исследователи и биографы Лейбница дают свои, часто
различные переводы этих описаний: «После того, как я оставил
низшую школу, я попал на новых философов и помню, как однажды,
будучи пятнадцатилетним мальчиком, пошел один гулять в лес, с
тем чтобы взвесить, должен ли я признать субстанциальные
формы» (Н. Иванцов). «Помнится мне, что когда мне было
пятнадцать лет, я ходил один гулять в небольшой лесок возле Лейпцига,
носящий название Розенталь, чтобы решить вопрос, должен ли я
оставаться на стороне субстанциальных форм» (В.
Серебренников). «Он часто ходил гулять в лесок близ Лейпцига и проводил
там целые дни, обсуждая, что лучше: учение Аристотеля или уче-
Комментарий
419
ние Демокрита?» (И. Ягодинский). «...Покинув школу, я напал на
сочинения новых философов и, помнится мне, будучи тогда
пятнадцатилетним мальчиком, ходил в одиночестве гулять в
небольшой лесок возле Лейпцига, носящий название Долины роз
(Rosental), чтобы обсудить вопрос, должен ли я оставаться на
стороне субстанциальных форм» (К. Фишер).
Но, как справедливо заметил Сырцов, мы не располагаем
достаточно подробными данными отом раннем периоде, когда новые
радикальные идеи светской науки вторглись в юношеское
миросозерцание Лейбница, сильно зависящее от теории
схоластических писателей, сочинения которых он прочитал в библиотеке
покойного отца.
Поэтому картину формирования монадологии в ее самой
начальной фазе вряд ли когда-нибудь удастся реконструировать с
удовлетворительной точностью, исчерпывающей полнотой и
психологической и исторической достоверностью.
Но во всяком случае, как признавал сам Лейбниц, «в конце
концов механическая теория победила и побудила меня к
изучению математических наук». «Меня увлекла прекрасная манера
новейших писателей объяснять природу механически, и я со
справедливым презрением отвернулся от метода тех, которые только
нагромождали формы и способности, не дававшие ровно
никакого знания».
Диспугация «О принципе индивидуума» (1663). Переворот в
философском мировоззрении Лейбница не привел и не мог привести к
полной и окончательной победе одной стороны и такого же
поражения и уничтожения другой. Это была духовная революция все
понимающего разума и благожелательного рассудка, а не
политического своекорыстия и глубокого невежества, обычно присущего
властолюбивым мошенникам. Поэтому и «философский кризис в
роще Розенталь» не был смертельно разрушительным ни для
какого мировоззрения или идеологии. Он не стер с лица Земли ни
одну из враждующих сторон; даже не унизил ни одну из них, но
заставил каждую критически задуматься над чужим и своим и в
процессе такой саморефлексии как бы «подняться над самой собой»,
стать существенно иной по сравнению с той, какой она была до
кризиса, а именно: еще более доброй и терпимой, глубокой,
разумной и мудрой.
Ликвидации традиционной аристотелевско-схоластической
философии не произошло. Несмотря на победу «механизма» и
420
Философские письма, которых не было
глубокий интерес Лейбница к новой философии, Аристотель и
схоластики для него по-прежнему остаются авторитетами.
Это стало ясно уже во время защиты Лейбницем на степень
бакалавра под председательством Томазия философской диспутации
о принципе индивидуума («Disputatio metaphisica de principia
individui») весной или летом 1663 г. Она была плодом его занятий с
Шлецером и Томазием, по меньшей мере лояльно
относившимися к схоластической философии.
Фактически эта диспутация превратилась в своеобразную
диссертацию, так как Лейбницу пришлось готовить трактат для
диспута. По обычаю, ее писал председатель диспута (в данном случае
Томазий), а Лейбниц должен был защищаться. Но Томазий
попросил Лейбница самого написать диспутацию. Согласно
Филиппову, она была защищена 30 мая 1663 г., а по Погребысскому - в
июне 1663 г.
Казалось бы, опекаемая схоластами диспутация уже по этой
причине должна быть всецело схоластической, тем более что ее
главная проблема - отношение души («общего») к телу
(«индивидуальное») - в те времена была традиционно-схоластической и
являлась ареной борьбы между номинализмом и реализмом,
ведущейся еще с XI—XII вв. Номиналисты (И. Росцелин, позднее
И.Д. Скот, У. Оккам и др.) учили, что понятия (роды и виды) не
имеют реального бытия, а суть лишь отвлечения ума. Напротив,
реалисты (Альберт Великий, Фома Аквинский и др.) считали, что
реальным бытием они обладают так, как произвольные
обозначения, «имена» (nomina, voces) и естественные непроизвольные
«знаки» (signa) или «следы» (vestigia) данных внешнего и
внутреннего опытов в познающем субъекте.
Очевиден, по крайней мере для Ягодинского, совершенно
схоластический «аристотелевский характер мыслей»,
развиваемых в этой диспутации. В ней утверждалось, писал Кабитц, что
«реальны лишь индивидуальные сущности и что общее, будучи
продуктом абстракции от многих индивидуумов, не существует вне
их».
Общее, доказывает здесь Лейбниц, не имеет больше
реальности, чем единичное, поэтому нельзя мыслить, будто последнее
возникает из первого путем отрицания. И столь же мало
позволительно искать основания индивидуальности вещей в их наличном
бытии или в «индивидуальной разности», посредством которой
вид, по учению последователей Скота, «стягивается» в индивид
Комментарий
421
подобно тому, как род посредством видовой разности стягивается
в вид. Ибо бытие и сущность, род и вид различимы между собой
только в абстракции, но как единичные вещи в действительности
не существуют.
Таким образом, основу индивидуальности можно найти
только в совокупности положительных определений вещей или
субстанций: «omne individuum suatota Entitate individuatur>. Влияние
Аристотеля и схоластов здесь совершенно явно.
Диспутация в своих основных положениях воспроизводила
давно известный тезис номинализма, считает Сырцов. В ней,
отмечает Герье, Лейбниц «стоит еще совершенно на схоластической
почве». Он рассматривает свою тему с точки зрения борьбы
номиналистов и реалистов и «становится на сторону первых». Эту точку
зрения разделяют Б. Ауэрбах, Дж. Т. Мерц, Г. Сейлер, Ф.И. фон
Ринтелен, Кабитц и другие исследователи творчества Лейбница, а
в наши дни отчасти и Погребысского.
Но если этим ограничиться и со всем этим согласиться, то,
значит, Лейбниц обманул и поверивших ему
современников-читателей, и адресатов, и потомков. Ведь он сам писал, что победа
«механизма» над схоластикой привела его к новой философии, а
оказывается - вовсе не привела.
Оправдывая Лейбница, Сырцов уверяет, что в схоластической
сути диспутации нет ничего страшного; это еще не означало
«радикального перелома в его миросозерцании: занятия
математикой, механикой и пр. могли идти параллельно с его
академическими работами по получению степени». Уж не хотят ли сказать, что
ради получения степени Лейбниц мог сочинить все что угодно и
даже то, что противоречило бы его мировоззрению?
Вероятно, будет гораздо более истинным и справедливым
считать, что, несмотря на очевидное, есть в диспутации и менее
очевидное, только подразумевающееся. Наиболее проницательные
биографы Лейбница это заметили давно. Например, Герье,
который, отмечая схоластику у Лейбница, утверждал вместе с тем, что
само заглавие диспутации было очень «многознаменательно, ибо
принцип индивидуальности был корнем всей философской
системы Лейбница».
Другой исследователь указывает на то, что неопифагорейская
мистика чисел, враждебная схоластике, получила отражение во
втором и третьем королларии к диспутации Лейбница: «Есть ос-
422
Философские письма, которых не было
нования думать, что материя и количество в действительности
одно и то же» и «сущности вещей подобны числам».
Ягодинский, который, как мы уже видели, признавая
очевидность «аристотелевского характера мыслей» Лейбница в диспута-
ции, тем не менее утверждает, что уже в ней был «зародыш»
«предустановленной гармонии» Лейбница. В доказательство он
ссылается на следующие положения диспутации: «Ясно, что природа
определена в себе через самое себя, а не через что-либо
добавочное»; «Материя от себя имеет активность (обладает активным
существованием), из которого вытекает единство»; «Сущности
вещей вечны лишь постольку, поскольку они в Боге».
В диспутации есть и другие положения, созвучные этим и в той
или иной мере несовместимые с ортодоксальной схоластической
философией. Например: «общее» (душа) и «индивидуальное»
(тело), единое и вещь не только совпадают, но и взаимопроникают,
взаимопереходят друг в друга; общие принципы, абстрагируясь от
частных, обязаны по этой причине быть им аналогичны, зависеть
от них, а потому не существуют вне их; «общее» (душа) и
«индивидуальное», «частное» (тело), единое и вещь не различаются
реально; также как природа вещи определяется в себе через самое себя,
так и индивид индивидуален целиком своей существенностью, из
этого следует, что «общее» и «индивидуальное», «частное»
одинаково реальны и активны, хотя это, вообще говоря, несовместимо и
с номинализмом, и с реализмом.
Я считаю справедливой мысль Ягодинского о том, что
вопреки общепринятому мнению Лейбниц в своей диспутации
«О принципе индивидуума» был в известной мере самостоятелен
и не зависел от Томазия и схоластики; что эта диспутация была
направлена против номиналистского учения Фомы Аквинского,
где утверждалось, что до своего соединения с телами души людей
не отличаются между собой и могут существовать независимо от
тел.
Диспутация Лейбница, по Ягодинскому, защищает идею
Иоанна Дунса Скота о том, что души совершенно сходны между
собой и «лишь различие в телесной организации образует их
индивидуальность». Но вместе с тем он утверждал, что основу
индивидуальности надо искать в совокупности субстанциального; что
индивид индивидуален целиком всей своей сущностью.
Вероятно, писал Ягодинский, Лейбниц интересовался
атомизмом материалиста Демокрита по той причине, что атомизм
Комментарий
423
скрывал в понятии атома проблему индивидуальности и ее
отношения к общему (единству) - обстоятельство, быть может,
бессознательно обращавшее на себя внимание Лейбница.
Впоследствии он отождествлял понятие монады с понятием
«нематериального» атома, «очевидно имея в виду, что в вопросе об
индивидуальности материализм тесно соприкасается с его
собственной системой».
Итак, резюмирует Погребысский, в диспутации Лейбниц
отстаивал старый тезис номинализма, что все существующее
существует индивидуально, а общее у сходных индивидов есть
создаваемая разумом и существующая лишь в нем абстракция. Но в
противоположность основоположнику номинализма Фоме Ак-
винскому, который подчеркивал общее вопреки
индивидуальному и считал, что. единичное есть неделимая сущность, Лейбниц
переместил акцент с сущности на неделимость,
индивидуальность («то, что не существует в действительности как одно,
отдельное, вовсе не существует»), следовательно, на атомарность
как безличную целостность (системность); на многое как не-ин-
дивидуальное и одно, и наоборот.
В схоластической форме первой диспутации Лейбница была
поставлена и решена проблема о соотношении свободы воли с
волей Мироправителя (Бога), т.е. проблема индивидуальности.
Лейбниц увидел некий аналог проблемы индивидуальности в
философии Фр. Бэкона, Кампанеллы и Декарта, в учении Кеплера и
Галилея.
Одновременно Лейбниц осознал, что его интересовала логика
(и схоластика) лишь постольку, поскольку она компенсировала
ему отсутствие математики и служила ступенью к более глубокому
пониманию ее сущности.
Лейбниц не отбросил схоластическую форму, в которой его
первая диспутация могла решить проблему индивидуальности, а
критически ее преодолел. И не просто преодолел, но
существенно реорганизовал саму суть этой проблемы, связав ее с
миросозерцанием современного ему естествознания (науки) и
философии.
Прежняя альтернатива, где «явное бытие» выступало как
свобода индивидуальной воли (частное, особенное, разнообразное,
вещь), а «сокровенное бытие» - как воля Бога (общее, всеобщее,
одно, единое, однородное), уступила место новой альтернативе,
которая, однако, сохранила преемственную связь со старой: в ней
424
Философские письма, которых не было
«явное», «физическое» рассматривалось Лейбницем уже как
«механизм», механическая причинность, детерминированность, а
«сокровенное», «метафизическое» - как субстанциальные,
нематериальные, но реальные и активные «деятельные формы» духа и
души; как целесообразность, конечные причины.
Смена мировоззренческих позиций и переформулировка
проблемы бытия и сознания, общего и индивидуального, целого и
части была важным переломным периодом в жизни Лейбница,
решающим шагом в формировании его философии.
Мы уже говорили, что для Лейбница университетские занятия
философией с Томазием были звеном, соединявшим историю,
поэзию, античную философию, схоластику, логику и диалектику,
которыми Лейбниц раньше был увлечен, с новой философией. Но
Томазий, указав Лейбницу дорогу к ней, как бы «вернул» его к
аристотелевской философии, но «на новой основе», ибо Лейбниц
никогда не расставался окончательно с тем, чем ранее был
увлечен; он не утрачивал информации, а преобразовывал ее,
приближаясь к истине. Лейбниц «возвращается» к аристотелевской
философии по мере того, как идет от логики к математике и
механистической философии Нового времени. Это - своего рода
единство циклического и поступательного в духовном развитии
Лейбница.
«Когда я исследовал последние основания механизма и самих
законов движения, - писал он, - то с удивлением увидел, что их
невозможно найти в математике и необходимо обратиться к
метафизике. Это вновь привело меня к энтелехиям, от материального
начала к формальному и в конце концов после многочисленных
исправлений и улучшений моих понятий - к идее того, что
монады, или простые субстанции, суть единственные истинные
субстанции и что материальные вещи суть только явления, но
обоснованные и хорошо связанные».
Вряд ли можно согласиться с тем, что победа «механизма» в
философских взглядах Лейбница над атомистикой Демокрита
была, по выражению Сырцова, «условной». Видимо, под «победой»
здесь понималось абсолютное уничтожение «противника». Но он
прав, заявляя, что «результатом конфликта был не отказ от
Аристотеля и "схолы", а новая оригинальная концепция
миросозерцания, объединяющая принципы новой философии с
теологическими учениями древних».
Комментарий
425
Свою новую, примиренную с Аристотелем философию
Лейбниц в одном из писем Томазию называет «реформированной».
Т^и попытки синтеза. Всего лишь 5-7 лет прошло после защиты
диспугации «О принципе индивидуума» (1663), а отношение
Лейбница к схоластике из более или менее лояльного стало резко
негативным.
Уже в 1668-1670 гг. Лейбниц утверждал в своих философских
и теологических сочинениях, что «философия требует полного
обновления, новых основ и новых форм даже в области языка».
«Схоластика, - писал он, - прикрывает свою наготу жалкой
оболочкой латыни и только в этой мертвой раковине живет
кажущейся жизнью. Употребление живого языка для нее смерть...»
Схоластика держится там, где отсутствует национальный,
родной язык.
Лейбниц выступает за ясность изложения, полную понятность
слов и предложений, краткость, информационную емкость
терминов, определенность, конкретность; словом, за все то, чего нет
в схоластической философии. То, что нельзя изложить логично,
ясно, доступно, не годится для философии.
Но Лейбниц вовсе не желает полностью разрушать старое, он
хочет его перестроить в соответствии с новым. Примирение
старой философии с новой Лейбниц мечтает осуществить путем
такого преобразования понятий старой телеологической
метафизики Аристотеля, которое позволило бы сохранить одно из важных
для Лейбница и центральных положений этой схоластической
философии, а именно: аристотелевское учение об энтелехиях, или
субстанциальных формах.
Несколько попыток синтеза старой и новой философии или,
по несколько неточному выражению Сырцова, примирение «двух
противоположных типов механистического и телеологического
миросозерцания», «основ механистической философии» и
«телеологических идей», можно найти в сочинениях Лейбница в так
называемый «Майнцский период» его жизни (конец 1660-х -
начало 1670-х гг.), например в знаменитом «Исповедании природы
против атеистов» ( 1668). Основная идея этого труда состоит в том,
что всякое тело есть бытие (существование) в пространстве. Из его
пространственности (ротяженности) вытекает величина и
фигура, а из его местного, локального существования — возможность, и
только возможность, перемещения в пространстве (mutatio spatii).
Причем не как собственно самоперемещение, а как некая направ-
426
Философские письма, которых не было
ленность к нему, его импульсивность, потенция, тенденция к
нему, склонность к перемещению, а отнюдь не само движение тела.
Природа тел не определяет подробностей, деталей их
движения, непосредственно и прямо их не обусловливает, а если
что-либо в них и определяет, то всего «лишь подвижность». Из природы
тел не вытекает их определенная величина и «данная
определенная форма». Отсюда Лейбниц делает вывод, что тела
определяются только с помощью невещественной, нематериальной причины,
а именно, «образующей, движущей силы». Фишер писал: «Легко
доказать, что ей подобают единство, разумность, мудрость и
могущество, т.е. качества Бога».
Лейбниц, по мнению Кабитца, «исследуя понятия величины,
фигуры и движения, являющиеся основными принципами миро-
объяснения в механистической философии, открывает в
реальных величинах, фигурах и движениях признак индивидуальной
определенности их, который не поддается дедукции из понятий
величины, фигуры и движения вообще и постулирует к
"невещественному" существу, как последней основе вещей».
Вторая попытка синтеза аристотелевской и механистической
философии представлена в письме Томазию (1669). Здесь
Лейбниц путем параллельного анализа и сопоставления понятий
аристотелевской метафизики и новой философии стремится доказать
отсутствие между ними непримиримого противоречия и тем
самым оправдать возможность новой точки зрения на мир,
«сохраняющей все восемь книг аристотелевской физики без ущерба для
новейшей философии».
Наконец, третью попытку можно видеть, по мнению Сырцо-
ва, в учении о душе как точке, изложенном в Elementa de Menta.
Хронологические пределы периода формирования своей
системы Лейбниц указал сам в письме к Т. Бюрнету де Кемни 8/18 мая
1697 г., где сообщает, что в основном его взгляды сложились к
1685 г.: «Большая часть моих мнений приняли свой
окончательный вид после двадцатилетнего размышления... Изменял я их под
влиянием новых данных несколько раз; и я чувствую себя
удовлетворенным не долее, как двенадцать приблизительно лет».
На указанные годы приходятся:
О диспутация «О принципе индивидуума» (1663);
О несколько трактатов по вопросам права ( 1664);
О начальные работы в области Ars Combinatoria, т.е. «Искусства
комбинаторики» (1666);
Комментарий
427
о переписка с Томазием (1663-1672);
о несколько философско-богословских трактатов и этюдов из
области права Майнцского периода (1668-1671);
О письма к герцогу Иоганну Фридриху (1670), Гоббсу (1670), Отто
фон Герике (1671-1672), Арно (1671), Карейль (1676) и др.;
0 «Новая физическая гипотеза» (1676);
0 диалог «Пацидий Филалету» (Pacidius Philaleto) (1676) и
несколько других фрагментов.
Кроме того, Сырцов подчеркивает «особое значение»
неопубликованного отрывка, написанного Лейбницем в 1670-1671 гг. и в
каталоге Е. Бодеманна озаглавленного «De Arternitate» (Theo-
logica), a на самом деле представляющего собой рассуждение на
тему о доказательствах бессмертия души.
Фишер предлагал иную периодизацию развития философской
концепции Лейбница:
I период: «возникновение основных идей» (1661-1671);
II период: «созревает система» (1671-1690);
III период:- «ее письменное изложение и появление в печати»
(1690-1716).
В свою очередь III период делится на два:
А) «наброски и очерки» (1690-1700);
Б) «капитальные работы и систематические обзоры» (1700-1716).
Завершение в общих чертах концепции философии Лейбница
иногда датируется 1660-ми гг. (Ф. де Карейль, И.И. Ягодинский,
И.Б. Погребысский).
Мнение о своей философии как системе, являвшейся итогом
многолетнего и всестороннего синтеза преемственно с ней
связанных самых различных философских учений, Лейбниц
высказал в июле 1698 г. в адресованной де Бювалю статье «Разъяснение
трудностей, обнаруженных г-ном Бейлем в новой концепции
взаимосвязи души и тела».
«Рассмотрение моей философской системы, - писал
Лейбниц, - показывает... что, углубляясь в суть вешей, можно найти в
них больше разумного, нежели казалось большинству
философских школ». Далее он дает понять, предвосхищая одну из
современных нам общенаучных идей, что система рождается из хаоса,
стройность из нестройности, безграничность из ограниченности,
порядок из беспорядка. Даже истина способна родиться из ложных
посылок совершенно так же, как из детских кубиков собирается
428
Философские письма, которых не было
единая картинка или как разноцветные стеклышки в
калейдоскопе складываются в симметричный узор.
И как бы ни были философские учения разных стран, времен и
народов различны и противоположны в своих крайностях и одно-
сторонностях, все они без исключения в глубочайшей сути своей
едины (тождественны) друг другу, образуя пока еще неведомую
нам стройную картину (систему).
Одной из несовершенных попыток ее воспроизвести является
философская система Лейбница.
Письмо третье
О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ ФИЛОСОФИИ
Перипатетики. - Стоики. - Платон. - Аристотель. -
Демокрит. -Эпикур. - Схоластика. - Гоббс. - Гассенди. -Декарт. -
Спиноза. - Локк. - Бейль. - Гюэ (Гуэций), Арно и Гюйгенс.
Надеюсь, Ваше Величество, письмо о
совершенствовании моих философских взглядов на царство Божие, о чем я
имел честь писать Вам недавно, Вы уже получили. Благодарю Вас
за сказанные в мой адрес добрые слова и перехожу к неясным для
Вас вопросам, которые, следуя Вашему пожеланию, я попытаюсь
более подробно описать, а именно: учения наиболее высоко
ценимых мною древних и некоторых новых философов.
Рискуя занять много Вашего времени, отвлечь Ваше Величество
от государственных дел и, наконец, просто утомить долгим чтением
этого пространного письма, непомерно разросшегося до размеров
трактата, я все же позволю себе переложить вину за это на таких
замечательнейших ученейших мужей, как древние перипатетики,
стоики, Платон, Аристотель, Демокрит, Эпикур, схоласты (не все,
разумеется), а в Новой философии - господа Гоббс, Гассенди,
Декарт, Спиноза и недавно почившие в бозе господа Локк и Бейль,
Ибо тот, кто однажды почерпнет из этих глубочайших
источников чистой мысли, уже не сможет от них оторваться, как это
случилось со мной в этом письме, за что я заранее приношу свои
извинения, а далее, если позволите, я бы хотел изложить свое
мнение о том, кто такие были
Перипатетики (НИ вв. до Р.Х.)
Гермипп Смирнский выводит это название от
«peripatio» - прогуливающийся («прогульщик»?). Наиболее
известный из них Стратон изЛампсака (340-270 или 268 до Р.Х.) -
древнегреческий естествоиспытатель и философ-перипатетик,
глава аристотелевской школы и преемник Теофраста (около
360-268 до Р.Х.), который тоже философ и логик.
По учению Стратона, царство Божие, весь мир есть царство
«слепой необходимости», «лишенной разума природы». Он
исключал сознание «в отношении начала вещей».
430
Философские письма, которых не было
Однако многим перипатетикам казалось, что существует
какой-то «разум (intelligence), сопребывание в котором дает бытие
нашему активному разуму». В частности, они приписывали
«звездам совершенный разум, который путеводит ими...» Некоторые
перипатетики «думали, что души имеют влияние на тела и что
сообразно своей воле или влечениям они производят известные
впечатления на тела». Другие признавали всеобщую душу,
«почитаемую океаном всех частных душ, и думали, что эта всеобщая душа
одна только должна существовать, между тем как частные души
постоянно рождаются и погибают».
Стратон «утверждал (по свидетельству Цицерона), что этот
мир создан таким, каков он есть, по природе, или по необходимой
причине, не обладавшей сознанием», т.е. без Бога. Но я возразил
бы, что «без Бога не было бы никакой причины ни для какого
существования и тем более для... существования вещей; поэтому
нечего опасаться системы Стратона».
За неимением времени и места, Ваше Величество, я, как Вы,
возможно, изволили заметить из уже прочитанного,
останавливаюсь в описании учений философов не столько на том, в чем не
согласен с ними, сколько на том, что мне у них пришлось по душе, а
потому близко и дорого, будучи полезным и ценным для моего
собственного философского учения и всех будущих. Теперь же
расскажу о стоиках.
Стоики (III в. до Р.Х.)
Это школа древнегреческой философии,
основанная ученейшим Зеноном (около III-II вв. до Р.Х.) и обязанная
своим названием stoa, что значит «портик». Главные из стоиков:
Хрисипп, Клеанф, Архимед, Антипатр, а также Варрон, Сенека и
славный не только своим умом, но и мужеством Сцевола. Школа
эта интересовалась проблемами физики, логики и этики.
Мир - одушевленное, целесообразно самоорганизующееся,
разумное телесное целое. Оно и его тела обладают
самостоятельной реальностью и основаны на двух началах - активном,
самопорождающемся (это всепроникающий Логос, или мировая натура,
самопорождающая имманентная сила, или Бог) и пассивном (это
«бескачественное вещество», «субстанция»).
Мир циклически саморазвивается, порождая при этом из себя
четыре первоосновы: огонь, воздух, воду и землю, а из них все
остальные тела в мире. Все тела полностью взаимопроникаемы, по-
Письмо третье. О древней и новой философии
431
этому мир есть одно непрерывное целое, пронизанное Логосом
как «природой» (натурой) мира, проявляющейся во всеобъеди-
няющем огненно-воздушном дыхании мира («пневма»). Логос
связывает весь мир, его тела с их бесплотной, идеальной
«космической симпатией» как своего рода динамическим балансом
целого и его частей. По мнению стоиков, а позднее Лапласа, это
позволяет делать предсказания.
Душа человека как частица мировой души телесна и находится
главным образом в сердце, но уходит от человека после его смерти.
Стоики учили о совершенной «общей душе», которая
«поглощает все другие». По их мнению, «в действительности существует
только одна душа». Я называю таких стоиков «монопсихитами».
Само допущение единой воли обшей души я считаю верным, хотя
это, с моей точки зрения, не является всецело правильным и
нуждается в оговорках. Кроме того, в стоицизме меня привлекает
проблема совершенства.
Учение стоиков постепенно проникло в каббалу, и я бы указал
на сходство учения г-на Гоббса и спинозизма, признающего
обожествленную природу в качестве одной лишь необходимости, с
каббалой и стоицизмом через посредство учения об абсолютной и
необходимой душе.
Стоики, в частности Хрисипп и Авл Геллий, учили: «Судьба -
это неизбежная и вечная связь всех событий». Хрисипп, по словам
Цицерона, «изо всех сил старается доказать, что всякая "аксиома"
или истинна, или ложна», желая этим укрепить свой основной
тезис, заключающийся втом, что, как учил Цицерон, «все
происходит в силу судьбы и от вечных причин будущих вещей». Как
видим, стоики считали прошлое неизбежным и необходимым, а
вместе с тем «старались изобразить область того, что возможно,
более широкой, чем область того, что будет, чтобы смягчить
отвратительные и ужасные последствия, какие вытекали из их
положения о фатальности». При этом они доказывали свое учение «то
на основании разума, то на основании авторитетов, как это сделал
Хрисипп».
Я одобряю уже саму плодотворную заботу стоиков о
доказательности их учения. Они «из божественных определений уже
выводили предвидение событий», и в этом я их тоже поддерживаю.
Таким образом, вместе со стоиками я всегда, везде и во всем
выступаю за определенность (détermination), всегда способствующую
пользе и эксперименту, практике.
432
Философские письма, которых не было
Я поддерживаю также их точку зрения на зло, «Кажется, что
стоики... знали, насколько сущность зла ничтожна». Следующие
слова Эпиктета показывают это: «Sicut aberrandi causa meta non
ponitur, sie пес natura mali in mundo existit» («Как при состязании в
беге нет границ для уклоняющихся от прямого пути, так нет в мире
и (границ для? — Л.П.) природы зла»). И «нет необходимости
допускать злое начало», искать его в материи или в изначальном хаосе.
Хрисипп считал, что «зло способствует пониманию добра», и
это верно. Зло - не цена добра, а его изнанка, косвенное
следствие, прямо и непосредственно из добра не вытекающее. Бог,
по-моему, «допустил зло, потому что оно было соединено с
наилучшим замыслом, который существовал в области возможностей
и который не мог не быть избран высочайшей мудростью».
Не это ли подтверждает пример, приведенный Хрисиппом:
«цилиндр толкают, но неровности в его фигуре полагают границы
скорости его движения». Сравнение Хрисиппа не отличается от
нашего, когда мы говорим о нагруженном судне, движущемся по
течению реки, но двигающемся тем медленнее, чем больше груз.
Другими словами, Бог «не желает» зла, но «допускает» его и
«содействует» ему. «Зло проистекает не из Божьей воли», а из
источника «другого», хотя с этой волей и «связанного». И все это Бог
осуществляет «без ущерба» для своей святости и своей
высочайшей благости.
В учении стоика Хрисиппа мне импонировало и то, что тот
«искал среднего пути». Я бы особенно хотел подчеркнуть это
обстоятельство именно сегодня, когда то, что раньше на все лады
превозносилось как «золотая середина», теперь всячески
осмеивается и презирается. (Даже видные отечественные философы
морщатся, когда слышат слова: «середина», «средний путь»,
«компромисс», «примирение». —Л.П.)
Я же не вижу в этом ничего плохого, как и в том, чтобы со всей
возможной терпимостью, добротой и радостью признать и
принять в свое мировоззрение все лучшее и разумное у всех
философских школ на свете без всякого исключения. Каждая из них есть
особого рода крайность, чрезмерность, односторонность.
Ошибка (в качестве абсолютной истины), на которой настаивают,
превращается в кровавый кошмар.
Ведь плох не эклектизм сам по себе (разве нам не нравится
хорошо приготовленный винегрет?), а произвол и невежество (все
зависит от навыков и знания о том, как этот винегрет пригото-
Письмо третье. О древней и новой философии
433
вить), а также ограниченность в эклектизме. А потому в этом
термине вовсе не таятся те грехи, за которые его обычно шельмуют и с
порога отвергают. В некоторых случаях совершенно напрасно.
Поиски «среднего пути», столь осужденные ныне, наряду с
идеями «общей души» и стоическим пониманием «судьбы» как
необходимой, но и включающей в себя случайность,
целесообразной чудесной последовательности никому неведомой цепи
событий, определяемой не чем-то чуждым и внешним телу, а его
собственной природой и ее тайными силами, - это, пожалуй, и есть
самое прекрасное, плодотворное и привлекательное из того, что мне
так нравится в стоицизме.
Но пора мне сказать, что думаю об одном из величайших умов
древности - Платоне из Афин.
Платон (427-347 до Р.Х.)
Говоря о том, что было раньше: хаос или порядок,
Платон в «Тимее» утверждал: порядок. Ибо «люди, допускающие
хаос прежде, чем рука Божия привела его в порядок, в хаосе
искали источник беспорядочности». За это порицал Платона
Аристотель во второй главе третьей книге «О небе», потому что, согласно
этому учению, «беспорядок был бы изначальным и естественным,
а порядок был как бы введен вопреки природе. Этого избежал
Анаксагор, признав материю, находившуюся в покое до тех пор,
пока Бог не привел ее в движение...»
Вместе с Аристотелем и Августином Блаженным Платон
разделяет мысль о том, что «всегда существует преобладающее
основание, которое направляет волю в ее выборе, и для сохранения
свободы достаточно, чтобы это основание склоняло, но не
принуждало».
«Платон в «Тимее» говорит, что мир получил свое начало от
ума в соединении с необходимостью». Действительно, «познание
законов природы приводит нас в конечном итоге к более высоким
принципам порядка и совершенства, которые указывают на то,
что вселенная является результатом универсальной разумной
силы». Пифагор и Платон «в особенности отстаивали эту мысль».
Платон «прекрасно показал», что «если бы тела были
обыкновенными машинами и в теле не было бы ничего, кроме
протяженности и материи, то... все тела были бы лишь феноменами...» Он
учил, что материальные и чувственные вещи никогда не
существуют, а всегда рождаются и умирают, как время, движение и другие
434
Философские письма, которых не было
преходящие вещи, Платон говорил, что «они находятся в
непрерывном течении: "semperfluunt, nusquam sunt" ("всегдатекут,
никогда не пребывают"). Иначе судил он о нематериальных
субстанциях, признавая их единственно действительными, в чем он не
вполне заблуждался. Но непрерывное творение относится ко всем
без различия сотворенным вещам».
В создании своей философской системы я опирался на
«прекрасное место из Платонова "Федона"... о том, что если исходить
из предположения, будто все веши порождены неким разумом, то
истечения их следует искать в конечных причинах». Более того,
моя «Динамика», являющаяся основой моей философии,
поскольку позволяет уяснить разницу между истинами,
необходимость коих грубая и геометрическая, и истинами,
проистекающими из соответствия и из конечных причин, может рассматриваться
как «комментарий» к тому месту у «Федона», о котором я
упоминал. Мне жаль, что в эпоху Платона «геометрический и
математический анализ не получили достаточного развития». У Платона
форма, или «душа - это некоторая гармония». «В этом же духе
рассуждают, по-моему, Эпикур, Гоббс и Спиноза», и это прекрасно.
Верно, по-моему, у Платона и то, что «форма, или душа,
обладает тем преимуществом перед материей, что является
источником действий, ибо она содержит в себе начало движения или
изменения; одним словом, она есть самодвижущееся, как называет ее
Платон, между тем как материя пребывает только пассивной и
нуждается в толчке для деятельности: agitur, ut agat (быть
приведенной в действие, чтобы действовать).
Но если душа активна сама по себе (какова она в
действительности и есть), то это именно потому, что сама по себе она не
обладает абсолютным безразличием к действию, подобно материи, и в
себе самой находит то, что ее определяет».
Материю Платон признаетлишенной самостоятельной
активности, в известной мере неопределенной и имеющей больше
видимости, чем реальности, ибо многие свойства тел, такие, как
тепло, холод, цвета, скорее суть феномены, чем истинные качества, и,
как говорил Демокрит, существуют по установлению, по мнению,
а не по природе».
«Поэтому Платон с полным основанием переориентировал
мышление с этих смутных понятий на чистые понятия и
утверждал, что всякое подлинное знание есть универсалии вечных
вещей, т.е. что его предметом скорее являются эти вечные сущности,
Письмо третье. О древней и новой философии
435
чем связанные с материей и случайностью единичные вещи,
которые находятся в постоянном изменении.
С полным основанием он утверждал, что чувства сообщают
нам скорее иллюзии, чем истины, что дух заражен знанием
единичного, находится под влиянием телесного и различных
аффектов и только путем ясного познания вечных истин он способен
абстрагироваться от материи и достигнуть совершенства. Что есть в
нашем духе врожденные идеи, которые представляют
универсальные сущности, а поэтому наше знание есть припоминание;
наконец, что наше совершенство должно быть связываемо с какой-то
причастностью Богу. Все это, если его правильно истолковать,
действительно является очень верным и чрезвычайно полезным, и
мне не известен философ, который более верно, чем Платон,
рассуждал бы о бестелесных субстанциях...»
«Когда Платон говорит о Боге, уме и идеях», то высказывает
«нечто такое... что... наши современники возродили и
упорядочили...»
Одно из главных понятий его философии - понятие идеи («эй-
доса»), или образа. Однако в отличие от Платона я считаю, что
«идея не есть форма и не есть непосредственный предмет мысли»,
или некая «постоянно пребывающая форма, которая сохраняется
и тогда, когда мы о ней не знаем». Идеи, по-моему, суть
«выражения (expressions), которые существуют в нашей душе независимо
оттого, представляем мы их или нет..., те же, которые мы
представляем или образуем», - суть понятия (conceptus).
Я высоко ценю Платона за его попытки «дать точное
определение понятий». «Платон повсюду в диалогах прослеживает
содержание понятий; то же самое делает Аристотель в книгах, носящих
название "Метафизика", но большого успеха в этом не видно.
Позднейшие платоники впали в чудовищное пустословие;
перипатетики, а особенно же схоластики заботились более о
постановке вопросов, чем об их убедительном решении... Декарт имеет
большие заслуги прежде всего в том, что возродил стремление
Платона увести дух от чувственного восприятия...»
Платоники, а позднее Декарт «искали в воспринимаемых
чувством вещах вне нас некую большую реальность, нежели
реальность упорядоченных феноменов. Мы постигаем протяженность
благодаря тому, что постигаем порядок в существованиях; но мы
не должны понимать протяженность - а также пространство - как
некоторую субстанцию. То же и со временем, которое представля-
436
Философские письма, которых не было
ет уму лишь порядок изменений. Что же касается движения, то
реальное в нем - это сила или потенциальность, т.е. то имеющееся в
теперешнем состоянии, что несет в себе изменение в будущем. Все
прочее лишь феномены и отношения».
«Я заметил, что последующие платоники все, что учитель
говорил прекрасного, ученого и твердого о добродетелях и
справедливости, о государстве, об искусстве определения и разделения, о
познании вечных истин, о понятиях, прирожденных нашему духу,
замалчивают; а то, что у него оказалось двусмысленным и
гиперболическим, когда он давал волю своему гению, воздействуя на
поэтическое восприятие, то, что он говорил о мировой душе, об
идеях, существующих вне вещей, об очищении душ и Флегентон-
те (от «перифлегонт» - «пылающий огнем» — одна из рек
подземного царства. -Л. П.), о пещере отраженных теней и тому
подобном, охотно подхватывается этими хорошо известными
учениками, искажается и отягощается многими новыми фантазиями...
Если же какой-нибудь достойный читатель обратится к
самому Платону, он вынужден будет признать у него совершенно
святейшие нравственные предписания, глубочайшие размышления и
действительно вполне божественный способ высказывания,
который хотя и возвышен, однако предпочитает максимальной
ясности простоту и, признав это, испытывает великое
удовольствие».
Учение Платона о «припоминании» близко моим взглядам, но
его надо «правильно понять» и «очистить от ложного учения о
предсуществовании и не воображать, что душа и прежде знала и
думала отчетливо то, что она отчетливо знает и думает теперь».
Я вместе с Платоном полагаю, что к истинному познанию душа
приходит постепенно, начиная от смутного знания и делаясь все
более отчетливым знанием, ибо этот путь к истине есть путь
прояснения (уяснения, выяснения) знания об «отношении между
идеями».
«Мне всегда, с самой юности, была по душе нравственная
философия Платона, а также до некоторой степени его метафизика;
обе эти науки, подобно математике и физике, идут рука об руку.
Если бы кто-нибудь привел взгляды Платона в систему, он оказал
бы этим великую услугу человеческому роду. Со временем
поймут, что я отчасти приблизился к этому».
«Уже Платон сказал и Цицерон повторил: «Plato voluptatem
dicebat escam malorum» («Платон называл страсть приманкою для
Письмо третье. О древней и новой философии
437
зла»)». «Удовольствие, испытываемое (человеком) от зла, служит
петлей, в которую он ловится». Человек предает себя дьяволу,
своим неразумным стремлением к счастью готовя себе несчастье.
Но Платон (подобно Макиавелли, Марксу, Ницше, Гитлеру,
Ленину, Сталину. - Л.77.) «признает справедливым только то, что
нравится наиболее сильным». Власть все более опирается на
право, ищет в нем себе силу. Дух беззакония из смутного становится
отчетливым. Все тяготеет к ясности и определенности, все чаще
выходящих за пределы разумного.
«Мало помалу Аристотель занял место Платона, когда стал
преобладать вкус к системам и когда сама телеология стала более
систематической вследствие решений вселенских соборов,
давших точные и положительные определения».
Здесь и далее уместно, я думаю, сказать об этом муже,
выдающемся своей ученостью, глубиной и доказательностью мышления.
Аристотель (384-325 до Р.Х.)
«Аристотель и Платон... и другие учителя рода
человеческого» сделали больше других в приумножении наших
знаний. Аристотеля «считали чудом человеческой гениальности, а его
повсюду сегодня высмеивают даже дети».
«Аристотель совсем не таков, каким его обычно
изображают...» Он, «по моему мнению, был более глубоким мыслителем,
чем обыкновенно думают». Аристотель - один из «величайших
людей древности, с которым немногие сравнялись в широте
взглядов, остроте и проницательности духа, силе суждения,
который своим изобретением форм аргументации оказал большую
услугу ученым в их борьбе с людьми, не стыдящимся отрицать все».
Если умные люди «отклоняются от логики», то это «все из-за
того, что они пренебрегают Аристотелем». «Аристотель, опираясь
на мысли своих предшественников, первым, насколько известно,
придал логике форму некоего математического знания, так что
она стала доказательной. В этом смысле человеческий род многим
обязан ему, хотя сам он за пределами логики ею пользовался
мало...» Правда, «им были впервые открыты известные теоремы о
формах высказываний и силлогизмов...», но «он почти ничего не
доказывает и повсюду показывает себя не очень сведущим в
вопросах математики».
«Серьезно и глубоко подходил Аристотель к своему материалу,
в... замечательном порядке расположил его... великолепно, нако-
438
Философские письма, которых не было
нец, выполнил он свою задачу...» Для сочинений Аристотеля
характерны «очевидная гармония гипотез и всегда одинаковый
метод весьма быстрого и тонкого доказательства». «Аристотель,
когда он писал "Органон" и "Метафизику", своим гениальным
умом заглянул в глубочайшую сущность понятий».
«Необходимо признать, что абстрактные понятия,
отвлеченные от конкретных образов, являются самыми важными... и что в
них содержатся принципы и связи даже самих образно
представляемых вещей и как бы душа человеческого познания, более того,
в них прежде всего заключено то, что есть реального в вещах, как
это прекрасно заметили Платон и Аристотель в отличие от
последователей школы атомистов». Однако в понимании процесса
познания Платон «гораздо глубже» Аристотеля.
«Аристотель говорил, что прочие науки зависят от
метафизики, как от самой общей науки, и должны заимствовать у нее свои
принципы, доказанные в ней... Истинная нравственность», как
мне кажется, «относится к метафизике так, как практика
относится к теории...» То, что Аристотель «писал о нравственности,
весьма прекрасно и добыто из жизненного опыта, а также
чрезвычайно полезно для юристов... Наука о морали - это дитя
метафизики... А в политике и риторике Аристотель царствует
полновластно, оставив позади себя всех древних».
«Большая часть из того, что говорил Аристотель о материи,
форме, отрицании, природе, месте, бесконечном, времени,
движении, совершенно достоверна и доказана, за исключением
единственно того, что он говорит о невозможности пустоты. Мне не
представляется необходимой ни пустота, ни наполненность и
кажется, что природу можно объяснить и тем и другим способом».
«То, что он оставил относительно души», глубоко и истинно.
«Наконец, то, что философ дал в специальной физике, прежде всего
относительно происхождения и частей животных, содержит в себе
много прекрасного... Отсюда явствует, что он был выдающимся
дарованием и имел высокие заслуги в тех науках, которым он
серьезно предавался».
В «физике Аристотеля», которая «состоит из трех частей:
общей, средней и специальной... содержатся превосходные идеи»...
«Я высоко ставлю прежде всего его утверждение, что деление
продолжается до бесконечности, и высказывания против атомов и
пустоты». Его «идея четырех элементов содержит в себе нечто
истинное... Но приписывать одним телам врожденную тяжесть, дру-
Письмо третье. О древней и новой философии
439
гим легкость и т.п.... - все это... во многих отношениях абсурдно и
недостойно философа...»
Я согласен с Аристотелем в том, что «естественным называют
то, что наиболее сообразно с совершенной природой вещей.
Perse - то, что происходит естественно». «Первая материя
Аристотеля - то же самое, что тонкая (subtilis) материя Декарта. И та, и
другая делимы до бесконечности. И та, и другая сами по себе
лишены формы и движения. И та, и другая получают форму через
движение. И та, и другая воспринимают движение отдуха (mente).
И та, и другая образуют некие вихри...»
Аристотель весьма «хорошо определил» природу, «как начало
движения и покоя», т.е. как изменение и сохранение вообще».
Благодаря этому началу, «настоящее всегда чревато будущим, иначе
говоря, всякая субстанция должна в своем настоящем выражать
все свои будущие состояния».
«Аристотель стремился в своих трудах, особенно в своей
"Метафизике", доказать существование перводвигателя».
«Общеизвестна философская система, которой воспользовался уже сам
Аристотель: что пришло в движение, будет продолжать движение,
пока не встретится препятствие».
Аристотель считал, что «движение вечно». Он же учил, что
«время есть число, а не мера движения».
Он определял «движение как действие или, может быть,
актуальное осуществление того, что имеется потенциально». При этом
Аристотель имел в виду силу, соответствующую латинскому
potentia, которая «противоположна действию, и переход от силы к
действию есть изменение». Поэтому можно сказать, что у
Аристотеля «сила в общем смысле слова есть возможность изменения».
«Активную силу можно назвать способностью, а пассивную - может
быть, свойством или восприимчивостью».
«Аристотель и его школа называли формой™, что служит
началом действия и находится втом, что действует. Это внутреннее
начало бывает или субстанциальное, называемое душой, когда оно
находится в органическом теле, или акцидентальное,
обыкновенно называемое качеством.
Тот же философ относит к душе общее название энтелехии или
акта. Слово "энтелехия", очевидно, получило свое название от
греческого слова совершенный, и потому-то знаменитый Эрмолар
Барбаро буквально переводит его по латыни perfectinabia
(обладание совершенством), потому что акт есть осуществление силы...
440
Философские письма, которых не было
Итак, философ Стагирит (т.е. Аристотель. - Л.П.) признает два
рода действий — действия пребывающие и действия, следующие
одно за другим.
Действие пребывающее или продолжающееся есть...
субстанциальная или акцидентальная форма; субстанциальная форма
(как, например, душа) есть совершенно пребывающая, по
крайней мере по моему мнению, а акцидентальная есть только
временно продолжающаяся. Действие же кратковременное, природа
которого преходяща, состоит в самом действии.
В 1703-1704 гг. в "Новых опытах о человеческом разумении
автора системы предустановленной гармонии" я показал, что
понятием энтелехии не должно совсем уж пренебрегать <поскольку
оно> будет выражать собой не только простую возможность дей-
ствования, но также и то, что называют силой, усилием,
стремлением (conatus), само действие которых должно последовать, когда
ничто не препятствует этому. Возможность есть только атрибут,
некоторое состояние; но сила, когда она не является составной
частью самой субстанции (т.е. сила не первоначальная, а производная),
есть качество, отличное и отделимое от субстанции».
Простые субстанции, или собственно активные начала, «я
именую вслед за Аристотелем первичными энтелехиями». В них,
«по моему мнению, ничто не может вызвать нарушений».
«У всех субстанций должна существовать некоторая
склонность к самопроизвольному, а вернее, самопроизвольное
движение. Вот эта сила и склонность, для которой я не могу найти
лучшего обозначения, чем энтелехия, и есть то, что привлекало до сих
пор гак мало внимания, а между тем среди всех начал нет почти
ничего более значительного и более достойного внимания, чем
это начало. Аристотель, хотя и дал ему это имя, все же
по-видимому, недостаточно осознал его значение или по крайней мере
недостаточно его объяснил».
Аристотель, писал П. Бейль, допускал «мировой разум,
отличный от нашей души и служащий причиной наших разумов». Все
люди, по Аристотелю, сохраняют общий для всех активный разум,
который «привходит в каждого индивидуального человека извне и
деятельность которого должна проявляться повсюду, где
существуют приспособленные к этому органы, подобно тому как ветер
производит определенного рода музыку, когда дует в
приспособленные для этого трубки органа».
Письмо третье. О древней и новой философии
441
Высказывая себя глубоким диалектиком, Аристотель учил, что
«первая из истин разума — принцип противоречия, или, что
сводится к тому же, принцип тождества...» Он «так отличал
смежность (прерывность) от непрерывности: непрерывность - это
отношение между вещами, оконечности которых составляют одно, а
смежность - это отношение между вещами, оконечности которых
находятся вместе», т.е. образуют многое. В этом своем
высказывании Аристотель, так сказать, нащупывает диалектику мира
понятий и мира вещей.
«Демокрит, Гераклит, Эмпедокл, Аристотель полагали, что
судьба приводит к необходимости...» Аристотель «вполне
признавал случайность и свободу и распространял это даже слишком
далеко, утверждая (полагаю, по некоторой невнимательности), что
предложения о будущих случайных событиях не содержат в себе
определенной истины, в чем многие схоластики (Клеанф, Хри-
сипп. - Л.Л.) справедливо не соглашались с ним» так же, как не
согласен с ним и я.
В действительности, я считаю, мы желаем не добра и не зла, а
«только того, что нам нравится, но, к несчастью, нравящееся нам в
данную минуту часто есть зло, которое нам не нравилось бы, если
бы у нас были открыты очи разума».
«Аристотель говорит, что лишь тот находится в природном
рабстве (natura servus) (раб по натуре? - Л.Я.), кто не живет
самостоятельно, кто управляется другим. Рабство налагается извне;
оно склоняет к тому, что не нравится, и преимущественно к тому,
что не нравится по справедливости. Только чужая власть и наши
собственные страсти делают нас рабами».
Рабство подобно шероховатости цилиндра в примере Хрисип-
па или моем примере с тяжело нагруженным судном. «Однако это
невыгодное положение, в котором находится раб или в котором
находимся мы, не препятствует нам (равно как и рабу) совершать
свободный выбор из того, что нравится больше всего, в том
состоянии, в котором находимся, сообразно с нашими силами и
нашими наличными знаниями».
«Раб, оставаясь рабом, все же обладает свободой выбора
сообразно с состоянием, в котором находится, хотя чаще он поставлен
перед суровой необходимостью избирать из двух зол одно, потому
что господствующая сила не дает ему возможности достигнуть
блага, которого он желал бы. Что для раба узы и принуждение, то
442
Философские письма, которых не было
для нас страсти, владычество которых хотя и приятно, но тем не
менее гибельно».
«Согласно Аристотелю и некоторым другим, добродетель
заключается в привычке умерять страсти разумом, а еще проще - в
привычке поступать согласно разуму». Во всяком случае «всегда
существует преобладающее основание, которое направляет волю
в ее выборе, и для сохранения свободы достаточно, чтобы это
основание склоняло, но не принуждало. Эту мысль разделяют все
древние: Платон, Аристотель и св. Августин».
Что касается моей философии, то «я, кажется, достаточно
примирил философию Аристотеля с реформированной...»
В аристотелевской философии, или «физике», «греческие
исследователи» Аристотеля «разъясняют», а в «реформированной
философии» схоластики Аристотеля «затемняют». Причем «у
философов дело здесь обстоит так же, как у теологов». А «гипотезы
реформированной философии имеют то преимущество над
гипотезами схоластиков, что они не только не излишни, но и вполне
ясны».
Можно ли «истолковать» «первую материю», или
«субстанцию», «путем величины, фигуры и движения? Схоластики
отрицают это, реформаторы утверждают. Мнение последних
представляется мне не только более верным, но и более согласным с самим
Аристотелем».
А далее скажу о другом, не менее выдающемся философе
древности, которому его физическая слепота не помешала стать
духовно-проницательным мыслителем и объяснить мир исходя из
взаимоотношения атомов и пустоты. Это очень близко к тому, что
ныне объясняют новейшие корпускулярные философы.
Я говорю о Демокрите из Абдер,
Демокрит (460-370 до Р.Х.)
Этот «муж, достойный удивления, обладавший
таким познанием геометрии и таким знанием природы,
отличавшийся настолько обстоятельным суждением и настолько тщательной
расчетливостью, что Витрувий, производя свои эксперименты,
ссылался на него, как на авторитет... Демокрит самым ясным
образом изложил многое из того, что сейчас или нам неизвестно, или
что мы вынуждены исследовать заново». Таково, например, его
учение о Млечном Пути, которое подтвердилось после
изобретения подзорных труб.
Письмо третье. О древней и новой философии
443
«Но эти писания погибли, потому что были не по вкусу толпе,
которой больше нравятся легковесные пустяки». «И подобно
тому, как наш век защитил от пренебрежения и тельца Демокрита, и
идеи Платона, и спокойствие в учении стоиков о наилучшем
порядке вещей, так теперь учение перипатетиков о формах и
энтелехиях (справедливо признававшихся загадочными и едва ли вполне
отчетливыми для самих авторов) будет сведено к доступным
разуму понятиям (notiones intelligibiles), так что окажется
необходимым не отвергать воспринятую столькими веками философию, а
скорее развить ее так, чтобы придать ей (насколько это возможно)
последовательность, прояснить ее и обогатить новыми
истинами».
«В молодости... я вместе с Демокритом и его последователями
Гассенди и Декартом видел природу тела в одной только инертной
массе...» Но демокритовы атомы и пустота! - «я давно... расстался
с этим предрассудком моей юности». Не потому ли он считал их
только умопостигаемыми, что сам был слепым? В
противоположность учению Демокрита я поддерживаю платоников и аристоте-
ликов, а также «некоторых новых приверженцев учения об археях
и симпатиях», которые утверждают, что «тела могут притягиваться
на расстоянии, вкладывают в них качества, необъяснимые
механически из чего-то органического, как думали Демокрит и г-н
Декарт», хотя, по словам Плиния, - и это очень важно - Демокрит
справедливо, по-моему, «допускал... иную жизнь», несмотря на то
что был материалистом.
Вместе с тем я согласен с Демокритом в том, что «в телесных
вещах в действительности существуют только пространство и
материя (или, как он сам говорил, пустое и неодушевленное (vacuum
inane), а также фигуры и движения материи; все же остальные
качества существуют только... по установлению, по мнению», но "не
по природе"). Таким образом, он установил то, что внушают нам
современники (т.е. новейшие философы. - JIM.), а именно, что
звуки, цвета, теплота и другие чувственные качества суть не
истинные вещи, но феномены, зависящие от положения того, кто
ощущает, и от среды, — феномены, подобные радуге».
В целом же «мои философские взгляды... занимают
промежуточное положение между Демокритом и Декартом, так как я
считаю, что все совершается по законам механики, в согласии с
мнением Демокрита и Декарта...»
444
Философские письма, которых не было
А теперь сообщу, что думаю об Эпикуре, последователе
Демокрита, заинтересовавшемся тем, что менее всего заботило его
великого учителя, - сущностью чувств и свободы
волеизъявления, возможностью выбора и его механизмом, а также другими
актуальнейшими вопросами этики и познания, сравнительно
далекими от уже преимущественно рассудочной, но еще слабо
чувствующей физической философии древних.
Эпикур (341-270 до Р.Х.)
Эпикур «атеистически искажал более старую и,
быть может, более здоровую философию...» «Материалисты вроде
Демокрита и Гоббса... офаничиваются только математическими
принципами и признают лишь тела», хотя наряду с телесным
существует его субстанция в виде духов и душ.
«Многие из древнегреческих философов, которые
восприняли свое учение от финикиян и философия которых была
испорчена Эпикуром, принимали в качестве общих начал материю и
пустоту. Однако они умели применять эти начала для того, чтобы с
помощью математики объяснить явления природы». «Эпикур
признает лишь ифу мельчайших телец», или атомов.
Атом, каким воображает его Эпикур, «окружен пустотой» и
«обладает движущей силой, придающей ему определенное
направление, и потому будет двигаться беспрепятственно и
равномерно при условии, что ему не встретится никакой другой атом».
Между атомами Эпикура, «хотя в природе ничего такого нет»,
нет никакой «существенной связи». «Отсутствие этой связи - вот
что наряду с другими недостатками исключает существование
эпикуровых атомов в природе».
«По-моему, атомы Эпикура, твердость которых
предполагается абсолютной, невозможны, как невозможна и абсолютно
жидкая, тончайшая материя картезианцев», хотя учение об атомах
вообще и, в частности, учение Эпикура о пустоте «с корпускулами,
находящимися в ней и не подчиненными ничьей воле» раньше
казались мне «ключом к разрешению всех трудностей». А нынче я
вижу, «с каким огромным интересом обращаются теперь вновь к
атомам Эпикура и Лукреция!» Но уже изменилось само
представление об атомах и пустоте. Раньше «Эпикур и Лукреций допускали
существование пустоты и атомов, или твердых частиц, тогда как
Гоббс полагает, что все заполнено и податливо (toutest plein et
mol), с чем согласен и я».
Письмо третье. О древней и новой философии
445
К «измышлениям» Демокрита, заявившего, что «качества
происходят из мнения... и представляют собой как бы видимость, а не
подлинные вещи», и «попытавшегося... очистить физику от
иррациональных качеств», «Эпикур добавил еще два измышления -
тяготение атомов и беспричинное отклонение, которое
остроумно высмеял Цицерон». «Тяжесть и отклонение атомов и другие
нелепости, по-видимому, должны быть приписаны не Демокриту, а
Эпикуру, который хотя и был несравненно легковеснее
Демокрита, однако легче нашел последователей».
Признавая только тела, Эпикур отвергает дух, сознание, мысль.
Он совсем не допускал «при образовании универсума ни воли, ни
рассудка и вообще никакого деятельного начала...» В мире, по
Эпикуру, «отсутствует что-либо, обладающее разумом».
Признавая только тела, Эпикур, как и всякий материалист,
видит во всем, везде и всегда только лишь необходимость. По
Эпикуру, тяготение атомов, выражающееся в их равномерно
прямолинейном, отвесном «сверху вниз» падении, есть следствие
универсальной необходимости, «по которой... вещи существуют
независимо от разума и избрания и, следовательно, независимо от
Бога... Все существует», по мнению Эпикура, «по своей сущности
столь же необходимо, как необходимо, чтобы два и три составили
пять. Это абсолютная необходимость...» Именно та, которую
Эпикур хотел избежать с помощью своего «клинамен»
(отклонения) в универсальном падении атомов.
Я уже писал о «забавных отклонениях атомов», которые
Эпикур допустил «без всяких причин». Тем самым он «был вынужден
отрицать великий принцип, а именно: принцип противоречия,
заключающийся в том, что всякое суждение, поскольку оно имеет
смысл, должно быть истинным или ложным», наряду с другим
великим принципом, отвергнутым им ранее, а именно принципом
«необходимости достаточного основания для того, чтобы вещь
существовала, чтобы событие наступило, чтобы истина имела
место».
Эпикур проповедовал «безмятежность духа» и, «упразднив
провидение, оставил богов, хотя для их почитания уже не было
никакой причины». Он, де-факто «отвергший богов и всякие
бестелесные субстанции, воображал, будто воля, тоже состоящая из
атомов, может иметь власть над атомами же и отклонять их от
пути, хотя и нельзя сказать как именно». И чтобы «спасти...
пресловутую свободу полного безразличия, эту, по-видимому, очень ста-
446
Философские письма, которых не было
рую химеру...», Эпикур предположил, что атомы, т.е. «маленькие
тела, двигаясь по прямой линии, вдруг направляются в
противоположную сторону без всякого повода, единственно по тому, что
этого потребовала их воля».
Таким образом, «Эпикур для того, чтобы сохранить свободу и
избежать абсолютной необходимости», сделал эту необходимость
слепой, поскольку «утверждал после Аристотеля, что будущие
случайные события не имеют силы определенных истин... Все
совершающееся необходимо и невозможно, чтобы оно могло
происходить иначе».
Я сравнил бы «волю без мотива» (которую Эпикур
приписывает атому, а «поверхностные рассуждения приписывает Богу») со
«случаем» Эпикура. На это возражают, что «случай» Эпикура
является слепой необходимостью, а не свободным изъявлением
воли. Я отвечаю, что «случай» Эпикура - это не необходимость, а
нечто индифферентное; кроме того, Эпикур ввел его специально для
того, чтобы избежать признания необходимости. Конечно, случай
слеп, но воля без мотива была бы не менее слепа и случайна. «Эпи-
куровский случай не означает свободного выбора, а выражает
слепую необходимость судьбы».
Я решительно против его «клинамен» и равномерно
прямолинейного падения атомов «вниз». «В самом деле, в природе вещей
нет никакого "вниз" самого по себе, а только по отношению к
нам, а следовательно, нет причины, почему известное тело стало
бы двигаться в ту, а не в эту сторону. Итак, отрицанию Эпикура мы
легко противопоставим положение, что все движущееся движется
другою, находящеюся вне его вещью, и защитим подвергающуюся
опасности достоверность бытия Божия».
«Было время, когда я полагал, что все явления движений
можно объяснить из чисто геометрических начал, не принимая
никаких метафизических положений... но после более глубокого
размышления я убедился, что это невозможно, и научился истине,
более важной, чем вся механика, а именно, что все в природе
можно объяснить механически, но сами механические исходные
начала зависят от метафизических и некоторым образом моральных
начал, а именно от... производящей и конечной причины, т.е. от
совершеннейшим образом творящего Бога, и никоим образом не
могут быть выведены из слепого сложения движений.
Поэтому (почти дословно цитирует Лейбниц Ленина, или
наоборот? - Л.П.) невозможно, чтобы в мире не было ничего, кроме
Письмо третье. О древней и новой философии
447
материи и ее изменений, как это принимали последователи
Эпикура».
Материализм - это «дурное учение тех, кто вслед за Эпикуром
и Гоббсом считает, что душа материальна... или как если бы сам
человек был всего лишь телом или автоматом», как полагал г-н
Декарт. Учение это истинно лишь в том случае, «если принимать во
внимание только явления», что - неверно. А «из того, что есть
здравого и основательного в ложном и дурном учении Эпикура,
видно, что незачем говорить, что душа меняет склонности,
существующие в теле», ибо он отказывает душе в существовании.
Между тем наш «внутренний опыт», «сознание того Я, которое
присутствует в нас и которое замечает то, что происходит в теле»,
«заставляет отвергнуть Эпикурово учение». Этот наш внутренний
опыт, наше «сознание... заставляет признать в нас неделимую
субстанцию, которая сама должна быть источником своих
феноменов». Поэтому материализм и идеализм - это своего рода
крайности, чрезмерности, односторонности, одинаково сами по себе
ложные в конечном счете. Одни утверждают, что «в теле все
совершается так, как если бы не существовало души», а другие - что
«все в душе происходит так, как если бы тела вовсе не было»; но те
и другие не правы.
Создавая свою философию, я «интересовался Эпикуром,
Гоббсом, Спинозой и Платоном, в частности, и потому, что, как
говорил один из собеседников в Платоновом "Федоне": "Душа - это
некая гармония". Здесь, в той сфере, где, благодаря гармонии,
сливаются воедино цели, средства и интересы естественно-научного
и философского, физического и метафизического, где в единстве
предстают пред нами тело и душа, материальное и идеальное,
чувства и рассудок, есть над чем поработать рука об руку и
материалистам, и идеалистам — этим заклятым друзьям.
Моя философия объединяет «все лучшее» из гипотез Эпикура
и Платона - «величайших материалистов и величайших
идеалистов», по своим столь же глубоко противоположным, как и
ложным философским учениям. Меня ничуть не смущают
недостатки, ошибочность выводов того или иного учения, которые ему
могут быть естественно присущи по его связям с другими учениями,
в том числе, так сказать, по происхождению, как это, например,
было характерно для схоластики, к рассмотрению коей я сейчас
перейду.
448
Философские письма, которых не было
Ведь догматизм, невежество, недостаточность, ошибочность,
даже заведомая ложь суть недостатки дурных представителей
философии, а не ее самой, вечно живой, изменяющейся, в конечном
счете всегда плодотворной и стремящейся постичь истину,
добиться правды, которую все различные философские учения
неизбежно и необходимо выражают, но порой нарочито извращают
в корыстных личных либо государственных официальных
интересах и политических или религиозных целях. Но правда всегда
выходит наружу, если не сейчас, то потом.
Когда я размышляю над этим, то примиряюсь со схоластикой,
любовь и признательность к которой, несмотря на нынешнее
общее, ставшее привычным презрение к ней, я храню и по сей день
за те широчайшие и глубочайшие, тонкие, прозрачные в своей
сложности, вечно прекрасные мысли, которые скрыты в ее
усложненности, кажущейся поверхностному взгляду бесполезной, и
заумных хитросплетениях, внешне мертвых, бесплодных, но
внутренне живых и развивающихся утверждениях.
Мне кажется, что книги выдающихся философов-схоластов
порой содержат пророческие грезы о каких-то неведомых Великих
Идеях, которые, я убежден, бессознательно живут в нас всегда,
умирая и воскресая, в настоящем и будущем, ибо они из числа тех,
кои наша мать-природа бережно хранит в своем Ларце
Драгоценных Идей, держа его всегда открытым для тех, кто всю жизнь изо
всех сил стремится к недостижимой истине на благо всем людям.
Схоластика (XI-XIV вв.)
Это, несомненно, «темная и весьма
несовершенная философия». Но в этом повинны как частные, случайные
обстоятельства, так и духовное наследие людей того времени.
«Я считаю, что в Англии и во Франции чрезмерно схоластический
метод в философии постепенно исчезает именно потому, что эти
народы уже давно стали развивать философию на родном языке и
в результате самому народу, и даже женщинам (! - JIM.), в
какой-то мере открылась возможность судить о таких вещах».
Схоластики суть «люди, часто запутывающиеся в своих
тонкостях и принимавшие шелуху слов за зерна вещей». «В свое время
схоластики погрешали не столько в толковании, сколько в
применении неделимых форм тогда, когда речь идет скорее о
модификациях и оружии субстанции, о способе действия, т.е. о механизме».
Письмо третье. О древней и новой философии
449
Природа, по моему убеждению, «так сказать, двойное
царство - разума и необходимости, или форм и частиц материи, так что
все наполнено душами и органическими телами. Эти царства,
независимые друг от друга, управляются каждое по своим законам, и
не следует искать в модификациях протяженности основания
восприятия и стремления, так же как в формах, т.е. в душах, -
объяснения питания и других органических функций».
Схоластики «часто забывали применять» «великое начало
разумности, по которому мы всегда предполагаем, что ничто не
совершается без причины или достаточного основания, допуская
некоторые скрытые изначальные свойства». Но для тех времен
совсем «не удивительно, что часто допускались серьезные ошибки, и
нужно скорее считать чудом, что хоть что-то было сделано в науке
и философии. Скорее нужно винить тех, кто и теперь, когда
существует хлеб, предпочитает питаться желудями и грешит не столько
невежеством, сколько упрямством».
Я не боюсь утверждать, что «старинные схоластики далеко
превосходят некоторых современных и одаренностью, и
знаниями, и скромностью, и более осмотрительным отказом от
бесполезных проблем: ведь некоторые нынешние... нагромождают всякого
рода ссылки и обоснования мнений, выдумывают бесчисленные
вздорные вопросы...» Современные схоластики «ниже своих
предшественников по остроте мысли».
Вообще говоря, «схоластики были... не столь уж не правы, как
это представляется многим».
Среди старых схоластиков был Иоанн Суисет - один из
первых, применивших математику в физике. Но этот добрый плод
заглушили или по крайней мере скрыли бесчисленные сорняки,
возросшие на том же поле.
«Как только началось возрождение наук, эрудиты обрушили
громы на философов-схоластов, а схоластики в свою очередь
стали называть себя реалистами, отказывая своим противникам в
более глубоком знании вещей и именуя их поэтами и
грамматиками». «Тем не менее надобно согласиться с несравненным Гроци-
ем, что существовало золото, скрытое в отбросах варварской
монастырской латыни; поэтому я не раз желал, чтобы
какой-нибудь даровитый человек, обязанный по своему званию изучать
схоластическую латынь, извлек из нее все наилучшее...» Ведь
схоластики шли по пути «прогресса наших знаний». «Отцы церкви
отбросили все, что было дурного в философии греков, а схоласти-
450
Философские письма, которых не было
ки сделали попытки употребить на пользу христианству то, что
было приемлемым в философии язычников».
Я не раз говорил: «"Aurum latere in stercore illo scholastico
barbariei" ("В этой навозной куче схоластического невежества
зарыто золото"), и я хотел бы, чтобы нашелся умный человек,
сведущий в этой иберийской или испанской философии, у которого
была бы охота и умение извлечь из нее хорошие мысли. Я уверен,
что он был бы с лихвой вознагражден множеством прекрасных и
важных истин».
У философов-схоластов есть «удачные формулировки», ибо
«при всем их варварстве эти ученые все же не заслуживают
пренебрежения: у них есть глубокие мысли, хотя и плохо
разработанные». Так, схоластические философы думали, что существует
взаимное физическое влияние между телом и душой. Шотландец
Иоанн Скот... утверждал о сохранении всех душ; и я не вижу, почему
удобнее признать продолжение бытия атомов Эпикура или Гас-
сенди, чем допустить существование всех субстанций,
действительно простых и неделимых, которые одни только и суть
истинные атомы природы. Однако «утонченный Скот, старавшийся ему
(Фоме Акви некому. —Л. Я.) противоречить, часто затемнял вещи,
вместо того, чтобы их прояснить».
Я согласен с «очень верным замечанием» Дюрана де Сен-Порсь-
ена, утверждавшего, что будущие случайные события созерцаются
Богом определенным образом в их причинах и что всеведущий Бог,
созерцая все то, что может возбуждать или отвращать нашу волю,
может видеть и то направление, которое она примет. Означенный
Дюран вместе с другими полагал, что Бог, даровавший созданиям
силу действовать, довольствуется ее сохранением.
«Платон, Аристотель и даже Фома Аквинский, Дюран де
Сен-Порсьен и другие наиболее выдающиеся схоластики...
ставили свободу в зависимость от разума и от склонностей, то
избирающих, то отвергающих предметы; и они признавали
положительным, что наша воля, избирая, руководствуется добром или злом,
действительными или кажущимися в предметах».
По примеру Фомы Аквинского и Скота, «я принял
предшествующую и последующую волю за предварительную и
окончательную». «Фома, Скот и другие понимают это разделение (воли как
волевого действия) на предшествующую (или предварительную,
склоняющую и неполную) и на последующую (или
окончательную, постановляющую и полную (абсолютную. - Л. П.) так же,
Письмо третье. О древней и новой философии
451
как мы, т.е. в том смысле, что воля предшествующая имеет целью
какое-либо благо в нем самом (т.е. в разделении. - Л.П.) и в
отдельности, соразмерно со степенью каждого, так что эта воля есть
только нечто относительное; воля же последующая имеет в виду
совокупность вещей и содержит окончательное определение, так
что она есть воля абсолютная и постановляющая, и, когда дело
касается божественной воли, она всегда достигает полного
действия». «Скот справедливо сказал, что если Бог не обладает
свободой и не изъят из необходимости, то и никакое создание свободно
от этого».
В схоластической философии выделяются две
противоборствующие секты - номиналистов и реалистов. «Номиналисты - это
те, кто считают голыми именами все, кроме единичных
субстанций, и, следовательно, полностью отрицают реальность
абстрактного и универсалий... И долго еще оставалась в тени секта
номиналистов, пока ее неожиданно не вернул к жизни... Уильям
Оккам... Главное правило, которым всегда руководствуются
номиналисты, гласит: "Не следует умножать сущностей без
необходимости" (т.е. чем проще и соразмернее в самом себе объяснение,
тем оно ближе к истине и потому предпочтительнее. - Л.П). Из
этого правила номиналисты сделали вывод, что в природе вещей
все может быть объяснено, даже если в ней вообще не существует
ни универсалий, ни реальных мысленных форм».
Упомянутая здесь универсалия (universalia) - всеобщее,
причем «отсюда не следует, что универсалии - это совокупное целое
(totum colbectivum)». Схоластики, признающие реальность
существования универсалий, образуют другую философскую секту,
члены которой именуют себя «реалистами» и выступают против
номиналистов с дикой яростью и злобой.
«Увядание» «секты номиналистов» есть свидетельство «скорее
ослабления, чем усиления философской мысли» в современном
обществе. «Наш современник Томас Гоббс представляется мне
сверхноминалистом... Он сводит универсалии к именам, он
утверждает, что сама истина вещей... зависит от определений терминов, а
последнее — от человеческого произвола...»
Меня в схоластике интересовала проблема (а точнее,
диалектика) порядка и беспорядка, одного и многого, частей и целого,
единства (тождества) и противоположности (например, добра и
зла). Везде искал я определенность. Поэтому меня живо
заинтересовали слова, например, св. Бернарда о том, что «обнаруживается
452
Философские письма, которых не было
величайший порядок, когда в нем иногда проявляется
незначительный беспорядок; и можно даже сказать, что этот маленький
беспорядок только кажется беспорядком при созерцании общего;
и даже не должен казаться беспорядком, если сопоставить его со
счастьем тех, которые следуют путем порядка». О том же писал и
Фрэнсис Бэкон, говоря о некоторой доле странности, которая
необходима для любой красоты и всего прекрасного.
В связи с отношением целого и части выскажу несколько своих
соображений о Фоме Аквинском. Согласно его учению,
допущение частного зла имеет целью благо вселенной. «Фома Аквинский
вслед за Августином с полным основанием говорит, что Бог
позволяет пройти некоторому злу, чтобы не воспрепятствовать
многому добру». Зло есть как бы цена или изнанка добра, и наоборот.
Так же и «раввин Маймонид (заслуги которого недостаточно
будут оценены, если мы не скажем, что он был первым из
раввинов, прекратившим говорить глупости)... очень верно рассуждал
относительно того, что в мире добро превосходит зло». Утверждая
противное, отмечал он, люди «воображают, будто природа
создана только для них, и считают ничем все, что не имеет отношение к
их личности».
Увлекшись схоластической философией, я «показал своим
примером, что схоластическая философия и теология, которая
почиталась тогда толпою как вершина мудрости, легка и доступна
каждому, кто только усвоит смысл ее слов, желая именно таким
образом проникнуть в ее тайны. В остальном же <я> третировал ее
как поверхностную и бесполезную для дела человеческой жизни».
Далее желал бы я объяснить суть и особенности философии
всегда меня интересовавшего англичанина, новейшего философа,
глубокомысленнейшего и ученейшего г-на Гоббса, чьи воззрения
весьма поучительны и полезны для моей философской системы,
хотя, признаюсь, из них отнюдь далеко не все я разделяю, как о
том скажу в дальнейшем.
Гоббс (1588-1679)
В наши дни знаменитый и «остроумный Гоббс»
наряду с Галилеем, Бэконом, Гассенди и Декартом «воскресил
Демокрита и Эпикура». «Гоббс все сводит к телам и объясняет
чувство реакцией наподобие реакции надутого мяча». Он «представляет
все материальным и все подчиняет одним лишь математическим
законам...» Гоббс не был картезианцем и «по уму не уступал» Де-
Письмо третье. О древней и новой философии
453
карту. Но вместе с другими философами он распространил на
человека представление Декарта о животных как автоматах.
«Гоббс вовсе не доказал абсолютной необходимости вещей, но
в достаточной мере показал, что необходимость решительно не
ниспровергает всех правил божественной и человеческой
справедливости, равно как отнюдь не мешает осуществлять эту
добродетель».
Гоббс «придерживается мнения... что все не происходящее
невозможно». Например, пространство он определял как
«мысленный образ существующего (phantasma existentis) Спиноза пошел
дальше; он... учил о слепой необходимости».
Мнение Эпикура и Лукреция, что «в природе нет ничего,
кроме фигур и движений... в точности совпадает с мнением Гоббса».
Все идеалисты, «те, кто допускал существование душ и других
нематериальных начал, включая всех картезианцев», «всегда
нарушали» закон или «важный принцип физики, что никогда тело
не претерпевает изменения в своем движении иначе, как от
другого движущегося тела, которое его толкает».
Напротив, «последователи Демокрита, Гоббс и некоторые
другие чистые материалисты, которые отвергли всякую
нематериальную субстанцию, одни только отстаивали до сих пор этот
закон...» Гоббс вместе с Демокритом, Эпикуром признает лишь тела
и «ограничивается только математическими принципами», «в то
время как христианские математики помимо этого еще допускают
нематериальные субстанции».
Гоббс, Галилей и Декарт «полностью очистили философию от
необъяснимых химер и показали, что все телесное в природе
должно быть объяснено механикой. Но... они недостаточно
уяснили себе истинные метафизические начала и основания
движения и зависящие от них законы природы».
Гоббс ошибается, «утверждая, что не существует никаких
телесных субстанций, что всякая истина произвольна и зависит от
того, как назвать явление (номинализм! - Л.П.)\ что основанием
всякого права и общества служит взаимный страх и другое, не
лучше этого...» Тем не менее Гоббс наряду с Эпикуром «утверждает в
том духе», что «душа - это некая гармония».
Гоббс, несмотря на свой материализм, «не мог, как
рассказывают, оставаться один в темном месте, не испытывая страха перед
привидениями, хотя он в них вовсе и не верил; это чувство у него
осталось от сказок, которые рассказывают детям».
454
Философские письма, которых не было
«В былое время Эпикур, а в наши дни Гоббс» утверждали, что
«все вещи материальны», и этим «ясно показали, что если
следовать их взглядам, то никакого провидения не существует». В связи
с этим хочу заметить, что «в суждениях г-на Гоббса есть нечто
странное и не выдерживающее критики...
Иногда... он выражается в таком тоне, как если бы учение о
Боге было только комплиментом, т.е. учением, приспособленным к
его прославлению, а не к познанию».
«В сущности трудно допустить, чтобы г-н Гоббс имел иное
понятие о Боге и его мудрости, так как признает лишь одни
материальные субстанции». «Приписываемая Богу мудрость» для Гоббса
«означает приписывать неизвестно кому какое-то неизвестное
свойство, или даже приписывать химерическое качество
химерической субстанции для устрашения и для утешения народов
посредством установленного для них культа».
Чувствуя, что выхожу за границы допустимого для частного
письма в оценке религиозности уважаемого мною человека, все же
замечу, что «если бы г-н Гоббс был еще жив, то я поостерегся бы
приписывать ему мнения, которые могли бы ему повредить, но
трудно оправдать его в них. Может быть, впоследствии он одумался...»
Гоббс «не признавал, что человек был создан для общества, и
полагал, что он был вынужден к этому исключительно в силу
необходимости и злого характера себе подобных».
«Якоб Томазий... говорит, что основное начало ошибок...
Гоббса состоит в том, что он принимает statum legalem pro natural
(состояние в условиях законности за естественное), т.е. испорченное
состояние признается им мерилом и правилом, между тем как
человеческой природе наиболее соответствует то состояние, которое
имел в виду Аристотель. Ибо, по Аристотелю, естественным
называют то, что наиболее сообразно с совершенной природой вещей;
г-н Гоббс же называет естественным состоянием то, которое
содержит меньше всего искусства, не принимая, может быть, во
внимание, что человеческая природа включает в себя и искусство».
«Ему кажется, как он признается, что мучения злых людей
должны прекратиться через их уничтожение; это почти такое же
учение, как и мнения социниан, но, кажется, г-н Гоббс идет еще
дальше. Его философия, утверждающая, что одни только тела суть
субстанции, представляется совершенно не склонной к учению о
Божием провидении и бессмертии души. О других же предметах
он рассуждает весьма разумно».
Письмо третье. О древней и новой философии
455
У Гоббса два «источника доводов: разум и авторитет». «Гоббс...
считает истины произвольными, так как они зависят от
номинальных определений; он при этом упустил из виду, что
реальность определения не зависит от произвола и что не все понятия
могут быть соединены между собой».
Здесь, прежде чем перейти к ранее мною любимому учению
знаменитого г-на Гассенди, я процитирую мое письмо из Майнца
13(22) июля 1670 г. к г-ну Гоббсу, которое я закончил так: «В
заключение добавлю только одно: я всегда говорю друзьям и, Бог
даст, всегда буду утверждать публично, что не знаю никого, кто
писал бы по философским вопросам яснее и убедительнее, чем
Ты, не исключая даже самого божественно гениального Декарта...
Да сохранит Тебя для этого Бог на долгие годы. Будь здоров и ко
мне благосклонен».
Гассенди (1592-1655)
«Что касается г-на Гассенди, о котором Вы хотите
услышать мое мнение, то я нахожу, что он человек обширных
знаний, весьма начитанный в древних авторах, в светской и
церковной истории и вообще исполненный учености всякого рода. Но
его философия нравится мне теперь гораздо меньше, чем в те
времена, когда я ходил в учениках и только еще освобождался от
школьных догм». Возможно, этому тогда способствовал «простой
и изящный слог» Гассенди.
В молодости я «вместе с Демокритом и его последователями
Гассенди и Декартом видел природу тела в одной только инертной
массе». Теперь же «я не допускаю ни атомов (Гассенди), т.е.
совершенно твердого тела, ни тонкой материи (Декарта), т.е.
совершенно жидкого тела». Тем не менее выше остальных современных
философов я ставлю Галилея, Гассенди и Декарта. Особенно Галилея
и Декарта.
Гассенди, Гоббс, Дигби, Бэкон и другие не были
картезианцами. Эти великие люди «были современниками или даже
предшественниками Декарта, да и по уму не уступали ему, если даже не
превосходили его».
«Гассенди снова вывел на сцену школу Эпикура». Гассенди
«разрабатывал» его философию. Вместе с тем «система Гассенди»
«по существу тождественна системе Демокрита». Но «философия
г-на Гассенди годится для вводного ознакомления молодых людей
456
Философские письма, которых не было
с законами природы, при этом, однако, им следует разъяснить,
что пустота и атомы - это не более чем рабочая гипотеза».
Атомизм Демокрита, Эпикура и Гассенди состоит в
признании того, что существуют «в последнем составе тел некоторые
неделимые тельца, которые они называют атомами и которые
разнообразными сочетаниями своих разнообразных фигур производят
различные качества чувственно познаваемых тел, но и в этих
последних тельцах неоткуда взяться сцеплению и неделимости».
«Итак, для объяснения атомов правильным будет прибегнуть в
конце концов к Богу, который дает прочность этим последним
основам вещей.
И я удивляюсь, что ни Гассенди, ни кто-либо другой из
проницательных философов нашего времени не обратил внимания на
этот замечательный случай доказать бытие Божие. Ведь очевидно,
что в последнем составе тел природа не может обойтись без
помощи Бога».
Мне возразят, что я чересчур упрощенно, механистически и
материалистически — естественно-научно, понимаю атомы
Демокрита исключительно как реальные, вещественные,
чувственно-физические тела (тельца). На самом деле атомы Демокрита, по
его словам, являются лишь умопостигаемыми и, следовательно,
они не чувственны, не телесны, хотя и реальны; не изучаемы
физически , но познаваемы лишь умозрительно. С такой оговоркой я,
возможно, соглашусь.
Асейчас позволю себе остановиться на изложении философии
великого человека, безмерное восхищение перед которым и
испытываемое мною к нему крайнее уважение поистине делают
меня совершенно свободным для резкой критики основ его
миросозерцания. Чем больше я с наслаждением смотрю на «солнце
современной французской философии», тем отчетливее вижу его
пятна, от которых оно не перестает быть самим собой, а потому я
не опасаюсь ослепнуть, как это уже нередко случалось с
многочисленными сторонниками его учения. Я говорю о г-не Рене
Декарте, имя которого нынче известно всем.
Декарт (1596-1650)
Рене Декарт «величием своего гения едва ли не
превосходил своей славы». «Довольно долгое время» он изучал
«схоластическую философию» в иезуитской школе Л а Флеш в Ан-
Письмо третье. О древней и новой философии
457
жу. Галилей оставил после себя школу в Италии, Декарт - в
Голландии и Франции.
Огромное трудолюбие отличало его. Когда Декарт перед своей
кончиной приехал в 1649 г. в Швецию, ее «королева была увлечена
скорее изучением древностей в истории, нежели в философии, и
Декарт, будучи целые дни свободным, с непривычки заболел». «Я
услышал от весьма уважаемого Иоганна Генриха Беклера,
находившегося в Швеции в то же время, что он (Декарт. - JIM.) умер от
плеврита, потому что не захотел, следуя каким-то своим
соображениям, пустить себе кровь или сделал это слишком поздно».
У Декарта «огромный ум». Галилей был склонен к
комбинаторике, Декарт - к аналитике. «Он обладал умом творческим, но
склонным скорее к открытию общих теоретических принципов, а
не к изобретению приборов и орудий утилитарного характера». Не
потому ли г-н Декарт, «желая, чтобы действия человеческой воли
были совершенно независимыми, чего никогда не бывает, требует
такой свободы, в которой мы не нуждаемся»? «Поистине
существуют какие-то своеобразные пределы у любого таланта, и Бог
никогда не дает всего одному человеку. Ведь если бы, например,
Декарт обладал многосторонностью Кардана или Кардан -
глубиной Декарта, то, конечно, мы обладали бы тем, чего можно желать
от человека, занимающегося наукой».
Декарт «был самый проницательный и рассудительный ум,
какой только мог быть. И однако, сделать одним махом все
невозможно; поэтому он приоткрыл завесу над вещами, не проникнув в
их суть... Он еще весьма далек от истинного анализа и от искусства
открытия вообще. По моему убеждению, его механика полна
ошибок, его физика слишком поспешна, его геометрия чересчур
ограниченна, наконец, его метафизика есть собрание всех этих
недостатков, вместе взятых».
Декарт оставил нам не столько истины, сколько «гипотезы,
хотя и прекрасные, и похвальные, и в высшей степени достойные
изучения... но слишком далекие от практической пользы и пока
что бесплодные, не говоря уже о их неточности». Так, «Декарт
ожидал возможности различать части лунной поверхности, не
большие, чем наши дома», благодаря изобретению «сильной
подзорной трубы».
«Однако все это ничуть не мешает нам считать Декарта одним
из величайших ученых, обогащавших человеческий род и даже в
своих заблуждениях приносивших ему пользу...» «Нельзя отри-
458
Философские письма, которых не было
цать (а хотелось бы? - Л.Я.), что Декарт имеет большие заслуги
прежде всего в том, что возродил стремление Платона увести дух
от чувственного восприятия и в ряде случаев с пользой применил
скептицизм академической школы; но в дальнейшем по причине
некоторой непоследовательности и поспешности в утверждениях
он уклонился от цели (но было ли то, о чем здесь пишет
Лейбниц, - целью Декарта? - Л.П.)».
Он не всегда отличал достоверное от недостоверного и поэтому
ошибочно усмотрел природу телесной субстанции в протяженности
и не имел здравого представления о союзе души и тела, ближайшей
причиной чего было непонимание общей природы субстанции; он
как бы скачком приступил к разрешению важнейших вопросов, не
прояснив связанные с ним понятия», что вообще характерно для
материалиста, каким отчасти был этот ученейший муж.
«Сей прославленный автор отчасти злоупотреблял идеями».
«Чтобы пользоваться идеями в рассуждениях, необходимо, чтобы
познание идей было не только ясным, но и отчетливым. Г-н
Декарт в свое время заметил, что существует разница между идеями
ясными и отчетливыми... Но им недостаточно быть ясными в том
смысле, в каком понимают этот термин г-н Декарт и его
последователи».
«До сих пор никто не обладал искусством доказательства, если
не считать доказательств математических, и даже Декарт потерпел
неудачу в попытках такого рода, в чем можно убедиться на
примере метафизических доказательств, которые он приводит в ответах
на возражения своих противников. Не более удачливым был и
Спиноза...» «Невозможно отрицать, что, за исключением в
древности Архимеда, а в Новое время Галилея, не существует другого
автора, который бы путем размышления нашел столько
прекрасных истин». Но «в трудах Декарта многое представляется
недостаточным... и я не могу согласиться с ним... в вопросе о мирознании,
ибо я не допускаю, что природа тела состоит в одной
протяженности, и не принимаю его весьма опасные положения о том, что
материя последовательно принимает все формы, на которые она
способна».
В целом же я не согласен с Декартом по крайней мере в
следующем:
1) материя и протяженность - одно и то же; неверное понятие о
силе;
Письмо третье. О древней и новой философии
459
2) в трактовке сущности мышления и в том, что будто бы «дух может
пребывать несвязанным с каким-нибудь телом»;
3) будто бы «вся истина зависит от воли Бога»;
4) по вопросу о сущности движения и в том, что якобы «в теле всегда
сохраняется одно и то же количество движения», и о
существовании конечных причин, против чего выступал г-н Декарт.
«Декарт... пытался доказать, что тело состоит в одной лишь
протяженности». Я выступаю против этого положения Декарта,
ибо «природа тела не состоит в одной лишь протяженности...
Понятие протяженности является относительно к тому, что должно
быть протяженно, и означает распространение, т.е. повторение
какой-то природы. Ведь всякое повторение (т.е. множество
одного и того же) может быть дискретным... и непрерывным...
И как говоря о времени, мы понимаем не что иное, как само
расположение или ряд изменений, которые могут случиться в его
продолжение, так и под пространством мы понимаем не что иное,
как возможное расположение тел... Отсюда ясно, что
протяженность является не каким-то абсолютным предикатом, а
относительным к тому, что протягивается или распространяется, и
оторвать ее от природы, распространение которой происходит, также
невозможно, как число - от исчисляемой вещи. А поэтому (не
правы. - Л. П.) те, кто воспринял (т.е. картезианцы. - Л.П.)
протяженность как некий атрибут тела, абсолютный и первичный, не
поддающийся определению и невыразимый...»
«Главная ошибка Декарта состоит в том, что он вложил идею
материи в протяженность и построил на этом всю систему
физики». Г-н Локк избежал этой ошибки. Декарт «спутал материю с
протяженностью, т.е. связностью (единством. - Л.Я.), прочность
он производил из покоя, тогда как она происходит от движения...
Он совершенно бесплодно выдумывал собственные элементы...
Он, видимо, допускает, что у вещей один создатель - Бог, а
Спиноза, превратно истолковав это, стал утверждать, что у вещей
только одна субстанция - сам Бог, т.е. мировая природа, а все
остальные вещи - ее модусы, так же как фигуры - модусы материи...
Есть у него (Декарта. -Л.П.) и другие мысли такого же рода...
которые предвосхитили Спинозу».
«Сила есть нечто вполне реальное также и в сотворенных
субстанциях; пространство же, время и движение имеют нечто от
сущности разума и являются истинными и реальными не сами по
себе, а лишь поскольку они причастны к божественным атрибу-
460
Философские письма, которых не было
там - бесконечности, вечности, сознанию или силе творимых
субстанций. Отсюда уже следует, что пустоты в пространстве и
времени не существует, а... движение как феномен состоит в
чистом отношении, как это признал и Декарт...»
Не согласен с картезианцами я и в том, «будто душа есть...
мысль, а также, будто материя есть... протяженность. Ибо душа
есть субъект, или concretum (букв, "сгусток"), который мыслит, а
материя есть субъект протяженный, т.е. наделенный
протяженностью». Пустого пространства нет, но «не следует смешивать
пространство с материей» или атрибут с субстанцией.
Если схоластики «решили, что душа находится в теле», то г-н
Декарт пожелал ограничить место пребывания души, сделав
седалищем ее шишковидную железу. Тем не менее он не решился
утверждать, что она находится исключительно в некоторой
определенной точке этой железы. Но раз так, то мы ничего не выиграем
от его теории и находимся в таком же положении, как и тогда,
когда душе приписывали в качестве ее темницы, или
местопребывания, все тело.
Нет оснований приписывать, как это делает Декарт, душу как
субстанциальную форму только человеку, «как если бы природа
была создана как попало». Есть основания думать, что
«существует бесконечное множество душ, или, выражаясь более общо,
первоначальных энтелехий, имеющих нечто сходное с восприятием и
влечением, и что все они являются и продолжают всегда
оставаться субстанциями тел... Они вполне гармонируют друг с другом, и
хотя они не оказывают непосредственного влияния друг на друга,
но они взаимно выражают друг друга, поскольку душа
концентрирует в совершенном единстве все то, что тело рассеивает во
множестве».
Хотя «мнение тех, которые обращают или низводят животных
на степень простых машин (как это делал Декарт. —Л.П.), и
кажется возможным, однако оно неправдоподобно и даже противоречит
порядку вещей». «Животные не были образованы механически из
чего-то неорганизованного, как думали Демокрит и г-н Декарт».
Я согласен с преподобным отцом Мальбраншем, заявившим,
что «у картезианцев нет никакого отчетливого понятия
мышления... Им самим неизвестно, что в нем скрывается (между тем
абсолютно истинно, что душа и материя противоположны во
всем...)». И я бы добавил, кроме того, что «несомненно... в мышле-
Письмо третье. О древней и новой философии
461
нии есть что-то, зависящее от счастья», как я убедился в том
однажды, находясь в Венеции...
«Его (Декарта. - Л.П.) метафизический принцип в целом
неверен, принцип, утверждающий, что в нас обязательно заложена
идея всего того, о чем мы мыслим и рассуждаем, например тыся-
чеугольника или абсолютно совершенного существа;
вооружившись этим принципом, как Ахиллесовым щитом, он с
высокомерным презрением взирает на всех, кто сомневается в его
доказательстве бытия Бога». «Доказательство бытия Бога, известное
издавна у схоластиков и возобновленное Декартом», сводится к
следующему: «что вытекает из идеи или определения известного
предмета, то может быть высказано о предмете».
Родственную и близкую этой идею Декарта о том, что наши
«симпатии и антипатии» «рождаются вместе с нами» можно
объяснить лишь тем, что, коль скоро г-н «Декарт испытывал в молодости
чувство привязанности к одной косоглазой особе, то он всю свою
жизнь испытывал некоторую симпатию к людям, страдавшим этим
недостатком». Однако «Богу... нет нужды толковать повеления
души телу, в чем хотели убедить нас картезианцы; ибо настоящий
посредник между телом и душой - предустановленная гармония».
Наконец, «вовсе не следует отвергать конечных причин и
мысли о мудрейшем Уме, действующим для блага; добро и красота не
являются чем-то произвольным, как полагает Декарт, чем-то
имеющем значение для нас, но чуждым Богу, как думает Спиноза.
Наоборот, именно основные положения физики выводятся из
понятия Ума».
«Сильно заблуждаются те, которые, чрезмерно полагаясь на
изданные им сочинения, считают, что они обладают методом».
«Декарт был весьма далек от истинного метода и совершенного
анализа. Я не могу принять в целом всю его физическую гипотезу.
Ведь его утверждение, что вся материя разделена на равные части,
каждая из которых вращается вокруг своего центра, совершенно
не имеет никаких оснований... Декарт заблуждался относительно
законов движения, и притом во многом и самым невероятнейшим
образом, что, однако, совсем не удивительно...»
«Знаменитый картезианский метод (как его изображают)...
вместо алмазов дает людям лишь головешки (ведь сам Декарт
утверждал, что не изложил его, а только хотел написать о нем и дал
лишь примеры метода. - Л.П.)... Все прекрасные открытия
нашего времени обязаны кому угодно, только не картезианцам, и они,
462
Философские письма, которых не было
конечно, не смирились бы с этим положением, если бы обладали
надежным методом исследования... Однако у него (Декарта. -
Л.П.) были кое-какие великолепные находки, которые его
последователи обычно игнорируют, а потому нет ничего
удивительного, если они из истолкователей природы превратились скорее в
толкователей своего учителя» (совсем, аЧа Marx или а'1а Ленин
или Сталин. -Л.П.),
«Я не вижу, чтобы хотя один картезианец изобрел что-нибудь
полезное, пользуясь философией своего учителя», в отличие,
например, от Галилея. «Похоже, что никакой жатвы с философии
Декарта нам не видать и все надежды погибли на корню со
смертью ее создателя, так как большинство картезианцев ~ это
всего лишь комментаторы...
Все эти соображения, однако, не мешают мне высоко ценить
г-на Декарта. Быть может, мало, кто так ясно видит величие его
ума, как я... С ним могут соперничать лишь Архимед и Галилей...
Г-н Декарт, одержимый стремлением основать и упрочить
свою секту, наговорил немало, быть может, и остроумного, но
необоснованного и бесплодного» (и это тоже отчасти роднит его с
классиками марксизма-ленинизма. -Л.П.),
Декарт «возродил скептицизм древних, научив нас ничего не
принимать на веру без доказательства. Уж ему-то, казалось бы,
следовало позаботиться о доказательстве аксиом, а он вместо
этого бросился очертя голову рассуждать на иные темы, куда менее
основательные, но зато такие, которые обещают успех и то, что
называется aura popularis (дешевой популярностью)» — вечной,
должно быть, спутницей материализма (даже в позднейшие
времена. - Л.Л.).
Знаменитое «Мыслю, следовательно, существую», точно так
же как «отбрасывание всего, в чем можно сомневаться» (не отсюда
ли вылез весь позитивизм с его верификацией? - Л,Л,), я считаю
пустыми прикрасами, рассчитанными на публику. Получается,
что Декарт весьма хитроумно подбросил заурядным умам нечто
вроде мячиков, которыми они могли бы забавляться. А между тем
им кажется, что они получили нечто великое, как дети, играющие
в орехи или бобы. И я с трудом могу удержаться от смеха, видя,
как, например, некий профессор Бременского университета
(Иоганн Швелинг. - Л. П.) воображает, что видит здесь...
«божественные мысли», «божественное деяние».
Письмо третье. О древней и новой философии
463
Декарта «ввело в заблуждение чрезмерное доверие к
собственному разуму, а его последователей - к чужому... Декарт, по
свойственной великим мужам слабости, постепенно приобрел
некоторую самонадеянность, и многие картезианцы, боюсь, стали
подражать презираемым ими перипатетикам и усвоили обыкновение
вместо здравого разумения и рассмотрения природы вещей искать
истину только в книге учителя».
«Декарт очень широко использовал ученые сочинения, хотя
ему самому и не хотелось, чтобы об этом знали, но и стиль, и само
содержание свидетельствуют об этом. Он великолепно
использовал чужие мысли, хотя, как мне кажется, было бы лучше, если бы
он не скрывал этого; именно это обстоятельство вызвало у него в
Швеции столкновения с учеными». «Мне известно со слов ученых
людей, что сам великий Декарт был немало смущен, когда ему
ясно показали, что множество его философских положений,
считавшихся его открытиями, содержатся уже и в естественных, и в
этических сочинениях Платона, Аристотеля и других древних, к
которым тот, однако, всегда относился с пренебрежением...» Между
тем «его метафизические принципы, в частности учение об идеях,
недоступных чувствам, о различии души и тела, о неустойчивости
и недостоверности самих по себе представлений о материальных
вещах, - все это чисто платоновские положения... Наш автор
следует за Ансельмом Кентерберийским, Аристотелем, стоиками,
схоластиками, собирая повсюду свой мед, подобно пчеле на
цветущих лугах».
Мнение «о величайшей скромности Декарта нуждается в
оговорках. Известно, что Декарт и Жиль Роберваль в присутствии
г-на Кавендиша осыпали друг друга взаимными оскорблениями, а
его письма пронизаны каким-то невероятным пренебрежением и
подчеркнутым презрением к другим, как это видно из тех
непристойных нападок, которыми он надеялся приуменьшить славу
Пьера Ферма, чувствуя, что тот противится его диктатуре».
Наконец, «как это уже было отмечено многими учеными и с полной
очевидностью явствует из его писем, он с безграничным
презрением относился к другим ученым и из жажды славы не брезговал
приемами, которые могут показаться не слишком благородными.
Но все это я говорю, конечно, не с тем, чтобы умалить заслуги
этого человека, которого я бесконечно уважаю, но чтобы каждому
было воздано свое и чтобы ни один человек не присваивал себе
славу, принадлежащую всем... а иначе, если перестанут награж-
464
Философские письма, которых не было
дать таланты, охладеет и стремление к созданию замечательных
творений...
Мне бы также хотелось, чтобы выдающиеся мужи оставили
пустую надежду захватить тираническую власть в Философской
державе и отказались от честолюбивых претензий на основание
собственной секты, постоянно порождающих (к величайшему
вреду для науки и в ущерб драгоценному времени) глупую
пристрастность и совершенно бесплодные литературные побоища».
«Все здание философии г-на Декарта покоится на
предполагаемом и отчетливом знании души и тела. Он слишком торопился,
и роль главы секты вынуждала его поступать опрометчиво. В
поисках (истины. - Л.П.) он не был последователен. Пора бы уж
оставить привязанность к сектам и обратиться к доказательствам по
примеру геометров, для которых не существует разницы между
сторонниками Архимеда и сторонниками Евклида». «У геометров
нет евклидовцев, архимедовцев и апполониевцев: все они
образуют одну-единственную секту - последователей того, кто
открывает истину, где бы она ни находилась».
А значит, не должно быть ни картезианцев, ни платоников, ни
демокритовцев, ни эпикурейцев и, страшно сказать, быть может,
даже материалистов и идеалистов, диалектиков и метафизиков.
(Тем более не должно быть тех талмудистов, которые появятся в
XIX и XX вв., именуя себя кантианцами, гегельянцами,
марксистами, ленинцами, белыми, красными, фашистами, сталинцами,
троцкистами, бухаринцами, маоцзедуновцами, полпотовцами...
А раз принципиально не должно быть сектантства в познании, то
не должно быть и ужасного «принципа партийности в
философии», и ее «основного вопроса» с вытекающими из них
бесчеловечными «оргвыводами». -Л.П.)
«И никогда не явится человек, который смог бы претендовать
на обладание всем достоянием науки или смог бы весь род
человеческий превзойти своим талантом и, подобно солнцу на небе,
затмить своим блеском все звезды. Так будем читать Декарта и
восхвалять его, даже восхищаться им, но не будем на этом основании
пренебрегать другими, у которых есть немало замечательного,
чего, кстати, не заметил Декарт.
Ничто столь не препятствует научному прогрессу, как
рабское, не знающее меры усердие эпигонов... в философии...
Картезианцы скованы догмами секты...
Те, кто привык идти за одним автором, становятся рабами
своего учителя как бы по праву давности и с трудом направляют свой
Письмо третье. О древней и новой философии
465
ум на что-то новое и необычное, хотя известно, что нет иного пути
увеличить и приумножить знание, кроме многообразия путей, на
которые вступают различные ученые в поисках истины».
И все же «...во многих... вопросах, даже там, где я не согласен с
ним, мне доставляет огромное наслаждение сама нить
философских рассуждений, и поистине едва ли есть у него хоть одна
страница, где нельзя было бы найти что-то полезное и новое...»
Например, «теории радуги и магнита» я назову «гениальными», хотя
«Декарт в физике получил весьма мало несомненно убедительных
результатов». «Я считаю весьма замечательными его труды по
этике, где он использовал и развил Эпиктета и других древних. Все
это учение зиждется на развитии того, что присуще нам, и того,
что не находится в нашей власти: ведь если мы станем желать
только того, что нам доступно, мы никогда не испытаем боли неудач».
В области этики учения картезианцев и стоиков «совпадают».
«Я менее всего признаю себя картезианцем... У Декарта я
согласен только с его методом, ибо, как только дело дошло до
приложения последнего, Декарт совершенно позабыл свою строгость и
сразу запутался в каких-то странных (miras) гипотезах... Я...
нахожу гораздо больше достоинств в книгах аристотелевской
"Физики", чем в размышлениях Декарта: настолько я далек от
картезианства...»
«Мои философские взгляды, пожалуй... занимают
промежуточное положение между Демокритом и Декартом, так как я
считаю, что все совершается по законам механики, в согласии с
мнением Демокрита и Декарта... Но в противоположность демокри-
товцам я считаю, что кроме этого все совершается и по законам
жизни, в силу конечных причин, ибо все наполнено жизнью и
всюду есть восприятие».
Вообще, если говорить откровенно, нет никакого смысла
становиться на сторону материализма, чтобы воевать с идеализмом,
или, наоборот, становиться на сторону идеализма, чтобы
выступать против материализма. В любом случае это означало бы не
столько становиться, сколько остановиться, а вернее,
возвратиться к старой идее «конечных причин». А ведь ясно, что в рамках
этой идеи нет и не может быть никакой разницы между Богом,
душой (духом), разумом, идеей, материей, диалектикой и
метафизикой.
Теперь же, с Вашего позволения, поговорим о том великом
современном мыслителе, замкнутом на свой универсум, который он
466
Философские письма, которых не было
так глубоко объяснил; о человеке, с которым, скажу по секрету,
несмотря на все мое искреннее уважение к нему, - оно, впрочем,
не мешает мне не разделять некоторые его взгляды, - я, к
величайшему моему сожалению, так и не сблизился, хотя мне этого очень
хотелось.
Я этого желал единственно лишь потому, что чувствовал при
чтении его прекрасных книг отзвуки каких-то величайших для
человечества идей, которые, естественно видоизменяясь,
сохранятся надолго.
Я говорю о, пожалуй, даже «слишком известном новаторе»,
г-не Спинозе, с которым я виделся поздней осенью в Гааге, перед
его смертью, о которой безмерно сожалею.
Спиноза (1635-1677)
Барух Спиноза, которого «я не отказываюсь
цитировать, когда он говорит здравые вещи», возглавляет своей
философией одну из двух «сект натуралистов», которые «ведут свое
происхождение от античности: одна из них обновила учение
Эпикура, другая по существу повторяет учение стоиков...»
Секта новоявленных стоиков считает, что бестелесные
субстанции существуют, что человеческие души не являются телами,
что Бог - это душа или, если угодно, высшая мировая сила
(puissance), даже, если хотите, причина самой материи, но в то же
время существует некая слепая необходимость, которая
направляет его действия; поэтому-де Бог играет в мире такую же роль,
как пружина или гиря в часах.
Они утверждают, что машинообразная необходимость
свойственна вещам, что свое действие вещи оказывают по
принуждению, а не по разумному волеизъявлению этого божества, так как,
собственно говоря, Бог не обладает ни разумением (entendement),
ни волей; это качества, присущие людям; что все вещи, какие
только возможны, сменяют друг друга в соответствии со всеми
теми многоразличиями, на какие способна материя; что не следует
отыскивать причины; что нельзя быть уверенным ни в бессмертии
души, ни в будущей жизни; что по отношению к Богу не
существует справедливости; он сам своим определением решает, что есть
добро и справедливость, и, значит, не нарушает справедливости,
делая невинных несчастными.
Таким образом, эти господа допускают существование
провидения лишь на словах, что же касается практических следствий и
Письмо третье. О древней и новой философии
467
правил, как нам следует вести себя в жизни, то тут все сводится к
учению эпикурейцев, т.е. к тому, что высшее счастье состоит в
покое и довольстве жизнью такой, какова она есть, и другого быть не
может, так как бессмысленно противоборствовать вихрю вещей,
не удовлетворяясь тем, что является незыблемым». Они, т.е.
Спиноза и его последователи, приравнивают «счастье к простому
терпению». «Это, по существу, взгляды Спинозы...».
Спиноза существенно огрубляет, механистически
истолковывает учение еврейских каббалистов, хотя в какой-то мере исходит
из него. Согласно каббале, «Бог управляет всем
беспрепятственно, но благостно и без насилия так, что человек думает, будто он
исполняет свою волю, между тем как он исполняет волю Божию».
Адам хотел «создать себе царство в царстве Божием и
приписать себе свободу, независимую от Бога; но его падение показало
ему, что он не мог существовать сам собой и что люди имеют
необходимость в искуплении Мессией».
Как я уже писал, «это учение может иметь хороший смысл».
«Но Спиноза, хорошо знакомый с каббалистическими
авторами своего народа, говоря ("Богословско-политический трактат",
гл. 2, п. 6), что люди, признающие свободу в общепринятом
смысле, устанавливают в царстве Божием новое царство, впадает в
преувеличение». У него это социальное царство есть не что иное, как
царство слепой необходимости.
У материалиста Спинозы, точно так же, как и у перипатетика
Стратона, система его философии есть система «абсолютной и
грубой необходимости» и можно говорить о «грубой
необходимости Стратона и спинозистов, не признающих в Боге разума и
воли...»
Я не устану утверждать, что Спиноза «ищет метафизическую
необходимость в событиях; он не допускает, чтобы Бог
определялся своей благостью и своим совершенством (эти слова Спиноза
признает химерами по отношению к универсуму), а считает, что
он определяется лишь необходимостью своей природы, точно так
же, как полукруг необходимо содержит в себе лишь прямые углы,
хотя он не осознает и не желает этого».
Спиноза признает «безусловную необходимость в совершенно
математическом смысле». Он «учил о слепой необходимости,
отвергая ум и волю у творца вещей и воображая, что благо и
совершенство существуют только по отношению к нам, а не к нему...
468
Философские письма, которых не было
Мнение Спинозы об этом предмете заключает в себе нечто
темное. Ибо он приписывает Богу мышление, лишая его разума,
cogitationem, non intellectus concedit Deo (признает y Бога
мышление, но не разум)... Он не признает в Боге благости в собственном
смысле и учит, что все вещи существуют по необходимости
божественной природы, так что Бог не делает никакого выбора...
Я не верю спинозисту, говорящему, что все романы, которые
можно вообразить, реально существуют в настоящее время, или
существовали прежде, или будут еще существовать где-либо в
универсуме; тем не менее нельзя отрицать, что романы, подобные романам
мадемуазель де Скюдери или романам Октавии, невозможны».
В поддержку своим словам я хотел бы процитировать
«убедительные слова г-на Бейля» о том, что «затруднением для
спинозистов является признание (ими. - Л.П.) того, что в соответствии с
их гипотезой испокон веков столь же невозможно, как то, что
Спиноза, например, умер не в Гааге, как невозможно, чтобы
дважды два было десять».
В признании такой абсолютной, безусловной и
математической необходимости в качестве универсальной, писал Бейль,
заключена «бессмыслица, диаметрально противоположная
здравому смыслу» (и она была почти у всех позднейших материалистов
вплоть до Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и т.д. - Л.П.)
«Последователи Гоббса и Спинозы... отвергают свободу и
случайность; ибо они думают, что все случающееся есть единственно
возможное и должно совершаться по грубой и неизбежной
необходимости. Гоббс представляет все материальным и все подчиняет
математическим законам; Спиноза тоже отрицает в Боге разум и
выбор, приписывая ему слепое всемогущество, из которого все
проистекает необходимо».
Философия Спинозы исходит из отсутствия различия между
необходимостью и случайностью, между необходимыми и
случайными истинами, тогда как я настаиваю на таком различии. По
мнению Спинозы, все возможное существует, а все, что не существует,
не является возможным, ибо для Спинозы все, что возможно
логически, что мыслимо, то и существует. Напротив, для меня не все
возможное обязательно существует (и не все истины, в которых нет
противоречия, существуют), ибо возможностей непротиворечивых
очень много, но одни возможности осуществляются, а другие нет.
Для существования должно быть достаточное основание.
Письмо третье. О древней и новой философии
469
«Царство Божие, по мнению Спинозы, не есть что-либо иное,
как только царство необходимости, и притом слепой необходимости
(как у Стратона), по которой все проистекает из божественной
природы без всякого выбора со стороны Бога; и выбор человека не
исключен из этой же необходимости». Согласно Спинозе,
«первоначальная природа, произведшая все, действует без избрания и
бессознательно». Но это опасно, ибо это значит - «независимо от Бога».
Спиноза «ошибается, полагая, будто душа, простая
субстанция, может быть порождением природы. Кажется, что, по его
мнению, душа есть только скоропреходящее видоизменение
природы...» «Известно, что Спиноза признавал только одну субстанцию
в мире, отдельные души которой суть только ее преходящие
модификации», т.е. Бога. «Спиноза доказывает, что душа - это идея
тела, т.е. относится к нему так же, как математическая фигура или
тело относится к физическому телу».
Приписывая Богу и душе эти и другие нелепости, Спиноза
«довел до крайности учение, отнимающее у тварей силу и
действие», - материализм.
Ведь «нужно... чтобы искусность Бога была не только не ниже
искусности работника; она должна бесконечно превосходить ее.
Простое творение всего хотя и выражало бы могущество Бога, но
оно не было бы достаточным доказательством его мудрости. Все
утверждающие противоположное впадают именно в ошибку
материалистов и Спинозы, от которой, по их уверению, они хотели бы
избавиться; они хотя и признают в первой основе могущество, но
недостаточно приписывают ей мудрости...
Я не говорю, что телесный мир — это машина или часовой
механизм, работающий без вмешательства; я достаточно
подчеркиваю, что творения нуждаются в беспрерывном его влиянии. Мое
утверждение заключается в том, что это часовой механизм,
который работает, не нуждаясь в исправлении его Богом; в противном
случае пришлось бы сказать, что Бог в чем-то изменил свое
решение. Бог все предвидел, обо всем позаботился. В его делах
господствуют предустановленная гармония и красота».
В противоположность Спинозе я утверждаю, что «природа
активной силы и законы движения» «не подчинены абсолютно
геометрической необходимости», «но зависят от сообразности... или
оттого, что я называю принципом наилучшего».
Сейчас я постараюсь описать философское учение великого
философа, известного всему просвещенному миру своими, к со-
470
Философские письма, которых не было
жалению, лишь под конец его жизни опубликованными
прекрасными трудами - славного г-на Джона Локка, о недавней смерти
которого я глубоко скорблю. Печально, что философы менее
долговечны, чем их учения, но, если бы дело обстояло наоборот, было
бы еще печальнее.
Локк (1632-1704)
Знаменитый Джон Локк весной 1697 г., когда ему
было уже более шестидесяти, а печататься он стал лишь в возрасте
за пятьдесят лет, выехал в замок Отс, принадлежавший леди
Мешем, чтобы провести там лето, наслаждаясь уединением,
используя досуг для глубоких размышлений и среди прочих важных дел
занимаясь воспитанием сына и наследника владелицы замка,
дамы чрезвычайно умной и склонной даже к философии. Это
счастье длилось семь лет. «Этот талантливый Англичанин,
кончину которого все недавно оплакивали и с которым, правда, я
никогда не встречался лично, но имел честь переписываться с ним и с
леди Мешем, дочерью г-на Кэдворта и покровительницей г-на
Локка, как и все люди, не любил прислушиваться к возражениям,
я не счел себя вправе отвечать»; теперь же он ушел в мир иной, и я
могу ответить. Г-н Локк «обладал тонкостью ума и
изобретательностью, его метафизика была в некотором смысле поверхностной,
но он умел придать ей блеск; однако он не признавал
математического метода».
Г-н «Локк... установил, а его выдающиеся соотечественники
Гоббс, Бейль и многие другие подтвердили: физический
механизм — тело движется только от толчка соприкоснувшегося с ним
тела. Но после того, он, следуя, как я думаю, более авторитету
друзей, чем собственному суждению, пересмотрел свое мнение и
допустил, что в существе материи могут таиться какие-то чудесные
свойства...» Локк, таким образом, усложнил простое, сделав его
менее понятным. «Это то же самое, как если бы кто... стал бы
искать узел на былинке и хотел бы насильно делать ясное темным».
Пренебрежение, высказанное г-ном Локком к моим
«пространным размышлениям о труде г-на Локка, посвященном
человеческому разумению», «меня не удивляет: мы исходили из
слишком разных принципов, и то, что я утверждал, казалось ему
парадоксальным».
«В общем он придерживался системы Гассенди, по существу
тождественной системе Демокрита. Он стоит за пустоту и атомы;
Письмо третье. О древней и новой философии
471
он думает, что материя могла бы мыслить; что не существует
врожденных идей; что наш дух есть tabula rasa и что мы не всегда
мыслим... Он обогатил и укрепил эту систему множеством прекрасных
рассуждений». Вот почему если Вы, Ваше Величество, не прочли
еще эту книгу, я, завидуя удовольствию, которое Вы получите от
нее, «предлагаю Вам сделать это, а если Вы прочли ее, то прошу
Вас высказать свое мнение о ней».
Система Локка «ближе к Аристотелю, а моя - к Платону, хотя
каждый из нас во многих вопросах отклоняется от учений этих двух
древних мыслителей. Он пишет более популярно, я же вынужден
выражаться более научно и абстрактно, что не является для меня
преимуществом, особенно ввиду того, что я пишу на живом языке».
Аристотель и Локк считают, что «душа сама по себе совершенно
чиста, как tabula rasa», «подобна доске, на которой еще ничего не
написали», или же душа «содержит изначально принципы
различных понятий и теорий, для пробуждения которых внешние
предметы являются только поводом, как это думаю я вместе с Платоном, а
также схоластиками» прежними и нынешними. «Доводы г-на
Локка в пользу того, что душа может иногда вообще ни о чем не
мыслить, не кажутся мне убедительными... Я считаю, что душа, равно
как и тело, без восприятий», т.е. активность и отражение
(рефлексия) нам, и не только нам, присущи, известно, от природы.
Далее я, прежде чем рассказать о миросозерцании целой
плеяды прекрасных представителей ученого и религиозного мира
(Гюэ, Арно и Гюйгенс), с которыми я был знаком лично или
находился в переписке, позволю себе остановиться на учении
выдающегося новейшего философа, учение которого (я не вдаюсь в
подробности — изложу их ниже) и даже само имя этого философа
напоминают мне о счастливом и незабвенном времени, когда еще
была жива моя августейшая ученица и высокая Покровительница
Ее Величество София Шарлотта, королева Прусская, о чьей
безвременной кончине я не устану сожалеть.
Бейль (1647-1706)
Я разошелся с г-ном Бейлем всего более в вопросе
об отношении веры и разума. Бейль, подобно материалистам
XVIII в., отчасти вышедшим из его школы, не отвергал религии,
но находил, что между верой и разумом заключено изначально
неразрешимое противоречие. Для меня же, как Вы знаете, Ваше
Величество, «этого противоречия не было»; для меня, как правильно
472
Философские письма, которых не было
пишет Герье, «разум был также откровением, и не могло быть
разногласия между двумя откровениями того же Божества».
Г-н Бейль, этот ученейший муж, «увлекается полетом своего
ума, не сохраняя до конца необходимого терпения для
исследования последних оснований своего образа мышления». В критике
моей философии, «направив свой ум на то, чтобы усилить (свои. -
Л.П.) возражения, он не обратил должного внимания на то, что
служит опровержению этих возражений...» Он «сомневался в
возможности предустановленной гармонии и... сравнивал мою
гипотезу с предположением о корабле, который, не будучи никем
управляем, сам собой направляется в нужную гавань».
На это я возражу, что такое возможно в том случае, когда у
корабля самого по себе есть «такие свойства», которые «можно
объяснить законами механики и его (корабля. — Л.П.) внутренними
движущими силами, а также внешними обстоятельствами...» «Не
следует нашу гипотезу сравнивать, имея в виду телесную массу, с
кораблем, который сам собой идет в порт, а лучше сравнивать с
паромом, который пересекает реку, будучи прикреплен к канату».
Бейль «не может себе представить, чтобы... (например. - Л.П.)
при помощи одних законов механики корабль мог прибыть в
назначенную ему пристань, не нуждаясь во время своего плавания в
разумном кормчем».
Между тем «Бог с самого начала и одновременно привел в
порядок все вещи, и потому сохранение этим кораблем правильного
пути не более удивительно, чем сохранение пути ракетой, идущей
вдоль веревки при фейерверке, ибо все вещи сохраняют
совершенную гармонию между собой, взаимодействуя друг с другом».
Я считаю, что вполне возможен «чудесный корабль, который
сам собой, без лоцмана, направляется в гавань», считаю
возможной «машину», которая «не будучи наделена умом», выполняет
«действия человека». «Нет сомнения, что человек мог бы создать
машину, способную передвигаться в течение какого-то времени
по городу, безошибочно заворачивая на определенные улицы»...
Да и сам «мир... есть как бы машина, где каждая из частей состоит
из поистине бесчисленного числа пружин; ...она принадлежит к
бесконечному множеству возможных миров, ...из которых он (т.е.
тот, кто создал их, а именно Бог. — Л.П.) выбрал и тот, что ему
понравился...
Везде необходимы энтелехии... Машины природы...
действительно существуют...»
Письмо третье. О древней и новой философии
473
Неверно, «будто все создано единственно для человека». Но
все созданное человеком и обусловленное им, создано и
обусловлено им потому, что уже существовало и существует в природе или
в самом человеке. Так, «все, к чему честолюбие или другая страсть
подвигает душу Цезаря, все это представлено в его теле, и все
движения этих страстей происходят от впечатлений, получаемых от
предметов и связанных с внутренними движениями; а тело
устроено таким образом, что душа никогда не принимает решений, с
которыми не согласуются движения тела, причем даже самые
отвлеченные рассуждения принимают в этом участие через
посредничество символов, которые делают их доступными
воображению».
Иными словами, если принимать во внимание только
явления, все в теле происходит так, как если бы материалистическое
«дурное учение тех, кто вслед за Эпикуром и Гоббсом считает, что
душа материальна, было истинным или как если бы сам человек
был всего лишь телом или автоматом... Эти материалисты
действительно показали, что человек со всем его разумом не совершает
ничего, что не было бы игрой образов, страстей и движений в теле.
Чего только не делали, желая доказать обратное», но тем «лишь
расчистили путь для торжества заблуждения».
Бейль «боится того, что при постоянном божественном
определении природа не будет нуждаться в Боге и сможет в силу
необходимого порядка вещей совершать то же действие, какое
приписывается ему». Я против Бейля, поскольку тот заодно с Декартом и
многими картезианцами, считающими, что «Бог есть
единственный деятель, а создания суть чисто пассивные его орудия». Бейль
«частично склонялся к отрицанию всякой активной деятельности
в созданиях...» Вместе с тем он утверждал, что законы движения
«подчинены совершенному произволу».
Бейль правильно считает, что «свободная воля должна
проистекать от двух начал, чтобы она могла склоняться к добру и злу».
Но Бейль «распространяет понятие свободы слишком широко,
ибо хотя Бог в высшей степени свободен, отсюда не следует, что
Он находится в состоянии безразличия равновесия, и, хотя Он
склоняется к действованию, отсюда нельзя заключать, будто этим
Он и вынуждается творить все, что может. Он производит только
то, что хочет, ибо его склонность направляет его только к добру.
Мы же в отличие от Бейля признаем в Боге величайшую свободу,
но мы не смешиваем ее (как это делает Бейль. - JIM.) с безразли-
474
Философские письма, которых не было
чием равновесия, как если бы Бог мог вступать без всякого
основания».
Я не согласен с Бейлем и по вопросу о том, что такое разум
индивидуальный и божественный (воплощенный в таинствах веры) и
каково его применение. Ибо в противоположность Бейлю
утверждаю, что «божественный разум выше нашего. Мы, люди, не можем
дать разумное объяснение» «того, каким образом все это (т.е.
таинства веры. - Л.П.) есть на самом деле», ибо «мы не можем знать
этого». Но Бейль неправ, когда вообще «объявляет себя противником
разума»; он считает, что «человеческий разум есть начало
разрушительное, а не созидающее» (см. его «Исторический и критический
словарь»); что разум есть «бегун, не знающий, где остановиться, и,
подобно второй Пенелопе, разрушает свое собственное дело».
Бейль стал моим противником главным образом потому, что
отрицал возможность рационального объяснения религиозных
догматов, тогда как в таком обосновании я вижу одну из задач
своей философии и жизни.
Исходя из верной мысли, что «метафизика XVIII в. еще
заключала в себе положительное, земное содержание (вспомним
Декарта и др.)», что «она сделала открытия в математике и других точных
науках, которые казались неразрывно связанными с нею»,
основоположники марксизма-ленинизма, как всегда делая из мухи
слона и наоборот, традиционно ставя в заслугу одному человеку
сделанное до него и за него многими, утверждают, будто бы знают
в точности, когда и кто именно уничтожил «мнимую связь» между
метафизикой и точными науками. Кстати, зачем? Ведь она -
«мнимая»?
И нам внушают, что эту странную акцию храбро осуществил
совершенно конкретный человек, борец-одиночка Пьер Бейль -
французский философ началаXVIII в., предшественник
французских просветителей, утверждавший независимость нравственных
достоинств от религиозных убеждений и критически
относившийся к католицизму и религии вообще, а также сочинивший
«Исторический и критический словарь» (1697-1702).
Вооружившись, как сказано у Маркса, одним лишь только «скептицизмом»,
зато «выкованным из волшебных формул самой метафизики»,
Бейль тут же «теоретически подорвал всякое доверие к
метафизике XVII в. и всякой метафизике вообще».
Я, быть может, и поверил бы в сей подвиг г-на Бейля, если бы
героический его поступок действительно «подорвал всякое дове-
Письмо третье. О древней и новой философии
475
рие к метафизике» и «мнимая связь» между ней и науками была им
уничтожена. Но зачем тогда Бейль сохранил связь с метафизикой
и доверие к ней у самого себя? Ведь хорошо известно, что до
последних своих дней он оставался верным приверженцем Декарта и
сохранил религиозную оболочку многих рассуждений и трактовку
религиозных проблем. Даже не будучи лично знакомым с г-ном
Бейлем, я верю в его искренность.
Что же так понравилось марксизму в г-не Бейле? Его
«революционность», склонность к насильственной и
противоестественной ломке и нарушению, т.е. его максимализм, ограниченность,
односторонность, радикализм и опрометчивость действий и
суждений. «Бейль - представитель пытливого честного сомнения,
которое видит только одну сторону дела и опрометчиво отвергает то,
что не подходит под его ограниченную мерку», - утверждал Герье.
Бейль из числа тех, кто вместо того, чтобы пассивно,
по-интеллигентски «объяснять», предпочитает в ущерб «объяснению» и
за счет его - активно, революционно все вокруг бездушно, без
оглядки «преобразовывать». (Вспомним Маркса. - Л.П.).
По справедливейшему мнению ученейшего моего русского
биографа и исследователя, г-на Герье, в человечестве будет вечно
существовать некий контраст не только между отдельными
эпохами, но и между различными типами людей. Одни превозносят
только рассудок, другие - только чувства. Одни в своем
стремлении все объяснить забывают о необходимости на этой основе хоть
что-то сделать. Другие, напротив, в ущерб объяснению и за счет
него беспрерывно делают «не ведая, что творят», не объяснив
перед этим ни себе, ни другим и не поразмышляв над тем, что
именно следует преобразовывать и изменять, зачем и каким образом.
Одни, таким образом, склонны к теории за счет практики,
другие — к практике за счет теории.
В такой одинаковой у тех и других противоречивой «жизни в
долг» (утопической, поскольку определяется она не
объективным, а субъективным, не настоящим, а будущим и только им) не
было бы ничего плохого, если бы в увлечении только этим одним,
они не забывали бы о ему противоположном, гармонии (единстве)
теории и практики, которая ведь тоже имеет право на
существование и которая тоже необходимо есть в любом, из того что
существует. И - самое главное — если бы те и другие не применяли
необходимо вытекающее из всякой чрезмерности, крайности, одно-
476
Философские письма, которых не было
сторонности и ограниченности кровавое насилие над жизнью,
разумом и душами тех, к кому обращают они свои слова.
Но наряду с такими людьми всегда существовали, существуют
и будут существовать те, кто видит такую их страшную ошибку.
Поэтому я поделил бы людей на два типа - односторонне
мыслящих и действующих «революционеров либо реформаторов»,
противопоставив тем и другим тех, кто, признавая естественность и
законность революции и эволюции, равным образом принимая
и понимая «практиков» и «теоретиков», не останавливается на
противоречиях, усматривая за враждующими сторонами
имманентное им их единство (тождество) и «снимает» эти
антагонистические противоречия, мирит бессмысленно соперничающих
и враждующих, объединяет партийные секты материалистов и
идеалистов, революционеров и реформаторов в высшем синтезе,
в гармоническом единстве.
К последнего рода людям я причисляю и себя, полагая, что
правда на этой стороне, хотя и не целиком, ибо, изменяясь, она
всегда относительна.
Гюэ (Гуэций), Арно и Гюйгенс
А теперь, если позволите, Ваше Величество, я
хотел бы, как Вы того желали, подробнее остановиться на тех,
преисполненных благородства и учености умах, кому нынешняя и,
так сказать, новая философия является должником за прекрасные
и тонкие мысли, которые принадлежат сим великим людям. Это,
разумеется, Пьер Даниэль Гюэ (Гуэций) ( 1630-1721), французский
теолог, епископ Авраншский, яростный враг рационализма и
атеизма «новаторов» (особенно Спинозы), обладающий «столь
разносторонними познаниями и столь тонким умом». Это профессор
из Ринтельна Арнольд Эккард, относительно которого искренно
скажу, что «я рад, что рядом с нами живет такой человек, у
которого есть достаточно досуга, желания и таланта для истинной
философии». Он обладает, «насколько мне известно, весьма
основательными познаниями в математике и прежде всего... в той общей
части, которую некоторые называют анализом... И меня не
обескураживает то, что он выше всех ставит Декарта», которым я, за
некоторыми исключениями, восхищен.
Следует упомянуть и Антуана Арно (1612-1694) —
французского философа и теолога, по убеждениям картезианца, одного из
вождей янсенизма - полупротестантского направления в католи-
Письмо третье. О древней и новой философии
477
цизме; человека весьма необыкновенной учености, с которым я
имею честь состоять в переписке. Арно и Декарт толкуют души
«как понятия, т.е. модификации нашей души». Г-н Арно -
«знаменитый писатель» и «теолог, чьи весьма изящно написанные
книжки делают их автора создателем французской логики», чему
не помешал янсенизм, последователем которого он был, и в связи
с этим напомню, Ваше Величество, что представители этого
учения решали вопрос о свободе воли и Божественном
предопределении в духе Блаженного Августина.
«Без сомнения, г-н Арно был великим человеком, и его
авторитет имеет большой вес; он сделал в своих сочинениях много
дельных замечаний против о. Мальбранша, но он не имел
никакого основания опровергать то, что этот отец сказал, согласно со
мною, о правилах наилучшего».
Я не могу не коснуться, хотя бы слегка, возражения, которое
г-н Арно и г-н Бейль сделали мне и которое я считаю главным.
«Оно запутано: они считают, будто бы Бог был бы принужден или
поступал бы по принуждению, если бы должен был творить одно
наилучшее; или по крайней мере он был бы бессильным, если бы
не мог найти наилучшего средства для изъятия из мира грехов и
других зол. А вместе с этим опровергается и то, что этот мир есть
наилучший и что Бог вынужден был избирать наилучшее». Я
отвечал на это так: «Мы доказали, что Бог не мог отказаться от
сотворения наилучшего; а из этого положения следует, что испытанные
нами бедствия не могли быть на разумных основаниях изъяты из
этого универсума, поскольку они существуют в нем».
Наконец, г-н Гюйгенс (1629-1695), «прославивший наш век
выдающимися находками», мнение которого «по вопросам
естествознания и математики я ставлю очень высоко», «освободил
"науку о движении" от заблуждений, опубликовав в разное время
ряд правил». «Но об основаниях этих правил нет единого мнения,
поэтому нет единства и в заключениях, к которым приходят» г-н
Гюйгенс и другие последователи. По нашему мнению, один из
«подлинных истоков» науки о движении в том, что «отражение,
или отклонение, происходит не иначе как от упругой силы, т.е.
противоборства внутреннего движения».
Этот замечательный ученый первым обратил внимание на
«истинные законы механики и движения». Но, к величайшему
сожалению, «он не интересовался метафизикой, как, впрочем, и
478
Философские письма, которых не было
другие талантливые люди, которые следовали ему в этом
отношении».
Замечу также, что г-н Гюйгенс считает, что жители некоторых
планет «очень похожи на нас». Он - автор трактата об игре в кости
и «сторонник пустоты и атомов» - представления, с которым я
давно расстался.
На этом я позволю себе завершить свой краткий и весьма
поверхностный обзор далеко не всех замечательных философски
мыслящих людей нашего времени, но тех, чьи мысли и труды
меня, имеющего счастье быть с этими людьми в дружеских
отношениях, крайне интересуют.
*
Возвращаясь к вопросу о смелом продвижении вперед
философии и других столь же важных для человечества завоеваний
мысли, осмелюсь заметить, что до сих пор, мне кажется, вообще
всякое смелое продвижение вперед в чем бы то ни было всегда
почему-то сопровождалось одновременно неудачами. Тем более
серьезными и существенными, чем смелее и радикальнее было
обусловливающее эти неудачи продвижение, так что большему
успеху могло отвечать, а могло и нет, - только большее
поражение.
Вероятно, это относится и к успехам философии, ибо вряд ли
когда еще были так сильны сопутствующие этим успехам
безумные и опасные уклонения в материализм и безверие, в политику и
экономику, нежели те, которые мы ныне наблюдаем. Остается
надеяться на правоту слов английского канцлера, знаменитого
Фрэнсиса Бэкона, не последнего из обвиненных во
взяточничестве, но первым составившего правила экспериментального
искусства и искренне верившего в то, что «легкие глотки философии
удаляют нас от Бога, но углубляющихся в нее она снова приводит к
Богу».
Другим бросающимся в глаза недостатком нашей философии
мне кажется то, что между выдающимися философами
«раздирается мантия философии». Каждый тянет на себя, как будто кроме
него никого нет и не может быть. «Нынешние знаменитые
восстановители философии больше заняты тем, чтобы поэффектнее
представить и приукрасить в своих глазах свои собственные
открытия и теории, нежели тем, чтобы отделить и очистить старые,
принятые в школах, идущие от Аристотеля и схоластиков.
Письмо третье. О древней и новой философии
479
А между тем философия не должна полностью отбрасывать
старое, скорее она должна исправить его и сохранить все лучшее,
прежде всего то, что содержится в самом тексте Аристотеля».
Вообще, мне кажется, «мы должны стремиться более к
строительству, чем к разрушению, и не блуждать в неуверенности среди
постоянных перемен в научных теориях, подчиняясь
сегодняшним настроениям смелых умов. Пусть наконец человеческий род,
обуздав сектантские распри, которые разжигает тщеславие
новаторов, и установив твердые основания наук, уверенными шагами
движется вперед в философии и науках...» «Хотелось бы, чтобы
люди обратились к этому вместо того, чтобы тратить время на
препирательства, которыми они только потворствуют своему
тщеславию».
С Вашего позволения, я хотел бы закончить на этом
затянувшееся описание своих сумбурных, туманных и отрывочных
взглядов на древних и новых философов. Обещаю в своем следующем
письме ближе подойти к сути философии. Так ничего и не сказав
путного о ней, боюсь, что утомил Вас столь выспренными и
пригодными для всех времен общими рассуждениями, сколь бы ни
были они для нас сегодня исключительно важны и злободневны.
Прошу Вас, Ваше Величество, засвидетельствовать мое
почтение его Высокопреосвященству г-ну кардиналу де Полиньяку и
заранее поблагодарить его за ценный подарок, предназначенный
им для меня. Хочу, чтобы его книга вышла в свет как можно
скорее, и убежден, что смогу извлечь из нее много пользы, дабы
совершенствовать собственные мысли.
Берлин, 12 августа 1704 г.
Письмо четвертое
О ФИЛОСОФИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К НЕЙ
Позвольте заверить Вас, Ваше Величество, в моем
самом искреннем и глубоком уважении.
Как всегда, Ваши письма равно свидетельствуют о Вашей
великой доброте ко мне (много пишущему, но не любящему писать
письма) и о Вашей учености; я желал бы быть достойным первой и
удовлетворить вторую.
Убежден в том, что философия есть свет, и свет многогранный,
коим обладает наш собственный ум (animum). Но увы, как много
весьма ученых и глубоко мыслящих людей, говоря о философии и
ее истинах, отрывают философию от самих философов. А ведь она
им обязана своим если не развитием, то происхождением и
осмыслением, хотя именно современная нам философия «благодаря
совместным усилиям множества замечательных талантов во всем
мире столь успешно продвинулась вперед», открывая одну тайну
мира за другой, быть может, даже слишком поспешно, без
оглядки.
Как известно, философия подразделяется на такие разделы,
как метафизика, общая физика, гражданская философия и
истинная юриспруденция, исходя в каждом из них и в целом из
«принципов», т.е. из некоторых истин, или гипотез.
Правы и те, кои видят в философии такие два раздела, как
диалектика и метафизика. Первая - это «определенные предписания
искусства мышления, или же науки об уме», тогда как вторая есть
«предписание естественного благочестия, т.е. наука о высших
вещах, или метафизика». Не меняет дела и тот случай, когда
считают, что диалектика «относится к ораторскому искусству, т.е. к
искусству речи», а метафизика - к «физике, т.е. к науке о природе».
Желая очертить наиболее общую суть философии, раскрыть ее
многообразие и неисчислимую пользу, приносимую ею во всех
уголках нашей жизни, я рассчитывал присовокупить к этому
письму разъяснение смысла того собственно философского света,
коим обладают многие выдающиеся люди и, несомненно, Вы,
Ваше Величество; смысла философского знания, которое Вы хотели
от меня получить, в то время как Ваш покорный слуга из-за
разных дел, отвлекающих его, не успел это письмо закончить вовре-
Письмо четвертое. О философии и требованиях к ней
481
мя. Но кому, кроме Вас, лучше известно, что рассуждения на
такие темы требуют сосредоточенности!
Хотел бы подчеркнуть, что наш ум (animum) «не должен быть
вводим в заблуждение своим собственным светом, т.е.
философией». Иначе говоря, я желал бы посвятить это письмо некоторым
требованиям ко всякой философии, без которых, строго говоря,
нет и ее самой.
Речь пойдет о ясности, доказательности, словом, о
рациональности как необходимом условии всякого философствования и
мышления. Способность, или склонность, к выполнению этих
условий даже без их осознания позволяет отличить философа от
не-философа.
«Философы весьма часто видят то же самое, что и остальные
люди, но они при этом обращают внимание на то, чем другие
пренебрегают». Увы, «иной раз - я готов это признать — философы
воспринимают тела или свойства тел, которые остальные никогда
не воспринимают...»
Неясность, можно сказать, - сорняк в поле познания и
знания. «На неясной людям истине, пока ее не постигли, вырастает
под воздействием смутного ощущения ее множество бесполезных
и суеверных представлений».
Пифагор перенес с Востока в Грецию мнение, что «в числах
скрывается великая тайна». «Отсюда возникла общеизвестная
каббала, весьма далекая от истины, и множество нелепостей
некой лжеименной магии, которыми полны книги». Считают, что «с
помощью чисел, знаков (characteres) и некоего нового языка,
который называют Адамовым, а Яков Богемский (т.е. Яков Бёме —
"мужицкий сапожник", который "умел делать золото") называет
Natursprache, могут быть открыты удивительные вещи», так что
можно сказать, что «греческие исследователи разъясняют
Аристотеля, а схоластики затемняют».
Сказанное продолжает жить и в наше время. «Некоторые
способные люди нашего времени (вероятно, Спиноза и Декарт. -
Л.П.) делали попытки рассуждать геометрически вне пределов
геометрии, однако не видно такого, кто бы настолько преуспел в
этом, чтобы дать нам возможность опереться на него и ссылаться
на него, как ссылаются на Евклида». Поэтому такая бесплодная
попытка «только и ограничивается внешним облачением, в
действительности же мы по-прежнему весьма далеки от той
достоверности, к которой стремимся».
482
Философские письма, которых не было
Следовательно, можно сделать вывод, что «в философии
необходимо неукоснительно придерживаться... строгой точности
рассуждений, так как другие средства достижения достоверности
здесь по большей части отсутствуют. Между тем именно в этой
области допускаются наибольшие вольности в рассуждениях».
Я бы сказал, что в философии «еще более, чем в самой
математике, нужна ясность и достоверность, ибо математические истины
в самих себе несут свою проверку и подтверждение, в метафизике
же мы лишены этого преимущества» и решать «философские
вопросы» надо «с соблюдением ясности, ни в чем не уступающей
житейским речам».
Как видно, «для философа ничто не может быть более чуждым,
чем темная речь», так что «туманные выражения должны быть
изгнаны из строго философского языка, т.е. из дефиниций,
разделений и доказательств», хотя на самом деле нынче, а я думаю и в
последующие века, нет такой области знания, в которой темная речь
и туманные выражения встречались бы чаще, чем в философии.
Поэтому я настаиваю на том, чтобы в философии уделялось
больше внимания раскрытию (определению) содержания
употребляемых понятий. Между тем «люди на каждом шагу
пользуются метафизическими терминами и обольщаются мыслью, что
понимают то, что научились только произносить».
Разумеется, Платон и Аристотель повсюду прослеживают в
своих сочинениях содержание понятий, тогда как «позднейшие
платоники впали в чудовищное пустословие; перипатетики, а
особенно схоластики, заботились более о постановке вопросов,
чем об их убедительном решении».
Вообще, я полагаю, «страсть к выдумыванию абстрактных
слов затемнила нам чуть ли не всю философию, хотя философское
рассуждение прекрасно может обойтись без них». Многие
высокопоставленные лица, даже августейшего происхождения,
напоминают одного знакомого мне философа, отца Жибьёфа, который
действует в точности как они: «часто меняет значение выражений
и, следовательно, совершенно не решает вопроса, хотя часто
говорит хорошие вещи».
Весьма важно, что в случае желания «прояснить некоторые
затруднения», необходимо иметь в виду «всю систему» и
«обдумывать со всей строгостью весь ход доказательств», ибо в противном
случае, занимаясь частными и отдельными вопросами и решая их
помаленьку, можно впасть в отчаяние при виде того, что затрудне-
Письмо четвертое. О философии и требованиях к ней
483
ния эти, «подобно головам гидры», будут постоянно возникать
вновь и вновь, и число их будет непрерывно умножаться.
Это позволяет мне, Ваше Величество, перейти к следующему
требованию философствования и изложения философского
учения, а именно: к наибольшей полноте освещения и решения
проблемы, к рассмотрению ее на наивысшем уровне и, так сказать, до
конца, до ее завершающей полноты. «Я всегда приветствовал тех,
кто стремится исследовать любую, хотя бы и незначительную
истину до конца: я знаю, как много значит досконально изучить
предмет, сколь бы простым или мелким он ни казался. Именно
этим путем можно добиться многого, так как совершить
подлинные открытия возможно лишь при условии четкого и глубокого
понимания самых простых вещей».
Отсюда следует такое требование к философии и
философствованию, как «сведение сложного к более простому»,
заслуживающее, по-моему, всяческой похвалы. Действуя иным образом,
мы никогда не выберемся из бесконечных дебрей словопрения.
Способность все усложнять - признак корыстолюбивого
невежества - более всего была присуща схоластике, где изобиловали
искусственные, специальные, выдуманные для группы лиц
только им понятные термины: «этовость» (от haes - эти), «чтойность»
(от quae - что).
Полагаю, что именно с этим связана причина «сравнительно
позднего у нас развития философии», состоящая в том, что
немецкий язык чужд не вообще философии, а варварской философии
как некой современной нам учебной, университетской
схоластике. А так как «схоластический метод в философии был отброшен
поздно, то и не удивительно, что наш (т.е. немецкий. - Л.П.) язык
медленно входит в философскую практику». Отсюда следующее
требование к философии: «в строгом философствовании следует
пользоваться только конкретными терминами».
Далее, необходимо «избавиться от варварского языка
вульгарных философов». «Варварская философия» - это «словесный
чертополох», который должен быть «вырван с корнем с поля
философии». Не лишено интереса, что одна из зацепок, которую эта
философия может использовать для своего самосохранения — на что
иное ей остается надеяться! — это ссылка не на ученые авторитеты,
от которых ее пустота сразу стала бы явной, а обращение к
авторитету народа, простых людей, большинства... Так, ученейший г-н
Бейль «не имеет права ссылаться на мнение простого народа, а он
484
Философские письма, которых не было
это делает, говоря, что народ во многих случаях рассуждает лучше
философов».
Верно, что некоторые философы, как я уже имел честь Вам
писать, «вдаются в химеры. Но когда некоторые утверждают, что
каких-то вещей не существует, потому что простой народ не
замечает этого, то народ не может быть признан хорошим судьей, так как
он руководствуется только чувствами. Многие люди признают
воздух за ничто, если только он не волнуем ветром» (как скажет
позднее Гегель, «мы чувствуем, что у нас есть живот, только тогда,
когда он болит». - Л.Л.). Аналогично все правители узнают о
существовании народа лишь тогда, когда он восстает...
Наконец, последнее по месту, но не по значению требование
ко всякой уважающей себя философии заключается в том, что
«очень важно, чтобы выводы человеческой мысли были
упорядочены какими-то, похожими на математические, правилами»,
чтобы философские рассуждения и выводы были
систематизированы, представляли собой целостную и стройную систему.
Остаюсь преданный Вам, и проч.
Ганновер, 27 июля 1713 г.
Письмо пятое и последнее
О ДВУХ ФИЛОСОФСКИХ СЕКТАХ
«Я пришел к выводу, что большинство школ
правы в значительной части своих утверждений, но заблуждаются в
том, что они отрицают».
Эта закономерность особенно наглядно выражается в двух
взаимоисключающих друг друга сектантских, самих по себе
тупиковых философских мировоззрениях, а именно: у материалистов
и идеалистов.
Марксистско-ленинская философия привыкла считать
недостатком древнего материализма и идеализма их
кровно-родственную объединяющую связь и, как следствие этого, приписывала им
«расплывчатость», отсутствие границ, невозможность взаимного
противопоставления и вообще какое-то пагубное
духовно-идеологическое родство между ними, как своего рода «детский грех»
или «пятый пункт». Но этот «недостаток» быстро выветривался по
мере того, как ранние материализм и идеализм позднее
становились жертвами своей протухшей мысли о собственной
уникальности, значимости и важности, короче говоря, своей абсолютности.
Завороженные этой мыслью до слепоты, материалисты и
идеалисты, не перестав быть родными, постепенно стали друг
другу чужими и даже антагонистами, что часто бывает между
родственниками. Мало-помалу, однако, выяснилось, что
«расплывчатость», «наивность», «незрелость» и вообще все то, что
естественно-исторически и объективно роднит и сближает древний,
например античный, материализм с современным ему
идеализмом, есть вовсе не недостаток, но, напротив, их общее
достоинство, столь же внутренне противоречивое, как они сами.
Но это достоинство быстро утрачивалось по мере того, как
единство (тождество) отступало на второй план, отодвигалось в
тень столь же крайним отношением - борьбой
противоположностей, борьбой материализма и идеализма. В политическом плане
идея эволюции все более затмевалась идеей революции...
Незрелость, не-разграниченность и т.п. у материализма и
идеализма в исторически ранних формах этих направлений есть
вовсе не недостаток, а воистину некогда забытая, второпях
оставленная на поле брани и незамеченная нами сегодня внутренняя
486
Философские письма, которых не было
сила материализма и идеализма, их опередившие нас зрелость и
достоинство. Ибо материализм и идеализм, революция и
эволюция, насилие и терпимость столь же диалектически
противоположны и исключают друг друга, как и едины (тождественны) и
многогранны. Они образуют одно целое, многообещающее в
своем гармоническом единстве (тождестве) для развития философии.
И не меньше, чем каждая из этих противоположностей смогла
достичь к нашему времени, развиваясь по одиночке,
изолированно, причем во взаимной бессмысленной и нелепой борьбе друг с
другом.
Вот почему я полагаю, что «материализм гораздо менее опасен
у его основоположников, нежели в тех формах, в которых он
выражается у рьяных сторонников и последователей этих
основоположников». Иначе говоря, материализм склонен к
самоскатыванию в пропасть, в крайность, односторонность; подвержен
чрезмерности, перехлесту, как, впрочем, и идеализм, который болен
той же болезнью, тем же трагически безумным выходом за свои
границы, усиливающимся самопревращением в кошмар (чреват
преступлением меры, как скажет Гегель. -Л. П.). Вот почему «надо
страшиться не учителей материализма, а их учеников». То же
совершенно справедливо и для идеализма.
В сочинении моем «Новые опыты...» Теофил заявляет:
«И можно, например, сказать, что Эпикур и Спиноза вели вполне
примерную жизнь. Но эти соображения обычно неприменимы к
их ученикам и последователям, которые, утратив страх перед
бдительным провидением и грозным будущим, дают полный простор
своим грубым страстям и направляют свои помыслы на то, чтобы
соблазнить и развратить других людей. А если они честолюбивы и
от природы несколько жестоки, то они способны ради своего
удовольствия или выгоды зажечь мировой пожар. Я знал людей
такого склада, унесенных уже смертью». Это их потомки спустя
несколько столетий пели: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар
раздуем»...
«Я думаю даже, что такие (т.е.
радикально-материалистические. - Л.П.) взгляды, овладевая мало-помалу умами сильных
мира сего, которые управляют другими людьми или от которых
зависит ход дела, и проникая в модные книги, подготовляют все для
общей революции, угрожающей Европе, и окончательно
уничтожают последние остатки благородных чувств древних греков и
римлян, которые предпочитали любовь к родине и общественно-
Письмо пятое и последнее. О двух философских сектах
487
му благу и заботу о потомстве... счастью и даже жизни. Эти
publiespirits (социальные чувства), как называют их англичане,
страшно ослабели и уже не в моде, и они еще больше ослабеют,
когда их перестанут поддерживать здоровая нравственность и
истинная религия, которой учит даже природный ум. А лучшие
представители противоположного типа... не имеют иного
принципа, кроме того, который они называют честью...
Над любовью к родине громко издеваются; людей,
заботящихся об общественном благе, осмеивают, а когда какой-нибудь
благомыслящий человек говорит о том, что будет с потомством, то
ему отвечают: "Будь, что будет".
Но может случиться, что эти господа сами испытают бедствия,
которые они считают предназначенными для других. Если удастся
еще исцелить эту эпидемическую болезнь духа, пагубные
результаты которой начинают становиться очевидными, то, может быть,
эти бедствия будут предотвращены. Но если она будет
прогрессировать, то провидение исправит людей при помощи той самой
революции, которую все это должно породить.
И что бы ни случилось, в конце концов все всегда
оборачивается к лучшему, хотя это не должно и не может произойти без
наказания тех лиц, которые своими дурными поступками сами
способствовали благу».
Я убежден в том, что «если (определенные. —Л.П.) лица
пришли к своим взглядам об угрожающей другим гибели... и если их
невозможно разубедить в этом, то их поведение нельзя порицать,
поскольку они прибегают к кротким мерам. Но если они идут
дальше этого, то они нарушают законы справедливости.
Они не должны забывать, что и другие люди, столь же
убежденные в своих взглядах, как и они сами, имеют такое же право
придерживаться этих взглядов и даже распространять их, если они
их считают важными. Исключение составляют взгляды,
проповедующие преступления. Их не следует терпеть, и их имеют право
подавлять суровыми мерами, если бы даже сторонники их не
могли отрешиться от своих взглядов, подобно тому, как имеют право
уничтожать ядовитое животное при всей невиновности его в своей
ядовитости. Но я предлагаю подавлять учение, а не сторонников
его, так как им можно помешать распространять их вредное
учение».
«Я против материалистов, учение которых в его крайнем
выражении может породить лишь хаос и смятение в умах и вместе с
488
Философские письма, которых не было
разумом и порядком похоронить не только бессмертие души как
ее природное свойство, но и самое существование божественного
промысла». Я вполне согласен с высказыванием знаменитого
С. Кларка о том, что «вслед за порочными страстями принципы
материалистов во многом способствуют поддержанию неверия...»
В свою очередь идеалисты, или «сторонники субстанциальных
форм, ошибочно заявляя, что есть феномены, которые невозможно
объяснить механическими причинами, пренебрегают
действующими и материальными причинами, но справедливо утверждают
(и ищут) источник вещей в конечных и формальных причинах».
Напротив, «материалисты, или придерживающиеся
исключительно механистической философии, не правы в том, что
отбрасывают метафизические соображения и готовы все объяснить,
опираясь на одно только воображение».
В отношении материализма и идеализма «я убедился, что обе
стороны правы и им незачем воевать между собой, что в феноменах
природы все совершается одновременно и механически, и
метафизически, но источник механики лежит в метафизике. Не так-то
просто было раскрыть эту тайну, так как мало кто дает себе труд
соединить оба вида исследований. Г-н Декарт пытался это сделать, но
недостаточно. Он слишком торопился в большей части своих
утверждений, и можно сказать, что его философия - это лишь
преддверие истины. Что более всего мешало ему двигаться дальше, так
это то, что он не хотел знать истинных законов механики и
движения, а они могли бы навести его на правильный путь. Первым
обратил внимание на них, хотя и не в должной мере, г-н Гюйгенс, но он
не интересовался метафизикой, как, впрочем, и другие
талантливые люди, которые следовали ему в этом отношении.
В своей книге (в "Началах природы и благодати" или в
"Монадологии". —Л. П.) я заметил, что, если бы г-н Декарт принял во
внимание, что природа сохраняет не только одно и то же общее
направление в законах движения, он не уверовал бы в то, что душа
способна легче менять направление, нежели силу вещей, и пришел бы
прямым путем к системе предустановленной гармонии, которая
является необходимым следствием сохранения силы и
направления, вместе взятых». Более подробно эти вопросы я рассматриваю в
«Кратком доказательстве примечательной ошибки Декарта», в
«Опыте рассмотрения динамики» и § 80 «Монадологии».
Я утверждаю, что всякая субстанция активна, а душа в
особенности... Ту же идею высказывали философы древности и Нового
Письмо пятое и последнее. О двух философских сектах 489
времени, и Аристотелева энтелехия... есть не что иное, как сила
или активность, т.е. состояние, для которого естественным
является действие, если ничто ему не препятствует. «Первичная материя
(как, например, органическое тело) не является субстанцией, но по
другой причине... она является нагромождением многих
субстанций, подобно тому как садок бывает полон рыб или стадо состоит
из овец; и, следовательно, она есть то, что называют unum рега-
ecidens (единое благодаря случайности), короче, феномен.
Истинная субстанция (например, животное) состоит из нематериальной
души и органического тела и представляет собой сочетание этих
двух частей, называемое unum perse (единое само по себе)».
По моему мнению, «главная трудность, на которой
споткнулись и платоники, и скептики, равно как и те, кто решил с ними
поспорить, была в том, что они искали в воспринимаемых
чувством вещах вне нас некую большую реальность, нежели реальность
упорядоченных феноменов. Мы постигаем протяженностьблаго-
даря тому, что постигаем порядок в существованиях; но мы не
должны понимать протяженность - а также пространство - как
некоторую субстанцию. То же и со временем, которое предстает
уму лишь как порядок изменений. Что же касается движения,
реальное в нем - это сила или потенциальность, т.е. то имеющееся в
теперешнем состоянии, что несет с собой изменение в будущем.
Все прочее лишь феномены и отношения».
Видимо, со строго философской точки зрения «тела не
заслуживают названия субстанций. Этого мнения, кажется, держался
уже Платон: он заметил, что тело есть нечто преходящее,
существующее не более одного мгновения».
Я уже где-то писал, что, «углубляясь в суть вещей, можно
найти в них больше разумного (в буквальном смысле этого слова. -
Л.П.), нежели казалось большинству философских школ». Если
говорить о том, что именно после долгих размышлений мне
пригодилось для моей философии из предшествующей, то образуется
целый ряд поставленных другими философами ранее
нерешенных, а ныне решенных мною - не знаю, насколько
удовлетворительно - проблем, которые нашли (каждая свое) место в моем
учении.
«Незначительность субстанциальной реальности в чувственно
воспринимаемых вещах, согласно учению скептиков; сведение
всего к гармонии или числам, идеям и перцепциям у
пифагорейцев и платоников; единое во всем Парменида и Плотина без вся-
490
Философские письма, которых не было
кого спинозизма; связь, не исключающая самопроизвольности
других вещей в учении стоиков; виталистическая философия каб-
балистов и сторонников герменевтических учений, наделяющая
чувством все вокруг; формы и энтелехии Аристотеля и
схоластиков; наконец, механистическое объяснение всех частных
феноменов, предлагаемое Демокритом и новейшими философами, - все
это оказывается объединенным, все сходится, как в перспективе,
в одной точке, откуда предмет (хаотически спутанный, если
рассматривать его в любом другом ракурсе) предстает в своей
упорядоченности и согласовании всех его частей; дух нетерпимости
помешал убедиться в этом философам, которые просто не
признавали никого, кроме себя.
Сторонники форм бранят материалистов или приверженцев
корпускулярного учения, и vice versa»...
Извините, сударыня, за то, что пишу так неразборчиво: почта
торопит.
Остаюсь преданный Вам, и проч.
Ганновер, 7 января 1704 г.
P.S. К сему прилагаю, как Вы недавно изволили пожелать, перечень
книг, написанных ученейшими, отчасти даже хитроумнейшими
писателями. Все они, за редким исключением, заботились об истине для всех
людей гораздо более, чем об истине для себя.
Перечень книг
1. АскольдовЛ. ААКозлов. М., 1912.
2. Асмус В.Ф. Послесловие к кн.: Б. Рассел. История западной
философии. М., 1959.
3. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990.
4. Бергсон А. О философской интуиции // Новые идеи в философии.
СПб., 1912. №1.
5. Брянцев А.М. Слово о связи вешей во вселенной // Русская
философия второй половины XVIII века. Свердловск, 1990.
6. Быховский Б.Э. Идеализм Лейбница // Под знаменем марксизма.
1935. Мб.
7. Быховский Б.Э. Шопенгауэр. М., 1975. 246 с.
Перечень книг
491
8. Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей
культурой и отдельными науками. Т. I. От Возрождения до Канта. СПб.,
1902.
9. Воеводина Т. Муки теоретиков // Дружба народов. 1984. N911.
10. ГеръеВ.И. Лейбниц и его время. СПб., 1868-1871.Т. 1-2.
11. Достоевский Ф.М. Идиот. М.: Художественная литература, 1976.373с.
12. Дюбуа-Реймон Э. Мысли Лейбница о новейшем естествознании. М.,
1900.
13. Козлов A.A. Генезис теории пространства и времени Канта. СПб.,
1884.
14. Козлов A.A. Философия действительности. Киев, 1878.
15. Козлов A.A. Философские этюды. СПб., 1876-1880.
16. Лампрехт К. История германского народа. М., 1896.
17. Лейбниц Г.В. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Мысль, 1982-1989.
18. Майоров Г.Г. Теоретическая философия Готфрида Вильгельма
Лейбница. М.: МГУ, 1973.
19. Мальбранш Н. Розыскания истины: В 2 т. // Труды СПб.
Философского общества. СПб., 1903. Вып. II.
20. Озе Я.Ф. Персонализм и проективизм в метафизике Лотце. Юрьев,
1896.
21. Петрушенко Л А. Лейбниц, его жизнь и судьба. М.: Экономическая
газета, 1999.
22. Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1617. М.:
Наука, 1971.
23. Рассел Б. История западной философии. М., 1959.
24. Серебренников B.C. Лейбниц и его учение о душе человека. СПб.,
1908.
25. Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. I.
Новое миросозерцание и новая наука. Варшава, 1910.
26. Сперанский Н. Очерки по истории народной школы в Западной
Европе. М., 1896.
27. Спокойный Л.Ф. Система Лейбница// Проблемы марксизма. 1930. № 1.
28. Сырцов А. И. К методологии изучения философской системы
Лейбница // Общество исторических, философских и социальных наук при
Пермском университете. Пермь, 1929. Вып. II.
29. Толанд Д. Третье письмо к Серене // Английское свободомыслие:
Д. Локк, Д. Толанд, А. Коллинз. М., 1981.
30. Филиппов М.М. Лейбниц, его жизнь и деятельность: общественная,
научная и философская. СПб., 1893.
492
Философские письма, которых не было
31. Фишер К. Лейбниц - История Новой философии. Т. 3. СПб., 1905.
32. Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания. СПб.,
1907.
33. Ягодинский И.И. Философия Лейбница. Процесс образования
системы. 1669-1672. Казаны Типография Императорского университета,
1914.
34. Burt Р. Zu Leibniz 200 Todestage Vierteljahren // Wiss. Phil. 40 Jahr.
Leipzig, 1916. S. 321-348.
35. Dilthey W. Die Berliner Akademieder Wissenschaften, ihre gegenwärtigen
Aufgaben. L Die Akademie von Leibniz // Deutsche Rundschau. Berlin,
1900. Bd. 103. S. 416-444.
36. Feilchenfeld W. Leibniz und Henry More. Ein Beitrage zur
Entwicklungsgeschichte der Monadologie // Kant-studien. Berlin, 1923. Bd. XXVIII.
37. Heimsoth M. Die Methode der Erkenntniss bei Deskartes und Leibniz //
Leibniz. Methode der formalen Begründung Erkenntnisslehre und
Monadologie. Gissen, 1914.
38. Kabitz W. Die Philosophie des jungen Leibniz. Heidelberg, 1909.
39. Kassirer E. Liebniz System in sienem wiessenschaftliechen Grundlagen.
Marburg, 1902.
40. Köchler P. Der Begrifîder Repräsentation bei Leibniz. Bern, 1913.
41. LeibnetiiG.W. Annales Imperii Occicentis/Brunsvic, ed. Peretz. 1843. Vol. 3.
42. Mahnke D. Leiniziens Synthese von Universal-mathematik und Individual-
metaphysik. Th. I. 1925.
43. PichlerP. Möglichkeit und Urederspuchlogikeit. Leipzig, 1912.
44. Sichel P. Die Ummandlung das Substanzbegriffs in Leibniz // Zeitschr. f.
Philos, und philos. Kritik. Leipzig, 1916. Bd. 162. S. 1-21.
DМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
От комментатора
«Философские письма,..» - это
необходимое и натуральное продолжение и завершение предыдущей
моей книги «Лейбниц, его жизнь и судьба» (М.:
Экономическая газета, 1999).
Перечитывая ту и другую рукописи, я все более
укреплялся в мысли, что для концовки мне требуется нечто такое,
что, пусть неявно, скрепляющим намеком, но выразило бы
внутреннюю взаимосвязь двух этих книг.
И я не нашел ничего лучше отвечающего такому
требованию, чем приведенный ниже отрывок, сводящий воедино
мое отношение к Лейбницу и к самому себе.
Я пишу это на даче, под кустом остро пахнущей сирени.
И так, по-бэконовски странно, вглядываюсь в человека,
который напротив меня тихо стонет, опершись спиной на
две коричневые бархатные подушки. И с каждым стоном
уходит судьбой отмеренное людям время.
Солнце еще не зашло. Цветы источают нежность, пока
не омраченный увяданием аромат.
Он вместе со счастливым вечерним светом уходит до
горизонта, разделяющего море и небо.
Лучи солнца золотили сосновые корни, которые
подобно застывшим змеям высовывались из охладевающего песка
и остроконечной травки, упрямо клонившейся только в
одну сторону (основного вопроса философии).
Секта отъявленных материалистов уже втайне готовила
всем известную очередную неопровержимую пакость
противной секте идеалистов; и наоборот.
Если изнутри идущего вагона смотреть через стекло на
окружающее, то легко можно представить себе, что
соседние, неподвижно стоящие сбоку вагоны уже тронулись, а
твой — так и стоит на месте. Тогда как дело обстоит как раз
наоборот. Но не менее реально.
Виртуальный бродяжка-трамвай выходил из депо.
Еще не скоро, но обязательно он прогромыхает в ночной
тишине, по темной Садовой улице, и его лучи опояшут мою
ленинградскую комнату, в которой меня уже давно нет.
Именной указатель
Лбарбанель Лев - еврейский философ
407
Авгуреми (XV в.) - алхимик и поэт 74
Августин Блаженный Аврелий (354-
430) - средневековый христианский
теолог и философ, представитель
патристики 433, 442, 452, 477
Аверроэс, см.: ибн Рушд
Авл Геллий (III в. до н.э.) - стоик 431
Аврелий Марк (121 -180) - римский
император; представитель позднего
стоицизма 203
Агрикола Микаэль (ок. 1508 или 1510—
1557) - глава реформации в
Финляндии 171
Александр /(1777-1825) - российский
император с 1801 г., старший сын
Павла I 339
Алкивиад (ок. 450-404 до н.э.) —
афинский стратег с 421 г. (неоднократно)
в период Пелопонесской войны 83
Альберт Великий (Больштедт А. фон)
(1193-1280) - немецкий философ-
схоласт и теолог, учитель Фомы Ак-
винского 74, 344, 420
Альбрехт Майнцский (1490-1545) -
архиепископ и курфюрст 128, 131
Альбрехт Мансфельдский 185,186, 195
Альстед Иоганн Генрих (1588-1638) -
профессор философии в Герборн-
ском университете, учитель Комен-
ского 381
Аммоний Саккас (175-242) -
александрийский философ, родоначальник
неоплатонизма, учитель Плотина и
Оригена 377
Анаксагор из Клазомен (ок. 500-428 до
н.э.) - древнегреческий натуралист-
философ 433
Андре Яков 363
Анна Саксонская — курфюрстина 47
Ансельм Кентербери ùc кий ( 1033— 1109) —
средневековый христианский теолог
и философ, схоласт 463
Антипатр (397-319 до н.э.) -
македонский полководец при Филиппе II и
Александре Македонском 430
Аристарх Самосский (ок. 320 - ок. 250
до н.э.) древнегреческий астроном
340
Аристоксен — греческий философ,
принадл. к перипатетической
школе, теоретик и историк музыки 355
Аристотель (384-322 до н.э.) -
древнегреческий философ и ученый 20, 70,
77, 100, 209, 213, 217, 218, 235, 237,
258, 261, 285, 289, 296, 297, 340-343,
349,353-357, 360-362, 367,368, 377,
383, 388, 390, 391, 407, 414, 416-418,
420, 421, 424, 425, 429, 433, 435, 437-
442, 446, 450, 454, 463, 471, 478, 479,
482, 489, 490
Арно Антуан (1612-1694) -
французский философ-картезианец и теолог-
янсенист, корреспондент Лейбница
19, 204, 282, 309, 328, 405, 427, 471,
476, 477
Архимед (ок. 287-212 до н.э.)
-древнегреческий ученый, математик и
механик-изобретатель 236, 430, 458,
462, 464
Ауэрбах Бертольд (1812-1882) -
немецкий писатель 421
Баадер Франц Ксавер фон ( 1765-1841 ) -
немецкий религиозный философ,
представитель философии
романтизма и неортодоксального
католицизма, врач, естествоиспытатель 338-
340, 352, 380, 382
Бадий (XVI в.) - типограф 119
Балтазар — горнорабочий 184
Бальмонт Константин Дмитриевич
(1867-1942) - русский
поэт-символист, с 1920 г. эмигрант 15
Банажу (1653-1723) —деятель
Реформатской церкви 204, 205, 207, 298,
418
Барбаро Эрмолар 439
496
Именной указатель
Барро И. 53
Барт П. 240-242
Бартель - горнорабочий 184
Баруцци Жан - биографист Лейбница
240-242
Бахтин Михаил Михаилович ( 1895—
1975) - русский философ и
литературовед, представитель
диалогической философии 22, 24
Бебель Август (1840-1913) - один из
основателей и руководитель
германской социал-демократической
партии, борец против милитаризма,
поборник эмансипации женщин 37,
129, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 154,
161,162, 165, 167-169,172-179, 186,
187,192, 195
Бейль Пьер (1647-1706) - французский
философ-скептик, противник
рационального обоснования религии
догматов, автор «Исторического и
критического словаря» 81, 205-207,
210, 222, 427, 429, 440, 468, 470, 472-
475, 477, 483
Беклер Иоганн Генрих - юрист,
корреспондент Лейбница 457
Бёме Якоб (1575-1624) - немецкий
философ-пантеист 43, 103, 104, 256,
338, 352,380-382, 481
Бенвенуто Челлини ( 1500-1571 ) - итал ь-
янский скульптор, ювелир и
писатель 34
Бергсон Анри (1859-1941) -
французский философ-интуитивист 245, 247,
382, 391
Бердяев Николай Александрович ( 1874—
1948) - русский религиозный
философ, с 1922 г. эмигрант 26, 70, 339
Беркли Джордж ( 1685-1753) -
английский философ, субъективный
идеалист 401
Берлихинген Гёц (Готфрид) фон (1480—
1562) - немецкий рыцарь,
командовал крестовым крестьянским
отрядом во Франконии, перед
решающим сражением предал крестьян 161
Бернард Клевросский (1090-1153) -
канонизирован в 1174 г. 451
Берне Людвиг (1886-1837) - немецкий
публицист и литературный критик
145
Бернулли Якоб (1654-1705) -
математик, последователь Лейбница 352
Бернье Л. - поэт 69
Бехер Иоганн Иоахим ( 1635-1682) -
немецкий химик и врач 77, 180, 181
Бианкини Франческо ( 1662-1729) -
астроном 72
Биргден Ионанн фон дер —
франкфуртский почтмейстер, с 1616 г. -
правитель имперской почты 119
Бистерфельд - зять Коменского 381,
388
Битов Андрей Георгиевич -
современный отечественный писатель 36
Блок Александр Александрович (1880-
1921) - русский поэт 15, 31, 41, 59,
60, 162, 166, 171, 195
Бобров Евгений Александрович (1867-
1933) - российский философ,
переводчик Лейбница, развивал его
учение о монаде 285
Бодеманн Е. (XIX в.) - составитель
каталога писем Лейбница 427
Бойль Роберт (1627-1691) -
английский физик и математик 76,214, 363
Бонавентура (Джованни Фиданца)
(1221-1274) - философ, глава
францисканского ордена, алхимик 352,
373,379
Бонне Шарль (1720-1793) -
швейцарский естествоиспытатель и философ
313
Бора Екатерина фон - расстригшаяся
монахиня, вступила в брак с бывшим
монахом Мартином Лютером 151
Боскович Рожер-Иосиф (1711-1787) -
профессор математики Римской
коллегии, иезуит, известен
измерением меридиана в Италии 282, 283
Боссе 203
Бострём Кристофер Якоб (1797-
1866) - шведский философ,
создатель так называемого персонального
(рационального) идеализма 284
Боэций Аниций Манлий Северин (ок. 480-
524) - христианский философ и
римский государственный деятель
20
Браидт Себастьян 145
Именной указатель
497
Бренан Дж.Х. - ученик норманнского
оккультиста Луи Хамона, автор
книги «Оккультный рейх» 10
Брихнинев И. - историк 156
Бруно Джордано Филиппе (1548—
1600) - итальянский философ и
поэт, представитель пантеизма 295,
296, 310, 363, 414, 415
Брусель Пьер - советник парижского
парламента, с арестом которого в
1648 г. связывают начало
противоправительственной смуты (Фронды)
80
Брэдбери Рей Дуглас (р. 1920) -
американский писатель; проза,
синтезирующая научную фантастику,
сказку, притчу,
социально-психологические исследования 89
Брюсов Валерий Яковлевич (1873—
1924) - русский поэт, один из
основоположников символизма, ученик
В.И.ГерьеЛ4
Брянцев Андрей Михайлович ( 1749-1821) -
философ, профессор Московского
университета 286, 293,313,323,332
Буало Депрео Никола (1636-1711) -
французский поэт, теоретик
классицизма 69, 81,399
Бугаев Николай Васильевич (1837—
1903) - русский математик и
философ 293,309,313,314
Быховский Бернард Эммануилович ( 1898—
1980) - философ, автор трудов по
диалектическому материализму и
истории зарубежной философии 80,
249,252
Бэкон Роджер (ок. 1214—1292) -
английский философ,
естествоиспытатель, предвестник опытной науки
Нового времени 74,344,362
Бэкон Фрэнсис (1561—1626) - герцог
Веруламский, английский философ,
лорд-канцлер при короле Якове 1
214, 362, 415, 423, 452, 455, 478
Бэрд Ч. - историк, автор
«Реформации» 45, 46, 135-138, 142, 144, 145,
151,153,154, 158, 166
Бюргер — историк 167
Бюхнер Людвиг (1824-1899) -
немецкий врач, естествоиспытатель и
философ, представитель вульгарного
материализма 255
Вальи де - близкая к французскому
королю Людовику XIV
высокопоставленная особа 398
Ванини Джулио Чезаре (псевд. Лючи-
у?ио) (1585—1619) - итальянский
философ-пантеист; священник,
обвинен в ереси и сожжен инквизицией
51, 414, 416
Варрон (116-27 до н.э.) - римский
писатель и ученый-энциклопедист,
автор работ по истории литературы,
философии, истории, математике
430
Варфоломей Ричард (XV в.) - алхимик
74
Вейганд Фридрих - народный вожак,
сражался вместе с Томасом M юнце-
ром 161
Вейгель (Вейгелиус) Эдгард (Эрхард)
(1625-1699) - немецкий философ,
математик, учитель Лейбница и Пу-
фендорфа 72, 74, 352
Вейгель Валентин (1533-1588) -
немецкий мистик, протестантский
богослов, оказал сильное влияние на
Якова Бёме, имел много
последователей (вейгелианцы), которые
подвергались преследованию 380
Вейгель Эрнест 413
Вейер Иоганн (XVI в.) - доктор 57
Вейнсбергский пфальцграф - участник
крестьянского восстания 1525 г. 152
Вергилий Марон Публий (70-19 до н.э.) -
древнеримский поэт; любимый поэт
Лейбница 388
Виндельбанд Вильгельм (1848-1915) -
немецкий философ, глава банден-
ской школы неокантианства 240,
243, 285, 288, 290-292, 298, 308, 310,
318, 320,321, 326, 330
Винер Норберт (1894-1964) -
американский ученый, основоположник
общей теории управления
(кибернетики) 278
Висконти Федериго - Пизанский
архиепископ 16
Витрувий (1 в. до н.э.) - римский
архитектор и инженер 442
498
Именной указатель
Витт Ян де (1625-1672) - фактически
правитель республики Соединенных
провинций в 1650-1672 гг. Крупный
математик 81
Вольтер Мари Франсуа Аруэ де (1694—
1778) - французский писатель,
философ-просветитель, деист 59, 236
Вольф Каспар Фридрих (1734-1794) -
немецкий естествоиспытатель, один
из основоположников эмбриологии,
работал в России 304
Вундт Вильгельм М. (1832-1920) -
немецкий психолог, физиолог,
философ 240,242,243
Высоцкий Владимир Семенович (1938-
1980) -русский поэт, певец, актер 14
Вышинский Андрей Януарьевич (1883—
1954) - заместитель прокурора и
прокурор СССР, академик АН 18
Гален Клавдий (ок. 130 - ок. 200) -
римский (античный) врач, логик и
философ 77
Галилей Галилео (1564-1642) -
итальянский физик, механик, астроном,
поэт, филолог 51, 76, 78, 80,214, 414,
423, 452. 453, 455, 457, 458, 462
Галуа (XVII в.) - аббат 75, 408
Гама Васко да (1469-1524) -
португальский мореплаватель,
завершивший поиски морского пути из
Европы в Индию 124
Гарвей Уильям (1578-1657) -
английский медик, один из
основоположников научной физиологии 77
Гартман Эдуард фон (1842-1906) -
немецкий философ-иррационалист,
последователь А. Шопенгауэра 285,
323,375
Гартполь-Лекки В.Э. — историк 158
Гассенди Пьер (1592-1655) -
математик, астроном, философ-эпикуреец
81, 210, 213, 214, 236, 343, 362,390-
392, 397, 415-417, 429, 443, 450, 452,
455, 456, 470
Гаусрат Адольф (1837-1909) -
немецкий протестантский историк 34, 73
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-
1831) - немецкий
философ-диалектик, идеалист 41,42, 45,65, 66, 75,82,
85,86, 92,100-112,116,121,122,182,
212, 252, 255, 259, 261, 280, 282-284,
301, 318, 338,380-382, 384, 385, 400,
484, 486
Геер Фло/wöh (XV-XV1 в.) -дворянин,
сражался вместе с Томасом M юнце -
ром 161
Гейзенберг Вернер (1901-1976) -
немецкий физик-теоретик,
сформулировавший принцип соотношения
неопределенностей 303
Гей/шнкс Арнольд (1624-1669) -
голландский философ-идеалист,
представитель окказионализма 332,333
Гейне Генрих (1797-1856) - немецкий
поэт-публицист, лирик 41,53, 67, 70,
71, 73, 115, 116, 118, 121, 131, 133,
137-139, 142-144,153, 174, 351
Гейнзе Симон (ок. XV-XVI в.) —
городской священник Виттенберга,
вместо которого был назначен Мартин
Лютер 127
Гельден Анна - служанка, обвиненная в
колдовстве и казненная в 1782 г. в
Швейцарии в Гларусе 57
Гельмонт Ян Баптист ван (1579-
1644) - голландский
естествоиспытатель, видный представитель ятро-
химии и витализма 77
Георг Саксонский - герцог 142, 146
Гераклит Эфесский (ок. 544 — ок. 470 до
н.э.) - древнегреческий философ
354, 441
Гербарт Иоганн Фридрих ( 1776-1841) -
немецкий философ, психолог и
педагог, основатель школы в немецкой
педагогике; представитель
плюрализма, основоположник
формальной эстетики 283
Герзен Оттилия фон - монахиня,
ушедшая из монастыря, на которой
женился Томас Мюнцер 177
Герике Отто фон ( 1602-1686) -
немецкий физик, корреспондент
Лейбница из Магдебурга 76, 427
Гермипп Смирнский (III в. до н.э.) -
перипатетик 429
Геродот (ок. 484 - ок. 425 до н.э.) -
древнегреческий историк 389
Герхардт К. — издатель (совместно с
Г. Перетцем) 12 томов сочинений
Лейбница 237
Именной указатель
499
Герцен Александр Иванович (1812—
1870) - русский писатель, философ,
с 1847 г. в эмиграции 16, 20, 28, 47,
99,107, 121,143, 163
Герье Владимир Иванович ( 1837-1919) -
дореволюционный исследователь
Лейбница, профессор МГУ по
кафедре всеобщей истории,
член-корреспондент Российской АН по
отделению исторических наук и
философии 28, 30, 47, 51, 69, 79, 96, 98, 99,
206, 207, 238, 314, 397, 398, 400, 401,
403, 406-408, 413, 414, 421, 472, 475
Гёффдинг Харальд (1843-1931) -
датский философ и психолог, историк
философии Нового времени 94, 308,
311
Гиммлер Генрих (1900-1945) -
руководитель СС, шеф гестапо; один из
инициаторов создания системы
немецко-фашистских
концентрационных лагерей 26, 52, 59
Гинзбург Лев Владимирович ( 1921-1980) -
писатель, переводчик 57
Гипплер Вендель (1465-1526) - один из
вождей крестьянской войны 1524-
1526 гг. в Германии 161
Гиппократ (ок. 460 - ок. 370 до н.э.)
древнегреческий врач, реформатор
античной медицины, философ 77
Гитлер (наст, имя Шикльгрубер) Адольф
(1889-1945) - фюрер фашистской
Национально-социалистической
партии (с 1921 г.), с 1934 г. -
рейхсканцлер и президент Германии 10,
18,26, 52, 54, 59, 437
Гитрель - аббат, автор «Современной
истории Франции» 57
Гленвиль Р. — представитель
Кембриджской школы 380
Гоббс Томас ( 1588-1679) — английский
философ, ученый 81, 210, 214, 236,
311, 320, 380, 415, 427, 429, 431, 434,
444, 447, 451-455, 468, 473
Голицын Александр Николаевич (1773—
1844) - князь, государственный
деятель 339
Голфенштейн фон — граф, жертва
крестьянского суда в Вейнсберге 149
Гонорий Августодунский — автор
трактата «Светильник» 19
Горький Максим {Алексей Максимович
Пешков) (1868-1936) - русский
писатель и общественный деятель 150
Григорий XII (1325 или 1336-1417) -
папа римский в 1406-1425 гг. 50
Григорий XIII(ъ миру У го Бонкомпаньи)
(1502-1585)-римский папа с 1572 г.
72
Гриммельсхаузен Ханс Якоб Кристоф-
фель (ок. 1621-1676)-немецкий
писатель, автор
гротескно-сатирического романа «Симплиииссимус»,
близкого к плутовскому роману с
элементами социальной утопии 182
Гроций де Гроот Гуго (1583—1645) -
голландский юрист, богослов,
государственный деятель, историк и
философ 449
Грю Яеелшл (1641-1712) - английский
ботаник и врач 77
Грюа Гастон - французский
исследователь, издавший в 1904 г.
двухтомник Лейбница 238
Губмайер Бальтазар (ок. 1485-1528) -
деятель Реформации в юго-западной
Германии 161
Гугони - корреспондент по переписке с
Лейбницем 203
Гумилев Лев Николаевич (1912-1922) —
русский этнограф, историк, географ
55, 78, 82-84
Гунниус Эгидий - автор книг 363
Гурауэр Г. — биограф Лейбница (1842)
237,388
Гус Ян ( 1371 -1415) - идеолог чешской
Реформации 30, 50, 55, 124,127
Гутенберг Иоганн (между 1397 и 1400—
1468) - немецкий ремесленник,
изобретатель книгопечатания 118,120
Гуттен Ульрих фон (1488-1523) -
немецкий писатель, гуманист, идеолог
рыцарства 127
Гюго Виктор Мари (1802-1885) -
французский писатель 120
Гюйгенс Христиан ( 1629-1695) -
астроном и математик 76, 81,342,352, 471,
476-478, 488
Гюэ ( Гуэций) Пьер Даниэль ( 1630-1721) —
епископ Суассонский и Авранш-
ский, теолог, враг рационализма и
500
Именной указатель
спинозизма, автор «Критики
картезианской философии» 405, 471, 476
Данк - религиозный спиритуалист 43
Декарт Рене (1596-1650) -
французский ученый,
философ-рационалист 68-70, 73, 77, 80, 81, 96, 100,
103, 208, 209, 213, 214, 218, 226, 231,
235, 236, 249, 257, 285, 289, 290, 292,
306, 318, 334, 338, 349, 352, 362, 391,
396-402,404-410, 415-417, 423, 429,
435, 439, 443, 447, 452, 453, 455-465,
473-477, 481, 488
Демокрит (ок. 460 - ок. 370 до н.э.) -
древнегреческий философ, один из
основателей античной атомистики
70, 87, 100, 210, 213, 234-236, 290,
296, 310, 311, 323, 340, 343, 347, 349,
350, 353, 355, 382, 390-392, 396, 397,
416-419, 422, 424, 429, 434, 441-445,
452, 453, 455, 456, 460, 465, 470, 490
Дессуар Л/а/сс (1867—1947) - немецкий
философ и психолог, один из
основателей общего искусствознания,
которое противопоставлял эстетике
241
Дефо Даниель (ок. 1660-1731) -
английский писатель, политик,
памфлетист 81
Дигби - философ 214, 417, 455
Дикеарх - философ-схоластик, ученик
Аристотеля, представитель школы
перипатетиков 355
Дильтей Вильгельм (1833-1911) -
немецкий историк культуры и
философ, ведущий представитель
философии жизни, основатель
философской герменевтики, понимающей
психологии, духовно-исторической
школы в литературоведении 71, 240,
243
Дионисий Ареопагит (I в.) - якобы
автор сочинения «Ареопагитики»,
создан ного не ранее второй половины
\ъ.374
Дицгеи Иосиф ( 1828-1888) - немецкий
рабочий-кожевник, философ,
самостоятельно пришедший к идее
материалистической диалектики 256
Домшш Антоний de - протестант 48
Донате Элий 118
Достоевский Федор Михайлович (1821-
1881) - выдающийся русский
писатель и мыслитель, публицист, член-
корреспондент АН в
Санкт-Петербурге 247
Дрэпер - английский
историк-популяризатор 27, 47, 50, 53, 73, 137,361
Дюбуа-Реймон Эмиль (1818-?) -
германский физиолог 227, 251
Дютан Людвиг - издатель Лейбница
237
Евгений Савойский (1663-1736) -
принц, австрийский полководец,
генералиссимус 298
Евклид (III в. до н.э.) -
александрийский (древнегреческий) математик
295, 464, 481
Жакло Исаак (1647-1708) -
французский протестантский теолог 205
Жибьёф Гийом ( 1591 -1650) - философ,
теолог янсенистского направления
482
Забарема Яков ( 1339-1417) - философ
363
Зейдеманн Иоанн Карл - биограф
Мюнцера 164
Зенгерин Мария Рената - монахиня,
обвиненная в колдовстве и
сожженная в 1749 г. - последняя сожженная
ведьма в Германии 57
Зенон Элейский (ок. 490 - ок. 430
до н.э.) -древнегреческий философ,
ученик Парменида 430
Зеньковский Василий Васильевич (1881-
1962) - русский религиозный
философ, историк русской философии
313
Зикель П. - философ, субъективный
идеалист 241,242
Зихем Христиан фон - гравировщик
196
Зульцбах Экде (XV в.) - один из первых
алхимиков 74
Ибн Рушд (латинизир. Аверроэс) ( 1126-
1198) - арабский философ 407
Иван IV Грозный (1530-1584) -
великий князь всея Руси, первый
русский царь; сын Василия III83
Иванцов Н. - дореволюционный
исследователь Лейбница 71, 98, 249,
250,252,351, 362,388, 418
Именной указатель
501
Иоанн Винченцский - доминиканец 34
Иоанн Казимир {1543-1592) -
пфальцграф рейнский, четвертый сын
курфюрста Фридриха III
Благочестивого 47
Иоанн Суисет - философ-схоластик
449
Иоахим (XII в.) - итальянский аббат,
считавшийся пророком 168
Иоганн Фридрих Брауншвейг-Люнебург-
ский (XVII в.) - герцог 84, 428
Иосиф I (1678-1711) - австрийский
эрцгерцоге 1705 г., император
«Священной Римской империи
германской нации» 51
Истомин К - дореволюционный
профессор Московской духовной
академии, автор «Очерка жизни
Лейбница» 18
Кабитц В. - исследователь Лейбница
239-242,353, 381, 388, 420, 421, 426
Кавендиш Генри (1731-1810)-
английский физик и химик 463
Кае тан Фома Иаков де Вио - кардинал
142
Кальвин Жан ( 1509-1564) - деятель Ре-
формации, основатель кальвинизма
43, 47, 48, 152
Камерарий Иоахим (1500-1574) -
немецкий филолог, лютеранский
теолог, знаток церковной истории,
переводчик и издатель сочинений
древнегреческих авторов 141, 197
Кампанелла Томмазо (1568-1639) -
итальянский поэт, политический
деятель, философ-утопист 414, 415,
423
Кант Иммануил (1724-1804) -
немецкий философ; естествоиспытатель
91, 100, 101, 107, 111, 112, 255, 282,
283, 290, 300, 301, 329, 352, 372, 383,
384,397
Кантор Георг (1845-1918) - немецкий
математик 306
Кардан Иероним (1501-1576) -
итальянский философ и мыслитель,
математик, профессор медицины 414,
415, 457
Карейль Фуше де - академик,
французский биограф Лейбница 238,416,427
Карл */( 1500-1558) - император
Священной Римской империи (1519—
1556), испанский король (Карлос I)
(1516-1556)74
Карлштадт (ок. 1480-1541) -
радикальный деятель Реформации в
Германии 155, 172
Карнап Рудольф (1891-1970) -
немецко-американский философ и логик,
представитель логического
позитивизма 239
Карпов Василий Николаевич ( 1798-1867) -
российский философ, переводчик
сочинений Платона 283,390
Карсавин Лев Платонович ( 1882—
1952) - русский философ,
историк-медиевист, поэт 48
Кассирер Эрнст (1874-1945) -
немецкий философ-неокантианец;
создатель теории символов 71, 240, 242
Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35 —
ок. 96) — римский теоретик
ораторского искусства 389
Кемни Томас Бюрнет де (XVII - нач.
XVIII в.) — шотландский дворянин,
корреспондент по перелиске с
Лейбницем 418, 426
Кеплер Иоганн (1571-1630)- немецкий
астроном, творец астрономии
Нового времени 382, 414, 415, 423
Кёхлер - исследователь Лейбница 240,
243, 244
Кларк Самуэль - пастор, духовник
английского двора, активный
последователь Ньютона, корреспондент
(с 1715 по 1716) Лейбница 488
Клеанф (331-232 до н.э.) - греческий
философ-стоик, ученик и преемник
Зенона 430, 441
Клеопинель - один из первых
алхимиков XV в. 74
Клервоскии Бернар (1090-1153) -
теолог, философ, сенсуалист 379
Климент II - епископ бамбергский, в
1046 г. назначен папой 18
Клопп Отто - издатель сочинений
Лейбница 56, 238
Козлов Алексей Александрович (1831-
1900) - киевский профессор
философии 284, 285, 297-299
502
Именной указатель
Колумб Христофор ( 1451 -1506) -
мореплаватель 122, 124
Кольбер Жан Батист (1619-1683) -
министр финансов Франции с
1665 г. 81
Коменский Ян Амос ( 1592-1670) -
чешский педагог и философ 381
Конгрив Уильям (1670-1729) -
английский драматург 24
Конде Луи П Бурбон (1621-1686) -
принц, французский полководец 83
Коперник Николай (1473-1543) —
польский астроном и мыслитель 111, 415
КордемуаЖ де (XVII в.) - картезианец,
выдающийся ученый 417
Корнель Пьер (1606-1684) -
французский драматург, представитель
классицизма 81
Кортгольт Христиан — публикатор
переписки Лейбница 237
Кремонини Чезаре ( 1550-1631 ) - итал ь-
янекий философ, мыслитель 414
Крескас Хасдай (ок. 1340-1412) -
философ, теолог, руководитель
испанского еврейства 407
Кристейн - бухгалтер 172
Ксенофошп (ок. 430-355 или 354 до
н.э.) - древнегреческий писатель и
историк, автор «Греческой истории»
389
Кузен Виктор (1792-1867) -
французский философ 75
Курье де Мере Поль Луи де (1772-
1825) - французский писатель,
публицист, филолог-эллинист и
переводчик 59
Кутюра Луи - французский логик,
публицист работ Лейбница 238-240,
242
Кэдворт Ральф (1617-1688) —
английский философ, представитель
школы кембриджских платоников и
рационалистической линии в этике
380, 470
Кюльбервель - английский философ,
представитель кембриджской
школы 380
Ла Вине де — высокопоставленная
особа, близкая к французскому королю
Людовику XIV 397
Лабриола Антонио (1843-1904) -
итальянский философ, публицист,
теоретик и пропагандист марксизма,
деятель социалистического
движения 240
Лавуазье Антуан Лоран (1743-1794) -
французский химик 78
Ламетри Жюльен Офре де (1709-
1751) - французский философ, врач
396
Лампрехт Карл (1856-1915) -
немецкий историк; автор многотомной
«Истории Германии», уделял
внимание истории экономики,
общественных отношений, культуры;
критиковал с
либерально-позитивистских позиций «школу Ранке» 131,
135, 136, 138, 141, 144, 152, 165, 166,
173
Лаплас Пьер Симон (1749-1827) -
французский астроном, математик,
физик 397, 431
Лафонтен Жан де (1621-1695) -
французский писатель 81
Лев X (1475-1521) - римский папа с
1513 г.; при нем процветали
непотизм, спекуляция индульгенциями;
в 1520 г. отлучил от церкви М. Люте-
ра 33, 34
Левенгук Антони ван ( 1632-1723) -
нидерландский натуралист 77
Левкипп (V в. до н.э.) -
древнегреческий философ-атомист 236, 340
Леми Бернард {Франсуа'*) —
картезианец 69
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич ( 1870-
1924) - юрист, литератор,
философ-марксист, председатель СНК и
ЦК РСДРП(б), руководитель
Октябрьского восстания в 1917 г. 61,
100, 141, 150, 193, 209, 212, 255, 334,
349, 354,385, 386, 437, 446, 462, 468
Лентулл - проконсул Палестины 25
Леона Моисеи de (1250-1305) -
испано-еврейский мистик, автор книги
«Сияние» 378
Леонид (508 или 507-480 до н.э.) -
спартанский царь; погиб в сражении
у Фермопил, прикрывая с
небольшим отрядом спартанцев
отступление греческого войска; в античных
кЫенной указатель
503
преданиях образец патриота и воина
83
Ликон из Троады —
философ-схоластик, ученик Аристотеля,
представитель школы перипатетиков 355
Логау Фридрих фон (1604-1655) -
немецкий поэт-сатирик, с насмешкой
пишет о церкви и религиозных
суевериях 49
Лодовико Ариосто (1474-1533) -
итальянский поэт 116
Лойола Игнатий (Иньиго) (1491-
1556) - испанский дворянин,
основатель ордена иезуитов 52
ЛоккДжон (1632-1704) - английский
философ-сенсуалист 68, 70, 99, 100,
205, 246, 323,397, 429, 459, 470, 471
Лоос Корнелий (XVI в.) - священник,
выступал в защиту ведьм 57
Лопатин Лев Михаилович ( 1855-1920) -
русский профессор философии,
представитель русских лейбницианцев
294, 326
Лопиталь Гийом Франсуа Лнтуан
(1661-1704) - французский
математик, один из первых сторонников
открытого Лейбницем исчисления
бесконечно малых 406
Лоран - бельгийский историк 28
Лосев Алексей Федорович ( 1893-1988) -
русский философ XX в.,
исследователь символизма, мифологии,
эстетики 55
Лосский Николай Онуфриевич (1870-
1965) - философ, один из
крупнейших представителей интуитивизма и
персонализма в России 285,286,288,
293, 299,314
Лотце Рудольф Герман (1817-1881) -
немецкий философ, врач,
естествоиспытатель 283, 285,334
Лукиан(ок. 120 - ок. 190)
-древнегреческий писатель-сатирик; оказал
влияние на сатирическую
литературу Возрождения и Просвещения 416
Лукреций Тит Лукреций Кар (ок. 99 или
95-55 до н.э.) - римский
поэт-философ 444, 453
Луллий Раймунд (1235-1315) -
каталонский философ-схоластик и
логик, богослов и писатель 74
Людовик ЛГ/Р (1638-1715) -
французский король с 1643 г. 83, 95, 303,397
Людовик XVI (1754-1792) -
французский король с 1774 г. 57
Лютер Мартин (1483-1546) -
немецкий мыслитель, деятель
Реформации в Германии, один из
основателей протестантства 42, 67, 73, 120,
Ш, 123,125,127,129-133,135- 166,
169, 172-176, 178, 179, 180, 182, 184,
193, 195-198,363
Люфт Ганс - издатель 137
Магеллан Фериан (1470-1521) -
мореплаватель, экспедиция которого
совершила первое кругосветное
плавание 124
Магнен - толкователь демокритовской
атомистики 390
Мазер Вернер — известный немецкий
историк 26
Маймон Соломон (1753 или 1754-
1800) - философ-самоучка 408
Макиавелли Никколо (1469-1527) -
итальянский мыслитель, крупный
представитель философии политики
437
Ma колей Томас Бабингтон (1800-
1859) - английский историк,
публицист и политический деятель 33, 34,
54
Мальбранш Никола (1638-1715) -
французский философ и теолог 228,
288,289, 352,380, 401-405, 460, 477
Мальпиги Марчелло (1628-1694) -
итальянский биологи медик 77
Мандельштам Осип Эмильевич (1891-
1938) - русский советский поэт 117
Манке Дитрих (1884-1958) -
исследователь Лейбница 106, 240-244,378
Мануций Альд Старший (ок. 1450—
1515) - венецианский издатель и
типограф, ученый-гуманист 119
Марий Гай (ок. 157-86 до н.э.) -
римский полководец, консул 83
Мариотт Эдм (1620-1684) -
французский физик 76
Маркс Карл (1818-1883) - немецкий
ученый, основатель экономического
радикализма (марксизма),
философ-диалектик, социолог 9, 42, 100,
124, 143, 150, 151, 157, 159, 165, 191,
504
Именной указатель
193, 283, 284, 354, 385, 386, 410, 437,
462, 468, 474, 475
Маццолини де Приерио (XVI в.) —
папский магистр 131
Меланхтон Шварцерд Филипп (1497—
1560) - немецкий филолог и
гуманист 130, 144, 145, 152, 154, 158, 164,
165, 169, 177, 181, 197,198
Мендельсон Мозес (1729-1786) -
немецкий просветитель, философ,
популяризатор школы Лейбница -
X. Вольфа, защитник
веротерпимости 408
Менкен Отто — глава журнала «Acta
Eruditorum», основанного в 1683 г. 75
Меринг Франк (1846-1919) -
литературный критик, философ-марксист,
историк 27,33,34,37, 44,59,151 160,
161,163, 164
Мерсье Себастьян (1740-1814) - один
из идеологов французской
буржуазии XVII в. 77
Мерц Джон Т. - исследователь
Лейбница 421
Мецлер Георг - балленбергский
трактирщик, сражался вместе с M юнце -
ром 161
Мешем Демерис - корреспондент
Лейбница 470
Микеланджело Буонарроти (1475-1564) -
итальянский скульптор, живописец,
поэт, архитектор 34
Миконий Фридрих ( 1491-1546) -
францисканский монах, деятель
Реформации 126
Мимь Джон Стюарт (1806-1873) -
английский философ, экономист,
общественный деятель,
представитель позитивизма 305
Мильтон Джон (1608-1674) -
английский поэт, политический деятель 44
Моземан Петр - профессор 81, 142,
143
Молешотт Ядсо^ ( 1822—1893) -
немецкий физиолог и философ, в
мышлении видел лишь физиологический
механизм 255
Молитор Ульрих{ХУ в.) -доктор права
Падуанского и профессор Кон-
станцского университетов, выступал
против процессов ведьм 57
Мольер (наст, имя Жан Батист Поклен)
(1622-1673) - французский
комедиограф, актер, театральный деятель
81
Монтанор Гвидон де (XV в.) - один из
первых алхимиков 74
Мопертюи Пьер Луи Моро де (1698—
1759) - французский ученый 257
Мор Генрих (1614-1687) - мистик,
кембриджский платоник 378,380
Муньо Марко (XVI в.) - современник
папы Льва X 34
Мюллер Каспар (XVI в.) - мансфельд-
ский канцлер 149
Мюнхгаузен Герлах Адольф фон
(XVIII в.) - заслуженный
попечитель Гёттингенского университета
203
Мюнхгаузен Иероним Карл Фридрих
(1720-1797) - барон, немецкий
писатель 80
Мюнцер Томас {ок. 1490-1525) - вождь
крестьянско-плебейских масс в
Реформации и Крестьянской войне
1524-1526 гг. в Германии 17, 129,
130,146, 147, 155, 160-187,190-198
Наполеон {Наполеон Бонапарт) (1769-
1821) - французский император 83
Неттесгейм Генрих Корнелий Агриппа
фон (1486-1535) - мистик, ведущий
оккультист XVI в. 57
Низолий — физик, сторонник
номинализма 335
Николаи Кузанскии (1401-1464) -
натурфилософ-пантеист 296
Ницше Фридрих (1844-1900) -
крупный немецкий философ-иррацио-
налист, прозаик, основоположник
философии жизни 51,290, 437
Норрис (ок. XV-XV1 в.) -
представитель кембриджской школы 380
Ноткер Губастый (950-1022) -
немецкий писатель, монах, переводчикан-
тичных авторов 20
Ньютон Исаак (1643-1727) -
английский ученый, физик, математик,
основоположник классической
механики 68, 73, 76, 77, 99,282,290
Одоевский Владимир Федорович (1803-
1869) - писатель, музыкальный кри-
Именной указатель
505
тик, один из зачинателей русского
классического музыковедения 18
Озе Яков Фридрихович (XIX в.) -
профессор Казанского университета,
представитель русских лейбнициан-
цев 284, 285
Оккам Уильям (ок. 1285 - ок. 1350) -
английский теолог и
философ-схоласт; сторонник автономии и науки;
монах-францисканец 420, 451
Октавия (64-11 до н.э.) - сестра Окта-
виана (будущего императора
Августа), вторая жена Марка Антония
468
Ортолиан (XV в.) - один из первых
алхимиков 74
Ослябя Родион (ум. после 1398) -
монах, послушник Сергия
Радонежского, сопровождал с Пересветом
князя Дмитрия Донского на
Куликовскую битву 83
Павел ///(1468-1549) - римский папа
с 1534 г. 52
Павел IV {1476-1559) - римский папа с
1555 г. 50
Парацельс Теофраст Бомбаст (1493—
1541) - немецкий врач,
естествоиспытатель и натурфилософ 305
Парис Матвей - бенедиктианец 34
Парменид (кон. VI - нач. V в. до н.э.) -
древнегреческий философ,
основатель элейской школы,
основоположник онтологии 489
Паскаль (Деттувиль) Блез (1623-
1662) - французский физик,
математик, писатель, религиозный
философ, представитель раннего
иррационализма 59, 76,352
Пересвет Александр (?—1380) - герой
Куликовской битвы, монах Трои-
це-Сергиева монастыря; его
поединок с татарским богатырем Те-
мир-мурзой, в котором оба погибли,
стал началом сражения 83
Перетц Г. (XIX в.) - библиотекарь
ганноверской Королевской
библиотеки, совместно с К. Герхардом
издавал сочинения Лейбница 237
Петерсен Карл Михайлович (1828—
1881) - российский математик,
основатель московской научной
школы по геометрии; написал труды по
дифференциальной геометрии 240,
241
Петр /(1672-1725) - русский царь с
1682 г. (правил с 1689 г.) 114, 152
Пий V (1504-1572) - римский папа в
1566-1572 гг. 50
Пий А7/( 1876-1958) - римский папа с
1939 г. 26
Пинский Леонид Ефимович ( 1906-1981) —
физиолог и эстетик 12
Пирон (365-275 до н.э.) -
древнегреческий философ, родоначальник
античного скептицизма 340
Пифагор (VI в. до н.э.) -
древнегреческий мыслитель, математик,
философ, государственный и
религиозный деятель 100, 295, 298, 340, 433
Пихлер П. — исследователь учения
Лейбница 240,243, 244
Платон (428 или 427-348 или 347 до
н.э.) - выдающийся
древнегреческий философ-идеалист,
представитель классической философии 70,
82, 93, 94, 100, 103, 167, 192,203, 208,
210, 231, 234, 235, 254, 258, 264, 273,
283, 290, 295, 297, 302, 334, 340, 342,
350, 352, 354-356, 376, 378, 383, 385,
386, 389, 401, 408, 429, 433-438, 443,
447, 450, 458, 463, 471, 482
Плеханов Георгий Валентинович (1856-
1918) - философ, пропагандист
марксизма, народник, один из
основателей РСДРП, с 1880 г. эмигрант 212,
256
Плиний Старший (23 или 24-79) -
римский писатель, ученый, автор
труда «Естественная история» -
энциклопедии естественно-научных
знаний античности, содержит также
сведения по истории искусства,
истории и быту Рима 235, 389, 443
Плотин (204-270) - греческий
философ, основатель неоплатонизма 17,
298,342, 352,354, 377,378, 489
Погребысский И. Б. - доктор
физико-математических наук,
профессор, современный исследователь
Лейбница 79, 94, 205, 238, 239, 245-
249, 420, 421, 423, 427
506
Именной указатель
Полиньяк Огюст Жюль Арман (1780—
1847) - граф, затем князь, а 1829—
1830 гг. глава французского
правительства и министр иностранных дел
397, 479
Поло Марко (ок. 1254-1324) -
венецианский путешественник 124
Пороэовская Берта Давидовна —
литератор, переводчик с французского и
немецкого 156
Преображенский Василий Петрович
(1864-1900) - ученик В.И. Герье,
один из первых переводчиков
основных трудов Лейбница на русский
язык 238
Прудон Пьер Жозеф (1809-1865) -
французский социалист, теоретик
анархизма, экономист 284
Птолемей Клавдий (ок. 90 - ок. 160) -
древнегреческий астроном, ученый
111
Пушкин Александр Сергеевич (1799—
1837) - русский поэт, писатель,
основатель новой русской литературы
41, 120
Пфейфер (кон. XV-XVI в.) - монах,
соратник Мюнцера 164,196
Рабле Франсуа (1494-1553) -
французский писатель-гуманист 19, 23, 24,
74, 118
Радищев Александр Николаевич ( 1749—
1802) - русский революционный
мыслитель, писатель, философ, iy-
манист 313,324
Райкин Аркадий Исаакович (1911-
1987) - актер, народный артист
СССР 21
Ранке Леопольд фон (1795-1886) -
немецкий историк 76
Раппопорт А. - исследователь
Лейбница 70
Расин Жан ( 1639-1699) - французский
драматург, критик монархического
деспотизма 69, 81
Распе Рудольф Эрих (1737-1794) -
немецкий писатель 237
Рассел Бертран (1872-1970) -
английский логик, математик,
общественный деятель, философ, неореалист и
неопозитивист 98, 103, 107, 239, 240,
242,293, 305, 307, 310, 316
Рафаэль Санти (1483-1520) -
итальянский живописец и архитектор 34
Ребман Франц (XVI в.) - народный
вожак, сражался вместе с Томасом
Мюнцером 161
Регул Марк Аттилий (ум. около 248 до
н.э.) - римский полководец и
политический деятель 83
Режис Пьер (1632-1707) -
картезианец, ученик Декарта 398, 401
Рёмер Оле (1644-1710) - датский
астроном 72
Ремон де Монмора - современник
Лейбница, корреспондент по
переписке 204, 206, 351, 354, 418
Ренувье Шарль (1815-1903) -
французский философ, глава неокритицизма
283
Риль - доктор, мансфельдский
советник, корреспондент по переписке с
Мартином Лютером 150, 184
Ринтелен Фриц Иоахим фон -
номиналист 421
Роберваль (наст, имя Жиль Персонье)
(1602-1675) - французский
математик, член Парижской АН 463
Робеспьер Максимильен (1758-1794) -
деятель французской революции 287
Рого — физик, исследователь Декарта
398, 401
Розенов Эмиль - историк,
исследователь Мюнцера 163,164,170,172,180,
186
Роланд (?—778) - франкский
маркграф, участник похода Карла
Великого в Испанию в 778 г., погиб в
битве с басками в ущелье Ронсеваль 83
РоманоДжулио (1492 или 1499-1546)-
итальянский архитектор и
живописец, ученик Рафаэля 116
Росцелин Иоанн (ок. 1050 - ок. 1120) -
французский философ и филолог,
главный представитель раннесхола-
стического номинализма 420
Рубие — философ-схоластик, объект
изучения Лейбница 363
Руссо Жан Жак (1712-1778) -
французский писатель и
философ-сентименталист и деист, гуманист,
демократ 153
Именной указатель
507
Сартр Жан Поль (1905-1980) -
французский писатель,
философ-экзистенциалист, публицист, радикал
271
Сваммердам Ян (1637-1680) -
нидерландский натуралист 210, 212
Свифт Джонатан (1667-1745) -
английский писатель, политический
деятель 24, 81
Сеилер - исследователь творчества
Лейбница 421
Сенека Луций Анней (ок. 4 до н.э. - 65
н.э.) - римский политический
деятель, писатель, философ,
воспитатель Нерона 389, 430
Сен-Порсьен Дюран de -
философ-схоластик 450
Сереет Мигель ( 1509 или 1511 -1553) -
испанский мыслитель, врач 47, 48,
55
Сергий Радонежский (ок. 1321 —1391 ) —
основатель, и игумен Троице-Сер-
гиева монастыря 83
Серебренников B.C. -
дореволюционный русский историк 203, 241, 418
Сильвий Делебое (1614-1672) - глава
школы так называемых иатрохими-
ков и химиатров 77
Синезий (375-412) -
философ-неоплатоник, оратор и поэт 295
Сказкин Сергей Данилович ( 1890-1973) -
историк, академик АН СССР, автор
работ по проблемам средневекового
западноевропейского крестьянства,
еретических движений,
абсолютизма, Возрождения, истории
дипломатии 42
Скот Иоанн Дуне (ок. 1266-1308) -
средневековый философ-схоласт,
монах-францисканец 318, 420, 422,
450, 451
Скюдери Мадлен де (1607-1701) -
французская писательница, автор
претенциозных романов 398, 468
Смис Патрик (ок. XV-XVI в.) -
представитель Кембриджской школы 380
Соколов В.В. - издатель Лейбница 238
Сократ (470 или 469-399 до н.э.) -
древнегреческий философ 141, 203,
233, 354
Соловьев Владимир Сергеевич (1853-
1900) - русский религиозный
писатель, философ, поэт, публицист 112,
338, 382
Соне Мария - мать Иньиго (Игнатия
Лойолы) 52
София Шарлотта Бранденбургская 81,
205, 206, 250, 471
Спалатин Георг(1484—1545) —деятель
реформации, воспитатель
Иоанна-Фридриха, курфюрста Саксонии
132,151
Спекторский Евгений Васильевич
( 1875-1951) - русский правовед,
социальный философ 394
Спиноза Бенедикт (Барух) (1635-
1677) - голландский
философ-пантеист 70, 81, 85, 206, 248, 289-291,
294, 295, 303, 335, 338, 352, 362, 379,
401, 405, 407-413, 429, 434, 447, 453,
458, 461, 466-469, 481, 486
СпокойныйЛ.Ф. - современный
исследователь Лейбница 249, 252
Стагирит, см.: Аристотель
Сталин Иосиф Виссарионович (наст,
фамилия - Джугашвили) -
советский партийный и государственный
деятель, идеолог большевизма 14,
26,52,180,255,283,385,437,462,468
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826-
1911) - русский историк, журналист
и общественный деятель 122
Стендаль (настоящее имя - Анри Мари
Бейль) (1783-1842) - французский
писатель 36
Стратон изЛампсака (340-270 или 268
до н.э.) -древнегреческий
естествоиспытатель и философ-перипатетик
355, 429, 430, 467
Суарес Франциско (1548-1617) -
испанский теолог и философ,
представитель поздней схоластики, иезуит
363, 407
Сулла-{ 138-78 до н.э.) - римский
полководец, консул, с 82 г. диктатор,
проводил массовые репрессии 83
Сырцов А.И. - русский историк и
философ, исследователь Лейбница,
1920-е гг. 78, 94, 106, 239-245, 247,
347, 353, 355, 362, 381, 391, 394, 418,
419, 421, 424-427
508
Именной указатель
Тассо Торквато (1544-1595) -
итальянский поэт Возрождения 250
Тауяер Иоганн (ок. 1300-1361) -
немецкий мистик, доминиканец,
проповедник 168,379
Тейхмюллер Г. (1832-1883) -
профессор Юрьевского университета;
родоначальник русских лейбницианцев
284, 285
Телезио Бернардино (1509-1588) -
итальянский натурфилософ эпохи
Возрождения 414
Теофраст (Феофраст) (327-287 до
н.э.) - древнегреческий философ и
естествоиспытатель 355
Тецель Иоганн (1455 или 1470-1519) -
доминиканец, продавец
индульгенций в Германии с 1502 г. 127,128,131
Толстой Лев Николаевич ( 1828—1910) -
граф, русский писатель 251, 263,374
Томазий Яков (XVII в.) - лейнцигский
профессор-теолог 75, 258, 341, 413-
416, 420, 422, 424-427
Томсон {Кельвин) Уильям (1824-1907) -
барон Кельвин с 1892 г. (за научные
заслуги); английский физик, член и
президент Лондонского
королевского общества 283
Томэ Макс - суконщик, глава секты
перекрещенцев в Цвиккау 168, 172
Торричелли Эванджелиста (1608-
1647) - итальянский физик и
математик, изобретатель ртутного
барометра 76
Трев Бернар (te (XV в.) - один из первых
алхимиков 74
Трёльч Эрнст (1865-1923) - немецкий
теолог, философ, историк религии,
один из основателей социологии
религии 240,241
Троцкий (наст, фамилия Бронштейн)
Лев Давыдович (1879-1940) -
политический и государственный деятель
150
Уваров Сергей Семенович ( 1786-1855) —
граф, российский государственный
деятель, почетный член и президент
Петербургской АН, министр
народного просвещения (1833-1849) 338
Уёмов А. И. - профессор,
исследователь Лейбница 247
Уиклиф Джон (ок. 1330-1384) -
священник, английский католический
богослов, реформатор,
предшественник протестантизма 50, 55, 123,
124
Уилсон Митчелл (1913-1973) -
писатель, автор романа «Жизнь во мгле»
58
Уэллс Г.Дж. (1886-1946) - английский
писатель-фантаст 121
Фейлхенфельд В. - исследователь
натурфилософии Лейбница 241, 378
Ферма Пьер (1601-1665) -
французский математик 77, 463
Филипп Великодушный (1504-1567) -
ландграф Гессенский (с 1518 г.),
один из вождей
князей-протестантов в их борьбе против императора
Карла 186
Филиппов Михаил Михайлович (1858—
1903) - русский ученый и литератор,
доктор философии Гейдельбергско-
го университета 251,389, 402, 420
Фихте Иоганн Готлиб (1762-1814) -
немецкий философ, представитель
немецкой классической философии
100, 101, 112, 255, 282, 283, 301, 323,
384
Фичино Марсилио(\432-\499) -
философ, теолог и ученый, выдающийся
мыслитель эпохи Возрождения 362,
377
Фишер Куно (1824-1907) - немецкий
историк философии, его «История
новой философии» содержит
обширный материал о Лейбнице 81,83,
97, 242, 248, 249, 266, 348, 351, 364,
410-412, 419, 426, 427
Фогель Мартин (XVII в.) - медик и
естествоиспытатель, профессор
гимназии в Гамбурге, хранитель
библиотеки 84
Фогт Карл (1817-1895) - немецкий
естествоиспытатель, физиолог 255
Фома Лквинский (Аквинат) (1225—
1274) - средневековый философ и
теолог, схоласт, родоначальник
томизма 212, 287, 350, 373, 384, 420,
422, 423, 450, 452
Фонсека Петр (1528-1597) -
схоластик, объект изучения Лейбница 363
Именной указатель
509
Фонтенель Бернар Ле Бовъе де (1657-
1757) - французский ученый, член
Парижской академии, член АН в
Санкт-Петербурге 24, 60,398
Форстений 141
Франк Семен Людвигович ( 1877-1950) —
русский религиозный философ и
психолог 43
Франс Анатолъ (1844-1924) -
французский писатель, поэт, критик 14
Франциск Ассизский (1181 или 1182-
1226) - итальянский проповедник,
основатель ордена францисканцев
34, 120,374
Фрик Джон (1688-1756) - известный
хирург, автор книги «Опыт
объяснения причины электричества» 80
Фробен Иоганн (ок. 1460-1527) - ба-
зельский типограф-издатель 119,138
Хайка Ганс — исследователь истории
СС 59
Хамон Луи - граф, норманнский ок-
культивист 10
Хеймзет М. - исследователь
Лейбница, изучал область между логикой и
онтологией в его учениях 240,243
Хрисипп (ок. 280-208 или 205 до н.э.) -
древнегреческий философ, главный
систематизатор раннего стоицизма,
разрабатывал логику высказываний,
ввел принцип двузначности 430-
432, 441
Цвингли Ульрих (1484-1531) - деятель
Реформации в Швейцарии 42, 155,
156, 159
Цезарий Гейстербахский (ок. 1180 - ок.
1240) - цистерцианский монах,
приор монастыря этого ордена в Гей-
стербахе 10
Цезарь Гай Юлий (102 или 100-44 до
н.э.) - римский диктатор,
полководец 33,473
Цейс Ган - альтштедтский сборщик
податей 177,191
Циммерман Вильгельм (1807-1878) -
немецкий историк, представитель
так называемой гейдельбергской
школы, мелкобуржуазный демократ
183
Цицерон (106-43 до н.э.) - римский
государственный деятель, оратор и
философ 33, 236, 389, 416, 430, 431,
436, 445
Честертон Г. К. (1874-1936) -
английский писатель, литературовед 21, 22
Честерфилд Филипп Дормер Стенхоп
(1694-1773) - граф, английский
государственный деятель и писатель 25
Шапплер - священник, сражался
вместе с Томасом Мюнцером 161
Шваленбах — исследователь
философии Лейбница 240
Швелинг Иоганн (XVII в.) - профессор
Бременского университета 462
Шелленберг Вальтер (1910-1952) -
бригаденфюрер СС, генерал-майор
полиции и генерал-майор войск СС
59
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—
1854) - немецкий философ 100, 101,
112; 206, 255, 282, 301, 323, 338, 380,
382,384
Шерр Иоганн (кон. XVII в.) - немецкий
историка, 56, 75,151,157
Шлецер Адам - преподаватель
схоластики и диалектики у Лейбница 413,
420
Шопенгауэр А. ( 1788-1860) - немецкий
философ 41, 67, 68, 73, 245
Шпагенберг Кириак - проповедник 186
Шпе Фридрих фон (XVII в.) -
вестфальский граф 56, 57
Шрёдингер Эрвин (1887-1961) -
австрийский физик-теоретик 305
Шторх Никлас - суконщик, один из
руководителей секты
перекрещенцев в Цвиккау 168, 172
Штюбнер Макс - ученый из Элетер-
берга, изучавший науки в Виттсн-
берге, один из руководителей
перекрещенцев в Цвиккау 168, 172
Шулятиков В. 336
Эббе Отто фон - люнебургский
дворянин 195
Эвдем Родосский (до 350 - после 322
до н.э.) - древнегреческий
философ-перипатетик, ученик
Аристотеля 355
Эйкен Р. ( 1846-1926) - немецкий
историк религии, философ-фихтеанец
28-31, 59
510
Именной указатель
Эйнштейн Альберт (1879-1955) -
физик-теоретик 102
Экгарт Иоганн Герхардт - профессор
истории Гельмштедского
университета, помощник Лейбница (с 1713)
25
Экк И. - доктор 135, 172
Эккарт Арнольд - немецкий
профессор математики в Ринтельне;
философ-картезианец 402, 476
Эммель Эгенольф - издатель
еженедельной газеты во Франкфурте 119
Эмпедокл из Агригента (ок. 490 - ок.
430 до н.э.) -древнегреческий
политический деятель, поэт, врач,
натурфилософ-гилозоист 286,298, 441
Эмсер Иероним - противник Лютера
136
Энгельс Ф/?«фих ( 1820-1895) -
немецкий философ-материалист, друг и
соратник К. Маркса, один из
основоположников марксизма 42, 44, 96,
100, 109, 139, 150, 161, 188, 190, 191,
255, 283, 284, 354, 381, 385, 386, 408,
468
Эпиктет (ок. 50 - ок. 138) - римский
философ-стоик, раб, позднее -
вольноотпущенник 432, 465
Эпикур из Самоса (341-270 до н.э.) -
дреанегреческий
философ-гедонист, родоначальник эпикуреизма
70, 100, 210, 310, 343, 352, 390, 392,
397, 429, 434, 444-447, 450, 452-456,
466, 473, 486
Эразм Роттердамский (1469-1536) -
философ-гуманист, представитель
скептицизма 120, 141, 144, 145
Эрдман Иоганн Эдуард ( 1805-1891 ),
немецкий философ, издатель
сочинений Г.В. Лейбница 204, 237
Эрнест Август-Брауншвейгский (1629—
1698) - немецкий государь, первый
курфюрст Ганноверский, сын
герцога Брауншвейг-Люнебургского,
был князем-епископом Оснабрюк-
ским и герцогом Брауншвейг-Ка-
ленбергским 81,341
Эрнст VI - архиепископ майнцский
172
Юнг Иоахим (1587-1657) - немецкий
естествоиспытатель, математик,
ботаник, минеролог и натурфилософ
236
Ягодинский Иван Иванович -
профессор Казанского университета,
русский дореволюционный
исследователь Лейбница 238,239,241,353,390,
415,417-420,422,427
Яков 7/(1633-1701) - английский
король 57
Ямвлих (сер. 111 в. - ок. 330) -
античный философ, ученик Порфирия,
основатель сирийской школы
неоплатонизма 352,373,377
Ян-ди (605-618) - китайский
император династии Суй 83
Янсен Иоганн (1829-1891) - немецкий
историк католического направления
241, 405
Ясиновский - исследователь
философии Лейбница с позиции его
натурфилософии 241
Ясперс Карл (1883-1969) - немецкий
философ-экзистенциалист,
психиатр 376
Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ (В.П. Ивановский) 6
ПРОЛОГ 7
ТЕБЕ 10
1. ПРОЛОГ К ЭПОХЕ 11
Все сдвинулось 11
Новые веяния в философии 60
Новые веяния в естествознании 71
Двойственный характер личности и учения Лейбница 78
От Лейбница к Гегелю 100
Илея собственной исключительности в учениях Лейбница и Гегеля 108
2.ЛЮТЕРИМЮНЦЕР 114
Возрождение и Реформация 114
Реформация и Лютер 125
Восстание Лютера, Библия и хорал 130
Падение Лютера 145
Культ своей личности 154
МюнцериЛютер (цельность против раздвоенности) 160
ФИЛОСОФСКИЕ ПИСЬМА, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО 199
Пролог 202
Письмо первое. Моя философия 208
Комментарий 236
Письмо второе. История моей философии 340
Комментарий 345
Письмо третье. О древней и новой философии 429
Письмо четвертое. О философии и требованиях к ней 480
Письмо пятое и последнее. О двух философских сектах.... 485
Перечень книг 490
Вместо заключения. От комментатора 493
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 495
Петрушенко Леонид Аврамиевич
Философия Лейбница на фоне эпохи